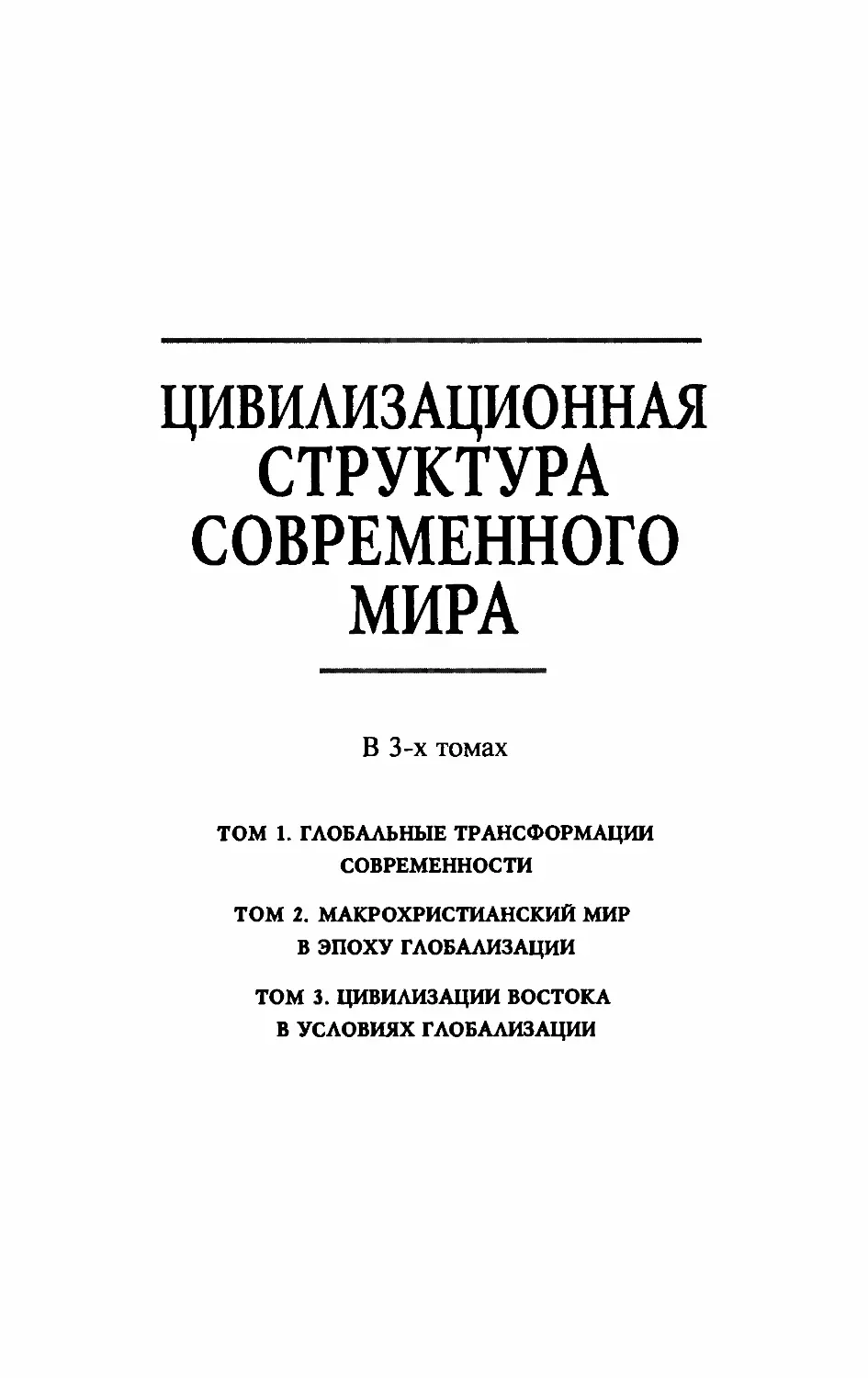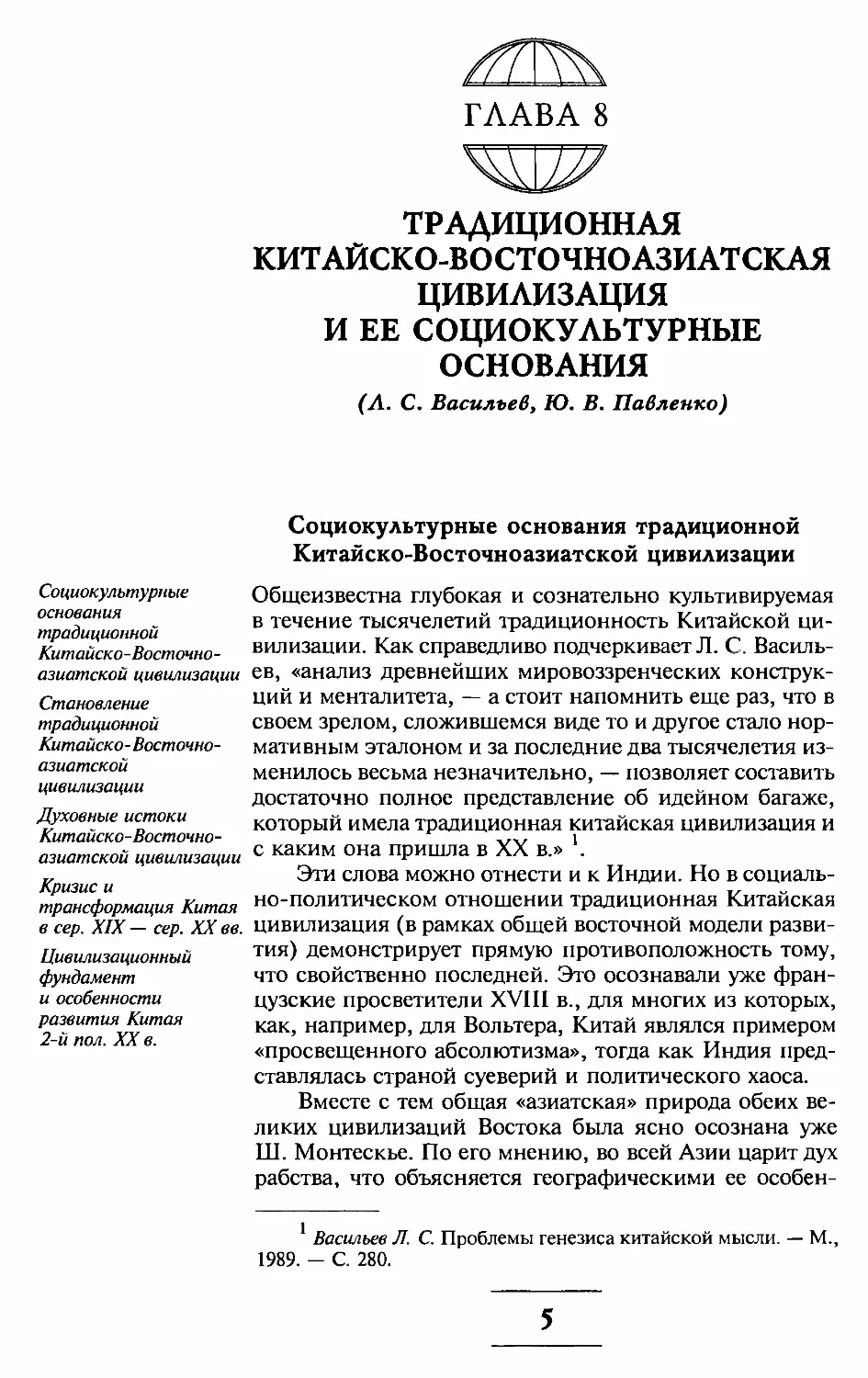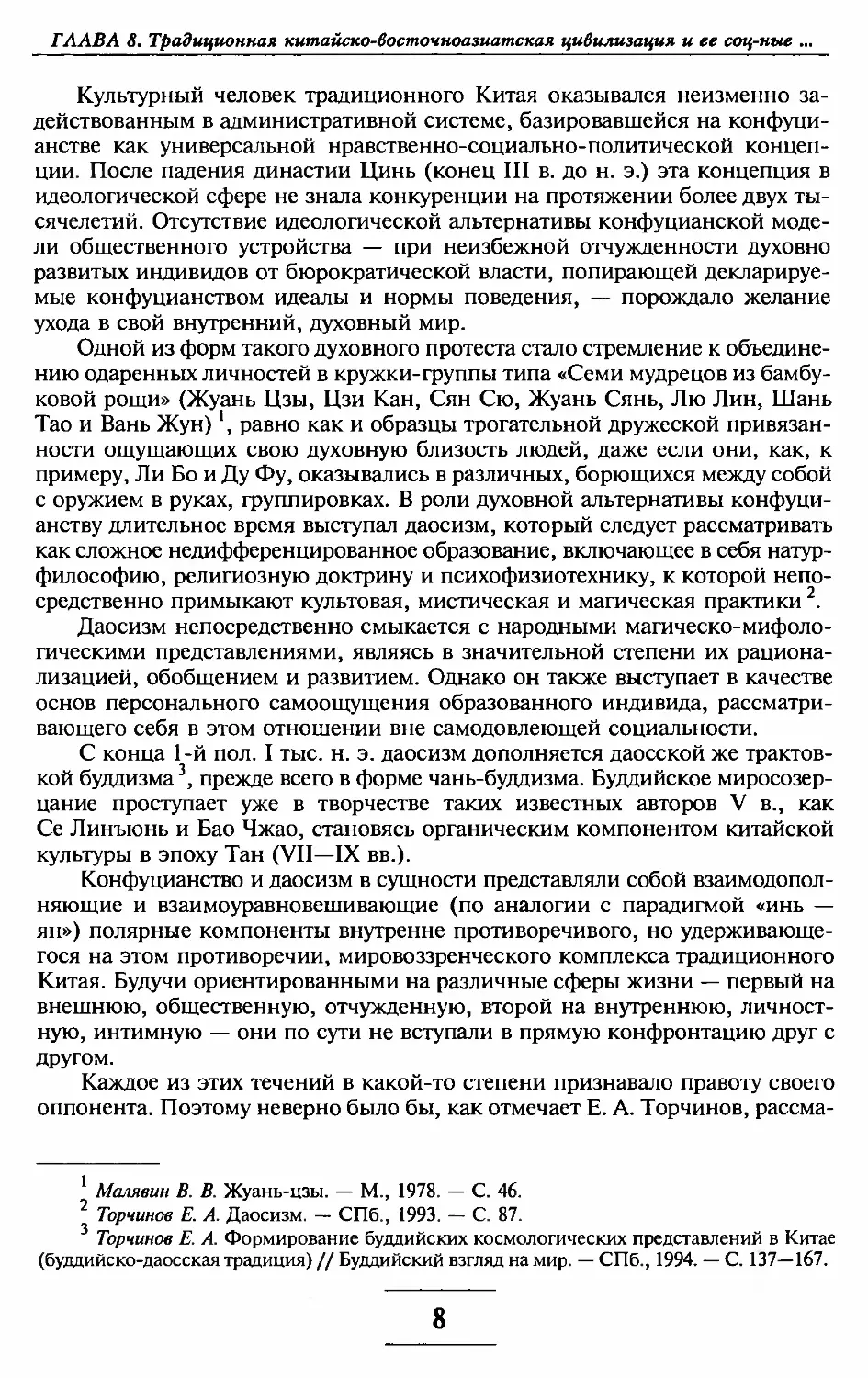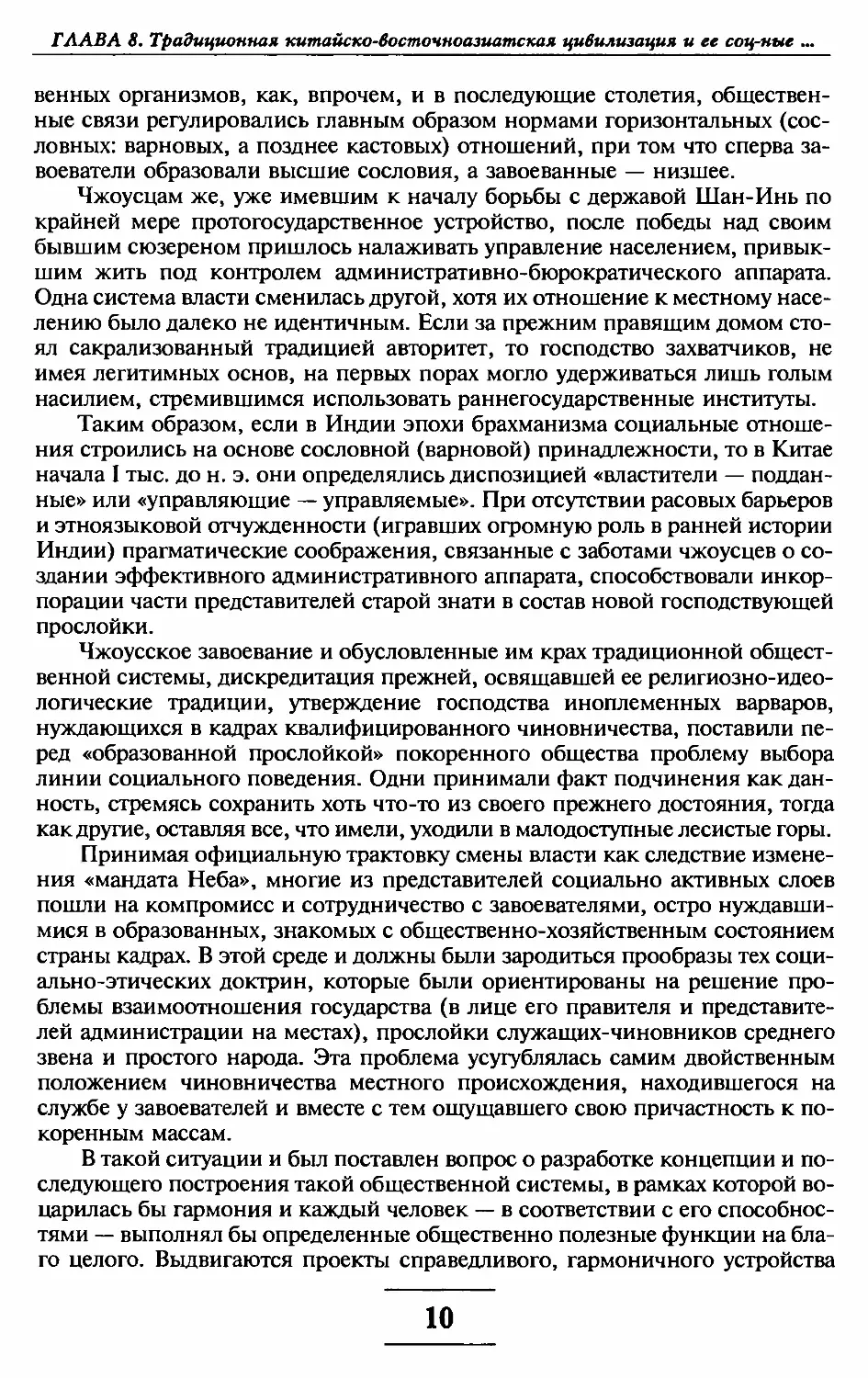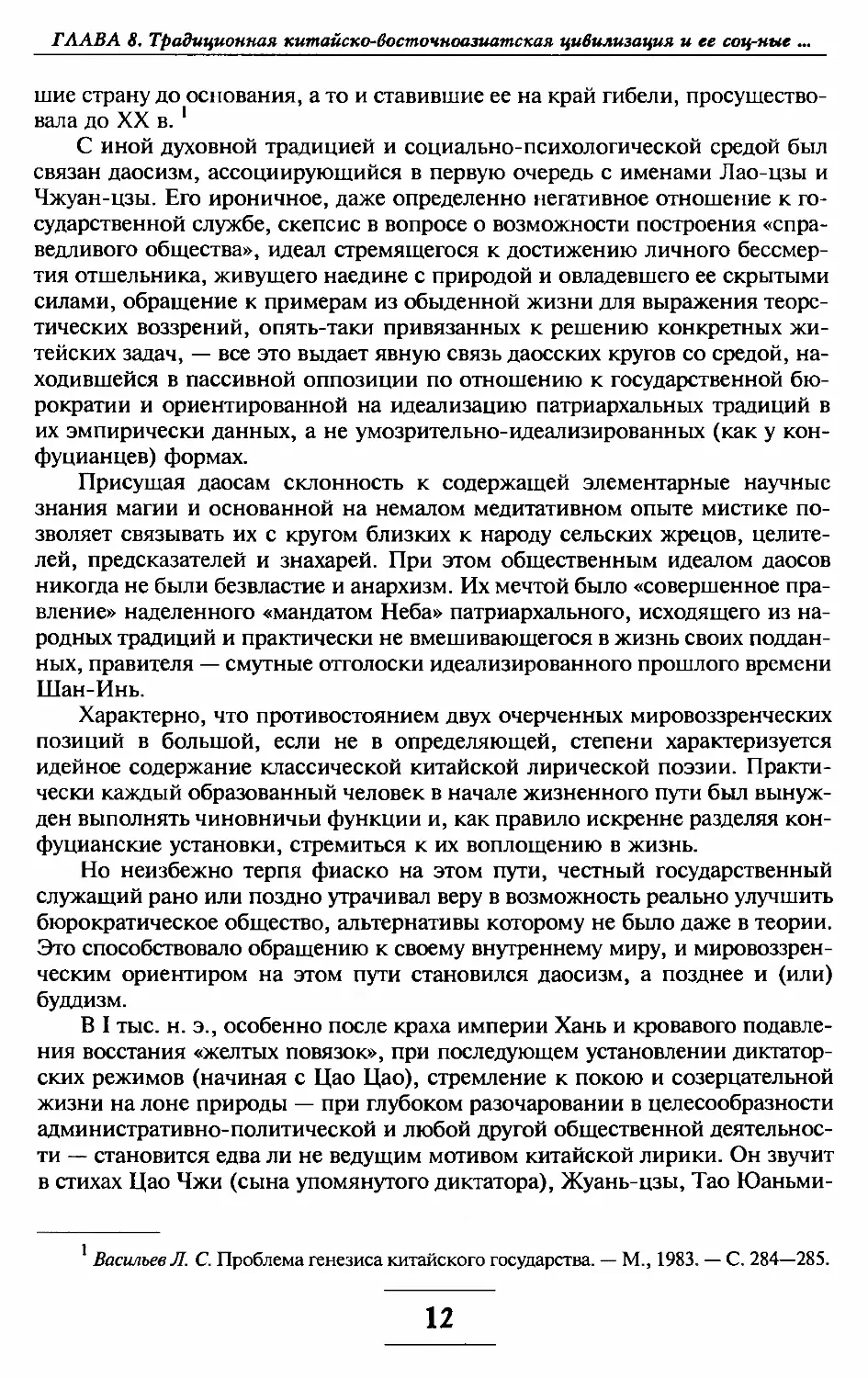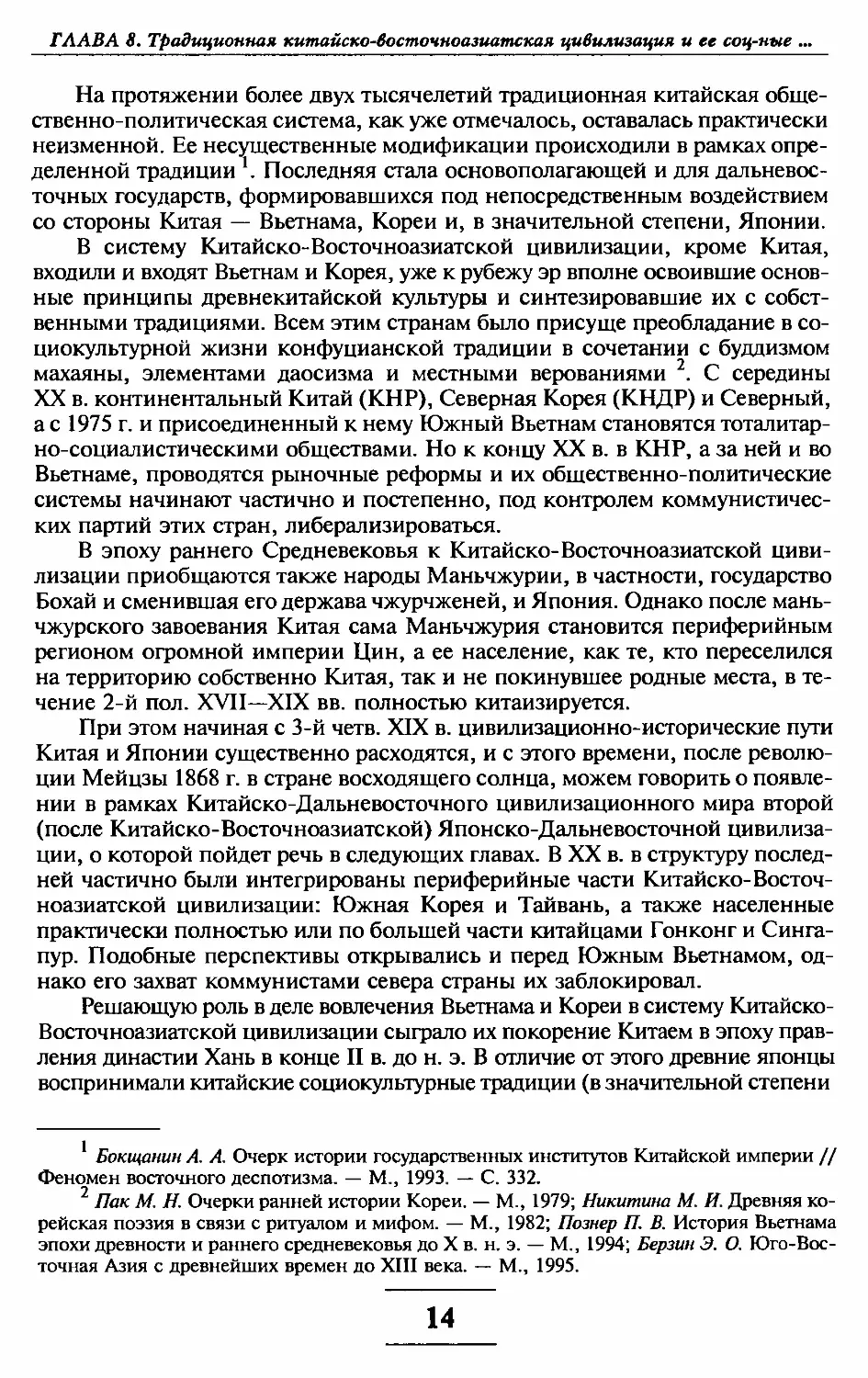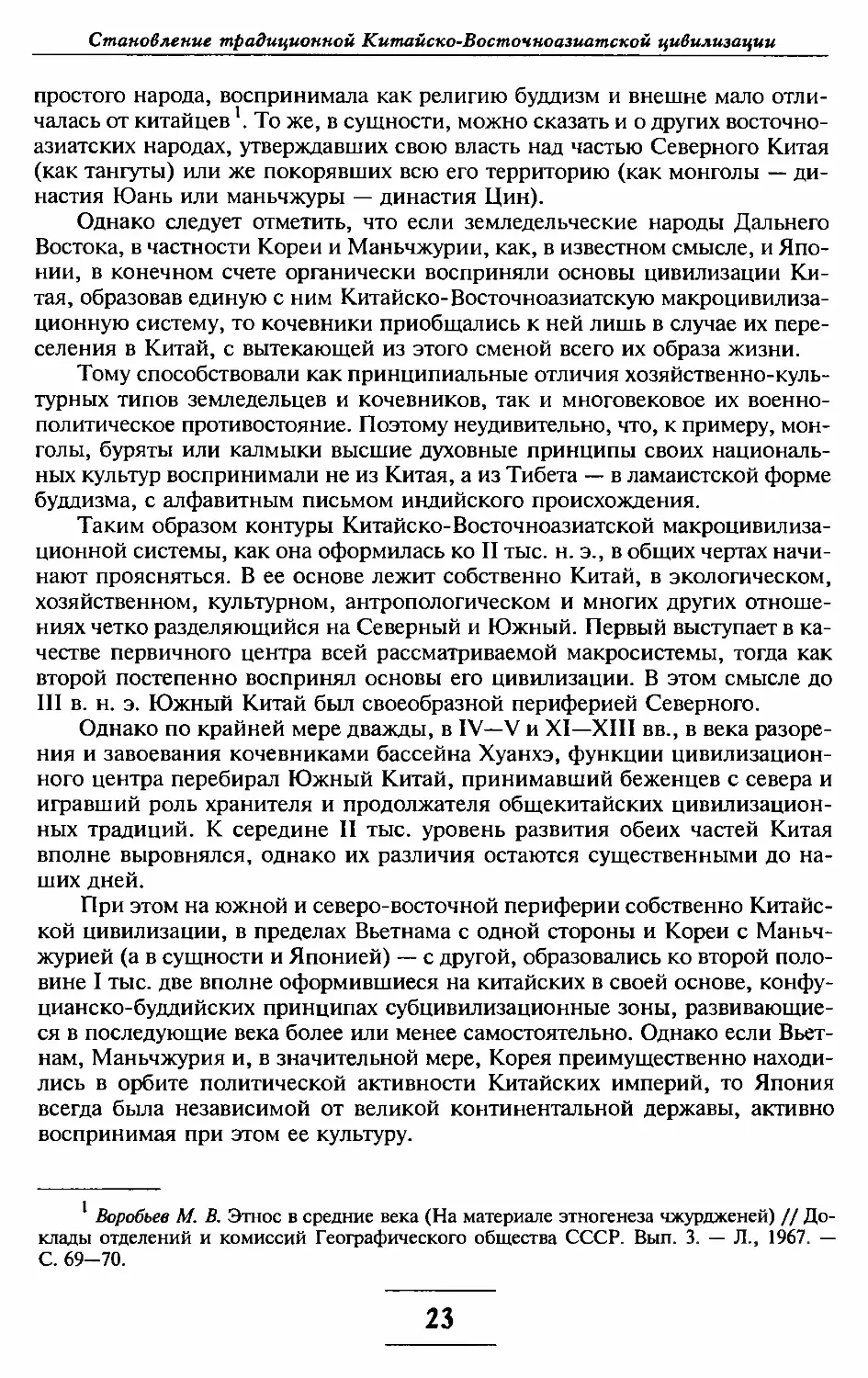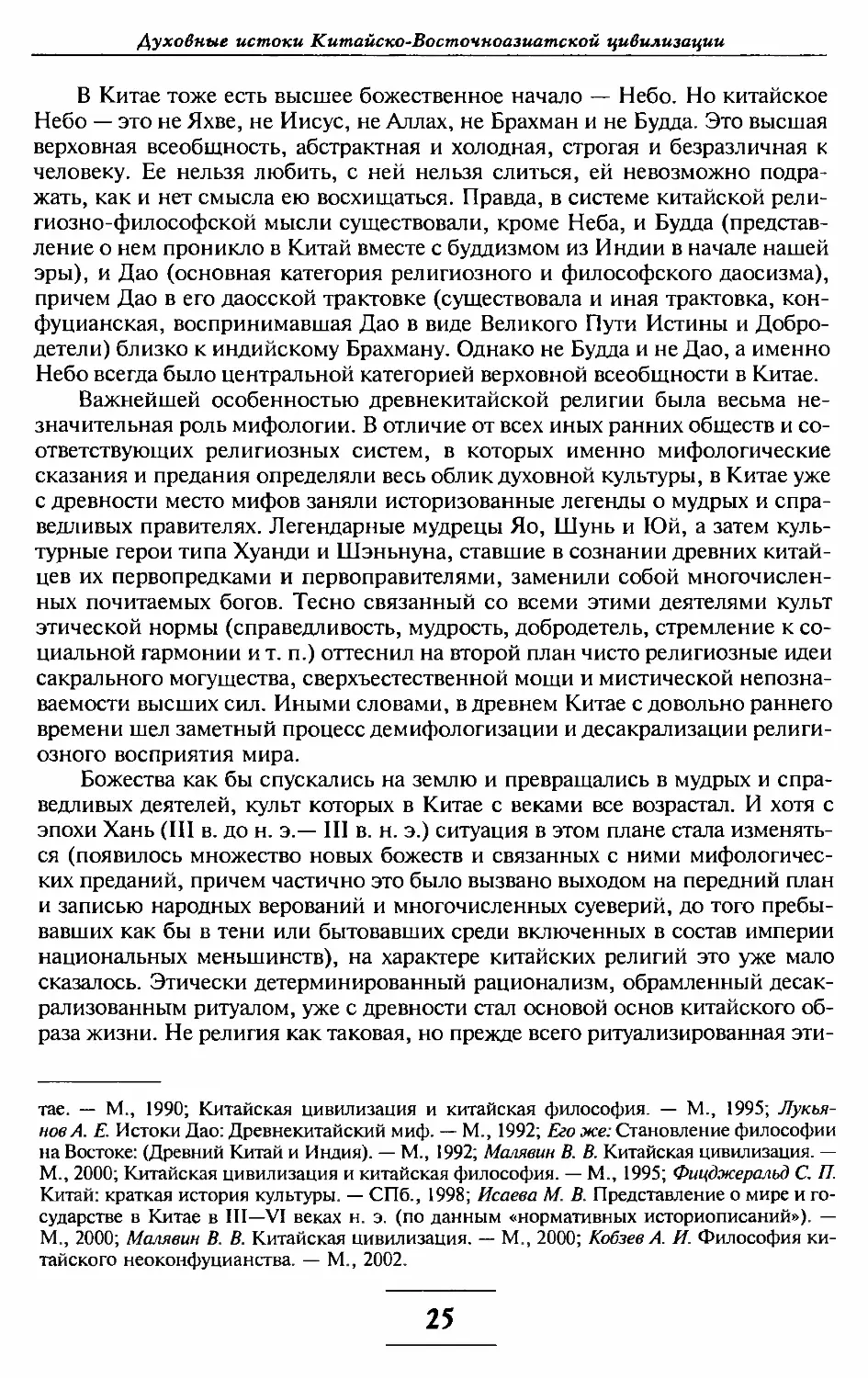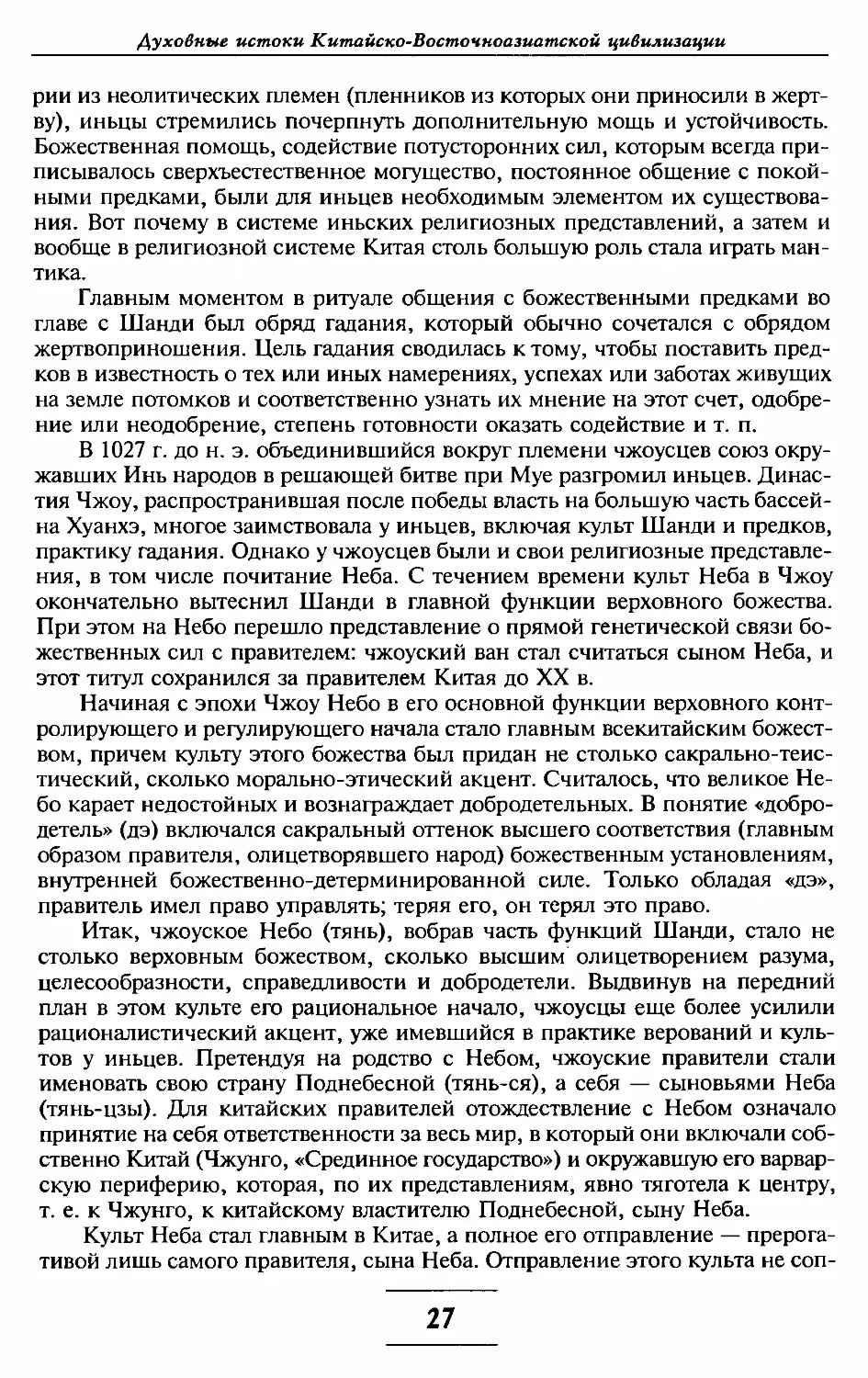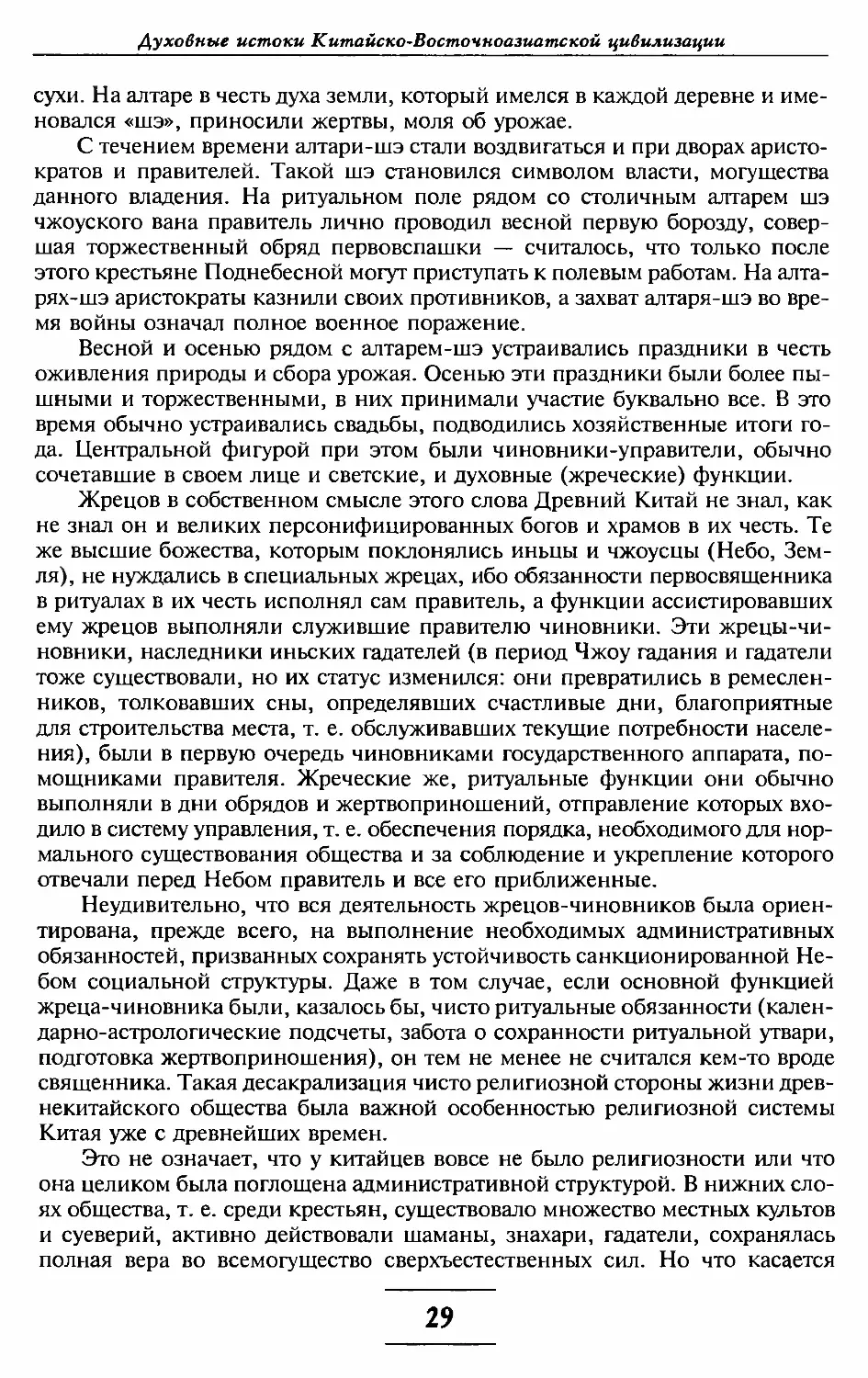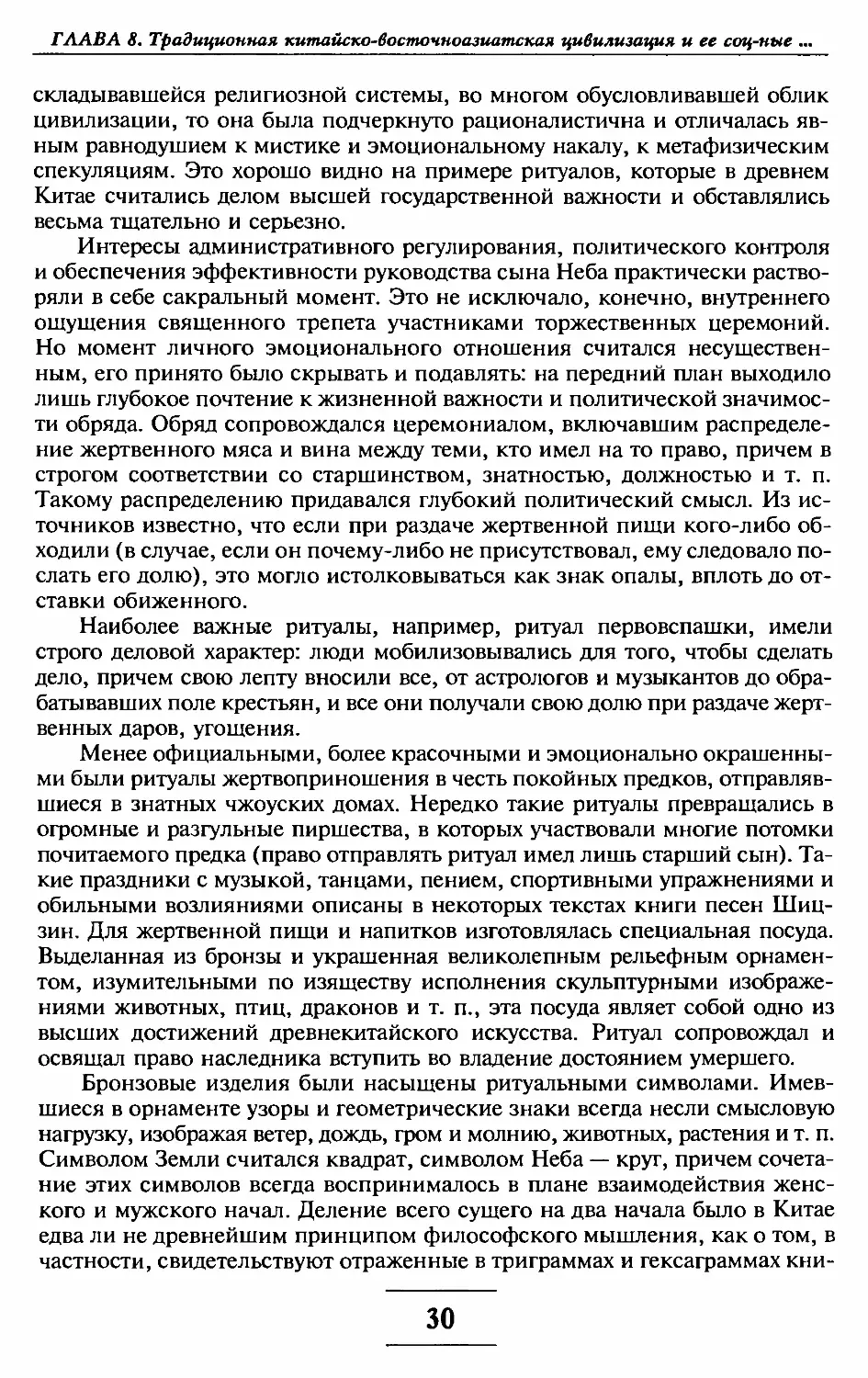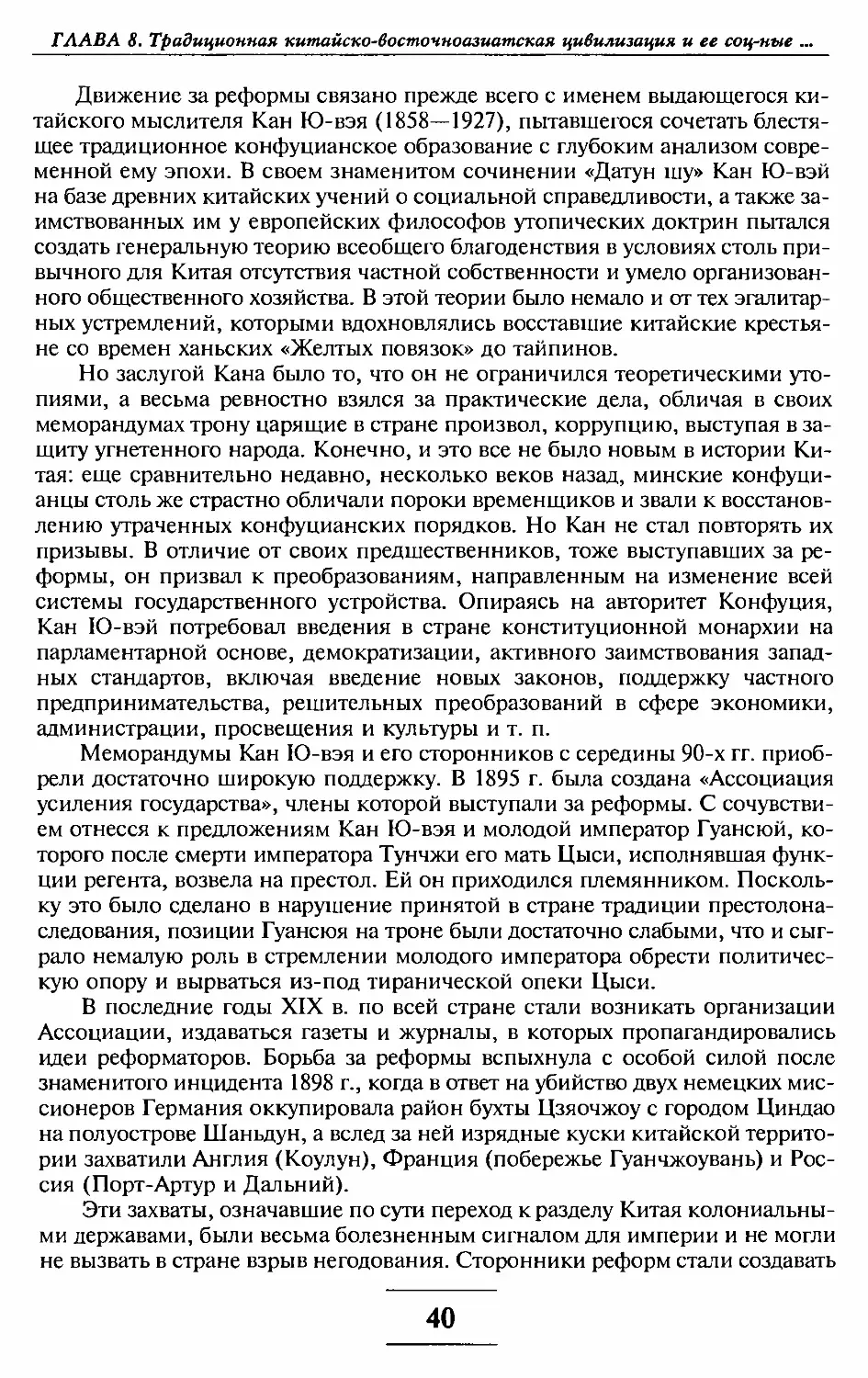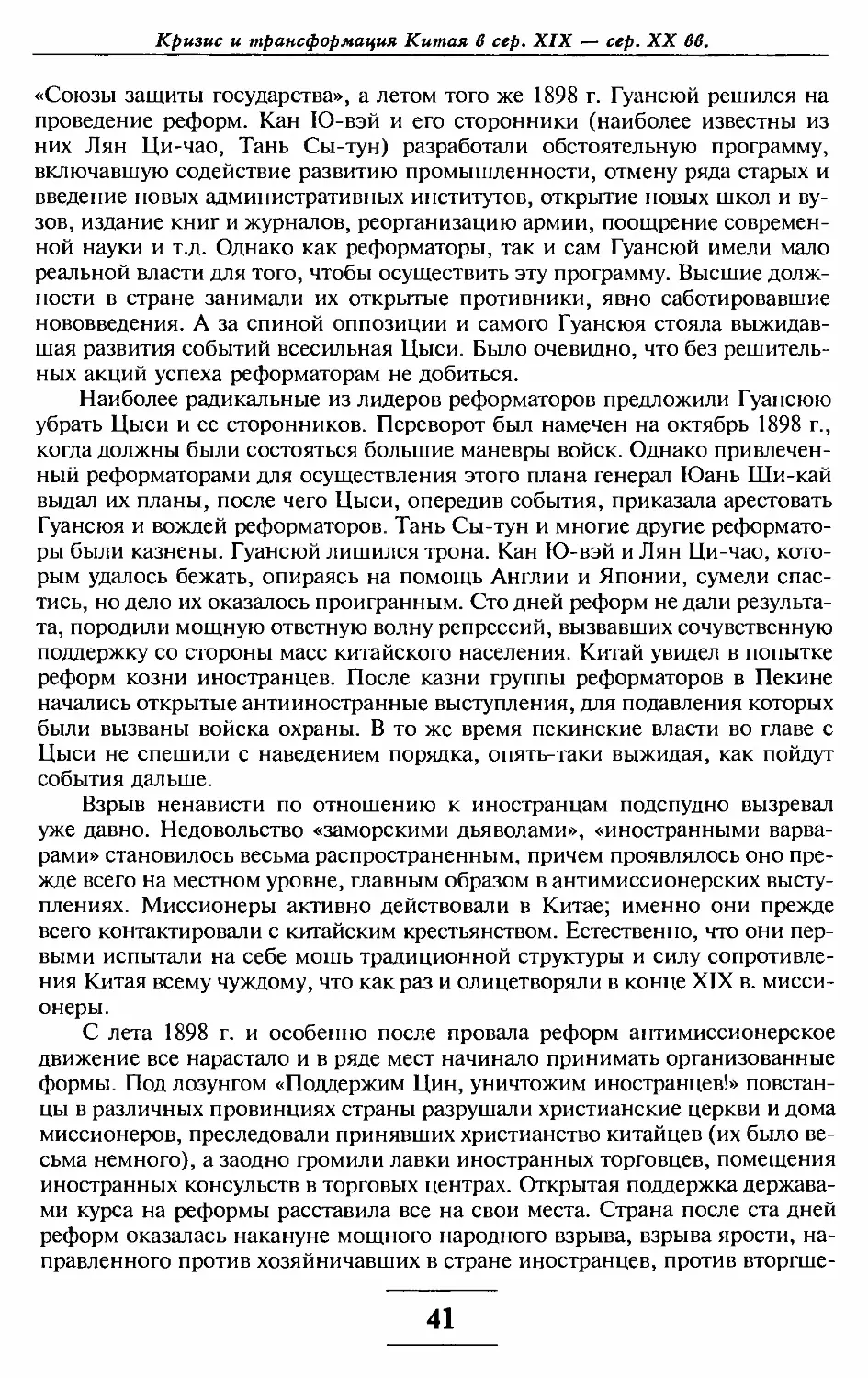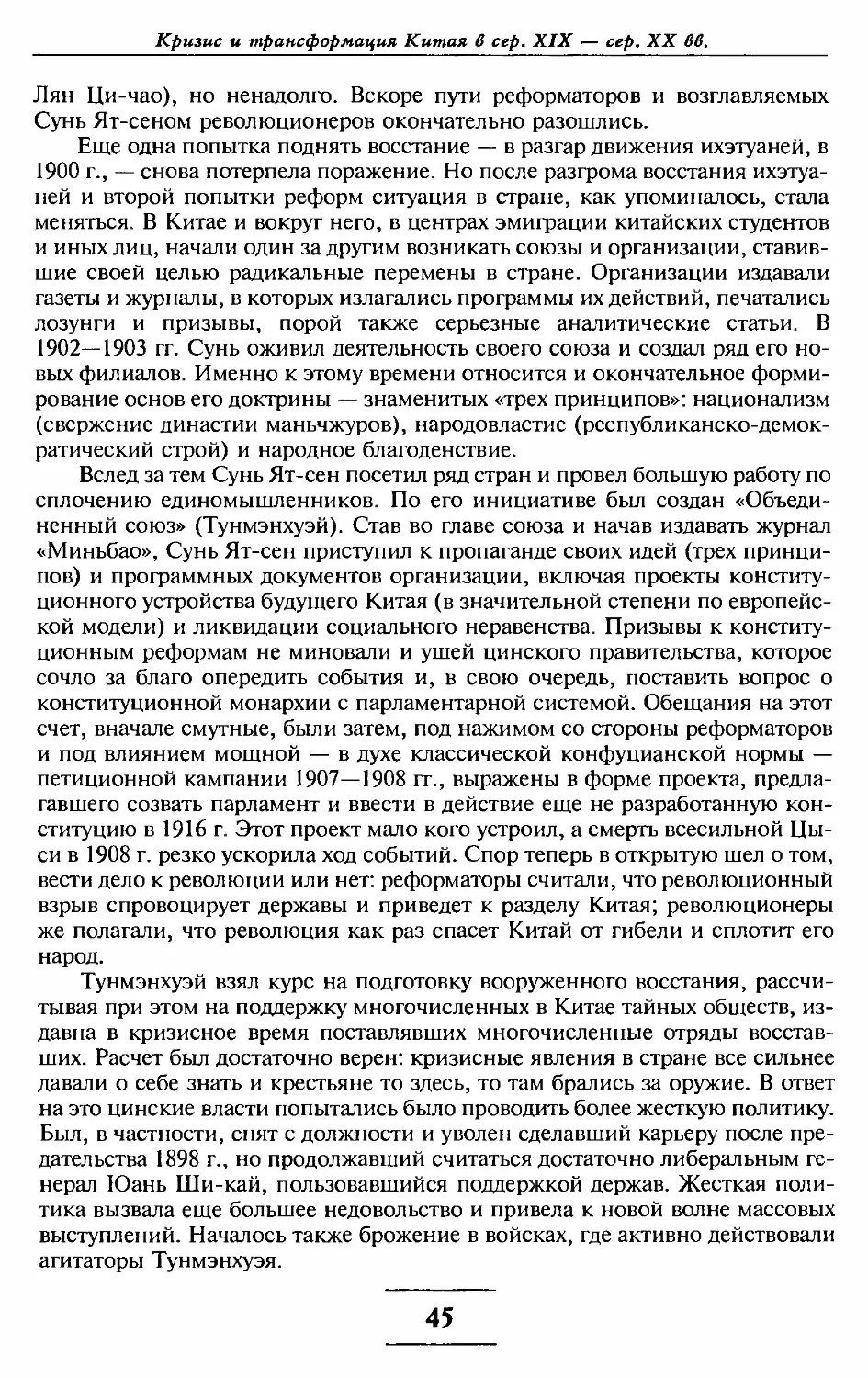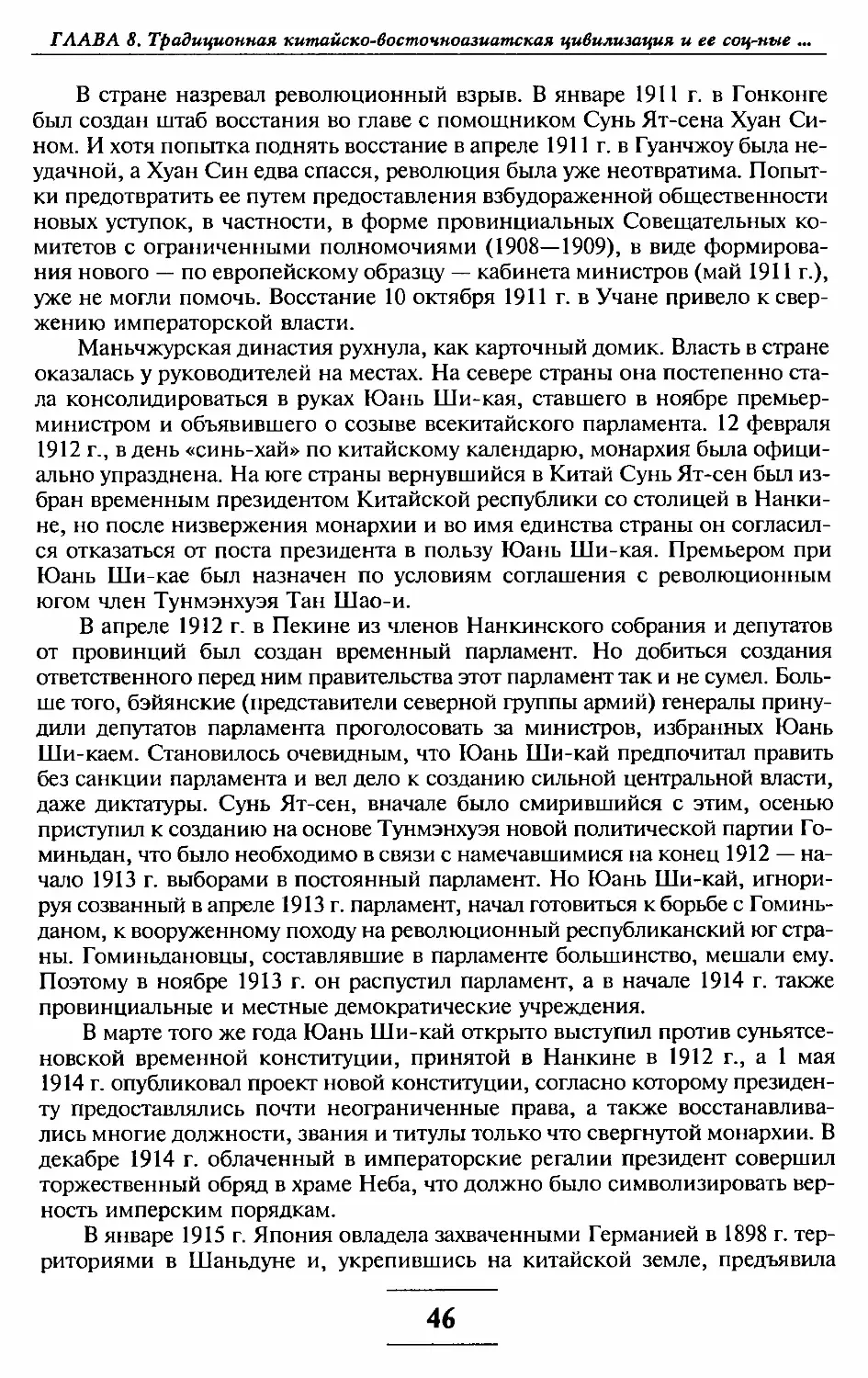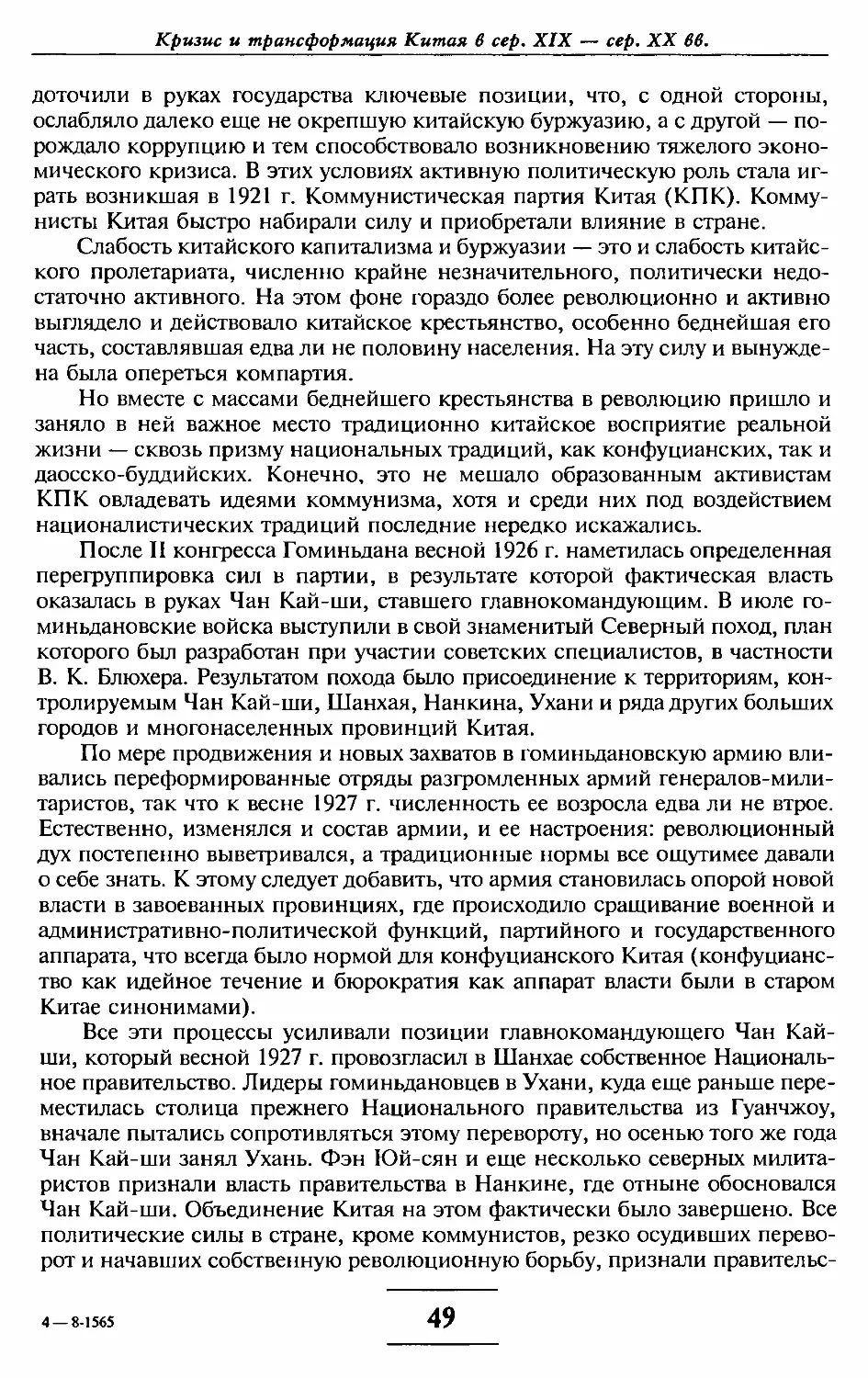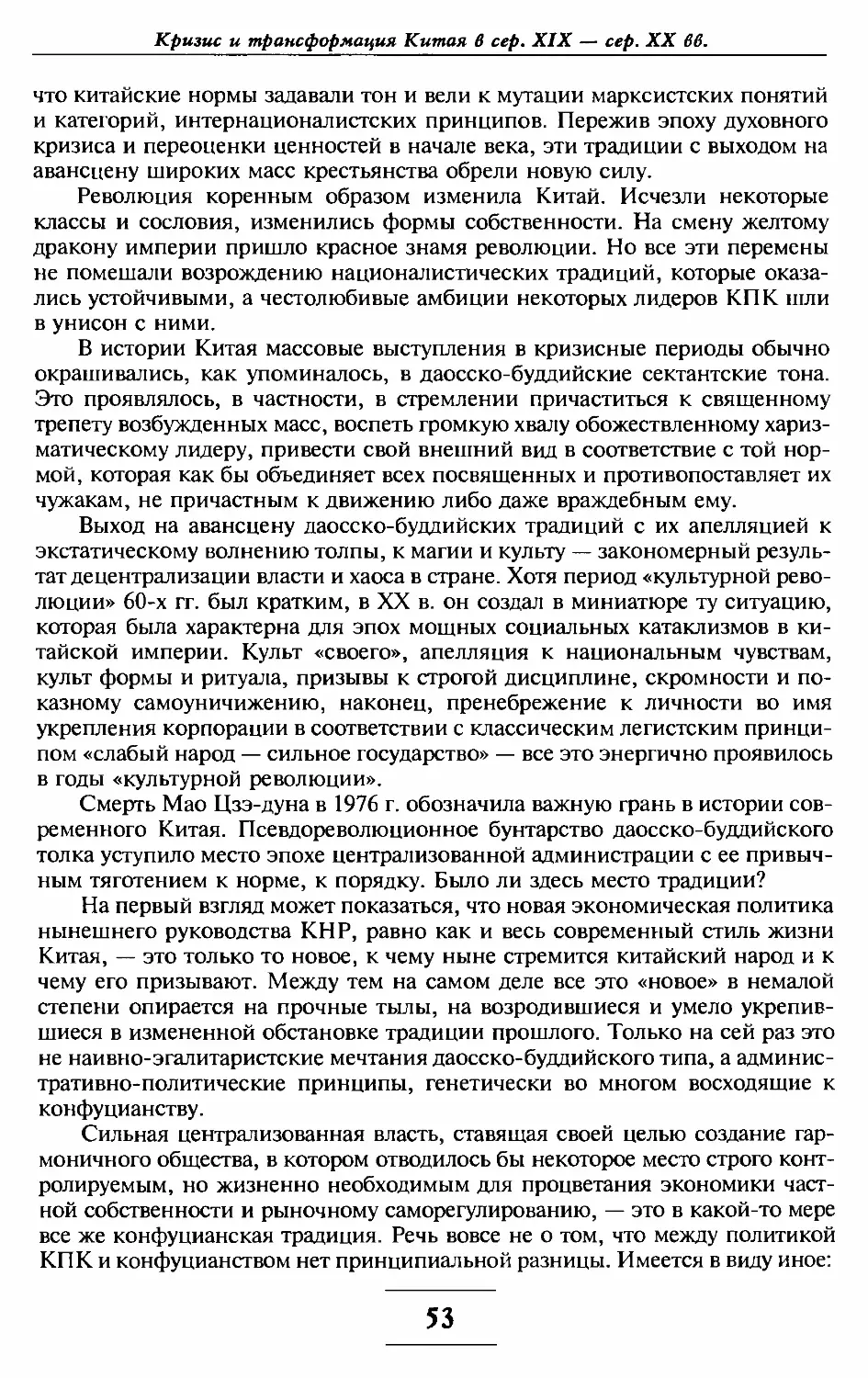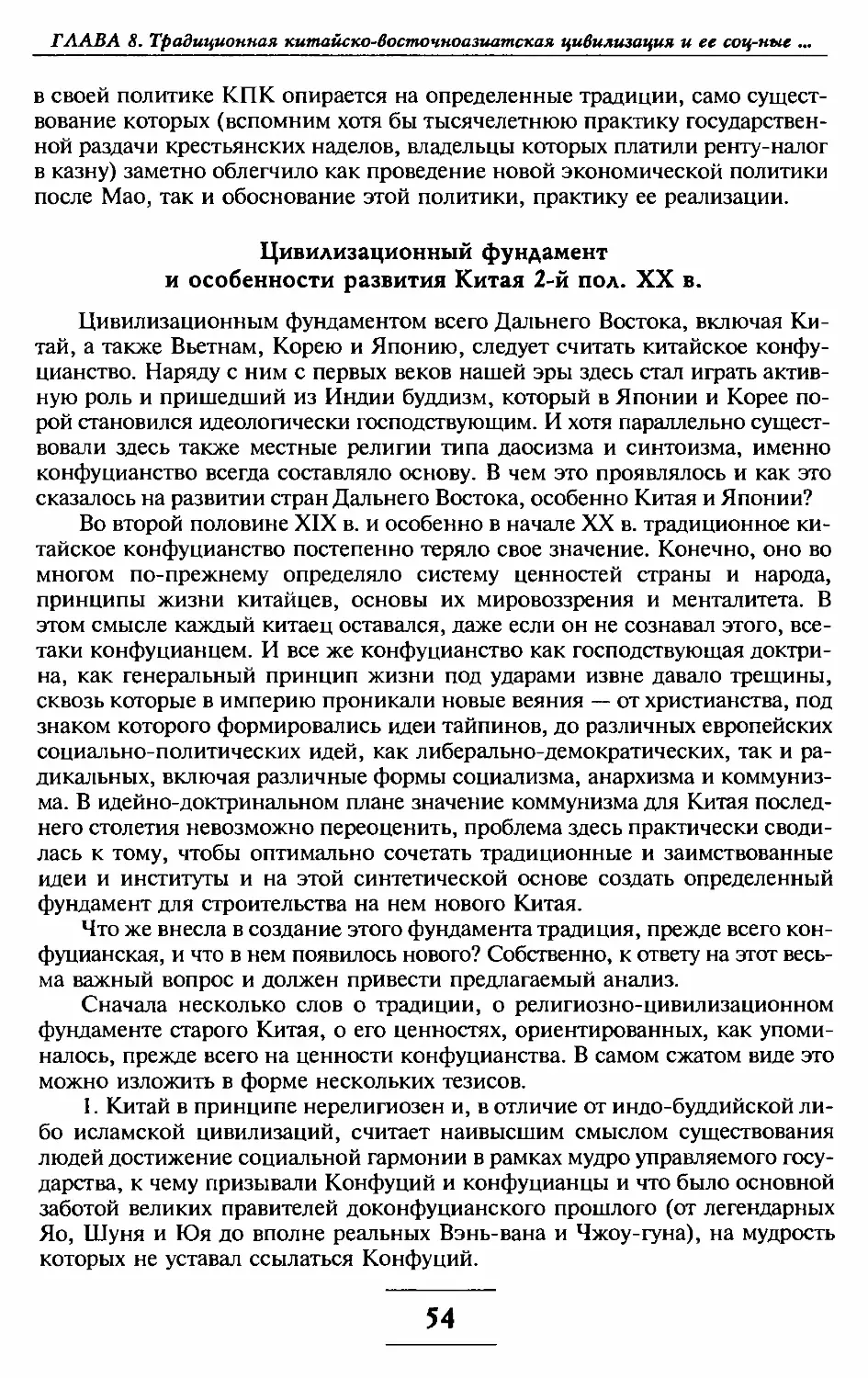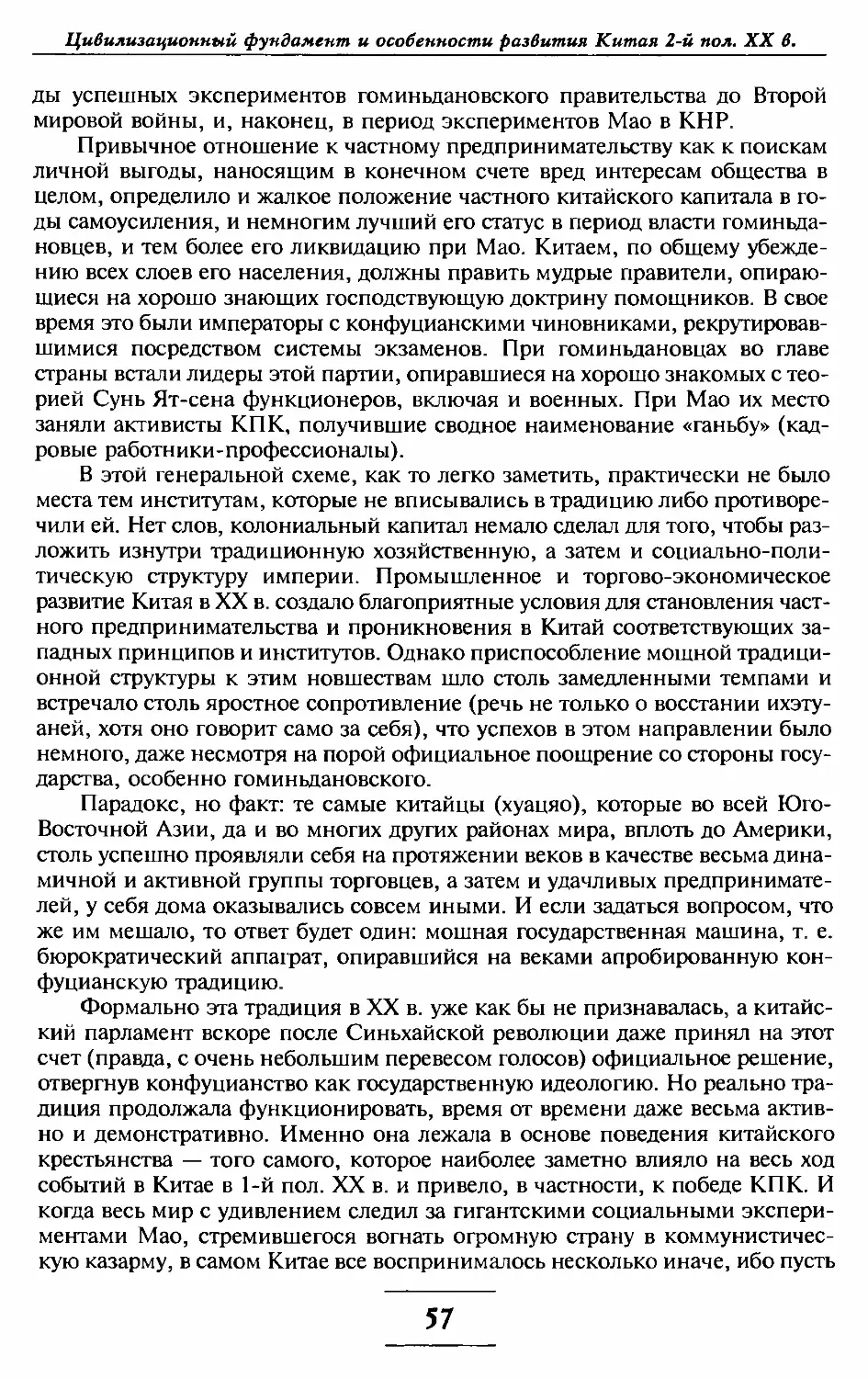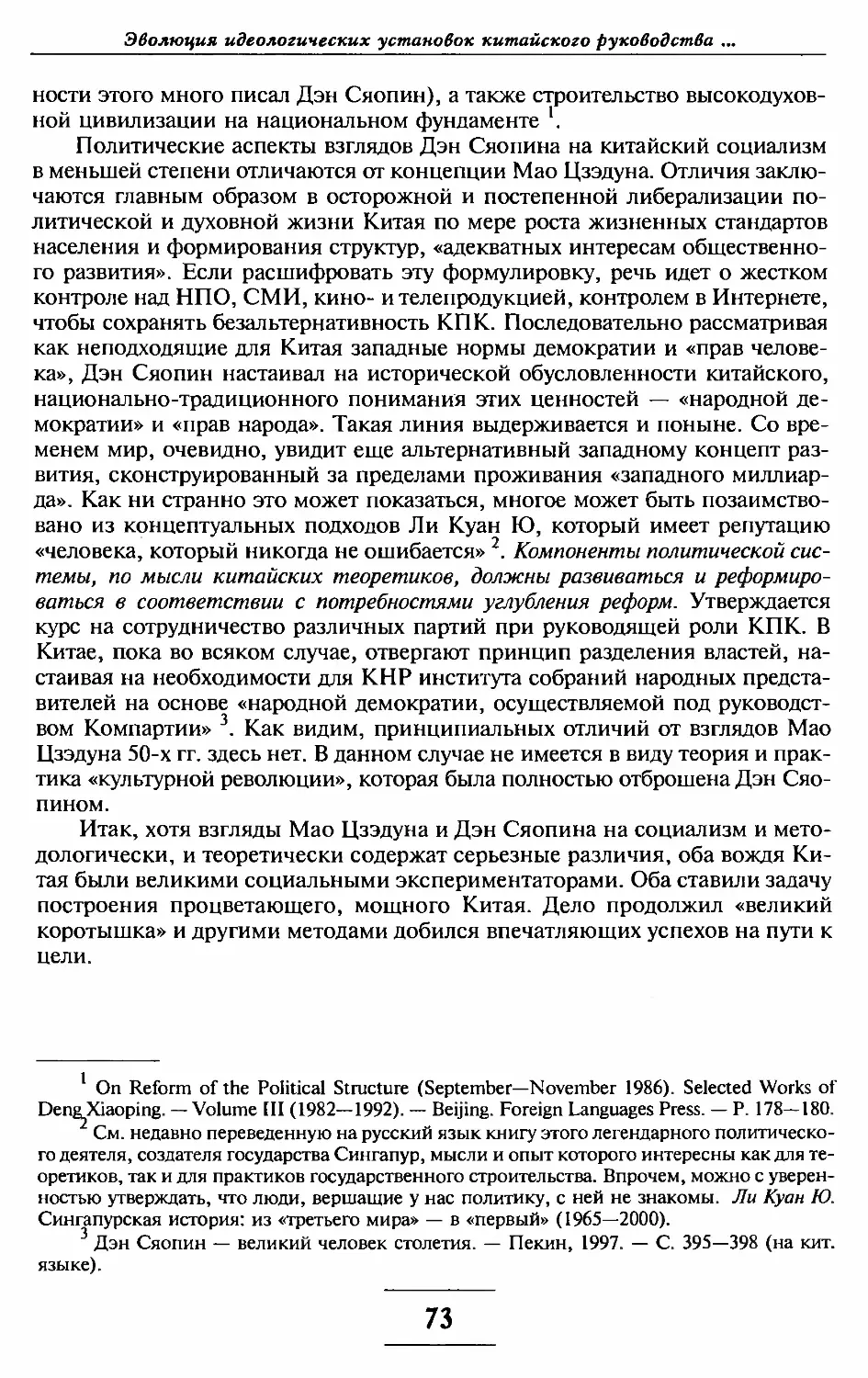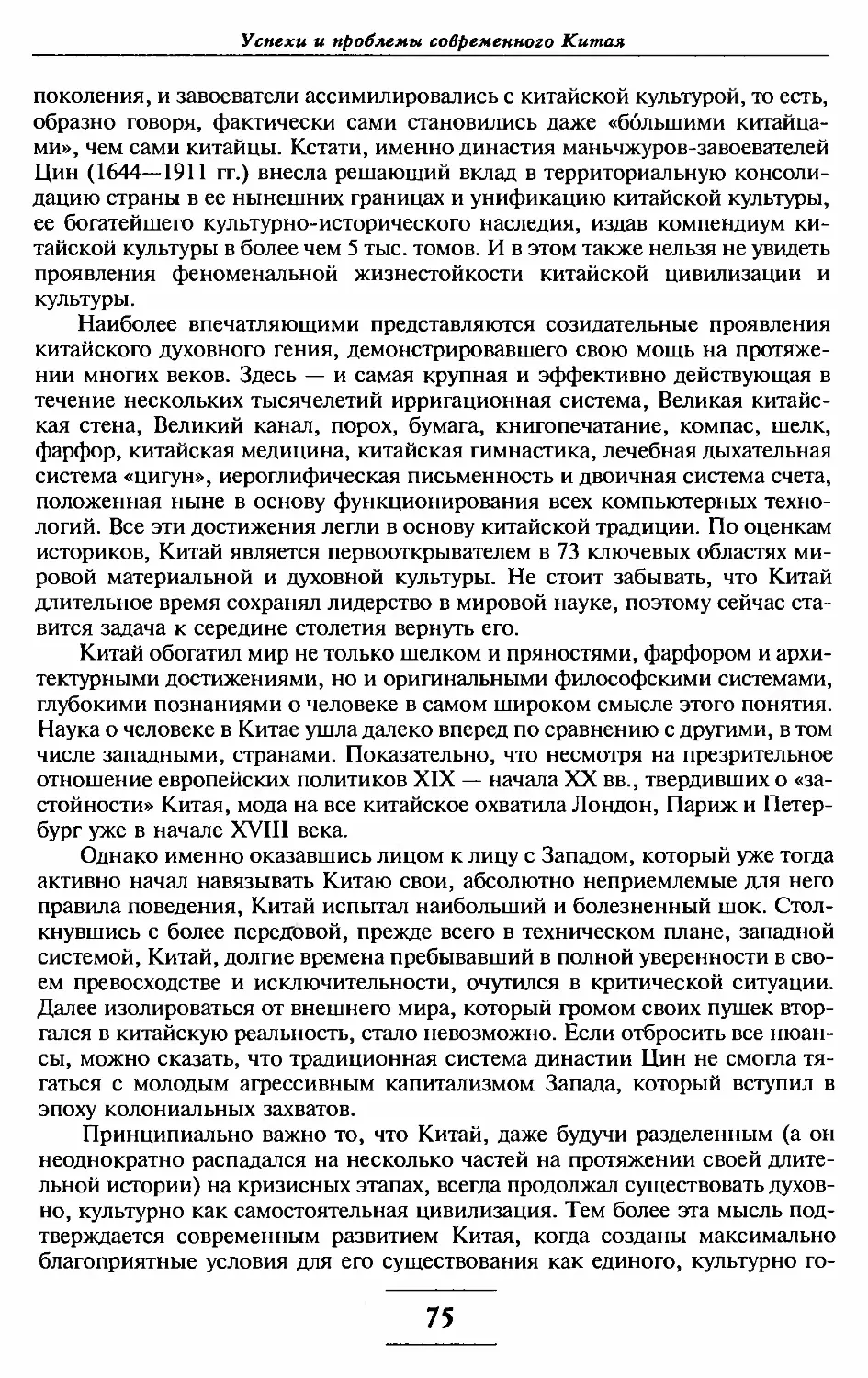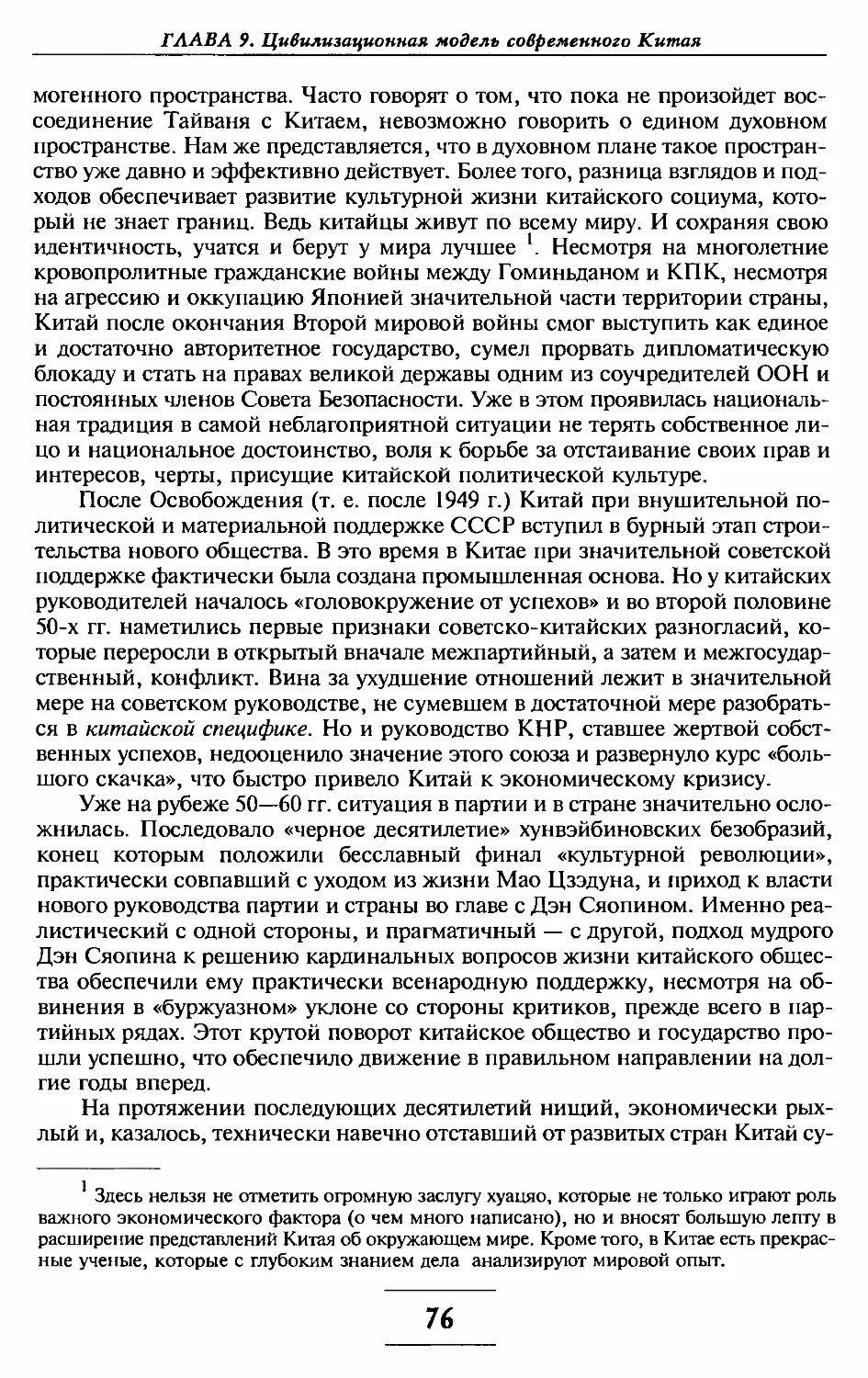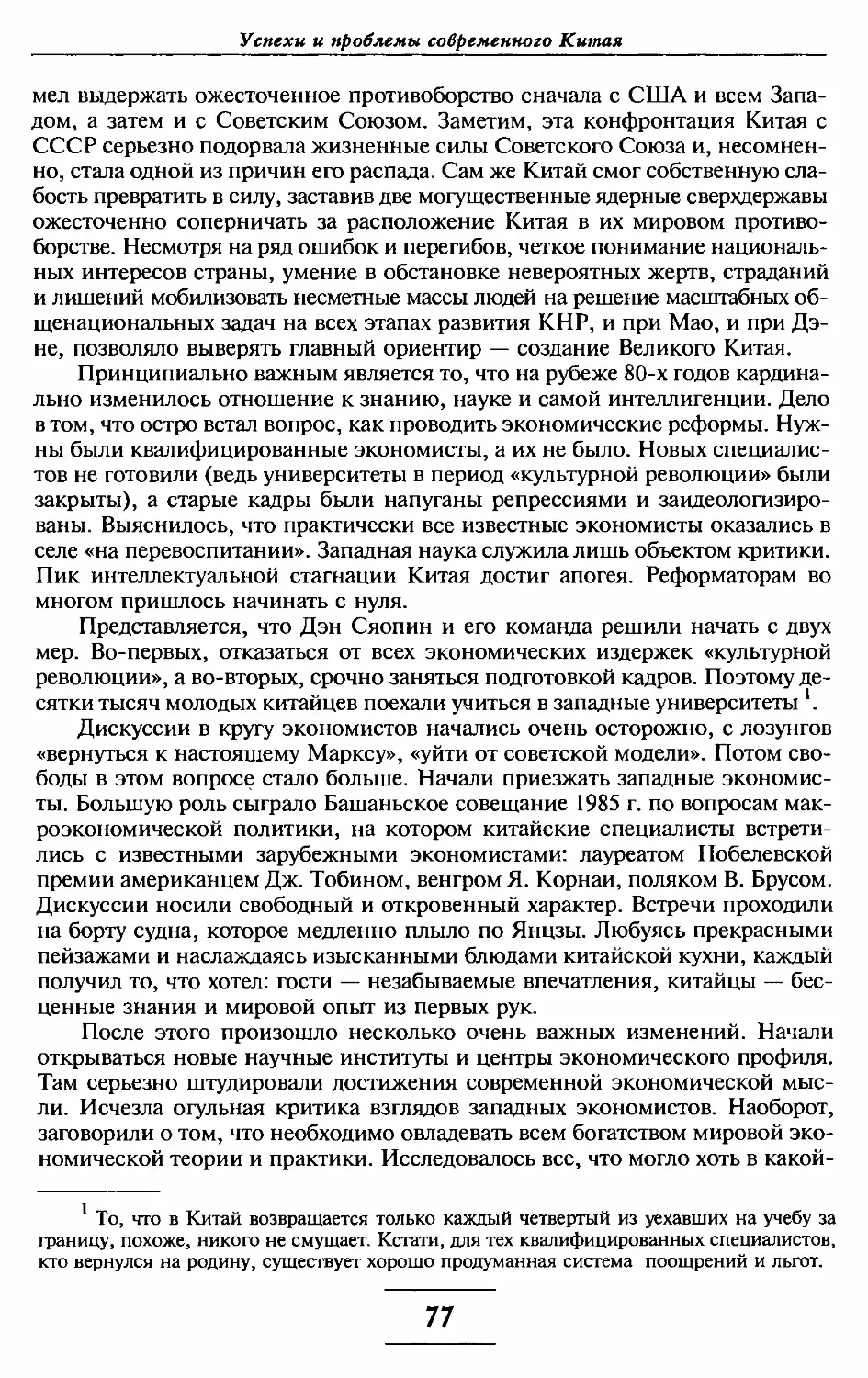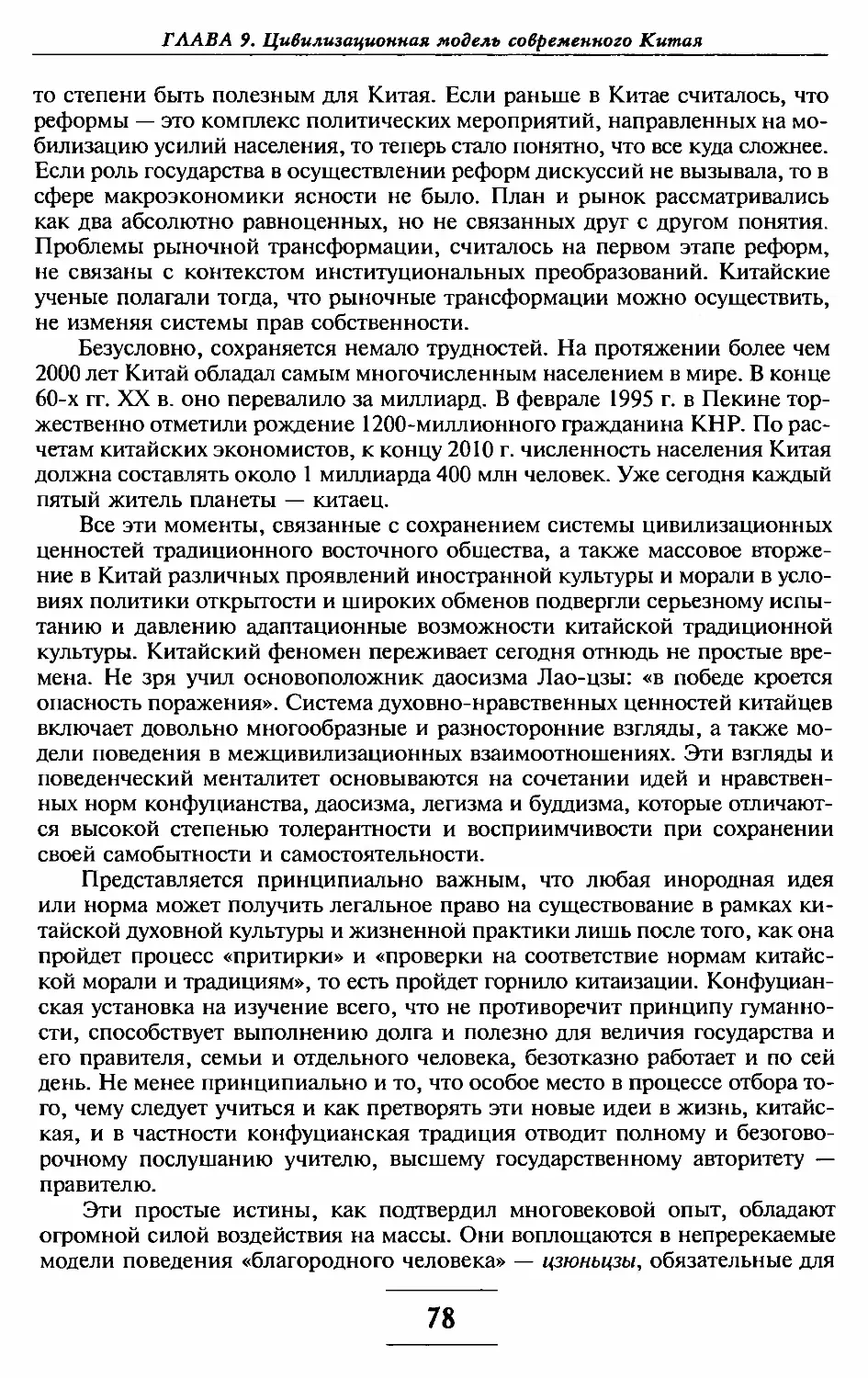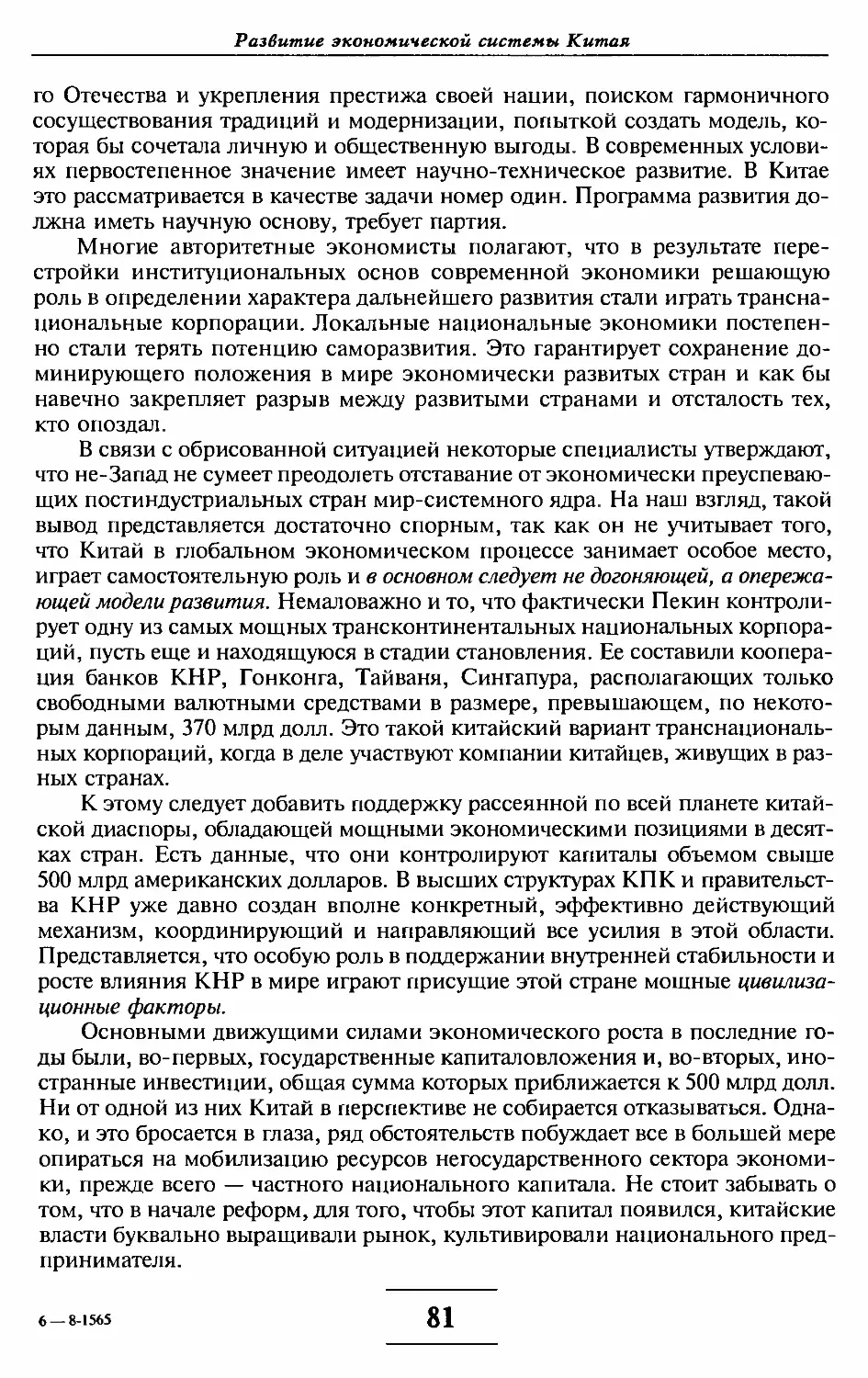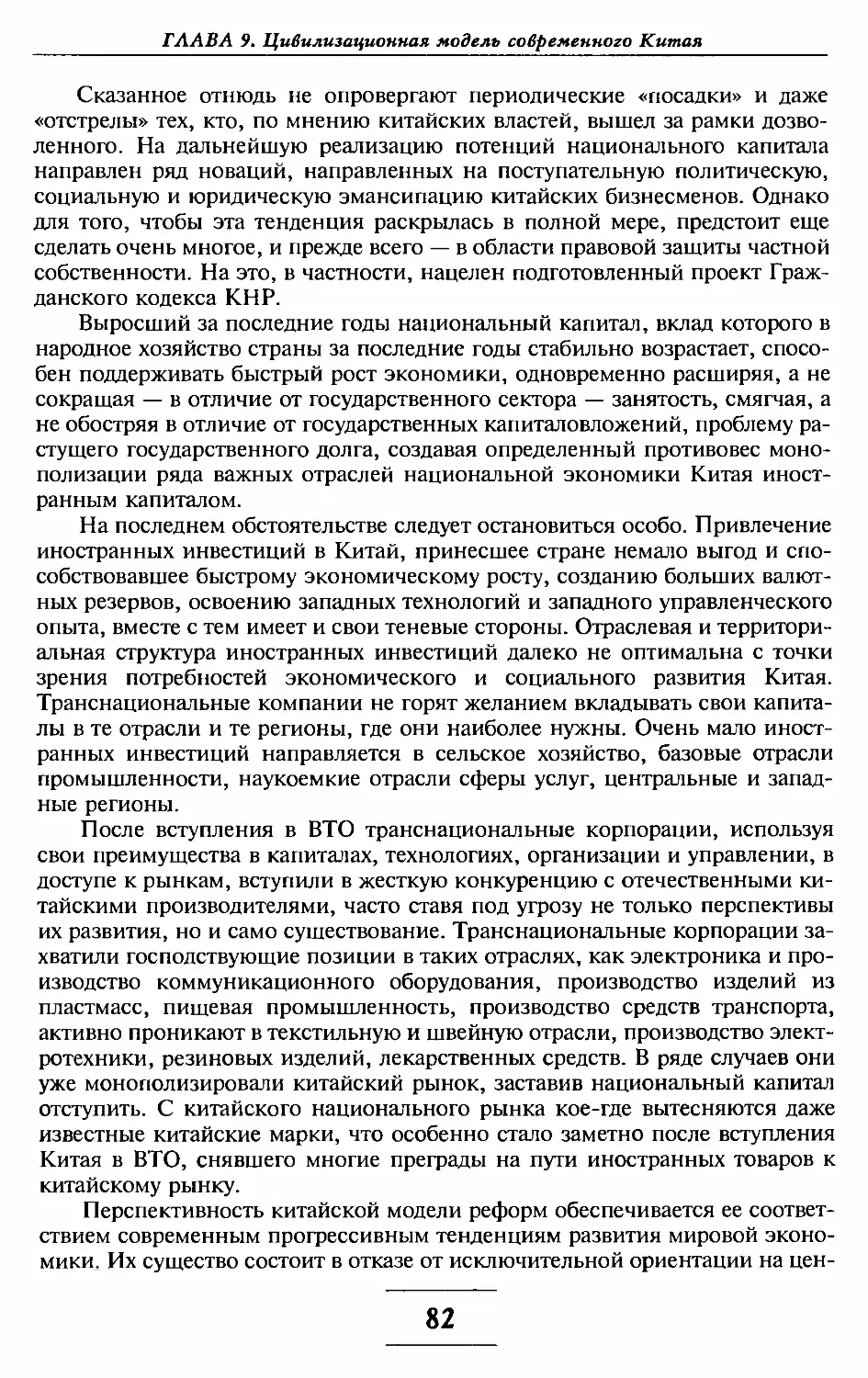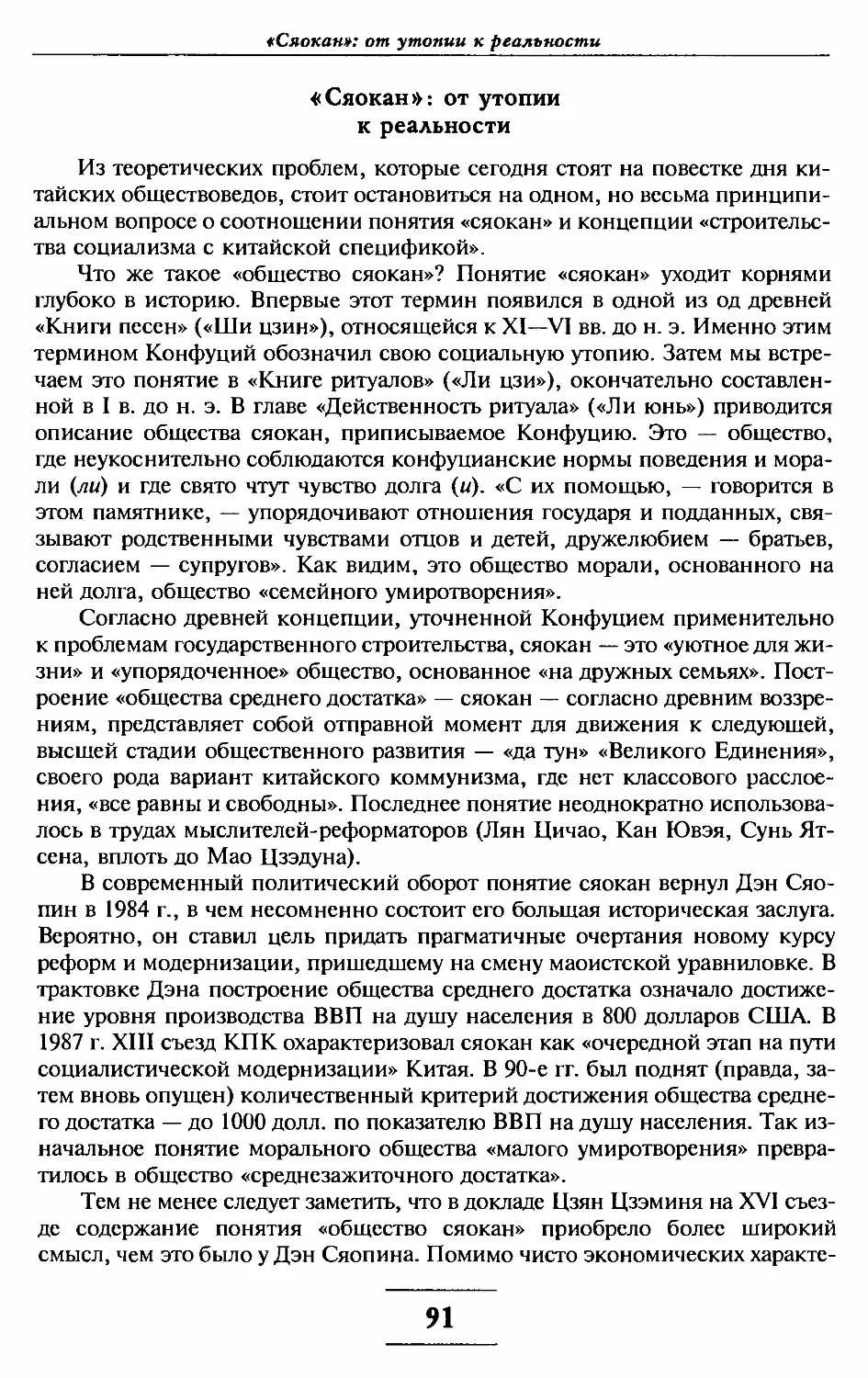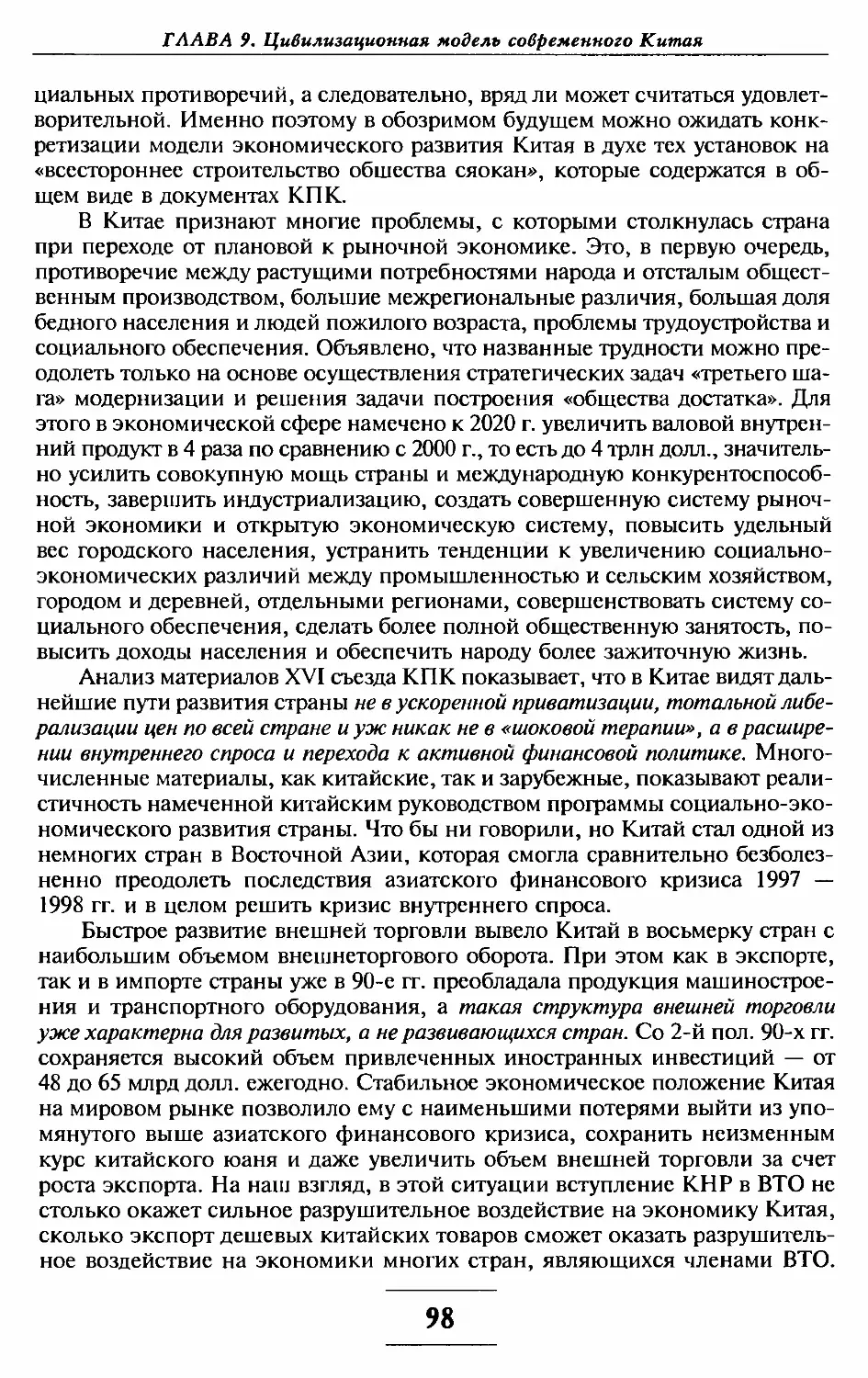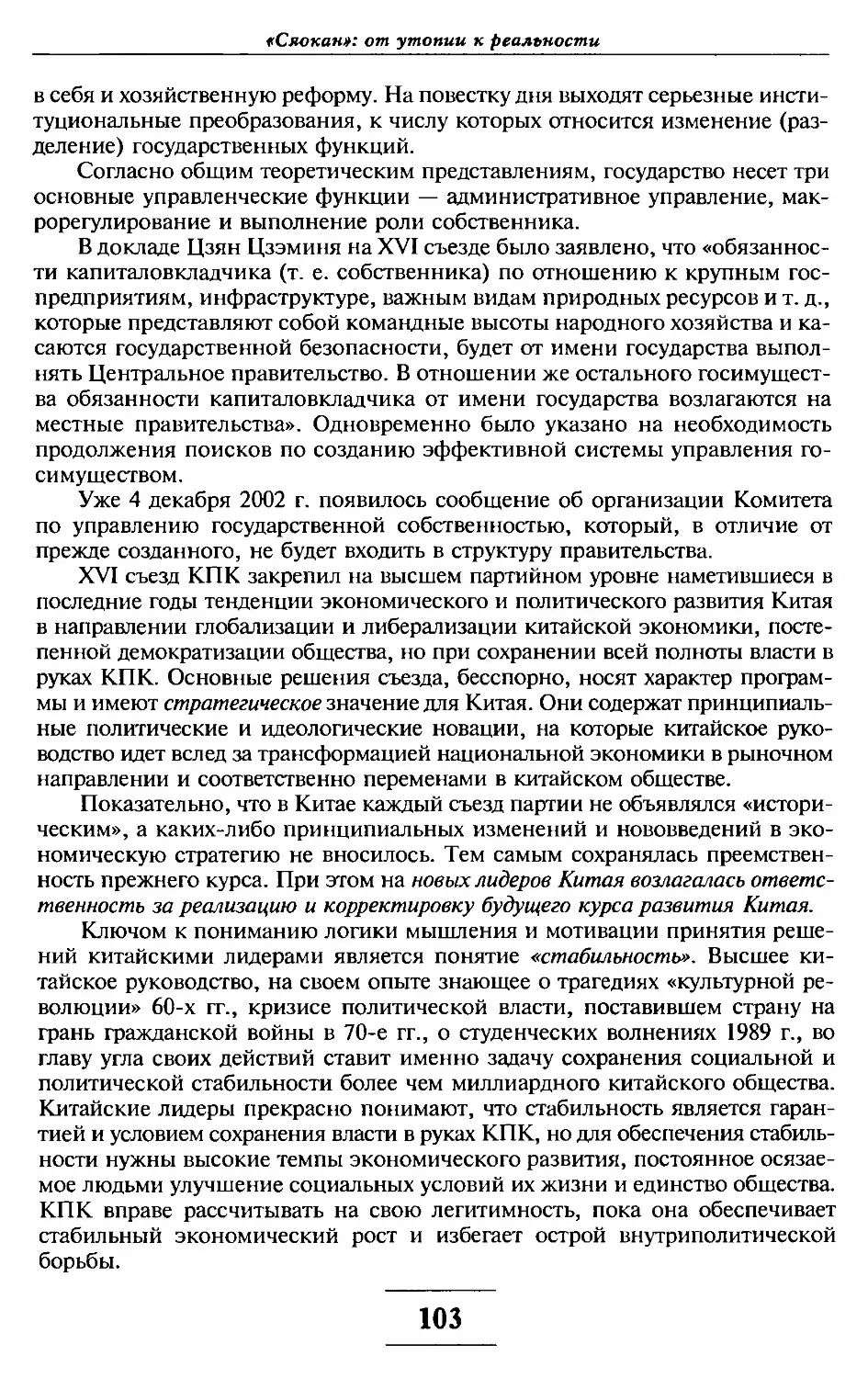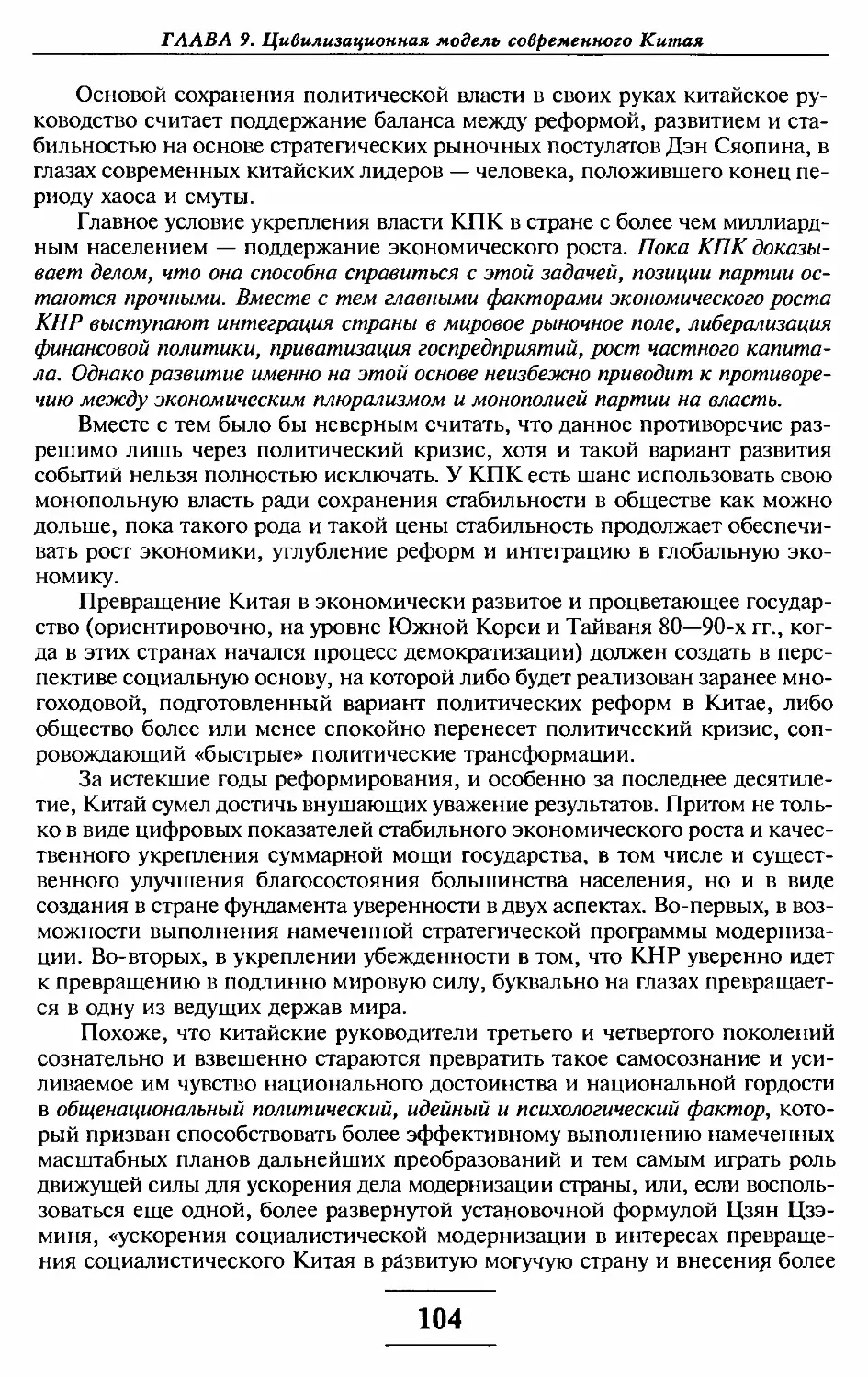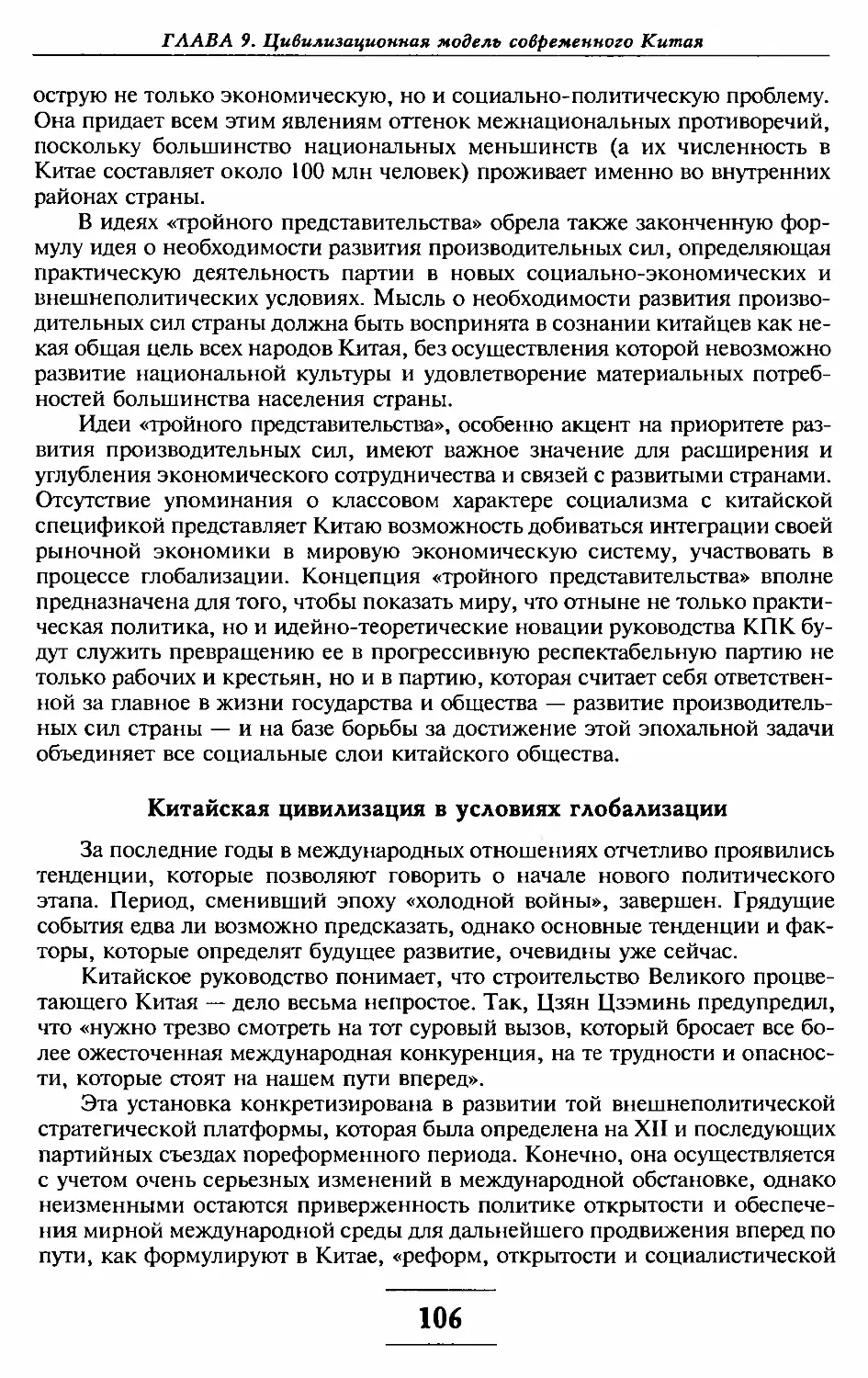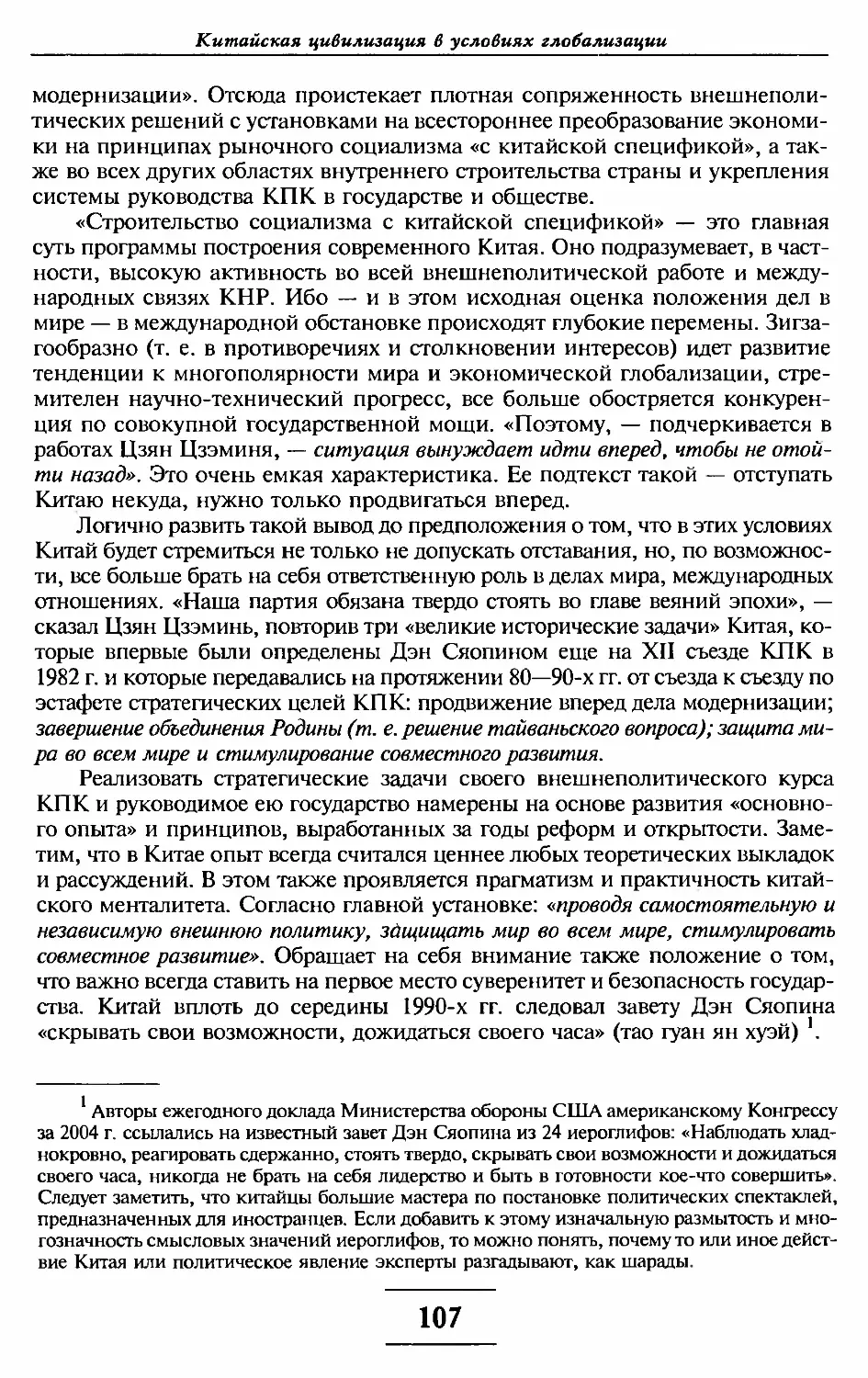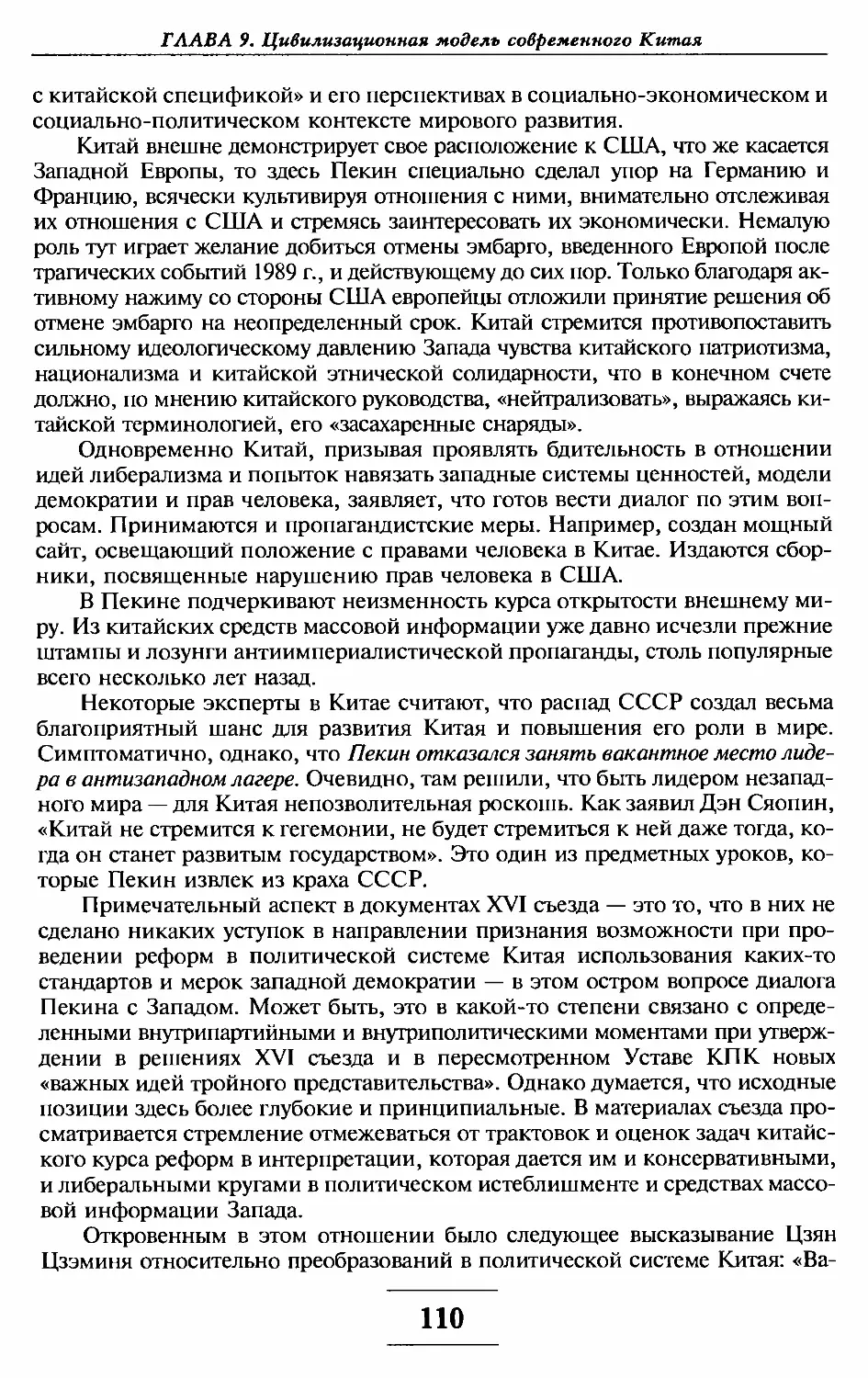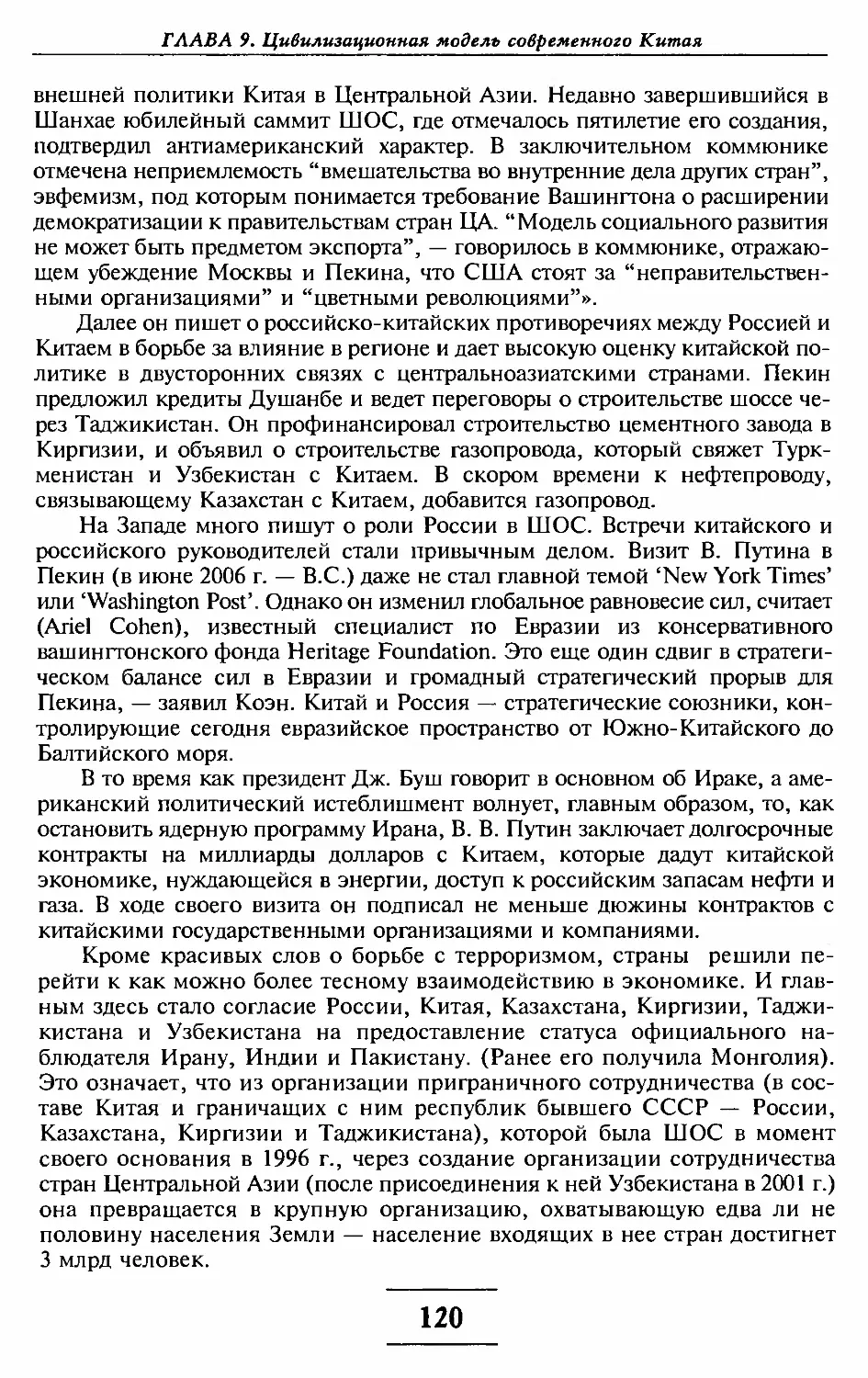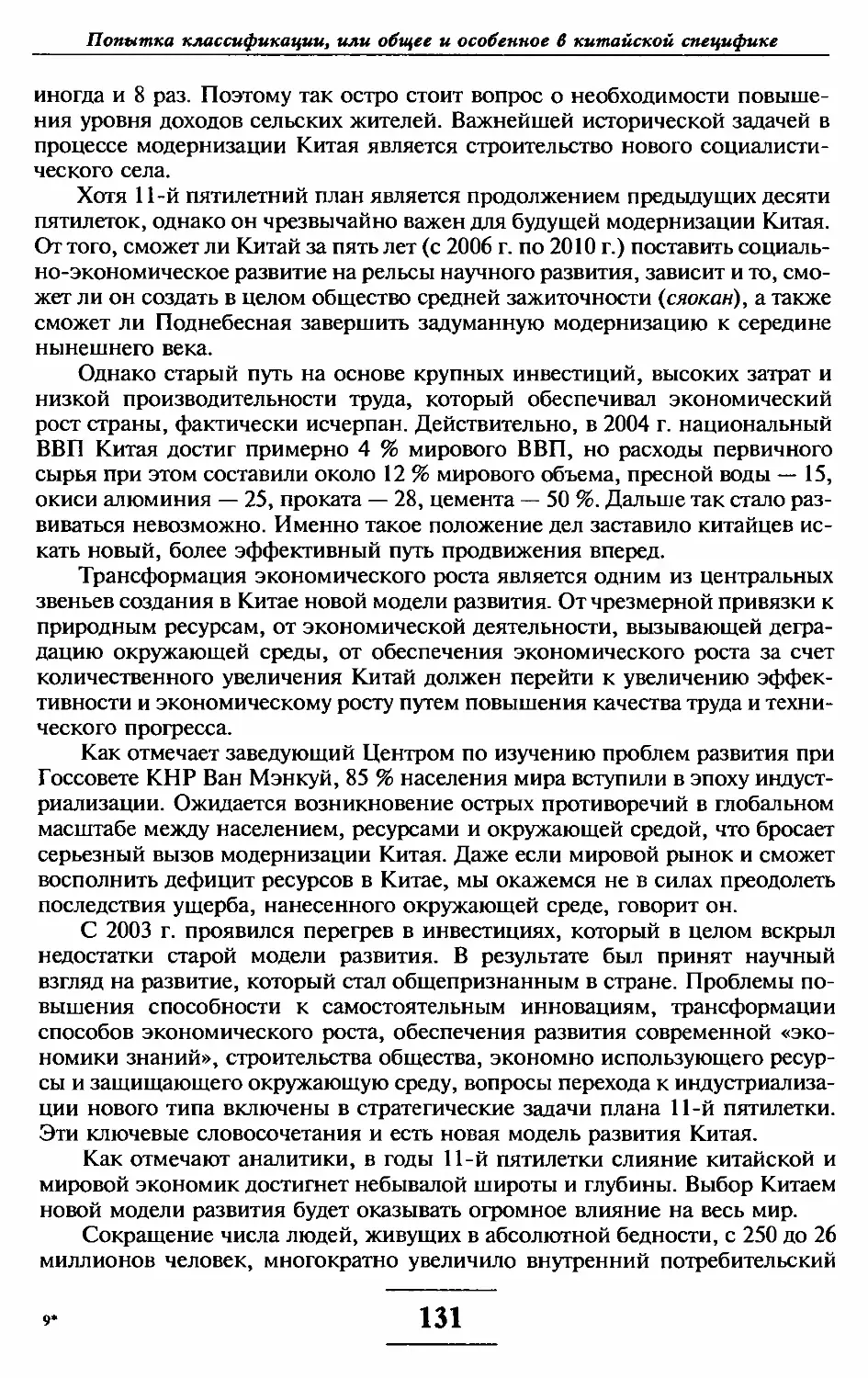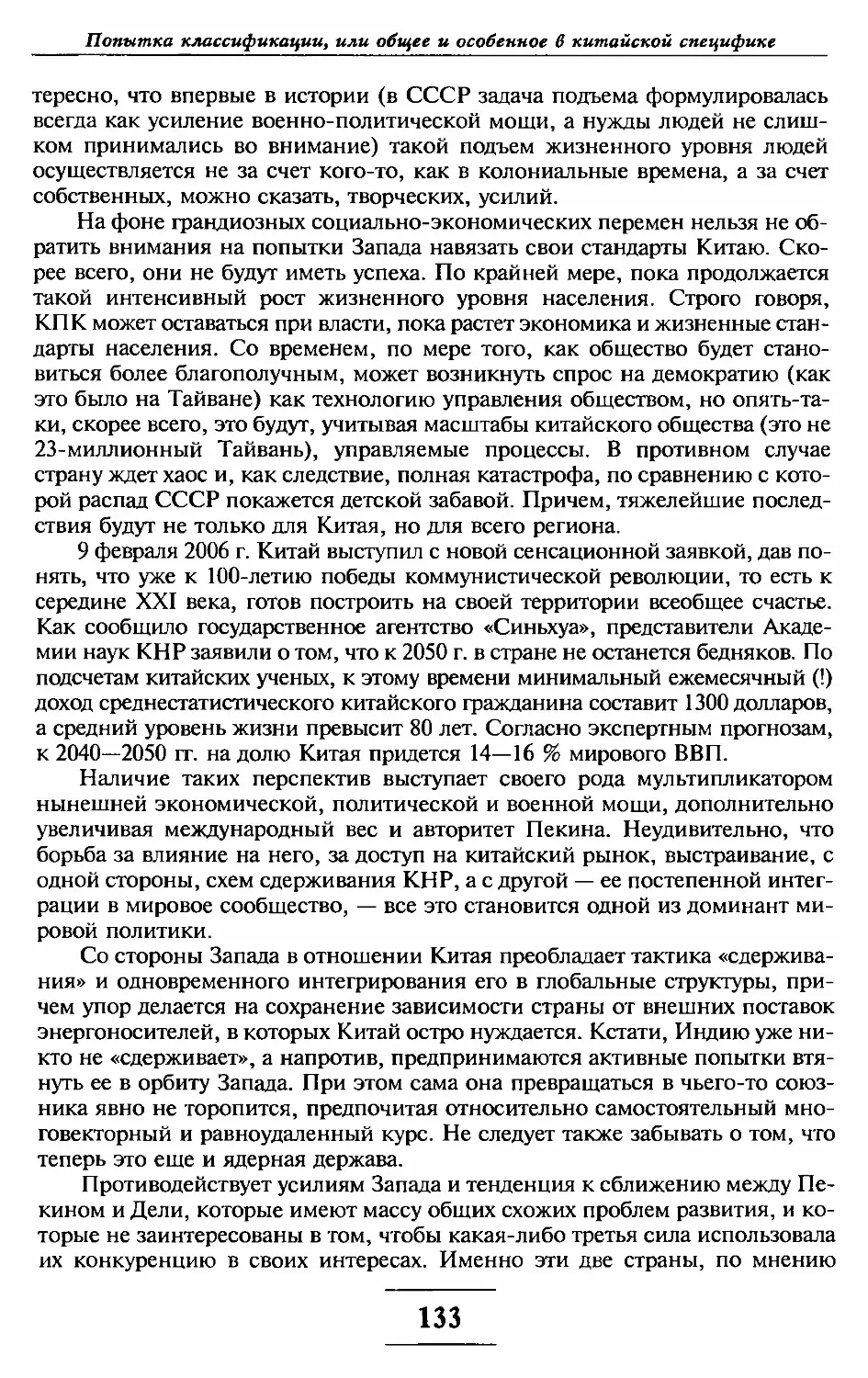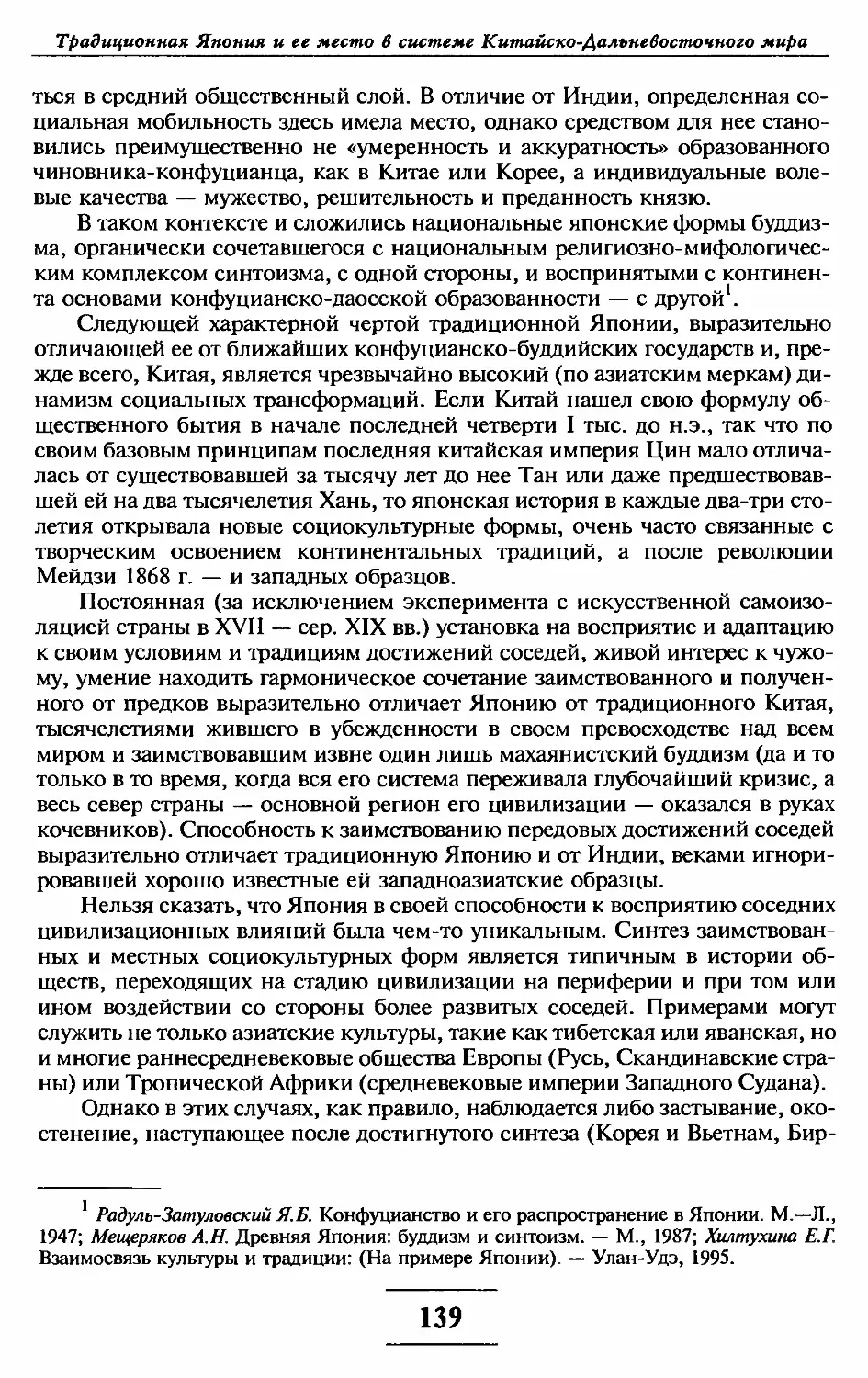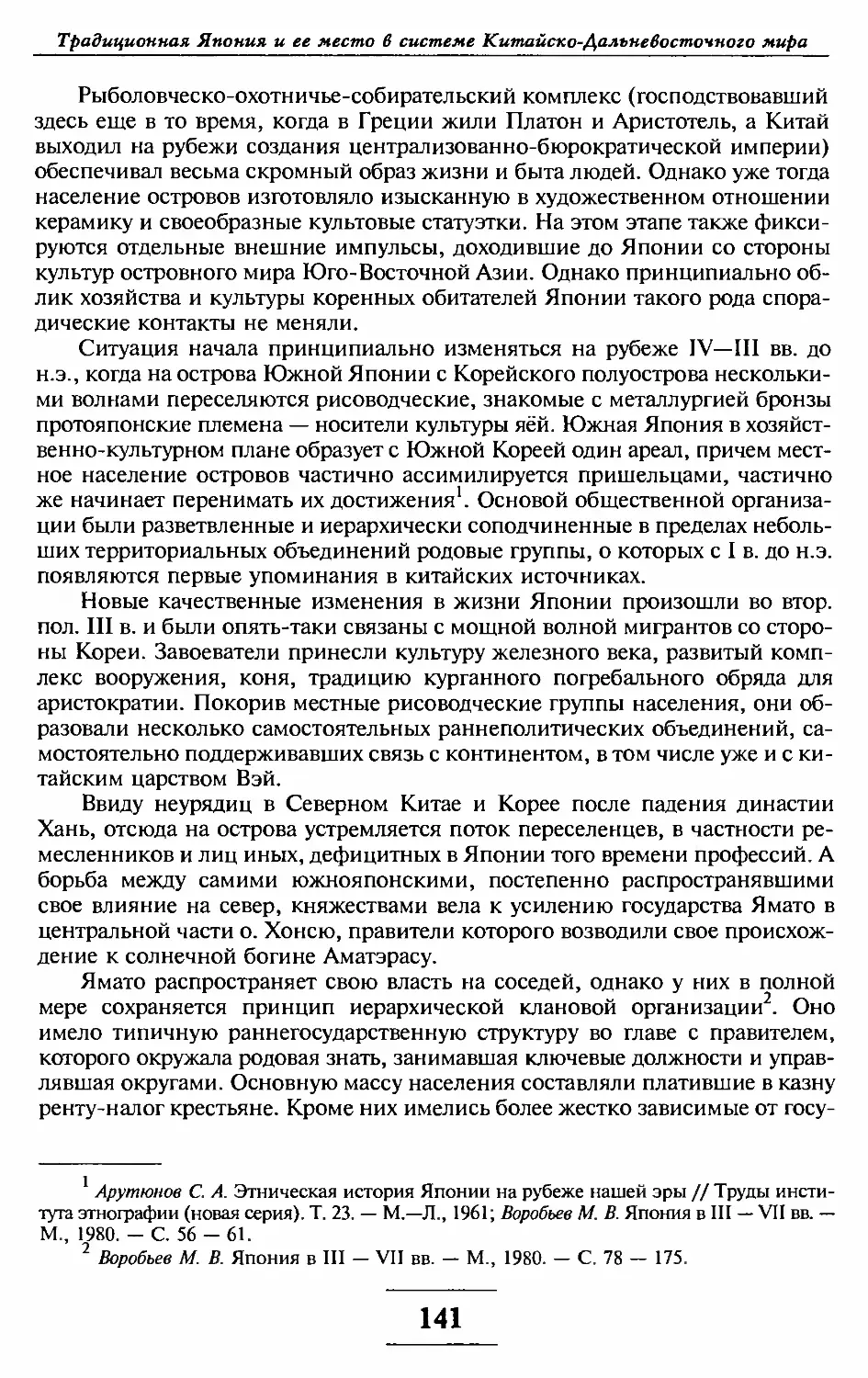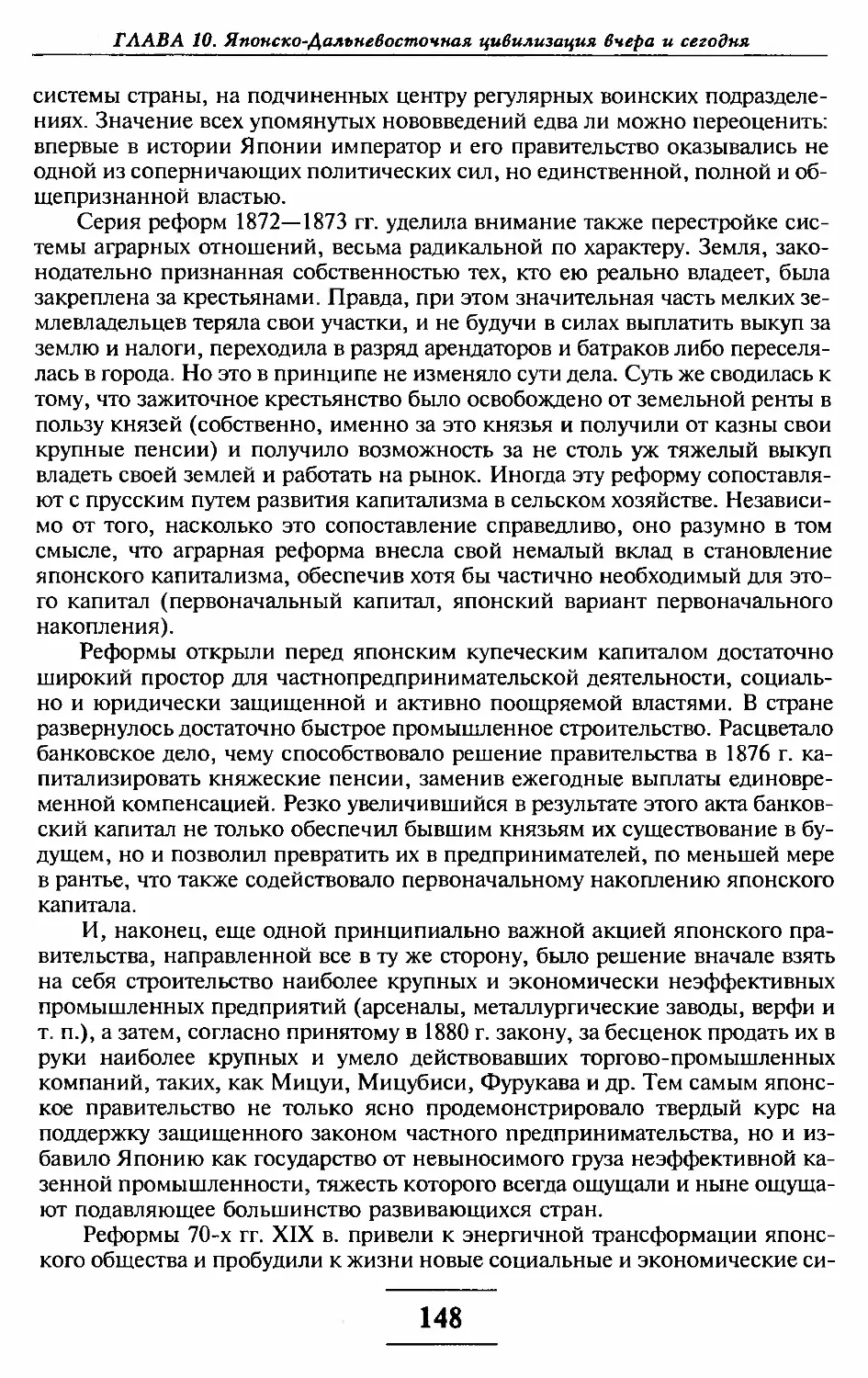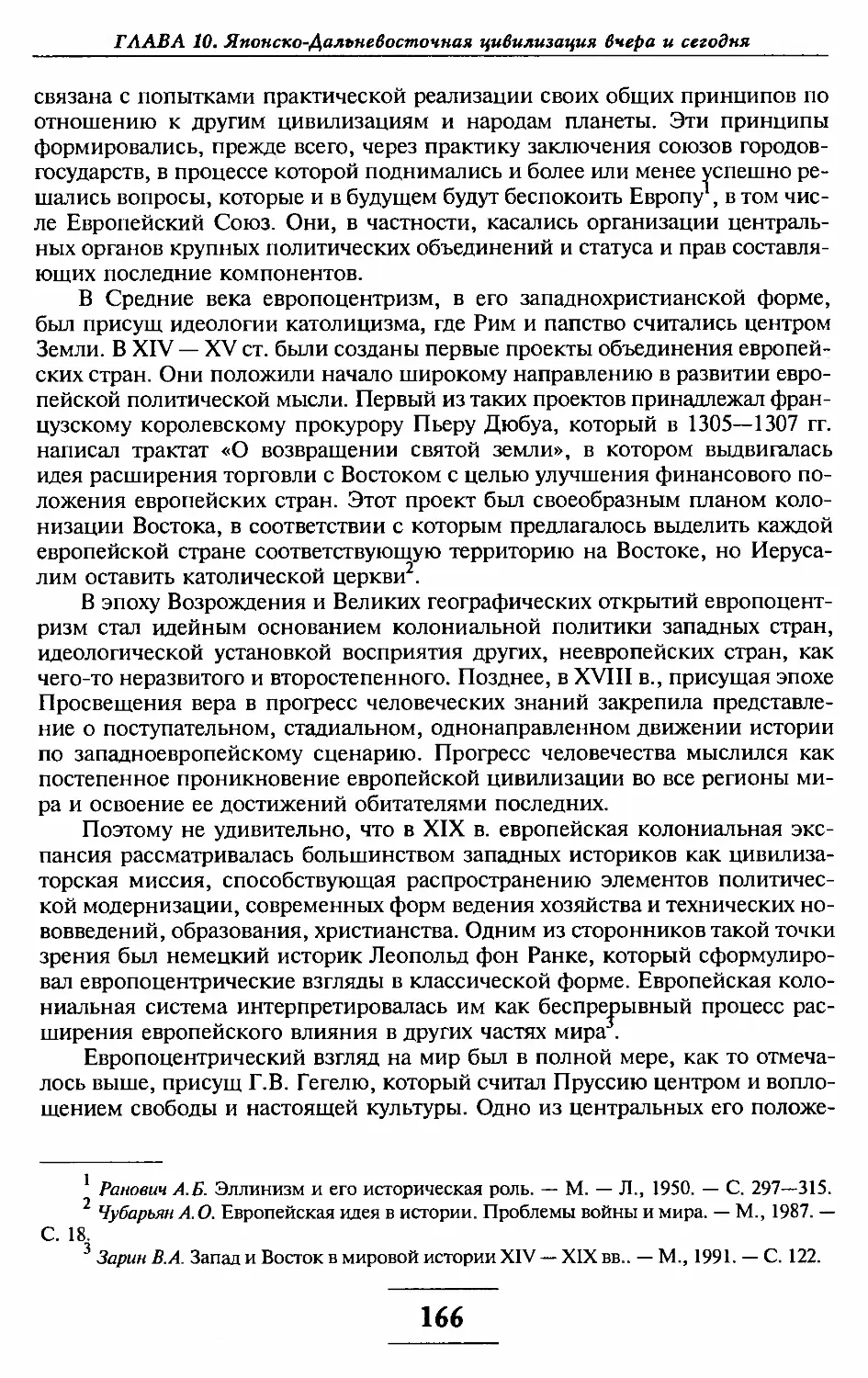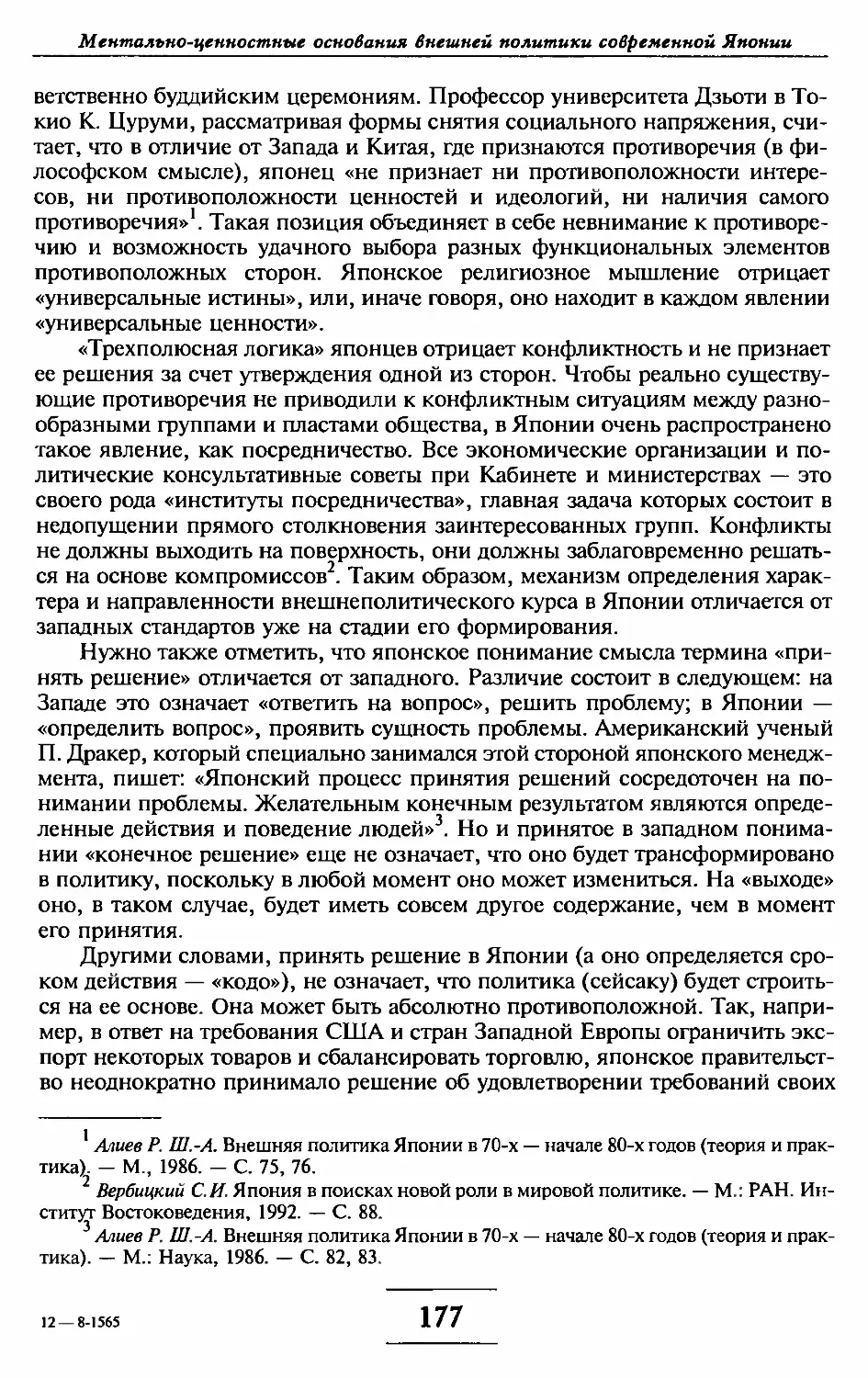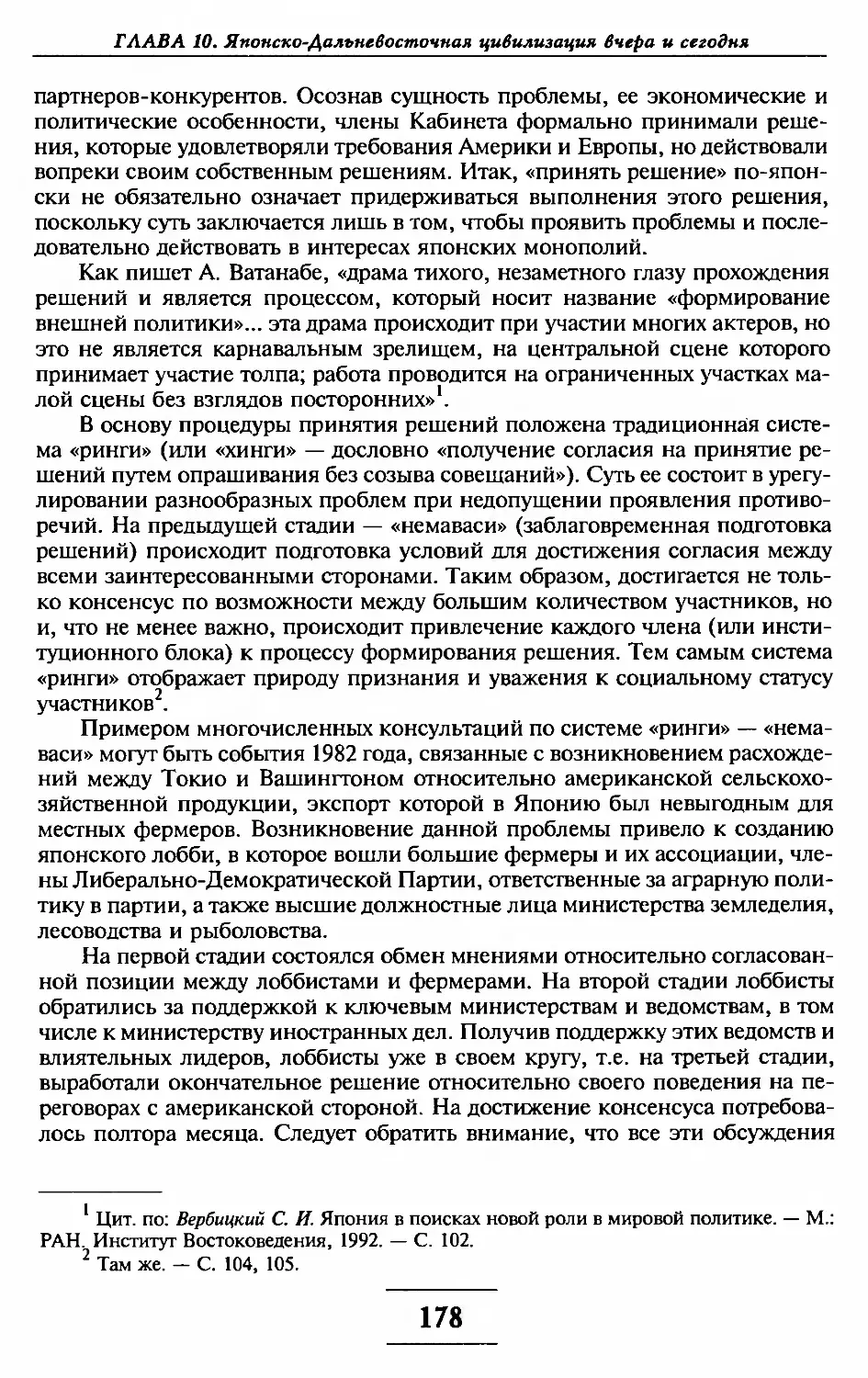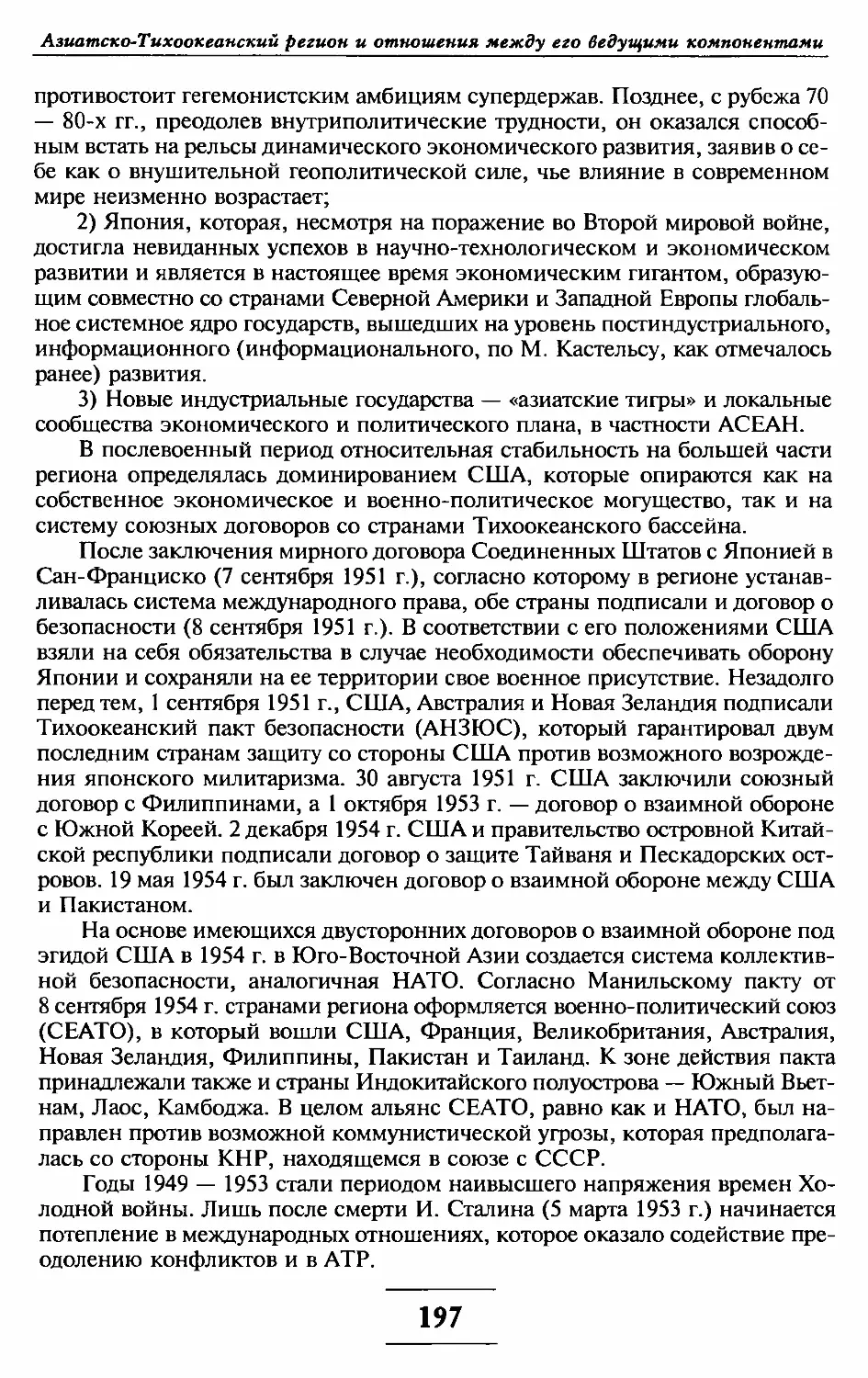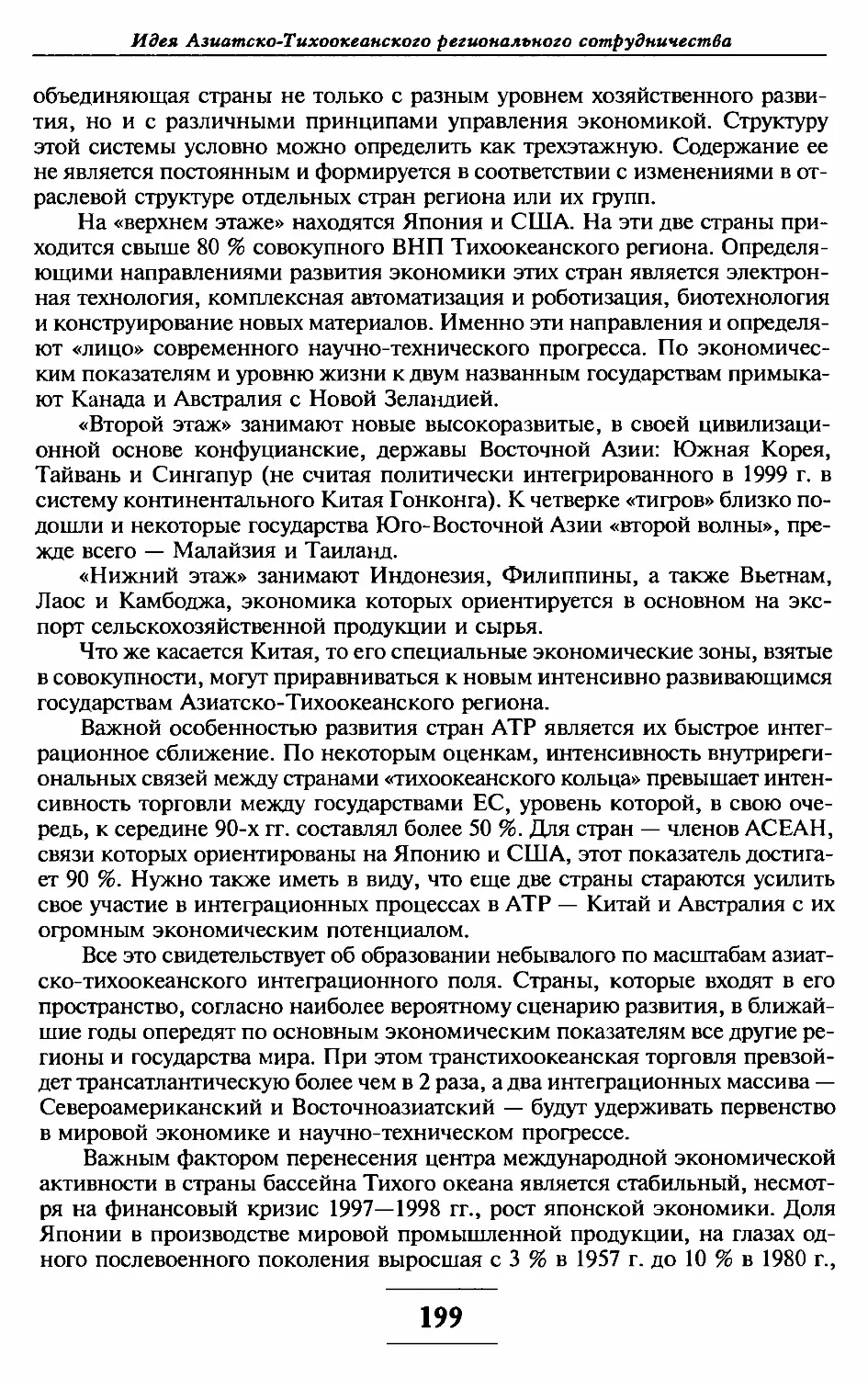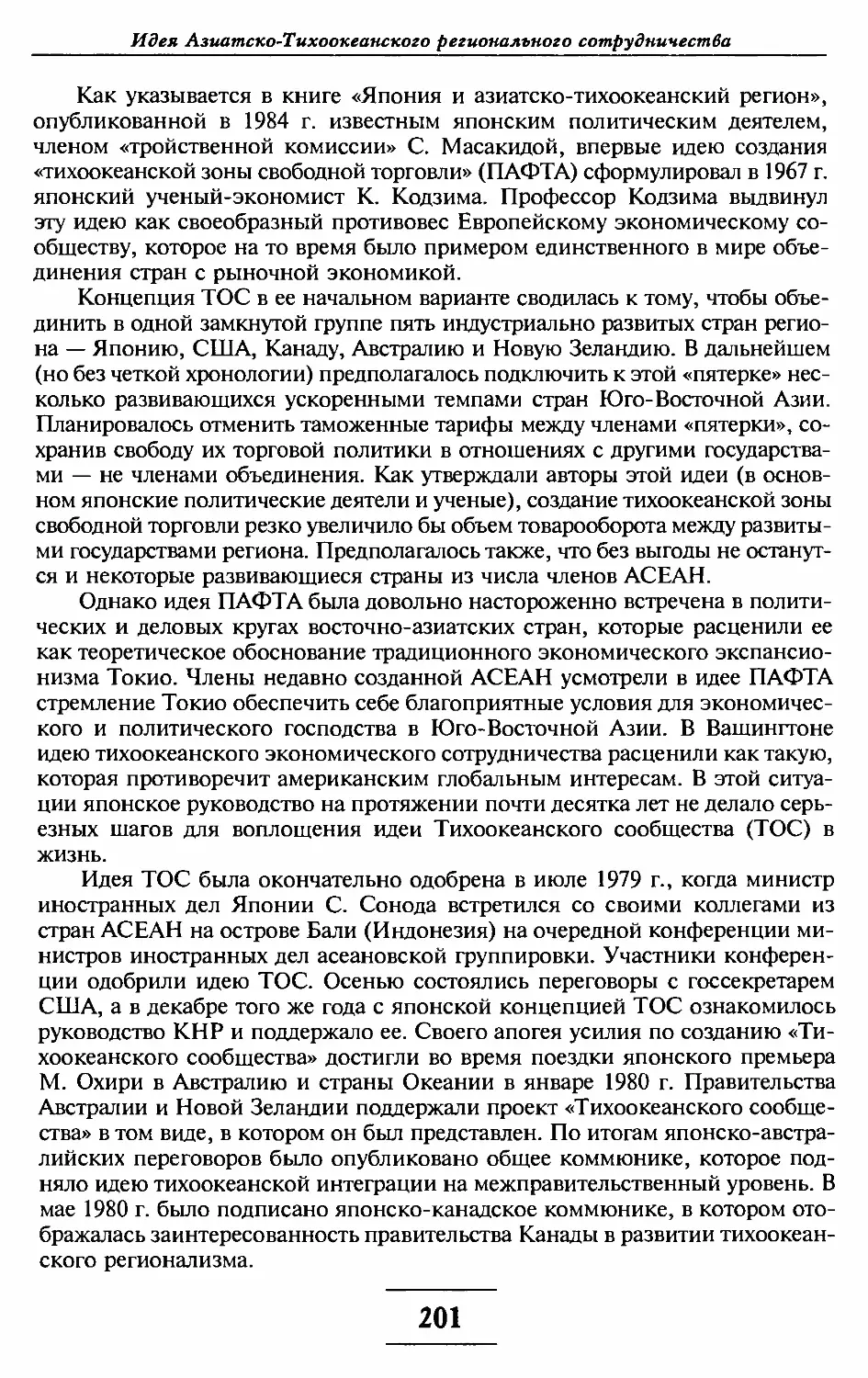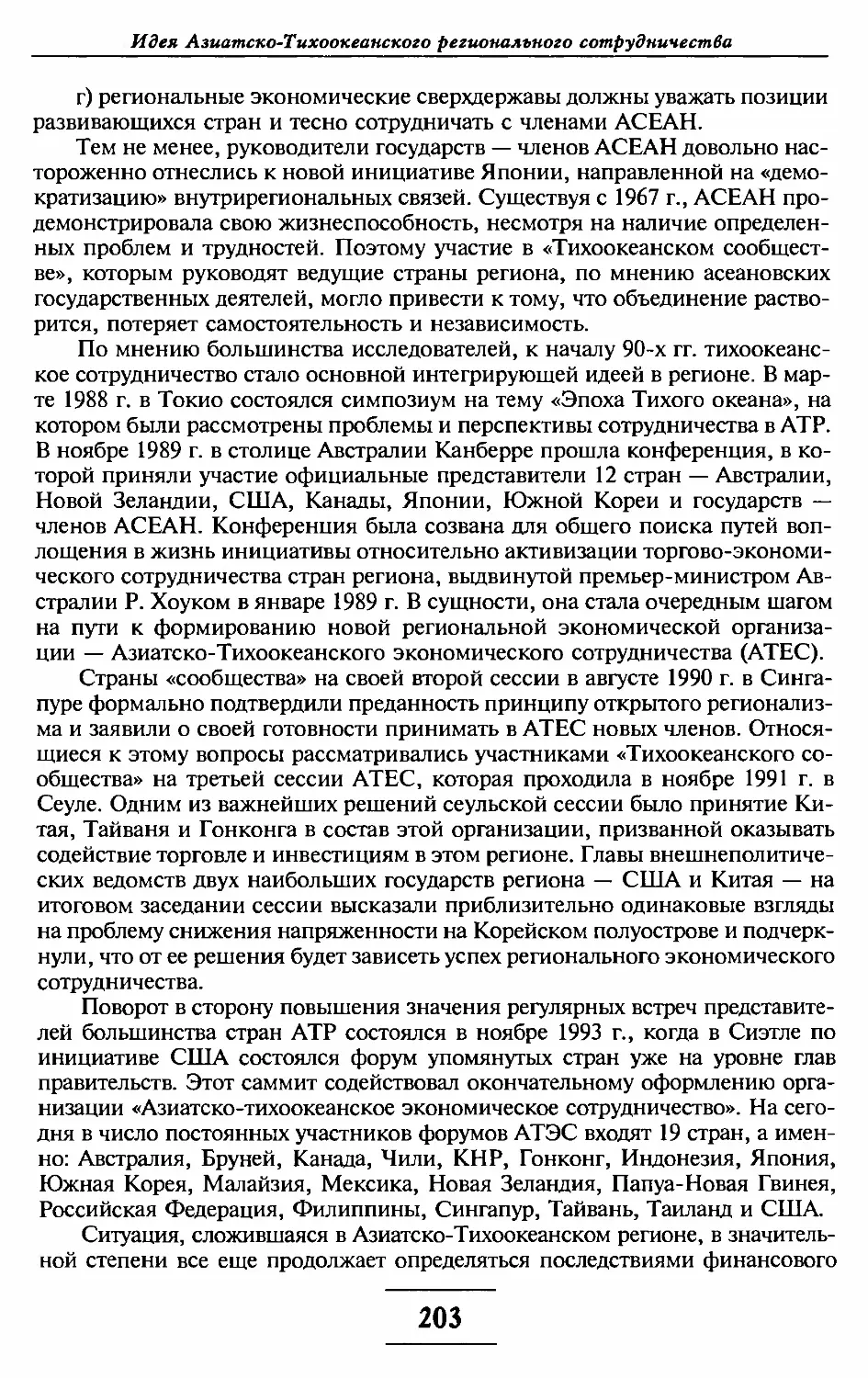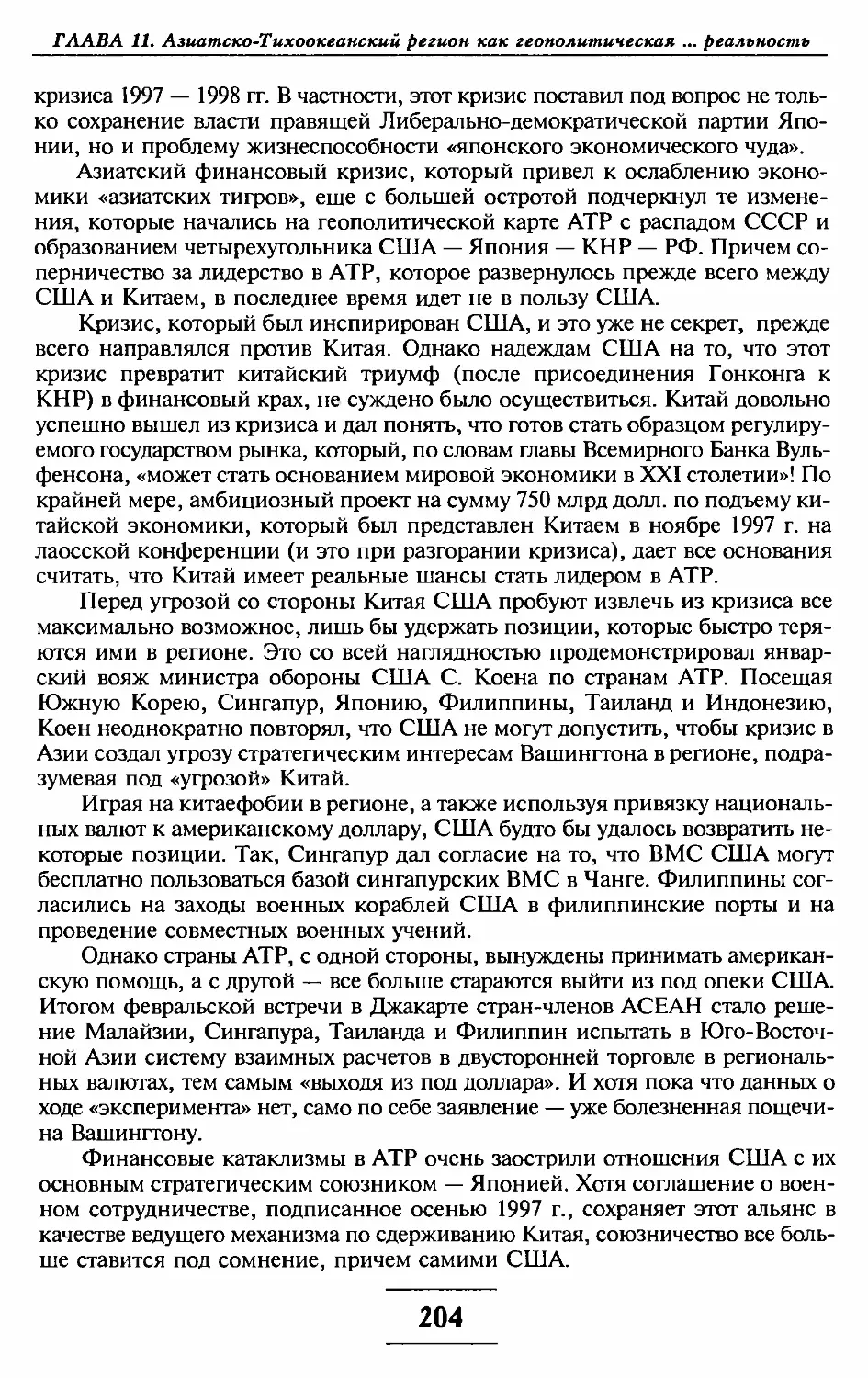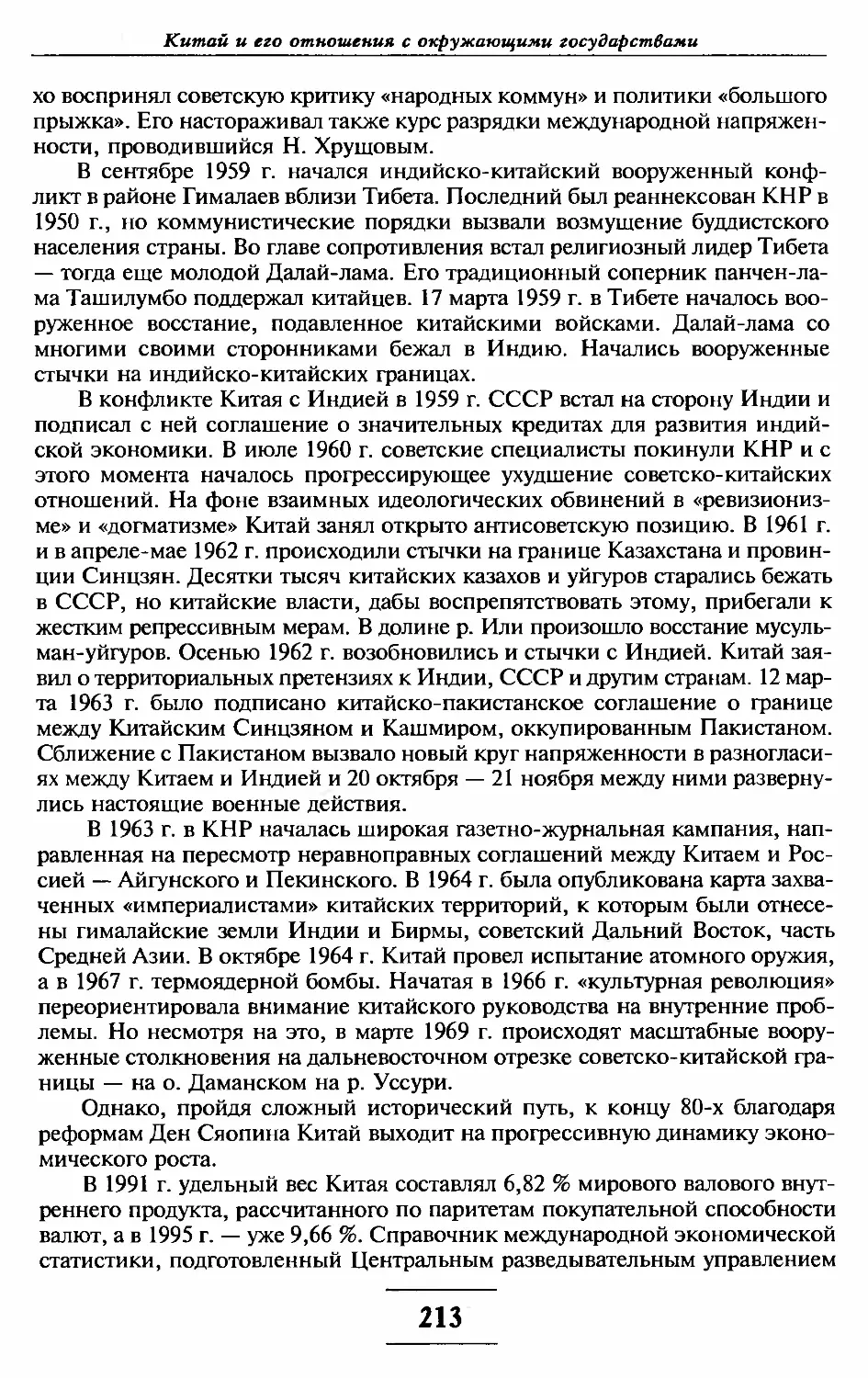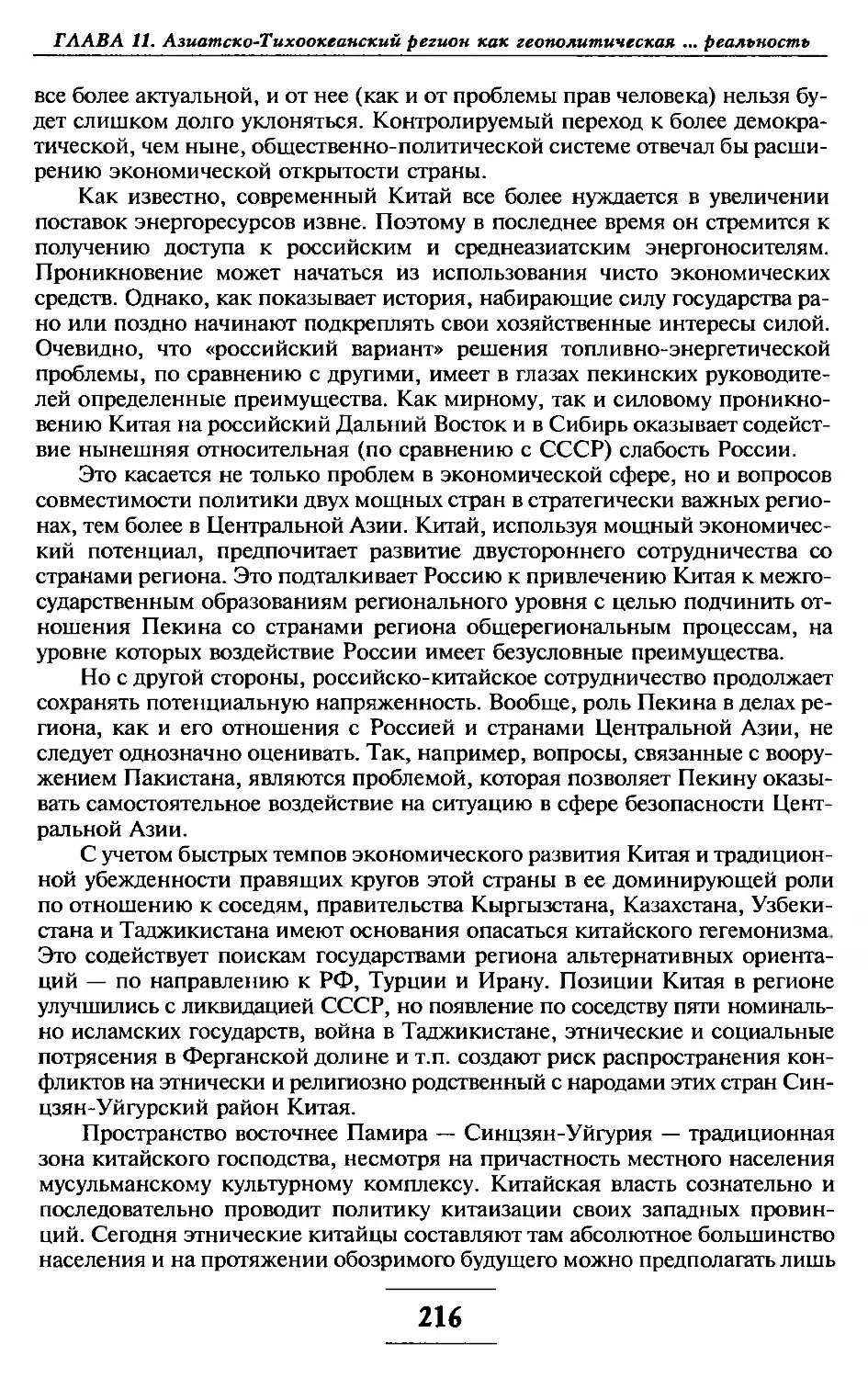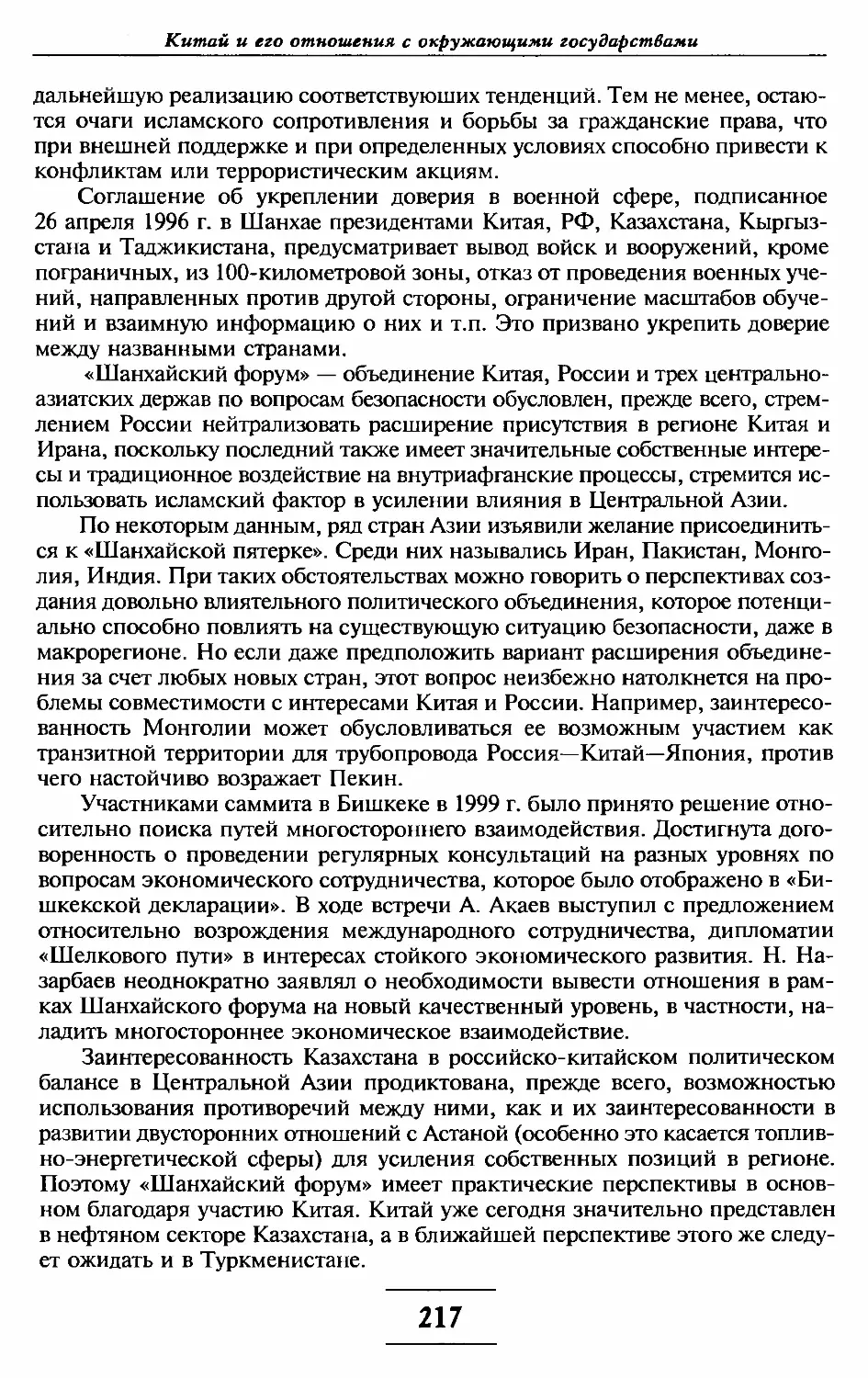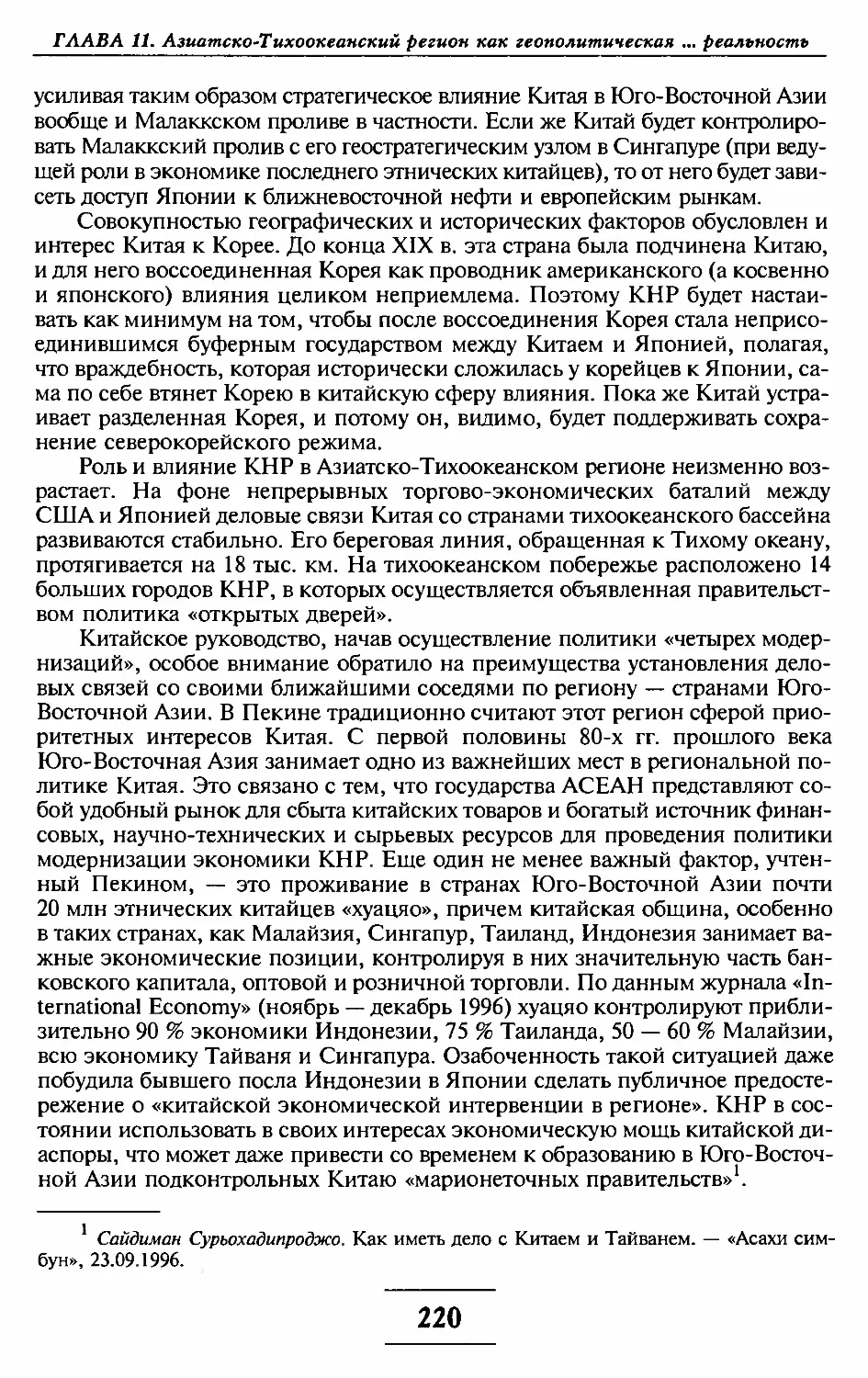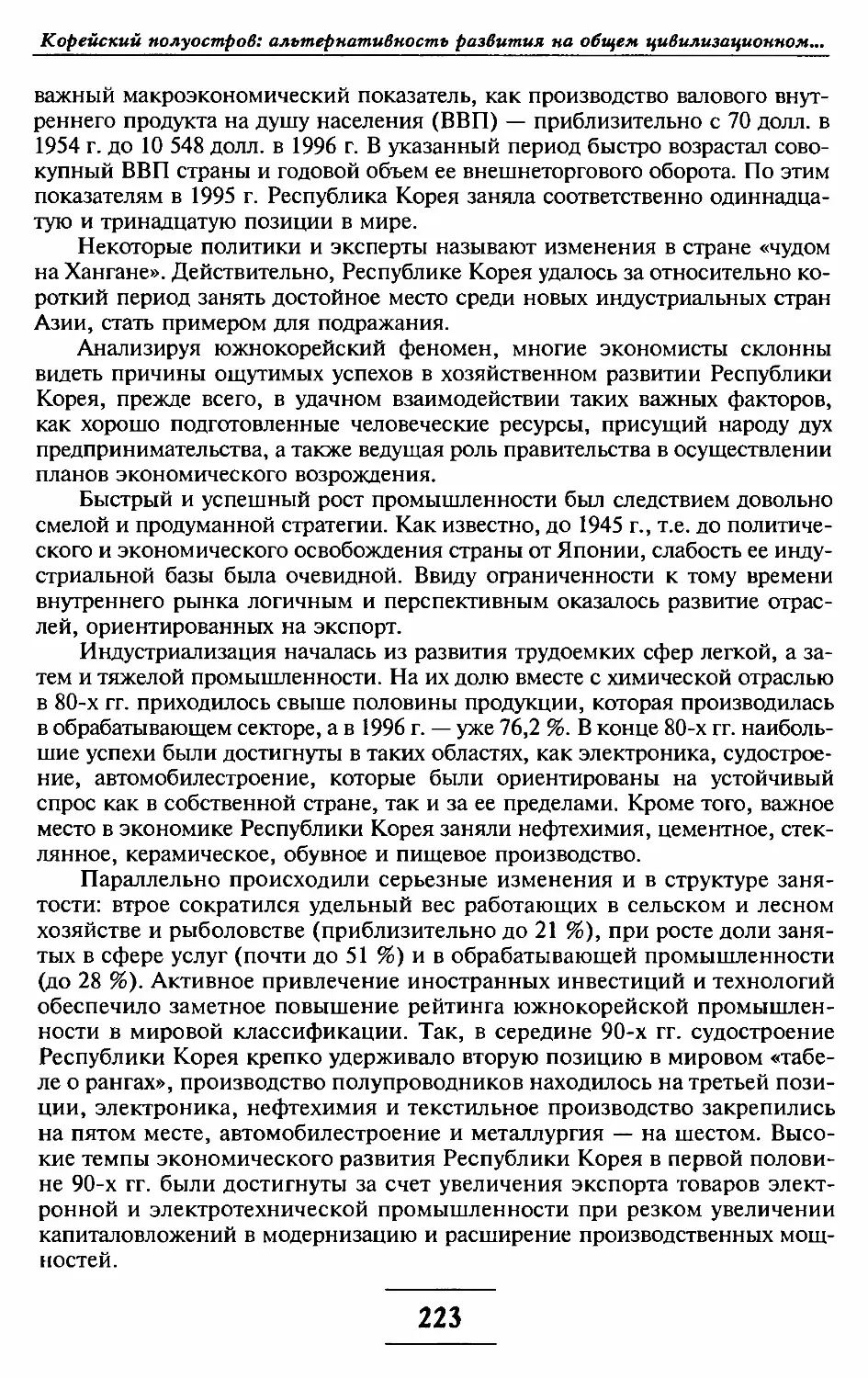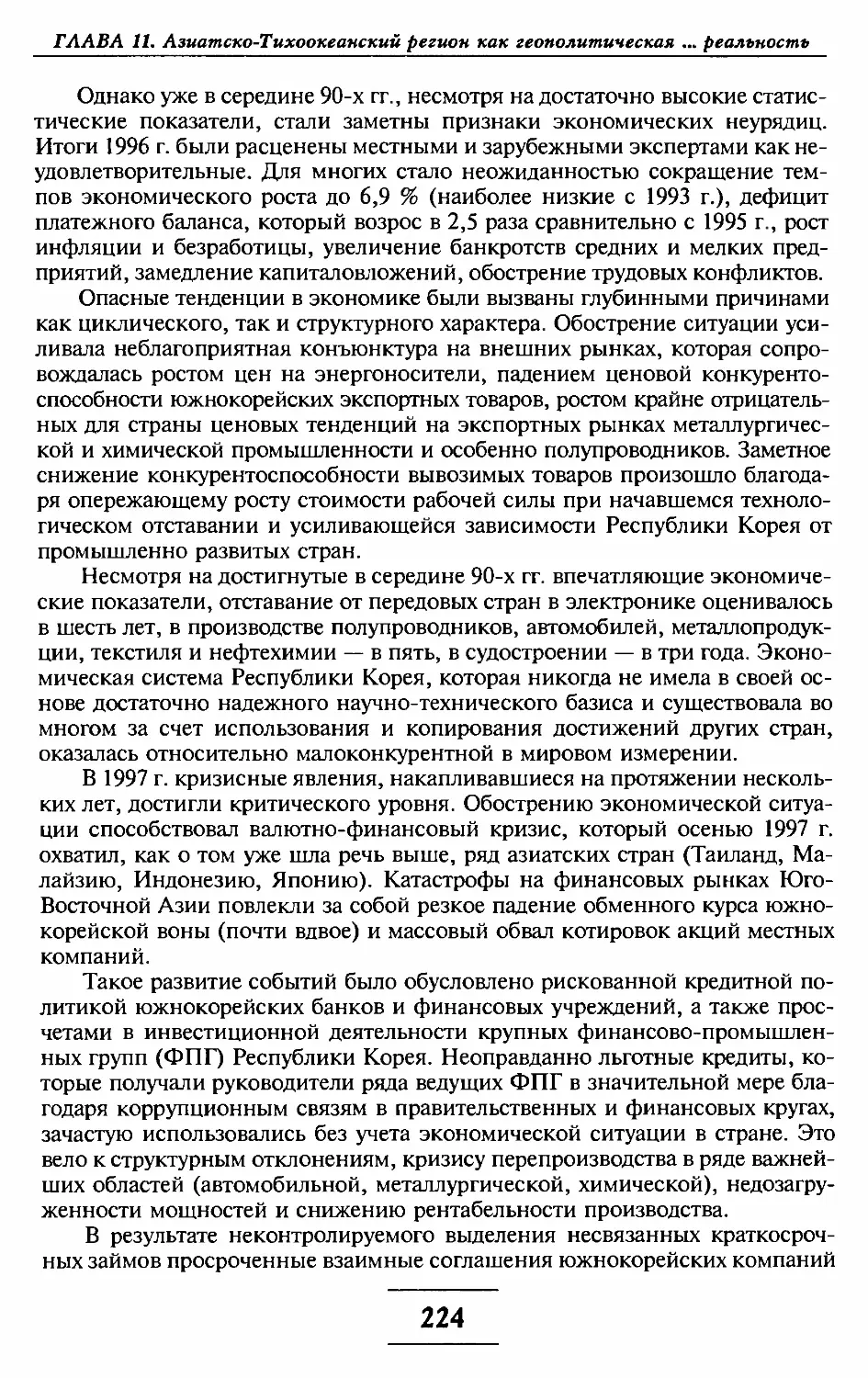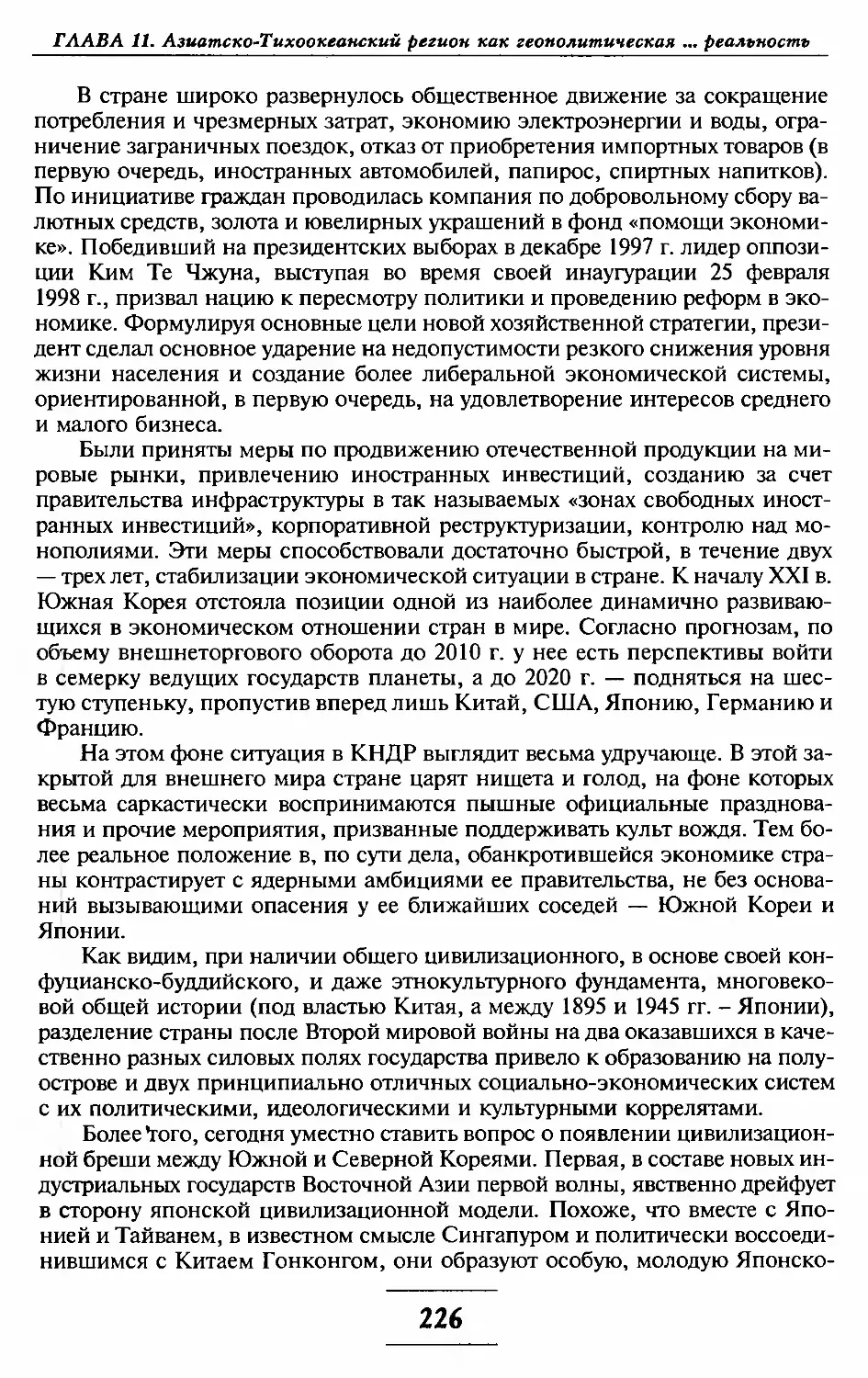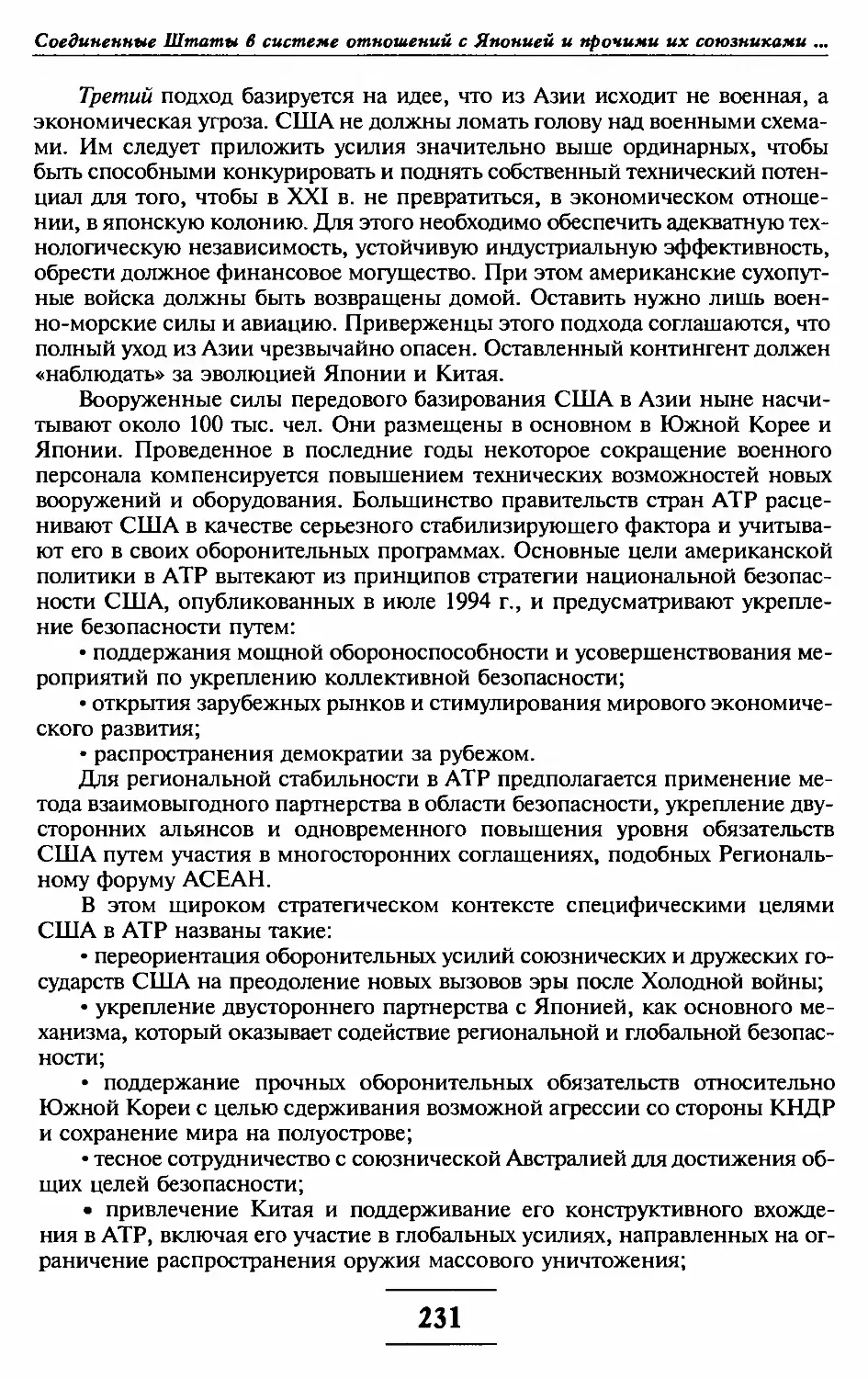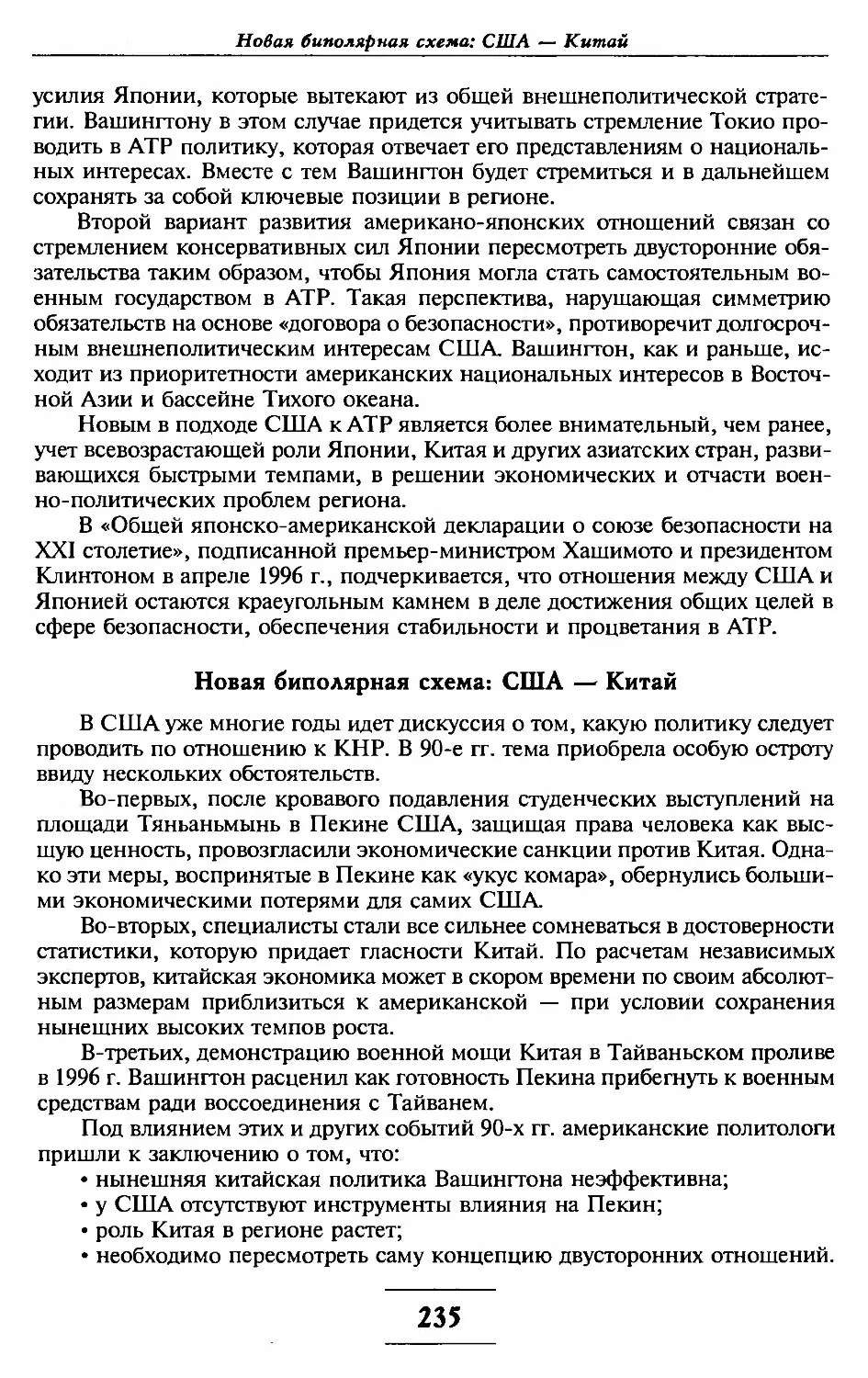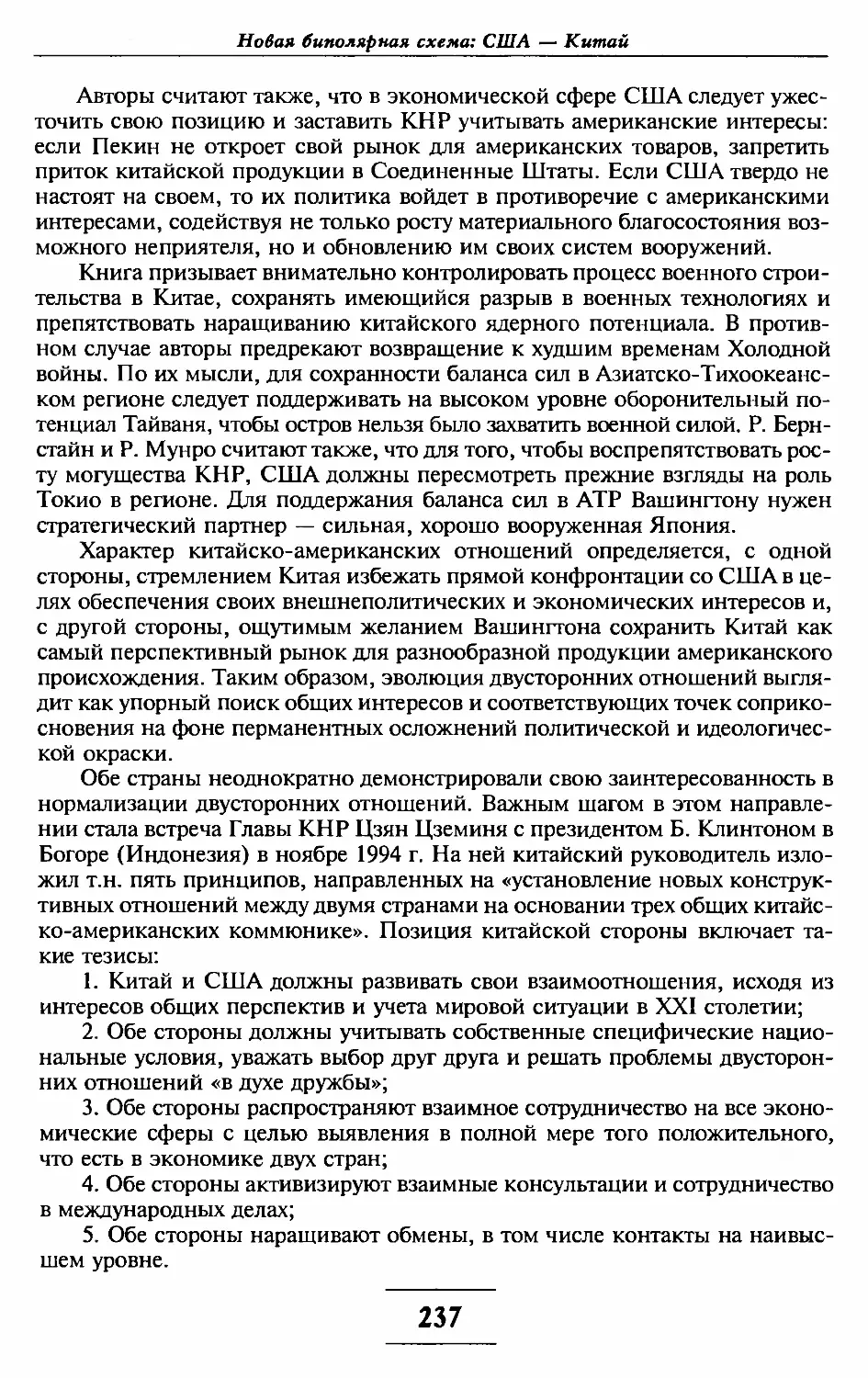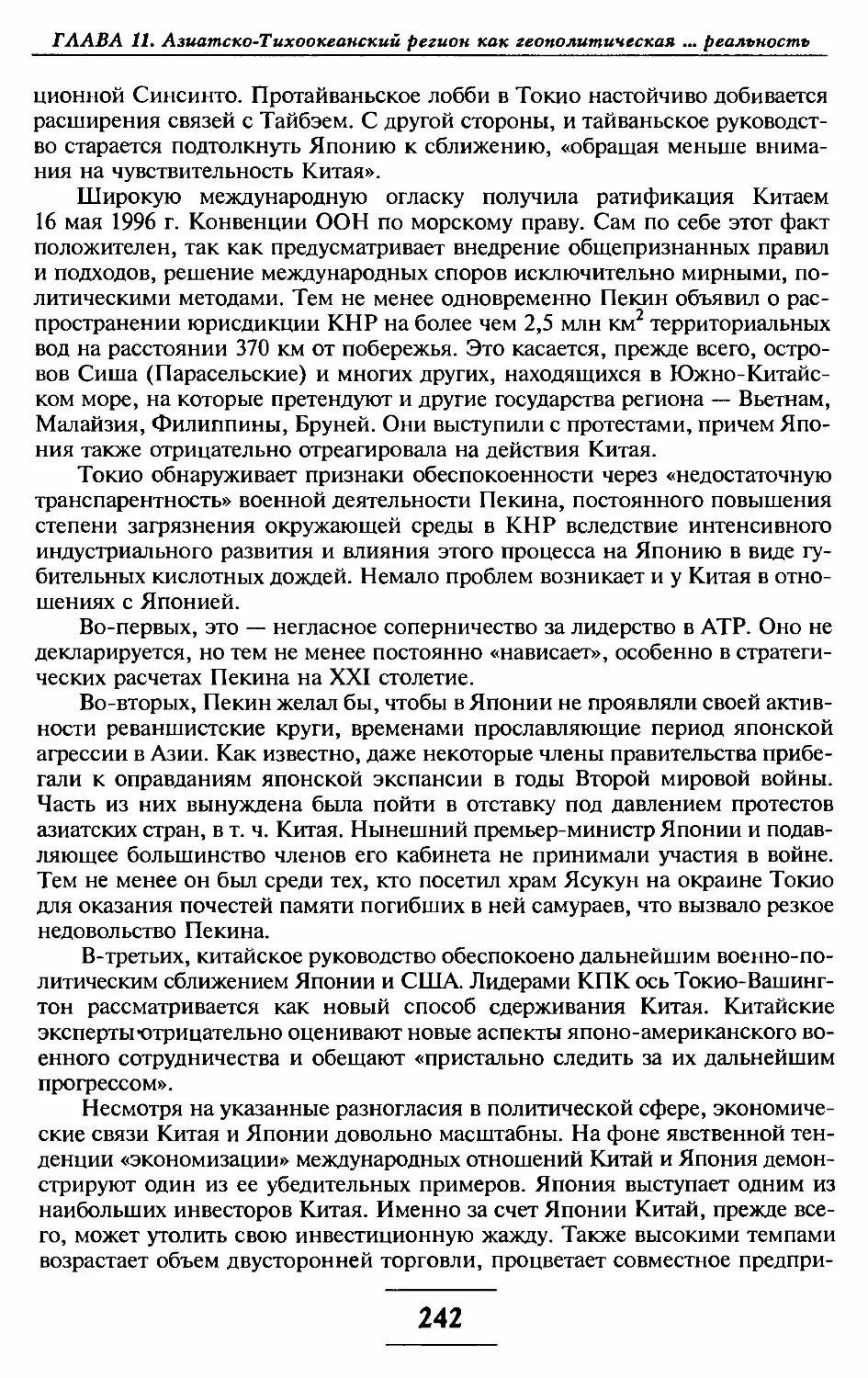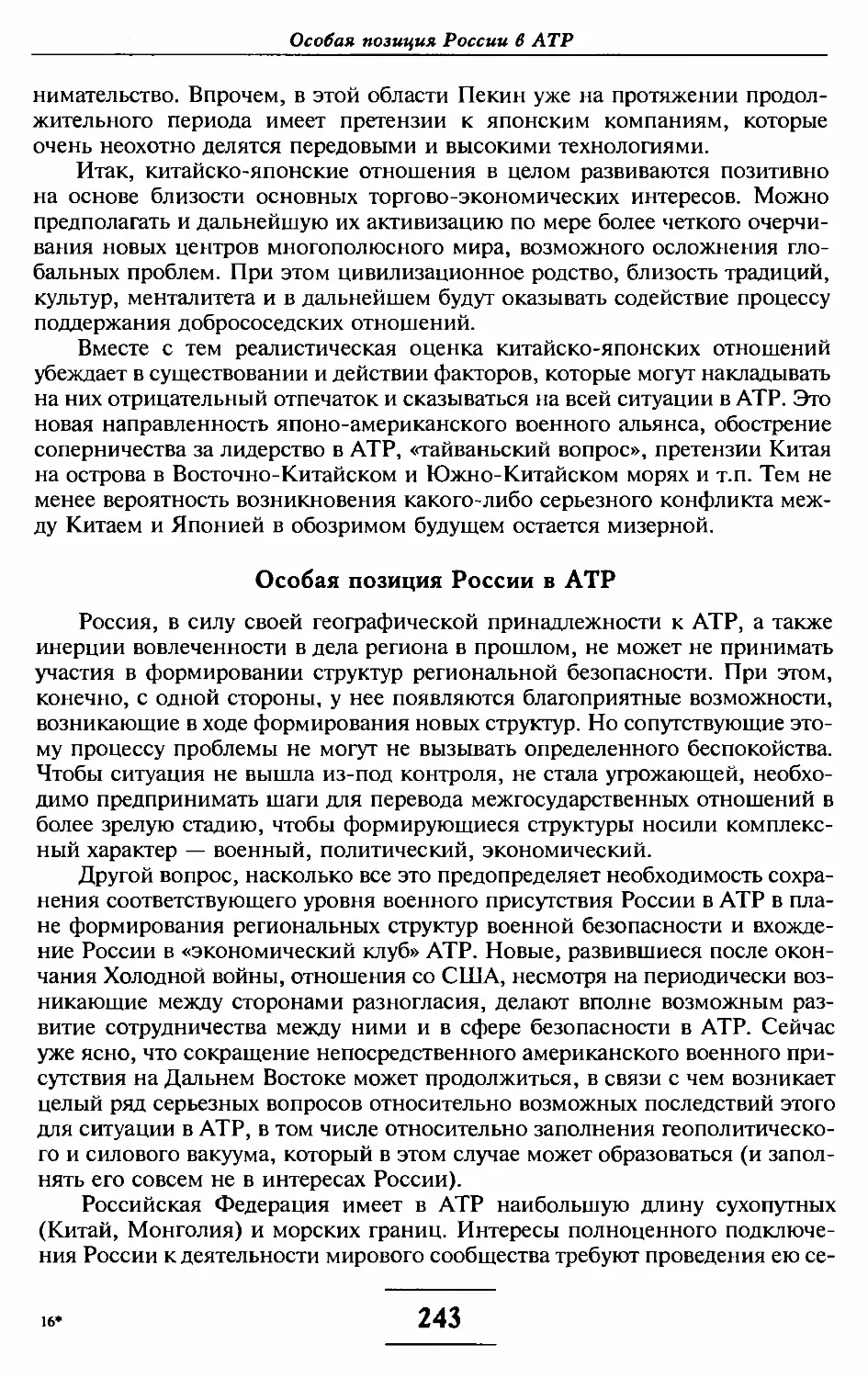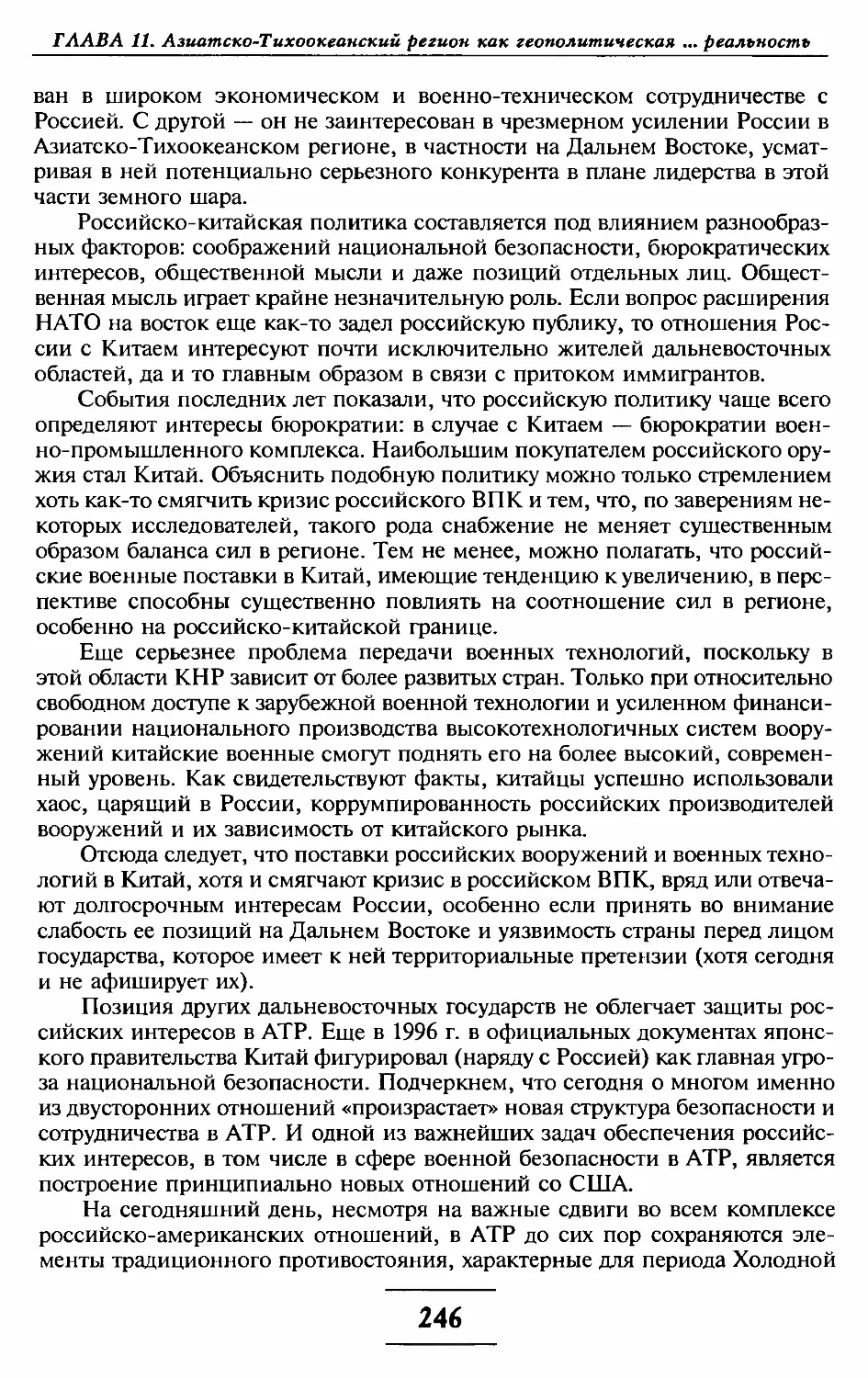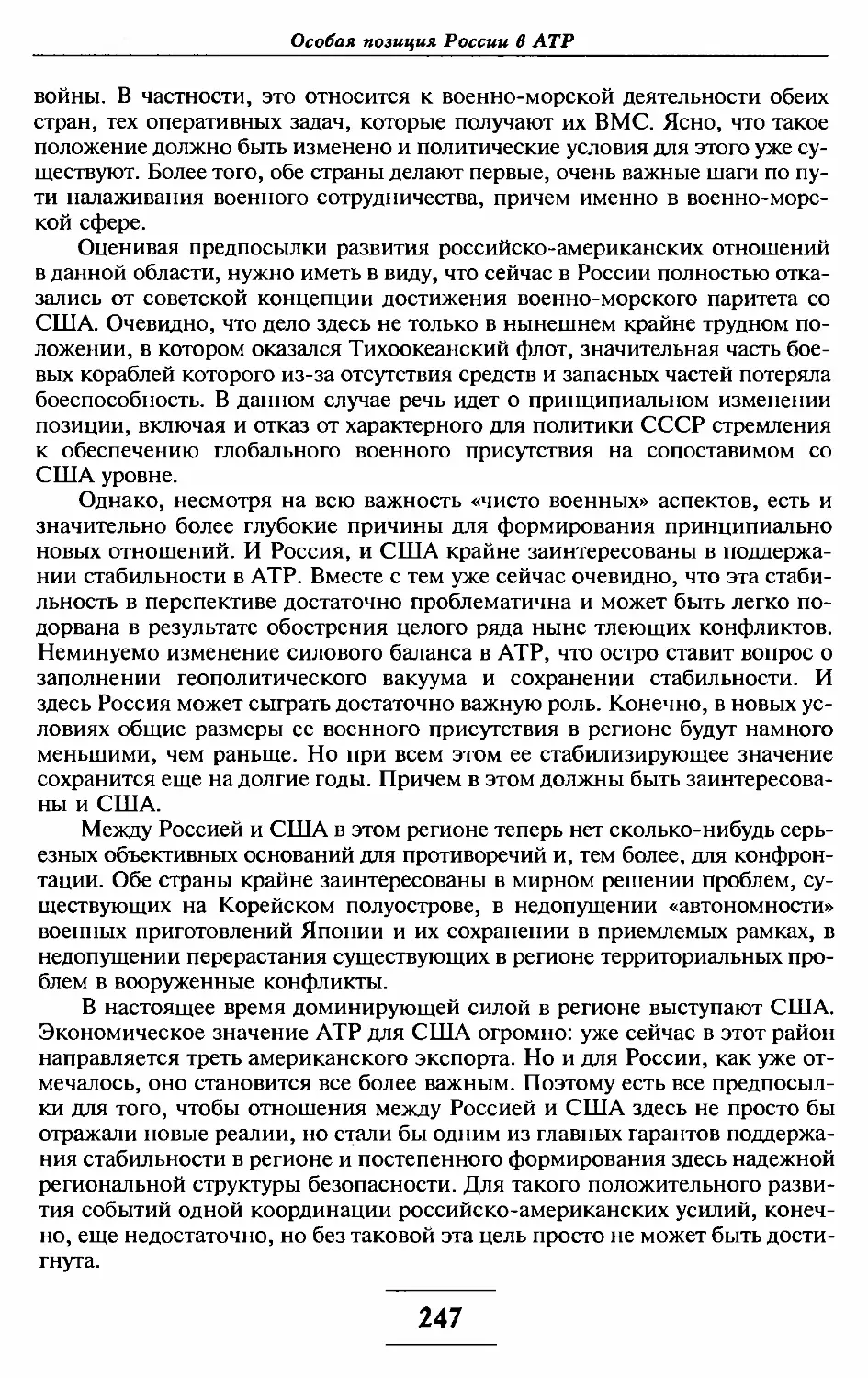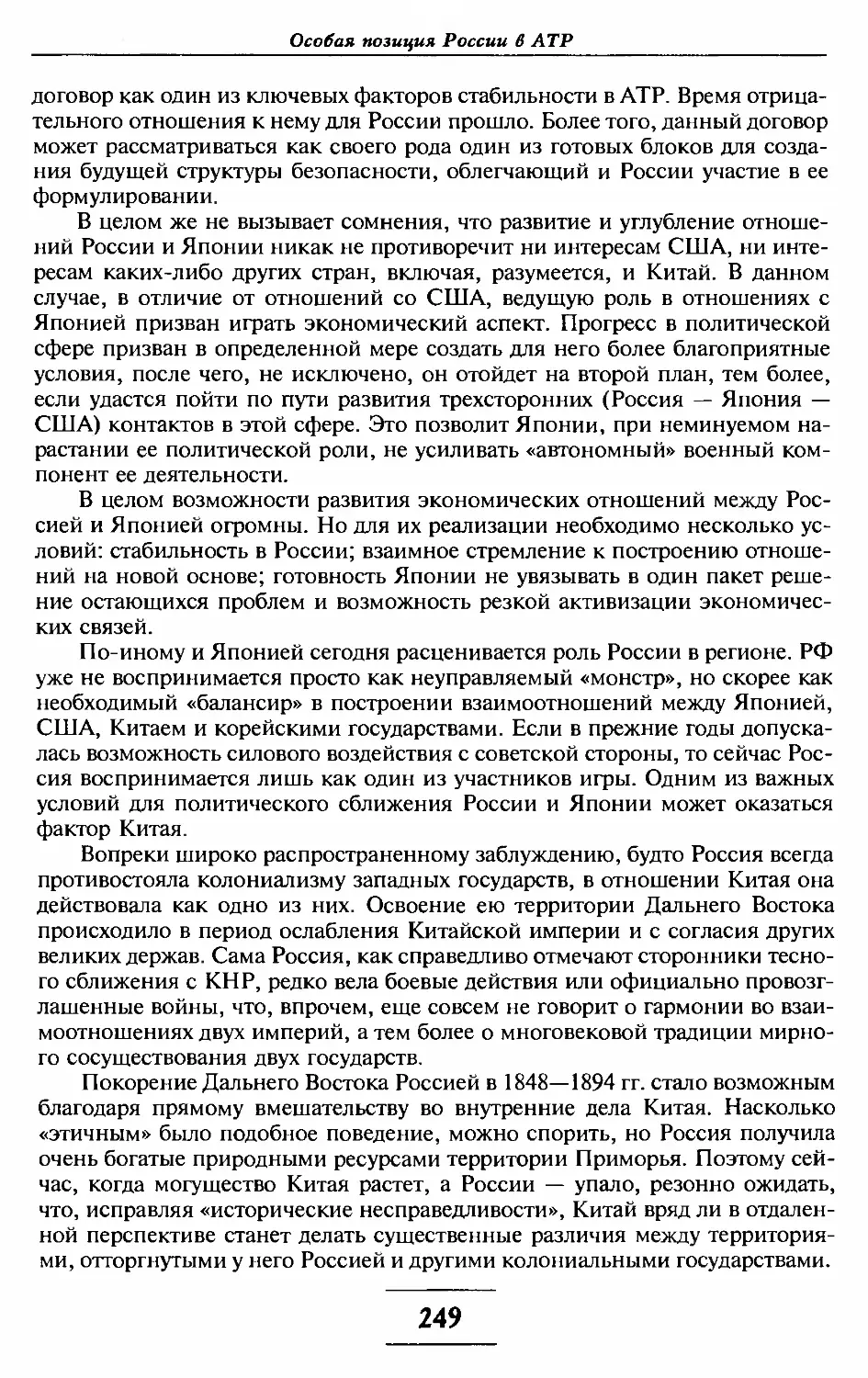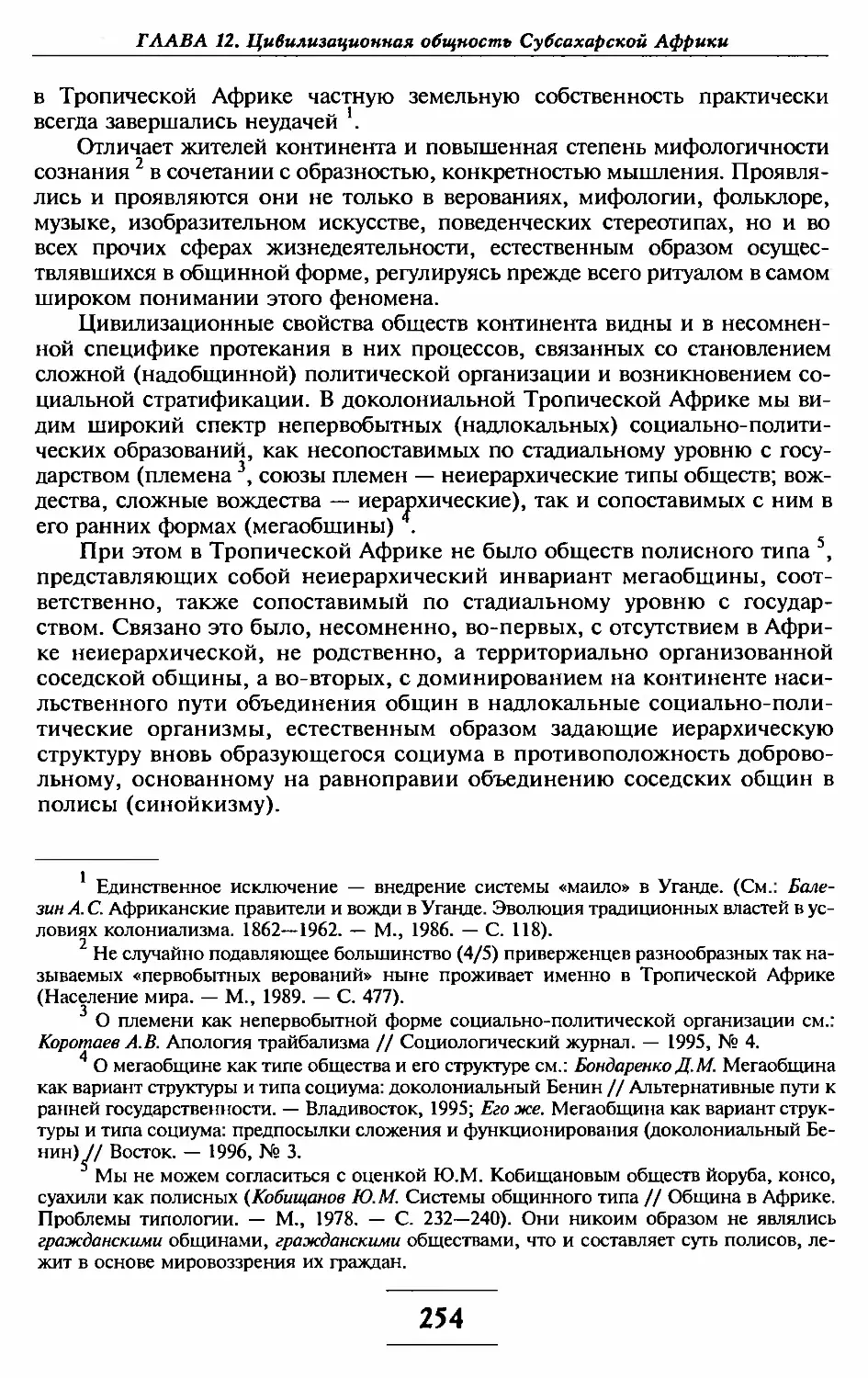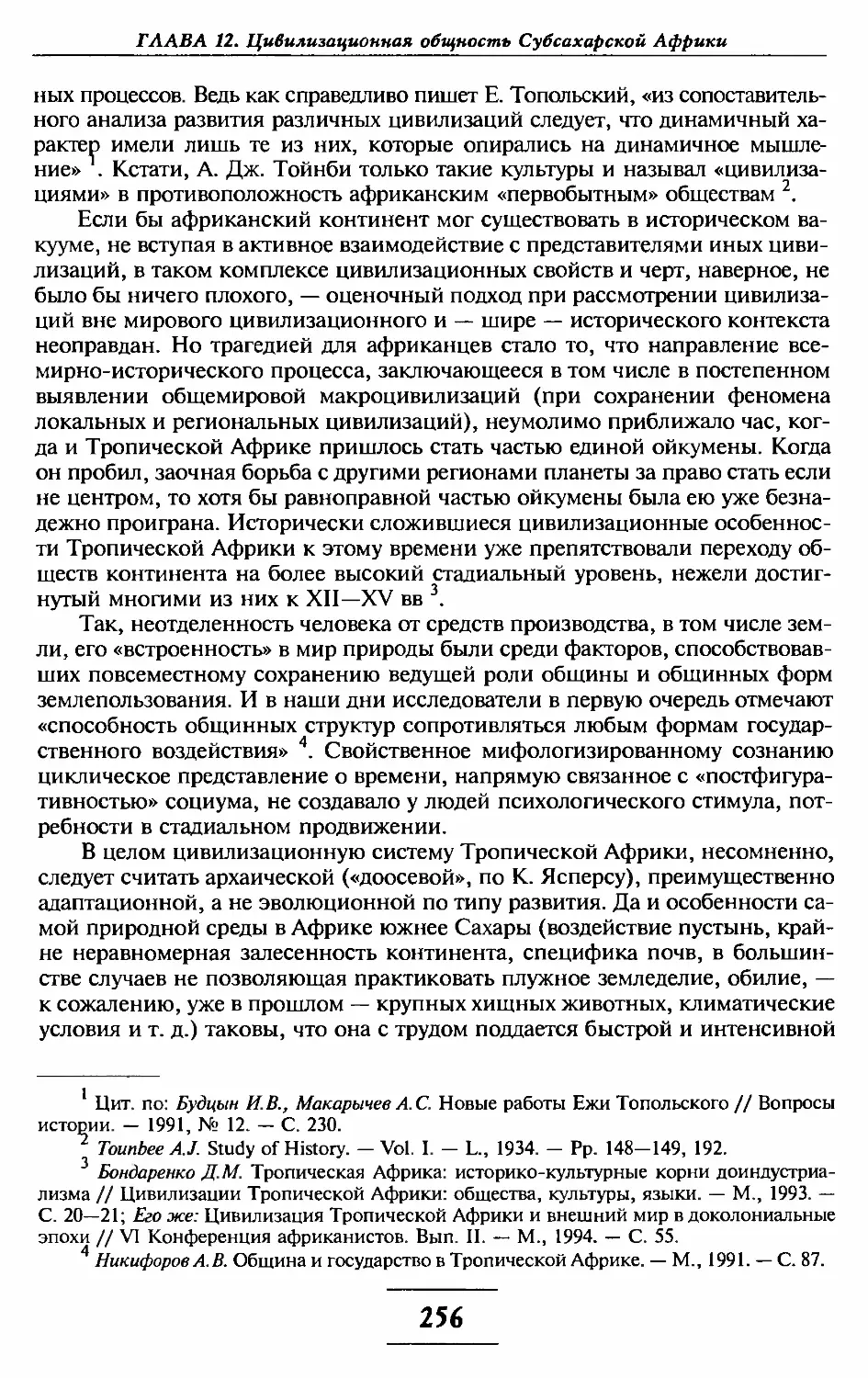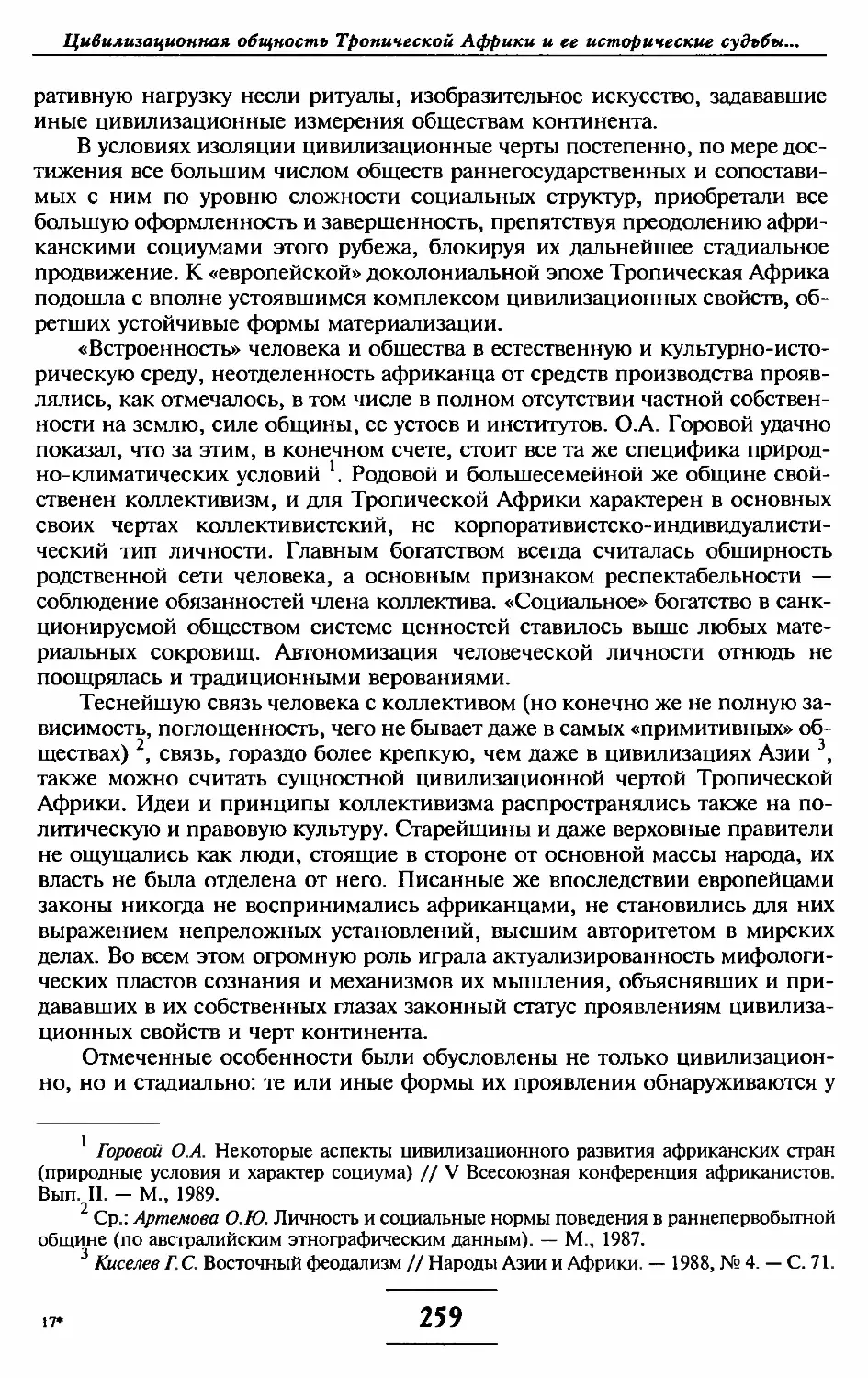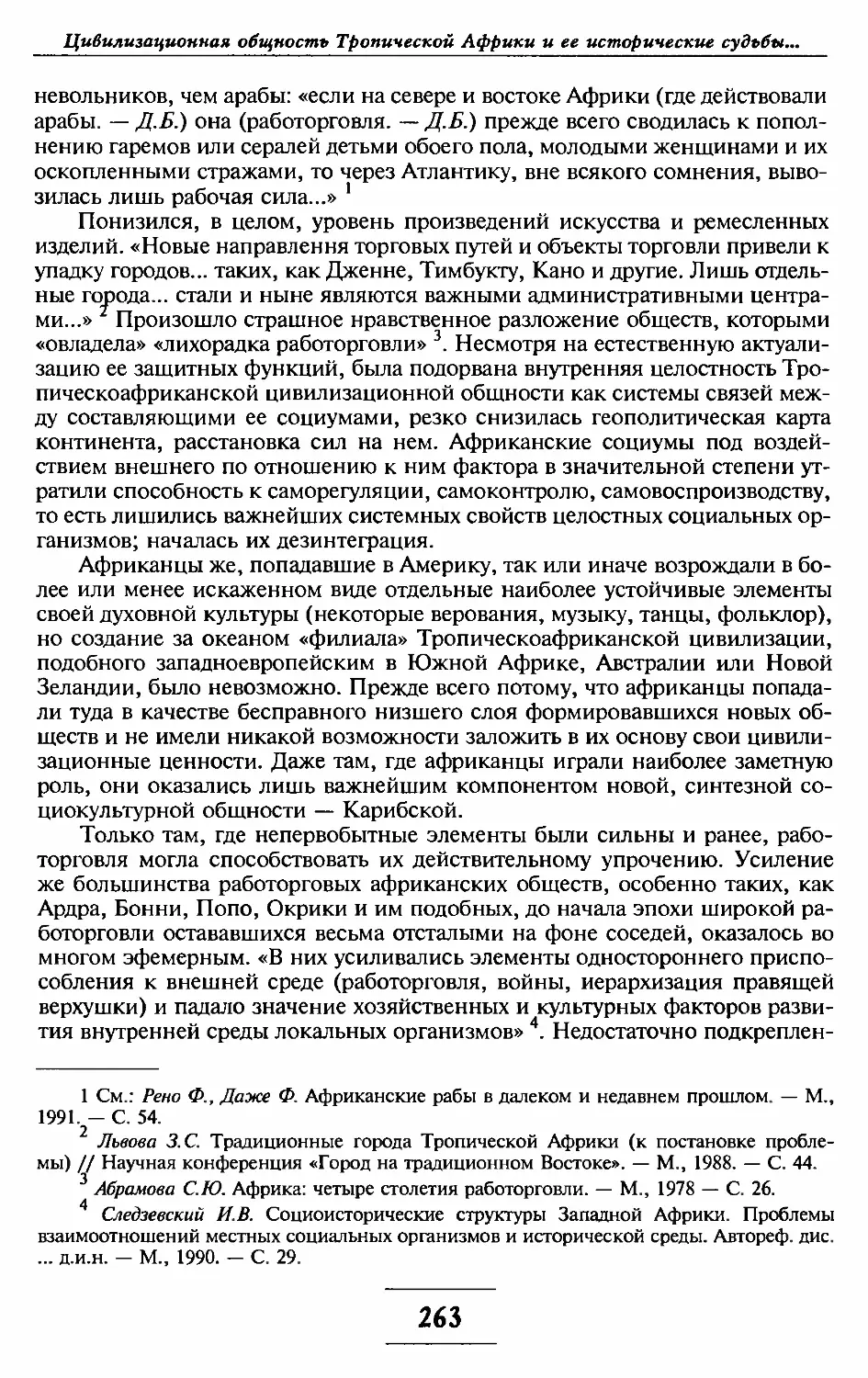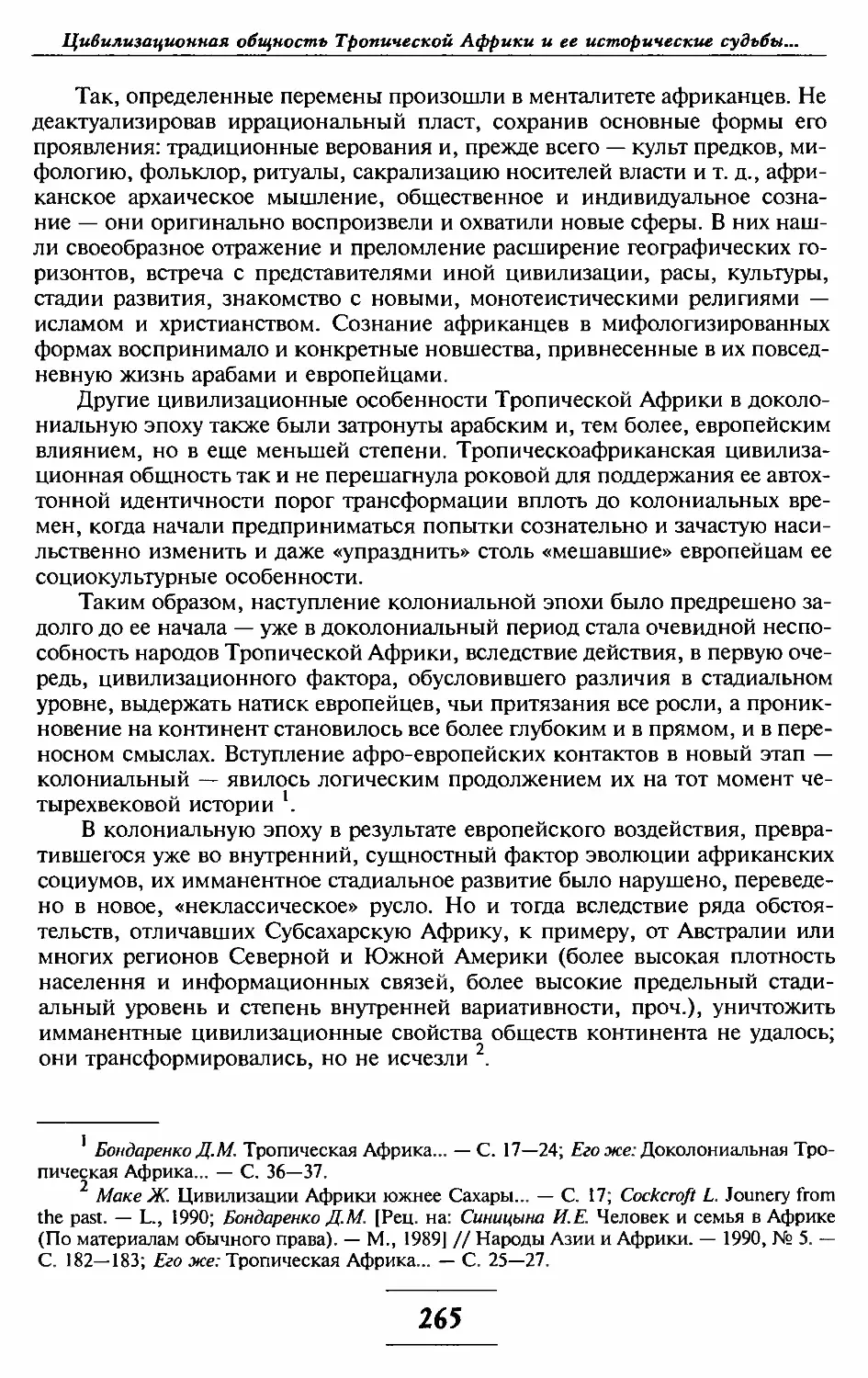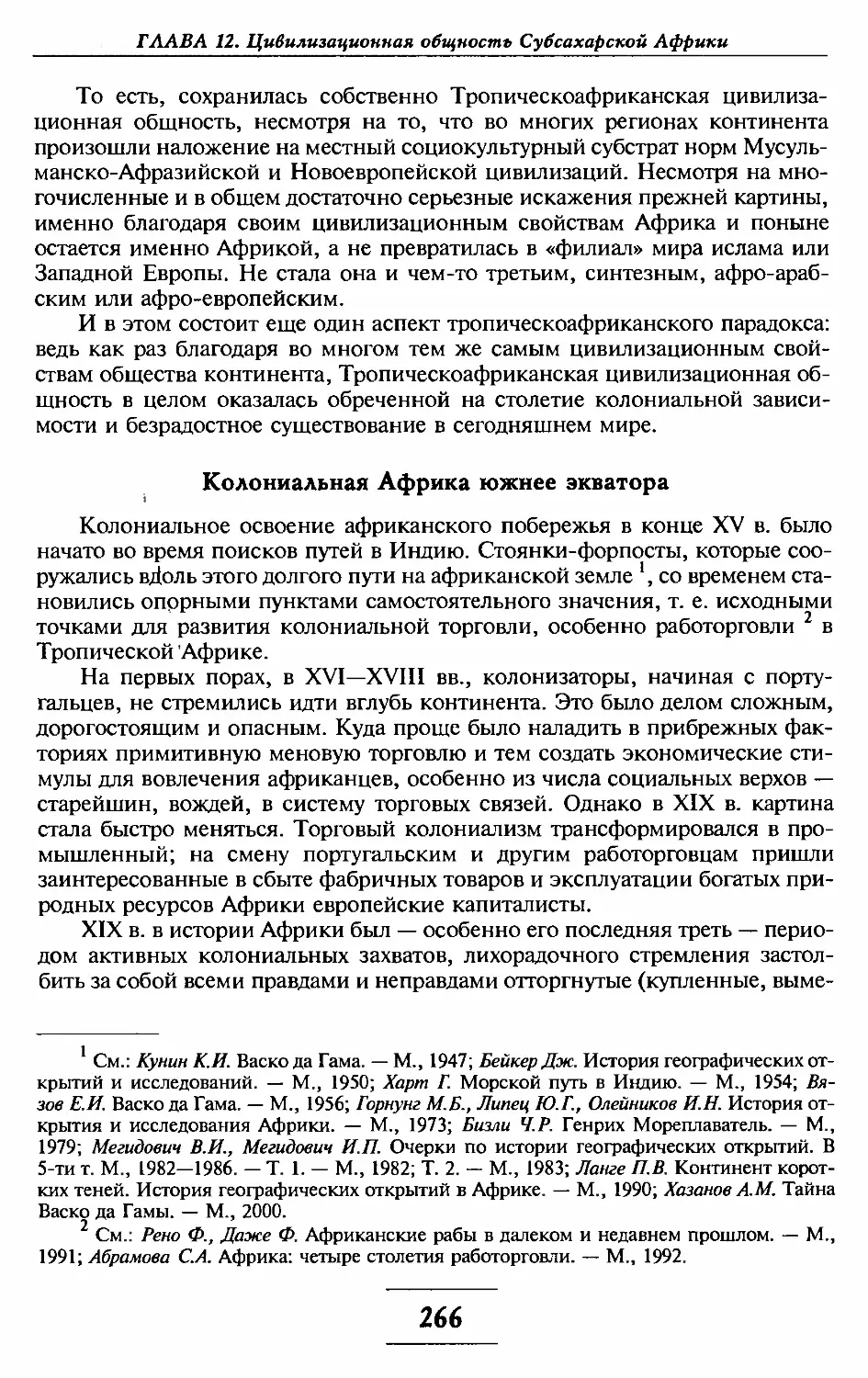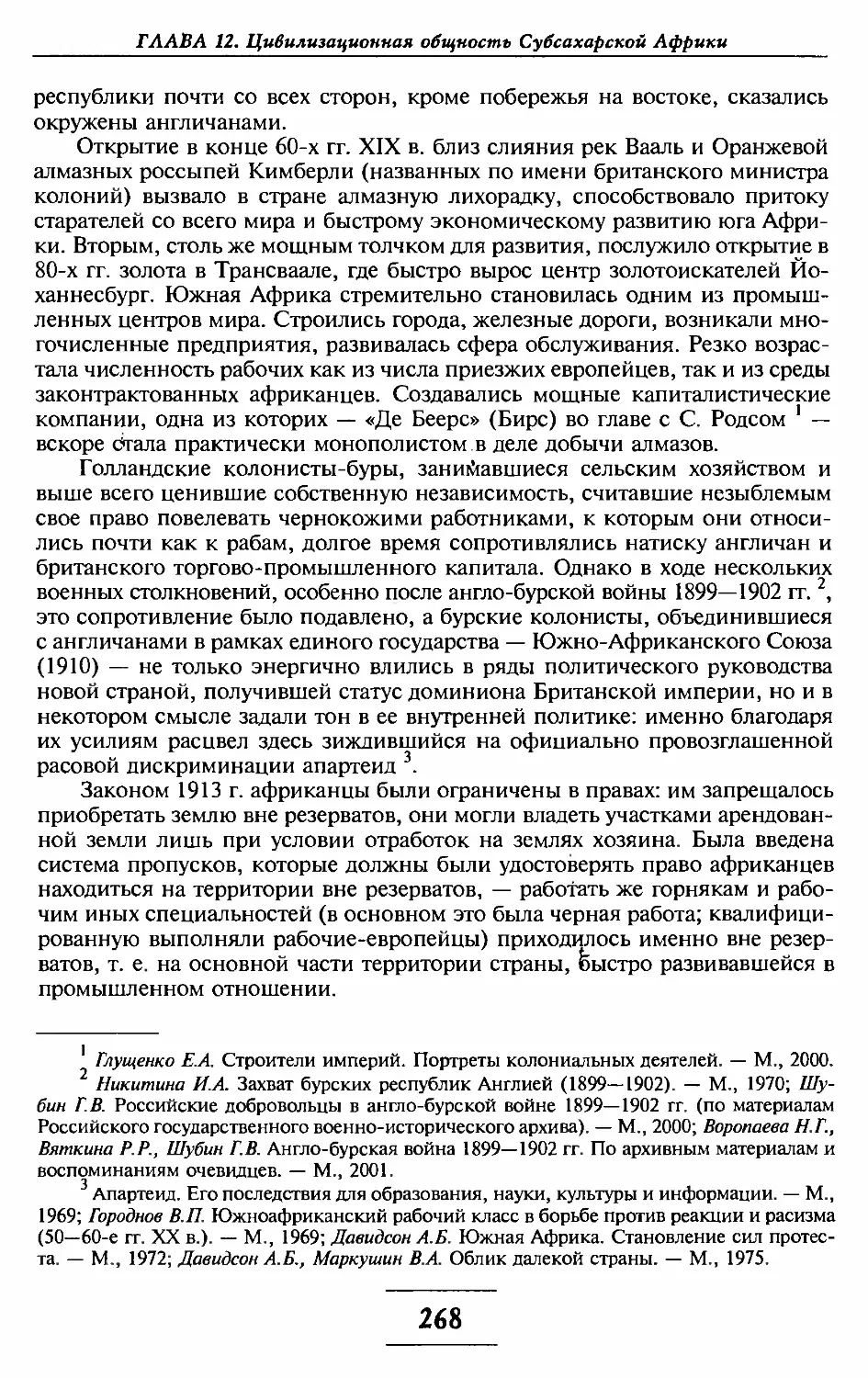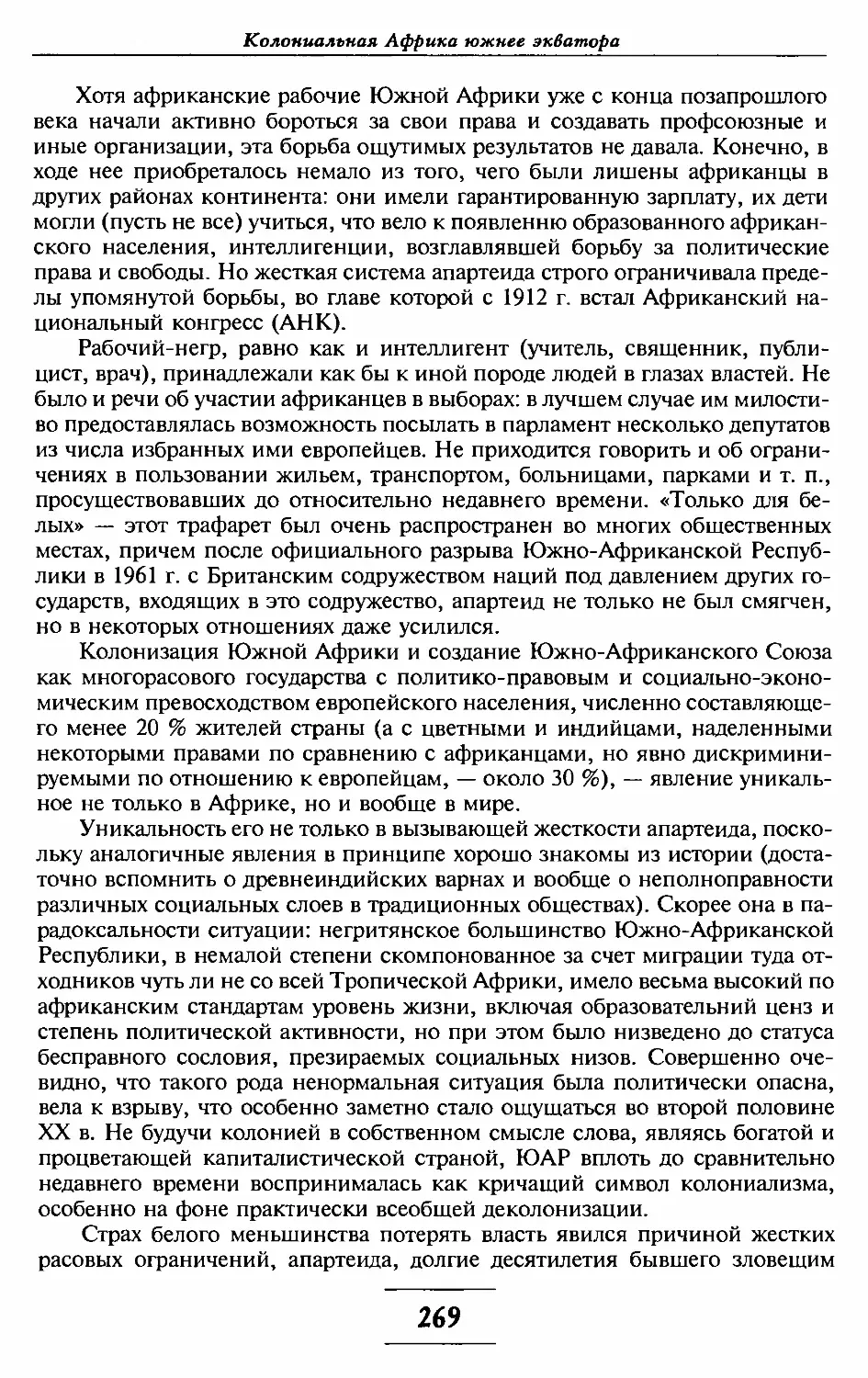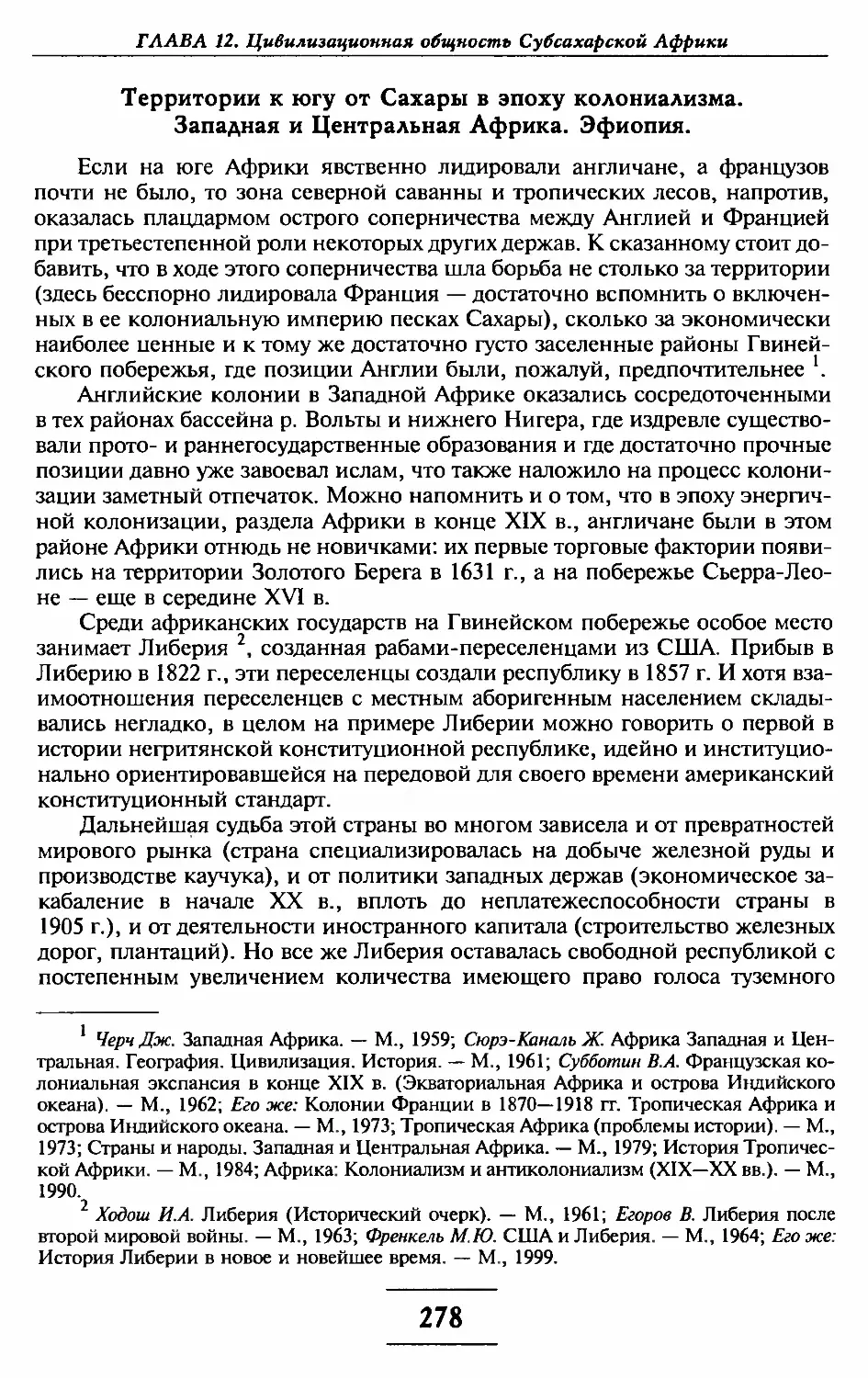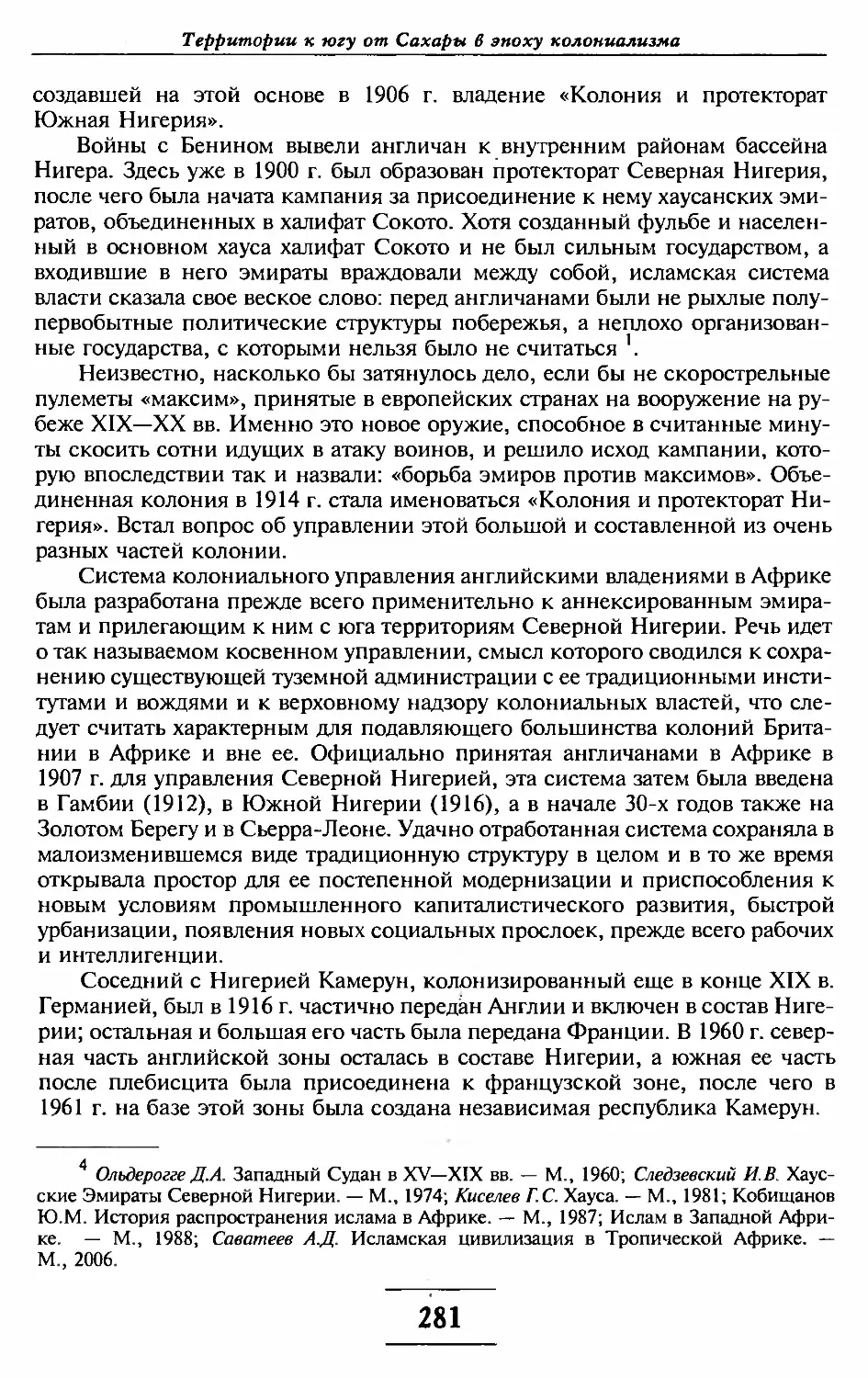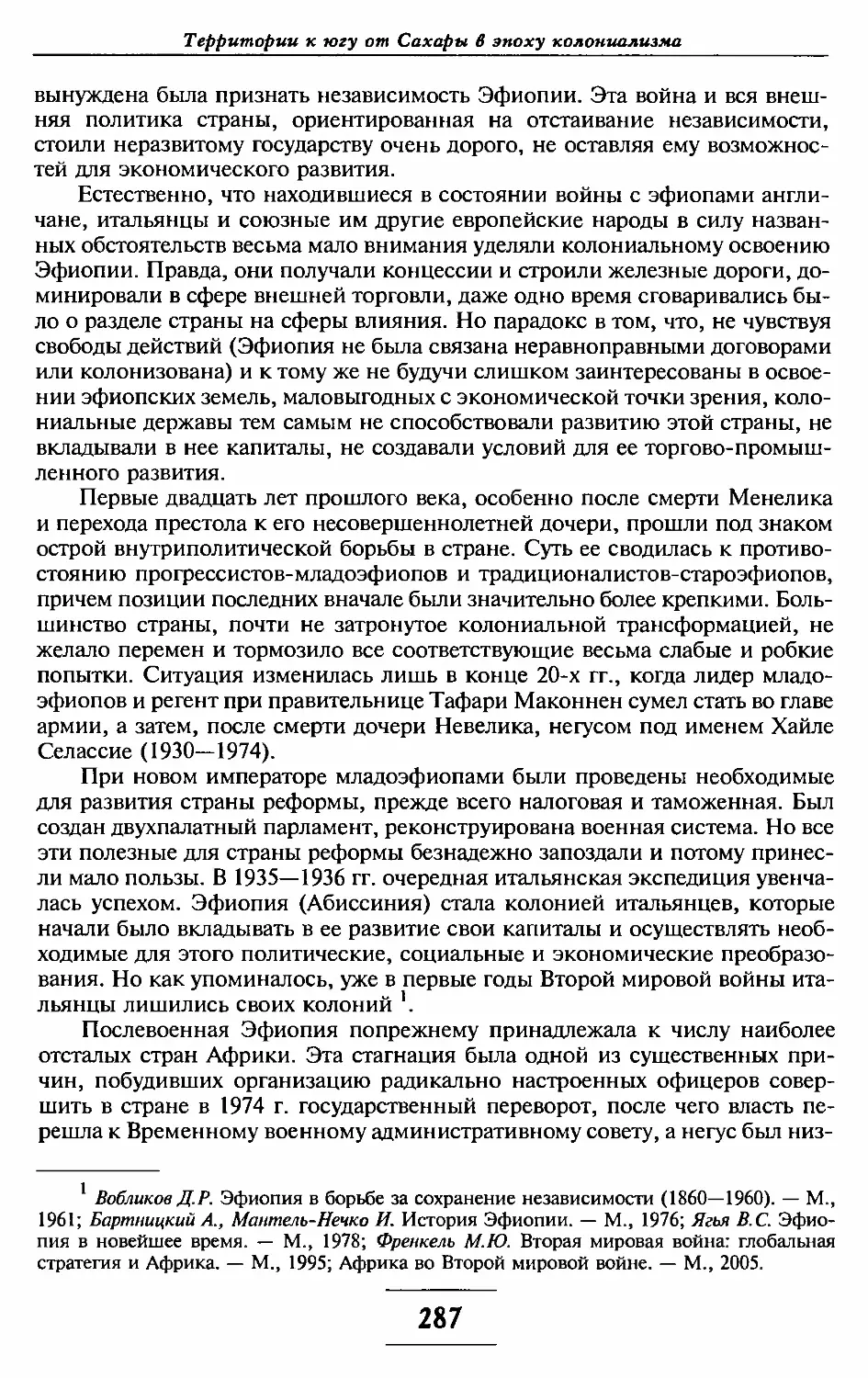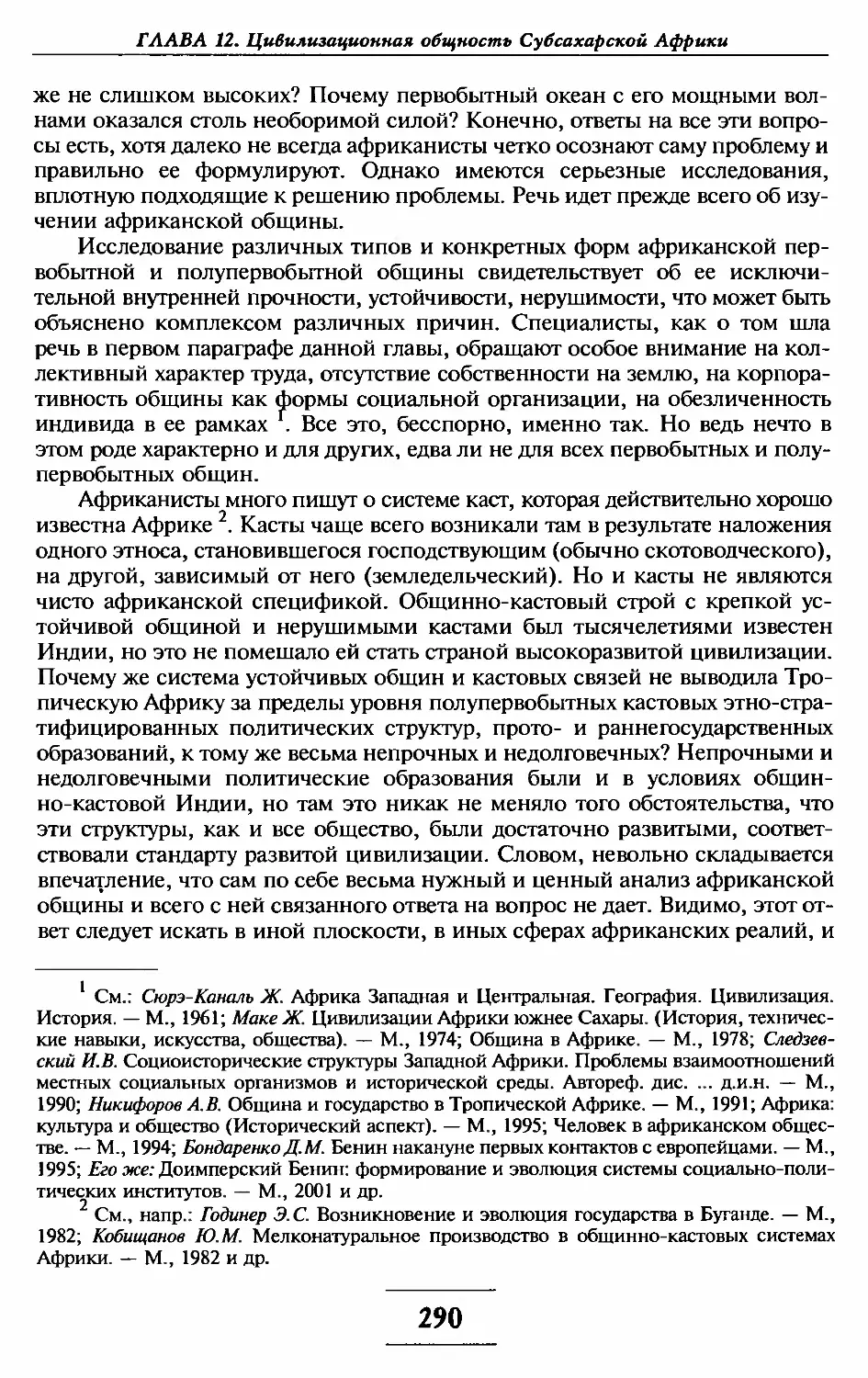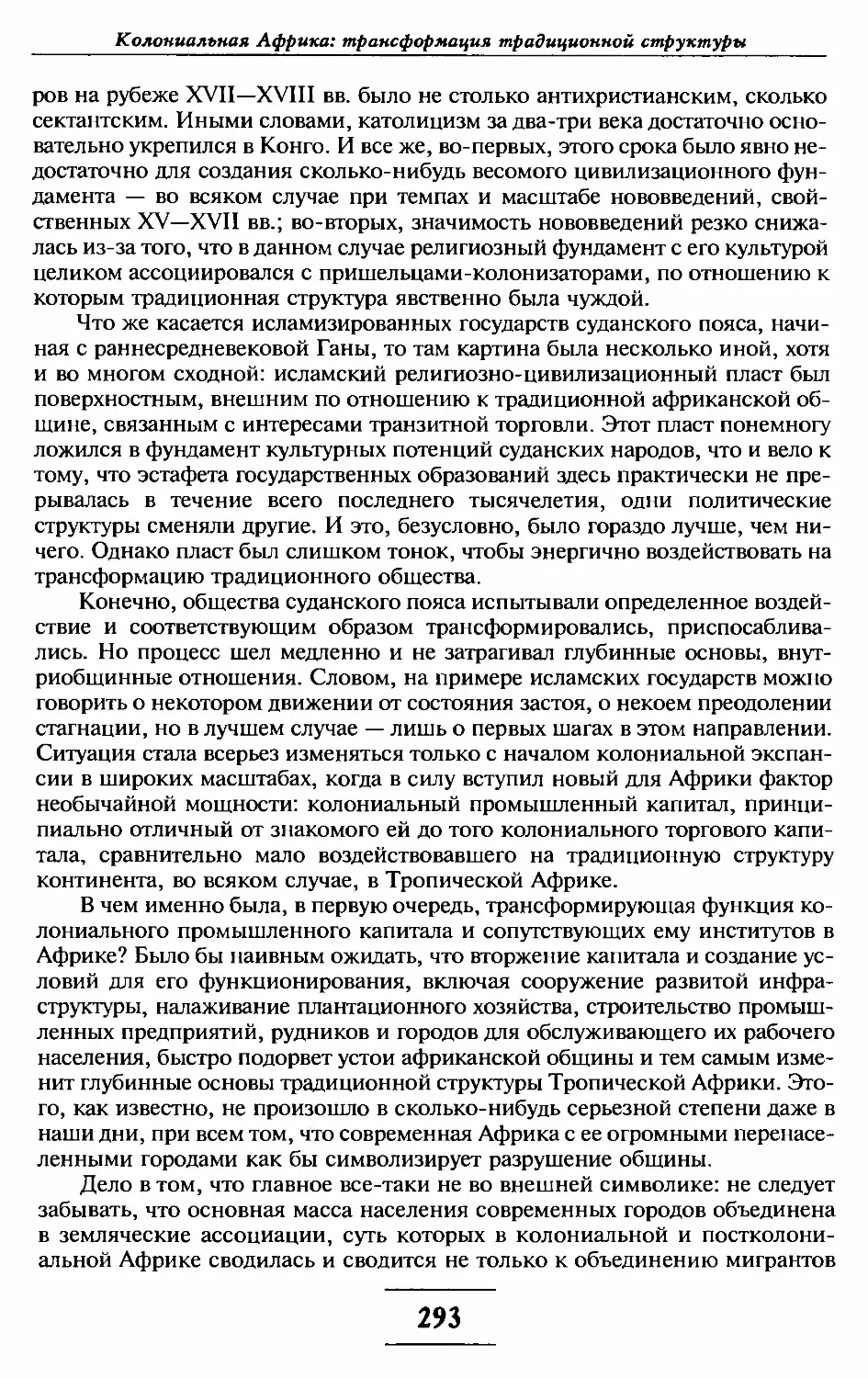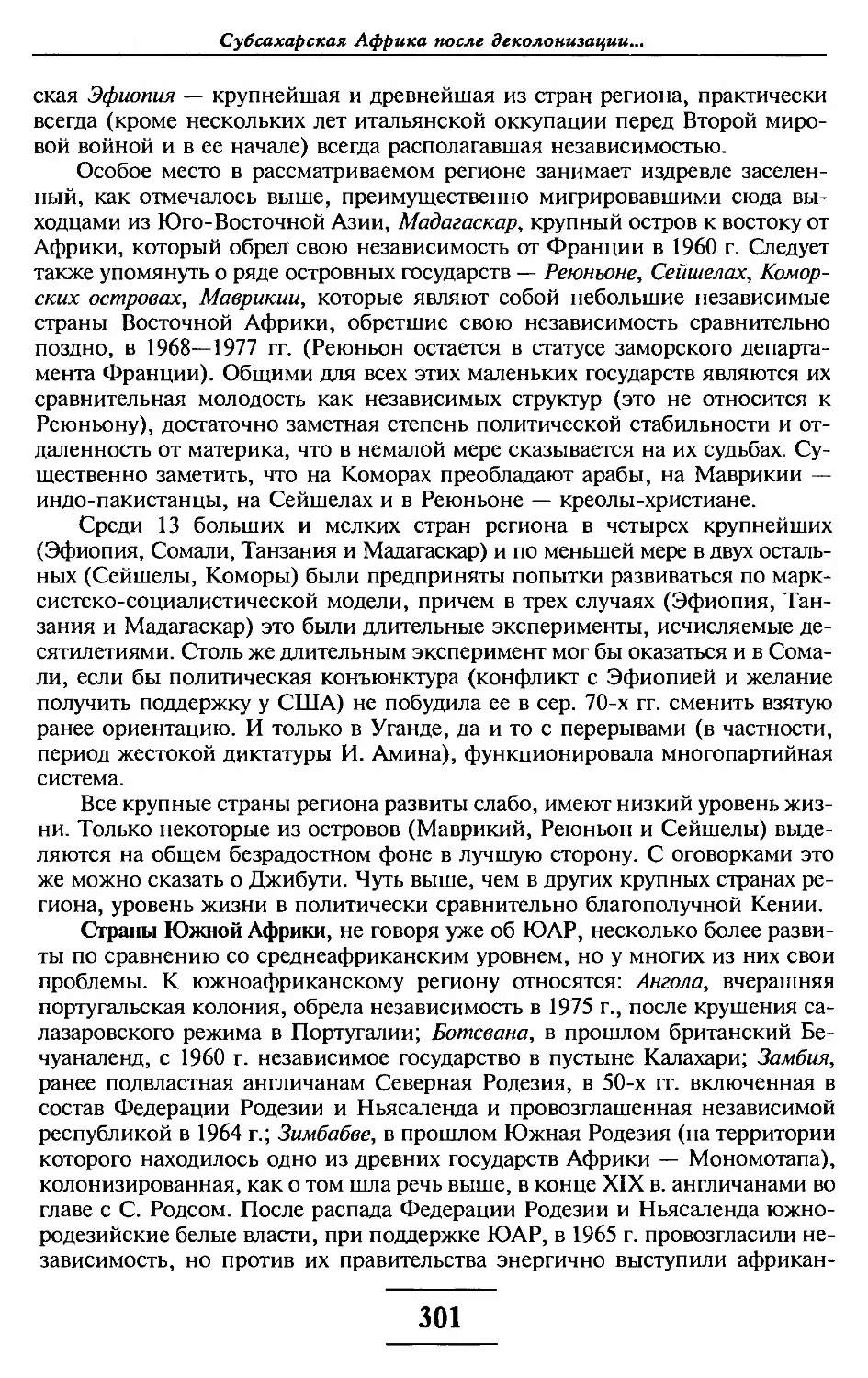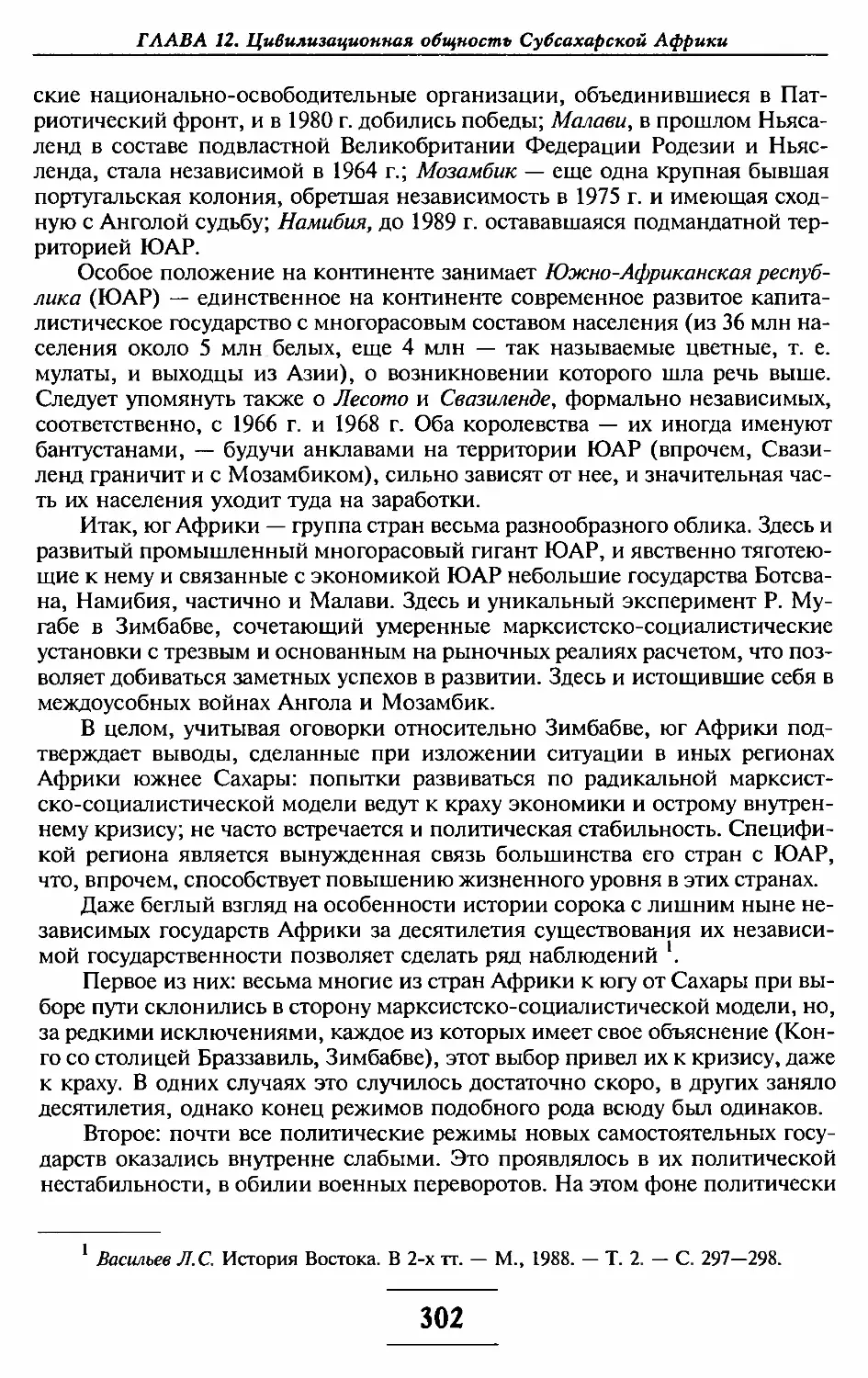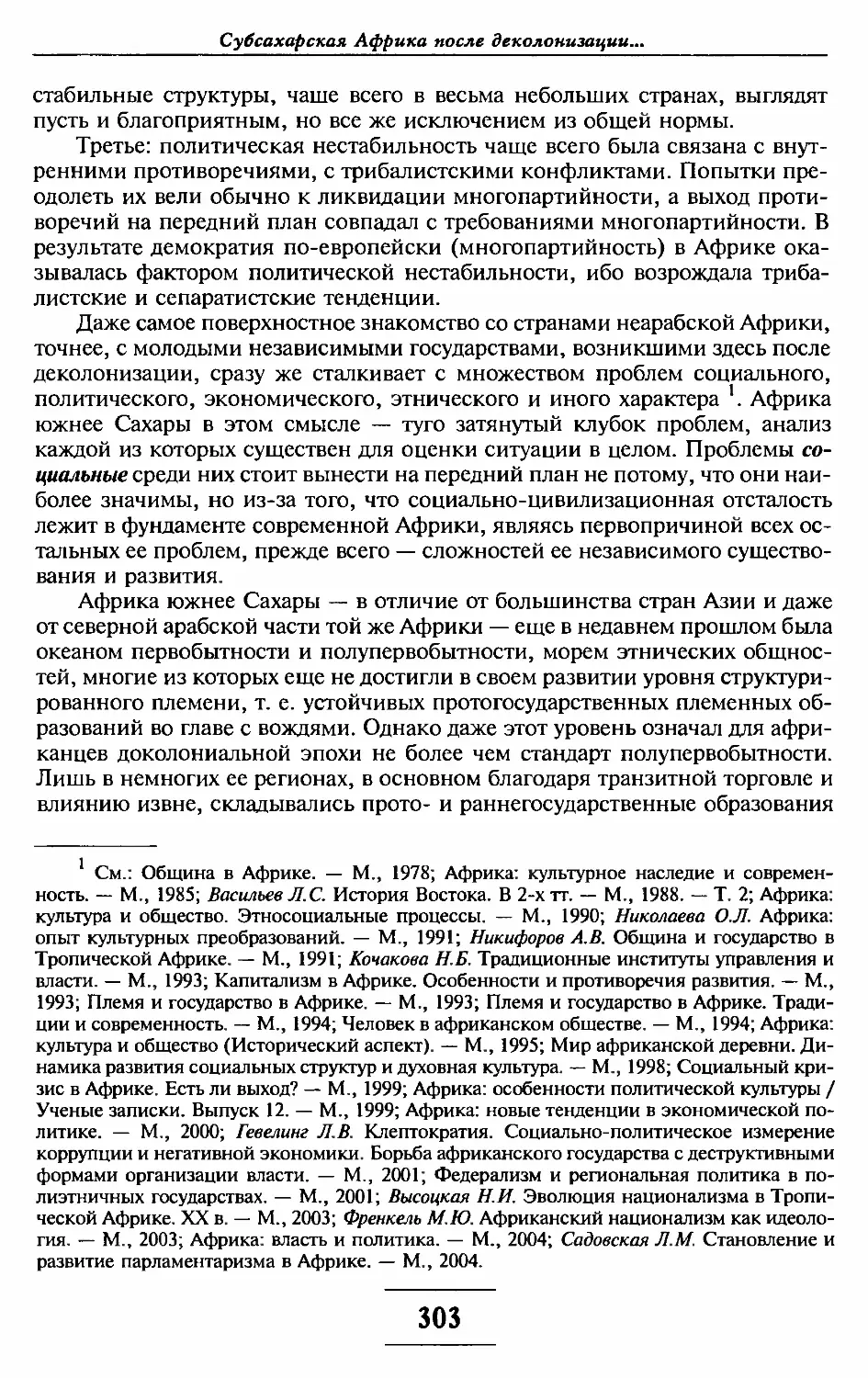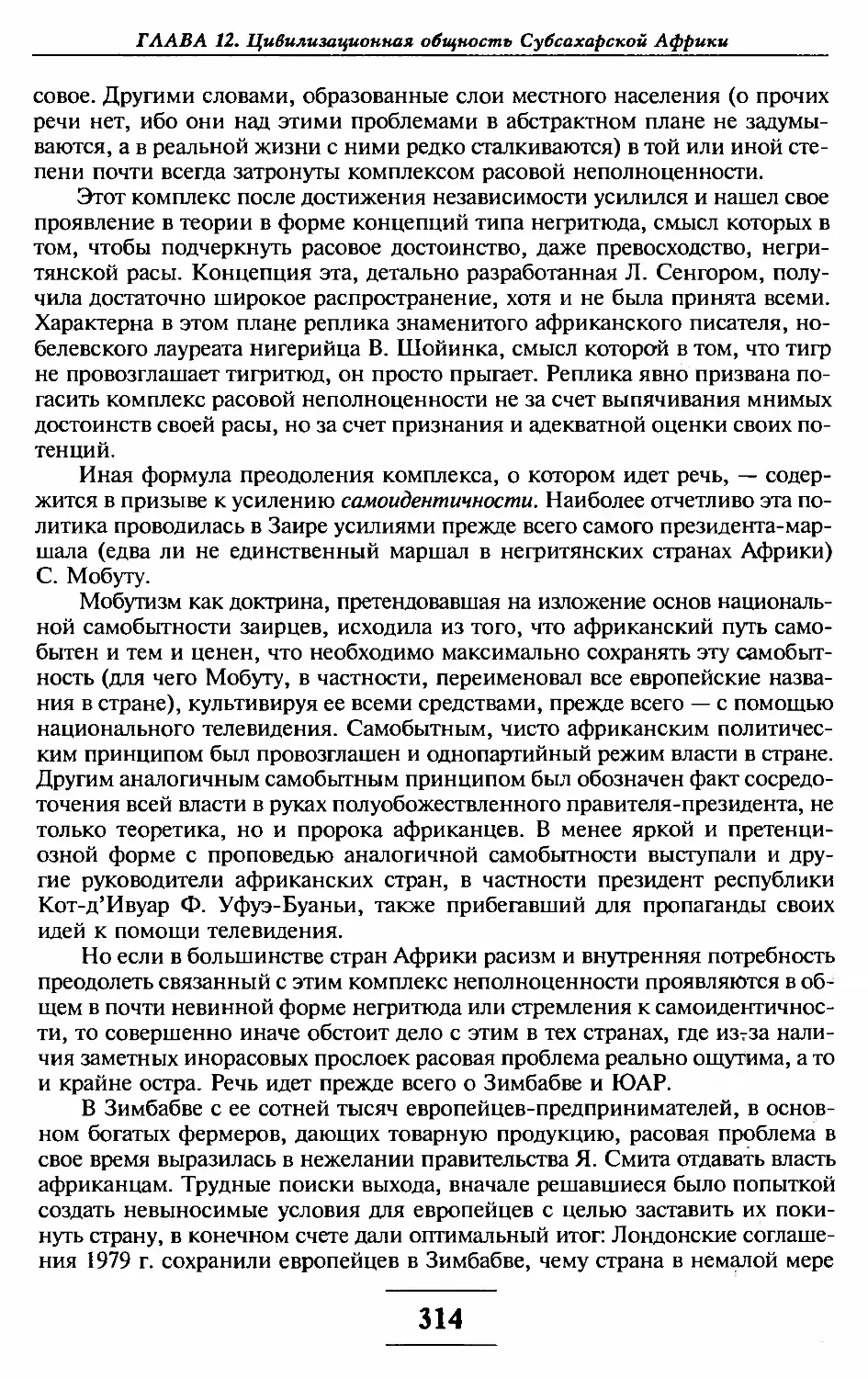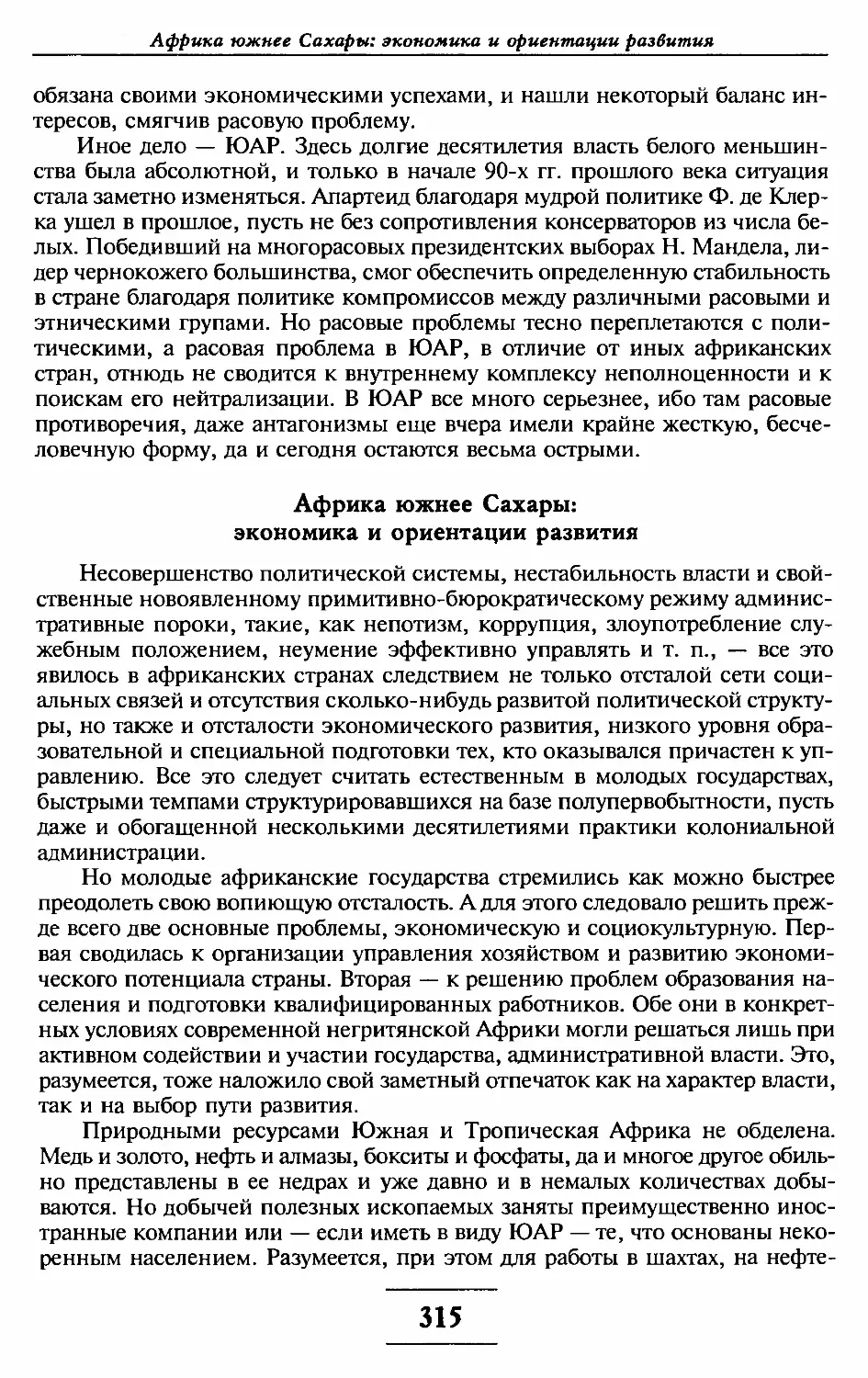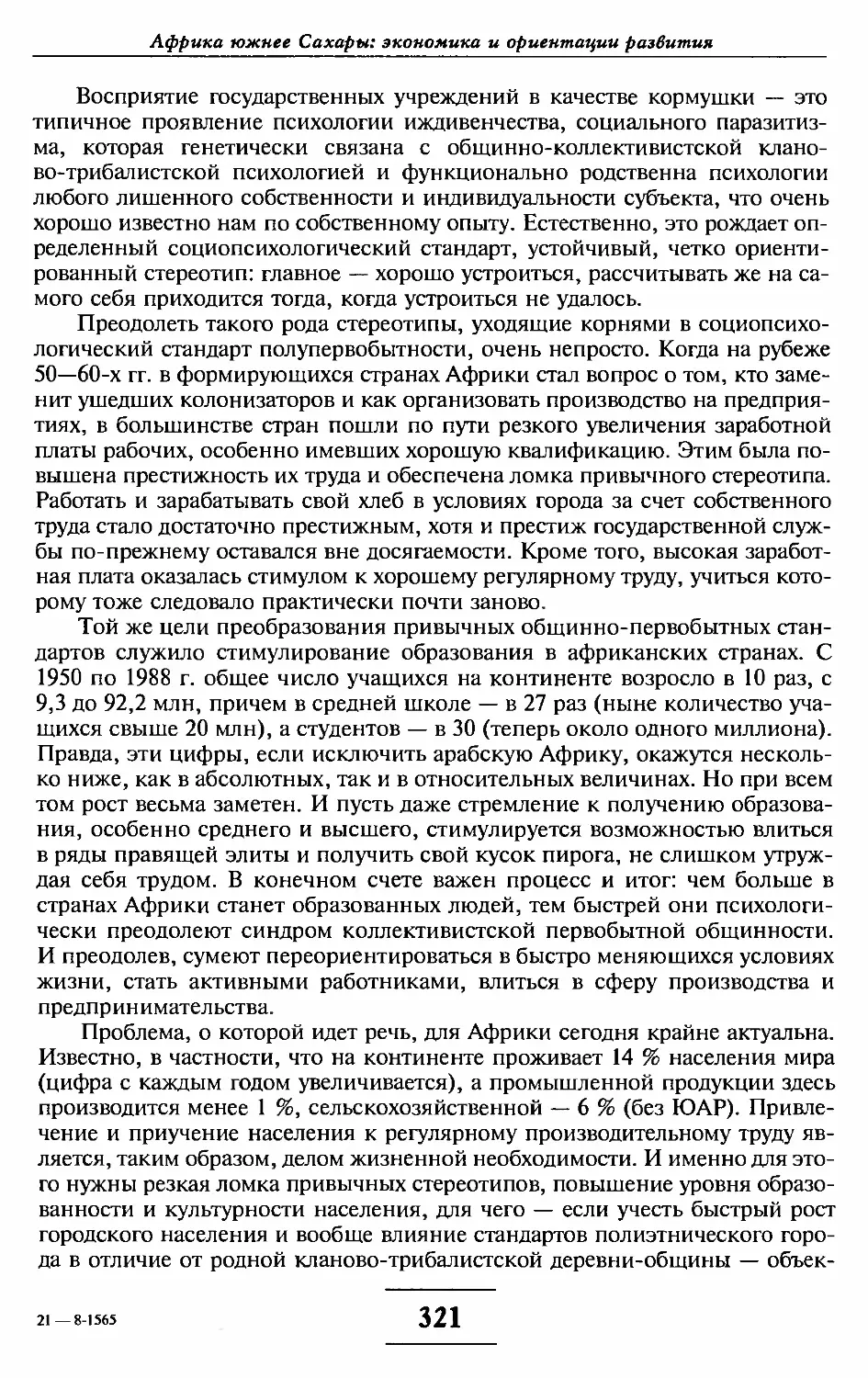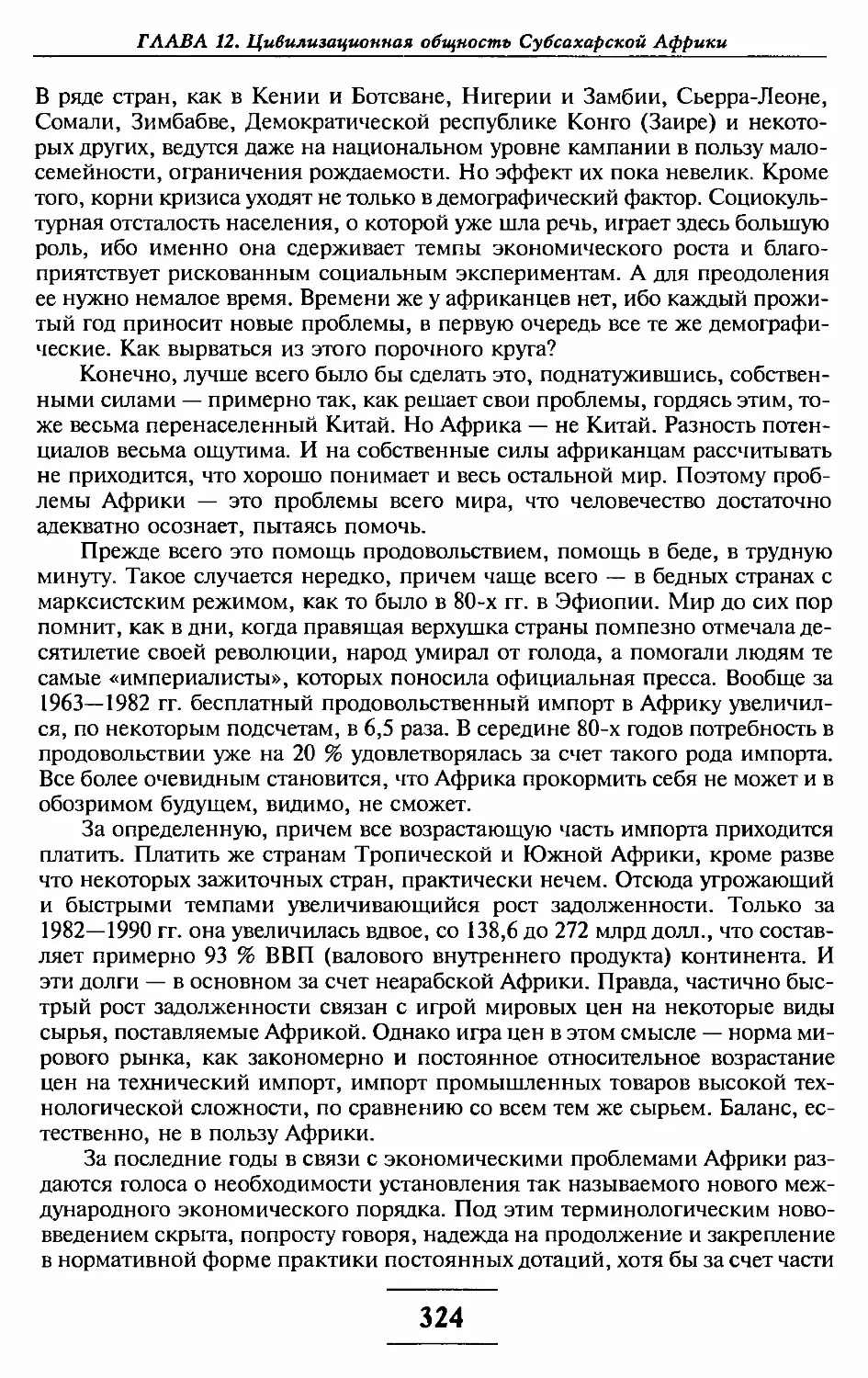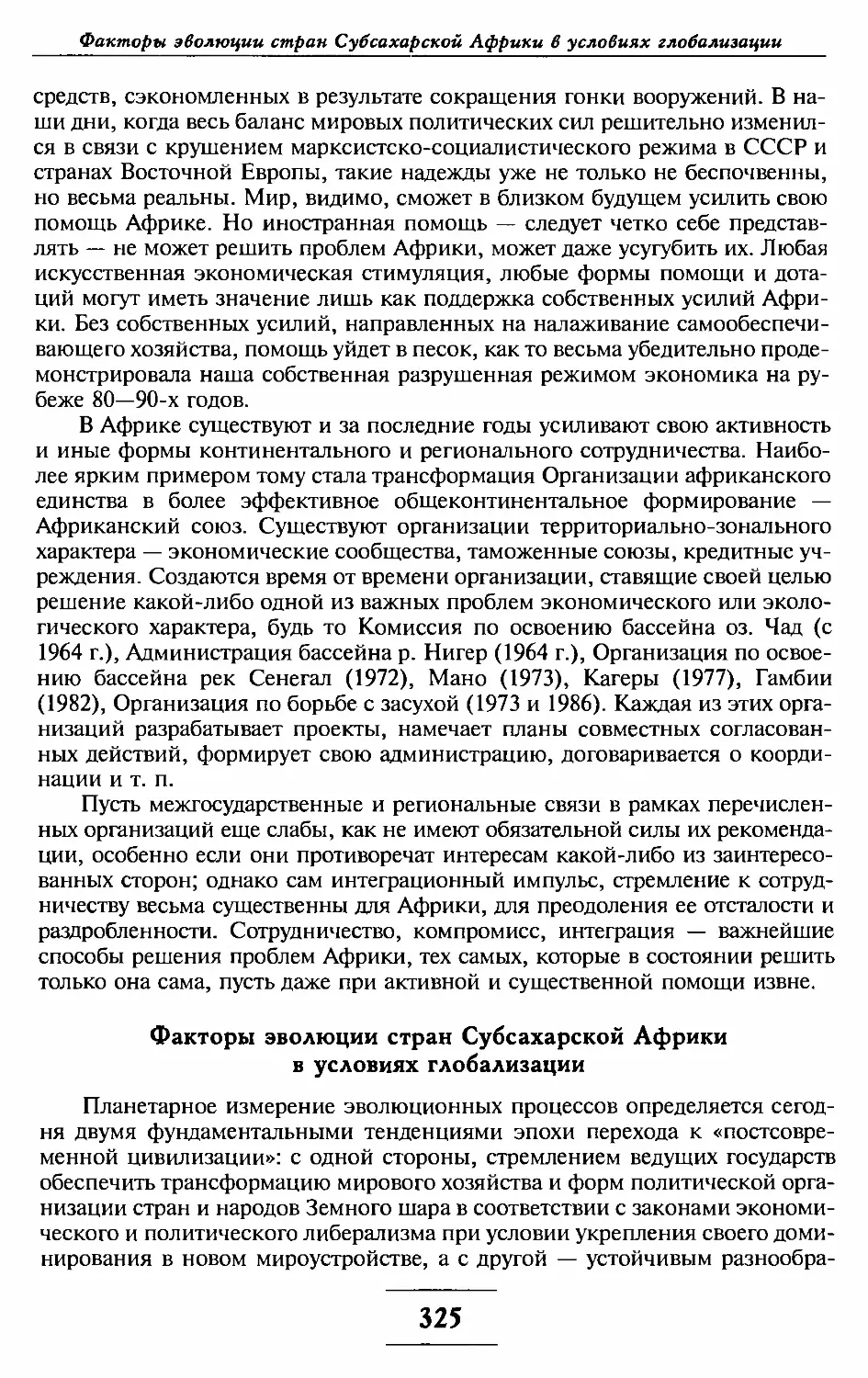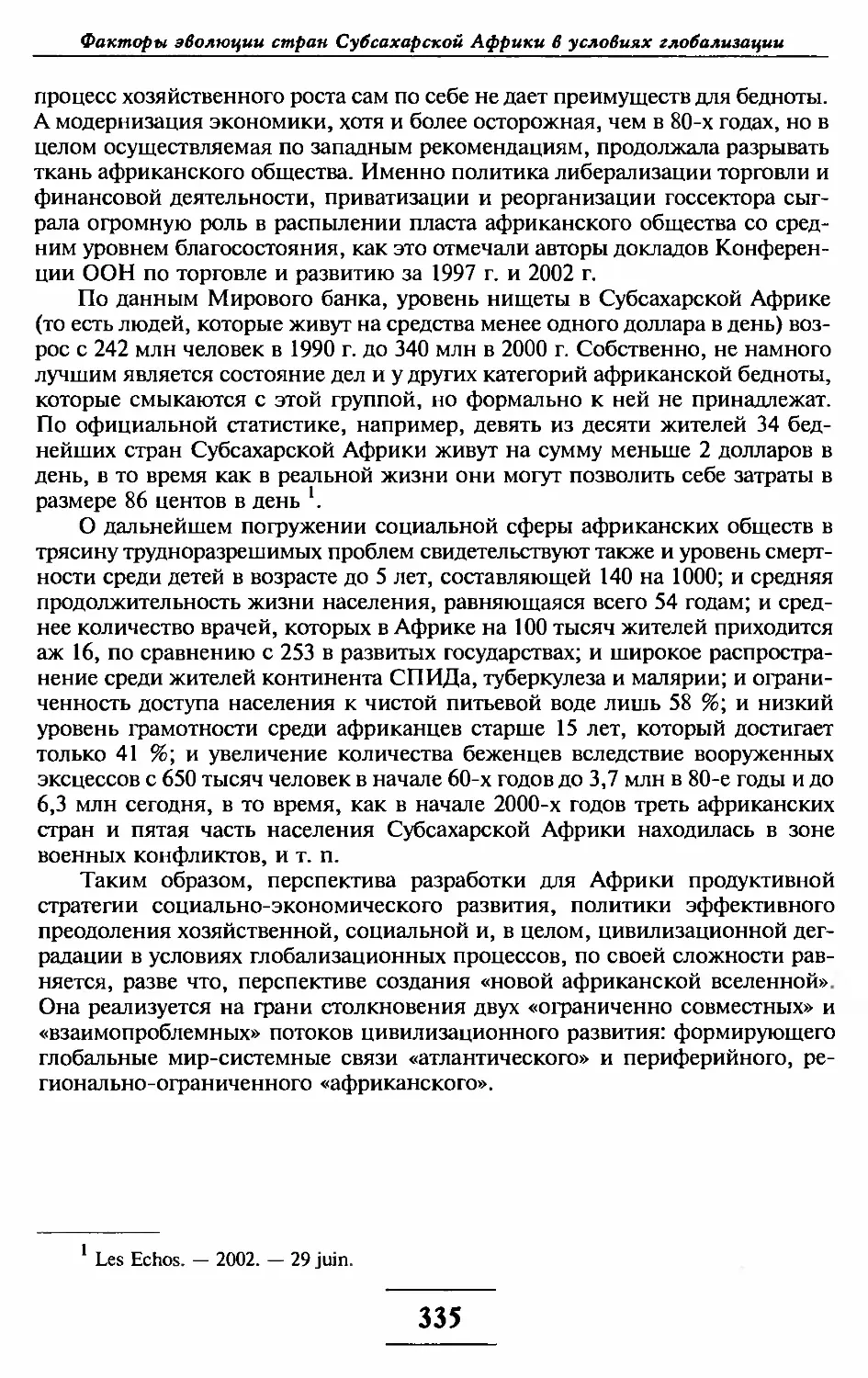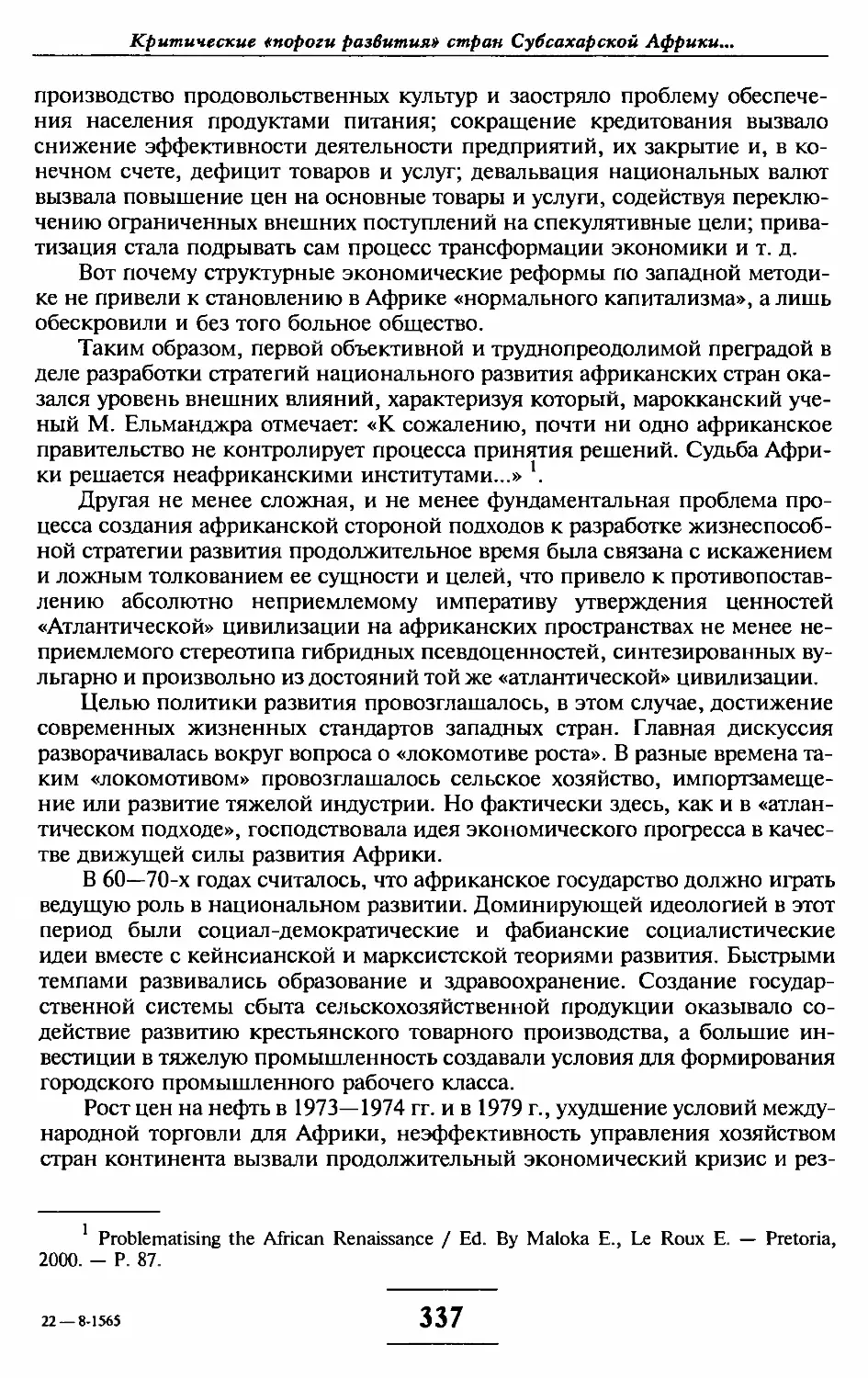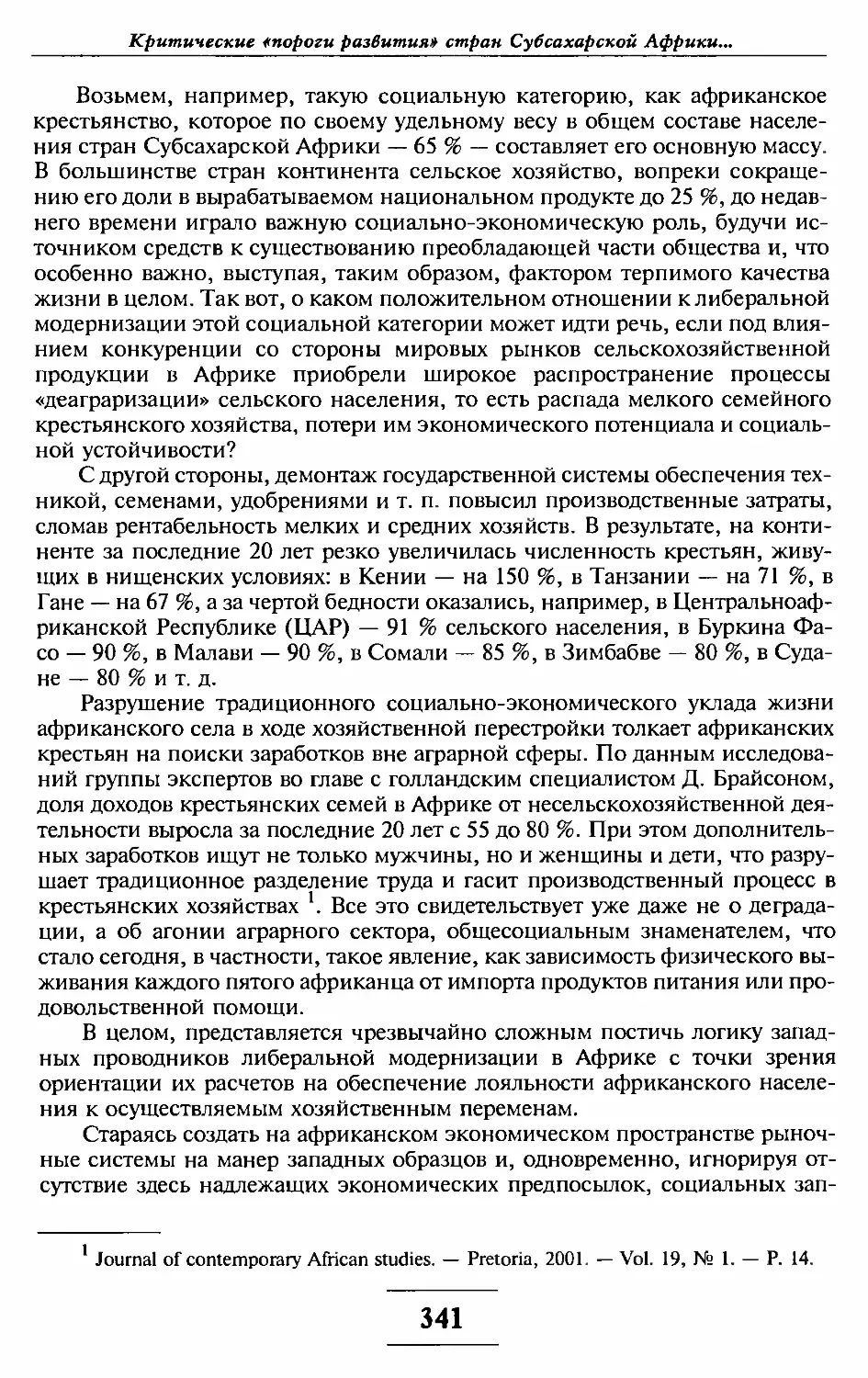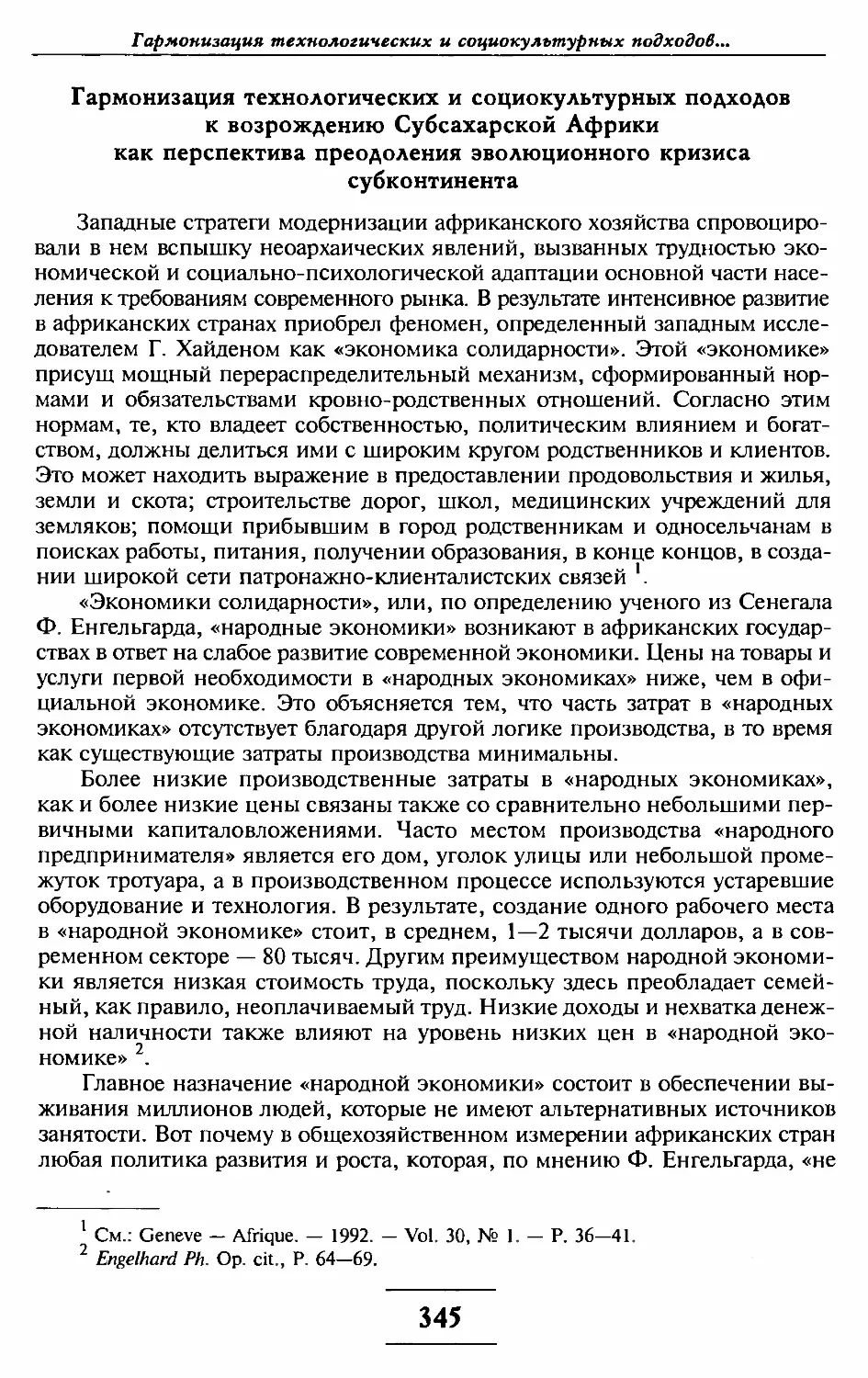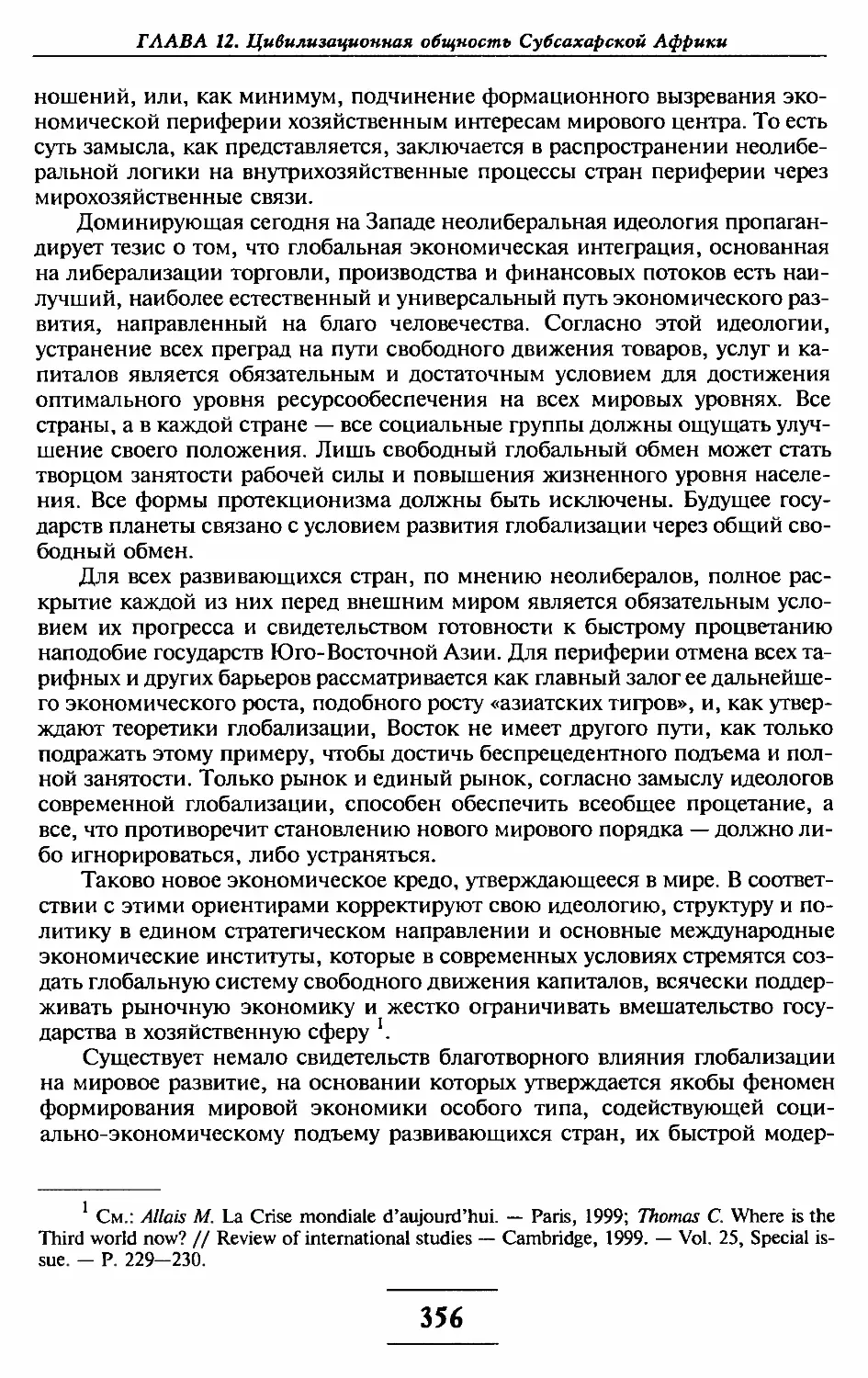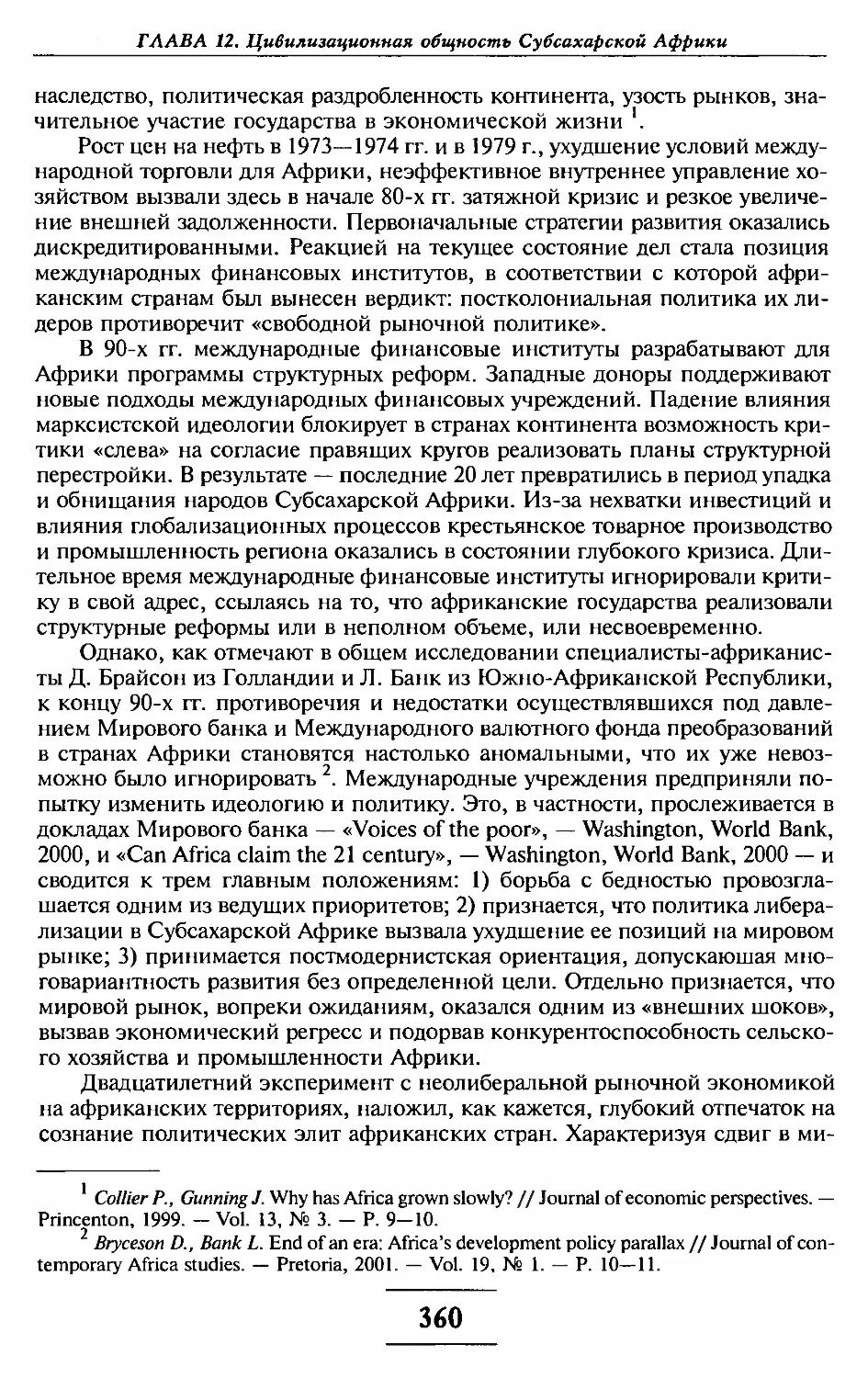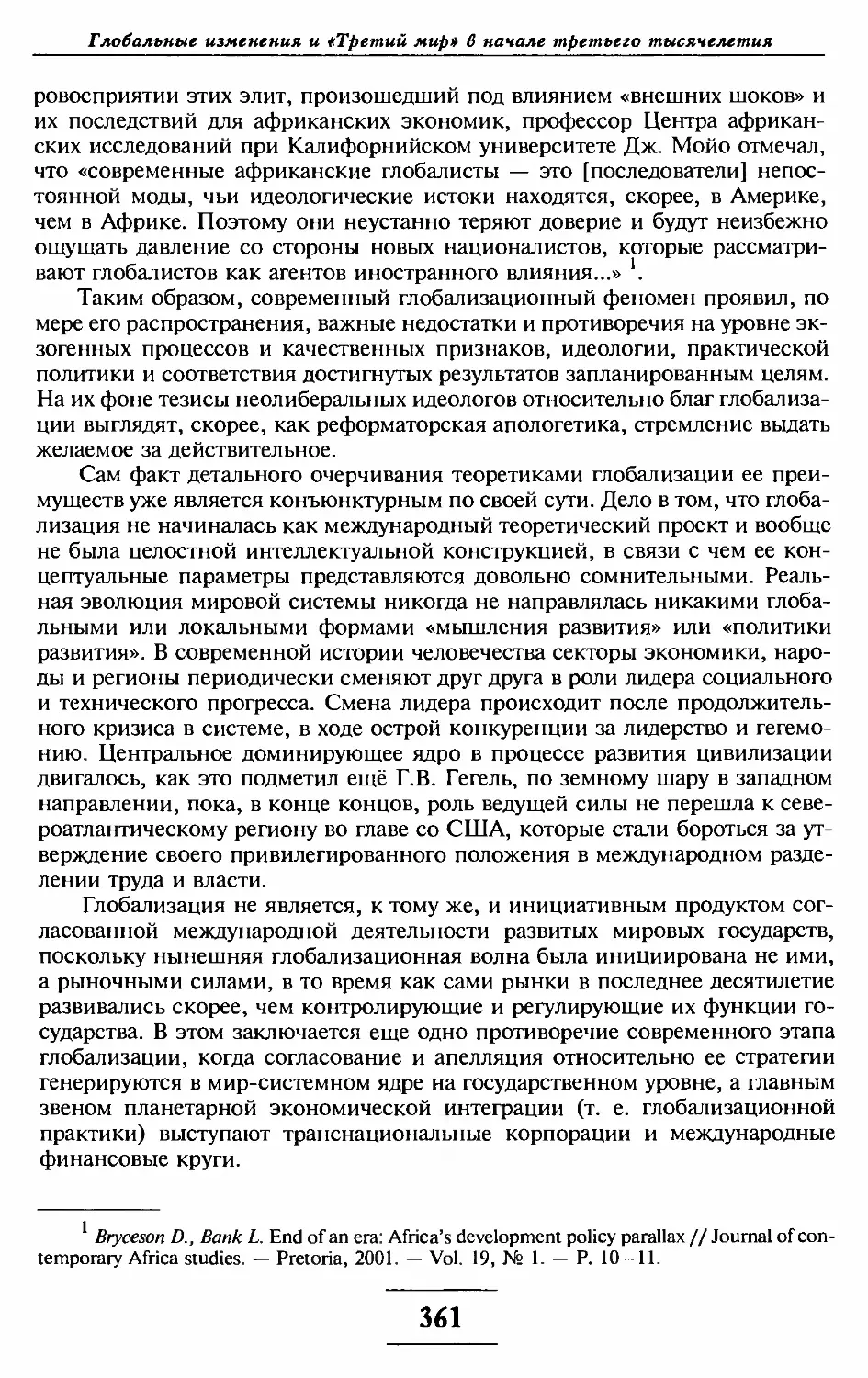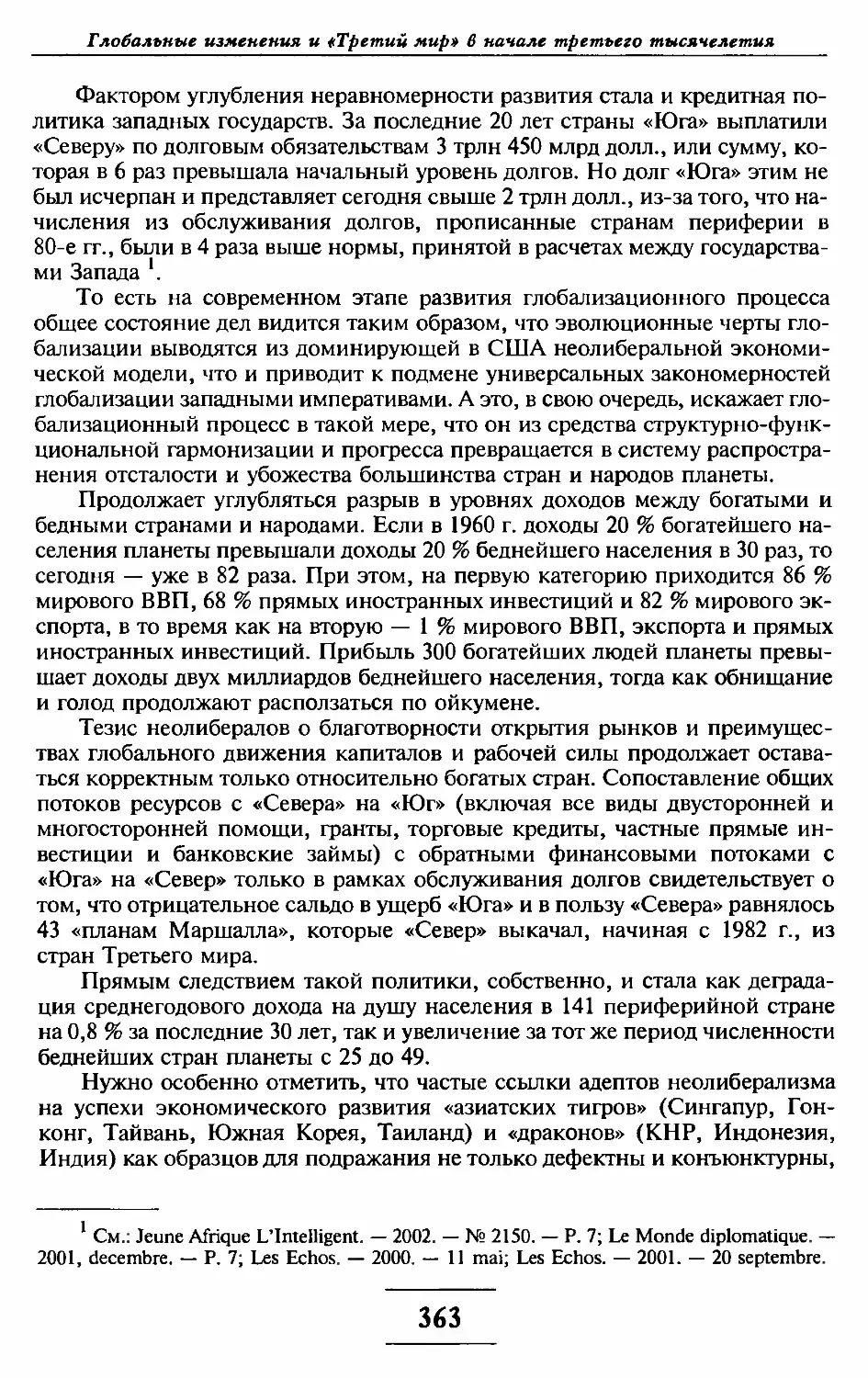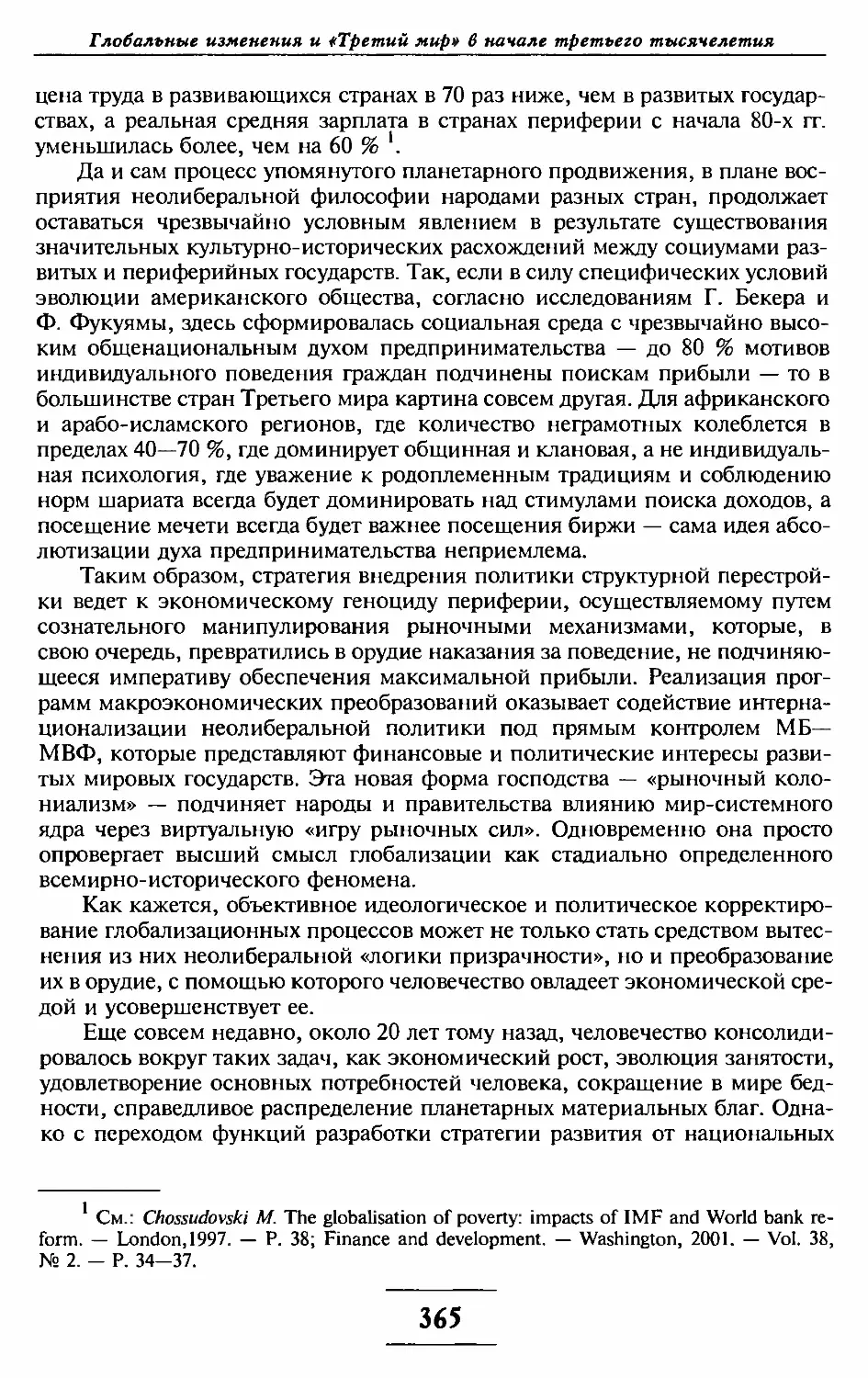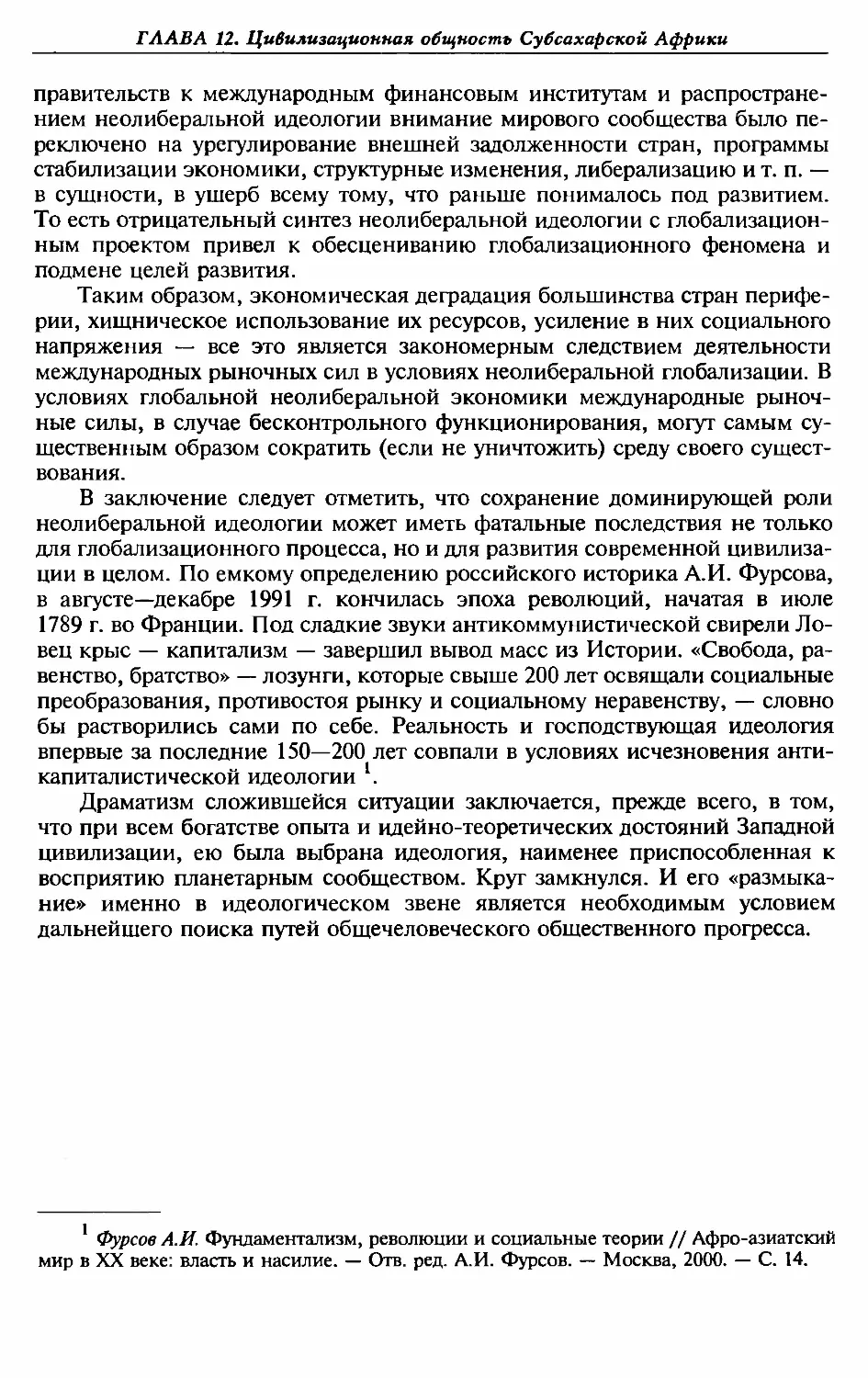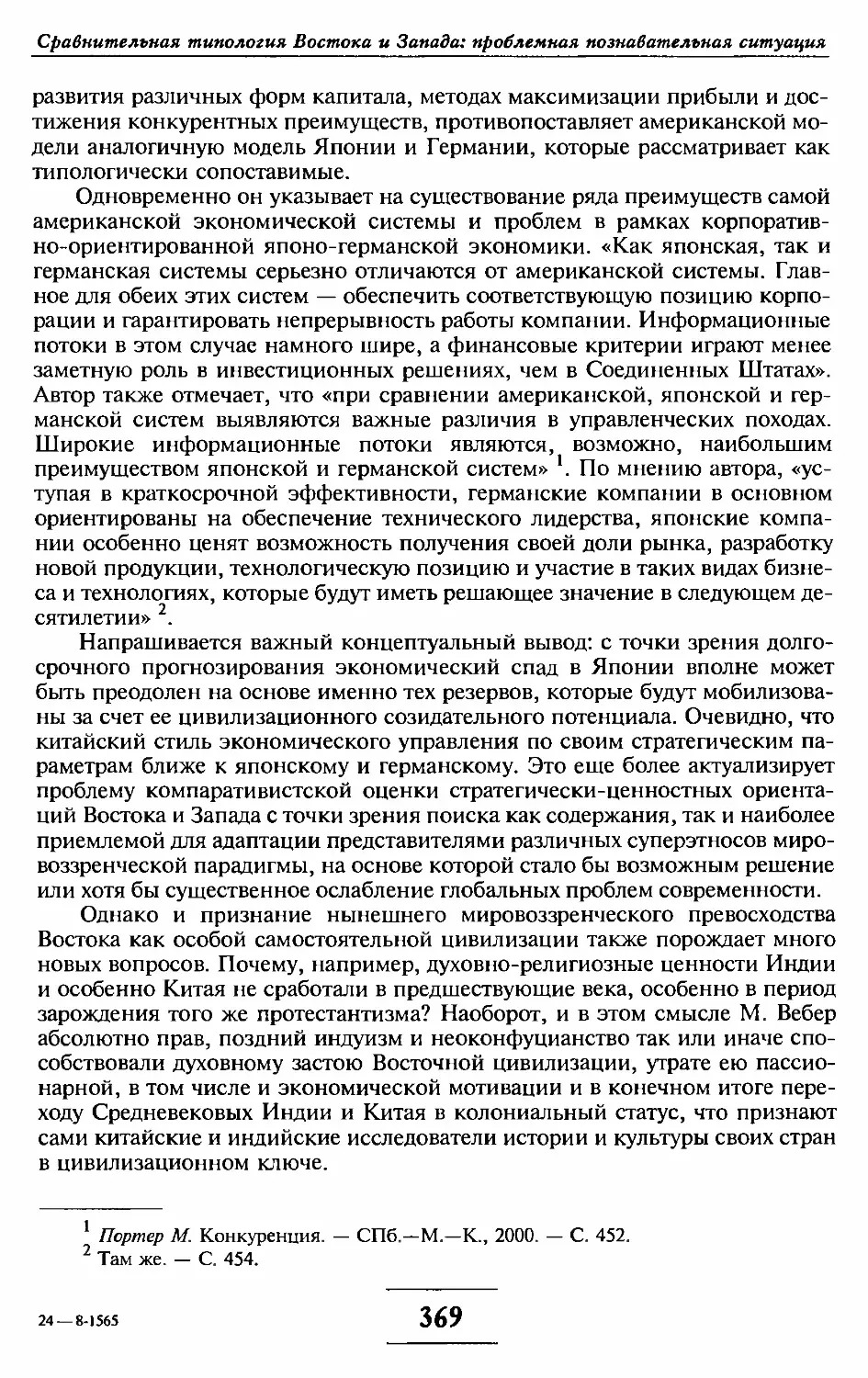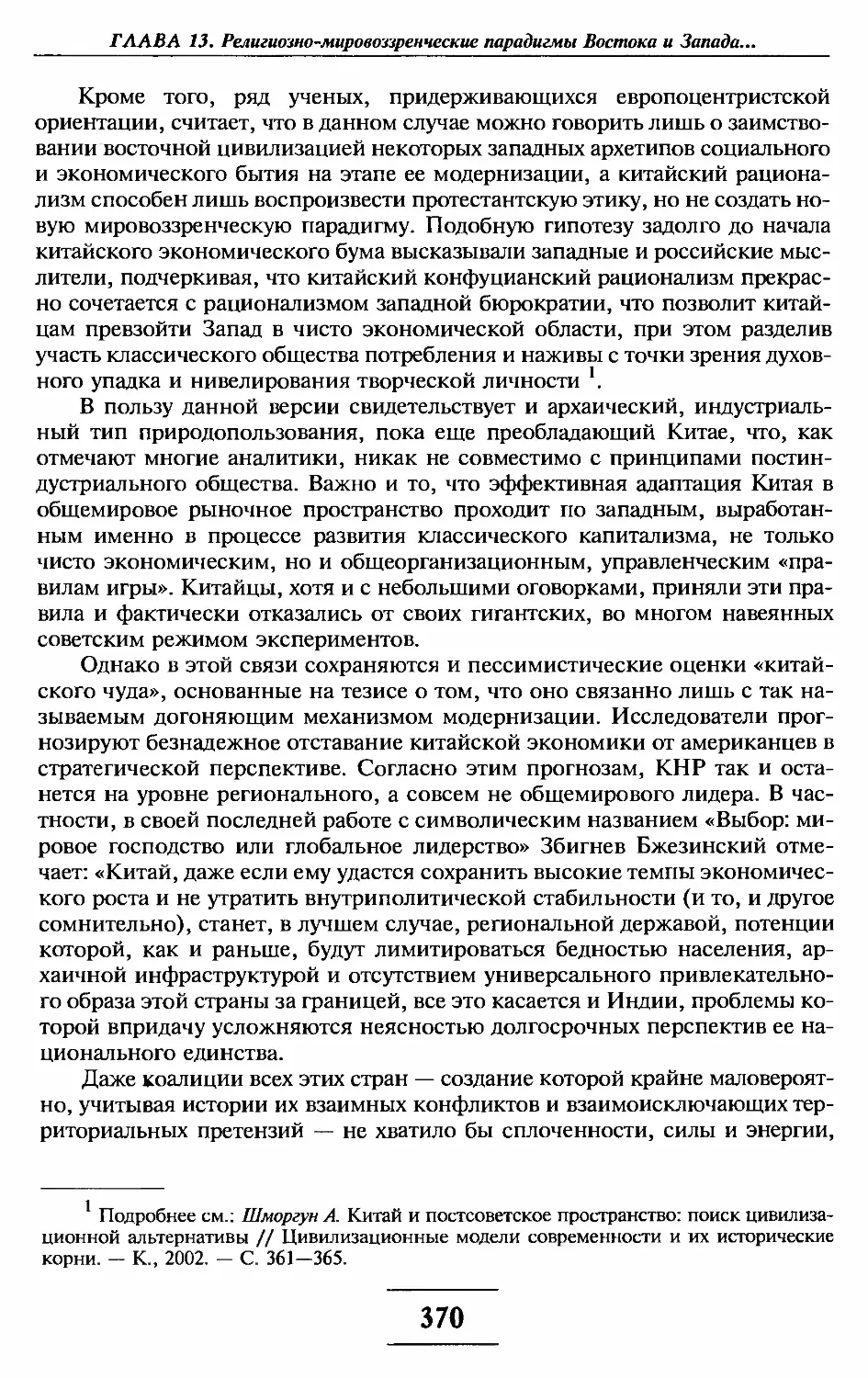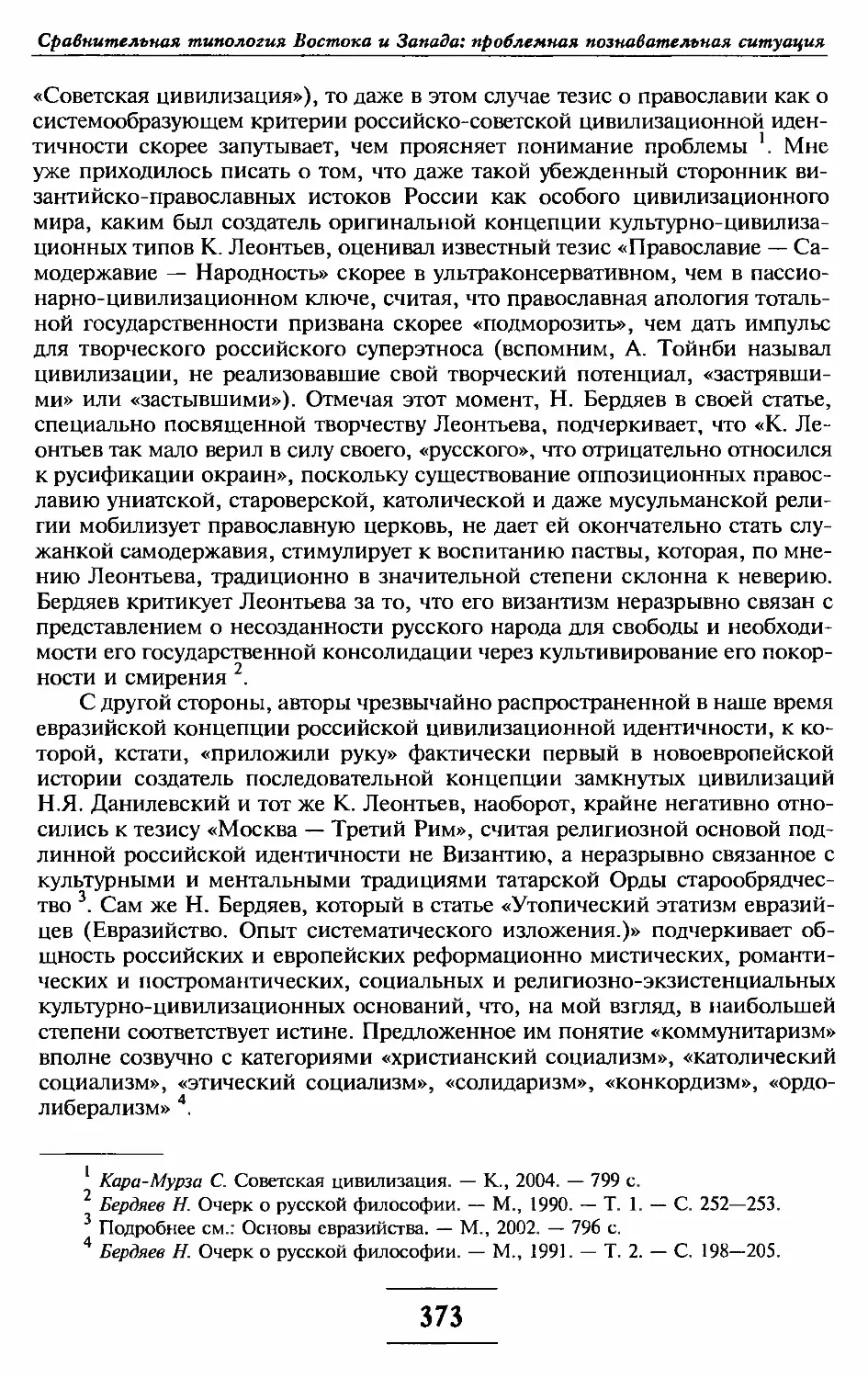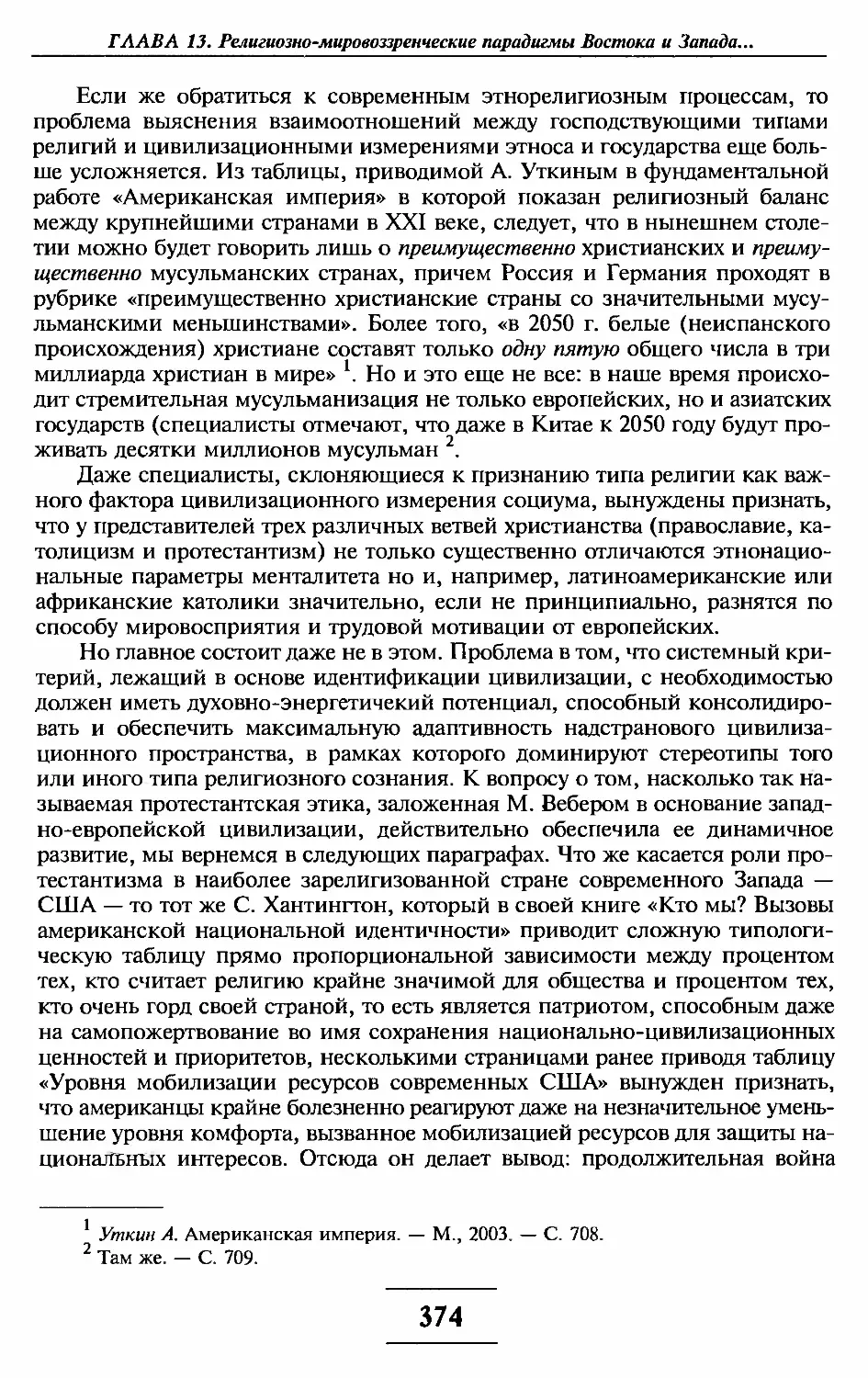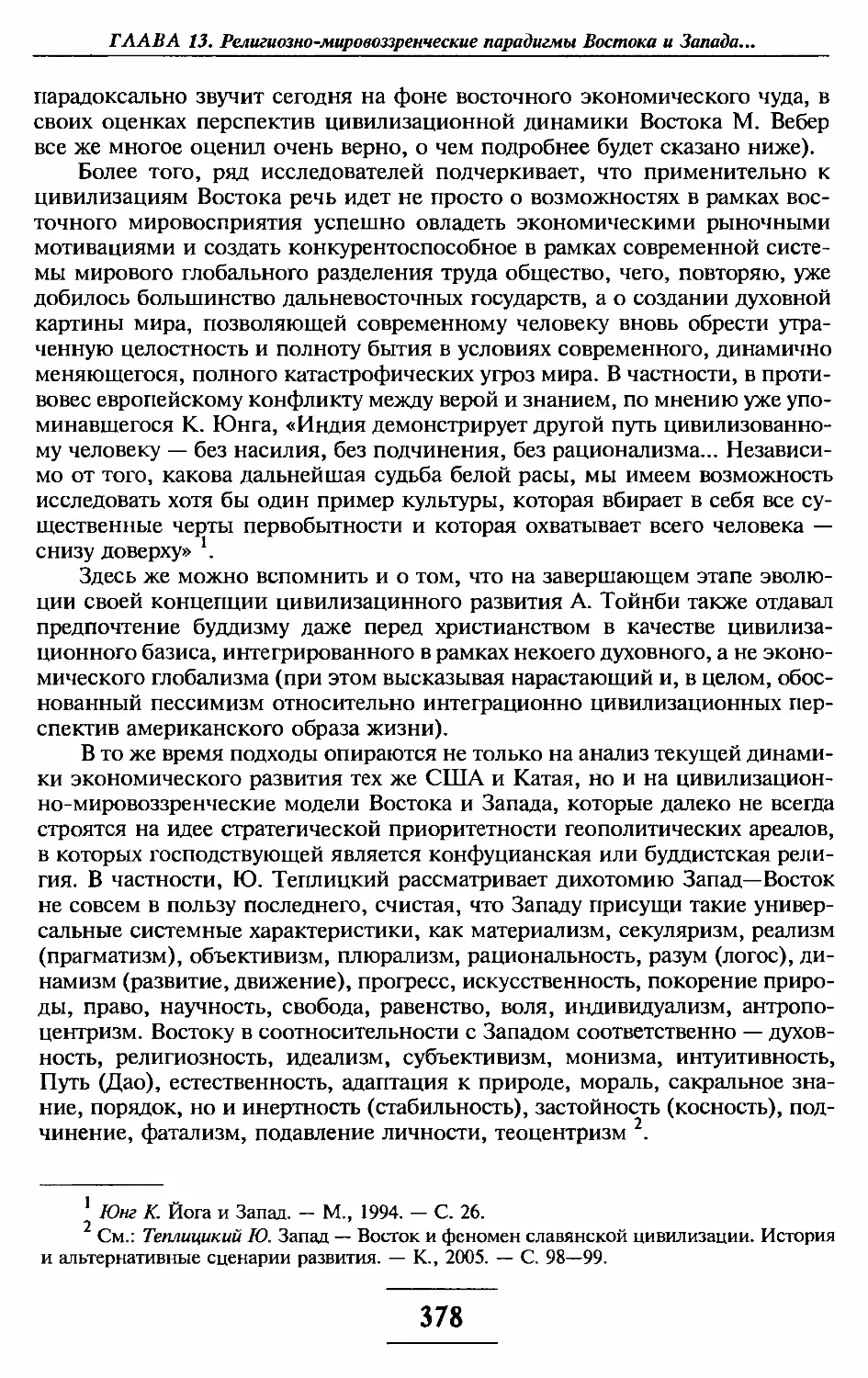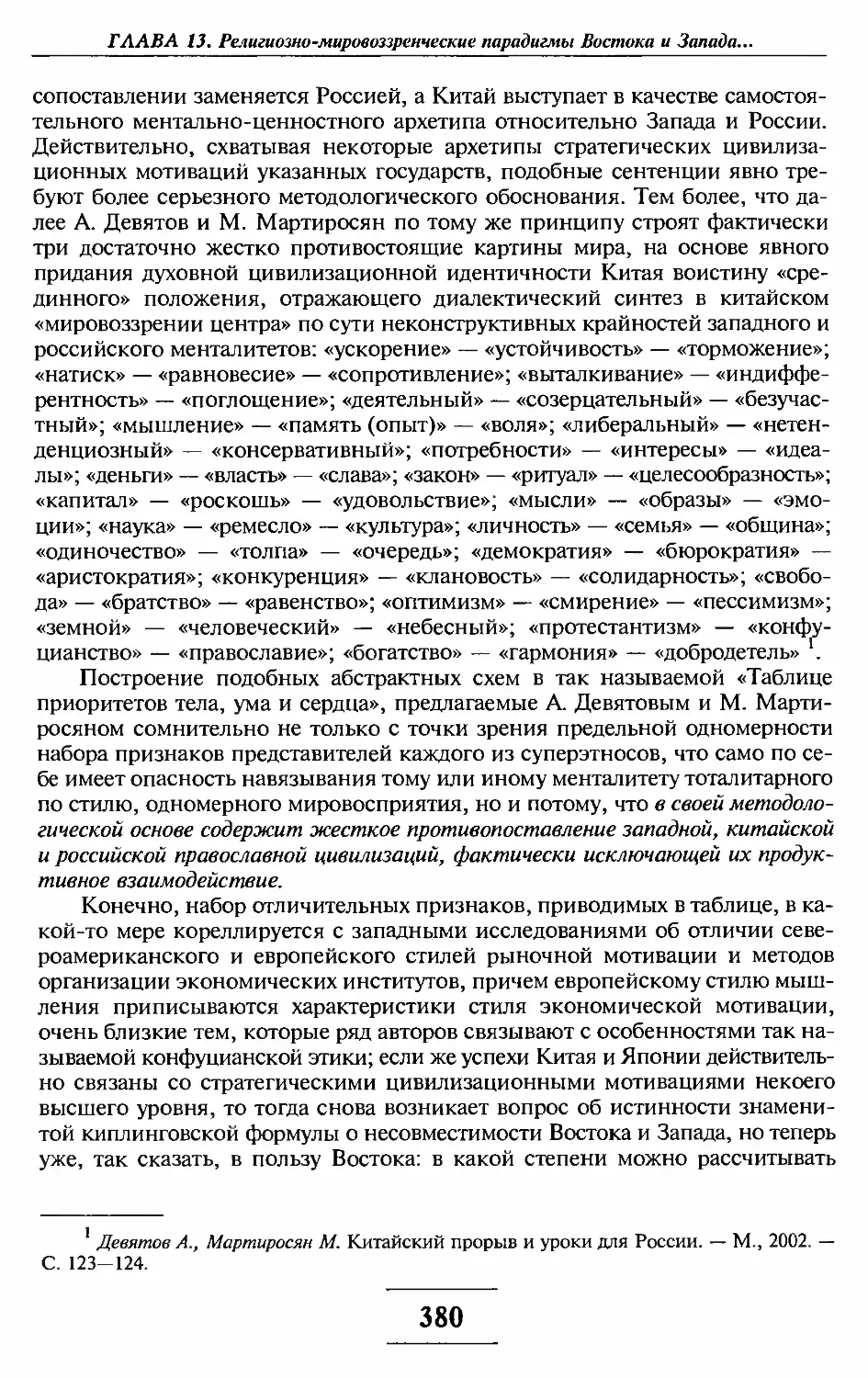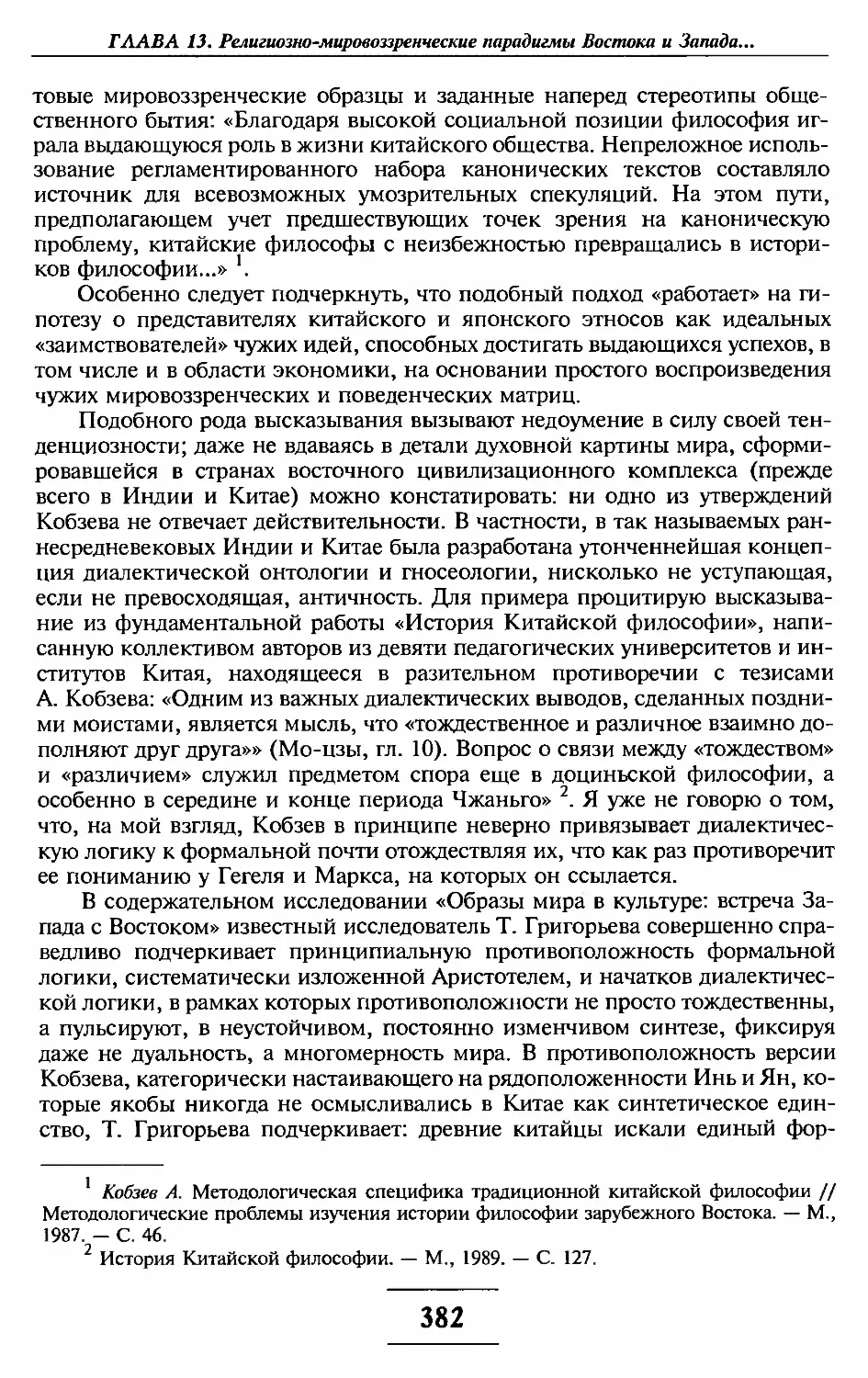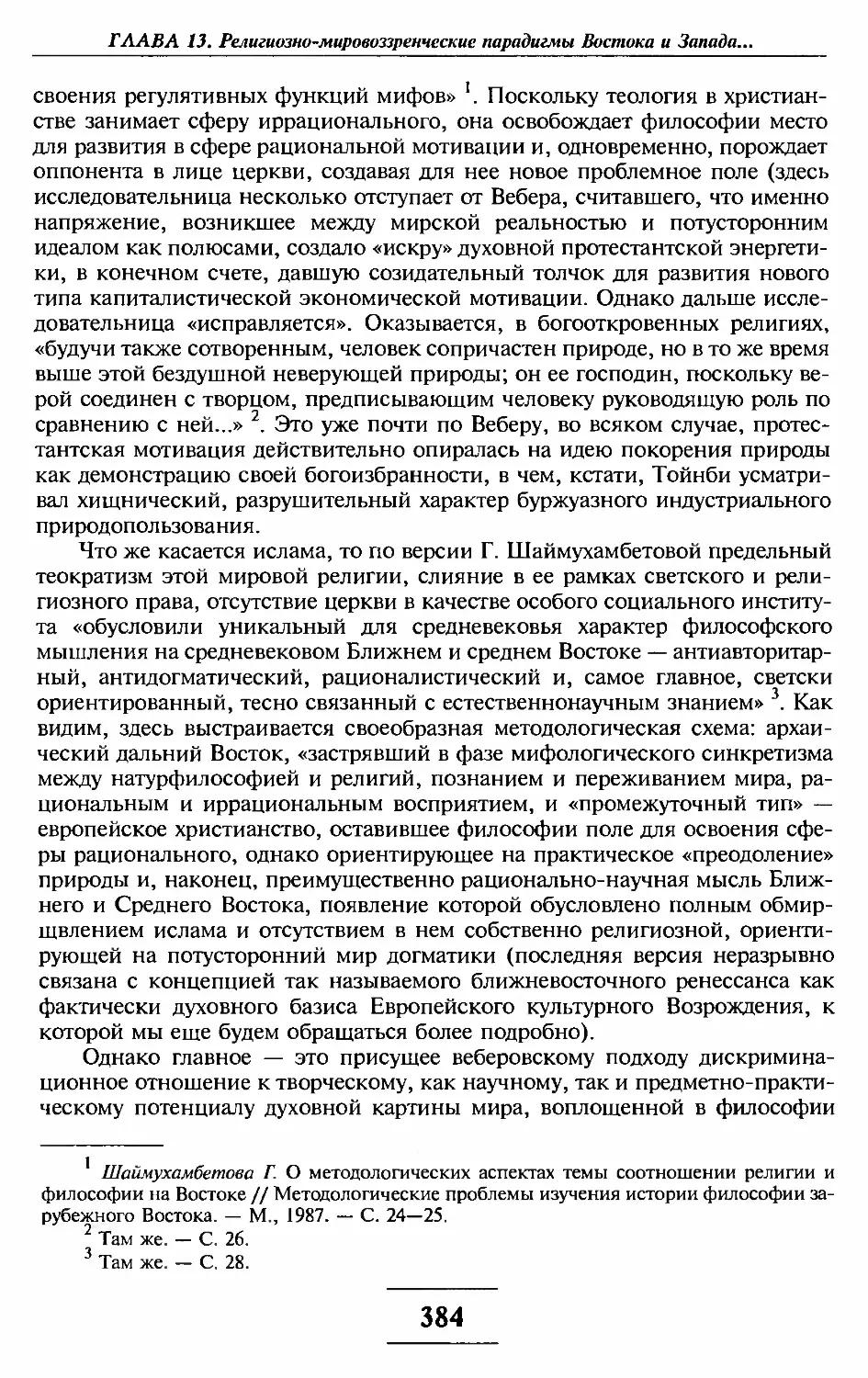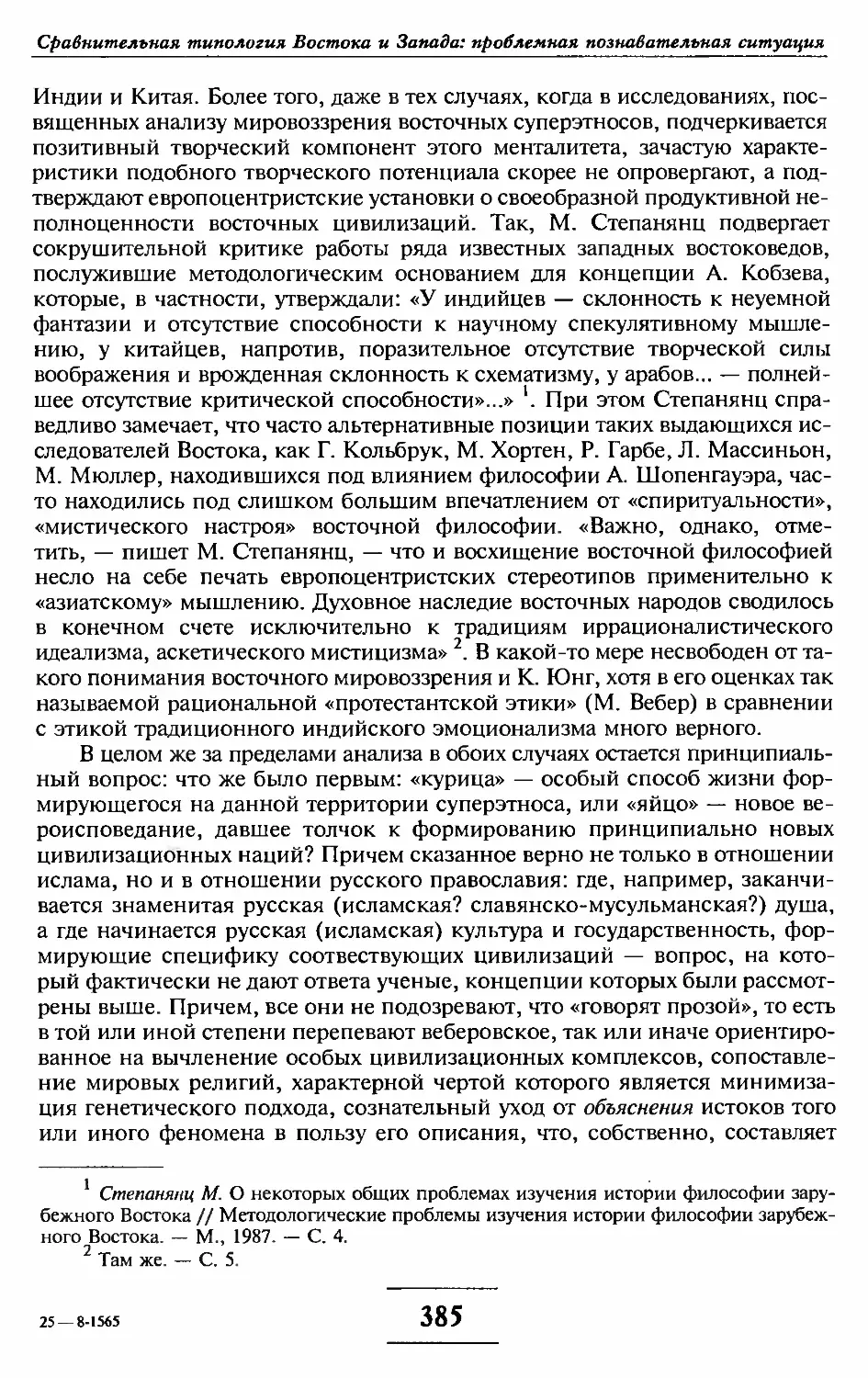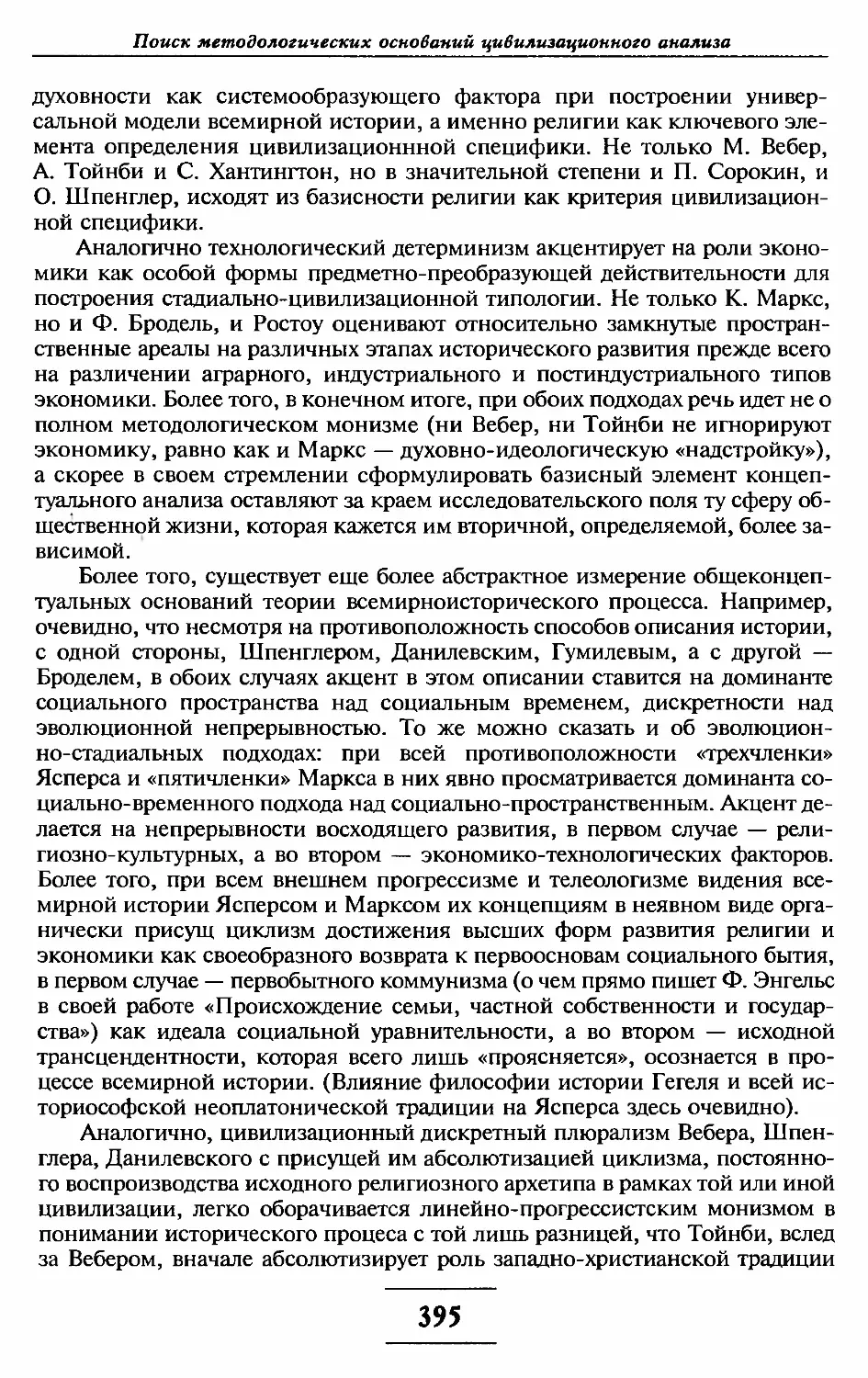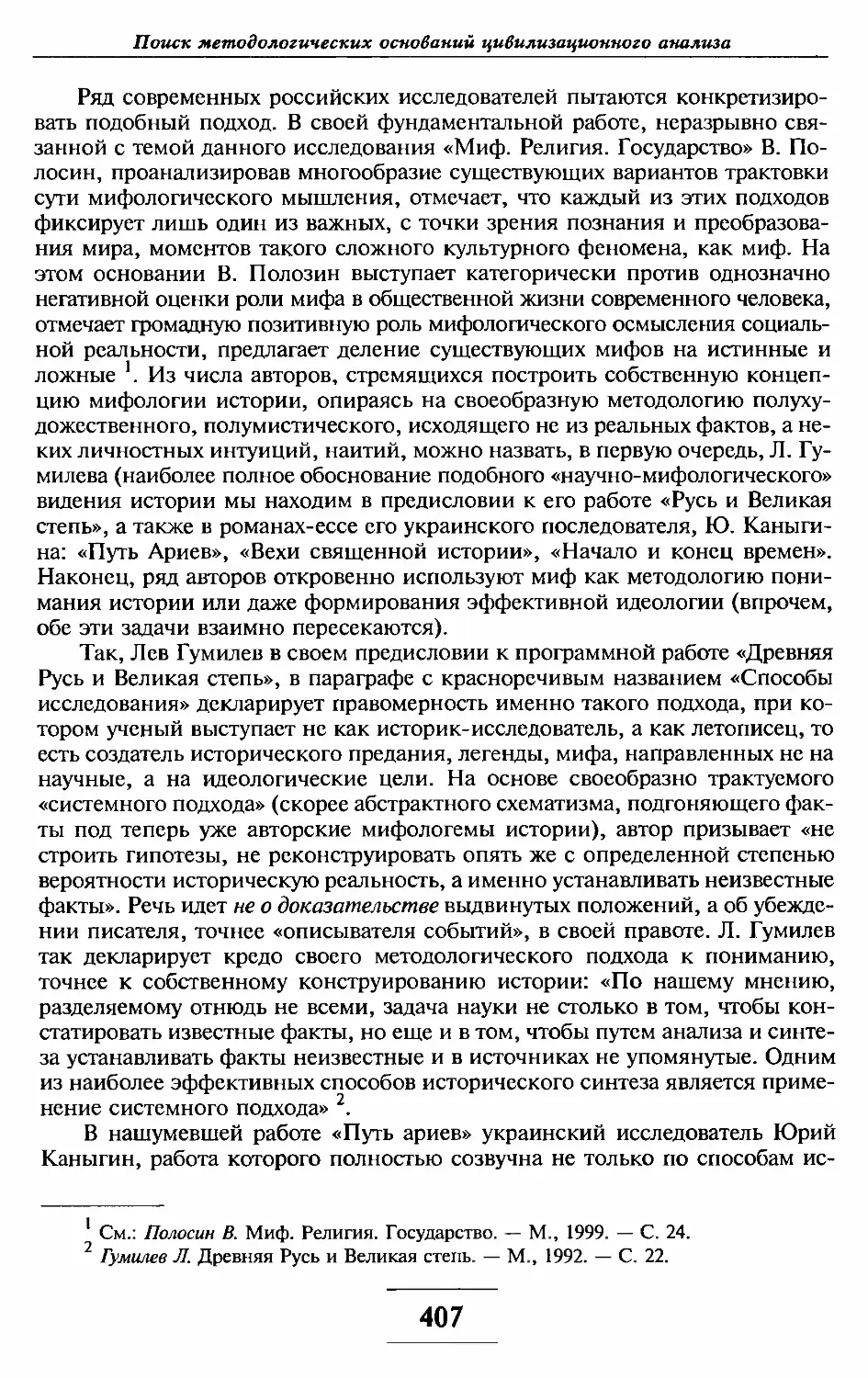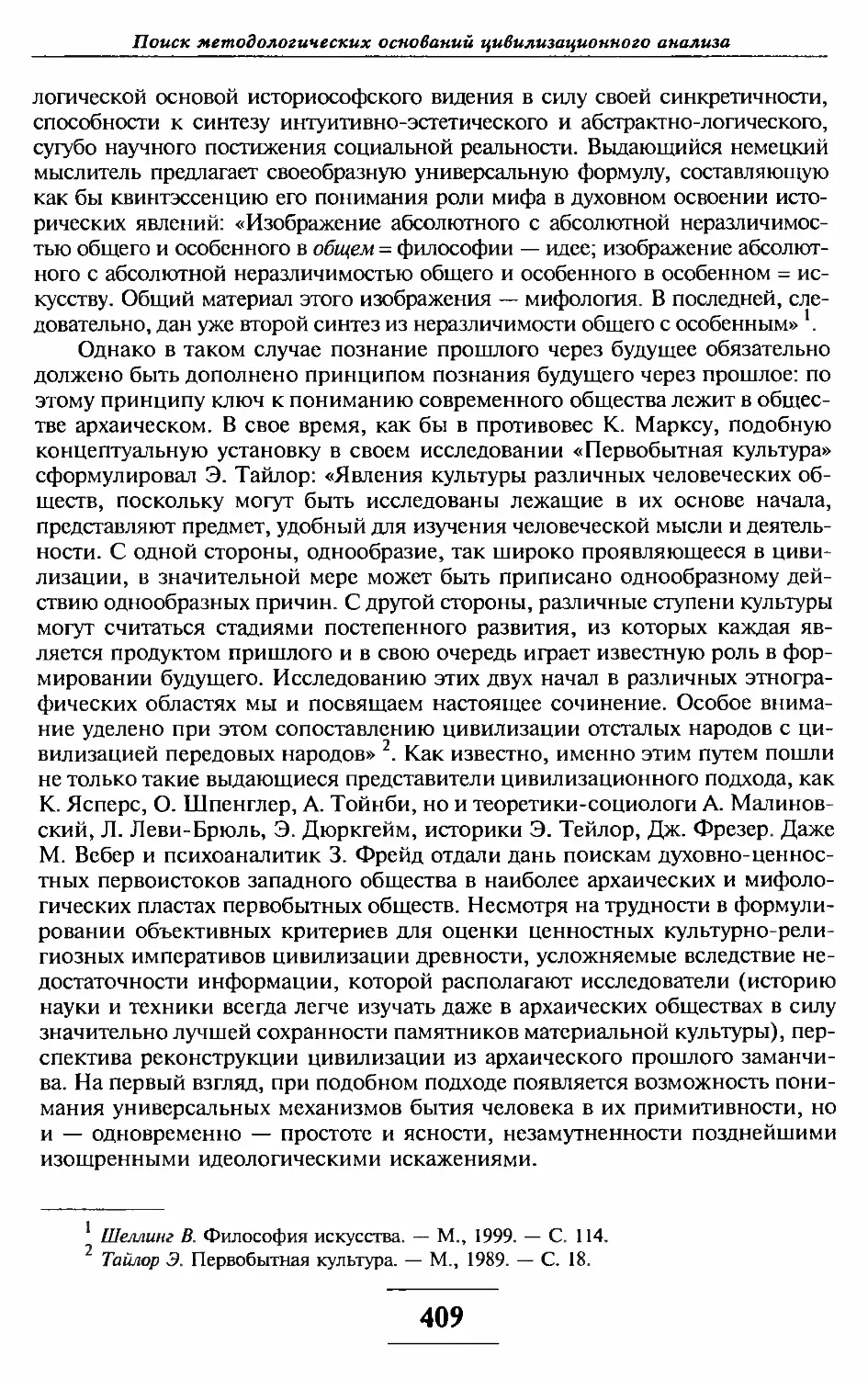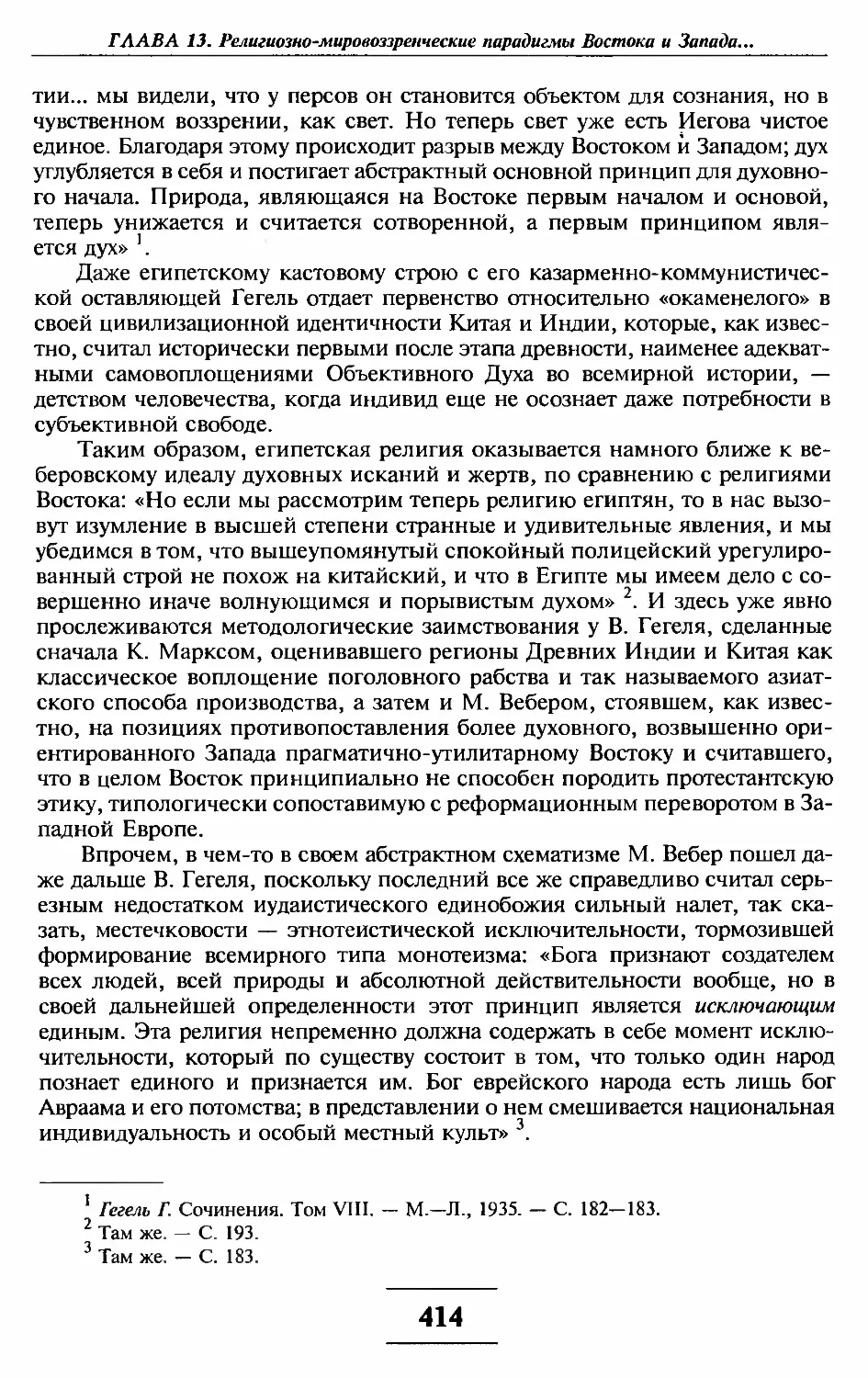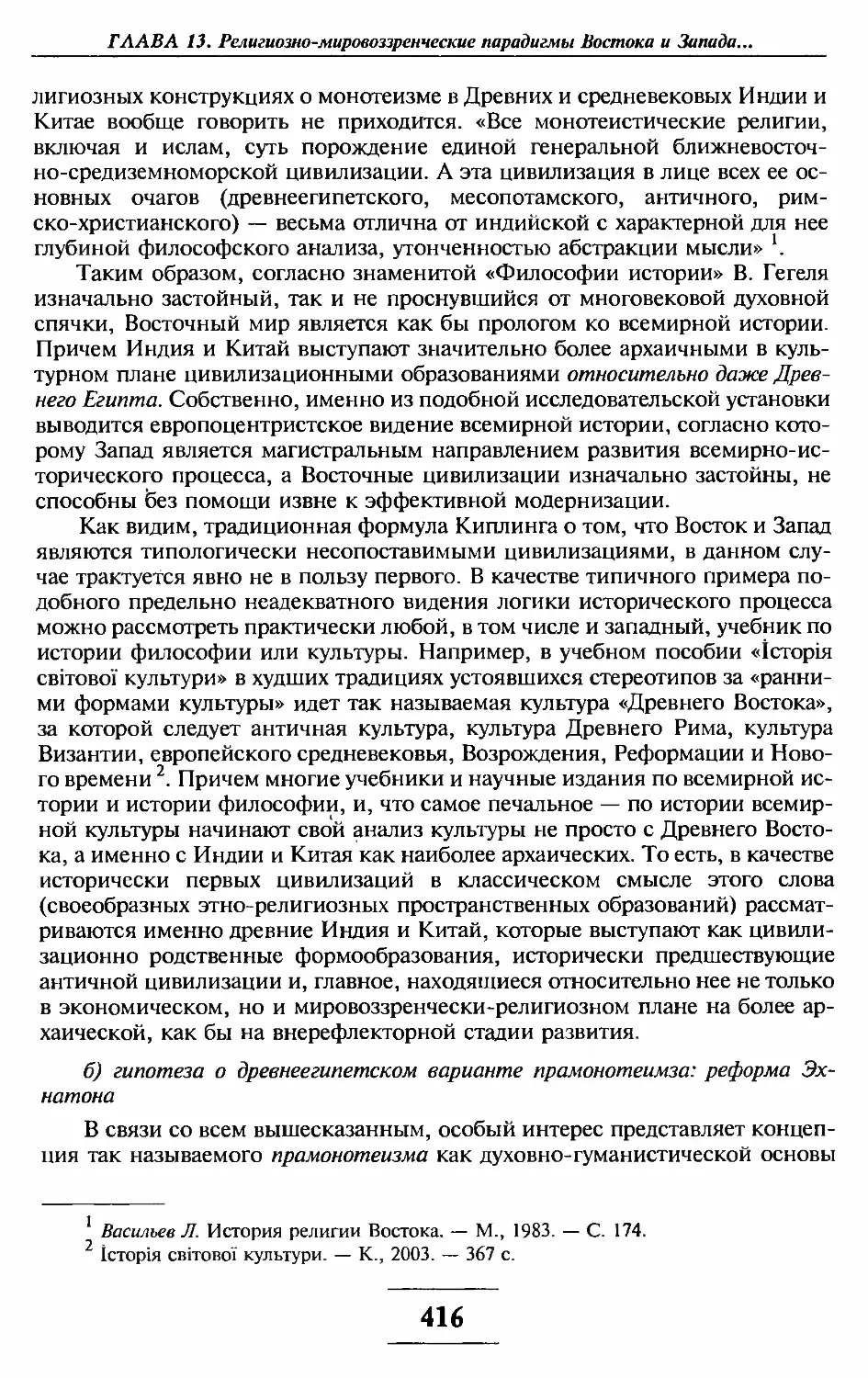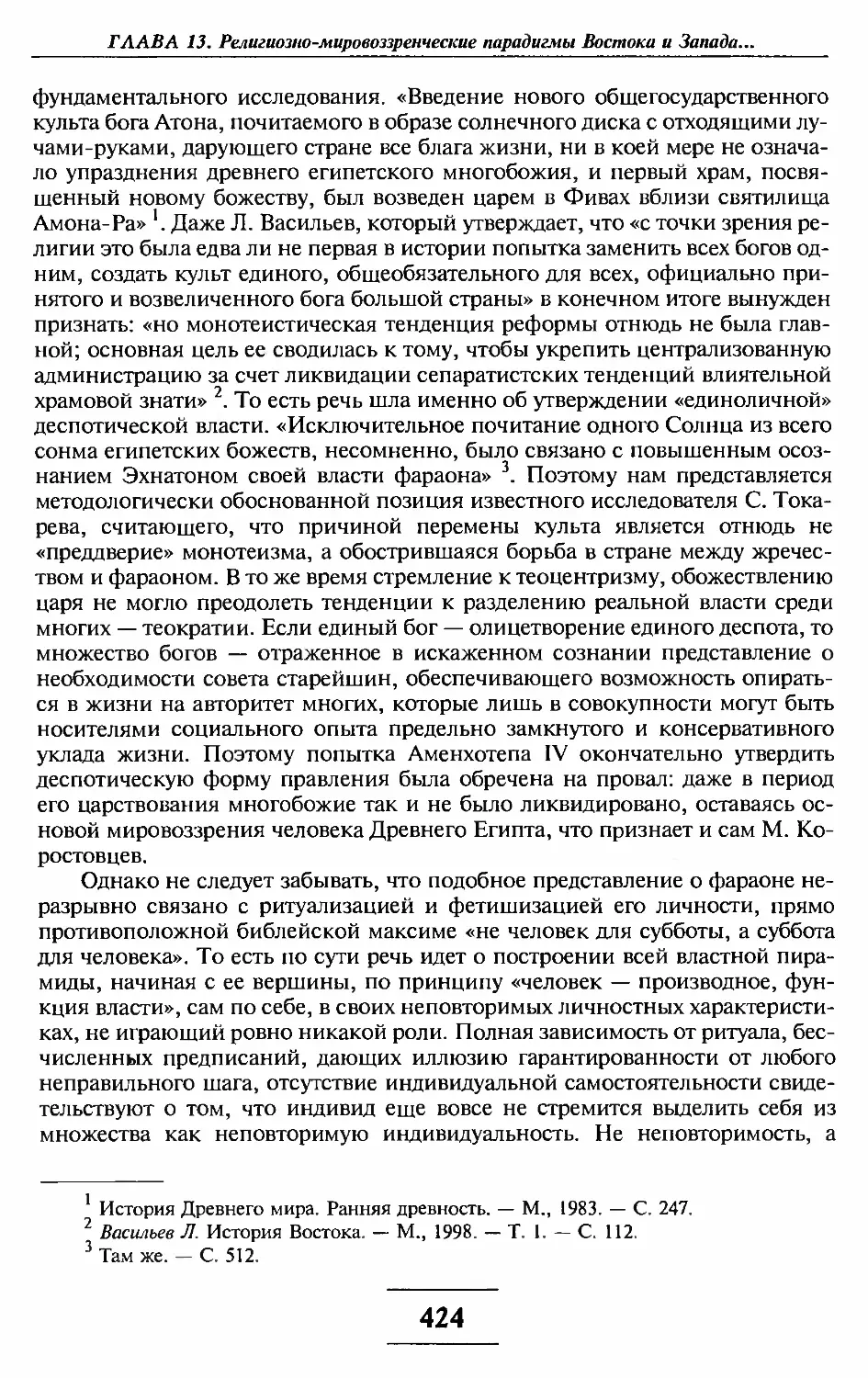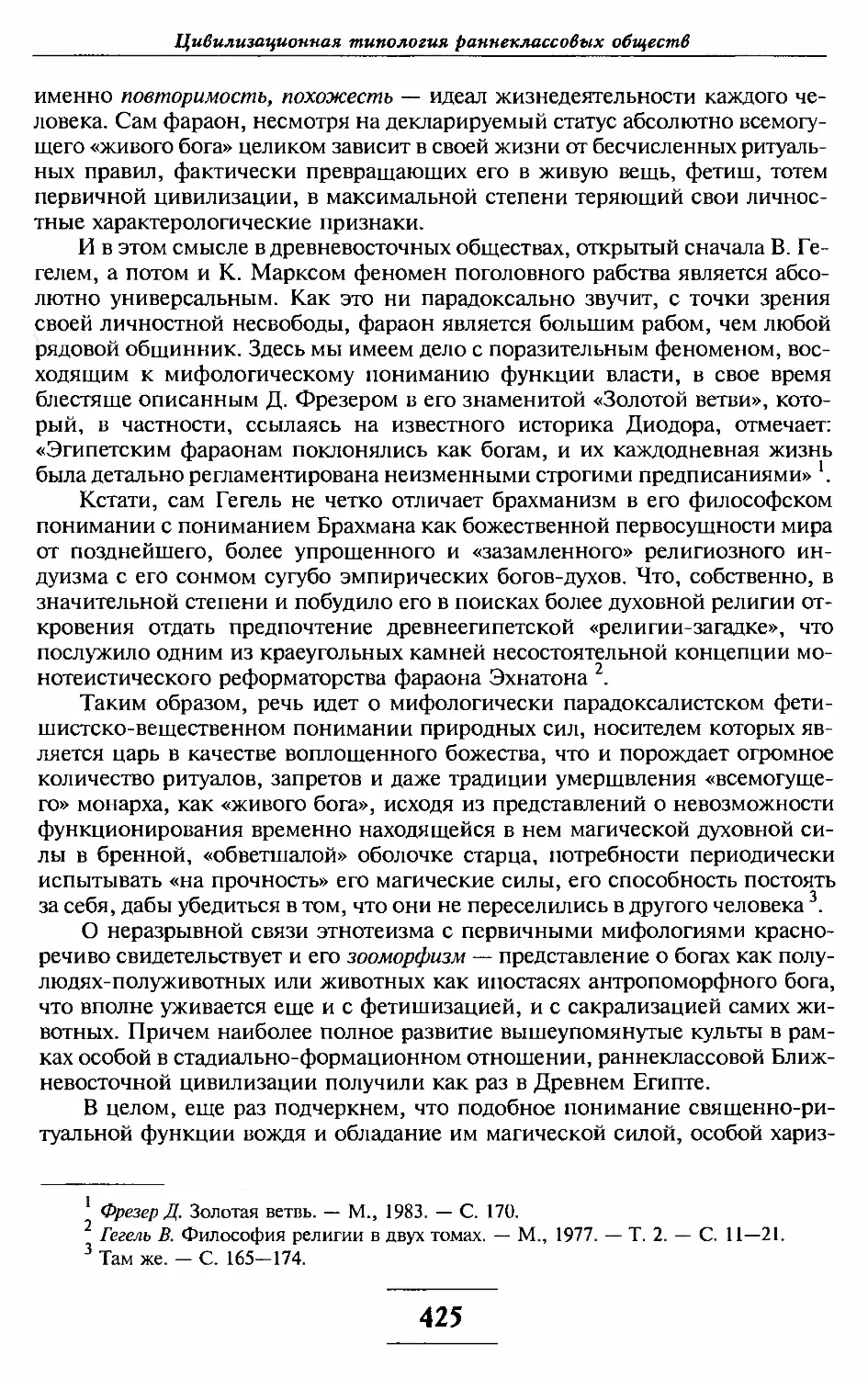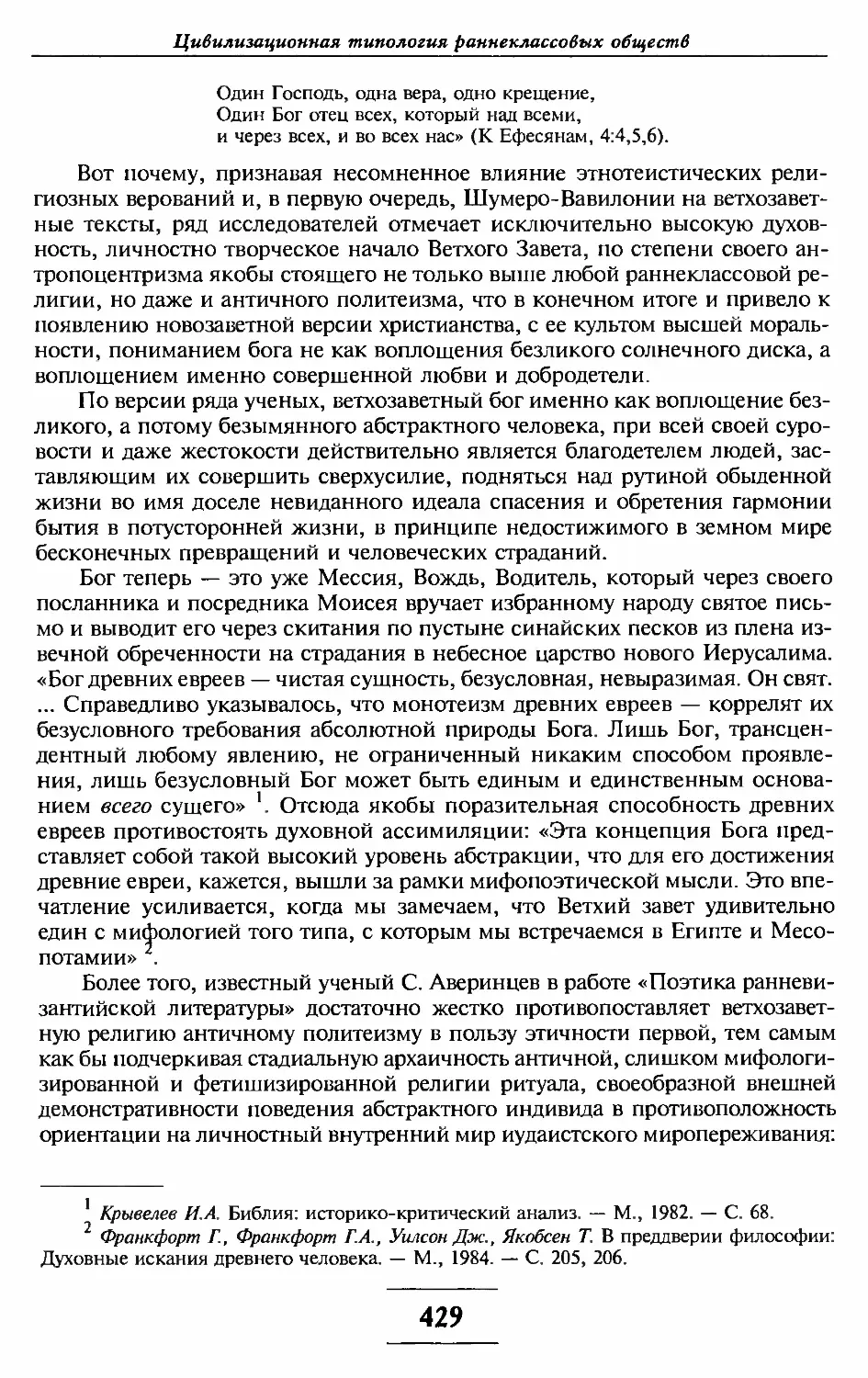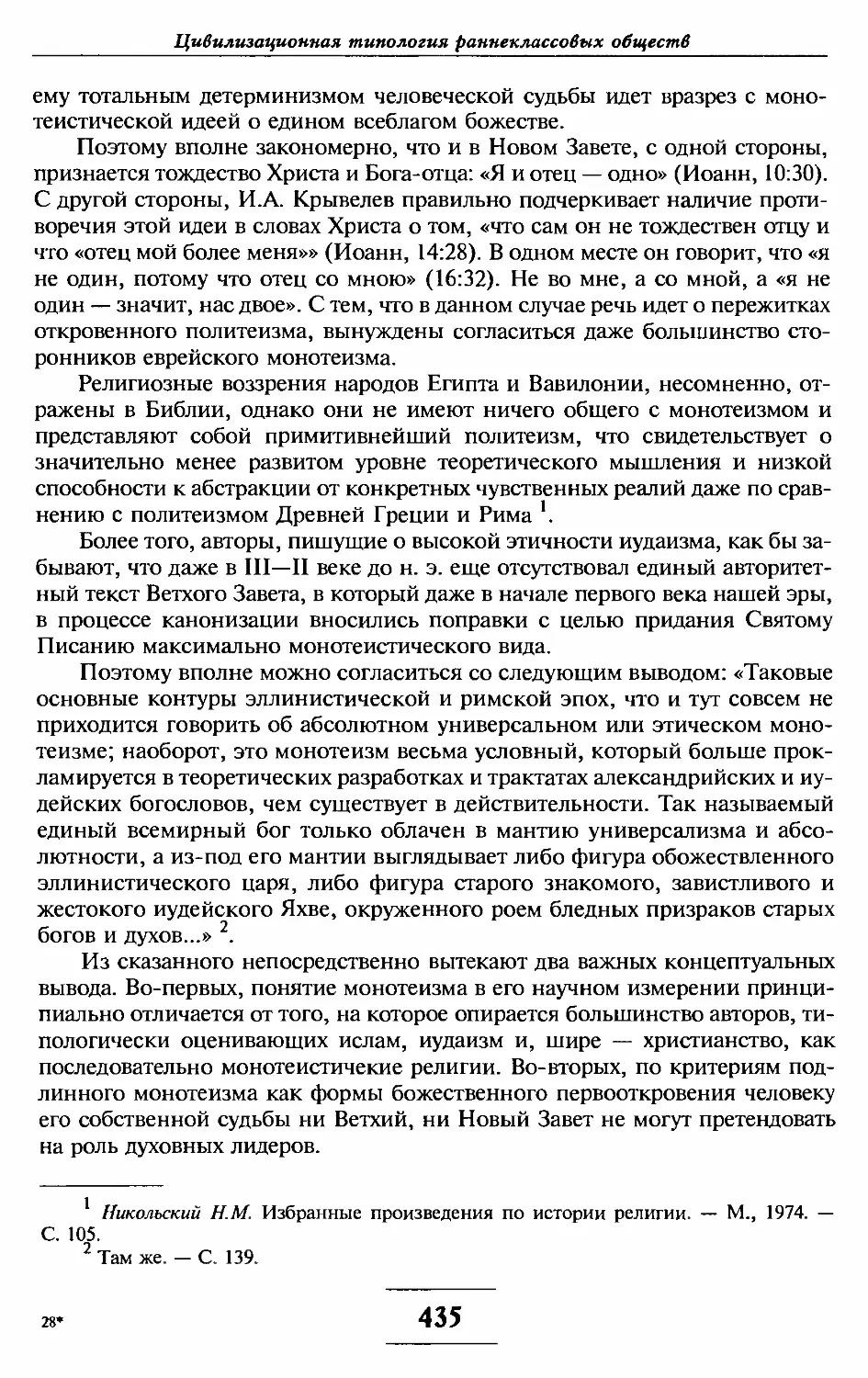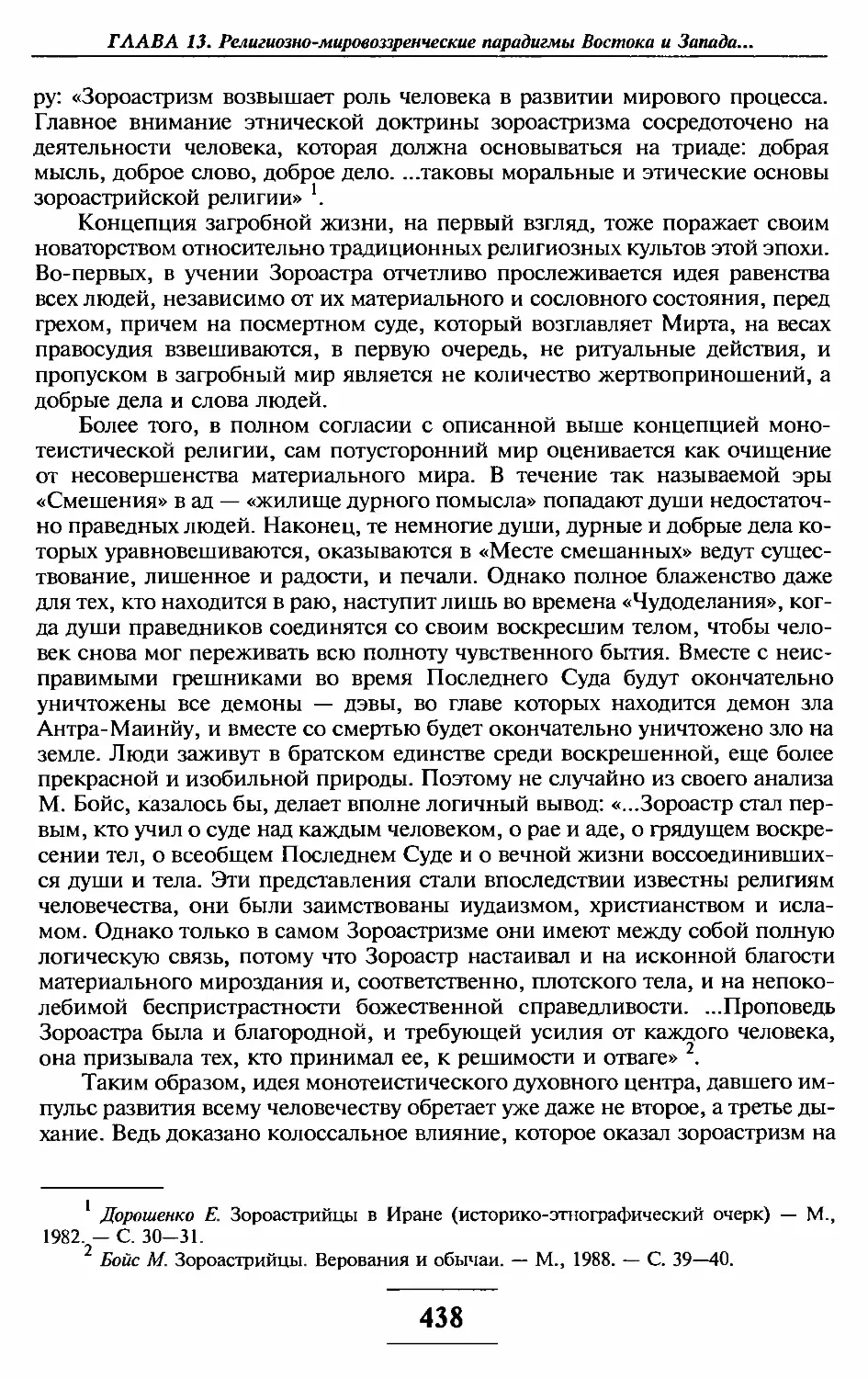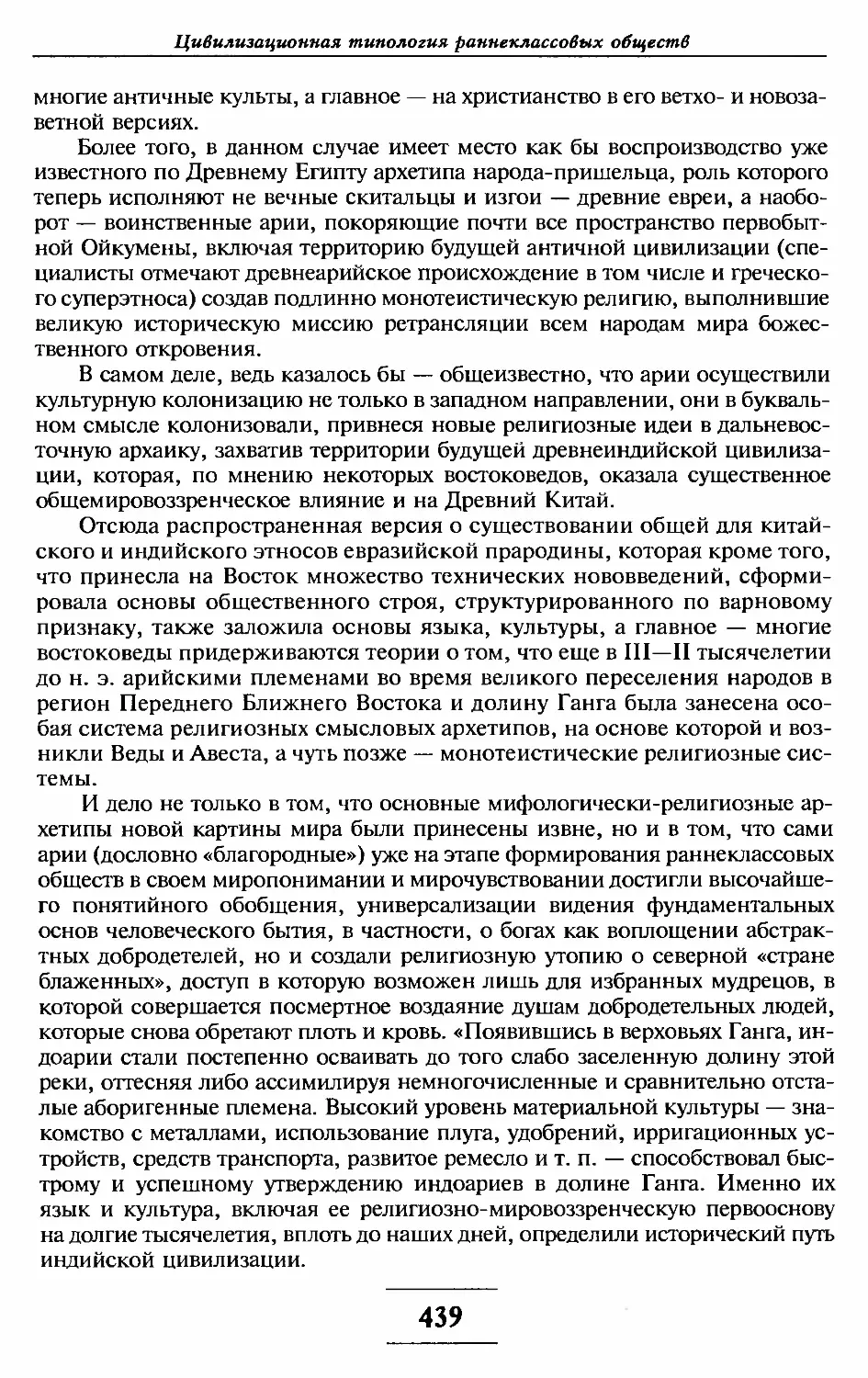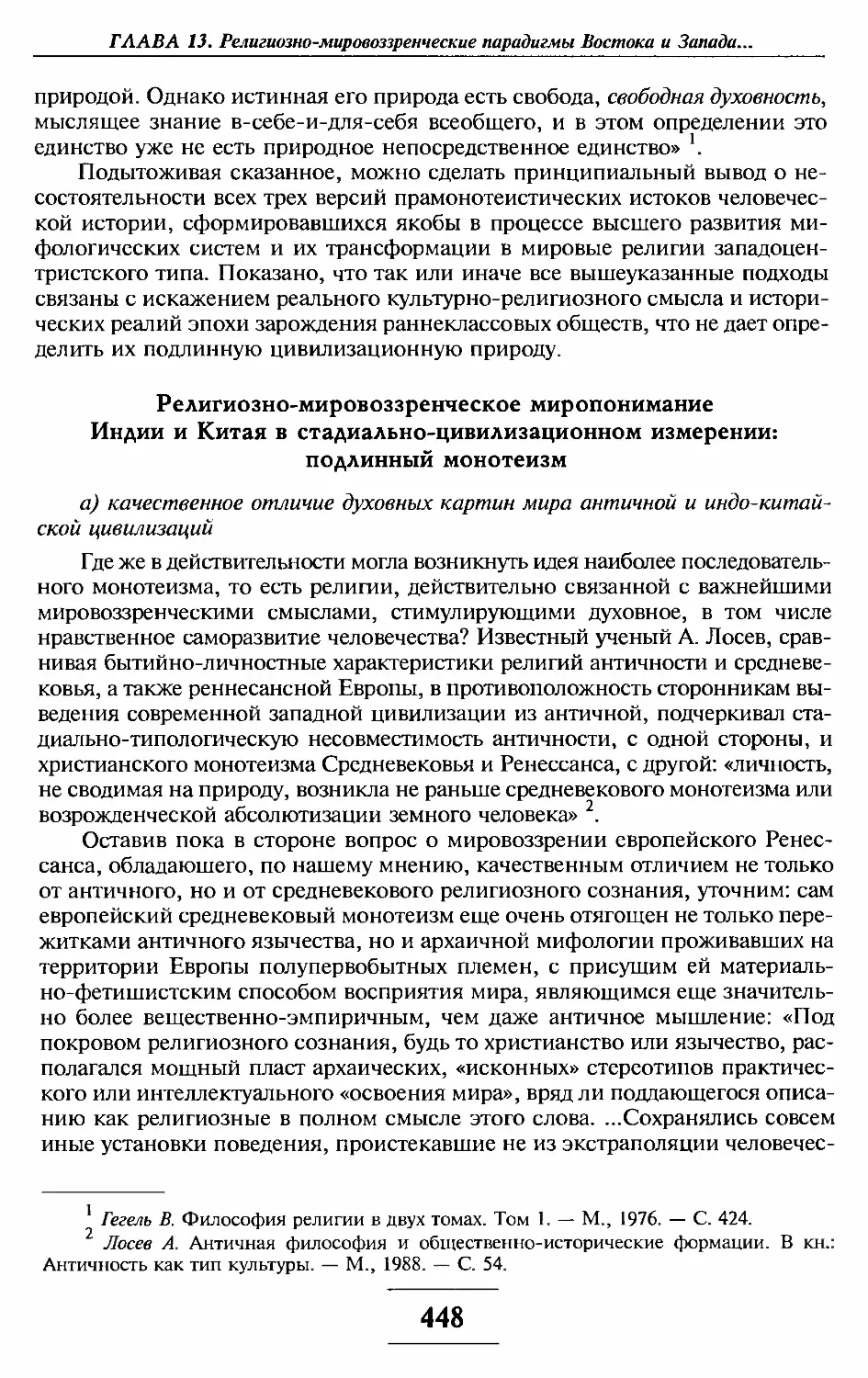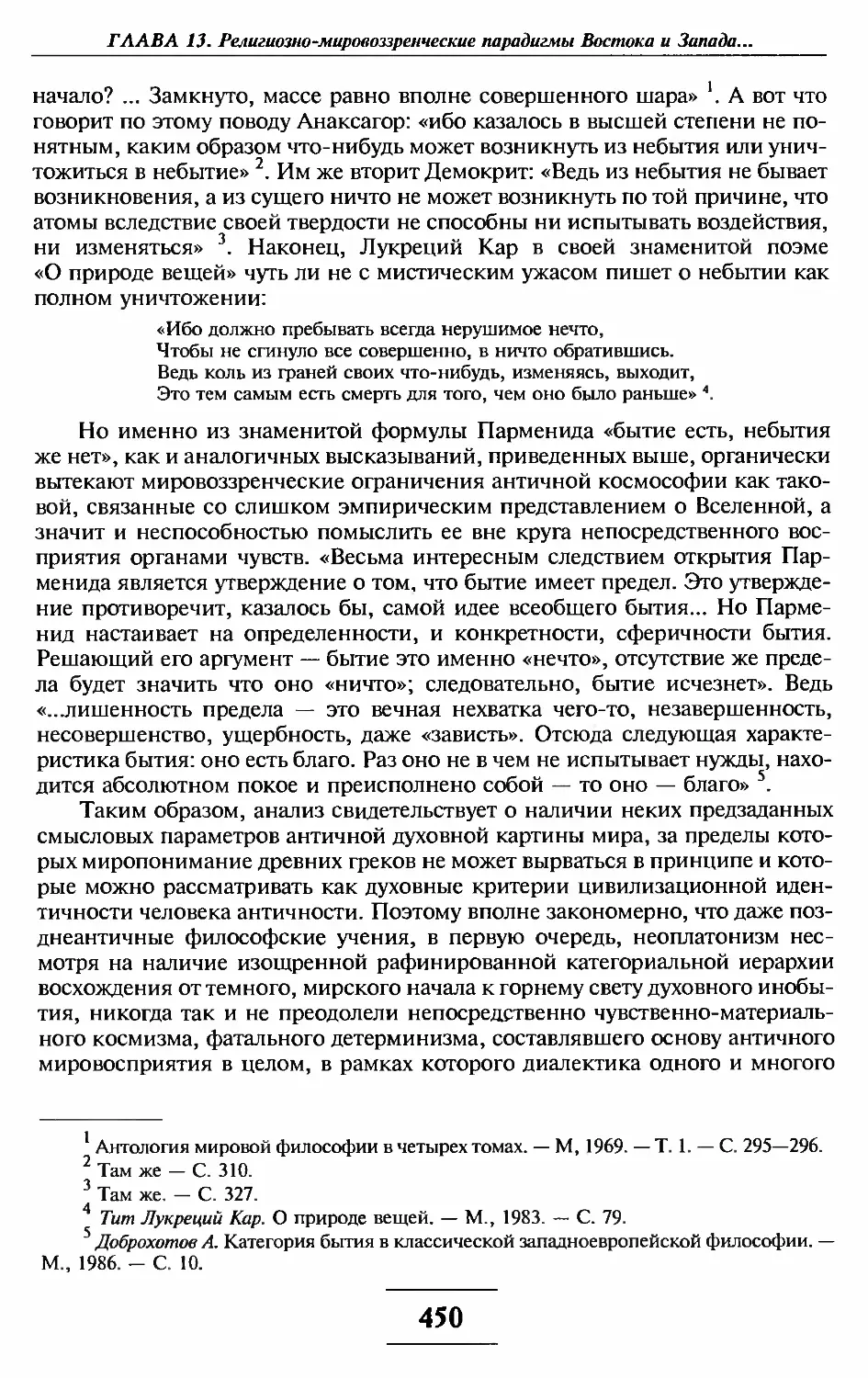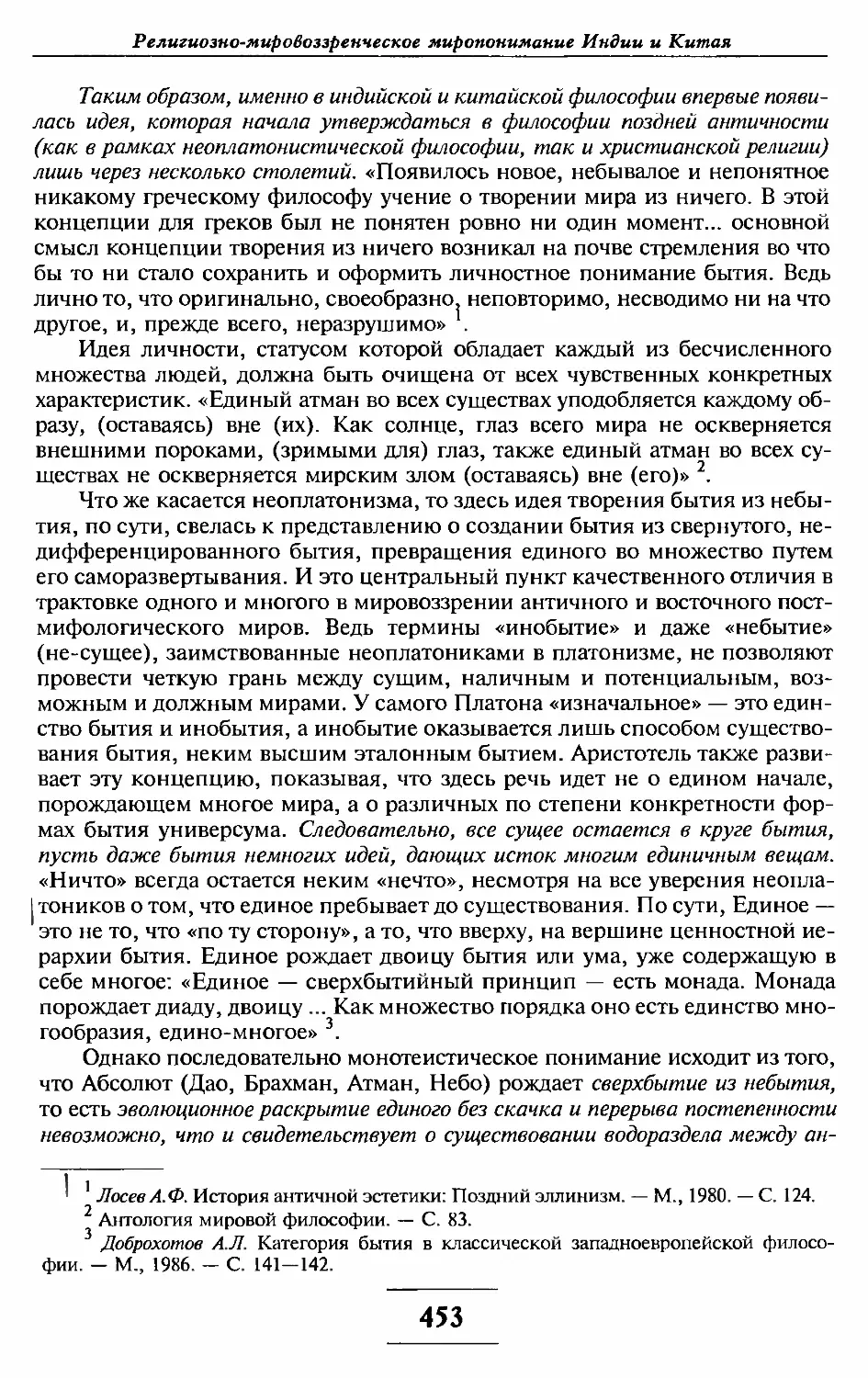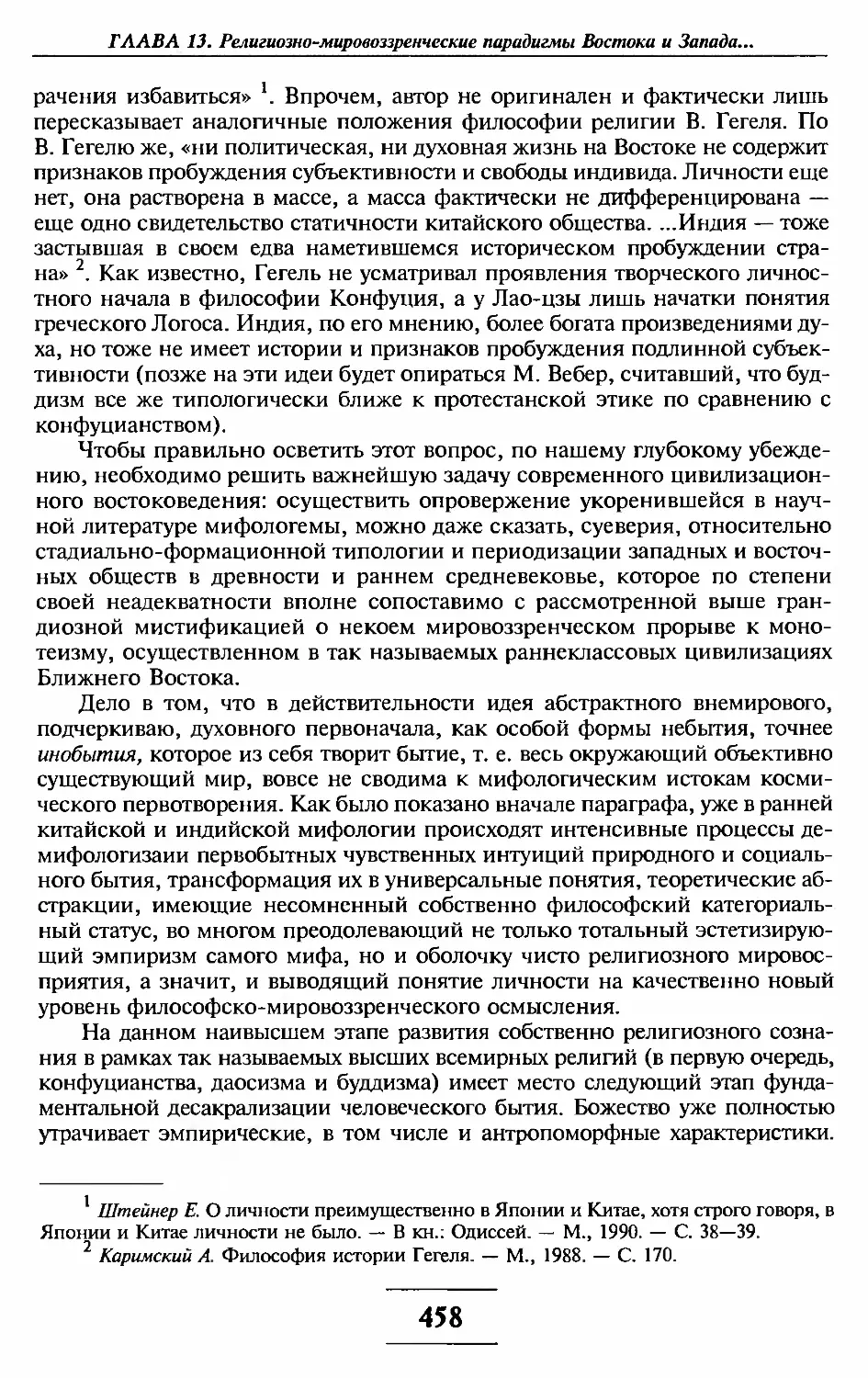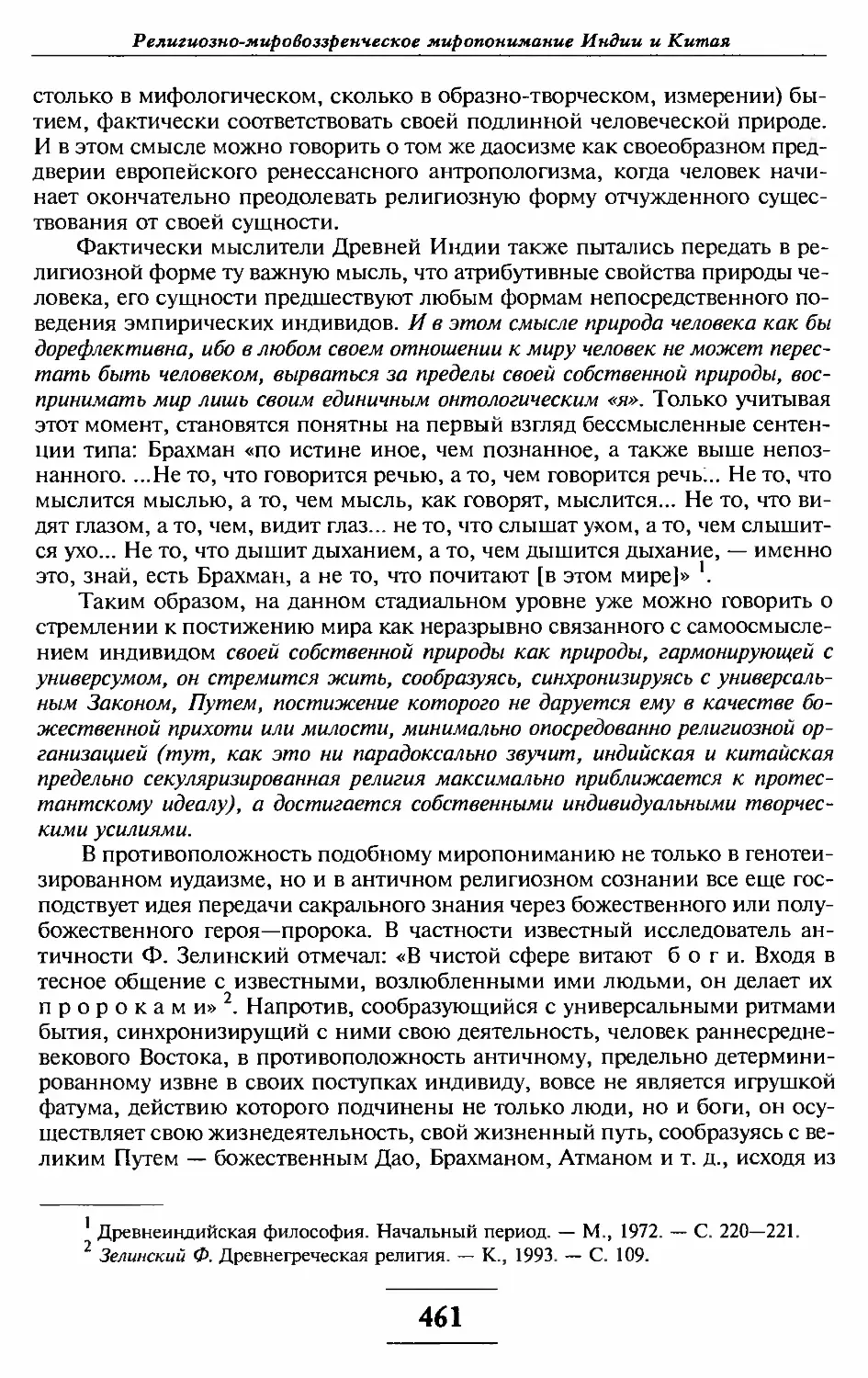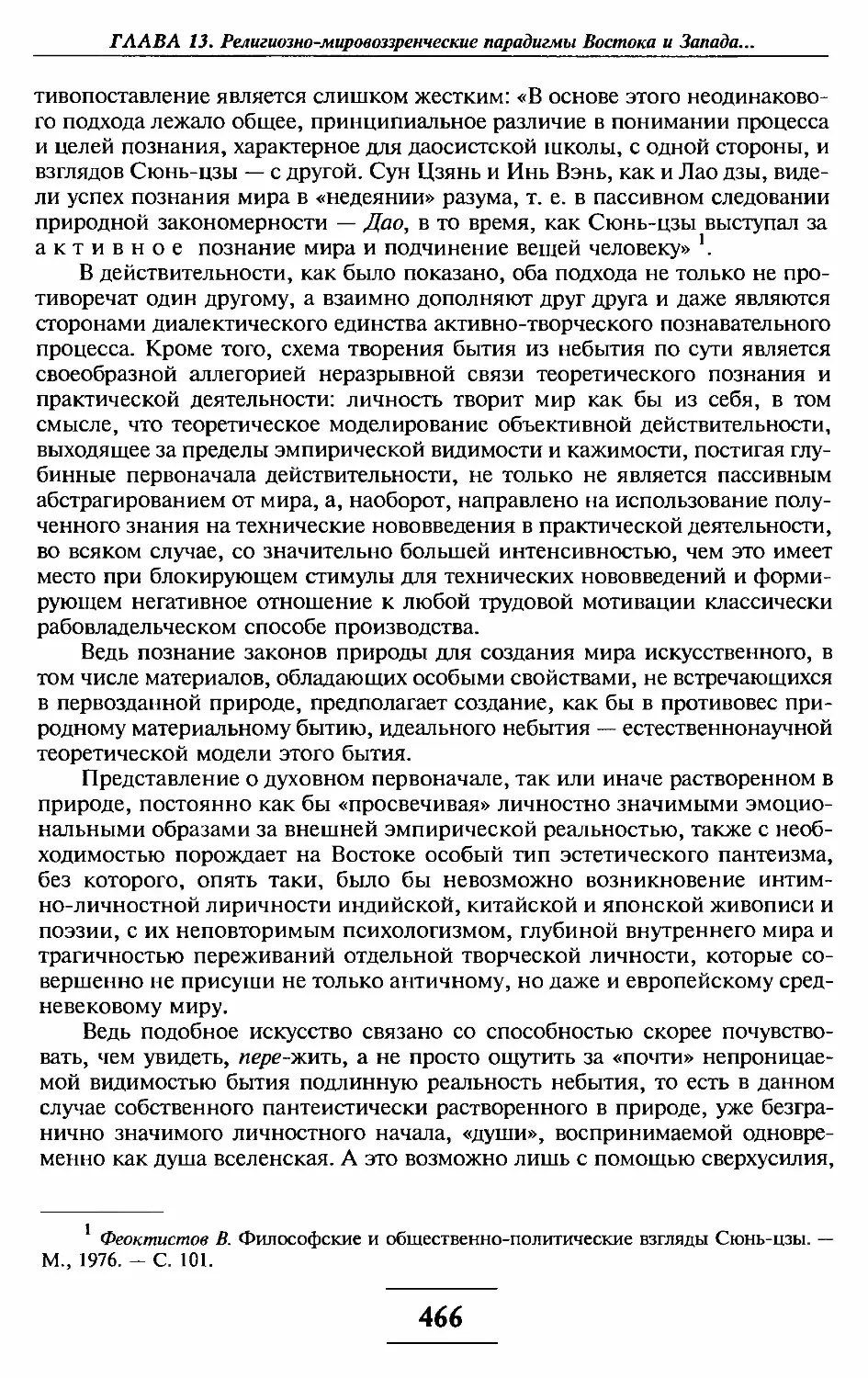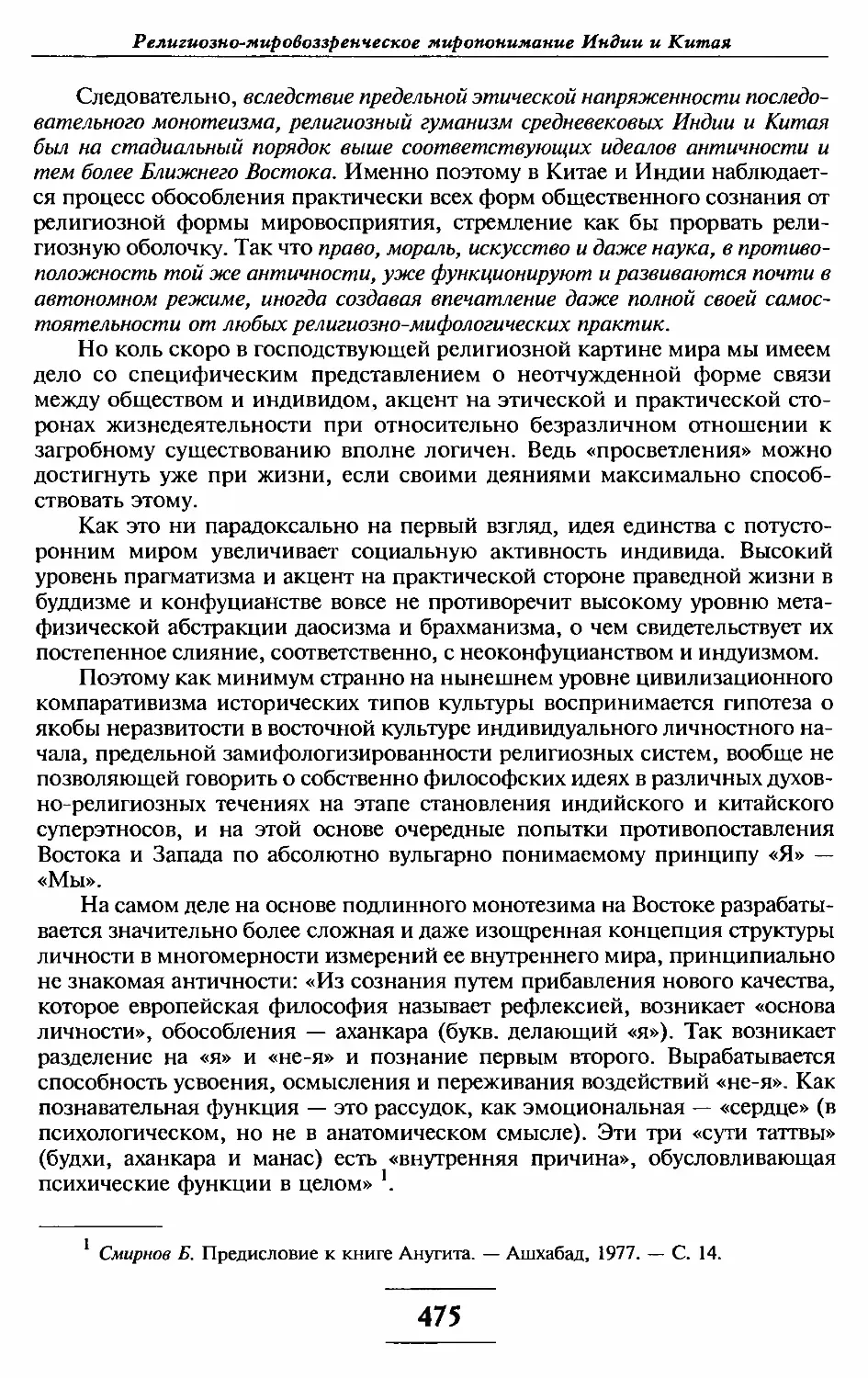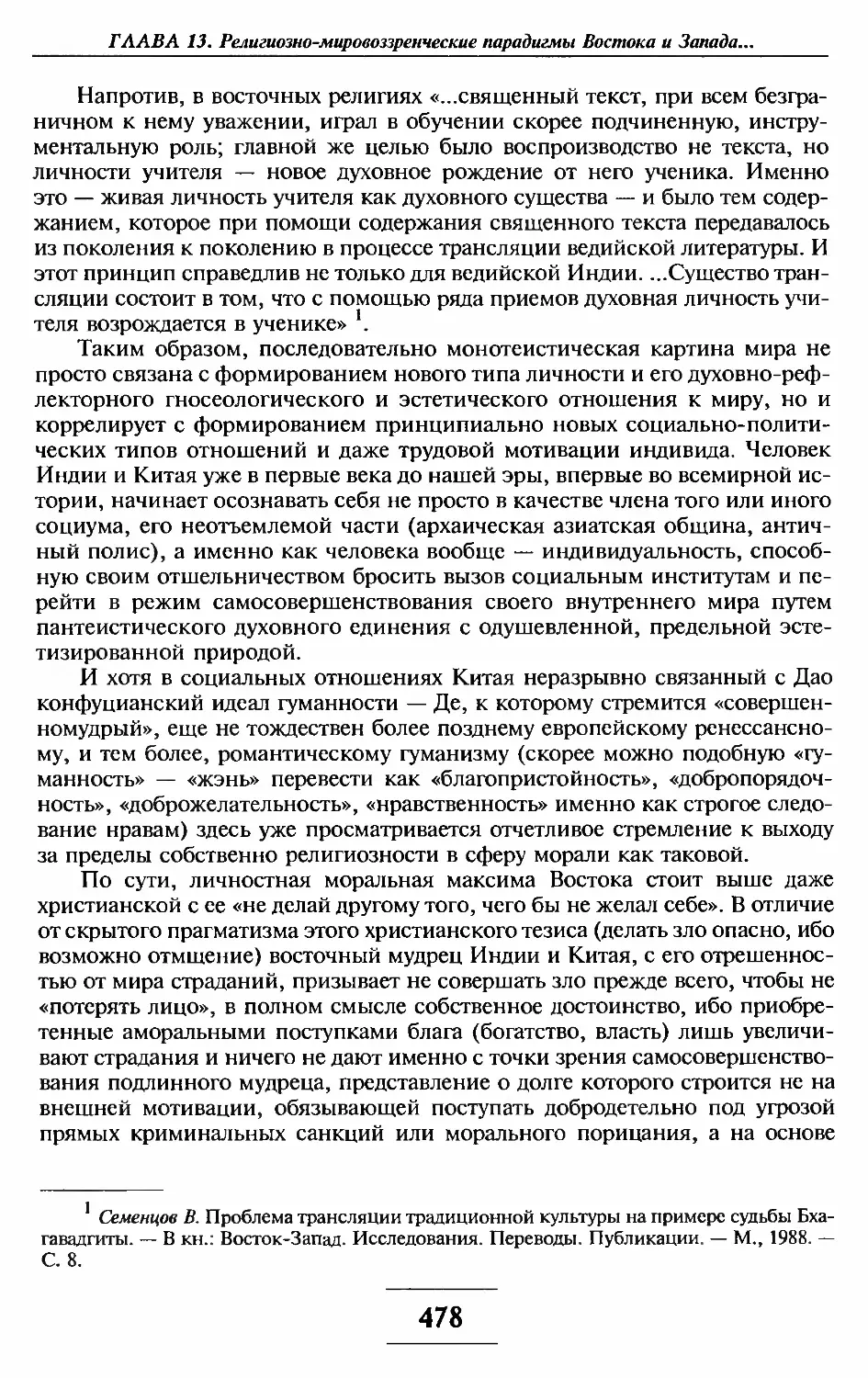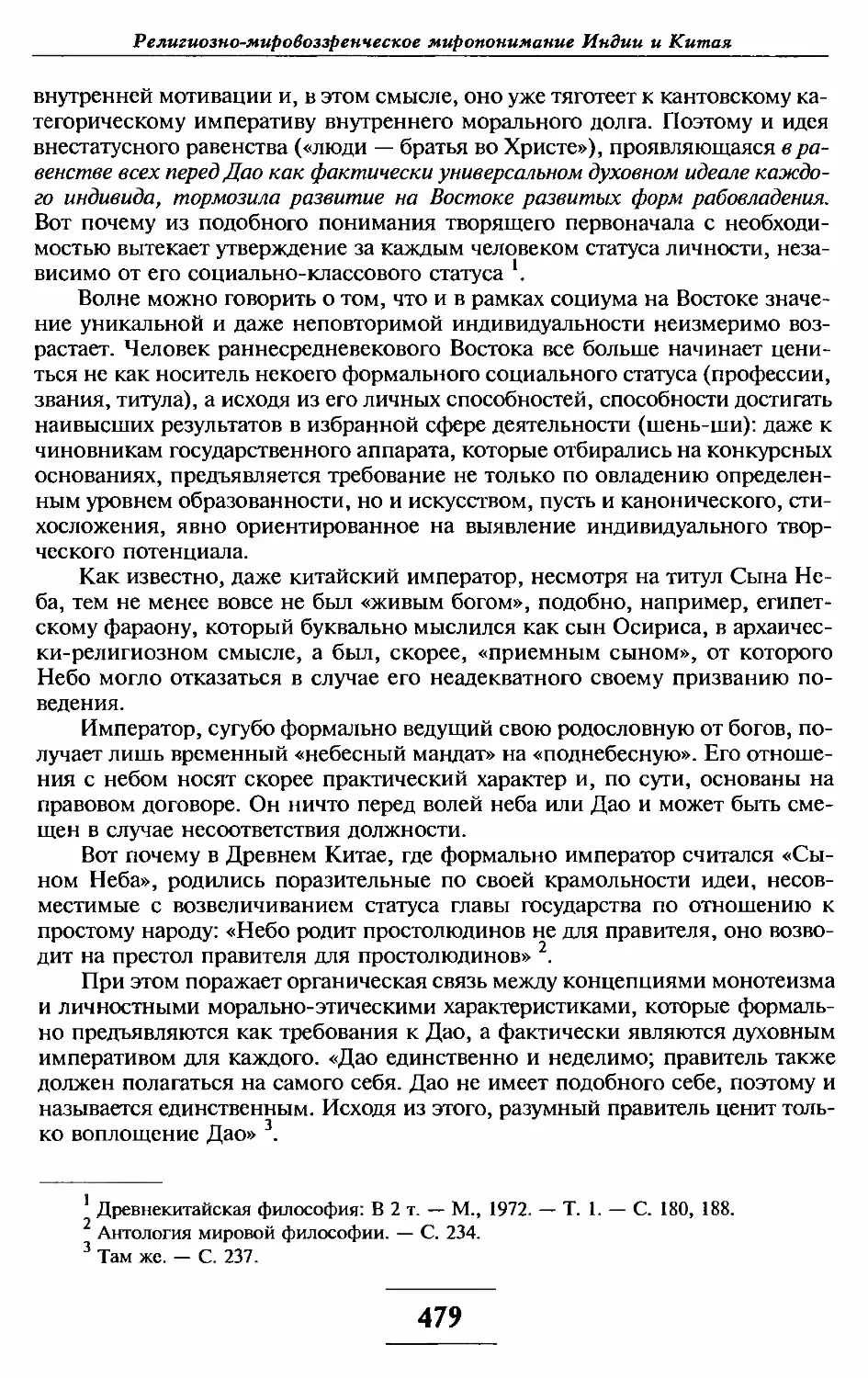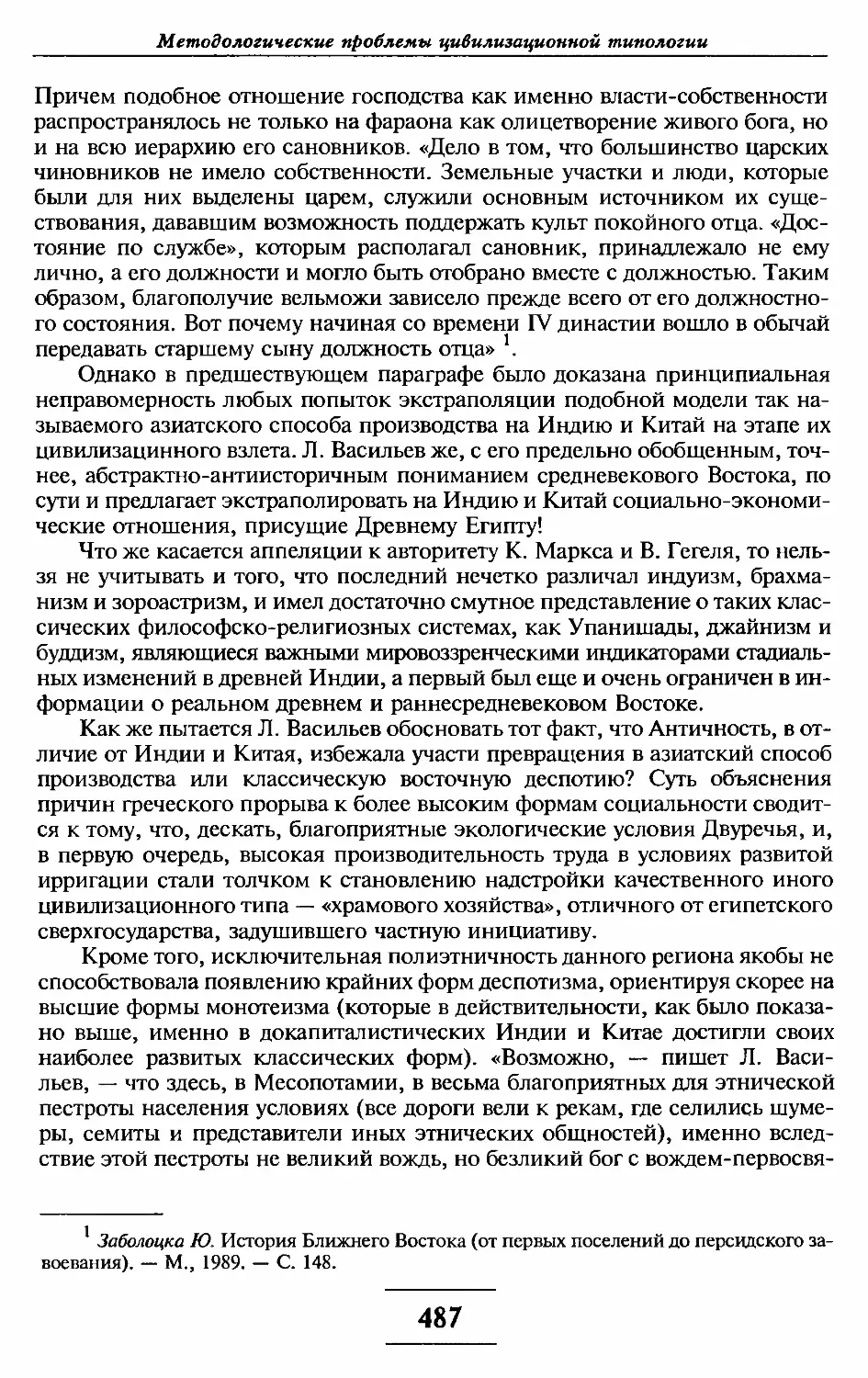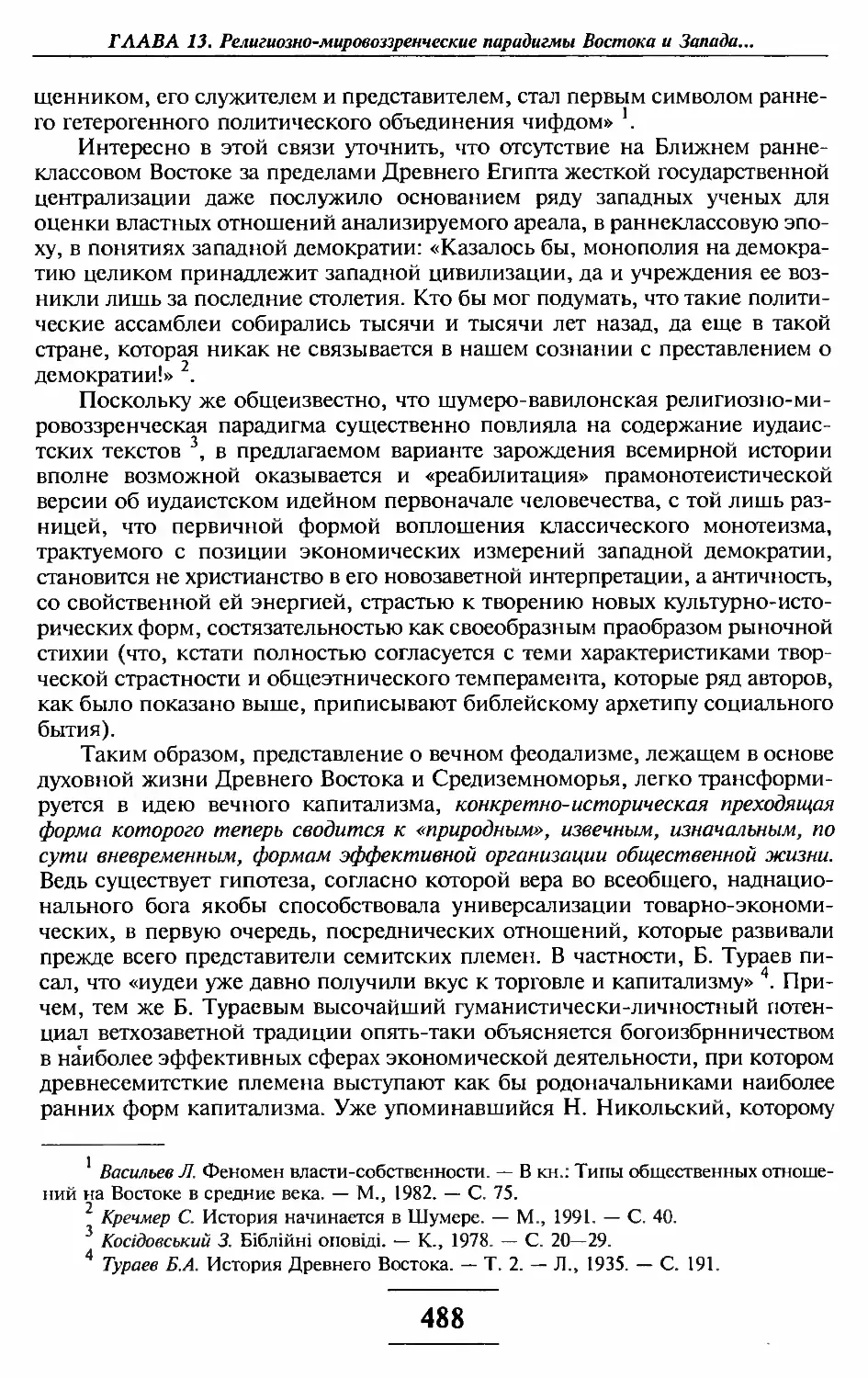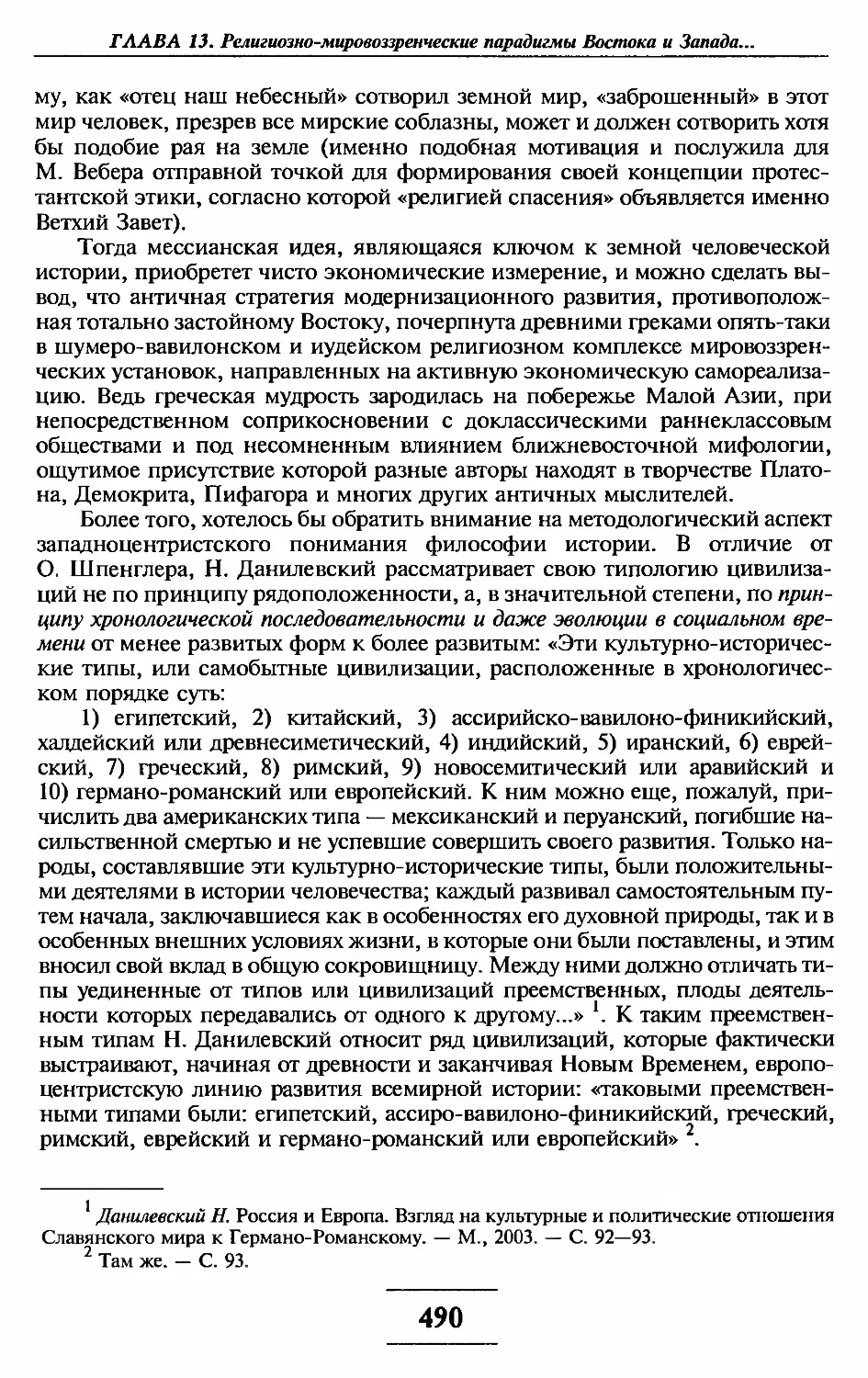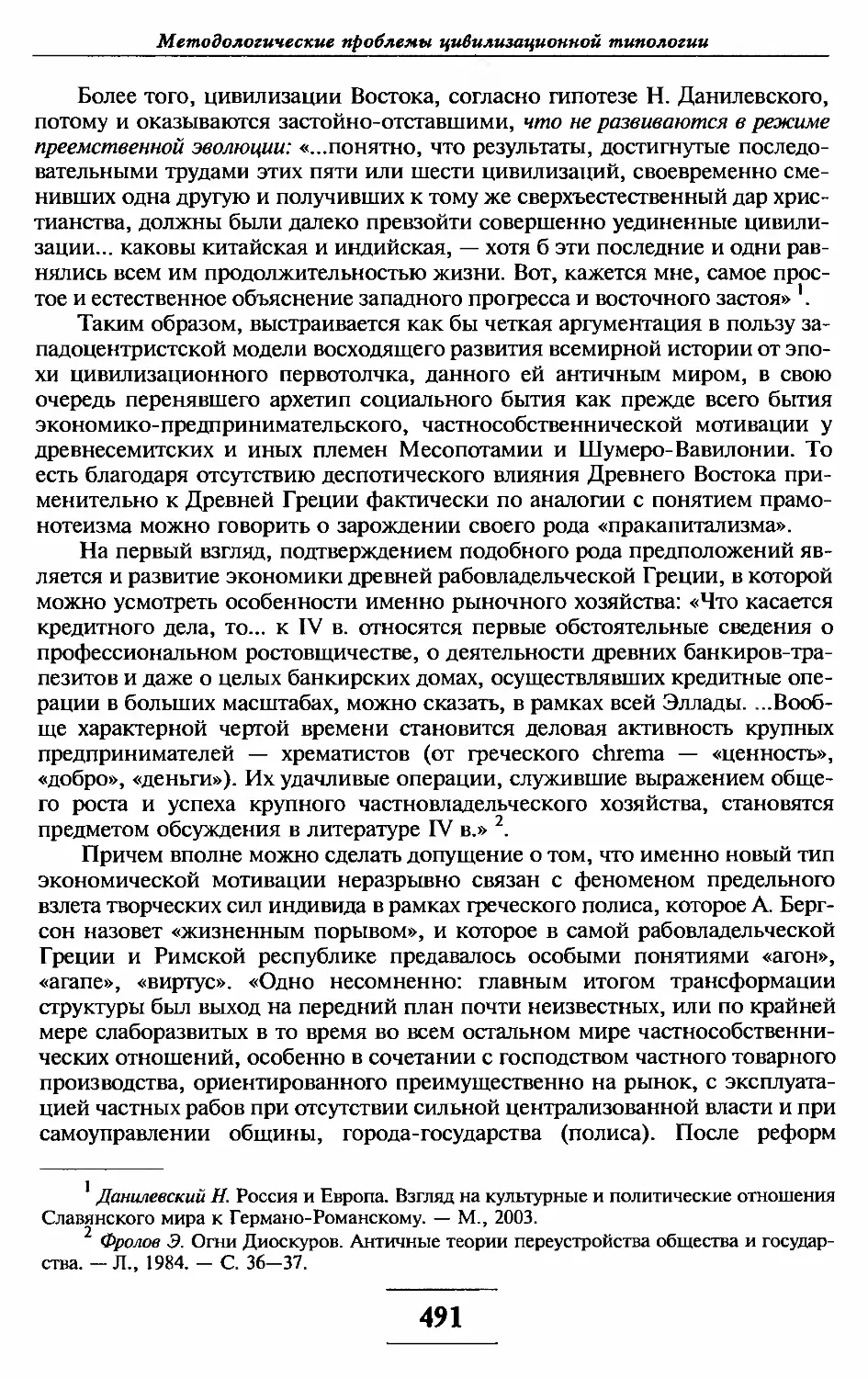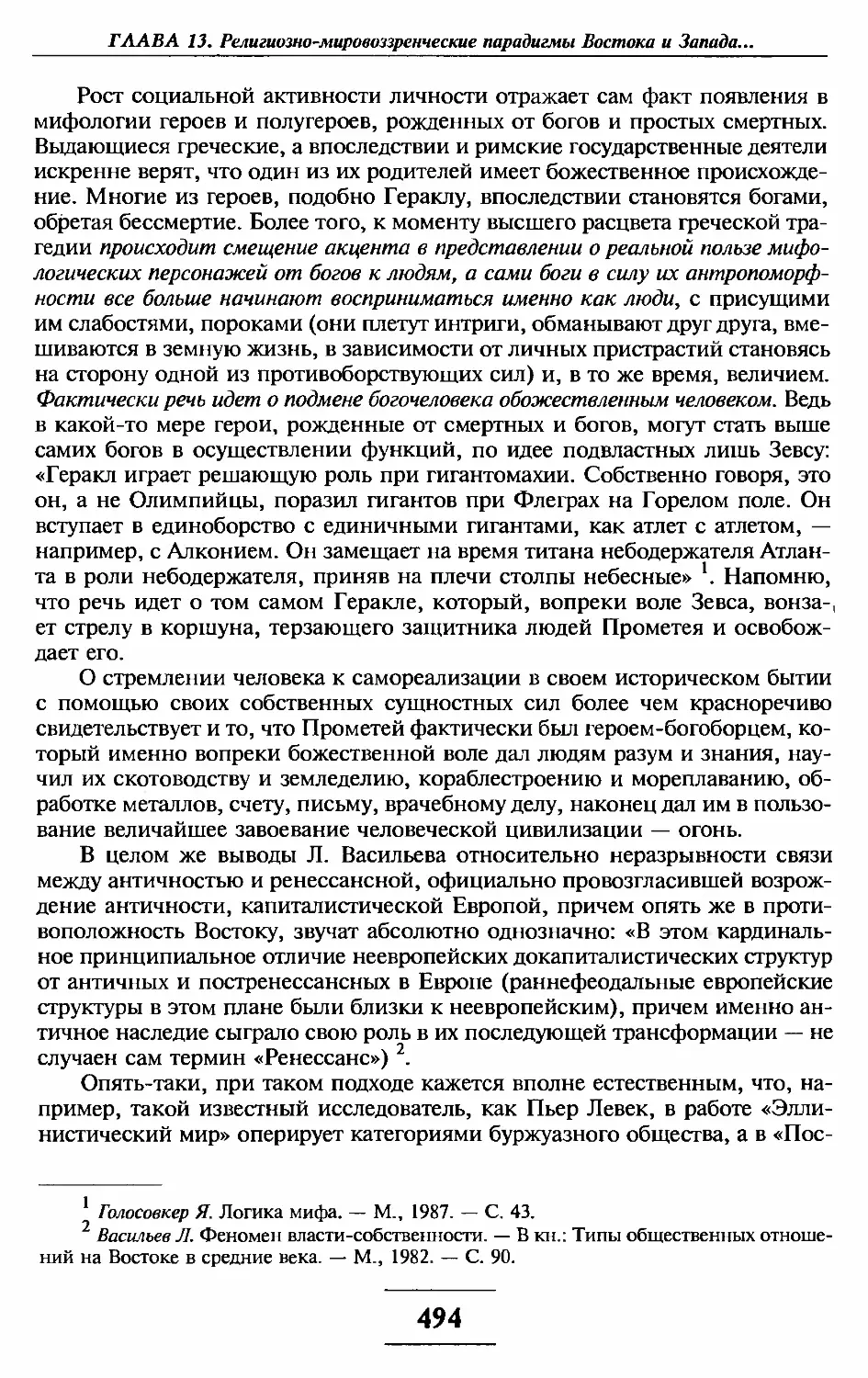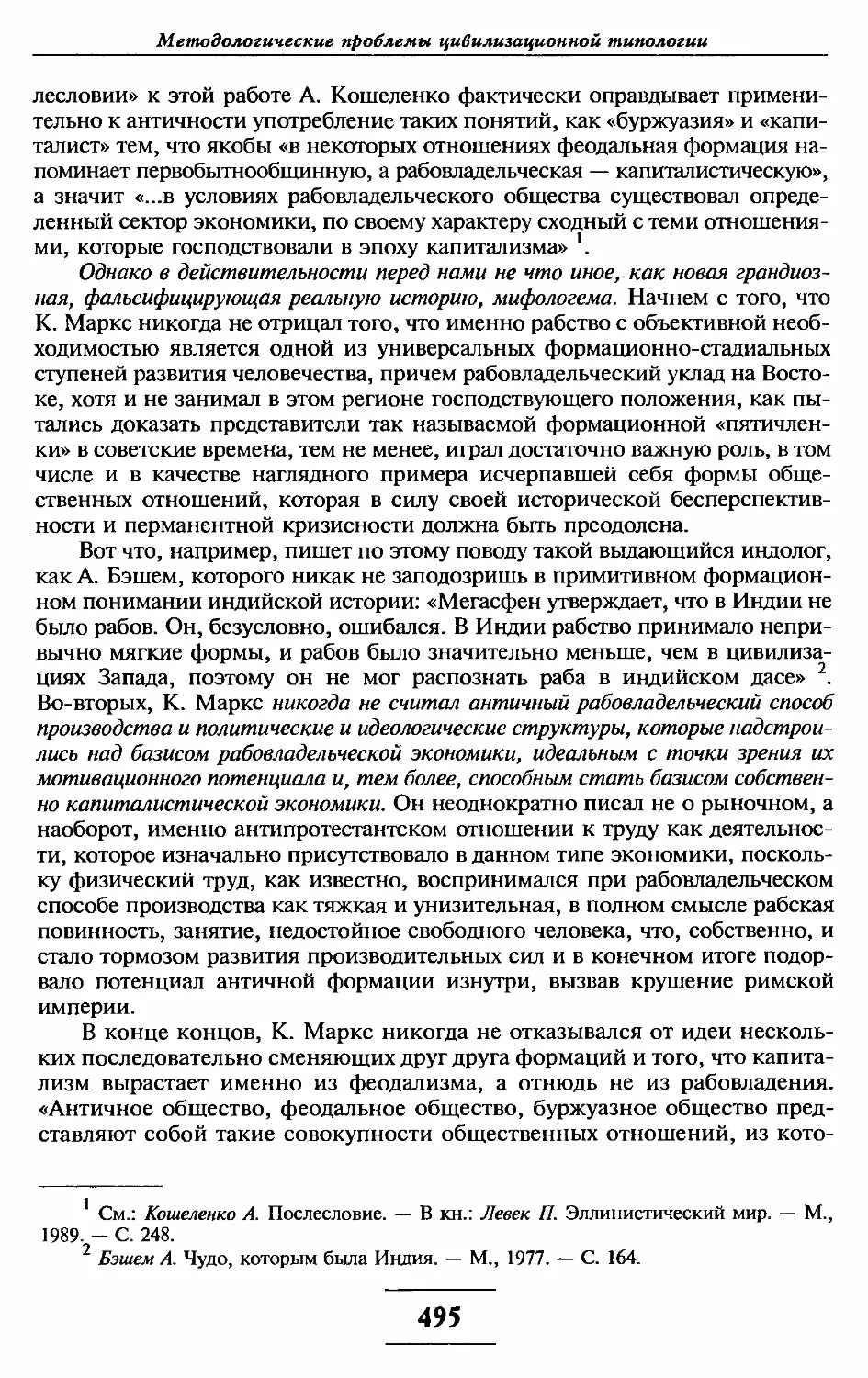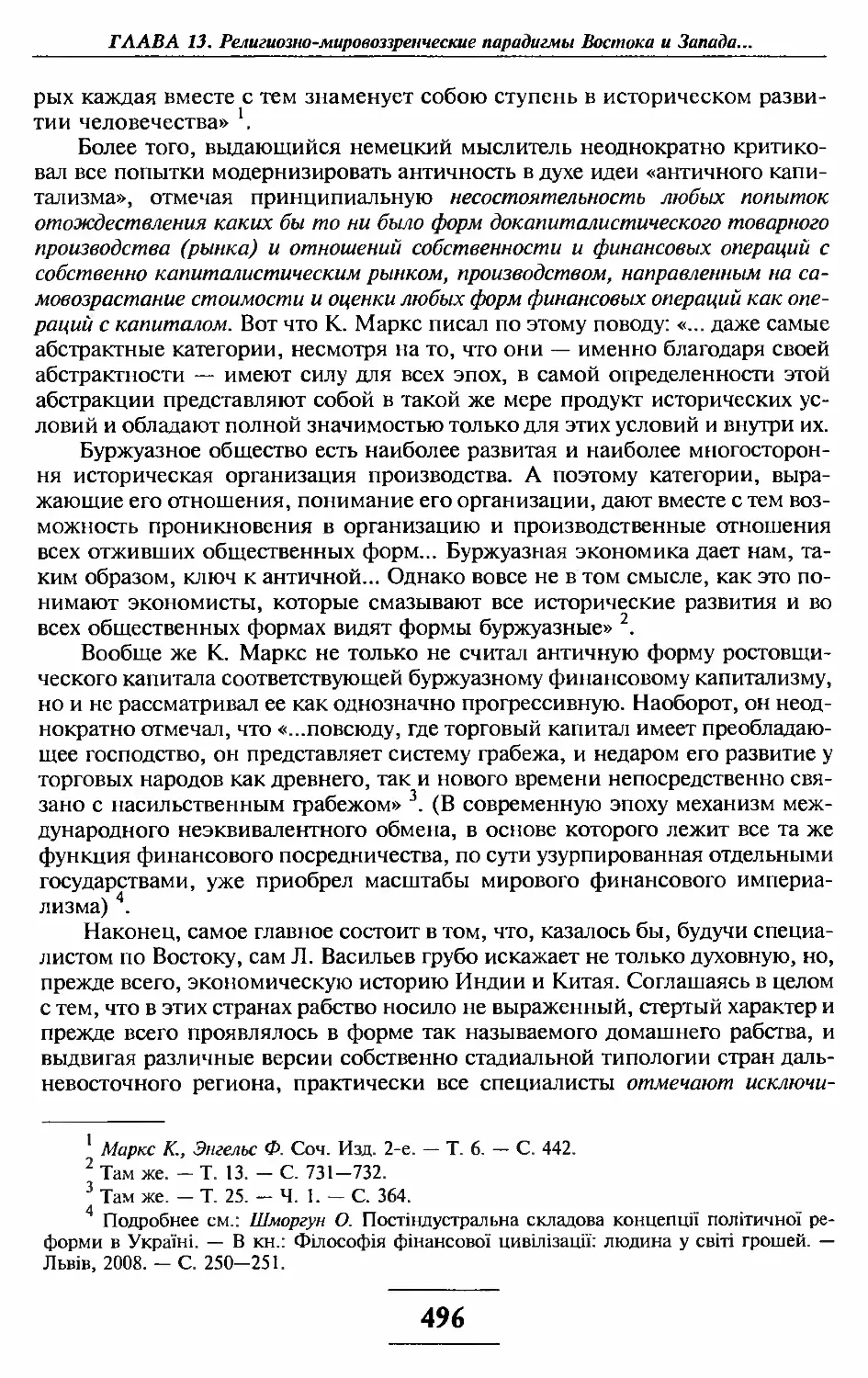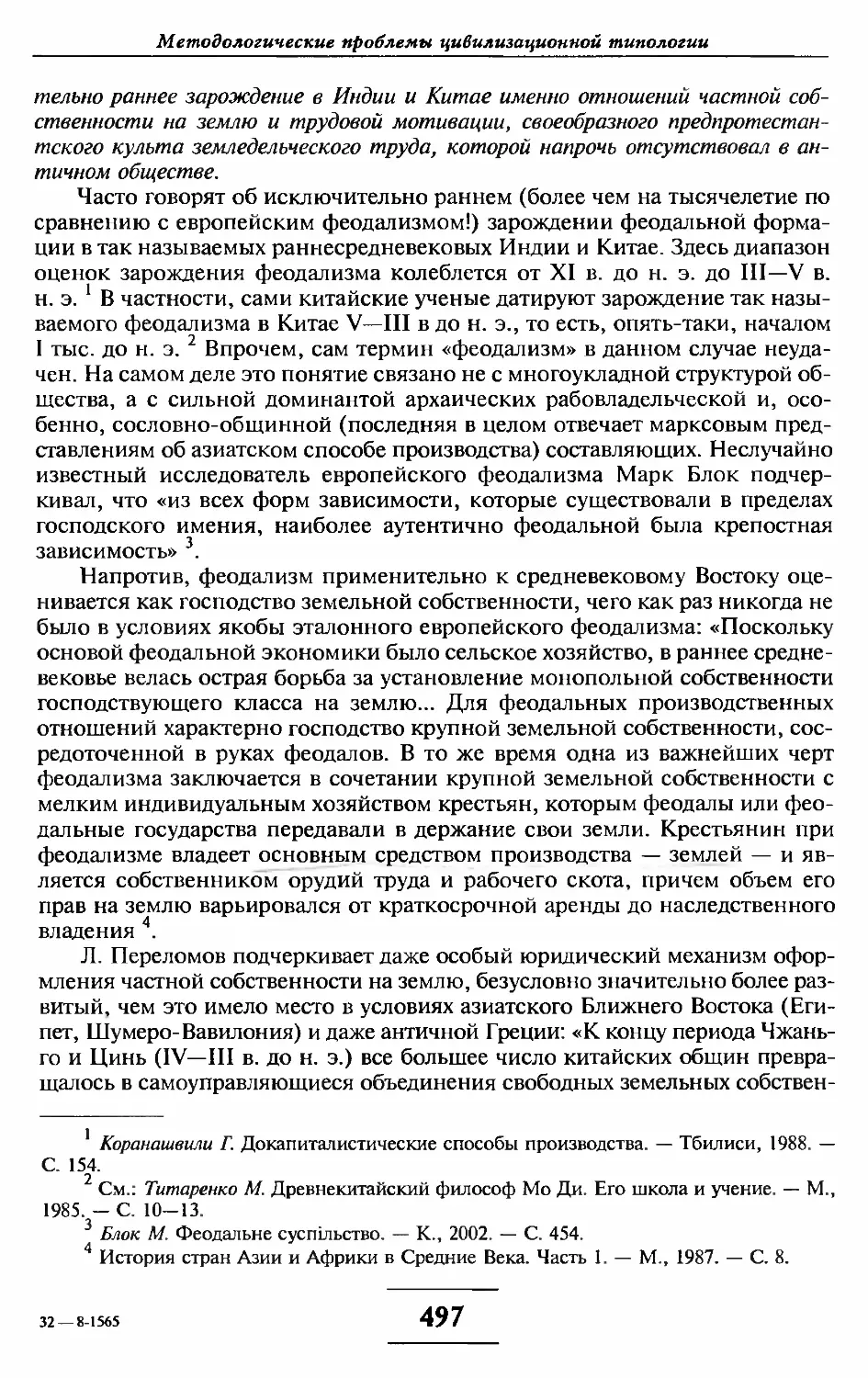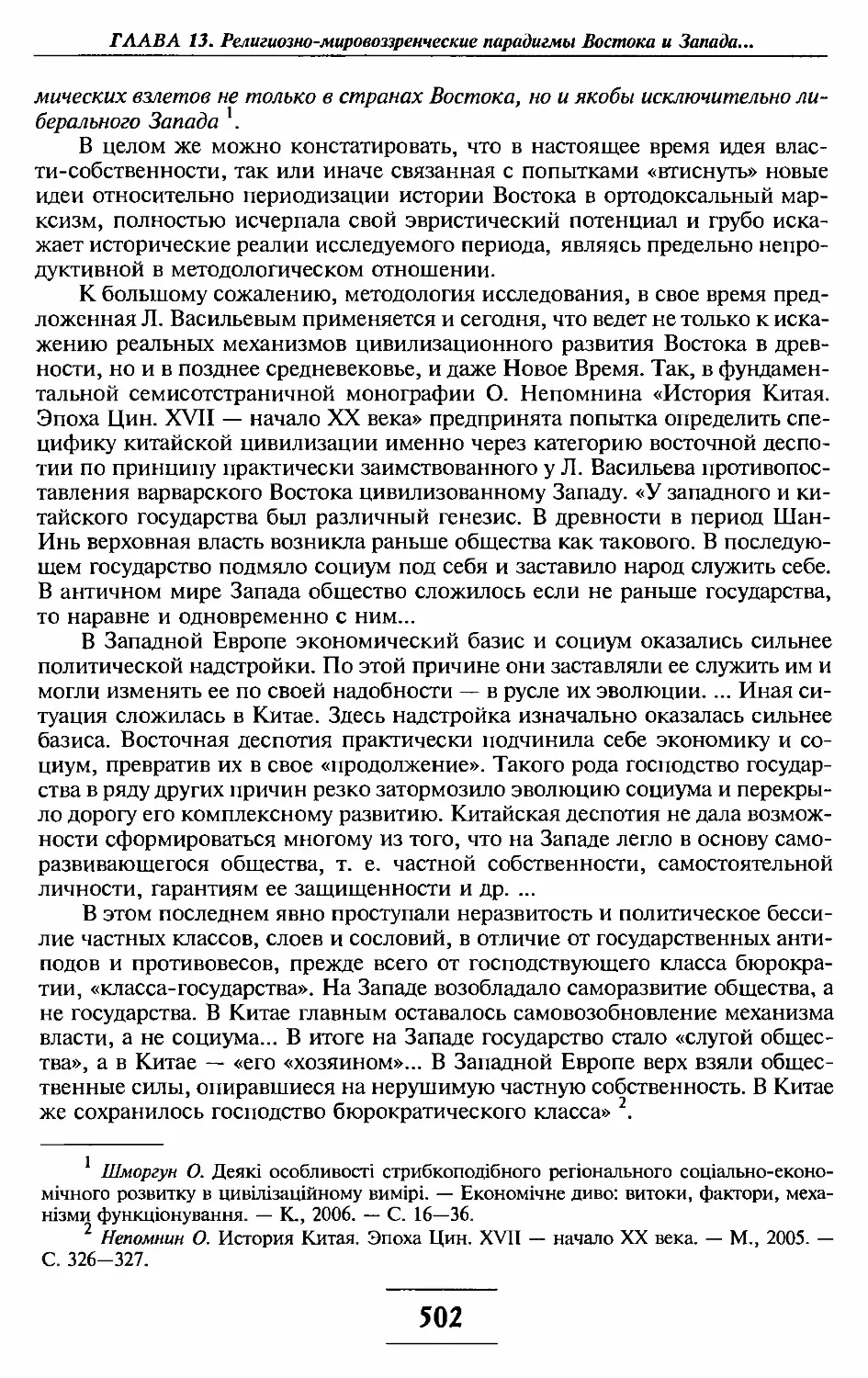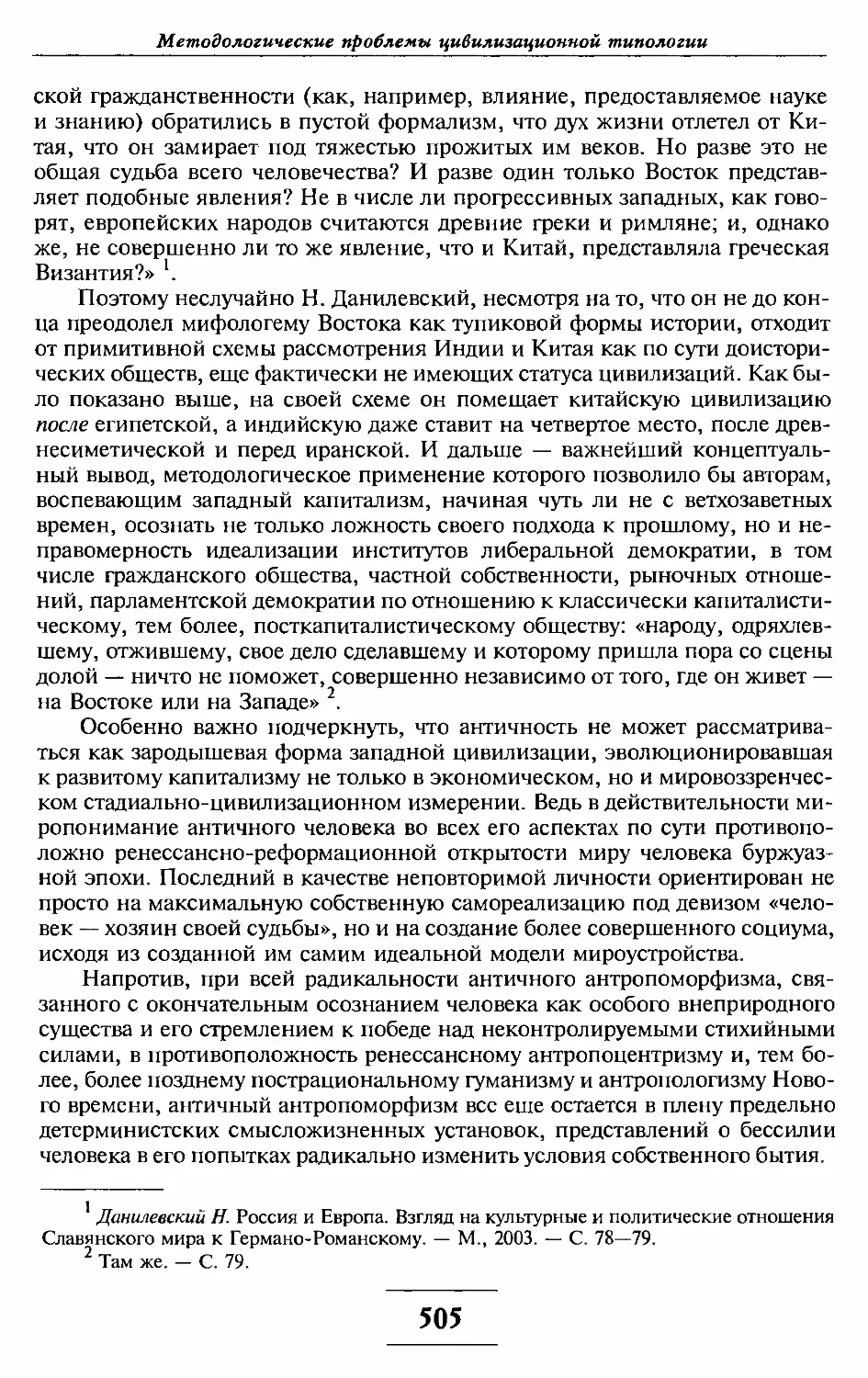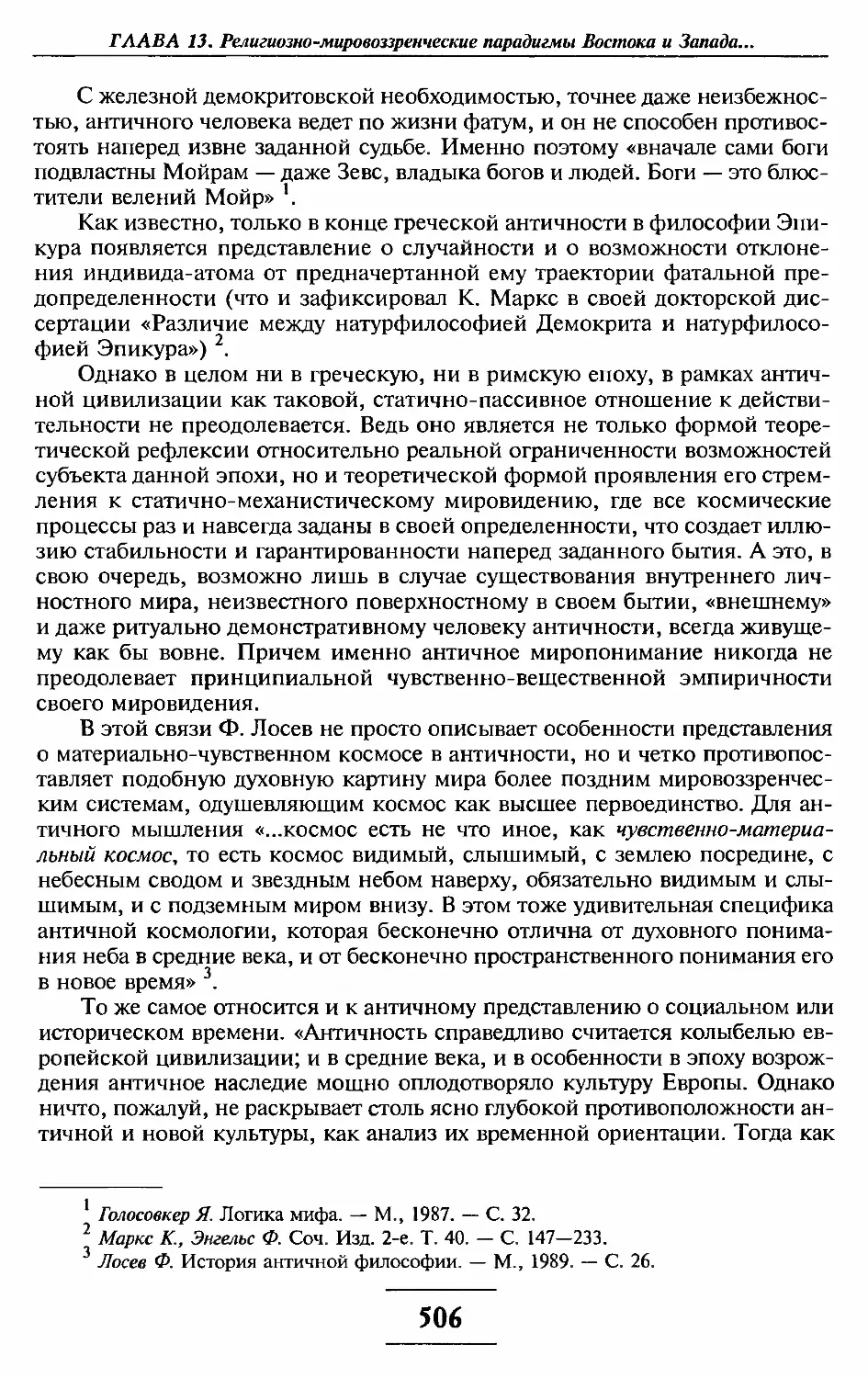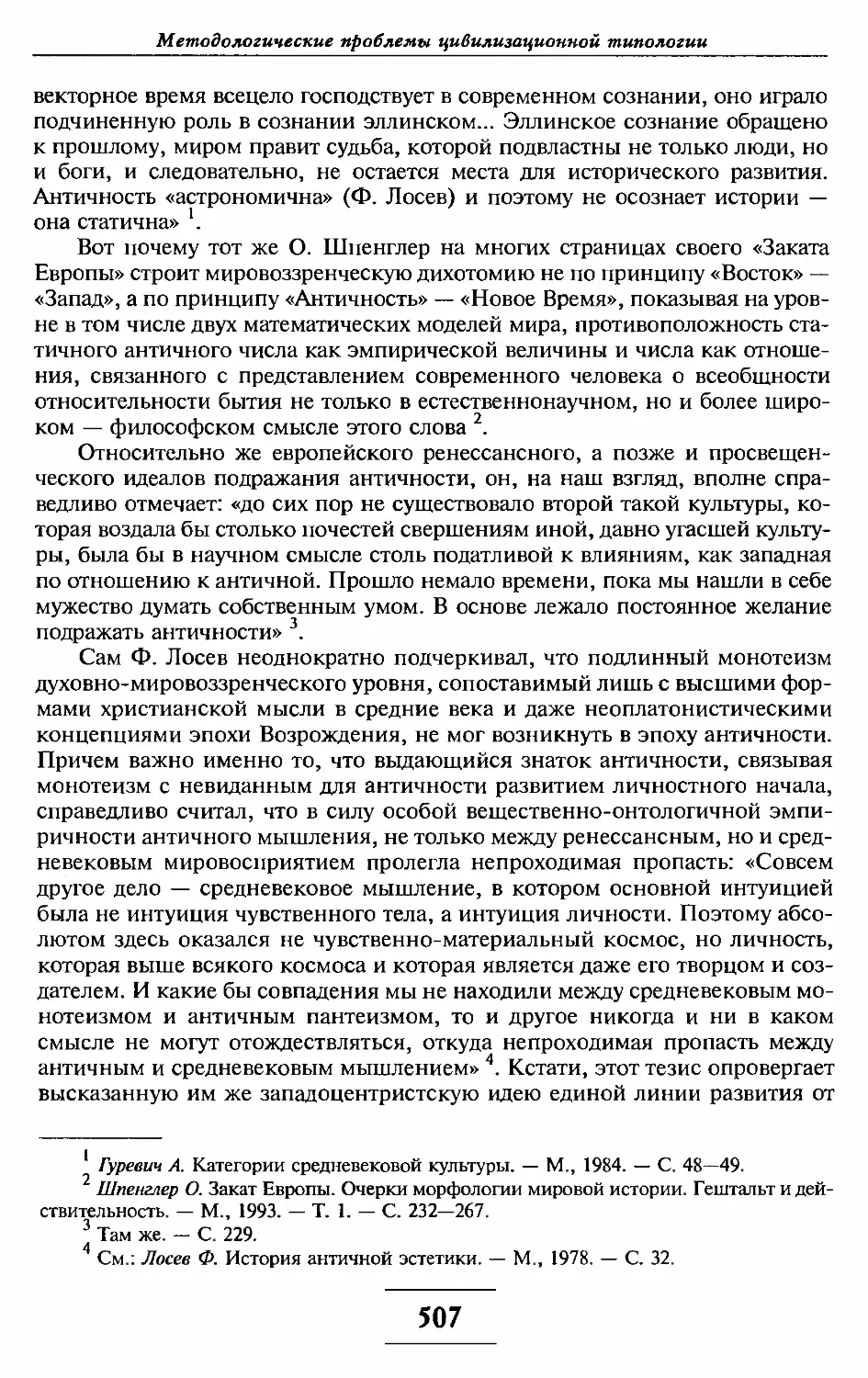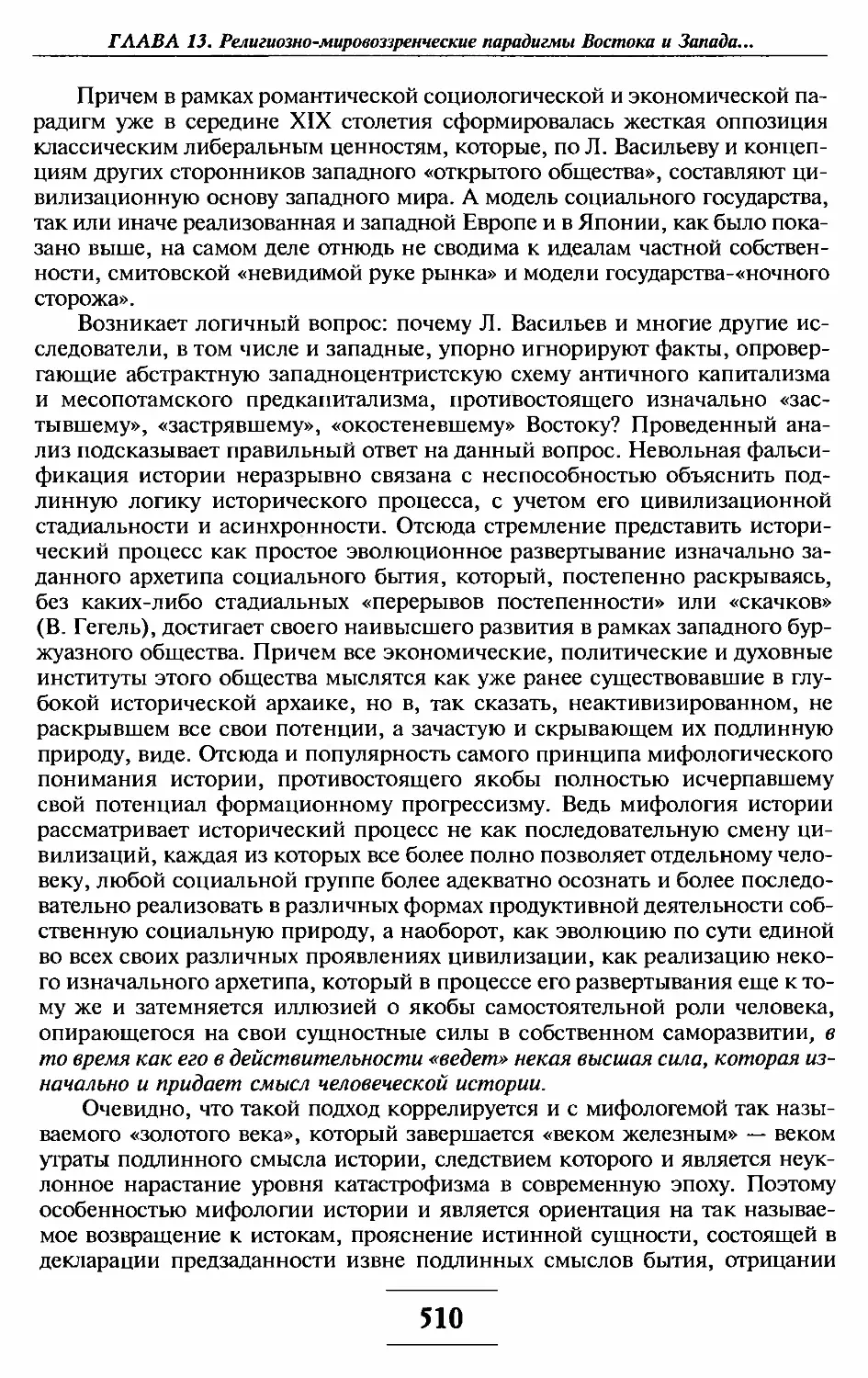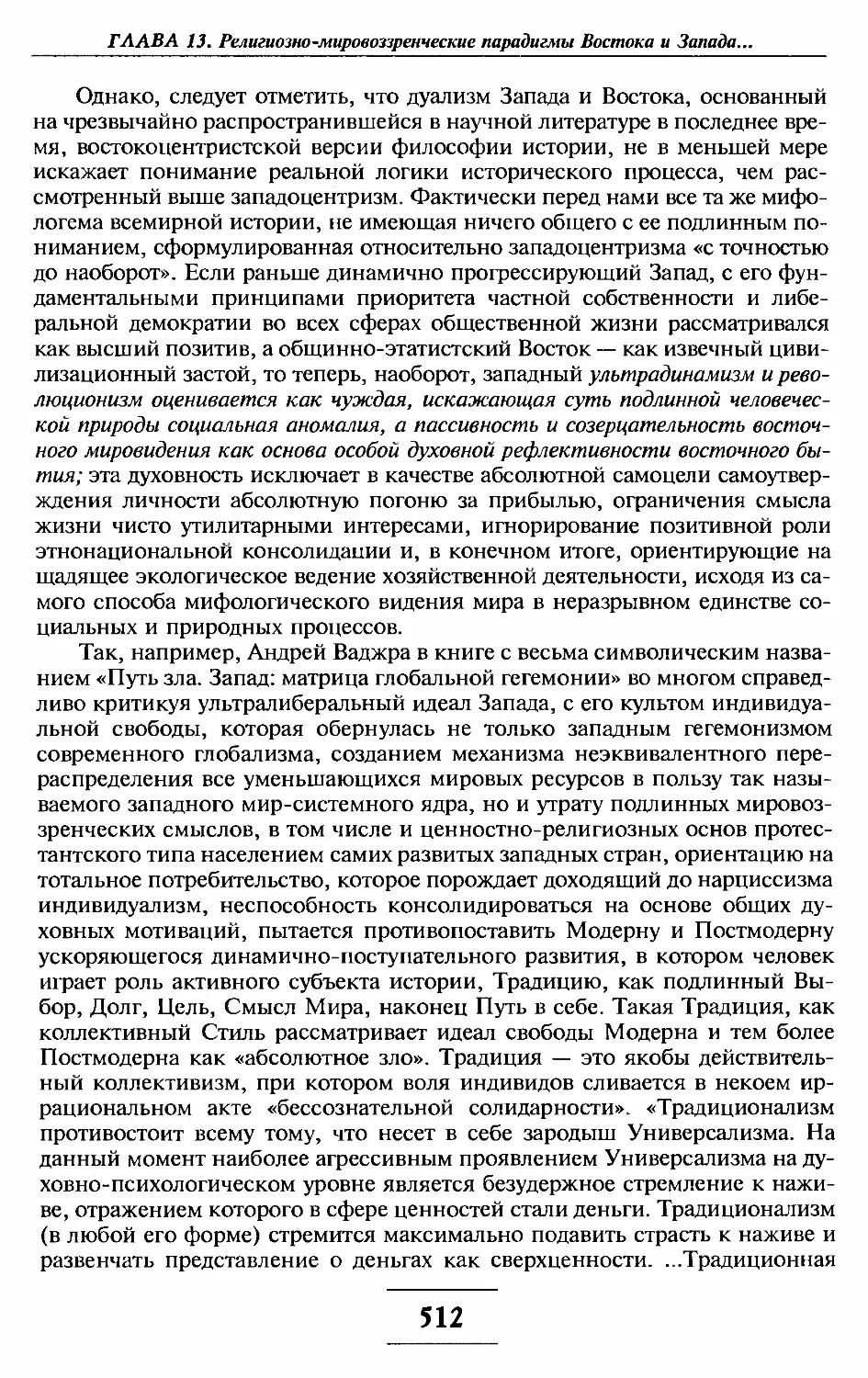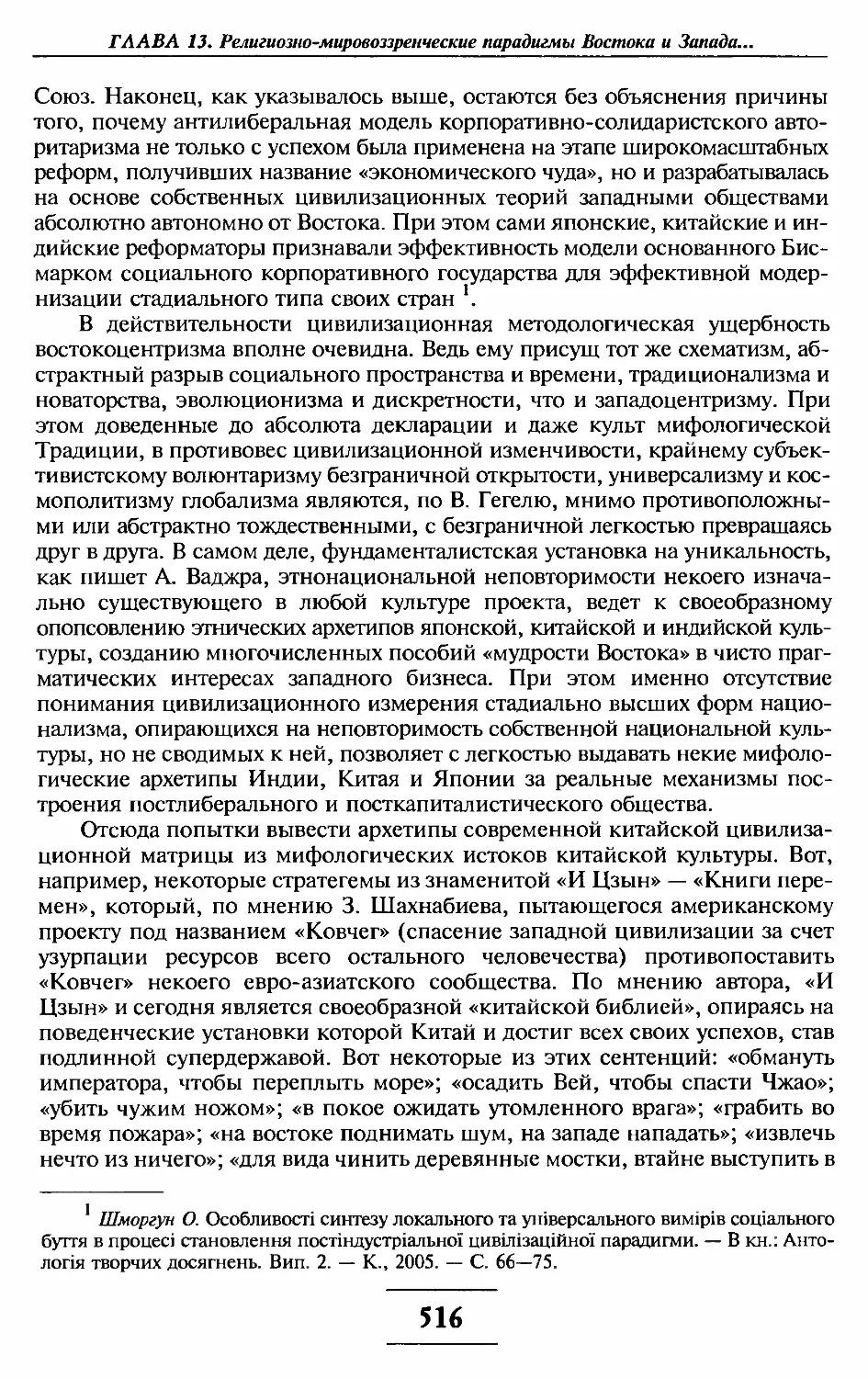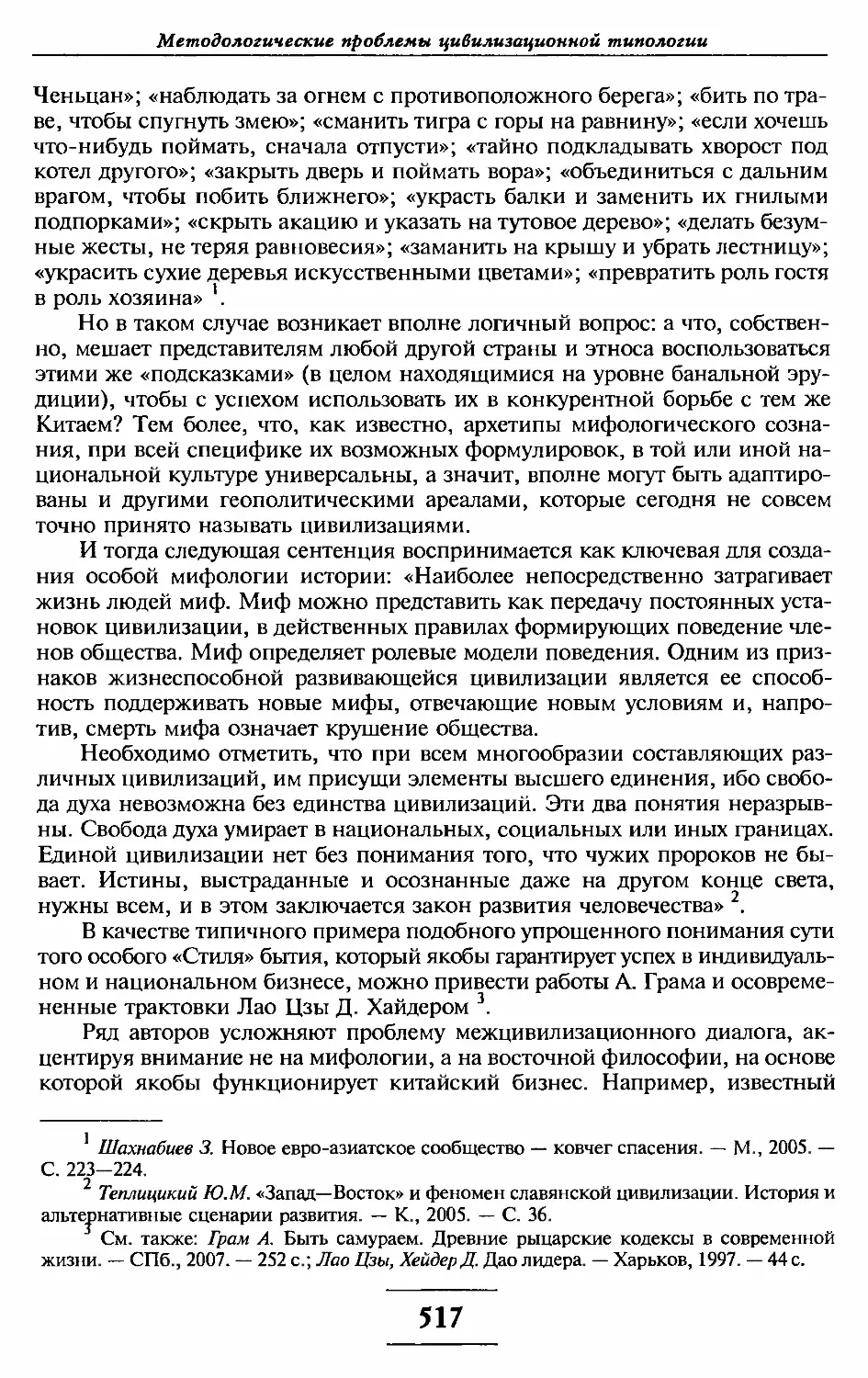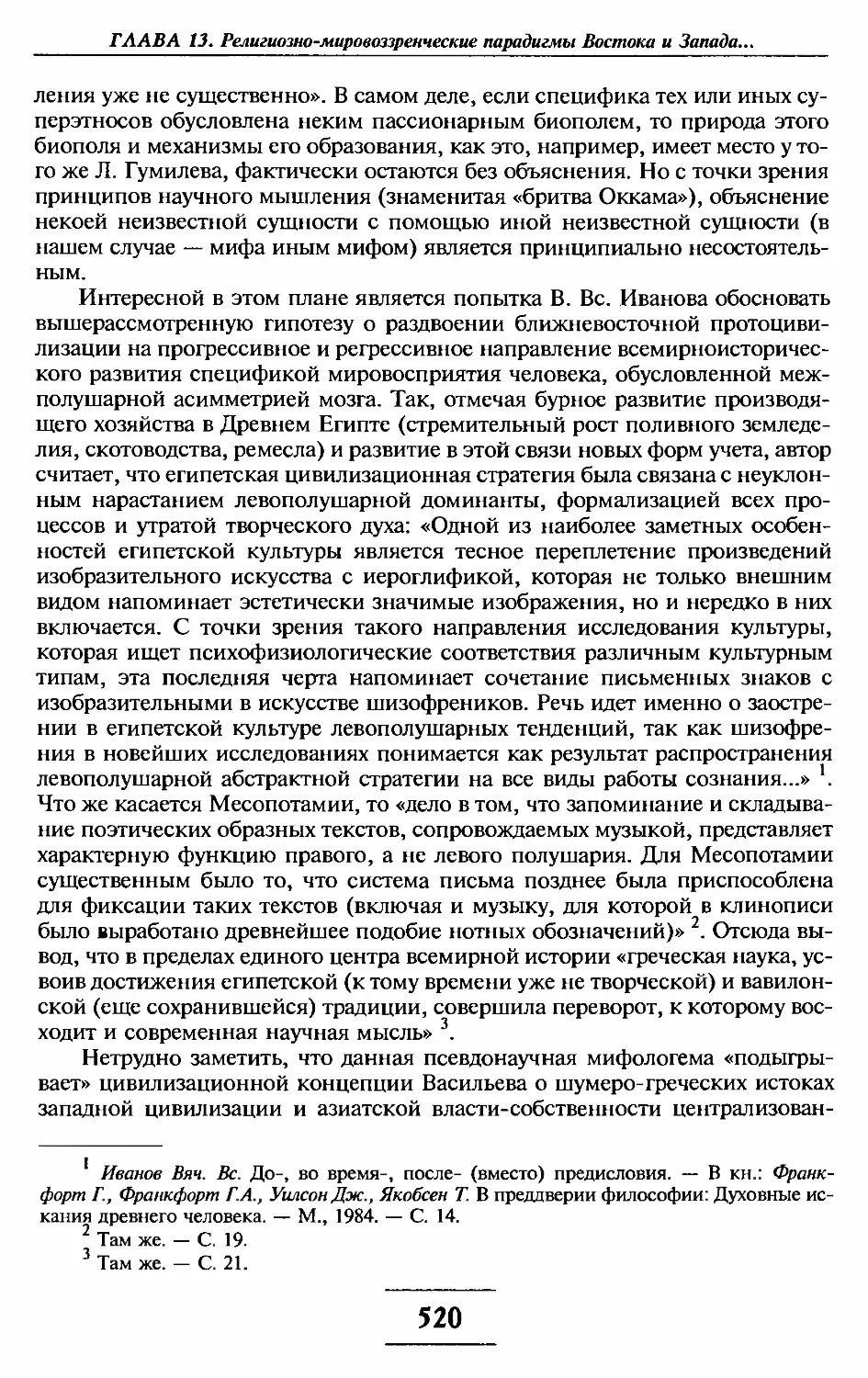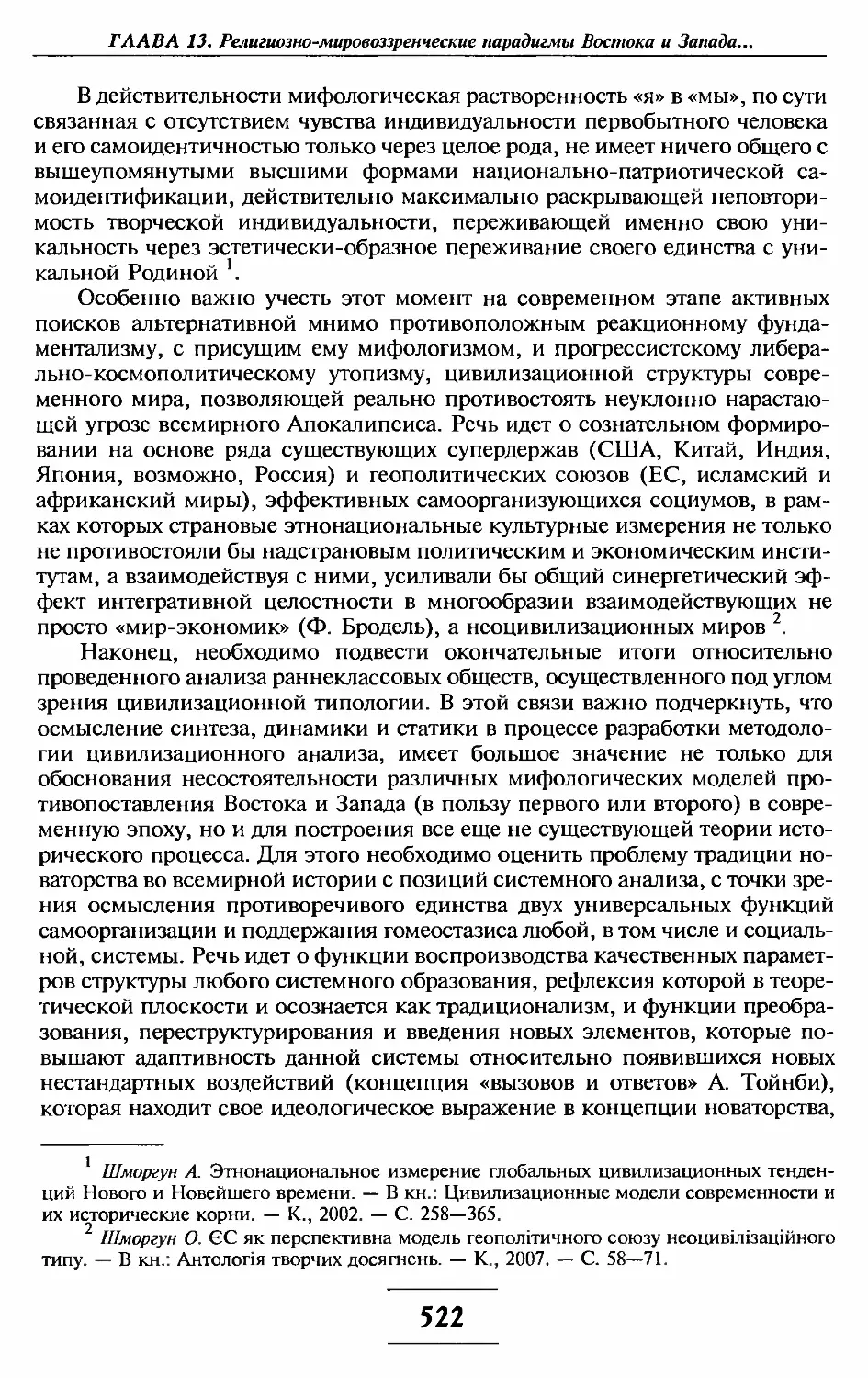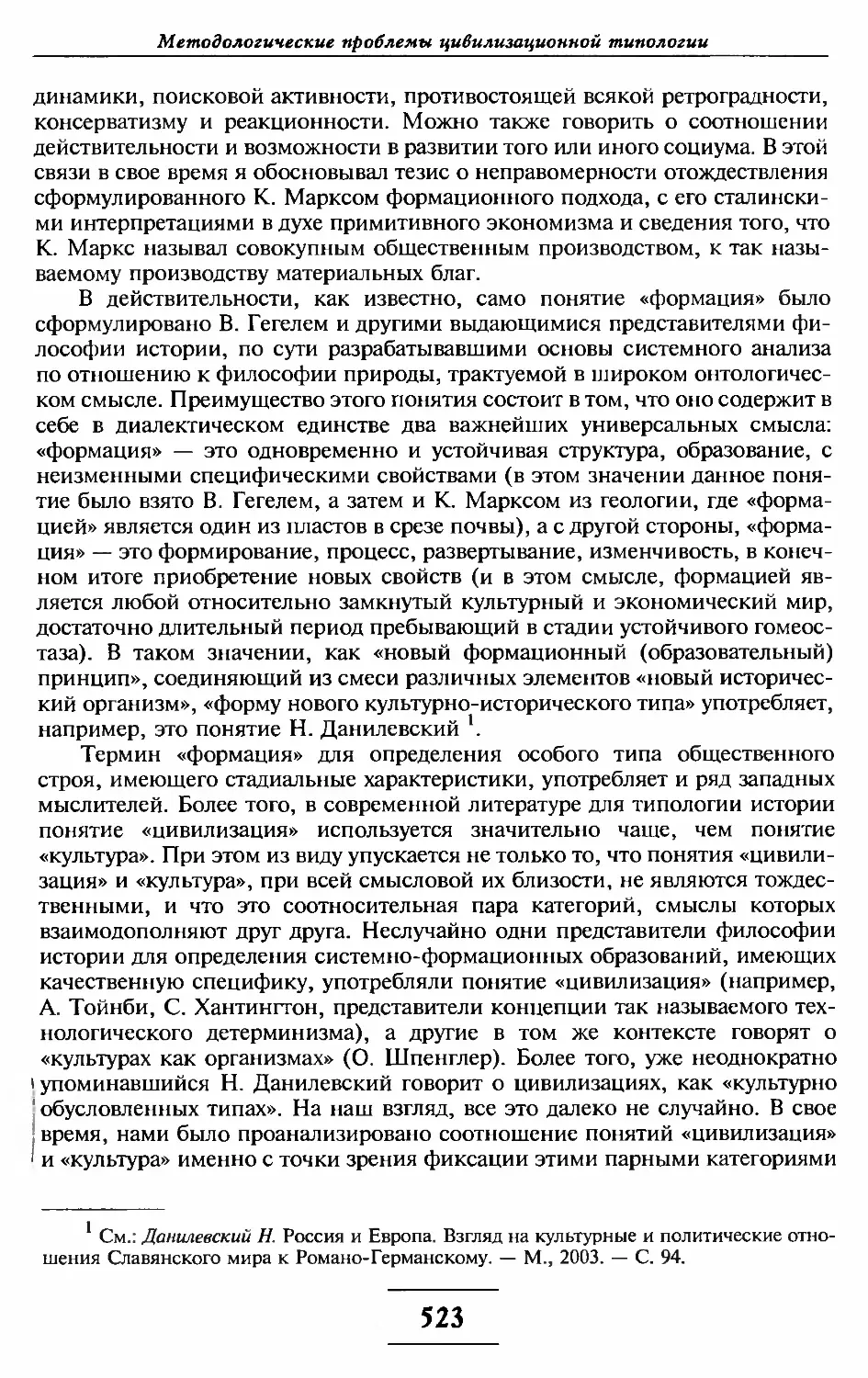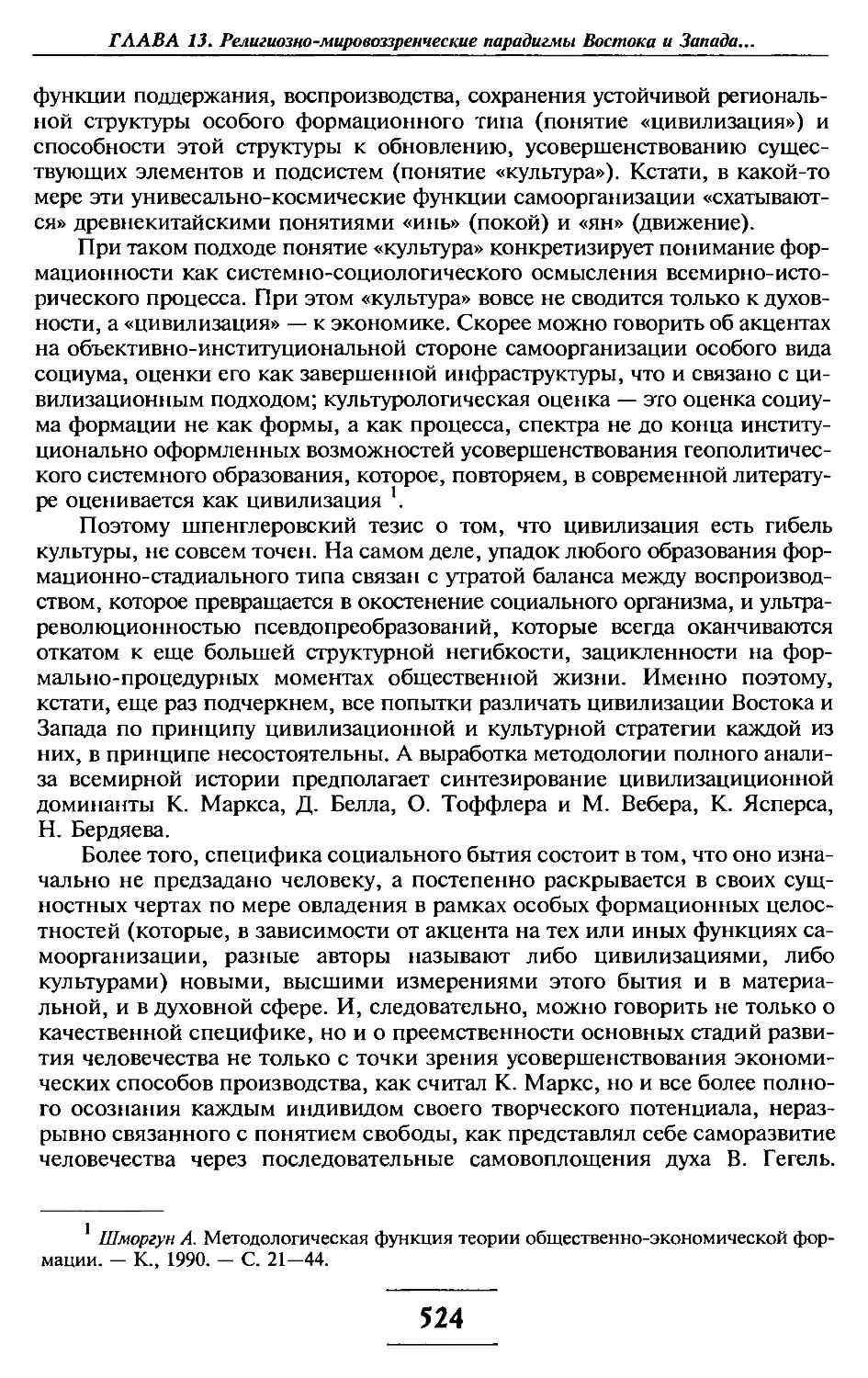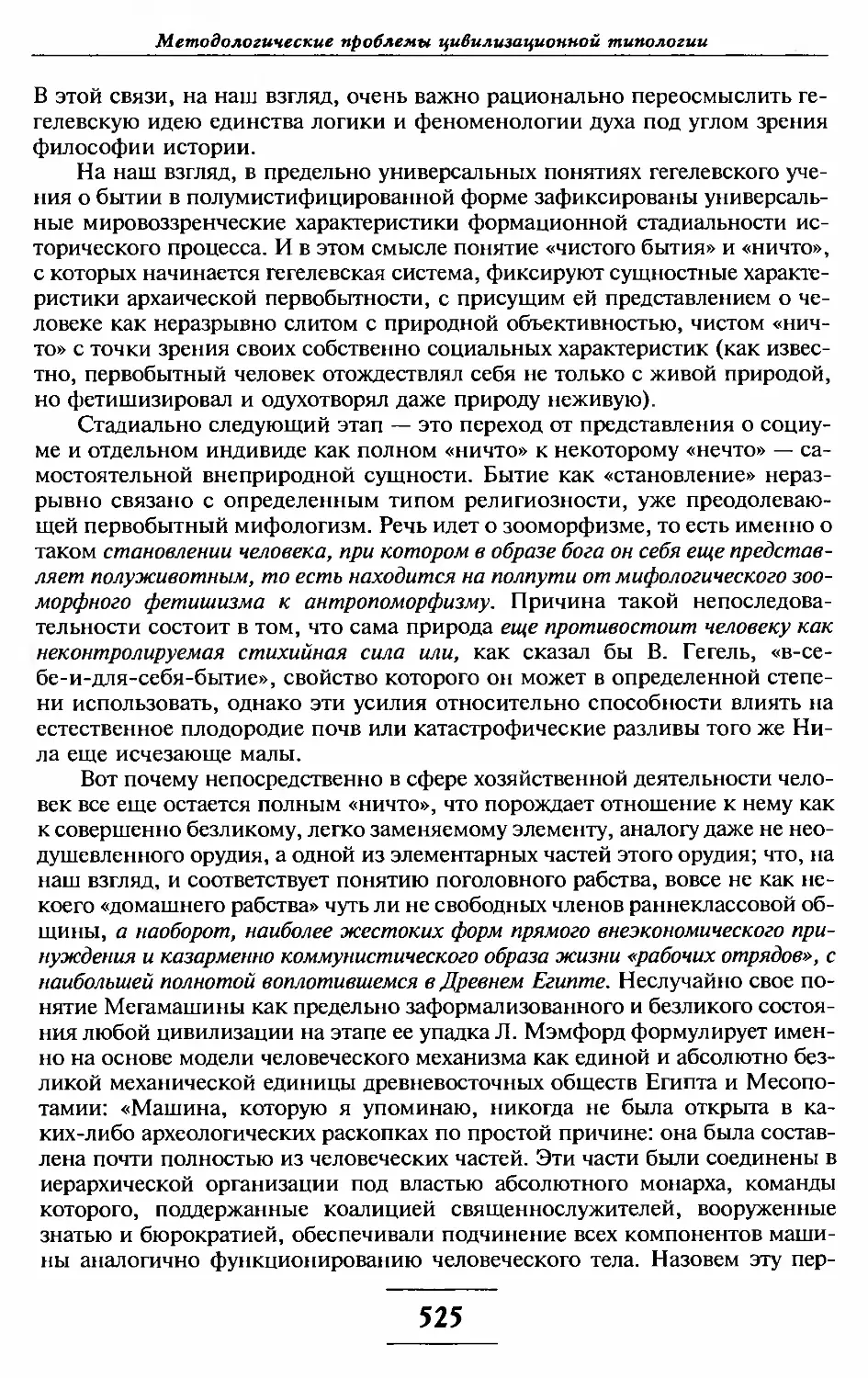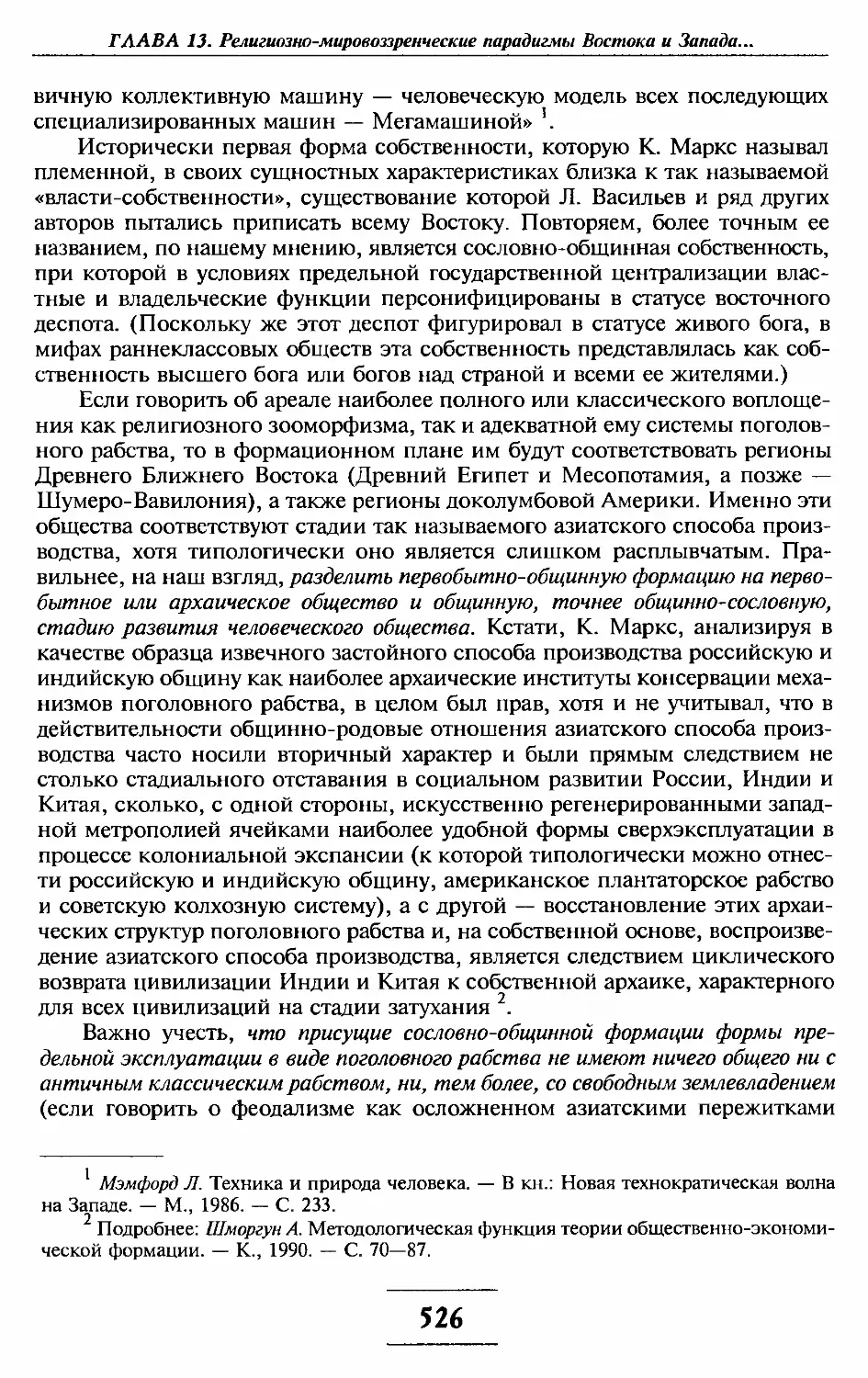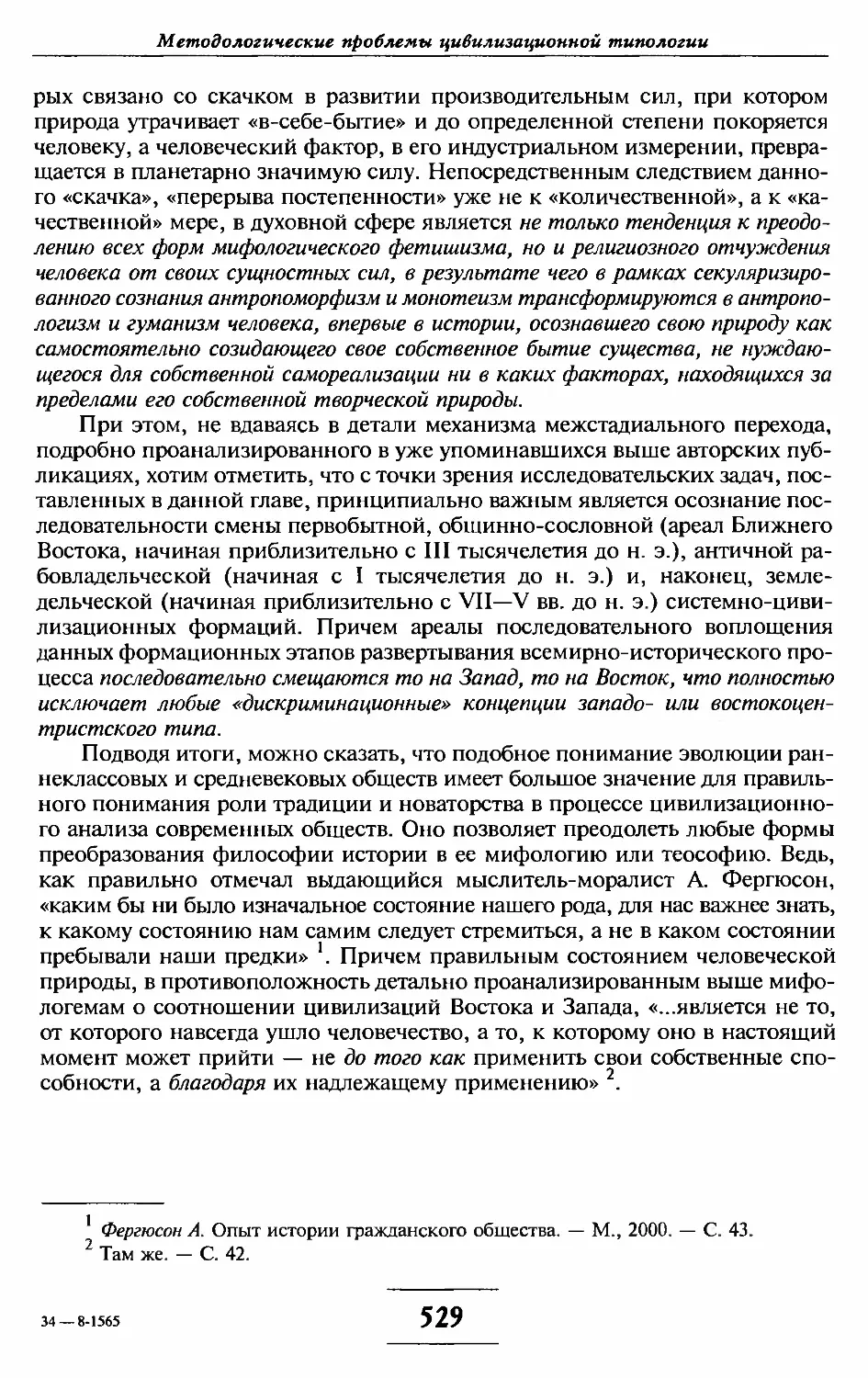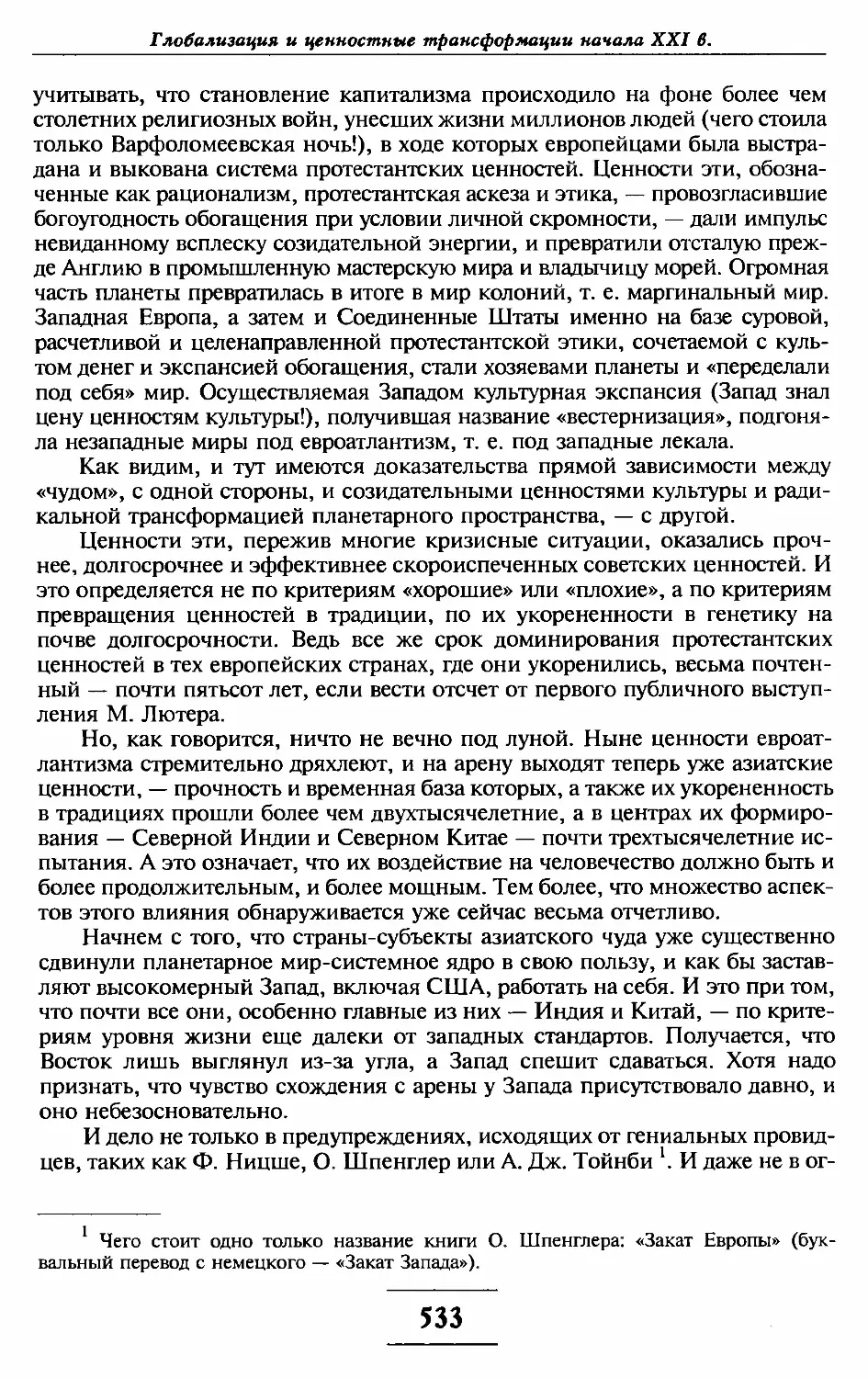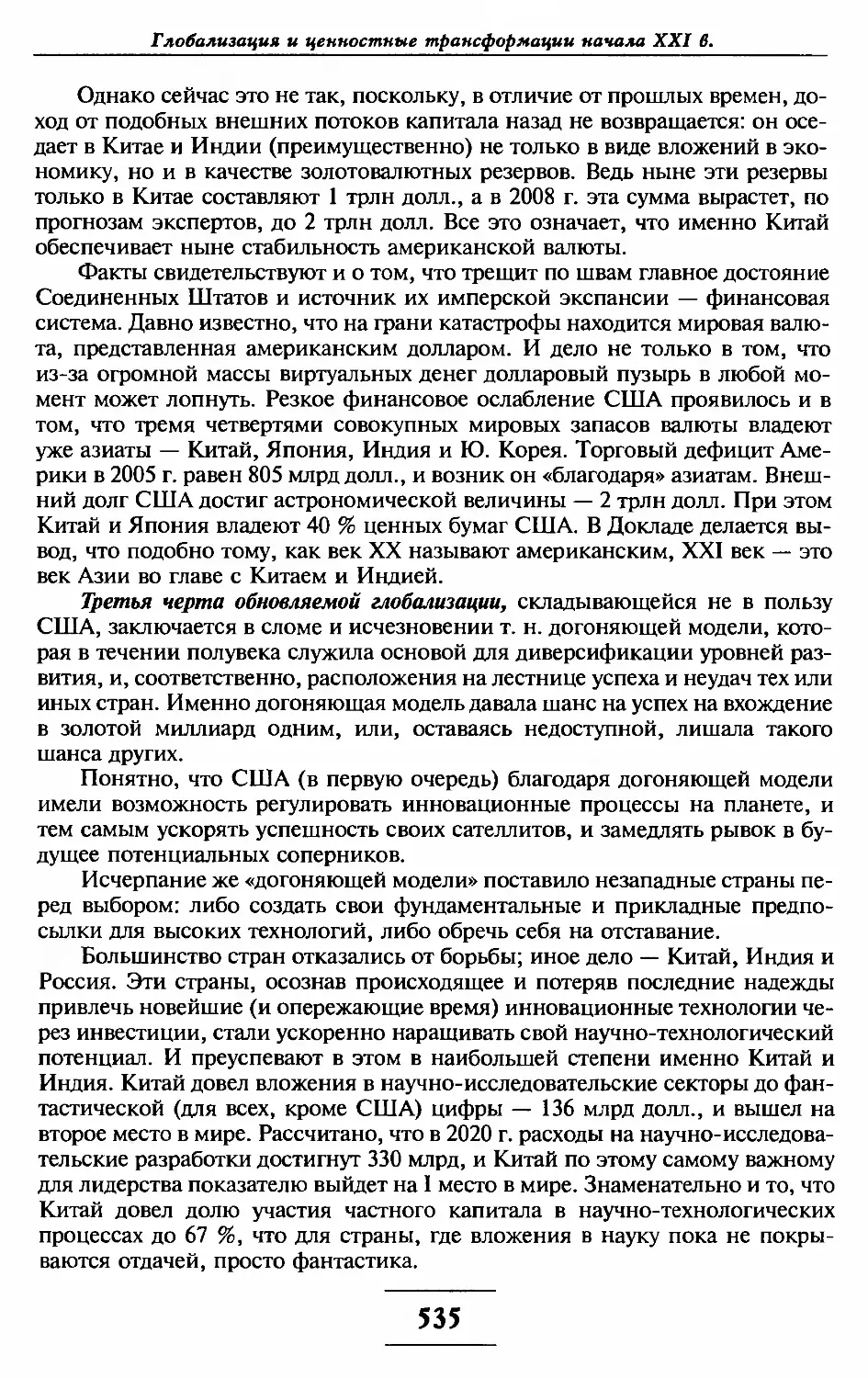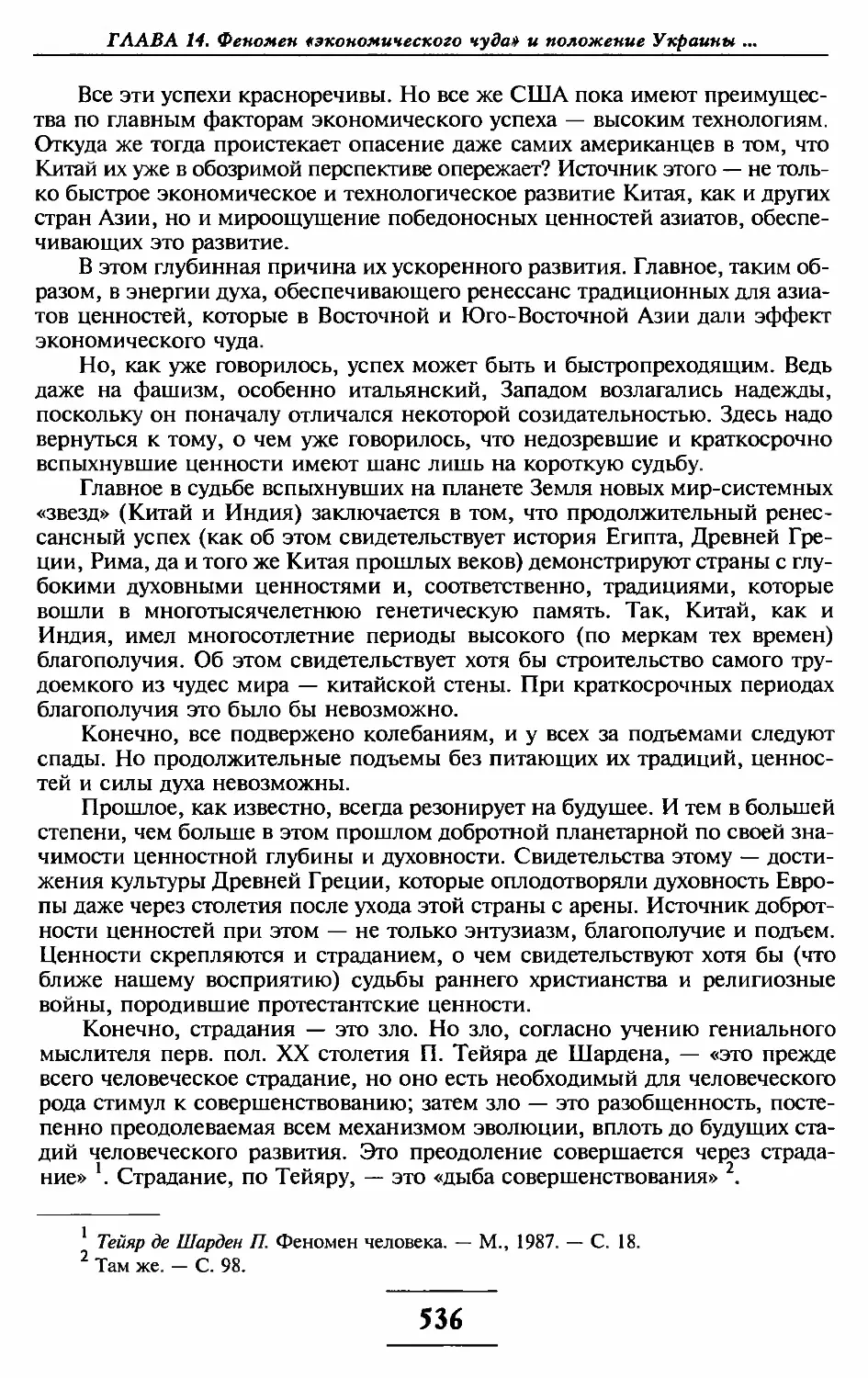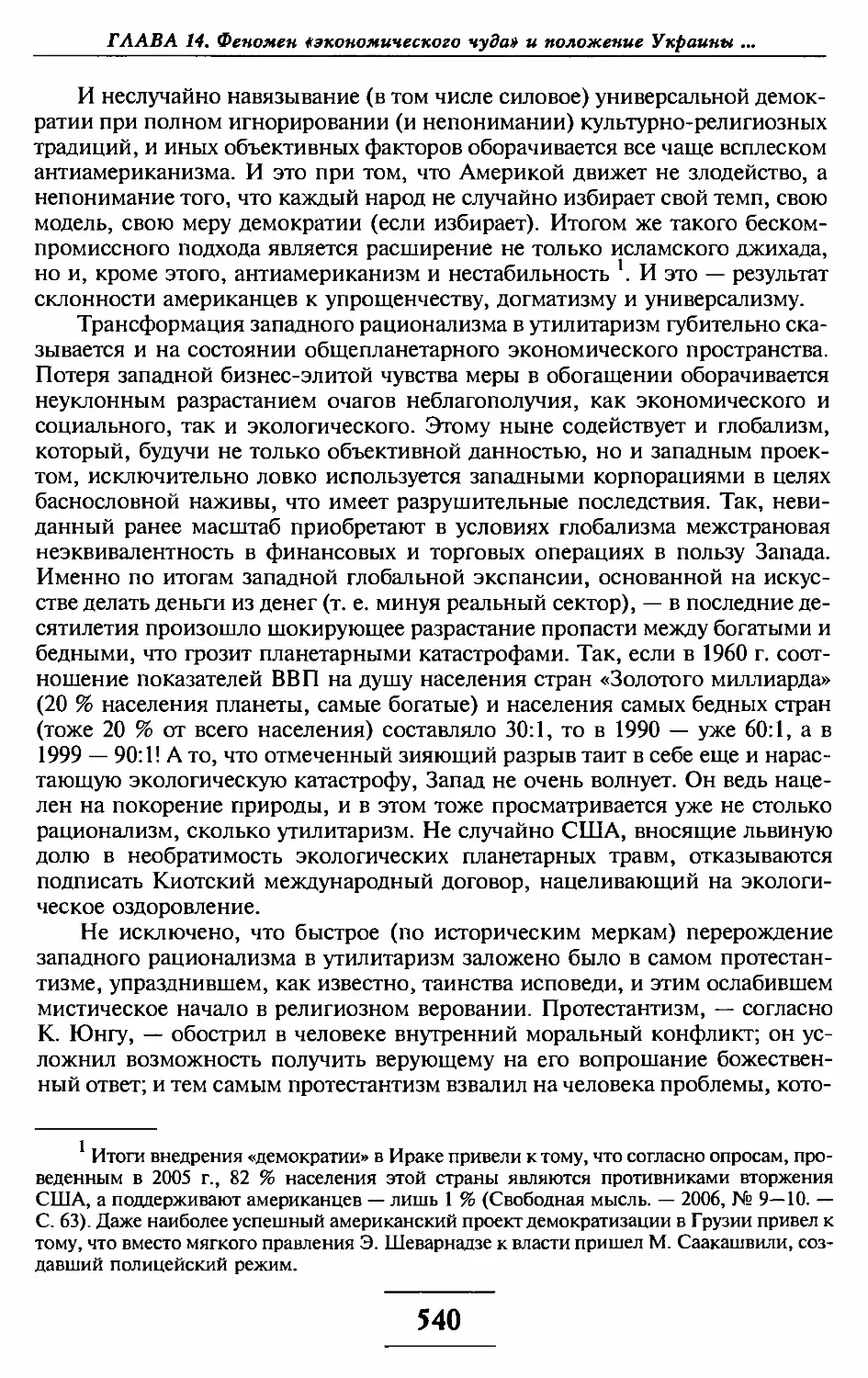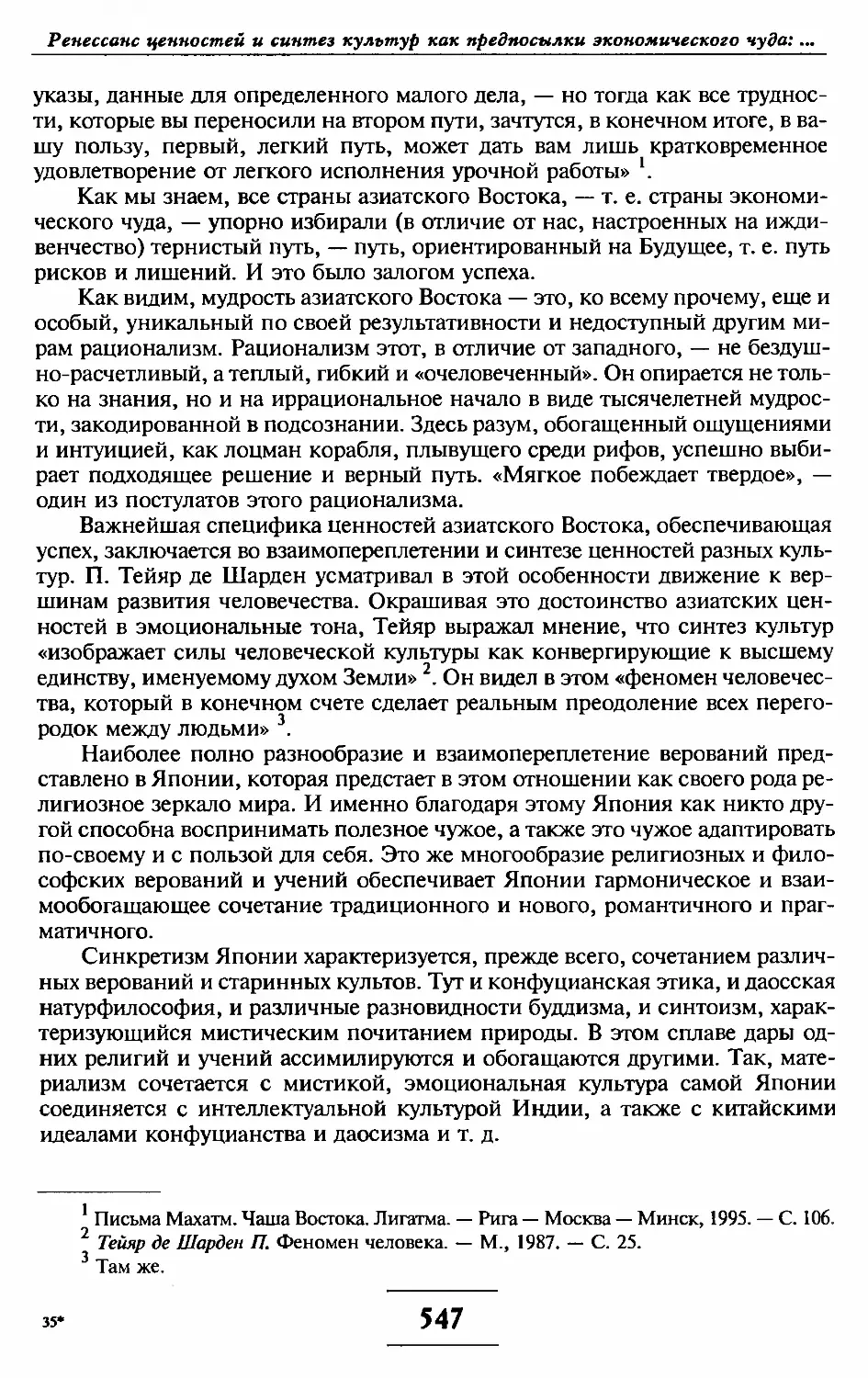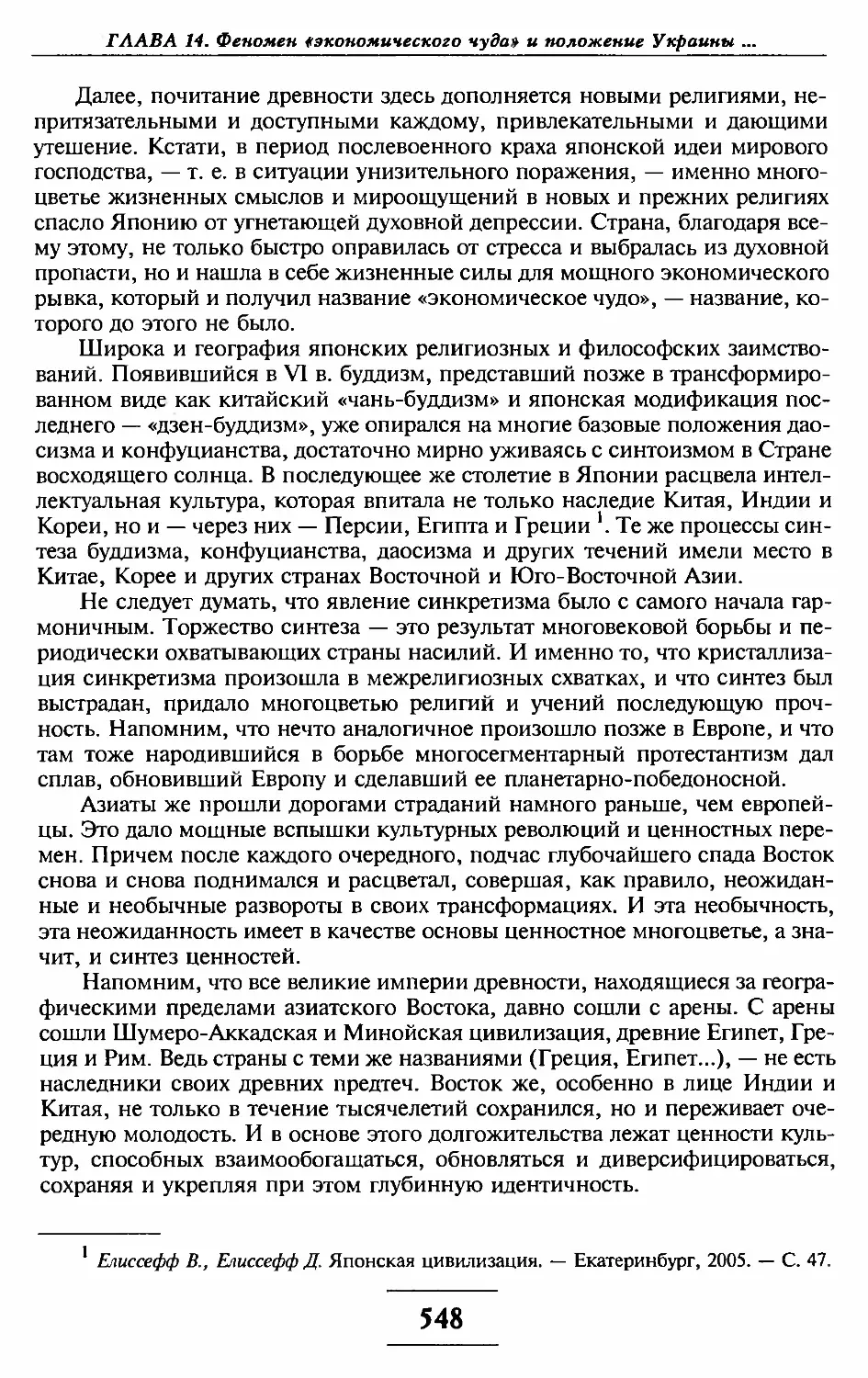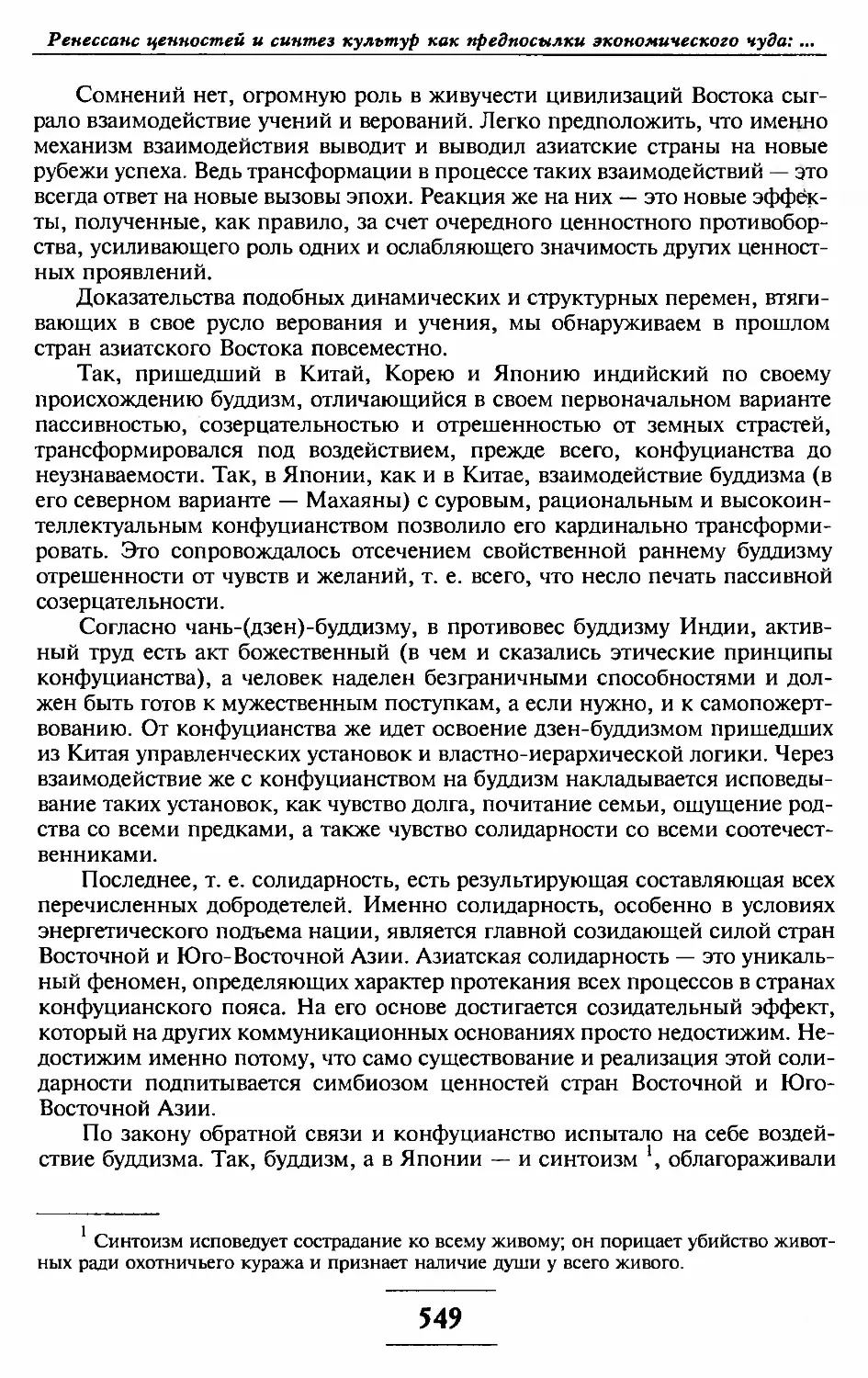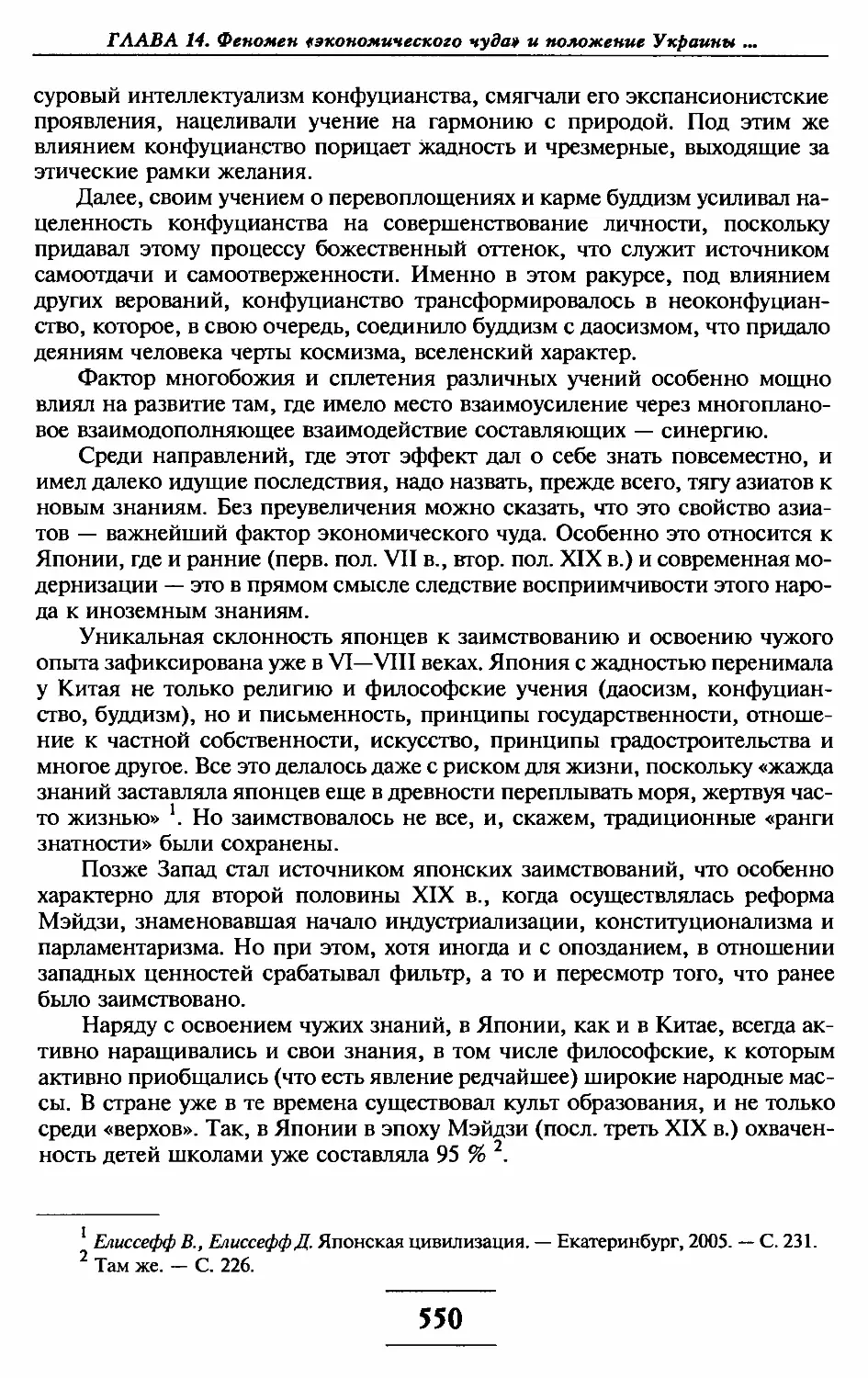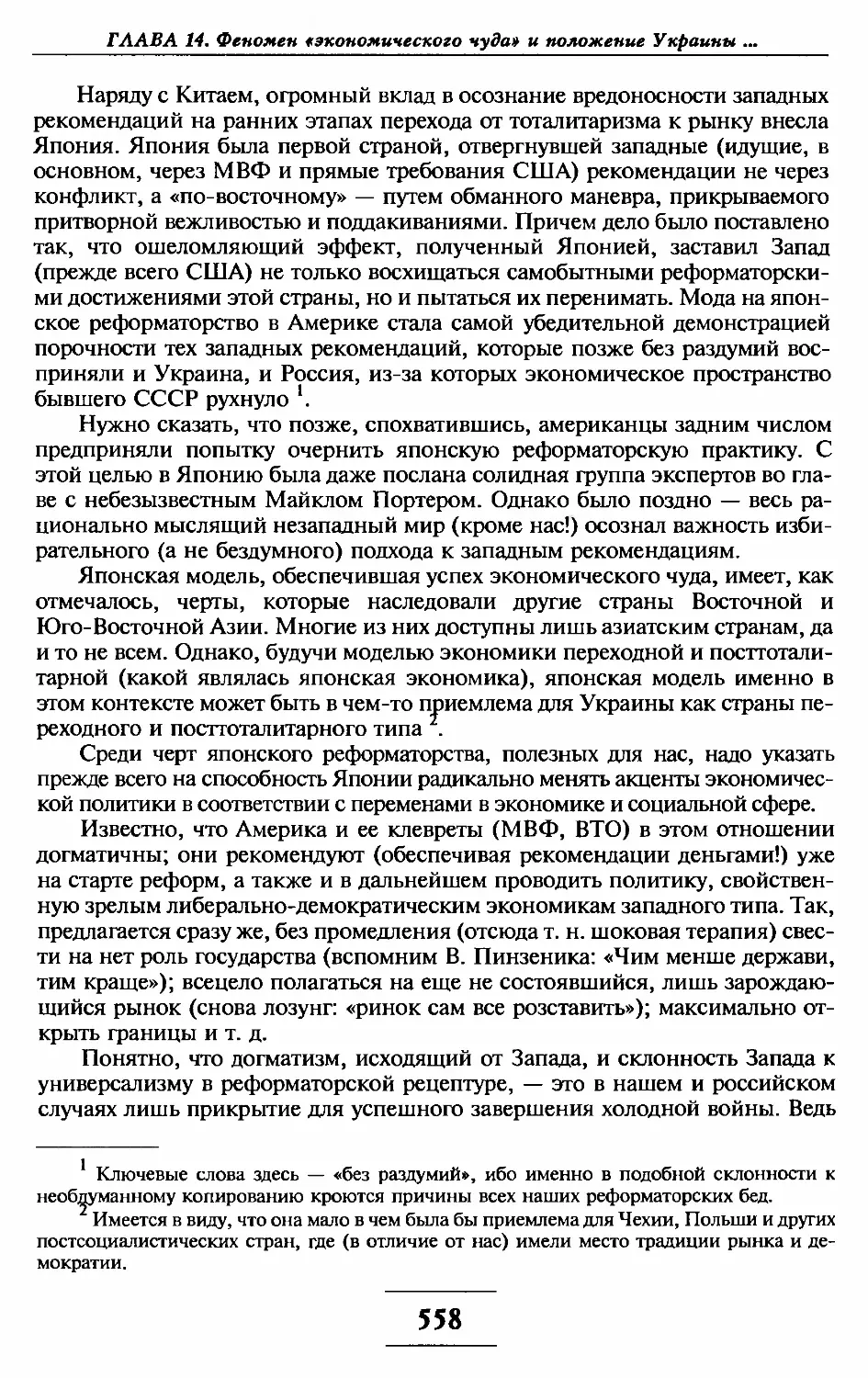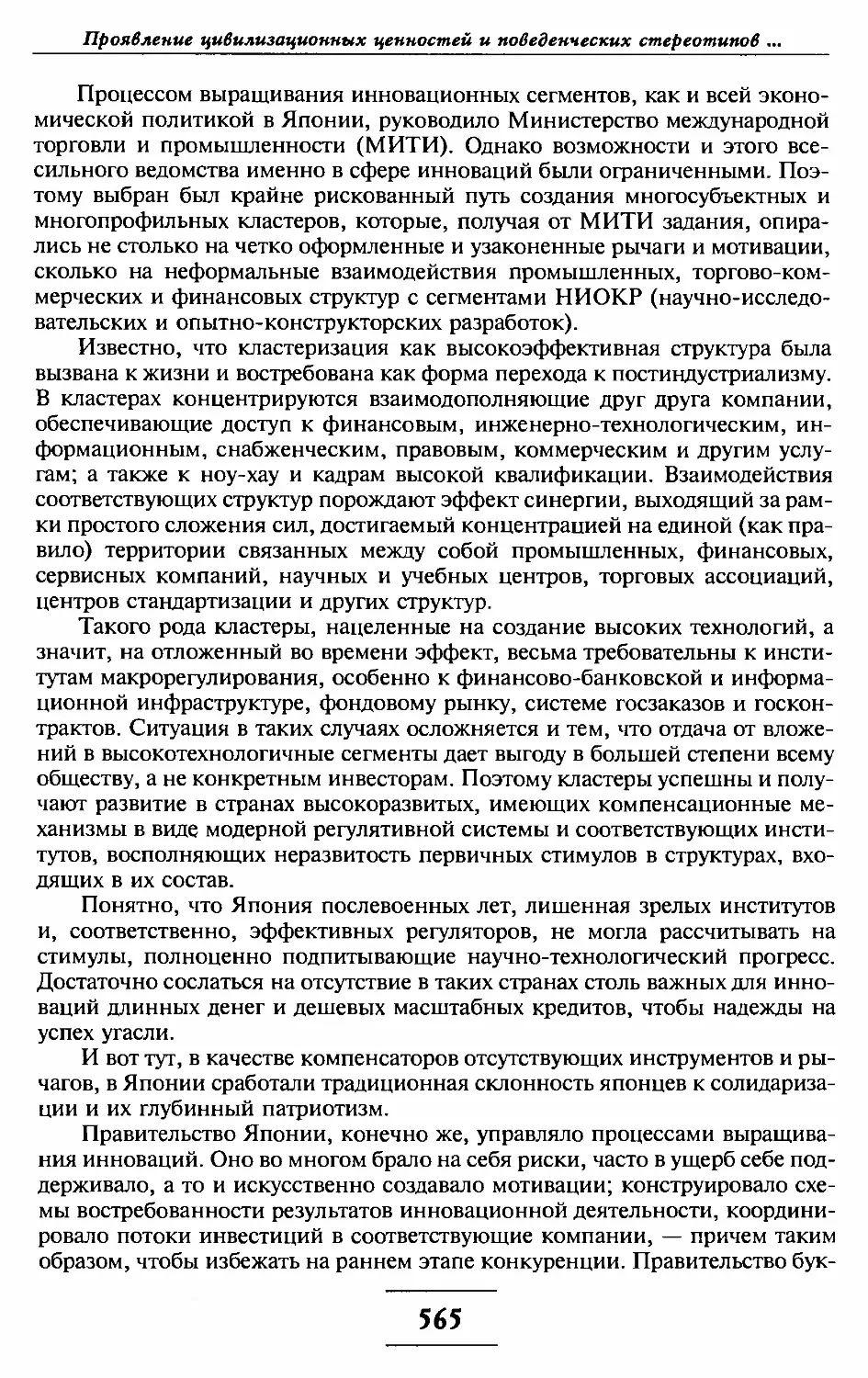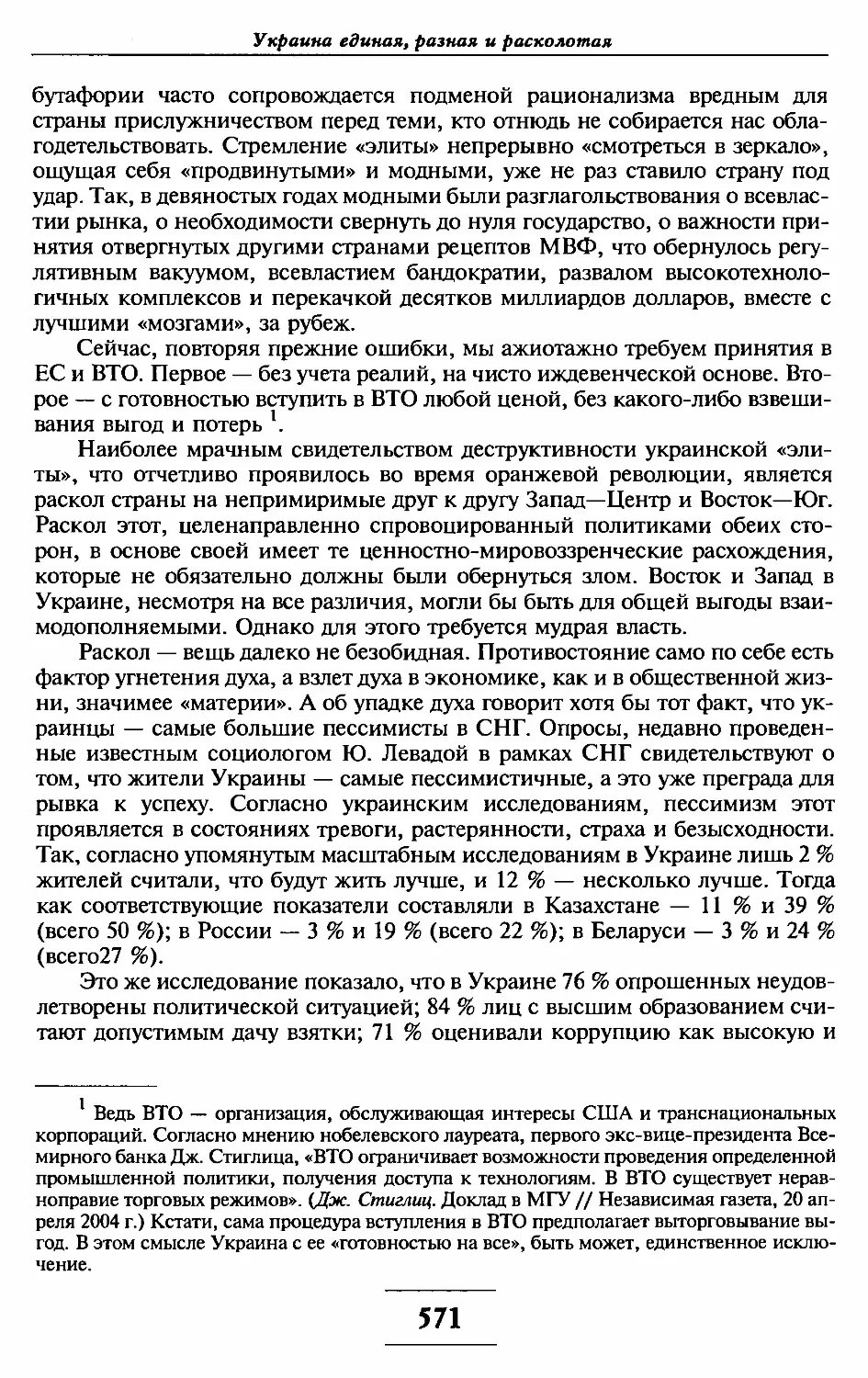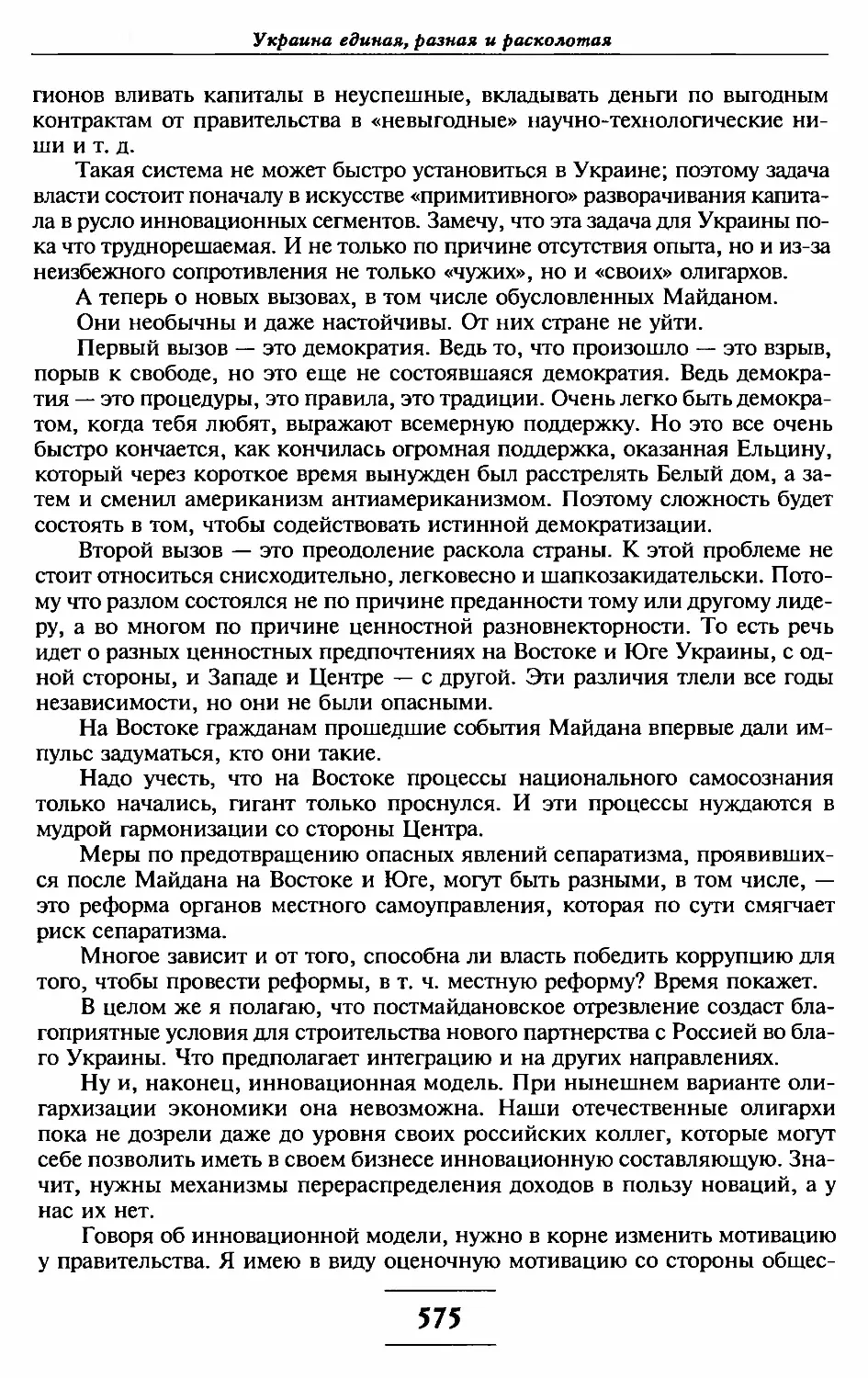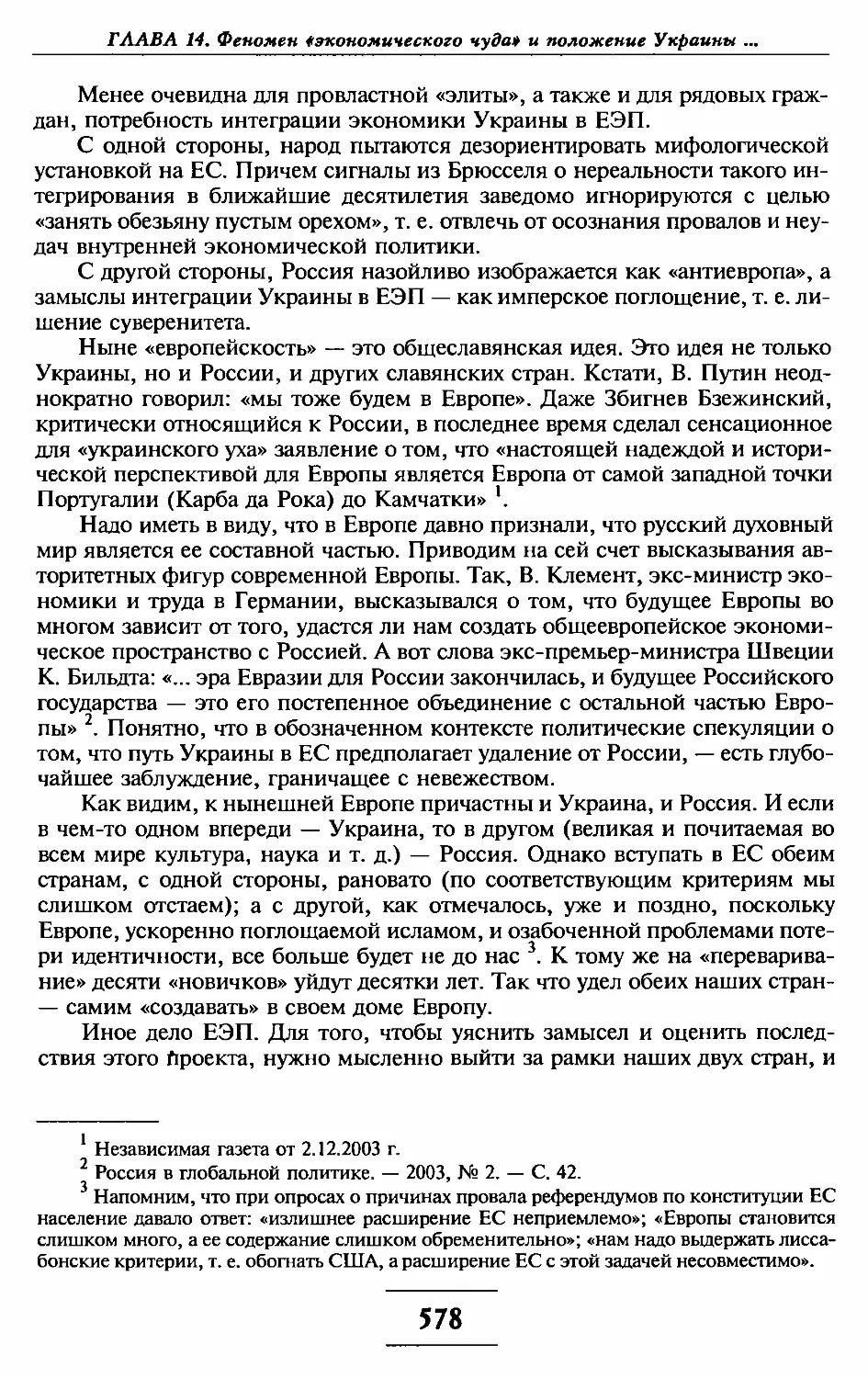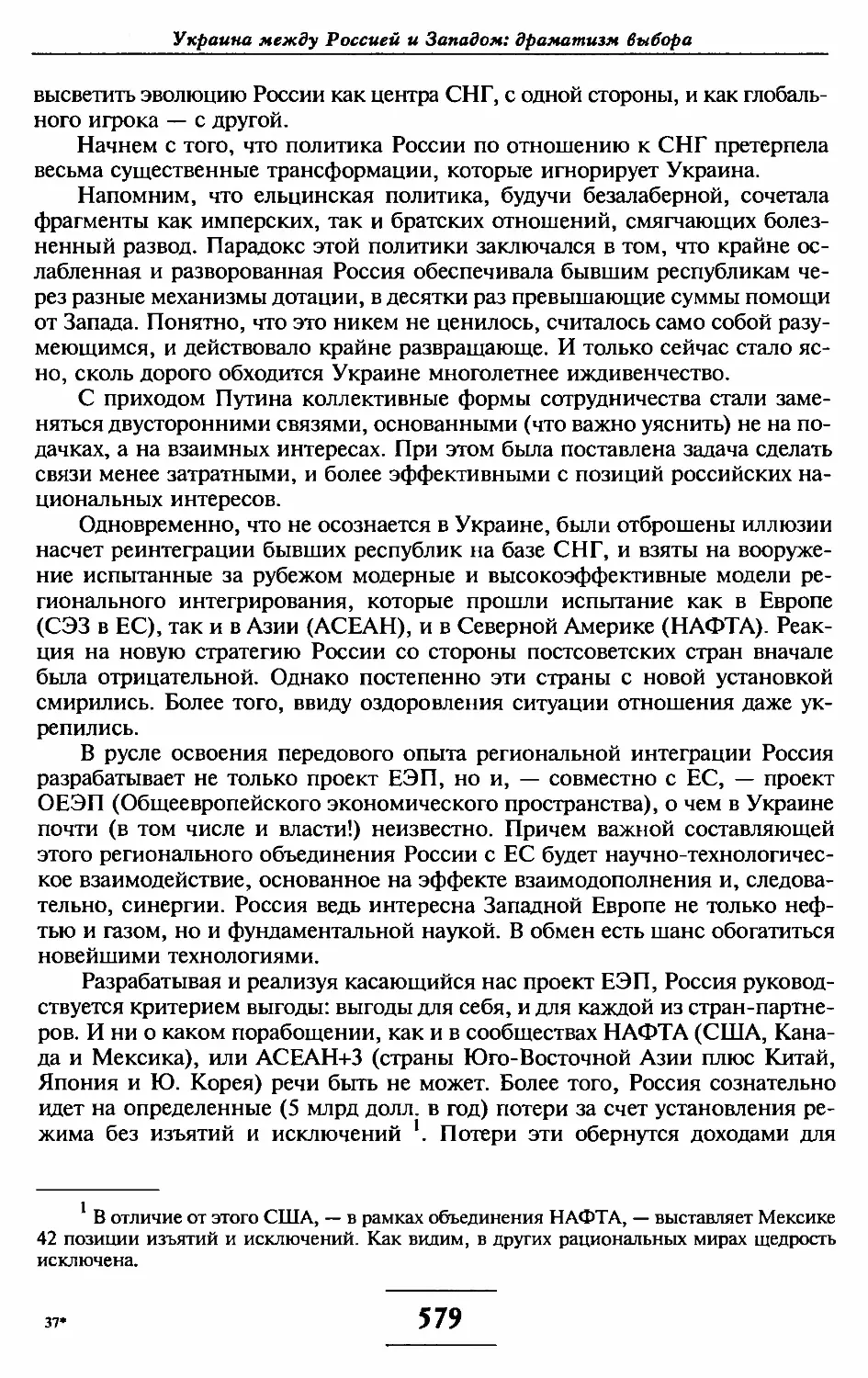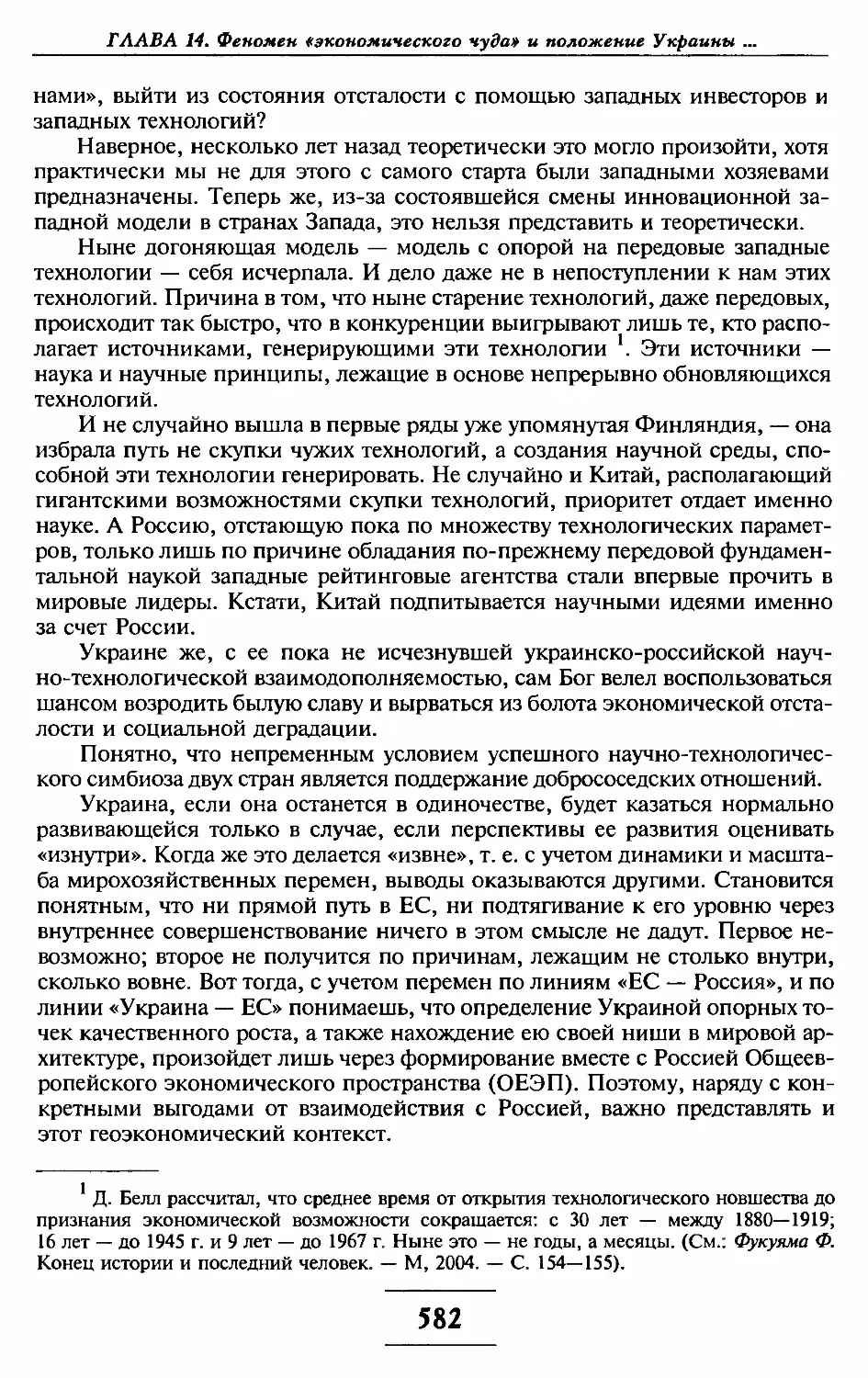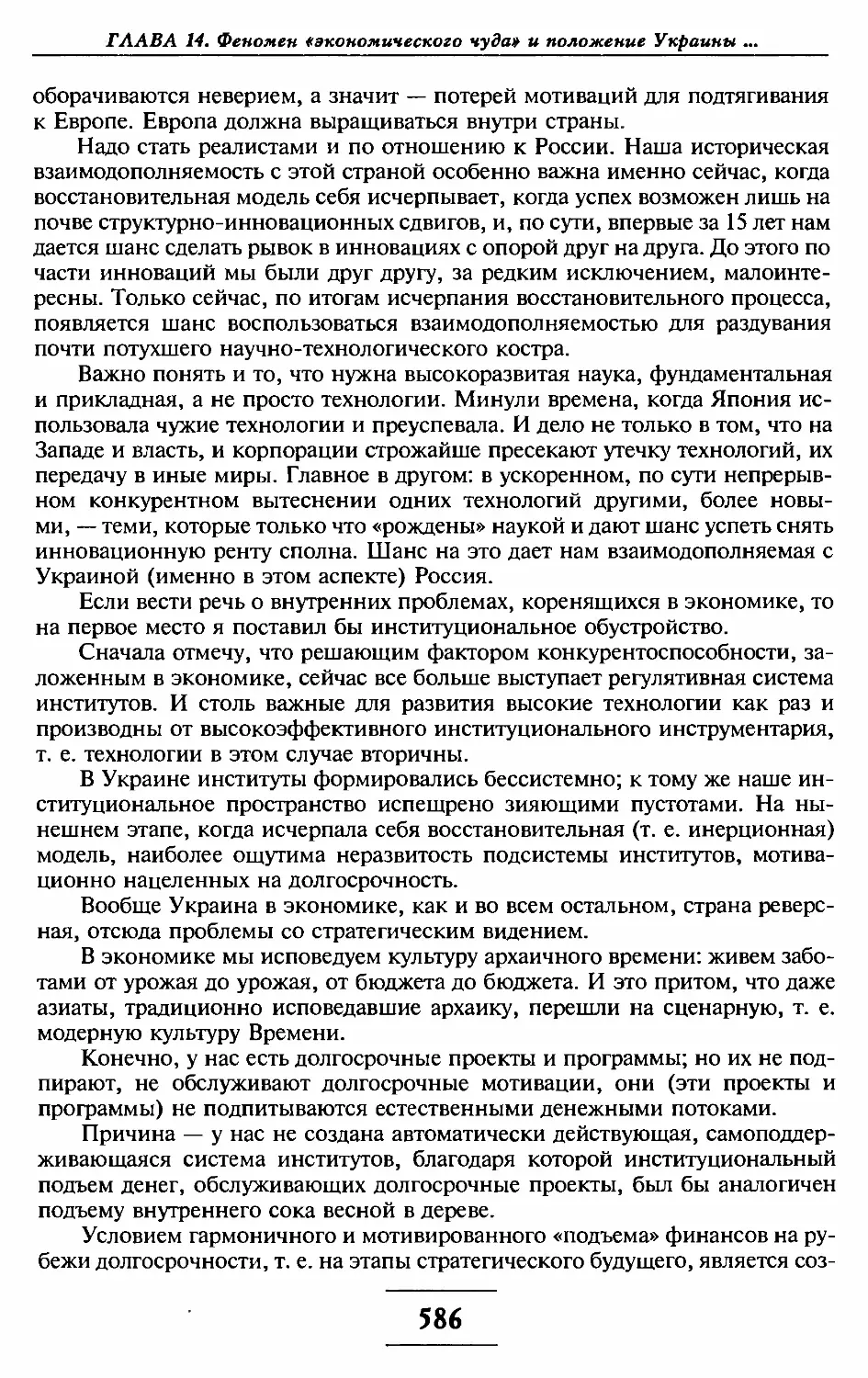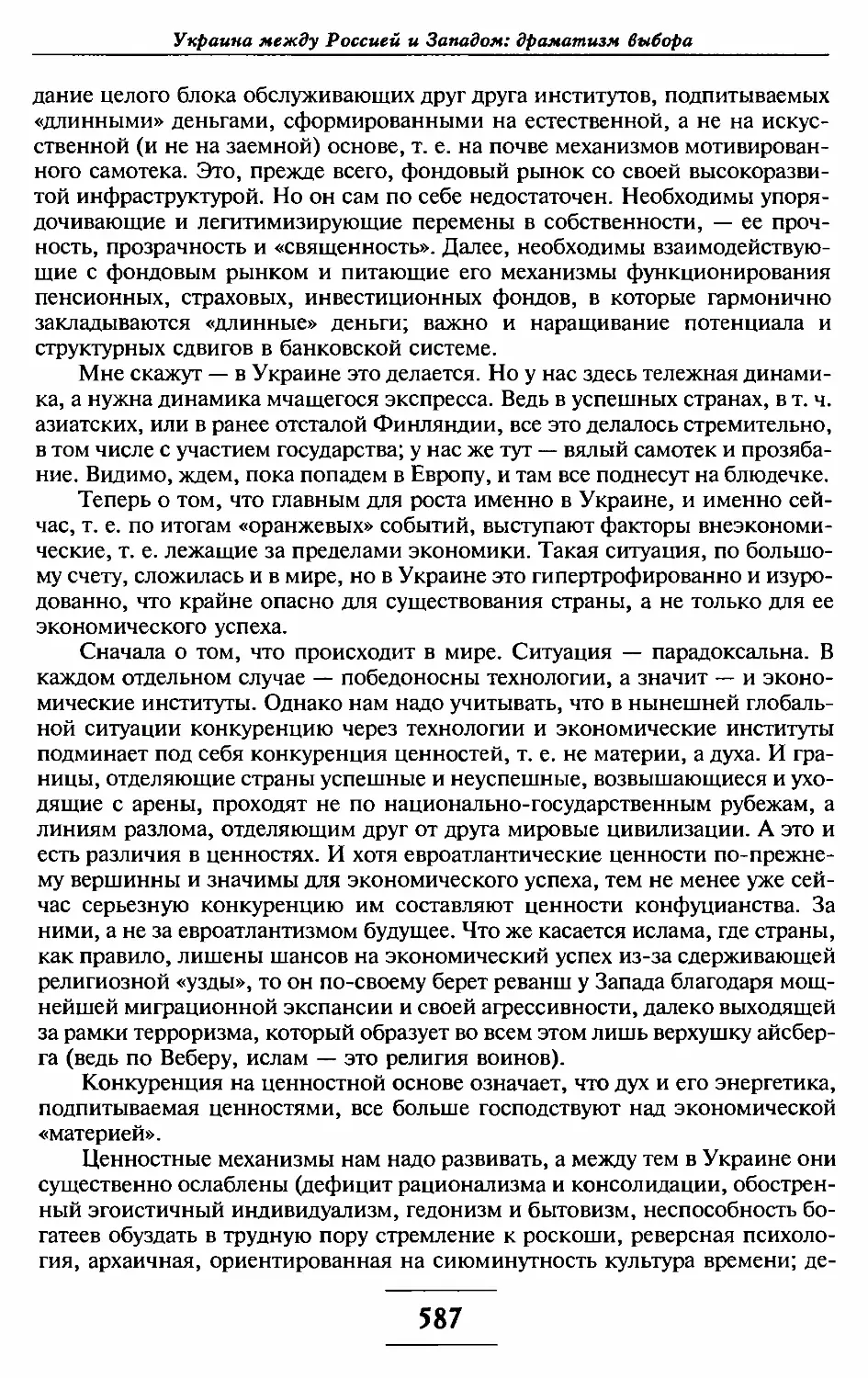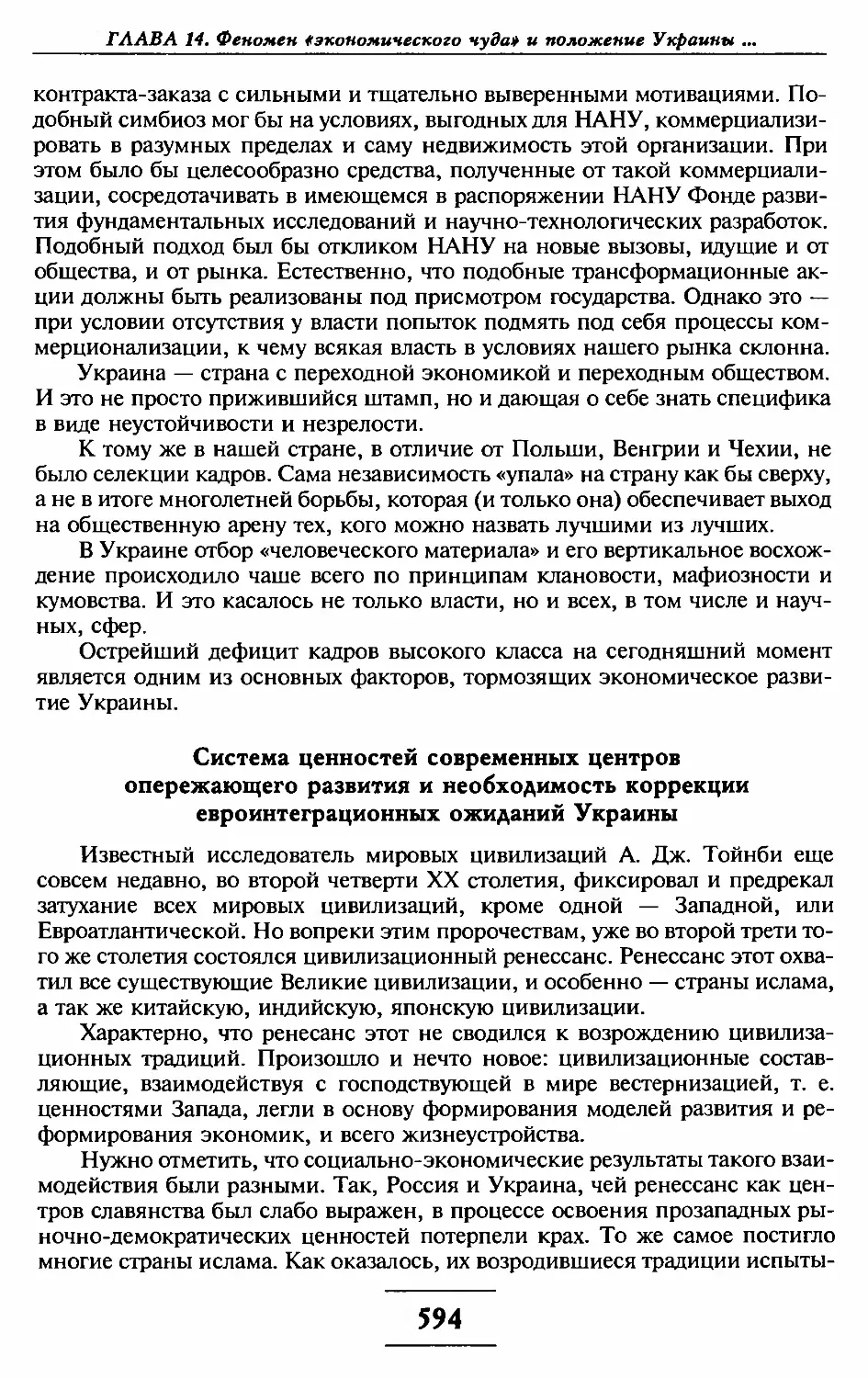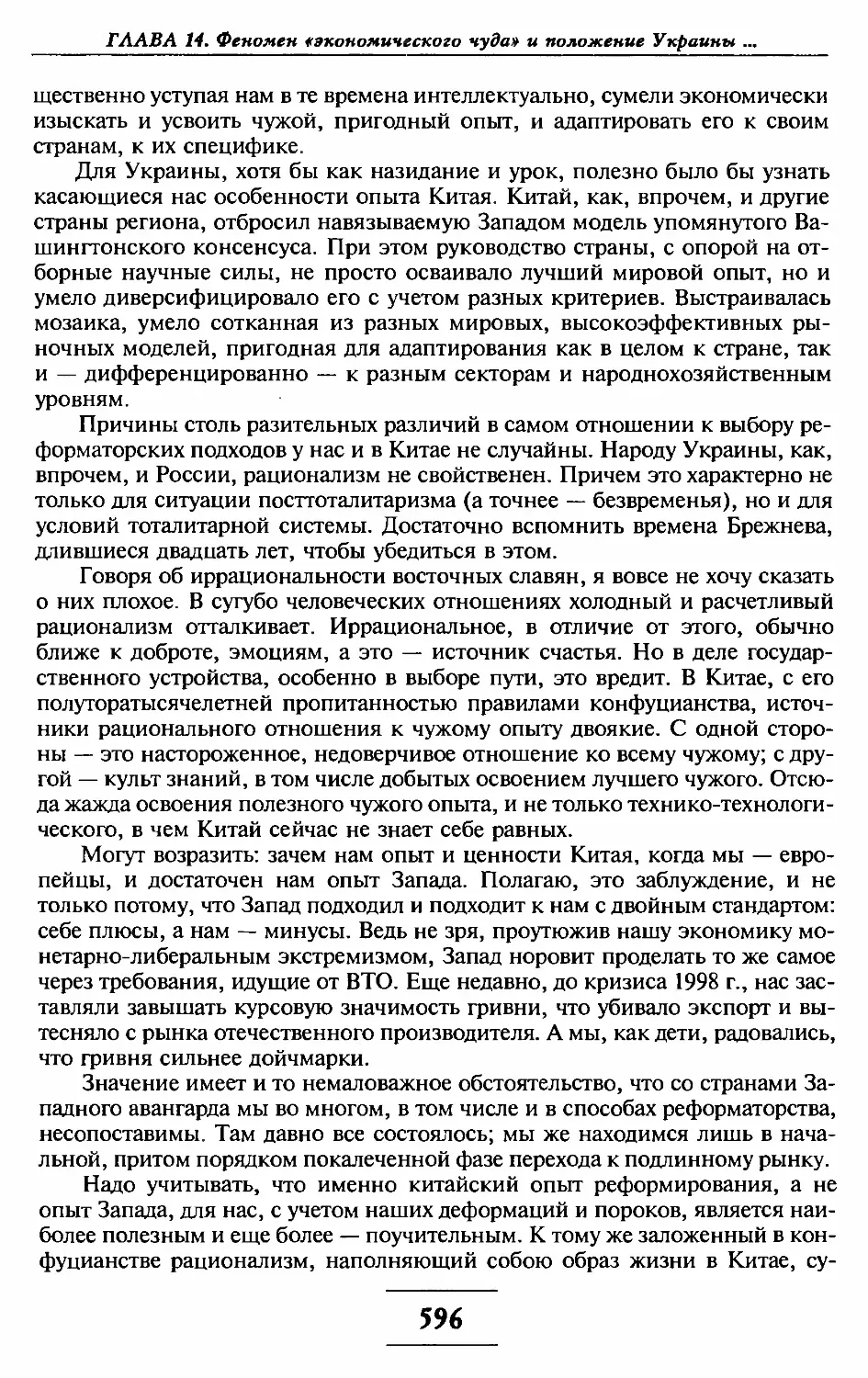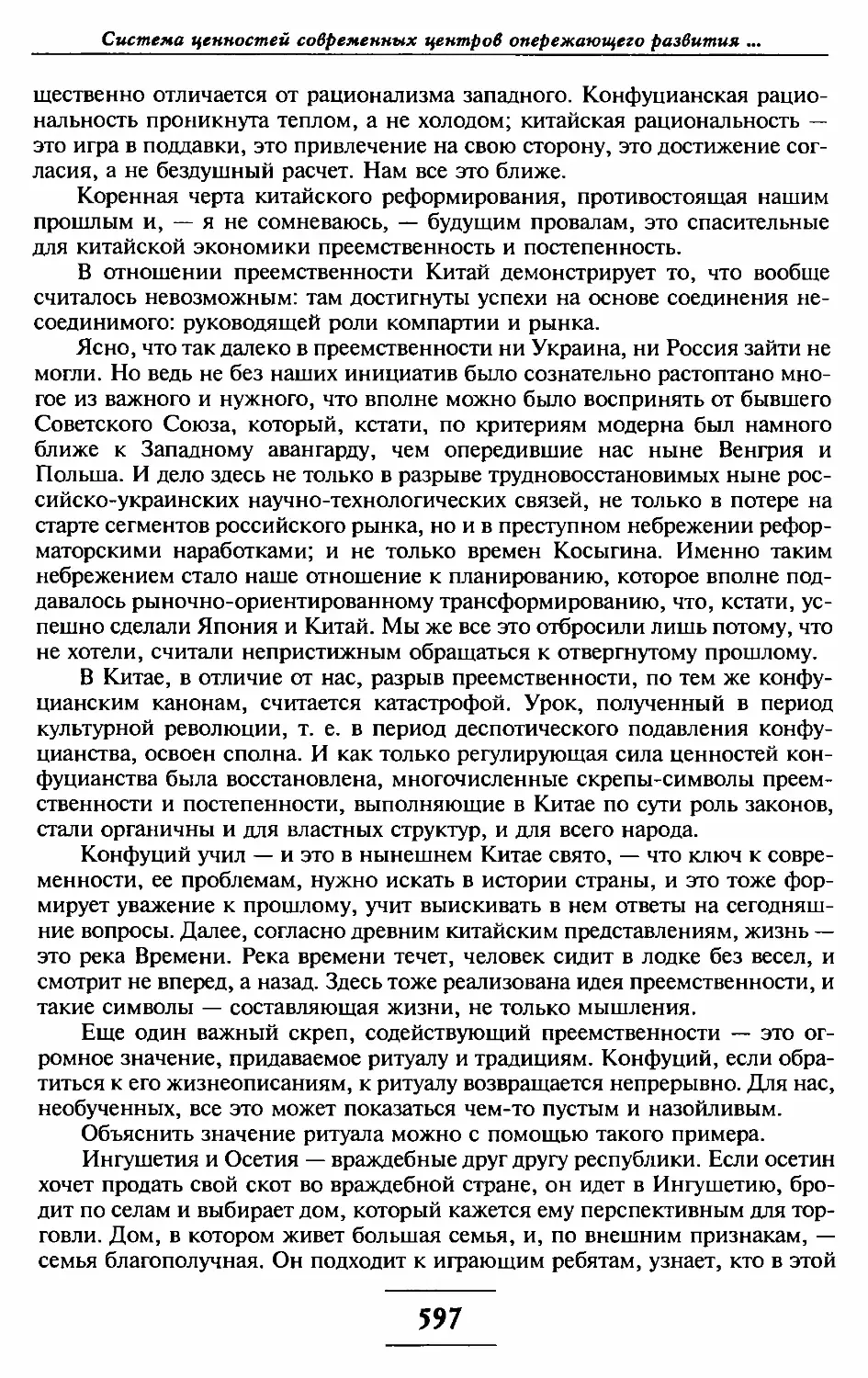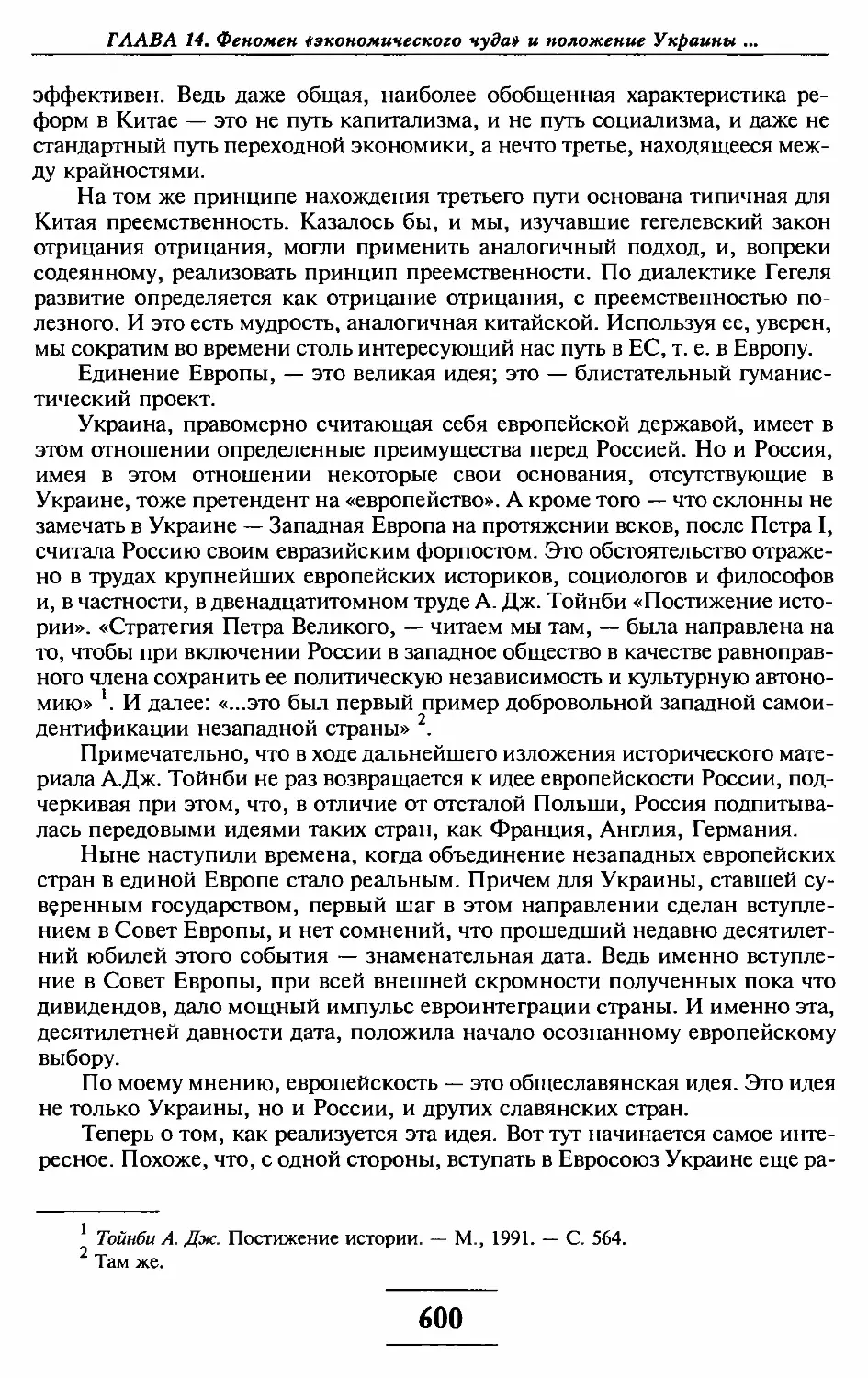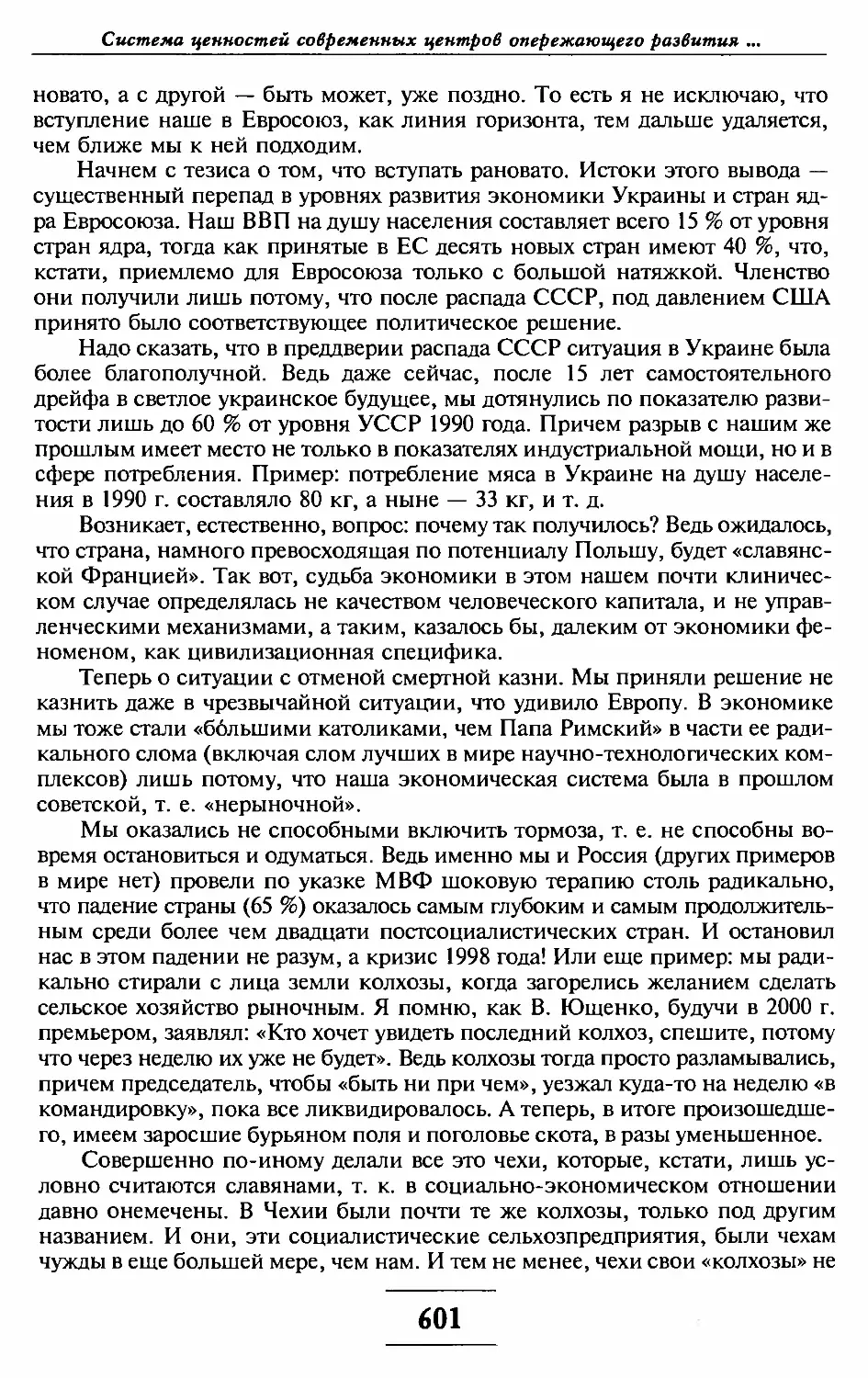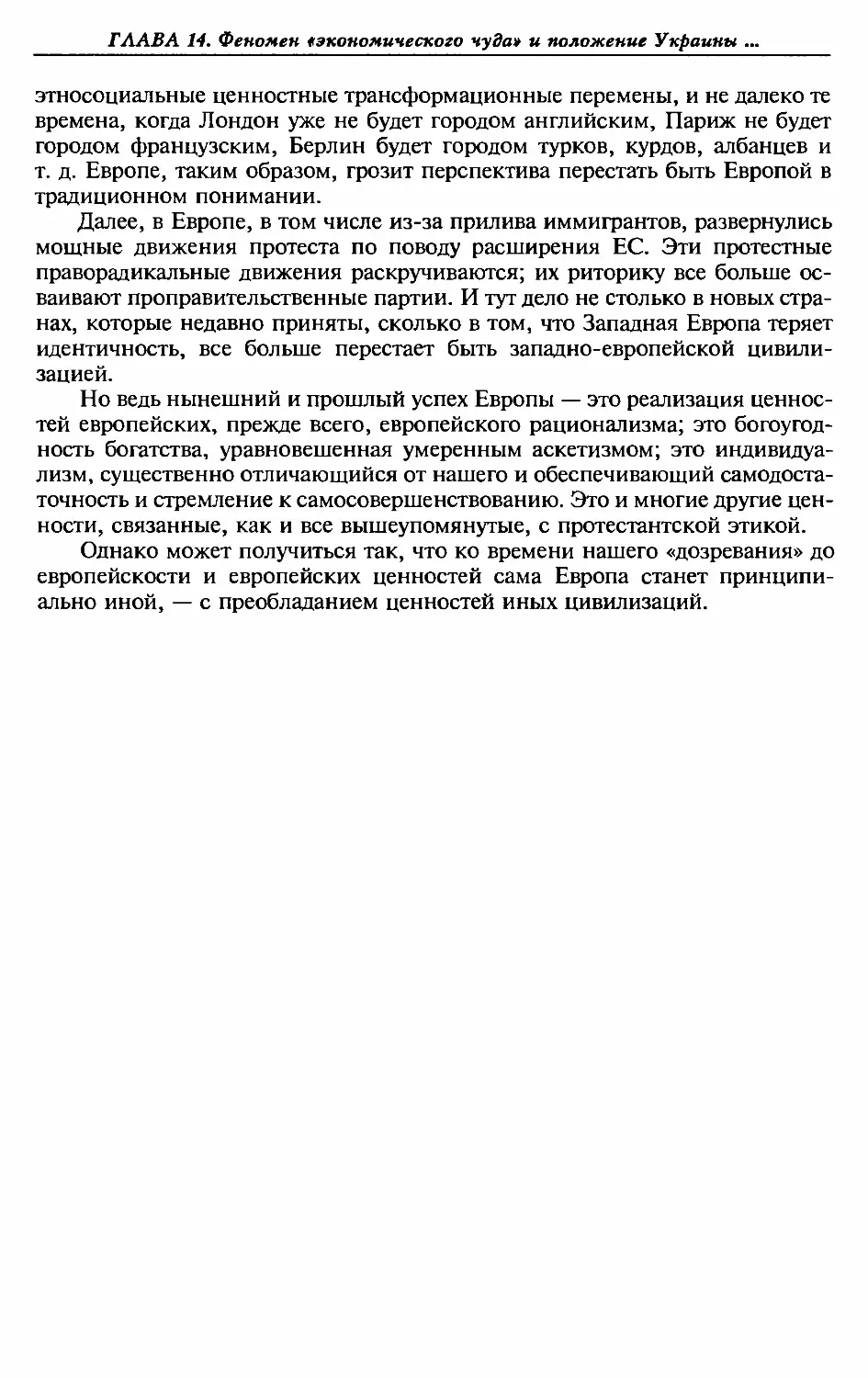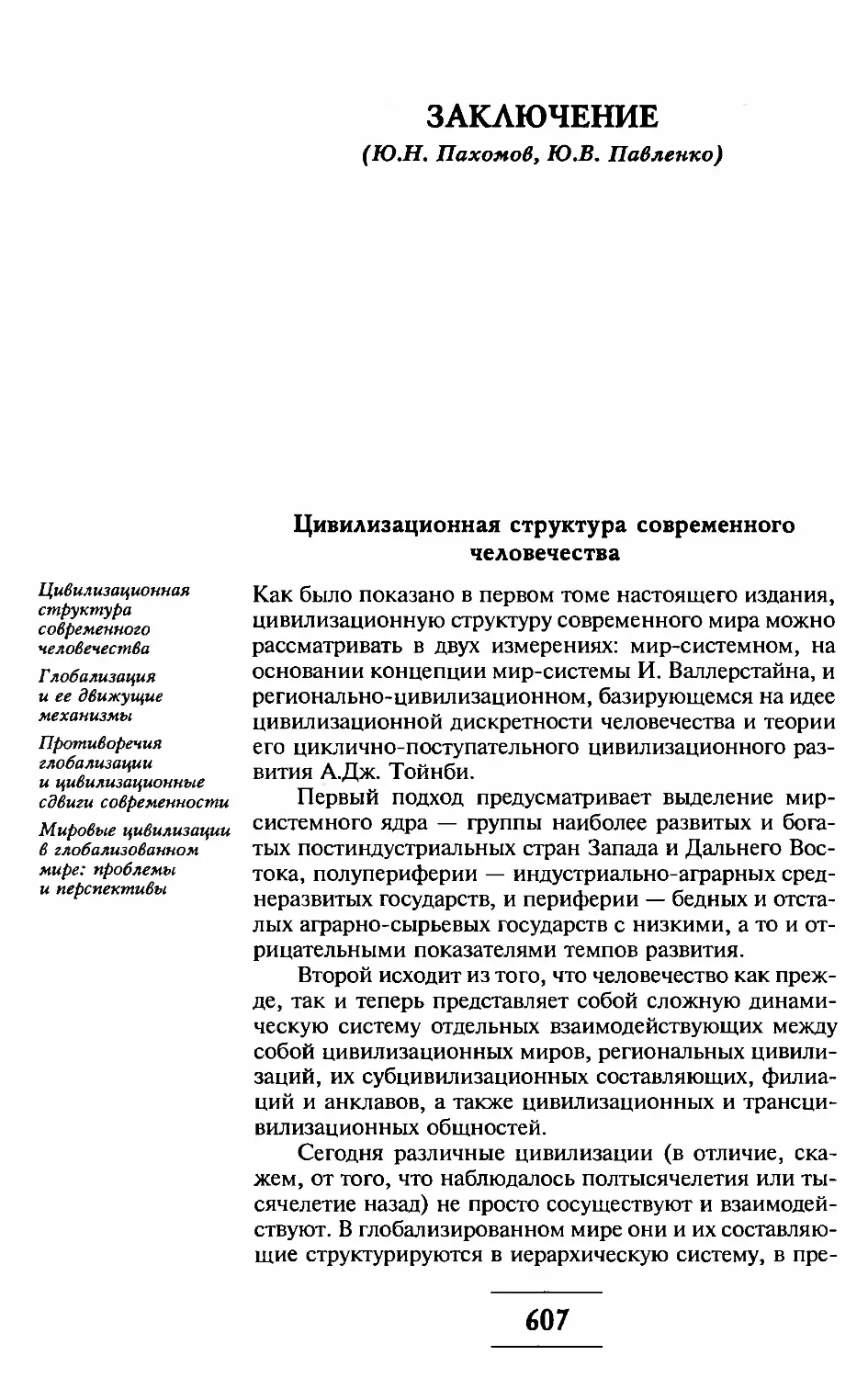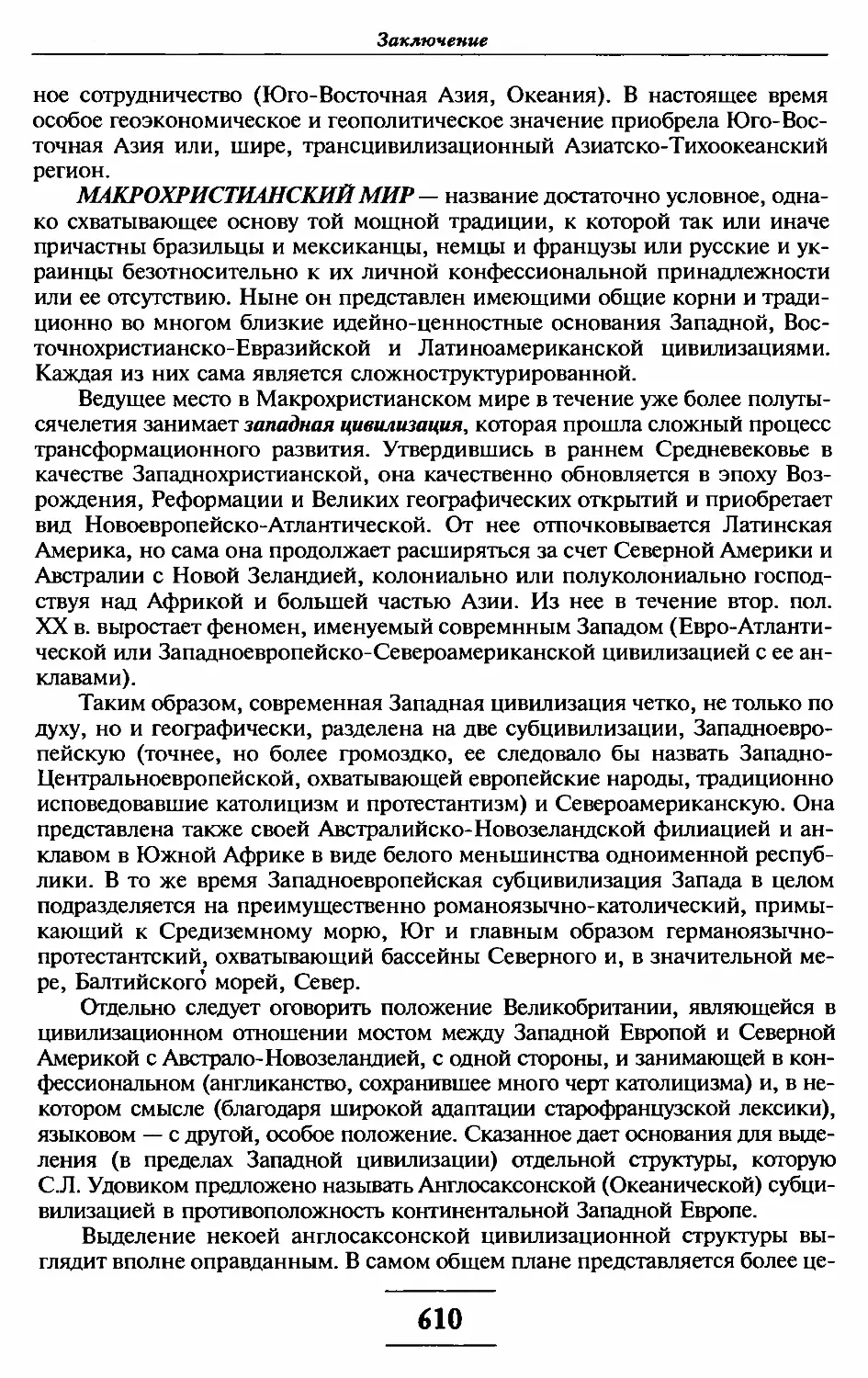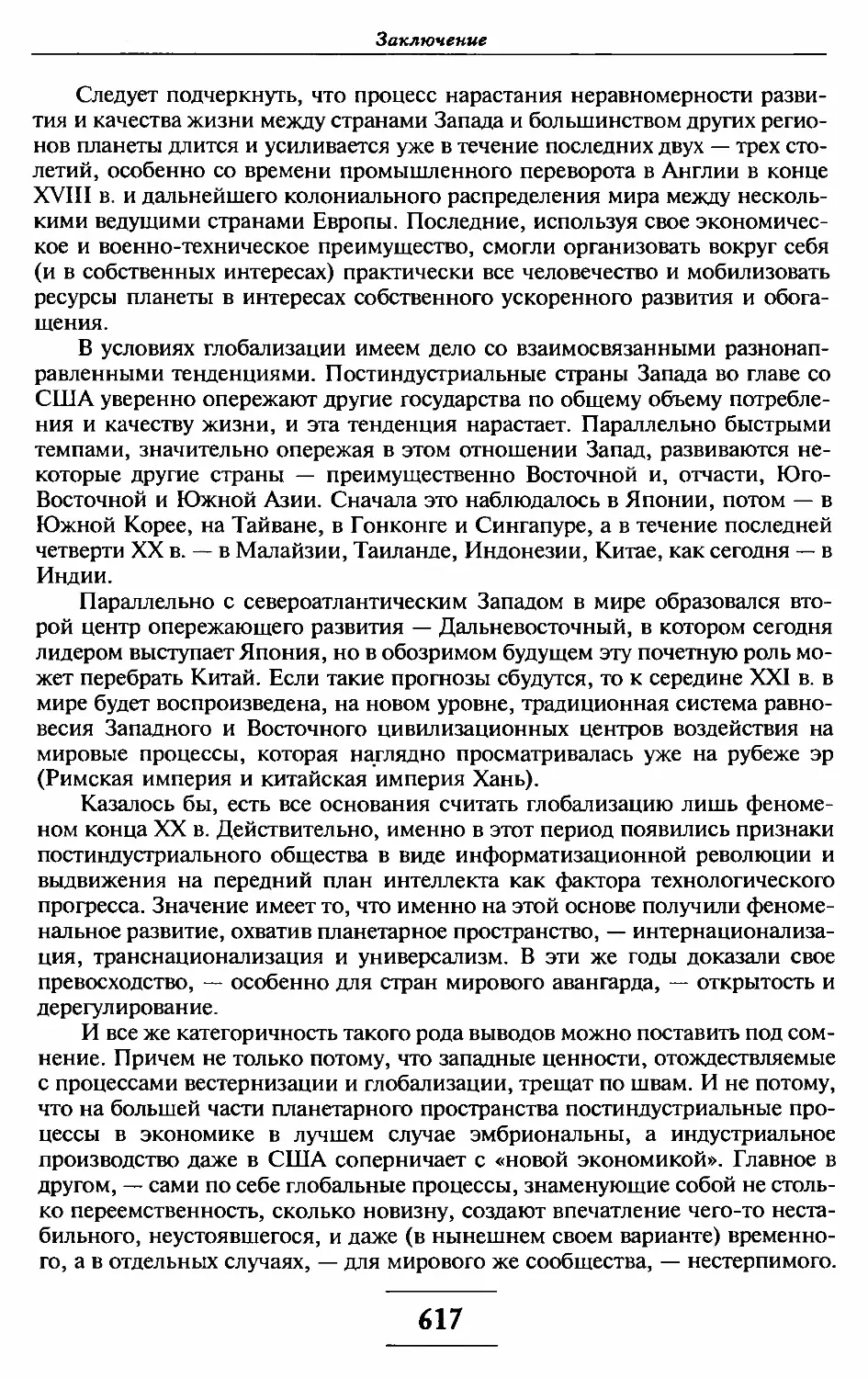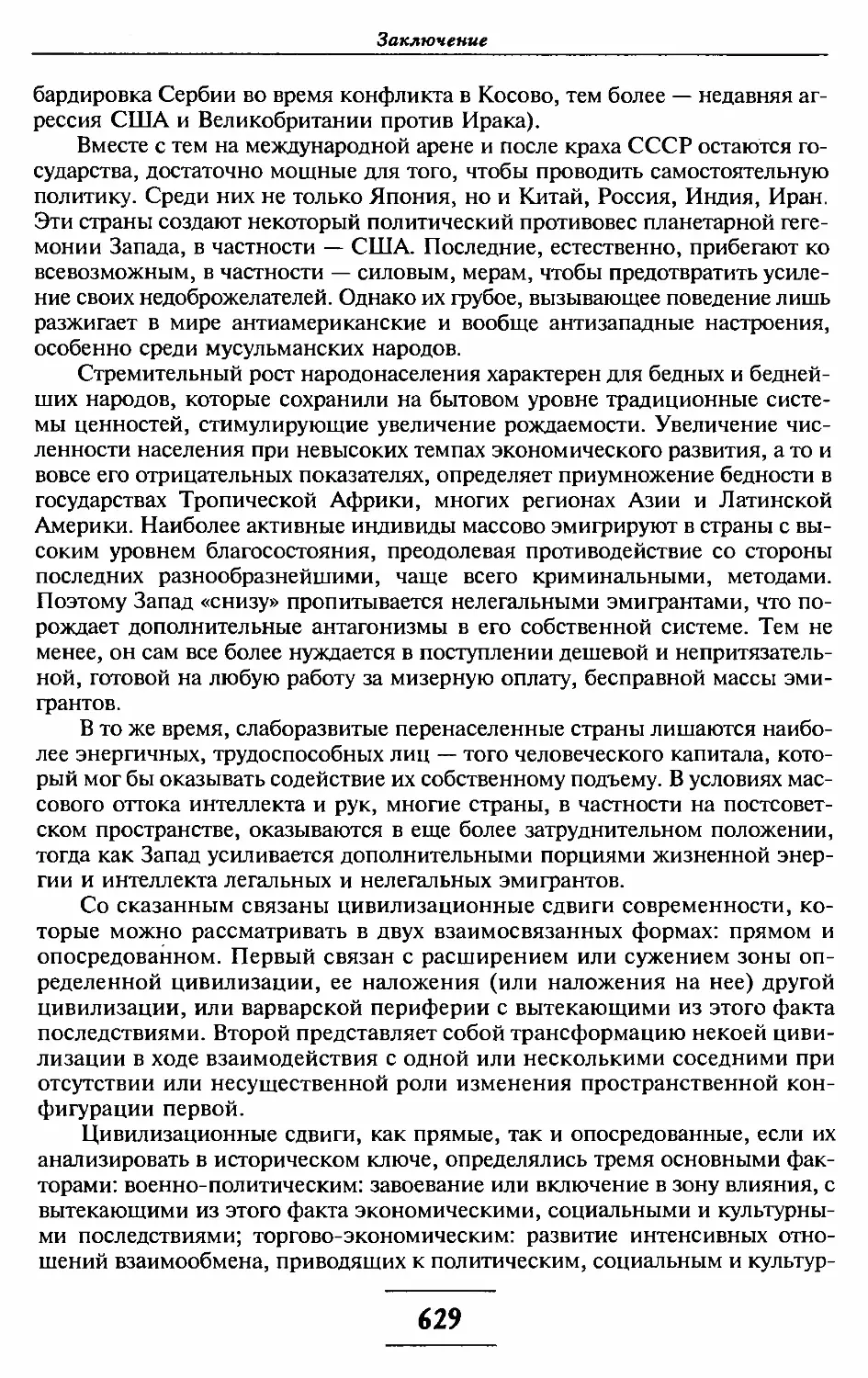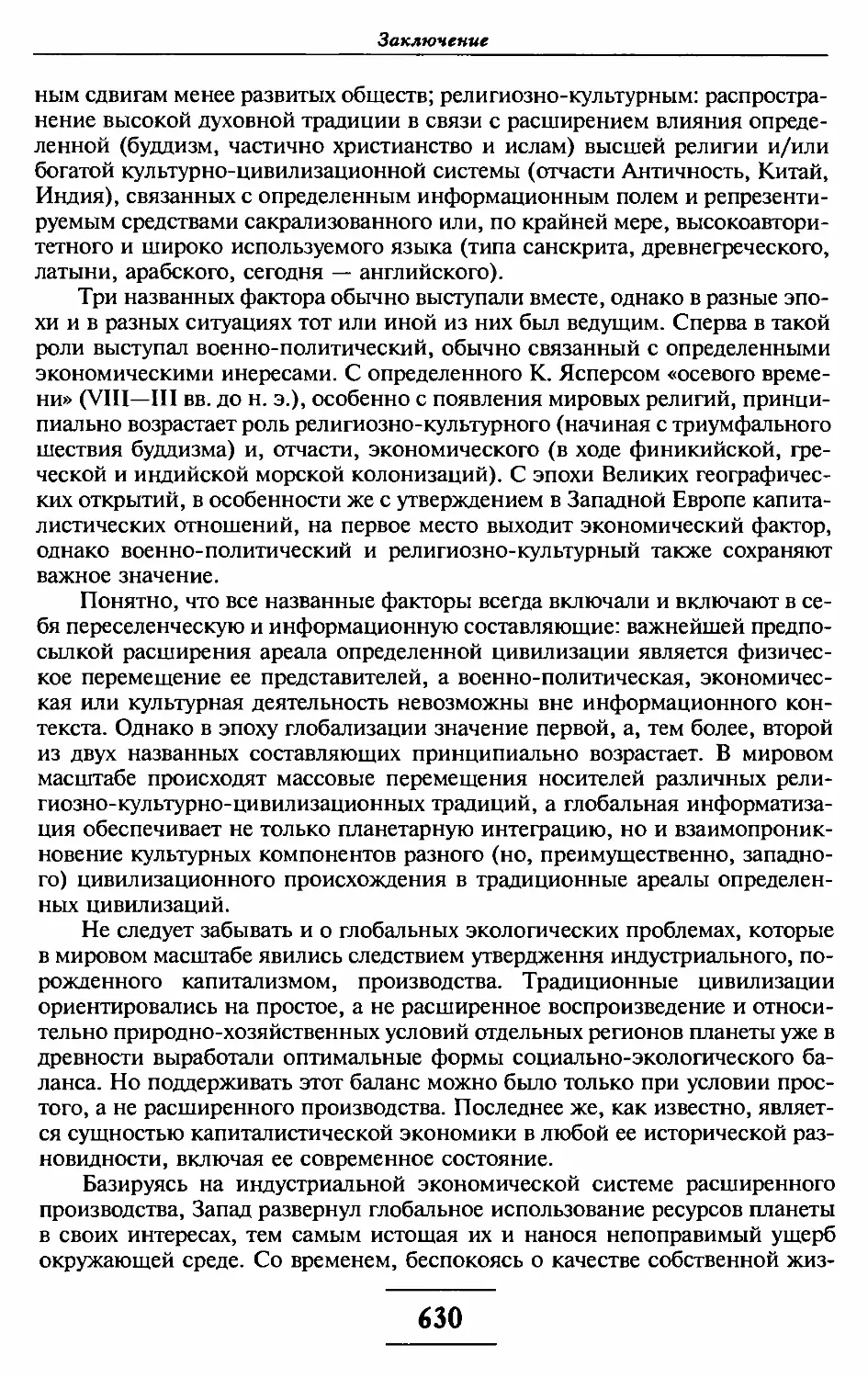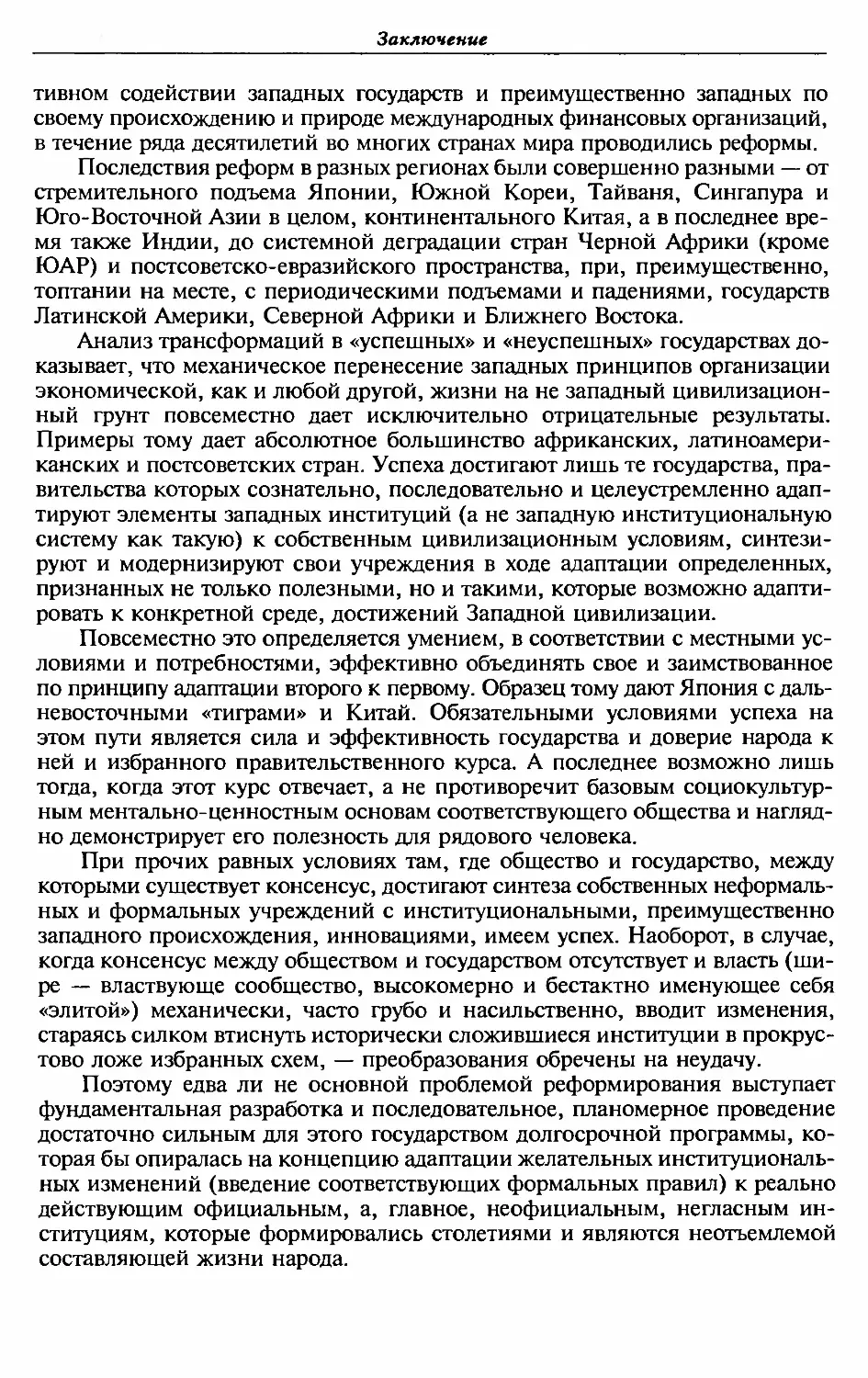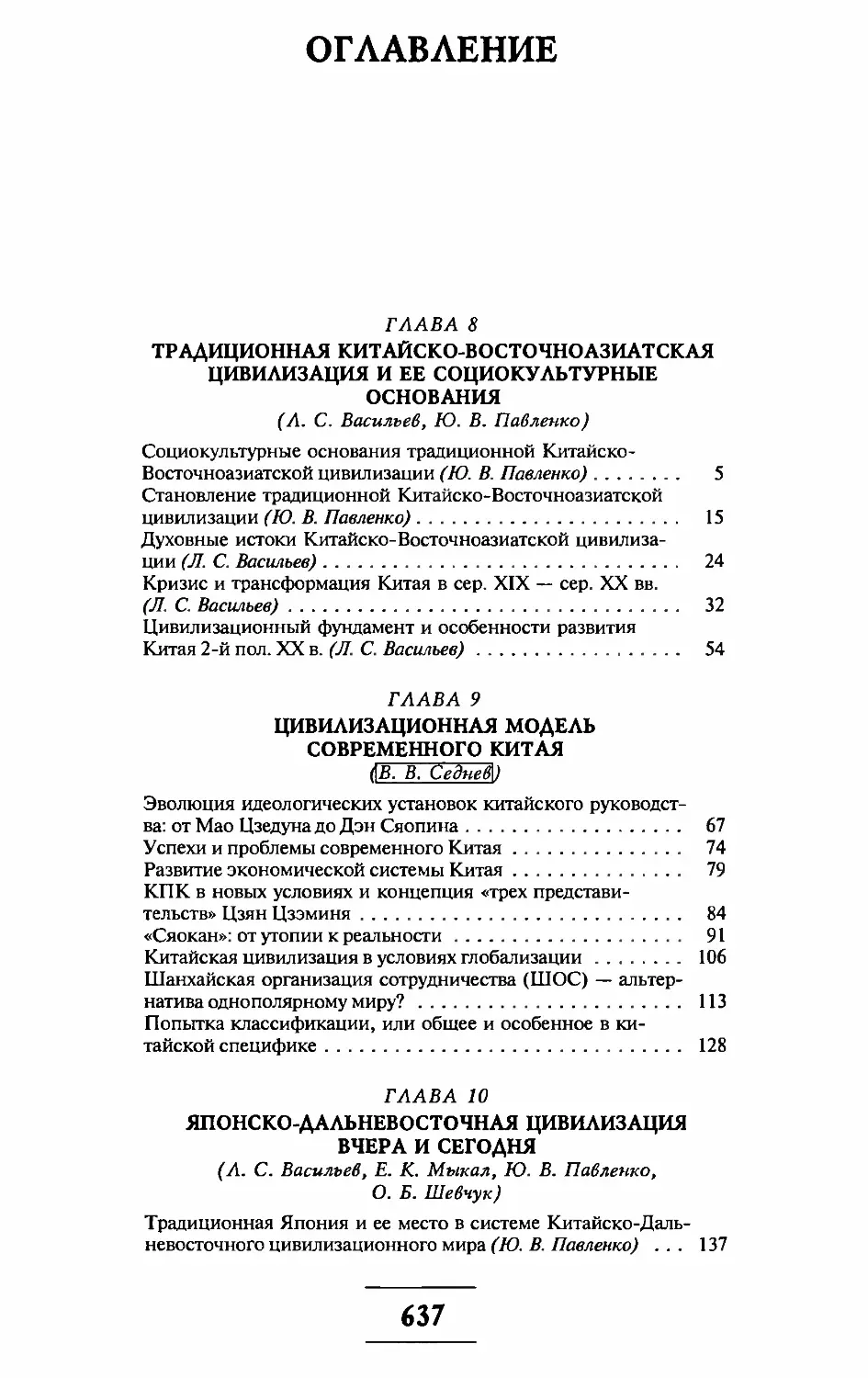Автор: Пахомов Ю.Н. Павленко Ю.В.
Теги: история история цивилизаций
ISBN: 978-966-00-0717-8
Год: 2008
Похожие
Текст
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО
КНИГА 2
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО МИРА
В 3-х томах
ТОМ 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ
ТОМ 2. МАКРОХРИСТИАНСКИЙ МИР В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ТОМ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
КНИГА II.
КИТАЙСКО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ МИР И АФРИКАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ОБЩНОСТЬ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Под редакцией академика НАН Украины Ю. Н. ПАХОМОВА и доктора философских наук, профессора Ю. В. ПАВАЕНКО
ПРОЕКТ
«ПАУКОВА КНИГА»
КИЕВ НАУКОВА ДУМКА 2008
ББК 17
Ц57
Вторая книга третьего тома «Цивилизационной структуры современного мира» является заключительным тематическим блоком данного издания. В ней дается общая характеристика и предлагается новаторское осмысление сложных, во многом противоречивых и подчас неожиданных даже для экспертов процессов бурного роста экономик и трансформации социально-политических систем ведущих стран Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии: Японии и так называемых восточноазиатских тигров — Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура. Специальное внимание уделяется выяснению цивилизационно-культурных, духовных оснований стремительного экономического рывка Китая, а в последнее десятилетие и Индии — стран с более чем миллиардным населением каждая, а также Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Исследуются глубинные, цивилизационные причины провала экономических реформ в Украине и других государствах на постсоветском пространстве, а также в абсолютном большинстве стран Транссахарской Африки. В заключительной части подводятся итоги всего издания, в частности, раскрывается динамика цивилизационной структуры человечества в условиях глобализации и ее обратной стороны — регионализации, происходящей преимущественно на базе традиционных цивилизационных структур.
Издание рассчитано на научных работников, преподавателей и студентов гуманитарных, социологических и экономических факультетов, всех, кто интересуется глобальными проблемами современного человечества.
Друга книга третьего тому «Цивипзашйно! структури сучасного евггу» е заключним тематичним блоком даного видання. У н!й даеться загальна характеристика i пропонуеть-ся новаторське осмислення складних, багато в чому суперечливих та !нод! неоч!куваних навпь для експерпв процешв бурхливого росту економ!к ! трансформацп соц!ально-по-лггичних систем провщних краш СхщноТ, ГНвденно-Схщно! та ГБвденно! Азп: Японп i так званих схщноазшських тигр!в — ГПвденно! Корец Тайваня, Гонконга i Сингапура. Окрема увага придитена з’ясуванню цивийзашйно-культурних, духовних пщвалин стр!мкого еко-ном!чного ривка Китаю, а в останне десятилптя й 1нд!! — краш з быьш н!ж митьярдним населениям кожна, а також Азшсько-Тихоокеанського репону в цитому. Дослщжуються глибиннц цивйпзацшн! причини провалу економ!чних реформ в У крапп та шших державах на пострадянському простор!, а також в абсолютнш битьшост! краш Транссахарсько! Африки. У заключит частин! пщбиваються пщеумки всього видання, зокрема, розкрива-еться динам!ка цивйпзашйно! структури людства за умов глобал!зацп та п зворотного боку — репонал!зацп, що вщбуваеться переважно на грунт! традицшних цивйпзацшних структур.
Видання розраховане на наукових прашвниюв, викладач!в та студента економ!чних, сошолопчних i гумаштарних факультета, вс!х, хто щкавиться глобальними проблемами сучасного людства.
Рекомендовано к печати ученым советом
Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины
Видання здгйснене за державший контрактом на выпуск науковоТ друковашн продукцн
ISBN 978-966-00-0717-8
© Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко, Д. Н. Бондаренко, Л. С. Васильев, А. 3. Гончарук, В. К. Гура, Е. К. Мыкал!А- Никишенко) Б. А. Парахонский, |В. В. Седнев,| О. Б. Шевчук, 2008
© НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН Укра!ни», дизайн, 2008
ГЛАВА 8
ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ
(Л. С. Васильев, Ю. В. Павленко)
Социокультурные основания традиционной Китайско-Восточноазиатской цивилизации
Становление традиционной Китайско-Восточноазиатской цивилизации
Духовные истоки Китайско-Восточноазиатской цивилизации
Кризис и трансформация Китая в сер. XIX — сер. XX вв.
Цивилизационный фундамент и особенности развития Китая 2-й пол. XX в.
Социокультурные основания традиционной Китайско-Восточноазиатской цивилизации
Общеизвестна глубокая и сознательно культивируемая в течение тысячелетий традиционность Китайской цивилизации. Как справедливо подчеркивает JI. С. Васильев, «анализ древнейших мировоззренческих конструкций и менталитета, — а стоит напомнить еще раз, что в своем зрелом, сложившемся виде то и другое стало нормативным эталоном и за последние два тысячелетия изменилось весьма незначительно, — позволяет составить достаточно полное представление об идейном багаже, который имела традиционная китайская цивилизация и с каким она пришла в XX в.» *.
Эти слова можно отнести и к Индии. Но в социально-политическом отношении традиционная Китайская цивилизация (в рамках общей восточной модели развития) демонстрирует прямую противоположность тому, что свойственно последней. Это осознавали уже французские просветители XVIII в., для многих из которых, как, например, для Вольтера, Китай являлся примером «просвещенного абсолютизма», тогда как Индия представлялась страной суеверий и политического хаоса.
Вместе с тем общая «азиатская» природа обеих великих цивилизаций Востока была ясно осознана уже Ш. Монтескье. По его мнению, во всей Азии царит дух рабства, что объясняется географическими ее особен-
1 Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. — М., 1989. - С. 280.
ностями. Власть здесь «должна быть всегда деспотической, и если бы там не было такого крайнего рабства, то в ней скоро произошло бы разделение на более мелкие государства, несовместимое, однако, с естественным разделением страны». При этом Ш. Монтескье в отличие от многих его современников не идеализировал правление пирамиды конфуциански образованных бюрократов-шеныпи и писал о «разбойничестве мандаринов» *. Философ допускал, что в Китае правление «не так испорчено, как оно должно было бы быть», но все же определял его как «государство деспотическое, принцип которого — страх» 1 2.
Своеобразие китайского общественного строя, сочетающего деспотизм с конфуцианской образованностью чиновников, осознавал и Ж.-Ж. Руссо 3. Противоречие между деспотизмом и порочностью бюрократии, с одной стороны, и образованностью правящего класса — с другой, противоречие, плохо сочетающееся с общими концептуальными установками просвещения, осознано им в достаточной степени.
Общее отношение европейцев конца XVIII в. к Востоку в целом находим у К. Ф. Вольнея. По его словам: «Вся Азия погружена в глубочайший мрак. Китаец, огрубевший от деспотизма, правящего при помощи бамбуковых палок, ослепленный астрологическими суевериями, скованны? незыблемым сводом предписываемых обычаями действий, полной негодностью системы своего языка и в особенности плохо построенной письменностью, кажется мне народом-автоматом с его уродливой цивилизацией. Индиец, порабощенный предрассудками, обремененный связанными оковами своих каст, прозябает в неизлечимой апатии» 4.
Индия и Китай, таким образом, одинаково относятся им к восточному, азиатскому типу общества, однако в его рамках достаточно четко противопоставляются.
Концептуальное осмысление такого положения находим в «Философии истории» Г. В. Гегеля. Для него Китай и Индия, в пределах Востока, выступают как «тезис» и «антитезис». В Китае все едино, целостно и структурно соподчинено, при том, что субъективная сфера полностью подчинена и детерминирована внешней, объективной. Монарх властвует как патриарх, «отец» бесчисленного народа, над которым он обладает абсолютной, но в то же время реализуемой в традиционной форме, властью. Иное дело в Индии, где государственность в том виде, как она наличествует в Китае, дезинтегрирована. «Неподвижное единство Китая» противопоставляется «блуждающему необузданному индийскому беспокойству» 5.
Немецкий философ справедливо отмечал связь между универсальнобюрократической государственностью традиционного Китая и отсутствием
1 Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведен 1я. — М., 1955. - С. 266.
2 Там же. - С. 267-268.
3 Руссо Ж.-Ж. Рассуждения о нагках и искусствах // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. — М 1969. - С. 15.
_ Вольней К. Ф. Руины или размышления о революции империй. — М., 1928. — С. 62.
3 Гегель Г. В. Философия истории. — СПб., 1993.
фиксированного сословного деления общества. Он писал, что «кроме императора у китайцев, собственно говоря, не существует привилегированного сословия, дворянства. Только принцы императорского дома и сыновья министров пользуются некоторыми преимуществами более благодаря их положению, чем происхождению. Остальные все считаются равными, и в управлении принимают участие только те, у кого есть способность к этому».
И далее философ продолжает: «В Китае царит абсолютное равенство, и все существующие различия возможны лишь при посредстве государственного управления и благодаря тому достоинству, которое придает себе каждый, чтобы достигнуть высокого положения в этом управлении. Так как в Китае господствует равенство, но нет свободы, то деспотизм оказывается необходимым образом правления. У нас люди равны лишь перед законом и в том отношении, что у них есть собственность; кроме того у них имеется еще много интересов и много особенностей, которые должны быть гарантированы, если для нас должна существовать свобода. А в китайском государстве эти частные интересы не правомерны для себя, и управление исходит единственно от императора, который правит с помощью иерархии чиновников или мандаринов» ’.
В традиционном Китае социальное самоутверждение индивида в принципе определялось не происхождением или богатством (хотя, конечно, и эти факторы играли большую роль), а уровнем образованности и успехами в продвижении по служебной лестнице. Если в Индии социальная мобильность блокировалась кастовыми барьерами, то в Китае она была облегчена системой экзаменов, делавшей карьерное продвижение доступным для каждого способного и амбициозного кандидата, принявшего нормативы официальной доктрины — конфуцианства 1 2.
Выдвижение на ответственные должности происходило различными, обычно сочетающимися, способами: по прямому указанию императора, по протекции крупных сановников, по праву «тени» (заслуг или родовитости предков), однако основным для подавляющего большинства чиновников оставался путь, который вел через государственные экзамены 3.
Однако трудно согласиться с Г. В. Гегелем в том, что момент субъективного духа в китайской цивилизации был нивелирован и подавлен, неразвит или в решающей степени детерминирован общественно-государственной тотальностью. Даже самое общее знакомство с духовной культурой традиционного Китая и биографиями ее творцов, особенно поэтов, позволяет выявить нередко обостренное ощущение раздвоенности личности и связанного с ним нравственного дискомфорта.
1 Гегель Г. В. Философия истории. — СПб., 1993. — С. 166.
Васильев Л. С. Социальная структура и социальная мобильность на традиционном Востоке // Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии. Проблема социальной мобильности. — М., 1986. — С. 43.
з
Бокщанин А. А. Очерк истории государственных институтов Китайской империи // Феномен восточного деспотизма. — М., 1993. — С. 330.
Культурный человек традиционного Китая оказывался неизменно задействованным в административной системе, базировавшейся на конфуцианстве как универсальной нравственно-социально-политической концепции. После падения династии Цинь (конец III в. до н. э.) эта концепция в идеологической сфере не знала конкуренции на протяжении более двух тысячелетий. Отсутствие идеологической альтернативы конфуцианской модели общественного устройства — при неизбежной отчужденности духовно развитых индивидов от бюрократической власти, попирающей декларируемые конфуцианством идеалы и нормы поведения, — порождало желание ухода в свой внутренний, духовный мир.
Одной из форм такого духовного протеста стало стремление к объединению одаренных личностей в кружки-группы типа «Семи мудрецов из бамбуковой рощи» (Жуань Цзы, Цзи Кан, Сян Сю, Жуань Сянь, Лю Лин, Шань Тао и Вань Жун)1, равно как и образцы трогательной дружеской привязанности ощущающих свою духовную близость людей, даже если они, как, к примеру, Ли Бо и Ду Фу, оказывались в различных, борющихся между собой с оружием в руках, группировках. В роли духовной альтернативы конфуцианству длительное время выступал даосизм, который следует рассматривать как сложное недифференцированное образование, включающее в себя натур-философию, религиозную доктрину и психофизиотехнику, к которой непс-средственно примыкают культовая, мистическая и магическая практики .
Даосизм непосредственно смыкается с народными магическо-мифологическими представлениями, являясь в значительной степени их рационализацией, обобщением и развитием. Однако он также выступает в качестве основ персонального самоощущения образованного индивида, рассматривающего себя в этом отношении вне самодовлеющей социальности.
С конца 1-й пол. I тыс. н. э. даосизм дополняется даосской же трактовкой буддизма1 2 3, прежде всего в форме чань-буддизма. Буддийское миросозерцание проступает уже в творчестве таких известных авторов V в., как Се Линъюнь и Бао Чжао, становясь органическим компонентом китайской культуры в эпоху Тан (VII—IX вв.).
Конфуцианство и даосизм в сущности представляли собой взаимодополняющие и взаимоуравновешивающие (по аналогии с парадигмой «инь — ян») полярные компоненты внутренне противоречивого, но удерживающегося на этом противоречии, мировоззренческого комплекса традиционного Китая. Будучи ориентированными на различные сферы жизни — первый на внешнюю, общественную, отчужденную, второй на внутреннюю, личностную, интимную — они по сути не вступали в прямую конфронтацию друг с другом.
Каждое из этих течений в какой-то степени признавало правоту своего оппонента. Поэтому неверно было бы, как отмечает Е. А. Торчинов, рассма
1 Малявин В. В. Жуань-цзы. — М., 1978. — С. 46.
2 Торчинов Е. А. Даосизм. — СПб., 1993. — С. 87.
3 Торчинов Е. А. Формирование буддийских космологических представлений в Китае (буддийско-даосская традиция) // Буддийский взгляд на мир. — СПб., 1994. — С. 137—167.
тривать их только как противоположные. На протяжении своей истории даосизм впитывал в себя конфуцианские идеи, а взгляды некоторых даосских мыслителей могут квалифицироваться как даосско-конфуцианский синтез, причем, как, к примеру, у Гэ Хуна, конфуцианскими были прежде всего их социально-политические взгляды *.
При этом, если ориентированные на внешнюю самореализацию индивиды принимали официальный конфуцианский канон, не ставя под сомнение его истинность и универсальную самодостаточность, то личности более тонкого душевного склада, особенно с годами, пережив сомнения и разочарования, все более становились поклонниками «уводившей от суетной жизни» к «горам и водам», «ветру и потоку» ироничной и эстетически утонченной мудрости даосов. Продвигавшиеся по должностной лестнице чиновники, если они, конечно, не были чужды духовным запросам, компенсировали самоотчуждение на службе путем приобщения к даосско-буддийской традиции. Тем более к ней обращались высокодуховные люди, потерпевшие крах в своей официальной карьере, как, например, поэт Ван Вэй.
Такого рода мировоззренческий дуализм (точнее — двуединство) имел основания в общественно-исторической практике различных социальных групп древнекитайского общества. Он зародился и вызревал в определенных, специфических для эпохи становления Китайской цивилизации условиях вплоть до начала эпохи «Чжань го» — «Борющихся царств» (V—III вв. до н. э.), когда конфуцианство и даосизм уже выступают в качестве осознающих свою взаимодополняющую противоположность доктрин. Такая постановка проблемы предполагает повышенное внимание к социально-психологической обстановке, сложившейся в бассейне Хуанхэ в 1-й пол. I тыс. до н. э., в эпоху Чжоу1 2.
Становление Китайской цивилизации в эпоху раннего Чжоу в 1-й трети I тыс. до н. э. определялось взаимодействием двух этнокультурных блоков; завоеванных потомков предшествующей северокитайской Шан-Иньской цивилизации 2-й пол. II тыс. до н. э. и утвердивших над ними свою власть варваров-чжоусцев, ранее зависимых от дома Шан. Казалось бы, подобную ситуацию на полтысячелетия ранее мы наблюдали и в Северо-Западной Индии, однако принципиальное различие двух названных случаев состоит в том, что в них во взаимодействие вступали качественно различные социальные структуры.
В долине Инда скотоводы-арии, находившиеся на стадии позднепервобытного, племенного строя, подчиняли разрозненные общины потомков дезинтегрировавшейся в силу внутренних кризисных процессов несколькими веками ранее цивилизации Хараппы и Мохенджо-Даро. К моменту их столкновения первый из контрагентов, уже зная сословное (варновое) деление общества, еще не создал государственной машины, тогда как другой уже утратил ее. Поэтому в течение всего периода становления раннегосударст
1 Торчинов Е. А. Даосизм. — СПб., 1993. — С. 36.
2 См.: Павленко Ю. В. 1стор1я cbItoboi цивипзацп: Соцюкультурний розвиток людства. — К., 1996. — С. 281—286; Его же: История мировой цивилизации: Философский анализ. - К., 2002. - С. 381-390.
венных организмов, как, впрочем, и в последующие столетия, общественные связи регулировались главным образом нормами горизонтальных (сословных: варновых, а позднее кастовых) отношений, при том что сперва завоеватели образовали высшие сословия, а завоеванные — низшее.
Чжоусцам же, уже имевшим к началу борьбы с державой Шан-Инь по крайней мере протогосударственное устройство, после победы над своим бывшим сюзереном пришлось налаживать управление населением, привыкшим жить под контролем административно-бюрократического аппарата. Одна система власти сменилась другой, хотя их отношение к местному населению было далеко не идентичным. Если за прежним правящим домом стоял сакрализованный традицией авторитет, то господство захватчиков, не имея легитимных основ, на первых порах могло удерживаться лишь голым насилием, стремившимся использовать раннегосударственные институты.
Таким образом, если в Индии эпохи брахманизма социальные отношения строились на основе сословной (варновой) принадлежности, то в Китае начала I тыс. до н. э. они определялись диспозицией «властители — подданные» или «управляющие — управляемые». При отсутствии расовых барьеров и этноязыковой отчужденности (игравших огромную роль в ранней истории Индии) прагматические соображения, связанные с заботами чжоусцев о создании эффективного административного аппарата, способствовали инкорпорации части представителей старой знати в состав новой господствующей прослойки.
Чжоусское завоевание и обусловленные им крах традиционной общественной системы, дискредитация прежней, освящавшей ее религиозно-идеологические традиции, утверждение господства иноплеменных варваров, нуждающихся в кадрах квалифицированного чиновничества, поставили перед «образованной прослойкой» покоренного общества проблему выбора линии социального поведения. Одни принимали факт подчинения как данность, стремясь сохранить хоть что-то из своего прежнего достояния, тогда как другие, оставляя все, что имели, уходили в малодоступные лесистые горы.
Принимая официальную трактовку смены власти как следствие изменения «мандата Неба», многие из представителей социально активных слоев пошли на компромисс и сотрудничество с завоевателями, остро нуждавшимися в образованных, знакомых с общественно-хозяйственным состоянием страны кадрах. В этой среде и должны были зародиться прообразы тех социально-этических доктрин, которые были ориентированы на решение проблемы взаимоотношения государства (в лице его правителя и представителей администрации на местах), прослойки служащих-чиновников среднего звена и простого народа. Эта проблема усугублялась самим двойственным положением чиновничества местного происхождения, находившегося на службе у завоевателей и вместе с тем ощущавшего свою причастность к покоренным массам.
В такой ситуации и был поставлен вопрос о разработке концепции и последующего построения такой общественной системы, в рамках которой воцарилась бы гармония и каждый человек — в соответствии с его способностями — выполнял бы определенные общественно полезные функции на благо целого. Выдвигаются проекты справедливого, гармоничного устройства
общества, поражающие (при всей утопичности замысла) своим практицизмом и трезвым расчетом.
С особой силой данная тенденция начинает проявляться со 2-й четв. I тыс. до н. э., когда в различных древнекитайских царствах и княжествах, образовавшихся в процессе «феодализации» империи Западного Чжоу, разночинные по своему происхождению служащие («ши») начинают медленно, но неуклонно вытеснять представителей старой родовой чжоусской знати. Так закладывались основы характерной для всей последующей истории традиционного Китая административно-бюрократической системы, отличающейся высокой степенью социальной мобильности.
В этих условиях одни мыслители, такие как Гуань Чжун, Шан Ян или Хань Фэй-цзи, решали общественные вопросы исключительно с точки зрения интересов государственной машины, рассматривая отдельного человека как средство для достижения стоящих перед нею целей. Другие же, в первую очередь Кун-цзы (Конфуций) и развивший его учение в духе идей социальной справедливости Мен-цзы, стремились к достижению гармонии между интересами индивида и общественного целого. Обеспечить такую гармонию, по их мнению, должны были добродетельный государь и образованное чиновничество на основании разумных законов и строго разработанных правил, регламентирующих поведение каждого человека в соответствии с его полом, возрастом и социальным статусом.
Дискредитация идеологии первого типа (легистской школы фа-цзя), когда та стала общеимперской официальной доктриной в годы кровавой тирании объединившего Китай Цинь Ши-Хуанди, определила демонстративную приверженность всей последующей государственной традиции идеалам конфуцианства. Однако на практике во все последующие века отдельный человек оставался низведенным до роли винтика, работающего на благо державы, а фактически — властвующих в ней императорского двора и высшего чиновничества. Идеальное общество мыслилось как иерархическая универсально-бюрократичекая система, в котором частные формы самореализации индивида должны быть регламентированными и контролируемыми свыше. В первую очередь это относилось к лицам, которым удавалось разбогатеть.
Как подчеркивает Л. С. Васильев, борьба со стяжателями, с частными собственниками, эксплуатация которыми неимущих вела к потере казной той самой доли ее дохода, которая переливалась в карманы нуворишей, становилась с определенного момента важной задачей китайского государства. Особенно в этом преуспело реформированное Шан Яном царство Цинь, которому было суждено одолеть все прочие царства и объединить Китай в мощную централизованную империю.
Именно борьба с собственниками способствовала вызреванию тех важнейших институтов (писаный закон, принуждение, специализированная и строго централизованная административная система с четким территориальным делением страны и пр.), благодаря которым китайская государственность не только веками держала в узде собственнический элемент, но и выработала такую формулу власти, которая без существенных изменений, несмотря на спорадические социальные и политические катаклизмы, потрясав
шие страну до основания, а то и ставившие ее на край гибели, просуществовала до XX в. 1
С иной духовной традицией и социально-психологической средой был связан даосизм, ассоциирующийся в первую очередь с именами Лао-цзы и Чжуан-цзы. Его ироничное, даже определенно негативное отношение к государственной службе, скепсис в вопросе о возможности построения «справедливого общества», идеал стремящегося к достижению личного бессмертия отшельника, живущего наедине с природой и овладевшего ее скрытыми силами, обращение к примерам из обыденной жизни для выражения теоретических воззрений, опять-таки привязанных к решению конкретных житейских задач, — все это выдает явную связь даосских кругов со средой, находившейся в пассивной оппозиции по отношению к государственной бюрократии и ориентированной на идеализацию патриархальных традиций в их эмпирически данных, а не умозрительно-идеализированных (как у конфуцианцев) формах.
Присущая даосам склонность к содержащей элементарные научные знания магии и основанной на немалом медитативном опыте мистике позволяет связывать их с кругом близких к народу сельских жрецов, целителей, предсказателей и знахарей. При этом общественным идеалом даосов никогда не были безвластие и анархизм. Их мечтой было «совершенное правление» наделенного «мандатом Неба» патриархального, исходящего из народных традиций и практически не вмешивающегося в жизнь своих подданных, правителя — смутные отголоски идеализированного прошлого времени Шан-Инь.
Характерно, что противостоянием двух очерченных мировоззренческих позиций в большой, если не в определяющей, степени характеризуется идейное содержание классической китайской лирической поэзии. Практически каждый образованный человек в начале жизненного пути был вынужден выполнять чиновничьи функции и, как правило искренне разделяя конфуцианские установки, стремиться к их воплощению в жизнь.
Но неизбежно терпя фиаско на этом пути, честный государственный служащий рано или поздно утрачивал веру в возможность реально улучшить бюрократическое общество, альтернативы которому не было даже в теории. Это способствовало обращению к своему внутреннему миру, и мировоззренческим ориентиром на этом пути становился даосизм, а позднее и (или) буддизм.
В I тыс. н. э., особенно после краха империи Хань и кровавого подавления восстания «желтых повязок», при последующем установлении диктаторских режимов (начиная с Цао Цао), стремление к покою и созерцательной жизни на лоне природы — при глубоком разочаровании в целесообразности административно-политической и любой другой общественной деятельности — становится едва ли не ведущим мотивом китайской лирики. Он звучит в стихах Цао Чжи (сына упомянутого диктатора), Жуань-цзы, Тао Юаньми-
1 Васильев JI. С. Проблема генезиса китайского государства. — М., 1983. — С. 284—285.
на, Се Лиюня и многих других, сливаясь с буддийскими умонастроениями Ван Вэя или Лю Цзуан-юаня, переходя порою, как у Ли Во, в грустную са-моиронию. Вместе с тем некоторые из танских поэтов, к примеру Ду Фу, Хань Юй или Во Цзюйи, на протяжении всей жизни не отходили от гражданской тематики и не утрачивали интереса к общественной жизни.
Итак, в контексте традиционных социокультурных систем и Индии, и Китая человек, опираясь на сородственное его внутреннему естеству мировое первоначало (Брахма, Дао), стремится к самоутверждению в качестве самоценного, автономного по отношению к социальной системе (власти) субъекта. Однако в этих рамках между традиционно индийским и традиционно китайским подходами имеются существенные расхождения.
В первом случае в качестве реальных оппозиций, между которыми человек ищет свое место, оказываются, с одной стороны, кастовая система наследственной сословной сегрегации, с другой — трансцендентное имперсо-нальное духовное первоначало, в качестве «видимости», ложного восприятия которого (майи) мыслится эмпирический мир. Основания каждого из компонентов этой антитезы предельно спиритуализированы и фактически вынесены за рамки жизненной данности. Так, место человека в обществе определяется его происхождением, которое, в свою очередь, обусловлено его кармой, а значит — заслужено и неизменяемо в течение жизни.
В противоположность этому китайская традиция работает в пределах дихотомии: государственно упорядоченное общество — практически адекватное природному миру Дао как конечная в своем духовно-материальном единстве первореальность. Оба эти начала также имеют некоторое отношение к смутно осознаваемому трансцендентному бытию, однако главное в них — как раз то, что непосредственно обращено к человеку, что лежит в одном измерении с его практической деятельностью. С этим, бесспорно, связан и общеизвестный китайский практицизм, с очень раннего времени освобожденный от воздействия религии и магии, мифологии и героики сверхъестественного. Веками культивируемый, этот стереотип со временем настолько усилился, что превратился в основу основ национального характера китайцев, в его первый и главный признак *.
Относительно широкие возможности социального продвижения в рамках государственной системы Китая не делали ее столь отстраненной от конкретного человека, как, скажем, покоящаяся на авторитете Вед непреодолимая варновая, а затем кастовая система Индии. Перед активным, деятельным индивидом неизменно вставала альтернатива: приобретение власти (а значит и прочих мирских благ) по мере служебного продвижения или же самоотстранение, освобождение от обязанности функционировать в системе властвующего сообщества. Последнее предполагало уход в даосское отшельничество или буддийское монашество. Однако в огромном большинстве случаев образованный китайский чиновник сочетал обе интенции, при том, что первая явно доминировала в его внешней жизни, тогда как вторая реализовывалась в интимной сфере его духа или в общении с ближайшими друзьями.
1 Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. — М., 1989. — С. 246.
На протяжении более двух тысячелетий традиционная китайская общественно-политическая система, как уже отмечалось, оставалась практически неизменной. Ее несущественные модификации происходили в рамках определенной традиции *. Последняя стала основополагающей и для дальневосточных государств, формировавшихся под непосредственным воздействием со стороны Китая — Вьетнама, Кореи и, в значительной степени, Японии.
В систему Китайско-Восточноазиатской цивилизации, кроме Китая, входили и входят Вьетнам и Корея, уже к рубежу эр вполне освоившие основные принципы древнекитайской культуры и синтезировавшие их с собственными традициями. Всем этим странам было присуще преобладание в социокультурной жизни конфуцианской традиции в сочетании с буддизмом махаяны, элементами даосизма и местными верованиями 1 2. С середины XX в. континентальный Китай (КНР), Северная Корея (КНДР) и Северный, а с 1975 г. и присоединенный к нему Южный Вьетнам становятся тоталитарно-социалистическими обществами. Но к концу XX в. в КНР, а за ней и во Вьетнаме, проводятся рыночные реформы и их общественно-политические системы начинают частично и постепенно, под контролем коммунистических партий этих стран, либерализироваться.
В эпоху раннего Средневековья к Китайско-Восточноазиатской цивилизации приобщаются также народы Маньчжурии, в частности, государство Бохай и сменившая его держава чжурчженей, и Япония. Однако после маньчжурского завоевания Китая сама Маньчжурия становится периферийным регионом огромной империи Цин, а ее население, как те, кто переселился на территорию собственно Китая, так и не покинувшее родные места, в течение 2-й пол. XVII—XIX вв. полностью китаизируется.
При этом начиная с 3-й четв. XIX в. цивилизационно-исторические пути Китая и Японии существенно расходятся, и с этого времени, после революции Мейцзы 1868 г. в стране восходящего солнца, можем говорить о появлении в рамках Китайско-Дальневосточного цивилизационного мира второй (после Китайско-Восточноазиатской) Японско-Дальневосточной цивилизации, о которой пойдет речь в следующих главах. В XX в. в структуру последней частично были интегрированы периферийные части Китайско-Восточноазиатской цивилизации: Южная Корея и Тайвань, а также населенные практически полностью или по большей части китайцами Гонконг и Сингапур. Подобные перспективы открывались и перед Южным Вьетнамом, однако его захват коммунистами севера страны их заблокировал.
Решающую роль в деле вовлечения Вьетнама и Кореи в систему Китайско-Восточноазиатской цивилизации сыграло их покорение Китаем в эпоху правления династии Хань в конце II в. до н. э. В отличие от этого древние японцы воспринимали китайские социокультурные традиции (в значительной степени
1 Бокщанин А. А. Очерк истории государственных институтов Китайской империи // Феномен восточного деспотизма. — М., 1993. — С. 332.
2 Пак М. Н. Очерки ранней истории Кореи. — М., 1979; Никитина М. И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. — М., 1982; Познер П. В. История Вьетнама эпохи древности и раннего средневековья до X в. н. э. — М., 1994; Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII века. — М., 1995.
при посредничестве корейцев) без силового давления со стороны Поднебесной, в полной мере добровольно. Подобным образом Киевская Русь заимствовала христианство и связанный с ним культурный комплекс у Византии (аналогичным образом, в значительной мере через посредничество балканских славян).
При этом, если в подвластных Срединной империи Вьетнаме и Корее китайская социокультурная система утверждалась системно (разумеется, синтезируясь с местными, модифицируемыми ею традициями), то в Японии (аналогично тому, как то было и в Киевской Руси) ее элементы и блоки заимствовались выборочно, фрагментарно. В условиях синтеза с местными традициями последние отчасти, особенно в религиозно-культурной области, становились доминирующими. Но в ряде сфер, прежде всего в социально-политической, национальные устои сохранялись и развивались в последующие века самостоятельно, а не в соответствии с образцами цивилизационного центра. Это обстоятельство, в определенной степени, определило возможности последующей трансформации как Руси, так и Японии (бывших первоначально субцивилизациями Византийско-Восточнохристианской и Китайско-Восточноазиатской цивилизаций) в самостоятельные цивилизации: Славянско-Православную и Японско-Дальневосточную.
Становление традиционной Китайско-Восточноазиатской цивилизации
Возникновение древнейшей в Восточной Азии Шан-Иньской цивилизации в среднем течении Хуанхэ датируется серединой II тыс. до н. э. Эта цивилизация и стала основой дальнейшего цивилизационного развития всего Восточноазиатского региона от Приамурья и Японии до Вьетнама и Тибета. При этом с древнейших времен сам Северный Китай периодически испытывал стимулировавшие его развитие импульсы с запада, через Центральную Азию и широкую полосу Евразийских степей. Кроме того, параллельно с Северокитайским в эпоху бронзы наблюдалось активное формирование и Южнокитайского раннецивилизационного центра, оказавшегося в 1-й пол. I тыс. до н. э. периферийным по отношению к первому *.
В древности южная часть современного Китая, Индокитай и северо-восток Индии в некотором смысле представляли собой единый хозяйственно-культурный регион, оказывавший заметное влияние на развитие островных народов Азии — от Цейлона до Японии, включая Индонезию и Филип-2 ПИНЫ .
На стадии протонеолита обитатели предгорий Центрального Индокитая начинают разводить бахчевые культуры и бобовые растения, а со времен развитого неолита осваивают поливное рисоводство. На протяжении эпох энеолита — бронзы наиболее быстрыми темпами развивались племена, овладев-
1 См.: Павленко Ю. В. История мировой цивилизации: Философский анализ. — К., 2002. - С. 390-397.
2
Беллвуд П. Покорение человеком Тихого океана. — М., 1986.
шие ирригационным земледелием в бассейнах великих рек региона: Янцзы, Сицзяна, Меконга и пр. Однако по причине своей дороговизны бронзовые орудия не могли вытеснить каменных и обеспечить необходимый для выхода на рубежи раннеклассовых отношений рост производительности труда. Поэтому окончательный сдвиг в данном направлении произошел здесь уже в раннежелезном веке, при все возрастающем воздействии Северокитайского раннецивилизационного центра эпохи Чжоу.
Особой проблемой является вопрос о роли местного субстрата и западных импульсов в формировании Северокитайского раннецивилизационного центра. Абстрагируясь от размышлений, приходящих на ум в связи с сенсационным открытием родства северокавказских и сино-тибето-бирманских языков 1, разделение которых должно было иметь место не позднее мезолита, отметим плодотворную гипотезу Л. С. Васильева относительно возможного воздействия на формирование неолитического земледелия Северного Китая древнеземледельческих культур южных областей республик Средней Азии V—IV тыс. до н. э.1 2 А его концепция образования Шан-Иньской цивилизации при участии скотоводческих, вероятно индоевропейского происхождения, племен, распространявшихся в III — перв. пол. II тыс. до н. э. степным поясом Евразии с запада на восток и принесших на берега Хуанхэ бронзолитейное производство, коневодство и боевую колесницу может считаться вполне доказанной3.
Таким образом Северокитайская цивилизация 2-й пол. II тыс. до н. э., базируясь на развитой местной хозяйственно-культурной базе, в своем формировании была связана с утвердившими свою власть над местными племенными структурами бассейна Хуанхэ (и в этнокультурном отношении растворившимися в них) колесничими скотоводами Евразийских степей эпохи бронзы. Очень вероятно, что они могли принадлежать к индо-арийской (или ближайшей к ней) ветви индо-ирано-арийской племенной массы, преобладавшей в перв. пол. II тыс. до н. э. на степных просторах Евразии и активно распространявшихся в различных направлениях.
Утверждение в среднем течении Хуанхэ ранней цивилизации Шан-Инь привело в скором времени к началу наращивания вокруг нее цивилизационной периферии в виде многочисленных, ближайших к ней, местных постплеменных княжеств, признававших себя вассалами дома Шан. Власть последнего поддерживалась его решающим боевым превосходством, базировавшемся в первую очередь на использовании бронзового вооружения и боевых
1 Starostin S. A Nostratic and Sino-Caucasion II Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 1. — М., 1989. — С. 106—124.
2 Васильев JI. С. Социальная структура и динамика древнекитайского общества // Проблемы истории докапиталистических обществ. — М., 1968. — С. 458—459; Его же. Проблемы генезиса человека и его культуры в дояншанском Китае // Ранние этапы истории народов Восточной Азии. — М., 1977. — С. 159—161.
3 Там же. — С. 460. Его же. Проблемы генезиса китайской цивилизации. — М., 1976. — С. 311—321; Павленко Ю. В. Праславяне и арии. Древнейшая история индоевропейских племен. — К., 2000. — С. 246—255.
колесниц. Однако со временем эти достижения, как и соответствующие военно-политические навыки, были переняты зависимыми периферийными обществами, которые в своем развитии к концу II тыс. до н. э. стали приближаться к уровню Шан-Иньской цивилизации, втягивая в процесс становления Северокитайской цивилизации собственных позднепервобытных соседей практически во всем обширном бассейне Хуанхэ. Победа чжоусцев над их сюзереном, домом Шан, в 1027 г. до н. э. положила начало новому этапу утверждения Восточноазиатской цивилизационной системы — уже при гегемонии династии Чжоу.
Иньско-чжоусский синтез происходил в условиях массовых депортаций более культурных коренных обитателей прежнего раннецивилизационного центра в периферийные районы при переселении завоевателей в центральные области. Этим достигалось смешение населения, разрыв традиционных связей кланов с их родовыми землями и ускорение этно-культурно-языковой интеграции в пределах обширного раннеполитического объединения Западного Чжоу. Такая интеграция облегчалась изначальной, как предполагают исследователи, этноязыковой близостью иньцев и чжоусцев.
В условиях длительного пребывания в единой, хотя и все более дифференцировавшейся на отдельные владения-княжества, чжоусской политической системе в течение 1-й трети I тыс. до н. э. в среднем течении Хуанхэ, с последующим ее распространением к низовьям и в сторону верхнего течения этой реки, складывается макроэтническая общность древних китайцев — «хуася», вступающая в разнообразные контакты с обитателями сопредельных территорий.
Исследователи выделяют 3 типа контактов Китайского цивилизационного центра этого времени с втягивающейся в орбиту его влияния периферией.
Первый тип предполагал интеграцию с населением центра попадавших под его власть близкородственных с хуася земледельческо-скотоводческих групп бассейна Хуанхэ, которые быстро и органически воспринимали основы цивилизации Чжоу (политическую систему, культурные эталоны, письменность и пр.). Второй тип контактов был связан с распространением чжоусского влияния на юг, в лесистые рисоводческие области бассейна Янцзы и морского побережья, население которых принципиально отличалось от хуася как в хозяйственно-культурном, так и в этноязыковом, даже в антропологическом отношении. Третий тип контактов имел место между просоводческими в своей хозяйственной основе хуася бассейна Хуанхэ и ранними кочевниками северных по отношению к Китаю степных областей Монголии.
Если второй тип вел к медленному, но неизбежному приобщению южных групп к основам Китайской цивилизации, то третий, при том, что кочевники воспринимали отдельные достижения древних китайцев, характеризовался более набегами первых на вторых при чрезвычайно трудном продвижении групп колонистов в пригодные для земледельческого освоения районы *.
1 Первобытная периферия классовых обществ. — М., 1978. — С. 92—93.
Наибольшее значение для формирования традиционной Китайской цивилизации имело постепенное втягивание в ее структуру раннеполитических образований Южного Китая, представляющих преимущественно древнетайские и аустронезийские, в частности вьетские, этносы. Среди них наиболее значительным было объединение Чу, созданное, по всей вероятности, далекими предками современных народов группы мяо-яо. В политическом отношении Чу, распространяя постепенно свой контроль на большую часть бассейна Янцзы, противостояло Чжоу, отстояв свою независимость от его посягательств в X в. до н. э.1 К сер. I тыс. до н. э. им были поглощены меньшие по размерам, аустронезийские в своей этноязыковой основе, царства «восточных и» — У и Юэ, занимавшие низовья Янцзы и приморские районы Восточного Китая.
Все эти южные государства, ведшие свою самостоятельную жизнь и не оказавшиеся под прямой властью чжоусских ванов, в то же время в течение 2-й пол. I тыс. до н. э. приобщались к основам северокитайской цивилизации, имея при этом и собственную постпервобытную периферию на юге и западе. Влияние хуася распространялось преимущественно в верхушечных слоях их населения, постепенно проникая и в средние слои. Существенным, по всей видимости, было то, что население Южного Китая I тыс. до н. э. состояло из различных в этноязыковом отношении групп (протобирминцы на западе, прототаи в центре, протоаустронезийцы на востоке и вьеты на юге), для которых цивилизационные стандарты северокитайских хуася становились своего рода неким общим знаменателем культурного общения и дальнейшего развития.
Таким образом в эпоху Чун-Цю («Весны и Осени»), во 2-й четв. I тыс. до н. э., Китайско-Восточноазиатская цивилизация уже представляла собой сложную, в своей основе двучленную структуру, образуемую северокитайским (в бассейне Хуанхэ) цивилизационным центром макроэтниче-ской общности хуася (состоящей из отдельных этнически близких групп населения конкретных, уже практически независимых от чжоусского вана царств и княжеств — Цинь, Цзинь, Вэй, Хань, Чжао, Лу, Янь, Ци и пр.) и воспринимающими его достижения южнокитайскими государствами (Чу, У, Юэ и пр.), имеющими различную этноязыковую природу, но в отличие от просоводов Северного Китая в одинаковой мере ориентированных на рисоводство.
В это время северные и южные государства уже образовывали единую макрополитическую систему, в одинаковой мере (прежде всего Ци, Цзинь и Чу — уже в VII—VI вв. до н. э.) участвуя в борьбе за гегемонию в ней. По мнению Д. В. Деопика, механизм гегемонии был одним из способов слияния нехуасских, гетерогенных в этническом отношении государств с более старыми северокитайскими государствами хуася, вышедшими из политической системы Западного Чжоу .
История народов Восточной и Центральной Азии. — М., 1986. — С. 18—19.
2 Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. — М., 1978. — С. 187—191.
Не трудно заметить, что общая схема формирования этнотерриториаль-ной структуры традиционной Китайской цивилизации во многом подобна той, что была характерна для Древней Индии. В обоих случаях доминирующий в культурно-политическом отношении Север, чьи традиции становятся ведущими и где складывается достаточно обширная и устойчивая макроэт-ноязыковая общность, подключает в качестве ведомого члена иноэтничный, менее развитый и внутренне плохо сконсолидированный Юг. Но если в цивилизационной интеграции двух названных частей в Индии решающую роль сыграл культурно-религиозный момент, то в случае с Китаем преобладающее значение имел политико-культурный фактор.
Совершенно иная ситуация складывалась на северных рубежах Китая, где столетиями шла упорная борьба хуася с кочевниками — сперва «красными ди», носителями культуры скифо-сибирского типа, а затем со сменившими их в Монгольских степях сюнну, предками гуннов. Если на юге границы Китайской цивилизации в то время были размытыми и слабо маркированными, то ее северные рубежи были четко обозначены сложными оборонительными линиями, возводившимися сперва силами отдельных приграничных царств, а затем, во времена империи Цинь, объединенными в единую фортификационную систему Великой Китайской стены.
Нельзя, назвать особенно быстрым и распространение основ китайской цивилизации и в западном и восточном направлениях. На западе этому противились тибетоязычные племена цянов (жунов), а на востоке (точнее, северо-востоке), в Корее, в период Чжань-го («Борющихся царств») в Китае (IV—III вв. до н. э.), формирование раннеклассовых отношений только завершалось и эталоны Китайской цивилизации лишь постепенно начинали там привлекать внимание знати, не проникая еще в толщу народной среды.
Новая эпоха в развитии Китайской цивилизации начинается с образованием системы единой централизованно-бюрократической империи — Цинь, вскоре смененной династией Хань. Объединив царства макрополитической системы Китая (в пределах бассейнов Хуанхэ и Янцзы) Цинь Ши-ху-анди всеми силами стремится к ликвидации остатков прежнего политикокультурного партикуляризма. Он вводит новое единое деление всей страны на округа, уезды и волости, реформирует аппарат власти с целью максимально сосредоточить в руках центра контроль над провинциями, проводит унификацию письменности, законов, мер и весов, проводит политику культурного объединения страны.
Такими жесткими мерами, в смягченной форме продолжавшимися и императорами династии Хань во II в. до н. э. — II в. н. э., единство Китайской цивилизации достигается уже в полной мере. С тех пор, с последней четверти III в. до н. э., Китай, как правило, представлял собою единую централизованную бюрократическую империю — чего практически никогда (даже при Маурьях, не говоря уже о временах кушан и Гуптов) мы не наблюдаем в Индии.
Утвердившись в пределах Китая, Цинь Ши-хуанди развернул широкую внешнеполитическую экспансию. Однако если в борьбе с кочевниками-сюн-ну решающих успехов добиться не удалось и император принял решение отгородить от них страну Великой стеной, то в юго-восточном направлении, в
приморских районах Южного Китая, ему способствовал больший успех. В 214 г. до н. э. к империи Цинь были присоединены земли наньюэ, что стало началом китайской экспансии на территории раннегосударственных образований преимущественно вьетских этносов крайнего юга Китая и Северного Вьетнама, принесшей свои плоды в деле приобщения их населения к основам Китайской цивилизации уже в эпоху династии Хань.
К этому времени в пределах очерченного ареала уже сложились многочисленные, но весьма рыхлые, вьетские государственные образования (Чанша, Диен, Елан, Тэйау, Намвьеи, Манвьет и пр.), вслед за которыми, в последние века до нашей эры — первые нашей эры и на территории Индокитая возникает целая серия раннеклассовых государств, базировавшихся на орошаемом рисоводстве (Аулак, Тьямпа, Фунань, Аилао и др.). Параллельно, как про то уже шла речь ранее, при активном участии индийских торговцев и колонистов по берегам Малаккского пролива и, шире, во всей приморской зоне Юго-Восточной Азии, появляются города-государства буддийско-индуистской культурной ориентации.
Эпоха Хань демонстрирует медленное, но основательное расширение Китайской цивилизационной системы. Главным ее направлением оставалось южное. В течение II в. до н. э. в состав Китайской империи были интегрированы государства Южного Китая (Намвьет, Аулак и пр.), этнокультурная ассимиляция населения которых продвигалась весьма медленными темпами. В это время в районе дельты Красной реки (Северный Вьетнам) происходит консолидация лаквьетского этноса (кит. лоюз). В начале I в. н. э. лаквьеты выступают против китайских завоевателей, однако в 43 г. их восстание было подавлено ханьскими войсками *. Власть в Северном Вьетнаме перешла непосредственно в руки китайской администрации, активно взявшейся за мелиорацию земель, внедрение законодательства китайского образца и культурную ассимиляцию местной знати. На полтора столетия лаквьеты вошли в состав централизованного Китайского государства, восприняв основные принципы его цивилизации.
Эти события заложили основы Вьетнамско-Индокитайского ареала Китайско-Восточноазиатского макроцивилизационного комплекса, получающего самостоятельное развитие после краха империи Хань, с III—IV вв., когда на территории Северного Вьетнама начинают складываться условия утверждения собственной социокультурной системы. Однако на протяжении последующих веков, за исключением промежутка времени между 544—603 г., когда существовало независимое государство Вансуан, Северный Вьетнам в той или иной форме находился в политической зависимости от Китая или просто входил в его территориально-административную структуру, вплоть до достижения независимости в 939 г. с утверждением династии Нго.
Тысячелетнее пребывание в составе держав различных китайских династий (от Хань до Сун) определило утверждение во Вьетнаме основных базо-
1 Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. — М., 1983. — С. 69.
вых принципов Китайской цивилизации, оказывавшей все большее влияние на средневековые государства Индокитая. Однако последние в своем большинстве, как о том шла речь ранее, сохраняли буддийско-индуистский облик. Сказанное в полной мере относится к раннегосударственным образованиям тайских, бирманских и тибетских этносов, не говоря уже о более южных государствах типа империй Ангкора (Камбоджа) или Шриваджей (Индонезия).
За пределами политической власти последующих императоров распространялись лишь немногие элементы китайской культуры (письменность и пр.), да и то лишь там, где китайцы были единственным примером (Корея, Япония). В конкурентной борьбе с индийской культурой они проиграли везде, где не стояли войска их империи, да и на своей территории в I тыс. н. э. они очень многое (в частности буддизм и связанный с ним богатейший культурный комплекс) восприняли из Индии. Это относится даже к возникшему примерно во II в. в Южном Вьетнаме на аустронезийской этноязыковой основе государству Тьямпа и тем более — к вполне индианизированной державе Фунань на Нижнем Меконге.
В течение всей истории Вьетнама конфуцианско-китайская основа в нем сочеталась с относительной слабостью собственной политической администрации, функционировавшей по традиционной китайской модели, включая систему государственных экзаменов для получения чиновничьих должностей. Слабость власти при сохранении принципов конфуцианства как доктрины способствовала сочетанию тенденций трансформации основ традиционного общества на феодальных, даже в какой-то степени на собственнических началах, с утопическими упованиями на социальное равенство и справедливость, нередко становившимися лозунгами крестьянских восстаний во Вьетнаме так же, как и в Китае *.
Более важным во всемирно-историческом плане направлением расширения традиционной Китайской цивилизации был Дальний Восток: Корея, Маньчжурия и Япония.
Наиболее ранние контакты населения Среднекитайской равнины с племенами, обитавшими в южной части Маньчжурии и на Корейском полуострове, относятся к VII в. до н. э., когда на территорию царств Янь и Ци вторглись с северо-востока «горные жуны» 1 2. В течение 2-й пол. I тыс. до н. э. эти, в целом древне корейские в этноязыковом отношении, племена были объединены в пределах раннегосударственного образования Чосон, в котором в начале III в. до н. э. власть захватил китаец Ван Мань.
Однако весьма спорно, следует ли рассматривать это событие как свидетельство включения данного политического образования в Китайский цивилизационный мир, тем более, что по свидетельству источников, сам названный правитель приспосабливался к местным традициям и манерам. Реальное приобщение населения данного региона к основам Китайской цивили
1 Васильев Л. С. История Востока. В 2-х томах. Т. 1. — М., 1993. — С. 80—81.
2 Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. — М., 1978. — С. 64.
зации началось в те же годы, что и в Северном Вьетнаме — с правления ханьского императора У-Ди, завоевавшего в 108 г. до н, э. Чосон и образовавшего на его территории четыре округа с китайской администрацией . Этим были заложены основы традиционной корейской социокультурной системы, представляющей, как и вьетнамская, синтез китайско-конфуцианских и адаптированных ею местных элементов, к которым (в обоих случаях) во второй четверти I тыс. н. э. добавился буддизм.
Под непосредственным воздействием империи Хань с рубежа эр на Корейском полуострове интенсифицируется процесс становления раннеполитических структур, сперва в пределах постплеменных образований Махан, Пёхан и Чинхан, а с III в. появляются и первые раннегосударственные объединения — Когурё, Пэкче и Силла, в свою очередь стимулировавшие процесс становления раннеклассовых отношений на юге Японии 1 2. Их политические институты и формы социальных отношений развивались под воздействием соответствующих китайских институтов, причем проводником этого влияния было конфуцианство, ставшее основной идейной доктриной всех трех государств древних корейцев.
С конца IV в. в Корею из Китая проник буддизм в его китаизированной махаянистской модификации, причем здесь его влияние с этого времени становится более существенным, чем оно было в Китае. Во 2-й пол. VII в., после нескольких столетий междуусобиц, Корея была объединена царством Силла, организовавшим свою жизнь в соответствии с китайско-конфуцианской моделью. При дворе вполне восторжествовала китайская письменнолитературная и художественно-изобразительно-архитектурная традиция, однако народная культура длительное время оставалась почти без изменений. Аналогичная ситуация наблюдалась и во Вьетнаме.
Утверждение основ цивилизации китайского образца в Корее в условиях отсутствия конкуренции с каким-либо иным макроцивилизационным эталоном способствовало распространению ее влияния на Маньчжурию и Японию. В Южной Маньчжурии на основе племен сумо-мохэ к началу VIII в. складывается государство Бохай, а вскоре державы киданей и чжурч-женей, принявшие на китайский манер названия, соответственно, империй Ляю и Цзинь. Последние, господствовавшие в Северном Китае в XI — нач. XIII вв., подверглись особенно интенсивной китаизации во всех сферах общественной и культурной жизни, однако это, как и в Корее или Вьетнаме, касалось главным образом верхушки общества.
Так, в частности, на примере чжурчженей прослежено, что в данных условиях развитие культуры шло быстрыми темпами, но неравномерно по всей территории, осложняясь социальной ее дифференциацией. Круг культурных интересов чжурчженей в Северной Китае все более отличался от запросов их сородичей в Маньчжурии. Верхушка чжурчженьского общества — воспитанники школ и знатоки китайской литературы — далеко отошла от
1 Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпох^ централизованных империй. — М., 1983. — С. 64.
2 Первобытная периферия классовых обществ. — М., 1978. — С. 122—123.
простого народа, воспринимала как религию буддизм и внешне мало отличалась от китайцев *. То же, в сущности, можно сказать и о других восточноазиатских народах, утверждавших свою власть над частью Северного Китая (как тангуты) или же покорявших всю его территорию (как монголы — династия Юань или маньчжуры — династия Цин).
Однако следует отметить, что если земледельческие народы Дальнего Востока, в частности Кореи и Маньчжурии, как, в известном смысле, и Японии, в конечном счете органически восприняли основы цивилизации Китая, образовав единую с ним Китайско-Восточноазиатскую макроцивилиза-ционную систему, то кочевники приобщались к ней лишь в случае их переселения в Китай, с вытекающей из этого сменой всего их образа жизни.
Тому способствовали как принципиальные отличия хозяйственно-культурных типов земледельцев и кочевников, так и многовековое их военнополитическое противостояние. Поэтому неудивительно, что, к примеру, монголы, буряты или калмыки высшие духовные принципы своих национальных культур воспринимали не из Китая, а из Тибета — в ламаистской форме буддизма, с алфавитным письмом индийского происхождения.
Таким образом контуры Китайско-Восточноазиатской макроцивилиза-ционной системы, как она оформилась ко II тыс. н. э., в общих чертах начинают проясняться. В ее основе лежит собственно Китай, в экологическом, хозяйственном, культурном, антропологическом и многих других отношениях четко разделяющийся на Северный и Южный. Первый выступает в качестве первичного центра всей рассматриваемой макросистемы, тогда как второй постепенно воспринял основы его цивилизации. В этом смысле до III в. н. э. Южный Китай был своеобразной периферией Северного.
Однако по крайней мере дважды, в IV—V и XI—XIII вв., в века разорения и завоевания кочевниками бассейна Хуанхэ, функции цивилизационного центра перебирал Южный Китай, принимавший беженцев с севера и игравший роль хранителя и продолжателя общекитайских цивилизационных традиций. К середине II тыс. уровень развития обеих частей Китая вполне выровнялся, однако их различия остаются существенными до наших дней.
При этом на южной и северо-восточной периферии собственно Китайской цивилизации, в пределах Вьетнама с одной стороны и Кореи с Маньчжурией (а в сущности и Японией) — с другой, образовались ко второй половине I тыс. две вполне оформившиеся на китайских в своей основе, конфуцианско-буддийских принципах субцивилизационные зоны, развивающиеся в последующие века более или менее самостоятельно. Однако если Вьетнам, Маньчжурия и, в значительной мере, Корея преимущественно находились в орбите политической активности Китайских империй, то Япония всегда была независимой от великой континентальной державы, активно воспринимая при этом ее культуру.
1 Воробьев М. В. Этнос в средние века (На материале этногенеза чжурдженей) // Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР. Вып. 3. — Л., 1967. — С. 69-70.
Попытки же Китайско-Восточноазиатской цивилизации распространиться на регионы Центральной Азии (Монголия, Синцзянь, Тибет) успеха не имели, так что даже прямое включение этих территорий в состав империи Цин в XVII—XIX вв. не привели к культурной переориентации их народов на китайско-конфуцианские ценности.
Духовные истоки Китайско-Восточноазиатской цивилизации
Если Индия — царство религий, а религиозное мышление индийца насыщено метафизическими спекуляциями, то Китай являет собой цивилизацию иного типа. Социальная этика и административная практика здесь всегда играли значительно большую роль, нежели мистические абстракции и индивидуалистические поиски спасения. Трезвый и рационалистически мыслящий китаец никогда не задумывался слишком много над таинствами бытия и проблемами жизни и смерти, зато он всегда видел перед собой эталон высшей добродетели и считал своим священным долгом ему подражать. Если характерная этнопсихологическая особенность индийца — его интро-вертность, ведшая в своем крайнем выражении к аскезе, йоге, монашеству строгого стиля, к стремлению индивида раствориться в Абсолюте и тем спасти свою бессмертную душу от сковывающей ее материальной оболочки, то истинный китаец выше всего ценил как раз материальную оболочку, т. е. свою жизнь. Величайшими и общепризнанными пророками здесь считались прежде всего те, кто учил жить достойно и в соответствии с принятой нормой, жить ради жизни, а не во имя блаженства на том свете или спасения от страданий. При этом этически детерминированный рационализм был доминантой, определявшей нормы социально-семейной жизни китайца.
Специфика религиозной структуры и психологических особенностей мышления, всей духовной ориентации в Китае с эпохи становления его ци-вилизационно-духовно-религиозных основ *, видна во многом.
См.: Георгиевский С. Первый период китайской истории. — СПб., 1885; Его же: Принципы жизни Китая. — СПб., 1888; Его жег. Мифические воззрения и мифы китайцев. — СПб., 1892; Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. — СПб., 1898; Грубее В. Духовная культура Китая. — СПб., 1912; Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. — М., 1957; Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая. — М., 1958; Юань Кэ. Мифы древнего Китая. — М., 1965; Быков Ф. С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. — М., 1966; Крюков М. В. Формы социальной организации древних китайцев. — М., 1966; Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. — М., 1970; Его же: Проблемы генезиса китайской цивилизации. — М., 1976; Его же: Проблемы генезиса китайского государства. — М., 1983; Его же: История религий Востока. — М., 1988; Его же: Проблемы генезиса китайской мысли. — М., 1989; Его же: Древний Китай. Т. 1, 2. — М., 1995, 2000; Роль традиций в истории и культуре Китая. — М., 1972; История и культура Китая. — М., 1974; Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы: проблема этногенеза. — М., 1978; Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. — М., 1978; Проблема человека в традиционных китайских учениях. — М., 1983; Яншина Э. М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. — М., 1984; Из истории традиционной китайской идеологии. — М., 1984; Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. — Новосибирск, 1988; Этика и ритуал в традиционном Китае. — М., 1988; Кульпин Э. С. Человек и природа в Ки
В Китае тоже есть высшее божественное начало — Небо. Но китайское Небо — это не Яхве, не Иисус, не Аллах, не Брахман и не Будда. Это высшая верховная всеобщность, абстрактная и холодная, строгая и безразличная к человеку. Ее нельзя любить, с ней нельзя слиться, ей невозможно подражать, как и нет смысла ею восхищаться. Правда, в системе китайской религиозно-философской мысли существовали, кроме Неба, и Будда (представление о нем проникло в Китай вместе с буддизмом из Индии в начале нашей эры), и Дао (основная категория религиозного и философского даосизма), причем Дао в его даосской трактовке (существовала и иная трактовка, конфуцианская, воспринимавшая Дао в виде Великого Пути Истины и Добродетели) близко к индийскому Брахману. Однако не Будда и не Дао, а именно Небо всегда было центральной категорией верховной всеобщности в Китае.
Важнейшей особенностью древнекитайской религии была весьма незначительная роль мифологии. В отличие от всех иных ранних обществ и соответствующих религиозных систем, в которых именно мифологические сказания и предания определяли весь облик духовной культуры, в Китае уже с древности место мифов заняли историзованные легенды о мудрых и справедливых правителях. Легендарные мудрецы Яо, Шунь и Юй, а затем культурные герои типа Хуанди и Шэньнуна, ставшие в сознании древних китайцев их первопредками и первоправителями, заменили собой многочисленных почитаемых богов. Тесно связанный со всеми этими деятелями культ этической нормы (справедливость, мудрость, добродетель, стремление к социальной гармонии и т. п.) оттеснил на второй план чисто религиозные идеи сакрального могущества, сверхъестественной мощи и мистической непознаваемости высших сил. Иными словами, в древнем Китае с довольно раннего времени шел заметный процесс демифологизации и десакрализации религиозного восприятия мира.
Божества как бы спускались на землю и превращались в мудрых и справедливых деятелей, культ которых в Китае с веками все возрастал. И хотя с эпохи Хань (III в. до н. э.— III в. н. э.) ситуация в этом плане стала изменяться (появилось множество новых божеств и связанных с ними мифологических преданий, причем частично это было вызвано выходом на передний план и записью народных верований и многочисленных суеверий, до того пребывавших как бы в тени или бытовавших среди включенных в состав империи национальных меньшинств), на характере китайских религий это уже мало сказалось. Этически детерминированный рационализм, обрамленный десак-рализованным ритуалом, уже с древности стал основой основ китайского образа жизни. Не религия как таковая, но прежде всего ритуализированная эти
тае. — М., 1990; Китайская цивилизация и китайская философия. — М., 1995; Лукьянов А. Е. Истоки Дао: Древнекитайский миф. — М., 1992; Его же: Становление философии на Востоке: (Древний Китай и Индия). — М., 1992; Малявин В. В. Китайская цивилизация. — М., 2000; Китайская цивилизация и китайская философия. — М., 1995; Фицджеральд С. П. Китай: краткая история культуры. — СПб., 1998; Исаева М. В. Представление о мире и государстве в Китае в III—VI веках н. э. (по данным «нормативных историописаний»). — М., 2000; Малявин В. В. Китайская цивилизация. — М., 2000; Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. — М., 2002.
ка формировала облик китайской традиционной культуры. Все это сказалось на характере китайских религий, начиная с древнекитайской.
Так, например, заслуживает внимания то обстоятельство, что религиозной структуре Китая всегда была свойственна незначительная и социально несущественная роль духовенства, жречества. Ничего похожего на сословие улемов или влиятельные касты брахманов китайцы никогда не знали. К буддийским и особенно даосским монахам они относились обычно с плохо скрываемым пренебрежением, без должного уважения и почтения. Что же касается конфуцианских ученых, чаще всего выполнявших важнейшие функции жрецов (во время культовых отправлений в честь Неба, главнейших божеств, духов и предков), то именно они были уважаемым и привилегированным сословием в Китае. Однако они были не столько жрецами, сколько чиновниками, так что собственно религиозные их функции всегда оставались на втором плане.
Все эти и многие другие важнейшие особенности религиозной структуры Китая были заложены в глубокой древности, начиная с эпохи Шан-Инь. Иньская цивилизация городского типа, как о том шла речь выше, появилась в бассейне Хуанхэ в сер. II тыс. до н. э., примерно в то же время, что и арии в Индии. Как и у ведических ариев, у иньцев был немалый пантеон богов и духов, которых они почитали и которым приносили жертвы, чаше всего кровавые, в том числе и человеческие. Но с течением времени на передний план среди этих богов и духов все более отчетливо выходил Шанди, верховное божество и легендарный родоначальник иньцев, их предок-тотем.
Великий бог и божественный первопредок в одном лице — такое сочетание встречалось и в других религиях, особенно древневосточных, например в Египте. Однако уже в иньском Китае Шанди воспринимался прежде всего как первопредок, заботившийся о благосостоянии своего народа. Это проявлялось в том, что именно к Шанди шли просьбы и мольбы иньцев, связанные и с проблемой урожая, и с военным успехом, и с благополучным разрешением от бремени супруги правителя-вана и т. п.
Смещение в культе Шанди акцента в сторону его функций первопредка сыграло в истории китайской цивилизации огромную роль: именно оно логически привело к ослаблению религиозного начала и к усилению начала рационального, проявившегося в гипертрофировании культа предков, ставшего затем основой основ религиозной системы Китая. Эта тенденция прослеживается уже в Шан-Инь. Иньских правителей-ванов, которые рассматривались в качестве прямых потомков и земных наместников Шанди, погребали в больших гробницах с лошадьми и оружием, женами и слугами, запасами пищи и различными изделиями бытового назначения — со всем тем, что могло «понадобиться» человеку на том свете. Кроме того, в дни торжественных жертвоприношений в память умерших ванов, которые в загробном мире считались божествами (ди) и стояли рядом с их первопредком Шанди («Высшим ди»), приносились человеческие жертвы, о чем свидетельствуют гадательные надписи типа: «Предку Гэну приносим в жертву триста человек из племени цян».
В культе предков во главе с божественным Шанди, в культе своей небольшой этнической общности, резко противостоявшей окружавшей их перифе
рии из неолитических племен (пленников из которых они приносили в жертву), иньцы стремились почерпнуть дополнительную мощь и устойчивость. Божественная помощь, содействие потусторонних сил, которым всегда приписывалось сверхъестественное могущество, постоянное общение с покойными предками, были для иньцев необходимым элементом их существования. Вот почему в системе иньских религиозных представлений, а затем и вообще в религиозной системе Китая столь большую роль стала играть ман-тика.
Главным моментом в ритуале общения с божественными предками во главе с Шанди был обряд гадания, который обычно сочетался с обрядом жертвоприношения. Цель гадания сводилась к тому, чтобы поставить предков в известность о тех или иных намерениях, успехах или заботах живущих на земле потомков и соответственно узнать их мнение на этот счет, одобрение или неодобрение, степень готовности оказать содействие и т. п.
В 1027 г. до н. э. объединившийся вокруг племени чжоусцев союз окружавших Инь народов в решающей битве при Муе разгромил иньцев. Династия Чжоу, распространившая после победы власть на большую часть бассейна Хуанхэ, многое заимствовала у иньцев, включая культ Шанди и предков, практику гадания. Однако у чжоусцев были и свои религиозные представления, в том числе почитание Неба. С течением времени культ Неба в Чжоу окончательно вытеснил Шанди в главной функции верховного божества. При этом на Небо перешло представление о прямой генетической связи божественных сил с правителем: чжоуский ван стал считаться сыном Неба, и этот титул сохранился за правителем Китая до XX в.
Начиная с эпохи Чжоу Небо в его основной функции верховного контролирующего и регулирующего начала стало главным всекитайским божеством, причем культу этого божества был придан не столько сакрально-теистический, сколько морально-этический акцент. Считалось, что великое Небо карает недостойных и вознаграждает добродетельных. В понятие «добродетель» (дэ) включался сакральный оттенок высшего соответствия (главным образом правителя, олицетворявшего народ) божественным установлениям, внутренней божественно-детерминированной силе. Только обладая «дэ», правитель имел право управлять; теряя его, он терял это право.
Итак, чжоуское Небо (тянь), вобрав часть функций Шанди, стало не столько верховным божеством, сколько высшим олицетворением разума, целесообразности, справедливости и добродетели. Выдвинув на передний план в этом культе его рациональное начало, чжоусцы еще более усилили рационалистический акцент, уже имевшийся в практике верований и культов у иньцев. Претендуя на родство с Небом, чжоуские правители стали именовать свою страну Поднебесной (тянь-ся), а себя — сыновьями Неба (тянь-цзы). Для китайских правителей отождествление с Небом означало принятие на себя ответственности за весь мир, в который они включали собственно Китай (Чжунго, «Срединное государство») и окружавшую его варварскую периферию, которая, по их представлениям, явно тяготела к центру, т. е. к Чжунго, к китайскому властителю Поднебесной, сыну Неба.
Культ Неба стал главным в Китае, а полное его отправление — прерогативой лишь самого правителя, сына Неба. Отправление этого культа не соп
ровождалось мистическим трепетом или кровавыми человеческими жертвами. В почтительном отношении к высшему началу обычно проявлялся отчетливо осознанный сыновний долг правителя, понимавшего необходимость отчитаться перед высшей божественной инстанцией и воздать небесному отцу, хранителю мирового порядка, необходимые почести.
Если высшее трансцендентное начало в культе Шанди было перенесено в чжоуском Китае на культ Неба, то отношение к Шанди как к первопредку и к окружавшим его ди как к обожествленным умершим предкам правителя было с течением времени перенесено на умерших предков вообще. Это не означает, что обожествлялся каждый покойник. Простые люди жили и умирали в Древнем Китае, как и во всем мире. В лучшем случае они оставляли по себе память в сердцах и умах своих близких. Но правители и знатные аристократы, число которых в чжоуском Китае резко увеличилось по сравнению с Инь, как правило, претендовали на родство с правящим домом и на божественный статус своих умерших предков.
Считалось, что человек наделен двумя душами — материальной (по) и духовной (хунь). Первая после смерти уходит вместе с телом в землю — и именно для ее ублаготворения с покойным отправляли на тот свет его веши, женщин, слуг. Вторая душа отправлялась на небо, где занимала место, строго соответствовавшее статусу ее обладателя. В домах правителей и чжоуских аристократов в честь умерших предков сооружались специальные храмы, в которых на алтарях устанавливались таблички с именем покойного. Существовал даже табель о рангах, согласно которому чжоуский ван имел право на семь, удельный князь — на пять, а знатный аристократ — на три таблички в храме его предков.
Принося жертвы в честь предков, правители и аристократы Чжоуского Китая уже не ожидали, как то было в Инь, непосредственного участия духов умерших в их жизни (хотя подчас в чжоуских хрониках встречаются записи и такого рода, например, о появлении духа предка, дающего советы или делающего выговоры). Гораздо большее значение этот культ имел для практических потребностей на этом свете. Престиж человека, его место в обществе, степень и близость его родства с правителем, т. е. знатность его, — все это было, как и в других аналогичных обществах древности и средневековья, связано с его происхождением. А происхождение, фиксируемое через посредство культа предков, обусловливало не только место человека в чжоуском Китае, но и его право на руководство многочисленными менее знатными сородичами и другими людьми, прежде всего содержавшими его крестьянами-общинниками.
Низы китайского общества Чжоу составляли крестьянские общины с их привычными ритуалами и культами, среди которых центральное место занимал культ Земли. Еще со времен неолита этот культ был тесно связан с магией и ритуальной символикой, с колдовством и шаманством. Чаще всего общение с духами у земледельцев было связано с заботой об урожае. В древнем Китае ритуалы вызывания дождя и оплодотворения земли выполняли женщины-шаманки. Нагие, под палящими лучами солнца, эти жрицы Матери-Земли долгими часами стояли, вызывая дождь в случае засухи. Если это не помогало, шаманку подчас сжигали, принося ее в жертву божеству за
сухи. На алтаре в честь духа земли, который имелся в каждой деревне и именовался «шэ», приносили жертвы, моля об урожае.
С течением времени алтари-шэ стали воздвигаться и при дворах аристократов и правителей. Такой шэ становился символом власти, могущества данного владения. На ритуальном поле рядом со столичным алтарем шэ чжоуского вана правитель лично проводил весной первую борозду, совершая торжественный обряд первовспашки — считалось, что только после этого крестьяне Поднебесной могут приступать к полевым работам. На алта-рях-шэ аристократы казнили своих противников, а захват алтаря-шэ во время войны означал полное военное поражение.
Весной и осенью рядом с алтарем-шэ устраивались праздники в честь оживления природы и сбора урожая. Осенью эти праздники были более пышными и торжественными, в них принимали участие буквально все. В это время обычно устраивались свадьбы, подводились хозяйственные итоги года. Центральной фигурой при этом были чиновники-управители, обычно сочетавшие в своем лице и светские, и духовные (жреческие) функции.
Жрецов в собственном смысле этого слова Древний Китай не знал, как не знал он и великих персонифицированных богов и храмов в их честь. Те же высшие божества, которым поклонялись иньпы и чжоуспы (Небо, Земля), не нуждались в специальных жрецах, ибо обязанности первосвященника в ритуалах в их честь исполнял сам правитель, а функции ассистировавших ему жрецов выполняли служившие правителю чиновники. Эти жрецы-чиновники, наследники иньских гадателей (в период Чжоу гадания и гадатели тоже существовали, но их статус изменился: они превратились в ремесленников, толковавших сны, определявших счастливые дни, благоприятные для строительства места, т. е. обслуживавших текущие потребности населения), были в первую очередь чиновниками государственного аппарата, помощниками правителя. Жреческие же, ритуальные функции они обычно выполняли в дни обрядов и жертвоприношений, отправление которых входило в систему управления, т. е. обеспечения порядка, необходимого для нормального существования общества и за соблюдение и укрепление которого отвечали перед Небом правитель и все его приближенные.
Неудивительно, что вся деятельность жрецов-чиновников была ориентирована, прежде всего, на выполнение необходимых административных обязанностей, призванных сохранять устойчивость санкционированной Небом социальной структуры. Даже в том случае, если основной функцией жреца-чиновника были, казалось бы, чисто ритуальные обязанности (календарно-астрологические подсчеты, забота о сохранности ритуальной утвари, подготовка жертвоприношения), он тем не менее не считался кем-то вроде священника. Такая десакрализация чисто религиозной стороны жизни древнекитайского общества была важной особенностью религиозной системы Китая уже с древнейших времен.
Это не означает, что у китайцев вовсе не было религиозности или что она целиком была поглощена административной структурой. В нижних слоях общества, т. е. среди крестьян, существовало множество местных культов и суеверий, активно действовали шаманы, знахари, гадатели, сохранялась полная вера во всемогущество сверхъестественных сил. Но что касается
складывавшейся религиозной системы, во многом обусловливавшей облик цивилизации, то она была подчеркнуто рационалистична и отличалась явным равнодушием к мистике и эмоциональному накалу, к метафизическим спекуляциям. Это хорошо видно на примере ритуалов, которые в древнем Китае считались делом высшей государственной важности и обставлялись весьма тщательно и серьезно.
Интересы административного регулирования, политического контроля и обеспечения эффективности руководства сына Неба практически растворяли в себе сакральный момент. Это не исключало, конечно, внутреннего ощущения священного трепета участниками торжественных церемоний. Но момент личного эмоционального отношения считался несущественным, его принято было скрывать и подавлять: на передний план выходило лишь глубокое почтение к жизненной важности и политической значимости обряда. Обряд сопровождался церемониалом, включавшим распределение жертвенного мяса и вина между теми, кто имел на то право, причем в строгом соответствии со старшинством, знатностью, должностью и т. п. Такому распределению придавался глубокий политический смысл. Из источников известно, что если при раздаче жертвенной пищи кого-либо обходили (в случае, если он почему-либо не присутствовал, ему следовало послать его долю), это могло истолковываться как знак опалы, вплоть до отставки обиженного.
Наиболее важные ритуалы, например, ритуал первовспашки, имели строго деловой характер: люди мобилизовывались для того, чтобы сделать дело, причем свою лепту вносили все, от астрологов и музыкантов до обрабатывавших поле крестьян, и все они получали свою долю при раздаче жертвенных даров, угощения.
Менее официальными, более красочными и эмоционально окрашенными были ритуалы жертвоприношения в честь покойных предков, отправлявшиеся в знатных чжоуских домах. Нередко такие ритуалы превращались в огромные и разгульные пиршества, в которых участвовали многие потомки почитаемого предка (право отправлять ритуал имел лишь старший сын). Такие праздники с музыкой, танцами, пением, спортивными упражнениями и обильными возлияниями описаны в некоторых текстах книги песен Шиц-зин. Для жертвенной пищи и напитков изготовлялась специальная посуда. Выделанная из бронзы и украшенная великолепным рельефным орнаментом, изумительными по изяществу исполнения скульптурными изображениями животных, птиц, драконов и т. п., эта посуда являет собой одно из высших достижений древнекитайского искусства. Ритуал сопровождал и освящал право наследника вступить во владение достоянием умершего.
Бронзовые изделия были насыщены ритуальными символами. Имевшиеся в орнаменте узоры и геометрические знаки всегда несли смысловую нагрузку, изображая ветер, дождь, гром и молнию, животных, растения и т. п. Символом Земли считался квадрат, символом Неба — круг, причем сочетание этих символов всегда воспринималось в плане взаимодействия женского и мужского начал. Деление всего сущего на два начала было в Китае едва ли не древнейшим принципом философского мышления, как о том, в частности, свидетельствуют отраженные в триграммах и гексаграммах кни
ги И цзин правила гадания (цельная черта и противопоставленная ей прерывистая).
Триграммы и гексаграммы генетически восходят к гадательной практике на костях и стеблях тысячелистника, что само по себе свидетельствует лишь о двоичной системе как таковой, но не о каком-либо ее философском осмыслении, хотя бы на самом элементарном уровне. Последнее сформировалось позднее и было связано практически с одновременным появлением в чжоуской мысли двух важных, кардинальных идей: концепций инь-ян и усин. Инь-ян — это деление едва ли не всего сущего на два противостоящих начала, мужское и женское. Мужское начало ян ассоциировалось с солнцем и со всем светлым, ярким и сильным. Оно считалось, в самом общем виде, началом положительным. Женское инь было связано с луной, со всем темным, мрачным и слабым. Оба начала были тесно взаимосвязаны и гармонично взаимодействовали, причем именно результатом этого плодотворного взаимодействия со временем стало считаться все сущее. Дуалистическая картина мира, основанная на взаимодействии инь и ян, в поздне-чжоуских философских текстах обычно дополнялась концепцией усин, т. е. представлением о взаимодействии и взаимопроникновении пяти основных первоэлементов, первосубстанций (огонь — вода — земля — металл — дерево).
С появлением в позднечжоуском Китае идей инь-ян и усин было положено начало углубленной разработке проблем мистики и метафизики. Параллельно с усин и инь-ян в аналогичном ключе стала разрабатываться и концепция о Дао. Дао как Всеобщий Закон, Высшая Истина и Справедливость изначально было социально-этической категорией, разработанной в учении Конфуция. Трудно точно установить, как, когда и при каких обстоятельствах это первоначальное представление о Дао было трансформировано, в результате чего у даосов Дао стало восприниматься в качестве Высшего Абсолюта, близкого по духу к древнеиндийскому Брахману. Однако, в отличие от Индии, мифология и религия в собственном смысле этого слова с окутывающей ее мистикой и метафизикой в Китае были оттеснены на задний план ритуализованной этикой и проблемами социальной политики. Символом этого процесса и вершиной его было в Китае учение Конфуция, конфуцианство.
Верхи китайского общества жили по конфуцианским нормам, исполняли обряды и ритуалы в честь предков, Неба и Земли, согласно требованиям Лицзи. Любой из тех, кто находился выше уровня простолюдинов или стремился выдвинуться из их среды, должен был подчинить свою жизнь строгому соблюдению этих норм и церемоний; без знания и соблюдения их никто не мог рассчитывать на уважение, престиж, успех в жизни. Однако ни общество в целом, ни человек в отдельности, как бы ни были они скованы официальными догмами конфуцианства, не могли всегда руководствоваться только ими. Ведь за пределами конфуцианства оставалось мистическое и иррациональное, не говоря уже о древней мифологии и примитивных предрассудках. А без всего этого человек, даже умело затянутый в подгонявшийся под него веками конфуцианский мундир, не мог время от времени не испытывать чувство духовного дискомфорта.
Экзистенциональная функция религии в этих условиях выпала на долю даосизма — учения, ставившего своей целью раскрыть перед человеком тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти. Конфуций не признавал духов и скептически относился к суевериям и метафизическим спекуляциям: «Мы не знаем, что такое жизнь, — говаривал он, — как же можем мы знать, что такое смерть?» (Луньюй, гл. XI, § 11). Неудивительно, что все смутное, подсознательное, относившееся к сфере неподконтрольных разуму чувств, конфуцианство оставляло в стороне. Но все это продолжало существовать, будь то суеверия простого народа или философские искания творчески мыслящих и ищущих индивидов. В предханьское время и особенно в начале Хань (II в. до н. э.) — очень насыщенную для истории Китая пору, когда складывалось и принимало свой окончательный вид уже реформированное ханьское конфуцианство, все эти верования и обряды были объединены в рамках оформлявшейся параллельно с конфуцианством религии даосов — религиозного даосизма.
Кризис и трансформация Китая в сер. XIX — сер. XX вв.
Первая Опиумная война и открытие Китая для европейской колониальной экспансии означали вступление огромной многотысячелетней империи в новый этап ее существования, в период колониализма. К этому времени маньчжурская династия Цин уже пережила период своего расцвета и явно клонилась к упадку. Собственно, поражение цинского Китая в Опиумной войне и было наглядным проявлением этого упадка, а навязанная стране система неравноправных договоров, предоставлявшая иностранному капиталу торговые, таможенные и иные экономические, политические и правовые льготы и привилегии, стала неким символом нового этапа в ее истории.
Многое теперь зависело от того, как традиционная структура столь мощной и обширной империи с ее тысячелетними исключительными по силе и значимости традициями будет реагировать на перемены в жизни страны. Реакция эта не могла быть слабой — слишком большие силы пришли в движение. Вопрос был лишь в том, какую форму примет ответ древней империи на вызов эпохи и символизировавшей ее чужеземной системы колониального капитала.
Эта форма вначале оказалась традиционной для Китая, т. е. такой, в которой почти не была заметна антииностранная, антизападная линия недовольства. Даже напротив, чуждые традиционной структуре западные христианские идеи сыграли чуть ли не решающую роль в формировании той идейной доктрины, под знаменем которой многомиллионные массы китайского крестьянства выступили против царствующей династии и даже были близки к тому, чтобы одержать над ней верх. Как это могло случиться и как это понимать?
Результатом масштабного ввоза в страну опиума было как массовое отравление населения южных провинций страны, так и выкачка из нее серебра и связанный с этим резкий финансово-экономический дисбаланс. Лян, т. е. унция серебра, в 1830 г. соответствовал примерно 1000 медяков-вэней, в
начале 40-х гг. — полутора тысячам, в 1848 г. — двум тысячам, а в начале 50-х гг. — почти пяти тысячам. Обесценивание медяков, в которых вели свои расчеты миллионы крестьянских семей, вело к росту налогов (ставки налога традиционно исчислялись в лянах) и массовому разорению земледельцев, что, в свою очередь, послужило причиной восстаний, вспыхивавших в Китае одно за другим, особенно на юге, в конце 40-х гг.
Восстаниями руководили различные тайные общества, идейно-доктринальная основа которых при всем разнообразии восходила примерно к одинаковому набору лозунгов и требований, окрашенных чаще всего в религиозные, преимущественно даосско-буддийские цвета: восстановить социальную справедливость, покарать нерадивых чиновников, отнять излишки у богатых. На этом общем фоне в начале 50-х гг. выделилось движение тай-пинов '.
Идея тайпин (великое равенство) восходит к рубежу эр. Однако во 2-й четв. XIX в. она стала интерпретироваться несколько иначе. Идеолог движения тайпинов Хун Сю-цюань (1814—1864), неудавшийся претендент в конфуцианские сюцаи (он трижды терпел поражение на экзаменах на первую степень), в начале 40-х гг. в Гуанчжоу (Кантоне), куда он ездил сдавать экзамены, сблизился с христианскими миссионерами и проникся их идеями. Из христианства Хун взял, во-первых, идею о едином Боге, чьим пророком он вскоре себя объявил, а во-вторых, столь близкую китайской традиции идею о социальном равенстве и справедливости, которую он идентифицировал с принципом тайпин.
Хун основал новое «Общество поклонения Богу» с традиционной для китайцев внутренней сплоченностью, железной дисциплиной, полным повиновением младших и низших высшим и старшим. Он резко выступил против привычных для восставшего китайского крестьянства даосско-буддийских лозунгов и изображений, заменив их почитанием высшего христианского Бога, идентифицированного в какой-то мере с конфуцианским Небом. Однако на практике это вполне сочеталось как с традиционным конфуцианским культом морального совершенства, самодисциплины, ритуального церемониала, так и со столь же традиционными даосско-буддийскими требованиями равенства в его наиболее примитивной уравнительной форме.
Такая смесь оказалась достаточно жизнеспособной для того, чтобы увлечь миллионы ставших тайпинами китайских крестьян. Войско тайпинов, хорошо организованное, разбитое на мелкие военно-религиозные ячейки с совместным строго регламентированным бытом (общность имущества и снабжение из общих складов, казарменные условия существования), стало быстро одерживать победу за победой, занимать один южнокитайский город за другим. Сделав своей столицей Нанкин, тайпины вскоре оказались перед необходимостью организовать управление уже достаточно большим государством. Казарменный аскетизм был для этого недостаточен. При-
См.: Дискуссия о тайпинской революции // Проблемы Китая, 1929, № 1; Кара-Мур-за А. Тайпины. — М., 1950; Тайпинское восстание 1850—1864 гг. Сборник документов. — М., 1960; Ильюшечкин В. П. Крестьянская война тайпинов. — М., 1967; Аграрные отношения и крестьянское движение в Китае. — М., 1974.
шлось ориентироваться на традиционные китайские формы управления, вплоть до конфуцианских экзаменов на ученую степень. Естественно, это не могло не поколебать прежних устоев и принципов идеологии тайпинов.
Уже в середине 50-х гг. движение тайпинов, как это не раз случалось в аналогичных ситуациях с крестьянскими восстаниями в Китае, обрело очертания привычной для империи бюрократической структуры. Его руководители получили княжеские титулы, обзавелись дворами и гаремами, стали ожесточенно соперничать между собой за власть. Тем временем события в Китае и явная неспособность маньчжурской династии справиться с восставшими начали всерьез беспокоить европейские державы, лишь недавно открывшие двери Китая для колониального капитала. Воспользовавшись незначительным инцидентом в качестве предлога, англичане осенью 1856 г. высадили войска в Гуанчжоу. Позже к ним присоединились французы. Гуанчжоу был захвачен, войска стали продвигаться к Шанхаю, затем (в мае 1858 г.) были высажены на севере, близ Пекина и Тяньцзиня.
Пинские власти предпочли пойти на переговоры и новые уступки державам-захватчицам (Тяньцзиньский договор 1858 г.). Правда, вскоре после подписания договора, чуть оправившиеся от испуга маньчжурские власти решили было частично изменить его условия, но новая серия вооруженных столкновений китайских войск с экспедиционным корпусом держав, завершившаяся поражением Китая и разгромом знаменитого комплекса летних императорских дворцов Юаньминыоань, разграбленных и сожженных колонизаторами, привела к подписанию в 1860 г. Пекинских соглашений. На сей раз последовали еще большие уступки — уже не только Англии и Франции, но и России.
Тем временем тайпины, некоторое время находившиеся в состоянии острого внутриполитического кризиса, как бы обрели свое второе дыхание. В 1859 г. в Нанкин прибыл один из близких родственников Хун Сю-цюаня — Хун Жэнь-гань, ряд лет проведший в Гонконге в общении с христианскими миссионерами. Он принес с собой программу новых реформ, явственно несших отпечаток иноземного влияния. Суть преобразований сводилась к тому, чтобы содействовать частнособственническому предпринимательству, заимствуя при этом у Запада его опыт, достижения и даже некоторые институты. Но при этом следовало по-прежнему укреплять дисциплину, бороться с суевериями и всемерно укреплять власть государства. Впрочем, нововведения Хун Жэнь-ганя в том, что касается следования западному опыту, не могли быть реализованы. Более того, поладившие с цинским двором державы теперь, с начала 60-х гг., были заинтересованы в том, чтобы покончить с тай-пинами (по букве новых договоров с Китаем после разгрома тайпинов они приобретали некоторые привилегии в районе бассейна Янцзы, оплота государства восставших).
Это привело к тому, что державы, с одной стороны, стали вооружать маньчжурское войско, а с другой — сами решили вмешаться в ход военных действий. Была создана бригада во главе с англичанином Уордом (после его смерти ею командовал Гордон), которая нанесла тайпинам ряд существенных поражений. Активизировали военные действия и добились некоторых успехов и цинские армии. Началась блокада Нанкина. И хотя отдельные группи
ровки войск тайпинов (в частности, армии Ши Да-кая) время от времени еще достигали успехов, участь восстания в целом была уже решена. В 1864 г. Нанкин был взят штурмом, Хун Сю-цюань покончил с собой, Хун Жэнь-гань был взят в плен и казнен. Вскоре и оставшиеся войска тайпинов прекратили сопротивление. С последней в истории императорского Китая великой крестьянской войной было покончено. Восставшие потерпели поражение.
Феномен тайпинского восстания поучителен во многих отношениях. Но для нашего анализа важнее всего обратить внимание на его общую политико-идеологическую направленность. Это не была антизападная, антиколониальная акция, не было сопротивление традиционной структуры нежелательным нововведениям. Дело в том, что нововведения как таковые еще не успели сказаться и повлиять на структуру, вызвать с ее стороны сопротивление. А то, что уже успело проявить себя (ввоз опиума, утечка серебра и финансово-экономический кризис), было лишь привычными в истории империи сигналами, свидетельствовавшими о нарушении приемлемой жизненной нормы и о необходимости противостоять такого рода нарушениям. К этому китайская традиционная структура привыкла, на этот случай существовали веками отработанные нормы социально-политической реакции. Именно так и следует расценивать крестьянские движения 40-х гг., приведшие в итоге к восстанию тайпинов.
Целью тайпинов, как это явствует из их лозунгов и практики, было стремление восстановить нарушенную норму, добиться социальной справедливости (такой была цель всех китайских, да и не только китайских крестьянских движений). Средством для достижения цели были опять-таки привычные для традиционного Китая формы, сводившиеся к созданию нового государства, организованного по обычной для Китая модели (альтернативы просто не было), но более непримиримого к отклонениям, наносящим вред стране и народу. Непривычным было идейное наполнение политических программ.
Речь идет как о христианстве, так и о программе реформ Хун Жэнь-ганя с ее попытками провозгласить курс на поддержку частнопредпринимательской деятельности. То и другое оказало сравнительно слабое воздействие на ход и идейное содержание движения тайпинов. Для реализации курса на частное предпринимательство просто не было условий. Что же касается христианских идей, то ориентация на них в политике свелась по сути лишь к борьбе с привычными даосско-буддийскими суевериями (не вполне ясно, дала ли эта борьба желаемые результаты, что сомнительно). В остальном от христианства мало что осталось.
Судя по всему, идея Бога была поглощена привычным представлением о конфуцианском Небе, а сакральность пророка Хуна слилась в представлении масс с обычной для них сакральностью верховного правителя, сына Неба. Поэтому вернее вести речь не столько о роли западной религии и западных влияний в идеологии тайпинов, сколько о самом факте, самом феномене. Суть и смысл этого феномена в том, что Запад и его идейный символ — христианство — в середине прошлого века, на заре колониальной экспансии в Китае, не воспринимались как нечто чуждое, угрожающее, одиозное. Это
было что-то новое, необычное и даже в чем-то близкое своему, привычному— именно эти близкие к китайской традиции моменты и были заимствованы из христианства Хун Сю-цюанем.
Иными словами, тайпинское восстание не было в полном смысле реакцией традиционной китайской структуры на колониализм. Оно было реакцией на кризис, хотя сам кризис был спровоцирован колониализмом. Что же касается христианства, то о католической его версии, связанной с пребыванием в Китае в XVI—XVII вв. иезуитов ', страна уже успела забыть за долгие века ее изоляции от европейцев. Протестантская же версия, с которой и познакомился Хун после открытия Китая для колониальной экспансии, еще не успела стать символом чуждого влияния. Просто то, что было в этом учении созвучным с традицией, оказалось воспринятым идеологами тайпинов.
Поражение тайпинов сняло проблему распространения христианских идей среди крестьян, но поставило немало новых вопросов, важных для страны. Первым из них был вопрос о формах существования Китая в новых условиях. Условия эти характеризовались, с одной стороны, слабостью династии, с трудом восстанавливавшей свои силы после изнурительной войны с тайпинами и энергичного натиска колониальных держав; с другой — проникновением в страну иностранного капитала и связанным с этим постепенным крушением традиционной структуры, неизбежной и мучительной переоценкой ценностей. Решение проблемы затянулось более чем на столетие. Но его основные принципы начали отчетливо вырисовываться сразу же после тайпинского восстания. Они сводились к тому же, что было характерно для всего Востока: к сопротивлению и приспособлению. Впрочем, в Китае и то, и другое приняло, естественно, свои, китайские, обусловленные тысячелетней традицией формы.
После поражения тайпинов и с началом интенсивного проникновения в Китай европейских Англии и Франции, а затем и России, Германии, Японии и США, страна вступает в столетний период мучительных трансформаций, восстаний, революций, гражданских войн и борьбы с иностранной (японской) интервенцией, чему посвящена обширная литература 1 2.
1 Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552—1775 гг.). — М., 2001.
2
Рудаков А. Общество и-хэ-туань и его значение в последних событиях на Дальнем Востоке. — Владивосток, 1901; Брандт Я. Я. Вдовствующая императрица Цыси и император Гансюй. — Харбин, 1909; Петров А. А. Китай за последнее десятилетие (социально-политический очерк). — СПб., 1910; Фань Вэнь-лань. Новая история Китая. 1840—1901. — М., 1955; Русско-китайские отношения. 1689—1916. Официальные документы. — М., 1958; Ефимов Г. В. Внешняя политика Китая. 1894—1899 гг. — М., 1958; Тихвинский С. Д. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Канн Ю-вэй. — М., 1959; Его же: Сунь Ят-сэн. Внешнеполитические воззрения и практика. М., 1964; Советско-китайские отношения. 1917—1957. Сб. документов. — М., 1959; Синьхайская революция в Китае. Сб. документов. — М., 1962; Сунь Ят-сен. Избранные произведения. — М., 1964; Ермашев И. Сунь Ят-сэн. — М., 1964; Маньчжурское владычество в Китае. — М., 1966; Сунь Ят-сен. 1866—1966. К столетию со дня рождения. Сб. статей, воспоминаний и материалов. — М., 1966; Чудодеев Ю. В. Накануне революции 1911 г. в Китае. — М., 1966; Пу И. Первая половина моей жизни. — М., 1968; Юрьев М. Ф. Революция 1925—1927 гг. в Китае. — М., 1968; Черепанов А. И. Северный поход Национально-революционной армии Китая (1926—
Продемонстрированная в годы Опиумных войн и тайпинского восстания слабость цинской империи и энергичное укрепление в Китае колониального капитала вызвали к жизни естественную реакцию самосохранения. Проявлением ее стала политика самоусиления, ставшая генеральной линией империи в последней трети прошлого века. Поставленные перед очевидным фактом, правители империи, начиная от всесильной императрицы Цыси и ее ближайших помощников типа Ли Хун-чжана и кончая чиновниками на местах, вынуждены были признать превосходство европейского оружия. Де
1927). — М., 1968; Тайные общества в старом Китае. — М., 1970; Движение «4 мая» 1919 года в Китае. — М., 1971; Борисов О. Б., Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения. 1945—1970. — М., 1971; БорохЛ. Н. Союз возрождения Китая. — М., 1971; Делюсин Л. П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК (1921—1928). — М., 1972; Крымов А. Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900—1917). — М., 1972; Новейшая история Китая. 1917—1970. — М., 1972; Ефимов Г. В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен. 1911—1913 гг. — М., 1974; Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. — М., 1978; Его же: Маньчжурские правители Китая. — М., 1985; Его же: Переосмысление социализма в Китае. — М., 1996; Семенов В. И. Из жизни императрицы Цыси. — М., 1979; Васильев Л. С. История религий Востока. — М., 1988; Его же: История Востока. В 2-х т. Т. 2. — М., 1993; Галенович Ю. М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории советско-китайских отношений. — Т. 1. От октября 1917 г. до октября 1949 г. — Т. 2 (в 2-х книгах). СССР и КНР (1949—1991 гг.). — М., 1992; Кузнецов В. С. Внешняя политика Китая в 1928—1937 гг. В 2-х частях. — М., 1992; Лайнгер С. Р. Из истории китайского эмиграционного движения: середина XIX — начало XX в. — М., 1992; Пивоварова Э. П. Строительство социализма со спецификой Китая: Поиск пути. — М., 1992; Сотникова И. Н. Роль Ван Мина в разработке и осуществлении стратегии и тактики КПК в 30-е годы. — М., 1992; Врадий С. Ю. Линь Цзэсюй: патриот, мыслитель, государственный деятель пинского Китая. — Владивосток, 1993; Кирмасов Б. А. XX век. Китай. Молодежные организации в 20—30-е годы. — М., 1993; Китайская культура 20—40-х годов и современность. — М., 1993; Крюков М. В., Малявин В. В., Сафронов М. В. Этническая история китайцев в XIX — начале XX вв. — М., 1993; Мугрузин А. С. Аграрно-крестьянская проблема в Китае в 1-й пол. XX века. — М., 1993; Уразов Ф. X., Чернецов Ю. А. Генералиссимусы мира XVI—XX веков: Исторические портреты. — Уфа, 1993; Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. — М., 1994; Традиции в общественно-политической жизни и политической культуре Китая. — М., 1994; Каткова З.Д. Китай и державы (1927—1937). — М., 1995; Ковалев Е. Ф. Из истории влияния Октябрьской социалистической революции на Китай (1917—1923 гг.). В 2-х частях. — М., 1995; Костяева А. С. Тайные общества Китая в первой четверти XX века. — М., 1995; Лузянин С. Г. Россия — Монголия — Китай в 1911 — 1945 гг. — Магнитогорск, 1996; Милонов В. С. Открытие Китая внешнему миру: (Политика, теория, стратегия). — М., 1996; Москалев А. А., Жоголев Д. А., Пузицкий Е. В., Лазарева Т. В. Национальный вопрос в КНР (1949—1994 гг.). В 2-х частях. — М., 1996; Мясников В. С. Договорными статьями утвердили: Дипломатическая история русско-китайской границы XVII—XX вв. — М., 1996; Саран А. Ю. Факторы формирования политики США и Англии в Китае, 1925—1927 гг. — Орел, 1996; Сенюткин С. Б. Новая история Китая и Японии в XVII — начале XX веков. — Нижний Новгород, 1996; Степанов Е. Д. Пограничная политика в системе внешнеполитических приоритетов КНР (1949—1994 гг.). — М., 1996; Тихвинский С. Л. Путь Китая к объединению и независимости, 1898—1949: По материалам биографии Чжоу Эньлая. — М., 1996; Белов Е. А. Россия и Китай в начале XX века: Русско-китайские противоречия в 1911 — 1915 гг. — М., 1997; Его же: Краткая история Синьхайской революции. 1911—1913. — М., 2001; Каткова 3. Д., Чудодеев Ю. В. Китай — Япония: любовь или ненависть? К проблеме эволюции социально-психологических и политических стереотипов взаимовосприятия (VII в. н. э. — 30—40-е годы XX в.). — М., 2001; Калюжная Н. М. Проблемы социологии в трудах китайских просветителей (начало XX века). — М., 2002.
ло модернизации страны руководители цинского Китая решили взять в свои руки, оставив за колониальными державами лишь право на торговые операции и финансирование промышленного и иного строительства. Конечно, колониальный капитал тоже быстро укреплял свои позиции в Китае в конце прошлого века, создавая там свои предприятия и расширяя внешнеторговый оборот, но все же основной рост промышленного потенциала и всей инфраструктуры шел преимущественно за счет централизованных усилий китайского государства.
Здесь надлежит сделать существенную оговорку. Речь идет не о хорошо продуманной и официально принятой на высочайшем уровне новой экономической политике. Как раз напротив, верхи империи во главе с Цыси были сравнительно мало озабочены проблемами самоусиления, да и не были готовы к этому. Другое дело — влиятельнейшие деятели империи, фактически державшие в своих руках власть над теми или иными регионами страны и имевшие в своем распоряжении сильные армии и огромные средства. Существуя как бы сами по себе, они в то же время не только не были в оппозиции к центру, но практически действовали от его имени, будучи облечены высокими полномочиями, сохраняя за собой высшие официальные посты.
Регионализация Китая по этому принципу не была чем-то новым. Напротив, по меньшей мере с конца эпохи Хань это было нормой в тех условиях, когда центральная власть оказывалась не в состоянии сохранить свои позиции либо справиться с крестьянским восстанием. В этих случаях инициативу и брали на себя сильные дома, создававшие собственные армии, вступавшие в борьбу с повстанцами и затем вершившие делами империи. Так было в конце Хань. Нечто похожее стало реальностью и после подавления восстания тайпинов.
Внесшие весомый вклад в это дело высшие сановники империи Ли Хун-чжан, Цзэн Го-фань, Цзо Цзун-тан и некоторые другие уже с начала 60-х гг. стали на путь энергичного строительства в своих регионах арсеналов, верфей, механических предприятий с тем, чтобы перевооружить собственные армии и тем усилить вооруженную мощь империи. Частично эта деятельность финансировалась за счет казны, отчасти — за счет поборов с имущих слоев того региона, который находился под контролем данного сановника, в немалой степени — за счет награбленного в ходе войны с тайпинами.
Компании, строившие арсеналы и заводы, верфи и шахты, не останавливались и перед тем, чтобы привлечь частный капитал — средства купцов, шэньши, земледельцев. Но вносившие его собственники, как правило, не имели права голоса при решении проблем, связанных с производством и финансами компании; в лучшем случае они регулярно получали свою долю дохода в виде процентов на вложенный капитал. Практически это означало, что заимствованный у иностранцев принцип капиталистического производства в китайской реалии конца XIX в. обрел форму государственного капитализма. Теоретически это было обосновано в классическом тезисе самоусиления: «Китайская наука — основа, западная — (нечто) прикладное». Смысл его состоит в том, что китайская конфуцианская основа во всех отношениях не ставится под сомнение, тогда как все заимствованное с Запада перенимается для того, чтобы дополнить эту основу.
К этому стоит добавить, что в Китае стали появляться многочисленные сочинения, разрабатывавшие этот постулат в том смысле, что вообще-то все великие изобретения и достижения Запада не что иное, как результат заимствованных в свое время из Китая идей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь все эти несколько видоизмененные идеи китайцы вправе взять на вооружение.
Рост иностранной торговли в Китае вел к накоплению в стране немалых средств за счет таможенных сборов. Эти средства, как и иностранные займы, тоже шли на форсирование политики самоусиления, в первую очередь на создание индустрии вооружения. Впрочем, немалая доля их прилипала к рукам гигантского аппарата власти, вплоть до императрицы, которая предпочитала строить дворцы на деньги, предназначавшиеся для перевооружения армии. Регионализация страны и продажность аппарата власти сильно ослабляли империю и во многом нейтрализовывали возможные успехи политики самоусиления.
Протекционизм и коррупция вели к назначению на важные посты бездарных протеже высших сановников — и это тоже делало свое дело. Отсюда — недостаточная эффективность политики самоусиления, что стало очевидным при первых же серьезных испытаниях, какими явились война Китая с Францией за Индокитай в 1884—1885 гг. и японо-китайская война 1894—1895 гг. Обе войны, в ходе которых империя столкнулась с хорошо вооруженными и умело руководимыми армиями, привели Китай к поражению и немалым потерям: Вьетнам, а затем Корея и Тайвань перестали быть вассальными по отношению к Китаю территориями, частями империи. Это был уже крах политики самоусиления, оказавшейся несостоятельной.
Военные поражения и крушение политики самоусиления логически привели к очередному натиску на Китай колониальных держав, усиливавших свои экономические и политические позиции в дряхлеющей империи. Основной финансово-экономической силой в Китае стали иностранные банки; в ходе так называемой битвы за концессии державы получили в свои руки контроль над быстро развивающимся железнодорожным строительством; немалые деньги иностранный капитал вложил также в судоходство, хлопчатобумажную и некоторые иные отрасли промышленности.
Первые шаги в конце века начала делать и китайская национальная частная промышленность, хотя частные фабрики и иные предприятия были еще, как правило, мелкими и экономически слабыми. В целом капиталистическое развитие Китая наращивало свои темпы, но формы его были типичными для традиционных восточных структур: преобладали предприятия иностранного капитала и казенные, государственные. Для развития национального капитала в стране еще не были созданы необходимые условия, в частности правовые и экономические. И это несоответствие вполне ощущалось в конце XIX в. Передовые умы Китая, уже немало заимствовавшие из европейского опыта и многое узнавшие о Западе, все более настойчиво пропагандировали необходимость серьезных внутренних реформ, которые были бы способны освободить страну от сковывавших ее оков традиционной структуры и открыть двери для активных преобразований.
Движение за реформы связано прежде всего с именем выдающегося китайского мыслителя Кан Ю-вэя (1858—1927), пытавшегося сочетать блестящее традиционное конфуцианское образование с глубоким анализом современной ему эпохи. В своем знаменитом сочинении «Датун шу» Кан Ю-вэй на базе древних китайских учений о социальной справедливости, а также заимствованных им у европейских философов утопических доктрин пытался создать генеральную теорию всеобщего благоденствия в условиях столь привычного для Китая отсутствия частной собственности и умело организованного общественного хозяйства. В этой теории было немало и от тех эгалитарных устремлений, которыми вдохновлялись восставшие китайские крестьяне со времен ханьских «Желтых повязок» до тайпинов.
Но заслугой Кана было то, что он не ограничился теоретическими утопиями, а весьма ревностно взялся за практические дела, обличая в своих меморандумах трону царящие в стране произвол, коррупцию, выступая в защиту угнетенного народа. Конечно, и это все не было новым в истории Китая: еще сравнительно недавно, несколько веков назад, минские конфуцианцы столь же страстно обличали пороки временщиков и звали к восстановлению утраченных конфуцианских порядков. Но Кан не стал повторять их призывы. В отличие от своих предшественников, тоже выступавших за реформы, он призвал к преобразованиям, направленным на изменение всей системы государственного устройства. Опираясь на авторитет Конфуция, Кан Ю-вэй потребовал введения в стране конституционной монархии на парламентарной основе, демократизации, активного заимствования западных стандартов, включая введение новых законов, поддержку частного предпринимательства, решительных преобразований в сфере экономики, администрации, просвещения и культуры и т. п.
Меморандумы Кан Ю-вэя и его сторонников с середины 90-х гг. приобрели достаточно широкую поддержку. В 1895 г. была создана «Ассоциация усиления государства», члены которой выступали за реформы. С сочувствием отнесся к предложениям Кан Ю-вэя и молодой император Гуансюй, которого после смерти императора Тунчжи его мать Цыси, исполнявшая функции регента, возвела на престол. Ей он приходился племянником. Поскольку это было сделано в нарушение принятой в стране традиции престолона-следования, позиции Гуансюя на троне были достаточно слабыми, что и сыграло немалую роль в стремлении молодого императора обрести политическую опору и вырваться из-под тиранической опеки Цыси.
В последние годы XIX в. по всей стране стали возникать организации Ассоциации, издаваться газеты и журналы, в которых пропагандировались идеи реформаторов. Борьба за реформы вспыхнула с особой силой после знаменитого инцидента 1898 г., когда в ответ на убийство двух немецких миссионеров Германия оккупировала район бухты Цзяочжоу с городом Циндао на полуострове Шаньдун, а вслед за ней изрядные куски китайской территории захватили Англия (Коулун), Франция (побережье Гуанчжоувань) и Россия (Порт-Артур и Дальний).
Эти захваты, означавшие по сути переход к разделу Китая колониальными державами, были весьма болезненным сигналом для империи и не могли не вызвать в стране взрыв негодования. Сторонники реформ стали создавать
«Союзы защиты государства», а летом того же 1898 г. Гуансюй решился на проведение реформ. Кан Ю-вэй и его сторонники (наиболее известны из них Лян Ци-чао, Тань Сы-тун) разработали обстоятельную программу, включавшую содействие развитию промышленности, отмену ряда старых и введение новых административных институтов, открытие новых школ и вузов, издание книг и журналов, реорганизацию армии, поощрение современной науки и т.д. Однако как реформаторы, так и сам Гуансюй имели мало реальной власти для того, чтобы осуществить эту программу. Высшие должности в стране занимали их открытые противники, явно саботировавшие нововведения. А за спиной оппозиции и самого Гуансюя стояла выжидавшая развития событий всесильная Цыси. Было очевидно, что без решительных акций успеха реформаторам не добиться.
Наиболее радикальные из лидеров реформаторов предложили Гуансюю убрать Цыси и ее сторонников. Переворот был намечен на октябрь 1898 г., когда должны были состояться большие маневры войск. Однако привлеченный реформаторами для осуществления этого плана генерал Юань Ши-кай выдал их планы, после чего Цыси, опередив события, приказала арестовать Гуансюя и вождей реформаторов. Тань Сы-тун и многие другие реформаторы были казнены. Гуансюй лишился трона. Кан Ю-вэй и Лян Ци-чао, которым удалось бежать, опираясь на помощь Англии и Японии, сумели спастись, но дело их оказалось проигранным. Сто дней реформ не дали результата, породили мощную ответную волну репрессий, вызвавших сочувственную поддержку со стороны масс китайского населения. Китай увидел в попытке реформ козни иностранцев. После казни группы реформаторов в Пекине начались открытые антииностранные выступления, для подавления которых были вызваны войска охраны. В то же время пекинские власти во главе с Цыси не спешили с наведением порядка, опять-таки выжидая, как пойдут события дальше.
Взрыв ненависти по отношению к иностранцам подспудно вызревал уже давно. Недовольство «заморскими дьяволами», «иностранными варварами» становилось весьма распространенным, причем проявлялось оно прежде всего на местном уровне, главным образом в антимиссионерских выступлениях. Миссионеры активно действовали в Китае; именно они прежде всего контактировали с китайским крестьянством. Естественно, что они первыми испытали на себе мошь традиционной структуры и силу сопротивления Китая всему чуждому, что как раз и олицетворяли в конце XIX в. миссионеры.
С лета 1898 г. и особенно после провала реформ антимиссионерское движение все нарастало и в ряде мест начинало принимать организованные формы. Под лозунгом «Поддержим Цин, уничтожим иностранцев!» повстанцы в различных провинциях страны разрушали христианские церкви и дома миссионеров, преследовали принявших христианство китайцев (их было весьма немного), а заодно громили лавки иностранных торговцев, помещения иностранных консульств в торговых центрах. Открытая поддержка державами курса на реформы расставила все на свои места. Страна после ста дней реформ оказалась накануне мощного народного взрыва, взрыва ярости, направленного против хозяйничавших в стране иностранцев, против вторгше
гося в Китай колониального капитала, против всех тех новых порядков, которые противостояли старому, привычному, традиционному, опиравшемуся на мощные пласты тысячелетий, на окрашенный в конфуцианские и даосско-буддийские тона цивилизационный фундамент.
Ощущая поддержку населения, правительство Китая в конце 1898 г. встало на более жесткие позиции по отношению к иностранцам, отказывая им в просьбах о концессиях либо аренде территорий. Обстановка в Пекине становилась все более накаленной. Иностранные миссии ввели в город вооруженные отряды для своей охраны. В Пекине и по всей стране распространились слухи о предстоящей расправе с иностранцами, а также листовки, в которых высмеивались европейцы, особенно миссионеры. Возглавило антииностран-ное движение общество «Ихэтуань» («Отряды справедливости и мира»), доктринальная основа которого восходила к даосско-буддийским верованиям, суевериям, традиционным приемам китайской гимнастики и кулачного боя (за что восставшие позже получили в европейской прессе наименование «боксеров»), не говоря уже о ритуалах, амулетах, заклинаниях и т. п.
Выступления ихэтуаней начались в провинции Шаньдун еще в 1898 г. и были направлены против немецких миссионеров, солдат и специалистов, намечавших трассу железной дороги. Местные власти пытались навести порядок, но движение, несмотря на это, все ширилось. В 1899—1900 гг. оно переместилось в столичную провинцию Чжили. Многочисленные отряды расположились близ Пекина и Тяньцзиня. Обеспокоенные иностранные дипломаты настаивали на принятии решительных мер против повстанцев, но цинское правительство не спешило с этим. Обстановка тем временем становилась все более угрожающей. В конце мая 1900 г. на совещании посланников держав было принято решение направить в Пекин дополнительный контингент войск для охраны миссий. Кроме того, в адрес цинского правительства были направлены заявления угрожающего характера, которые 17 июня были подкреплены захватом крепости Дагу близ Тяньцзиня сводным отрядом иностранных войск, что фактически означало объявление войны.
Цыси колебалась, не зная, что предпринять. Большинство ее советников склонялось к поддержке ихэтуаней и использованию подходящего момента для того, чтобы дать отпор державам. Именно эта точка зрения и возобладала. Императрица открыла ворота Пекина перед ихэтуанями, а также ввела в город регулярную армию, солдаты которой тоже были резко настроены против иностранцев. 11 июня в Пекине солдаты убили на улице советника японского посольства Сугияму, 20 июня — немецкого посланника Кетте-лера. Это означало объявление войны, что и было официально подтверждено императорским указом от 21 июня (в ответ на ультиматум держав от 19 июня). Указ официально санкционировал восстание ихэтуаней, хотя и стремился поставить их действия под контроль властей.
Следует заметить, что и после официального объявления военных действий цинское правительство продолжало колебаться и стремилось сохранить за собой пути к отступлению. В принципе это можно понять: несмотря на официальную защиту ихэтуаней, власти отчетливо сознавали, что они имеют дело с неуправляемой стихией, которой следовало опасаться. И хотя стихия пока что шла в русле лозунга «Защитим Цин, уничтожим иностранцев»,
ручаться за будущее не представлялось возможным. Державы же реагировали на ситуацию бурно и действовали весьма активно. В короткий срок была создана 20-тысячная союзная армия восьми держав, 3 августа она выступила на Пекин. Хорошо вооруженные дисциплинированные войска интервентов легко одолели сопротивление повстанцев и 14 августа заняли столицу. Бежавшая в Сиань Цыси, быстро оценив обстановку, взвалила всю вину за поражение на ихэтуаней. Указ от 7 сентября обвинил именно их в создавшемся положении, после чего цинские войска выступили против ихэтуаней. Восстание было подавлено, потоплено в крови. Год спустя, 7 сентября 1901 г., Ли Хун-чжан от имени цинского правительства подписал с державами так называемый Заключительный протокол, по условиям которого Китай извинялся за причиненный державам ущерб, обеспечивал им ряд новых льгот и привилегий и к тому же обязывался выплатить в качестве контрибуции 450 млн лянов серебра.
В восстании тайпинов националистическая реакция на иностранное проникновение была еще слаба. Но она многократно усилилась в восстании ихэтуаней. В этом движении народ использовал всю систему веками складывавшегося религиозного синкретизма как защитное средство против разрушительного влияния империализма, подрывавшего традиционные устои Поднебесной. Восстание было жестоко подавлено, но консервативные традиции в Китае отнюдь не собирались сдавать позиции. Активное неприятие европейских порядков опиралось на непоколебимую уверенность в превосходстве своего, китайского. Однако силы были неравными.
Восстание ихэтуаней было, по сути, последней вспышкой агонии старого Китая. Оно не было обычным крестьянским движением, ибо острие его не было направлено — как то было во времена тайпинов — на защиту социальной справедливости, против произвола властей. Это было отчаянное выступление рушащейся старой традиционной структуры в свою защиту, за сохранение привычной нормы, против вмешательства чужаков, против колониализма. Именно поэтому и стал возможным пусть временный, но все же союз восставших с властями — тех и других объединяли общие интересы. Почему же их союз не привел к победе?
Традиционный Китай оказался слаб не потому, что восставшие были плохо вооружены, хотя это сыграло свою роль. Слабость его определялась совокупностью многих причин и не в последнюю очередь тем, что империя находилась на нисходящем витке своего цикла, что внутренняя коррупция и произвол в стране достигли предела, что уже не было единого стержня, единой политики, вокруг которой могли бы сплотиться все. Страну раздирали противоречия, верхи боялись низов и не доверяли им, а низы, в свою очередь, презирали верхи за разложение и приспособленчество, за их готовность сотрудничать с колонизаторами. Конечно, подобные ситуации не раз бывали в истории Китая на аналогичном витке циклического династийного развития империи. И они, как о том говорилось, решались за счет мощных народных движений либо внешних вторжений, игравших очистительную роль, восстанавливавших нарушенную злоупотреблениями норму. Собственно, тайпинское восстание и было такого рода движением, но оно не преуспело, причем в значительной мере из-за вмешательства тех же держав.
Восстание ихэтуаней было иным по духу, по направленности. В этот момент главным, что угрожало привычной норме, было вмешательство чуждых сил — не просто иностранцев, которые со временем могли бы китаизироваться, как то случилось с теми же маньчжурами, но структурно иных сил, грозивших всей системе как таковой. Как знать, при ином стечении обстоятельств события, быть может, могли бы повернуться иначе. Но в самом начале XX в. Китай был еще не готов к организованному сопротивлению. Оно началось стихийно, запуталось в противоречиях и не имело времени для стабилизации. Все это и предопределило сравнительно легкую победу небольшого войска держав над беспомощным одряхлевшим гигантом. И победу эту не следует считать неожиданной: она была логичной в ряду других поражений Китая, например в войнах с Францией и Японией.
Вслед за победой держав Цыси предприняла, теперь уже от своего имени, вторую попытку реформ. Целью ее «новой политики» было стремление как-то приспособиться к изменившимся обстоятельствам, модернизировать экономику страны, аппарат административного управления. Были проведены реформы армии, судопроизводства, создано министерство по делам торговли. В 1905 г. была отменена система государственных экзаменов, альтернативой которой стала сеть начальных, средних и высших учебных заведений. В Китай вернулись бежавшие из него несколько лет назад реформаторы, причем основное знамя преобразований поднял теперь Лян Ци-чао, призвавший страну к осознанию чувства национальной общности, к пробуждению в народе гражданских чувств. И эти призывы находили свой отклик. Китай стремительно радикализировался. Просвещенная молодежь, немалая часть которой получала образование за границей, прежде всего в быстро развивавшейся Японии, была настроена весьма патриотично, ее буквально переполняли гражданские чувства, звавшие на борьбу за возрождение родины, за ее будущее. Страна оказалась на пороге новых важных событий.
Южные районы Китая, где ранее всего закрепились колонизаторы и были созданы наиболее благоприятные условия для модернизации и европеизации, включая миссионерские школы и колледжи, постепенно становились центром формирования радикально настроенной молодежи, будущих китайских революционеров. Одним из наиболее известных среди них был СуньЯт-сен (1866—1925), учившийся в молодости в Гонолулу, где проживал его брат-эмигрант, а затем получивший образование в миссионерских школах и медицинском колледже Гуанчжоу и Гонконга. Хорошо образованный, широко эрудированный, повидавший мир, Сунь Ят-сен, как и в свое время Кан Ю-вэй, попытался соединить в своем учении традиции классического Китая и необходимые нововведения, заимствованные с Запада. Созданный им еще на Гавайях и затем воссозданный в Гуанчжоу «Союз возрождения Китая» в конце XIX в. объединял в своих рядах сотни членов; он ставил своей целью свержение цинской династии, создание в стране демократического правительства и проведение в Китае радикальных реформ. Попытки сблизиться с реформаторами встретили непонимание со стороны Кан Ю-вэя и только после поражения и бегства реформаторов, уже в Японии, в эмиграции (Сунь Ят-сен был вынужден эмигрировать после неудавшейся попытки восстания в 1895 г.), дали некоторые результаты (соглашение СуньЯт-сена с
Лян Ци-чао), но ненадолго. Вскоре пути реформаторов и возглавляемых Сунь Ят-сеном революционеров окончательно разошлись.
Еще одна попытка поднять восстание — в разгар движения ихэтуаней, в 1900 г., — снова потерпела поражение. Но после разгрома восстания ихэтуаней и второй попытки реформ ситуация в стране, как упоминалось, стала меняться. В Китае и вокруг него, в центрах эмиграции китайских студентов и иных лиц, начали один за другим возникать союзы и организации, ставившие своей целью радикальные перемены в стране. Организации издавали газеты и журналы, в которых излагались программы их действий, печатались лозунги и призывы, порой также серьезные аналитические статьи. В 1902—1903 гг. Сунь оживил деятельность своего союза и создал ряд его новых филиалов. Именно к этому времени относится и окончательное формирование основ его доктрины — знаменитых «трех принципов»: национализм (свержение династии маньчжуров), народовластие (республиканско-демократический строй) и народное благоденствие.
Вслед за тем Сунь Ят-сен посетил ряд стран и провел большую работу по сплочению единомышленников. По его инициативе был создан «Объединенный союз» (Тунмэнхуэй). Став во главе союза и начав издавать журнал «Миньбао», Сунь Ят-сен приступил к пропаганде своих идей (трех принципов) и программных документов организации, включая проекты конституционного устройства будущего Китая (в значительной степени по европейской модели) и ликвидации социального неравенства. Призывы к конституционным реформам не миновали и ушей цинского правительства, которое сочло за благо опередить события и, в свою очередь, поставить вопрос о конституционной монархии с парламентарной системой. Обещания на этот счет, вначале смутные, были затем, под нажимом со стороны реформаторов и под влиянием мощной — в духе классической конфуцианской нормы — петиционной кампании 1907—1908 гг., выражены в форме проекта, предлагавшего созвать парламент и ввести в действие еще не разработанную конституцию в 1916 г. Этот проект мало кого устроил, а смерть всесильной Цы-си в 1908 г. резко ускорила ход событий. Спор теперь в открытую шел о том, вести дело к революции или нет: реформаторы считали, что революционный взрыв спровоцирует державы и приведет к разделу Китая; революционеры же полагали, что революция как раз спасет Китай от гибели и сплотит его народ.
Тунмэнхуэй взял курс на подготовку вооруженного восстания, рассчитывая при этом на поддержку многочисленных в Китае тайных обществ, издавна в кризисное время поставлявших многочисленные отряды восставших. Расчет был достаточно верен: кризисные явления в стране все сильнее давали о себе знать и крестьяне то здесь, то там брались за оружие. В ответ на это цинские власти попытались было проводить более жесткую политику. Был, в частности, снят с должности и уволен сделавший карьеру после предательства 1898 г., но продолжавший считаться достаточно либеральным генерал Юань Ши-кай, пользовавшийся поддержкой держав. Жесткая политика вызвала еще большее недовольство и привела к новой волне массовых выступлений. Началось также брожение в войсках, где активно действовали агитаторы Тунмэнхуэя.
В стране назревал революционный взрыв. В январе 1911 г. в Гонконге был создан штаб восстания во главе с помощником Сунь Ят-сена Хуан Сином. И хотя попытка поднять восстание в апреле 1911 г. в Гуанчжоу была неудачной, а Хуан Син едва спасся, революция была уже неотвратима. Попытки предотвратить ее путем предоставления взбудораженной общественности новых уступок, в частности, в форме провинциальных Совещательных комитетов с ограниченными полномочиями (1908—1909), в виде формирования нового — по европейскому образцу — кабинета министров (май 1911 г.), уже не могли помочь. Восстание 10 октября 1911 г. в Учане привело к свержению императорской власти.
Маньчжурская династия рухнула, как карточный домик. Власть в стране оказалась у руководителей на местах. На севере страны она постепенно стала консолидироваться в руках Юань Ши-кая, ставшего в ноябре премьер-министром и объявившего о созыве всекитайского парламента. 12 февраля 1912 г., в день «синь-хай» по китайскому календарю, монархия была официально упразднена. На юге страны вернувшийся в Китай Сунь Ят-сен был избран временным президентом Китайской республики со столицей в Нанкине, но после низвержения монархии и во имя единства страны он согласился отказаться от поста президента в пользу Юань Ши-кая. Премьером при Юань Ши-кае был назначен по условиям соглашения с революционным югом член Тунмэнхуэя Тан Шао-и.
В апреле 1912 г. в Пекине из членов Нанкинского собрания и депутатов от провинций был создан временный парламент. Но добиться создания ответственного перед ним правительства этот парламент так и не сумел. Больше того, бэйянские (представители северной группы армий) генералы принудили депутатов парламента проголосовать за министров, избранных Юань Ши-каем. Становилось очевидным, что Юань Ши-кай предпочитал править без санкции парламента и вел дело к созданию сильной центральной власти, даже диктатуры. Сунь Ят-сен, вначале было смирившийся с этим, осенью приступил к созданию на основе Тунмэнхуэя новой политической партии Гоминьдан, что было необходимо в связи с намечавшимися на конец 1912 — начало 1913 г. выборами в постоянный парламент. Но Юань Ши-кай, игнорируя созванный в апреле 1913 г. парламент, начал готовиться к борьбе с Гоминьданом, к вооруженному походу на революционный республиканский юг страны. Гоминьдановцы, составлявшие в парламенте большинство, мешали ему. Поэтому в ноябре 1913 г. он распустил парламент, а в начале 1914 г. также провинциальные и местные демократические учреждения.
В марте того же года Юань Ши-кай открыто выступил против суньятсе-новской временной конституции, принятой в Нанкине в 1912 г., а 1 мая 1914 г. опубликовал проект новой конституции, согласно которому президенту предоставлялись почти неограниченные права, а также восстанавливались многие должности, звания и титулы только что свергнутой монархии. В декабре 1914 г. облаченный в императорские регалии президент совершил торжественный обряд в храме Неба, что должно было символизировать верность имперским порядкам.
В январе 1915 г. Япония овладела захваченными Германией в 1898 г. территориями в Шаньдуне и, укрепившись на китайской земле, предъявила
Китаю 21 требование, суть которых сводилась к превращению Китая в зависимое от нее государство. Поторговавшись, Юань Ши-кай вынужден был принять значительную часть этих требований, что заметно усилило позиции Японии в Китае. Стремясь сыграть на этом, Юань Ши-кай сетовал на слабость власти в новом Китае, а усиление ее он видел в отказе от республиканского строя, в возвращении к монархии. Выдав свою дочь замуж за последнего китайского императора Пу И, он уже готовился к тому, чтобы провозгласить себя новым императором Китая. Но кампания за восстановление монархии вызвала сильное сопротивление в стране. Вновь заявил о себе регионализм: генералы, бывшие хозяевами в той или иной провинции, не хотели подчиняться центру. Юань Ши-кай вынужден был отказаться от своих планов восстановления монархии и вскоре после этого летом 1916 г. умер.
Смерть Юань Ши-кая сняла на время проблему восстановления монархии в Китае (в 1917 г. к ней попытался было вновь вернуться преемник Юаня Дуань Ци-жуй, планировавший посадить на трон Пу И, но его замысел потерпел неудачу), а главным следствием этого было ослабление власти в Пекине и постепенный переход ее, как упоминалось, к местным генералам-милитаристам. Как то не раз бывало в кризисные периоды в истории Китая в прошлом, на первый план в политической жизни страны вновь и надолго вышли военные. Парламент разгоняли и собирали вновь то в Пекине, то в Нанкине, но роль его была уже второстепенной: он мог лишь санкционировать свершавшиеся помимо его воли события, будь то назначение того или иного президента, изменение или восстановление конституции.
В аналогичном положении находился и лидер китайской революции Сунь Ят-сен: то его избирали президентом, то он вновь терял этот пост, причем практически все зависело от воли милитаристов, обладавших реальной властью в том или ином регионе на юге страны. На севере на протяжении ряда лет президентом был Дуань Ци-жуй, опиравшийся на военную клику Аньфу, с которой соперничала чжилийская клика во главе с У Пэй-фу. Именно Дуань Ци-жуй настоял на том, чтобы в 1917 г. Китай официально объявил войну Германии.
Версальский мирный договор, санкционировавший право Японии на германские владения в Шаньдуне, вызвал бурю возмущения в Китае, где надеялись на иные итоги войны, в которой и Китай принял некоторое участие, послав в Европу на тыловые работы своих кули. Возмущение вылилось в так называемое движение «четвертого мая» — в этот день в 1919 г. студенты вышли на демонстрацию протеста с требованием аннулировать уступки Японии (ее «21 требование»). Выступление пекинских студентов было поддержано широкими слоями китайской молодежи и интеллигенции и сопровождалось движением за «новую культуру», результатом которого было введение в политическую публицистику, а затем и в литературу нового письменного языка байхуа, соответствовавшего разговорному. Это была подлинная культурная и литературная революция, позволившая приобщить к грамотности и облегчить образование для многих миллионов китайцев. Движение выдвинуло в гущу революционной борьбы новый мощный отряд китайской молодежи, немалая часть которой затем влилась в ряды суньятсеновской партии и оформившейся в 1921 г. Коммунистической партии Китая (КПК).
Движение 4 мая способствовало также консолидации молодого китайского рабочего класса, что нашло проявление в его первых организованных выступлениях, в забастовках. Словом, это стало началом нового этапа в революционном процессе Китая, причем революция 1917 г. в России оказала немалое воздействие на те формы, которые это движение в Китае стало обретать.
В первую очередь это сказалось на оформлении партии Гоминьдан. Сунь Ят-сену с каждым годом становилось все очевиднее, что без собственных вооруженных сил революционная партия в Китае обречена на неудачи; в 1923 г., когда он вновь оказался у власти в Гуанчжоу, он начал вести работу по созданию новой партии и собственной армии. На I конгрессе Гоминьдана в 1924 г., в котором приняли участие и коммунисты, была провозглашена политика единого фронта, ядром которого должна была стать спаянная дисциплиной и строго централизованная по советской модели группа революционеров радикального толка. С помощью советских военных советников — М.М. Бородина, П.А. Павлова, В.К. Блюхера — была налажена работа военной школы в Вампу, ставшей кузницей кадров революционных командиров и комиссаров.
Авторитет правительства Сунь Ят-сена в Гуанчжоу возрастал. Гоминьда-новцев стали поддерживать и некоторые милитаристы Северного Китая, как, например, Фэн Юй-сян. Гоминьдановпы, как и бывшие с ними в союзе коммунисты, вели активную работу в различных общественных организациях — студенческих, рабочих, крестьянских, особенно на юге страны. Постепенно закладывались основы для дальнейшего усиления власти революционного гоминьдановского юга. Смерть Сунь Ят-сена в марте 1925 г. была большой утратой для революции, но не приостановила уже наметившегося процесса. Создались условия для выступлений в поход на север, причем первым из них была крепкая революционная армия. 1 июля 1925 г. гуанчжоуское правительство объявило себя Национальным правительством Китая и начало борьбу за объединение страны. Вначале это была борьба за укрепление позиций на юге.
Как видим, в начале XX в. дряхлеющая империя не могла противостоять натиску нового, и революция 1911 г. покончила с ней. В Китае была провозглашена республика. Деятельность ее основателя Сунь Ят-сена и «движение 4 мая» вместе со всей «культурной революцией» 1919 г., стремившиеся покончить с отсталостью страны, были направлены против конфуцианства и его наследия. Конфуцианские традиции, хотя и не без сопротивления, отступали, а освобождавшееся место занимали проникавшие в Китай извне учения — буржуазные философские теории, христианские идеи, немарксистские мелкобуржуазные течения социализма и анархизма, а также революционный марксизм. Это была эпоха активной борьбы мнений, синтеза старого и нового, первых попыток практического применения иноземного опыта на китайской почве. В эти годы в Китае выковывались кадры будущих революционеров. Но в это же время закладывались и основы более утонченных и гибких, приспособившихся для существования в новых условиях форм националистической реакции.
В 20—30-х гг. гоминьдановские власти, опираясь на традиционные методы административного контроля и экономического регулирования, сосре
доточили в руках государства ключевые позиции, что, с одной стороны, ослабляло далеко еще не окрепшую китайскую буржуазию, а с другой — порождало коррупцию и тем способствовало возникновению тяжелого экономического кризиса. В этих условиях активную политическую роль стала играть возникшая в 1921 г. Коммунистическая партия Китая (КПК). Коммунисты Китая быстро набирали силу и приобретали влияние в стране.
Слабость китайского капитализма и буржуазии — это и слабость китайского пролетариата, численно крайне незначительного, политически недостаточно активного. На этом фоне гораздо более революционно и активно выглядело и действовало китайское крестьянство, особенно беднейшая его часть, составлявшая едва ли не половину населения. На эту силу и вынуждена была опереться компартия.
Но вместе с массами беднейшего крестьянства в революцию пришло и заняло в ней важное место традиционно китайское восприятие реальной жизни — сквозь призму национальных традиций, как конфуцианских, так и даосско-буддийских. Конечно, это не мешало образованным активистам КПК овладевать идеями коммунизма, хотя и среди них под воздействием националистических традиций последние нередко искажались.
После II конгресса Гоминьдана весной 1926 г. наметилась определенная перегруппировка сил в партии, в результате которой фактическая власть оказалась в руках Чан Кай-ши, ставшего главнокомандующим. В июле гоминьдановские войска выступили в свой знаменитый Северный поход, план которого был разработан при участии советских специалистов, в частности В. К. Блюхера. Результатом похода было присоединение к территориям, контролируемым Чан Кай-ши, Шанхая, Нанкина, Ухани и рада других больших городов и многонаселенных провинций Китая.
По мере продвижения и новых захватов в гоминьдановскую армию вливались переформированные отряды разгромленных армий генералов-милитаристов, так что к весне 1927 г. численность ее возросла едва ли не втрое. Естественно, изменялся и состав армии, и ее настроения: революционный дух постепенно выветривался, а традиционные нормы все ощутимее давали о себе знать. К этому следует добавить, что армия становилась опорой новой власти в завоеванных провинциях, где происходило сращивание военной и административно-политической функций, партийного и государственного аппарата, что всегда было нормой для конфуцианского Китая (конфуцианство как идейное течение и бюрократия как аппарат власти были в старом Китае синонимами).
Все эти процессы усиливали позиции главнокомандующего Чан Кайши, который весной 1927 г. провозгласил в Шанхае собственное Национальное правительство. Лидеры гоминьдановцев в Ухани, куда еще раньше переместилась столица прежнего Национального правительства из Гуанчжоу, вначале пытались сопротивляться этому перевороту, но осенью того же года Чан Кай-ши занял Ухань. Фэн Юй-сян и еще несколько северных милитаристов признали власть правительства в Нанкине, где отныне обосновался Чан Кай-ши. Объединение Китая на этом фактически было завершено. Все политические силы в стране, кроме коммунистов, резко осудивших переворот и начавших собственную революционную борьбу, признали правительс
тво Чан Кай-ши. В конце 1928 г. ЦИК Гоминьдана принял официальное решение о завершении военного этапа революции и о начале политических преобразований.
Конечно, и в последующее десятилетие было немало военных столкновений. Но в целом это был все-таки период более или менее мирной политической консолидации, сложения новой государственности и формирования новых форм жизни. Какими же они были? Что принесли с собой гоминь-дановцы? Что было характерным для их политики?
Первая четверть XX в., несмотря на сотрясавшие Китай революционные войны, была временем достаточно быстрого экономического развития страны, немалых изменений в образе жизни людей, особенно в городах, перемен в сфере образования, культуры и т. п. В экономике страны по-прежнему лидирующее положение занимал английский капитал, но по уровню инвестиций к нему быстро приближался японский.
Доля национальной буржуазии была невелика и концентрировалась преимущественно в сфере торгового капитала, в мелких предприятиях. Зато все большее значение приобретала доля казенных предприятий. Унаследовав владение ими, гоминьдановское правительство центром своей социально-экономической политики сделало дальнейшее укрепление государственного сектора экономики. Оно взяло под свой контроль систему финансов страны — банки, страховые общества, налоговые и таможенные сборы, — а также создало сильный механизм государственного контроля над экономикой государственного планирования экономического развития.
Видные чиновники и ответственные лица правительства поощряли и частные вложения в экономику, сами вносили вклады в нее, но в смешанных государственно-частных предприятиях явно задавало тон государство, что вполне соответствовало китайской традиции. При этом существенно, что подобная экономическая политика сильного правительства, к тому же склонного ограничить прежние привилегии иностранного капитала, вела к быстрому возрастанию в экономике Китая доли национального (государственного и смешанного государственно-частного) капитала и к уменьшению влияния капитала колониального.
Гоминьдановское правительство приняло ряд законов о труде, создало систему официальных государственных профсоюзов, установило минимальный уровень зарплаты. Был принят и ряд других законов, призванных гарантировать определенные права граждан, и особенно право собственности, что поощряло развитие частного предпринимательства. Был принят аграрный закон (1930), который ограничил размеры арендной платы, установил потолок для земельных владений, выступил в защиту арендатора. Этот закон был призван погасить социальные конфликты в деревне. И хотя большого эффекта программа реформ не дала, ибо для проведения ее в жизнь у гоминьдановского правительства не хватило ни сил, ни времени, общий принцип был очевиден: сильное централизованное правительство в новом Китае опиралось в целом на привычные для китайской традиции методы регулирования социальных и экономических отношений в стране.
Пусть стали шире открываться двери для новых веяний, методов и процессов, но страна в целом, особенно крестьянство, еще не очень-то готовое
к переменам, управлялись в принципе теми же методами, что и прежде. Более того, сращивание политических, экономических и иных интересов на высшем уровне правящей группы вело к укреплению привычной для традиционного Китая (да и всего Востока) государственной системы управления хозяйством, той самой древней системы, в рамках которой государство выступает в функции верховного собственника и высшего субъекта власти, а олицетворяют государство и вершат дела от его имени те, кто причастен к власти, кто составляет руководящий слой общества.
Именно такая система администрации доминировала в качестве главной и ведущей в годы гоминьдановского правления Китаем. Хотя справедливости ради следует сказать, что в эти же годы было немало сделано и для развития частнопредпринимательского сектора экономики и в принципе дело шло к постепенному превращению именно этого сектора в ведущий, как то и было продемонстрировано Гоминьданом во главе с тем же Чан Кай-ши после революции 1949 г. на Тайване, куда эмигрировали гоминьдановцы, до того стоявшие у власти в континентальном Китае.
С рубежа 20—30-х гг. все более ощутимой становилась японская угроза. Укрепившись на континенте (Корея, Маньчжурия) и все более усиливая свои экономические позиции в самом Китае, Япония в середине 30-х гг. начала готовиться к завоеванию этой страны. В июле 1937 г., не встретив серьезного сопротивления, японцы оккупировали значительную часть восточного побережья, включая Пекин, Тяньцзинь, Шанхай. В 1938 г. под власть японского командования попали Ухань и Гуанчжоу. Практически это означало, что все важнейшие экономические районы Китая, все его крупнейшие города были оккупированы. Ограничившись этим, японцы пригласили «новый Китай» принять участие в совместном с Японией и Маньчжурией (где во главе с Пу И было создано марионеточное государство Маньчжоу-го) установлении «нового порядка в Восточной Азии». В оккупированном японцами Нанкине было создано новое правительство во главе с бывшим лидером гоминьдановцев Ван Цзин-вэем, тоже ставшим марионеткой японцев.
Чан Кай-ши, переместившийся вместе с Национальным гоминьдановским правительством на запад, в Чунцин, с помощью союзников, которая резко увеличилась с началом Второй мировой войны, возглавил сопротивление Японии, пригласив включиться в антияпонскую борьбу вооруженные силы КПК. Но единству в этой борьбе мешали политические разногласия. Дело в том, что КПК выступила против гоминьдановской политики сразу после переворота Чан Кай-ши. Ею было организовано несколько восстаний еще в конце 1927 г., но они не имели успеха. VI съезд КПК, состоявшийся под Москвой в 1928 г., выдвинул задачу борьбы за массы и укрепление революционных вооруженных сил.
В 1928—1930 гг. в ряде районов страны были созданы контролируемые коммунистами территории, где формировались Советы. В 1931 г. в Жуйцзи-не был даже созван съезд Советов, образовавший Китайскую советскую республику, просуществовавшую, однако, недолго. В середине 30-х гг. КПК и ее вооруженные силы, правда, поставили вопрос о создании Единого фронта с гоминьдановцами в связи с японской агрессией, но с приходом к руководству КПК Мао Цзэ-дуна (1935) эта линия стала пересматриваться. После
начала открытой агрессии Японии в 1937 г. она была вновь выдвинута на передний план в качестве первоочередной задачи. Однако борьбу с японцами коммунисты предпочитали вести обособленно, сами по себе.
КПК закрепила за собой власть в контролируемых ею районах (северо-западные провинции Китая), где в 1940 г. проживало, по разным данным, около 50—100 млн человек. Две армии, восьмая и четвертая, численность которых, включая отряды местной самообороны, достигала 500 тыс. бойцов, были немалой частью китайских вооруженных сил, противопоставленных японской агрессии. Существенно, впрочем, заметить, что рост контролируемых территорий и населения, увеличение численности армии и самой партии сопровождались естественным процессом растворения немногочисленных идеологически ориентированных членов КПК в массе традиционно настроенного китайского крестьянства. Последнее видело в КПК не столько марксистскую партию, сколько сильную и сплоченную, спаянную дисциплиной и имевшую немалую реальную власть организацию, которая ставит своей целью восстановление социальной справедливости. Для традиционно ориентированного китайского крестьянства в годы кризиса и безвластия этого было вполне достаточно, чтобы активно поддержать КПК.
1941—1943 гг. были достаточно тяжелыми для КПК. Стабилизация фронтовой линии и некоторые успехи гоминьдановцев в антияпонской войне позволили Чан Кай-ши потеснить позиции китайских коммунистов. С конца 1943 г. в связи с общими изменениями в ходе Второй мировой войны КПК и ее армии вновь перешли в наступление, стремясь потеснить японцев в Северном Китае. А когда в августе 1945 г. СССР вступил в войну с Японией и оккупировал Маньчжурию, захваченные им военные трофеи способствовали укреплению базы КПК в Северном Китае. 1945—1949 гг. прошли под знаком наращивания сил КПК и начала военных действий между ее вооруженными армиями и армиями гоминьдановского правительства.
Как известно, эта борьба завершилась победой китайских коммунистов и образованием КНР. Гоминьдановцы во главе с Чан Кай-ши эвакуировались на остров Тайвань. Как для континентального Китая, так и для Тайваня этот момент явился отправной точкой, началом нового отсчета их истории. Гоминьдановцы на Тайване довели до успешного конца преобразования, позволившие населению острова быстрыми темпами развиваться по капиталистическому пути и добиться немалого экономического эффекта. Континентальный Китай, КНР, оказался на долгие годы ареной гигантских социальных экспериментов Мао Цзэ-дуна, явно не способствовавших экономическому развитию страны.
Можно констатировать, что выход на передний план острой социальной борьбы многомиллионных крестьянских масс с их традициями и нормами, веками воспитывавшимися эгалитарными стремлениями создать казарменный порядок всеобщего равенства, уже сам по себе не мог не придать революции — несмотря на то, что ею руководили коммунисты, — искажающий марксистские коммунистические принципы акцент. Это следовало учитывать, противопоставляя такому акценту идеалы интернационализма, что и осуществлялось, особенно после победы китайской революции в 1949 г. Однако даже в эти годы силы консервативной традиции содействовали тому,
что китайские нормы задавали тон и вели к мутации марксистских понятий и категорий, интернационалистских принципов. Пережив эпоху духовного кризиса и переоценки ценностей в начале века, эти традиции с выходом на авансцену широких масс крестьянства обрели новую силу.
Революция коренным образом изменила Китай. Исчезли некоторые классы и сословия, изменились формы собственности. На смену желтому дракону империи пришло красное знамя революции. Но все эти перемены не помешали возрождению националистических традиций, которые оказались устойчивыми, а честолюбивые амбиции некоторых лидеров КПК шли в унисон с ними.
В истории Китая массовые выступления в кризисные периоды обычно окрашивались, как упоминалось, в даосско-буддийские сектантские тона. Это проявлялось, в частности, в стремлении причаститься к священному трепету возбужденных масс, воспеть громкую хвалу обожествленному харизматическому лидеру, привести свой внешний вид в соответствие с той нормой, которая как бы объединяет всех посвященных и противопоставляет их чужакам, не причастным к движению либо даже враждебным ему.
Выход на авансцену даосско-буддийских традиций с их апелляцией к экстатическому волнению толпы, к магии и культу — закономерный результат децентрализации власти и хаоса в стране. Хотя период «культурной революции» 60-х гг. был кратким, в XX в. он создал в миниатюре ту ситуацию, которая была характерна для эпох мощных социальных катаклизмов в китайской империи. Культ «своего», апелляция к национальным чувствам, культ формы и ритуала, призывы к строгой дисциплине, скромности и показному самоуничижению, наконец, пренебрежение к личности во имя укрепления корпорации в соответствии с классическим легистским принципом «слабый народ — сильное государство» — все это энергично проявилось в годы «культурной революции».
Смерть Мао Цзэ-дуна в 1976 г. обозначила важную грань в истории современного Китая. Псевдореволюционное бунтарство даосско-буддийского толка уступило место эпохе централизованной администрации с ее привычным тяготением к норме, к порядку. Было ли здесь место традиции?
На первый взгляд может показаться, что новая экономическая политика нынешнего руководства КНР, равно как и весь современный стиль жизни Китая, — это только то новое, к чему ныне стремится китайский народ и к чему его призывают. Между тем на самом деле все это «новое» в немалой степени опирается на прочные тылы, на возродившиеся и умело укрепившиеся в измененной обстановке традиции прошлого. Только на сей раз это не наивно-эгалитаристские мечтания даосско-буддийского типа, а административно-политические принципы, генетически во многом восходящие к конфуцианству.
Сильная централизованная власть, ставящая своей целью создание гармоничного общества, в котором отводилось бы некоторое место строго контролируемым, но жизненно необходимым для процветания экономики частной собственности и рыночному саморегулированию, — это в какой-то мере все же конфуцианская традиция. Речь вовсе не о том, что между политикой КПК и конфуцианством нет принципиальной разницы. Имеется в виду иное:
в своей политике КПК опирается на определенные традиции, само существование которых (вспомним хотя бы тысячелетнюю практику государственной раздачи крестьянских наделов, владельцы которых платили ренту-налог в казну) заметно облегчило как проведение новой экономической политики после Мао, так и обоснование этой политики, практику ее реализации.
Цивилизационный фундамент и особенности развития Китая 2-й пол. XX в.
Цивилизационным фундаментом всего Дальнего Востока, включая Китай, а также Вьетнам, Корею и Японию, следует считать китайское конфуцианство. Наряду с ним с первых веков нашей эры здесь стал играть активную роль и пришедший из Индии буддизм, который в Японии и Корее порой становился идеологически господствующим. И хотя параллельно существовали здесь также местные религии типа даосизма и синтоизма, именно конфуцианство всегда составляло основу. В чем это проявлялось и как это сказалось на развитии стран Дальнего Востока, особенно Китая и Японии?
Во второй половине XIX в. и особенно в начале XX в. традиционное китайское конфуцианство постепенно теряло свое значение. Конечно, оно во многом по-прежнему определяло систему ценностей страны и народа, принципы жизни китайцев, основы их мировоззрения и менталитета. В этом смысле каждый китаец оставался, даже если он не сознавал этого, все-таки конфуцианцем. И все же конфуцианство как господствующая доктрина, как генеральный принцип жизни под ударами извне давало трещины, сквозь которые в империю проникали новые веяния — от христианства, под знаком которого формировались идеи тайпинов, до различных европейских социально-политических идей, как либерально-демократических, так и радикальных, включая различные формы социализма, анархизма и коммунизма. В идейно-доктринальном плане значение коммунизма для Китая последнего столетия невозможно переоценить, проблема здесь практически сводилась к тому, чтобы оптимально сочетать традиционные и заимствованные идеи и институты и на этой синтетической основе создать определенный фундамент для строительства на нем нового Китая.
Что же внесла в создание этого фундамента традиция, прежде всего конфуцианская, и что в нем появилось нового? Собственно, к ответу на этот весьма важный вопрос и должен привести предлагаемый анализ.
Сначала несколько слов о традиции, о религиозно-цивилизационном фундаменте старого Китая, о его ценностях, ориентированных, как упоминалось, прежде всего на ценности конфуцианства. В самом сжатом виде это можно изложить в форме нескольких тезисов.
1. Китай в принципе нерелигиозен и, в отличие от индо-буддийской либо исламской цивилизаций, считает наивысшим смыслом существования людей достижение социальной гармонии в рамках мудро управляемого государства, к чему призывали Конфуций и конфуцианцы и что было основной заботой великих правителей доконфуцианского прошлого (от легендарных Яо, Шуня и Юя до вполне реальных Вэнь-вана и Чжоу-гуна), на мудрость которых не уставал ссылаться Конфуций.
Мудрость разумного правления, обеспечивающего социальную гармонию, отрабатывалась веками и закреплялась в социальном генотипе, на страже которого и стояли конфуцианцы. Неудивительно, что единственно стоящей мудростью в Китае всегда считалась именно она, так как только она способна научить людей жить по правилам, как то и подобает цивилизованному человеку, т. е. китайцу. Отсюда логичный вывод: лишенные этой мудрости народы суть жалкие варвары, у которых китайцам нечему учиться и которые, войдя в соприкосновение с китайцами, сами рано или поздно китаизируются и конфуцианизируются. Тому немало примеров дает история взаимоотношений Китая с его соседями, включая и завоевывавшие Китай народы.
2. Но коль скоро мудрость известна и истина познана, причем именно китайскими мудрецами, то любое новое слово заслуживает внимания лишь постольку, поскольку оно сочетается с конфуцианской традицией и камуфлируется в ее одежды. Разумеется, новизна его от этого тускнеет, а сущность может всерьез трансформироваться, но зато традиционная мудрость за этот счет лишь выигрывает, крепнет, обрастает новыми идеями, которые позволяют ей выжить и даже расцвести в новых условиях существования. И для этого конфуцианская мудрость имеет надежный механизм самосохранения и самосовершенствования, сводящийся, прежде всего, к мобилизации умных и способных, т. е. к концентрации мозговых усилий всех тех, кто на это способен (речь идет прежде всего о тройном сите конкурсного отбора, в результате которого к власти в бюрократической иерархии империи приходят лучшие знатоки конфуцианства).
3. Система в целом бдительно следит за престижем мудрости и священного канона, в котором она запечатлена, за стандартом конфуцианского ученого-чиновника, в котором она воплощена. Конечно, чиновник — не идеал цзюнь-цзы. Но он обязан ориентироваться на этот идеал, и именно потому публичное уличение его во взятке, в коррупции важно не столько с точки зрения правосудия и правовой нормы, сколько с позиций этической нормы: «потеря лица» в традиционном Китае всегда означала гражданскую смерть для чиновника, образованного интеллектуала.
4. Стремление к постоянному постижению мудрости древних, к самосовершенствованию на основе выработанных ими предначертаний, к примату высокой морали, с которой не идет ни в какое сравнение низменная материальная выгода (хотя при этом всегда имеется в виду, что высокая мораль в статусе чиновника очень неплохо материально вознаграждается), — таков эталон поведения в Китае, воспетый в литературе, всегда высоко почитавшийся в реальной жизни и приносивший немалую практическую пользу каждому, кто добивался успеха на этом пути. Не богатый и знатный, но исполненный мудрости древних конфуцианский ученый-чиновник всегда стоял на вершине социального престижа в старом Китае. Залог же любого успеха — труд, постоянный и упорный. Культура и высокая дисциплина труда, как умственного, так и физического, — важнейший элемент конфуцианской цивилизации.
5. Форма, ритуал, церемониал — основные способы закрепления и сохранения нормы, консервации социального порядка, обеспечения строгой
организации общества, дисциплины и послушания. Общество в целом, как и его части, социальные корпорации (включая семью), всегда стояли на страже формы, главной сутью которой был строгий принцип патернализма. Долг как социальная категория намного выше чувства, особенно личностного, диктуемого неконтролируемыми эмоциями, включая низменные суеверия.
В этом пункте конфуцианство всегда соприкасалось с противоположным ему полюсом в биполярной структуре идейно-доктринального фундамента китайской традиции — с мистикой и метафизикой даосов и буддистов, во многом ориентированными на чувства крестьянской массы, особенно в критические периоды истории страны. Биполярная структура, о которой идет речь, находилась в состоянии неустойчивого баланса: в длительные периоды функционирования крепкой центральной власти конфуцианский полюс преобладал, порой абсолютно; в сравнительно краткие, но бурные, периоды кризиса на передний план выходил даосско-буддийский полюс с его бунтарскими эгалитарно-утопическими идеями, магией и мистикой. Впрочем, за эгалитаризмом всегда легко просматривалась все та же конфуцианская в основе идея: восставшие стремились к регенерации нарушенной кризисом нормы, т. е. в конечном счете к возрождению сильного централизованного государства, в котором традиционно управляли бы все те же ученые-конфуцианцы, знатоки великой мудрости древних, отстаивавшие генеральный для китайской цивилизации принцип социальной гармонии и справедливости с равенством жребия для каждого, кто обладает соответствующими потенциями и стремлениями.
Охарактеризованный выше конфуцианский в своей основе религиозно-цивилизационный фундамент старого Китая во многом определял судьбы этой страны в XIX и тем более в XX в. Открытая для заимствований и даже достаточно охотно перенимавшая чужие идеи традиционная китайская мудрость имела тем не менее определенный предел, потолок заимствований, не говоря уже о практике переработки чужих идей до неузнаваемости. Выработанная веками, эта практика трансформации чуждого интеллектуального потенциала создала определенные стереотипы, сущность которых сводилась к тому, что перенимается прежде всего то, что как-то созвучно своему, привычному, и что может поэтому укрепить хорошо известное свое, придав ему новые возможности. Именно это было продемонстрировано в случае с тай-пинами, а позже стало лозунгом в официальной политике самоусиления. Это же определило отношение к европейским идеям и институтам, от демократии и либерализма до социализма и коммунизма, после крушения империи.
Идеи равенства и справедливости, поиск социальной гармонии и ориентация на стремящегося к ней, ищущего ее авторитетного лидера-мудреца — в крови китайской традиции. Отсюда — с легкостью воспринятая Китаем идея революции с ее ориентацией на лозунги Сунь Ят-сена; отсюда же и взлет влияния компартии во главе с Мао. Идея о ведущей роли государства и аппарата власти с его бюрократической иерархией — опять-таки в крови китайской традиции с ее неизменной ставкой на централизованное регулирование хозяйства. Именно это проявило себя во времена самоусиления, в го
ды успешных экспериментов гоминьдановского правительства до Второй мировой войны, и, наконец, в период экспериментов Мао в КНР.
Привычное отношение к частному предпринимательству как к поискам личной выгоды, наносящим в конечном счете вред интересам общества в целом, определило и жалкое положение частного китайского капитала в годы самоусиления, и немногим лучший его статус в период власти гоминьда-новцев, и тем более его ликвидацию при Мао. Китаем, по общему убеждению всех слоев его населения, должны править мудрые правители, опирающиеся на хорошо знающих господствующую доктрину помощников. В свое время это были императоры с конфуцианскими чиновниками, рекрутировавшимися посредством системы экзаменов. При гоминьдановцах во главе страны встали лидеры этой партии, опиравшиеся на хорошо знакомых с теорией Сунь Ят-сена функционеров, включая и военных. При Мао их место заняли активисты КПК, получившие сводное наименование «ганьбу» (кадровые работники-профессионалы).
В этой генеральной схеме, как то легко заметить, практически не было места тем институтам, которые не вписывались в традицию либо противоречили ей. Нет слов, колониальный капитал немало сделал для того, чтобы разложить изнутри традиционную хозяйственную, а затем и социально-политическую структуру империи. Промышленное и торгово-экономическое развитие Китая в XX в. создало благоприятные условия для становления частного предпринимательства и проникновения в Китай соответствующих западных принципов и институтов. Однако приспособление мошной традиционной структуры к этим новшествам шло столь замедленными темпами и встречало столь яростное сопротивление (речь не только о восстании ихэтуаней, хотя оно говорит само за себя), что успехов в этом направлении было немного, даже несмотря на порой официальное поощрение со стороны государства, особенно гоминьдановского.
Парадокс, но факт: те самые китайцы (хуацяо), которые во всей Юго-Восточной Азии, да и во многих других районах мира, вплоть до Америки, столь успешно проявляли себя на протяжении веков в качестве весьма динамичной и активной группы торговцев, а затем и удачливых предпринимателей, у себя дома оказывались совсем иными. И если задаться вопросом, что же им мешало, то ответ будет один: мошная государственная машина, т. е. бюрократический аппаграт, опиравшийся на веками апробированную конфуцианскую традицию.
Формально эта традиция в XX в. уже как бы не признавалась, а китайский парламент вскоре после Синьхайской революции даже принял на этот счет (правда, с очень небольшим перевесом голосов) официальное решение, отвергнув конфуцианство как государственную идеологию. Но реально традиция продолжала функционировать, время от времени даже весьма активно и демонстративно. Именно она лежала в основе поведения китайского крестьянства — того самого, которое наиболее заметно влияло на весь ход событий в Китае в 1-й пол. XX в. и привело, в частности, к победе КПК. И когда весь мир с удивлением следил за гигантскими социальными экспериментами Мао, стремившегося вогнать огромную страну в коммунистическую казарму, в самом Китае все воспринималось несколько иначе, ибо пусть
не во всем, но в целом это вписывалось в привычные нормы поиска социальной справедливости, государства высшей гармонии, управляемого обладающим харизматическим авторитетом великим мудрецом.
Иными словами, традиция и здесь если формально и не вышла на передний план, то подспудно оказывала свое едва ли не решающее воздействие, причем традиция в ее полном объеме, включая не только конфуцианство, но и даосско-буддийский ее полюс со всей свойственной ему мистикой и магией, столь хорошо заметными на примере культа самого Мао.
И все-таки, учитывая все сказанное, нельзя не видеть и другого: в ходе длительного и болезненного приспособления старого Китая к новым условиям существования в стране многое менялось. Новые, в том числе заимствованные извне институты, нормы, стереотипы поведения постепенно усваивались, пусть порой в весьма трансформированном виде. Менялась традиционная система образования, ориентированная теперь на европейские стандарты. Это влекло за собой изменения в образе жизни и мышления новых поколений грамотного и образованного слоя людей, по-прежнему традиционно управлявших страной. Развивались города, превращаясь в центры современной промышленности и культуры. Экономика Китая, несмотря на все потрясавшие ее войны и революции, деструктивные социальные катаклизмы и эксперименты, не только не разваливалась, но даже постепенно укреплялась, что во многом достигалось за счет упорства и трудолюбия, организованности и дисциплины, традиционной культуры труда населения. Развивалась инфраструктура современного типа.
Словом, традиционно практичный и прагматичный Китай как бы интуитивно, порой вопреки его признанным лидерам, усваивал все то полезное, что могло пригодиться для последующего процветания страны. И пусть этот процесс усвоения был непоследовательным и противоречивым, пусть он то и дело встречал яростное сопротивление как со стороны традиции, так и в лице экспериментаторов вроде Мао, тенденция все же ощущалась.
Традиционный Китай не был, начиная с середины прошлого века, закрыт для перемен. Напротив, он, несмотря на мощный пласт традиционного фундамента, был открыт для трансформации, которая и составляла едва ли не главное внутреннее содержание развития страны за последние полтора века. Но, в отличие от Японии, о которой пойдет речь дальше, Китай был не столько даже более сильно скован традицией, сколько был несколько по-другому ориентирован и ограничен ею. Сила государства и бюрократической власти, помноженная на веками отработанную технику управления, опирающаяся на многотысячелетнюю общепризнанную традицию, не могла быть сломлена с легкостью; тем более что речь шла не столько о ломке одряхлевших институтов, сколько о крушении привычных стандартов бытия, о радикальной трансформации веками воспитывавшегося социального сознания.
Неудивительно поэтому, что прагматичный Китай воспринимал, причем весьма избирательно, из потока нахлынувшего в страну нового именно то, что было ему наиболее близко и понятно, что хоть как-то вписывалось в хорошо знакомые ему нормы, порядки и ценности. Неудивительно и то, что все новое в китайских условиях привычно трансформировалось и приспосаб
ливалось, обретая несколько иные формы, а порой и иное содержание, будь то промышленное развитие или идеи социализма.
Существенно и еще одно важное обстоятельство. Китай не стал, да и не мог стать легкой добычей колониального капитала. Вовсе не случайно также и то, что в отличие от Индии эта страна оказалась не по зубам державам, включая и агрессивную Японию. Здесь вновь сказалась сила традиции: можно, иногда даже сравнительно легко, завоевать империю, но практически невозможно быстро и с легкостью трансформировать ее. Китай не раз бывал завоеван — но при этом всегда оставался Китаем, тогда как завоеватели неизменно окитаивались. Практически это значит, что колониальные державы не могли рассчитывать на превращение Китая в колонию, в чем с наибольшей определенностью убедились японцы в 30—40-е гг. прошлого века.
Но при всем том столетие колониальной экспансии не обошлось Китаю дешево. Конечно, страна многое получила за счет навязанных ей едва ли не силой идей и институтов и, в конечном счете, сама стала ориентироваться на европейские стандарты в экономическом и социально-политическом развитии. Однако все это шло не просто на фоне яростного внутреннего сопротивления традиционной структуры, а в условиях почти непрерывной борьбы, в том числе вооруженной, ослаблявшей Китай и то и дело вновь ввергавшей его в состояние глубокого кризиса.
Все вышесказанное — от состояния перманентного кризиса, длившегося едва ли не столетие, до потрясших страну гигантских экспериментов Мао, — было в некотором смысле той весьма высокой ценой, которую Китай был вынужден заплатить за процесс структурной трансформации и приспособления, болезненный, но жизненно необходимый ради самосохранения страны и народа в новых условиях существования. Что же касается внутренних потенций для подобного рода трансформации, то именно в Китае, как и во всей зоне ориентированной на Китай дальневосточной цивилизации, они реально существовали едва ли не в большей степени, чем в любом из других неевропейских регионов, не исключая, пожалуй, и Латинской Америки.
Страны Китайско-Восточноазиатской цивилизации 2-й пол. 40— 70-х гг. XX в. (речь идет о континентальном Китае, Северном, а затем и всем Вьетнаме и Северной Корее — КНДР) объединяет не только общее для всех них развитие по марксистско-социалистической модели в рамках однопартийной системы при решительном уничтожении рыночно-частнособственнических отношений. В сравнительно недавнем прошлом, всего несколько веков назад, Вьетнам и Корея были вассальными территориями могущественной Китайской империи. У всех трех стран единая цивилизационная база, общие исходные ценности и традиции. Но при всем том у каждой, особенно за последние столетия, — своя история, свой путь. Они близки между собой в том плане, что исповедовали марксистские идеалы наиболее решительно и неуклонно, даже после того, как порочность этого пути стала очевидной. Правда, Китай и Вьетнам сделали необходимые выводы из неудач и провели ряд радикальных реформ, изменивших направление развития при сохранении привычной политической системы с соответствующими ей лек
сикой и лозунгами. Третья, Северная Корея, не сделала этого, отчего ее развитие все более очевидно заходит в тупик.
Китай во 2-й пол. XX в. пережил глубокие трансформации Эта страна после первых нескольких лет восстановления ее экономики и проведения необходимых реформ в 50-х гг. истекшего века (здесь сыграла огромную роль помощь СССР, хотя эта же помощь привела и к внедрению в структуру Китая жесткой сталинской модели со всеми ее органическими противоречиями и пороками) стала ареной рискованных экспериментов Мао Цзэдуна. Первым из них вскоре после XX съезда КПСС был так называемый большой скачок, в ходе которого Мао стремился противопоставить новому курсу КПСС собственную политическую линию. Суть ее сводилась к стремлению опередить время и обогнать Советский Союз в деле строительства новой жизни. Не имея возможности за короткий срок создать в стране развитую экономическую базу, Мао решил пренебречь этим и свести скачок в будущее к реформе человеческих взаимоотношений, к стимулированию трудового энтузиазма в условиях эгалитарного быта, казарменных форм существования и при крайней степени официальной индоктринации.
Результаты не замедлили сказаться. Уже в конце 1958 г. и еще больше в 1959 г. страна стала испытывать голод. Трудовая активность лишенных земли и всякой собственности крестьян снизилась, прежде бережно хранившиеся на год припасы были беззаботно потреблены в рамках народных коммун за совместными трапезами. Производство было в сильной степени дезорганизовано, причем не только в деревне, но и в городе. В ответ на критику эксперимента со стороны ряда партийных лидеров, в частности Пэн Дэхуая, Мао обрушился на партию со всей мощью своего ставшего уже харизматическим авторитета. Вначале это не привело к заметным результатам, а взявшая в свои руки руководство страной партия и, в частности, такие ее деятели, как Лю Шаоци, сумели несколько выправить положение на рубеже 60-х гг.
Но конфликт между Мао и противостоявшими его экспериментам партийными лидерами не прекращался и, в конечном счете, привел к новому грандиозному эксперименту — к «культурной революции», под знаком которой прошло целое десятилетие — последнее десятилетие жизни Мао (1966—1976). Смысл этого социального эксперимента сводился к стремлению Мао посчитаться с помешавшей ему и поставившей под сомнение его действия партией, что и привело к погромам партийных органов, аппарата
Борисов О. Б., Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения. 1945—1970. — М., 1971; Новейшая история Китая. 1917—1970. — М., 1972; Переосмысление социализма в Китае. — М., 1996; Васильев JI. С. История Востока. В 2-х т. — М., 1993; Галенович Ю. М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории советско-китайских отношений. В 2-х т. — Т. 2 (в 2-х кн.). СССР и КНР (1949—1991 гг.). — М., 1992; Пивоварова Э. П. Строительство социализма со спецификой Китая: Поиск пути. — М., 1992; Китайская культура 20—40-х годов и современность. — М., 1993; Традиции в общественно-политической жизни и политической культуре Китая. — М., 1994; Степанов Е. Д. Пограничная политика в системе внешнеполитических приоритетов КНР (1949—1994 гг.). — М., 1996; Салицкий А. И. КНР и Гонконг: экономические связи в послевоенный период. — М., 1998; Непомнин О. Е., Меньшиков В. Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. — М., 1999; Россия и Китай: уроки реформ. — М., 2000; Делюсин Л. Китай: полвека — две эпохи. — М., 2001.
власти и всей интеллигенции страны отрядами красногвардейцев-хунвэйбинов. Хунвэйбины свято верили в обожествленного ими вождя и беспрекословно исполняли его указания, сводившиеся в конечном счете к главному: «Открыть огонь по штабам!»
Культурная революция дорого обошлась стране и довела экономику КНР до предкризисного состояния. Неудивительно, что после смерти Мао встал вопрос о дальнейшем пути развития. Эксперименты Мао явственно продемонстрировали, что жесткая (сталинская в своей основе) модель социалистического строительства не дает желаемых результатов. Напротив, она оказывается деструктивной. Ее установки выключают созидательную энергию незаинтересованных в плодах своего труда работников и принижают значимость знаний, опыта, высокой творческой квалификации, сконцентрированных в образованных слоях населения. Перед преемниками Мао в 1976—1977 гг. во весь рост встала острая жизненная проблема: как выйти из созданного экспериментами тупика, восстановить заинтересованность работника в плодах своего труда и обратить его творческую энергию на благо страны и народа? Выход был найден на путях решительной перестройки всей созданной Мао структуры общественных отношений. Как конкретно это выглядело?
Сегодняшнее более чем миллиардное население страны отчетливо делит свою историю на два различных этапа — до третьего пленума и после него. Третий пленум (декабрь 1978 г.) был той гранью, за которой остались эксперименты Мао, а с ними и вся жесткая сталинская модель существования. Реформы, санкционированные этим пленумом ЦК КПК, положили начало принципиально новым формам бытия и всей системе общественных отношений в огромной стране, измученной десятилетиями не прекращающихся войн, революций и экспериментов. Суть этих реформ до удивления проста, даже банальна: был открыт путь к возвращению заинтересованности труженика в плодах своего труда, для чего были ликвидированы коммуны (китайские колхозы), а земля отдана крестьянам. В стране возникли тысячи, десятки тысяч рынков, коммерция была официально легализована.
Что касается города и промышленности, то здесь были сильно ограничены роль государственного плана и централизованного регулирования, созданы возможности для развития кооперативно-коллективного и индивидуального секторов деловой активности и изменена вся система административных связей, финансирования, оптовой продажи и т. п. Директорам государственных предприятий предоставлялись невиданные ранее широкие права и возможности, включая право организации на свой страх и риск дополнительных производств и свободной продажи внеплановой продукции, даже с самостоятельным выходом на внешний рынок, право свободного определения цен на сверхплановую продукцию, право выпуска акций и свободных займов в целях расширения сверхпланового производства и т. д.
Реформы были радикальными и осуществлялись быстро и решительно, для чего первые три года (1979—1981) были объявлены годами реконструкции, а плановые задания на эти годы были сняты либо пересмотрены. Были резко уменьшены ассигнования на военные нужды, а затем заметно сокращена армия, не говоря уже о том, что армейским частям и военной промыш
ленности было вменено в обязанность всемерно содействовать перестройке экономики страны. Были существенно ограничены права и полномочия административных органов, включая и партийные комитеты. Несколько позже было уделено внимание проблемам демократизации жизни общества, необходимым для этого изменениям в системе права, в привычной для однопартийных структур избирательной процедуре.
Результаты реформ сказались столь быстро, что это удивило весь мир. Резко возросло производство продовольствия: к 1984 г. страна вышла на уровень 400 млн т. зерна в год, что вполне достаточно для обеспечения ее гигантского населения необходимым минимумом питания. Активность трудолюбивого китайского крестьянства привела к резкому повышению его благосостояния: за годы после реформы средний жизненный стандарт вырос (если учитывать доход на душу) в два-три раза. И хотя неизбежная в условиях резкого роста рыночного хозяйства инфляция съела часть этого выигрыша, значительная доля его все же осталась и продолжает возрастать. Нечто подобное, хотя и более замедленными темпами, происходит и в китайском городе, где бурное развитие частного и коллективного — приватизированного — секторов хозяйства радикально изменило образ жизни людей, особенно в сфере обслуживания.
Соответственно сильно видоизменилась и социальная структура общества. В стране оформились слои зажиточных крестьян и горожан, работающих на рынок. Промышленность в значительной мере тоже обратилась лицом к внутреннему рынку, о чем, в частности, свидетельствует переход автотракторного и автомобильного производства к изготовлению многих сотен тысяч мелких тракторов и грузовичков, приобретаемых в собственность, обеспечивающих механизацию работ на полях и регулярное снабжение городов производимой в деревне продукцией.
Ликвидация громоздких и экономически не заинтересованных в плодах своего труда многочисленных посреднических организаций, служб и контор привела к налаживанию прямых связей между заинтересованными сторонами на рыночной и договорной основе. Изменился и общий стандарт поведения людей: отбросив скованные доктриной принципы жизни, они стали свободнее, у них появились личные вкусы, предпочтения, что повело к изменениям в одежде (куда делась униформа времен Мао?), поведении, образе мышления, в стремлении создать основы гражданского общества и правового государства.
Конечно, на пути реформ были и препятствия. Сопротивлялся привыкший к власти партийный аппарат. Давали о себе знать негативные явления, вызванные к жизни рыночным хозяйством (злоупотребления властью, коррупция, контрабанда, инфляция, социальная напряженность во взаимоотношениях между бедными и преуспевающими, особенно в деревне, и т. п.). Однако на фоне несомненных успехов и неслыханных темпов экономического роста (до 12—18 % в год, а то и выше) все эти негативные явления оставались лишь досадными издержками развития, что и признавалось официально на очередных партийных съездах или сессиях китайского парламента. Съезды и сессии полностью и безоговорочно поддерживали взятый Дэн Сяопином и во многом успешно осуществленный благодаря его руководству курс на реформу.
Идеологически этот курс был обоснован официальным признанием того несомненного факта, что Китай являет собой отсталую развивающуюся страну и что говорить о серьезном строительстве социализма в таком обществе еще рано. Пока Китай находится на начальном этапе строительства социализма, причем социализма китайского типа. Считалось, что именно этому соответствует избранная страной теперь модель развития со значительным включением элементов рыночного хозяйства и даже частнопредпринимательской деятельности, не говоря уже о весьма существенной роли приватизированного сектора, работающего, прежде всего, на свободный рынок, функционирующий на конкурентной основе.
К концу 80-х гг. реформы в Китае привели страну к внушительным успехам. Достижения преображающейся Поднебесной измеряются не столько миллионами тонн или штук той или иной продукции, сколько принципиально новым образом жизни людей, их раскованностью и устремленностью вперед, желанием приложить свои усилия ради общей и зримой для всех пользы, ради укрепления быстро развивающейся экономики Китая, ради будущего страны, наконец-то освободившейся от дурмана тотальной индок-тринации и уверенно идущей к лучшему.
Все это проявилось и в уровне жизни людей, и в их внутренней уверенности в себе, и в их отношении к труду. При этом то лучшее, что вышло в Китае на передний план, во многом опиралось на оживившиеся традиции, включая тысячелетиями воспитанную культуру труда — труда заинтересованного, оплаченного, приносящего пользу себе и другим, в конечном счете всем. Сыграли свою роль и привычное, воспитанное конфуцианством отношение к жизни, стремление к достижению социальной гармонии, зависящей от усилий каждого, от постоянного движения вперед и самоусовершенствования человека.
Успехи Китая в десятилетие реформ были обусловлены многими причинами. Не исчезли, не были уничтожены экспериментами Мао навыки производительного труда, хотя для этого Мао приложил немало усилий. Сказались века и тысячелетия традиции, что проявилось и в том, как отнесся крестьянин к возвращенной ему земле. Сыграло свою роль сохранившееся в 900-миллионном крестьянстве отношение к труду. Даже безжалостный разгром противников Мао из штабов, т. е. китайской административной бюрократии, сыграл, как это ни парадоксально, позитивную роль: было резко ослаблено сопротивление реформам, так что Дэн Сяопину оказалось сравнительно несложно одолеть сопротивление огромного, но напуганного и измордованного хунвэйбинами отряда китайской партийной и административной бюрократии.
Словом, осуществленная в Китае перестройка экономики оказалась не просто удачным экспериментом. Она стала спасением для Китая, чья судьба в XX в. была крайне драматичной. Однако взятые страной на рубеже 70—80-х гг. быстрые темпы реформы неожиданно привели ее руководство к проблемам, с которыми справиться оказалось не так-то легко. Но это были проблемы уже не столько экономического, сколько социально-политического и, как следствие, идеологического характера, и в попытке их решения руководство страны начало на рубеже 80—90-х гг. буксовать, даже пятиться назад. В чем же причины, суть дела?
Убедившись в том, что экономические принципы марксистского социализма с его отрицанием частной собственности и лишением людей заинтересованности в труде ведут в тупик, — а это наглядно и неоспоримо проявилось в ходе гигантских социальных экспериментов Мао, начиная с «большого скачка» 1958 г., — руководство страны вынуждено было предпринять радикальные реформы с тем, чтобы возродить интерес людей к труду, к его результатам. В этом и была суть реформ, наделивших крестьян собственными участками земли и предоставивших возможность каждому завести собственное дело или принять участие в работе приватизированного предприятия, основанного на так называемой коллективной собственности и получившего права юридического лица.
Реформа быстро дала необходимый эффект, особенно в деревне. Но реализация ее означала крах маоистского, а по большому счету — марксистско-социалистического режима в Китае. Практически Китай достаточно быстрыми темпами возвращался к тем отношениям, которые в нем господствовали до Мао. Структура такого рода уже не раз характеризовалась в предшествующих главах применительно к разным странам и даже в разное время (XIX и XX вв.). Это была переходная структура, которая хранила в себе мощный пласт традиционных форм хозяйства, основанных на привычной восточнодеспотической командно-административной системе отношений с существенной ролью государственного сектора в экономике, и которая в то же время была уже хорошо знакома с рыночно-частнособственническим хозяйством. Возникла она в Китае еще в конце XIX в. и благополучно просуществовала, пережив ряд модификаций, до середины XX в., когда и начала гнуться и ломаться под нажимом экспериментов Мао, целью которых было изжить в этой структуре рыночно-частнособственнический пласт, оставив лишь модернизованный в сталинском духе традиционный восточно-деспотический.
Крах экспериментов «великого кормчего» и всей сталинской модели в ее китайско-маоистской интерпретации как раз и означал возврат к смешанной домаоистской структуре, хорошо знакомой массе переживших маоизм китайских тружеников. Возврат, собственно, и обеспечил тот экономический эффект, которому не устают удивляться наблюдатели со стороны: измученный десятилетиями бесплодного труда на обезличенных огосударствленных предприятиях в городе и деревне китайский труженик с охотой взялся за производительный труд на себя. Но у импульса, о котором идет речь, были свои естественные пределы действия, причем очень скоро стало ясно, что пределы уже достигнуты.
Речь о том, что при смешанной экономике с преобладающими еще государственным сектором и командно-административной системой нет условий для подлинного расцвета рынка. И отнюдь не только потому, что в Китае нет демократических свобод. Такого рода свобод долгие десятилетия не было и на Тайване, они вообще не свойственны традиционной китайской культуре.
На Тайване после 1949 г. была достаточно деспотическая власть, по сути та же традиционная командно-административная система. Но коренным отличием ее от пекинской было то, что эта власть — наподобие, скажем, современной турецкой — изначально ориентировалась на еврокапиталистичес-
кую модель и потому активно поддерживала процесс становления частного капитала, собственности, предпринимательства.
Пекинские же власти в ходе реформ после Мао не могли себе позволить открыто взять курс на капитализм, даже если бы захотели. С 1989 г. они отчетливо видели не внушающий оптимизма пример СССР, вступившего на путь структурной перестройки и быстрыми темпами обретавшего состояние нестабильности. Впрочем они и до этого вполне адекватно ощущали, что любое послабление в сфере социально-политической и идеологической, любая уступка требующим демократических реформ студентам и интеллигентам означали бы не просто дестабилизацию жесткой коммунистической структуры, но и быстрый развал страны. Не забывали они и об ответственности, которую каждый из причастных к власти после этого должен был бы нести.
Собственно, к этому и сводится основная проблема развития страны после успешной реформы и убедительно проявивших себя первых ее результатов. Все дело в том, что у экономического развития по рыночно-частнособственническому пути есть своя жесткая внутренняя логика. Цены отпущены, значительная часть ресурсов и предприятий приватизирована, рынок заработал и набирает обороты, раскручивающие гигантский механизм, который грозит серьезными осложнениями.
Любому специалисту понятно, что сколько-нибудь развитый рынок несовместим с авторитарным режимом и с командно-административными формами контроля над страной. Всюду, где упомянутый рыночный механизм раскручивался, командно-административные структуры, до того энергично и целенаправленно его поддерживавшие, должны были уйти, сойти с политической сцены. Так было на Тайване, в Южной Корее, в известной мере в Турции (где, впрочем, по сей день армия выступает гарантом «светскости» государства). Необычность Китая в том, что механизм раскрутился, а представляющие командно-административную структуру коммунистические руководители уходить не хотели, да и не могли. В результате возник эффект перегретого котла, вот-вот готового взорваться.
Стоит напомнить читателю, что «перегрев экономики» как термин вошел в официальную лексику Китая еще в сер. 80-х гг. И он вполне соответствовал реалиям. Экономика развивалась быстрыми темпами, а административно-политическая структура за ними не поспевала. Создавалась явственная ситуация перенапряжения, рождавшая эффект массового дискомфорта. Производители напирали, управители с трудом сдерживали напор, а отражавшая интеллектуальный потенциал нации интеллигенция начинала все громче требовать демократизации, что на практике означало завуалированные требования к коммунистическому руководству уйти от власти.
Требования эти в конце 80-х гг. звучали год от года все громче, причем к ним прислушивались влиятельные лица в руководстве, включая генсека КПК Ху Яобана и сменившего его на этом посту Чжао Цзыяна. Беда была в том, что у обоих генсеков не было той власти, что в других коммунистических странах обычно бывала у генеральных секретарей правящей партии. В Китае реальная власть продолжала оставаться в руках формально отошедшего от нее архитектора реформ Дэн Сяопина. И именно к нему, к Дэну, апел
лировали недовольные партаппаратчики, вполне справедливо видевшие в возможных уступках демократическому напору начало конца режима.
Дэн Сяопин, насколько можно понять по ситуации, достаточно долго колебался. Он не мог не сознавать, что требование политических реформ разумно и справедливо, что без них, т. е. без приведения политической, социальной, правовой структуры общества в соответствие с энергичным движением по рыночно-частнособственническому пути, упомянутое движение застопорится, а «перегрев» внутри страны будет способствовать стагнации. Но он не менее четко сознавал — имея к тому же перед глазами то, что происходило в конце 80-х гг. в СССР и Восточной Европе, — что согласие на радикальные политические реформы быстро приведет режим к краху с непредсказуемыми последствиями для страны.
Выбор между Сциллой и Харибдой был сделан в пользу меньшего, как его понимали коммунистические руководители Китая, зла. Демократическое движение студентов, выплеснувшееся летом 1989 г. на улицы и площади Пекина, было раздавлено проехавшимися по живому на площади Тяньаньмынь танками. Студентов вернули в вузы на идеологическое перевоспитание. Снова подняли голову махровые коммунистические реакционеры. Главным козырем обвинителей стали упреки демократам в том, что они — сторонники буржуазного либерализма, какими они в действительности и были. Стоит заметить, что сам этот термин, будучи использован в соответствующем контексте, стал в Китае на рубеже 90-х гг. не только идеологическим клеймом, но прямо-таки чем-то вроде ругательства.
Экономика Китая после 1989 г. продолжала развиваться, хотя и более сдержанными темпами. Все чаще сталкивалось это развитие с невидимыми преградами и очевидным противодействием, связанным с сохранением правящей однопартийной структуры и административно-командного режима, отнюдь не отказавшихся от своих лозунгов и принципов. Более того, требование сохранения и усовершенствования «социализма с китайской спецификой» стало привычной нормой официальной лексики, как целиком сохранилась и соответствующая этой лексике манера поведения правящих верхов. А после крушения СССР коммунистические верхи явно с облегчением вздохнули, поздравляя друг друга с их выбором в 1989 г. Впрочем, уже весной 1992 г. все тот же неутомимый Дэн Сяопин снова повернул руль в сторону продолжения радикальных реформ.
Совершенно очевидно, что об успехах в движении по пути марксистского социализма не может быть и речи. Что же тогда такое «социализм с китайской спецификой»? Сегодня Китай в пути. Конечно, путь может продлиться еще долго, но он уже совершенно определен. Это путь, давно уже реализованный передовыми странами Дальнего Востока с его конфуцианскими цивилизационными ценностями, установками и традиционной моделью поведения. Это путь Японии и Тайваня, Южной Кореи и Сингапура. И разговоры о «социализме с китайской спецификой» в этой связи не более, чем камуфляж. Смысл же лозунга в том, чтобы выиграть время и предотвратить взрывной процесс, что так наглядно проявил себя в ходе детоталитаризации иных марксистско-социалистических режимов, прежде всего СССР.
ГЛАВА 9
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ
(В. В. Седнев)
Эволюция идеологических установок китайского руководства: от Мао Цзэдуна до Дэн Сяопина
Эволюция идеологических установок китайского руководства: от Мао Цзедуна до Дэн Сяопина
Успехи и проблемы современного Китая
Развитие экономической системы Китая
КПК в новых условиях и концепция «трех представительств » Цзян Цзэминя «Сяокан»: от утопии к реальности Китайская цивилизация в условиях глобализации Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — альтернатива однополярному миру?
Попытка классификации, или общее и особенное в китайской специфике
На фоне важнейших событий XX века, и особенно крупнейшей социально-экономической катастрофы — распада Советского Союза и последовавшего за ним острого системного кризиса, — переживаемого практически всеми без исключения постсоветскими государствами, упадка их экономики, культуры, науки, образования и других сфер, представляется актуальным взглянуть на современный Китай.
В принципе, анализируя кризисные процессы, происходящие в постсоветских государствах, трудно не прийти к парадоксальной, на первый взгляд, и одновременно простой мысли о том, что огромное пространство бывшего СССР оказалось между двух главных полюсов современного прогресса: трансатлантического и неоконфуцианского. Первому из них, традиционно именуемому Западом, посвящено огромное количество научных работ, причем создается впечатление, что среди политиков и ученых существует некий общий знаменатель для оценки событий и явлений. И наоборот, изучение проблем Азии представлено совершенно недостаточно, результатом чего является полное непонимание или искаженная оценка процессов, происходящих в этом важнейшем с точки зрения будущего регионе. Восполнение этого пробела необходимо, тем более, что у нас с этими странами гораздо больше общего, нежели со странами, принадлежащими к трансатлантической
цивилизации.
Свою ориентацию на Запад и желание перенять его социально-экономическую модель сразу выявили большинство руководителей новых государств, возникших на руинах СССР. Эйфория начала и первой половины 90-х гг., связанная с быстрой либерализацией экономики и псевдодемократизацией, привела к созданию совершенно нежизнеспособных режимов, стабильность которых гарантировалась исключительно невмешательством внешних сил. В основе их неспособности решать насущные задачи общества как раз и лежит несоответствие национальным реалиям механистически позаимствованной извне модели реформ. Когда же подобные режимы изживают себя, население с огромных энтузиазмом расстается с ними.
В этом свете полезно рассмотреть, каким образом достигались успехи в странах конфуцианского пояса Азии, в частности в Китае. То есть там, где ставка была сделана на синтез собственных национальных традиций и достижений современного прогресса (прежде всего в области высоких технологий и менеджмента) Запада. Пример Китая представляется наиболее интересным и поучительным — как сумевшего кардинально измениться в течение последнего тридцатилетия в результате решительной замены идеологических установок и парадигмы развития. Тоталитарный Китай Мао Цзэдуна постепенно трансформировался в авторитарный, но экономически успешный Китай Дэн Сяопина, «генерального конструктора» китайских реформ. Эту тенденцию удалось сохранить и при последующих поколениях под руководством Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, которых в Китае называют «третьим» и «четвертым» поколением руководства.
Начиная реформы, в процессе «китаизации» идей социализма Дэн Сяопин активно дополнил свою теорию социально-этическими идеями Конфуция (о доверии и взаимном долге между верхами и низами, почитании старших, важности заботы о благоденствии народа, дисциплине, справедливости и т. д.). Не случайно ближайшая цель реформ определена конфуцианским термином сяо-кан — достижение «малого благоденствия», среднего достатка. Ныне официальная линия КПК также исходит из преемственности между марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина. Сейчас в пантеон героев входит и Цзян Цзэминь с его теорией «трех представительств».
Учитывая то, какое огромное влияние имело в Китае «го» — государство, неудивительно, что общим для Мао и Дэна является упор на активную регулирующую роль государства, прежде всего в политической сфере — обеспечение стабильности, отведение особой роли КПК и Народно-освободительной армии Китая как гарантам устойчивости внутреннего положения страны. В «новодемократизме» Мао Цзэдуна 40-х гг. (так же как и в теории Дэна) зрелый социализм — отдаленная перспектива. Зато актуальная реальность — длительное сосуществование национально-капиталистических и социалистических элементов в социуме, многоукладность экономики, сосуществование и взаимодополнение различных форм собственности, от государственной и коллективной до частной, включая собственность иностранного капитала. Вообще китайцы создали сложную систему классификации форм собственности, о чем стоит поговорить отдельно.
Общим для Мао и Дэна было то, что упор делался на социализм как безальтернативный выбор. Обе концепции исходят из возможности и историче
ской необходимости построения в Китае социалистического общества как строя, который позволит вырваться из пут отсталости и нищеты и создать современное, могучее процветающее государство. В этом смысле и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин исходили из марксистской теории последовательно-исторической смены экономических формаций и конечной победы социализма. «Только социализм может спасти Китай, только следуя по пути социализма, Китай сможет развиваться» 1 — таков общий пафос их концепций.
Дэн сделал шаг вперед по сравнению с Мао, соединив идеалы социализма с традиционными идеями конфуцианства и просвещенного национализма Сунь Ят-сена о справедливом обществе всеобщего благоденствия. В настоящее время эта стратегия развития Китая выступает в виде привлекательной общенациональной идеи возрождения и процветания Китая, способной консолидировать и мобилизовать население Поднебесной, включая национальные меньшинства, и этнических китайцев, живущих в разных странах мира, на решение главной задачи — построения Великого Китая путем модернизации страны. Это объединяет взгляды Мао и Дэна, но в них немало различий.
В реализации социалистических идеалов Мао Цзэдун видел путь к обеспечению прежде всего экономического и военного могущества страны, возможность осуществления глобальных планов мировой революции. Отсюда вытекает и главный методологический порок маоистской концепции социализма 50—70 гг.: волюнтаризм и пренебрежение экономическими предпосылками строительства нового общества, интересами благосостояния народа. «Перевоспитанному» Дэн Сяопину (его дважды за ошибочные взгляды снимали с высоких постов и ссылали в деревню на перевоспитание трудом) удалось отбросить этот порок «идей Мао» и с самого начала второго этапа своей политической деятельности (с конца 70-х гг.) твердо отстаивать необходимость трезвого учета экономических условий, из которых следует исходить в строительстве социализма в Китае. И хотя и Мао, и Дэн говорили о необходимости развития прежде всего производительных сил общества, об их «освобождении», понимали они сущность развития диаметрально противоположно.
Для Мао Цзэдуна это — политика насильственно-волюнтаристского, волевого, административно-командного принуждения населения к труду, политика «ударного труда» и «больших скачков», воплощенная в лозунге: «Строить социализм по принципу: больше, быстрее, лучше и экономнее». Иначе говоря, это — казарменный социализм. Очевидно, здесь позиции Мао очень близки к взглядам Троцкого. Для Дэн Сяопина строительство социализма представляет собой длительный, прежде всего экономический процесс развития материального производства, ибо только он может обеспечить реализацию социалистических идеалов. Отсюда и разница в оценке главных факторов построения нового общества.
1 Программа изучения теории Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской спецификой. — Пекин, 1995. — С. 16 (на кит. яз.).
По Мао — это народ, интересами которого явно пренебрегают ради великой, но весьма отдаленной цели — построения могучей страны на социалистических началах в ближайшее время, как их понимал Мао Цзэдун (аналогия с СССР времен Н.С. Хрущева — построение коммунизма через 20 лет). По Дэну — высокий уровень развития экономики и благосостояния народа как главная цель и условие построения нового общества (по аналогии с СССР — то, что провозглашалось, но отнюдь не реализовывалось). И здесь очевидно проявляется большая адекватность концепции Дэна китайской реальности, нежели это было у Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун при всей своей «ки-тайскости» немало позаимствовал у Сталина. Ему явно импонировала сталинская формула «уничтожения враждебных классов путем ожесточенной классовой борьбы пролетариата»
Например, он принимал сталинское понимание строительства социализма как процесса, которому сопутствует обострение классовой борьбы между силами социализма и его противниками, что требует усиления карательных, принудительных функций государства, причем принуждение он рассматривал как его главную функцию. Попутно заметим, что Мао в известном смысле повезло гораздо больше, чем Сталину. После смерти первого у его преемников, несмотря на все обиды, хватило государственной мудрости публично не хаять его деяния и, заявив о полной преемственности его линии, развернуть курс социально-экономического развития Китая на 180 градусов. Сталинские же наследники, свергнув его с пьедестала, так и не сумели найти модель развития, отвечающую специфике страны.
То, что у нас не нашлось своего Дэн Сяопина, имело далеко идущие последствия в последующем развитии событий. Советская перестройка потерпела сокрушительное фиаско не только потому, что ее «заболтали», но прежде всего потому, что у нее не было четких стратегических целей и средств их достижения. На наш взгляд, главная заслуга Дэн Сяопина в том, что он от деклараций перешел прямо к делу, действуя методом проб и ошибок (вспомним: «переходить реку, нащупывая камни»), переместил центр тяжести работы и ответственности государства с бесперспективной классовой борьбы внутри общества, об обострении которой вслед за Сталиным повторял Мао, на экономическое строительство. Развитие экономики и экономический аспект политики были поставлены во главу угла всей государственной деятельности. Именно поэтому Дэн решительно отбросил суть концепции Мао Цзэдуна: «Политика — командная сила», «Идеологическую работу на первое место». На смену им пришел сугубо прагматический подход к оценке факторов и участников процесса социалистического строительства (тезис о «кошках и мышах»). Это — серьезный отход от социальной теории Мао и ее идеологических параметров.
Мао Цзэдун и Дэн Сяопин по-разному оценивали капитализм как формацию, факторы его жизнеспособности и отношения между капитализмом и социализмом. Порой эти различия носили принципиальный характер. Например, в отличие от Мао и теоретиков советского социализма, по Дэн Сяо
1 Сталин И. Вопросы ленинизма. — М., 1947. — С. 229.
пину, капитализм вовсе не загнивает. Современному читателю этот постулат кажется почти аксиомой, а тогда это была полная ересь! И взгляды Дэна активно критиковали на протяжении первой половины 80-х гг., пока не стало ясно, что новый курс пользуется мощной поддержкой населения, потому что приносит конкретный результат.
Дэн совершенно правильно считал, что социализму еще только предстоит доказать свои преимущества по сравнению с капитализмом, поскольку реально существующего социализма еще никто не видел ’. Имеется в виду общество, которое бы не только декларировало высокие цели, но и было бы в состоянии их реализовать. Социализм должен учиться хозяйствовать у капитализма, учиться развивать производство и коммерциализировать науку и технику. Согласно Дэн Сяопину, ни плановость, ни рыночное производство не являются определяющими характеристиками, отличающими социализм и капитализм.
Главный порок капитализма Дэн видел в имущественной поляризации общества, а главное достоинство социализма — в его способности, пусть не сразу, но постепенно обеспечить всеобщее благоденствие и резко снизить уровень бедности в стране. Не стоит забывать, что для Китая с его многочисленным, бедным, преимущественно сельским населением это вопрос жизни и смерти. Ведь к началу реформ Китай представлял собой огромную страну с многочисленным, нищим и озлобленным населением. Нужно было дать людям шанс на лучшую жизнь. Еще ни одна реформа подобного масштаба не была успешной, потому что необходима была массовая поддержка.
Для Мао Цзэдуна же капитализм — пройденный этап истории человечества, а социализм — ближайшее завтра («Три года упорного труда — 10 тысяч лет счастливой жизни», «большой скачок», «классовая борьба как главное звено», «культурная революция» как средство сказочно быстро построить социализм и коммунизм).
Показательно, что у Дэна уже не находим ничего подобного. В соответствии с теорией Дэн Сяопина о социализме с китайской спецификой, Китай находится на начальном этапе социализма. Только в ходе длительного сосуществования и сотрудничества в рамках одной страны социалистических и капиталистических форм собственности (при руководящей роли общественной собственности в экономике, а КПК — в политической сфере) в течение десятков поколений будет построен социализм — общество всеобщего благоденствия.
Главная задача деятельности партии и государства — развитие производительных сил, основной и неизменный в течение, как минимум, ста лет (!)
1 Здесь стоит заметить, что то общество, которое существовало в СССР, социалистическим по сути не являлось. См. работы А. А. Зиновьева, А. И. Солженицына, Вселенского. В лучшем случае, тот социальный феномен, что возник в СССР, можно назвать неудачной в целом попыткой воплотить идеи социального равенства. Представляется, гораздо больше оснований считать социалистическими такие страны, как Германия, Канада или Швеция, где существуют социально ориентированные рыночные экономики и обеспечиваются высокие социальные стандарты. Но остается открытым пока вопрос, сможет ли страна с низкого старта добиться подобных результатов.
политический курс — осуществление реформ и политики открытости внешнему миру. Главная угроза страны — не классовый враг внутри и вовне, а собственная экономическая и культурная отсталость. Поэтому главная опасность — не правый уклон, а левый, сползание к «классовой борьбе», пренебрежение экономикой, интересами простых людей.
Дэн Сяопин не менее решительно отбросил тезис Мао о пользе бедности народа как факторе революционизации нового общества, его попытки свести принципы социализма к уравниловке. В те годы символом Китая была пресловутая «железная миска риса». Дэн утверждает: «Социализм — это не бедность», — в полном противоречии с тезисом Мао об уравнительно-казарменной сути социализма, о равенстве в бедности. Дэн восстановил в правах материальные стимулы труда и принцип «оплаты по труду», допуская фактическое имущественное неравенство при социализме, против чего решительно выступал Мао Цзэдун. Таким образом, Дэн Сяопин отверг левацкие установки Мао Цзэдуна в теории социализма *. Перенесение Дэн Сяопином центра приложения усилий по строительству социализма в сферу экономики обусловило и его концепцию «глобальной реформы» китайского общества, суть которой составляет курс на социалистическую модернизацию и открытость внешнему миру. Это, очевидно, самый важный тезис концепции «строительства социализма с китайской спецификой» Дэн Сяопина. Его, безусловно, можно оценить как крупное теоретическое достижение. Оно принципиально отличается от заидеологизированного подхода Мао Цзэдуна к вопросам экономического развития, а тем более политических отношений со странами внешнего мира. Новый подход к внешнеэкономическому сотрудничеству Китая, как одному из условий выхода страны из экономической отсталости, Дэн Сяопин аргументировал принципиально новым для КПК взглядом на проблему внешних связей. «Ни одна страна не может развиваться в условиях изолированности и замкнутости, — говорил Дэн в беседе с вице-президентом Объединенной Республики Танзания А. X. Мвиньи в 1985 г., — не усиливая международных связей, не используя передовой опыт, достижения передовой науки и техники развитых стран, их капитал. Расширение внутренних сношений означает реформу, притом глобальную реформу, которая включает не только экономику и политику, но и науку и технику, образование и все другие сферы» 1 2.
Очевидно, что Дэн Сяопином заблаговременно была верно схвачена глобалистская суть современного мирового развития. Предвидя опасность привнесения (вследствие бесконтрольного «допущения» капитализма в Китае) негативных моментов в социальную и духовную жизнь страны, он же определил и механизмы нейтрализации этих «вредных последствий». Элементами этих механизмов должны быть воздействие мощной государственной машины и КПК (которые ни при каких условиях нельзя ослаблять, об опас
1 См.: Титаренко М. Л. Китай: Цивилизация и реформы. — М., 1999. — С. 110—111.
2 Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой. — М., 1997. — С. 247.
ности этого много писал Дэн Сяопин), а также строительство высокодуховной цивилизации на национальном фундаменте *.
Политические аспекты взглядов Дэн Сяопина на китайский социализм в меньшей степени отличаются от концепции Мао Цзэдуна. Отличия заключаются главным образом в осторожной и постепенной либерализации политической и духовной жизни Китая по мере роста жизненных стандартов населения и формирования структур, «адекватных интересам общественного развития». Если расшифровать эту формулировку, речь идет о жестком контроле над НПО, СМИ, кино- и телепродукцией, контролем в Интернете, чтобы сохранять безальтернативность КПК. Последовательно рассматривая как неподходящие для Китая западные нормы демократии и «прав человека», Дэн Сяопин настаивал на исторической обусловленности китайского, национально-традиционного понимания этих ценностей — «народной демократии» и «прав народа». Такая линия выдерживается и поныне. Со временем мир, очевидно, увидит еще альтернативный западному концепт развития, сконструированный за пределами проживания «западного миллиарда». Как ни странно это может показаться, многое может быть позаимствовано из концептуальных подходов Ли Куан Ю, который имеет репутацию «человека, который никогда не ошибается» 1 2. Компоненты политической системы, по мысли китайских теоретиков, должны развиваться и реформироваться в соответствии с потребностями углубления реформ. Утверждается курс на сотрудничество различных партий при руководящей роли КПК. В Китае, пока во всяком случае, отвергают принцип разделения властей, настаивая на необходимости для КНР института собраний народных представителей на основе «народной демократии, осуществляемой под руководством Компартии» 3. Как видим, принципиальных отличий от взглядов Мао Цзэдуна 50-х гг. здесь нет. В данном случае не имеется в виду теория и практика «культурной революции», которая была полностью отброшена Дэн Сяопином.
Итак, хотя взгляды Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина на социализм и методологически, и теоретически содержат серьезные различия, оба вождя Китая были великими социальными экспериментаторами. Оба ставили задачу построения процветающего, мощного Китая. Дело продолжил «великий коротышка» и другими методами добился впечатляющих успехов на пути к цели.
1 On Reform of the Political Structure (September—November 1986). Selected Works of Deng^Xiaoping. — Volume HI (1982—1992). — Beijing. Foreign Languages Press. — P. 178—180.
2 См. недавно переведенную на русский язык книгу этого легендарного политического деятеля, создателя государства Сингапур, мысли и опыт которого интересны как для теоретиков, так и для практиков государственного строительства. Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что люди, вершащие у нас политику, с ней не знакомы. Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира» — в «первый» (1965—2000).
J Дэн Сяопин — великий человек столетия. — Пекин, 1997. — С. 395—398 (на кит. языке).
Успехи и проблемы современного Китая
Стремительный рост китайской экономики за последние 25 лет обеспечил ей важное место в мировом хозяйстве. Среднегодовой прирост ВВП в последние 27 лет с начала реформ составлял 9,3 %, что значительно выше среднемирового уровня. Большинство китайских и зарубежных экспертов полагают, что в ближайшие 15—25 лет даже при снижении темпов роста ВВП Китая до 9 % в год в 2010 г. эта страна сможет опередить Японию, а в 2020 г. — догнать США. Уже сейчас КНР занимает 1-е место в мире по добыче угля, производству зерновых, цемента, хлопчатобумажных тканей, шелка, хлопка, яиц; 2-е место — по производству мяса, чугуна; 3-е — по производству проката, химического волокна.
Наибольший интерес у современников вызывает тот факт, что Китай бросил вызов времени, поставив задачу к 2020 г. вторично (потому что поставленная на рубеже 80-х гг. при переходе к политике «открытости» аналогичная задача была к концу тысячелетия успешно выполнена) учетверить свой валовый внутренний продукт, и окончательно выбраться из состояния отсталости и бедности.
Ответ на вопрос о причинах китайских успехов, равно как и о дальнейших перспективах развития Китая, живо обсуждается практически повсеместно в мире, что только подтверждает его глобальную значимость. Следует заметить, что в странах, возникших на руинах советской империи, в целом отношение к Китаю двоякое: с одной стороны невозможно полностью замолчать его достижения, с другой — очень сильно сказывается влияние информационно-пропагандистской машины Запада, которая работает на формирование негативного образа Китая. К этому следует добавить практически полное отсутствие китаеведческой научной среды, остатки которой сохраняются только в России, где имеется давняя традиция изучения Китая. А ведь для того, чтобы судить о Китае, необходимо обладать достаточной широтой познаний для того, чтобы судить о предмете исследования. По меткому замечанию академика В. М. Алексеева, «прежде чем быть синологом, надо быть европеологом» *. Сознавая все сложности подобного исследования, попытаемся найти сбалансированные ответы на поставленные вопросы.
Формирование и непрерывное существование на протяжении более чем 5 тысяч лет китайской цивилизации и государственности, чьи культура и литература самой высокой пробы, высочайшее мастерство интенсивного земледелия, сложнейших и тончайших ремесел, наконец, самое многочисленное население в мире, сложившееся в китайскую нацию хань, которая выработала свойство поразительной приспособляемости к различным, порой крайне неблагоприятным условиям, лежат в основе китайского феномена.
На протяжении долгой истории Китая различные воинственные племена и народы — гунны, чжурчжэни, кидани, монголо-татары, маньчжуры — не раз пытались покорить Китай, захватывали всю страну или отдельные ее части. Однако проходило время, иногда довольно значительное, в два-три
1 Алексеев В. М. Наука о Востоке. — М., 1982. — С. 305.
поколения, и завоеватели ассимилировались с китайской культурой, то есть, образно говоря, фактически сами становились даже «большими китайцами», чем сами китайцы. Кстати, именно династия маньчжуров-завоевателей Цин (1644—1911 гг.) внесла решающий вклад в территориальную консолидацию страны в ее нынешних границах и унификацию китайской культуры, ее богатейшего культурно-исторического наследия, издав компендиум китайской культуры в более чем 5 тыс. томов. И в этом также нельзя не увидеть проявления феноменальной жизнестойкости китайской цивилизации и культуры.
Наиболее впечатляющими представляются созидательные проявления китайского духовного гения, демонстрировавшего свою мощь на протяжении многих веков. Здесь — и самая крупная и эффективно действующая в течение нескольких тысячелетий ирригационная система, Великая китайская стена, Великий канал, порох, бумага, книгопечатание, компас, шелк, фарфор, китайская медицина, китайская гимнастика, лечебная дыхательная система «цигун», иероглифическая письменность и двоичная система счета, положенная ныне в основу функционирования всех компьютерных технологий. Все эти достижения легли в основу китайской традиции. По оценкам историков, Китай является первооткрывателем в 73 ключевых областях мировой материальной и духовной культуры. Не стоит забывать, что Китай длительное время сохранял лидерство в мировой науке, поэтому сейчас ставится задача к середине столетия вернуть его.
Китай обогатил мир не только шелком и пряностями, фарфором и архитектурными достижениями, но и оригинальными философскими системами, глубокими познаниями о человеке в самом широком смысле этого понятия. Наука о человеке в Китае ушла далеко вперед по сравнению с другими, в том числе западными, странами. Показательно, что несмотря на презрительное отношение европейских политиков XIX — начала XX вв., твердивших о «застойности» Китая, мода на все китайское охватила Лондон, Париж и Петербург уже в начале XVIII века.
Однако именно оказавшись лицом к лицу с Западом, который уже тогда активно начал навязывать Китаю свои, абсолютно неприемлемые для него правила поведения, Китай испытал наибольший и болезненный шок. Столкнувшись с более передовой, прежде всего в техническом плане, западной системой, Китай, долгие времена пребывавший в полной уверенности в своем превосходстве и исключительности, очутился в критической ситуации. Далее изолироваться от внешнего мира, который громом своих пушек вторгался в китайскую реальность, стало невозможно. Если отбросить все нюансы, можно сказать, что традиционная система династии Цин не смогла тягаться с молодым агрессивным капитализмом Запада, который вступил в эпоху колониальных захватов.
Принципиально важно то, что Китай, даже будучи разделенным (а он неоднократно распадался на несколько частей на протяжении своей длительной истории) на кризисных этапах, всегда продолжал существовать духовно, культурно как самостоятельная цивилизация. Тем более эта мысль подтверждается современным развитием Китая, когда созданы максимально благоприятные условия для его существования как единого, культурно го
могенного пространства. Часто говорят о том, что пока не произойдет воссоединение Тайваня с Китаем, невозможно говорить о едином духовном пространстве. Нам же представляется, что в духовном плане такое пространство уже давно и эффективно действует. Более того, разница взглядов и подходов обеспечивает развитие культурной жизни китайского социума, который не знает границ. Ведь китайцы живут по всему миру. И сохраняя свою идентичность, учатся и берут у мира лучшее *. Несмотря на многолетние кровопролитные гражданские войны между Гоминьданом и КПК, несмотря на агрессию и оккупацию Японией значительной части территории страны, Китай после окончания Второй мировой войны смог выступить как единое и достаточно авторитетное государство, сумел прорвать дипломатическую блокаду и стать на правах великой державы одним из соучредителей ООН и постоянных членов Совета Безопасности. Уже в этом проявилась национальная традиция в самой неблагоприятной ситуации не терять собственное лицо и национальное достоинство, воля к борьбе за отстаивание своих прав и интересов, черты, присущие китайской политической культуре.
После Освобождения (т. е. после 1949 г.) Китай при внушительной политической и материальной поддержке СССР вступил в бурный этап строительства нового общества. В это время в Китае при значительной советской поддержке фактически была создана промышленная основа. Но у китайских руководителей началось «головокружение от успехов» и во второй половине 50-х гг. наметились первые признаки советско-китайских разногласий, которые переросли в открытый вначале межпартийный, а затем и межгосударственный, конфликт. Вина за ухудшение отношений лежит в значительной мере на советском руководстве, не сумевшем в достаточной мере разобраться в китайской специфике. Но и руководство КНР, ставшее жертвой собственных успехов, недооценило значение этого союза и развернуло курс «большого скачка», что быстро привело Китай к экономическому кризису.
Уже на рубеже 50—60 гг. ситуация в партии и в стране значительно осложнилась. Последовало «черное десятилетие» хунвэйбиновских безобразий, конец которым положили бесславный финал «культурной революции», практически совпавший с уходом из жизни Мао Цзэдуна, и приход к власти нового руководства партии и страны во главе с Дэн Сяопином. Именно реалистический с одной стороны, и прагматичный — с другой, подход мудрого Дэн Сяопина к решению кардинальных вопросов жизни китайского общества обеспечили ему практически всенародную поддержку, несмотря на обвинения в «буржуазном» уклоне со стороны критиков, прежде всего в партийных рядах. Этот крутой поворот китайское общество и государство прошли успешно, что обеспечило движение в правильном направлении на долгие годы вперед.
На протяжении последующих десятилетий нищий, экономически рыхлый и, казалось, технически навечно отставший от развитых стран Китай су-
1 о
Здесь нельзя не отметить огромную заслугу хуацяо, которые не только играют роль важного экономического фактора (о чем много написано), но и вносят большую лепту в расширение представлений Китая об окружающем мире. Кроме того, в Китае есть прекрасные ученые, которые с глубоким знанием дела анализируют мировой опыт.
мел выдержать ожесточенное противоборство сначала с США и всем Западом, а затем и с Советским Союзом. Заметим, эта конфронтация Китая с СССР серьезно подорвала жизненные силы Советского Союза и, несомненно, стала одной из причин его распада. Сам же Китай смог собственную слабость превратить в силу, заставив две могущественные ядерные сверхдержавы ожесточенно соперничать за расположение Китая в их мировом противоборстве. Несмотря на ряд ошибок и перегибов, четкое понимание национальных интересов страны, умение в обстановке невероятных жертв, страданий и лишений мобилизовать несметные массы людей на решение масштабных общенациональных задач на всех этапах развития КНР, и при Мао, и при Дэне, позволяло выверять главный ориентир — создание Великого Китая.
Принципиально важным является то, что на рубеже 80-х годов кардинально изменилось отношение к знанию, науке и самой интеллигенции. Дело в том, что остро встал вопрос, как проводить экономические реформы. Нужны были квалифицированные экономисты, а их не было. Новых специалистов не готовили (ведь университеты в период «культурной революции» были закрыты), а старые кадры были напуганы репрессиями и заидеологизированы. Выяснилось, что практически все известные экономисты оказались в селе «на перевоспитании». Западная наука служила лишь объектом критики. Пик интеллектуальной стагнации Китая достиг апогея. Реформаторам во многом пришлось начинать с нуля.
Представляется, что Дэн Сяопин и его команда решили начать с двух мер. Во-первых, отказаться от всех экономических издержек «культурной революции», а во-вторых, срочно заняться подготовкой кадров. Поэтому десятки тысяч молодых китайцев поехали учиться в западные университеты *.
Дискуссии в кругу экономистов начались очень осторожно, с лозунгов «вернуться к настоящему Марксу», «уйти от советской модели». Потом свободы в этом вопросе стало больше. Начали приезжать западные экономисты. Большую роль сыграло Башаньское совещание 1985 г. по вопросам макроэкономической политики, на котором китайские специалисты встретились с известными зарубежными экономистами: лауреатом Нобелевской премии американцем Дж. Тобином, венгром Я. Корнай, поляком В. Брусом. Дискуссии носили свободный и откровенный характер. Встречи проходили на борту судна, которое медленно плыло по Янцзы. Любуясь прекрасными пейзажами и наслаждаясь изысканными блюдами китайской кухни, каждый получил то, что хотел: гости — незабываемые впечатления, китайцы — бесценные знания и мировой опыт из первых рук.
После этого произошло несколько очень важных изменений. Начали открываться новые научные институты и центры экономического профиля. Там серьезно штудировали достижения современной экономической мысли. Исчезла огульная критика взглядов западных экономистов. Наоборот, заговорили о том, что необходимо овладевать всем богатством мировой экономической теории и практики. Исследовалось все, что могло хоть в какой-
1 То, что в Китай возвращается только каждый четвертый из уехавших на учебу за границу, похоже, никого не смущает. Кстати, для тех квалифицированных специалистов, кто вернулся на родину, существует хорошо продуманная система поощрений и льгот.
то степени быть полезным для Китая. Если раньше в Китае считалось, что реформы — это комплекс политических мероприятий, направленных на мобилизацию усилий населения, то теперь стало понятно, что все куда сложнее. Если роль государства в осуществлении реформ дискуссий не вызывала, то в сфере макроэкономики ясности не было. План и рынок рассматривались как два абсолютно равноценных, но не связанных друг с другом понятия. Проблемы рыночной трансформации, считалось на первом этапе реформ, не связаны с контекстом институциональных преобразований. Китайские ученые полагали тогда, что рыночные трансформации можно осуществить, не изменяя системы прав собственности.
Безусловно, сохраняется немало трудностей. На протяжении более чем 2000 лет Китай обладал самым многочисленным населением в мире. В конце 60-х гг. XX в. оно перевалило за миллиард. В феврале 1995 г. в Пекине торжественно отметили рождение 1200-миллионного гражданина КНР. По расчетам китайских экономистов, к концу 2010 г. численность населения Китая должна составлять около 1 миллиарда 400 млн человек. Уже сегодня каждый пятый житель планеты — китаец.
Все эти моменты, связанные с сохранением системы цивилизационных ценностей традиционного восточного общества, а также массовое вторжение в Китай различных проявлений иностранной культуры и морали в условиях политики открытости и широких обменов подвергли серьезному испытанию и давлению адаптационные возможности китайской традиционной культуры. Китайский феномен переживает сегодня отнюдь не простые времена. Не зря учил основоположник даосизма Лао-цзы: «в победе кроется опасность поражения». Система духовно-нравственных ценностей китайцев включает довольно многообразные и разносторонние взгляды, а также модели поведения в межцивилизационных взаимоотношениях. Эти взгляды и поведенческий менталитет основываются на сочетании идей и нравственных норм конфуцианства, даосизма, легизма и буддизма, которые отличаются высокой степенью толерантности и восприимчивости при сохранении своей самобытности и самостоятельности.
Представляется принципиально важным, что любая инородная идея или норма может получить легальное право на существование в рамках китайской духовной культуры и жизненной практики лишь после того, как она пройдет процесс «притирки» и «проверки на соответствие нормам китайской морали и традициям», то есть пройдет горнило китаизации. Конфуцианская установка на изучение всего, что не противоречит принципу гуманности, способствует выполнению долга и полезно для величия государства и его правителя, семьи и отдельного человека, безотказно работает и по сей день. Не менее принципиально и то, что особое место в процессе отбора того, чему следует учиться и как претворять эти новые идеи в жизнь, китайская, и в частности конфуцианская традиция отводит полному и безоговорочному послушанию учителю, высшему государственному авторитету — правителю.
Эти простые истины, как подтвердил многовековой опыт, обладают огромной силой воздействия на массы. Они воплощаются в непререкаемые модели поведения «благородного человека» — цзюнъцзы, обязательные для
любого китайца, где бы он ни жил. Поэтому слишком быстрые темпы изменений в экономике, жизни общества, в семейном укладе и отношениях между людьми вызывают перенапряжение внутри системы китайской культуры, как принято говорить, «перегрев» и «перегрузку» ее адаптационных механизмов. Это порождает защитную реакцию отторжения и возврата к традиционным национальным ценностям. Подобная реакция проявляется особенно четко перед лицом культурной экспансии сторонников полной вестернизации китайской культуры.
Такие явления типичны не только для Китая, но и для других стран. Особенно ярко это можно видеть на примере Ирака, Ирана и других мусульманских стран. Этому способствует и то, что мировые средства массовой коммуникации, находящиеся под контролем Запада, активно навязывают местному населению свои ценности потребительского общества и поведенческие стереотипы, часто весьма далекие или даже вступающие в полное противоречие с их традициями.
Таким образом, китайский цивилизационный феномен в процессе модернизации страны должен пройти это испытание, выдержать давление извне и использовать весь накопленный исторический опыт, задействовав значительный мобилизационный и адаптационно-усваивающий потенциал.
Развитие экономической системы Китая
Экономическое развитие современного Китая уподобляют бесконечной гонке на велосипедах. Этот образ позаимствован из китайской прессы, где речь идет о проблемах китайской экономики. С одной стороны, действительно, успехи неоспоримы. Впервые за последние двести лет своей истории Китай смог обеспечить продуктами и промышленными товарами собственного производства нормальный прожиточный минимум большинства населения. С другой стороны, накопилось множество нерешенных проблем. Экономическое чудо стало для большинства китайцев реальностью, входящей в привычку. Как известно, к хорошему привыкаешь быстро. Население уже приучено к мысли, что завтра его материальное благополучие будет лучше, чем сегодня. Поэтому китайские руководители похожи на велосипедистов, которые не могут, да и просто не имеют права сбавить скорость. Экономика должна расти. Если темп движения замедлится, вся система рухнет, чего допустить никак нельзя. Ведь авторитет правящей в Китае КПК зиждется на экономических достижениях, достигнутых в ходе реформ.
Иногда возникает вопрос: не закончится ли нынешний экономический взлет Китая неминуемым падением, и не уподобится ли КНР бывшему СССР? Финансово-экономический кризис 1997 г. крайне обострил этот вопрос и одновременно в известной мере позволил найти ответ на него. Китай выстоял и смог, опираясь на собственные силы, создать мощный валютный запас, позволивший успешно противостоять ударам финансового кризиса. И это — в условиях серьезнейших, самых крупных в этом столетии наводнений. В ходе упомянутого азиатского финансового кризиса валюты стран Юго-Восточной Азии значительно обесценились, что поставило в сложную ситуацию китайских экспортеров. Если бы при этом еще был бы девальви
рован китайский юань, то трудно представить себе, сколько времени и усилий пришлось бы потратить странам, ставшим жертвами финансового кризиса, чтобы выбраться из него. Страны Юго-Восточной Азии выразили надежду, что Китай сможет помочь им преодолеть кризис. В ответ КНР обещала не девальвировать китайскую валюту жэньминь би — юань. В результате авторитет Китая в регионе значительно вырос. Фактически был сломлен создававшийся там длительное время стереотип Китая как врага.
Запад, прежде всего компании США, Японии, Западной Европы, вложившие десятки и сотни миллиардов долларов в экономику Китая и получающие там сверхприбыли, заинтересованы в его успешном продвижении по пути экономических реформ. Бизнесу нужна стабильность. Поэтому западные инвесторы крайне встревожены перспективой (пока лишь гипотетической) внезапного обострения загнанных вглубь и пока не проявившихся противоречий развития. А таких противоречий немало. Действительно, если рухнет банковская система страны, отягощенная «плохими» кредитами, или произойдет массовое банкротство китайских производителей, что будет с их деньгами? С другой стороны, Западу нужен другой режим, прозападный, желательно слабый и зависимый. Поэтому политика правящих кругов стран Запада по отношению к Китаю и западных компаний, имеющих собственные интересы в КНР, многослойна и нередко противоречива.
Желая сохранить захваченные на рынке Китая позиции, Запад не скрывает своей заинтересованности в смене существующего политического режима или в его постепенной эволюции в направлении «либеральных и общечеловеческих ценностей», что-то вроде того, что происходило с СССР в годы горбачевской перестройки. Существенная и даже принципиальная разница здесь в том, что население Китая уже вкусило реальные плоды реформ, которые можно «пощупать», или, как говорят, «намазать на хлеб». В Советском Союзе же дело ограничилось рассказами о «светлом будущем», которые со временем ничего, кроме раздражения, у людей не вызывали.
Поэтому столкновение интересов уже «вложившихся» в Китай западных компаний и тех, кто опасается усиления мощного конкурента, постоянно ощущается в политике Запада по отношению к Китаю. Именно это заставляет его демонстрировать свою заинтересованность в поддержании стабильного развития Китая по избранному им пути реформ, но не исключает интенсивных попыток навязать Китаю выгодную Западу линию. Яркий пример — требование ревальвировать юань, сделанное на уровне президента США Дж. Буша. Показательна и реакция Китая: президент Ху Цзиньтао пообещал создать группу из числа американских и китайских экспертов «для изучения проблемы». В конечном итоге, китайцы подняли его курс по отношению к доллару. Но всего на 2 %.
Перспективность китайской модели реформ обеспечивается ее соответствием современным прогрессивным тенденциям развития мировой экономики. Их существо состоит в отказе от безоговорочной ориентации на ценности потребительского общества. Главное состоит в том, что укоренение рыночных отношений в национальную почву Китая предусматривает увязку этих отношений с принципами конфуцианской этики, когда достижение личного успеха и личной выгоды сочетается с интересами процветания свое
го Отечества и укрепления престижа своей нации, поиском гармоничного сосуществования традиций и модернизации, попыткой создать модель, которая бы сочетала личную и общественную выгоды. В современных условиях первостепенное значение имеет научно-техническое развитие. В Китае это рассматривается в качестве задачи номер один. Программа развития должна иметь научную основу, требует партия.
Многие авторитетные экономисты полагают, что в результате перестройки институциональных основ современной экономики решающую роль в определении характера дальнейшего развития стали играть транснациональные корпорации. Локальные национальные экономики постепенно стали терять потенцию саморазвития. Это гарантирует сохранение доминирующего положения в мире экономически развитых стран и как бы навечно закрепляет разрыв между развитыми странами и отсталость тех, кто опоздал.
В связи с обрисованной ситуацией некоторые специалисты утверждают, что не-Запад не сумеет преодолеть отставание от экономически преуспевающих постиндустриальных стран мир-системного ядра. На наш взгляд, такой вывод представляется достаточно спорным, так как он не учитывает того, что Китай в глобальном экономическом процессе занимает особое место, играет самостоятельную роль и в основном следует не догоняющей, а опережающей модели развития. Немаловажно и то, что фактически Пекин контролирует одну из самых мощных трансконтинентальных национальных корпораций, пусть еще и находящуюся в стадии становления. Ее составили кооперация банков КНР, Гонконга, Тайваня, Сингапура, располагающих только свободными валютными средствами в размере, превышающем, по некоторым данным, 370 млрд долл. Это такой китайский вариант транснациональных корпораций, когда в деле участвуют компании китайцев, живущих в разных странах.
К этому следует добавить поддержку рассеянной по всей планете китайской диаспоры, обладающей мощными экономическими позициями в десятках стран. Есть данные, что они контролируют капиталы объемом свыше 500 млрд американских долларов. В высших структурах КПК и правительства КНР уже давно создан вполне конкретный, эффективно действующий механизм, координирующий и направляющий все усилия в этой области. Представляется, что особую роль в поддержании внутренней стабильности и росте влияния КНР в мире играют присущие этой стране мощные цивилизационные факторы.
Основными движущими силами экономического роста в последние годы были, во-первых, государственные капиталовложения и, во-вторых, иностранные инвестиции, общая сумма которых приближается к 500 млрд долл. Ни от одной из них Китай в перспективе не собирается отказываться. Однако, и это бросается в глаза, ряд обстоятельств побуждает все в большей мере опираться на мобилизацию ресурсов негосударственного сектора экономики, прежде всего — частного национального капитала. Не стоит забывать о том, что в начале реформ, для того, чтобы этот капитал появился, китайские власти буквально выращивали рынок, культивировали национального предпринимателя.
Сказанное отнюдь не опровергают периодические «посадки» и даже «отстрелы» тех, кто, по мнению китайских властей, вышел за рамки дозволенного. На дальнейшую реализацию потенций национального капитала направлен ряд новаций, направленных на поступательную политическую, социальную и юридическую эмансипацию китайских бизнесменов. Однако для того, чтобы эта тенденция раскрылась в полной мере, предстоит еще сделать очень многое, и прежде всего — в области правовой защиты частной собственности. На это, в частности, нацелен подготовленный проект Гражданского кодекса КНР.
Выросший за последние годы национальный капитал, вклад которого в народное хозяйство страны за последние годы стабильно возрастает, способен поддерживать быстрый рост экономики, одновременно расширяя, а не сокращая — в отличие от государственного сектора — занятость, смягчая, а не обостряя в отличие от государственных капиталовложений, проблему растущего государственного долга, создавая определенный противовес монополизации ряда важных отраслей национальной экономики Китая иностранным капиталом.
На последнем обстоятельстве следует остановиться особо. Привлечение иностранных инвестиций в Китай, принесшее стране немало выгод и способствовавшее быстрому экономическому росту, созданию больших валютных резервов, освоению западных технологий и западного управленческого опыта, вместе с тем имеет и свои теневые стороны. Отраслевая и территориальная структура иностранных инвестиций далеко не оптимальна с точки зрения потребностей экономического и социального развития Китая. Транснациональные компании не горят желанием вкладывать свои капиталы в те отрасли и те регионы, где они наиболее нужны. Очень мало иностранных инвестиций направляется в сельское хозяйство, базовые отрасли промышленности, наукоемкие отрасли сферы услуг, центральные и западные регионы.
После вступления в ВТО транснациональные корпорации, используя свои преимущества в капиталах, технологиях, организации и управлении, в доступе к рынкам, вступили в жесткую конкуренцию с отечественными китайскими производителями, часто ставя под угрозу не только перспективы их развития, но и само существование. Транснациональные корпорации захватили господствующие позиции в таких отраслях, как электроника и производство коммуникационного оборудования, производство изделий из пластмасс, пищевая промышленность, производство средств транспорта, активно проникают в текстильную и швейную отрасли, производство электротехники, резиновых изделий, лекарственных средств. В ряде случаев они уже монополизировали китайский рынок, заставив национальный капитал отступить. С китайского национального рынка кое-где вытесняются даже известные китайские марки, что особенно стало заметно после вступления Китая в ВТО, снявшего многие преграды на пути иностранных товаров к китайскому рынку.
Перспективность китайской модели реформ обеспечивается ее соответствием современным прогрессивным тенденциям развития мировой эконо-мики. Их существо состоит в отказе от исключительной ориентации на цен
ности потребительского общества. Укоренение рыночных отношений в национальную почву Китая предусматривает их увязку с принципами конфуцианской этики, когда достижение личного успеха и личной выгоды сочетается с интересами процветания своего Отечества и укрепления престижа своей нации, поиском гармоничного сосуществования традиций и модернизации, попыткой создать модель, которая бы сочетала личную и общественную выгоды.
Важнейшим фактором, обеспечивающим успех экономических реформ в Китае, является принципиальный отказ от «шоковой терапии», их последовательная социальная ориентированность и взвешенное соотношение между ценой реформ и выгодой от них для населения. Напомним два критерия реформ, сформулированных Цзян Цзэминем:
— реформа должна дать реальную пользу абсолютному большинству населения,
— цена реформы должна быть приемлемой для абсолютного большинства населения. Разумеется, не в равной мере, но благотворность реформы должен ощутить лично на себе каждый китаец, что и сделает его активным сторонником реформ.
Неотъемлемой чертой курса китайских экономических реформ является постепенность и осмотрительность, взвешенный подход к намечаемым преобразованиям. Еще одним залогом успешности, как уже отмечалось, служит то, что руководство КНР, широко перенимая иностранный опыт, жестко следит за тем, чтобы его применение не шло вразрез с национальными особенностями Китая, не ослабляло национальную самоидентичность, не создавало бы предпосылок для подрыва стабильности в стране. Важнейшим условием успеха китайских реформ, несомненно, стало то, что государство на всех этапах сохраняло контроль за рыночными процессами в стране. И ныне в арсенале государства остаются методы и прямого, и косвенного регулирования, и чисто административного воздействия. Под его влиянием и контролем находятся и очевидно будут еще находиться в обозримом будущем большинство элементов создаваемой рыночной инфраструктуры.
Главным приоритетом предложенной на XVI съезде КПК программы действий до 2020 г. остается обеспечение высоких темпов экономического роста, который рассматривается как основное средство превращения Китая в могущественное и процветающее государство. Вместе с тем определенное внимание будет, по всей вероятности, уделено и смягчению некоторых социальных проблем, обострение которых за последнее десятилетие начинает угрожать другому важному приоритету китайского руководства — сохранению относительной социальной и политической стабильности. Не следует забывать о том, что Китай, несмотря на все свои достижения, остается страной, большинство населения которой (порядка 900 млн человек) все еще составляют крестьяне, преимущественно бедные. И хотя решена проблема «тепла и сытости», т. е. население накормлено и одето, существует масса нерешенных проблем.
Речь идет в первую очередь о таких проблемах, как громадное демографическое давление, глубокий экологический кризис (загрязнение, нехватка земли и воды), острота продовольственной проблемы, рост безработицы,
коррупция, увеличение разрыва в уровне жизни между городом и деревней, между приморскими и внутренними регионами, между зажиточными и бедными слоями общества, невысокое в целом качество подготовки кадров. С другой стороны, при разумной политике ряд недостатков может обернуться серьезными плюсами. На приведение в определенное соответствие основных направлений социально-экономического развития страны нацелен главный тезис доклада — о «всестороннем строительстве общества сяокан», о чем речь ниже.
Вместе с тем слой богатых собственников в Китае, обладая значительной экономической и личной свободой, до самого последнего времени был отчужден от политической власти и средств массовой информации. Именно этим объясняется то, что успех экономической реформы в Китае не сопровождается соответствующими политическими реформами и ростом демократии. Однако в целом в стране между верхами и низами, имущими и малоимущими, по крайней мере на данном этапе, достигнуто общественное согласие в том, что продвижение к богатству и зажиточности будет неравномерным и постепенным. Кстати, отсюда термин «разбогатевшие раньше», греющее душу тех, кто не так преуспел в жизни. При этом каждая сторона должна проявлять сдержанность и понимание. Но на практике это сложнее, чем в теории. В этом смысле кровавые события на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. стали серьезным уроком для КПК и всего китайского общества.
КПК в новых условиях и концепция «трех представительств» Цзян Цзэминя
Вполне очевидно, что Китай нуждается в мирной, благоприятствующей экономическому развитию обстановке для своего подъема. В Пекине сейчас осознают, что «экспорт революции», характерный для эпохи Мао, ничего хорошего не принесет, а лишь усугубит имеющиеся трудности. Вместе с тем решение стоящих перед Китаем проблем отвечает интересам всего мира. Понятно, что никто, а особенно соседи КНР, не выиграет от того, что ситуация в стране дестабилизируется и приобретет острый, кризисный характер. Отсюда следует главный вывод: Китай нуждается в сотрудничестве с другими странами, а не в конфронтации.
С учетом вышесказанного становится понятным вредоносный характер распространяемого некоторыми средствами массовой информации на Западе и у нас тезиса о «китайской угрозе», который подрывает доверие между Китаем и его партнерами и сеет семена неприязни и конфронтации.
Запад (несмотря на социалистический выбор Китая и, казалось бы, идейный антагонизм с Пекином по вопросам о демократии и правах человека), с одной стороны, запугивает соседей Китая, в том числе и Россию, растущей «китайской угрозой», а с другой— самым активным образом способствует экономическому подъему Китая, вкладывая в него громадные инвестиции прямо или через китайскую диаспору, оказывает огромную помощь КНР в подготовке высококвалифицированных кадров. Только в США в настоящее время обучается и стажируется несколько сот тысяч молодых людей из Китая, причем несколько десятков тысяч студентов и стажеров делают
это за счет выделенных правительством США и различными американскими фондами стипендий.
Взгляды Дэн Сяопина относительно строительства социализма с китайской спецификой, ставшие ныне официальной доктриной Китая, представляют собой не просто теорию. Сейчас это уже нечто гораздо большее. По сути — это общенациональная идея возрождения, развития и утверждения величия Китая, его культуры, всей китайской цивилизации. Она нацелена на будущее, на длительную перспективу и обладает огромным потенциалом притягательности. Популярные на Западе и среди некоторых российских политологов концепции об обреченности Китая, предсказания, что Китай ждет судьба Советского Союза, есть не что иное, как попытки выдать желаемое за действительное. Пекин смог сформулировать и выдвинуть реалистическую концепцию развития и модернизации Китая. И что не менее важно, руководство КНР проявило политическую волю и способность организовать чрезвычайно сложный с точки зрения масштабов страны процесс реформирования всех сторон жизни китайского общества. Это ли не свидетельство огромного потенциала жизненных сил китайского народа, его способности к саморазвитию, заложенной в богатой и самой древней из ныне существующих на нашей планете цивилизаций — китайской цивилизации?
Плодотворные экономические связи Китая с развитыми странами в рамках политики реформ и открытости создали условия для активного привлечения огромных сумм иностранных инвестиций в экономику страны, для основания совместных промышленных предприятий, внедрения передовых технологий, участия Китая в международной экономической кооперации и т.д.).
В XXI в. начался третий этап программы, целью которого является выход на уровень экономически развитых стран. Тем не менее, далеко не все считают это возможным и предсказывают, что через 5—10 лет экономика Китая в процессе перехода к рынку и вступления в ВТО начнет разваливаться, что приведет к фундаментальному изменению китайской политики и распаду страны.
С точки зрения долгосрочной перспективы перед руководством КНР остро стоят проблемы проведения реформы политической системы. Факты свидетельствуют о том, что руководство Китая видит эти проблемы и пытается выработать необходимые меры для их разрешения. Основой для разрешения возникающих противоречий служит целый комплекс мер, направленных на ускорение экономического развития, способных обеспечить рост жизненного уровня большей части населения.
Несомненно, что весь комплекс происходящих в Китае в ходе реформ изменений представляет собой системную трансформацию. Одна из ее сторон, пусть и значительно менее бросающаяся в глаза, — это трансформация политической системы.
Общий вектор политической трансформации представляется направленным в сторону теоретического и практического освоения Компартией Китая как отечественного, так и зарубежного опыта рациональной организации партийной системы, политической власти, включая организацию государственной власти и управления во всех сферах, определяющих процесс «возрождения Китая». Общаясь с китайскими учеными, убеждаешься, на
сколько серьезно и внимательно там изучают мировой опыт в области развития различных политических моделей, их плюсов и минусов. При этом упор делается на изучение опыта успешных обществ, причем не только и не столько Запада, сколько стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
Китайское руководство явно осваивает парадигмы политической системы нового типа. Последняя как раз и предполагает развитие политической системы не в результате актуализации классовой борьбы, а путем совершенствования сверху процесса координации и взаимодействия элементов политической системы. Формально КПК вплоть до настоящего времени подтверждает приверженность идеалам марксизма, идеям Мао и Дэна. Однако концепция «сяокан», провозглашающая задачу построения в Китае в ближайшей перспективе общества «среднего достатка», предлагает обществу новый лозунг. С его помощью нынешние правители Поднебесной стремятся не допустить образования идеологического вакуума в условиях, когда все большая часть китайцев, вслед за развитием национального рынка, интеграцией китайской экономики в мировое информационное пространство, с возрастающим равнодушием или даже со скептицизмом относится к идеям социалистической и тем более коммунистической перспективы.
Как считает известный российский специалист по вопросам внутренней политики Китая Ю.М. Галенович, нынешнее руководство КПК, как уже бывало в истории этой партии, снова разделено на две линии. На первую линию, на политическую авансцену выдвинуто поколение 60-летних руководителей, сформировавшихся в годы КНР. На вторую линию отошло поколение 75-летних, формирование которых начиналось в КПК еще до 1949 г. Иначе говоря, вновь, как это уже бывало в истории, произошло разделение на лидеров, действующих на открытой сцене, и тех, которые часто играют очень важную роль, находясь за кулисами. При этом на этот раз на вторую линию отошли не один, не два, а несколько человек. То, что складывается в итоге на политической авансцене, — это несомненный результат компромисса между этими группами.
Вторая особенность заключается в том, что во времена Дэн Сяопина существовала система «старцев». Это собственно китайский термин. В 1987 г. на XIII съезде КПК, когда Дэн Сяопин покидал свой пост в ЦК КПК, было принято секретное решение о том, чтобы обращаться к Дэн Сяопину за советом по наиболее важным вопросам, хотя он стал просто членом партии. В те годы слово одного из двух тогдашних «старейшин» — Дэн Сяопина и Чэнь Юня (особенно первого) — значило больше, чем речи и заявления официальных руководителей ЦК КПК и правительства КНР.
После смерти Дэн Сяопина в 1997 г. был перерыв в 5 лет, когда «старцев» в их прежнем значении не было. Цзян Цзэминь и его коллеги сами принимали решения. Вероятно, происходила своего рода подготовка к возобновлению института «старцев», потому что он показал себя действенным и нужным в условиях современного Китая. Теперь система, или институт, «старцев» восстановлены в новом виде. Возможно, «старцев» теперь уже не двое, а больше — четверо или пятеро. Все они ушли с высших партийных или правительственных постов, но каждый сохранил свое влияние и сторонников в составе нынешнего руководства ЦК КПК и в самом ЦК. Такое формирова
ние руководящих органов партии — это результат своего рода договоренности уходящих руководителей между собой о «квотах» своих сторонников в высших органах власти. Люди, находящиеся сегодня на первой линии, — это представители нескольких групп в партии, реально возглавляемых нынешними «старцами».
Иными словами, власть над административно-управленческим аппаратом и в самой партии не находится в одном центре (в КПК или руках первого лица этого органа — Генсека), но может осуществляться из двух центров. Главная причина такой ситуации — стремление обеспечить стабильность и преемственность политического курса при передаче власти. Отход на вторую линию известных руководителей — это не уход из политики, не «уход на пенсию». При всем отличии нынешней ситуации от обстановки конца 50-х гг., когда Мао Цзэдун объявил о своем отходе на вторую линию, создав тем самым прецедент разделения руководства на две линии, и ситуации с уходом в конце 80-х гг. Дэн Сяопина с руководящих постов в партии, а также различий в последствиях этих решений, у них есть одна общая черта. «Уходящие» лидеры принимают те или иные меры для сохранения за собой возможности влиять на принятие стратегических решений, оставляя своим более молодым соратникам либо преемникам задачу практической, повседневной реализации этих решений.
В этом смысле особое значение приобретает и то обстоятельство, что доклад Цзян Цзэминя на XVI съезде — это не только собственно доклад, сколько долговременная программа действий и нового руководства, и тех руководителей, которые придут ему на смену. Следующий съезд должен состояться через 5 лет, а экономические ориентиры в докладе Цзян Цзэминя касаются и 2010 г., и 2020 г. В китайском руководстве на всех уровнях происходит активная смена поколений. Видимо старшее поколение лидеров, тех, кто отходит на «полупокой», договорилось о необходимости подготовки и выдвижения более молодых, более энергичных руководителей, сформировавшихся в годы реформ и лишенных «родимых пятен» дореформенного опыта.
Заслуживает внимания и вопрос реформы политической системы Китая в свете новой расстановки сил в китайском руководстве. В данной области имеет место эволюция по нескольким направлениям:
• XVI съезд предложил более четкую и частично обновленную трактовку места и роли КПК в политической системе страны;
• новое партийное строительство представлено в качестве предпосылки и одновременно составной части реформы политической системы;
• съезд определил и четко сформулировал потенциальные возможности и направления развития политических институтов.
Очевидно, сохраняется основное направление реформы политической системы, медленно, но неуклонно развивающейся с момента III пленума ЦК КПК XI-го созыва 1978 г. Суть ее — в совершенствовании уже существующих политических институтов при принципиальном неприятии рецептов политической системы Запада. Руководство КПК обозначило потенциальные возможности и конкретные векторы развития таких политических институтов и направлений, как Всекитайское собрание народных представителей и его Постоянные Комитеты. По-видимому, эти положения должны подкре
пить провозглашенный тезис о проведении политики «упрочения классовой базы партии и расширения ее массовой базы».
Партия стремится взять процесс расширения своего социального состава под строгий контроль и не допустить его развития, по крайней мере, в обозримом будущем, в духе социал-демократических тенденций, о чем без конца твердит западная пресса. Согласно Уставу, усиливаются контрольные функции парткомов на всех партийных уровнях и во всех структурах власти. Расширяются функции действующих в органах управления «партийных групп руководства», в ведение которых теперь включаются и кадровые вопросы. Предусматривается расширение функций партийных Комиссий по проверке дисциплины, которые впервые получили право координировать свою деятельность с государственными органами данного профиля, а также осуществлять первичную проверку членов парткома равной ступени без предварительного разрешения на эти действия данного парткома. Упорядочивается и расширяется организационная структура партии в целях охвата партийным влиянием всех слоев населения. Усиливается, как показали выборы в провинциальные и центральные органы КПК, концентрация власти в руках партии, наблюдается еще более высокий, чем прежде, уровень совмещения партийных и государственных постов.
Есть все основания сделать вывод о том, что формируется специфический тип правящей партии как института управления государством, сочетающий авторитарные черты с демократией. Этому вопросу стоит уделить внимание хотя бы для того, чтобы понять, как произошло в свое время разложение КПСС как партии. Ведь речь идет о проведении реформ в политической системе Китая, страны, сердцевину которой составляет «святая святых» — компартия. Реформ, о которых много говорилось и писалось, но которые многократно откладывались «на потом».
Когда в Китае говорят о политической реформе, то имеют в виду расширение внутрипартийной демократии, намерение использовать для контроля над деятельностью партийных руководителей СМИ, необходимость повышения требований к руководителям в области морали, наконец, о тенденции привлечения в партию и к руководству страной представителей самых широких социальных слоев, что, как известно, всегда было сильной стороной управленческой модели Китая. При этом особое внимание уделяется задаче правового нормирования управленческих функций партии.
Выдвинутые еще в начале 80-х гг. Дэн Сяопином общие принципы — критерии отбора и выдвижения руководящих кадров («омоложение», «повышение образовательного уровня и профессиональной подготовки») ныне конкретизированы. Так, требование «омоложения» теперь означает, что возраст руководителей провинциального уровня, как правило, должен быть от 50 до 60 лет, уездного — от 40 до 50. «Профессионализация» означает выдвижение на провинциальный уровень лиц, имеющих, как правило, высшее образование. «Революционизация», означавшая, наряду с овладением идеологическим багажом КПК, прежде всего следование в теории и на практике курсу реформ, в последние годы стала включать освоение и поддержку концепции «трех представительств».
Стоит остановиться на одном из весьма важных элементов утвержденного XVI съездом нового определения идейно-теоретических основ деятельности КПК — на концепции «трех представительств». В новой редакции Устава КПК говорится: «Компартия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важными идеями “тройного представительства”». И далее: «важные идеи “тройного представительства” — это руководящие идеи, которые партия должна решительно поддерживать в течение длительного периода». Как указывается в докладе Цзян Цзэминя, идеи «тройного представительства» являются продолжением и развитием марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна и теории Дэн Сяопина, отражают новые требования к работе партии и страны, порожденные переменами и развитием в современном мире и в Китае.
По сути дела, выдвижение концепции «тройного представительства» отражает стремление руководства КПК адаптировать партию к новым политическим, социальным и духовным реалиям китайского общества. За двадцать пять лет строительства социализма с китайской спецификой изменения произошли не только в экономическом укладе государства, произошло также изменение социально-классовой структуры Китая. Возникли слои и прослойки, состоящие из предпринимателей, индивидуальных хозяев, лиц, работающих на предприятиях иностранного капитала, а также занятых в посреднических организациях, сфере услуг и т.п. Благодаря своим деловым и интеллектуальным качествам, названные социальные группы накопили значительные средства и живут в условиях, значительно отличающихся от условий жизни рабочих, крестьян и рядовой интеллигенции.
В обществе, которое еще совсем недавно, во времена Мао Цзэдуна, исповедовало идеологию уравниловки и презрения к богатству, «новые китайцы», разбогатевшие первыми, естественно, должны испытывать на себе неприязнь и даже антагонизм со стороны большинства населения страны. Эта напряженность в обществе может привести к нарушению социальной стабильности, остановить процесс модернизации и неуклонного экономического роста, подорвать международный авторитет КНР.
Поэтому смещение акцентов в идеологических установках потребовало от КПК и уточнения классовой сути партии. Именно в этом контексте резонно рассматривать утвержденную на съезде и внесенную в устав партии концепцию «трех представительств». Впервые в развернутой форме тезис о «трех представительствах» был введен Цзян Цзэминем в его докладе, посвященном 80-й годовщине создания КПК в 2001 г. Доклад тогда стал своего рода компромиссной уступкой консервативно настроенной части китайских руководителей в обмен на сохранение неприкосновенности курса рыночных реформ и встраивание китайской экономики в экономику глобальную. Первым была оставлена коммунистическая риторика и тезис о главенстве «общественной формы собственности», вторым — свобода экономических преобразований и возможность обеспечить легальное объединение интересов частного бизнеса и партийной власти.
Концепция «трех представительств» подразумевает, что КП К на нынешнем этапе своего развития превращается в партию, которая представляет и (1) передовые производительные силы, и (2) передовую китайскую культуру, и (3) коренные интересы широких слоев китайского народа. Первое «предс
тавительство» как раз и дает право частным предпринимателям, капиталистам, бизнесменам вступать в партию.
С точки зрения ортодоксального марксизма, это означает «ревизионизм» и потерю партией своей «классовой сущности», на что и указывали в ходе предсъездовских дискуссий партийные ортодоксы. В целях ненаруше-ния внутрипартийной стабильности в партийном уставе в одном абзаце с идеей «трех представительств» для порядка, так сказать, сохранены и тезисы о том, что КПК является «авангардом рабочего класса» и одновременно «авангардом китайского народа», а также классическая для компартий цель — «осуществление коммунизма».
Парадоксальная, на первый взгляд, способность идеологической эклектики (включая явную идеологическую ересь) обеспечивать политическую стабильность в Китае объясняется, в первую очередь, тем, что и в партии, и в стране сторонники ортодоксального марксизма, хотя и сохраняют существенный политический вес, но, и это критически важно, не имеют реальной финансовой, административной и политической власти. Кроме того, не следует забывать, что китайское общество — это прежде всего общество, где компромисс достигается путем неофициальных переговоров. Важнейшую роль в нем играет фактор, носящий название «гуаньси». Дословно — это «отношения», но сам термин куда более емкий, тут и связи, и «блат», и родственные отношения. Именно с помощью «гуаньси» надлежит решать все проблемы в Китае. События июня 1989 г. — яркий пример того, как не должно быть, и они все еще свежи в памяти всех.
В идеях «тройного представительства» обрела также законченную формулу важнейшая идея о необходимости развития производительных сил, определяющая практическую деятельность партии в новых социально-экономических и внешнеполитических условиях. Мысль о необходимости развития производительных сил страны должна быть воспринята в сознании китайцев как некая общая цель всех народов Китая. А Китай — страна многонациональная, без учета чего невозможно развитие национальной культуры и удовлетворение материальных потребностей большинства граждан страны.
Концепция «тройного представительства» предназначена для того, чтобы показать миру, что отныне не только практическая политика, но и идейно-теоретические новации руководства КПК будут служить превращению ее в прогрессивную респектабельную партию не только рабочих и крестьян, а в партию общенациональную, которая представляет интересы всего китайского народа и считает себя ответственной за главное в жизни государства и общества — развитие производительных сил страны — и на базе борьбы за достижение этой эпохальной задачи объединяет все социальные слои китайского общества.
Идеи «тройного представительства», особенно акцент на приоритете развития производительных сил, имеют важное значение для расширения и углубления экономического сотрудничества и связей с развитыми странами. Отсутствие упоминания о классовом характере социализма с китайской спецификой предоставляет Китаю возможность добиваться интеграции своей планово-рыночной экономики в мировую экономическую систему, участвовать в процессе глобализации.
«Сяокан»: от утопии к реальности
Из теоретических проблем, которые сегодня стоят на повестке дня китайских обществоведов, стоит остановиться на одном, но весьма принципиальном вопросе о соотношении понятия «сяокан» и концепции «строительства социализма с китайской спецификой».
Что же такое «общество сяокан»? Понятие «сяокан» уходит корнями глубоко в историю. Впервые этот термин появился в одной из од древней «Книги песен» («Ши цзин»), относящейся к XI—VI вв. до н. э. Именно этим термином Конфуций обозначил свою социальную утопию. Затем мы встречаем это понятие в «Книге ритуалов» («Ли цзи»), окончательно составленной в I в. до н. э. В главе «Действенность ритуала» («Ли юнь») приводится описание общества сяокан, приписываемое Конфуцию. Это — общество, где неукоснительно соблюдаются конфуцианские нормы поведения и морали {ли) и где свято чтут чувство долга {и). «С их помощью, — говорится в этом памятнике, — упорядочивают отношения государя и подданных, связывают родственными чувствами отцов и детей, дружелюбием — братьев, согласием — супругов». Как видим, это общество морали, основанного на ней долга, общество «семейного умиротворения».
Согласно древней концепции, уточненной Конфуцием применительно к проблемам государственного строительства, сяокан — это «уютное для жизни» и «упорядоченное» общество, основанное «на дружных семьях». Построение «общества среднего достатка» — сяокан — согласно древним воззрениям, представляет собой отправной момент для движения к следующей, высшей стадии общественного развития — «да тун» «Великого Единения», своего рода вариант китайского коммунизма, где нет классового расслоения, «все равны и свободны». Последнее понятие неоднократно использовалось в трудах мыслителей-реформаторов (Лян Цичао, Кан Ювэя, Сунь Ятсена, вплоть до Мао Цзэдуна).
В современный политический оборот понятие сяокан вернул Дэн Сяопин в 1984 г., в чем несомненно состоит его большая историческая заслуга. Вероятно, он ставил цель придать прагматичные очертания новому курсу реформ и модернизации, пришедшему на смену маоистской уравниловке. В трактовке Дэна построение общества среднего достатка означало достижение уровня производства ВВП на душу населения в 800 долларов США. В 1987 г. XIII съезд КПК охарактеризовал сяокан как «очередной этап на пути социалистической модернизации» Китая. В 90-е гг. был поднят (правда, затем вновь опущен) количественный критерий достижения общества среднего достатка — до 1000 долл, по показателю ВВП на душу населения. Так изначальное понятие морального общества «малого умиротворения» превратилось в общество «среднезажиточного достатка».
Тем не менее следует заметить, что в докладе Цзян Цзэминя на XVI съезде содержание понятия «общество сяокан» приобрело более широкий смысл, чем это было у Дэн Сяопина. Помимо чисто экономических характе
ристик, оно включает в себя уже спектр политических, социальных и культурно-духовных проблем строительства специфически китайского социализма. Общество сяокан предстает, таким образом, как этап реализации социального идеала Китая.
Другими словами, политический лексикон программных документов КПК пополнился еще одной, чисто китайской, категорией общественного развития, что представляет концепцию строительства «социализма с китайской спецификой» как продолжение и развитие в новых исторических условиях традиционной мысли Китая. Стремление придать социально-политическим и экономическим концепциям и идеалам национальную, китайскую, окраску — черта, вообще характерная для политики КПК начиная с конца 30-х гг. XX в. В данном случае прослеживается стремление руководства КПК сделать политические теории, вообще свою политику более понятной не только элите, но и простым китайцам, перевести ее на язык, понятный народу.
Это должно способствовать восприятию качественно нового, социалистического общества широкими слоями китайцев как результата уже сложившейся исторической традиции, способствовать развитию чувства патриотизма, национальной гордости, освободить от ощущения «чужеродности» идеалов социализма, что чрезвычайно важно для внутреннего потребления. Весьма симптоматично, что нынешнее руководство КПК продолжает линию на поиски «корней» социализма в собственно китайской истории, которую начал еще Сунь Ят-сен, продолжил в 40-е гг. Мао Цзэдун, подхватил в конце 70-х гг. Дэн Сяопин и развил Цзян Цзэмин.
На XVI съезде КПК, исходя из нынешнего уровня ВВП КНР, было констатировано, что в Китае «в основном» построено общество среднего достатка. Имеется в виду, что не все население Китая, а лишь его городская, наиболее преуспевшая, часть достигла состояния сяокан. Доходы большинства сельских граждан по-прежнему значительно ниже и не превышают 300 долл, в год. Исходя из этого, поставлена амбициозная задача — до 2020 г. достичь состояния общества среднего достатка для всего населения Китая.
Ставку на разработку прагматичных и в то же время уходящих корнями в национальную историю основ китайской идеологии, а не концепций наподобие «развитого социализма», российский исследователь В.В. Михеев трактует как постепенную подмену коммунистической идеологии национализмом или же прагматизмом
Представляется, что это несколько упрощенная трактовка анализируемого явления. Гораздо более удачную, на наш взгляд, формулировку предлагает Л. С. Переломов в своей фундаментальной работе «Конфуций. Лунь Юй», называя нынешнюю идеологическую парадигму КПК «конфуцианским социализмом», а ту, что существует на Тайване — «конфуцианским капитализмом”, утверждая, что в один прекрасный день разница между ними исчезнет 2.
1 Михеев В. В. Глобализация экономики Китая. — М., 2003. 7
Переломов Л. С. Конфуций. Лунь Юй. — М., 2003.
Л. С. Переломов подчеркивает, что нужно всегда помнить и учитывать специфику китайской политической культуры. Одно из ее кардинальных отличий от западной заключается в многозначности основных терминов и понятий, особенно из разряда ключевых. Возникнув в период «осевого времени» (VII—III вв. до н. э.), эти термины, зафиксированные в канонических текстах, за прошедшие столетия обросли многочисленными толкованиями, стали многозначными и поэтому трудно, а подчас и невозможно подыскать в европейском языке какое-либо одно слово, которое смогло бы передать изначальный смысл данного понятия в полном объеме. Более того, сам факт многозначности «кодового» термина позволяет китайскому политику, владеющему знанием канонических текстов, выбрать нужную ему трактовку для «внутреннего пользования» и общения с внешним миром. При этом он уже заранее знает, какое впечатление должен произвести избранный им термин или понятие на жителя конфуцианского культурного региона, особенно на образованного человека.
К числу таких «кодовых» понятий можно с полным основанием отнести сяокан. На англоязычном интернетсайте газеты «Жэньминь жибао» и агентства Синьхуа название доклада Цзян Цзэминя переведено следующим образом: «Всесторонне вести строительство среднезажиточного общества и создавать новую обстановку для дела социализма с китайской спецификой». В китайском тексте доклада выражению «среднезажиточное общество» соответствует словосочетание сяокан шэхуэй (букв, «общество сяокан»). Перевод термина сяокан шэхуэй на русский язык как «среднезажиточное общество» не отражает всей полноты его смысла: для жителей Китая и для китайской диаспоры сяокан шэхуэй означает нечто большее.
Термин сяокан относится к разряду ключевых понятий традиционной политической культуры Китая. К нему, как уже говорилось выше, обращались многие политические деятели Китая, особенно когда они приступали к каким-либо общественно-политическим и экономическим преобразованиям. Небезынтересно, что оказавшись вытесненным на Тайвань, Чан Кайши по совету идеологов Гоминьдана и знатоков канонических текстов, объявил, что он будет строить на острове сяокан. Тем самым он хотел показать, что он является подлинным национальным антиподом коммунистов — приверженцев марксизма, то есть он, и только он является настоящим ревнителем национальной традиции. И его последователи имеют все основания считать, что они добились построения сяокан на Тайване.
Дэн Сяопин был прекрасно осведомлен о реконструкции идеи сяокан на Тайване. Но он также помнил и об антиконфуцианской кампании 1972—1976 гг., времен «позднего Мао», когда средства массовой информации КНР, вдохновленные «четверкой», призывали народ «бить Конфуция как крысу, перебегающую улицу», а сам он с клеймом «буржуазного последователя Конфуция» оказался в ссылке и проходил «перевоспитание трудом». Не исключено, что именно там Дэн осознал, что необходимо для того, чтобы дать китайскому народу исторический шанс, вернуть страну в конфуцианский культурный регион. Идея сяокан понадобилась ему и для подкрепления теоретического обоснования его концепции: «одно государство — две системы», ибо в результате антиконфуцианской кампании КНР
как бы отдала Тайваню право наследования традиционной национальной культуры.
Разрабатывая концепцию своего учителя — Конфуция, Мэн-цзы (IV — начало III в. до н. э.) усилил ее экономическую составляющую, подробно описав, какие социальные слои и каким образом будут благоденствовать в «обществе сяокан». Дэн Сяопин как бы продолжил эту линию, более того, будучи до мозга костей китайцем, конкретизировал, чтобы было понятно всем, что уровень благоденствия должен составлять 800—1000 долларов на душу населения.
Дэн Сяопин использовал термин сяокан в различных сочетаниях — «общество сяокан», «семья сяокан», «государство сяокан» и т.п. Впервые он раскрыл замысел сяокан в беседе с представителем конфуцианского культурного региона — премьер-министром Японии — в 1979 г.: «Мы собираемся осуществить четыре модернизации. Это будут четыре модернизации китайского типа. Концепция наших четырех модернизаций не схожа с концепцией ваших модернизаций — это будет сяокан чжи цзя (“семейный сяокан”)». Примечательно, что в данном случае Дэн Сяопин счел излишним конкретизировать понятие «сяокан чжи цзя», ибо уже сам термин многое говорил носителю конфуцианской политической культуры.
Уяснив значение сяокан, легче понять китайские политические кроссворды. Так, становится ясен смысл и значение обращения Цзян Цзэмина к формулировке: Управлять страной не только на основании фа (закона), но и на основании дэ. Термин дэ крайне сложен для перевода. Несмотря на всю многозначность этого слова, здесь его лучше всего перевести как мораль, нравственность. Что касается перевода термина фа как «закона», то здесь не нужен особый комментарий. Хотя следует отметить, что сам термин зародился тоже в «осевое время» и принадлежит он легистам (школа фа цзя), которые трактовали его как принцип всеобщности закона и равенства всех перед законом, исключая его творца — правителя царства. Термин дэ обычно переводится на русский язык как «мораль», «нравственность», «добродетель». Но следует учитывать, что дэ также относится к разряду ключевых понятий китайской политической культуры и диапазон его значений весьма широк: от «добродетели» до «мироустроительных функций» императора как «сына Неба», по праву управляющего Поднебесной. Обращение к термину дэ — это, в известном смысле, продолжение курса Дэн Сяопина на возрождение традиций конфуцианской политической культуры.
Вклад Цзян Цзэминя в теорию Дэн Сяопина заключается, в частности, в подразделении процесса строительства общества сяокан на несколько последовательно повышающихся уровней. Только творческая разработка теории Дэн Сяопина о построении в Китае «общества сяокан» позволила Цзян Цзэмину выступить с концепцией «трех представительств», базирующейся на национальной традиции стремления не только к гармонии настоящего, но и к гармоничному развитию на дальнейшую перспективу. Принципиально важно, подчеркивает А. Е. Лукьянов, что сяокан основывается на архетипических духовных сущностях китайцев: синь («доверия»), ли («ритуала»), и
(«долга»), жэнь («человеколюбия»), которые воспроизводят человеческую сущность на новом витке цивилизации, формируют ее как подлинную цивилизацию и дают людям постоянство/стабильность (чан) *.
Дэн Сяопин извлек именно это значение сяокан из глубин китайской древности, насытил его новым смыслом и утвердил в качестве образца на ближайшее будущее. Чтобы глубже понять осуществленную Дэн Сяопином социально-политическую и мировоззренческую метаморфозу, имеет смысл обратиться к первой конституции Поднебесной — «Хун фань цзю чоу» («Великий образец обуздания потопа/хаоса в девяти разделах») и первому цивилизатору Юю. Общеизвестен миф о борьбе Гуня и Юя с потопом, вошедший во все анналы политической культуры Китая. Вот как действия Гуня и Юя расшифровываются и оцениваются в «Шу цзине»: «Тринадцатый год правления У-вана. Ван спросил совета у Цзин-цзы. Ведя речь, Ван сказал тогда: «Увы, Небо тайно печется о том, чтобы жизнь людей внизу протекала во взаимном согласии и потому не знаю той основы, на которой оно установило порядок этических норм и принципов». Взяв слово, Цзин-цзы ответил: «Я слышал, что в древности Гунь оградил воды потопа, закрепил порядок пяти первоэлементов по-своему. Первопредок тогда громоподобно разгневался, что сделано это не по «Великому образцу обуздания потопа/хаоса в девяти разделах». Гунь был казнен, а после него Юй преуспел. И тогда Небо даровало Юю «Великий образец», он-то и есть то, на чем [Небо] установило порядок этических норм и принципов» (Перевод А. Е. Лукьянова)» 1 2.
Сущность сказанного заключается в том, что Гунь и Юй относительно хаоса, таящего в себе бесконечность вариантов развития общества, использовали различные архетипы Дао. Гунь использовал архетип с алгоритмами естества (цзыжанъ), мировоззренчески обращенный в прошлое, Юй — архетип с алгоритмами человеческой искусственности, мировоззренчески обращенный в будущее. Аналогичный по масштабам творческий акт совершил и Дэн Сяопин. Он взял на себя величайшую ответственность «усмирения хаоса в Китае» (слова современных китайских лидеров), чреватого непредсказуемыми последствиями. В качестве духовного архетипа сяокан Дэн Сяопин задал цивилизационный смысл и перспективу гармонизации всей Поднебесной.
Воистину Дэн Сяопин осуществил для Китая судьбоносный акт и сам при этом стал сакральной (хотя в светском смысле) личностью. Более того, Дэн Сяопин стал выше и Гуня, и Юя. Дело в том, что, с одной стороны, сяокан следует после общества да тун и является его производной. Да тун остается в прошлом. С другой стороны, сяокан будет строиться с перспективой на будущее: его развитие приведет к да тун нового качества. Таким образом, сяокан соединяет традицию и современность, естество и историю, стабиль-
1 Лукьянов А. Война и мир цивилизаций // Проблемы Дальнего Востока. — 2002. — № 1. - С. 153-165.
2
Лукьянов А. «Совершенная мудрость» и ранняя философия древних китайцев. Проблемы Дальнего Востока. — 2001. — № 4. — С. 135—149.
ность и динамику, а Дэн Сяопин из «института старцев» переходит в сонм созидателей и хранителей основ китайской цивилизации. Туда же, хотя и с более скромным вкладом, отправился покинувший все государственные посты Цзян Цзэминь.
Основными направлениями социальной трансформации китайского общества в возрастающей степени становятся, во-первых, урбанизация и, во-вторых, формирование среднего класса (в китайских материалах называют 50 млн чел.) прежде всего за счет сокращения в социальной структуре доли беднейших низов и увеличения числа лиц «со средними доходами».
По уровню урбанизации Китай далеко отстает от стран с сопоставимым уровнем ВВП на душу населения. Дальнейшее сосуществование быстро развивающегося и богатеющего, но составляющего меньшинство населения города, с абсолютным преобладанием стагнирующей деревни становится все менее терпимым в социальном, политическом и чисто экономическом отношениях. Сохраняющаяся все еще в идеологическом арсенале правящей партии формула «сельское хозяйство — основа» все более утрачивает свой смысл. Могучий и процветающий Китай не может быть построен при преобладании сельского типа расселения и аграрной занятости. Поэтому в условиях всеобщей информатизации и рыночной экономики капитал, стремящийся к максимизации прибыли, неизбежно отдает предпочтение городским кластерам перед отсталой деревенской экономикой.
Без перехода от крестьянского и сельского Китая к Китаю урбанизированному страна не достигнет уровня среднеразвитых стран, в частности и по показателю ВВП на душу населения. Без урбанизации подавляющей массы населения Китая невозможно преодолеть огромный и все более растущий разрыв не только в уровне доходов, но и в таких важнейших для настоящей и будущей жизни общества сферах, как образование и здравоохранение. От успеха или неуспеха урбанизации зависит в целом выполнение программы завершения модернизации страны в середине нынешнего столетия.
Превращение сотен миллионов людей из сельских жителей, число которых все еще составляет порядка 800 миллионов человек (!), занятых, особенно в бедных глубинных районах, преимущественно сельскохозяйственным трудом, в горожан, главной сферой приложения труда которых станет неаграрная сфера, представляет собой задачу неимоверной сложности. Очевидно, что для ее решения потребуется не один десяток лет.
Этот процесс невозможно ускорить посредством обезземеливания (например, в результате строительства предприятий на землях крестьян) и неизбежного затем массового разорения крестьян с последующим переселением их в города, как это происходит во многих развивающихся странах. Это в Китае просто исключено! Наличие у крестьянина пусть крохотного, но надежного клочка подрядной земли служит для него гарантией возможного возвращения в деревню и сохранения хотя бы минимальных шансов на выживание в случае неудачи городского обустройства. Однако при всеобъемлющей модернизации китайского общества обойтись без поступательной урбанизации нельзя. Нельзя и ограничиться полумерами, сосредоточив основную массу сельского населения в малых поселках, где по-прежнему будет сохраняться в той или иной мере сельскохозяйственная занятость населения и
где, соответственно, общественная производительность труда будет неизмеримо меньше, чем в городах.
Следует учитывать, что рабочие и служащие государственных предприятий, утратившие многие социальные преимущества, включая и пожизненную занятость в своей «единице», более не ощущают себя вершителями судеб общества и страны. Кроме того, многие из них оказались перед реальной угрозой потерять работу и войти в число изгоев общества. Отсюда — насущная необходимость в новой опорной конструкции, которая обеспечивала бы социально-политическую стабильность. Роль такой конструкции и призван играть средний класс, или слой со средними доходами, доля которого в обществе, согласно материалам XVI съезда КПК, должна возрастать.
Средний класс в Китае образуется из разных источников. Это и лица, работающие по найму, преимущественно — «белые воротнички», занятые как в государственном, так и особенно в негосударственном секторах экономики, и люди свободных профессий, и частные предприниматели. Процесс этот находится, однако, еще в своей самой начальной стадии и займет немалое время до своего завершения. Пока численность среднего класса недостаточна, пока власть в Китае не обрела прочной и гарантированной общественной поддержки, ситуация в стране не может считаться стабильно устойчивой. Отсюда вытекает особая необходимость в гибкой социальной политике, которая не допускала бы обострения существующих противоречий, способствовала бы смягчению растущего недовольства в обществе, сбалансировала бы конфликтующие интересы. Особого внимания требует защита интересов слабых, бедных групп населения, существование которых не так давно было официально признано в китайских партийных документах. В связи с этим нуждается в серьезном укреплении и реформировании существующая система социального обеспечения и социальных гарантий.
Все это требует серьезного пересмотра не только структуры бюджетных расходов и всей системы инвестиций в пользу удовлетворения неотложных социальных нужд, но и самих приоритетов экономической политики. Немалый ущерб несет отечественный производитель — государственный и негосударственный — вследствие того, что транснациональные компании перетягивают к себе лучшие инженерно-технические и управленческие кадры из национальных компаний. В конкуренции с отечественными китайскими производителями транснациональные компании успешно используют такой мощный рычаг, как фактически монопольно устанавливаемые и не подчиняющиеся законам рынка внутрикорпоративные цены, позволяющие им манипулировать стоимостью экспорта и импорта и уходить от налогов. По данным Главного статистического управления КНР, от налогов уклоняются более 60 % предприятий с иностранным капиталом.
Подлинная социальная ориентированность экономического развития подразумевает, что плодами экономического роста должны пользоваться (пусть и не в равной мере) все основные социальные группы населения. Ситуация, при которой весьма значительный прирост ВВП не сопровождается соответствующим увеличением занятости, чему отнюдь не способствует вступление Китая в ВТО, ведет к серьезному обострению существующих со
циальных противоречий, а следовательно, вряд ли может считаться удовлетворительной. Именно поэтому в обозримом будущем можно ожидать конкретизации модели экономического развития Китая в духе тех установок на «всестороннее строительство общества сяокан», которые содержатся в общем виде в документах КПК.
В Китае признают многие проблемы, с которыми столкнулась страна при переходе от плановой к рыночной экономике. Это, в первую очередь, противоречие между растущими потребностями народа и отсталым общественным производством, большие межрегиональные различия, большая доля бедного населения и людей пожилого возраста, проблемы трудоустройства и социального обеспечения. Объявлено, что названные трудности можно преодолеть только на основе осуществления стратегических задач «третьего шага» модернизации и решения задачи построения «общества достатка». Для этого в экономической сфере намечено к 2020 г. увеличить валовой внутренний продукт в 4 раза по сравнению с 2000 г., то есть до 4 трлн долл., значительно усилить совокупную мощь страны и международную конкурентоспособность, завершить индустриализацию, создать совершенную систему рыночной экономики и открытую экономическую систему, повысить удельный вес городского населения, устранить тенденции к увеличению социально-экономических различий между промышленностью и сельским хозяйством, городом и деревней, отдельными регионами, совершенствовать систему социального обеспечения, сделать более полной общественную занятость, повысить доходы населения и обеспечить народу более зажиточную жизнь.
Анализ материалов XVI съезда КПК показывает, что в Китае видят дальнейшие пути развития страны не в ускоренной приватизации, тотальной либерализации цен по всей стране и уж никак не в «шоковой терапии», а в расширении внутреннего спроса и перехода к активной финансовой политике. Многочисленные материалы, как китайские, так и зарубежные, показывают реалистичность намеченной китайским руководством программы социально-экономического развития страны. Что бы ни говорили, но Китай стал одной из немногих стран в Восточной Азии, которая смогла сравнительно безболезненно преодолеть последствия азиатского финансового кризиса 1997 — 1998 гг. и в целом решить кризис внутреннего спроса.
Быстрое развитие внешней торговли вывело Китай в восьмерку стран с наибольшим объемом внешнеторгового оборота. При этом как в экспорте, так и в импорте страны уже в 90-е гг. преобладала продукция машиностроения и транспортного оборудования, а такая структура внешней торговли уже характерна для развитых, а не развивающихся стран. Со 2-й пол. 90-х гг. сохраняется высокий объем привлеченных иностранных инвестиций — от 48 до 65 млрд долл, ежегодно. Стабильное экономическое положение Китая на мировом рынке позволило ему с наименьшими потерями выйти из упомянутого выше азиатского финансового кризиса, сохранить неизменным курс китайского юаня и даже увеличить объем внешней торговли за счет роста экспорта. На наш взгляд, в этой ситуации вступление КНР в ВТО не столько окажет сильное разрушительное воздействие на экономику Китая, сколько экспорт дешевых китайских товаров сможет оказать разрушительное воздействие на экономики многих стран, являющихся членами ВТО.
Более того, не зря в ряде изданий обсуждается вопрос об использовании юаня, а не йены как резервной валюты для стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
Развитие науки, техники и образования в КНР за последнее время шло довольно быстрыми темпами. Расходы на научно-исследовательские работы и освоение достижений науки и техники составляли более 10 % в год, однако пока еще их общий уровень все еще значительно уступает таким странам, как США или Япония. Доля расходов на НИОКР 1 в ВВП Китая в 1999 г. составляла всего 0,8 %, в то время как в развитых странах она составляла не менее 2 %. Такое же отставание от развитых и ряда развивающихся стран сохранялось и в сфере образования. В КНР доля расходов на образование составляла 2,3 % ВВП, в то время как в Японии — 3,6, США — 5,4, Индии — 3,2 %.
В то же время за последние годы Китай совершил рывок в информатике и в производстве средств передачи информации. За последние 10 лет среднегодовые темпы роста информационной сферы в 4 раза опережали рост ВВП. В 2001 г. общий объем производства информационных продуктов превысил 1 трлн юаней, составив 19 % ВВП. Общее число пользователей сети Интернет выросло с 620 тыс. человек в 1997 г. до 22,5 млн в 2000 г. и достигло 70 млн. В 2004 г. китайская пресса писала о том, что Интернет распространяется в Китае со скоростью лесного пожара.
Особенно заметные успехи в 80—90-е гг. были достигнуты в сфере повышения материального благосостояния 1 2. Причем рост жизненного уровня китайского населения выражается конкретно в повышении покупательной способности и приобретении новых потребительских товаров. Если в 80-е гг. это были такие предметы потребления, как холодильники и телевизоры, то в настоящее время многие китайские семьи могут позволить себе купить компьютер, модную одежду, мобильный телефон, домашний музыкальный центр и кинотеатр. Появилось немало семей, которые могут позволить себе приобрести новую квартиру или легковую машину. Тем не менее жизненный уровень населения Китая в целом пока еще значительно отстает от развитых стран как по среднему доходу на душу населения, так и по уровню обеспеченности жильем и медицинского обслуживания.
Для дальнейшего ускорения экономического развития были выдвинуты следующие задачи: совершенствование системы социалистической рыночной экономики, урегулирование экономической структуры, осуществление индустриализации, всестороннее развитие информатизации, ускорение процесса модернизации народного хозяйства при непрерывном повышении жизненного уровня населения.
Наступает новый этап открытости национальной экономики. В связи с этим заслуживает внимания вопрос, кстати, имеющий немалое значение и для Украины как страны индустриально-аграрной, собирающейся вступать в ВТО. Что несет сельскому хозяйству открытие границ? Как полагают в Ки
1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
2 По данным китайской статистики, показатель душевого ВВП вырос с 379 юаней в 1978 г. до 3608 юаней в 2001 г.
тае, интеграция страны в мировую экономику предоставляет ей позитивные шансы, одновременно предъявляя ряд негативных вызовов. Очевидно, что эти шансы позволяют Китаю шире использовать импорт передовой технологии, иностранные инвестиции, новые рынки, тогда как вызовы определяются более низкой эффективностью многих отраслей экономики, высокими издержками производства и, как следствие, их малой конкурентоспособностью на мировых рынках. Поэтому мировые цены обычно ниже внутренних китайских цен.
Наиболее уязвимым является сельское хозяйство, признаваемое в КНР базовой отраслью и одновременно наиболее слабым звеном, «ахиллесовой пятой» китайской экономики. Вызывает опасения то, что даже прирост сельскохозяйственного производства не сопровождается увеличением среднедушевых доходов крестьян, которые в 2,5 раза ниже, чем у городского населения. В результате за счет этого все еще низкий спрос на рынке тормозит развитие экономики. Главным средством адаптации аграрной сферы к мировому рынку является повышение ее эффективности за счет расширения поступления государственных инвестиций, формирование увязки мелкого производства с рынками сбыта, урегулирование разницы в доходах между регионами путем финансовых, налоговых рычагов.
Для зашиты сельского хозяйства в КНР предлагают, используя принципы ВТО, шире применять государственную поддержку сельского хозяйства. Китай отнесен к развивающимся странам и по нормам ВТО уровень такой поддержки не должен превышать 8,5 % стоимости валовой продукции отрасли, то есть 5 млрд долл. В действительности пока он составляет лишь 3,6 млрд долл., то есть существует немалый резерв для повышения защиты отрасли. Однако такой резерв все-таки недостаточен. В связи с этим в Китае намечают ускорить создание системы контроля за качеством продукции, исходя из мировых стандартов и заключенных соглашений в рамках ВТО, а также разработать правовую защиту торговли в условиях ВТО.
Ожидается, что проходящая в настоящее время реформа снизит финансовое бремя 620 млн человек, то есть 3/4 всего сельского населения Китая. Согласно принятой схеме, крестьяне будут уплачивать 7 % от денежного дохода в виде сельхозналога либо немного больше в виде налога на специфическую продукцию сельского хозяйства, и, кроме того, дополнительный налог, который не должен превышать 20 % сельхозналога. Этот дополнительный налог будет использоваться для покрытия накладных расходов волостей и заработной платы волостных работников. По сравнению с 1999 г. реформа снизит финансовую нагрузку на крестьян в размере до 50 млрд юаней.
В Китае считают, что реформа по «замене сборов налогами» представляет собой третью важную революцию в деревне после земельной реформы 50-х гг. и перехода к системе подрядной ответственности крестьянских дворов в конце 70— начале 80-х гг. прошлого столетия. Центральное правительство выделяет определенные средства на проведение реформы «по замене сборов налогами», но наряду с этим требует, чтобы поселковые и уездные правительства развивали несельскохозяйственные виды бизнеса для обретения новых источников поступления средств в целях повышения доходов крестьян.
Наконец, весьма важным представляется еще одно направление финансовой политики китайского правительства. Оно связано с развитием и реорганизацией банковской системы. Суть проблемы заключается в том, что в течение длительного периода государственные коммерческие банки («большая четверка»), представляющие собой стержень банковской системы страны, осуществляли кредитование госпредприятий без учета кредитоспособности этих предприятий, что привело к накоплению огромной непогашенной задолженности. Это вызвало крупные потери банков и стало главной причиной возникновения в больших размерах недействующих, или «плохих» кредитов — главного тормоза реформирования банковской системы.
Для выхода из сложившейся ситуации в 1999 г. были созданы 4 государственные компании, которые должны были взять на себя управление «плохими» кредитами и приложить усилия для преобразования их в акционерный капитал. Эти компании взяли на себя обязательство реализовать недействующие кредиты в размере 1,4 трлн юаней. Для этого используются различные методы, включая реорганизацию предприятий, аукцион, контракт, банкротство, продажу, получение котировок акций.
Вопросом чрезвычайной важности для развития Китая является социальная составляющая реформ. Ведь в такой многонаселенной и все еще бедной стране от этого напрямую зависит уровень стабильности.
КНР стала одной из немногих стран, где вносимая в ходе рыночного реформирования экономики социальная плата, а именно: имущественная дифференциация, не полностью гарантированная занятость, замена прежних бесплатных социальных услуг системой долевого участия государства, предприятий и самих граждан в оплате образования, здравоохранения, жилья и т.п., оказалась подъемной, посильной для населения. Это представляется принципиально важным, ведь качественные параметры жизни рядового китайца постепенно, но верно улучшались на протяжении всех лет реформы.
Именно на основании этого, в первую очередь, следует говорить о рыночной реформе в КНР как о социально ориентированной. Отрицание социально ориентированного характера китайской реформы, а тем более утверждение об огромной социальной цене за экономический прогресс в КНР, как это делают некоторые ученые, ссылаясь на низкие среднедушевые показатели ВВП в КНР или на некоторые статистические стандарты международных организаций, некорректно и не основано на анализе всей совокупности прежних и нынешних социально-экономических реалий страны.
Характерно, что и в условиях нарастающих социальных трудностей после более активного со второй половины 90-х гг. проведения рыночных преобразований на крупных и средних государственных предприятиях в КНР продолжается рост реальных доходов трудящихся. Согласно официальным данным, фактическое увеличение средних доходов рабочих и служащих в городах и поселках составило 6,4 % в 2000 г. и 8,5 % в 2001 г., крестьян — соответственно 2,1 и 4,2 %. Только в 2001 г. число бедняков на селе сократилось на 4 млн человек.
Основываясь на вышеназванных фактах, никак нельзя согласиться с теми, кто утверждает, что сегодня экономический рост нужен Китаю «сам по себе, а не для решения социальных проблем». Не только факты, но и само
название доклада Цзян Цзэминя на съезде «Всесторонне вести строительство среднезажиточного общества и создавать новую обстановку для дела социализма с китайской спецификой» — опровергают это.
Постановка съездом задачи достижения сяокан для всего китайского общества (к концу XX в. уровня сяокан достигло примерно 70 % населения страны) свидетельствует о последовательных шагах китайского руководства для решения им же выработанной стратегической задачи избавления страны от бедности и отсталости и построения в конечном счете мощного и богатого государства. Таким образом, отказавшись от мышления категориями классового антагонизма, в КНР по существу сделали ставку на мобилизацию всех элементов, способных работать на создание могучего и богатого государства.
И тут выходит на повестку дня проблема соотношения «ядра» идеологии и вводимых инноваций. Логичный вопрос: «При каком масштабе экономических инноваций совершается переход к новому качеству, происходит смена политической идеологии?» Новые цивилизационные просторы вне Китая, на которые он выходит, несовместимы ни с догматическим социализмом, ни с архаикой капитализма, ни с расплывчатой моралью «третьего пути» в трактовке западных теоретиков. Понятно, что туда нужно идти с чем-то новым и свежим.
Китай, очевидно, движется в направлении создания совершенно нового общественного строя и идеологии нового типа, но, осознавая необходимость подлинного «идеологического прорыва», пока предпочитает выжидать, оставаться в этакой «позе умолчания». Это демонстрирует, в частности, затянувшееся молчание по поводу характера китайского общества. Можно трактовать это как свидетельство того, что «Китай не желает связывать себя идеологическими путами», «не спешит с характеристикой строя». Но, как мы знаем из самой китайской философии, каждое явление должно иметь свое «имя». Так что можно с уверенностью утверждать, что спустя какое-то время мир будет иметь дело с действительно новым Китаем. Некоторые черты этого явления можно выделить уже сегодня:
Во-первых, это особый акцент на «национальном возрождении», что выглядит как корректировка традиционного «классового подхода».
Во-вторых, ряд новых моментов в определениях «общественного» и «частного», в интерпретации тезиса о «господстве общественной собственности на средства производства», в поисках нового определения процесса разгосударствления как «демократизации собственнических отношений». Здесь явно вырисовывается нечто вроде «народного капитализма».
В-третьих, уход от прежнего лозунга о «социальной справедливости» как уничтожении эксплуатации человека человеком и обращение к проблемам причин и последствий имущественной дифференциации, рациональной занятости, создания системы социального обеспечения. Показательно отсутствие комментариев к дэнсяопиновскому тезису «пусть одни обогащаются раньше других».
Ряд политологов предложили в свое время деление послереволюционного периода на три этапа: харизматическое руководство, переходный этап, институционализированное руководство. В настоящее время, если придерживаться этой схемы, в Китае заканчивается переходный этап, включивший
в себя и хозяйственную реформу. На повестку дня выходят серьезные институциональные преобразования, к числу которых относится изменение (разделение) государственных функций.
Согласно общим теоретическим представлениям, государство несет три основные управленческие функции — административное управление, макрорегулирование и выполнение роли собственника.
В докладе Цзян Цзэминя на XVI съезде было заявлено, что «обязанности капиталовкладчика (т. е. собственника) по отношению к крупным госпредприятиям, инфраструктуре, важным видам природных ресурсов и т. д., которые представляют собой командные высоты народного хозяйства и касаются государственной безопасности, будет от имени государства выполнять Центральное правительство. В отношении же остального госимушест-ва обязанности капиталовкладчика от имени государства возлагаются на местные правительства». Одновременно было указано на необходимость продолжения поисков по созданию эффективной системы управления го-симушеством.
Уже 4 декабря 2002 г. появилось сообщение об организации Комитета по управлению государственной собственностью, который, в отличие от прежде созданного, не будет входить в структуру правительства.
XVI съезд КПК закрепил на высшем партийном уровне наметившиеся в последние годы тенденции экономического и политического развития Китая в направлении глобализации и либерализации китайской экономики, постепенной демократизации общества, но при сохранении всей полноты власти в руках КПК. Основные решения съезда, бесспорно, носят характер программы и имеют стратегическое значение для Китая. Они содержат принципиальные политические и идеологические новации, на которые китайское руководство идет вслед за трансформацией национальной экономики в рыночном направлении и соответственно переменами в китайском обществе.
Показательно, что в Китае каждый съезд партии не объявлялся «историческим», а каких-либо принципиальных изменений и нововведений в экономическую стратегию не вносилось. Тем самым сохранялась преемственность прежнего курса. При этом на новых лидеров Китая возлагалась ответственность за реализацию и корректировку будущего курса развития Китая.
Ключом к пониманию логики мышления и мотивации принятия решений китайскими лидерами является понятие «стабильность». Высшее китайское руководство, на своем опыте знающее о трагедиях «культурной революции» 60-х гг., кризисе политической власти, поставившем страну на грань гражданской войны в 70-е гг., о студенческих волнениях 1989 г., во главу угла своих действий ставит именно задачу сохранения социальной и политической стабильности более чем миллиардного китайского общества. Китайские лидеры прекрасно понимают, что стабильность является гарантией и условием сохранения власти в руках КПК, но для обеспечения стабильности нужны высокие темпы экономического развития, постоянное осязаемое людьми улучшение социальных условий их жизни и единство общества. КПК вправе рассчитывать на свою легитимность, пока она обеспечивает стабильный экономический рост и избегает острой внутриполитической борьбы.
Основой сохранения политической власти в своих руках китайское руководство считает поддержание баланса между реформой, развитием и стабильностью на основе стратегических рыночных постулатов Дэн Сяопина, в глазах современных китайских лидеров — человека, положившего конец периоду хаоса и смуты.
Главное условие укрепления власти КПК в стране с более чем миллиардным населением — поддержание экономического роста. Пока КПК доказывает делом, что она способна справиться с этой задачей, позиции партии остаются прочными. Вместе с тем главными факторами экономического роста КНР выступают интеграция страны в мировое рыночное поле, либерализация финансовой политики, приватизация госпредприятий, рост частного капитала. Однако развитие именно на этой основе неизбежно приводит к противоречию между экономическим плюрализмом и монополией партии на власть.
Вместе с тем было бы неверным считать, что данное противоречие разрешимо лишь через политический кризис, хотя и такой вариант развития событий нельзя полностью исключать. У КПК есть шанс использовать свою монопольную власть ради сохранения стабильности в обществе как можно дольше, пока такого рода и такой цены стабильность продолжает обеспечивать рост экономики, углубление реформ и интеграцию в глобальную экономику.
Превращение Китая в экономически развитое и процветающее государство (ориентировочно, на уровне Южной Кореи и Тайваня 80—90-х гг., когда в этих странах начался процесс демократизации) должен создать в перспективе социальную основу, на которой либо будет реализован заранее многоходовой, подготовленный вариант политических реформ в Китае, либо общество более или менее спокойно перенесет политический кризис, сопровождающий «быстрые» политические трансформации.
За истекшие годы реформирования, и особенно за последнее десятилетие, Китай сумел достичь внушающих уважение результатов. Притом не только в виде цифровых показателей стабильного экономического роста и качественного укрепления суммарной моши государства, в том числе и существенного улучшения благосостояния большинства населения, но и в виде создания в стране фундамента уверенности в двух аспектах. Во-первых, в возможности выполнения намеченной стратегической программы модернизации. Во-вторых, в укреплении убежденности в том, что КНР уверенно идет к превращению в подлинно мировую силу, буквально на глазах превращается в одну из ведущих держав мира.
Похоже, что китайские руководители третьего и четвертого поколений сознательно и взвешенно стараются превратить такое самосознание и усиливаемое им чувство национального достоинства и национальной гордости в общенациональный политический, идейный и психологический фактор, который призван способствовать более эффективному выполнению намеченных масштабных планов дальнейших преобразований и тем самым играть роль движущей силы для ускорения дела модернизации страны, или, если воспользоваться еще одной, более развернутой установочной формулой Цзян Цзэминя, «ускорения социалистической модернизации в интересах превращения социалистического Китая в развитую могучую страну и внесение более
весомой лепты в дело прогресса человечества». Это — основная и главная установка, которой предстоит руководствоваться всей политике Китая в первой половине XXI в.
Выступая на открытии Форума о реформах Китая на высоком уровне в Пекине, заместитель премьера Госсовета КНР Цзэн Пэйянь заявил, что следующие несколько лет станут «ключевым периодом» реформы Китая. Для нового прорыва китайскому правительству предстоит принять эффективные меры, гарантирующие реализацию научной концепции развития и построение гармоничного социалистического общества. Вице-премьер КНР отметил, что за 20 с лишним лет проведения политики реформ и открытости в Китае сформированы основы социалистической рыночной экономики, базирующейся на общественной собственности в сочетании с развитием всех других хозяйственных укладов; постепенно совершенствуется система распределения, в которой доминирующим остается распределение по труду, но допускаются и другие виды распределения; ускоренными темпами создается система социального обеспечения; реализуется политика всесторонней открытости. Наряду с этим на пути развития и реформ существуют некоторые трудности и проблемы, а также возникают новые серьезные социальные противоречия.
Приоритетным направлением дальнейшей реформы Цзэн Пэйянь назвал ускорение реформирования административно-управленческой системы, укрепление основ экономической системы, совершенствование рынка, продвижение реформы финансовой системы, углубление реформы налоговой и инвестиционной систем '.
Разумеется, все это не означает, что Китаю уготован гладкий и легкий путь в будущее. Сложных и трудных проблем у него на этом пути более чем достаточно.
Говоря о достижениях и успехах Китая, вместе с тем нельзя закрывать глаза на те огромные новые проблемы и вызовы, с которыми он сталкивается уже и столкнется в будущем. К настоящему времени реформы исчерпали потенциал экстенсивного развития страны. КНР подошла к новому рубежу, когда для успешного продвижения по избранному пути необходимо задействовать факторы интенсивного развития — наукоемкие, ресурсосберегающие технологии, осуществить комплекс мер по защите окружающей среды, изменить организацию многих промышленных производств, выработать отвечающие условиям Китая и его возможностям структуру потребления и образ жизни в городе и деревне. Быстрый процесс урбанизации, возникновение огромных мегаполисов делают острейшими проблемы транспорта, энергоснабжения, жилья, отдыха, здравоохранения, образования, трудоустройства и т. д.
Нынешнее развитие рыночных отношений в Китае и неравномерность экономического развития, возникший разрыв между быстрорастущими и набирающими силу приморскими районами и отсталыми внутренними провинциями с их углубляющейся бедностью и истощением ресурсов создают
1 Синьхуанет. — Пекин, 13 июля 2005 г. (на кит. яз.).
острую не только экономическую, но и социально-политическую проблему. Она придает всем этим явлениям оттенок межнациональных противоречий, поскольку большинство национальных меньшинств (а их численность в Китае составляет около 100 млн человек) проживает именно во внутренних районах страны.
В идеях «тройного представительства» обрела также законченную формулу идея о необходимости развития производительных сил, определяющая практическую деятельность партии в новых социально-экономических и внешнеполитических условиях. Мысль о необходимости развития производительных сил страны должна быть воспринята в сознании китайцев как некая общая цель всех народов Китая, без осуществления которой невозможно развитие национальной культуры и удовлетворение материальных потребностей большинства населения страны.
Идеи «тройного представительства», особенно акцент на приоритете развития производительных сил, имеют важное значение для расширения и углубления экономического сотрудничества и связей с развитыми странами. Отсутствие упоминания о классовом характере социализма с китайской спецификой представляет Китаю возможность добиваться интеграции своей рыночной экономики в мировую экономическую систему, участвовать в процессе глобализации. Концепция «тройного представительства» вполне предназначена для того, чтобы показать миру, что отныне не только практическая политика, но и идейно-теоретические новации руководства КПК будут служить превращению ее в прогрессивную респектабельную партию не только рабочих и крестьян, но и в партию, которая считает себя ответственной за главное в жизни государства и общества — развитие производительных сил страны — и на базе борьбы за достижение этой эпохальной задачи объединяет все социальные слои китайского общества.
Китайская цивилизация в условиях глобализации
За последние годы в международных отношениях отчетливо проявились тенденции, которые позволяют говорить о начале нового политического этапа. Период, сменивший эпоху «холодной войны», завершен. Грядущие события едва ли возможно предсказать, однако основные тенденции и факторы, которые определят будущее развитие, очевидны уже сейчас.
Китайское руководство понимает, что строительство Великого процветающего Китая — дело весьма непростое. Так, Цзян Цзэминь предупредил, что «нужно трезво смотреть на тот суровый вызов, который бросает все более ожесточенная международная конкуренция, на те трудности и опасности, которые стоят на нашем пути вперед».
Эта установка конкретизирована в развитии той внешнеполитической стратегической платформы, которая была определена на XII и последующих партийных съездах пореформенного периода. Конечно, она осуществляется с учетом очень серьезных изменений в международной обстановке, однако неизменными остаются приверженность политике открытости и обеспечения мирной международной среды для дальнейшего продвижения вперед по пути, как формулируют в Китае, «реформ, открытости и социалистической
модернизации». Отсюда проистекает плотная сопряженность внешнеполитических решений с установками на всестороннее преобразование экономики на принципах рыночного социализма «с китайской спецификой», а также во всех других областях внутреннего строительства страны и укрепления системы руководства КПК в государстве и обществе.
«Строительство социализма с китайской спецификой» — это главная суть программы построения современного Китая. Оно подразумевает, в частности, высокую активность во всей внешнеполитической работе и международных связях КНР. Ибо — и в этом исходная оценка положения дел в мире — в международной обстановке происходят глубокие перемены. Зигзагообразно (т. е. в противоречиях и столкновении интересов) идет развитие тенденции к многополярности мира и экономической глобализации, стремителен научно-технический прогресс, все больше обостряется конкуренция по совокупной государственной мощи. «Поэтому, — подчеркивается в работах Цзян Цзэминя, — ситуация вынуждает идти вперед, чтобы не отойти назад». Это очень емкая характеристика. Ее подтекст такой — отступать Китаю некуда, нужно только продвигаться вперед.
Логично развить такой вывод до предположения о том, что в этих условиях Китай будет стремиться не только не допускать отставания, но, по возможности, все больше брать на себя ответственную роль в делах мира, международных отношениях. «Наша партия обязана твердо стоять во главе веяний эпохи», — сказал Цзян Цзэминь, повторив три «великие исторические задачи» Китая, которые впервые были определены Дэн Сяопином еще на XII съезде КПК в 1982 г. и которые передавались на протяжении 80—90-х гг. от съезда к съезду по эстафете стратегических целей КПК: продвижение вперед дела модернизации; завершение объединения Родины (т. е. решение тайваньского вопроса); защита мира во всем мире и стимулирование совместного развития.
Реализовать стратегические задачи своего внешнеполитического курса КПК и руководимое ею государство намерены на основе развития «основного опыта» и принципов, выработанных за годы реформ и открытости. Заметим, что в Китае опыт всегда считался ценнее любых теоретических выкладок и рассуждений. В этом также проявляется прагматизм и практичность китайского менталитета. Согласно главной установке: «проводя самостоятельную и независимую внешнюю политику, защищать мир во всем мире, стимулировать совместное развитие». Обращает на себя внимание также положение о том, что важно всегда ставить на первое место суверенитет и безопасность государства. Китай вплоть до середины 1990-х гг. следовал завету Дэн Сяопина «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа» (тао гуан ян хуэй) *.
1 Авторы ежегодного доклада Министерства обороны США американскому Конгрессу за 2004 г. ссылались на известный завет Дэн Сяопина из 24 иероглифов: «Наблюдать хладнокровно, реагировать сдержанно, стоять твердо, скрывать свои возможности и дожидаться своего часа, никогда не брать на себя лидерство и быть в готовности кое-что совершить». Следует заметить, что китайцы большие мастера по постановке политических спектаклей, предназначенных для иностранцев. Если добавить к этому изначальную размытость и многозначность смысловых значений иероглифов, то можно понять, почему то или иное действие Китая или политическое явление эксперты разгадывают, как шарады.
Примерно с 1996 г. китайские руководители, отойдя от шока, которым стал распад СССР, стали постепенно отказываться от этой установки и проводить в жизнь новую, более активную концепцию безопасности, основанную на сотрудничестве и взаимопомощи.
Уже сегодня КНР занимает пятую строчку в списке крупнейших экономик планеты и четвертую — по объему внешней торговли. Поставлена, как представляется, вполне реальная цель — к 2020 г. увеличить в четыре раза ВВП по сравнению с нынешними показателями, то есть до уровня более 4 трлн долл. США. При сохранении нынешних темпов роста эта цель вполне достижима.
С точки зрения некоторых китайских исследователей стратегии Китая, мир в настоящее время переживает переходный этап. На этом этапе единственная сверхдержава сосуществует с рядом сильных держав. Утверждение многополярности предполагает, что дистанция между ними будет сокращаться, и число сильных держав возрастет. Затем среди сильных держав выделятся наиболее сильные. Вместе с тем среди последних усилится тенденция к регионализации, формированию мощных регионов. Многие китайские ученые, рассуждая о плюсах и минусах глобализации, подчеркивают, что альтернативы ей нет, и нужно, принимая эту реальность как данное, сделать все возможное для того, чтобы вывести Китай на передовые позиции в мире. При этом они признают, что потери для Китая в процессе глобализации также будут немалыми, но в конечном счете победа будет за Китаем.
Очевидно, что «установка на мир» вытекает и из внешнеполитических, и из внутренних задач, сформулированных на съезде. Был сделан вывод о том, что «развитие тенденции к мультиполяризации и глобализации экономики создало шансы и благоприятные условия для мира на Земле и ее развития» и что в обозримый период времени новая мировая война не вспыхнет.
Вместе с тем, констатируется — «мир все еще очень неспокоен, и человечество стоит перед лицом многообразного сурового вызова»: переплетаются старые и новые факторы угрозы безопасности, растет опасность терроризма, то и дело вспыхивают локальные конфликты на почве национально-религиозных противоречий, пограничных и территориальных споров, еще больше увеличивается разрыв в уровне развития Юга и Севера.
Меры, предложенные руководством Китая для решения названных проблем, в целом являются конструктивными, нацеленными на поиски мирного пути и смягчение противоречий и споров. Китай выражает готовность «совместно с народами мира охранять общие интересы всего человечества, активно стимулировать мультиполяризацию мира, выступать против всех форм гегемонизма и силовой политики и сообща продвигать вперед благородное дело мира во всем мире и развития». Лидеры Китая говорят о стремлении «стимулировать гармоничное сосуществование различных сил и поддерживать стабильность международного сообщества».
Руководители Китая подчеркивают активную позицию своей страны в вопросе борьбы с международным терроризмом. Особо выделяется необходимость того, чтобы активно стимулировать развитие экономической глобализации в направлении, благоприятном для совместного процветания, «выявлять ее плюсы и избегать ее минусов, давать всем странам, но особенно
развивающимся, извлекать из нее пользу». Эти принципы демонстрируют заинтересованность Китая в поддержании стабильной и спокойной международной обстановки, благоприятствующей возможности выполнения в намеченных объемах и сроках программы реформ и развития страны.
В течение последнего десятилетия Пекин принимал активное участие в разрешении ряда кризисных и сложных международных ситуаций, в широких консультациях и переговорах на двустороннем, региональном и глобальном уровнях. Возможно, не без влияния такого рода внешнеполитической и дипломатической практики последних лет, в документах съезда следующим образом сформулирована установка для внешней политики Китая: «Решать международные дела согласно курсу на хладнокровное наблюдение и сдержанную реакцию и в соответствии с духом взаимного уважения и изыскания общего при сохранении разногласий». Можно предположить, что эта установка по-своему свидетельствует о готовности Китая стать более активным —«стратегическим» и «тактическим» игроком в международной политике.
Содержание внешнеполитических усилий Китая в обозначенных решениями съезда временных рамках первой половины XXI в. — «на третьем шаге модернизации», будет во многом определяться необходимостью наступательной, энергичной внешнеэкономической политики и со стороны государства, и по линии негосударственных секторов китайской экономики. Есть основания полагать, что политика КНР в сфере внешнеэкономических связей будет характеризоваться особым динамизмом. На съезде было объявлено, что на новом этапе эта политика станет функционировать на основе принципа «привлечения к себе в сочетании с собственным выходом за границу», со «стратегией выхода за границу».
Судя по оценкам экспертов по внешней торговле и внешнеэкономической деятельности КНР, область китайских интересов в этих вопросах распространяется практически на весь мир. Прежде всего сказанное относится к сопредельным — Юго-Восточной и Центральной Азии, России и государствам Тихоокеанского бассейна, особенно, как можно понять, к тем, что богаты сырьем и природными ресурсами. При этом не остаются без внимания и более отдаленные регионы и континенты, такие, как Восточная Европа, Африка, Латинская Америка.
Активизация внешнеэкономической деятельности — настоятельная, неотложная в повестке дня цель китайской политики на новом этапе открытости. Как отметил в докладе Цзян Цзэминь и записал в своей резолюции съезд, первые двадцать лет XXI в. для Китая — «период наиболее важных стратегических шансов, за которые необходимо крепко ухватиться и которые дают возможность многое сделать». Уместно заметить, что многократно используемый в партийно-государственных документах съезда термин «совместное развитие», также, вероятно, служит обозначением более активной позиции Китая в вопросах международных экономических связей и внешней политики в эпоху глобализации и с учетом его присоединения к ВТО.
Заслуживает внимания и принципиальный момент подхода XVI съезда к международным делам — акцентированная постановка на нем вопроса о самобытности и первопроходческой сути пути развития Китая к «социализму
с китайской спецификой» и его перспективах в социально-экономическом и социально-политическом контексте мирового развития.
Китай внешне демонстрирует свое расположение к США, что же касается Западной Европы, то здесь Пекин специально сделал упор на Германию и Францию, всячески культивируя отношения с ними, внимательно отслеживая их отношения с США и стремясь заинтересовать их экономически. Немалую роль тут играет желание добиться отмены эмбарго, введенного Европой после трагических событий 1989 г., и действующему до сих пор. Только благодаря активному нажиму со стороны США европейцы отложили принятие решения об отмене эмбарго на неопределенный срок. Китай стремится противопоставить сильному идеологическому давлению Запада чувства китайского патриотизма, национализма и китайской этнической солидарности, что в конечном счете должно, по мнению китайского руководства, «нейтрализовать», выражаясь китайской терминологией, его «засахаренные снаряды».
Одновременно Китай, призывая проявлять бдительность в отношении идей либерализма и попыток навязать западные системы ценностей, модели демократии и прав человека, заявляет, что готов вести диалог по этим вопросам. Принимаются и пропагандистские меры. Например, создан мощный сайт, освещающий положение с правами человека в Китае. Издаются сборники, посвященные нарушению прав человека в США.
В Пекине подчеркивают неизменность курса открытости внешнему миру. Из китайских средств массовой информации уже давно исчезли прежние штампы и лозунги антиимпериалистической пропаганды, столь популярные всего несколько лет назад.
Некоторые эксперты в Китае считают, что распад СССР создал весьма благоприятный шанс для развития Китая и повышения его роли в мире. Симптоматично, однако, что Пекин отказался занять вакантное место лидера в антизападном лагере. Очевидно, там решили, что быть лидером незападного мира — для Китая непозволительная роскошь. Как заявил Дэн Сяопин, «Китай не стремится к гегемонии, не будет стремиться к ней даже тогда, когда он станет развитым государством». Это один из предметных уроков, которые Пекин извлек из краха СССР.
Примечательный аспект в документах XVI съезда — это то, что в них не сделано никаких уступок в направлении признания возможности при проведении реформ в политической системе Китая использования каких-то стандартов и мерок западной демократии — в этом остром вопросе диалога Пекина с Западом. Может быть, это в какой-то степени связано с определенными внутрипартийными и внутриполитическими моментами при утверждении в решениях XVI съезда и в пересмотренном Уставе КПК новых «важных идей тройного представительства». Однако думается, что исходные позиции здесь более глубокие и принципиальные. В материалах съезда просматривается стремление отмежеваться от трактовок и оценок задач китайского курса реформ в интерпретации, которая дается им и консервативными, и либеральными кругами в политическом истеблишменте и средствах массовой информации Запада.
Откровенным в этом отношении было следующее высказывание Цзян Цзэминя относительно преобразований в политической системе Китая: «Ва
жно, продолжая исходить из наших собственных национальных реалий, подытоживать свой практический опыт и в то же время учитывать полезные достижения политической культуры человечества, но при этом ни в коем случае не копировать модель политической системы Запада». В принципе, положение это не новое для позиции руководства КПК, и оно не раз произносилось в той или иной форме ее лидерами, в том числе с трибун съездов партии, однако случайно ли то, что его сочли нужным повторить и на этот раз?
В этом смысле показательные акценты сделаны и в форме, прозвучавшей на съезде высокой оценки международного значения «отстаивания» в конце 80-х и начале 90-х гг. XX в. «великого дела социализма с китайской спецификой». Тогда, по определению Цзян Цзэминя, «развитие дела социализма у нас оказалось перед лицом небывало огромных трудностей и небывало большого прессинга»: в Китае «возникли серьезные политические волнения, острые изменения произошли в Восточной Европе, Советский Союз распался, и мировой социализм сделал серьезный зигзаг. Но именно в этот важный исторический момент, решавший перспективы и судьбу нашей партии и страны, ЦК КПК успешно стабилизировал общую обстановку реформы и развития и отстоял тем самым великое дело социализма с китайской спецификой» 1.
В прямой связи с твердым подтверждением права Китая на независимое и самостоятельное определение собственного пути общественного прогресса находятся и положения о том, что Китай «выступает за плюрализм моделей развития»; о том, что «существующие в мире цивилизации, неодинаковые общественные устройства и пути развития должны пользоваться взаимным уважением, в процессе конкуренции и сопоставления заимствовать друг у друга все полезное и совместно развиваться на основе того, что есть у них общего, при сохранении различий. Дела той или иной страны должны решаться ее собственным народом, а дела планеты — на основе равноправных консультаций всех стран».
Поставлена задача культивирования «великого национального духа китайской нации». Кстати, Цзян Цзэминь ставит рядом понятие суверенитета государства и достоинства нации. «Перед лицом взаимного столкновения разных идеологий и культур в мировом масштабе развитие и культивирование национального духа необходимо включать в весь процесс народного образования и весь процесс строительства духовной культуры», так как, согласно формуле Цзян Цзэминя, «ядро национального духа составляет патриотизм» и он «выражается в сплоченности и единении, миролюбии, трудолюбии, мужестве и неустанном стремлении вперед».
Сплоченность всех народов Китая, единство китайской нации и стабильность страны, о которых многократно говорится повсеместно, — это залог успеха «исторического похода к великому возрождению китайской нации».
Таким образом, Китай, за два десятилетия реформ в 6,3 раза увеличивший свой валовой внутренний продукт, обладающий мощными вооружен-
См. подробнее об этом: Галенович Ю. М. Наказы Цзян Цзэминя. — М., 2003. — С. 210-213.
ными силами и ставящий перед собой далеко идущие цели, однозначно заявляет о том, что намерен и впредь придерживаться конструктивного и мирного внешнеполитического курса. «Как бы ни менялась международная ситуация, Китай будет неизменно проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику, призванную защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию».
Вместе с тем во внешнеполитическом разделе доклада Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя на съезде содержится ряд новых моментов, которые заслуживают внимания.
По оценке китайских стратегов, развитие тенденции многополюсности и глобализации создало благоприятные возможности для международного мира и развития. В то же время, как отмечал Цзян Цзэминь, в современном мире возникают новые формы проявления гегемонизма и политики силы, традиционные факторы угрозы безопасности переплетаются с нетрадиционными.
Осудив террористические акты 11 сентября 2001 г., терроризм во всех его формах и проявлениях, Китай однозначно высказался за наращивание международного сотрудничества в борьбе с этим злом и выразил готовность активно участвовать в ней. Пекин поддержал антиталибскую операцию в Афганистане, наладил двустороннее антитеррористическое взаимодействие с целым рядом стран, прежде всего с США. Деятельное подключение Китая к усилиям мирового сообщества по борьбе с терроризмом, взвешенная и предсказуемая политика снискали ему высокий международный авторитет и открыли для его дипломатии новые горизонты.
На первое место в своем докладе Генеральный Секретарь ЦК КПК поставил необходимость улучшения и развития отношений с развитыми странами, на второе — с соседними государствами, на третье — с развивающимся миром. Примечательно, что на XV съезде КПК последовательность была иной: соседние государства, развитые страны, развивающиеся страны.
Новый тезис о корректировке в изменившихся условиях отношений между крупными державами касается в первую очередь отношений со США. В Пекине заявляют, что Китай и США, будучи великими державами, имеющими общие интересы по широкому кругу важнейших вопросов, должны развивать диалог и усиливать координацию в международных и региональных делах. Показательно, что одновременно с китайско-американским сближением завершился и 15-летний «марафон» переговоров о вступлении Китая в ВТО.
Несмотря на односторонний выход США из Договора о противоракетной обороне (ПРО), Китай остался на весьма умеренных позициях в вопросах стратегической безопасности. В Пекине приветствовали подписание российско-американского Договора о сокращении СНВ (стратегических наступательных вооружений). Китай поддержал усилия России по выстраиванию новых отношений с НАТО, приветствовал учреждение Совета Россия — НАТО, а впоследствии и сам установил с альянсом рабочие контакты. В то же время Пекин выступает против намерения Вашингтона развернуть национальную ПРО, против американо-японских планов создания ПРО ТВД (противоракетная оборона на театре военных действий), которая должна охватить целый ряд стран — соседей Китая в Азии. Категорически неприемле
мым является для КНР какое-либо подключение к этим планам Тайваня. В Пекине справедливо полагают, что хотя официальной целью реализации данного проекта является борьба со странами «изгоями», отнесенными по американской классификации к «оси зла», основной задачей является стремление «обуздать» Китай.
В Азии сегодня налицо тенденция к формированию регионального экономического центра — мягкого интеграционного блока, способного через десятилетие стать мощнейшим средоточием экономической силы. Такой блок может основываться на Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Не исключено, что подобного рода альянс в конце концов перерастет в формальное интеграционное объединение наподобие Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) или Европейского экономического сообщества (ЕЭС) прошлых лет. Возможно усиление юаня, иены и рупии за счет доллара. Азиатский банк развития с марта 2006 г. использует Азиатскую валютную единицу (аку), которая привязана к валютам азиатских стран и представляет аналог европейской валютной единицы (экю). Как известно, экю через 20 лет после введения превратилась в хорошо известное всем евро.
Все это дает основания утверждать, что в начале XXI в. локомотивом мировой политики все больше становятся страны Азии, добившиеся успехов в своих реформах и имеющие, по оценкам специалистов, оптимальные перспективы для будущего развития. В голове этого процесса находится Китай, за которым с небольшим отставанием следует Индия. Мнения специалистов расходятся в том, изменится ли ситуация с лидерством Китая. Так, ряд экономистов считают, что слишком большой объем иностранных инвестиций в китайскую экономику несет угрозу для будущего. Понятно, что не следует путать эти страны с Азией традиционной (то, что у нас традиционно носило имя «азиатчины»), не сумевшей вписаться в процессы глобализации и потому обреченной на отставание.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — альтернатива однополярному миру?
Стремясь играть более активную роль в области стратегической стабильности, Китай выдвинул новую концепцию безопасности, основными принципами которой являются равенство всех государств, взаимная выгода, взаимное доверие и взаимное уважение. Примером реализации указанных принципов в Пекине считают созданную по инициативе КНР Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). За последние годы Китай завершил урегулирование пограничных проблем с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном. Китай видит в ШОС важный инструмент укрепления безопасности и развития многостороннего сотрудничества в Центральной Азии, предпринимает усилия в целях скорейшего организационного оформления и развертывания практической деятельности Секретариата ШОС в Пекине и Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.
25 апреля 1996 г. во время визита президента России Ельцина в Китай председатель КНР Цзян Цзэминь, президент России Ельцин, президент Ка
захстана Назарбаев, президент Кыргызстана Акаев и президент Таджикистана Рахмонов встретились в Шанхае и подписали «Соглашение между Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой Кыргызстан и Республикой Таджикистан относительно укрепления доверия в военной сфере в пограничных районах». Это соглашение имело важное значение не только для безопасности 5 стран, но и для мира и стабильности в АТР и во всем мире. Шанхайская организация сотрудничества официально была учреждена 15 июня 2001 г. Странами-членами ШОС являются Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Позже к ним присоединился Узбекистан. К настоящему времени четыре страны — Монголия, Пакистан, Индия и Иран — стали странами-наблюдателями ШОС. Кроме этого, статус наблюдателя получили Индия, Пакистан, Иран и Монголия.
Эксперты сходятся в том, что Шанхайская организация сотрудничества создана, прежде всего, для увеличения политического веса России и Китая. И эта задумка реализуется полным ходом. Вторая цель — борьба с исламским терроризмом в Средней Азии. Эта цель тоже реализуется. Третья цель — это некоторое ограничение американской мощи, которой все побаиваются. Правительства стран Центральной Азии как огня боятся распространения «цветных революций», полагая, что главным режиссером являются США. В экономике со временем тоже скорее всего возможно развитие, особенно в части осуществления крупных межгосударственных проектов. Здесь, однако, есть проблемы, поскольку возможности России и Китая слишком разнятся.
Тем не менее, уже на Совещании Совета глав правительств ШОС в октябре 2005 г. велась речь о пилотных проектах Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанной до 2020 г., включая строительство гидроэлектростанций, улучшение автодорог, прокладку оптико-волоконных коммуникаций и т.п. Обсуждалось освоение нефтегазовых месторождений и прокладка нефте- и газопроводов. Были приняты решения о создании неправительственных структур, которым суждено сыграть ключевую роль в продвижении взаимодействия в сфере бизнеса, — Фонда развития и Делового совета ШОС.
У Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) имеется огромный потенциал для расширения в будущем регионального экономического сотрудничества. Так считают, в частности, китайские ученые. Так, выступая 10 ноября 2005 г. на проходившем в г. Сиань 1-м Евразийском экономическом форуме, заведующий отделом внешнеэкономических исследований Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Чжао Цзиньпин привел интересные цифры. По утверждению китайского эксперта, если в регионе ШОС будет успешно осуществлена экономическая интеграция, то к 2020 г. он будет обеспечивать до 30 % глобального ВВП. Китайский ученый считает, что условия для этого частично уже имеются. Так, по данным Всемирного банка, за 2003 г. общий объем ВВП стран ШОС уже достиг 70 % этого показателя для стран Евросоюза. В 2004 г. население в странах-членах ШОС достигло 1,49 млрд человек, их общая территория составила 30,2 млн км2, ВВП достиг 2,3 трлн долл. США. Нужно ли говорить о том, что основу всего этого составляет Китай?
В глобальном плане каждая из стран стремится в настояшее время с помощью региональной экономической интеграции способствовать собственному развитию и развитию экономики всего региона. Чжао Цзиньпин полагает, что ШОС уже является полноценной региональной структурой с точки зрения международного права, а ее члены стремятся к укреплению торгово-экономического взаимодействия и экономической интеграции. Некоторые из них уже добились существенного прогресса, пойдя по пути создания региональных экономических структур сотрудничества с другими странами, другие выстраивают двусторонние, субрегиональные отношения для развития свободной торговли 1.
Китай добивается скорейшего превращения ШОС в единое интегрированное экономическое пространство. Многие полагают, что, для Китая ШОС — один из методов экономического возврата «потерянных» пространств, которые, как Китай считает, входили в его сферу интересов и раньше. Причем Китай будет поставлять в Россию и страны Центральной Азии товары широкого потребления и инвестиции, а получать оттуда сырье и оборудование для энергетической отрасли КНР.
17—18 ноября 2005 г. в Секретариате состоялось первое заседание экспертов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества по вопросам создания Форума ШОС. Этот Форум будет представлять собой многосторонний, неправительственный, общественный консультационно-экспертный механизм. Главными целями Форума являются содействие научной поддержке многогранной деятельности ШОС, развитие и укрепление взаимодействия между научными и политологическими центрами государств-членов, поощрение обменов между учеными в сферах политики, безопасности, экономики, экологии, новых технологий, в гуманитарной и других областях.
Участников встречи принял Исполнительный секретарь Чжан Дэтуан, который особо подчеркнул актуальность скорейшего запуска механизма «второй дорожки». Он отметил высокий уровень науки государств-членов ШОС, а также неоценимый вклад известных ученых и общественных деятелей государств-членов ШОС в сокровищницу мировой науки и культуры. Чжан Дэгуан заявил, что многочисленные личные встречи и беседы с крупными общественными деятелями, учеными с мировым именем, деятелями современной культуры и искусства цементировали у него твердое убеждение в огромном потенциале науки и техники, культуры, искусства и образования в государствах-членах ШОС. По словам Исполнительного секретаря, создание новой неправительственной, общественной структуры в целях интеграции и использования этих безграничных интеллектуальных ресурсов имело бы важное значение для более успешного развития ШОС. В Пекине прилагают энергичные усилия для того, чтобы быстрее наполнить конкретным содержанием структуры ШОС. 30 марта 2006 г. создан Китайский Исследовательский Центр по проблемам Шанхайской организации сотрудничества 1 2.
1 Жэньминь жибао. — 11/11/2005.
2 Синьхуа. - 09:09.31/03/2006.
Разговоры о том, что Россия и Китай обладают достаточным потенциалом для создания Евразийского военного блока по примеру НАТО, ведутся давно. Это стало особенно очевидно после проведенных летом 2005 г. масштабных учений на территории обеих стран «Мирная миссия-2005» и значительного сближения России и Китая в последнее время.
Глава российского военного ведомства Сергей Иванов по окончании учений заметил, что ни о каком создании военного блока речь не идет: страны лишь отрабатывали общие задачи по борьбе с терроризмом. Однако американские аналитики не исключают, что создание подобного блока может стать реальностью в перспективе.
Как известно, обе страны входят в ШОС и, более того, составляют основу организации. И если НАТО может стать неким прообразом для создания нового военного блока в Европе, то ШОС — его альтернативой в Азии. Тем более, если учесть, какую роль эта организация играет на сегодняшний день в регионе, все чаще заявляя о своих интересах на мировой арене. Достаточно вспомнить, что на прошлом саммите, который состоялся в июне 2005 г., от Пентагона потребовали обозначить сроки вывода своих военных баз из Узбекистана и Кыргызстана. Уже в этом году узбекский лидер Ислам Каримов заявил, что американские военные должны покинуть страну до конца года (2006 — В.С.). Именно после этой неприятности Кондолиза Райс нанесла серию визитов в Среднюю Азию, однако ей удалось лишь закрепить позиции США в Бишкеке (Кыргызстан).
ШОС, между тем, продолжает наращивать свой потенциал, и за годы работы отношения между бывшими советскими республиками — Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном — входящими в ШОС, а также с Россией значительно окрепли. В связи с опасностью международного терроризма и общими проблемами, стоящими перед странами, в задачи организации были внесены коррективы, и на сегодняшний день она не в последнюю очередь выполняет функции по обеспечению безопасности в регионе.
На фоне укрепления взаимоотношений между странами ШОС и значительного ухудшения диалога между США и рядом ближневосточных и центральноазиатских стран, по мнению многих, членами Евразийской организации могут стать Индия (здесь Россия выступает в роли посредника между нею и Китаем, и перед новыми глобальными перспективами противоречия между Индией и Китаем должны быть если не сняты, то значительно смягчены), Пакистан (здесь протежирует Китай) и Иран (конечно, только после разрешения кризиса вокруг ядерной программы) *.
В марте 2004 г. китайская государственная нефтеторговая компания «Zhuhai Zhenrong Corp» заключила 25-летнее соглашение на импорт ПО миллионов тонн сжиженного природного газа из Ирана. Китай продавал Ирану крылатые ракеты «земля—земля» и вместе с Россией помогал Ирану в разработке баллистических ракет дальнего действия. Эта помощь включала в себя разработку иранских ракет «Шихаб-3» и «Шихаб-4» с радиусом действия примерно 2000 километров. За последние несколько лет ряд китайских и российских компаний был подвергнут санкциям со стороны США — из-за продажи ракет и ракетных технологий Ирану. Но вместо того, чтобы замедлить или остановить сделки такого рода, темпы приобретения и разработки ракет Ираном лишь увеличились. Присоединение Ирана к ШОС значительно усилило бы энергетический потенциал этой организации.
Пока же наиболее реальным ближайшим кандидатом на вступление в ряды членов ШОС является Монголия. Интерес к ШОС проявляет Афганистан. О своем стремлении стать членом ШОС заявила Белоруссия. Соответствующее заявление сделал во время своего визита в Китай президент А. Лукашенко. И хотя о реализации этой затеи эксперты отзываются скептически, сам факт красноречив. Понятно, что все без исключения вышеназванные страны рассчитывают получить от сотрудничества с ШОС импульс для своего развития. Кроме того, создается впечатление, что одной из ключевых задач объединения под предводительством Китая и России остается ослабление влияния США в Центральной Азии. Достаточно вспомнить обвинения Пекина и Вашингтона, которыми они периодически обмениваются друг с другом. Примечательно, что при общении и с Китаем, и с Россией США пользуется своим давним инструментом — правозащитными организациями, которые неизменно твердят о проблемах с демократией в обеих странах. При этом в свое время американский Белый дом явно недооценил возможности ШОС и перспективы сотрудничества ее «недемократических» стран-членов. Немалую роль играет в дальнейшем позиция США по отношению к ШОС: будут ли они так же болезненно, как сейчас, воспринимать все, что происходит в этом районе мира без их ведома, или же будут искать конструктивные подходы для сотрудничества с ШОС?
Высокопоставленные чиновники Китая и России не устают заявлять о том, что Западу нечего бояться Шанхайской организации сотрудничества. Так, исполнительный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Дэгуан 16 января 2006 г. заявил, что «ШОС — это организация за мир и сотрудничество, которая никак не может стать военным союзом Европы и Азии. Вот почему неуместно уподоблять ШОС «восточной НАТО» '. Спустя два месяца Чжан Дэгуан заявил журналистам во время приема по случаю второй годовщины создания Секретариата ШОС, что, став организацией мира, ШОС не может превратиться в закрытую, враждебную другим странам военную группировку 1 2.
Дискуссии о том, направлены ли приоритетные усилия ШОС на «вытеснение» США из стран Центральной Азии, любопытно проиллюстрировать тем, как в последнее время высказываются о растущем военном взаимодействии в рамках ШОС представители компетентных ведомств. Так, высокопоставленные руководители Министерства обороны РФ, включая его главу Сергея Иванова, уже не раз и не два ссылались на сотрудничество в рамках ШОС в связи с проведением минувшим летом крупномасштабных совместных военных учений войск России и Китая и планами военных маневров трех стран — России, КНР и Индии. В свою очередь, российские дипломаты ставят на первое место совместные антитеррористические действия, включающие создание Регионального центра по борьбе с терроризмом. По мере ухудшения отношений с США МИД РФ постепенно отходит от первоначаль
1 Синьхуа. — 17/01/2006.
2 Синьхуа. — 31/03/2006.
ного категорического отрицания военных аспектов в деятельности «региональной организации нового типа». Так, накануне нынешней сессии Совета глав правительств ШОС российский посол при этой организации Виталий Воробьев отметил, что Хартией ШОС предусмотрено в числе направлений взаимодействия развитие сотрудничества в оборонной сфере, но «без того, чтобы ШОС становилась милитаризованным объединением, тем более превращалась в нечто вроде военного блока». По словам Воробьева, «надо видеть, что международный терроризм уже способен брать на вооружение такие методы и принимать такие масштабы, что эффективно парировать его угрозы и акции бывает крайне сложно без адекватного подключения военных потенциалов».
Тезис о создании «военного блока на Востоке в противовес НАТО» наряду с Воробьевым отрицал и глава комитета по международным делам Госдумы Константин Косачев. Он заявил, что опасения на этот счет отражают «классическую логику многих американских аналитиков, которые считают, что все, что происходит в мире без участия США, заведомо направлено против этой страны». Тем не менее очевидные изменения в риторике российских военных и дипломатов о деятельности и задачах ШОС, похоже, дают повод считать, что для опасений у американцев есть определенные основания *. Ряды ШОС могут и дальше пополняться.
Вполне возможно, что, включив в свою орбиту Афганистан и, возможно, соседнюю Туркмению, Шанхайская организация сотрудничества продолжит свой путь на Восток и Юг. Приглашение принять участие во встречах организации уже получила Южная Корея. Дальше ее ряды могут пополнить Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Индонезия. В случае воплощения этих планов в жизнь ШОС объединит наиболее динамично развивающиеся и многонаселенные страны Азии и Россию.
Если организация покажет свою эффективность, многие азиатские страны выразят желание присоединиться. Тем самым образуется новый центр силы в международных отношениях, и США обязаны будут с ним считаться.
А. Дугин пишет о ШОС: «На наших глазах складывается новый стратегический блок. Шанхайская организация сотрудничества была создана как одна из региональных организаций наряду с Таможенным союзом, ЕврАзЭс, ЕЭП и т. д. В основе всех этих интеграционных инициатив лежала геополитическая модель президента Казахстана Н. Назарбаева. Его видение евразийского пространства как основы многополярной системы.
Однако в 2003—2004 гг. по интеграционным процессам в рамках СНГ был нанесен удар серией «цветных революций», в результате которых в Грузии, в Украине и в Киргизии к власти были приведены антироссийские и проамериканские правители. Причем фактор американского вмешательства становился все более и более очевидным. Стало ясно, что эффективно противодействовать созданию вокруг России «санитарного кордона» под завуалированным американским протекторатом только своими силами невоз
1 См. Блинов А. ШОС — антиНАТО // Независимая газета. — 27.10.2005.
можно. Здесь и следует искать истинный смысл события, произошедшего в Астане на саммите стран — членов ШОС.
Основное внимание сосредоточилось на Китае и такой организации регионального сотрудничества, где бы он участвовал. Ранее к Пекину евразийцы относились с настороженностью из-за демографической угрозы и темпов роста, угрожающих легко поглотить и переварить слабые и не вышедшие еще на стезю уверенного национального развития страны СНГ. Теперь эта опасность отступила на второй план перед лицом геополитики «цветных революций». Ведь угроза смены власти и даже расчленения нависла над Казахстаном, Белоруссией, самой Россией уже всерьез.
Пекин также яснее осознал, чем грозит для него укрепление позиций США в Центральной Азии, в непосредственной близости к уйгурскому Синьцзяну и Тибету, где остается угроза этнорелигиозного сепаратизма. Пекинские стратеги постепенно стали склоняться к тому, что слабые Россия, Казахстан и другие страны СНГ для Китая стратегически опаснее, чем сильные партнеры по стратегическому блоку. Ведь судя по всему, освобожденную нишу всерьез намереваются занять американцы, которые не скрывают, что в XXI в. видят своим главным геополитическим конкурентом именно Китай.
Для многих неожиданностью было участие на тех же правах наблюдателей Индии и Пакистана, стран, разделенных множеством нерешенных проблем. У всех азиатских стран растет потребность в организации, способной решать региональные вопросы самостоятельно — без обращения к США и даже ЕС. По сути, создание такой полноценной организации явилось бы завершающим аккордом процесса деколонизации, который растянулся на многие годы, — с переходом от прямой оккупации этих стран Западом к опосредованным моделям контроля.
И наконец, масла в огонь подлил на саммите в Астане Ислам Каримов, который просто попросил американцев покинуть территорию Узбекистана. Операция в Афганистане завершилась, и военные базы в Центральной Азии потеряли смысл. Эту идею с радостью поддержали Россия и Китай. Так в мгновение ока сложилось ядро континентального стратегического альянса с общими интересами и общим врагом. А известно, что ничто так не сближает в политике, как наличие общего врага.
Страны Евразии решительно настроены взять свою судьбу в свои руки и решать региональные проблемы собственными силами. Это необратимый выбор многополярного мира, где Западу — западное, а Востоку — восточное. Вместе с тем это начало процесса глобализации по-азиатски, с поиском своих собственных моделей сотрудничества, выработкой общего протокола. У всех накопилось так много претензий к однополярному устройству мира и американской гегемонии, что каждый будет идти к независимости от нее и поддерживать в этом устремлении других» *.
А вот что считает эксперт «Джеймстаун фаундэйшн» Стефен Бланк: «Общеизвестный факт, что ШОС является многосторонним инструментом
1 China and the shanghai cooperation organization at five. — By Stephen Blank. — China brief. — Volume 6, Issue 13 (June 21, 2006).
внешней политики Китая в Центральной Азии. Недавно завершившийся в Шанхае юбилейный саммит ШОС, где отмечалось пятилетие его создания, подтвердил антиамериканский характер. В заключительном коммюнике отмечена неприемлемость “вмешательства во внутренние дела других стран”, эвфемизм, под которым понимается требование Вашингтона о расширении демократизации к правительствам стран ЦА. “Модель социального развития не может быть предметом экспорта”, — говорилось в коммюнике, отражающем убеждение Москвы и Пекина, что США стоят за “неправительственными организациями” и “цветными революциями”».
Далее он пишет о российско-китайских противоречиях между Россией и Китаем в борьбе за влияние в регионе и дает высокую оценку китайской политике в двусторонних связях с центральноазиатскими странами. Пекин предложил кредиты Душанбе и ведет переговоры о строительстве шоссе через Таджикистан. Он профинансировал строительство цементного завода в Киргизии, и объявил о строительстве газопровода, который свяжет Туркменистан и Узбекистан с Китаем. В скором времени к нефтепроводу, связывающему Казахстан с Китаем, добавится газопровод.
На Западе много пишут о роли России в ШОС. Встречи китайского и российского руководителей стали привычным делом. Визит В. Путина в Пекин (в июне 2006 г. — В.С.) даже не стал главной темой ‘New York Times’ или ‘Washington Post’. Однако он изменил глобальное равновесие сил, считает (Ariel Cohen), известный специалист по Евразии из консервативного вашингтонского фонда Heritage Foundation. Это еще один сдвиг в стратегическом балансе сил в Евразии и громадный стратегический прорыв для Пекина, — заявил Коэн. Китай и Россия — стратегические союзники, контролирующие сегодня евразийское пространство от Южно-Китайского до Балтийского моря.
В то время как президент Дж. Буш говорит в основном об Ираке, а американский политический истеблишмент волнует, главным образом, то, как остановить ядерную программу Ирана, В. В. Путин заключает долгосрочные контракты на миллиарды долларов с Китаем, которые дадут китайской экономике, нуждающейся в энергии, доступ к российским запасам нефти и газа. В ходе своего визита он подписал не меньше дюжины контрактов с китайскими государственными организациями и компаниями.
Кроме красивых слов о борьбе с терроризмом, страны решили перейти к как можно более тесному взаимодействию в экономике. И главным здесь стало согласие России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на предоставление статуса официального наблюдателя Ирану, Индии и Пакистану. (Ранее его получила Монголия). Это означает, что из организации приграничного сотрудничества (в составе Китая и граничащих с ним республик бывшего СССР — России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), которой была ШОС в момент своего основания в 1996 г., через создание организации сотрудничества стран Центральной Азии (после присоединения к ней Узбекистана в 2001 г.) она превращается в крупную организацию, охватывающую едва ли не половину населения Земли — население входящих в нее стран достигнет 3 млрд человек.
По мысли своих создателей, этот «голиаф», занимающий территорию от Северного Ледовитого океана до Индийского и от Калининграда до Шанхая, должен стать «вторым полюсом» современного мира. Желание противодействовать гегемонии США проявляется хотя бы в том, что официальным наблюдателем стал завсегдатай «оси зла» — Иран. Россия, Китай и Индия стремятся играть в независимую от Вашингтона игру, а Казахстан, Узбекистан и Таджикистан явно опасаются «цветных революций», которые прописаны в планах американской администрации. К тому же ШОС не заявлял никаких границ своего расширения, и это доказывается желанием предоставить статус наблюдателя Афганистану — стране, где США уже четыре года проводят военную операцию. В принципе, ничто не мешает в перспективе принять в организацию и еще одну страну-изгоя — КНДР.
Пока Америка ведет затяжную войну с терроризмом и его идеологией, она не может позволить себе конфликтовать с Россией или Китаем на евразийском пространстве. А потому Вашингтон должен найти способ начать диалог с ШОС хотя бы в ее пятую годовщину. В противном случае он рискует потерпеть еще одно унизительное поражение от Москвы или Пекина *.
Китай заключил соглашения с Вьетнамом о сухопутной границе и о разграничении в Тонкинском заливе. На саммите «Китай-АСЕАН» в Пномпене в ноябре 2002 г. подписана Декларация о кодексе поведения в Южно-Китайском море. Достигнут определенный прогресс на китайско-индийских пограничных переговорах.
Приоритетное значение придается развитию процессов экономической интеграции в Азии. Становится все очевиднее, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызревает новый экономический, политический и культурный центр планетарного значения, лидером которого по всем данным и общему признанию становится Китай. Ключевым направлением здесь является намеченное создание к 2010 г. зоны свободной торговли Китай-АСЕАН. Параллельно развивается взаимодействие по формуле АСЕАН+3 (Китай, Япония, Южная Корея) и в рамках восточноазиатской тройки. Конечно, здесь будет противоборство с Японией за лидерство в регионе, но в конечном счете, китайский и японский бизнес сумеют поделить сферы влияния, поскольку занимают совсем разные сегменты экономики. Ведется активная работа по созданию к 2010 г. зоны свободной торговли между Китаем и АСЕАН.
Пекин заинтересован в сохранении стабильности на Корейском полуострове и готов играть здесь подобающую ему роль. Китай выступает за обеспечение безъядерного статуса Корейского полуострова, выполнение Вашингтоном и Пхеньяном Рамочного соглашения 1994 г. и призывает к мирному решению всех проблем путем диалога между заинтересованными сторонами.
Дружелюбный медведь, привлекательный дракон. Потепление в отношениях между Москвой и Пекином вызывает серьезную озабоченность на политическом фронте. — Редакционный комментарий. — «The Wall Street Journal». — 23 марта 2006, США.
На южноазиатском «фланге» Пекин в последние годы явно стремится проводить сбалансированную политику. Не отказываясь от тесного партнерства с Пакистаном, Китай последовательно ведет линию на улучшение отношений с Индией. Подходы китайской стороны к проблематике Южной Азии стали все более определяться не приоритетами двусторонних отношений КНР с расположенными здесь странами, а задачей обеспечения региональной стабильности и безопасности. Пекин является активным сторонником развития трехстороннего взаимодействия между Китаем, Россией и Индией.
После свержения режима талибов Китай энергично восстанавливает свои позиции в Афганистане, подчеркивая дружественный характер китайско-афганских отношений и конструктивную роль КНР в афганском урегулировании. Пекин предоставил Кабулу значительную финансовую помощь, оказывает содействие в восстановлении народнохозяйственных объектов на афганской территории, возведенных в свое время при участии КНР.
Укрепление политических позиций и экономической мощи позволило Китаю позиционировать себя в качестве державы мирового, а не регионального масштаба, выйти за рамки самовосприятия как крупной развивающейся страны.
Изменение геополитических реалий в виде «ассиметрии» прежних вызовов и появления нетрадиционных угроз заставило Китай усилить внимание к вопросам обеспечения своей национальной (военно-политической, энергетической, информационной и т. д.) безопасности. Важную роль здесь сыграли события 11 сентября 2001 г. и разворот мирового сообщества в направлении борьбы с терроризмом.
Отношения с Россией и другими странами постсоветского пространства являются одним из важнейших направлений внешней политики Китая. При этом китайско-российское стратегическое партнерство оценивается как крупное достижение и ценное достояние, отвечающее коренным интересам КНР. Ставится задача его дальнейшего укрепления и углубления. У Китая и России во многом схожие интересы и цели. Отношения между ними после урегулирования остававшихся еще нерешенными пограничных вопросов весной 2005 г. не омрачены более никакими серьезными проблемами. Мирное возвышение Китая не несет никакой угрозы России, более того, оно может дать важный импульс ее внутреннему развитию '.
Исходя из потребностей модернизации страны и используя возможности антитеррористической коалиции, Китай добился существенного улучшения отношений со США, подтвердил приоритетность сотрудничества с Западом, установил рабочие контакты с НАТО. Китайская дипломатия добилась явного успеха в ходе организации многосторонних переговоров по вопросу ядерного оружия КНДР. Китай настроен на развитие конструктивного сотрудничества с соседями. Готовность к урегулированию проблем с сопредельными странами и развитию добрососедства с ними гарантирует Китаю необходимое для решения задач модернизации мирное окружение.
См. Бергер Я. М. Возвышение Китая // Международная жизнь. — 2005. — № 9. — С. 59.
Активизация многосторонней дипломатии обеспечила Пекину инициативу в региональных интеграционных процессах и достойное место в диалоговых механизмах по вопросам безопасности и сотрудничества в Азии, что в перспективе может позволить Китаю выйти на ведущие позиции в регионе.
Очевидно, что в Пекине тщательно изучают влияние складывающейся геополитической ситуации на международное положение КНР и ведут поиск новых путей и средств эффективной защиты и продвижения китайских национальных интересов на мировой арене. Как и сама международная обстановка, китайская внешнеполитическая мысль и практика находятся в постоянном развитии. Общаясь с китайскими международниками на протяжении ряда лет, можно оценить степень их выросшей подготовки и проблемы, которые им приходится анализировать.
В этом смысле можно смело утверждать, что интеллектуальный потенциал Китая задействован сейчас в полную силу. Кстати, и оплата труда ученых вполне соответствует. Скажем, зарплата заведующего отделом научно-исследовательского института, аналогичного по профилю Институту мировой экономики и международных отношений НАНУ, колеблется от 800 до 1000 американских долларов. В то же время можно констатировать, что новое руководство Китая задает китайской внешней политике четкий вектор, нацелив страну на проведение активной независимой и самостоятельной, но вместе с тем конструктивной и ответственной политики на международной арене. Именно такая внешняя политика способна помочь Китаю в создании наиболее благоприятных внешних условий для решения стоящих перед страной масштабных задач.
Необходимость нового этапа открытости внешнему миру вызвана сложным комплексом внешних и внутренних факторов.
В ряду внешних компонентов — необходимость адаптации и использования в национальных интересах объективных процессов экономической глобализации и регионализации, а также новой ситуации в связи со вступлением Китая в ВТО. У китайского руководства сложилась определенная система взглядов на эти явления. В наиболее концентрированной форме она нашла свое отражение в выступлениях Председателя КНР Цзян Цзэминя на Шанхайском саммите АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в 2001 г. В них экономическая глобализация рассматривается как новое, объективное явление, вызванное развитием производительных сил, научно-технической и информационно-технологической революцией. Это не просто количественные изменения, а сдвиги качественного порядка, своеобразная «смена эпох», открывающая качественно новые возможности для социально-экономического прогресса.
При этом совершенно определенно говорится о негативных последствиях современных процессов планетарного масштаба. Констатируется, что «разрыв между богатыми и бедными продолжает существовать», растет «информационно-технологический разрыв» между развитыми и развивающимися странами. В связи с этим ставится вопрос об особом вкладе и особой ответственности промышленно развитых стран, получающих наибольшие выгоды от процессов глобализации.
Китай борется за равноправное сотрудничество с Западом в поддержании глобальной и региональной стабильности, но не готов и не желает пока брать излишнюю ответственность за это и лишаться торговых преимуществ развивающегося государства. Отсюда официальная формулировка — «Китай — это развивающаяся социалистическая страна».
Зарубежная футурология во всей своей научной многоликое™ задается многими вопросами, относящимися к характеру и направленности развития Поднебесной. Каковы отрицательные и положительные последствия возвышения Китая для остального, прежде всего западного, мира? Как реагировать на это Западной цивилизации — душить, лелеять или бояться? Мы бы добавили сюда еще вопросы: а что представляет собой Китай на настоящий момент? Не утратил ли он своей культурной идентичности? Как строить с ним диалог?
Китай строит свой собственный «социализм с китайской спецификой», проводя модернизацию путем реформ и открытости. Это новый этап органического развития китайской культуры и цивилизации. Аналогично тому, как начало древней цивилизации согласно архетипу Дао олицетворялось пятью Первопредками — Фуси, Шэньнуном, Хуанди, Яо и Шунем («И цзин»), новый этап освещается и освящается учениями, идеями и теориями пяти гениальных вождей и личностей — Маркса, Энгельса, Ленина, Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Руководство страны признает возможность и необходимость сочетания в строящемся типе общества внутреннего — китайских традиций и внешнего — некитайского социализма и достижений капитализма. Как это происходит, можно убедиться не только формально, но и по существу, отыскивая архетипические структуры культуры Дао.
На территории Китая создается новое общество, т. е. осуществляется со-циоприродный космогенез, полагает крупный знаток духовных цивилизаций Востока А. Е. Лукьянов. Внутренними энергетическими импульсами для него служат традиции («опора на собственные силы»), внешними — социализм (принятый по преимуществу и раньше) и капитализм (принятый в отдельных аспектах и позже). Если этнические культурные традиции признаются и наследуются, то, согласно и новой теории построения социализма с китайской спецификой, в соцйокосмической сфере должен располагаться известный нам по классической древности структурно-функциональный архетип дао.
В докладе Цзян Цзэминя на XV Всекитайском съезде КПК говорилось: «В исторический момент всестороннего продвижения нашего дела в XXI в. мы торжественно заявляем: вся партия должна без малейших колебаний отстаивать основную линию партии на начальном этапе социализма, а экономическое строительство как центральную задачу вместе с четырьмя основными принципами и двумя основополагающими моментами — реформой и открытостью — привести в единство с великой практикой строительства социализма с китайской спецификой».
Здесь отчетливо выступает система архетипа Дао, выполняющего в данном случае функцию хуаси — «китаизации», или «растворения западного». В центре стоит элемент экономического строительства. В соединении с элементами реформы и открытости он образует вертикальную триаду, а с четырьмя
основными принципами — пятиэлементную горизонталь. Все элементы взаимосвязаны и охвачены единым — практикой строительства социализма с китайской спецификой (это буквальное структурное воспроизведение архетипа Дао в варианте 1 — Единое, 3 — де, 5 — Дао из «Чжун юна»).
Привходящий сюда извне социализм системно никак не вписывается, поэтому он специфицируется (китаизируется). Во-первых, в обобщающей формуле Дэн Сяопина о «сущности социализма» расставляются новые акценты в определении социализма относительно классической европейской марксистской формы социализма. Во-вторых, его положения структурируются по количеству пяти элементов архетипа Дао: «Сущность социализма — это (1) раскрепощение и (2) развитие производительных сил, (3) уничтожение эксплуатации, (4) устранение поляризации и в конечном счете (5) достижение общей зажиточности».
Дальнейший расширенный анализ обобщающей формулы Дэн Сяопина, проводимый китайскими теоретиками, выявляет в содержании социализма пять бинарных единств: (1) единство производительных сил и производственных отношений социалистического общества, (2) единство коренных задач и коренных целей социализма, (3) единство материальной базы и общественных отношений при социализме, (4) единство коренных методов и конечных целей социализма, (5) единство процесса развития и конечных результатов социализма ’.
Таким образом, социализм вводится в классическую архетипическую формулу Дао, включающую пять типов отношений. Далее теория социализма подхватывается и раскручивается спиралью модернизации. Данным способом осуществляется содержательный и структурный перенос европейского социализма на китайскую почву и его китаизация (этот же механизм работает и в процессе освоения капиталистических ценностей).
Внутренняя традиция тоже реформируется согласно архетипу модернизации. Получаемые при этом категориальные смыслы диадически совмещаются с категориальными смыслами привходящего извне социализма, сливаются в Дао и окунаются в практику. Эта операция тоже относится к статусу архетипической и известна из классической древности: «Сочетание внешнего и внутреннего — это Дао. Поэтому своевременное применение его на практике есть то, что необходимо».
Пронизывая весь социально-природный организм, архетип четырех модернизаций выстраивает все его физические, духовные и идеально-мыслительные клеточки по своему генетическому коду. Отсюда получаются четыре сферы приложения духовной культуры, четыре аспекта модернизации человека (идейных взглядов, образа мышления, личностных качеств, образа жизни) и т. д.
Акцентируя внимание на экономическом строительстве, концепция Дэн Сяопина не оставляет без внимания китайскую духовную традицию. Строительство социалистической экономики с китайской спецификой может нормально осуществляться только в неразрывной связи с построением духовной
1 Основные положения теории Дэн Сяопина. — Пекин, 1998. — С. 289.
цивилизации. Это еще раз подтвердил Цзян Цзэминь: «Строительство духовной цивилизации будет стимулировать строительство материальной цивилизации и сможет гарантировать ее правильное развитие» *. При этом первостепенное значение уделяется «модернизации человека» и — еще шире — формированию «нового человека». Нужно «лепить человека из материала высокой духовности» (Цзян Цзэминь). В результате должен вырасти настроенный на единые ритмы, хорошо отлаженный, устойчивый и могучий организм Срединной Цветущей Страны.
Как видно, Китай не утрачивает архетипа своей культуры и, более того, он не только сам культурно трансформируется по архетипу Дао, но и создает вокруг себя ареал стран «конфуцианской культуры» с системами «конфуцианского социализма» и «конфуцианского капитализма». Китай задает необычный пульс «мировому порядку» и «существованию цивилизаций», и Запад на это реагирует.
В своей книге С. Хантингтон в главе «Цивилизационная война и порядок» развернул сценарий глобальной цивилизационной войны. Источник войны автор видит в «изменении баланса сил между цивилизациями и их срединными государствами». Виновником выступает Китай: «Если оно (т. е. изменение баланса — В.С.) будет продолжаться, то подъем Китая и растущая самоуверенность этого «крупнейшего игрока в истории человечества» ляжет в начале XXI века тяжким гнетом на международную стабильность. Появление Китая в качестве доминирующей силы Восточной и Юго-Восточной Азии вступит в противоречие с американскими интересами — в том виде, как их исторически интерпретировали».
Получается, что США могут иметь кровные интересы в Восточной и Юго-Восточной Азии, а вот Китай у себя дома, на материке, права на это не имеет, иначе — глобальная бойня. Остается только найти предлог и место, откуда она начнется, и С. Хантингтон находит их: место — Южно-Китайское море, яблоко раздора — нефть. Американские компании будут ее быстро осваивать под покровительством Китая и кое-где Вьетнама. Потом Китай заявит о своем приоритете, Вьетнам воспротивится, Китай нападет на Вьетнам, Вьетнам обратится к США, США не откажут в помощи и, конечно, выступят в роли субъекта «порядка»: «США посчитают необходимым вмешаться, защитить международное право, наказать за агрессию, отстоять свободу судоходства, обеспечить себе доступ к нефти Южно-Китайского моря и предотвратить господство в Восточной Азии единственной державы». Естественно, что «Китай посчитает такое вторжение совершенно нестерпимым». Произойдет столкновение, которое втянет в войну весь мир.
Какой бы «дикой и неправдоподобной фантазией» (по словам самого С. Хантингтона) этот сценарий ни казался, к нему следует отнестись серьезно. Это не виртуальный и безобидный игровой проект, но целая программа, сознательная установка, направленная на подготовку общественного мнения для реабилитации США. Вот, мол, будет глобальная война цивилиза-
1 Цзян Цзэминь о социализме с китайской спецификой. Составлено Кабинетом ЦК КПК по изучению документов. — Пекин, 2002. — С. 17.
ций, а виновник уже есть — посмевший возвышаться без разрешения так называемого «мирового сообщества» Китай.
Сценарий завершается провозглашением истины из двух правил. Первое — «правило воздержания, заключающееся в том, что сердцевинные государства должны воздерживаться от вмешательства в конфликты внутри других цивилизаций». Второе — «правило совместного посредничества — заключающееся в том, что сердцевинным государствам следует вести друг с другом переговоры о сдерживании или прекращении войн по линиям разлома между государствами или группами, входящими в их цивилизации». Вдобавок С. Хантингтон погоревал: «Некоторым государствам, особенно Соединенным Штатам, будет, несомненно, трудно согласиться с этой истиной».
Сценарий интересен тем, что С. Хантингтон озвучил то, чего боится Запад, прежде всего США. Китай действительно и объективно противостоит США — планетарно. Китай является тем центром, который изготовился к генерации подлинных общечеловеческих духовных ценностей и пробуждению планетарных культур, что вызовет сшелушивание оболочки псевдоцивилизаций. Вот чем для них ужасен и страшен Китай. Сомнительно, чтобы Китай, «конфуцианизируя» свое культурное пространство, испытывал агрессивные чувства и пропагандировал войну. «Если жители далеких окраин не покоряются, то совершенствуют культуру и дэ, чтобы привлечь их. А когда привлекут, то умиротворяют их» — так говорил Конфуций и таково кредо Дао.
В онтологии Китай противостоит США прежде всего антропологически. Китаец ни при каких условиях не утрачивает человечности в ландшафтных и вселенских просторах, он сохраняется даже «в пустоте», как говорили древнекитайские мудрецы. Человек США — человек доллара. В периоды кризисов ему оттопчут руки и ноги в любой точке планеты. И чем чаще это будут делать, тем более он будет агрессивен. Его защита — экспансионизм, не прекращающаяся ни на миг экономическая (долларовая) глобализация. Ее можно понимать и в прямом культурологическом аспекте. В отсутствие корневой этнической культуры США инстинктивно, на ощупь ищут культуру-донора. Поэтому здесь должен, по мнению А. Е. Лукьянова, работать сценарий, обратный сценарию цивилизационной войны.
Может быть, США нужно не ослаблять Китай, а лелеять его и поступать наподобие кукушки, которая подкладывает свои яйца в чужие гнезда. Иными словами, Соединенным Штатам выгодно было бы сделать из Китая инкубатор, в культурный кокон которого подкладывать свои идеи и духовные ценности, выращивать их и выпускать их через Китай в планетарную Поднебесную. Окончательная экономическая глобализация и декультуризация планеты чревата для США трагической кончиной, чем ближе берег глобализации, тем больше проблем у США.
Попытка классификации, или общее и особенное в китайской специфике
Все, о чем говорилось выше, подводит нас к вопросу, который обсуждается сегодня во всем мире. Что же такое китайский феномен и применим ли опыт Китая на другой, некитайской почве.
Большинство аналитиков приходят к выводу, что темпы развития Китая останутся высокими и страна просто «обречена» превратиться в ближайшие 20 лет во вторую державу мира (и это если ничего плохого не случится со США) по основным показателям. Она и сейчас является таковой с точки зрения покупательной способности. Один только объем государственных ценных бумаг США, имеющихся в распоряжении КНР, дает стране серьезные возможности воздействия на Соединенные Штаты и мировую финансовую систему. Многие (например советник тайваньского «президента» Гордон Чан, написавший книгу «Крах Китая») предсказывают, что слишком быстрые реформы приведут Пекин к неизбежному кризису, но, заметим, такие пророчества звучат уже два с половиной десятилетия.
Стремительный прорыв в высшую лигу мировых держав совершает Индия. За последние 10 лет ее экономика росла в среднем на 8 % в год, причем этот рост обеспечивался за счет преимущественно внутренних, а не иностранных инвестиций, как в Китае. Индия превращается в один из двигателей мирового технологического прогресса, а через 20—30 лет она, согласно прогнозам, станет третьей мировой державой после США и Китая. Индия — один из главных всемирных поставщиков программного обеспечения и ряда других высоких технологий. Здесь сформировался мощный средний класс, который, кстати, более многочислен, чем в Европейском союзе.
Быстрое развитие Китая началось в конце 70-х гг. минувшего века. ВВП страны рос в среднем на 9,4 % ежегодно — с 147,3 млрд долларов в 1978 г. до 1,7 трлн в 2004 г. За это время доля Китая в мировой экономике возросла с менее чем 1 % до 4 %. В то же время уровень бедности снизился с 30 % до 3 %. Все это свидетельствует о том, что в социально-экономической жизни Китая действительно достигнут существенный прогресс благодаря 20 с лишним годам проведения политики реформ и открытости внешнему миру. Согласно статистике, за прошедшие два десятилетия недорогие товары китайского производства дали возможность только американским потребителям сэкономить 100 млрд долларов на покупках. Китай вместо США стал первым по величине экспортным рынком Республики Корея, Японии, Сингапура и других азиатских стран.
Место Китая в современном мире определяется, прежде всего, экономическим могуществом. За четверть века реформ Поднебесная увеличила свой экономический потенциал более чем в одиннадцать раз. По размеру своего валового внутреннего продукта Китай вышел на четвертое место в мире. Он уступает лишь США, Японии и Германии, опередив Англию, Францию, Италию и Канаду.
В основе китайских успехов лежит конструктивный авторитаризм. Понятно, что авторитаризм лучше приспособлен для модернизации, чем демократия. Возражением этому служит пример Индии. Действительно, демок
ратический механизм правления, привнесенный англичанами и относительно неплохо прижившийся в Индии, позволяет учитывать интересы различных сил, имеющихся в обществе в настоящий момент. Между тем при проведении ускоренной модернизации это вредит, поскольку всегда найдутся значительные силы, которые выступают против преобразований. Так, в Индии наряду с огромными экономическими успехами бросается в глаза огромная масса бездомных и голодных людей. Что же касается других стран, то полезно вспомнить, например, Иран после исламской революции, когда все экономические достижения авторитарного по сути, а по форме — демократичного режима шаха были уничтожены за несколько лет. При этом в стране установился религиозно-тоталитарный режим Хомейни, который позаботился о том, чтобы отбросить страну далеко назад.
Авторитаризм позволяет мобилизовать усилия общества на главных направлениях, соединяя возможности власти и потенциал населения. Однако авторитаризм сам по себе еще ничего не гарантирует. Все зависит от характера режима. Консервирует ли авторитарный режим имеющуюся ситуацию (деструктивный авторитаризм) или проводит модернизационную политику (конструктивный авторитаризм). Здесь стоит вспомнить, что далеко не все авторитарные режимы способны к модернизации. Многие, такие, скажем, как диктатуры в странах Латинской Америки, лишь консервируют отсталость.
Главный материальный фактор китайского чуда — возможность использовать очень дешевую рабочую силу вчерашних китайских крестьян для производства современных товаров и продажи их на рынке по мировым ценам. Но этого было бы, конечно, недостаточно, если бы не было грамотной политики китайского правительства, которое, осторожно реформируя экономику своей страны («переходя реку, нащупывать камни»), одновременно сохраняет авторитарный режим как гарантию политической стабильности.
Есть множество побочных факторов, которые имеют важное, хотя и не решающее значение. Это и роль хуацяо, заграничных китайцев, то есть китайской диаспоры, и наличие позитивных примеров модернизации в лице населенных братьями по крови, китайцами Гонконга, Сингапура и Тайваня (т. н. Большой Китай). Население КНР прекрасно осознает, что схема, которую они реализуют, работает и, следуя ей, можно достигнуть успеха. Ситуация, когда реально действующий пример перед глазами, и его можно «пощупать», конечно, чрезвычайно важна для общего оптимистичного самочувствия и понимания перспективы китайского народа и элит.
Немаловажный фактор — тактический союз китайских элит с Западом, заключенный в начале 70-х гг. прошлого столетия против СССР. Он дал Китаю пропуск на западные рынки и позволил получать западные инвестиции и технологии. Конечно, никакой благотворительностью со стороны Запада тут и не пахло. Правящие круги США всегда смотрели на Китай с изрядной долей подозрительности, утешаясь только тем, что Китай твердо стоит на антисоветских позициях. Так, Китай, пользуясь моментом и используя западный антисоветизм, создал для своих реформ благоприятные внешние условия и прорвался на Запад, который сквозь пальцы смотрел на модернизацию Китая. Пробиваться в одиночку китайцам было бы куда труднее.
Остальное — чистая заслуга китайцев, сумевших создать настолько привлекательные условия для зарубежного инвестора, что отказаться ему было никак не возможно. Это так же важно потому, что китайская экономика пока что все еще больше ориентирована на экспорт, чем на внутреннее потребление. Как, впрочем, и все экономики подобного типа, например, стран АСЕАН. Естественно, по мере развития китайской экономики и роста уровня жизни китайцев внутренний рынок развивается и начинает играть все более важную роль. Но пока Китай стремится наращивать экспорт. Политика абсолютно безальтернативная на данном этапе. Это отнюдь не исключает курса на постепенное наращивание объемов внутреннего рынка.
На состоявшемся 29 сентября 2005 г. заседании Политбюро ЦК КПК было подчеркнуто: в ближайшие пять лет надо исходить из того, что человек — превыше всего, следует изменить взгляды на развитие, создать его новую модель, повысить его качество, необходимо обеспечить реализацию «единого планирования в пяти направлениях» (имеется в виду единое планирование развития города и села, регионального развития, развития экономики и социальной сферы, гармоничного развития человека и природы, а также развития внутри страны и открытости для внешнего мира), по-настоящему поставить социально-экономическое развитие на рельсы всестороннего гармоничного и продолжительного развития.
Это означает, что в следующем пятилетии научный взгляд на развитие будет всесторонне претворяться в жизнь. Руководство Китая поставило задачу к 2010 г. удвоить показатель ВВП на душу населения, а до 2020 г. учетверить валовой внутренний продукт Китая, увеличить его с одного до четырех триллионов долларов. Тогда ВВП на душу населения достигнет 3000 долларов против нынешних 1230 ’. Китайцы любят повторять, что тогда уж нельзя будет ничего возразить против того, что если XIX в. был веком Англии, а в XX первую скрипку играли США, то XXI в. становится веком Китая. Основой для этого должно послужить совершенствование структуры экономики, повышение ее эффективности и снижение непроизводительных затрат, подчеркивается в документе.
Конечно, в настоящее время ВВП на душу населения в Китае распределяется весьма неравномерно. Как подчеркивается в комментарии агентства Синьхуа, в одиннадцатом пятилетием плане (2006—2010) по сравнению с предыдущими годами произойдут «революционные изменения». Ранее за более чем 20 лет реформ в Китае, замечает агентство, пропагандировалась теория «неравномерного обогащения» — «пусть сначала разбогатеют часть регионов и часть людей». Сейчас же в план на грядущие пять лет закладывается уже идея «совместного процветания», что направлено на сокращение постоянно увеличивавшегося разрыва между бедными и богатыми, предотвращение поляризации общества. Сейчас 10 % получающих самый высокий доход семей владеют более чем 40 % всей личной и частной собственности, а реальный разрыв между доходами горожан и крестьян достигает 5—6 раз, а
1 Когда рукопись уже была готова, в Китае опубликовали свежие данные о доходах на душу населения. Они составляют сейчас 1740 долларов в год.
иногда и 8 раз. Поэтому так остро стоит вопрос о необходимости повышения уровня доходов сельских жителей. Важнейшей исторической задачей в процессе модернизации Китая является строительство нового социалистического села.
Хотя 11-й пятилетний план является продолжением предыдущих десяти пятилеток, однако он чрезвычайно важен для будущей модернизации Китая. От того, сможет ли Китай за пять лет (с 2006 г. по 2010 г.) поставить социально-экономическое развитие на рельсы научного развития, зависит и то, сможет ли он создать в целом общество средней зажиточности (сяокан), а также сможет ли Поднебесная завершить задуманную модернизацию к середине нынешнего века.
Однако старый путь на основе крупных инвестиций, высоких затрат и низкой производительности труда, который обеспечивал экономический рост страны, фактически исчерпан. Действительно, в 2004 г. национальный ВВП Китая достиг примерно 4 % мирового ВВП, но расходы первичного сырья при этом составили около 12 % мирового объема, пресной воды — 15, окиси алюминия — 25, проката — 28, цемента — 50 %. Дальше так стало развиваться невозможно. Именно такое положение дел заставило китайцев искать новый, более эффективный путь продвижения вперед.
Трансформация экономического роста является одним из центральных звеньев создания в Китае новой модели развития. От чрезмерной привязки к природным ресурсам, от экономической деятельности, вызывающей деградацию окружающей среды, от обеспечения экономического роста за счет количественного увеличения Китай должен перейти к увеличению эффективности и экономическому росту путем повышения качества труда и технического прогресса.
Как отмечает заведующий Центром по изучению проблем развития при Госсовете КНР Ван Мэнкуй, 85 % населения мира вступили в эпоху индустриализации. Ожидается возникновение острых противоречий в глобальном масштабе между населением, ресурсами и окружающей средой, что бросает серьезный вызов модернизации Китая. Даже если мировой рынок и сможет восполнить дефицит ресурсов в Китае, мы окажемся не в силах преодолеть последствия ущерба, нанесенного окружающей среде, говорит он.
С 2003 г. проявился перегрев в инвестициях, который в целом вскрыл недостатки старой модели развития. В результате был принят научный взгляд на развитие, который стал общепризнанным в стране. Проблемы повышения способности к самостоятельным инновациям, трансформации способов экономического роста, обеспечения развития современной «экономики знаний», строительства общества, экономно использующего ресурсы и защищающего окружающую среду, вопросы перехода к индустриализации нового типа включены в стратегические задачи плана 11-й пятилетки. Эти ключевые словосочетания и есть новая модель развития Китая.
Как отмечают аналитики, в годы 11-й пятилетки слияние китайской и мировой экономик достигнет небывалой широты и глубины. Выбор Китаем новой модели развития будет оказывать огромное влияние на весь мир.
Сокращение числа людей, живущих в абсолютной бедности, с 250 до 26 миллионов человек, многократно увеличило внутренний потребительский
спрос. Став жить лучше, народ стал больше покупать. Китай ежегодно ввозит товаров на полтриллиона долларов. Словно гигантский пылесос, он втягивает половину экспорта соседних стран, став локомотивом устойчивого роста экономики региона.
Как говорят в Пекине, Цзян Цзэминь и его шанхайская команда добились того, что в Китае стало больше богатых. Цель же нынешнего поколения руководителей во главе с Ху Цзиньтао состоит в том, чтобы в стране стало меньше бедных, чтобы глубинка сократила отставание от разбогатевших приморских провинций. В настоящее время, по официальным данным, ВВП на душу населения в самых зажиточных восточных провинциях КНР более чем в 10 раз выше аналогичного показателя самых бедных западных регионов страны. Чтобы было понятнее, необходимо пояснить, что жизнь людей, живущих в приморских районах, которые ездят нередко в собственных автомобилях, делают покупки в супермаркетах и пользуются Интернетом, качественно, как небо от земли, отличается от жизни людей, живущих во внутренних районах Китая, которые только-только успели отвыкнуть от голода и приодеться.
Экономическое чудо на качестве жизни китайцев сказывается позитивно. Уровень жизни растет, часто опережая уровень общей культуры. Неуклонно растет уровень образования. Сельское население перемешается в города. По миру начинают ездить многочисленные группы богатых китайских туристов. Постепенно меняется психология, она становится более приземленной. Идеология будет меньше влиять на жизнь общества, дрейфуя в сторону национального (то есть своего, азиатского) социализма, не имеющего ничего общего с приснопамятным советским аналогом со схожим названием. Возникнет, вероятно, что-то похожее на азиатский вариант Швеции. В целом, китайцы КНР будут все больше сближаться по уровню жизни и бытовым привычкам с китайцами Гонконга и Тайваня. Духовное превосходство китайцев получит материальное подтверждение. В то же время поддержанию и сохранению традиции будет уделяться первостепенное внимание. Именно под таким углом следует рассматривать информацию о том, что в ближайшие пять лет в Китае будет создано 300 (!) новых музеев. В то же время не исключено повышение интереса к религии, в том числе западной. Это уже произошло в Сингапуре и на Тайване.
Многие китайские эксперты отмечают, что сейчас Китай слишком занят более важными делами, чтобы обращать внимание на демократию в ее западных вариантах. Действительно, когда в обществе происходят настолько динамичные изменения, что на протяжении жизни одного поколения радикально меняются к лучшему основные жизненные параметры, вряд ли кто-либо будет задумываться об альтернативных вариантах общественного развития. Плюс к этому рядом поучительный живой пример неудачного развития — распавшийся СССР.
Сказанное отнюдь не означает, что китайцы не уделяют внимания изучению мирового опыта преобразований. Институты Академии общественных наук (АОН) КНР работают с полной нагрузкой, и что очень важно, их продукция востребована. Китай и китайцы стремятся как можно быстрее стать побогаче, чтобы жить так же, как живут люди в западных странах. Ин
тересно, что впервые в истории (в СССР задача подъема формулировалась всегда как усиление военно-политической мощи, а нужды людей не слишком принимались во внимание) такой подъем жизненного уровня людей осуществляется не за счет кого-то, как в колониальные времена, а за счет собственных, можно сказать, творческих, усилий.
На фоне грандиозных социально-экономических перемен нельзя не обратить внимания на попытки Запада навязать свои стандарты Китаю. Скорее всего, они не будут иметь успеха. По крайней мере, пока продолжается такой интенсивный рост жизненного уровня населения. Строго говоря, КПК может оставаться при власти, пока растет экономика и жизненные стандарты населения. Со временем, по мере того, как общество будет становиться более благополучным, может возникнуть спрос на демократию (как это было на Тайване) как технологию управления обществом, но опять-таки, скорее всего, это будут, учитывая масштабы китайского общества (это не 23-миллионный Тайвань), управляемые процессы. В противном случае страну ждет хаос и, как следствие, полная катастрофа, по сравнению с которой распад СССР покажется детской забавой. Причем, тяжелейшие последствия будут не только для Китая, но для всего региона.
9 февраля 2006 г. Китай выступил с новой сенсационной заявкой, дав понять, что уже к 100-летию победы коммунистической революции, то есть к середине XXI века, готов построить на своей территории всеобщее счастье. Как сообщило государственное агентство «Синьхуа», представители Академии наук КНР заявили о том, что к 2050 г. в стране не останется бедняков. По подсчетам китайских ученых, к этому времени минимальный ежемесячный (!) доход среднестатистического китайского гражданина составит 1300 долларов, а средний уровень жизни превысит 80 лет. Согласно экспертным прогнозам, к 2040—2050 гг. на долю Китая придется 14—16 % мирового ВВП.
Наличие таких перспектив выступает своего рода мультипликатором нынешней экономической, политической и военной мощи, дополнительно увеличивая международный вес и авторитет Пекина. Неудивительно, что борьба за влияние на него, за доступ на китайский рынок, выстраивание, с одной стороны, схем сдерживания КНР, а с другой — ее постепенной интеграции в мировое сообщество, — все это становится одной из доминант мировой политики.
Со стороны Запада в отношении Китая преобладает тактика «сдерживания» и одновременного интегрирования его в глобальные структуры, причем упор делается на сохранение зависимости страны от внешних поставок энергоносителей, в которых Китай остро нуждается. Кстати, Индию уже никто не «сдерживает», а напротив, предпринимаются активные попытки втянуть ее в орбиту Запада. При этом сама она превращаться в чьего-то союзника явно не торопится, предпочитая относительно самостоятельный многовекторный и равноудаленный курс. Не следует также забывать о том, что теперь это еще и ядерная держава.
Противодействует усилиям Запада и тенденция к сближению между Пекином и Дели, которые имеют массу общих схожих проблем развития, и которые не заинтересованы в том, чтобы какая-либо третья сила использовала их конкуренцию в своих интересах. Именно эти две страны, по мнению
многих экспертов, будут определять политический и экономический климат в будущем мире. В свете вышесказанного не подлежит сомнению, что соревнование за влияние на Азиатский регион становится (как в прошлые века борьба за Европу) главным стержнем международной политики.
Можно ли чему-то научиться у китайцев? Ответ не вызывает сомнений: Китай, чем дальше, тем больше, будет превращаться в пример для подражания. С приходом к власти называвших себя либералами прозападных элементов и в России, и в Украине под умилительные рассказы о западных ценностях возник дикий капитализм с олигархами и нищетой для большинства населения, дегуманизацией и полной потерей моральных ориентиров в обществе. Запад же спокойно наблюдал за этим, для него главным было, чтобы не возродился советский монстр ВПК. Со временем стало очевидно (а иллюзии были у многих), что рынок сам по себе не решает всех проблем, а клятвы в верности демократии не могут заменить поисков собственного пути модернизации. Никто из отечественных политиков не сумел или не дал себе труда задуматься о том, как западные ценности будут выглядеть в отечественном исполнении. Итог хорошо известен. Сейчас возникла и пропагандируется новая панацея — идеология «встраивания» в мировой рынок, которая нас, заметим, уже в очередной раз, спасет. Скорей в ВТО, НАТО, ЕС (последнее просто звучит фантастично, поскольку в ближайшие двадцать лет нас туда и не пригласят), причем на любых, хотя бы и максимально невыгодных для себя условиях. Как говорится, «хоть тушкой, хоть чучелом», лишь бы на Запад. Одним словом, очередной миф вместо серьезной кропотливой работы. В сторону Азии же никто из нашего МИДа и взгляда не бросит, считая, что все предыдущие декларации о стратегическом партнерстве с Китаем (делавшиеся, кстати, этим же ведомством) ничего не стоят. А ведь будущее делается прежде всего там. Не стоит сомневаться, что жизнь все расставит по своим местам, но время уходит...
В китайском опыте экономических реформ и политике открытости внешнему миру немало поучительного и полезного для всего мира, что, однако, отнюдь не означает, как полагают некоторые, возможности механического их перенесения на другую почву. Среди них:
• социальная ориентированность реформ;
• опыт создания свободных экономических зон, зон развития, технополисов, благоприятного инвестиционного климата, системы правовых и финансовых гарантий и форм защиты иностранных инвесторов, национального бизнеса и национальной экономики;
• активная регулирующая и направляющая роль государства в его экономической, финансовой и налоговой политике, в налаживании сотрудничества между государством и бизнесом;
• формы привлечения сбережений населения для внутреннего кредитования развития экономики и обеспечения гарантий сохранности этих сбережений со стороны государства;
• опыт развития многоукладной экономики, налаживания сотрудничества между крупным и мелким бизнесом;
• опыт конверсии оборонных предприятий и использование двойных технологий;
• опыт сотрудничества государства с зарубежной китайской диаспорой;
• опыт политических многосторонних консультаций, создание структур широкого патриотического фронта всех слоев населения в интересах обеспечения внутренней политической стабильности и укрепления международных связей и авторитета страны.
«Секрет» стабильного развития Китая в последние десятилетия объясняется именно тем, что Поднебесная неизменно идет путем, соответствующим реалиям страны, и воздерживается от слепого копирования моделей других стран. Китай убедительно продемонстрировал, что, проводя «политику реформ и открытости» и открываясь миру, нужно не просто бездумно встраиваться в мировой рынок, какой он есть, а искать и создавать в нем для себя рыночные ниши и за их счет поднимать свою экономику. И этому, если говорить коротко, стоит поучиться. Вот почему нам сейчас нужны не только западные советники, но и специалисты из Азии, понимающие и умеющие применить китайские/индийские подходы к нашим реальным условиям. Так что главный урок, который преподал Китай, состоит в том, что каждой цивилизации и стране следует искать свой путь реформ, вырабатывать долгосрочную стратегию и последовательно ее осуществлять.
Формула успеха Китая складывается из грамотной экономической политики, проведение которой стало возможно благодаря опоре на национально-исторические традиции и особенности китайского народа. Поддержка населения, прежде всего крестьянства, обеспечила успех реформ в самое трудное время, когда они только начались.
Заметим, что за прошедшее с начала реформ непродолжительное для истории время Китай совершил прорыв, который другие страны совершали в течение столетий (страны Европы, США). Сегодня он на равных с ними выступает на мировой арене. Интенсивный экономический рост и тесные контакты с мировой экономикой, с одной стороны, обеспечивают Китаю дальнейшее развитие, с другой — несут опасность попадания в кризис. Кстати, в китайском слове кризис (weiji), состоящем из двух иероглифов, первый иероглиф означает опасность, а второй — возможность, точнее возможность изменений. Но пока в этом нет необходимости, поскольку руководство Китая крепко держит штурвал управления экономикой в руках. Но если с экономикой все и дальше будет идти успешно, то остается открытым вопрос, связанный с сохранением системы цивилизационных ценностей традиционного китайского общества, которые, в свою очередь, напрямую связаны с сохранением существующей социально-экономической модели Китая. Ведь вторжение в Китай иностранных идей и различных проявлений иностранной культуры и морали в условиях политики открытости и широких обменов, подвергают серьезному испытанию и давлению адаптационные возможности механизма «китайского переваривания». Китайский феномен переживает сегодня отнюдь не простые времена. Несмотря на крупные экономические и социальные достижения, ожидания населения их явно опережают. Вспомним, как в начале нашей «перестройки» многие решили, что скоро настанет райская жизнь. Не зря учил основоположник даосизма Лао-цзы: «в победе кроется опасность поражения». Однако у китайской культуры глубокие корни. Рубить их ради того, чтобы кому-то понравиться на Западе, ник
то не собирается. И если руководство страны не отойдет от «генеральной линии» реформ, что маловероятно, поскольку социальная составляющая в политическом курсе остается одной из основных, то впереди у Китая эпоха процветания, или говоря по-нашему, светлого будущего. В пользу этого говорит прежде всего то, что Китай представляет собой высочайшую степень самоидентичности. Духовные основы китайской цивилизации стоят на мощнейшем природном фундаменте. Как показал весь исторический опыт Поднебесной и последние 25 лет его реформирования в особенности, Китай обладает огромным потенциалом самообновления и саморазвития, способностью успешно выходить из самых жестоких и самых суровых испытаний. Это в известной мере ограждает Китай от разрушительного воздействия извне. Воспринимая чужой опыт, Китай непременно «китаизирует его», то есть трансформирует этот опыт применительно к своим национальным особенностям. Таким образом, именно это дает основания полагать, что в обозримом будущем продолжится в целом успешное поступательное развитие Китая, что ему удастся избежать серьезных политических и экономических потрясений, подобных тем, какие постигли Советский Союз, а во второй половине XXI века он превратится в одну из ведущих, а возможно, и доминирующую державу мира.
ГЛАВА 10
ЯПОНСКО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
(Л. С. Васильев, Е. К. Мыкал, Ю. В. Павленко, О. Б. Шевчук)
Традиционная Япония и ее место в системе Китайско-Дальневосточного цивилизационного мира
Традиционная Япония и ее место в системе Китайско-Дальневосточного
цивилизационного мира Модернизация традиционной Японии и ее развитие в первой четверти XX в.
Японский милитаризм и системная трансформация Страны восходящего солнца во второй половине XX в.
Изменения западного взгляда на Японию в течение XIX — XX вв.
Ментально-ценностные основания внешней политики современной Японии
И нформациональная экономика наиболее развитых стран Дальнего Востока
Среди традиционных обществ Востока японская социокультурная система привлекает особое внимание в силу разного рода причин, среди которых в первую очередь
следует назвать две.
Во-первых, и это общеизвестно, именно Япония, не отказываясь от своих богатых традиций, смогла удачно адаптировать передовые технологические, экономические и социально-политические достижения Запада, органически вписать их в свой культур-цивилизацион-ный контекст. Для понимания того, как и почему это ей (первой из не-западных стран) удалось, необходим специальный анализ форм и динамики развития традиционного японского общества, при особом внимании к обстоятельствам его становления.
Во-вторых, цивилизационное положение средневековой Японии по отношению к Китаю во многом подобно аналогичному положению Киевской Руси по отношению к Византии, так что, к примеру, А. Дж. Тойнби колебался, считать ли Русь и Японию самостоятельными цивилизациями или частями Восточнохристианской и Китайско-Дальневосточной («Синической»), В его окончательной схеме Япония, Корея и Вьетнам названы цивилизациями-спутниками по отношению к Синической, производными от ее основополагающих
принципов.
Однако рассмотрение историко-культурного материала вынуждает констатировать гораздо большую (хо
тя и в общем китайско-восточноазиатском контексте) самостоятельность и оригинальность Японии по отношению к Китаю, чем Кореи или Вьетнама.
В жизни Японии всегда, хотя и по-разному в разное время, огромную роль играла наследственная аристократия, которую, в отличие от других государств региона, не смогло вытеснить или даже блокировать служилое чиновничество конфуцианского образца. При всем значении воспринятых китайско-корейских норм, основой социального продвижения была не конфуцианская система государственных экзаменов, а аристократизм, часто дополнявшийся личной воинской доблестью и следованием определявшему последнюю кодексу чести. Обратной стороной медали были явственные и дававшие вполне ощутимые результаты тенденции феодализации, благодаря чему в средневековой японской истории мы видим отдельные полусамосто-ятельные или даже практически независимые княжества с дружинами рыцарей-самураев, связанных со своими князьями отношениями личной верности и преданности*.
Аристократизм, воинский дух, наследственное землевладение с властными правами держателей земли по отношению к крестьянам, феодальная политическая система и многое другое принципиально отличают традиционное японское общество от социокультурной системы китайско-корейско-вьетнамского образца, делая его, вместе с тем, сопоставимым с обществом средневековой Европы.
Индивидуальное начало здесь проявляется явственно и своевольно. Оно в достаточной степени самостоятельно и по отношению к государству (в отличие от Китая), и относительно системы сословной сегрегации (в отличие от Индии), при том, что последняя в жизни Японии играла куда большую роль, чем в Китае, Корее или Вьетнаме. Сказанное, понятно, в первую очередь относится к аристократии и воинскому сословию, однако со времен позднего средневековья тенденции индивидуализации и приватизации жизненных проявлений явственно прослеживаются и в городской среде.
В это время во вполне бесправном состоянии оставалось главным образом крестьянство, однако при бесконечных феодальных войнах отдельные выходцы из его среды могли благодаря личной воинской доблести выдвину-
1 Япония и ее обитатели. — СПб., 1904; Николаев А.А. Очерки по истории японского народа. — СПб., 1905; Хондзё Эйдзиро. Социальная история Японии. — М., 1935; Жуков Е. История Японии. Краткий очерк. — М., 1939; Хани Горо. История японского народа. — М., 1957; Воробьев М.В. Древняя Япония (историко-археологический очерк). — М., 1958; Его же. Япония в III — VII вв. — М., 1980; Его же. Японский кодекс «Тайхо Ёро рё» (VIII в.) и право раннего средневековья. — М., 1990; Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. Краткий очерк. — М., 1968; Спеваковский А.Б. Самураи — военное сословие Японии. — М., 1981; Пасков С.С. Япония в раннее Средневековье. — М., 1987. — С. 25 — 44; Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын ИМ. История Японии. — М., 1988; Симонова-Гудзенко Е.К. История древней и раннесредневековой Японии. — М., 1989; Тол-стогузов А.А. Очерки истории Японии VII — XIV вв.: Становление феодализма. — М., 1995; Нихон сёки — Анналы Японии. В 2-х т. Т. 1. Свитки I—XVI. — СПб., 1997; Рубель В.А. Японська цивипзащя: традицшне сусшльство i державнють. — К., 1997; Его же: Походження вшськово-самурайсько! державносп у традицшнш Японп (середина I тис. до н.э. — XIV ст. н.э.). Автореф. ... докт. 1ст. наук. — К., 1999.
ться в средний общественный слой. В отличие от Индии, определенная социальная мобильность здесь имела место, однако средством для нее становились преимущественно не «умеренность и аккуратность» образованного чиновника-конфуцианца, как в Китае или Корее, а индивидуальные волевые качества — мужество, решительность и преданность князю.
В таком контексте и сложились национальные японские формы буддизма, органически сочетавшегося с национальным религиозно-мифологическим комплексом синтоизма, с одной стороны, и воспринятыми с континента основами конфуцианско-даосской образованности — с другой1.
Следующей характерной чертой традиционной Японии, выразительно отличающей ее от ближайших конфуцианско-буддийских государств и, прежде всего, Китая, является чрезвычайно высокий (по азиатским меркам) динамизм социальных трансформаций. Если Китай нашел свою формулу общественного бытия в начале последней четверти I тыс. до н.э., так что по своим базовым принципам последняя китайская империя Цин мало отличалась от существовавшей за тысячу лет до нее Тан или даже предшествовавшей ей на два тысячелетия Хань, то японская история в каждые два-три столетия открывала новые социокультурные формы, очень часто связанные с творческим освоением континентальных традиций, а после революции Мейдзи 1868 г. — и западных образцов.
Постоянная (за исключением эксперимента с искусственной самоизоляцией страны в XVII — сер. XIX вв.) установка на восприятие и адаптацию к своим условиям и традициям достижений соседей, живой интерес к чужому, умение находить гармоническое сочетание заимствованного и полученного от предков выразительно отличает Японию от традиционного Китая, тысячелетиями жившего в убежденности в своем превосходстве над всем миром и заимствовавшим извне один лишь махаянистский буддизм (да и то только в то время, когда вся его система переживала глубочайший кризис, а весь север страны — основной регион его цивилизации — оказался в руках кочевников). Способность к заимствованию передовых достижений соседей выразительно отличает традиционную Японию и от Индии, веками игнорировавшей хорошо известные ей западноазиатские образцы.
Нельзя сказать, что Япония в своей способности к восприятию соседних цивилизационных влияний была чем-то уникальным. Синтез заимствованных и местных социокультурных форм является типичным в истории обществ, переходящих на стадию цивилизации на периферии и при том или ином воздействии со стороны более развитых соседей. Примерами могут служить не только азиатские культуры, такие как тибетская или яванская, но и многие раннесредневековые общества Европы (Русь, Скандинавские страны) или Тропической Африки (средневековые империи Западного Судана).
Однако в этих случаях, как правило, наблюдается либо застывание, окостенение, наступающее после достигнутого синтеза (Корея и Вьетнам, Бир
1 Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.—Л., 1947; Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. — М., 1987; Хилтухина Е.Г Взаимосвязь культуры и традиции: (На примере Японии). — Улан-Удэ, 1995.
ма и Тибет, или, скажем, Эфиопия и мусульманские державы Судана), или же, что встречается гораздо реже, периодическая замена доминирующих культурных форм (свидетельствующая о том, что ни одна из них не пустила глубоко корни), как, например, на Яве, где, по словам Г. С. Померанца, буддизм, шиваизм и ислам сменяли друг друга как театральные декорации1. В Японии же удавалось на каждом этапе действительно достигать синтеза традиционного и заимствованного, так что новая синтетическая форма культуры становилась для народа органически своей, в то же время способной в своем последующем движении вступить в новый синтез с заимствованными достижениями иного рода.
В отличие от яванской системы, легко отказывавшейся от прошлого и тем самым теряющей внутренний стержень саморазвития (предполагающий устойчивый стержень преемственности и самоидентичности), Япония воспринимала новое и чуждое путем его синтеза со своим традиционным, не отказываясь, более того — оберегая и лелея духовное наследие предков. Таким образом, традиционное периодически обновлялось, при том, что установка на самообновление через заимствование и последующую адаптацию воспринятого сама становилась неотъемлемой частью национальной традиции. Открытость (кроме отмеченных времен позднего сёгуната) сочеталась с устойчивой самоидентичностью, что, в значительной степени, и определило феномен «японского чуда».
Многие тысячелетия ранней истории Японии проходили в относительной изоляции ее обитателей (оставшихся на островах после поднятия уровня мирового океана и затопления перешейков, соединявших их с континентом, в конце ледникового периода). Древнейшим этническим пластом здесь выступает протоайнский массив, близкий в антропологическом отношении к населению ряда районов Юго-Восточной Азии и особенно — Полинезии, но имевший свой особый язык. С предками современных айнов, ныне сохраняющихся лишь на севере Японии, связывают яркую неолитическую рыболов-ческо-охотничье-собирательскую культуру дзёмон, существовавшую с начала VIII тыс. до н.э. приблизительно до 300 г. до н.э.1 2
Вплоть до своего заключительного этапа культура дзёмон не знала элементов производящего хозяйства, чем разительно отличалась от практически всего Старого и, в значительной мере, Нового Света. Отсутствие земледелия и животноводства компенсировалось использованием большого разнообразия естественных пищевых ресурсов морских побережий, рек и озер, лесов, гор, долин и пр., что тысячелетиями ориентировало людей на бережное и эмоционально насыщенное отношение к природной среде.
1 Померанц Г. С. Никакая культура не одинока // Знание — сила. — 1989, № 9. — С. 43.
2
Левин Г. М. Этническая антропология Японии. — М., 1971. — С. 197, 203; Васильевский Р.С. По следам древних культур Хоккайдо. — Новосибирск, 1981; Невский Н.А. Айнский фольклор. — М., 1972; Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, деионы и божества айнов. — М., 1988; Таксами Ч.М., Косарев В.Д. Кто вы, айны? Очерк истории и культуры. — М., 1990; Арутюнов С.А., Щебеньков В.Г. Древнейший народ Японии: Судьбы племен айнов. — М., 1992.
Рыболовческо-охотничье-собирательский комплекс (господствовавший здесь еще в то время, когда в Греции жили Платон и Аристотель, а Китай выходил на рубежи создания централизованно-бюрократической империи) обеспечивал весьма скромный образ жизни и быта людей. Однако уже тогда население островов изготовляло изысканную в художественном отношении керамику и своеобразные культовые статуэтки. На этом этапе также фиксируются отдельные внешние импульсы, доходившие до Японии со стороны культур островного мира Юго-Восточной Азии. Однако принципиально облик хозяйства и культуры коренных обитателей Японии такого рода спорадические контакты не меняли.
Ситуация начала принципиально изменяться на рубеже IV—III вв. до н.э., когда на острова Южной Японии с Корейского полуострова несколькими волнами переселяются рисоводческие, знакомые с металлургией бронзы протояпонские племена — носители культуры яёй. Южная Япония в хозяйственно-культурном плане образует с Южной Кореей один ареал, причем местное население островов частично ассимилируется пришельцами, частично же начинает перенимать их достижения1. Основой общественной организации были разветвленные и иерархически соподчиненные в пределах небольших территориальных объединений родовые группы, о которых с I в. до н.э. появляются первые упоминания в китайских источниках.
Новые качественные изменения в жизни Японии произошли во втор, пол. III в. и были опять-таки связаны с мощной волной мигрантов со стороны Кореи. Завоеватели принесли культуру железного века, развитый комплекс вооружения, коня, традицию курганного погребального обряда для аристократии. Покорив местные рисоводческие группы населения, они образовали несколько самостоятельных раннеполитических объединений, самостоятельно поддерживавших связь с континентом, в том числе уже и с китайским царством Вэй.
Ввиду неурядиц в Северном Китае и Корее после падения династии Хань, отсюда на острова устремляется поток переселенцев, в частности ремесленников и лиц иных, дефицитных в Японии того времени профессий. А борьба между самими южнояпонскими, постепенно распространявшими свое влияние на север, княжествами вела к усилению государства Ямато в центральной части о. Хонсю, правители которого возводили свое происхождение к солнечной богине Аматэрасу.
Ямато распространяет свою власть на соседей, однако у них в полной мере сохраняется принцип иерархической клановой организации1 2. Оно имело типичную раннегосударственную структуру во главе с правителем, которого окружала родовая знать, занимавшая ключевые должности и управлявшая округами. Основную массу населения составляли платившие в казну ренту-налог крестьяне. Кроме них имелись более жестко зависимые от госу
1 Арутюнов С. А. Этническая история Японии на рубеже нашей эры // Труды института этнографии (новая серия). Т. 23. — М,—Л., 1961; Воробьев М. В. Япония в III — VII вв. — М., 1980. - С. 56 - 61.
2 Воробьев М. В. Япония в III — VII вв. — М., 1980. — С. 78 — 175.
дарства или аристократических домов иноплеменники-бэ, часто — ремесленники, выходцы с материка и их потомки, и небольшая прослойка рабов, преимущественно иноэтничного происхождения1.
В пределах государства Ямато в течение IV—VI вв. начинает осуществляться всеобъемлющий синтез первоначальной синтоистской народной культуры с принесенными на острова китайско-корейскими переселенцами основами конфуцианско-даосского комплекса, к которым несколько позднее присоединяется и махаянистский буддизм. При дворе распространяется китайское иероглифическое письмо, императоры назначают воспитателями своих детей выходцев с континента, в высших кругах становится престижным следование китайским образцам, обычаям и модам. Молодых людей начинают направлять для обучения в корейские государства и даже в Китай. В стране разворачивается буддийское монастырско-храмовое строительство с ориентацией на континентальные образцы. В области изобразительного искусства японцы осваивают китайско-корейские навыки, знакомясь с китайскими переводами буддийской литературы.
Распространение континентальных достижений и традиций в политической сфере ознаменовалось общественными реформами первой половины VII в. На первом их этапе в 604 г. был введен 12-ступенный табель о рангах и принят «Закон из 17 статей», в котором были сформулированы основанные на конфуцианстве и буддизме принципы управления, в том числе принцип высшего суверенитета правителя и строгого подчинения младших старшим.
Начавшаяся государственная реформа вызвала противодействие старой аристократии, объединившейся в борьбе с централизаторским курсом вокруг дома Cora. Однако двор, широко приглашая специалистов из Кореи и Китая, добился победы и в 645 г., в ходе «реформ Тайка» провел решительную реорганизацию всей системы управления государством по китайскому образцу. Последующие указы закрепили эти преобразования.
В результате сложилась своеобразная общественная система, основывающаяся на конфуцианских принципах, но сохраняющая и собственно японские черты. Знать признала себя слугами императора (принявшего по китайскому образцу титул «сына Неба») и смирилась с тем, что доходы она получает не от своих земель, а из государственной казны. Земля была провозглашена государственной собственностью и управление стало осуществляться через чиновничье-бюрократический аппарат. Однако наследственная аристократия сохранилась как занимающая высшие должности социальная группа, при том, что служащие получали должностные бенефиции, закладывавшие основу феодализации страны в последующие столетия1 2.
1 Воробее М. В. Некоторые формы зависимости в древней Японии // Проблемы социальных отношений и форм зависимости на Древнем Востоке. — М., 1984. — С. 238 — 268.
2 Воробьев М. В. Япония в III — VII вв. — М., 1980. — С. 176 — 212; Пасков С.С. Япония в раннее Средневековье. — М., 1987. — С. 25 — 44; Толстогузов А.А. Очерки истории Японии VII — XIV вв.: Становление феодализма. — М., 1995; Нихон секи — Анналы Японии. В 2-х т. Т. 1. Свитки I—XVI. — СПб., 1997; Рубель В.А. Японська цивипзащя: тради-щйне суспитьство i державшей». — К., 1997.
Япония была реорганизована по китайскому образцу, однако аристократия в достаточной мере сохранила свои позиции. Аналогичным образом и в культуре восприятие конфуцианства и буддизма проходило не через отрицание древнего синтоизма («пути духов»), а через синтез с этим учением, во многом обогащенным за счет китайского даосизма.
При мирном и добровольном, не навязываемом с континента, заимствовании китайско-корейского опыта Япония сохраняла собственную традицию. Носительницей последней выступала, прежде всего, старая аристократия, чьи привилегированные позиции во многом и определялись традиционным мировоззрением. В результате вокруг императора не сложилось мощного самодовлеющего чиновничьего аппарата конфуцианского образца, воспроизводящегося на основании системы экзаменов, в отличие от того, что мы видим в традиционных Китае, Корее и Вьетнаме.
Реальная власть сохранялась в руках аристократических домов, боровшихся за влияние на императора и власть в стране в сущности так же, как и до «реформ Тайки», только несколько иными методами. Это происходило на фоне быстрой феодализации региональной администрации, главы которой становились наследственными правителями областей, оставляли при себе значительную часть налоговых поступлений и формировали вокруг себя отряды служилых воинов-самураев, ставших с XI — XII вв. основой власти крупных, уже практически независимых от двора феодальных владетелей. Как отмечает Л. С. Васильев, в отличие от Китая и почти всех других стран Востока, в Японии власть имущие и почти вся система администрации опиралась не на чиновничье-бюрократическую или воинскую прослойку, находящуюся на службе у государства, а на состоящих на службе у знатных домов рыцарей-самураев, преданных своим господам1.
Последующий режим сёгуната, в его децентрализовано-феодальной форме с конца XII — до конца XVI вв. или в виде централизовано-полуфео-дальной системы диктаторского типа с рубежа XVI—XVII вв. до революции Мейдзи 1868 г., лишь варьировал возможности, заложенные в такой общественно-политической системе, когда глубоко почитаемый всеми император, символ государственно-национального единства страны, практически не участвует в управлении, а реальной властью обладает представитель побеждавшего в междоусобной борьбе и устанавливавшего на некоторый срок наследственное правление аристократического дома (Минамото, Ходзе, Аси-кага, Токугава), опиравшегося на своих самураев.
При этом в пределах общей формулы режима сёгуната наблюдается достаточно высокий динамизм внутренних трансформаций. Как отмечал Н.И. Конрад, эволюция «дворянской империи» сёгунов демонстрирует переход от военной диктатуры дома Минамото (конец XII — начало XIII вв.) через «демократическую тиранию» рода Ходзе (XIII — начало XIV вв.) к сословной империи дома Асикага (сер. XIV — конец XV вв., при номинальном сохранении сёгуната Асикага до сер. XVI в.). К началу XVI в. страна разваливается на самостоятельные враждующие княжества, взаимопоглощение ко
Васильев Л. С. История Востока. Т. 1. — М., 1993. — С. 235, 236.
торых приводит в поел. четв. XVI в. к новому объединению страны на основе «демократического абсолютизма» Нобунаги и Хидэеси, на смену которому приходит режим «феодальной империи» дома Токугавы (нач. XVII — сер. XIX вв.).
При этом, как писал названный исследователь, на каждом из этапов истории Японии кроме господствующей социальной силы следует искать и «сопутствующее влияние» восходящего сословия (при господстве родовой аристократии — дворян-самураев, при диктатуре опиравшихся на самураев сёгунов — средних и зажиточных городских слоев и пр.). Существенным является и специфическая форма взаимодействия на протяжении всей истории Страны восходящего солнца светской и духовной власти, при том, что наследственная монархия выполняла более сакральные, нежели административно-политические функции1.
Иными словами, власть в Японии никогда не была жестко монополизирована какой-либо одной общественной силой. В раннем периоде государственности родовую аристократию уравновешивало служилое чиновничество китайско-конфуцианского образца. Позднее выдвигаются самураи, оттесняющие старую аристократию и устанавливающие режим сёгунов, но их влияние ограничивается усиливающимся буддийским монашеством и городским людом, тогда как альтернативой сёгун\ остается фигура боготворимого, ничем не запятнанного императора-микадо. Ничего подобного нигде более в Азии мы не видим, однако такого рода динамические взаимоотношения между сословиями, а также светскими и духовными властями, кое в чем напоминают средневековую Европу. Поэтому и не удивительно, что в условиях кризиса 60-х гг. XIX в. император, как альтернативная и сакрально лигити-мизированная фигура, и его окружение принимают сторону горожан и части аристократии в их борьбе с самурайско-чиновничьей диктатурой сёгуната Токугавы. Победа оппозиционных к сёгуну сил в 1868 г. открыла перед Японией новые горизонты.
Таким образом, в жизни дореформенной Японии (точнее — до установления диктатуры сёгуната Токугавы и закрытия страны от иностранцев в начале XVII в.) мы находим не только оптимальную формулу сочетания традиционализма с открытостью к восприятию чужого опыта (при последующем органическом синтезе своего и заимствованного), но и высокий уровень социально-политического динамизма. Последний был связан с конкуренцией и борьбой различных социальных групп, находящих ту или иную форму компромисса в борьбе за власть и контроль над ресурсами и богатством.
В отличие от Китая, Кореи и Вьетнама, в Японии сословно-корпоративный принцип всегда доминировал над чиновничье-бюрократическим, однако, в противоположность Индии, сословия не застывали в иерархической незыблемости, а формировались, развивались и соперничали в общественно-политической жизни. В течение почти всего ныне истекшего тысячелетия даже высшая власть была построена по дуальному принципу.
1 Конрад Н. И. Японская литература. — М., 1990. — С. 8 — 9.
Сёгуны не только фактически держали в своих руках бразды правления, но в глазах народа реально несли ответственность за происходящее, часто выступая объектом локализации отрицательных эмоций общества. Сакрализованная же фигура императора-микадо, который реально ни за что не отвечал, неизменно воплощала в себе высшие, божественные, позитивные принципы, что, как показали события перв. пол. VII в. и втор, пол. XIX в., способствовало проведению глубоких системных социокультурных преобразований, в целесообразности которых был убежден двор, но которые во многом шли вразрез с текущими интересами властвующих корпораций.
Как видим, при всей своей причастности к Китайско-Восточноазиатскому макроцивилизационному миру Япония с самого начала занимала в нем особое место. После Вьетнама и Кореи и она вошла в зону преобладающего китайского влияния, однако, в отличие от них, воспринимала его добровольно, постепенно, «дозированно», синтезируя заимствованное со своим собственным, традиционным. В этом она подобна из древних обществ — Хеттс-кому царству, а из средневековых — Киевской Руси или государствам Северной Европы, которые также воспринимали основы Восточнохристианской и Западнохристианской цивилизаций «добровольно», хотя и с более резким отказом от многих из своих прежних, «языческих», традиций.
Модернизация традиционной Японии и ее развитие в первой четверти XX в.
Япония была едва ли не единственной страной Востока, в чьем развитии период колониализма совпал не с состоянием общего, порой весьма острого внутреннего кризиса, а наоборот, с моментом бурного внутриполитического подъема, связанного с преодолением кризисных тенденций в ходе так называемой реставрации (фактически — революции) Мэйдзи и последовавшей затем серии важных конструктивных реформ. В те самые десятилетия, когда в одних странах Востока на передний план вышла клерикальная реакция, в других одряхлевшие династии не были в состоянии дать должный отпор колонизаторам, а в третьих политическая администрация, как и экономика, оказались под контролем иностранцев, японцы практически безо всякого заметного вмешательства извне, но с привлечением необходимых для быстрой модернизации страны заимствований наращивали темпы экономического роста, модернизировали принципы и методы промышленного производства, энергично и умело добивались необходимых для этого нововведений в политических институтах, правовых нормах, в сфере гражданских свобод, образования, культуры и т.д. Причем все это происходило без радикальной ломки устоявшихся традиций, без болезненного отказа от привычного образа жизни, но на основе гармонического усвоения и логической трансформации принципов и ценностей прошлого, благотворного синтеза своего и чужого, старого и нового. В этом отношении Япония оказалась уникальным феноменом Востока, и эту уникальность она продолжает демонстрировать в наши дни.
Загадка феномена Японии, ее радикальных преобразований сер. XIX — нач. XX вв.1 еще далеко не разгадана, в том числе и самими японцами. Для понимания феномена японской модернизации прежде всего следует отказаться от привычных стереотипов, вовсе не объясняющих японский феномен. Одним из них является представление о том, что так называемая токугавская мануфактура в XVIII—XIX вв. представляла собой нечто большее, нежели аналогичные явления в других странах, и что, возможно, именно это объясняет причины того, что в Японии сложилась система капитализма. Следует сразу же заметить, что принципиально токугавская мануфактура ничем не отличалась от цинской китайской, а кое в чем и явно уступала ей. Что же касается частнопредпринимательской деятельности как таковой, то и она ни по масштабам, ни по роли в хозяйстве Японии ничем не отличалась от того, что имело место в то же время в цинском Китае. И если Япония в чем-то все же была не такой, как Китай, то об этом «чем-то» следует говорить специально, его нужно вычленять и аналитически исследовать, ибо невооруженным глазом само по себе оно не так уж бросается в глаза. Итак, каким же был путь Японии после 1868 г.?
Как и Китай, Япония была «открыта» для колониальных держав в середине позапрошлого века. Как и в цинском Китае, купечество Японии было слабым и политически бесправным, тогда как власть имущие (в Японии это были не чиновники-бюрократы, а самураи и князья во главе с сёгуном) не были заинтересованы в усилении связей с колониальными державами. В Японии, как и в Китае времен опиумных войн, насильственно навязанная стране иностранная торговля была экономически невыгодной, ибо выкачивала из страны драгоценный металл и вела к финансовому дисбалансу. Собственно, все эти, равно как и многие другие, факторы предопределили ослабление, а затем и падение режима сёгуната.
1 См.: Костылев В.Я. Очерки истории Японии. — СПб., 1888; Конрад Н.И. Япония (народ и государство). — Пг., 1923; Сент-Катаяма. Современная Япония. — М., 1926; Тани Томней. Капитал и труд в Японии. — М., 1926; Харнский К. Япония в прошлом и настоящем. — Владивосток, 1926; Петров А.Н. Японский пролетариат. — Л., 1927; Плетнер О.В. Аграрный вопрос в Японии. — С., 1928; Гастов Г. Японский империализм. — М., 1930; Файнберг Э.Я. Внутреннее и внешнее положение Японии в середине XIX века. — М., 1954; Ее же: Русско-японские отношения в 1697 — 1875 гг. — М., 1960; Петров Д.В. Колониальная экспансия Соединенных Штатов в Японии в середине XIX в. — М., 1955; Бедняк И.Я. Япония в период перехода к империализму. — М., 1962; Гальперин А.Я. Очерки социально-политической истории Японии в период позднего феодализма. — М., 1963; Забров-ская Л. В. Историографические проблемы японо-китайской войны 1894—1895 гг. — Владивосток, 1993; Иванова Г.Д. Русские в Японии XIX — начала XX вв.: Несколько портретов. — М., 1993; Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи. — Иркутск, 1993; Васильев М. «Образ Японии» в Японии и России второй половины XIX — начала XX века. М., 1996; Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Японское общество: книга перемен. — М., 1996; Японский феномен. — М., 1996; Размышления о японской истории. — М., 1996; Гришеле-ваЛ.Д., Чегодарь Н.И. Японская культура нового времени. Эпоха Мэйдзи. — М., 1998; История Японии. В 2-х тт. Т. 2. — М., 1999; Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. — М., 1999; Лим С. Ч. История образования в Японии (конец XIX — первая половина XX века). — М., 2000; История и культура Японии. — М., 2001.
Разница в развитии между Китаем и Японией начинает сказываться и становиться заметной именно с этого момента. В Китае реакция традиционной структуры на перемены, вызванные вмешательством колониализма, выразилась в форме крестьянской войны тайпинов, а в Японии эквивалентом тайпинам стал революционный переворот 1868 г., приведший к переходу власти в руки 15-летнего императора Муцухито (Мэйдзи). Революционным этот переворот следует считать не столько по форме, сколько по результатам, ибо вслед именно за этим важнейшим изменением в привычной для Японии традиционной структуре (император в истории Японии практически никогда не управлял делами страны; за него это делали сначала регенты, потом сёгуны) последовали все остальные, радикально изменившие облик страны.
Муцухито и действовавшие от его имени советники начали с того, что радикально реформировали систему социальных связей в стране. С целью ослабить и сделать невозможными в дальнейшем феодальные распри реформа 1871 г. ликвидировала феодальные уделы и наследственные привилегии князей-даймё, а также подорвала социальную и экономическую базу саму-райства. Вся Япония была разделена на губернии и префектуры во главе с назначаемыми из центра чиновниками. Кадры чиновников, за неимением альтернативы, комплектовались из числа тех же князей и самураев, но теперь это были уже не независимые аристократы или рыцари, но именно стоящие на службе у государства и получавшие за это жалованье из казны чиновники. Причем это были чиновники, сформировавшиеся как социальный слой практически заново, не имевшие ни опыта, ни корней, ни традиций и потому еще не погрязшие в коррупции, не научившиеся практике бюрократических проволочек, взяточничеству и всему остальному, что неизбежно сопутствует бюрократической структуре и что, в частности, было традиционной нормой в Китае. Конечно, связи и протекционизм при этом продолжали сохраняться и играли свою роль, но это зло в условиях всеобщих перемен не было угрожающим для трансформирующегося общества.
Реформа официально отменила сословные различия. Хотя титулы и звания сохранились, лишившиеся владений князья и самураи (те, что не стали чиновниками, в первую очередь) были в социальном плане приравнены ко всем остальным сословиям страны. В качестве средств существования им были назначены выплачивавшиеся из казны пенсии — практика не столь уж необычная для Японии, во всяком случае, для самураев. Важной составной частью первой серии социально-сословных преобразований стала реформа 1872 г., вводившая всеобщую воинскую повинность, которая была призвана окончательно подорвать позиции самураев, в лучшем случае теперь имевших основание претендовать на офицерские должности в регулярной армии.
Радикальный характер первой серии реформ очевиден. Пришедшее к власти новое руководство во главе с императором решительно отказывалось от старых принципов, чреватых феодальной раздробленностью и междоусобицами, ведших к децентрализации и своеволию сильных и независимых, опиравшихся на собственные воинские формирования князей. Взамен этого создавалась стройная административно-бюрократическая система, основанная на равенстве сословий, на усилении роли казны и единой финансовой
системы страны, на подчиненных центру регулярных воинских подразделениях. Значение всех упомянутых нововведений едва ли можно переоценить: впервые в истории Японии император и его правительство оказывались не одной из соперничающих политических сил, но единственной, полной и общепризнанной властью.
Серия реформ 1872—1873 гг. уделила внимание также перестройке системы аграрных отношений, весьма радикальной по характеру. Земля, законодательно признанная собственностью тех, кто ею реально владеет, была закреплена за крестьянами. Правда, при этом значительная часть мелких землевладельцев теряла свои участки, и не будучи в силах выплатить выкуп за землю и налоги, переходила в разряд арендаторов и батраков либо переселялась в города. Но это в принципе не изменяло сути дела. Суть же сводилась к тому, что зажиточное крестьянство было освобождено от земельной ренты в пользу князей (собственно, именно за это князья и получили от казны свои крупные пенсии) и получило возможность за не столь уж тяжелый выкуп владеть своей землей и работать на рынок. Иногда эту реформу сопоставляют с прусским путем развития капитализма в сельском хозяйстве. Независимо от того, насколько это сопоставление справедливо, оно разумно в том смысле, что аграрная реформа внесла свой немалый вклад в становление японского капитализма, обеспечив хотя бы частично необходимый для этого капитал (первоначальный капитал, японский вариант первоначального накопления).
Реформы открыли перед японским купеческим капиталом достаточно широкий простор для частнопредпринимательской деятельности, социально и юридически защищенной и активно поощряемой властями. В стране развернулось достаточно быстрое промышленное строительство. Расцветало банковское дело, чему способствовало решение правительства в 1876 г. капитализировать княжеские пенсии, заменив ежегодные выплаты единовременной компенсацией. Резко увеличившийся в результате этого акта банковский капитал не только обеспечил бывшим князьям их существование в будущем, но и позволил превратить их в предпринимателей, по меньшей мере в рантье, что также содействовало первоначальному накоплению японского капитала.
И, наконец, еще одной принципиально важной акцией японского правительства, направленной все в ту же сторону, было решение вначале взять на себя строительство наиболее крупных и экономически неэффективных промышленных предприятий (арсеналы, металлургические заводы, верфи и т. п.), а затем, согласно принятому в 1880 г. закону, за бесценок продать их в руки наиболее крупных и умело действовавших торгово-промышленных компаний, таких, как Мицуи, Мицубиси, Фурукава и др. Тем самым японское правительство не только ясно продемонстрировало твердый курс на поддержку защищенного законом частного предпринимательства, но и избавило Японию как государство от невыносимого груза неэффективной казенной промышленности, тяжесть которого всегда ощущали и ныне ощущают подавляющее большинство развивающихся стран.
Реформы 70-х гг. XIX в. привели к энергичной трансформации японского общества и пробудили к жизни новые социальные и экономические си
лы, в свою очередь требовавшие для оптимизации условий своей деятельности новых преобразований, на сей раз в сфере политической. С начала 80-х гг. в стране развернулось широкое движение за конституцию, в первых рядах которого шли оформлявшиеся в партийные группировки сторонники новых методов ведения хозяйства, т. е. частные предприниматели города и деревни, вписавшиеся в новые условия существования вчерашние самураи, первые поколения получивших европейское образование японских интеллигентов, частично и выходцы из высших слоев японского дворянства, из княжеских семей.
Движение за свободу и права народа (оно именовалось «минкэн-ундо») привело к обещанию правительства ввести в 1890 г. конституцию, для чего, в частности, в Европу и США была послана специальная миссия Ито, которой следовало ознакомиться с соответствующими нормами, институтами и процедурами за рубежом и выбрать наиболее подходящие из них для Японии. Ито остановился на прусском варианте Бисмарка, что было по-своему весьма логичным итогом поисков: быстро развивавшаяся усилиями Бисмарка полуфеодальная Пруссия в конце позапрошлого века действительно была по многим параметрам наиболее сопоставима с Японией.
В 1889 г. от имени императора был опубликован текст конституции. Создавалась конституционная монархия с большими правами императора, которому по-прежнему принадлежала законодательная инициатива. Хотя парламент контролировал финансы, он был лишен права создавать ответственное перед ним правительство. Зато конституция официально провозглашала демократические свободы и гражданские права для всех граждан страны — условие, без которого успешное развитие капитализма в Японии было бы невозможным. Парламент был созван в 1890 г., причем правом избрания нижней и основной его палаты (верхняя была чем-то вроде палаты лордов) пользовались лишь некоторые из налогоплательщиков, вначале примерно I % населения страны. Первый японский парламент оказался достаточно самостоятельным. Правительство несколько раз распускало его за строптивость, в частности, за отказ голосовать за те или иные расходы, особенно на военные цели.
Провозглашение и реализация демократических прав и свобод открывало путь для быстрого развития японского капитализма, развязывало руки молодой японской буржуазии. Но необычно быстрые для отсталой восточной страны темпы ее социальной, экономической и политической трансформации во многом оплачивались страданиями простых людей — крестьян, лишавшихся земли и шедших в города, рабочих, которых нещадно и порой бесконтрольно эксплуатировали. Но это было нормой для всех стран раннего капитализма — и рабочий день, длившийся 12 —14 часов, и нищенские условия существования, и бесправие, и даже плетки надсмотрщиков и десятских.
Японию не миновала эта доля, хотя преимуществом ее было то, что она прошла этот путь довольно быстро, чему способствовали, в частности, раннее развитие рабочего движения, появление профсоюзов. Но главное, что сыграло свою роль, — это культивирование патерналистских традиций, стремление предпринимателей наладить прямой контакт со своими рабочи
ми на началах гармонии труда и капитала. Вначале весьма слабые, эти попытки в дальнейшем, с ростом уровня благосостояния страны и народа, стали реализовываться все успешнее, пока не достигли оптимального характера, каким отличаются взаимоотношения труда и капитала в Японии в наши дни. Ведь далеко не случайно бурно развивающаяся капиталистическая Япония вот уже на протяжении ряда десятилетий практически не знает мощных забастовок, подобных тем, что время от времени сотрясали ведущие капиталистические страны Европы и Америки.
Уже на рубеже XIX—XX вв. сформировались основные черты и характерные особенности японского капитализма. Важно заметить, что с самого начала прошлого века это был сильный и сплоченный, динамично эволюционирующий капитал, вполне способный конкурировать на международном рынке с крупнейшими капиталистическими странами. Японский капитал и созданная им промышленная база послужили прочной основой для всей политики Японии, особенно для ее внешней политики.
Хотя самураи после 1868 г. перестали быть ведущим сословием Японии, дух самурайства не исчез. Лишенные прежних прав и привилегий потомки вчерашних самураев культивировали свои воинские доблести и воспитывали в соответствующем духе солдат регулярной армии. Разница была лишь в том, что если прежде дух и деятельность самураев реализовывались внутри страны, в междоусобных войнах и феодальных схватках, то теперь воинственность самураев оказалась направленной на внешний мир, на соседние с Японией страны и народы. Строительство сильной армии и особенно флота стало задачей номер один с первых же шагов новой японской администрации. И далеко не случайно государство на первых порах взяло в свои руки создание арсеналов и верфей — без них оно не сумело бы создать сильную армию.
Первым из агрессивных шагов внешней политики пореформенной Японии стала борьба за японское влияние в Корее. В 1876 г. высадившийся в Корее японский экспедиционный корпус навязал этой стране неравноправный договор, предоставлявший японцам ряд прав и привилегий. В 1885 г. по японо-китайскому соглашению Китай признал японские интересы и права в Корее практически равными своим (до того Корея официально считалась вассалом Китая). В итоге японо-китайской войны 1894—1895 гг. по Симо-носекскому договору Япония получила право владения островами Тайвань и Пэнхуледао и еще более укрепила свои экономические и политические позиции в Корее. Дело дошло до того, что в 1895 г. японские агенты убили антияпонски настроенную корейскую королеву, а король был вынужден искать убежища в русском посольстве.
Все эти военные и внешнеполитические успехи Японии привели к тому, что на рубеже XX в. она не только по экономическому потенциалу и характеру развития, но и по агрессивности своей политики стала одной из ведущих империалистических держав в мире. Япония была, в частности, в числе тех восьми держав, чьи миссии организовали интервенцию в Китае в 1900 г. в связи с восстанием ихэтуаней. Япония в 1902 г. заключила выгодный для нее военный союз с Англией, что помогло ей усилить свои позиции на континенте и выступить в феврале 1904 г. против России.
Русско-японская война, завершившаяся бесславным поражением русских войск, привела к тому, что Южная Маньчжурия и Корея превратились в протекторат Японии. Японский капитал мощным потоком устремился в эти районы, способствуя их экономическому развитию и превращая их в плацдарм для дальнейшей агрессии на континенте, в основном против Китая.
В своем успешном продвижении по пути капитализма Япония полностью воспользовалась всем тем, что может предоставить для такого развития демократизация европейско-американского образца. Однако она не отказалась и от многого из того, что восходит к ее собственным фундаментальным традициям и что тоже сыграло свою позитивную роль в ее успехах. То, что обошлось Китаю так дорого, Японией было достигнуто с завидной легкостью, причем оказалось для нее лишь неким стартовым уровнем, в довольно скором времени не просто превзойденным, но и оставленным далеко позади. Япония — единственная из неевропейских стран, чье развитие уже к рубежу XIX—XX вв. позволило ей не просто сравняться с ведущими европейскими державами, но и стать одной из наиболее влиятельных и успешно развивающихся капиталистических стран мира. Так в чем же разгадка феномена Японии?
Конечно же, речь должна идти о сложном комплексе причин, об уникальном стечении благоприятных условий и обстоятельств, определивших успех Японии в те весьма неблагоприятные для развития неевропейского мира десятилетия активной экспансии европейских держав, которые ознаменовали собой колониальный раздел мира и насильственное втягивание внутренне не готовых к этому стран в жесткие сети мирового капиталистического хозяйства. Внешне, по сути своей, ситуация была в принципе одинаковой для всех, хотя каждая из стран Востока переносила ее по-своему и имела собственную судьбу, как правило, весьма незавидную.
Япония, как и Китай, «открывалась» капиталистической Европой дважды. Первый раз это было в XVI в. и сопровождалось знакомством с христианской (католической, преимущественно в ее иезуитской модификации) религиозной культурой и с достижениями европейской науки и техники того времени. Второй раз — после длительных веков «закрытия» страны и строгих официальных ограничений на сношения с Западом. Интенсивные контакты начались лишь в середине XIX в. Однако в отличие от Китая, изоляция Японии от европейского мира не сопровождалась высокомерным официальным отторжением всего иноземного, демонстративным пренебрежением по отношению к нему. Напротив, японцы, привыкшие перенимать у других народов (прежде всего из Китая) все полезное и пригодное для собственного развития и не видившие в этом ничего для себя зазорного и унизительного, активно продолжали следовать этому принципу и в период формального закрытия страны от влияния со стороны Запада. В частности, знакомство с достижениями европейской техники осуществлялись при посредстве голландцев, прочно обосновавшихся в Индонезии и получивших право торговли в одном из японских портовых городов.
Можно, таким образом, сформулировать первое из благоприятных обстоятельств, способствовавших появлению японского феномена. Это — веками воспитанная склонность к активным полезным заимствованиям извне
при отсутствии столь характерного для Китая почитания собственной мудрости и пренебрежения к представителям иных культур.
Важно и то, что островное положение Японии имело своим следствием особую роль торговли и мореплавания. Формально торговцы в Японии, как и в Китае, занимали приниженное положение: среди официально признанных сословий (самураи — крестьяне — ремесленники — торговцы) им принадлежало последнее место. Но реально их статус был выше, чем в Китае, поскольку их поддерживали заинтересованные в развитии своих княжеств даймё, предоставлявшие им определенные льготы и заботившиеся о развитии морской торговли. Это способствовало возникновению в Японии уже в XVII в. богатых торговых домов, в том числе знаменитых впоследствии Мицуи и Сумитомо. Через посредство связей такого рода торговцев с внешним миром осуществлялись и контакты с европейцами, прежде всего с голландцами. Торговля и мореплавание японцев, имевшие — как и в случае с китайцами в те же века и в том же регионе — характер частнопредпринимательской деятельности, опирались в своем развитии на активную поддержку со стороны власть имущих. А это не могло не сыграть определенной роли в укреплении формального и, главное, реального статуса торговцев в Стране восходящего солнца.
Итак, японские торговцы и покровительствовавшие им князья вели частнопредпринимательскую по характеру, активную внешнюю торговлю и заимствовали достижения западной (голландской) науки и техники. Прежде всего перенимались те из них, которые способствовали развитию все той же торгово-предпринимательской хозяйственно-экономической деятельности, включая плантационное хозяйство, горнодобывающие промыслы и металлургию, судостроение, изготовление оружия. Те же отрасли экономики развивались и усилиями централизованной власти, сёгуната, т. е. были объектом внимания со стороны государства и являли собой неотъемлемую часть государственной экономики, хорошо известной в традиционной Японии, как и на всем Востоке. Однако существенная разница была в том, что, по сравнению с Китаем, государство в Японии было несколько иным, причем разница в конечном счете была в пользу частнопредпринимательского начала.
Как уже говорилось, в Японии по ряду причин не сформировалась гражданско-бюрократическая система власти с соответствующим аппаратом чиновников, который рекрутировался бы по китайской модели с помощью системы экзаменов. Альтернативой здесь оказалась система военной власти в форме сёгуната, где функции чиновников исполняли в основном самураи, воины-рыцари с характерным для них кодексом воинской доблести и рыцарского долга (бусидо). Восходя по основным параметрам к китайской традиции (верность долгу и чести, преданность господину, почтение к старшему, культ добропорядочности и готовность отдать жизнь во имя соблюдения священных принципов и норм поведения), кодекс самураев бусидо лишь внешне соответствовал требованиям конфуцианства. По сути же он уводил самураев в сторону выполнения ими военной и военно-феодальной функции, что вполне соответствовало реалиям Японии, но кардинально отличало ее в этом смысле от Китая.
Практически это означает, что в Японии не сложилось всеобъемлющего государства с его тотальным контролем над населением — того самого государства, которое в Китае сковывало китайских торговцев и позволяло им развертывать их возможности лишь там и тогда, где и когда сильной опеки государства не ощущалось, т. е. вне Китая, в тех же странах южных морей. Отсутствие такого государства в Японии сыграло важную роль в успехах этой страны, особенно после реставрации Мэйдзи, когда молодое, буквально на глазах создававшееся государство во главе с императором не только не было обременено многовековыми традициями бюрократизма со всеми свойственными ему пороками, включая косность и коррупцию, но напротив, было широко открыто для полезных заимствований. Именно эти заимствования, хлынувшие потоком в конце XIX в., во многом способствовали созданию государственного аппарата на принципиально новых началах, включая европейские принципы конституционной монархии,'гражданского общества, демократической процедуры и т. п.
Как уже говорилось, Япония в годы энергичного натиска колониализма оказалась в условиях национального подъема, быстрого роста и внутреннего развития, что выгодно отличало ее от подавляющего большинства других стран Востока, которые находились в эту пору в состоянии упадка, столь облегчившего колонизаторам осуществление их цёлей. Если прибавить к этому, что скудные природные ресурсы не делали в глазах колониальных держав Японию привлекательной, то на поверхность выступит еще один важный фактор, сыгравший свою роль в феномене Японии: эта страна в силу ряда причин оказалась как бы вне пристального внимания колонизаторов. Разумеется, со временем европейские государства приобрели свои позиции в экономике Японии, но не их усилиями здесь осуществлялся процесс энергичной внутренней трансформации традиционной структуры. Он осуществлялся усилиями молодого ориентировавшегося на европейские стандарты государства, проведшего ряд радикальных реформ, а также стараниями весьма подготовленных к упомянутой трансформации торгово-промышленных кругов, немалое место в ряду которых заняли и вчерашние даймё, и самураи.
Япония была для Востока действительно необычным государством. Не имевшее в прошлом собственных традиций и ориентированное на разрыв с этим прошлым (с системой сёгуната), японское! государство сознательно ориентировалось на иные стандарты, на заимствования с Запада. Это, в частности, проявилось в его отношениях с частнопредпринимательским сектором народного хозяйства. Если во всех без исключения странах Востока традиционное государство стремилось сосредоточить в .своих руках контроль над трансформирующейся экономикой, строить новые промышленные предприятия и вообще управлять хозяйством страны, то в Японии дело обстояло совершенно иначе.
Распродажа государственных предприятий в руки частных фирм была важным сигналом, свидетельствующим о том, что японская империя вполне сознает преимущества и экономическую эффективность именно частнокапиталистической формы управления экономикой и что государство не только легко смирилось с потерей им контроля над бурно развивающейся экономикой страны, но даже и весьма удовлетворено этим процессом, готово ак
тивно ему содействовать. Главными же функциями японского государства с конца XIX в. стали те, что характерны именно для государства западного типа — функции политические, т. е. осуществление политики, в которой заинтересованы прежде всего господствующие классы и социальные слои новой Японии. И в этом пункте пора перейти к еще одному важному фактору, определившему не только феномен Японии как таковой, но и облик японской империи, ее агрессивную политику в конце XIX — перв. пол. XX в.
Речь пойдет все о той же военной функции, о которой уже упоминалось в связи с оценкой статуса и позиций самураев в традиционной Японии. Откуда в Японии столь сильная и развитая военная традиция? Почему конфуцианство именно в этом важнейшем для себя пункте — принципе строго централизованной бюрократической гражданской администрации — оказалось вынужденным отступить? Можно было бы представить дело таким образом, что здесь сыграл свою роль основной идейный соперник конфуцианства в Японии — буддизм, на протяжении ряда веков бывший официальной идеологией сёгуната. И в этом есть определенный резон, ибо хорошо известно, что буддизм в его специфически-японской форме дзэн-буддизма сыграл весьма существенную роль в воспитании поколений самураев, проходивших выучку в дзэнских монастырях с их суровой ориентацией на дисциплину и повиновение наставнику. Но если даже так, то нельзя отделаться от мысли, что сам буддизм, столь невоинственный по своей сути, по доктринальной основе, стал воинственным именно в условиях Японии. Почему же?
Видимо, здесь решающую роль сыграли исторические условия становления Японии как государства, расчлененность страны на острова и постоянная политическая вражда влиятельных сил при общей слабости власти центра. Как бы то ни было, но все это способствовало выходу на передний план военной функции в ее столь специфической для Японии военно-феодальной форме, во многом сходной с Китаем времен Чуньцю или со средневековьем в Европе. Принципы воинской доблести веками оттачивались, достигнув совершенства в виде упоминавшегося уже кодекса бусидо, свода норм поведения самурая (вплоть до известного харакири). Не исчезли они и после реставрации Мэйдзи.
Конечно, ликвидация сёгуната и реформы японской армии сыграли свою роль. Однако дух бусидо не ушел в прошлое. Напротив, с выходом на передний план находившейся до того в состоянии упадка национальной японской религии — синтоизма (вариант китайского даосизма) — с ее культом императора как потомка богини Аматэрасу воинский дух японцев как бы обрел новое содержание. Все воины страны, в том числе вчерашние самураи и их потомки, ставшие офицерским корпусом новой армии, должны были быть готовы умереть во имя величия новой Японии и ее императора. Отсюда — тот самый дух милитаризма, та откровенная агрессивность, которая стала проявляться во внешней политике Японии по мере развития экономической и, прежде всего, военно-экономической базы этой страны в конце прошлого века.
Десятилетие перед Первой мировой войной было периодом быстрого промышленного развития Японии. Вначале оно сопровождалось ростом активности рабочего движения и распространением социалистических идей в
Японии, созданием там социалистического движения во главе с Сен Катаямой. Но перед войной это движение пошло на убыль, а вся страна была охвачена националистическим угаром, под знаком которого Япония стала активно действовать в годы войны.
Тонко рассчитав свои ходы, японцы выступили против позиций Германии в Китае, потребовав от нее уступки ее владений на полуострове Шаньдун. Занятая военными действиями в Европе, Германия не могла противостоять натиску японцев, экспедиционный корпус которых в сентябре 1914 г. занял принадлежавшие Германии территории на этом полуострове. Вскоре после этого, как уже упоминалось, японцы предъявили Юань Шикаю свои «21 требование», значительную часть которых Китай был вынужден принять. И хотя после войны, в немалой мере из-за энергичных протестов в Китае в ходе движения «четвертого мая», на Вашингтонской конференции 1921—1922 гг. Япония была вынуждена вернуть Китаю захваченные ею в 1914 г. территории, позиции японского капитала в Китае все укреплялись.
Японский милитаризм и системная трансформация Страны восходящего солнца во 2-й половине XX в.
Итоги Первой мировой войны были выгодны для Японии. Экономика развивалась, внешняя торговля завоевывала все новые рынки, особенно в Азии, куда сильно сократился поток товаров из Европы. Хотя в самой Японии вскоре после войны ощущались ее последствия («рисовые бунты», вызванные дороговизной риса, потрясли в 1918 г. страну), в целом держава была на подъеме. За 1914 — 1919 гг. валовой национальный продукт возрос впятеро, с 13 до 65 млрд иен. Неудивительно, что все это уже с начала 20-х годов стало служить надежной экономической базой для поддержания агрессивной внешней политики, апофеозом и крахом которой стала Вторая мировая война.
Хорошо известно, что Япония сыграла немалую роль в интервенции держав против молодой Советской России. Пыталась она, как упоминалось, сохранить свои территориальные приобретения и в Китае, не говоря уже о поставленной в колониальную зависимость от нее Корее. Но в целом 20-е и даже начало 30-х гг. были периодом сравнительно умеренной внешнеполитической экспансии Японии. В некотором смысле можно сказать, что это было время накапливания ею сил и выжидания благоприятной обстановки. В то же время эти годы были периодом ожесточенной внутриполитической борьбы, основной смысл которой сводился к стремлению наиболее радикальных слоев японского общества выйти на передний план и сформировать в стране определенное общественное мнение. Речь идет о так называемой группировке «молодых офицеров».
Здесь напрашивается бросающаяся в глаза аналогия с послевоенной Германией. Хотя между потерпевшей поражение в войне Германией и нажившейся на войне Японией была немалая разница, не говоря уже о различиях в культуре, политических и иных традициях, сходство все же есть, пусть даже более функциональное, нежели сущностное. Проявлялось оно прежде всего в воинственном радикализме социальных групп, делавших
ставку на силу и агрессию, на культ исключительности и вседозволенности, на войну и уничтожение. «Молодые офицеры», чье влияние в Японии в 20—ЗО-е гг. все усиливалось, требовали практически того же, что и нацисты в Германии: отказа от многопартийной системы и ответственных перед парламентом кабинетов, диктатуры внутри страны и экспансионистской политики вне ее.
Далеко не сразу — как и в Германии — они добились своего. Вначале процесс шел скорее в обратную сторону. Капитализм успешно развивался, рос рабочий класс, увеличивались ряды интеллигенции, укреплялись завоеванные в социальных боях права трудящихся. В 1919 г. был снижен имущественный ценз, вследствие чего электорат в стране увеличился до 3 млн (из 56 млн населения), а в 1925 г. избирательное право стало всеобщим, правда, только для мужчин. В Японии одна за другой возникали и укрепляли свои позиции новые политические партии, в том числе коммунистическая, образовавшаяся в 1922 г. Парламентские кабинеты стремились, хотя и не всегда удачно, противостоять энергичному натиску «молодых офицеров», чьи представители временами включались в кабинет министров. Словом, баланс сил пока сохранялся, хотя и становилось все более очевидным, что энергия воинствующего радикализма берет верх.
С конца 20-х гг. прошлого века Япония начинает стремительно милитаризироваться, следствием чего стала ее агрессия в Китае и Юго-Восточной Азии, в ходе Второй мировой войны, закончившейся для страны, как известно, катастрофическим разгромом*.
В 1927 г. к власти пришел кабинет генерала Танака, настроенного весьма агрессивно. Именно при нем вновь был направлен японский экспедиционный корпус в Китай, в Шаньдун. Вскоре, однако, войска были выведены,
Иноуэ К., Оконоги С., Судзуки С. История современной Японии. — М., 1955; Латышев И. Внутренняя политика японского империализма накануне войны в Тихом океане. — М., 1955; Хани Горо. История японского народа. — М., 1957; История войны на Тихом океане. — В 5-ти т. — М., 1957 — 1958; Кушаков Л.Н. История советско-японских дипломатических отношений. — М., 1962; Его же. Внешняя политика и дипломатия Японии. — М., 1964; Александров В. Япония и развивающиеся страны. — М., 1965; Петров Д.В. Рабочее и демократическое движение в Японии. — М., 1965; Финал. Историко-мемуарный очерк о разгроме империалистической Японии в 1945 г. — М., 1966; Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. — М., 1968; Японский милитаризм. — М., 1972; СССР — Япония. К 50-летию установления дипломатических отношений. — М., 1978; Селищев А.С. Японская экспансия; люди и идеи. — Иркутск, 1993; Кузнецов С.И. Проблема военнопленных в российско-японских отношениях. — Иркутск, 1994; Гапоненко Е. Болят старые раны. — Южно-Сахалинск, 1995; Мазуров И.В. Японский фашизм: Теоретический анализ политической жизни в Японии накануне Тихоокеанской войны. —. М., 1996; Марков А.П. Россия — Япония. — М., 1996; Молодяков В.Э. Подсудимые и победители: (Заметки и размышления историка о Токийском процессе). — Токио, 1996; Славинский Б.Н. Ялтинская конференция и проблема «северных территорий»: Современное документальное переосмысление. — М., 1996; Размышления о японской истории. — М., 1996; История Японии. В 2-х т. Т. 2. — М., 1999; История и культура Японии. — М., 2001; Каткова З.Д., Чудодеев Ю.В. Китай — Япония: любовь или ненависть? К проблеме эволюции социально-психологических и политических стереотипов взаимовосприятия (VII в. н.э. - 30-40-е годы XX в.). - М„ 2001.
что послужило одной из причин падения кабинета Танака. Однако «молодые офицеры» не сдавались. В 1930—1932 гг. они совершили несколько путчей и политических убийств, что приблизило их к цели. Осенью 1931 г. Япония начала оккупацию Маньчжурии, где в 1932 г. было создано государство Маньчжоу-го во главе с марионеткой Японии Пу И, последним китайским императором.
В 1933 г. Япония, чтобы развязать себе руки, демонстративно вышла из Лиги Наций, отказавшейся признать Маньчжоу-го. Снова был послан японский экспедиционный корпус в Китай, на сей раз в провинцию Жэхэ; с 1935 г. началось военное проникновение японских войск в степи Монголии. Правда, выборы 1936 г. прошли в Японии под знаком несомненного успеха сил, выступавших против агрессии и фашизма. Неугодный правительству новый парламент был распущен, но и проведенные вслед за тем выборы в марте 1937 г. дали тот же результат. Правительству и стоявшим за ним правящим кругам, сочувствовавшим «молодым офицерам», становилось все более очевидно, что демократической процедуре следует противопоставить сильный авторитарный режим, что и было сделано.
В ноябре 1936 г. Япония подписала с Германией известный антико-минтерновский пакт, чем привязала себя к немецкому фашизму, а летом 1937 г. началась японо-китайская война, под знаком которой прошло почти целое десятилетие. С началом войны экономика Японии была переведена на военные рельсы. С партийной борьбой и парламентской деятельностью практически было покончено. Был взят твердый и решительный курс на расширение военной экспансии и провокаций, в том числе и против СССР. «Молодые офицеры» были довольны: армия и генералитет в Японии не только вышли на передний план, но и стали как бы символизировать силу, мощь, процветание и беспощадность страны, с 1938 г. начавшей открыто претендовать на установление «нового порядка» в Восточной Азии.
Выйдя на просторы континентальной Азии, капиталистическая Япония с конца XIX в. и особенно в перв. пол. XX в. стала откровенно демонстрировать не столько свои экономические успехи, хотя они были весьма заметными, и даже не столько свои заимствованные у европейцев формы организации государства и общества, сколько чуть ли не средневековую по уровню жестокости воинскую традицию. Ее нормы предполагали безжалостное уничтожение не только побежденных воинов, но нередко и гражданского населения в завоеванных странах, как то было особенно заметно на примере Китая. Неизвестно, сколь далеко завел бы Японию этот ее питавшийся традицией агрессивно-милитаристский дух и соответствующая внешняя политика, если бы не поражение страны во второй мировой войне, которое послужило исходным пунктом трансформации страны и своего рода завершающим ключевым аккордом в том процессе, который можно назвать феноменом Японии.
Осенью 1939 г., когда началась Вторая мировая война и западноевропейские страны одна за другой стали терпеть поражения и становиться объектом оккупации со стороны гитлеровской Германии, Япония решила, что ее час пробил. Туго закрутив все гайки внутри страны (были ликвиди
рованы партии и профсоюзы, взамен создана Ассоциация помощи трону в качестве военизированной организации фашистского типа, призванной ввести в стране тотальную политико-идеологическую систему жесткого контроля), высшие военные круги во главе с генералами, возглавлявшими кабинет министров, получили неограниченные полномочия для ведения войны.
Усилились военные действия в Китае, сопровождавшиеся, как обычно, жестокостями против мирного населения. Но главное, чего выжидала Япония, — это капитуляции европейских держав, в частности Франции и Голландии, перед Гитлером. Как только это стало фактом, японцы приступили к оккупации Индонезии и Индокитая, а затем Малайи, Бирмы, Таиланда и Филиппин. Поставив своей целью создать гигантскую подчиненную Японии колониальную империю, японцы объявили о стремлении к «восточноазиатскому сопроцветанию».
После бомбардировки американской базы Пёрл-Харбор на Гавайях в декабре 1941 г. Япония оказалась в состоянии войны со США и Англией, что, несмотря на некоторые первые успехи, со временем привело страну к затяжному кризису. Хотя японские монополии немало выгадали, получив бесконтрольный доступ к эксплуатации богатств почти всей Юго-Восточной Азии, положение их, как и японских оккупационных войск, было непрочным. Население оккупированных стран выступало, нередко с оружием в руках, против японских агрессоров. Содержание войск одновременно во многих странах, ведение непрекращавшейся и все очевиднее становившейся бесперспективной войны в Китае требовали немалых средств.
Все это вело к ухудшению экономического баланса и к обострению внутреннего положения в самой Японии, что с особой силой проявилось в начале 1944 г., когда в войне на Дальнем Востоке наметился определенный перелом. Американские войска высаживались то в одном, то в другом из островных районов и вытесняли оттуда японцев. Изменялись и отношения Японии с СССР. В апреле 1945 г. СССР денонсировал заключенный в 1941 г. пакт о нейтралитете с Японией, а в августе того же года, вскоре после атомной бомбардировки Японии американцами, советские войска вступили на территории Маньчжурии и принудили к капитуляции Квантунскую армию. Это означало не только поражение Японии, но и начало революционных преобразований в Маньчжурии, а затем и на остальной территории Китая.
Капитуляция Японии в августе 1945 г. привела к краху замыслов японской военщины, крушению того агрессивного внешнеполитического курса Японии, который на протяжении нескольких десятилетий опирался на экономическое развитие и экспансию японского капитала, на самурайский дух прошлого. Как и самураи в конце прошлого века, милитаристы перв. пол. XX в. потерпели банкротство и вынуждены были сойти с исторической сцены. Япония лишилась всех своих колониальных владений и завоеванных территорий. Встал вопрос о статусе послевоенной Японии. И здесь сказали свое слово оккупировавшие страну американцы.
Поражение Японии привело к коренной ломке внутренней структуры общества, вскоре приведшей к бурному всестороннему развитию страны в
послевоенный период и ее процветанию в последние десятилетия, несколько омраченное, впрочем, финансовым кризисом 1998 г.1
Оккупационные власти США во главе с генералом Д. Макартуром и его командой немало сделали для того, чтобы привить японцам буржуазно-де-
1 См.: Иноуэ К., Оконоги С., Судзуки С. История современной Японии. — М., 1955; Хани Горо. История японского народа. — М., 1957; Кушаков Л. Н. История советско-японских дипломатических отношений. — М., 1962; Его же: Внешняя политика и дипломатия Японии. — М., 1964; Александров В. Япония и развивающиеся страны. — М., 1965; Петров Д.В. Рабочее и демократическое движение в Японии. — М., 1965; Его же: Внешняя политика Японии после второй мировой войны. — М., 1965; Его же: Япония в мировой политике. — М., 1973; Игнатущенко С.К. Экономическая экспансия японских монополий после второй мировой войны. — М., 1966; Его же: Япония и США: партнеры и конкуренты. — М., 1970; Пигулевская Е.А. Монополии и финановая олигархия в современной Японии. — М., 1966; Латышев И.А. Правящая либерально-демократическая партия Японии и ее политика. — М., 1967; Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. — М., 1968; Сладковский М.И Китай и Япония. — М., 1971; Шаркав А.А. Япония и США. — М., 1971; Вербицкий С. И. Японо-американский военно-политический союз (1951 — 1970). — М., 1972; Державин И.К. Соко-гаккай — Комэйто. — М., 1972; СССР — Япония. К 50-летию установления дипломатических отношений. — М., 1978; Арская Л.П. Япония: наука и искусство управления. — М., 1992; Бунин В.Н. Вооруженные силы Японии. Справочник. — М., 1992; Его же: Япония в процессе формирования новой модели безопасности в СВА. — М., 1994; Его же: О новой роли Японии в японо-американском союзе безопасности. — М., 1996; Вахрушев В.В. Эти невероятные японцы. Принципы японского управления. — М., 1992; Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. — М., 1992; Дмитриевская Н.П. Япония и Южная Корея. Партнеры и соперники. — М., 1992; Еремин В.Н. Россия — Япония: территориальная проблема: поиск решения. — М., 1992; Его же: Политическая система современного японского общества. — М., 1993; Катасонова Е.Л. Японские корпорации: Культура, благотворительность, бизнес. — М., 1992; Матрусова Т.Н. Япония: материальное стимулирование в фирмах. — М., 1992; О системной экономической реформе в странах бывшего СССР: Чему учит послевоенный опыт Японии. — М., 1992; Пигулевская Е.А. Новые течения в экономической мысли Японии. — М., 1992; Поспелов Б.В. Отношения Японии со странами АТР: социально-идеологические аспекты. — М., 1992; Тимонина И.Л. Япония: опыт регионального развития. — М., 1992; Ее же: Япония: региональная экономика и политика. — М., 2002; Черев-ко Ю.М., Шевченко Н.Ю. Экономические отношения в «треугольнике»: Япония — новые индустриальные экономики Азии — США. — М., 1992; Актуальные проблемы Северо-Восточной Азии (Япония, Корея, НИС). — М., 1993; Бойко И.В. Государство и рынок в структурной политике Японии и США. — Владивосток, 1993; Его же: Политическая система современного японского общества. — М., 1993; Ерохина Е.А Прибыль в условиях монополистической конкуренции: (На примере США и Японии). — Томск, 1993; Забровская Д.В. Историографические проблемы японо-китайской войны 1894—1895 гг. — Владивосток, 1993; интернационализация Японии: внутренние аспекты. Internationalization of Japan: domectic aspects. — M., 1993; Крупянко М.И. Политика Японии в отношении России (первая половина 1990-х годов). — Окаяма, 1993; Его же: Япония 90-х. В поисках модели отношений с новой Россией. — М., 1996; Его же. Некоторые проблемы политики США и Японии в Азиатско-тихоокеанском регионе (XX в.). — Томск, 1993; Поспелов Б.В. Отношения Японии со странами АТР. — М., 1993; Преображенский К.Г. Неизвестная Япония. — М., 1993; Курицын А.Н. Секреты эффективной работы: опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров. — М., 1994; Молодякова Э.В. Япония: профсоюзы и общество. — М., 1994; Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. — М., 1994; Япония и мировое сообщество: Социально-психологические аспекты интернационализации. — М., 1994; Кистанов В.О. Япония в АТР: Анатомия экономических и политических отноше-
мократические нормы поведения и заодно вытравить тот милитаристский дух, который сыграл свою роль в предшествующие поражению десятилетия. Результатом этих преобразований явился выход на передний план тех стандартов и характерных черт японского образа жизни, которые в итоге и обусловили бурное процветание страны во второй половине истекшего столетия. Речь идет о возрождении традиций, гармонично сочетавшихся с теми необходимыми заимствованиями, без которых эффективное функционирование капитализма невозможно.
Смысл преобразований, которые были проведены созданным оккупационными властями Союзным советом для Японии, сводился к радикальной перестройке всей структуры этой страны. Была осуществлена серия демократических реформ, включая возрождение партий, созыв парламента и принятие новой конституции, оставлявшей за императором весьма ограниченные права и отсекавшей возможность возрождения японского милитаризма в будущем. Был проведен показательный процесс с осуждением японских военных преступников, не говоря уже об основательной чистке государственного аппарата, полиции и т. п. Была пересмотрена вся система образования. Особые меры предусматривали ограничение возможностей крупнейших японских монополий. Наконец, в стране была проведена радикальная аграрная реформа 1948—1949 гг., ликвидировавшая крупное землевладение и тем окончательно подорвавшая экономические позиции остатков саму-райства.
Вся эта серия реформ и радикальных преобразований обусловила еще один важный рывок Японии из мира вчерашнего дня в новые условия существования, соответствовавшие современному уровню. В сочетании с выработанными за пореформенное время навыками капиталистического развития эти новые меры оказались мощным импульсом, способствовавшим быс-
ний. — М., 1995; Корнилов М.Н. Постмодернизм и культурные ценности японского народа: Научно-аналитический обзор. — М., 1995; Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития. — М., 1995; Сенаторов А.И. Политические партии Японии: Сравнительный анализ программ, организационной и парламентской деятельности (1945—1992). — М., 1995; Тихоцкая И. С. Налоговая система Японии. — М., 1995; Х/гынов В.Н. «Японские секреты» управления персоналом. — М., 1995; Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала: Опыт лучших пром, фирм США, Японии и стран Западной. Европы. — М., 1996; Марков А.П. Россия — Япония. — М., 1996; Молодякова Э.В., Маркаръян С.Б. Японское общество: книга перемен. — М„ 1996; Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы: этнопсихологические очерки. — М., 1996; Япония и проблемы безопасности в ATP. — М., 1996; Япония: конец XX века. — М., 1996; Японский феномен. — М., 1996; Бунин В.Н. О новой роли Японии в японо-американском союзе безопасности. — М., 1997; Его же: Япония 90-х в поисках модели отношений с новой Россией. — М., 1997; Современная Япония. Справочник. — М., 1997; Япония 90-х: кризис системы или временные сбои? — М., 1998; Япония. Послевоенная государственная политика: вызовы и ответ. — М., 1998; История Японии. В 2-х т. Т. 2. — М., 1999; Ма-трусова Т.Н. Организация профессиональной подготовки в Японии. — М., 1999; Япония: мифы и реальность. — М., 1999; Япония—2000: консерватизм и традиционализм. — М., 2000; История и культура Японии. — М., 2001; Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный период. — М., 2002; Япония и современный мировой порядок. — М., 2002.
трому экономическому возрождению побежденной в войне Японии. И не только возрождению, но и дальнейшему развитию страны, ее энергичному процветанию. Раны Второй мировой войны были залечены достаточно быстро. Японский капитал стал в новых и весьма благоприятных для него условиях, когда на развитие его не оказывали своего воздействия внешние силы (типа наполненных воинственным духом самурайства «молодых офицеров»), наращивать темпы роста, что и заложило фундамент того самого феномена Японии, который столь хорошо известен в наши дни. Как это ни парадоксально, но именно разгром Японии в войне, ее оккупация и связанные с этим радикальные преобразования в ее структуре окончательно открыли двери для развития этой страны. Были сняты все преграды для такого развития — и результат оказался поразительным.
В отличие от Китая, длительное время относившегося к заимствованиям осторожно и в целом весьма отрицательно, Япония решительно взяла те из них, которые были для нее в новых условиях жизненно необходимы и способствовали дальнейшему развитию либерально-демократических правовых и политических норм, процедур и гарантий существования собственника. Развитие в этом направлении в конечном счете — уже в наши дни — привело к индивидуализации молодого поколения страны (феномен, вызывающий немалую озабоченность в современной Японии). Но его возможные деструктивные последствия были в немалой степени компенсированы традиционной коллективистской этикой, конфуцианским патернализмом. Сочетание заимствованного и своего в японских условиях оказалось достаточно гармоничным: японская фирма действует на рынке как собственник, но в то же время представляет собой нечто вроде традиционной социальной корпорации, построенной на принципе патернализма и взаимной поддержки низших и высших во имя успеха общего дела, т. е. процветания фирмы.
Японское государство, будучи вынужденным решительно отказаться от агрессивной внешней политики, энергично переключило свою активность на поддержку экономической деятельности фирм, в свою очередь выступая по отношению к ним все в той же привычной функции всеобщего отца в рамках патерналистских взаимосвязей. И это опять-таки оказалось не только гармоничным, но и экономически весьма эффективным: не вмешиваясь в экономику непосредственно, государство всемерно содействует ее процветанию, разумно перераспределяя при этом в интересах общества в целом получаемые от упомянутого процветания огромные доходы.
Демилитаризованные потомки японских самураев, приобретя необходимую подготовку и навыки, заняли свое место в рядах служащих все тех же фирм («самураи с портфелями», как их нередко называют) и соответственно переключили свою активность в производящее конструктивное русло. Во многом восходящее к традиционной конфуцианской дисциплине, культуре и этике труда поведение рабочих, гораздо более склонных к искреннему сотрудничеству с фирмой, нежели к борьбе с ее верхушкой во имя отстаивания своих прав, тоже вносит немалый вклад в процветание страны. Словом, радикальная переориентация японской активности в мирное русло дала бесценные плоды, превратив современную Японию в передовую по многим параметрам страну, включая самые престижные и наукоемкие современные
отрасли производства, новейшую технологию, социально-психологический комфорт.
Феномен Японии важен в том отношении, что он как бы высвечивает внутренние потенции эволюции, которые были в определенной степени свойственны всей Китайско-Дальневосточной цивилизации и обязаны своим существованием специфической мировоззренческой и социально-этической ориентации, сложившейся еще в древнем Китае и развитой затем конфуцианством.
В том, что дело обстоит именно так, убеждают сами японцы с их опытом, навыками, дисциплиной, с их заимствованной от конфуцианства этикой труда и быта, практикой патернализма. В этом же убеждают современные темпы и особенности развития ряда других стран конфуцианского культурного круга, от Сингапура до Кореи, да и неслыханные темпы преобразований и развития в современном Китае. Ничего похожего не в состоянии продемонстрировать другие регионы неевропейского мира, включая и Латинскую Америку. Не являются исключением в этом смысле и страны, разбогатевшие на нефтедолларах, чьи успехи во многом основаны на труде наемников из других регионов, в том числе и с Дальнего Востока (имеются в виду, в частности, корейцы).
Обратим внимание на то, что особенно выпукло характеризует Японию сегодня и составляет суть той японской модели развития, которая является ныне ориентиром для многих стран Востока. Прежде всего это очень быстро и динамично развивающееся богатое и процветающее государство, современное поколение жителей которого уже полностью вкусило плоды упорного труда своих предшественников. Для экономики страны характерны высокие темпы прироста; очень высокий (выше, чем в США) объем ВНП на душу населения, первоклассная промышленность, повсеместно вытесняющая конкурентов с мирового рынка, высший класс качества изделий, невиданный подъем научно-технического стандарта, превративший Японию в центр науки и техники завтрашнего дня, великолепно развитое сельское хозяйство, обеспечивающее на скудных почвах маленькой страны все ее большое население необходимыми продуктами, невиданная по степени развития инфраструктура, включающая лучшие из современных дороги, транспортные средства и т. п., высококачественную систему народного образования, здравоохранения, социального обеспечения. Этот перечень можно продолжить, перечисляя все японские достижения мирового класса.
Разумеется, все это не означает, что у Японии нет проблем. Они есть и проявляются в болезненной напряженности людей, стремящихся не отстать от быстрых темпов прогресса, в невозможности для части молодежи выдержать общепринятый темп и объем усваиваемых в школе или вузе знаний, в росте непривычного для традиций этой страны отчуждения людей, уставших от напряженной погони за стандартом. Но согласимся, эти проблемы иные, нежели у развивающихся стран вчерашнего традиционного Востока. Иной стандарт жизни, иные реалии и совсем иные проблемы.
Традиция и воспитанная ею высокая культура труда, корпоративная дисциплина общежития способствуют достижению тех успехов, коими по праву может гордиться современная Япония. За счет этой традиции дости
гается высокое качество продукции при сохранении социальной гармонии во взаимоотношениях старших и младших (важнейший принцип конфуцианства!) особенно в рядах средней фирмы, каждая из которых в современной Японии являет собой все ту же традиционную конфуцианскую разросшуюся семью с общими интересами и полным взаимопониманием. Доблесть и достоинство самурая, трансформировавшиеся в этику инженера, ученого, предпринимателя, политического и общественного деятеля, способствуют сохранению высокого стандарта самоуважения и отношений в обществе, что дает дополнительный импульс немалой силы для достижения все новых успехов.
Политическая система современной Японии основана на многопартийной парламентарной демократии с сохранением императора в качестве главы государства. Практически неизменно господствует на выборах и формирует правительство одна ведущая либерально-демократическая партия, что свидетельствует об устойчивости политических симпатий избирателей и завидной внутриполитической стабильности страны. Государство в современной Японии — весьма активный политическо-правовой институт, стоящий на страже интересов общества, прежде всего цветущей национальной экономики. Оно постоянно покровительствует бизнесу, заботится о выгодной структуре экспорта и импорта, активно поддерживает мелких собственников, не забывает о народном образовании и культуре.
Важно заметить, что национальное процветание сыграло решающую роль в отмирании японского милитаризма, чему способствовала и буква послевоенного мирного договора, запретившего Японии иметь большую армию. Нет у Японии и территориальных притязаний, если не считать некоторых и обоснованных претензий на группу Южнокурильских островов, силой отобранных у Японии в конце войны без закрепления этого акта в общепризнанных документах международного права.
Словом, традиционный военный дух самурайской Японии на глазах уходит в прошлое. Соответственно меняется, особенно за последние полвека, и все японское общество. Разумеется, традиции чтутся, но многие из них на глазах превращаются в раритеты наподобие знаменитых гейш или заметно трансформируются в новых условиях жизни. В то же время обращает на себя внимание стремление японцев продолжать учиться у развитых стран Запада, перенимая все современные достижения мировой науки, техники, технологии, при всем том, что во многих отраслях знаний и достижений японцы уже опережают других.
Давно ушло в прошлое время, когда на Японию смотрели как на любопытное и почти экзотическое явление, как на страну, способную лишь на жестокости и насилие. Сегодня Япония совсем иная — и другое к ней отношение. На эту страну смотрят с замиранием сердца. Уже ничто японское не удивляет — люди привыкли ожидать нового, интересного, необычного, феноменального именно оттуда. Этому активно содействует и сама Япония, чьи товары заполонили мир, чьи предприятия и капиталы осваивают новые рынки, чьи туристы посещают разные страны мира. Такова Япония сегодня, если обратить внимание именно на то, что наиболее показательно характеризует японскую модель как ориентир для других.
Япония показывает пример оптимального решения сложных проблем. Государство здесь напоминает чуткий барометр, моментально реагирующий на экономические затруднения и принимающий почти автоматически меры, необходимые для регулирования рынка. Не будучи само втянуто в экономику через какие-либо госкапиталистические предприятия, оно тем не менее все время держит свою весомую руку на руле хозяйственного регулирования, экономической политики. И за этот счет японская экономика обретает дополнительные очки в конкуренции с другими.
Государство в Японии давно, по меньшей мере, с послевоенного времени, стало инструментом обеспечения эффективного функционирования хозяйства страны, сохранив при этом за собой все остальные функции, необходимые для нормального развития общества. Главное, что важно отметить, оно перестало быть государством традиционновосточным и стало едва ли не более государством еврокапиталистического типа, чем государства в странах Западной Европы или США. И это касается не только государства, но и многих остальных элементов еврокапиталистической структуры, включая институты демократии, правовые, да и многие другие стандарты.
Но что характерно, при всем том Япония не перестала быть Японией. Мало того, оставив по многим показателям позади себя передовые государства Европы, она не потеряла своего лица, осталась страной Востока, причем в этом ее сила и даже ее преимущество перед Европой. Достаточно напомнить о дисциплине труда и отсутствии забастовок при достаточно гармоничном сотрудничестве труда и капитала (корни такого сотрудничества восходят к нормам конфуцианства). В общем, Япония — убедительный пример гармоничного и во многих отношениях весьма удачного, едва ли не оптимального синтеза.
По пути Японии идут сегодня и другие страны. Для всех них свойственно господство рыночных связей и вовлечение подавляющего большинства населения в сферу такого рода связей. Характерно и приведение системы государственного воздействия к японскому стандарту или в состояние, близкое к нему. Наиболее заметен такого рода процесс на примере Южной Кореи, которая буквально на наших глазах превратилась в демократическую страну. Государство восточно-автократического типа здесь, как и на Тайване, немало сделало в качестве силового административного института, целенаправленно способствовавшего трансформации традиционной структуры и переориентации населения к существованию в условиях рыночной экономики. Коль скоро успехи на этом пути были достигнуты (а в плане жизненного стандарта это выразилось в виде многократного улучшения уровня жизни), автократическое государство стало отходить на задний план, уступая место более подходящим для эффективного функционирования рыночной экономики демократическим институтам. Разумеется, при этом Южная Корея осталась Кореей, так же как и населенные китайцами автономно существующие территории (Тайвань, Гонконг) не утеряли своего «китайского» лица, что отражается в сохранении многих традиций, норм и принципов жизни.
Важно обратить внимание на то, что те традиции, которые могли помешать трансформации структуры, ослаблены либо видоизменены; те же, что
не мешали ей, сохранились, пусть подчас тоже в несколько измененной форме. В целом же именно влияние традиции делает сегодня Японию Японией, а Южную Корею — Кореей, но при всем том это уже иная традиция: не та, что задавала тон веками, а та, что гармонично слилась с наиболее важными элементами еврокапиталистической структуры. Это-то и привело к синтезу, т. е. к созданию качественно нового стандарта.
Изменения западного взгляда на Японию в течение XIX — XX вв.
В силу закрытости Японии в эпоху сёгуната дома Токугавы, европейцы XVII — перв. пол. XIX вв. имели о Стране восходящего солнца более смутное представление, чем об Османской империи, Персии, Индии или даже Китае. Первотолчком для восприятия западными странами Японии как страны специфически восточной послужило, прежде всего, европоцентрическое видение Востока Г.В. Гегеля. Именно его философско-историческая концепция во второй трети XIX в. определяла общие теоретические основания внешней политики европейских стран по отношению к Востоку вообще и к Японии в частности. Выясняя теоретические подходы отдельных европейских стран к Японии, нужно прежде всего остановиться на истории формирования ее общеевропейского видения как основы дальнейшей общеевропейской политики по отношению к ней.
Согласно базовым установкам европоцентризма, развитие истинных ценностей науки, культуры, искусства, философии происходит лишь в Европе, являющейся, якобы, создательницей и носительницей общечеловеческих ценностей, рациональности и прав человека, транслируемых ею во все прочие регионы планеты, которым нужно помочь и которые следует объединить вокруг себя. Историческое сознание Запада развивается в рамках определенного цикла: на оптимистичной фазе Запад находится накануне завершения процесса вестернизации мира; на пессимистической, «оборонительной» фазе, он проникается тревогой по поводу своей цивилизационной одинокости1 .
Представление о социокультурных единстве и специфике Европы, принципиально отличающих ее от Азии и Африки («Ливии») формировалось еще в Греции архаического (Гесиод, Гекатей Милетский) и классического (Геродот) периодов. Последний, в частности, разделял мир на три части: Европу, Азию и Ливию, утверждая, что персы всегда считали эллинов своими врагами, поскольку считают Азию своей, а Европу с Элладой — чужими1 2.
Последующая история европейской идеи — это история формирования европейской, в Средние века — западнохристианской концепции христиа-ноцентризма, а затем — европоцентризма. Вместе с тем, она неразрывно
1 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. — М., 1998. — С. 29; Культорология: XX век: Словарь. - СПб., 1997. - С. 114-115.
2 Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира. — М., 1987. — С. 18.
связана с попытками практической реализации своих общих принципов по отношению к другим цивилизациям и народам планеты. Эти принципы формировались, прежде всего, через практику заключения союзов городов-государств, в процессе которой поднимались и более или менее успешно решались вопросы, которые и в будущем будут беспокоить Европу1, в том числе Европейский Союз. Они, в частности, касались организации центральных органов крупных политических объединений и статуса и прав составляющих последние компонентов.
В Средние века европоцентризм, в его западнохристианской форме, был присущ идеологии католицизма, где Рим и папство считались центром Земли. В XIV — XV ст. были созданы первые проекты объединения европейских стран. Они положили начало широкому направлению в развитии европейской политической мысли. Первый из таких проектов принадлежал французскому королевскому прокурору Пьеру Дюбуа, который в 1305—1307 гг. написал трактат «О возвращении святой земли», в котором выдвигалась идея расширения торговли с Востоком с целью улучшения финансового положения европейских стран. Этот проект был своеобразным планом колонизации Востока, в соответствии с которым предлагалось выделить каждой европейской стране соответствующую территорию на Востоке, но Иерусалим оставить католической церкви1 2.
В эпоху Возрождения и Великих географических открытий европоцентризм стал идейным основанием колониальной политики западных стран, идеологической установкой восприятия других, неевропейских стран, как чего-то неразвитого и второстепенного. Позднее, в XVIII в., присущая эпохе Просвещения вера в прогресс человеческих знаний закрепила представление о поступательном, стадиальном, однонаправленном движении истории по западноевропейскому сценарию. Прогресс человечества мыслился как постепенное проникновение европейской цивилизации во все регионы мира и освоение ее достижений обитателями последних.
Поэтому не удивительно, что в XIX в. европейская колониальная экспансия рассматривалась большинством западных историков как цивилизаторская миссия, способствующая распространению элементов политической модернизации, современных форм ведения хозяйства и технических нововведений, образования, христианства. Одним из сторонников такой точки зрения был немецкий историк Леопольд фон Ранке, который сформулировал европоцентрические взгляды в классической форме. Европейская колониальная система интерпретировалась им как беспрерывный процесс расширения европейского влияния в других частях мира3.
Европоцентрический взгляд на мир был в полной мере, как то отмечалось выше, присущ Г.В. Гегелю, который считал Пруссию центром и воплощением свободы и настоящей культуры. Одно из центральных его положе
1 Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. — М. — Л., 1950. — С. 297—315.
2 Чубаръян А. О. Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира. — М., 1987. — С. 18.
3 Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV — XIX вв.. — М., 1991. — С. 122.
ний — жесткая фиксация интеллектуально-эмоциональной сферы людей Востока, у которых, по его мнению, отсутствуют духовные побуждения к развитию и обновлению, к конструктивному восприятию инокультурных достижений1. Таким Г.В. Гегель представлял себе Восток в целом, в ранний период своего творчества, не давая его региональной или географической дифференциации. Однако со временем в лекциях по философии истории он уже характеризовал Восток по регионам — как абсолютно «статический», но централизованно-упорядоченный Китай (к которому относится и Япония), более предрасположенную к развитию, но децентрализованную, политически расщепленную Индию, и уже «историческую», т.е. «не статическую», соединяющую централизм с автономией отдельных ее составляющих древнюю Персию1 2.
Г.В. Гегель рассматривал устойчивую специфику восточного характера с точки зрения характерных для народов Азии особенностей социальных отношений3. Он старался понять и объяснить общественный порядок восточных стран, исходя из особенностей сферы сознания, искать скрытое содержание и нечто общее для восточного менталитета и характера в явлениях духовной и общественно-политической жизни. По его мнению, восточному характеру одновременно присущи стремление властвовать над всем и покоряться любому рабству. Поэтому люди Востока осознают себя в отношениях с другими людьми по схеме «господин — раб», а не через идею метафизического равенства с себе подобными в чувстве любви к Богу. Господство и порабощение представляются немецкому философу двумя состояниями, существующими в восточных обществах в неразрывном единстве, так как в обеих царствует одинаковый закон власти4. Подобным образом исторические события и весь ход истории определяются и созидаются волей и властью недосягаемого божества, из бездн которого проистекают «потоки времен и столетий»5. В столь жестких рамках человек может быть лишь господином или рабом, причем по отношению к божеству — только последним. Поэтому на Востоке счастлив тот, у кого хватает отваги подчинить себе того, кто слабее, и достаточно ума, чтобы не нападать на того, кто сильнее.
Суждения Г.В. Гегеля относительно «восточного характера» и социокультурного облика цивилизаций Востока, конечно, весьма субъективны, а подчас (например, утверждение о том, что восточные народы не способны к заимствованию достижений извне, опровергнутое историей) просто ошибочны. Но они существеннейшим образом повлияли на формирование предвзятого отношения европейских стран к другим странам и народам, не позволявшего посмотреть на Восток под другим углом зрения.
С начала XX в. в Европе получила широкое признание концепция рационализма и его роли в жизни народов и цивилизаций немецкого социолога М. Вебера. Он последовательно рассматривал рациональность как историче
1 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2-х т. — Т.2. — М., 1973. — С. 214.
Гегель Г.В.Ф. Философия истории. — СПб., 1993.
Шаймухамбетова ГБ. Гегель и Восток. Принципы подхода. — М., 1995. — С. 106.
4 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2-х т. Т.1. — М.: Мысль, 1970. — С. 214—215.
Шаймухамбетова ГБ. Гегель и Восток. Принципы подхода. — М., 1995. — С. 108.
скую судьбу Западной цивилизации, а ввиду ее господствуюшего положения на планете, и всего тогдашнего мира. Вслед за ним О. Шпенглером, Н.А. Бердяевым, К. Ясперсом, А. Дж. Тойнби, П. Сорокиным, Л.Н. Гумилевым и другими выдающимися мыслителями история Европы была осмыслена как один из вариантов реализации всемирно-исторического процесса, существеннейшими компонентами которого являются также и неевропейские цивилизации, которые внесли не меньший, чем она, вклад в общечеловеческое развитие. Этим был определен цивилизационный подход к пониманию всемирной истории и специфики отдельных цивилизаций, в том числе, разумеется, и Японской.
Колониальную европейскую экспансию можно условно поделить на два периода: XV — XVII вв. — ранняя европейская экспансия и XVIII — нач. XX вв. — экспансия, особенно мощная и губительная для большинства восточных цивилизаций после промышленной революции1. Европейская экспансия определила у европейцев с начала XVI в. чувство превосходства по отношению к другим, колонизированным ими, странам и народам Америки, Африки и Азии. Так, в частности, У. Макнейл выделяет в истории Евразии период доминирования Ближнего Востока (до V в. до н.э.); период евразийского культурного и экономического баланса (до 1500 г.) и дальнейшее становление, развитие и расширение нового евроатлантического исторического пространства, в рамках которого западная цивилизация опережает Восток1 2.
В течение XX в. жесткое гегелевское понимание Востока как неразвитого и статичного стало анахронизмом, при том, что европоцентризм был подвергнут многими мыслителями решительной критике и на уровне философии истории и отдельных наук в значительной мере преодолен. Такая переориентация была, в частности, связана с осознанием потребительского отношения Запада к остальным народам и ресурсам планеты в целом, его техницизма, противоположного органическому восприятию бытия восточными народами и пр.
Технические и экономические успехи Запада, при его экспансионизме и формально-рационалистическом отношении к жизни, своей обратной стороной имели самоуничтожение народов в ходе мировых войн и самоотрицание человека как существа естественного, а не искусственного. Это вылилось в кризис атомизированной, отчужденной, объективированной, по выражению Н.А. Бердяева, человеческой личности, ее бегству от свободы и от самой себя, причем не только при утверждении и господстве тоталитарных режимов, но и, как показал Г. Маркузе, в благополучных либеральных обществах массового потребления. В Японии, где решающую роль сыграет не человек, его нужды и интересы, как это существует в Европе, — приоритетное значение имеют коллектив и его мысль.
Начало краха концепции европоцентризма тесно связано с конкретными событиями втор. пол. XIX в., и не в последнюю очередь с Японией. В 1868 г. в Японии началась реставрация Мэйдзи, и страна провозгласила курс
1 Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV — XIX вв. — М., 1991. — С. 122.
2 McNeil W.H. The Rise of the West. — Chicago — London, 1963.
на модернизацию при широчайшем заимствовании достижений Запада почти во всех сферах, прежде всего в областях техники, экономики, политической системы, социальных отношений, военного дела. Лишь в духовной и культурной сферах осталась властвовать японская традиция. На протяжении почти четверти века после реставрации Мэйдзи, до начала войны с Китаем в 1894 г., Япония не имела самостоятельного геополитического значения, не считалась самостоятельным игроком мировой, а фактически западной, политики и в мировых расчетах европейских стран не фигурировала.
В те годы Европа знакомилась с Японией чисто внешне, на основании того, как сама Япония репрезентовала себя миру после продолжительного периода самоизоляции. Большинство европейских публикаций о Японии тех лет было посвящено ее культуре и искусству, быту и пейзажным описаниям, так что «открытие Японии» европейскими дипломатами и торговцами еще не означало, что в сознании европейцев эта страна перестала быть terra incognita и заняла должное место на политической карте мира. Как теоретики, так и практики европейской «большой политики» отказывались воспринимать Японию серьезно и считать ее чем-то, что заслуживает внимания.
Для европейских политиков Япония оставалась на политической периферии, вплоть до русско-японской войны 1904—1905 гг.1 Европоцентрическое восприятие мира оставляло без внимания «неразвитое» японское общество, основанное на традициях. Такая невнимательность объясняется, среди прочего, и возрастом политиков, которые руководили странами — все они воспитывались во времена, когда о Японии было мало известно широкой общественности, за исключением связанных с исторической и культурологической проблематикой образованных людей искусства.
«Образ Японии», сложившийся в Европе в сер. XIX в. и сохранившийся почти до самого его конца, можно определить как «экзотический». Лишь с началом китайско-японской войны 1894—1895 гг. в европейских странах медленно начался крах «сказочного» имиджа Японии и начались разговоры о «желтой опасности». В России такого рода настроения едва ли не первым выразил выдающийся философ и поэт В.С. Соловьев в написанном в те годы стихотворении «Панмонголизм», где, в частности, читаем:
От вод Малайских до Алтая
Вожди с восточных островов У стен поникшего Китая Собрали тьмы своих полков.
Если раньше под термином «панмонголизм» понималась агрессивная Центрально-Восточная Азия (эпицентр завоевательных походов Чингисхана и его потомков) и мир буддизма в целом (как религиозно-историческая альтернатива христианскому Западу), то после японо-китайской войны 1894— 1895 гг. содержание данного понятия конкретизировалось и начало устойчиво ассоциироваться именно с Японией1 2. Легкая победа в войне с Китаем авансировала имперский националистический милитаризм.
1 Молодяков В.Э. «Образ Японии» в Европе и России второй половины XIX — начала XX века. - М., 1996. - С. 54.
2 Там же. — С. 108.
Сначала Япония получала военные дивиденды от процесса технологической вестернизации (заимствование западных европейских технологий), с таким мастерством, которого не достигала даже Россия, одолевшая Швецию в Северной войне 1700—1721 гг1. Победив Россию в войне 1904—1905 гг., Страна восходящего солнца была признана Западом в качестве великого государства. После Первой мировой войны Япония как одна из стран-победительниц приняла активное участие в заключении Вашингтонского договора пяти государств и получила статус одной из ведущих морских стран мира2. Таким образом, за 50 лет Япония, еще в сер. XIX в. почти незнакомая для европейцев страна, превратилась в одно из могущественнейших государств на планете, способное противостоять Западу и его ценностям.
Крах европоцентрического понимания мира как мира европейской колониальной экспансии и европейских ценностей выразительно проявился в уничтожении японской авиацией американского Тихоокеанского флота в декабре 1941 г. в Перл-Харборе на Гавайях и захвате колониальных владений западных стран в Юго-Восточной Азии до пределов Австралии и границ Британской Индии. После Второй мировой войны начала формироваться Ялтинско-Потсдамская система3, в соответствии с которой устанавливалось равновесие влияния западного и социалистического лагерей, бесспорными лидерами которых были США и СССР, при распределении между ними сфер влияния в планетарном масштабе. Япония полностью оказалась в зоне влияния США и не претендовала на самостоятельную роль в мировой политике, сосредоточившись на решении своих экономических проблем.
Анализируя внешнюю политику, проводимую Японией со времен революции Мэйдзи до сегодняшнего дня, можно сказать, что ей в целом, за исключением периода милитаризации и Второй мировой войны, присуща мудрость слабейшего, что она преимущественно приспосабливается к обстоятельствам международной жизни. С 1868 г. Страда восходящего солнца наращивала свой экономический и военный потенциал и в начале XX ст., победив Китай и Россию в упоминавшихся выше войнах, вошла в группу наиболее влиятельных стран мира. Геополитические условия способствовали достижению поставленных императорским правительством целей и обретению ею статуса великой дальневосточно-тихоокеанской державы, распространяющей свое господство на соседние страны.
Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991. — С. 571—572.
23 августа 1914 г. Япония вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, и во время проведения переговоров в Вашингтоне в 1921—1922 гг. относительно послевоенного обустройства Дальнего Востока и Тихоокеанского бассейна, имела третий по тоннажу линейный флот после США та Великобритании, что было зафиксировано в Договоре пяти держав (США, Великобритании, Японии, Франции и Италии) об ограничении морских вооружений от 6 февраля 1922 г. Договор устанавливал для США, Великобритании, Японии, Франции и Италии следующее соотношение предельного тоннажа линейного флота: 5:5:3: 1,75 : 1,75. См.: Дипломатический словарь. — Т. 2. — М., 1986. — С. 354; Там же. — Т. 1. — С. 174—176.
J Система послевоенного мироустройства была оформлена согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 г. См.: Киссинджер Г Дипломатия. — М., 1997. — С. 354-401.
В 1945 г. ситуация в мире кардинально изменилась. Однако Япония быстро приспособилась к новым обстоятельствам, отказавшись от активной внешнеполитической деятельности и ограничившись в плане развития экономической сферой. Такая политика «слабейшего» выражалась до последнего времени в согласовании действий с более сильными в экономическом и политическом отношении странами (прежде всего США), при одновременном распространении своего влияния на страны, географически близкие и экономически зависимые от нее (главным образом на государства Юго-Восточной Азии).
Ментально-ценностные основания внешней политики современной Японии
Факторы, влияющие на формирование внешней политики Японии, развились на основе ее исторических традиций и их адаптации к реалиям современного глобализированного мира. На протяжении многовековой истории идеология политики страны изменялась от установки на самоизоляцию до избрания курса на обретение господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И первое, и второе оказалось недостаточно продуктивным выбором для Японии. Поэтому в послевоенные десятилетия состоялась аккумуляция всего предыдущего опыта, приведшая к выработке ее современной позиции на мировой арене.
С распадом Советского Союза в 1991 г., окончанием Холодной войны, перестала существовать биполярная международная система, но до сих пор среди историков и политологов-международников продолжаются дискуссии о системе современного мироустройства. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что на международной арене ведущие позиции принадлежат наиболее развитым экономически и информационно (точнее, по М. Касте-льсу, информационально) державам мир-системного ядра. Поэтому Япония, могущественное по экономическим и технологическим показателям государство, занимает далеко не последнее место в системе международных отношений.
Сам Токио не спешит отойти от статической внешней политики времен противостояния и занять на международной арене надлежащее ей по экономическим и технологическим показателям место. Это объясняется как общей международной ситуацией, сложившейся после распада СССР, так и комплексом внешне- и внутриполитических причин, обусловленных в том числе и национально-культурными особенностями японского народа. Тем не менее, в последнее десятилетие XX в. и первые годы XXI в. Страна восходящего солнца постепенно отходила от характерной для нее в 50 — 80-х гг. XX в. проамериканской политики. Об этом открыто говорят и пишут ведущие японские политики и политологи-международники, отмечающие, что роль, которую призвана сыграть Япония в деле формирования нового мироустройства, исключительно важна.
До последнего времени считалось, что Страна восходящего солнца, не являясь мощным в военном отношении государством, в политическом плане пассивно взаимодействует с мировым сообществом. Но теперь наступают
времена, когда Япония, провозгласив принципы «ответственного пацифизма» и «открытого экономического порядка», должна активно сотрудничать с мировым сообществом с целью поддержания мира и такого порядка, который был бы направлен на борьбу с бедностью. Для Японии, которая осознала свою роль в мировом сообществе, прежде всего нужно обеспечить лидерство в политической сфере1.
Сама Япония не спешила брать на себя ответственность в решении международных политических конфликтов, поскольку ее позиция относительно форм внешней политики, выдвинутая японскими учеными, непосредственно переплеталась с выдвинутой ими же концепцией «мира и безопасности» на основе принципа адаптации к современной международной ситуации1 2. Основные аргументы в пользу такой политики сводились к следующему:
• Поскольку Япония слишком уязвима в военном отношении и чрезвычайно зависит от внешнеполитической обстановки в плане обеспечения энергоресурсами и продуктами питания, ей ничего не остается, как следовать принципу «мудрости слабейшего», приспосабливаясь к обстоятельствам международной жизни.
• Японии не хватает умения должным образом разбираться в международных проблемах, и она еще плохо знакома с трудностями проведения силовой политики. Поэтому ей нужно набираться опыта и, прежде всего, реализовать идеи, содержащиеся в таких красивых выражениях, как «вклад в развитие международного сообщества» и «достижение весомой политической роли в мире».
• Если Япония не станет на позиции «активной дипломатии», ее действия могут напоминать поведение страны в период с революции-реставрации 1868 г. до Тихоокеанской войны 1941—1945 гг. и вызывать соответствующие реакции со стороны других государств на «желтую опасность».
• В Японии существует большое количество внутренних проблем (загрязнение окружающей среды, перенаселенность городов, социальные проблемы и т. д.), решение которых должно стать приоритетным, так что расходование ресурсов страны на сомнительные внешнеполитические мероприятия не целесообразно.
• Процедура принятия решений в Японии требует длительной предварительной подготовки для достижения консенсуса и потому не подходит для проведения «активной политики», которая предусматривает быструю реакцию на события.
Вследствие всего сказанного Япония не готова играть активную роль на международной арене, которая могла бы даже повредить ее национальным интересам. Поэтому японской дипломатии нужно придерживаться курса «ничего нового» и принципа «плыть по течению на гребне событий»3.
1 Накасонэ Я., Мураками Я., Сато С., Нисибэ С. После «холодной войны». — М., 1993. — С. 247.
2
Алиев Р. Ш.-А. Внешняя политика Японии в 70-х — начале 80-х годов (теория и практика). - М., 1986. - С. 141.
3 Там же. — С. 141.
Западные исследователи, которые занимались изучением принятия решений в Японии, сталкивались с проблемой отсутствия единой теоретической базы или «общих принципов», а потому и единой «-гипологии» структурных блоков, которые составляют механизм принятия решений. Несмотря на внешнюю схожесть структурных частей политической системы Японии и других стран, для нее был характерен ряд специфических особенностей: во-первых, в функционировании структурных блоков, во-вторых, в самой технике, точнее, в процедуре принятия решений. Нужно отметить, что именно особенности политического развития Японии обусловили создание достаточно сложного механизма разработки внешнеполитического решения1.
Среди японских и американских политологов, которые исследовали процедуру принятия решений в Японии, наиболее распространенным был так называемый структурно-институционный подход, который, в свою очередь, распределялся на две модели или концепции: «элитарную» и «плюралистическую»1 2.
Приверженцы «элитарной» модели исходили из того, что три группы сил — профессиональные политики, высшая бюрократия и большой бизнес — образовывали центральное ядро, которое формировало и принимало политические решения. Взаимодействие между ними происходило по схеме, изложенной известным политическим деятелем Японии 60-х гг. И. Коно, на которого постоянно ссылались приверженцы данной концепции. «Бизнесмены, — говорил И. Коно, — влияют на политиков, последние контролируют бюрократов, бюрократы держат в курсе дел бизнесменов, — а это создает естественную систему контроля и баланса»3.
Данной схемы с небольшими вариациями придерживалась большая часть американских и японских политологов. Расхождения же проявлялись в том, что одни подчеркивали силу влияния бюрократического блока, а другие акцентировали внимание на могуществе и прочности бизнеса.
Приверженцы «плюралистической» модели придерживались мысли, что каждый блок в структуре «3-х» вследствие существования противоположных интересов групп не выступал как единое целое, что приводило, по выражению американского ученого В. Стеслика, к «диффузии силы на высшем уровне структуры формулирования политики в современной Японии»4. Имелись в виду фракционная борьба в Либерально-демократической партии (ЛДП), отсутствие единства японского бизнеса и определенная конкуренция между бюрократическими ведомствами. Кроме того, по их мнению, «элитарная» модель не учитывала другие звенья в механизме принятия решений — парламент, оппозиционные партии, профсоюзы, средства массовой информации, группы давления.
1 Исами Т. Призыв к активизации диалога // Япония о себе и мире. — 1993. — № 4. — С. 8-15.
2 Уткин А. И. Сомнения сверхдержавы // США—ЭПИ. — 1994. — Ne 11. — С. 3—17.
См.: Вербицкий С. И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. — М.: РАН. Институт Востоковедения, 1992. — С. 79.
4 Алиев Р. Ш.-А. Внешняя политика Японии в 70-х — начале 80-х годов (теория и практика). - М.: 1986. - С. 18-20.
В конце XX в. наблюдалась трансформация японской системы управления. Мир переживал большие изменения, и японская система принятия решений, которая раньше была эффективной в экономических и политических условиях прошлого, была пересмотрена. Подобный «просмотр» бывший премьер-министр К. Обучи окрестил Третьей1 реформой японского общества. Эта реформа имела целью изменить не только структуру принятия решений, но и сознание людей, поскольку без этого страну в будущем ничего хорошего не ждет. К. Обучи отмечал, что японское общество должно основываться на взаимодоверии и дружеской взаимоподдержке его граждан, где все видели бы окружающую нас красоту такой, какой она есть, где мы могли бы проявлять заботу о наших соседях, строя региональные сообщества, в которых мы могли бы благополучно жить. С этой целью было намечено в кратчайшие сроки создать Совет ученых, которые должны заниматься поиском пути к формированию высокоразвитой гармоничной нации XXI век* 2.
Кроме вышеупомянутых «плюралистической» и «элитарной» моделей, в основу которых положен анализ структуры механизма принятия решений, предлагались другие варианты исследования разработки внешней политики Японии. Профессор Калифорнийского университета X. Фукуи, один из наибольших американских специалистов в данной области, предложил так называемую «функциональную» модель3. Ее суть сводилась к тому, что министерства и агентства правительства, а также их подразделения были ответственными за решение проблем в особой функциональной сфере. Таким образом, формировались «организации правительственной бюрократии, которые представляли собой типологию сфер политических проблем».
Согласно концепции X. Фукуи, анализ должен строиться по принципу функционального раздела национальных общественных служб. С этой целью, по мнению ученого, было необходимо, во-первых, выделить политических актеров и лиц, которые принимают участие в решении проблем, во-вторых, выяснить соотношение между проблемами, в-третьих, прояснить эволюцию проблем и продолжительность этого процесса. На этом же этапе предлагалось проанализировать различия в характерах ролей: центральных и периферийных, прямых и регулярных, или косвенных и спорадичных, тех, кто обладают властью, весом, влиянием и тех, кто не имеет этих признаков. На этой стадии требовалось выяснить типы актеров с точки зрения восприятия самих проблем (т.е. анализ перцепции) и привлечение к ним.
На втором этапе, считал X. Фукуи, необходимо выяснить: 1) степень и каналы взаимосвязи проблем, 2) как восприятие проблем влияет на актеров политической деятельности, 3) как этот феномен проявляет себя на политическом результате. На протяжении всего анализа нужно иметь в виду, что формулирование политики — это исторический процесс, а политические
Первыми считаются реформы, последовавшие за революцией Мэйдзи (1868 г.), второй — послевоенная реформа (1945—1952 гг.).
2 Policy Speech by Prime Minister Keizo Obuchi to the 145th Session of the Diet. — The Ministry of Foreign Affairs of Japan, 19 January 1999.
3 Алиев P. HI.-А. Внешняя политика Японии в 70-х — начале 80-х годов (теория и практика). - М, 1986. - С. 18-20.
проблемы — переменная в нем величина: проблемы изменяются, а политика остается, ведь она должна быть более или менее универсальной, чтобы ее можно было применить для решения любой задачи. Кроме особенностей структуры принятия решений в Японии, исторические традиции построения японского общества тоже влияют на процесс формирования внешней политики.
Большинство исследователей социально-психологических параметров жизни японцев признавало, что их истоками были и остаются особенности структуры японского общества. На Западе, считали они, сложились «горизонтальные» общества: социальные группы в них объединены качественно однородными по классовой и социальной принадлежности элементами. Япония является обществом с «вертикальной» структурой, а его ведущим организационным принципом является принцип «места» (ба). Людей в «вертикальном» обществе объединяет в группы не их качественная однородность (сикаку), а единство действия, единство организационных рамок .
Именно эту сторону японских традиций активно использовал японский бизнес, который организовал производство на основе так называемой системы патернализма (оябун), которая соединяла вместе всех рабочих компании1 2.
На этапе принятия внешнеполитических решений «вертикальная» структура влияла с помощью так называемой «групповой логики». «Групповая логика» была и остается характерной особенностью мышления и поведения японцев. Она сформировалась еще в древности, когда члены общины совместными усилиями выращивали рис, что делало их отношения взаимозависимыми. Общая работа формировала принципы групповой логики, согласно которым люди не имели права на личную мысль, личные желания.
В «вертикальной» структуре по линии «группа—руководитель» наблюдалось явление, которое передается в японском языке словом «амае» — в приближенном переводе оно означает «доброжелательное отношение к духу зависимости», «желание быть любимым». Психологическим прототипом «амае» является психология отношения ребенка к матери. В социальной сфере «амае» означает, что сильный обнаруживает терпеливость по отношению к слабому, признает свои обязанности перед ним, беспокоится и защищает его, не требуя взаимных обязательств. Именно чувством «амае» объясняется жесткая позиция лидеров текстильной промышленности Японии на переговорах со США в 1969—1971 гг., когда они руководствовались необходимостью беспокоиться об интересах небольших фирм, хотя последние не имели обратных обязанностей перед большими текстильными компаниями. Такой тип отношений японцы распространили и на свои связи со США: «Соединенные Штаты подходят на роль старшего партнера, от которого можно много получить и многое ждать»3.
1 Поспелов Б. В. Отношения Японии со странами АТР: социально-идеологические аспекты. — М., 1993. — С. 85—96.
2
Цветов В. Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи: Мафия по-японски. — Беларусь, 1989. - С. 25-85.
J Алиев Р. Ш.-А. Внешняя политика Японии в 70-х — начале 80-х годов (теория и практика). - М., 1986. - С. 73-74.
Некоторые ученые объясняли подчиненное положение Японии в отношениях со США традиционным японским конформизмом, который переступил национальные границы. Вместе с тем, конформизм предусматривает идентификацию, согласование, растворение своего «я» в среде или в отношениях с более сильным партнером. Тогда, согласно этой точке зрения, невозможно было бы объяснить постоянные конфликты между Японией и США. Наверное, дело в том, что возникая на основе экономических и политических противоречий, эти конфликты усложняются противоречивым взаимодействием конфуцианской морали (принцип «ба») и принципом «амае», которые японцы перенесли на отношения с Соединенными Штатами.
Поскольку последние являются лидером мира, постольку Япония, согласно логике конфуцианских канонов, находится и должна находиться в подчиненном положении по отношению к Америке. В определенной степени этим объясняется слишком послушное равнение Токио на Вашингтон, по крайней мере в сфере тех проблем, которые не затрагивают двусторонние отношения. Когда США начинают давить на Японию в вопросах, которые касаются непосредственно двусторонних отношений, японцы воспринимают это как нарушение принципа «амае», согласно которому старший, более сильный партнер должен с уважением относиться к интересам младшего. Нарушение Вашингтоном этого постулата и приводит к недоразумениям и конфликтам, которые принимают форму «автомобильных», «текстильных» и других «войн». Другими словами, отличия в культурных традициях и специфика мышления японцев иногда приводят к усилению разногласий между Японией и США, а также с ведущими европейскими странами, которые имеют другое понимание процессов сотрудничества и конкуренции.
В процессе принятия решений немаловажное значение, кроме «групповой логики», имеет своеобразный тип мышления японцев, существенно отличающийся как от китайской, так и от западной ментальности.
Ни географический фактор (расположение страны на периферии мировых цивилизаций), ни специфика исторического развития (самоизоляция на протяжении почти 200 лет) не содействовали созданию в Японии целостной религиозно-философской основы. Как пишет профессор политехнического института в Токио Й. Нагаи, Япония не нуждалась в государственной идеологии с целью противодействия Европе, Индии, Китаю и другим большим империям1. В ней возник религиозный синкретизм, который позволил безболезненно адаптировать буддизм и конфуциантство, сохранив собственные синтоистские представления о мире. С конца XIX в. японцы удвоили и западные духовные ценности, провозгласив перед тем курс на модернизацию.
На сознание японцев и в наши дни продолжает влиять пдлифоническая структура мышления, построенная таким образом, что каждая ее часть вступает в свои «права» в надлежащий час и согласно определенным обстоятельствам: рождение ребенка и бракосочетание — по синтоистским законам, отношения между людьми — по конфуцианским, обряды погребения — соот
1 Исами Т. Призыв к активизации диалога // Япония о себе и мире. — 1993. — № 4. — С. 8-15.
ветственно буддийским церемониям. Профессор университета Дзьоти в Токио К. Цуруми, рассматривая формы снятия социального напряжения, считает, что в отличие от Запада и Китая, где признаются противоречия (в философском смысле), японец «не признает ни противоположности интересов, ни противоположности ценностей и идеологий, ни наличия самого противоречия»1. Такая позиция объединяет в себе невнимание к противоречию и возможность удачного выбора разных функциональных элементов противоположных сторон. Японское религиозное мышление отрицает «универсальные истины», или, иначе говоря, оно находит в каждом явлении «универсальные ценности».
«Трехполюсная логика» японцев отрицает конфликтность и не признает ее решения за счет утверждения одной из сторон. Чтобы реально существующие противоречия не приводили к конфликтным ситуациям между разнообразными группами и пластами общества, в Японии очень распространено такое явление, как посредничество. Все экономические организации и политические консультативные советы при Кабинете и министерствах — это своего рода «институты посредничества», главная задача которых состоит в недопущении прямого столкновения заинтересованных групп. Конфликты не должны выходить на поверхность, они должны заблаговременно решаться на основе компромиссов1 2. Таким образом, механизм определения характера и направленности внешнеполитического курса в Японии отличается от западных стандартов уже на стадии его формирования.
Нужно также отметить, что японское понимание смысла термина «принять решение» отличается от западного. Различие состоит в следующем: на Западе это означает «ответить на вопрос», решить проблему; в Японии — «определить вопрос», проявить сущность проблемы. Американский ученый П. Дракер, который специально занимался этой стороной японского менеджмента, пишет: «Японский процесс принятия решений сосредоточен на понимании проблемы. Желательным конечным результатом являются определенные действия и поведение людей»3. Но и принятое в западном понимании «конечное решение» еще не означает, что оно будет трансформировано в политику, поскольку в любой момент оно может измениться. На «выходе» оно, в таком случае, будет иметь совсем другое содержание, чем в момент его принятия.
Другими словами, принять решение в Японии (а оно определяется сроком действия — «кодо»), не означает, что политика (сейсаку) будет строиться на ее основе. Она может быть абсолютно противоположной. Так, например, в ответ на требования США и стран Западной Европы ограничить экспорт некоторых товаров и сбалансировать торговлю, японское правительство неоднократно принимало решение об удовлетворении требований своих
1 Алиев Р. Ш.-А. Внешняя политика Японии в 70-х — начале 80-х годов (теория и практика). - М., 1986. - С. 75, 76.
2 Вербицкий С. И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. — М.: РАН. Институт Востоковедения, 1992. — С. 88.
J Алиев Р. Ш.-А. Внешняя политика Японии в 70-х — начале 80-х годов (теория и практика). — М.: Наука, 1986. — С. 82, 83.
партнеров-конкурентов. Осознав сущность проблемы, ее экономические и политические особенности, члены Кабинета формально принимали решения, которые удовлетворяли требования Америки и Европы, но действовали вопреки своим собственным решениям. Итак, «принять решение» по-японски не обязательно означает придерживаться выполнения этого решения, поскольку суть заключается лишь в том, чтобы проявить проблемы и последовательно действовать в интересах японских монополий.
Как пишет А. Ватанабе, «драма тихого, незаметного глазу прохождения решений и является процессом, который носит название «формирование внешней политики»... эта драма происходит при участии многих актеров, но это не является карнавальным зрелищем, на центральной сцене которого принимает участие толпа; работа проводится на ограниченных участках малой сцены без взглядов посторонних»1.
В основу процедуры принятия решений положена традиционная система «ринги» (или «хинги» — дословно «получение согласия на принятие решений путем опрашивания без созыва совещаний»). Суть ее состоит в урегулировании разнообразных проблем при недопущении проявления противоречий. На предыдущей стадии — «немаваси» (заблаговременная подготовка решений) происходит подготовка условий для достижения согласия между всеми заинтересованными сторонами. Таким образом, достигается не только консенсус по возможности между большим количеством участников, но и, что не менее важно, происходит привлечение каждого члена (или институционного блока) к процессу формирования решения. Тем самым система «ринги» отображает природу признания и уважения к социальному статусу участников1 2.
Примером многочисленных консультаций по системе «ринги» — «немаваси» могут быть события 1982 года, связанные с возникновением расхождений между Токио и Вашингтоном относительно американской сельскохозяйственной продукции, экспорт которой в Японию был невыгодным для местных фермеров. Возникновение данной проблемы привело к созданию японского лобби, в которое вошли большие фермеры и их ассоциации, члены Либерально-Демократической Партии, ответственные за аграрную политику в партии, а также высшие должностные лица министерства земледелия, лесоводства и рыболовства.
На первой стадии состоялся обмен мнениями относительно согласованной позиции между лоббистами и фермерами. На второй стадии лоббисты обратились за поддержкой к ключевым министерствам и ведомствам, в том числе к министерству иностранных дел. Получив поддержку этих ведомств и влиятельных лидеров, лоббисты уже в своем кругу, т.е. на третьей стадии, выработали окончательное решение относительно своего поведения на переговорах с американской стороной. На достижение консенсуса потребовалось полтора месяца. Следует обратить внимание, что все эти обсуждения
1 Цит. по: Вербицкий С. И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. — М.: РАН. Институт Востоковедения, 1992. — С. 102.
2 Там же. — С. 104, 105.
ставили своей целью не решение проблемы, а выработку линии поведения в условиях существования данной проблемы.
Если рассматривать распределение власти внутри страны, то можно сказать, что она концентрируется более в монополистических кругах, чем в государственных учреждениях. Поэтому ключевым звеном в принятии решений выступает не правительство, а большой бизнес Японии1. В других странах, особенно с высоким уровнем развития государственно-монополистических форм собственности (Франция, Швеция, Австрия и др.), а также в США и частично ФРГ, соотношение власти распределено более или менее равномерно или даже с тяготением в пользу государственных органов. В отличие от Конгресса США, японский парламент имеет значительно меньшее влияние. Можно даже сказать, что он фактически исключен из механизма выработки внешней политики.
Различие между партиями США и Японии состоит в том, что американские партии видят свою главную цель в избрании собственного лидера президентом страны, тогда как японская ЛДП не только помогает прийти своему лидеру к власти, но и активно участвует в разработке политики. Вдобавок в политической жизни Японии намного большее значение, чем в любой другой развитой стране, играет бюрократия.
Практика показала, что система управления в Японии, которая объединяет в себе традиционные формы и достижения самого последнего времени, характеризуется высокой эффективностью. Кроме группы высококвалифицированных работников и способности быстро осваивать новейшие технологии, одним из главных преимуществ Японии является эффективная система управления, к которой относятся и приемы формирования и выработки внешней политики, методы ведения переговоров.
Объединение политики и культуры на уровне формирования и принятие решений играет далеко не последнюю роль. Япония — единственная страна в мире, которая благодаря аккумулированию своего исторического и культурного опыта с конфуцианской философией Китая, а затем принятию западных ценностей, осуществила быстрый прыжок от феодального к постиндустриальному обществу не только в экономике, но и в ментальности, психологии народа. Памятуя лозунг «Не забывать своих традиций и приобретать новые», она быстро приспособилась к новым условиям жизни, сохранив при этом свою национальную идентичность и своеобразие системы принятия решений при формировании основ внешней политики.
Уже после Второй мировой войны и оккупационного режима Соединенных Штатов (1945—1952 гг.) Япония оказалась перед необходимостью разработать новый внешнеполитический курс, где основной задачей было поднятие экономики страны. Так, в 1951г. была провозглашена так называемая «доктрина Йосида»1 2. Премьер-министр предложил сконцентрировать внимание вокруг восстановления послевоенной экономики, а задачи, свя
1 Constantino R. The Japanese prime minister and public policy // Journal of contemporary Asia. - 1994. - Vol. 24, No. 2. - P. 227-228.
2 "
" Иосида — премьер-министр Японии в 1946—1954 гг. (кроме 1947—1948 гг.).
занные с обеспечением безопасности и охраны страны, оставить Соединенным Штатам. Наиболее эффективной эта концепция оказалась в 1960-е гг. с приходом к власти Хаято Икеда1, поскольку, во-первых, в то время японцы устали от многих лет никому не нужных идеологических диспутов; во-вторых, за исключением войны во Вьетнаме, вокруг территории Японии вследствие присутствия американцев был установлен мир; в-третьих, благодаря относительной открытости международной экономической системы, у Японии появилась возможность получить свою долю в мировой торговле и, соответственно, в дальнейшем достичь высокого экономического роста.
В 1960-е гг. международные связи значительно расширились, и японская политика начала приобретать глобальный характер, хотя по степени влияния на международные события она еще значительно уступала другим странам и никак не соответствовала экономическому весу страны. Научно-техническая революция ускорила международный обмен и послужила причиной появления таких новых сфер планетарного сотрудничества, как исследование космоса, борьба с загрязнением окружающей среды и т.д. Вследствие этих тенденций появилась первая характерная особенность японской политики — распространение своих экономических и политических интересов далеко за границы Азиатско-Тихоокеанского региона. А это привело к тому, что ей стали небезразличны события в других частях мира, в частности в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и Латинской Америке.
Вторая черта политики Японии — обеспечение наиболее благоприятных условий для развития экономики с помощью дипломатических средств. Защита экономических интересов на мировом рынке — одна из важнейших задач каждого государства. Япония в этом плане далеко опередила другие страны. В 1991 г. по уровню прибыли надушу населения (25 тыс. долл. США), она заняла первое место среди ведущих промышленных стран мира. Японии принадлежало 10 наибольших банков мира, а объем ее инвестиций превзошел уровень США. Япония занимала второе место после Соединенных Штатов по размерам вкладов в МВФ и в бюджет Организации Объединенных Наций. Даже несмотря на серьезные экономические и финансовые трудности, с которыми сталкивалась страна в последние годы XX в., она продолжает играть одну из главных ролей, наряду со США и ЕС, в мировой экономике.
Третья черта японской политики — постепенный отход от проамериканской политики, характерной для Японии в послевоенный период во время Холодной войны. В 1990-х гг. Страна восходящего солнца старалась развивать отношения со всеми странами самостоятельно, имея целью удовлетворение своих собственных интересов и интересов страны-партнера. Отойдя от фарватера американской политики, Япония осторожно и последовательно налаживала отношения с Китаем, Северной Кореей, Ираном, финансово помогала урегулированию Боснийского и Косовского кризисов, активно сотрудничала с европейскими учреждениями в вопросах политики и безопас
Fukushima К. Japan’s «big politics»// International Affairs. — 1995. — Vol. 71, No. 4. — P. 56.
ности. Вместе с тем отношения с Россией оставались напряженными ввиду нерешенности вопроса «северных территорий» — Южных Курил.
Уже в начале 70-х гг. Япония начала уделять значительно большее, чем ранее, внимание развитию двусторонних отношений со странами Западной Европы, особенно после того, как Великобритания присоединилась к Европейскому Экономическому Сообществу. Министр иностранных дел Т. Фукуда в своей речи в парламенте 9 января 1972 г. подчеркивал, что одним из главных задач японской внешней политики «является установление более прочных отношений со странами Западной Европы, особенно с теми, что входят в Общий рынок»1.
В 1973 г. новый министр иностранных дел М. Охира дал пояснение относительно укрепления отношений со странами Западной Европы. Он рассматривал это, прежде всего, как продолжение торгово-экономического диалога. Такая сдержанность относительно повышения уровня сотрудничества с ЕЭС объясняется тем, что именно в конце 60-х — в нач. 70-х гг. американские идеологи во главе с Г. Киссинджером выдвинули концепцию Триады, т.е. особого сотрудничества в рамках треугольника «США — Западная Европа — Япония». Европейцы отнеслись к этой идее довольно сдержанно, поскольку в случае возникновения любых противоречий внутри этого треугольника, Токио был бы вынужден поддерживать американскую сторону, ввиду, во-первых, большой зависимости от торговли со США, которые к тому времени поглощали 1/3 японского экспорта (в странах ЕЭС доля США составляла лишь 8 % общего объема торговли) и, во-вторых, большей по сравнению с Западной Европой зависимостью от Вашингтона в военной сфере. Первое обстоятельство рассматривалось европейцами как особенно важное.
При разработке внешнеполитической концепции Японии учитывалась ее экономическая структура, которая характеризуется ограниченностью сырья и топливных ресурсов, т.е. большой зависимостью от внешних рынков. С этой точки зрения для Японии наибольший интерес представляют страны, которые могут удовлетворить потребности развития ее экономики.
В 1990-х гг. большинство стран полагало, что Япония как ведущее по экономическим показателям государство мира должна взять на себя и большие обязательства перед мировым сообществом. Это было неожиданно для Японии, однако она понемногу, шаг за шагом, приспосабливалась к объективно уготованной ей роли в мире, стараясь не потерять дружеские отношения со своими главными партнерами — США и ведущими странами Объединенной Европы.
Отношения Японии с развивающимися странами развиваются на основе японской философии помощи. 30 июня 1992 г. Кабинет министров утвердил Хартию японской помощи развитию (ОДР)1 2. В соответствии с этим документом японская помощь слаборазвитым странам осуществлялась и осуществляется на основе соблюдения четырех принципов. Первый — охрана окружающей среды и научно-техническое развитие должны быть гармонич
1 Петров Д. В. Япония в мировой политике. — М.,1973. — С. 12.
2 Looking ahead: A foreign policy for a changing world. — Japan, July 1993.
но связанными, поэтому странам, где во имя развития пренебрегали решением экологических проблем, помощь не предоставляется. Второй — недопустимость любого использования ОДР в военных целях, тем более для обострения или эскалации международных конфликтов. Третий — ознакомление Японии с финансированием военной сферы страны, ее экспортно-импортными операциями с оружием, установление, разрабатывает ли или производит эта страна оружие массового уничтожения. Четвертый — развитие демократии и принципов рыночной экономики.
Сегодня Япония решает две приоритетные для нее задачи: 1) еще больше расширить в мире свое влияние экономическими средствами, что рано или поздно должно привести к обретению статуса постоянного членства Совета Безопасности ООН; 2) модифицировать или отменить действие ст. 9 Конституции, согласно которой страна не имеет права иметь армию. Эти стремления вызывают недовольство как со стороны США, так и со стороны других постоянных членов Совета Безопасности, а также стран-претендентов нанять место в этом главном органе ООН.
Таким образом можно констатировать, что на формирование и принятие внешнеполитических решений влияли и продолжают влиять цивилизационные особенности японской нации, которые выражаются в «вертикальной» структуре общества, ведущим принципом которого является принцип «места» (ба), т.е. организационных рамок, объединяющих людей в обществе. Такого рода базовые ментальные принципы, базирующиеся на мировосприятии японской нации, заложили прочные основания поведения Японии на международной арене. В последнее время произошла определенная эволюция внешнеполитического курса Страны восходящего солнца в пользу политического фактора, но ее политика, как и в предыдущие десятилетия после окончания Второй мировой войны, ориентирована на решение международных проблем экономическими средствами.
Информациональная экономика наиболее развитых стран Дальнего Востока
Среди стран «большой семерки» (к которым в политическом отношении примыкает и Россия) ведущая роль государства в становлении национальной информациональной экономики1 наиболее ярко видна на примере Японии. Ее экономике, политическому устройству и обществу, как ее связям со США и другими странами АТР, посвящено немало исследований1 2. Именно
1 Этот термин, как убедительно обосновал М. Кастельс, является более точным, чем понятие «информационная экономика». Любая экономическая деятельность предполагает владение и использование определенной информации. Но в новой информациональной экономике глобализированного мира «производительность и конкурентоспособность факторов или агентов... зависят в первую очередь от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях». См.: Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура. — М., 2000. — С. 81-82.
2 Актуальные проблемы Северо-Восточной Азии (Япония, Корея, НИС). Сб. статей. М., 1993,160 с.; Арская JI.П. Япония: наука и искусство управления. — М., 1992. — 40 с.;
к ней, исходя из анализа роли Министерства внешней торговли и промышленности (МИТИ) в японской экономике, Ч. Джонсон впервые применил понятие «страна развития»1. Согласно М. Кастельсу2, учитывающему опыт не только Страны восходящего солнца, но также «азиатских тигров» (Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура), некоторых других стран Юго-Восточной Азии, некую страну можно считать государством развития, если она устанавливает в качестве принципа собственной легитимности способность поддерживать неуклонное и быстрое поступательное развитие. При этом под развитием понимается комбинация стабильно высоких темпов экономического роста и структурных изменений в экономической системе, как у себя дома, так и в своих связях с международной экономикой.
Следует подчеркнуть, что для такого типа государств экономический прогресс сам по себе не был целью. Он рассматривался, прежде всего, как средство преодоления бедности, которая стала следствием Второй мировой войны и последующих конфликтов (Корейская война), утверждения собственной национально-государственной самоидентичности (Япония и др.) и
Бойко И. В. Государство и рынок в структурной политике Японии и США. — Владивосток, 1993.—135 с.; Вахрушев В.В. Эти невероятные японцы. Принципы японского управления. — М., 1992, 208 с.; Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. — М., 1992,—268 с.; Воронцов А.В. «Треугольник» США — Япония — Южная Корея. Миф и реальность. — М., 1991; Дмитриевская Н.П. Япония и Южная Корея. Партнеры и соперники. — М., 1992.—232 с.; Ерохина Е.А. Прибыль в условиях монополистической конкуренции: (На примере США и Японии).—Томск, 1993.—113 с.; Интернационализация Японии: внутренние аспекты. Internationalization of Japan: domectic aspects. — M., 1993,—92 с. На русск. и англ, яз.; Катасонова Е.Л. Японские корпорации: Культура, благотворительность, бизнес. М., 1992.—168 с.; Кистанов В.О. Япония в АТР: Анатомия экономических и политических отношений. — М., 1995.—335 с.; Крупянко М.И. Япония 90-х. В поисках модели отношений с новой Россией. М., 1996, 136 с.; Курицын А.Н. Секреты эффективной работы: опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров. — М., 1994.—198 с.; Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития. — М., 1995,—165 с.; Матрусова Т.Н. Япония: материальное стимулирование в фирмах. — М., 1992.—80 с.; Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Японское общество: книга перемен. — М., 1996.—253 с.; Некоторые проблемы политики США и Японии в Азиатско-тихоокеанском регионе (XX в.): Сборник. Ред. Вольфсон С.В. — Томск, 1993,—108 с.; О системной экономической реформе в странах бывшего СССР: Чему учит послевоенный опыт Японии. — М., 1992,—63 с.; Пигулевская Е.А. Новые течения в экономической мысли Японии. — М., 1992,—168 с.; Поспелов Б.В. Отношения Японии со странами АТР. — М., 1993—287 с.; Пронь С.В. Сан-Францисская система и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Корея). 1951—1991. — М., 1992,—106 с.; Современная Япония. Справочник. — М., 1997, 218 с.; Тимонина И.Л. Япония: опыт регионального развития. — М., 1992. — 125 с.; Тимонина ИЛ. Япония: опыт регионального развития. — М., 1995,—125 с.; Черев-ко Ю.М., Шевченко Н.Ю. Экономические отношения в «треугольнике»: Япония — новые индустриальные экономики Азии — США. — М., 1992.—192 с., табл.; Япония: конец XX века. Отв. ред. Молодякова Э.В. — М., 1996,—266 с.; Японский феномен. Отв. ред. Саркисов К.О. — М., 1996.—180 с.
1 Johnson Ch. MITI and the Japanes Miracle.— Stanford, CA: Stanford University Press, 1982.
2 Castells M. Four Asian tigers with a dragon head: a comparative analisis of the state, economy and society in the Asian Pacific Rim// States and Development in tha Asia Pacific Rim. Eds. Appelbaum R.P. and Henderson J. — London: Sage, 1992. — Pp. 33—70.
отрыва от своей коммунистической (Южная Корея по отношению к КНДР, Тайвань и Гонконг — относительно материкового Китая) или другой (полиэтничный, многоконфессиональный Сингапур и малайско-мусульманская Малайзия) альтернативы1. Реализация соответствующих устремлений и осуществлялась благодаря повышению экономической конкурентоспособности и улучшения социально-экономической ситуации в стране, при неуклонном росте уровня жизни ее граждан.
Тем не менее, в Японии становление государства развития имеет значительно более глубокие исторические корни, чем в других странах Далекого Востока и Юго-Восточной Азии. Механизмы и факторы продуктивного воздействия японского государства на процессы модернизации и ускоренного развития хорошо исследованы относительно как второй половины XIX — начала XX в. —• Е. Норманом1 2, так и второй половины XX в. — Ч. Джонсоном3. Так же, в частности, Т. Форстером изучено, как в последней четверти XX в. Япония под стратегическим руководством государства стала мировым лидером в информационно-технологических областях4.
Японские мультинациональные фирмы постоянно и мощно поддерживались и поддерживаются правительством, держа основные финансовые и технологические активы у себя дома. Это касается как щедрого инвестирования научно-технических исследований и наиболее передовых секторов экономики, так и политики протекционизма и закрытости своего финансового рынка. Вместе с тем японское правительство последовательно лоббирует интересы национальных компаний в мировом масштабе, в частности по отношению к США и ЕС. Следствием этого стало то, что в 1989 — 1991 гг. прямые инвестиции Японии в экономику США составили 46 % общего объема японских иностранных инвестиций, а в Европейский Союз — 23 %. В то же время прямые инвестиции США и ЕС в японскую экономику составляли лишь 1 % общего объема их прямых инвестиций за границей5.
1 Johnson Ch. MITI and the Japanese Miracle. — Stanford, CA: Stanford University Press, 1982; Johnson Ch. Japan: Who Gowems? The Rise of the Development State. — New York: W.W. Norton, 1995; Gold T. State and Society in the Taiwan Miracle. — Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1986; Amsdem A. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. — New York: Oxford University Press, 1989; Wade R. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Gowemment in East Asian Industrialization. — Princton, NJ: Princton University Press, 1990; Castells M., Goh L., Kwok R.W.Y. The Shek Kip Mei Sindrome: Economic Development and Rublic Housing in Hong Kong and Singapore. — London: Pion, 1990; States and Development in the Asia Pacific Rim. Eds. Appelbaum R.P. and Henderson J. — London: Sage, 1992; Evans P. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. — Princton, NJ: Princeton University Press, 1995.
2 Norman E.H. Japan’s Emergence as a Vjdem State: Political and Economic Problems of the Weiji Period. — New York: Institute of Pacific Relations, 1940; Norman E.H. Origins of the Modem Japanes State: Selected Writings. — New York: Pantheon Books, 1975.
J Johnson Ch. Japan: Who Gowems? The Rise of the Development State. — New York: W.W. Norton, 1995; Chen E.K.Y. Hypergrowth in Asian Economies: A Comparative Analysis of Hon Kong, Japan, Korea, Singapore and Taiwan. — London: Macmillan, 1979.
4 Forster T. Silicon Samurai: Hou Japan Conquered the World Information Technology Industry. — Oxford: Blackwell, 1993; Japan Informatization Processing Center. Informatization While Paper. - Tokyo: JIPDEC, 1994.
3 Stallings B. The New Intematiohal Context of Development. — Madison, WIS: University of
Wisconsin, Working Paper Series on the New International Context of Development, № 1,1993.
Японское государство, начиная с революции Мэйдзи (1868 г.), было движущей силой авторитарной модернизации страны. Но действовало оно через посредничество и с помощью клановых деловых групп (дзайбацу), отдельные из которых (как, например, Мицуи) происходят, как о том шла речь выше, от имевших защиту и поддержку со стороны своих князей торговых домов Средневековья. Главным, что вызвало государственную заботу о технологическом развитии и модернизации промышленности в период между 1868 г. и 1945 г. (подобно тому, как то было в петровской России — СССР) было стремление достичь военного могущества и превратить Японию в гегемона Азиатско-Тохоокеанского регона. Поэтому неудивительно, что непосредственным предшественником японского МИТИ второй половины XX в. и наших дней было Министерство вооружений — ядро японской военной индустрии1. Чрезвычайное значение имели и традиционные японские социокультурные установки, в частности, стремление к гармонии межличностных отношений, связанных общим делом и интересами людей, которое оказывало содействие установлению высокой степени консенсуса в трудовом процессе, чему последовательно содействовало правительство2.
В Японии, а позднее и в Китае, как констатирует Ю.Н. Пахомов, основу реформаторской модели составляли принципы кейнсианства, использованные в 30-х гг. прошлого столетия Ф. Рузвельтом для преодоления кризиса и выхода из длительной экономической депрессии. В обеих этих восточноазиатских странах с успехом вводились элементы рузвельтовского Нового курса, такие, как твердый контроль финансовых рынков и банков; увеличение государственного спроса и восстановление платежеспособного спроса населения; регулирование цен, в том числе в направлении их паритетности в соотношении сельскохозяйственной и промышленной продукции; создание инвестиционных банков для стратегических капитальных вложений с необходимыми для их деятельности льготами; активное и гибкое использование (в качестве инструментария оживления и роста) бюджетного дефицита, инфляции, адресной и контролируемой эмиссии; создание и реализация под контролем государства больших инвестиционных проектов; недопущение опасного для страны расслоения на сверхбогатых и предельно бедных3.
Правительство Японии играло и играет решающую роль в целевом направлении экономического развития. Оно, используя мощные финасовые и налоговые рычаги, оказывает поддержку важнейшим, с точки зрения экспертов, программам и областям. Главным его учреждением было и остается уже упоминавшееся МИТИ, которое определяет перспективные направления развития экономики и мероприятия экономической политики, необхо
1 Johnson Ch. МГП and the Japanes Miracle. — Stanford, CA: Stanford University Press, 1982.
Hamilton G. G., Biggart N. W. Marcet, culture and authority: a comparative analysis of management and organization in the Far East I I Organization and Institutions: Sociological Approaches yo the Analysis of Social Structure. Eds. Wanship C. and Rosen S. — Chicago, II: University of Chicago Press, 1988. — Pp. 52—95. — P. 72.
J Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. и др. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002. — С. 412.
димые для продвижения на этом пути. Основным механизмом обеспечения того, чтобы частный бизнес действовал в соответствии с общей политикой правительства, является финансирование.
Японское стратегическое планирование и централизованная сетевая структура японского бизнеса — две стороны одной экономической системы, присущей Стране восходящего солнца. Японские корпорации сильно зависят от банковских займов. Кредит направляется банкам каждой главной деловой сети Центральным банком Японии по инструкциям, исходящим от Министерства финансов при согласовании с МИТИ. Решающее слово в этом деле принадлежит Министерству финансов, которое и несет ответственность за принятые решения, тогда как МИТИ выполняет функции стратегического планирования. Последнее, в частности, в 1980-х гг. разрабатывало и содействовало внедрению протекционистских мероприятий, направленных на защиту определенных областей производства от внешней конкуренции до того времени, пока те достаточно не окрепнут1. Ослабление протекционизма и сдвиг в сторону внешнеэкономической либерализации под давлением со стороны США и контролируемых ими международных финансовых учреждений для Японии опасен. Именно оно стало одной из главных причин валютно-финансового кризиса 1997—1998 гг.1 2
Японское общество быстро сделало соответствующие выводы. Было сделано все возможное для развития в стране информационно-коммуникационного бизнеса, поскольку по убеждению японских экспертов и политиков, именно мощная информационно-комуникационная инфраструктура должна была вывести страну из экономической депрессии. С 1999 г. при решающей роли государственной поддержки развитие информационного общества в этой стране получило «второе дыхание», а фраза «революция в сфере информационных технологий» стала чуть ли не мантрой в устах высших представителей власти. В условиях, когда США захватили лидерство в информационной сфере, премьер-министр Йоширо Море инициировал создание правительственной структуры по поддержке дальнейшей ускоренной информатизации экономики и общества в целом. В результате в июле 2000 г. в структуре японского Кабинета Министров был создан Совет по развитию сферы информационных технологий под руководством самого Премьер-министра и председательством Президента корпорации Сони Набаюки Идеи.
Этим Советом был принят пятилетний план развития в стране информационной инфраструктуры. Его главными целями в области информационных технологий Японии были определены: 1) установление высокоскоростной сетевой инфраструктуры; 2) содействие электронной коммерции; 3) реализация проекта «Электронное правительство» — системы электронной связи, в соответствии с которым в 2003 г. было завершено создание единой для всей страны (до уровня каждой префектуры и муниципалитета) электронной инфраструктуры обмена конфеденциальной информацией с цент
1 Кастелъс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. — М., 2000. — С. 184.
2 Иноземцев Б. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. — М., 2000. — С. 254.
ральным правительством; 4) поддержание высококвалифицированного персонала.
Также разработана и воплощается в жизнь программа комплексного развития всех 47 префектур Японии. В 1998 г. был принят рассчитанный до 2007 г. комплексный план развития информационно-коммуникационного сектора о. Хоккайдо. В префектуре Гифу в 1999 г. была разработана концепция ее развития как «передового информационного центра» и начала реализовываться комплексная программа «преобразование местных сообществ в информационно ориентированное общество». А в префектуре Окинава разработана и воплощается в жизнь концепция «мультимедийного острова», на котором предполагается интенсивное развитие информационно-телекому-никационной индустрии при участии 3 местных центров поддержки исследований в области информации и телекоммуникаций.
Уже сегодня при поддержке местных властей в стране организованно 5 «информационных долин» или комплексов, в пределах которых обеспечивается быстрая связь между разработчиками, производителями и потребителями информационных услуг. Это Долина Саппоро (созданная еще в 1976 г. на базе инженерного факультета университета Хоккайдо группой инженеров-компьютерщиков при участии местных предпринимателей), Диджитал Дай-ме-2000, Форест Элле, Долина Син-Осака и Битовая Долина (г. Токио).
Экономической жизни стран Восточной Азии, в частности Японии и Южной Кореи, присуща разветвленная сетевая структура, завязанная на большие корпорации, и подконтрольная, большей частью опосредованно, через финансовые операции и выдачу лицензий, правительственным структурам1. Также Японии присуще наличие деловых групп, организованных вокруг сетей фирм с взаимным участием в собственности — так называемая система кабушики мочиаи. Эти сети в тенденции более приближаются к горизонтальной или вертикальной схеме функционирования.
В первом случае имеем дело с многопрофильными связями крупных фирм, которые большей частью являются потомками гигантских индустриально-торговых конгломератов десятилетий, предшествовавших Второй мировой войне. Они были распущены американской оккупационной администрацией, но их формально разъединенные части сохранили теснейшие связи. Так сложились три наибольшие, связанные своим происхождением с довоенными временами, сети Мицуи, Мицубиси и Сумитомо. В послевоенные десятилетия вокруг больших банков были сформированы новые горизонтальные сети соответствующего образца, наиболее значительные среди которых — Фуиоб Дао-Ичи Кангин и Санва.
Во втором случае сетевые связи строятся вокруг большой специализированной индустриальной корпорации, на которую завязаны сотни, даже тысячи поставщиков и ее филиалы. Таковыми являются всемирно известные гиганты Тойота Ниссан, Мацушита, Тошиба, Токаи Бенк и Промышленный
1 Hamilton G. G. Business Networks and Economic Development in East and Southeast Asia. — Hong Kong: University of Hong Kong Centre of Asian Studies, 1991; Whitley R. Business Systems in East Asia: Firms, Markets and Societies. — London: Sage, 1993.
банк Японии. Вместе перечисленные деловые сети контролируют ядро японской экономики, являя собой плотную сеть взаимных обязательств, финансовой взаимозависимости, рыночных соглашений, обмена персоналом и информацией*.
Подобно Японии, с ориентацией на ее пример, ускоренное экономическое развитие и информатизация в поел. четв. XX в. происходила на Тайване и в Южной Корее. Они были захвачены Японией (соответственно в 1895 г. и 1910 г.) и пребывали под ее властью до 1945 г., а после этого продолжительное время находились (а в определенной мере находятся и сейчас) под патронатом США, имея при этом теснейшие экономические связи с Японией.
История экономического развития Южной Кореи существенно отличалась от развития Японии хронологическими рамками и многими другими обстоятельствами. До военного переворота Кип Чжон Хи 1961 г. Южная Корея была глубоко коррумпированной и полностью зависимой от США страной, вовсе не демонстрировавшей тенденций к ускоренному развитию, тем более к прыжку в новейшие электронно-информационные сферы производства. Прорыв состоялся лишь в 60-х гг. прошлого столетия, когда по инициативе и под руководством государства была проведена индустриализация и южнокорейские товары начали выходить на мировой рынок, закрепившись на нем в следующем десятилетии. Сегодня Южная Корея занимает весомое место в экономическом развитии не только Дальнего Востока, но и мира в целом1 2.
Тем не менее, становление современной высокоразвитой южнокорейской экономики было во многом подобно случаю с Японией. Это, в частности, видно по соответствию роли и места государства в деле подъема образованных по клановому принципу больших корпораций, связанных густыми сетями со средними и мелкими фирмами. Как отмечают исследователи, в Южной Корее продуктивное взаимодействие между правительственной политикой и предпринимательскими структурами является еще более интенсивным, чем в Японии. Правительство Кип Чжон Хи стремилось создать эквивалент больших японских клановых корпораций, но поскольку исторических предпосылок для их становления на полуострове было значительно мень
1 Yoshino M.Y., Lifson Т.В. The Invisible Link: Japan’s Sogo Shosha and the Organization of Trade. — Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
2 Аносова Д.А., Матвеева Г.С. Южная Корея: взгляд из России. — М., 1994,—253 с.; Актуальные проблемы Корейского полуострова. Сб. статей. — М., 1996,—258 с.; Воронцов А.В. «Треугольник» США — Япония — Южная Корея. Миф и реальность. — М., 1991; Воронцов А.В. Республика Корея: социально-экономическая структура и торгово-экономические отношения с СНГ. — М., 1997,—89 с.; Дмитриевская Н.П. Япония и Южная Корея. Партнеры и соперники. М., 1992.—232 с.; Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии: (Практика Юж. Кореи и Филиппин). — М., 1996.—199 с.; Пронь С.В. Сан-Францисская система и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Корея). 1951—1991. — М., 1992.—106 с.; Республика Корея и опыт модернизации. — М., 1996.—221 с.; Республика Корея: становление современного общества. — М., 1996,—131 с.; Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития: (Конец 80-х — начало 90-х гт.). — М., 1997,—224 с.; Тригубенко М.Е., Толорая Г.Д. Очерки экономики Республики Корея. — М., 1993.—153 с.; Хруцкий В.Е. Южнокорейский парадокс. — М., 1993.—240 с.
ше, чем в Стране восходящего солнца, причем государство действовало активно и решительно, порой даже принудительно. Поэтому большие деловые объединения Южной Кореи, созданные на клановых началах (так называемые чеболи), утверждались как еще более зависимые от правительства, централизованные и авторитарные структуры, чем японские дзайбацу1.
Южнокорейский Совет экономического планирования, интеллектуально-организационные центр деловой жизни страны, разрабатывал пятилетние экономические планы и контролировал их выполнение, внося в них в зависимости от изменений обстоятельств определенные коррективы и уточнения. Через правительственный контроль банковской системы и выдачи импортно-экспортных лицензий государство принуждало корейские фирмы к концентрации в рамках больших конгломератов. Правительственные привилегии предоставлялись большой центральной фирме чебола (которая принадлежала определенной семье), что сплачивало вокруг нее другие, подчиненные ей, фирмы. Жесткая финансовая зависимость чеболов от государства и его цертрализованих финансовых структур сохранялась до 80-х гг. прошлого столетия. Таким образом можно утверждать, что военно-государственное происхождение чеболов определило централизованную и авторитарную природу южнокорейских деловых сетей.
Чеболи являются намного более иерархическими, чем японские дзайбацу, по образцу которых они создавались. Их главная особенность заключается в том, что все фирмы в сети контролируются центральной холдинговой компанией, которая принадлежит отдельному бизнесмену и его семье2. Центральная холдинговая компания поддерживается правительственными банками и торговыми компаниями, контролирующимися правительством. Семья-учредительница осуществляет жесткий контроль путем назначения на высшие руководящие должности во всех фирмах чебола своих членов, родственников и близких друзей. Поэтому, сравнительно с Японией, средний и малый бизнес здесь более подчинен центральным структурам сети и играет заведомо второстепенную роль. Четыре южнокорейские чеболи (Хундаи, Самсунг, Луки Голд Стар и Девоо) входят в число наибольших экономических конгломератов мира. В 1985 г. они вырабатывали 45 % всего южнокорейского ВВП3.
Между тем, как отмечает Ю.Н. Пахомов, в середине 1990-х гг. Южная Корея, как и Япония, и многие другие страны Восточной и Юго-Восточной Азии, которые раньше демонстрировали чрезвычайно высокие темпы развития, под давлением США подверглись либеральному соблазну монетаризма
1 Jones L.P., Sakong I. Government Business and Enlrepreneurship in Economic Development: The Korean Case. — Cambrdge, MA: Council on East Asian Studies, 1980; Lim H.-Ch. Dependent Development in Korea (1963—1979). — Seul: Seul National University Press, 1982; Amsdem A. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. — New York: Oxford University Press, 1989; Janelli R., Yim D. Making Capitalism: The Social and Cultural Construction of South Korea Conglomerate. — Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.
Biggart N.W. Charismatic Capitalism. — Chicago, II: University of Chicago Press, 1990.
Кастельс M. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. — М., 2000. — С. 178.
и экономической открытости. Для реорганизации на более либеральных принципах южнокорейских финансово-промышленных групп, которые до того неизменно поддерживались государством, МВФ даже выделил Южной Корее значительный кредит. Но для существования в новых условиях чебо-ли оказались недостаточно подготовленными.
Результаты эксперимента не заставили себя долго ждать: в 1997—1998 гг. Юго-Восточная Азия, Тайвань, Южная Корея и Япония оказались ввергнутыми в острейший финансовый кризис, охвативший затем Россию и многие другие страны. До того отрегулированные, сбалансированные и высокоэффективные экономики Японии, Южной Кореи и Тайваня, как и ряда стран Юго-Восточной Азии (таких как Сингапур, Малайзия, Таиланд и пр.), начали давать сбои. Этот кризис нанес наибольший ущерб именно тем странам, которые более всего либерализировали свои финансовые рынки, тогда как Китай и Индия, которые избежали неолибералистского соблазна, от него почти не пострадали и смогли сохранить стабильность своих валют1. Стало очевидным, что в обществах, которые тысячи лет жили в регламентированной традициями патерналистской системе, внедрить либерально-монетаристские принципы без тяжелых экономических и социальных потерь невозможно.
Становлению информационального общества в Японии и Южной Корее отвечало формирование огромных мегаполисов (городских агломераций) вокруг Токио, Осаки и Сеула. Их население в 1992 г. составляло соответственно 25 772, 10 536 и 11 589 тыс. жителей с прознозом их увеличения в 2010 г. приблизительно до 30, 11 и 15 млн.1 2 Как в США (Нью-Йорк, Лос-Анжелес), а потом и в материковом Китае (Шанхай, Пекин), Индии (Мумбаи, более известном как Бомбей, Калькутта) или Латинский Америке (Мехико, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес) формирование и бурное развитие мегаполисов стало в Японии и Южной Корее признаком системных трансформаций экономической и всей социокультурной системы эпохи глобализации.
В последней трети XX в. прорыв в сторону информационального общества осуществил и Тайвань, который, вопреки своему чрезвычайно сложному международному положению3, был в состоянии развить наукоемкое промышленное производство4. Правительственное планирование и целенаправленная государственная политика стали решающими факторами экономи
1 Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. и др. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002. — С. 418.
Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. — М., 2000. - С. 380-381.
3 Островский А.В. Тайвань накануне XXI века. — М., 1999.—222 с.; Шевчук О.В. «Тай-ванська проблема» в систем! вщносин Азшсько-Тихоокеанського регюну. Автореф. ... канд. полгг. наук. — К., 2002,—20 с.
4 Тайвань: Справочник. (Тригубенко М.Е., Кондрашева Л.И., Оникиенко А.Ф., Корнейчук Н.Н.). — М., 1993.—115 с.; Тайвань: Справочник для деловых людей. (Алексахина С.Н., Антонов В.И., Гудошников Л.М. и др.) — М., 1993.—192 с.; Современный Тайвань: Научно-информационное издание. Отв. ред. П.М.Иванов. — Иркутск, 1994.—352 с.; Стад-шченко В. Тайвань: крок у XXI в!к. — К., 1998,—238 с.; Fairbank J. К. China. A New History. — Cambridge, MS—London: W.W. Norton & Company, 1991.—530 p.
ческого развития Тайваня, вопреки традиционно недоверчивому отношению китайских семейных фирм к вмешательству чиновников в их дела1. В последней трети прошлого столетия Тайвань имел наибольший сектор государственных предприятий в капиталистическом блоке государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Он составлял 25 % ВВП в конце 70-х гг. Как в Южной Корее и, в значительной мере, Японии контроль над банками и экспортно-импортными лицензиями был главным рычагом осуществления правительственной экономической политики, основанной на соединении замещения импорта и экспортноориентированной индустриализации.
Спецификой Тайваня была большая роль семейных накоплений и чрезвычайно разветвленных семейных связей между владельцами средних и малых фирм. Но без стратегической поддержки государства они не смогли бы выйти на мировой рынок и выдерживать на нем конкуренцию. Такая поддержка имела разные формы, от широкого субсидирования образования, научно-технических программ и здравоохранения до привлечения иностранного капитала благодаря налоговым льготам и созданию экспортноори-ентованного производства на базе новейших электронных технологий. В частности, развивавшаяся на Тайване наиболее быстрыми темпами сфера производства — производство персональных компьютеров, — была непосредственно организована правительством. Вопреки тому, что в более традиционных областях производства на Тайване поддержка правительства была менее выразительной, чем в Японии или Южной Корее, в наукоемкой электронно-информационной сфере она была чрезвычайно мощной и сыграла решающую роль в технологическом развитии острова.
Как видим, особенности политической системы Южной Кореи и Тайваня, как и Таиланда и многих других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые можно определить как «конструктивный авторитаризм»2, сыграли едва ли не решающую роль в успехе модернизации и дальнейшей ин-формационализации их экономик. Подобное, разумеется, в существенно ином виде, наблюдаем в последнее время и в континентальном Китае, а значительно ранее — в присоединенном к последнему в 1999 г. Гонконге, бурному развитию которого оказывала содействие взвешенная политика британской колониальной администрации3.
1 Кио S. W. Y. The Taiwan Economy in Transition. — Boulder, CO: Westvitw Press, 1983; Gold T. State and Society in the Taiwan Miracle. — Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1986; Chen E.K.Y. Hypergrowth in Asian Economies: A Comparative Analysis of Hon Kong, Japan, Korea, Singapore and Taiwan. — London: Macmillan, 1979.
Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002. - С. 384.
Lethbridge H.J. Hong Kong: Stability and Change. — Hong Kong: Oxford University Press, 1979; Chen E.K.Y Hypeigrowth in Asian Economies: A Comparative Analysis of Hon Kong, Japan, Korea, Singapore and Taiwan. — London: Macmillan, 1979; Mushakat M. The Making of the Hong Kong Administrative Class. — Hong Kong: University of Hong Kong Centre of Asian Studies, 1982; Schiffer J. Anatomy of a laissez-faire Government: The Hong Kong Growth Model Reconsidered. — Hong Kong: University of Hong Kong Centre of Asian Studies, 1983; Miners N. The Gowemment and Politics of Hong Kong. — Hong Kong: Oxford University Press, 1986.
Основой капиталов гонконгских предприятий были семейные накопления, в частности, средства двух десятков семей зажиточных китайских предпринимателей, которые переехали сюда из Шанхая после победы коммунистов. Но правительственные структуры, в сотрудничестве с предпринимателями, разработали план развития города и, гибко реагируя на изменения обстоятельств, в целом придерживались его. Они строго контролировали распределение экспортных квот в соответствии с конкурентоспособностью фирм и создали разветвленную сеть для распространения информации о рынках, технологических новациях и т.п. Вдобавок были осуществлены грандиозные преобразования во многих сферах, в частности, в образовательной и медицинской. Была реализована государственная жилищная программа, которая значительно улучшила показатели уровня жизни рядового населения. Вскоре успешным опытом Гонконга воспользовался Сингапур1.
Как уже говорилось, китайскому бизнесу как на Тайване, в Гонконге, Сингапуре и т.п., так и в континентальном Китае, прежде всего в его приморских южных провинциях присущи сети семейных фирм и кроссектор-ных деловых связей, которые часто контролируются одной семьей. Фирма является семейной собственностью и полученные прибыли, тем более части наследства, которые принадлежат ее членам, после смерти главы семьи могут инвестироваться в другие фирмы. Основой деятельности является личное доверие между членами семьи, которое весомее юридических и контрактных правил. Связи между фирмами являются высокоперсонализированны-ми, а источники финансирования — в значительной мере неформальными (семейные накопления, займы у надежных друзей и пр.).
Слабой стороной таких основанных на семейном предпринимательстве китайских деловых сетей выступает их неспособность самостоятельно проводить научно-технические разработки и масштабную технологическую модернизацию, отслеживать состояние дел на мировом рынке. Эта ограниченность компенсируется предоставлением соответствующих стратегических услуг и поддержки со стороны государства, что наблюдается на Тайване и в Гонконге, тем более в материковом Китае. Китайские государственные структуры после многих исторических неудач в конце концов нашли эффективную форму поддержки национального предпринимательства, основанного на сетях семейных фирм. Поэтому не случайно, что конвергенция между фирмами и государством происходит в китайской социокультурной среде именно в начале глобально-информациональной эпохи, когда богатство и экономическая власть зависят больше от сетевой гибкости, чем от бюрократической мощи1 2.
Итак, как то отмечалось западными3 и отечественными исследователями4, государственные структуры, их планирование, финансовая и таможен-
1 Castells М., Goh L„ Kwok R.W.Y. The Shek Kip Mei Sindrome: Economic Development and Rublic Housing in Hong Kong and Singapore. — London: Pion, 1990.
Кастельс M. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. — М., 2000.-С. 180.
3 Chen Е.К. Y. Hypergrowth in Asian Economies: A Comparative Analysis of Hon Kong, Ja-
pan, Korea, Singapore and Taiwan. — London: Macmillan, 1979; Wade R. Governing the Mar-
ная политика, играли решающую роль в процессе ускоренной экономической модернизации, во время как индустриализации, так и информациона-лизации Японии и «восточноазиатских тигров». Как оказалось, лучшее из западных ценностей осваивают прежде всего те, кто опирается на собственные силы, исходит при проведении реформ в первую очередь из собственной специфики и открывается перед Западом крайне осмотрительно.
ket: Economic Theory and the Role of Gowemment in East Asian Industrialization. — Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990; States and Development in the Asia Pacific Rim. Eds. Appelbaum R.P. and Henderson J. — London: Sage, 1992; State and Market in Development: Synergy or Rivalry? Eds. Rutterman L. and Rueschemeyer. — Boulder, CO: Lunne Rienner, 1992; Pacifique: le recentrage asiatique. Fouquin et al. — Paris: Economica, 1992; Evans P. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. — Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995; Кастельс M. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. — М., 2000.
4
Глобал1защя i безпека розвитку. Ред. Битогус О.Г. — К., 2001: Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998; Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. и др. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002.
13 — 8-1565
ГЛАВА 11
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ И ТРАНСЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
(А. 3. Гончарук, |С. А. Никишенко],
Б. А. Парахонский)
Азиатско-Тихоокеанский регион и отношения между его ведущими компонентами после Второй мировой войны
Азиатско-Тихоокеанский регион и отношения между его ведущими компонентами после Второй мировой войны Идея Азиатско-Тихоокеанского регионального сотрудничества Современная Япония в ее взаимодействии со США и другими странами АТР
Китай и его отношения с окружающими государствами
Корейский полуостров: альтернативность развития на общем цивилизационном фундаменте
Соединенные Штаты в системе отношений с Японией и прочими их союзниками в АТР
Новая биполярная схема: США — Китай
Отношения КНР и Японии: противоречивые тенденции развития Особая позиция России в АТР
Понятие «Азиатско-Тихоокеанский регион» (АТР) стало активно использоваться в международной терминологии сравнительно недавно. В широком понимании АТР охватывает Азиатский континент (восточнее от Ирана и Афганистана), азиатскую часть России, Австралию и Океанию, США, Канаду, большинство стран Центральной и Южной Америки.
Большое тихоокеанское кольцо включает 50 государств, которые характеризуются довольно высоким уровнем региональной интеграции. Сюда входит несколько значительных влиятельных политико-экономических блоков: Ассоциация свободной торговли стран Северной Америки (НАФТА), Организация американских государств (ОАД), Общий рынок Южной Америки (МЕРКОСУР), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), Южно-Тихоокеанский форум (ПТФ), а также немало внеблоковых стран, среди которых такие ведущие государства мира, как Япония и Китай.
В науке нет единой точки зрения относительно вопроса географических рамок, целостности самого региона. В американских официальных источниках в АТР кроме США входят страны Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а также Океании. В Японии кроме названных регионов в АТР включают государства Латинской Америки, выходящие к Тихому океану, и страны
Южной Азии — Индию, Шри-Ланку. По мнению одной группы китайских ученых, АТР состоит из стран Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании, другая группа включает в регион Южную Азию, но почти все исключают из него тихоокеанские страны Латинской Америки. Среди российских ученых и политиков в этом вопросе также нет единства. Одни выступают за расширенное толкование региона, и тогда в нем оказывается 50 государств с населением около 3 млрд человек, другие предлагают ограничить его 36 странами с населением около 2 млрд человек.
Принято считать, что определяющими критериями региональной целостности является уровень интеграции и наличие общих международно-политических проблем. В этом огромном неустойчивом массиве удивительно переплетаются социально-экономические и внешнеполитические интересы большой группы государств. По цивилизационному разнообразию своих составляющих, характеру политических связей и уровню социально-экономического развития, по богатству духовной культуры, религии и национальных традиций регион не имеет себе равных в мире. В пределах столь широкого пространства, называемого «Тихоокеанским кольцом», сосуществуют такой научно-технический гигант, как Япония, и народы малых государств и территорий Океании — Самоа, Фиджи, Вануату, Кирибати, Науру с их отсталой материальной культурой.
Быстрыми темпами, опережающими рост экономик развитых государств мира и общемировые показатели, развиваются «новые индустриальные страны» Азии — Южная Корея, Тайвань, Сингапур, которые называют «тихоокеанскими драконами» или «восточноазиатскими тиграми». Совокупность отношений между этими государствами и народами, а главным образом между ведущими мировыми и тихоокеанскими государствами создала в регионе обстановку, которая отличается динамизмом и остротой политических и экономических разногласий.
Регион охватывает пространство, в котором возникла и уже к рубежу эр на значительной его части приобрела доминирующее значение одна из древнейших цивилизаций человечества — Китайская или Ханьская. Ее первичной территорией были, как о том уже говорилось в восьмой главе, среднее и нижнее течение Желтой реки — Хуанхэ. От природы это топкая и пустынная местность, где периодически происходят катастрофические наводнения, в результате которых в древности названная река несколько раз изменяла свое русло. Летом здесь бывает сильная жара, тогда как зимой — холод. Вероятно, если следовать тойнбианской методологии, именно неблагоприятные климатические условия стали тем вызовом, откликом на который стало создание местными этносами монголоидной расы уже во II тыс. до н.э. собственной Шан-Иньской цивилизации, о которой шла речь ранее. В эпоху Чжоу в нее были включены области в западной части среднего течения Хуанхэ (будущее царство Цинь) и в бассейне Янцзы (формировавшиеся царства Чу, У и Юэ).
Внутреннее содержание Китайской цивилизации было определено, или, скорее, выявлено и сформулировано китайским философом Кунцзы (в западной транскрипции — Конфуций). Он жил в 551 — 479 гг. до н.э., в период обострения борьбы между отдельными царствами и старался найти пути к
предотвращению смут в пределах Китайской цивилизации посредством введения в жизнь строгих, но основанных на прочных принципах традиций, законов, церемоний и обычаев. Его речи и высказывания, записанные учениками, стали основой конфуцианского эпоса — особой системы общественно-политического порядка, подчиненного определенным, достаточно гуманным нормам поведения. Сформулированные Конфуцием принципы со временем становятся официально признанным каноном китайского социума, государственности и жизненного устройства на всех этапах истории Ханьской империи. В 125 г. до н.э. устанавливается правило, согласно которому обязательным условием вступления на государственную службу является сдача экзаменов на знание конфуцианских текстов. Эта система определила основные черты общественно-политической жизни Китая и официально просуществовала почти до конца Поднебесной империи (экзамены для получения должности были упразднены лишь в 1905 г.).
Разумеется, к АТР относятся также обе Кореи, Япония и Вьетнам, издревле находившиеся в орбите ханьского цивилизационного влияния. В пределы АТР неизменно включают страны Юго-Восточной Азии, а часто и Индию с несколькими окружающими небольшими государствами (Шри-Ланка, Непал, Бутан). Индийско-Южноазиатская цивилизация, включая ряд стран Индокитая (Бирма, Таиланд, Камбоджа, Лаос) индонезийский о. Бали также органически входит в систему стран АТР. В регион входит обширная зона Мусульманско-Афразийской цивилизации (Малайзия, Индонезия, Бруней, южная часть Филиппин).
Кроме того, существенным компонентом АТР является Макрохристиан-ский мир в своих различных цивилизационных формах. Он представлен основной частью населения Филиппин, не говоря уже о США и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, странах Центральной Америки (Мексика, Гондурас, Сальвадор и пр.) и многих южноамериканских государствах (Колумбия, Эквадор, Перу и Чили), а также бесчисленных формально христианских государствах и колониях Полинезии, Меланезии и Микронезии. Логично относить к АТР и часть Российской Федерации — восточнее Урала или, по крайней мере, за Байкалом.
Как и в западной части Евразийского материка, основные черты международных отношений в АТР сложились по итогам Второй мировой войны и полстолетия развивались преимущественно в условиях биполярного противостояния двух сверхдержав — США и СССР. Именно этой конфронтацией определялось возникновение двух наиболее значительных конфликтов послевоенной поры в регионе — война в Корее и Вьетнамская война. С длительным китайско-американским противостоянием связано периодическое обострение Тайваньского вопроса.
В отличие от Европейского контекста в регионе АТР за последние десятилетия относительно быстро возникают несколько новых центров силы, которые после разрушения биполярной системы выходят на передний план и начинают определять современный и будущий геополитический порядок в этой части мира. Среди них можно назвать такие:
1) Коммунистический Китай, который еще с конца 50-х гг. отошел от односторонней ориентации на СССР и заявил о себе как о силе, которая
противостоит гегемонистским амбициям супердержав. Позднее, с рубежа 70 — 80-х гг., преодолев внутриполитические трудности, он оказался способным встать на рельсы динамического экономического развития, заявив о себе как о внушительной геополитической силе, чье влияние в современном мире неизменно возрастает;
2) Япония, которая, несмотря на поражение во Второй мировой войне, достигла невиданных успехов в научно-технологическом и экономическом развитии и является в настоящее время экономическим гигантом, образующим совместно со странами Северной Америки и Западной Европы глобальное системное ядро государств, вышедших на уровень постиндустриального, информационного (информационального, по М. Кастельсу, как отмечалось ранее) развития.
3) Новые индустриальные государства — «азиатские тигры» и локальные сообщества экономического и политического плана, в частности АСЕАН.
В послевоенный период относительная стабильность на большей части региона определялась доминированием США, которые опираются как на собственное экономическое и военно-политическое могущество, так и на систему союзных договоров со странами Тихоокеанского бассейна.
После заключения мирного договора Соединенных Штатов с Японией в Сан-Франциско (7 сентября 1951 г.), согласно которому в регионе устанавливалась система международного права, обе страны подписали и договор о безопасности (8 сентября 1951 г.). В соответствии с его положениями США взяли на себя обязательства в случае необходимости обеспечивать оборону Японии и сохраняли на ее территории свое военное присутствие. Незадолго перед тем, 1 сентября 1951 г., США, Австралия и Новая Зеландия подписали Тихоокеанский пакт безопасности (АНЗЮС), который гарантировал двум последним странам защиту со стороны США против возможного возрождения японского милитаризма. 30 августа 1951 г. США заключили союзный договор с Филиппинами, а 1 октября 1953 г. — договор о взаимной обороне с Южной Кореей. 2 декабря 1954 г. США и правительство островной Китайской республики подписали договор о защите Тайваня и Пескадорских островов. 19 мая 1954 г. был заключен договор о взаимной обороне между США и Пакистаном.
На основе имеющихся двусторонних договоров о взаимной обороне под эгидой США в 1954 г. в Юго-Восточной Азии создается система коллективной безопасности, аналогичная НАТО. Согласно Манильскому пакту от 8 сентября 1954 г. странами региона оформляется военно-политический союз (СЕАТО), в который вошли США, Франция, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Пакистан и Таиланд. К зоне действия пакта принадлежали также и страны Индокитайского полуострова — Южный Вьетнам, Лаос, Камбоджа. В целом альянс СЕАТО, равно как и НАТО, был направлен против возможной коммунистической угрозы, которая предполагалась со стороны КНР, находящемся в союзе с СССР.
Годы 1949 — 1953 стали периодом наивысшего напряжения времен Холодной войны. Лишь после смерти И. Сталина (5 марта 1953 г.) начинается потепление в международных отношениях, которое оказало содействие преодолению конфликтов и в АТР.
В 50 — 60-е гг. международная ситуация на Дальнем Востоке осложнялась и неурегулированностью советско-японских отношений. В то время Япония еще не играла заметной роли в международных отношениях, но постепенно становилась экономическим гигантом. Потребности экономического развития толкали японцев к расширению торгового сотрудничества с КНР, и 4 мая 1955 г. было подписано японско-китайское торговое соглашение. Но само пекинское правительство Японией не признавалось в качестве легитимного, поскольку Япония официально поддерживала отношения с правительством Чан Кайши. Тормозилось также развитие отношений Японии с СССР, поскольку не был подписан мирный договор и Япония сохраняла (и сохраняет) притязания на оккупированные СССР в 1945 г. Южно-Курильские острова («северные территории»). Переговоры 13—19 октября 1956 г. в Москве закончились подписанием общего заявления об окончании состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. Предполагалось начать переговоры об уложении мирного соглашения, по которому СССР должен был бы возвратить Японии острова Хабомаи и Шикотан. Однако подписано оно не было.
Как видим, система биполярного противостояния в этой части мира хотя и напоминала процессы, происходящие в Европе, однако имела также существенные отличительные черты — конфронтация коммунистических держав — СССР и Китая, противостояние постколониальных стран — Индии и Китая, сближение Китая и Японии на экономической основе и т.п.
Идея Азиатско-Тихоокеанского регионального сотрудничества
В начале 80-х гг. в регионе заметно усилилась тенденция к экономической интеграции стран АТР. В пространстве региона началось оживление политических и торгово-экономических связей. Среди основных причин, которые обусловили динамизм экономики государств бассейна Тихого океана, нужно отметить:
• открытие рынков США и утверждение Японии в качестве великой промышленной и торговой державы, тесная взаимосвязь этих двух стран, что стало стержнем развития региона;
• низкая стоимость рабочей силы и успехи менеджмента в странах азиатской части АТР;
• установление относительной политической стабильности в регионе после окончания корейской и вьетнамской войн;
• внедрение достижений научно-технического прогресса, стремительное развитие транспорта, систем связи, информации;
• переход к экспортно-ориентированной и импортно-замешающей структуре внешней торговли в ряде стран региона.
Очевидно, именно эти факторы в своей совокупности предоставили возможности создать в АТР огромный динамичный экономический организм, который по уровню интеграции вплотную приблизился к Европейскому Союзу. Нужно отметить, что в бассейне Тихого океана за последние десятилетия сложилась довольно оригинальная система внутрирегиональных связей,
объединяющая страны не только с разным уровнем хозяйственного развития, но и с различными принципами управления экономикой. Структуру этой системы условно можно определить как трехэтажную. Содержание ее не является постоянным и формируется в соответствии с изменениями в отраслевой структуре отдельных стран региона или их групп.
На «верхнем этаже» находятся Япония и США. На эти две страны приходится свыше 80 % совокупного ВНП Тихоокеанского региона. Определяющими направлениями развития экономики этих стран является электронная технология, комплексная автоматизация и роботизация, биотехнология и конструирование новых материалов. Именно эти направления и определяют «лицо» современного научно-технического прогресса. По экономическим показателям и уровню жизни к двум названным государствам примыкают Канада и Австралия с Новой Зеландией.
«Второй этаж» занимают новые высокоразвитые, в своей цивилизационной основе конфуцианские, державы Восточной Азии: Южная Корея, Тайвань и Сингапур (не считая политически интегрированного в 1999 г. в систему континентального Китая Гонконга). К четверке «тигров» близко подошли и некоторые государства Юго-Восточной Азии «второй волны», прежде всего — Малайзия и Таиланд.
«Нижний этаж» занимают Индонезия, Филиппины, а также Вьетнам, Лаос и Камбоджа, экономика которых ориентируется в основном на экспорт сельскохозяйственной продукции и сырья.
Что же касается Китая, то его специальные экономические зоны, взятые в совокупности, могут приравниваться к новым интенсивно развивающимся государствам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Важной особенностью развития стран АТР является их быстрое интеграционное сближение. По некоторым оценкам, интенсивность внутрирегиональных связей между странами «тихоокеанского кольца» превышает интенсивность торговли между государствами ЕС, уровень которой, в свою очередь, к середине 90-х гг. составлял более 50 %. Для стран — членов АСЕАН, связи которых ориентированы на Японию и США, этот показатель достигает 90 %. Нужно также иметь в виду, что еще две страны стараются усилить свое участие в интеграционных процессах в АТР — Китай и Австралия с их огромным экономическим потенциалом.
Все это свидетельствует об образовании небывалого по масштабам азиатско-тихоокеанского интеграционного поля. Страны, которые входят в его пространство, согласно наиболее вероятному сценарию развития, в ближайшие годы опередят по основным экономическим показателям все другие регионы и государства мира. При этом транстихоокеанская торговля превзойдет трансатлантическую более чем в 2 раза, а два интеграционных массива — Североамериканский и Восточноазиатский — будут удерживать первенство в мировой экономике и научно-техническом прогрессе.
Важным фактором перенесения центра международной экономической активности в страны бассейна Тихого океана является стабильный, несмотря на финансовый кризис 1997—1998 гг., рост японской экономики. Доля Японии в производстве мировой промышленной продукции, на глазах одного послевоенного поколения выросшая с 3 % в 1957 г. до 10 % в 1980 г.,
составила 12 % в 1987 г. и 17 % в 1993 г. Опередив в 1967 г. по объему промышленного производства Западную Германию, Япония заняла второе место среди государств мира, оставив первенство лишь Соединенным Штатам. В 1994 г. ВНП Японии составлял 54 % от ВНП США.
Японию не без оснований называют «промышленным гигантом Азии» и «тихоокеанской Америкой». В первой половине 90-х гг. ВНП Японии более чем втрое превысил совокупный ВНП стран АСЕАН, Южной Кореи и Тайваня. В 1994 г. Япония выработала более 75 % валового продукта всей Восточной и Юго-Восточной Азии, а в последние годы Страна восходящего солнца производит 60 % продукции всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
В последние полтора — два десятилетия впечатляющих результатов в экономическом и научно-техническом прогрессе достигли страны западной части Тихого океана: Таиланд, Малайзия, Тайвань, Южная Корея, Сингапур. Наряду с ними экономический подъем демонстрирует КНР, которая прилагает значительные усилия для расширения своего участия в международном разделении труда в АТР. Все эти страны довольно легко преодолели нефтяные кризисы 1973 г. и 1979 г., а с 1983 г. вошли в новый этап экономического роста.
Экономический подъем в наиболее развитой группе стран тихоокеанского бассейна — Японии, Канады, Австралии, США — дает возможность предположить, что в ближайшем будущем страны Восточной Азии и Тихого океана станут центром глобального экономического прогресса, основанном на совокупном потенциале Азиатско-Тихоокеанского и Североатлантического регионов. Постепенное и неуклонное перенесение центра мирового экономического развития в страны Тихоокеанского бассейна стало главной объективной предпосылкой идеи создания «Тихоокеанского сообщества» (ТОС).
Впервые на интеграционные процессы в бассейне Тихого океана обратили внимание в политических и научных кругах Японии. Расположение этого островного тихоокеанского государства, которое возрождало свою экономику после окончания Второй мировой войны, побуждало японцев вплотную заняться изучением особенностей развития АТР и, насколько это было возможно, использовать их в интересах возрождения экономики страны.
Первое упоминание в литературе об идее экономической интеграции в бассейне Тихого океана связано с именем Итира Коно, который в 50-е гг. прошлого века был главой исполкома правящей Либерально-демократической партии Японии. Этот один из старейших политических деятелей Японии, выступая в 1959 г. в США, выдвинул идею о создании экономического Союза между несоциалистическими странами Азии, с одной стороны, и США и Канадой — с другой.
Существует мнение, согласно которому идея создания тихоокеанского экономического союза была продиктована стремлением деловых кругов Японии ослабить зависимость экономики страны от США. Наилучший выход они усматривали в рассредоточении экономической экспансии США по всему периметру Тихоокеанского бассейна.
Следующим этапом развития идеи «Тихоокеанского сообщества» было предложение о создании в Тихоокеанском бассейне зоны свободной торговли.
Как указывается в книге «Япония и азиатско-тихоокеанский регион», опубликованной в 1984 г. известным японским политическим деятелем, членом «тройственной комиссии» С. Масакидой, впервые идею создания «тихоокеанской зоны свободной торговли» (ПАФТА) сформулировал в 1967 г. японский ученый-экономист К. Кодзима. Профессор Кодзима выдвинул эту идею как своеобразный противовес Европейскому экономическому сообществу, которое на то время было примером единственного в мире объединения стран с рыночной экономикой.
Концепция ТОС в ее начальном варианте сводилась к тому, чтобы объединить в одной замкнутой группе пять индустриально развитых стран региона — Японию, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. В дальнейшем (но без четкой хронологии) предполагалось подключить к этой «пятерке» несколько развивающихся ускоренными темпами стран Юго-Восточной Азии. Планировалось отменить таможенные тарифы между членами «пятерки», сохранив свободу их торговой политики в отношениях с другими государствами — не членами объединения. Как утверждали авторы этой идеи (в основном японские политические деятели и ученые), создание тихоокеанской зоны свободной торговли резко увеличило бы объем товарооборота между развитыми государствами региона. Предполагалось также, что без выгоды не останутся и некоторые развивающиеся страны из числа членов АСЕАН.
Однако идея ПАФТА была довольно настороженно встречена в политических и деловых кругах восточно-азиатских стран, которые расценили ее как теоретическое обоснование традиционного экономического экспансионизма Токио. Члены недавно созданной АСЕАН усмотрели в идее ПАФТА стремление Токио обеспечить себе благоприятные условия для экономического и политического господства в Юго-Восточной Азии. В Вашингтоне идею тихоокеанского экономического сотрудничества расценили как такую, которая противоречит американским глобальным интересам. В этой ситуации японское руководство на протяжении почти десятка лет не делало серьезных шагов для воплощения идеи Тихоокеанского сообщества (ТОС) в жизнь.
Идея ТОС была окончательно одобрена в июле 1979 г., когда министр иностранных дел Японии С. Сонода встретился со своими коллегами из стран АСЕАН на острове Бали (Индонезия) на очередной конференции министров иностранных дел асеановской группировки. Участники конференции одобрили идею ТОС. Осенью состоялись переговоры с госсекретарем США, а в декабре того же года с японской концепцией ТОС ознакомилось руководство КНР и поддержало ее. Своего апогея усилия по созданию «Тихоокеанского сообщества» достигли во время поездки японского премьера М. Охири в Австралию и страны Океании в январе 1980 г. Правительства Австралии и Новой Зеландии поддержали проект «Тихоокеанского сообщества» в том виде, в котором он был представлен. По итогам японско-австралийских переговоров было опубликовано общее коммюнике, которое подняло идею тихоокеанской интеграции на межправительственный уровень. В мае 1980 г. было подписано японско-канадское коммюнике, в котором отображалась заинтересованность правительства Канады в развитии тихоокеанского регионализма.
Важнейшим событием в деле осуществления «тихоокеанского проекта» стал международный семинар, который состоялся в сентябре 1980 г. в Канберре. Формально он проводился на академическом уровне под эгидой Австралийского национального университета. Однако по уровню своей представительности он выходил за рамки чисто научного мероприятия. В этой встрече приняли участие представители 11 стран АТР, а также делегаты Южно-Тихоокеанского форума. Делегацию США возглавил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Р. Холбрук, японскую — министр иностранных дел Японии С. Окита, таиландскую — заместитель премьер-министра Таиланда Т. Коман.
На семинаре возникли острые споры по вопросам формы и условий членства в «Тихоокеанском сообществе». Приверженцы широкого состава сообщества, в частности Канада, выступили за членство в нем всех без исключения государств Тихоокеанского бассейна. Однако столь широкий круг участников не устраивал ни США, ни Японию, которые полагали, что такое большое количество членов затруднит деятельность сообщества и будет содействовать его политизации. Одновременно в Вашингтоне и Токио не исключали возможности принятия в сообщество в будущем и Китая.
Стремление США и Японии монополизировать экономическую деятельность в Тихоокеанском бассейне встретило отрицательную реакцию со стороны развивающихся стран региона. В июле 1984 г. министры иностранных дел АСЕАН на своей ежегодной конференции, которая состоялась в Джакарте, подвергли японско-американский проект ТОС резкой критике и, в сущности, отклонили его. При таких обстоятельствах в Токио, при молчаливом согласии Вашингтона, было решено временно изъять из проектов создававшегося «сообщества» все политические аспекты. Из официального лексикона Токио и Вашингтона исчезло слово «сообщество». Его заменили более емким и многообещающим термином «тихоокеанское сотрудничество», причем было заявлено, что формирование зоны «тихоокеанского сотрудничества» не должно быть направлено на создание группировки типа ЕС.
Четвертая конференция по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству состоялась в Сеуле в конце апреля — начале мая 1985 г. Кроме шестерки АСЕАН (Бруней вошел в ассоциацию в январе 1984 г.) и пяти развитых стран в ее работе приняли участие делегации Папуа — Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Конференция в Сеуле была посвящена вопросам экономической деятельности в регионе, ее участники обсудили доклады по вопросам торговли, капиталовложений, рыболовства, лесного хозяйства, использования возобновляемых ресурсов.
Участие развивающихся стран региона и, прежде всего, государств — членов АСЕАН, является необходимым условием создания зоны тихоокеанского сотрудничества, на что особое внимание обращала Япония. В январе 1985 г. премьер-министр Страны восходящего солнца Я. Накасоне, находясь с визитом в Австралии, заявил, что японская политика по отношению к тихоокеанскому сотрудничеству основывается на четырех принципах:
а) тихоокеанское сотрудничество должно охватывать культурную и техническую области, но не политическую или военную;
б) способствовать прежде всего инициативам в частном секторе;
в) сотрудничество должно быть открыто для стран других регионов;
г) региональные экономические сверхдержавы должны уважать позиции развивающихся стран и тесно сотрудничать с членами АСЕАН.
Тем не менее, руководители государств — членов АСЕАН довольно настороженно отнеслись к новой инициативе Японии, направленной на «демократизацию» внутрирегиональных связей. Существуя с 1967 г., АСЕАН продемонстрировала свою жизнеспособность, несмотря на наличие определенных проблем и трудностей. Поэтому участие в «Тихоокеанском сообществе», которым руководят ведущие страны региона, по мнению асеановских государственных деятелей, могло привести к тому, что объединение растворится, потеряет самостоятельность и независимость.
По мнению большинства исследователей, к началу 90-х гг. тихоокеанское сотрудничество стало основной интегрирующей идеей в регионе. В марте 1988 г. в Токио состоялся симпозиум на тему «Эпоха Тихого океана», на котором были рассмотрены проблемы и перспективы сотрудничества в АТР. В ноябре 1989 г. в столице Австралии Канберре прошла конференция, в которой приняли участие официальные представители 12 стран — Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, Японии, Южной Кореи и государств — членов АСЕАН. Конференция была созвана для общего поиска путей воплощения в жизнь инициативы относительно активизации торгово-экономического сотрудничества стран региона, выдвинутой премьер-министром Австралии Р. Хоуком в январе 1989 г. В сущности, она стала очередным шагом на пути к формированию новой региональной экономической организации — Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС).
Страны «сообщества» на своей второй сессии в августе 1990 г. в Сингапуре формально подтвердили преданность принципу открытого регионализма и заявили о своей готовности принимать в АТЕС новых членов. Относящиеся к этому вопросы рассматривались участниками «Тихоокеанского сообщества» на третьей сессии АТЕС, которая проходила в ноябре 1991 г. в Сеуле. Одним из важнейших решений сеульской сессии было принятие Китая, Тайваня и Гонконга в состав этой организации, призванной оказывать содействие торговле и инвестициям в этом регионе. Главы внешнеполитических ведомств двух наибольших государств региона — США и Китая — на итоговом заседании сессии высказали приблизительно одинаковые взгляды на проблему снижения напряженности на Корейском полуострове и подчеркнули, что от ее решения будет зависеть успех регионального экономического сотрудничества.
Поворот в сторону повышения значения регулярных встреч представителей большинства стран АТР состоялся в ноябре 1993 г., когда в Сиэтле по инициативе США состоялся форум упомянутых стран уже на уровне глав правительств. Этот саммит содействовал окончательному оформлению организации «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». На сегодня в число постоянных участников форумов АТЭС входят 19 стран, а именно: Австралия, Бруней, Канада, Чили, КНР, Гонконг, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Российская Федерация, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд и США.
Ситуация, сложившаяся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в значительной степени все еще продолжает определяться последствиями финансового
кризиса 1997 — 1998 гг. В частности, этот кризис поставил под вопрос не только сохранение власти правящей Либерально-демократической партии Японии, но и проблему жизнеспособности «японского экономического чуда».
Азиатский финансовый кризис, который привел к ослаблению экономики «азиатских тигров», еще с большей остротой подчеркнул те изменения, которые начались на геополитической карте АТР с распадом СССР и образованием четырехугольника США — Япония — КНР — РФ. Причем соперничество за лидерство в АТР, которое развернулось прежде всего между США и Китаем, в последнее время идет не в пользу США.
Кризис, который был инспирирован США, и это уже не секрет, прежде всего направлялся против Китая. Однако надеждам США на то, что этот кризис превратит китайский триумф (после присоединения Гонконга к КНР) в финансовый крах, не суждено было осуществиться. Китай довольно успешно вышел из кризиса и дал понять, что готов стать образцом регулируемого государством рынка, который, по словам главы Всемирного Банка Вуль-фенсона, «может стать основанием мировой экономики в XXI столетии»! По крайней мере, амбициозный проект на сумму 750 млрд долл, по подъему китайской экономики, который был представлен Китаем в ноябре 1997 г. на лаосской конференции (и это при разгорании кризиса), дает все основания считать, что Китай имеет реальные шансы стать лидером в АТР.
Перед угрозой со стороны Китая США пробуют извлечь из кризиса все максимально возможное, лишь бы удержать позиции, которые быстро теряются ими в регионе. Это со всей наглядностью продемонстрировал январский вояж министра обороны США С. Коена по странам АТР. Посещая Южную Корею, Сингапур, Японию, Филиппины, Таиланд и Индонезию, Коен неоднократно повторял, что США не могут допустить, чтобы кризис в Азии создал угрозу стратегическим интересам Вашингтона в регионе, подразумевая под «угрозой» Китай.
Играя на китаефобии в регионе, а также используя привязку национальных валют к американскому доллару, США будто бы удалось возвратить некоторые позиции. Так, Сингапур дал согласие на то, что ВМС США могут бесплатно пользоваться базой сингапурских ВМС в Чанге. Филиппины согласились на заходы военных кораблей США в филиппинские порты и на проведение совместных военных учений.
Однако страны АТР, с одной стороны, вынуждены принимать американскую помощь, а с другой — все больше стараются выйти из под опеки США. Итогом февральской встречи в Джакарте стран-членов АСЕАН стало решение Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин испытать в Юго-Восточной Азии систему взаимных расчетов в двусторонней торговле в региональных валютах, тем самым «выходя из под доллара». И хотя пока что данных о ходе «эксперимента» нет, само по себе заявление — уже болезненная пощечина Вашингтону.
Финансовые катаклизмы в АТР очень заострили отношения США с их основным стратегическим союзником — Японией. Хотя соглашение о военном сотрудничестве, подписанное осенью 1997 г., сохраняет этот альянс в качестве ведущего механизма по сдерживанию Китая, союзничество все больше ставится под сомнение, причем самими США.
Современная Япония в ее взаимодействии со США и другими странами АТР
Япония признается ключевой страной Азиатско-Тихоокеанского региона. Пример Японии демонстрирует успешный опыт модернизации традиционного общества при сохранении главных черт национальной идентичности и менталитета. С конца XIX ст. Япония вошла в группу индустриальных стран и радикально переориентировала существующие социально-политические отношения общества согласно требованиям времени. Бывшая феодальная аристократия превратилась в финансово-промышленную буржуазию, но без радикальных социальных сдвигов и революционных смещений в общественной иерархии. Японцы, не владея значительными природными ресурсами и достаточно благоприятными условиями жизни, благодаря собственным усилиям были в состоянии создать крепкое государство, которое даже сокрушительное поражение в мировой войне повернуло в собственную пользу, превратившись в одно из мощнейших в экономическом отношении государств мира.
Японское чудо построено прежде всего на использовании преимуществ научно-технического прогресса, развития интеллектуального потенциала общества, поощрении изобретений и творчества. С другой стороны, система трудоустройства и социального обеспечения надежно защищает каждого гражданина и оказывает содействие экономической стабильности при любых изменениях конъюнктуры мирового рынка. Япония достигла высокого уровня экономического развития благодаря высокому уровню внутренних инвестиций (в течение последних десятилетий их уровень составлял 35 % от ВНП), а не внешним факторам. Единственно благоприятным внешним обстоятельством было обеспечение безопасности страны благодаря военнополитическому союзу со США. Инвестиции направлялись преимущественно на развитие промышленности, в производственную сферу экономики, тогда как на социальные и правительственные нужды использовалась сравнительно незначительная часть ВНП.
Социально-политическое устройство Японии основывается на коллективно-групповых системах ценностей, закрепленных в ментальности и традиционных верованиях населения. Либерально-демократическая форма правления, установленная после войны, отвечает европейским стандартам, но функционирует в концептуально-бесконфликтном режиме 1. Экономика хотя и построена на частной собственности и свободном предпринимательстве, но высокий уровень согласованности частных инициатив, экономических учреждений и институтов делает экономическую жизнь прогнозируемой и обеспечивает гармоничное движение вперед. Высокий уровень экономической дисциплины и самодисциплины делает лишним громоздкий бюрократический аппарат, который в случае самороста начинает работать скорее на собственные нужды, чем на страну.
1 Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутне. До ефектившших суспитьств. — К.:, 1993. — С. 56-63.
Вместе с тем, нельзя не заметить, что японская экономика в огромной мере зависит от внешних связей. Япония почти полностью зависит от импорта природных ресурсов, особенно энергетических, а также чувствительна к рыночным отношениям и конъюнктуре. Такое состояние вещей делает страну зависимой от внешних воздействий и давлений, а с другой стороны — стимулирует поиски путей для избавления от зависимости. Поэтому геополитическое положение Японии в значительной мере отличается от ситуации Китая или США, не говоря уже о Европейском сообществе. Япония должна осуществлять активную экспансионистскую экономическую политику в странах Юго-восточной Азии и все время искать новые рынки сбыта собственной продукции. В последние годы Япония все больше обращает внимание на потенциально значительные рынки Восточной Европы и на богатую сырьевыми ресурсами Сибирь. Это стимулирует определенное переосмысление основ собственного внешнеполитического курса, который сложился еще в послевоенный период и базировался на военно-политическом альянсе со США.
Япония все чаще показывает свою самостоятельность и амбиции относительно собственного лидерства в АТР. Это проявляется не только в желании сократить американское присутствие на Японских островах. Трещины во внешнеполитической деятельности союзников обозначились во время последнего иракского кризиса. Япония четко давала понять, что в случае, если США нанесут удар по Ираку без предварительного предупреждения Японии, ни о каких союзнических отношениях не может быть и речи.
Одновременно Токио стремится во внешней политике чаще обходиться без посредничества США. Декларируя необходим ость.укрепления отношений в рамках «треугольника» США - Япония — Китай, на деле Япония строит двусторонние японско-китайские отношения, что было продемонстрировано во время визита в Токио министра обороны Китая Чи Хаотяня.
Подобные действия не остаются без ответа со стороны США. США предъявили обвинение правительству Хасимото в том, что новая налоговая политика, которая действует в Японии с апреля 1997 г., привела к падению курса йены и спаду производства в самой Японии, что в свою очередь стало катализатором цепной реакции финансового кризиса во всей Азии. На апрельской встрече представителей «семерки» на Японию было оказано мощное давление в связи с ее мероприятиями по выводу экономики страны из кризиса. Американское рейтинговое агентство Moody’s резко понизило рейтинг Японии на международных биржах. А на совещании министров финансов «семерки» Японии отказали в поддержке йены, дав понять, что Токио в дальнейшем «может рассчитывать лишь на собственные силы».
Демарши Вашингтона принудили Токио отступить, т.е. признать новую налоговую политику неправильной. Хасимото заявил о снижении налогов с производителей. К чему привела такая политика, мы видим сейчас — невозможность правительства Хасимото исправить катастрофическое положение экономики страны обусловило его отставку.
Примерным наказанием Японии США стараются убить еще одного зайца: добиться пересмотра налоговых политик в странах Юго-Восточной
Азии, открыть азиатские экономики и возвратить позиции американского доллара, которые покачнулись.
Одновременно с этим США, понимая всю бесперспективность конфронтации с Китаем, делают большие шаги к сближению с ним. В свою очередь Китай, в рамках своей новой внешнеполитической концепции, довольно прозрачно намекает на приоритетное значение стратегического партнерства со США, предлагает Вашингтону заменить Токио на Пекин, чья экономическая мощь в недалеком будущем сравняется с японской.
Япония хорошо сознает, что в треугольнике США — Китай — Япония ей готовится далеко не первая роль. Перед лицом быстро возрастающего Китая, который Токио считает главной угрозой своей безопасности, Япония испытывает потребность в более тесных отношениях с РФ. Кроме этого, Токио совсем не убежден, что Вашингтон при любых обстоятельствах будет помогать Японии и до конца отдавать ей преимущество перед Китаем.
Поэтому Токио стремится поддержать идею четырех сил — АТР (США, Китай, Япония и РФ), а также предложенную южнокорейским президентом «корейскую формулу», согласно которой к переговорам относительно урегулирования Корейской проблемы с участием США, КНР, РК и КНДР должны быть подключены Россия, Япония и, возможно, Монголия. Т.е. речь идет о создании азиатского аналога ОБСЕ. Напомним также, что именно Япония была инициатором принятия России в АТЕС.
Кроме этого, Япония, учитывая печальный опыт финансового кризиса, более не уверена в снабжении нефтью с Ближнего Востока и явно не полагается в плане энергоресурсов на главного союзника, США, которые развязали нынешнюю «нефтяную» войну. Поэтому, кроме прочего, Токио начинает переориентировать свою ресурсную политику на Китай и РФ, которые имеют этих ресурсов вдоволь. Именно в этом контексте нужно рассматривать «Евразийскую дипломатию» премьера Хасимото, которая была выдвинута им летом 1997 г.
Быстрое сближение Японии с РФ не остается незамеченным США, которые, проводя свою политику на Дальнем Востоке, стремятся регулярно заострять японско-российскую территориальную проблему.
С другой стороны, нужно четко сознавать, что и сама Япония при любых условиях не откажется от «северных территорий». Первое же японское правительство, которое сняло эту проблему как необходимое условие для подписания японско-российского мирного соглашения, вынуждено было пойти в отставку. Кроме того, одновременно с обсуждением плана Транссибирской магистрали, Япония активно проводит политику возрождения «Шелкового пути», который обесценит роль Транссиба и резко повысит уровень присутствия Японии в Центральной Азии и Закавказье.
С точки зрения обеспечения экономической и комплексной безопасности Японии АТР имеет для нее исключительно важное значение не только в силу географического фактора, айв равной мере в силу геоекономических и военно-стратегических интересов страны.
За последние 40 лет АТР в целом пережил три волны экономического развития.
Первая — экономические успехи Японии в 60-е гг. при ежегодных темпах прироста ВВП более чем на 10 %, что оказало стимулирующее влияние на развитие всей региональной экономики в целом.
Вторая — бурный экономический подъем в 70-е гг. в новых индустриальных странах за счет экспортноориентированной модели развития с помощью иностранных капиталов и технологий, среди которых львиная часть принадлежала Японии. И сегодня темпы роста экономик этих государств более чем в два раза превышают аналогичные показатели развитых стран.
Третья — успешное развитие в 80-х гг. экономик стран АСЕАН, обусловленное теми же факторами, что действовали и в новых индустриальных государствах второй волны. Вместе с тем новизна явления заключается в том, что наравне с японским капиталом в качестве стимулятора экономического роста стран АСЕАН выступает и капитал новых индустриальных стран, составляя до некоторой степени конкуренцию Японии.
В недалеком будущем АТР должен пережить еще две волны экономического роста: бурное развитие приморских и южных китайских провинций и перспективы формирования «большого Китая» (в составе КНР, Тайваня и Гонконга), а также предполагаемый экономический расцвет стран Индокитая.
В «волнообразном» развитии АТР проявляется одна жесткая закономерность. В основе всех экономических бумов региона лежат японские капиталы и технологии, которые на каждом следующем этапе дополняются соответственно ресурсами новых индустриальных стран, АСЕАН, Китая (преимущественно заграничных китайцев — хуацяо). Региональные эксперты назвали такую модель развития региона «стаей перелетных гусей», «клин» в которой возглавляет Япония.
В последние годы Япония существенно расширила свои торговые связи с новыми индустриальными странами, АСЕАН, КНР, одновременно снизилась ее зависимость от рынка США. Это проходило в общем русле переориентации японского бизнеса на Азию. Если в середине 80-х гг. «Япония экспортировала на одну треть больше товаров в США, чем в Азию, то теперь она экспортирует на треть больше в Азию, чем в США», — отмечает «Файнен-шиал тайме». Подобная трансформация затронула, кстати, все страны Восточной Азии. И внутрирегиональная торговля по масштабам стала намного превышать торговлю со США, а также с Западной Европой.
Восточноазиатские страны привлекательны для японского бизнеса наличием там целого ряда благоприятных для торговой и инвестиционной деятельности условий. Среди них: потребительский рынок, который быстро развивается, квалифицированная и сравнительно дешевая рабочая сила, относительная политическая стабильность и высокие темпы экономического развития. Экспорт Японии в 1993 г. в восточноазиатские страны составил свыше 131 млрд долл, (в США около 107), а экспорт из этих стран в Японию достиг 74 млрд долл, (в США — 48). Япония является главным торговым партнером Китая, Таиланда, Малайзии, Индонезии, занимает второе место после США в торговле Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Филиппин. Экспорт Японии в страны региона в основном состоит из комплектующих, необходимых для продукции, которая там производится. По словам
директора отдела Азии и Океании Института внутренних инвестиций и развития, который считается мозговым трестом Экспортно-импортного банка Японии, «независимо от стоимости, потребители в Азии будут вынуждены покупать комплектующие в Японии, поскольку они нигде не смогут их приобрести».
Таким образом, результатом стратегии Японии в регионе, которая разрабатывается с тщательным учетом каждого отдельного этапа развития обшей ситуации в АТР (состояние экономики региональных государств, их внутриполитическая ситуация, тенденции в политической жизни и экономической стратегии), а также собственных реальных и потенциальных возможностей, стало создание объективных условий для фактической зависимости региональных стран от Японии в сфере их экономического развития. Это стало одним из краеугольных камней в политике Японии в АТР по укреплению ее собственных позиций и реализации национальных интересов. Особенность японской стратегии на глобальном уровне и в АТР заключается в тесном взаимодействии государства и частного капитала, для которого главной формой завоевания рынков являются прямые инвестиции. Такое взаимодействие определяется как один из важнейших элементов внешнеполитической стратегии Японии.
Очевидна взаимосвязь экономик США и Японии. Экономические отношения между двумя странами, на которые приходится около 40 % мирового ВВП и более 20 % мирового экспорта, все больше становятся основой их двусторонних связей. Это объясняется не только глубоким взаимопроникновением экономических структур, но и тем, что Япония завершает процесс интернационализации своей экономики. Превратившись в экономическую сверхдержаву, Страна восходящего солнца, даже несмотря на спад в экономике в 90-х гг., осуществляет все большее влияние на всю систему мирового хозяйства: решения, которые принимаются в Токио, так же обязательны для делового мира, как те, которые идут из Нью-Йорка или Лондона.
В результате жесткой конкурентной борьбы с американским частным капиталом на сегодня в целом определились «зоны влияния» американского и японского капиталов в регионе, а также частного капитала новых индустриальных государств. Основным объектом инвестиционных интересов японских предпринимателей на современном этапе стали Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Китай. Прямые инвестиции японского капитала в регионе в 1994 г. впервые за последние 11 лет превзошли аналогичные показатели по Западной Европе. Согласно данным Министерства финансов Японии, по количеству инвестиционных проектов в производственной сфере Восточной Азии страна опередила США. Даже по сдержанным оценкам, Япония, страна с населением вдвое меньше американского, до 2010 г. обойдет США и станет мировым лидером в экономике, причем японский ВВП по прогнозам превысит 15 трлн, а американский лишь 14 трлн долл.
Больше всего американцев беспокоит соперничество за владение наиболее передовой технологией. Серьезную обеспокоенность вызывает также тот факт, что из 536 заграничных инвестиций в высокотехнологические американские компании больше двух третей в 1983—1991 гг. приходилось на долю
Японии. Предполагается, что к 2010 г. Япония будет выделять 3,5 % своего ВВП на исследования и разработки, а также обеспечение 350 тыс. специалистов, разрабатывающих новейшие технологии, в то время как США — соответственно 3 % и 175 тыс.
Превращение в экономического гиганта сопровождается ростом политического влияния Японии, увеличением ее активности на международной арене. Сегодня страна является наибольшим в мире донором экономической помощи, главным мировым кредитором. Японская помощь в развитии восточноазиатской региональной экономики составляет более 50 %, а США — 6 %; японские прямые частные капиталовложения в экономику стран Восточной Азии достигли 30 %, американские — 10 %.
11 февраля 1994 г. стало заметной вехой в истории японско-американских отношений: лидеры обеих стран впервые публично и достаточно конкретно заявили о невозможности достигнуть согласия или даже компромисса по проблеме двусторонней торговли. После встречи в Вашингтоне президент Б. Клинтон заявил, что «настало время перестать наводить глянец на отсутствие прогресса в экономических отношениях между двумя странами». В свою очередь премьер-министр Хосокава отметил, что «японско-американские отношения стали зрелыми до такой степени, когда каждая сторона может искренне признать, что она может сделать, а что не может, даже несмотря на все усилия».
Окончание Холодной войны, бесконечные бюджетные трудности Соединенных Штатов, острые внешнеторговые столкновения с ними внезапно сфокусировали внимание японского общества на будущем американского присутствия в Японии и, больше того, на судьбе японско-американского альянса. Судя по исследованиям общественной мысли, проведенным по этому вопросу, большинству опрашиваемых граждан Страны восходящего солнца американские базы не по душе и они выступают за их постепенное сокращение. Выяснилось также, что молодежь относится к базам более прохладно, чем представители старших поколений, причем ее представители не очень-то верили в готовность США прийти на помощь Японии в критический момент. Понятно, что такого рода сомнения оказывают влияние на установившиеся послевоенные отношения Японии и США.
Китай и его отношения с окружающими государствами
История Китая — это история национального величия. Нынешний обостренный национализм китайцев может считаться новым явлением только с точки зрения широты социального охвата, поскольку присущ самосознанию значительно более многочисленных, чем раньше, слоев китайского общества. Ситуация сейчас совсем другая, чем в начале века, когда национализм был присущ в основном студенчеству, которое служило социальной базой Гоминьдана и Коммунистической партии Китая. Современный же китайский национализм — массовое явление, определяющее умонастроения наиболее многочисленного в мире народа.
Эти представления имеют глубокие исторические корни. Они сложились так, что китайская элита привыкла считать свою страну естественным
центром мира. Даже само слово, которым китайцы именуют свою родину — «Чжунго», или «Срединное царство», отражает идею ведущей роли Китая в мировых делах и подчеркивает значение национально-государственного единства. Есть у этого понятия и еще один смысловой нюанс: оно предусматривает, что стоящий выше всех Центр, распространяет свое влияние на низшую периферию и обосновывает претензии того, кто находится в Центре на почтительное отношение к себе со стороны окружения.
С незапамятных времен Китай с его огромным населением представлял собой самостоятельную и гордящуюся этой самостоятельностью цивилизацию. Она далеко продвинулась во всех областях: по развитию философии, культуры, искусства, по уровню социальных навыков и умений, технической изобретательности, по мощи политической власти. Китайцы помнят, что приблизительно до начала XVII в. их страна занимала первое место в мире по производительности сельского хозяйства, передовым промышленным технологиям и уровню жизни населения. И при этом, в отличие от Западной и Исламской цивилизаций, которые породили в общей сложности около 75 государств, Китай на протяжении почти всей своей истории оставался единой державой. Во время провозглашения Декларации независимости США она насчитывала более 200 млн жителей и была ведущей промышленной страной мира.
Многие столетия Китайская империя оставалась большим и самодовлеющим государством. Ее подданные считали свою страну центром Вселенной, или Срединным царством, а население окружающего мира — нецивилизованными варварами. Этот взгляд породил идею и практику «использования одних варваров для контроля над другими». Кроме того, китайская внешняя политика всегда тяготела к изоляционизму и противодействовала внешним влияниям. Споры между апологетами изоляционизма и сторонниками большего включения страны в международные дела никогда не утихали и время от времени актуализируются, особенно в периоды переломных событий внутриполитической истории.
Другой фактор, который влияет на формирование китайской внешней политики — национализм, — результат истории нового времени. Иностранное владычество, которое продолжалось с XIX в. до конца Второй мировой войны, породило китайский национализм с его важнейшей внешнеполитической задачей — сохранение территориальной целостности страны и возвращение территорий, бывших прежде ее частями. Список таких территорий велик, так что из всех военных акций Китайской Народной Республики только войну в Корее и вторжение в 1979 г. во Вьетнам Пекин считает происходившими на чужой земле. Другие 13 случаев там относят к операциям по освобождению «незаконно оккупированных территорий».
Особую роль в становлении современного Китая сыграли его взаимоотношения с СССР, которые начались с официальным признанием Москвой нового китайского правительства в октябре 1949 г. Во время визита Мао Цзедуна в Москву СССР и КНР заключают союзное соглашение от 14 февраля 1950 г. Имея свои значительные вооруженные силы, КНР могла занимать самостоятельную позицию в международных делах. Даже декларируя в 50-е гг. свое уважение к СССР как лидеру мирового коммунизма, Ки
тай всегда подчеркивал собственную независимую позицию, особенно после смерти И. Сталина.
Во время визита Н. С. Хрущева в Китай 12 октября 1954 г. подписываются новые советско-китайские соглашения, способствовавшие углублению союзных отношений. В соответствии с ними советские войска должны были до 31 мая 1955 г. оставить Порт-Артур. Это был первый пример восстановления суверенитета Китая над собственными историческими территориями, захваченными в свое время европейскими колониальными империями. В соответствии с другими соглашениями КНР передавался ряд общих предприятий, разворачивалось научно-техническое сотрудничество и начиналось строительство железных дорог Ланьчжоу — Алма-Ата и Синин — Улан-Батор.
После замирения в Корее и Женевских соглашений по Индокитаю начала обостряться ситуация вокруг Тайваня. 4 сентября 1954 г. коммунисты обстреляли остров Кемой, контролируемый чанкайшистами. США 2 декабря 1954 г. подписали договор с тайваньским лидером Чан Кайши о совместной обороне, что было расценено коммунистическим Китаем и СССР как вмешательство во внутренние дела независимой страны — КНР. 25 января 1955 г. Конгресс США принял резолюцию, которая разрешала президенту Д. Эйзенхауэру использование вооруженных сил для зашиты Тайваня и Пескадорских островов. Но на самом деле США не желали развития конфликта и использовали договор с Чан Кайши скорее для сдерживания континентального Китая. Ситуация в Тайваньском проливе в целом была стабилизирована в феврале 1955 г. Фактически, как и в других местах противостояния биполярного мира, на международном уровне было закреплено существование двух китайских государств, разделенных между собой «железным занавесом».
7 мая 1957 г. Чан Кайши заключил сделку со США о размещении на Тайване ядерного оружия, способного достичь китайской территории. В июне 1957 г. СССР согласился предоставить КНР техническую помощь в создании ядерного оружия. Однако в июле 1958 г. во время визита в Китай руководитель СССР Н. С. Хрущов подверг резкой критике политику «большого прыжка» Мао Цзедуна, что положило начало охлаждению в отношениях между обеими коммунистическими странами. Ощущая приближение краха внутреннего курса, руководство КНР начинает вести себя более агрессивно во внешней политике. В ночь на 23 августа 1958 г. коммунистический Китай возобновляет обстрелы островов Кемой и Мацу.
Американский империализм считался в КНР главным врагом, хотя и провозглашался Мао «бумажным тигром». Внешнеполитическая концепция коммунистического Китая строится на постулате о неизбежности Третьей мировой войны, которая должна закончиться победой сил коммунизма. Ради достижения этой цели верхушка китайских коммунистов считала возможным принести в жертву сотни миллионов жизней при ядерных бомбардировках. Но СССР придерживался более умеренных позиций, провозглашая принципы мирного сосуществования двух систем. В июне 1959 г. Н. С. Хрущов отказал Китаю в помощи в разработке ядерного оружия. Мао Цзедун не очень благосклонно отнесся к осуждению «культа личности Сталина» и пло
хо воспринял советскую критику «народных коммун» и политики «большого прыжка». Его настораживал также курс разрядки международной напряженности, проводившийся Н. Хрущевым.
В сентябре 1959 г. начался индийско-китайский вооруженный конфликт в районе Гималаев вблизи Тибета. Последний был реаннексован КНР в 1950 г., но коммунистические порядки вызвали возмущение буддистского населения страны. Во главе сопротивления встал религиозный лидер Тибета — тогда еще молодой Далай-лама. Его традиционный соперник панчен-лама Ташилумбо поддержал китайцев. 17 марта 1959 г. в Тибете началось вооруженное восстание, подавленное китайскими войсками. Далай-лама со многими своими сторонниками бежал в Индию. Начались вооруженные стычки на индийско-китайских границах.
В конфликте Китая с Индией в 1959 г. СССР встал на сторону Индии и подписал с ней соглашение о значительных кредитах для развития индийской экономики. В июле 1960 г. советские специалисты покинули КНР и с этого момента началось прогрессирующее ухудшение советско-китайских отношений. На фоне взаимных идеологических обвинений в «ревизионизме» и «догматизме» Китай занял открыто антисоветскую позицию. В 1961 г. и в апреле-мае 1962 г. происходили стычки на границе Казахстана и провинции Синцзян. Десятки тысяч китайских казахов и уйгуров старались бежать в СССР, но китайские власти, дабы воспрепятствовать этому, прибегали к жестким репрессивным мерам. В долине р. Или произошло восстание мусульман-уйгуров. Осенью 1962 г. возобновились и стычки с Индией. Китай заявил о территориальных претензиях к Индии, СССР и другим странам. 12 марта 1963 г. было подписано китайско-пакистанское соглашение о границе между Китайским Синцзяном и Кашмиром, оккупированным Пакистаном. Сближение с Пакистаном вызвало новый круг напряженности в разногласиях между Китаем и Индией и 20 октября — 21 ноября между ними развернулись настоящие военные действия.
В 1963 г. в КНР началась широкая газетно-журнальная кампания, направленная на пересмотр неравноправных соглашений между Китаем и Россией — Айгунекого и Пекинского. В 1964 г. была опубликована карта захваченных «империалистами» китайских территорий, к которым были отнесены гималайские земли Индии и Бирмы, советский Дальний Восток, часть Средней Азии. В октябре 1964 г. Китай провел испытание атомного оружия, а в 1967 г. термоядерной бомбы. Начатая в 1966 г. «культурная революция» переориентировала внимание китайского руководства на внутренние проблемы. Но несмотря на это, в марте 1969 г. происходят масштабные вооруженные столкновения на дальневосточном отрезке советско-китайской границы — на о. Даманском на р. Уссури.
Однако, пройдя сложный исторический путь, к концу 80-х благодаря реформам Ден Сяопина Китай выходит на прогрессивную динамику экономического роста.
В 1991 г. удельный вес Китая составлял 6,82 % мирового валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритетам покупательной способности валют, а в 1995 г. — уже 9,66 %. Справочник международной экономической статистики, подготовленный Центральным разведывательным управлением
США, вообще утверждает, будто китайцы перешагнули 10-процентный рубеж: из 33 500 млрд долл, мирового ВВП на их долю приходится 3500 млрд
Сейчас в мире довольно часто вспоминают, что Китай столетиями, вплоть до первой трети XIX века, был ведущей экономической державой мира. К началу реформ, однако, от этого осталось разве что воспоминание. Анализ хуагофэновской программы «четырех модернизаций» показывал, что к концу 90-х годов Китай способен обойти Советский Союз по таким агрегированным показателям, как совокупная продукция промышленности и сельского хозяйства, а также национальный доход. Начало реформ обескураживало. Китай вынужден был не столько преобразовывать хозяйственный механизм, сколько выправлять диспропорции в экономике. Очевидный крах потерпела попытка повторить советский рывок 50-60-х годов, опираясь на увеличение производства стали и нефти, а также на масштабный импорт оборудования. Скептики вроде бы оказывались правыми. Однако грамотно проведенные финансовая стабилизация и целенаправленное подтягивание отсталого потребительского сектора заметно улучшили макроэкономическую ситуацию. Страна постепенно открывалась внешнему миру и шаг за шагом расширяла сферу действия рыночных факторов. В итоге Китай вышел на траекторию динамичного экономического роста и масштабных рыночных реформ. За 80-е гг. ВВП страны вырос в 2,4 раза (при среднегодовых темпах прироста в 10,1 %), а за 1991—1996 гг. увеличился еще на 93,4 % (при среднегодовых темпах в 11,6 %) 1 2.
Переход Китая от командно-административной системы хозяйствования к рыночной рассчитан на несколько десятилетий. Сейчас страна находится примерно на полпути к поставленной цели. Пройденный ею путь уже позволяет сформулировать главные особенности сложившейся модели социально-экономического развития.
Какие выводы напрашиваются из сегодняшней ситуации, когда распад СССР и последовавшее за этим ослабление России дало Китаю заметные преимущества в Азии и он «внезапно обнаружил, что сильнее, чем был когда-либо прежде»3? Китай на самом деле стал весомым международным фактором. С ним вынуждены теперь считаться. Он вышел на позиции мирового лидера по производству многих видов промышленной и сельскохозяйственной продукции — от стали и телевизоров до хлопка и мяса. В таких условиях, наверное, вполне естественно, что национальное самосознание китайского народа явно растет, тем более что его питают и оживающие воспоминания об историческом вкладе китайской нации в мировую цивилизацию.
В военном отношении Китай можно по некоторым критериям считать мировым лидером, поскольку масштабы его экономики и ее высокие темпы роста позволяют правителям страны направлять значительную часть ВВП на
1 Handbook of International Economic Statistics 1996. Central Intelligence Agency USA.— Washington, September 1996. — P. 15, 19.
2 Чжунго тунцзи чжайяо 1997 (Краткая статистика Китая 1997). — Пекин, 1997.— С. 4.
3 Bernstein R., Munro R. The Coming Conflict with China. — N.Y., 1997. — P. 65.
наращивание и модернизацию вооруженных сил, в том числе на дальнейший рост стратегического ядерного и космического потенциала. Однако если эти усилия окажутся чрезмерными, они способны в долгосрочной перспективе повлиять на экономический рост Китая так же отрицательно, как в свое время повлияла на советскую экономику неудачная попытка СССР состязаться со США в гонке вооружений. К тому же такого рода действия Китая могут легко спровоцировать соответствующее наращивание военного потенциала Японии, которая отчасти сведет на нет политические преимущества Китая, достигнутые ценой роста военной мощи. В конце концов, нельзя забывать, что у Китая, вероятно, еще некоторое время не будет военных средств (если не считать ядерных сил), которые бы позволяли ему угрожать какой-либо стране за пределами своего регионального периметра. Однако судя по внешней политике, проводимой в последние десятилетия, страна к этому и не стремится.
Нельзя исключать усиления напряженности внутри Китая, вызванного территориальной неравномерностью экономического развития, которое сейчас достигается в значительной мере благодаря преобладающему положению отдельных регионов. Впечатляющий экономический рост Китая обеспечивают пока, главным образом, прибрежные южные и восточные районы, а также основные городские центры, относительно более открытые для иностранных инвестиций и внешней торговли. Но сельские районы внутри страны, а также северные и западные территории отстают в своем развитии, с чем связаны высокий уровень безработицы и достаточно низкий уровень жизни большинства их жителей. На неравномерность в развитии и уровне жизни регионов может наложиться и общее недовольство усиливающимся социально-экономическим неравенством. Рано или поздно в результате попытки государства ограничить такие отличия, или под влиянием протестов снизу, экономический разрыв между регионами и социальными пластами может дестабилизировать политическую ситуацию в стране.
К распространенным прогнозам относительно того, что в течение следующей четверти века Китай станет лидирующим мировым государством, следует относиться осторожно и скептически еще по одной причине. Дело в неопределенности перспектив политического развития страны. Динамические экономические преобразования, нацеленные на разгосударствление экономики и большую открытость страны перед внешним миром, в долгосрочной перспективе несовместимы с относительно закрытой и бюрократической, все еще достаточно косной коммунистической диктатурой. Ее фиктивно коммунистический характер сегодня определяется не приверженностью идеологии, а групповыми интересами бюрократии.
Китайская политическая элита по-прежнему организована как замкнутая, жесткая, дисциплинированная и монополистически нетерпимая иерархия; она все еще ритуально провозглашает свою верность основам прежней доктрины, но больше не внедряет ее в жизнь общества. Рано или поздно эти несовместимые стороны жизни прийдут в столкновение, если только политическая система Китая не начнет постепенно приспосабливаться к социальным требованиям, которые диктуются экономическими переменами. Из этого следует, что проблема демократизации будет становиться для Китая
все более актуальной, и от нее (как и от проблемы прав человека) нельзя будет слишком долго уклоняться. Контролируемый переход к более демократической, чем ныне, общественно-политической системе отвечал бы расширению экономической открытости страны.
Как известно, современный Китай все более нуждается в увеличении поставок энергоресурсов извне. Поэтому в последнее время он стремится к получению доступа к российским и среднеазиатским энергоносителям. Проникновение может начаться из использования чисто экономических средств. Однако, как показывает история, набирающие силу государства рано или поздно начинают подкреплять свои хозяйственные интересы силой. Очевидно, что «российский вариант» решения топливно-энергетической проблемы, по сравнению с другими, имеет в глазах пекинских руководителей определенные преимущества. Как мирному, так и силовому проникновению Китая на российский Дальний Восток и в Сибирь оказывает содействие нынешняя относительная (по сравнению с СССР) слабость России.
Это касается не только проблем в экономической сфере, но и вопросов совместимости политики двух мощных стран в стратегически важных регионах, тем более в Центральной Азии. Китай, используя мощный экономический потенциал, предпочитает развитие двустороннего сотрудничества со странами региона. Это подталкивает Россию к привлечению Китая к межгосударственным образованиям регионального уровня с целью подчинить отношения Пекина со странами региона общерегиональным процессам, на уровне которых воздействие России имеет безусловные преимущества.
Но с другой стороны, российско-китайское сотрудничество продолжает сохранять потенциальную напряженность. Вообще, роль Пекина в делах региона, как и его отношения с Россией и странами Центральной Азии, не следует однозначно оценивать. Так, например, вопросы, связанные с вооружением Пакистана, являются проблемой, которая позволяет Пекину оказывать самостоятельное воздействие на ситуацию в сфере безопасности Центральной Азии.
С учетом быстрых темпов экономического развития Китая и традиционной убежденности правящих кругов этой страны в ее доминирующей роли по отношению к соседям, правительства Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана имеют основания опасаться китайского гегемонизма. Это содействует поискам государствами региона альтернативных ориентаций — по направлению к РФ, Турции и Ирану. Позиции Китая в регионе улучшились с ликвидацией СССР, но появление по соседству пяти номинально исламских государств, война в Таджикистане, этнические и социальные потрясения в Ферганской долине и т.п. создают риск распространения конфликтов на этнически и религиозно родственный с народами этих стран Син-цзян-Уйгурский район Китая.
Пространство восточнее Памира — Синцзян-Уйгурия — традиционная зона китайского господства, несмотря на причастность местного населения мусульманскому культурному комплексу. Китайская власть сознательно и последовательно проводит политику китаизации своих западных провинций. Сегодня этнические китайцы составляют там абсолютное большинство населения и на протяжении обозримого будущего можно предполагать лишь
дальнейшую реализацию соответствуюших тенденций. Тем не менее, остаются очаги исламского сопротивления и борьбы за гражданские права, что при внешней поддержке и при определенных условиях способно привести к конфликтам или террористическим акциям.
Соглашение об укреплении доверия в военной сфере, подписанное 26 апреля 1996 г. в Шанхае президентами Китая, РФ, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, предусматривает вывод войск и вооружений, кроме пограничных, из 100-километровой зоны, отказ от проведения военных учений, направленных против другой стороны, ограничение масштабов обучений и взаимную информацию о них и т.п. Это призвано укрепить доверие между названными странами.
«Шанхайский форум» — объединение Китая, России и трех центральноазиатских держав по вопросам безопасности обусловлен, прежде всего, стремлением России нейтрализовать расширение присутствия в регионе Китая и Ирана, поскольку последний также имеет значительные собственные интересы и традиционное воздействие на внутриафганские процессы, стремится использовать исламский фактор в усилении влияния в Центральной Азии.
По некоторым данным, ряд стран Азии изъявили желание присоединиться к «Шанхайской пятерке». Среди них назывались Иран, Пакистан, Монголия, Индия. При таких обстоятельствах можно говорить о перспективах создания довольно влиятельного политического объединения, которое потенциально способно повлиять на существующую ситуацию безопасности, даже в макрорегионе. Но если даже предположить вариант расширения объединения за счет любых новых стран, этот вопрос неизбежно натолкнется на проблемы совместимости с интересами Китая и России. Например, заинтересованность Монголии может обусловливаться ее возможным участием как транзитной территории для трубопровода Россия—Китай—Япония, против чего настойчиво возражает Пекин.
Участниками саммита в Бишкеке в 1999 г. было принято решение относительно поиска путей многостороннего взаимодействия. Достигнута договоренность о проведении регулярных консультаций на разных уровнях по вопросам экономического сотрудничества, которое было отображено в «Бишкекской декларации». В ходе встречи А. Акаев выступил с предложением относительно возрождения международного сотрудничества, дипломатии «Шелкового пути» в интересах стойкого экономического развития. Н. Назарбаев неоднократно заявлял о необходимости вывести отношения в рамках Шанхайского форума на новый качественный уровень, в частности, наладить многостороннее экономическое взаимодействие.
Заинтересованность Казахстана в российско-китайском политическом балансе в Центральной Азии продиктована, прежде всего, возможностью использования противоречий между ними, как и их заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Астаной (особенно это касается топливно-энергетической сферы) для усиления собственных позиций в регионе. Поэтому «Шанхайский форум» имеет практические перспективы в основном благодаря участию Китая. Китай уже сегодня значительно представлен в нефтяном секторе Казахстана, а в ближайшей перспективе этого же следует ожидать и в Туркменистане.
С другой стороны, позиция Астаны подкрепляется интересами США, которые связаны с участием Казахстана в проекте Баку—Джейхан, в обход русской и иранской территории. США является на сегодня главным инвестором Казахстана. США не скрывают намерения покончить с зависимостью закавказских и центральноазиатских государств от Москвы, а также отстранить Тегеран, блокировав проекты транспортировки каспийской нефти через иранскую территорию. Поэтому для Вашингтона поддержка Астаны имеет ключевое значение.
В контексте русских инициатив в рамках Шанхайского форума показательным является развитие отношений между Китаем и Туркменистаном. Во время первого визита Цзян Цземиня в Ашхабад (сразу после участия в заседаниях «пятерки»), в двустороннем формате обсуждались проблемы, относительно которых активно выступала Россия на встрече в Душанбе. В частности, проблемы двустороннего китайско-туркменского диалога по вопросам региональной безопасности и китайской помощи в защите туркменской границы. Но взаимодействие в области топливной энергетики Туркменистана является наиболее перспективным направлением двустороннего сотрудничества. Это закреплено в Соглашении о взаимопонимании и основных принципах сотрудничества в области нефти и газа, которое было подписано во время встречи. Китай имеет намерение присоединиться к исследованию запасов углеводородов в районе Амударьи, который рассматривается как сырьевая база газопровода Туркменистан—Узбекистан—Казахстан—восточный Китай, строительство которого, как и вопрос определения договорной территории и деления продукции, обсуждались во время визита. Одновременно Китайская национальная нефтегазовая корпорация продолжает работу (вместе с американской «Эксонмобил» и японской «Мицубиси») по подготовке проекта газопровода Туркменистан—Китай.
Дальнейшее развитие отношений в рамках Шанхайского форума и, вместе с тем, перспектива изменений в отношениях России со странами СНГ зависит от позиции России в вопросах многостороннего экономического сотрудничества, от дальнейшего развития российско-китайских двусторонних отношений и практической реализации проблемы расширения существующего формата объединения. Именно эти факторы преимущественно обусловливают перспективы продвижения военно-политических интересов России в Центральноазиатском регионе.
Вопрос о борьбе с терроризмом уже выносился на рассмотрение Шанхайского форума в 2000 г. Но угроза расширения присутствия КНР в Центральной Азии является принципиальным аспектом для определения позиции России в контексте развития региональных процессов. На сегодня КНР является наиболее перспективным партнером для стран Центральной Азии, исходя из его весомого экономического потенциала и более гибкой политической позиции. Кроме того, стремление ослабить зависимость от России через экономическое и политическое вовлечение Пекина в региональные процессы обусловлено попыткой центральноазиатских стран уравновесить политическую активность Москвы в регионе. Но комплекс вопросов, которые представляют собой взаимный интерес для стран региона и России, бу
дет и в дальнейшем создавать важное воздействие на развитие межгосударственных отношений в Центральной Азии.
Заинтересованность стран Центральной Азии в российско-китайском политическом балансе на уровне региона продиктована возможностью использования противоречий между ними, как и их заинтересованности в развитии отношений с центральноазиатскими странами (особенно в топливно-энергетической сфере) для усиления собственных позиций в регионе. Таким образом, позиция центральноазиатских стран относительно сдерживания русской политической экспансии, в том числе и через создание Анти-террористического центра СНГ, подкрепляется стремлением к расширению присутствия КНР на уровне региона.
На других направлениях внешнеполитической активности Китай сталкивается с не менее сложными проблемами и ставит перед собой достаточно амбициозные цели.
Известно, что еще в 1840 г. под властью Китайской империи находились Корея, Вьетнам и Монголия, а ее влияние распространялось на всю Юго-Восточную Азию (до самого Малаккского пролива, включая Бирму и часть нынешней Бангладеш), а также на Непал, часть современных Кыргызстана и Казахстана, а также на территорию, которая теперь называется российским Дальним Востоком (южнее нижнего течения Амура). В 1885 — 1895 гг. в результате французской и английской колониальной экспансии империя была вытеснена из Юго-Восточной Азии, а по договорам 1858 и 1864 гг., навязанным Китаю Россией, потеряла территории на северо-востоке и северо-западе. В 1895 году, после войны с Японией, Китай утратил и Тайвань вместе с Кореей.
По историческим и географическим соображениям КНР наверняка будет все настойчивее добиваться воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Есть основания полагать, что по мере роста своей мощи он делает это воссоединение главной целью своей внешней политики. Не исключено, что мирное воссоединение (возможно, по формуле «одна страна — несколько систем» — по аналогии с выдвинутым Дэн Сяопином в связи с возвращением Китаю Гонконга лозунгом «одна страна — две системы») окажется привлекательным для Тайваня и не встретит сопротивления со стороны Америки. Но это будет возможно лишь при условии, если Китай и далее будет все так же успешно развиваться экономически и заметно продвинется по пути демократических реформ. В противном случае Китай, даже доминируя в регионе, будет в военном отношении недостаточно сильным, чтобы навязать Тайваню свою волю — особенно если этому станут противодействовать США. Тогда проблема будет по-прежнему питать китайский национализм и отравлять американо-китайские отношения.
По географическим соображениям Китай заинтересован в союзе с Пакистаном и военном присутствии в Бирме (Мьянме). Геостратегическая цель в обоих случаях — Индия. Тесное китайско-пакистанское военное сотрудничество усложняет проблемы безопасности Индии, мешает ей стать неоспоримым региональным гегемоном в Южной Азии и геополитическим соперником Китая. Военное сотрудничество с Бирмой обеспечивает Китаю доступ к военно-морским базам на островах у бирманского побережья в Индийском океане,
усиливая таким образом стратегическое влияние Китая в Юго-Восточной Азии вообще и Малаккском проливе в частности. Если же Китай будет контролировать Малаккский пролив с его геостратегическим узлом в Сингапуре (при ведущей роли в экономике последнего этнических китайцев), то от него будет зависеть доступ Японии к ближневосточной нефти и европейским рынкам.
Совокупностью географических и исторических факторов обусловлен и интерес Китая к Корее. До конца XIX в. эта страна была подчинена Китаю, и для него воссоединенная Корея как проводник американского (а косвенно и японского) влияния целиком неприемлема. Поэтому КНР будет настаивать как минимум на том, чтобы после воссоединения Корея стала неприсо-единившимся буферным государством между Китаем и Японией, полагая, что враждебность, которая исторически сложилась у корейцев к Японии, сама по себе втянет Корею в китайскую сферу влияния. Пока же Китай устраивает разделенная Корея, и потому он, видимо, будет поддерживать сохранение северокорейского режима.
Роль и влияние КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизменно возрастает. На фоне непрерывных торгово-экономических баталий между США и Японией деловые связи Китая со странами тихоокеанского бассейна развиваются стабильно. Его береговая линия, обращенная к Тихому океану, протягивается на 18 тыс. км. На тихоокеанском побережье расположено 14 больших городов КНР, в которых осуществляется объявленная правительством политика «открытых дверей».
Китайское руководство, начав осуществление политики «четырех модернизаций», особое внимание обратило на преимущества установления деловых связей со своими ближайшими соседями по региону — странами Юго-Восточной Азии. В Пекине традиционно считают этот регион сферой приоритетных интересов Китая. С первой половины 80-х гг. прошлого века Юго-Восточная Азия занимает одно из важнейших мест в региональной политике Китая. Это связано с тем, что государства АСЕАН представляют собой удобный рынок для сбыта китайских товаров и богатый источник финансовых, научно-технических и сырьевых ресурсов для проведения политики модернизации экономики КНР. Еще один не менее важный фактор, учтенный Пекином, — это проживание в странах Юго-Восточной Азии почти 20 млн этнических китайцев «хуацяо», причем китайская община, особенно в таких странах, как Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия занимает важные экономические позиции, контролируя в них значительную часть банковского капитала, оптовой и розничной торговли. По данным журнала «International Economy» (ноябрь — декабрь 1996) хуацяо контролируют приблизительно 90 % экономики Индонезии, 75 % Таиланда, 50 — 60 % Малайзии, всю экономику Тайваня и Сингапура. Озабоченность такой ситуацией даже побудила бывшего посла Индонезии в Японии сделать публичное предостережение о «китайской экономической интервенции в регионе». КНР в состоянии использовать в своих интересах экономическую мощь китайской диаспоры, что может даже привести со временем к образованию в Юго-Восточной Азии подконтрольных Китаю «марионеточных правительств»1.
1 Сайдиман Сурьохадипроджо. Как иметь дело с Китаем и Тайванем. — «Асахи сим-бун», 23.09.1996.
Главным экономическим партнером Китая в Юго-Восточной Азии выступает Сингапур. Сингапурские предприниматели, преимущественно китайского происхождения, вложили свои капиталы в строительство промышленных предприятий, разработку минерального сырья, строительство отелей и дорог. Специалисты из Сингапура в качестве советников привлекались к подготовке кадров, а также выполняли роль посредников между КНР и деловыми кругами Запада.
Китай активно углубляет экономические связи с Таиландом, Филиппинами и Малайзией: регулярно отправляет в эти страны своих специалистов в области производства натурального каучука, сахара, продуктов рыбного хозяйства. Китайских рабочих используют для строительства дорог, высотных домов. Кроме того, что китайские рабочие и специалисты дают сотни миллионов долларов прибыли, работа на современных предприятиях американских и японских компаний, размещенных в регионе, дает возможность Китаю знакомиться с передовой технологией и благодаря этому повышать профессиональную подготовку своих кадров.
Свои надежды на получение современной технологии, оборудования, а также значительных ссуд и кредитов Китай связывает с развитием отношений с Японией и США.
Торговля с Японией в Китае развивается наиболее интенсивно, причем импорт из КНР в Страну восходящего солнца уже в сер. 90-х гг. существенно превысил экспорт из нее и неуклонно продолжает расти. Подобного у Японии нет ни с одним из торговых партнеров. Необходимо подчеркнуть, что экспортные возможности китайской стороны из года в год расширяются при участии японского капитала.
В 80-е гг. основной экономической моделью для Восточной Азии был «клин перелетных гусей», образованный «четырьмя малыми драконами» — Гонконгом, Тайванем, Сингапуром и Южной Кореей, с Японией в роли «вожака стаи». Япония была не только поставщиком капитала и промышленного оборудования, но и важным потребителем экспортируемых товаров. Но сегодня Страна восходящего солнца больше не является единственным «вожаком стаи» в развитии Восточной Азии. Происходит переход от устаревшей модели «гусиного клина» к модели «поезда с двумя локомотивами». И существеннейшим фактором замены модели стал экономический подъем Китая. В дальнейшем, по мысли китайских исследователей, экономическое развитие Восточной и Юго-Восточной Азии следует строить по схеме поезда с двойной тягой, который двигается в горной местности. Японии отводится место локомотива в голове поезда, который его тянет, а Китаю — локомотива в хвосте поезда, который его толкает.
Один из путей реализации претензий КНР на лидерство, как считают японские специалисты, состоит в «стратегии трех треугольников», которая разработана в Центре экономических исследований при Госкомитете планирования КНР. В рамках данной стратегии предполагается сценарий развития «отношений взаимозависимости» на начальном этапе в «малом треугольнике»: КНР — Гонконг — Тайвань, потом — сотрудничество в «среднем треугольнике»: КНР - новые индустриальные государства — АСЕАН, и, в конце концов, — сотрудничество в «большом треугольнике»: КНР — Япония — США.
Японцы усматривают в такой стратегической концепции Китая намерение китайского руководства в обозримом будущем создать, не считаясь с японскими интересами, «китайскую экономическую сферу», которая должна простираться от Пекина до Джакарты. С учетом такой перспективы, по мнению специалиста корпорации «Мицуи буссан» Сю Итикава, «Японии прийдется в качестве лидера «некитайских государств» принимать участие в противодействии политической и экономической экспансии КНР в регионе». Как видим, сотрудничество и конкуренция между ведущими странами АТР теснейшим образом переплетаются, но то, что Китай в перспективе может стать региональным лидером в пределах Восточной и Юго-Восточной Азии (пространстве, где он доминировал до начала европейской колониальной экспансии) представляется весьма вероятным.
Корейский полуостров: альтернативность развития на общем цивилизационном фундаменте
В последнее десятилетие ситуация на Корейском полуострове характеризуется экономическими и политическими кризисами, которые, следует отметить, руководителям этого района удается преодолевать довольно успешно. Как на Севере, так и на Юге дал о себе знать экономический кризис. На Севере — голод, который возник из-за природных катаклизмов и экономических просчетов руководства страны. На Юге финансовый кризис 1997— 1998 гг. был, по мнению многих, в том числе корейских, экспертов спровоцирован западными странами, но официальный Сеул этот тезис не декларировал.
Интересно, что на этот раз как КНДР, так и Корейская Республика не использовали экономические проблемы в пропагандистских компаниях друг против друга. Наоборот, Южная Корея предоставила важную помощь Северу. КНДР, в свою очередь, пошла на уступки политического характера — кораблям с гуманитарной помощью было разрешено заходить в порты Северной Кореи под флагом Республики Корея. Пхеньян также официально заявил, что будет оказывать содействие поиску родственников семей, которые оказались разъединенными в результате Корейской войны начала 50-х гг. прошлого века.
Сказанное демонстрирует перспективность межкорейского диалога. Правительства обеих частей Корейского полуострова одним из своих политических приоритетов провозгласили объединение страны. Кстати, именно это и обусловило довольно спокойное правление Ким Чен Ира после смерти летом 1994 г. лидера КНДР Ким Ир Сена. Одним из ключевых предвыборных лозунгов президента Республики Корея Ким Те Чжуна также был курс на мирное объединение родины.
Современная экономика Республики Корея представляет собой феномен довольно быстрого развития в течение сравнительно короткого исторического отрезка времени. С 1962 г., когда определился поворот в хозяйственной стратегии страны, до середины 90-х гг. Республика Корея демонстрировала один из высочайших в мире среднегодовых темпов экономического роста — 7,4 %. Это, в частности, разрешило ей существенно увеличить такой
важный макроэкономический показатель, как производство валового внутреннего продукта на душу населения (ВВП) — приблизительно с 70 долл, в 1954 г. до 10 548 долл, в 1996 г. В указанный период быстро возрастал совокупный ВВП страны и годовой объем ее внешнеторгового оборота. По этим показателям в 1995 г. Республика Корея заняла соответственно одиннадцатую и тринадцатую позиции в мире.
Некоторые политики и эксперты называют изменения в стране «чудом на Хангане». Действительно, Республике Корея удалось за относительно короткий период занять достойное место среди новых индустриальных стран Азии, стать примером для подражания.
Анализируя южнокорейский феномен, многие экономисты склонны видеть причины ощутимых успехов в хозяйственном развитии Республики Корея, прежде всего, в удачном взаимодействии таких важных факторов, как хорошо подготовленные человеческие ресурсы, присущий народу дух предпринимательства, а также ведущая роль правительства в осуществлении планов экономического возрождения.
Быстрый и успешный рост промышленности был следствием довольно смелой и продуманной стратегии. Как известно, до 1945 г., т.е. до политического и экономического освобождения страны от Японии, слабость ее индустриальной базы была очевидной. Ввиду ограниченности к тому времени внутреннего рынка логичным и перспективным оказалось развитие отраслей, ориентированных на экспорт.
Индустриализация началась из развития трудоемких сфер легкой, а затем и тяжелой промышленности. На их долю вместе с химической отраслью в 80-х гг. приходилось свыше половины продукции, которая производилась в обрабатывающем секторе, а в 1996 г. — уже 76,2 %. В конце 80-х гг. наибольшие успехи были достигнуты в таких областях, как электроника, судостроение, автомобилестроение, которые были ориентированы на устойчивый спрос как в собственной стране, так и за ее пределами. Кроме того, важное место в экономике Республики Корея заняли нефтехимия, цементное, стеклянное, керамическое, обувное и пищевое производство.
Параллельно происходили серьезные изменения и в структуре занятости: втрое сократился удельный вес работающих в сельском и лесном хозяйстве и рыболовстве (приблизительно до 21 %), при росте доли занятых в сфере услуг (почти до 51 %) и в обрабатывающей промышленности (до 28 %). Активное привлечение иностранных инвестиций и технологий обеспечило заметное повышение рейтинга южнокорейской промышленности в мировой классификации. Так, в середине 90-х гг. судостроение Республики Корея крепко удерживало вторую позицию в мировом «табеле о рангах», производство полупроводников находилось на третьей позиции, электроника, нефтехимия и текстильное производство закрепились на пятом месте, автомобилестроение и металлургия — на шестом. Высокие темпы экономического развития Республики Корея в первой половине 90-х гг. были достигнуты за счет увеличения экспорта товаров электронной и электротехнической промышленности при резком увеличении капиталовложений в модернизацию и расширение производственных мощностей.
Однако уже в середине 90-х гг., несмотря надостаточно высокие статистические показатели, стали заметны признаки экономических неурядиц. Итоги 1996 г. были расценены местными и зарубежными экспертами как неудовлетворительные. Для многих стало неожиданностью сокращение темпов экономического роста до 6,9 % (наиболее низкие с 1993 г.), дефицит платежного баланса, который возрос в 2,5 раза сравнительно с 1995 г., рост инфляции и безработицы, увеличение банкротств средних и мелких предприятий, замедление капиталовложений, обострение трудовых конфликтов.
Опасные тенденции в экономике были вызваны глубинными причинами как циклического, так и структурного характера. Обострение ситуации усиливала неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках, которая сопровождалась ростом цен на энергоносители, падением ценовой конкурентоспособности южнокорейских экспортных товаров, ростом крайне отрицательных для страны ценовых тенденций на экспортных рынках металлургической и химической промышленности и особенно полупроводников. Заметное снижение конкурентоспособности вывозимых товаров произошло благодаря опережающему росту стоимости рабочей силы при начавшемся технологическом отставании и усиливающейся зависимости Республики Корея от промышленно развитых стран.
Несмотря на достигнутые в середине 90-х гг. впечатляющие экономические показатели, отставание от передовых стран в электронике оценивалось в шесть лет, в производстве полупроводников, автомобилей, металлопродукции, текстиля и нефтехимии — в пять, в судостроении — в три года. Экономическая система Республики Корея, которая никогда не имела в своей основе достаточно надежного научно-технического базиса и существовала во многом за счет использования и копирования достижений других стран, оказалась относительно малоконкурентной в мировом измерении.
В 1997 г. кризисные явления, накапливавшиеся на протяжении нескольких лет, достигли критического уровня. Обострению экономической ситуации способствовал валютно-финансовый кризис, который осенью 1997 г. охватил, как о том уже шла речь выше, ряд азиатских стран (Таиланд, Малайзию, Индонезию, Японию). Катастрофы на финансовых рынках Юго-Восточной Азии повлекли за собой резкое падение обменного курса южнокорейской воны (почти вдвое) и массовый обвал котировок акций местных компаний.
Такое развитие событий было обусловлено рискованной кредитной политикой южнокорейских банков и финансовых учреждений, а также просчетами в инвестиционной деятельности крупных финансово-промышленных групп (ФПГ) Республики Корея. Неоправданно льготные кредиты, которые получали руководители ряда ведущих ФПГ в значительной мере благодаря коррупционным связям в правительственных и финансовых кругах, зачастую использовались без учета экономической ситуации в стране. Это вело к структурным отклонениям, кризису перепроизводства в ряде важнейших областей (автомобильной, металлургической, химической), недозагру-женности мощностей и снижению рентабельности производства.
В результате неконтролируемого выделения несвязанных краткосрочных займов просроченные взаимные соглашения южнокорейских компаний
в 20 раз превысили сумму их ликвидности и составили около 110 млрд долл. Кризис с ликвидностью вызвал банкротство около 70-ти больших и средних компаний, включая такие корпорации, как «Халла» (12-е место среди ФПГ Республики Корея), «Киа», «Ханбо», «Санъен» (один из ведущих производителей грузового автотранспорта), а также финансовой компании «Корь се-къюртз». В целом же в Республике Корея в 1997 г. обанкротилось около 17 тысяч предприятий.
Финансовый кризис перекрыл пути привлечения новых инвалютных средств, вызвал массовое бегство иностранного капитала, рост стоимости кредита (свыше 30 %), сокращение валютных резервов страны до 5 млрд долл, (с 30 млрд долл, к концу 1996 г.), и, как следствие, катастрофическое (почти вдвое, как уже было сказано) падение обменного курса воны в отношении к доллару США в ноябре — декабре 1997 г.
Стараясь остановить падение курса воны и стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, южнокорейское правительство провозгласило экстренные меры, направленные на преодоление экономического кризиса. Принятые меры, однако, не дали быстрых результатов, и 21 ноября 1997 г. Республика Корея обратилась к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о срочном предоставлении ей стабилизационных займов. 3 декабря 1997 г. правительство страны и МВФ подписали протокол о намерениях и техническое приложение к нему, определив условия наибольшей в истории программы международной помощи Южной Корее (около 57 млрд долл.). В обмен на финансовую помощь Республика Корея согласилась на ускоренную финансовую реформу и проведение жесткой фискальной политики, а также на максимальное открытие финансового рынка для иностранных инвесторов. Несмотря на получение первого транша от МВФ (5,2 млрд долл.) в декабре 1997 г. экономическая ситуация в Республике Корея продолжала ухудшаться.
Договоренности с МВФ были довольно отрицательно восприняты в южнокорейском обществе. Многие политики и экономисты считали и считают, что получение займов не может заметно улучшить ситуацию в стране и способно разве что «законсервировать» существующие проблемы, решение которых требует радикальных структурных реформ. Среди южнокорейцев возобладало мнение, что требования МВФ и иностранных кредиторов слишком унизительны для страны, а с экономической точки зрения — чрезмерно жестки и направлены на снижение степени защищенности внутреннего рынка. Были слышны также заявления о том, что США, Япония и другие развитые страны решили воспользоваться экономическими трудностями Республики Корея и с помощью МВФ «расправиться» с конкурентом.
В связи с этим необходимость мобилизации общества на борьбу с кризисом среди южнокорейцев стала популярной идеей. Многие пришли к убеждению, что кризисное «потрясение» на пользу стране, которая позволила себе «расслабиться» в условиях усиливающейся международной конкуренции. Правительство под патриотическими и националистическими лозунгами «экономии, бережливости и самопожертвования ради процветания корейской нации» призвало население обратиться к опыту развития в 70-х гг.
В стране широко развернулось общественное движение за сокращение потребления и чрезмерных затрат, экономию электроэнергии и воды, ограничение заграничных поездок, отказ от приобретения импортных товаров (в первую очередь, иностранных автомобилей, папирос, спиртных напитков). По инициативе граждан проводилась компания по добровольному сбору валютных средств, золота и ювелирных украшений в фонд «помощи экономике». Победивший на президентских выборах в декабре 1997 г. лидер оппозиции Ким Те Чжуна, выступая во время своей инаугурации 25 февраля 1998 г., призвал нацию к пересмотру политики и проведению реформ в экономике. Формулируя основные цели новой хозяйственной стратегии, президент сделал основное ударение на недопустимости резкого снижения уровня жизни населения и создание более либеральной экономической системы, ориентированной, в первую очередь, на удовлетворение интересов среднего и малого бизнеса.
Были приняты меры по продвижению отечественной продукции на мировые рынки, привлечению иностранных инвестиций, созданию за счет правительства инфраструктуры в так называемых «зонах свободных иностранных инвестиций», корпоративной реструктуризации, контролю над монополиями. Эти меры способствовали достаточно быстрой, в течение двух — трех лет, стабилизации экономической ситуации в стране. К началу XXI в. Южная Корея отстояла позиции одной из наиболее динамично развивающихся в экономическом отношении стран в мире. Согласно прогнозам, по объему внешнеторгового оборота до 2010 г. у нее есть перспективы войти в семерку ведущих государств планеты, а до 2020 г. — подняться на шестую ступеньку, пропустив вперед лишь Китай, США, Японию, Германию и Францию.
На этом фоне ситуация в КНДР выглядит весьма удручающе. В этой закрытой для внешнего мира стране царят нищета и голод, на фоне которых весьма саркастически воспринимаются пышные официальные празднования и прочие мероприятия, призванные поддерживать культ вождя. Тем более реальное положение в, по сути дела, обанкротившейся экономике страны контрастирует с ядерными амбициями ее правительства, не без оснований вызывающими опасения у ее ближайших соседей — Южной Кореи и Японии.
Как видим, при наличии общего цивилизационного, в основе своей конфуцианско-буддийского, и даже этнокультурного фундамента, многовековой общей истории (под властью Китая, а между 1895 и 1945 гг. - Японии), разделение страны после Второй мировой войны на два оказавшихся в качественно разных силовых полях государства привело к образованию на полуострове и двух принципиально отличных социально-экономических систем с их политическими, идеологическими и культурными коррелятами.
Более *гого, сегодня уместно ставить вопрос о появлении цивилизационной бреши между Южной и Северной Кореями. Первая, в составе новых индустриальных государств Восточной Азии первой волны, явственно дрейфует в сторону японской цивилизационной модели. Похоже, что вместе с Японией и Тайванем, в известном смысле Сингапуром и политически воссоединившимся с Китаем Гонконгом, они образуют особую, молодую Японско-
Дальневосточную цивилизацию в составе Китайско-Дальневосточного цивилизационного мира. В то же время КНДР представляет собой реликтовый обломок маоистско-коммунистической стадии трансформации Китайско-Восточноазиатской цивилизации, ставшей в свое время основой названного цивилизационного мира.
Соединенные Штаты в системе отношений с Японией и прочими их союзниками в АТР
После окончания Корейской войны и утверждения Корейской Республики в качестве отдельного государства в бассейне Тихого океана, под эгидой Соединенных Штатов вскоре сложился геополитический треугольник: США — Япония — Южная Корея. На первых порах он имел сугубо военнополитический характер. Однако постепенно в его рамках стали развиваться и усиливаться экономические связи.
В настоящее время, как тихоокеанское государство, Соединенные Штаты имеют в регионе Дальнего Востока устойчивые, разнообразные и всевозрастающие интересы. Но само вовлечение США в круг экономических и международных отношений в азиатско-тихоокеанском регионе имеет давние традиции и обусловлено комплексом объективных факторов. США исторически, географически и политически принадлежат к тихоокеанскому региону, который уже с перв. пол. XIX в. рассматривался Вашингтоном как сфера «жизненно важных американских интересов».
Следует отметить, что в XIX — нач. XX в. экономическое присутствие США в масштабах Азии и бассейна Тихого океана росло довольно медленно. Доля Восточной Азии и Океании в 1914 г. составляла 137 млн долл, капиталовложений, иначе говоря — немного больше 5 % всех капиталовложений США за границей. Динамизма американская экономическая деятельность в бассейне Тихого океана достигла после окончания Второй мировой войны.
В 60-е гг. эпицентром экономических отношений США со странами региона становится Япония. Рост значимости Японии как торгово-экономического партнера США стал очевидным с созданием в 1961 г. японско-американского межправительственного комитета по вопросам торговли и экономики. Характерно, что с нач. XX в. до сер. 60-х гг. США постоянно имели активное сальдо в торговле с Японией. Эта тенденция изменилась с сер. 60-х гт., и с того времени США имеют пассивный баланс в торговле с Японией.
Президент Л. Джонсон в своем выступлении в июле 1966 г. объявил о новом подходе к Азии. Его доктрина, вошедшая в политический обиход как «доктрина Джонсона», декларировала готовность США исполнять свой долг как азиатского и тихоокеанского государства. Вашингтон старался доказать, что единоличная ответственность США за порядок в АТР имеет исторические корни и полностью отвечает американской мечте о создании в бассейне Тихого океана «мировой цивилизации», которая бы «ознаменовала приход большой тихоокеанской эры».
В июне 1969 г. президент Р. Никсон в своем выступлении на острове Гуам изложил основы новой стратегии США в Азии, которая вошла в историю международных отношений как «доктрина Никсона — Киссинджера», или
«гуамская доктрина». Новый президент пообешал найти такие пути и формы американской политики в Восточной Азии, которые бы позволили Соединенным Штатам достичь своих целей с по возможности меньшими для себя морально-политическими и материальными потерями.
Модифицированный подход США к АТР был сформулирован в очередной «тихоокеанской доктрине», провозглашенной президентом Дж. Фордом в декабре 1975 г. в Гонолулу (Гавайские острова). Разработанная в сер. 70-х гг. в условиях относительной стабилизации международной ситуации «гавайская декларация» была направлена на то, чтобы избавиться от «вьетнамского синдрома» и восстановить свои позиции в Юго-Восточной Азии. Доктрина предусматривала дальнейшее укрепление американско-японских отношений как основ и стратегии США в регионе. Рост роли Китая в глобальной стратегии США также получил доктринальное оформление. Положение о том, что американская мощь является основополагающей для любого стабильного баланса сил в районе Тихого океана, в «гавайской декларации» было вынесено на первое место.
В сер. 70-х гг. США и Япония становятся мощнейшими в мире торговыми партнерами. Их доля в торговле индустриальных стран мира составила 26 %, а объем товарооборота в 1975 г. достиг 20,8 млрд долл. В 1969 г. Япония обогнала США по объему торговли со странами тихоокеанского региона.
В начале 80-х гг. США значительно активизировали свою экономическую политику в регионе. Экономические связи с Китаем, Тайванем, Гонконгом, Южной Кореей и странами АСЕАН становятся более прочными и значащими для американской экономики. В 1982 г. объем торговли США с 14 основными странами региона составлял 126,5 млрд долл., или 27,7 % от общего внешнеторгового оборота США. Закупка странами Восточной и Юго-Восточной Азии американских товаров и услуг обеспечила рабочими местами около 1,5 млн американцев. Никогда ранее экономика США не была так тесно связана с экономиками стран Тихоокеанского бассейна.
США сосредоточили свои усилия на развитии торгово-экономических отношений со странами АСЕАН, назвав их «центральным элементом» американской политики в Юго-Восточной Азии. На протяжении 1977—1981 гг. товарооборот США со странами «пятерки» (Бруней вступил в АСЕАН в 1984 г.) удвоился. В середине 80-х гг. страны АСЕАН вышли на пятое место во внешнеторговом обороте США. Так же быстро возрастали американские капиталовложения в странах АСЕАН.
В результате многочисленных слушаний в комитетах конгресса, проходивших в начале 80-х гг., Вашингтоном была разработана очередная концепция тихоокеанской стратегии США, которая получила название «доктрина Рейгана». В сущности, она стала теоретическим обоснованием новых тенденций во внешней политике администрации Р. Рейгана первого периода его правления. В отличие от своих предшественниц «доктрина Рейгана» довольно проста. Ее главная идея сводится к укреплению американского военнополитического лидерства в регионе.
Политическое и экономическое разнообразие АТР в значительной мере обусловило цели и структуру тихоокеанской политики США. Под влиянием разнообразных факторов она видоизменялась, однако основные ее направ
ления на протяжении последних десятилетий практически оставались без перемен. Это объясняется тем, что в АТР, несмотря на разнообразие государств, его составляющих, и неопределенность его границ, имеются страны, влияние которых на интеграционные процессы и проблемы безопасности являются определяющими. К ним прежде всего принадлежат сами Соединенные Штаты, Япония, КНР, страны АСЕАН, а если включать в АТР Россию в лице ее дальневосточной составляющей, то и РФ. На формирование международно-политической ситуации в регионе заметно влияют расположенные в южной части Тихого океана Австралия и Новая Зеландия. Существенным фактором политической нестабильности в Восточной Азии является корейская проблема.
С учетом политикоформирующих факторов и международно-политических проблем региона Вашингтон в середине 80-х гг. определил основные цели и направления тихоокеанской политики. В серии своих выступлений руководители администрации США сформулировали их как «шесть критериев»:
• укрепление американских военно-политических и экономических позиций в регионе;
• укрепление и развитие американо-японских отношений как краеугольных для политики США в регионе;
• развитие устойчивых связей с КНР;
• политическая и экономическая поддержка стран АСЕАН;
• обеспечение стабильности на Корейском полуострове;
• развитие политики партнерства с Австралией и Новой Зеландией.
Администрация Дж. Буша-старшего внесла существенные коррективы в тихоокеанскую стратегию США. На первое место выдвинулись цели, связанные с укреплением американских позиций в экономическом и технологическом развитии региона. В политикоформирующих кругах США все более прочные позиции начали завоевывать идеи о неотделимости тихоокеанской безопасности от общерегионального сотрудничества. По мнению бывшего государственного секретаря США Дж. Бейкера, главным фактором политической стабильности в АТР является развитие и интеграция рыночных экономик в его рамках.
Новая ситуация, сложившаяся после окончания Холодной войны, разрушила все здание отношений в Тихоокеанском регионе, которое возводилось США на протяжении многих десятилетий. Ряд союзов потерял свое значение, а характер угроз радикально изменился. Как считает директор Национального бюро азиатских исследований Э. Олсен, непосредственный вызов Америке со стороны Азии сейчас носит характер политико-экономический, но в долгосрочной перспективе поставлена под угрозу и безопасность страны.
Перемещение центра экономического могущества в Тихоокеанский бассейн ставит перед американскими аналитиками задачи пересмотра прежней, атлантически ориентированной, системы американских региональных приоритетов. По мере того как мы перестраиваем структуру наших экономических связей, мы обязаны пересмотреть систему геополитических взаимоотношений всюду в мире. Послевоенная структура союзов в Европе дает
трешины, возрастает тихоокеанская экономическая сила, — писал футуролог Э. Тофлер еще в 1983 г., — отношения Америки с Азией сейчас в большей мере являются символом американского будущего, чем связи со Старым Светом.
Важность азиатского направления для США возрастает также ввиду стратегических соображений. Страны этого региона будут активно вооружаться, а часть из них попробует приобрести ядерное оружие, что уже сейчас делает Северная Корея.
По мнению «проазиатского» крыла американских политологов, жизненно важное значение для США имеют следующие пять стран — Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд и КНР. Первые две — по причине их исключительного экономического веса, Филиппины и Таиланд — из геополитических соображений, учитывая их ключевое географическое расположение на перекрестке основных морских путей, на подходах к Индийскому океану.
В связи с изменившейся по окончанию Холодной войны ситуацией, как считают американские специалисты, требуются ответы по меньшей мере на пять основных вопросов:
1) Статус — США или Япония будут лидером в первые десятилетия XXI в.?
2) Идеология — чья модель капитализма более продуктивна?
3) Глобальное влияние — каковым будет распределение обязанностей?
4) Региональное влияние — создаст ли Япония свое экономике-политическое объединение в качестве альтернативы ЕС и НАФТА?
5) Проблема влияния на бывшие советские республики и Китай.
В дебатах просматриваются три варианта азиатской политики.
Первый заключается в том, что США должны сформулировать новую концепцию, в основе которой была бы идея создания общих с азиатскими странами полицейских сил, которые будут патрулировать огромные морские коммуникации. Приверженцы этой линии опасаются Японии. Они считают целесообразным использовать страх соседних стран перед Японией и полагают, что если заранее не втянуть ее в долгосрочное многостороннее сотрудничество (например, в области общего контроля над морями), то в будущем Страну восходящего солнца не удержать. Она неизбежно перевооружится и потом постарается ограничить американское участие в делах региона.
Второй подход основывается на посылке, что с окончанием Холодной войны Соединенным Штатам в Азии уже некого бояться, поэтому американские войска могут возвратить домой. Приверженцы этого подхода считают ситуацию на Корейском полуострове стабильной, не представляющей непосредственной опасности, полагая, что Россия, Япония и Китай будут взаимно блокировать друг друга. Один из представителей этого подхода Э. Раве-нол (Джорджтаунский университет) исходит из того, что Китай будет ориентирован на внутренние проблемы, Россия еще долго не будет в состоянии угрожать соседям, Индия, Индокитай и АСЕАН встретят в своем развитии большие трудности, которые поглотят их ресурсы, а США будут играть роль своего рода третейского судьи, «балансира», готового быстро мобилизовать силы в случае необходимости, но не беспокоящего регион понапрасну.
Третий подход базируется на идее, что из Азии исходит не военная, а экономическая угроза. США не должны ломать голову над военными схемами. Им следует приложить усилия значительно выше ординарных, чтобы быть способными конкурировать и поднять собственный технический потенциал для того, чтобы в XXI в. не превратиться, в экономическом отношении, в японскую колонию. Для этого необходимо обеспечить адекватную технологическую независимость, устойчивую индустриальную эффективность, обрести должное финансовое могущество. При этом американские сухопутные войска должны быть возвращены домой. Оставить нужно лишь военно-морские силы и авиацию. Приверженцы этого подхода соглашаются, что полный уход из Азии чрезвычайно опасен. Оставленный контингент должен «наблюдать» за эволюцией Японии и Китая.
Вооруженные силы передового базирования США в Азии ныне насчитывают около 100 тыс. чел. Они размещены в основном в Южной Корее и Японии. Проведенное в последние годы некоторое сокращение военного персонала компенсируется повышением технических возможностей новых вооружений и оборудования. Большинство правительств стран АТР расценивают США в качестве серьезного стабилизирующего фактора и учитывают его в своих оборонительных программах. Основные цели американской политики в АТР вытекают из принципов стратегии национальной безопасности США, опубликованных в июле 1994 г., и предусматривают укрепление безопасности путем:
• поддержания мощной обороноспособности и усовершенствования мероприятий по укреплению коллективной безопасности;
• открытия зарубежных рынков и стимулирования мирового экономического развития;
• распространения демократии за рубежом.
Для региональной стабильности в АТР предполагается применение метода взаимовыгодного партнерства в области безопасности, укрепление двусторонних альянсов и одновременного повышения уровня обязательств США путем участия в многосторонних соглашениях, подобных Региональному форуму АСЕАН.
В этом широком стратегическом контексте специфическими целями США в АТР названы такие:
• переориентация оборонительных усилий союзнических и дружеских государств США на преодоление новых вызовов эры после Холодной войны;
• укрепление двустороннего партнерства с Японией, как основного механизма, который оказывает содействие региональной и глобальной безопасности;
• поддержание прочных оборонительных обязательств относительно Южной Кореи с целью сдерживания возможной агрессии со стороны КНДР и сохранение мира на полуострове;
• тесное сотрудничество с союзнической Австралией для достижения общих целей безопасности;
• привлечение Китая и поддерживание его конструктивного вхождения в АТР, включая его участие в глобальных усилиях, направленных на ограничение распространения оружия массового уничтожения;
• применение рыночного соглашения относительно ядерной программы Северной Кореи при одновременной постоянной готовности ответить в том случае, если Северная Корея не выполнит своих обязательств или будет угрожать американским союзникам;
• сотрудничество с Россией для разработки взаимовыгодных подходов с целью укрепления региональной стабильности;
• содействие поддержанию мира в Тайванском проливе;
• сотрудничество с АСЕАН и другими объединениями с целью применения новых подходов «коллективной безопасности» через Региональный форум АСЕАН;
• вступление в диалог относительно субрегиональной безопасности в Северо-Восточной Азии;
• поддержка усилий стран региона, направленных на укрепление демократии;
• продолжение установления по возможности как можно более полного перечня тех, кто пропал без вести в боях во время американских войн в регионе;
• предотвращение распространения оружия массового уничтожения;
• сотрудничество, направленное на пресечение потока наркотиков.
Современная сеть разнообразных двусторонних отношений США основывается на альянсах взаимной безопасности. При этом, с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в АТР и глобальных стратегических целей США, важнейшими считаются отношения с Японией. Связи с Южной Кореей признаются центральными для стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии вообще.
Традиционно доверительные партнерские отношения с Австралией высоко ценятся Вашингтоном, в том числе в связи с возможностью доступа к австралийским портам, аэродромам и тренировочным полигонам, проведению военных маневров, осуществление программ в рамках разведывательного и научно-исследовательского сотрудничества. Благодаря тесному взаимодействию в ООН и других международных организациях, а также в Региональном форуме АСЕАН, АПЕК, ГАТТ США рассматривают Австралию как «бесценного стратегического партнера».
Но наиболее важным для США в Тихоокеанском бассейне было и остается экономическое и военно-политическое партнерство с Японией. США и Япония — как два из трех составляющих мир-системного ядра — суть «центры силы» современного мира, противоречие и взаимодействие которых абсолютно неминуемо. Как известно, эпицентром американо-японских противоречий является возрастающий дефицит США в торговле с Японией.
Однако все конфликты в области торгово-экономических отношений решаются и не оказывают никакого отрицательного влияния на военно- политический союз двух государств. Соединенные Штаты постоянно используют многоплановую зависимость своего партнера с целью проведения скоординированной региональной и глобальной политики. Согласно установкам «доктрины Рейгана» американо-японские отношения — не только краеугольный камень политики США в Азии, но и один из наиболее жизненно важных вопросов в глобальной военно-политической структуре Запада.
В 1981 г. завершилось оформление американо-японских отношений как союзнических. Термин «союз» впервые был упомянут в коммюнике о визите в США премьер-министра Японии Д. Судзуки в мае 1981 г. Для американояпонских отношений начала 80-х гг. было показательным усиление сотрудничества в военной области в рамках глобальной стратегии.
Рост экономического потенциала и политического влияния Японии в мире внушает определенные опасения в руководящих кругах США. Вашингтон неоднократно высказывал свою обеспокоенность по поводу возможности появления у Японии на определенном этапе ее экономического и политического развития военно-стратегических устремлений, которые могут войти в противоречие с аналогичными интересами США. Поэтому, противодействуя такой возможности, Вашингтон стремится локализовать стратегические амбиции Токио рамками АТР. «Наши отношения с Японией по линии обеспечения безопасности являются основой оборонительной политики США в Восточной Азии и бассейне Тихого океана», — отмечалось в докладе министра обороны США конгрессу.
В начале 90-х гг. гонка вооружений приобрела в странах АТР значительные масштабы. Здесь сказывается отсутствие механизма международного контроля за процессом милитаризации. Поэтому возникают дополнительные причины региональной нестабильности, а это, в свою очередь, приводит к милитаризации экономики и политики стран тихоокеанского бассейна. Несмотря на повышение роли Японии в мировой политике и дальнейшее укрепление американо-японского военно-политического сотрудничества, США продолжают расценивать Японию как неравноправного партнера. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Конгресс США регулярно принимает резолюции, в которых содержатся рекомендации по вопросам бюджета внешней и военной политики Японии. Четко просматривается зависимость и неравноправное положение Японии, зафиксированные в Договоре о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, подписанном в январе 1960 г. Согласно договору (ст. V и VI), безопасность Японии, а соответственно, и Дальнего Востока обеспечивается Соединенными Штатами.
Такая асимметрия функций сторон накладывает на Японию определенные ограничения, препятствуя созданию такого военного потенциала, который позволил бы снизить уровень американских обязательств в регионе. Правящие круги Японии сильно удручает также существующий разрыв между экономическим потенциалом страны и ее оборонительными обязательствами, которые вытекают из Договора. Положение младшего партнера в рамках настоящего Договора, которое принуждает Страну восходящего солнца двигаться в фарватере американской стратегии, формирует комплекс неполноценности у руководства Японии и вызывает чувство ущербности в рядах японских националистов. По мнению правящих кругов Японии, превращению страны в мощное в военно-политическом отношении государство должно предшествовать освобождение от протектората США.
Именно с этих позиций следует рассматривать эволюцию военной политики, которая осуществляется Японией в последние два десятилетия. В 1987 г., когда закончилась реализация шестой программы строительства
«сил самообороны», рассчитанной на 5 лет, военные затраты впервые превысили 1 % ВНП. На осуществление этой программы вообще было израсходовано около 70 млрд долл. Следующая программа развития японских «сил самообороны» (1988—1992 гг.) предусматривала совокупные затраты в 123,7 млрд долл., т.е. 1,2 % ВНП. Таким образом, по размерам военного бюджета Япония в конце 80-х гг., опередив Францию, заняла третье место в мире, а с середины 90-х гг. вышла на второе место.
Приведенные данные о японском военном бюджете, однако, не являются однозначным свидетельством преобразования Японии в самостоятельное военное государство. По подсчетам американских специалистов, для того, чтобы полностью взять на себя функции осуществления безопасности в регионе, охваченном системой американо-японских военных соглашений, Японии пришлось бы увеличить свой военный бюджет до 70 млрд долл, ежегодно. Приобретение статуса ядерного государства требовало бы значительной структурной перестройки производственного потенциала Японии, а это представляло бы не менее чем 250 — 300 млрд долл, затрат.
С учетом нынешних тенденций мировой политики тотальная милитаризация Японии и преобразование ее в самостоятельную военную единицу стратегического назначения маловероятны. Еще одно обстоятельство следует иметь в виду при очерчивании характера и целей оборонной промышленности Японии. Это популярный в японских политических и деловых кругах вариант немилитаристского развития страны. Сторонники этого варианта, получившего название «величие без милитаризации», утверждают, что дальнейший рост военных затрат и расширение военных функций Японии приведут к потере японской экономикой конкурентоспособности и уменьшению влияния Японии в мире.
В 1990 г. Управление национальной обороны Японии (УНО) полностью взяло на себя финансирование затрат на оплату японского персонала американских военных баз и объектов. Модернизация «сил самообороны» Японии, которые в начале 90-х гг. насчитывали 60 боевых кораблей, приспособленных для дальнего плавания, и более чем 400 современных самолетов, в том числе 200 моделей Р-15, вызывает неоднозначную реакцию в США.
Вашингтон прежде всего беспокоит возможность перехода Японии к новой военной доктрине, которая предусматривает не только увеличение радиуса действий японских ВВС и ВМС, а и осуществление ими наступательных задач. Но в то же время в Вашингтоне не менее, чем в Токио, встревожены ростом антияпонских настроений в странах Юго-Восточной Азии в связи с установкой Японии на оборону на передовых рубежах.
Эволюция американо-японского партнерства на протяжении последних десятилетий проходила под действием нескольких противоречивых факторов, главными из которых являются довольно живучие в Японии идеи пана-зиатизма и не менее ярко выраженные в азиатской политике США экспансионистские устремления.
В начале 90-х гг. в американо-японских отношениях наметились два альтернативных направления их развития. Первый из них состоял в более скрупулезном выполнении своих обязанностей в рамках двустороннего союза. Это, прежде всего, научно-технические и финансово-экономические
усилия Японии, которые вытекают из общей внешнеполитической стратегии. Вашингтону в этом случае придется учитывать стремление Токио проводить в АТР политику, которая отвечает его представлениям о национальных интересах. Вместе с тем Вашингтон будет стремиться и в дальнейшем сохранять за собой ключевые позиции в регионе.
Второй вариант развития американо-японских отношений связан со стремлением консервативных сил Японии пересмотреть двусторонние обязательства таким образом, чтобы Япония могла стать самостоятельным военным государством в АТР. Такая перспектива, нарушающая симметрию обязательств на основе «договора о безопасности», противоречит долгосрочным внешнеполитическим интересам США. Вашингтон, как и раньше, исходит из приоритетности американских национальных интересов в Восточной Азии и бассейне Тихого океана.
Новым в подходе США к АТР является более внимательный, чем ранее, учет всевозрастающей роли Японии, Китая и других азиатских стран, развивающихся быстрыми темпами, в решении экономических и отчасти военно-политических проблем региона.
В «Обшей японско-американской декларации о союзе безопасности на XXI столетие», подписанной премьер-министром Хашимото и президентом Клинтоном в апреле 1996 г., подчеркивается, что отношения между США и Японией остаются краеугольным камнем в деле достижения общих целей в сфере безопасности, обеспечения стабильности и процветания в АТР.
Новая биполярная схема: США — Китай
В США уже многие годы идет дискуссия о том, какую политику следует проводить по отношению к КНР. В 90-е гг. тема приобрела особую остроту ввиду нескольких обстоятельств.
Во-первых, после кровавого подавления студенческих выступлений на площади Тяньаньмынь в Пекине США, защищая права человека как высшую ценность, провозгласили экономические санкции против Китая. Однако эти меры, воспринятые в Пекине как «укус комара», обернулись большими экономическими потерями для самих США.
Во-вторых, специалисты стали все сильнее сомневаться в достоверности статистики, которую придает гласности Китай. По расчетам независимых экспертов, китайская экономика может в скором времени по своим абсолютным размерам приблизиться к американской — при условии сохранения нынешних высоких темпов роста.
В-третьих, демонстрацию военной мощи Китая в Тайваньском проливе в 1996 г. Вашингтон расценил как готовность Пекина прибегнуть к военным средствам ради воссоединения с Тайванем.
Под влиянием этих и других событий 90-х гг. американские политологи пришли к заключению о том, что:
• нынешняя китайская политика Вашингтона неэффективна;
• у США отсутствуют инструменты влияния на Пекин;
• роль Китая в регионе растет;
• необходимо пересмотреть саму концепцию двусторонних отношений.
На страницах американской печати преобладают три концепции, у которых есть влиятельные сторонники и противники как в Конгрессе, так и в Государственном департаменте США. Концепция «втягивания» (сотрудничества) построена на мысли о том, что, подталкивая Китай к работе в разнообразных международных организациях и комиссиях, США постепенно подведут КНР к необходимости проводить политику, которая отвечает общепринятым нормам мирового сообщества. Концепция «слабости» рекомендует США признать, что при всей быстроте своего развития Китай по среднедушевым показателям остается все же пока слаборазвитой страной. Но поскольку эта его слабость сочетается с большими амбициями, Пекин способен или нанести урон американским интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или принудить США увеличить затраты на поддержание сложившегося баланса сил. Концепция «соперничества» требует от Вашингтона осознать, что из стратегического партнера, которым он был в 80-е годы, Китай превратился в неприятеля.
Авторы имевшей широкий резонанс монографии «Грядущий конфликт с Китаем»1 отстаивают третью точку зрения. Они доказывают, что в XXI в. КНР будет ощущать себя сверхдержавой, обладающей самым многочисленным населением, самой большой экономикой и по праву претендующей, как минимум, на роль лидера в АТР. В ответ на обострение внутренних социально-политических проблем (имущественная дифференциация, безработица, рост числа обездоленных, бездомных и т. д.) китайское руководство сознательно делает авансы худшим проявлениям национализма. Если в годы «культурной революции» неприятелем № 1 для Китая был СССР, то сейчас — США. Антиамериканизм призван стать лозунгом объединения страны. Долгие годы американцы не могли даже предположить, чтобы в АТР доминировала какая-либо другая страна. Однако теперь на роль лидера в регионе начинает претендовать Китай, а значит, конфликты между обеими странами неминуемы.
Правда, у них есть и общие интересы, особенно экономические. Однако в случае ухудшения экономического положения в Китае они могут отойти на второй план. Кроме того, Пекин уже сформулировал цели, противоречащие американским интересам. Важнейшие из них таковы:
• занять место США в качестве главной сверхдержавы в Азии;
• помешать США и Японии создать единый фронт для «сдерживания» КНР;
• распространить свое влияние на основные морские коммуникации в регионе.
Чтобы китайская политика США лучше отвечала их национальным интересам, она, по мнению Р. Бернстайна и Р. Мунро, должна:
• поддерживать мир в Азии, сохраняя сложившийся баланс сил;
• делать авансы Пекину в деле разрешения конфликтов и противоречий мирным путем, а также развивать свободную торговлю;
• подталкивать Китай к демократии.
1 Bernstein R., Munro R. The Coming Conflict with China. — N.-Y., 1997.
Авторы считают также, что в экономической сфере США следует ужесточить свою позицию и заставить КНР учитывать американские интересы: если Пекин не откроет свой рынок для американских товаров, запретить приток китайской продукции в Соединенные Штаты. Если США твердо не настоят на своем, то их политика войдет в противоречие с американскими интересами, содействуя не только росту материального благосостояния возможного неприятеля, но и обновлению им своих систем вооружений.
Книга призывает внимательно контролировать процесс военного строительства в Китае, сохранять имеющийся разрыв в военных технологиях и препятствовать наращиванию китайского ядерного потенциала. В противном случае авторы предрекают возвращение к худшим временам Холодной войны. По их мысли, для сохранности баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе следует поддерживать на высоком уровне оборонительный потенциал Тайваня, чтобы остров нельзя было захватить военной силой. Р. Бернстайн и Р. Мунро считают также, что для того, чтобы воспрепятствовать росту могущества КНР, США должны пересмотреть прежние взгляды на роль Токио в регионе. Для поддержания баланса сил в АТР Вашингтону нужен стратегический партнер — сильная, хорошо вооруженная Япония.
Характер китайско-американских отношений определяется, с одной стороны, стремлением Китая избежать прямой конфронтации со США в целях обеспечения своих внешнеполитических и экономических интересов и, с другой стороны, ощутимым желанием Вашингтона сохранить Китай как самый перспективный рынок для разнообразной продукции американского происхождения. Таким образом, эволюция двусторонних отношений выглядит как упорный поиск общих интересов и соответствующих точек соприкосновения на фоне перманентных осложнений политической и идеологической окраски.
Обе страны неоднократно демонстрировали свою заинтересованность в нормализации двусторонних отношений. Важным шагом в этом направлении стала встреча Главы КНР Цзян Цземиня с президентом Б. Клинтоном в Богоре (Индонезия) в ноябре 1994 г. На ней китайский руководитель изложил т.н. пять принципов, направленных на «установление новых конструктивных отношений между двумя странами на основании трех общих китайско-американских коммюнике». Позиция китайской стороны включает такие тезисы:
1. Китай и США должны развивать свои взаимоотношения, исходя из интересов общих перспектив и учета мировой ситуации в XXI столетии;
2. Обе стороны должны учитывать собственные специфические национальные условия, уважать выбор друг друга и решать проблемы двусторонних отношений «в духе дружбы»;
3. Обе стороны распространяют взаимное сотрудничество на все экономические сферы с целью выявления в полной мере того положительного, что есть в экономике двух стран;
4. Обе стороны активизируют взаимные консультации и сотрудничество в международных делах;
5. Обе стороны наращивают обмены, в том числе контакты на наивысшем уровне.
Китайская сторона акцентировала внимание на том, что Китай не имеет намерений бросить вызов американской экономике. Наоборот, КНР является удобным партнером США в экономическом сотрудничестве. В свою очередь, Б. Клинтон высказал удовлетворение достигнутыми в двусторонних отношениях результатами, а также заявил, что есть хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества.
Тем не менее в конце мая 1995 г. Пекин прибег к жестким мерам в ответ на разрешение, предоставленное Вашингтоном президенту Тайваня Ли Ден-хуею посетить США с неофициальным визитом. Был отложен запланированный визит в США министра обороны КНР Чи Хаотяня. Посол Китая был отозван из США в Пекин для консультаций. Впрочем, уже 24 октября 1995 г. в Нью-Йорке состоялась третья встреча Цзян Цземина и Б. Клинтона, на которой, в частности, было заявлено, что КНР и США осуществляют значительное влияние на международные дела, несут большую ответственность относительно защиты мира и имеют важные общие интересы. Вашингтон подтвердил свое признание «одного Китая» и подчеркнул, что правительство КНР является единственным законным правительством Китая, а Тайвань — неотъемлемой частью КНР.
На встрече китайские и американские руководители договорились активизировать диалог и консультации относительно проблемы охраны окружающей среды, других важных международных и региональных проблем, а также по вопросам, связанным с налаживанием торгово-экономического сотрудничества, активизацией контактов между военными ведомствами двух стран и поиском путей возобновления и расширения межгосударственного диалога.
Новое обострение отношений между Пекином и Вашингтоном произошло в апреле 1996 г. в связи с китайскими военными маневрами в Тайванском проливе накануне президентских выборов на Тайване. В ответ военно-морские силы США появились вблизи морских рубежей Китая. Тем не менее к началу лета 1996 г. китайско-американские отношения кое-как нормализовались. Б. Клинтон продолжил на год режим наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем, а посол КНР возвратился в Вашингтон после продолжительного «отпуска». США также назначили нового посла в Пекине.
Следует отметить, что отношения США и Китая характеризуются постоянным противоречием между большим обоюдным прагматическим интересом относительно развития двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и постоянным политическим и идеологическим противоборством. Пекин принципиально осуждает «политику гегемонизма одного государства». Вашингтон, со своей стороны, уверяет в отсутствии намерений «сдерживать Китай», но не менее принципиально демонстрирует наличие антагонизмов между обеими странами. Развитие межгосударственных контактов на высшем уровне подтверждает противоречивый характер американо-китайских отношений.
Эта противоречивость стала еще более очевидной в годы правления администрации Дж. Буша-младшего. Особенно остро расхождения двух сторон проявились в канун и во время возглавляемой США агрессии против
Ирака в 2003 г., а также в отношении к применению санкций против Ирана, в связи с его ядерными разработками, в 2006 г. В этих вопросах США с Великобританией, с одной стороны, и Китай с Россией — с другой заняли диаметрально противоположные позиции.
Следует отметить, что официальный Вашингтон отдает должное быстрому прогрессу Китая в экономической области, которая выводит Поднебесную в ряды величайших мировых сил. Владение ядерным оружием, как и статус постоянного члена Совета безопасности ООН, подкрепляет этот статус. Американскими экспертами отмечается стремление Китая иметь дружеские отношения со всеми соседними странами, заинтересованность Пекина в мире и стабильности для достижения целей экономической модернизации.
Доля валового национального продукта на одного человека в Китае остается еще весьма низкой по сравнению с передовыми индустриальными государствами. Но это не препятствует неизменному наращиванию КНР, при содействии России, военной мощи. Китай ныне особенно активно вкладывает средства в приобретение современных истребителей, включая СУ-27 российского производства, и другую технику нового поколения. Заметно расширились возможности его военно-морских сил.
Считается, что ежегодное увеличение оборонного бюджета Китая объясняется его прежде слабой военной базой, а также потребностью замены устаревшего оборудования, учетом в военной доктрине новых реалий глобализированного мира в области безопасности и необходимостью улучшения профессионализма вооруженных сил, которые насчитывают 3,2 млн чел. В Китае продолжаются подземные ядерные испытания, как часть общей программы модернизации стратегических вооружений, но становится все более заметным интерес Пекина к заключению международного соглашения о полном запрете ядерных испытаний.
Аналитики делают вывод, что заявления об исключительно оборонительном характере военного строительства в Китае не могут успокоить другие страны региона, которые не уверены в мирных намерениях Пекина. Кроме того, программа военной модернизации находится на начальном этапе, а ее долгосрочные цели не вполне четко определены. Ситуация усложняется наличием территориальных споров с рядом соседних государств. Это побуждает их к собственным усилиям в соответствующем направлении. Для США и соседей Китая желательной была бы большая «прозрачность» оборонных программ, стратегии и доктрины Китая.
США, со своей стороны, отстаивают диалог в области обороны с Китаем для улучшения взаимопонимания, а также увеличения транспарентности и доверия. Формы диалога могут включать периодические встречи на высшем уровне, участие в профессиональных форумах, обмен специалистами и информацией.
В целом, можно предполагать, что основными силовыми (и в экономическом, и в военно-политическом отношениях), своего рода транстихоокеанскими полюсами в XXI в. будут выступать США и Китай. От характера их отношений в АТР будут зависеть как формы сотрудничества, так и расстановка сил в наступившем столетии.
Отношения КНР и Японии: противоречивые тенденции развития
В системе современных международных отношений китайско-японские связи занимают особое место. Их характер влияет не только на политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и сказывается на глобальном политическом окружении.
Процесс развития отношений КНР и Японии противоречив. В нем одновременно действуют факторы, которые побуждают к сотрудничеству, с одной стороны, и генерируют подозрительность и соперничество — с другой. Причина такой двойственности коренится в интересах этих государств, часть которых способствует сближению, а часть служит причиной противостояния.
Дают себя знать и уроки истории. Китай был основной жертвой японской агрессии в годы Второй мировой войны, понес огромные потери (свыше 35 млн человек), претерпел множество страданий и разрушений. Память о горьких временах японской агрессии определяет весьма настороженное отношение Пекина к любым новым тенденциям во внешнеполитическом курсе Токио.
Тем не менее общая картина развития китайско-японских отношений демонстрирует стабильный прогресс во всех сферах — политической, торгово-экономической, гуманитарной. Этих двух азиатских гигантов влечет друг к другу прежде всего прагматическая цель использования возможностей торгово-экономического сотрудничества. При этом применяются механизмы как непосредственных двусторонних связей, так и региональных международных организаций и объединений — Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЕС), Регионального форума АСЕАН, новообразованных структур типа саммита «Азия — Европа» и т.п.
Китай проявляет большой интерес к поддержанию добрососедских отношений с Японией. Стратегией Пекина учитывается, что Страна восходящего солнца входит в состав «большой семерки», уверенно занимает второе место в мире (после США) по объему валового национального продукта, является одним из мощнейших инвесторов, богатым обладателем передовых и высоких технологий. На региональном уровне Пекину теоретически легче достичь партнерства с Токио, при том, что ныне наблюдаем негласное соперничество Китая за лидерство в регионе со США, Россией и самой Японией. Поэтому очевидно, что Китай, руководствуясь традиционной для него линией на неучастие в любых военно-политических блоках, союзах или коалициях, будет продолжать действовать самостоятельно, балансируя на конкуренции интересов основных «актеров» региона — Японии, США и России.
Япония, со своей стороны, жизненно заинтересована в активном развитии отношений с Китаем как с огромной, динамически прогрессирующей мировой державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН, страной удобного вложения капиталов, почти безграничным рынком дешевой рабочей силы, источником сырьевых ресурсов. Известно, что уровень отношений между странами очерчивается как политическими соображениями, так и объемами торговли и инвестиций.
Характер и суть отношений Пекина и Токио определяются общим коммюнике от 1972 г. и договором о мире и дружбе между КНР и Японией, заключенном в 1978 г. Дух и направленность данного договора реализуются в политической сфере с переменным успехом. По крайней мере, обе стороны обнаруживают стремление к конструктивности отношений без предубежденного отношения друг к другу. С середины 90-х гг. и по сей день происходит активный обмен разными делегациями, в том числе на наивысшем уровне.
В апреле 1995 г. глава китайского парламента Цяо Ши посетил Японию с дружественным официальным визитом. Он получил аудиенцию у императора, провел переговоры со спикером парламента и премьер-министром Японии. В августе 1995 г. в Китае находился тогдашний премьер-министр Японии Томити Мураяма. Большой политический резонанс в Пекине имело признание Т. Мураямы, что «агрессивные действия и колониальное господство Японии принесли бедствия Китаю и другим азиатским странам. Япония относится к этому с глубоким покаянием». Т. Мураяма даже совершил символический шаг — посетил музей близ моста Лугоуцяо, откуда начиналась японская агрессия против Китая в июле 1937 г., и отдал поклон памяти жертв войны.
Политические акции покаяния и примирения со стороны ведущих государственных деятелей современной Японии призваны успокоить народы Азии, встревоженные попытками некоторых политиканов Японии оправдать агрессию японских милитаристов против их стран в годы Второй мировой войны.
В политической сфере имеется ряд проблем, которые серьезно влияют на ход процесса развития китайско-японских отношений. Одна из них — проблема ядерного разоружения. Япония, которая пережила трагедию Хиросимы и Нагасаки, очень болезненно относится к продолжению Китаем подземных ядерных испытаний. После последнего такого взрыва на полигоне Лобнор 17 августа 1995 г. вспыхнули не только акции протеста японской общественности. Правительственные круги Токио также высказали тревогу по поводу акции Пекина. Япония заморозила предоставление значительной части грантов Китаю, сократила программы финансовой помощи, хотя не прибегала к ограничениям инвестиций. Как известно, на переговорах о заключении международного договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Китай, в целом поддерживая идею договора, отстаивает необходимость предусмотреть разрешение на проведение отдельных подземных ядерных взрывов «в мирных целях» под суровым международным контролем.
Болезненным для Пекина постоянно остается «тайванский вопрос». Правительственные круги Токио придерживаются концепции «одного Китая» и не имеют официальных контактов с Тайванем. Но тем не менее, между обеими сторонами налажены и действуют довольно широкие торгово-экономические и культурные связи. 20 мая 1996 г. в Тайбэе состоялась инаугурация Ли Денхуея, избранного президентом Тайваня. На эти торжества была направлена японская делегация, возглавляемая бывшим спикером нижней палаты парламента Хадзиме Тамурою. В состав делегации входили представители от всех трех партий правящей коалиции, а также от оппози
ционной Синсинто. Протайваньское лобби в Токио настойчиво добивается расширения связей с Тайбэем. С другой стороны, и тайваньское руководство старается подтолкнуть Японию к сближению, «обращая меньше внимания на чувствительность Китая».
Широкую международную огласку получила ратификация Китаем 16 мая 1996 г. Конвенции ООН по морскому праву. Сам по себе этот факт положителен, так как предусматривает внедрение общепризнанных правил и подходов, решение международных споров исключительно мирными, политическими методами. Тем не менее одновременно Пекин объявил о распространении юрисдикции КНР на более чем 2,5 млн км2 территориальных вод на расстоянии 370 км от побережья. Это касается, прежде всего, островов Сиша (Парасельские) и многих других, находящихся в Южно-Китайском море, на которые претендуют и другие государства региона — Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней. Они выступили с протестами, причем Япония также отрицательно отреагировала на действия Китая.
Токио обнаруживает признаки обеспокоенности через «недостаточную транспарентность» военной деятельности Пекина, постоянного повышения степени загрязнения окружающей среды в КНР вследствие интенсивного индустриального развития и влияния этого процесса на Японию в виде губительных кислотных дождей. Немало проблем возникает и у Китая в отношениях с Японией.
Во-первых, это — негласное соперничество за лидерство в АТР. Оно не декларируется, но тем не менее постоянно «нависает», особенно в стратегических расчетах Пекина на XXI столетие.
Во-вторых, Пекин желал бы, чтобы в Японии не проявляли своей активности реваншистские круги, временами прославляющие период японской агрессии в Азии. Как известно, даже некоторые члены правительства прибегали к оправданиям японской экспансии в годы Второй мировой войны. Часть из них вынуждена была пойти в отставку под давлением протестов азиатских стран, в т. ч. Китая. Нынешний премьер-министр Японии и подавляющее большинство членов его кабинета не принимали участия в войне. Тем не менее он был среди тех, кто посетил храм Ясукун на окраине Токио для оказания почестей памяти погибших в ней самураев, что вызвало резкое недовольство Пекина.
В-третьих, китайское руководство обеспокоено дальнейшим военно-политическим сближением Японии и США. Лидерами КПК ось Токио-Вашинг-тон рассматривается как новый способ сдерживания Китая. Китайские эксперты •отрицательно оценивают новые аспекты японо-американского военного сотрудничества и обещают «пристально следить за их дальнейшим прогрессом».
Несмотря на указанные разногласия в политической сфере, экономические связи Китая и Японии довольно масштабны. На фоне явственной тенденции «экономизации» международных отношений Китай и Япония демонстрируют один из ее убедительных примеров. Япония выступает одним из наибольших инвесторов Китая. Именно за счет Японии Китай, прежде всего, может утолить свою инвестиционную жажду. Также высокими темпами возрастает объем двусторонней торговли, процветает совместное предпри
нимательство. Впрочем, в этой области Пекин уже на протяжении продолжительного периода имеет претензии к японским компаниям, которые очень неохотно делятся передовыми и высокими технологиями.
Итак, китайско-японские отношения в целом развиваются позитивно на основе близости основных торгово-экономических интересов. Можно предполагать и дальнейшую их активизацию по мере более четкого очерчивания новых центров многополюсного мира, возможного осложнения глобальных проблем. При этом цивилизационное родство, близость традиций, культур, менталитета и в дальнейшем будут оказывать содействие процессу поддержания добрососедских отношений.
Вместе с тем реалистическая оценка китайско-японских отношений убеждает в существовании и действии факторов, которые могут накладывать на них отрицательный отпечаток и сказываться на всей ситуации в АТР. Это новая направленность японо-американского военного альянса, обострение соперничества за лидерство в АТР, «тайваньский вопрос», претензии Китая на острова в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и т.п. Тем не менее вероятность возникновения какого-либо серьезного конфликта между Китаем и Японией в обозримом будущем остается мизерной.
Особая позиция России в АТР
Россия, в силу своей географической принадлежности к АТР, а также инерции вовлеченности в дела региона в прошлом, не может не принимать участия в формировании структур региональной безопасности. При этом, конечно, с одной стороны, у нее появляются благоприятные возможности, возникающие в ходе формирования новых структур. Но сопутствующие этому процессу проблемы не могут не вызывать определенного беспокойства. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, не стала угрожающей, необходимо предпринимать шаги для перевода межгосударственных отношений в более зрелую стадию, чтобы формирующиеся структуры носили комплексный характер — военный, политический, экономический.
Другой вопрос, насколько все это предопределяет необходимость сохранения соответствующего уровня военного присутствия России в АТР в плане формирования региональных структур военной безопасности и вхождение России в «экономический клуб» АТР. Новые, развившиеся после окончания Холодной войны, отношения со США, несмотря на периодически возникающие между сторонами разногласия, делают вполне возможным развитие сотрудничества между ними и в сфере безопасности в АТР. Сейчас уже ясно, что сокращение непосредственного американского военного присутствия на Дальнем Востоке может продолжиться, в связи с чем возникает целый ряд серьезных вопросов относительно возможных последствий этого для ситуации в АТР, в том числе относительно заполнения геополитического и силового вакуума, который в этом случае может образоваться (и заполнять его совсем не в интересах России).
Российская Федерация имеет в АТР наибольшую длину сухопутных (Китай, Монголия) и морских границ. Интересы полноценного подключения России к деятельности мирового сообщества требуют проведения ею се
рьезной и прагматичной восточной политики, должной активизации внешнеполитических и внешнеэкономических связей на этом направлении, которые должны быть приоритетными по отношению к силовым факторам политики.
Идеологически обусловленный конфронтационный подход СССР практические ко всем соседям по АТР, отношение к дальневосточному региону как к «форпосту» политики в Восточной Азии и на Тихом океане, и, таким образом, ее военизация сформировали крайне неблагоприятные условия для его органичной интеграции в систему регионального разделения труда.
Ельцинская Россия предприняла большие практические шаги по свертыванию конфронтации со США на Западе. Однако на тихоокеанском направлении, за исключением мер по сокращению вооружений, предусмотренных глобальными договорами, а также односторонних инициатив по ограничению военного присутствия, аналогичный процесс начался, главным образом по отношению к Китаю, только при В.В. Путине.
Основные направления политики России в АТР — обеспечение стабильности на восточных рубежах, сбалансированности взаимоотношений с основными государствами, сдерживание роста вооружений и поощрение контролируемой демилитаризации, предотвращение возникновения кризисных ситуаций. Использование политического потенциала России в сфере обеспечения азиатско-тихоокеанской безопасности тесно связано с возможностью более эффективного политического и экономического взаимодействия с региональными интеграционными структурами, развитием сотрудничества с максимально широким кругом стран. К сожалению, для России экономические возможности взаимодействия на азиатско-тихоокеанском направлении (и формирование соответствующей структуры отношений), за исключением военно-технических связей, очень ограниченные. Уникальное геополитическое и географическое положение России, ее исторические связи с Востоком, деидеологизация и прагматизация внешней политики ставят в центр усилий российской дипломатии на восточном направлении задачу обеспечения благоприятных внешних условий для реализации своего внутреннего потенциала.
Достижению этих целей содействовало бы формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе в перспективе такой сбалансированной и стабильно действующей системы международных отношений, в которой России была бы гарантирована достойная роль, соответствующая ее геостратегическому положению в этой части мира.
Продвижение в этом направлении может быть постепенным: через двусторонние отношения (прежде всего, естественно, с ведущими государствами АТР), через укрепление роли межгосударственных (правительственных и неправительственных) институтов сотрудничества — в той мере и в тех областях, в которых будет налицо готовность вывести его на многосторонний уровень. Практическое отсутствие (на данный момент) непосредственной военной угрозы суверенитета и территориальной целостности России со стороны государств региона позволяет сократить до разумного оборонительного минимума гипертрофированный военный потенциал в азиатской части
страны, использовавшийся раньше для подкрепления чрезмерных амбиций СССР.
Весьма важно то, что в настоящее время Китай рассматривает Россию как чрезвычайно важного партнера, в значительной мере влияющего на политические и экономические процессы в Азии и в мире в целом. О значении, которое уделяют в Москве и Пекине двусторонним отношениям, свидетельствует интенсивность обменов правительственными делегациями и группами экспертов.
Российско-китайские двусторонние отношения имеют значительную договорно-правовую базу, которая регулирует сотрудничество в разных сферах. Постепенно решаются приграничные вопросы. Хотя здесь стороны проявляют несколько разные подходы к проблеме взаимного сокращения вооруженных сил в пограничных зонах. Китайская сторона отстаивает позицию радикальных сокращений, а российская — постепенных шагов в соответствующем направлении. Вместе с тем, КНР стремится поддерживать добрые отношения с Россией, что обусловлено, прежде всего, желанием китайского руководства сохранить стабильность как на своих границах, так и в сопредельных государствах. Кроме того, Пекин обеспокоен возможностью усиления влияния т. н. «исламского фактора» среди мусульманского меньшинства в самом Китае.
Китай заинтересован во ввозе некоторых видов продукции, особенно военного назначения, из России, которая, в свою очередь, является большим рынком для его собственных товаров, в особенности изделий легкой промышленности. Планируется также участие России в реализации широкомасштабных проектов на территории КНР, модернизации крупных промышленных предприятий, построенных в свое время в Китае с помощью Советского Союза и пр.
Таким образом, в двусторонних отношениях «на микроуровне» Китай и Россия имеют немало общих интересов и заинтересованы в активизации сотрудничества. И здесь можно ожидать новых положительных сдвигов. Более того, эксперты обращают внимание на то, что в условиях определенного осложнения отношений со США (события на Балканах, расширение НАТО на восток, оккупация Ирака и пр.) российское руководство стремится «компенсировать» потерю позиций в Европе путем усиления своего присутствия в АТР, в частности, путем создания там при участии России и Китая системы коллективной безопасности.
События последних лет, особенно после вторжения американо-британских сил в Ирак весной 2003 г., показывают, что между обоими государствами достигнута определенная согласованность относительно общих действий в международной сфере. Но еще Б. Ельцин во время встречи в Москве (сентябрь 1995 г.) с министром иностранных дел КНР Цянь Циченем подчеркивал, что «ни одно из государств не должно навязывать силой свои подходы другому государству». Там же было официально заявлено о том, что РФ и Китай занимают «близкие и общие позиции относительно международных проблем».
Однако следует отметить, что политика КНР относительно России носит двузначный характер. С одной стороны, Пекин объективно заинтересо
ван в широком экономическом и военно-техническом сотрудничестве с Россией. С другой — он не заинтересован в чрезмерном усилении России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности на Дальнем Востоке, усматривая в ней потенциально серьезного конкурента в плане лидерства в этой части земного шара.
Российско-китайская политика составляется под влиянием разнообразных факторов: соображений национальной безопасности, бюрократических интересов, общественной мысли и даже позиций отдельных лиц. Общественная мысль играет крайне незначительную роль. Если вопрос расширения НАТО на восток еще как-то задел российскую публику, то отношения России с Китаем интересуют почти исключительно жителей дальневосточных областей, да и то главным образом в связи с притоком иммигрантов.
События последних лет показали, что российскую политику чаше всего определяют интересы бюрократии: в случае с Китаем — бюрократии военно-промышленного комплекса. Наибольшим покупателем российского оружия стал Китай. Объяснить подобную политику можно только стремлением хоть как-то смягчить кризис российского ВПК и тем, что, по заверениям некоторых исследователей, такого рода снабжение не меняет существенным образом баланса сил в регионе. Тем не менее, можно полагать, что российские военные поставки в Китай, имеющие тенденцию к увеличению, в перспективе способны существенно повлиять на соотношение сил в регионе, особенно на российско-китайской границе.
Еще серьезнее проблема передачи военных технологий, поскольку в этой области КНР зависит от более развитых стран. Только при относительно свободном доступе к зарубежной военной технологии и усиленном финансировании национального производства высокотехнологичных систем вооружений китайские военные смогут поднять его на более высокий, современный уровень. Как свидетельствуют факты, китайцы успешно использовали хаос, царящий в России, коррумпированность российских производителей вооружений и их зависимость от китайского рынка.
Отсюда следует, что поставки российских вооружений и военных технологий в Китай, хотя и смягчают кризис в российском ВПК, вряд или отвечают долгосрочным интересам России, особенно если принять во внимание слабость ее позиций на Дальнем Востоке и уязвимость страны перед лицом государства, которое имеет к ней территориальные претензии (хотя сегодня и не афиширует их).
Позиция других дальневосточных государств не облегчает защиты российских интересов в АТР. Еще в 1996 г. в официальных документах японского правительства Китай фигурировал (наряду с Россией) как главная угроза национальной безопасности. Подчеркнем, что сегодня о многом именно из двусторонних отношений «произрастает» новая структура безопасности и сотрудничества в АТР. И одной из важнейших задач обеспечения российских интересов, в том числе в сфере военной безопасности в АТР, является построение принципиально новых отношений со США.
На сегодняшний день, несмотря на важные сдвиги во всем комплексе российско-американских отношений, в АТР до сих пор сохраняются элементы традиционного противостояния, характерные для периода Холодной
войны. В частности, это относится к военно-морской деятельности обеих стран, тех оперативных задач, которые получают их ВМС. Ясно, что такое положение должно быть изменено и политические условия для этого уже существуют. Более того, обе страны делают первые, очень важные шаги по пути налаживания военного сотрудничества, причем именно в военно-морской сфере.
Оценивая предпосылки развития российско-американских отношений в данной области, нужно иметь в виду, что сейчас в России полностью отказались от советской концепции достижения военно-морского паритета со США. Очевидно, что дело здесь не только в нынешнем крайне трудном положении, в котором оказался Тихоокеанский флот, значительная часть боевых кораблей которого из-за отсутствия средств и запасных частей потеряла боеспособность. В данном случае речь идет о принципиальном изменении позиции, включая и отказ от характерного для политики СССР стремления к обеспечению глобального военного присутствия на сопоставимом со США уровне.
Однако, несмотря на всю важность «чисто военных» аспектов, есть и значительно более глубокие причины для формирования принципиально новых отношений. И Россия, и США крайне заинтересованы в поддержании стабильности в АТР. Вместе с тем уже сейчас очевидно, что эта стабильность в перспективе достаточно проблематична и может быть легко подорвана в результате обострения целого ряда ныне тлеющих конфликтов. Неминуемо изменение силового баланса в АТР, что остро ставит вопрос о заполнении геополитического вакуума и сохранении стабильности. И здесь Россия может сыграть достаточно важную роль. Конечно, в новых условиях общие размеры ее военного присутствия в регионе будут намного меньшими, чем раньше. Но при всем этом ее стабилизирующее значение сохранится еще на долгие годы. Причем в этом должны быть заинтересованы и США.
Между Россией и США в этом регионе теперь нет сколько-нибудь серьезных объективных оснований для противоречий и, тем более, для конфронтации. Обе страны крайне заинтересованы в мирном решении проблем, существующих на Корейском полуострове, в недопущении «автономности» военных приготовлений Японии и их сохранении в приемлемых рамках, в недопущении перерастания существующих в регионе территориальных проблем в вооруженные конфликты.
В настоящее время доминирующей силой в регионе выступают США. Экономическое значение АТР для США огромно: уже сейчас в этот район направляется треть американского экспорта. Но и для России, как уже отмечалось, оно становится все более важным. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы отношения между Россией и США здесь не просто бы отражали новые реалии, но стали бы одним из главных гарантов поддержания стабильности в регионе и постепенного формирования здесь надежной региональной структуры безопасности. Для такого положительного развития событий одной координации российско-американских усилий, конечно, еще недостаточно, но без таковой эта цель просто не может быть достигнута.
Если оценивать соотношение военно-политического и экономического компонентов взаимоотношений между Россией и США в АТР, то можно прогнозировать, что в обозримой перспективе именно первый будет играть доминирующую роль. С течением времени, при условии динамического развития экономики восточной части России, может состояться их определенное выравнивание. Однако уже сейчас США, американские компании обнаруживают серьезный интерес к освоению топливно-энергетических ресурсов Дальнего Востока, в первую очередь Сахалина. Чем, кстати, о многом подтолкнули Японию к серьезному корректированию своей позиции по взаимодействию с Россией в экономической, политической и даже военной сферах.
Российско-японские отношения до сего времени находятся в состоянии, в значительной мере определяемом проблемами и противоречиями прошлых лет. Собственно говоря, не ликвидированы два главных препятствия на пути их нормализации — нерешенность территориальной проблемы и, как следствие, отсутствие мирного договора. Лишь один отрицательный элемент «советского периода» — масштабы и природа военного присутствия, характерные для того времени, в значительной мере потерял свое значение. Однако этого явно недостаточно.
Судя по всему, «прорыва», способного ликвидировать названные проблемы, ожидать в обозримом будущем не стоит. Решение территориальной проблемы, с учетом реальностей внутриполитической ситуации в России, откладывается на неопределенный срок. Но обстоятельства требуют того, чтобы российско-японские отношения вышли из состояния застоя. Без этого России крайне сложно будет решать проблему обеспечения своего активного участия в'делах АТР, особенно в том, что касается экономики, в частности широкого участия Японии в развитии Сибири и особенно Дальнего Востока. В свою очередь, для Японии будущее российской политики в АТР, роль России крайне важны с учетом всех тех проблем, которые существуют в регионе.
Таким образом, сегодня основной задачей в российско-японских отношениях является постепенное, но неуклонное продвижение по пути расширения связей двух стран во всех сферах. Некоторые подвижки в этом направлении уже сделаны. Как первые успехи в развитии российско-японского сотрудничества в АТР можно расценить достигнутые в конце 90-х гг. договоренности о совместном освоении ресурсов Южных Курил.
Как ни парадоксально, но в политической и военно-политической сферах интересы обеих стран практически полностью совпадают. Говоря о внешних проблемах Японии, мы видим, в сущности, тот же перечень потенциальных конфликтных ситуаций, который уже был приведен выше в отношении России. Отличие, пожалуй, лишь в том, что для Японии развитие ситуации на Корейском полуострове (включая ядерную сферу) гораздо более важно и может иметь несколько другие следствия, чем для России. Да и в целом Япония более уязвима по отношению к целому ряду «ограниченных» потенциально конфликтных ситуаций, могущих возникнуть в АТР.
Для Японии активная и стабилизирующая политика России может явиться важным дополнением к японо-американского договору об общей безопасности. Россия же теперь имеет все основания рассматривать названный
договор как один из ключевых факторов стабильности в АТР. Время отрицательного отношения к нему для России прошло. Более того, данный договор может рассматриваться как своего рода один из готовых блоков для создания будущей структуры безопасности, облегчающий и России участие в ее формулировании.
В целом же не вызывает сомнения, что развитие и углубление отношений России и Японии никак не противоречит ни интересам США, ни интересам каких-либо других стран, включая, разумеется, и Китай. В данном случае, в отличие от отношений со США, ведущую роль в отношениях с Японией призван играть экономический аспект. Прогресс в политической сфере призван в определенной мере создать для него более благоприятные условия, после чего, не исключено, он отойдет на второй план, тем более, если удастся пойти по пути развития трехсторонних (Россия — Япония — США) контактов в этой сфере. Это позволит Японии, при неминуемом нарастании ее политической роли, не усиливать «автономный» военный компонент ее деятельности.
В целом возможности развития экономических отношений между Россией и Японией огромны. Но для их реализации необходимо несколько условий: стабильность в России; взаимное стремление к построению отношений на новой основе; готовность Японии не увязывать в один пакет решение остающихся проблем и возможность резкой активизации экономических связей.
По-иному и Японией сегодня расценивается роль России в регионе. РФ уже не воспринимается просто как неуправляемый «монстр», но скорее как необходимый «балансир» в построении взаимоотношений между Японией, США, Китаем и корейскими государствами. Если в прежние годы допускалась возможность силового воздействия с советской стороны, то сейчас Россия воспринимается лишь как один из участников игры. Одним из важных условий для политического сближения России и Японии может оказаться фактор Китая.
Вопреки широко распространенному заблуждению, будто Россия всегда противостояла колониализму западных государств, в отношении Китая она действовала как одно из них. Освоение ею территории Дальнего Востока происходило в период ослабления Китайской империи и с согласия других великих держав. Сама Россия, как справедливо отмечают сторонники тесного сближения с КНР, редко вела боевые действия или официально провозглашенные войны, что, впрочем, еще совсем не говорит о гармонии во взаимоотношениях двух империй, а тем более о многовековой традиции мирного сосуществования двух государств.
Покорение Дальнего Востока Россией в 1848—1894 гг. стало возможным благодаря прямому вмешательству во внутренние дела Китая. Насколько «этичным» было подобное поведение, можно спорить, но Россия получила очень богатые природными ресурсами территории Приморья. Поэтому сейчас, когда могущество Китая растет, а России — упало, резонно ожидать, что, исправляя «исторические несправедливости», Китай вряд ли в отдаленной перспективе станет делать существенные различия между территориями, отторгнутыми у него Россией и другими колониальными государствами.
В последние десятилетия отношения между Россией и КНР отмечены резкими переменами. От балансирования на грани «горячей войны» (конец 60-х гг.) в 70-х гг. они перешли в состояние «холодной войны». В следующем десятилетии советско-китайские отношения постепенно нормализовались, что, кроме прочего, засвидетельствовал визит в Поднебесную М.С. Горбачева в 1989 г. Первая половина 90-х гг. ознаменовалась переходом к «добрососедскому сотрудничеству» и «конструктивному партнерству». Теперь на наших глазах «стратегическое сотрудничество» второй половины 90-х перерастает в «стратегическое сотрудничество-партнерство».
В основе этих перемен лежат как долговременно-исторические, так и конъюнктурные причины. Существуют три исторических обстоятельства, благоприятствующие сближению России и КНР.
Во-первых, это их территориальная близость. Граница между ними огромна по протяженности — более четырех тысяч километров. Понятно, что оба государства, переживающие глубокие преобразования экономических отношений и общественных систем, заинтересованы в том, чтобы она оставалась мирной. Важным шагом на пути к этому стало подписание весной 1996 г. Шанхайского коммюнике о мерах доверия в районе бывшей советско-китайской границы. Кроме России и Китая, документ подписали Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. После этого последовало подписание во время московского визита Цзян Цземина (апрель 1997 г.) Соглашения о сокращении вооруженных сил в районе границы.
Во-вторых, в том же направлении действует и потребность в развитии торгово-хозяйственных связей. Она логически следует из территориальной близости обеих стран и взаимодополняемости их экономик. Россия владеет технологиями (в том числе военными), в которых заинтересован Китай, значительными энергетическими возможностями, а также природными ресурсами, необходимыми для бурно развивающейся промышленности КНР. В свою очередь последняя поставляет товары народного потребления, пользующиеся спросом на российском рынке.
В-третьих, поиски пути к взаимному сотрудничеству стимулирует и исламский фактор. Мусульманский фундаментализм все заметнее дестабилизирует ситуацию в бывшей советской Средний Азии. С этим руководству России пришлось столкнуться и в Чечне. Правительство КНР имеет дело с похожими проблемами и вынуждено применять жесткие меры против уйгурского национального движения в Синьцзяне.
Среди «факторов сближения» просматриваются и конъюнктурные. Для России — это прежде всего проблема продвижения НАТО на восток, а для континентального Китая — давление западных стран, в первую очередь США. Вместе с тем нельзя не видеть и исторически обусловленных факторов, которые ограничивают возможность сближения обеих стран. Это, во-первых, разность их демографических и экономических потенциалов, что особенно касается российских регионов, непосредственно граничащих с Китаем. Российский Дальний Восток уже сейчас стал объектом миграции китайцев, которая, судя по всему, в обозримом будущем будет возрастать. Во-вторых, следует отметить стремление обеих стран упрочить свои позиции в системе мирового хозяйства, где лидируют США. Любые попытки
объединения экономических потенциалов России и Китая ради создания «контрсистемы» или антиамериканского политического союза способны лишь замедлить экономическое развитие, затормозить реформы в обеих странах и породить повторение Холодной войны, что вряд ли отвечает национальным интересам двух государств.
Оптимальный вариант взаимоотношений между Москвой и Пекином заключается, очевидно, в добрососедском и взаимовыгодном сотрудничестве, не перерастающем, однако, в политический, а тем более военно-политический союз.
В то же время, на наш взгляд, Россия может и дальше стараться разыгрывать «китайскую карту» в регионе, в том числе с целью получения определенных экономических и политических дивидендов. Однако здесь важно не переусердствовать: результат может быть прямо противоположным задуманному.
ГЛАВА 12
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ОБЩНОСТЬ СУБСАХАРСКОЙ АФРИКИ
(Д. М. Бондаренко, Л. С. Васильев,
В. К. Гура)
Цивилизационная общность Тропической Африки и ее исторические судьбы в доколониальную эпоху
Рассмотрение стран и народов неарабской Африки, обычно объединяемых не столько географическим, сколько историко-этносоциокультурным понятием «страны и народы Тропической Африки», «Субсахарской Африки», «Транссахарской Африки» как единой цивилизационной общности, представляется вполне правомерным. Из нее, очевидно, выпадают лишь Эфиопия со времени утверждения христианства и до конца колониальной эпохи на остальной части континента, а также Мадагаскар и другие прилегающие к Африке острова в Индийском океане. При этом внутри континента, несомненно, можно и следует выделять ряд цивилизационных регионов, обладавших в пределах Тропичес-коафриканской цивилизационной общности значительной степенью специфичности, начавшей — во многом поверхностно — нивелироваться только в колониальные времена, когда африканцы (по крайней мере, их образованная часть) осознали свое цивилизационное единство в пределах всего континента. Но все же «в той мере, в какой между различными африканскими культурами больше сходства, чем между ними и другими культурами, правомерно причислять их к единой категории» В данном случае и ставится задача рассмотреть (в самом общем виде) именно общеафриканские цивилизационные черты.
Цивилизационная общность Тропической Африки и ее исторические судьбы в доколониальную эпоху Колониальная Африка южнее экватора
Территории к югу от Сахары в эпоху колониализма. Западная и Центральная Африка. Эфиопия
Колониальная Африка: трансформация традиционной структуры Субсахарская Африка после деколонизации: специфика этносоциополитической структуры
Африка южнее Сахары: экономика и ориентации развития
Факторы эволюции стран Субсахарской Африки в условиях глобализации Критические «пороги развития» стран Субсахарской Африки — производные феномены современной мир-системы
Г армонизация технократических и социокультурных подходов к возрождению Субсахарской Африки как перспектива преодоления эволюционного кризиса субконтинента Глобальные изменения и «Третий мир» в начале третьего тысячелетия
1 Маке Ж. Цивилизации Африки южнее Сахары. (История, технические навыки, искусства, общества). — М., 1974. — С. 10.
Тропическоафриканская цивилизационная общность сложилась к концу I тыс. н. э. Видимыми проявлениями этого в первую очередь явились утверждение на большей части континента мотыжного земледелия, ставшего, благодаря своему оптимальному соответствию природно-климатическим условиям Африки, наиболее распространенным в ней типом хозяйства, — с точки зрения взаимодействия обществ с природной средой. С точки же зрения взаимодействия со средой социоисторической — таким проявлением стала выработка устойчивых принципов и форм взаимодействия между обществами в ее пределах.
Важнейшими чертами, свойствами, наиболее полно и ярко кристаллизованными, сконцентрированными в ее человеке, выступающем, — по словам М.А. Барга, — как синтезирующее начало исторического процесса, — следует признать специфику проявлений и сочетаний таких феноменов, как особость отношений людей с естественной средой и даже шире — макрокосмом, их «включенность», «встроенность», органичность существования в ней. В представлениях африканца человек и природа взаимопроникают друг в друга, видятся частями единого целого, двумя сторонами одной медали .
Все это позволяет некоторым ученым говорить о «космизме» как основном свойстве личности африканца — особого рода непреходящем ощущении соотнесенности, связи в его сознании людского бытия с бытием Вселенной 1 2. Африканцу свойственно, в отличие от членов многих, хотя, конечно, далеко не всех, архаических обществ 3, отсутствие представлений о человеке как центре Мироздания, «мере всех вещей», «царе природы», ее преобразователе (даже демиурга они не всегда представляют себе в человеческом облике). «Экологизм» общинного сознания свойственен членам многих, но не всех 4 архаических социумов.
Характерны для африканцев и связанные с их «соприродностью» неот-деленность людей как экономическая, так и социокультурная, ментальная от средств производства — прежде всего земли. Даже лица, отделенные от них с нашей точки зрения, например, старейшины — «хозяева земли», посредством магических обрядов и ритуалов, связанных в первую очередь с культом предков и особыми правами первопоселенцев, сохраняют сакральную связь с землей. Не случайно в колониальные времена все попытки насадить
1 См.: Следзевский И.В. Традиционный африканский социум и культура: проблема структурных взаимоотношений // Африка: культура и общество (Исторический аспект). - М„ 1995. - С. 19-22.
2 Lawuyi О.В. Mythical Image, Historical Thought, and Ondo Religion: The Oramfe Myth as Clue to Ondo-Yoruba Identity Ц Africa (Roma), 1990. Vol. 45, № 1. — P. 65.
J Ср., например: Ла Гарса M. де. О религиозном значении пластического искусства майя Ц Вестник древней истории. — 1991, № 2. — С. 123; Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. — Новосибирск, 1990. — С. 13; Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. — Новосибирск, 1988. — С. 198.
Ср.: Антонова Е.В. Дикие животные в искусстве древних земледельцев // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. — М., 1987; Ее же: Антропоморфный персонаж на печатях Ирана и Месопотамии // Вестник древней истории. — 1991, № 2. - С. 12.
в Тропической Африке частную земельную собственность практически всегда завершались неудачей *.
Отличает жителей континента и повышенная степень мифологичности сознания 2 в сочетании с образностью, конкретностью мышления. Проявлялись и проявляются они не только в верованиях, мифологии, фольклоре, музыке, изобразительном искусстве, поведенческих стереотипах, но и во всех прочих сферах жизнедеятельности, естественным образом осуществлявшихся в общинной форме, регулируясь прежде всего ритуалом в самом широком понимании этого феномена.
Цивилизационные свойства обществ континента видны и в несомненной специфике протекания в них процессов, связанных со становлением сложной (надобщинной) политической организации и возникновением социальной стратификации. В доколониальной Тропической Африке мы видим широкий спектр непервобытных (надлокальных) социально-политических образований, как несопоставимых по стадиальному уровню с государством (племена 3 4, союзы племен — неиерархические типы обществ; вож-дества, сложные вождества — иерархические), так и сопоставимых с ним в его ранних формах (мегаобшины) .
При этом в Тропической Африке не было обществ полисного типа 5, представляющих собой неиерархический инвариант мегаобщины, соответственно, также сопоставимый по стадиальному уровню с государством. Связано это было, несомненно, во-первых, с отсутствием в Африке неиерархической, не родственно, а территориально организованной соседской общины, а во-вторых, с доминированием на континенте насильственного пути объединения общин в надлокальные социально-политические организмы, естественным образом задающие иерархическую структуру вновь образующегося социума в противоположность добровольному, основанному на равноправии объединению соседских общин в полисы (синойкизму).
Единственное исключение — внедрение системы «маило» в Уганде. (См.: Бале-зин А. С. Африканские правители и вожди в Уганде. Эволюция традиционных властей в условиях колониализма. 1862—1962. — М., 1986. — С. 118).
Не случайно подавляющее большинство (4/5) приверженцев разнообразных так называемых «первобытных верований» ныне проживает именно в Тропической Африке (Население мира. — М., 1989. — С. 477).
J О племени как непервобытной форме социально-политической организации см.: Коротаев А.В. Апология трайбализма // Социологический журнал. — 1995, № 4.
4 О мегаобщине как типе общества и его структуре см.: Бондаренко Д.М. Мегаобщина как вариант структуры и типа социума: доколониальный Бенин // Альтернативные пути к ранней государственности. — Владивосток, 1995; Его же. Мегаобщина как вариант структуры и типа социума: предпосылки сложения и функционирования (доколониальный Бенин) J/ Восток. — 1996, № 3.
Мы не можем согласиться с оценкой Ю.М. Кобищановым обществ йоруба, консо, суахили как полисных (Кобищанов Ю.М. Системы общинного типа // Община в Африке. Проблемы типологии. — М., 1978. — С. 232—240). Они никоим образом не являлись гражданскими общинами, гражданскими обществами, что и составляет суть полисов, лежит в основе мировоззрения их граждан.
Абсолютное доминирование родственной — большесемейной общины, столь соответствовавшей мировидению африканцев и тем условиям, в которых им приходилось вести хозяйственную деятельность, слабость территориального начала в доколониальных африканских социумах 1 привели к тому, что ранние государства (Конго, Буганда) и мегаобшины явились предельным уровнем стадиального развития социально-политических организмов в доколониальной Тропической Африке.
Таким образом, очевидны цивилизационная обусловленность слабости государственного начала в автохтонных обществах континента, раннегосударственного стадиального уровня как предельного для них и, наконец, конкретных форм непервобытных африканских социумов.
В целом общества доколониальной Тропической Африки можно считать «постфигуративными» (по терминологии М. Мид) или «холодными» (по К. Леви-Стросу), то есть для их членов характерны социоцентризм ми-ровидения, циклическое восприятие времени, не существующего вне происходящих в нем и одновременно в пространстве событий, сознательная опора на опыт предшествующих поколений, признание его абсолютной ценностью 2, стремление максимально точно и полно воспроизвести его и передать потомкам 3, связанная с этим замедленность протекания трансформацион-
1 Куббель Л.Е. «Формы, предшествующие капиталистическому производству» Карла Маркса и некоторые аспекты возникновения политической организации // Советская этнография. — 1987, № 3. — С. 6.
И именно в этом их принципиальное отличие в данном вопросе от, например, новоевропейского общества, ибо вопреки все еще не изжитому научному стереотипу, «разные типы общества отличаются друг от друга не тем, что одни из них «традиционные» (архаические), другие «нетрадиционные» (современные), а набором и характером (содержанием) традиций, темпами их обновления, каналами их распространения, механизмом трансмиссии, способами фиксации стабильного и варьирующего, стагнации и мобильности» (Чистов К.В. Традиция, «традиционные общества» и проблема варьирования // Советская этнография. — 1981, № 2. — С. 105) и в связи с этим — той ролью, которую следование им играет в сознании людей обществ разной стадиальной и цивилизационной принадлежности, прямо проявляясь в их поведении, творении ими собственного общества и его истории. В частности, в Евро-Североамериканской цивилизации традиции сохраняются, накапливаются, играют большую роль в жизнедеятельности социумов и индивидов, но следование им н| становится самоцелью, наиважнейшим принципом существования.
J Несомненно, выделенные характеристики лишь доминируют в традиционной картине мира, сознании и мышлении африканцев. Их соотношение, сложность взаимосвязи в динамике социокультурного и исторического процесса автору уже доводилось подробно описывать как для Тропической Африки в целом, так и на материалах эдоязычных народов Южной Нигерии. См.: Бондаренко Д.М. Мифическое и реальное пространство Ното beninus: проблема нерасчленимости и идентичности // Пространство и время в архаических культурах. — М., 1992; Его же: Место человека в изобразительном искусстве // Околдованная реальность. Мир африканской ментальности. — М., 1994; Его же: Бенин накануне первых контактов с европейцами. Человек. Общество. Власть. — М., 1995. — С. 24—89; Его же: Пространственно-временная «система координат» жителей древнего Бенина // Пространство и время в традиционных и архаических культурах. — М., 1996; Его же: Культ предков как центральный элемент традиционных религиозно-мифологических систем Тропической Африки // Африка: культура и общество. Проблемы теории и методологии. — М., 1998; Его же: Круги африканского мироздания (по материалам эдоязычных народов Южной Нигерии) // Мир африканской деревни. Динамика развития социальных структур и духовная культура. — М., 1998.
ных процессов. Ведь как справедливо пишет Е. Топольский, «из сопоставительного анализа развития различных цивилизаций следует, что динамичный характер имели лишь те из них, которые опирались на динамичное мышление» *. Кстати, А. Дж. Тойнби только такие культуры и называл «цивилизациями» в противоположность африканским «первобытным» обществам 1 2.
Если бы африканский континент мог существовать в историческом вакууме, не вступая в активное взаимодействие с представителями иных цивилизаций, в таком комплексе цивилизационных свойств и черт, наверное, не было бы ничего плохого, — оценочный подход при рассмотрении цивилизаций вне мирового цивилизационного и — шире — исторического контекста неоправдан. Но трагедией для африканцев стало то, что направление всемирно-исторического процесса, заключающееся в том числе в постепенном выявлении общемировой макроцивилизаций (при сохранении феномена локальных и региональных цивилизаций), неумолимо приближало час, когда и Тропической Африке пришлось стать частью единой ойкумены. Когда он пробил, заочная борьба с другими регионами планеты за право стать если не центром, то хотя бы равноправной частью ойкумены была ею уже безнадежно проиграна. Исторически сложившиеся цивилизационные особенности Тропической Африки к этому времени уже препятствовали переходу обществ континента на более высокий стадиальный уровень, нежели достигнутый многими из них к XII—XV вв 3.
Так, неотделенность человека от средств производства, в том числе земли, его «встроенность» в мир природы были среди факторов, способствовавших повсеместному сохранению ведущей роли общины и общинных форм землепользования. И в наши дни исследователи в первую очередь отмечают «способность общинных структур сопротивляться любым формам государственного воздействия» 4. Свойственное мифологизированному сознанию циклическое представление о времени, напрямую связанное с «постфигура-тивностью» социума, не создавало у людей психологического стимула, потребности в стадиальном продвижении.
В целом цивилизационную систему Тропической Африки, несомненно, следует считать архаической («доосевой», по К. Ясперсу), преимущественно адаптационной, а не эволюционной по типу развития. Да и особенности самой природной среды в Африке южнее Сахары (воздействие пустынь, крайне неравномерная залесенность континента, специфика почв, в большинстве случаев не позволяющая практиковать плужное земледелие, обилие, — к сожалению, уже в прошлом — крупных хищных животных, климатические условия и т. д.) таковы, что она с трудом поддается быстрой и интенсивной
1 Цит. по: Будцын И. В., Макарычев А. С. Новые работы Ежи Топольского Ц Вопросы истории. — 1991, № 12. — С. 230.
Tounbee A.J. Study of History. — Vol. I. — L., 1934. — Pp. 148—149, 192.
3 Бондаренко Д.М. Тропическая Африка: историко-культурные корни доиндустриа-лизма Ц Цивилизации Тропической Африки: общества, культуры, языки. — М., 1993. — С. 20—21; Его же: Цивилизация Тропической Африки и внешний мир в доколониальные эпохи // VI Конференция африканистов. Вып. II. — М., 1994. — С. 55.
4 Никифоров А. В. Община и государство в Тропической Африке. — М., 1991. — С. 87.
трансформации методами, доступными доиндустриальным обществам, отражаясь и на специфике осознания человеком своих взаимоотношений с ней ’.
В истории Тропической Африки отчетливо выделяется ряд эпох: «доев-ропейская» — до последней трети XV в., «европейская» доколониальная — с последней трети XV в. до второй половины XIX в., колониальная — со второй половины XIX в. до 1960 г. («года Африки») и, наконец, постколониальная. При этом «на примере Африки очень хорошо прослеживается связь, которая во все времена существовала между темпами и интенсивностью контактов центра и периферии и географическим обрамлением их взаимодействия» 1 2, то есть взаимосвязь между основными условиями сложения и одними из главных факторов трансформации цивилизаций.
В «доевропейскую» эпоху внешние контакты Тропическоафриканской цивилизационной системы были в целом немногочисленны и осуществлялись сравнительно небольшим количеством социумов. Большая же часть континента оставалась дальней периферией стадиально более развитых цивилизаций. В древности осуществлялись контакты некоторых транссахарских обществ с Древнеегипетской, Восточно- и Южноазиатской, Евроэлли-нистической; в Средние века — с Эфиопской, Мусульманской, Восточно- и Южноазиатской. Прямые же контакты с финикийцами, греками и римлянами в доэллинистические времена, факты существования которых не всегда неопровержимо доказуемы 3, были эпизодическими, чрезвычайно редкими и, вероятно, не имели для африканцев серьезных последствий. Еще более гипотетический характер имеют предположения о связях доколониальной Африки с Америкой и Океанией или об африканском происхождении до-арийского населения Индии.
Взаимодействие с Древнеегипетской, Эфиопской, Южно- и Восточноазиатской цивилизациями значительного воздействия на подавляющее большинство обществ Тропической Африки также не оказало. Контакты же с Мусульманской цивилизацией имели гораздо более серьезные последствия, и в общем не случайно, что стадиальный уровень в «доевропейской» Субсахарской Африке понижался по мере удаления от зоны афро-арабского взаимодействия.
Однако если рассматривать Тропическоафриканскую цивилизационную систему в целом, можно с достаточным основанием утверждать, что до прихода европейцев история как бы ставила на континенте опыт в чистом виде: в огромном большинстве обществ сугубо внутренние (на уровне стадиально
1 История Тропической Африки (с древнейших времен до 1800 г.). — М., 1984. — С. 16-31.
2
Хазанов А. М., КуббельЛ.Е., Созина С.А. Первобытная периферия докапиталистических обществ // Первобытное общество. Основные проблемы развития. — М., 1975. — С. 177-178.
з
См.: История Тропической Африки..., С. 156—157, 368 (прим. 43); Кошеленко Г.А. О ранних плаваниях вокруг Африки // Вопросы истории. — 1965, № 1; The Cambridge History of Africa. — Vol. 2. Cambridge etc., 1978. — P. 296—298; Thompson LA. Romans and Blacks. — L.; Oklahoma, 1989.
го и цивилизационного анализа) закономерности трансформации социальных организмов реализовывались самостоятельно, не подвергаясь внешнему воздействию. Исключение составляли лишь Восточный и Западный Судан, а также часть восточного побережья континента с такими арабо-африканскими портовыми городами, как Могадишо, Момбаса и Занзибар.
И все же само отсутствие широких контактов с представителями других цивилизаций также сказывалось на судьбах Тропической Африки, в частности, на темпах развития и стадиальной, и цивилизационной динамике ее обществ *. Парадокс Тропической Африки заключается в том, что изолированность большинства ее социумов от развитых цивилизаций в «доевропей-скую» эпоху тормозило развитие, а когда пришли европейцы, и в межциви-лизационно-межстадиальное взаимодействие постепенно вступил практически весь континент, выяснилось, что для африканцев оно оказалось в общем и целом, мягко говоря, малоплодотворным.
Внутрицивилизационные контакты ситуацию принципиально не меняли: одной из «слабостей» Тропическоафриканской цивилизационной системы была не очень высокая степень внутренней вариативности, как правило, повышающаяся по мере стадиального продвижения обществ 2. За пределами Суданской зоны не сложилась развитая сеть внугриконтинентальной торговли. Достаточно примитивными, хотя и в должной степени эффективными с точки зрения тех утилитарных задач, которым они были призваны служить, являлись средства передачи и особенно — что еще важнее — хранения информации: собственной письменности в полном смысле слова не создал ни один из народов Тропической Африки 3.
Совершенно прав О. Агесси, называя «устность» африканских культур их важнейшей «сущностной характеристикой», а Тропическоафриканскую цивилизацию — «цивилизацией устности» 4, в то время как «письменность, способствуя передаче идей поколениям, порой весьма отдаленным, то есть по сути поддерживая преемственность цивилизации» 5, оказывает большое влияние на ее облик, характер, судьбу. В Тропической Африке же коммемо
Некоторые последствия этого отметил Ю.М. Кобищанов (Кобищанов Ю.М. Африканские цивилизации: становление и эволюция // Африка: культурное наследие и современность. — М., 1985. — С. 76—77).
Ср. с идеей Ф. Гизо и других о значительной степени внутренней вариативности как важнейшей предпосылке возвышения и процветания цивилизации Западной Европы. (См.: Гизо Ф. История цивилизации в Европе (фрагменты) // Европейский альманах. 1990. - М., 1990).
3 Это отразилось и на уровне этнического развития народов доколониальной Тропической Африки: С.А. Арутюновым и Н.Н. Чебоксаровым была продемонстрирована связь образования народностей с появлением письменности, позволившей «перешагнуть уровень пороговой плотности информации» (Арутюнов С.А., Чебоксаров Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и народы. Вып. 2. — М., 1972. — С. 25 и далее).
4 Sow A.I., Balogun О., Aguessy Н, Diagne Р. Introduction a la culture africaine. Aspects generaux. — P., 1977. — P. 162, 171 et al.; Aguessy H. Religions africaines, comme effet et source de la civilisation de 1’oralite // Presence africaine. — 1972, № 82.
3 Блок M. Апология истории, или ремесло историка. — М., 1986. — С. 26.
ративную нагрузку несли ритуалы, изобразительное искусство, задававшие иные цивилизационные измерения обществам континента.
В условиях изоляции цивилизационные черты постепенно, по мере достижения все большим числом обществ раннегосударственных и сопоставимых с ним по уровню сложности социальных структур, приобретали все большую оформленность и завершенность, препятствуя преодолению африканскими социумами этого рубежа, блокируя их дальнейшее стадиальное продвижение. К «европейской» доколониальной эпохе Тропическая Африка подошла с вполне устоявшимся комплексом цивилизационных свойств, обретших устойчивые формы материализации.
«Встроенность» человека и общества в естественную и культурно-историческую среду, неотделенность африканца от средств производства проявлялись, как отмечалось, в том числе в полном отсутствии частной собственности на землю, силе общины, ее устоев и институтов. О.А. Горовой удачно показал, что за этим, в конечном счете, стоит все та же специфика природно-климатических условий '. Родовой и большесемейной же общине свойственен коллективизм, и для Тропической Африки характерен в основных своих чертах коллективистский, не корпоративистско-индивидуалистический тип личности. Главным богатством всегда считалась обширность родственной сети человека, а основным признаком респектабельности — соблюдение обязанностей члена коллектива. «Социальное» богатство в санкционируемой обществом системе ценностей ставилось выше любых материальных сокровищ. Автономизация человеческой личности отнюдь не поощрялась и традиционными верованиями.
Теснейшую связь человека с коллективом (но конечно же не полную зависимость, поглощенность, чего не бывает даже в самых «примитивных» обществах) 1 2, связь, гораздо более крепкую, чем даже в цивилизациях Азии 3, также можно считать сущностной цивилизационной чертой Тропической Африки. Идеи и принципы коллективизма распространялись также на политическую и правовую культуру. Старейшины и даже верховные правители не ощущались как люди, стоящие в стороне от основной массы народа, их власть не была отделена от него. Писанные же впоследствии европейцами законы никогда не воспринимались африканцами, не становились для них выражением непреложных установлений, высшим авторитетом в мирских делах. Во всем этом огромную роль играла актуализированность мифологических пластов сознания и механизмов их мышления, объяснявших и придававших в их собственных глазах законный статус проявлениям цивилизационных свойств и черт континента.
Отмеченные особенности были обусловлены не только цивилизацион-но, но и стадиально: те или иные формы их проявления обнаруживаются у
1 Горовой О.А. Некоторые аспекты цивилизационного развития африканских стран (природные условия и характер социума) // V Всесоюзная конференция африканистов. Вып. II. - М„ 1989.
2
Ср.: Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы поведения в раннепервобытной общине (по австралийским этнографическим данным). — М., 1987.
J Киселев Г. С. Восточный феодализм // Народы Азии и Африки. — 1988, № 4. — С. 71.
очень многих народов, находящихся на соответствующих фазах развития. Однако в тех социумах, где в ходе исторического процесса сформировались другие цивилизационные черты, соответствовавшие тем или иным более высоким стадиям, «изживание» особенностей, характерных для стадий более низких, осуществлялось по меркам исторического времени относительно быстро. В то же время в Тропической Африке после достижения достаточно значительным числом обществ стадии политогенеза цивилизационные свойства начали тормозить стадиальное продвижение социумов, и произошло это еще в «доевропейскую» эпоху.
Таким образом, цивилизационные особенности сыграли решающую роль в определении последствий контактов между Тропической Африкой и Западной Европой еще задолго до появления у африканских берегов первых каравелл белых людей. Они в решающей мере способствовали тому, что Африка в своем стадиальном развитии ко втор. пол. XV в. значительно отставала от Западной Европы и стала объектом ее экспансии. Первопричины африканских драм и трагедий XV—XX вв., следовательно, нужно искать не в исторической, экономической и прочей конкретике этих столетий, а в глубинных цивилизационных процессах, протекавших на континенте много ранее *.
Великие географические открытия явились грандиозным потрясением для всего человечества. Для африканцев же их эпоха означала прежде всего конец в общем и целом изолированного существования. Если во взаимодействие с арабами вступала относительно небольшая часть народов континента (в зонах Сахеля, Судана и его восточного побережья), то контакты с европейцами уже в доколониальную эпоху постепенно приняли (прямо или опосредованно прибрежными обществами) широкий характер. А в колониальный период практически весь континент превратился в зону активного межцивилизационного и межстадиального взаимодействия.
Афро-европейские контакты отличались от афро-арабских и в силу особенностей самой Западноевропейской цивилизации. Ее свойства соответствуют капиталистической системе отношений и в существеннейших моментах совершенно противоположны цивилизационным первоосновам Тропической Африки, не имевшей, таким образом, предрасположенности к плодотворному для себя восприятию европейских импульсов. При этом взаимодействие африканцев с европейцами изначально приняло и межцивилизационный, и межстадиальный характер.
Но неверно было бы полагать, что контакты с европейцами заведомо и изначально были губительны для жителей Черного континента 1 2. Как свидетельствует история, торговые отношения почти всегда приносят пользу обоим контрагентам. Другое дело, что европейцы извлекали из них гораздо больше пользы, чем африканцы в том смысле, что получавшиеся ими афри
1 Бондаренко Д.М. Цивилизация Тропической Африки..., с. 56; Его же. Доколониальная Тропическая Африка: межцивилизационное взаимодействие и социокультурная эволюция // Африка: культура и общество (Исторический аспект). — М., 1995. — С. 30-31.
2 Бондаренко Д.М. Доколониальная Тропическая Африка... — С. 31—33.
канские товары способствовали дальнейшему стадиальному прогрессу Европы. То же, что переходило из белых рук в черные, или вообще не могло способствовать ему, или же, в силу цивилизационной непредрасположен-ноати и стадиальной неподготовленности, воспринималось и заимствовалось в искаженном, извращенном виде, зачастую лишь консервируя архаичные структуры и институты.
История афро-европейских контактов в доколониальные времена подтверждает вывод, согласно которому «воздействия классовых обществ воспринимались СПО (синполитейными — первобытными обществами, существующими одновременно с постпервобытными. — Д.Б.), как правило, не системно, а избирательно, дискретно, то есть в конечном счете элементарно. При этом элементы материальной и духовной культуры воспринимались легче, чем социальные институты» *, особенно если вести речь не о форме, а о сущностном содержании последних. «Там, где господствовали отношения владения (а не собственности. —Д.Б.), где человек был привязан к общности, главной целью производства и присвоения прибавочного продукта не могло оказаться превращение этого продукта в некую самостоятельную ценность. Богатство там никогда не было самоцелью и всегда — лишь средством упрочить свое социальное положение, то есть воспроизвести или расширить свою социальную роль» 1 2.
Так что, говоря о неэквивалентности обмена между европейцами и африканцами (как и между первыми и, например, американскими индейцами или русскими купцами и сибирскими «князьцами») как об обмане одних другими, мы впадаем в грехи европоцентризма и плоского экономизма, поскольку этот обмен был по-своему выгодным для каждой из сторон, и, по крайней мере поначалу, никто не заставлял африканцев обменивать перец или слоновую кость на зеркальца и детские погремушки. Каждый получал то, что ценилось в его обществе: европейцы — богатства материальные, а африканцы — «социальные». В результате обмена «туземец» мог приобрести гораздо больший вес в своем обществе, реально обогатившись, обменяв мешок перца на стеклянные бусы, нежели европеец — в своем обществе благодаря получению этого самого перца.
Очевидна неправота А.А. Столярова, утверждающего, что «воспринимающая культура заимствует только то, что отвечает ее насущным потребностям» 3. Правильно было бы сказать, что воспринимающая культура способна формально заимствовать почти все, что угодно, но «утилизует» новшества в соответствии со своими потребностями, которые эти новшества могут сами отчасти формировать, если разрыв в стадиальном уровне и разница в цивилизационных характеристиках между обществом-донором и об-
1 Первобытная периферия классовых обществ до начала Великих географических открытий (Проблемы исторических контактов). — М., 1978. — С. 258.
2 Киселев Г. С. Присвоение человека: о специфике социальной связи на традиционном Востоке // Народы Азии и Африки. — 1989, № 6. — С. 68.
Столяров А.А. К выработке методики формального исследования проблемы взаимодействия и взаимовлияния культур и цивилизаций // Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на Востоке. Т. I. — М., 1988. — С. 128.
шеством-реципиентом не слишком велика. В то же время, сказанное в предыдущем абзаце вполне согласуется с теорией вхождения инноваций в культуру этноса С.А. Арутюнова
В любом случае, процесс первоначального накопления капитала в Африке, конечно же, не начинался, сколько бы и какие бы богатства не переходили от европейцев к африканцам. «Уроки падения государства Конго, — писал в середине XX в. ганский поэт, философ и историк Р.И. Дж. Арматтоу, — должны быть предупреждением всем африканцам избегать (усвоения) поверхностных проявлений враждебной цивилизации. Чтобы продолжать [автохтонной цивилизации свое существование, враждебная] должна быть привита на прочные основания местных институтов и должна выполнять законные желания... народа» 1 2.
Однако, например, в XVI в. не без европейского (португальского) влияния некоторые виды раковин, металлические бруски и ряд других предметов превращаются во всеобщий обменный эквивалент. Благодаря европейцам обогатилось новыми темами и сюжетами африканское искусство, большинство видов которого именно в «европейскую» доколониальную эпоху, в ее доработорговый период достигло наивысшей степени художественного и технического совершенства. Христианские миссионеры способствовали распространению европейской грамотности среди «верхов» африканских обществ...
Но логика социоисторического, цивилизационного, экономического, политического развития европейских стран подталкивала их к открытию эры широкой работорговли. С ее началом в сер. XVII в. вследствие появления именно в это время в Вест-Индии и Америке плантаций сахарного тростинка и хлопка3 контакты с представителями Западноевропейской цивилизации постепенно в целом перестали иметь преимущественно положительное значение для Тропической Африки.
Несмотря на ведущуюся в мировой науке оживленную дискуссию о характере и степени воздействия европейской работорговли на общества континента, в основе которой лежит то обстоятельство, что одни авторы уделяют больше вимания ее культурным (в широком смысле слова) аспектам, в то время как другие — социальным, невозможно отрицать, что, сколько бы рабов ни было вывезено (а вопрос этот тоже, как известно, остается спорным), потеря миллионов людей оказалась для Африки невосполнимой. При этом дело не только в количестве — в том, что европейцы вывезли больше
1 Арутюнов С.А. Механизмы усвоения нововведений в этнической культуре // Методологические проблемы исследования этнических культур. — Ер., 1978; Его же: Процессы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса // Современная этнография. — 1982, № 1; Его же: Инновации в культуре этноса и их социально-экономическая обусловленность // Этнографические исследования развития культуры. — М., 1985; Его же: Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. — М., 1989.
2 Armattoe R.E.G. The Golden Age of the West African Civilization. — Londonderry, 1946. - P. 30.
3 Впрочем, первые европейские работорговцы появились в Африке гораздо раньше — около 1440 г. См.: Рено Ф., Даже Ф. Африканские рабы в далеком и недавнем прошлом. — М., 1991. - С. 56.
невольников, чем арабы: «если на севере и востоке Африки (где действовали арабы. — Д.Б.) она (работорговля. — Д.Б.) прежде всего сводилась к пополнению гаремов или сералей детьми обоего пола, молодыми женщинами и их оскопленными стражами, то через Атлантику, вне всякого сомнения, вывозилась лишь рабочая сила...» 1
Понизился, в целом, уровень произведений искусства и ремесленных изделий. «Новые направления торговых путей и объекты торговли привели к упадку городов... таких, как Дженне, Тимбукту, Кано и другие. Лишь отдельные города... стали и ныне являются важными административными центрами...» 1 2 Произошло страшное нравственное разложение обществ, которыми «овладела» «лихорадка работорговли» 3. Несмотря на естественную актуализацию ее защитных функций, была подорвана внутренняя целостность Тро-пическоафриканской цивилизационной общности как системы связей между составляющими ее социумами, резко снизилась геополитическая карта континента, расстановка сил на нем. Африканские социумы под воздействием внешнего по отношению к ним фактора в значительной степени утратили способность к саморегуляции, самоконтролю, самовоспроизводству, то есть лишились важнейших системных свойств целостных социальных организмов; началась их дезинтеграция.
Африканцы же, попадавшие в Америку, так или иначе возрождали в более или менее искаженном виде отдельные наиболее устойчивые элементы своей духовной культуры (некоторые верования, музыку, танцы, фольклор), но создание за океаном «филиала» Тропическоафриканской цивилизации, подобного западноевропейским в Южной Африке, Австралии или Новой Зеландии, было невозможно. Прежде всего потому, что африканцы попадали туда в качестве бесправного низшего слоя формировавшихся новых обществ и не имели никакой возможности заложить в их основу свои цивилизационные ценности. Даже там, где африканцы играли наиболее заметную роль, они оказались лишь важнейшим компонентом новой, синтезной социокультурной общности — Карибской.
Только там, где непервобытные элементы были сильны и ранее, работорговля могла способствовать их действительному упрочению. Усиление же большинства работорговых африканских обществ, особенно таких, как Ардра, Бонни, Попо, Окрики и им подобных, до начала эпохи широкой работорговли остававшихся весьма отсталыми на фоне соседей, оказалось во многом эфемерным. «В них усиливались элементы одностороннего приспособления к внешней среде (работорговля, войны, иерархизация правящей верхушки) и падало значение хозяйственных и культурных факторов развития внутренней среды локальных организмов» 4. Недостаточно подкреплен
1 См.: Рено Ф., Даже Ф. Африканские рабы в далеком и недавнем прошлом. — М., 1991. - С. 54.
Львова З.С. Традиционные города Тропической Африки (к постановке проблемы) // Научная конференция «Город на традиционном Востоке». — М., 1988. — С. 44.
з
Абрамова С.Ю. Африка: четыре столетия работорговли. — М., 1978 — С. 26.
4 Следзевский И.В. Социоисторические структуры Западной Африки. Проблемы взаимоотношений местных социальных организмов и исторической среды. Автореф. дис. ... д.и.н. - М„ 1990. - С. 29.
ное факторами внутреннего развития, которыми преимущественно и определяется стадиальная динамика социумов, возвышение подобных обществ не могло быть долговечным.
Те отрицательные моменты (отрицательные, естественно, не абсолютно, а относительно стадиальных и цивилизационных характеристик Западной Европы), которые в «доевропейскую» и в начале «европейской» доколониальной эпох содержались в цивилизационных свойствах Тропической Африки лишь в потенции, проявились во второй половине XVII—XIX вв., оставив континент беззащитным перед натиском работорговцев и тех, кто шел за ними. «Добрый дикарь» в глазах европейцев вновь, как в Средневековье, надолго превратился в ленивого, глупого, но одновременно хитрого и коварного недочеловека. Еще в начале XX в. российский гимназист мог почерпнуть из учебного пособия по географии информацию следующего содержания: «По умственным способностям негров надо поставить много ниже белых и желтых» *. Во многом на африканском «материале» написал «Опыт о неравенстве человеческих рас» и Ж.А. де Гобино.
В последнее столетие накануне колониальной эпохи афро-европейские контакты представляли собой уже, помимо прочего, и взаимодействие доин-дустриального и индустриального миров. В этот период начала сходить на нет работорговля, но давление на Африку лишь усилилось; расширилось политическое и экономическое проникновение европейцев на континент, повысилась мощность воздействия на его социокультурные первоосновы.
Но индустриализации не происходило, как в силу задач колонизаторов, видевших Африку исключительно аграрно-сырьевым придатком метрополий, так и вследствие стадиальной неподготовленности и во многом обусловившей ее цивилизационной непредрасположенности к ней африканских обществ, шедших по преимущественно адаптационному пути развития. Подлинная индустриализация же возможна только на эволюционном пути, когда естественная среда преобразуется как бы извне, через ее решительную трансформацию человеком, осознавшим свою самоценность во Вселенной, отделенность от мира природы и поставившим себя над ним. Возможно, сегодня в замбийском «Медном поясе» больше промышленных предприятий, чем в некоторых западных странах, но кто возьмется утверждать, что именно категориями индустриального общества мыслит рядовой замбиец?!
Все же в доколониальную эпоху, несмотря на произведенное во времена работорговли, Yio выражению Б. Дэвидсона, «великое искажение» во многих сферах бытия африканцев, имманентное стадиальное развитие их обществ в присущих этой цивилизационой среде направлениях и формах еще не было нарушено 1 2. Европейское воздействие, не говоря уже об арабском, оставалось внешним фактором их эволюции. Сохранились прежними по своей сути и социокультурные свойства континента, хотя они и подверглись — в большей или меньшей мере — стимулированной европейцами трансформации.
1 Березин Н. Африка. — СПб., 1912. — С. 84.
Противоположную точку зрения см., в частности, в многочисленных работах В.А. Попова, например: Попов В.А. Этносоциальная история аканов в XVI—XIX веках. Проблемы генезиса и стадиально-формационного развития этнополитических организмов. - М„ 1990. - С. 45-46, 224-225.
Так, определенные перемены произошли в менталитете африканцев. Не деактуализировав иррациональный пласт, сохранив основные формы его проявления: традиционные верования и, прежде всего — культ предков, мифологию, фольклор, ритуалы, сакрализацию носителей власти и т. д., африканское архаическое мышление, общественное и индивидуальное сознание — они оригинально воспроизвели и охватили новые сферы. В них нашли своеобразное отражение и преломление расширение географических горизонтов, встреча с представителями иной цивилизации, расы, культуры, стадии развития, знакомство с новыми, монотеистическими религиями — исламом и христианством. Сознание африканцев в мифологизированных формах воспринимало и конкретные новшества, привнесенные в их повседневную жизнь арабами и европейцами.
Другие цивилизационные особенности Тропической Африки в доколониальную эпоху также были затронуты арабским и, тем более, европейским влиянием, но в еще меньшей степени. Тропическоафриканская цивилизационная общность так и не перешагнула роковой для поддержания ее автохтонной идентичности порог трансформации вплоть до колониальных времен, когда начали предприниматься попытки сознательно и зачастую насильственно изменить и даже «упразднить» столь «мешавшие» европейцам ее социокультурные особенности.
Таким образом, наступление колониальной эпохи было предрешено задолго до ее начала — уже в доколониальный период стала очевидной неспособность народов Тропической Африки, вследствие действия, в первую очередь, цивилизационного фактора, обусловившего различия в стадиальном уровне, выдержать натиск европейцев, чьи притязания все росли, а проникновение на континент становилось все более глубоким и в прямом, и в переносном смыслах. Вступление афро-европейских контактов в новый этап — колониальный — явилось логическим продолжением их на тот момент четырехвековой истории *.
В колониальную эпоху в результате европейского воздействия, превратившегося уже во внутренний, сущностный фактор эволюции африканских социумов, их имманентное стадиальное развитие было нарушено, переведено в новое, «неклассическое» русло. Но и тогда вследствие ряда обстоятельств, отличавших Субсахарскую Африку, к примеру, от Австралии или многих регионов Северной и Южной Америки (более высокая плотность населения и информационных связей, более высокие предельный стадиальный уровень и степень внутренней вариативности, проч.), уничтожить имманентные цивилизационные свойства обществ континента не удалось; они трансформировались, но не исчезли 1 2.
1 Бондаренко Д.М. Тропическая Африка... — С. 17—24; Его же: Доколониальная Тропическая Африка... — С. 36—37.
Маке Ж. Цивилизации Африки южнее Сахары... — С. 17; Cockcroft L. Jounery from the past. — L., 1990; Бондаренко Д.М. [Рец. на: Синицына И.Е. Человек и семья в Африке (По материалам обычного права). — М., 1989] // Народы Азии и Африки. — 1990, № 5. — С. 182—183; Его лее; Тропическая Африка... — С. 25—27.
То есть, сохранилась собственно Тропическоафриканская цивилизационная общность, несмотря на то, что во многих регионах континента произошли наложение на местный социокультурный субстрат норм Мусульманско-Афразийской и Новоевропейской цивилизаций. Несмотря на многочисленные и в общем достаточно серьезные искажения прежней картины, именно благодаря своим цивилизационным свойствам Африка и поныне остается именно Африкой, а не превратилась в «филиал» мира ислама или Западной Европы. Не стала она и чем-то третьим, синтезным, афро-араб-ским или афро-европейским.
И в этом состоит еще один аспект тропическоафриканского парадокса: ведь как раз благодаря во многом тем же самым цивилизационным свойствам общества континента, Тропическоафриканская цивилизационная общность в целом оказалась обреченной на столетие колониальной зависимости и безрадостное существование в сегодняшнем мире.
Колониальная Африка южнее экватора
i
Колониальное освоение африканского побережья в конце XV в. было начато во время поисков путей в Индию. Стоянки-форпосты, которые сооружались вДоль этого долгого пути на африканской земле 1, со временем становились опорными пунктами самостоятельного значения, т. е. исходными точками для развития колониальной торговли, особенно работорговли 1 2 в Тропической Африке.
На первых порах, в XVI—XVIII вв., колонизаторы, начиная с португальцев, не стремились идти вглубь континента. Это было делом сложным, дорогостоящим и опасным. Куда проще было наладить в прибрежных факториях примитивную меновую торговлю и тем создать экономические стимулы для вовлечения африканцев, особенно из числа социальных верхов — старейшин, вождей, в систему торговых связей. Однако в XIX в. картина стала быстро меняться. Торговый колониализм трансформировался в промышленный; на смену португальским и другим работорговцам пришли заинтересованные в сбыте фабричных товаров и эксплуатации богатых природных ресурсов Африки европейские капиталисты.
XIX в. в истории Африки был — особенно его последняя треть — периодом активных колониальных захватов, лихорадочного стремления застолбить за собой всеми правдами и неправдами отторгнутые (купленные, выме
1 См.: Кунин К.И. Васко да Гама. — М., 1947; Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. — М., 1950; Харт Г. Морской путь в Индию. — М., 1954; Вязов Е.И. Васко да Гама. — М., 1956; Горнунг М.Б., Липец Ю.Г., Олейников И.Н. История открытия и исследования Африки. — М., 1973; Бизли Ч.Р. Генрих Мореплаватель. — М., 1979; Мегидович В.И., Мегидович И.П. Очерки по истории географических открытий. В 5-ти т. М., 1982—1986. — Т. 1. — М., 1982; Т. 2. — М., 1983; Ланге П.В. Континент коротких теней. История географических открытий в Африке. — М., 1990; Хазанов А.М. Тайна Васко да Гамы. — М., 2000.
2 См.: Рено Ф., Даже Ф. Африканские рабы в далеком и недавнем прошлом. — М., 1991; Абрамова С.А. Африка: четыре столетия работорговли. — М., 1992.
нянные или взятые силой, добытые в результате обмана) территории, а также временем острого соперничества держав, особенно Англии и Франции, в попытках обогнать друг друга и захватить как можно больше '.
Далеко не всегда захваты такого рода были экономически обоснованными с точки зрения того самого капитализма, интересы которого диктовали приобретение новых колоний и рынков сбыта. Подчас внешне борьба за колонии в Африке выглядела как своего рода политический спорт — во что бы то ни стало обойти соперника и не дать ему обойти себя. Однако, в конечном счете, речь шла именно о том, чтобы, не вдаваясь в мелочные расчеты, приобрести как можно больше чужой земли. Считалось само собой разумеющимся, что рано или поздно эти приобретения окупятся с лихвой, что впоследствии и произошло, не говоря уже о том, что успех или хотя бы участие в этой гонке было делом престижа для европейских стран.
Колонизационные захваты шли в нескольких основных направлениях, всегда с побережья вглубь континента. Одним из направлений было движение с западного побережья в центральные зоны северной саванны, где явственно лидировала Франция. Другим, шедшим ему наперерез, было стремление Англии, освоив благодатные территории юга Африки, двигаться на север, причем чем дальше, тем лучше: в идеале — до Каира. Третьим направлением было освоение арабской и арабоязчной Африки, т. е. всей северной и восточной прибрежной полосы континента, от Мавритании и Марокко до Сомали и Занзибара. Здесь шло острое соперничество между англичанами и французами, хотя свой кусок пытались урвать и другие. Вообще же на долю других — Германии, Италии, Бельгии, Португалии, Испании — досталось не слишком много, не говоря уже о том, что после Первой мировой войны немецкие колонии были поделены между странами-победительницами, в первую очередь между Англией и Францией. На фоне острого соперничества между этими ведущими европейскими державами XIX в. исключением является лишь Южная Африка, где ситуация была несколько иной.
На рубеже XVIII—XIX вв. Капская колония голландских переселенцев-буров перешла под власть Англии, причем столкновения англичан с бурами повлекли за собой резкое расширение зоны колониальных захватов. Треккеры-буры массами мигрировали на север, где в местах расселения бан-туязычных басуто и ндебеле (матабеле) в середине XIX в. ими были созданы независимые республики Трансвааль и Оранжевая. На юге, где оставались англичане (там, впрочем, жила и немалая часть колонистов-буров), в ходе длительных войн с зулусами и коса («кафрами») понемногу расширялись территории Капской колонии и заново созданной на побережье к северо-востоку от нее колонии Наталь (Натал). Кроме того, в середине XIX в. на севере был создан британский протекторат Бечуаналенд, так что обе бурские
Mopemtn Ф. Экваториальная Восточная и Южная Африка. — М., 1951; История Африки в XIX — начале XX в. — М., 1967; Проблемы колониализма и становление антиколониальных сил. — М., 1979; История Африки в конце XIX — начале XX века. — М., 1984; ВасильевЛ.С. История Востока. В 2-хтт. — М., 1988. — Т. 2. Африка: Колониализм и антиколониализм (XIX—XX вв.). — М., 1990; Африка: Колониальное общество и политика. — М., 1993.
республики почти со всех сторон, кроме побережья на востоке, сказались окружены англичанами.
Открытие в конце 60-х гг. XIX в. близ слияния рек Вааль и Оранжевой алмазных россыпей Кимберли (названных по имени британского министра колоний) вызвало в стране алмазную лихорадку, способствовало притоку старателей со всего мира и быстрому экономическому развитию юга Африки. Вторым, столь же мощным толчком для развития, послужило открытие в 80-х гг. золота в Трансваале, где быстро вырос центр золотоискателей Йоханнесбург. Южная Африка стремительно становилась одним из промышленных центров мира. Строились города, железные дороги, возникали многочисленные предприятия, развивалась сфера обслуживания. Резко возрастала численность рабочих как из числа приезжих европейцев, так и из среды законтрактованных африканцев. Создавались мощные капиталистические компании, одна из которих — «Де Беерс» (Бирс) во главе с С. Родсом 1 — вскоре стала практически монополистом в деле добычи алмазов.
Голландские колонисты-буры, занижавшиеся сельским хозяйством и выше всего ценившие собственную независимость, считавшие незыблемым свое право повелевать чернокожими работниками, к которым они относились почти как к рабам, долгое время сопротивлялись натиску англичан и британского торгово-промышленного капитала. Однако в ходе нескольких военных столкновений, особенно после англо-бурской войны 1899—1902 гг. 2, это сопротивление было подавлено, а бурские колонисты, объединившиеся с англичанами в рамках единого государства — Южно-Африканского Союза (1910) — не только энергично влились в рады политического руководства новой страной, получившей статус доминиона Британской империи, но и в некотором смысле задали тон в ее внутренней политике: именно благодаря их усилиям расцвел здесь зиждившийся на официально провозглашенной расовой дискриминации апартеид 3.
Законом 1913 г. африканцы были ограничены в правах: им запрещалось приобретать землю вне резерватов, они могли владеть участками арендованной земли лишь при условии отработок на землях хозяина. Была введена система пропусков, которые должны были удостоверять право африканцев находиться на территории вне резерватов, — работать же горнякам и рабочим иных специальностей (в основном это была черная работа; квалифицированную выполняли рабочие-европейцы) приходилось именно вне резерватов, т. е. на основной части территории страны, быстро развивавшейся в промышленном отношении.
1 Глущенко Е.А. Строители империй. Портреты колониальных деятелей. — М., 2000.
Никитина И.А. Захват бурских республик Англией (1899—1902). — М., 1970; Шубин Г.В. Российские добровольцы в англо-бурской войне 1899—1902 гг. (по материалам Российского государственного военно-исторического архива). — М., 2000; Воропаева Н.Г., Вяткина Р.Р., Шубин Г.В. Англо-бурская война 1899—1902 гг. По архивным материалам и воспоминаниям очевидцев. — М., 2001.
Апартеид. Его последствия для образования, науки, культуры и информации. — М., 1969; Городнов В.П. Южноафриканский рабочий класс в борьбе против реакции и расизма (50—60-е гг. XX в.). — М., 1969; Давидсон А.Б. Южная Африка. Становление сил протеста. — М., 1972; Давидсон А.Б., Маркушин В.А. Облик далекой страны. — М., 1975.
Хотя африканские рабочие Южной Африки уже с конца позапрошлого века начали активно бороться за свои права и создавать профсоюзные и иные организации, эта борьба ощутимых результатов не давала. Конечно, в ходе нее приобреталось немало из того, чего были лишены африканцы в других районах континента: они имели гарантированную зарплату, их дети могли (пусть не все) учиться, что вело к появлению образованного африканского населения, интеллигенции, возглавлявшей борьбу за политические права и свободы. Но жесткая система апартеида строго ограничивала пределы упомянутой борьбы, во главе которой с 1912 г. встал Африканский национальный конгресс (АНК).
Рабочий-негр, равно как и интеллигент (учитель, священник, публицист, врач), принадлежали как бы к иной породе людей в глазах властей. Не было и речи об участии африканцев в выборах: в лучшем случае им милостиво предоставлялась возможность посылать в парламент несколько депутатов из числа избранных ими европейцев. Не приходится говорить и об ограничениях в пользовании жильем, транспортом, больницами, парками и т. п., просуществовавших до относительно недавнего времени. «Только для белых» — этот трафарет был очень распространен во многих общественных местах, причем после официального разрыва Южно-Африканской Республики в 1961 г. с Британским содружеством наций под давлением других государств, входящих в это содружество, апартеид не только не был смягчен, но в некоторых отношениях даже усилился.
Колонизация Южной Африки и создание Южно-Африканского Союза как многорасового государства с политико-правовым и социально-экономическим превосходством европейского населения, численно составляющего менее 20 % жителей страны (а с цветными и индийцами, наделенными некоторыми правами по сравнению с африканцами, но явно дискриминируемыми по отношению к европейцам, — около 30 %), — явление уникальное не только в Африке, но и вообще в мире.
Уникальность его не только в вызывающей жесткости апартеида, поскольку аналогичные явления в принципе хорошо знакомы из истории (достаточно вспомнить о древнеиндийских варнах и вообще о неполноправности различных социальных слоев в традиционных обществах). Скорее она в парадоксальности ситуации: негритянское большинство Южно-Африканской Республики, в немалой степени скомпонованное за счет миграции туда отходников чуть ли не со всей Тропической Африки, имело весьма высокий по африканским стандартам уровень жизни, включая образовательний ценз и степень политической активности, но при этом было низведено до статуса бесправного сословия, презираемых социальных низов. Совершенно очевидно, что такого рода ненормальная ситуация была политически опасна, вела к взрыву, что особенно заметно стало ощущаться во второй половине XX в. Не будучи колонией в собственном смысле слова, являясь богатой и процветающей капиталистической страной, ЮАР вплоть до сравнительно недавнего времени воспринималась как кричащий символ колониализма, особенно на фоне практически всеобщей деколонизации.
Страх белого меньшинства потерять власть явился причиной жестких расовых ограничений, апартеида, долгие десятилетия бывшего зловещим
символом ЮАР. Апартеид вызвал мощное национальное, даже расовое движение черного населения, основной поток которого был возглавлен АНК. Вооруженные отряды АНК одно время были серьезной силой, угрожавшей стабильности ЮАР и опиравшейся на активную поддержку окружающих ЮАР стран так называемой прифронтовой зоны ’.
Ситуация стала заметно меняться после прихода в 1989 г. к власти правительства Ф. де Клерка, который выступил за достижение компромисса и создание государства без апартеида. Многие апартеидные запреты и ограничения были официально сняты уже в 1990 г., но психология апартеида, естественно, жива.
Обстановка в ЮАР сильно осложняется трибализмом, проявляющимся, в частности, в противостоянии многочисленной зулусской организации Инката и АНК. Это противостояние нередко выливается в кровавые межплеменные столкновения. Переговоры между АНК и Инкатой в 1991 г. сняли остроту разногласий, но не ликвидировали их. В целом важно констатировать, что начало 90-х годов прошло в ЮАР под знаком поиска и достижения компромисса, что внушает надежды на позитивное решение расовых и политических проблем в этой развитой и богатой стране Африки. Что касается экономики ЮАР, то уровень жизни здесь высок именно из-за ее развитости (золото, алмазы, машиностроение, металлургия, химия, судостроение и т. п.).
Более высокий уровень жизни, чем где-либо еще в Африке, позволяет и черным жителям ЮАР обрести сравнительно высокий уровень жизни, получать образование, участвовать в работе многочисленных партий и общественных организаций, вырабатывать — что видно, в частности, на примере АНК — уже не племенное, а национальное самосознание (за АНК, по некоторым подсчетам, стоит до 60 % черного населения, представителей разных племен) 2.
В отличие от ЮАР все остальные южноафриканские колонизованные европейцами страны в целом соответствуют единому общему стандарту. Охарактеризуем их в немногих словах.
В 1888 г. агенты британской Южно-Африканской компании, возглавлявшейся С. Родсом, добились от вождя мигрировавших в междуречье Лим-
Моретт Ф. Экваториальная Восточная и Южная Африка. — М., 1951; Ястребова И.П. Южно-Африканский Союз после второй мировой войны. — М., 1952; Давидсон А. Б., Маркушин В.А. Облик далекой страны. — М., 1975; История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. — М., 1976; Проблемы колониализма и становление антиколониальных сил. — М., 1979; Шубин В.Г. Африканский национальный конгресс в годы подполья и вооруженной борьбы. — М., 1999; Южная Африка. Очерки социально-экономического и политического развития. — М., 1999.
Шубин В.Г. ЮАР: создание нерасового государства / Ученые записки. Выпуск 2. — М., 1998; Его же: Африканский национальный конгресс в годы подполья и вооруженной борьбы. — М., 1999; Южная Африка. Очерки социально-экономического и политического развития. — М., 1999; Притворов А.В. Южная Африка и другие страны южноафриканского региона в эпоху перемен. — М., 2002; Южная Африка на пороге третьего тысячелетия. — М., 2002; Грибанова В.В. Образование в Южной Африке. От апартеида к демократическим преобразованиям. — М., 2003.
попо и Замбези матабеле Лобенгулы исключительного права на разработку минеральних богатств в землях машона, где теперь господствовали матабеле. Получив от королевы Виктории хартию на право управлять приобретенными территориями (эта хартия превращала компанию в административно автономную структуру с огромной властью, нечто вроде Ост-Индской компании в прежние времена), С. Родс организовал ряд военных экспедиций, в ходе которых, несмотря на ожесточенное сопротивление местного населения ', здесь, на землях древней Мономотапы 1 2, была создана английская колония, названная его именем, — Родезия (Южная Родезия). Вслед за тем в борьбе за левобережье Замбези С. Родс столкнулся с соперничеством базировавшихся в Мозамбике португальцев. Итогом этой борьбы было отступление португальцев и расширение границ Родезии на севере (Северная Родезия), а также объявление соседних к востоку территорий английским протекторатом Ньясаленд (1891).
Аннексированные компанией С. Родса земли оказались чрезвычайно богатыми медью, особенно Северная Родезия (совр. Замбия). В начале XX в. они стали активно осваиваться: строились железные дороги, рудники, рядом создавались плантации (хлопок, сахарный тростник, табак, арахис), выращивались товарные сорта риса и кукурузы3. Медь, золото и иные руды, равно как и продукты сельского хозяйства, шли на экспорт. Однако, несмотря на это, промышленное развитие шло медленно, а большинство рабочих рук уплывало на юг — речь о рабочих-отходниках, работавших на южноафриканских предприятиях.
Влияние с юга оказывало воздействие на развитие обеих частей Родезии и Ньясаленда. Здесь, нередко с участием возвратившихся на родину отходников, создавались политические организации, в частности, Африканский национальный конгресс. Но рабочие и тем более образованные слои населения численно росли медленно и заметной роли в жизни своих стран не играли. Вся политическая жизнь, особенно в Южной Родезии, где было значительное число европейских колонистов (около 5 % населения), сосредоточивалась в руках белых поселенцев — фермеров, торговцев и предпринимателей. С 1923 г. Южная Родезия (совр. Зимбабве) стала самоуправляющейся колонией. В 1953 г. была создана единая Федерация Родезии и Ньясаленда, распущенная в 1963 г. Рост национально-освободительного движения среди африканского населения привел к завоеванию независимости: Ньясаленд (Малави) добился ее в 1964 г., Замбия — тоже в 1964 4, а борьба за независимость Зимбабве вследствие сопротивления европейского меньшинства затя
1 Давидсон А. Б. Метабеле и машона в борьбе против английской колонизации 1888-1897 гг. - М„ 1958.
2
Фадеев Л.А. Мономотапа. Древняя африканская цивилизация в междуречье Замбези—Лимпопо // Африканский сборник IV. — ТИЭ, Нов. сер., Т. 72. — М.—Л., 1962.
J Сванидзе И.А. Сельское хозяйство Северной Родезии. — М., 1963.
Демкина Л.А. Крах Федерации Родезии и Ньясаленда. — М., 1965; Липец Ю.Г. Страны Юго-Восточной Африки. — М., 1968; История Замбии в новое и новейшее время. — М., 1990.
нулась надолго, вплоть до рубежа 70—80-х годов, когда к власти пришло правительство Р. Мугабе.
Параллельно с движением английских колонизаторов на север шел процесс колониального освоения европейскими державами восточного побережья Южной Африки. Здесь тесно сплелись интересы нескольких держав — Англии, Франции, Германии, Португалии.
Португальский Мозамбик как крепость был основан еще в начале XVI в.’, после чего немногочисленнные португальские форты на восточноафриканском побережье служили преимущественно для нужд работорговли. Только в конце XIX в., когда раздел Африки принял формы ажиотажа, португальские колониальные власти с помощью многочисленных съезжавшихся сюда авантюристов и любителей легкой наживы стали энергично продвигаться вглубь континента. Колонизация Мозамбика в его современных границах привела на рубеже XIX—XX вв. к созданию здесь плантационного хозяйства (сахарный тростник, хлопок) и к массовым контрактациям африканцев как для работы на упомянутых плантациях, так и для поставки их в организованном порядке (за немалую плату) в качестве рабочих-отходников для шахт Трансвааля.
Поражение Германии в Первой мировой войне привело к присоединению к португальским владениям части германской Восточной Африки. Но сама экономически отсталая Португалия не была в состоянии наладить процветающее плантационное хозяйство и необходимую для этого инфраструктуру. Результатом было, с одной стороны, активное проникновение в Мозамбик английского и американского капитала, а с другой — сравнительная отсталость колонии, неразвитость ее хозяйства, консервация примитивных форм жизни. В 1951 г. колония стала заморской провинцией Португалии, что формально несколько повысило ее статус, но практически ничего не изменило. В 1964 г. здесь началась вооруженная борьба за освобождение под руководством партии (движения) ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика) *, руководитель которой С. Машел в 1975 г., после революции в Португалии и предоставления Мозамбику независимости, стал его первым президентом.
Германия позже других приступила к борьбе за колонии. В 1884 г. она стала аннексировать земли восточного побережья Африки и прсле заключения ряда договоров, в частности с Англией о разделе сфер влияния, объявила своей колонией германскую Восточную Африку, где начала налаживать плантационное хозяйство, строить железные дороги. Но после поражения Германии в Первой мировой войне эта колония была поделена между Португалией, Бельгией и Англией, которой досталась основная ее часть.
Англия получила Танганьику. Вместе с расположенным рядом островом Занзибар, который стал британским протекторатом еще в 1890 г., Танганьи
Сильва Ж. де. Португальские колонии в Африке. — М., 1962; Хазанов А.М. Политика Португалии в Африке и Азии. — М., 1967; Шейнис B.JI. Португальский империализм в Африке после второй мировой войны. — М., 1969; Мондлане Э. Борьба за Мозамбик. — М., 1972.
ка была ценна скорее как стратегически выгодная территория с богатыми торговыми возможностями, нежели как страна, богатая ресурсами. Подобно находившимся чуть к северу от нее Уганде, которая в ходе соперничества с Францией и Германией в конце XIX в. стала колонией Англии и была превращена в крупнейшего экспортера хлопка и кофе, и Кении (экспорт кофе, сизаля, пиретрума), Танганьика составила основу восточноафриканских владений Британии. Танганьика во главе с Африканским национальным союзом, созданным в 1954 г., добилась независимости в 1961 г. и стала республикой в 1962 г. 26 апреля 1964 г. Танганьика и Занзибар образовали Объединенную Республику Танзания *.
Недовольство местного населения, подчас принимавшее форму вооруженных выступлений, вынуждало англичан либо идти на определенные уступки (в Уганде в 40-х гг. XX в. в Законодательный совет колонии было введено несколько африканцев), либо долгое время вести изнурительное противоборство (выступление племени гикуйю, или кикуйю, в Кении).
Сильное политическое движение в Кении, в котором заметную роль играли террористические акции тайной организации Мау-мау, доставило колонизаторам больше всего хлопот и в немалой мере способствовало как росту самосознания африканцев, так и вынужденным уступкам со стороны англичан. В 1956 г. африканцам были предоставлены ограниченные избирательные права, расширено их представительство в созданном еще в 1906 г. Законодательном совете. В 1960 г. было разрешено создание политических партий, после чего под давлением этих партий, особенно КАНУ (Национальный союз африканцев Кении) во главе с Д. Кениатой, англичане приняли в 1962 г. проект конституции. В 1964 г. Кения стала независимой республикой * 2.
В Уганде созданный в 1952 г. Национальный конгресс и образованная в 1956 г. Демократическая партия добились большинства на выборах 1961 г. в Законодательный совет. В 1962 г. была провозглашена независимость страны, но внутренние разногласия и, в частности, претензии короля Буганды на привилегированное положение в новом государстве, сильно ослабляли
Моретт Ф. Экваториальная Восточная и Южная Африка. — М., 1951; Кацман В.Я. Танганьика (1946—1961). — М., 1962; Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке. — М., 1963; История Африки в XIX — начале XX в. — М., 1967; Новейшая история Африки. — М., 1968; Малов Ю.А., Попырин В.И. Танзания. — М., 1970; Спицына И.Е. Танзания. Партия и государство. — М., 1972; Чижов Н.Н. Танзания. — М., 1972; Африка: Колониализм и антиколониализм (XIX—XX вв.). — М., 1990; Африка: Колониальное общество и политика. — М., 1993.
2
Моретт Ф. Экваториальная Восточная и Южная Африка. — М., 1951; Исмагилова Р.Н., Таланова Е.В. Кения, Уганда. — М., 1959; Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке. — М., 1963; Его же: Кения: ультиматум колониализму. — М., 1964; История Африки в XIX — начале XX в. — М., 1967; Новейшая история Африки. — М., 1968; Владимиров Л. С. Рожденная в огне. Путь Кении к независимости. — М., 1972; Пегу-шев А.М. Кения. Очерк политической истории (1956—1969). — М., 1972; Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в XIX—XX вв. Хозяйство и социальная организация. — М., 1989; Африка: Колониализм и антиколониализм (XIX—XX вв.). — М., 1990; Африка: Колониальное общество и политика. — М., 1993.
центральное правительство. Но в 1966 г. премьер и лидер Национального конгресса М. Оботе сместил короля с поста президента и сам занял этот пост *. Как известно, в дальнейшем внутренняя слабость власти стала причиной национальных трагедий угандийцев, в частности тех, кому довелось жить в годы правления диктатора Иди Амина.
Заканчивая обзор процесса колонизации юга Восточной Африки, следует упомянуть, что расположенный рядом с континентом остров Мадагаскар стал добычей Франции. В 1885 г. вторгшиеся на остров французы заставили правителя государства Имерина заключить с ними неравноправный договор, а в 1896 г. остров стал колонией. Уровень развития мальгашей, предки которых происходили из восточной части Индийского океана, с территорий современных Малайзии и Индонезии, был достаточно высоким по сравнению с соседними африканскими народами. Неудивительно, что страна оказывала ожесточенное сопротивление колонизаторам. Сначала это были стихийные движения, восстания крестьян, жестоко подавлявшиеся (по некоторым данным, эта борьба стоила 700 тыс. жизней, что составляло почти треть населения острова). Затем сопротивление приняло формы политической оппозиции, национально-освободительных движений, забастовок и т. п. Благодаря хорошо налаженному в XIX в. еще до вторжения колонизаторов просвещению и книгоиздательскому делу на родном языке, росли ряды образованных людей, национальной интеллигенции, приобщавшейся и к великим традициям французской культуры.
Больших успехов в развитии промышленности колонизаторы не добились, а все усиливавшаяся борьба за национальное освобождение вынуждала их идти на уступки. В 1958 г. Мальгашская республика добилась статуса автономной в рамках Французского союза, а в 1960 г. стала независимым государством 2.
Процесс колониального освоения западного побережья Южной Африки и примыкающего к нему с севера бассейна Конго шел параллельно тому, что происходило на юге континента и на юго-восточноафриканском побережье.
Кресин Р. Уганда. — Харьков, 1903; Моретт Ф. Экваториальная Восточная и Южная Африка. — М., 1951; Исмагилова Р.Н., Таланова Е.В. Кения, Уганда. — М., 1959; Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке. — М., 1963; История Африки в XIX — начале XX в. — М., 1967; Новейшая история Африки. — М., 1968; Капелуш С.И. Уганда. —>М., 1976; Балезин А.С. Африканские вожди и правители Уганды. — М., 1986; Его же: У Великих африканских озер. Монархи и президенты Уганды. — М., 1989; Позднякова А.П. Уганда. Справочник. — М., 1998.
Рабеманандзара Р. Мадагаскар. История мальгашской нации. — М., 1956; Орлова А.С. Общественный строй мальгашей в XIX в. — М., 1958; Буато П. Мадагаскар. Очерки по истории мальгашской нации. — М., 1961; Корнеев Л А. Образование Мальгашской республики. — М., 1963; Бардина Ю.Я. Малагасийская республика. — М., 1972; Субботин В.А. Французская колониальная экспансия в конце XIX в. (Экваториальная Африка и острова Индийского океана). — М., 1962; Его же. Колонии Франции в 1870—1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского океана. — М., 1973; Демократическая Республика Мадагаскар. — М., 1985; Емельянов А.Л., Мыльцев А.А. Забытая история великого острова. — М., 1990.
Разница — и довольно существенная — заключалась в том, что здесь в колонизации не участвовали англичане. Это была сфера интересов других держав — Португалии, Германии, Бельгии, Франции.
С начала 80-х годов XIX в. Германия стала строить планы захвата юго-западного побережья Африки (совр. Намибия). В 1884 г. значительная часть побережья и прилежащие к нему территории континента стали зоной влияния, а затем и колонией Германии (германская Юго-Западная Африка). Правда, взять с этих бедных земель, малопригодных для земледелия (пустыня Калахари), было почти нечего. Они были важны как стратегический плацдарм (о богатых рудных ресурсах Намибии, открытых лишь в середине XX в., тогда, естественно, не знали). Но дальнейшему продвижению вглубь Африки помешали англичане, а восстание племен гереро и намо против германской колониальной администрации, проявлявшей себя весьма жестко даже на фоне далеко не слишком либеральной английской, длилось свыше двадцати лет, с середины 80-х по 1907 г. И хотя после этого жесткая колониальная власть немцев была упрочена, длилась она недолго: Первая мировая война покончила с колониями Германии, а Намибия стала подмандатной территорией Южно-Африканского Союза. С конца 60-х гг. развернулась вооруженная борьба против расистского режима ЮАР, которую возглавила Народная организация Юго-Западной Африки. Она увенчалась успехом с падением режима апартеида в ЮАР ’.
Территория к северу от Намибии, Ангола, была частично освоена португальцами еще на рубеже XV—XVI вв. Здесь, как и в расположенных к северу от Анголы прибрежных землях Конго, были торговые фактории, занимавшиеся на протяжении веков работорговлей. Начатое в середине XIX в. проникновение португальцев вглубь материка привело к постепенному освоению Анголы в ее нынешних границах. На смену запрещенной работорговле пришла контрактация местного бантуязычного населения для работ как на ангольских плантациях, в обилии создававшихся португальскими колонистами, так и на плантациях островов Сан-Томе и Принсипи, тоже принадлежавших Португалии. Плантационное хозяйство было связано с виращива-нием сахарного тростника, кофе (на Сан-Томе — какао). С начала XX в. стали развиваться горнодобывающие промыслы (алмазы, марганцевая и железная руда), строиться железные дороги.
Провозглашение республики в Португалии (1910) способствовало некоторому смягчению колониальной политики. Среди африканского населения стала выделяться группа привилегированных — «цивилизованных» или «ассимилированных», т. е. тех, кто умел говорить, читать и писать по-португальски и имел достаточный для существования регулярный доход. Таких был примерно 1 % населения, но именно на них опирались колонизаторы в своей административной политике. В 1951 г. Анголе, как и Мозамбику, был
Ферст Р. Юго-Западная Африка. — М., 1965; Галибин А.И. Намибия (Юго-Западная Африка) в планах колонизаторов 1946—1970 гг. — М., 1971; Белезин А.С., Притворов А.В., Слипченко С.А. История Намибии в новое и новейшее время. — М., 1993.
предоставлен статус заморской провинции. Одновременно в стране стало разворачиваться движение за национальное освобождение, которое в 1961 г. приняло характер вооруженных выступлений. Ведущее место в борьбе заняло созданное в 1956 г. движение МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы), которое после апрельской революции 1974 г. в Португалии возглавило в 1975 г. независимую Народную Республику Ангола, провозглашенную в ноябре того же года (ее первым президентом стал руководитель МПЛА А. Нето) '.
Бассейн Конго был сферой влияния португальцев с XVI в., когда значительная часть правящих верхов государства Конго во главе с королем приняли католичество 2. Проникновение португальцев и их активная роль в политических перипетиях в районе бассейна Конго, равно как и вывоз рабов (по некоторым данным, из этого района Африки их всего было вывезено до 13 млн), привели к упадку и развалу королевства в начале XIX в. Ушли отсюда и португальцы. В конце XIX в. начался новый этап колонизации территории бассейна Конго.
В 1876 г. по инициативе бельгийского короля Леопольда II была создана Международная ассоциация для «исследования и цивилизации» Центральной Африки. На службу ассоциации были призваны такие знаменитые путешественники и исследователи Африки, как соратник Д. Ливингстона Г. Стэнли, уже прославившийся своими открытиями и публикациями. Серия его экспедиций в бассейне Конго сопровождалась созданием нескольких десятков форпостов и военных постов и заключением множества договоров с местными вождями, предоставлявшими ассоциации различные права и привилегии в этом районе Африки. На Берлинской конференции 1884—1885 гг. интересы и статус ассоциации как административного образования были признаны державами, после чего в августе 1885 г. было создано Независимое государство Конго во главе с Леопольдом (в 1908 г. оно стало колонией Бельгии под названием «Бельгийское Конго»),
Открытое для европейского капитала государство в бассейне Конго стало быстро осваиваться. Англичане строили железные дороги, бельгийцы и представители иных европейских стран активно осваивали горнорудные богатства Шабы (Катанги). Создавались плантационные хозяйства с принуди
Силъва Ж. де. Португальские колонии в Африке. — М., 1962; Падуа М. де. Война в Анголе. — М., 1965; Оганисян Ю.С. Национальная революция в Анголе. — М., 1968; Хазанов А.М. Политика Португалии в Африке и Азии. — М., 1967; Его же: История Анголы в новое и новейшее время (до 1975 г.). — М., 1999; Шейнис В.Л. Португальский империализм в Африке после второй мировой войны. — М., 1969; Даш Дореш Себаштъян Б.Л. Ангола: современное состояние, перспективы развития, отношения с Россией. / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Выпуск 7. — М., 1999; История Анголы в новое и новейшее время (до 1975 г.). — М., 1999; «Ангола. 25 лет независимости: итоги и перспективы». Российско-ангольский научный коллоквиум (Москва, 8—10 ноября 2000 года). — М., 2002; Токарев А.А. ФНЛА в антиколониальной борьбе и гражданской войне в Анголе. — М., 2006.
z Орлова А. С. История государства Конго (XVI—XVII вв.). — М., 1968.
тельным трудом законтрактованных африканцев (в основном занимались выращиванием гевеи и производством каучука). Быстрыми темпами развивалась промышленность, создавались города — Леопольдвиль, Стэнливиль, Элизабетвиль и др. Из местного населения были созданы вооруженные силы и полицейские отряды «Форс пюблик», которые сыграли свою роль в годы Первой мировой войны и, в частности, позволили бельгийцам аннексировать густозаселенные Руанду и Бурунди, бывшие до того частью германской Восточной Африки.
Жестокое обращение с африканским населением было в Бельгийском Конго нормой, хотя порой и вызывало протесты. Но промышленное развитие колонии, особенно Катанги, шло быстрыми темпами. После Второй мировой войны в городах страны проживало около 25 % населения — довольно много для Африки того времени. С начала 40-х гг. в Бельгийском Конго возникло массовое рабочее движение, а в 1956 г. наметился мощный подъем национально-освободительного движения, связанный с именем и деятельностью П. Лумумбы. В 1960 г. Конго стало независимым государством (с 1971 г. — Заир, сегодня — Демократическая республика Конго) '.
К северу от Конго-Заира, на правобережье нижнего течения Конго, в начале 80-х гг. XIX в. создалась зона влияния Франции (в 1880 г. французский офицер де Бразза заключил с местным вождем договор, по которому Франция получила особые права в этих землях, после чего здесь был выстроен форт, будущий Браззавиль) * 2. Французы и бельгийцы пытались наладить здесь плантационное хозяйство (кофе, какао, сахарный тростник, пальмовое масло), строили дороги, промышленные предприятия. В целом, однако, уровень развития хозяйства был невысоким, особенно по сравнению с Бельгийским Конго. В 1946 г. африканцам были предоставлены некоторые политические права, а в 1957 г. их представители были включены в администрацию колонии. В 1958 г. французское Конго стало автономным государством (Республика Конго) в рамках Французского союза (как и Мадагаскар), а в 1960 — независимой республикой, которую с 1963 г. возглавило радикально настроенное правительство во главе с А. Массамба-Деба.
Мартынов В.А. Конго под гнетом империализма. — М., 1959; Зусманович А.З. Империалистический раздел бассейна Конго (1876—1894). — М., 1962; Мерлие М. Конго. От колонизации до независимости. — М., 1965; Винокуров Ю.Н. Конго. Трудный путь к независимости. — М., 1967; Его же: Демократическая Республика Конго: Власть и оппозиция. — М., 2003; Тропическая Африка (проблемы истории). — М., 1973; Африка: Колониализм и антиколониализм (XIX—XX вв.). — М., 1990.
2 Зусманович А.З. Империалистический раздел бассейна Конго (1876—1894). — М„ 1962; Субботин В.А. Французская колониальная экспансия в конце XIX в. (Экваториальная Африка и острова Индийского океана). — М., 1962; Его же: Колонии Франции в 1870—1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского океана. — М., 1973.
Территории к югу от Сахары в эпоху колониализма. Западная и Центральная Африка. Эфиопия.
Если на юге Африки явственно лидировали англичане, а французов почти не было, то зона северной саванны и тропических лесов, напротив, оказалась плацдармом острого соперничества между Англией и Францией при третьестепенной роли некоторых других держав. К сказанному стоит добавить, что в ходе этого соперничества шла борьба не столько за территории (здесь бесспорно лидировала Франция — достаточно вспомнить о включенных в ее колониальную империю песках Сахары), сколько за экономически наиболее ценные и к тому же достаточно густо заселенные районы Гвинейского побережья, где позиции Англии были, пожалуй, предпочтительнее *.
Английские колонии в Западной Африке оказались сосредоточенными в тех районах бассейна р. Вольты и нижнего Нигера, где издревле существовали прото- и раннегосударственные образования и где достаточно прочные позиции давно уже завоевал ислам, что также наложило на процесс колонизации заметный отпечаток. Можно напомнить и о том, что в эпоху энергичной колонизации, раздела Африки в конце XIX в., англичане были в этом районе Африки отнюдь не новичками: их первые торговые фактории появились на территории Золотого Берега в 1631 г., а на побережье Сьерра-Леоне — еще в середине XVI в.
Среди африканских государств на Гвинейском побережье особое место занимает Либерия * 2, созданная рабами-переселенцами из США. Прибыв в Либерию в 1822 г., эти переселенцы создали республику в 1857 г. И хотя взаимоотношения переселенцев с местным аборигенным населением складывались негладко, в целом на примере Либерии можно говорить о первой в истории негритянской конституционной республике, идейно и институционально ориентировавшейся на передовой для своего времени американский конституционный стандарт.
Дальнейшая судьба этой страны во многом зависела и от превратностей мирового рынка (страна специализировалась на добыче железной руды и производстве каучука), и от политики западных держав (экономическое закабаление в начале XX в., вплоть до неплатежеспособности страны в 1905 г.), и от деятельности иностранного капитала (строительство железных дорог, плантаций). Но все же Либерия оставалась свободной республикой с постепенным увеличением количества имеющего право голоса туземного
Черч Дж. Западная Африка. — М., 1959; Сюрэ-Каналь Ж. Африка Западная и Центральная. География. Цивилизация. История. — М., 1961; Субботин В.А. Французская колониальная экспансия в конце XIX в. (Экваториальная Африка и острова Индийского океана). — М., 1962; Его же: Колонии Франции в 1870—1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского океана. — М., 1973; Тропическая Африка (проблемы истории). — М., 1973; Страны и народы. Западная и Центральная Африка. — М., 1979; История Тропической Африки. — М., 1984; Африка: Колониализм и антиколониализм (XIX—XX вв.). — М., 1990.
2 Ходом И.А. Либерия (Исторический очерк). — М., 1961; Егоров В. Либерия после второй мировой войны. — М., 1963; Френкель М.Ю. США и Либерия. — М., 1964; Его же: История Либерии в новое и новейшее время. — М., 1999.
африканского населения, а также людей образованных, в том числе интеллигентов. Либерия на фоне колониальной Африки — своего рода исключение, как и расположенная на другой стороне континента и во многом очень не похожая на нее, но тоже сохранившая свою свободу Эфиопия.
Вернемся к английским колониям и начнем со Сьерра-Леоне 1. В конце XVIII в. англичане привезли сюда большую группу африканцев из числа освобожденных ими рабов, потомки которых (многие из них были креолами-метисами) стали заметной частью местного африканского населения. Правда, республики по образцу Либерии потомки рабов в Сьерра-Леоне так и не создали. Но, опираясь на них, англичане наладили здесь неплохую систему администрации, способствовали развитию торговли и мелкого предпринимательства, приступили к выращиванию гевеи, а с начала XX в. — к горнодобывающему промыслу (добыча хромовой руды, железа, алмазов). Строились дороги и порты, формировалось городское население, возникал слой образованной интеллигенции.
С 20-х гг. XX в. в стране возникли различные просветительские организации, в 40-х гг. — партии и профсоюзы. Уже в 20-е гг. были созданы Законодательный и Исполнительный советы, управлявшие колонией, причем в обоих органах, контролировавшихся генерал-губернатором, африканцы получили заметное представительство. Конституция 1957 г. и проведенные на ее основе выборы дали власть Народной партии, правительство которой в 1961 г. провозгласило независимость Сьерра-Леоне (в 1971 г. она была объявлена республикой).
В конце XVIII в. после ожесточенного соперничества держав (Англии, Франции, Голландии) узкая полоса земли вдоль нижнего течения реки Гамбия была признана владением Британии. Вначале колония административно подчинялась Сьерра-Леоне, затем была выделена в отдельную колонию (с 1843 г.), а на рубеже XIX—XX вв., после подавления восстания местного населения во главе с руководителем мусульманской секты марабутом Фоди Кабба, официально стала протекторатом. Будучи затем превращенной в страну монокультуры (гамбийцы выращивают и продают арахис), эта небольшая колония лишь в середине XX в. стала активно бороться за свое освобождение. Конституции 1959 и 1962 гг. предоставили немало политических прав африканскому населению, а вслед за тем в 1965 г. Гамбия добилась независимости * 2.
Золотой Берег (современная Гана) с его золотыми приисками с XVI в. был объектом соперничества колониальных держав, но постепенно основные позиции здесь заняла Англия. Заселенная племенами фанги, ашанти и некоторыми другими, в основном выходцами из древней Ганы после завоевания ее Альморавидами Магриба в XI в., эта колония расположена в бассейне р. Вольты. Укрепление здесь с начала XIX в. позиций Англии привело
Мадор Ю. Сьерра-Леоне вчера и сегодня. — М., 1961; Прибытковский Л., Фридман Л. Сьерра-Леоне. — М., 1964; Зотова Ю.Н., Смирнов Е.Г., Френкель М.Ю. История Сьерра-Леоне в новое и новейшее время. — М., 1994.
2 Черч Дж. Западная Африка. — М., 1959; Хилтухин Э.И. Современная Гамбия. — М., 1967.
к столкновению ее с конфедерацией Ашанти 1. В ходе серии англо-ашантийских войн, занявших практически весь XIX в., англичане в 1896 г. добились крушения конфедерации, а в 1901 г. земли Золотого Берега были объявлены колонией Британии. В созданный англичанами Законодательный совет еще в конце XIX в. включались представители африканцев. Колония была специализирована на выращивании бобов какао. Строились железные дороги, развивалась горнорудная промышленность (добыча золота, бокситов, марганца, алмазов), росли кадры рабочих, интеллигенции. Создавалась англоязычная африканская литература.
В 1920 г. в колонии Золотой Берег была создана организация Национальный конгресс Западной Африки, активно действовавший и вынудивший англичан в 1925 г. согласиться на включение нескольких африканцев в Законодательный совет. В начале 40-х гг. в состав Исполнительного совета (кабинета министров) также были включены африканцы. Вообще 40-е гг. были временем интенсивного экономического (разработка бокситов, экспорт каучука, рост численности рабочих) и политического (возникновение партий и профсоюзов) развития страны. В 1956 г. Золотому Берегу (и соединенной с ним подмандатной территории Того, до Первой мировой войны бывшей колонией Германии 2) был предоставлен статус доминиона, в 1957 г. он был провозглашен независимым государством Гана. В 1960 г. Гана стала республикой во главе с президентом К. Нкрума 3.
Наиболее важные колониальные владения Британии в Западной Африке были сосредоточены в бассейне нижнего Нигера, причем захват этих, по африканским стандартам — древних, развитых и густонаселенных территорий, в том числе известных самостоятельных африканских государственных и протогосударственных образований с древней и богатой историей 4, оказался для англичан делом далеко не простым. Еще в 1861 г. англичане захватили Лагос, после чего колония Лагос стала расширяться (сначала, с 1866 г., она была административной частью Сьерра-Леоне, с 1874 — частью владений колонии Золотой Берег, с 1886 г. — самостоятельной территорией, ставшей в 1893 г. «Протекторатом побережья Нигера»), Это расширение шло на фоне силового давления и войн колонизаторов с городами-государствами йоруба, особенно с крупнейшим из них — Ойо, с торговыми городами к востоку от устья Нигера, сильнейшим из которых был Опобо, а также с Бенином. Войны затянулись на десятилетия, но в конечном итоге все побережье и некоторые территории, прилегающие к нему, были подчинены Англии,
1 Попов В.А. Ашантийцы в XIX в. Опыт этносоциологическото исследования. — М., 1982; Его же: Этносоциальная история аканов в XVI—XIX веках. — М., 1990.
См.: Бабаян Г.Г. История Того в новое и новейшее время. — М., 1990.
Черч Дж. Западная Африка. — М., 1959; Буайон Ж. Гана. — М., 1960; Александровская Л.И. Гана. — М., 1965; Потехин И.И. Становление новой Ганы. — М., 1965; История Ганы в новое и новейшее время. — М., 1985.
Исмагилова Р.П. Народы Нигерии. — М., 1963; Кочакова Н.Б. Города-государства йорубов. — М., 1968; Ее же: Рождение африканской цивилизации (Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея). — М., 1986; Бондаренко Д.М. Бенин накануне первых контактов с европейцами. — М., 1995; Его же: Доимперский Бенин: формирование и эволюция системы социально-политических институтов. — М., 2001.
создавшей на этой основе в 1906 г. владение «Колония и протекторат Южная Нигерия».
Войны с Бенином вывели англичан к внутренним районам бассейна Нигера. Здесь уже в 1900 г. был образован протекторат Северная Нигерия, после чего была начата кампания за присоединение к нему хаусанских эмиратов, объединенных в халифат Сокото. Хотя созданный фульбе и населенный в основном хауса халифат Сокото и не был сильным государством, а входившие в него эмираты враждовали между собой, исламская система власти сказала свое веское слово: перед англичанами были не рыхлые полу-первобытные политические структуры побережья, а неплохо организованные государства, с которыми нельзя было не считаться ’.
Неизвестно, насколько бы затянулось дело, если бы не скорострельные пулеметы «максим», принятые в европейских странах на вооружение на рубеже XIX—XX вв. Именно это новое оружие, способное в считанные минуты скосить сотни идущих в атаку воинов, и решило исход кампании, которую впоследствии так и назвали: «борьба эмиров против максимов». Объединенная колония в 1914 г. стала именоваться «Колония и протекторат Нигерия». Встал вопрос об управлении этой большой и составленной из очень разных частей колонии.
Система колониального управления английскими владениями в Африке была разработана прежде всего применительно к аннексированным эмиратам и прилегающим к ним с юга территориям Северной Нигерии. Речь идет о так называемом косвенном управлении, смысл которого сводился к сохранению существующей туземной администрации с ее традиционными институтами и вождями и к верховному надзору колониальных властей, что следует считать характерным для подавляющего большинства колоний Британии в Африке и вне ее. Официально принятая англичанами в Африке в 1907 г. для управления Северной Нигерией, эта система затем была введена в Гамбии (1912), в Южной Нигерии (1916), а в начале 30-х годов также на Золотом Берегу и в Сьерра-Леоне. Удачно отработанная система сохраняла в малоизменившемся виде традиционную структуру в целом и в то же время открывала простор для ее постепенной модернизации и приспособления к новым условиям промышленного капиталистического развития, быстрой урбанизации, появления новых социальных прослоек, прежде всего рабочих и интеллигенции.
Соседний с Нигерией Камерун, колонизированный еще в конце XIX в. Германией, был в 1916 г. частично передан Англии и включен в состав Нигерии; остальная и большая его часть была передана Франции. В 1960 г. северная часть английской зоны осталась в составе Нигерии, а южная ее часть после плебисцита была присоединена к французской зоне, после чего в 1961 г. на базе этой зоны была создана независимая республика Камерун.
4
Ольдерогге Д.А. Западный Судан в XV—XIX вв. — М., 1960; Следзевский И. В. Хаус-ские Эмираты Северной Нигерии. — М., 1974; Киселев Г.С. Хауса. — М., 1981; Кобищанов Ю.М. История распространения ислама в Африке. — М., 1987; Ислам в Западной Африке. — М., 1988; Саватеев А.Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. — М., 2006.
С начала XX в. в Нигерии стали быстрыми темпами развиваться горнорудный комплекс (добыча угля, марганца, железа, олова), железнодорожное строительство. Предметами экспорта по-прежнему были продукты масличной пальмы, какао, земляной орех. Ранее, чем в других районах Тропической Африки, возникают здесь рабочее и политическое движение (в 1920 г. создано отделение Национального конгресса британской Западной Африки, в 1922 — Национально-демократическая партия, в 1934—1936 гг. — Движение нигерийской молодежи). С конца XIX в. выходили газеты на английском языке, в которых публиковались статьи против колониализма и расовой дискриминации.
В 40-х гг. движения за национальное освобождение стали получать массовую поддержку. В 1944 г. была создана общенигерийская партия Национальный совет Нигерии и Камеруна. С 1947 г. в Нигерии стала действовать конституция, предоставившая африканскому населению значительные права и участие в системе администрации при сохранении последнего слова за английским губернатором. В 1958 г. было принято решение о предоставлении Нигерии независимости, а с 1963 г. она стала федеративной республикой *. ’
Вся остальная часть Западной и Центральной Африки (в значительной степени уже поверхностно исламизированная 1 2) за исключенг/ем >крайне небольших и малозначительных колониальных анклавов, принадлежавших Португалии (португальская Гвинея) либо Испании (Рио де-Оро, или испанская Сахара), была в конце XIX в. колонизована Францией, как, впрочем, и значительная часть Северной Африки, арабского Магриба. Вообще-то французские колонии 3 — и вне Африки, и в Африке — восходят к тому же XVI в., что и первые колониальные захваты других держав. Цо если переселенческая активность французов в Америке в XVII—XVIII вв. была весьма заметна, то в Азии и Африке в это время французских колоний было немного.
Первой и основной африканской колонией Франции был Сенегал, где французы укрепились, выстроив форт Сен-Луи еще в середине XVII в. Как и другие колонизаторы, французы в то время, да и много позже, занимались здесь преимущественно работорговлей. Складывание французской колониальной империи в Африке практически началось именно со стороны Сенегала как опорного пункта лишь в последней трети XIX в. В 80—90-е гг. французы стали одно за другим аннексировать мелкие государственные образования в бассейне Сенегала, верховьях Гамбии, на плато Фута-Джаллон,
1 Прибытковский JI.H. Нигерия в борьбе за независимость. — М., 1961; Френкель М.Ю. История Нигерии в лицах (первые идеологи национализма). — М., 2004.
2 Ольдерогге Д.А. Западный Судан в XV—XIX вв. — М., 1960; Кобищанов Ю.М. История распространения ислама в Африке. — М., 1987; Ислам в Западной Африке. — М., 1988; Саватеев А.Д. Мусульманские духовные ордена в Тропической Африке / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Выпуск 13. — М., 1999; Его же: Исламская цивилизация в Тропической Африке. — М., 2006.
3 Субботин В.А. Французская колониальная экспансия в конце XIX в. (Экваториальная Африка и острова Индийского океана). — М., 1962; Его же: Колонии Франции в 1870—1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского океана. — М., 1973.
а затем также и в верховьях Нигера, т. е. в тех гвинейских и западносуданских землях, где тысячелетием раньше складывались одни из первых африканских государственных образований — Гана, Мали, Сонгай г. Одновременно с этим французы с помощью сенегальских стрелков начали колониальные захваты на Гвинейском побережье в Дагомее (современный Бенин), из района верховьев Нигера вышли к Берегу Слоновой Кости 1 2 (современный Кот-Д’Ивуар).
В результате всех этих колониальных захватов Франция овладела большими территориями в Западном Судане и на побережье Гвинейского залива, после чего ее колониальная активность была направлена на восток, в Центральный Судан, включая среднее течение Нигера и район оз. Чад, вплоть до англо-египетского (принильского) Судана 3. Все эти колониальные захваты были объединены в рамках колониального образования Французская Западная Африка, просуществовавшего свыше полувека, до 1958 г. В 1920 г. к упомянутым колониальным владениям была присоединена еще и расположенная к северу от Сенегала Мавритания 4.
Колониальные территории Французской Западной Африки не относились к числу богатых ресурсами и населением. В большинстве это были полупустынные земли, пригодные преимущественно для обитания там кочевников. Удобные для земледелия районы тоже не отличались выгодными климатическими условиями, за исключением тех, что прилегали к побережью. Именно эти последние и были, если так можно выразиться, жемчужиной Французской Западной Африки, из них колонизаторы стремились выжать как можно больше, превращая целые страны в зоны монокультуры, рассчитанной на экспорт: Сенегал вывозил арахис, Дагомея и Берег Слоновой Кости — продукты масличной пальмы, Гвинея — сок гевеи, каучук.
Французские колониальные власти рассматривали свою Западную Африку как единое целое, мечтая расширить владения до противоположного берега континента. И хотя мечтам не суждено было сбыться (инцидент в Фашоде в 1898 г., ставший кульминационной точкой англо-французской конкуренции в Африке и закончившийся утверждением британского господства во всем бассейне Нила, похоронил надежды на это), колонизаторы делали все, что в их силах, для экономического освоения захваченных земель: строились железные дороги, развивались старые и создавались новые города, рос торговый оборот, вкладывались капиталы, правда, преимущественно в форме государственных займов, а не частных инвестиций, что было более характерным для британских колоний в Африке.
1 Куббель Л.Е. Путь к Томбукту. — М., 1971; Его же: Сонгайская держава. Опыт исследования социально-политического строя. — М., 1974.
Блохин Л.Ф. Берег Слоновой Кости. — М., 1967.
J Ольдерогге Д.А. Западный Судан в XV—XIX вв. — М., 1960; История Судана в новое и новейшее время. — М., 1992. Новиков С.С., УрсуД.П. История Мали в новое и новейшее время. — М., 1994.
4 Луконин Ю.В., Подгорнова Н.П. История Мавритании в новое и новейшее время. — М„ 1991.
Своеобразием отличалась и система колониального управления. Прежде всего обращает на себя внимание привилегированное положение Сенегала. Часть его коренного населения имела некоторые гражданские права, вплоть до избрания депутата во французский парламент. В 1936 г. было 78 тыс. таких граждан, причем именно из их числа, в первую очередь, формировался корпус сенегальских стрелков — военная опора колониальных властей. Остальные колониальные территории чаще всего считались протекторатами, а управляли ими традиционные вожди и короли, эмиры и султаны, причем верховное право контроля сохранялось за колониальной администрацией. Вмешательство французских властей во внутреннюю администрацию протекторатов, вплоть до произвольного выбора кандидатов на руководящие должности, подчас даже на низовые должности старейшин, принято именовать системой прямого управления (в отличие от британской системы косвенного управления). Однако это вмешательство отнюдь не везде и не всегда имело характер произвола, так что на практике разница между обеими системами была не слишком большой.
Период между Первой и Второй мировыми войнами был для Французской Западной Африки временем хотя и не всюду равно заметного, но неуклонного экономического развития. Развивалась промышленность, в городах появлялись отряды рабочих, начинала формироваться африканская предпринимательская буржуазия (мелкие предприниматели, чаще всего одновременно и торговцы), возникала интеллигенция. По количеству образованных людей лидировал, бесспорно, Сенегал. Этому способствовало много факторов: и привилегированное положение части населения, и знакомство на протяжении многих десятилетий с парламентской и вообще избирательной процедурой, и развитие образования, издание газет, и т. п. И далеко не случаен тот факт, что наиболее известные умы современной Африки, теоретики ее исторических судеб, как Л. Сенгор, первый президент независимой Республики Сенегал (1960), — выходцы именно из этой страны *.
После Второй мировой войны колониальная империя Франции начала шататься и приближаться к распаду. Этому способствовали и внешние, и внутренние факторы, в первую очередь подъем национально-освободительного движения, активизация политических партий, усиление борьбы за независимость и вынужденные этим уступки колонизаторов. Что касается Французской Западной Африки, то первой из нее официально вышла в 1958 г. завоевавшая в результате референдума независимость Гвинейская республика. В 1960 г. независимыми стали и все остальные входившие в колониальное образование страны: Сенегал, Мали, Мавритания, Нигер, Верхняя Вольта, Дагомея, Берег Слоновой Кости.
Некоторые французские колонии в Центральной Африке (совр. Чад, Центральноафриканская республика, Габон и Конго) были с 1910 по 1958 г.
Черч Дж. Западная Африка. — М., 1959; Сюрэ-Каналь Ж. Африка Западная и Центральная. География. Цивилизация. История. — М., 1961; Гаврилов Н.П. Западная Африка под гнетом Франции. — М., 1961; Садовская Д.М. Лидеры Сенегала и Туниса (Роль в процессе общественной консолидации) / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Выпуск 18. — М., 2000.
объединены в рамках колониального образования Французская Экваториальная Африка. О Конго, наиболее южной из этих колоний, уже шла речь. Что касается Габона, небольшой территории к северу от французского Конго, то там французы впервые обосновались в 1839 г., создав форпост, а затем и город Либервиль, нынешнюю столицу страны. На рубеже 70—80-х гг. были колонизированы внутренние районы, после чего территория, до того административно входившая в Конго, была выделена в качестве самостоятельной колонии. Экономически сравнительно отсталая, как и французское Конго (несмотря на наличие ископаемых — нефти, железа, угля), эта страна, значительная часть которой приходится на тропические леса, получила независимость одновременно с другими французскими колониями в 1958 г. 1
Центральноафриканская колония Франции Убанги-Шари, как и примыкающий к ней с севера Чад, — суданские территории, завоеванные французами лишь в начале XX в. На этих землях, раселенных в значительной части кочевниками, колонизаторы стремились организовать выращивание экспортных культур — хлопка, кофе. Экономически отсталые и с трудом втягивавшиеся в мировой рынок, эти колонии в 1946 г. получили статус заморской территории с правом представительства во французском парламенте (как, впрочем, и две другие части Французской Экваториальной Африки — Конго и Габон). В 1958 г. обе они получили независимость и стали республиками.
И территории Центральной Африки, и все другие экваториальные колонии Франции явно не были доходными для колонизаторов землями. Важность их для колониальной Франции была в том, что они представляли собой непрерывную цепь владений, смыкавшихся с французскими колониями в Западной Африке и имевших немалое стратегическое значение, во всяком случае вначале, в XIX в., до инцидента в Фашоде.
Особое место в Африке традиционно занимает восточнохристианская Эфиопия, с ее древней и богатой историей 1 2. Она расположена во внутренних районах Восточной Африки, на территории, столь же скудной природными ресурсами и не избалованной плодородными землями, как и Сомали, Сахель или Судан. Эфиопы родственны сомалийцам и по языку: в большинстве они принадлежат к той же кушитоязычной группе африканцев. Но Эфиопия тем не менее существенно отличается не только от Сомали, но и от народов всей остальной Африки: корни ее цивилизации уходят в глубокую древность, причем эта цивилизация всегда была восточнохристианской по ее религиозно-культовой основе (впрочем, часть страны была в свое время исламизирована). Кроме того, ее так и не постигла участь колонии, хотя
1 Соколов Д.Г Габонская Республика. Справочник. — М., 2002.
2 Ольдерогге Д.А. Население и социальный строй. — Абиссиния (Эфиопия). — М., 1936; Кобищанов Ю.М. Аксум. — М., 1966; Его же: Северо-Восточная Африка в раннесе-редневековом мире (VI — середина VII в.). — М., 1980; Его же: На заре цивилизации. Африка в древнейшем мире. — М., 1981; Бартницкий А., Мантелъ-Нечко И. История Эфиопии. — М., 1976; Чернецов С.Б. Эфиопская феодальная монархия в XIII—XV вв. — М., 1982; Мероэ: Страны Северо-Восточной Африки и Красноморского бассейна в древности и раннем средневековье. Проблемы истории, языка и культуры. Вып. 5. Памяти Г.М. Бауэра. — М., 1999; Синицын С.Я. Миссия в Эфиопии. Эфиопия, Африканский Рог и политика СССР глазами советского дипломата 1956—1982 гт. — М., 2001.
Италия делала все, что было в ее силах, дабы колонизовать эту страну. Как известно, она добилась своего лишь в середине 30-х гг. прошлого века, но уже в 1941 г. была освобождена войсками союзников.
Справедливости ради следует заметить, что ни древность цивилизации, ни христианские традиции сами по себе не стали на протяжении длительной истории страны фактором существенного экономического либо социокультурного ее развития. Возможно, для такого развития не было природно-климатической базы. Может быть, сыграла свою роль удаленность страны от побережья с его развитой торговлей. Важной причиной замедленного развития была также традиционная рыхлость системы административного управления: на протяжении веков страна представляла собой скорее федерацию автономных княжеств и султанатов, нежели сколько-нибудь централизованную державу, а символически возглавлявшие ее императоры-негусы Соломоновой династии были марионетками в руках правителей этих княжеств. Словом, факт остается фактом: Эфиопия в целом, несмотря на свои древние традиции, была немногим более развита, чем окружавшие ее африканские народы, и значительно уступала в этом плане арабским странам Северной Африки. В то же время восточнохристианская идентичность этой страны способствовала установлению и развитию ее дружеских отношений с Россией, равно как и повышенный интерес последней к этому африканскому государству *.
Все это хорошо ощущали верхи страны, ее правящие слои. В середине XIX в. к власти пришел негус Теодрос II (1855—1868), который впервые за долгие века не был представителем Соломоновой династии. Он провел ряд важных реформ, направленных на усиление централизованной администрации, на поддержку церкви с одновременным подчинением ее государству, а также на ускорение темпов развития. Однако эти реформы, которые не были подкреплены достаточными экономическими инъекциями извне, со стороны колониальных держав, не привели к успеху. Встретив сильное внутреннее сопротивление со стороны не желавшего изменений крестьянства, на чье недовольство опирались фрондирующие князья, Теодрос вынужден был тратить силы на подавление сопротивления. А его нежелание активно сотрудничать с колонизаторами привело к конфронтации с Англией, поддерживавшей его противников, что и привело в конечном счете к гибели негуса.
Его преемники, особенно Менелик II (1889—1913), стремились продолжать политику Теодроса и кое в чем преуспели. Они сумели сконцентрировать в своих руках власть, успешно воевали с Египтом (за которым стояли англичане) и с махдистским Суданом, оказывали стойкое сопротивление Италии 1 2. Итало-эфиопская война, в ходе которой итальянцы настойчиво, но неудачно пытались расширить свои колониальные владения за счет Эфиопии, привела в 1896 г. к заключению договора, по которому Италия
1 См.: Бунинский В., Бахланов С. Наши черные единоверцы. — СПб., 1890; Хренков А.В. Россия и Эфиопия: развитие двусторонних связей (от первых контактов до 1917 г.). — М., 1993.
2
Булатович А.К. С войсками Менелика II. — СПб., 1900; Вобликов Д.Р. Эфиопия в борьбе за сохранение независимости (1860—1960). — М., 1961; Трофимов В.А. Политика Англии и Италии в Северо-Восточной Африке во второй половине XIX в. (Эфиопия и Сомали). — М., 1962; Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии. — М., 1976.
вынуждена была признать независимость Эфиопии. Эта война и вся внешняя политика страны, ориентированная на отстаивание независимости, стоили неразвитому государству очень дорого, не оставляя ему возможностей для экономического развития.
Естественно, что находившиеся в состоянии войны с эфиопами англичане, итальянцы и союзные им другие европейские народы в силу названных обстоятельств весьма мало внимания уделяли колониальному освоению Эфиопии. Правда, они получали концессии и строили железные дороги, доминировали в сфере внешней торговли, даже одно время сговаривались было о разделе страны на сферы влияния. Но парадокс в том, что, не чувствуя свободы действий (Эфиопия не была связана неравноправными договорами или колонизована) и к тому же не будучи слишком заинтересованы в освоении эфиопских земель, маловыгодных с экономической точки зрения, колониальные державы тем самым не способствовали развитию этой страны, не вкладывали в нее капиталы, не создавали условий для ее торгово-промышленного развития.
Первые двадцать лет прошлого века, особенно после смерти Менелика и перехода престола к его несовершеннолетней дочери, прошли под знаком острой внутриполитической борьбы в стране. Суть ее сводилась к противостоянию прогрессистов-младоэфиопов и традиционалистов-староэфиопов, причем позиции последних вначале были значительно более крепкими. Большинство страны, почти не затронутое колониальной трансформацией, не желало перемен и тормозило все соответствующие весьма слабые и робкие попытки. Ситуация изменилась лишь в конце 20-х гг., когда лидер младо-эфиопов и регент при правительнице Тафари Маконнен сумел стать во главе армии, а затем, после смерти дочери Невелика, негусом под именем Хайле Селассие (1930—1974).
При новом императоре младоэфиопами были проведены необходимые для развития страны реформы, прежде всего налоговая и таможенная. Был создан двухпалатный парламент, реконструирована военная система. Но все эти полезные для страны реформы безнадежно запоздали и потому принесли мало пользы. В 1935—1936 гг. очередная итальянская экспедиция увенчалась успехом. Эфиопия (Абиссиния) стала колонией итальянцев, которые начали было вкладывать в ее развитие свои капиталы и осуществлять необходимые для этого политические, социальные и экономические преобразования. Но как упоминалось, уже в первые годы Второй мировой войны итальянцы лишились своих колоний 1.
Послевоенная Эфиопия попрежнему принадлежала к числу наиболее отсталых стран Африки. Эта стагнация была одной из существенных причин, побудивших организацию радикально настроенных офицеров совершить в стране в 1974 г. государственный переворот, после чего власть перешла к Временному военному административному совету, а негус был низ-
Вобликов Д.Р. Эфиопия в борьбе за сохранение независимости (1860—1960). — М., 1961; Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии. — М., 1976; Ягья В. С. Эфиопия в новейшее время. — М., 1978; Френкель М.Ю. Вторая мировая война: глобальная стратегия и Африка. — М., 1995; Африка во Второй мировой войне. — М., 2005.
ложен. Вслед за тем в Эфиопии была проведена национализация земли, банков, ряда промышленных предприятий. Был также официально провозглашен курс на социалистическое развитие по советской марксистской модели, приведший страну к тяжелейшему экономическому кризису.
Колониальная Африка: трансформация традиционной структуры
Вслед за югом Азии (а частично даже до того, либо одновременно) африканский континент стал главным объектом колониальной экспансии европейских государств. Больше того, именно этими двумя обширными регионами практически была ограничена сфера колониальных владений западных держав в пределах Старого Света. Но з!ато оба упомянутых региона были колонизированы целиком, кроме небольших анклавов типа Сиама, Либерии, Эфиопии. Случайно ли такого рода совпадение исторических судеб? И если нет, то какие конкретные обстоятельства способствовали тому, что именно Африка и юг Азии почти целиком оказались колонизированными, тогда как другие территории неевропейского мира в пределах Старого Света этой участи до известной степени избежали (хотя многие из них оказались в состоянии полуколониальной зависимости)?
Европейцы со времен Великих географических открытий стремились найти пути в Индию, дабы взять в свои руки торговлю дорого стоившими и высоко ценившимися в Европе пряностями. Иными словами, речь идет в первую очередь о той природно-климатической зоне, которая была благоприятна для выращивания там экзотических растений. Круг этих растений со временем, особенно после освоения Америки, был расширен. В число продуктов, высоко ценимых и выращиваемых преимущественно в тропических и субтропических природно-климатических условиях, вошли какао, кофе, табак, сахарный тростник, гевея, индиго, орехи, продукты масличной пальмы и т. п. Можно добавить к этому перечню хлопок, джут и еще ряд растений, впрочем, с оговоркой, что эти растения выращиваются и в иных зонах, в странах с более умеренным климатом.
Но вызванный поиском дороги к пряностям импульс был лишь начальным толчком к колониальным захватам. «Аппетит приходит во время еды» — этот афоризм вполне применим к колониализму как феномену. Колонизаторы в осваиваемых ими странах жадно тянулись ко всему, что может дать выгоду, будь то добыча золота или торговля невольниками. Вполне логично предположить, что это обстоятельство уже само по себе безбрежно расширяло зону поиска колоний. И если в XVI—XVIII вв. фактическому увеличению этой зоны в пределах Старого Света мешали объективные причины, то с XIX в. именно объективные факторы (потребности развитой капиталистической экономики в рынках сбыта и источниках сырья) сделали желанными и даже жизненно необходимыми широкие колониальные захваты. И здесь снова встает все тот же вопрос: почему такого рода захваты были ограничены преимущественно югом Азии и Африкой? Или иначе: что именно помогло колонизаторам сравнительно легко и быстро закрепиться в этих регионах и что затрудняло, мешало им добиться аналогичных результатов в других неевропейских регионах Старого Света?
Некоторые акценты, позволяющие наметить контуры решения проблемы, были уже сделаны в связи с анализом религиозно-цивилизационной основы и трансформации традиционной структуры под воздействием колониализма на юге Азии. Теперь нечто аналогичное необходимо сделать по отношению к Африке, после чего можно будет попытаться сформулировать хотя бы предварительные соображения по интересующему нас вопросу.
Об общей отсталости африканских традиционных обществ, особенно в зоне Тропической Африки, уже шла речь, включая попытки объяснить эту отсталость. Здесь же стоит вспомнить о том, что зоны первобытной периферии были весьма обширны и на юге Азии: она преобладала на островах Индонезии (кроме Явы и Суматры), на Филиппинах, была представлена огромными анклавами в окраинных, особенно горных, районах Индокитая, наличествовала и в Индии, и на Цейлоне. Правда, на фоне блестящих завоеваний многотысячелетней цивилизации той же Индии или менее длительной, но весьма впечатляющей цивилизационной общности Индокитая и Индонезии первобытная периферия отступала на второй план. Но мощь ее тем не менее была огромной, быть может, наиболее весомой по сравнению со всеми остальными регионами Старого Света. Со всеми, кроме Африки.
В Африке первобытная периферия практически не была периферией. Она была первобытным океаном, тем генеральным фоном, на котором анклавами выделялись территории, которые можно отнести к зоне цивилизации и государственности. Да и здесь нужны оговорки: если Северная Африка со времен Арабского халифата была решительно и бесповоротно включена в зону устойчивого, цивилизационного развития — хотя и там было немало первобытных анклавов, правда, наряду с такими древними центрами высокой культуры, как Египет, — то остальная часть континента являла собой именно океан первобытности, волны которого то и дело захлестывали небольшие острова цивилизованности, причем захлестывали именно потому, что острова были небольшими, а уровень их едва возвышался над уровнем океана.
Представленная в основном первобытными и — реже — полупервобыт-ными традиционными обществами, к тому же разделенными бесчисленными языковыми и этнокультурными барьерами, Тропическая Африка вплоть до начала ее энергичного колониального освоения в XIX в. находилась в состоянии стагнации. Имеется в виду не абсолютная неподвижность, но именно то, о чем только что шла речь в связи с метафорой о первобытном океане. Пример городов-государств (точнее, разросшихся общин) йоруба, на долгие века как бы застывших во все том же полупервобытном состоянии, равно как и печальная судьба многочисленных прото- и раннегосударственных образований типа Конго, Мономотапы, да и многих политических структур суданского пояса, включая и исламизированные образования типа султанатов и эмиратов, — все это убедительно свидетельствует именно о стагнации, об отсутствии устойчивых и последовательно целенаправленных импульсов в сторону поступательного развития.
В чем причины этого? Почему Тропическая Африка не имела весомых потенций для движения по пути развития? Почему здесь древние государства подчас предстают как свидетельства утраченных достижений, пусть да
же не слишком высоких? Почему первобытный океан с его мощными волнами оказался столь необоримой силой? Конечно, ответы на все эти вопросы есть, хотя далеко не всегда африканисты четко осознают саму проблему и правильно ее формулируют. Однако имеются серьезные исследования, вплотную подходящие к решению проблемы. Речь идет прежде всего об изучении африканской общины.
Исследование различных типов и конкретных форм африканской первобытной и полупервобытной общины свидетельствует об ее исключительной внутренней прочности, устойчивости, нерушимости, что может быть объяснено комплексом различных причин. Специалисты, как о том шла речь в первом параграфе данной главы, обращают особое внимание на коллективный характер труда, отсутствие собственности на землю, на корпоративность общины как формы социальной организации, на обезличенность индивида в ее рамках г. Все это, бесспорно, именно так. Но ведь нечто в этом роде характерно и для других, едва ли не для всех первобытных и полу-первобытных общин.
Африканисты много пишут о системе каст, которая действительно хорошо известна Африке 2. Касты чаще всего возникали там в результате наложения одного этноса, становившегося господствующим (обычно скотоводческого), на другой, зависимый от него (земледельческий). Но и касты не являются чисто африканской спецификой. Общинно-кастовый строй с крепкой устойчивой общиной и нерушимыми кастами был тысячелетиями известен Индии, но это не помешало ей стать страной высокоразвитой цивилизации. Почему же система устойчивых общин и кастовых связей не выводила Тропическую Африку за пределы уровня полупервобытных кастовых этно-стра-тифицированных политических структур, прото- и раннегосударственных образований, к тому же весьма непрочных и недолговечных? Непрочными и недолговечными политические образования были и в условиях общинно-кастовой Индии, но там это никак не меняло того обстоятельства, что эти структуры, как и все общество, были достаточно развитыми, соответствовали стандарту развитой цивилизации. Словом, невольно складывается впечатление, что сам по себе весьма нужный и ценный анализ африканской общины и всего с ней связанного ответа на вопрос не дает. Видимо, этот ответ следует искать в иной плоскости, в иных сферах африканских реалий, и
См.: Сюрэ-Каналь Ж. Африка Западная и Центральная. География. Цивилизация. История. — М., 1961; Маке Ж. Цивилизации Африки южнее Сахары. (История, технические навыки, искусства, общества). — М., 1974; Община в Африке. — М., 1978; Следзев-ский И.В. Социоисторические структуры Западной Африки. Проблемы взаимоотношений местных социальных организмов и исторической среды. Автореф. дис. ... д.и.н. — М., 1990; Никифоров А.В. Община и государство в Тропической Африке. — М., 1991; Африка: культура и общество (Исторический аспект). — М., 1995; Человек в африканском обществе. — М., 1994; Бондаренко Д.М. Бенин накануне первых контактов с европейцами. — М., 1995; Его же: Доимперский Бенин: формирование и эволюция системы социально-политических институтов. — М., 2001 и др.
2 См., напр.: Годинер Э.С. Возникновение и эволюция государства в Буганде. — М., 1982; Кобищанов Ю.М. Мелконатуральное производство в общинно-кастовых системах Африки. — М., 1982 и др.
в первую очередь — в сфере производства и производительности, условий жизни и культуры труда.
Совершенно очевидно, что климатические и природные условия тропиков неблагоприятны как для жизни человека, так и для успешной его производственной деятельности, высокая культура которой требует терпения, усидчивости, регулярности, дисциплины. Жизнь в тропиках не способствует выработке соответствующих навыков и закреплению их в устойчивых стереотипах повседневного поведения. Кроме того, скудные почвы, с трудом отвоевываемые у пышной и буйно растущей тропической растительности, не слишком плодородны и даже при заметных усилиях не обеспечивают высоких урожаев ценных и калорийных сельскохозяйственных продуктов, что опять-таки явно не стимулирует трудовую активность — напротив, охлаждает ее. Отсюда невысокие трудовые усилия, низкая производительность труда. Но самое главное, корень всего в том, что все это вместе не просто консервирует отсталость, но также не способствует созданию излишков — тех самых излишков, того самого избыточного продукта коллектива, без которого и после перехода к производительному труду нет материальных условий для возникновения развитого стратифицированного общества, для сложения устойчивых государственных образований с разделением труда и необходимым обменом деятельностью.
Правда, как бы ни был мал объем излишков, в Африке все же возникали ранне- и протогосударственные образования, которые зиждились на общинных и кастовых принципах, на основе строго соблюдавшихся норм кровнородственных связей, возрастных групп, племенной общности (трибализма) и т. п. Но показательно, что административно-территориальные и чиновни-чье-бюрократические формы и органы власти были при этом крайне слабыми, неразвитыми и неэффективными, что и неудивительно: для содержания всех этих оторванных от производства слоев у общества просто не было средств. Конечно, случались и нередкие исключения, когда средства все-та-ки находились.
Но беда в том, что эти средства черпались из источников, внешних по отношению к общине, — из контроля над транзитной торговлей, использования природных ресурсов (например, золота). В принципе это нормально и естественно, но на практике приводило к той самой неустойчивости и слабости, недолговечности надобщинных политических структур, о которой уже шла речь. Африканская община с ее первобытным примитивизмом не была достаточно надежной основой для того, чтобы на ней устойчиво удерживались эфемерные прото- и раннегосударственные образования (это, естественно, касается и кочевых обществ), а попытки опереться на иную основу, внешнюю по отношению к общине, приводили к тому, что само существование государственного образования целиком зависело от хрупкого баланса в торговле и внешних связях. Колебания в нем, столь обычные для транзитной торговли, немедленно отражались на устойчивости власти.
Но могло ли что-либо послужить альтернативой опоре государства на хрупкий баланс внешних сил? Да, могло. Пример Эфиопии в этом смысле достаточно красноречив: столь же неустойчивый, как и в остальной Африке тропической зоны, административно-политический режим веками сохра
нялся в виде хрупких раннегосударственных структур, княжеств, едва связанных друг с другом в рамках некоего федеративного образования под номинальным господством правителя. Страна не раз была на грани разрушения, но все же не распадалась, а напротив, возрождалась, хотя в то же время и не шла вперед по пути поступательного развития.
Что же держало Эфиопию в рамках единого государственного целого, зиждившегося практически на той же общинной базе, что и другие, быстро распадавшиеся ранне- и протогосударственные образования? Ответ не вызывает сомнений: религиозно-цивилизационный фундамент. Тот самый, что сложился в Эфиопии еще на рубеже нашей эры и упрочивался веками, пусть даже и в неблагоприятной для быстрого поступательного развития цивилизации обстановке. Но сколь бы неблагоприятной эта обстановка ни была, цивилизационный, восточнохристианский, как уже отмечалось выше, фундамент с его письменной культурой, элементами образования и урбанизации здесь все же был. Именно он служил не просто альтернативой случайному балансу внешних по отношению к структуре обстоятельств, но достаточно прочной основой устойчивого, хотя и структурно слабого, государственного образования.
Все сказанное позволяет при оценке причин отсталости Африки и слабости, неустойчивости, хрупкости ее государственных образований вычленить два наиважнейших фактора.
Фактор первый был задан самой природой тропиков. Он аналогично действовал и на юге Азии, в том числе в зоне островного ее мира. Правда, там географический рельеф смягчал неблагоприятные природные условия за счет близости океана, что оказывало свое воздействие и в Африке, где прибрежные районы выгодно в этом смысле отличались от глубинных, континентальных. Но в целом климат повсюду в тропиках оказывал свое воздействие, тем более на континенте. Природно-климатический фактор был первичным, его можно считать первопричиной отсталости и стагнации.
Фактор второй — это культурный потенциал населения, тот цивилизационный фундамент, на который в борьбе с неблагоприятной экологической зоной хозяйствования человек может опереться. Именно этот фундамент — диффузное проникновение в Индокитай и Индонезию индо-буддизма на рубеже нашей эры — обусловил поступательное развитие стран и народов Юго-Восточной Азии. Аналогичный фундамент содействовал сохранению государственности в Эфиопии. И отсутствие такого рода фундамента определяло тот зависимый от внешних сил неустойчивый характер всех остальных государственных образований Тропической Африки, о которых уже шла речь.
Здесь встает законный вопрос: как с точки зрения религиозно-цивилизационного фундамента следует оценивать католицизм в том же распавшемся к XIX в. Конго и тем более ислам государственных образований суданского пояса? Почему в этих случаях фундамент не сработал или работал недостаточно эффективно?
Что касается Конго, то католицизм, привнесенный сюда португальцами, сыграл, конечно, известную роль цементирующей структуру доктрины. Стоит напомнить, что даже мощное движение протеста против колонизато
ров на рубеже XVII—XVIII вв. было не столько антихристианским, сколько сектантским. Иными словами, католицизм за два-три века достаточно основательно укрепился в Конго. И все же, во-первых, этого срока было явно недостаточно для создания сколько-нибудь весомого цивилизационного фундамента — во всяком случае при темпах и масштабе нововведений, свойственных XV—XVII вв.; во-вторых, значимость нововведений резко снижалась из-за того, что в данном случае религиозный фундамент с его культурой целиком ассоциировался с пришельцами-колонизаторами, по отношению к которым традиционная структура явственно была чуждой.
Что же касается исламизированных государств суданского пояса, начиная с раннесредневековой Ганы, то там картина была несколько иной, хотя и во многом сходной: исламский религиозно-цивилизационный пласт был поверхностным, внешним по отношению к традиционной африканской общине, связанным с интересами транзитной торговли. Этот пласт понемногу ложился в фундамент культурных потенций суданских народов, что и вело к тому, что эстафета государственных образований здесь практически не прерывалась в течение всего последнего тысячелетия, одни политические структуры сменяли другие. И это, безусловно, было гораздо лучше, чем ничего. Однако пласт был слишком тонок, чтобы энергично воздействовать на трансформацию традиционного общества.
Конечно, общества суданского пояса испытывали определенное воздействие и соответствующим образом трансформировались, приспосабливались. Но процесс шел медленно и не затрагивал глубинные основы, внут-риобщинные отношения. Словом, на примере исламских государств можно говорить о некотором движении от состояния застоя, о некоем преодолении стагнации, но в лучшем случае — лишь о первых шагах в этом направлении. Ситуация стала всерьез изменяться только с началом колониальной экспансии в широких масштабах, когда в силу вступил новый для Африки фактор необычайной мощности: колониальный промышленный капитал, принципиально отличный от знакомого ей до того колониального торгового капитала, сравнительно мало воздействовавшего на традиционную структуру континента, во всяком случае, в Тропической Африке.
В чем именно была, в первую очередь, трансформирующая функция колониального промышленного капитала и сопутствующих ему институтов в Африке? Было бы наивным ожидать, что вторжение капитала и создание условий для его функционирования, включая сооружение развитой инфраструктуры, налаживание плантационного хозяйства, строительство промышленных предприятий, рудников и городов для обслуживающего их рабочего населения, быстро подорвет устои африканской общины и тем самым изменит глубинные основы традиционной структуры Тропической Африки. Этого, как известно, не произошло в сколько-нибудь серьезной степени даже в наши дни, при всем том, что современная Африка с ее огромными перенаселенными городами как бы символизирует разрушение общины.
Дело в том, что главное все-таки не во внешней символике: не следует забывать, что основная масса населения современных городов объединена в земляческие ассоциации, суть которых в колониальной и постколониальной Африке сводилась и сводится не только к объединению мигрантов
из определенной, населенной преимущественно данным племенем, местности, но прежде всего — именно к сохранению в новых условиях традиционной, пусть и модифицированной, общинной структуры. Без этого вышедший из деревни африканец не просто чувствует себя неуютно и хуже адаптируется — без этого он едва ли вообще в состоянии выжить, нормально жить. О том, как это сказывается на всем образе жизни городского населения, и, в частности, о политических функциях такого рода союзов, речь можно вести особо. Здесь много общего с тем, как политически ведут себя аналогичные земляческие ассоциации в крупных городах на всем Востоке XIX—XX вв., будь то, скажем, Индия или Китай. Но для нас сейчас важно четко выделить и зафиксировать главное: землячества в городах — вариант традиционной общины, близкий к исходному, хотя и существенно отличный от него.
Итак, общинную структуру как таковую колониализм отнюдь не подорвал сколько-нибудь заметно. Она трансформировалась, но сохранилась. Мало того, приобрела в своих новых вариантах (городские земляческие ассоциации) устойчивые и адаптированные к новым условиям формы существования, в целом соответствующие традиционным принципам жизни. Это и есть, если угодно, то самое приспособление, которое — наряду с более или менее активным прямым и косвенным сопротивлением — демонстрируют традиционные структуры в колониальную эпоху практически повсюду. Но к чему же, в свете сказанного, сводится трансформирующая, модернизирующая, вестернизирующая функция колониализма в Африке?
Если абстрагироваться от крайностей и жестокости апартеида и оставить в стороне всю неприглядность колониализма и колониального вторжения в чужие земли как таковую, то главная его функция, особенно в Тропической Африке, сведется к насильственному внедрению цивилизующего начала, цивилизации в ее европейско-капиталистическом варианте. Имеется в виду принципиально чуждая традиционному Востоку и особенно Африке цивилизация с характерными именно для нее развитой частной собственностью, свободным рынком и необходимыми для этого гражданскими правами, свободами, нормами и процедурами.
Практически дело свелось к тому, что на первобытный либо полуперво-бытный фундамент, в лучшем случае с очень слабым религиозно-цивилизационным пластом диффузного суданского ислама, был наложен мощный пласт вестернизованного капитала в его промышленной модификации. Очень важно подчеркнуть, что этот пласт — не чета полусредневековому католицизму, который был привнесен португальцами в Конго или испанцами на Филиппины. Тот куда легче и проще взаимодействовал с местной полупервобытностью, ибо сам был достаточно далек от постреформационного протестантизма как идеологии промышленного капитализма. Во всяком случае филиппинцы адаптировались к католицизму без лишних трудностей, правда, на протяжении ряда веков. Здесь же, в Тропической Африке, ситуация оказалась намного сложней.
Для взращенного первобытной общностью среднего африканца адаптироваться в обстановке частнособственнического капиталистического чисто
гана было делом далеко не простым, даже если принять во внимание наличие многочисленных посредников в лице миссионерских или колониальных школ, которые стали готовить кадры из местных племен для нужд администрации. Конечно же, жизнь оказывала определенное воздействие. И школы общеобразовательные, и более суровые школы жизни на руднике либо на заводе делали свое дело. Во всех странах Тропической Африки в XX в. — где раньше, где позже — сформировались свои отряды рабочих, появилась образованная интеллигенция. Кое-где стали возникать и кадры предпринимателей современного буржуазного типа, хотя здесь всегда нужны оговорки: нельзя, разумеется, представлять себе дело таким образом, будто стоит только вчерашнему общиннику всерьез заняться предпринимательством, как он тут же, почти автоматически станет буржуа западного типа. Увы, все далеко не так просто. Достаточно напомнить хотя бы о нормах трибализма, согласно которым твое — это не только твое, но частично и общее, принадлежащее твоей семье, общине, твоему племени, наконец.
И все-таки, несмотря на все трудности, цивилизующее начало активно внедрялось в Тропическую Африку, почти лишенную его в прошлом. Внедрялось грубо, силовыми методами. Несло с собой страдания для людей, не привыкших к этому и не желавших нововведений. Но в то же время несло и новую, невиданную прежде технику, иной характер хозяйства, иные формы производства, условия труда и т. п. — словом, совершенно иную жизнь. Естественно, что африканцы не сразу привыкли к этой новой жизни, как далеко не сразу даже наиболее грамотные из них уяснили, скажем, существо избирательной демократической процедуры, принципы партийно-политической борьбы, специфику профсоюзных организаций. Пожалуй, вся первая половина минувшего века ушла на адаптацию в этом смысле хотя бы городского населения, пусть только некоторой части его (вспомним Сенегал).
Но вместе с тем нельзя не заметить, что к моменту деколонизации почти все страны Тропической Африки были все же уже готовы к тому, чтобы на основе той же демократической процедуры, партийно-политической борьбы, республиканской организации, различных форм законодательных институтов и т. п. управлять своими государствами самостоятельно. Иными словами, уроки колонизаторов были усвоены. Африка за полвека—век обрела то, чего была лишена и без чего говорить о политической самостоятельности и самоуправлении на уровне приемлемых стандартов и достаточной внутренней устойчивости политических образований было бы просто нереально.
Конечно, переоценивать цивилизаторскую миссию колониализма не стоит. Достаточно напомнить о том, что далеко не везде в Африке демократические процедуры привились, о чем свидетельствуют и многочисленные с удивительной легкостью совершаемые военные перевороты, и просто диктаторские режимы. Но одно несомненно: колониальный капитал, вторгнувшись в Тропическую Африку, эксплуатируя ее природные и людские ресурсы, одновременно содействовал ее экономическому развитию, вкладывал в это развитие немалые средства и формировал необходимые для функционирования капитала административно-политическую среду и культурно-прос
ветительную систему, способную создавать грамотные и образованные слои населения, кадры для промышленных предприятий и всей инфраструктуры, включая органы управления. Правда, все это затрагивало непосредственно лишь малую часть в основном городского населения (хотя городское население быстро росло и растет, к моменту деколонизации оно было в явном меньшинстве), тогда как основная сельская часть Африки была затронута новшествами весьма мало и жила по-прежнему общинами, численно даже возраставшими (эффект демографического взрыва в XX в.). Но ситуация в целом вполне очевидна.
Можно напомнить и еще одно немаловажное обстоятельство: колонизаторы принесли с собой не только систему капиталистического предпринимательства, но и европейскую культуру, приобщаться к которой стали африканцы (многие из них учились в Сорбонне, либо в Оксфорде и Кембридже). Они принесли с собой свои языки, на которых веками публиковались шедевры мировой литературы, философии, науки, на которых стали издаваться газеты, журналы и книги в Африке. На западноевропейских языках — на языке метрополии — велась вся деловая и административная переписка в той или иной колонии, на них же привычно стали общаться между собой представители различных языковых групп из числа жителей этой колонии, особенно в городах. Причастность к европейским языкам и европейской культуре сказалась и на развитии местной африканской культуры, от философии негритюда Л. Сенгора до поэзии и прозы современных африканских писателей, пишущих чаще всего на европейских языках.
Но на всем этом сравнительно радужном фоне, свидетельствующем о несомненных сдвигах в образе жизни и облике традиционных африканских обществ, особенно в городах континента, остается и немало мрачных пятен. Одним из наиболее крупных следует считать низкую культуру, дисциплину и качество труда, отсталость в сфере производства и технологии, что с особой остротой ощутили африканские государства после деколонизации и национализации во многих странах (полностью либо частично) ключевых отраслей экономики. Это и неудивительно: столетие — слишком малый срок для скачка, от первобытности к современности. Многое, включая тотальную общинность с ее цепкими традициями, тянет Африку назад. Структура приспосабливается, отчаянно сопротивляясь. И это весьма сурово сказывается на уровне жизни, создает дисбаланс, резкий разрыв между желаемым и реальностью, между постоянно растущими потребностями численно резко увеличивающегося населения и невозможностью удовлетворить эти потребности за собственный счет, т. е. за счет соответственно растущего производства, производительности труда, количества и качества произведенного продукта. Конечно, такого рода нежелательный эффект в той или иной мере можно обнаружить во всем развивающемся мире, но в Африке, особенно в Тропической Африке, он едва ли не наиболее заметен и драматичен.
Субсахарская Африка после деколонизации: специфика этносоциополитической структуры
Освобождение от колониальной зависимости на рубеже 60-х годов нашего века народов Тропической Африки было завершающим и наиболее мощным по звучанию аккордом деколонизации: свыше четырех десятков независимых и в подавляющем большинстве прежде не существовавших государств возникло на развалинах колониальных империй Англии, Франции, Португалии. Главным общим признаком всех этих новорожденных государств оказался их политический инфантилизм. Возникнув на базе вчерашних колониальных территорий, будучи воспитаны колониальной администрацией и соответствующими нормами метрополий, все они, обретя независимость, не имели собственного политического опыта, если не считать за таковой реминисценции, связанные с существованием протогосударственных и раннегосударственных образований, да и то не везде, преимущественно на западном побережье и бассейне р. Нигер.
Оказавшись в столь беспомощном состоянии, новые африканские государства стали предпринимать попытки самоопределения. Но на какой основе? Естественной традиционной основой были племенные связи, общинно-клановые структуры самоуправления, принципы социально-корпоративных и патронажно-клиентных взаимоотношений. Все это сыграло свою роль в процессе становления африканской государственности, но роль эта была скорее негативной, нежели позитивной, ибо апелляция к традиции не столько сплачивала жителей нового государства, сколько разъединяла их по племенному, клановому либо земляческому признаку. Поэтому нужна была весомая альтернатива традиционной основе. Эта альтернатива и была выработана десятилетиями усилий колониальной администрации, немало сделавшей для того, чтобы воспитать в колониях будущую правящую элиту, политически ориентированную на нормы и принципы соответствующей метрополии. Речь идет прежде всего о нормах и принципах буржуазной парламентарной демократии, основанной на фундаменте из рыночно-частнособственнических отношений, гражданского общества и правового государства.
Разумеется, ни того, ни другого, ни третьего во вчерашних колониальных территориях Тропической Африки не было. Все это следовало создать заново, как заново создавались и сами государства, границы которых определялись не этническими или природными факторами, но исключительно случайностью колониального захвата. Понятно, что при этом родственные племенные группы оказывались в различных государствах, а неродственные и даже враждующие между собой соединялись жребием судьбы в одном. Логично, что это влекло за собой и вплоть до сегодняшнего дня порождает массу проблем, а то и ведет к кровавым межплеменным столкновениям, раздирающим многие молодые государства Африки. Один из последних впечатляющих тому примеров — кровавый межэтнический конфликт в Межозерье, стоивший жизни сотням тысяч людей 1. Но справедливости ради необходи-
Кукушкин П.В., Поликанов Д.В. Кризис в районе Великих озер: Руанда, Бурунди, Заир. — М., 1997.
мо заметить, что в создании столь характерной для всего Черного континента ситуации не было произвола коварных колонизаторов, хитроумно следовавших классическому принципу «разделяй и властвуй». Отнюдь. Просто иного варианта формирования государственности в Тропической Африке 60-х гг. нашего века не было.
Раздел Африки между западноевропейскими державами породил современные границы ее государств, соответствующие вчерашним колониальным территориям. Колониальная администрация в рамках каждой из такого рода территорий немало, как упоминалось, делала для того, чтобы приобщить племенную знать к ценностям, которые предпочитались в Европе. Образованные африканцы, выпускники Кембриджа, Оксфорда и Сорбонны, постепенно, поколение за поколением, обретали уважение к этим ценностям, что и неудивительно; противостоять им могли лишь традиционные нормы африканской жизни, для создания устойчивой политической структуры, как правило, не приспособленные.
Сказанное не значит, что образованная элита пренебрегала традицией. Напротив, она уважала ее и опиралась на нее. Эта опора и сыграла свою роль в 60-е гг., когда от лозунга «Независимость при жизни настоящего поколения!» африканцы перешли к более радикальному — «Независимость немедленно!» — и добились своего. Однако, добившись цели, правящие образованные верхи новых африканских стран в поисках модели для оптимальной политической структуры возникавших государств обратились к хорошо знакомой им метрополии. Это было логично, особенно если учесть, что и господствующий язык, и система администрации в той или иной колонии соответствовали тем, что господствовали в метрополии.
Но это было лишь первым шагом новых государственных образований. Далее следовал выбор пути, кое-где приведший к смене приоритетных ориентаций. Однако вне зависимости от того, какой путь был избран, как и когда этот выбор менялся — если он вообще менялся, — каждая из молодых стран Африки прошла свой нелегкий и в какой-то мере общий для всех них путь становления государственности.
Государства Транссахарской Африки можно разделить на несколько региональных групп, как то страны Западной, Центральной, Восточной (с островами в Индийском океане) и Южной частей Черного Континента.
К группе страны Западной Африки относятся те, что лежат к западу от Нигера и Нигерии. Это: Бенин, в прошлом — Дагомея, прежде французская колония, ставшая независимой республикой в 1960 г.; Буркина-Фасо, бывшая Верхняя Вольта, принадлежавшая Франции, республика — с 1958 г., независимое государство — с 1960 г.; Гамбия, в прошлом французская колония, получившая независимость в 1965 г.; Гана, некогда знаменитая английская колония Золотой Берег, стала независимой республикой в 1960 г; Гвинея, бывшая Французская Гвинея — добилась независимости в 1958 г.; Гви-нея-Бисау, известная прежде как Португальская Гвинея и обретшая независимость в 1973 г.; острова Кабо-Верде, в прошлом португальские острова Зеленого Мыса, обретшие независимость соответственно 1975 г.; Кот-д’Ивуар, в прошлом французский Берег Слоновой Кости, — независимая республика с 1960 г.; Либерия, государство потомков американских рабов-переселенцев,
имела конституцию еше в 1847 г.; Мали — бывшая французская колония, стала независимой республикой в 1960 г.; Сенегал — одно из древних государственных образований Западной Африки, обладавшее определенными привилегиями и в годы французской колонизации — стал независимой республикой в 1960 г.; Сьерра-Леоне, в прошлом форпост англичан в Западной Африке, независимая страна с 1961 г.; Того, сперва немецкая, а со времен Первой мировой войны французская колония, ставшая независимой республикой в 1960 г.
За исключением Мали, названные страны территориально сравнительно невелики, а некоторые и вовсе малы. Не считая Ганы, их население не превышает 10 млн чел., часто значительно меньше. Но зато многие из них принадлежат к числу относительно развитых или, во всяком случае, более успешно развивающихся, чем многие другие на Черном континенте. Это в немалой мере обусловлено их выгодным географическим расположением, частично также древними традициями государственности, старинными торговыми связями с миром ислама и исламизацией, пусть слабой и не всеобщей.
Кроме Либерии, все государства Западной Африки — бывшие колонии Англии, Франции и Португалии. Впрочем, принципиальной разницы между вчерашними колониями и Либерией с точки зрения стабильности конституционных и иных буржуазно-демократических институтов нет. В Либерии, имевшей конституцию еще полтора века назад, те же военные перевороты и жестокие межплеменные столкновения, что и в других странах Африки, а образцом политической стабильности и уважения к буржуазно-демократическим принципам жизни может считаться Сенегал, где колонизаторы чувствовали себя в свое время наиболее прочно. Напрашивается вывод о явной пользе колониализма для политической стабильности вновь возникающих государственных структур современной Африки.
Еще одна бросающаяся в глаза закономерность: едва ли не половина из стран этого региона так или иначе отдала дань идеям марксистского социализма, а некоторые из них зашли в свое время достаточно далеко в осуществлении преобразований по соответствующей модели. Хороших результатов это не дало нигде, и практически везде страны от упомянутой модели рано или поздно отошли, что поначалу заметно способствовало изменению ситуации в лучшую сторону. И еще об одном: и в странах, ориентировавшихся на марксистско-социалистическую модель развития, и в тех, что шли по буржуазно-демократическому пути, ощущается явная тяга к однопартийной системе. Многопартийность фиксируется как эпизод в истории той или иной страны, причем нередко с неудачным исходом.
Обратим теперь внимание на то, как все эти закономерности и особенности развития проявили себя в иных регионах Африки к югу от Сахары и начнем со стран Центральной Африки. К этой группе молодых государств Африки относятся как расположенные к востоку от западноафриканских страны суданского пояса, так и несколько экваториальных. Это: Габон, который прежде был французской колонией, получившей независимость в 1960 г.; Демократическая республика Конго, в прошлом Заир, а до того — Бельгийское Конго, затем Конго со столицей Леопольдвиль (ныне Киншаса), —
крупное государство центральноафриканского региона, ставшее независимым в 1960 г.; Камерун, до Первой мировой войны немецкая, а затем французская колония, обретшая независимость в 1960 г.; Конго, в прошлом Французское Конго, затем Народная Республика Конго, обретшее независимость в 1960 г.; Нигер — бывшая французская колония, ставшая в 1960 г. самостоятельной республикой; прежде британская колония Нигерия — нефтедобывающее и самое населенное из государств Африки, обретшее независимость в 1960 г.; острова Сан-Томе и Принсипи, ставшие независимыми от Португалии в 1975 г.; Центрально-Африканская республика (ЦАР), территория ранее принадлежавшая Франции, ставшая независимой в 1960 г.; также прежде подвластный Франции Чад — независимая республика с 1960 г. и наконец некогда испанская Рио-Муни — Экваториальная Гвинея, ставшая независимой в 1968 г.
Если попытаться подвести общую черту, то картина окажется достаточно пестрой. Государства очень разные — и по размеру, и по населенности, и по уровню экономического развития, и по политической ориентации. Заслуживает внимания Нигерия, которая, несмотря на спорадические военные перевороты, развивается относительно динамично. Удивляет маленькое прежде французское Конго, которое в условиях длительного марксистско-социалистического эксперимента и неэффективной экономики ухитрялось не только сводить концы с концами, но и иметь относительно высокий (по африканским меркам) доход на душу населения. Общей закономерностью, подтверждающей уже сделанный вывод, является отсутствие или крайняя слабость политических структур, основанных на многопартийном парламентаризме.
Группа стран Восточной Африки демонстрирует еще большую степень различий, даже контраста, причем здесь отдельные государства (в частности Эфиопия, Сомали, Танзания, Мадагаскар) заметно выделяются на фоне остальных, как бы выходят из общего ряда.
К группе восточноафриканских стран относятся: Бурунди — в начале прошлого века включенная в состав германской Восточной Африки, с 1923 г. ставшая подмандатной территорией Бельгии, а в 1962 г. — независимым государством; Джибути, прежде Французское Сомали, обретшее независимость в 1977 г..; Кения, независимая от Великобритании с 1960 г.; Руанда, исторические вехи которой совпадают с тем, что было сказано о Бурунди; Сомали, государство почти номинальное, ныне фактически поделенное между несколькими кланами, но признанное независимым от Великобритании и Италии (эти страны контролировали, соответственно, северную и южную части его территории) в 1960 г.; Танзания, созданная в 1964 г. в результате объединения ранее британской, но независимой с 1961 г. Танганьики с прежде также подвластным англичанам островом Занзибар, получившим независимость в 1963 г. (едва ли не единственный случай, когда такого рода объединение оказалось жизнеспособным); бывшая британская колония Уганда, которая обрела независимость в 1962 г.; мусульманская Эритрея, которая была отторгнута итальянцами у Эфиопии в конце XIX в. и была колонией Италии до 1941 г., в 1952 г. возвращена Эфиопии, но после продолжительной борьбы добилась от нее независимости в 1993 г.; восточнохристиан
ская Эфиопия — крупнейшая и древнейшая из стран региона, практически всегда (кроме нескольких лет итальянской оккупации перед Второй мировой войной и в ее начале) всегда располагавшая независимостью.
Особое место в рассматриваемом регионе занимает издревле заселенный, как отмечалось выше, преимущественно мигрировавшими сюда выходцами из Юго-Восточной Азии, Мадагаскар, крупный остров к востоку от Африки, который обрел свою независимость от Франции в 1960 г. Следует также упомянуть о ряде островных государств — Реюньоне, Сейшелах, Коморских островах, Маврикии, которые являют собой небольшие независимые страны Восточной Африки, обретшие свою независимость сравнительно поздно, в 1968—1977 гг. (Реюньон остается в статусе заморского департамента Франции). Общими для всех этих маленьких государств являются их сравнительная молодость как независимых структур (это не относится к Реюньону), достаточно заметная степень политической стабильности и отдаленность от материка, что в немалой мере сказывается на их судьбах. Существенно заметить, что на Коморах преобладают арабы, на Маврикии — индо-пакистанцы, на Сейшелах и в Реюньоне — креолы-христиане.
Среди 13 больших и мелких стран региона в четырех крупнейших (Эфиопия, Сомали, Танзания и Мадагаскар) и по меньшей мере в двух остальных (Сейшелы, Коморы) были предприняты попытки развиваться по марксистско-социалистической модели, причем в трех случаях (Эфиопия, Танзания и Мадагаскар) это были длительные эксперименты, исчисляемые десятилетиями. Столь же длительным эксперимент мог бы оказаться и в Сомали, если бы политическая конъюнктура (конфликт с Эфиопией и желание получить поддержку у США) не побудила ее в сер. 70-х гг. сменить взятую ранее ориентацию. И только в Уганде, да и то с перерывами (в частности, период жестокой диктатуры И. Амина), функционировала многопартийная система.
Все крупные страны региона развиты слабо, имеют низкий уровень жизни. Только некоторые из островов (Маврикий, Реюньон и Сейшелы) выделяются на общем безрадостном фоне в лучшую сторону. С оговорками это же можно сказать о Джибути. Чуть выше, чем в других крупных странах региона, уровень жизни в политически сравнительно благополучной Кении.
Страны Южной Африки, не говоря уже об ЮАР, несколько более развиты по сравнению со среднеафриканским уровнем, но у многих из них свои проблемы. К южноафриканскому региону относятся: Ангола, вчерашняя португальская колония, обрела независимость в 1975 г., после крушения са-лазаровского режима в Португалии; Ботсвана, в прошлом британский Бе-чуаналенд, с 1960 г. независимое государство в пустыне Калахари; Замбия, ранее подвластная англичанам Северная Родезия, в 50-х гг. включенная в состав Федерации Родезии и Ньясаленда и провозглашенная независимой республикой в 1964 г.; Зимбабве, в прошлом Южная Родезия (на территории которого находилось одно из древних государств Африки — Мономотапа), колонизированная, как о том шла речь выше, в конце XIX в. англичанами во главе с С. Родсом. После распада Федерации Родезии и Ньясаленда южнородезийские белые власти, при поддержке ЮАР, в 1965 г. провозгласили независимость, но против их правительства энергично выступили африкан
ские национально-освободительные организации, объединившиеся в Патриотический фронт, и в 1980 г. добились победы; Малави, в прошлом Ньяса-ленд в составе подвластной Великобритании Федерации Родезии и Ньяс-ленда, стала независимой в 1964 г.; Мозамбик — еще одна крупная бывшая португальская колония, обретшая независимость в 1975 г. и имеющая сходную с Анголой судьбу; Намибия, до 1989 г. остававшаяся подмандатной территорией ЮАР.
Особое положение на континенте занимает Южно-Африканская республика (ЮАР) — единственное на континенте современное развитое капиталистическое государство с многорасовым составом населения (из 36 млн населения около 5 млн белых, еще 4 млн — так называемые цветные, т. е. мулаты, и выходцы из Азии), о возникновении которого шла речь выше. Следует упомянуть также о Лесото и Свазиленде, формально независимых, соответственно, с 1966 г. и 1968 г. Оба королевства — их иногда именуют бантустанами, — будучи анклавами на территории ЮАР (впрочем, Свазиленд граничит и с Мозамбиком), сильно зависят от нее, и значительная часть их населения уходит туда на заработки.
Итак, юг Африки — группа стран весьма разнообразного облика. Здесь и развитый промышленный многорасовый гигант ЮАР, и явственно тяготеющие к нему и связанные с экономикой ЮАР небольшие государства Ботсвана, Намибия, частично и Малави. Здесь и уникальный эксперимент Р. Мугабе в Зимбабве, сочетающий умеренные марксистско-социалистические установки с трезвым и основанным на рыночных реалиях расчетом, что позволяет добиваться заметных успехов в развитии. Здесь и истощившие себя в междоусобных войнах Ангола и Мозамбик.
В целом, учитывая оговорки относительно Зимбабве, юг Африки подтверждает выводы, сделанные при изложении ситуации в иных регионах Африки южнее Сахары: попытки развиваться по радикальной марксистско-социалистической модели ведут к краху экономики и острому внутреннему кризису; не часто встречается и политическая стабильность. Спецификой региона является вынужденная связь большинства его стран с ЮАР, что, впрочем, способствует повышению жизненного уровня в этих странах.
Даже беглый взгляд на особенности истории сорока с лишним ныне независимых государств Африки за десятилетия существования их независимой государственности позволяет сделать ряд наблюдений *.
Первое из них: весьма многие из стран Африки к югу от Сахары при выборе пути склонились в сторону марксистско-социалистической модели, но, за редкими исключениями, каждое из которых имеет свое объяснение (Конго со столицей Браззавиль, Зимбабве), этот выбор привел их к кризису, даже к краху. В одних случаях это случилось достаточно скоро, в других заняло десятилетия, однако конец режимов подобного рода всюду был одинаков.
Второе: почти все политические режимы новых самостоятельных государств оказались внутренне слабыми. Это проявлялось в их политической нестабильности, в обилии военных переворотов. На этом фоне политически
1 Васильев Л.С. История Востока. В 2-х тт. — М., 1988. — Т. 2. — С. 297—298.
стабильные структуры, чаше всего в весьма небольших странах, выглядят пусть и благоприятным, но все же исключением из общей нормы.
Третье: политическая нестабильность чаще всего была связана с внутренними противоречиями, с трибалистскими конфликтами. Попытки преодолеть их вели обычно к ликвидации многопартийности, а выход противоречий на передний план совпадал с требованиями многопартийности. В результате демократия по-европейски (многопартийность) в Африке оказывалась фактором политической нестабильности, ибо возрождала триба-листские и сепаратистские тенденции.
Даже самое поверхностное знакомство со странами неарабской Африки, точнее, с молодыми независимыми государствами, возникшими здесь после деколонизации, сразу же сталкивает с множеством проблем социального, политического, экономического, этнического и иного характера '. Африка южнее Сахары в этом смысле — туго затянутый клубок проблем, анализ каждой из которых существен для оценки ситуации в целом. Проблемы социальные среди них стоит вынести на передний план не потому, что они наиболее значимы, но из-за того, что социально-цивилизационная отсталость лежит в фундаменте современной Африки, являясь первопричиной всех остальных ее проблем, прежде всего — сложностей ее независимого существования и развития.
Африка южнее Сахары — в отличие от большинства стран Азии и даже от северной арабской части той же Африки — еще в недавнем прошлом была океаном первобытности и полупервобытности, морем этнических общностей, многие из которых еще не достигли в своем развитии уровня структурированного племени, т. е. устойчивых протогосударственных племенных образований во главе с вождями. Однако даже этот уровень означал для африканцев доколониальной эпохи не более чем стандарт полупервобытности. Лишь в немногих ее регионах, в основном благодаря транзитной торговле и влиянию извне, складывались прото- и раннегосударственные образования
См.: Община в Африке. — М., 1978; Африка: культурное наследие и современность. — М., 1985; Васильев Л.С. История Востока. В 2-х тт. — М., 1988. — Т. 2; Африка: культура и общество. Этносоциальные процессы. — М., 1990; Николаева О.Л. Африка: опыт культурных преобразований. — М., 1991; Никифоров А.В. Община и государство в Тропической Африке. — М., 1991; Конакова НБ. Традиционные институты управления и власти. — М., 1993; Капитализм в Африке. Особенности и противоречия развития. — М., 1993; Племя и государство в Африке. — М., 1993; Племя и государство в Африке. Традиции и современность. — М., 1994; Человек в африканском обществе. — М., 1994; Африка: культура и общество (Исторический аспект). — М., 1995; Мир африканской деревни. Динамика развития социальных структур и духовная культура. — М., 1998; Социальный кризис в Африке. Есть ли выход? — М., 1999; Африка: особенности политической культуры / Ученые записки. Выпуск 12. — М., 1999; Африка: новые тенденции в экономической политике. — М., 2000; Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти. — М., 2001; Федерализм и региональная политика в полиэтничных государствах. — М., 2001; Высоцкая Н.И. Эволюция национализма в Тропической Африке. XX в. — М., 2003; Френкель М.Ю. Африканский национализм как идеология. — М., 2003; Африка: власть и политика. — М., 2004; Садовская Л.М. Становление и развитие парламентаризма в Африке. — М., 2004.
чуть более высокого уровня. Но и они, как правило, были хрупки и существовали, как правило, не слишком долго. К числу исключений можно отнести, например, Эфиопию, хотя и здесь требуются оговорки.
О причинах социально-политической отсталости уже говорилось. Здесь же следует более детально рассмотреть формы социальной структуры, ибо именно эти формы определяют многое из того, что характерно для современной Африки. Основной формой социальной организации здесь были, как и повсюду, семья и община. Но и то, и другое было всегда опутано огромным количеством иных социальных связей, начиная с родовых (патри- и матрилинейных) и кончая земляческими, половыми (мужские союзы), возрастными (возрастные классы) и т. п. Среди них едва ли не ведущую социальную роль издревле играли клановые связи, объединявшие друг с другом группы родственных по определенной, чаще всего по мужской линии семей, а также связи патронажно-клиентного типа.
Все эти связи в условиях привычной патриархально-первобытной жизни служили важному делу устойчивости общества. Они были элементом общей культуры отношений, регулировали эти отношения и обеспечивали стабильное их существование и воспроизводство. Каждый рождавшийся человек с малолетства хорошо знал свое место в этой не столь уж сложной социальной сети, возникавшей в результате переплетения связей различного типа. А так как упомянутая сеть была практически единственной знакомой ему, — ибо административно-политической системы в подавляющем большинстве африканских обществ просто не существовало (ее функции как раз и исполняла, причем достаточно успешно, сеть социальных связей), — то неудивительно, что соответствующим образом формировался культурный стереотип и менталитет.
Дело в том, что все связи и вся их сеть в целом были не только знаками, обозначавшими место каждого в системе взаимоотношений: кому за кого выходить замуж или на ком жениться, от кого ждать помощи в случае беды, с кем в первую очередь объединяться в момент опасности и т. п. Значимость социальной сети была обширнее и весомее: она как бы навечно закрепляла каждого среди своих. Практически это означало, что от своих уйти нельзя, что каждый всегда и при любых обстоятельствах зависит от своих и связан с ними множеством жестко фиксированных стандартом нитей.
Хорошо это или плохо — вопрос бессмысленный. Такого рода связь рождена условиями первобытной структуры и является фактом бытия, нерушимой и непререкаемой традицией, причем свойственной отнюдь не только африканцам, но и многим другим первобытным и постпервобытным этносам. Но в традиционных цивилизациях связи описываемого типа, постепенно трансформируясь под воздействием динамики политического и экономического развития, понемногу и достаточно гармонично на протяжении веков дополнялись, а затем и во многом замещались связями иного типа, свойственными развитому государству, и тем самым теряли свое первоначальное значение, обретая иную форму — форму социальных корпораций (община, клан, секта, цех, землячество, каста и др.), о месте которых в традиционном восточном обществе специально говорилось в предыдущих главах.
Не то в Тропической Африке. Здесь сильных государств не было, а потому и не возникали сотрудничавшие с властью социальные корпорации. Точнее, эти корпорации или потенциальные их зародыши как раз и переплелись в ту социальную сеть, о которой идет речь и которая выполняла функции и корпораций, и административно-политической власти одновременно. Но принципиальным отличием типичной для африканцев социальной сети как раз и является то, что определяет ее отсталость: она безразлична к надобщинным политическим административным отношениям и фиксирует незыблемость принципа «каждый прежде всего среди своих и для своих».
Казалось бы, что тут особенного?! Тем более, что нечто в этом роде можно встретить у многих народов мира — достаточно вспомнить, к примеру, о горцах Кавказа и о многих странах Азии. Но особенное все-таки есть, включая и степень силы упомянутой социальной сети, дающей много очков вперед даже спаянным традицией кровной мести социальным обязательствам тех же кавказских горцев. Это особенное в той роли, какую играют в Тропической Африке патронажно-клиентные отношения, в принципе хорошо знакомые и многим другим народам.
Вообще-то отношения патрон—клиент базируются на классических реципрокных связях. Но будучи включены в сложную социальную сеть взаимных обязательств, они обретают новые и более жесткие очертания постоянных взаимоотношений между старшими и различными категориями младших. Старший по возрасту, по социальному положению, по счету в системе родства автоматически оказывается и более зажиточным, и обладающим авторитетом среди окружающих, и в конечном счете носителем власти. В процессе трибализации примитивных этнических общностей именно эти старшие становятся вождями и королями, главами племен. Но далеко не всегда за этим следует становление государственных административно-политических связей. Очень часто альтернативой их в африканских раннеполитических структурах оказываются именно традиционные патронажно-клиентные отношения, включенные в привычную социальную сеть.
Суть отношений, о которых идет речь, сводится к тому, что каждый в рамках этой социальной структуры имеет свою строго определенную нишу, обусловленную многими жестко фиксированными параметрами. Соответственно своей нише каждый имеет право на строго определенную долю совокупного общественного пирога. Вся эта практика складывалась веками, освящена традицией и потому весьма прочна, закреплена в умах африканцев социопсихологическими стереотипами. Жить нужно и можно только и именно так — и не иначе. В этом суть стереотипов. И они, естественно, не могут не оказывать своего влияния на жизненные реалии. Особенно отчетливым это становится и проявляет себя, когда речь заходит о столкновениях интересов «своих» и «чужих». А такого рода столкновения в современной Африке на каждом шагу, если вспомнить о том количестве племен и племенных групп, которые обитают на обширных территориях Африки южнее Сахары и из причудливого конгломерата которых по прихоти судьбы составлены все современные африканские государства. Это вплотную сталкивает нас с проблемами этническими.
Этнические проблемы в Тропической Африке необычайно обострились именно после обретения новыми странами их государственности. За редкими исключениями типа воссоединения части Восточной Нигерии с Камеруном в результате плебисцита, этнические проблемы и нагнетание в связи с ними напряженности, а также все проявления этих проблем, имеющие в современной политологической лексике сводное наименование трибализм (трайбализм), — это стремление «своих» противопоставить себя «чужим» и добиться в чем-то лучших позиций и вообще жизненных условий, чем имеют другие.
Иными словами, этнические проблемы сродни сепаратистским устремлениям, что при благоприятных условиях может вылиться в политический сепаратизм, как то случилось с Биафрой в Нигерии в конце 60-х гг. или с Катангой (Шабой) в Заире в 60-х и повторилось в 70-х гг. Иногда этнические противопоставления усугубляются религиозным антагонизмом, однако в Африке южнее Сахары религиозные конфликты явно отступают на задний план перед этническими, может быть, из-за недостаточной эффективности и христианства, и ислама в этих странах (господствующая же здесь местная религиозная система, обычно неточно именуемая анимизмом, этнически нейтральна и потому не накладывает своего отпечатка на национальные конфликты).
Всего в Африке, по данным специалистов, насчитывается три — пять сотен этнических групп различного размера, от многомиллионных до весьма малочисленных. Каждая группа имеет свой язык — по языку они и классифицируются. Логично и понятно, что каждому этносудорог свой язык, и это одна из важных причин (хотя и не единственная) того, что государственным языком в описываемых молодых государствах обычно становился не язык какого-либо из этносов, хотя бы численно преобладающего, но чужой язык, язык колониальной метрополии. Образованные люди, городское население (а оно численно и в процентном отношении очень быстро растет) говорят чаще всего по-английски, по-французски, по-португальски — в зависимости от того, чьей колонией была та или иная страна в прошлом. Впрочем, это немаловажное обстоятельство никак не исключает того, что вне пределов города и в домашних условиях в городах те же люди, как правило, говорят на родном языке, который является важнейшим для них этноидентифицирующим привнаком.
Нормой едва ли не для всех молодых независимых африканских государств является то, что деревня остается этнически цельной, населенной данным племенем, его представителями, тогда как город, напротив, полиэт-ничен. Это, впрочем, никак не исключает того, что и в городе, особенно большом, приходящие из деревень новопоселенцы стремятся селиться земляческо-племенными коллективами, образуя соответствующие районы, микрорайоны или кварталы. Неудивительно в этой ситуации и то, что трибализм сильнее и жестче проявляет себя не в деревне, где соседние поселки, населенные разными этническими группами, вполне могут длительно и бесконфликтно сосуществовать (им, собственно, чаще всего нечего делить — у каждого своя земля, а то и своя природная ниша), но именно в городе, где этнические процессы и проблемы тесно переплетаются с политическими и экономическими.
Еще более очевидной этническая основа проявляет себя в тех случаях, когда в государстве разгорается внутренний конфликт. О сепаратистских конфликтах в этой связи уже упоминалось. Но ими одними дело отнюдь не ограничивается. Вспомним Анголу, где полтора десятилетия существования этого одного из наиболее молодых независимых государств Африки шла острая борьба между, казалось бы, двумя политическими группировками, одна из которых ориентировалась на социализм и СССР, а другая — на капитализм и помощь со стороны ЮАР, а также США. Если изменить объект наблюдения и, оставив в стороне верхние эшелоны власти и высшие политические задачи, обратить внимание на тех, кто воевал, то окажется, что за Луандой и ее властями шли одни племенные группы, а за Савимби — другие, этнически близкие именно ему. И так в основном везде. И кровавый И. Амин в Уганде опирался на поддержку своего племени и был изгнан из страны тогда, когда лидеры иных этнических групп той же Уганды сумели, правда, с помощью соседей, одолеть его и его сподвижников.
Трибализм — это своего рода знамя, символ современной Африки. Гордиться им не приходится, но и обойтись без него никто не может. В дни вооруженных конфликтов он выходит на передний план в его наиболее резкой форме, генетически восходящей все к тому же классическому и всем понятному членению на «своих» и «чужих». Но и в дни относительной стабильности он незримо присутствует в каждой из стран, накладывая свой весомый и очень заметный отпечаток на ее жизнь, в первую очередь политическую, хотя и не только.
Стоит заметить, что лидеры африканских государств лучше других понимают это и со своей стороны делают все, чтобы держать трибализм в приемлемых рамках. Совсем обойтись без него они не в состоянии — на кого еще им опереться в трудную минуту, как не на своих? Ведь сколько-нибудь развитой и устоявшейся социально-классовой структуры ни в одном из молодых африканских государств, о которых идет речь, пока нет. Она, эта структура, в лучшем случае только формируется, да и то далеко не везде. Как конкретно это достигается и в чем проявляется?
Прежде всего, на передний план выходят все те же патронажно-клиент-ные связи, вся та сеть традиционных социальных взаимоотношений, которая столь привычна для африканцев с их полупервобытным менталитетом. Можно сказать, что эта сеть не просто целиком переносится из деревни в город, но в условиях крупномасштабной городской жизни как бы заново воссоздается. Далеко не случайно один из африканских политологов как-то даже заметил, что трибализм в этом смысле является для Африки чем-то искусственным, заново созданным для нужд правящей элиты. При всей рискованности такого рода тезиса в целом, в нем немало от истины. Дело в том, что эта сеть приходит в город не просто с земляками того или иного из политиков. Она действительно переносится и к тому же обрамляется новыми, еще более надежными скрепами.
Система личных связей формируется как за счет действительных родственников и соплеменников, которые приходят из родных мест в город и, естественно, оказываются клиентами своего добившегося сколько-нибудь заметных политических либо иных успехов соплеменника, становящегося
их патроном, так и за счет адаптации различного рода аутсайдеров, почему-либо выпавших из собственной кланово-племенной структуры случайных лиц, также изъявивших готовность стать клиентами влиятельного патрона. Возникает надежный социальный механизм на племенной (частично псевдоплеменной, адаптированной) основе, который является элементом все той же трибалистской практики.
Чем выше на политической лестнице стоит патрон, тем мощнее его клиентелла, тем крепче и шире, разветвленней его опирающийся на родное племя клан. А все это в порядке обратной связи влияет на рост политических потенций патрона. И если мысленно представить себе, что такова в принципе социально-трибалистско-политическая структура в любом из независимых государств современной Тропической Африки, то мы и получим политическую администрацию, состоящую из ряда соперничающих влиятельных деятелей, каждый из которых опирается на свой клан, на своих клиентов и, в конечном счете, на свое племя. В крупных племенных группах может быть ряд аналогичных структур — скажем, по числу подразделений племени. Но в конечном счете главное состоит в том, что принцип создания политических структур и функционирования политической элиты именно таков.
Специалисты давно обращали внимание на то, что стоит кому-либо из политиков в той или иной африканской стране получить, скажем, министерский пост, как он тут же заполняет это министерство своей родней, соплеменниками. И это не только не удивительно (удивительным это может показаться лишь незнакомому с африканскими реалиями иностранцу), но, напротив, закономерно.
Во-первых, потому, что традиционные нормы реципрокности и социальных связей вынуждают того из родни и соплеменников, кто поднялся по социально-политической лестнице выше других, позаботиться о своих ближних. И эти ближние в такого рода случаях не церемонятся. Они окружают преуспевшего родственника, объявляя себя его клиентами и законно требуя за это места, должности, вспомоществования и т. п.
Во-вторых, клиенты такого рода — это и есть привычная в Африке социальная опора каждого высокопоставленного представителя элиты. И если ты получил министерство — оно твое в буквальном смысле этого слова. Ты не только можешь, ты обязан отдать должности в нем своим клиентам. Неважно, могут они выполнять при этом необходимые функции или нет. Гораздо важнее то, что это твои люди, на которых ты всегда можешь положиться.
Трибализм, обусловивший функционирование и даже господство подобного рода кланово-патронажных структурных ячеек в политической жизни едва ли не всех стран Африки, оказал свое решающее воздействие и на выживаемость тех или иных форм политического режима в независимых странах Африки. Обратим внимание на два аспекта режима — характер государства и проблему многопартийности.
В современной Африке республиканская форма правления абсолютно доминирует. Правда, есть мелкие королевства типа Лесото и Свазиленда, где временами тот или иной правитель типа Бокассы объявлял себя монархом,
даже «императором». Но все это скорее карикатура, нежели норма. Нормой оказалась республика — и это при всем том, что Британия, одна из главных колониальных держав, была и формально остается монархией. Да и во всех африканских странах до колонизации и во времена колониальной зависимости всегда хватало, и сегодня есть немало королей и вождей с явно монархическим стилем существования и соответствующим менталитетом их племенного окружения.
Причина обозначенного явления видна невооруженным глазом и сродни тому, о чем уже говорилось в связи с упоминанием о государственном языке. Любой вождь или король, став во главе нового государства, уже одним этим восстановил бы против себя все те племена, к которым он не принадлежит и по отношению к которым заведомо является чужим — со всеми вытекающими из этого негативными и политически дестабилизирующими последствиями. Отсюда логичный вывод: нужна не монархия, а республика; во главе страны должен быть не обожествленный несменяемый монарх, но избранный большинством сменяемый президент.
Президент в большинстве стран современной Африки — это не сколько символизирующая государство политическая фигура, сколько фиксированный результат определенного общественного компромисса, баланса политических сил. Разумеется, бывают случаи, когда во главе того или иного государства оказывается выдающаяся личность, как, например, Л. Сергор, чьи деяния как бы возносят ее над племенными предпочтениями, выносят за скобки элементарных политических расчетов. Но это — своего рода выход за пределы нормы, пусть даже выход желанный и благотворный для страны, хотя и не всегда. Нормой же остается баланс сил, и это убедительно проявляет себя в тех случаях, когда на смену выдающейся личности в той же стране приходит обыкновенная.
Наряду с президентской практически во всех молодых государствах Африки принята парламентская форма правления. Парламенты во всех возможных модификациях — национальные собрания, палаты представителей, национальные ассамблеи, революционные советы, даже советы вождей, как демократически избранные, так и порой наспех скомплектованные, созданные по воле военных диктаторов,— неизбежная и немаловажная часть политической власти почти во всех африканских странах. У этих представительств может быть весьма разная доля власти, от почти полной до едва заметной консультативной. Но их объединяет нечто общее: все они являются более или менее точным инструментом, отражающим совокупность этнических групп данного социума, а также соотносительную силу и значимость каждой из упомянутых групп. Можно сказать и более определенно: парламентарное представительство такого типа, о котором идет речь, является необходимым условием нормального осуществления политической администрации в стране, без него сколько-нибудь эффективная власть вообще невозможна.
Казалось бы, все сказанное должно по логике вещей вести к практике политического плюрализма и к системе многопартийности. Многопартийность как таковая присуща любой нормальной парламентарной демократии. А уж Африке с ее групповыми интересами вроде бы сам бог велел быть мно
гопартийной. Между тем на деле все не так. Многопартийность как политическая система не только не распространена, но и с трудом находит себе место в молодых странах. Даже напротив, практика показывает, что эта система вредна и деструктивна, во всяком случае на раннем этапе становления государственности.
Нетрудно понять, в чем дело: партии в рамках той структуры и той социальной сети, которые уже были охарактеризованы, неизбежно и очень быстро становятся племенными. Вместо партий появляются хорошо политически организованные, противостоящие друг другу мощные этнополитические организации, каждая из которых радеет за своих и претендует на максимум власти и влияния. В любой стране, где подобное происходило, дело шло, как правило, к дезинтеграции и политической нестабильности и обычно завершалось военным переворотом и запретом на деятельность партий. Правда, военные режимы с их однопартийными организациями типа народных фронтов тоже на практике оказывались малоэффективными и обычно бывали нестабильными. Но одно преимущество таких режимов, как и функционально родственных им революционных, марксистски ориентированных, несомненно: это стремление и практическая возможность собрать под национально-революционными лозунгами все население страны, отодвинув на задний план этнические предпочтения и своекорыстные цели групп. Как правило, программы фронтов и общенациональных правящих партий крайне расплывчаты, как размыты сами эти организации по своей внугренней структуре (в некоторые из них автоматически включается все взрослое население страны). Но свое дело они делают. Впрочем, здесь необходимы оговорки и дополнительные пояснения.
Совершенно очевидно, что принятая практически всеми деколонизо-ванными странами система парламентарных режимов с президентской властью и демократическими выборами, пусть даже не регулярными и далеко не всегда истинно демократическими. — это историческая неизбежность. Никакой иной системы власти молодые страны изобрести не могли, а принятая ими была хороша не только тем, что соответствовала этническому плюрализму в каждой из вновь возникших стран, но также и тем, что была неплохо известна и отработана веками в парламентской традиции Европы. С этой традицией была знакома получившая образование в метрополии правящая элита, которая, собственно, тот или иной политический режим и создавала, начиная с выработки (с помощью колониальной администрации или под ее влиянием) конституции. Но одно дело — респектабельная внешняя форма демократической президентско-парламентской республики и нечто совершенно иное — наполняющие эту форму жизненные реалии.
Совершенно очевидно, что реалии африканских стран не соответствовали принятой ими политической форме, во всяком случае в том смысле, что все тонкости процедуры и хитросплетения разделения властей — а на этом стоит любая развитая демократическая система власти — были чужды массе электората. Люди привычно шли за своими и голосовали за своих. Это характерно не только для Африки, но и для всего Востока, даже для Латинской Америки и многих постсоветских или балканских государств, т. е. встречается практически везде, куда демократия была привнесена извне и где тысяче
летиями до того господствовали привычные нормы командно-административной системы. Но специфика Африки в том, что в ней не была развита даже эта самая командно-административная система. Альтернативой ее была уже упоминавшаяся социальная сеть, вписанная в привычную форму этноцентризма. И потому демократический плюрализм естественно и однозначно принимал облик полиэтнической дезинтеграции и способствовал дестабилизации.
Однако отказ от политического плюрализма, ставший почти нормой в странах Тропической Африки, где многопартийность вначале решительно не привилась, имел свои существенные недостатки. Главными из них были даже не деспотизм и произвол власти — к этому на Востоке привыкли издревле, — а то, что оппозиция лишалась голоса. Иными словами, немалая часть этнических групп оказывалась как бы отодвинутой от рычагов власти. Разумеется, им всегда предлагалась определенная доля формального соучастия в отправлении власти в пределах народного фронта либо правящей партии. Но эта доля низводила оппозиционные группы на уровень несамостоятельных младших партнеров, что обычно рождало чувство неудовлетворенности, а то и обиды.
Отсюда — мошные взрывы недовольства, которые проявлялись то в сепаратистских выступлениях, а то и в открытом противостоянии претенденту на диктаторскую власть или очередному диктатору. Вспомним события в Чаде в 70—80-х гг., когда за мощными политическими группировками Г. Уэддея и X. Хабре при всем различии их политической ориентации (с опорой соответственно на Францию и Ливию) стояли все те же племенные разногласия, все тот же привычный и всесильный трибализм. И это не только не удивительно, а закономерно и естественно, ибо иной надежной социальной опоры у представителей власти в молодых африканских государствах просто не было и пока еще нет.
Словом, оппозиционеры в рамках однопартийной системы обычно накапливают недовольство, которое ищет выхода и проявляется обычно тогда, когда однопартийная власть входит в состояние кризиса. Кризис же как таковой для этой формы власти неизбежен примерно так же, как неизбежно наступление дня после ночи. Дело в том, что за однопартийной и тем более диктаторской (революционной, марксистской, народной и т. п.) властью, как правило, следуют по пятам такие хорошо знакомые командно-административной системе явления, как непотизм, коррупция, неэффективность экономики, особенно государственного сектора (а стремление усилить этот сектор жизненно связано с однопартийной формой власти, отнюдь даже не обязательно в ее марксистско-социалистическом варианте), инфляция и т. д.
Ведь слабость создаваемой диктаторским режимом административной системы как раз в том, что она не институционализирована, что она вынуждена вписываться в те реалии, которые у нее есть. А это значит, что министерства заполняются чиновниками по кланово-трибалистскому признаку, что администрация некомпетентна, чиновники берут взятки и воруют, сколько могут, не видя в этом даже криминала: если тебе досталось право распоряжаться общим достоянием, то как не взять себе солидную его часть?!
Это значит, что частнособственнический сектор экономики находится в подчиненном, зависимом от чиновников положении, что процветает коррупция, растут цены и инфляция и т. п.
Это, собственно, и есть кризис. Кризис ведет к ослаблению и дестабилизации власти. Вот здесь-то и наступает час оппозиции, представители которой выходят на улицы с требованиями многопартийности, плюрализма, приватизации и либерализации экономики, и нередко добиваются требуемого. Наступает период многопартийности, у которого есть свои, уже описанные, слабости и который, в свою очередь, ведет к дестабилизации и ослаблению власти. И снова переворот, чаще всего военный, ведущий к новому витку однопартийного, диктаторского по сути режима.
Бывают, разумеется, варианты, в том числе связанные с тем, что у власти в стране оказывается на долгие годы, десятилетия влиятельный выдающийся деятель, пользующийся всеобщим уважением и признанием и потому обретающий возможность соединить в своем лице разноречивые тенденции и выступить в качестве верховного медиатора. Это способствует стабильности структуры, будь то Сенегал при Л. Сенгоре, Танзания времен Д. Ньерере или Заир под властью С. Мобуту. Однако в большинстве случаев реальность именно такова: одни укрепляются в правящих кругах, проявляя себя умелыми политиками, другие быстро сходят на нет, подчас уступая место более удачливым и напористым сотоварищам.
Военные перевороты способствуют стабилизации государственно-политической системы после кризиса, это несомненно. В принципе ситуация очевидна: военные становятся у власти, наводя при этом армейскую дисциплину и порядок. И в этом смысле они часто играют позитивную роль, являясь своего рода санитарами, оздоравливающими обстановку в целом. Однако этим, как правило, их роль и ограничивается. Управлять страной в армейской форме с автоматом наперевес практически невозможно. Поэтому либо военные снимают форму и баллотируются на очередных объявленных ими же выборах в президенты, что нередко бывало во многих странах, как крупных — типа Нигерии, так и небольших, как Того, либо, что реже, они вновь уступают место гражданским правителям, как это случилось в Гане в 1979 г.
В обоих случаях армия вскоре после переворота уходит в казармы и как бы дистанцируется от носителей власти. Власть же ведет себя как обычная власть, более всего склонная, особенно после кризиса и переворота, к введению сравнительно жесткого однопартийного режима, нередко усиленного революционной фразеологией. После этого динамика политического развития идет своим чередом, со всеми теми этапами, о которых уже говорилось.
Обращает на себя внимание то немаловажное обстоятельство, что роль военных в современной Африке южнее Сахары наиболее выявляется именно в политических переворотах. Реже она проявляет себя на поле брани. Это конфликт Сомали с Эфиопией, военные действия базировавшихся в Анголе намибийских партизан за освобождение Намибии от власти ЮАР, конфликт Чада с Ливией, вмешательство Танзании в дела Уганды в годы правления там диктатора И. Амина. Пожалуй, почти все. Даже если в перечне опушены кое-какие другие небольшие войны, это не влияет на общий вы
вод: межгосударственных военных столкновений на огромном континенте было мало.
И вообще, как это ни покажется странным, в Субсахарской Африке почти нет пограничных проблем, взаимных претензий (кроме разве что претензий на создание Великого Сомали, завершившихся полным крахом). Все как бы удовлетворены тем, что имеют. Видимо, отсутствие существенных и осознанных национально-территориальных притязаний — результат все той же инфантильности политических структур, племенной дробности и отсутствия исторических споров в прошлом между не существовавшими ранее государствами. В принципе это весьма позитивный фактор. Правда, нет уверенности, что он и впредь будет постоянно действующим.
Как показывают специальные исследования ', Африка в целом весьма быстрыми темпами вооружается, закупает оружие, а в некоторых ее странах, в прошлом во многом благодаря советской помощи, численность вооруженных сил достигла уровня, сопоставимого с уровнем богатых, развитых и могущих себе такое позволить стран. Это внушает определенные опасения за будущее. Но пока что ситуация В военном плане спокойная. Создается впечатление, что африканцы удовлетворены обретенной ими независимостью в тех рамках, какие были посланы судьбой. .Они ценят свое и, как правило, не притязают на чужое, пусть даже родственное им в языковом и этническом плане.
Не поднимается и проблема мирного соединения соседних стран. Если не считать соединения Занзибара с Танганьикой, добровольно объединившихся еще в 1964 г., никто больше такого рода проектов не выдвигал. Зато сепаратистские выступления подавляются жестко и бескомпромиссно. Словом, случайные границы уважаются и, похоже, обретают стандарты политической вечности. Причем делается это не столько за счет пограничных шлагбаумов с армейскими вооруженными заставами, сколько за счет взаимного уважения к границам, своим и соседей.
Специфика жизненных реалий, искажающая облик парламентарной демократии и во многом превращающая режим африканских стран в псевдодемократии, имеет еще один важный аспект, с которым, как правило, не сталкиваются народы современных государств Востока. Это расовая проблема. Правда, в подавляющем большинстве африканских государств этой проблемы внешне как бы и нет — по той простой причине, что инорасовые вкрапления в них малы, а немногочисленная колония европейцев обычно ведет себя в этом смысле не только осторожно, но даже и подчеркнуто лояльно по отношению к местному негритянскому населению.
Но это только внешне. Внутренне любая из стран, о которых идет речь, ощущает свою неполноценность по отношению к развитым странам европейского или американского Запада. И хотя эта неполноценность имеет цивилизационные, технологические, экономические, культурные и прочие корни, подспудно она неизбежно как бы опрокидывается на неравенство ра-
1 См., напр: Лисевич А.М. Военные расходы и импорт вооружения в Африке. — М., 1993.
совое. Другими словами, образованные слои местного населения (о прочих речи нет, ибо они над этими проблемами в абстрактном плане не задумываются, а в реальной жизни с ними редко сталкиваются) в той или иной степени почти всегда затронуты комплексом расовой неполноценности.
Этот комплекс после достижения независимости усилился и нашел свое проявление в теории в форме концепций типа негритюда, смысл которых в том, чтобы подчеркнуть расовое достоинство, даже превосходство, негритянской расы. Концепция эта, детально разработанная Л. Сенгором, получила достаточно широкое распространение, хотя и не была принята всеми. Характерна в этом плане реплика знаменитого африканского писателя, нобелевского лауреата нигерийца В. Шойинка, смысл которой в том, что тигр не провозглашает тигритюд, он просто прыгает. Реплика явно призвана погасить комплекс расовой неполноценности не за счет выпячивания мнимых достоинств своей расы, но за счет признания и адекватной оценки своих потенций.
Иная формула преодоления комплекса, о котором идет речь, — содержится в призыве к усилению самоидентичности. Наиболее отчетливо эта политика проводилась в Заире усилиями прежде всего самого президента-маршала (едва ли не единственный маршал в негритянских странах Африки) С. Мобуту.
Мобутизм как доктрина, претендовавшая на изложение основ национальной самобытности заирцев, исходила из того, что африканский путь самобытен и тем и ценен, что необходимо максимально сохранять эту самобытность (для чего Мобуту, в частности, переименовал все европейские названия в стране), культивируя ее всеми средствами, прежде всего — с помощью национального телевидения. Самобытным, чисто африканским политическим принципом был провозглашен и однопартийный режим власти в стране. Другим аналогичным самобытным принципом был обозначен факт сосредоточения всей власти в руках полуобожествленного правителя-президента, не только теоретика, но и пророка африканцев. В менее яркой и претенциозной форме с проповедью аналогичной самобытности выступали и другие руководители африканских стран, в частности президент республики Кот-д’Ивуар Ф. Уфуэ-Буаньи, также прибегавший для пропаганды своих идей к помощи телевидения.
Но если в большинстве стран Африки расизм и внутренняя потребность преодолеть связанный с этим комплекс неполноценности проявляются в общем в почти невинной форме негритюда или стремления к самоидентичности, то совершенно иначе обстоит дело с этим в тех странах, где изтза наличия заметных инорасовых прослоек расовая проблема реально ощутима, а то и крайне остра. Речь идет прежде всего о Зимбабве и ЮАР.
В Зимбабве с ее сотней тысяч европейцев-предпринимателей, в основном богатых фермеров, дающих товарную продукцию, расовая проблема в свое время выразилась в нежелании правительства Я. Смита отдавать власть африканцам. Трудные поиски выхода, вначале решавшиеся было попыткой создать невыносимые условия для европейцев с целью заставить их покинуть страну, в конечном счете дали оптимальный итог: Лондонские соглашения 1979 г. сохранили европейцев в Зимбабве, чему страна в немалой мере
обязана своими экономическими успехами, и нашли некоторый баланс интересов, смягчив расовую проблему.
Иное дело — ЮАР. Здесь долгие десятилетия власть белого меньшинства была абсолютной, и только в начале 90-х гг. прошлого века ситуация стала заметно изменяться. Апартеид благодаря мудрой политике Ф. де Клерка ушел в прошлое, пусть не без сопротивления консерваторов из числа белых. Победивший на многорасовых президентских выборах Н. Мандела, лидер чернокожего большинства, смог обеспечить определенную стабильность в стране благодаря политике компромиссов между различными расовыми и этническими трупами. Но расовые проблемы тесно переплетаются с политическими, а расовая проблема в ЮАР, в отличие от иных африканских стран, отнюдь не сводится к внутреннему комплексу неполноценности и к поискам его нейтрализации. В ЮАР все много серьезнее, ибо там расовые противоречия, даже антагонизмы еще вчера имели крайне жесткую, бесчеловечную форму, да и сегодня остаются весьма острыми.
Африка южнее Сахары: экономика и ориентации развития
Несовершенство политической системы, нестабильность власти и свойственные новоявленному примитивно-бюрократическому режиму административные пороки, такие, как непотизм, коррупция, злоупотребление служебным положением, неумение эффективно управлять и т. п., — все это явилось в африканских странах следствием не только отсталой сети социальных связей и отсутствия сколько-нибудь развитой политической структуры, но также и отсталости экономического развития, низкого уровня образовательной и специальной подготовки тех, кто оказывался причастен к управлению. Все это следует считать естественным в молодых государствах, быстрыми темпами структурировавшихся на базе полупервобытности, пусть даже и обогащенной несколькими десятилетиями практики колониальной администрации.
Но молодые африканские государства стремились как можно быстрее преодолеть свою вопиющую отсталость. А для этого следовало решить прежде всего две основные проблемы, экономическую и социокультурную. Первая сводилась к организации управления хозяйством и развитию экономического потенциала страны. Вторая — к решению проблем образования населения и подготовки квалифицированных работников. Обе они в конкретных условиях современной негритянской Африки могли решаться лишь при активном содействии и участии государства, административной власти. Это, разумеется, тоже наложило свой заметный отпечаток как на характер власти, так и на выбор пути развития.
Природными ресурсами Южная и Тропическая Африка не обделена. Медь и золото, нефть и алмазы, бокситы и фосфаты, да и многое другое обильно представлены в ее недрах и уже давно и в немалых количествах добываются. Но добычей полезных ископаемых заняты преимущественно иностранные компании или — если иметь в виду ЮАР — те, что основаны некоренным населением. Разумеется, при этом для работы в шахтах, на нефте
промыслах и в иных предприятиях привлекаются как раз коренные жители, африканцы. А в таких странах, как ЮАР, где промышленность хорошо развита и существует огромное число неплохо оплачиваемых рабочих мест, немалое количество работающих составляют так называемые отходники, т. е. мигранты из соседних африканских стран 1.
О ЮАР особо говорить не приходится. Это высокоразвитая современная держава с высоким уровнем жизни, причем высоким для представителей всех рас, хотя при этом важно оговориться, что представители белой расы в этой стране апартеида до последнего времени получали за ту же работу в несколько раз больше африканцев. Впрочем, стоит заметить, что уровень зарплаты африканца в этой стране выше, чем в других. Но не только ЮАР, а и многие другие страны все активнее и результативнее разрабатывают богатства своих недр.
Успешно качают нефть Нигерия, Республика Конго (со столицей в Браззавиле) и Габон. Маленький Габон практически за счет нефти обеспечивает своим немногочисленным жителям сказочный, невероятный по африканским стандартам уровень жизни — средний ежегодный доход на душу населения равен здесь 3 тыс. долл. Нигерия и Конго тоже за счет нефти не только сводят концы с концами, но и добиваются ощутимых успехов как в
1 См.: Ашуров О.У Проблемы и тенденции развития горнодобывающей промышленности стран Африки, 80-е годы. — М., 1990; Невский А.Ю. Африка: сырье и развитие. — М., 1990; Рост или стагнация? Африканская экономика вчера и сегодня. — М., 1991; Галу-нина И.В. Тридцать лет спустя: кризис развития и структурные преобразования. — М., 1992; Капитализм в Африке. Особенности и противоречия развития. — М., 1993; Рощин ГЕ. ТНК и перспективы развития стран Африки. — М., 1993; Маценко И.Б. Занятость и структурные преобразования в Африке. — М., 1993; Африка: региональные аспекты глобальных проблем. — М., 1994; Африка южнее Сахары: реформы и развитие. — М., 1994; Рубинштейн Г.И. Африка в мировом хозяйстве и торговле на рубеже XXI века. — М., 1994; Маценко И.Б., Новикова З.С. Некоторые аспекты экономического развития Африки в 80—90-е годы / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Выпуск 1. — М., 1998; Высоцкая Н.И. Тропическая Африка: новая экономическая стратегия и ее последствия / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Выпуск 4. — М., 1998; Рощин ЕЕ., Калинина Л.П., Позднякова А.П. Некоторые аспекты экономической либерализации в Африке / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Вып. 10. — М., 1999; Смирнов ЕВ. Теория и практика перехода к рыночной экономике: Россия и страны Африки / РАН. Институт Африки. — М., 1999; Тропическая Африка: структурные сдвиги в хозяйстве. 90-е годы. — М., 1999; Африка: новые тенденции в экономической политике. — М., 2000; Виганд В.К. Африка: очерки экономического развития / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Выпуск 16. — М., 2000; Витухина ГО., Черкасова И.В. Рыночные реформы в Африке / РАН. Институт Африки. Ученые записки. Выпуск 22. — М., 2000; Бунько Б.Е. Государственная политика развивающихся стран Африки в нефтяной отрасли (проблемы взаимоотношений с иностранным капиталом). — М., 2001; Калинина Л.П. Африка в международной торговле в условиях глобализации экономики. — М., 2001; Павлова В.В. Африка в лабиринтах модернизации. — М., 2001; Региональные аспекты экономического развития стран Африки (90-е годы). — М., 2002; Экономика Африки: повторение пройденного или смена ориентиров? — М., 2002; Баскин В.С. Проблемы развития внешней торговли стран Африки в конце XX — начале XXI в. — М., 2004; Виганд В.К Африка. Национальное богатство и международное перераспределение ресурсов. — М., 2004; Лопатов В.В. Экспортно-импортный потенциал стран Африки. — М., 2004; Африка в начале XXI века. Проблемы экономического развития. — М., 2005.
темпах годового экономического прироста, так и в доходах на душу населения, хотя Нигерия многонаселенна, а Конго долгие годы истощалось экспериментом в марксистско-социалистическом духе. Богата цветными металлами, а также нефтью Замбия, причем для активной промышленной разработки ресурсов в этой стране создана хорошая энергетическая база. Отсюда сравнительно высокие темпы экономического роста, хотя при этом уровень жизни достаточно скромен.
К числу стран со сравнительно развитой промышленностью обычно относят также Демократическую республику Конго (бывший Заир) с его индустриальным центром в Катанге (медь, кобальт, цинк и пр. металлы), но при этом с весьма низким уровнем жизни населения, Намибию (медь, цинк, урановые руды, алмазы), Ботсвану (алмазы, цветные металлы) с ее сравнительно высоким уровнем жизни населения, Либерию ( железная руда, алмазы).
Ценными ресурсами справедливо считаются и растительные. Так, богата красным деревом республика Кот-д’Ивуар, Гана экспортирует какао-бобы, Кения —»кофе и чай, Камерун — какао-бобы, кофе и каучук, Сенегал — арахис, Мозамбик — кешью *. И хотя по уровню благосостояния перечисленные страны, как правило, уступают тем, в которых имеется сравнительно развитая промышленность, на обшем фоне остальных стран Африки они все же выделяются в лучшую сторону (кроме разве что Мозамбика, обессиленного длительной' войной и рискованными социальными экспериментами). Неплохо зарабатывают экспортом собственных ресурсов также небольшие островные государства, в первую очередь Реюньон (ваниль, гвоздика, табак, сахар), а также Сейшелы (рыба и копра), Маврикий (сахар, чай). Достаточно развитым на общем фоне выглядит и королевство Свазиленд с его почти 700 долл, годового дохода надушу населения (сахар, табак, хлопок, цитрусовые).
Как легко заметить из вышеизложенного, экономический потенциал сравнительно развитых африканских стран измеряется природными ресурсами. Есть ресурсы — их разрабатывают и экспортируют, за счет чего и повышается уровень жизни населения. Нет ресурсов — страна, естественно, лишена возможностей для экспорта и оказывается отсталой, нищей. Более того, общие темпы экономического роста Африки (приблизительно 5 % в год в 70-х и 3—4 % в 80-х годах) достигались в основном тоже за счет добывающей промышленности, наращивания экспортного производства. В принципе это вполне нормальный путь экономического развития слаборазвитого государства. Проблема в том, что для большей части новых государств Африки такой возможности просто не было. В этом случае должен встать вопрос об альтернативном развитии.
Но где было искать альтернативу? Для стран Тропической Африки с их полупервобытной социальной структурой и соответствующим уровнем социокультурного стандарта и цивилизованности альтернативы практически небыло. Вот она, жестокая закономерность современных африканских реа
1 См.: Основные товары африканского продовольственного экспорта. — М , 2000; Никифоров А.В. Аграрное развитие в Африке в условиях хозяйственных реформ. — М., 2004.
лий: нет ресурсов — нет развития. И далеко не случайно 28 стран Тропической Африки вошли в число 42 самых отсталых стран мира по классификации специализированных организаций ООН, как не случаен и тот показательный факт, что совокупный валовой продукт полусотни африканских стран (без, разумеется, ЮАР) за год в конце 80-х годов оказался равным примерно 150 млрд долл., что соизмеримо с аналогичным продуктом одной Бельгии.
Если говорить экономическим языком, все перечисленные печальные факты означают одно: среди экономического потенциала новых государств Африки нет главной его составной части, без которой процветание в современном смысле невозможно, — нет подготовленного к производительному ТРУДУ работника. Во всяком случае, во многих странах Африки таких работников в сколько-нибудь достаточном количестве пока еще нет. Имеются в виду как работники, обладающие навыками и квалификацией для регулярного труда на современных промышленных предприятиях, промыслах, плантациях, так и те работники преимущественно городского типа, которые могли бы взять на свои плечи всю массу необходимой работы по налаживанию современной инфраструктуры, — речь идет прежде всего о торговле, бытовом обслуживании, мелком и частично среднем предпринимательстве.
Грех обвинять в этом недостатке самих африканцев, ибо это не их вина, а их беда. Но тем не менее в этом — корень зла. В чем же конкретно все это проявляется? И как эта проблема сегодня решается?
Пути решения различны, но в конечном счете почти все они так или иначе упираются в государство, в проводимую им экономическую политику, в ориентацию на ту или иную модель развития. Далеко не случаен при этом тот знаменательный факт, что едва ли не половина из новых государств Африки отдала дань марксистско-социалистическим экспериментам. Причиной ее было то, что в странах, претендовавших на реализацию идей «научного» социализма, осуществлялась суперцентрализация власти при лишении населения практически всех прав и свобод и превращении его в трудовую армию, что во многом отвечало реалиям стран с отсталой экономикой и неразвитым общественным сознанием.
Руководителям соответствующих государств казалось, что путем небольших усилий, не меняя коренным образом привычной структуры и при сохранении привычных норм бытия можно за счет энтузиазма и организации сконцентрировать трудовую мощь населения и таким образом решить проблему отсталости. Увы, практика показала, что расчет этот был неверен в самой своей основе. Просчет был в том, что такими методами свободную рыночную экономику не создать. Что же касается несвободной хозяйственной системы, основанной на известных с древности нормативах власти-собственности и централизованной редистрибуции, командно-административной системы управления, то для ее формирования нужны, как показывает история, столетия и тысячелетия, не говоря уже о скромных ее возможностях с точки зрения современных темпов и качества развития.
Если же учесть стартовый полупервобытный, а то и вовсе первобытный уровень, с которого многим из числа отсталых стран Африки приходилось начинать, то станет совершенно понятным, почему марксистско-социалис
тическая модель с ее откровенным акцентом на коллективизм и эгалитаризм в потреблении (нормы, близкие полупервобытности и первобытности) и неприятием частной собственности и свободного рынка, в основе своей неведомых и африканскому населению, оказалась не просто экономически неэффективной, но и явственно ведшей в тупик. Социалистические марксистские лозунги подчас с энтузиазмом подхватывались массами и создавали иллюзию как в верхах, так и в низах. Но иллюзия не могла превратиться в реальность, так что рано или поздно трезвая реальность вынуждала правительства соответствующих стран отказываться от ведшего в никуда пути и возвращаться на иной, рыночно-капиталистический.
Не был устлан розами и этот путь. Для тех стран, кто вернулся на него после эксперимента с социализмом, многое оказалось упущенным, прежде всего темп. Достаточно привести в качестве примера Гвинею, раньше и активнее многих вступившую уже в 1960 г. под руководством С. Туре на путь марксистского эксперимента. Владея 2/3 мировых запасов бокситов, эта небольшая страна могла бы только за этот счет стать вровень с теми, кто мудро распорядился своими ресурсами. Но национализация львиной доли промышленности, включая горнодобывающую, воспрепятствовала этому. Отсюда и результат: уровень жизни крайне низок, экономика неэффективна. Реформа 1986 г. с курсом на приватизацию промышленности и активизацию иностранного капитала привела к улучшению положения, но время было безвозвратно утеряно. Однако не слишком многим лучше положение тех стран, кто с самого начала прочно встал на путь капиталистического рыночного развития.
Конечно, умелая эксплуатация ресурсов дала тем, у кого эти ресурсы были, много очков, о чем уже упоминалось. Но тем, у кого их не было или было мало, этот фактор помочь не мог. Нужно было опираться на собственные силы и возможности. А их-то как раз и нехватало. И здесь тоже было вынуждено выходить на передний план государство. Экономически неэффективные, но крайне нужные для развития страны производства государство брало на себя, национализировало (не из принципа, как в марксистском эксперименте С. Туре, а в силу необходимости), что сразу же вело к усугублению упомянутой экономической неэффективности, отягощенной к тому же коррупцией и злоупотреблениями администрации. Разумеется, при этом государство обычно проводило политику стимулирования частного предпринимательства и мелкого рыночного хозяйства (о крупном, естественно, речи не было, если не считать, что государственные предприятия наряду с иностранными были субъектами мирового рынка). Но втягивание местного населения даже в мелкое рыночное хозяйство с акцентом на развитие предпринимательства требовало времени и усилий, а потому долго не могло дать необходимого эффекта.
Следует еше раз напомнить, что для абсолютного большинства стран, о которых идет речь, — практически для всех, кроме разве что ЮАР, — характерен необычайно низкий уровень производительности и культуры производительного труда. Это и неудивительно, скорее закономерно, если учесть исходный уровень работников. Повышение качества труда — дело медленное, требующее, кроме терпения и настойчивости, еще и условий. Условия же в
данном случае сводятся к тому, чтобы обеспечить все возрастающее, причем весьма быстрыми темпами, городское население подходящими для него рабочими местами. Только обеспечение этими рабочими местами, т. е. строительство, в первую очередь, промышленных предприятий, как и инфраструктуры, способно необходимым образом дисциплинировать и цивилизовать массы прибывающих в города выходцев из общинной деревни, из привычного доиндустриального племенного быта.
Специальное исследование проблем развития мелкого и среднего предпринимательства в современных молодых государствах Африки показало, что в последние годы в этом деле произошел своего рода поворот, т. е. что все большее количество частнособственнических предприятий, в большинстве своем мелких, практически индивидуальных, появляется в экономике и на рынке африканского континента. Это обнадеживающий признак, даже если принять во внимание, что многие из такого рода предприятий еще далеки от того, чтобы уподобиться современным рыночным фирмам, ибо несут на себе заметный отпечаток привычных старых форм торговли или ремесленного производства. Дело в том, что путь к рынку тем сложнее, чем с более низкого уровня экономического существования населения он начинается. Ниже африканского этот уровень едва ли еще где-либо можно встретить. Поэтому тенденция к развитию рынка и некоторому его насыщению за счет самодеятельного африканского населения — факт отрадный и заслуживающий внимания.
Этот факт заслуживает внимания прежде всего в том плане, что он свидетельствует о массовом выходе на рынок мелкого местного предпринимателя. Только такой предприниматель может если не насытить рынок — это с успехом делают и без него в основном зарубежные фирмы, — то хотя бы освоить, сделать его своим для масс местного населения. А от такого рода освоения рынка и вообще рыночного хозяйства местным населением и зависит в конечном счете будущее национальной экономики каждой из новых современных стран Африки.
Как и во многих развивающихся странах, в отсталых странах Африки — а в интересующем нас аспекте они все могут быть отнесены именно к такой категории — наивысшим социальным престижем пользуется причастность к власти. Или, точнее, место служащего в государственном учреждении. А так как вследствие огромной роли государства не только в политической администрации, но и в хозяйстве страны государственных учреждений в городах достаточно много, то весь вопрос сводится к тому, чтобы найти себе в них место. Именно так обстоит дело со всеми теми, кто получил какое-либо образование в своей стране и тем более где-то за рубежом (как известно, во многих странах мира существовали и существуют квоты студенческих мест для выходцев из африканских стран, которые получают образование за небольшую плату, а то и вовсе бесплатно). Какая-то доля выпускников вузов, встав благодаря полученному образованию в ряды социальной элиты, может заняться бизнесом или пополнить ряды лиц так называемых свободных профессий. Однако это меньшинство. Большинство заполняет собой многочисленные государственные учреждения и к тому же, по упоминавшемуся уже закону клановой солидарности, наполняет штат низших должностей в этих же учреждениях своей родней.
Восприятие государственных учреждений в качестве кормушки — это типичное проявление психологии иждивенчества, социального паразитизма, которая генетически связана с общинно-коллективистской клано-во-трибалистской психологией и функционально родственна психологии любого лишенного собственности и индивидуальности субъекта, что очень хорошо известно нам по собственному опыту. Естественно, это рождает определенный социопсихологический стандарт, устойчивый, четко ориентированный стереотип: главное — хорошо устроиться, рассчитывать же на самого себя приходится тогда, когда устроиться не удалось.
Преодолеть такого рода стереотипы, уходящие корнями в социопсихологический стандарт полупервобытности, очень непросто. Когда на рубеже 50—60-х гг. в формирующихся странах Африки стал вопрос о том, кто заменит ушедших колонизаторов и как организовать производство на предприятиях, в большинстве стран пошли по пути резкого увеличения заработной платы рабочих, особенно имевших хорошую квалификацию. Этим была повышена престижность их труда и обеспечена ломка привычного стереотипа. Работать и зарабатывать свой хлеб в условиях города за счет собственного труда стало достаточно престижным, хотя и престиж государственной службы по-прежнему оставался вне досягаемости. Кроме того, высокая заработная плата оказалась стимулом к хорошему регулярному труду, учиться которому тоже следовало практически почти заново.
Той же цели преобразования привычных общинно-первобытных стандартов служило стимулирование образования в африканских странах. С 1950 по 1988 г. общее число учащихся на континенте возросло в 10 раз, с 9,3 до 92,2 млн, причем в средней школе — в 27 раз (ныне количество учащихся свыше 20 млн), а студентов — в 30 (теперь около одного миллиона). Правда, эти цифры, если исключить арабскую Африку, окажутся несколько ниже, как в абсолютных, так и в относительных величинах. Но при всем том рост весьма заметен. И пусть даже стремление к получению образования, особенно среднего и высшего, стимулируется возможностью влиться в ряды правящей элиты и получить свой кусок пирога, не слишком утруждая себя трудом. В конечном счете важен процесс и итог: чем больше в странах Африки станет образованных людей, тем быстрей они психологически преодолеют синдром коллективистской первобытной общинности. И преодолев, сумеют переориентироваться в быстро меняющихся условиях жизни, стать активными работниками, влиться в сферу производства и предпринимательства.
Проблема, о которой идет речь, для Африки сегодня крайне актуальна. Известно, в частности, что на континенте проживает 14 % населения мира (цифра с каждым годом увеличивается), а промышленной продукции здесь производится менее 1 %, сельскохозяйственной — 6 % (без ЮАР). Привлечение и приучение населения к регулярному производительному труду является, таким образом, делом жизненной необходимости. И именно для этого нужны резкая ломка привычных стереотипов, повышение уровня образованности и культурности населения, для чего — если учесть быстрый рост городского населения и вообще влияние стандартов полиэтнического города в отличие от родной кланово-трибалистской деревни-общины — объек
тивно создаются неплохие возможности. Важно уметь и хотеть ими воспользоваться.
Определенную роль в качестве стимула играет и хорошо известный социологам и культуроведам так называемый демонстрационный эффект. Ведь все страны Африки (быть может, за исключением немногих из числа стабильно ориентировавшихся на марксистскую модель или ведших постоянные войны ради этого), являя собой обширный рынок, буквально забиты хорошими товарами, включая японскую электронику, красивую одежду и обувь и многое-многое другое. Нельзя сказать, чтобы эти товары по ценам были всем доступны. Но и нельзя считать, что они вовсе недоступны простому человеку. Рынок есть рынок, так что тот, кто хочет, чтобы товары не залеживались, соизмеряет цены на них с финансовыми возможностями населения.
Практически это означает, что почти любая городская семья, как и многие деревенские, могут себе позволить покупать и пользоваться этими товарами. А это, собственно, и есть демонстрационный эффект: каждый хочет иметь то, что уже есть у других. Но для этого нужно работать и зарабатывать. Отсюда — дополнительный стимул к производительному труду, к предпринимательской инициативе. Кроме того, овладение современными товарами, особенно электроникой и иной сложной техникой, косвенно содействует как повышению культурного уровня владельцев, так и развитию их грамотности и образованности, хотя бы за счет радиовещания и телевидения (как в недавнем прошлом во всем мире — за счет кино).
Африка по признанию специалистов понемногу изменяется. Наметившийся на рубеже 80—90-х гг. в связи с крушением марксистского социализма переход избравших было эту модель стран на рельсы рыночно-частнособственнического развития дал дополнительный импульс движению к экономическому прогрессу. Все большее количество стран одна за другой заявляли о своем стремлении к либерализации и приватизации экономики, о готовности заимствовать идеи плюрализма и практику многопартийности. Не вполне пока ясно, насколько эти намерения серьезны и насколько их осуществление поможет движению вперед. Но сам импульс отчетливо заметен, это в некотором смысле было знамением времени, чутко воспринятым на континенте, где до того к развитию по рыночно-частнособственническому капиталистическому пути многие относились настороженно, считая его как бы чужим, негодным для Африки (иное дело генетически близкий марксистский социализм с его коллективистскими установками, командной дисциплиной и священной ненавистью к частной собственности и богатым вообще).
Однако одно дело — благие намерения, и совсем другое — реальность. Даже если принять как желаемые и обнадеживающие движения Африки в сторону рыночной экономики и некоторые достижения в этом направлении, включая адаптацию городского населения и определенное развитие мелкого и среднего предпринимательства, об успехах здесь говорить рано. Зато о суровом кризисе, кризисе развития континента, говорят уже многие и достаточно давно, как в самой Африке, так и вне ее. И для этого есть серьезные основания *.
1 Васильев JI.C. История Востока. В 2-х гг. — М., 1988. — Т. 2. — С. 332.
Во-первых, 80-е гг. прошли в Африке под знаком спада в темпах развития, существенного обострения продовольственной проблемы. Поразившая обширный пояс Сахеля и некоторые прилегающие районы жестокая засуха, связанная с наступлением песков Сахары, принесла бедствия ряду стран, от Мали до Мозамбика. Но особенно пострадали Эфиопия, Чад, ЦАР, Нигер. В Эфиопии, наиболее многонаселенной из перечисленных стран, это привело к массовым вынужденным перемещениям населения и соответственно к резкому обострению нищеты, а в сочетании с марксистско-социалистическими экспериментами, обескровившими экономику страны, — к голоду и голодной смерти сотен тысяч, если не миллионов людей.
Во-вторых, распространенность социальных экспериментов по марксистской модели привела к кризису, аналогичному эфиопскому, многие из стран Тропической и Южной Африки. Сократились зарубежные инвестиции — для них не было в упомянутых странах ни простора, ни условий. Нарушился привычный баланс во внешнеторговых связях, а торговые связи с так называемым миром социализма всегда имели уродливый характер и обычно не способствовали развитию, в лучшем случае содействовали вооружению и усилению военной мощи соответствующих стран, что опять-таки ложилось на слабую экономику этих стран невыносимым бременем.
В-третьих, Африку буквально потряс мощный демографический взрыв. Издревле этот полупервобытный континент был малонаселенным вследствие хотя бы неблагоприятных условий для обитания человека. Темпы прироста населения были достаточно стабильными в своей неторопливости, причем массовый вывоз рабов — вопреки имеющимся на этот счет предвзятым представлениям — не слишком на них влиял. К началу XVII в. на континенте ориентировочно проживало 55 млн чел., к началу XIX в. — 70, к началу XX в. — ПО млн чел. Однако энергичная колонизация и освоение Африки европейцами, знакомство с основами европейской культуры, в частности с медициной и гигиеной, успешная борьба с африканскими болезнями (малярией, сонной болезнью и т. п.) — все это уже к моменту деколонизации за какие-то 60 лет привело к тому, что население континента возросло более чем вдвое — до 275 млн чел. Освобождение Африки дало еще один мощный толчок росту темпов прироста, которые ныне достигли 3,1 % в год. В результате население континента за 30 лет увеличилось еще раз более чем вдвое, достигнув 600 млн. И продолжает расти такими же темпами. К 2010 г., как ожидается, африканцев будет один миллиард.
Нетрудно из этого заключить, что при общем падении темпов экономического прироста, наметившемся в 80-х гг., демографический взрыв привел к тому, что доход на душу населения на континенте стал уменьшаться. Иными словами, люди начинают жить беднее, чем вчера. Это и есть кризис развития. Кризис, составляющими которого являются многие факторы — социальные, экономические, политические, цивилизационно-культурные, но решающий вклад в который внес фактор демографический, тоже в конечном счете тесно связанный со всеми остальными.
Кризис не явился неожиданностью для мира. О нем предупреждали давно, оперируя серьезными экономико-статистическими выкладками, социологическими, демографическими и иными специальными исследованиями.
В ряде стран, как в Кении и Ботсване, Нигерии и Замбии, Сьерра-Леоне, Сомали, Зимбабве, Демократической республике Конго (Заире) и некоторых других, ведутся даже на национальном уровне кампании в пользу малосемейности, ограничения рождаемости. Но эффект их пока невелик. Кроме того, корни кризиса уходят не только в демографический фактор. Социокультурная отсталость населения, о которой уже шла речь, играет здесь большую роль, ибо именно она сдерживает темпы экономического роста и благоприятствует рискованным социальным экспериментам. А для преодоления ее нужно немалое время. Времени же у африканцев нет, ибо каждый прожитый год приносит новые проблемы, в первую очередь все те же демографические. Как вырваться из этого порочного круга?
Конечно, лучше всего было бы сделать это, поднатужившись, собственными силами — примерно так, как решает свои проблемы, гордясь этим, тоже весьма перенаселенный Китай. Но Африка — не Китай. Разность потенциалов весьма ощутима. И на собственные силы африканцам рассчитывать не приходится, что хорошо понимает и весь остальной мир. Поэтому проблемы Африки — это проблемы всего мира, что человечество достаточно адекватно осознает, пытаясь помочь.
Прежде всего это помощь продовольствием, помощь в беде, в трудную минуту. Такое случается нередко, причем чаще всего — в бедных странах с марксистским режимом, как то было в 80-х гг. в Эфиопии. Мир до сих пор помнит, как в дни, когда правящая верхушка страны помпезно отмечала десятилетие своей революции, народ умирал от голода, а помогали людям те самые «империалисты», которых поносила официальная пресса. Вообще за 1963—1982 гг. бесплатный продовольственный импорт в Африку увеличился, по некоторым подсчетам, в 6,5 раза. В середине 80-х годов потребность в продовольствии уже на 20 % удовлетворялась за счет такого рода импорта. Все более очевидным становится, что Африка прокормить себя не может и в обозримом будущем, видимо, не сможет.
За определенную, причем все возрастающую часть импорта приходится платить. Платить же странам Тропической и Южной Африки, кроме разве что некоторых зажиточных стран, практически нечем. Отсюда угрожающий и быстрыми темпами увеличивающийся рост задолженности. Только за 1982—1990 гг. она увеличилась вдвое, со 138,6 до 272 млрд долл., что составляет примерно 93 % ВВП (валового внутреннего продукта) континента. И эти долги — в основном за счет неарабской Африки. Правда, частично быстрый рост задолженности связан с игрой мировых цен на некоторые виды сырья, поставляемые Африкой. Однако игра цен в этом смысле — норма мирового рынка, как закономерно и постоянное относительное возрастание цен на технический импорт, импорт промышленных товаров высокой технологической сложности, по сравнению со всем тем же сырьем. Баланс, естественно, не в пользу Африки.
За последние годы в связи с экономическими проблемами Африки раздаются голоса о необходимости установления так называемого нового международного экономического порядка. Под этим терминологическим нововведением скрыта, попросту говоря, надежда на продолжение и закрепление в нормативной форме практики постоянных дотаций, хотя бы за счет части
средств, сэкономленных в результате сокращения гонки вооружений. В наши дни, когда весь баланс мировых политических сил решительно изменился в связи с крушением марксистско-социалистического режима в СССР и странах Восточной Европы, такие надежды уже не только не беспочвенны, но весьма реальны. Мир, видимо, сможет в близком будущем усилить свою помощь Африке. Но иностранная помощь — следует четко себе представлять — не может решить проблем Африки, может даже усугубить их. Любая искусственная экономическая стимуляция, любые формы помощи и дотаций могут иметь значение лишь как поддержка собственных усилий Африки. Без собственных усилий, направленных на налаживание самообеспечи-вающего хозяйства, помощь уйдет в песок, как то весьма убедительно продемонстрировала наша собственная разрушенная режимом экономика на рубеже 80—90-х годов.
В Африке существуют и за последние годы усиливают свою активность и иные формы континентального и регионального сотрудничества. Наиболее ярким примером тому стала трансформация Организации африканского единства в более эффективное общеконтинентальное формирование — Африканский союз. Существуют организации территориально-зонального характера — экономические сообщества, таможенные союзы, кредитные учреждения. Создаются время от времени организации, ставящие своей целью решение какой-либо одной из важных проблем экономического или экологического характера, будь то Комиссия по освоению бассейна оз. Чад (с 1964 г.), Администрация бассейна р. Нигер (1964 г.), Организация по освоению бассейна рек Сенегал (1972), Мано (1973), Кагеры (1977), Гамбии (1982), Организация по борьбе с засухой (1973 и 1986). Каждая из этих организаций разрабатывает проекты, намечает планы совместных согласованных действий, формирует свою администрацию, договаривается о координации и т. п.
Пусть межгосударственные и региональные связи в рамках перечисленных организаций еще слабы, как не имеют обязательной силы их рекомендации, особенно если они противоречат интересам какой-либо из заинтересованных сторон; однако сам интеграционный импульс, стремление к сотрудничеству весьма существенны для Африки, для преодоления ее отсталости и раздробленности. Сотрудничество, компромисс, интеграция — важнейшие способы решения проблем Африки, тех самых, которые в состоянии решить только она сама, пусть даже при активной и существенной помощи извне.
Факторы эволюции стран Субсахарской Африки в условиях глобализации
Планетарное измерение эволюционных процессов определяется сегодня двумя фундаментальными тенденциями эпохи перехода к «постсовременной цивилизации»: с одной стороны, стремлением ведущих государств обеспечить трансформацию мирового хозяйства и форм политической организации стран и народов Земного шара в соответствии с законами экономического и политического либерализма при условии укрепления своего доминирования в новом мироустройстве, а с другой — устойчивым разнообра
зием традиционных цивилизаций, каждая из которых требует своей интерпретации взаимодействия глобальных и собственных социокультурных факторов развития.
Эти тенденции определили существенные противоречия между ядром и периферийной частью современной мир-системы, обусловленные отличиями их подходов к темпам, масштабам и культурному феномену взаимной адаптации, а также к стратегии формирования целостного мира.
Сложности достижения баланса интересов предопределяются также сверхпроблемами стыковки относительно совершенных экономических систем развитых мировых государств с фрагментарными хозяйствами периферии, которые не имеют механизмов экономического саморегулирования и включаются в мирохозяйственные связи под воздействием главным образом внешних импульсов. Новые проблемы создаются и за счет таких явлений, как все более заметные попытки развитых государств навязать другим странам международный силовой контроль, как дальнейшее возрастание ограничений внутреннего развития стран «третьего мира», как крепнущее противодействие процессам хозяйственной и социокультурной модернизации со стороны народов мировой периферии, и т. п.
Вместе с тем, сама задача глобальной экономической интеграции центра и периферии является объективной необходимостью, которая признается обоими сторонами и обусловливается спецификой формирования национально-территориальных субъектов как взаимосвязанных участников общего процесса развития мирового хозяйства.
Однако та же специфика формирования хозяйственных субъектов предопределила и коренные отличия в понимании обеими сторонами мотивов, движущих закономерностей и целей их взаимного партнерства.
Индустриальные государства Запада сумели осуществить хозяйственную консолидацию на основе многоотраслевого и комплексного развития и уже с этого уровня разворачивали свою экспансию на территории относительно слабых партнеров.
Развивающиеся же страны входили в постколониальный этап экономической эволюции, руководствуясь политическими устремлениями и внешней необходимостью, а не внутринациональными, исторически вызревшими экономическими и социальными факторами. Эти страны стали активно взаимодействовать с мировым хозяйством как широкая сеть локальных ячеек развития, из-за чего задача продвижения в мирохозяйственные пространства их несбалансированных, необъединенных в рамках общенациональных рынков экономик была всегда актуальной. Более того, проблематичность глобализационного дрейфа периферии обусловливается не только анклавностью в ней современных форм производства, недостаточной эффективностью экономической инфраструктуры или разобщенностью здесь производственной, торговой и финансовой хозяйственных подсистем, но и преобладанием, в особенности для Субсахарской Африки, в традиционном секторе внерыночных, а то и внеэкономических форм хозяйственной организации.
Итак, «добровольно-принудительное усовершенствование» хозяйственных систем развивающихся стран под западные стандарты либеральной ры
ночной модели поставило на повестку дня вопрос о соответствии такого образа действий национальным интересам этих государств.
Альтернатива хозяйственной «недоразвитости» в качестве гипертрофированной квазимодернизации оказалась еще большим злом для периферийных государств, чем «самобытная» экономическая отсталость.
Под давлением процессов неолиберальной глобализации и их проводников в странах «третьего мира», попытки достижения здесь прогресса на основе применения компрадорской экономической модели деформируют и уничтожают, наконец, объект такого прогресса — национальное сообщество.
В особенности остро проблема соответствия целей и средств стратегии развития общественным запросам и национальным потребностям проявилась в Африке южнее Сахары.
Еще совсем недавно, в условиях хозяйственного развала 80-х годов, стратегию преодоления экономического упадка Черного континента определяли за Африку внешние силы. Для Субсахарской Африки «дилемма выбора» сводилась, в сущности, или к отказу от поисков выхода в принципе из ситуации «обвального кризиса», или к безоговорочному принятию пакета внешних рекомендаций относительно ее преодоления.
Кризис 80-х годов, оказавший сокрушительное воздействие на судьбы африканских народов, представлял сложное, всеохватывающее и многомерное явление. Его можно определить как совокупность различных по своей природе экономических кризисов, которые нарастали одновременно в тесном взаимодействии между собою, но имели разные истоки. Их взаимодополнение и глубинные комплексные последствия обусловили беспрецедентную продолжительность во многих странах общего регрессирующего состояния.
Определяющими, так сказать, африканскую хозяйственную действительность стали три кризиса — спада производства, структурный кризис и кризис внешнеэкономических связей, прежде всего в сфере внешней торговли. Производными от них оказались кризисы государственных финансов, платежных балансов и внешнего долга.
Общим проявлением экономического кризиса стало сокращение динамики валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Для стран Субсахарской Африки темпы его деградации в 1981—1990 гг. равнялись минус 1,4 % в год. В результате, абсолютный размер этого показателя в целом для региона снизился (в ценах 1980 г.) с 436 долл, в 1980 г. до 380 долл, в 1990 г.
Цепная реакция кризиса внешней торговли, проявившаяся в сокращении экспорта, которое, в свою очередь, привело к снижению валютных поступлений и, в результате, к уменьшению импорта, — подтолкнула, наконец, кризис недопроизводства. Общий объем экспорта всех стран Субсахарской Африки упал с 48,9 млрд долл, в 1980 г. до 28,6 млрд долл, в 1988 г., то есть на 41,5 %, а импорта соответственно с 42,8 млрд долл, до 29,9 млрд долл., то есть на 30,1 %.
Кризис отраслевой и социально-экономической структуры состоял в том, что, с одной стороны, сырьевая внешнеэкономическая ориентация бо
льшинства стран континента в условиях продолжительного падения спроса на африканское сырье оказалась неспособной обеспечивать экономический рост. С другой стороны, архаичность социально-экономических структур африканских государств, гипертрофированные размеры госсектора требовали комплексных подходов, связанных с учетом реальных запросов всех субъектов хозяйственной деятельности, а не ориентации на технократические
показатели экономического прогресса.
За основу была принята точка зрения, согласно которой именно структурный кризис африканской экономики рассматривался как главная причина производственного кризиса. На этом постулате, собственно, и базировались все так называемые стабилизационно-структурные экономические программы, разработанные для стран Субсахарской Африки Мировым банком (МБ) и Международным валютным фондом (МВФ) и которые вводились с помощью этих международных финансовых учреждений в указанном
регионе.
С конца 70-х годов осуществляемые в африканских государствах с участием МБ/МВФ стабилизационно-структурные мероприятия имели целью, в сущности, коренной слом всех экономических, социальных и политических структур, на которых базировался экстенсивный тип развития и которые расценивались как преграды для перехода африканских экономик на путь интенсификации и большей адаптации к быстро меняющимся условиям эволюции мирового хозяйства.
Цели перестройки экономик африканских стран были сформулированы экспертами МБ/МВФ, исходя из их понимания причин кризиса: промышленные мощности чрезмерны в сравнении с сельскохозяйственным производством, из-за чего национальные африканские экономики не в состоянии их поддерживать; неоправданно гипертрофированным является удельный вес госсектора; инвестиции в импортозамещающие области чрезмерны; инвестиции в конечные стадии производства потребительских товаров излишни по сравнению с инвестициями в переработку сырья и в производство промежуточных и капитальных товаров; чрезмерно высокой является часть
импортных компонентов и часть капитала в производственных затратах, если сравнить их с объемами валютной выручки и сбережений *.
Что же касается задач стабилизационных и структурных экономических реформ, то соответствующие программы были направлены на сокращение бюджетного дефицита, девальвацию национальной валюты и снижение денежной эмиссии, в то время, как структурные экономические реформы в африканских странах предусматривали либерализацию цен, уменьшение
вмешательства государства в экономику, приватизацию госсектора, всестороннее стимулирование частного сектора и рыночных отношений .
Практика реализации структурных реформ в Субсахарской Африке не привела к «экономическому чуду». Наоборот, экономическая и социальная ситуация в африканских странах в процессе их осуществления значительно
1 См.: World development. — Oxford, 1992. — Vol. 20, № 1. — P. 90—95.
2 World development. — Oxford, 1994. — Vol. 22, № 4. — P. 483—500.
ухудшилась на начало 90-х годов. Производственная база африканских национальных хозяйств уменьшилась с 50 % в 60-х годах до 30 % в 80-х. Валовые внутренние инвестиции, как часть от ВВП, неуклонно сокращались — с 23,9 % в 1980 г. до 19,2 % в 1986 г. и до 17,6 % в 1989 г. Валовые внутренние сбережения оставались на неизменном уровне в 16 % на протяжении 1986—1989 гг., по сравнению с 24 % в 1980 г. Бегство капиталов из африканских государств достигло фантастических масштабов, определяясь, по состоянию на 1991 г., суммой в 135 млрд долл. Эта сумма превышала общий объем капиталовложений в регионе в 5 раз, объем инвестиций в частном секторе в 11 раз и объем иностранных инвестиций в 120 раз. В конце концов, угрожающих размеров достигли темпы роста государственного долга африканских стран. Внешняя задолженность Субсахарской Африки выросла с 56 млрд долл, в 1980 г. до 129 млрд долл, в 1987 г. и до 270 млрд долл, в 1992 г. 1 Итак, обострение кризиса на начало 90-х годов было очевидным.
На рубеже 80—90-х годов XX в. мнения экспертов по поводу ситуации, которая сложилась в экономике Субсахарской Африки, разделились. Преобладающая часть специалистов считала, что модели развития, предложенные Мировым банком и Международным валютным фондом странам субконтинента, не отвечают африканской социально-экономической действительности. Специалисты делали акцент на том, что импортные модели структурной перестройки — плод абстрактного теоретизирования, в котором отсутствует анализ причинно-следственных связей. Взятый за основу сотрудниками международных финансовых учреждений метод содержал стереотип, согласно которому поведение экономических агентов обусловлено набором рациональных правил: сигналы «неискаженного» рынка приводят к наиболее эффективному размещению ресурсов. Заключительная стадия этого метода имела целью определение виновных в «рыночных искажениях», чтобы потом сформулировать рекомендации относительно экономической политики. Такая волюнтаристская трактовка методов «оздоровления» африканских экономик, по мнению оппонентов МБ/МВФ, не отвечала задаче преодоления кризисных явлений в хозяйстве африканских стран.
С другой стороны, приверженцы реализации экономических реформ по рецептам МБ/МВФ указывали на то, что недостатки процесса их воплощения в жизнь связаны с невыполнением африканскими правительствами во всей полноте разработанных рекомендаций и профанацией логики их внедрения.
Однако критическая масса накопленных на начало 90-х годов экономических проблем в странах Субсахарской Африки подталкивала африканские властные структуры к пониманию той истины, что средства борьбы с кризисом экономики западного типа, которые имеют исключительно хозяйственные корни, оказались малоэффективными в африканских условиях с их принципиально отличной от западной экономикой, тем более, что истоки этого кризиса связаны также с довольно специфическими социальными и политическими структурами региона.
См.: Aujourd’hui 1’Afrique. — Paris, 1991. — № 45. — Р. 9.
Неудачи с внедрением программ структурной адаптации, ухудшение в процессе этого внедрения в большинстве африканских стран социально-экономического положения преобладающей части населения вызвали широкую волну протеста в государствах Африки, направленную против нацеленности рекомендаций международных финансовых учреждений не столько на оздоровление африканской экономики, сколько на обеспечение бесперебойного оттока африканских ресурсов в развитые индустриальные державы.
Постепенно восстанавливается и процесс организованного сопротивления тем направлениям структурных реформ, которые подрывают национальное хозяйство африканских стран. В 1989 г. Организация африканского единства (ОАЕ) и Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) принимают «Африканскую альтернативу программ структурной перестройки в целях социально-экономического возрождения и трансформации», в которой отвергают концепцию опоры при проведении реформ исключительно на финансовые мероприятия и на применение лишь рыночных механизмов в условиях слабой производственной базы и разбалансированного рынка. В дальнейшем пересмотр принципов развития хозяйственных отношений между африканскими странами и индустриальными государствами на основе учета интересов «Черного континента», ускорения его экономического прогресса и преодоления здесь нищеты, нашел наиболее яркое выражение в разработанном африканскими лидерами в 2001 г. документе «Новое партнерство для развития Африки». Согласно характеристике президента Франции Ж. Ширака относительно этой инициативы, «впервые Африка будет сама определять свои цели. Идея состоит в том, чтобы Большая восьмерка поддерживала эти усилия» *.
Подчинению коллективных усилий африканских стран задаче экономического подъема и противодействию дискриминационной практике со стороны развитых государств было посвящено учреждение ряда отраслевых группировок на субконтиненте: например, «Союз за индустриализацию Африки» (1996 г.) или «Ассоциация африканских производителей хлопка» (2002 г.).
Цель преодоления маргинальности и зависимости, достижения условий равноправной интеграции в мировое хозяйство преследовало возрождение старых и создание новых региональных объединений на «черном континенте».
Наконец, большое распространение в политике правящих кругов африканских государств приобретает курс произвольного корректирования развернутых по рекомендациям МБ/МВФ реформ, направленных на защиту национальных интересов. В 90-е годы Кения, в частности, заявила о пересмотре приватизационных рекомендаций международных финансовых учреждений и о намерении сохранить контроль над рядом ключевых компаний, Нигерия решила не продавать за бесценок приватизируемые предприятия, Египет перенацелил приватизацию лишь на те компании, которые не имеют отношения к национальной и экономической безопасности и т. д.
1 Les Echos. — 2002. — 28—29 juin.
Под давлением бесспорных фактов, которые свидетельствовали о возрастающем социально-экономическом упадке африканских стран, и в условиях сопротивления со стороны африканских лидеров внешним влияниям, способствующего деградации африканских национальных хозяйств, руководство развитых государств постепенно начинает пересматривать целый ряд аспектов своей политики относительно Субсахарской Африки. Государства Евросоюза вводят конструктивную инициативу ограничения продажи оружия в этот взрывоопасный регион. А США принимают закон о содействии развитию Африки и расширению возможностей сотрудничества с африканскими странами. На протяжении 90-х годов ряд западных правительств «освобождает» определенные африканские страны от части долговых обязательств, в частности, Кот-д’Ивуар (на 1,1 млрд долл.), Камерун (на 500 млн долл.), Замбию (на 500 млн долл.), Габон (на 200 млн долл.), Сенегал (на 200 млн долл.) и др. Кроме того, по инициативе президента Мирового банка Дж. Вульфенсона была разработана программа уменьшения задолженности беднейших стран международным финансовым институтам, благодаря которому на январь 2003 г. было осуществлено списание долгов Мозамбика (4,3 млрд долл.), Танзании (3 млрд долл.), Уганды (1,9 млрд долл.), Мавритании (1,1 млрд долл.), Буркина Фасо (930 млн долл.).
Признаком определенных сдвигов в контексте общих подходов к сотрудничеству с африканскими государствами стало корректирование программ и практической деятельности международных финансовых учреждений относительно беднейших стран планеты. В отношениях с этой группой стран упомянутые учреждения выдвигают с 1999 г. в качестве основной задачи сокращение масштабов нищеты, отходя в данном конкретном случае от прежних приоритетов, в соответствии с которыми главной задачей считалось устранение макроэкономической разбалансированности и диспропорций путем реализации программ стабилизации и структурной перестройки в этих странах. В связи с этим были, в частности, разработаны программы, которые получили название «стратегии сокращения масштабов нищеты». Наличие у наименее развитых государств такой программы стало обязательным предварительным условием их доступа к созданному в 2001 г. Мировым банком механизму кредитования, направленному, согласно замыслу, на поддержку политики сокращения нищеты. А для практической реализации этой возможности был создан «фонд борьбы с нищетой и обеспечения роста», заменивший существовавший ранее «расширенный фонд структурной перестройки».
Тем не менее, указанные изменения не означали тотального пересмотра со стороны МБ/МВФ стратегии их деятельности в «Третьем мире». В частности, рекомендации африканским странам по поводу макроэкономической политики и характера структурной перестройки, известные как «Вашингтонский консенсус», в принципе не изменились. Они, как и раньше, охватывали все элементы экономических реформ «первого поколения», призванных обеспечить «устойчивое равновесие цен». Реформы же «второго поколения», реализация которых в африканских государствах пока что не началась, не предусматривают пересмотра существущих рамок экономической политики. Вместо этого к ней просто добавляются определенные новые
элементы, а также делается акцент на «толерантности функционирования институтов», или просто на «рационализацию управления». В целом «новый подход» к сокращению масштабов нищеты, как и раньше, базируется на постулате о либерализации и углубленной интеграции в глобальную экономику, которая, будто бы, имеет ключевое значение для динамического и постоянного роста экономики африканских стран
Впрочем, даже приведенные признаки оздоровления факторов внутреннего и внешнего влияния на ситуацию, сложившуюся в хозяйстве стран Субсахарской Африки, содействовали определенному улучшению ряда показателей социально-экономического положения в африканских государствах. Вследствие процессов модернизации в 90-е гг. во многих африканских странах был либерализован контроль над внутренними ценами, демонтированы некоторые неэффективные государственные монополии, приватизировано свыше 2 тысяч госпредприятий, упразднены нетарифные барьеры во внешней торговле и снижены импортные таможенные пошлины, установлены свободные курсы обмена национальных валют, в 31 из 46 стран субконтинента отменены ограничения на платежи и трансферы по текущим международным соглашениям, в большинстве стран упразднен прямой контроль над банковскими кредитами и установлены рыночные процентные ставки, в конце концов, бюджетный дефицит в странах Субсахарской Африки с середины 90-х годов сократился больше чем на половину.
Наблюдается и определенное укрепление положительных тенденций развития африканской экономики: если в 1992 г. только в 18 странах темпы возрастания ВВП были 3 % и более, то через десять лет этот показатель охватывал уже 37 стран 2. Открытие же в 24 африканских государствах 17 фондовых бирж повысило внимание американских, европейских и даже азиатских инвесторов к их экономике. В частности, объемы прямых иностранных инвестиций возросли с 2,6 млрд долл, в 1990 г. до 9 млрд в 2000 г. и до 17 млрд в 2001 г. А возрастание торгового оборота и снятие Соединенными Штатами и другими развитыми государствами ограничений на импорт ряда африканских товаров поддержали положительные сдвиги.
Однако анализ влияния совокупности приложенных в 90-е годы африканскими странами усилий по преодолению процессов социально-экономической деградации свидетельствует об их недостаточной эффективности, сказавшейся, разве что, на уменьшении «угла падения» африканских обществ и качества маргинализационного положения Черного континента в мировой экономике. Как отмечает нигерийский специалист К. Аке, «африканские экономики стагнируют или регрессируют. У большинства африканцев реальные доходы ниже, чем два десятилетия назад; состояние их здоровья ухудшается, широко распространенным является недоедание, инфраструктура и отдельные социальные институты разрушаются» 3.
1 Азия и Африка сегодня. — 2003. — № 1. — С. 19.
Economic Report on Africa 2002. Tracking performance and progress. UN. Economic Commission for Africa. — New York, 2002. — P. 2.
Азия и Африка сегодня. — 2003. — № 1. — С. 19.
В начале XXI в. совокупный доход региона, насчитывающего 46 стран, был не намного большим, чем национальный доход Бельгии, а в плане транспортной инфраструктуры Черный континент имел в своем распоряжении меньше пригодных дорог, чем Польша. Вместе с экономикой Южно-Африканской Республики (ЮАР) Субсахарская Африка, где проживал 621 млн человек (десятая часть человечества), «весила» столько же, сколько экономика Аргентины. Опосредованные же показатели увеличения ВВП стран субконтинента составляли около 2 млрд долл, в год, то есть столько же, сколько в богатой стране имеет один провинциальный город с населением в 60 тысяч человек.
С уровнем ВВП в 333,8 млрд долл., Африка едва дотягивала до 1 % мирового валового продукта, а ее доля в глобальном экспорте промышленной продукции приближалась к нулю. За тридцать лет Субсахарский регион постоянно терял свою долю мировой торговли, включая торговлю минеральным сырьем и аграрной продукцией, то есть товарами, которые казалось бы, должны быть его главными «козырями». Если в 60-х годах доля африканских стран в мировом экспорте и импорте составляла соответственно 5,3 и 5,0 %, то в 90-х годах эти показатели снизились к соответственно 2,3 и 2,2 % *. Ускорилась деградация индустриального сектора экономики африканских стран. По данными ООН, темпы промышленного развития Африки сократились с 8 % в 60-х годах до 1 % в 90-х годах, а доля промышленного производства в структуре ВВП снизилась с 39,0 % в 1980 г. до 26,3 % в 2000 г. 1 2
Стагнационные процессы распространялись в сфере аграрного производства Субсахарской Африки. Если в 60-х годах продукция сельского хозяйства увеличивалась здесь почти на 3 % в год и тем самым находилась приблизительно на одном уровне с темпами прироста населения, то в 70—90-х годах она колебалась в границах от двух третей — до половины от предшествующего показателя, в то время, как численность жителей продолжала увеличиваться теми же темпами, что и раньше. Таким образом, аграрная сфера, на которую сегодня завязано 70 % населения Африки и которая всегда была главным фактором «терпимости» качества жизни — эта сфера оказалась сегодня под угрозой развала, а тень голода нависла над 38 миллионами африканцев 3.
Продолжали сокращаться финансовые ресурсы стран региона. Сумма внешней задолженности субконтинента увеличилась с 56 млрд долл, в начале 80-х годов до 285 млрд долл, к 2000 г., а условия погашения долговых обязательств легли тяжелым бременем на и без того изможденное хозяйство африканских государств. В частности, ее стоимость в 2,5 раза превышала экспортные поступления, в то время как обслуживание внешних займов требовало 1/5 прибылей от экспорта 4. Проблема внешней задолженности ста
1 См.: Finance and development. — Washington, 2001. — Vol. 38, № 4. — P. 7; Le Monde. — 2000. — 4—5 juin.
2 Economic Report on Africa 2002..., P. 50.
3 Jeune Afrique 1’Intelligent. — 2002—2003. — № 2189—2190. — P. 82.
4 Там же.
ла, в свою очередь, одним из стимулов оттока капиталов из «Черной Африки», масштабы которого достигли в 90-х годах 37 % (по сравнению, скажем, 17 % в Латинской Америке и 3—4 % в Юго-Восточной Азии). Состояние финансовых ресурсов ухудшалось и в связи с ощутимым сокращением международной помощи на потребности развития африканских государств, объемы которой, в перерасчете на душу населения этих государств, уменьшились с 32 долл, на человека в начале 90-х годов до 19 долл, на человека на конец 90-х годов. Иллюстрацией последствий «истощения» источников финансирования национальных экономик стран Субсахарской Африки, собственно, и стал упомянутый выше упадок их аграрного сектора, вызванный, в частности, сокращением доли кредитов и займов в развитие сельскохозяйственного производства с 39 % в 1978 г. до 12 % в 1996 г. и до 7 % в 2000 г.
Конец 1990-х — начало 2000-х гг. стали периодом подъема новой волны афропессимизма, вызванной «результирующим» вектором показателей развития экономики африканских стран. Несмотря на определенное оживление индикаторов прироста их валового продукта и внешних инвестиций, общая ситуация ухудшалась. Количество африканских государств, которые входили в категорию беднейших стран планеты, увеличилась с 27 в 1996 г. до 34 в 2001 г. 1 А последствия экономической модернизации все менее соответствовали показателям хозяйственного оздоровления, в связи с чем из 15 стран субконтинента, которые Мировой банк определил в 1993 г. в качестве «основных реформаторов», только три, в дальнейшем, были квалифицированы МВФ как страны, добившиеся определенных успехов в развитии экономики. К тому же, в тех «образцовых» случаях, когда наблюдалось определенное частичное улучшение финансовых и производственных индикаторов, оно оказывалось непрочным, а главное — связанным, преимущественно, с какими-то посторонними «внепрограммными» факторами типа улучшения погодных условий, оживления спроса на определенные виды сырья на мировом рынке и т. п.
В условиях глубокого экономического упадка африканских стран продолжала разваливаться их социальная сфера. Несмотря на некоторое увеличение в 90-х гг. национального дохода государств Субсахарской Африки, в перерасчете на душу населения он был все же на рубеже веков на 10 % меньше уровня, достигнутого двадцатью годами ранее. Сокращение доходов сопровождалось регрессивными сдвигами в их распределении. За отмеченный период, например, средний доход на душу населения беднейших слоев в «Черной Африке» сокращался в два раза быстрее, чем доход всего ее населения в целом. При этом обращает на себя внимание вымывание за грань нищеты значительной части городских жителей. Масштабы бедности в африканских городах, которая охватывает 42 % урбанизованного населения, намного превышают средние показатели в «третьем мире» в целом, равняющиеся 28 %.
90-е годы, ставшие этапом определенного экономического оживления в африканских странах, вместе с тем, убедительно продемонстрировали, что
1 Le Figaro. — 2001. — 22juillet.
процесс хозяйственного роста сам по себе не дает преимуществ для бедноты. А модернизация экономики, хотя и более осторожная, чем в 80-х годах, но в целом осуществляемая по западным рекомендациям, продолжала разрывать ткань африканского общества. Именно политика либерализации торговли и финансовой деятельности, приватизации и реорганизации госсектора сыграла огромную роль в распылении пласта африканского общества со средним уровнем благосостояния, как это отмечали авторы докладов Конференции ООН по торговле и развитию за 1997 г. и 2002 г.
По данным Мирового банка, уровень нищеты в Субсахарской Африке (то есть людей, которые живут на средства менее одного доллара в день) возрос с 242 млн человек в 1990 г. до 340 млн в 2000 г. Собственно, не намного лучшим является состояние дел и у других категорий африканской бедноты, которые смыкаются с этой группой, но формально к ней не принадлежат. По официальной статистике, например, девять из десяти жителей 34 беднейших стран Субсахарской Африки живут на сумму меньше 2 долларов в день, в то время как в реальной жизни они могут позволить себе затраты в размере 86 центов в день *.
О дальнейшем погружении социальной сферы африканских обществ в трясину трудноразрешимых проблем свидетельствуют также и уровень смертности среди детей в возрасте до 5 лет, составляющей 140 на 1000; и средняя продолжительность жизни населения, равняющаяся всего 54 годам; и среднее количество врачей, которых в Африке на 100 тысяч жителей приходится аж 16, по сравнению с 253 в развитых государствах; и широкое распространение среди жителей континента СПИДа, туберкулеза и малярии; и ограниченность доступа населения к чистой питьевой воде лишь 58 %; и низкий уровень грамотности среди африканцев старше 15 лет, который достигает только 41 %; и увеличение количества беженцев вследствие вооруженных эксцессов с 650 тысяч человек в начале 60-х годов до 3,7 млн в 80-е годы и до 6,3 млн сегодня, в то время, как в начале 2000-х годов треть африканских стран и пятая часть населения Субсахарской Африки находилась в зоне военных конфликтов, и т. п.
Таким образом, перспектива разработки для Африки продуктивной стратегии социально-экономического развития, политики эффективного преодоления хозяйственной, социальной и, в целом, цивилизационной деградации в условиях глобализационных процессов, по своей сложности равняется, разве что, перспективе создания «новой африканской вселенной». Она реализуется на грани столкновения двух «ограниченно совместных» и «взаимопроблемных» потоков цивилизационного развития: формирующего глобальные мир-системные связи «атлантического» и периферийного, регионально-ограниченного «африканского».
1 Les Echos. — 2002. — 29 juin.
Критические «пороги развития» стран Субсахарской Африки — производные феномены современной мир-системы
Объективная проблематичность генерирования продуктивной стратегии социально-экономического развития всегда была связана с тем драматическим обстоятельством, что глобальная экспансия «атлантической» цивилизации, распространяющейся как самодовлеющий тотальный абсолют, оставляла африканской стороне только определенные варианты приспособленческой функции, лишая ее, таким образом, возможности формирования комплекса мероприятий, способного квалифицироваться как «афроцен-тристская-» стратегия.
Более того, создание планетарной рыночной архитектуры именно на ценностных основах государств мирового центра было и остается единственным смыслом и движущей силой взаимодействия мир-системного ядра с Субсахарской периферией, достижения которой измеряются в формате либерального мироустройства. А рыночная рациональность постиндустриальных государств ориентировала их на оценку экономических достижений в Субсахарской Африке с позиций нормативной, системной логики, лишенной критериев учета эволюционных отличий и особенностей африканских социумов.
Падение «коммунистического блока» в 90-х годах идеологи глобализации восприняли как «триумф капитализма..., или универсализацию ценностей свободного рынка» '. Международные финансовые институты стали исходить из ошибочного тезиса, согласно которому «современная экономика» доминирует, а бедность носит локальный характер. В соответствии с этим «лечить» африканские экономические системы можно с помощью стандартных мероприятий и инструментов: сокращение государственного сектора, приведение в порядок цен в разных областях экономики, либерализация торговли, поощрение внутренних накоплений. При этом предполагалось использование таких инструментов, как девальвация валют, регулирование учетных ставок, налоговая политика, либерализация торговли. Однако углубление кризисных явлений в африканской экономике убедительно доказало невозможность ортодоксальных рыночных подходов ввиду как их недостаточности для структурных преобразований африканской экономики, так и вследствие их непригодности для преодоления кризисных явлений, имеющих внеэкономические корни.
Вот почему в специфических хозяйственных условиях структурная перестройка по западным образцам постоянно давала противоположный ожидаемому эффект: регулирование учетных ставок не столько стимулировало накопления, сколько делало авансы спекуляции, а не производственной деятельности; либерализация торговли создала угрозу вытеснения местных промышленных товаров более рентабельной (в том числе и благодаря протекционистской политике западных государств) импортной продукцией; поощрение традиционного сельскохозяйственного экспорта подрывало
1 Africa in the new millennium / Ed.by C.Blessings. — Pretoria, 2001. — P. 60.
производство продовольственных культур и заостряло проблему обеспечения населения продуктами питания; сокращение кредитования вызвало снижение эффективности деятельности предприятий, их закрытие и, в конечном счете, дефицит товаров и услуг; девальвация национальных валют вызвала повышение цен на основные товары и услуги, содействуя переключению ограниченных внешних поступлений на спекулятивные цели; приватизация стала подрывать сам процесс трансформации экономики и т. д.
Вот почему структурные экономические реформы по западной методике не привели к становлению в Африке «нормального капитализма», а лишь обескровили и без того больное общество.
Таким образом, первой объективной и труднопреодолимой преградой в деле разработки стратегий национального развития африканских стран оказался уровень внешних влияний, характеризуя который, марокканский ученый М. Ельманджра отмечает: «К сожалению, почти ни одно африканское правительство не контролирует процесса принятия решений. Судьба Африки решается неафриканскими институтами...» *.
Другая не менее сложная, и не менее фундаментальная проблема процесса создания африканской стороной подходов к разработке жизнеспособной стратегии развития продолжительное время была связана с искажением и ложным толкованием ее сущности и целей, что привело к противопоставлению абсолютно неприемлемому императиву утверждения ценностей «Атлантической» цивилизации на африканских пространствах не менее неприемлемого стереотипа гибридных псевдоценностей, синтезированных вульгарно и произвольно из достояний той же «атлантической» цивилизации.
Целью политики развития провозглашалось, в этом случае, достижение современных жизненных стандартов западных стран. Главная дискуссия разворачивалась вокруг вопроса о «локомотиве роста». В разные времена таким «локомотивом» провозглашалось сельское хозяйство, импортзамеще-ние или развитие тяжелой индустрии. Но фактически здесь, как и в «атлантическом подходе», господствовала идея экономического прогресса в качестве движущей силы развития Африки.
В 60—70-х годах считалось, что африканское государство должно играть ведущую роль в национальном развитии. Доминирующей идеологией в этот период были социал-демократические и фабианские социалистические идеи вместе с кейнсианской и марксистской теориями развития. Быстрыми темпами развивались образование и здравоохранение. Создание государственной системы сбыта сельскохозяйственной продукции оказывало содействие развитию крестьянского товарного производства, а большие инвестиции в тяжелую промышленность создавали условия для формирования городского промышленного рабочего класса.
Рост цен на нефть в 1973—1974 гг. и в 1979 г., ухудшение условий международной торговли для Африки, неэффективность управления хозяйством стран континента вызвали продолжительный экономический кризис и рез
1 Problematising the African Renaissance / Ed. By Maloka E., Le Roux E. — Pretoria, 2000. - P. 87.
кое увеличение внешней задолженности африканских государств. Изначальные стратегии развития были дискредитированы.
Впрочем, опираясь на предшествующий опыт, Африка принимает ряд амбициозных планов социально-экономического возрождения, которые, опять-таки, базируются на экономической доминанте: увеличение производственных мощностей, более широкое привлечение местных факторов производства, налаживание устойчивого развития с опорой на собственные ресурсы (например, Монровийская стратегия развития 1979 г. и Лагосский план действий относительно ее реализации 1980 г.; Первоочередная программа возрождения Африки на 1986—1990 гг. 1985 г., и т. п.).
С начала 80-х гг. и в особенности после распада СССР, когда большинство стран Африки приняли программы, предложенные МБ/МВФ, сама возможность разработки и осуществление африканскими государствами самостоятельных стратегий развития была вообще ликвидирована. Либеральная идеология, основанная на догмах либерального капитализма, определяет как официальный дискурс, так и всю политическую жизнь современной «официальной» Африки. Диапазон национального выбора политики развития сокращается до бесконечно малых величин.
Подходы африканских лидеров уже не отрицают неизбежности интеграции субконтинента в глобальную экономику на условиях государств центра. Но сама полемика вокруг этих условий, с точки зрения выдвижения на видное место в общих с развитыми государствами проектах неотложных мероприятий по смягчению в африканских сообществах порогового состояния гуманитарной катастрофы, свидетельствовала как о невозможности африканской стороны отступать дальше в деле защиты национальных интересов, так и о ее твердом намерении добиться согласованных правил игры. Частичным воплощением этой задачи и стала, как отмечалось, разработанная африканскими лидерами в 2001 г. и поддержанная Большой восьмеркой в 2002 г. программа «Новое партнерство для развития Африки» (НПРА) '.
Означает ли это конец пути, по крайней мере, в направлении к разработке стратегии национального развития? Вряд ли. Как предостерегает специалист из зимбабвийского института развития Африки Т. Лумумба-Касон-го, «поиск прогрессивных парадигм развития, которые помогут Африке достичь социального прогресса, будет оставаться приоритетной задачей» 1 2.
НПРА — это оптимальное для современных международных условий, с точки зрения африканских лидеров, политическое решение. Его реализация во многом будет зависеть от отношения «третьей стороны», относительно которой оно, собственно, и принимается — африканского общества. И здесь проблем не избежать. Главным недостатком и всех предшествующих, и нынешней политики развития всегда была их отделенность от реальных потребностей и основ африканского социума, что и обусловливало оторванность
1 См.: Rapport du troisieme Forum pour la developpement de 1’Afrique. Definir les priorites de I’integration regionale. Commission economique pour 1’Afrique. — Addis-Abeba, 2002. — P. 27-31.
2
Lumumba-Kasongo T. Globalization, capitalism, liberal democracy and the search for new development paradigms in Africa. — Harare, 2001. — P. 7.
государства от обшества. Американский африканист Э. Гордон еше в начале 90-х годов предупреждал по этому поводу, что для Африки наиболее приемлемая стратегия развития должна быть исключительно прагматической и исходить, прежде всего, из тех принципов и структур, которые являются наиболее жизнеспособными именно в африканских условиях, понятными и близкими населению, и которые опираются на собственное институционное и культурное наследие, а не копируют слепо западные модели развития *.
Определенную Э. Гордоном проблему можно представить и в другом ракурсе: у внешних сил, стремящихся к реализации в Субсахарской Африке структурных реформ, к ее модернизации под потребности глобальной экономики, в странах субконтинента нет «добровольно-заинтересованных», стратегически весомых социальных и политических партнеров.
Таким партнером могло бы быть государство с его гипертрофированной ролью в экономике, поскольку в условиях слабой развитости национальной буржуазии именно оно выполняло функции главного инвестора и «мотора» экономики, создавая предприятия, нанимая рабочую силу, получая прибавочную стоимость. Укажем попутно, что именно с такими африканскими государствами, которые были также высокоцентрализованными властными системами, владели эффективным аппаратом принуждения, имели специфические формы юрисдикции и т. д. международные институты и правящие круги Запада и начали процесс реформ. Однако парадокс навязанной африканским странам экономической и политической модернизации состоял как раз в подрыве традиционных государственных устоев ради утопии трансформации на субконтиненте периферийной капиталистической системы в «эталонную».
В результате в африканских странах создалось неопределенное положение: и либеральная экономическая и политическая демократия «не привилась», и авторитаризм был дискредитирован. О том, что происходит при таких обстоятельствах, свидетельствует малавийский политолог Чинсанга Блессинге, констатирующий, что в Африке большинство государственных систем «в той или иной мере близки к краху... Они практически неспособны собирать налоги, поддерживать государственные учреждения, бороться с преступностью, предотвращать восстания и волнения». В сознании своих граждан, продолжает Ч. Блессинге, государственные структуры дискредитированы проведением экономической политики, подчиненной не столько национальным интересам, сколько интересам ТНК, то есть вынужденной позицией, без которой «страна обречена на проигрыш.» Таким образом, обобщает ученый, угроза независимости и легитимности африканского государства приобретает характер эндемии, а усиление ТНК на африканском экономическом пространстве подрывает и без того крайне нежизнеспособные государственные институты Африки 1 2.
1 Gordon A. Capitalist reform in Sub-Saharan Africa // Geneve — Afrique. — 1992. — Vol. 30, № 1. - P. 45-48.
2
Blessing Ch. Africa and the globalising world economy in the new millennium: some policy and theoretical reflections. — Pretoria, 2001. — P. 62—63.
Непредрасположенным к сотрудничеству с внешними силами по вопросам внедрения импортных стратегий развития является и африканское общество. Более того, в целом оно остается их постоянным и ярым противником. Одна из главных причин такого отношения коренится в отсутствии экономической заинтересованности. За исключением стран Магриба, Египта, Нигерии и ЮАР, в «современной экономике» Африки занято лишь несколько процентов активного населения. Основу традиционной африканской экономики составляют миллионы «семейных предприятий», образовывающих так называемые «народные экономики, экономики выживания, которые имеют мало общего с европейской и американской экономиками. Вместе с аналогичными экономиками в других бедных регионах планеты, они составляют «другую мировую экономику», которая противостоит «официальной экономике».
Вот почему неолиберальная модернизация в Африке — «это не приобщение к современной цивилизации, а скорее кошмар и карикатура на нее». Глобализационные процессы в том виде, в котором они сегодня реализуются, разрушают в первую очередь именно традиционный сектор африканских хозяйственных систем, вследствие чего свыше 60 % местного населения находится или за «порогом нищеты», или близко к нему. О каком лояльном отношении к осуществляемым по западным программам преобразованиям может идти речь, если благодаря этим преобразованиям «во многих странах люди настолько бедны и настолько измождены нашествием жестких шоков, что идеи рынка, инструменты рынка и тем паче оптимальные способы приспособления к рынку являются в данной среде просто неуместными» *.
Согласно исследованиям африканских экспертов, процессы рыночной трансформации в африканских странах стимулируют не усилия легитимной предпринимательской активности, а быстрое разрастание теневой экономики, то есть сферы, которая буквально пожирает остатки национальных хозяйственных организмов. Переход рабочей силы из государственного сектора в неформальный «вызван фрустрацией, а не участием в процессе политического протеста, как утверждают приверженцы либеральной демократии. Люди, которые голодают, которые не имеют жилья, которые не могут отдать своих детей в школу — не хотят поддерживать либеральную демократию. Степень их политической мотивации и лояльности системе низка. Либеральная демократия, в рамках внедряемых программ структурных реформ, не занимается надлежащим образом проблемой бедности в Африке. Речь идет лишь о смягчении бедности, а не о ее искоренении» 1 2. Со своей стороны «бедность Африки», то есть абсолютное большинство африканского населения, платит проводникам либерализма на континенте взаимной отчужденностью.
1 Engelhard Ph. L’Afrique miroir du monde? Plaidoyer pour nouvelle economie. — Paris, 1998. - P. 17-27.
2
African association of political science. — Harare, 2001. — Vol. 5, № 1. — P. 21.
Возьмем, например, такую социальную категорию, как африканское крестьянство, которое по своему удельному весу в общем составе населения стран Субсахарской Африки — 65 % — составляет его основную массу. В большинстве стран континента сельское хозяйство, вопреки сокращению его доли в вырабатываемом национальном продукте до 25 %, до недавнего времени играло важную социально-экономическую роль, будучи источником средств к существованию преобладающей части общества и, что особенно важно, выступая, таким образом, фактором терпимого качества жизни в целом. Так вот, о каком положительном отношении к либеральной модернизации этой социальной категории может идти речь, если под влиянием конкуренции со стороны мировых рынков сельскохозяйственной продукции в Африке приобрели широкое распространение процессы «деаграризации» сельского населения, то есть распада мелкого семейного крестьянского хозяйства, потери им экономического потенциала и социальной устойчивости?
С другой стороны, демонтаж государственной системы обеспечения техникой, семенами, удобрениями и т. п. повысил производственные затраты, сломав рентабельность мелких и средних хозяйств. В результате, на континенте за последние 20 лет резко увеличилась численность крестьян, живущих в нищенских условиях: в Кении — на 150 %, в Танзании — на 71 %, в Гане — на 67 %, а за чертой бедности оказались, например, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) — 91 % сельского населения, в Буркина Фа-со — 90 %, в Малави — 90 %, в Сомали — 85 %, в Зимбабве — 80 %, в Судане — 80 % и т. д.
Разрушение традиционного социально-экономического уклада жизни африканского села в ходе хозяйственной перестройки толкает африканских крестьян на поиски заработков вне аграрной сферы. По данным исследований группы экспертов во главе с голландским специалистом Д. Брайсоном, доля доходов крестьянских семей в Африке от несельскохозяйственной деятельности выросла за последние 20 лет с 55 до 80 %. При этом дополнительных заработков ищут не только мужчины, но и женщины и дети, что разрушает традиционное разделение труда и гасит производственный процесс в крестьянских хозяйствах \ Все это свидетельствует уже даже не о деградации, а об агонии аграрного сектора, общесоциальным знаменателем, что стало сегодня, в частности, такое явление, как зависимость физического выживания каждого пятого африканца от импорта продуктов питания или продовольственной помощи.
В целом, представляется чрезвычайно сложным постичь логику западных проводников либеральной модернизации в Африке с точки зрения ориентации их расчетов на обеспечение лояльности африканского населения к осуществляемым хозяйственным переменам.
Стараясь создать на африканском экономическом пространстве рыночные системы на манер западных образцов и, одновременно, игнорируя отсутствие здесь надлежащих экономических предпосылок, социальных зап
1 Journal of contemporary African studies. — Pretoria, 2001. — Vol. 19, № 1. — P. 14.
росов и общественных отношений, идеологи глобализации словно бы руководствовались представлениями о распространении «экономического прогресса» в какой-то другой, более подчиненной рыночным законам социальной среде. Во всяком случае, в их исходных позициях не фигурируют признаки осознания сложности продвижения рыночных реформ в условиях африканских культур, где общество не ценит и не уважает индивидуальных достижений, и в котором конкуренция воспринимается, преимущественно, как угроза социальной гармонии. Указанные методологические искажения западный ученый Б. Андерсон сравнил с попыткой трансформации «воображаемых сообществ» наций-государств, в то время, как на субконтиненте нет ни феномена общественно-государственной целостности, ни наций, ни национальной солидарности, из-за чего упомянутые расчеты могут надеяться, разве что, на воображаемые достижения.
Основными признаками групповой идентификации африканских сообществ остаются, как и раньше, расширенные семьи, кланы, племена, самобытная культура. Клановая или племенная принадлежность определяет возможность доступа к широким социальным и экономическим ресурсам, таким как земля, рабочие места, политическая власть. Этническая принадлежность к правящей группе обусловливает, в сознании африканцев, «благополучие», а потому межэтнические конфликты становятся составной частью борьбы за богатство.
В сельской местности мгногочисленные традиционные группы обеспечивают, более или менее успешно, выживание населения в условиях кризиса и регулируют процесс эволюции политических и общественных пристрастий и вкусов. Определенным образом они мобилизуют общественное мнение и трансформируют его, по мере необходимости, в действие по вертикальным и горизонтальным направлениям социальной активности. В то же время эти традиционные группы сводят на нет, в сущности, основную функцию государства — олицетворение и обеспечение всеобщих интересов — и препятствуют формированию объединяющих ценностей данного общества. Тем более они блокируют функции государства как репродуктора зарубежного влияния.
Похожая ситуация воссоздается и в городских условиях. Здесь «горожанин» ищет поддержки и понимания у тех, с кем он связан этнически и культурно — у членов клана, племени, земляков. Союзы рабочих и безработных также образовываются по этническому принципу, что усложняет работу государственных социальных учреждений. Даже немногочисленные положительные результаты модернизации нивелируются чуждым философии этих изменений групповым мировоззрением созданных в городах этнических объединений.
Этнотрадиционалистские принципы пронизывают всю сферу политической жизни африканских стран. Политические партии продолжают опираться на этнические группы, оставаясь блоками регионального, но не общенационального значения. Политические лидеры могут не обещать ничего для общего блага, в то время как уверения в предоставлении преимуществ своей этнической группе обеспечивают им поддержку со стороны ее представителей. Даже оказавшись в оппозиции, они редко выдвигают
программу альтернативных правительственным общеэкономических реформ, сосредоточиваясь, в основном, на вопросах этносолидарности. По мнению французского специалиста Э. Дюпи, фатальность вынужденности соблюдения международных экономических и коммерческих норм в Африке состоит в том, что этот процесс ведет к восстановлению искаженных форм зависимости и подчиненности африканских социумов архаическим властным структурам, стремящимся выдвинуться на первые места. Возможно, таким способом Африка платит свою цену за разнузданную и неконтролируемую глобализацию, ответом на которую является не менее «тяжеловесный» трайбализм *.
Такова социальная действительность в африканских странах. И едва ли она является дружественной по отношению к западным идеологам ее реформирования. Как представляется, иностранным источникам стратегий африканского развития следовало бы сначала разработать новые, адекватные времени и интересам африканского населения, модели общественного подъема, прежде чем превращать Африку в «социальную лабораторию глобализации». Сегодня уже очевидно, по крайней мере, и то обстоятельство, что никакие экономические системы не будут продуктивно функционировать, никакая реформа и модернизация не будет эффективно внедрена в обществе, лишенном минимума безопасности и минимума норм, которые признавались бы большинством его членов, в обществе, в котором основное внимание сосредоточено на проблемах распределения мизерного общественного продукта, а не на том, каким образом этот продукт создавать на благо всех.
Не все просто обстоит и с практикой и перспективой партнерства внешних сил модернизации с властными африканскими элитами. Во-первых, по своим экономическим интересам последние далеки от стремления к взаимодействию с внешними наставниками в области внедрения радикальных хозяйственных реформ из-за того, что ожидаемые изменения будут глубоко задевать интересы многих прослоек правящей элиты и социальных групп, их поддерживающих. Во-вторых, эти элиты этноцентричны и гете-рогенны по своей природе, а социальный статус каждой из них зависит от степени поддержки родственной этнической группой и прочности клиен-талистских связей, из-за чего у них отсутствует примат общегосударственных интересов. В-третьих, они консервативны по своей сущности и мало склонны к изменениям, способным, более того, поколебать их власть и традиционный авторитет. И ростки либерализации вовсе не изменили их социальную природу.
Что же касается африканской буржуазии, то она немногочисленна, неорганизованна в социальном и политическом отношении, слаба в экономическом плане и, в целом, общественно малозначима. Более того, она развивалась как разобщенный феномен с момента своего зарождения. Даже на региональном уровне прослойки протобуржуазии были фрагментаризирова-
См.: Les Echos. — 2003. — 20 fevrier.
ны, поскольку происходили из разных групп провинциальной аристократии — «традиционной» и «бюрократической». К первой относились выходцы из семей с высоким социальным, политическим и экономическим статусом в традиционном обществе. Представители второй категории были потомками тех, кто сумел эффективно использовать работу в системе колониальной эксплуатации. «Традиционная аристократия» была преимущественно сельской. «Бюрократическая аристократия» — в основном городской. Разобщенность африканской буржуазии не позволяет квалифицировать ее как серьезную политическую силу, существующую на классовой основе, а также, как отмечает танзанийский социолог X. Кайя, «надеяться на союз традиционной и бюрократической буржуазии разных частей любой африканской страны в обозримом будущем» .
Таким образом, как представляется, вопрос о реальных союзниках в африканском обществе, заинтересованных в развертывании на африканском пространстве продолжительной и устойчивой либеральной политики развития, имеет для Запада далеко не абстрактный смысл.
О том, что африканские хозяйственные организмы могут функционировать лишь как разновидности «периферийного капитализма», свидетельствует и специфика их реального сопротивления внешним попыткам «генной инженерии» местных экономических систем в сторону либерализации.
Насколько либеральная рыночная модель совместима сегодня с социально-экономическими реальностями Субсахарской Африки, свидетельствует, например, тот факт, что ныне с «докапиталистической экономикой» субконтинента связано 80 % крестьян традиционного сектора сельского хозяйства и от 40 до 60 % рабочей силы неформального сектора в городах и провинциях, в то время, как сам неформальный сектор в 90-х годах обеспечивал свыше 70 % прироста вновь создаваемых рабочих мест 1 2.
Как отмечает российский африканист Э. Морозенская, в результате массированной модернизации в африканских странах начал все более четко проступать эффект так называемого обратного синтеза. Проявляется он в том, что наряду с осовремениванием таких хозяйственных структур, как государство и рынок, происходит усиление традиционализма в экономике в связи со смещением центра тяжести на активизацию традиционного мелкого предпринимательства 3.
1 Kaya Н. The political economy of Africa and continental challenges in the new millennium. — Pretoria, 2001. — P. 11.
2
Азия и Африка сегодня. — 2002. — № 1. — С. 5.
3 Азия и Африка сегодня. — 2002. - № 2. - С. 40.
Гармонизация технологических и социокультурных подходов к возрождению Субсахарской Африки
как перспектива преодоления эволюционного кризиса субконтинента
Западные стратеги модернизации африканского хозяйства спровоцировали в нем вспышку неоархаических явлений, вызванных трудностью экономической и социально-психологической адаптации основной части населения к требованиям современного рынка. В результате интенсивное развитие в африканских странах приобрел феномен, определенный западным исследователем Г. Хайденом как «экономика солидарности». Этой «экономике» присущ мощный перераспределительный механизм, сформированный нормами и обязательствами кровно-родственных отношений. Согласно этим нормам, те, кто владеет собственностью, политическим влиянием и богатством, должны делиться ими с широким кругом родственников и клиентов. Это может находить выражение в предоставлении продовольствия и жилья, земли и скота; строительстве дорог, школ, медицинских учреждений для земляков; помощи прибывшим в город родственникам и односельчанам в поисках работы, питания, получении образования, в конце концов, в создании широкой сети патронажно-клиенталистских связей 1.
«Экономики солидарности», или, по определению ученого из Сенегала Ф. Енгельгарда, «народные экономики» возникают в африканских государствах в ответ на слабое развитие современной экономики. Цены на товары и услуги первой необходимости в «народных экономиках» ниже, чем в официальной экономике. Это объясняется тем, что часть затрат в «народных экономиках» отсутствует благодаря другой логике производства, в то время как существующие затраты производства минимальны.
Более низкие производственные затраты в «народных экономиках», как и более низкие цены связаны также со сравнительно небольшими первичными капиталовложениями. Часто местом производства «народного предпринимателя» является его дом, уголок улицы или небольшой промежуток тротуара, а в производственном процессе используются устаревшие оборудование и технология. В результате, создание одного рабочего места в «народной экономике» стоит, в среднем, 1—2 тысячи долларов, а в современном секторе — 80 тысяч. Другим преимуществом народной экономики является низкая стоимость труда, поскольку здесь преобладает семейный, как правило, неоплачиваемый труд. Низкие доходы и нехватка денежной наличности также влияют на уровень низких цен в «народной экономике» 1 2.
Главное назначение «народной экономики» состоит в обеспечении выживания миллионов людей, которые не имеют альтернативных источников занятости. Вот почему в общехозяйственном измерении африканских стран любая политика развития и роста, которая, по мнению Ф. Енгельгарда, «не
1 См.: Geneve — Afrique. — 1992. — Vol. 30, № 1. — Р. 36—41.
2 Engelhard Ph. Op. cit., P. 64—69.
опирается на реальную экономику Африки, — а таковой является «народная экономика» (городская и сельская), — неизбежно обречена на провал» *.
Общим итогом экономического развития государств Субсахарской Африки под воздействием могущественных деформирующих внешнеполитических импульсов XX в. можно считать оформление в странах субконтинента внутренне дезинтегрированного и внешнеориентованого в своем развитии воспроизведенного механизма, пассивно подключенного к системе глобального рынка.
К главным социальным последствиям внедрения капиталистических отношений в докапиталистические социально-экономические структуры относится возрастающая маргинализация африканского населения. Базисные, экономические причины маргинализации являются следствием подрыва предшествующей структуры, традиционных хозяйственных и социальных связей, появления излишка человеческих ресурсов, утративших привычные и не нашедших новые источники существования.
Ряд внутренних факторов экономического, политического, «административно-бюрократического», экологического, гуманитарного плана «подпитывают» и углубляют существующие социально-экономические проблемы, придают им устойчивый и прогрессирующий характер.
К первым, например, относится «фрагментарность» африканской экономики, производная как от особенностей хозяйственного развития африканских народов, так и от ограниченности национальных рынков небольшими размерами многих африканских государств (из 46 стран Субсахарской Африки 30 имеют население менее 10 млн человек, а 18 — менее 3 млн человек, в то время как 13 стран имеют территорию около 50 тыс. кв. км). Все это затрудняет развитие производственной базы и национальных рынков.
К числу вторых следует отнести проблемы, связанные с 19 открытыми вооруженными гражданскими конфликтами, которые потрясли Африку в минувшем десятилетии. О степени их влияния на африканское общество свидетельствует, например, тот факт, что если в бесконфликтных странах субконтинента реальный доход на душу населения увеличивался в среднем на 1 % в год, или пребывал в состоянии стагнации, то в конфликтных он уменьшался на 1,5 % 1 2.
К проблемам экологического порядка относятся, скажем, недостаток на Африканском континенте питьевой воды, с чем сталкивается ныне почти половина его населения. Ежегодно до 3 млн африканцев умирают от болезней, связанных с некачественной водой и несоблюдением гигиенических норм.
Или проблема аридизации — две трети континента занимают пустыни и засушливые зоны. По мнению специалистов ООН, 73 % обрабатываемых засушливых земель находятся в состоянии дальнейшей деградации, ежегодные финансовые потери от которой составляют 9 млрд долл. Территория к югу
1 Ibidem, Р. 28.
2
Mozer G., Toshihiro I. Economic growth and poverty reduction in Sub-Saharan Africa. — Washington, 2001. — P. 10.
от Сахары за последние 50 лет превратилась в пустыню, равную по размерам Сомали. Такая же судьба угрожает одной трети всего Африканского континента, в первую очередь — странам Сахеля.
Не менее остро стоит и проблема лесов в Африке, площадь которых, оцениваемая в 690 млн га, сокращается ежегодно на 3,7 млн га. При таких
темпах лишь на протяжении одного столетия исчезнет половина африканских лесов. Что это означает для выживания африканского социума, можно представить, если учесть, что 70 % жителей субрегиона экономически зависят от леса .
Среди прочих факторов можно выделить коррупцию, влияющую на уменьшение ежегодного процента экономического прироста африканских стран в пределах 0,5 %—1 %; СПИД, из-за которого страны с высоким уровнем зараженности теряют до 1 % ВВП в год; проблемы с подготовкой кадров и их привлечением к работе в национальном хозяйстве: в то время как африканские страны ежегодно получают услуги от 100 тысяч специалистов из
развитых государств, затраты на содержание которых составляют свыше 4 млрд долл., в странах Запада работают свыше 300 тысяч инженеров и технических специалистов из Африки, а динамика их оттока с субконтинента равняется 23 тыс. чел. в год 1 2 и т. д.
Однако если «гашение» указанных отрицательных тенденций развития находится в пределах достижимого самими африканскими странами, то решение основоположных судьбоносных задач субконтинента остается производным от существенной перестройки всей системы международных экономических отношений, большей, чем ныне, их ориентации на потребности народов Субсахарской Африки.
Например, в подготовленном еще в 1989 г. докладе Мирового банка, посвященном обзору экономической ситуации в странах Африки, подчеркивалось, что перспектива преодоления ими социально-экономического кризиса непосредственно связана с достижением темпов экономического развития минимум в 4—5 % в год. В 1991—2001 гг. этот показатель составлял, в среднем, 2,5 % в год.
Одна из основных причин неспособности африканских стран выйти на указанный уровень состояла в огромном дефиците финансовых ресурсов (часть налоговых поступлений по отношению к ВВП 46 стран Субсахарской Африки колебалась, в среднем, в пределах 16 %), больших выплатах в счет обслуживания внешнего долга (6 % от ВВП) — на фоне истощения внешних источников финансирования. Общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику субконтинента был чрезвычайно малым — 2 % от глобального уровня. К началу нового столетия ПИИ в странах Субсахарской Африки составлял, в целом, лишь 18 % их ВВП. Помощь на нужды развития африканских стран со стороны развитых мировых государств сократилось с 23,4 млрд долл, в 1991 г. до 11,8 млрд долл, в 1999 г., а со стороны междуна
1 Akokpari F. Africa in the new millennium: reflections on some challenges and possibilities. — Pretoria, 2001. — P. 30—31.
2 Le Monde. — 2000. — 4—5 juin.
родных организаций — уменьшилась с 9,5 млрд долл, в 1994 г. до 6,6 млрд долл, в 1999 г. 1
В начале текущего десятилетия международные организации определяют те же рецепты для лечения тех же болезней: с целью блокирования отрицательных тенденций развития стран Субсахарской Африки ежегодный прирост их ВВП должен составлять 5 %, а для постепенного преодоления этих тенденций — 7 % 1 2.
Правда, для этого уровень ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в странах континента должен вырасти до 30 % их ВВП, международная помощь должна повыситься минимум на 10 млрд долл., долговые обязательства африканских стран должны быть существенно снижены, а условия допуска африканских товаров на рынки развитых мировых государств — ощутимо либерализироваться, что позволило бы Африке обеспечить прибыли, втрое превышающие объем внешней помощи.
Своеобразным индикатором соответствия указанных ожиданий вероятности их воплощения в жизнь стал прогноз Мирового банка относительно темпов среднего роста экономики стран Субсахарской Африки на 2003—2010 гг., которые это международное финансовое учреждение оценило в 3,7 % 3.
Таким образом, становится вполне очевидным, что с целью преодоления глубокого экономического упадка африканских стран, прекращения дальнейшей деградации их социальной сферы, достижения политической стабильности, а также усиления ответственности и авторитета государственных органов, правящим кругам африканских стран нужно решить чрезвычайно сложную задачу — добиться реализации приоритетов национального развития обществ Субсахарской Африки в условиях и за счет глобализации, а не вопреки ей.
Такие параметры решения — не произвольный выбор, а неизбежность, которая будет требовать значительных усилий, выдержки и настойчивости.
Вполне очевидно, что нынешняя модель неолиберальной глобализации неприемлема для государств субконтинента с точки зрения действительных приоритетов и потребностей их развития. Вероятно, необходима если не разработка и реализация какого-либо нового варианта «нового мирового экономического порядка», то хотя бы трансформация тех тенденций глобализационного процесса, которые наиболее отрицательно сказываются на состоянии африканской экономики.
Именно в контексте такого подхода, рассчитанного на продолжительный период, детализированного в структурном плане и конкретизированного во времени, можно рассматривать основные инициативы, которые выдвигаются ныне африканскими странами как на региональном уровне, так и на международной арене.
1 Economic Report on Africa. — 2002... — P. 2.
2 Le Monde. — 2000. — 4—5 juin; Finance and development. — 2001. — Vol. 38, № 4. — P. 5.
3 Les Echos. — 2001. — 17 janvier.
В этом плане целесообразно было бы ожидать роста усилий африканских стран по развенчанию мифа о том, что регион не представляет экономического интереса для ведущих государств Запада. Показатель прибыльности инвестированного в Субсахарскую Африку американского капитала на протяжении последних двух десятилетий (то есть даже в период пика кризиса африканской экономики 80-х годов) не опускался ниже 10 %. Чистая прибыль британских инвесторов в том же регионе только за 1989—1995 гг. увеличилась на 60 %. Африканские филиалы японских компаний были более рентабельными, чем их филиалы в Юго-Восточной Азии, Европе и Северной Америке. В целом же в 90-х годах доля прибылей для всех прямых иностранных инвестиций в Африке была наибольшей в мире, равняющейся 29 % показателю *. Вот почему представляется оправданным предположение относительно соединения, в определенной временной перспективе, процесса дальнейшего предоставления возможности получения западным капиталам сверхвысоких прибылей на африканском экономическом пространстве с условием предоставления Западом Субсахарской Африке не менее исключительных уступок в сфере экономического сотрудничества.
Попыткой покончить с маргинализацией субконтинента, обеспечить его равноправную интеграцию в мировое хозяйство на принципах взаимозависимости можно считать и мероприятия, предусмотренные программой «Новое партнерство для развития Африки» (НПРА). Если африканским странам удастся убедить развитые государства в поддержке выполнения всех признанных начертаний этой программы, то есть заполнить с их помощью 12 % от ВВП дефицит средств, составляющий для субконтинента 64 млрд долл., то через 10 лет зависимость африканских государств от внешней экономической помощи будет упразднена, уровень внутренних инвестиций сможет подняться до 22 %, а темпы экономического роста будут достигать 6 % 1 2.
Тем не менее, без проявлений настойчивости и коллективной политической воли африканской стороной здесь не обойтись. Уже сейчас США, от которых многое зависит в реализации НПРА, не скрывают своего скептического отношения к ней на том основании, будто эта программа отражает интересы нескольких стран Африки, а не запросы всех народов континента.
Вероятным направлением улучшения экономического климата в африканской экономике и позиций африканских стран в мирохозяйственных связях является дальнейшее усовершенствование ими существующих программ сотрудничества с ЕС (например, в рамках соглашения о партнерстве между ЕС и АКТ 2000 г. или в контексте инициативы Евросоюза 2001 г. «все, кроме оружия») и США. С Соединенными Штатами, в частности, такая перспектива кажется продуктивной, прежде всего, в рамках принятого этой страной в 2000 г. закона о содействии развитию Африки и расширению возможностей сотрудничества с африканскими странами. Благодаря либерализации торговли американской стороной по этому закону на 1800 товарных
1 Jeune Afrique 1’Intelligent. — 2002. — № 2151. — Р. 45.
2 Les Echos. — 2000. — 28—29 juillet.
позиций, уже через год после его внедрения американский импорт товаров и услуг из Субсахарской Африки увеличился на 96 % — до 1,2 млрд долл., — а экспорт в этот регион возрос на 30 %, в то время как предоставленные Америкой льготы помогли создать в Африке 38 тысяч рабочих мест.
Однако ряд африканских государств так и не смог воспользоваться преимуществами созданной ситуации, поскольку не имел возможности выполнить «предварительные условия» американской стороны. Кроме того, не все африканские страны подпали под действие американского закона, который применяется лишь к тем государствам, экономика которых в значительной мере базируется на рыночных принципах, политическая жизнь — на свободном волеизъявлении, а частная и интеллектуальная собственность надежно защищены законодательством. В силу указанных причин наибольшую пользу в первые годы после принятия закона смогли получить лишь Мадагаскар, Маврикий, Лесото, Малави, Кения и Уганда.
Объектом дальнейшего приложения усилий стран Субсахарской Африки будет оставаться установление и соблюдение справедливых правил мировой торговли, ликвидация субсидирования и других форм протекционизма развитых государств относительно своей аграрной продукции и других товаров, причиняющих большие убытки африканскому экспорту. Например, в результате поддержки Соединенными Штатами демпинговых цен на свою сельскохозяйственную продукцию, ее рыночная цена занижена по сравнению с реальной на масличные культуры — на 50 %, на зерновой хлеб — на 44 %, на сою — на 29 %, на рис — на 22 %, на кукурузу — на 12 %, на хлопок — на 57 % и т. д.1 Кроме того, по признанию президента Мирового банка Дж. Вульфенсона, хотя правительства африканских стран с начала 80-х годов снизили импортные таможенные пошлины в среднем наполовину, тем не менее многие страны континента не получили никаких льгот, предусмотренных за поддержку либеральных инициатив 1 2. Устранение всех этих диспропорций будет продолжать составлять насущную необходимость африканских стран с целью дальнейшего улучшения условий их хозяйственного развития.
Гармонизации глобализационного феномена и тенденций экономического развития африканских государств призваны служить процессы региональной интеграции в Субсахарской Африке, которые позволяют реорганизовать фрагментарную экономическую структуру региона в более сильное экономическое сообщество, повысить групповой статус африканских стран в мировом хозяйстве. Сейчас в Африке существует 14 региональных экономических объединений, как, например, Экономическое сообщество стран Западной Африки, Экономический и валютный союз стран Западной Африки, Межправительственный комитет развития стран Восточной Африки, Общий рынок для стран Восточной и Южной Африки, Таможенный и экономический союз Центральной Африки, Сообщество развития Юга Африки, Южноафриканская таможенная зона и т. д.
1 Les Echos. — 2003. — 12 fevrier.
2 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). — 2002. — № 8362. —
С. 4.
Региональные блоки могут служить для их участников базой повышения конкурентоспособности, улучшения доступа к иностранным капиталовложениям, объединения (или синхронизации развития) национальных хозяйственных комплексов, интеграции финансовых рынков, оставаясь на сегодня большим, но неиспользованным в полной мере ресурсом экономического подъема. Образование региональных рынков пока что не привело к желаемым результатам ввиду, в частности, чрезмерного количества различных региональных соглашений, которые взаимоперекрываются, в результате чего, например, из 53 стран континента 30 являются одновременно членами двух экономических сообществ, 16 — трех, одно государство — четырех и 6 входят только в одно объединение. Это создает путаницу и громоздкость административных правил, а также затрудняет процессы унификации законодательной базы. Впрочем, усовершенствование форм и направлений регионального сотрудничества является сегодня таким же велением времени, как и потребность стран субрегиона в конструктивной адаптации к глобализационным феноменам.
Вот почему процесс консолидации усилий африканских государств продолжается сегодня не только на региональном, но и на континентальном уровне. Доказательством стремлений африканских народов к единству может служить как расширение диапазона компетенций созданной в 60-х годах Организации африканского единства (ОАЕ) на экономические вопросы и учреждение на ее основе в 1991 г. Африканского экономического сообщества, процесс окончательного оформления которого планировалось завершить в течение трех десятилетий, так и принятие летом 2002 г. лидерами африканских стран решения о преобразовании этой организации в более продуктивную модель континентального сотрудничества — Африканский союз *.
Задачами континентального уровня интеграции являются возрождение общеафриканских ценностей и расширение внутриафриканских контактов на общественном уровне, поощрение формирования региональных сообществ и коллективное обеспечение национальной безопасности, целенаправленное движение к снижению и унификации тарифных структур и уничтожению нетарифных барьеров, согласование монетаристско-финансовой политики и курсов обмена валют, создание физической и юридической инфраструктуры, поддерживающей возрастающее региональное окружение, создание дополнительной ликвидности, внедрение координации действий в области обеспечения населения продовольствием, сотрудничество в деле разработки естественных ресурсов, развитие человеческого потенциала, усиление действенности национальных и региональных институтов.
Наконец, более эффективным, чем утопия тотальной либерализации всего национального хозяйства африканских стран, методом распространения законов либерального рынка на экономику Субсахарских государств, следует признать поэтапную эволюцию этого распространения, ограниченную на ее начальных этапах пределами свободных экономических зон
1 См.: Rapport du troisieme Forum pour la developpement de I’Afrique..., — P. 31—39; 62-72.
(СЭЗ). Еще в 1990 г., то есть накануне десятилетия интенсивного создания СЭЗ в Субсахарской Африке, американская консалтинговая организация «Сервис групп», которая изучала возможности создания в Африке свободных экономических зон, отмечала, что несмотря на усилия, которые прилагаются здесь в целях развития рыночной экономики, результаты, в целом, остаются мало удовлетворительными. Вот почему, подчеркивала «Сервис групп», свободные экономические зоны являются пока что единственным средством для интеграции периферийных стран в мировой рынок.
СЭЗ создаются для ускоренного решения социально-экономических, научно-технических и внешнеторговых проблем африканских государств, то есть для удовлетворения их неотложных национальных потребностей. Основными целями их формирования является активное подключение регионов к широким мирохозяйственным связям, привлечение передовой зарубежной технологии и управленческого опыта, сотрудничество в структуре «ноу-хау», стимулирование инноваций, развитие экспортного производства, подготовка квалифицированных кадров, увеличение количества рабочих мест, повышение жизненного уровня населения. СЭЗ имеют структуру, ориентированную на саморазвитие, в них эффективно используются внешнеэкономические факторы прогресса, в том числе инвестиционные связи, которые оказывают содействие широкому экономическому сотрудничеству.
Быстрое распространение СЭЗ в Африке связано, во-первых, с переходом к новой модели развития — от импортозамещения к экспортному производству; во-вторых, с их популярностью на фоне успехов свободных экономических зон в новых индустриальных государствах (НИГ) и, в особенности, в-третьих, с впечатляющими успехами в 1982—1989 гг. свободной экономической зоны Маврикия, которая была создана в 1970 г. Только на протяжении 90-х годов 9 других стран Субсахарской Африки установили у себя статус свободной экономической зоны (до этого периода кроме Маврикия СЭЗ действовала с 1975 г. только в Сенегале): Того и Мадагаскар (1989 г.), Кения (1990 г.), Камерун и Нигерия (1991 г.), Мозамбик (1993 г.), Зимбабве и Гана (1995 г.), Намибия (1996 г.). Однако список стран указанным перечнем не исчерпывается. Лидеры еще 13 Субсахарских государств — как, например, ЮАР, Бенина, Кот-д’Ивуара, Джибути, Танзании — сообщили о своих намерениях ввести в действие режим СЭЗ на территории своих стран.
Бесспорным лидером в развитии СЭЗ в Африке является Маврикий. В 2000 г. на 523 предприятиях свободной экономической зоны этой страны работал 90 700 человек и отсюда реализовывалось 75 % экспорта страны, из которых 65 % составляли текстильные изделия. Другая функция маврикийской СЭЗ основана на финансовых услугах и информатике с региональной и международной спецификой, вследствие чего здесь сегодня зарегистрировано 1500 оффшорных обществ. Третья функция этой многопрофильной зоны — туризм, который составляет особенно крупную статью государственных доходов *.
1 См.: Subramanian A., Devesh R. Who can explain Mauritian Miracle: Meade, Romer, Sachs, or Rodrik? — Washington,2001. — P. 3—29.
Хорошие результаты продемонстрировала СЭЗ Мадагаскара. Ныне в ней работает 40 тысяч человек, в особенности на производстве текстиля для Евросоюза. Неплохих успехов добились Мозамбик, Кения, Гана, Намибия, Зимбабве, хотя они испытывают еще значительные трудности в плане привлечения в СЭЗ иностранного капитала. Хуже идут дела в СЭЗ Камеруна, Нигерии, Того и Сенегала, стремящихся улучшить свой неудачный дебют, перепрофилируя первоначальную ориентацию зон. В конце концов, неплохие перспективы, по мнению специалистов, могут открыться перед СЭЗ ЮАР, после ее окончательного оформления '.
В целом же, как свидетельствует оценка компетентных источников в африканских государствах, существующие здесь СЭЗ начинают оправдывать связанные с ними надежды относительно превращения их в своеобразный мост для движения инвестиций, высокотехнологических товаров, современных технологий и трудовой квалификации вглубь Африканского континента.
Однако все упомянутые выше направления синхронизации экономического развития африканских стран с потребностями глобального рынка будут иметь чрезвычайно низкую результативность без решения главной проблемы — разработки и реализации стратегий развития, подчиненных необходимости оздоровления «архаических» хозяйственных систем без увязки этого процесса с коротко- и среднесрочными перспективами адаптации национальных экономических комплексов в полном объеме к глобализационным стандартам.
Африканские лидеры должны будут проявить большое государственное мужество в деле доказательства возможности такой политики развития, поскольку интересы стабилизации социально-экономического положения в африканских странах требуют признания императива особых запросов и потребностей африканских сообществ. Более того, им понадобится чрезвычайное напряжение коллективной политической воли, чтобы дополнить собственные творческие усилия комплексом нетрадиционных мероприятий со стороны мирового сообщества в деле восстановления механизмов жизнеобеспечения африканской цивилизации. И если совсем недавно такой подход воспринимался как ошибочный с позиций неолиберальной целесообразности, то сегодня он выглядит как единственно возможный, поскольку сохранение статус-кво последних десятилетий угрожает взрывоопасностью накапливаемой нищеты как для африканских народов в частности, так и для всего человечества в целом.
В видении правящими кругами африканских государств путей выхода из многостороннего хронического кризиса все больше утверждается мысль о том, что в обстоятельствах обусловленности выбора стратегий развития с учетом планетарных реалий, ценностную экспертизу конкретных достижений, выбирающихся из сокровищницы мирового опыта, должны проводить сами африканцы в соответствии со своими потребностями и закономерностями развития сферы собственных национальных интересов.
1 Les Echos. — 2001. — 3 mai.
Вот почему все больше прокладывает себе путь мысль о необходимости «превратить свой внутренний рынок в отправной пункт хозяйственного подъема», что может привести к созданию устойчивой экономики.
«Стратегия, которая должна вести к созданию стабильной экономики, резко отличается от стратегии, которую предлагает Мировой банк, — отмечает исследователь из Сенегала Ф. Енгельгард. — Речь пойдет не о приоритетах сокращения бюджетного дефицита, а о подъеме экономики путем снижения стоимости базовых услуг, возрастания производительности труда, рентабельности сельского хозяйства и мелких предприятий народной экономики, увеличения инвестиций в средства связи (дороги, телефонные и информационные сети и т. д.), а также поиске необходимых альтернативных решений относительно снижения базовых затрат» *.
Похожей позиции придерживаются и приверженцы идеи африканского ренессанса, которые связывают эту перспективу с проведением преобразований по трем направлениям:
1) Нынешнюю политику «приватизации государства» следует заменить политикой, которая бы удовлетворяла социально-экономические и политические потребности населения.
2) Должен быть создан политический и экономический союз африканских государств с единой валютой.
3) В основу политики и экономики должна быть положена этика коллективизма, сообщества и общего блага, присущая традиционным культурам Африки. «Опыт африканской политики показывает, что осуществляемая политика оторвана от этики и общего блага. Африканский ренессанс 2 должен включать моральное возрождение» .
Отмеченное, конечно, не более чем предначертание, но будучи возведенным в ранг практической политики, оно сможет стать тем стержнем, опираясь на который, в конце концов, обретут максимальную действенность и сбалансированность мероприятия, осуществляющиеся по рекомендациям центров мирового развития. И кто знает, не станет ли с течением времени экономическая отдача воскрешенной Африки столь же эффективной для остального человечества, как и от восстановленной после разрушений Второй мировой войны Европы?
Глобальные изменения и «Третий мир» в начале третьего тысячелетия
Развертывание закономерностей процесса воспроизводства в мировом масштабе — важный показатель общественного прогресса в целом, а этапы этого развертывания являются отображением этапов развития самого мирового хозяйства. Объективную основу указанного процесса представляет интернационализация хозяйственной жизни наций в ходе международного разделения труда. В этих условиях общие закономерности данного процесса,
1 Engelhard Ph. Op. cit. — P. 147—148.
Problematising the African Renaissance..., P. 64.
которые проявлялись когда-то исключительно или преимущественно в рамках национальных хозяйств, а на международном уровне выступали лишь как сумма внутрихозяйственных процессов, сейчас все сильнее и шире начинают проявлять себя в интернациональном измерении.
В современных условиях ни одна страна не может развиваться успешно как полностью закрытая или полностью открытая хозяйственная система, т. е. ориентировать свою экономику исключительно на внутренний или внешний рынок. Поэтому рациональная стратегия развития может походить лишь из определенного соединения внутренних и внешних факторов, внутрихозяйственного и международного разделения труда. В зависимости от конкретных условий места и времени мера этого соединения может быть разной. Но не может быть отброшен сам принцип такого соединения, так как его нарушение неизбежно ведет к приостановлению темпов роста и снижению уровня эффективности производства вследствие недоиспользования удобств внутрихозяйственного или международного разделения труда.
На нынешнем этапе развития человечества наиболее полное и комплексное воплощения тенденции интернационализации производства и обмена между локальными хозяйственными комплексами, в ходе которых значительные массивы продуктивных сил начинают функционировать в качестве действительно мировых продуктивных сил, нашла в процессах глобализации экономики.
Современная волна глобализации была обусловлена усилением интеграции финансовых рынков; стремительным распространением новых наукоемких технологий и систем связи; распространением сфер деятельности транснациональных корпораций (ТНК), которые размещают производство в планетарных масштабах таким образом, чтобы добиваться его максимальной эффективности; отказом ТНК от «фордистской модели» организации труда и их переходом к гибкой системе использования рабочей силы, удержанием своих позиций на новых рынках и адаптацией к изменениям в мировой экономике; возросшей вовлеченностью развивающихся стран в мировую торговлю, в мировой инвестиционный процесс и в международное разделение труда; существенным повышением взаимозависимости между странами; окончанием Холодной войны и распадом биполярной системы; эрозией модели «большого социального компромисса между работой и капиталом» в государствах Запада, исчезновением советской системы «капитализма без капиталов» и крахом «национально-популистско-модернистских» утопий в странах Третьего мира.
Главные идеологи нынешней глобализационной волны — сторонники неолиберальной философии — усматривают, в сущности, ее стратегическую цель в преодолении разрыва между интернационализацией процесса воспроизводства и законами этой интернационализации. Дело в том, что интернационализация процесса воспроизведения — это рост взаимопроникновения и взаимозависимости его фаз: производства, накопления и потребления на базе международного разделения труда. Интернационализация же законов — более сложный и содержательно другой процесс, возможный лишь в рамках интегрированной экономики, которая предусматривает качественную однородность не только продуктивных сил, но и производственных от
ношений, или, как минимум, подчинение формационного вызревания экономической периферии хозяйственным интересам мирового центра. То есть суть замысла, как представляется, заключается в распространении неолиберальной логики на внутрихозяйственные процессы стран периферии через мирохозяйственные связи.
Доминирующая сегодня на Западе неолиберальная идеология пропагандирует тезис о том, что глобальная экономическая интеграция, основанная на либерализации торговли, производства и финансовых потоков есть наилучший, наиболее естественный и универсальный путь экономического развития, направленный на благо человечества. Согласно этой идеологии, устранение всех преград на пути свободного движения товаров, услуг и капиталов является обязательным и достаточным условием для достижения оптимального уровня ресурсообеспечения на всех мировых уровнях. Все страны, а в каждой стране — все социальные группы должны ощущать улучшение своего положения. Лишь свободный глобальный обмен может стать творцом занятости рабочей силы и повышения жизненного уровня населения. Все формы протекционизма должны быть исключены. Будущее государств планеты связано с условием развития глобализации через общий свободный обмен.
Для всех развивающихся стран, по мнению неолибералов, полное раскрытие каждой из них перед внешним миром является обязательным условием их прогресса и свидетельством готовности к быстрому процветанию наподобие государств Юго-Восточной Азии. Для периферии отмена всех тарифных и других барьеров рассматривается как главный залог ее дальнейшего экономического роста, подобного росту «азиатских тигров», и, как утверждают теоретики глобализации, Восток не имеет другого пути, как только подражать этому примеру, чтобы достичь беспрецедентного подъема и полной занятости. Только рынок и единый рынок, согласно замыслу идеологов современной глобализации, способен обеспечить всеобщее процетание, а все, что противоречит становлению нового мирового порядка — должно либо игнорироваться, либо устраняться.
Таково новое экономическое кредо, утверждающееся в мире. В соответствии с этими ориентирами корректируют свою идеологию, структуру и политику в едином стратегическом направлении и основные международные экономические институты, которые в современных условиях стремятся создать глобальную систему свободного движения капиталов, всячески поддерживать рыночную экономику и жестко ограничивать вмешательство государства в хозяйственную сферу ’.
Существует немало свидетельств благотворного влияния глобализации на мировое развитие, на основании которых утверждается якобы феномен формирования мировой экономики особого типа, содействующей социально-экономическому подъему развивающихся стран, их быстрой модер-
1 См.: Allais М. La Crise mondiale d’aujourd’hui. — Paris, 1999; Thomas C. Where is the Third world now? I I Review of international studies — Cambridge, 1999. — Vol. 25, Special issue. - P. 229-230.
низации, увеличению роли государств Третьего мира в мирохозяйственных связях.
Однако общие изменения показателей структуры производства и экспорта стран Третьего мира состоялись под влиянием трансформаций небольшой группы периферийных государств, в то время как подавляющее большинство других развивающихся стран продолжает оставаться сырьевым придатком «Севера». Так, если ЮЗ из 111 периферийных государств на конец 60-х гг. были экспортерами сырья, то на 2001 г. лишь 27 из 111 успешно трансформировались в экспортеров, главным образом, промышленной продукции, в то время как 76 продолжали оставаться экспортерами сырья. Более того, даже в лоне «промышленной группы» доминирующую роль сыграли Китай, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Тайвань и Гонконг, на которые в 2000 г. приходилось 62 % промышленного экспорта «Третьего мира», в то время, как для государств Ближнего и Среднего Востока этот показатель составлял 11 %, для стран Африки — 3 % и для государств Латинской Америки — 17 %.
Тенденция к мифологизации прогресса развивающихся стран методом объединения их экономических показателей с индикаторами роста небольшой группы процветающих полупериферийных государств наблюдается и по другим направлениям. Например, общая позиция относительно увеличения их доли в мировой торговле за последнее десятилетие была во многом «извлечена» благодаря реальным достижениям в этой сфере Китая, Мексики, Гонконга, Тайваня и Республики Кореи.
Аналогичной оказывается ситуация и с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ). Получателями 75 % капиталовложений, направляемых в Третий мир до 2000 г., были лишь 12 государств Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, в то время как на 140 из 166 развивающихся стран реально приходилось меньше 5 % ПИИ.1 Т. е. «запрогрессированный», благодаря введению статистики о капиталовложении в небольшой группе периферийных стран, усредненный показатель роста ПИИ в Третьем мире, так сказать, распыляет картину.
Не стал исключением и «вектор индустриального прогресса» развивающихся стран. Синтез соответствующих показателей Китая, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Тайваня, Гонконга и Республики Кореи, которые уменьшили свою зависимость от продукции первичного сектора с 50 % в начале 70-х гг. до менее чем 15 % к концу 90-х гг., с индикаторами индустриализации прочего Третьего мира, хотя и поднял «общий вектор», не смог изменить реалий. В Африке, например, доля сырья в структуре экспорта к концу 90-х гг. сохранялась на уровне 80 %, в странах Ближнего и Среднего Востока — на уровне 75 %.
Впечатление, что статистика о благотворном влиянии глобализации на мирохозяйственные процессы существует, так сказать, «независимо» от реального состояния дел в странах Третьего мира, еще более усиливается при рассмотрении экономического положения государств афро-арабского мегарегиона.
1 Finance and development. — Washington, 2001. — Vol. 38, № 2. — P. 36.
Например, в 22 арабских государствах с населением в 280 миллионов человек производится всего 2 % ВВП планеты. Их экономический вес (суммарный ВВП — 531 млрд долл, в год) равняется экономическому весу Канады (в 9 раз менее населенной, чем арабский мир), или наполовину меньше экономического веса Италии (хотя в Италии в 5 раз меньшее население).
Без учета нефти и газа экономический потенциал арабского мира совсем незначителен. В 2000 г. он экспортировал (без учета указанных показателей) товаров на сумму 80 млрд долл., что эквивалентно экспортному потенциалу Малайзии или Швейцарии. Но с учетом энергоносителей арабские государства продали за границу товаров на сумму 330 млрд долл., т. е. столько же, сколько и Франция, которая имеет в пять раз меньшее количество рабочих рук.
Настораживающим фактором в указанной группе стран стало падение доходов их жителей, в расчете на душу населения, до уровня 1980 г. И если степень распространения нищеты (измеренная долей граждан с доходами меньше 1 доллара в день) здесь ниже, чем в других регионах Третьего мира, то, как считает журнал «Economist», лишь благодаря традиционной благотворительности, присущей арабскому стилю жизни. Вместе с тем, бедность в арабских странах распространена чрезвычайно широко. Один из пяти арабов имеет доход меньше 2 долларов на день. Такое состояние дел сложилось вследствие того, что за последние 20 лет прирост доходов на душу населения (0,5 % в год) в арабских странах был наиболее низким в мире (за исключением региона Субсахарской Африки). Если нынешняя тенденция их эволюции сохранится, арабам понадобится по крайней мере 140 лет, чтобы удвоить свой доход, в то время как другим регионам планеты для этого потребуется чуть более, чем 10 лет.
Печальной действительностью является и высокий уровень безработицы в арабском мире, который, в зависимости от страны, колеблется от 15 % до 30 % трудоспособного населения (и это без учета женщин, 2/3 которых исключены из сферы занятости). По мысли зарубежных экспертов, акцентировавших внимание на высоких темпах прироста арабского населения — 3,5 % в год — прирост ВВП в арабских странах должен составлять не менее 5 % в год лишь для предотвращения дальнейшего распространения безработицы. Однако в реальной действительности динамика развития этой группы государств далека от желаемой. Средний прирост их совокупного ВВП за прошлое десятилетие не превышал 1 % в год, что в перспективе может угрожать арабскому миру серьезными экономическими и социальными потрясениями *.
Еще менее ощутимы положительные результаты глобализации в регионе Субсахарской Африки. К началу XXI в. валовой продукт этого региона, с населением около 630 млн человек, был в 8 раз ниже, чем в среднем в мире. А удельный вес африканской экономики в мировом хозяйстве сократился с
1 См.: Survey of economic and social developments in the ESCWA region. 1999—2000. — New York: United Nations, 2000. — P. 22—44; Jeune Afrique L’Intelligent. — 2002. — № 2151. — P. 14; Le Monde. — 2002. — 18 juillet; Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). — 2002. — № 15. — С. 1, 4.
3,6 % в 1950 г. до 2,2 % в 2002 г., тогда как товарный экспорт деградировал за те же годы с 7,1 % до 2,3 % от мировых показателей. Значительной проблемой продолжает здесь оставаться деиндустриализация экономики, вклад которой в глобальное промышленное производство сократился за последние 10 лет с 2 % до 1 %.
Из 49 беднейших стран планеты 32 находятся в Субсахарской Африке. Масштабы обнищания населения в этой части мира просто подавляют своими размерами: доля жителей субконтинента, которые существуют на сумму менее 1 доллара в день, выросла с 56 % к концу 70-х гг. до 65 % в конце 90-х гг.
Среди причин экономических трудностей африканских стран нужно отметить зависимость большинства из них от экспорта одного товара. В условиях интеграции в мировое хозяйство, эти страны несут большие потери от колебаний конъюнктуры на мировых рынках. Так, в 1998—2000 гг. потери в выручке от экспорта в размере 34—32 % испытали Уганда, Бурунди, Эфиопия; 28—20 % — Мали, Руанда, Буркина Фасо, Замбия, Судан, Чад, Гана; 20—10 % — Мадагаскар, Танзания, Бенин, Того, Кот-Дивуар.
В том, что касается прямых иностранных инвестиций, то за 1980— 2000 гг. их общий объем составлял 150 млрд долл. Однако, не смотря на такое впечатляющее число, доля Африки в общемировых инвестициях сократилась за указанный период с 5,3 % до 2,3 %. При этом преобладающая часть иностранных капиталовложений направлялась в первичный сектор африканской экономики. На девять стран-экспортеров нефти в 90-х гг. приходилось 75 % ПИИ, поступавших на континент. Самый низкий процент распределения мировых капиталовложений соединяется на африканских территориях с самой высокой в мире рентабельностью инвестиций, которая к концу 90-х гг. была здесь в четыре раза выше, чем в развитых государствах, вдвое превышала аналогичный показатель в Азии, на 2/3 превосходила показатель в Латинской Америке и была, в общем, в 2,5 раза больше, чем в мире в целом *.
Причиной тяжелого социально-экономического положения африканских стран стало много факторов, связанных с их географическим расположением и особенностями внутреннего развития. Авторитетный американский экономист Дж. Сакс выделяет, например, среди них «проклятие тропиков» — трудный для жизни человека климат, ухудшение здоровья значительной части населения, сложные погодные условия, недостаток осадков, расширение засушливых территорий, низкое качество почв и т. п. С другой стороны, директор исследовательской группы по проблемам развития при Мировом Банке (МБ) П. Коллиер и директор центра исследования экономики Африки при Оксфордском университете Я. Ганнинг подчеркивают значение политических, демографических и исторических факторов, среди которых авторитарные традиции, коррупция и бюрократизм, колониальное
1 См.: Jeune Afrique L’Intelligent. — 2000. — Ne 2053. — P. 70; Jeune Afrique L’lntel-ligent. — 2002. — № 2143. — P. 97; Le Monde. — 2002. — 21 juin; Бюллетень иностранной коммерческой информации. — 2002. — № 129. — С. 1.
наследство, политическая раздробленность континента, узость рынков, значительное участие государства в экономической жизни *.
Рост цен на нефть в 1973—1974 гг. и в 1979 г., ухудшение условий международной торговли для Африки, неэффективное внутреннее управление хозяйством вызвали здесь в начале 80-х гг. затяжной кризис и резкое увеличение внешней задолженности. Первоначальные стратегии развития оказались дискредитированными. Реакцией на текущее состояние дел стала позиция международных финансовых институтов, в соответствии с которой африканским странам был вынесен вердикт: постколониальная политика их лидеров противоречит «свободной рыночной политике».
В 90-х гг. международные финансовые институты разрабатывают для Африки программы структурных реформ. Западные доноры поддерживают новые подходы международных финансовых учреждений. Падение влияния марксистской идеологии блокирует в странах континента возможность критики «слева» на согласие правящих кругов реализовать планы структурной перестройки. В результате — последние 20 лет превратились в период упадка и обнищания народов Субсахарской Африки. Из-за нехватки инвестиций и влияния глобализационных процессов крестьянское товарное производство и промышленность региона оказались в состоянии глубокого кризиса. Длительное время международные финансовые институты игнорировали критику в свой адрес, ссылаясь на то, что африканские государства реализовали структурные реформы или в неполном объеме, или несвоевременно.
Однако, как отмечают в общем исследовании специалисты-африканисты Д. Брайсон из Голландии и Л. Банк из Южно-Африканской Республики, к концу 90-х гг. противоречия и недостатки осуществлявшихся под давлением Мирового банка и Международного валютного фонда преобразований в странах Африки становятся настолько аномальными, что их уже невозможно было игнорировать 1 2. Международные учреждения предприняли попытку изменить идеологию и политику. Это, в частности, прослеживается в докладах Мирового банка — «Voices of the poor», — Washington, World Bank, 2000, и «Can Africa claim the 21 centuiy», — Washington, World Bank, 2000 — и сводится к трем главным положениям: 1) борьба с бедностью провозглашается одним из ведущих приоритетов; 2) признается, что политика либерализации в Субсахарской Африке вызвала ухудшение ее позиций на мировом рынке; 3) принимается постмодернистская ориентация, допускающая многовариантность развития без определенной цели. Отдельно признается, что мировой рынок, вопреки ожиданиям, оказался одним из «внешних шоков», вызвав экономический регресс и подорвав конкурентоспособность сельского хозяйства и промышленности Африки.
Двадцатилетний эксперимент с неолиберальной рыночной экономикой на африканских территориях, наложил, как кажется, глубокий отпечаток на сознание политических элит африканских стран. Характеризуя сдвиг в ми
1 Collier Р., Gunning J. Why has Africa grown slowly? I I Journal of economic perspectives. — Princenton, 1999. — Vol. 13, № 3. — P. 9—10.
2
Bryceson D., Bank L. End of an era: Africa’s development policy parallax // Journal of contemporary Africa studies. — Pretoria, 2001. — Vol. 19, № 1. — P. 10—11.
ровосприятии этих элит, произошедший под влиянием «внешних шоков» и их последствий для африканских экономик, профессор Центра африканских исследований при Калифорнийском университете Дж. Мойо отмечал, что «современные африканские глобалисты — это [последователи] непостоянной моды, чьи идеологические истоки находятся, скорее, в Америке, чем в Африке. Поэтому они неустанно теряют доверие и будут неизбежно ощущать давление со стороны новых националистов, которые рассматривают глобалистов как агентов иностранного влияния...» '.
Таким образом, современный глобализационный феномен проявил, по мере его распространения, важные недостатки и противоречия на уровне экзогенных процессов и качественных признаков, идеологии, практической политики и соответствия достигнутых результатов запланированным целям. На их фоне тезисы неолиберальных идеологов относительно благ глобализации выглядят, скорее, как реформаторская апологетика, стремление выдать желаемое за действительное.
Сам факт детального очерчивания теоретиками глобализации ее преимуществ уже является конъюнктурным по своей сути. Дело в том, что глобализация не начиналась как международный теоретический проект и вообще не была целостной интеллектуальной конструкцией, в связи с чем ее концептуальные параметры представляются довольно сомнительными. Реальная эволюция мировой системы никогда не направлялась никакими глобальными или локальными формами «мышления развития» или «политики развития». В современной истории человечества секторы экономики, народы и регионы периодически сменяют друг друга в роли лидера социального и технического прогресса. Смена лидера происходит после продолжительного кризиса в системе, в ходе острой конкуренции за лидерство и гегемонию. Центральное доминирующее ядро в процессе развития цивилизации двигалось, как это подметил ещё Г.В. Гегель, по земному шару в западном направлении, пока, в конце концов, роль ведущей силы не перешла к североатлантическому региону во главе со США, которые стали бороться за утверждение своего привилегированного положения в международном разделении труда и власти.
Глобализация не является, к тому же, и инициативным продуктом согласованной международной деятельности развитых мировых государств, поскольку нынешняя глобализационная волна была инициирована не ими, а рыночными силами, в то время как сами рынки в последнее десятилетие развивались скорее, чем контролирующие и регулирующие их функции государства. В этом заключается еще одно противоречие современного этапа глобализации, когда согласование и апелляция относительно ее стратегии генерируются в мир-системном ядре на государственном уровне, а главным звеном планетарной экономической интеграции (т. е. глобализационной практики) выступают транснациональные корпорации и международные финансовые круги.
1 Bryceson D., Bank L. End of an era: Africa’s development policy parallax I I Journal of contemporary Africa studies. — Pretoria, 2001. — Vol. 19, № 1. — P. 10—11.
Особенность сложившейся ситуации заключается и в том, что неолиберальная логика международных рыночных сил не признает политэкономи-ческих категорий, вследствие чего государство, как единый возможный авторитетный агент в «переговорном процессе» с этими силами даже гипотетически не имеет возможности «войти» в этот процесс.
Проблематичность достижения согласованных действий по вопросу о путях продвижения глобализации усиливается еще и в связи с тем обстоятельством, что сама перспектива адресного обращения к наиболее динамичному компоненту современной экономической системы — финансовому капиталу — невозможна ввиду деперсонифицированности и космополитичности адресата, географической абстрактности его предпринимательских интересов и специфики бизнеса в сфере профессиональной деятельности.
Как отмечал по этому поводу профессор Калифорнийского университета М. Кастельс, не существует «глобального капиталистического класса, а есть лишь глобальная капиталистическая логика. Капитал перемещается между акциями, а не между странами. 97 % мировой торговли состоит из финансовых соглашений и только 3 % приходится на соглашения с товарами и услугами. Для финансовых потоков страна не имеет значения, главное — это надежность валюты» *. Вот почему теоретические начертания мысленных преимуществ неолиберальной глобализации не только вызывают скепсис, но и воспринимаются как попытки растворить содержательную сторону ее важнейших признаков в популистских абстракциях.
Будучи многомерным, полиформным и плюралистическим явлением, глобализация не распознается пока что из позиции обособления ее естественных закономерностей от приписываемых, не прогнозируется с точки зрения определения перспектив возвратности ее процессов и цикличности распространения ее волн.
О том, что распространение глобализации в 90-х гг. только усилило преимущества стран «центра», свидетельствует, например, тот факт, что в 2001 г. зарубежные филиалы американских корпораций «возвратили» в США 134 млрд долл, прибылей по сравнению с 58 млрд долл, в 1990 г. Дисбаланс интересов проявляется и в распространении на развивающиеся страны законов и норм экономического функционирования, которые развитые государства считают для себя необязательными. Так, требование к странам Третьего мира о снижении таможенных барьеров согласовывается у развитых государств с практикой поддержки высокого таможенного уровня относительно экспорта товаров из стран Третьего мира, благодаря чему эти страны теряют ежегодно до 700 млрд долл, экспортной выручки; требования к развивающимся странам ликвидировать протекционизм сосуществуют у них с мощной протекционистской защитой собственного производителя: ежегодно им предоставляется около 360 млрд долл, на поддержку аграрного сектора национальных экономик и 450 млрд долл, на поддержку промышленности.
1 The millennium symposium. — Conversations with Manuel Castells, Robert Cox and Immanuel Wallerstin // New political economy. — Abingdon, 1999. — Vol. 4, № 3. — P. 386.
Фактором углубления неравномерности развития стала и кредитная политика западных государств. За последние 20 лет страны «Юга» выплатили «Северу» по долговым обязательствам 3 трлн 450 млрд долл., или сумму, которая в 6 раз превышала начальный уровень долгов. Но долг «Юга» этим не был исчерпан и представляет сегодня свыше 2 трлн долл., из-за того, что начисления из обслуживания долгов, прописанные странам периферии в 80-е гг., были в 4 раза выше нормы, принятой в расчетах между государствами Запада '.
То есть на современном этапе развития глобализационного процесса общее состояние дел видится таким образом, что эволюционные черты глобализации выводятся из доминирующей в США неолиберальной экономической модели, что и приводит к подмене универсальных закономерностей глобализации западными императивами. А это, в свою очередь, искажает глобализационный процесс в такой мере, что он из средства структурно-функциональной гармонизации и прогресса превращается в систему распространения отсталости и убожества большинства стран и народов планеты.
Продолжает углубляться разрыв в уровнях доходов между богатыми и бедными странами и народами. Если в 1960 г. доходы 20 % богатейшего населения планеты превышали доходы 20 % беднейшего населения в 30 раз, то сегодня — уже в 82 раза. При этом, на первую категорию приходится 86 % мирового ВВП, 68 % прямых иностранных инвестиций и 82 % мирового экспорта, в то время как на вторую — 1 % мирового ВВП, экспорта и прямых иностранных инвестиций. Прибыль 300 богатейших людей планеты превышает доходы двух миллиардов беднейшего населения, тогда как обнищание и голод продолжают расползаться по ойкумене.
Тезис неолибералов о благотворности открытия рынков и преимуществах глобального движения капиталов и рабочей силы продолжает оставаться корректным только относительно богатых стран. Сопоставление общих потоков ресурсов с «Севера» на «Юг» (включая все виды двусторонней и многосторонней помощи, гранты, торговые кредиты, частные прямые инвестиции и банковские займы) с обратными финансовыми потоками с «Юга» на «Север» только в рамках обслуживания долгов свидетельствует о том, что отрицательное сальдо в ущерб «Юга» и в пользу «Севера» равнялось 43 «планам Маршалла», которые «Север» выкачал, начиная с 1982 г., из стран Третьего мира.
Прямым следствием такой политики, собственно, и стала как деградация среднегодового дохода на душу населения в 141 периферийной стране на 0,8 % за последние 30 лет, так и увеличение за тот же период численности беднейших стран планеты с 25 до 49.
Нужно особенно отметить, что частые ссылки адептов неолиберализма на успехи экономического развития «азиатских тигров» (Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Таиланд) и «драконов» (КНР, Индонезия, Индия) как образцов для подражания не только дефектны и конъюнктурны,
1 См.: Jeune Afrique L’lntelligent. — 2002. — № 2150. — Р. 7; Le Monde diplomatique. — 2001, decembre. — P. 7; Les Echos. — 2000. — 11 mai; Les Echos. — 2001. — 20 septembre.
но и не отвечают действительному состоянию дел. Успех азиатских «новых индустриальных стран» (НИС) был во многом обеспечен местным капиталом, который поддерживало государство, которое, собственно, и сыграло решающую роль в достижении экономического прогресса этих стран. Оно стимулировало инвестиции местных фирм в национальную экономику, сконцентрировало необходимые ресурсы на развитии стратегически важных областей промышленности, защитило местный капитал от иностранной конкуренции с помощью субсидий, контроля над импортом и т. п.
Проводя политику «дозированного либерализма», именно государство добилось здесь хозяйственного прогресса за счет увеличения, прежде всего, внутреннего спроса, который обеспечивал прирост ВВП за прошлые десятилетия, в частности, в Таиланде — на 84—86 %, в Индонезии — на 90—91 %, в Индии и КНР — на 94—96 %. Такой успех был также результатом жестокой регламентации внутренних экономических свобод, по мировому рейтингу которых, например, Южная Корея и сейчас находится на 38 месте, Таиланд — на 56, Индия — на 73, Индонезия — на 77 и КНР — на 101.
Нынешние же подходы неолибералов к проблемам развития заключаются в прямо противоположной оценке роли государства в этом процессе. Если в моделях развития НИС государству принадлежала главная роль, то неолиберальная модель предусматривает резкое ослабление роли государства в хозяйственном развитии и поощрение частного предпринимательства как основного мотора экономического прогресса.
Главный недостаток неолибералов в их освещении опыта хозяйственного развития государств Юго-Восточной Азии заключается в том, что в своих работах они разъединяют и потом произвольно компонуют в новом соединении количественные и качественные характеристики разных явлений, т. е. мифологизируют собственные абстракции, претендуя на концептуализацию реальности. В более широком плане следствием такого подхода и является профанация современного глобализационного феномена, когда объективная потребность человечества в планетарной хозяйственной интеграции, в гармонизации экономического развития, в интенсификации обмена передовыми идеями и новейшими технологиями — т. е. потребность в расширении границ социальной вселенной — органически связывается с иррациональной основой, на которой реализуется эта потребность, а именно, теорией и практикой неолиберализма.
Даже наиболее общие результаты продвижения неолиберальной модели на планетарном уровне свидетельствуют, что свободные рынки не приведут ни к экономической конвергенции, ни к всеобщему процветанию.
Среднегодовой прирост мирового валового продукта продолжает сокращаться с 5 % в шестидесятых до 3,6 % в семидесятых и 2,8 % в восьмидесятых и девяностых годах. Мировые потоки иностранной валюты, которые достигли 2 трлн долл, в день, на 98 % являются спекулятивными. Продажи ТНК за пределами стран базирования на 20—30 % превышают их экспорт. С международным бизнесом связан относительно немногочисленный пласт наемных работников — около 30 % глобальной рабочей силы — тогда как большинство активной рабочей силы исключено из процесса глобализации и формирует широкий социальный пласт бедняков-маргиналов. Средняя
цена труда в развивающихся странах в 70 раз ниже, чем в развитых государствах, а реальная средняя зарплата в странах периферии с начала 80-х гг. уменьшилась более, чем на 60 % *.
Да и сам процесс упомянутого планетарного продвижения, в плане восприятия неолиберальной философии народами разных стран, продолжает оставаться чрезвычайно условным явлением в результате существования значительных культурно-исторических расхождений между социумами развитых и периферийных государств. Так, если в силу специфических условий эволюции американского общества, согласно исследованиям Г. Бекера и Ф. Фукуямы, здесь сформировалась социальная среда с чрезвычайно высоким общенациональным духом предпринимательства — до 80 % мотивов индивидуального поведения граждан подчинены поискам прибыли — то в большинстве стран Третьего мира картина совсем другая. Для африканского и арабо-исламского регионов, где количество неграмотных колеблется в пределах 40—70 %, где доминирует общинная и клановая, а не индивидуальная психология, где уважение к родоплеменным традициям и соблюдению норм шариата всегда будет доминировать над стимулами поиска доходов, а посещение мечети всегда будет важнее посещения биржи — сама идея абсолютизации духа предпринимательства неприемлема.
Таким образом, стратегия внедрения политики структурной перестройки ведет к экономическому геноциду периферии, осуществляемому путем сознательного манипулирования рыночными механизмами, которые, в свою очередь, превратились в орудие наказания за поведение, не подчиняющееся императиву обеспечения максимальной прибыли. Реализация программ макроэкономических преобразований оказывает содействие интернационализации неолиберальной политики под прямым контролем МБ— МВФ, которые представляют финансовые и политические интересы развитых мировых государств. Эта новая форма господства — «рыночный колониализм» — подчиняет народы и правительства влиянию мир-системного ядра через виртуальную «игру рыночных сил». Одновременно она просто опровергает высший смысл глобализации как стадиально определенного всемирно-исторического феномена.
Как кажется, объективное идеологическое и политическое корректирование глобализационных процессов может не только стать средством вытеснения из них неолиберальной «логики призрачности», но и преобразование их в орудие, с помощью которого человечество овладеет экономической средой и усовершенствует ее.
Еще совсем недавно, около 20 лет тому назад, человечество консолидировалось вокруг таких задач, как экономический рост, эволюция занятости, удовлетворение основных потребностей человека, сокращение в мире бедности, справедливое распределение планетарных материальных благ. Однако с переходом функций разработки стратегии развития от национальных
1 См.: Chossudovski М. The globalisation of poverty: impacts of IMF and World bank reform. — London, 1997. — P. 38; Finance and development. — Washington, 2001. — Vol. 38, № 2. - P. 34-37.
правительств к международным финансовым институтам и распространением неолиберальной идеологии внимание мирового сообщества было переключено на урегулирование внешней задолженности стран, программы стабилизации экономики, структурные изменения, либерализацию и т. п. — в сущности, в ущерб всему тому, что раньше понималось под развитием. То есть отрицательный синтез неолиберальной идеологии с глобализационным проектом привел к обесцениванию глобализационного феномена и подмене целей развития.
Таким образом, экономическая деградация большинства стран периферии, хищническое использование их ресурсов, усиление в них социального напряжения — все это является закономерным следствием деятельности международных рыночных сил в условиях неолиберальной глобализации. В условиях глобальной неолиберальной экономики международные рыночные силы, в случае бесконтрольного функционирования, могут самым существенным образом сократить (если не уничтожить) среду своего существования.
В заключение следует отметить, что сохранение доминирующей роли неолиберальной идеологии может иметь фатальные последствия не только для глобализационного процесса, но и для развития современной цивилизации в целом. По емкому определению российского историка А.И. Фурсова, в августе—декабре 1991 г. кончилась эпоха революций, начатая в июле 1789 г. во Франции. Под сладкие звуки антикоммунистической свирели Ловец крыс — капитализм — завершил вывод масс из Истории. «Свобода, равенство, братство» — лозунги, которые свыше 200 лет освящали социальные преобразования, противостоя рынку и социальному неравенству, — словно бы растворились сами по себе. Реальность и господствующая идеология впервые за последние 150—200 лет совпали в условиях исчезновения анти-капиталистической идеологии *.
Драматизм сложившейся ситуации заключается, прежде всего, в том, что при всем богатстве опыта и идейно-теоретических достояний Западной цивилизации, ею была выбрана идеология, наименее приспособленная к восприятию планетарным сообществом. Круг замкнулся. И его «размыкание» именно в идеологическом звене является необходимым условием дальнейшего поиска путей общечеловеческого общественного прогресса.
1 Фурсов А.И. Фундаментализм, революции и социальные теории // Афро-азиатский мир в XX веке: власть и насилие. — Отв. ред. А.И. Фурсов. — Москва, 2000. — С. 14.
ГЛАВА 13
РЕЛИГИОЗНОМИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ВОСТОКА И запада В КОНТЕКСТЕ СТАДИАЛЬНОЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ТИПОЛОГИИ: ПОИСК ДУХОВНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
(А. А. Шморгун)
Памяти Владислава Владимировича Седнева
Сравнительная типология Востока и Запада: проблемная познавательная ситуация
Сравнительная типология Востока и Запада: проблемная познавательная ситуация
Поиск методологических оснований цивилизационного анализа: от философии к мифологии истории?
Цивилизационная типология раннеклассовых обществ: несостоятельность теософского подхода к пониманию спускового механизма» всемирной истории
Религиозно-мировоззренческое миропонимание Индии и Китая в стадиально-цивилизационном измерении: подлинный монотеизм
М етодологические проблемы цивилизационной типологии докапиталистических обществ Запада и Востока и современность
Оценивая социально-экономическую динамику регионального развития человечества во второй половине XIX — начале XX столетия необходимо признать наличие феномена не просто китайского, а восточного чуда. Ведь общеизвестно, что эстафету форсированных социально-экономических реформ Китаю передала Япония и так называемые «дальневосточные тигры», а сегодня уже на подходе Индия с ее прорывом в области высоких технологий. Однако особенности цивилизационной природы восточных обществ все еще не получили должного научного понимания. Многие авторы, в частности, отмечают уникальность именно мировоззренческого потенциала китайской, и — шире — восточной цивилизационной традиции, в том числе и ее возможностей в мобилизации творческой энергии нации на рывок в социально-экономическом развитии. Отсюда вывод: «КНР еще не лидер, но потенциал лидирования КНР возрастает. Китай с его гигантской экономической массой играет сегодня в мировой экономике примерно такую же роль, какую США играли 100 лет назад, а США — роль тогдашней Англии, окруженной роем подданных и сателлитов, но теряющей конкурентоспособность. ... Сегодня все прогнозы сходятся на том, что к 2020 году Китай станет ведущей силой на мировом экономическом и политическом Олимпе *.
1 Распад мировой долларовой системы. Ближайшие перспективы. — М., 2001. — С. 289.
Одновременно различные, в том числе американские, исследователи с тревогой отмечают негативные моменты в развитии западной цивилизации и США в качестве военного и экономического лидера западного мира, особенно проявившиеся буквально в последние десятилетия. Современный французский ученый Э. Тодд в написанной по свежим следам последних масштабных геополитических событий цивилизационного масштаба работе с многозначительным названием «После империи. Эссе о загнивании американской системы» прямо констатирует тревожное нарастание торгового дефицита США, при котором «американская система уже не способна обеспечить пропитание собственного населения» '. Основная причина данного явления, по мнению этого автора, заключается прежде всего в имперско-гегемонистской стратегии США, направленной фактически на отчуждение национальных ресурсов других государств с помощью как прямой агрессии, так и изощренной системы так называемого «финансового империализма», основанного на неэквивалентном обмене между развитыми и развивающимися странами. Впрочем о тревожной тенденции все более широкомасштабного использования мировой финансовой системы с целью одностороннего обогащения США, которая становится все более опасной даже для развитых стран Европы и Дальнего Востока, значительно раньше Э. Тодда писал Д. Сорос в работе с не менее символическим названием «Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности», опубликованной еще в 1998 г. Кроме того, не следует забывать, что в нашумевших работах П. Дж. Бьюкенена «Смерть Запада» (2002) и С. Хантингтона «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности» (2004) дается, мягко говоря, неутешительный демографический прогноз неизбежного резкого изменения этнической структуры как США, так и европейских наций, который реально угрожает подрывом цивилизационной идентичности как Старого, так и Нового Света.
Существуют исследования, в том числе и американских авторов, в которых достаточно аргументированно отстаиваются положения о самостоятельности восточных реформ, их опоре на собственные цивилизационные архетипы, благодаря которым удалось мобилизовать творческий потенциал больших масс людей. Более того, Дженксон Г. младший и Карл О’Делл в книге «Американский менеджмент на пороге XXI столетия», развенчивая мифы, созданные для объяснения японского экономического процветания, в первую очередь как раз опровергают тезис «Японцы блестящие имитаторы, однако они не способны к творчеству и самостоятельному мышлению». Оказывается, японская модель экономического управления во многом созвучна европейской, прежде всего немецкой, и при этом существенно отличается от американской. В частности, известный исследователь в области современной экономической конкуренции М. Портер в фундаментальной работе «Конкуренция», отмечая фундаментальные недостатки американской макроэкономической системы в области формирования инвестиций и
1 Тодд Э. ГПсля iMnepi’i. Есе про загнивания америкапськоТ системи. — Льв1в, 2006. — С. 163.
развития различных форм капитала, методах максимизации прибыли и достижения конкурентных преимуществ, противопоставляет американской модели аналогичную модель Японии и Германии, которые рассматривает как типологически сопоставимые.
Одновременно он указывает на существование ряда преимуществ самой американской экономической системы и проблем в рамках корпоративно-ориентированной японо-германской экономики. «Как японская, так и германская системы серьезно отличаются от американской системы. Главное для обеих этих систем — обеспечить соответствующую позицию корпорации и гарантировать непрерывность работы компании. Информационные потоки в этом случае намного шире, а финансовые критерии играют менее заметную роль в инвестиционных решениях, чем в Соединенных Штатах». Автор также отмечает, что «при сравнении американской, японской и германской систем выявляются важные различия в управленческих походах. Широкие информационные потоки являются, возможно, наибольшим преимуществом японской и германской систем» *. По мнению автора, «уступая в краткосрочной эффективности, германские компании в основном ориентированы на обеспечение технического лидерства, японские компании особенно ценят возможность получения своей доли рынка, разработку новой продукции, технологическую позицию и участие в таких видах бизнеса и технологиях, которые будут иметь решающее значение в следующем десятилетии» * 2.
Напрашивается важный концептуальный вывод: с точки зрения долгосрочного прогнозирования экономический спад в Японии вполне может быть преодолен на основе именно тех резервов, которые будут мобилизованы за счет ее цивилизационного созидательного потенциала. Очевидно, что китайский стиль экономического управления по своим стратегическим параметрам ближе к японскому и германскому. Это еще более актуализирует проблему компаративистской оценки стратегически-ценностных ориентаций Востока и Запада с точки зрения поиска как содержания, так и наиболее приемлемой для адаптации представителями различных суперэтносов мировоззренческой парадигмы, на основе которой стало бы возможным решение или хотя бы существенное ослабление глобальных проблем современности.
Однако и признание нынешнего мировоззренческого превосходства Востока как особой самостоятельной цивилизации также порождает много новых вопросов. Почему, например, духовно-религиозные ценности Индии и особенно Китая не сработали в предшествующие века, особенно в период зарождения того же протестантизма? Наоборот, и в этом смысле М. Вебер абсолютно прав, поздний индуизм и неоконфуцианство так или иначе способствовали духовному застою Восточной цивилизации, утрате ею пассионарной, в том числе и экономической мотивации и в конечном итоге переходу Средневековых Индии и Китая в колониальный статус, что признают сами китайские и индийские исследователи истории и культуры своих стран в цивилизационном ключе.
Портер М. Конкуренция. — СПб.—М.—К., 2000. — С. 452.
2 Там же. — С. 454.
Кроме того, ряд ученых, придерживающихся европоцентристской ориентации, считает, что в данном случае можно говорить лишь о заимствовании восточной цивилизацией некоторых западных архетипов социального и экономического бытия на этапе ее модернизации, а китайский рационализм способен лишь воспроизвести протестантскую этику, но не создать новую мировоззренческую парадигму. Подобную гипотезу задолго до начала китайского экономического бума высказывали западные и российские мыслители, подчеркивая, что китайский конфуцианский рационализм прекрасно сочетается с рационализмом западной бюрократии, что позволит китайцам превзойти Запад в чисто экономической области, при этом разделив участь классического общества потребления и наживы с точки зрения духовного упадка и нивелирования творческой личности *.
В пользу данной версии свидетельствует и архаический, индустриальный тип природопользования, пока еще преобладающий Китае, что, как отмечают многие аналитики, никак не совместимо с принципами постиндустриального общества. Важно и то, что эффективная адаптация Китая в общемировое рыночное пространство проходит по западным, выработанным именно в процессе развития классического капитализма, не только чисто экономическим, но и общеорганизационным, управленческим «правилам игры». Китайцы, хотя и с небольшими оговорками, приняли эти правила и фактически отказались от своих гигантских, во многом навеянных советским режимом экспериментов.
Однако в этой связи сохраняются и пессимистические оценки «китайского чуда», основанные на тезисе о том, что оно связанно лишь с так называемым догоняющим механизмом модернизации. Исследователи прогнозируют безнадежное отставание китайской экономики от американцев в стратегической перспективе. Согласно этим прогнозам, КНР так и останется на уровне регионального, а совсем не общемирового лидера. В частности, в своей последней работе с символическим названием «Выбор: мировое господство или глобальное лидерство» Збигнев Бжезинский отмечает: «Китай, даже если ему удастся сохранить высокие темпы экономического роста и не утратить внутриполитической стабильности (и то, и другое сомнительно), станет, в лучшем случае, региональной державой, потенции которой, как и раньше, будут лимитироваться бедностью населения, архаичной инфраструктурой и отсутствием универсального привлекательного образа этой страны за границей, все это касается и Индии, проблемы которой впридачу усложняются неясностью долгосрочных перспектив ее национального единства.
Даже коалиции всех этих стран — создание которой крайне маловероятно, учитывая истории их взаимных конфликтов и взаимоисключающих территориальных претензий — не хватило бы сплоченности, силы и энергии,
1 Подробнее см.: Шморгун А. Китай и постсоветское пространство: поиск цивилизационной альтернативы // Цивилизационные модели современности и их исторические корни. - К., 2002. - С. 361-365.
ни чтобы столкнуть Америку с ее пьедестала, ни чтобы поддерживать глобальную стабильность»
Но в таком случае возникает насущная необходимость формулирования объективных критериев, позволяющих провести спецификацию существующих цивилизаций, раскрыть их специфику и перспективы преодоления существующих и потенциальных угроз. Тем более, что как показывает история, в концепции циклического функционирования отдельных цивилизаций, разработанной Н. Данилевским, О. Шпенглером, А. Тойнби, П. Сорокиным содержится рациональное зерно. Более того, многие современные исследователи все настойчивее проводят аналогии между сегодняшними США и Римом периода упадка античной цивилизации, вслед за Шпенглером говорят о затухании западной цивилизации в целом.
Наиболее общепринятой в современной литературе является типология цивилизаций, в свое время разработанная А. Тойнби и в качестве металогического инструмента активно применяемая С. Хантингтоном. Однако эвристический потенциал этой схемы явно недостаточен, а сама цивилизационная структура современного мира в этих подходах выглядит предельно умозрительно и неубедительно с точки зрения прежде всего исторических реалий, которые С. Хантингтон, как в свое время и А. Тойнби, безуспешно пытались втиснуть в свои абстрактные построения. Прежде всего бросается в глаза непоследовательность предлагаемой классификации, которая фактически проводится по разным логическим основаниям и нечетким критериям. Уже в концепции Тойнби расположенные на шеститысячелетней временной шкале цивилизации определены как по религиозному, так и по регионально-географическому признакам (например: египетская, индская, эллинская, иранская (арабская), западная рядом с индуистской, православно-христианской 1 2. В классификации Хантингтона этот недостаток сохраняется в полной мере: наряду с западной латино-американской, синской (китайской), японской, африканской вычленяются цивилизации исламская, индуистская, православная, буддистская 3.
В этой связи уже упоминавшийся Э. Тодд, на мой взгляд, вполне справедливо высказывает крайне скептическое замечание относительно цивилизационной типологии Тойнби-Хантингтона на основе господствующего типа религии, подчеркивая в частности, что концепция Хантингтона, изложенная в его программной книге «Столкновение цивилизаций» является ничем иным, как попыткой концептуального обоснования все более опасного агрессивно-имперского курса США. При этом сама идея классификации по религиозному признаку, согласно которой западная цивилизация оценивается как гомогенно христианская, по мнению автора уже упоминавшейся работы призвана скрыть внутреннюю неоднородность западного общества, глубокое принципиальное различие, а то и несовместимость культурных архетипов протестантизма и католицизма, прежде всего в его неор
1 Бжезинский 3. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. — М., 2005. - С. 16.
2
См.: Тойнби А.Дж. Постижения истории. — М., 1991. — С. 92.
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2003. — С. 22—23.
тодоксальной форме современного христианского солидаризма, которые, по мнению автора, скорее указывают на различную цивилизационную идентичность США и ЕС: «Отыскивая цивилизационное прикрытие американской агрессивности он (Хантингтон. — А.Ш.) целится в мусульманский мир, конфуцианский Китай и православную Россию, при этом постулируя существование «западной сферы», природа которой предельно невыразительна даже в свете его собственных критериев. Этот неупорядоченный Запад объединяет католиков и протестантов в единой культурной и религиозной системе. Это слияние выглядит шокирующее для тех, кто изучал противопоставление теологий и ритуалов, или, проще, кровавые битвы между последователями обеих религий в XVI—XVII ст.» *. Более того, французский автор, опять же справедливо, утверждает, что, с одной стороны, религиозные ценности не выступают в качестве доминирующих в массовых мотивациях большинства коренных представителей классических европейских наций, а с другой, — культивируемое на уровне официальных американских политических элит отождествление патриотизма и протестантизма, причудливо смешиваясь с мистицизмом и склонностью к суеверию рядовых американцев, лишь увеличивает их гегемонистские устремления и скорее служит критерием отличия США и Европейского Союза. «Оставив в стороне неверность Хантингтона собственной переменной величине, религии, — пишет Э. Тодд, — можно очень легко выявить латентную оппозицию между Европой и Америкой на основании того же самого критерия, если на этот раз использовать его корректно и ориентироваться на современность. Америка перекормлена религиозной фразеологией, половина ее жителей говорит, что ходит на Службу Божию по выходным, четверть действительно ходит. Европа — это простор агностицизму, где практика религии сводится к нулю, но Европейский Союз имеет лучшее использование библейской заповеди «не убий!» 1 2.
К сказанному можно добавить, что кроме уже упоминавшейся принципиальной некорректности, предлагаемой С. Хантингтоном (а до него — А. Тойнби) классификации цивилизаций одновременно и по религиозному, и по геополитическому признакам, не меньшие, если не большие сложности создают в ходе попыток понимания России (а тем более Украины с присущей ей полирелигизностью) как православной цивилизации, а Китая соответственно — как конфуцианской.
Что же касается России, которая в цивилизационном отношении также вполне может быть отнесена к Востоку, то даже если принять высказываемую многими современными российскими исследователями гипотезу о том, что каждый славянин, так сказать, в душе, в подсознании, является православным, (с которой, кстати, категорически не согласились бы такие серьезные сторонники концепции советской цивилизации, как автор многих работ, посвященных анализу цивилизационных измерений советского коммунизма А. Зиновьев и А. Кара-Мурза, написавший фундаментальную работу
1 Тодд Е. ГИсля iMnepii. Есе про загнивания американсько! системи. — Льв1в, 2006. — С. 160.
2 Там же. — С. 161.
«Советская цивилизация»), то даже в этом случае тезис о православии как о системообразующем критерии российско-советской цивилизационной идентичности скорее запутывает, чем проясняет понимание проблемы *. Мне уже приходилось писать о том, что даже такой убежденный сторонник византийско-православных истоков России как особого цивилизационного мира, каким был создатель оригинальной концепции культурно-цивилизационных типов К. Леонтьев, оценивал известный тезис «Православие — Самодержавие — Народность» скорее в ультраконсервативном, чем в пассионарно-цивилизационном ключе, считая, что православная апология тотальной государственности призвана скорее «подморозить», чем дать импульс для творческого российского суперэтноса (вспомним, А. Тойнби называл цивилизации, не реализовавшие свой творческий потенциал, «застрявшими» или «застывшими»). Отмечая этот момент, Н. Бердяев в своей статье, специально посвященной творчеству Леонтьева, подчеркивает, что «К. Леонтьев так мало верил в силу своего, «русского», что отрицательно относился к русификации окраин», поскольку существование оппозиционных православию униатской, староверской, католической и даже мусульманской религии мобилизует православную церковь, не дает ей окончательно стать служанкой самодержавия, стимулирует к воспитанию паствы, которая, по мнению Леонтьева, традиционно в значительной степени склонна к неверию. Бердяев критикует Леонтьева за то, что его византизм неразрывно связан с представлением о несозданности русского народа для свободы и необходимости его государственной консолидации через культивирование его покорности и смирения 1 2.
С другой стороны, авторы чрезвычайно распространенной в наше время евразийской концепции российской цивилизационной идентичности, к которой, кстати, «приложили руку» фактически первый в новоевропейской истории создатель последовательной концепции замкнутых цивилизаций Н.Я. Данилевский и тот же К. Леонтьев, наоборот, крайне негативно относились к тезису «Москва — Третий Рим», считая религиозной основой подлинной российской идентичности не Византию, а неразрывно связанное с культурными и ментальными традициями татарской Орды старообрядчество 3. Сам же Н. Бердяев, который в статье «Утопический этатизм евразийцев (Евразийство. Опыт систематического изложения.)» подчеркивает общность российских и европейских реформационно мистических, романтических и постромантических, социальных и религиозно-экзистенциальных культурно-цивилизационных оснований, что, на мой взгляд, в наибольшей степени соответствует истине. Предложенное им понятие «коммунитаризм» вполне созвучно с категориями «христианский социализм», «католический социализм», «этический социализм», «солидаризм», «конкордизм», «ордолиберализм» 4.
1 Кара-Мурза С. Советская цивилизация. — К., 2004. — 799 с.
2 Бердяев Н. Очерк о русской философии. — М., 1990. — Т. 1. — С. 252—253.
Подробнее см.: Основы евразийства. — М., 2002. — 796 с.
4 Бердяев Н. Очерк о русской философии. — М., 1991. — Т. 2. — С. 198—205.
Если же обратиться к современным этнорелигиозным процессам, то проблема выяснения взаимоотношений между господствующими типами религий и цивилизационными измерениями этноса и государства еще больше усложняется. Из таблицы, приводимой А. Уткиным в фундаментальной работе «Американская империя» в которой показан религиозный баланс между крупнейшими странами в XXI веке, следует, что в нынешнем столетии можно будет говорить лишь о преимущественно христианских и преимущественно мусульманских странах, причем Россия и Германия проходят в рубрике «преимущественно христианские страны со значительными мусульманскими меньшинствами». Более того, «в 2050 г. белые (неиспанского происхождения) христиане составят только одну пятую общего числа в три миллиарда христиан в мире» г. Но и это еще не все: в наше время происходит стремительная мусульманизация не только европейских, но и азиатских государств (специалисты отмечают, что даже в Китае к 2050 году будут проживать десятки миллионов мусульман * 2.
Даже специалисты, склоняющиеся к признанию типа религии как важного фактора цивилизационного измерения социума, вынуждены признать, что у представителей трех различных ветвей христианства (православие, католицизм и протестантизм) не только существенно отличаются этнонацио-нальные параметры менталитета но и, например, латиноамериканские или африканские католики значительно, если не принципиально, разнятся по способу мировосприятия и трудовой мотивации от европейских.
Но главное состоит даже не в этом. Проблема в том, что системный критерий, лежащий в основе идентификации цивилизации, с необходимостью должен иметь духовно-энергетичекий потенциал, способный консолидировать и обеспечить максимальную адаптивность надстранового цивилизационного пространства, в рамках которого доминируют стереотипы того или иного типа религиозного сознания. К вопросу о том, насколько так называемая протестантская этика, заложенная М. Вебером в основание западно-европейской цивилизации, действительно обеспечила ее динамичное развитие, мы вернемся в следующих параграфах. Что же касается роли протестантизма в наиболее зарелигизованной стране современного Запада — США — то тот же С. Хантингтон, который в своей книге «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности» приводит сложную типологическую таблицу прямо пропорциональной зависимости между процентом тех, кто считает религию крайне значимой для общества и процентом тех, кто очень горд своей страной, то есть является патриотом, способным даже на самопожертвование во имя сохранения национально-цивилизационных ценностей и приоритетов, несколькими страницами ранее приводя таблицу «Уровня мобилизации ресурсов современных США» вынужден признать, что американцы крайне болезненно реагируют даже на незначительное уменьшение уровня комфорта, вызванное мобилизацией ресурсов для защиты национальных интересов. Отсюда он делает вывод: продолжительная война
Уткин А. Американская империя. — М., 2003. — С. 708.
2 Там же. — С. 709.
против одного или нескольких террористических государств при повышении мобилизованности общества может привести к недовольству и последующему распаду национального единства Но тогда о каком мобилизационном потенциале протестантизма, который по статистике чуть ли не поголовно исповедуют американцы, сегодня может идти речь? (Многие авторы отмечают, что мобилизацинно творческий, в том числе военный, потенциал США был низким всегда)!
Таким образом, на наш взгляд, становится очевидным, что существуют более глубинные по сравнению с религией духовно-культурные детерминанты, или своеобразные «души» (О. Шпенглер), «архетипы» (К. Юнг), чем господствующая религия, и, очевидно, ментальные измерения цивилизации являются более глубинными и более широкими, чем только религиозные. Однако проблема заключается в том, что содержание термина «ментальность», введенного представителем еще одного направления цивилизационного анализа — французской школой «Анналы» — и призванного если не заменить, то во всяком случае существенно дополнить и прояснить религиозный критерий типологии, также является предельно дискуссионным и крайне содержательно расплывчатым (как и синонимические с ним понятия «национальный характер», «коллективное бессознательное и т. д.). Во всяком случае, определение российской исследовательницы С. Лурье, пытавшейся провести комплексное исследование содержания понятия «менталитет», и вычленяющей так называемую «центральную зону ментальности этносов» на основе трех ключевых образов — «локализация источника добра»; «локализация источника зла»; «представление о способе действия, при котором добро побеждает зло» — по моему мнению, является слишком абстрактным для вычленения цивилизационной специфики того или иного региона 2.
Для того, чтобы анализ специфики менталитета «заработал» на уровне цивилизационного анализа, очевидно, необходимо определить совокупность объективных критериев, особенностей образа жизни, который порождает эту специфику. Причем, поскольку можно считать доказанным, что тип экономического поведения и производственных отношений, вопреки Марксу, действительно в значительной степени детерминируется особыми этно-цивилизационными мировоззренческими архетипами, что, в частности, и обусловливает существование различных моделей управления одним и тем же типом рыночной экономики, необходимо провести специфическое отнесение к ценностям (М. Вебер), то есть сформулировать объективно фиксируемые особенности различных цивилизационных систем на основе существующих в них духовно мировоззренческих парадигм, оказывающих существенное, а возможно и доминирующее влияние на особенности экономического поведения, а значит, и на динамику экономических преобразований в странах, принадлежащих к различным в цивилизационном отношении мирам-экономикам (Ф. Бродель).
1 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. — М., 2004. - С. 565.
7
См.: Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ. - М„ 2005. - С. 264-296.
Но проблема состоит в том, что и на уровне анализа более широких ментально-мировоззренческих особенностей Востока и Запада ситуация антагонистических трактовок цивилизационного потенциала снова воспроизводится.
Стремительное обострение глобальных проблем современности предельно актуализирует и переосмысление творческого и гуманистического потенциала восточной философии и религии. Ценности именно восточных (индийской, китайской, японской) религиозно-философских систем превозносились уже европейскими и американскими романтиками, с их ориен-талистскими увлечениями, а позже и «новыми левыми», выступавшими идеологами молодежного бунта 60-х годов прошлого столетия, а также выдающимися представителями гуманистического психоанализа. В первую очередь они оценивались как подлинно гуманистические, конструктивные с точки зрения реализации творческого потенциала личности, противостоящие бюрократической заформализованости и предельной утилитарности шпенглерововского умирающего западного общества.
В частности выдающиеся американские мыслители обращались к мировоззренческим установкам Веданты как способу достижения в самом образе жизни духовно-пантеистического единения с природой, позволяющего преодолеть утилитарно-прагматическую систему ценностей формирующегося «общества массового потребления». «Для Эмерсона и Торо Восток был не просто неким убежищем от бед и пороков западной цивилизации, не экзотическим миром, обращение к которому дает свободный полет воображению, убежденность в том, что они способны оказать реальное влияние на развитие американской культуры, нейтрализовать ее пагубные тенденции, «противостоять деградирующему вплоть до варварства благоденствию», заставляла их более пристально изучать философскую и художественную мысль Востока в надежде найти в ней некие коррективы к западному образу жизни, которые помогли бы молодой американской культуре преодолеть кризисные тенденции» *.
Карл Юнг в своей знаменитой книге «Йога и Запад» противопоставляет нацеленность на мирские преобразования прогрессистски ориентированного западного человека традиционализму и отрешенности индийца с его целостным, основанным на незыблемости традиции мировосприятием. Подобно Максу Веберу связывая эту установку западного человека с протес-танской этикой, Юнг, теперь уже вопреки выдающемуся немецкому социологу, оценивает ее вовсе не как конструктивную, созидающую, а наоборот, как деструктивную, разрывающую бытие человека, не позволяющую ему эффективно действовать в направлении достижения значимых целей. Если Вебер в своих работах, посвященных социологии, а точнее, фактически цивилизационной типологии мировых религий, подчеркивает разорванность на эзотерическую созерцательность, отрешенность от окружающего мира, присущую буддизму и даосизму, и жесткую прагматичность, ритуальность индуизма и конфуцианства, в равной степени считал и те и другие мировос-
1 Зыкова Е. Восток в творчестве американских трансценденталистов // Восток—Запад. Исследования. Переводы. Публикации. — М., 1988. — С. 87.
приятия неконструктивными с точки зрения их способности формировать в массовом сознании харизматичность творческого напряжения, в полной мере присущего протестантизму, то К. Юнг, напротив, подчеркивает, что разрушив формальную обрядовость традиционного христианства, лишив западного человека надежды на спасение, протестантизм, наоборот, превратил его во фрейдовского врожденного невротика, постоянно ищущего возможности хоть как-то кодифицировать свои отношения с Богом, пусть даже с помощью непримиримых идейных противников протестантов, таких как католик-иезуит Игнатий Лойола. (Напомню, что Вебер рассматривает католическую Контреформацию как принципиально конпродуктивную для формирования совершенно новой мирововоззренческой мотивации — протес-танской этики, по его версии, фактически, породившей капитализм). «Протестантизм, направляя свой главный удар, — пишет Юнг, — против авторитета Церкви, в первую очередь добился того, что поколебал веру в Церковь как единственного выразителя Воли Божьей. При этом груз авторитета, а вместе с ним и небывалая дотоле религиозная ответственность обрушились на самого человека. Упразднение таинства исповеди и отпущения грехов обострило моральный конфликт и взвалило на человека проблемы, которые ранее решала сама Церковь: религиозные таинства, и особенно освященное таинство мессы, гарантировали верующему спасение. От самого человека требовалось лишь признание грехов и покаяние. Сейчас же, поскольку ритуал утратил свою силу, ощущается отсутствие божественного ответа на вопрошание человека. Этим можно объяснить потребность человека в такой системе, которая обещала бы подобный ответ, некую видимую и ощущаемую благосклонность иного (Высшего, Духовного, Божественного)» *.
При этом прогнозы Юнга о том, что потенциально Восток может стать колыбелью новой, фактически постпротестанской, более гуманистической цивилизации, а экономические победы Запада, основанные на протестан-ском духе, направляющем человека на завоевание природы, станут пирровыми, полностью оправдались. Наличие агрессивно разрушительной устремленности протестантизма на создание земного рая под девизом «человек — царь природы!», типологически роднящее либеральную западную парадигму с этатистской советской как негативный фактор, породивший противоречия классического капитализма, отмечают и восточные мыслители и ученые, на чем я остановлюсь подробнее в ходе дальнейшего изложения.
А вот предвиденье Вебера о том, что на основе восточных религий невозможно создание мотивации, подобной протестанской, а это, в свою очередь, фактически исключает динамичное экономическое развитие в странах доминирования даосско-конфуцианского мировоззрения, оказалось ложным. И хотя современные адепты веберовской экономической социологии пытаются реабилитировать немецкого мыслителя, подчеркивая, что он все же признавал потенциальную возможность такого развития, приходится признать, что вероятность подобного развития событий для М. Вебера представлялась столь ничтожной, что ею можно пренебречь. (Хотя, как это ни
Юнг К. Йога и Запад. — М., 1994. — С. 31.
парадоксально звучит сегодня на фоне восточного экономического чуда, в своих оценках перспектив цивилизационной динамики Востока М. Вебер все же многое оценил очень верно, о чем подробнее будет сказано ниже).
Более того, ряд исследователей подчеркивает, что применительно к цивилизациям Востока речь идет не просто о возможностях в рамках восточного мировосприятия успешно овладеть экономическими рыночными мотивациями и создать конкурентоспособное в рамках современной системы мирового глобального разделения труда общество, чего, повторяю, уже добилось большинство дальневосточных государств, а о создании духовной картины мира, позволяющей современному человеку вновь обрести утраченную целостность и полноту бытия в условиях современного, динамично меняющегося, полного катастрофических угроз мира. В частности, в противовес европейскому конфликту между верой и знанием, по мнению уже упоминавшегося К. Юнга, «Индия демонстрирует другой путь цивилизованному человеку — без насилия, без подчинения, без рационализма... Независимо от того, какова дальнейшая судьба белой расы, мы имеем возможность исследовать хотя бы один пример культуры, которая вбирает в себя все существенные черты первобытности и которая охватывает всего человека — снизу доверху» !.
Здесь же можно вспомнить и о том, что на завершающем этапе эволюции своей концепции цивилизацинного развития А. Тойнби также отдавал предпочтение буддизму даже перед христианством в качестве цивилизационного базиса, интегрированного в рамках некоего духовного, а не экономического глобализма (при этом высказывая нарастающий и, в целом, обоснованный пессимизм относительно интеграционно цивилизационных перспектив американского образа жизни).
В то же время подходы опираются не только на анализ текущей динамики экономического развития тех же США и Катая, но и на цивилизационно-мировоззренческие модели Востока и Запада, которые далеко не всегда строятся на идее стратегической приоритетности геополитических ареалов, в которых господствующей является конфуцианская или буддистская религия. В частности, Ю. Теплицкий рассматривает дихотомию Запад—Восток не совсем в пользу последнего, счистая, что Западу присущи такие универсальные системные характеристики, как материализм, секуляризм, реализм (прагматизм), объективизм, плюрализм, рациональность, разум (логос), динамизм (развитие, движение), прогресс, искусственность, покорение природы, право, научность, свобода, равенство, воля, индивидуализм, антропоцентризм. Востоку в соотносительности с Западом соответственно — духовность, религиозность, идеализм, субъективизм, монизма, интуитивность, Путь (Дао), естественность, адаптация к природе, мораль, сакральное знание, порядок, но и инертность (стабильность), застойность (косность), подчинение, фатализм, подавление личности, геоцентризм 1 2.
1 Юнг К. Йога и Запад. — М., 1994. — С. 26.
2 См.: Теплицикий Ю. Запад — Восток и феномен славянской цивилизации. История и альтернативные сценарии развития. — К., 2005. — С. 98—99.
Практически исчерпывающую типологию различных цивилизационных дихотомий Восток — Запад дал Е. Ерасов *.
Обращает на себя внимание, что несмотря на некоторый негативный ценностный оттенок оценок Запада как слишком агрессивной с точки зрения природопользования цивилизации, автор в целом отдает предпочтение именно ей, как более динамичной, адаптивной и отвечающей фундаментальным правам и свободам современного человека. «Более мягкий» вариант подобного видения в своей фундаментальной работе «История мировой цивилизации» предлагает Ю. Павленко. Исходя из существования дихотомии общественно-исторического развития Востока и Запада, он проводит аналогичную сопоставительную типологию ментально ценностных оснований западной цивилизации, по мнению автора, основывающейся на древнеев-рейско — античном наследии, и «принципиально ином комплексе мировоззренческих идей» Южной, Юго-Восточной и частично Центральной Азии, «где традиционно распространены индуизм, буддизм, конфуцианство и даосизм». При этом, хотя противопоставление Востока и Запада здесь происходит в более стертой форме, однако автор все же приходит к выводу, что по параметрам представления о человеке, понимания духовных основ бытия, представлениям о верховном божестве, системе моральных ценностных предпочтений существует духовно-ценностная альтернатива Востока и Запада, типологически близкая к той, которую в свое время очертил М. Вебер в своих работах, посвященных анализу мировых религий как индикаторов особенностей экономического развития 1 2.
Поэтому некритически используемые в научной литературе понятия типа «конфуцианская этика», «конфуцианский капитализм», которые якобы послужили причиной возрождения и бурного развития современного Китая, требуют серьезного прояснения. Во всяком случае, попытки строить на основе теперь уже «конфуцианской этики» в качестве эталона цивилизационной эффективности модели экономического и в том числе внешнеэкономического поведения современных китайцев, превосходства их менталитета, якобы несовместимого с менталитетом представителей Запада, обладающих неким центробежным миропониманием (у Китая напротив, «мировоззрение “центра”») в противоположность России (центростремительная стратегическая мотивация) по принципу «активный» (Запад) — безразличный» (Китай) — «пассивный» (Россия), которые предпринимают А. Девятов, М. Мартиросян в книге «Китайский прорыв и уроки для России», не выглядят убедительными. Фактически перед нами схема, очень схожая с ранее упоминавшимися классификационными построениями Портера, с той лишь разницей, что вместо особенностей экономической организации в качестве критерия различия цивилизационной специфики рассматривается более широкий мировоззренческий контекст, Германия в типологическом
1 Ерасов Б. Общие критерии дихотомного сопоставления социокультурных оснований Запада и Востока. — В Кн.: Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. — М., 2005. - С. 246-255.
2 Павленко Ю. История мировой цивилизации. — К., 2002. — С. 85—86.
сопоставлении заменяется Россией, а Китай выступает в качестве самостоятельного ментально-ценностного архетипа относительно Запада и России. Действительно, схватывая некоторые архетипы стратегических цивилизационных мотиваций указанных государств, подобные сентенции явно требуют более серьезного методологического обоснования. Тем более, что далее А. Девятов и М. Мартиросян по тому же принципу строят фактически три достаточно жестко противостоящие картины мира, на основе явного придания духовной цивилизационной идентичности Китая воистину «срединного» положения, отражающего диалектический синтез в китайском «мировоззрении центра» по сути неконструктивных крайностей западного и российского менталитетов: «ускорение» — «устойчивость» — «торможение»; «натиск» — «равновесие» — «сопротивление»; «выталкивание» — «индифферентность» — «поглощение»; «деятельный» — «созерцательный» — «безучастный»; «мышление» — «память (опыт)» — «воля»; «либеральный» — «нетенденциозный» — «консервативный»; «потребности» — «интересы» — «идеалы»; «деньги» — «власть» — «слава»; «закон» — «ритуал» — «целесообразность»; «капитал» — «роскошь» — «удовольствие»; «мысли» — «образы» — «эмоции»; «наука» — «ремесло» — «культура»; «личность» — «семья» — «община»; «одиночество» — «толпа» — «очередь»; «демократия» — «бюрократия» — «аристократия»; «конкуренция» — «клановость» — «солидарность»; «свобода» — «братство» — «равенство»; «оптимизм» — «смирение» — «пессимизм»; «земной» — «человеческий» — «небесный»; «протестантизм» — «конфуцианство» — «православие»; «богатство» — «гармония» — «добродетель» .
Построение подобных абстрактных схем в так называемой «Таблице приоритетов тела, ума и сердца», предлагаемые А. Девятовым и М. Мартиросяном сомнительно не только с точки зрения предельной одномерности набора признаков представителей каждого из суперэтносов, что само по себе имеет опасность навязывания тому или иному менталитету тоталитарного по стилю, одномерного мировосприятия, но и потому, что в своей методологической основе содержит жесткое противопоставление западной, китайской и российской православной цивилизаций, фактически исключающей их продуктивное взаимодействие.
Конечно, набор отличительных признаков, приводимых в таблице, в какой-то мере кореллируется с западными исследованиями об отличии североамериканского и европейского стилей рыночной мотивации и методов организации экономических институтов, причем европейскому стилю мышления приписываются характеристики стиля экономической мотивации, очень близкие тем, которые ряд авторов связывают с особенностями так называемой конфуцианской этики; если же успехи Китая и Японии действительно связаны со стратегическими цивилизационными мотивациями некоего высшего уровня, то тогда снова возникает вопрос об истинности знаменитой киплинговской формулы о несовместимости Востока и Запада, но теперь уже, так сказать, в пользу Востока: в какой степени можно рассчитывать
1 Девятов А., Мартиросян М. Китайский прорыв и уроки для России. — М., 2002. — С. 123-124.
(что особенно важно для постсовестких стагнирующих стран) использовать уникальный китайский опыт, а возможно, и некоторые мировоззренческие ориентиры, для мобилизации потенциала общества на широкомасштабные социально-экономические реформы?
Наконец, не дает понимания проблемы и рассмотрение работ, специально посвященных исследованию методологии именно компаративистского анализа особенностей восточных и западных религиозно-философских систем. В частности, известный китаист А. Кобзев в статье «Методологическая специфика традиционной китайской философии» дает суровый приговор по сути творческому потенциалу китайского религиозно-философского мировосприятия: «Главным фактором, определившим специфику формальной методологии традиционно китайской философии стало то, что в Китае не возникла самостоятельная наука логики. Это связано с неразвитостью как идеализма, так и диалектики, которая самоопределяется через преодоление логических формализмов» *. «В произведениях китайских мыслителей пока не обнаружено ни формальной логики, ни диалектики в смысле признания синхронного тождества противоречащих характеристик, а не рассуждений о том, что одна противоположность во времени сменяет другую и наоборот, что противоположности взаимоопределяют друг друга» 1 2.
В чем же причина подобного рода неразвитости и, если хотите, архаичности стиля мышления, а значит, и бытия китайского социума? Автор прямо отвечает на этот вопрос: «Эта особенность китайской философии определялась целям рядом факторов — от социальных до лингвистических. Древнекитайское общество не знало полисной демократии и порожденного ею типа философа, сознательно отрешившегося от окружающей его эмпирической жизни во имя осмысления бытия как такового. Приобшение к письменности и культуре всегда и определялось достаточно высоким социальным статусом, и определяло его. Уже со II в. до н. э., с превращением конфуцианства в официальную идеологию, начала складываться экзаменационная система, закреплявшая связь философской мысли как с государственными институтами, так и с классической литературой — определенным набором канонических текстов 3.
Таким образом, по версии А. Кобзева, слишком сильная прагматичность, заангажированость китайской философии в сферу общественной жизни с необходимостью привела к отсутствию развитого рефлекторного компонента мировосприятия, который активно формировался в условиях древнегреческого полиса, с его духовной отстраненностью философа от окружающего социального бытия и критически-дистанционным его отношением к существующей культуре.
Более того, подобного рода цивилизационная ситуация и породила, по мнению автора, глубинный, если хотите, схоластический традиционализм и даже консерватизм китайской культуры, всегда ориентирующейся на уже го
1 Кобзев А. Методологическая специфика традиционной китайской философии // Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. — М., 1987. - С. 43.
2 Там же. — С. 48.
3 Там же. — С. 45.
товые мировоззренческие образцы и заданные наперед стереотипы общественного бытия: «Благодаря высокой социальной позиции философия играла выдающуюся роль в жизни китайского общества. Непреложное использование регламентированного набора канонических текстов составляло источник для всевозможных умозрительных спекуляций. На этом пути, предполагающем учет предшествующих точек зрения на каноническую проблему, китайские философы с неизбежностью превращались в историков философии...» '.
Особенно следует подчеркнуть, что подобный подход «работает» на гипотезу о представителях китайского и японского этносов как идеальных «заимствователей» чужих идей, способных достигать выдающихся успехов, в том числе и в области экономики, на основании простого воспроизведения чужих мировоззренческих и поведенческих матриц.
Подобного рода высказывания вызывают недоумение в силу своей тенденциозности; даже не вдаваясь в детали духовной картины мира, сформировавшейся в странах восточного цивилизационного комплекса (прежде всего в Индии и Китае) можно констатировать: ни одно из утверждений Кобзева не отвечает действительности. В частности, в так называемых раннесредневековых Индии и Китае была разработана утонченнейшая концепция диалектической онтологии и гносеологии, нисколько не уступающая, если не превосходящая, античность. Для примера процитирую высказывание из фундаментальной работы «История Китайской философии», написанную коллективом авторов из девяти педагогических университетов и институтов Китая, находящееся в разительном противоречии с тезисами А. Кобзева: «Одним из важных диалектических выводов, сделанных поздними монетами, является мысль, что «тождественное и различное взаимно дополняют друг друга»» (Мо-цзы, гл. 10). Вопрос о связи между «тождеством» и «различием» служил предметом спора еще в доциньской философии, а особенно в середине и конце периода Чжаньго» 1 2. Я уже не говорю о том, что, на мой взгляд, Кобзев в принципе неверно привязывает диалектическую логику к формальной почти отождествляя их, что как раз противоречит ее пониманию у Гегеля и Маркса, на которых он ссылается.
В содержательном исследовании «Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком» известный исследователь Т. Григорьева совершенно справедливо подчеркивает принципиальную противоположность формальной логики, систематически изложенной Аристотелем, и начатков диалектической логики, в рамках которых противоположности не просто тождественны, а пульсируют, в неустойчивом, постоянно изменчивом синтезе, фиксируя даже не дуальность, а многомерность мира. В противоположность версии Кобзева, категорически настаивающего на рядоположенности Инь и Ян, которые якобы никогда не осмысливались в Китае как синтетическое единство, Т. Григорьева подчеркивает: древние китайцы искали единый фор-
1 Кобзев А. Методологическая специфика традиционной китайской философии // Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. — М., 1987. - С. 46.
2
История Китайской философии. — М., 1989. — С. 127.
мообразуюший принцип, лежащий в основе вешей, организующий Вселенную на уровне макро- и микромира, и нашли его в структуре взаимочере-дующихся всепроникающих сил инь-ян, которые, задавая ритм вещам, регулируют жизнь Вселенной... Можно сказать, инь-ян и есть пульс Вселенной» *. И в этом смысле, на наш взгляд, совершенно справедливо автор подчеркивает, что с точки зрения понимания принципов дополнительности и гомеостатической нестационарности Вселенной восточная философия значительно ближе к современным физическим теориям, основанным на принципе относительности, чем представление о пассивном, неподвижном, инертном античном космосе (Т. Григорьева совершенно справедливо подчеркивает сродственность не только религиозно-мировоззренческой и естественнонаучной картин мира, но концептуальную близость духовных картин мира Китая и Индии).
Что же касается того, что натурфилософия Востока, опять же в противоположность логически рационализированной античной философии, не оторвалась от своих мифологических истоков, то нельзя не согласиться с утверждением о том, что «свои идеи восточные мудрецы излагали, как правило, не в форме научных гипотез, не языком науки, а именно языком образа, не редко в форме притч, бесед, суждений, что, собственно, и позволило им избежать односторонности и обусловило жизненность их учений. Иначе и быть не могло, ибо мудрецы говорили об общих свойствах вещей или о тех законах, которые приложимы к любому явлению, большому и малому, к миру физическому и психическому» 1 2.
Впрочем, мы еще вернемся к более подробному сопоставлению восточного и западного мировоззрения в контексте цивилизационной типологии античного и индо-китайского культурных миров.
На первый взгляд, более объективным является подход Г. Шаймухамбе-товой, которая в статье пытается дать очередную цивилизационную типологию христианского мира, Ближнего Востока и Китая. Согласно версии, предлагаемой Г. Шаймухамбетовой, существует принципиальная несовместимость между строго монотеистическими авраамистическими или богооткровенными религиями, такими, как христианство и ислам, и небогооткровенными религиями — конфуцианством, даосизмом, буддизмом. (Здесь исследовательница явно в значительной степени опирается на методологию, предложенную М. Вебером, хотя и не упоминает веберовских оценок различных мировых религий). «В небогооткровенных религиях бог хотя и выступает духовным первоначалом, сверхчувственной реальностью, но является личностью, творящей мир и посылающей человеку «слово» о себе. Здесь он высшая, высочайшая, но все же ступень бытия. В небогооткровенных религиях бог трудно уловим для понятия именно потому, что не отделен резкой гранью от природы; ... они как бы естественно вытекали из языческой космологии и приобретали черты религии по мере специализации мифа (при-
1 Григорьева Т. Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком // Культура, человек и картина мира. — М., 1987. — С. 266.
2 Там же. — С. 270.
своения регулятивных функций мифов» *. Поскольку теология в христианстве занимает сферу иррационального, она освобождает философии место для развития в сфере рациональной мотивации и, одновременно, порождает оппонента в лице церкви, создавая для нее новое проблемное поле (здесь исследовательница несколько отступает от Вебера, считавшего, что именно напряжение, возникшее между мирской реальностью и потусторонним идеалом как полюсами, создало «искру» духовной протестантской энергетики, в конечном счете, давшую созидательный толчок для развития нового типа капиталистической экономической мотивации. Однако дальше исследовательница «исправляется». Оказывается, в богооткровенных религиях, «будучи также сотворенным, человек сопричастен природе, но в то же время выше этой бездушной неверующей природы; он ее господин, поскольку верой соединен с творцом, предписывающим человеку руководящую роль по сравнению с ней...» * 2. Это уже почти по Веберу, во всяком случае, протестантская мотивация действительно опиралась на идею покорения природы как демонстрацию своей богоизбранности, в чем, кстати, Тойнби усматривал хищнический, разрушительный характер буржуазного индустриального природопользования.
Что же касается ислама, то по версии Г. Шаймухамбетовой предельный теократизм этой мировой религии, слияние в ее рамках светского и религиозного права, отсутствие церкви в качестве особого социального института «обусловили уникальный для средневековья характер философского мышления на средневековом Ближнем и среднем Востоке — антиавторитар-ный, антидогматический, рационалистический и, самое главное, светски ориентированный, тесно связанный с естественнонаучным знанием» 3. Как видим, здесь выстраивается своеобразная методологическая схема: архаический дальний Восток, «застрявший в фазе мифологического синкретизма между натурфилософией и религий, познанием и переживанием мира, рациональным и иррациональным восприятием, и «промежуточный тип» — европейское христианство, оставившее философии поле для освоения сферы рационального, однако ориентирующее на практическое «преодоление» природы и, наконец, преимущественно рационально-научная мысль Ближнего и Среднего Востока, появление которой обусловлено полным обмир-щвлением ислама и отсутствием в нем собственно религиозной, ориентирующей на потусторонний мир догматики (последняя версия неразрывно связана с концепцией так называемого ближневосточного ренессанса как фактически духовного базиса Европейского культурного Возрождения, к которой мы еще будем обращаться более подробно).
Однако главное — это присущее веберовскому подходу дискриминационное отношение к творческому, как научному, так и предметно-практическому потенциалу духовной картины мира, воплощенной в философии
Шаймухамбетова Г. О методологических аспектах темы соотношении религии и философии на Востоке // Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. — М., 1987. — С. 24—25.
2 Там же. — С. 26.
3 Там же. — С. 28.
Индии и Китая. Более того, даже в тех случаях, когда в исследованиях, посвященных анализу мировоззрения восточных суперэтносов, подчеркивается позитивный творческий компонент этого менталитета, зачастую характеристики подобного творческого потенциала скорее не опровергают, а подтверждают европоцентристские установки о своеобразной продуктивной неполноценности восточных цивилизаций. Так, М. Степанянц подвергает сокрушительной критике работы ряда известных западных востоковедов, послужившие методологическим основанием для концепции А. Кобзева, которые, в частности, утверждали: «У индийцев — склонность к неуемной фантазии и отсутствие способности к научному спекулятивному мышлению, у китайцев, напротив, поразительное отсутствие творческой силы воображения и врожденная склонность к схематизму, у арабов... — полнейшее отсутствие критической способности»...» *. При этом Степанянц справедливо замечает, что часто альтернативные позиции таких выдающихся исследователей Востока, как Г. Кольбрук, М. Хортен, Р. Гарбе, Л. Массиньон, М. Мюллер, находившихся под влиянием философии А. Шопенгауэра, часто находились под слишком большим впечатлением от «спиритуальности», «мистического настроя» восточной философии. «Важно, однако, отметить, — пишет М. Степанянц, — что и восхищение восточной философией несло на себе печать европоцентристских стереотипов применительно к «азиатскому» мышлению. Духовное наследие восточных народов сводилось в конечном счете исключительно к традициям иррационалистического идеализма, аскетического мистицизма» 1 2. В какой-то мере несвободен от такого понимания восточного мировоззрения и К. Юнг, хотя в его оценках так называемой рациональной «протестантской этики» (М. Вебер) в сравнении с этикой традиционного индийского эмоционализма много верного.
В целом же за пределами анализа в обоих случаях остается принципиальный вопрос: что же было первым: «курица» — особый способ жизни формирующегося на данной территории суперэтноса, или «яйцо» — новое вероисповедание, давшее толчок к формированию принципиально новых цивилизационных наций? Причем сказанное верно не только в отношении ислама, но и в отношении русского православия: где, например, заканчивается знаменитая русская (исламская? славянско-мусульманская?) душа, а где начинается русская (исламская) культура и государственность, формирующие специфику соотвествующих цивилизаций — вопрос, на который фактически не дают ответа ученые, концепции которых были рассмотрены выше. Причем, все они не подозревают, что «говорят прозой», то есть в той или иной степени перепевают веберовское, так или иначе ориентированное на вычленение особых цивилизационных комплексов, сопоставление мировых религий, характерной чертой которого является минимизация генетического подхода, сознательный уход от объяснения истоков того или иного феномена в пользу его описания, что, собственно, составляет
1 Степанянц М. О некоторых общих проблемах изучения истории философии зарубежного Востока И Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока. — М., 1987. — С. 4.
2 Там же. — С. 5.
специфику веберовской «понимающей социологии». В самом деле, даже если согласиться с версией Г. Шаймухамбетовой и признать уникально рационалистическую мирскую ориентацию ислама, якобы максимально способствующую культурному развитию в регионе Ближнего и Среднего Востока, что само по себе, на наш взгляд, опровергается историческими реалиями как далекого прошлого, так и настоящего исламского мира, все равно остается невыясненным вопрос о том, почему из многих конкурирующих христианских ересей в этих регионах победила именно та, которая дала начало исламу в качестве мировой религии? То же самое можно сказать и о концепции А. Кобзева, к которой мы еще вернемся в ходе дальнейшего изложения.
Наконец, особые трудности представляет проблема, так принципиально и не решенная самим М. Вебером. Речь идет о необходимости объяснения причин возникновения самой протестантской этики. Можно ли, например, говорить о том, что она генетически связана с христианством, пусть даже в его преобладающей ветхозаветной версии, либо само появление феномена протестантизма обусловлено объективными процессами, в том числе формированием нового типа рыночных отношений, обусловленных (-ющих) формированием (-е) западной цивилизации на более широком, нежели протестантизм, культурном базисе?
Так ли это на самом деле? И вообще, можно ли говорить о том, что, как считает Ю. Павленко: «Запад в ментально-ценностном смысле (с включением восточно-христианских и мусульманских народов) основывается на древнееврейско-античном наследии» 1. Тот же Шпенглер, например, неоднократно подчеркивал несопоставимость античности и собственно буржуазной цивилизации по мировоззренческим параметрам, отсутствие генетической экономической и культурной преемственности между этими двумя цивилизациями, не просто различными, а разнотипными'. «Из античного идеала вытекало безоговорочное принятие чувственной видимости, из западного — ее столь же страстное преодоление» 1 2.
Что касается древнееврейской или иудаистской религиозной традиции, то, как ни странно, ее роль в формировании протестантизма категорически отрицал сам М. Вебер в своем исследовании «Хозяйственная этика мировых религий». «В иудаизме отсутствовало именно то, что придает мирской аскезе характерность... Отношение аскезы к миру, этому столь извращенному вследствие грехов Израиля миру, что исправить его может только чудо — акт свободной воли бога, не поддающийся ни принуждению, ни приближению сроков — отношение к этому миру как к «задаче» и как к арене осуществления религиозного «призвания», направленного на то, чтобы к вящей славе господней и во имя уверенности в своей избранности подчинить мир — и именно грех в нем — рациональным нормам, данным в откровении божественной воли — такое кальвинистское воззрение менее всего могло прийти в
1 Павленко Ю. История мировой цивилизации. Философский анализ. — К., 2002. — С. 85.
2 Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993. — С. 432.
Сравнительная типология Востока и Запада: проблемная познавательная ситуация голову благочестивому иудею» *. Отсюда категорический вывод: «...Именно не еврейское в пуританизме определило ... его роль в развитии хозяйственного этоса» 1 2.
Более того, уже упоминавшийся Э. Тодд, как было показано, призывает, и, на мой взгляд, совершенно справедливо, не переоценивать роль даже протестантизма в формировании массовых цивилизационно значимых установок, во всяком случае, применительно к Старому Свету. В самом деле, в идее концепции М. Вебера фактически имеют место элементы скрытого марксизма, влияние которого на свои взгляды он никогда и не скрывал. Ведь, с одной стороны, именно экономика, согласно теории выдающегося немецкого социолога, выступает сферой наиболее полного воплощения целерациональной, то есть максимально свободной от эмоциональных аффектов и иррациональных мотиваций, деятельности, способной дать наиболее четкий объективный критерий того или иного «идеального типа» этики, а с другой — и по Марксу, и по Веберу, именно западная цивилизация является наиболее последовательной формой воплощения «человека экономического». Напомню, что сам М. Вебер склонялся к «выведению» протестантизма из христианской традиции, считая, что особый иудаистско-новозаветный его синтез с античностью, в конечном итоге, возник вследствие особенностей социально-экономических отношений в ареале зарождения христианства. В частности, авторами и главными носителями христианства явились, по его же концепции, бродячие купцы и ремесленники.
Однако при таком подходе мы попадаем в порочный круг, который, несмотря на отчаянные интеллектуальные усилия, не сумел преодолеть М. Вебер. Остается так до конца и не проясненным — капитализм породил протестантскую этику или протестантская этика капитализм? (Отсюда, например, попытка В. Зомбарта обосновать появление экономических отношений исторически, а то и генетически присущими евреям способностями именно к прагматической, целерациональной мотивации, стремлением к получению прибыли).
Уже упоминавшийся Э. Тодд в рамках веберовского подхода к цивилизационной типологии на основе сопоставления массовой психологии представителей разных этносов пытается преодолеть эмпиризм и субъективизм веберовских теоретических построений, обратной стороной которых часто выступают крайние абстрактность и схематизм в ценностной оценке различных духовных культур, пребывающих в основе разнотипных цивилизаций. Э. Тодд упоминает фундаментальную работу Портера, которую я говорил выше, опираясь на его различение экономический модели развития современных США, Европы, Японии (Китая), хотя и скептически относится к попыткам представить менталитет народов Востока и Запада как статичную, не поддающуюся корректировке систему ценностей (так называемый архетип).
1 Вебер М. Социология религии. (Типы религиозных сообществ) // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. — М., 1985. — С. 320.
2 Там же. — С. 323.
Французский исследователь пытается найти объективные, эмпирически фиксируемые критерии, воздействующие на массовые ценностные предпочтения. Согласно его классификации, все цивилизации в конечном итоге отличаются существующими в том или ином регионе типом семьи (здесь отчетливо прослеживается влияние Фрейда). В странах с авторитарным патернализмом, поддерживаемым принципом наследования имущества старшим сыном, долго сохраняются пережитки архаических социально-экономических структур и вспышки тоталитаризма. В странах с равным («демократическим») статусом наследников по мужской линии модернизация всегда проходит более успешно 1.
Наконец, существуют государства со смешанной структурой брачных союзов, в которых возможны рецидивы как минимум авторитаризма, расизма и агрессивных империалистических устремлений даже в условиях высокого уровня развития. Наконец, именно в Европе, являющейся, по версии Тодда, оплотом западного мира, уже окончательно сложился современный тип одно-двухдетной семьи, соответствующей высшему уровню демократии 2 и толерантности в межнациональных отношениях .
Отсюда деление геополитических образований цивилизационного типа на традиционалистски-толерантные (Индия, Китай), «смешанные» — развитые, но неустойчиво демократические (Россия, Израиль, США) и, наконец, подлинно цивилизованные в полном смысле этого слова (соответственно ЕС).
В среднесрочной и даже долгосрочной перспективе Э. Тодд отвергает хантингтоновскую концепцию столкновения цивилизаций. Согласно его гипотезе, неуклонный рост образования даже в странах с фундаменталис-тсткой и авторитарной направленностью под воздействием требований, предъявляемых к рабочей силе постиндустриальным обществом, неуклонно возрастает уровень образования, изменяется роль женщины и, в конечном итоге, всей структуры современной семьи. Объективным критерием этого всемирно-исторического процесса демократизации, по мнению Э. Тодда, является повсеместное и неуклонное снижение рождаемости, которое само по себе оказывает благотворное влияние на стабильность в мире, снижая накал всех основных глобальных проблем современности. Отсюда в целом оптимистический прогноз о справедливости концепции Ф. Фукуямы о неминуемом торжестве рыночной экономики и западной демократии «во всемирном масштабе» 1 2 3. Более того, Э. Тодд «усиливает» оптимистичность своего общецивилизационного сценария ссылкой на так называемую теорему Майкла Дойла, которая концептуально опирается на гипотезу Фукуямы о неуклонном распространении демократии, согласно которой между подлинно демократическими странами войны невозможны в принципе, вследствие изменения их агрессивной «антропологической основы» 4.
1 См.: Тодд Е. ГПсля 1мпери. Есе про загнивания американсько! системи. — Льв1в, 2006. - С. 48-51.
2 Там же. — С. 96—97.
3 Там же. — С. 52—54.
4 Там же. — С. 16.
Перед нами ни что иное, как обновленный вариант своеобразного неопостиндустриализма, пытающийся преодолеть недостатки «технологического детерминизма», присущего концепции стадий экономического роста.
Однако предлагаемая классификация цивилизаций не на основе часто трудно фиксируемых или однозначно интерпретируемых ценностных религиозных предпочтений, а четкого критерия особенности демографической структуры общества, к сожалению, не лишена умозрительности и поверхностных выводов, присущих эмпирической философии истории как таковой, стремящейся избежать схематизма и абстрактности фундаментальных построений, направленных на создание целостной модели всемирной истории.
В частности, само по себе увеличение числа тех, кто получает среднее и даже высшее образование, далеко не всегда является однозначным индикатором возрастания цивилизованности того или иного этноса (вспомним хотя бы о высоком уровне образования в тоталитарных государствах, увеличения на фоне роста статистики не только среднего, но и высшего образования функциональной неграмотности, т. е. фактически низкого качества этого образования в США, уже не говоря об отсутствии однозначной корреляции между обучением и формированием адекватного задачам времени мировоззрения).
Не является однозначным показателем демократизации общества и падение рождаемости (за годы правления К. Аденауэра и Ш. де Голля в США и Франции наблюдался всплеск рождаемости, отнюдь не свидетельствующий о цивилизационной деградации данных государств, а скорее наоборот).
Кроме того, Э. Тодд откровенно идеализирует возможности стабилизации внутриполитической стабильности в Европе в условиях, когда рождаемость в большинстве европейских государств даже не позволяет сохранять воспроизводство населения на существующем уровне, а количество этнич-но, расово, а главное ментально несовместимых с ценностями западной цивилизации эмигрантов растет угрожающими темпами.
Но главное, известный французский ученый так и не смог преодолеть европоцентристскую схему догоняющего развития, согласно которой не-за-падные страны должны прийти к подлинно цивилизованному в современном понимании состоянию через разрушения своих традиционалистстких этнокультур, структур и подгонке менталитета к современному западному мировосприятию. И хотя безусловно существует реальная проблема адаптации этнонациональной специфики к системе общеуниверсальных цивилизационных механизмов, в первую очередь, к организации общественной жизни, однако, как будет показано в ходе дальнейшего исследования, ничего общего с односторонним «подтягиванием» Востока и Юга к образу жизни «образованного» Севера подобные сложнейшие механизмы межцивилизационной адаптации не имеют.
Поиск методологических оснований цивилизационного анализа: от философии к мифологии истории?
В чем же основная причина постоянных неудач сугубо эмпирической рационализации истории, подведение под некие идеальные типы архетипов этнонационального менталитета тех или иных цивилизационных образований? В первую очередь в значительной степени она обусловлена тем, что металогический эмпиризм в исследовании истории с поразительной легкостью оборачивается крайним схематизмом, неспособностью преодолеть марксовский формационный схематизм, экономический детерминизм, в основе которого лежит знаменитый классовый подход, который в конечном итоге всегда оборачивается все тем же объективизмом и однолинейным европоцентризмом.
В самом деле, многие критики марксизма справедливо замечали, что всемирная история отнюдь не сводима к истории борьбы классов и вовсе не стремление «прогрессивного класса» уничтожить отжившие общественные отношения, которые стремятся «законсервировать» представители «отжившего», «реакционного» класса является двигателем истории. Ни рабы, ни крепостные, ни пролетарии никогда не «свергали» существующий общественный строй, да в общем, по большому счету, и не стремились к этому. Отличие веберовского подхода от марксистского состоит лишь в том, что он свои социальные классы пытается отыскать не на основании определения их места в структуре материального производства, и не исходя из отношения их различным формам собственности, а, в первую очередь, опираясь на профессионально-сословные особенности социальных групп, выступающих своеобразным структурообразующим элементом различных цивилизаций. Ведь, по Веберу, носителем конфуцианства является организующий мир бюрократ, индуизма — упорядочивающий мир маг, буддизма — странствующий по миру монах-созерцатель, ислама — покоряющий мир воин, христианства — бродячий ремесленник. Но возможно ли на основании такой весьма условной и поверхностной классификации типологизировать религиозно-мировоззренческие основы, а, значит, и специфику различных цивилизаций. Тем более, что в последнем случае, пусть и применительно к античному миру, в скрытом виде наблюдается попытка применить «классический» классовый подход, заменив пассивных исполнителей производственного процесса — рабов активными ремесленниками, а особое внимание М. Вебера привлекала так называемая «религия париев», то есть фактически наиболее люмпенизированных социальных групп, стоящих на нижних ступенях социальной иерархии, как якобы наиболее социально активных социальных элементов с ярко выраженными эсхатологическими мотивами переустройства мира на основании стремления к потустороннему как своеобразной социальной утопии.
Разница состоит лишь в том, что вместо продающего свою рабочую силу пролетариата Вебер делал ставку на торгующих своей интеллектуальной силой обедневших выходцев из привилегированных сословий, включая русских народников, разночинцев. Однако чем революционный экстремизм Ткачева и Лаврова отличается от экстремизма Маркса, который, к тому же,
Ленин легко переосмыслил в народовольческом ключе «ведущей роли партии» — организации профессиональных революционеров, якобы возглавляющей недостаточно «сознательный» рабочий класс (социологи либерального крыла в таких случаях всегда вспоминают и то, что именно М. Вебер ввел понятие «национал-социализм» и то, что его идеалом политического устройства была откровенно авторитарная так называемая «плебисцитарная демократия»).
Как было показано, построить адекватную социальной реальности модель всемирной истории не позволяют и другие подходы, построенные на сопоставлении эмпирически фиксируемых параметров типа возрастания уровня образованности, падения уровня рождаемости и изменения вследствие указанных причин базовой структуры семьи.
В подобной познавательной ситуации есть смысл: от попыток создания некоей, построенной на логических процедурах «понимающей социологии» вновь вернуться к традиционным универсальным подходам собственно философии и истории, проанализировать их слабые и сильные места, еще раз попытаться осмыслить всемирный исторический процесс в его развертывании, динамике и многообразии.
Решение поставленных проблем предполагает серьезную разработку методологии цивилизационного исследования. К сожалению, сегодня ни один из существующих подходов не дает возможности создать даже рабочую модель всемирно-исторического процесса, на основе которой стало бы возможным увязать стадиально-временные и социально-пространственные характеристики различных цивилизаций как прошлого, так и настоящего, дать достоверные, долгосрочные прогнозы развития глобальных тенденций социально-экономического и духовного развития. В существующих подходах ко всемирной истории отчетливо прослеживается своеобразная дуальность, одномерный монизм скорее гипотез, чем концепций осмысления исторического процесса, каждая из которых претендует на полноту и завершенность. С одной стороны, имеет место экономико-технологический детерминизм Маркса, Белла, Ростоу, Броделя и в значительной степени Валерстайна, с другой — противоположный подход Вебера, Тойнби, Данилевского, Сорокина, Ясперса, согласно которому подлинным экономическим базисом развития цивилизации является не экономика, а духовно-религиозные факторы. В свою очередь в рамках каждого из этих подходов отчетливо просматривается деление на хронологически-стадиальное и циклически-простран-ственное видение цивилизационной эволюции. В рамках экономического детерминизма, с первым подходом связаны марксизм и непосредственно опирающейся на него технологический детерминизм. Со вторым, соответственно, монадное понимание глобального экономического пространства, мир-экономики Ф. Броделя и фундаментальное пространственное деление мировой экономики на западное цивилизационное ядро и юго-восточную периферию.
В рамках концепции цивилизацинной идентификации по принципу духовного детерминизма откровенно стадиальный подход просматривается у Ясперса, в более смазанной форме он присущ концепциям А. Тойнби и М. Вебера (в обоих случаях основным «стержнем» цивилизационного разви
тия выступает становление наиболее динамичной христианской религии), а с концепцией цивилизационного нелинейного плюрализма связаны подходы Н. Данилевского, О. Шпенглера и С. Хантингтона (по отношению к которым мультицивилизационная концепция А. Тойнби является «переходной», стремящейся, но, на мой взгляд, так и не реализующей синтез социального пространства и времени. Несмотря на то, что каждая из вышеуказанных теорий схватывает одно из важных измерений многомерной социальной реальности, все они обладают недостаточным методологическим потенциалом для решения задач, стоящих перед современной цивилизационной компаративистикой.
Тем более, что технико-экономические подходы с присущим им абстрактным схематизмом, телеологизмом, пониманием процесса глобализации прежде всего как экономической рыночной унификации социального пространства оказались неспособными предсказать социальные катастрофы и экономический бум дальневосточных стран XX столетия, в них явно отсутствует категориальный критерий для анализа влияния на экономическое развитие духовно-религиозных факторов, адекватное описание содержания таких понятий, как «конфуцианский капитализм», «шведский социализм», «социальное государство», «исламская экономическая модель» и т. д.
Более того, как уже показал в своей работе «Здоровое общество» Э. Фромм, сами по себе высокие стандарты потребления вовсе не гарантируют духовного здоровья как отдельных личностей, так и целых государственно-национальных образований. Тем более, что решение проблемы колоссального разрыва уровней жизни между развитыми и развивающимися странами по пути наращивания экономической мощи дальневосточной мир-экономики, которая превращается в своеобразную всемирную фабрику производства продуктов массового потребления, вступая с развитыми странами Запада в откровенное соперничество за экономическое лидерство, бесперспективна с точки зрения принципиальной ограниченности планетарных природных ресурсов; а также вследствие ухудшающейся экологической ситуации в самих странах «второго», «догоняющего» экономического эшелона, в том числе в китайской республике.
Представители духовно-плюралистического видения цивилизационного структурирования мира, стоящие преимущественно на консервативно-пессимистических позициях, сумели верно описать ряд кризисных явлений в духовной сфере развитых капиталистических стран, дать адекватную картину неуклонно нарастающего социального катастрофизма, как следствия если не «столкновения цивилизаций» (Хантингтон), то во всяком случае столкновения различных тоталитарных моделей в рамках самой западной цивилизации. Однако подобного рода модели оказываются бессильными перед системным анализом феномена современного глобализма, часто ориентируясь на культуру и философию Востока как на идеал подлинно гуманистических ценностей человеческого бытия, мир-системное духовное ядро современного человечества. Апологеты суперэтностной цивилизацинной дискретности не в состоянии раскрыть конкретные особенности данной системы ценностей, показать механизмы их адаптации в цивилизационную парадигму современного Запада (вряд ли, например, решение проблемы преодоле
ния одномерности западного человека лежит на путях пусть даже и сознательного перехода к восточным вероисповеданиям (как это, например, сделал Рене Генон, который стал исповедовать исламскую религию). Как отмечалось, Восток при таком подходе воспринимается не более как своеобразный «антизапад», а это в принципе не дает возможности показать причины, по которым прогнозы Вебера относительно экономической застойности восточных цивилизаций оказались несостоятельными. Причем экономические успехи дальневосточных стран явно опираются на существующие на Востоке этнодуховные и религиозные ценностные ориентации.
Таким образом, можно констатировать, что в последнее время сложилась парадоксальная и крайне неблагоприятная как для всех моделей развития обществоведческих наук, так и для обеспечения эффективного безкризис-ного бытия человечества ситуация: на фоне неимоверного усложнения и ускорения темпов общественной жизни, неуклонного роста общепланетарного катастрофизма, несмотря на стремительный рост количества эмпиричес-ки-описательных работ, посвященных глобальным и региональным проблемами цивилизационного развития, наблюдается все большее отставание методологического уровня этих исследований.
Иногда создается впечатление, что авторы многочисленных статей и монографий сознательно занимают страусовую позицию относительно наиболее актуальных вопросов цивилизационной теории, избегая осмысления ее ключевых проблем, делая вид, что опереируют общеизвестными понятиями, смысловые характеристики которых на самом деле до сих пор остаются крайне неопределенными. В цивилизационной социологии уже сложилась познавательная ситуация, подобная той, которая уже имела место в математике 19 столетия.
Сегодня фактически существует перечень проблем, или своеобразных гуманитарных «теорем», доказательство каждой из которых предполагает достижение высокого уровня научной новизны и способно существенно продвинуть понимание человечеством ныне происходящих глобальных процессов, а значит, возможность построения более точных прогнозных сценариев.
Например, в социологической литературе уже стало общим местом упоминание более трехсот определений соотношений категориальной пары «цивилизация» и «культура». Причем некоторые авторы в своих работах уже достаточно выразительно намекают, что такая неопределенность является вполне нормальной и даже отражает качественно новый уровень так называемой постнеклассической науки и постмодернизма как стратегической парадигмы развития современно обществоведения. Ситуацию отсутствия целостной и последовательной концепции цивилизационного развития человечества, невозможность адекватно описать всемирную историю на основе ни одной из существующих взаимоконкурирующих историософских версий рассматривают как теоретическое свидетельство так называемой полилинейности, многомерности, поливариантности, нелинейности, стохастич-ности исторического процесса. В так называемой постмодернистской методологии предлагается своеобразная «методология» выбора концептуального инструментария для описания исследуемой цивилизации или сравнитель
ной характеристики нескольких цивилизаций на личный вкус, субъективное предпочтение исследователя, с опорой на его собственную интуицию относительно того, какая из существующих версий всемирной истории способна стать наиболее эффективным инструментом реконструкции истории в данной конкретной исторической ситуации.
Постмодернистское толкование философии истории, в принципе отбрасывая схематичный рационализм классической традиции, стремится к построению своеобразной неонтологии. В основе специальных познавательных процедур фактически имеет место избегание какой бы то ни было рефлексии, что, вроде бы, помогает исследователям, не отвлекаясь на умозрительные экскурсы, оперативно следить за всеми перипетиями сегодняшних событий, давать аналитические ориентиры в глобальных процессах, которые все больше напоминают наполненный разнообразными ловушками и опасностями стремительный горный поток. Собственно популярная в последние годы синергетическая концепция описания цивилизационных процессов в значительной степени связана с подобным представлением бифуркационно-скачкообразного развития общественных явлений, которые в принципе не могут быть предметом эффективного теоретического моделирования и в рамках которого роль собственно субъективного фактора в социальных процессах исчезающее мала. (Хотя уже в позитивистско-либеральной методологии социального познания, например, в классической работе Поппера «Открытое общество и его враги» четко прослеживается концептуальная установка на социальный эмпиризм, отказ от научной реконструкции истории не только на метатеоретическом, но и просто на уровне познания любых закономерных связей). Принципиально отказываясь от познания какой-либо «логики истории», исходя из представления о тотальной неструктурирован-ности, релятивности социальной реальности, предлагается вместо целостной теории цивилизационного процесса своеобразный набор методологических отмычек «на все случаи», применяемых на основе чисто субъективного ощущения исследователя.
Вместе с тем, хоть сколько-нибудь серьезная классификация различных версий философии истории «подсказывает», что существующие походы к описанию всемирной истории либо в научно-теоретическом, либо в иррационально-религиозном аспектах содержат рациональное зерно. Они могут быть включены в обобщающую концепцию всемирной истории в качестве взаимодополняющих подходов, в рамках социологического неоклассического синтеза, на основе которого появляется возможность принципиально преодолеть, точнее «снять на разумной основе» (Гегель) своеобразный методологический плюрализм, точнее эклектицизм, при котором методология социального познания трактуется на основе метафор типа: «пусть расцветает сто цветов», «на вкус и цвет товарища нет» и т. д.
Даже при ближайшем рассмотрении бросается в глаза, что существующие версии философии истории легко классифицируются по общим признакам, причем отчетливо просматривается наличие некого универсального первоначала и одновременно принципа построения полноценной теории всемирноисторического процесса. В самом деле, историософские схемы, связанные с культурологическим подходом, предполагают не просто оценку
духовности как системообразующего фактора при построении универсальной модели всемирной истории, а именно религии как ключевого элемента определения цивилизационнной специфики. Не только М. Вебер, А. Тойнби и С. Хантингтон, но в значительной степени и П. Сорокин, и О. Шпенглер, исходят из базисности религии как критерия цивилизационной специфики.
Аналогично технологический детерминизм акцентирует на роли экономики как особой формы предметно-преобразующей действительности для построения стадиально-цивилизационной типологии. Не только К. Маркс, но и Ф. Бродель, и Ростоу оценивают относительно замкнутые пространственные ареалы на различных этапах исторического развития прежде всего на различении аграрного, индустриального и постиндустриального типов экономики. Более того, в конечном итоге, при обоих подходах речь идет не о полном методологическом монизме (ни Вебер, ни Тойнби не игнорируют экономику, равно как и Маркс — духовно-идеологическую «надстройку»), а скорее в своем стремлении сформулировать базисный элемент концептуального анализа оставляют за краем исследовательского поля ту сферу общественной жизни, которая кажется им вторичной, определяемой, более зависимой.
Более того, существует еще более абстрактное измерение общеконцептуальных оснований теории всемирноисторического процесса. Например, очевидно, что несмотря на противоположность способов описания истории, с одной стороны, Шпенглером, Данилевским, Гумилевым, а с другой — Броделем, в обоих случаях акцент в этом описании ставится на доминанте социального пространства над социальным временем, дискретности над эволюционной непрерывностью. То же можно сказать и об эволюционно-стадиальных подходах: при всей противоположности «трехчленки» Ясперса и «пятичленки» Маркса в них явно просматривается доминанта социально-временного подхода над социально-пространственным. Акцент делается на непрерывности восходящего развития, в первом случае — религиозно-культурных, а во втором — экономико-технологических факторов. Более того, при всем внешнем прогрессизме и телеологизме видения всемирной истории Ясперсом и Марксом их концепциям в неявном виде органически присущ циклизм достижения высших форм развития религии и экономики как своеобразного возврата к первоосновам социального бытия, в первом случае — первобытного коммунизма (о чем прямо пишет Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства») как идеала социальной уравнительности, а во втором — исходной трансцендентности, которая всего лишь «проясняется», осознается в процессе всемирной истории. (Влияние философии истории Гегеля и всей историософской неоплатонической традиции на Ясперса здесь очевидно).
Аналогично, цивилизационный дискретный плюрализм Вебера, Шпенглера, Данилевского с присущей им абсолютизацией циклизма, постоянного воспроизводства исходного религиозного архетипа в рамках той или иной цивилизации, легко оборачивается линейно-прогрессистским монизмом в понимании исторического процеса с той лишь разницей, что Тойнби, вслед за Вебером, вначале абсолютизирует роль западно-христианской традиции
(позже склоняясь к системообразующей роли буддизма), Данилевский абсолютизирует восточно-христианскую религиозную традицию, которую позже евразийцы и Гумилев отождествят с религиозным «панмонологизмом», «ту-ранством», а Шпенглер в неявной форме противопоставляет неокатоличес-кую корпоративную традицию возвеличенной Вебером протестанстко-либе-рально-христианской (см.: работу Шпенглера «Пруссачество и социализм»).
Все это свидетельствует о том (и это, кстати, прекрасно осознавали сами исследователи всемирной истории), что за исходными посылками их построений, призванных дать адекватную модель социальной реальности в прошлом и настоящем «скрываются» более фундаментальные общефилософские «метатеоретические» посылки, не осмыслив которые невозможно разработать более адекватную и целостную концепцию философии истории. Речь идет об адекватном понимании единой человеческой природы в многообразии ее измерений.
В самом деле, за универсальным гегелевским видением социальной реальности откровенно проступает абсолютизация познавательной стороны человеческой деятельности. Гегелевская система — это своеобразный апофеоз метагносеологизма, лишь формально заканчивающегося религией как формой самопознания, ибо подлинный бог Гегеля — Гносеология, а его методологический идеал — абсолютная научная истина.
Системному, теоретическому познанию противопоставляется социологическая установка Карла Поппера на социально-эмпирическую онтологию, призванную разработать процедуры постепенного приспособления к изменяющейся социальной реальности. Отсюда противопоставление гегелевскому телеологизму исторического процесса, так сказать, фрагментарно-ситуативного видения социальной реальности, попперовская критика так называемой социальной инженерии, то есть стратегического моделирования и глобально-прогнозных оценок цивилизационного процесса с целью широкомасштабной его корректировки.
Вплотную к гносеологическому измерению универсальной человеческой природы примыкает предметно-преобразующее, согласно которому человек является не познающим, а изменяющим окружающий мир существом (вспомним фундаментальный тезис марксизма о том, что основная задача социального бытия состоит не в познании, а в изменении окружающего мира). Если на уровне социально-коллективном в марксизме философия истории строится на идее массово-революционного действия (революции — «повивальные бабки», «локомотивы» истории), то на уровне индивидуального в рамках философского прагматизма та же идея реализуется в форме апологии человеческого поведения по бихевиористскому принципу «стимул — реакция», пониманию познания как чисто опытного приобретения информации, так сказать, «по ходу дела». Третье направление философии истории, основоположником которого является Вико, а последователями — Гердер, Шеллинг, Шпенглер и в значительной степени Ясперс, рассматривает откровенно эмоционально-чувственный элемент духовного основания мира как системообразующий принцип своих историософских построений. Речь идет не столько о познании, сколько о переживании истории, «вживании» в нее, «схватывании» в некоем целостном интуитивно-эстетическом
акте. (Не случайно от Вико, Шеллинга и других выдающихся социальных романтиков идет традиция абсолютизации роли искусства в социальном бытии, пронизывающая весь современный философский экзистенциализм.)
Таким образом, можно констатировать, что за конкретными моделями философии истории в качестве методологических предпосылок стоят фундаментальные направления философской мысли: гносеология, онтология, праксиология и своеобразная экзистенциология, которые, в свою очередь, отражают наиболее фундаментальные формы отношения человека к миру, такие как мировоззрение, мироощущение (мироотражение), мироустройство, или, точнее, мироустроение и миропереживание (мирочувствование).
В то же время парадоксальным образом в человеческой деятельности соприсутствует неразрывность основных проявлений бытия, которая негативно воздействует на достижение значимых результатов внутри каждого из них. В частности, оказывается, что невозможно достигнуть «беспримесной» объективности научного познания, а следовательно, и однозначно формализованной истины. Особенно это касается социального познания, то есть познания реальности, в которой сам субъект выступает объектом исследования, а значит, и философии истории. Ведь сам термин «философия истории» уже предполагает субъективно-личностное отношение к анализируемому объекту. Не случайно, Г. Риккерт построил свою теорию познания на противопоставлении законов естественных наук и обществознания, в рамках которого в принципе невозможно сформулировать объективные закономерности в полном смысле слова.
Искусство как форма духовного освоения действительности слишком погружено в стихию самой социальной практики, вследствие чего акцентирующие на эстетическом компоненте освоения мира философские построения так или иначе неразрывно связаны с понятием «философии жизни». Наконец, практика во всех формах ее проявления слишком зависима от теории, не самодостаточна, требует постоянного выхода вовне, так как при всей оторванности абстрактной теоретической рефлексии от предметно-практического освоения мира, эффективность этого освоения — создание искусственных средств производства, все более сложных орудий труда, неразрывно связана со все более углубленным научным исследованием окружающего мира.
Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, социальное бытие многообразно и каждый из видов этого бытия в рамках данного многообразия этого бытия стремится к самодостаточности, а с другой — эта самодостаточность и, в первую очередь, интересующее нас построение универсальной познавательной системы, становится недостижимым.
Возникает логичный вопрос: что же мешало авторам фундаментальных моделей цивилизационного развития построить универсальную целостную модель всемирной истории, опираясь на представления об универсальной человеческой природе как многомерной модели, способной синтезировать существующие подходы? Очевидно причина в том, что в рамках социального бытия, имеют место взаимоконкурирующие способы организации человеческой жизнедеятельности. Так, например, эстетическое миропереживание во всей его полноте несовместимо с утилитаризмом чувственно-предметной
прагматики, научная теоретическая рефлексия абстрагируется от прикладных проектных задач и вытесняет любые формы субъективно-эмоционального эстетизма, подрывающего научный принцип объективности, наконец, практика или так называемая предметно-практическая деятельность предполагает постоянное стремление к реализации любых гипотез в непосредственном эксперименте, что предполагает перевод поисковых концепций в однозначно верифицируемые самодостаточные научные теории, уже предназначенные не для познания, а для изучения, которые в перспективе способны стать «руководством к действию», «инструкцией по эксплуатации» и т. д. Вот почему так сложно достигнуть подлинного понимания истории, объединив логику истории, философию истории и даже эстетику истории (см. интересную работу Гулыги «Эстетика истории»).
Решение одновременного познания, постижения и прагматического осмысления истории как совокупности прецедентов на все случаи жизни многие из «классиков» философско-исторической мысли видели на пути преодоления основных природных характеристик человеческого бытия путем прорыва в надприродные, то есть фактически религиозные измерения человеческой сущности. Введение понятий «иррациональное», «бессознательное», «надсознательное», «сверхсознание» так или иначе связано с содержанием категории трансценденции, причем речь идет о преодолении недостатков гносеологического отношения к миру, предполагающего его теоретическое моделирование. Исходя из идеалов религиозной формы миропонимания как абсолюта, исключающего любую незавершенность, относительность и Гегель, и Тойнби, и особенно Ясперс, который разработал целую теорию «прорыва» из ситуации «времени», экзистенции в трансценденцию, вынужденно, с постоянными оговорками о существовании конфликта между верой и знанием, отдали первенство вере.
Не случайно Тойнби и Ясперс подчеркивают, что исходные основания истории в принципе не могут быть познаны рациональным способом.
Как известно, многие авторы, в том числе и Бердяев, считают, что марксистский тип универсализма так же основывается на иудаистских религиозных основаниях о всемирноисторической миссии пролетариата как своеобразного «народа-богоносца». Именно этим фактом прежде всего и определяется выделение именно религии как «идеального типа», являющегося индикатором специфики той или иной цивилизации.
Что же касается Вебера, то одно из ключевых понятий его цивилизационной типологии истории на основе именно религии — категория харизмы — так же предельно мистифицирована, за что, кстати, выдающийся немецкий социолог неоднократно подвергался справедливой критике. Даже в цивилизационной теории П. Сорокина само понятие идеациональной культуры, то есть максимально оторванной от действительности формы мировосприятия как высшего пика проявления социального творчества, как бы «намекает» опять таки на религию в качестве системообразующего компонента человеческой духовности. Собственно, именно подобный подход практически всем вышеуказанным авторам позволяет идентифицировать цивилизацию по типу господствующей в ней религии в качестве своеобразного архетипа ментальности того или иного суперэтноса, даже независимо
от уровня секуляризации общественного сознания данного цивилизацион
ного ареала.
Таким образом, существенным недостатком общетеоретических подходов к исследованию истории является их неспособность преодолеть абстрактный схематизм и однобокость, за которые представители духовно-стадиальной типологии истории критикуют марксизм, базирующийся на стадиальности технико-экономической. Становится очевидной необходимость переосмысления подобного рода концепций на основании синтеза рациональных моментов, которые содержатся в каждой из них. Созданию такой целостной концептуальной философии истории в значительной степени препятствует
некритическое отношение многих авторов, и прежде всего на постсоветском пространстве, к концепциям таких выдающихся ученых, как Вебер, Ясперс, Тойнби в качестве завершенных философско-исторических систем, своеобразных, не подлежащих корректировке, и тем более критике «истин в последней инстанции». Вследствие этого имеет место своеобразный метафизический релятивизм, поощряемый уже упоминавшейся постмодернистской установкой на веерообразную открытость, альтернативность прочтения исторической реальности, исходя из тех конкретных задач, которые стоят перед тем или иным исследованием. Отсюда отношение к мэтрам философ
ско-исторического исследования как к непререкаемым кумирам, схемы которых могут быть использованы для описания всемирной истории в качестве неких окончательно сформированных матриц, накладываемых на объект исследования. Отсюда обилие фундаментальных работ по цивилизационному анализу, в рамках которых соответствие взглядов Тойнби, Ясперса, Шпенглера является достаточным подтверждением правоты автора в объяснении особенностей тех или иных цивилизаций Востока и Запада и взаи
моотношений между ними.
Более того, часто ту или иную историософскую концептуальную схему не просто выбирают, исходя из установки на ее способность эффективно описать данный исследуемый аспект цивилизационного развития, а и до
пуская произвольную трактовку авторами самих взглядов вышеуказанных мыслителей. Одним из типичных примеров подобного подхода является предельная рационализация историософских схем Гегеля, Тойнби, Ясперса в чисто позитивистском ключе как своеобразных познавательных инстру
ментов, «отмычек», позволяющих, преодолев пласт эмпирического многообразия всемирной истории, открыть для себя ее фундаментальные основания. В частности, многие авторы, говоря о концептуальной значимости историософии Тойнби или Ясперса, как бы не замечают, что важнейшей особенностью теоретических построений обоих этих исследователей является признание религии фундаментальным регулятивным принципом построения теоретической модели всемирной истории. А между тем тот же Ясперс отмечал, что «разум — это объемлющее в нас, которое не имеет подлинных истоков, и есть орудие экзистенции. Со стороны экзистенции он — безусловное, направленное на то, чтобы явить истоки в их осуществленнос-ти как глубочайшее откровение» *. А чтобы не возникало никаких сомнений
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 441.
относительно природы подобной трансцендентальной интуиции, на которой основывается теоретическое познание (Разум), Ясперс уточняет, что же он считает трансценденцией: «Бог есть. Трансценденция над всем миром и/или до всего мира называется Богом... Доказанный Бог уже не Бог. Поэтому: только тот, кто исходит из Бога, может Его искать. Уверенность в бытии Бога, какой бы зачаточной и непостижимой она не была, есть предпосылка, а не результат философствования» ’. Ясперсу вторит Тойнби, утверждая, что в истории общества действует два типа объективных законов: «Закон Бога» и «Закон Природы». Причем эти два типа законов «не являются логически несовместимыми друг с другом, и вполне можно себе представить, что эти два рода Законов действуют бок.о бок. «Закон Бога» выявляет единую постоянную цель, преследуемую интеллектом и волей личности. «Законы 11рироды» показывают регулярное и повторяющееся движение... Наука не может выявить смысл события; так эта сфера была оставлена менее претенциозному братству — историкам» 1 2. Сам Тойнби в итоговом 12 томе своего фундаментального исследования признает, что согласен с критиками, которые считают, что его исследование имеет характер скорее религиозного раздумья, чем научного обобщения 3. Таким образом, речь фактически идет даже не о историософии, а о классической теологии истории, чего и не скрывают адепты подобного рода концептуального подхода, и поэтому оценивать их изыскания только под углом зрения объективной оценки исторических реалий принципиально неверно.
Однако возникает вопрос: возможно, именно реализация трансцендентной формы осмысления истории позволяет достигнуть той целостности и полноты, которая невозможна в рамках чисто научного исследования?
В самом деле, для того, чтобы разработать методологию, адекватную тем проблемам, которые возникают перед исследователями, пытающимися провести адекватную реконструкцию исторического прошлого под углом цивилизационной типологии и дать максимально точный прогноз цивилизационного развития на будущее, необходимо, чтобы целостное масштабное видение истории, так сказать, было предзаданно в поисковой задаче. Именно религиозно-эсхатологический взгляд на историческую реальность, стремление познать не просто объективные законы, а смысл исторического бытия как последовательного развертывания исторического процесса в направлении ко все более последовательному воплощению христианского идеала, прихода последних времен, окончательного разрешения всех социально-экономических противоречий в конечном итоге позволяет взглянуть на историческую реальность. О христианстве в первую очередь речь идет потому, что в отличие от восточных религий, сама идея страшного суда и конца истории, своеобразный синтез теологизма и телеологизма в наибольшей мере из всех мировых религий присущ именно христианству.
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 434—435.
2 Toynbee A.I. A study of history. — Abridgement by Somervell D.C. — London, 1956-1967. Vol. 2. - P. 262-263.
3 Там же. — Vol. 12. — P. 124.
Собственно, по версии М. Вебера тот же протестантизм с его жестким противопоставлением небесного земному, приводящий к возникновению между двумя этими полюсами громадного энергетического заряда созидания нового мира именно христианству обязан своим динамизмом и бескомпромиссностью, ставшими родовыми признаками западной цивилизации. Не случайно параллельно с Вебером и независимо от него сходные мысли о природе истории как глобальном процессе реализации религиозного идеала высказывал и Н. Бердяев: «Христианский динамизм, христианская историчность не свойственны никакому другому сознанию. Только христианство признало общую конечную цель человечества, осознало единство человечества и этим создало возможность философии истории» *. Причем оценки Н. Бердяевым религиозно-философских особенностей других цивилизаций также поразительно напоминают веберовские. «Греки не знали исторического движения, мчащего все миры к катастрофическому факту. История возможна только тогда, когда только возможно восприятие истории, если мировой процесс воспринимается как процесс катастрофический... Это как раз то, что было чуждо сознанию эллинскому и совершенно чуждо глубокому духовному сознанию Индии... Индусское сознание есть самое антиисторическое из всех сознаний мира и судьба индусская есть самая не историческая из всех судеб» 1 2.
Но подобный подход резко меняет и представление о движущих силах истории. То есть речь идет не только о возможности допущения особой формы интуитивного религиозного вживания в историю для ее более адекватного осмысления, но и рациональной реконструкции истории на основе типа религии как базового в определении цивилизационных особенностей. Прав Ю. Семенов, который в свое время подчеркивал то, о чем многие современные апологеты английского историософа часто предпочитают умалчивать: «Поздний Тойнби, в отличие от раннего, не пересматривая циклов развития цивилизаций как таковых, меняет основную единицу или «монаду», исторического исследования и ставит на место цивилизации религию и церковь» 3. В частности, А. Тойнби определяет эволюцию своих взглядов на историю как «смену циклической системы прогрессивной системой» 4. В свою концепцию он фактически вводит идею стадиальности, рассматривая цивилизации второго и даже третьего порядков, призванных стать воплощением «высоких религий».
Познание как вживание, по Ясперсу, на первый взгляд — тот самый синтез. Говоря «о значении христианства в качестве оси» К. Ясперс особо подчеркивал, что «сам синкретизм и многомерность формирования христианства позволяет на его основе осмысливать историческую реальность во всей ее многомерности: христианство, христианская церковь является, быть
1 Бердяев Н. Смысл истории. — М., 1990. — С. 29.
2 Там же. — С. 27, 25.
J Семенов Ю. Социальная философия А. Тойнби. Критический очерк. — М., 1980. — С. 87.
4 Toynbee A.I. A study of history. — London, 1956—1967. Vol. 2. — P. 325.
может, самой великой и возвышенной формой организации человеческого духа, которая когда-либо существовала. Из иудейства сюда перешли религиозные импульсы и предпосылки...; от греков — философская широта, ясность и сила мысли; от римлян — организационная мудрость в сфере реального. Из всего этого возникает некая целостность, которую никто не предвидел заранее;... Христианская церковь оказалась способной соединить даже самое противоречивое, вобрать в себя все идеалы...»
В то же время Н. Бердяев прекрасно сознавал невозможность непосредственного использования пусть даже наиболее прогрессивной христианской религии в качестве методологии познания всемирной истории. Более того, мыслитель подчеркивает, что по отношению к экономическому детерминизму и различным формам исторической телеологии чисто христианская эсхатологическая и мессианская интерпретация истории выступает лишь как кажущаяся, мнимая противоположность: религиозный иррационализм оказывается лишь обратной стороной абстрактного познавательного рационализма. «Если бы существовала только Божественная свобода, Божественная необходимость, или если бы существовала только природная необходимость, то истории в истинном смысле этого слова не было бы, она не зародилась бы. Существование одной лишь Божественной необходимости, одного Божественного начала, одной Божественной свободы привело бы к тому, что история началась бы с царства Божия, и потому истории не было бы. Существование одной природной необходимости привело бы к бессмысленному сцеплению внешних фактов, в котором не было бы внутреннего свершения, осмысленной драмы, осмысленной трагедии, влекущей к какому-то разрешающему концу» 1 2.
Однако возникает логичный вопрос, насколько подобная теологизация и телеологизация истории реально способствует ее осмыслению для построения эффективных прогнозных моделей развития человечества с учетом существующих глобальных и региональных особенностей?
Ведь предлагаемое, в частности, Геноном, деление социального познания на два его вида, — так называемый логический и профанический (через религиозное постижение истории), причем первый, по мнению автора, органически присущ мировоззрению Западной, а второй, соответственно, — Восточной цивилизации, которой Генон отдает откровенное предпочтение, сталкиваются с рядом принципиальных трудностей 3. Подобную же «методологию» исповедуют Ю. Каныгин и В. Кушерец, которые обосновывают тезис о существовании оппозиционной классической так называемой неклассической и постнеклассической науки, сводимой к некоему библейскому изотерическому знанию 4.
Первый взгляд на Бога как на неразрывное триединство истины, добра и красоты действительно позволяет решить проблему постижения единства
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 82.
2 Бердяев Н. Смысл истории. — М., 1990. — С. 29—30.
J Генон Р. Кризис современного мира. — М., 1991. — С. 27—57.
4 Канигт Ю., Кушерець В. Б1бл1я i сучасна наука. — К., 2005. — 225 с.
и многообразия человеческого бытия в их нераздельности и полноте путем синтеза основных подходов к осмыслению социального мира. Однако в действительности построение своеобразной теологии истории никоим образом не позволяют синтезировать различные варианты описания всемирной истории в некую целостную, внутренне не противоречивую Теорию истории, поскольку подобный методологический подход также несвободен от серьезных и даже непреодолимых концептуальных недостатков в понимании фундаментальных оснований теории исторического процесса, которые крайне негативно сказываются на эвристических возможностях предложенных всеми вышеуказанными авторами теолого-познавательных моделей всемирно исторического процесса.
В самом деле, если исходить из установки на то, что Бог является воплощением абсолютной истины, то достижение ее средствами всегда ограниченного человеческого разума в принципе невозможно. Остается только один путь, который собственно и предлагает тот же Ясперс — путь интуитивного прорыва к божественной истине не через отражение мира, а через собственную экзистенцию, которая в конечном итоге оказывается предельно мистифицированной. Отсюда, кстати, особый специфический стиль изложения концепций философии истории Тойнби и Ясперса, больше похожий не на социальное познание, а на некое наперед заданное постижение социальной реальности. Однако при последовательно проведенном подобном подходе, в сущности, потребность в разработке категориального аппарата самой социальной теории отпадает, а основные понятия социальной теории, такие как «харизма», «осевое время», «прафеномен», «архетип», «душа» приобретают предельно вненаучное мистифицированное звучание, что не может не вести к грубым искажениям, а то и подтасовкам в истолковании реальной логики исторического процесса. В самом деле, зачем познавать историю, если ее можно целостно «охватить» с помощью некоего божественного озарения?
Более того, само признание бытия бога пусть вне природной реальности, с которой неразрывно связана природа человека, а значит, и его история, ведет к непреодолимым сложностям методологического характера, которые, несмотря на всю их очевидность, вышеуказанные идеологи теологизации истории оставляют как бы за кадром своих философско-исторических построений, либо делают вид, что проблема соотношения веры и знания вообще не существует, ограничиваясь, как Ясперс и Тойнби, абстрактными утверждениями о том, что в рамках предлагаемых ими философских моделей постижения истории эти две формы каким-то таинственным образом все же совместимы и даже взаимодополнительны.
В самом деле, признание религии онтологическим первоначалом истории, наиболее последовательно проведенное в философии истории Гегеля на основе своеобразного социального деизма, признание Бога как некоего первотолчка всемирно исторического процесса ведет к ряду неразрешимых парадоксов. Если всемирная история — это ничто иное, как последовательное рефлексивное самовоплощение Бога в формах собственного инобытия, которыми по существу и являются цивилизационные формообразования, с целью самопознания, а именно так это и есть согласно гегелевской филосо
фии истории, то как Бог мог сотворить первичный архаический мир и человека, еще не обладая знанием о нем?! Более того, каким образом Бог, «по определению» являющийся абсолютной истиной, мог изначально не знать самого себя? Наконец, с точки зрения знаменитой гегелевской «иронии истории», согласно которой человек фактически является слепым орудием высших сил, творящих всемирную историю, каков смысл продолжения существования человечества, если в исторической форме прусского государства Бог наконец достиг высшей формы самопознания, адекватности пред7 ставления о себе самом?
Однако в последнее время появился ряд работ, в которых предпринята попытка построения внутренне непротиворечивой модели всемирного исторического процесса путем «снятия», синтеза гносеологического и трансцендентального измерений социальности в понятии Мифа, осмысленного не как ложного, дологического, архаического стиля мышления и даже мировоззрения, а как особого, уникального в своей универсальности продукта духовной культуры, в рамках которого осуществляется высшая форма познания в единстве теоретической рефлексии и непосредственного переживания социальной реальности. Истоки такого подхода заложили Вико, Шеллинг, а так или иначе разделяли — Юнг (особенно четко эта идея сформулирована в работе «Душа и миф»). Тот же Н. Бердяев прекрасно понимал значение и роль мифологического осмысления истории. В уже цитируемой ранее работе, в главе с названием «О сущности исторического. Метафизическое и историческое» он писал: «История не есть эмпирическая данность, история есть миф. Миф же есть не вымысел, а реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности... Каждая великая историческая эпоха, даже и в новой истории человечества, столь неблагоприятной для мифологии, насыщена мифами. Мы не можем понять исключительно объектной истории. Нам нужна внутренняя, глубинная, таинственная связь с историческим объектом. Нужно, чтобы не только объект был историчен, но чтобы и субъект был историчен, чтобы субъект исторического познания в себе ощущал и в себе раскрывал «историческое». Только по мере раскрытия в себе «исторического» начинает он постигать все великие периоды истории» \ А. Лосев в своей «Диалектике мифа», а не применительно к исследованию всемирной истории — в первую очередь, О. Шпенглер. При таком подходе сам исторический процесс рассматривается как гигантский цикл возвращения к неким первоис-токам, некой платоновской Идее — Образу социального бытия, в результате которого миф осознается как наиболее совершенная форма духовного освоения мира.
Близка к подобному мировидению и идея «вечного возвращения Ф. Ницше», с его идеалом досократической, то есть по существу — именно мифологической, философии как высшего идеала человеческого бытия. Наконец, одним из наиболее последовательных приверженцев мифологического видения всемирной истории как своеобразного антипрогресса — движения
1 Бердяев Н. Смысл истории. — М., 1990. — С. 18.
вспять — является Мирча Элиаде. В своей известной программной работе «Миф о вечном возвращении», уже в постановке проблемы «Глава I. Архетипы и повторение» автор так формулирует задачу исследования: «Рассмотрение ряда аспектов архаической онтологии, а точнее, — понятий бытия и реальности, которые можно вывести из поведения человека досовременных обществ... Конечно, метафизическое воззрение архаического мира не [всегда] формулировались на языке теории; но символ, миф, ритуал выражают в различных аспектах и присущими им способами сложную систему взаимосвязанных утверждений о конечной реальности вещей, — систему, которая и образует метафизику традиционного общества... Доискиваясь истинного Значения архаического символа или мифа, мы приходим к констатации того, что это значение отражает осознание некоей ситуации в Космосе, а сле-доватёльно, подразумевает определенную метафизическую позицию... При рассмотрении обычного поведения архаического человека, поражает тот факт, что в «первобытном» или архаическом сознании предметы внешнего мира — так же, впрочем, как и сами человеческие действия — не имеют самостоятельной, внутренне присущей им ценности... Объект представляется как бы вместилищем инородной силы, которая выделяет его из окружающей среды и сообщает ему смысл и ценность... Он не поддается времени, его реальность удваивается благодаря его вечности» *.
Однако еще ранее М. Элиаде, сходные мысли, причем, что особенно важно, в контексте поисков «методологии» мифологии истории, высказывал известный русский историософ Лев Карсавин: «Таким образом, космос и человек может стать и становится Богом или Абсолютным... Космос (и его момент — человек) — совершенное всеединство, как единство своей возможности со своим усовершением и усовершенностью» 1 2.
Развивая эти же идеи, современный российский исследователь А. Кольев в фундаментальной работе «Политическая мифология. Реализация социального опыта» фактически предлагает деление социального познания на логи-ко-сймвольную систему и мифо-символьную систему 3. При этом процесс становления индивидуальности человека он рассматривает как последовательную серию мировоззренческих скачков гносеологического, связанного с преодолением, уровня так называемой «демонофании» (эмоции, аффекты), онтологического (познание лишь как достижение цели) и эсхатологического (постижение высших ценностей), соответствующего уровню «теофании», связанной с переосмыслением мифа на качественно высшем уровне 4; в результате чего миф в значительной степени становится высшей формой развития по сравнению с религией, знанием, утопией 5; он отвечает высшему типу человеческой самости — научно-творческому 6.
1 Элиаде М. Избранные сочинения. — М., 2000. — С. 25—26.
I Карсавин Л. Философия истории. — СПб., 1993. — С. 77.
3 Кольев А. Политическая мифология. Реализация социального опыта. — М., 2003. — С 72.
4 Там же. — С. 79.
5 Там же. — С. 89.
6 Там же. — С. 125.
Следовательно, мифология истории предстает как ее подлинный смысл, она как бы растворяет в себе философию истории. Ведь, по определению, миф космичен и безличностен. Поэтому он должен быть объективнее даже технолого-экономического видения истории, поскольку, как известно, по К. Марксу идеолого-религиозная «надстройка» в конечном итоге сама основана на экономическом интересе определенных классов, и именно с позиций их искаженных этим же собственническим интересом субъектных предпочтений деформирует реальную картину социальной реальности; в то же время миф внеисторичен, поскольку ориентирован на идею творения мира неким культурным героем, одновременно тождественным одушевленным космическим силам, творя историю через человека и посредством человека. Поэтому именно миф должен раскрывать тайну некоего самовоплощения, надличностного начала, которое якобы и составляет суть творческого начала в человеке, той самой гумилевской «пассионарности» или веберовской «харизматичности» или бергсоновского «жизненного порыва» — понятий, которые, кстати, сами имеют откровенный мифологический оттенок. Поэтому можно сделать предположение: возможно, именно мифологическая методология способна зафиксировать божественный внеисторический первотолчок, запускающий всемирную историю подобно тому, как, согласно деистическим воззрениям, божественный перводвижитель запускает природу?
При подобном подходе историософия А. Тойнби и К. Ясперса выступает как менее адекватное понимание социальной реальности по сравнению с мифологией истории, поскольку она рассматривает исторический процесс как становление высших религий, все полнее раскрывающих личностный момент истории. С точки же зрения мифологии истории, растворяющей отдельного индивида не только в природности, но и социальности, наоборот, увеличение роли субъективного фактора в истории фактически тождественно увеличению удельного веса субъективизма и волюнтаризма, ведущих человечество к его неминуемому концу, а увеличение созидательных возможностей, как отдельной личности, так и различных общностей, в том числе социумов цивилизационного масштаба, — не что иное, как высшая иллюзия бытия.
Особенно близка к подобному мировидению концепция одного из известных специалистов в области философского осмысления мировоззренческой структуры мифа Эрнста Кассирера. Вот как вкратце характеризует эту концепцию исследователь первобытных религий и мифологии С. Токарев (к подобному пониманию сути мифологического мышления был близок и К. Юнг): «Кассирер рассматривал духовную деятельность человека и в первую очередь мифотворчество как “символическую”... Мифическое сознание напоминает поэтому код, для которого нужен ключ... Специфику мифологического мышления Кассирер видит в не различении реального и идеального, вещи и образа, тела и свойства, “начала” и принципа... Весь космос построен по единой модели и артикулирован посредством оппозиции “сакрального” (священного, т. е. мифически релевантного, концентрированного, с особым магическим отпечатком) и “профанного” (эмпирически текущего)»
1 Мифы народов мира. Энциклопедия. — Т. 1. — М., 1987. — С. 18.
Ряд современных российских исследователей пытаются конкретизировать подобный подход. В своей фундаментальной работе, неразрывно связанной с темой данного исследования «Миф. Религия. Государство» В. Полосин, проанализировав многообразие существующих вариантов трактовки сути мифологического мышления, отмечает, что каждый из этих подходов фиксирует лишь один из важных, с точки зрения познания и преобразования мира, моментов такого сложного культурного феномена, как миф. На этом основании В. Полозин выступает категорически против однозначно негативной оценки роли мифа в общественной жизни современного человека, отмечает громадную позитивную роль мифологического осмысления социальной реальности, предлагает деление существующих мифов на истинные и ложные '. Из числа авторов, стремящихся построить собственную концепцию мифологии истории, опираясь на своеобразную методологию полуху-дожественного, полумистического, исходящего не из реальных фактов, а неких личностных интуиций, наитий, можно назвать, в первую очередь, Л. Гумилева (наиболее полное обоснование подобного «научно-мифологического» видения истории мы находим в предисловии к его работе «Русь и Великая степь», а также в романах-ессе его украинского последователя, Ю. Каныгина: «Путь Ариев», «Вехи священной истории», «Начало и конец времен». Наконец, ряд авторов откровенно используют миф как методологию понимания истории или даже формирования эффективной идеологии (впрочем, обе эти задачи взаимно пересекаются).
Так, Лев Гумилев в своем предисловии к программной работе «Древняя Русь и Великая степь», в параграфе с красноречивым названием «Способы исследования» декларирует правомерность именно такого подхода, при котором ученый выступает не как историк-исследователь, а как летописец, то есть создатель исторического предания, легенды, мифа, направленных не на научные, а на идеологические цели. На основе своеобразно трактуемого «системного подхода» (скорее абстрактного схематизма, подгоняющего факты под теперь уже авторские мифологемы истории), автор призывает «не строить гипотезы, не реконструировать опять же с определенной степенью вероятности историческую реальность, а именно устанавливать неизвестные факты». Речь идет не о доказательстве выдвинутых положений, а об убеждении писателя, точнее «описывателя событий», в своей правоте. Л. Гумилев так декларирует кредо своего методологического подхода к пониманию, точнее к собственному конструированию истории: «По нашему мнению, разделяемому отнюдь не всеми, задача науки не столько в том, чтобы констатировать известные факты, но еще и в том, чтобы путем анализа и синтеза устанавливать факты неизвестные и в источниках не упомянутые. Одним из наиболее эффективных способов исторического синтеза является приме-2 нение системного подхода» .
В нашумевшей работе «Путь ариев» украинский исследователь Юрий Каныгин, работа которого полностью созвучна не только по способам ис-
1 См.: Полосин В. Миф. Религия. Государство. — М., 1999. — С. 24.
2 Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь. — М., 1992. — С. 22.
следования, но и по замыслу, гумилевским подходам, опираясь на фальсификацию древней истории, создает мессианский миф, но, в отличие от евразийского мифа апологии Российской империи, миф о богоизбранности теперь уже не россиян, а украинцев. В главе «Новый взгляд на историю», Ю. Каныгин всячески подчеркивает роль мифологического видения истории, способность мифов опровергать построенную на чистой источниковед-
ческой и археологической эмпирии науку, при этом утверждая, что «история пишется не только по книгам и рукописям, но и по слухам и преданиям». В качестве эпиграфа к книге «Путь ариев» он берет своеобразно трактуемые слова А. Пушкина: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий об-
ман», явно намекая на право историка в основание своей концепции закла-
выдавая мифологическую ин-
дывать как минимум сомнительные факты терпретацию событий за сами эти события
1
На первый взгляд, такой подход имеет не просто право на существование, а действительно выступает в качестве наиболее конструктивного, обес
печивающего оценку исторического процесса под углом зрения нерасторжимого единства сакрального и рационального способов его осмысления. Ведь миф по своей природе дуалистичен, амбивалентен, в нем сочетается предельный объективизм, растворение рефлектирующего субъекта в исследуемом объекте, и, одновременно, предельный ценностно-личный субъективизм, оценка объекта, исходящая из личностных, психологически переживаемых ценностных предпочтений. Одновременно миф — это не только способ познания, но и, в то же время, способ жизни, форма практического
поведения, что потенциально, как представляется, дает возможность осмыслить историю как арену сознательной деятельности людей в ее принципиальной специфике относительно природных процессов, познать историю не только как подчиненное объективным закономерностям явление, факт, но и как пример, прецедент, своего рода социальный эксперимент, позволяющий создать эффективную модель поведения в будущем.
Наконец, и это особенно важно, подлинная тайна многообразия различных определений мифа состоит в его реальной многомерности. Миф принципиально синкретичен, он одновременно является и формой онтологии, и методом познания архаического человека, и культурно-художественным продуктом, и, наконец, способом конкретного поведения, социальной практики отдельных индивидов и групп людей. На первый взгляд, возникает впечатление, что колоссальное внимание, которое уделялось исследованию первобытной мифологии выдающимися социологами в XIX—XX вв., пытавшимися осмыслить исходные первопринципы и механизм развития всемирной истории, обусловлено истинностью гипотезы о мифе как о высшей и наиболее эффективной форме духовно-практического освоения действительности.
Подобное синтетическое видение мифа в свое время предложил В. Шеллинг в своей фундаментальной работе «Философия искусства» обосновавший роль мифа как особого духовного формообразования, выступающего методо
Канигш Ю. Шлях арив. — К., 2005. — С. 3—10.
логической основой историософского видения в силу своей синкретичности, способности к синтезу интуитивно-эстетического и абстрактно-логического, сугубо научного постижения социальной реальности. Выдающийся немецкий мыслитель предлагает своеобразную универсальную формулу, составляющую как бы квинтэссенцию его понимания роли мифа в духовном освоении исторических явлений: «Изображение абсолютного с абсолютной неразличимостью общего и особенного в общем = философии — идее; изображение абсолютного с абсолютной неразличимостью общего и особенного в особенном = искусству. Общий материал этого изображения — мифология. В последней, следовательно, дан уже второй синтез из неразличимости общего с особенным» *.
Однако в таком случае познание прошлого через будущее обязательно должено быть дополнено принципом познания будущего через прошлое: по этому принципу ключ к пониманию современного общества лежит в обществе архаическом. В свое время, как бы в противовес К. Марксу, подобную концептуальную установку в своем исследовании «Первобытная культура» сформулировал Э. Тайлор: «Явления культуры различных человеческих обществ, поскольку могут быть исследованы лежащие в их основе начала, представляют предмет, удобный для изучения человеческой мысли и деятельности. С одной стороны, однообразие, так широко проявляющееся в цивилизации, в значительной мере может быть приписано однообразному действию однообразных причин. С другой стороны, различные ступени культуры могут считаться стадиями постепенного развития, из которых каждая является продуктом пришлого и в свою очередь играет известную роль в формировании будущего. Исследованию этих двух начал в различных этнографических областях мы и посвящаем настоящее сочинение. Особое внимание уделено при этом сопоставлению цивилизации отсталых народов с цивилизацией передовых народов» 1 2. Как известно, именно этим путем пошли не только такие выдающиеся представители цивилизационного подхода, как К. Ясперс, О. Шпенглер, А. Тойнби, но и теоретики-социологи А. Малиновский, Л. Леви-Брюль, Э. Дюркгейм, историки Э. Тейлор, Дж. Фрезер. Даже М. Вебер и психоаналитик 3. Фрейд отдали дань поискам духовно-ценностных первоистоков западного общества в наиболее архаических и мифологических пластах первобытных обществ. Несмотря на трудности в формулировании объективных критериев для оценки ценностных культурно-религиозных императивов цивилизации древности, усложняемые вследствие недостаточности информации, которой располагают исследователи (историю науки и техники всегда легче изучать даже в архаических обществах в силу значительно лучшей сохранности памятников материальной культуры), перспектива реконструкции цивилизации из архаического прошлого заманчива. На первый взгляд, при подобном подходе появляется возможность понимания универсальных механизмов бытия человека в их примитивности, но и — одновременно — простоте и ясности, незамутненное™ позднейшими изощренными идеологическими искажениями.
1 Шеллинг В. Философия искусства. — М., 1999. — С. 114.
Тайлор Э. Первобытная культура. — М., 1989. — С. 18.
Цивилизационная типология раннеклассовых обществ: несостоятельность теософского подхода к пониманию «пускового механизма» всемирной истории
а) проблема начала всемирной истории: западоцентризм
Попытки интерпретации исторического процесса в традициях мифологического циклизма, как известно, существуют столько же, сколько существует и сама писаная история. У Ф. Шеллинга, В. Гегеля, О. Шпенглера, К. Леонтьева, Н. Бердяева, К. Ясперса и многих других мыслителей, включая представителей знаменитой французской школы «Анналы» с их методологической акцентуацией на понятиях «длительность», «постоянство», «традиция», благодаря которым ее представители пытались совершить культурно-цивилизационную реконструкцию истоков человеческой истории, найти некий духовный «геном», «архетип», «душу», «прафеномен» человеческого бытия, расшифровав который, возможно будет понять логику роста и угасания цивилизационных «организмов», были свои не менее знаменитые предшественники. Вспомним хотя бы известный гесиодовский миф о золотом веке, древних временах, при которых люди якобы еще жили в соответствии со своей внутренней гармонической природой, на смену которому с железной необходимостью приходит именно век железный, связанный с разрывом всех духовных связей, утратой целостности бытия, цивилизационным упадком, который в том или ином виде встречается практически у всех западных и восточных народов древности. Впоследствии подобная методология оценки деградировавшего настоящего на основе некой матрицы, эталона прошлого регулярно воспроизводится во многих новоевропейских социальных теориях, например у Ж-Ж. Руссо. Этот же по сути мифологический архетип отчетливо «проступает» в циклических цивилизационных теориях Дж.Б. Вико и О. Шпенглера.
Возникает вопрос: возможно, в подобной идее существования в прошлом некоей духовной платоновской Атлантиды, в которой обитали люди-гиганты не только по своим физическим, но и духовно-нравственным кондициям, с большой долей вероятности действительно заложены какие-то важные социобытийные смыслы, расшифровка которых на самом деле приблизит нас к пониманию многих проблемных моментов типологии и периодизации в том числе современных цивилизаций?
В этой связи представляет особый интерес анализ проблемы поиска исходного пункта человеческой истории, в котором произошел переход не просто от обезьяны к человеку, а именно к человеку разумному, а еще точнее — творческому, в полном смысле этого слова. Ведь на самом деле подлинное «осевое время», переход человечества к качественно новому способу бытия связано вовсе не с этапом формирования мировых религий, как полагает К. Ясперс, а с тем, что Тайлор называет собственно фазой цивилизации, приходящей на смену дикости и варварству, то есть резким ускорением развития человеческих сущностных сил, качественной модернизацией всех без исключения социальных институтов, в частности возникновением феноме
на государства, — сложной структуры общества, принципиально отличной от способа социального бытия в условиях так называемой первобытно-общинной формации.
В самом деле, если согласно историко-археологическим данным человек современного психо-физиологического вида возник в Ареале Северной Африки приблизительно 1—1,5 млн лет назад, то раннеклассовые общества зарождаются приблизительно лишь в начале третьего тысячелетия до нашей эры; и за каких-то несколько тысяч лет человечество делает гигантский качественный скачок по пути прогресса или, пользуясь гегелевской терминологией, совершает перерыв постепенности в развитии своих сущностных сил, в их технологическом, интеллектуальном, мировоззренческом, религиозном и даже эстетическом измерении.
Отсюда можно предположить, что описываемый К. Ясперсом этап якобы синхронного перехода как на Западе, так и на Востоке человечества к принципиально новой духовной картине мира, от которой, по версии того же К. Ясперса, собственно, и начинается формирование того типа личности, развитие которого и привело к созданию современной западно-христианской цивилизации, является не началом, а в значительной степени лишь закономерным итогом более длительной исторической эволюции, в ходе которой человек не только постепенно выделяет себя из первозданной природы, но и начинает ускоренное развитие своих творческих потенций.
Поэтому, если и существует некий юнговский коллективный архетип человеческого бытия, то искать его нужно значительно ранее, чем на этапе становления, точнее, окончательного утверждения, мировых религий. Причем именно этап возникновения ближневосточных раннеклассовых обществ был исключительно ответственным не только с точки зрения «закладки» будущих магистральных направлений человеческой истории, но и с точки зрения того колоссального психологического напряжения и даже мировоззренческой нагрузки, которую пришлось выдержать человеку в процессе его перехода от первобытного к современному, или, если угодно, «второбытному» состоянию. Не исключено, что в данном случае по степени своей беспрецедентности мы имеем дело с уникальным творческим порывом, подобного которому не совершал человек, даже переходя от средневекового общества к этапу Новой и Новейшей истории.
Если же исходить из рассмотренной выше гипотезы о том, что смысловое поле самого мифа, который, как отмечалось, многие ученые и сегодня считают позднее искаженной и даже отчасти забытой вершиной целостного синкретического мировосприятия и, соответственно, социального бытия, не может раскрыться мгновенно, а требует некоего этапа своего, так сказать, саморазвертывания по гегелевской схеме: из непроясненности первобытного скорее предсознания до исторически первых форм божественного Логоса, то в центре исследования оказывается именно Ближний Восток на этапе перехода от первобытности к первому в истории человечества модерну. Речь идет об анализе механизма становления некоей первичной формации человеческой истории, однако формации не экономической, а духовной, точнее религиозно-мифологической.
В этой связи И. Вейнберг в содержательной работе «Человек в культуре Древнего Ближнего Востока» справедливо отмечает: «Древневосточная культура в этом отношении находится в особом положении — она оказалась первой культурой, созданной классовым обществом, следовательно, ей пришлось выполнить титаническую миссию первооткрывателя и первопроходца: разрабатывать письменность и «создавать устои государства, изобретать условия совместного существования людей, которые различались по своему социальному, имущественному положению, различались этнически, по профессиям и т. д. Если иные общеисторические типы культуры, например античная культура, испытывали стимулирующее воздействие различных культур — первобытной и древневосточной, могли использовать (и использовали) их богатейший опыт и достижения, то исторической средой формирования древневосточной культуры была сравнительно однообразная среда первобытности. Древневосточное рабовладельческое общество образует как бы архипелаг, омываемый со всех сторон необъятным морем первобытности. Воздействие первобытного окружения на формирование древневосточной культуры было глубоким и постоянным — ведь между ними существовала прямая генетическая связь. Но эта связь не только не исключала, а, напротив, предполагала сущностные различия между обоими культурами» *.
Однако о каком именно регионе Древнего Востока должна идти речь с точки зрения поиска той точки развития всемирно-исторического процесса, когда этап становления постпервобытной культуры завершается становлением такой религиозно-мифологической системы, в рамках которой уже можно говорить об уяснении человеком своего предназначения и смысла бытия? Над решением данной проблемы, как известно, работали выдающиеся философы, социологи и этнографы уже с начала XIX века. Вспомним, согласно гипотезе К. Ясперса, высказанной в его известной работе «Истоки истории и ее цель», так называемое первое осевое время начинается с практически параллельного развития основных цивилизационных очагов Востока и Запада, приблизительно с середины первого тысячелетия до нашей эры, причем мыслитель подчеркивает их типологическую схожесть, в первую очередь, в мировоззренческом и культурном ключе: «...Осью мы назвали эпоху примерно с середины последнего тысячелетия до н. э., для которой все предшествующее было как бы подготовкой, и с которой фактически, а часто и вполне сознательно, соотносится все последующее. Мировая история человечества обрела здесь свою структуру... На глобусе мы видим относительно узкую, к тому же постоянно обрывающуюся полосу (от Средиземноморья до Китая), на которой возникло все то духовное, которое значимо и в наши дни» * 2. Однако можно ли говорить об однотипности цивилизационного становления в указанных К. Ясперсом временных и географических параметрах? В пользу данной версии, казалось бы, свидетельствует тот факт,
Вейнберг И. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. — М., 1986. — С. 22-23.
2
Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 268, 261.
что универсальные мифологические архетипы, относительно роли человека в структуре мироздания, являются если не тождественными, то типологически близкими в структуре мифологических картин мира Востока и Запада. Например, сопоставляя мифологические истоки западного и восточного миропонимания в древности и на этапе раннеклассових обществ, А. Лукьянов отмечает, что в статуе, как своей «второй природе» «...человек впервые наглядно открывает свою же собственную телесную и социальную антропоморфную сущность: древний грек открывает Олимпийский род богов во главе с Зевсом, древний китаец — Куньлуньский род первопредков во главе с Хуанди, древний индиец — индийский род первопредков г. Меру во главе с Брахманом» *.
С другой стороны, даже многими современными исследователями, как будет показано ниже, исповедуется концепция даже не европо-, а западо-центризма в противовес Дальнему Востоку, на территории которого сегодня находятся современные Индия и Китай. Причем при такой постановке вопроса подчеркивается именно дихотомия «Запад — Восток» по принципу «магистральный путь развития человечества — его обочина, периферия», «динамика — статика» и даже «прогрессивность — застойность».
В «Философии истории» В. Гегель высказывает предположение о том, что переходным от этапа древности к этапу становления рефлектированной относительно своей собственной духовной сущности можно считать культуру и религию Древнего Египта. Великий немецкий мыслитель, в частности, отмечал: «Сфинкса можно считать символом египетского духа: человеческая голова, выглядывающая из тела животного, изображает дух, который начинает возвышаться над природой, вырываться из нее и уже свободнее смотреть вокруг себя, однако не вполне освобождаясь от оков» 1 2. И тут же подчеркивал, что применительно к Египту можно говорить лишь о половинчато духовном характере религиозного миропонимания, а полностью раскрывается природа человека (который, согласно Н. Бердяеву, по природе своей является вовсе не разумным, а религиозным существом) лишь в древнееврейской религии. Более того, В. Гегель явно противопоставляет иудаистской религии как более духовно монотеистической индокитайский религиозно-мировоззренческий комплекс (включая зороастризм) как более примитивный, заземленный, пантеистически растворенный в природе: «У этого народа мы опять-таки находим священную книгу Ветхий завет, в котором излагается воззрение этого народа, принцип которого диаметрально противоположен вышеуказанному принципу. Если у финикийского народа духовное начало еще ограничивалось природной стороной, то, наоборот, у евреев оно является совершенно очищенным; сознание направлено на чистый продукт мышления, на мышление о себе, и духовное начало развивается в своей крайней определенности, в противоположность природе и единству с нею. Правда, мы уже упоминали о чистом Браме, но лишь как о всеобщем природном бы
1 Лукьянов А. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). — М., 1989. - С. 11.
2 Гегель Г. Сочинения. Том VIII. — М.—Л., 1935. — С. 186.
тии... мы видели, что у персов он становится объектом для сознания, но в чувственном воззрении, как свет. Но теперь свет уже есть Иегова чистое единое. Благодаря этому происходит разрыв между Востоком й Западом; дух углубляется в себя и постигает абстрактный основной принцип для духовного начала. Природа, являющаяся на Востоке первым началом и основой, теперь унижается и считается сотворенной, а первым принципом является дух» 1.
Даже египетскому кастовому строю с его казарменно-коммунистической оставляющей Гегель отдает первенство относительно «окаменелого» в своей цивилизационной идентичности Китая и Индии, которые, как известно, считал исторически первыми после этапа древности, наименее адекватными самовоплощениями Объективного Духа во всемирной истории, — детством человечества, когда индивид еще не осознает даже потребности в субъективной свободе.
Таким образом, египетская религия оказывается намного ближе к веберовскому идеалу духовных исканий и жертв, по сравнению с религиями Востока: «Но если мы рассмотрим теперь религию египтян, то в нас вызовут изумление в высшей степени странные и удивительные явления, и мы убедимся в том, что вышеупомянутый спокойный полицейский урегулированный строй не похож на китайский, и что в Египте мы имеем дело с совершенно иначе волнующимся и порывистым духом» 1 2. И здесь уже явно прослеживаются методологические заимствования у В. Гегеля, сделанные сначала К. Марксом, оценивавшего регионы Древних Индии и Китая как классическое воплощение поголовного рабства и так называемого азиатского способа производства, а затем и М. Вебером, стоявшем, как известно, на позициях противопоставления более духовного, возвышенно ориентированного Запада прагматично-утилитарному Востоку и считавшего, что в целом Восток принципиально не способен породить протестантскую этику, типологически сопоставимую с реформационным переворотом в Западной Европе.
Впрочем, в чем-то в своем абстрактном схематизме М. Вебер пошел даже дальше В. Гегеля, поскольку последний все же справедливо считал серьезным недостатком иудаистического единобожия сильный налет, так сказать, местечковости — этнотеистической исключительности, тормозившей формирование всемирного типа монотеизма: «Бога признают создателем всех людей, всей природы и абсолютной действительности вообще, но в своей дальнейшей определенности этот принцип является исключающим единым. Эта религия непременно должна содержать в себе момент исключительности, который по существу состоит в том, что только один народ познает единого и признается им. Бог еврейского народа есть лишь бог Авраама и его потомства; в представлении о нем смешивается национальная индивидуальность и особый местный культ» 3.
1 Гегель Г Сочинения. Том VIII. — М.—Л., 1935. — С. 182—183.
2 Там же. — С. 193.
3 Там же. — С. 183.
Напротив, М. Вебер противопоставляет иудаизм, который он считал духовным источником будущей европейской реформации племенным псевдо-монотеистическим («монолатрическим») религиям как религию якобы подлинно монотеистическую в силу ее космополитической универсальности: «...[то,] что Израиль согласился поклоняться чужому богу, послужило одной из причин превращения Яхве в универсального, всемогущего бога. Ибо, как правило, качества локального бога и «монолатрия», которой он подчас требует от поклоняющихся ему, отнюдь не ведет к монотеизму, а напротив, усиливает религиозный партикуляризм, в частности, на почве полиса» ’.
Более того, именно в силу принципиальной безликости божественного первоначала в религиях Дальнего Востока, немецкий мыслитель фактически отказывает им в праве на формирование стратегической линии развития человеческой духовности монотеистического типа. Ведь в его социологии религии как бы сливаются в одном лице надмировой бог как воплощение своего рода высшей харизмы и его личностная трактовка как конкретного реформатора: «Миссионерское пророчество, последователи которого чувствовали себя не вместилищем божества, а его орудием, было тесно связано с определенной концепцией бога: надмирового, личностного, способного гневаться, прощать, любить, требовать, карать, Бога-творца — в противоположность, как правило, безличному высшему существу, доступному только в созерцании, в пророчестве, основанном на личном примере того, кто пророчествует. Первая концепция господствовала в иранском, переднеазиатском и производном от нее западном религиозном сознании. Вторая — в индийском и китайском» 1 2.
При таком подходе, кажется, становится понятным, почему основой протестантской реформации стал не Новый, а именно Ветхий завет и именно ветхозаветная символика послужила для М. Вебера наиболее ярким воплощением идеи так называемого харизматического лидерства. (Интересно, что практически ту же символику в художественной форме использует И. Франко в своей известной поэме «Моисей», направленной на возвеличивание идеала украинского национального возрождения).
Подобная концептуальная схема порождает западноцентристское видение, связанное с цивилизационной типологией религиозно-мировоззренческих картин мира, при которых средиземноморская ближневосточная цивилизация фактически выступает как своеобразная «куколка» всего современного западного мира. Отсюда иллюзии, идущие от гегелевской «Философии истории», о динамично развивающейся западной цивилизации, давшей миру христианскую религию, и архаичном Востоке как особом азиатском способе производства, извечно недоразвитом по отношению к духовной культуре Запада. Л. Васильев, рассматривающий в качестве истока западного пути развития средиземноморскую ближневосточную нерасчлененную цивилизацию, также считает, что в силу невыраженное™ на Дальнем Востоке мистического элемента в сугубо рационально-этнических философско-ре-
1 Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. — М., 1975. — С. 94.
2 Вебер М. Соцюлогы. Загальноюторичгп анал!зи. Политика. — К., 1998. — С. 418.
лигиозных конструкциях о монотеизме в Древних и средневековых Индии и Китае вообще говорить не приходится. «Все монотеистические религии, включая и ислам, суть порождение единой генеральной ближневосточно-средиземноморской цивилизации. А эта цивилизация в лице всех ее основных очагов (древнеегипетского, месопотамского, античного, римско-христианского) — весьма отлична от индийской с характерной для нее глубиной философского анализа, утонченностью абстракции мысли» *.
Таким образом, согласно знаменитой «Философии истории» В. Гегеля изначально застойный, так и не проснувшийся от многовековой духовной спячки, Восточный мир является как бы прологом ко всемирной истории. Причем Индия и Китай выступают значительно более архаичными в культурном плане цивилизационными образованиями относительно даже Древнего Египта. Собственно, именно из подобной исследовательской установки выводится европоцентристское видение всемирной истории, согласно которому Запад является магистральным направлением развития всемирно-исторического процесса, а Восточные цивилизации изначально застойны, не способны без помощи извне к эффективной модернизации.
Как видим, традиционная формула Киплинга о том, что Восток и Запад являются типологически несопоставимыми цивилизациями, в данном случае трактуется явно не в пользу первого. В качестве типичного примера подобного предельно неадекватного видения логики исторического процесса можно рассмотреть практически любой, в том числе и западный, учебник по истории философии или культуры. Например, в учебном пособии «1стор1я свповоГ культури» в худших традициях устоявшихся стереотипов за «ранними формами культуры» идет так называемая культура «Древнего Востока», за которой следует античная культура, культура Древнего Рима, культура Византии, европейского средневековья, Возрождения, Реформации и Нового времени * 2. Причем многие учебники и научные издания по всемирной истории и истории философии, и, что самое печальное — по истории всемирной культуры начинают свой анализ культуры не просто с Древнего Востока, а именно с Индии и Китая как наиболее архаических. То есть, в качестве исторически первых цивилизаций в классическом смысле этого слова (своеобразных этно-религиозных пространственных образований) рассматриваются именно древние Индия и Китай, которые выступают как цивили-зационно родственные формообразования, исторически предшествующие античной цивилизации и, главное, находящиеся относительно нее не только в экономическом, но и мировоззренчески-религиозном плане на более архаической, как бы на внерефлекторной стадии развития.
б) гипотеза о древнеегипетском варианте прамонотеимза: реформа Эх-натона
В связи со всем вышесказанным, особый интерес представляет концепция так называемого прамонотеизма как духовно-гуманистической основы
Васильев JI. История религии Востока. — М., 1983. — С. 174.
2 IcTopiH свггово'Г культури. — К., 2003. — 367 с.
человечества, как сказал бы А. Тойнби, «куколки» всех доныне существующих мировых религий, не сколько видоизменяющейся, сколько раскрывающейся в процессе последующей истории. Речь идет о своеобразном первобытном единобожии — как особой концепции происхождения религий из мифологии. Следовательно, в основе подобного понимания почитания единого бога лежит идея Божественного Откровения как высшего смысла всемирной истории. Еще в 1873 году в статье «Мифологический процесс в древнем язычестве» существование монотеизма в индо-европейской мифологии, который якобы впоследствии был до неузнаваемости искажен, а потом снова переоткрыт в его исконной незамутненности, пытался доказать выдающийся русский историософ Владимир Соловьев. Чуть больше, чем через десять лет известный английский фольклорист Э. Ланг в своей книге «Творение религии» выдвинул гипотезу о том, что у многих отсталых народов есть вера в верховное небесное божество, и что именно эта вера является истоком любой религии.
Известный представитель культурно-исторической школы В. Смит в своем 12-томном труде «Происхождение идеи бога» и других работах на основании компиляции мифологических сюжетов разных народов также пытался доказать истинность библейского рассказа об «Откровении»; более того, В. Смит настаивал на том, что представление о едином небесном боге, причем именно в его этическом измерении, якобы сохранилось у наиболее древних племен пигмеев и австралийцев, и, по его версии, было искажено позднейшими мифологическими наслоениями, в частности, солярной и лунной мифологией *. Причем важно учесть, что в своей концепции прамо-нотеизма В. Смит занимал предельно европоцентристскую позицию.
Согласно описанной версии мифологии истории за многообразием мифологических сюжетов и безграничным количеством идолов-фетишей, конкурирующих в мифологическом сознании на право первенства, должен скрываться зародыш представлений о творящем духовном первоначале, как бы оплодотворившем всю человеческую цивилизацию. Логично предположить, что если божественное откровение действительно существует, то оно должно быть передано в наиболее доступной для понимания все еще архаического человека форме. А что как не единоцарствие в наибольшей степени соответствует идее единого Отца небесного, за образом которого, в свою очередь, скрывается единотворящий святой дух? Тогда определение монотеизма приобретает более глубокий мировоззренческий смысл. Отсюда и классическое определение, в свое время данное Ф. Энгельсом, на которое и сегодня опираются многие ученые: «... Единый бог никогда не мог бы появиться без единого царя..., единство бога, контролирующего многочисленные явления природы... есть лишь отражение единого восточного деспота...» 1 2.
Однако из подобного методологического подхода вполне логично вытекает, что как минимум прамонотеистические тенденции должны были зародиться в еще полумифологических религиях раннеклассовых обществ, осно
1 См.: Философская энциклопедия. — М., 1967, Т. 4. — С. 349.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.; Второе изд. — Т. 27. — С. 56.
ванных на объединении племен под началом вождя, основателя раннеклассового государства. Что, собственно, в полной мере и подтверждает следующий пассаж из «Философской энциклопедии»: «Впервые элементы монотеизма возникают в Древнем Китае (культ верховного бога Шан-ди), в Индии (учение о Брахме как едином боге), в Древнем Египте (религиозная реформа царя Эхнатона-Аменхотепа, введшего культ единого бога-солнца), в Вавилоне (все боги лишь проявления единого верховного бога Мардука); в Древнем Перу (инки пытались создать общегосударственный культ единого бога-солнца). У древних евреев племенной и национальный бог Яхве (Саваоф) в начале почитался наряду с другими богами, а в 6—5 вв. до н. э. превратился в единого бога-творца и вседержителя... К монотеистическим религиям обычно относят христианство, иудаизм и ислам» *.
Л. Васильев прямо заявляет, что подобная трактовка монотеизма дает четкую привязку времени и места его зарождения в наиболее последовательной форме: «Нет ничего удивительного в том, что монотеистическая религия сложилась в ближневосточной зоне, где ранее всего появились древнейшие очаги цивилизации и где еще в III тысячелетии до н. э. сформировались достаточно развитые первые религиозные системы. Неудивительно и то, что именно здесь, где существовали древнейшие в истории цивилизованные деспотии, в первую очередь Египет, сама идея абсолютной власти и высшего суверенитета обожествленного правителя могла привести к монотеизму. Как писал Энгельс, «единство бога, контролирующего многочисленные явления природы... есть лишь отражение единого восточного деспота» 1 2.
Что же касается более точной цивилизационной привязки к первичному очагу прамонотеизма, то многие авторы, и это уже почти стало трюизмом, исторический момент окончательного освобождения идеи монотеизма от мифологической оболочки (или наиболее четкого, «классического» проявления единобожия в структуре разворачивающегося мифологического миропонимания) связывают именно с религиозной реформой египетского фараона Аменхотепа (Эхнатона).
В самом деле, если исходить из классического определения монотеистической религии в определении Ф. Энгельса, в котором акцент ставится именно на представлении о буквальной тождественности бога и восточного деспота, который выступает не просто ипостасью, воплощением божества, а самим божеством, мифическим культурным героем, преобразующим все социальное жизнеустройство, то именно в Древнем Египте, а позже в исламе подобная религиозная модель приобрела свои наиболее последовательно завершенные формы. И в этом смысле, вопреки устоявшимся мнениям, даже античная цивилизация в какой-то мере оказывается чуть в стороне от магистрального развития истории от египетского прамонотеизма к иудаизму, а затем и православию, на основании которого и типологизируют западную цивилизацию как «западно-христианскую-новоевропейскую» 3.
1 Философская энциклопедия. — М., 1964. — Т. 3. — С. 492.
2 Васильев JI. История религий Востока. — М., 1983 — С. 66.
J Кримський Б., Павленко Ю. Цивипзащйний розвиток людства. — К., 2007. — С. 144.
В частности, присоединяясь к мнению Ф. Лосева об отсутствии у греков чувства времени и «вообще всякого чувства заднего плана, потустороннего» и мнению О. Шпенглера, писавшего, что зацикленный на настоящем античный человек лишен энергии, направленной на будущее, соглашаясь с тем, что «за древних греков все решали боги, тем самым снимая с них ответственность за их поступки», Ю. Антонян считает, что «...такое суждение о концепции времени вряд ли будет верным, если иметь в виду древнеегипетскую цивилизацию. ...Гигантские погребальные сооружения со всем необходимым для потусторонней жизни и «бессмертные» мумии с несомненностью, свидетельствуют об ощущении египтянами идеального и, в еще большей степени, бесконечного. Можно предположить, что египетская мифология ближе к христианской, чем греческая. То, что именно в грекоязычных странах христианство одержало весьма внушительные победы, говорит о настоятельной необходимости бесконечного и идеального» *.
Более того, сама методологическая установка на прошлое как источник подлинной духовности приводит к парадоксальным выводам о том, что например, древнеегипетская религия с точки зрения заложенного в ней потенциала духовности, влияющей на творческий потенциал ее адептов, является более монотеистической по сравнению с поздним античным политеизмом в лице неоплатонизма, или индо-китайским дао-буддистским религиозным пантеизмом. Поэтому и вполне закономерно, что именно христианство, ставшее логическим продолжением классического иудаизма, типологически сопоставимого с переднеазиатскими религиями доантичного типа, окончательно преодолело и вытеснило античный политеизм в Римской империи.
При подобном видении становится вполне логичным, что еще К. Маркс связывал гигантскую платоновскую космическую мифологему миротворящего Логоса именно с Древним Египтом, отмечая, что свою утопию государства великий античный мыслитель, так сказать, моделировал по образцу кастового строя. Впрочем, уже В. Гегель в своей «Философии истории», фактически опираясь на представление о древнем Ближнем Востоке как своеобразной духовной прародине западной цивилизации, рассматривал Древний Египет как духовно-религиозный центр становления особого пра-монотеистического подлинно мифологического пантеизма, отмечая обостренную духовность именно древнеегипетского религиозного мирочувство-вания. В лице Осириса, считал Гегель, «разнородное явление природы и духовное начало соединяются в одном представлении» 1 2.
Что же до собственно религиозной реформы Эхнатона, в ходе которой традиционные изображения бога Ра стали заменятся солнечным диском с красноречивым символом — лучами-руками, дающими жизнь, то известный исследователь Древнего Востока М.А. Коростовцев правомерно подчеркивал недифференцированность сословно-классовых объединений людей в Древнем Египте, выступавших как совершенно безликое множество по отношению к «единственности» фараона, обладавшего божественным стату
1 Антонян Ю. Миф и вечность. — М., 2001. — С. 63.
2 Гегель Г. Сочинения. Т. VIII. — М.—Л. 1935. — С. 195.
сом 1. Более того, автор напрямую связывает религиозную реформу фараона Аменхотепа IV, который ввел поклонение богу Атону (Солнечному Диску) и монотеистическое миропонимание, причем сами события, связанные с деятельностью этого фараона, по его мнению, не имеют аналога в истории Древнего Египта 1 2.
Напрашивается параллель: ведь и известный ориеталист Б. Тураев называл Аменхотепа IV великим культурным героем, опередившим время и, по сути, сделавшим попытку «перепрыгнуть» через объективно сложившийся уровень развития материального и духовного производства.
Особо следует подчеркнуть, что рассуждения Тураева вполне вписываются в концепцию развития раннеклассовых обществ известного востоковеда Л. Васильева 3.
В русле концепции египетского прамонотеизма находится и знаменитая работа 3. Фрейда, в которой без всяких обиняков основоположник классического психоанализа в свое время писал о реформе Аменхотепа: «Во времена славной восемнадцатой династии, при которой Египет впервые стал мировой державой, около 1375 г. до н. э. на трон вступил молодой фараон, которого поначалу, как и его отца, звали Аменхотеп (IV), однако позднее он изменил свое имя, и не только его. Этот царь решился навязать своим египтянам новую религию, противоположную их тысячелетним традициям и всем привычным житейским обычаям. Это был последовательный монотеизм, первая, насколько нам известно, попытка такого рода во всемирной истории...» 4.
В самом деле, о чем ином, казалось бы, может свидетельствовать данный фрагмент, как не о попытке создать кардинально новое монотеистическое миропонимание: «О, сколь многочисленно творимое тобою и скрытое от мира людей, бог единственный, нет другого кроме тебя! Ты был один — и сотворил землю по желанию сердца твоего... Ты единственный, ты восходишь в образе своем, Атон живой, сияющий и блестящий, далекий и близкий! Из себя единого творишь ты миллионы образов своих» 5.
В действительности же, по нашему глубокому убеждению, М. Коростов-цев и многие другие исследователи (идея о монотеистической реформе Аменхотепа стала уже чуть ли не своего рода трюизмом, методологическим штампом) высказывают принципиально несостоятельную мысль о том, что идея монотеизма всегда присутствовала в религиозной духовной культуре Древнего Египта. Призывая рассмотреть проблему одно- или многобожия на мировоззренческом уровне, он фактически абстрагируется от конкретной социально-политической ситуации в период правления Аменхотепа IV 6. Более того, парадоксальность сложившейся в философской и исторической
1 Коростовцев М.А. Культура Древнего Египта. — М., 1976. — С. 191.
2 Там же. — С. 194—195.
3 Васильев JI. История религий Востока. — М., 1983 — С. 66.
4 Фрейд 3. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. — М., 1993. — С. 19.
5 Поэзия и проза Древнего Востока. — М., 1973. — С. 698.
° Коростовцев М.А. Культура Древнего Египта. — М., 1976. — С. 257—259.
науках ситуации состоит именно в том, что версия о приоритете Древнего Ближнего Востока в выработке религиозной доктрины, исключающей мно
жество божеств, на деле ведет не только к искажению адекватной типологии
исследуемых регионов, но и к умалению реального вклада самобытной цивилизации самого Древнего Ближнего Востока в сокровищницу мировой культуры.
В чем же в таком случае состоит подлинная специфика складывавшегося в культурных регионах Древнего Ближнего Востока мировоззрения? Именно в данном регионе впервые оформляются системы .многобожия, которые постепенно начинают вытеснять родовые, чисто мифологические фетишистские и тотемистические культуры. Вместе с тем, ни в одной древней культуре мы не находим такого последовательного и истового обожествле-
ния одного лица — царя, фараона, восточного деспота, который ведет ро-
дословную от богов и сам является живым богом. Однако как совместить этот ранний политеизм с идеей безгранично всемогущего фараона — созда
теля Вселенной? «Как мог царь быть богом-царем ствовал бог-царь, если двое не сливались в одно?»
если в нем не присут-
i
Впрочем, для мифологического сознания, а так называемые раннекла-совые общества своим базисом еще имеют архаическую мифологию со всеми присущими ей особенностями, в принципе невозможно постижение абстракции внеэпирического идеального мира и бога, находящегося «по ту
сторону» мирского зла и страданий. Более того, знаменитая биологическая бинарность, или как сказал бы В. Гегель, который провел блестящий анализ мифологического сознания, называя его метафизическим, абстрактная тождественность (и, одновременно, антиномичная противоположность) любых измерений бытия в полной мере «работает» и здесь. Поэтому представление о едином безгранично могущественном боге легко уживается с идеей многобожия, причем сам этот «живой» бог фактически растворяется в калейдоскопе своих различных символических, еще по сути фетишистских, ипостасей, становится абстракцией, полностью лишенной своей собственной индиви
дуальности.
Показательно, что, по многим версиям, из Хаоса возникает лишь один бог (или пара), который впоследствии творит из себя остальных, постепенно расширяя множество. Причем в мифе о создании богов, по сути, подчеркивается не только ничтожность людей и обреченность их на страдания (люди — «слезы бога солнца»), но и их одинаковость, неотличимость во множестве, похожесть («как две капли воды»),
«...Бог Атум, как Хемири, — самозарождающийся бог, и из себя он уже создает первую божественную пару — Шу (свет, воздух) и его жену Тефнут (влажность). От нее рождается другая божественная пара — бог земли Геб и богиня неба Нут. От этой пары, в свою очередь, происходят боги Осирис и Исида, Свет и Нефтида. Согласно гелиопольской космогонии, люди (рмт) — это слезы (рмт) бога солнца, то есть мы имеем здесь дело с отождествлением, основанном на явной игре слов» 1 2.
1 Франкфорт 3., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж. и др. В преддверии философии: Духовные искания древнего человека. — М., 1984. — С. 73.
2 Поэзия и проза Древнего Востока. — М., 1971. — С. 70.
Но это вовсе не свидетельствует о становлении каких-либо элементов «однобожия». Ведь во всех крупных этнических регионах древней цивилизации Ближнего Востока наблюдается тенденция к постепенному объединению многих номов (общин) в одно государственное образование с единым административным центром. В этой связи вполне закономерно местный племенной бог той области, которая выдвигается на передний план в качестве консолидирующего социально-экономического и культурного центра, постепенно становится главным, или основным, богом. Это явление носит название теоцентризма — оно непосредственно связано с конкретными социально-экономическими механизмами централизации государственного управления в цивилизации Древнего Востока и, повторяю, вовсе не свидетельствует о возникновении собственно монотеистических тенденций.
Что же касается самого общества, то, несмотря на зарождение сословий и каст, в архаическом Ближнем Востоке уровень развития производительных сил еще максимально ограничивает развитие личностных качеств индивида, растворенного в сообществе, массе, недифференцированном, «пустом» и абстрактном множестве (ранее государство в еще большей степени, чем античный полис, опирается на родовую социальную структуру). Причем главная причина выделения одного бога — необходимость обожествления власти царя как военачальника.
Восточный бог — это прежде всего грозный воитель, беспощадный ко всем соседним племенам. Эту связь однобожия с деспотизмом, лишенным гуманистических оснований монотеизма, еще более четко, почти по Ф. Энгельсу, определяет В.С. Соловьев на примере наиболее теоцентрично ориентированной военно-феодальной всемирной религии — ислама. То же, впрочем, в значительной степени относится и к византийскому варианту православия — именно в целях обеспечения жесткой, почти общинно-азиатской иерархизации общества оно было принято князем Владимиром, введшим православие в Киевской Руси \ оно же потом «верой и правдой» служило безгранично этатизированной российской империи: «Представление о Боге как единой исключительной силе весьма односторонне, но зато оно определяет собою весь мусульманский строй: единому деспоту на небе соответствует единый деспот на земле» 1 2.
Однако становление подобного этноцентризма вовсе не означает, что мышление человека раннеклассового общества начинает преодолевать политеизм. Ведь даже боги захваченных и разгромленных племен включаются в пантеон победителей, а их изваяния, как это было в Египте, Вавилоне и Древней Иудее, устанавливаются в центральном религиозном храме государства-победителя. Поэтому речь может идти не о монотеизме, а, в лучшем случае, о «генотеизме» или «этнотеизме» (боге этнической группы). Для характеристики древних сословных обществ употребляется также термин «моно-физитство» (единство природы при множестве богов).
1 Шморгун А. Методологическая функция теории общественно-экономической формации. — К., 1990. — С. 108—118.
2 Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. — М., 1988. — Т. 2. — С. 345.
В действительности «Атон» в Древнем Египте — это ипостась, имя любого главного бога, в том числе солнечного бога Ра, который был не единым в полном смысле слова, а лишь главным, дающим жизнь и порождающим других богов, олицетворяющих воздух, влагу, свет, без которых исчезает оплодотворяющая сила солнечного тепла *. Поэтому в реформе Эхнатеона фактически мы имеем дело не с созданием универсального божества — Атона, а с возвеличиванием при помощи символики Атона (солнечного диска) прежнего бога Ра и противопоставлением его жреческому Амону (который, впрочем, тоже был солнечным богом).
В цивилизациях речных долин, земледельческих обществ, вся жизнь которых была обусловлена природными циклами, и не могло быть иначе. Все без исключения фараоны считали себя сыновьями солнца. Знаменитая реформа Аменхотепа в Древнем Египте — не что иное, как попытка в рамках существующей системы этнотеизма (генотеизма) укрепить обожествленную царскую власть с использованием традиционных мифологических солярных символов, повторяю, существующих в этот период во многих первичных государственных объединениях (например, у хеттов) Разница состоит лишь в том, что в Египте, очевидно, в силу особой привязанности цикла сельскохозяйственных работ к природным циклам, традиционный солярный культ получил особо большое развитие: «В Египте культ бога солнца играл несоизмеримо более значительную роль, чем в ритуалах Шумера и Аккада. ... В Египте Ра, согласно традиции, был первым царем Египта, а как Атум — создателем мира. Как на то указывает имя, город Гелиополь был главным центром культа Ра, и, вероятно, именно там в период Древнего царства произошло слияние культа Осириса с культом бога солнца» 1 2.
Поэтому вовсе не случайно Аменхотеп IV возносит хвалу диску солнца — Атону, олицетворяющему главенство верховного бога, дающего дыхание всему рождающемуся. Фараон стремится подчеркнуть собственную значимость как сына Ра, а потому живого всемогущего бога, возвышающегося над жречеством, подобно тому, как и сам Ра-Атон первенствует в пантеоне «Девятирицы», будучи одним не в смысле «единственным», а «главным», «первым». «Ты в сердце моем, и нет другого, познавшего тебя, кроме сына твоего ... единственного у Ра, ты даешь сыну твоему постигнуть предначертания и мощь твою... Ты пробуждаешь всех ради сына твоего, исшедшего из плоти твоей, для царя верховного и Нижнего Египта, живущего правдою... единственного у Ра, сына Ра... Владыки венцов Эхнатона, великого — да продлятся годы его!» 3.
Таким образом, можно согласиться с утверждением о том, что «солнцепоклонничество Аменхотепа IV (Эхнатона) никогда не было единобожием» 4. К тому же концептуальному выводу приходят авторы еще одного
1 Токарев С.А. Религия в истории народов мира. — М., 1986. — С. 304.
Мифология Ближнего Востока. — М., 1991. — С. 60.
J Поэзия и проза Древнего Востока. — М., 1971. — С. 94.
4 История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть вторая. Древняя Азия. Египет. — М., 1988. - С. 517.
фундаментального исследования. «Введение нового общегосударственного культа бога Атона, почитаемого в образе солнечного диска с отходящими лучами-руками, дарующего стране все блага жизни, ни в коей мере не означало упразднения древнего египетского многобожия, и первый храм, посвященный новому божеству, был возведен царем в Фивах вблизи святилища Амона-Ра» '.Даже Л. Васильев, который утверждает, что «с точки зрения религии это была едва ли не первая в истории попытка заменить всех богов одним, создать культ единого, общеобязательного для всех, официально принятого и возвеличенного бога большой страны» в конечном итоге вынужден признать: «но монотеистическая тенденция реформы отнюдь не была главной; основная цель ее сводилась к тому, чтобы укрепить централизованную администрацию за счет ликвидации сепаратистских тенденций влиятельной храмовой знати» 1 2. То есть речь шла именно об утверждении «единоличной» деспотической власти. «Исключительное почитание одного Солнца из всего сонма египетских божеств, несомненно, было связано с повышенным осознанием Эхнатоном своей власти фараона» 3. Поэтому нам представляется методологически обоснованной позиция известного исследователя С. Токарева, считающего, что причиной перемены культа является отнюдь не «преддверие» монотеизма, а обострившаяся борьба в стране между жречеством и фараоном. В то же время стремление к геоцентризму, обожествлению царя не могло преодолеть тенденции к разделению реальной власти среди многих — теократии. Если единый бог — олицетворение единого деспота, то множество богов — отраженное в искаженном сознании представление о необходимости совета старейшин, обеспечивающего возможность опираться в жизни на авторитет многих, которые лишь в совокупности могут быть носителями социального опыта предельно замкнутого и консервативного уклада жизни. Поэтому попытка Аменхотепа IV окончательно утвердить деспотическую форму правления была обречена на провал: даже в период его царствования многобожие так и не было ликвидировано, оставаясь основой мировоззрения человека Древнего Египта, что признает и сам М. Ко-ростовцев.
Однако не следует забывать, что подобное представление о фараоне неразрывно связано с ритуализацией и фетишизацией его личности, прямо противоположной библейской максиме «не человек для субботы, а суббота для человека». То есть по сути речь идет о построении всей властной пирамиды, начиная с ее вершины, по принципу «человек — производное, функция власти», сам по себе, в своих неповторимых личностных характеристиках, не играющий ровно никакой роли. Полная зависимость от ритуала, бесчисленных предписаний, дающих иллюзию гарантированности от любого неправильного шага, отсутствие индивидуальной самостоятельности свидетельствуют о том, что индивид еще вовсе не стремится выделить себя из множества как неповторимую индивидуальность. Не неповторимость, а
1 История Древнего мира. Ранняя древность. — М., 1983. — С. 247.
2 Васильев JI. История Востока. — М., 1998. — Т. 1. — С. 112.
3 Там же. — С. 512.
именно повторимость, похожесть — идеал жизнедеятельности каждого человека. Сам фараон, несмотря на декларируемый статус абсолютно всемогущего «живого бога» целиком зависит в своей жизни от бесчисленных ритуальных правил, фактически превращающих его в живую вещь, фетиш, тотем первичной цивилизации, в максимальной степени теряющий свои личностные характерологические признаки.
И в этом смысле в древневосточных обществах, открытый сначала В. Гегелем, а потом и К. Марксом феномен поголовного рабства является абсолютно универсальным. Как это ни парадоксально звучит, с точки зрения своей личностной несвободы, фараон является большим рабом, чем любой рядовой общинник. Здесь мы имеем дело с поразительным феноменом, восходящим к мифологическому пониманию функции власти, в свое время блестяще описанным Д. Фрезером в его знаменитой «Золотой ветви», который, в частности, ссылаясь на известного историка Диодора, отмечает: «Эгипетским фараонам поклонялись как богам, и их каждодневная жизнь была детально регламентирована неизменными строгими предписаниями» *.
Кстати, сам Гегель не четко отличает брахманизм в его философском понимании с пониманием Брахмана как божественной первосущности мира от позднейшего, более упрошенного и «зазамленного» религиозного индуизма с его сонмом сугубо эмпирических богов-духов. Что, собственно, в значительной степени и побудило его в поисках более духовной религии откровения отдать предпочтение древнеегипетской «религии-загадке», что послужило одним из краеугольных камней несостоятельной концепции монотеистического реформаторства фараона Эхнатона * 2.
Таким образом, речь идет о мифологически парадоксалистском фетишистско-вещественном понимании природных сил, носителем которых является царь в качестве воплощенного божества, что и порождает огромное количество ритуалов, запретов и даже традиции умерщвления «всемогущего» монарха, как «живого бога», исходя из представлений о невозможности функционирования временно находящейся в нем магической духовной силы в бренной, «обветшалой» оболочке старца, потребности периодически испытывать «на прочность» его магические силы, его способность постоять за себя, дабы убедиться в том, что они не переселились в другого человека3.
О неразрывной связи этнотеизма с первичными мифологиями красноречиво свидетельствует и его зооморфизм — представление о богах как полу-людях-полуживотных или животных как ипостасях антропоморфного бога, что вполне уживается еще и с фетишизацией, и с сакрализацией самих животных. Причем наиболее полное развитие вышеупомянутые культы в рамках особой в стадиально-формационном отношении, раннеклассовой Ближневосточной цивилизации получили как раз в Древнем Египте.
В целом, еще раз подчеркнем, что подобное понимание священно-ритуальной функции вождя и обладание им магической силой, особой хариз
।
2
3
Фрезер Д. Золотая ветвь. — М., 1983. — С. 170.
Гегель В. Философия религии в двух томах. — М., 1977. — Т. 2. — С. 11—21.
Там же. — С. 165—174.
мой (понятие, на основании которого, как известно, М. Вебер пытался определять иррационально-лидерские качества современных политических вождей) 1 не имеет ничего общего с представлением о подлинном едином организующем начале человеческого бытия, а ведет к крайним формам племенного политеизма, который в значительной степени имел место даже в античной системе многобожия.
Таким образом, гипотеза, согласно которой на Ближнем Востоке в рамках египетского раннеклассового общества произошла духовная революция — становление исторически первой системы монотеистической религии, своими корнями восходящая к мифологическому миропониманию с его установкой на заданность всемирной истории извне неким внеположе-ным личностным творческим началом, в то же время являющимся основой творческого начала как любого из существующих типов социума, так и отдельного человека, не нашла своего подтверждения.
в) иудаизм как монотеизм: мифы и реалии
Еще большее значение имеет опровержение единобожия применительно к религии и мифологии Шумеро-Вавилонии, поскольку доказано значительное влияние ее на формирование иудаизма. Следовательно, в случае подтверждения гипотезы о монотеистическом характере главного бога Мардука позиция сторонников рассмотрения иудаизма как классической формы монотеизма усиливается (о чем подробнее ниже). В действительности и в Шумеро-Вавилонии, и в древних семитских племенах Ближнего Востока, а тем более государствах доколумбовой Америки (типологически сопоставимых с ближневосточной раннеклассовой архаикой), впрочем, как и в Древней Индии ни о каком монотеизме еще не приходится говорить. Мардук, Яхве, Шива — это, прежде всего, боги-воители, их главенство вовсе не исключает многочисленного пантеона божеств. И хотя каждый из них как бы «поглощал» других богов, «перенимая» их функции, процесс расширения пантеона за счет включения в него богов покоренных народов или племен, с которыми было культурное соприкосновение, шел параллельно.
Характерно, что замещение многих богов (о мифологических истоках которого говорилось выше) происходит в периоды социальных потрясений, связанных в древних обществах, как правило, с нашествием соседних племен или военными походами данного народа, когда потребность в централизованной власти особо возрастает. Так, культ Мардука возникает в период правления Навуходоносора I, когда Вавилония ведет жестокую войну с Эламом: «Мардук, бывший ранее одним из важнейших богов, становится главой вавилонского пантеона и впервые в официальных надписях получает титул «царя богов» 1 2.
Однако если версия о том, что именно реформа Аменхотепа была первым в истории человечества духовным прорывом к осознанию своего соб
1 Вебер М. Сощолопя. Загалыкмсторичш аншпзи. Полпика. — К., 1998. — С. 167— 168.
2 Клочков И. С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. — М., 1983. — С. 104.
ственного творческого начала не подтверждается, то, возможно, решение проблемы лежит в другой плоскости? Необходимо просто, что называется, не мудрствуя лукаво, обратиться к эталонно монотеистической религии — иудаизму, который является общепризнанным образцом подлинного монотеизма и далее рассматривать схему становления всемирной истории на основе божественного откровения, пусть и с несколько более позднего периода, чем это предполагала версия древнеегипетского первооткровения (первые библейские тексты относятся приблизительно IX—VIII вв. до н. э.) и тогда концепция прамонотеизма заработает в полную силу. Ведь не случайно, как отмечалось выше, по схеме мифология — иудаизм — христианство — гуманизированный протестантизм (либо соборное православие, либо социальный католицизм) пытаются стадиально определять всемирную историю М. Вебер, Н. Бердяев, А. Тойнби, К. Ясперс. Причем М. Вебер, А. Тойнби и К. Ясперс даже признают наличие творческого потенциала за исламом, буддизмом, но отказывают им в равноправии по сравнению с ветхозаветным и новозаветным христианством.
Напомню, что в конечном итоге уже упоминавшийся ранее родоначальник «теории прамонотеизма» В. Смидт (Шмидт), предпринял попытку доказать, «будто разные мифологические образы небожителей демиургов и культурных героев, фигурирующие в религиях отсталых народов, суть более или менее искаженные остатки первоначального представления о едином всемогущем боге-творце библейского типа» *.
Правда, подобная трактовка божественного откровения не совсем вписывается в приведенное выше так называемое классическое определение монотеизма, согласно которому восточный бог есть лишь отражение ближневосточного деспота, которое приводилось выше. Да, библейский Яхве также является жестоким карающим богом-деспотом, но все-таки не таким отстраненным, мало мотивированным в своих поступках и безразличным к своему народу, каким был египетский богофараон. Скорее, здесь можно говорить об архаическом родовом патернализме по принципу «жесток, но справедлив», при котором иудейский бог очень напоминает фрейдистского авторитарного отца, которого «дети божии» одновременно и любят и ненавидят. (Кстати, фрейдистская мифологема убийства и последующего почитания отца очень напоминает реальный исторический сюжет одновременной секуляризации мышления западного человека, констатирующего смерть бога, и возрождения в пуританско-протестанской версии поклонения ему и даже чувства вины за свое «своеволие»). Отсюда особое эмоционально-духовное напряжение трагической раздвоенности библейского мирочувство-вания, которое, по мнению исследователей, якобы отсутствует в более примитивном, гармонически холодном античном языческом политеизме, гуманистический потенциал которого, по их мнению, уступает ветхозаветному единобожию.
Однако у того же Ф. Энгельса есть и другое определение монотеизма, которое имеет значительно более расширительные и глубинные духовные
1 Токарев С. Ранние формы религии. — М., 1990. — С. 332.
смыслы: «На дальнейшей ступени развития вся совокупность природных и общественных атрибутов, множество богов, переносится на одного, всемогущего бога, который, в свою очередь, является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, который исторически был последним продуктом греческой вульгарной философии более поздней эпохи и нашел свое уже готовое воплощение в иудейском, исключительно национальном боге Яхве» ’.
Как видим, в данном случае имеет место гуманизация бога как идеала совершенного человека по атеистической версии или образца для подражания — по религиозной, то есть абстракция единого личностного бога, якобы вовсе не превращенная в отчужденное воплощение человека, а наоборот — религиозный идеал — это и есть идеал человека как такового, человека вообще для всех времен и всех народов (по библейской версии, бог творит человека «по своему образу и подобию»). Причем в любом случае в приведенном определении происходит «привязка» подлинного единобожия уже не к ранним религиозно-мифологическим культам, а именно к классическому иудаизму.
В параграфе под названием «Монотеизм» своей известной работы «Происхождение христианства» К. Каутский также подчеркивал антиэмпи-рический характер монотеистического мировоззренческого теизма, в еще большей степени делая акцент на этической стороне христианства как так называемой высшей религии, неразрывно связанной с «разложением старых нравственных основ, отразившейся в сознании людей как освобождение от всякой зависимости, как свобода воли отдельной личности». Более того, именно с христианством автор связывает идею творения природы и истории духовным внемировым началом: «Перевес этического начала над естественно-историческим, из которого вытекала эта гипотеза всемирной души, придал также последней нравственный характер. Она стала вместилищем всех этических идеалов... Но чтобы стать таковою, она должна была быть отделена от физической природы, которая прилепляется к душе человека и затемняет ее нравственное содержание. Так развилось понятие нового божества. Последнее могло быть только единым, соответственно единству души отдельных людей, в противоположность множественности богов античного мира, соответствующей многообразию явлений природы вне нас. И новое божество стояло вне природы и над природой, оно уже существовало до природы, созданной именно им, в противоположность старым богам, которые сами были частью этой природы и были не старше ее» 1 2.
Наконец, общеизвестны классически монотеистические тезисы самого Нового Завета, которые, казалось бы, не оставляют никаких сомнений относительно того, где же на самом деле зародилась наиболее последовательная форма единобожия:
«Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего знания;
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 20. — С. 328—329.
2 Каутский К. Происхождение христианства. — М., 1990. — С. 175.
Один Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас» (К Ефесянам, 4:4,5,6).
Вот почему, признавая несомненное влияние этнотеистических религиозных верований и, в первую очередь, Шумеро-Вавилонии на ветхозаветные тексты, ряд исследователей отмечает исключительно высокую духовность, личностно творческое начало Ветхого Завета, по степени своего антропоцентризма якобы стоящего не только выше любой раннеклассовой религии, но даже и античного политеизма, что в конечном итоге и привело к появлению новозаветной версии христианства, с ее культом высшей моральности, пониманием бога не как воплощения безликого солнечного диска, а воплощением именно совершенной любви и добродетели.
По версии ряда ученых, ветхозаветный бог именно как воплощение безликого, а потому безымянного абстрактного человека, при всей своей суровости и даже жестокости действительно является благодетелем людей, заставляющим их совершить сверхусилие, подняться над рутиной обыденной жизни во имя доселе невиданного идеала спасения и обретения гармонии бытия в потусторонней жизни, в принципе недостижимого в земном мире бесконечных превращений и человеческих страданий.
Бог теперь — это уже Мессия, Вождь, Водитель, который через своего посланника и посредника Моисея вручает избранному народу святое письмо и выводит его через скитания по пустыне синайских песков из плена извечной обреченности на страдания в небесное царство нового Иерусалима. «Бог древних евреев — чистая сущность, безусловная, невыразимая. Он свят. ... Справедливо указывалось, что монотеизм древних евреев — коррелят их безусловного требования абсолютной природы Бога. Лишь Бог, трансцендентный любому явлению, не ограниченный никаким способом проявления, лишь безусловный Бог может быть единым и единственным основанием всего сущего» *. Отсюда якобы поразительная способность древних евреев противостоять духовной ассимиляции: «Эта концепция Бога представляет собой такой высокий уровень абстракции, что для его достижения древние евреи, кажется, вышли за рамки мифопоэтической мысли. Это впечатление усиливается, когда мы замечаем, что Ветхий завет удивительно един с мифологией того типа, с которым мы встречаемся в Египте и Месопотамии» .
Более того, известный ученый С. Аверинцев в работе «Поэтика ранневизантийской литературы» достаточно жестко противопоставляет ветхозаветную религию античному политеизму в пользу этичности первой, тем самым как бы подчеркивая стадиальную архаичность античной, слишком мифологизированной и фетишизированной религии ритуала, своеобразной внешней демонстративности поведения абстрактного индивида в противоположность ориентации на личностный внутренний мир иудаистского миропереживания:
1 Крывелев И.А. Библия: историко-критический анализ. — М., 1982. — С. 68.
2 Франкфорт Г., Франкфорт ГА., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии: Духовные искания древнего человека. — М., 1984. — С. 205, 206.
«Ветхий Завет — это книга, в которой никто не стыдится страдать и кричать о своей боли, никакой плач не знает таких телесных, таких «чревных» образов и метафор страдания... Вообще выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело — не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые потаен-ности недр, это тело не созерцаемо извне, но вычувствовано изнутри, и его образ не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого нутра» *.
Впрочем, подобные идеи своеобразного духовно-гуманистического возвеличивания иудаизма за счет греческого политеизма уже высказывались и раньше. В частности в известной работе «Мимесис» Э. Ауэрбах писал: «хотя способность передачи конкретных чувственных явлений, культура языка и особенно синтаксиса в гомеровских поэмах находится на несравненно более высокой ступени развития, образ человека, каким рисуется он в этих поэмах сравнительно прост. Но таково и вообще отношение гомеровских поем к жизненной реальности. Радоваться чувственному бытию — для них все, и высшее их стремление воссоздать это бытие наглядно... Но все совершенно иначе в библейских рассказах. Стремление околдовать нас чарами чувственной действительности им чуждо. И если в стихии реально чувственного они и создают впечатление жизненной полноты, то лишь потому, что этические, религиозные, душевные процессы, на изображение которых направлено все внимание рассказчиков, воплощаются в чувственном материале жизни. Однако религиозные цели обуславливают абсолютные притязания этих рассказов на историческую истину» 1 2.
Апофеозом уже полумистического и мифологизирующего отношения к Ветхому Завету, явно находящемуся в русле его оценки как особой «религии спасения» является позиция С. Хука: «Мы видели, что много из мифологического материала было воспринято традицией еврейского народа. Но в Израиле происходило нечто новое, не имевшее аналога ни у одного другого народа. Его возникновение было окутано тайной... К тому времени, когда яхвист составлял и создавал ранние летописи еврейского народа, бог еврейского народа, Яхве, возвышался подобно складе на туманном фоне окружавшего Израиль политеизма. В противоположность призрачным фигурам египетских, вавилонских или ханаанейских богов, Яхве был реальной личностью, носителем нравственности и основополагающей цели, которая придавала смысл событиям израильской истории». Тот же автор утверждает, что прямым последствием египетского монотеизма было переосмысление функции мифа, направленного на создание и передачу из поколения в поколение национальной традиции подлинного монотеизма 3.
Идея об особой миссии еврейского народа, состоящая в наиболее последовательной реализации основной мифологемы-архетипа психоанализа — убийства, а затем поклонения образу Отца, консолидирующего социальную
1 Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М.: 1977. — С. 61—62.
2 Ауербах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. — М., 1976. — С. 33—34.
' Хук С. Мифология Ближнего Востока. — М., 1991. — С. 130.
общность, по версии основоположника психоанализа 3. Фрейда, составляющая основную движущую силу всемирной истории, также непосредственно связана именно с иудаизмом: «Было бы весьма важно понять, как оказалось, что монотеистическая идея произвела столь сильное впечатление именно на еврейский народ. Полагаю, что можно ответить и на этот вопрос. Судьба сделала близким еврейскому народу подвиг и злодеяние далекой древности — отцеубийство, побудив его к повторению [этого] применительно к личности Моисея — образу выдающегося отца» '.
С. Васильев фактически подтверждает заимствование древними евреями идеи единого бога именно у египтян: «Религиозная система Древнего Египта развилась на протяжении тысячелетий и в целом достигла весьма высокого уровня. Проявившаяся в Египте впервые в истории тенденция к монотеизму, т. е. ко всеобщей вере в единого для всех всемогущего божества, не прошла бесследно: есть определенные основания ставить вопрос о том влиянии, которое она оказала на развитие монотеистической религии древних евреев» 1 2. Более того, С. Васильев примыкает к ученым, не просто оценивающим реформу египетского фараона Эхнатона как первую в истории человечества попытку создания монотеистической религии, но и разделяющим версию о передаче монотеистической идеи египтянами иудеям «Как знать, может быть реформы Эхнатона действительно оказали впечатляющее воздействие на идейно-концептуальное представление небольшого народа, находящегося где-то рядом с Египтом (если даже не под его властью) в середине II тысячелетия до н. э. Если бы все это могло быть так или хотя бы приблизительно так (как то предполагают некоторые авторы, как, например, 3. Фрейд), то в принципе вполне вероятна и возможность появления в их среде реформатора, пророка, харизматического лидера (впоследствии красочно описанного в Библии под именем Моисея), которому пришлось не только вывести евреев из Египта, но и кое-что изменить и подправить в их верованиях, решительно выдвинув на передний план Яхве... Словом, за легендарным образом Моисея, выведшего евреев из «плена в Египет» и давшего ему «законы Яхве», может скрываться реальный процесс постепенной трансформации древнееврейского политеизма в монотеизм» 3 4.
Впрочем, сам 3. Фрейд намекает на то, что возможно Моисей под видом Эхнатона и передал евреям монотеизм в форме религии Атона: «Один примечательный, лишь недавно ставший известным и оцененным факт из истории египетской религии дает нам еще одну надежду. Остается возможность, что религия, дарованная Моисеем еврейскому народу была все-таки его собственной некоей, хотя и не вполне египетской религией. ...Теперь мы рискнем заявить: если Моисей был египтянином и если он передал евреям собственную религию, то это была религия Эхнатона, религия Атона»
1 Фрейд 3. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. — М., 1993. — С. 102.
2 Васильев Л. История религий Востока. — М., 1983. — С. 59.
3 Там же — С. 70.
4 Фрейд 3. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. — М., 1993. — С. 19, 25.
Ю. Каныгин еще более категоричен, смело переходя грань, отделяющую научные гипотезы от абсолютно ни на чем не основанных домыслов: «Моисей с помощью матери, других вельмож сбросил с престола фараона Аменхотепа IV и занял его место, назвавшись Эхнатоном». Более того, автор де
лает далеко идущие выводы стадиально-концептуального характера, суть которых заключается в том, что монотеистическая революция Эхнатона была лишь прологом пролетарской революции в России, в которой сначала древ
ние, а потом и современные евреи стали лишь орудием в руках ариев и их потомков — украинцев, мессиански призванных спасти мир окончательной духовной деградации: «Конечно, переворот Эхнатона не был сугубо еврейский делом. Однако евреи сыграли в нем очень важную роль — руководящую. Так сказать, в Египте они начали то, чем закончили в России через 3,5 тысячи лет, — пролетарскую революцию. Пролетарские революции во
все времена... имеют лишь эпизодическое, промежуточное значение, а в ре
зультате реализуют совсем другие цели, далеко не те, к которым стремились
изгои.
В данном случае евреи стали орудием далеких ариев, с помощью которого последние нанесли «митроистский» удар «египетской тьме»
В свое время, исходя из вышеизложенного тезиса о вторичности ветхозаветной идеи единобожия в самом Древнем Египте, позиции, очень близ-
кие подобному подходу, отстаивал известный ориенталист Б. Тураев, считавший, что народности древнего Ближнего Востока, в частности, древние
семитские племена, в силу особой культурной избранности впервые пришли
к миропониманию, основанному на представлении об одном и едином боге,
которое впоследствии якобы стало основой неоплатонических монотеисти-
ческих концепций. Римской империи .
активно разрабатывавшихся в восточных провинциях
То есть при подобном подходе идея о древнеегипетском прамонотеизме частично как бы реабилитируется. Теперь реформу Аменхотепа действитель-
но можно рассматривать лишь как одну из зародышевых форм становления и кристаллизации подлинного монотеизма иудаистского типа, на который, как сегодня доказано, оказала большое влияние шумеро-вавилонская мифо-
логия, типологически родственная египетской.
Таким образом, сам произошедший в Древнем Египте культурно-религиозный переворот ряд исследователей связывают именно с влиянием иудаизма на религиозные воззрения Эхнатона, в качестве, так сказать, эталонно монотеистической религии, которая очевидно и является фундаментальным архетипом всего творческого, созидательного в человеческой истории и культуре, тем духовным источником «жизненного порыва» (А. Бергсон), который собственно и стал своего рода двигателем человеческой истории.
1 Канигт Ю. Шлях ари'в. УкраТна в духовшй icTopii людства. — К., 2005. — С. 226— 227.
2
Тураев Б.А. Египетская литература: Исторический очерк древнеегипетской литературы. — М., 1920. — Т. I. — С. 40—41; Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Л., 1935 - Т. 1. - С. 230-232.
Если говорить об актуальности подобных исследований для понимания цивилизационных процессов современности, то важно подчеркнуть, что данная версия, на первый взгляд, полностью согласуется с веберовской концепцией зарождения протестантской этики, ориентирующей на построение царства божьего на земле, с так называемыми религиями спасения, наиболее ярким воплощением (идеальным типом) которых является иудаизм (к производным от них выдающийся немецкий мыслитель действительно относит ислам, а из восточных религий, наиболее приближающихся по вышеописанным типологическим признакам, — буддизм, который он относит к неклассическим формам восточной религиозности и противопоставляет конфуцианству и даосизму).
В действительности применительно к иудаизму о собственно единобожии в полном смысле слова можно говорить еще весьма и весьма условно: «... религиоведы и библеисты утверждают, будто защита яхвизма в пророчестве Иезекиля означает завершенный монотеизм. Однако Яхве Иезекиля ничем не отличается от Яхве Второзакония. Как в представлении автора пятой книги Торы, так и у пророка Яхве лишь личное божество одного народа. Но это не монотеизм, а генотеизм. Примечательно, что образ Яхве в видениях пророка приобрел некоторые черты вавилонских богов» '.
Изначально иудаизм отнюдь не был монотеистической религией, за место главного бога конкурировали как минимум два «претендента»: «Само собой понятно, что наряду с пророками — сторонниками единобожия Яхве были и его противники, пророчествовавшие от имени Баала, которого воспринимали как врага Яхве» 1 2. И лишь позже в ветхозаветный канон были отобраны проповеди, фактически возвеличивающие не единого бога, а одного из богов.
И только в пятом веке до нашей эры можно говорить о зарождении подлинно монотеистической тенденции: «Поучения Малахии дают основания утверждать, что в V в. до н. э. зарождается монотеистическая тенденция в иудаизме, которая противопоставила себя Торе, обосновавшей генотеистически яхвизм и власть жрецов» 3. Причем не только в ветхозаветной, но и в новозаветной части Библии так никогда и не была воплощена последовательно идея классического монотеизма с представлением о едином божестве как едином творящем мир первоначале, имеющем явно этическую окраску, а сам иудаизм всегда тяготел именно к этноцентристскому мировидению, в котором бог постоянно сливается именно с жестоким и часто немотивированно карающим деспотом межплеменного раннегосударственного объединения по типу того же греческого Зевса, но еще более нетерпимого к любому нарушению его воли.
Характеризуя сущность иудаизма, В. Гегель писал, подчеркивая не монотеистическую, а именно этноцентристскую доминанту этой религии: «Бо
1 Беленький М. О мифологии и философии Библии. — М., 1977. — С. 80—81.
2 Шифман И. Ветхий Завет и его мир. — М., 1987. — С. 40.
3 Там же. — С. 90.
га признают создателем всех людей, всей природы и абсолютной действительностью вообще. Но в своей дальнейшей определенности этот великий принцип является исключающим единым... только один народ познает единого и признается им» 1.
Особенно остро эта неразрешимость антагонизма этнотеистических и монотеистических тенденций в монотеизме проявляется в несопоставимости образа живого антропоморфного бога и творящего внемирового абсолютно безликого первоначала, постигнуть которое не могли не только древние евреи, но и граждане Римской империи, причем даже официально принявшие христианство!
Кстати, данную проблему не смогли разрешить и в более позднее время. Особенно сильно она проявлялась в исламе, сохранившем, как отмечалось наибольшие пережитки этноцентризма. В частности, сохранение представлений об антропоморфном облике Аллаха ведет к предельной эмпиризации всех божественных атрибутов, при которой с одной стороны признается существование таких чисто вещественных элементов, как божественный трон, а с другой, — этот трон представляется минимально вещественным, сотканным из чистого света, причем сам этот трон гигантских размеров 1 2. В христианстве эту же проблему пытались решить путем «разведения» единого божества на три ипостаси, однако это лишь усиливает элемент политеистич-ности данной религии. Еще сложнее обстоит дело с богочеловеком Христом, сильно напоминающим античных героев, рожденных от смертных людей и бессмертных богов.
Истоки этого политеизма не только в пережитках этноцентричного ге-нотеизма Ветхого Завета, но и во влиянии на христианство стоического универсализма.
«Иудейство ... дошло до пренебрежения ритуальным обрядами, до превращения прежнего исключительно еврейского национального бога Ягве в единственного истинного бога, творца неба и земли и до признания первоначально чужого иудейству бессмертия души. Так монотеистическая вульгарная философия встретилась с вульгарной религией, которая преподнесла ей единого бога в совершенно готовом виде» 3. Однако сам Ф. Энгельс считал, что вульгаризированной монотеистической философией был стоицизм (Сенека, по его определению, родной дядя христианства), который конечно же никак нельзя назвать последовательным монотеизмом. Впрочем, и идея христианского равенства в первородном грехе и изначальной греховности человека («Христианство знало только одно равенство для всех людей, а именно равенство первородного греха, что вполне соответствовало его характеру религии рабов и угнетенных» 4) имеет явный оттенок также античного, прежде всего стоического религиозного миропонимания, с присущим
1 Гегель Г. Сочинения. Т. VIII. — М.—Л. 1935. — С. 183.
2
Климович JI. Книга о Коране: его происхождении и мифологии. — М., 1986. — С. 167-170.
Маркс, Энгельс, Ленин об античном обществе. — М., 1971. — С. 230.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.; Второе изд. — Т. 20. — С. 105.
ему тотальным детерминизмом человеческой судьбы идет вразрез с монотеистической идеей о едином всеблагом божестве.
Поэтому вполне закономерно, что и в Новом Завете, с одной стороны, признается тождество Христа и Бога-отца: «Я и отец — одно» (Иоанн, 10:30). С другой стороны, И.А. Крывелев правильно подчеркивает наличие противоречия этой идеи в словах Христа о том, «что сам он не тождествен отцу и что «отец мой более меня»» (Иоанн, 14:28). В одном месте он говорит, что «я не один, потому что отец со мною» (16:32). Не во мне, а со мной, а «я не один — значит, нас двое». С тем, что в данном случае речь идет о пережитках откровенного политеизма, вынуждены согласиться даже большинство сторонников еврейского монотеизма.
Религиозные воззрения народов Египта и Вавилонии, несомненно, отражены в Библии, однако они не имеют ничего общего с монотеизмом и представляют собой примитивнейший политеизм, что свидетельствует о значительно менее развитом уровне теоретического мышления и низкой способности к абстракции от конкретных чувственных реалий даже по сравнению с политеизмом Древней Греции и Рима '.
Более того, авторы, пишущие о высокой этичности иудаизма, как бы забывают, что даже в III—II веке до н. э. еще отсутствовал единый авторитетный текст Ветхого Завета, в который даже в начале первого века нашей эры, в процессе канонизации вносились поправки с целью придания Святому Писанию максимально монотеистического вида.
Поэтому вполне можно согласиться со следующим выводом: «Таковые основные контуры эллинистической и римской эпох, что и тут совсем не приходится говорить об абсолютном универсальном или этическом монотеизме; наоборот, это монотеизм весьма условный, который больше прокламируется в теоретических разработках и трактатах александрийских и иудейских богословов, чем существует в действительности. Так называемый единый всемирный бог только облачен в мантию универсализма и абсолютности, а из-под его мантии выглядывает либо фигура обожествленного эллинистического царя, либо фигура старого знакомого, завистливого и жестокого иудейского Яхве, окруженного роем бледных призраков старых богов и духов...» 1 2.
Из сказанного непосредственно вытекают два важных концептуальных вывода. Во-первых, понятие монотеизма в его научном измерении принципиально отличается от того, на которое опирается большинство авторов, типологически оценивающих ислам, иудаизм и, шире — христианство, как последовательно монотеистичекие религии. Во-вторых, по критериям подлинного монотеизма как формы божественного первооткровения человеку его собственной судьбы ни Ветхий, ни Новый Завет не могут претендовать на роль духовных лидеров.
1 Никольский Н.М. Избранные произведения по истории религии. — М., 1974. — С. 105.
2 Там же. — С. 139.
г) арийский мессианский миф и зороастризм: становление подлинного монотеизма
Однако, возможно, существуют более отвечающие эталонному монотеизму религиозные системы и концепцию монотеистического импульса, охватившего в конце концов ареалы как древнего и раннесредневекового Востока, так и Запада, еще можно будет спасти? В этом смысле показательно то, какую характеристику дает монотеизму известный исследователь связи личностных характеристик бытия с типами человеческой культуры Эрнст Кассирер в работе «Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры»: «Совершенно иной аспект божественного мы видим в великих монотеистических религиях: эти религии — плоды моральных сил, они сосредоточены вокруг одного-единственного пункта — проблемы добра и зла. В зороастризме есть только одно Высшее Существо — Ахурамазда, «мудрый господин». Вне его, отдельно от него, без него ничто не существует. Он самое первое, главное и совершенное существо, абсолютный монарх. Здесь нет индивидуализации, нет множества богов, представляющих различные природные силы, или мыслительные качества. Первобытная религия была опровергнута и преодолена новой силой — чисто этически... С самого начала зороастризм в корне противоположен той мифологической или эстетической индифферентности, которая характерна для греческого политеизма. Эта религия — не плод мифологического или эстетического мировоззрения, а выражение большой личной нравственной воли» *.
В самом деле, все те полумистические или даже мистические качества, которые тот же 3. Фрейд приписывает Моисею, связанные с солнцепоклон-нической реформой Аменхотепа IV, в действительности присущи совсем другой религиозной системе — зороастризму, возникновение которого одни исследователи датируют приблизительно IX—VII вв. до н. э., а другие, например, М. Бойс, даже 1500—1200 гг. до н. э.
На первый взгляд, в реформах Зороастра и Эхнатона заключен почти идентичный религиозно-мировоззренческий смысл. Подобно реформе Аменхотепа, религиозный переворот Зороастра связан с солярным культом: иранское «хвар», «хур» и индийское «сурья», «свар» и «сур», слова, от которых происходит название Солнца (в зороастризме злым богам «дэва» противопоставлены добрые — «асура», «ахура»; главным из которых стал Ахурамазда, который в значительно в большей степени, по сравнению с Яхве, подходит под определение прамонотеизма. Причем, как и в египетском варианте солнцепоклонничества, в зороастризме отчетливо просматривается отождествление с солнечным богом — Амеком — великого героя-царя, так что Митра выступает как своеобразное «промежуточное состояние» между наиболее великим богом-солнцем — Ахурамаздой и наиболее могущественным из царей: Ахурамазда и сонм его высших ангелов на светящейся высочайшей вершине Хааре.
Однако в действительности первое, что буквально бросается в глаза при знакомстве с новым вероучением — это его реальное, а не придуманное от
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. — М., 1998. — С. 555—556.
личие от родовых этноцентрических мифологических культов своего времени, в котором, во всяком случае, на первый взгляд, на передний план выдвигается не ритуально-нормативный, а именно личностно-этический компонент, что достаточно подробно исследует М. Бойс в своем классическом труде «Зороастрийцы. Верования и обычаи». В данном случае речь идет уже не о так называемой царской, а о фактически первой в истории человека пророческой религии, направленной на укрепление власти не конкретного официально обожествленного вождя и стоящего за ним клана, а реально существовавшего выдающегося реформатора, который, в отличие от античных героев-полубогов, не совершает выдающихся подвигов и даже не одаривает людей техническими нововведениями (огонь, выковка железа и т. п.), а открывает им Истину, смысл существующего бытия, понимание и следование которой, если оно является актом свободного выбора, гарантирует человеку личное спасение в потустороннем мире. Более того, само спасение вне бытия в рамках зороастризма уже мыслится не только как воскресение в потустороннем мире, а еще и как особый самостоятельный выбор собственного жизненного пути в мире земного бытия.
Сам этот выбор откровенно связывается уже не с поклонением милостивому и, одновременно, кровожадному богу, продублированному на небе владыке племенного объединения, а отцу, олицетворенному в образе света и огня, «светлому» именно в этическом смысле началу, то есть символу абсолютного добра, высшего бога Мазда Ахура (Ахурамазда, Ормузд) — дословно «один из двух», точнее, главный бог, который ведет непримиримую борьбу с Антхро Манью (Архимоном), воплощающим Земное Зло. Более того, сам выдающийся реформатор в своих проповедях — «Гатах» резко выступает против ложных архаических доплеменных богов, осуждая не только человеческие, но и другие формы жертвоприношений «дэвам» живых существ и, в первую очередь, крупного рогатого скота. Причем традиционный пантеон резко отличается от традиционных собраний зооморфных древнегреческих божеств своей абстрактностью и опять же предельной этической ориентированностью.
И в этом смысле зороастризм действительно разительно отличается своим духовно-этическим напряжением не только от сугубо этноцентрического солнепоклонничества, но и от более позднего по времени и безусловно уже носящего начатки монотеизма и соответствующей ему мифологической атрибутики (пророк, несущий людям «свое письмо», идея страшного суда, воздаяния и т. п.) иудаизма, которому, как было показано выше, приписывается обладание неким высшим типом религиозного этического гуманизма.
Бессмертным святым является Boxy-мана («Благой промысел»). Ближайший его союзник — это Аша-Вахшита («Лучшая праведность»), божество, олицетворяющее могучий закон истины. Затем идут Спэнта-Арма — («Святое благочестие»), указывающий, что хорошо и нравственно, и Хшат-ра-Ваир («Желанная власть»), символизирующий волю, которую каждый человек должен проявлять, стремясь к праведной жизни. Заключительная пара — это Хаурватат («Целостность») и Амэрэтат («Бессмертие»). Вот почему Е. Дорошенко фактически вторит одному из исследователей Э. Кассире
ру: «Зороастризм возвышает роль человека в развитии мирового процесса. Главное внимание этнической доктрины зороастризма сосредоточено на деятельности человека, которая должна основываться на триаде: добрая мысль, доброе слово, доброе дело. ...таковы моральные и этические основы зороастрийской религии» !.
Концепция загробной жизни, на первый взгляд, тоже поражает своим новаторством относительно традиционных религиозных культов этой эпохи. Во-первых, в учении Зороастра отчетливо прослеживается идея равенства всех людей, независимо от их материального и сословного состояния, перед грехом, причем на посмертном суде, который возглавляет Мирта, на весах правосудия взвешиваются, в первую очередь, не ритуальные действия, и пропуском в загробный мир является не количество жертвоприношений, а добрые дела и слова людей.
Более того, в полном согласии с описанной выше концепцией монотеистической религии, сам потусторонний мир оценивается как очищение от несовершенства материального мира. В течение так называемой эры «Смешения» в ад — «жилище дурного помысла» попадают души недостаточно праведных людей. Наконец, те немногие души, дурные и добрые дела которых уравновешиваются, оказываются в «Месте смешанных» ведут существование, лишенное и радости, и печали. Однако полное блаженство даже для тех, кто находится в раю, наступит лишь во времена «Чудоделания», когда души праведников соединятся со своим воскресшим телом, чтобы человек снова мог переживать всю полноту чувственного бытия. Вместе с неисправимыми грешниками во время Последнего Суда будут окончательно уничтожены все демоны — дэвы, во главе которых находится демон зла Антра-Маинйу, и вместе со смертью будет окончательно уничтожено зло на земле. Люди заживут в братском единстве среди воскрешенной, еще более прекрасной и изобильной природы. Поэтому не случайно из своего анализа М. Бойс, казалось бы, делает вполне логичный вывод: «...Зороастр стал первым, кто учил о суде над каждым человеком, о рае и аде, о грядущем воскресении тел, о всеобщем Последнем Суде и о вечной жизни воссоединившихся души и тела. Эти представления стали впоследствии известны религиям человечества, они были заимствованы иудаизмом, христианством и исламом. Однако только в самом Зороастризме они имеют между собой полную логическую связь, потому что Зороастр настаивал и на исконной благости материального мироздания и, соответственно, плотского тела, и на непоколебимой беспристрастности божественной справедливости. ...Проповедь Зороастра была и благородной, и требующей усилия от каждого человека, она призывала тех, кто принимал ее, к решимости и отваге» 1 2.
Таким образом, идея монотеистического духовного центра, давшего импульс развития всему человечеству обретает уже даже не второе, а третье дыхание. Ведь доказано колоссальное влияние, которое оказал зороастризм на
1 Дорошенко Е. Зороастрийцы в Иране (историко-этнографический очерк) — М., 1982. — С. 30-31.
2 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. — М., 1988. — С. 39—40.
многие античные культы, а главное — на христианство в его ветхо- и новозаветной версиях.
Более того, в данном случае имеет место как бы воспроизводство уже известного по Древнему Египту архетипа народа-пришельца, роль которого теперь исполняют не вечные скитальцы и изгои — древние евреи, а наоборот — воинственные арии, покоряющие почти все пространство первобытной Ойкумены, включая территорию будущей античной цивилизации (специалисты отмечают древнеарийское происхождение в том числе и греческого суперэтноса) создав подлинно монотеистическую религию, выполнившие великую историческую миссию ретрансляции всем народам мира божественного откровения.
В самом деле, ведь казалось бы — общеизвестно, что арии осуществили культурную колонизацию не только в западном направлении, они в буквальном смысле колонизовали, привнеся новые религиозные идеи в дальневосточную архаику, захватив территории будущей древнеиндийской цивилизации, которая, по мнению некоторых востоковедов, оказала существенное общемировоззренческое влияние и на Древний Китай.
Отсюда распространенная версия о существовании общей для китайского и индийского этносов евразийской прародины, которая кроме того, что принесла на Восток множество технических нововведений, сформировала основы общественного строя, структурированного по варновому признаку, также заложила основы языка, культуры, а главное — многие востоковеды придерживаются теории о том, что еще в III—II тысячелетии до н. э. арийскими племенами во время великого переселения народов в регион Переднего Ближнего Востока и долину Ганга была занесена особая система религиозных смысловых архетипов, на основе которой и возникли Веды и Авеста, а чуть позже — монотеистические религиозные системы.
И дело не только в том, что основные мифологически-религиозные архетипы новой картины мира были принесены извне, но и в том, что сами арии (дословно «благородные») уже на этапе формирования раннеклассовых обществ в своем миропонимании и мирочувствовании достигли высочайшего понятийного обобщения, универсализации видения фундаментальных основ человеческого бытия, в частности, о богах как воплощении абстрактных добродетелей, но и создали религиозную утопию о северной «стране блаженных», доступ в которую возможен лишь для избранных мудрецов, в которой совершается посмертное воздаяние душам добродетельных людей, которые снова обретают плоть и кровь. «Появившись в верховьях Ганга, индоарии стали постепенно осваивать до того слабо заселенную долину этой реки, оттесняя либо ассимилируя немногочисленные и сравнительно отсталые аборигенные племена. Высокий уровень материальной культуры — знакомство с металлами, использование плуга, удобрений, ирригационных устройств, средств транспорта, развитое ремесло и т. п. — способствовал быстрому и успешному утверждению индоариев в долине Ганга. Именно их язык и культура, включая ее религиозно-мировоззренческую первооснову на долгие тысячелетия, вплоть до наших дней, определили исторический путь индийской цивилизации.
Именно арии с их огромным вниманием к религиозной символике и мифологии, культом и жертвоприношением, с ведущей ролью жрецов-брахманов и обожествлением священных текстов-самхит, выдвинули на передний план в этой цивилизации религиозно-духовные проблемы, подчеркнутый пиетет по отношению к которым стал со временем квинтэссенцией всей духовной культуры Индии» *.
Следует особо подчеркнуть, что правильное понимание данной проблемы имеет исключительно важное значение, поскольку действительно связано с «перебрасыванием моста» из древней истории в современную, включая трактовку ключевых событий истории новейшей. Ведь арийская гипотеза общецивилизационного развития послужила основой ряда модерных мифов уже в Новейшее время, которые легли в основу различных ответвлений современной тоталитарной идеологии и, в конечном счете, уже повлияли и могут в еще большей степени повлиять на судьбы человечества в ближайшем будущем.
Не секрет, что на модернизации мифа о европейской прародине человечества основывается нацистская мифология избранной арийской расы, со всеми вытекающим отсюда последствиями, вплоть до обоснования права на всемирное господство избранного народа (в конечном итоге миф об общем индо-арийском культурном прошлом вполне оправдывает даже создание так называемой оси «Рим — Берлин — Токио»).
Более того, если исходить из концепции приполярной центральноазиатской прародины человечества, от которой сами арии получили основы своей религии и миропонимания при посредстве угро-финов (а существует и такая историческая версия) передав впоследствии через культурные связи свой арийский боевой пассионарный дух «скифам», то двойную мотивацию получает идеология современного российского евразийства: с одной стороны, высшая истина бытия, если исходить из самой индоарийской мифологии о святой горе Хара и гряде, закрывающей проход в северную «страну блаженства», может исходить из ламаистского Тибета и пассионарно оплодотворить через посредство татарских кочевых племен, в духе соловьевской концепции панмонлогизма, древнюю Русь (духовный столп современных евразийцев Александр Дугин прямо пишет о том, что афоризм Аксакова «хорошенько потри русского и ты увидишь татарина», нужно трактовать вовсе не в шутливом, а в сакральном ключе). С другой — так называемое скифское происхождение ариев в районах Восточной Европы и Причерноморья также работает на мифологию арийского происхождения теперь уже южных славян.
Впрочем, цивилизационная модель «православной цивилизации» так или иначе связана с арийской проблемой (концепция Византийской империи — Второго Рима, непосредственным цивилизационным наследником которого якобы стала Россия — Третий Рим) как своеобразного симбиоза римского античного оседлого и варварски-кочевого элементов, германских племен, ассимилировавшихся с Запада и с Юго-Востока. Скифы и славяне,
1 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. — М., 1988. — С. 154—155.
якобы восходящие этническими корнями к ариям, динамизировавшие своим военно-кочевым духом римскую статичную структуру, незыблемую государственность (вспомним знаменитые строки Блока: «Да скифы мы, да, азиаты мы...» из поэмы «Скифы»).
Даже понимание концепций образования «святой Руси» посредством «приглашения варягов» находится либо в арийском мифе мессианской роли российской империи как носительницы божественных первосмыслов или архетипов, откровения, полученного от богоизбранного арийского пранаро-да, которым являются уже древние викинги, на которых также «работают» индоарийские легенды о приполярной стране «сверхлюдей» (впрочем, подобной трактовкой истоков арийского этноса, как известно, вдохновлялись и нацисты).
Таким образом, в одной точке как бы сошлись три типа ультраэтничес-ких мифов: нацистский, сионистский и евразийский, каждый из которых обосновывает претензии тех или иных этнических групп на мировое господство. Причем мифы эти в XX столетии теснейшим образом переплелись, образуя различные оттенки и проявления особой, возникшей лишь в XX столетии тоталитарной идеологии. Ведь, как отмечалось, тот же коммунизм в своих идейных истоках имеет элементы иудаизма; иудаизм критикуется как одно из проявлений расового мессианизма и чуть ли не предтеча нацизма, а сам нацизм неоднократно обвинялся в плагиате идей еврейского мирового господства.
Не случайно 3. Фрейд с одной стороны признает, что иудаизму присуща идея мирового господства, за что его носители подверглись гонениям, а с другой — пытается доказать, что цивилизованное еврейство уже открестилось от приписываемого ему в знаменитых «Протоколах сионских мудрецов» идей расово-этнического превосходства: «Если в предварительном порядке мы посчитаем власть фараона над миром причиной появления монотеистической идеи, то увидим, что последняя оторвалась от своей почвы и переместилась на другой народ, после продолжительного периода латенции овладела этим народом, сохранилась им как самое ценное достояние и теперь, в свою очередь, поддерживает жизнь народа, наполняя его гордостью избранничества. Это — религия праотца, с которой связана надежда на воздаяние, на особое положение, наконец, на мировое господство. Эта последняя фантазия — желание, давно оставленное еврейским народом, еще и сегодня продолжает жить у врагов этого народа в виде веры в «заговор сионских мудрецов» *.
Порочный круг замыкается: непримиримые идеологические враги оказываются органически связанными общими мифологическими архетипами.
Более того, тема арийства, как известно, активно эксплуатируется в украинской национальной мифологии, которая, подобно всем остальным про-тоталитарным мифам, претендует на сверхнаучность. Достаточно вспомнить восходящие к работам Липы идеи об арийских, византийских, скифских и
1 Фрейд 3. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. — М., 1993. — С. 98.
чуть ли не еврейских этнических корнях украинцев, которые именно в силу своего происхождения обречены стать особым народом, которому суждено проложить «золотую тропинку» в светлое будущее всему, переживающему третий кризис, человечеству. И если в работе Ю. Каныгина «Путь ариев» скорее создан миф, в котором на основе фальсификации истории сакрализируется образ Украины, как центра мировой цивилизации, то в «Арийском стандарте» И. Каганца уже проводятся откровенные аналогии между расовой теорией нацизма и расовой типологией древних украинцев как подлинных, так сказать, аутентичных ариев, причем с позиций русофобства (и это при огромном количестве смешанных русско-украинских браков) и антисемитизма. В целом же, достаточно в нацисткой идеологии заменить «подлинных арийцев» на «подлинных украинцев» и идея Третьего рейха мгновенно трансформируется в идею каганцовского «Третьего Гетьманата», что, конечно, может лишь дискредитировать украинскую национальную идею (подобно тому, как евразийский или православный мифы, на мой взгляд, дискредитируют идею русскую) *.
Однако более тщательный, действительно научный анализ практически всех смысловых блоков варианта мифологии истории, возводящих «осевое время» ко временам арийской экспансии, а основным цивилизационным центром человечества определяющее не то Северную или Центральную Европу, не то территорию Северного Причерноморья с центром в Трипольской культуре, свидетельствует о ее полной несостоятельности.
Так, согласно базовой теории происхождения ариев, их основной ареал первичного обитания — лесостепные зоны северного Причерноморья, Восточной, а возможно, и Центральной Европы, а зона первоначального расселения — от Поволжья до Уральских гор и даже Передней Азии. Однако несмотря на наличие несомненных контактов между ариями и регионами древних ближневосточных обществ, в целом эти цивилизационные миры типологически разнокачественны, а самобытность арийского мира, центры которого формировались в регионах Восточной Европы уже в конце IV — вначале III тысячелетия до н. э., не вызывает у добросовестных исследователей никаких сомнений (относящийся к языкам индоиранской группы так называемый авестийский язык в качестве именно индоевропейского близок к санскриту).
К моменту возникновения зорастризма уже сформировался вполне самобытный, именно индоарийский культурно-цивилизационный ареал, в рамках которого происходит разработка типологически сходных религиозномировоззренческих архетипов: «Арийские племена, пришедшие в Индию, в языковом и культурном отношении были особенно близки к племенам иранской группы. ...Сохранившиеся до нашего времени собрания священных гимнов — Веды индийцев и «Авеста» иранцев — очень близки между собой по языку, мифологическим образам, многим сюжетам. И индийские, и иранские племена называли себя ариями, а свои страны — арийскими. Уместно отметить, что имевшее распространение в российской литературе
1 Каганець I. Аршський стандарт. — К., 2005. — С. 228—257.
одиозное применение термина «арии», «арийцы» в отношении всех индоевропейских народов не имеет под собой научной основы. Единственно обоснованным является его употребление для обозначения индоиранских племен и народов, как они и называются в научной литературе» *.
Более того, говорить о простой привнесенности извне ариями более высокой культуры на территорию Древней Индии было бы большим упрощением: «До XX столетия в индологии господствовала точка зрения о сравнительно позднем возникновении индийской цивилизации: начало ее соотносили с приходом индоарийских племен. ...Теперь едва ли уже можно сомневаться в том, что Хараппская цивилизация сложилась задолго до проникновения в страну племен — создателей Ригведы» * 2.
Кроме того, современному уровню исторической науки уже не соответствует представление о сугубо арийских истоках самобытных философских систем Индии, по отношению к которым можно говорить о каком то духовном первенстве зороастризма. Последние исследования неоспоримо доказывают наличие в регионах Иранского нагорья и, особенно, на территории Индостана мощной земледельческой городской культуры, по многим цивилизационным параметрам вполне сопоставимой с экономикой и культурой Древнего Египта и Шумеро-Вавилонии, которая по своему духовно-религиозному и экономическому потенциалу не только не уступала арийской земледельческо-кочевой культуре, но превосходила ее, что, кстати, дало основание некоторым индийским ученым самих ариев идентифицировать не с пришлым, а с местным населением. Причем наметившийся к моменту арийской колонизации упадок этих центров древневосточной культуры связан прежде всего не с внешними, а с внутренними климатическими факторами.
Важно, что речь идет не просто о взаимном воздействии двух культурных традиций, а о привнесении через доарийскую традицию в мифологическую структуру индийской древности мировоззренческих архетипов, ставших впоследствии системообразующими в процессе формирования постмифологических философско-религиозных учений Востока. В частности, «согласно утверждению ряда индийских ученых, воздействие хараппской и вообще доарийской традиции выразилось и в появлении у индоариев практики изображения богов в человеческом образе. А также всего круга представлений, сопряженных с аскетизмом. У индоариев (и у индоиранцев)... отсутствовала аскетическая практика, имевшая очевидно, местные корни...» 3.
Что же до относительно раннего становления в данных регионах особой религиозно-мировоззренческой духовной картины мира с выразительными элементами монотеизма преимущественно на собственной основе, то причины этого феномена весьма разнообразны. Это и благоприятные климатические условия, безусловно способствовавшие раннему развитию земледелия, с присущим ему обостренным вниманием к абстрактным природным
1
2
Бонгард-Левин Г., Грантовский Э. От Скифии до Индии. — М., 1983. — С. 14—15.
Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. Философия. Наука. Религия. —
М., 1980. - С. 12-13.
3 Там же. . — С. 17.
стихийным силам, становлению космогонической мифологии, слабо сопоставимой с описанными выше экстраполируемыми на природу моделями архаических племенных образований деспотического типа, с присущим им родовым монотеизмом, и периферийное расположение Иранского нагорья относительно классической ближневосточной цивилизации, по поздним упадническим формам которой Л. Мемфорд моделировал свой проект утратившей творческий потенциал цивилизационной Мегамашины, что позволило относительно беспрепятственно развиваться новым религиозным веяниям.
Однако самое главное состоит в том, что к моменту начала на Востоке ясперсовского исторически первого «осевого времени», датирующегося именно I тысячелетием до н. э., в регионах Индии и Китая происходит становление качественно новых религиозных систем и, соответственно, духовных картин мира, достаточно самобытных относительно даже зороастризма. «Ко второй половине I в. до н. э. материальная и духовная культура ведийских индийцев приобрела качественно новые черты, подверглась столь сильному «местному» воздействию, что вклад неарийских племен уже практически не осознавался. Закономерности исторического процесса неизбежно вели, таким образом, к постепенному стиранию установившихся ранее барьеров... Постепенно создавалась (пока в рамках Северной Индии) индийская культурная общность» ’.
Кроме того, не следует забывать, что арийская мифология по своему личностно-гуманистическому потенциалу во многих своих аспектах является не менее архаической, чем египетская, шумеро-вавилонская или иудейская. Поэтому нельзя исключить, что навязываемая ариями варновая (а впоследствии кастовая) структура общества не только не способствовала, а, наоборот, тормозила развитие в Древней Индии подлинного монотеизма, и в конечном итоге способствовала ее духовно-цивилизационному отставанию, консервации в ней реакционно-культовых пережитков индуизма (элементы архаического, фетишизма и анимизма, культивирование добровольных человеческих жертвоприношений вплоть до эпохи Новейшей истории и т. д.). Ведь в значительной степени именно эти факторы духовной архаизации Индии послужили причиной упадка на ее территории, выросшего из брахманизма, буддизма, более последовательно монотеистической мировой религии по сравнению даже с духовно рафинированным и изощренным зороастризмом. Ведь в индуизме в значительной степени происходит возврат к более примитивному относительно философского монизма Упанишад классического буддизма и джайнизма, политеизму: «С Брахмой связан по традиции процесс нравственного усовершенствования человека на всем протяжении его жизненного пути... В процессе исторической эволюции индуизма Брахма занял место одного из членов ведущей триады богов, наряду с Шивой и Вишну... Иконографически он изображается между двумя этими божествами как некое надмирное изначальное всесозидательное начало. Тем не менее в культовой практике ему отводится очень мало места» * 2.
Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. Философия. Наука. Религия. — М„ 1980. - С. 28-29.
2
Гусева Н. Индуизм. История формирования. Культовая практика. — М., 1977. — С. 75.
В тоже время нельзя сбрасывать со счетов и то, что арийское влияние могло иметь двоякий характер. С одной стороны, арии своим вторжением наглядно продемонстрировали неэффективность существующих политических и экономических институтов, навеяли дополнительную смуту в умы местной религиозной элиты, уже искавшей новые религиозно-этнические и мировоззренческие ценности, на основе которых можно было бы преодолеть наметившийся собственный внутренний социально-экономический кризис. Арийский комплекс религиозных верований уже своей необычностью и нестандартностью, особым архаическим динамизмом, присущим обществам с явно выраженной кочевой доминантой в образе жизни, послужил хорошим понятийным материалом для построения на основе синкретизма с местными религиозными представлениями качественно иной духовной картины мира.
И в этом смысле Авеста с ее откровенно солярными животными и земледельческими мифологическими гимнами действительно не может служить классической формой монотеистической религии-откровения, реализующей главную идею прамонотеизма — факт своеобразной имплантации божественного начала в культуру как Востока, так и Запада. Реально, подобно иудаизму, Зороастризм можно в лучшем случае рассматривать лишь как переходную форму эволюции от генотезма и политеизма к монотеизму.
Более того, дуализм доброго и злого начал, который ряд авторов считают показателем самобытности и, так сказать, модерности Авесты, на наш взгляд, наоборт, свидетельствует скорее о противоположной тенденции — архаизации потенциально мировой религии на мифологический лад. Так, по Гегелю, в конечном итоге непреодолимый этический дуализм Авесты одним из своих важных измерений имеет дуализм мифологичной бинарности, духовного и природного как чувственно-эмпирического, при которой вышеуказанные этические категории еще описываются через природные характеристики света и тьмы, солярные и лунные мифы, что подрывает основу подлинного религиозного монотеизма как универсального первопринципа бытия, в основе которого есть Дух *. (Вот почему «добро здесь еще абстрактно, односторонне; тем самым оно выступает в качестве абсолютной противоположности по отношению к другому, и это другое есть зло» * 2.)
Не случайно и то, что новозаветное христианство, пытаясь преодолеть подобную религиозную архаику, вело непримиримую борьбу с различными манихейскими христианскими сектами проповедующими дуалистичность добра и зла (которая все же до конца не была преодолена не только в Ветхом, но и в Новом Завете). «Трудно представить зороастризм, иудаизм, христианство или ислам без вечных соперников — Бога и «антибога». Между тем в Палестину «антибог» явно пришел из Ирана в аземенидские времена: в Библии Сатана появляется только в поздней книге Иова (пресловутый эдемский змий — всего лишь коварное животное). При этом, дабы не умалить всемогущество Яхве, раввины приписали Сатане двусмысленную роль про
1
2
Гегель В. Философия религии в двух томах. — М., 1977. — Т. 2. — С. 13—18.
Там же. — С. 11.
вокатора и палача на службе у Бога. В этой роли Дьявол был унаследован мировыми религиями» *.
Поэтому, по нашему мнению, пытаясь преодолеть эту мифологическую парадоксальную амбивалентность, при которой зло ничем не хуже добра не потому, что все относительно, а потому, что оно существует на равных с добром и не менее могущественно, чем добродетель (и потому, кстати, требует ритуального почитания), иудаизм в своей трактовке дуализма доброго и злого начал как производного от божественного всемогущества более последовательно монотеистичен по сравнению с повлиявшим на него зороастризмом.
Что же до приведенных выше откровенно этических характеристик данной религии в категориях добра и справедливости, то, на наш взгляд, они явно преувеличены и обусловлены более поздними романтическими трактовками зороастризма, включая ницшеанскую, в которой диалектика света и тьмы уже трактуется в откровенно модернизаторской интерпретации борения двух начал в душе бунтующего человека эпохи «бури и натиска», что не соответствует реальному содержанию персидской религии (подобную модернизацию Ветхого Завета в духе религии страдания и откровения, в которой образ бога отца все больше походит на идеал Государя Макиавелли, что, собственно и послужило причиной большей привлекательности для протестантизма именно Ветхого Завета. Причем специфическую, собственно новоевропейскую модернизационную интерпретацию иудаизма, произошедшую в реформационном сознании, М. Вебер позже неправомерно отождествил с содержанием собственно ветхозаветной религиозной доктрины.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий концептуальный вывод: попытка обратиться к мифологическим первоистокам всемирной истории, в частности, к концепции прамонотеизма как некоего «изначального», творящего историю провиденциализма является полностью несостоятельной.
В то же время критика подобного подхода является предельно актуальной именно потому, что понимание движущего духовного первоначала всемирной истории самым непосредственным образом связано с современными интерпретациями ее движущих сил. Более того, как свидетельствует анализ, сами эти прамонотеистические мифы сформированы, вернее даже сознательно сконструированы уже в эпоху нового и новейшего времени и часто преследуют цели, несовместимые с официально декларируемой «легендой» о своей духовно облагораживающей человеческое бытие функции, поскольку в действительности так или иначе этнически-религиозная исключительность всегда имеет выразительный расово-биологический подтекст (личные качества человека оказываются жестко детерминированными, по сути, не зависящими от его личных усилий, и определяются только фактором этнической принадлежности).
В целом попытка выведения настоящего и возможного будущего из архаического прошлого, в данном случае, иудейского провиденциализма, пу
1 Дудко Д. Свет из иранского мира в кн.: Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. — М., 2005. - С. 372.
тем откровенной модернизации мировоззренческих матриц религий переходного от зооморфизма и генотеизма к последовательному политеизму типа не только грубо искажает исторические реалии, но и усложняет понимание механизмов зарождения исторически первых, пространственно очерченных цивилизационных комплексов, появление которых ознаменовало переход человечества от первобытности к стадии раннеклассового общества; тем более, что при подобном подходе остается принципиально невыясненным суть цивилизационно-стадиального перехода к так называемому первому «осевому времени», неразрывно связанному с общеформационным переходом к сословно-классовым обществам и искажаются духовные особенности миропонимания в регионах Востока и Запада.
В связи с проведенным анализом, особый интерес представляет гегелевская трактовка так называемой естественной или непосредственной религии, которая по сути и является тем, что сегодня называют мифом. Не называя термина «прамонотеизм» великий немецкий мыслитель дает поразительно точную и емкую характеристику сути подобного подхода: «утверждают, что человек имел истинную, исконную, религию, пока пребывал в состоянии невинности, до того, как в его интеллекте образовалось то разъединение, которое называют отпадением. Это априорно обосновывается представлением, согласно которому бог как абсолютное добро создал дух людей по образцу и подобию своему, и этот дух находился якобы в абсолютной связи с ним. Дух жил также в единстве с природой... и тем самым полностью обладал искусством и наукой в целом»
Однако, отмечает В. Гегель, в действительности исторически первая форма теоретической рефлексии является наиболее примитивной и отнюдь не дает возможности прояснить подлинные движущие силы развития всемирной истории. «Представлять себе, что человек в упомянутом состоянии обладал высшим знанием природы и бога, нелепо, к тому же это и исторически совершенно не обосновано.... Когда идея, т. е. то, что есть в себе и для себя, излагается в мифологической форме в виде событий, то неизбежна непоследовательность, поэтому и названное изложение не может быть свободно от непоследовательности. Идея в ее жизненности может быть постигнута и изложена лишь мыслью» 1 2.
По сути опровергая идею мифологического априоризма, как проанализированного выше прамонотеизма в его трех основных версиях, В. Гегель дает ключ к пониманию подлинного творческого начала в человеке как органически присущей его природе творческой способности, которая вовсе не задается извне какими-либо мифологическими факторами и осмысливается человеком в процессе развития самой истории, которая, как справедливо отмечал В. Гегель, есть ни что иное, как все более полное осмысление человеком и человечеством в процессе своего существования творческой сущности своего бытия: «единство человека с природой — излюбленная звучная фраза; при правильном понимании она должна означать единство человека с его
1 Гегель В. Философия религии в двух томах. Том 1. — М., 1976. — С. 418—419.
2 Там же. - С. 422, 423.
природой. Однако истинная его природа есть свобода, свободная духовность, мыслящее знание в-себе-и-для-себя всеобщего, и в этом определении это единство уже не есть природное непосредственное единство» *.
Подытоживая сказанное, можно сделать принципиальный вывод о несостоятельности всех трех версий прамонотеистических истоков человеческой истории, сформировавшихся якобы в процессе высшего развития мифологических систем и их трансформации в мировые религии западоцентристского типа. Показано, что так или иначе все вышеуказанные подходы связаны с искажением реального культурно-религиозного смысла и исторических реалий эпохи зарождения раннеклассовых обществ, что не дает определить их подлинную цивилизационную природу.
Религиозно-мировоззренческое миропонимание
Индии и Китая в стадиально-цивилизационном измерении: подлинный монотеизм
а) качественное отличие духовных картин мира античной и индо-китайской цивилизаций
Где же в действительности могла возникнуть идея наиболее последовательного монотеизма, то есть религии, действительно связанной с важнейшими мировоззренческими смыслами, стимулирующими духовное, в том числе нравственное саморазвитие человечества? Известный ученый А. Лосев, сравнивая бытийно-личностные характеристики религий античности и средневековья, а также реннесансной Европы, в противоположность сторонникам выведения современной западной цивилизации из античной, подчеркивал стадиально-типологическую несовместимость античности, с одной стороны, и христианского монотеизма Средневековья и Ренессанса, с другой: «личность, не сводимая на природу, возникла не раньше средневекового монотеизма или возрожденческой абсолютизации земного человека» 1 2.
Оставив пока в стороне вопрос о мировоззрении европейского Ренессанса, обладающего, по нашему мнению, качественным отличием не только от античного, но и от средневекового религиозного сознания, уточним: сам европейский средневековый монотеизм еще очень отягощен не только пережитками античного язычества, но и архаичной мифологии проживавших на территории Европы полупервобытных племен, с присущим ей материально-фетишистским способом восприятия мира, являющимся еще значительно более вещественно-эмпиричным, чем даже античное мышление: «Под покровом религиозного сознания, будь то христианство или язычество, располагался мощный пласт архаических, «исконных» стереотипов практического или интеллектуального «освоения мира», вряд ли поддающегося описанию как религиозные в полном смысле этого слова. ...Сохранялись совсем иные установки поведения, проистекавшие не из экстраполяции человечес
1 Гегель В. Философия религии в двух томах. Том 1. — М., 1976. — С. 424.
2 Лосев А. Античная философия и общественно-исторические формации. В кн.: Античность как тип культуры. — М., 1988. — С. 54.
ких свойств на остальной мир, а скорее, из распространения признаков природы на человека. Люди обнаруживали в себе те же самые качества, что и во всей окружающей их природной среде. ... они были непосредственно включены в круговорот природных явлений»
Более того, даже понимание самого христианства уже в X веке нашей эры на Севере Европы преимущественно все еще носит откровенно языческий характер. В частности, «Христос фигурирует не столько в роли учителя, сколько в роли воинственного Канунга, возглавляющего дружину апостолов. Борьба между силами добра и дьявольскими силами выступает... не в виде конфликта двух принципов, а как вооруженная вражда. «Агнец божий» превращен в «славного вождя», раздающего уже не благословения, а щедрые подарки, вера в Спасителя интерпретируется как верность дружинников вождю. Спаситель не спасает от зла (в сакраментальном смысле) но защищает верных ему против зла — внешне противостоящей им угрозы... Сатана в поэме — воплощение неверности, Иуда — нарушитель присяги» 1 2.
Поэтому, на наш взгляд, вполне можно сделать принципиальный для данного исследования вывод: средневековый христианский монотеизм отнюдь не является «эталонным» с точки зрения подлинно монотеистического единобожия, несовместимого, по А. Лосеву с античным политеизмом.
Если же говорить о действительной мировоззренческой несовместимости античного, еще во многом наивно эмпирического, видения мира и духовно-созерцательной системы высшего уровня теоретической абстракции, то, по нашему глубокому убеждению, безусловно необходимо сравнивать античный стиль миропонимания и тот, который сложился в эпоху так называемого раннего средневековья (применительно к дальнему Востоку, как правило, датируемого еще первыми веками до нашей эры) в Индии и Китае. Причем вопреки ясперсовской концепции единого для Запада и Востока осевого времени, именно в I тысячелетии до н. э. в античном и восточном мирах возникли действительно качественно отличные мировоззренческие системы.
В самом деле, главная и характерная особенность всех без исключения философских подходов к пониманию различных первоначал организации мира, начиная с эпохи зарождения греческой философской мысли и заканчивая утонченными мистическим системами неоплатонизма, состоит в принципиальном отрицании возможности существования небытия как некоей абстрактной духовности, творящего первоначала, которое находится за пределами видимого вещественного мира. Весь пафос греческой философской классики состоит в буквальном провозглашении того, что, как в частности подчеркивает Парменид в своем знаменитом трактате в «О природе», «не доказать никогда, что небытие существует. ...Есть бытие, а небытия вовсе нету; ... Не возникает оно (бытие), и не подчиняется смерти. Цельное все, без конца, не движется и однородно. ...без перерыва, одно. Ему ли разыщешь
1 Гуревич А. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. — М., 1990. - С. 48.
2
Гуревич А. Проблемы средневековой народной культуры. — М., 1981. — С. 90.
начало? ... Замкнуто, массе равно вполне совершенного шара» '. А вот что говорит по этому поводу Анаксагор: «ибо казалось в высшей степени не понятным, каким образом что-нибудь может возникнуть из небытия или уничтожиться в небытие» 1 2. Им же вторит Демокрит: «Ведь из небытия не бывает возникновения, а из сущего ничто не может возникнуть по той причине, что атомы вследствие своей твердости не способны ни испытывать воздействия, ни изменяться» 3. Наконец, Лукреций Кар в своей знаменитой поэме «О природе вещей» чуть ли не с мистическим ужасом пишет о небытии как полном уничтожении:
«Ибо должно пребывать всегда нерушимое нечто, Чтобы не сгинуло все совершенно, в ничто обратившись. Ведь коль из граней своих что-нибудь, изменяясь, выходит, Это тем самым есть смерть для того, чем оно было раньше» 4.
Но именно из знаменитой формулы Парменида «бытие есть, небытия же нет», как и аналогичных высказываний, приведенных выше, органически вытекают мировоззренческие ограничения античной космософии как таковой, связанные со слишком эмпирическим представлением о Вселенной, а значит и неспособностью помыслить ее вне круга непосредственного восприятия органами чувств. «Весьма интересным следствием открытия Парменида является утверждение о том, что бытие имеет предел. Это утверждение противоречит, казалось бы, самой идее всеобщего бытия... Но Парменид настаивает на определенности, и конкретности, сферичности бытия. Решающий его аргумент — бытие это именно «нечто», отсутствие же предела будет значить что оно «ничто»; следовательно, бытие исчезнет». Ведь «...лишенность предела — это вечная нехватка чего-то, незавершенность, несовершенство, ущербность, даже «зависть». Отсюда следующая характеристика бытия: оно есть благо. Раз оно не в чем не испытывает нужды, находится абсолютном покое и преисполнено собой — то оно — благо» 5.
Таким образом, анализ свидетельствует о наличии неких предзаданных смысловых параметров античной духовной картины мира, за пределы которых миропонимание древних греков не может вырваться в принципе и которые можно рассматривать как духовные критерии цивилизационной идентичности человека античности. Поэтому вполне закономерно, что даже позднеантичные философские учения, в первую очередь, неоплатонизм несмотря на наличие изощренной рафинированной категориальной иерархии восхождения от темного, мирского начала к горнему свету духовного инобытия, никогда так и не преодолели непосредственно чувственно-материального космизма, фатального детерминизма, составлявшего основу античного мировосприятия в целом, в рамках которого диалектика одного и многого
1 Антология мировой философии в четырех томах. — М, 1969. — Т. 1. — С. 295—296.
2 Там же — С. 310.
3 Там же. — С. 327.
4 Тит Лукреций Кар. О природе вещей. — М., 1983. — С. 79.
5 Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. — М„ 1986. - С. 10.
так и не вышла за пределы понимания соотношения чувственно воспринимаемой материи и многообразия форм ее проявления *.
Сторонники же европоцентристской модели происхождения христианства, напротив, выдвигают идею самостоятельной трансформации античного политеизма к монотеизму, усматривая истоки христианства в неоплатонизме, а истоки последнего — в стоицизме, платонизме, пифагореизме. При таком подходе оказывается, что христианство — лишь переосмысленная и вульгаризированная окраинами эллинизированного Ближнего Востока форма неоплатонизма и стоицизма. При этом ссылаются на идею трех ипостасей Единого, символику света и тьмы, используемую именно в неоплатонизме для характеристики перехода от единого к множеству.
Правда, тот же А. Лосев высказывает сомнение относительно чисто античного происхождения монотеизма на этапе активной феодализации Римской империи: «Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с материалами Филона — это его никогда не бывалый в греческой религии и философии ...монотеизм» 1 2. Однако сам А. Лосев, в какой-то мере «подыгрывая» рассмотренной выше концепции древне-ближневосточного прамонотеизма, рассматривает истоки неоплатонизма как не имеющие никакого отношения к восточным культам; они, прежде всего, результат реставрации мифологии общинно-родового строя, а значит, в том числе и архаических ближневосточных религиозных воззрений раннего иудаизма 3.
На самом деле, принципиально иное мировидение, непосредственно отразившееся и в понимании диалектики бытия и небытия, оказавшее колоссальное влияние на позднюю античность, начало формироваться именно на Востоке еще на этапе трансформации традиционных мифологических моделей мира в исторически первые философско-религиозные системы. Вначале понятие единого творящего божественного начала еще неразрывно связано с онтологическим мифологическим миропониманием. «Одно» имеет в основном вещественные атрибуты:
«Един огонь, многоразлично возжигаемый, Едино Солнце, всепроникающее, Едина Заря, все освещающая, И едино то, что стало всем (этим)».
Но постепенно происходит смещение акцентов с онтологических характеристик первоначала на теоретические — обоснование его неделимости и непостижимости чувственными средствами познания:
«Дышало, не колебля воздуха, по своему закону нечто Одно, И не было ничего другого, кроме него» 4.
1 Лосев А. История античной философии. — М., 1989. — С. 54—55.
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. — М., 1979. — С. 83-84.
3 Там же. - С. 157-158, 163, 176.
4
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. — М., 1980. — С. 45. На наш взгляд, перевод, сделанный Г.М. Бонгардом-Левиным, имеет большую ценность в научном отношении по сравнению со стихотворным переложением В. Тихомирова. Ср.: «Да услышит меня земля и небо» (Из индийской поэзии. — М., 1984. - С. 125).
Более того, вскоре проблема творения мира из некого вневременного и внепространственного небытия стала предметом непосредственной философской абстракции. И здесь буквально бросается в глаза, что мыслители Индии в понимании организации непосредственного бытия находятся на противоположных мировоззренческих позициях с античными, настойчиво ищущими некий материальный первоэлемент видимого мира, организующего античный космос (в качестве которого выступали вода, воздух, огонь, а позже крошечные невидимые, но, тем не менее, вещественные, частички-атомы). Причем, парадоксальность идеи творения бытия из небытия, в силу несовместимости подобного мировидения с простой чувственной достоверностью мифа еще порождает сомнения у восточных мыслителей: «Вначале, дорогой, (все) это было сущим, одним, без второго. Некоторые говорят: “Вначале (все) это было не-сущим, одним, без второго. Из этого не-сущего родилось сущее”. Но как же, дорогой, это могло быть? Как из несущего родилось сущее? Нет, вначале, дорогой, (все) это было сущим, одним, без второго» *.
Однако уже следующий пункт трактата о первооснове и первоначале бытия утверждает положение, ставшее господствующим в религиях Индии и Китая:
«Поистине вначале это было не-сущим; из него поистине возникло сущее» * 2.
Причем особенно важно то, что подобное категориальное видение смысла бытия неразрывно связано с установлением более последовательного по отношению к христианству, и, тем более, в античности религиозного монотеизма, решительно преодолевающего любые формы религиозно-мифологического политеизма, подчиняющего их себе: «Поистине Брахманом был вначале этот (мир). Он создал и богов... Поистине смертными были боги вначале. Когда же они достигли этих (миров) благодаря Брахману, они стали бессмертными» 3.
Отчетливо просматривается и то, что подобное понимание божества неразрывно связано с представлением об абсолютном идеале, выступающем как главная мотивация бытия, отвечающего подлинному смыслу или сущности собственно человеческого существования: «Единственный бог, скрытый во всех существах, всепрощающий, внутренний атман всех существ, следящий за действиями, живущий во всех существах, (все)-видящий, знающий, один-единственный и лишенный свойств... Он вечный среди невечных, мудрый среди немудрых, один среди многих, он дарит желание» 4. Это же относится и к ключевой абстракции китайского конфуцианства — Небу, безличному, непостижимому одному (что касается Дао, то здесь сильно ощущается индийское влияние на даосизм со стороны брахманизма).
I
2
3
4
Антология мировой философии. — М., 1969. — Т. 1. — С. 81.
Там же.
Древнеиндийская философия: Начальный период. — С. 71.
Там же. — С. 255.
Таким образом, именно в индийской и китайской философии впервые появилась идея, которая начала утверждаться в философии поздней античности (как в рамках неоплатонистической философии, так и христианской религии) лишь через несколько столетий. «Появилось новое, небывалое и непонятное никакому греческому философу учение о творении мира из ничего. В этой концепции для греков был не понятен ровно ни один момент... основной
смысл концепции творения из ничего возникал на почве стремления во что бы то ни стало сохранить и оформить личностное понимание бытия. Ведь
лично то, что оригинально, своеобразно, неповторимо, несводимо ни на что другое, и, прежде всего, неразрушимо» *.
Идея личности, статусом которой обладает каждый из бесчисленного
множества людей, должна быть очищена от всех чувственных конкретных характеристик. «Единый атман во всех существах уподобляется каждому образу, (оставаясь) вне (их). Как солнце, глаз всего мира не оскверняется внешними пороками, (зримыми для) глаз, также единый атман во всех существах не оскверняется мирским злом (оставаясь) вне (его)» I 2.
Что же касается неоплатонизма, то здесь идея творения бытия из небытия, по сути, свелась к представлению о создании бытия из свернутого, недифференцированного бытия, превращения единого во множество путем его саморазвертывания. И это центральный пункт качественного отличия в
трактовке одного и многого в мировоззрении античного и восточного постмифологического миров. Ведь термины «инобытие» и даже «небытие» (не-сущее), заимствованные неоплатониками в платонизме, не позволяют провести четкую грань между сущим, наличным и потенциальным, возможным и должным мирами. У самого Платона «изначальное» — это единство бытия и инобытия, а инобытие оказывается лишь способом существования бытия, неким высшим эталонным бытием. Аристотель также разви
вает эту концепцию, показывая, что здесь речь идет не о едином начале, порождающем многое мира, а о различных по степени конкретности формах бытия универсума. Следовательно, все сущее остается в круге бытия, пусть даже бытия немногих идей, дающих исток многим единичным вещам. «Ничто» всегда остается неким «нечто», несмотря на все уверения неоплатоников о том, что единое пребывает до существования. По сути, Единое — это не то, что «по ту сторону», а то, что вверху, на вершине ценностной иерархии бытия. Единое рождает двоицу бытия или ума, уже содержащую в себе многое: «Единое — сверхбытийный принцип — есть монада. Монада порождает диаду, двоицу... Как множество порядка оно есть единство многообразия, едино-многое» 3.
Однако последовательно монотеистическое понимание исходит из того, что Абсолют (Дао, Брахман, Атман, Небо) рождает сверхбытие из небытия, то есть эволюционное раскрытие единого без скачка и перерыва постепенности невозможно, что и свидетельствует о существовании водораздела между ан
I 1 Лосев А.Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. — М., 1980. — С. 124.
2 Антология мировой философии. — С. 83.
Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М., 1986. - С. 141-142.
тичным и восточным миропониманием, не позволяющего их классифицировать как хронологически, а главное — как личностно однотипные характеристики, синхронные этапы становления исторического процесса в духе ясперсовского осевого времени. В Китайском даосизме уже не просто единое рождает множество, а вначале именно запредельное рождает вначале одно, единое — бытие. «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа» Понятие единого в восточной философии связывается с трактовкой небытия как за-предельности, за-бытия, несоотносимых ни с чем, в отличие от Логоса, соотносимого с хаосом. Приведем в этой связи еще один важный фрагмент: «Вначале было не-сущее, без содержания и названия. Из него возникло Единое. Единое существовало, но не имело формы. (Оно) породило все вещи, (они) называются его дэ» 1 2. Таким образом, можно сделать следующий вывод: с точки зрения последовательно проводимого «единобожия», восточный регион по отношению к средиземноморскому как в древнее время, так и в эпоху раннего средневековья, является центром наиболее последовательной, классической и, даже, в какой-то мере, предельной формы монотеизма. Именно в рамках индо-китайской, как будет показано, уже пострабовладельческой по своим стадиально-цивилизационным характеристикам, цивилизации было сформулировано представление о безличном, непостижимом боге как одном и едином, творящем надмировом начале — небытии, теряющем всякие преходящие, непосредственно фиксируемые ощущениями, признаки.
В самом деле, ведь подлинной идеологией неоплатонизм стал именно в Византийской (Восточной) Римской империи, что само по себе обусловило интенсивный процесс сближения христианства и языческого неоплатонизма. Нетрудно заметить сходство между неоплатонической триадой и троицей христианской теологии. «Единое, как начало беспредпосылочное, как «Родиться» и «Первое рождение», соответствует безначальному отцу ...неоплатоник и христианин были совершенно согласны в том, что хотя ипостасей три, божественных начал мира не три, а одно...» 3.
И конечно нельзя отрицать влияния неоплатонизма и вообще культуры поздней античности на христианство (оно, например, особенно ощутимо в четвертом Евангелии от Иоанна). Однако нельзя и забывать, что сам неоплатонизм вырос на основе Александрийской философской школы, пропитанной восточными культами и прежде всего библейским влиянием, а также ближневосточных ересей, уходящих своими корнями в мир Дальнего Востока 4. Ведь уже в Кушанскую эпоху сложился огромный культурный ареал взаимного влияния великих Рима, Кушанского царства, ханьского Китая.
1 Древнекитайская философия. — М., 1972. — Т. 1. — С. 128.
2 Цит. по: Васильев JI. С. Дао и Брахман: феномен изначальной верховной всеобщности //^Цао и даосизм в Китае. — М., 1982. — С. 148.
3 Аверинцев С. С. Эволюция философской мысли // Культура Византии: IV — первая половина VII в. — М., 1984. — С. 54.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 21. - С. 314; Т. 19. - С. 307; Т. 22. -С. 492.
Причем влияние Востока на Запад в эту эпоху было доминирующим В особенности это касается воздействия буддизма Кушанского царства, уже, по существу, феодального образования, на ближневосточную и христианскую литературу * 2.
Не случайно христианская традиция (Ориген, Иероним и др.) говорит о путешествии апостола Фомы в Индию. Исключительно широки в этот период были духовные связи Индии с Римом 3.
Основатель неоплатонизма Плотин тяготел к восточной философии и совершил путешествие в Персию, которая находилась в тесном контакте с Индией. «...На Восток приехал изучать иранскую и индийскую философию Плотин, который испытал на себе прежде всего влияние мистического элемента в Упанишидах. Через Плотина многие из них (этих идей) были... заимствованы св. Августином и оказали влияние на христианство его времени» 4. Поэтому вовсе не случайно, что в разделе онтологии наиболее поразительно сходство между ригведийской и платоновской («Парменид») диалектикой Единого (Одного) и Иного 5.
Ведь монотеистическое мировоззрение, типологически сходное с духовными системами Индии, начинает зарождаться на Ближнем Востоке приблизительно в первом тысячелетии до н. э. Не исключено, что восточное влияние на античную культуру началось уже в этот период. Во всяком случае, ислам, неоплатонизм и христианство не имеют приоритета в культивировании идеи одного, внемирового безличностного начала по сравнению с даосизмом, буддизмом и конфуцианством.
Вообще, монотеистические тенденции в христианстве и неоплатонизме выражены слабее, чем в конфуцианстве, даосизме, брахманизме (христианство вообще носит на себе следы более архаического теоцентристского и теократического миропонимания). Поэтому многие исследователи отмечают типологическую близость христианства и буддизма, явно свидетельствующую о восточных духовно-религиозных влияниях на позднеатичную философию и христианскую религию. Напрашивается вывод: последовательный монотеизм зародился не в культуре классической античности и не в архаике, уходящей истоками в Египет и Вавилон, и не в Библии. В середине I тысячелетия до н. э. под влиянием совершенно новых социально-экономических процессов, сопровождавшихся активным утверждением постра-'бовладельческого не только экономического, но и духовного уклада жизни на Ближнем и особенно Дальнем Востоке, зародились концепции персонификации человека или даже человечества в ипостаси одного бога и личностное понимание абсолюта.
Бычков В.В. Эстетика поздней античности. — М., 1981. — С. 85.
2 Аверинцев С. С. От берегов Босфора до берегов Евфрата. — М., 1987. — С. 5—46.
3 Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. — М., 1985. — С. 410—411.
4 Открытие Индии: Философские и эстетические воззрения в Индии XX века. — М., 1987. - С. 69.
5 Штейман-Топштейн С.Я. Восточные влияния в платоновских текстах // Античность как тип культуры. — М., 1988. — С. 145.
Возникла парадоксальная познавательная ситуация. С одной стороны, все традиционные определения религиозного монотеизма так или иначе привязаны к высшим религиям и философским религиозным системам, возникшим на Западе — иудаизму, христианству, неоплатонизму, исламу, а с другой — ни одну из так называемых высших религий спасения (М. Вебер) все же нельзя назвать подлинно последовательно монотеистической. Более того, отчетливо просматривается тенденция воздействия религиозных архетипов Индии и Китая на все выше приведенные якобы классические религиозные системы монотеизма, которые, как было показано, часто неправомерно рассматриваются многими исследователями, даже вроде бы работающими в научной парадигме, как форма боговдохновения со стороны высших сил.
Подобная ситуация привела к проблеме категориального характера, связанной с тем, что понятие монотеизма как бы дискредитировало себя и стало связываться с архаическими этноцентрическими культами, а единобожие свелось к однобожию. По этой причине ряд исследователей стали искать термины, которые могли бы более адекватно передать суть религиозного мировоззрения, основывающегося на едином божественном первоначале. Например, выдающийся политический деятель и мыслитель Джавахарлал Неру так описывает процесс реформационного внедрения в массовое сознание качественно новых, по сути восточно-реннесансных идей цивилизационно-стадиального уровня: «Даже новым идеям Упанишад давалось толкование для народа, с тем чтобы они согласовались с народными предрассудками и суевериями, утрачивая тем самым свое основное значение. Сословное деление общественного строя не было затронуто и было сохранено. Монистическую концепцию превратили в религиозных целях в монотеистическую. И даже низшие формы верований и культа не только допускались, но и поощрялись как соответствующие данной стадии развития» .
Однако проблема состоит не только в том, что термин «монистический» не передает специфики религиозного типа мировосприятия, но и в том, что применение его к архаическим религиозным и мифологическим культам еще больше запутывает и без того сложную проблему. Ведь монизм — это сугубо философская категория, противостоящая дуализму, в то время как «монотеизм» имеет важные религиозные подтексты и напрямую связан с пониманием не просто познания мира, но и его творения, а низшие формы верований, как было показано в предыдущем параграфе, связаны отнюдь не с монотеистическим, но этнотеистическим религиозным сознанием.
Кроме того, и сама идея «прамонотеизма» вовсе не является целиком надуманной, он имел место на этапе становления раннеклассовых обществ. Другое дело, что опять таки, ареал возникновения действительно структурно и понятийно более сложных и, в конечном итоге, ориентирующихся на неизмеримо более гуманистическую систему ценностей, прамонотеисти-ческих систем на самом деле связан не с религиозными верованиями наро
1 Неру Д. Открытие Индии. Книга первая. — М., 1989. — С. 143.
дов Древнего Египта и Шумеро-Вавилонии, а со становлением еще не до конца последовательных в своем монотеизме зороастризма, иудаизма и неоплатонизма. Средневековое христианство также уступает в последовательности понимания единобожия религиозно окрашенной философии Индии и Китая.
б) раннесредневековый Восток: принципиально новое измерение личностного социального бытия
Однако что дает основание говорить о том, что классические философско-религиозные течения Востока как минимум не уступали, а то и превосходили античность по уровню постановки и разрешения проблем, связанных с пониманием природы человека, истоков его творческой активности? Ведь в предыдущих параграфах мы уже приводили высказывания различных востоковедов, суть которых сводится к идее господства в культуре и философии древнего и средневекового Востока архаично-мифологической доминанты, как будто бы затормозившей цивилизационно-стадиальное развитие указанных ареалов и не позволившей создать на Востоке собственно философские системы, по уровню метафизичности и даже научности сопоставимые с античными философскими учениями.
Отсюда, дескать, и наличие неразвитости личностного начала в восточном миропонимании, склонность к излишней ориентации индивида на общинные формы бытия, его стремление в рамках индийского, китайского, а позднее и японского суперэтносов к растворению в различных религиозно-этатистских общностях; что, в конечном итоге, якобы и обусловило многовековое, по мнению некоторых, в чем-то даже необратимое, экономическое и духовное отставание Востока от Запада. Причем последний, опираясь исключительно на собственные культурно-цивилизационные традиции, закономерно эволюционировал сначала к индустриальной, а вскоре и к постиндустриальной фазе общественного развития: наукоемкой рыночной экономике и политической демократии, которые, согласно модели С. Хантингтона и Ф. Фукуямы, в настоящее время концентрическими волнами распространяются по всей поверхности Эйкумены.
Для примера существования подобной гипотезы сошлемся также на статью известного востоковеда Е. Штейнера с более чем красноречивым и даже одиозным названием «О личности преимущественно в Японии и Китае, хотя строго говоря, в Японии и Китае личности не было», в которой он в частности отмечает: «Что же позволяет говорить об отсутствии на Дальнем Востоке личности, сопоставимой с новоевропейской и даже со средневековой христианской и античной? Прежде всего, это наиболее очевидные прямые текстуальные свидетельства — буддистские (где проблеме сознания или тому, что сейчас называют психологией личности, уделено чрезвычайно много места), даосские, конфуцианские, синтоистские. В разные эпохи в Японии эти течения пользовались разным влиянием и разными были практические советы их последователей о том, как достичь гармонии в самом себе, в семье и в государстве. Но все они сходились в утверждении того, что «я» как такового нет, а то, что есть, не сущностно, но является помрачением обыденного сознания, и истинная цель всякого осуществляющего Путь — от этого пом
рачения избавиться» *. Впрочем, автор не оригинален и фактически лишь пересказывает аналогичные положения философии религии В. Гегеля. По В. Гегелю же, «ни политическая, ни духовная жизнь на Востоке не содержит признаков пробуждения субъективности и свободы индивида. Личности еще нет, она растворена в массе, а масса фактически не дифференцирована — еще одно свидетельство статичности китайского общества. ...Индия — тоже застывшая в своем едва наметившемся историческом пробуждении страна» 1 2. Как известно, Гегель не усматривал проявления творческого личностного начала в философии Конфуция, а у Лао-цзы лишь начатки понятия греческого Логоса. Индия, по его мнению, более богата произведениями духа, но тоже не имеет истории и признаков пробуждения подлинной субъективности (позже на эти идеи будет опираться М. Вебер, считавший, что буддизм все же типологически ближе к протестанской этике по сравнению с конфуцианством).
Чтобы правильно осветить этот вопрос, по нашему глубокому убеждению, необходимо решить важнейшую задачу современного цивилизационного востоковедения: осуществить опровержение укоренившейся в научной литературе мифологемы, можно даже сказать, суеверия, относительно стадиально-формационной типологии и периодизации западных и восточных обществ в древности и раннем средневековье, которое по степени своей неадекватности вполне сопоставимо с рассмотренной выше грандиозной мистификацией о некоем мировоззренческом прорыве к монотеизму, осуществленном в так называемых раннеклассовых цивилизациях Ближнего Востока.
Дело в том, что в действительности идея абстрактного внемирового, подчеркиваю, духовного первоначала, как особой формы небытия, точнее инобытия, которое из себя творит бытие, т. е. весь окружающий объективно существующий мир, вовсе не сводима к мифологическим истокам космического первотворения. Как было показано вначале параграфа, уже в ранней китайской и индийской мифологии происходят интенсивные процессы де-мифологизаии первобытных чувственных интуиций природного и социального бытия, трансформация их в универсальные понятия, теоретические абстракции, имеющие несомненный собственно философский категориальный статус, во многом преодолевающий не только тотальный эстетизирующий эмпиризм самого мифа, но и оболочку чисто религиозного мировосприятия, а значит, и выводящий понятие личности на качественно новый уровень философско-мировоззренческого осмысления.
На данном наивысшем этапе развития собственно религиозного сознания в рамках так называемых высших всемирных религий (в первую очередь, конфуцианства, даосизма и буддизма) имеет место следующий этап фундаментальной десакрализации человеческого бытия. Божество уже полностью утрачивает эмпирические, в том числе и антропоморфные характеристики.
1 Штейнер Е. О личности преимущественно в Японии и Китае, хотя строго говоря, в Японии и Китае личности не было. — В кн.: Одиссей. — М., 1990. — С. 38—39.
2
Каримский А. Философия истории Гегеля. — М., 1988. — С. 170.
Впервые в истории человечества оно осознается не как преодолевающее, побеждающее стихию природного мира, а как творящее этот мир, а потому пребывающее принципиально за пределами этого мира. Собственно, только Восток по-настоящему осознает идею объективного Духа как такового, радикально противостоящего любой материальной субстанции (в античности, как будет показано ниже, даже рафинированные неоплатонические системы, развившиеся уже под сильным воздействием восточного религиозного миропонимания, все еще сохраняют налет вещного онтологического понимания духовности как некоей сверхтонкой материи — света, противостоящего тьме).
Детально проанализированный в свое время Л. Фейербахом, а впоследствии К. Марксом, Г. Спенсером и рядом других выдающихся исследователей, механизм экстраполяции человеком, еще отчужденным от адекватного понимания природы, своих собственных сущностных сил, на силы потусторонние — это не что иное, как теоретическое опредмечивание пока еще в религиозной форме понятия творческого личностного начала как основы предельно неприспособительного, собственно социального способа бытия. Оно проявляется прежде всего в понимании бога как единого безликого первопринципа, универсального Закона. Причем, представление об абстрактном человеке, «человеке вообще», положенное в основу восточного абсолюта, которое ввело в заблуждение многих исследователей, настаивающих на внеличностном и даже деперсоналистическом характере классических философско-религиозных систем в древнем и средневековом Китае и Индии, на самом деле, наоборот, свидетельствует о невиданном доселе уровне развития абстрактно-теоретического мышления и одновременно неразрывно связано и с абстракцией от всех эмпирических форм проявления «я», зацикленности на своих непосредственных ощущениях и первичных ассоциациях, статусном положении в иерархии власти, материальном богатстве, сословной и кастовой принадлежности (феномен внерелигиозного, или почти внерелигиозно-го отшельничества в древних Индии и Китае).
По сути, последовательно монотеистическое миропонимание связано уже не просто с абстракцией человека, как это имеет место в языческой и отчасти христианской религии, а с абстрактной подлинной природой человека и человечества, неизменного по своим сущностным характеристикам, находящейся как бы вне эмпирически воспринимаемого пространства и времени. Именно поэтому божественное первоначало теряет антропоморфный облик. Проблема же соотношения бытия и небытия при подобном подходе во многом состоит как раз в том, что индивид в своей непосредственной единственности обречен на бесчисленные перерождения в оболочки бренного, одинакового с точки зрения неизбежности страдания, бытия. Лишь выйдя за пределы единичного «я», сливаясь в экстазе с духовным абсолютом, теряя свое эмпирическое бывание, индивид обретает полноту собственного бытия. Вот почему, кстати, «до первых веков нашей эры, как уже упоминалось, Будда в виде человека не изображался. Подношения делаются «алмазному трону», на котором он якобы получил прозрение, дереву, ступе, многорадиусному колесу — чакре, символизирующему учение — дхарму»
1 Кочетов А. Буддизм. — М., 1983. — С. 61.
Фундаментальный мировоззренческий прорыв, осуществленный на Востоке, нашел свое выражение в первую очередь в принципиальном переосмыслении в индийской, китайской, а позже и японской философии соотношения фундаментальных понятий бытия и небытия, заключающих в себе не только важнейшие религиозно-мировоззренческие, социальные и, даже, личностно-индивидуализирующие смыслы. Причем особенно важно подчеркнуть, что в данном случае индивид уже не мыслится просто как качественно отличное от животного существо, подобно тому, как это имеет место в античности, где последовательный антропоморфизм был впервые зафиксирован в рамках представления древних греков и римлян о победившем природные силы божественном пантеоне (пережитки зооморфизма в античном политеизме, проявляющиеся в образах кентавров и иных мифологических персонажей, в данном случае не существенны).
В действительности же дело обстоит как раз наоборот. Представление о боге, как подчеркивал Л. Фейербах, исследуя христианство, как духовном первоначале, небытии, создающем бытие, есть не что иное, как чистая абстракция человека. Поэтому религия, пусть еще и в отчужденной неадекватной форме, фиксирует идеал социального бытия. Причем на определенном этапе развития человечества представление о некоем всеобщем первоначале, близком к гегелевскому Духу, находящемся по ту сторону творимого им мира, а значит, и всех его преходящих временных атрибутов, и создающем этот мир из ничего, подобно тому, как человек творит материальную действительность согласно своему идеальному плану, представляет громадный шаг вперед в осознании человеком своей собственной творческой природы по сравнению с этнотеизмом и античным антропоцентризмом, еще построенных на принципах прямой экстраполяции на представление о боге не внутреннего мира личности, а внешнего социального мира иерархической ритуальности.
Более того, в определенной степени можно говорить и о том, что последовательно монотеистическое миропонимание связано уже не просто с абстракцией человека, как это имеет место в языческой и отчасти христианской религии, а с абстрактным обожествленным человечеством, как единственной подлинной реальностью. Божественное первоначало теряет антропоморфный облик. Проблема соотношения бытия и небытия состоит как раз в том, что один индивид в качестве своей единственности обречен на бесчисленные перерождения в оболочке бренного, одинакового с точки зрения неизбежности страдания всех людей, бытия. Лишь выйдя за пределы одного предметно-материального «я», сливаясь в экстазе с духовным абсолютом, теряя бытие как одного и изолированного в тюрьме собственной телесности, пусть еще в религиозной форме, индивид обретает большую полноту бытия по сравнению с всепоглощающей погруженностью в мир бесконечной изменчивости социальных ролей и функций, за которыми теряется единственное предназначение человека, которое с максимально возможной для религии последовательностью передано религиозно-философской категорией — Путь (Дао). Жить в соответствии с Путем, при подобном подходе, означает не что иное, как стремление и потребность постоянно соотносить единичное бывание со своим подлинным, неизменным духовным (уже не
столько в мифологическом, сколько в образно-творческом, измерении) бытием, фактически соответствовать своей подлинной человеческой природе. И в этом смысле можно говорить о том же даосизме как своеобразном преддверии европейского ренессансного антропологизма, когда человек начинает окончательно преодолевать религиозную форму отчужденного существования от своей сущности.
Фактически мыслители Древней Индии также пытались передать в религиозной форме ту важную мысль, что атрибутивные свойства природы человека, его сущности предшествуют любым формам непосредственного поведения эмпирических индивидов. И в этом смысле природа человека как бы дорефлективна, ибо в любом своем отношении к миру человек не может перестать быть человеком, вырваться за пределы своей собственной природы, воспринимать мир лишь своим единичным онтологическим «я». Только учитывая этот момент, становятся понятны на первый взгляд бессмысленные сентенции типа: Брахман «по истине иное, чем познанное, а также выше непознанного. ...Не то, что говорится речью, а то, чем говорится речь„. Не то, что мыслится мыслью, а то, чем мысль, как говорят, мыслится... Не то, что видят глазом, а то, чем, видит глаз... не то, что слышат ухом, а то, чем слышится ухо... Не то, что дышит дыханием, а то, чем дышится дыхание, — именно это, знай, есть Брахман, а не то, что почитают [в этом мире]» ’.
Таким образом, на данном стадиальном уровне уже можно говорить о стремлении к постижению мира как неразрывно связанного с самоосмысле-нием индивидом своей собственной природы как природы, гармонирующей с универсумом, он стремится жить, сообразуясь, синхронизируясь с универсальным Законом, Путем, постижение которого не даруется ему в качестве божественной прихоти или милости, минимально опосредованно религиозной организацией (тут, как это ни парадоксально звучит, индийская и китайская предельно секуляризированная религия максимально приближается к протестантскому идеалу), а достигается собственными индивидуальными творческими усилиями.
В противоположность подобному миропониманию не только в генотеи-зированном иудаизме, но и в античном религиозном сознании все еще господствует идея передачи сакрального знания через божественного или полу-божественного героя—пророка. В частности известный исследователь античности Ф. Зелинский отмечал: «В чистой сфере витают боги. Входя в тесное общение с известными, возлюбленными ими людьми, он делает их пророками»1 2. Напротив, сообразующийся с универсальными ритмами бытия, синхронизирущий с ними свою деятельность, человек раннесредневекового Востока, в противоположность античному, предельно детерминированному извне в своих поступках индивиду, вовсе не является игрушкой фатума, действию которого подчинены не только люди, но и боги, он осуществляет свою жизнедеятельность, свой жизненный путь, сообразуясь с великим Путем — божественным Дао, Брахманом, Атманом и т. д., исходя из
1 Древнеиндийская философия. Начальный период. — М., 1972. — С. 220—221.
2 Зелинский Ф. Древнегреческая религия. — К., 1993. — С. 109.
представлений о возможности самостоятельного выбора своей собственной судьбы.
В этом смысле большой интерес представляет сопоставительный анализ греческого и восточного атомизмов. Причем, в обоих случаях речь идет об атомах не только в физическом смысле и не только о гносеологическом аспекте двух духовных картин мира, а и об атомизме, в котором в качестве атома выступает определенный тип личности, а между природным и социальным космосом существует глубинная органическая связь. В этой связи В. Лысенко, на наш взгляд, справедливо отмечает, что индийский и греческий атомизм и как конкретные учения и как принцип особого видения мира нельзя рассматривать как «разные содержательные наполнения одной и той же инвариантной формы». Ведь «атомы и пустота образуют тот фундамент, на котором покоится многоэтажное здание демокритовского умозрения. По сути, все современные ему отрасли знания переосмысливаются Абдеритом в терминах атомистических представлений — это и учение о познании, и космология, и астрономия, и психология, и физиология, и метеорология, а также отношения людей в социуме, природы богов и т. п.» ’.
Что же касается индийского атомизма, то «уже обращалось внимание на то, что атомы вайшешиков часто характеризуются в соответствии с той же схемой внеэмпирического абсолюта, что и Атман-Брахман Упанишад. Более того, между атомами как абсолютными началами бытия и между вещами, составленными из этих атомов, возникает принципиальный разрыв, который в известном смысле сродни разрыву между неизменным Брахманом й изменчивым преходящим миром... Иными словами, предполагается, что только выйдя из себя, то есть за порог конкретной телесной организации, индивид становится самим собой, своим истинным «я» (Атманом, Пурушей), которое тождественно вселенной. Именно в таком состоянии человеческий дух и завоевывает ту высшую точку, с которой он может созерцать тотальность бытия» 1 2. Таким образом, индийский атомизм это особый тип личностного плюрализма, который возможен лишь как самопостижение себя в качестве универсального, внепространственного и вневременного абсолюта.
В этой связи тонкое наблюдение о наличии неразрывной связи между универсальным первоначалом и личностным многообразием, при котором дхарма чем-то напоминает лейбницевскую монаду и в каждом отдельном проявлении несет универсальную природу, сделал известный индолог Ф. Щербатской: «Понятие о дхарме — центральный пункт буддийского учения. В свете этого понятия буддизм раскрывается как метафизическая теория, развивавшаяся из одного основного принципа — идеи, что бытие (существование) является взаимодействием множественности тонких, конечных, далее недоступных анализу элементов материи, духа и сил. Эти элементы под термином dharma имеют соответствующее значение, данное им лишь в этой системе. Буддизм соответственно может быть охарактеризован как
1 Лысенко В. «Философия природы» в Индии: атомизм школы вайшешика. — М., 1986. - С. 157.
2 Там же — С. 158.
система радикально плюрализма...; лишь эти элементы являются реальностями, а каждая их комбинация только наименование, обнимающее множественность отдельных элементов. Нравственное учение о пути к конечному освобождению не является чем-то чуждым или добавочным этому онтологическому учению, оно тесно связанно с ним и действительно однородно с ним» ’.
Опять же божество в данном случае уже выступает в качестве своеобразного предела, веберовского «идеального типа» истинности и совершенства, к которому отдельный человек способен приближаться всю жизнь, так до конца его и не достигая.
В конечном итоге подобное мировидение позволило восточному человеку достичь невиданного даже для античности осознания неповторимости своей творческой индивидуальности. В этой связи очень точную характеристику сути монотеизма дает выдающийся психоаналитик Э. Фромм, подчеркивая, что в высших религиях в значительной степени преодолевается как поверхностный эмпиризм, так и самоотчужденность личности от своей творческой сущности: «Пророки монотеизма осуждали языческие религии за идолопоклонство главным образом не потому, что они предписывали поклоняться не одному, а нескольким богам. Основное различие между моно- и политеизмом заключается не в количестве богов, а в факте самоотчуж-дения. Человек тратит свою энергию и художественные способности на сооружение идола, а затем поклоняется этому идолу, представляющему ни что иное, как результат его собственных человеческих усилий... В противоположность этому принцип монотеизма утверждает, что человек безграничен, что у него нет ни одного частичного свойства, которому можно придать характер самостоятельно существующего целого. В монотеистическом понимании Бог непознаваем и неопределим; Бог — не вещь. Если человек создан по образу и подобию Божию, то он должен быть носителем бесчисленного множества свойств» 1 2.
Отсюда парадоксализм своеобразного представления о принципе так называемого недеяния как высшего деяния, максимального напряжения своих творческих сил, направленных на то, чтобы максимально сообразоваться с направлением Пути, слиться с потоком Сверхбытия, который с неизбежностью «вынесет» к поставленной цели: «Постоянный Путь составляется из возможности выбора Пути и невозможности выбора Пути» 3. Причем подобное мировидение характерно не только для китайской философии, в которой связь бытия и небытия конкретизируется через даже не противоположные, или взаимодополняющие, а взаимопроникающие по принципу «все во всем» понятия системной самоорганизации — Янь и Инь 4. Индийская классическая религиозная философия построена на тех же принципах.
1 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. — М., 1988. — С. 170.
2 Фромм Э. Мужчина и женщина. — М., 1998. — С. 236—237.
Антология даосской философии. — М., 1994. — С. 23.
4 Григорьева Т. Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком. — В кн.: Культура, человек и картина мира. — М., 1987. — С. 266—267.
В частности, буддийская логика, с ее пониманием небытия как истинно сущего: «Отрицательные формы могут восприниматься как положительные. Отрицание в буддизме махаяны выглядит как утверждение того, что выходит за пределы эмпирического мира»
Здесь очень важно указание не только на более высокий уровень постижения диалектического синтеза противоположностей, но и на причину возникновения категорий бытия и небытия. Ведь личностное измерение познавательной деятельности проявляется прежде всего в том, что поскольку в принципе невозможно постигнуть небытие, потусторонность средствами простого эмпирического наблюдения, сопоставления и обобщения, глубинные измерения мира оказываются скорее не познаваемыми, а именно умопостигаемыми и даже переживаемыми путем их целостного интуитивно-образного «схватывания». Вот как описывает подобный стиль познания выдающийся мыслитель Сюнь-цзы в трактате «Освободиться от заблуждений»: «Каким путем сердце познает «дао»? Отвечаю: с помощью «пустоты», «сосредоточенности» и «покоя». Сердце постоянно раздваивается, сердце постоянно находится в действии, и все же оно называется «покоем»... Сидя в комнате видеть «просторы» четырех морей; находясь в настоящем, говорить о далеком прошлом и будущем; наблюдая вещи, знать их состояние; рассматривая и исследуя «эпохи» порядка и смуты понимать периоды [истории], привести в порядок небо и землю и тем самым управлять вещами; подчинить себе великую сущность [природы] — и тогда Вселенная придет в систему! Когда [человек] беспредельно широк, кто тогда может знать его пределы?!» 1 2.
Поэтому именно внеантропоморфная абстракция божества в подлинно монотеистическом миропонимании, порождая потребность самоуглубления в неповторимый внутренний мир как необходимое условие слияния с запре-дельностью, инобытием мира внешнего, позволяет осознать свою причастность к инобытию, слить индивидуальное бытие со вселенским, что наполняет человека Востока значительно большей индивидуальной конкретностью относительно абстрактно-эталонного, статусного видения человека в античности.
Отсюда, кстати, вопреки мифам о тотальной антигносеологической специфике восточного миропонимания, неэмпиричность, масштабность натурфилософских обобщений китайцев и индийцев на этапе развития индо-китайской цивилизации, далеко уходящих за пределы чувственно воспринимаемого бытия, не зацикленных на утилитаризме повседневной обыденной жизни, в целом присущих естественнонаучным изысканиям античных мыслителей, так и не сумевших вырваться за пределы отождествления материи и вещества. (Восток уже фактически оперирует в осмыслении предельного динамизма своей космогонии понятием энергии).
1 Григорьева Т Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком. — В кн.: Культура, человек и картина мира. — М., 1987. — С. 285.
2 Приложение. Избранные трактаты Сюнь-цзы. — В кн: Феоктистов В. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. Исследование и перевод. М., 1976. - С. 237-238.
Более того, сама идея творения бытия из небытия, чуждая миропониманию античной и, тем более, древней ближневосточной цивилизаций, представление о Дао как о первопринципе организации вселенной, в своих субстанциональных основах объединяющего космогонию с учением о государстве и обществе, позволяет неизмеримо дальше продвинуться в понимании принципиальной динамичности самоорганизующегося мира, чем это имеет место в более статичных и, соответственно, более архаичных зооморфной и антропоморфной религиозных системах.
В противоположность предельно статичному античному космосу как некоей шаровидной поверхности, в пределе стремящейся полностью вытеснить пустоту хаоса, заполнить все эмпирически замкнутое пространство, восточная космогония — это уже мир высоких энергий и катастроф, гигантских циклов космических превращений, связанных с представлением не просто о космосе, а, по сути, о безграничной динамичной Вселенной, что непосредственно отражается в восточном естествознании, математике, астрономии, даосской и буддистской медицине, в которых человек в качестве микрокосма рассматривается как органическая составляющая макрокосма.
Буддистская и в чем-то производная от нее даосская космогонические системы, с присущим им почти диалектическим осмыслением взаимодействия и взаимопроникновения двух универсальных первоначал Инь (устойчивость, постоянство) и Янь (динамика, движение), если их сравнивать с любыми натурфилософскими и, одновременно, теогоническими системами античных мыслителей, значительно более адекватно описывают природный и социальный мир, как основывающиеся на одних и тех же фундаментальных принципах самоорганизации.
Подобное мировидение космоса как гигантского процесса самоорганизации с необходимостью порождает высокий пафос антиклерикальное™ естественнонаучных воззрений мыслителей Индии и Китая, обусловленных их интуитивным чувствованием универсальности принципа самоорганизации, что, в свою очередь, ведет к преодолению представлений о привнесенное™ извне, тварности мира с помощью некоего одновременного субъективного акта космического масштаба. Мир, сотворенный из небытия, в конечном итоге оказывается миром синтеза бытия и небытия: «Обладающий жизнью становится снова неживым; обладающий формой становится снова бесформенным... Живому по закону природы непременно придет конец; как конечное не может не прийти к концу, так и живое не может не жить. Те, кто хочет жить постоянно без конца, не знают границ естественных законов» ’.
Таким образом, внешняя статичность идеи великого недеяния как постижения великого Предела (еще один из синонимов Дао) в силу высокого уровня гносеологической теоретичности позволяет развивать высочайшую творческую активность в духовной сфере. Поэтому, в целом признавая существование некоторых различий в понимании первопринципов бытия разными восточными философскими школами, на мой взгляд, подобное про
1 Мудрецы Китая. Ян Чжу, Ледзы, Чжуанцзы. — СПб., 1994. — С. 9.
тивопоставление является слишком жестким: «В основе этого неодинакового подхода лежало общее, принципиальное различие в понимании процесса и целей познания, характерное для даосистской школы, с одной стороны, и взглядов Сюнь-цзы — с другой. Сун Цзянь и Инь Вэнь, как и Лао дзы, видели успех познания мира в «недеянии» разума, т. е. в пассивном следовании природной закономерности — Дао, в то время, как Сюнь-цзы выступал за активное познание мира и подчинение вещей человеку» 1.
В действительности, как было показано, оба подхода не только не противоречат один другому, а взаимно дополняют друг друга и даже являются сторонами диалектического единства активно-творческого познавательного процесса. Кроме того, схема творения бытия из небытия по сути является своеобразной аллегорией неразрывной связи теоретического познания и практической деятельности: личность творит мир как бы из себя, в том смысле, что теоретическое моделирование объективной действительности, выходящее за пределы эмпирической видимости и кажимости, постигая глубинные первоначала действительности, не только не является пассивным абстрагированием от мира, а, наоборот, направлено на использование полученного знания на технические нововведения в практической деятельности, во всяком случае, со значительно большей интенсивностью, чем это имеет место при блокирующем стимулы для технических нововведений и формирующем негативное отношение к любой трудовой мотивации классически рабовладельческом способе производства.
Ведь познание законов природы для создания мира искусственного, в том числе материалов, обладающих особыми свойствами, не встречающихся в первозданной природе, предполагает создание, как бы в противовес природному материальному бытию, идеального небытия — естественнонаучной теоретической модели этого бытия.
Представление о духовном первоначале, так или иначе растворенном в природе, постоянно как бы «просвечивая» личностно значимыми эмоциональными образами за внешней эмпирической реальностью, также с необходимостью порождает на Востоке особый тип эстетического пантеизма, без которого, опять таки, было бы невозможно возникновение интимно-личностной лиричности индийской, китайской и японской живописи и поэзии, с их неповторимым психологизмом, глубиной внутреннего мира и трагичностью переживаний отдельной творческой личности, которые совершенно не присуши не только античному, но даже и европейскому средневековому миру.
Ведь подобное искусство связано со способностью скорее почувствовать, чем увидеть, лере-жить, а не просто ощутить за «почти» непроницаемой видимостью бытия подлинную реальность небытия, то есть в данном случае собственного пантеистически растворенного в природе, уже безгранично значимого личностного начала, «души», воспринимаемой одновременно как душа вселенская. А это возможно лишь с помощью сверхусилия,
1 Феоктистов В. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. — М., 1976. - С. 101.
жизненного отшельнического подвига, когда бренный мир не отвлекает тебя от погруженности в собственное самосозерцание, восприятие внешнего мира как своего опредмеченного «Я» (слитого с универсальним Дао и в этом смысле одновременно не единичным «Я», т. е. «не-Я»), И здесь наблюдается интересный феномен. Подобно философии и науке формально находясь еще в религиозной оболочке восточное искусство уже вплотную подходит к небуквальной трактовке потустороннего мира как символа, образа, идеала, к которому стремится художник в своем воображении, в традициях синтеза поэтического даосизма и прагматического конфуцианства, связанного со стремлением и на индивидуальном, и институционально-социальном уровне хотя бы отчасти реализовать эстетические принципы внерелигиозного искусства.
Отсюда типологически сопоставимая с понятием теистической религии своеобразная предатеистическая этико-эстетическая позиция художника, который, все больше уподобляя идею потустороннего мира мечте о бегстве мыслителя-творца от утилитарно заземленной действительности (даосский идеал отшельничества мудреца и художника), все более скептически относится к идеалу собственно религиозному — возможности загробного существования в полном смысле этого слова.
В качестве типичного примера подобного понимания эстетико-этического идеала приведем стихотворение не только одного из великих китайских даосских поэтов, а также основоположника целой школы лирической авторской поэзии, но и выдающегося политического деятеля первых веков до нашей эры Цао-Цао (Мэ-де), который, став канцлером последнего императора ханьской империи, сосредоточил в своих руках фактически всю полноту политической власти, выступая против сепаратизма, способствуя становлению не просто империи, а именно будущей Поднебесной — «срединного государства» нового цивилизационного типа. Речь идет о воистину ренессансной личности своего времени!
РАСПАДАЕТСЯ наисовершенное
Начиная с момента рождения, Словно мягкая глина, подвержено все изменениям, И ничто не способно избегнуть конца.
И ничто не способно избегнуть конца — Это участь любого, даже сверхмудреца...
И от мыслей о том изнывают сердца!
Я драконов могучих хочу оседлать,
В Сокровенные горы надеюсь попасть, В Сокровенные горы надеюсь попасть, Дабы в дивном безмолвии там пребывать. Я на Остров блаженных в мечтах уношусь,
Я на Остров блаженных
в мечтах уношусь.
Вечным сном Сам учитель когда-то почил, Над великими предками — насыпь могил.
Над великими предками — насыпь могил, Ныне праздно живущих ждет такой же удел...
Только муж благородный
о грядущем конце не скорбит:
Что поделать, Коль время идет неустанно, да не просто идет, а бежит! 1
Таким образом, стратегическая мировоззренческая установка, исходящая из представления о непостижимом никакими эмпирическими методами духовном творящем первоначале раскрепощает творческие силы индивида, развивает личностное начало в нем в такой степени, в какой это еще в принципе было невозможно на предшествующих стадиальных этапах духовной эволюции. И в этом смысле очень показательно, что исследователи типологических особенностей предельно субъективизированного современного философского постмодерна, по крайней мере, претендующего на наиболее адекватное понимание личностного начала в человеке, отмечают, что в рамках так называемого премодерна, который предшествует модерну и, тем более, постмодерну, существует принципиальное отличие античного мировоззрения от иудео-христианского, раскрывающееся именно через осмысление неразрывной связи между присущим этим религиозным моделям мира понятиям космического бытия и бытия личностного, в синтезе космической и личностной экзистенции: «Не только «чистое бытие» Парменида, «благо» Платона, «неподвижный двигатель» Аристотеля, но и «сверх-единое» Плотина — все эти продукты предельного напряжения, усилия выбраться вовне из мира вещей и людей, остаются, несмотря ни на что, очень крепко привязанными к Вселенной» 1 2.
И хотя в рамках премодерна В. Лукьянец, О. Соболь, к сожалению, в худших европоцентристских традициях противопоставляют античной поверхностности мира библейский теоцентризм, который, как было показано выше, в действительности значительно уступает по степени монотеизма восточным религиям и вообще преимущественно еще принадлежит к «низшей» этноцентрической религиозной парадигме, сама характеристика связи личностного и онтологического начала в рамках высшего, относительно античного мировоззрения, типа религии, дается ими очень точно: «...носитель премодернистского сознания, почувствовав, что знание, унаследованное от эллинской традиции, является сращенным с принудительной необходимостью и потому порабощает, сковывает, обременяет его душу..., подвергая сомнению эллинскую традицию усматривает смысл философии человека в
1 Резной дракон. Поэзия эпохи шести династий (III—VI вв.). — СПб., 2004. — С. 57-58.
2
Лук’янець В., Соболь О. Фитософський постмодерн. — К., 1998. — С. 20.
ее эмансипации от упомянутого диктата, в спасении ее от порабощения знанием, в помощи человеку подняться над знанием и проснуться от наваждения всяческих «надлежит», «из необходимости». Ведь в подобном стремлении «возвыситься над знанием», в признании ненужности какой-либо логической основы, в непостижимом культе безосновательности, в стремлении расшатать основания древнегреческой культуры мышления — во всем этом проявляет себя разрыв с эллинистической традицией античной мысли, которая всегда стремилась к знанию, которое базировалось на незыблемых основах»
Поражает созвучность видения, которое авторы приписывают геоцентрическому мирочувстванию западного образца с восточным интуитивно-образным и, в то же время, познавательным «схватыванием» высших форм духовности: «... Сюнь-цзы называет «разум» (по древнекитайской терминологии сердце — «синь») «небесным повелителем» человека, способ существования человека за счет «не себе подобных» — «небесным путем существования человека» («О небе») 1 2.
Все сказанное выше, на наш взгляд, неоспоримо свидетельствует о том, что так называемые «высшие» религии — это не что иное, как своего рода «преддверие» внерелигиозных форм творческой духовной деятельности и в этом смысле они так же являются низшими, исчерпавшими адекватность конкрет-' но-исторической формы бытия, рвущейся из прокрустова ложа религиозного сознания к пониманию наличия творческого начала в самой человеческой природе, как ее необходимого атрибута.
Еще раз подчеркну: в действительности вышеуказанная стратегия творческого бытия наиболее последовательно воплощена не в рамках библейско-христианской религии, с ее иллюзорной декларацией свободы воли, а именно в китайской и индийской последовательно монотеистической традиции, требующей максимальной персональной творческой активности в приобщении к потусторонности как источнику этой же энергии созидания не в потустороннем мире, а на земле. «У китайцев энергии — это Ци; изменениям конфигурация Ци в человеке уникальна; а подключение к космической энергии — это практика Цигун. Собственно явление Божественной сущности (Дао) человеку через энергии Ци требует со стороны человека усилий воли и есть индивидуальное схождение на него благодати Духа Святого (у китайцев — это Дэ: «Благая являющая сила»)3.
Отсюда и качественно новое представление об индивидуальной перво-сущности человека — «Ци», как синхронизированной с универсальными космическими ритмами творческой энергии, неразрывно связанной с личностью ее носителя, практически самостоятельно формирующего свой творческий потенциал, в отличие от древнеегипетского «ка», античного «гения», христианской «души».
1 Лук’янець В., Соболь О. Фитософський постмодерн. — К., 1998. — С. 23—24.
Феоктистов В. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. — М„ 1976. - С. 70.
3 Девятов А., Мартиросян М. Китайский прорыв и уроки для России. — М., 2002. — С. 19.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что с позиций подобного масштаба понимания творческой активности человека, тот же Сюнь-цзы не просто критикует мифологический стиль архаического мышления, но и раскрывает его концептуальные особенности, связанные с неспособностью схватить мир в его диалектическом синтезе янь и инь, а также одномерностью, неспособной постигнуть единство парадигмального многообразия бытия, социальные измерения пяти первоэлементов, за которыми отчетливо поглядывают универсальные принципы самоорганизации *: «все эти учения на самом деле выражают [всего лишь] одну сторону дао. Дао — это то, что в своей сущности постоянно и, в то же время полностью изменяется. Любая одна сторона [дао] не может заменить всего [дао]. Те люди, кто однобоко познает [вещи], видят лишь одну сторону [дао] и не в состоянии его познать целиком. Однако сами они считают, что этого достаточно, и тем самым приукрашивают [свои знания]... Быть способным познать [вещи] — значить [уметь] различать их. Различать [вещи] — значит одновременно познавать несколько [вещей]. Одновременно познавать вещи — значить раздваиваться. И, однако, [сердце] обладает тем, что называют «сосредоточенностью» 1 2.
Из данного определения логически вытекает и объяснение того факта, что мыслители Индии и Китая в противоположность ветхо- и даже новозаветной традиции, в целом очень негативно относились к суевериям и чудесам. В частности, очень показательна знаменитая притча о Будде, который на просьбу женщины воскресить ее ребенка ответил отказом, объяснив его неизбежностью страданий в земной жизни и возможностью избавления от них не посредством чудес, а через постижение высшего Учения, главное место в котором уже занимает не столько идея посмертного воздаяния, сколько понимание смысла самой жизни.
В Китае пафос осуждения суеверий мифологического толка, с присущим им фетишизмом и анимизмом со времен Конфуция и Лао-цзы достиг еще большего размаха. В частности, комментируя трактаты о военном искусстве Сюнь-цзы и У-цзы, Н. Конрад отмечает также в целом не характерные для истории античности призывы выдающихся китайских полководцев либо вообще отбросить всяческие гадания, либо использовать их по сути в чисто пропагандистских целях: «астрология существует для невежественных людей, просвещенный же полководец с нею не считается» 3.
Особо хотим подчеркнуть, что более поздние трактовки буддистской нирваны как абсолютной пассивности и по сути бегства от мира, абсолютно не отвечают фундаментальным мировоззренческим принципам этого уче
1 Более подробно о понимании в древнем Китае проблемы многомерного синтеза в контексте системной самоорганизации см.: Шморгун А. Антитоталитарный потенциал китайской мировоззренческой традиции. — В кн.: Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002. — С. 333—346.
2 Приложение. Избранные трактаты Сюнь-цзы. — В кн: Феоктистов В. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. Исследование и перевод. — М., 1976. - С. 235-237.
Конрад Н. Комментарии. — В кн.: Сунь-цзы. У-цзы. Трактаты о военном искусстве. - СПб, 2002. - С. 77.
ния, согласно которому, высшая мудрость состоит не просто в бегстве от существующего мира бесконечных страданий и перерождений, а следования высшему моральному идеалу бытия, противостоящему миру видимости, кажимости, основанному на болезненных страстях и иллюзорных удовольствиях: «посвятивший себя суете и не посвятивший себя размышлению, забывший цель, цепляющийся за удовольствие, завидует самоуглубленному. ... Тот, у кого мысль не привязана к удовольствиям, в ком родилось желание неизреченного (и пусть он исполнен разума), зовется «уддхамсота» *.
Более того, реализация подобного идеала требует максимальных личностных усилий, предельной творческой самореализации, не имеющих ничего общего с какой-либо созерцательной позицией и чисто эгоистическим уходом в себя: «Кто не встанет, когда время вставать; кто исполнен лени, несмотря на молодость и силу; у кого решимость и мысль подавлены, — тот, беспечный и ленивый, не найдет пути к мудрости. ... Зная эту истину, пусть мудрец, внутреннее сдержанный, быстро очистит себе путь, ведущий к нирване» 1 2.
Причем все эти сентенции имеют отчетливо выраженный этический оттенок: «Тот, кто ищет себе счастье, причиняя страдания другим, запутавшись в тенетах ненависти, не освобождается от ненависти» 3. Не случайно даже М. Вебер, в целом, как известно, негативно оценивавший протестантский потенциал восточных религий, все-таки считает буддизм более перспективным с точки зрения его возможностей мобилизации творческого потенциала личности, чем конфуцианство 4.
Отсюда и особый характер медитации, при котором необходимо «забыться», постигнуть за-бытие, предшествующее единому как сущему. Причем суть такого постижения в синтезе эмоционального и теоретического моментов мировосприятия, в противоположность мистическому иррационализму христианского эсхатологизма или сухому рассудочному формализму неоплатонизма. «Забытье» даосов ничуть не равнозначно «беспамятству». Напротив, оно знаменует пробуждение к безусловной явленное™ присутствия, его узнавание как воспоминание чего-то, что никогда не стало мыслимо, это есть именно за-бытие — погруженность в тот смертельный мрак, откуда ... «происходит Единое, прежде чем Единое обретает форму» 5.
Следовательно, высокий уровень прагматизма и акцент на практической стороне праведной жизни в буддизме и конфуцианстве вовсе не противоречит высокому уровню метафизической абстракции брахманизма и даосизма, о чем свидетельствует их постепенное слияние в неоконфуцианство и индуизм.
1 Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак. — М., 2000. — С. 50—51.
2 Там же. — С. 64—65.
3 Там же. — С. 66.
4 Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. К XVI международному конгрессу исторических наук. (Штутгарт, ФРГ, 1985). — М., 1985. — 334 с.
Малявин Б.В. Философия Чжуан-Цзы: забытье пробуждения, немое слово // Дао и даосизм в Китае. — М., 1982. — С. 47.
Поэтому не может быть и речи о якобы большей архаичности и, соответственно, примитивности религий Востока относительно античности и даже христианства. Что же касается громадности пантеона так называемых индийских богов (все они смертны), то они скорее напоминают своего рода выдающихся людей, которые не просто «курируют» те или иные явления, как это имеет место в мифологии, являются духами, добрыми гениями людей, «ведущих» их сквозь превратности судьбы, а, в соответствии с духом качественно нового миропонимания, выступают идеальными учителями, незримыми помощниками, помогающими человеку увеличить собственное профессиональное мастерство.
Следовательно, можно сделать вывод, что наличие эмпирического многобожия и своеобразного даже не поли-, а анархотеизма в той же древней Индии и Китае как пережитков мифологического анимизма и фетишизма не только не свидетельствует об отсутствии на Востоке тенденции к подлинному монотеизму, как считают многие исследователи, а наоборот, — в еще большей степени подчеркивает, так сказать, оттеняет принципиально новый тип религиозного мировоззрения, неразрывно связанный именно с качественно новым уровнем постижения конкретности любых форм социального бытия (в том числе и бытия личностно-индивидуализированного). Не случайно индийские боги вначале вообще были живыми смертными существами. «Таким образом, индуистское многобожие, как это ни парадоксально звучит, по сути своей монотеистично. Триста миллионов богов — а именно эта цифра приводится во многих исследованиях... — это триста миллионов проявления Абсолюта, это триста миллионов имен, форм, и число это может быть умножено до бесконечности, нисколько не затрагивая при этом основополагающий принцип»
В Китае также идея единого божественного творящего мир первоначала, прообраза творческого начала творящего свой искусственный мир человека, оборачивается своей противоположностью — наличием огромного пантеона святых, к которым приравниваются уже не просто герои или полугерои, не только мифологические цари или титаны, но мудрецы, старейшины — то есть высокообразованные люди своего времени и даже в определенном смысле души всех умерших родственников.
Одновременно имеет место высокий уровень веротерпимости и даже возникновение особой системы религиозного синкретизма с высокой степенью универсальности, при которой различные религии сосуществуют, взаимно дополняя друг друга, в режиме если еще не синтеза, то, во всяком случае, все более осознаваемой многопарадигмальности социального бытия, и, что особенно важно, не зацикленности на бюрократически-догматичес-ком аспекте религии:. Не случайно «...организации, если иметь ввиду не монастырскую структуру или теократическое «государство» даосского папы, а универсальную для всей страны организационную религиозную структуру, просто не было» 1 2.
1 Рыбаков Р. Предисловие. — В кн.: Ромен Р. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекан-ды. - К.: 1991. - С. 10.
2
Васильев JI. Культы, религии, традиции в Китае. — М., 2001. — С. 378.
Именно поэтому ряд исследователей вообще не относит по крайней мере конфуцианство и даосизм к религии как таковой (что в значительной мере опять-таки связано с принципиально неверной ориентированностью на египетский генотеизм и иудаистский этноцентризм, как на своеобразные «идеальные типы», эталоны религиозного монотеизма). «Все эти особенности религиозно-этической системы Китая содействовали тому, что собственно религия в условиях китайской конфуцианской цивилизации играла сравнительно небольшую роль и занимала достаточно скромное место в идеологии, духовной жизни и культуре страны. Решающая роль в жизни общества и определяющее место в сфере духовной жизни народа, которые в других цивилизациях занимали религиозные системы, в Китае выпали на долю конфуцианства, которое в этом смысле выполняло функции религии.
Однако конфуцианство в отличие от других мировых религий с идеей скорби, страдания, веры и утешения в загробной жизни, было именно искусством жить. В центре внимания этой доктрины всегда стоял человек, коллектив, общество, устройство правильной и упорядоченной жизни на этом свете, сегодня, сейчас. Культ практической пользы, конкретного счастья, достигаемых, прежде всего, посредством внутренних добродетелей и постоянного самосовершенствования оказал огромное влияние на формирование духовной культуры, психического склада и национальных традиций китайского народа» '.
И хотя в целом, на наш взгляд, автор дает несколько жесткое определение конфуцианства как по сути внерелигиозной системы, с которым можно согласиться лишь отчасти, поскольку, несмотря на свою специфичность, конфуцианство остается, хотя и предельно этизированной (впрочем, как и даосизм — гносеологической, и буддизм — эстетизированной), но все же религией. Поэтому нельзя согласиться со следующим слишком категорическим высказыванием Л. Васильева: «Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что при всем обилии богов и героев в средневековом Китае первое место во всекитайском пантеоне обожествленных принадлежало именно Конфуцию. И при всем том все-таки нет оснований считать, что Конфуций в средневековом Китае стал божеством в полном смысле этого слова» . Однако пафос ценной в научном отношении, монографии Л. Васильева понятен и во многом оправдан: конфуцианство, впрочем, как и даосизм и буддизм, действительно являются своеобразным преддверием секуляризма. Показательно, что оценки, подобные оценкам конфуцианства как внерелигиозной системы, даются и индийским религиям: «Как и буддизм, джайнизм в своей основе атеистичен, ибо, не отрицая в принципе существования богов, он отводит им незначительную роль в общей системе мироздания. Мир существует и функционирует согласно всеобщему закону, утверждает джайнизм, бога-творца, который создает, поддерживает, а затем уничтожает мир — нет. Вселенная вечна» 3.
।
2
3
Васильев Л. Культы, религии, традиции в Китае. — М., 2001. — С. 9.
Там же. — С. 211.
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. — М., 1967. — С. 313.
Впрочем, Л. Васильев, подчеркивая предельную рационалистичность религии в средневековом Китае, все же признает, что в данном случает речь идет именно о религии: «Конфуций и конфуцианцы еще усилили эти рационалистические черты культа Неба, превратив его в своеобразный символ верховного божественного порядка, в главный регулятор Вселенной, центром которой, естественно, был Китай»
Поэтому некоторые востоковеды для более точного определения специфики однотипных с китайскими индийских философско-религиозных систем предлагают ввести понятие так называемой теистической религии, вовсе не тождественной атеизму в полном смысле этого слова и не отрицающей «последовательно религиозный характер буддийского мировоззрения...» 1 2.
Еще раз подчеркнем: представление о боге, как духовном первоначале, небытии, создающем бытие, есть чистая абстракция человека. Пусть еще и не в адекватной форме, но она уже фиксирует гуманистическую идею основополагающего значения человеческих, а вовсе не божественных усилий в улучшении собственного существования. Представление о неком безличном и вместе с тем личностном начале, находящемся по ту сторону творимого им мира и создающем этот мир из ничего, — это представление о личности, индивиде как исходной, первоначальной предпосылке создания всего зримого мира духовных и материальных ценностей.
Таким образом, между осмыслением индивида в качестве неповторимой индивидуальности и степенью масштабности его мировидения, способностью к теоретическому моделированию мира средствами научно-философского познания и эстетического постижения глубинных духовных смыслов существует прямая корреляция. Несмотря на то, что Н. Бердяев откровенно преувеличивает творческий потенциал христианства в понимании личностного начала, отождествляя его каноническое содержание с модернизаторскими романтическими интерпретациями христианства в духе религиозного экзистенциализма; противореча собственному тезису об отсутствии на Востоке настоящего учения о личности, он делает глубокое верное замечание о диалектике личностного и сверхличностного в восточной философии, до которого в принципе не могла дорасти античность. «Платонизм не есть пер-соналистическая философия, это — родовая философия. Христианское откровение о личности никогда не могло быть выражено в категориях греческой философии, тут открылось что-то совершенно новое. Так же в индуистской религиозной философии, в некоторых отношениях более глубокой, чем греческая, мы не находим настоящего учения о личности, хотя при обилии и разнообразии философских систем Индии, монизм не был столь исключительно преобладающим, как часто думают. Atman есть глубина самого себя, ядро личности. Brahman же есть безликое божественное. Но учение о Atman можно обернуть так, что оно станет учением о личности» 3.
1 Васильев Л.С. Культы, религия, традиция в Китае. — М., 1970. — С. 111.
2 Кочетов А. Буддизм. — М., 1983. — С. 85.
J Бердяев Н. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 304.
Следовательно, вследствие предельной этической напряженности последовательного монотеизма, религиозный гуманизм средневековых Индии и Китая был на стадиальный порядок выше соответствующих идеалов античности и тем более Ближнего Востока. Именно поэтому в Китае и Индии наблюдается процесс обособления практически всех форм общественного сознания от религиозной формы мировосприятия, стремление как бы прорвать религиозную оболочку. Так что право, мораль, искусство и даже наука, в противоположность той же античности, уже функционируют и развиваются почти в автономном режиме, иногда создавая впечатление даже полной своей самостоятельности от любых религиозно-мифологических практик.
Но коль скоро в господствующей религиозной картине мира мы имеем дело со специфическим представлением о неотчужденной форме связи между обществом и индивидом, акцент на этической и практической сторонах жизнедеятельности при относительно безразличном отношении к загробному существованию вполне логичен. Ведь «просветления» можно достигнуть уже при жизни, если своими деяниями максимально способствовать этому.
Как это ни парадоксально на первый взгляд, идея единства с потусторонним миром увеличивает социальную активность индивида. Высокий уровень прагматизма и акцент на практической стороне праведной жизни в буддизме и конфуцианстве вовсе не противоречит высокому уровню метафизической абстракции даосизма и брахманизма, о чем свидетельствует их постепенное слияние, соответственно, с неоконфуцианством и индуизмом.
Поэтому как минимум странно на нынешнем уровне цивилизационного компаративизма исторических типов культуры воспринимается гипотеза о якобы неразвитости в восточной культуре индивидуального личностного начала, предельной замифологизированности религиозных систем, вообще не позволяющей говорить о собственно философских идеях в различных духовно-религиозных течениях на этапе становления индийского и китайского суперэтносов, и на этой основе очередные попытки противопоставления Востока и Запада по абсолютно вульгарно понимаемому принципу «Я» — «Мы».
На самом деле на основе подлинного монотезима на Востоке разрабатывается значительно более сложная и даже изощренная концепция структуры личности в многомерности измерений ее внутреннего мира, принципиально не знакомая античности: «Из сознания путем прибавления нового качества, которое европейская философия называет рефлексией, возникает «основа личности», обособления — аханкара (букв, делающий «я»). Так возникает разделение на «я» и «не-я» и познание первым второго. Вырабатывается способность усвоения, осмысления и переживания воздействий «не-я». Как познавательная функция — это рассудок, как эмоциональная — «сердце» (в психологическом, но не в анатомическом смысле). Эти три «сути таттвы» (будхи, аханкара и манас) есть «внутренняя причина», обусловливающая психические функции в целом» *.
1 Смирнов Б. Предисловие к книге Анугита. — Ашхабад, 1977. — С. 14.
В противоположность не только классическому мифологизму, этноцентризму, политеизму с их представлением о божестве, постоянно вмешивающемся в земные дела, внеположенность восточного первоначала за пределами бытия даже облегчает для человека концентрацию на собственном «я», а безликость Дао, Брахмана или Атмана еще больше как бы оттеняет неповторимо индивидуальные черты личности (в античности даже изображение человека в искусстве еще имеет обобщенно идеализированный характер). Все это как бы развязывает руки человеку в его земной самореализации, дает ему посюсторонний мир на откуп, что находит свое выражение в дистанциро-ванности от Неба, незацикленности на проблемах посмертного воздаяния: «В дао нет ничего от человека. Мудрый не судит: «Это Дао, а это не дао». В Дао нет ничего от своего «я». Мудрый не различает между пребыванием в Дао отстранения от него. В том, что Дао нет, — залог того, что дао есть. В том, что мудрый не держится за дао, — залог того, что он не потеряет Дао» *.
Вообще даже не бесконечная удаленность в пространстве (подобно эпи-куровским богам), а потусторонность подлинно монотеистического восточного бога позволяла человеку и одновременно требовала от него значительно большей свободы выбора, инициативы в собственной деятельности. Ведь бог не вмешивается непосредственно в людские дела, он детерминирует твою деятельность лишь в той мере, в какой ты, отклоняясь от единственно верного жизненного Пути, вследствие своего неправильного личного выбора и непонимания сути вещей, сам себе наносишь вред.
При таком подходе Дао как Недеяние воспринимается как максимально эффективное деяние — достижение поставленной цели минимальными усилиями, умение использовать существующие объективные процессы в своих интересах. И именно в этом смысле нужно понимать высказывание Лао-цзы о том, что искусство жить — это умение управлять лодкой на течении, а не борьба с извечным противником.
Именно потому, что человек Востока ориентирован на самореализацию своего творческого потенциала между принципом служения Небу и почитанием выдающихся личностей, устанавливается прямая корреляция: «Благородный муж трижды испытывает трепет: он трепещет перед Повелением Неба, с трепетом относится к великим людям и трепещет перед словом людей высшей мудрости» 1 2.
Неслучайно важнейшим показателем возросшего творческого компонента религиозных систем средневекового Востока является то, что пророками подлинно этических религий — таких, как зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм являются даже не античные герои или мифические ветхозаветные пророки, обладающие статусом «супер-святых», а обыкновенные смертные, осознавшие смысл жизни люди, познавшие всю полноту мира, исполненного страданий, и осознавшие фундаментальные принципы новой религии через личный смысложизненный выбор.
1 Афоризмы старого Китая. — М., 1988. — С. 40.
Конфуций. Уроки мудрости — Харьков, 2000. — С. 107.
Напротив, в отличие от явно компромиссно политеистического соотношения бога-отца, бога-духа и бога-сына в христианстве, диалектический синтез абстрактного личностного внемирового начала, как основы бытия, и неповторимой личности, как воплощения этого первопринципа, свидетельствуют о значительно больших требованиях к индивидуально-личностному творческому потенциалу, в том числе и уровню образованности, который существовал в индокитайской цивилизации на этапе ее расцвета, в сравнении с формационно-предшествующей цивилизацией античности и, тем более, Ближнего Востока.
Более того, речь идет о полулегендарных личностях, которые, тем не менее, скорее всего, существовали в качестве вполне конкретных человеческих индивидов. И в этом смысле Христос, как известно, являющийся «живым богом», то есть чем-то средним между античным героем и одним из бесчисленных божеств индийского пантеона, многие из которых были смертны, значительно «уступает» таким выдающимся религиозным реформаторам, как Заратустра, Будда, Конфуций, Лао Цзы, вовсе не являющимися ипостасями бога и, тем более, живыми, но, в то же время, бесконечно отстраненными от человека, жестокими, карающими, воплощенными в деспотов божествами типа ближневосточных.
Они были пусть и легендарными, однако именно выдающимся личностями, формулирующими принципиально новые мировоззренчески-рели-гиозные принципы адекватного человеческой сущности бытия, опираясь не на божественное предопределение, а на свой собственный жизненный опыт (последующее обожествление вышеуказанных реальных, а не мифических персонажей основоположников учений в зороастризме, индуизме, неоконфуцианстве скорее свидетельствует о начале упадка индо-китайской цивилизации, намечающемся застое в духовно-религиозной жизни, формализации и бюрократизации не только института церкви, а всех других социальных институтов. Тут начинает работать универсальный общецивилизационный механизм становления позднесредневековых Индии и Китая в качестве Мегамашины (Л. Мемфорд).
Очевидно, представление об основоположниках религии здесь непосредственно связано с господствовавшим на Востоке культом Гуру-Мудреца, Учителя именно как самодостаточной в своих личностных творческих потенциях неповторимой личности, высшем непререкаемом Авторитете, затмевающем в глазах его адептов бога, совершенномудром муже, достигшем совершенства исключительно личными усилиями, всегда способным в качестве наставника личным примером продемонстрировать это совершенство в той или иной сфере духовной (поэзия, философия, живопись) или практической (восточное единоборство) деятельности, в учебе чаще всего прибегающем лишь к моральным санкциям.
Напомню, что в иудаизме, напротив, духовно-личностный монотеизм находился в зачаточном состоянии, Моисей и другие пророки еще выступают в значительно большей мере как простые ретрансляторы переданного им божественного откровения, а сам Моисей, согласно последним достижениям сравнительного религиоведения, является вымышленной мифологической фигурой, всецело опирающейся на авторитет жестокого, требующего абсолютного послушания бога.
Напротив, в восточных религиях «...священный текст, при всем безграничном к нему уважении, играл в обучении скорее подчиненную, инструментальную роль; главной же целью было воспроизводство не текста, но личности учителя — новое духовное рождение от него ученика. Именно это — живая личность учителя как духовного существа — и было тем содержанием, которое при помощи содержания священного текста передавалось из поколения к поколению в процессе трансляции ведийской литературы. И этот принцип справедлив не только для ведийской Индии. ...Существо трансляции состоит в том, что с помощью ряда приемов духовная личность учителя возрождается в ученике» *.
Таким образом, последовательно монотеистическая картина мира не просто связана с формированием нового типа личности и его духовно-рефлекторного гносеологического и эстетического отношения к миру, но и коррелирует с формированием принципиально новых социально-политических типов отношений и даже трудовой мотивации индивида. Человек Индии и Китая уже в первые века до нашей эры, впервые во всемирной истории, начинает осознавать себя не просто в качестве члена того или иного социума, его неотъемлемой части (архаическая азиатская община, античный полис), а именно как человека вообще — индивидуальность, способную своим отшельничеством бросить вызов социальным институтам и перейти в режим самосовершенствования своего внутреннего мира путем пантеистического духовного единения с одушевленной, предельной эстетизированной природой.
И хотя в социальных отношениях Китая неразрывно связанный с Дао конфуцианский идеал гуманности — Де, к которому стремится «совершенномудрый», еще не тождествен более позднему европейскому ренессансному, и тем более, романтическому гуманизму (скорее можно подобную «гуманность» — «жэнь» перевести как «благопристойность», «добропорядочность», «доброжелательность», «нравственность» именно как строгое следование нравам) здесь уже просматривается отчетливое стремление к выходу за пределы собственно религиозности в сферу морали как таковой.
По сути, личностная моральная максима Востока стоит выше даже христианской с ее «не делай другому того, чего бы не желал себе». В отличие от скрытого прагматизма этого христианского тезиса (делать зло опасно, ибо возможно отмщение) восточный мудрец Индии и Китая, с его отрешенностью от мира страданий, призывает не совершать зло прежде всего, чтобы не «потерять лицо», в полном смысле собственное достоинство, ибо приобретенные аморальными поступками блага (богатство, власть) лишь увеличивают страдания и ничего не дают именно с точки зрения самосовершенствования подлинного мудреца, представление о долге которого строится не на внешней мотивации, обязывающей поступать добродетельно под угрозой прямых криминальных санкций или морального порицания, а на основе
1 Семенцов В. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты. — В кн.: Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. — М., 1988. — С. 8.
внутренней мотивации и, в этом смысле, оно уже тяготеет к кантовскому категорическому императиву внутреннего морального долга. Поэтому и идея внестатусного равенства («люди — братья во Христе»), проявляющаяся в равенстве всех перед Дао как фактически универсальном духовном идеале каждого индивида, тормозила развитие на Востоке развитых форм рабовладения. Вот почему из подобного понимания творящего первоначала с необходимостью вытекает утверждение за каждым человеком статуса личности, независимо от его социально-классового статуса *.
Волне можно говорить о том, что и в рамках социума на Востоке значение уникальной и даже неповторимой индивидуальности неизмеримо возрастает. Человек раннесредневекового Востока все больше начинает цениться не как носитель некоего формального социального статуса (профессии, звания, титула), а исходя из его личных способностей, способности достигать наивысших результатов в избранной сфере деятельности (шень-ши): даже к чиновникам государственного аппарата, которые отбирались на конкурсных основаниях, предъявляется требование не только по овладению определенным уровнем образованности, но и искусством, пусть и канонического, стихосложения, явно ориентированное на выявление индивидуального творческого потенциала.
Как известно, даже китайский император, несмотря на титул Сына Неба, тем не менее вовсе не был «живым богом», подобно, например, египетскому фараону, который буквально мыслился как сын Осириса, в архаичес-ки-религиозном смысле, а был, скорее, «приемным сыном», от которого Небо могло отказаться в случае его неадекватного своему призванию поведения.
Император, сугубо формально ведущий свою родословную от богов, получает лишь временный «небесный мандат» на «поднебесную». Его отношения с небом носят скорее практический характер и, по сути, основаны на правовом договоре. Он ничто перед волей неба или Дао и может быть смещен в случае несоответствия должности.
Вот почему в Древнем Китае, где формально император считался «Сыном Неба», родились поразительные по своей крамольности идеи, несовместимые с возвеличиванием статуса главы государства по отношению к простому народу: «Небо родит простолюдинов не для правителя, оно возводит на престол правителя для простолюдинов» 1 2.
При этом поражает органическая связь между концепциями монотеизма и личностными морально-этическими характеристиками, которые формально предъявляются как требования к Дао, а фактически являются духовным императивом для каждого. «Дао единственно и неделимо; правитель также должен полагаться на самого себя. Дао не имеет подобного себе, поэтому и называется единственным. Исходя из этого, разумный правитель ценит только воплощение Дао» 3.
1 Древнекитайская философия: В 2 т. — М., 1972. — Т. 1. — С. 180, 188.
Антология мировой философии. — С. 234.
3 Там же. — С. 237.
В Индии также подобного рода уравнительность перед божественным первоначалом, неразрывно связанным с идеей существования «искры божией» в представителе даже самой нишей касты, имела явно новаторский и даже в чем-то революционный характер, максимально способствуя формированию новых социальных отношений, на которых основывалась индо-китайская цивилизация: «Именно буддизм, деятельно отрицавший этнические, сословные и родо-племенные различия, оказался наиболее приемлемой идеологической основой для империи, своим существованием разрушавшей традиционные перегородки» 1. В целом подобный подход максимально стимулировал и в сфере экономики формирование качественно нового отношения к труду, требующего от непосредственного производителя значительно большей самостоятельности, личной инициативы, в конечном итоге, экономической заинтересованности в своей деятельности как необходимой предпосылке не просто существенного повышения производительности сельскохозяйственного труда, а и более высокого этоса, опять таки по сути противоположного рабовладельческой агрессивности, направленной на захват чужой добычи, а главное — рабов. Неслучайно, уже находясь под влиянием пострабовладельческих экономических отношений, получивших наивысшее развитие на Востоке, Плутарх писал: «никакие другие занятия не внушают так быстро горячей любви к миру, как земледельческий труд. Он вселяет, воспитывает в нас воинственный дух для защиты родины и вырывает с корнями страсть обижать других и чувство алчности, [больше способствуя — Авт.] нравственному совершенствованию, нежели благосостоянию» 1 2.
Кроме того, возникшей на Востоке новой духовной картиной мира создавались мировоззренческие предпосылки для освоения новых технологий и даже стремления к получению объема знаний с достаточно высоким прогнозным потенциалом относительно функционирования универсальных природных циклов, что, кстати, неразрывно связано уже не с эмпирическим гноселогическим идеалом уровня непосредственного разрешения возникшей проблемы, и не методом проб и ошибок (характерным для первобытного общества), а с простым перебором незыблемых алгоритмов деятельности, характерным для вынужденно примитивного античного классического рабства.
Отсюда, кстати, и акцент на интуитивных, а не чисто рассудочных формах скорее даже не познания, а постижения Дао (вспомним: для древнего грека было вполне достаточно представления о'том, что боги живут на Олимпе, а его видение потустороннего полностью строилось на основе экстраполяции реалий мира земного на мир небесный). Восточное эмоционально-образное, «инсайтное» познание вопреки приверженцам идеи об исключительно античном происхождении естественнонаучного знания, является важнейшим элементом не просто чувственно-предметного, а именно духовно-теоретического освоения мира, необходимым гносеологическим этапом перехода от изучения фактов и постановки проблемы к развитию абстрактно
1 История древнего мира. Расцвет древних обществ. — М., 1983. — С. 488.
2 Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. 1. — М., 1987. — С. 144.
теоретической, концептуальной познавательной сферы как преддверия подлинно научного естествознания Нового Времени.
С одной стороны, новая духовная картина мира ориентировала на более глубинное познание природы, а с другой, — неуклонное развитие земледелия требовало умения прогнозировать большие природные ритмы в вероятностном, не статическом, а статистическом режиме. Причем особенно важно подчеркнуть, что механизм становления новых формационных измерений индо-китайской цивилизации происходит вовсе не по К. Марксу — новый экономический базис формирует новую духовную надстройку, а, скорее, по М. Веберу — новый уровень духовной религиозно-мировоззренческой рефлексии активизирует в обществе потенциал нерабовладельческого ведения хозяйства *.
Сходным является и механизм формирования качественно новой мотивации труда, при котором принципиально новый уровень этичности, уже минимально привязанной к собственно религиозным догматам кары за греховное поведение (что во многом и послужило основанием в обвинении конфуцианства, даосизма и буддизма в нерелигиозности), ориентирует на отношение даже к непосредственному производителю материальных благ как к такому же носителю божественного Дао (Атмана, Брахмана), каким был и император.
Постепенно, в процессе стремительного роста производительных сил подобная стратегическая мировоззренческая установка трансформировалась и в прагматическую мотивацию, согласно которой доминировали уже преимущественно экономические методы принуждения, точнее, в большей степени поощрения к труду, поскольку сковывающее творческую инициативу внеэкономическое принуждение становилось просто невыгодным: «Учитель сказал: Народ можно принудить к послушанию, но его нельзя принудить к знанию» * 2.
Показательно, что земледельческий труд оценивался как в высшей степени богоугодное дело, которое освящалось императором как «Сыном Неба» в особом Храме земледелия, находящемся рядом с храмом Неба. «Издревле в старом Китае отмечался праздник земледелия. По народному преданию, четыре тысячи лет тому назад царствовал император Шунь, который особенно покровительствовал земледелию. Каждую весну он сам открывал посевные работы, проводя первую борозду. Этот обряд, сохранившийся и в последующие столетия, совершался в большой роше Храма земледелия, расположенной вблизи Храма неба» 3.
Подобное отношение к производительной трудовой деятельности просто немыслимо в античном мире, где, как писал в своем фундаментальном труде «История рабства в античном мире» Анри Валлон, практически все
Шморгун А. Социальная революция как форма разрешения социального противоречия. — В кн.: Закон единства противоположностей. — К., 1991. — С. 262—272; Шморгун О. Результати наукового дослщження. — В кн.: Антолопя творчих досягнень. — К., 2004. — С. 61-64.
2 Конфуций. Уроки мудрости. — Харьков, 2000. — С. 55.
3 Садихменов В. Китай: страницы прошлого. — М., 1987. — С. 260.
выдающиеся мыслители и реформаторы государства, включая Солона, «...вместо того, чтобы искать реформы государства в восстановлении почетного положения труда, подвергали труд изгнанию и желали целиком его свалить на рабов...» г.
Поэтому вполне закономерно, что на Востоке преимущественное развитие получило домашнее рабство. Причем стоимость взрослого раба доходила до сорока тысяч монет — при том, что лошадь стоила четыре тысячи монет, а бык в среднем две-три тысячи. В Афинах же в IV в. до н. э. раб, напротив, стоил в среднем в четыре-пять раз дешевле, чем лошадь 1 2. Поэтому, кстати, источники рабства на Востоке преимущественно были внутренними (фактически чаще всего временное долговое рабство в сфере обслуживания), а в Античности внешними (военнопленные, как правило, становившееся рабами пожизненно в сфере непосредственного производства).
Более того, в Китае даже за рабом признавался статус личности, по отношению к которой недопустимо чинить произвол: «Из всего созданного Небом и Землей дороже всего человек. Поэтому нельзя снижать наказания тем, кто убивает своих рабов» 3.
Из проведенного анализа закономерно выплывает несколько концептуальных выводов. Во-первых, античная и восточная цивилизация в эпоху первого осевого времени являются настолько разнотипными, что говорить о синхронном стадиально-формационном развитии Античности и Востока, типологической схожести духовных картин мира этих цивилизаций, в том числе понимания особенностей личностного начала, просто неправомерно.
Во-вторых, все типологии исторического процесса, согласно которым Восток, включающий территорию Индии и Китая, отождествляется с Древним Ближним Востоком, причем в стадиальном отношении Индия и Китай относятся к ранним деспотиям так называемого азиатского способа производства, являются концептуально несостоятельными. Тем более неправомерно рассматривать индо-китайскую цивилизацию как более архаическую относительно ближневосточных деспотий Древнего Египта и Шумеро-Ва-вилонии, якобы исторически первую форму раннеклассового общества, хронологически следующую сразу после первобытно-общинного строя (фактически высшую стадию варварства, а не цивилизации).
Наконец, главный концептуальный вывод состоит в том, что индо-китайская цивилизация, лишь зародившаяся в эпоху расцвета греческого рабовладельческого общества (VI—IV вв. до н. э.), является высшей формой так называемой первичной или предкапиталистической формации, по своим мировоззренческим параметрам превосходящей античность в том смысле, что позволяет в большей степени раскрыть творческий потенциал личности как в духовном, так и непосредственно в предметно-практическом освоении действительности.
1 Валлон А. История рабства в античном мире. — Смоленск, 2005. — С. 305.
2 Крюков М., Переломов JI., Софронов М., Чебоксаров Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. — М., 1983. — С. 32.
J Цит. по: Крюков М., Переломов Л., Софронов М., Чебоксаров Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. — М., 1983. — С. 33.
Благодаря этому в регионах Индии и Китая в период с V в. до н. э. до X—XI вв. н. э. был создан мощный очаг духовной культуры, оказавший огромное влияние не только на эллинизированный Ближний Восток, но и на философию поздней античности (неоплатонизма). Великие достижения индо-китайской цивилизации классического феодализма в области литературы, философии, математики, астрономии через культуру Византии, Ирана, арабской Испании были переданы средневековой Европе, послужив важной предпосылкой ее дальнейшего взлета г.
Поэтому вполне справедливо говоря о несостоятельности идеи В. Гегеля, утверждавшего, что настоящая философия существовала только на Западе, а Восток не вышел из стадии религиозно-мифологической, Г. Бон-гард-Левин утверждал: «На развитие западной индологии оказывали немалое влияние идеи консервативных ученых и политических деятелей, в частности Леяла, заявившего о неподвижности древнеиндийской цивилизации, и Джеймса Милля, возражавшего даже против термина «цивилизация», применительно к Индии в древности. Подобные взгляды в известной степени были связаны с тем, что ученые, выдвигавшие их, обычно исходили из критериев, выработанных при изучении культур Европы и Восточного Средиземноморья. Известный английский историк В. Смит вообще утверждал, что все наиболее значительные достижения индийской культуры были результатом влияния греко-римского мира» 1 2.
А потому, если говорить о существовании отдельных цивилизаций как этапов стадиальной эволюции всемирной истории, из предшествующего анализа можно сделать вывод: индо-китайская цивилизация на формационной шкале развития должна располагаться непосредственно перед буржуазной цивилизацией и после античной, которой, в свою очередь, предшествуют в качестве наиболее архаических раннеклассовых обществ Древний Египет и Месопотамия. Более подробно критерии подобного стадиального членения будут рассмотрены в следующем параграфе.
Методологические проблемы цивилизационной типологии докапиталистических обществ Запада и Востока и современность
а) принципиальная ошибочность линейно-модернизаторского подхода к типологии цивилизаций
В предшествующих параграфах была показана принципиальная несостоятельность ряда попыток сведения философии истории к ее мифологии и выведения логики истории из религиозно-мифологически осмысленного духовного первоначала как некой предзаданности движущих сил истории, самораскрытия человеком своей не разумной и не деятельной, а якобы мифологической природы, когда человечество в лице того или иного избран
1 Чалоян В.К. Восток — Запад. — М., 1979. — С. 70—73,114—115, 166—169, 175—193.
2
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. — М„ 1980. - С. 4.
ного народа наконец осознает, что, как писал Н. Бердяев, «личность есть реализация в природном индивидууме его идеи, Божьего замысла о нем» '.
Также в предыдущем параграфе предметом непосредственного анализа стало содержание подлинно монотеистических философско-религиозных систем Индии и Китая, раскрыт творческо-личностный потенциал созданной на их основе духовной картины мира.
Однако остается открытым вопрос о реальной динамике исторического процесса. Невыяснены причины того, почему именно цивилизации Востока, создав невиданные для средневековых обществ гуманистические модели мира, обладающие огромным познавательным, эстетическим и даже экономическим потенциалом, разработав этические системы, которые, вопреки мнению М. Вебера, потенциально вполне могли бы стать основой этики буржуазного протестантизма, вступили в полосу вовсе не развитого капитализма, а длительной стагнации и упадка, а впоследствии, уже в эпоху Новейшего Времени, Япония, Индия и Китай прошли этап модернизации, лишь так или иначе вписавшись в общемировую систему экономических правил игры, созданных Западом. Причем именно деградация конфуцианской этики, трансформировавшейся в неоконфуцианство (по Веберу же — неконструктивно бюрократического типа), и уводящие от реального мира в мир мистицизма поздние даосизм и буддизм, дали основание выдающемуся немецкому политологу и социологу сделать вывод об их принципиальной ан-типротестантской ориентированности.
Объяснить механизм динамичного развития западной цивилизации по пути капитализма, причины, по которым именно в ее рамках были созданы институты рынка, частной собственности и современные принципы западной демократии призван своеобразный, так сказать, экономико-объективистский подход к пониманию пускового механизма исторического процесса. Суть его состоит в попытке выяснить особенности античной цивилизации, оставшейся в значительной степени вне поля зрения исследователей, в какой-то мере зациклившихся на прамонотеистической мифологеме всемирной истории, как своеобразной «куколке» (А. Тойби) западной цивилизации.
В этой связи большой интерес представляет попытка определения первичного цивилизационного очага, ставшего пусковым механизмом поступательного развития от древности к Новому Времени на основе реконструкции раннеклассовой истории. Такую попытку предпринял известный востоковед Л. Васильев, который в своей реконструкции истоков современной истории делает упор не на духовном, а именно на экономическом факторе как определяющем судьбу западной цивилизации, а значит, в какой-то степени, и всего человечества с древности до настоящего времени. Суть концепции достаточно проста: в силу определенных географо-экономических факторов, в первую очередь — необходимости централизованного государственного контроля над процессами ирригации на Востоке, в рамках почти всей так называемой первичной формации возобладал так называемый феномен
Бердяев Н. Философия свободного духа. — М., 1994. — С. 298.
власти-собственности: жесткое централизованное этатистское регулирование экономического хозяйства нарождающейся бюрократией протототали-тарного типа, беспощадно подавляющей любые ростки частной собственности и неразрывно связанного с ней товарного производства. Лишь античность, как считает Л. Васильев, в силу не до конца проясненных факторов избежав данной участи, дала толчок развитию современных форм производства, в том числе рыночной экономики, которая, пусть еще в зачаточной, зародышевой форме, возникла вместе с этой частной собственностью именно в рамках античной цивилизации. Таким образом, по его гипотезе, именно в античности зарождаются и якобы получают свой первый толчок к развитию те сущностные силы человека, которые собственно и составляют главное содержание современной западной (а в современную эпоху уже во многом и восточной) цивилизации.
При таком подходе античность оказывается уникальным небольшим островом цивилизации в океане варварства раннеклассовой архаики, «азиатского способа производства», которому органически присущи отношения так называемого поголовного рабства (здесь прослеживается методология понимания раннеклассовых обществ, предложенная в свое время Л. Морганом).
Вот как сам автор характеризует свое понимание общества «поголовного рабства»: «Оперируя этим термином, Маркс явно имел в виду отразить ту хорошо известную социально-иерархическую структуру, в рамках которой каждый нижестоящий обязан был раболепствовать перед вышестоящим, а все они вместе — перед «верховным собственником», «восточным деспотом» *. Впрочем, напомню, что, по мнению того же В. Гегеля, Китай «может управляться деспотически, и в такой стране свободен лишь один деспот. Но его свобода неподлинная, поскольку опирается на несвободу других» * 2. Обращает на себя внимание, что понятие восточного деспотизма, в противоположность уже известному нам определению монотеизма как отражению в понятии бога представлений о восточном деспоте, здесь рассматривается не просто как недостаточное или даже методологически ущербное (для определения, скажем, того же монотеизма), а как безусловно негативная характеристика предельно широко трактуемого восточного общества, принципиально не способного к созиданию цивилизационных начал, являющихся базисом современных, основанных на рынке и демократии развитых стран. «Как известно, представление о ведущей роли частной собственности в постпервобытных обществах восходит к учению К. Маркса, который положил этот тезис в основу своей теории о классовых антагонистических формациях.... Коренным отличием выделенной азиатской формы собственности и сконструированного на этой основе “азиатского способа производства” было как раз отсутствие на Востоке частной собственности, что сам Маркс называл ключом к восточному небу» 3.
Васильев Л. Феномен власти-собственности. — В кн.: Типы общественных отношений на Востоке в средние века. — М., 1982. — С. 63.
2 Каримский А. Философия истории Гегеля. — М., 1988. — С. 170.
3 Васильев Л. Феномен власти-собственности. — В кн.: Типы общественных отношений на Востоке в средние века. — М., 1982. — С. 61.
Существует и несколько иной концептуальный подход. Идею о том, что Восток относится к примитивным формам разделения труда, противостоящих античным, как варварство цивилизации, и основанных еще даже не на общественных, а на так называемых естественных, по сути — досоциальных, доисторических отношениях, в свое время отстаивал М. Виткин. (При этом автор трактовал высказывание К. Маркса о том, что «в Египте был труд и разделение труда — и касты, в Греции и Риме труд и разделение труда — и свободные и рабы» 1 таким образом, что фактически отождествлял египетский кастовый строй с индийскими кастами, а архаичную общинную организацию производства с аналогичной позднесредневековой индийской общиной 1 2.
Говоря о классическом восточно-деспотическом «государстве-Левиа-фане» Л. Васильев дает ему следующую характеристику: «сущность этого способа производства и его принципиальное отличие от всех тех, которые были основаны на частной собственности, сводится к тому, что структурообразующей его основой была власть-собственность, т. е. феномен, в котором были нерасчленимо слиты в своей первозданной цельности административно-политические, социальные, экономические, военные, религиозные и иные стороны существования ранних обществ при главенствующей роли административно-политической, организаторско-управленческой функции» 3.
Продолжая традиции М. Виткина, в более поздних работах Л. Васильев уже прямо говорит о том, что власть-собственность — это восточная альтернатива не просто модели так называемых постпервобытных обществ, а именно магистральному пути развития западной цивилизации, проходящей идентичные по своим типологическим характеристикам античную, феодальную и капиталистическую ступени или стадии развития. «Власть-собственность — это и есть альтернатива европейской античной, феодальной и буржуазной частной собственности в неевропейских структурах, причем это не столько собственность, сколько власть, так как функции собственника здесь опосредованы причастностью к власти, т. е. к должности, но не к личности правителя. По наследству в этих структурах может быть передана должность с ее правами и прерогативами, включая и высшую собственность, но не собственность как исключительное право владения вне зависимости от должности. Социально-экономической основой власти-собственности государства и государя было священное право верхов на избыточный продукт производителей» 4.
В самом деле, так называемый азиатский способ производства, при котором еще отсутствует феномен частной собственности, а владение является производным от занимаемой во властной иерархии должности, с наибольшей полнотой и последовательностью воплотилось в Древнем Египте.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. — Т. 6. — С. 198.
2 Виткин М. Восток в философско-исторической концепции К. Маркса и Ф. Энгельса. - М„ 1972. - 116 с.
3 Васильев JI. История Востока. В 2 т. — М., 1998. — Т. 1. — С. 88—89.
4 Там же. — С. 69.
Причем подобное отношение господства как именно власти-собственности распространялось не только на фараона как олицетворение живого бога, но и на всю иерархию его сановников. «Дело в том, что большинство царских чиновников не имело собственности. Земельные участки и люди, которые были для них выделены царем, служили основным источником их существования, дававшим возможность поддержать культ покойного отца. «Достояние по службе», которым располагал сановник, принадлежало не ему лично, а его должности и могло быть отобрано вместе с должностью. Таким образом, благополучие вельможи зависело прежде всего от его должностного состояния. Вот почему начиная со времени IV династии вошло в обычай передавать старшему сыну должность отца»
Однако в предшествующем параграфе было доказана принципиальная неправомерность любых попыток экстраполяции подобной модели так называемого азиатского способа производства на Индию и Китай на этапе их цивилизацинного взлета. Л. Васильев же, с его предельно обобщенным, точнее, абстрактно-антиисторичным пониманием средневекового Востока, по сути и предлагает экстраполировать на Индию и Китай социально-экономические отношения, присущие Древнему Египту!
Что же касается аппеляции к авторитету К. Маркса и В. Гегеля, то нельзя не учитывать и того, что последний нечетко различал индуизм, брахманизм и зороастризм, и имел достаточно смутное представление о таких классических философско-религиозных системах, как Упанишады, джайнизм и буддизм, являющиеся важными мировоззренческими индикаторами стадиальных изменений в древней Индии, а первый был еще и очень ограничен в информации о реальном древнем и раннесредневековом Востоке.
Как же пытается Л. Васильев обосновать тот факт, что Античность, в отличие от Индии и Китая, избежала участи превращения в азиатский способ производства или классическую восточную деспотию? Суть объяснения причин греческого прорыва к более высоким формам социальности сводится к тому, что, дескать, благоприятные экологические условия Двуречья, и, в первую очередь, высокая производительность труда в условиях развитой ирригации стали толчком к становлению надстройки качественного иного цивилизационного типа — «храмового хозяйства», отличного от египетского сверхгосударства, задушившего частную инициативу.
Кроме того, исключительная полиэтничность данного региона якобы не способствовала появлению крайних форм деспотизма, ориентируя скорее на высшие формы монотеизма (которые в действительности, как было показано выше, именно в докапиталистических Индии и Китае достигли своих наиболее развитых классических форм). «Возможно, — пишет Л. Васильев, — что здесь, в Месопотамии, в весьма благоприятных для этнической пестроты населения условиях (все дороги вели к рекам, где селились шумеры, семиты и представители иных этнических общностей), именно вследствие этой пестроты не великий вождь, но безликий бог с вождем-первосвя
1 Заболоцка Ю. История Ближнего Востока (от первых поселений до персидского завоевания). — М., 1989. — С. 148.
щенником, его служителем и представителем, стал первым символом раннего гетерогенного политического объединения чифдом» *.
Интересно в этой связи уточнить, что отсутствие на Ближнем раннеклассовом Востоке за пределами Древнего Египта жесткой государственной централизации даже послужило основанием ряду западных ученых для оценки властных отношений анализируемого ареала, в раннеклассовую эпоху, в понятиях западной демократии: «Казалось бы, монополия на демократию целиком принадлежит западной цивилизации, да и учреждения ее возникли лишь за последние столетия. Кто бы мог подумать, что такие политические ассамблеи собирались тысячи и тысячи лет назад, да еще в такой стране, которая никак не связывается в нашем сознании с преставлением о демократии!» 1 2.
Поскольку же общеизвестно, что шумеро-вавилонская религиозно-мировоззренческая парадигма существенно повлияла на содержание иудаистских текстов 3, в предлагаемом варианте зарождения всемирной истории вполне возможной оказывается и «реабилитация» прамонотеистической версии об иудаистском идейном первоначале человечества, с той лишь разницей, что первичной формой воплощения классического монотеизма, трактуемого с позиции экономических измерений западной демократии, становится не христианство в его новозаветной интерпретации, а античность, со свойственной ей энергией, страстью к творению новых культурно-исторических форм, состязательностью как своеобразным праобразом рыночной стихии (что, кстати полностью согласуется с теми характеристиками творческой страстности и общеэтнического темперамента, которые ряд авторов, как было показано выше, приписывают библейскому архетипу социального бытия).
Таким образом, представление о вечном феодализме, лежащем в основе духовной жизни Древнего Востока и Средиземноморья, легко трансформируется в идею вечного капитализма, конкретно-историческая преходящая форма которого теперь сводится к «природным», извечным, изначальным, по сути вневременным, формам эффективной организации общественной жизни. Ведь существует гипотеза, согласно которой вера во всеобщего, наднационального бога якобы способствовала универсализации товарно-экономических, в первую очередь, посреднических отношений, которые развивали прежде всего представители семитских племен. В частности, Б. Тураев писал, что «иудеи уже давно получили вкус к торговле и капитализму» 4. Причем, тем же Б. Тураевым высочайший гуманистически-личностный потенциал ветхозаветной традиции опять-таки объясняется богоизбрнничеством в наиболее эффективных сферах экономической деятельности, при котором древнесемитсткие племена выступают как бы родоначальниками наиболее ранних форм капитализма. Уже упоминавшийся Н. Никольский, которому
1 Васильев Л. Феномен власти-собственности. — В кн.: Типы общественных отношений на Востоке в средние века. — М., 1982. — С. 75.
2 Кречмер С. История начинается в Шумере. — М., 1991. — С. 40.
3 KocidoecbKuu 3. Б1блшн1 оповщк — К., 1978. — С. 20—29.
4 Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Т. 2. — Л., 1935. — С. 191.
принадлежат работы, доказывающие политеизм Ветхого Завета, придерживался точки зрения, согласно которой именно тяжелые условия жизни еврейского народа в диаспоре после его изгнания якобы стимулировали социально-экономическую активность, развитие капиталистических товарных отношений, что привело к необходимости выработки идеи единого бога и ее пропаганде с целью преодоления национальных и культурных ограничений экономической активности местных племенных политеистических культов.
Не вдаваясь в детали концепции В. Зомбрата о месте евреев в создании современного капитализма, отметим, что согласно его представлениям, «...евреи также народ торговцев по крови». Причем в отличие от представителей других этносов, согласно его воззрениям, «евреи едва ли должны были производить какой-либо отбор: они представляют собою с самого начала уже почти сплошь специально воспитанный народ торговцев» *.
Что же касается флорентинцев, которых В. Зомбарт также относил к народу торговцев, то здесь, в контексте нашей темы, важно следующее замечание: «То, что сделало флорентинцев торговцами, более того, первым величайшим народом торговцев средневековья, это была текшая в их жилах этрусская и греческая (восточная) кровь». Причем «над этрусским слоем расположился в течение римской эпохи мошный слой азиатов, которые совершенно несомненно были исполнены того же духа, какой воодушевлял этрусков, когда они в качестве торговцев пришли в Италию»1 2. Очевидно подобное понимание вполне работает на версию передачи древними азиатами, в том числе и семитами духа частнособственнического предпринимательства именно грекам и римлянам.
Более того, важно, что в своей программной работе с красноречивым названием «Смысл истории» Н. Бердяев отмечал: «Еврейский народ есть, по существу своей природы, народ исторический, активный, волевой, и ему чужда та особая созерцательность, которая свойственна вершинам духовной жизни избранных арийский народов. К. Маркс, который был очень типичным евреем, в поздний час истории добивается разрешения все той же древней библейской темы: в поте лица своего добывай хлеб свой. То же еврейское требование земного блаженства в социализме К. Маркса сказалось в новой форме и в совершенно другой исторической обстановке... Но мессианскую идею, которая была распространена на народ еврейский, как избранный народ божий, К. Маркс переносит на класс, на пролетариат» 3.
Здесь уже практически наличествует вся протестантская мотивация особой трудовой этики, суть которой состоит в том, что если Господь обрек человека на страдания первородного греха, искупление которого состоит в том, чтобы с кровью и потом добывать хлеб свой насущный, вполне логично предположить, что его трудовая деятельность — это своего рода испытание, шанс доказать, что человек создан по образу и подобию Бога, и подобно то
1 Зомбрат В. Собрание сочинений в трех томах. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека. — СП-Б., 2005. — С. 269.
2 Там же. — С. 267, 268.
3 Бердяев Н. Смысл истории. — М., 1990. — С. 70.
му, как «отец наш небесный» сотворил земной мир, «заброшенный» в этот мир человек, презрев все мирские соблазны, может и должен сотворить хотя бы подобие рая на земле (именно подобная мотивация и послужила для М. Вебера отправной точкой для формирования своей концепции протестантской этики, согласно которой «религией спасения» объявляется именно Ветхий Завет).
Тогда мессианская идея, являющаяся ключом к земной человеческой истории, приобретет чисто экономические измерение, и можно сделать вывод, что античная стратегия модернизационного развития, противоположная тотально застойному Востоку, почерпнута древними греками опять-таки в шумеро-вавилонском и иудейском религиозном комплексе мировоззренческих установок, направленных на активную экономическую самореализацию. Ведь греческая мудрость зародилась на побережье Малой Азии, при непосредственном соприкосновении с доклассическими раннеклассовым обществами и под несомненным влиянием ближневосточной мифологии, ощутимое присутствие которой разные авторы находят в творчестве Платона, Демокрита, Пифагора и многих других античных мыслителей.
Более того, хотелось бы обратить внимание на методологический аспект западноцентристского понимания философии истории. В отличие от О. Шпенглера, Н. Данилевский рассматривает свою типологию цивилизаций не по принципу рядоположенности, а, в значительной степени, по принципу хронологической последовательности и даже эволюции в социальном времени от менее развитых форм к более развитым: «Эти культурно-исторические типы, или самобытные цивилизации, расположенные в хронологическом порядке суть:
1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский или древнесиметический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический или аравийский и 10) германо-романский или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американских типа — мексиканский и перуанский, погибшие насильственной смертью и не успевшие совершить своего развития. Только народы, составлявшие эти культурно-исторические типы, были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал самостоятельным путем начала, заключавшиеся как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были поставлены, и этим вносил свой вклад в общую сокровищницу. Между ними должно отличать типы уединенные от типов или цивилизаций преемственных, плоды деятельности которых передавались от одного к другому...» *. К таким преемственным типам Н. Данилевский относит ряд цивилизаций, которые фактически выстраивают, начиная от древности и заканчивая Новым Временем, европоцентристскую линию развития всемирной истории: «таковыми преемственными типами были: египетский, ассиро-вавилоно-финикийский, греческий, римский, еврейский и германо-романский или европейский» 1 2.
1 Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. — М., 2003. — С. 92—93.
2 Там же. — С. 93.
Более того, цивилизации Востока, согласно гипотезе Н. Данилевского, потому и оказываются застойно-отставшими, что не развиваются в режиме преемственной эволюции: «...понятно, что результаты, достигнутые последовательными трудами этих пяти или шести цивилизаций, своевременно сменивших одна другую и получивших к тому же сверхъестественный дар христианства, должны были далеко превзойти совершенно уединенные цивилизации... каковы китайская и индийская, — хотя б эти последние и одни равнялись всем им продолжительностью жизни. Вот, кажется мне, самое простое и естественное объяснение западного прогресса и восточного застоя» 1.
Таким образом, выстраивается как бы четкая аргументация в пользу западоцентристской модели восходящего развития всемирной истории от эпохи цивилизационного первотолчка, данного ей античным миром, в свою очередь перенявшего архетип социального бытия как прежде всего бытия экономико-предпринимательского, частнособственнической мотивации у древнесемитских и иных племен Месопотамии и Шумеро-Вавилонии. То есть благодаря отсутствию деспотического влияния Древнего Востока применительно к Древней Греции фактически по аналогии с понятием прамонотеизма можно говорить о зарождении своего рода «пракапитализма».
На первый взгляд, подтверждением подобного рода предположений является и развитие экономики древней рабовладельческой Греции, в которой можно усмотреть особенности именно рыночного хозяйства: «Что касается кредитного дела, то... к IV в. относятся первые обстоятельные сведения о профессиональном ростовщичестве, о деятельности древних банкиров-тра-пезитов и даже о целых банкирских домах, осуществлявших кредитные операции в больших масштабах, можно сказать, в рамках всей Эллады. ...Вообще характерной чертой времени становится деловая активность крупных предпринимателей — хрематистов (от греческого chrema — «ценность», «добро», «деньги»). Их удачливые операции, служившие выражением общего роста и успеха крупного частновладельческого хозяйства, становятся предметом обсуждения в литературе IV в.» 2.
Причем вполне можно сделать допущение о том, что именно новый тип экономической мотивации неразрывно связан с феноменом предельного взлета творческих сил индивида в рамках греческого полиса, которое А. Бергсон назовет «жизненным порывом», и которое в самой рабовладельческой Греции и Римской республике предавалось особыми понятиями «агон», «агапе», «виртус». «Одно несомненно: главным итогом трансформации структуры был выход на передний план почти неизвестных, или по крайней мере слаборазвитых в то время во всем остальном мире частнособственнических отношений, особенно в сочетании с господством частного товарного производства, ориентированного преимущественно на рынок, с эксплуатацией частных рабов при отсутствии сильной централизованной власти и при самоуправлении общины, города-государства (полиса). После реформ
1 Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. — М., 2003.
Фролов Э. Огни Диоскуров. Античные теории переустройства общества и государства. - Л., 1984. - С. 36-37.
Солона (начало VI до н. э.) в античной Греции возникла структура, опирающаяся на частную собственность, чего не было более нигде в мире. Господство частной собственности вызвало к жизни свойственные ей и обслуживающие ее нужды политические, правовые и иные институты — систему демократического самоуправления с правом и обязанностью каждого полноправного гражданина, члена полиса, принимать участие в общественных делах (римский термин res publica как раз и означает «общественное дело»), в управлении полисом; систему частноправовых гарантий с защитой интересов каждого гражданина, с признанием его личного достоинства, прав и свобод, а также систему социокультурных принципов, способствовавших расцвету личности, развитию творческих потенций индивида, предприимчивости и т.п. Словом, в античном мире были заложены основы так называемого гражданского общества, послужившего идейно-институциональным фундаментом быстрого развития античной рыночно-частнособственнической структуры. Всем этим античное общество стало принципиально отличаться от всех других, прежде всего восточных, включая и финикийское, где ничего похожего, во всяком случае в сколько-нибудь заметном объеме, никогда не было» 1.
Более того, поскольку частнособственническая инициатива, конкуренция предполагает раскрепощение сил отдельной индивидуальности, казалось бы, вполне логично будет связать экономический базис античной цивилизации с ее духовной надстройкой. Речь идет о том самом якобы зародившемся капиталистическом духе, который позже, в эпоху европейского Ренессанса, обратился именно к восстановлению античности.
И это не случайно, ведь главной особенностью античной религии стал антропоморфизм, т. е. преимущественное изображение богов не в качестве животных, растений или даже неодушевленных фетишей. «Греческие боги с их характерными особенностями изображаются как имеющие человеческие черты, и этот антропоморфизм считается их недостатком. Но против этого следует возразить, что человек как духовное начало составляет истинную суть греческих богов, и благодаря этому они стоят выше всех богов, являющихся олицетворениями сил природы, и всех абстракций единого и высшего существа» . Причем второй вполне логичной стороной подобного обожествления человека стало его стремление преодолеть зависимость от стихийных, неконтролируемых, хаотических природных сил. «Это унижение природы выражается в греческой мифологии как поворотный пункт в развитии целого, как война богов, как низвержение титанов потомством Зевса. В этом выражается представление о переходе от восточного духа к западному, так как титаны являются природным началом, силами природы, которых лишают власти» 1 2 3.
Главенство верховного бога Зевса как раз и обусловлено его главной заслугой — овладением природными стихийными силами (Зевс-громовер
1 Васильев JI. История Востока В 2-х т. — М., 1998. — Т. 1. — С. 17.
2 Гегель В. Сочинения. Философия истории. — М,—Л., 1935. — Т. VIII. — С. 234.
3 Там же. — С. 230.
жец) и, в то же время, покорение, обуздание природных разрушительных сил, ослабление фатальной судьбы, олицетворяющей эти силы. Другими словами, представление о верховном боге олицетворяет новый уровень развития производительных сил, рост независимости от природы всего множества людей, утверждение исторически более прогрессивных общественных отношений. Данный качественно новый тип отношений нашел отражение в принципиально иных мировоззренческих трактовках экономических отношений по сравнению с социальными структурами Древнего Ближнего Востока.
Особо следует подчеркнуть, что радикальность мировоззренческого переворота, приведшего к возникновению качественно новой духовной картины мира, заставляет многих исследователей применительно к эпохе греческой античности даже употреблять понятие греческого чуда, а также говорить духовной или интеллектуальной революции. «Эта интеллектуальная революция представляется столь внезапной и глубокой, что ее считали необъяснимой в терминах исторической причинности, и потому говорили о «греческом чуде». На ионийской земле разум (логос) как бы вдруг освобождается от мифа, подобно тому как пелена спадает с глаз. И свет этого разума, вспыхнув однажды, будет непрестанно освещать путь человеческому разуму» *.
Многие ученые, занимавшиеся данной проблемой, также говорят об особом агональном — творчески-состязательном отношении к бытию древних греков, неразрывно связанном с вышеупомянутым феноменом «греческого чуда», с которым, собственно, и связывается небывалый расцвет в области науки, искусства; философии, создания институтов политической демократии 1 2.
Казалось бы, на небывалую высоту поднимается и роль отдельной индивидуальности. В частности, в демократических полисах появляется тенденция рассматривать «всех граждан, невзирая на имущество и заслуги, как «равных», т. е. имеющих одинаковые права участия во всех аспектах общественной жизни. Таков идеал равноправия ..., представляющий равенство в форме простейшего отношения: 1/1» 3.
Фактически можно смело утверждать, что в греческих полисных демократиях формируется исторически более прогрессивный тип гуманизма по сравнению с сословно-общинной цивилизацией Древнего Ближнего Востока. Наряду с сохранением политеизма и идеи господства судьбы над людьми и даже богами, в греческом и римском пантеонах зафиксировано главенство одного бога (Зевса, Юпитера), олицетворяющего мощь полиса, а затем и государства. Далее, хотя боги постоянно вмешиваются в земную жизнь людей, определяя их судьбы, сама эта жизнь уже не регламентирована в такой степени, как на Древнем Ближнем Востоке. Боги — не непосредственные властители людей, они удалены в заоблачную высь (на Олимп), что в большей степени «развязывает» людям руки в их собственной жизнедеятельности.
1 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. — М., 1988. — С. 128.
2 Зайцев А. Культурный переворот в Древней Греции VIII—V вв. до н. э. — Л., 1985. — С. 3-10.
3 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. — М., 1988. — С. 120.
Рост социальной активности личности отражает сам факт появления в мифологии героев и полугероев, рожденных от богов и простых смертных. Выдающиеся греческие, а впоследствии и римские государственные деятели искренне верят, что один из их родителей имеет божественное происхождение. Многие из героев, подобно Гераклу, впоследствии становятся богами, обретая бессмертие. Более того, к моменту высшего расцвета греческой трагедии происходит смещение акцента в представлении о реальной пользе мифологических персонажей от богов к людям, а сами боги в силу их антропоморфности все больше начинают восприниматься именно как люди, с присущими им слабостями, пороками (они плетут интриги, обманывают друг друга, вмешиваются в земную жизнь, в зависимости от личных пристрастий становясь на сторону одной из противоборствующих сил) и, в то же время, величием. Фактически речь идет о подмене богочеловека обожествленным человеком. Ведь в какой-то мере герои, рожденные от смертных и богов, могут стать выше самих богов в осуществлении функций, по идее подвластных лишь Зевсу: «Геракл играет решающую роль при гигантомахии. Собственно говоря, это он, а не Олимпийцы, поразил гигантов при Флеграх на Горелом поле. Он вступает в единоборство с единичными гигантами, как атлет с атлетом, — например, с Алконием. Он замещает на время титана небодержателя Атланта в роли небодержателя, приняв на плечи столпы небесные» Напомню, что речь идет о том самом Геракле, который, вопреки воле Зевса, вонза-, ет стрелу в коршуна, терзающего защитника людей Прометея и освобождает его.
О стремлении человека к самореализации в своем историческом бытии с помощью своих собственных сущностных сил более чем красноречиво свидетельствует и то, что Прометей фактически был героем-богоборцем, который именно вопреки божественной воле дал людям разум и знания, научил их скотоводству и земледелию, кораблестроению и мореплаванию, обработке металлов, счету, письму, врачебному делу, наконец дал им в пользование величайшее завоевание человеческой цивилизации — огонь.
В целом же выводы Л. Васильева относительно неразрывности связи между античностью и ренессансной, официально провозгласившей возрождение античности, капиталистической Европой, причем опять же в противоположность Востоку, звучат абсолютно однозначно: «В этом кардинальное принципиальное отличие неевропейских докапиталистических структур от античных и постренессансных в Европе (раннефеодальные европейские структуры в этом плане были близки к неевропейским), причем именно античное наследие сыграло свою роль в их последующей трансформации — не случаен сам термин «Ренессанс») 1 2.
Опять-таки, при таком подходе кажется вполне естественным, что, например, такой известный исследователь, как Пьер Левек, в работе «Эллинистический мир» оперирует категориями буржуазного общества, а в «Пос
1 Голосовкер Я. Логика мифа. — М., 1987. — С. 43.
z Васильев Л. Феномен власти-собственности. — В кн.: Типы общественных отношений на Востоке в средние века. — М., 1982. — С. 90.
лесловии» к этой работе А. Кошеленко фактически оправдывает применительно к античности употребление таких понятий, как «буржуазия» и «капиталист» тем, что якобы «в некоторых отношениях феодальная формация напоминает первобытнообщинную, а рабовладельческая — капиталистическую», а значит «...в условиях рабовладельческого общества существовал определенный сектор экономики, по своему характеру сходный с теми отношениями, которые господствовали в эпоху капитализма»
Однако в действительности перед нами не что иное, как новая грандиозная, фальсифицирующая реальную историю, мифологема. Начнем с того, что К. Маркс никогда не отрицал того, что именно рабство с объективной необходимостью является одной из универсальных формационно-стадиальных ступеней развития человечества, причем рабовладельческий уклад на Востоке, хотя и не занимал в этом регионе господствующего положения, как пытались доказать представители так называемой формационной «пятичлен-ки» в советские времена, тем не менее, играл достаточно важную роль, в том числе и в качестве наглядного примера исчерпавшей себя формы общественных отношений, которая в силу своей исторической бесперспективности и перманентной кризисности должна быть преодолена.
Вот что, например, пишет по этому поводу такой выдающийся индолог, как А. Бэшем, которого никак не заподозришь в примитивном формационном понимании индийской истории: «Мегасфен утверждает, что в Индии не было рабов. Он, безусловно, ошибался. В Индии рабство принимало непривычно мягкие формы, и рабов было значительно меньше, чем в цивилизациях Запада, поэтому он не мог распознать раба в индийском дасе» 1 2. Во-вторых, К. Маркс никогда не считал античный рабовладельческий способ производства и политические и идеологические структуры, которые надстроились над базисом рабовладельческой экономики, идеальным с точки зрения их мотивационного потенциала и, тем более, способным стать базисом собственно капиталистической экономики. Он неоднократно писал не о рыночном, а наоборот, именно антипротестантском отношении к труду как деятельности, которое изначально присутствовало в данном типе экономики, поскольку физический труд, как известно, воспринимался при рабовладельческом способе производства как тяжкая и унизительная, в полном смысле рабская повинность, занятие, недостойное свободного человека, что, собственно, и стало тормозом развития производительных сил и в конечном итоге подорвало потенциал античной формации изнутри, вызвав крушение римской империи.
В конце концов, К. Маркс никогда не отказывался от идеи нескольких последовательно сменяющих друг друга формаций и того, что капитализм вырастает именно из феодализма, а отнюдь не из рабовладения. «Античное общество, феодальное общество, буржуазное общество представляют собой такие совокупности общественных отношений, из кото
1 См.: Кошеленко А. Послесловие. — В кн.: Левек П. Эллинистический мир. — М., 1989. - С. 248.
2
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. — М., 1977. — С. 164.
рых каждая вместе с тем знаменует собою ступень в историческом развитии человечества» *.
Более того, выдающийся немецкий мыслитель неоднократно критиковал все попытки модернизировать античность в духе идеи «античного капитализма», отмечая принципиальную несостоятельность любых попыток отождествления каких бы то ни было форм докапиталистического товарного производства (рынка) и отношений собственности и финансовых операций с собственно капиталистическим рынком, производством, направленным на са-мовозрастание стоимости и оценки любых форм финансовых операций как операций с капиталом. Вот что К. Маркс писал по этому поводу: «... даже самые абстрактные категории, несмотря на то, что они — именно благодаря своей абстрактности — имеют силу для всех эпох, в самой определенности этой абстракции представляют собой в такой же мере продукт исторических условий и обладают полной значимостью только для этих условий и внутри их.
Буржуазное общество есть наиболее развитая и наиболее многостороння историческая организация производства. А поэтому категории, выражающие его отношения, понимание его организации, дают вместе с тем возможность проникновения в организацию и производственные отношения всех отживших общественных форм... Буржуазная экономика дает нам, таким образом, ключ к античной... Однако вовсе не в том смысле, как это понимают экономисты, которые смазывают все исторические развития и во всех общественных формах видят формы буржуазные» 1 2.
Вообще же К. Маркс не только не считал античную форму ростовщического капитала соответствующей буржуазному финансовому капитализму, но и не рассматривал ее как однозначно прогрессивную. Наоборот, он неоднократно отмечал, что «...повсюду, где торговый капитал имеет преобладающее господство, он представляет систему грабежа, и недаром его развитие у торговых народов как древнего, так и нового времени непосредственно связано с насильственным грабежом» 3. (В современную эпоху механизм международного неэквивалентного обмена, в основе которого лежит все та же функция финансового посредничества, по сути узурпированная отдельными государствами, уже приобрел масштабы мирового финансового империализма) 4.
Наконец, самое главное состоит в том, что, казалось бы, будучи специалистом по Востоку, сам Л. Васильев грубо искажает не только духовную, но, прежде всего, экономическую историю Индии и Китая. Соглашаясь в целом с тем, что в этих странах рабство носило не выраженный, стертый характер и прежде всего проявлялось в форме так называемого домашнего рабства, и выдвигая различные версии собственно стадиальной типологии стран дальневосточного региона, практически все специалисты отмечают исключи-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. — Т. 6. — С. 442.
2 Там же. - Т. 13. - С. 731-732.
3 Там же. - Т. 25. - Ч. 1. - С. 364.
4 Подробнее см.: Шморгун О. Поспндустральна складова концепцп полгтично! реформа в Украли. — В кн.: Ф1лософ1я фшансово! цивипзацй: людина у свт грошей. — Лыйв, 2008. - С. 250-251.
телъно раннее зарождение в Индии и Китае именно отношений частной собственности на землю и трудовой мотивации, своеобразного предпротестан-тского культа земледельческого труда, которой напрочь отсутствовал в античном обществе.
Часто говорят об исключительно раннем (более чем на тысячелетие по сравнению с европейским феодализмом!) зарождении феодальной формации в так называемых раннесредневековых Индии и Китае. Здесь диапазон оценок зарождения феодализма колеблется от XI в. до н. э. до III—V в. н. э. 1 В частности, сами китайские ученые датируют зарождение так называемого феодализма в Китае V—III в до н. э., то есть, опять-таки, началом I тыс. до н. э. 2 Впрочем, сам термин «феодализм» в данном случае неудачен. На самом деле это понятие связано не с многоукладной структурой общества, а с сильной доминантой архаических рабовладельческой и, особенно, сословно-общинной (последняя в целом отвечает марксовым представлениям об азиатском способе производства) составляющих. Неслучайно известный исследователь европейского феодализма Марк Блок подчеркивал, что «из всех форм зависимости, которые существовали в пределах господского имения, наиболее аутентично феодальной была крепостная зависимость» 3.
Напротив, феодализм применительно к средневековому Востоку оценивается как господство земельной собственности, чего как раз никогда не было в условиях якобы эталонного европейского феодализма: «Поскольку основой феодальной экономики было сельское хозяйство, в раннее средневековье велась острая борьба за установление монопольной собственности господствующего класса на землю... Для феодальных производственных отношений характерно господство крупной земельной собственности, сосредоточенной в руках феодалов. В то же время одна из важнейших черт феодализма заключается в сочетании крупной земельной собственности с мелким индивидуальным хозяйством крестьян, которым феодалы или феодальные государства передавали в держание свои земли. Крестьянин при феодализме владеет основным средством производства — землей — и является собственником орудий труда и рабочего скота, причем объем его прав на землю варьировался от краткосрочной аренды до наследственного владения 4.
Л. Переломов подчеркивает даже особый юридический механизм оформления частной собственности на землю, безусловно значительно более развитый, чем это имело место в условиях азиатского Ближнего Востока (Египет, Шумеро-Вавилония) и даже античной Греции: «К концу периода Чжань-го и Цинь (IV—III в. до н. э.) все большее число китайских общин превращалось в самоуправляющиеся объединения свободных земельных собствен-
1 Коранашвили Г. Докапиталистические способы производства. — Тбилиси, 1988. — С. 154.
2
См.: Титаренко М. Древнекитайский философ Мо Ди. Его школа и учение. — М., 1985. - С. 10-13.
3 Блок М. Феодальне суспыьство. — К., 2002. — С. 454.
4 История стран Азии и Африки в Средние Века. Часть 1. — М., 1987. — С. 8.
32-8-1565 497
ников» *. При этом при продаже земли «контрагентами купчей являются обычно два частных лица... Право Покупателя на землю оговаривается специальной фразой, встречающейся с небольшими изменениями во всех ханьских купчих на землю: «все, что растет, что на этом поле и все, что над ним до неба и под ним до подземного царства, — все [отныне] принадлежит (далее следует фамилия покупателя...)»... Покупатель получал это право от бывшего хозяина земли, заручившегося предварительно свидетельством на продажу участка. Купчие составлялись в интересах покупателя» 1 2.
При всем разнобое оценок времени зарождения феодализма, а точнее — землевладения, авторы сходятся на том, что и в Индии начало этого процесса опять таки датируется периодом V—III века до н. э. и окончательно завершается в V в. н. э. 3
В. Илюшечкин делает еще более категорический вывод, полностью противоречащий идее власти-собственности в «деспотическом» Китае Л. Васильева: «С III в. до н. э. до последних десятилетий III в. н. э. в Китае уже вполне господствовала развитая система частной, в том числе крупной частной собственности на землю, составляющая главную материальную основу функционирования частнособственнической эксплуатации в добуржуазных обществах. Вначале указанного периода большая часть обрабатываемой земли находилась, вероятно, в собственности крестьян, однако уже во II в. до н. э. появляются жалобы на то, что «поля богачей простираются на многие ли, а беднякам некуда даже воткнуть шило». Они свидетельствовали о переходе крестьянских земель в руки крупных собственников» 4.
Принципиально неверные подходы к цивилизационной типологии Востока в Древности и Средние Века привели Л. Васильева к совершенно ошибочным выводам относительно реальных механизмов цивилизационного развития на Востоке уже в XX столетии. Так, например, эталонным образцом модернизации по западному либеральному пути для него является Япония, якобы избравшая классический западный либеральный вариант развития и именно благодаря этому совершившая экономическое чудо. Другие же страны Востока, в силу инерции присущего им цивилизационного архетипа функционирования по модели власти-собственности, как будто использовали государство в качестве инструмента рыночных реформ и тем самым породили конфликт между ним и частнособственническим сектором экономики (а также гражданским обществом в целом), что и привело, по Л. Васильеву, к торможению этих реформ. «Перед государством и государственным протокапталистическим сектором экономики на деколонизованном Востоке середины XX в. оказалась сложная задача: как наилучшим образом добиться желаемых преобразований, быстрых темпов развития? Конечно, перед всеми странами Востока был уже эталон, на который можно было бы равня
1 Переломов JI. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. — М., 1981. - С. 24.
2 Там же. — С. 26.
2
Бонгард-Левин Г., Ильин Г. Индия в древности. — М., 1985. — С. 461—463.
4 Илюшечкин В. Сословно-классовое общество в истории Китая (опыт системно-структурного анализа). — М., 1986. — С. 224.
ться, т. е. Япония. Но она оказалась эталоном не для всех. Главным препятствием при поисках оптимальных возможностей для развития оказалось все то же несоответствие стандартов или, говоря проще, нежелание и неподготовленность основной части населения большинства стран Востока, особенно Африки, к тем радикальным структурным переменам, которые необходимы для ускорения развития. Естественно, что в этих условиях государство вынуждено было брать на себя основную долю усилий в области промышленного развития и всей экономической модернизации той или иной страны. Но практически это означало, что трансформирующиеся страны Востока оказались лишенными главного фермента, ускоряющего развитие: частнособственнического (капиталистического) сколько-нибудь развитого сектора экономики и пользующейся всеобщим престижем частнопредпринимательской деятельности. То и другое оказалось неразвитым» *.
Но дело в том, что, например, Япония никогда не была веберовским идеальным типом так называемого, по К. Попперу и Дж. Соросу, открытого общества рыночной экономики. Наоборот, Б. Гаврилишин в известной книге «Дорожные указатели в будущее» противопоставляет японскую систему как наиболее перспективную для эффективных реформ не только Востока, но и Запада американской (впрочем, скорее декларируемой, чем реальной) модели либерального «ковбойского капитализма», называя японский общественный строй «системой группово-кооперативного сотрудничества» \
В данном случае речь идет о понимании государства в расширительном контексте, как всей системы социальных институтов, решающих задачу защиты национальных интересов и интенсификации творческой инициативы и заряженности на реформы как можно большего числа граждан государства, функционировании многочисленных формальных и неформальных организаций, деятельность которых целиком ориентирована на защиту на-U з
циональных интересов своей страны .
Для этого практически во всех станах Востока именно на антикосмополитических традиционалистских ценностях произошло «переформатирование» этнонациональных идеалов в своего рода модерно-патриотические. В частности, в Японии имела место трансформация духа знаменитого кодекса Бусидо в качественно-новую цивилизационную парадигму солидаристс-ко-корпоративного типа. Более того, в противоположность выводам Л. Васильева, перекосы в экономике, начавшиеся в конце 80-х годов прошлого столетия, связаны вовсе не с негативной ролью государства, а наоборот, слишком сильным самораскручиванием неконтролируемой рыночной стихии, неминуемо порождающим ряд серьезных диспропорций как в экономике, так и в обществе в целом.
Поэтому Л. Васильев в принципе не прав, когда слишком узко этатис-тски трактует понятие современного государства по принципу государ
1 Васильев Л. История Востока. В 2-х т. — М., 1998. — Т. 2. — С. 258.
Гаврилишин Б. Дороговкази у майбутне. До ефективнйиих суспьпьств. Доповшь Римському клубов!. — К., 1993. — С. 15—78.
3 Мильнер Б., Олейник И., Рогинко С. Японский парадокс. — М., 1985. — С. 105—126.
ственная собственность — частная собственность. В действительности в современной наукоемкой экономике грань между частной и государственной собственностью давно стерта с помощью новейших инструментов и механизмов функционирования акционерного капитала. Например, многие китайские так называемые государственные предприятия давно работают в коммерческом режиме, нередко на равных с частнособственническими участвуя в рыночной конкуренции, при том, что само же государство активно выполняет функцию демонополизации экономики, к которой в автоматическом режиме стремится именно так называемый свободный рынок
Более того, особенно пагубно, что тормозом реформ Л. Васильев считает авторитарную форму власти, которая, по его версии, с начала реформ вынуждена была уйти, уступив место либеральному государству — «ночному сторожу» во всех странах, кроме опять же таки Китая. «Собственно к этому и сводится основная проблема развития страны после успешной реформы и убедительно проявивших себя первых ее результатов. Все дело в том, что у экономического развития по рыночно-частнособственническому пути есть своя жесткая внутренняя логика. Цены отпущены, значительная часть ресурсов и предприятий приватизирована, рынок заработал и набирает обороты. Обороты раскручивают гигантский механизм, который грозит серьезными осложнениями. Любому специалисту понятно, что сколько-нибудь развитый рынок несовместим с авторитарным режимом и с командно-административными формами контроля над страной. Всюду, где упомянутый рыночный механизм раскручивался, командно-административные структуры, до того энергично и целенаправленно его поддерживавшие, должны были уйти, сойти с политической сцены. Так было на Тайване, в Южной Корее, Турции. Необычность Китая в том, что механизм раскрутился, а представляющие его командно-административную структуру коммунистические руководители уходить не хотят, да и не могут. В результате возникает эффект перегретого котла, вот-вот готового взорваться» 1 2.
В действительности именно авторитарная власть в позитивном понимании этого термина, то есть как власть не просто авторитетная, а и обладающая достаточной политической волей для осуществления комплексной широкомасштабной поэтапной, рассчитанной на долгосрочную перспективу стратегии, выступает главным локомотивом реформ, гарантируя их необратимость 3.
Даже в прошлом известный апологет либеральной демократии и торжества ценностей западного глобализма во всемирном масштабе Ф. Фукуяма вынужден признать, что возможности демократии решать проблемы, которые возникают в обществе, далеко не безграничны: «Несомненно, что либеральные демократии поражены кучей проблем вроде безработицы, загряз
1 Шморгун О. Чи назавжди перемй неоконсервативний курс? // Полйолопчн! читан-ня. - 1992. - № 4. — С. 71-101.
2 Васильев Л. История Востока В 2-х т. — М., 1998. — Т. 2. — С. 385—386.
3 Шморгун О. Персонал1зац1я влади: законний авторитет чи «авторитет» «у закон!»? (стаття) // Дзеркало тижня. — 2002. — 31 серпня — 6 вересня.
нения среды, наркотиков, преступности и тому подобного...» ’. Более того, она проигрывает в своей способности к проведению эффективного модернизационного курса, фактически давая при такой ситуации право на жизнь и зеленый свет авторитаризму, «...если целью страны является прежде всего экономический рост, то по-настоящему выигрышной будет не либеральная демократия и не социализм ленинского или демократического толка, а сочетание либеральной экономики и авторитарной политики, которую некоторые комментаторы назвали «бюрократически-авторитарным государством», а мы можем назвать «рыночно ориентированным авторитаризмом» 1 2. Ф. Фукуяма признает справедливость аргументации Д. Шумпетера, в его известной книге «Капитализм, социализм и демократия»: «... рыночно ориентированные авторитарные государства должны быть эффективнее экономически, чем демократические...»3. И несмотря на то, что автор явно тенденциозно оценивает поведение авторитарных лидеров, таких как Д. Салазар, Ф. Франко, А. Пиночет в сознательном создании легитимных демократических режимов после преодоления состояния национального кризиса 4, он все же вынужден признать, что современная «японская демократия по американским или европейским меркам выглядит несколько авторитарной» 5.
Наконец, как это не удивительно, можно говорить даже о полной капитуляции автора в его попытках противопоставить авторитаризм демократии. Ведь в своей книге «Конец истории и последний человек» он отождествляет понятия «авторитаризм право-националистического типа», с понятием «сильное государство», а уже в одной из следующих работ с символическим названием «Сильное государство» Ф. Фукуяма как политолог обосновывает продуктивность данной модели власти и ее легитимность (хотя и предпочитает не акцентировать внимание на термине авторитаризм)!
Ч. Эндрейн считает, что эпоха реформ в Японии осуществилась на основе бюрократической авторитарной системы (хотя о совместимости понятий бюрократия и авторитаризм можно было бы поспорить) 6. Примеры понимания авторитаризма в западной политологии и социологии как эффективной мобилизационной модели именно стратегических реформ, не сводящихся к простым модернизационным или догоняющим моделям, можно было бы умножить.
Причем, важно осознать, что, однотипная корпоративно-солидарис-тская цивилизационная модель посткапиталистического типа, в рамках которой на основе не просто конвергенции, а подлинного синтеза преодолевается крайность лишь иллюзорно противоположных этатизма и столь горячо воспеваемого Л. Васильевым и рядом других, в том числе западных авторов, либерализма также применялась в XX веке на этапе культурных и эконо
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М., 2005. — С. 432.
2 Там же. - С. 198-199.
3 Там же. — С. 199.
4 Там же. — С. 51—53, 56—57.
5 Там же. — С. 365.
6 Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. — М., 2000. — С. 43—231.
мических взлетов не только в странах Востока, но и якобы исключительно либерального Запада *.
В целом же можно констатировать, что в настоящее время идея власти-собственности, так или иначе связанная с попытками «втиснуть» новые идеи относительно периодизации истории Востока в ортодоксальный марксизм, полностью исчерпала свой эвристический потенциал и грубо искажает исторические реалии исследуемого периода, являясь предельно непродуктивной в методологическом отношении.
К большому сожалению, методология исследования, в свое время предложенная Л. Васильевым применяется и сегодня, что ведет не только к искажению реальных механизмов цивилизационного развития Востока в древности, но и в позднее средневековье, и даже Новое Время. Так, в фундаментальной семисотстраничной монографии О. Непомнина «История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало XX века» предпринята попытка определить специфику китайской цивилизации именно через категорию восточной деспотии по принципу практически заимствованного у Л. Васильева противопоставления варварского Востока цивилизованному Западу. «У западного и китайского государства был различный генезис. В древности в период Шан-Инь верховная власть возникла раньше общества как такового. В последующем государство подмяло социум под себя и заставило народ служить себе. В античном мире Запада общество сложилось если не раньше государства, то наравне и одновременно с ним...
В Западной Европе экономический базис и социум оказались сильнее политической надстройки. По этой причине они заставляли ее служить им и могли изменять ее по своей надобности — в русле их эволюции.... Иная ситуация сложилась в Китае. Здесь надстройка изначально оказалась сильнее базиса. Восточная деспотия практически подчинила себе экономику и социум, превратив их в свое «продолжение». Такого рода господство государства в ряду других причин резко затормозило эволюцию социума и перекрыло дорогу его комплексному развитию. Китайская деспотия не дала возможности сформироваться многому из того, что на Западе легло в основу само-развивающегося общества, т. е. частной собственности, самостоятельной личности, гарантиям ее защищенности и др. ...
В этом последнем явно проступали неразвитость и политическое бессилие частных классов, слоев и сословий, в отличие от государственных антиподов и противовесов, прежде всего от господствующего класса бюрократии, «класса-государства». На Западе возобладало саморазвитие общества, а не государства. В Китае главным оставалось самовозобновление механизма власти, а не социума... В итоге на Западе государство стало «слугой общества», а в Китае — «его «хозяином»... В Западной Европе верх взяли общественные силы, опиравшиеся на нерушимую частную собственность. В Китае же сохранилось господство бюрократического класса» * 2.
Шморгун О. Деяк! особливост! стрибкопод!бного репонального сощально-еконо-кнчного розвитку в цившзацшному BMMipi. — Економ!чне диво: витоки, факгори, меха-шзми функщонування. — К., 2006. — С. 16—36.
2 Непомнин О. История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — М., 2005. — С. 326-327.
Поразительно, но в данной пространной цитате, своего рода кальке воззрений Л. Васильева, на наш взгляд, строго говоря, нету ни одного верного тезиса! Более того, в ряде моментов можно говорить о верности авторских суждений так сказать с точностью до наоборот! Поражает абстрактность предлагаемых характеристик дуальности Запада-Востока, примитивность и замифологизованность оценок китайского общества на протяжении практически всей истории его существования, явно не соответствующая современному уровню исследования данной проблемы. Непонятно, о каком Западе — античном, феодальном, буржуазном — идет речь? О каком различном генезисе какого западного и китайского государств?
В целом автор рассуждает в уже до боли знакомых категориях модернизации античности, ее подгонки под ранний капитализм, хотя, повторяю, ни о каком гражданском обществе или частной собственности, в капиталистическом смысле этого слова, в этот период еще не может быть и речи! О. Не-помнин откровенно экстраполирует отношения поздней китайской деспотии, свидетельствующие об этапе упадка и разложения индо-китайской цивилизации, на всю китайскую историю, что недопустимо хотя бы потому, что китайская бюрократия («шеньши») на протяжении длительного периода времени играла важнейшую положительную роль в процветании китайской государственности, демонстрируя эффективность, позволяющую утверждать, что если это еще и не рациональная веберовская бюрократия в полном смысле слова, которая могла возникнуть лишь в индустриальном государстве, то, во всяком случае, своеобразная «предпротестантская» бюрократия, которая в значительной степени обеспечивала мощнейшее развитие экономики даже уже дряхлеющего Китая и его экономическое превосходство над уже буржуазной Европой вплоть до XVII столетия!
Насколько же глубже видел суть поставленной проблемы Н. Данилевский, который в главе с символичным названием «Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческою?» едко высмеивал процветающую и сегодня в цивилизационном востоковедении позицию, согласно которой «Запад и Восток, Европа и Азия представляются нашему уму какими-то противоположностями, полярностями. Запад, Европа составляют полюс прогресса, неустанного усовершенствования, непрерывного движения вперед; Восток, Азия — полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку. Это историко-географические аксиомы, в которых никто не сомневается... Итак, как можно громче, заявим, что наш край европейский, европейский, европейский — что прогресс нам пуще жизни мил, застой пуще смерти противен, — что нет спасения вне прогрессивной, европейской, всечеловеческой цивилизации, — что вне ее даже никакой цивилизации быть не может, потому что вне ее нет прогресса» *.
Но дальше создатель одной их первых типологий цивилизаций, опередивших шпенглеровскую и тем более тойнбианскую, рассматривая «самый тип застоя и коснения — Китай, выставляемый как наисильнейший кон
1 Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. — М., 2003. — С. 77.
траст прогрессивной Европы», почти не имея источниковедческой базы, фактически делает вывод о классическом землевладельческом характере экономики Китая, которая по своему развитию превосходит европейскую; он говорит о научных открытиями астрономии, преодолевшей примитивную мифологичность, еще свойственную античности. Наконец подчеркивает, что «китайцы имеют громадную литературу, своеобразную философию... здравую возвышенную для языческого народа систему этики». «И что же это такое, как не прогресс?», — восклицает автор *.
Очень проницательно в свете нашего определения индо-китайской цивилизации как земледельческой «Китайское земледелие составляет до сих пор высочайшую степень, до которой достигло это полезнейшее из искусств» 1 2.
Такое мировидение порождает и особую трудовую мотивацию, связанную с культом производительного, прежде всего земледельческого, труда. Не случайно, как уже отмечалось, китайский император как «сын неба» вначале сельскохозяйственного цикла проводил первую ритуальную борозду. Причем в Японии, на которую огромное воздействие оказала именно китайская традиция трудовой мотивации, этот обычай сохранился до начала XX столетия. «Ван вспахивал одну борозду, чиновники пахали в три раза больше, в зависимости от ранга, а простой народ заканчивал вспашку...» 3. Вот почему применительно к классической индо-китайской цивилизации в свое время нами был предложен, как представляется, наиболее адекватный термин, исчерпывающе характеризующий суть господствовавшего там общественно-экономического уклада — землевладельческая формация 4.
Что же касается Античности, то здесь господствовало, по сути, противоположное, крайне негативное отношение к производительному труду. О своеобразной антитрудовой мотивации в античном мире в своем фундаментальном труде писал в частности А. Валлон 5. Более того, поразительный контраст с подобным отношением к производительному труду, причем в пользу Востока, представляет собой европейское античное и средневековое общество. А. Гуревич подчеркивает негативное влияние античных традиций отношения к непосредственно трудовой деятельности даже на европейское средневековье б.
Что же до так называемой китайской деспотии, то и тут Н. Данилевский оказывается на высоте, высказывая глубокие и проницательные суждения, свидетельствующие о том, что он вплотную подошел к пониманию цивилизационного циклизма как динамики функционирования самоорганизующейся социальной системы. В частности, мыслитель отмечает: «Правда, что прогресс этот давно прекратился, что даже многие прекрасные черты китай
1 Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. — М., 2003. — С. 77—78.
2 Там же. — С. 93.
3 Го юй (Речи царств). — М., 1987. — С. 29.
4 Шморгун А. Методологическая функция теории общественно-экономической формации. т- К.,1990. — С. 87—104.
5 Валлон А. История рабства в античном мире. — Смоленск, 2005. — 596 с.
6 Гуревич А. Категории средневековой культуры. — М., 1984. — С. 225—247.
ской гражданственности (как, например, влияние, предоставляемое науке и знанию) обратились в пустой формализм, что дух жизни отлетел от Китая, что он замирает под тяжестью прожитых им веков. Но разве это не общая судьба всего человечества? И разве один только Восток представляет подобные явления? Не в числе ли прогрессивных западных, как говорят, европейских народов считаются древние греки и римляне; и, однако же, не совершенно ли то же явление, что и Китай, представляла греческая Византия?» '.
Поэтому неслучайно Н. Данилевский, несмотря на то, что он не до конца преодолел мифологему Востока как тупиковой формы истории, отходит от примитивной схемы рассмотрения Индии и Китая как по сути доисторических обществ, еще фактически не имеющих статуса цивилизаций. Как было показано выше, на своей схеме он помещает китайскую цивилизацию после египетской, а индийскую даже ставит на четвертое место, после древ-несиметической и перед иранской. И дальше — важнейший концептуальный вывод, методологическое применение которого позволило бы авторам, воспевающим западный капитализм, начиная чуть ли не с ветхозаветных времен, осознать не только ложность своего подхода к прошлому, но и неправомерность идеализации институтов либеральной демократии, в том числе гражданского общества, частной собственности, рыночных отношений, парламентской демократии по отношению к классически капиталистическому, тем более, посткапиталистическому обществу: «народу, одряхлевшему, отжившему, свое дело сделавшему и которому пришла пора со сцены долой — ничто не поможет, совершенно независимо от того, где он живет — на Востоке или на Западе» 1 2.
Особенно важно подчеркнуть, что античность не может рассматриваться как зародышевая форма западной цивилизации, эволюционировавшая к развитому капитализму не только в экономическом, но и мировоззренческом стадиально-цивилизационном измерении. Ведь в действительности миропонимание античного человека во всех его аспектах по сути противоположно ренессансно-реформационной открытости миру человека буржуазной эпохи. Последний в качестве неповторимой личности ориентирован не просто на максимальную собственную самореализацию под девизом «человек — хозяин своей судьбы», но и на создание более совершенного социума, исходя из созданной им самим идеальной модели мироустройства.
Напротив, при всей радикальности античного антропоморфизма, связанного с окончательным осознанием человека как особого внеприродного существа и его стремлением к победе над неконтролируемыми стихийными силами, в противоположность ренессансному антропоцентризму и, тем более, более позднему пострациональному гуманизму и антропологизму Нового времени, античный антропоморфизм все еще остается в плену предельно детерминистских смысложизненных установок, представлений о бессилии человека в его попытках радикально изменить условия собственного бытия.
1 Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. — М., 2003. — С. 78—79.
2 Там же. — С. 79.
С железной демокритовской необходимостью, точнее даже неизбежностью, античного человека ведет по жизни фатум, и он не способен противостоять наперед извне заданной судьбе. Именно поэтому «вначале сами боги подвластны Мойрам — даже Зевс, владыка богов и людей. Боги — это блюстители велений Мойр» *.
Как известно, только в конце греческой античности в философии Эпикура появляется представление о случайности и о возможности отклонения индивида-атома от предначертанной ему траектории фатальной предопределенности (что и зафиксировал К. Маркс в своей докторской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура») 1 2.
Однако в целом ни в греческую, ни в римскую епоху, в рамках античной цивилизации как таковой, статично-пассивное отношение к действительности не преодолевается. Ведь оно является не только формой теоретической рефлексии относительно реальной ограниченности возможностей субъекта данной эпохи, но и теоретической формой проявления его стремления к статично-механистическому мировидению, где все космические процессы раз и навсегда заданы в своей определенности, что создает иллюзию стабильности и гарантированности наперед заданного бытия. А это, в свою очередь, возможно лишь в случае существования внутреннего личностного мира, неизвестного поверхностному в своем бытии, «внешнему» и даже ритуально демонстративному человеку античности, всегда живущему как бы вовне. Причем именно античное миропонимание никогда не преодолевает принципиальной чувственно-вещественной эмпиричности своего мировидения.
В этой связи Ф. Лосев не просто описывает особенности представления о материально-чувственном космосе в античности, но и четко противопоставляет подобную духовную картину мира более поздним мировоззренческим системам, одушевляющим космос как высшее первоединство. Для античного мышления «...космос есть не что иное, как чувственно-материальный космос, то есть космос видимый, слышимый, с землею посредине, с небесным сводом и звездным небом наверху, обязательно видимым и слышимым, и с подземным миром внизу. В этом тоже удивительная специфика античной космологии, которая бесконечно отлична от духовного понимания неба в средние века, и от бесконечно пространственного понимания его в новое время» 3.
То же самое относится и к античному представлению о социальном или историческом времени. «Античность справедливо считается колыбелью европейской цивилизации; и в средние века, и в особенности в эпоху возрождения античное наследие мощно оплодотворяло культуру Европы. Однако ничто, пожалуй, не раскрывает столь ясно глубокой противоположности античной и новой культуры, как анализ их временной ориентации. Тогда как
1 Голосовкер Я. Логика мифа. — М., 1987. — С. 32.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 40. — С. 147—233.
3 Лосев Ф. История античной философии. — М., 1989. — С. 26.
векторное время всецело господствует в современном сознании, оно играло подчиненную роль в сознании эллинском... Эллинское сознание обращено к прошлому, миром правит судьба, которой подвластны не только люди, но и боги, и следовательно, не остается места для исторического развития. Античность «астрономична» (Ф. Лосев) и поэтому не осознает истории — она статична»
Вот почему тот же О. Шпенглер на многих страницах своего «Заката Европы» строит мировоззренческую дихотомию не по принципу «Восток» — «Запад», а по принципу «Античность» — «Новое Время», показывая на уровне в том числе двух математических моделей мира, противоположность статичного античного числа как эмпирической величины и числа как отношения, связанного с представлением современного человека о всеобщности относительности бытия не только в естественнонаучном, но и более широком — философском смысле этого слова 1 2.
Относительно же европейского ренессансного, а позже и просвещенческого идеалов подражания античности, он, на наш взгляд, вполне справедливо отмечает: «до сих пор не существовало второй такой культуры, которая воздала бы столько почестей свершениям иной, давно угасшей культуры, была бы в научном смысле столь податливой к влияниям, как западная по отношению к античной. Прошло немало времени, пока мы нашли в себе мужество думать собственным умом. В основе лежало постоянное желание подражать античности» 3.
Сам Ф. Лосев неоднократно подчеркивал, что подлинный монотеизм духовно-мировоззренческого уровня, сопоставимый лишь с высшими формами христианской мысли в средние века и даже неоплатонистическими концепциями эпохи Возрождения, не мог возникнуть в эпоху античности. Причем важно именно то, что выдающийся знаток античности, связывая монотеизм с невиданным для античности развитием личностного начала, справедливо считал, что в силу особой вещественно-онтологичной эмпиричности античного мышления, не только между ренессансным, но и средневековым мировосприятием пролегла непроходимая пропасть: «Совсем другое дело — средневековое мышление, в котором основной интуицией была не интуиция чувственного тела, а интуиция личности. Поэтому абсолютом здесь оказался не чувственно-материальный космос, но личность, которая выше всякого космоса и которая является даже его творцом и создателем. И какие бы совпадения мы не находили между средневековым монотеизмом и античным пантеизмом, то и другое никогда и ни в каком смысле не могут отождествляться, откуда непроходимая пропасть между античным и средневековым мышлением» 4. Кстати, этот тезис опровергает высказанную им же западоцентристскую идею единой линии развития от
1 Гуревич А. Категории средневековой культуры. — М., 1984. — С. 48—49.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Гештальт и действительность. — М., 1993. — Т. 1. — С. 232—267.
3 Там же. — С. 229.
4
См.: Лосев Ф. История античной эстетики. — М., 1978. — С. 32.
античного неоплатонизма через грузинский средневековый неоплатонизм до европейского ренессанса и шеллингианско-гегелевской модернизации платонизма *.
В этой связи особенно необходимо подчеркнуть, что европейский Ренессанс фактически не был декларируемым итальянскими мыслителями возрождением собственно античности, точно так же как и Реформация — всего лишь адекватной трактовкой текста прежде всего Ветхого Завета. В действительности речь идет о поиске качественно новых мировоззренческих ориентиров, не только не имеющих ничего общего с античным и ветхозаветным, но и в действительности фактически противоположных им. При этом обращение к античности в ренессансную эпоху было связано как со становлением нового национального сознания в итальянских раннебуржуазных республиках, так и с антитеологическим идеалом возвеличивания земной красоты и светского мировидения в целом.
Что же касается преимушественного обращения к сюжетам Ветхого Завета в реформационных утопиях, то кроме задачи переориентации общественного сознания на решение жизненных проблем, связанных со становлением собственно национального абсолютистского государства и формированием военно-патриотической мотивации, необходимой в условиях реформационных войн (традиционная же религиозная форма изложения новых идей, связанная с реформационной установкой на поиск собственной богоизбранности через максимально активное участие в новых формах экономической, политической жизнедеятельности, была необходима для адаптации элитарно-ренессансных идеалов антропологического титанизма становящейся личности качественно нового постфеодального типа к европейскому массовому средневековому сознанию, еще не готовому к восприятию максимально секуляризированного мировоззрения).
Не стоит преувеличивать и творческие достижения античности как в экономической, так духовной сфере. Конечно, это был стадиально-цивилизационный прорыв в понимании человеком своего творческого личностного начала, осознании социальной природы, еще не возможной в рамках предшествующего теоцентризма и зооморфизма раннеклассовых ближневосточных религий с их представлением о божестве как полубоге-получеловеке. Однако особенно важно подчеркнуть, что сам по себе феномен ренессанса и своеобразного «восточного чуда», вполне сопоставимого с «греческим чудом» античности, как было показано в предыдущем параграфе, происходил в первые века до нашей эры в Индии и Китае. Более того, как это ни парадоксально, восточное духовное Возрождение, точнее Зарождение качественно нового духовно-цивилизационного измерения бытия, с точки зрения личностно творческого понимания природы человека, не только не уступало античности, но и превосходило ее 1 2.
1 См.: Лосев Ф. История античной эстетики. — М., 1978. — С. 13—110.
2 См.: Шморгун А. Эстетическое освоение противоречий действительности как диалектический процесс. — В кн.: Закон единства противоположностей. — К., 1991. — С. 286-295.
Причем экономический базис классической китайской государственности несовместим с деспотиями ближневосточного типа (например египетской) и базируется на отношениях классической частной собственности на землю, что, как подробнее было показано в предыдущем параграфе, привело к созданию в Китае первых веков до нашей эры более совершенной как в политическом, так и, главное, в духовно-религиозном отношении, «надстройки», по сравнению с надстройкой классической рабовладельческой цивилизации '.
В целом правомерно говорить о необходимости формулировки концепции, в рамках которой отношения между Востоком и Западом в докапиталистическую эпоху получат новое объяснение.
б) цивилизационная типология Востока и Запада в древности и современности
Таким образом, все попытки построения античной мифологемы запад-ноцетристской модели развития исторического процесса в противовес опять же статичному, а то и застойному Востоку оказываются полностью несостоятельными. Более того, в концепции Л. Васильева даже не поднимается целый ряд принципиальных дискуссионных вопросов, которые откровенно не вписываются в его западноцентристскую схему. Причем речь идет не только об истории Востока, но и Запада. Например, концепция зародившегося в древности капитализма по сути так и не дает ответа на вопрос о причине упадка античной демократии и частнособственнической экономики в эпоху европейского средневековья, при котором скорее можно говорить именно о культе власти-собственности, а не об идеале свободной индивидуальности.
Непонятным остается дискуссионный в течение многих десятилетий и в западной, и в отечественной литературе, механизм перехода от средневековья к Ренессансу, Реформации, Новому, а затем и Новейшему времени.
Наконец, не находит ответа принципиальный вопрос о причинах возникновения феномена тоталитаризма именно в западной цивилизации, который по своим проявлениям типологически сходен именно с механизмом восточной деспотии, опирающейся на современный уровень технических достижений. Причем мало того, что нацистский и совесткий варианты тоталитаризма отрицают фундаментальные принципы либерализма, составляющего, по мнению Л. Васильева, своеобразный архетип западной цивилизации, сам либерализм, с присущей ему фетишизацией всех форм овеществленного капитала за счет «живого труда» (К. Маркс), в современной его форме «финансового империализма» все больше обретает статус новейшего варианта тоталитаризма, способного подавлять не только отдельную личность, но и целые народы, вполне в духе изначально «тоталитарного» Востока 1 2.
1 См. также: Шморгун А. Понятия «одно» и «множество» в структуре мировоззренческих систем восточных обществ: от мифологии до монотеизма. — В кн.: Категории «одно» и «множество». — К., 1992. — С. 134—166.
2
Шморгун О. Становления ново’1 свггоглядно! парадигми на етагп посткаштатстич-ного стад!ального зламу. — В кн.: Глобалып тектошчн! зрушення: виклики та вщгуки. — К., 2005. - С. 89-95.
Причем в рамках романтической социологической и экономической парадигм уже в середине XIX столетия сформировалась жесткая оппозиция классическим либеральным ценностям, которые, по Л. Васильеву и концепциям других сторонников западного «открытого общества», составляют цивилизационную основу западного мира. А модель социального государства, так или иначе реализованная и западной Европе и в Японии, как было показано выше, на самом деле отнюдь не сводима к идеалам частной собственности, смитовской «невидимой руке рынка» и модели государства-«ночного сторожа».
Возникает логичный вопрос: почему Л. Васильев и многие другие исследователи, в том числе и западные, упорно игнорируют факты, опровергающие абстрактную западноцентристскую схему античного капитализма и месопотамского предкапитализма, противостоящего изначально «застывшему», «застрявшему», «окостеневшему» Востоку? Проведенный анализ подсказывает правильный ответ на данный вопрос. Невольная фальсификация истории неразрывно связана с неспособностью объяснить подлинную логику исторического процесса, с учетом его цивилизационной стадиальности и асинхронности. Отсюда стремление представить исторический процесс как простое эволюционное развертывание изначально заданного архетипа социального бытия, который, постепенно раскрываясь, без каких-либо стадиальных «перерывов постепенности» или «скачков» (В. Гегель), достигает своего наивысшего развития в рамках западного буржуазного общества. Причем все экономические, политические и духовные институты этого общества мыслятся как уже ранее существовавшие в глубокой исторической архаике, но в, так сказать, неактивизированном, не раскрывшем все свои потенции, а зачастую и скрывающем их подлинную природу, виде. Отсюда и популярность самого принципа мифологического понимания истории, противостоящего якобы полностью исчерпавшему свой потенциал формационному прогрессизму. Ведь мифология истории рассматривает исторический процесс не как последовательную смену цивилизаций, каждая из которых все более полно позволяет отдельному человеку, любой социальной группе более адекватно осознать и более последовательно реализовать в различных формах продуктивной деятельности собственную социальную природу, а наоборот, как эволюцию по сути единой во всех своих различных проявлениях цивилизации, как реализацию некого изначального архетипа, который в процессе его развертывания еще к тому же и затемняется иллюзией о якобы самостоятельной роли человека, опирающегося на свои сущностные силы в собственном саморазвитии, в то время как его в действительности «ведет» некая высшая сила, которая изначально и придает смысл человеческой истории.
Очевидно, что такой подход коррелируется и с мифологемой так называемого «золотого века», который завершается «веком железным» — веком утраты подлинного смысла истории, следствием которого и является неуклонное нарастание уровня катастрофизма в современную эпоху. Поэтому особенностью мифологии истории и является ориентация на так называемое возвращение к истокам, прояснение истинной сущности, состоящей в декларации предзаданности извне подлинных смыслов бытия, отрицании
продуктивности построения реальной модели преодоления глобальных проблем современности, опираясь лишь на собственные силы без «подключения» религиозно-мифологических факторов, будто бы имеющих чисто мистические истоки.
Как было показано выше, в варианте мифологического западоцентриз-ма не только полностью искажается экономическая, политическая и духовная история Индии и Китая, истоки которой находятся в начале второго тысячелетия до нашей эры, но, что особенно непродуктивно, игнорируется громадный самобытный творческий потенциал обществ Востока, реализованный в Новое и Новейшее время и вовсе не сводимый к заимствованию у Запада его цивилизационного алгоритма. В этой связи все больше как западных, так и восточных исследователей цивилизационной составляющей Запада и Востока подвергают справедливой критике веберовскую идею об отсутствии в восточный религиозных системах творческого потенциала из-за якобы слишком зацикленного на реальности конфуцианства и слишком отрешенных от нее буддизма и даосизма, как принципиально антипротестан-тских типов религии, которым не хватало направленной на спасение в потустороннем мире аскетической мотивации и которая, по мнению выдающегося немецкого политолога и социолога, наличествует лишь в христианстве (причем прежде всего в его ветхозаветной версии), фактически и давшей творческий импульс становлению капитализма в его современных формах. В действительности синтез «я» и, скорее даже не «не-я», а «сверх-я» на Востоке неизмеримо глубже, органичнее, чем это имело место в том же Ветхом Завете, ставшем смысловой базой для зарождения европейского протестантизма. Поэтому вполне можно говорить о своеобразном предпротестантизме раннесредневекового Востока *. А причины того, что на Востоке не зародился капитализм, непосредственно связаны с системным механизмом стадиальной смены цивилизаций * 2.
В действительности именно восточное миропонимание, с точки зрения потенциала его цивилизационного развития, в силу того, что оно значительно последовательнее преодолевало архаико-мифологическую составляющую относительно не только античного политеизма, но и средневекового христианства, по своему творческому потенциалу значительно ближе к ренессансной и реформационной мотивации собственно капиталистического типа. (Причины же, по которым конфуцианство, даосизм и буддизм не переросли в реформационные движения, целью которых было бы построение общества, родственного западному капитализму, состоят в особенностях всемирно-исторического развития, о которых речь пойдет несколько ниже.)
Содержательный обзор критики понимания М. Вебером потенциала трудовой мотивационное™ восточных религиозных культов см.: Зарубина Н. Социокультурные факторы хозяйственного развитая: М. Вебер и современные теории модернизации. — СПб., 1998. - С. 90-230.
2
Шморгун А. Методологическая функция теории общественно-экономической формации. — К., 1990. — С. 44—108; Шморгун О. Результата наукового дослщження. — В кн.: Антолопя творчих досягнень. — К., 2004. — С. 61—66.
Однако, следует отметить, что дуализм Запада и Востока, основанный на чрезвычайно распространившейся в научной литературе в последнее время, востокоцентристской версии философии истории, не в меньшей мере искажает понимание реальной логики исторического процесса, чем рассмотренный выше западоцентризм. Фактически перед нами все та же мифологема всемирной истории, не имеющая ничего общего с ее подлинным пониманием, сформулированная относительно западоцентризма «с точностью до наоборот». Если раньше динамично прогрессирующий Запад, с его фундаментальными принципами приоритета частной собственности и либеральной демократии во всех сферах общественной жизни рассматривался как высший позитив, а общинно-этатистский Восток — как извечный цивилизационный застой, то теперь, наоборот, западный ультрадинамизм и революционизм оценивается как чуждая, искажающая суть подлинной человеческой природы социальная аномалия, а пассивность и созерцательность восточного мировидения как основа особой духовной рефлективности восточного бытия; эта духовность исключает в качестве абсолютной самоцели самоутверждения личности абсолютную погоню за прибылью, ограничения смысла жизни чисто утилитарными интересами, игнорирование позитивной роли этнонациональной консолидации и, в конечном итоге, ориентирующие на щадящее экологическое ведение хозяйственной деятельности, исходя из самого способа мифологического видения мира в неразрывном единстве социальных и природных процессов.
Так, например, Андрей Ваджра в книге с весьма символическим названием «Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии» во многом справедливо критикуя ультралиберальный идеал Запада, с его культом индивидуальной свободы, которая обернулась не только западным гегемонизмом современного глобализма, созданием механизма неэквивалентного перераспределения все уменьшающихся мировых ресурсов в пользу так называемого западного мир-системного ядра, но и утрату подлинных мировоззренческих смыслов, в том числе и ценностно-религиозных основ протестантского типа населением самих развитых западных стран, ориентацию на тотальное потребительство, которое порождает доходящий до нарциссизма индивидуализм, неспособность консолидироваться на основе общих духовных мотиваций, пытается противопоставить Модерну и Постмодерну ускоряющегося динамично-поступательного развития, в котором человек играет роль активного субъекта истории, Традицию, как подлинный Выбор, Долг, Цель, Смысл Мира, наконец Путь в себе. Такая Традиция, как коллективный Стиль рассматривает идеал свободы Модерна и тем более Постмодерна как «абсолютное зло». Традиция — это якобы действительный коллективизм, при котором воля индивидов сливается в некоем иррациональном акте «бессознательной солидарности». «Традиционализм противостоит всему тому, что несет в себе зародыш Универсализма. На данный момент наиболее агрессивным проявлением Универсализма на духовно-психологическом уровне является безудержное стремление к наживе, отражением которого в сфере ценностей стали деньги. Традиционализм (в любой его форме) стремится максимально подавить страсть к наживе и развенчать представление о деньгах как сверхценности. ...Традиционная
культура — это мощный духовно-психологический барьер на пути формирования глобального общества» *.
Как видим, рассуждения автора находятся вполне в русле уже упоминавшихся антизападных концепций Ю. Эволы и Р. Генона. При этом само понятие традиции у него неразрывно связано именно с мифом, с присущей данной архаической форме акцентуацией на внелогичном, внерациональ-ном миропереживании, при котором любой коллективный и индивидуальный субъект выступает как орудие в руках некоей предзаданной судьбы, «ведущей его во времени и пространстве от прошлого к будущему». И в этом смысле «Модерн — это антитрадиция (негатив Традиции)» 1 2.
Еще большей критике автор подвергает идею постмодерна, который, по его мнению, является ни чем иным, как хаосом, отсутствием всякой структуры, дисгармонией, распадом, «в котором все относительно, неопределенно, лишено целостности, упорядоченности и устойчивости». «Человек Постмодерна — это изолированная монада, «Я», бесцельно блуждающее среди флуктуирующей массы таких же пустых (нейтральных) «Я», неспособных обрести свой индивидуальный Смысл, а значит, и структурироваться в «Мы» 3.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что все упования автора на спасение человечества от западной заразы индивидуализма и утилитаризма возлагаются на новый грандиозный неомиф возникновения в недрах Азии некоего Великого Хана, представляющего из себя не что иное, как «новый антропологический тип, несущий в себе новые ценности и совершенно новый образ мира — то должное, которое может стать объективной реальностью. Кто знает, может быть, новый Тимучин уже сел в седло, чтобы стать Чингизханом и объединить под своими знаменами армии варваров, готовых умереть или сокрушить непобедимую до сегодняшнего дня империю Запада» 4. Завершает книгу, в которой научный анализ цивилизационного процесса в конечном итоге подменяется востокоцентристской мифологией истории, почти шаманское заклинание: «Ход истории приблизился к черте великих перемен, после которых мир неизбежно станет другим» 5.
Нетрудно заметить, что традиционалистско-консервативная версия Востока, противостоящего Западу в качестве оппозиции рационалистическому прогрессизму, экономизму и прагматизму, типологически близка различным этноцентристским арийским и евразийским версиям великой Украины или России, согласно мессианскому мифу, призванных осчастливить человечество, выступив в качестве его спасителя от скверны потребительства и бездуховности. В действительности же подобные мифологемы, истинное содержание которых является не традиционалистским или даже кон-
1 Ваджра А. Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. — М., 2006. — С. 428-429.
2 Там же. — С. 431.
3 т
Там же.
4 Там же. — С. 542—543.
5 Там же. — С. 543.
серватпивным, а глубоко реакционным, уже принесли огромный вред, в особенности в Украине, поскольку они не только искажают реалии современного мира и механизмы преодоления глобальных проблем современности, но и дискредитируют национальную идею, подменяя ее этноцентристским мифом, главный недостаток которого состоит в культивировании присущей мифологическому сознанию как таковому предельной пассивности, ориентации на то, чтобы плыть по течению некоей фундаментальной предзадан-ности, внерациональной судьбы, которая как бы обрекает богоизбранный народ на неминуемое спасение. Всячески культивируется абсолютно ложный тезис о том, что в противоположность западному человеку Модерна и тем более Постмодерна, с его иллюзией безграничных возможностей, полной релятивизацией всех нормативных ценностей, охранительная традиция, не давая возможности отдельному индивиду вырваться за пределы коллективного «Я», тем самым спасает его от обезличивания.
Особенно следует подчеркнуть, что подобно цивилизационному западо-центризму, абстрактный востокоцентризм так же не способен дать адекватное объяснение реальным историческим явлениям, показать всемирно исторический процесс во всей сложности его динамики. Так, например, если принять за основу версию об изначальном обладании Востоком некоей истиной в последней инстанции относительно смыла человеческого бытия, состоящей в понимании Дао или Атмана как высшей формы Недеяния, созерцательности, растворения индивидуального «я» в коллективном «мы», которое якобы обеспечивает неуклонную, лишенную революционных скачков плавную эволюцию восточного общества, остаются непонятными причины застоя и деградации Индии и Китая, проявившиеся уже в начале второго тысячелетия нашей эры и к началу эпохального взлета западного общества, связанного со становлением капитализма, уже приведшие Восток к состоянию цивилизационного загнивания, вполне сопоставимого с эпохой безграничной духовной деградации и упадка Римской империи. При этом, например, то же самое конфуцианство, которое рассматривается многими сторонниками современного Китая в качестве высшего идеала для построения антикризисных моделей цивилизационного типа как на Западе, так и на Востоке, в варианте так называемого неоконфуцианского синтеза обрело черты управленческой квазиэлиты, которую М. Вебер называл «неконструктивной бюрократией».
В частности, уже в эпоху Мин были разработаны кодексы «Поучение предка царственной династии Мин» и «Уведомление по воспитанию народа», которые своей изощренной трехъярусной ритуальностью свидетельствуют об откате китайской цивилизации к «азиатскому способу производства» и предельной заформализованности всей общественной жизни, близкой к Древнему Египту. Следующая династия захватчиков Маньджуров империи Цин наряду с массовым террором «одним из направлений укрепления своего государства... избрала проведение в жизнь сугубо унифицированной идеологии неоконфуцианства. Особым покровительством манджурских императоров пользовалась сунская неоконфуцианская школа, братья Чен и Джу Си и способы массовой идеологической обработки, сложившиеся при династии Мин... Была установлена жестокая «литературная инквизиция». В
условиях всеобщей подозрительности, системе доносов, прикрытой высокоморальными сентенциями в духе неоконфуцианства, в чиновничьей среде, призванной быть опорой государства, процветала коррупция, реальные события искажались и приукрашивались, создавалась иллюзия благоденствующей Поднебесной, управляемой мудрыми императорами, бесконечно далекая от действительности» ’.
При этом произошло вырождение бюрократа-аристократа шеныии в чиновника, уже не способного быть ретранслятором великих культурных достижений китайской цивилизации. Неслучайно в школах, училищах, в Академии литературы и на экзаменах в эпоху Цин «поддреживали и поощряли абстрактную, оторванную от жизни неоконфуцианскую, феодальную идеологию, облеченную в сухие и схоластические формы «восьмичленных сочинений», написание которых требовало многолетней тренировки, тупой механической зубрежки и ни в коей мере не способствовало выявлению природных талантов и способностей, душило всяческую инициативу и обрекало на длительный упадок такую крайне важную область знания, как естественные науки, занятие которыми открыто не одобрялось властями» 1 2.
Даже буддизм и даосизм на данном этапе развития китайской цивилизации предельно догматизировались, «спонтанность и антиэгалитаризм раннего Чань сменились нормативностью и жестким соблюдением уставных правил. Чань не смог долго сохранять принципы первых своих патриархов в обществе, где ритуал и социальная иерархия были освящены многовековой традицией. Настоятели монастырей из вольных наставников превратились в распорядителей, контролирующих соблюдение монастырской дисциплины и точность проведения ритуалов, а чаньские монахи — в послушных монастырских чиновников» 3.
Кстати, данный предельный прагматизм и продажность выродившейся в процессе деградации китайской цивилизации бывшей конструктивной или эффективной конфуцианской бюрократии в значительной степени и дало основания М. Веберу оценивать его как в принципе лишенное творческого протестантского духа — дерзаний, направленных на радикальное преобразование существующего общества.
Непонятными остаются и причины того, почему, опираясь на тради-ционалисткий миф, якобы способствующий максимальной стабилизации и самоорганизации общества, Индия и Китай не только стали колониями Запада, но и в настоящее время, уже после своего возрождения, фактически в значительной степени играют по предложенным им глобалистским правилам, пусть и защитив себя протекционистскими барьерами, однако обслуживают потребительский Запад все большим количеством товаров и услуг, при этом проводя значительно более антиэкологическую, агрессивную по отношению к окружающей среде политику, чем те же США и Европейский
1 Иванов В. История этики средних веков. — Ленинград, 1984. — С. 84—85, 87.
2 Мартынов А. Традиции и политика в период Цяньлун. — В кн.: Конфуцианство в Китае. - М„ 1979. - С. 214.
3 Кабанов А. Чаньский ритуал — В кн.: Этика и ритуал в традиционном Китае. — М., 1988. - С. 250.
Союз. Наконец, как указывалось выше, остаются без объяснения причины того, почему антилиберальная модель корпоративно-солидаристского авторитаризма не только с успехом была применена на этапе широкомасштабных реформ, получивших название «экономического чуда», но и разрабатывалась на основе собственных цивилизационных теорий западными обществами абсолютно автономно от Востока. При этом сами японские, китайские и индийские реформаторы признавали эффективность модели основанного Бисмарком социального корпоративного государства для эффективной модернизации стадиального типа своих стран ’.
В действительности цивилизационная методологическая ущербность востокоцентризма вполне очевидна. Ведь ему присущ тот же схематизм, абстрактный разрыв социального пространства и времени, традиционализма и новаторства, эволюционизма и дискретности, что и западоцентризму. При этом доведенные до абсолюта декларации и даже культ мифологической Традиции, в противовес цивилизационной изменчивости, крайнему субъективистскому волюнтаризму безграничной открытости, универсализму и космополитизму глобализма являются, по В. Гегелю, мнимо противоположными или абстрактно тождественными, с безграничной легкостью превращаясь друг в друга. В самом деле, фундаменталистская установка на уникальность, как пишет А. Ваджра, этнонациональной неповторимости некоего изначально существующего в любой культуре проекта, ведет к своеобразному опопсовлению этнических архетипов японской, китайской и индийской культуры, созданию многочисленных пособий «мудрости Востока» в чисто прагматических интересах западного бизнеса. При этом именно отсутствие понимания цивилизационного измерения стадиально высших форм национализма, опирающихся на неповторимость собственной национальной культуры, но не сводимых к ней, позволяет с легкостью выдавать некие мифологические архетипы Индии, Китая и Японии за реальные механизмы построения постлиберального и посткапиталистического общества.
Отсюда попытки вывести архетипы современной китайской цивилизационной матрицы из мифологических истоков китайской культуры. Вот, например, некоторые стратегемы из знаменитой «И Цзын» — «Книги перемен», который, по мнению 3. Шахнабиева, пытающегося американскому проекту под названием «Ковчег» (спасение западной цивилизации за счет узурпации ресурсов всего остального человечества) противопоставить «Ковчег» некоего евро-азиатского сообщества. По мнению автора, «И Цзын» и сегодня является своеобразной «китайской библией», опираясь на поведенческие установки которой Китай и достиг всех своих успехов, став подлинной супердержавой. Вот некоторые из этих сентенций: «обмануть императора, чтобы переплыть море»; «осадить Вей, чтобы спасти Чжао»; «убить чужим ножом»; «в покое ожидать утомленного врага»; «грабить во время пожара»; «на востоке поднимать шум, на западе нападать»; «извлечь нечто из ничего»; «для вида чинить деревянные мостки, втайне выступить в
Шморгун О. Особливост! синтезу локального та универсального вим!р!в сощального бутгя в npoueci становления постшдустр!алыю!' цивипзащйно!' парадигми. — В кн.: Анто-лопя творчих досягнень. Вип. 2. — К., 2005. — С. 66—75.
Ченьцан»; «наблюдать за огнем с противоположного берега»; «бить по траве, чтобы спугнуть змею»; «сманить тигра с горы на равнину»; «если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти»; «тайно подкладывать хворост под котел другого»; «закрыть дверь и поймать вора»; «объединиться с дальним врагом, чтобы побить ближнего»; «украсть балки и заменить их гнилыми подпорками»; «скрыть акацию и указать на тутовое дерево»; «делать безумные жесты, не теряя равновесия»; «заманить на крышу и убрать лестницу»; «украсить сухие деревья искусственными цветами»; «превратить роль гостя в роль хозяина» 1.
Но в таком случае возникает вполне логичный вопрос: а что, собственно, мешает представителям любой другой страны и этноса воспользоваться этими же «подсказками» (в целом находящимися на уровне банальной эрудиции), чтобы с успехом использовать их в конкурентной борьбе с тем же Китаем? Тем более, что, как известно, архетипы мифологического сознания, при всей специфике их возможных формулировок, в той или иной национальной культуре универсальны, а значит, вполне могут быть адаптированы и другими геополитическими ареалами, которые сегодня не совсем точно принято называть цивилизациями.
И тогда следующая сентенция воспринимается как ключевая для создания особой мифологии истории: «Наиболее непосредственно затрагивает жизнь людей миф. Миф можно представить как передачу постоянных установок цивилизации, в действенных правилах формирующих поведение членов общества. Миф определяет ролевые модели поведения. Одним из признаков жизнеспособной развивающейся цивилизации является ее способность поддерживать новые мифы, отвечающие новым условиям и, напротив, смерть мифа означает крушение общества.
Необходимо отметить, что при всем многообразии составляющих различных цивилизаций, им присущи элементы высшего единения, ибо свобода духа невозможна без единства цивилизаций. Эти два понятия неразрывны. Свобода духа умирает в национальных, социальных или иных границах. Единой цивилизации нет без понимания того, что чужих пророков не бывает. Истины, выстраданные и осознанные даже на другом конце света, нужны всем, и в этом заключается закон развития человечества» 1 2.
В качестве типичного примера подобного упрошенного понимания сути того особого «Стиля» бытия, который якобы гарантирует успех в индивидуальном и национальном бизнесе, можно привести работы А. Грама и осовремененные трактовки Лао Цзы Д. Хайдером 3.
Ряд авторов усложняют проблему межцивилизационного диалога, акцентируя внимание не на мифологии, а на восточной философии, на основе которой якобы функционирует китайский бизнес. Например, известный
1 Шахнабиев 3. Новое евро-азиатское сообщество — ковчег спасения. — М., 2005. — С. 223-224.
2
Теплицикий Ю.М. «Запад—Восток» и феномен славянской цивилизации. История и альтернативные сценарии развития. — К., 2005. — С. 36.
См. также: Грам А. Быть самураем. Древние рыцарские кодексы в современной жизни. — СПб., 2007. — 252 с.; Лао Цзы, ХейдерД. Дао лидера. — Харьков, 1997. — 44 с.
китаевед Владимир Малявин отмечает, что на фоне поражающих успехов Китая в области экономики «появился даже термин “конфуцианский динамизм”». Речь идет о типе поведения, который характеризуется личным усердием, упорством в достижении поставленной цели, бережливостью и скромностью.
С рубежа 90-х годов XX века входит в употребление понятие «конфуцианский капитализм». Оно означает, по мнению тайваньского ученого Вей У, взгляд на семью как «базовую экономическую единицу» и ориентацию на достижение «консенсуса в рамках всей семьи», а также принятие государством на себя заботы о благополучии среднего класса или, другими словами, создания «государства всеобщего благоденствия». Одновременно приобрело популярность выражение «конфуцианский купец» (жу шан). Оно может показаться странным и даже нелепым, принимая во внимание крайне негативное отношение столпов конфуцианской мудрости к торгашескому духу. Но что есть то есть; как и всякое модное понятие, оно не имеет точного смысла и обозначает довольно расплывчатый набор традиционных китайских добродетелей, среди которых на первом месте стоит обходительность, радушие, благочестие, бережливость при отсутствии жадности. Современный китайский наблюдатель полагает, что речь идет просто о «деловом человеке», обладающим культурой предпринимательства, и что так «можно назвать всех хороших предпринимателей в мире» !.
Правда и здесь, на первый взгляд, нету ничего такого, что не могло бы быть использовано представителями иных этносов, тем более, что подобная семейная клановость, в позитивном смысле этого слова, характерна и для исламского и даже для немецкого бизнеса (не случайно уже упоминавшийся М. Портер типологически сближает по параметрам своеобразного социального патернализма экономические модели Германии и Японии в противовес американской). Однако сторонники этно-мифологической уникальности пытаются усложнить задачу. Они утверждают, что для того, чтобы постигнуть конфуцианство, необходимо родиться китайцем, так сказать, впитать конфуцианский дух с молоком матери. Более того, в лучших мифологических традициях порой можно услышать высказывания о том, что китайцу даже не обязательно овладевать собственной культурой и в совершенстве знать конфуцианскую философию, чтобы успешно использовать ее мудрость в своей практической жизни.
Для того, чтобы обосновать подобную версию, в ход идут даже такие экзотические аргументы, как то, что жителям Востока изначально присущ определенный запрограммированный или заданный опять же неким, не подпадающим под научное определение, мистическим кодом или геномом, стиль мышления, и потому, дескать, можно говорить о существовании особого феномена восточного человека.
Однако данная аргументация является несостоятельной, в том числе и потому, что способность «вжиться» в восточную культуру и стиль мышления
1 Малявин В. Китай управляемый. Старый добрый менеджмент. — М., 2005. — С. 66-67.
с успехом демонстрировали многие выдающиеся западные, в том числе советские, ориенталисты. Не случайно тот же В. Малявин, пытающийся вывести современный китайский стиль успешного цивилизационного бытия из китайской классической философии, в выше приведенной цитате вынужден говорить о подобных попытках с изрядной долей иронии.
На самом деле «китайское чудо» и экономические прорывы Японии и так называемых ближневосточных тигров обусловлены рядом совсем иных факторов, в первую очередь связанных с освоением стадиально высших и по своей сути антимифологических форм социального бытия, характерной чертой которых является многомерный синтез различных парадигм, направленных на решение стоящих перед обществом задач. Именно достижение и, пусть и временное, удержание данного многопарадигмального синтеза и составляет подлинную суть предельно мифологизированного понятия «пассионарность». Более того, при всей неоднозначности термина «постмодернизм», в своих позитивных смыслах он фиксирует максимальный динамизм всех эффективно развивающихся обществ современности, в том числе и Востока, сознательное стремление подлинных реформаторов не зацикливаться ни на одной из возможных стратегий, а использовать каждую из них именно там, где она наиболее эффективна. В мировоззренческом плане речь по сути идет о принципе всеобщей относительности, применимом не только к физической, но и социальной реальности, что невозможно без синтезирования иррационального и эмоционально-образного начал в процессе формирования модели китайских реформ, при котором учитывались и неудачный социалистический эксперимент СССР, и эффективность японской корпоративно-солида-ристской модели, и опасность продолжения «большого скачка» в более чем миллиардной стране, и многие другие факторы.
Все это не имеет ничего общего с органически присущей мифологическому мировосприятию и бытию предельной разорваностью миропонимания и миропереживания и, одновременно, по В. Гегелю, их абстрактной тождественностью, когда одномерная зацикленность на иррациональной экзальтированности обратной стороной медали имеет предельный рассудочный догматизм, ритуальность, негибкость иллюзорного мышления и неконструктивного поведения. В данном случае аппеляция к сверхестественному, фантастическому, чувственно переживаемому неотделима от неспособности мыслить логически, неумения отделить важное от неважного, отожествлением на основе поверхностных аналогий реального и кажущегося или воображаемого 1.
Ярким проявлением мнимой противоположности иррациональности и рассудочности своеобразной мифологической методологии являются попытки использования для объяснения специфики тех или иных цивилизаций предельно мистифицированных псевдонаучных «теорий», различных био- и психополей, информационных пространств, характерной чертой которых является полная антинаучность, приверженность именно мифологическому стилю мышления, по принципу «мир покоится на черепахе, черепаха — стоит на слонах, а на что опираются слоны — для первобытного мыш
Общая социология. — М., 2000. — С. 361—362.
ления уже не существенно». В самом деле, если специфика тех или иных суперэтносов обусловлена неким пассионарным биополем, то природа этого биополя и механизмы его образования, как это, например, имеет место у того же Л. Гумилева, фактически остаются без объяснения. Но с точки зрения принципов научного мышления (знаменитая «бритва Оккама»), объяснение некоей неизвестной сущности с помощью иной неизвестной сущности (в нашем случае — мифа иным мифом) является принципиально несостоятельным.
Интересной в этом плане является попытка В. Вс. Иванова обосновать вышерассмотренную гипотезу о раздвоении ближневосточной протоцивилизации на прогрессивное и регрессивное направление всемирноисторического развития спецификой мировосприятия человека, обусловленной межполушарной асимметрией мозга. Так, отмечая бурное развитие производящего хозяйства в Древнем Египте (стремительный рост поливного земледелия, скотоводства, ремесла) и развитие в этой связи новых форм учета, автор считает, что египетская цивилизационная стратегия была связана с неуклонным нарастанием левополушарной доминанты, формализацией всех процессов и утратой творческого духа: «Одной из наиболее заметных особенностей египетской культуры является тесное переплетение произведений изобразительного искусства с иероглификой, которая не только внешним видом напоминает эстетически значимые изображения, но и нередко в них включается. С точки зрения такого направления исследования культуры, которая ищет психофизиологические соответствия различным культурным типам, эта последняя черта напоминает сочетание письменных знаков с изобразительными в искусстве шизофреников. Речь идет именно о заострении в египетской культуре левополушарных тенденций, так как шизофрения в новейших исследованиях понимается как результат распространения левополушарной абстрактной стратегии на все виды работы сознания...» '. Что же касается Месопотамии, то «дело в том, что запоминание и складывание поэтических образных текстов, сопровождаемых музыкой, представляет характерную функцию правого, а не левого полушария. Для Месопотамии существенным было то, что система письма позднее была приспособлена для фиксации таких текстов (включая и музыку, для которой в клинописи было выработано древнейшее подобие нотных обозначений)» * 2. Отсюда вывод, что в пределах единого центра всемирной истории «греческая наука, усвоив достижения египетской (к тому времени уже не творческой) и вавилонской (еще сохранившейся) традиции, совершила переворот, к которому восходит и современная научная мысль» 3.
Нетрудно заметить, что данная псевдонаучная мифологема «подыгрывает» цивилизационной концепции Васильева о шумеро-греческих истоках западной цивилизации и азиатской власти-собственности централизован
Иванов Вяч. Вс. До-, во время-, после- (вместо) предисловия. — В кн.: Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии: Духовные искания древнего человека. — М., 1984. — С. 14.
2 Там же. — С. 19.
3 Там же. — С. 21.
но-рассудочной структуры ирригационного хозяйства как основы восточной антицивилизации. (Тем более, что версию Вяч. Вс. Иванова о шизофренической левополушарности иероглифического мировидения можно распространить и на китайскую иероглифическую письменность, дожившую до наших дней). О полной несостоятельности подобного похода уже неоднократно упоминалось. Но показательно другое: исследователь, претендующий на использование новейших достижений психофизиологии в теории цивилизаций, не удосуживается объяснить ни причин взлета «правополушарной» лирической поэзии в Египте, ни причин отставания счета в Шумере, где производящее хозяйство, в том числе поливное земледелие и скотоводство, развивались не менее бурно, чем в Древнем Египте, ни, наконец, того принципиального факта, что, как свидетельствуют исследования, количество людей с лево- или правополушарной доминантами в любом социуме, вне зависимости от особенностей его экономики, уровня кризисности или подъема, приблизительно одинаково.
Что же касается иррациональной, точнее внерациональной эмоционально-образной неповторимости и уникальности, действительно связанной с правополушарной акцентуацией, то она является важнейшей составляющей современной, в какой-то мере постмодерной формой национально-цивилизационной идентичности, которая связана не с мифологическим пластом мировосприятия, а с высшей экзистенциально-патриотической мотивацией, начавшей формироваться в середине XIX века в качестве оппозиции либерально-финансовому этатистскому и расово-биологическому фетишизму тоталитарного типа, на периферии уже загнивающей классической капиталистической цивилизации как в Западной и Восточной Европе, так и в Японии.
Применительно к этой эмоционально-образной мотивации, которая играет важнейшую роль в мобилизации коллективной воли (или, как писал Ж.-Ж. Руссо, «всеобщей воли») на реализацию качественной модернизационной стратегии, то речь должна идти именно об образе, символе, идеале как элементе новейшей национальной идеи, при которой высказывания типа — «Франция — это я», которые позволяли себе и Наполеон и де Голль, трактуются не буквально, как это присуще мифу, а аллегорически, подчеркивая значимость роли именно личностного элемента лидерства в происходящих преобразованиях. Поэтому глубоко ошибается известный исследователь мифа Курт Хюбнер, который комментирует высказывание фон Гирке о том, что дух народа это не соглашение, способное возникнуть в результате беседы единомышленников, а познание себя в более высоком единстве жизни Целого, при котором индивидуальное «Я» растворяется в этом Целом, в чувстве причастности к Родине, в том смысле, что «национальное чувство» такого рода, очевидно, формируется теми же самыми онтологическими представлениями, что и мифическое понимание принадлежности к роду и племени. ...Человек и Отечество, человек и Родина сплетаются таким образом в одно неразрывное целое, и кто его теряет, тот теряет свою идентичность» *.
1 Хюбнер К. Истина мифа. — М., 1996. — С. 328.
В действительности мифологическая растворенность «я» в «мы», по сути связанная с отсутствием чувства индивидуальности первобытного человека и его самоидентичностью только через целое рода, не имеет ничего общего с вышеупомянутыми высшими формами национально-патриотической самоидентификации, действительно максимально раскрывающей неповторимость творческой индивидуальности, переживающей именно свою уникальность через эстетически-образное переживание своего единства с уникальной Родиной *.
Особенно важно учесть этот момент на современном этапе активных поисков альтернативной мнимо противоположным реакционному фундаментализму, с присущим ему мифологизмом, и прогрессистскому либерально-космополитическому утопизму, цивилизационной структуры современного мира, позволяющей реально противостоять неуклонно нарастающей угрозе всемирного Апокалипсиса. Речь идет о сознательном формировании на основе ряда существующих супердержав (США, Китай, Индия, Япония, возможно, Россия) и геополитических союзов (ЕС, исламский и африканский миры), эффективных самоорганизующихся социумов, в рамках которых страновые этнонациональные культурные измерения не только не противостояли бы надстрановым политическим и экономическим институтам, а взаимодействуя с ними, усиливали бы общий синергетический эффект интегративной целостности в многообразии взаимодействующих не просто «мир-экономик» (Ф. Бродель), а неоцивилизационных миров 2.
Наконец, необходимо подвести окончательные итоги относительно проведенного анализа раннеклассовых обществ, осуществленного под углом зрения цивилизационной типологии. В этой связи важно подчеркнуть, что осмысление синтеза, динамики и статики в процессе разработки методологии цивилизационного анализа, имеет большое значение не только для обоснования несостоятельности различных мифологических моделей противопоставления Востока и Запада (в пользу первого или второго) в современную эпоху, но и для построения все еще не существующей теории исторического процесса. Для этого необходимо оценить проблему традиции новаторства во всемирной истории с позиций системного анализа, с точки зрения осмысления противоречивого единства двух универсальных функций самоорганизации и поддержания гомеостазиса любой, в том числе и социальной, системы. Речь идет о функции воспроизводства качественных параметров структуры любого системного образования, рефлексия которой в теоретической плоскости и осознается как традиционализм, и функции преобразования, переструктурирования и введения новых элементов, которые повышают адаптивность данной системы относительно появившихся новых нестандартных воздействий (концепция «вызовов и ответов» А. Тойнби), которая находит свое идеологическое выражение в концепции новаторства,
Шморгун А. Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени. — В кн.: Цивилизационные модели современности и их исторические корни. — К., 2002. — С. 258—365.
Шморгун О. €С як перспективна модель геополгтичного союзу неоцивипзашйного типу. — В кн.: Антолопя творчих досягнень. — К., 2007. — С. 58—71.
динамики, поисковой активности, противостоящей всякой ретроградности, консерватизму и реакционности. Можно также говорить о соотношении действительности и возможности в развитии того или иного социума. В этой связи в свое время я обосновывал тезис о неправомерности отождествления сформулированного К. Марксом формационного подхода, с его сталинскими интерпретациями в духе примитивного экономизма и сведения того, что К. Маркс называл совокупным общественным производством, к так называемому производству материальных благ.
В действительности, как известно, само понятие «формация» было сформулировано В. Гегелем и другими выдающимися представителями философии истории, по сути разрабатывавшими основы системного анализа по отношению к философии природы, трактуемой в широком онтологическом смысле. Преимущество этого понятия состоит в том, что оно содержит в себе в диалектическом единстве два важнейших универсальных смысла: «формация» — это одновременно и устойчивая структура, образование, с неизменными специфическими свойствами (в этом значении данное понятие было взято В. Гегелем, а затем и К. Марксом из геологии, где «формацией» является один из пластов в срезе почвы), а с другой стороны, «формация» — это формирование, процесс, развертывание, изменчивость, в конечном итоге приобретение новых свойств (и в этом смысле, формацией является любой относительно замкнутый культурный и экономический мир, достаточно длительный период пребывающий в стадии устойчивого гомеостаза). В таком значении, как «новый формационный (образовательный) принцип», соединяющий из смеси различных элементов «новый исторический организм», «форму нового культурно-исторического типа» употребляет, например, это понятие Н. Данилевский ’.
Термин «формация» для определения особого типа общественного строя, имеющего стадиальные характеристики, употребляет и ряд западных мыслителей. Более того, в современной литературе для типологии истории понятие «цивилизация» используется значительно чаще, чем понятие «культура». При этом из виду упускается не только то, что понятия «цивилизация» и «культура», при всей смысловой их близости, не являются тождественными, и что это соотносительная пара категорий, смыслы которых взаимодополняют друг друга. Неслучайно одни представители философии истории для определения системно-формационных образований, имеющих качественную специфику, употребляли понятие «цивилизация» (например, А. Тойнби, С. Хантингтон, представители концепции так называемого технологического детерминизма), а другие в том же контексте говорят о «культурах как организмах» (О. Шпенглер). Более того, уже неоднократно । упоминавшийся Н. Данилевский говорит о цивилизациях, как «культурно 1 обусловленных типах». На наш взгляд, все это далеко не случайно. В свое время, нами было проанализировано соотношение понятий «цивилизация» ' и «культура» именно с точки зрения фиксации этими парными категориями
1 См.: Данилевский Н. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Романо-Германскому. — М., 2003. — С. 94.
функции поддержания, воспроизводства, сохранения устойчивой региональной структуры особого формационного типа (понятие «цивилизация») и способности этой структуры к обновлению, усовершенствованию существующих элементов и подсистем (понятие «культура»). Кстати, в какой-то мере эти унивесально-космические функции самоорганизации «скатываются» древнекитайскими понятиями «инь» (покой) и «ян» (движение).
При таком подходе понятие «культура» конкретизирует понимание фор-мационности как системно-социологического осмысления всемирно-исторического процесса. При этом «культура» вовсе не сводится только к духовности, а «цивилизация» — к экономике. Скорее можно говорить об акцентах на объективно-институциональной стороне самоорганизации особого вида социума, оценки его как завершенной инфраструктуры, что и связано с цивилизационным подходом; культурологическая оценка — это оценка социума формации не как формы, а как процесса, спектра не до конца институционально оформленных возможностей усовершенствования геополитического системного образования, которое, повторяем, в современной литературе оценивается как цивилизация *.
Поэтому шпенглеровский тезис о том, что цивилизация есть гибель культуры, не совсем точен. На самом деле, упадок любого образования формационно-стадиального типа связан с утратой баланса между воспроизводством, которое превращается в окостенение социального организма, и ультрареволюционностью псевдопреобразований, которые всегда оканчиваются откатом к еще большей структурной негибкости, зацикленности на формально-процедурных моментах общественной жизни. Именно поэтому, кстати, еще раз подчеркнем, все попытки различать цивилизации Востока и Запада по принципу цивилизационной и культурной стратегии каждой из них, в принципе несостоятельны. А выработка методологии полного анализа всемирной истории предполагает синтезирование цивилизациционной доминанты К. Маркса, Д. Белла, О. Тоффлера и М. Вебера, К. Ясперса, Н. Бердяева.
Более того, специфика социального бытия состоит в том, что оно изначально не предзадано человеку, а постепенно раскрывается в своих сущностных чертах по мере овладения в рамках особых формационных целостностей (которые, в зависимости от акцента на тех или иных функциях самоорганизации, разные авторы называют либо цивилизациями, либо культурами) новыми, высшими измерениями этого бытия и в материальной, и в духовной сфере. И, следовательно, можно говорить не только о качественной специфике, но и о преемственности основных стадий развития человечества не только с точки зрения усовершенствования экономических способов производства, как считал К. Маркс, но и все более полного осознания каждым индивидом своего творческого потенциала, неразрывно связанного с понятием свободы, как представлял себе саморазвитие человечества через последовательные самовоплощения духа В. Гегель.
Шморгун А. Методологическая функция теории общественно-экономической формации. — К., 1990. — С. 21—44.
В этой связи, на наш взгляд, очень важно рационально переосмыслить гегелевскую идею единства логики и феноменологии духа под углом зрения философии истории.
На наш взгляд, в предельно универсальных понятиях гегелевского учения о бытии в полумистифицированной форме зафиксированы универсальные мировоззренческие характеристики формационной стадиальности исторического процесса. И в этом смысле понятие «чистого бытия» и «ничто», с которых начинается гегелевская система, фиксируют сущностные характеристики архаической первобытности, с присущим ей представлением о человеке как неразрывно слитом с природной объективностью, чистом «ничто» с точки зрения своих собственно социальных характеристик (как известно, первобытный человек отождествлял себя не только с живой природой, но фетишизировал и одухотворял даже природу неживую).
Стадиально следующий этап — это переход от представления о социуме и отдельном индивиде как полном «ничто» к некоторому «нечто» — самостоятельной внеприродной сущности. Бытие как «становление» неразрывно связано с определенным типом религиозности, уже преодолевающей первобытный мифологизм. Речь идет о зооморфизме, то есть именно о таком становлении человека, при котором в образе бога он себя еще представляет полуживотным, то есть находится на полпути от мифологического зооморфного фетишизма к антропоморфизму. Причина такой непоследовательности состоит в том, что сама природа еще противостоит человеку как неконтролируемая стихийная сила или, как сказал бы В. Гегель, «в-се-бе-и-для-себя-бытие», свойство которого он может в определенной степени использовать, однако эти усилия относительно способности влиять на естественное плодородие почв или катастрофические разливы того же Нила еще исчезающе малы.
Вот почему непосредственно в сфере хозяйственной деятельности человек все еще остается полным «ничто», что порождает отношение к нему как к совершенно безликому, легко заменяемому элементу, аналогу даже не неодушевленного орудия, а одной из элементарных частей этого орудия; что, на наш взгляд, и соответствует понятию поголовного рабства, вовсе не как некоего «домашнего рабства» чуть ли не свободных членов раннеклассовой общины, а наоборот, наиболее жестоких форм прямого внеэкономического принуждения и казарменно коммунистического образа жизни «рабочих отрядов», с наибольшей полнотой воплотившемся в Древнем Египте. Неслучайно свое понятие Мегамашины как предельно заформализованного и безликого состояния любой цивилизации на этапе ее упадка Л. Мэмфорд формулирует именно на основе модели человеческого механизма как единой и абсолютно безликой механической единицы древневосточных обществ Египта и Месопотамии: «Машина, которую я упоминаю, никогда не была открыта в каких-либо археологических раскопках по простой причине: она была составлена почти полностью из человеческих частей. Эти части были соединены в иерархической организации под властью абсолютного монарха, команды которого, поддержанные коалицией священнослужителей, вооруженные знатью и бюрократией, обеспечивали подчинение всех компонентов машины аналогично функционированию человеческого тела. Назовем эту пер
вичную коллективную машину — человеческую модель всех последующих специализированных машин — Мегамашиной» 1.
Исторически первая форма собственности, которую К. Маркс называл племенной, в своих сущностных характеристиках близка к так называемой «власти-собственности», существование которой Л. Васильев и ряд других авторов пытались приписать всему Востоку. Повторяем, более точным ее названием, по нашему мнению, является сословно-общинная собственность, при которой в условиях предельной государственной централизации властные и владельческие функции персонифицированы в статусе восточного деспота. (Поскольку же этот деспот фигурировал в статусе живого бога, в мифах раннеклассовых обществ эта собственность представлялась как собственность высшего бога или богов над страной и всеми ее жителями.)
Если говорить об ареале наиболее полного или классического воплощения как религиозного зооморфизма, так и адекватной ему системы поголовного рабства, то в формационном плане им будут соответствовать регионы Древнего Ближнего Востока (Древний Египет и Месопотамия, а позже — Шумеро-Вавилония), а также регионы доколумбовой Америки. Именно эти общества соответствуют стадии так называемого азиатского способа производства, хотя типологически оно является слишком расплывчатым. Правильнее, на наш взгляд, разделить первобытно-общинную формацию на первобытное или архаическое общество и общинную, точнее общинно-сословную, стадию развития человеческого общества. Кстати, К. Маркс, анализируя в качестве образца извечного застойного способа производства российскую и индийскую общину как наиболее архаические институты консервации механизмов поголовного рабства, в целом был прав, хотя и не учитывал, что в действительности общинно-родовые отношения азиатского способа производства часто носили вторичный характер и были прямым следствием не столько стадиального отставания в социальном развитии России, Индии и Китая, сколько, с одной стороны, искусственно регенерированными западной метрополией ячейками наиболее удобной формы сверхэксплуатации в процессе колониальной экспансии (к которой типологически можно отнести российскую и индийскую общину, американское плантаторское рабство и советскую колхозную систему), а с другой — восстановление этих архаических структур поголовного рабства и, на собственной основе, воспроизведение азиатского способа производства, является следствием циклического возврата цивилизации Индии и Китая к собственной архаике, характерного для всех цивилизаций на стадии затухания 1 2.
Важно учесть, что присущие сословно-общинной формации формы предельной эксплуатации в виде поголовного рабства не имеют ничего общего ни с античным классическим рабством, ни, тем более, со свободным землевладением (если говорить о феодализме как осложненном азиатскими пережитками
1 Мэмфорд Л. Техника и природа человека. — В кн.: Новая технократическая волна на Западе. — М., 1986. — С. 233.
2
Подробнее: Шморгун А. Методологическая функция теории общественно-экономической формации. — К., 1990. — С. 70—87.
пострабовладельческом обществе, то поголовное рабство скорее типологически идентифицируется с наиболее жестокими формами крепостничества и американского плантаторского рабства).
Не случайно еще в советское время, в процессе дискуссии о формационной природе раннеклассовых обществ, была выдвинута, на наш взгляд, верная гипотеза о принципиально различной стадиальной природе, присущей азиатскому способу производства как системе поголовного рабства, а также классического рабовладения и форм феодальной эксплуатации. Приводим цитату, имеющую важное концептуальное значение: «При “поголовном рабстве”, которое характеризует азиатские общества, имеет место всеобъемлющая экспроприация личности непосредственно производителя, низведение его по отношению к государству до роли средства производства. Все члены низовых общин — рабы (хотя в разной мере), эксплуатирующиеся через налогово-повинностную систему. Отсвет рабства лежит и на внутренних взаимоотношениях господствующего класса.
Перед нами еще менее развитая общественная форма, нежели рабовладельческий строй, ибо при рабстве класс рабов четко отделен от других членов общества, рабы стоят вне общественно-политической системы. Господствующему же классу азиатских обществ противостоят не отдельные индивиды или социальные слои, а общины, внутри которых еще не подорвано первоначальной равенство их членов. От феодальных форм внеэкономического принуждения и извлечения прибавочного продукта формы, присущие азиатскому способу производства, отличаются так же тем, что здесь не сформировалась в сколько-нибудь крупных масштабах эксплуататорская частная собственность на средства производства, а прибавочный продукт, отчуждаемый господствующим классом, изымается в виде ренты-налога» *.
Классическое античное общество как с точки зрения осмысления новых измерений личности, так и характеристик практически всех социальных институтов, является высшим в формационном отношении по сравнению с сословно-общинным. В духовном измерении здесь впервые в истории человечества возникло религиозное представление о целиком антропоморфных богах и героях, повергающих природные стихийные силы, что есть ни что иное, как мистифицированное представление о специфически человеческой небиологической природе или, используя гегелевскую категориальную структуру, о самодостаточном «нечто» как особом, противостоящем естественной природности «качестве». По сути речь идет о духовном прорыве в представлении о своих творческих возможностях, с которым неразрывно связан описанный выше феномен греческого чуда и так называемого пассионарного взлета в эпоху античности. Непосредственным следствием данного переосмысления статуса человека на стадиально-цивилизационном (формационном) уровне стало то, что даже в сфере непосредственного материального производства античного мира, где человек еще представлялся простым придатком средства труда, усилия которого слишком ничтожны для того, чтобы серьезно
1 Марксистко-ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: целостность, единство и многообразие, формационные ступени. — М., 1983. — С. 354.
повлиять на естественное плодородие природы, и где производительный труд в материальной сфере еще воспринимается как тяжкая обуза, которую стремятся переложить на плечи рабов; тем не менее, само отношение к рабу как к индивидуальной частной собственности принципиально меняется по сравнению с поголовным рабством.
Античные мыслители подчеркивают, что раб, при всем его бесправии, это уже не безликий элемент эксплуатируемой общины, а живое орудие, оцениваемое наряду с домашними животными, а значит, подлежит бережному и рациональному использованию, как можно большему сохранению в рабочем состоянии, а иногда, во всяком случае, достаточно трудно заменимому в своих функциональных возможностях.
Личностный элемент восточной цивилизации (раннесредневековые Индия и Китай) не просто возрастает относительно античной, а, что стало предметом доказательства в предшествующих параграфах данного исследования, также поднимается на высшую стадиальную ступень.
Преодолевший внешнюю телесность античного религиозного мировосприятия и предельную детерминированность бытия античного человека, о которой речь шла выше, человек Востока является уже не просто особым внеприродным «качеством», но и обладает, по гегелевской понятийной субординации, количественными характеристиками. Его бытие можно описать через гегелевскую абстракцию «количественной меры», как способное к безграничному самосовершенстовованию в процессе максимального приближения к никогда не достижимому пределу высшего универсального небытия — Дао, Брахмана (в китайской философии также получившего название Великий Предел). Абстракция подобного процесса безграничного количественного усовершенствования некоего личностного качества получила в гегелевской философии название «узловая линия мер».
Принцип количественной меры распространяется и на хозяйственную деятельность, где он отражает производительную ситуацию, при которой, в целом еще завися от природной стихии, непосредственный производитель наращиванием собственных усилий уже значительно сильнее влияет на эффективность конечного результата материального производства, чем это было в античности или, тем более, в условиях общинно-сословного общества.
Все это резко повышает позитивную мотивацию относительно собственного участия в производительном труде, причем не только с прагматической целью получения необходимого количества материальных благ, но и, в какой-то мере, для получения удовлетворения от применения собственных знаний, навыков и более эффективных технологий. В такой ситуации практически отпадает необходимость насильственного прикрепления крестьянина к земле. Поэтому, в противоположность двум предшествующим стадиальным способам производства, на Востоке, как отмечалось, доминируют сугубо экономические, а не насильственные формы побуждения к труду, и, в силу заинтересованности непосредственного производителя в своем прикреплении к земле, именно земля становится господствующим объектом частной собственности.
Закономерно следующим за стадией восточного землевладения является переход к частной собственности на средства производства, создание кото
рых связано со скачком в развитии производительным сил, при котором природа утрачивает «в-себе-бытие» и до определенной степени покоряется человеку, а человеческий фактор, в его индустриальном измерении, превращается в планетарно значимую силу. Непосредственным следствием данного «скачка», «перерыва постепенности» уже не к «количественной», а к «качественной» мере, в духовной сфере является не только тенденция к преодолению всех форм мифологического фетишизма, но и религиозного отчуждения человека от своих сущностных сил, в результате чего в рамках секуляризированного сознания антропоморфизм и монотеизм трансформируются в антропологизм и гуманизм человека, впервые в истории, осознавшего свою природу как самостоятельно созидающего свое собственное бытие существа, не нуждающегося для собственной самореализации ни в каких факторах, находящихся за пределами его собственной творческой природы.
При этом, не вдаваясь в детали механизма межстадиального перехода, подробно проанализированного в уже упоминавшихся выше авторских публикациях, хотим отметить, что с точки зрения исследовательских задач, поставленных в данной главе, принципиально важным является осознание последовательности смены первобытной, общинно-сословной (ареал Ближнего Востока, начиная приблизительно с III тысячелетия до н. э.), античной рабовладельческой (начиная с I тысячелетия до н. э.) и, наконец, земледельческой (начиная приблизительно с VII—V вв. до н. э.) системно-цивилизационных формаций. Причем ареалы последовательного воплощения данных формационных этапов развертывания всемирно-исторического процесса последовательно смещаются то на Запад, то на Восток, что полностью исключает любые «дискриминационные» концепции западо- или востокоцентристского типа.
Подводя итоги, можно сказать, что подобное понимание эволюции раннеклассовых и средневековых обществ имеет большое значение для правильного понимания роли традиции и новаторства в процессе цивилизационного анализа современных обществ. Оно позволяет преодолеть любые формы преобразования философии истории в ее мифологию или теософию. Ведь, как правильно отмечал выдающийся мыслитель-моралист А. Фергюсон, «каким бы ни было изначальное состояние нашего рода, для нас важнее знать, к какому состоянию нам самим следует стремиться, а не в каком состоянии пребывали наши предки» *. Причем правильным состоянием человеческой природы, в противоположность детально проанализированным выше мифологемам о соотношении цивилизаций Востока и Запада, «...является не то, от которого навсегда ушло человечество, а то, к которому оно в настоящий момент может прийти — не до того как применить свои собственные способности, а благодаря их надлежащему применению» 1 2.
1 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. — М., 2000. — С. 43.
2 Там же. — С. 42.
ГЛАВА 14
ФЕНОМЕН «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА» И ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ (Ю. Н. Пахомов)
Глобализация и ценностные трансформации начала XXI в.
Глобализация и ценностные трансформации начала XXI в.
Ренессанс ценностей и синтез культур как предпосылки экономического чуда: опыт Востока Проявление цивилизационных ценностей и поведенческих стереотипов через экономическую практику
Украина единая, разная и расколотая
Украина между Россией и Западом: драматизм выбора Система ценностей современных центров опережающего развития и необходимость коррекции евроинтеграционных ожиданий Украины
Феномен экономического чуда — это знаковое явление конца XX — начала XXI столетия. Как правило, явление это характеризуется с позиций ускоренного, даже скачкообразного экономического роста и прорывного научно-технологического развития. Отсюда и само название, связывающее феномен чуда лишь с экономикой в пределах страны.
В действительности процесс взрывного роста и развития, т. е. экономического чуда, к экономике не сводится. Как не сводится он лишь к явлениям в отдельных странах. Экономическое чудо, представленное в основном странами Восточной и Юго-Восточной Азии, — это еще и цивилизационный прорыв, радикально меняющий расстановку мировых сил и, похоже, — жизнеустройство планеты в ее духовном, гуманитарном, социальном и экологическом аспектах. Представляется, что азиатский феномен экономического чуда — это предвестник вхождения человечества в новую эру, в качественно иной мир.
Конечно, экономический аспект сам по себе важен. Более того, без экономического успеха остальные перемены не были бы возможны. Однако такой успех, т. е. внезапный скачкообразный взлет, удививший и даже испугавший мир, — в XX столетии и ранее уже имел место. Это был, например, успех Советского Союза,
прошедшего в кратчайший срок путь от сохи (как говорил У, Черчилль) до второй в мире державы
Создал ли советский феномен предпосылки переустройства мира? Да, ведь именно под влиянием СССР рухнула колониальная система, под его влиянием весь высокоразвитый мир стал применять те или иные варианты долгосрочного планирования. Наконец, отчасти под угрозой советской идеологической экспансии, и с учетом решения в СССР многих социальных проблем (вплоть до ликвидации безработицы) западный мир, обложив богатеев налогами, сотворил в своих странах т. н. общество массового потребления и благоденствия.
Разумеется, Запад признавал столь значимую роль СССР. И не только потому, что СССР и США, по сути, делили планетарное пространство на сферы влияния примерно поровну. Были и другие доказательства планетарного успеха, а именно — западные страны наперегонки (особенно после опережающего овладения СССР космосом) перенимали у СССР систему высшего образования, модерное программно-целевое планирование, всеобщее школьное образование, схемы передовых научно-технологических комплексов и многое другое. Позже, с упадком советской империи, Запад по всем этим позициям вырвался вперед. Но до этого периода имели место и признание значимости СССР, и страх перед мощью советской экспансии. Приведем на сей счет лишь некоторые авторитетные высказывания лидеров Запада.
Так, Ф. Рузвельт признавал, что будущее планеты — синтез того лучшего, что есть и в США, и в СССР. А гений XX столетия Дж. Кейнс, побывав в СССР в конце 20-х годов, написал, что планетарный бульон успеха варится именно в Советской России. Кстати, упомянутые страхи и признания значимости СССР до сих пор обнаруживаются в бестселлерах наиболее читаемых западных мыслителей. Так, в нашумевшей книге сторонника либерализма Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» мы читаем, что «к восьмидесятым годам в Европе и Америке уже не верили, что советский коммунизм — это их будущее, как верили ... до конца Второй мировой войны» 1 2. И там же: «угроза Хрущева догнать и похоронить США казалась вполне реальной» 3. И еще: «Советское государство выглядело очень сильным, и нигде так сильно, как в глобальном стратегическом соревновании с Соединенными Штатами. Считалось, что тоталитарное государство может не только вечно длить свое существование, но и размножаться по всему миру...» 4.
Считали ли на Западе, что мощь и столь необычный рывок СССР зиждется только лишь на страхе? Нет, не считали. Они знали и о том, что совет
1 А в чем-то первой державы, — если иметь в виду прорывы в космос, и в ряде других научно-технологических направлений.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М., 2004. — С. 39.
3 Там же. — С. 53.
4 Там же. — С. 61.
ский коммунизм поддерживался народом;1 и о том, что «советские граждане участвовали в политике в большей пропорции, чем граждане США» 1 2.
Наконец, нельзя было не считаться с фактором его привлекательности для многих стран Азии, Африки и Латинской Америки. И заключалась эта привлекательность в невиданной ранее системе ценностей, — ценностей социализма, — пусть даже исковерканных, но порождавших надежды, которые человечество вынашивало тысячелетия. Ведь идеи капитализма намного моложе идеалов социализма (последние — это ценности христианства в его первозданном варианте; это учения великих мыслителей древности, — Платона и др.). К тому же ценности капитализма всегда ставились под сомнение широкими массами.
Так вот, пока ценности эти до поры до времени как-то «работали», на этой ценностной основе сделан был не просто экономический, но и научно-технологический рывок. И именно в научно-технологическом контексте, — т. е. в контексте самом важном, СССР стал сопоставим с самой богатой страной — Соединенными Штатами. А рухнул СССР по причине дискредитации и крушения советских ценностей, и потери надежд на будущее. Что же касается соблазнов от западных витрин, то это лишь внешний повод.
Пример Советского Союза приведен мной именно потому, что научно-технологический и интеллектуальный рывок, который неверно объяснять только лишь тоталитаризмом, был дискредитирован именно рухнувшими ценностями, а не по какой-то другой причине.
Сразу оговоримся, — ценности эти были незрелые и хрупкие, да и к тому же, что еще важнее, лишенные статуса традиционных, т. е. таких, которые вынашивались бы народом именно в таком варианте тысячелетиями. Эти наспех слепленные ценности не пропитывали культуру советского пространства столь глубоко, как пропитали народную почву стран Востока такие верования и учения, а соответственно и ценности, как даосизм, буддизм или конфуцианство. Эти ценности, — ценности великих культур Востока, выношенные и выстраданные тысячелетиями, — для народов азиатских стран органичны, поэтому экономическое чудо, возникшее на такой основе, имеет шанс быть долговечным, и даже радикально меняющим мир. И так сложилось, что именно в страны, где жизнь регулируется тысячелетними традициями, то есть в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, в конце XX столетия переместился ценностно-энергетический подъем планетарного масштаба. Причем, что тоже важно, этот подъем заполнил идеологический и ценностный вакуум, образовавшийся после падения СССР.
Но, — мне скажут, — есть же победоносные ценности евроатлантизма; и на них опираются высокоразвитые страны ЕС и Северной Америки. Возникает поэтому вопрос: был ли тут эффект экономического чуда? Оглядываясь на прошлое этих стран, можно ответить положительно.
Чудо евроатлантизма — это утвердившиеся рационализм и капитализм с последовавшим промышленным переворотом в Англии. При этом важно
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М., 2004. — С. 41.
2 Там же. — С. 40.
учитывать, что становление капитализма происходило на фоне более чем столетних религиозных войн, унесших жизни миллионов людей (чего стоила только Варфоломеевская ночь!), в ходе которых европейцами была выстрадана и выкована система протестантских ценностей. Ценности эти, обозначенные как рационализм, протестантская аскеза и этика, — провозгласившие богоугодность обогащения при условии личной скромности, — дали импульс невиданному всплеску созидательной энергии, и превратили отсталую прежде Англию в промышленную мастерскую мира и владычицу морей. Огромная часть планеты превратилась в итоге в мир колоний, т. е. маргинальный мир. Западная Европа, а затем и Соединенные Штаты именно на базе суровой, расчетливой и целенаправленной протестантской этики, сочетаемой с культом денег и экспансией обогащения, стали хозяевами планеты и «переделали под себя» мир. Осуществляемая Западом культурная экспансия (Запад знал цену ценностям культуры!), получившая название «вестернизация», подгоняла незападные миры под евроатлантизм, т. е. под западные лекала.
Как видим, и тут имеются доказательства прямой зависимости между «чудом», с одной стороны, и созидательными ценностями культуры и радикальной трансформацией планетарного пространства, — с другой.
Ценности эти, пережив многие кризисные ситуации, оказались прочнее, долгосрочнее и эффективнее скороиспеченных советских ценностей. И это определяется не по критериям «хорошие» или «плохие», а по критериям превращения ценностей в традиции, по их укорененности в генетику на почве долгосрочности. Ведь все же срок доминирования протестантских ценностей в тех европейских странах, где они укоренились, весьма почтенный — почти пятьсот лет, если вести отсчет от первого публичного выступления М. Лютера.
Но, как говорится, ничто не вечно под луной. Ныне ценности евроатлантизма стремительно дряхлеют, и на арену выходят теперь уже азиатские ценности, — прочность и временная база которых, а также их укорененность в традициях прошли более чем двухтысячелетние, а в центрах их формирования — Северной Индии и Северном Китае — почти трехтысячелетние испытания. А это означает, что их воздействие на человечество должно быть и более продолжительным, и более мощным. Тем более, что множество аспектов этого влияния обнаруживается уже сейчас весьма отчетливо.
Начнем с того, что страны-субъекты азиатского чуда уже существенно сдвинули планетарное мир-системное ядро в свою пользу, и как бы заставляют высокомерный Запад, включая США, работать на себя. И это при том, что почти все они, особенно главные из них — Индия и Китай, — по критериям уровня жизни еще далеки от западных стандартов. Получается, что Восток лишь выглянул из-за угла, а Запад спешит сдаваться. Хотя надо признать, что чувство схождения с арены у Запада присутствовало давно, и оно небезосновательно.
И дело не только в предупреждениях, исходящих от гениальных провидцев, таких как Ф. Ницше, О. Шпенглер или А. Дж. Тойнби *. И даже не в ог
1 Чего стоит одно только название книги О. Шпенглера: «Закат Европы» (буквальный перевод с немецкого — «Закат Запада»).
ромном негативном фактаже, заключенном в произведениях современных американских авторов с такими символическими названиями, как «Смерть Запада» (П. Бьюкенен) и «Столкновение цивилизаций» (С. Хантингтон). Речь уже идет об официальных признаниях факта схождения евроатлантической цивилизации с мировой арены на крупнейших всемирных форумах, и в докладах специальных служб, особенно США.
Так, по итогам Всемирной конференции при ООН (2004 г.), посвященной проблемам демографии, сделан заключительный вывод о том, что евроатлантическая раса (так и написано. — Ю. П.) уступает место другим цивилизациям, т. е., что она «уходит». Еще категоричней выглядит «Доклад — 2020», официально представленный Национальным разведывательным Советом США, в котором говорится о том, что уже к 2020 году Евросоюз экономически отстанет от Китая, а США, если и удержит технологическое лидерство, то с трудом. В докладе также признается, что мир-системное ядро (т. е. центр мирохозяйствования), смещается в сторону Азии.
Действительно, именно на глобальном уровне (а это — уровень, доминирующий на планетарном экономическом пространстве) тенденции смещения центра экономической жизни в сторону новых глобальных лидеров-— Китая и Индии, а равно и других центров Азии просматриваются отчетливо. Глобализация, соответственно, приобретает новые, азиатские черты, свидетельствующие об этом.
Первая, важная для нас черта обновляемой глобализации состоит в том, что у передовых стран Запада разблокировалась и развернулась в сторону Азии инвестиционная модель. Если раньше инвестиции высокоразвитых стран Европы и Америки сосредотачивались в основном в своем кругу, т. е. в кругу стран «золотого миллиарда», то теперь западный капитал ускоренно перетекает преимущественно в сверхпривлекательные страны Азии. И фаворитами получения инвестиций от Запада выступают Индия и Китай. Суммарный объем инвестиций, вложенных в Китай начиная с 1978 г. — 600 млрд долл.; что свидетельствует о «чемпионстве» Китая в мировом масштабе. Для оценки развития страны, где командует «компартия», важно и то, что 70 % ВВП произведено в Китае в частном секторе, а внутренний спрос (притом, что Китай — это еще и «мастерская мира») на 40 % обеспечен внутренним, а не внешним предложением. Только лишь средний класс этой страны, демонстрирующий, кстати, высокую покупательную способность, составляет 500 млн человек.
Вторая особенность новой расстановки глобальных сил заключается в упомянутом тезисе о том, что Восток уже уверенно перебирает на себя у Запада функции мир-системного ядра. В этой связи следует обратить внимание на выводы Доклада по «Проекту 2020 г.» Национального разведывательного Совета США. В нем говорится, что глобализация будет отныне не столько западной, сколько азиатской; что ТНК, которые хотят быть ведущими на мировом уровне, должны будут ориентироваться больше на Азию, чем на США и Европу.
Казалось бы, и США, и Европа должны были бы радоваться этому — ведь Запад всегда был заинтересован в вывозе своего капитала в другие страны.
Однако сейчас это не так, поскольку, в отличие от прошлых времен, доход от подобных внешних потоков капитала назад не возвращается: он оседает в Китае и Индии (преимущественно) не только в виде вложений в экономику, но и в качестве золотовалютных резервов. Ведь ныне эти резервы только в Китае составляют 1 трлн долл., а в 2008 г. эта сумма вырастет, по прогнозам экспертов, до 2 трлн долл. Все это означает, что именно Китай обеспечивает ныне стабильность американской валюты.
Факты свидетельствуют и о том, что трещит по швам главное достояние Соединенных Штатов и источник их имперской экспансии — финансовая система. Давно известно, что на грани катастрофы находится мировая валюта, представленная американским долларом. И дело не только в том, что из-за огромной массы виртуальных денег долларовый пузырь в любой момент может лопнуть. Резкое финансовое ослабление США проявилось и в том, что тремя четвертями совокупных мировых запасов валюты владеют уже азиаты — Китай, Япония, Индия и Ю. Корея. Торговый дефицит Америки в 2005 г. равен 805 млрд долл., и возник он «благодаря» азиатам. Внешний долг США достиг астрономической величины — 2 трлн долл. При этом Китай и Япония владеют 40 % ценных бумаг США. В Докладе делается вывод, что подобно тому, как век XX называют американским, XXI век — это век Азии во главе с Китаем и Индией.
Третья черта обновляемой глобализации, складывающейся не в пользу США, заключается в сломе и исчезновении т. н. догоняющей модели, которая в течении полувека служила основой для диверсификации уровней развития, и, соответственно, расположения на лестнице успеха и неудач тех или иных стран. Именно догоняющая модель давала шанс на успех на вхождение в золотой миллиард одним, или, оставаясь недоступной, лишала такого шанса других.
Понятно, что США (в первую очередь) благодаря догоняющей модели имели возможность регулировать инновационные процессы на планете, и тем самым ускорять успешность своих сателлитов, и замедлять рывок в будущее потенциальных соперников.
Исчерпание же «догоняющей модели» поставило незападные страны перед выбором: либо создать свои фундаментальные и прикладные предпосылки для высоких технологий, либо обречь себя на отставание.
Большинство стран отказались от борьбы; иное дело — Китай, Индия и Россия. Эти страны, осознав происходящее и потеряв последние надежды привлечь новейшие (и опережающие время) инновационные технологии через инвестиции, стали ускоренно наращивать свой научно-технологический потенциал. И преуспевают в этом в наибольшей степени именно Китай и Индия. Китай довел вложения в научно-исследовательские секторы до фантастической (для всех, кроме США) цифры — 136 млрд долл., и вышел на второе место в мире. Рассчитано, что в 2020 г. расходы на научно-исследовательские разработки достигнут 330 млрд, и Китай по этому самому важному для лидерства показателю выйдет на I место в мире. Знаменательно и то, что Китай довел долю участия частного капитала в научно-технологических процессах до 67 %, что для страны, где вложения в науку пока не покрываются отдачей, просто фантастика.
Все эти успехи красноречивы. Но все же США пока имеют преимущества по главным факторам экономического успеха — высоким технологиям. Откуда же тогда проистекает опасение даже самих американцев в том, что Китай их уже в обозримой перспективе опережает? Источник этого — не только быстрое экономическое и технологическое развитие Китая, как и других стран Азии, но и мироощущение победоносных ценностей азиатов, обеспечивающих это развитие.
В этом глубинная причина их ускоренного развития. Главное, таким образом, в энергии духа, обеспечивающего ренессанс традиционных для азиатов ценностей, которые в Восточной и Юго-Восточной Азии дали эффект экономического чуда.
Но, как уже говорилось, успех может быть и быстропреходящим. Ведь даже на фашизм, особенно итальянский, Западом возлагались надежды, поскольку он поначалу отличался некоторой созидательностью. Здесь надо вернуться к тому, о чем уже говорилось, что недозревшие и краткосрочно вспыхнувшие ценности имеют шанс лишь на короткую судьбу.
Главное в судьбе вспыхнувших на планете Земля новых мир-системных «звезд» (Китай и Индия) заключается в том, что продолжительный ренессансный успех (как об этом свидетельствует история Египта, Древней Греции, Рима, да и того же Китая прошлых веков) демонстрируют страны с глубокими духовными ценностями и, соответственно, традициями, которые вошли в многотысячелетнюю генетическую память. Так, Китай, как и Индия, имел многосотлетние периоды высокого (по меркам тех времен) благополучия. Об этом свидетельствует хотя бы строительство самого трудоемкого из чудес мира — китайской стены. При краткосрочных периодах благополучия это было бы невозможно.
Конечно, все подвержено колебаниям, и у всех за подъемами следуют спады. Но продолжительные подъемы без питающих их традиций, ценностей и силы духа невозможны.
Прошлое, как известно, всегда резонирует на будущее. И тем в большей степени, чем больше в этом прошлом добротной планетарной по своей значимости ценностной глубины и духовности. Свидетельства этому — достижения культуры Древней Греции, которые оплодотворяли духовность Европы даже через столетия после ухода этой страны с арены. Источник добротности ценностей при этом — не только энтузиазм, благополучие и подъем. Ценности скрепляются и страданием, о чем свидетельствуют хотя бы (что ближе нашему восприятию) судьбы раннего христианства и религиозные войны, породившие протестантские ценности.
Конечно, страдания — это зло. Но зло, согласно учению гениального мыслителя перв. пол. XX столетия П. Тейяра де Шардена, — «это прежде всего человеческое страдание, но оно есть необходимый для человеческого рода стимул к совершенствованию; затем зло — это разобщенность, постепенно преодолеваемая всем механизмом эволюции, вплоть до будущих стадий человеческого развития. Это преодоление совершается через страдание» ’. Страдание, по Тейяру, — это «дыба совершенствования» 1 2.
1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987. — С. 18.
2 Там же. — С. 98.
Примечательно, что как бы противоположной иллюстрацией к сказанному является финал успешных стран, — стран, «зарвавшихся» и возгордившихся благодаря успеху. Как правило, крушение той или иной империи происходит именно на волне успеха, когда страдания вроде бы далеко позади. Именно на пике достижения успеха разлагались и погибали Египет, Греция, Древний Рим; то самое отчетливо просматривается в главной нынешней империи — США.
Вернемся, однако, к глубинным ценностным основаниям азиатского успеха, о которых П. Тейяр де Шарден писал, что сравнительно с ценностями «глубже только гены».
Ныне всем уже ясно, что Восток победоносен и не оставляет сомнений в своем лидерстве. И победоносен он не конъюнктурно-экономически, а вследствие своего превосходства по критериям мировоззрения и ценностей культуры. Даже такой поклонник западного либерализма, как Ф. Фукуяма, вынужден признать, что «своему колоссальному экономическому успеху страны Азии обязаны тому, что сумели сохранить традиционные черты собственных культур» ’.Ив данном случае признание Западом ценностей Востока связано не только с нынешним успехом азиатских стран. Для многих западных мыслителей Восток всегда, даже в годину невзгод, был и есть убежищем от суетных и разлагающих нравы ценностей евроатлантической цивилизации; и многие из передовых людей Запада пребывали в уверенности, что именно Восток окажет очистительное влияние на Запад.
В западных же заметках о Востоке, сделанных задолго до азиатского триумфа, мы находим часто и то, что выводит нас на понимание нынешнего азиатского экономического чуда. Например, суждения западных мыслителей о наличии у азиатов мировоззренческих источников созидательной энергии; и о культуре Востока как источнике этики труда; и о склонности азиатов, в случае необходимости, к аскезе и воспроизведению мобилизационной модели; и о недоступных для западного человека величайших проявлениях духовных сил подвижниками Востока, как это имеет место в практиках йогов, в медитации, или в прозрениях Махатм.
Конечно, по разным причинам, — особенно из-за военной экспансии и торговых войн, — Восток в предшествующих столетиях проигрывал Западу. Но это результат той цикличности, которая присуща всем общественным системам. Согласно мудрости Востока «циклы должны идти своими кругами; периоды света и тьмы в умственной и нравственной сфере сменяют друг друга, как день сменяет ночь» 1 2.
Нельзя не признать и то, что в последние столетия доминирующая линия антропогенеза прошла через Запад; что именно там формировалась зона роста и развития.
Однако это не меняет того обстоятельства, что потенциально лишь Восток был хранителем более чем двухтысячелетних ценностей, которые
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М., 2004. — С. 316.
Письма Махатм. Чаша Востока. Лигатма. — Рига — Минск — Москва, 1995. — С. 77.
замирали, уходили в тень, но не исчезали, и не разлагались. И одна из причин этого в том, что культура Востока, его ценности прочно удерживали в качестве важнейшей составляющей иррациональное, во многом мистическое начало.
Иррациональность — это незаменимое в системе ценностей начало, предохраняющее ценности от порчи, открывающее человечеству высокие горизонты и позволяющее опереться на способы познания, выходящие за будничные рамки. Даже естественные науки, особенно математические, не могут выйти на широкие просторы без включения иррационального начала. Так, «геометрия, — пишет П. Тейяр де Шарден, — построенная сначала на рациональных числах, не смогла бы развиваться, если бы не восприняла... иррациональное число» *. И тем более непреложна значимость иррационального начала, образующего основы религиозных верований. Особенно — Великих религий, формирующих цивилизационные ценности планетарной значимости.
Кстати, одна из причин затухания ценностей Запада — это гипертрофированный рационализм, вырождающийся в утилитаризм. Согласно учению великого психолога К. Юнга, разум (а значит, и рационализм) лишь тогда полноценен, когда он корректируется интуицией, чувствами и ощущениями, т. е. взаимодействует с тем, что является иррациональным. Будучи же лишен этих взаимодействий, разум «хромает» — теряет гибкость, чувствительность к нюансам, слабо реагирует на настроение, состояние души окружающих его людей. И, конечно же, совершает ошибки. Личность в таких обстоятельствах действует неадекватно.
Сказанное К. Юнгом относится именно к западному человеку, который, будучи одержим жаждой наживы, со временем трансформирует обогащенный эмоциями рационализм в бездушный утилитаризм. По этой причине интуиция, чувства и ощущения, будучи слабо востребованными, «уходят» в сферу бессознательного. Существенно ослабевает в западном мире и религиозное начало: глубина религиозных переживаний все чаще подменяется формальным ритуалом. В итоге обедненный и огрубленный разум, лишенный корректирующих его иррациональных механизмов, теряет самое главное — способность адекватно реагировать на происходящее. Поэтому даже самые, казалось бы, благородные устремления нынешнего западного человека оборачиваются конфузом, или же курьезом. Так, благородное желание белого человека в США реабилитироваться перед неграми выливается в демонстративное перед ними заискивание, провоцирующее хамство; стремление мужчин пойти навстречу охватившему Америку феминистскому движению оборачивается резкой и неадекватной реакцией женщин на обычные ухаживания. Неслучайно сатирик Михаил Задорнов шутил о том, что согласно инструкциям, американский пожарник не должен вытаскивать из огня голую женщину, т. к. она подаст на него в суд. Далее, стремление быть вежливыми и толерантными сводится, как правило, к холодному официозу, — к натянутой дежурной улыбке, лишенной искренности.
1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М, 1987. — С. 196.
Однако деформации западного сознания только к этим безобидным явлениям не сводятся. Неадекватное восприятие действительности оборачивается бомбежкой жителей городов Югославии со стороны «безобидного» (так и «непонятого» нами) НАТО; или же искалечением по ложным поводам Ирака. Ведь даже демократию, — чем Запад не без оснований гордится, — он умудряется дискредитировать навязыванием ее недозрелым обществам. Примеров этому множество, но наиболее шокирующим является навязывание демократии африканским племенным сообществам. Жизнь этих племен, ранее вполне упорядоченная вековыми традициями, с приходом «демократии» превратилась в кошмар. Вполне понятная неготовность племен к немедленному восприятию высших форм организации социума обернулась не только неведомой в прошлом всепронизывающей коррупцией, но и отсутствующими ранее кровавыми разборками, а то и людоедством. Разлагаясь, эти «новые» образования губительно влияли и на окружающую природную среду, чем окончательно дискредитировали демократию.
Казалось бы, абсурдность внезапного и неподготовленного перепрыгивания примитивных племен от низших форм человеческого общежития к высшим должна быть для всех очевидной. Однако западный человек, возомнивший себя единственным врачевателем социальных недугов в масштабе планеты, и лишенный при этом гибкости и чувства меры, считает подобные акции не только допустимыми, но и обязательными. Понятно, что подобное вырождение западного рационализма во многом, а то и в основном связано с дефицитом и здорового иррационального подхода, и адекватного мировосприятия, которые заложены в чувственно-интуитивной составляющей нашего сознания. И еще одна любопытная деталь: оказалось, что от иррационального и в этом случае западному обществу не уйти; но вместо естественного и «здравого» иррационального начала на арену здесь выходит уродливый иррационализм, безжалостно калечащий действительность.
Вернемся опять-таки к приемам насаждения Соединенными Штатами демократии. Чисто внешне может показаться, что подобные, часто силовые операции злонамеренны, что они позволяют американским корпорациям «ловить рыбу в мутной воде».
Но в том-то и дело, что чаще всего это не так. К этому американцев приводят их устойчивые заблуждения, и их хроническая неспособность проникнуть вглубь реальных процессов. Американцы, в силу своего неадекватного мировосприятия, граничащего с маниакальностью, на самом деле убеждены, что таким путем они облагораживают мир, и что в этом их планетарная миссия. В США действительно свято верят в приемлемость т. н. универсальной либеральной демократии для всех народов, — независимо от их религиозных убеждений, культуры, истории и социально-экономической генетики. Соответственно США к любой стране прикладывают свою стереотипную мерку, определяя, «правильный» или «неправильный» там режим; и если режим «неправильный», бросаются, не взвесив последствий, его «исправлять» любыми способами, включая силовые приемы. У них нет понимания того, что демократия предполагает зрелость общества; что отторжение их схем, или же их искажение обусловлено часто не столько прихотями того или иного лидера, сколько объективными факторами глубинного происхождения.
И неслучайно навязывание (в том числе силовое) универсальной демократии при полном игнорировании (и непонимании) культурно-религиозных традиций, и иных объективных факторов оборачивается все чаще всплеском антиамериканизма. И это при том, что Америкой движет не злодейство, а непонимание того, что каждый народ не случайно избирает свой темп, свою модель, свою меру демократии (если избирает). Итогом же такого бескомпромиссного подхода является расширение не только исламского джихада, но и, кроме этого, антиамериканизм и нестабильность ’. И это — результат склонности американцев к упрощенчеству, догматизму и универсализму.
Трансформация западного рационализма в утилитаризм губительно сказывается и на состоянии общепланетарного экономического пространства. Потеря западной бизнес-элитой чувства меры в обогащении оборачивается неуклонным разрастанием очагов неблагополучия, как экономического и социального, так и экологического. Этому ныне содействует и глобализм, который, будучи не только объективной данностью, но и западным проектом, исключительно ловко используется западными корпорациями в целях баснословной наживы, что имеет разрушительные последствия. Так, невиданный ранее масштаб приобретают в условиях глобализма межстрановая неэквивалентность в финансовых и торговых операциях в пользу Запада. Именно по итогам западной глобальной экспансии, основанной на искусстве делать деньги из денег (т. е. минуя реальный сектор), — в последние десятилетия произошло шокирующее разрастание пропасти между богатыми и бедными, что грозит планетарными катастрофами. Так, если в 1960 г. соотношение показателей ВВП на душу населения стран «Золотого миллиарда» (20 % населения планеты, самые богатые) и населения самых бедных стран (тоже 20 % от всего населения) составляло 30:1, то в 1990 — уже 60:1, а в 1999 — 90:1! А то, что отмеченный зияющий разрыв таит в себе еще и нарастающую экологическую катастрофу, Запад не очень волнует. Он ведь нацелен на покорение природы, и в этом тоже просматривается уже не столько рационализм, сколько утилитаризм. Не случайно США, вносящие львиную долю в необратимость экологических планетарных травм, отказываются подписать Киотский международный договор, нацеливающий на экологическое оздоровление.
Не исключено, что быстрое (по историческим меркам) перерождение западного рационализма в утилитаризм заложено было в самом протестантизме, упразднившем, как известно, таинства исповеди, и этим ослабившем мистическое начало в религиозном веровании. Протестантизм, — согласно К. Юнгу, — обострил в человеке внутренний моральный конфликт; он усложнил возможность получить верующему на его вопрошание божественный ответ; и тем самым протестантизм взвалил на человека проблемы, кото-
1 Итоги внедрения «демократии» в Ираке привели к тому, что согласно опросам, проведенным в 2005 г., 82 % населения этой страны являются противниками вторжения США, а поддерживают американцев — лишь 1 % (Свободная мысль. — 2006, № 9—10. — С. 63). Даже наиболее успешный американский проект демократизации в Грузии привел к тому, что вместо мягкого правления Э. Шеварнадзе к власти пришел М. Саакашвили, создавший полицейский режим.
рые решались церковью. В итоге получилось, что веруюший протестантист, религиозно подталкиваемый к бешеной погоне за успехом (богатство ведь в протестантизме богоугодно, а в его одном из основных направлений, кальвинизме, является признаком богоизбранности) одновременно испытывал вакуум в отношении божественного ответа на вызовы морали.
Все это превращало западного человека во фрейдовского невротика, теряющего часто почву под ногами. Ведь оборотная сторона погони за богатством — затягивание в омут ажиотажного потребительства, а значит, лишение глубинной и органически присущей индивиду духовности. Отсюда обостренное чувство одиночества; отсюда стрессы, а значит — поиск нестандартных удовольствий, повышенная склонность к компенсирующим бездуховность фильмам ужасов и прочим явлениям, отнюдь не содействующим адекватному мировосприятию.
Конечно, страны Запада, с их высокоразвитостью и благополучием — это предел мечтаний для остального мира. Но эрозия ценностей берет свое, и грядущее схождение евроатлантизма уже угадывается. Тут напрашивается аналогия, воплощенная в китайском сказании о прибрежной скале и волнах. Скала, о которую бьются волны моря, кажется нерушимой; но волны неумолимо подтачивают основание, и наступает момент, когда скала рушится. Вспомним, кстати, как рухнул СССР, — для всего мира это было неожиданностью.
Ренессанс ценностей и синтез культур как предпосылки экономического чуда: опыт Востока
Иным запасом прочности, по всеобщему признанию, сравнительно с ценностями и судьбой Запада, обладают ценности азиатского Востока.
Однако следует отметить, что, поражаясь стремительному возвращению Китая и Индии на мировую арену, мы отдаем должное только новым побегам, и лишь упоминаем общими фразами, далекими от анализа, о корнях, из которых вырастает азиатское экономическое чудо. А между тем само «чудо» лишь тогда становится понятным, когда удается постичь питающие его корни. Ведь самое поразительное заключается в том, что, будучи столетиями выталкиваемы западными триумфаторами на обочину, эти страны не только культивировали щедро разлитую на азиатском пространстве мудрость, но и сохранили ощущение своего незыблемого превосходства, лишенного зазнайства.
Превосходство — это и недоступный европейцу космизм мышления; и философия гармонии человека и природы — фэн-шуй; и щадящая, высокоэффективная медицина, когда вместо хирургической операции больного излечивает курс акупунктурного лечения, или фитотерапии; и недосягаемая для человека белой расы способность концентрации энергии в определенных частях тела, позволяющая с высоты скалы падать на кончики двух пальцев рук (что демонстрировали перед В. Путиным монахи монастыря Шао-линь) и т. д.
Те из европейцев, кто, как Е. Блаватская и Е. Рерих, постигли тайны Востока, фиксируют не просто «разлитую» там высшую мудрость, но и иные, неведомые западному человеку горизонты и способы познания реалий (например, через оккультные силы), позволяющие проникать в неведомые для нас миры. И по этой причине — причине владения недоступными нам тонкими энергиями, мудрецы Востока настолько превосходят белого человека, что возникает даже духовное препятствие на пути общения их с человеком белой расы. Показательной в этом отношении является организованная Е. Блаватской переписка Махатм (Великих учителей) с известным английским ориентологом А. Хьюмом. В ходе этой переписки один из Махатм, выражая сомнение в способности европейца освоить азы мудрости Востока, в своем 5-м письме пишет: «Имеется... значительное неудобство... и с ним я должен считаться... это моя полная неспособность передать Вам смысл моих объяснений даже физических явлений, не говоря уже о духовных основах. Упоминаю об этом не впервые. Это равносильно тому, как если бы ребенок попросил меня преподать ему глубочайшие задачи Евклида, когда он еще и не приступал к изучению элементарных правил арифметики»1.
Кроме подобной «нестыковки», указывающей на недоступные европейцу и нестираемые Временем духовные глубины, Восток поражает и присутствием мудрости в гуще народной. Конечно, до «высших горизонтов» рядовой индус или китаец не доходит, но азы этой культуры и тип мышления пронизывают не только высшие слои, но и народную гущу. Начнем с того, что традиционно многочисленные школы, основанные мудрецами, не были на Востоке «клубами для избранных» — они получали всенародное признание, отсюда освоение азов мудрости и народом. Причем общаясь с народом, что было делом обычным, «мудрец не отстаивает одну точку зрения против другой, и ни в коем случае не стремится мыслить иначе, чем другие... он думает «как все», интегрируя в свою точку зрения все прочие 1 2. И в этой способности мудрецов думать о том же, о чем думает народ, как раз и заключена тайна пропитывания народа мудростью великих. Здесь заключены и те истоки приобщенности к вечному, которые воплощены во всеохватности пути человечества — «Великого пути — Дао».
Свидетельством широкого проникновения в народные массы тысячелетней мудрости является и общеизвестное: каждый китаец мыслит категориями «Дао», и категориями «инь-ян»; для каждого священна преемственность и постепенность; незыблемым является культ Учителя и культ предков. Вследствие всего этого парадокс состоит в том, что полуграмотный, а то и неграмотный китаец из глубинки, сравнительно с которым наш школьник выглядит учёным, в вышеуказанном житейско-философском смысле (т. е. как носитель древней культуры) основательно подкован.
Мудрость, заложенная в азиатах самой уникальностью процесса осмысливания бытия, не есть лишь что-то абстрактное, — она дает себя знать и в
1 Письма Махатм. Чаша Востока. Лигатма. — Рига — Москва — Минск, 1995. — С. 29.
2
Жульен Ф. Китай и западная модель // Свободная мысль. — 2006, № 7—8. — С. 108.
повседневности, и в судьбоносных решениях власти; и в поведенческом стереотипе нации, и в индивидуальных поступках; и в мелких хозяйственных делах, и в стратегии страны на мировой арене. И именно она, — эта мудрость всех и каждого, — объясняет тот победоносный штурм мировых вершин, который совершают народы Восточной и Юго-Восточной Азии в течение вот уже полувека.
Характерно, что в ходе этого штурма, в процессе «перетягивания каната» с недосягаемым пока что Западом, — азиатский Восток выигрывает именно там, где другие народы, в том числе и мы, славяне, терпят поражение. Так, в течение последних десятилетий Китай поочередно переиграл наиболее изощренных проамериканских глобальных игроков — МВФ и ВТО. Если мы, к примеру, покорно воплотили в жизнь заведомо губительные для нашей экономики рецепты реформ «по МВФ», и рухнули, поставив мировой рекорд падения, то Китай, перехитрив самонадеянный Запад, не только добился успеха, делая все «с точностью до наоборот», но и умудрился получить от проигравшего «дуэль» МВФ признание лучшего в мире реформатора. То же самое проделал Китай с правилами ВТО. Китай буквально перенаправил в свою пользу то, что предлагалось, и даже побудил эту организацию обслуживать свой успех.
Еще более показательными в контексте «перенаправления» Китаем в свою пользу западных замыслов являются применяемые им способы реализации крупных стратегических проектов, а равно и «бизнес взаимодействия».
Рассмотрим это вначале на историческом фоне. Известно, что Китай, многократно покоряемый воинственными соседями (к северу от р. Янцзы — хуннами, киданями, чжурчженями, полностью — монголами и маньчжурами), всегда ассимилировал завоевателей, «прививая» им собственные ценности. Иной характер носила агрессия Запада. Как оказалось, этот завоеватель имеет целью не только ограбление и/или. захват чужого рынка, но и, — с чем раньше Китай не сталкивался, — навязывание своих ценностей, т. е. овладение душой народа через вестернизацию.
Мы знаем, что вестернизация, т. е. навязывание Западом народам третьего мира своей культуры, имеет два типичных сценария. Один — успешный, когда освоенная страна вступает с сувереном (а это ныне — США) в послушно-вассальные отношения. Другой — конфликтный, оборачивающийся сопротивлением и взрывом идеологии антиамериканизма.
Иные, невиданные доселе (с тех пор, как Запад обрел свое мировое лидерство) последствия имела попытка вестернизации Китая.
По внешним признакам Китай, уйдя от коммунизма, казалось бы, ажиотажно потянулся к западным ценностям, и стал ускоренно вестернизироваться. Однако тут же Запад почувствовал, что подход Китая к чужим ценностям строго избирательный. Было ощущение, что в отношениях с Китаем действует некий фильтр (цивилизационная решетка), который пропускает в Китай полезное и блокирует все чуждое и тем более — вредное.
Но это не все. В ходе взаимодействий с Западом, — и межстрановых, и межкорпоративных, — Китай, побывав вначале «учеником», быстро пошел «на обгон», превращая при этом полезные западные ценности в подспорье
ценностям своим как приоритетным. И хотя западные партнеры всегда стремятся навязать и этой стране свой вариант решения проблем, чаще всего происходит обратное. Западные партнеры, неожиданно для себя, оказываются в роли проигравших, и им часто непонятно «откуда что взялось». Приведем для иллюстрации описание происходящего в таких случаях директором Института свободной мысли, профессором Парижского Университета Ф. Жульеном: «Все (в переговорах с Китаем. — Ю. П.) может начинаться радужно. Зачастую западные специалисты имеют дело со своими китайскими коллегами, закончившими Политехническую школу в Париже, или Стенфордский университет в Калифорнии, также хорошо говорящими по-английски, владеющими методами моделирования и т. д. Однако ... выясняется (иногда слишком поздно), что по ходу дела оказался запущен и какой-то иной механизм. Он приводит к постепенному изменению ситуации (или, я бы сказал точнее, потенциала ситуации), когда, с одной стороны, позиция китайской стороны ужесточается, а с другой, — расплывается, что в конечном счете сбивает с толку» *. От себя добавим, что, переиграв «противника» и пожав плоды успеха, китайская сторона делает все возможное, чтобы поверженный соперник сохранил лицо и не считал себя униженным.
Возникает вопрос — как объяснить все это. Попробуем порассуждать на эту тему. Как следует из учения Конфуция, большое значение в общении следует придавать ритуалам. Действительно, Конфуций, как нам может показаться, с избыточным усердием на каждом шагу напоминает об этом. Причем объяснений этого феномена в его поучениях мы не найдем. Необходимость ритуала им просто постулируется.
Для меня лично толчком для понимания значимости ритуала послужило не учение Конфуция как таковое, а сообщение об открытии японскими (а также другими) учеными позитивного, и даже лечебного эффекта реагирования воды на доброжелательное к ней обращение. Тут же припомнились эксперименты, проведенные учеными Индии с кустарником, выявившие негативную (что было зафиксировано приборами) реакцию растения на «злого» человека, за несколько дней до того ломавшего ветки этого куста. При этом на человека, демонстрирующего доброжелательность, кустарник реагировал позитивно.
Понятно, что человек в своей реакции на доброту еще более отзывчив. Ритуал же — это и есть сконцентрированная доброжелательность. По-видимому, китайцы с их закодированной в древнейших генах мудростью, существенно превосходят молодые народы в способности использовать создаваемую ими самими благоприятную атмосферу как инструмент манипулирования сознанием.
Ритуал, используемый как способ манипулирования сознанием — это, конечно же, частный случай. Более типичная его функция — достижение гармонии в отношениях между людьми. Это и солидаризация по линии властной иерархии, и достижение успеха в дипломатических переговорах, и гармония в общении с природой, и многое другое.
1 Жульен Ф. Китай и западная модель // Свободная мысль. — 2006, № 7—8. — С. 104-105.
И именно благодаря многомерности функции ритуала, его значимость обнаруживается не только на родине конфуцианства, в Китае, но и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Особенно тщательно соблюдается ритуал в Японии, что связано во многом с синтоизмом — религией поклонения духам природы. Пример тому — известная чайная церемония, которая, как оказалось, не есть какая-то причуда: ведь вода, что японцами же доказано, откликается оздоровляющим добром на доброе к ней отношение. Как видим, слишком многое из того, что в наших глазах выглядит простым антуражем, оказывается вполне рациональным.
«Китай, — пишет упомянутый французский профессор, — не пытается открыто навязывать свое господство. Он делает это на свой лад, мягко, туманно, постепенно и даже робко. С китайской точки зрения, в мире происходит логический процесс возвращения к естественному ходу развития. Иначе говоря... пришло время вернуться к истокам» ’.
Виртуозно и эффективно используется в Китае как универсальный подход к явлениям и процессам с позиций «Инь» и «Ян». В отличие от европейца, который, оценивая противостоящие начала, выбирает одно из них, китаец и в малом (в быту и т. д.), и в большом остается приверженным обеим крайностям; он достигает успеха, соединяя вроде бы несоединимое.
Итогом выбора оказывается всуе нами поминаемая «золотая середина», которая для китайца оказывается обогащенной за счет одного и другого «полюса». «Для китайского мудреца, — пишет Ф. Жульен, — золотая середина состоит в том, чтобы одинаково легко уживаться со всем, оставаясь в равной мере открытым к крайностям (именно в этом равенстве и состоит середина), а вовсе не в том, чтобы топтаться на пути между одним или другим» 1 2. Но главное, позиция мудреца в Китае — это вместе с тем и позиция народа, власти, страны. Возьмем на этот счет современные решения, обеспечившие Китаю столь успешное развитие. Именно соединение двух, казалось бы, несоединимых начал, — рынка и компартии, — обеспечило мощный рывок развития экономики в Китае. И это, если отойти от наших штампов, объяснимо, поскольку компартия, будучи дисциплинированной и нацеленной руководством страны на рынок, намного полнее, чем органы государства, проникает в капилляры первичных производственных ячеек как носитель рыночноориентированных директив, исходящих от центральных органов. Ведь «каждый коммунист колеблется с линией партии», — как говаривали в СССР.
Вспомним, что в СССР успешная (в отличие от нынешних) экономическая реформа, проводимая А. Косыгиным, захлебнулась, «споткнувшись» о политбюро компартии, а не о рядовых коммунистов. Разумеется, и в странах Запада совместимость рынка с руководящей ролью компартии никто не мог признать бы и в страшном сне. Китай же, как мы знаем, эту, как казалось, гремучую смесь превратил в важнейший компонент экономического чуда.
1 Жульен Ф. Китай и западная модель // Свободная мысль. — 2006, № 7—8. — С. 105.
2 Там же. — С. 107.
Высокое искусство нахождения третьего пути продемонстрировало китайское руководство и в случае объединения Гонконга с Китаем. Проект этот считался рискованным, поскольку два этих региона — во многом противостоящие миры. Китай же, вопреки, казалось бы, неуязвимой логике скептиков, преодолел преграды на пути воссоединения посредством реализации проекта под названием «Одна страна — две общественно-экономические системы».
Способность Китая выигрывать от соединения не только разных, но и противоположных подходов была продемонстрирована и в применяемой рецептуре рыночных реформ. Руководство этой страны не просто осваивало лучший мировой опыт, но и умело диверсифицировало его с учетом разных сфер и задач. Выстраивалась мозаика, умело сотканная из разных рыночных (не только западных) моделей, пригодная для адаптирования и в целом к стране, и дифференцированно — к разным секторам и народнохозяйственным уровням. В итоге приемлемыми для успешных реформ в Китае оказались заимствования не только из лучшей западной реформаторской рецептуры (взятой из кейнсианства и его последователей, из институционализма, неоэволюционизма и монетаризма), но и из отвергаемой ныне нами успешной советской реформаторской практики времен НЭПа и А. Косыгина (1965—1970 гг.); а также из опыта венгерских реформ, в том числе периода Я. Кадара.
К числу ценностей, имеющих на Востоке статус мудрости, относится и исповедывание китайским народом «Великого пути — Дао». Дао — это глубинное космическое знание, позволяющее, как считается, мудрым лидерам страны познать меру всех вещей и действовать на опережение. Слова, взятые из поговорки мастеров ушу: «Он не двигается, и я не двигаюсь; он сдвинулся, а я сдвинулся прежде его», — это, прежде всего, искусство мудрого государя, который не может не быть одновременно и Учителем.
Важнейшим среди заветов Дао является познание связи прошлого и будущего, а также подчиненность настоящего будущему. Сказанное относится и к индийско-тибетской мудрости. «Безумны те, — читаем мы в письмах Махатм, — кто, размышляя лишь над настоящим, добровольно закрывают глаза на прошлое, оставаясь, естественно, слепыми к будущему» *. При этом поучение касается не просто ориентации на Будущее, но и важности безбоязненного выбора трудного пути. В этом отношении для нас, бездарно растерявших культуру сценарного (т. е. «дальнобойного») Времени, т. е. живущих во Времени цикличном (от урожая — до урожая; от бюджета — до бюджета) предостережением могут послужить следующие слова из тех же писем Махатм: «Вы будете соблазняемы и вводимы в заблуждение видимостью: две тропы откроются перед Вами, обе ведущие к цели, которую вы стараетесь достичь: одна — легкая и скорее приведет вас к исполнению указов, получаемых вами; другая — более крутая, более долгая: тропа, полная корней и терний, о которые вы не раз споткнетесь по пути, и в конце которой вы, возможно, потерпите неудачу и окажетесь не в состоянии исполнить
1 Письма Махатм. Чаша Востока. Лигатма. — Рига — Москва — Минск, 1995. — С. 1.
указы, данные для определенного малого дела, — но тогда как все трудности, которые вы переносили на втором пути, зачтутся, в конечном итоге, в вашу пользу, первый, легкий путь, может дать вам лишь кратковременное удовлетворение от легкого исполнения урочной работы» *.
Как мы знаем, все страны азиатского Востока, — т. е. страны экономического чуда, — упорно избирали (в отличие от нас, настроенных на иждивенчество) тернистый путь, — путь, ориентированный на Будущее, т. е. путь рисков и лишений. И это было залогом успеха.
Как видим, мудрость азиатского Востока — это, ко всему прочему, еще и особый, уникальный по своей результативности и недоступный другим мирам рационализм. Рационализм этот, в отличие от западного, — не бездушно-расчетливый, а теплый, гибкий и «очеловеченный». Он опирается не только на знания, но и на иррациональное начало в виде тысячелетней мудрости, закодированной в подсознании. Здесь разум, обогащенный ощущениями и интуицией, как лоцман корабля, плывущего среди рифов, успешно выбирает подходящее решение и верный путь. «Мягкое побеждает твердое», — один из постулатов этого рационализма.
Важнейшая специфика ценностей азиатского Востока, обеспечивающая успех, заключается во взаимопереплетении и синтезе ценностей разных культур. П. Тейяр де Шарден усматривал в этой особенности движение к вершинам развития человечества. Окрашивая это достоинство азиатских ценностей в эмоциональные тона, Тейяр выражал мнение, что синтез культур «изображает силы человеческой культуры как конвергирующие к высшему единству, именуемому духом Земли» 1 2. Он видел в этом «феномен человечества, который в конечном счете сделает реальным преодоление всех перегородок между людьми» 3.
Наиболее полно разнообразие и взаимопереплетение верований представлено в Японии, которая предстает в этом отношении как своего рода религиозное зеркало мира. И именно благодаря этому Япония как никто другой способна воспринимать полезное чужое, а также это чужое адаптировать по-своему и с пользой для себя. Это же многообразие религиозных и философских верований и учений обеспечивает Японии гармоническое и взаи-мообогащающее сочетание традиционного и нового, романтичного и прагматичного.
Синкретизм Японии характеризуется, прежде всего, сочетанием различных верований и старинных культов. Тут и конфуцианская этика, и даосская натурфилософия, и различные разновидности буддизма, и синтоизм, характеризующийся мистическим почитанием природы. В этом сплаве дары одних религий и учений ассимилируются и обогащаются другими. Так, материализм сочетается с мистикой, эмоциональная культура самой Японии соединяется с интеллектуальной культурой Индии, а также с китайскими идеалами конфуцианства и даосизма и т. д.
1 Письма Махатм. Чаша Востока. Лигатма. — Рига — Москва — Минск, 1995. — С. 106.
2
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987. — С. 25.
3 Там же.
Далее, почитание древности здесь дополняется новыми религиями, непритязательными и доступными каждому, привлекательными и дающими утешение. Кстати, в период послевоенного краха японской идеи мирового господства, — т. е. в ситуации унизительного поражения, — именно многоцветье жизненных смыслов и мироощущений в новых и прежних религиях спасло Японию от угнетающей духовной депрессии. Страна, благодаря всему этому, не только быстро оправилась от стресса и выбралась из духовной пропасти, но и нашла в себе жизненные силы для мощного экономического рывка, который и получил название «экономическое чудо», — название, которого до этого не было.
Широка и география японских религиозных и философских заимствований. Появившийся в VI в. буддизм, представший позже в трансформированном виде как китайский «чань-буддизм» и японская модификация последнего — «дзен-буддизм», уже опирался на многие базовые положения даосизма и конфуцианства, достаточно мирно уживаясь с синтоизмом в Стране восходящего солнца. В последующее же столетие в Японии расцвела интеллектуальная культура, которая впитала не только наследие Китая, Индии и Кореи, но и — через них — Персии, Египта и Греции *. Те же процессы синтеза буддизма, конфуцианства, даосизма и других течений имели место в Китае, Корее и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии.
Не следует думать, что явление синкретизма было с самого начала гармоничным. Торжество синтеза — это результат многовековой борьбы и периодически охватывающих страны насилий. И именно то, что кристаллизация синкретизма произошла в межрелигиозных схватках, и что синтез был выстрадан, придало многоцветью религий и учений последующую прочность. Напомним, что нечто аналогичное произошло позже в Европе, и что там тоже народившийся в борьбе многосегментарный протестантизм дал сплав, обновивший Европу и сделавший ее планетарно-победоносной.
Азиаты же прошли дорогами страданий намного раньше, чем европейцы. Это дало мощные вспышки культурных революций и ценностных перемен. Причем после каждого очередного, подчас глубочайшего спада Восток снова и снова поднимался и расцветал, совершая, как правило, неожиданные и необычные развороты в своих трансформациях. И эта необычность, эта неожиданность имеет в качестве основы ценностное многоцветье, а значит, и синтез ценностей.
Напомним, что все великие империи древности, находящиеся за географическими пределами азиатского Востока, давно сошли с арены. С арены сошли Шумеро-Аккадская и Минойская цивилизация, древние Египет, Греция и Рим. Ведь страны с теми же названиями (Греция, Египет...), — не есть наследники своих древних предтеч. Восток же, особенно в лице Индии и Китая, не только в течение тысячелетий сохранился, но и переживает очередную молодость. И в основе этого долгожительства лежат ценности культур, способных взаимообогащаться, обновляться и диверсифицироваться, сохраняя и укрепляя при этом глубинную идентичность.
1 Елиссефф В., Елиссефф Д. Японская цивилизация. — Екатеринбург, 2005. — С. 47.
Сомнений нет, огромную роль в живучести цивилизаций Востока сыграло взаимодействие учений и верований. Легко предположить, что именно механизм взаимодействия выводит и выводил азиатские страны на новые рубежи успеха. Ведь трансформации в процессе таких взаимодействий — это всегда ответ на новые вызовы эпохи. Реакция же на них — это новые эффекты, полученные, как правило, за счет очередного ценностного противоборства, усиливающего роль одних и ослабляющего значимость других ценностных проявлений.
Доказательства подобных динамических и структурных перемен, втягивающих в свое русло верования и учения, мы обнаруживаем в прошлом стран азиатского Востока повсеместно.
Так, пришедший в Китай, Корею и Японию индийский по своему происхождению буддизм, отличающийся в своем первоначальном варианте пассивностью, созерцательностью и отрешенностью от земных страстей, трансформировался под воздействием, прежде всего, конфуцианства до неузнаваемости. Так, в Японии, как и в Китае, взаимодействие буддизма (в его северном варианте — Махаяны) с суровым, рациональным и высокоинтеллектуальным конфуцианством позволило его кардинально трансформировать. Это сопровождалось отсечением свойственной раннему буддизму отрешенности от чувств и желаний, т. е. всего, что несло печать пассивной созерцательности.
Согласно чань-(дзен)-буддизму, в противовес буддизму Индии, активный труд есть акт божественный (в чем и сказались этические принципы конфуцианства), а человек наделен безграничными способностями и должен быть готов к мужественным поступкам, а если нужно, и к самопожертвованию. От конфуцианства же идет освоение дзен-буддизмом пришедших из Китая управленческих установок и властно-иерархической логики. Через взаимодействие же с конфуцианством на буддизм накладывается исповеды-вание таких установок, как чувство долга, почитание семьи, ощущение родства со всеми предками, а также чувство солидарности со всеми соотечественниками.
Последнее, т. е. солидарность, есть результирующая составляющая всех перечисленных добродетелей. Именно солидарность, особенно в условиях энергетического подъема нации, является главной созидающей силой стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Азиатская солидарность — это уникальный феномен, определяющих характер протекания всех процессов в странах конфуцианского пояса. На его основе достигается созидательный эффект, который на других коммуникационных основаниях просто недостижим. Недостижим именно потому, что само существование и реализация этой солидарности подпитывается симбиозом ценностей стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
По закону обратной связи и конфуцианство испытало на себе воздействие буддизма. Так, буддизм, а в Японии — и синтоизм ', облагораживали
Синтоизм исповедует сострадание ко всему живому; он порицает убийство животных ради охотничьего куража и признает наличие души у всего живого.
суровый интеллектуализм конфуцианства, смягчали его экспансионистские проявления, нацеливали учение на гармонию с природой. Под этим же влиянием конфуцианство порицает жадность и чрезмерные, выходящие за этические рамки желания.
Далее, своим учением о перевоплощениях и карме буддизм усиливал нацеленность конфуцианства на совершенствование личности, поскольку придавал этому процессу божественный оттенок, что служит источником самоотдачи и самоотверженности. Именно в этом ракурсе, под влиянием других верований, конфуцианство трансформировалось в неоконфуцианство, которое, в свою очередь, соединило буддизм с даосизмом, что придало деяниям человека черты космизма, вселенский характер.
Фактор многобожия и сплетения различных учений особенно мощно влиял на развитие там, где имело место взаимоусиление через многоплановое взаимодополняющее взаимодействие составляющих — синергию.
Среди направлений, где этот эффект дал о себе знать повсеместно, и имел далеко идущие последствия, надо назвать, прежде всего, тягу азиатов к новым знаниям. Без преувеличения можно сказать, что это свойство азиатов — важнейший фактор экономического чуда. Особенно это относится к Японии, где и ранние (перв. пол. VII в., втор. пол. XIX в.) и современная модернизации — это в прямом смысле следствие восприимчивости этого народа к иноземным знаниям.
Уникальная склонность японцев к заимствованию и освоению чужого опыта зафиксирована уже в VI—VIII веках. Япония с жадностью перенимала у Китая не только религию и философские учения (даосизм, конфуцианство, буддизм), но и письменность, принципы государственности, отношение к частной собственности, искусство, принципы градостроительства и многое другое. Все это делалось даже с риском для жизни, поскольку «жажда знаний заставляла японцев еще в древности переплывать моря, жертвуя часто жизнью» *. Но заимствовалось не все, и, скажем, традиционные «ранги знатности» были сохранены.
Позже Запад стал источником японских заимствований, что особенно характерно для второй половины XIX в., когда осуществлялась реформа Мэйдзи, знаменовавшая начало индустриализации, конституционализма и парламентаризма. Но при этом, хотя иногда и с опозданием, в отношении западных ценностей срабатывал фильтр, а то и пересмотр того, что ранее было заимствовано.
Наряду с освоением чужих знаний, в Японии, как и в Китае, всегда активно наращивались и свои знания, в том числе философские, к которым активно приобщались (что есть явление редчайшее) широкие народные массы. В стране уже в те времена существовал культ образования, и не только среди «верхов». Так, в Японии в эпоху Мэйдзи (поел, треть XIX в.) охваченность детей школами уже составляла 95 % 1 2.
1 Елиссефф В., ЕлиссеффД. Японская цивилизация. — Екатеринбург, 2005. — С. 231.
2 Там же. — С. 226.
Намного позже, во второй половине XX в., Япония тоже удивляла мир способностью заимствования и продуктивного освоения чужих знаний. Ведь помнится, что даже советский журнал «Техника молодежи» был не только предметом тщательного изучения, но и объектом заимствования, — чем пренебрегал тогдашний Советский Союз.
Успеху образования всегда содействовало, и не только в Японии, не просто уважение, но и преклонение перед учителем.
Известно, что успехи в экономике вернее достигались в условиях высокой нравственности; а также то, что вернейшим залогом экономического рывка являлся и является аскетизм. «Самые преуспевающие капиталистические общества, — пишет Ф. Фукуяма, — поднялись наверх, потому что у них нашлась трудовая этика, ... которая велит людям жить аскетически и загонять себя до ранней смерти, поскольку труд — сам по себе награда» *.
Мы знаем, что для Запада времена, когда аскетизм в виде протестантской этики определял подъем экономики, остались позади. Ажиотажное потребительство размыло былые ценности. У нас же подобное вообще неприемлемо.
Иную ситуацию переживает азиатский Восток, демонстрирующий прочность цивилизационных ценностей, оберегающих трудовую этику, а с ней и эффективность на основе если не аскетизма, то, во всяком случае, потребительской умеренности.
Характерно, что прочность таких устоев, как в ряде других случаев, обеспечивается не каким-то одним ценностным фактором, а как правило, их совокупностью.
Самое сильное и географически диверсифицированное влияние на труд и потребление оказывает в этом направлении, конечно же, конфуцианство, которое пронизывает жизнь азиатских народов, и в котором изначально заложено то суровое, то относительно мягкое азиатское «пуританство».
Но вместе с тем определенные нюансы к ценностям труда и потребительского поведения добавляют в восточно-азиатском регионе те или иные варианты буддизма, и, отчасти, даосизм; а в Японии — еще и синтоизм.
Сила влияния конфуцианства в этом контексте определяется многогранностью воздействия на любой поведенческий стереотип, в том числе и потребительский. Конфуцианство, особенно в варианте неоконфуцианства, покоряет искренностью, прославлением культа умеренности и верности нравственным постулатам и принципам. Здесь же примешивается связь поведения индивида с добродетелями, свойственными конфуцианской трактовке правления. Власть, согласно конфуцианству, должна опираться на принципы добродетельности и справедливости, на «жень» (гуманность) и «ли» (традиционную, общепризнанную и узаконенную систему правил поведения, ритуалов), что в свою очередь формирует представление о важности этической стороны потребительской сдержанности самой власти. В конечном счете конфуцианство (вернее, неоконфуцианство) фокусирует в
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М., 2004. — С. 348—349.
каждом поведенческом узле как этические, так и духовные и практические подходы, сдерживающие ажиотажное потребление.
Буддизм же содействует «пуританству» через саму религию — посредством осознания важности сдержанности и взвешенности желаний, а также через убежденность в пагубности излишеств, как и отвергнутой Гаутамой Буддой практики умерщвления плоти (доктрина «Срединного пути»). Все это обеспечивается учением о перевоплощениях через цепь возрождений во имя самосовершенствования с конечным обретением спасения и блаженства — нирваны. Ведь согласно буддизму, жизнь важно прожить, непрерывно совершенствуясь, прежде всего — нравственно.
Конечно, сам буддизм разнообразен, и к скромности и сдержанности он призывает по-разному. Так, в Индии «распространено убеждение, что будущее... состояние человека... определяется его последним желанием в минуту смерти. Но это последнее желание... зависит от того, какую форму человек придавал своим желаниям и страстям... в течение прожитой им жизни. Именно по этой причине, чтоб наше последнее желание не оказалось неблагоприятным... мы должны... сдерживать страсти и желания на протяжении всего нашего земного жизненного пути»
В Японии буддизм, образуя синтез с даосизмом, казалось бы, ориентирует на радости жизни, и почитание свободы. Но как и ментальность других азиатских стран Востока, японская ментальность даже в условиях высокого благополучия чужда излишествам и враждебна пышности нуворишей.
Немалую роль в негативном восприятии жадности и неуемных желаний играет в Японии синтоизм — он побуждает жить в гармонии с природой, с ее ритмами, что само по себе несовместимо с излишествами. К тому же другое учение — даосизм — порождает ощущения космизма, что тоже предотвращает склонность к мелкой бытовой распущенности. К этому всему можно добавить, что распространенный в Японии дзен-буддизм в свою очередь культивирует строгий порядок и сдержанность. В итоге такие добродетели, как скромность и простота, а также сдержанность, оказываются органично вплетенными в японскую культуру 1 2.
«Пуританство», культивируемое религиями и почитаемой в народе восточной мудростью, с практической стороны особенно важно на этапе первичного рывка к вершинам высокоразвитости. Притом особое значение именно на этом этапе приобретает нравственность элиты, в том числе в контексте ее потребительской умеренности. На примере ситуации в Украине, сложившейся за последние полтора десятилетия, мы убедились, что именно бытовая пресыщенность нуворишей, ставших нашей «элитой», оказала разрушающее воздействие на этику труда и потребления когда-то трудолюбивого народа.
1 Письма Махатм. Чаша Востока. Лигатма. — Рига—Москва—Минск, 1995. — С. 198-199.
2
Даже такое чувство, как жалость к животным, доходящее до запретов их убивать и создания приютов для больных лошадей и собак, неизбежно выступает фактором если не пуританства, то потребительской сдержанности.
Возвращаясь же к странам Востока, мы можем наблюдать обратное. Именно образцово-показательное поведение элиты, в том числе по части потребительской сдержанности, стало здесь одной из предпосылок экономического чуда. В каждой из стран, будь то Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур или континентальный Китай, фактор аскетизма народа в целом имел, особенно на старте, решающее значение. Особый интерес в этом отношении в силу своей уникальности вызывает ситуация в Японии, где на старте развития, с самого начала упоминавшейся эпохи Мэйдзи, большое значение имело наличие в составе элиты самураев. Важно, что в этом случае в концентрированном и даже рафинированном виде личность была сформирована ценностным синтезом конфуцианства, буддизма и даосизма на основании средневекового «рыцарского» кодекса чести — бусидо. В лице самурая представал образ не только самоотверженного воина, но и высокообразованного человека, носителя буддистских добродетелей, даосийского космизма и конфуцианской мудрости, всецело посвящающего себя долгу.
Характерной общей чертой для стран Восточной и Юго-Восточной Азии, отражающей многие грани древних учений и верований, является культ государства. Государство, в отличие от либерального Запада, этими народами воспринимается не в образе духа гоббсовского Левиафана, даже не как «необходимое зло» мыслителей эпохи Просвещения, а как высшая и непреходящая ценность. Показательно и то, что государственность имеет в этом регионе давние традиции. Довольно зрелая и институционально обустроенная государственность имелась еще в древние времена не только в Китае, где она с V в. до н. э. подпитывалась конфуцианством, но и в других странах. В Японии, например, с начала, тем более с реформ Тайка середины VII в. уже действовала Конституция, которая воплощала и политические, и административные идеалы того времени *. Эта Конституция была разработана с учетом достижений конфуцианской китайской государственности и выражала религиозные идеалы Северного буддизма, так что документ этот заложил и духовные основания японской державности, что выражалось в самоотверженном отношении к выполнению чиновниками и военными своих обязанностей и придавало их служению сакральный смысл.
Религиозные чувства в Японии существенно усиливались и обретали признаки космизма и на почве отношения народа к императору. Император (потомок возглавлявшей синтоистский пантеон солнечной богини Аматерасу) всегда считался посланцем богов. И в этом смысле он был и остается выразителем принципа глубоко укорененного в ментальности японцев тео-космизма, посредником между богами и людьми, защитником народа, безупречным выразителем нравственных идеалов, духа нации. Естественно, что с императором связаны истоки почитания в Японии государ
1 В свете этих фактов ясна цена распространенных в Украине сведений о том, что первой была украинская конституция П. Орлика. Кстати, и в Европе действующие Конституции (например, в Швейцарии, Венеции и пр.) возникли задолго до нереализованного проекта П. Орлика.
ственности *. Конечно, те различия в идеологии государственности Японии и Китая, которые обозначились в древности, во многом до сих пор определяют специфику социальных ориентиров и иерархии ценностей этих двух стран. Так, если в Китае государство делает акцент на справедливости, то в государственности Японии вера предпочтительней, чем справедливость и мудрость.
Общим же для Китая и Японии, а также и других стран азиатского Востока были не только прочность самой идеи государственности, но и наличие высокопрофессиональных чиновников, отвечавших высоким нравственным критериям. Напомним, что центральным пунктом неоконфуцианской идеологии было «единство искусства управления государством и моральности» * 2, определяемое этическими принципами учения Конфуция.
С в глубокой древности решалась в этих странах и проблема соблюдения законности. В Китае (прежде всего в царстве Цинь на западе страны) в VI—IV вв. до н. э. сформировалась школа легизма, идеи которой определяли не только государственно-правовую практику Китая, но и — позже — государственность Японии и других стран Азии. Так, самураи овладевали легиз-мом с целью контроля за соблюдением законности.
Как видим, и в случае формирования государственности срабатывал ценностный синтез религий и учений. Причем там, где он состоялся в большей степени, это обеспечивало в дальнейшем реформаторскую продвинутость страны. В частности, об этом свидетельствовали уже ранние (поел, трети XIX в.) модернизаторские реформы в Японии — реформы Мэйдзи. И в данном случае, наряду с интеллектуальным потенциалом конфуцианства (что явилось главным источником модернизации), давал о себе знать и облагораживающий власть буддизм, и почитающий природу синтоизм. Так, в Японии всегда считалось, что лучше всего управлять народом посредством заботливого и доброго к нему отношения. И в условиях радикальных реформаторских перемен, имевших место с конца 60-х гг. XIX в., правительство в своих обращениях к народу делало акцент на традиционных нравственных ценностях.
Мощь реформаторского потенциала народов Восточной и Юго-Восточной Азии определялась и учением Дао. Мудрость этого учения лежит в основе стремления выходить за узкие пределы текущего момента, что побуждает подчинять свои устремления будущему. «Человек достигает самореализации, — читаем мы в предисловии к книге «Великие мыслители Востока», — если действует в соответствии с Дао»3. И еще об этом же: «... мыслящая жизнь не может устойчиво функционировать и развиваться, если только над ней не высвечивается высший полюс притяжения и постоянства» 4.
Конечно, богоподобие императора наводило и на мысли о богоподобии нации, о ее исключительности. Периодически на этой почве маятник давал кач в сторону мессианства и настроя на мировую экспансию. А в этих случаях традиционная вежливость и мягкость, сентиментальность и гуманизм сменялись ужасающей жестокостью, о чем свидетельствовала, например, нанкинская трагедия.
2 См.: Великие мыслители Востока. — М., 1999. — С. 469.
3 Там же. — С. 6.
4 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1987. — С. 30.
Ныне впечатляющую опору на цивилизационные ценности демонстрирует наиболее отчетливо Китай, поэтому его опыт наиболее поучителен. Важен этот опыт и потому, что на каждом новом витке общепланетарного развития феноменальный успех Китая, выделяющийся на общем фоне, во-первых, демонстрирует попадание страны «в десятку» по критериям реакции на вызовы эпохи, а во-вторых, свидетельствует о сохранении народом уникальных цивилизационных ценностей, обеспечивающих успех. Здесь как бы подтверждается тот факт, что если спад и деградация той или иной экономики есть свертывание и затухание ценностей, то взлет страны свидетельствует об их полноценном возрождении.
Проявление цивилизационных ценностей и поведенческих стереотипов через экономическую практику
Не вызывает сомнений, что Китай нынешний и Китай периода бесчинств «культурной революции» совершенно различны. Реформы Дэн Сяопина возродили былое величие Китая и дали импульс его дальнейшему динамичному развитию. Но было бы упрощением считать, что фактором успеха послужили лишь экономические трансформации. Главной составляющей реформ, по сути, было реформирование духа и поведенческого стереотипа, а значит, накопление социального капитала, основанное на возрождении конфуцианских ценностей.
Обычно при оценке реформ Дэн Сяопина в центр внимания в качестве ключевого попадает его выражение: «Мне все равно, какая кошка, — черная, или белая, — лишь бы она ловила мышей». Трактуется это так, что источником успеха была замена тоталитаризма экономической свободой — т. е. рыночной экономикой.
В целом это верно; однако в подобном упрощении утеряно самое главное, а именно — цивилизационная специфика китайских реформ. А специфика эта, отражающая аспект конфуцианских ценностей, пронизывала буквально все стороны экономической реформы.
Начнем с того, что по-конфуциански специфичной была сама концепция реформ. Реформы эти нацелены были во многом на использование чужого, т. е. иностранного опыта. Однако, в отличие, к примеру, от Украины, это не было слепым калькированием, не сопровождалось речитативом «не надо изобретать свой велосипед». В подходе, реализуемом в Китае, во всей полноте проявилась конфуцианская специфика, согласно которой, с одной стороны, имело место настороженное и избирательное отношение ко всему чужому, а с другой — осуществлялась «переработка» этого заимствованного, изменявшая это чужое до неузнаваемости.
В ходе заимствования чужого опыта в Китае на всем протяжении реформ срабатывала упомянутая ранее своеобразная виртуальная «решетка», которая пропускала ценное и выбраковывала неприемлемое и неэффективное. И речь идет в этом случае не о какой-то структуре, наделенной подобными функциями, а о подходе, apriori заложенном в тысячелетних традициях конфуцианства.
Так, в отличие от происходящего у нас, реформы Дэн Сяопина проходили под знаком спасительной постепенности и преемственности. В Украине, как и в России, вопреки фундаментальным постулатам западной же теории, постепенность в переходе к рынку была заменена (с коварной подачи того же Запада) взрывным и разрушительным шоком. Субъекты бизнеса в 90-е гг. формировались зачастую из криминальных элементов; регулятивный вакуум, возникший в результате ликвидации плановой системы, ничем не компенсировался. Итоги всего этого известны: глубочайший спад, технологическая и профессиональная деградация, социальные конфликты и полураспад страны. В Китае, в отличие от этого, все рыночно ориентированные перемены буквально «подпирались» и подстраховывались предреформенны-ми (т. е. переходными и амортизирующими) регуляторами и стимулами. Причем старое, т. е. уходящее, при необходимости (в целях адаптивности к новому и перспективному) существенно модернизировалось. Примеров всего этого не счесть. Тут и тщательный отбор и подготовка на старте реформ будущих субъектов бизнеса; и поэтапный ввод экономики в рынок через распространение опыта свободных экономических зон; и регулирование нарождающихся рыночных процессов через компартийные рычаги, доходящие до низовых производственно-трудовых структур, и многое другое.
Уникальными, в том числе и по своей успешности, были реформаторские меры, основанные на выборе «третьего пути». Кроме указанных ранее примеров, следует упомянуть и широкое использование еще во времена Мао т. н. «полусоциалистических» форм, или же реализацию крупнейших международных проектов за пределами страны посредством синтеза частных и государственных подходов.
И, конечно же, особого внимания заслуживают методы подбора и подготовки высококлассных чиновников, полностью осуществляемые по принципам конфуцианства. Известно ведь, что Конфуций, странствуя по княжествам, не только проповедовал культ чиновничества, но и выработал применительно к этой сфере высококлассную систему мер, от экзаменов до набора ритуалов И именно благодаря этим традициям, т. е. глубоко вошедшему в сознание народа культу чиновничества, в Китае невозможны (как в Украине) сатраповские меры, «сдувающие» с должностей за считанные дни десятки тысяч чиновников, с заменой их наспех набранными случайными и неподготовленными, но зато «своими» людьми.
Разумеется, повышенные требования к чиновничеству существенно сказываются на эффективности власти, и, прежде всего, высших лиц государства. В Китае, благодаря особой среде, страну не может возглавлять недоросль или проходимец. Народ интуитивно идет лишь за мудрым государем. Само же выдвижение — это весьма тщательная, многократно выверенная, невидимая для непосвященных безошибочная селекция.
На глубинных традиционных мировоззренческих посылках выстраиваются и корпоративные стратегии. При этом управленческие принципы,
То, что в Китае чиновник периодически (а не только вначале) сдавал экзамены, вызвало у Вольтера восторг.
уходящие корнями в древность, китайцам не кажутся анахронизмом. Одна из основ организации отношений в корпорации — конфуцианская этика — работает там безотказно. И то, что у нас однозначно является злом, — социальная среда в виде разветвленной сети доверительных связей, — там оказывается этичным и эффективным.
Конечно, все это не означает, что китайцы с покорностью воспринимают все происходящее. Китай — светское государство; народ в нем адекватно, подчас бурно реагирует на социальные проблемы и противоречия. Реформы, продуцирующие перемены, во многих отношениях болезненны. Растет, — и это неизбежно в условиях расширения рынка, — разрыв в доходах между богатыми и бедными, что вызывает недовольство ’. Все более остро воспринимается народом, по мере роста благополучия и образованности, недостаточность политических свобод. Существуют и внешние угрозы успешному и стабильному развитию Китая. Дают о себе знать весьма остро демографические проблемы и т. д. Однако повторяющиеся вот уже двадцать лет пророчества вроде того, что политическому режиму не суждено продержаться более то трех, то пяти лет, а также уверения, что власть не справится с задачей поддержания высоких темпов экономического развития, — уже, похоже, признаны несостоявшимися. Так же, впрочем, как и представления, что устойчивый рост не может быть продолжительным при отсутствии демократии западного образна.
Успехи, достигнутые Китаем, симптоматичны и в том отношении, что они демонстрируют неизбежность пересмотра западной доктрины о либерально-капиталистической модели развития как единственно победоносной и правильной. Сами по себе успехи, достигнутые в свое время Японией, а также «тиграми и драконами» Восточной и Юго-Восточной Азии, пошатнули догму об окончательной победе в глобальном масштабе западного либерализма. Уже тогда становилось понятно, что безальтернативность идеологии и практики евроатлантизма сомнительна.
Однако мировой финансовый кризис, прервавший победоносное шествие успешных восточных стран, а до этого — крах СССР, позволили Западу продолжить навязывание миру своей модели как якобы единственно успешной и приемлемой. И хотя свидетельства разрушительного воздействия западной модели на жизнь, и даже на само существование планеты становились все более отчетливыми, информационные западные технологии делали свое дело. И лишь мощнейший рывок, осуществляемый Китаем, дал убедительные доказательства приоритетной важности многообразия моделей экономического и общественного развития. Мир получил доказательства не только успешности иных (незападных) моделей, но и важности развития согласно собственному выбору, отвечающему цивилизационной специфике. Так что Китай, по сути, положил конец западной, необольшевистской по своей природе, идеологической нетерпимости. И тем самым открыл дорогу свободе в выборе форм, адекватных представлениям о смысле жизни разных народов и стран.
1 Власть на это реагирует и принимает меры, позволяющие сдерживать дифференциацию. Сдерживать именно в сфере потребления, т. е. образа жизни, что сочетается с содействием со стороны власти накоплению капитала.
Наряду с Китаем, огромный вклад в осознание вредоносности западных рекомендаций на ранних этапах перехода от тоталитаризма к рынку внесла Япония. Япония была первой страной, отвергнувшей западные (идущие, в основном, через МВФ и прямые требования США) рекомендации не через конфликт, а «по-восточному» — путем обманного маневра, прикрываемого притворной вежливостью и поддакиваниями. Причем дело было поставлено так, что ошеломляющий эффект, полученный Японией, заставил Запад (прежде всего США) не только восхищаться самобытными реформаторскими достижениями этой страны, но и пытаться их перенимать. Мода на японское реформаторство в Америке стала самой убедительной демонстрацией порочности тех западных рекомендаций, которые позже без раздумий восприняли и Украина, и Россия, из-за которых экономическое пространство бывшего СССР рухнуло *.
Нужно сказать, что позже, спохватившись, американцы задним числом предприняли попытку очернить японскую реформаторскую практику. С этой целью в Японию была даже послана солидная группа экспертов во главе с небезызвестным Майклом Портером. Однако было поздно — весь рационально мыслящий незападный мир (кроме нас!) осознал важность избирательного (а не бездумного) подхода к западным рекомендациям.
Японская модель, обеспечившая успех экономического чуда, имеет, как отмечалось, черты, которые наследовали другие страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Многие из них доступны лишь азиатским странам, да и то не всем. Однако, будучи моделью экономики переходной и посттоталитарной (какой являлась японская экономика), японская модель именно в этом контексте может быть в чем-то приемлема для Украины как страны переходного и постготалитарного типа .
Среди черт японского реформаторства, полезных для нас, надо указать прежде всего на способность Японии радикально менять акценты экономической политики в соответствии с переменами в экономике и социальной сфере.
Известно, что Америка и ее клевреты (МВФ, ВТО) в этом отношении догматичны; они рекомендуют (обеспечивая рекомендации деньгами!) уже на старте реформ, а также и в дальнейшем проводить политику, свойственную зрелым либерально-демократическим экономикам западного типа. Так, предлагается сразу же, без промедления (отсюда т. н. шоковая терапия) свести на нет роль государства (вспомним В. Пинзеника: «Чим менше держави, тим краще»); всецело полагаться на еще не состоявшийся, лишь зарождающийся рынок (снова лозунг: «ринок сам все розставить»); максимально открыть границы и т. д.
Понятно, что догматизм, исходящий от Запада, и склонность Запада к универсализму в реформаторской рецептуре, — это в нашем и российском случаях лишь прикрытие для успешного завершения холодной войны. Ведь
1 Ключевые слова здесь — «без раздумий», ибо именно в подобной склонности к необдуманному копированию кроются причины всех наших реформаторских бед.
2 Имеется в виду, что она мало в чем была бы приемлема для Чехии, Польши и других постсоциалистических стран, где (в отличие от нас) имели место традиции рынка и демократии.
все эти «универсальные» подходы не могли не привести к демонтажу индустриального каркаса, в рамках которого велик был удельный вес опасного для США военно-промышленного комплекса. Зная все это (об этом писалось!) руководство России и Украины, подбадриваемое немалыми кредитами «для демократии» (а на самом деле — для подкупа новой власти), безоговорочно сдалось на милость победителя, пожертвовав своими странами. И народ — особенно народ Украины — с восторгом воспринял это, во многом благодаря зомбирующим технологиям, оплачиваемым Америкой.
Япония, как известно, тоже была побежденной страной. И чисто внешне реформа проводилась под контролем военной американской администрации. Но это не помешало японцам реализовать успешную политику реформ, в корне противоречащую американским догматам. Впрочем не исключено, что США просто закрывали глаза на антилиберальное отступничество, поскольку Западу в условиях Холодной войны с СССР нужна была успешная Япония.
Итак, один из наиболее приемлемых (в том числе и для нас) реформаторских подходов, демонстрирующих успех японского реформаторства, — это гибкость и изменчивость экономической политики в высокодинамичной переходной экономике. Причем изменчивость в этом случае — отнюдь не слепое следование политики за переменами в экономике и социальной сфере, а ответная реакция государства на предшествующее «подталкивание» этих перемен.
Главное, что нужно учесть в восприятии фактора гибкости японской политики реформ — это подчиненность перемен в политике процессу модернизации. То есть перемены в экономической и социальной политике должны (согласно японской реформаторской модели) отражать прежде всего успехи, достигнутые в ходе модернизации.
Конечно, в Японии и на ранних стадиях модернизации понимали, что внешнеэкономическая открытость, либерализация потоков капитала и соответствующих процедур, дерегулирование финансов и смягчение государственного контроля дают мощный импульс нарастанию конкурентоспособности. Однако все это поначалу откладывалось до лучших времен, поскольку было понимание пагубности этих мер в слабой экономике, не дозревшей до высокой конкурентоспособности.
Поэтому на старте модернизации, в условиях неразвитости экономики и рынка, когда рыночные силы еще не могли полноценно справиться с регулятивной функцией, власти Японии предпочитали открытости закрытость, а либеральной практике — поддержку государством важных сегментов экономики. Поэтому в стране проводилась глубоко диверсифицированная селективная (патерналистская) политика.
Естественно, в этих условиях существенно возрастают контрольная и регулятивная функции государства. На государство возлагаются, наряду с универсальными ’, также и «переходные» функции. Причем в особеннос-
1 К числу универсальных, т. е. важных для всех этапов реформирования, относятся: обеспечение социальных гарантий, монетарной и иной стабильности, реализация механизма индикативного планирования, упорядочение отношений собственности, участие в создании инфраструктуры, а также поддержание других сфер, где рынок оказывается «провальным».
ти те, которые связаны с модернизацией, от которой мы преступно открестились.
Временной, но очень важной для переходного периода является, как показал опыт Японии, функция селективная. Именно Япония продемонстрировала, что на основе лишь универсальных подходов на ранней стадии становления рынка решить проблемы модернизации невозможно. Селективные, т. е. избирательные, подходы выступают в этой фазе как доминирующие. Инструменты селективности — это и налоги, и квоты, и эксклюзивность дешевого кредитования, и использование субсидий для поддержки прорывных сегментов, и многое другое. Разумеется, селективность, наряду с внутренней промышленной политикой, распространялась и на политику внешнеэкономическую. Происходило это то ли в виде избирательных поощрений притока импорта, необходимого для ускоренной модернизации, то ли в варианте ограничений, накладываемых на импортные потоки готовой продукции, то ли как поощрение экспорта и т. д.
Отмеченное обстоятельство — поощрение инновационного импорта и сдерживание ввоза готовой продукции — есть свидетельство нацеленности Японии еще на старте переходного периода на модернизацию. Однако этот селективный прием — лишь один из многих.
Поучительно именно для нас, что замещение селективных механизмов универсальными приемами происходило лишь по мере приближения уровня экономики страны к уровню экономик высокоразвитых стран Запада. Соответственно по мере этого существенно сужалось пространство прямого вмешательства государства в экономику; на смену закрытости (хотя и медленно) приходила внешнеэкономическая открытость; имело место дерегулирование потоков капитала и либерализация рынков, в том числе финансовых.
Осуществление такого поворота от селективности к универсализму говорит о многом. И о том, что защита на раннем этапе необходима, и о том, что тепличные условия, оберегающие до поры до времени хрупкие ростки инноваций от конкуренции, осознавались в дальнейшем как опасные, т. е. ведущие, в условиях отсутствия конкуренции, к деградации.
Такое понимание развертывающихся в переходной экономике процессов должно было быть и у нас, и в России. Тем более, что к моменту обретения Украиной и Россией суверенитета имелся не только японский, но и — в широком смысле — азиатский прорывной опыт. Однако нам не удалось ни защитить на старте уязвимые, но важные сегменты экономики, ни провести модернизацию, обеспечившую стране конкурентоспособность. Япония же, первой вступившая на этот путь, и лишенная возможности идти по проложенной лыжне, не только построила впервые в истории уникальную (для посттоталитарных экономик) модернизаторскую модель, но и создала в ходе ее реализации экономическое чудо. Ведь успех, достигнутый Японией, превратившейся во вторую (после США) страну мира по мощи и высокоразвитое™ — это следствие не только (и не столько!) верно выбранной стратегии. Как сама стратегия, так и, тем более, ее ошеломляющий успех — это результат ренессанса и реализации уникального ценностного потенциала, испытанного тысячелетиями.
Первое, что приходится признать в случае Японии — это закладываемая веками государственность, исповедуемая народом в качестве высшей, даже космической ценности, оказавшейся столь эффективной и адаптивной к меняющейся ситуации.
Напомним, что государство в странах конфуцианского пояса — это чтимая народом институция, неотделимая от культа порядка и уважения к чиновничеству. Чиновничество же — это тщательно и строго (без блата и подкупа, как у нас) отобранные люди, пользующиеся доверием, знающие свое дело и мотивированные на успех. Показательны в этом отношении впечатления, которые вынес из посещений Японии и Китая легендарный премьер Сингапура Ли Куан Ю, любимец американцев, известный, кстати, своими проамериканскими настроениями. Вот выражения, которыми он характеризовал японскую элиту: «Университеты отбирали лучших из лучших, и развивали способности этих людей. По своему уровню представители этой элиты не уступали никому в мире» *.
Примерно те же характеристики дает Ли Куан Ю управленческой элите Китая. Он пишет: «Общий уровень китайских руководителей впечатляет. Они обладают глубоким аналитическим умом и быстро соображают. Та тонкость, с которой они выражают свои мысли, показывает остроту их ума. Провинциальные руководители тоже являются руководителями высокого класса. Толстая прослойка талантливых людей впечатляет» 1 2.
Интерес, особенно для нас, представляет сама технология отбора кадров, уходящая, как отмечалось, во тьму веков. «Талантливых молодых людей подбирает отдел кадров КПК, — не правительство. На каждого имеется персональное дело, начиная с табеля и характеристики учителя. Каждая ступень карьеры сопровождается отчетами руководителей и коллег. Перед каждым новым назначением кандидаты проходят аттестацию. Ядро высших кадров, — 10 000 человек, которые тщательно отобраны КПК. Специальная инспекция периодически удостоверяется, что оценки верны» 3.
Но дело не сводится к выдающимся качествам элиты, прежде всего, чиновничества. Чудо не могло бы состояться, если бы элиту не подпитывал энтузиазм народа, заряженного на успех. Для иллюстрации продолжим в этом контексте ссылки на рассуждения Ли Куан Ю. «Японское экономическое чудо, — пишет он в «Сингапурской истории», — не было результатом лишь усилий людей «наверху». Все японцы были полны решимости показать, на что они способны, и каждый человек на любом уровне старался достичь совершенства. Гордость своей работой и желание превзойти других в своей профессии позволяет добиваться высокой производительности труда и почти нулевого брака. Они считают себя особым народом; и этот миф о принадлежности к избранному народу делает японцев огромной силой на любом уровне, — будь то нация, корпорация или бригада» 4.
1 Ли Куан Ю. Сингапурская история. — М., 2005. — С. 495.
2 Там же. — С. 592.
3 Там же. - С. 592-593.
4 Там же. — С. 593.
Как видим, в один узел, благодаря общему энергетическому подъему, здесь связаны такие ценности, как космизм, конфуцианское почитание государства, избранность и качество управляющей элиты и традиционная для азиатов трудовая этика. Последняя тоже уходит корнями в древность, еще в т. н. рисовую культуру. Да и сейчас, в условиях нивелирования труда, эта специфика трудовой этики у японцев сохраняется. Приведем показательные в этом отношении выводы американских экспертов, анализирующих специфику Японии. «В 1970—80-х годах, — пишут они в своем исследовании, — Япония была признана самой конкурентоспособной страной мира. Объяснений два: это особая форма бюрократического капитализма... и особый подход к менеджменту, — всеобщее качество, постоянное совершенствование, система «точно и вовремя» *.
Качество труда и его результатов, демонстрируемые Японией, не свелись лишь к успехам внутри страны. Япония уже в наше время, благодаря высокой результативности труда по критериям его качества, а также совершенству всей системы, по сути дважды сломала устойчивые мировые стереотипы, касающиеся конкуренции: во-первых, она положила начало конкуренции по качеству продукции, изменив таким образом характер конкуренции в масштабе планеты; во-вторых, она одновременно выиграла в планетарном же масштабе конкуренцию экономических систем.
Важнейшим фактором достижения экономического успеха в странах Восточной и Юго-Восточной Азии выступает солидаризм. Чувство солидарности традиционно является в азиатских странах всепроникающим, и тут нет ничего нового. Но в данном случае важно отметить качественно новые феномены, основанные на солидарности и внесшие свой уникальный вклад в экономическое чудо, в первую очередь — соединение силы рынка и силы государства.
Конечно, сейчас фактом взаимодействия рынка и государства никого не удивишь. Однако Япония, во-первых, была и здесь пионером. А во-вторых — взаимодействие рынка и государства оказалось в японском варианте настолько совершенным и диверсифицированным, а главное, настолько успешным, что этот пример и ныне остается поучительным. Известно ведь, что первое время японское чудо так и называлось: «чудо соединения рынка и государства», где рынок был мотором, а государство — рулевой системой. Солидарность же к этому процессу мы привязываем потому, что без нее сам феномен столь успешного взаимодействия этих двух сил был бы невозможен. Известно ведь, что государство для рынка является чем-то вроде пугала; и в идеале (с позиций понимания западных стран) роль государства должна сводиться лишь к выстраиванию правил рыночной игры. А все, что выходит за эти пределы, обычно считается по меньшей мере нежелательным, или вынужденным.
В Японии же, благодаря сплоченности верхов и низов, правительство рискнуло замахнуться «на святое» — на вызов либеральной природе капитализма; и одержало победу. Целью было такое «пришпоривание» развития
1 Портер М. и др. Японская экономическая модель. — М., 2005. — С. 15.
капитализма, которое бы позволило «скачком» догнать, а то и перегнать высокоразвитый западный мир.
Такой замысел сам по себе говорит об очень многом. И прежде всего — о том, что элита существует в этой стране для народа; а смелость подобного замысла, сама возможность его появления свидетельствуют о вере народа в свою исключительность. А вера эта — итог многовековой «выработки» традиций, пропитанных солидаризмом, космизмом и тягой к новому и совершенному.
Самим по себе амбициозным стремлением к ускоренной модернизации Япония сделала заявку не только на силу государства, но и на его реформаторскую изобретательность, поддерживая тем самым традицию, сложившуюся в эпоху Мэйдзи.
Согласимся, что элита, замыслившая такой проект, существенно рисковала. Ведь сама по себе модернизация, означавшая концентрацию усилий на будущем в ущерб настоящему, — обрекала народ на многолетние жертвы и лишения, на тотальную экономию и дискомфорт. И надежда здесь возлагалась, сно-ва-таки, на традиции, а именно — на неоднократно демонстрируемую народом готовность к аскезе и «пуританству» во имя лучшего будущего страны.
В реформе, осуществляемой в послевоенные годы в Японии, приоритетное значение с первых же шагов придавалось воздействиям на рынок со стороны государства. Воздействия эти (поскольку целью сразу же была модернизация) заключали два реформаторских подхода: во-первых, задачу формирования отсутствующего ранее рынка и, во-вторых, решение проблем модернизации.
Подходы эти, заведомо малосовместимые, в переходных и транзитивных экономиках обычно решались последовательно, а не параллельно. Заметим, что параллельно они могли бы реализоваться у нас и в России, поскольку высокотехнологичность этих стран была вполне состоявшейся еще в дорыночной ситуации. Но мы этим пренебрегли, проделав тем самым транзит, обратный желаемому — от высокого к низкому.
Япония же с первых шагов встала и на рельсы перехода к эффективному рынку, и на путь модернизации, взвалив, таким образом, на государство сразу две такие ноши, которые, по правилам, должны были бы осваиваться одна за другой. Получилось, что эта страна, едва расставшись со своим авторитарно-феодальным прошлым, сразу же замахнулась и на соперничество с высокоразвитым Западом по признакам технологического модерна.
Конечно, управление экономикой в Японии могло бы существенно упроститься, если бы роль государства сводилась на раннем этапе к скромной задаче поддержки национального бизнеса и либерализации рынка. Такая задача, благодаря силе государства, решалась в стране легко и ускоренно *.
1 В Японии поддержка бизнеса уже на старте была показательной и многогранной; она проявлялась и в искусстве монетарно-курсового маневрирования; и в эффективной защите национального рынка от внешнеэкономической экспансии; и в участии государства совместно с бизнесом в долгосрочных проектах; и в стимулировании инвестиционной активности; и в кредитовании бизнес-структур через государственные банки; и в поддержке национальных компаний на мировой арене; и в сигналах, посылаемых бизнесу (через индикативное планирование) о желательных сегментах вложения капитала; и во многом другом.
Но в том-то и дело, что к этому традиционному государственному регулированию в Японии дело не сводилось, ведь целью была еще и модернизация. А на этом направлении у переходной, незрелой японской экономики отсутствовали высокоразвитые регуляторные механизмы, нужные для модернизации.
Известно, что рынок, взятый сам по себе, в сфере научно-технологического прогресса в переходных экономиках оказывается провальным, поскольку капитал, вложенный в эти сферы, лишен мотивации быстрой прибыли. Ведь вложения средств в технологически неразвитых обществах окупается не сразу, в лучшем случае лишь через несколько лет. Это в высокоразвитых обществах модернизация и мотивирована, и регулируема, поскольку, во-первых, на новые затраты здесь накладываются доходы от прежних вложений; а во-вторых, имеются сложнейшие системы (а именно — фондовый рынок, т. н. длинные деньги, научно-технологические сегменты в крупных ТНК, обильные бюджеты, подпитывающие мощную систему госзаказов и госконтрактов и т. д.), успешно регулирующие технологический прогресс.
Понятно, что в стране, едва вступившей на путь рыночных трансформаций, система, мотивирующая научно-технический прогресс с его рисками, неопределенностью и отдаленной отдачей, не может быть ни самодостаточной, ни жизнеспособной. Что же касается финансовой поддержки государства, то она, коль речь идет об инновациях, даже в странах высокоразвитых может лишь отчасти компенсировать общий мотивационный вакуум. Япония же, принимаясь за модернизацию, заведомо располагала лишь очень ограниченными собственными возможностями, как финансовыми, так и инструментальными.
И все же, несмотря на призрачные (как казалось) шансы на раннюю модернизацию, Япония успешно совместила этап перехода к рынку с набирающим скорость и масштаб технологическим рывком. И в этом как раз состояло экономическое чудо. Истоки же этой грани японского чуда — не в помощи Америки (хотя она была), и не в запасах природных ресурсов (их не было), а в солидарных усилиях власти, бизнеса и рядовых японцев на этом судьбоносном направлении.
Конечно, одной солидарности было бы недостаточно. Не меньшее значение имела традиционная для японцев (как и других стран конфуцианского пояса) тяга к знаниям, к заимствованию новинок у передовых «заморских» стран. Ведь речь шла не о чем-то привычном (скажем, удвоении посевов риса), а о новом и неизвестном — о высоких горизонтах изобретательства и творчества.
Наконец, инновационный рывок в Японии был бы невозможен в условиях заведомой бедности и финансовой ограниченности, если бы не готовность народа к жертвенности, т. е. к многолетнему ограничению потребительского бюджета во имя успешного будущего. И в этом случае «сработала» традиционная для японцев выносливость и убежденность в оправданности аскезы с позиций долгосрочных интересов страны, а значит, и каждого ее жителя. Иначе говоря, страна доверяла власти и готова была на годы «затянуть пояса», что и было сделано.
Процессом выращивания инновационных сегментов, как и всей экономической политикой в Японии, руководило Министерство международной торговли и промышленности (МИТИ). Однако возможности и этого всесильного ведомства именно в сфере инноваций были ограниченными. Поэтому выбран был крайне рискованный путь создания многосубъектных и многопрофильных кластеров, которые, получая от МИТИ задания, опирались не столько на четко оформленные и узаконенные рычаги и мотивации, сколько на неформальные взаимодействия промышленных, торгово-коммерческих и финансовых структур с сегментами НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок).
Известно, что кластеризация как высокоэффективная структура была вызвана к жизни и востребована как форма перехода к постиндустриализму. В кластерах концентрируются взаимодополняющие друг друга компании, обеспечивающие доступ к финансовым, инженерно-технологическим, информационным, снабженческим, правовым, коммерческим и другим услугам; а также к ноу-хау и кадрам высокой квалификации. Взаимодействия соответствующих структур порождают эффект синергии, выходящий за рамки простого сложения сил, достигаемый концентрацией на единой (как правило) территории связанных между собой промышленных, финансовых, сервисных компаний, научных и учебных центров, торговых ассоциаций, центров стандартизации и других структур.
Такого рода кластеры, нацеленные на создание высоких технологий, а значит, на отложенный во времени эффект, весьма требовательны к институтам макрорегулирования, особенно к финансово-банковской и информационной инфраструктуре, фондовому рынку, системе госзаказов и госкон-трактов. Ситуация в таких случаях осложняется и тем, что отдача от вложений в высокотехнологичные сегменты дает выгоду в большей степени всему обществу, а не конкретным инвесторам. Поэтому кластеры успешны и получают развитие в странах высокоразвитых, имеющих компенсационные механизмы в виде модерной регулятивной системы и соответствующих институтов, восполняющих неразвитость первичных стимулов в структурах, входящих в их состав.
Понятно, что Япония послевоенных лет, лишенная зрелых институтов и, соответственно, эффективных регуляторов, не могла рассчитывать на стимулы, полноценно подпитывающие научно-технологический прогресс. Достаточно сослаться на отсутствие в таких странах столь важных для инноваций длинных денег и дешевых масштабных кредитов, чтобы надежды на успех угасли.
И вот тут, в качестве компенсаторов отсутствующих инструментов и рычагов, в Японии сработали традиционная склонность японцев к солидаризации и их глубинный патриотизм.
Правительство Японии, конечно же, управляло процессами выращивания инноваций. Оно во многом брало на себя риски, часто в ущерб себе поддерживало, а то и искусственно создавало мотивации; конструировало схемы востребованности результатов инновационной деятельности, координировало потоки инвестиций в соответствующие компании, — причем таким образом, чтобы избежать на раннем этапе конкуренции. Правительство бук
вально заставляло государственные банки выдавать кластерным компаниям кредиты *. Первостепенное значение имела также постановка правительством крупных задач на длительный период.
Уникальной с точки зрения поддержки конкурентоспособности была в Японии и модель корпоративного менеджмента. Тщательно отлаженная практика владения акциями обеспечивала стабильную структуру собственности, что, в свою очередь, содействовало формированию долговременных интересов. Это обстоятельство, а также поддержка государства и преобладающее финансирование корпоративных структур «Кейрецу» за счет банковских кредитов позволяли японским компаниям «переигрывать» те западные компании, которые, при отсутствии госзаказов, не имели мотиваций для ориентирования на долгосрочные проекты.
Значение на первых порах имел и такой фактор традиционной солидарности, как пожизненный наем работников. Этот институт не только укреплял в компаниях чувство общности, но и смягчал риски от перемен, поскольку каждому работнику были гарантированы переквалификация (в случае необходимости) и сохранение рабочего места. В этом же направлении действовало правительство по отношению к компаниям. Стабильность, при всех стремительных переменах «в верхах», гарантировалась тем, что независимо от смены власти в производственной сфере сохранялась преемственность. Это в свою очередь укрепляло и без того цементирующую коллективы солидарность.
Среди рычагов, поддерживающих живучесть кластеров, немалое значение имели льготы, а также содействие государства в выведении инновационной продукции на арену. Упомянутое уже ведомство МИТИ умело и выборочно, с прицелом на структурные инновационные сдвиги, использовало соответствующие инструменты.
Показательный пример — сокращение сроков амортизации. Так, уменьшение вдвое срока амортизации факсимильных аппаратов в 1977 г. несло двойной инновационный эффект; во-первых, стимулировало обновление этой техники; во-вторых, провоцировало ранний спрос. В том же направлении влияло поэтапное ужесточение стандартов как самой продукции, так и энергосбережения.
И все же, как бы ни поддерживала власть инновационно ориентированные кластеры, одного этого для модернизации экономики было бы недостаточно. В стране осознавали, что между способами регулирования традиционных и высокотехнологичных сегментов разница огромная; и что готовность развивать судостроение, металлообработку и даже автомобилестроение еще не означает способность страны в лице власти регулировать инновационные процессы на уровне высоких технологий. Было понимание того, что формирование и развитие высокотехнологичных сегментов нуждается, кроме прочего (т. е. кроме эффективного рынка и сильного государства), в особой сложноконструируемой и самоподдерживающейся системе, которая
1 Компании на 90 % финансировались за счет банковских кредитов. См.: Портер М. и др. Японская экономическая модель. — М., 2005. — С. НО.
закладывает в низовых структурах мощный долгосрочный интерес и низовое (а не только верхушечное) стратегическое видение. Знали в Японии и о том, что подобная система, — система взаимоподдерживаемых модерных институтов, — может возникнуть и «работать» лишь в институционально зрелых, высокоразвитых экономиках *. Осознавая недоступность на ранних этапах развития экономики всего этого инструментария, а также неготовность крупных корпораций самостоятельно (как в США) выращивать инновационные сегменты, правительство Японии встало на путь компенсации отсутствия подобных регуляторов мобилизационной мощью неформальных низовых регуляторов и среди них, прежде всего, традициями солидарности и неистребимой тяги ко всему новому, обеспечивающему прогресс.
Кластеры, в которых неформальные отношения оказались максимально разблокированными и нацеленными на технологический прогресс, как раз и дали эффект солидарности и новаторства на почве тесного взаимодействия и взаимодополнения.
В инновационно ориентированных кластерах складывались многофункциональные сети взаимосвязей между обслуживающими друг друга производителями и поставщиками; учебными, научно-технологическими структурами и информационными компаниями; корпорациями и банками и т. д. При этом солидарность, как и гонка за знаниями, усиливалась как поглощениями и слияниями (банки входили в Кейрецу и т. д.), так и практикой взаимного владения акциями, что создавало эффект стабильной и долговременной заинтересованности. Ко всему этому надо добавить особые, по сути уникальные проявления японцами трудовой этики и качества рабочей силы, т. е. «всеобщее качество», систему «точно и вовремя», а значит — тщательность, точность, добросовестность, взаимопомощь и корпоративный патриотизм.
Уже отмечалось, что японское чудо в самой Японии принято расшифровывать как соединение силы рынка и силы государства. На деле источником чуда в первую очередь были силы солидарности и жажды инновационных перемен, ориентируемые и подпитываемые государством.
И вполне закономерно, что в результате реализации этих сил созидания Япония не только в кратчайшие исторические сроки вышла на второе место в мире по экономическому развитию, но и сделала мощный инновационный рывок.
«Результатом кластеров, — читаем мы в отчете «Японская экономическая модель», подготовленном группой американских экспертов, — является целый букет инноваций в виде не только технологий, но и конечной продукции... И это благодаря синтезу и эффекту, ускоренному рождению нового на стыках разных процессов и отраслевых факторов. Например, успех Японии в робототехнике. Именно на кластерной основе Япония стала мировым лидером в целом ряде смежных и связанных друг с другом отрас-
1 Одним из самых важных среди этих институтов является, прежде всего, высокоразвитый фондовый рынок, дополняемый системой фондов (пенсионных, страховых, инвестиционных), продуцирующих мотивации формирования длинных денег, а также модерный государственный инструментарий в виде контрактной системы и госзаказа и т. д.
лей, таких, как производство оборудования с численно-програмным управлением (ЧПУ), производство оптических датчиков и двигателей. Будучи лидером в производстве конвертеров, микропроцессоров, микродвигателей и радиаторов, Япония смогла стать лидером в производстве бытовых кондиционеров. Основой успехов в области факсимильных аппаратов был кластер смежных отраслей производства фотокамер, оптики, электроники и микродвигателей». 1
Конечно, совершая подобный, вызывающий всемирное восхищение рейд, Япония не могла не попадать в ловушки, расставленные ее же реформаторской практикой. Как говорил великий Лао Цзы, «все превращается в свою противоположность». И именно на негативах, являющихся оборотной стороной позитивов, акцентируют внимание критики японского чуда, в том числе и названные мной американские эксперты во главе с Майклом Портером.
Критики, в том числе упомянутые, считают, что Япония могла бы избежать многих неприятностей и даже поздних провалов, если бы правительство не попустительствовало взаимному финансированию «дружеских компаний», не обесточивало и не разрушало на этой почве банковскую систему, не поощряло пожизненный наем работников, не делало много другого, уводящего от законопослушания и жестких формализованных правил.
Наш отечественный опыт (и опыт России), однако, показал, что к мнению американцев, даже больших ученых и реформаторов, — следует относиться с известной долей скепсиса. Они, на почве своего благополучия, давно стали догматичны, и рассуждают, как «недоросль» в произведении Фонвизина, по принципу: «все то ложь, чего не знает мой Митрофанушка». Все страны, — слабые и сильные, восточные и западные, — они меряют своими, всегда одинаковыми, мерками. И заставляют даже примитивные африканские племена жить по правилам, аналогичным правилам Америки. В итоге, к примеру, благополучное африканское племя, живущее вековыми традициями, получив «в подарок» от США американскую демократию, на глазах погрязает в невиданной доселе коррупции, а то и опускаются до людоедства.
Если же вернуться к практике реформ в Японии, то нужно отметить: все, что сейчас дает сбои, и обоснованно ныне порицается, — это плата за феноменальный успех этой страны, достигнутый, в том числе, и через нарушения некоторых принципов.
Конечно, негативы, а то и торможения развития, которые дают себя знать из-за «превращения в свою противоположность», — вещи неприятные и трудноустранимые. Но благодаря в том числе этим, ныне осуждаемым «некорректным» реформаторским приемам, страна стала одним из мировых лидеров, и этого у японцев уже не отнять!
1 Портер М. и др. Японская экономическая модель. — М., 2005. — С. 154—155.
Украина единая, разная и расколотая
Теперь, рассмотрев феномен «экономического чуда» и сравнив ментально-ценностные основания ныне преуспевающих стран Запада и Востока, посмотрим в данном контексте на отечественные реалии. Прежде всего следует подчеркнуть, что Украина, пребывая в рамках СССР, имела имидж республики-жемчужины. В отличие от Российской Федерации с ее уровневыми производственно-технологическими перепадами, Украина была цельной, выровненной и развитой.
Но самое главное — с точки зрения перспектив — Украина была лидером в сфере научно-технологической. Если Россия шла впереди в области фундаментальных исследований, то Украина опережала все республики в сфере научно-прикладных и опытно-конструкторских разработок. Если же учесть то обстоятельство, что Советский Союз по своим научным и высокотехнологичным достижениям (особенно в военно-промышленном комплексе) был сопоставим с Соединенными Штатами, — то роль и значимость Украины становятся особенно очевидными *.
Все эти обстоятельства, естественно, порождали надежду, что Украина, обретя независимость, в короткие сроки подтянется до уровня стран высокоразвитых не только по критериям научно-технологическим, но и по уровню жизни. Залогом этого служили и лучшие в мире черноземы, и далеко не худшие мощности пищевой и легкой промышленности. Недаром эксперты «Дойче Банк» в 1989 г. полагали, что в случае распада СССР Украина имеет наилучшие шансы для экономического успеха 1 2.
Но получился конфуз: страна без видимых на то причин оказалась чемпионом среди постсоциалистических стран по глубине (с учетом высокого уровня) и длительности падения. Ее обогнали по признакам развития и роста не только сравнительно (с Украиной) отсталые Польша, Словакия и Венгрия, но и вовсе малоразвитая сравнительно с нами Румыния. Как писал о нашей ситуации Стивен Коэн, это был «не имеющий прецедента процесс демодернизации живущей в XX в. страны, — это транзит в средневековье»3.
Конечно, в связи с успехами, продемонстрированными страной в 2003—2004 годах, все это можно было бы и забыть. Однако, как минимум, два обстоятельства, — невосприимчивость экономики к инновациям, во-первых, и катастрофический спад после «оранжевых» событий, во-вторых, — заставляют задуматься о причинах не только нынешних, но и прежних наших неудач.
Первое из упомянутых обстоятельств важно потому, что страну, неспособную развиваться по инновационной модели, ожидает ускоренная тотальная периферизация и деградация с большой вероятностью распада и исчез
1 Согласно утверждению М. Кастельса, «в начале восьмидесятых СССР производил две трети мировых открытий и изобретений». (Свободная мысль. — 2003, № 8. — С. 47-48).
Пахомов Ю.Н., Крымский С. Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К., 1998. — С. 263.
Российский экономический журнал, № 5—6, 2002 г. — С. 13.
новения. Второе обстоятельство внушает опасение, поскольку спад, произошедший в 2005 г., является (как и крутой спад в 90-е годы) противоестественным, т. е. рукотворным, а не циклическим, дающим экономике «второе дыхание» и, соответственно, ускоренный подъем *.
Полагаю, что причины нашей уже почти двадцатилетней научно-технологической деградации, и экономических спадов во многом одни и те же, и коренятся они в специфике украинской «элиты».
Например, в странах с ценностями протестантизма, или же (если иметь в виду Восток) конфуцианства поведенческий стереотип «простолюдинов» и элиты на этапе бедности и неразвитости отличается незначительно. Тем и другим (рядовым гражданам и элите) здесь свойственны рационализм, воздержанность и умеренность в потреблении, простота в обращении. Это обстоятельство и на послевоенном Западе, и в странах конфуцианского пояса позволило использовать мобилизационную модель и достичь эффекта экономического чуда. И это касалось не только передовых стран, таких как Германия или Япония, но и еще сравнительно недавно отсталых, таких как Финляндия или Южная Корея. И то обстоятельство, что в скандинавских странах, или в ФРГ даже в 70-х годах богатые предпочитали дешевые авто — было естественным, поскольку демонстративная роскошь, пока простой народ не стал зажиточным, считалась признаком дурного тона и распущенности.
Иное дело — в Украине и России. Здесь тех, кто по случаю обзавелся капиталом, ничто не останавливало от непомерного растранжиривания средств и утопания в роскоши. Это имело, конечно же, почву в гуще народной; ведь украинцы (как и русские), — нация гедонистическая. Но потребление рядового гражданина сковывают возможности. Когда же вчерашний «рядовой» попадает в состав «элиты», тут уж он идет «вразнос». И это ментальное свойство оказывается роковым. Известно ведь, что научно-технологическое преуспевание основывается не на сиюминутном, а на отложенном эффекте. Нация должна годами экономить на всем, в том числе и на своей элите, чтобы войти в клуб высокоразвитых стран. Ажиотажное же потребительство с аскезой несовместимо, оно признает только сиюминутную выгоду.
Сам факт, что в украинском обществе обычные граждане и представители элиты живут в разных мирах, существенно влияет на все стороны жизни. В отличие от стран протестантских, или же конфуцианских, консолидация в условиях бедности здесь невозможна. Разрыв между сверхбедными и сверхбогатыми деформирует и раскалывает страну. Негодование, пессимизм, безысходность и зависть пронизывают общество, лишая его необходимых для успешного развития мотиваций. Что же касается научно-технологического прогресса, то он «присутствует» только в сфере намерений и в спекулятивной риторике.
Когда-то В.Г. Короленко сказал, что украинский национализм — самый бутафорский. На практике это далеко не безобидно, поскольку склонность к
1 Почитаемый в Украине советник нашего Президента Андерс Ослунд об этом падении написал: «Лишь бомбежка украинской территории могла бы иметь более разрушительные последствия, чем экономическая политика в первые восемь месяцев».
бутафории часто сопровождается подменой рационализма вредным для страны прислужничеством перед теми, кто отнюдь не собирается нас облагодетельствовать. Стремление «элиты» непрерывно «смотреться в зеркало», ощущая себя «продвинутыми» и модными, уже не раз ставило страну под удар. Так, в девяностых годах модными были разглагольствования о всевластии рынка, о необходимости свернуть до нуля государство, о важности принятия отвергнутых другими странами рецептов МВФ, что обернулось регулятивным вакуумом, всевластием бандократии, развалом высокотехнологичных комплексов и перекачкой десятков миллиардов долларов, вместе с лучшими «мозгами», за рубеж.
Сейчас, повторяя прежние ошибки, мы ажиотажно требуем принятия в ЕС и ВТО. Первое — без учета реалий, на чисто иждевенческой основе. Второе — с готовностью вступить в ВТО любой ценой, без какого-либо взвешивания выгод и потерь *.
Наиболее мрачным свидетельством деструктивности украинской «элиты», что отчетливо проявилось во время оранжевой революции, является раскол страны на непримиримые друг к другу Запад—Центр и Восток—Юг. Раскол этот, целенаправленно спровоцированный политиками обеих сторон, в основе своей имеет те ценностно-мировоззренческие расхождения, которые не обязательно должны были обернуться злом. Восток и Запад в Украине, несмотря на все различия, могли бы быть для общей выгоды взаимодополняемыми. Однако для этого требуется мудрая власть.
Раскол — вещь далеко не безобидная. Противостояние само по себе есть фактор угнетения духа, а взлет духа в экономике, как и в общественной жизни, значимее «материи». А об упадке духа говорит хотя бы тот факт, что украинцы — самые большие пессимисты в СНГ. Опросы, недавно проведенные известным социологом Ю. Левадой в рамках СНГ свидетельствуют о том, что жители Украины — самые пессимистичные, а это уже преграда для рывка к успеху. Согласно украинским исследованиям, пессимизм этот проявляется в состояниях тревоги, растерянности, страха и безысходности. Так, согласно упомянутым масштабным исследованиям в Украине лишь 2 % жителей считали, что будут жить лучше, и 12 % — несколько лучше. Тогда как соответствующие показатели составляли в Казахстане — 11 % и 39 % (всего 50 %); в России — 3 % и 19 % (всего 22 %); в Беларуси — 3 % и 24 % (всего27 %).
Это же исследование показало, что в Украине 76 % опрошенных неудовлетворены политической ситуацией; 84 % лиц с высшим образованием считают допустимым дачу взятки; 71 % оценивали коррупцию как высокую и
1 Ведь ВТО — организация, обслуживающая интересы США и транснациональных корпораций. Согласно мнению нобелевского лауреата, первого экс-вице-президента Всемирного банка Дж. Стиглица, «ВТО ограничивает возможности проведения определенной промышленной политики, получения доступа к технологиям. В ВТО существует неравноправие торговых режимов». (Дж. Стиглиц. Доклад в МГУ // Независимая газета, 20 апреля 2004 г.) Кстати, сама процедура вступления в ВТО предполагает выторговывание выгод. В этом смысле Украина с ее «готовностью на все», быть может, единственное исключение.
очень высокую. А с образом жизни украинского общества сочли наиболее тесно связанными следующие понятия: беспорядок (28,4 %), нищета (29,4 %), разруха (20,1 %), противостояние (18,1 %). Но, пожалуй, наиболее убийственным для оценки ситуации в стране являлся факт, что на вопрос: «в какой стране или объединении Вы хотели бы жить?» ответ «в своей собственной стране» получен был лишь от 20 % граждан. И в общем это не удивительно, если учесть, что из нынешнего населения 30 %, согласно расчетным прогнозам, не доживут до пенсии.
Насквозь фальшивыми в той украинской ситуации были и риторические заклинания о торжестве демократии. Демократия — это, прежде всего, законопослушание, реализация прав человека, отсутствие человеконенавистничества, — т. е. толерантность. Со всем этим дела обстояли из рук вон плохо. Причем сам по себе фактор раскола страны несовместим с демократией. «Для обществ, резко расколотых, — пишет известный мыслитель Ф. Фукуяма, — демократия может оказаться формулой бессилия и застоя» *. И далее: «Демократия вряд ли возникнет в стране, где национализм... настолько велик, что у них нет общего ощущения нации, или прав друг друга» 1 2.
Теперь о природе самого раскола. В Украине, — и тут правде надо смотреть в глаза, — элементы раскола все годы независимости были, но — в тлеющем состоянии, и в основном в виде различий в ценностных предпочтениях. Это различия и в языке, и в симпатиях, — одних в большей мере к России; других — к Западу.
То же, что происходило во время президентских выборов 2004 г., даже само по себе, объективно, т. е. без сознательного нагнетания страстей, вело к расколу. Ведь два основных претендента на президентство представляли упомянутые поляризованные регионы. И хотя каждый из них пытался позиционировать себя лидером общенациональным, тем не менее стоящий за каждым из них электорат, а также поддерживающие внешние силы никого не вводили в заблуждение.
В ходе развертывания избирательной кампании и особенно подсчета эффект поляризации по многим причинам нарастал. Дело все больше шло к тому, что из-за невиданного доселе в Украине накала страстей любой конечный результат, порождающий эйфорию у одной части страны, автоматически вызывал протесты и чувство униженности (а не только горечь проигрыша) у другой части. И распределялось то и другое именно на линии разлома «Центр и Запад» — «Юг и Восток».
Характерная особенность раскола, а может быть и его главная причина (удивительная для обездоленной страны) состояла в том, что за пределами первого тура (где были и основательно обессилевшие левые) не было традиционного противостояния по линии «богатые — бедные».
Начну с того, что впервые, — в отличие от прошлых президентских выборов, — борьба шла не между представителями от прошлого и настоящего (т. е. сторонниками рынка и адептами реставрации социализма), — а между
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004. — С. 193.
2 Там же. — С. 328.
самими богатыми, представляющими кланы в разных (как правило) частях страны.
Одна из причин — девальвация, обесценивание левой идеи советского образца.
Оговоримся, что левая идея — как борьба за справедливость, — идея вечная, и в Европе не случайно партии левых (социал-демократические и социалистические) периодически приходят к власти. Мы же долго не знали иной левой идеи, кроме той, которая после краха СССР была дискредитирована. И если в России — в отличие от Украины — уже наличествует массовое движение новых левых, — это молодые интеллектуалы, — то у нас старая левая идея закономерно деградирует. Либеральная идея, впрочем, тоже себя дискредитировала довольно быстро, но по другой причине — из-за мафиозное™ наших буржуа.
Задержка с появлением новой левой идеи, а значит, и новых лидеров, связана и с продажностью нашей демократии, со скупкой голосов и приходом не только во власть, но и в политику в основном самых богатых, — за счет банальной скупки ими электоральных голосов. Ведь у нас в парламенте 300 миллионеров — это в бедной стране! Это и привело к отсечению от Верховной Рады других слоев общества, в том числе интеллигенции.
Возникшая пустота по части социальной идеологии должна была быть заполнена. И она «заполнилась», условно говоря, «этно-социо-регионализмом». Так что не случайно, а закономерно у главных кандидатов имелся лишь шанс восполнить вакуум идей подходами этносоциальными.
Поскольку же этносоциальные различия рассекали страну примерно надвое, результаты были вполне прогнозируемы. Дальнейшие события, осложненные вмешательством зарубежных политтехнологов с обеих сторон, общеизвестны. Выведение на арену В. Ющенко и В. Януковича как представителей «расходящихся» частей страны заведомо усугубляло эту ситуацию.
В контексте раскола стоит сказать и о мифе насчет поглощения Россией Украины. Мало кому у нас известно, что в советские времена Украина была дотационной. Так, при пересчете взаимообмена в мировых ценах ежегодная дотация Украине составляла тогда 16 млрд долл., что по нынешним временам, с учетом обесценивания доллара, превышает сумму в 30 млрд долл. Сейчас же Россия, будучи ослабленной, без потрясений (как считается) не «освоит» и Беларусь. Показателен в этом отношении и опыт слияния ФРГ и ГДР. На маленькую ГДР потрачено за последние годы более 1 трлн долл., но «организмы» так полноценно и не срослись.
Далее, России, именно сейчас, особенно для собственного инновационного преуспевания, нужна в качестве суверенного партнера сильная и процветающая Украина, а не Украина слабая.
Главных причин этого две, и вызрели они недавно.
Во-первых, под влиянием мощных мировых тенденций корпоративных слияний и поглощений главным источником повышения дохода становится достижение эффекта масштаба.
По этой причине нарастающие преимущества в привлечении высококачественного капитала (деньги ведь пахнут!) все больше будут иметь страны и сообщества с населением не менее 200 млн. И опережающим будет выход в
мировые лидеры (кстати, по американским прогнозам) не только Китая, но и Индии и Бразилии. В такой ситуации формирование совместного рыночного пространства с Украиной для России будет все более значимым.
Во-вторых, уже начавшийся переход России к инновационной модели делает безальтернативным для этой страны создание с Украиной единого научно-технологического пространства.
Когда Л. Кучма говорил, что мы без России не можем иметь свой модерный самолет, и собрать свою ракету, — то это же мог сказать и В. Путин об Украине. Ведь только друг с другом в науке и высоких технологиях мы взаимодополняемы и это дает эффект синергии и ускорения.
Такой симбиоз особенно важен для России в связи с формированием Россией и ЕС (пока без Украины) ОЕЭП — Общеевропейского единого пространства с Зоной свободной торговли и прочими институциональными образованиями. Конечно, сейчас этот процесс осложнился, но такие сложности преходящи, и верх в отношениях «Россия — ЕС» вновь возьмут долгосрочные заинтересованности. Ведь Евросоюзу — из-за осложнения (причем это только начало) партнерства с США, Россия приоритетно интересна своей фундаментальной наукой, где РФ до сих пор по многим позициям «совокупный» ЕС превосходит. А Евросоюз важен России как поставщик высоких технологий. В ближайшее время и в этом отношении украинской власти предстоит пройти серьезное испытание на выживаемость.
Специфика Украины заключается и в том, что мы лишены возможности идти по пути Южной Кореи или Китая. Мы от авторитаризма уже отошли, но к либерализму не пришли. И в этой ситуации у нас нет другого выхода, как сменить ту олигархическую модель, которая сложилась. Она похожа на ту, которая была при Б. Ельцине в России, когда выращивался крупный капитал, манипулировавший государством и по сути являвшимся хозяином страны. Эта модель могла работать, когда происходил процесс первичного формирования крупного капитала, но сегодня мы переходим к другим процессам. Или мы будем, как прежде, ликовать по поводу воспроизводства высокими темпами архаики; или найдем силы преодолеть этот соблазн и овладеть непростым искусством переструктурирования экономики в пользу высокотехнологичное™ и наукоемкое™. В первом случае само наращивание темпов будет предопределять безальтернативное опускание. Во втором возможен рывок по пути и технологического, и общественного прогресса.
При условии нацеленности на структурные реформы, сложившееся хозяйничанье олигархов становится недопустимым. Сами по себе они руководствуются лишь своими сиюминутными интересами, что вполне естественно, но это неприемлемо для страны, вставший на путь качественного развития. Новая ситуация предполагает новые формы регулирования. Билл Клинтон в свое время говорил, что капитал не идет сам по себе туда, где только лишь рождаются инновации. Его туда надо «пригласить», то есть «организовать» и простимулировать. И сегодня самый крупный хозяин в Америке — правительство, — это сказано нобелевским лауреатом П. Самуэльсоном.
По сравнению с украинской ситуацией, в США действует другая система. Там крупный бизнес подчиняется законам, побуждая из успешных ре
гионов вливать капиталы в неуспешные, вкладывать деньги по выгодным контрактам от правительства в «невыгодные» научно-технологические ниши и т. д.
Такая система не может быстро установиться в Украине; поэтому задача власти состоит поначалу в искусстве «примитивного» разворачивания капитала в русло инновационных сегментов. Замечу, что эта задача для Украины пока что труднорешаемая. И не только по причине отсутствия опыта, но и из-за неизбежного сопротивления не только «чужих», но и «своих» олигархов.
А теперь о новых вызовах, в том числе обусловленных Майданом.
Они необычны и даже настойчивы. От них стране не уйти.
Первый вызов — это демократия. Ведь то, что произошло — это взрыв, порыв к свободе, но это еще не состоявшаяся демократия. Ведь демократия — это процедуры, это правила, это традиции. Очень легко быть демократом, когда тебя любят, выражают всемерную поддержку. Но это все очень быстро кончается, как кончилась огромная поддержка, оказанная Ельцину, который через короткое время вынужден был расстрелять Белый дом, а затем и сменил американизм антиамериканизмом. Поэтому сложность будет состоять в том, чтобы содействовать истинной демократизации.
Второй вызов — это преодоление раскола страны. К этой проблеме не стоит относиться снисходительно, легковесно и шапкозакидательски. Потому что разлом состоялся не по причине преданности тому или другому лидеру, а во многом по причине ценностной разновнекторности. То есть речь идет о разных ценностных предпочтениях на Востоке и Юге Украины, с одной стороны, и Западе и Центре — с другой. Эти различия тлели все годы независимости, но они не были опасными.
На Востоке гражданам прошедшие события Майдана впервые дали импульс задуматься, кто они такие.
Надо учесть, что на Востоке процессы национального самосознания только начались, гигант только проснулся. И эти процессы нуждаются в мудрой гармонизации со стороны Центра.
Меры по предотвращению опасных явлений сепаратизма, проявившихся после Майдана на Востоке и Юге, могут быть разными, в том числе, — это реформа органов местного самоуправления, которая по сути смягчает риск сепаратизма.
Многое зависит и от того, способна ли власть победить коррупцию для того, чтобы провести реформы, в т. ч. местную реформу? Время покажет.
В целом же я полагаю, что постмайдановское отрезвление создаст благоприятные условия для строительства нового партнерства с Россией во благо Украины. Что предполагает интеграцию и на других направлениях.
Ну и, наконец, инновационная модель. При нынешнем варианте олигархизации экономики она невозможна. Наши отечественные олигархи пока не дозрели даже до уровня своих российских коллег, которые могут себе позволить иметь в своем бизнесе инновационную составляющую. Значит, нужны механизмы перераспределения доходов в пользу новаций, а у нас их нет.
Говоря об инновационной модели, нужно в корне изменить мотивацию у правительства. Я имею в виду оценочную мотивацию со стороны общее-
тва. Она ведется по архаическому принципу цикличности: от года к году, от бюджета к бюджету. Этот принцип отсталого государства нужно заменить сценарным принципом, по которому живут и управляются передовые страны мира.- Это когда выстраивается долгосрочный сценарий и поэтапно стимулируется каждый шаг его выполнения. Для этого очень важно сам бюджет разделить на две части: бюджет текущий и бюджет развития. И оценивать бюджет развития по сделанному качественному промежуточному скачку. Этому надо научиться: оценивать то, где нет сиюминутной отдачи, но ступенька пройдена. Желательно эти стимулы сделать более сильными, чем текущие стимулы. Все это — высокое искусство стратегического управления.
Очень важно сказать несколько слов по поводу социально-экономических вызовов Майдана.
Речь идет о богатых и бедных. Благодаря колоссальному разрыву между доходами богатых и бедных, мы оказались страной, где «два народа» живут разной жизнью. Люди, выйдя на Майдан, в том числе выражали желание жить той жизнью, которую можно назвать благополучной. Ведь основная масса народа живет до сих пор в условиях нищеты и беспросветности.
Страна, в которой разрыв между «верхними» и «нижними» доходами (как в Украине) чрезмерно велик, — по определению не может быть стабильной. Такой разрыв сам по себе несет потенциальную силу социального взрыва. В такой ситуации наращивание пенсий и других доходов у простых людей должно намного опережать то, что получают богатые. А это невозможно без определенной политики по отношению к богатым. Эта политика — великое искусство. Она предполагает как бы замедление роста «верхних» доходов с одновременным включением перераспределительных механизмов в сторону сближения доходов. Здесь важно не травмировать бизнес, не лишить его мотивации к зарабатыванию денег. Опыт подобного рода имеется в изобилии в Китае.
Отношения Украины и России — это тот случай, когда термин «страны» недостаточен. Взаимодействуют здесь, — то сближаясь, то отдаляясь, — и наши народы. И при этом (применительно к Украине) — разделяясь надвое. Во многом отдельно от отношений народов происходит взаимодействие «элит».
Если же иметь ввиду страны, то, с одной стороны, их взаимодействие не только важно, но и судьбоносно, а с другой — крайне неустойчиво.
Источники этой неустойчивости, а то и противостояния дают о себе знать в каждой из стран; но болезненнее последствия ощущает Украина, как более слабая и зависимая страна.
Конечно, такое противостояние при корректной политике власти может и не возникнуть. Однако следует помнить, что, появившись, оно становится устойчивым, а то и неустранимым. Опыт разных стран свидетельствует, что противостояния, единожды возникнув, воспроизводятся и живут самостоятельной жизнью, независимо от изначальных импульсов, сработавших как пусковой механизм. При затягивании этих процессов во времени может случиться самое неприятное: появление горячей точки. Ближе всего к этому Крым. А это уже катастрофа. Ведь ни одна горячая точка на планете за последние 15 лет не исчезла.
Украина между Россией и Западом: драматизм выбора
Осмысливая перспективы налаживания российско-украинских отношений приходишь к разным выводам в зависимости от оценки того, что тут срабатывает, — воля народа, или же настроения верхов, идущих на поводу у лидеров властвующего сообщества. Начнем с того, что, согласно нынешним, а не только прошлым опросам, среди населения Украины преобладает позитивное отношение к России *.
Ясно, что власть, считающая себя демократической, должна учитывать факт преобладания позитивного отношения к России со стороны народа. На этом фоне нагнетание антироссийских настроений не только нелогично, но и, фигурально выражаясь, «противонародно».
Конечно, в Украине имеются традиционно, по историческим причинам, антироссийски настроенные регионы. Это и западные области, и, отчасти, Центр. Однако симпатии к России и в этих (особенно центральных) регионах достаточно заметны, о чем и свидетельствуют вышеупомянутые общеукраинские опросы, которые выводят пророссийский позитив за рамки «Востока—Юга».
Так что главный источник улучшения украинско-российских отношений, — это, без сомнения, — подлинная, а не мнимая демократия, адекватно отражающая настроения народа, а источник успеха в украинско-российских отношениях не только во внешнеэкономических и производственно-технологических взаимодействиях, но и в социальном (а значит, и энергетическом) эффекте, получаемом от взаимной благожелательности народов и (что очень значимо!) их взаимодополняемости.
Особенно значимым, по сути безальтернативным, является для Украины эффект взаимодополнения с Россией, получаемый от научно-технологического взаимодействия. Известно ведь, что в каждой украинской ракете, как и в сделанном в Украине самолете, от 40 до 70 % составляющих получены по кооперации из России. Причем изменить эту ситуацию вследствие специфики процессов стандартизации невозможно. К тому же производственно-экономическая ситуация в Украине складывается так, что именно сейчас взаимодополнение с Россией становится по-настоящему судьбоносным. Ныне, — в отличие от прошлого, — первостепенное значение приобретает в Украине замена исчерпавшей себя восстановительной модели моделью инновационного развития и роста. Высокие темпы и тут важны, но лишь как скорректированные по критериям ускоренных инновационно-структурных сдвигов. А это требует перенесения акцента с банального наращивания низкотехнологичной рутины на те научно-технологические связи и зависимости, где Украина крайне слаба, а взаимодействие с Россией эффективно.
См. газ. «День» от 27.09.2005 г. Обращает на себя внимание тот факт, что мощный антироссийский прессинг, сопровождавшийся газовыми, мясными и другими войнами, снизил за период с мая 2005 г. по февраль 2006 г. показатель хорошего отношения к России лишь на 3 % (с 71.3 % до 68.2 %). И это при том, что ради такого результата власть пошла на миллиардные (в гривне) потери.
Менее очевидна для провластной «элиты», а также и для рядовых граждан, потребность интеграции экономики Украины в ЕЭП.
С одной стороны, народ пытаются дезориентировать мифологической установкой на ЕС. Причем сигналы из Брюсселя о нереальности такого интегрирования в ближайшие десятилетия заведомо игнорируются с целью «занять обезьяну пустым орехом», т. е. отвлечь от осознания провалов и неудач внутренней экономической политики.
С другой стороны, Россия назойливо изображается как «антиевропа», а замыслы интеграции Украины в ЕЭП — как имперское поглощение, т. е. лишение суверенитета.
Ныне «европейскость» — это общеславянская идея. Это идея не только Украины, но и России, и других славянских стран. Кстати, В. Путин неоднократно говорил: «мы тоже будем в Европе». Даже Збигнев Бзежинский, критически относящийся к России, в последнее время сделал сенсационное для «украинского уха» заявление о том, что «настоящей надеждой и исторической перспективой для Европы является Европа от самой западной точки Португалии (Карба да Рока) до Камчатки» ’.
Надо иметь в виду, что в Европе давно признали, что русский духовный мир является ее составной частью. Приводим на сей счет высказывания авторитетных фигур современной Европы. Так, В. Клемент, экс-министр экономики и труда в Германии, высказывался о том, что будущее Европы во многом зависит от того, удастся ли нам создать общеевропейское экономическое пространство с Россией. А вот слова экс-премьер-министра Швеции К. Бильдта: «... эра Евразии для России закончилась, и будущее Российского государства — это его постепенное объединение с остальной частью Европы» * 2. Понятно, что в обозначенном контексте политические спекуляции о том, что путь Украины в ЕС предполагает удаление от России, — есть глубочайшее заблуждение, граничащее с невежеством.
Как видим, к нынешней Европе причастны и Украина, и Россия. И если в чем-то одном впереди — Украина, то в другом (великая и почитаемая во всем мире культура, наука и т. д.) — Россия. Однако вступать в ЕС обеим странам, с одной стороны, рановато (по соответствующим критериям мы слишком отстаем); а с другой, как отмечалось, уже и поздно, поскольку Европе, ускоренно поглощаемой исламом, и озабоченной проблемами потери идентичности, все больше будет не до нас 3. К тому же на «переваривание» десяти «новичков» уйдут десятки лет. Так что удел обеих наших стран-— самим «создавать» в своем доме Европу.
Иное дело ЕЭП. Для того, чтобы уяснить замысел и оценить последствия этого йроекта, нужно мысленно выйти за рамки наших двух стран, и
Независимая газета от 2.12.2003 г.
2
Россия в глобальной политике. — 2003, № 2. — С. 42.
Напомним, что при опросах о причинах провала референдумов по конституции ЕС население давало ответ: «излишнее расширение ЕС неприемлемо»; «Европы становится слишком много, а ее содержание слишком обременительно»; «нам надо выдержать лиссабонские критерии, т. е. обогнать США, а расширение ЕС с этой задачей несовместимо».
высветить эволюцию России как центра СНГ, с одной стороны, и как глобального игрока — с другой.
Начнем с того, что политика России по отношению к СНГ претерпела весьма существенные трансформации, которые игнорирует Украина.
Напомним, что ельцинская политика, будучи безалаберной, сочетала фрагменты как имперских, так и братских отношений, смягчающих болезненный развод. Парадокс этой политики заключался в том, что крайне ослабленная и разворованная Россия обеспечивала бывшим республикам через разные механизмы дотации, в десятки раз превышающие суммы помощи от Запада. Понятно, что это никем не ценилось, считалось само собой разумеющимся, и действовало крайне развращающе. И только сейчас стало ясно, сколь дорого обходится Украине многолетнее иждивенчество.
С приходом Путина коллективные формы сотрудничества стали заменяться двусторонними связями, основанными (что важно уяснить) не на подачках, а на взаимных интересах. При этом была поставлена задача сделать связи менее затратными, и более эффективными с позиций российских национальных интересов.
Одновременно, что не осознается в Украине, были отброшены иллюзии насчет реинтеграции бывших республик на базе СНГ, и взяты на вооружение испытанные за рубежом модерные и высокоэффективные модели регионального интегрирования, которые прошли испытание как в Европе (СЭЗ в ЕС), так и в Азии (АСЕАН), и в Северной Америке (НАФТА). Реакция на новую стратегию России со стороны постсоветских стран вначале была отрицательной. Однако постепенно эти страны с новой установкой смирились. Более того, ввиду оздоровления ситуации отношения даже укрепились.
В русле освоения передового опыта региональной интеграции Россия разрабатывает не только проект ЕЭП, но и, — совместно с ЕС, — проект ОЕЭП (Общеевропейского экономического пространства), о чем в Украине почти (в том числе и власти!) неизвестно. Причем важной составляющей этого регионального объединения России с ЕС будет научно-технологическое взаимодействие, основанное на эффекте взаимодополнения и, следовательно, синергии. Россия ведь интересна Западной Европе не только нефтью и газом, но и фундаментальной наукой. В обмен есть шанс обогатиться новейшими технологиями.
Разрабатывая и реализуя касающийся нас проект ЕЭП, Россия руководствуется критерием выгоды: выгоды для себя, и для каждой из стран-партнеров. И ни о каком порабощении, как и в сообществах НАФТА (США, Канада и Мексика), или АСЕАН+3 (страны Юго-Восточной Азии плюс Китай, Япония и Ю. Корея) речи быть не может. Более того, Россия сознательно идет на определенные (5 млрд долл, в год) потери за счет установления режима без изъятий и исключений *. Потери эти обернутся доходами для
В отличие от этого США, — в рамках объединения НАФТА, — выставляет Мексике 42 позиции изъятий и исключений. Как видим, в других рациональных мирах щедрость исключена.
стран-партнеров, особенно для Украины, которая, вступая в ЕЭП будет (как и Беларусь) приобретать газ и другие энергоносители по внутрироссийским ценам, а это сопоставимо с 1/3 расходов на промышленность в Украине. Заметим тут же, что выгоды для Украины от пребывания в ЕЭП не сводятся к беспошлинному и безбарьерному взаимообмену. Перекрывающий все остальное выигрыш может быть получен от научно-технологического взаимодействия и т. д. Что же касается демонизируемых в Украине надстрановых органов, то их роль узкофункциональна. И без них не обходится ни одно многострановое региональное сообщество.
Отсюда, от этой посылки логично переходим к ответу на вопрос: зачем ЕЭП России? Самый общий ответ: за тем же, зачем Соединенным Штатам объединение НАФТА, а Китаю и Японии — АСЕАН.
Во-первых, начнем с того, что многострановые региональные объединения дают каждой вступившей в него стране выгоды от эффекта масштаба, который ныне, благодаря глобализации, превышает эффект от повышения производительности труда. По этой причине (что очень важно для Украины с ее инвестиционной бескормицей) в крупнейшие региональные сообщества стремятся инвестировать свой масштабный капитал гигантские корпорации.
Во-вторых, пространство, образуемое многострановыми региональными сообществами — это естественная среда выращивания гигантских ТНК. А само наличие в стране (в объединении) таких структур — залог глобального успеха ’.
В-третьих, региональные объединения имеют повышенные возможности (сравнительно со странами) избегать глобальных рисков и ударов глобальных волн. К тому же сам фактор самодостаточности региональных объединений позволяет стране устоять в условиях потенциально назревающего мирового кризиса.
В-четвертых, — что специфично именно для ЕЭП — тут для Украины и России есть эффект взаимодополнения, в том числе в столь важной для нас научно-технологической сфере. А это дает эффект синергии, т. е. сложения сил. Без этого переход к инновационной модели невозможен.
Как видим, ЕЭП для всех четырех входящих в него стран является фактором повышения конкурентоспособности и успешного выхода на глобальную арену. И о том, что народ Украины в понимании этого обстоятельства опережает власть и околовластную «элиту», свидетельствует тот факт, что, согласно недавно (февраль 2006 г.) проведенным опросам, в проектируемом сообществе ЕЭП хотели бы жить 30 % населения страны; тогда как в ЕС — 19 %, а в собственной стране без объединения — всего 20 %; и лишь 11 % хотели бы жить в содружестве независимых государств СНГ 1 2.
Наиболее очевидной с позиций получения эффекта взаимодополнения является существующая разветвленность украинско-российских кооперационных связей. Достаточно сослаться на тот факт, что в процессах производства в Украине экспортной продукции лишь 28 % ее объема может быть
1 Сошлемся хотя бы на Финляндию: одной лишь Nokia достаточно для выведения страны на передовые рубежи в мире.
2 «День» от 15.02.2006 г.
произведено без поставок со стороны России. Показательна здесь такая важная отрасль, как авиастроение. Авиационная промышленность получает из России 70 % готовых изделий и 95 % материалов. При этом в кооперации участвует около 100 российских предприятий.
Или возьмем такую выдвигающуюся на первый план отрасль, как машиностроение. Известно, что для большинства украинских машиностроительных заводов российский рынок и сейчас, и впредь остается почти единственным потребителем этой продукции. Ведь даже попытка Украины поставлять на Запад первоклассные самолеты провалилась. Тем более это относится к другой продукции машиностроения. В недостаточно совершенной продукции Запад не нуждается, а к производителям первоклассной продукции Запад относится как к нежелательным конкурентам. Не случайно ведь одним из условий вступления в ВТО является импорт подержанных боин-гов. А в отношении нашей авиации выставляется требование устранения льгот (это притом, что и США, и ЕС обильно «подкармливают» льготами и боинги, и аэробусы).
Нужно в целом сказать о том, что наша зависимость от российского рынка по всем направлениям огромна. Доля же Украины во внешнеторговом обороте ЕС (исключая 10 новобранцев) мизерна; она составляет всего 0,4 %. К тому же экспортируем мы на Запад низкотехнологичную продукцию, из-за чего появляется опасность все больше увязать в ловушке хронической отсталости.
Поэтому самое главное в отношениях с Россией — вырваться из заколдованного круга нашей нарастающей технико-технологической отсталости. Проблема эта не простая, поскольку в Украине власти свыклись с отсталостью, и выход видят лишь в наращивании темпов. А между тем (без ориентации на структурные сдвиги), односторонняя погоня за темпами, в отличие от еще недавнего прошлого (когда шел процесс восстановления), ныне все больше будет таить в себе опасность ускоренного воспроизводства архаики. Поэтому оценивать успешность (или неуспешность) именно сейчас важно не столько по абсолютным величинам, сколько по быстроте структурных изменений в экономике в пользу высокотехнологичных производств, которые к тому же в перспективе и высокодоходны. Сошлемся на такой факт: во Франции 1 % прироста ВВП сравним с 25 % всего ВВП Украины. Выходит эта (как и всякая другая западноевропейская) страна может ускоренно опережать Украину с ее (гипотетически) высокими темпами, имея темпы низкие. Так что восстановительный рост не только имеет свои пределы, но и свои ловушки консервирования отсталости.
Опасность нынешней ситуации таится и в ином — а именно в том, что результаты «оранжевой революции» (при всех восторгах по ее поводу) — являются реверсными. Власть демонстрирует не только транзит в средневековье (в чем, конечно же, есть свой смысл в русле фольклорной экзотики), но и полное отсутствие подлинно новаторских идей в любой области и сфере деятельности. Указывающий перст в будущее отсутствует. Остается надеяться, что сменщики этой власти будут более прогрессивными.
И вот здесь, при условии улучшения ситуации, перед страной встает проблема: сможет ли Украина, по аналогии с восточными «тиграми и драко
нами», выйти из состояния отсталости с помощью западных инвесторов и западных технологий?
Наверное, несколько лет назад теоретически это могло произойти, хотя практически мы не для этого с самого старта были западными хозяевами предназначены. Теперь же, из-за состоявшейся смены инновационной западной модели в странах Запада, это нельзя представить и теоретически.
Ныне догоняющая модель — модель с опорой на передовые западные технологии — себя исчерпала. И дело даже не в непоступлении к нам этих технологий. Причина в том, что ныне старение технологий, даже передовых, происходит так быстро, что в конкуренции выигрывают лишь те, кто располагает источниками, генерирующими эти технологии *. Эти источники — наука и научные принципы, лежащие в основе непрерывно обновляющихся технологий.
И не случайно вышла в первые ряды уже упомянутая Финляндия, — она избрала путь не скупки чужих технологий, а создания научной среды, способной эти технологии генерировать. Не случайно и Китай, располагающий гигантскими возможностями скупки технологий, приоритет отдает именно науке. А Россию, отстающую пока по множеству технологических параметров, только лишь по причине обладания по-прежнему передовой фундаментальной наукой западные рейтинговые агентства стали впервые прочить в мировые лидеры. Кстати, Китай подпитывается научными идеями именно за счет России.
Украине же, с ее пока не исчезнувшей украинско-российской научно-технологической взаимодополняемостью, сам Бог велел воспользоваться шансом возродить былую славу и вырваться из болота экономической отсталости и социальной деградации.
Понятно, что непременным условием успешного научно-технологического симбиоза двух стран является поддержание добрососедских отношений.
Украина, если она останется в одиночестве, будет казаться нормально развивающейся только в случае, если перспективы ее развития оценивать «изнутри». Когда же это делается «извне», т. е. с учетом динамики и масштаба мирохозяйственных перемен, выводы оказываются другими. Становится понятным, что ни прямой путь в ЕС, ни подтягивание к его уровню через внутреннее совершенствование ничего в этом смысле не дадут. Первое невозможно; второе не получится по причинам, лежащим не столько внутри, сколько вовне. Вот тогда, с учетом перемен по линиям «ЕС — Россия», и по линии «Украина — ЕС» понимаешь, что определение Украиной опорных точек качественного роста, а также нахождение ею своей ниши в мировой архитектуре, произойдет лишь через формирование вместе с Россией Общеевропейского экономического пространства (ОЕЭП). Поэтому, наряду с конкретными выгодами от взаимодействия с Россией, важно представлять и этот геоэкономический контекст.
Д. Белл рассчитал, что среднее время от открытия технологического новшества до признания экономической возможности сокращается: с 30 лет — между 1880—1919; 16 лет — до 1945 г. и 9 лет — до 1967 г. Ныне это — не годы, а месяцы. (См.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М, 2004. — С. 154—155).
Изложение аргументов (в том числе фактов) начну с двух аксиом, важных для анализа.
Первая аксиома состоит в том, что ныне планетарное пространство стремительно покрывается многострановыми сообществами. В мире их уже больше двухсот, но все они в ближайшие 10—15 лет будут поглощены такими гигантскими сообществами, как АСЕАН + 3 (куда входят Китай и Япония); АТЭК (охват — 2,6 млрд человек) и Сообществом двух Америк, — на фоне которых ЕС сожмется.
Истоки таких трансформаций не столько в известных рисках, идущих от «волн» глобализации, сколько от эффектов масштаба и синергии, получаемых в ходе таких перемен. Оказалось, что 3/5 дохода под влиянием глобализации транснациональные корпорации получают уже не от производительности, а на почве слияний и поглощений. В результате не гигантские, как это было еще недавно, а сверхгигантские ТНК стали господствовать на планете и искать приложения своих сил.
В этой новой ситуации укрупненные ТНК (а соответственно, и страны) тяготеют со своим капиталом уже не к малым или средним, а к гигантским рынкам. И в такой ситуации полем преимущественного приложения сил, а значит, и пространствами опережающего роста, оказываются не «тигры» и «драконы», как было еще недавно, а крупнейшие государства, — такие как Китай, Индия, США, Бразилия, Россия, или многострановые (как ЕС, НАФТА) сообщества. Вообще, уже на данном этапе считается, что наибольший эффект получают крупнейшие ТНК на единых пространствах с населением не менее 200 млн человек. Разумеется, в дальнейшем тяготение капитала к огромным экономическим пространствам, а значит, и многострановым сообществам, будет нарастать; соответственно, процессы интеграции и стран, и целых сообществ будут происходить под растущим влиянием упомянутых центров силы. Одинокие страны малой и средней величины не будут, как прежде, ни привлекательны, ни интеграционно самодостаточны и прочны. Они будут льнуть к крупным странам и сообществам, устраивая там (и через них) свою судьбу.
Вторая аксиома заключается в том, что Украина не должна быть вне этого процесса, она не должна десятилетия выжидать своей еэсовской очередности по принципу «туда не пускают, туда не хочу». Это была бы пагубная интеграционная ловушка с катастрофичными последствиями для страны. Тем более, что мир будет еще быстрее меняться, а догоняющая модель внутристранового развития себя давно изжила.
Почему же Украине нельзя рассчитывать на прямое, ничем не осложненное вхождение в ЕС? Ответ на этот вопрос содержится не только в нынешней неразвитости экономики Украины, но и в других сложностях, которые связаны с трудным «освоением» Евросоюзом десяти его новых членов. Эти, и некоторые другие причины (нежелание идти на поводу США, — сторонника нынешнего расширения ЕС) привели к доминированию в ЕС т. н. евроскепсиса. Стало ясно, что само полноценное (как ранее) подключение новичков к генерирующим инновационным источникам развития стало невозможным. И дело не только в резком уменьшении финансовых инъекций и некомпенсировании потерь этих стран от вступления (особенно в доходах
из-за взлета цен). Оказалось, что в этом случае не избежать своеобразного раздвоения пространства ЕС на полноценное (для 15 «старожилов») и второсортное, во многом подвергаемое инновационной дискриминации.
Для новичков особенно болезненны следующие, уже состоявшиеся реалии:
• всплеск цен на 50—70 %, который не был и не будет компенсирован;
• беспрецедентное для ЕС дискриминационное решение об ограничениях в передвижении граждан 10 новых стран по Европе и в принятии их на работу в странах ядра ЕС. Характерно (что есть хитрость), что дискриминационные решения запущены пока по линии стран ядра, но и общеевропейские ограничения предполагаются. К настоящему времени Германия, Франция, Австрия, Финляндия, Испания, Бельгия, Нидерланды уже сообщили Еврокомиссии, что их границы на протяжении 3-х лет будут закрыты для въезда трудовых мигрантов с Востока, поскольку по законодательству ЕС они имеют право решать эти вопросы по-своему.
• началась волна не слишком корректного захвата рынков стран-новичков. Например, в Чехии — это финансовые решения западных банков (свои на 70 % скуплены Западом), ограничивающие суверенные решения правительства о реализации приоритетов (В. Клаус в итоге заявил о потере Чехией суверенитета); в Польше — навязывание стране зерна на беспошлинной и субсидируемой Западом основе, что заведомо лишает зерновое хозяйство Польши конкурентоспособности и т. д.
Главное же не в этом (ведь вытеснение слабых может оздоровить экономику), а в видимой уже перспективе, во-первых, выделения 10 новых стран (а позднее — Румынии, Болгарии...) в зону-отстойник, где обязательств будет больше, чем прав, а во-вторых, что важно осознать в Украине, в чрезмерном затягивании во времени процесса «переваривания» Евросоюзом вновь принятых стран, а значит, — откладывании на необозримую пока перспективу процесса дальнейшего расширения ЕС — если оно (расширение) вообще окажется возможным и целесообразным.
Ситуация с шансом на расширение ЕС в будущем осложняется и всплеском протестных движений в Западной Европе, а также разочарованием в жизненности этого проекта со стороны населения стран ядра.
В странах ядра ЕС более 50 % населения враждебно относятся к новым странам, принятым в Союз. Причина этого — не столько сам процесс расширения ЕС, сколько обеспокоенность гражданами Западной Европы фактором наплыва «польских сантехников», а также фактом размывания потоками мигрантов (курдами, турками, арабами, албанцами и др.) западной цивилизационной идентичности. И провал правительственных партий на выборах в Парламент ЕС — есть во многом выражение протеста против расширения Евросоюза. Ясно, что подобные настроения в будущем только усилятся, и это тоже сигнал о маловероятности расширения ЕС в обозримом будущем.
Украина для вступления в ЕС по всем параметрам не годится. И дело не только в том огромном, самом большом на постсоциалистическом пространстве экономическом спаде (ВВП на душу населения сравнительно с советским периодом снизилось более чем двукратно). Значение имеет и слабая взаимная интегрированность экономик ЕС и Украины. В экономическом
обороте стран ЕС (исключая 10 новобранцев) Украина, — в отличие от Польши, Венгрии, Чехии и других, — составляет ничтожную долю (во внешнеэкономическом обороте — 0,4 %, по инвестициям — 0,0007 % и т. д.), — тогда как требуется, чтобы интегрированность вступающей страны переваливала за 50 %.
Конечно, приятно смотреться в зеркало, называя себя европейцами. Однако реальные сдвиги будут лишь тогда, когда мы осознаем, что не только по исповедуемым ценностям, но и по фазе развития мы далеко не европейцы. Украина по ряду важнейших характеристик еще больше Азиопа, чем Россия.
Само сближение с Европой мы понимаем крайне поверхностно, и по этой причине — часто неверно. У нас сложилась практика: «делай как они». И хотя что-то уже сейчас можно делать как европейцы, однако многое, чтобы иметь евроуспех, надо делать иначе, чем они. И именно для того, чтобы поскорее стать европейцами (особенно в экономике) — нам на некоторых экономически важных направлениях надо действовать по-другому, а иногда даже противоположно. В определенных ситуациях (которые надо уметь распознавать) это касается таких макрорегуляторов, как валютный курс, процентная ставка, бюджетный дефицит, инфляция, внутренний и внешний долг и т. д. Ведь тот же бюджетный дефицит, или внутренний долг могут быть сознательно сформированными инструментами достижения успеха, а не следствием популизма, бесхозяйственности, или разворовывания, как у нас бывает. И нам необходимо, чтобы выйти из отсталости, научиться пользоваться подобными приемами.
Показательным в этом отношении был анализ данных масштабного проекта, реализованного в 90-х гг. Всемирным банком, и охватившего девяносто стран. Анализ результатов, сделанный нобелевским лауреатом Дж. Стиглицем, дал доказательства того, что переходные экономики и экономики высокоразвитые по-разному реагируют на активное использование таких инструментов, как инфляция, валютный курс, внутренний долг, бюджетный дефицит и т. д. Но это — при условии сознательной «настройки» этого макроинструментария на экономический рост. Пока мы научились лишь шарахаться от подобных манипуляций под влиянием стандартов ЕС и МВФ. Стандартов, придуманных для пользы высокоразвитых стран, а не для нашей выгоды, о чем следует помнить.
В переходных экономиках полнее и чаще, чем в экономиках высокоразвитых, стабильность должна сочетаться с маневром. Конечно, в этом случае нужно владеть искусством маневрирования, а не просто шарахаться из стороны в сторону. Тут, для прояснения, напрашивается аналогия с разницей в управлении автомобилем на хорошей и плохой дороге. Если в первом случае руль и педаль газа держат стабильно, то на плохой дороге, дороге с колдобинами, приходится попеременно нажимать то на газ, то на тормоз, и руль чаще крутить.
Так что важно, сверяя себя с Европой, определиться, что нужно уже сейчас перенимать один к одному, а в чем следует именно из-за нашей неразвитости поступать иначе. И конечно же, надо перестать морочить голову народу иждевенческими мифами о нашем пришествии в Европу. Эти сказки
оборачиваются неверием, а значит — потерей мотиваций для подтягивания к Европе. Европа должна выращиваться внутри страны.
Надо стать реалистами и по отношению к России. Наша историческая взаимодополняемость с этой страной особенно важна именно сейчас, когда восстановительная модель себя исчерпывает, когда успех возможен лишь на почве структурно-инновационных сдвигов, и, по сути, впервые за 15 лет нам дается шанс сделать рывок в инновациях с опорой друг на друга. До этого по части инноваций мы были друг другу, за редким исключением, малоинтересны. Только сейчас, по итогам исчерпания восстановительного процесса, появляется шанс воспользоваться взаимодополняемостью для раздувания почти потухшего научно-технологического костра.
Важно понять и то, что нужна высокоразвитая наука, фундаментальная и прикладная, а не просто технологии. Минули времена, когда Япония использовала чужие технологии и преуспевала. И дело не только в том, что на Западе и власть, и корпорации строжайше пресекают утечку технологий, их передачу в иные миры. Главное в другом: в ускоренном, по сути непрерывном конкурентном вытеснении одних технологий другими, более новыми, — теми, которые только что «рождены» наукой и дают шанс успеть снять инновационную ренту сполна. Шанс на это дает нам взаимодополняемая с Украиной (именно в этом аспекте) Россия.
Если вести речь о внутренних проблемах, коренящихся в экономике, то на первое место я поставил бы институциональное обустройство.
Сначала отмечу, что решающим фактором конкурентоспособности, заложенным в экономике, сейчас все больше выступает регулятивная система институтов. И столь важные для развития высокие технологии как раз и производны от высокоэффективного институционального инструментария, т. е. технологии в этом случае вторичны.
В Украине институты формировались бессистемно; к тому же наше институциональное пространство испещрено зияющими пустотами. На нынешнем этапе, когда исчерпала себя восстановительная (т. е. инерционная) модель, наиболее ощутима неразвитость подсистемы институтов, мотивационно нацеленных на долгосрочность.
Вообще Украина в экономике, как и во всем остальном, страна реверсная, отсюда проблемы со стратегическим видением.
В экономике мы исповедуем культуру архаичного времени: живем заботами от урожая до урожая, от бюджета до бюджета. И это притом, что даже азиаты, традиционно исповедавшие архаику, перешли на сценарную, т. е. модерную культуру Времени.
Конечно, у нас есть долгосрочные проекты и программы; но их не подпирают, не обслуживают долгосрочные мотивации, они (эти проекты и программы) не подпитываются естественными денежными потоками.
Причина — у нас не создана автоматически действующая, самоподдер-живающаяся система институтов, благодаря которой институциональный подъем денег, обслуживающих долгосрочные проекты, был бы аналогичен подъему внутреннего сока весной в дереве.
Условием гармоничного и мотивированного «подъема» финансов на рубежи долгосрочности, т. е. на этапы стратегического будущего, является соз
дание целого блока обслуживающих друг друга институтов, подпитываемых «длинными» деньгами, сформированными на естественной, а не на искусственной (и не на заемной) основе, т. е. на почве механизмов мотивированного самотека. Это, прежде всего, фондовый рынок со своей высокоразвитой инфраструктурой. Но он сам по себе недостаточен. Необходимы упорядочивающие и легитимизирующие перемены в собственности, — ее прочность, прозрачность и «священность». Далее, необходимы взаимодействующие с фондовым рынком и питающие его механизмы функционирования пенсионных, страховых, инвестиционных фондов, в которые гармонично закладываются «длинные» деньги; важно и наращивание потенциала и структурных сдвигов в банковской системе.
Мне скажут — в Украине это делается. Но у нас здесь тележная динамика, а нужна динамика мчащегося экспресса. Ведь в успешных странах, в т. ч. азиатских, или в ранее отсталой Финляндии, все это делалось стремительно, в том числе с участием государства; у нас же тут — вялый самотек и прозябание. Видимо, ждем, пока попадем в Европу, и там все поднесут на блюдечке.
Теперь о том, что главным для роста именно в Украине, и именно сейчас, т. е. по итогам «оранжевых» событий, выступают факторы внеэкономические, т. е. лежащие за пределами экономики. Такая ситуация, по большому счету, сложилась и в мире, но в Украине это гипертрофированно и изуро-дованно, что крайне опасно для существования страны, а не только для ее экономического успеха.
Сначала о том, что происходит в мире. Ситуация — парадоксальна. В каждом отдельном случае — победоносны технологии, а значит — и экономические институты. Однако нам надо учитывать, что в нынешней глобальной ситуации конкуренцию через технологии и экономические институты подминает под себя конкуренция ценностей, т. е. не материи, а духа. И границы, отделяющие страны успешные и неуспешные, возвышающиеся и уходящие с арены, проходят не по национально-государственным рубежам, а линиям разлома, отделяющим друг от друга мировые цивилизации. А это и есть различия в ценностях. И хотя евроатлантические ценности по-прежнему вершинны и значимы для экономического успеха, тем не менее уже сейчас серьезную конкуренцию им составляют ценности конфуцианства. За ними, а не за евроатлантизмом будущее. Что же касается ислама, где страны, как правило, лишены шансов на экономический успех из-за сдерживающей религиозной «узды», то он по-своему берет реванш у Запада благодаря мощнейшей миграционной экспансии и своей агрессивности, далеко выходящей за рамки терроризма, который образует во всем этом лишь верхушку айсберга (ведь по Веберу, ислам — это религия воинов).
Конкуренция на ценностной основе означает, что дух и его энергетика, подпитываемая ценностями, все больше господствуют над экономической «материей».
Ценностные механизмы нам надо развивать, а между тем в Украине они существенно ослаблены (дефицит рационализма и консолидации, обостренный эгоистичный индивидуализм, гедонизм и бытовизм, неспособность богатеев обуздать в трудную пору стремление к роскоши, реверсная психология, архаичная, ориентированная на сиюминутность культура времени; де
ловое предпочтение малых форм, эффект «два украинца — три гетмана» и т. д.).
Обобщенно же можно сказать, что от тоталитаризма и даже авторитаризма мы отошли, а к либерализму (власть закона и т. д., т. е. второму типу сильных государств, не подошли. Все это блокирует и энергетику духа, и процессы реализации созидательных ценностей, которые, кстати, и у нас проявлялись.
Выход для нас, как и для любой другой страны (кстати, даже все более отстающей от США Германии), состоит в переходе на инновационную высокотехнологичную модель. Но это в одиночку у нас просто не получится, поскольку научно-технологический костер в Украине погас, остаются лишь отдельные «головешки». И с иностранными инвестициями к нам высокие технологии не придут, на нас сбрасывается, в лучшем случае, «сборка», что к высокоразвитости не имеет отношения.
В этой новой ситуации вектор движения в ЕЭП может быть вдвойне привлекателен: из-за выгод взаимодействия с Россией на освобожденном от блокирующих преград огромном пространстве; и вследствие возможности с этой стороны войти в «ОЕЭП — ЕС — Россия».
Перечисляю эти моменты вкратце.
1. Феноменален факт готовности России создать Зону свободной торговли без изъятий и исключений. Даже в самых успешных ЗСТ этого, как правило, нет. Так, в ЗСТ НАФТА со стороны США исключений в отношении Мексики более сорока; со стороны Мексики еще больше; главное же в ЗСТ — это эффект кооперирования и масштаба во взаимодействиях, и шансы на совместные проекты, за чем гоняется весь высокоразвитый мир.
2. Подключение Украины к процессам создания Россией и ЕС (что там уже намечено) единого научно-технологического пространства. Ведь ЕС интегрируется с Россией прежде всего из-за того, что Россия, при всех потерях допутинских лет, даже сейчас существенно превосходит ЕС по достижениям фундаментальной науки.
3. Взаимодействие с Россией в едином пространстве (а не только в ЗСТ) важно и потому, что она была бы локомотивом не только экономического эффекта, но и рыночно-институциональной продвинутое™. Ведь в России несопоставимо в большей мере развит и высокотехнологичный венчурный бизнес (4 млрд долл.) и фондовый рынок; что там есть тенденция (в отличие от нас) к выстраиванию масштабных долгосрочных проектов; наконец, там почти в 3 раза выше средняя зарплата, и не случайно туда (а не к нам оттуда) ежегодно едет более миллиона граждан на заработки. В России, наконец, сформировались мощные ТНК, существенно превосходящие наши. В мире сейчас, часто взамен конкуренции, усиливается консолидация и партнерство ранее враждовавших фирм. Не исключено, что через россиян и к нам «придет» эта практика.
Что же касается проблемы потери суверенитета — это необоснованное комплексирование. Уже правилами формирования ЕЭП (разноскоростное движение, «пропускание» через ВР каждого проекта и др.) Украина от неприятностей защищена. К тому же Россия сама была инициатором «сброса» других республик, ей это было тогда выгодно, а сейчас — тем более.
Украина нужна России в едином сообществе в качестве сильной, чтоб уравновесить этим симбиозом доминирующую силу ЕС. Кроме того, там (в отличие от нас) осознана важность эффекта масштаба, совместных дальнобойных проектов и, прежде всего, стыковки научных идей и разработок: ведь мы десятилетиями в этом отношении адаптировались друг к другу и наша сила — во взаимодополняемости, а не только в конкуренции.
Не менее важным является и благоприятное отношение россиян к украинцам. Согласно опросам Ю. Левады (публикуемым в газете День), около 80 % россиян считают украинцев братьями, а многие даже — одним народом. Конечно, Майдан внес в эти отношения свои коррективы, но они не радикальны.
Подкрепление евровыбора успешным внутренним развитием (а не липовой привязкой евростандартов к нашим деформациям и руинам) невозможно без замены нынешней инерционной (воспроизводящей рутину) практики моделью инновационной. Скрытая сложность — сложность макроэкономического и институционального переустройства, связанного с переходом к инновационной модели, а также, еще в большей степени, нежелание отказаться от высоких темпов роста, что с этим связано.
Сразу же оговоримся: потери, связанные со снижением темпов при переходе на инновационную модель, в той или иной степени можно восполнить; причем не только за счет притока инвестиций (на это пока что трудно рассчитывать), но и за счет монетарно-финансового маневра, чем пользовалась в свое время Япония, Южная Корея, США. Определенные возможности в этом отношении заключены в электронных деньгах. Но все это выходит за рамки нашей темы.
Само по себе переструктурирование экономики в инновационном контексте, если на это власти решатся, предполагает решение двух проблем.
Во-первых, проблемы возрождения (при всей важности зарубежных инвестиций) национальных генерирующих источников инноваций (реанимируемых в основном в системе НАНУ).
Во-вторых, проблемы ускоренного формирования вместе с Россией в рамках ЕЭП единого научно-технологического пространства, поскольку Украине в одиночку с этой задачей не справиться.
Значение собственного генерирования инноваций за счет активизации фундаментальных исследований и возрождения НИОКР безальтернативно не только и не столько по причине прихода к нам лишь второсортных технологий, обрекающих на инновационное отставание. Главное в другом — в минимизации при переходе от индустриализма к постиндустриализму разрыва во времени между появлением научной идеи и ее технологическим воплощением. В таких условиях, — чего в прошлом не было, — технологическое новшество в стране-первооткрывателе не только позволяет занять пустующую нишу, но и дает на старте эффект монопольного присвоения (монопольной ренты, а значит, сверхвысокой добавленной стоимости). Поскольку же инновации в странах, генерирующих новые технологии на высокоразвитой собственной научной базе, следуют одна за другой, то волна повышенной доходности в них практически не угасает. Поэтому успешно конкурировать с постиндустриальными странами могут лишь экономики,
генерирующие высокие технологии на базе своего научно-технологического комплекса, охватывающего все звенья цепи, — от фундаментальных идей, прикладных научных и технологических разработок до опытных образцов и готовых изделий.
Именно эти новые вызовы побуждали в последнее десятилетие и маленькую Финляндию, и огромный Китай создавать собственные генерирующие источники НТП. Конечно, — был опыт Японии, получившей взрывной эффект от адаптации чужих изобретений. Однако это было в индустриальную эпоху, сейчас все обстоит иначе, и та же Япония — уже мировой лидер в науке и в НИОКР. Без этого все экономические достижения были бы сведены на нет.
Все это, повторимся, в Украине достижимо лишь на почве возрождения той взаимодополняемости с Россией, которая отчасти сохранилась, а отчасти может быть реанимирована и/или достроена с учетом новых постиндустриальных технологических вызовов. Пренебрегать такой возможностью недопустимо, в том числе и для решения задачи вступления обновленной Украины в ЕС.
И дело не только в том, что Запад не видит смысла в выращивании и поддержке инновационного потенциала у нас (чего стоят отвергнутые авиапроекты), что у него другие интересы по отношению к нам. Запад также инновационно мало совместим с нами. Наша длительная изолированность, при всех негативах, дала эффект уникальности, в том числе по критериям взаимодополняемости и совместимости. И этот эффект до сих пор работает, потому что он зиждется на сохранившемся интеллекте. И мы до сих пор можем быть инновационными только в кооперации с Россией. Ведь даже в условиях затухания кооперационных связей все самое лучшее (ракеты, самолеты КБ Антонова) содержит более половины компонентов от России.
Наряду с отмеченным пластом интегрирования Украины в ЕЭП, речь может идти о совместных внешнеэкономических (торговых, инвестиционных и других) проектах. Это тем более рационально, что страны «Золотого миллиарда» после азиатского кризиса все больше сосредотачиваются в части экспорта и импорта на самих себе, и это расширяет зону «ничейного» пространства, которую, — прежде всего за счет средне-технологических, весьма дешевых изделий, — могут освоить Украина и Россия на базе совместных проектов.
В заключение важно отметить, что по ряду фундаментальных причин (рост значимости эффекта масштаба, преимущественный интерес корпораций к гигантским рынкам и т. д.) оставаться Украине страной одинокой, находящейся вне мощных интеграционных группировок, опасно и невыгодно. Неслучайно пространство планеты стремительно покрывается региональными объединениями, которые включают многие десятки стран и сотни миллионов населения. И теперь, согласно американским же прогнозам, шанс вырваться вперед имеют не малые «тигры» и «драконы», а такие центры притяжения и силы, как Китай, Индия, Бразилия и Россия.
Вернемся, однако, к проблеме прорыва, но уже с позиций «перехвата» стандартов. Начнем с повторения уже упомянутого ранее тезиса о том, что эффект догоняющего развития уже в 90-х годах исчерпал себя в связи с пе
реходом высокоразвитых стран от индустриализма к постиндустриализму. Соответственно страна, слепо копирующая стандарты ушедших вперед постиндустриальных экономик, уже по одной этой причине лишается возможности их догнать. Особенно недопустимо копирование отставшей страной (а Украина — страна отставшая) стандартов главной сферы — сферы экономических регуляторов. Догнать успешные страны отставшая страна может лишь посредством «нестандартного» рывка, т. е. достижения прорывного эффекта. И в основу такого рывка должен быть положен, прежде всего, сравнительно больший, чем у стран состоявшихся, маневр.
Конечно, маневр, особенно макрорегуляторами, таит в себе и риск. Это касается бюджетного дефицита, валютного курса, внутреннего долга, процентной ставки и других индикаторов и рычагов экономического роста. Но следует задуматься над тем, что даже высокоразвитые страны, казалось бы, менее склонные к нарушающему равновесие маневру, подчас резко ставят вопрос о выходе за пределы установленных, балансирующих экономику стандартов. Происходит это тогда, когда страну, даже успешную, надо «пришпорить». Так, Г. Шредер два года назад настаивал на выходе за рамки 3-процентного бюджетного дефицита, и вовсе не в результате чрезмерного расточительства, а с целью придания экономике большего динамизма.
Богатейший опыт сознательного выхода за рамки «благополучных» макроэкономических показателей имеют со времен Ф. Рузвельта США. Хотя сейчас, в фазе благополучия, страны мирового авангарда закономерно обходятся в основном лишь легкой коррекцией макропоказателей. В отличие от этого нам, — если мы не отказываемся от амбиций скачка и прорыва, — важно в большей мере напирать на хорошо подготовленный и рассчитанный маневр, рационально нарушающий равновесие. Другое дело, что это требует высокого искусства регулирования системы, а также заведомого ресурсного обеспечения. Но это уже другой вопрос. Ведь речь в данном случае идет не о рутинных акциях, а о «высоком пилотаже», который не каждому реформатору доступен.
Общий вывод в части перехода к евростандартам состоит в том, что не нужно всему на Западе слепо и бездумно (как у нас принято) следовать. Необходимо, где это возможно, по-иному маневрировать, пытаться перескакивать через промежуточные ступени, «сжимать» этапы во времени, применять нестандартные «ходы» в процессе макроэкономического и институционального регулирования, вести поиск эффекта масштаба и синергии. И то, что нас в ЕС не берут, избавляет нас от сковывающей диктатуры евростандартов, позволяет изобретать свои приемы и тем самым ускорять приход лучшего будущего. Важно к тому же усвоить истину, что догоняющее (повторяющее чужой опыт) развитие — это, в нынешних новых условиях, вечная гонка по следу со все большим отставанием от того, за кем гонишься. От этой идеи надо отказаться.
Не внушает оптимизма в части опережающего прорыва и наше довольствование в интеграции с Россией лишь зоной свободной торговли. Подобная «скромность» — свидетельство комплекса неуверенности и, следовательно, отказа от шансов на прорывной успех.
Конечно, что-то важное для развития можно получить и от еэсовских программ соседства, и, тем более, от зоны свободной торговли, создание которой на базе десятка арабских стран Средиземноморья, а также Украины, Беларуси и Молдавии продекларировано в будущем и Евросоюзом.
Однако мировой опыт свидетельствует о том, что выгоды от участия в зоне свободной торговли, — будь то ЕЭП, или что-то другое, — весьма ограничены. Эффект здесь дает в основном разблокирование торговли, а это есть лишь срывание «низковисящих плодов». При этом, как показал, к примеру, опыт объединения НАФТА, от зоны свободной торговли выигрывают обычно все стороны, однако, по-разному. Вырвавшиеся здесь на простор законы рынка неизбежно порождают усиление неэквивалентности в обмене между слабым (в случае с НАФТА — это Мексика) и сильным (США, Канада). Далее, в условиях, когда происходит объединение в ЗСТ слабого с сильным, действует своеобразный «сепаратор», который гонит «сливки» (скажем, высокотехнологичные инвестиции) в сторону сильного, а «сыворотку» (инвестиции под рутину и ширпотреб) в сторону слабого. Поэтому в такой ситуации шансы на выход слабой страны за пределы третьего мира оказываются утерянными.
Подлинный же эффект, открывающий перспективу выхода из состояния третьесортности, дает не поверхностное, а глубокое интегрирование с одновременным использованием как эффекта синергии, так и эффекта масштаба.
В нашем же случае наибольший шанс на успешный рост дало бы научно-техническое взаимодействие и единение соответствующих потенциалов двух стран, Украины и России, еще недавно конкурировавших даже со США (не говоря о Европе) своими достижениями.
Стержневыми структурами, главными двигателями научно-технологического прогресса в таком интеграционном взаимодействии могут выступать только национальные академии наук Украины и России (т. е. НАНУ и РАН).
Могут сказать, что структуры эти существенно ослаблены, и это правда. Но ослабила их не творческая немощь, а многолетняя финансовая бескормица. И подвиг состоял уже в том, что Академия выжила, даже когда не платили зарплату. Ведь доля затрат на науку в украинском ВВП была все годы несопоставимой не только с затратами стран мирового авангарда, но и с Польшей, которая, кстати, несмотря на существенное превосходство над Украиной в масштабах финансирования науки, в научном отношении так и не состоялась. Более того, польские ученые и дельцы от науки, получая (в отличие от нас) от Запада щедрые гранты, стыдливо делятся этими деньгами с нашими учеными, и часто подбирают в НАНУ то, что нашим обществом оказывается невостребованным.
И именно на этом польском феномене, как и на других аналогичных явлениях, в обществе, склонном сейчас к радикализму, должно формироваться понимание того, что произвольная «смена лошадей» в науке, т. е. переориентация с НАНУ на другие институции, недопустима. Ведь та же Япония, «бросившая» на развитие науки огромные деньги, первые десятилетия, поскольку все начиналось там «на пустом месте», не могла даже приблизительно научно состояться, т. к. не было в стране предпосылок в виде тради
ций, научных школ и практики преемственности. Еше один пример из прошлого: достаточно было в СССР, который славился в 20-е и 30-е годы выдающимися биологами, репрессивно прервать на 10—15 лет развитие генетики, и восстановить эту науку при всех более поздних стараниях уже не удалось.
Неоправданным было бы в нынешних условиях и ожидание немедленной коммерческой отдачи от академических институтов научно-технологического профиля ’. В НАНУ, в результате многолетнего ущербного финансирования (в основном — лишь зарплата), от всех прежних достижений (материалов с заданными свойствами для полета в космос и т. д.) остался в основном только интеллект. Разумеется, для возрождения былой славы — это главное; это же — решающая предпосылка научно-технологического оплодотворения инновационной модели, если в науку пойдут крупные финансы. Но между даже самыми большими денежными вложениями в науку и получением обществом весомой коммерческой отдачи расстояние, как минимум, несколько лет. Напомним, что тот же Интернет, пока он не достиг коммерческой привлекательности, десятки лет выращивался в недрах государства. Власти должны это знать. Отношение же к этому несовпадению властей зависит от того, на что они нацелены: на получение сиюминутной выгоды, или на инновационную стратегическую перспективу. В последнем случае, при ориентации на перспективу, любые вложения окупятся с лихвой, поскольку выгоды от наукоемких технологий — это наибольшие выгоды. К тому же сама страна станет другой, достойной европейской перспективы.
Конечно, сами по себе академические усилия, какими бы не были они успешными, инновационную модель не вытянут. Для этого, кроме собственно развития наукоемких технологий, необходима инновационно ориентированная среда в масштабе всей общественной (а не только экономической) системы. Это — отдельная проблема, ее здесь не раскрыть.
Возвращаясь снова к проблеме возрождения генерирующих источников научно-технологического прогресса, следует предупредить: любая попытка добиться решения этой проблемы за счет разлома НАНУ «добьет» науку в Украине окончательно. В любой другой нише, — будь то университеты или же финансово-промышленные группы, — наша наука окоченеет. Реформы по евроатлантическому образцу, в том числе по американскому, неизбежно сопровождались бы губительным перетряхиванием того хрупкого, что есть, а значит, опять же, «добиванием» науки. К тому же наши вузы к масштабной научно-технологической деятельности (в отличие от университетов США) за редчайшим исключением не адаптированы. И для адаптации потребовались бы и их многолетняя ломка, и последующие десятилетия ожидания.
Вместе с тем и НАНУ в нынешнем ее состоянии оставлять нельзя, ей важно достичь взаимодействия с заинтересованными коммерческими структурами. Быть может, этот симбиоз должен носить характер государственного
• ГТ к
Примеры позитива имеются и у нас, но лишь там, где директора побывали во власти и перенаправляли ряд лет на себя финансовые потоки.
контракта-заказа с сильными и тщательно выверенными мотивациями. Подобный симбиоз мог бы на условиях, выгодных для НАНУ, коммерциализировать в разумных пределах и саму недвижимость этой организации. При этом было бы целесообразно средства, полученные от такой коммерциализации, сосредотачивать в имеющемся в распоряжении НАНУ Фонде развития фундаментальных исследований и научно-технологических разработок. Подобный подход был бы откликом НАНУ на новые вызовы, идущие и от общества, и от рынка. Естественно, что подобные трансформационные акции должны быть реализованы под присмотром государства. Однако это — при условии отсутствия у власти попыток подмять под себя процессы ком-мерционализации, к чему всякая власть в условиях нашего рынка склонна.
Украина — страна с переходной экономикой и переходным обществом. И это не просто прижившийся штамп, но и дающая о себе знать специфика в виде неустойчивости и незрелости.
К тому же в нашей стране, в отличие от Польши, Венгрии и Чехии, не было селекции кадров. Сама независимость «упала» на страну как бы сверху, а не в итоге многолетней борьбы, которая (и только она) обеспечивает выход на общественную арену тех, кого можно назвать лучшими из лучших.
В Украине отбор «человеческого материала» и его вертикальное восхождение происходило чаше всего по принципам клановости, мафиозности и кумовства. И это касалось не только власти, но и всех, в том числе и научных, сфер.
Острейший дефицит кадров высокого класса на сегодняшний момент является одним из основных факторов, тормозящих экономическое развитие Украины.
Система ценностей современных центров опережающего развития и необходимость коррекции евроинтеграционных ожиданий Украины
Известный исследователь мировых цивилизаций А. Дж. Тойнби еще совсем недавно, во второй четверти XX столетия, фиксировал и предрекал затухание всех мировых цивилизаций, кроме одной — Западной, или Евроатлантической. Но вопреки этим пророчествам, уже во второй трети того же столетия состоялся цивилизационный ренессанс. Ренессанс этот охватил все существующие Великие цивилизации, и особенно — страны ислама, а так же китайскую, индийскую, японскую цивилизации.
Характерно, что ренесанс этот не сводился к возрождению цивилизационных традиций. Произошло и нечто новое: цивилизационные составляющие, взаимодействуя с господствующей в мире вестернизацией, т. е. ценностями Запада, легли в основу формирования моделей развития и реформирования экономик, и всего жизнеустройства.
Нужно отметить, что социально-экономические результаты такого взаимодействия были разными. Так, Россия и Украина, чей ренессанс как центров славянства был слабо выражен, в процессе освоения прозападных рыночно-демократических ценностей потерпели крах. То же самое постигло многие страны ислама. Как оказалось, их возродившиеся традиции испыты
вают эррозию в процессе столкновения с вестернизацией. Отсюда фанатичная попытка отстоять систему ценностей, и соответствующий образ жизни посредством отторжения всего чужого, т. е. отстоять себя за счет изоляционизма, доходящего до конфронтации. Итоги по сути исторического поражения ислама на почве конкуренции с ценностями Запада как раз и обернулись исламским фундаментализмом и экстремизмом, включающим террористические акции ’.
Наиболее успешным, с позиций экономических и социальных результатов, оказался ренессанс ценностей конфуцианства. Именно страны конфуцианского пояса — Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур и другие стали, — именно на почве взаимодействия с ценностями Запада, — странами экономического чуда. Оказалось, что капитализм и технологический прогресс, которые в цивилизационном отношении ранее были чужды азиатскому Востоку, в ходе постколониального (т. е. партнерского, а не подневольного) взаимодействия стали не только приемлемыми, но и поразительно успешными.
Возникает вопрос: какие же цивилизационные подходы, культивируемые в этих странах, могут быть для нас полезными, или хотя бы поучительными? Чем мы можем обогатиться за счет опыта азиатского Востока, в том числе в контексте нашего стремления к евроинтеграции?
Самое неожиданное для нашего восприятия азиатских реформ заключается в том, что страны конфуцианского пояса, в отличие от нас, прикидывающихся генетическими западноевропейцами, вели себя по-западному расчетливо и рассудительно. Возрожденное конфуцианство именно в процессе рыночного реформирования оказалось своеобразным восточным аналогом западного прагматизма и рационализма. Согласимся, это серьезный упрек нам, высокомерно считающим азиатство чем-то отсталым, достойным пренебрежения.
Известно, что для нас, т. е. Украины и России, предложенная рыночно-реформаторская модель т. н. Вашингтонского консенсуса была заведомой ловушкой. Об этом тогда уже свидетельствовал латиноамериканский опыт; о том же предупреждали не только российские и украинские ученые, но и западные корифеи, в т. ч. нобелевские лауреаты. Но мы, несмотря на факты и предупреждения, в ловушку эту бросились ажиотажно, и стали жертвой своей неспособности осушествить рациональный выбор. Напомню, что высокие инстанции навязанную извне шоково-взрывную реформаторскую рецептуру с позиций рисков не оценивали. Да и страна, поддавшись эйфории и нагнетаемому психозу, в одно мгновенье соблазнилась; достаточно было того, что это модно, и что за этим стоит Запад.
В отличие от нас, страны восточно-азиатского чуда на веру ничего не принимали, и на соблазны, как и на прессинг, не поддались. Они сами, су-
1 Страны ислама, находящиеся под патронатом Запада, тоже не отличаются особым успехом (не считая стран Персидского залива с феодальным и близким нему устройством) Но и в этих прозападных странах, таких как Египет, Марокко, Алжир и даже европеизированная Турция, прозападные режимы держатся на силе, едва сдерживающей религиозный экстремизм.
щественно уступая нам в те времена интеллектуально, сумели экономически изыскать и усвоить чужой, пригодный опыт, и адаптировать его к своим странам, к их специфике.
Для Украины, хотя бы как назидание и урок, полезно было бы узнать касающиеся нас особенности опыта Китая. Китай, как, впрочем, и другие страны региона, отбросил навязываемую Западом модель упомянутого Вашингтонского консенсуса. При этом руководство страны, с опорой на отборные научные силы, не просто осваивало лучший мировой опыт, но и умело диверсифицировало его с учетом разных критериев. Выстраивалась мозаика, умело сотканная из разных мировых, высокоэффективных рыночных моделей, пригодная для адаптирования как в целом к стране, так и — дифференцированно — к разным секторам и народнохозяйственным уровням.
Причины столь разительных различий в самом отношении к выбору реформаторских подходов у нас и в Китае не случайны. Народу Украины, как, впрочем, и России, рационализм не свойственен. Причем это характерно не только для ситуации посттоталитаризма (а точнее — безвременья), но и для условий тоталитарной системы. Достаточно вспомнить времена Брежнева, длившиеся двадцать лет, чтобы убедиться в этом.
Говоря об иррациональности восточных славян, я вовсе не хочу сказать о них плохое. В сугубо человеческих отношениях холодный и расчетливый рационализм отталкивает. Иррациональное, в отличие от этого, обычно ближе к доброте, эмоциям, а это — источник счастья. Но в деле государственного устройства, особенно в выборе пути, это вредит. В Китае, с его полуторатысячелетней пропитанностью правилами конфуцианства, источники рационального отношения к чужому опыту двоякие. С одной стороны — это настороженное, недоверчивое отношение ко всему чужому; с другой — культ знаний, в том числе добытых освоением лучшего чужого. Отсюда жажда освоения полезного чужого опыта, и не только технико-технологического, в чем Китай сейчас не знает себе равных.
Могут возразить: зачем нам опыт и ценности Китая, когда мы — европейцы, и достаточен нам опыт Запада. Полагаю, это заблуждение, и не только потому, что Запад подходил и подходит к нам с двойным стандартом: себе плюсы, а нам — минусы. Ведь не зря, проутюжив нашу экономику монетарно-либеральным экстремизмом, Запад норовит проделать то же самое через требования, идущие от ВТО. Еще недавно, до кризиса 1998 г., нас заставляли завышать курсовую значимость гривни, что убивало экспорт и вытесняло с рынка отечественного производителя. А мы, как дети, радовались, что гривня сильнее дойчмарки.
Значение имеет и то немаловажное обстоятельство, что со странами Западного авангарда мы во многом, в том числе и в способах реформаторства, несопоставимы. Там давно все состоялось; мы же находимся лишь в начальной, притом порядком покалеченной фазе перехода к подлинному рынку.
Надо учитывать, что именно китайский опыт реформирования, а не опыт Запада, для нас, с учетом наших деформаций и пороков, является наиболее полезным и еще более — поучительным. К тому же заложенный в конфуцианстве рационализм, наполняющий собою образ жизни в Китае, су
щественно отличается от рационализма западного. Конфуцианская рациональность проникнута теплом, а не холодом; китайская рациональность — это игра в поддавки, это привлечение на свою сторону, это достижение согласия, а не бездушный расчет. Нам все это ближе.
Коренная черта китайского реформирования, противостоящая нашим прошлым и, — я не сомневаюсь, — будущим провалам, это спасительные для китайской экономики преемственность и постепенность.
В отношении преемственности Китай демонстрирует то, что вообще считалось невозможным: там достигнуты успехи на основе соединения несоединимого: руководящей роли компартии и рынка.
Ясно, что так далеко в преемственности ни Украина, ни Россия зайти не могли. Но ведь не без наших инициатив было сознательно растоптано многое из важного и нужного, что вполне можно было воспринять от бывшего Советского Союза, который, кстати, по критериям модерна был намного ближе к Западному авангарду, чем опередившие нас ныне Венгрия и Польша. И дело здесь не только в разрыве трудновосстановимых ныне российско-украинских научно-технологических связей, не только в потере на старте сегментов российского рынка, но и в преступном небрежении реформаторскими наработками; и не только времен Косыгина. Именно таким небрежением стало наше отношение к планированию, которое вполне поддавалось рыночно-ориентированному трансформированию, что, кстати, успешно сделали Япония и Китай. Мы же все это отбросили лишь потому, что не хотели, считали непристижным обращаться к отвергнутому прошлому.
В Китае, в отличие от нас, разрыв преемственности, по тем же конфуцианским канонам, считается катастрофой. Урок, полученный в период культурной революции, т. е. в период деспотического подавления конфуцианства, освоен сполна. И как только регулирующая сила ценностей конфуцианства была восстановлена, многочисленные скрепы-символы преемственности и постепенности, выполняющие в Китае по сути роль законов, стали органичны и для властных структур, и для всего народа.
Конфуций учил — и это в нынешнем Китае свято, — что ключ к современности, ее проблемам, нужно искать в истории страны, и это тоже формирует уважение к прошлому, учит выискивать в нем ответы на сегодняшние вопросы. Далее, согласно древним китайским представлениям, жизнь — это река Времени. Река времени течет, человек сидит в лодке без весел, и смотрит не вперед, а назад. Здесь тоже реализована идея преемственности, и такие символы — составляющая жизни, не только мышления.
Еще один важный скреп, содействующий преемственности — это огромное значение, придаваемое ритуалу и традициям. Конфуций, если обратиться к его жизнеописаниям, к ритуалу возвращается непрерывно. Для нас, необученных, все это может показаться чем-то пустым и назойливым.
Объяснить значение ритуала можно с помощью такого примера.
Ингушетия и Осетия — враждебные друг другу республики. Если осетин хочет продать свой скот во враждебной стране, он идет в Ингушетию, бродит по селам и выбирает дом, который кажется ему перспективным для торговли. Дом, в котором живет большая семья, и, по внешним признакам, — семья благополучная. Он подходит к играющим ребятам, узнает, кто в этой
семье отец, а потом говорит, иди к отцу и скажи, что пришел друг из Осетии. Тот идет и говорит это папе, а раз такое сказано, то папе деться некуда — это уже ритуал, он вынужден накрывать стол, приглашать гостя и соседей, и они в течении 2-х часов говорят ни о чем, т. е. поднимают тосты, что-то вспоминают, — идет узнавание друг друга. В процессе исполнения такого ритуала они убеждаются, что могут говорить друг с другом, могут стать кунаками. А кунака никто не может по обычаям обидеть, даже если идет война.
Извиняясь за отступление, оговорюсь, что Осетия не Китай, что ритуалы в Китае — это целая наука, и ее знатоком является весь народ. Исполнение ритуалов дает там эффект взаимного согласия и нахождения друг с другом общего языка, эффект узнавания друг друга. И это все формирует то начало, которое выражается в преемственности.
Не случайна и приверженность китайцев к постепенности. Самое страшное для китайцев — перерыв постепенности, т. к. это возникновение хаоса. На формирование культа постепенности «работают» и укоренившиеся тысячелетиями представления китайцев о своей стране как Срединном государстве. Согласно «Книге перемен» Китай как срединное государство — это пуп земли, т. е. страна, образующая центр мироздания, а вокруг государства идет вечное вращение жизни. И вот в ходе этого вращения медленнее вращается то, что ближе к центру, а быстрее — что от центра дальше. И лишь там, где вращение быстрое, развитие делает скачки, люди стремятся к быстрым переменам, суетятся и кидаются от одного способа жизни к другому. Поэтому там, вдали от медленно вращающегося центра, перемены оказываются катастрофичными, а ближе к центру, где живет Китай, царит несущая благополучие постепенность.
Возьмем теперь такую важнейшую составляющую китайской культуры, как иероглиф. К примеру, определенный иероглиф обозначает пожелания счастливого пути. Оказывается, расшифровывается он так: «двигайтесь медленно, степенно, размеренно и с достоинством». Чтобы оценить это явление, надо знать, что иероглифы, в отличие от наших букв, несут определенную картину, характеристику явлений, они наполнены глубоким, часто поучительным и важным смыслом. Во многом это — символ, указывающий на действие и поведение.
Легко проиллюстрировать тот факт, что постепенность — это один из основополагающих принципов реформирования, обеспечивающий реалии экономического чуда. Казалось бы, для нас, уверенных в том, что реформы неудачны из-за медлительности, такое непонятно. На деле, когда медлительность рациональна, она дает парадоксальный эффект: не быстрота, а постепенность становится источником не просто динамизма, но и стремительно нарастающей результативности. Ведь тот, кто бывает в Китае, знает: через каждые два года перед нами новый Китай, о том же говорят макроэкономические показатели и темпы повышения жизненного уровня по сути всего населения страны.
Так в чем же заключен феномен, обозначенный как быстрота, достигаемая за счет постепенности?
Во-первых, постепенность перемен — отнюдь не синоним медлительности. Постепенность означает лишь исключенность ажиотажного, почти
что истеричного нетерпения, проявляемого, к примеру, нами в желании любой ценой, не считаясь с потерями, вступать в ВТО, или вытребовать без оснований на то от ЕС права на скорейшее вступление в это сообщество, или немедленно уничтожить колхозы, не давая ничего взамен.
Во-вторых, постепенность означает недопустимость радикальных перемен на тех участках, где ситуация для перемен еще не созрела. К примеру, Китай не спешил с приватизацией в промышленности, пока там не была создана конкурентная среда, а сами предприятия еще не отвечали критериям дееспособности.
В отличие от нас, в Китае понимали, что даже наличие инвестиций не делает приватизацию слабых предприятий эффективной, что вкладывание в неподготовленное предприятие инвестиций ведет к их (инвестиций) обесцениванию, что оправданная очередность мер — это когда вначале идет создание конкурентной среды, и всей необходимой рыночной инфраструктуры, а затем — приватизация.
Факт конструктивности в Китае системы ценностей — вещь по нынешним временам уникальная. Подобное возвращает нас ко временам расцвета этики и смыслов протестантизма, когда все ценностные элементы непосредственно превращались в инструменты роста эффективности. Сейчас на Западе это угасает. Отсюда важность ознакомления именно с азиатским ценностным наполнением успешных реформ для стран, которые потерпели поражение в реформах по причинам ценностной ущербности.
Исключительно поучителен для такой страны как Украина (в том числе для целей подтягивания к европейским стандартам) и практический (а не только ценностный) опыт Китая в осуществлении рыночноориентированных реформ.
Неожиданным для украинцев должен быть вывод, согласно которому Китай извлекает пользу из подходов, близких к тем, которыми нас в вузах и на политучебе еще недавно «перекармливали». Так, может показаться, что именно нам пристало извлекать пользу, скажем, из диалектики. Но мы все это выбросили на свалку, как доставшееся от советского прошлого. А Китай нечто похожее успешно использует уже много тысячелетий. Действительно, нам и в страшном сне не могло присниться, что из гегелевской философской эквилибристики можно «выжать» что-то для практики. Китай же шаг за шагом практически осваивает эффект третьего пути, буквально играя в похожие на диалектику игры. Мы знаем из философии, что единое раздваивается на «+» и на «-», на «жарко» и на «холодно», раздваивается, скажем, на покой и стремительное движение; на равнодушие и страсть. Так вот китайцы, чтобы достичь успеха на практике, не принимают ни того, ни другого, а принимают середину. Они стремятся выискивать путь между двумя крайностями — вбирающий обе крайности срединный путь. На практике нащупывание третьего пути воплощается в конкретику, основанную на той или иной методике. Один из таких приемов, когда искомый третий путь — это не просто средина, а то, вокруг чего происходят определенные маятниковые колебания — это чувство меры, побуждающее не оторваться слишком в одну или другую сторону. Именно подобное нащупывание того, что находится между крайностями, помогает находить тот путь, который неординарен и
эффективен. Ведь даже общая, наиболее обобщенная характеристика реформ в Китае — это не путь капитализма, и не путь социализма, и даже не стандартный путь переходной экономики, а нечто третье, находящееся между крайностями.
На том же принципе нахождения третьего пути основана типичная для Китая преемственность. Казалось бы, и мы, изучавшие гегелевский закон отрицания отрицания, могли применить аналогичный подход, и, вопреки содеянному, реализовать принцип преемственности. По диалектике Гегеля развитие определяется как отрицание отрицания, с преемственностью полезного. И это есть мудрость, аналогичная китайской. Используя ее, уверен, мы сократим во времени столь интересующий нас путь в ЕС, т. е. в Европу.
Единение Европы, — это великая идея; это — блистательный гуманистический проект.
Украина, правомерно считающая себя европейской державой, имеет в этом отношении определенные преимущества перед Россией. Но и Россия, имея в этом отношении некоторые свои основания, отсутствующие в Украине, тоже претендент на «европейство». А кроме того — что склонны не замечать в Украине — Западная Европа на протяжении веков, после Петра I, считала Россию своим евразийским форпостом. Это обстоятельство отражено в трудах крупнейших европейских историков, социологов и философов и, в частности, в двенадцатитомном труде А. Дж. Тойнби «Постижение истории». «Стратегия Петра Великого, — читаем мы там, — была направлена на то, чтобы при включении России в западное общество в качестве равноправного члена сохранить ее политическую независимость и культурную автономию» ’. И далее: «...это был первый пример добровольной западной самоидентификации незападной страны» 1 2.
Примечательно, что в ходе дальнейшего изложения исторического материала А.Дж. Тойнби не раз возвращается к идее европейскости России, подчеркивая при этом, что, в отличие от отсталой Польши, Россия подпитывалась передовыми идеями таких стран, как Франция, Англия, Германия.
Ныне наступили времена, когда объединение незападных европейских стран в единой Европе стало реальным. Причем для Украины, ставшей суверенным государством, первый шаг в этом направлении сделан вступлением в Совет Европы, и нет сомнений, что прошедший недавно десятилетний юбилей этого события — знаменательная дата. Ведь именно вступление в Совет Европы, при всей внешней скромности полученных пока что дивидендов, дало мощный импульс евроинтеграции страны. И именно эта, десятилетней давности дата, положила начало осознанному европейскому выбору.
По моему мнению, европейскость — это общеславянская идея. Это идея не только Украины, но и России, и других славянских стран.
Теперь о том, как реализуется эта идея. Вот тут начинается самое интересное. Похоже, что, с одной стороны, вступать в Евросоюз Украине еще ра
1 Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991. — С. 564.
2 Там же.
новато, а с другой — быть может, уже поздно. То есть я не исключаю, что вступление наше в Евросоюз, как линия горизонта, тем дальше удаляется, чем ближе мы к ней подходим.
Начнем с тезиса о том, что вступать рановато. Истоки этого вывода — существенный перепад в уровнях развития экономики Украины и стран ядра Евросоюза. Наш ВВП на душу населения составляет всего 15 % от уровня стран ядра, тогда как принятые в ЕС десять новых стран имеют 40 %, что, кстати, приемлемо для Евросоюза только с большой натяжкой. Членство они получили лишь потому, что после распада СССР, под давлением США принято было соответствующее политическое решение.
Надо сказать, что в преддверии распада СССР ситуация в Украине была более благополучной. Ведь даже сейчас, после 15 лет самостоятельного дрейфа в светлое украинское будущее, мы дотянулись по показателю развитости лишь до 60 % от уровня УССР 1990 года. Причем разрыв с нашим же прошлым имеет место не только в показателях индустриальной мощи, но и в сфере потребления. Пример: потребление мяса в Украине на душу населения в 1990 г. составляло 80 кг, а ныне — 33 кг, и т. д.
Возникает, естественно, вопрос: почему так получилось? Ведь ожидалось, что страна, намного превосходящая по потенциалу Польшу, будет «славянской Францией». Так вот, судьба экономики в этом нашем почти клиническом случае определялась не качеством человеческого капитала, и не управленческими механизмами, а таким, казалось бы, далеким от экономики феноменом, как цивилизационная специфика.
Теперь о ситуации с отменой смертной казни. Мы приняли решение не казнить даже в чрезвычайной ситуации, что удивило Европу. В экономике мы тоже стали «большими католиками, чем Папа Римский» в части ее радикального слома (включая слом лучших в мире научно-технологических комплексов) лишь потому, что наша экономическая система была в прошлом советской, т. е. «нерыночной».
Мы оказались не способными включить тормоза, т. е. не способны вовремя остановиться и одуматься. Ведь именно мы и Россия (других примеров в мире нет) провели по указке МВФ шоковую терапию столь радикально, что падение страны (65 %) оказалось самым глубоким и самым продолжительным среди более чем двадцати постсоциалистических стран. И остановил нас в этом падении не разум, а кризис 1998 года! Или еще пример: мы радикально стирали с лица земли колхозы, когда загорелись желанием сделать сельское хозяйство рыночным. Я помню, как В. Ющенко, будучи в 2000 г. премьером, заявлял: «Кто хочет увидеть последний колхоз, спешите, потому что через неделю их уже не будет». Ведь колхозы тогда просто разламывались, причем председатель, чтобы «быть ни при чем», уезжал куда-то на неделю «в командировку», пока все ликвидировалось. А теперь, в итоге произошедшего, имеем заросшие бурьяном поля и поголовье скота, в разы уменьшенное.
Совершенно по-иному делали все это чехи, которые, кстати, лишь условно считаются славянами, т. к. в социально-экономическом отношении давно онемечены. В Чехии были почти те же колхозы, только под другим названием. И они, эти социалистические сельхозпредприятия, были чехам чужды в еще большей мере, чем нам. И тем не менее, чехи свои «колхозы» не
громили, а для начала поэтапно коммерциализировали, придавая им другую форму — рыночную; и у них все прошло успешно. Мы же имеем с тех пор руину.
Вот нечто подобное происходит у нас и с европейской идеей, только революционную ломку в этом отношении не устроишь.
Когда же доходит дело до осмысливания евроинтеграционных реалий, весь пиар уходит в свистки. Мы так и не выяснили, что нужно для того, чтобы нас приняли; по каким критериям туда вообще принимают. Мы эти вещи практически не обсуждали. Вывод: мы иррациональны, и это обстоятельство, тормозящее дело, отличает нас от европейцев.
Нам следовало бы, учитывая высокую планку приема в Евросоюз, сначала поднатужиться, перестать грабить страну и выводить деньги за рубеж, и постараться подтянуться к Европе внутри страны. И этим, достигая экономического и социального успеха, продемонстрировать свою европейскость. В противном случае наша нацеленность на вхождение в ЕС отдает то ли фанфаронством, то ли банальным иждевенчеством.
А между тем в своей виртуальной (воображаемой и декларируемой) евроинтеграции наши вожди и политики уже зашли достаточно далеко, поскольку превратили идею вхождения в Европу по сути в разновидность национальной идеи. Хорошо это, или плохо? Я думаю, что, в общем, при успешном течении событий, это было бы хорошо, особенно если бы сама эта идея имела достаточно прочное, на реалиях выстроенное основание. Но сейчас она напоминает идею построения коммунизма. Пока идея коммунизма была объектом слепой и фанатичной веры — она действительно мобилизовывала. Но как только оказалось, что все это миф, сразу проявились предпосылки рассыпания и развала Советского Союза. То есть, я хочу сказать, что идея, которая оказывается запредельной, да еще «зовет в светлое будущее», может обернуться крахом страны. Ведь когда идея такого масштаба рушится, то лучше, чтобы ее вообще не было. Потому что тогда начинается, так сказать, депрессия, начинается неверие и беспросветность, губительно влияющие на состояние страны.
Мне кажется, что на данном этапе нам нужно дополнить идею европейскости идеей конкурентоспособности. Именно конкурентоспособности, а не благосостояния, ведь мы за эти последние месяцы, обеспечив дисбаланс в воспроизводстве, искалечили идею благосостояния. Мы изловчились доказать, что благосостояние может расти так, что все будет трещать, и оборачиваться негативом. То есть власть ради предвыборного пиара деформировала развитие всей экономики, превратив благосостояние в проедание. А вот идея конкурентности не поддается в такой мере деформированию, поскольку она в случае любого перекоса дает сигнал «SOS»!
Теперь хотелось бы поговорить о евростандартах, однако при этом следует различать стандарты и ценности.
Среди европейских стандартов есть много такого, что сами европейцы считают чрезмерностью, а то и явлением вредоносным. Ведь стандартов этих сотни тысяч, и они, по мнению самих европейцев, буквально блокируют развитие. Так, существуют стандарты, касающиеся длины огурцов и бананов, величины и формы яйца и т. д. Это колоссальная бюрократия,
сковывающая развитие. Причем иезуитство состоит в том, что евростандарты каждый год обновляются приблизительно на 15—20 %, чтобы страны-конкуренты не могли их достичь, и из-за этого конкурент может находиться в состоянии вечной гонки за стандартами, которые «догнать» нельзя.
И, кстати, крупнейшие западные экономисты и политологи выражали надежду, что 10 новых стран разблокируют бюрократизм, который исходит из Брюсселя. Брюссель — это источник махрового бюрократизма, а действенный инструмент обюрокрачивания — стандарты. Сказанное не означает отрицания важности евростандартов; важно только делать это осмысленно и избирательно.
А теперь — о шансах быстрого освоения важных и нужных для нас евростандартов. Процесс этот сильно осложнен и нереализуем в условиях экономической отсталости. Если же мы будем поднимать уровень развития страны и станем успешными, то любые стандарты покажутся делом легким, доступным и, я бы сказал, самореализуемым. Так что нужно браться не столько за стандарты как таковые, сколько за структурно-качественные сдвиги, необходимые для успешного развития. В том-то и дело, что мы сейчас не подходим Европе по главному стандарту — стандарту развитости. Главный критерий, хотя он и не очень точный — это критерий ВВП на душу населения. Его достижение, дотягивание до европейского уровня определяется не столько темпами роста, сколько позднеиндустрильной, а затем и постиндустриальной модернизацией. Нужно учесть, что европейская экономика очень чувствительна к перепадам уровня. Ее преимущество, среди прочего, в выравненное™, что позволяет успешно использовать надстрановые институты и макрорегуляторы.
Это в СССР перепады в уровнях не являлись преградой для развития. В СССР преобладало примитивное (хотя имелось и программно-целевое, т. е. модерное) планирование, когда по сути индивидуально доводили план. Эти грубые регуляторы были успешны лишь на раннем этапе индустриализации. Их исчерпание связано было с переходом к сложным технологическим системам. Неспособность СССР регулятивно адаптироваться к новейшей технической базе была одним из источников его краха. В Европе же главное богатство — это регулятивная система, на которую они полагаются и благодаря которой рассчитывают (что определил Лиссабонский саммит) догнать Америку. Но эти регуляторы, как тонкая и ломкая структура, при любом серьезном перепаде в уровнях развития между странами дают сбои, что выводит систему из строя.
Достаточно для иллюстрации сказанного сослаться на опыт приема в ЕС Португалии, Испании и Ирландии, которые вошли, образовав перепады в уровнях. Тогда регулятивная система, так сказать, «завибрировала», начались асимметричные шоки, и только в силу того обстоятельства, что Евросоюз был в то время на большом подъеме, и мог «кинуть» в разломы огромные ресурсы, регулятивная система была отлажена.
Как видим, претензии войти в ЕС с нашим глубоким перепадом в уровне развития экономики несостоятельна; это могло бы дать импульс выведению из строя всей экономики ЕС.
Возникает вопрос, что же нам все-таки делать для того, чтобы подтянуться. Не вдаваясь в глубокий анализ, назову только три позиции.
Первое — это заблуждение, что наше главное богатство — чернозем. Это архаическое заблуждение. Да, действительно, еще в начале 20-го века чернозем был главным богатством. Но сейчас главное богатство любой страны — это регулятивная система, это система институтов, это система макрорегуляторов. Здесь первенствует Америка. Благодаря этой первоклассной системе США лидируют и в научно-технологическом развитии. Азиатские страны тоже содержат эту систему в состоянии достаточно хорошем. Европейская же система дает сбои, поскольку она пополняется новыми, менее зрелыми странами, которые к ней еще не адаптировались. Наша же институциональная система не только архаична, примитивна, рассчитана на допотопный рынок, но, к тому же, она изрешечена черными дырами; модерн в ней практически отсутствует.
Поэтому нужно начать с конструирования системы институтов. Без наличия модерного институционального обустройства страну не выведут из отсталости ни сами по себе финансы, ни программы. Достаточно, например, того, что у нас налицо лишь «короткие» деньги, «длинных» денег нет. Достаточно одного этого обстоятельства, чтобы никакие вложения в программы развития не могли дать научно-технологического эффекта. А «длинных» денег нет, т. к. нет фондового рынка, нет «долгоиграющих» страховых и пенсионных фондов, и т. д., т. е. речь идет о сложной иерархической системе со взаимодополняемыми институтами.
Второй момент связан с первым. Мы имеем архаичную культуру Времени. У меня подозрение, что не только наши вожди, но и наш народ живет от урожая до урожая, от бюджета до бюджета, так что беда, быть может, заложена в глубоких традициях. А вожди как раз и выражают это бескультурье Времени. Передовые страны живут иной, сценарной культурой Времени. Сценарная культура — это когда видят будущее, и выстраивают настоящее под это будущее: кирпич за кирпичом, ступенька за ступенькой. Но тут надо обладать способностью в переходные времена не только народу, но и «элите» затягивать пояс потуже. По-видимому, народ наш слишком жизнелюбив; мы не умеем (особенно те, кто вверху) себя ограничивать. Наш «король» не способен, как король шведский, ездить в трудные времена на велосипеде и быть аскетом. Наш народ гедонистичен, он предан удовольствиям комфорта. И не случаен фольклор — «летят сами в рот галушки». Такое ярко выраженное жизнелюбие является прекрасным качеством для повседневной жизни, но оно опасно для ставки на долгосрочное развитие. Все это важно осознать, причем прежде всего — нашему властвующему сообществу.
И третий момент — это важность преодоления равнодушного, а теперь уже и враждебного отношения к научно-технологическому прогрессу.
При всем том, что время от времени были в Украине вспышки повышенного внимания к НТП, и при Е. Марчуке, и при А. Кинахе, и при В. Януковиче, — это были короткие эпизоды, недостаточные для перелома отношения к научно-технологическому прогрессу. Во времена СССР руководство шло из центра, а периферия инициатов не имела, поэтому традиция,
не успев сформироваться, заглохла. Наша Академия наук, имея подобные традиции, оказалась на финансовой мели, и в общий контекст периферийного развития она на вписывалась.
А между тем, поднимаются сейчас только страны, уделяющие особое внимание научно-технологическому развитию. Остальные опускаются, даже имея высокие темпы роста. В России рассчитали, что если бы страна всего на один процент увеличила свой удельный вес в мировых высоких технологиях, то это перекрыло бы две трети доходов от всего российского экспорта. Россия, кстати, уже в направлении научно-технологического прогресса движется. Мы же остаемся в состоянии стагнации.
Многое в деле научно-технологического прорыва зависит от симбиоза с Россией: ведь мы в этой сфере взаимодополняемы, а Россия расположена к сотрудничеству.
Теперь о нашей и европейской системах ценностей. В том, как соотносятся наши и европейские ценности, у нас царит полная неразбериха. В чем мы превосходим их, а в чем они лучше нас? Где, следовательно, нам нужно по возможности трансформироваться, а где остаться самими собой? Мы превосходим Запад во многом: в эмоциональности, в доброте, в отсутствии предельного утилитаризма. Когда-то Ч. Дарвин о себе писал: «Я в молодости был человеком эмоциональным, а теперь я стал машиной, которая перерабатывает информацию. И это равноценно потере счастья!». Так вот, это счастье атлан-тисты все больше теряют, и особенно — Америка, потому что там многовековой культ денег, а ныне мировосприятие осложнено еще и потребительством, что предопределяет духовную деградацию. И когда, скажем, наш театр выезжает на Запад, зрители удивляются искренности чувств, что в тех странах редкость. Полагаю, к примеру, что у нас никогда не приживется практика, когда любящие друг друга парень и девушка, соединяя судьбы, составляют контракт о том, как они будут делить мебель в случае, если разойдутся. Это пустяк, но через этот пустяк проглядывает иная система ценностей.
Ну а теперь о тех ценностях, которые на самом деле нужно перенимать. Прежде всего, о ценностях демократии.
Конечно, сейчас расширились рамки свободы, а свобода — это компонент демократии. И в этом смысле Майдан — конечно же, движение к демократии. Но реализуется эта свобода только при двух условиях: при условии соблюдения прав человека и при условии законопослушания. Иначе свобода — это хаос и беспредел. Так что нам еше нужно из свободы вылепить демократию. Это очень сложный процедурный процесс: прежде всего — законодательный. Но также это процесс, я бы сказал, формирования человека методами, которые нам еще предстоит освоить. Одних законов тут мало, нужна еще и традиция их уважения.
Я уделил основное внимание проблеме подтягивания к Европе внутри страны. Решение этих задач необходимо было бы и в случае, если бы вовсе не было никакой Европы. Но, к счастью, она есть, и есть с кого брать пример. Как видим, пока что до Европы мы не дозрели, и идти туда нам рано.
Но не исключено, что скоро будет уже поздно. В Европе получают все большее развитие процессы, которые разрушительны для евроатлантизма, т. е. для нынешней цивилизации Европы. Европа переживает серьезнейшие
этносоциальные ценностные трансформационные перемены, и не далеко те времена, когда Лондон уже не будет городом английским, Париж не будет городом французским, Берлин будет городом турков, курдов, албанцев и т. д. Европе, таким образом, грозит перспектива перестать быть Европой в традиционном понимании.
Далее, в Европе, в том числе из-за прилива иммигрантов, развернулись мощные движения протеста по поводу расширения ЕС. Эти протестные праворадикальные движения раскручиваются; их риторику все больше осваивают проправительственные партии. И тут дело не столько в новых странах, которые недавно приняты, сколько в том, что Западная Европа теряет идентичность, все больше перестает быть западно-европейской цивилизацией.
Но ведь нынешний и прошлый успех Европы — это реализация ценностей европейских, прежде всего, европейского рационализма; это богоугод-ность богатства, уравновешенная умеренным аскетизмом; это индивидуализм, существенно отличающийся от нашего и обеспечивающий самодостаточность и стремление к самосовершенствованию. Это и многие другие ценности, связанные, как и все вышеупомянутые, с протестантской этикой.
Однако может получиться так, что ко времени нашего «дозревания» до европейскости и европейских ценностей сама Европа станет принципиально иной, — с преобладанием ценностей иных цивилизаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко)
Цивилизационная структура современного человечества
Цивилизационная структура современного человечества
Глобализация и ее движущие механизмы
Противоречия глобализации и цивилизационные сдвиги современности
Мировые цивилизации в глобализованном мире: проблемы и перспективы
Как было показано в первом томе настоящего издания, цивилизационную структуру современного мира можно рассматривать в двух измерениях: мир-системном, на основании концепции мир-системы И. Валлерстайна, и регионально-цивилизационном, базирующемся на идее цивилизационной дискретности человечества и теории его циклично-поступательного цивилизационного развития А.Дж. Тойнби.
Первый подход предусматривает выделение мир-системного ядра — группы наиболее развитых и богатых постиндустриальных стран Запада и Дальнего Востока, полупериферии — индустриально-аграрных среднеразвитых государств, и периферии — бедных и отсталых аграрно-сырьевых государств с низкими, а то и отрицательными показателями темпов развития.
Второй исходит из того, что человечество как прежде, так и теперь представляет собой сложную динамическую систему отдельных взаимодействующих между собой цивилизационных миров, региональных цивилизаций, их субцивилизационных составляющих, филиаций и анклавов, а также цивилизационных и трансцивилизационных общностей.
Сегодня различные цивилизации (в отличие, скажем, от того, что наблюдалось полтысячелетия или тысячелетие назад) не просто сосуществуют и взаимодействуют. В глобализированном мире они и их составляющие структурируются в иерархическую систему, в пре-
делах которой между различными группами человечества все более увеличивается разрыв в технологическом и экономическом развитии, уровне и качестве жизни. Северная Америка, Западная Европа и Япония, лидирующие в этих отношениях, относятся к мир-системному ядру, тогда как остальные цивилизации принадлежат к мировым полупериферии и периферии.
В стадиальном отношении первые вышли на уровень информационного, точнее, по М. Кастельсу, информационального общества. Благодаря им и базирующимся в них транснациональным компаниям, в мире в последнее время сложилась экономика нового типа, которая является одновременно информациональной и глобальной. Информациональной — поскольку производительность и конкурентоспособность ее агентов в первую очередь зависит от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на знаниях. Глобальной — так как основные виды экономической деятельности, такое как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, рынок) организуются в глобальном масштабе, непосредственно или с использованием разветвленной сети, связывающей экономических агентов. Информациональной и глобальной — потому, что в новейших исторических условиях достижение определенного уровня производства и качества конкуренции возможно лишь посредством включения в глобальную сеть взаимосвязей, сложившихся в последней четверти XX в. как следствие развития сферы информационных технологий *.
Полупериферийные страны, в целом, остаются на стадии индустриального общества (иногда с анклавными вкраплениями информациональных структур, работающих в теснейшей взаимосвязи с ведущими центрами мир-системного ядра, но более опирающиеся на свою аграрно-сырьевую базу). А третьи — частично находятся на примитивной индустриальной стадии, однако демонстрируют широкое, во многих случаях преобладающее, присутствие доиндустриальных систем производства, вплоть до анклавного наличия раннепервобытного охотничье-собирательского уклада.
Страны мир-системного ядра выступают в роли информационного, технологического, экономического авангарда современного человечества. Но основная часть населения Земли проживает в существеннейшим образом зависимых от них государствах мировых полупериферии и периферии, где нарастает массовое недовольство сложившейся на рубеже XX и XXI вв. глобальной системы отношений. Последнее, как и отмеченная неравномерность в экономическом и технологическом отношении, в распределении мирового богатства, накладывается на собственно цивилизационные отличия, выражающиеся прежде всего в различных идейно-ценностно-мотивационных основаниях разных цивилизаций. Это определяет все большую разбалансировку, деструкцию прежней системы отношений на планете.
При безусловной экономической, военной и информационной гегемонии Запада, прежде всего США, такое положение дел провоцирует ответные
1 Кастельо М. Информационная эпоха: Экономика. Общество. Культура. — М., 2000. - С. 81.
реакции со стороны многих политически активных групп незападных народов; реакции, часто приобретающие преступные, бесчеловечные формы. Суть проблемы вовсе не в несовместимости ценностей отдельных цивилизаций (которые различны, но, в принципе, должны рассматриваться как взаимодо-полняющиеся), а в неприятии утилитарно-эгоистического духа и рекламно-коммерческих квазиценностей общества массового потребления большинством представителей традиционных цивилизаций.
Таким образом в современном мире картина стадиального развития человечества представлена как бы в синхронном территориально-пространственном выражении с наиболее широким за всю человеческую историю разбросом от глобально-информационального до анклавно-локального охотничье-собирательского типов. Понятно, что системообразующую роль играет первый, но, не смотря на это, прочные позиции занимают и многие другие, в частности, индустриальный и аграрно-общинный.
Второе измерение цивилизационной структуры современного мира определяется конфигурацией, взаимодействием, темпами развития и перспективами отдельных цивилизаций и цивилизационных миров. Поведение различных народов, их правителей и отдельных социальных групп так или иначе связано с присущими им идейно-ценностными, часто называемыми архетипическими структурами, а во многом и определяемо ими. Поэтому для того, чтобы адекватно понимать себя и других, а значит и правильно определять курс внутренней и внешней политики, необходимо иметь верное представление о природе и структуре отдельных цивилизаций.
Признание сказанного требует разработки культур-регионального измерения цивилизационной структуры современного мира, определяющейся конфигурацией, взаимодействием, темпами развития и перспективами отдельных цивилизационных миров и цивилизаций, субцивилизаций и зон цивилизационных стыков. В качестве предварительного эскиза можем предложить следующую цивилизационно-региональную структуру современного мира.
В самом общем плане можно выделять два цивилизационных мира, в свою очередь состоящие из отдельных цивилизаций, две полностью самодостаточные в своих идейно-ценностных основаниях, не входящие в эти миры цивилизации, одну цивилизационную общность, часто полагаемую также в качестве самостоятельной цивилизации, и несколько цивилизационных стыков — регионов, традиционно причастных к различным цивилизациям.
Два цивилизационных мира: Макрохристианский и Китайско-Дальневосточный. Две отдельные, не входящие в них цивилизации: Мусульманско-Афразийская и Индийско-Южноазиатская. Упомянутая цивилизационная общность — Транссахарская Африка. Кроме того, в мире существует несколько цивилизационных стыков, разных по своим масштабам: Балканский, Левантийско-Палестинский, Кавказский, обширный Центральноазиатский с его подразделениями, регион Юго-Восточной Азии и др. На цивилизационных стыках часто наблюдаются затяжные конфликты (Босния, Кипр, Чечня, Карабах, Кашмир, Синцзянь-Уйгурия). Однако в ряде случаев видим, в целом, достаточно добрососедское сосуществование и плодотвор
ное сотрудничество (Юго-Восточная Азия, Океания). В настоящее время особое геоэкономическое и геополитическое значение приобрела Юго-Восточная Азия или, шире, трансцивилизационный Азиатско-Тихоокеанский регион.
МАКРОХРИСТИАНСКИЙ МИР — название достаточно условное, однако схватывающее основу той мощной традиции, к которой так или иначе причастны бразильцы и мексиканцы, немцы и французы или русские и украинцы безотносительно к их личной конфессиональной принадлежности или ее отсутствию. Ныне он представлен имеющими общие корни и традиционно во многом близкие идейно-ценностные основания Западной, Восточнохристианско-Евразийской и Латиноамериканской цивилизациями. Каждая из них сама является сложноструктурированной.
Ведущее место в Макрохристианском мире в течение уже более полутысячелетия занимает западная цивилизация, которая прошла сложный процесс трансформационного развития. Утвердившись в раннем Средневековье в качестве Западнохристианской, она качественно обновляется в эпоху Возрождения, Реформации и Великих географических открытий и приобретает вид Новоевропейско-Атлантической. От нее отпочковывается Латинская Америка, но сама она продолжает расширяться за счет Северной Америки и Австралии с Новой Зеландией, колониально или полуколониально господствуя над Африкой и большей частью Азии. Из нее в течение втор. пол. XX в. выростает феномен, именуемый совремнным Западом (Евро-Атлантической или Западноевропейско-Североамериканской цивилизацией с ее анклавами).
Таким образом, современная Западная цивилизация четко, не только по духу, но и географически, разделена на две субцивилизации, Западноевропейскую (точнее, но более громоздко, ее следовало бы назвать Западно-Центральноевропейской, охватывающей европейские народы, традиционно исповедовавшие католицизм и протестантизм) и Североамериканскую. Она представлена также своей Австралийско-Новозеландской филиацией и анклавом в Южной Африке в виде белого меньшинства одноименной республики. В то же время Западноевропейская субцивилизация Запада в целом подразделяется на преимущественно романоязычно-католический, примыкающий к Средиземному морю, Юг и главным образом германоязычнопротестантский, охватывающий бассейны Северного и, в значительной мере, Балтийского морей, Север.
Отдельно следует оговорить положение Великобритании, являющейся в цивилизационном отношении мостом между Западной Европой и Северной Америкой с Австрало-Новозелацдией, с одной стороны, и занимающей в конфессиональном (англиканство, сохранившее много черт католицизма) и, в некотором смысле (благодаря широкой адаптации старофранцузской лексики), языковом — с другой, особое положение. Сказанное дает основания для выделения (в пределах Западной цивилизации) отдельной структуры, которую С.Л. Уцовиком предложено называть Англосаксонской (Океанической) субцивилизацией в противоположность континентальной Западной Европе.
Выделение некоей англосаксонской цивилизационной структуры выглядит вполне оправданным. В самом общем плане представляется более це
лесообразным придерживаться предложенного выше субцивилизационного членения «Большого Запада», относя Великобританию к Западноевропейской субцивилизации. Однако и взятый как относительное целое англоязычный мир имеет самостоятельное цивилизационное значение во многих отношениях, но в первую очередь — в информационно-языковом. Английский стал языком глобализации, по отношению к которому (при всем сопротивлении со стороны многих государств) другие языки (как ставшие международными национальные, типа французского и испанского, так и регионально-цивилизационные — например, арабский) оказываются приблизительно в таком положении, как иранские или тюркские по отношению к арабскому в средневековом Мусульманском мире, арамейский или древнеегипетский — к древнегреческому койне в мире эллинизма или даже иберийские, фракийские и кельтские к латыни в Римской империи.
Второй составляющей Макрохристианского мира выступает латиноамериканская цивилизация, в известном смысле «производная» от Западной на ее Новоевропейско-Атлантической фазе развития и теснейшим образом с нею связанная. Она сформировалась в течение XVI—XIX вв. в процессе сложной переплавки предельно разнородных в расовом, цивилизационном, этническом отношениях компонентов при ведущей роли иберийско-католического начала с его романским испано- и португалоязычием. В силу конфессиональной и относительной языковой гомогенности Латиноамериканской цивилизации, ее молодости и сходства исторических судеб составляющих ее государств, четких границ между составляющими ее субцивилизационными регионами не существует и само их выделение является весьма условным.
В отличие от Латиноамериканской, восточнохристианско-евразийская цивизилация имеет собственные, независимые от Западной, исторические корни, глубоко уходящие через Византию и древнее христианство в античный и древнеближневосточный миры Восточного Средиземноморья. При отсутствии общепринятой терминологии ее также можно называть Православно-Славянской, Славянско- или Восточнославянско-Православной. Нередко, особенно в России, подчеркивая доминирование в ней русского языка ее называют просто Русской или, опираясь на традицию евразийцев и неоевразийцев, — Евразийской. Однако каждый из этих терминов имеет свои недостатки.
Термин «Восточнохристианско-Евразийская» представляется более оптимальным, поскольку, во-первых, охватывает все народы восточнохристианской традиции, во-вторых, указывает на то, что территориально она объемлет — главным образом, тот огромный географический регион, который в узком, культур-историческом, употреблении слова и зовется «Евразией». Преимущественно восточнославянское население последней от Балтики и Карпат до Тихого океана составляло и составляет ее этническую основу, а в информационно-языковом отношеннии она базируется на литературном русском языке, подобно тому, как общим цивилизационным языком средневековых славян восточного обряда был церковнославянский.
В теснейшей исторической взаимосвязи с Восточнохристианско-Евразийской и Западной цивилизациями находится мусульманско-афразийская цивилизация. Такое определение представляется наиболее оптимальным,
поскольку выражает как ее религиозную природу, так и пространственное положение. Ныне она охватывает огромные пространства Африки и Азии от Атлантического до Тихого океанов, причем ее распространение продолжается и сегодня — как вглубь Черного континента, так и в Европу, где в наиболее богатых странах, как о том уже шла речь, возникают обширные анклавы мусульманского населения.
Рассматривая субцивилизационную структуру Мусульманско-Афразийской цивилизации, следует исходить из истории оформления ее ядра и распространения ислама, при адаптации мусульманской культурой элементов местных культур. Ядром этой цивилизации был и остается арабоязычный Ближний Восток. Однако уже с раннего Средневековья арабско-исламскими являются обширные пространства от Атлантики до Загросских гор, Персидского залива и Индийского океана. В этих пределах и следует определять Арабскую субцивилизацию Мусульманско-Афразийской цивилизации.
Второй, наряду с Арабской, можно считать Иранско-Средневосточную субцивилизацию. Ее становление в раннем средневековье определялось исламизацией иранского населения завоеванных арабами преимущественно ираноязычных областей Среднего Востока на восток от Месопотамии до Гиндукуша, Памира и Тянь-Шаня, но без его языковой ассимиляции.
Третий, Тюркско-Евразийский субцивилизационный ареал, тюркский в этноязыковом отношении, оформившийся в степной зоне Евразии между Северным Причерноморьем, Средним Поволжьем и западными отрогами Алтая, представлен ныне крымскими, волжскими и сибирскими татарами, башкирами, казахами и киргизами. В результате экспансии Московского царства и Российской империи, связанной с ней и с политикой славянской колонизации восточноевропейско-казахстанских степей, проводимой позднее СССР, в настоящее время очерченный регион преимущественно охвачен Восточнохристианско-Евразийской цивилизацией, при сохранении его самобытности на значительной части Казахстана и Кыргызстана.
Наиболее восточная часть Мусульманско-Афразийской цивилизации представлена его Индостанской и Малайско-Индонезийской филиацией. Ислам, а вместе с ним и арабский язык в качестве священного, здесь утверждается перед тем, как Индия, Малайзия и Бруней стали английскими колониями, а территория нынешней Индонезии — нидерландской. Подобным образом можно выделять Восточноафриканскую, Западносуданскую и Турецко-Балканскую (все более превращающуюся в Евроатлантическую) филиации Мусульманско-Афразийской цивилизации. Специфика последней определяется как мощной византийско-православной подпочвой, так и сильнейшим западным влиянием, зримо отразившимся в переходе Турции с арабского на латинский алфавит и ее членстве в НАТО. Эти и другие обстоятельства в цивилизационном отношении представляются более существенными, чем тюркская этноязыковая идентичность турок, роднящая их не только с тюркско-мусульманскими центральноазиатскими народами, но и христианами-гагаузами и шаманистами-якутами.
С Мусульманско-Афразийской цивилизацией в течение последнего тысячелетия теснейшим образом связана индийско-южноазиатская цивилизация. Она включает не только огромную и в последнее время динамически
развивающуюся Индию, культура которой базируется на мощном фундаменте индуизма, но и буддийские, органически связанные с традиционной индийской культурой, государства Юго-Восточной и Центральной Азии. В ней существует четко определенное ядро — в основе своей индуистская Индия и его огромная, практически полностью буддийская (крохотной и отдаленной от Индии индуистской филиацией остается лишь о. Бали) субцивилизационная периферия.
Индийско-индуистское цивилизационное ядро, при всей гомогенности его идейно-ценностной основы, весьма неоднородно в своих проявлениях. При бесконечном многообразии его форм, связанных с религиозной, сословно-кастовой, этно-территориальной и пр. спецификой, наиболее целесообразным представляется его традиционное деление на индо-арийскую в языковом отношении Арьяварту и дравидоязычную Дакшинападху — на Северно-Арийский и Южно-Дравидийский ареалы. Буддийский же периферийный, в значительной степени синкретический пояс можно разделить на южный (в конфессиональном отношении — южнобуддийский, ветви хинаяны) и северный (севернобуддийский, ветви махаяны) субцивилизационные ареалы: Цейлонско-Индокитайский и Тибетско-Монгольский. В Тибете и Индокитае цивилизационные компоненты индийского и китайского происхождения органически переплелись. В большинстве случаев можем говорить об индо-буддийском преобладании, но Вьетнам представляется более правомерным относить к Китайско-Дальневосточному цивилизационному миру.
КИТАЙСКО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ МИР занимает территорию, значительно меньшую, чем Макрохристианский, однако сопоставим с ним по демографическому и экономическому потенциалу, а по темпам развития значительно его опережает. К тому же принадлежащая к нему Япония, наряду с Северной Америкой и Западной Европой входит в мир-системное ядро. Он включает две цивилизации: Китайско-Восточноазиатскую и Японско-Дальневосточную, в значительной степени являющуюся производной от первой. Последнее определило многостолетнее функционирование (главным образом в письменной форме) китайского языка в пределах всего Китайско-Дальневосточного цивилизационного мира.
До середины XIX в. Япония выглядит типичной субцивилизацией той цивилизационной системы, бесспорным ядром и доминантой которой был Китай. Ситуация начинает принципиально изменяться с революции Мэй-дзи 1868 г., когда Страна восходящего солнца принципиально вступает на путь модернизации, тогда как Китай ускоренными темпами дезинтегрируется. Тем более принципиальные различия между Китаем (вместе с Вьетнамом и Северной Кореей) и Японией (вместе с Южной Кореей и Тайванем) нарастают в течение нескольких десятилетий по окончанию Второй мировой войны, достигая своего апогея в 70-х гг. XX в.
Китайско-восточноазиатская цивилизация из ныне существующих является древнейшей в мире цивилизационной системой с непрерывным, с середины II тыс. до н. э., собственным цивилизационным стажем развития. В то же время сама цивилизация Китая никогда не была гомогенной. Этнические, языковые и культурные, тем более хозяйственные различия, определяющиеся особенностями традиционной экономики, этнической подосно
вой, политической историей и пр., между китайскими Севером и Югом сохранились по сей день. Поэтому можно говорить о Севернокитайском и Южнокитайском субцивилизационных ареалах.
В определенные периоды истории в состав Китайской империи входили также Корея и Вьетнам, что определило их цивилизационный статус. Китай непосредственно накладывал на них отпечаток своей конфуцианско-бюрократической цивилизации, но передавал их народам и свои высшие культурные достижения, преимущественно творчески адаптировавшиеся и модифицировавшиеся корейцами и вьетнамцами. Поэтому вне собственно китайского ядра можем выделять две периферийные по отношению к нему Корейскую и Вьетнамскую субцивилизации.
Японско-дальневосточная цивилизация имеет своим ядром Японию. Южная Корея и Тайвань, относимые С. Хантингтоном вместе со Страной восходящего солнца к Японской (Тихоокеанской) цивилизации, по сути, генетически, относятся к цивилизации Китайско-Восточноазиатской. От нее они были искусственно обособлены (с переходом под власть Японии) лишь в самом конце XIX — начале XX вв. Этот процесс был закреплен разделом мира после Второй мировой войны, в результате которого Южная Корея и Тайвань, попав, как и Япония, в политическую зависимость от США, были сориентированны на подобную японской модель развития.
Государства южнее Сахары определяются в качестве цивилизационной общности субсахарской Африки, состоящей из различных, преимущественно стыковых в цивилизационном отношении, регионов. Следует упомянуть и об Океании, отдельные общества которой (Гавайи, Тонга) на момент их открытия европейцами по ряду параметров подошли к рубежу цивилизационной стадии развития. В настоящее же время можно говорить о гигантском в пространственном, но мизерном в экономическом и демографическом Полинезийско-Меланезийском цивилизационном стыке, где пересекаются волны влияний Западной и Японско-Дальневосточной цивилизаций.
Таким образом, в самых общих чертах можно представить цивилизационную структуру современного мира в ее социокультурно-пространственном отношении. Ее соотнесение с цивилизационной структурой глобализирующегося мира, представленной в соответствии с принципами мир-сис-темного анализа, показывает, что только две цивилизации — Западная (и то не полностью: в виде Североамериканской и группы наиболее развитых стран Западноевропейской субцивилизаций) и Японско-Дальневосточная (в лице Японии) входят в мир-системное ядро государств, достигших стадии информационного (информационального) общества. Остальной мир относится к полупериферии и периферии очерченного мир-системного ядра.
Глобализация и ее движущие механизмы
Современность — эпоха глобализации. Сегодня такое определение стало общепринятым. Тем не менее содержание самого понятия «глобализация» еще далеко не раскрыто. Что она из себя представляет? В чем ее суть? А главное: что несет она человечеству в целом и отдельным его составляющим?
В современной научной литературе сформировались три основных подхода к глобалистической проблематике: 1) подход гиперглобалистов, которые считают, что современная глобализация представляет качественно новую эпоху в развитии человечества, которое, в виде отдельных народов и государств, полностью подчиняется функционированию глобальной мегасистемы, прежде всего дисциплине мирового рынка; 2) подход скептиков, утверждающих, что глобализация — это преимущественно миф, и что соответствующие процессы, имея глубокие исторические корни, являются развертыванием прежних многовековых тенденций, которые накладываются на развитие отдельных наций-государств, а не определяют последние; 3) подход трансформационалистов, полагающих, что сегодня мир действительно переживает качественные преобразования на глобальном уровне, но последние имеют глубокие исторические корни и, в целом, не нивелируют этно-национальное и цивилизационное разнообразие социокультурных и экономических форм
В конце XX в. большинство интеллектуалов смотрело на глобализационные процессы оптимистически, что наиболее полно воплотилось к концепции «конца истории» Ф. Фукуямы 1 2. Хмурое предупреждение С. Хантингтона относительно «столкновения цивилизаций»3 казалось, не сбылось. Но 11 сентября 2001 г. человечество вступило уже в не только «календарное», а и настоящее XXI столетие. В течение нескольких следующих лет существенным образом изменился не только мир (американская интервенция в Афганистане и Ираке, кризис доверия среди ведущих членов НАТО в связи с событиями на Ближнем Востоке, расширение Европейского Союза, распространение движения антиглобалистов, выразительные тенденции к углублению регионализационных процессов, преимущественно на обшей цивилизационной основе, усиление фундаменталистских настроений, и не только в Мусульманском мире, но и в США, Западной Европе, России и т. п.), но и отношение к глобальным трансформациям последнего времени со стороны научного сообщества. Оно, в целом, стало более сдержанным, критическим и скептическим. Глобализационная романтика западных, преимущественно североамериканских, исследователей 90-х гг. прошлого столетия все больше отходит в прошлое. Вместе с тем четче проступают противоречия глобализации и цивилизационно-регионалистские тенденции.
Триумф Запада был предопределен в конечном счете ценностными мотивациями, которые, по критериям экспансивной мощи, ныне остаются непревзойденными. И именно под влиянием сложившейся на Западе системы ценностей, где-то в конце XIX в. в западном мире выстроилась целостная евроцентристская система, предопределившая контуры предпосылок глобализации.
«Горизонтальные», культуртрегерские категории «Восток — Запад» сменились социальной «вертикалью» «Север — Юг», унификация, гомогениза
1 ГелдД., МакГрю Е., Голдблатт Д., ПерратонДж. Глобалый трансформаци. Полпика, економжа, культура. — К., 2003. — С. 24—33.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М., 2004.
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2003.
ция мира сопровождалась его фактическим расщеплением на две социальные вселенные, движущиеся в противоположных направлениях. В дальнейшем появление СССР и раскол мира на две социально-экономические системы дали новый импульс мирохозяйственным и социальным мутациям, что существенно модифицировало несущие конструкции будущей глобализации. И лишь с распадом и крахом мировой системы социализма в мире появилась уверенность в сближении взглядов и подходов и надежда на общее понимание принципов мироустройства.
В качестве идейного фундамента перемен в жизнеустройстве были заложены демократические ценности, права человека; открытость сменила изоляцию; роль Запада как локомотива прогрессивных перемен была, вроде бы, признана повсеместно. И именно уверенность в полноценности и нерушимости наступившего благополучия спровоцировала вывод уже упоминавшегося Ф. Фукуямы о т. н. «конце истории», т. е. о том, что само по себе воцарение универсальных ценностей исключает перемены, способные поколебать победоносно шествующие по планете жизнеутверждающие устои.
Но тут случился конфуз, подобный тому, который пережила физика в начале XX в. Если ранее казалось, что все физические законы открыты, а сомнения выглядят как маленькое облачко, то на заре прошлого века твердь разверзлась, и от полной ясности не осталось следа. Примерно это ощущение, вскоре после распада СССР, но только (в отличие от знаний в области физики) режущее «по живому», испытало человечество в отношении реалий и перспектив наступившей эры глобализации.
Сущностью глобализации является превращение человечества в единую структурно-функциональную систему. Всякая система организована по иерархическому принципу. Отдельные элементы, блоки, субсистемы работают на обеспечение других, которые являются ведущими, системообразующими.
На планете все мощнее действуют глобальные закономерности и тенденции, характер которых определяется, преимущественно, интересами и возможностями небольшого количества мощнейших государств, международных финансовых учреждений и транснациональных корпораций. При таких условиях большинство стран второго и третьего эшелона: полупериферии и периферии по отношению к мир-системному ядру (в которое входят, согласно И. Валлерстайну, Северная Америка, Западная Европа и Япония), скорее подстраивается к их требованиям, чем самостоятельно и активно действует в направлении достижения своих целей и собственных интересов. Наиболее развитые в экономическом и научно-техническом отношении страны Запада и, частично, Далекого Востока, становятся безоговорочными гегемонами нового глобального, постиндустриального, информационально-го мира.
Бросается в глаза пропасть между мировыми лидерами и прочими странами, которая стремительно увеличивается. Общее социально-экономическое состояние, в частности качество жизни большинства населения не-за-падных стран (впрочем, за исключением таких гигантов, как Китай и Индия), в течение последнего десятилетия не улучшается, а скорее деградирует, что особенно заметно во многих государствах Африки, Постсоветской Евразии, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока.
Следует подчеркнуть, что процесс нарастания неравномерности развития и качества жизни между странами Запада и большинством других регионов планеты длится и усиливается уже в течение последних двух — трех столетий, особенно со времени промышленного переворота в Англии в конце XVIII в. и дальнейшего колониального распределения мира между несколькими ведущими странами Европы. Последние, используя свое экономическое и военно-техническое преимущество, смогли организовать вокруг себя (и в собственных интересах) практически все человечество и мобилизовать ресурсы планеты в интересах собственного ускоренного развития и обогащения.
В условиях глобализации имеем дело со взаимосвязанными разнонаправленными тенденциями. Постиндустриальные страны Запада во главе со США уверенно опережают другие государства по общему объему потребления и качеству жизни, и эта тенденция нарастает. Параллельно быстрыми темпами, значительно опережая в этом отношении Запад, развиваются некоторые другие страны — преимущественно Восточной и, отчасти, Юго-Восточной и Южной Азии. Сначала это наблюдалось в Японии, потом — в Южной Корее, на Тайване, в Гонконге и Сингапуре, а в течение последней четверти XX в. — в Малайзии, Таиланде, Индонезии, Китае, как сегодня — в Индии.
Параллельно с североатлантическим Западом в мире образовался второй центр опережающего развития — Дальневосточный, в котором сегодня лидером выступает Япония, но в обозримом будущем эту почетную роль может перебрать Китай. Если такие прогнозы сбудутся, то к середине XXI в. в мире будет воспроизведена, на новом уровне, традиционная система равновесия Западного и Восточного цивилизационных центров воздействия на мировые процессы, которая наглядно просматривалась уже на рубеже эр (Римская империя и китайская империя Хань).
Казалось бы, есть все основания считать глобализацию лишь феноменом конца XX в. Действительно, именно в этот период появились признаки постиндустриального общества в виде информатизационной революции и выдвижения на передний план интеллекта как фактора технологического прогресса. Значение имеет то, что именно на этой основе получили феноменальное развитие, охватив планетарное пространство, — интернационализация, транснационализация и универсализм. В эти же годы доказали свое превосходство, — особенно для стран мирового авангарда, — открытость и дерегулирование.
И все же категоричность такого рода выводов можно поставить под сомнение. Причем не только потому, что западные ценности, отождествляемые с процессами вестернизации и глобализации, трещат по швам. И не потому, что на большей части планетарного пространства постиндустриальные процессы в экономике в лучшем случае эмбриональны, а индустриальное производство даже в США соперничает с «новой экономикой». Главное в другом, — сами по себе глобальные процессы, знаменующие собой не столько переемственность, сколько новизну, создают впечатление чего-то нестабильного, неустоявшегося, и даже (в нынешнем своем варианте) временного, а в отдельных случаях, — для мирового же сообщества, — нестерпимого.
Это касается и отрыва финансов от реального сектора экономики, что послужило источником планетарной нестабильности; и катастрофичности столкновения миров, лишь отчасти проявляющейся в глобальном по масштабам терроризме; и в растущем разрыве «успешных» и «неуспешных» (в том числе, т. н. «конченных») стран; и в коммерциализации ценностей (особенно культуры), считавшимися цитаделью неподкупного духа, и, наконец, — возрождения в новом варианте торговли людьми, рабского труда и прочих мерзостей, которые, как казалось, были почти преодолены.
Все перечисленное свидетельствует о форсированном развертывании глобализации. Однако риски и уродства, присущие ее нынешнему варианту, не дают оснований считать ее устоявшимся феноменом, т. е. состоявшейся новой эпохой. Речь должна идти, по-видимому, о начале какой-то новой, неведомой еще эпохи, о чертах которой можно лишь догадываться.
Истоки и факторы, детерминирующие глобализацию, заключены не только в сфере объективного движения человечества к планетарной экономической, социальной и культурной интеграции. Многое производно от политики, особенно стран западного авангарда. И именно то, что было реализовано как стратегический проект, во многом и явилось источником глобальной неустойчивости, и неприемлемых для человечества деформаций. Причем мутации глобальных процессов, проявившиеся ныне в своем угрожающем или же в омерзительном варианте, закладывались заинтересованными сообществами задолго до того, как факт глобализации был осознан. Еще в «доглобализационные» времена, тем более в последней трети XX в., процесс вестернизации (особенно в экономике) нес стратегическую нагрузку, нацеленную на многие, ныне проявившиеся, глобальные деформации. Так что нынешняя глобализация, в отличие от стадиальных феноменов, характеризующихся устойчивостью, — пока что во многом является результатом политики Запада.
Факторы, содействующие развертыванию глобализации, с некоторой степенью условности можно расчленить на базовые, заложенные в глубинах генезиса, и вторичные, т. е. производные, сформировавшиеся не столько в качестве межстрановых, сколько в виде надстрановых процессов. Представляется, что именно последние, т. е. производные явления, дали эффект и грандиозных достижений чуть ли не во всех сферах человеческой деятельности, и грозных симптомов планетарной неустойчивости и катастрофичности.
Сомнений нет, — базовые основы глобализации формировались не в Новое время, а намного раньше. Давние истоки того, что в конечном счете обернулось глобализацией, заложены были торговлей и обусловленным ею углублением международного разделения труда. Эти базовые для глобализации процессы обычно трактуются лишь с евроцентристских позиций. А между тем даже каких-то 250—300 лет назад все выглядело иначе; в торговле, например, доминировал Китай, причем даже в начале XIX века от 30 до 50 % мирового ВВП приходилось на Китай и Индию *, опиравшихся, как и дру-
1 Свободная мысль. — 2004, № 6. — С. 95.
гие цивилизации Востока, на существенно отличную от западной систему ценностей.
Речь идет о ценностях, которые великий психолог К. Юнг выразил понятием интровертной ментальности, той ментальности, которая служила и служит (и, видимо, будет служить, когда «ветер с Востока пересилит ветер с Запада») ограничителем губительного для планеты экспансионизма, связанного с преобладающей на Западе экстравертностью. На этом основании можно предположить, что глобализация, имей она азиацентристские истоки, была бы для планеты и более устойчивой, и менее катастрофичной.
Такие рассуждения, конечно же, могут оцениваться как пустые: ведь у истории (в том числе и экономической) нет сослагательного наклонения, но именно в этом случае все выглядит не так. Уже и по американским прогнозам выход на планетарную арену азиатских исполинов оценивается как победоносный. И лидерство Китая, как и Индии, считается фактом свершившимся уже для обозримой (в пределах 40—50 лет) перспективы. Так что фактор доминирования в перспективе иных, — ограничивающих экспансионистский дух алчности, — системы ценностей, быть может, развернет процесс глобализации в иное, отличное от евроатлантического, и более приемлемое для блага человечества, русло. С этой точки зрения анализ вариантности истоков глобализации в прошлые времена может актуализировать отвергаемое в иных случаях сослагательное наклонение.
Однако факт остается фактом: нынешняя глобализация имеет западные истоки, а ее лидеры исходят из евроатлантических, преимущественно североамериканских ценностей. Поэтому она не только поражает воображение достижениями и благами, но и реализует, часто под прикрытием ценностного мессианства, — те своекорыстные интересы, ради которых главные глобальные игроки готовы не только пойти на любые преступления против человечества, но и вывести из равновесия природную среду, поставив, таким образом, и самих себя под угрозу уничтожения.
Интернационализация и интеграция человечества в прошлые века — историко-эволюционная подготовка глобализации, прямое и непосредственное преддверие последней. Глобализация вообще не могла бы возникнуть, если бы ей не предшествовали масштабные, долговременные, по сути всеохватные процессы интернационализации. Однако если явление интернационализации различных видов деятельности, отношений, процессов обмена и развития существует столько, сколько сами международные отношения, то глобализация стала складываться как явление лишь во второй половине XX в. При этом субъектами глобализации, как и в случае с интернационализацией, оказывается в принципе весь спектр субъектов современной экономики, политики, международной жизни. Хотя при этом разные типы субъектов играют в процессах глобализации далеко не одинаковую роль.
Получилось так, что человечество, создав в XX в. невиданное изобилие, оказалось неспособным покончить с нищетой. И та же глобализация, в которую вложено столько надежд, и которая фантастически умножает потребляемые человеком блага, — все больше препятствует, как оказалось, доступу большей части человечества к источникам биологического выживания.
Ростки, давшие впоследствии обильные глобальные всходы, заложены были в основном свершившейся на Западе промышленной революцией, позже — индустриализацией, а в геополитическом контексте, — осуществленной Западом колонизацией.
Индустриальный способ производства по форме и движущим мотивам изначально является капиталистическим. Иного и быть не могло. Ведь развитие производственных сил — историческая миссия капитализма. При забвении этой истины идея развития теряет свою предметность. Ибо иных (стабильных, а не эпизодических) движущих пружин общественного прогресса, понимаемого как совершенствование, кроме конкуренции, а также материальных и моральных стимулов, обеспечивающих самовыражение личности и развитие экономики, человечество за всю свою историю не выработало. Благодаря им преобразовывался и сам капитализм. Показательно, что нынешнее жизнеустройство стран экономического авангарда нередко трактуется как социалистическое. Да, действительно, нынешнее социальное обустройство в сравнении с началом и даже с серединой XX в. имеет качественно иной облик, который при всех его изъянах и недостатках, стал еще более притягательным. Но «мотор» в этом обновленном организме по-прежнему капиталистический.
На заре промышленной революции движущей силой мирового индустриального развития был товарообмен продукцией базовых (для того периода) отраслей экономики, производство которых было дислоцировано в разных регионах и странах, включая территориальные образования колониального и полуколониального типа, а также обширную группу так называемых зависимых стран.
Основу экспортного потенциала Центра (основы будущего мир-систем-ного ядра в терминологии И. Валлерстайна), изначально составляли промышленные изделия конечного спроса, сперва потребительского, а затем и производственного. Экспортные же ресурсы Периферии длительное время формировались из продукции земледелия и добывающей промышленности, в организации производства которых (независимо от его социальной формы) определяющую роль играл капитал метрополий. На потребности метрополий это производство в основном и ориентировалось. И если ведущим звеном интернационализации общественно-экономической жизни Центра изначально было производство, то на Периферии этот процесс запущен модернизацией потребления через импорт товаров, производимых в Центре.
Несмотря на весьма примитивный технический уровень, благодаря ориентации на емкие и динамичные внешние рынки, экспортные производства значительно опережали другие сегменты периферийных экономик. Особенно ощутимо моторная роль экспорта проявилась в небольших странах. Тем более, что свободный от ограничений импорт разрушил многие традиционные виды производства и одновременно сдерживал, а то и вовсе блокировал становление новых, могущих с ним конкурировать. Такому ходу событий способствовала колониальная администрация, а в странах с национальной государственностью — жесткое внешнее давление на их власти.
Между тем импорт множества ранее невиданных товаров неустанно стимулировал тягу к более высоким стандартам потребления. Поначалу эту тягу
могла реализовать только богатая элита. Но со временем аналогичные товары стали постепенно входить в фонд потребления других, менее обеспеченных слоев населения. Под воздействием демонстрационного эффекта «заморских» товаров, импорт которых благодаря растущему экспорту стал нормой повседневной жизни, традиционная система потребностей все более размывалась и сближалась (прежде всего в городах) со стандартами индустриально развитых обществ. И это усугубляло потребительские дисбалансы тех (большинства), кто еле сводил концы с концами.
Таким образом, социально-экономическая трансформация стран, запоздавших с переходом к индустриальному способу производства, развернулась под прямым и косвенным давлением внешних, неподконтрольных им факторов и обстоятельств, формирующихся в недрах индустриального авангарда. Речь идет, прежде всего, о сдвигах в мировых производительных силах и сопутствующих изменениях в мирохозяйственных отношениях, которые вызываются технологическим прогрессом, питающим экспансию техногенной цивилизации. Но дело не сводится к технологическим, организационным и структурным параметрам, задаваемым развитием Центра. Для освоения этих параметров нужны современные социальные институты и хозяйственные механизмы. А их создание требует преобразований, подобных тем, которые в свое время проводились и продолжают проводиться в Центре.
В условиях колониальной и полуколониальной зависимости возвышающиеся потребности удовлетворялись главным образом посредством импорта, оплачиваемого доходами от традиционного экспорта. С обретением и упрочением национальной государственности периферийных стран положение изменилось. Оказавшиеся у власти элиты, движимые стремлением к прогрессу и (или) желанием упрочить свои позиции, инициировали индустриализацию, служившую основным рычагом и в то же время символом экономической модернизации. Благо, что возросшая тяга к потреблению относительно дешевых и привлекательных импортных товаров со временем трансформировалась в реальный платежеспособный спрос, опираясь на который, можно было создавать производство какой-то части аналогичных товаров в самих развивающихся странах. Появились и предприниматели, готовые вкладывать капитал в развитие импортзамещающей промышленности, не говоря уже о готовности к таким инвестициям самого государства.
Для решения этой задачи практически повсеместно использовались высокие, по сути запретительные таможенные пошлины и количественные ограничения импорта. Это стимулировало приток в развивающиеся страны не только местных, но и иностранных инвестиций. Капитал индустриально развитых государств, вкладывавшийся в производство для экспорта на Периферию, дабы удержать за собой начавшие было ускользать рынки, также вынужден был подключиться к созданию в этих странах импортзамещающей промышленности.
Таким образом, мировое интегрирующее развитие при всех его издержках способствовало формированию предпосылок социально-экономической модернизации Периферии. Под его воздействием произошла частичная интернационализация традиционного производства периферийных стран и были организованы некоторые новые его виды, ориентированные на рынки
индустриального авангарда. Между тем встречный импорт — и это, быть может, главное, — интернационализировав систему местных потребностей, подготовил почву для промышленного развития, ибо важнейшим его условием является не организация производства средств производства, а уровень потребления, представляющего исходную базу и конечную цель любой экономической деятельности, включая самые современные ее разновидности. Производство же средств производства развивается лишь тогда и постольку, когда и поскольку возникает достаточный платежеспособный спрос на его продукцию.
Индустриальная цивилизация на пороге XX в. создала невиданное изобилие, которое вполне могло бы покончить с глобальной нищетой. Однако социальная формула мироустройства не соответствовала промышленным потенциям. Началась борьба за платежеспособный спрос и за выбор приоритетов развития, завершившаяся выбором формулы глобализации на основе идеологии фритредерства и массового потребления.
Непосредственной исторической предтечей нынешней глобальной модели является послевоенная реиндустриализация стран Западной Европы и Японии. Во многом благодаря гармоничному сочетанию импортзамеще-ния с развитием промышленного экспорта и были созданы предпосылки для послевоенной активизации индустриального развития, которое способствовало сокращению экономического отставания ряда развивающихся стран от США.
Интеграционные потенции, сформированные реиндустриализацией западноевропейских стран и Японии, реализовались прежде всего и главным образом на региональном и субрегиональном уровнях, довольно-таки слабо затронув при этом Периферию. Более весомый вклад в послевоенную интенсификацию развития и, в частности, в подключение к этому процессу развивающихся стран внесли, как ни странно на первый взгляд, США, ставшие крупнейшим экспортером капитала и в наибольшей степени приоткрывшие свой рынок для их промышленных товаров.
Но модель послевоенного промышленного развития Японии и Западной Европы вовсе не особый случай, обусловленный совершенным ими технологическим переворотом. Вся история промышленной революции свидетельствует, что без активной опоры на международное разделение труда индустриализация практически невозможна. Где и когда такая опора по каким-либо причинам отсутствовала, экономический рост начинал буксовать, нередко перетекая в стагнацию со всеми вытекающими последствиями. Ибо для успешного развития и оптимизации высокотехнологичных производств необходимы емкие рынки.
Глобализация в ее нынешнем варианте вызрела на фундаменте, сформированном индустриализацией. Моментом ее становления стал в большой степени рубеж, когда вслед за завершением Холодной войны, произошли перевороты в странах Восточной Европы и распад СССР с последующей суверенизацией республик СССР. С исчезновением СССР с политической карты мира перестала существовать двуполярность как конфронтационная основа международных отношений. И что еще важно для глобализации, — мир признал универсальный характер основных западных ценностей.
Эти изменения дали мощный импульс дальнейшему планетарному развертыванию и без того вызревших явлений, в совокупности характеризующих глобализацию. Это и интернационализация в пределах планетарного пространства хозяйственной деятельности, и вплетение национальных экономик в мирохозяйственную систему, и всеобщее распространение рыночных отношений в качестве универсальной формы хозяйствования, и транснационализация крупнейших агентов бизнеса, и многое другое.
Отчетливо проявился уже в этот период огромный созидательный потенциал глобализации в виде новых благ, и новых, невиданных ранее возможностей раскрытия всей гаммы человеческих способностей и реализации желаний. И если учесть, что информационная революция, вызвавшая глобализацию, делает лишь первые шаги, то можно только фантазировать насчет перспектив прогресса, открывающихся перед человечеством.
Но вместе с тем именно тогда, когда, казалось бы, можно сказать «мгновенье, ты прекрасно!» — на человечество как раз в меру разворачивания глобализации обрушились новые опасности и новые шокирующие риски. Причем оказалось, что эмбрионально эти неприятные, а то и устрашающие феномены закладывались то ли в экономику, то ли в социальную сферу подчас задолго до глобализации, то есть в доглобализационном прошлом. Часто это делалось из корыстных мотиваций, особенно — с целью наращивания конкурентных преимуществ. В других случаях это была реакция на те или иные процессы; в отдельных же случаях то, что позже обернулось злом, делалось, вроде бы, во благо. Оговоримся: последнее случалось весьма редко. Чаще бывало так, что явления алчности и экспансионизма, закладываемые локально, со временем, с воцарением глобализации, обернулось злом, разросшимся до планетарных масштабов.
Развернулись на мирохозяйственном пространстве и те процессы, которые опровергают весьма выгодный глобализаторам тезис о сугубо объективном характере глобализации как планетарном процессе. То, что ныне предстает как объективное, оказалось зачастую следствием былых и нынешних корыстных, или же амбициозных, а то и просто преступных акций, которые, — будь на то воля, — могли быть недопущены. И не исключено, что окажись в далеком теперь уже прошлом в распоряжении человеческого сообщества (как это имеется у стран) инструменты обуздания, или же минимизации чрезмерной алчности, или иного зла, мы имели бы сейчас иную, существенно оптимизированную, облагороженную и сбалансированную глобализацию. Ведь сам капитализм, сложившийся в Западной Европе, во многом был очеловечен благодаря этическим постулатам, заложенным в религиозном реформаторстве (протестантизме), что было обосновано применительно к экономике Адамом Смитом.
В дальнейшем, в преддверии грозных и, как тогда казалось, неотвратимых революций, а также в годы разрушительных кризисов, западный капитал сумел переступить через «святое», и стал сторонником, а то и инициатором радикального перераспределения своих доходов в пользу «низших» классов и групп через высокие налоги и социальные программы. И будь жив к тому времени Ш. Фурье, он бы не мог уже упрекнуть общество в рамках стран авангарда за неспособность разрешить простое уравнение: как потребительские товары из переполненных складов передать голодающим.
Возвращаясь же к проблемам глобализации, предварительно отметим, что риски и опасности, травмирующие (пока что избирательно) человечество, есть плод не только целенаправленных акций доглобализационного прошлого, но и концептуальных, а также реальных проектов, калечащих настоящее и грозящих Будущему. Но, видимо, опасности и риски, идущие от глобализации, калечат пока лишь тех, кого, — по О. Бисмарку, — «не жаль».
Одно из благ, которым глобализация одарила человечество, — это открытость. Сомнений нет, при прочих равных условиях подобная мера дает в условиях интеграционного развития и новый импульс, и дополнительный эффект. Однако в том-то и загвоздка, что на нынешней мировой арене в условиях внедряемой Западом тотальной открытости бизнес-партнеров встречаются сильный со слабым. И по законам той же рыночной конкуренции, которая тоже признается универсальной ценностью, полнейшая открытость закладывает ситуацию, когда сильный неотвратимо разоряет и поглощает слабого.
Конечно, другая крайность — изолированность — тоже источник отсталости. Но есть нечто среднее, ситуативно меняющееся, которое, казалось бы, должно быть приемлемо для всех конкурирующих сторон. Речь идет об избирательной закрытости и постепенной, подготовленной открытости. Однако навязывающий правила игры Запад в отстаивании полной и ускоренной открытости других категоричен, что, как известно, кладет развивающийся мир «на лопатки».
Если же учесть, что тот же Запад (особенно США) исповедует во внутренней политике принципы двойных стандартов, — легко представить, что опасности открытости для стран слаборазвитых глобализацией лишь усугубляются. К тому же и страны успешные (например, страны Юго-Восточной Азии), лишенные, однако, «по молодости» развитой институциональной защищенности, периодически ввергаются из-за открытости в кризис, или же шок. В конечном счете во многом именно тотальная открытость, накладываясь на глобализацию, предопределяет нарастание опасности разрыва и противостояния миров.
Возникает вопрос: можно ли было Западу, отстаивающему открытость как только лишь благо, предвосхитить негативный результат? Сомнений нет, — все это было давно известно, поскольку корни нынешних проблем заложены в генезисе глобализации. Ведь Запад, пользуясь идеологией открытости как инструментом взламывания экономических границ, уже со времен промышленной революции и покорял, и разорял народы, лишенные сопоставимого потенциала, добиваясь открытости.
Так что глобализаторам можно было бы поостеречься опасности больших и малых глобальных катастроф уже на основе поучительного доглобализационного опыта навязывания другим народам своих ценностей. В тщетности, и даже в опасности подобных экспериментов легко было убедиться хотя бы на примере африканских стран, расположенных южнее Сахары. Там эффект открытости и так называемые «свободные» выборы, проведенные за деньги, доставшиеся коррупционерам, не только вывели «наверх» бандитов, и даже людоедов, но и обернулись кошмаром межплеменных войн и геноцида, унесших миллионы жизней.
Можно было предположить, что глобализация, сдвинувшая с места многомиллионные человеческие потоки и перемешавшая народы, с подобными экспериментами тем более несовместима. Опыт, полученный Западом в «прошлой жизни», мог послужить уроком. Но, увы, — аппетит на экстремистские проекты только лишь разгорелся; и соответствующие акции (выросшие из прежних локальных) обрели размах, адекватный глобализации.
Парадокс глобализации состоит и в том, что даже многое позитивное, заложенное в доглобальных процессах, может оборачиваться в глобальном мире неприятностями планетарного масштаба. Пожалуй, из экономических явлений подобные перерожденческие трансформации в наибольшей мере возможны, — и уже реальны, — в финансовой сфере, как наиболее динамичной и безостановочно глобализирующейся.
Противоречия глобализации и цивилизационные сдвиги современности
Глобализация имеет две стороны: объективную, определяемую всем ходом мировой истории и субъективную, реализующуюся (преимущественно в последние десятилетия) благодаря усилиям мировых лидеров, — прежде всего США, контролируемых ими международных финансовых институций и транснациональных корпораций (ТНК), — в деле регуляции и определения направления глобализационных процессов с выгодой для себя. Осуществляется это, прежде всего, благодаря их информационному, экономическому и военно-политическому преобладанию.
Давление со стороны мировых гегемонов и транснациональных корпораций вызывает в мире все более ощутимую ответную реакцию, и не только в фиксируемых телекамерой акциях антиглобалистов, защитников окружающей среды или фундаменталистски настроенных террористов, но и в виде медленных, но от того не менее глубоких процессов объединения усилий ряда соседних, чаще всего (но не обязательно) с общей цивилизационной природой, государств на региональном уровне для противодействия негативному воздействию, вызовам и рискам глобализации. Этот процес последовательно и (по крайней мере до своего последнего расширения в 2004 г.) с успехом осуществляли в последние десятилетия европейские страны, образовавшие в конечном счете конфедерацию — Европейский Союз.
Подобные, но, в силу разных объективных и субъективных причин, куда менее удачные попытки цивилизационно-региональной консолидации с элементами интеграции наблюдались и наблюдаются в Латинской Америке (МЕРКОСУР), в Мусульманском мире (Исламская конференция, Лига арабских государств), на постсоветском пространстве (СНГ, формирование ЕЭП) и в Африке (Организация африканского единства). Чрезвычайно интересным представляется интеграционный процесс в Восточноазиатско-Ти-хоокеанском регионе, где совместную политику пытаются, и часто не без успеха, проводить государства различной цивилизационно-конфессиональной идентичности (конфуцианско-буддийской, индуистско-буддийской, мусульманской, христианской).
Однако не следует закрывать глаза на тот факт, что внутри самих отдельных государств интересы властвующих сообществ и национальные интересы сплошь и рядом не совпадают, при том, что в самих властвующих сообществах представлены разные конфликтующие группировки с их собственными интересами, соответствующими направляемым США, другими ведущими странами мир-системного ядра и ТНК глобализационным процессам (компрадорская буржуазия, другие, связанные с ТНК и международными финансовыми организациями группы) или противоречащими им (значительная часть национальных товаропроизводителей и пр.). Интересы этих государств, властвующих сообществ и их группировок, в плане глобализации и регионализации действуют весьма противоречиво: одни заинтересованы в усилении глобалистических, другие — регионалистских, а то и локальных, местных тенденций.
Современная глобальная жесткая иерархическая система базируется на гегемонии Запада, и частично Японии, прежде всего в трех сферах: финансовой, военно-политической и информационной. Информационная гегемония играет все более решающую роль. Она начинает доминировать над производственной и финансовой и определять характер и возможности последних так же, как производственная в земледельческо-промышленных обществах определяла характер присвоения природных богатств. Поэтому современные исследователи, вслед за американским социологом Д. Беллом, в мировом цивилизационном процессе после индустриальной поры (которая началась из промышленного переворота в Англии) определяют эпоху, или стадию информационного общества. Она репрезентует и качественно новый уровень ноосферного процесса на планете.
Сегодня понятно, что глобализация и становление информационально-го общества выступают двумя сторонами, гранями, аспектами единого процесса, под знаком которого проходит современный этап челойеческой истории. Ведущая роль в этом процессе принадлежит Западной, Новоевропейско-Североамериканской или Евро-Атлантической цивилизации, которая исторически стянула вокруг себя Латинскую Америку и Восточную Европу с Северной Азией («Евразию» в узком, культур-историческом значении этого термина, как его использовали евразийцы и Л.Н. Гумилев). Вместе эту мак-роцивилизационную конструкцию, которая в общих чертах сложилась уже к концу XVIII в., было предложено называть Макрохристианским миром. За его пределами оказались три великие традиционные цивилизации: Мусульманско-Афразийская, Индийско-Южноазиатская (индуистско-буддийская) и Китайско-Дальневосточная (конфуцианско-буддийская), дифференцировавшаяся к концу XIX в. на Китайско-Восточноазиатскую и Японско-Дальневосточную, ныне образующие свой особый Китайско-Дальневосточный цивилизационный мир.
В течение двух последних столетий великие цивилизации Востока были вынуждены так или иначе реагировать на вызовы со стороны Запада и на сегодняшний день оказались в глобализированной планетарной структуре человечества. Коллизии, которые возникают и, тем более, должны возникнуть в пределах глобальной трансцивилизационной макросистемы определялись и определяются прежде всего мировым неэквивалентным обменом. Его след
ствиями являются истощение ресурсов большинства регионов планеты и ухудшение качества жизни их жителей, включенных в процесс глобализации.
Определенное высшее основное противоречие глобализации, состоящее в усилении разрыва между наиболее развитыми и богатыми странами мир-системного ядра, перешедшими на стадию постиндустриально-инфор-мационального развития, и большинством остального человечества, где иногда наблюдается и регресс (не только Афганистан, Сомали, Судан, Руанда или Сьерра-Леоне, но и Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Грузия, Украина, Молдова и т. п.), раскрывается многими гранями. Среди них можно выделять: информационно-технологический, экономический, социальный, политический, демографический, экологический и культурный аспекты.
Как лидер в разработке новейших электронных и других технологий, Запад обеспечил за собой почти монопольное право формирования информационных потоков (со всеми преимуществами ежесекундного обзора состояния всей планеты) и контроля над ними. Продуцируя новейшие технологии и прочие ноу-хау, он (и Япония) реализуют на мировом рынке товары наилучшего качества и обновляют свою технологическую базу, налаживая выпуск нового поколения товаров, до того, как прочие страны успеют достичь и реализовать достигнутые ими стандарты. Поэтому государства вне мир-системного ядра обречены или тиражировать его уже морально устаревшие производственные образцы, получая от этого минимальную прибыль, или удовлетворяться сферами, которые не нуждаются в высоких технологиях, в частности, сельским хозяйством и добывающей промышленностью, цены на продукцию которых (за исключением нефти и газа) в целом невысоки.
Монополизировав контроль над информацией и производством передовых технологий, Запад и, частично, Япония обеспечили свое информационно-технологическое господство на планете и поставили этим в зависимость от себя большинство других стран. В результате возникло глобальное противоречие между ними и прочими государствами в информационно-технологическом отношении, которое в принципе не может быть преодолено со стороны большинства отстающих народов.
Возрастающее экономическое неравенство между группой передовых в информационно-технологическом отношении и отстающих, а потому зависимых от нее, государств ныне реализуется ускоренными темпами. Благодаря неэквивалентному обмену последних веков сначала между Европой и Новым Светом, а потом между Западноевропейско-Североамериканским центром опережающего развития и прочим человечеством, Запад аккумулировал в своих руках огромный капитал. В данное время он приобретает характер капитала транснациональных кампаний, базирующихся в странах мир-системного ядра, прежде всего в США. Страны базирования получают выгоду от его функционирования, тогда как большинство других государств, оказавшихся в зависимости от неконтролируемых никакими международными организациями потоков этого капитала, угождает ему — как правило за счет интересов собственных народов.
Капитал транснациональных компаний с прямой выгодой для себя определяет темпы и направление развития отдельных государств, не считаясь с
их интересами и без оглядки на человечество в целом. Он закрепляет нужный ему характер международного разделения труда и, тем самым, обеспечивая искусственно завышенные жизненные стандарты странам своего базирования, обрекает большую часть человечества на существование в экстремальных условиях. Включенные в глобальную экономическую систему страны и народы за пределами мир-системного ядра получают большей частью лишь средства для воспроизведения своей рабочей силы. А в некоторых регионах (как, например, во многих странах Тропической Африки) речь не идет даже об обеспечении физического выживания определенной части населения.
В результате возрастающего информационно-технологического и экономического неравенства увеличивается социальная пропасть между богатой и бедной частями человечества. Можно говорить даже об утверждении глобальной, надстрановой, мировой социальной структуры. Ее образуют сверхкласс богатых и сверхкласс бедных.
Представители первого, властвующего, сверхкласа являются владельцами и совладельцами мирового капитала, который функционирует через национальные, а все больше через транснациональные финансовые структуры и корпорации. Планетарный сверхкласс богатых репрезентуется большинством населения западных стран, частично Японии, Южной Кореи и Тайваня, а также теми слоями и прослойками населения за пределами мир-сис-темного ядра, которые обслуживают интересы этих структур (прежде всего компрадорская буржуазия и коррумпированные правительства, а также интеллектуалы, осуществляющие идеологическое обеспечение их интересов).
Представители второго, эксплуатируемого, сверхкласса, составляют основную массу человечества и предтавлены во всех странах мира. Тем не менее «в чистом виде» они составляют подавляющее большинство населения не-западных государств, поскольку в странах Запада (благодаря перераспределению его структурами мирового богатства в свою пользу) на высоком уровне находится система социальной поддержки малоимущих и трудящимся в целом обеспечены высокие стандарты жизни, не эквивалентные реальному их участию в мировом производстве товаров и услуг.
Поэтому, схематизируя реальность, можно сказать, что в современном мире основное социальное противоречие разворачивается уже не столько в пределах отдельных стран, сколько на глобальном уровне. В развитых государствах эффективно работает система социального обеспечения, благодаря которой социально-классовые противоречия в значительной мере теряют свою остроту. Но с тем большей силой эти противоречия раскрываются в планетарном масштабе, определяя накопление избыточного богатства на одном полюсе и бедности на противоположном.
Возрастающий информационно-технологический разрыв, неэквивалентный обмен между ведущими и отстающими от них странами, социальноимущественное неравенство в мировом масштабе нуждаются в обеспечении такого состояния на планете военно-политическими средствами и международными институтами. Относительно «непокорных» применяются разнообразные санкции, вплоть до нарушающих все принципы международного права военных операций (даже без санкции Совета безопасности ООН: бом
бардировка Сербии во время конфликта в Косово, тем более — недавняя агрессия США и Великобритании против Ирака).
Вместе с тем на международной арене и после краха СССР остаются государства, достаточно мощные для того, чтобы проводить самостоятельную политику. Среди них не только Япония, но и Китай, Россия, Индия, Иран. Эти страны создают некоторый политический противовес планетарной гегемонии Запада, в частности — США. Последние, естественно, прибегают ко всевозможным, в частности — силовым, мерам, чтобы предотвратить усиление своих недоброжелателей. Однако их грубое, вызывающее поведение лишь разжигает в мире антиамериканские и вообще антизападные настроения, особенно среди мусульманских народов.
Стремительный рост народонаселения характерен для бедных и беднейших народов, которые сохранили на бытовом уровне традиционные системы ценностей, стимулирующие увеличение рождаемости. Увеличение численности населения при невысоких темпах экономического развития, а то и вовсе его отрицательных показателях, определяет приумножение бедности в государствах Тропической Африки, многих регионах Азии и Латинской Америки. Наиболее активные индивиды массово эмигрируют в страны с высоким уровнем благосостояния, преодолевая противодействие со стороны последних разнообразнейшими, чаще всего криминальными, методами. Поэтому Запад «снизу» пропитывается нелегальными эмигрантами, что порождает дополнительные антагонизмы в его собственной системе. Тем не менее, он сам все более нуждается в поступлении дешевой и непритязательной, готовой на любую работу за мизерную оплату, бесправной массы эмигрантов.
В то же время, слаборазвитые перенаселенные страны лишаются наиболее энергичных, трудоспособных лиц — того человеческого капитала, который мог бы оказывать содействие их собственному подъему. В условиях массового оттока интеллекта и рук, многие страны, в частности на постсоветском пространстве, оказываются в еще более затруднительном положении, тогда как Запад усиливается дополнительными порциями жизненной энергии и интеллекта легальных и нелегальных эмигрантов.
Со сказанным связаны цивилизационные сдвиги современности, которые можно рассматривать в двух взаимосвязанных формах: прямом и опосредованном. Первый связан с расширением или сужением зоны определенной цивилизации, ее наложения (или наложения на нее) другой цивилизации, или варварской периферии с вытекающими из этого факта последствиями. Второй представляет собой трансформацию некоей цивилизации в ходе взаимодействия с одной или несколькими соседними при отсутствии или несущественной роли изменения пространственной конфигурации первой.
Цивилизационные сдвиги, как прямые, так и опосредованные, если их анализировать в историческом ключе, определялись тремя основными факторами: военно-политическим: завоевание или включение в зону влияния, с вытекающими из этого факта экономическими, социальными и культурными последствиями; торгово-экономическим: развитие интенсивных отношений взаимообмена, приводящих к политическим, социальным и культур
ным сдвигам менее развитых обществ; религиозно-культурным: распространение высокой духовной традиции в связи с расширением влияния определенной (буддизм, частично христианство и ислам) высшей религии и/или богатой культурно-цивилизационной системы (отчасти Античность, Китай, Индия), связанных с определенным информационным полем и репрезентируемым средствами сакрализованного или, по крайней мере, высокоавторитетного и широко используемого языка (типа санскрита, древнегреческого, латыни, арабского, сегодня — английского).
Три названных фактора обычно выступали вместе, однако в разные эпохи и в разных ситуациях тот или иной из них был ведущим. Сперва в такой роли выступал военно-политический, обычно связанный с определенными экономическими инересами. С определенного К. Ясперсом «осевого времени» (VIII—III вв. до н. э.), особенно с появления мировых религий, принципиально возрастает роль религиозно-культурного (начиная с триумфального шествия буддизма) и, отчасти, экономического (в ходе финикийской, греческой и индийской морской колонизаций). С эпохи Великих географических открытий, в особенности же с утверждением в Западной Европе капиталистических отношений, на первое место выходит экономический фактор, однако военно-политический и религиозно-культурный также сохраняют важное значение.
Понятно, что все названные факторы всегда включали и включают в себя переселенческую и информационную составляющие: важнейшей предпосылкой расширения ареала определенной цивилизации является физическое перемещение ее представителей, а военно-политическая, экономическая или культурная деятельность невозможны вне информационного контекста. Однако в эпоху глобализации значение первой, а, тем более, второй из двух названных составляющих принципиально возрастает. В мировом масштабе происходят массовые перемещения носителей различных религиозно-культурно-цивилизационных традиций, а глобальная информатизация обеспечивает не только планетарную интеграцию, но и взаимопроникновение культурных компонентов разного (но, преимущественно, западного) цивилизационного происхождения в традиционные ареалы определенных цивилизаций.
Не следует забывать и о глобальных экологических проблемах, которые в мировом масштабе явились следствием утвердження индустриального, порожденного капитализмом, производства. Традиционные цивилизации ориентировались на простое, а не расширенное воспроизведение и относительно природно-хозяйственных условий отдельных регионов планеты уже в древности выработали оптимальные формы социально-экологического баланса. Но поддерживать этот баланс можно было только при условии простого, а не расширенного производства. Последнее же, как известно, является сущностью капиталистической экономики в любой ее исторической разновидности, включая ее современное состояние.
Базируясь на индустриальной экономической системе расширенного производства, Запад развернул глобальное использование ресурсов планеты в своих интересах, тем самым истощая их и нанося непоправимый ущерб окружающей среде. Со временем, беспокоясь о качестве собственной жиз
ни, он начал заботиться о ее охране в своем собственном ареале, вынося вредные производства подальше от себя и размещая их отходы в других частях планеты. Вследствие этого стали образовываться два качественно разных типа искусственных ландшафтов (естественных, как таковых, на планете уже почти не осталось). Первый создается и поддерживается с учетом требований к окружающей среде со стороны богатой части человечества. Он отвечает научным требованиям и определяет экологическую ситуацию в богатых странах. Второй образовывается стихийно в бедных регионах планеты, которые специализируются на грязных производствах, при несоблюдении экологических требований.
Понятно, что возрастающее неравенство между богатыми и бедными, зависимыми от них, странами, как и нарастающий мировой экологический кризис, угрожают благосостоянию и самого Запада. Однако сегодня эти угрозы еще не настолько сильны, чтобы реально отражаться на качестве жизни граждан западных государств, тем более их господствующей прослойки.
Новый мировой порядок целиком устраивает западное общество, взятое в целом. Более того, оно находит в нем реализацию идейно-ценностных, социокультурных установок Западной цивилизации Нового времени, наиболее четко выраженных в протестантизме, особенно в кальвинизме с его верой в богоизбранность предприимчивых дельцов, использующих все остальное человечество и естественную среду в качестве средств для достижения своих (представляющихся «богоугодными») целей, прежде всего — личного обогащения.
В условиях глобализации и выхода богатой части человечества на пост-индустрально-информациональный уровень развития наблюдаем и раскрытие глубоких культурных противоречий — как между западными формами массовой культуры и традиционными ценностями не-западных народов, так и в пределах самой социокультурной системы Запада. Можно различать два основных уровня культурных контраверз эпохи глобализации: в самой западной культуре и в масштабах человечества как такового.
Основное социокультурное противоречие современного западного общества хорошо раскрыто Д. Беллом 1. Оно заключается в несовместимости протестантских в своей основе духовных ценностей, которые, как в свое время показал М. Вебер, обеспечили саму возможность утверждения капитализма в европейском и планетарном масштабе, и ценностей массовой культуры общества потребления, которые грубо навязываются рекламой через средства массовой информации. Потребительско-гедонистическое отношение к жизни прямо противоречит аскетически-трудовому духу раннего и, отчасти, классического капитализма, блокирует самовоспроизводство его идейно-ценностно-мотивационных основ, а, следовательно, и всего базирующегося на них западного цивилизационного типа.
При этом, по мере того, как «плавильный тигель» США начинает давать сбои, о чем красноречиво пишет С. Хантингтон в своей последней книге 1 2,
1 Bell D. Cultural contradictions of capitalizm. — New York, 1975.
2 Хантингтон С. Кто мы? — M., 2004.
англосаксонский буржуазно-протестантский социокультурный тип перестает выступать абсолютной доминантой, сталкиваясь с ограничениями со стороны афро-американских, латиноамериканских, индейских и дальневосточных, японских и китайских стереотипов.
Поэтому в планетарном масштабе культурное противоречие оказывается даже более острым, чем в рамках самого Запада. На этом уровне мы видим непреодолимый антагонизм между специфическими идейно-ценностно-мотивационными основами великих цивилизаций Востока и квазиценностями рекламно-коммерциолизированной культуры «одномерного», по выражению Г. Маркузе, общества массового потребления и представляющего ее «одномерного человека» *.
В отличие от многообразия идейно-ценностных основ традиционных цивилизаций, которые вступили между собой в продуктивный диалог, всемирная вестернизация, точнее — квазивестернизация (поскольку не-запад-ные народы, потребляя коммерциолизированные культурные суррогаты, через них никак не приобщаются к высоким образцам культуры Запада) ведет к культурно-цивилизационному нивелированию человечества. Используя терминологию К. Леонтьева, можно сказать, что на смену цветущему разнообразию приходит вторичное упрощение.
Разрушая традиционную социокультурную почву, квазивестернизация насаждает фрагментарные, поверхностные стереотипы. Последние, противореча национально-цивилизационным традициям, переносятся без того классического культурного сопровождения, которым уравновешиваются на Западе, прежде всего в Европе. Поэтому на основополагающие социокультурные принципы не-западных регионов планеты глобализация осуществляет не менее разрушительное влияние, чем на их экономику или экологию. Лишь на Дальнем Востоке видим примеры действительно удачного освоения западных достижений. Этот успех был достигнут не через отказ от своего ради западного, а благодаря сознательному и выборочному использованию тех полезных плодов западного гения, которые могли быть адаптированы на основе собственных цивилизационных оснований.
Следует подчеркнуть, что наиболее негативное влияние квазивестернизация оказывает на культуру ближайших в цивилизационном отношении к Западу стран Латинской Америки и Постсоветской Евразии. Собственные цивилизационные основания последних не настолько выкристаллизирова-ны и крепки, чтобы эффективно ей противостоять. Деструктивное влияние коммерциолизированной псевдокультуры на духовное состояние латиноамериканских и преимущественно славянских постсоветских стран увеличивается и благодаря тому, что значительная часть их образованных и полуобразованных представителей склонна считать себя «почти западными» людьми, забывая о собственых ментально-ценностных основаниях, а часто вообще не ведая о них. В результате бездумно, хаотично, безалаберно все западное стремятся наложить на местную социокультурную почву, из чего не выходит и не может выйти ничего хорошего.
1 Маркузе Г. Одномерный человек. — М., 1994.
Мировые цивилизации в глобализированном мире: проблемы и перспективы
Развитие современного мира характеризуется противоречием между двумя взаимосвязанными тенденциями: глобализацией и, в качестве реакции на нее, регионализацией, осуществляющейся преимущественно на основе традиционных цивилизаций. Локомотивом глобализации выступает Запад, прежде всего США, поддерживаемые Великобританией и теснейшим образом связанными с ними в социокультурном отношении другими англоязычными государствами (Канадой, Австралией, Новой Зеландией). Поэтому глобализация имеет свое, вполне конкретное, англоязычное лингвистическое выражение, тем более, что ведущим языком информационного обеспечения данного процесса, в частности — системы Интернет, является именно английский.
Соответственно, регионализационно-цивилизационные процессы также имеют свое информационно-языковое выражение, неодинаковое в каждом отдельно взятом случае. Так, например, Индия своим успешным вхождением в мировую информатизационную систему во многом обязана англоязычное™ культурного слоя ее населения, тогда как Китаю или России приходится ускоренными темпами осваивать международный язык современных информационных технологий. В то же время, великие цивилизации имеют собственные сакрально-универсальные языки, подобные латыни Западного Средневековья: Индия — санскрит, Мусульманский мир — арабский и пр.
В условиях глобализации мир не столько унифицируется в соответствии с поверхностно воспринятыми американскими стандартами, сколько приобретает вид полицивилизационной структурно-функциональной системы, пусть и при нынешней (однако, как все в мире преходящей) гегемонии Запада над великими цивилизациями Востока.
Но следует учитывать, что понятая «Запад» и «Восток» в социально-экономическом и политико-правовом отношении, с одной стороны, и духовно-культурном, в частности, религиозно-мировоззренческом — с другой, не вполне совпадают. Если в первом случае «восточной» в полной мере выступает Мусульманско-Афразийская, а в значительной степени также Византийско-Восточнохристианская и Православно-Восточнославянская цивилизации, то в духовно-мировоззренческом плане все они органически родственны, опираются на древневосточно-библейскую и античную традиции и связаны с кругом авраамитских религий (иудаизм, христианство, ислам). В религиозно-мировоззренческом отношении они имеют иудейские корни.
Иное дело — цивилизации Индии и Китая, имеющие собственные истоки, при том, что духовные традиции Индии (прежде всего, через распространение буддизма, а, отчасти — и индуизма) оказали огромное воздействие на идейно-ценностно-мировоззренческий строй народов Южной, Юго-Восточной, Восточной и, отчасти (Тибет, Монголия), Центральной Азии. При наличии определенных, особенно в морально-гуманистическом плане, соответствий, понимамые в таком ключе религиозно-культурно-цивилизационные системы Востока и Запада принципиально отличны.
В XIX в., в условиях формирования всемирной макронивилизационной системы, на фоне планетарной индустриализации наблюдается как эрозия основ традиционных культурно-социально-хозяйственных систем с их дальнейшими псевдовестернизационными видоизменениями, так и кризис традиционных для различных цивилизаций религиозно-этических ценностей при их широкой замене суррогатными формами массовых идеологий нацио-налистически-фашистского, коммунистически-большевистского и конфессионально-фундаменталистского типов, не говоря уже о воинствующем варварстве «поп-арта». Это раскрывает глубокие кризисные явления времени перехода от традиционных региональных цивилизаций к глобальной всемирной макроцивилизации постиндустриальной эпохи.
Две основные линии социально-экономического развития, оформившиеся в мировом масштабе еще на стадии поздней первобытности, в XX в. продемонстрировали свои предельные формы, исчерпали, как таковые, собственные продуктивные возможности и вступили в процесс глобального взаимодействия, обогатившись использованием ранее не свойственных каждой из них регуляторов: западная — планового, а восточная — рыночного. С таким состоянием своих общественно-экономических систем Североатлантический Запад и Дальний Восток вступили в информапиональную эпоху.
Менее определенно просматриваются и различные формы синтеза базовых принципов религиозно-мировоззренческих традиций западного, иудео-христианско-мусульманского, и восточного, индуистско-буддийско-конфуцианско-даосского, миров. Вопрос о необходимости их синтеза, поставленный еще Мани в III в., неоднократно поднимался как в Азии, так и в Европе в последующие столетия. В XX в. относительно такого синтеза было предложено множество подходов. Однако ни один из предложенных вариантов (будь-то бахаизм, доктрина Муни и пр., не говоря уже о еще памятном многим преславутом «Белом братстве» и ему подобном идейном шарлатанстве) во всемирном масштабе не смог составить конкуренции традиционным религиям — исламу, христианству или буддизму.
Вместе с тем нельзя не заметить, что монотеистические идеи в той или иной форме становятся все более привычными в регионах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, тогда как концепция перевоплощений, хорошо известная и в Античном мире (орфики, Пифагор, Платон, Плотин и пр.), со времен А. Шопенгауэра становится все более популярной на Западе. Среди крупных российских философов ее, к примеру, развивал Н.О. Лосский.
При этом Восток все более ценит западную персоналистическую и деятельностную, направленную на активное преобразование мира установку, тогда как на Западе распространяется близкое к восточному мироощущению восприятие природы как самоценной данности, на которую человек не вправе смотреть лишь как на объект удовлетворения собственных потребностей. В отдаленной перспективе эти тенденции могут привести к постепенному становлению некоего надконфессионального глобального сознания. Однако реальности сегоднешнего дня куда более трагичны и мы часто наблюдаем жесткое противостояние ценностных систем, приобретающее, порою, кровавый характер (Балканы, Кавказ, Ближний Восток и пр.).
Создается впечатление, что в ближайшие десятилетия в глобальном масштабе будут конкурировать два центра опережающего развития: Североатлантический и Дальневосточный с их внутренним членением прежде всего на Северную Америку и Объединенную Европу, с одной стороны, и на Китай и Японию — с другой. Свои формы синтеза традиционных ценностей и западных достижений вырабатывают Индия и некоторые страны Мусульманского Востока. В более сложной ситуации находятся государства Субсахарской Африки (за исключением разве что ЮАР), Латинской Америки и постсоветской Евразии, которые до сих пор не нашли собственного эффективного пути к постиндустриально-информациональному обществу. Выйти на свой собственный путь развития, учитывающий цивилизационные особенности своего региона планеты и своей — важнейшая задача не-западных народов. Но успех продвижения в этом направлении никому заранее не гарантирован.
Понятно, что развитие взаимовыгодных экономических и любых других связей со странами Запада является крайне важным. Но его достижения должны быть адаптированными на собственной цивилизационной почве. А это может быть достигуто лишь в результате продуманных, последовательных и целеустремленных действий, через соответствующие институциональные механизмы.
Лауреат Нобелевской премии Д. Норт определяет институции как правила игры в обществе, или, точнее, придуманные людьми ограничения, которые направляют человеческое взаимодействие в определенное русло. Тремя измерениями институций являются: официальные правила, неофициальные правила и процедуры выполнения этих правил и ограничений. Официальные правила, по его обоснованному убеждению, даже в наиболее развитых странах составляют лишь небольшую (хотя очень важную) часть совокупности таких ограничений, тогда как неофициальные правила вездесущи.
Официальные правила можно изменить целенаправленно и относительно быстро, поскольку они создаются в интересах тех, кто имеет достаточную власть, чтобы генерировать полезные для себя новые правила. Но неофициальные стимулы и ограничения изменяются крайне медленно и спонтанно, обеспечивая историческую наследственность (желательную или нежелательную). Результаты целенаправленных институциональных изменений зависят от способов их осуществления. Эти способы, в свою очередь, определяются всей социокультурной системой данного общества. В зависимости от культуры определенного социума введения одних и тех же правил может дать совершенно разные результаты: развиваться в желательном для реформаторов направлении, редуцироваться по направлению к предыдущим формам или вылиться в безобразные социальные новации '.
Ныне преобладает мнение, что нормой и оптимальной формой институциональной системы, способной обеспечивать высокий уровень экономики и качества жизни, гражданское общество и правовое государство, при гарантированном движении в направлении информационально-инновационного цивилизационного типа (в контексте глобализационных процессов), является именно та институциональная система, которая на сегодняшний день утвердилась в ведущих странах Запада. В соответствии с этим убеждением, при ак-
1 Норт Д 1нституцц, шститущйна змша та функцюнування економгки. — К., 2000.
тивном содействии западных государств и преимущественно западных по своему происхождению и природе международных финансовых организаций, в течение ряда десятилетий во многих странах мира проводились реформы.
Последствия реформ в разных регионах были совершенно разными — от стремительного подъема Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Юго-Восточной Азии в целом, континентального Китая, а в последнее время также Индии, до системной деградации стран Черной Африки (кроме ЮАР) и постсоветско-евразийского пространства, при, преимущественно, топтании на месте, с периодическими подъемами и падениями, государств Латинской Америки, Северной Африки и Ближнего Востока.
Анализ трансформаций в «успешных» и «неуспешных» государствах доказывает, что механическое перенесение западных принципов организации экономической, как и любой другой, жизни на не западный цивилизационный грунт повсеместно дает исключительно отрицательные результаты. Примеры тому дает абсолютное большинство африканских, латиноамериканских и постсоветских стран. Успеха достигают лишь те государства, правительства которых сознательно, последовательно и целеустремленно адаптируют элементы западных институций (а не западную институциональную систему как такую) к собственным цивилизационным условиям, синтезируют и модернизируют свои учреждения в ходе адаптации определенных, признанных не только полезными, но и такими, которые возможно адаптировать к конкретной среде, достижений Западной цивилизации.
Повсеместно это определяется умением, в соответствии с местными условиями и потребностями, эффективно объединять свое и заимствованное по принципу адаптации второго к первому. Образец тому дают Япония с дальневосточными «тиграми» и Китай. Обязательными условиями успеха на этом пути является сила и эффективность государства и доверие народа к ней и избранного правительственного курса. А последнее возможно лишь тогда, когда этот курс отвечает, а не противоречит базовым социокультурным ментально-ценностным основам соответствующего общества и наглядно демонстрирует его полезность для рядового человека.
При прочих равных условиях там, где общество и государство, между которыми существует консенсус, достигают синтеза собственных неформальных и формальных учреждений с институциональными, преимущественно западного происхождения, инновациями, имеем успех. Наоборот, в случае, когда консенсус между обществом и государством отсутствует и власть (шире — властвующе сообщество, высокомерно и бестактно именующее себя «элитой») механически, часто грубо и насильственно, вводит изменения, стараясь силком втиснуть исторически сложившиеся институции в прокрустово ложе избранных схем, — преобразования обречены на неудачу.
Поэтому едва ли не основной проблемой реформирования выступает фундаментальная разработка и последовательное, планомерное проведение достаточно сильным для этого государством долгосрочной программы, которая бы опиралась на концепцию адаптации желательных институциональных изменений (введение соответствующих формальных правил) к реально действующим официальным, а, главное, неофициальным, негласным институциям, которые формировались столетиями и являются неотъемлемой составляющей жизни народа.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 8
ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ОСНОВАНИЯ
(Л. С. Васильев, Ю. В. Павленко)
Социокультурные основания традиционной Китайско-
Восточноазиатской цивилизации (Ю. В. Павленко)... 5
Становление традиционной Китайско-Восточноазиатской цивилизации (Ю. В. Павленко).................... 15
Духовные истоки Китайско-Восточноазиатской цивилизации (Л. С. Васильев)............................ 24
Кризис и трансформация Китая в сер. XIX — сер. XX вв.
(Л. С. Васильев)................................ 32
Цивилизационный фундамент и особенности развития
Китая 2-й пол. XX в. (Л. С. Васильев)........... 54
ГЛАВА 9
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ (|В. В. Седнев\)
Эволюция идеологических установок китайского руководства: от Мао Цзедуна до Дэн Сяопина............... 67
Успехи и проблемы современного Китая............ 74
Развитие экономической системы Китая............ 79
КПК в новых условиях и концепция «трех представи-
тельств» Цзян Цзэминя........................... 84
«Сяокан»: от утопии к реальности................ 91
Китайская цивилизация в условиях глобализации.. 106
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — альтернатива однополярному миру? .................... 113
Попытка классификации, или общее и особенное в китайской специфике ............................. 128
ГЛАВА 10
ЯПОНСКО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
(Л. С. Васильев, Е. К. Мыкал, Ю. В. Павленко, О. Б. Шевчук)
Традиционная Япония и ее место в системе Китайско-Дальневосточного цивилизационного мира (Ю. В. Павленко) ... 137
Модернизация традиционной Японии и ее развитие в первой четверти XX в. (Л. С. Васильев)...................................................... 145
Японский милитаризм и системная трансформация Страны восходящего солнца во 2-й пол. XX в. (Л. С. Васильев).................................... 155
Изменения западного взгляда на Японию в течение XIX—XX вв. (Е. К. Мыкал). 165
Ментально-ценностные основания внешней политики современной Японии (Е. К. Мыкал)......................................................... 171
Информациональная экономика наиболее развитых стран Дальнего Востока (О. Б. Шевчук)........................................................ 182
ГЛАВА 11
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ И ТРАНСЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
(А. 3. Гончарук,\С. А. НикишенкД Б. А. Парахонский)
Азиатско-Тихоокеанский регион и отношения между его ведущими компонентами после Второй мировой войны Никишенкд^, Б. А. Парахонский)............. 194
Идея Азиатско-Тихоокеанского регионального сотрудничества flC. А. Никишенков) . . 198 Современная Япония в ее взаимодействии со США и другими странами АТР
ИС. А. Никитенк<\, Б. А. Парахонский) ................................ 205
Китай и его отношения с окружающими государствами (А. 3. Гончарук, Б. А. Парахонский) ............................................................. 210
Корейский полуостров: альтернативность развития на общем цивилизационном фундаменте ИС. А. Никишенкд).......................................... 222
Соединенные Штаты в системе отношений с Японией и прочими их союзниками в АТР (Б. А. Парахонский) ............................................ 227
Новая биполярная схема: США — Китай (А. 3. Гончарук, С. А. Парахонский)... 235
Отношения КНР и Японии: противоречивые тенденции развития (JC. А. Никишенкд) . 240 Особая позиция России в АТР (Б. А. Парахонский)....................... 243
ГЛАВА 12
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ОБЩНОСТЬ СУБСАХАРСКОЙ АФРИКИ
(Д. М. Бондаренко, Л. С. Васильев, В. К. Гура)
Цивилизационная общность Тропической Африки и ее исторические судьбы в доколониальную эпоху (Д. М. Бондаренко) .............................. 252
Колониальная Африка южнее экватора (Л. С. Васильев)................... 266
Территории к югу от Сахары в эпоху колониализма. Западная и Центральная Африка. Эфиопия (Л. С. Васильев)...................................... 278
Колониальная Африка: трансформация традиционной структуры (Л. С. Васильев) . . . 288 Субсахарская Африка после деколонизации: специфика этносоциополитической структуры (Л. С. Васильев)........................................... 297
Африка южнее Сахары: экономика и ориентации развития (Л. С. Васильев). 315
Факторы эволюции стран Субсахарской Африки в условиях глобализации (В. К. Гура) ......................................................... 325
Критические «пороги развития» стран Субсахарской Африки — производные феномены современной мир-системы (В. К. Гура) ............................ 336
Гармонизация технологических и социокультурных подходов к возрождению Субсахарской Африки как перспектива преодоления эволюционного кризиса субконтинента (В. К. Гура).................................................. 345
Глобальные изменения и «Третий мир» в начале третьего тысячелетия (В. К. Гура). . . 354
ГЛАВА 13
РЕЛИГИОЗНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА В КОНТЕКСТЕ СТАДИАЛЬНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ТИПОЛОГИИ: ПОИСК ДУХОВНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
(А. А. Шморгун)
Сравнительная типология Востока и Запада: проблемная познавательная ситуация . . 367 Поиск методологических оснований цивилизационного анализа: от философии к мифологии истории?............................................... 390
Цивилизационная типология раннеклассовых обществ: несостоятельность теософского подхода к пониманию «пускового механизма» всемирной истории . 410
Религиозно-мировоззренческое миропонимание Индии и Китая в стадиальноцивилизационном измерении: подлинный монотеизм..................... 448
Методологические проблемы цивилизационной типологии докапиталистических обществ Запада и Востока и современность....................... 483
ГЛАВА 14
ФЕНОМЕН «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА» И ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ (Ю. Н. Пахомов)
Глобализация и ценностные трансформации начала XXI в............... 530
Ренессанс ценностей и синтез культур как предпосылки экономического чуда: опыт Востока ...................................................... 541
Проявление цивилизационных ценностей и поведенческих стереотипов через экономическую практику................................................ 555
Украина единая, разная и расколотая................................ 569
Украина между Россией и Западом: драматизм выбора.................. 577
Система ценностей современных центров опережающего развития и необходимость коррекции евроинтеграционных ожиданий Украины...................... 594
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко)
Цивилизационная структура современного человечества................ 607
Глобализация и ее движущие механизмы............................... 614
Противоречия глобализации и цивилизационные сдвиги современности .. 625
Мировые цивилизации в глобализированном мире: проблемы и перспективы. 633
Наукове видання
ПАХОМОВ Юр1й Миколайович, ПАВЛЕНКО Юр1й ВНалшович, БОНДАРЕНКО Дмитро Михайлович, ВАС1ЛБ6В Леошд Серпйович, ГОНЧАРУК Андрш Захарович, ГУРА BiKTop Костянтинович, МИКАЛ Олена Костянтиьйвна, |Н1К1ШЕНКО Серий Олександрович|, ПАРАХОНСЬКИЙ Борис Олександрович, | ССДНСВ Владислав Володимирович|, ШЕВЧУК Олег Борисович
ЦИВ1Л13АЦ1ЙНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВ1ТУ
У 3-х томах
Том 3
ЦИВ1Л13АЦЙ СХОДУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛ13АЦЙ
Книга 2
КИТАЙСБКО-ДАЛЕКОСХ1ДНИЙ ЦИВ1Л13АЦ1ЙНИЙ CBIT I АФРИКАНСЬКА ЦИВ1Л13АЦ1ЙНА СШЛЬНОТА. ГЛОБАЛЬН! ТРАНСФОРМАЦ11 I УРОКИ ДЛЯ УКРА1НИ
Росшською мовою
Ки1в, Науково-виробниче тдприемство «Видавництво “Наукова думка” НАН Укра’Гни», 2008
Редактор О.Ю. Бей
Оформления художника С.П. Муштенко Художшй редактор €.1. Муштенко Техшчний редактор Г.М. Ковальова Коректор А.Г. Ey3iaui6ini Комп’ютерна верстка Т.О. Ценцеус
Пщп. до друку 14.11.2008. Формат 70 хЮО 1/16. Патр офс. №1. Друк офс. Гарн. Тайма Ум. друк. арк. 52,0. Ум. фарбо-в!дб. 52,0. Обл.-вид. арк. 55,0.
Тираж 500 прим. Зам. №8—1565
НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН УкраТни» Св!доцтво про внесения суб’екта видавничо! справи до Державного реестру видавфв, вигоэтвнимв i розповсюджувач!в видавничо! продукф!
cepifl ДК № 2440 в!д 15.03.2006
01601 Ки!в 1, вул. Терещенювська, 3
ЗАТ ф1рма «В1пол»
03151 КиТв 151, вул. Волинська, 60 Свщоцтво про внесения до Державного реестру се pi я ДК №752 вщ 27.12.2001