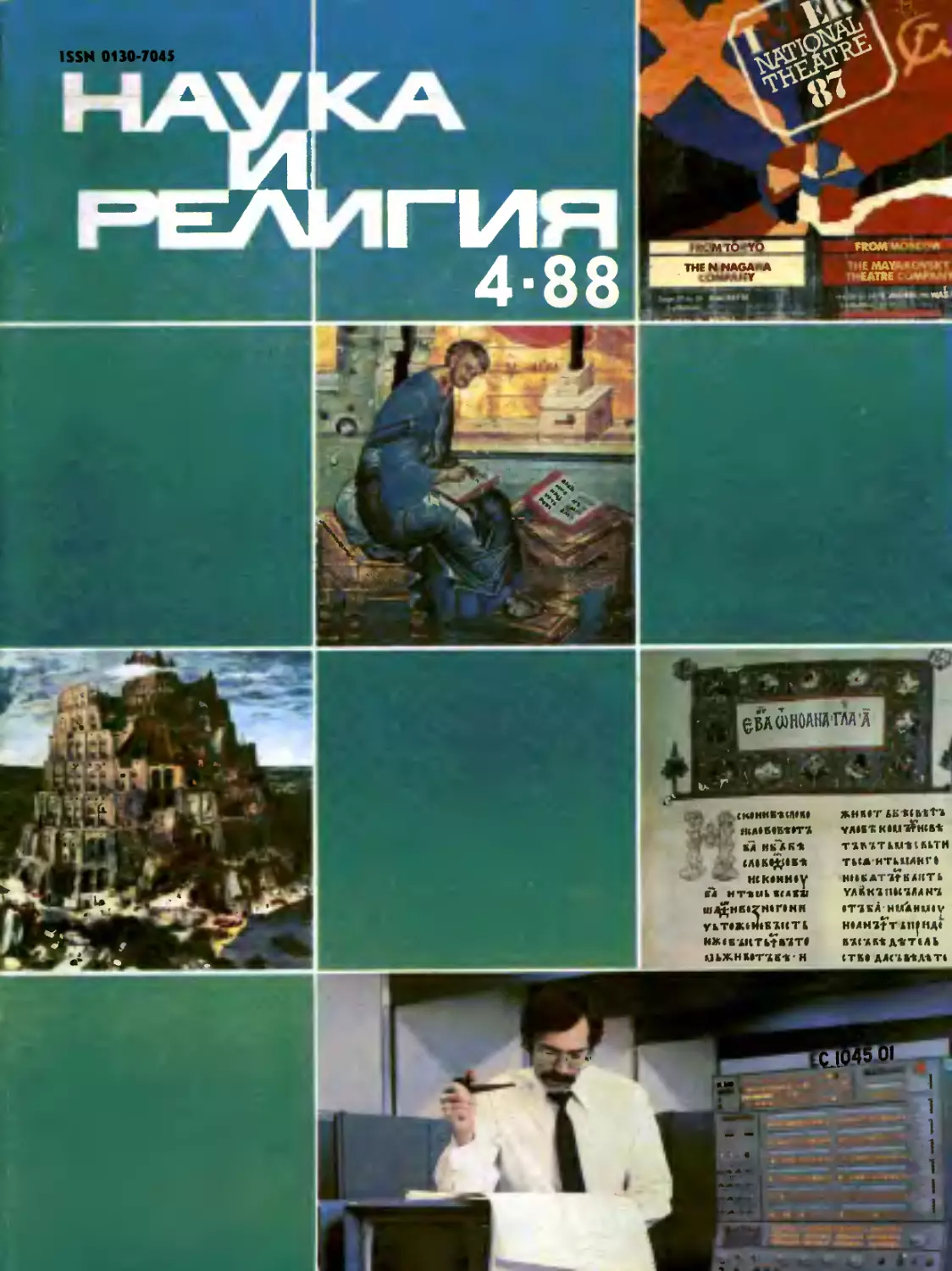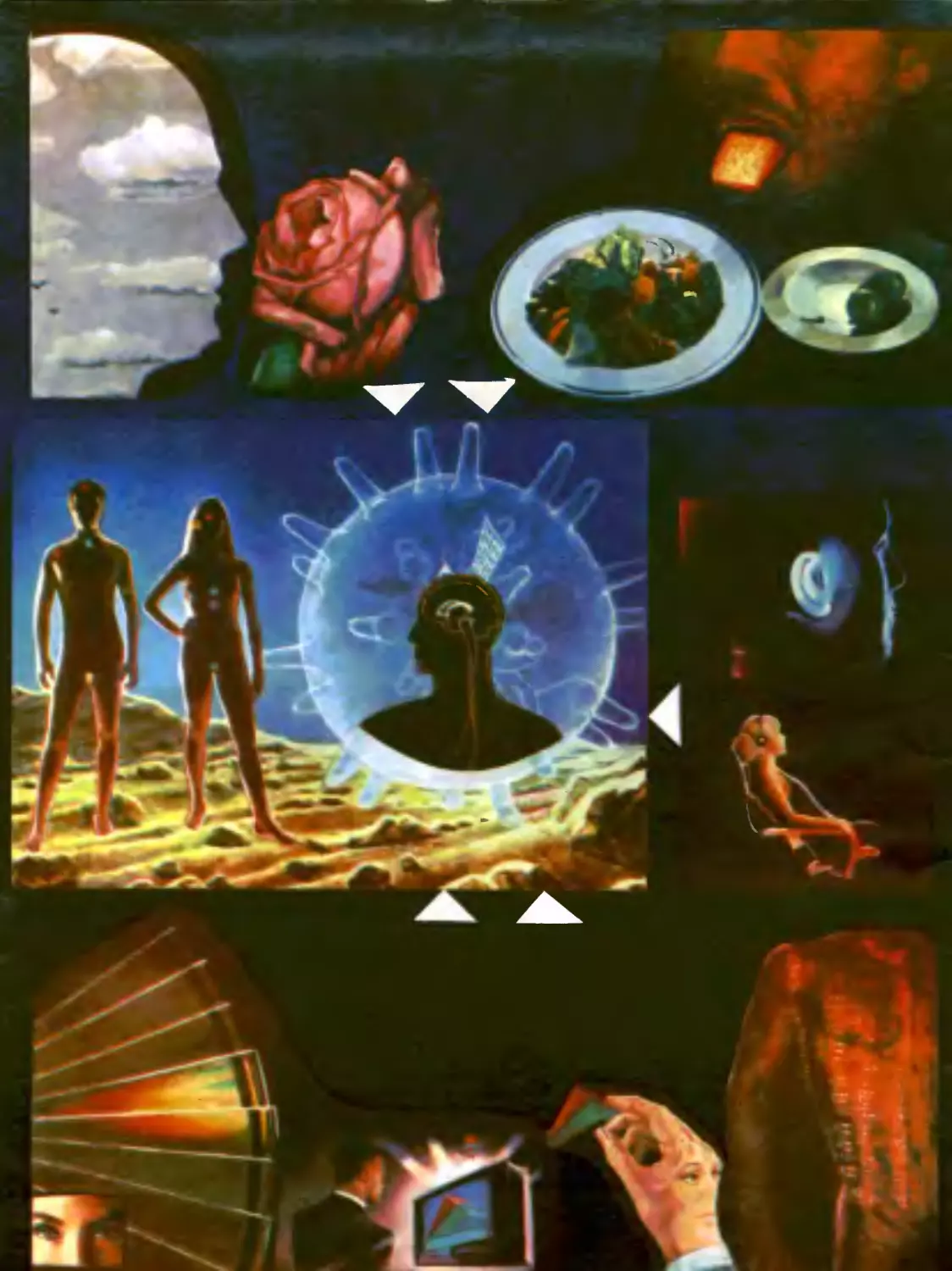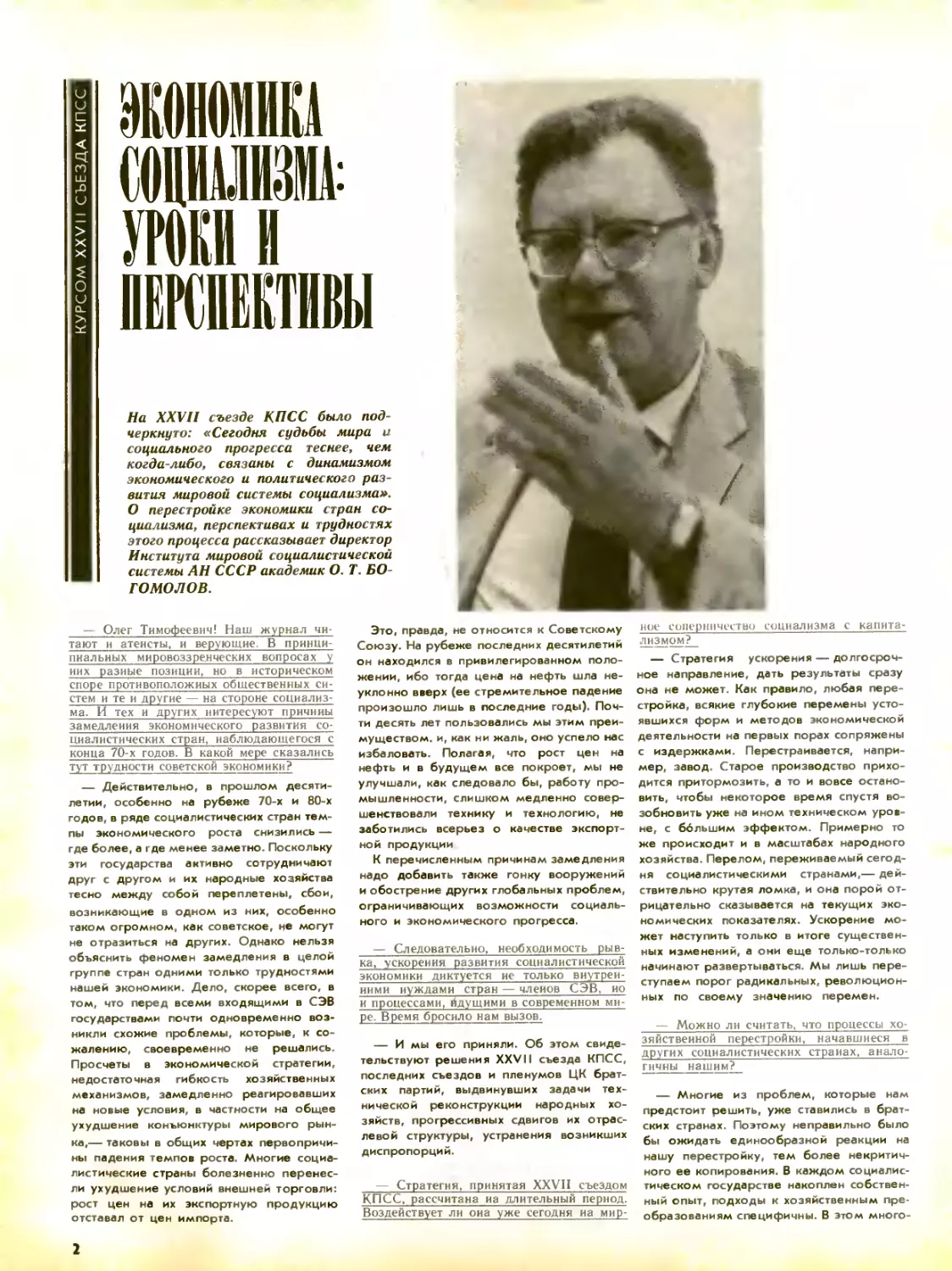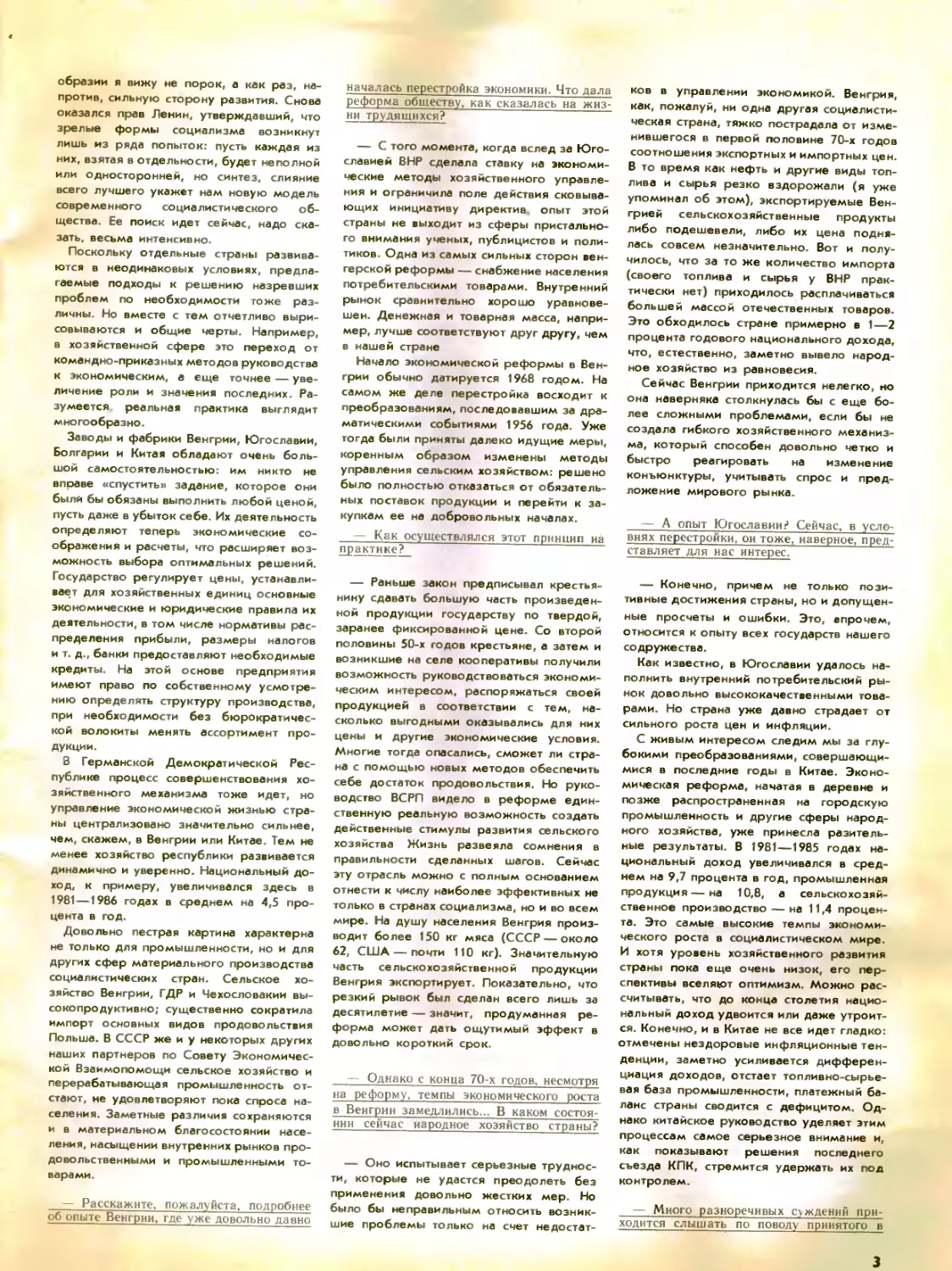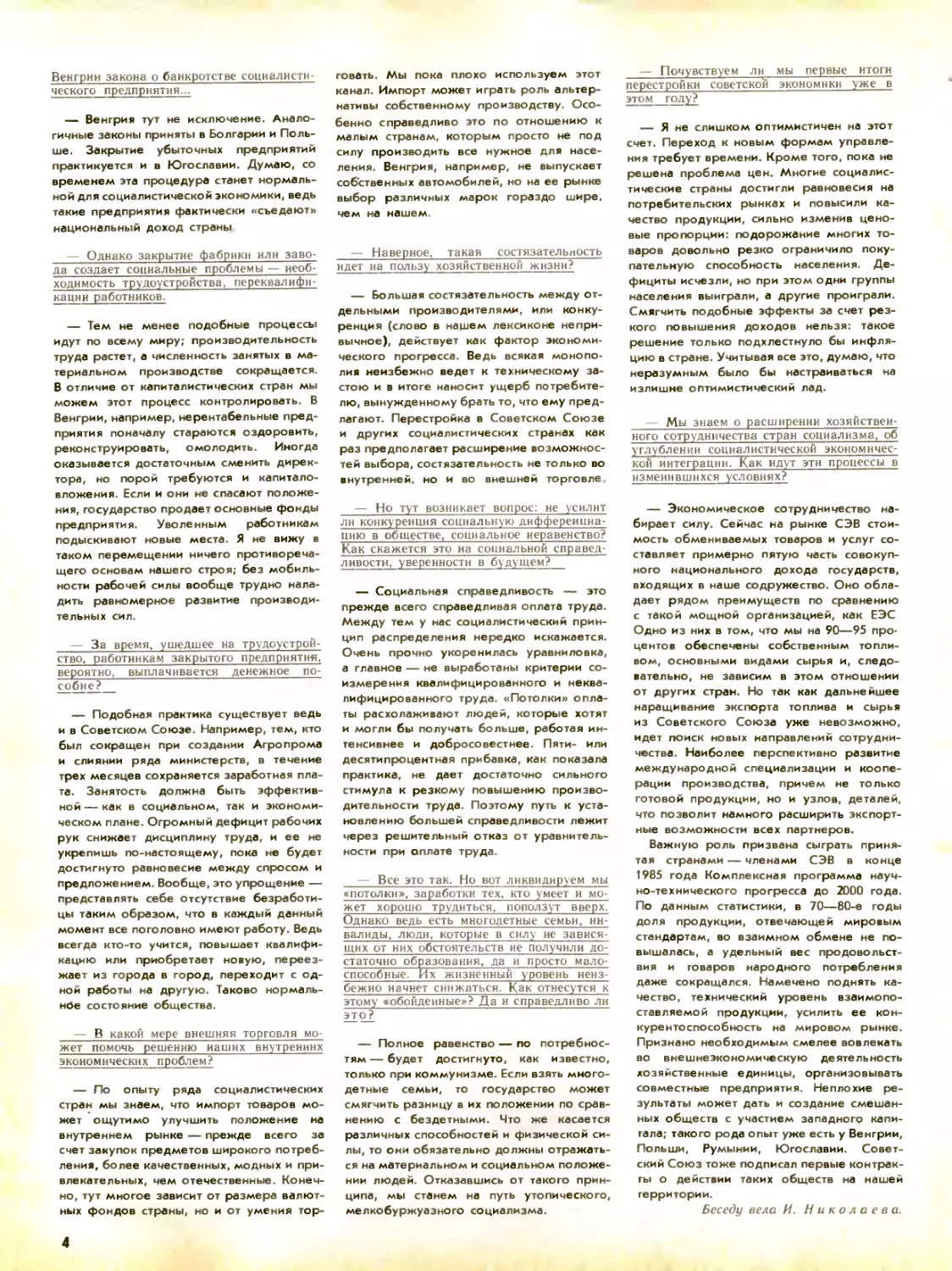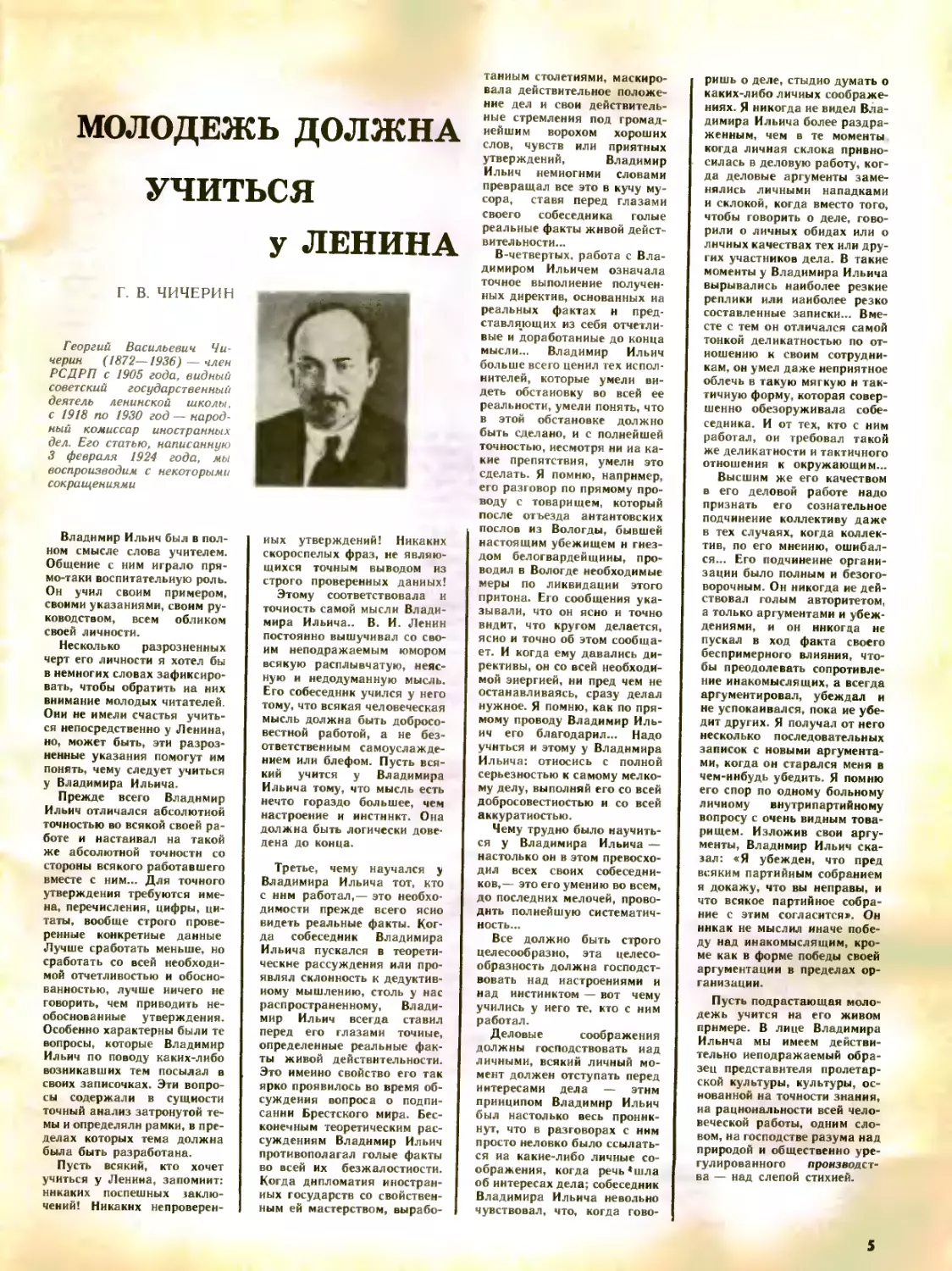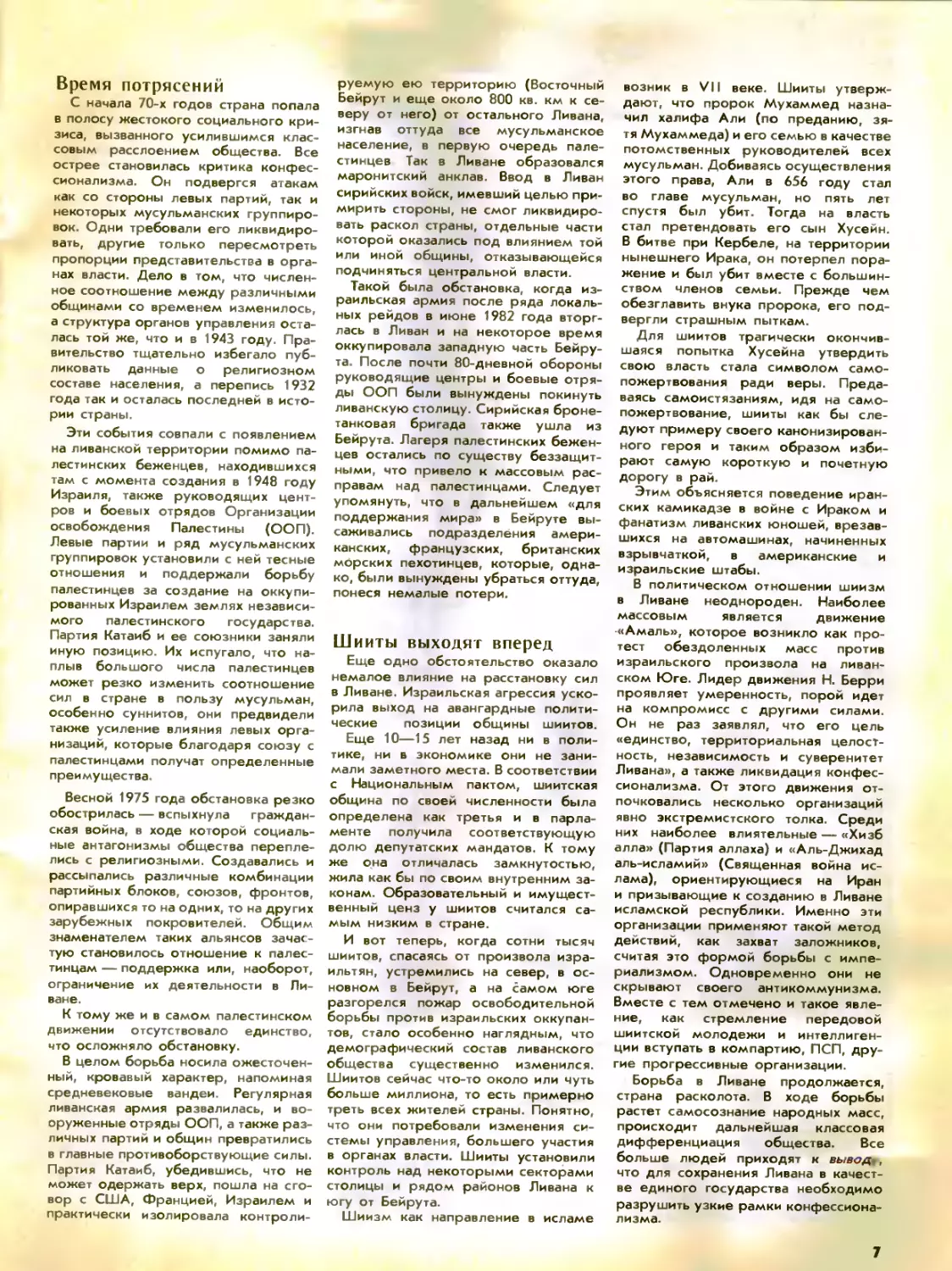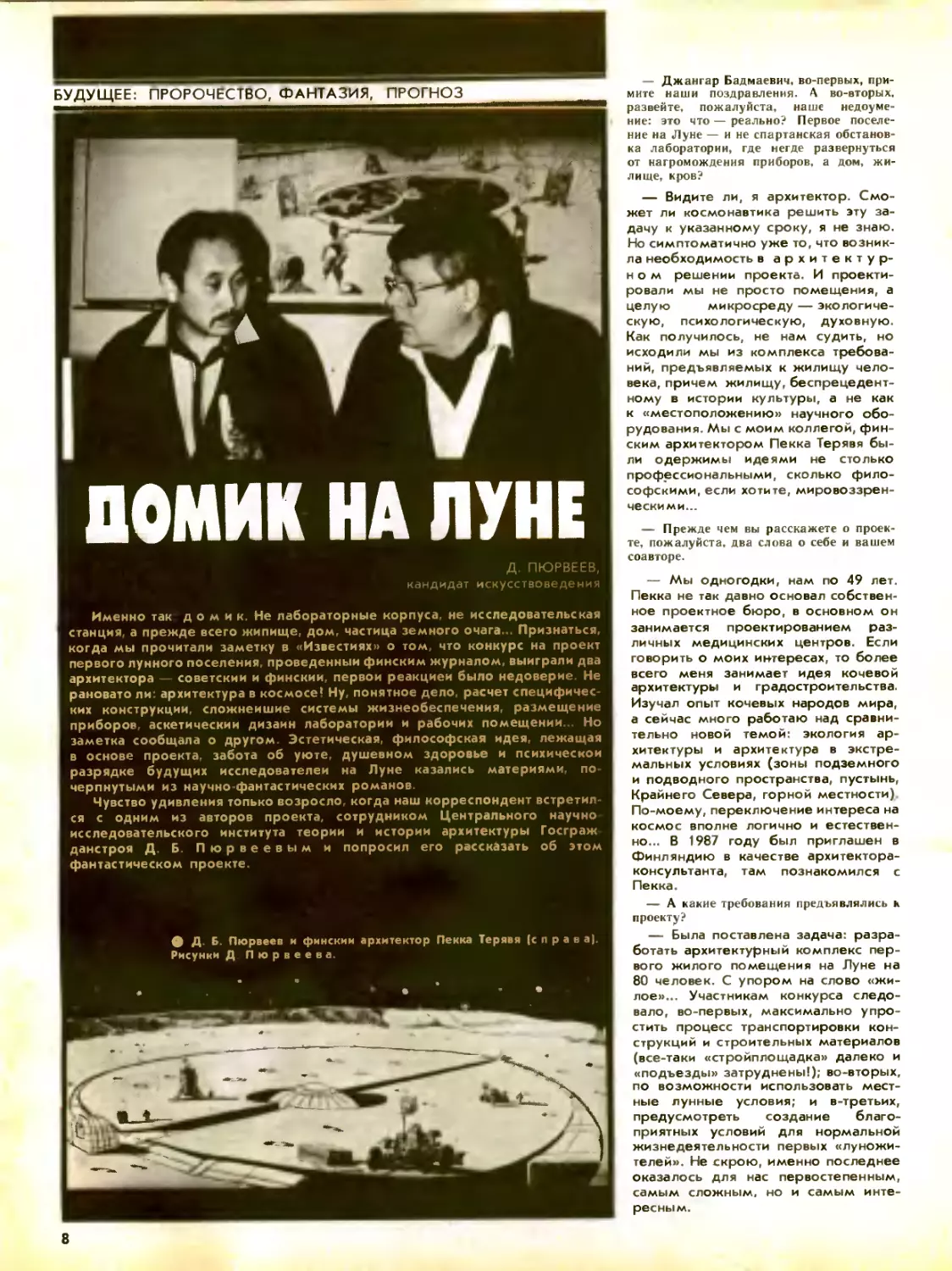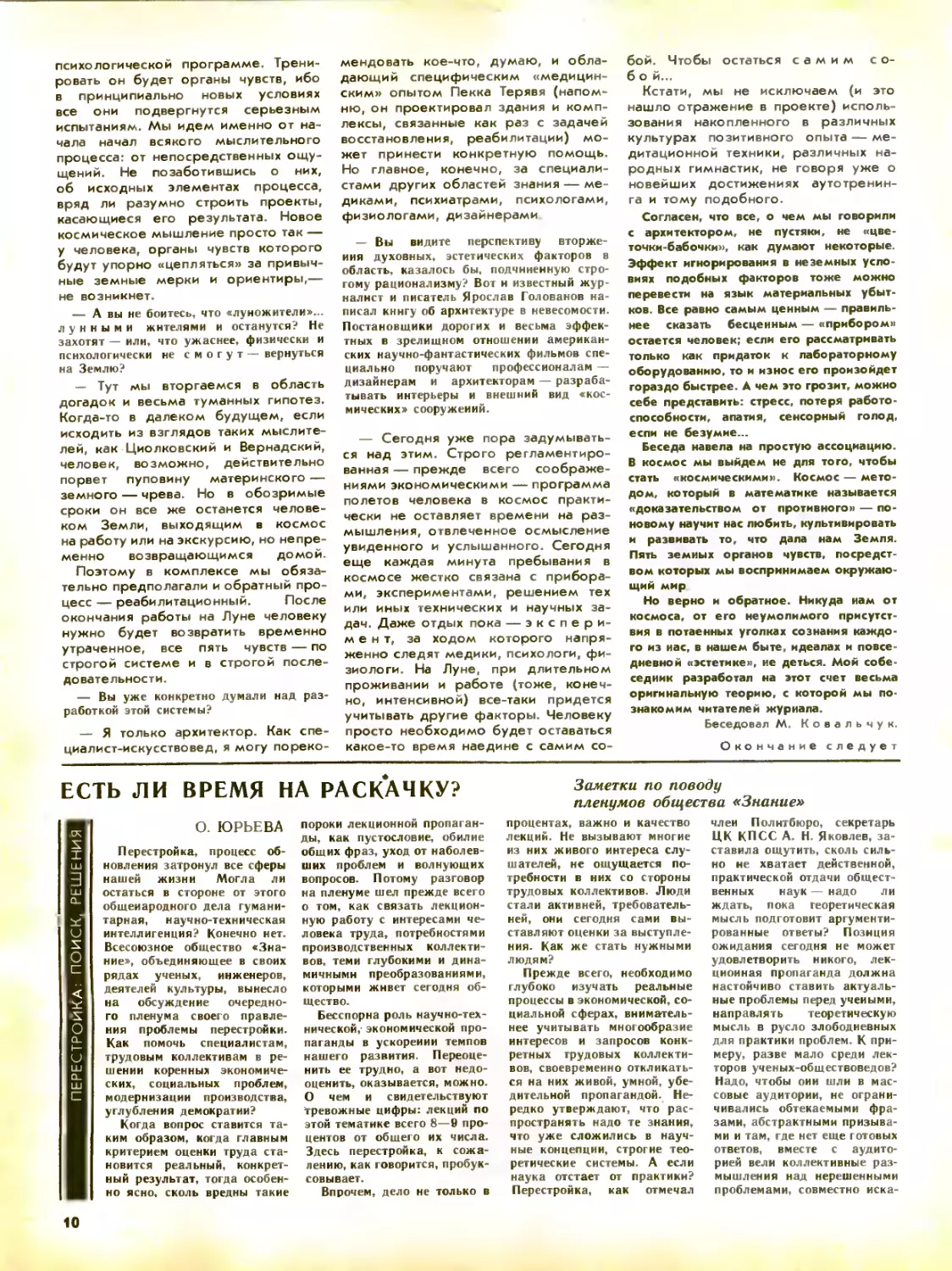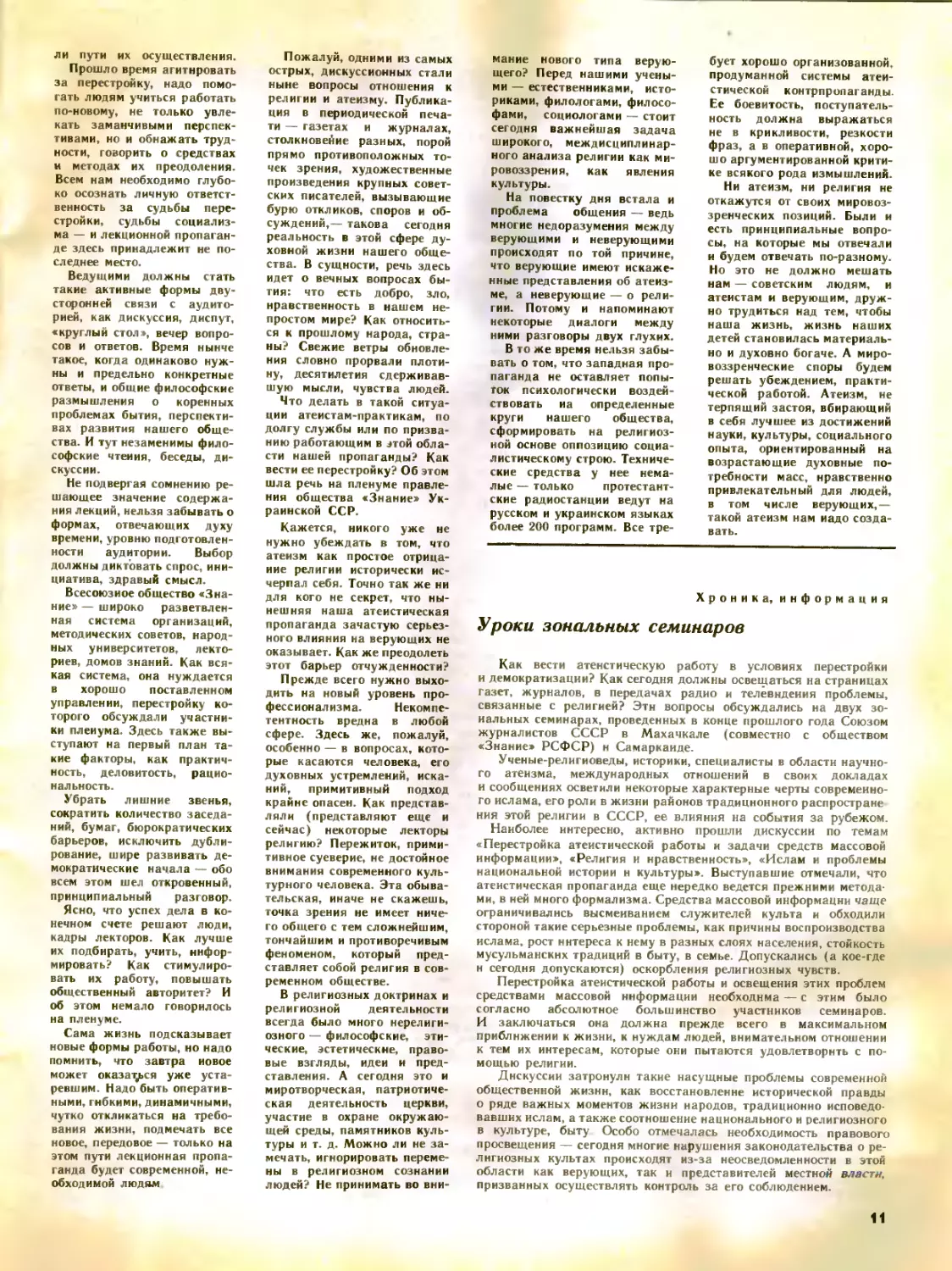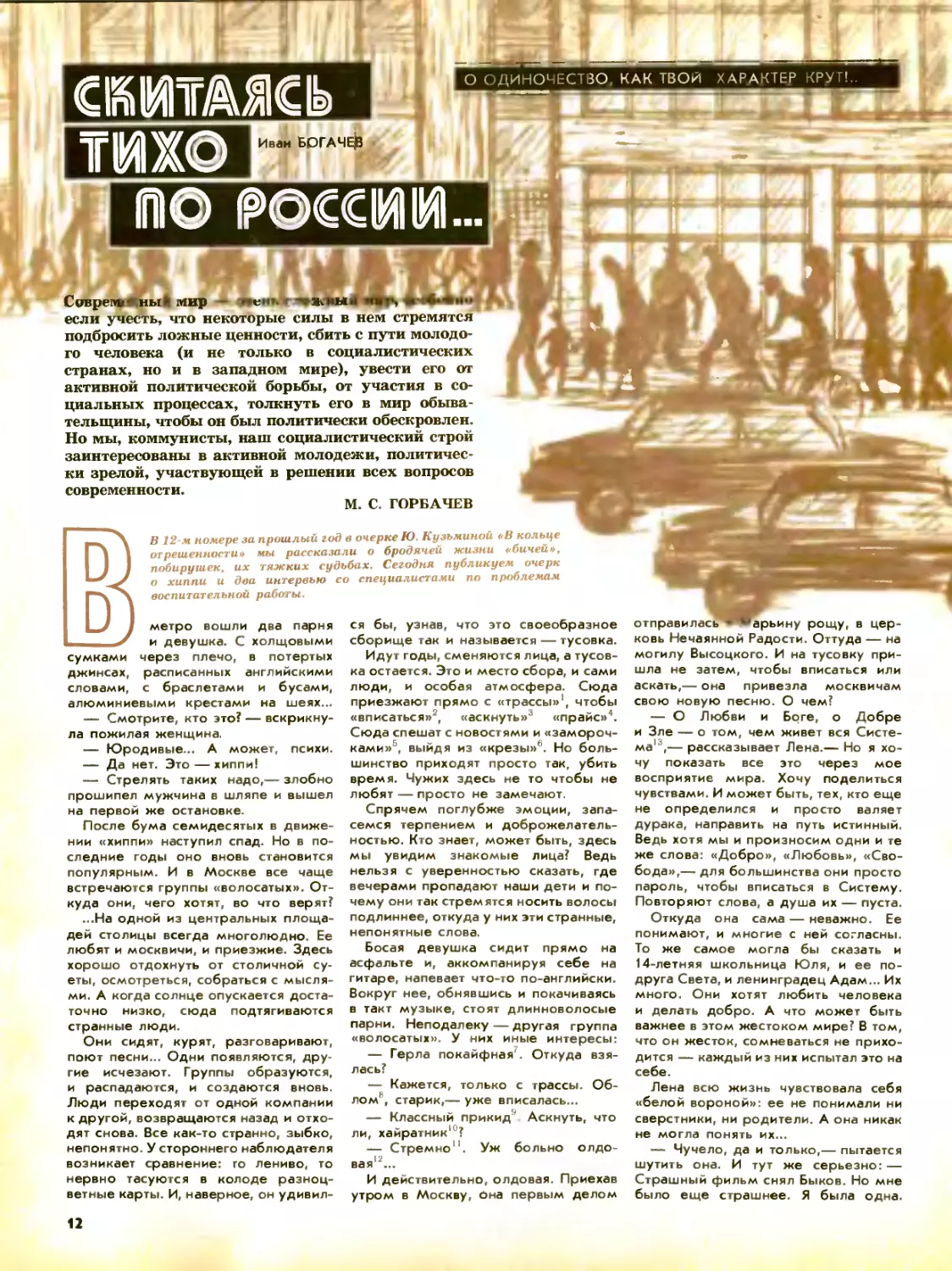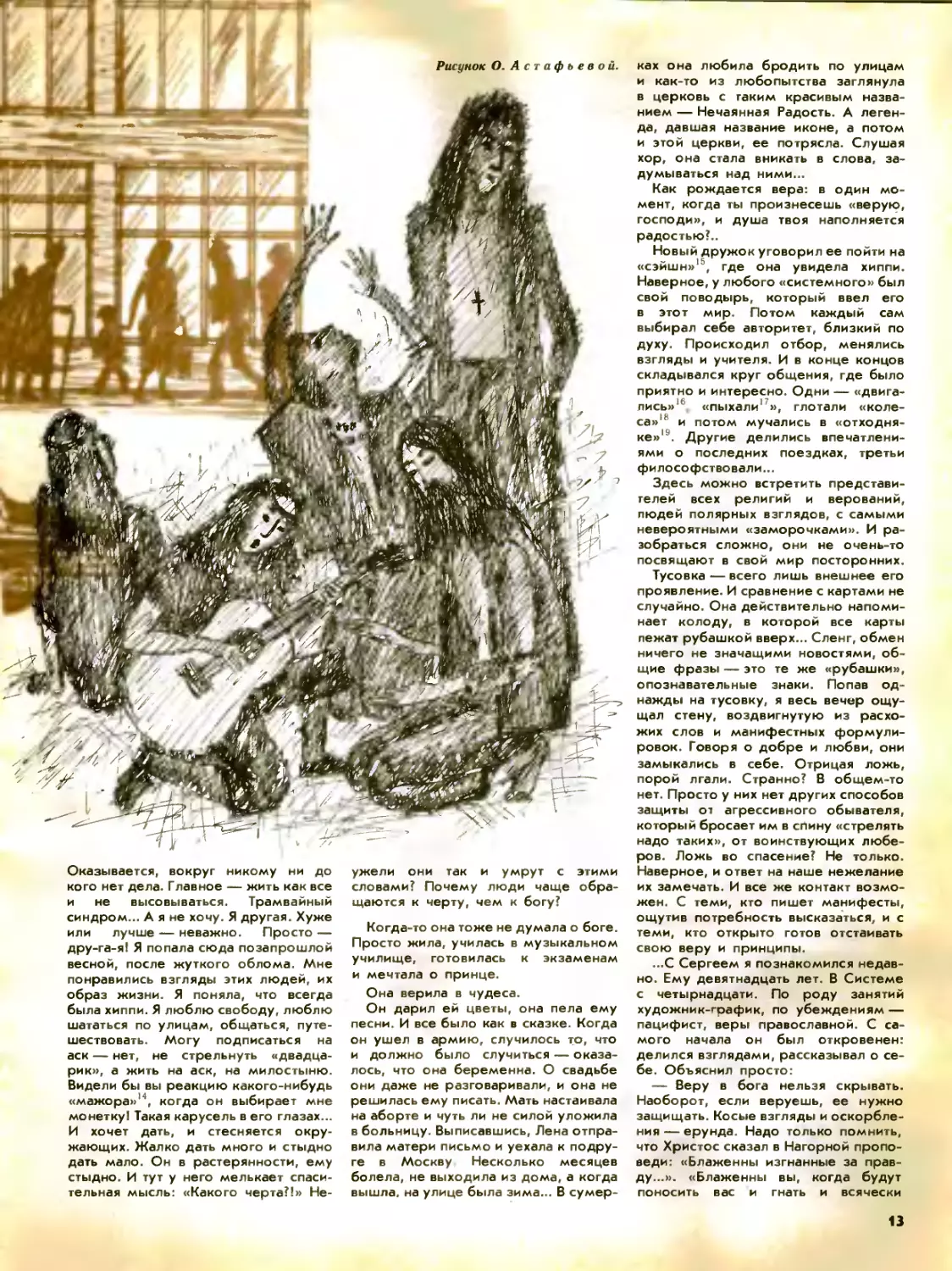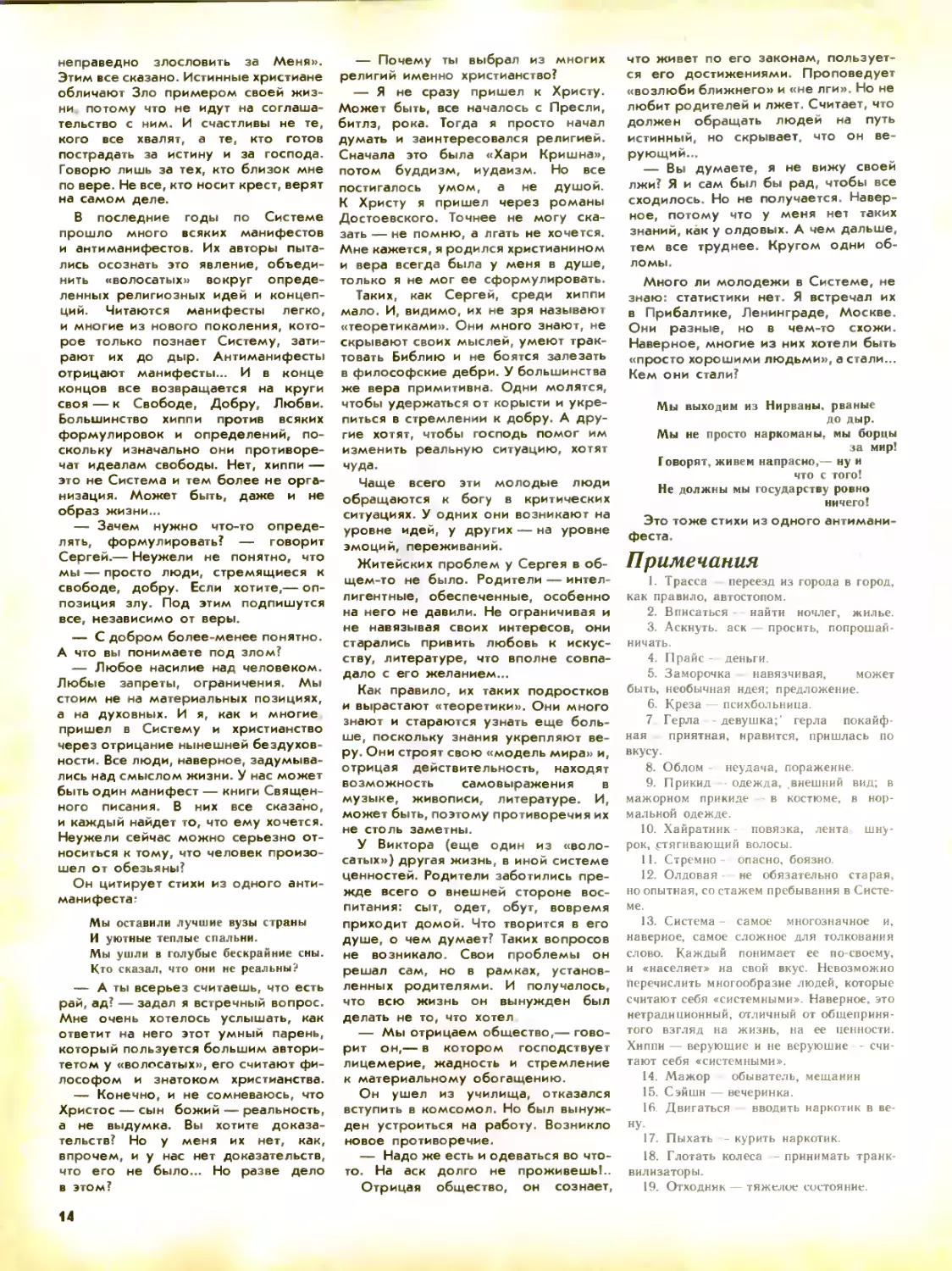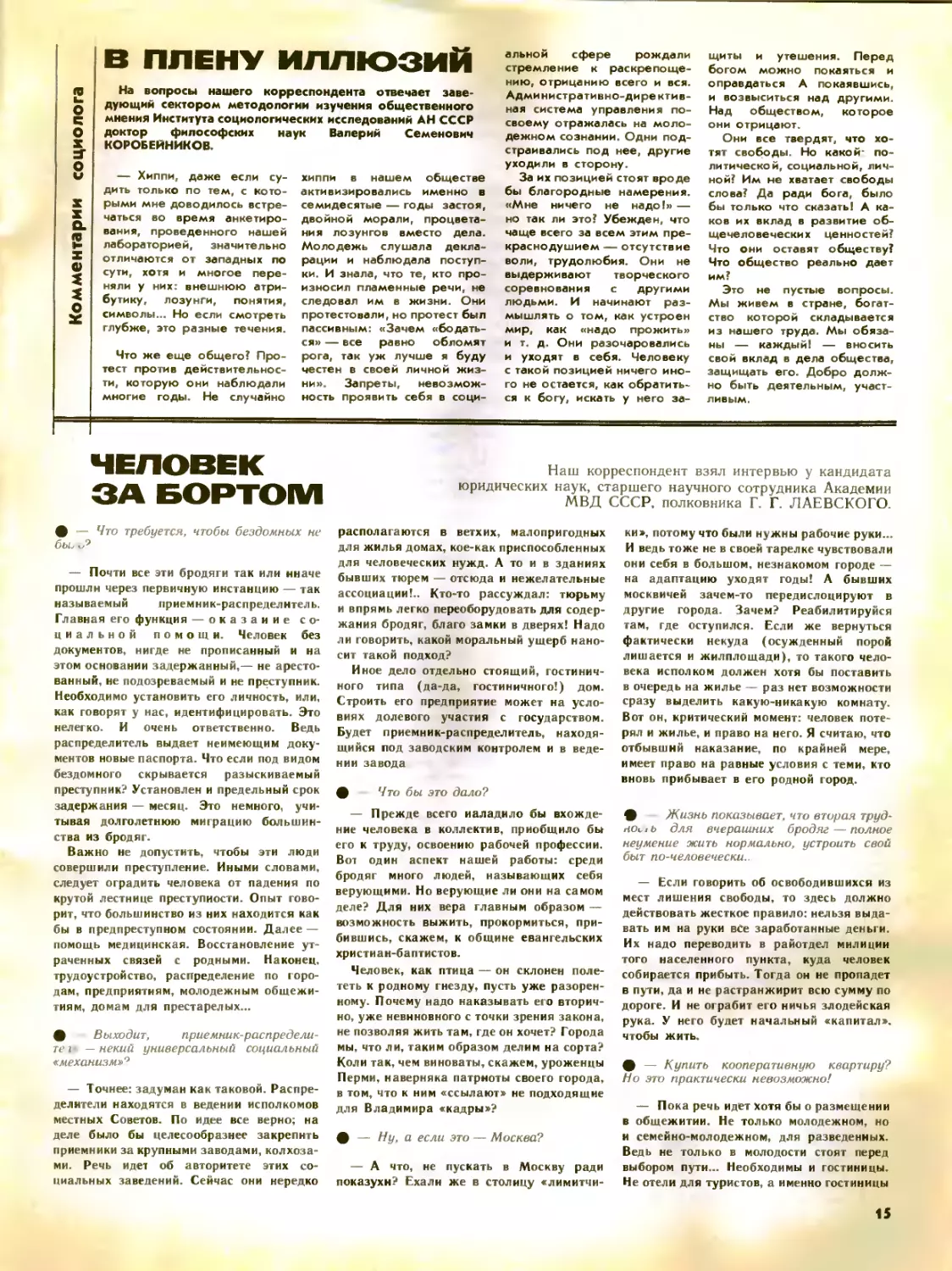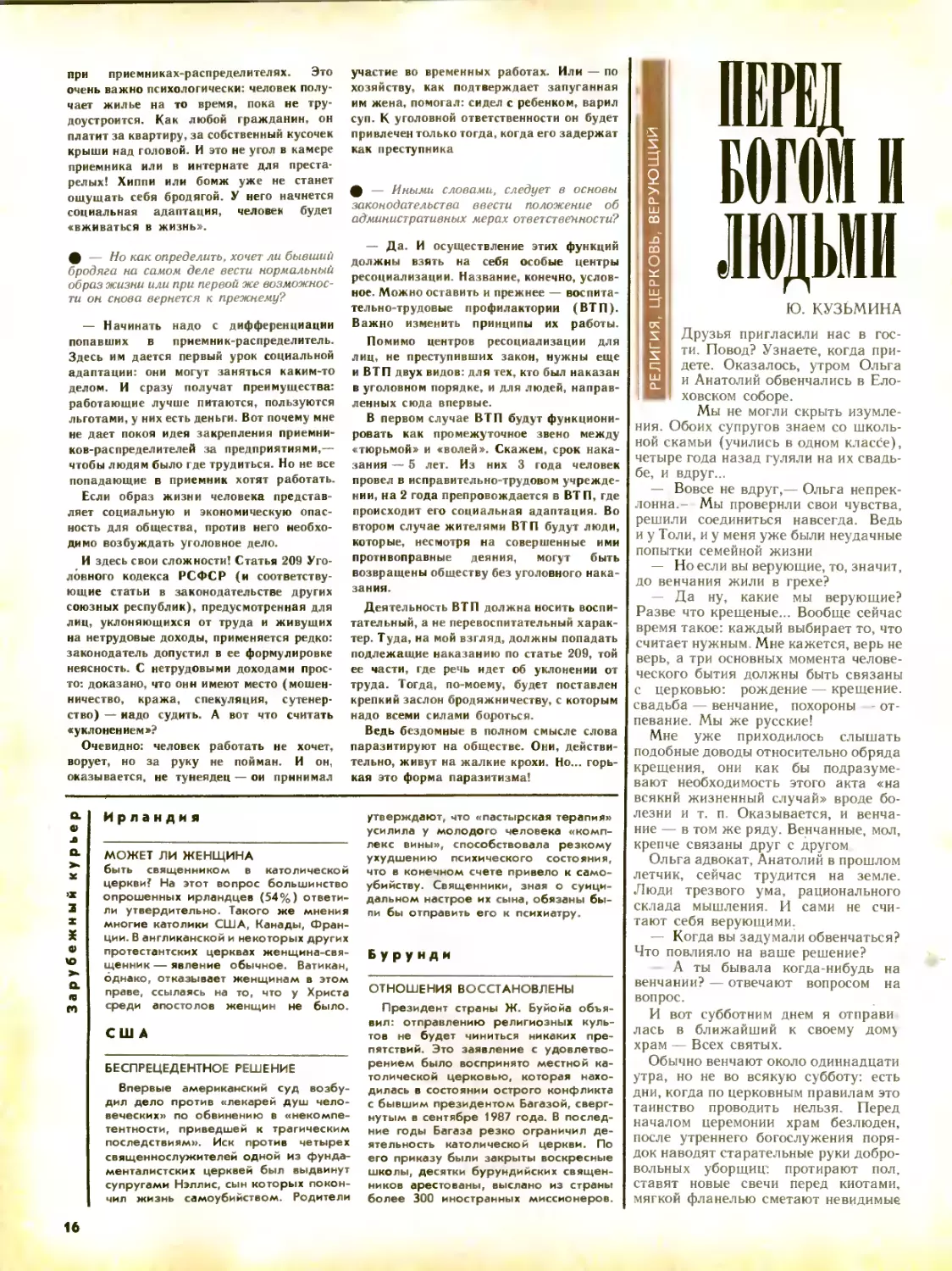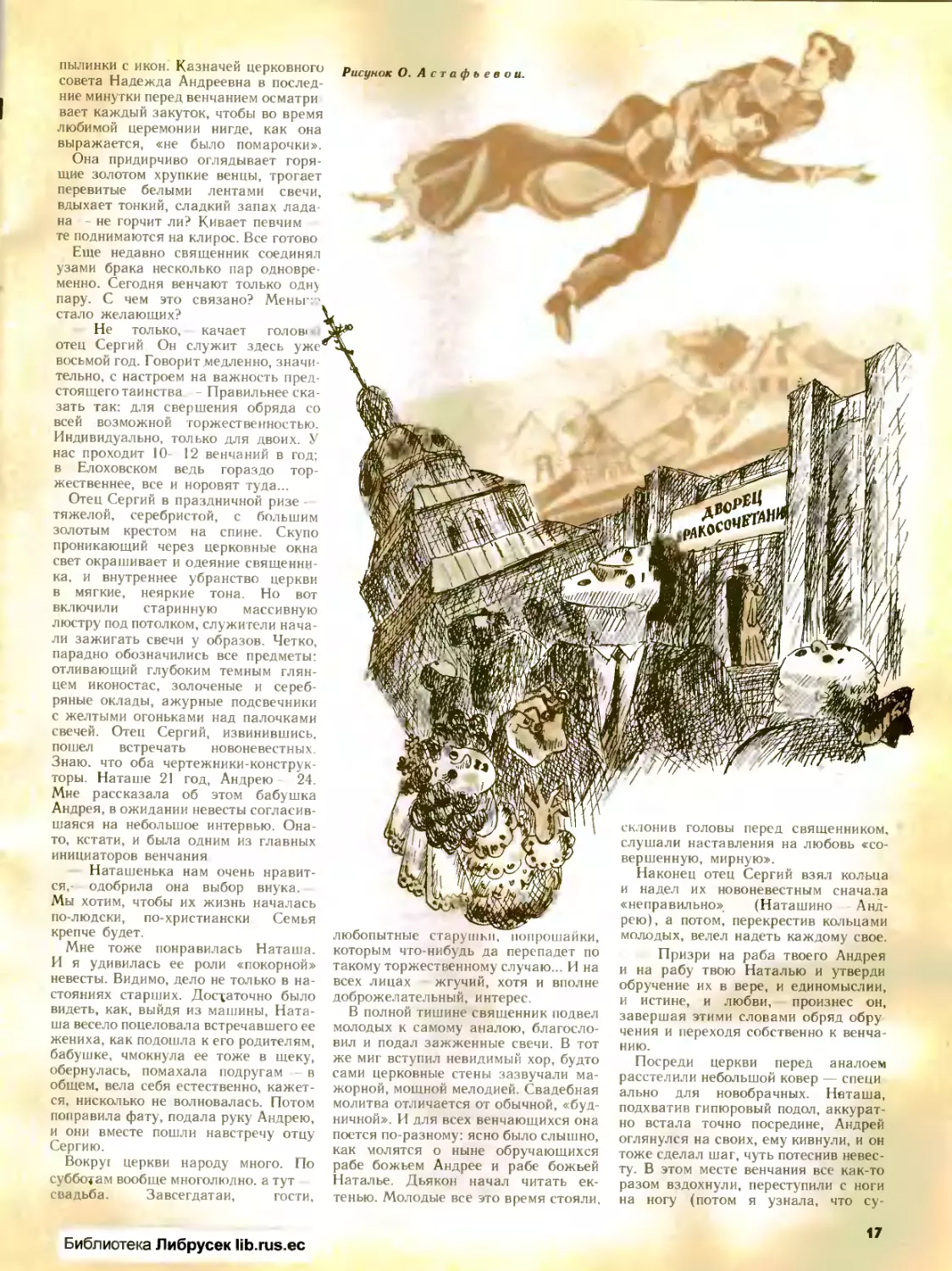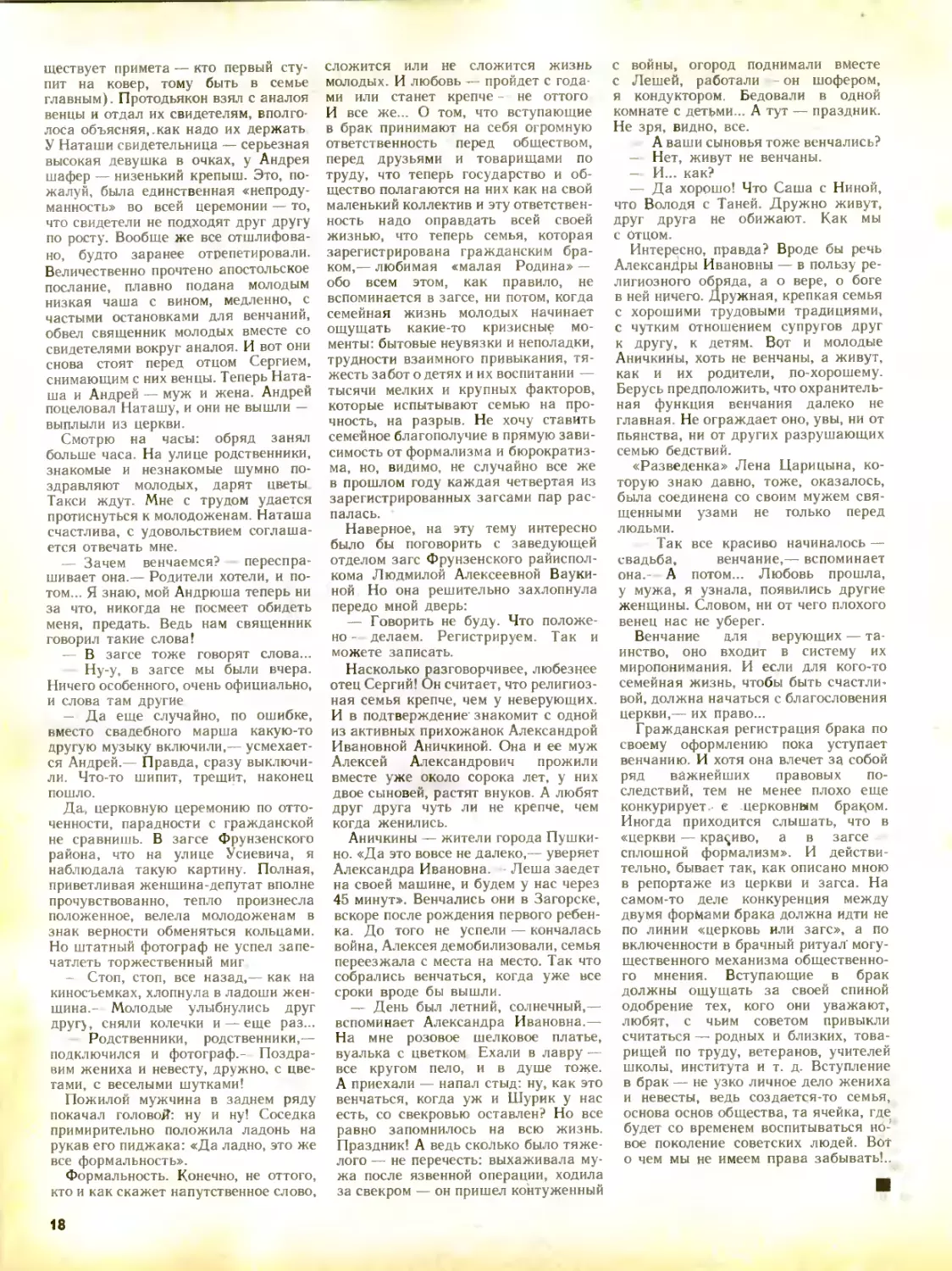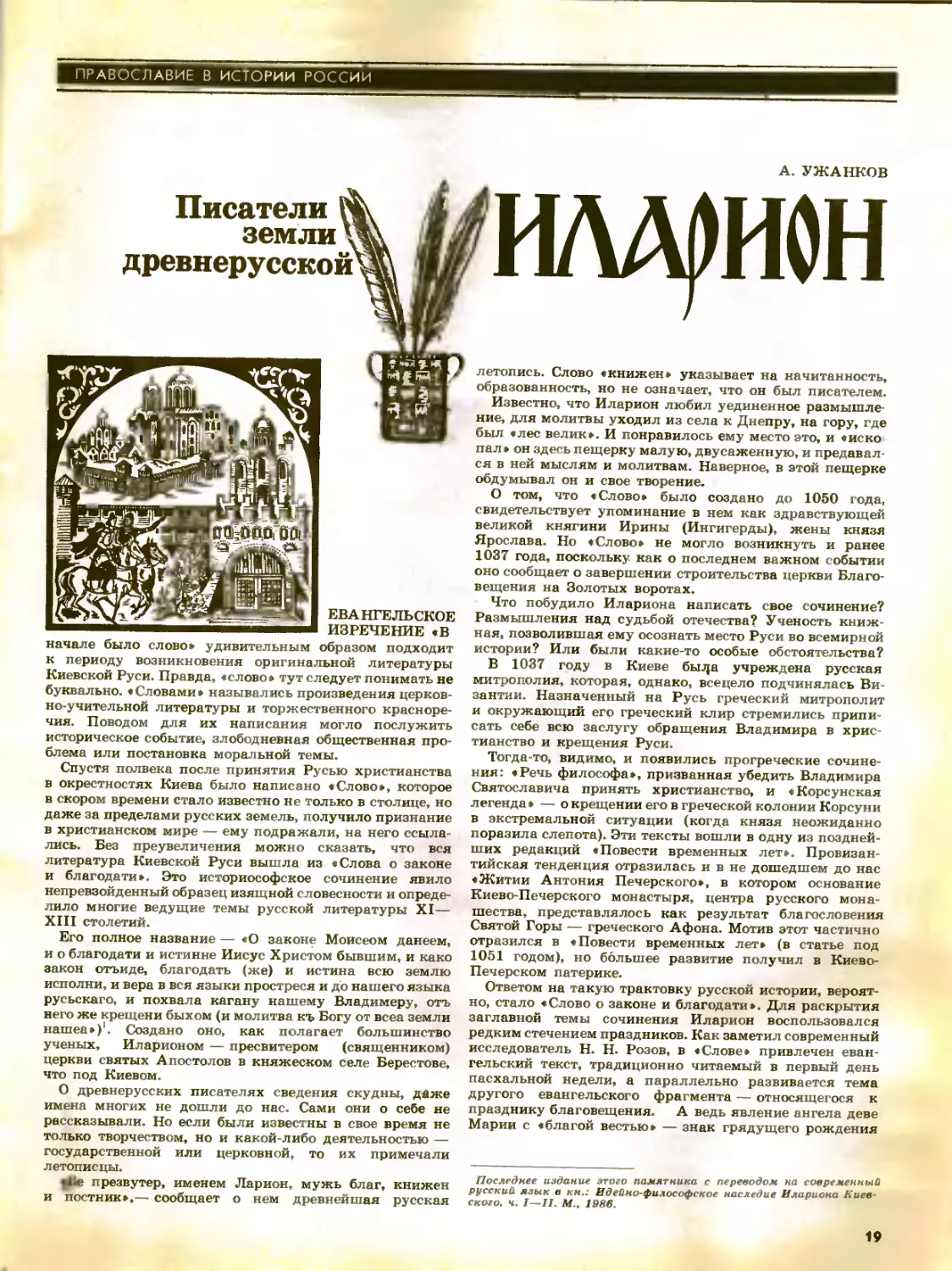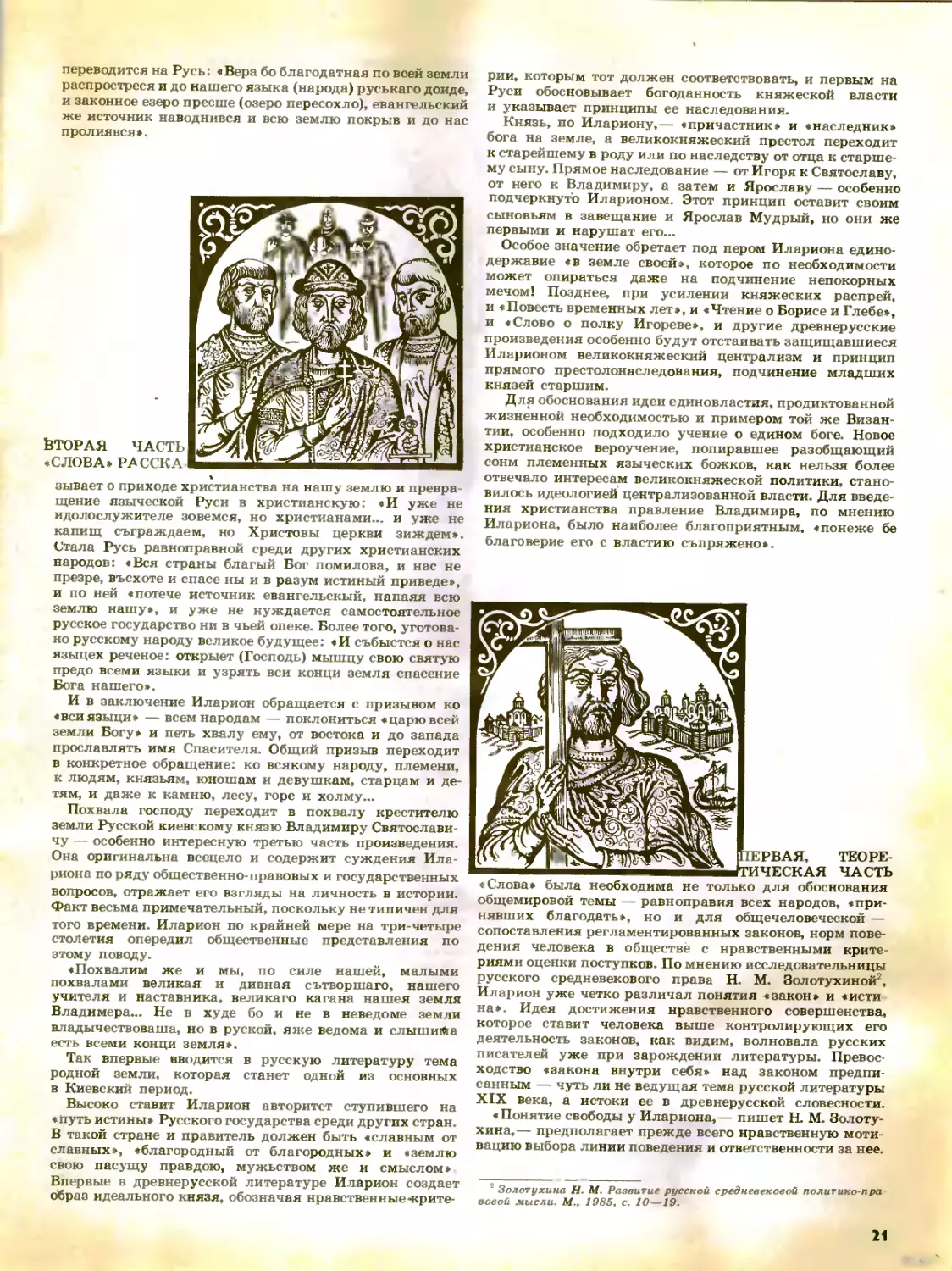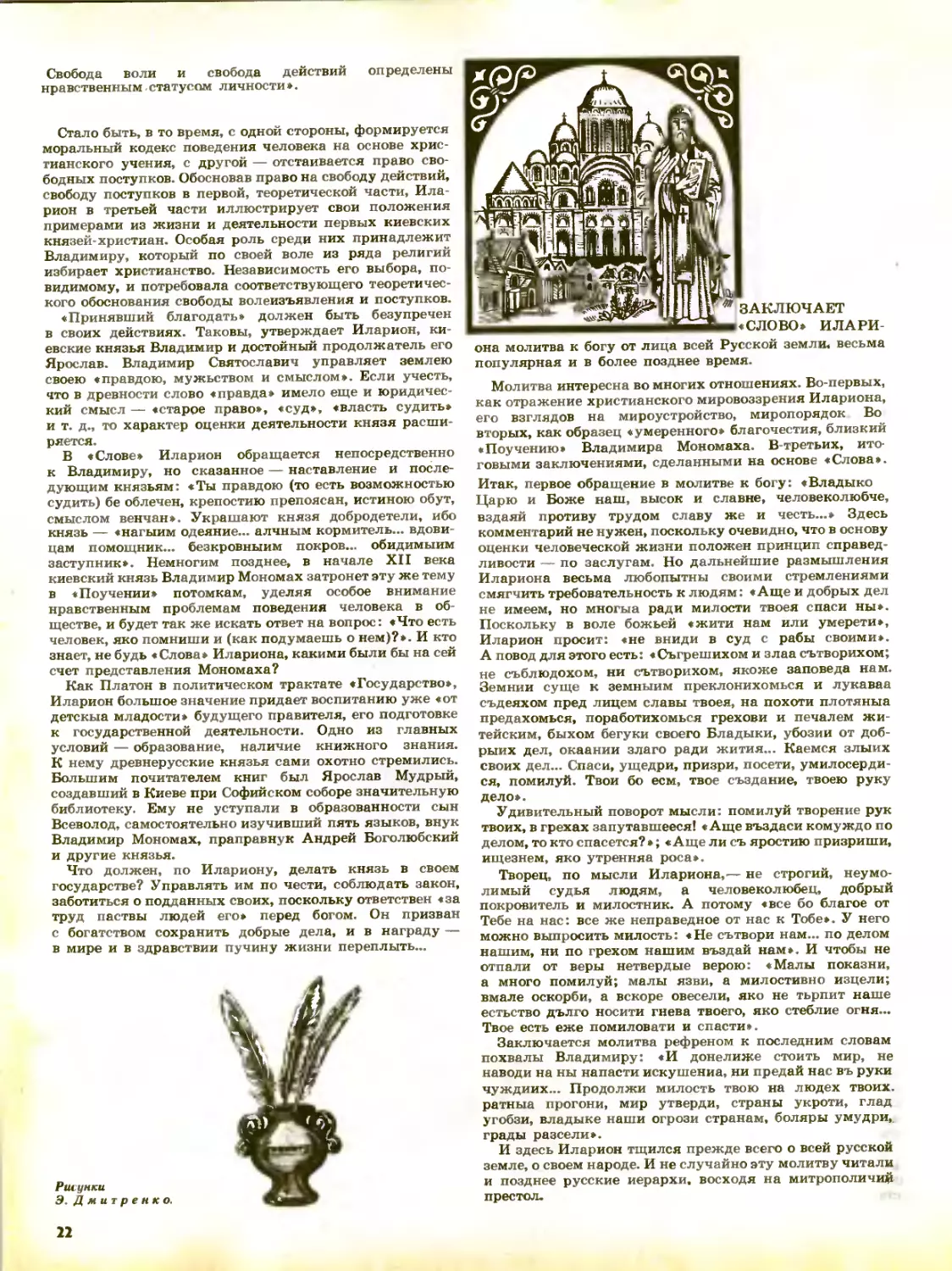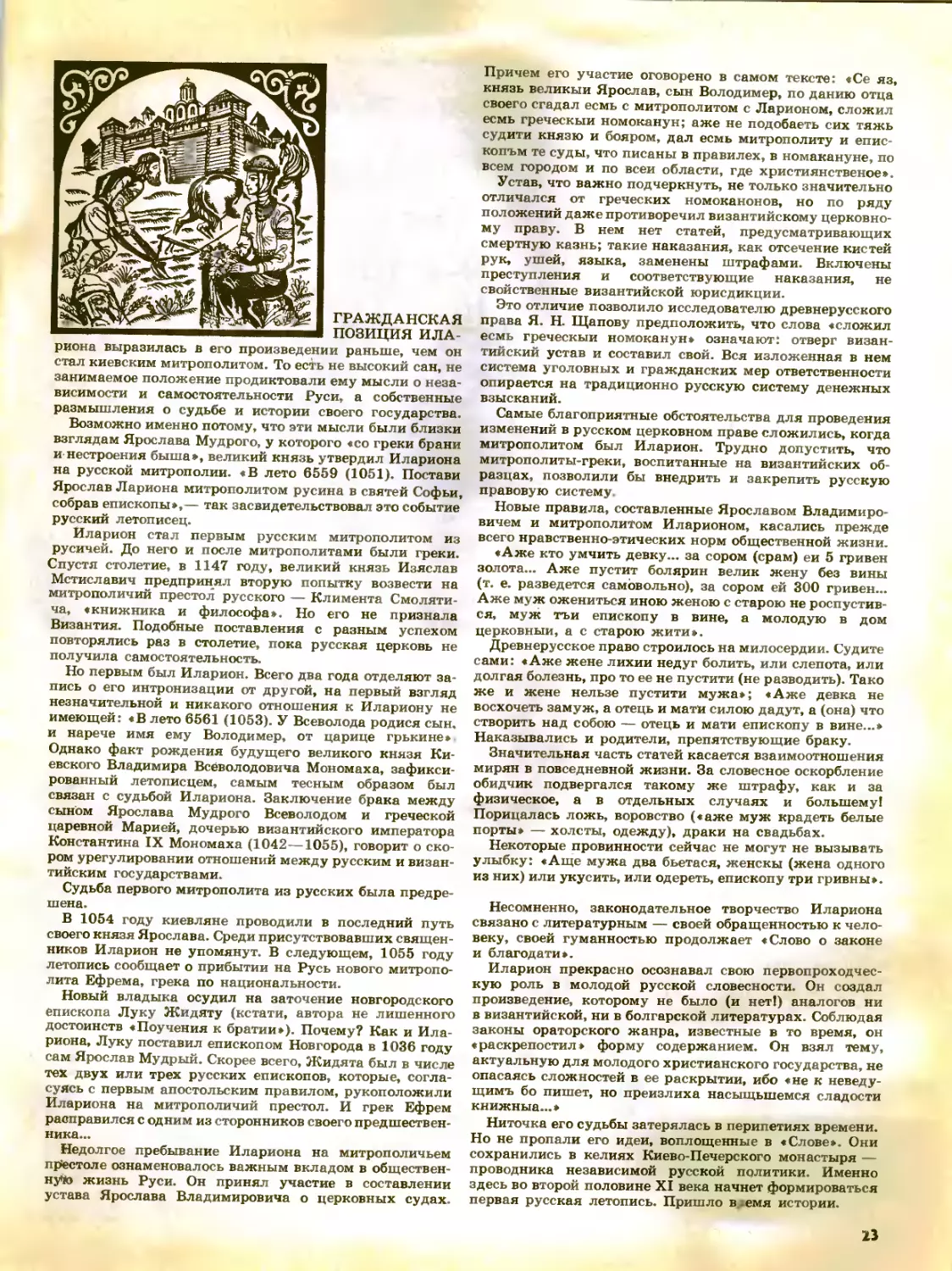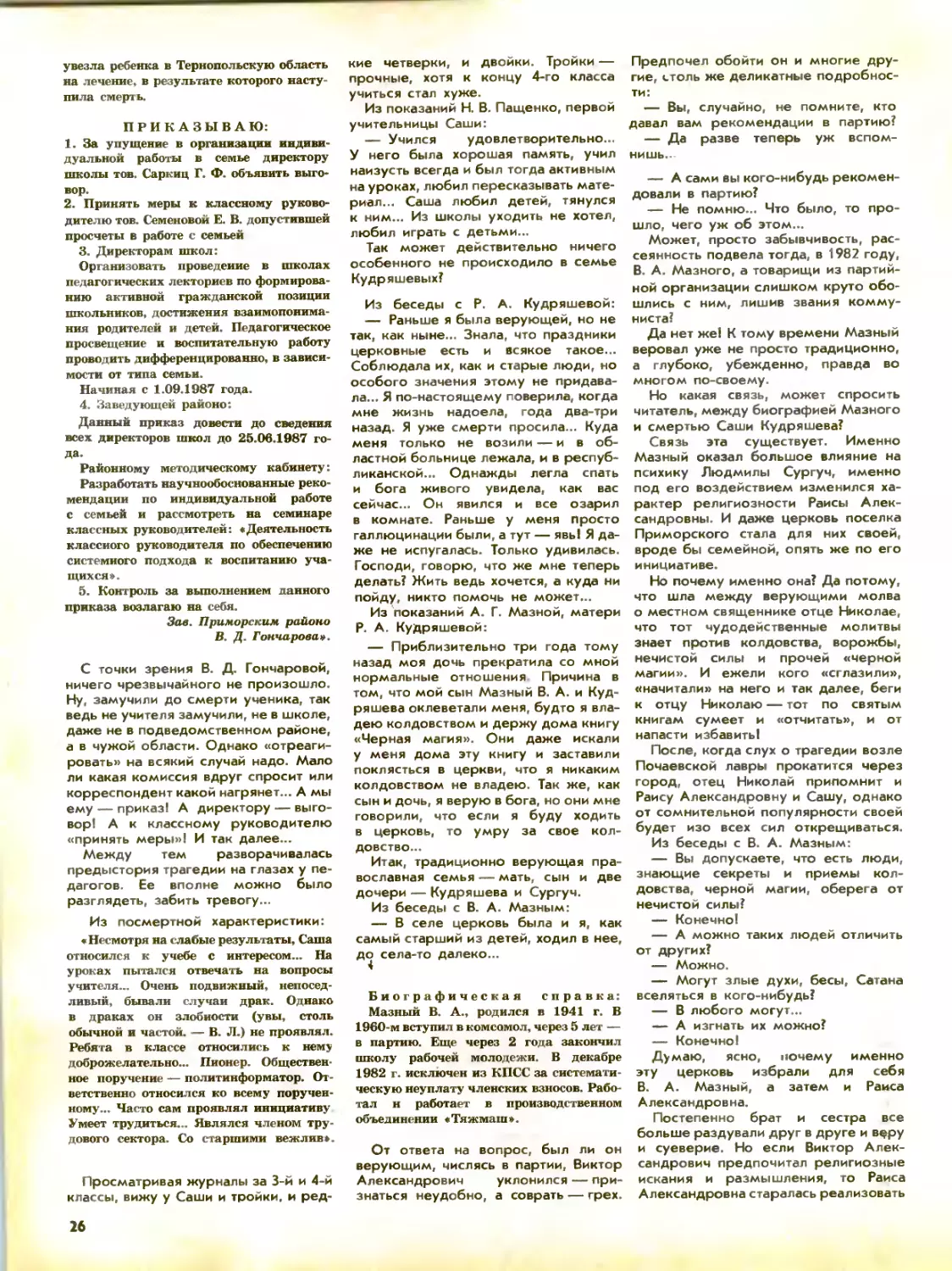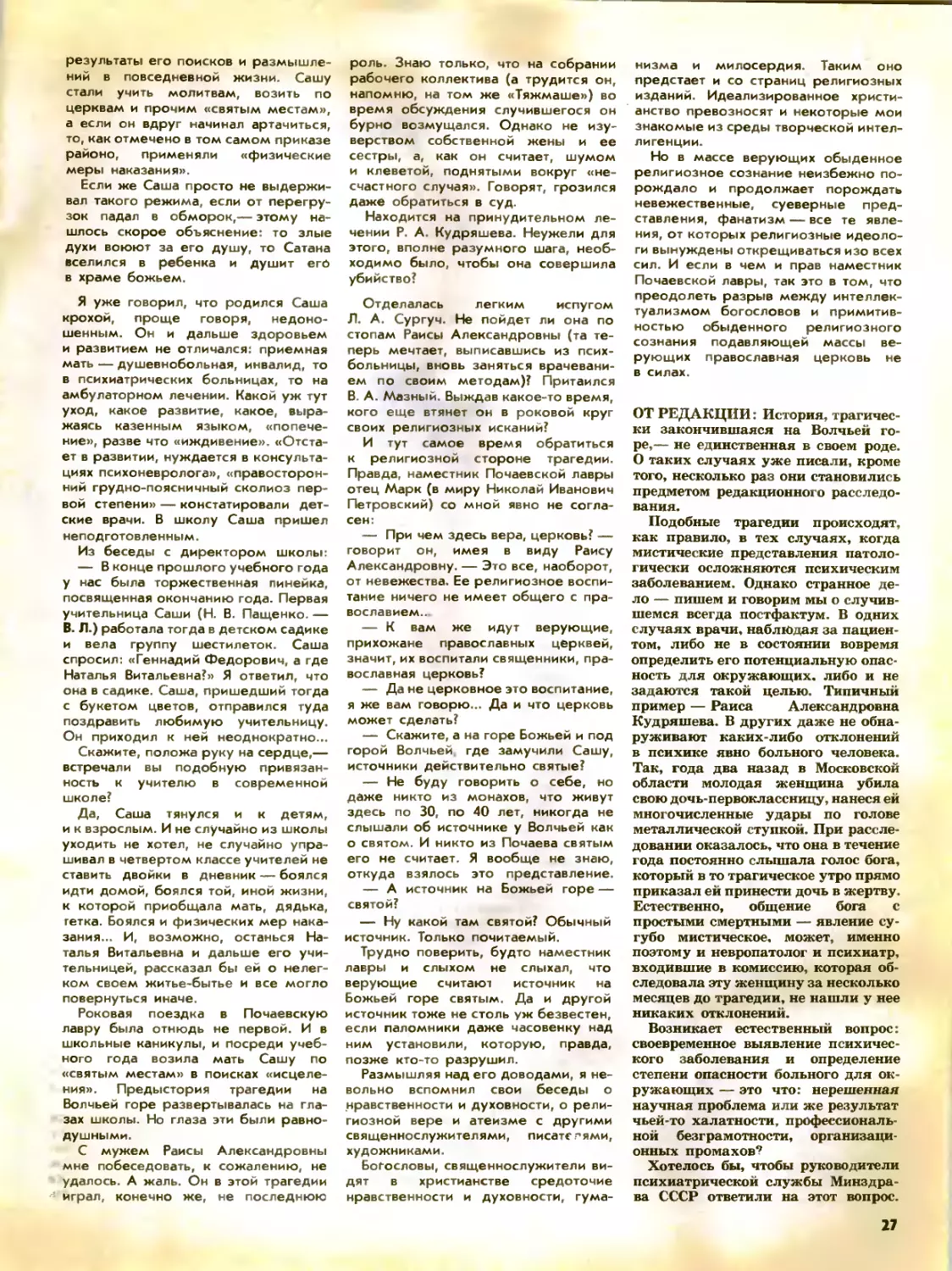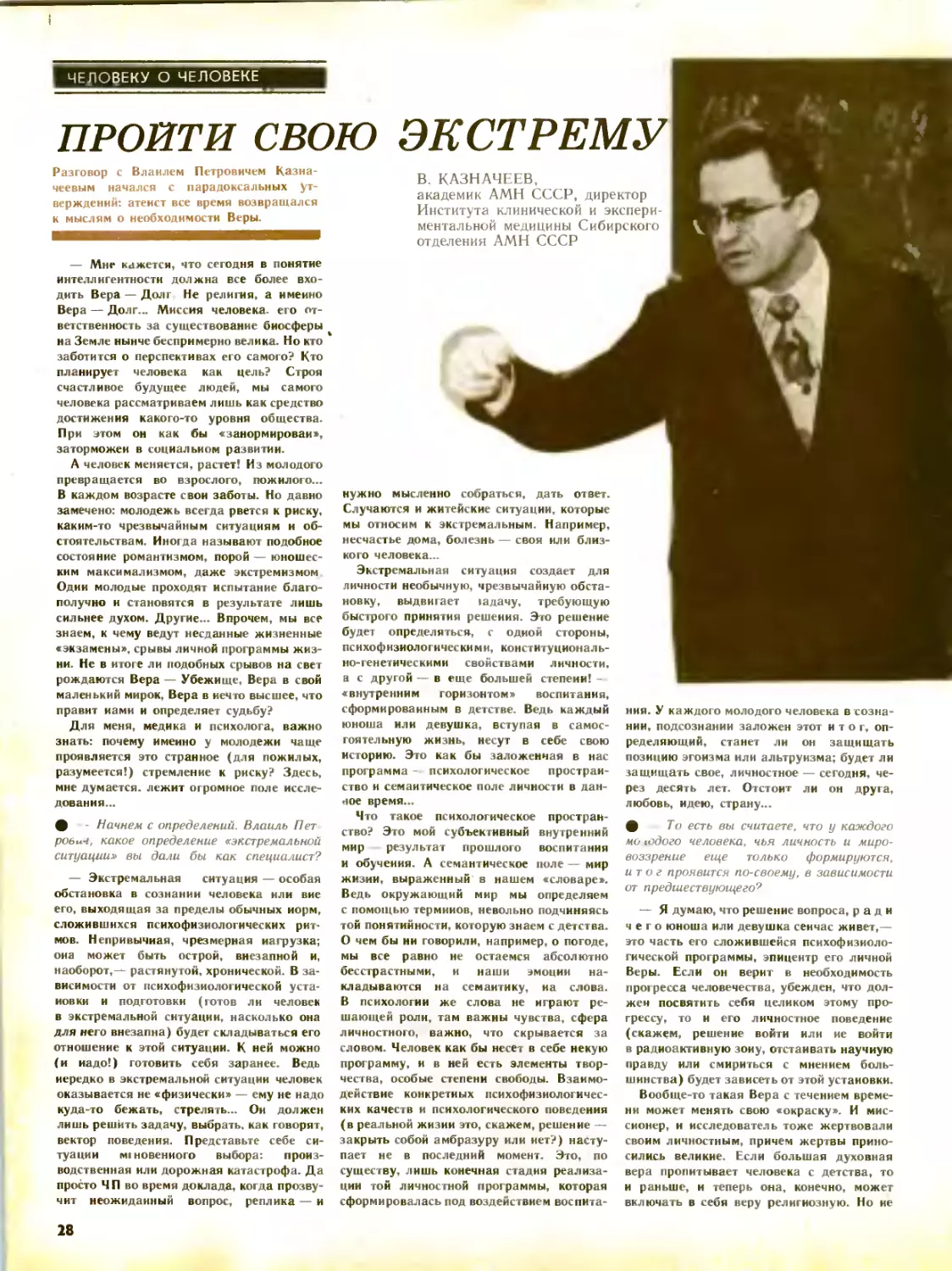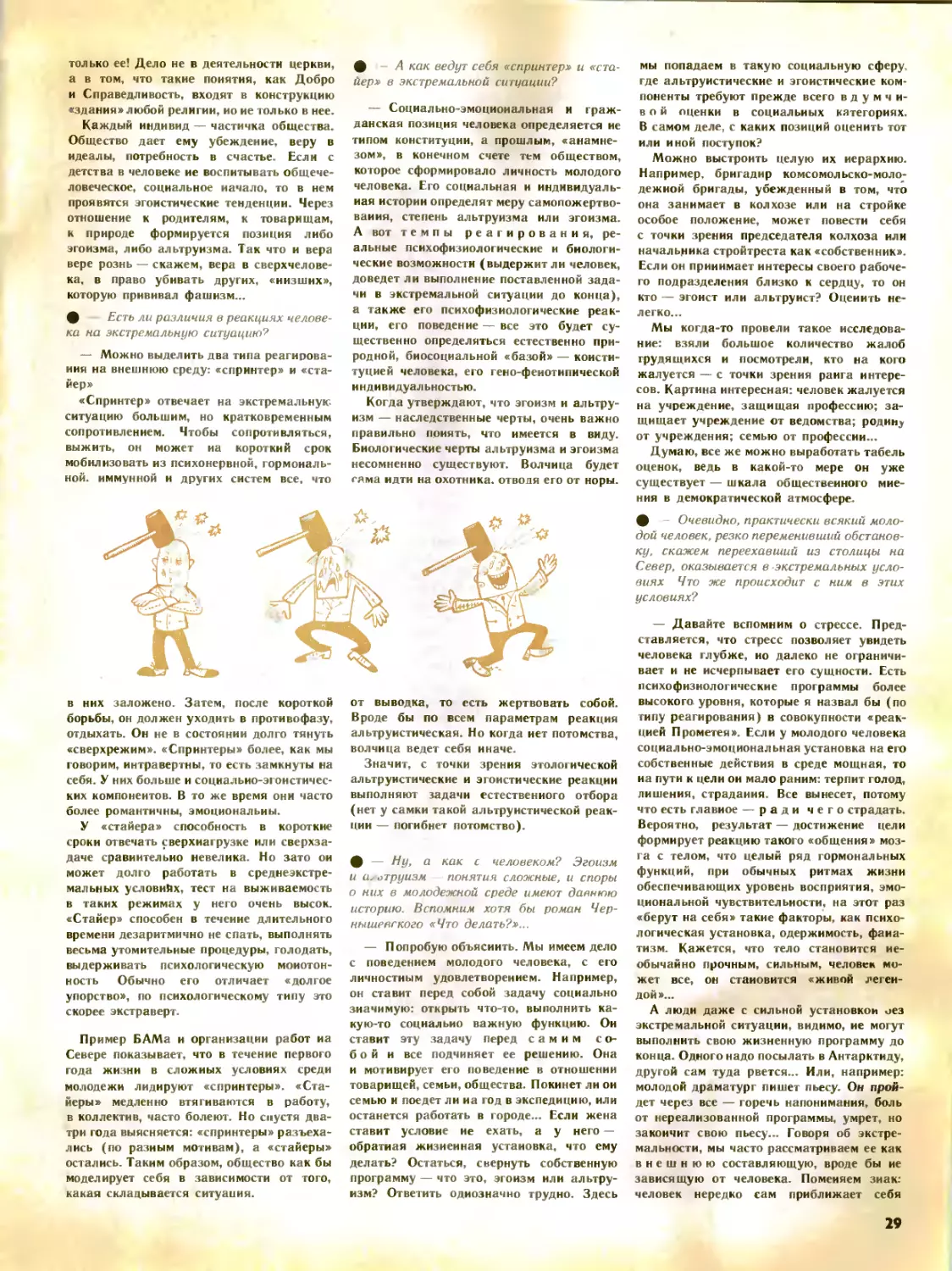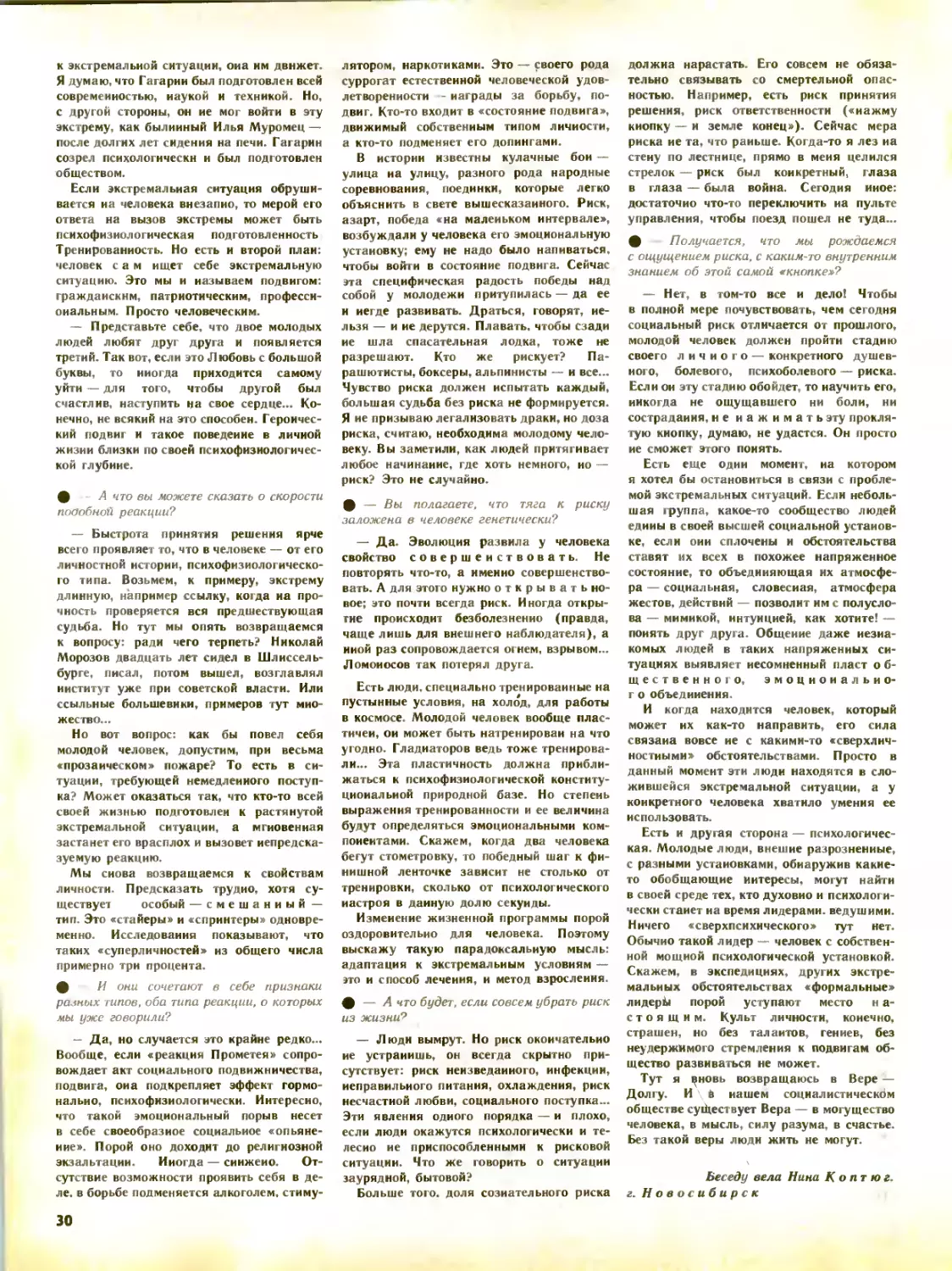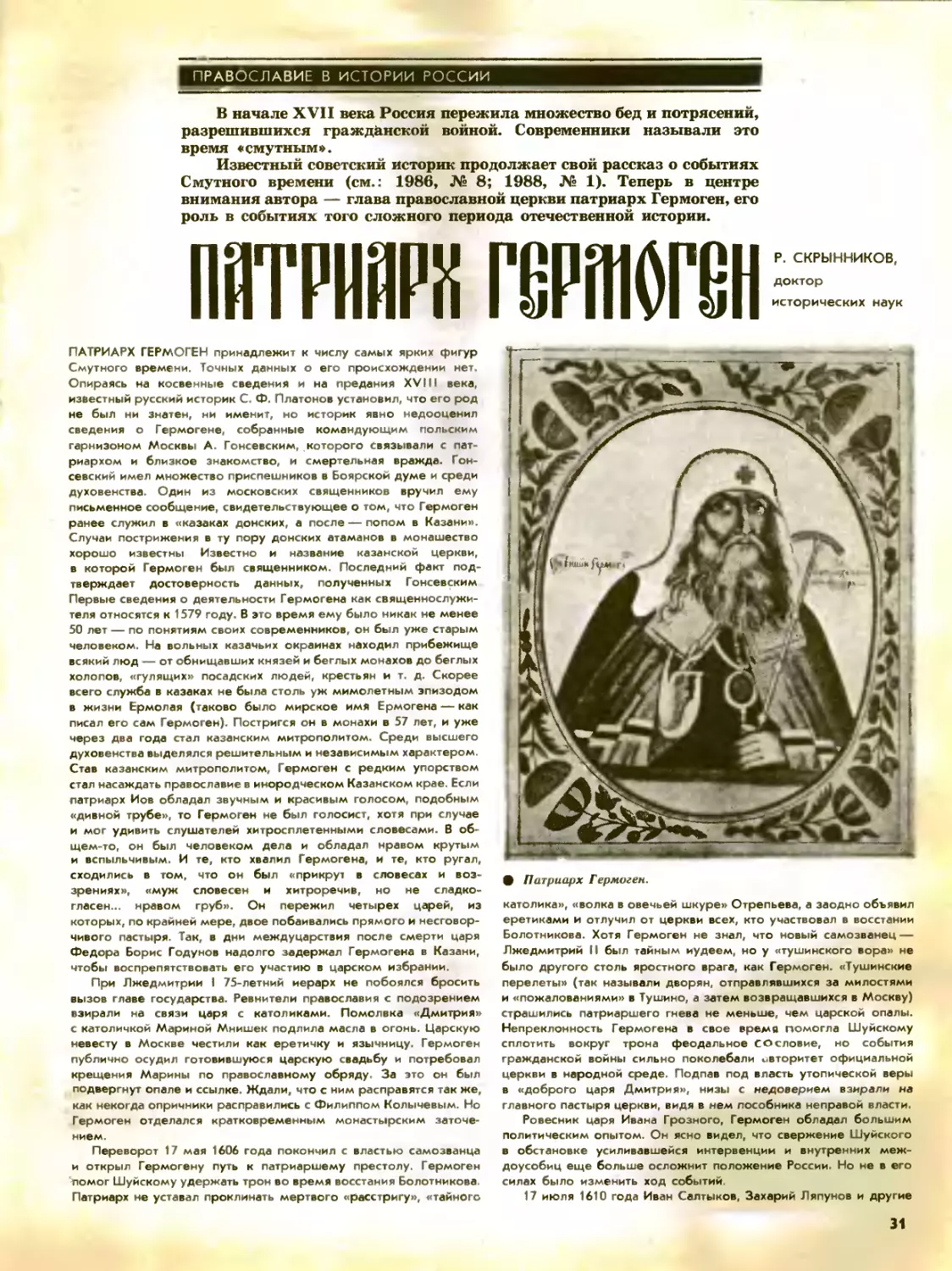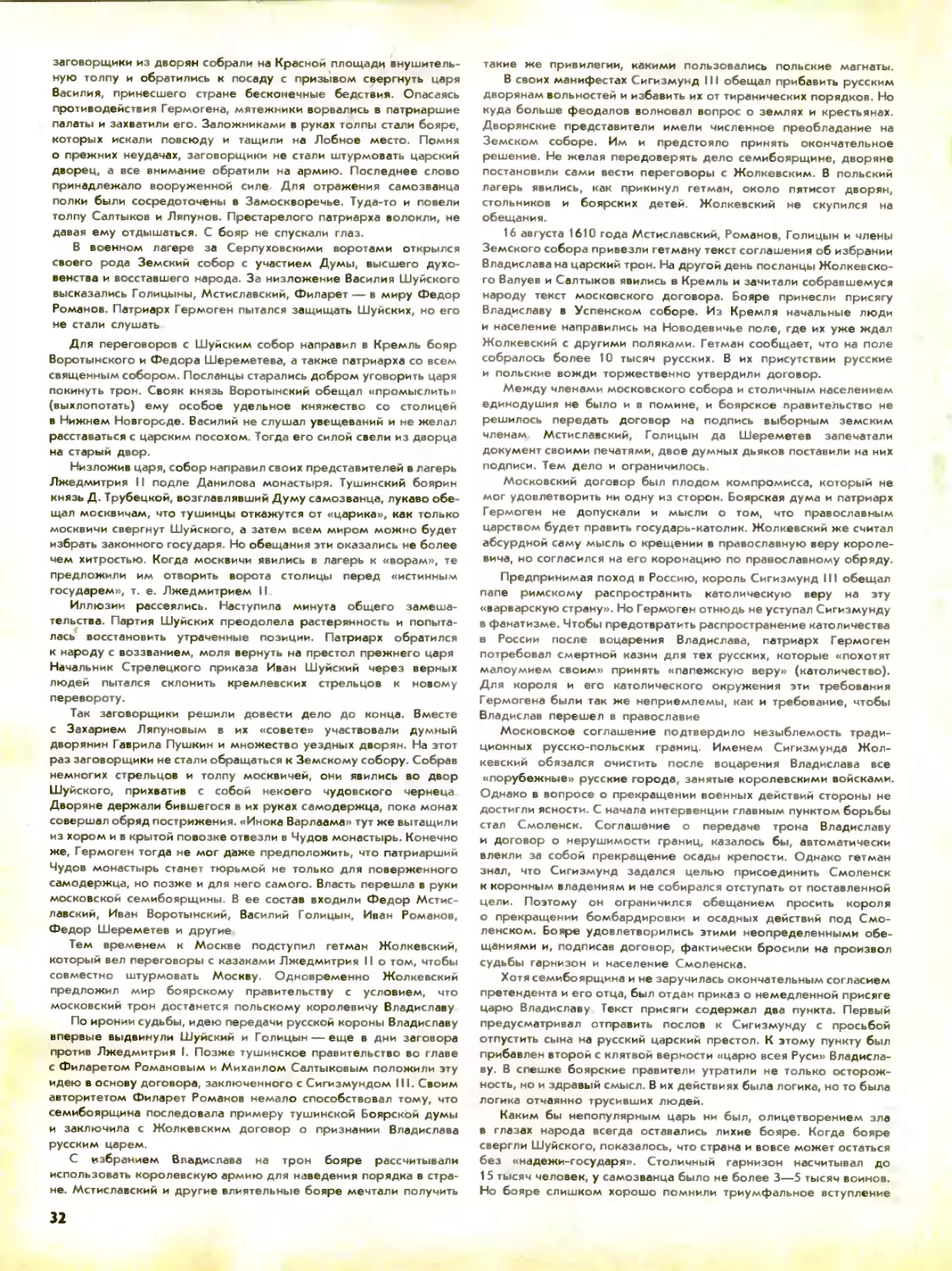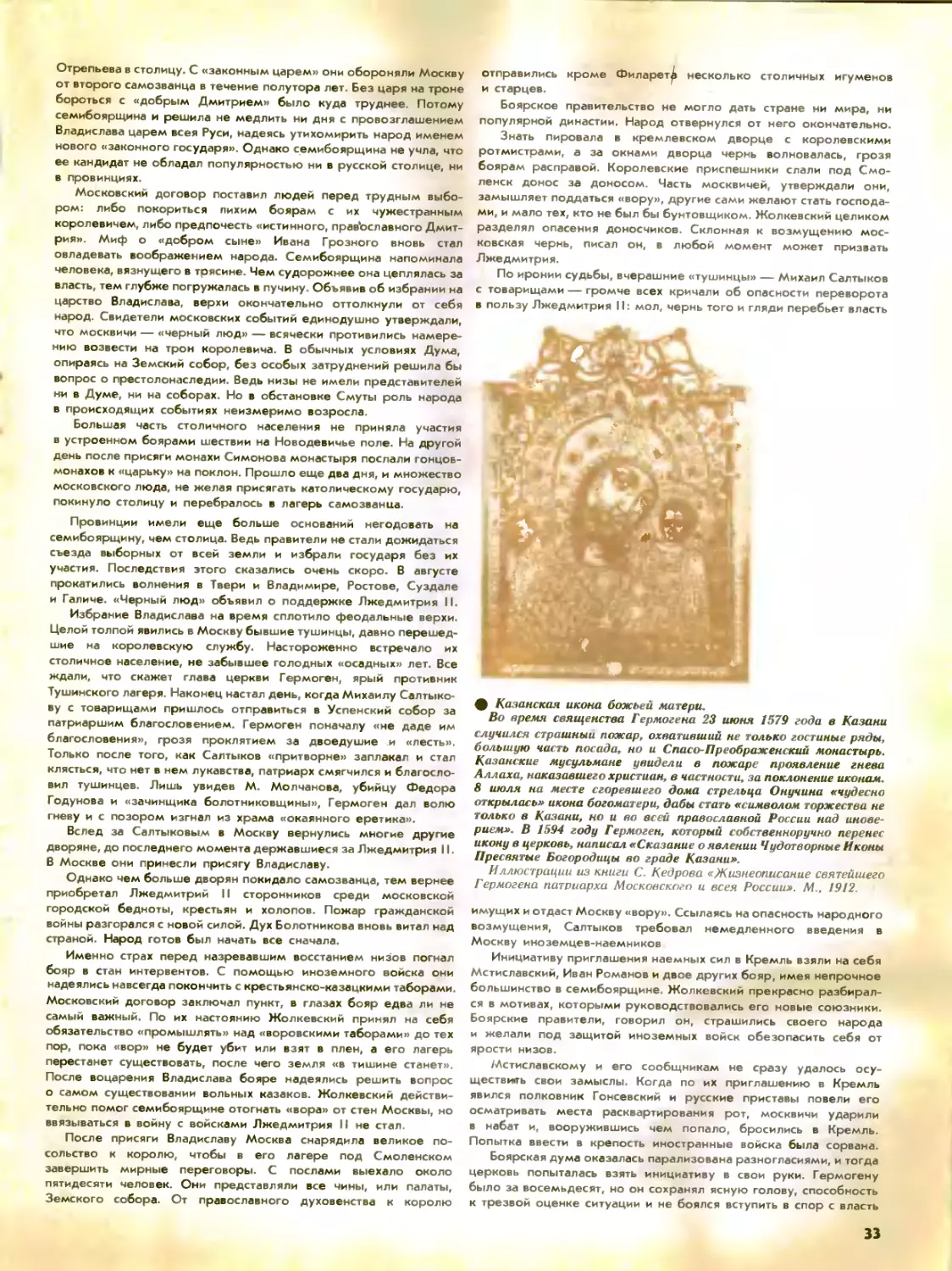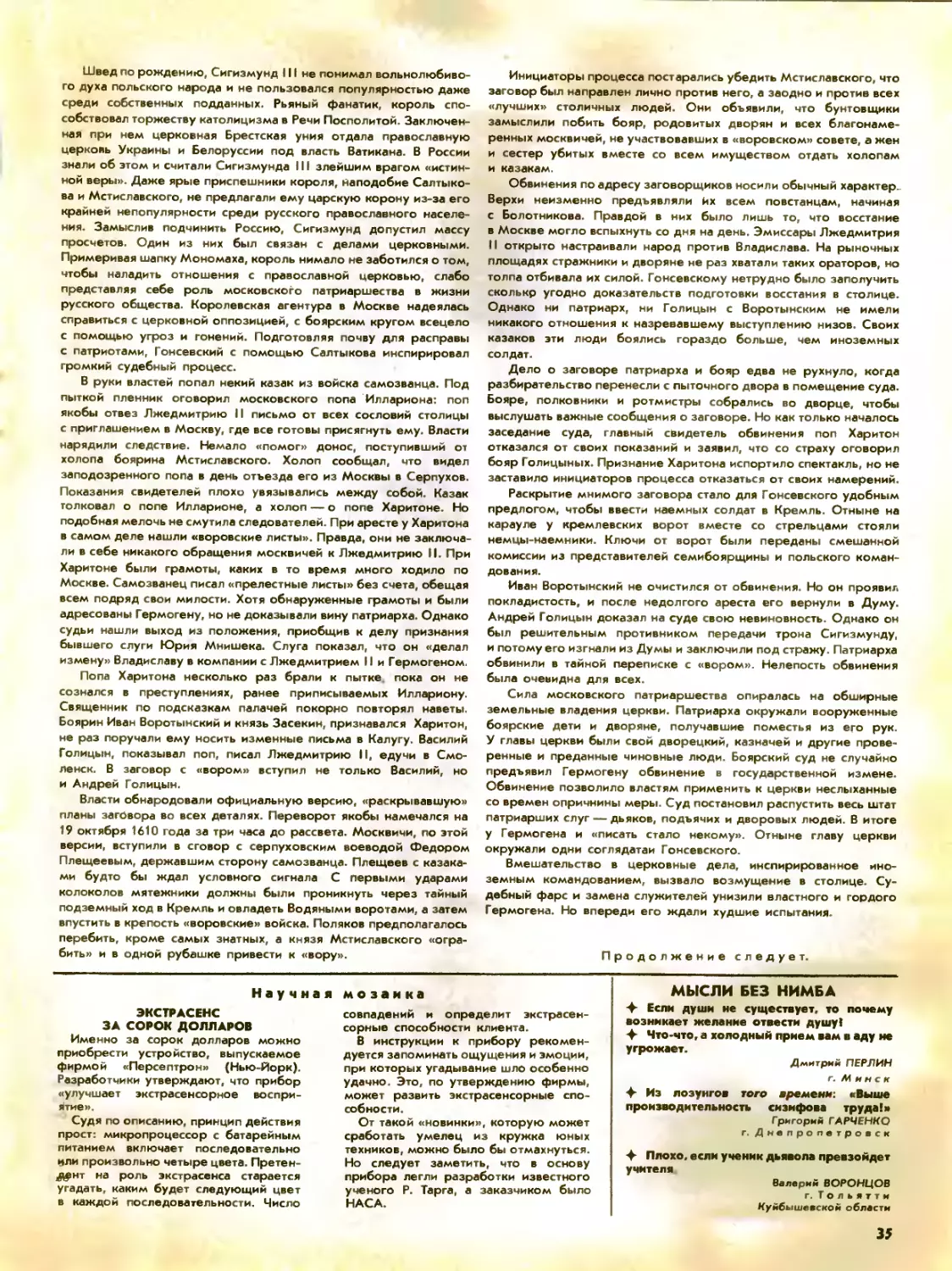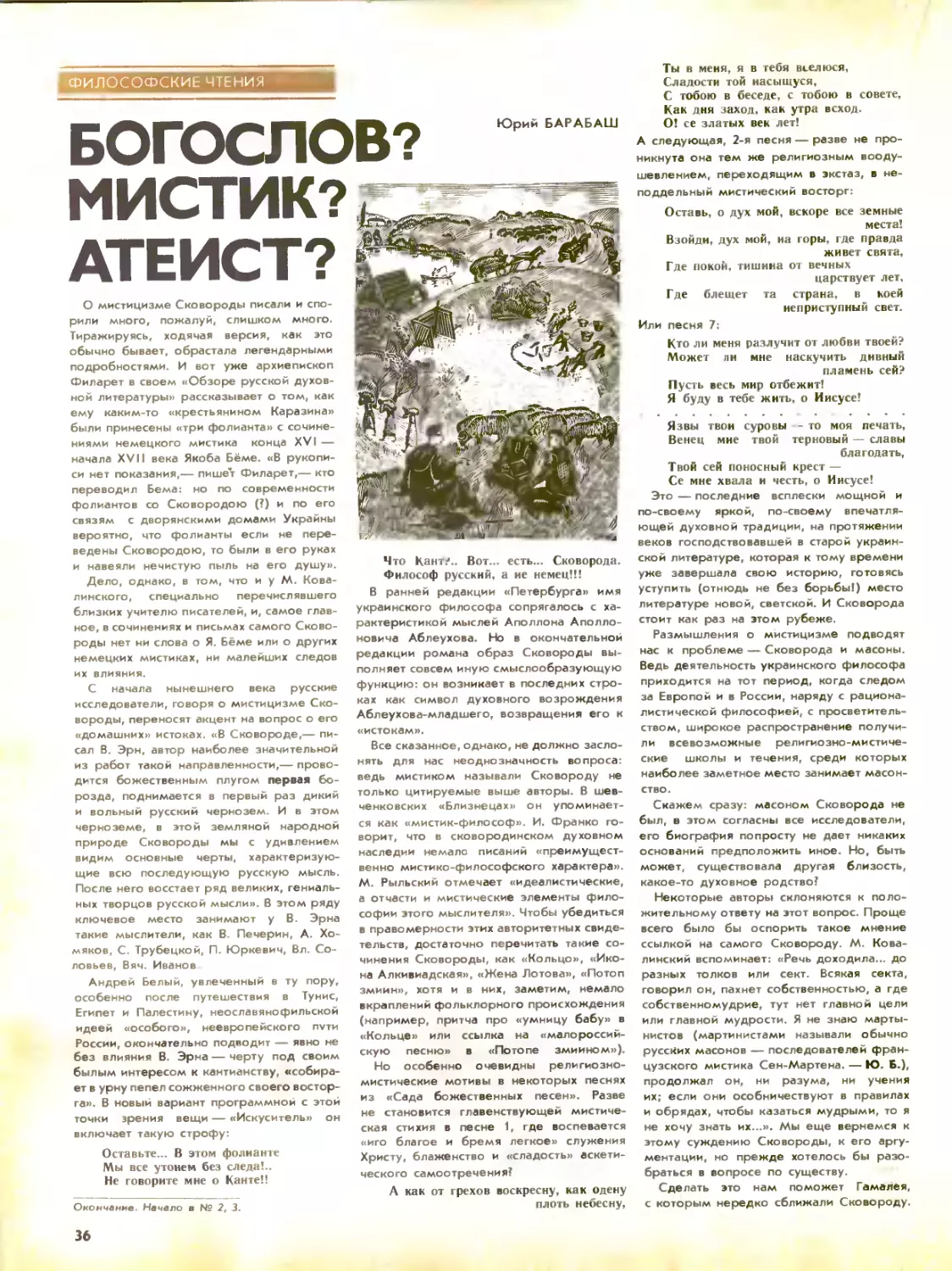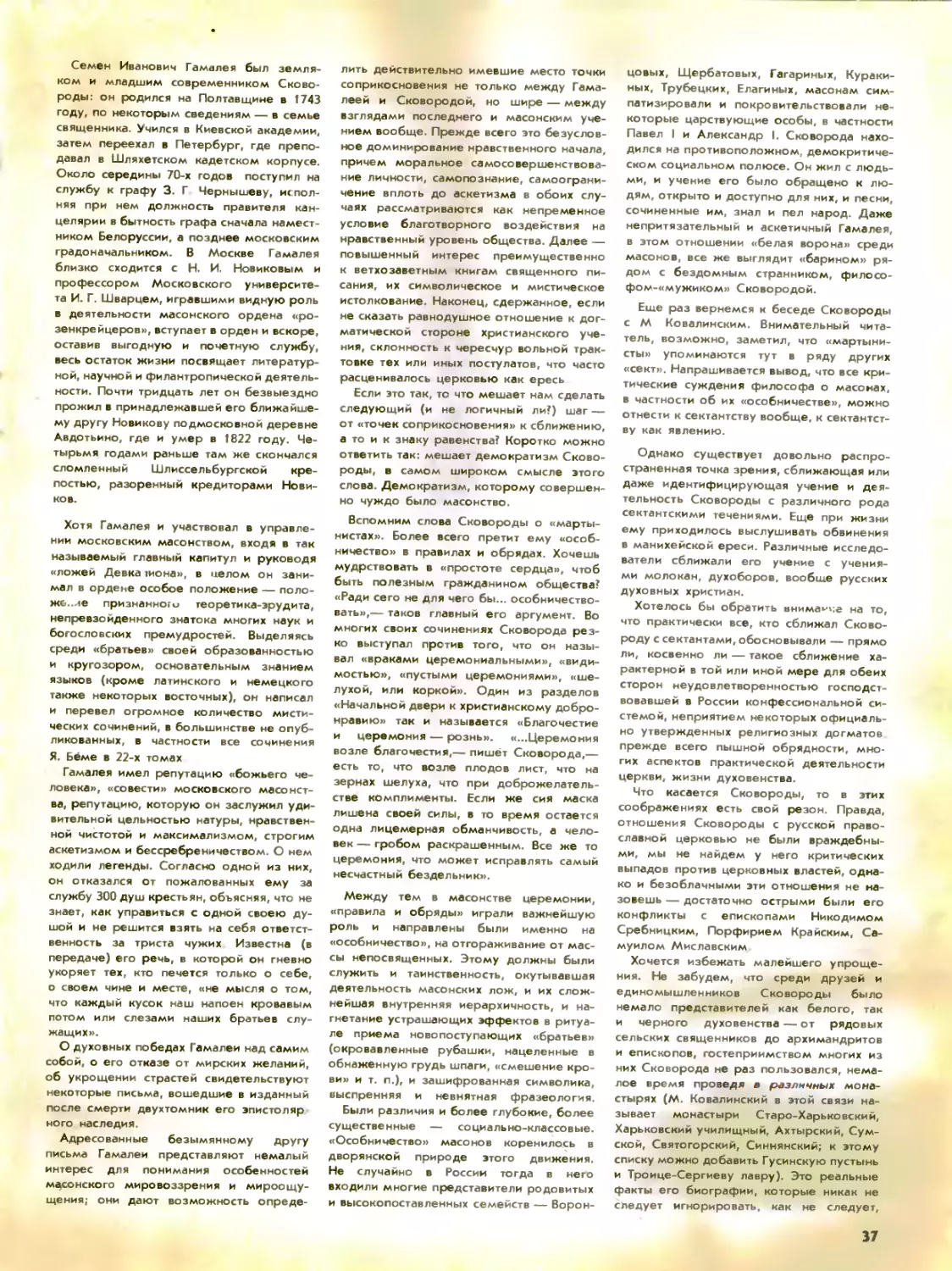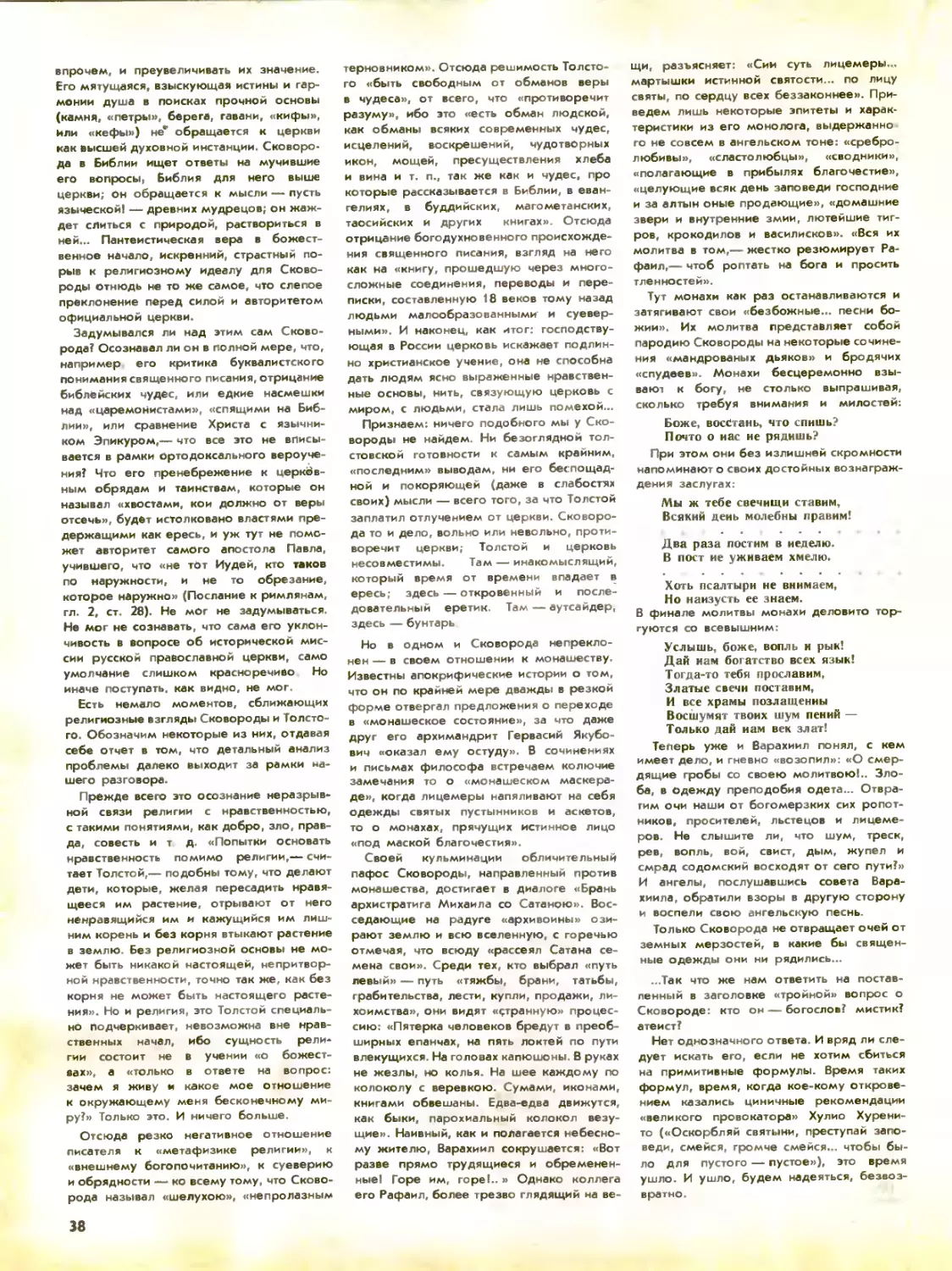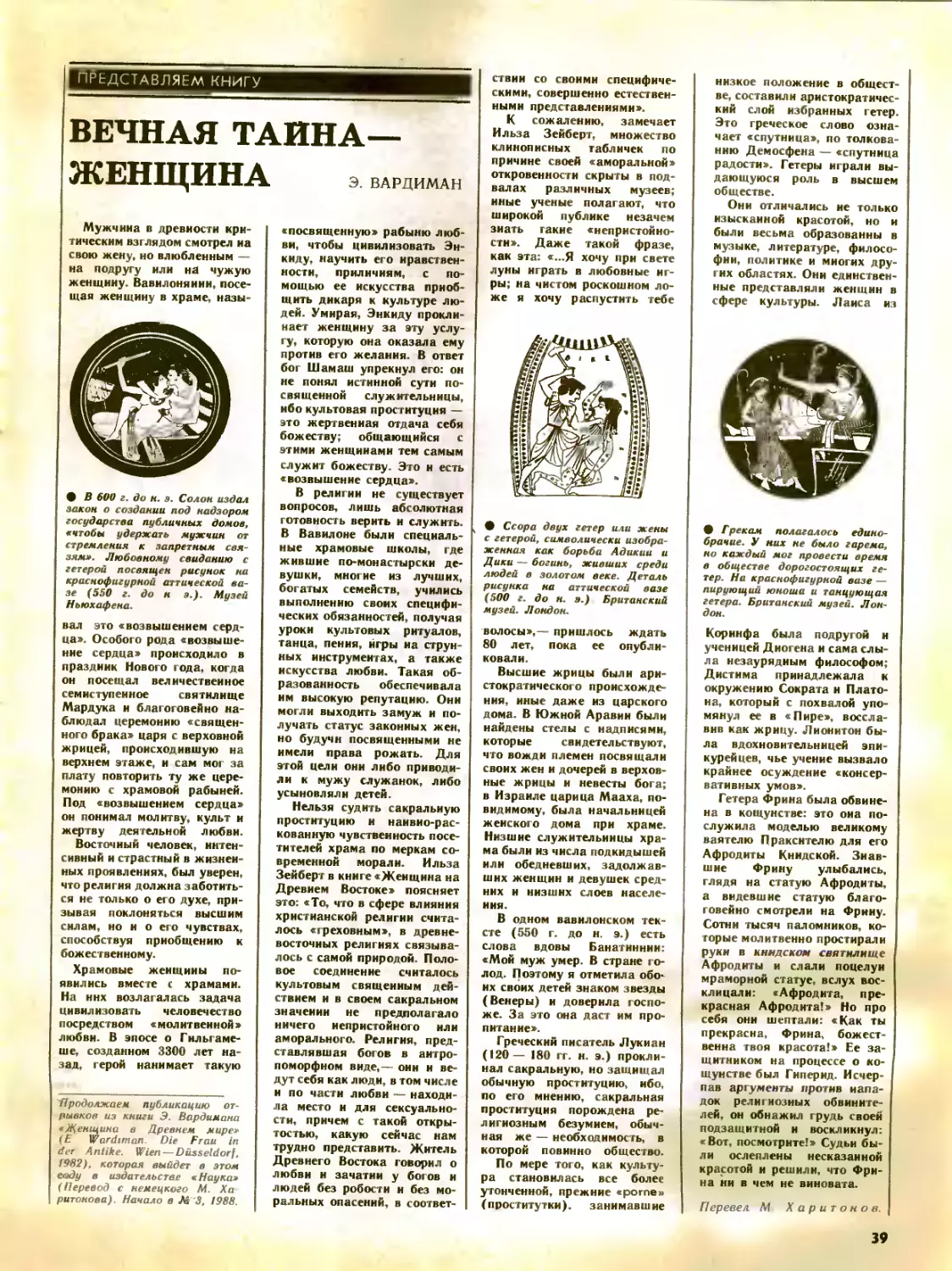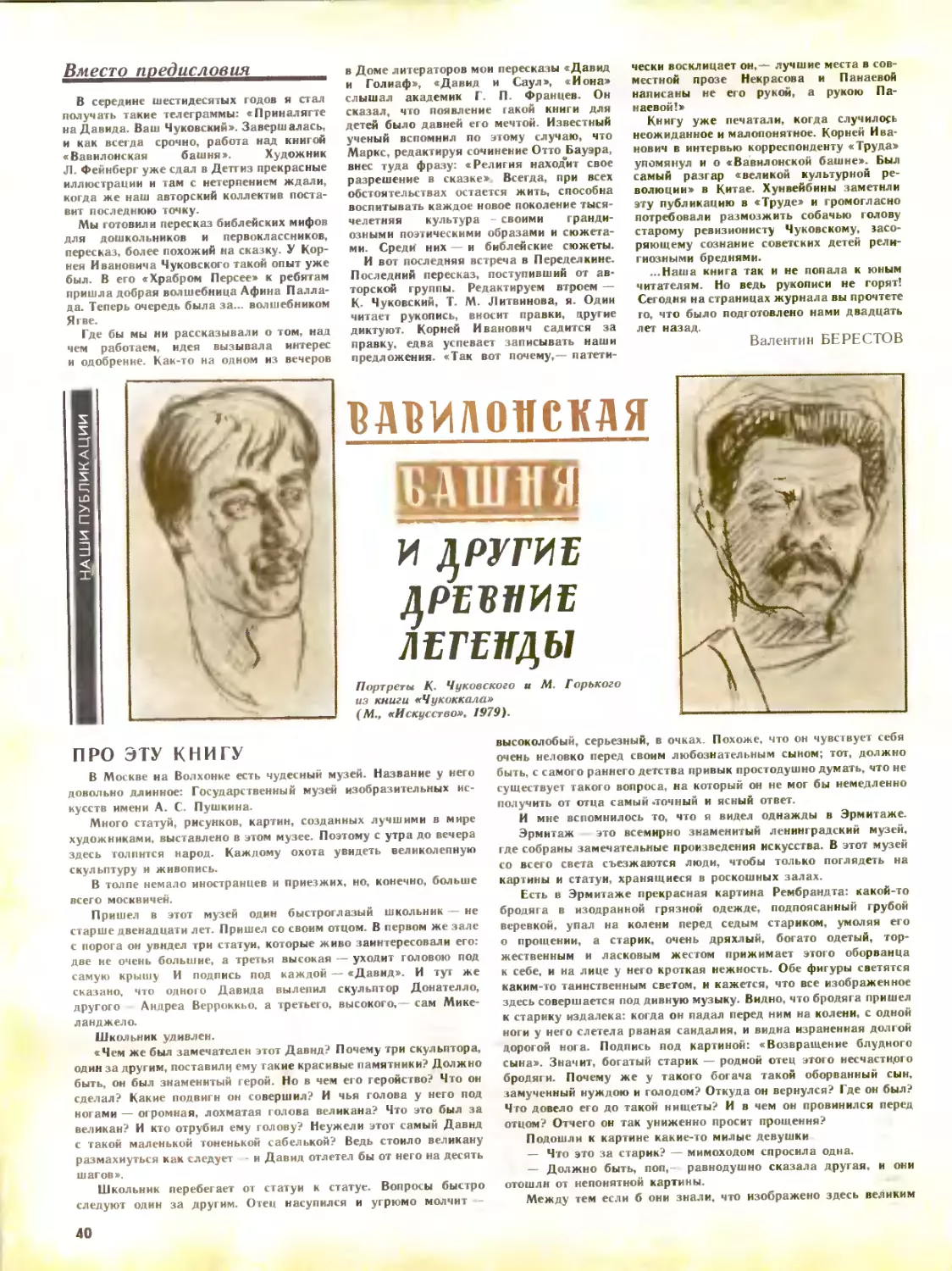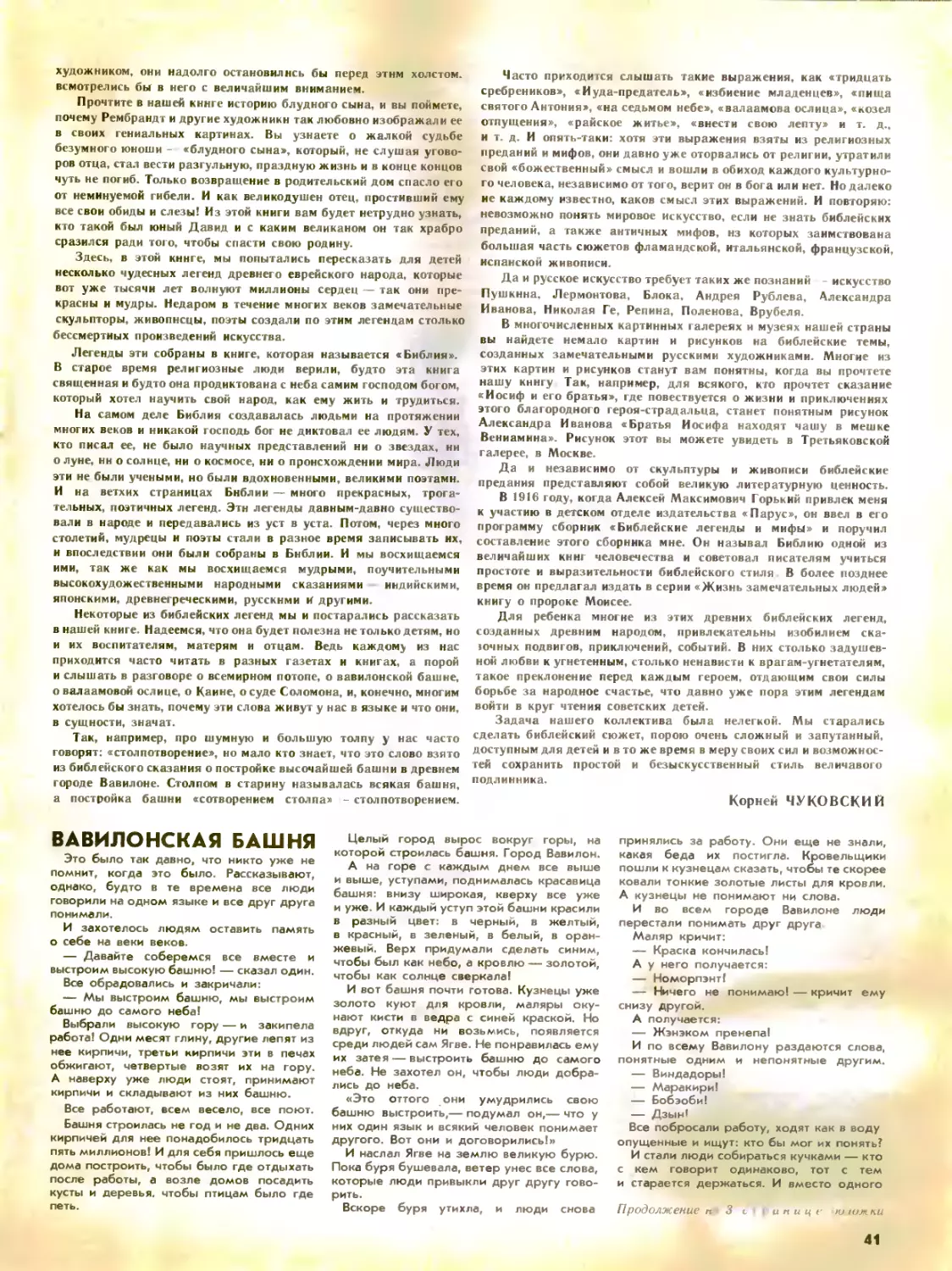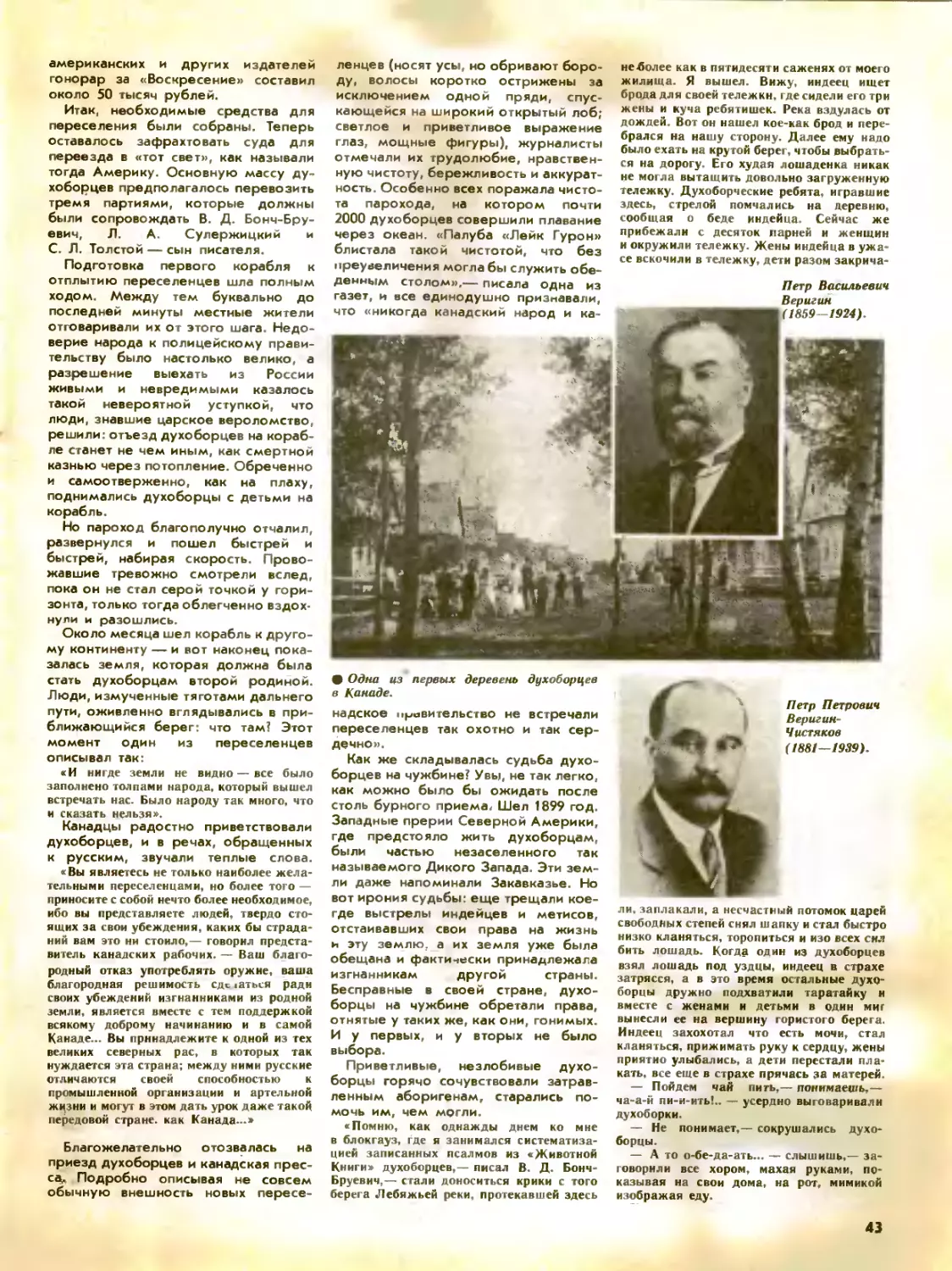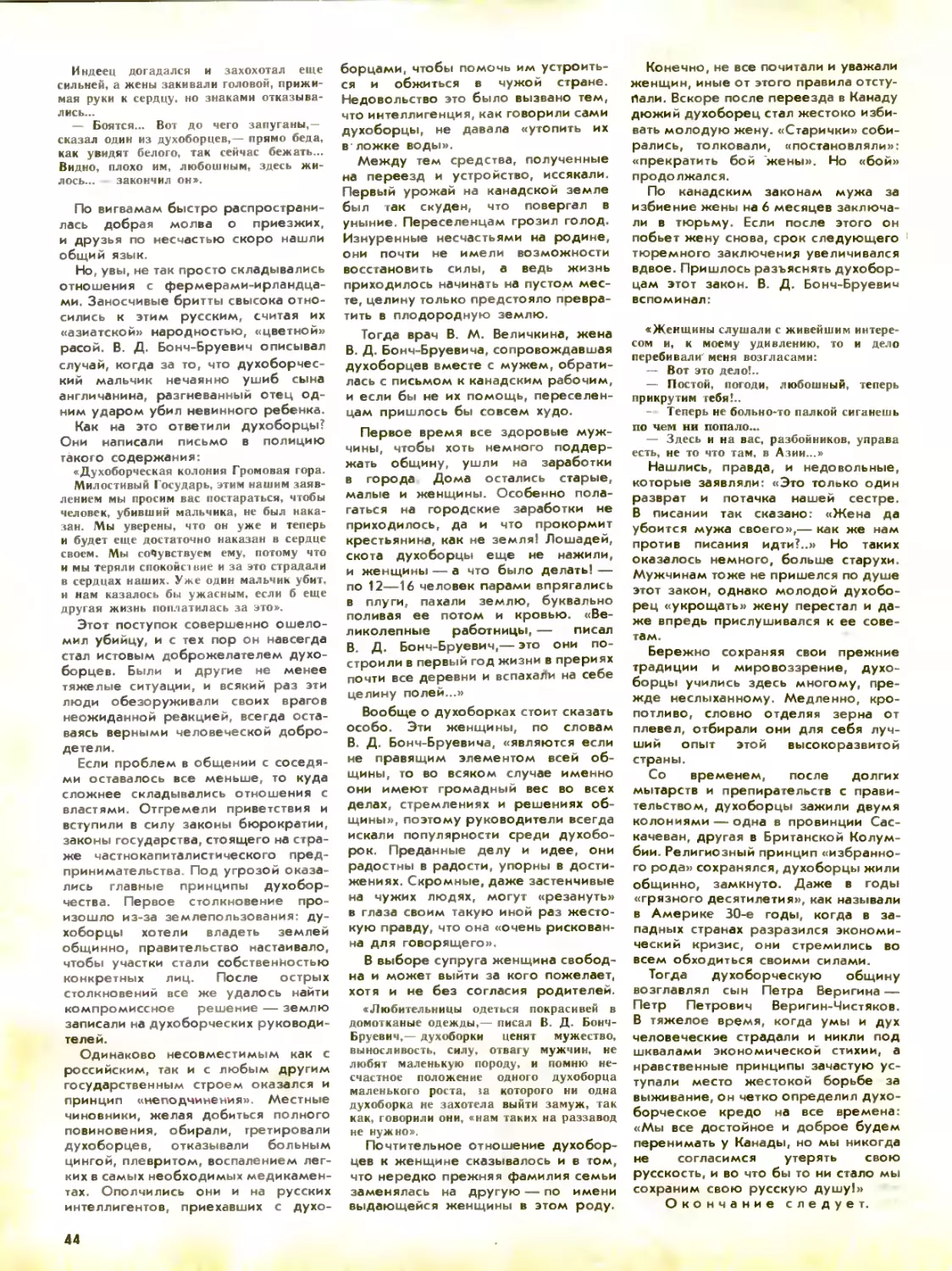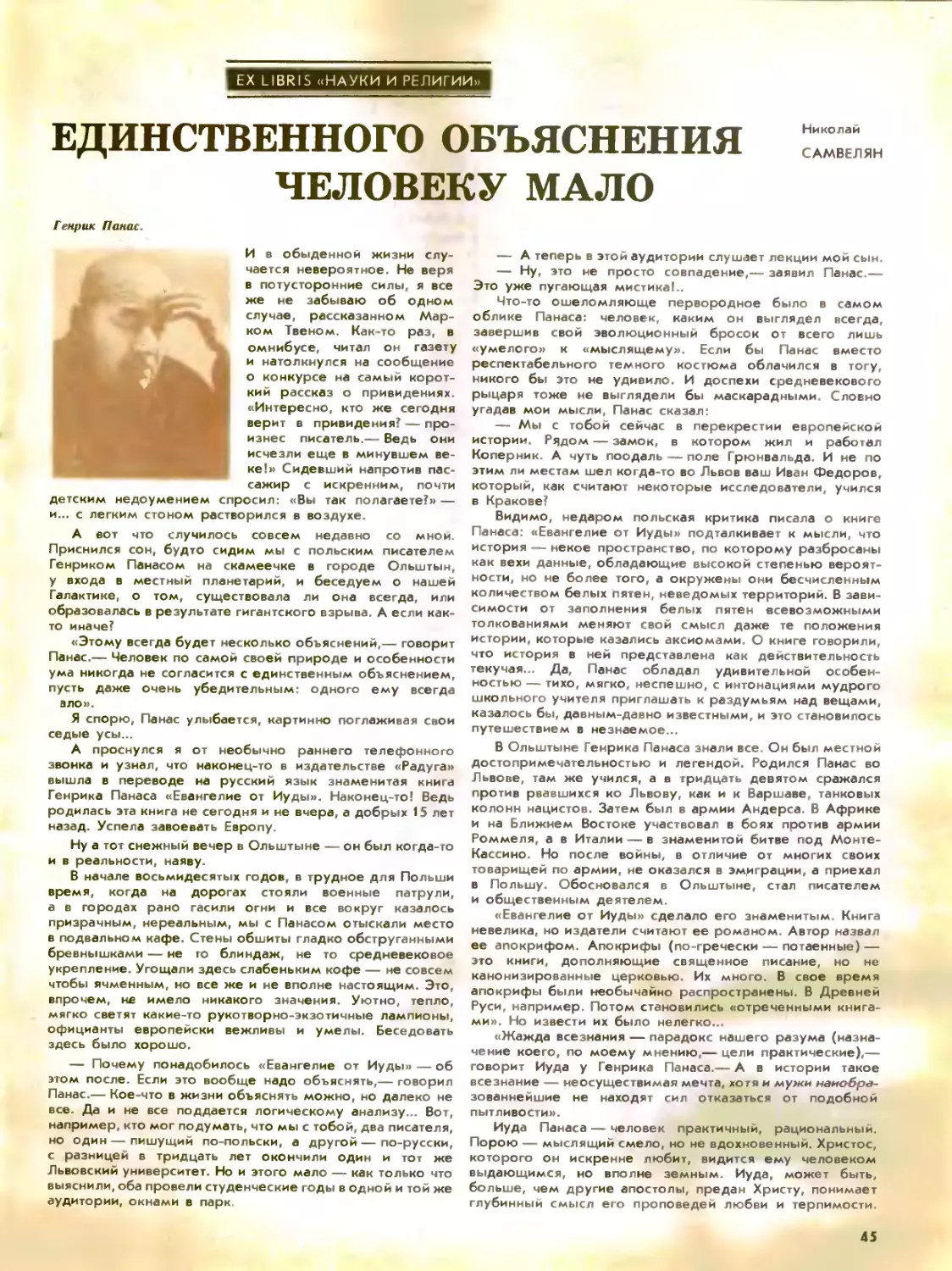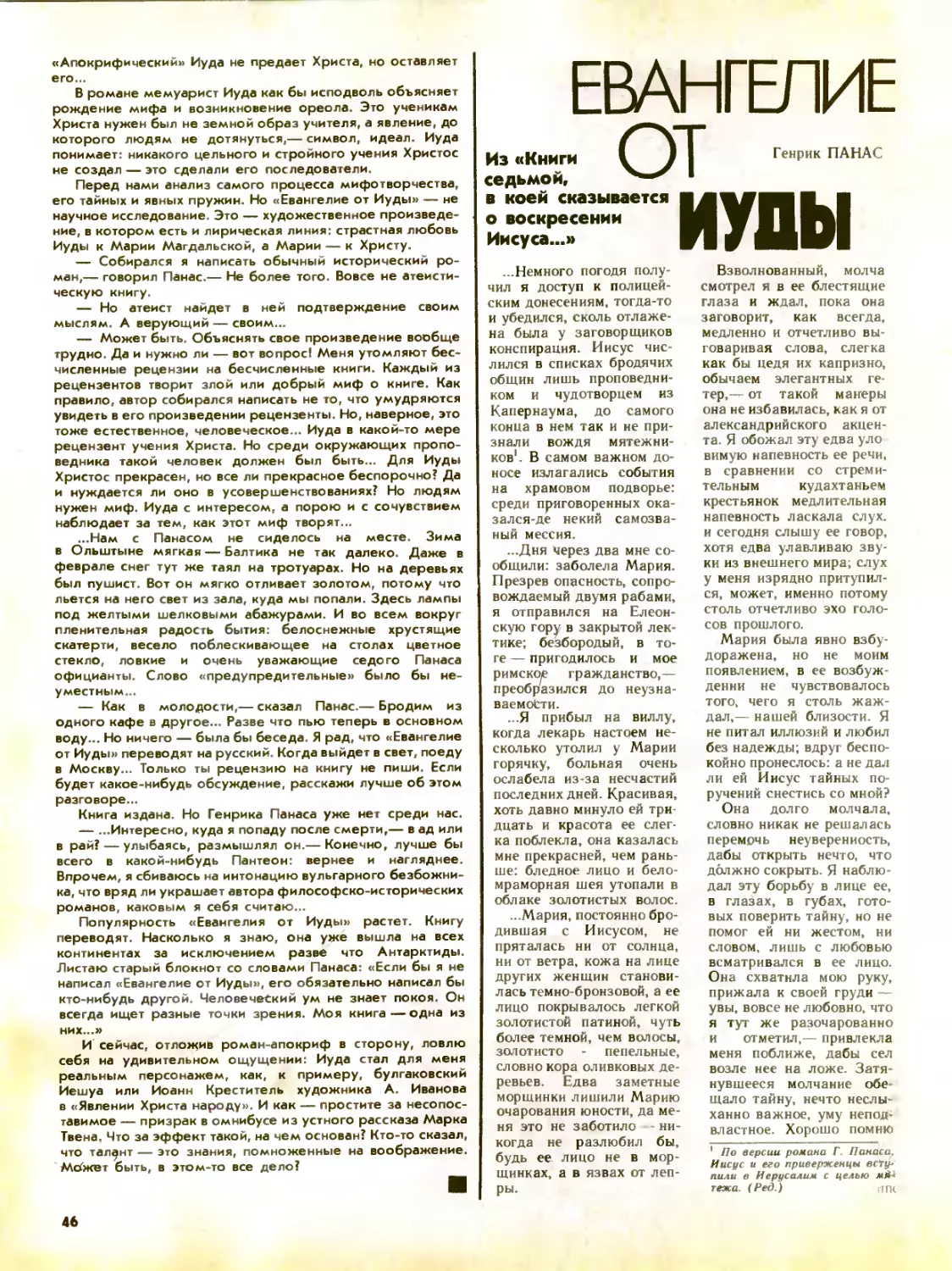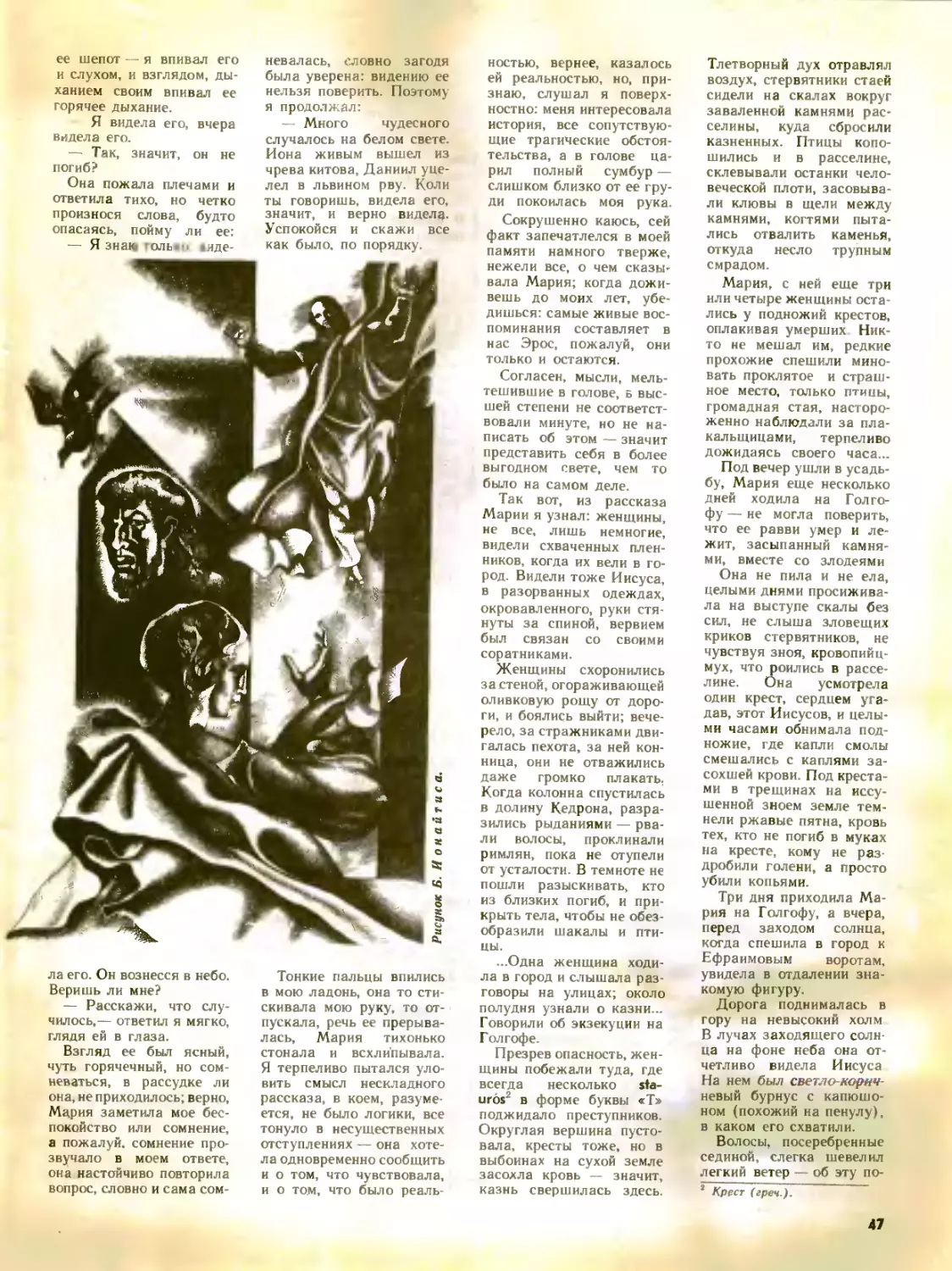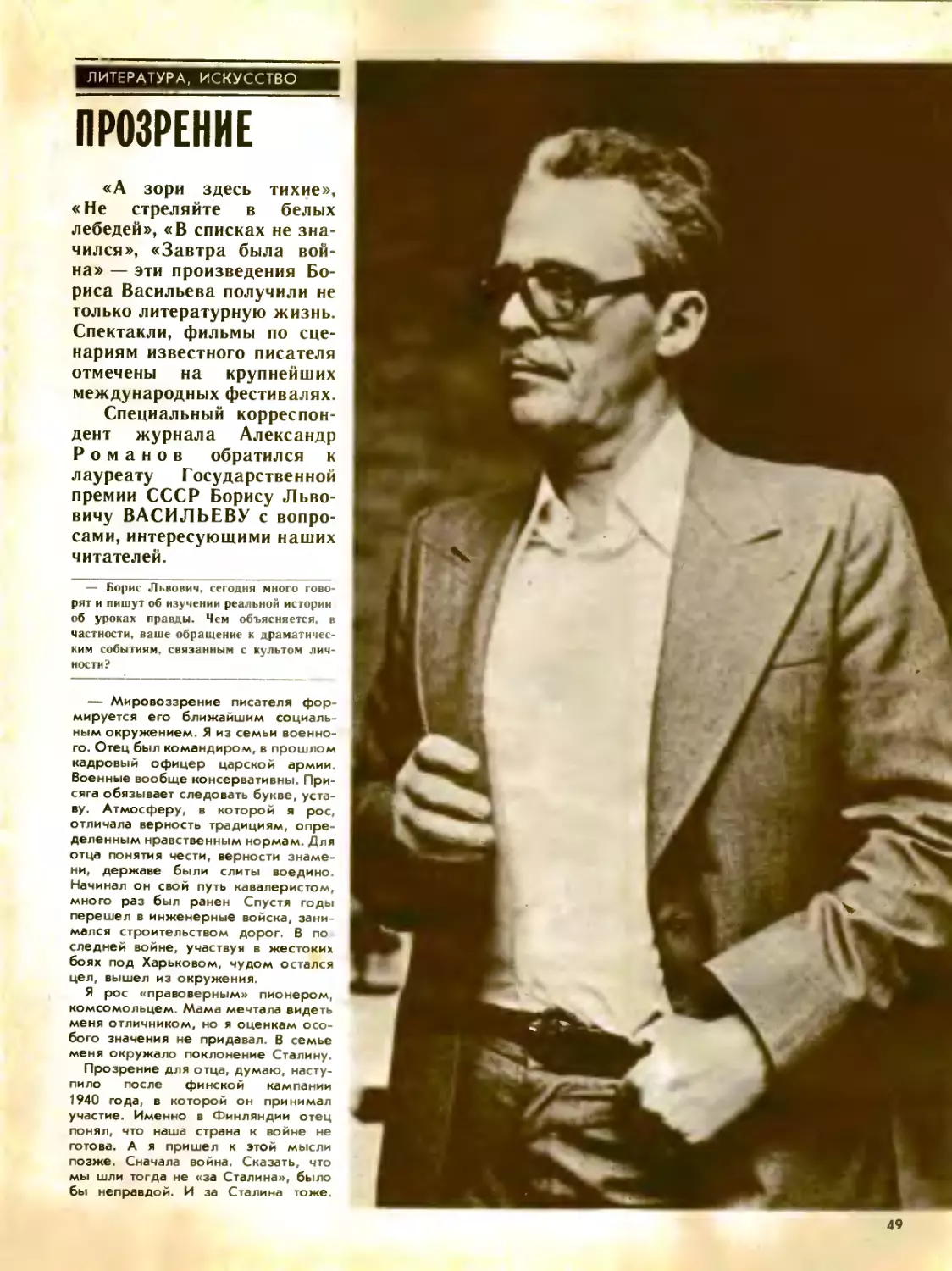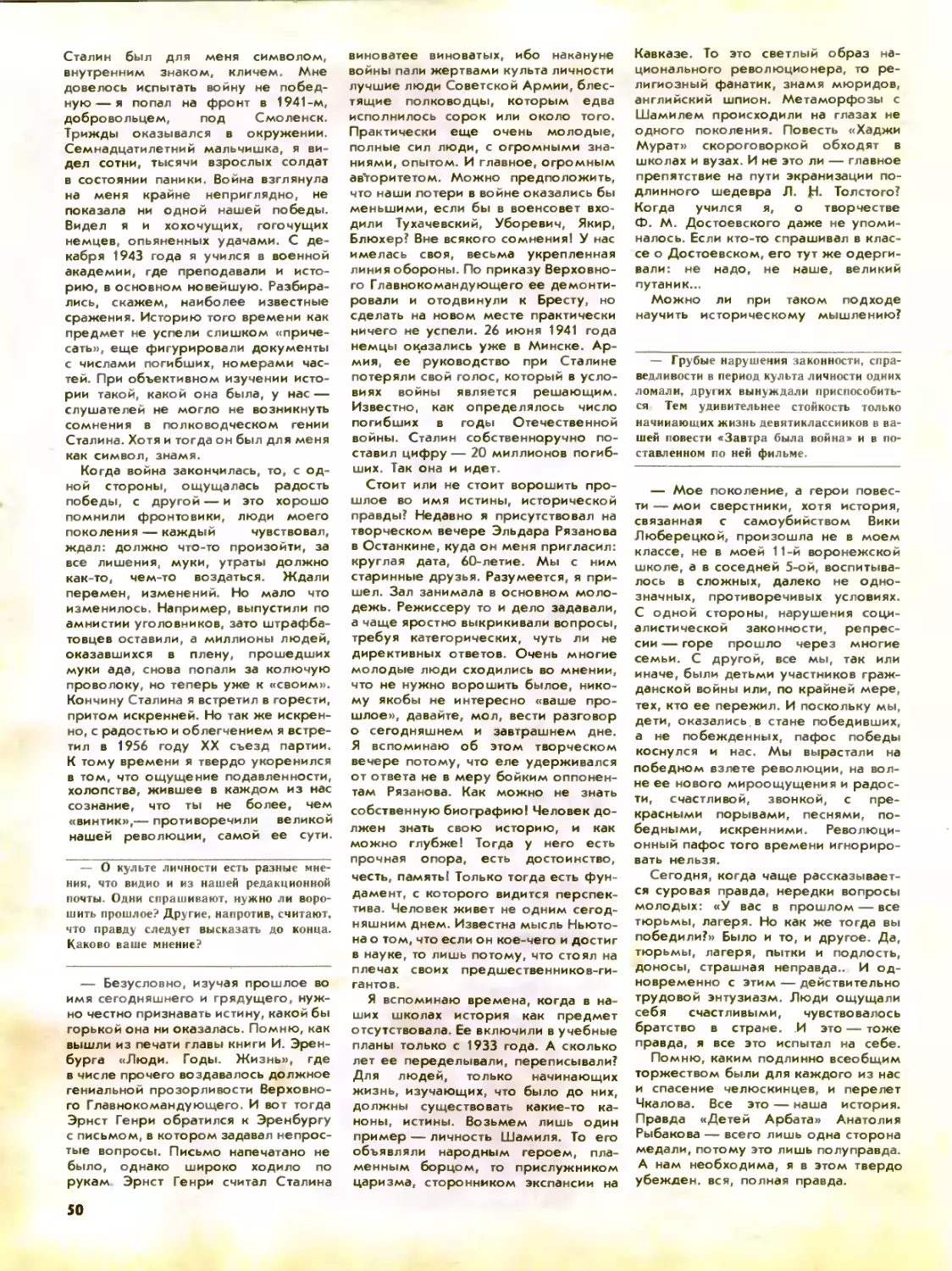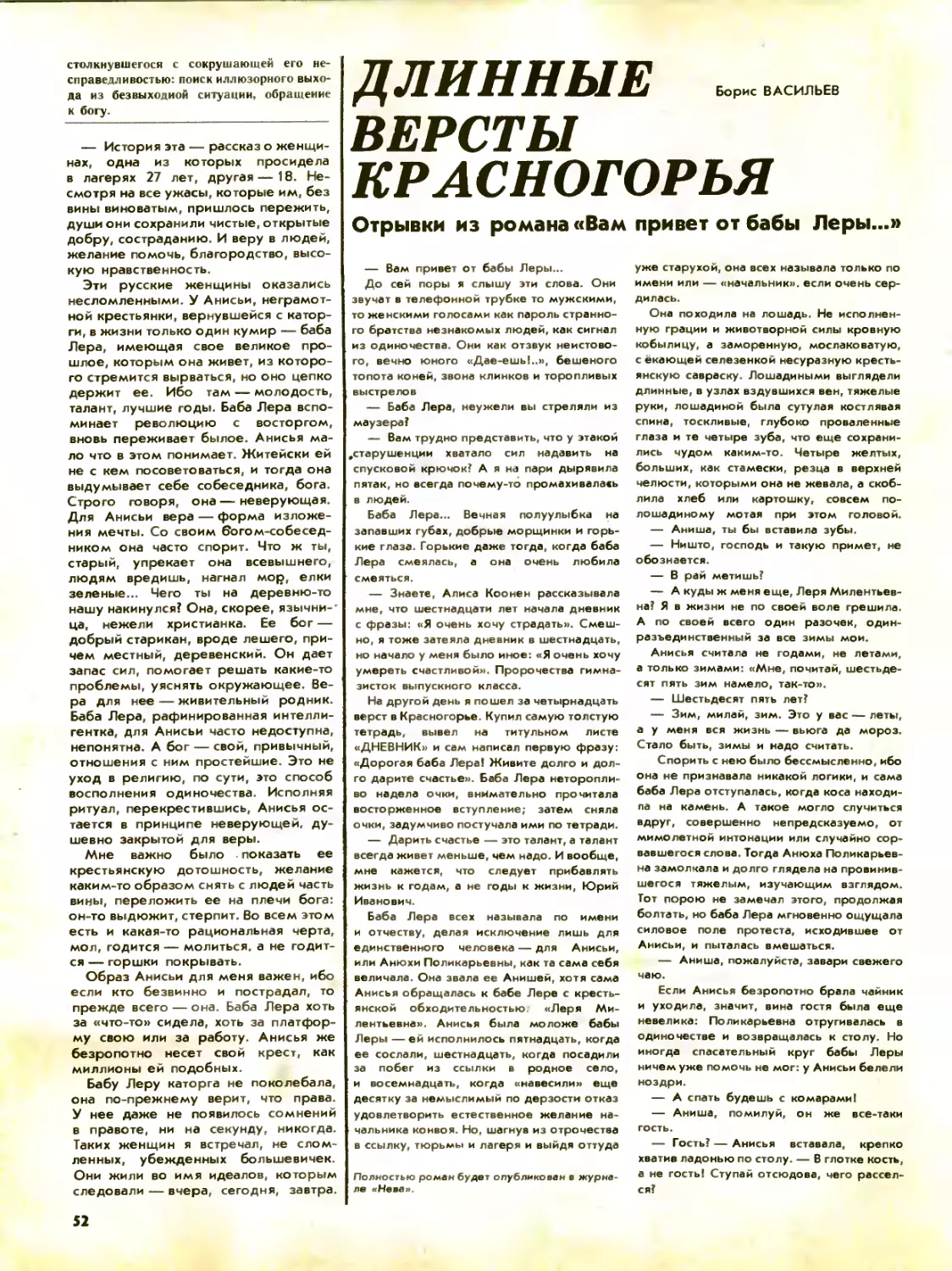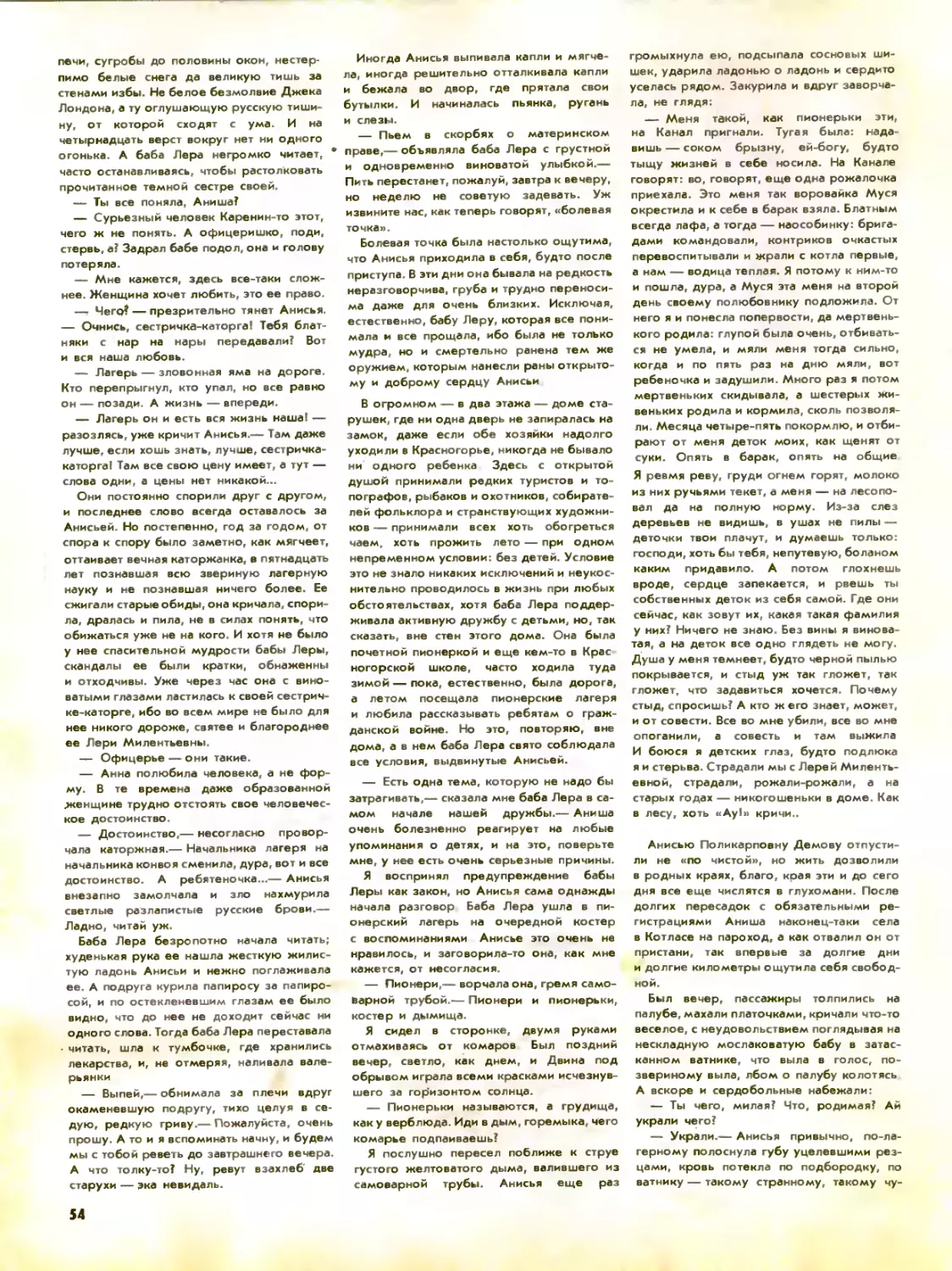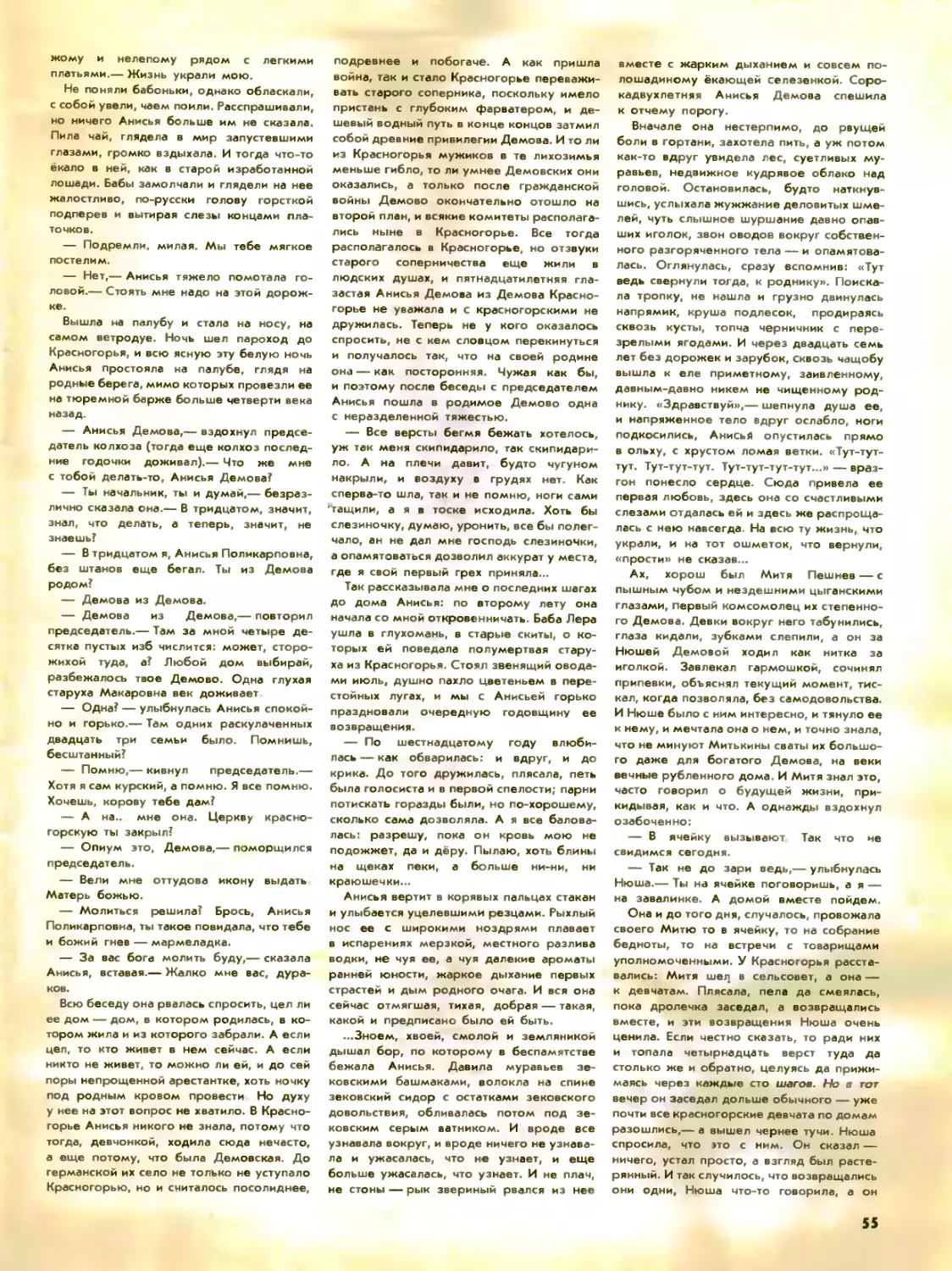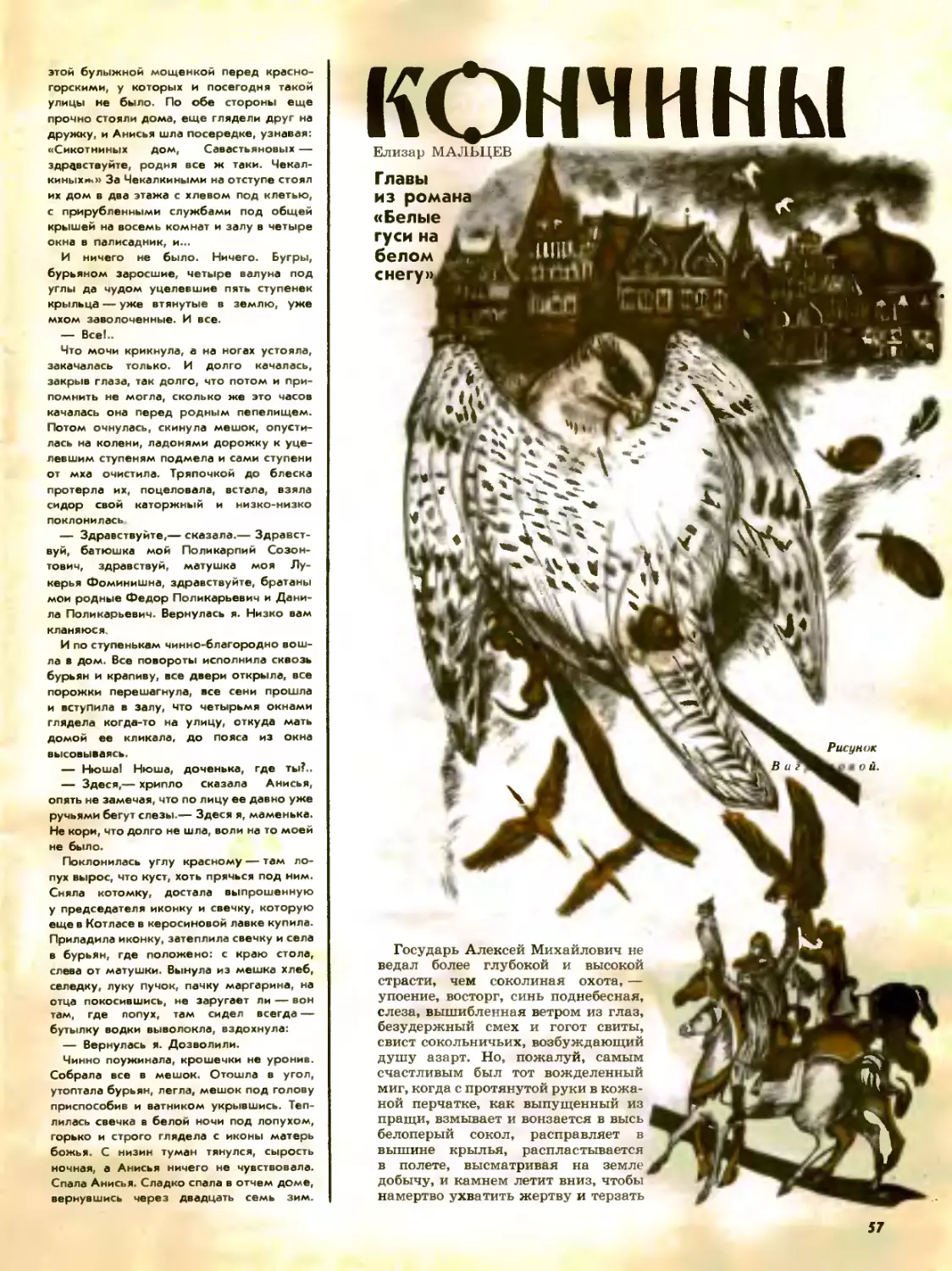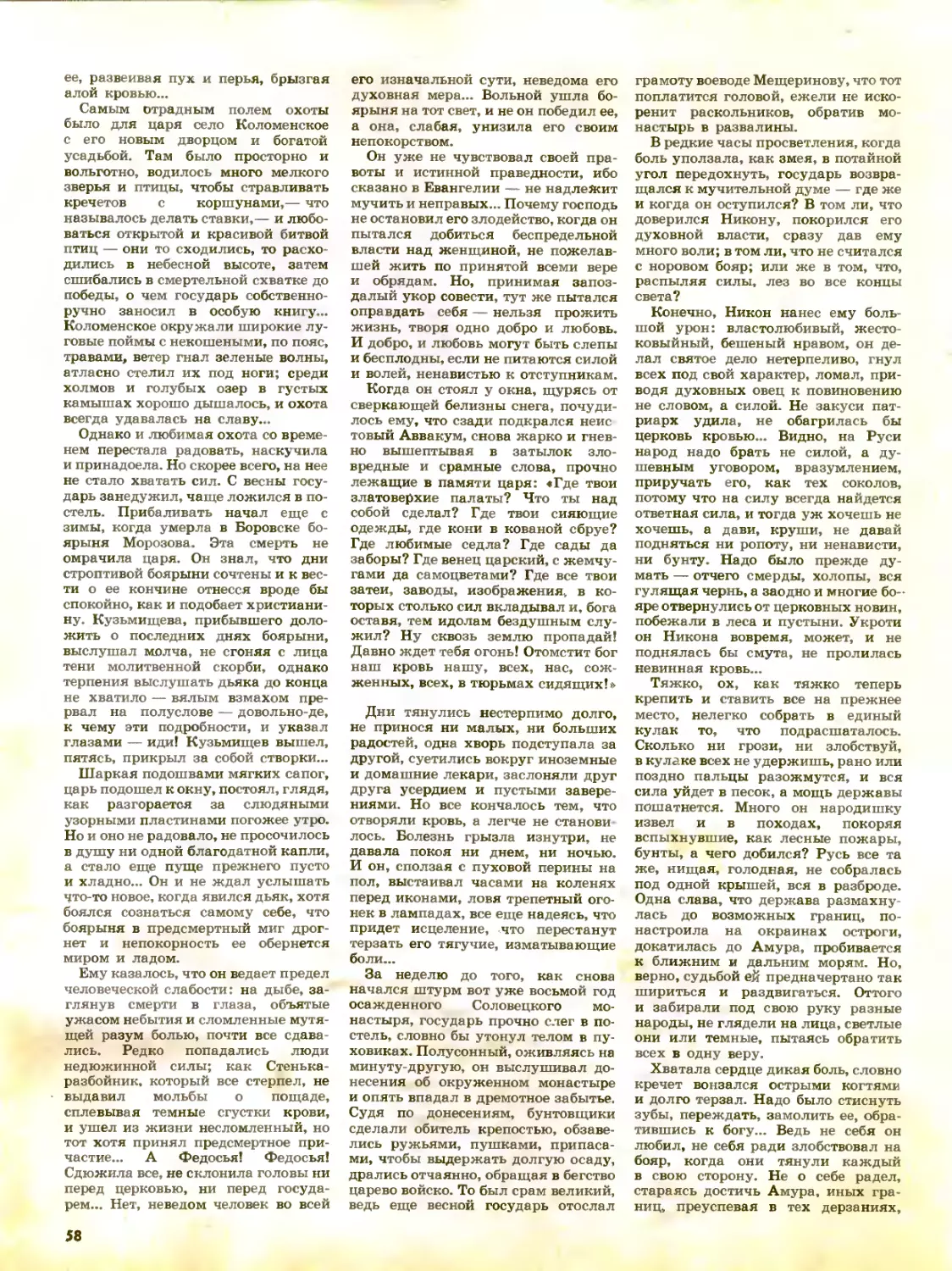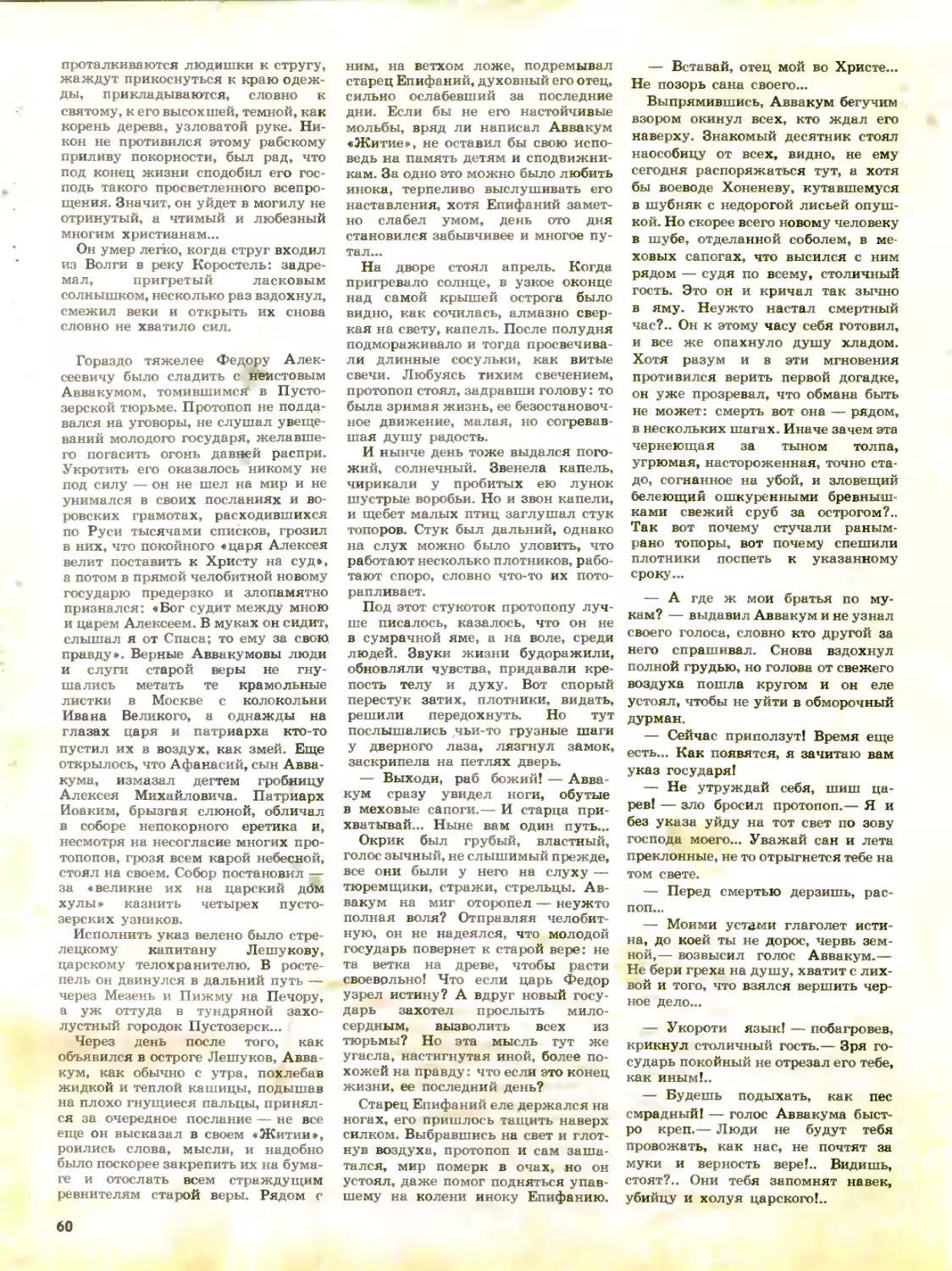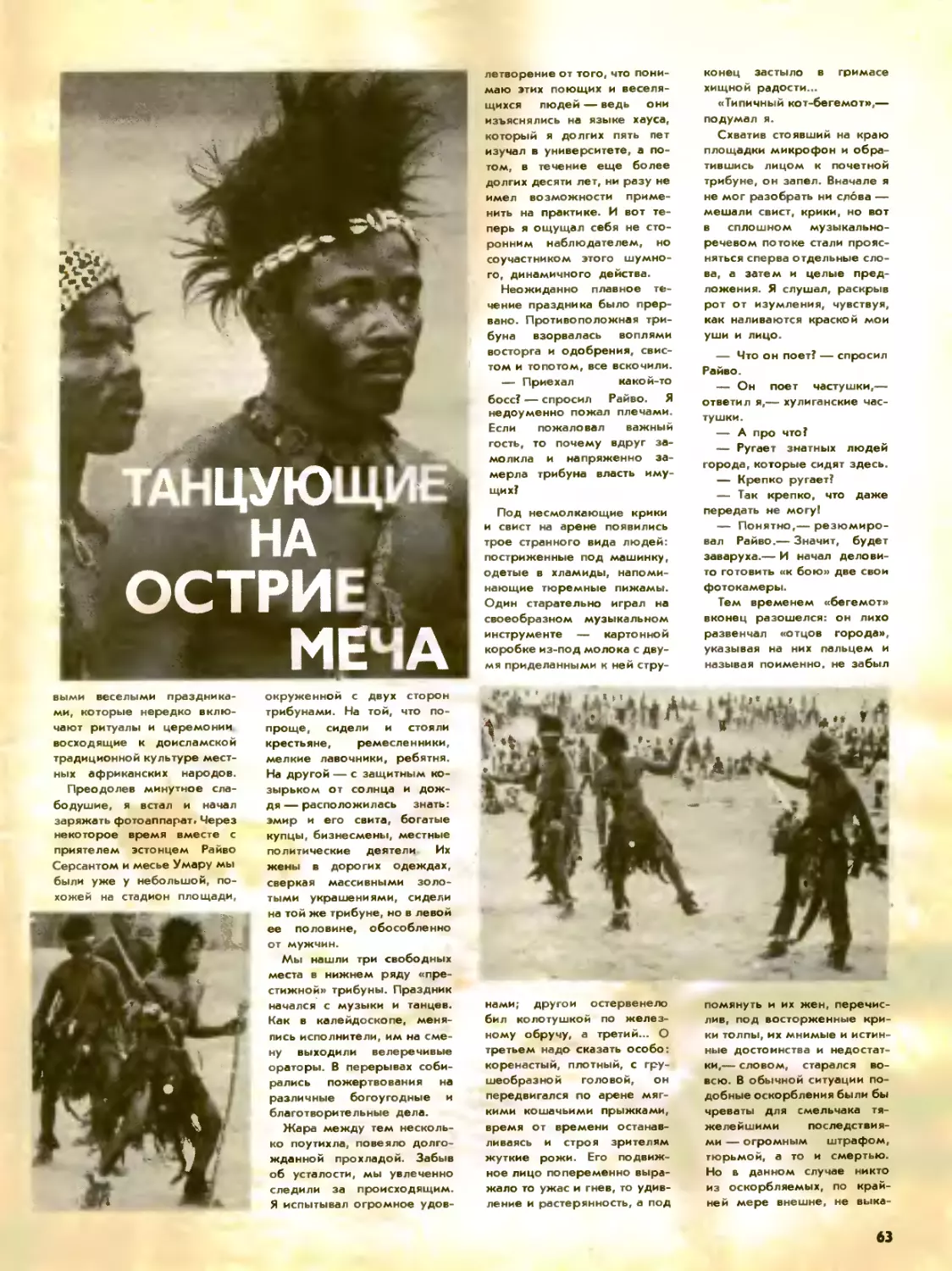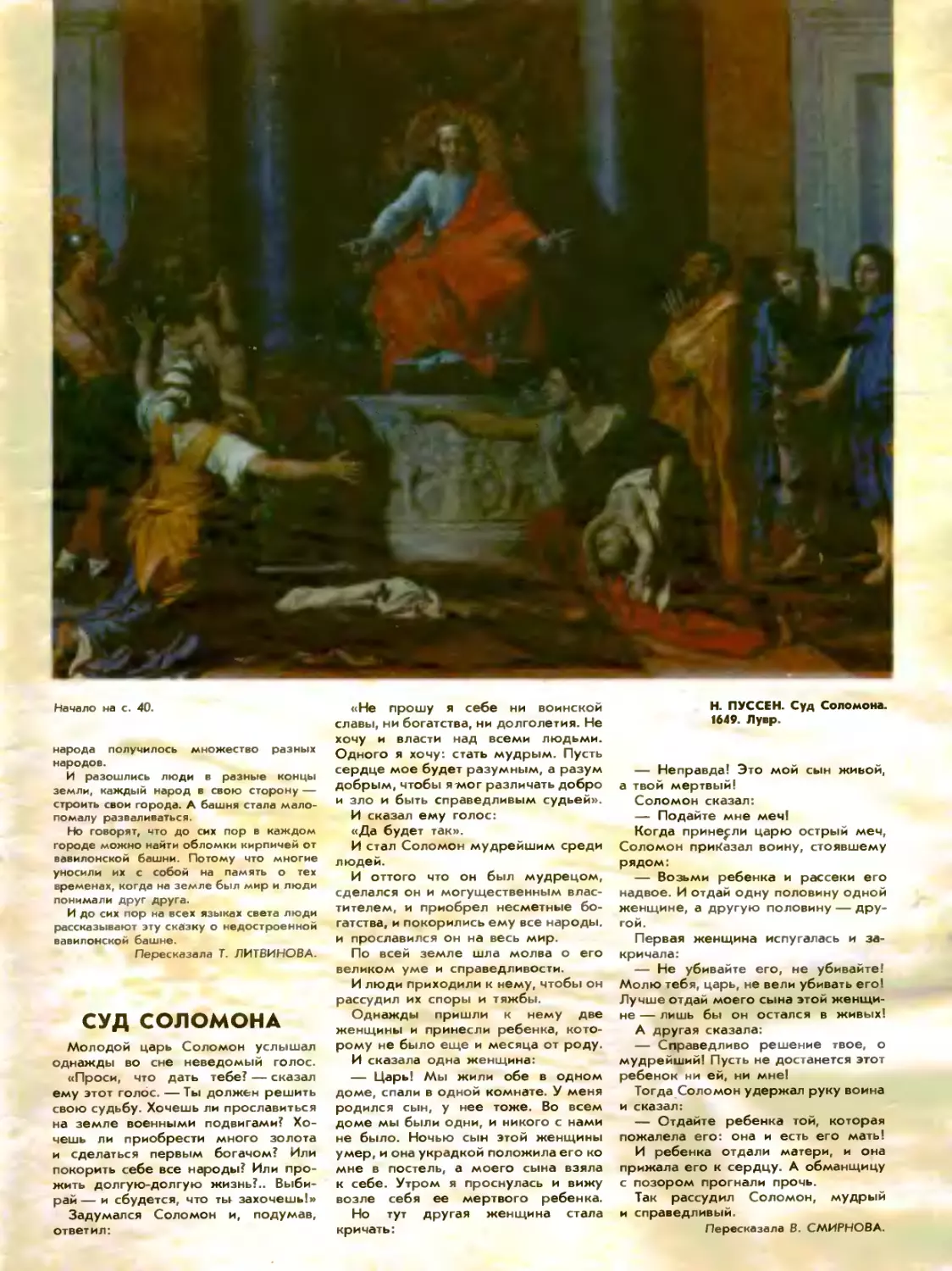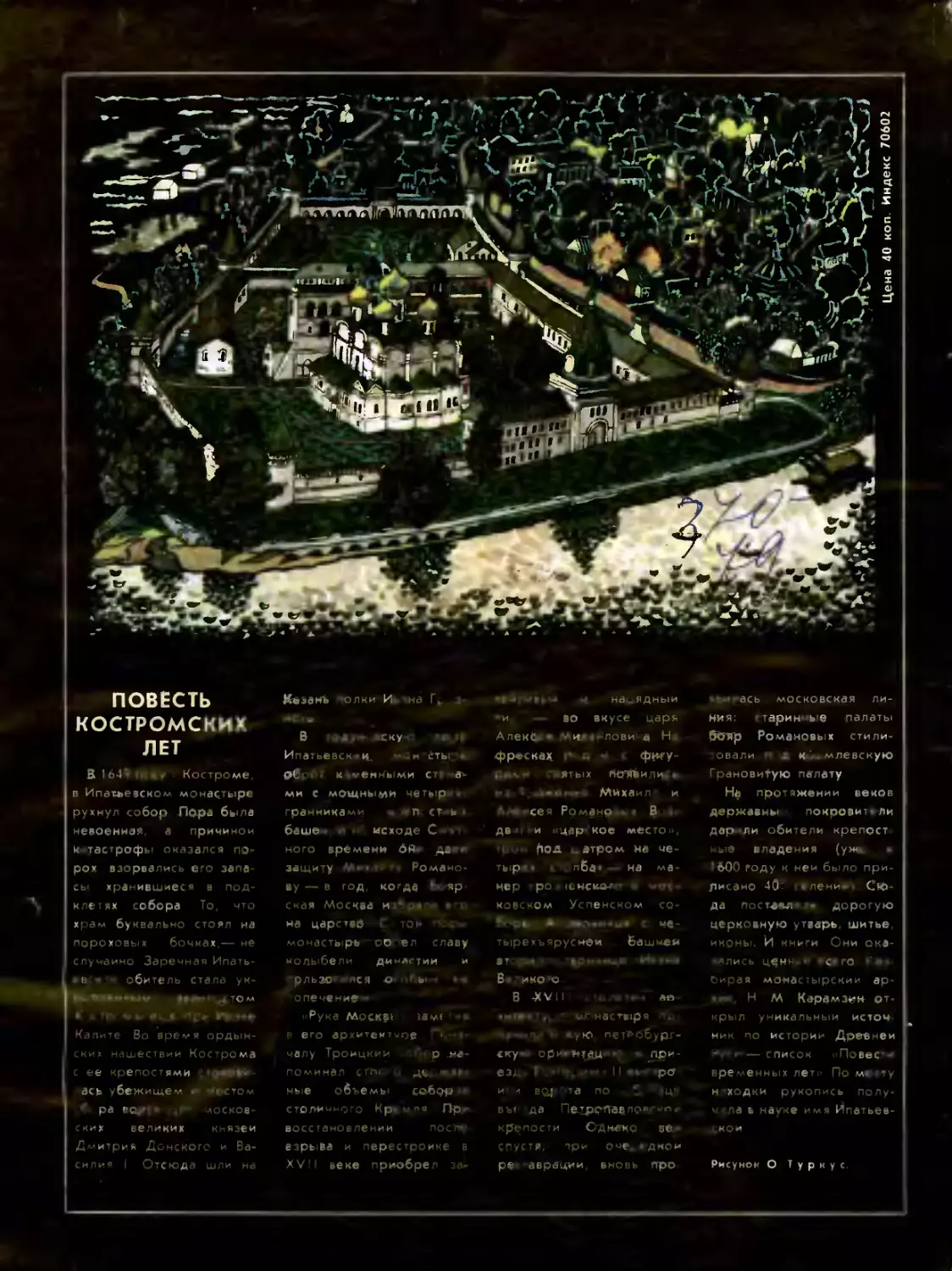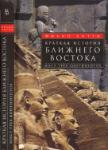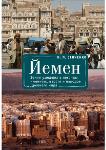Текст
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗНАНИЕ»
Издается с сентября 1959 года
Главный редактор
В. Ф. ПРАВОТОРОВ.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И. Ш. А Л И С К Е Р О В,
А. В. Б Е Л О В,
В. И. Г А Р А Д Ж А,
И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ
(ответственный секретарь),
А. С. И В А Н О В,
Н. А. КОВАЛЬСКИЙ,
Э. И. Л И С А В Ц Е В,
Б. М. МАРЬЯНОВ
(зам. главного редактора),
В. П. М А С Л И Н,
С. И. Н И К И Ш О В,
М. П. Н О В И К О В,
И. К. П А Н Т И Н,
В. Е. Р О Ж Н О В.
РЕДАКЦИЯ:
И. У. А ч и л ь д и е в,
О. Т. Брушлинская,
Э. В. Геворкян,
Г. В. Иванова,
М. А. Ковальчук,
Ю. М. Кузьмина,
В. К. Лобачев,
К. А. Мели к-С и м о н я н,
Л. А. Н е м и р а,
В. П. П а з и л о в а,
М. И. Пискунова,
А. А. Романов,
О. М. С т е п о в а я,
О. Ю. Т в е р и т и н а,
В. Л. X а р а з о в.
Художественный редактор
С. И. Мартемьянова
Технический редактор
Ю. А. Викулова.
Корректор
Г. Л. К о к о с о в а.
Зав. редакцией
Э. Н. Волкова.
Первая страница обложки
художника-фотографа
Б. А с р и е в а.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
(С Журнал
«Наука и религия», 1988.
На второй странице
обложки:
Новое космическое окру-
жение расширит возмож-
ности восприятия челове-
ка, обогатит все его органы
чувств — об этом интервью
с архитектором Д. Пюр-
в е е в ы м.
Адрес редакции:
109004, Москва, Ж-4,
Ульяновская, 43, корп. 4.
Телефоны:
297-02-51. 297-10-89.
ГИЯ
АПРЕЛЬ 1988
• Поставление Илариона
на Киевскую митрополию.
Миниатюра из Радзивил-
ловской летописи (XV в.).
!•<»«. . I , «e.ir yxl»* мптыкын
Исключительное значение имеет «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона. Это произведение по теме своей обращено
к будущему Руси, а по совершенству формы и в самом деле как бы
предвосхищает это будущее.
Академик Д. С. ЛИХАЧЕВ
КУРСОМ XXVII СЪЕЗДА КПСС О. БОГОМОЛОВ Экономика социализма: уроки и перспективы 2
Г. ЧИЧЕРИН Молодежь должна учиться у Ленина 5
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА П. ДЕМЧЕНКО Ливанский узел 6
БУДУЩЕЕ: Д. ПЮРВЕЕВ Домик на Луне 8
ПРОРОЧЕСТВО,
ФАНТАЗИЯ,
ПРОГНОЗ
ПЕРЕСТРОЙКА: О. ЮРЬЕВА Есть ли время на раскачку? 10
ПОИСК, РЕШЕНИЯ
О ОДИНОЧЕСТВО, И. БОГАЧЕВ Скитаясь тихо по России... 12
КАК ТВОЙ ХА- В. КОРОБЕЙНИКОВ В плену иллюзий 15
РАКТЕР КРУТ!.. Г. ЛАЕВСКИЙ Человек за бортом 15
РЕЛИГИЯ, Ю. КУЗЬМИНА Перед богом и людьми 16
ЦЕРКОВЬ, ВЕРУЮЩИЙ В. ЛЕБЕДЕВ Изгнание бесов 24
ПРАВОСЛАВИЕ А. УЖАНКОВ Писатели земли древнерусской.
В ИСТОРИИ Иларион 19
РОССИИ Р. СКРЫННИКОВ Патриарх Гермоген 31
ЧЕЛОВЕКУ О В. КАЗНАЧЕЕВ Пройти свою экстрему 28
ЧЕЛОВЕКЕ
ФИЛОСОФСКИЕ Ю. БАРАБАШ Богослов? Мистик? Атеист? 36
ЧТЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ Э. ВАРДИМАН Вечная тайна — женщина 39
КНИГУ
НАШИ Вавилонская башня и другие
ПУБЛИКАЦИИ древние легенды 40
ИСТОРИЯ И Л. НЕМИРА Отчего сталась плакун-трава? 42
СОВРЕМЕННОСТЬ
EX LIBRIS Н. САМВЕЛЯН Единственного объяснения чело-
«НАУКИ И веку мало 45
РЕЛИГИИ» Г. ПАНАС Евангелие от Иуды 46
ЛИТЕРАТУРА, Б. ВАСИЛЬЕВ Прозрение 49
ИСКУССТВО Б. ВАСИЛЬЕВ Длинные версты Красногорья 52
Е. МАЛЬЦЕВ Кончины 57
БЫТ И НРАВЫ К. МЕЛИК- Танцующие на острие меча 62
НАРОДОВ СИМОНЯН
CONTENTS Содержание на английском языке 64
и
о
с
i:
<
m
ш
Д’
U
X
X
$
О
и
О-
>
ЭКОНОМИКА
С0Ц1Ш113И;
УРОКИ II
ПЕРСПЕКТИВЫ
На XXVII съезде КПСС было под-
черкнуто: «Сегодня судьбы мира и
социального прогресса теснее, чем
когда-либо, связаны с динамизмом
экономического и политического раз-
вития мировой системы социализма».
О Перес тройке экономики стран со-
циализма, перспективах и трудностях
этого процесса рассказывает директор
Института мировой социалистической
системы АН СССР академик О. Т. БО-
ГОМОЛОВ.
— Олег Тимофе< вич! Наш журнал чи-
тают и атеисты, и верующие. В принци-
пиальных мировоззренческих вопросах у
них разные позиции, но в историческом
споре противоположных общественных си-
стем и те и другие — на стороне социализ-
ма. И тех и других интересуют причины
замедления экономического развития со-
циалистических стран, наблюдающегося с
конца 70-х годов. В какой мере сказались
тут трудности советской экономики?
— Действительно, в прошлом десяти-
летии, особенно на рубеже 70-х и ВО-х
годов, в ряде социалистических стран тем-
пы экономического роста снизились —
где более, а где менее заметно. Поскольку
эти государства активно сотрудничают
друг с другом и их народные хозяйства
тесно между собой переплетены, сбои,
возникающие в одном из них, особенно
таком огромном, как советское, не могут
не отразиться на других. Однако нельзя
объяснить феномен замедления в целой
группе стран одними только трудностями
нашей экономики. Дело, скорее всего, в
том, что перед всеми входящими в СЭВ
государствами почти одновременно воз-
никли схожие проблемы, которые, к со-
жалению, своевременно не решались.
Просчеты в экономической стратегии,
недостаточная гибкость хозяйственных
механизмов, замедленно реагировавших
на новые условия, в частности на общее
ухудшение конъюнктуры мирового рын-
ка,— таковы в общих чертах первопричи-
ны падения темпов роста Многие социа-
листические страны болезненно перенес-
ли ухудшение условий внешней торговли:
рост цен на их экспортную продукцию
отставал от цен импорта.
Это, правда, не относится к Советскому
Союзу. На рубеже последних десятилетий
он находился в привилегированном поло-
жении, ибо тогда цена на нефть шла не-
уклонно вверх (ее стремительное падение
произошло лишь в последние годы). Поч-
ти десять лет пользовались мы этим преи-
муществом. и, как ни жаль, оно успело нас
избаловать. Полагая, что рост цен на
нефть и в будущем все покроет, мы не
улучшали, как следовало бы, работу про-
мышленности, слишком медленно совер-
шенствовали технику и технологию, не
заботились всерьез о качестве экспорт-
ной продукции
К перечисленным причинам замедления
надо добавить также гонку вооружений
и обострение других глобальных проблем,
ограничивающих возможности социаль-
ного и экономического прогресса.
— Следовательно, необходимость рыв-
ка, ускорения развития социалистической
экономики диктуется ие только внутрен-
ними нуждами стран — членов СЭВ, ио
и процессами, Идущими в современном ми-
ре. Время бросило нам вызов.
— И мы его приняли. Об этом свиде
тельствуют решения XXVII съезда КПСС,
последних съездов и пленумов ЦК брат-
ских партий, выдвинувших задачи тех-
нической реконструкции народных хо-
зяйств, прогрессивных сдвигов их отрас-
левой структуры, устранения возникших
диспропорций.
— Стратегия, принятая ХХУП съездом
КПСС, рассчитана на длительный период.
Воздействует ли она уже сегодня на мир-
ное соперничество социализма с капита-
лизмом?
— Стратегия ускорения — долгосроч-
ное направление, дать результаты сразу
она не может. Как правило, любая пере-
стройка, всякие глубокие перемены усто-
явшихся форм и методов экономической
деятельности на первых порах сопряжены
с издержками Перестраивается, напри-
мер, завод. Старое производство прихо-
дится притормозить, а то и вовсе остано-
вить, чтобы некоторое время спустя во-
зобновить уже на ином техническом уров-
не, с ббльшим эффектом. Примерно то
же происходит и в масштабах народного
хозяйства. Перелом, переживаемый сегод-
ня социалистическими странами,— дей-
ствительно крутая ломка, и она порой от-
рицательно сказывается на текущих эко-
номических показателях. Ускорение мо-
жет наступить только в итоге существен-
ных изменений, а очи еще только-только
начинают развертываться. Мы лишь пере-
ступаем порог радикальных, революцион-
ных по своему значению перемен.
— Можно ли считать, что процессы хо-
зяйственной перестройки, начавшиеся в
других социалистических странах, анало-
гичны нашим?
— Многие из проблем, которые нам
предстоит решить, уже ставились в брат-
ских странах. Поэтому неправильно было
бы ожидать единообразной реакции на
нашу перестройку, тем более некритич-
ного ее копирования, о каждом социалис-
тическом государстве накоплен собствен-
ный опыт, подходы к хозяйственным пре-
образованиям специфичны. В этом много-
2
образии я вижу не порок, а как раз, на-
против, сильную сторону развития. Снова
оказался прав Ленин, утверждавший, что
зрелые формы социализма возникнут
лишь из ряда попыток: пусть каждая из
них, взятая в отдельности, будет неполной
или односторонней, но синтез, слияние
всего лучшего укажет нам новую модель
современного социалистического об-
щества. Ее поиск идет сейчас, надо ска-
зать. весьма интенсивно.
Поскольку отдельные страны развива-
ются в неодинаковых условиях, предла-
гаемые подходы к решению назревших
проблем по необходимости тоже раз-
личны. Но вместе с тем отчетливо выри-
совываются и общие черты. Например,
в хозяйственной сфере это переход от
командно-приказных методов руководства
к экономическим, а еще точнее — уве-
личение роли и значения последних. Ра-
зумеется реальная практика выглядит
многообразно.
Заводы и фабрики Венгрии, Югославии,
Болгарии и Китая обладают очень боль-
шой самостоятельностью: им никто не
впоаве «спустить» задание, которое они
были бы обязаны выполнить любой ценой,
пусть даже в убыток себе Их деятельность
определяют теперь экономические со-
ображения и расчеты, что расширяет воз-
можность выбора оптимальных решений.
Государство регулирует цены, устанавли-
вает для хозяйственных единиц основные
экономические и юридические правила их
деятельности, в том числе нормативы рас-
пределения прибыли, размеры налогов
и т. д., банки предоставляют необходимые
кредиты. На этой основе предприятия
имеют право по собственному усмотре-
нию определять структуру производства,
при необходимости без бюрократичес-
кой волокиты менять ассортимент про-
дукции.
В Германской Демократической Рес-
публике процесс совершенствования хо-
зяйственного механизма тоже идет, но
управление экономической жизнью стра-
ны централизовано значительно сильнее,
чем, скажем, в Венгрии или Китае Тем не
менее хозяйство республики развивается
динамично и уверенно. Национальный до-
ход, к примеру, увеличивался здесь в
1981—1986 годах в среднем на 4,5 про-
цента в год.
Довольно пестрая картина характерна
не только для промышленности, но и для
других сфер материального производства
социалистических стран. Сельское хо-
зяйство Венгрии, ГДР и Чехословакии вы-
сокопродуктивно; существенно сократила
импорт основных видов продовольствия
Польша. В СССР же и у некоторых других
наших партнеров по Совету Экономичес-
кой Взаимопомощи сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность от-
стают, не удовлетворяют пока спроса на-
селения. Заметные различия сохраняются
и в материальном благосостоянии насе-
ления, насыщении внутренних рынков про-
довольственными и промышленными то-
варами.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее
об опыте Венгрии, где уже довольно давно
началась перестройка экономики. Что дала
реформа обществу, как сказалась на жиз-
ни трудящихся?
— С того момента, когда вслед за Юго-
славией ВНР сделала ставку на экономи-
ческие методы хозяйственного управле-
ния и ограничила поле действия сковыва-
ющих инициативу директив опыт этой
страны не выходит из сферы пристально-
го внимания ученых, публицистов и поли-
тиков Одна из самых сильных сторон вен-
герской реформы — снабжение населения
потребительскими товарами. Внутренний
рынок сравнительно хорошо уравнове-
шен. Денежная и товарная масса, напри-
мер, лучше соответствуют друг другу, чем
в нашей стране
Начало экономической реформы в Вен-
грии обычно датируется 1968 годом. На
самом же деле перестройка восходит к
преобразованиям, последовавшим за дра-
матическими событиями 1956 года. Уже
тогда были приняты далеко идущие меры,
коренным образом изменены методы
управления сельским хозяйством: решено
было полностью отказаться от обязатель-
ных поставок продукции и перейти к за-
купкам ее на добровольных началах.
— Как осуществлялся этот принцип иа
практике?
— Раньше закон предписывал крестья-
нину сдавать большую часть произведен-
ной продукции государству по твердой,
заранее фиксированной цене. Со второй
половины 50-х годов крестьяне, а затем и
возникшие на селе кооперативы получили
возможность руководствоваться экономи-
ческим интересом, распоряжаться своей
продукцией в соответствии с тем, на-
сколько выгодными оказывались для них
цены и другие экономические условия.
Многие тогда опасались, сможет ли стра-
на с помощью новых методов обеспечить
себе достаток продовольствия. Но руко-
водство ВСРП видело в реформе един-
ственную реальную возможность создать
действенные стимулы развития сельского
хозяйства Жизнь развеяла сомнения в
правильности сделанных шагов. Сейчас
эту отрасль можно с полным основанием
отнести к числу наиболее эффективных не
только в странах социализма, но и во всем
мире. На душу населения Венгрия произ-
водит более 150 кг мяса (СССР — около
62, США — почти 110 кг). Значительную
часть сельскохозяйственной продукции
Венгрия экспортирует. Показательно, что
резкий рывок был сделан всего лишь за
десятилетие — значит, продуманная ре-
форма может дать ощутимый эффект в
довольно короткий срок.
— Однако с конца 70-х годов, несмотря
на реформу, темпы экономического роста
в Венгрии замедлились... В каком состоя-
нии сейчас народное хозяйство страны?
— Оно испытывает серьезные труднос-
ти, которые не удастся преодолеть без
применения довольно жестких мер. Но
было бы неправильным относить возник-
шие проблемы только на счет недостат-
ков в управлении экономикой. Венгрия,
как, пожалуй, ни одна другая социалисти-
ческая страна, тяжко пострадала от изме-
нившегося в первой половине 70-х годов
соотношения экспортных и импортных цен.
В то время как нефть и другие виды топ-
лива и сырья резко вздорожали (я уже
упоминал об этом), экспортируемые Вен-
грией сельскохозяйственные продукты
либо подешевели, либо их цена подня-
лась совсем незначительно. Вот и полу-
чилось, что за то же количество импорта
(своего топлива и сырья у ВНР прак-
тически нет) приходилось расплачиваться
большей массой отечественных товаров.
Это обходилось стране примерно в 1—2
процента годового национального дохода,
что, естественно, заметно вывело народ-
ное хозяйство из равновесия.
Сейчас Венгрии приходится нелегко, но
она наверняка столкнулась бы с еще бо-
лее сложными проблемами, если бы не
создала гибкого хозяйственного механиз-
ма, который способен довольно четко и
быстро реагировать на изменение
конъюнктуры, учитывать спрос и пред-
ложение мирового рынка
— А опыт Югославии? Сейчас, в усло-
виях перестройки, ои тоже, наверное, пред-
ставляет для нас интерес.
— Конечно, причем не только пози-
тивные достижения страны, но и допущен-
ные просчеты и ошибки Это, впрочем,
относится к опыту всех государств нашего
содружества.
Как известно, в Югославии удалось на-
полнить внутренний потребительский ры-
нок довольно высококачественными това-
рами. Но страна уже давно страдает от
сильного роста цен и инфляции.
С живым интересом следим мы за глу-
бокими преобразованиями, совершающи-
мися в последние годы в Китае. Эконо-
мическая реформа, начатая в деревне и
позже распространенная на городскую
промышленность и другие сферы народ-
ного хозяйства, уже принесла разитель-
ные результаты. В 1981—1985 годах на-
циональный доход увеличивался в сред-
нем на 9,7 процента в год, промышленная
продукция — на 10,8, а сельскохозяй-
ственное производство — на 11,4 процен-
та. Это самые высокие темпы экономи-
ческого роста в социалистическом мире.
И хотя уровень хозяйственного развития
страны пока еще очень низок, его пер-
спективы вселяют оптимизм. Можно рас-
считывать, что до конца столетия нацио-
нальный доход удвоится или даже утроит-
ся. Конечно, и в Китае не все идет гладко:
отмечены нездоровые инфляционные тен-
денции, заметно усиливается дифферен-
циация доходов, отстает топливно-сырье-
вая база промышленности, платежный ба-
ланс страны сводится с дефицитом Од-
нако китайское руководство уделяет этим
процессам самое серьезное внимание и,
как показывают решения последнего
съезда КПК, стремится удержать их под
контролем.
— Много разноречивых суждений при-
ходится слышать по поводу примятого в
3
Венгрии закона о банкротстве социалисти-
ческого предприятия...
— Венгрия тут не исключение. Анало-
гичные законы приняты в Болгарии и Поль-
ше. Закрытие убыточных предприятий
практикуется и в Югославии. Думаю, со
временем эта процедура станет нормаль-
ной для социалистической экономики, ведь
такие предприятия фактически «съедают»
национальный доход страны
— Однако закрытие фабрики или заво-
да создает социальные проблемы — необ-
ходимость трудоустройства, переквалифи-
кации работников.
— Тем не менее подобные процессы
идут по всему миру; производительность
труда растет, а численность занятых в ма-
териальном производстве сокращается.
В отличие от капиталистических стран мы
можем этот процесс контролировать. В
Венгрии, например, нерентабельные пред-
приятия поначалу стараются оздоровить,
реконструировать, омолодить. Иногда
оказывается достаточным сменить дирек-
тора, но порой требуются и капитало-
вложения. Если и они не спасают положе-
ния, государство продает основные фонды
предприятия. Уволенным работникам
подыскивают новые места. Я не вижу в
таком перемещении ничего противореча-
щего основам нашего строя; без мобиль-
ности рабочей силы вообще трудно нала-
дить равномерное развитие производи-
тельных сил.
— За время, ушедшее на трудоустрой-
ство, работникам закрытого предприятия,
вероятно, выплачивается денежное по-
собие?___
— Подобная практика существует ведь
и в Советском Союзе. Например, тем, кто
был сокращен при создании Агропрома
и слиянии ряда министерств, в течение
трех месяцев сохраняется заработная пла-
та. Занятость должна быть эффектив-
ной — как в социальном, так и экономи-
ческом плане. Огромный дефицит рабочих
рук снижает дисциплину труда, и ее не
укрепишь по-настоящему, пока не будет
достигнуто равновесие между спросом и
предложением. Вообще, это упрощение —
представлять себе отсутствие безработи-
цы таким образом, что в каждый данный
момент все поголовно имеют работу. Ведь
всегда кто-то учится, повышает квалифи-
кацию или приобретает новую, переез-
жает из города в город, переходит с од-
ной работы на другую. Таково нормаль-
ное состояние общества.
— В какой мере внешняя торговля мо-
жет помочь решению наших внутренних
экономических проблем?
— По опыту ряда социалистических
стран мы знаем, что импорт товаров мо-
жет ощутимо улучшить положение на
внутреннем рынке — прежде всего за
счет закупок предметов широкого потреб-
ления, более качественных, модных и при-
влекательных, чем отечественные. Конеч-
но, тут многое зависит от размера валют-
ных фондов страны, но и от умения тор-
говать, Мы пока плохо используем этот
канал. Импорт может играть роль альтер-
нативы собственному производству. Осо-
бенно справедливо это по отношению к
малым странам, которым просто не под
силу производить все нужное для насе-
ления. Венгрия, например, не выпускает
собственных автомобилей, но на ее рынке
выбор различных марок гораздо шире,
чем на нашем.
— Наверное, такая состязательность
идет на пользу хозяйственной жизни?
— Большая состязательность между от-
дельными производителями, или конку-
ренция (слово в нашем лексиконе непри-
вычное), действует как фактор экономи-
ческого прогресса. Ведь всякая монопо-
лия неизбежно ведет к техническому за-
стою и в итоге наносит ущерб потребите-
лю, вынужденному брать то, что ему пред-
лагают. Перестройка в Советском Союзе
и других социалистических странах как
раз предполагает расширение возможнос-
тей выбора, состязательность не только во
внутренней, но и во внешней торговле
— Но тут возникает вопрос: не усилит
ли конкуренция социальную дифференциа-
цию в обществе, социальное неравенство?
Как скажется это иа социальной справед-
ливости, уверенности в будущем?
— Социальная справедливость — это
прежде всего справедливая оплата труда.
Между тем у нас социалистический прин-
цип распределения нередко искажается.
Очень прочно укоренилась уравниловка,
а главное — не выработаны критерии со-
измерения квалифицированного и неква-
лифицированного труда. «Потолки» опла-
ты расхолаживают людей, которые хотят
и могли бы получать больше, работая ин-
тенсивнее и добросовестнее. Пяти- или
десятипроцентная прибавка, как показала
практика, не дает достаточно сильного
стимула к резкому повышению произво-
дительности труда. Поэтому путь к уста-
новлению большей справедливости лежит
через решительный отказ от уравнитель-
ности при оплате труда.
— Все это так. Но вот ликвидируем мы
«потолки», заработки тех, кто умеет и мо-
жет хорошо трудиться, поползут вверх.
Однако ведь есть многодетные семьи, ин-
валиды, люди, которые в силу ие завися-
щих от них обстоятельств ие получили до-
статочно образования, да и просто мало-
способные Их жизненный уровень неиз-
бежно начнет снижаться. Как отнесутся к
этому «обойденные»? Да и справедливо ли
это?
— Полное равенство — по потребнос-
тям — будет достигнуто, как известно,
только при коммунизме. Если взять много-
детные семьи, то государство может
смягчить разницу в их положении по срав-
нению с бездетными. Что же касается
различных способностей и физической си-
лы, то они обязательно должны отражать-
ся на материальном и социальном положе-
нии людей. Отказавшись от такого прин-
ципа, мы станем на путь утопического,
мелкобуржуазного социализма.
— Почувствуем ли мы первые итоги
перестройки советской экономики уже в
этом году?
— Я не слишком оптимистичен на этот
счет. Переход к новым формам управле-
ния требует времени. Кроме того, пока не
решена проблема цен. Многие социалис-
тические страны достигли равновесия на
потребительских рынках и повысили ка-
чество продукции, сильно изменив цено-
вые пропорции: подорожание многих то-
варов довольно резко ограничило поку-
пательную способность населения. Де-
фициты исчезли, но при этом одни группы
населения выиграли, а другие проиграли.
Смягчить подобные эффекты за счет рез-
кого повышения доходов нельзя: такое
решение только подхлестнуло бы инфля-
цию в стране. Учитывая все это, думаю, что
неразумным было бы настраиваться на
излишне оптимистический лад.
Мы знаем о расширении хозяйствен-
ного сотрудничества стран социализма, об
углублении социалистической экономичес-
кой интеграции. Как идут эти процессы в
изменившихся условиях?
— Экономическое сотрудничество на-
бирает силу. Сейчас на рынке СЭВ стои-
мость обмениваемых товаров и услуг со-
ставляет примерно пятую часть совокуп-
ного национального дохода государств,
входящих в наше содружество. Оно обла-
дает рядом преимуществ по сравнению
с такой мощной организацией, как ЕЭС
Одно из них в том, что мы на 90—95 про-
центов обеспечены собственным топли-
вом, основными видами сырья и, следо-
вательно, не зависим в этом отношении
от других стран. Но гак как дальнейшее
наращивание экспорта топлива и сырья
из Советского Союза уже невозможно,
идет поиск новых направлений сотрудни-
чества. Наиболее перспективно развитие
международной специализации и коопе-
рации производства, причем не только
готовой продукции, но и узлов, деталей,
что позволит намного расширить экспорт-
ные возможности всех партнеров.
Важную роль призвана сыграть приня-
тая странами — членами СЭВ в конце
1985 года Комплексная программа науч-
но-технического прогресса до 2000 года.
По данным статистики, в 70—80-е годы
доля продукции, отвечающей мировым
стандартам, во взаимном обмене не по-
вышалась, а удельный вес продовольст-
вия и товаров народного потребления
даже сокращался. Намечено поднять ка-
чество, технический уровень взаимопо-
ставляемой продукции, усилить ее кон-
курентоспособность на мировом рынке.
Признано необходимым смелее вовлекать
во внешнеэкономическую деятельность
хозяйственные единицы, организовывать
совместные предприятия. Неплохие ре-
зультаты может дать и создание смешан-
ных обществ с участием западного капи-
тала; такого рода опыт уже есть у Венгрии,
Польши, Румынии, Югославии. Совет-
ский Союз тоже подписал первые контрак-
ты о действии таких обществ на нашей
территории.
Беседу вела И. Николаева.
4
МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА
УЧИТЬСЯ
Г. В. ЧИЧЕРИН
Георгий Васильевич Чи-
черин (1872—1936) — член
РСДРП с 1905 года, видный
советский государственный
деятель ленинской школы,
с 1918 по 1930 год — народ-
ный комиссар иностранных
дел. Его статью, написанную
3 февраля 1924 года, мы
воспроизводим с некоторыми
сокращениями
Владимир Ильич был в пол-
ном смысле слова учителем.
Общение с ним играло пря-
мо-таки воспитательную роль.
Он учил своим примером,
своими указаниями, своим ру-
ководством, всем обликом
своей личности.
Несколько разрозненных
черт его личности я хотел бы
в немногих словах зафиксиро-
вать, чтобы обратить на них
внимание молодых читателей.
Они не имели счастья учить-
ся непосредственно у Ленина,
но, может быть, эти разроз-
ненные указания помогут им
понять, чему следует учиться
у Владимира Ильича.
Прежде всего Владимир
Ильич отличался абсолютной
точностью во всякой своей ра-
боте и настаивал на такой
же абсолютной точности со
стороны всякого работавшего
вместе с ним... Для точного
утверждения требуются име-
на, перечисления, цифры, ци-
таты, вообще строго прове-
ренные конкретные данные
Лучше сработать меньше, но
сработать со всей необходи-
мой отчетливостью и обосно-
ванностью, лучше ничего не
говорить, чем приводить не-
обоснованные утверждения.
Особенно характерны были те
вопросы, которые Владимир
Ильич по поводу каких-либо
возникавших тем посылал в
своих записочках. Эти вопро-
сы содержали в сущности
точный анализ затронутой те-
мы и определяли рамки, в пре-
делах которых тема должна
была быть разработана.
Пусть всякий, кто хочет
учиться у Ленина, запомнит:
никаких поспешных заклю-
чений! Никаких непроверен-
у ЛЕНИНА
ных утверждений! Никаких
скороспелых фраз, не являю-
щихся точным выводом из
строго проверенных данных!
Этому соответствовала и
точность самой мысли Влади-
мира Ильича.. В И. Ленин
постоянно вышучивал со сво-
им неподражаемым юмором
всякую расплывчатую, неяс-
ную и недодуманную мысль.
Его собеседник учился у него
тому, что всякая человеческая
мысль должна быть добросо-
вестной работой, а не без-
ответственным самоуслажде-
нием или блефом. Пусть вся-
кий учится у Владимира
Ильича тому, что мысль есть
нечто гораздо большее, чем
настроение и инстинкт. Она
должна быть логически дове-
дена до конца.
Третье, чему научался у
Владимира Ильича тот, кто
с ннм работал,— это необхо-
димости прежде всего ясно
видеть реальные факты. Ког-
да собеседник Владимира
Ильича пускался в теорети-
ческие рассуждения или про-
являл склонность к дедуктив-
ному мышлению, столь у нас
распространенному, Влади-
мир Ильич всегда ставил
перед его глазами точные,
определенные реальные фак-
ты живой действительности.
Это именно свойство его так
ярко проявилось во время об-
суждения вопроса о подпи-
сании Брестского мира. Бес-
конечным теоретическим рас-
суждениям Владимир Ильич
противополагал голые факты
во всей их безжалостности.
Когда дипломатия иностран-
ных государств со свойствен-
ным ей мастерством, вырабо-
танным столетиями, маскиро-
вала действительное положе-
ние дел и свои действитель-
ные стремления под громад-
нейшим ворохом хороших
слов, чувств или приятных
утверждений, Владимир
Ильич немногими словами
превращал все это в кучу му-
сора, ставя перед глазами
своего собеседника голые
реальные факты живой дейст-
вительности...
В-четвертых, работа с Вла-
димиром Ильичем означала
точное выполнение получен-
ных директив, основанных на
реальных фактах н пред-
ставляющих из себя отчетли-
вые и доработанные до конца
мысли... Владимир Ильич
больше всего ценил тех испол-
нителей, которые умели ви-
деть обстановку во всей ее
реальности, умели понять, что
в этой обстановке должно
быть сделано, и с полнейшей
точностью, несмотря ни иа ка-
кие препятствия, умели это
сделать. Я помню, например,
его разговор по прямому про-
воду с товарищем, который
после отъезда антантовских
послов из Вологды, бывшей
настоящим убежищем и гнез-
дом белогвардейщины, про-
водил в Вологде необходимые
меры по ликвидации этого
притона. Его сообщения ука-
зывали, что он ясно и точно
видит, что кругом делается,
ясно и точно об этом сообща-
ет. И когда ему давались ди-
рективы, он со всей необходи-
мой энергией, ни пред чем не
останавливаясь, сразу делал
нужное. Я помню, как по пря-
мому проводу Владимир Иль-
ич его благодарил... Надо
учиться и этому у Владимира
Ильича: относись с полной
серьезностью к самому мелко-
му делу, выполняй его со всей
добросовестностью и со всей
аккуратностью.
Чему трудно было научить-
ся у Владимира Ильича —
настолько он в этом превосхо-
дил всех своих собеседни-
ков,— это его умению во всем,
до последних мелочей, прово-
дить полнейшую систематич-
ность...
Все должно быть строго
целесообразно, эта целесо-
образность должна господст-
вовать над настроениями и
над инстинктом — вот чему
учились у него те, кто с ним
работал.
Деловые соображения
должны господствовать над
личными, всякий личный мо-
мент должен отступать перед
интересами дела — этим
принципом Владимир Ильич
был настолько весь проник-
нут, что в разговорах с ним
просто неловко было ссылать-
ся иа какие-либо личные со-
ображения, когда речь’шла
об интересах дела, собеседник
Владимира Ильича невольно
чувствовал, что, когда гово-
ришь о деле, стыдно думать о
каких-либо личных соображе-
ниях. Я никогда не видел Вла-
димира Ильича более раздра-
женным, чем в те моменты
когда личная склока привно-
силась в деловую работу, ког-
да деловые аргументы заме-
нялись личными нападками
и склокой, когда вместо того,
чтобы говорить о деле, гово-
рили о личных обидах или о
личных качествах тех или дру-
гих участников дела. В такие
моменты у Владимира Ильича
вырывались наиболее резкие
реплики или наиболее резко
составленные записки... Вме-
сте с тем он отличался самой
тонкой деликатностью по от-
ношению к своим сотрудни-
кам, он умел даже неприятное
облечь в такую мягкую н так-
тичную форму, которая совер-
шенно обезоруживала собе-
седника. И от тех, кто с ним
работал, ои требовал такой
же деликатности и тактичного
отношения к окружающим...
Высшим же его качеством
в его деловой работе надо
признать его сознательное
подчинение коллективу даже
в тех случаях, когда коллек-
тив, по его мнению, ошибал-
ся... Его подчинение органи-
зации было полным и безого-
ворочным. Он никогда ие дей-
ствовал голым авторитетом,
а только аргументами и убеж-
дениями, и он никогда не
пускал в ход факта своего
беспримерного влияния, что-
бы преодолевать сопротивле-
ние инакомыслящих, а всегда
аргументировал, убеждал и
не успокаивался, пока ие убе-
дит других. Я получал от него
несколько последовательных
записок с новыми аргумента-
ми, когда он старался меня в
чем-ннбудь убедить. Я помню
его спор по одному больному
личному внутрипартийному
вопросу с очень видным това-
рищем. Изложив свои аргу-
менты, Владимир Ильич ска-
зал: «Я убежден, что пред
всяким партийным собранием
я докажу, что вы неправы, и
что всякое партийное собра-
ние с этим согласится*. Он
ннкак не мыслил иначе побе-
ду над инакомыслящим, кро-
ме как в форме победы своей
аргументации в пределах ор-
ганизации.
Пусть подрастающая моло-
дежь учится на его живом
примере. В лице Владимира
Ильича мы имеем действи-
тельно неподражаемый обра-
зец представителя пролетар-
ской культуры, культуры, ос-
нованной на точности знания,
иа рациональности всей чело-
веческой работы, одним сло-
вом, на господстве разума над
природой и общественно уре-
гулированного производст-
ва — над слепой стихией.
5
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА
78SUJ
П. ДЕМЧЕНКО
виде Национального пакта, который
стал таким же обязательным, как и
конституция. Было определено, что
президентом страны может стать
только маронит, избираемый на один
шестилетний срок, премьер-минист-
ром — суннит, председателем парла-
мента — шиит, а его заместителем —
православный. Кроме того, друзам,
православным и униатам отводилось,
как правило, по одному министерско-
му посту. В парламент на каждых
6 христианских депутатов решили
избирать 5 мусульманских, причем
было точно определено коли-
чество представителей от каждой
общины. И хотя численность парла-
мента с годами менялась, составляя
44, 55, 77, а в последнее время 99
человек, но всегда это число было
кратно одиннадцати.
ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ отвели Ли-
вану особое место на Ближнем Восто-
ке. Он издавна стал перекрестком,
перевалочной базой на пути между
Востоком и Западом, был свидете-
лем подъемов и крушений многих
великих империй и династий древно-
сти, видел воинов знаменитых завое-
вателей, а в наши дни — солдат более
десятка стран.
Израильские войска, вторгшиеся в
Ливан летом 1982 года, до сих пор
контролируют его южную часть. Чи-
нят там насилие и произвол, взрыва-
ют дома, мосты, вооружают груп-
пировки, готовые с ними сотрудни-
чать. Это вмешательство вряд ли было
бы столь бесцеремонным и зачастую
безнаказанным, если бы не внутрен-
ние противоречия, которые расколо-
ли ливанское общество и создали
для его врагов благоприятную почву.
Исторически сложилось так, что на
той маленькой территории, которую
занимает Ливан, живут приверженцы
более полутора десятков церквей,
религиозных направлений, сект — как
мусульманских, так и христианских.
Такое многообразие религиозной
структуры привело к возникновению
уникальной государственной систе-
мы: с момента предоставления неза-
висимости Ливану в 1943 году орга-
ны власти строились там на основе
конфессионализма, то есть по рели-
гиозному принципу. И, как показали
события, система эта оказалась весь-
ма хрупкой.
Истоки конфессионализма
Распространение христианства в
Ливане началось, судя по всему, во
II веке, и в эпоху византийского гос-
подства оно превратилось, выра-
жаясь современным языком, в офи-
циальную религию. Арабские завое-
вания VII века привнесли в Ливан
ислам. Население арабизировалось,
и Библия была переведена на араб-
ский.
Разногласия, вспыхнувшие среди
приверженцев ислама вскоре после
смерти в 632 году пророка Мухам-
меда, привели к тому, что в непри-
ступные ливанские горы в поисках
спасения потянулись гонимые за веру.
Там скрывались преследуемые сун-
нитами шииты; в XI веке туда бежали
представители одной из шиитско-
исмаилитских сект друзы.
В результате расколов в христиан-
ской церкви, а затем и крестовых по-
ходов в Ливане сложилась влиятель-
ная община маронитов — привержен-
цев самобытной восточной христиан-
ской церкви, заключившей в XVI веке
унию с Ватиканом. Появились также
общины греко-католиков, армяно-ка-
толиков, сиро-католиков, протестан-
тов и т. д.
Когда ездишь по Ливану, поража-
ешься обилию в этой маленькой стра-
не монастырей, церквей, мечетей,
молельных домов. Стоят они, как пра-
вило, либо уединенно высоко в горах,
либо наоборот — в наиболее людных
городских районах. Это тоже отраже-
ние истории, своего рода показатель
положения в стране той или иной
общины.
Перепись 1932 года показала, что
в Ливане примерно 51 процент хри-
стиан и 49 процентов мусульман.
Причем больше всего маронитов —
28,8 процента населения, далее
шли сунниты — 22 процента и шии-
ты — около 20 процентов, затем
православные и друзы. Таким обра-
зом, ни одна из общин не имела
абсолютного большинства. Однако
наиболее сильные позиции в админи-
стративном аппарате, торгово-эконо-
мической сфере занимали марониты
и сунниты. Представители крупных
буржуазно-феодальных кланов этих
двух общин после длительной поли-
тической борьбы и торга, в ходе ко-
торых сыграла свою роль и француз-
ская колониальная администрация, по
существу и определили, каким будет
характер будущей республики. В ос-
новном они-то и поделили власть
между собой, оформив договор в
Формирование государственного
аппарата, офицерского корпуса,
расходование бюджета — все было
подчинено требованиям конфессио-
нализма. Марониты сохранили за
собой ключевые посты команду-
ющего армией и управляющего цент-
ральным банком. Они имели большие
возможности получить высшее обра-
зование, что сулило им немалые пре-
имущества. Благодаря такой системе,
верхушка религиозных общин, укреп-
ляя свое имущественное и политиче-
ское положение, через механизм
конфессионального представительст-
ва управляла делами государства.
Таким образом, в условиях Ливана
религия плотно переплелась с поли-
тикой. И не только с внутренней, но
и с внешней: христианские общины,
особенно марониты, стали ориенти-
роваться на Запад, мусульманские —
на соседние арабские страны
Все это не только привело к усиле-
нию клановости в ливанском общест-
ве, но и зачастую давало возмож-
ность маскировать нарастающее со-
циальное неравенство населения,
переводя классовую борьбу на рель-
сы религиозной розни. В стране
создавалась промышленность, рос
пролетариат, возникли профсоюзы,
несколько десятков политических
партий. Некоторые подобно Нацио-
нально-либеральной, Катаиб, пред-
ставляют маронитов, организация
«Амаль» — шиитов, существует не-
сколько армянских партий.
Наряду с этим есть партии и орга-
низации, которые действуют на вне-
религиозной основе. К ним относят-
ся, например, компартия, Партия
арабского социалистического возрож-
дения. Возникшая сначала как чисто
друзская, Прогрессивно-социалисти-
ческая партия (ПСП) постепенно наш-
ла сторонников и среди других
групп населения. Большинство об-
щин и партий обзавелись своими
вооруженными отрядами, которым
суждено было вскоре вступить в за-
тяжные бои.
6
Время потрясений
С начала 70-х годов страна попала
в полосу жестокого социального кри-
зиса, вызванного усилившимся клас-
совым расслоением общества. Все
острее становилась критика конфес-
сионализма. Он подвергся атакам
как со стороны левых партий, так и
некоторых мусульманских группиро-
вок. Одни требовали его ликвидиро-
вать, другие только пересмотреть
пропорции представительства в орга-
нах власти. Дело в том, что числен-
ное соотношение между различными
общинами со временем изменилось,
а структура органов управления оста-
лась той же, что и в 1943 году. Пра-
вительство тщательно избегало пуб-
ликовать данные о религиозном
составе населения, а перепись 1932
года так и осталась последней в исто-
рии страны.
Эти события совпали с появлением
на ливанской территории помимо па-
лестинских беженцев, находившихся
там с момента создания в 1948 году
Израиля, также руководящих цент-
ров и боевых отрядов Организации
освобождения Палестины (ООП).
Левые партии и ряд мусульманских
группировок установили с ней тесные
отношения и поддержали борьбу
палестинцев за создание на оккупи-
рованных Израилем землях независи-
мого палестинского государства.
Партия Катаиб и ее союзники заняли
иную позицию. Их испугало, что на-
плыв большого числа палестинцев
может резко изменить соотношение
сил в стране в пользу мусульман,
особенно суннитов, они предвидели
также усиление влияния левых орга-
низаций, которые благодаря союзу с
палестинцами получат определенные
преимущества.
Весной 1975 года обстановка резко
обострилась — вспыхнула граждан-
ская война, в ходе которой социаль-
ные антагонизмы общества перепле-
лись с религиозными. Создавались и
рассыпались различные комбинации
партийных блоков, союзов, фронтов,
опиравшихся то на одних, то на других
зарубежных покровителей. Общим
знаменателем таких альянсов зачас-
тую становилось отношение к палес-
тинцам — поддержка или, наоборот,
ограничение их деятельности в Ли-
ване.
К тому же и в самом палестинском
движении отсутствовало единство,
что осложняло обстановку.
В целом борьба носила ожесточен-
ный, кровавый характер, напоминая
средневековые вандеи. Регулярная
ливанская армия развалилась, и во-
оруженные отряды ООП, а также раз-
личных партий и общин превратились
в главные противоборствующие силы.
Партия Катаиб, убедившись, что не
может одержать верх, пошла на сго-
вор с США, Францией, Израилем и
практически изолировала контроли-
руемую ею территорию (Восточный
Бейрут и еще около 800 кв. км к се-
веру от него) от остального Ливана,
изгнав оттуда все мусульманское
население, в первую очередь пале-
стинцев Так в Ливане образовался
маронитский анклав. Ввод в Ливан
сирийских войск, имевший целью при-
мирить стороны, не смог ликвидиро-
вать раскол страны, отдельные части
которой оказались под влиянием той
или иной общины, отказывающейся
подчиняться центральной власти.
Такой была обстановка, когда из-
раильская армия после ряда локаль-
ных рейдов в июне 1982 года вторг-
лась в Ливан и на некоторое время
оккупировала западную часть Бейру-
та После почти 80-дневной обороны
руководящие центры и боевые отря-
ды ООП были вынуждены покинуть
ливанскую столицу. Сирийская броне-
танковая бригада также ушла из
Бейрута. Лагеря палестинских бежен-
цев остались по существу беззащит-
ными, что привело к массовым рас-
правам над палестинцами. Следует
упомянуть, что в дальнейшем «для
поддержания мира» в Бейруте вы-
саживались подразделения амери-
канских, французских, британских
морских пехотинцев, которые, одна-
ко, были вынуждены убраться оттуда,
понеся немалые потери.
Шииты выходят вперед
Еще одно обстоятельство оказало
немалое влияние на расстановку сил
в Ливане. Израильская агрессия уско-
рила выход на авангардные полити-
ческие позиции общины шиитов.
Еще 10—15 лет назад ни в поли-
тике, ни в экономике они не зани-
мали заметного места. В соответствии
с Национальным пактом, шиитская
община по своей численности была
определена как третья и в парла-
менте получила соответствующую
долю депутатских мандатов. К тому
же она отличалась замкнутостью,
жила как бы по своим внутренним за-
конам. Образовательный и имущест-
венный ценз у шиитов считался са-
мым низким в стране.
И вот теперь, когда сотни тысяч
шиитов, спасаясь от произвола изра-
ильтян, устремились на север, в ос-
новном в Бейрут, а на самом юге
разгорелся пожар освободительной
борьбы против израильских оккупан-
тов, стало особенно наглядным, что
демографический состав ливанского
общества существенно изменился.
Шиитов сейчас что-то около или чуть
больше миллиона, то есть примерно
треть всех жителей страны. Понятно,
что они потребовали изменения си-
стемы управления, большего участия
в органах власти. Шииты установили
контроль над некоторыми секторами
столицы и рядом районов Ливана к
югу от Бейрута.
Шиизм как направление в исламе
возник в VII веке. Шииты утверж-
дают, что пророк Мухаммед назна-
чил халифа Али (по преданию, зя-
тя Мухаммеда) и его семью в качестве
потомственных руководителей всех
мусульман. Добиваясь осуществления
этого права, Али в 656 году стал
во главе мусульман, но пять лет
спустя был убит. Тогда на власть
стал претендовать его сын Хусейн.
В битве при Кербеле, на территории
нынешнего Ирака, он потерпел пора-
жение и был убит вместе с большин-
ством членов семьи Прежде чем
обезглавить внука пророка, его под-
вергли страшным пыткам.
Для шиитов трагически окончив-
шаяся попытка Хусейна утвердить
свою власть стала символом само-
пожертвования ради веры. Преда-
ваясь самоистязаниям, идя на само-
пожертвование, шииты как бы сле-
дуют примеру своего канонизирован-
ного героя и таким образом изби-
рают самую короткую и почетную
дорогу в рай.
Этим объясняется поведение иран-
ских камикадзе в войне с Ираком и
фанатизм ливанских юношей, врезав-
шихся на автомашинах, начиненных
взрывчаткой, в американские и
израильские штабы.
В политическом отношении шиизм
в Ливане неоднороден. Наиболее
массовым является движение
«Амаль», которое возникло как про-
тест обездоленных масс против
израильского произвола на ливан-
ском Юге. Лидер движения Н. Берри
проявляет умеренность, порой идет
на компромисс с другими силами.
Он не раз заявлял, что его цель
«единство, территориальная целост-
ность, независимость и суверенитет
Ливана», а также ликвидация конфес-
сионализма. От этого движения от-
почковались несколько организаций
явно экстремистского толка Среди
них наиболее влиятельные — «Хизб
алла» (Партия аллаха) и «Аль-Джихад
аль-исламий» (Священная война ис-
лама), ориентирующиеся на Иран
и призывающие к созданию в Ливане
исламской республики. Именно эти
организации применяют такой метод
действий, как захват заложников,
считая это формой борьбы с импе-
риализмом. Одновременно они не
скрывают своего антикоммунизма.
Вместе с тем отмечено и такое явле-
ние, как стремление передовой
шиитской молодежи и интеллиген-
ции вступать в компартию, ПСП, дру-
гие прогрессивные организации.
Борьба в Ливане продолжается,
страна расколота. В ходе борьбы
растет самосознание народных масс,
происходит дальнейшая классовая
дифференциация общества. Все
больше людей приходят к вывод ,
что для сохранения Ливана в качест-
ве единого государства необходимо
разрушить узкие рамки конфессиона-
лизма.
7
ДОМИК НА ЛУНЕ
Д. ПЮРВЕЕВ,
кандидат искусствоведения
Именно так д о м и к. Не лабораторные корпуса, не исследовательская
станция, а прежде всего жипище дом, частица земного очага . Признаться,
когда мы прочитали заметку в «Известиях» о том, что конкурс на проект
первого лунного поселения, проведенный финским журналом, выиграли два
архитектора — советский и финскии, первой реакцией было недоверие. Не
рановато ли. архитектура в космосе! Ну, понятное дело, расчет специфичес-
ких конструкции, сложнейшие системы жизнеобеспечения, размещение
приборов аскетический дизайн лаборатории и рабочих помещении Но
заметка сообщала о другом Эстетическая, философская идея, лежащая
в основе проекта, забота об уюте, душевном здоровье и психической
разрядке будущих исследователей на Луне казались материями, по-
черпнутыми из научно-фантастических романов
Чувство удивления только возросло когда наш корреспондент встретил-
ся с одним из авторов проекта, сотрудником Центрального научно
исследовательского института теории и истории архитектуры Госграж
данстроя Д Б. Пюрвеевым и попросил его рассказать об этом
фантастическом проекте.
9 Д Б. Пюрвеев и финскии архитектор Пекка Терявя (справа).
Рисунки Д Пюрвеев а.
— Джангар Бадмаевич, во-первых, при-
мите наши поздравления. А во-вторых,
развейте, пожалуйста, наше недоуме-
ние: это что — реально? Первое поселе-
ние на Луне — и не спартанская обстанов-
ка лаборатории, где негде развернуться
от нагромождения приборов, а дом, жи-
лище, кров?
— Видите ли, я архитектор. Смо-
жет ли космонавтика решить эту за-
дачу к указанному сроку, я не знаю.
Но симптоматично уже то, что возник-
ла необходимость в архитектур-
ном решении проекта. И проекти-
ровали мы не просто помещения, а
целую микросреду — экологиче-
скую, психологическую, духовную.
Как получилось, не нам судить, но
исходили мы из комплекса требова-
ний, предъявляемых к жилищу чело-
века, причем жилищу, беспрецедент-
ному в истории культуры, а не как
к «местоположению» научного обо-
рудования. Мы с моим коллегой, фин-
ским архитектором Пекка Терявя бы-
ли одержимы идеями не столько
профессиональными, сколько фило-
софскими, если хотите, мировоззрен-
ческими...
— Прежде чем вы расскажете о проек-
те, пожалуйста, два слова о себе и вашем
соавторе.
— Мы одногодки, нам по 49 лет.
Пекка не так давно основал собствен-
ное проектное бюро, в основном он
занимается проектированием раз-
личных медицинских центров. Если
говорить о моих интересах, то более
всего меня занимает идея кочевой
архитектуры и градостроительства.
Изучал опыт кочевых народов мира,
а сейчас много работаю над сравни-
тельно новой темой: экология ар-
хитектуры и архитектура в экстре-
мальных условиях (зоны подземного
и подводного пространства, пустынь,
Крайнего Севера, горной местности)
По-моему, переключение интереса на
космос вполне логично и естествен-
но... В 1987 году был приглашен в
Финляндию в качестве архитектора-
консультанта, там познакомился с
Пекка.
— А какие требования предъявлялись к
проекту?
— Была поставлена задача- разра-
ботать архитектурный комплекс пер-
вого жилого помещения на Луне на
80 человек. С упором на слово «жи-
лое»... Участникам конкурса следо-
вало, во-первых, максимально упро-
стить процесс транспортировки кон-
струкций и строительных материалов
(все-таки «стройплощадка» далеко и
«подъезды» затруднены!); во-вторых,
по возможности использовать мест-
ные лунные условия; и в-третьих,
предусмотреть создание благо-
приятных условий для нормальной
жизнедеятельности первых «луножи-
телей». Не скрою, именно последнее
оказалось для нас первостепенным,
самым сложным, но и самым инте-
ресным.
8
— Давайте сначала разберемся с «пер-
вым» и «вторым», а «третье», как положе-
но, оставим на десерт.
— Какие технические идеи легли в
основу проекта? Пожалуйста. Мысль
использовать пневматические (то есть
«надуваемые» после доставки на
место) сборно-разборные конструк-
ции пришла в голову не нам одним.
Далее мы предложили произвести
серию направленных взрывов на по-
верхности Луны, а в образовавшиеся
траншеи заложить уже собранные —
там же, на Луне — «галереи», «ком-
наты» и «залы». В них подается воз-
дух, сверху они засыпаются грунтом
и особым лунобетоном, и помеще-
ние готово.
Помещение — но еще не жилище.
Потому что кроме проведения техно-
логических процессов требовалось
учесть еще жилые, спортивные, куль-
турные и, самое главное, трениро-
вочно-адаптационные и природно-
экологические помещения. Только в
совокупности это, по нашему мне-
адаптации его к новому, на наш
взгляд, существованию в неземных
условиях — неубедительны хотя бы
потому, что космическое окружение
человека неизбежно. Никуда от
него не скрыться, тем более не спасут
эмоциональные «протесты». Негодо-
вать по этому поводу, пытаться «за-
щитить» человека от космоса все рав-
но что защитить его от окружаю-
щей природы, от смены дня и ночи,
от стихий. От его будущего...
— ...и в конечном счете от него самого?
— Именно. Выход в космос мы
полагаем неизбежным и вопрос
для нас стоит не в том, жить нам
в космосе или нет. Проблема в дру-
гом: как организовать истинно чело-
веческое, не ущемляющее все богат-
ство его внутреннего мира существо-
вание в неприветливых, совсем «не
предполагавших» его приход в кос-
мос, условиях.
Иногда это мыслится слишком пря-
молинейно: киборгизация (то есть
сти. Влияние космогонических пред-
ставлений различных культур на
архитектуру — интереснейший мате-
риал, еще ждущий своего исследо-
вателя!
А во-вторых, человек — по крайней
мере на ранних этапах обживания
космоса — должен будет к космосу
адаптироваться, ничего не поделаешь,
но адаптироваться так, чтобы не рас-
терять свое человеческое. А, возмож-
но, и приобрести что-то новое.
— Зачатки космического мышления?
— А почему нет? Где же его
приобретать, как не в процессе обжи-
вания нового космического дома.
Кроме того, часто задачу понимают
односторонне: адаптацию человека к
неземному окружению. Для нас не
менее важна обратная проблема —
реабилитации, то есть возвра-
щения человека в нормальное состоя-
ние, новое привыкание его к Земле.
Только в такой диалектической
связи — приобретая новое, не терять
нию, составит подлинный дом. Дом
на Луне.
— Что такое адаптационно-реабилита-
ционный центр? В проекте ему уделена
немалая роль.
— Это архитектурный «акцент»
жилого комплекса. Место системной
организации досуга в специфических
лунных условиях — спорт, еда, куль-
турный отдых, прогулка. Нам пока-
залось не просто любопытным — ар-
хиважным воздействовать на все пять
органов чувств человека с целью
максимально стимулировать пока еще
непознанное «шестое»: интуицию,
творческую активность...
Понимаете, все эти разговоры о
враждебности космоса человеку, о
якобы нерешенной в принципе задаче
сращивание биологических и техниче-
ских «органов», люди-машины, при-
способленные для жизни в непривыч-
ном природном окружении), «естест-
венный» отказ от всего богатства
духовного мира ради утилитарно
понимаемых «исследовательских» це-
лей.
Мы исходили из другого. Во-пер-
вых, космос, вся система мироздания
(в которой не только человек, но и
его земное природное окружение,
сама планета — не более чем пес-
чинка) уже оказывает влияние
на наш духовный мир, на наш быт,
на все наши органы чувств. И всег-
да — только сегодня мы начинаем
это понимать — оказывал. Например,
обратимся к моей узкой специально-
старого — мы видим идеальное ре-
шение проблемы.
— И для этого вы такую мощную смыс-
ловую нагрузку возлагаете на адаптацион-
но-реабилитационный центр?
— Да. Формализуя задачу, можно
поставить ее так: адаптировать или
реабилитировать (в зависимости от
того, прилетел сотрудник на лунную
базу или возвращается домой, на
Землю) пять основных органов чувств
для создания нового космического
мышления или для воспроизводства
земного.
В начале своей работы на Луне
каждый прилетевший с Земли про-
йдет специальный тренировочный
курс, составленный по особой физи-
ко-биологической и философско-
9
психологической программе. Трени-
ровать он будет органы чувств, ибо
в принципиально новых условиях
все они подвергнутся серьезным
испытаниям. Мы идем именно от на-
чала начал всякого мыслительного
процесса: от непосредственных ощу-
щений. Не позаботившись о них
об исходных элементах процесса,
вряд ли разумно строить проекты,
касающиеся его результата. Новое
космическое мышление просто так —
у человека, органы чувств которого
будут упорно «цепляться» за привыч-
ные земные мерки и ориентиры,—
не возникнет.
— А вы не боитесь, что «луножители»...
лунными жителями и останутся? Не
захотят — или, что ужаснее, физически и
психологически не смогут — вернуться
на Землю?
— Тут мы вторгаемся в область
догадок и весьма туманных гипотез.
Когда-то в далеком будущем, если
исходить из взглядов таких мыслите-
лей, как Циолковский и Вернадский,
человек, возможно, действительно
порвет пуповину материнского —
земного — чрева. Но в обозримые
сроки он все же останется челове-
ком Земли, выходящим в космос
на работу или на экскурсию, но непре-
менно возвращающимся домой.
Поэтому в комплексе мы обяза-
тельно предполагали и обратный про-
цесс — реабилитационный. После
окончания работы на Луне человеку
нужно будет возвратить временно
утраченное, все пять чувств — по
строгой системе и в строгой после-
довательности.
— Вы уже конкретно думали над раз-
работкой этой системы?
— Я только архитектор. Как спе-
циалист-искусствовед, я могу пореко-
мендовать кое-что, думаю, и обла-
дающий специфическим «медицин-
ским» опытом Пекка Терявя (напом-
ню, он проектировал здания и комп-
лексы, связанные как раз с задачей
восстановления, реабилитации) мо-
жет принести конкретную помощь.
Но главное, конечно, за специали-
стами других областей знания — ме-
диками, психиатрами, психологами,
физиологами, дизайнерами
— Вы видите перспективу вторже-
ния духовных, эстетических факторов в
область, казалось бы, подчиненную стро-
гому рационализму? Вот н известный жур-
налист и писатель Ярослав Голованов на-
писал книгу об архитектуре в невесомости.
Постановщики дорогих и весьма эффек-
тных в зрелищном отношении американ-
ских научно-фантастических фильмов спе-
циально поручают профессионалам —
дизайнерам и архитекторам — разраба-
тывать интерьеры и внешний вид «кос-
мических» сооружений.
— Сегодня уже пора задумывать-
ся над этим. Строго регламентиро-
ванная — прежде всего соображе-
ниями экономическими — программа
полетов человека в космос практи-
чески не оставляет времени на раз-
мышления, отвлеченное осмысление
увиденного и услышанного. Сегодня
еще каждая минута пребывания в
космосе жестко связана с прибора-
ми, экспериментами, решением тех
или иных технических и научных за-
дач. Даже отдых пока — экспери-
мент, за ходом которого напря-
женно следят медики, психологи, фи-
зиологи. На Луне, при длительном
проживании и работе (тоже, конеч-
но, интенсивной) все-таки придется
учитывать другие факторы. Человеку
просто необходимо будет оставаться
какое-то время наедине с самим со-
бой. Чтобы остаться самим с о-
б о й...
Кстати, Mbi не исключаем (и это
нашло отражение в проекте) исполь-
зования накопленного в различных
культурах позитивного опыта — ме-
дитационной техники, различных на-
родных гимнастик, не говоря уже о
новейших достижениях аутотренин-
га и тому подобного.
Согласен, что все, о чем мы говорили
с архитектором, не пустяки, не «цве-
точки-бабочки», как думают некоторые.
Эффект игнорирования в неземных усло-
виях подобных факторов тоже можно
перевести на язык материальных убыт-
ков. Все равно самым ценным — правиль-
нее сказать бесценным — «прибором»
остается человек; если его рассматривать
только как придаток к лабораторному
оборудованию, то и износ его произойдет
гораздо быстрее. А чем это грозит, можно
себе представить: стресс, потеря работо-
способности, апатия, сенсорный голод,
если не безумие...
Беседа навела на простую ассоциацию.
В космос мы выйдем не для того, чтобы
стать «космическими». Космос — мето-
дом, который в математике называется
«доказательством от противного» — по-
новому научит нас любить, культивировать
и развивать то, что дала нам Земля.
Пять земных органов чувств, посредст-
вом которых мы воспринимаем окружаю-
щий мир
Но верно и обратное. Никуда нам от
космоса, от его неумолимого присутст-
вия в потаенных уголках сознания каждо
го из нас, в нашем быте, идеалах и повсе-
дневной «эстетике», ие деться. Мой собе-
седник разработал на этот счет весьма
оригинальную теорию, с которой мы по-
знакомим читателей журнала.
Беседовал М Ковальчук.
Окончание следует
ЕСТЬ ЛИ ВРЕМЯ НА РАСКАЧКУ?
Заметки по поводу
пленумов общества «Знание»
О. ЮРЬЕВА
Перестройка, процесс об-
новления затронул все сферы
нашей жизни Могла ли
остаться в стороне от этого
общенародного дела гумани-
тарная, научно-техническая
интеллигенция? Конечно нет.
Всесоюзное общество «Зна-
ние», объединяющее в своих
рядах ученых, инженеров,
деятелей культуры, вынесло
на обсуждение очередно-
го пленума своего правле-
ния проблемы перестройки.
Как помочь специалистам,
трудовым коллективам в ре-
шении коренных экономиче-
ских, социальных проблем,
модернизации производства,
углубления демократии?
Когда вопрос ставится та-
ким образом, когда главным
критерием оценки труда ста-
новится реальный, конкрет-
ный результат, тогда особен-
но ясно, сколь вредны такие
пороки лекционной пропаган-
ды, как пустословие, обилие
общих фраз, уход от наболев-
ших проблем и волнующих
вопросов. Потому разговор
на пленуме шел прежде всего
о том, как связать лекцион-
ную работу с интересами че-
ловека труда, потребностями
производственных коллекти-
вов, теми глубокими и дина-
мичными преобразованиями,
которыми живет сегодня об-
щество.
Бесспорна роль научно-тех-
нической,- экономической про-
паганды в ускорении темпов
нашего развития. Переоце-
нить ее трудно, а вот недо-
оценить, оказывается, можно.
О чем и свидетельствуют
тревожные цифры: лекций по
этой тематике всего 8—9 про-
центов от общего их числа.
Здесь перестройка, к сожа-
лению, как говорится, пробук-
совывает.
Впрочем, дело не только в
процентах, важно и качество
лекций. Не вызывают многие
из них живого интереса слу-
шателей, не ощущается по-
требности в них со стороны
трудовых коллективов. Люди
стали активней, требователь-
ней, они сегодня сами вы-
ставляют оценки за выступле-
ния. Как же стать нужными
людям?
Прежде всего, необходимо
глубоко изучать реальные
процессы в экономической, со-
циальной сферах, вниматель-
нее учитывать многообразие
интересов и запросов конк-
ретных трудовых коллекти-
вов, своевременно откликать-
ся на них живой, умной, убе-
дительной пропагандой. Не-
редко утверждают, что рас-
пространять надо те знания,
что уже сложились в науч-
ные концепции, строгие тео-
ретические системы А если
наука отстает от практики?
Перестройка, как отмечал
член Политбюро, секретарь
ЦК КПСС А. Н. Яковлев, за-
ставила ощутить, сколь силь-
но не хватает действенной,
практической отдачи общест-
венных наук — надо ли
ждать, пока теоретическая
мысль подготовит аргументи-
рованные ответы? Позиция
ожидания сегодня не может
удовлетворить никого, лек-
ционная пропаганда должна
настойчиво ставить актуаль-
ные проблемы перед учеными,
направлять теоретическую
мысль в русло злободневных
для практики проблем. К при-
меру, разве мало среди лек-
торов ученых-обществоведов?
Надо, чтобы оии шли в мас-
совые аудитории, не ограни-
чивались обтекаемыми фра-
зами, абстрактными призыва-
ми и там, где нет еще готовых
ответов, вместе с аудито-
рией вели коллективные раз-
мышления над нерешенными
проблемами, совместно иска-
10
ли пути их осуществления.
Прошло время агитировать
за перестройку, надо помо-
гать людям учиться работать
по-новому, не только увле-
кать заманчивыми перспек-
тивами, но и обнажать труд-
ности, говорить о средствах
и методах их преодоления.
Всем нам необходимо глубо-
ко осознать личную ответст-
венность за судьбы пере-
стройки, судьбы социализ-
ма — и лекционной пропаган-
де здесь принадлежит не по-
следнее место.
Ведущими должны стать
такие активные формы дву-
сторонней связи с аудито-
рией, как дискуссия, диспут,
«круглый стол>, вечер вопро-
сов и ответов. Время нынче
такое, когда одинаково нуж-
ны и предельно конкретные
ответы, и общие философские
размышления о коренных
проблемах бытия, перспекти-
вах развития нашего обще-
ства. И тут незаменимы фило-
софские чтения, беседы, ди-
скуссии.
Не подвергая сомнению ре-
шающее значение содержа-
ния лекций, нельзя забывать о
формах, отвечающих духу
времени, уровню подготовлен-
ности аудитории. Выбор
должны диктовать спрос, ини-
циатива. здравый смысл.
Всесоюзное общество «Зна-
ние» — широко разветвлен-
ная система организаций,
методических советов, народ-
ных университетов, лекто-
риев, домов знаний. Как вся-
кая система, она нуждается
в хорошо поставленном
управлении, перестройку ко-
торого обсуждали участни-
ки пленума. Здесь также вы-
ступают на первый план та-
кие факторы, как практич-
ность, деловитость, рацио-
нальность.
Убрать лишние звенья,
сократить количество заседа-
ний, бумаг, бюрократических
барьеров, исключить дубли-
рование, шире развивать де-
мократические начала — обо
всем этом шел откровенный,
принципиальный разговор.
Ясно, что успех дела в ко-
нечном счете решают люди,
кадры лекторов. Как лучше
их подбирать, учить, инфор-
мировать? Как стимулиро-
вать их работу, повышать
общественный авторитет? И
об этом немало говорилось
на пленуме.
Сама жизнь подсказывает
новые формы работы, но надо
помнить, что завтра новое
может оказался уже уста-
ревшим. Надо быть оператив-
ными, гибкими, динамичными,
чутко откликаться на требо-
вания жизни, подмечать все
новое, передовое — только на
этом пути лекционная пропа-
ганда будет современной, не-
обходимой людям
Пожалуй, одними из самых
острых, дискуссионных стали
ныне вопросы отношения к
религии и атеизму. Публика-
ция в периодической печа-
ти — газетах и журналах,
столкновение разных, порой
прямо противоположных то-
чек зрения, художественные
произведения крупных совет-
ских писателей, вызывающие
бурю откликов, споров и об-
суждений,— такова сегодня
реальность в этой сфере ду-
ховной жизни нашего обще-
ства. В сущности, речь здесь
идет о вечных вопросах бы-
тия: что есть добро зло,
нравственность в нашем не-
простом мире? Как относить-
ся к прошлому народа, стра-
ны? Свежие ветры обновле-
ния словно прорвали плоти-
ну, десятилетия сдерживав-
шую мысли, чувства людей.
Что делать в такой ситуа-
ции атеистам-практикам, по
долгу службы или по призва-
нию работающим в этой обла-
сти нашей пропаганды? Как
вести ее перестройку? Об этом
шла речь на пленуме правле-
ния общества «Знание» Ук-
раинской ССР.
Кажется, никого уже не
нужно убеждать в том, что
атеизм как простое отрица-
ние религии исторически ис-
черпал себя. Точно так же ни
для кого не секрет, что ны-
нешняя наша атеистическая
пропаганда зачастую серьез-
ного влияния на верующих не
оказывает. Как же преодолеть
этот барьер отчужденности?
Прежде всего нужно выхо-
дить на новый уровень про-
фессионализма. Некомпе-
тентность вредна в любой
сфере. Здесь же, пожалуй,
особенно — в вопросах, кото-
рые касаются человека, его
духовных устремлений, иска-
ний, примитивный подход
крайне опасен. Как представ-
ляли (представляют еще и
сейчас) некоторые лекторы
религию? Пережиток, прими-
тивное суеверие, не достойное
внимания современного куль-
турного человека. Эта обыва-
тельская, иначе не скажешь,
точка зрения не имеет ниче-
го общего с тем сложнейшим,
тончайшим и противоречивым
феноменом, который пред-
ставляет собой религия в сов-
ременном обществе.
В религиозных доктринах и
религиозной деятельности
всегда было много нерелиги-
озного — философские, эти-
ческие, эстетические, право-
вые взгляды, идеи и пред-
ставления. А сегодня это и
миротворческая, патриотиче-
ская деятельность церкви,
участие в охране окружаю-
щей среды, памятников куль-
туры и т. д. Можно ли не за-
мечать, игнорировать переме-
ны в религиозном сознании
людей? Не принимать во вни-
мание нового типа верую-
щего? Перед нашими учены-
ми — естественниками, исто-
риками, филологами, филосо-
фами, социологами — стоит
сегодня важнейшая задача
широкого, междисциплинар-
ного анализа религии как ми-
ровоззрения, как явления
культуры.
На повестку дня встала и
проблема общения — ведь
многие недоразумения между
верующими и неверующими
происходят по той причине,
что верующие имеют искаже-
нные представления об атеиз-
ме, а неверующие — о рели-
гии. Потому и напоминают
некоторые диалоги между
ними разговоры двух глухих.
В то же время нельзя забы-
вать о том, что западная про-
паганда не оставляет попы-
ток психологически воздей-
ствовать иа определенные
круги нашего общества,
сформировать на религиоз-
ной основе оппозицию социа-
листическому строю. Техниче-
ские средства у нее нема-
лые — только протестант-
ские радиостанции ведут на
русском и украинском языках
более 200 программ. Все тре-
Хроника, информация
Уроки зональных семинаров
Как вести атеистическую работу в условиях перестройки
и демократизации? Как сегодня должны освещаться на страницах
газет, журналов, в передачах радио и телевидения проблемы,
связанные с религией? Эти вопросы обсуждались на двух зо-
нальных семинарах, проведенных в конце прошлого года Союзом
журналистов СССР в Махачкале (совместно с обществом
«Знание» РСФСР) н Самарканде.
Ученые-религиоведы, историки, специалисты в области научно-
го атеизма, международных отношений в своих докладах
и сообщениях осветили некоторые характерные черты современно-
го ислама, его роли в жизни районов традиционного распростране
ния этой религии в СССР, ее влияния на события за рубежом.
Наиболее интересно, активно прошли дискуссии по темам
«Перестройка атеистической работы и задачи средств массовой
информации», «Религия и нравственность», «Ислам и проблемы
национальной истории н культуры». Выступавшие отмечали, что
атеистическая пропаганда еще нередко ведется прежними метода-
ми, в ней много формализма. Средства массовой информации чаще
ограничивались высмеиванием служителей культа и обходили
стороной такие серьезные проблемы, как причины воспроизводства
ислама, рост интереса к нему в разных слоях населения, стойкость
мусульманских традиций в быту, в семье. Допускались (а кое-где
н сегодня допускаются) оскорбления религиозных чувств.
Перестройка атеистической работы и освещения этих проблем
средствами массовой информации необходима — с этим было
согласно абсолютное большинство участников семинаров.
И заключаться она должна прежде всего в максимальном
приближении к жизни, к нуждам людей, внимательном отношении
к тем их интересам, которые они пытаются удовлетворить с по-
мощью религии.
Дискуссии затронули такие насущные проблемы современной
общественной жизни, как восстановление исторической правды
о ряде важных моментов жизни народов, традиционно исповедо-
вавших ислам, а также соотношение национального и религиозного
в культуре, быту Особо отмечалась необходимость правового
просвещения — сегодня многие нарушения законодательства о ре-
лигиозных культах происходят из-за неосведомленности в этой
области как верующих, так и представителей местной власти,
призванных осуществлять контроль за его соблюдением.
бует хорошо организованной,
продуманной системы атеи-
стической контрпропаганды.
Ее боевитость, поступатель-
ность должна выражаться
не в крикливости, резкости
фраз, а в оперативной, хоро-
шо аргументированной крити-
ке всякого рода измышлений.
Ни атеизм, ни религия не
откажутся от своих мировоз-
зренческих позиций. Были и
есть принципиальные вопро-
сы, на которые мы отвечали
и будем отвечать по-разному.
Но это не должно мешать
нам — советским людям, и
атеистам и верующим, друж-
но трудиться над тем, чтобы
наша жизнь, жизнь наших
детей становилась материаль-
но и духовно богаче. А миро-
воззренческие споры будем
решать убеждением, практи-
ческой работой. Атеизм, не
терпящий застоя, вбирающий
в себя лучшее из достижений
науки, культуры, социального
опыта, ориентированный на
возрастающие духовные по-
требности масс, нравственно
привлекательный для людей,
в том числе верующих,—
такой атеизм нам надо созда-
вать.
11
М. С. ГОРБАЧЕВ
зрьину рощу, в цер-
В 12-м номере за прошлый год в очерке Ю. Кузьминой «В кольце
отрешенности» мы рассказали о бродячей жизни «бичей»,
побирушек, их тяжких судьбах. Сегодня публикуем очерк
о хиппи и два интервью со специалистами по проблемам
воспитательной работы.
СКИТАЯСЬ
ТИХО
Иван БрГАЧ^Р
П© РОССИИ
О ОДИНОЧЕСТВО, КАК ТВОИ ХАРАКТЕР КРУТ!..
Сив рею, мы аир -» we
если учесть, что некоторые силы нем стремягсл
подбросить ложные ценности, сбить с пути молодо-
го человека (и не только в социалистических
странах, но и в западном мире), увести его от
активной политической борьбы, от участия в со-
циальных процессах, толкнуть его в мир обыва-
тельщины, чтобы он был политически обескровлен.
Но мы, коммунисты, наш социалистический строй
заинтересованы в активной молодежи, политичес-
ки зрелой, участвующей в решении всех вопросов
современности.
метро вошли два парня
и девушка. С холщовыми
через плечо, в потертых
расписанных английскими
с браслетами и бусами,
сумками
джинсах,
словами,
алюминиевыми крестами на шеях...
— Смотрите, кто это? — вскрикну-
ла пожилая женщина.
— Юродивые... А может, психи.
— Да нет. Это — хиппи!
— Стрелять таких надо,— злобно
прошипел мужчина в шляпе и вышел
на первой же остановке.
После бума семидесятых в движе-
нии «хиппи» наступил спад. Но в по-
следние годы оно вновь становится
популярным. И в Москве все чаще
встречаются группы «волосатых». От-
куда они, чего хотят, во что верят?
...На одной из центральных площа-
дей столицы всегда многолюдно. Ее
любят и москвичи, и приезжие. Здесь
хорошо отдохнуть от столичной су-
еты, осмотреться, собраться с мысля-
ми. А когда солнце опускается доста-
точно низко, сюда подтягиваются
странные люди.
Они сидят, курят, разговаривают,
поют песни... Одни появляются, дру-
гие исчезают. Группы образуются,
и распадаются, и создаются вновь.
Люди переходят от одной компании
к другой, возвращаются назад и отхо-
дят снова. Все как-то странно, зыбко,
непонятно. У стороннего наблюдателя
возникает сравнение: го лениво, то
нервно тасуются в колоде разноц-
ветные карты. И, наверное, он удивил-
ся бы, узнав, что это своеобразное
сборище так и называется — тусовка.
Идут годы, сменяются лица, а тусов-
ка остается. Это и место сбора, и сами
люди, и особая атмосфера. Сюда
приезжают прямо с «трассы»1, чтобы
2 3 ~ 4
«вписаться» , «аскнуть» «прайс» .
Сюда спешат с новостями и «замороч-
ками»5, выйдя из «крезы»6. Но боль-
шинство приходят просто так, убить
время. Чужих здесь не то чтобы не
любят — просто не замечают.
Спрячем поглубже эмоции, запа-
семся терпением и доброжелатель-
ностью. Кто знает, может быть, здесь
мы увидим знакомые лица? Ведь
нельзя с уверенностью сказать, где
вечерами пропадают наши дети и по-
чему они так стремятся носить волосы
подлиннее, откуда у них эти странные,
непонятные слова.
Босая девушка сидит прямо на
асфальте и, аккомпанируя себе на
гитаре, напевает что-то по-английски.
Вокруг нее, обнявшись и покачиваясь
в такт музыке, стоят длинноволосые
парни. Неподалеку — другая группа
«волосатых». У них иные интересы:
— Герла покайфная7. Откуда взя-
лась?
— Кажется, только с трассы. Об-
лом8, старик,— уже вписалась...
— Классный прикид9 Аскнуть, что
ли, хайратник10?
— Стремно11. Уж больно олдо-
вая12...
И действительно, олдовая. Приехав
утром в Москву, Она первым делом
отправилась
ковь Нечаянной Радости. Оттуда — на
могилу Высоцкого. И на тусовку при-
шла не затем, чтобы вписаться или
аскать,— она привезла москвичам
свою новую песню. О чем?
— О Любви и Боге, о Добре
и Зле — о том, чем живет вся Систе-
ма13,— рассказывает Лена.— Но я хо-
чу показать все это через мое
восприятие мира. Хочу поделиться
чувствами. И может быть, тех, кто еще
не определился и просто валяет
дурака, направить на путь истинный.
Ведь хотя мы и произносим одни и те
же слова: «Добро», «Любовь», «Сво-
бода»,— для большинства они просто
пароль, чтобы вписаться в Систему.
Повторяют слова, а душа их — пуста.
Откуда она сама — неважно. Ее
понимают, и многие с ней согласны.
То же самое могла бы сказать и
14-летняя школьница Юля, и ее по-
друга Света, и ленинградец Адам... Их
много. Они хотят любить человека
и делать добро. А что может быть
важнее в этом жестоком мире? В том,
что он жесток, сомневаться не прихо-
дится — каждый из них испытал это на
себе.
Лена всю жизнь чувствовала себя
«белой вороной»: ее не понимали ни
сверстники, ни родители. А она никак
не могла понять их...
— Чучело, да и только,— пытается
шутить она. И тут же серьезно: —
Страшный фильм снял Быков. Но мне
было еще страшнее. Я была одна.
12
Оказывается, вокруг никому ни до
кого нет дела. Главное — жить как все
и не высовываться. Трамвайный
синдром... А я не хочу. Я другая. Хуже
или лучше — неважно. Просто —
дру-га-я! Я попала сюда позапрошлой
весной, после жуткого облома. Мне
понравились взгляды этих людей, их
образ жизни. Я поняла, что всегда
была хиппи. Я люблю свободу, люблю
шататься по улицам, общаться, путе-
шествовать. Могу подписаться на
аск — нет, не стрельнуть «двадца-
рик», а жить на аск, на милостыню.
Видели бы вы реакцию какого-нибудь
«мажора»14, когда он выбирает мне
монетку! Такая карусель в его глазах...
И хочет дать, и стесняется окру-
жающих. Жалко дать много и стыдно
дать мало. Он в растерянности, ему
стыдно. И тут у него мелькает спаси-
тельная мысль: «Какого черта?!» Не-
ужели они так и умрут с этими
словами? Почему люди чаще обра-
щаются к черту, чем к богу?
Когда-то она тоже не думала о боге.
Просто жила, училась в музыкальном
училище, готовилась к экзаменам
и мечтала о принце.
Она верила в чудеса.
Он дарил ей цветы, она пела ему
песни. И все было как в сказке. Когда
он ушел в армию, случилось то, что
и должно было случиться — оказа-
лось, что она беременна. О свадьбе
они даже не разговаривали, и она не
решилась ему писать. Мать настаивала
на аборте и чуть ли не силой уложила
в больницу. Выписавшись, Лена отпра-
вила матери письмо и уехала к подру-
ге в Москву Несколько месяцев
болела, не выходила из дома, а когда
вышла, на улице была зима... В сумер-
ках она любила бродить по улицам
и как-то из любопытства заглянула
в церковь с таким красивым назва-
нием — Нечаянная Радость. А леген-
да, давшая название иконе, а потом
и этой церкви, ее потрясла. Слушая
хор, она стала вникать в слова, за-
думываться над ними...
Как рождается вера: в один мо-
мент, когда ты произнесешь «верую,
господи», и душа твоя наполняется
радостью?..
Новый дружок уговорил ее пойти на
«сэйшн»15, где она увидела хиппи.
Наверное, у любого «системного» был
свой поводырь, который ввел его
в этот мир. Потом каждый сам
выбирал себе авторитет, близкий по
духу. Происходил отбор, менялись
взгляды и учителя. И в конце концов
складывался круг общения, где было
приятно и интересно. Одни — «двига-
лись»16 «пыхали17», глотали «коле-
са»18 и потом мучались в «отходня-
ке» . Другие делились впечатлени-
ями о последних поездках, третьи
философствовали...
Здесь можно встретить представи-
телей всех религий и верований,
людей полярных взглядов, с самыми
невероятными «заморочками». И ра-
зобраться сложно, они не очень-то
посвящают в свой мир посторонних.
Тусовка — всего лишь внешнее его
проявление. И сравнение с картами не
случайно. Она действительно напоми-
нает колоду, в которой все карты
лежат рубашкой вверх... Сленг, обмен
ничего не значащими новостями, об-
щие фразы — это те же «рубашки»,
опознавательные знаки. Попав од-
нажды на тусовку, я весь вечер ощу-
щал стену, воздвигнутую из расхо-
жих слов и манифестных формули-
ровок. Говоря о добре и любви, они
замыкались в себе. Отрицая ложь,
порой лгали. Странно? В общем-то
нет. Просто у них нет других способов
защиты от агрессивного обывателя,
который бросает им в спину «стрелять
надо таких», от воинствующих любе-
ров. Ложь во спасение? Не только.
Наверное, и ответ на наше нежелание
их замечать. И все же контакт возмо-
жен. С теми, кто пишет манифесты,
ощутив потребность высказаться, и с
теми, кто открыто готов отстаивать
свою веру и принципы.
...С Сергеем я познакомился недав-
но. Ему девятнадцать лет. В Системе
с четырнадцати. По роду занятий
художник-график, по убеждениям —
пацифист, веры православной. С са-
мого начала он был откровенен:
делился взглядами, рассказывал о се-
бе. Объяснил просто:
— Веру в бога нельзя скрывать.
Наоборот, если веруешь, ее нужно
защищать. Косые взгляды и оскорбле-
ния— ерунда. Надо только помнить,
что Христос сказал в Нагорной пропо-
веди: «Блаженны изгнанные за прав-
ду...». «Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески
13
неправедно злословить за Меня».
Этим все сказано. Истинные христиане
обличают Зло примером своей жиз-
ни потому что не идут на соглаша-
тельство с ним. И счастливы не те,
кого все хвалят, а те, кто готов
пострадать за истину и за господа.
Говорю лишь за тех, кто близок мне
по вере. Не все, кто носит крест, верят
на самом деле.
В последние годы по Системе
прошло много всяких манифестов
и антиманифестов. Их авторы пыта-
лись осознать это явление, объеди-
нить «волосатых» вокруг опреде-
ленных религиозных идей и концеп-
ций. Читаются манифесты легко,
и многие из нового поколения, кото-
рое только познает Систему, зати-
рают их до дыр. Антиманифесты
отрицают манифесты... И в конце
концов все возвращается на круги
своя — к Свободе, Добру, Любви.
Большинство хиппи против всяких
формулировок и определений, по-
скольку изначально они противоре-
чат идеалам свободы. Нет, хиппи —
это не Система и тем более не орга-
низация. Может быть, даже и не
образ жизни...
— Зачем нужно что-то опреде-
лять, формулировать? — говорит
Сеогей.— Неужели не понятно, что
мы — просто люди, стремящиеся к
свободе, добру. Если хотите,— оп-
позиция злу. Под этим подпишутся
все, независимо от веры.
— С добром более-менее понятно.
А что вы понимаете под злом?
— Любое насилие над человеком.
Любые запреты, ограничения. Мы
стоим не на материальных позициях,
а на духовных. И я, как и многие
пришел в Систему и христианство
через отрицание нынешней бездухов-
ности. Все люди, наверное, задумыва-
лись над смыслом жизни. У нас может
быть один манифест — книги Священ-
ного писания. В них все сказано,
и каждый найдет то, что ему хочется.
Неужели сейчас можно серьезно от-
носиться к тому, что человек произо-
шел от обезьяны?
Он цитирует стихи из одного анти-
манифеста:
Мы оставили лучшие вузы страны
И уютные теплые спальни
Мы ушли в голубые бескрайние сны.
Кто сказал, что они не реальны?
— А ты всерьез считаешь, что есть
рай, ад? — задал я встречный вопрос.
Мне очень хотелось услышать, как
ответит на него этот умный парень,
который пользуется большим автори-
тетом у «волосатых», его считают фи-
лософом и знатоком христианства.
— Конечно, и не сомневаюсь, что
Христос — сын божий — реальность,
а не выдумка. Вы хотите доказа-
тельств? Но у меня их нет, как,
впрочем, и у нас нет доказательств,
что его не было... Но разве дело
в этом?
— Почему ты выбрал из многих
религий именно христианство?
— Я не сразу пришел к Христу.
Может быть, все началось с Пресли,
битлз, рока. Тогда я просто начал
думать и заинтересовался религией.
Сначала это была «Хари Кришна»,
потом буддизм, иудаизм. Но все
постигалось умом, а не душой.
К Христу я пришел через романы
Достоевского. Точнее не могу ска-
зать — не помню, а лгать не хочется.
Мне кажется, я родился христианином
и вера всегда была у меня в душе,
только я не мог ее сформулировать.
Таких, как Сергей, среди хиппи
мало. И, видимо, их не зря называют
«теоретиками». Они много знают, не
скрывают своих мыслей, умеют трак-
товать Библию и не боятся залезать
в философские дебри. У большинст ва
же вера примитивна. Одни молятся,
чтобы удержаться от корысти и укре-
питься в стремлении к добру. А дру-
гие хотят, чтобы господь помог им
изменить реальную ситуацию, хотят
чуда.
Чаще всего эти молодые люди
обращаются к богу в критических
ситуациях. У одних они возникают на
уровне идей, у других — на уровне
эмоций, переживаний.
Житейских проблем у Сергея в об-
щем-то не было. Родители — интел-
лигентные, обеспеченные, особенно
на него не давили. Не ограничивая и
не навязывая своих интересов, они
старались привить любовь к искус-
ству, литературе, что вполне совпа-
дало с его желанием...
Как правило, их таких подростков
и вырастают «теоретики» Они много
знают и стараются узнать еще боль-
ше, поскольку знания укрепляют ве-
ру Они строят свою «модель мира» и,
отрицая действительность, находят
возможность самовыражения в
музыке, живописи, литературе. И,
может быть, поэтому противоречия их
не столь заметны.
У Виктора (еще один из «воло-
сатых») другая жизнь, в иной системе
ценностей. Родители заботились пре-
жде всего о внешней стороне вос-
питания: сыт, одет, обут, вовремя
приходит домой. Что творится в его
душе, о чем думает? Таких вопросов
не возникало. Свои проблемы он
решал сам, но в рамках, установ-
ленных родителями. И получалось,
что всю жизнь он вынужден был
делать не то, что хотел
— Мы отрицаем общество,— гово-
рит он,— в котором господствует
лицемерие, жадность и стремление
к материальному обогащению.
Он ушел из училища, отказался
вступить в комсомол. Но был вынуж-
ден устроиться на работу. Возникло
новое противоречие.
— Надо же есть и одеваться во что-
то. На аск долго не проживешь!..
Отрицая общество, он сознает,
что живет по его законам, пользует-
ся его достижениями. Проповедует
«возлюби ближнего» и «не лги». Но не
любит родителей и лжет. Считает, что
должен обращать людей на путь
истинный, но скрывает, что он ве
рующий...
— Вы думаете, я не вижу своей
лжи? Я и сам был бы рад, чтобы все
сходилось. Но не получается. Навер-
ное, потому что у меня нет таких
знаний, как у олдовых. А чем дальше,
тем все труднее. Кругом одни об-
ломы.
Много ли молодежи в Системе, не
знаю: статистики нет. Я встречал их
в Прибалтике, Ленинграде, Москве.
Они разные, но в чем-то схожи.
Наверное, многие из них хотели быть
«просто хорошими людьми», а стали...
Кем они стали?
Мы выходим из Нирваны, рваные
до дыр.
Мы не просто наркоманы, мы борцы
за мир!
Говорят, живем напрасно,— ну и
что с того!
Не должны мы государству ровно
ничего!
Это тоже стихи из одного антимани-
феста.
Примечания
1. Трасса переезд из города в город,
как правило, автостопом.
2. Вписаться - найти ночлег, жилье.
3. Аскнуть. аск — просить, попрошай-
ничать.
4. Прайс - деньги.
5. Заморочка навязчивая, может
быть, необычная идея; предложение.
6. Креза — психбольница.
7 Герла девушка;' герла покайф-
ная приятная, нравится, пришлась по
вкусу.
8. Облом - неудача, поражение.
9. Прикид - одежда, внешний вид; в
мажорном прикиде - в костюме, в нор-
мальной одежде.
10. Хайратник - повязка, лента шну-
рок, утягивающий волосы.
11. Стремно- опасно, боязно.
12. Олдовая не обязательно старая,
но опытная, со стажем пребывания в Систе-
ме.
13. Система - самое многозначное и,
наверное, самое сложное для толкования
слово. Каждый понимает ее по-своему,
и «населяет» на свой вкус. Невозможно
перечислить многообразие людей, которые
считают себя «системными». Наверное, это
нетрадиционный, отличный от общеприня-
того взгляд на жизнь, на ее ценности.
Хнппи — верующие и не верующие - счи-
тают себя «системными».
14. Мажор обыватель, мещанин
15. Сэйшн — вечеринка.
16 Двигаться вводить наркотик в ве-
ну.
17. Пыхать - курить наркотик.
18. Глотать колеса - принимать транк-
вилизаторы.
19. Отходняк — тяжелое состояние.
14
В ПЛЕНУ ИЛЛЮЗИЙ
На вопросы нашего корреспондента отвечает заве-
дующий сектором методологии изучения общественного
мнения Института социологических исследований АН СССР
доктор философских наук Валерий Семенович
КОРОБЕЙНИКОВ.
— Хиппи, даже если су-
дить только по тем, с кото-
рыми мне доводилось встре-
чаться во время анкетиро-
вания, проведенного нашей
лабораторией, значительно
отличаются от западных по
сути, хотя и многое пере-
няли у них внешнюю атри-
бутику, лозунги, понятия,
символы... Но если смотреть
глубже, это разные течения.
Что же еще общего? Про-
тест против действительнос-
ти, которую они наблюдали
многие годы. Не случайно
хиппи в нашем обществе
активизировались именно в
семидесятые — годы застоя,
двойной морали, процвета-
ния лозунгов вместо дела.
Молодежь слушала декла-
рации и наблюдала поступ-
ки. И знала, что те, кто про-
износил пламенные речи, не
следовал им в жизни. Они
протестовали, но протест был
пассивным: «Зачем «бодать-
ся» — все равно обломят
рога, так уж лучше я буду
честен в своей личной жиз-
ни». Запреты, невозмож-
ность проявить себя в соци-
альной сфере рождали
стремление к раскрепоще-
нию, отрицанию всего и вся.
Административно-директив-
ная система управления по-
своему отражалась на моло-
дежном сознании. Одни под-
страивались под нее, другие
уходили в сторону.
За их позицией стоят вроде
бы благородные намерения.
«Мне ничего не надо!» —
но так ли это? Убежден, что
чаще всего за всем этим пре-
краснодушием — отсутствие
воли, трудолюбия. Они не
выдерживают творческого
соревнования с другими
людьми. И начинают раз-
мышлять о том, как устроен
мир, как «надо прожить»
и т. д. Они разочаровались
и уходят в себя. Человеку
с такой позицией ничего ино-
го не остается, как обратить-
ся к богу, искать у него за-
щиты и утешения. Перед
богом можно покаяться и
оправдаться А покаявшись,
и возвыситься над другими.
Над обществом, которое
они отрицают.
Они все твердят, что хо-
тят свободы. Но какой* по-
литической, социальной, лич-
ной? Им не хватает свободы
слова? Да ради бога, было
бы только что сказать! А ка-
ков их вклад в развитие об-
щечеловеческих ценностей?
Что они оставят обществу?
Что общество реально дает
им?
Это не пустые вопросы.
Мы живем в стране, богат-
ство которой складывается
из нашего труда. Мы обяза-
ны — каждый! — вносить
свой вклад в дела общества,
защищать его. Добро долж-
но быть деятельным, участ-
ливым.
ЧЕЛОВЕК
ЗА БОРТОМ
Наш корреспондент взял интервью у кандидата
юридических наук, старшего научного сотрудника Академии
МВД СССР, полковника Г. Г. ЛАЕВСКОГО.
ф — Что требуется, чтобы бездомных не
бы.
— Почти все эти бродяги так или иначе
прошли через первичную инстанцию — так
называемый приемник-распределитель.
Главная его функция — оказание со-
циальной помощи. Человек без
документов, нигде не прописанный и на
этом основании задержанный,— не аресто-
ванный. не подозреваемый и не преступник.
Необходимо установить его личность, или
как говорят у нас, идентифицировать. Это
нелегко. И очень ответственно. Ведь
распределитель выдает неимеющим доку-
ментов новые паспорта. Что если под видом
бездомного скрывается разыскиваемый
преступник? Установлен и предельный срок
задержания — месяц. Это немного, учи-
тывая долголетнюю миграцию большин-
ства из бродяг.
Важно не допустить, чтобы эти люди
совершили преступление. Иными словами,
следует оградить человека от падения по
крутой лестнице преступности Опыт гово-
рит, что большинство из них находится как
бы в предпреступном состоянии. Далее —
помощь медицинская. Восстановление ут-
раченных связей с родными. Наконец,
трудоустройство, распределение по горо-
дам, предприятиям, молодежным общежи-
тиям, домам для престарелых...
ф Выходит, приемник-распредели-
тен — некий универсальный социальный
«механизм»0
— Точнее: задуман как таковой. Распре-
делители находятся в ведении исполкомов
местных Советов. По идее все верно; на
деле было бы целесообразнее закрепить
приемники за крупными заводами, колхоза-
ми. Речь идет об авторитете этих со-
циальных заведений. Сейчас они нередко
располагаются в ветхих, малопригодных
для жилья домах, кое-как приспособленных
для человеческих нужд. А то и в зданиях
бывших тюрем — отсюда и нежелательные
ассоциации!.. Кто-то рассуждал: тюрьму
и впрямь легко переоборудовать для содер-
жания бродяг, благо замки в дверях! Надо
ли говорить, какой моральный ущерб нано-
сит такой подход?
Иное дело отдельно стоящий, гостинич-
ного типа (да-да, гостиничного!) дом.
Строить его предприятие может на усло-
виях долевого участия с государством.
Будет приемник-распределитель, находя-
щийся под заводским контролем и в веде-
нии завода
ф Что бы это дало?
— Прежде всего наладило бы вхожде-
ние человека в коллектив, приобщило бы
его к труду, освоению рабочей профессии.
Вот один аспект нашей работы: среди
бродяг много людей, называющих себя
верующими. Но верующие ли они на самом
деле? Для них вера главным образом —
возможность выжить, прокормиться, при-
бившись, скажем, к общине евангельских
христиан-баптистов.
Человек, как птица — он склонен поле-
теть к родному гнезду, пусть уже разорен-
ному. Почему надо наказывать его вторич-
но, уже невиновного с точки зрения закона,
не позволяя жить там, где он хочет? Города
мы, что ли, таким образом делим на сорта?
Коли так, чем виноваты, скажем, уроженцы
Перми, наверняка патриоты своего города,
в том, что к ним «ссылают» не подходящие
для Владимира «кадры»?
ф — Ну, а если это — Москва?
— А что, не пускать в Москву ради
показухи? Ехали же в столицу «лимитчи-
ки», потому что были нужны рабочие руки...
И ведь тоже не в своей тарелке чувствовали
они себя в большом, незнакомом городе —
на адаптацию уходят годы! А бывших
москвичей зачем-то передислоцируют в
другие города. Зачем? Реабилитируйся
там, где оступился. Если же вернуться
фактически некуда (осужденный порой
лишается и жилплощади), то такого чело-
века исполком должен хотя бы поставить
в очередь на жилье — раз нет возможности
сразу выделить какую-никакую комнату.
Вот он, критический момент: человек поте-
рял и жилье, и право на него. Я считаю, что
отбывший наказание, по крайней мере,
имеет право на равные условия с теми, кто
вновь прибывает в его родной город.
ф Жизнь показывает, что вторая труд-
но,., ь для вчерашних бродяг — полное
неумение жить нормально, устроить свой
быт по-человечески..
— Если говорить об освободившихся из
мест лишения свободы, то здесь должно
действовать жесткое правило: нельзя выда-
вать им на руки все заработанные деньги.
Их надо переводить в райотдел милиции
того населенного пункта, куда человек
собирается прибыть. Тогда он не пропадет
в пути, да и не растранжирит в<.ю сумму по
дороге. И не ограбит его ничья злодейская
рука. У него будет начальный «капитал»,
чтобы жить.
ф — Купить кооперативную квартиру?
Но это практически невозможно!
— Пока речь идет хотя бы о размещении
в общежитии. Не только молодежном, но
и семейно-молодежном, для разведенных.
Ведь не только в молодости стоят перед
выбором пути... Необходимы и гостиницы.
Не отели для туристов, а именно гостиницы
15
при приемниках-распределителях. Это
очень важно психологически: человек полу-
чает жилье на то время, пока не тру-
доустроится. Как любой гражданин, он
платит за квартиру, за собственный кусочек
крыши над головой. И это не угол в камере
приемника или в интернате для преста-
релых! Хиппи или бомж уже не станет
ощущать себя бродягой. У него начнется
социальная адаптация, человек будет
«вживаться в жизнь».
ф — Но как определить, хочет ли бывший
бродяга на самом деле вести нормальный
образ жизни или при первой же возможнос-
ти он снова вернется к прежнему?
— Начинать надо с дифференциации
попавших в приемник-распределитель.
Здесь им дается первый урок социальной
адаптации: они могут заняться каким-то
делом. И сразу получат преимущества:
работающие лучше питаются, пользуются
льготами, у них есть деньги. Вот почему мне
не дает покоя идея закрепления приемни-
ков-распределителей за предприятиями,—
чтобы людям было где трудиться. Но не все
попадающие в приемник хотят работать.
Если образ жизни человека представ-
ляет социальную и экономическую опас-
ность для общества, против него необхо-
димо возбуждать уголовное дело.
И здесь свои сложности! Статья 209 Уго-
ловного кодекса РСФСР (и соответству-
ющие статьи в законодательстве других
союзных республик), предусмотренная для
лиц, уклоняющихся от труда и живущих
на нетрудовые доходы, применяется редко:
законодатель допустил в ее формулировке
неясность. С нетрудовыми доходами прос-
то: доказано, что онн имеют место (мошен-
ничество, кража, спекуляция, сутенер-
ство) — надо судить. А вот что считать
«уклонением»?
Очевидно: человек работать не хочет,
ворует, но за руку не пойман. И он,
оказывается, не тунеядец — он принимал
Ирландия
>х
3
х
X
«
«о
Q.
Я
m
МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА
быть священником в католической
церкви? На этот вопрос большинство
опрошенных ирландцев (54%) ответи-
ли утвердительно. Такого же мнения
многие католики США, Канады, Фран-
ции. В англиканской и некоторых других
протестантских церквах женщина-свя-
щенник — явление обычное. Ватикан,
однако, отказывает женщинам в этом
праве, ссылаясь на то, что у Христа
среди апостолов женщин не было.
США
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ
Впервые американский суд возбу-
дил дело против «лекарей душ чело-
веческих» по обвинению в «некомпе-
тентности, приведшей к трагическим
последствиям». Иск против четырех
священнослужителей одной из фунда-
менталистских церквей был выдвинут
супругами Нэллис, сын которых покон-
чил жизнь самоубийством. Родители
участие во временных работах. Или — по
хозяйству, как подтверждает запуганная
им жена, помогал: сидел с ребенком, варил
суп. К уголовной ответственности он будет
привлечен только тогда, когда его задержат
как преступника
ф — Иными словами, следует в основы
законодательства ввести положение об
административных мерах ответственности?
— Да. И осуществление этих функций
должны взять на себя особые центры
ресоциализации. Название, конечно, услов-
ное. Можно оставить и прежнее — воспита-
тельно-трудовые профилактории (ВТП).
Важно изменить принципы их работы.
Помимо центров ресоциализации для
лиц, не преступивших закон, нужны еще
и ВТП двух видов: для тех, кто был наказан
в уголовном порядке, и для людей, направ-
ленных сюда впервые.
В первом случае ВТП будут функциони-
ровать как промежуточное звено между
«тюрьмой» и «волей». Скажем, срок нака-
зания — 5 лет. Из них 3 года человек
провел в исправительно-трудовом учрежде-
нии, на 2 года препровождается в ВТП, где
происходит его социальная адаптация. Во
втором случае жителями ВТП будут люди,
которые, несмотря на совершенные ими
противоправные деяния, могут быть
возвращены обществу без уголовного нака-
зания.
Деятельность ВТП должна носить воспи-
тательный, а не перевоспитательный харак-
тер. Туда, на мой взгляд, должны попадать
подлежащие наказанию по статье 209, той
ее части, где речь идет об уклонении от
труда. Тогда, по-моему, будет поставлен
крепкий заслон бродяжничеству, с которым
надо всеми силами бороться.
Ведь бездомные в полном смысле слова
паразитируют на обществе. Они, действи-
тельно, живут на жалкие крохи. Но... горь-
кая это форма паразитизма!
утверждают, что «пастырская терапия»
усилила у молодого человека «комп-
лекс вины», способствовала резкому
ухудшению психического состояния,
что в конечном счете привело к само-
убийству. Священники, зная о суици-
дальном настрое их сына, обязаны бы-
ли бы отправить его к психиатру.
Бурунди
ОТНОШЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНЫ
Президент страны Ж. Буйойа объя-
вил: отправлению религиозных куль-
тов не будет чиниться никаких пре-
пятствий. Это заявление с удовлетво-
рением было воспринято местной ка-
толической церковью, которая нахо-
дилась в состоянии острого конфликта
с бывшим президентом Багазой, сверг-
нутым в сентябре 1987 года. В послед-
ние годы Багаза резко ограничил де-
ятельность католической церкви. По
его приказу были закрыты воскресные
школы, десятки бурундийских священ-
ников арестованы, выслано из страны
более 300 иностранных миссионеров.
X
X
3
2
>
CL-
UJ
СО
_о'
со
о
¥
ш
=Г
ОС
X
I—
ш
п_
НИЯ.
ПЕРЕД
БОГОМ I
ЛЮДЬМИ
Ю. КУЗЬМИНА
Друзья пригласили нас в гос-
ти. Повод? Узнаете, когда при-
дете. Оказалось, утром Ольга
и Анатолий обвенчались в Ело-
ховском соборе.
Мы не могли скрыть изумле-
Обоих супругов знаем со школь-
ной скамьи (учились в одном классе),
четыре года назад гуляли на их свадь-
бе, и вдруг...
— Вовсе не вдруг,— Ольга непрек-
лонна.- Мы проверили свои чувства,
решили соединиться навсегда. Ведь
и у Толи, и у меня уже были неудачные
попытки семейной жизни
— Но если вы верующие, то, значит,
до венчания жили в грехе?
— Да ну, какие мы верующие?
Разве что крещеные... Вообще сейчас
время такое: каждый выбирает то, что
считает нужным. Мне кажется, верь не
верь, а три основных момента челове-
ческого бытия должны быть связаны
с церковью: рождение — крещение,
свадьба — венчание, похороны - от-
певание. Мы же русские!
Мне уже приходилось слышать
подобные доводы относительно обряда
крещения, они как бы подразуме-
вают необходимость этого акта «на
всякий жизненный случай» вроде бо-
лезни и т. п. Оказывается, и венча-
ние — в том же ряду. Венчанные, мол,
крепче связаны друг с другом
Ольга адвокат, Анатолий в прошлом
летчик, сейчас трудится на земле.
Люди трезвого ума, рационального
склада мышления. И сами не счи-
тают себя верующими.
— Когда вы задумали обвенчаться?
Что повлияло на ваше решение?
А ты бывала когда-нибудь на
венчании? — отвечают вопросом на
вопрос.
И вот субботним днем я отправи
лась в ближайший к своему дому
храм — Всех святых.
Обычно венчают около одиннадцати
утра, но не во всякую субботу: есть
дни, когда по церковным правилам это
таинство проводить нельзя. Перед
началом церемонии храм безлюден,
после утреннего богослужения поря-
док наводят старательные руки добро-
вольных уборщиц' протирают пол,
ставят новые свечи перед киотами,
мягкой фланелью сметают невидимые
16
пылинки с икон. Казначей церковного
совета Надежда Андреевна в послед-
ние минутки перед венчанием осматри
вает каждый закуток, чтобы во время
любимой церемонии нигде, как она
выражается, «не было помарочки».
Она придирчиво оглядывает горя-
щие золотом хрупкие венцы, трогает
перевитые белыми лентами свечи,
вдыхает тонкий, сладкий запах лада-
на - не горчит ли? Кивает певчим
те поднимаются на клирос. Все готово
Еще недавно священник соединял
узами брака несколько пар одновре-
менно. Сегодня венчают только одну
пару. С чем это связано? Мены ;?
стало желающих?
Не только, качает голов!
отец Сергий Он служит здесь уже
восьмой год. Говорит медленно, значи-
тельно, с настроем на важность пред-
стоящего таинства Правильнее ска-
зать так: для свершения обряда со
всей возможной торжественностью.
Индивидуально, только для двоих. У
нас проходит 10- 12 венчаний в год;
в Елоховском ведь гораздо тор-
жественнее, все и норовят туда...
Отец Сергий в праздничной ризе -
тяжелой, серебристой, с большим
золотым крестом на спине. Скупо
проникающий через церковные окна
свет окрашивает и одеяние священни-
ка, и внутреннее убранство церкви
в мягкие, неяркие тона. Но вот
включили старинную массивную
люстру под потолком, служители нача-
ли зажигать свечи у образов. Четко,
парадно обозначились все предметы:
отливающий глубоким темным глян-
цем иконостас, золоченые и сереб-
ряные оклады, ажурные подсвечники
с желтыми огоньками над палочками
свечей. Отец Сергий, извинившись,
пошел встречать новоневестных.
Знаю, что оба чертежники-конструк-
торы. Наташе 21 год, Андрею 24.
Мне рассказала об этом бабушка
Андрея, в ожидании невесты согласив-
шаяся на небольшое интервью. Она-
то, кстати, и была одним из главных
инициаторов венчания
Наташенька нам очень нравит-
ся,- одобрила она выбор внука.
Мы хотим, чтобы их жизнь началась
по-людски, по-христиански Семья
крепче будет.
Мне тоже понравилась Наташа.
И я удивилась ее роли «покорной»
невесты. Видимо, дело не только в на-
стояниях старших. Достаточно было
видеть, как, выйдя из машины, Ната-
ша весело поцеловала встречавшего ее
жениха, как подошла к его родителям,
бабушке, чмокнула ее тоже в щеку,
обернулась, помахала подругам в
общем, вела себя естественно, кажет-
ся, нисколько не волновалась. Потом
поправила фату, подала руку Андрею,
и они вместе пошли навстречу отцу
Сергию.
Вокруг церкви народу много. По
субботам вообще многолюдно, а тут
свадьба. Завсегдатаи, гости,
Рисинок О. Астафьевой.
головы перед священником,
наставления на любовь «со-
иопрошаики,
перепадет по
любопытные старушки,
которым что-нибудь да
такому торжественному случаю... И на
всех лицах жгучий, хотя и вполне
доброжелательный, интерес.
В полной тишине священник подвел
молодых к самому аналою, благосло-
вил и подал зажженные свечи. В тот
же миг вступил невидимый хор, будто
сами церковные стены зазвучали ма-
жорной, мощной мелодией. Свадебная
молитва отличается от обычной, «буд-
ничной». И для всех венчающихся она
поется по-разному: ясно было слышно,
как молятся о ныне обручающихся
рабе божьем Андрее и рабе божьей
Наталье. Дьякон начал читать ек-
тенью. Молодые все это время стояли.
склонив
слушали
вершенную, мирную».
Наконец отец Сергий взял кольца
и надел их новоневестным сначала
«неправильно» (Наташино Анд-
рею), а потом, перекрестив кольцами
молодых, велел надеть каждому свое.
Призри на раба твоего Андрея
и на рабу твою Наталью и утверди
обручение их в вере, и единомыслии,
и истине, и любви, произнес он,
завершая этими словами обряд обру
чения и переходя собственно к венча-
нию.
Посреди церкви перед аналоем
расстелили небольшой ковер — специ
ально для новобрачных. Наташа,
подхватив гипюровый подол, аккурат-
но встала точно посредине, Андрей
оглянулся на своих, ему кивнули, и он
тоже сделал шаг, чуть потеснив невес-
ту. В этом месте венчания все как-то
разом вздохнули, переступили с ноги
на ногу (потом я узнала, что су-
Библиотека Либрусек lib.rus.ec
17
шествует примета — кто первый сту-
пит на ковер, тому быть в семье
главным). Протодьякон взял с аналоя
венцы и отдал их свидетелям, вполго-
лоса объясняя,.как надо их держать
У Наташи свидетельница — серьезная
высокая девушка в очках, у Андрея
шафер — низенький крепыш. Это, по-
жалуй, была единственная «непроду-
манность» во всей церемонии — то,
что свидетели не подходят друг другу
по росту. Вообще же все отшлифова-
но, будто заранее отрепетировали.
Величественно прочтено апостольское
послание, плавно подана молодым
низкая чаша с вином, медленно, с
частыми остановками для венчаний,
обвел священник молодых вместе со
свидетелями вокруг аналоя. И вот они
снова стоят перед отцом Сергием,
снимающим с них венцы. Теперь Ната-
ша и Андрей — муж и жена. Андрей
поцеловал Наташу, и они не вышли —
выплыли из церкви.
Смотрю на часы: обряд занял
больше часа. На улице родственники,
знакомые и незнакомые шумно по-
здравляют молодых, дарят цветы
Такси ждут. Мне с трудом удается
протиснуться к молодоженам. Наташа
счастлива, с удовольствием соглаша-
ется отвечать мне.
— Зачем венчаемся? переспра-
шивает она.— Родители хотели, и по-
том... Я знаю, мой Андрюша теперь ни
за что, никогда не посмеет обидеть
меня, предать. Ведь нам священник
говорил такие слова!
— В загсе тоже говорят слова...
Ну-у, в загсе мы были вчера.
Ничего особенного, очень официально,
и слова там другие
— Да еще случайно, по ошибке,
вместо свадебного марша какую-то
другую музыку включили,— усмехает-
ся Андрей,— Правда, сразу выключи-
ли. Что-то шипит, трещит, наконец
пошло.
Да, церковную церемонию по отто-
ченности, парадности с гражданской
не сравнишь. В загсе Фрунзенского
района, что на улице Усиевича, я
наблюдала такую картину. Полная,
приветливая женщина-депутат вполне
прочувствованно, тепло произнесла
положенное, велела молодоженам в
знак верности обменяться кольцами.
Но штатный фотограф не успел запе-
чатлеть торжественный миг
- Стоп, стоп, все назад,— как на
киносъемках, хлопнула в ладоши жен
шина.- Молодые улыбнулись друг
другу, сняли колечки и — еще раз...
Родственники, родственники,—
подключился и фотограф.- Поздра-
вим жениха и невесту, дружно, с цве-
тами, с веселыми шутками!
Пожилой мужчина в заднем ряду
покачал головой: ну и ну! Соседка
примирительно положила ладонь на
рукав его пиджака: «Да ладно, это же
все формальность».
Формальность. Конечно, не оттого,
кто и как скажет напутственное слово.
сложится или не сложится жизнь
молодых. И любовь —- пройдет с года-
ми или станет крепче - не оттого
И все же... О том, что вступающие
в брак принимают на себя огромную
ответственность перед обществом,
перед друзьями и товарищами по
труду, что теперь государство и об-
щество полагаются на них как на свой
маленький коллектив и эту ответствен-
ность надо оправдать всей своей
жизнью, что теперь семья, которая
зарегистрирована гражданским бра-
ком,— любимая «малая Родина» —
обо всем этом, как правило, не
вспоминается в загсе, ни потом, когда
семейная жизнь молодых начинает
ощущать какие-то кризисные мо-
менты: бытовые неувязки и неполадки,
трудности взаимного привыкания, тя-
жесть забот о детях и их воспитании —
тысячи мелких и крупных факторов,
которые испытывают семью на про-
чность, на разрыв. Не хочу ставить
семейное благополучие в прямую зави-
симость от формализма и бюрократиз-
ма, но, видимо, не случайно все же
в прошлом году каждая четвертая из
зарегистрированных загсами пар рас-
палась.
Наверное, на эту тему интересно
было бы поговорить с заведующей
отделом загс Фрунзенского райиспол-
кома Людмилой Алексеевной Вауки-
ной Но она решительно захлопнула
передо мной дверь:
— Говорить не буду. Что положе-
но - делаем. Регистрируем. Так и
можете записать.
Насколько разговорчивее, любезнее
отец Сергий! Он считает, что религиоз-
ная семья крепче, чем у неверующих.
И в подтверждение' знакомит с одной
из активных прихожанок Александрой
Ивановной Аничкиной. Она и ее муж
Алексей Александрович прожили
вместе уже около сорока лет, у них
двое сыновей, растят внуков. А любят
друг друга чуть ли не крепче, чем
когда женились.
Аничкины — жители города Пушки-
но. «Да это вовсе не далеко,— уверяет
Александра Ивановна. - Леша заедет
на своей машине, и будем у нас через
45 минут». Венчались они в Загорске,
вскоре после рождения первого ребен-
ка. До того не успели — кончалась
война, Алексея демобилизовали, семья
переезжала с места на место. Так что
собрались венчаться, когда уже все
сроки вроде бы вышли.
— День был летний, солнечный,—
вспоминает Александра Ивановна.—
На мне розовое шелковое платье,
вуалька с цветком Ехали в лавру —
все кругом пело, и в душе тоже.
А приехали — напал стыд: ну, как это
венчаться, когда уж и Шурик у нас
есть, со свекровью оставлен? Но все
равно запомнилось на всю жизнь.
Праздник! А ведь сколько было тяже-
лого — не перечесть: выхаживала му-
жа после язвенной операции, ходила
за свекром — он пришел контуженный
с войны, огород поднимали вместе
с Лешей, работали он шофером,
я кондуктором. Бедовали в одной
комнате с детьми.. А тут —- праздник.
Не зря, видно, все.
А ваши сыновья тоже венчались?
— Нет, живут не венчаны.
— И . как?
— Да хорошо! Что Саша с Ниной,
что Володя с Таней. Дружно живут,
друг друга не обижают. Как мы
с отцом.
Интересно, правда? Вроде бы речь
Александры Ивановны — в пользу ре-
лигиозного обряда, а о вере, о боге
в ней ничего. Дружная, крепкая семья
с хорошими трудовыми традициями,
с чутким отношением супругов друг
к другу, к детям. Вот и молодые
Аничкины, хоть не венчаны, а живут,
как и их родители, по-хорошему.
Берусь предположить, что охранитель-
ная функция венчания далеко не
главная. Не ограждает оно, увы, ни от
пьянства, ни от других разрушающих
семью бедствий.
«Разведенка» Лена Царицына, ко-
торую знаю давно, тоже, оказалось,
была соединена со своим мужем свя-
щенными узами не только перед
людьми.
Так все красиво начиналось —
свадьба, венчание,— вспоминает
она.- А потом... Любовь прошла,
у мужа, я узнала, появились другие
женщины. Словом, ни от чего плохого
венец нас не уберег.
Венчание для верующих — та-
инство, оно входит в систему их
миропонимания. И если для кого-то
семейная жизнь, чтобы быть счастли-
вой, должна начаться с благословения
церкви,— их право...
Гражданская регистрация брака по
своему оформлению пока уступает
венчанию. И хотя она влечет за собой
ряд важнейших правовых по-
следствий, тем не менее плохо еще
конкурирует.- е церковным браком.
Иногда приходится слышать, что в
«церкви — красиво, а в загсе
сплошной формализм». И действи-
тельно, бывает так, как описано мною
в репортаже из церкви и загса. На
самом-то деле конкуренция между
двумя формами брака должна идти не
по линии «церковь или загс», а по
включенности в брачный ритуал' могу-
щественного механизма общественно-
го мнения. Вступающие в брак
должны ощущать за своей спиной
одобрение тех, кого они уважают,
любят, с чьим советом привыкли
считаться — родных и близких, това-
рищей по труду, ветеранов, учителей
школы, института и т. д. Вступление
в брак — не узко личное дело жениха
и невесты, ведь создается-то семья,
основа основ общества, та ячейка, где
будет со временем воспитываться но-
вое поколение советских людей. Вот
о чем мы не имеем права забывать!..
18
ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ
Писатели
земли
древнерусской
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ
ИЗРЕЧЕНИЕ «В
начале было слово» удивительным образом подходит
к периоду возникновения оригинальной литературы
Киевской Руси. Правда, «слово» тут следует понимать не
буквально. «Словами» назывались произведения церков-
но-учительной литературы и торжественного красноре-
чия. Поводом для их написания могло послужить
историческое событие, злободневная общественная про-
блема или постановка моральной темы.
Спустя полвека после принятия Русью христианства
в окрестностях Киева было написано «Слово», которое
в скором времени стало известно не только в столице, но
даже за пределами русских земель, получило признание
в христианском мире — ему подражали, на него ссыла-
лись. Без преувеличения можно сказать, что вся
литература Киевской Руси вышла из «Слова о законе
и благодати». Это историософское сочинение явило
непревзойденный образец изящной словесности и опреде-
лило многие ведущие темы русской литературы XI—
XIII столетий.
Его полное название — «О законе Моисеом данеем,
и о благодати и истинне Иисус Христом бывшим, и како
закон отъиде, благодать (же) и истина всю землю
исполни, и вера в вся языки простреся и до нашего языка
русьскаго, и похвала кагану нашему Владимеру, отъ
него же крещени быхом (и молитва кт> Богу от всеа земли
нашеа»)1. Создано оно, как полагает большинство
ученых, Иларионом — пресвитером (священником)
церкви святых Апостолов в княжеском селе Берестове,
что под Киевом.
О древнерусских писателях сведения скудны, даже
имена многих не дошли до нас. Сами они о себе не
рассказывали. Но если были известны в свое время не
только творчеством, но и какой-либо деятельностью —
государственной или церковной, то их примечали
летописцы.
не презвутер, именем Ларион, мужь благ, книжен
и постник»,— сообщает о нем древнейшая русская
А. УЖАНКОВ
НААрИОН
летопись. Слово «книжен» указывает на начитанность,
образованность, но не означает, что он был писателем.
Известно, что Иларион любил уединенное размышле-
ние, для молитвы уходил из села к Днепру, на гору, где
был «лес велик». И понравилось ему место это, и «иско
пал» он здесь пещерку малую, двусаженную, и предавал-
ся в ней мыслям и молитвам. Наверное, в этой пещерке
обдумывал он и свое творение.
О том, что «Слово» было создано до 1050 года,
свидетельствует упоминание в нем как здравствующей
великой княгини Ирины (Ингигерды), жены князя
Ярослава. Но «Слово» не могло возникнуть и ранее
1037 года, поскольку, как о последнем важном событии
оно сообщает о завершении строительства церкви Благо-
вещения на Золотых воротах.
Что побудило Илариона написать свое сочинение?
Размышления над судьбой отечества? Ученость книж-
ная, позволившая ему осознать место Руси во всемирной
истории? Или были какие-то особые обстоятельства?
В 1037 году в Киеве бы да учреждена русская
митрополия, которая, однако, всецело подчинялась Ви-
зантии. Назначенный на Русь греческий митрополит
и окружающий его греческий клир стремились припи-
сать себе всю заслугу обращения Владимира в хрис-
тианство и крещения Руси.
Тогда-то, видимо, и появились прогреческие сочине-
ния: «Речь философа», призванная убедить Владимира
Святославича принять христианство, и «Корсунская
легенда» — о крещении его в греческой колонии Корсуни
в экстремальной ситуации (когда князя неожиданно
поразила слепота). Эти тексты вошли в одну из поздней-
ших редакций «Повести временных лет». Провизан-
тийская тенденция отразилась и в не дошедшем до нас
♦Житии Антония Печерского», в котором основание
Киево-Печерского монастыря, центра русского мона-
шества, представлялось как результат благословения
Святой Горы — греческого Афона. Мотив этот частично
отразился в «Повести временных лет» (в статье под
1051 годом), но большее развитие получил в Киево-
Печерском патерике.
Ответом на такую трактовку русской истории, вероят-
но, стало «Слово о законе и благодати». Для раскрытия
заглавной темы сочинения Иларион воспользовался
редким стечением праздников. Как заметил современный
исследователь Н. Н. Розов, в «Слове» привлечен еван-
гельский текст, традиционно читаемый в первый день
пасхальной недели, а параллельно развивается тема
другого евангельского фрагмента — относящегося к
празднику благовещения. А ведь явление ангела деве
Марии с «благой вестью* — знак грядущего рождения
Последнее издание этого памятника с переводом на современный
русский язык в кн.: Идейно-философское наследие Илариона Киев-
ского, ч. I—II. М., 1986.
19
мессии — эпизод как бы «пограничный» между «зако-
ном* и «благодатью». Исследователи высчитали: Бла-
говещение было кануном пасхи в 1038 году. Подобные
совпадения в средневековье расценивались как благо-
приятное предзнаменование будущего, в данном случае
речь могла идти о будущем Руси, русской церкви, только-
только получившей свою митрополию.
ТРУДНОСТЬ В
«ПОСТИЖЕНИИ
словес» заключалась не только в их написании, но и в их
прочтении. Потому-то древнерусские писатели давали
часто своим сочинениям пространные названия, в ко-
торых передавали и основной смысл произведения, и его
содержание. Древнерусский книжник мог для себя сразу
отметить, что в первой части «Слова» содержатся скорее
всего рассуждения богословского характера — о «зако-
не» (иудействе) и «благодати» (христианстве), во
второй — рассказ о приходе христианства в землю
русскую, в третьей — похвала «крестителю Руси» ки-
евскому князю Владимиру Святославичу. И присоедине-
на к «Слову» молитва от всей Русской земли.
Перед Иларионом стояла довольно сложная задача:
выражаясь его же словами, «влить в старые мехи новое
вино». «Новым вином» была историософская идея
равенства всех народов, которую нужно было «влить»
в традиционную форму учительного слова. При этом,
чтобы мысль выглядела убедительной, необходимо было
использовать для ее утверждения известные высказыва-
ния из священного писания.
Труд не из легких, но Иларион еще более его
усложнил: он решил доказать подчиненное положение
«закона» (Ветхого завета) по отношению к «благодати»
(Новому завету) цитатами, прежде всего из... Ветхого
завета! Причем не цитаты управляют мыслью Илариона,
а его мысль подчиняет их себе и они обретают новое
содержание.
«Благословен Господь Бог Израилев...»,— начинается
первая фраза произведения словами из писания, а
заключается уточнением Илариона: «...Бог христи-
анеск». И прославляется не «бог Израиля», а хрис-
тианский бог, сотворивший «избавление людем* —
«Сыном Своим («благодатью») все народы спас и ввел
в жизнь вечную...»
Зачем понадобилось Илариону противопоставление
двух заветов?
Закон, данный богом пророку Моисею на Синайской
горе, возвысил один народ — иудеев, сделал его в
собственных глазах избранным, принизил в его сознании
другие народы, напоминает «Слово». Закон дал «оправ-
дание» их поступкам в достижении земного господства
И за это они были лишены спасения в будущей жизни —
на небесах. Закон властвовал на земле, благодать же
только указывала путь спасения, приуготовляла хрис-
тиан к вечному бытию духа: «Яко июдейство стенем
(тенью) и законом оправдаашеся, христиани же истин-
ною (и) благодатью не оправдаются, но спасаются;
в июдеих бо оправдание в сем мире есть, а спасение нам
в будущем веие, июдеи бо о земленыих веселяахуся,
христиани же о сущиих на небесех; и тожде оправдание
июдейско скупо бе зависти ради, не бо ся простираете
в иныя языки, но токмо в июдеи бе единой, христианыих
же спасение благо и щедро, простирался на вся края
земленыя».
Материальному миру Иларион противопоставил мир
духовный, как более совершенный. Мир тленный
меркнет перед миром вечным. Благодать выше закона —
по сознанию.
По мнению академика И. Н. Жданова, исследовавшего
«Слово» в конце XIX века, оно не было направлено
против иудейства как такового, а лишь использовало его
ветхозаветный образ для обличения честолюбивых
устремлений Византийской империи. Однако элемент
неприятия самого Ветхого завета в Древней Руси присущ
и некоторым другим литературным памятникам. Киево-
Печерский патерик, например, чрезмерное увлечение
инока Никиты Ветхим заветом называет «прельщением
от врага», то есть от дьявола. Что же касается конечной
цели «Слова», то действительно весь свой обличительный
пафос Иларион направил не столько против иудейства,
сколько против Византии. Но в качестве объекта своего
разбора взял гегемонические устремления иудеев, как
они представлены в священной ветхозаветной истории.
Разоблачая закон избранных, Иларион выступает про-
тив националистических устремлений и монопольных
планов вселенской империи, претендующей на пер-
венство и руководство в христианском мире уже в новый
век — век благодати.
Он предостерегает могущественного соседа Руси
притчею о виноградаре, за грехи которого его виноград-
ник передают более достойному. Так-де и с верой
произойти может: перейдет благодать к другому народу.
И еще один пример напоминает он из истории иудеев:
«понеже дела их темна беаху, не възлюбиша света», то
«пришедше бо римляне, плениша Иерусалим и разбиша
и до основания его, и июдейство оттоле погыбе, и закон
посем яко вечерняя заря погасе, и разсеяни быша июдеи
постранам, да не вкупе злое пребывает». Удивительно то,
что спустя всего полтора века пророчество Илариона
стало сбываться: в 1204 году Константинополь разруши-
ли «новые римляне» — крестоносцы, в 1453 году им
завладели турки. «Хранительницей благодати» стала
Русь. В первой четверти XVI века появится даже теория
старца Филофея: Москва — третий Рим, прямая наслед-
ница и хранительница благочестия, «и четвертому Риму
не быти». Вот как далеко вперед забежала мысль
Илариона...
Но, противопоставляя благодать закону, он подчерки-
вал, что «спасение благо и щедро» даровано не одному
какому-то избранному народу, а простирается «на все
края земляныя», на все народы. Избранничеству и на-
циональной ограниченности противопоставлял идею
универсальности учения и равноправия людей. Язычес-
кие народы, как и Русь, тоже могут выступать
истинными восприемниками учения Христа. Причем
Иларион так обосновал свою мысль, что в результате
Русь оказывалась как бы даже в более выгодном
положении, нежели Византия, обретала чуть ли не
большие права, чем ее крестительница: «Лепо бо бе
благодати и истине на новыя люди въсияти, не вливають
бо — по словеси Господню — вина новаго — учения бла-
годатна в мехы ветхы, обетшавшая в июдействе, аще ли
просядуться меси и вино пролиется... но новое учение,
новы мехы, новы языки, новое и съблюдеться».
Используя характерный для средневекового мышле-
ния дедуктивный принцип в раскрытии темы, Иларион
от общетеоретического вопроса переходит к освещению
конкретного. Переход ко второй части, очень естественно
вытекающей из первой, почти незаметен. Предыдущая
тема сужается, и разговор со всех «языков» логически
20
переводится на Русь: «Вера бо благодатная по всей земли
распростреся и до нашего языка (народа) руськаго доиде,
и законное езеро пресше (озеро пересохло), евангельский
же источник наводнився и всю землю покрыв и до нас
пролиявся».
ЬТОРАЯ ЧАСТЬ
«СЛОВА» РАССКА
зывает о приходе христианства на нашу землю и превра-
щение языческой Руси в христианскую: «И уже не
идолослужителе зовемся, но христианами... и уже не
капищ съграждаем, но Христовы церкви зиждем».
Стала Русь равноправной среди других христианских
народов: «Вся страны благый Бог помилова, и нас не
презре, въсхоте и спасе ны и в разум истиный приведе»,
и по ней «потече источник евангельскый, напаяя всю
землю нашу», и уже не нуждается самостоятельное
русское государство ни в чьей опеке. Более того, уготова-
но русскому народу великое будущее: «И събыстся о нас
языцех реченое: открыет (Господь) мышцу свою святую
предо всеми языки и узрять вси конци земля спасение
Бога нашего».
И в заключение Иларион обращается с призывом ко
«всиязыци» — всем народам — поклониться «царю всей
земли Богу» и петь хвалу ему, от востока и до запада
прославлять имя Спасителя. Общий призыв переходит
в конкретное обращение: ко всякому народу, племени,
к людям, князьям, юношам и девушкам, старцам и де-
тям, и даже к камню, лесу, горе и холму...
Похвала господу переходит в похвалу крестителю
земли Русской киевскому князю Владимиру Святослави-
чу — особенно интересную третью часть произведения.
Она оригинальна всецело и содержит суждения Ила-
риона по ряду общественно-правовых и государственных
вопросов, отражает его взгляды на личность в истории.
Факт весьма примечательный, поскольку не типичен для
того времени. Иларион по крайней мере на три-четыре
столетия опередил общественные представления по
этому поводу.
«Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми
похвалами великая и дивная сътворшаго, нашего
учителя и наставника, великаго кагана нашея земля
Владимера... Не в худе бо и не в неведоме земли
владычествоваша, но в руской, яже ведома и слышийа
есть всеми конци земля».
Так впервые вводится в русскую литературу тема
родной земли, которая станет одной из основных
в Киевский период.
Высоко ставит Иларион авторитет ступившего на
♦путь истины» Русского государства среди других стран.
В такой стране и правитель должен быть «славным от
славных», «благородный от благородных» и «землю
свою пасущу правдою, мужьством же и смыслом»
Впервые в древнерусской литературе Иларион создает
образ идеального князя, обозначая нравственные-крите-
рии, которым тот должен соответствовать, и первым на
Руси обосновывает богоданность княжеской власти
и указывает принципы ее наследования.
Князь, по Илариону,— «причастник» и «наследник»
бога на земле, а великокняжеский престол переходит
к старейшему в роду или по наследству от отца к старше-
му сыну. Прямое наследование — от Игоря к Святославу,
от него к Владимиру, а затем и Ярославу — особенно
подчеркнуто Иларионом. Этот принцип оставит своим
сыновьям в завещание и Ярослав Мудрый, но они же
первыми и нарушат его...
Особое значение обретает под пером Илариона едино-
державие «в земле своей», которое по необходимости
может опираться даже на подчинение непокорных
мечом! Позднее, при усилении княжеских распрей,
и «Повесть временных лет», и «Чтение о Борисе и Глебе»,
и «Слово о полку Игореве», и другие древнерусские
произведения особенно будут отстаивать защищавшиеся
Иларионом великокняжеский централизм и принцип
прямого престолонаследования, подчинение младших
князей старшим.
Для обоснования идеи единовластия, продиктованной
жизненной необходимостью и примером той же Визан-
тии, особенно подходило учение о едином боге. Новое
христианское вероучение, попиравшее разобщающий
сонм племенных языческих божков, как нельзя более
отвечало интересам великокняжеской политики, стано-
вилось идеологией централизованной власти. Для введе-
ния христианства правление Владимира, по мнению
Илариона, было наиболее благоприятным, «понеже бе
благоверие его с властию съпряжено».
РВАЯ, ТЕОРЕ-
ЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
«Слова» была необходима не только для обоснования
общемировой темы — равноправия всех народов, «при-
нявших благодать», но и для общечеловеческой —
сопоставления регламентированных законов, норм пове-
дения человека в обществе с нравственными крите-
риями оценки поступков. По мнению исследовательницы
русского средневекового права Н. М. Золотухиной2,
Иларион уже четко различал понятия «закон» и «исти
на». Идея достижения нравственного совершенства,
которое ставит человека выше контролирующих его
деятельность законов, как видим, волновала русских
писателей уже при зарождении литературы. Превос-
ходство «закона внутри себя» над законом предпи-
санным — чуть ли не ведущая тема русской литературы
XIX века, а истоки ее в древнерусской словесности.
«Понятие свободы у Илариона,— пишет Н. М. Золоту-
хина,— предполагает прежде всего нравственную моти-
вацию выбора линии поведения и ответственности за нее. 5
5 Золотухина Н. М. Развитие русской средневековой политико-пра
вовой мысли. М., 1985, с, 10—19.
21
Свобода воли и свобода действий определены
нравственным. статусам личности».
Стало быть, в то время, с одной стороны, формируется
моральный кодекс поведения человека на основе хрис-
тианского учения, с другой — отстаивается право сво-
бодных поступков. Обосновав право на свободу действий,
свободу поступков в первой, теоретической части, Ила-
рион в третьей части иллюстрирует свои положения
примерами из жизни и деятельности первых киевских
князей-христиан. Особая роль среди них принадлежит
Владимиру, который по своей воле из ряда религий
избирает христианство. Независимость его выбора, по-
видимому, и потребовала соответствующего теоретичес-
кого обоснования свободы волеизъявления и поступков.
«Принявший благодать» должен быть безупречен
в своих действиях. Таковы, утверждает Иларион, ки-
евские князья Владимир и достойный продолжатель его
Ярослав. Владимир Святославич управляет землею
своею «правдою, мужьством и смыслом». Если учесть,
что в древности слово «правда» имело еще и юридичес-
кий смысл — «старое право», «суд», «власть судить»
и т. д., то характер оценки деятельности князя расши-
ряется.
В «Слове» Иларион обращается непосредственно
к Владимиру, но сказанное — наставление и после-
дующим князьям: «Ты правдою (то есть возможностью
судить) бе облечен, крепостию препоясан, истиною обут,
смыслом венчан». Украшают князя добродетели, ибо
князь — «нагыим одеяние... алчным кормитель... вдови-
цам помощник... безкровныим покров... обидимыим
заступник». Немногим позднее, в начале XII века
киевский князь Владимир Мономах затронет эту же тему
в «Поучении» потомкам, уделяя особое внимание
нравственным проблемам поведения человека в об
ществе, и будет так же искать ответ на вопрос: «Что есть
человек, яко помниши и (как подумаешь о нем)?». И кто
знает, не будь «Слова» Илариона, какими были бы на сей
счет представления Мономаха?
Как Платон в политическом трактате «Государство»,
Иларион большое значение придает воспитанию уже «от
детскыа младости» будущего правителя, его подготовке
к государственной деятельности. Одно из главных
условий — образование, наличие книжного знания.
К нему древнерусские князья сами охотно стремились.
Большим почитателем книг был Ярослав Мудрый,
создавший в Киеве при Софийском соборе значительную
библиотеку. Ему не уступали в образованности сын
Всеволод, самостоятельно изучивший пять языков, внук
Владимир Мономах, праправнук Андрей Боголюбский
и другие князья.
Что должен, по Илариону, делать князь в своем
государстве? Управлять им по чести, соблюдать закон,
заботиться о подданных своих, поскольку ответствен «за
труд паствы людей его» перед богом. Он призван
с богатством сохранить добрые дела, и в награду —
в мире и в здравствии пучину жизни переплыть...
Рисунки
Э. Дмитренко.
она молитва к богу от лица всей Русской земли, весьма
популярная и в более позднее время.
Молитва интересна во многих отношениях. Во-первых,
как отражение христианского мировоззрения Илариона,
его взглядов на мироустройство, миропорядок Во
вторых, как образец «умеренного» благочестия, близкий
• Поучению» Владимира Мономаха. В-третьих, ито-
говыми заключениями, сделанными на основе «Слова».
Итак, первое обращение в молитве к богу: «Владыко
Царю и Боже наш, высок и славне, человеколюбче.
вздаяй противу трудом славу же и честь...» Здесь
комментарий не нужен, поскольку очевидно, что в основу
оценки человеческой жизни положен принцип справед-
ливости — по заслугам. Но дальнейшие размышления
Илариона весьма любопытны своими стремлениями
смягчить требовательность к людям: «Аще и добрых дел
не имеем, но многыа ради милости твоея спаси ны».
Поскольку в воле божьей «жити нам или умерети»,
Иларион просит: «не вниди в суд с рабы своими».
А повод для этого есть: «Съгрешихом и злаа сътворихом.
не съблюдохом, ни сътворихом, якоже заповеда нам.
Земнии суще к земныим преклонихомься и лукаваа
съдеяхом пред лицем славы твоея, на похоти плотяныа
предахомься, поработихомься грехови и печалем жи-
тейским, быхом бегуки своего Владыки, убозии от доб-
рыих дел, окаании злаго ради жития... Каемся злыих
своих дел... Спаси, ущедри, призри, посети, умилосерди-
ся, помилуй. Твои бо есм, твое създание, твоею руку
дело».
Удивительный поворот мысли: помилуй творение рук
твоих, в грехах запутавшееся! «Аще въздаси комуждо по
делом, то кто спасется? »; «Аще ли съ яростию призриши,
ищезнем, яко утренняа роса».
Творец, по мысли Илариона,—- не строгий, неумо-
лимый судья людям, а человеколюбец, добрый
покровитель и милостник. А потому «все бо благое от
Тебе на нас: все же неправедное от нас к Тобе». У него
можно выпросить милость: «Не сътвори нам... по делом
нашим, ни по грехом нашим въздай нам». И чтобы не
отпали от веры нетвердые верою: «Малы показни,
а много помилуй; малы язви, а милостивно изцели;
вмале оскорби, а вскоре овесели, яко не тьрпит наше
естьство дълго носити гнева твоего, яко стеблие огня...
Твое есть еже помиловати и спасти».
Заключается молитва рефреном к последним словам
похвалы Владимиру: «И донелиже стоить мир, не
наводи на ны напасти искушение, ни предай нас въ руки
чуждиих... Продолжи милость твою на людех твоих,
ратныа прогони, мир утверди, страны укроти, глад
угобзи, владыке наши огрози странам, боляры умудри,
грады разсели».
И здесь Иларион тщился прежде всего о всей русской
земле, о своем народе. И не случайно эту молитву читали
и позднее русские иерархи, восходя на митрополичий
престол.
22
ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ ИЛА-
риона выразилась в его произведении раньше, чем он
стал киевским митрополитом. То есть не высокий сан, не
занимаемое положение продиктовали ему мысли о неза-
висимости и самостоятельности Руси, а собственные
размышления о судьбе и истории своего государства.
Возможно именно потому, что эти мысли были близки
взглядам Ярослава Мудрого, у которого «со греки брани
и нестроения быша», великий князь утвердил Илариона
на русской митрополии. «В лето 6559 (1051). Постави
Ярослав Лариона митрополитом русина в святей Софьи,
собрав епископы»,— так засвидетельствовал это событие
русский летописец.
Иларион стал первым русским митрополитом из
русичей. До него и после митрополитами были греки.
Спустя столетие, в 1147 году, великий князь Изяслав
Мстиславич предпринял вторую попытку возвести на
митрополичий престол русского — Климента Смоляти-
ча, «книжника и философа». Но его не признала
Византия. Подобные поставления с разным успехом
повторялись раз в столетие, пока русская церковь не
получила самостоятельность.
Но первым был Иларион. Всего два года отделяют за-
пись о его интронизации от другой, на первый взгляд
незначительной и никакого отношения к Илариону не
имеющей: «В лето 6561 (1053). У Всеволода родися сын.
и нарече имя ему Володимер, от царице грькине»
Однако факт рождения будущего великого князя Ки-
евского Владимира Всеволодовича Мономаха, зафикси-
рованный летописцем, самым тесным образом был
связан с судьбой Илариона. Заключение брака между
сыном Ярослава Мудрого Всеволодом и греческой
царевной Марией, дочерью византийского императора
Константина IX Мономаха (1042—1055), говорит о ско-
ром урегулировании отношений между русским и визан-
тийским государствами.
Судьба первого митрополита из русских была предре-
шена.
В 1054 году киевляне проводили в последний путь
своего князя Ярослава. Среди присутствовавших священ-
ников Иларион не упомянут. В следующем, 1055 году
летопись сообщает о прибытии на Русь нового митропо-
лита Ефрема, грека по национальности.
Новый владыка осудил на заточение новгородского
епископа Луку Жидяту (кстати, автора не лишенного
достоинств «Поучения к братии»). Почему? Как и Ила-
риона, Луку поставил епископом Новгорода в 1036 году
сам Ярослав Мудрый. Скорее всего, Жидята был в числе
тех двух или трех русских епископов, которые, согла-
суясь с первым апостольским правилом, рукоположили
Илариона на митрополичий престол. И грек Ефрем
расправился с одним из сторонников своего предшествен-
ника...
Недолгое пребывание Илариона на митрополичьем
престоле ознаменовалось важным вкладом в обществен-
ную» жизнь Руси. Он принял участие в составлении
устава Ярослава Владимировича о церковных судах.
Причем его участие оговорено в самом тексте: «Се яз,
князь великыи Ярослав, сын Володимер, по данию отца
своего сгадал есмь с митрополитом с Ларионом, сложил
есмь греческыи номоканун; аже не подобаеть сих тяжь
судити князю и бояром, дал есмь митрополиту и епис-
копъм те суды, что писаны в правилех, в номакануне, по
всем городом и по всей области, где християнственое»
Устав, что важно подчеркнуть, не только значительно
отличался от греческих номоканонов, но по ряду
положений даже противоречил византийскому церковно-
му праву. В нем нет статей, предусматривающих
смертную казнь; такие наказания, как отсечение кистей
рук, ушей, языка, заменены штрафами. Включены
преступления и соответствующие наказания, не
свойственные византийской юрисдикции.
Это отличие позволило исследователю древнерусского
права Я. Н. Щапову предположить, что слова «сложил
есмь греческыи номоканун» означают: отверг визан-
тийский устав и составил свой. Вся изложенная в нем
система уголовных и гражданских мер ответственности
опирается на традиционно русскую систему денежных
взысканий.
Самые благоприятные обстоятельства для проведения
изменений в русском церковном праве сложились, когда
митрополитом был Иларион. Трудно допустить, что
митрополиты-греки, воспитанные на византийских об-
разцах, позволили бы внедрить и закрепить русскую
правовую систему
Новые правила, составленные Ярославом Владимиро-
вичем и митрополитом Иларионом, касались прежде
всего нравственно-этических норм общественной жизни.
«Аже кто умчить девку... за сором (срам) ей 5 гривен
золота... Аже пустит болярин велик жену без вины
(т. е. разведется самовольно), за сором ей 300 гривен...
Аже муж ожениться иною женою с старою не роспустив-
ся, муж тъи епископу в вине, а молодую в дом
церковный, а с старою жити».
Древнерусское право строилось на милосердии. Судите
сами: «Аже жене лихии недуг болить, или слепота, или
долгая болезнь, про то ее не пустити (не разводить). Тако
же и жене нельзе пустити мужа»; «Аже девка не
восхочеть замуж, а отець и мати силою дадут, а (она) что
створить над собою — отець и мати епископу в вине...»
Наказывались и родители, препятствующие браку
Значительная часть статей касается взаимоотношения
мирян в повседневной жизни. За словесное оскорбление
обидчик подвергался такому же штрафу, как и за
физическое, а в отдельных случаях и большему!
Порицалась ложь, воровство («аже муж крадеть белые
порты» — холсты, одежду), драки на свадьбах.
Некоторые провинности сейчас не могут не вызывать
улыбку: «Аще мужа два бьетася, женскы (жена одного
из них) или укусить, или одереть, епископу три гривны».
Несомненно, законодательное творчество Илариона
связано с литературным — своей обращенностью к чело-
веку, своей гуманностью продолжает «Слово о законе
и благодати».
Иларион прекрасно осознавал свою первопроходчес-
кую роль в молодой русской словесности. Он создал
произведение, которому не было (и нет!) аналогов ни
в византийской, ни в болгарской литературах. Соблюдая
законы ораторского жанра, известные в то время, он
♦раскрепостил» форму содержанием. Он взял тему,
актуальную для молодого христианского государства, не
опасаясь сложностей в ее раскрытии, ибо «не к неведу-
щимъ бо пишет, но преизлиха насыщьшемся сладости
книжные...»
Ниточка его судьбы затерялась в перипетиях времени.
Но не пропали его идеи, воплощенные в «Слове». Они
сохранились в келиях Киево-Печерского монастыря —
проводника независимой русской политики. Именно
здесь во второй половине XI века начнет формироваться
первая русская летопись. Пришло в емя истории.
13
РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ, ВЕРУЮЩИЙ
Война _₽сеГд& р£ землю,
на ее те^, д^ржатсядолгч? напоминая
о тех, .о заплатил саг •- дорогую
пла*у —- изнь — за свободу -свое го
народа. тут, неподалеку рт
Почаевско • \вры, остались местами
окопы пдрво**ировой, Великой Оте-
чественном. их переметает
снегом, летом С, р^дывает пестрое
разнотравье . лйщь осенью да по
весне горестно жа их сырая
земля. & «ном черно», обуглен-
ное пя»..6.4>т неодин год
будет ...еть оно, нап. ~. .а« о тра-
гедии, разыгравшейся здесь
мирное, время, 3 июня 1987 года.
У костра пытались отогреть-мальчик
уже утратившего признаки жизни
ИЗГНАНИЕ БЕСОВ
Читая тома уголовного дела,
пытаюсь понять, как, какими не-
зримыми путями прорываются в наше
время, чуть ли не в третье тысячеле-
тие рецидивы мрачного средневе-
ковья. Слушаю обстоятельные интел-
лигентные рассуждения священнослу-
жителей, долгие объяснения местных
атеистов, — а перед глазами не
по-летнему холодный (всего 12—
13 градусов) июньский день и тще-
душный паренек, раздетый до труси-
ков, из последних сил вырывающийся
от двух женщин — приемной матери
Раисы Александровны Кудряшевой
и ее сестры Людмилы Сургуч. Тре-
тья участница истязания — некая
Надрыгайло, она же Кукура Наталья
Васильевна, пухленькая, крепко сби-
тая, но уже изрядно помятая жизнью
продавщица, недаром в свои тридцать
выглядит на все сорок — таскае1 из
«святого» родника воду, окатывают
ею парнишку. Температура воды —
это зафиксировано в деле — 8 граду-
сов.
Понимали ли они, что творили?
Думаю, нет. Впрочем, говорят, что
намерения были самые благие. Маль-
чик слабенький, в последнее время
стал терять сознание, чаще всего
в церкви, куда его постоянно водила
приемная мать. Значит, в ребенка
вселились бесы и их надо срочно
изгнать.
В евангельских сказаниях Христос
изгонял бесов простым приказом:
«Замолчи и выйди из него» (Мр. 1:25;
5:6—13; Мф. 8:21—22), а ученикам
указывал, что бесы изгоняются «толь-
ко молитвою и постом» (Мф. 17:21).
Затрудняюсь сказать насчет постов,
а молитв и за здоровье Саши Кудря-
шева, и за «изгнание бесов» хватало!
Ну а если все это не помогает? Тогда
нужны меры более радикальные!
И снова мысленно вижу я раздетого
Сашу на холодном ветру, в потоках
студеной воды. Вижу, как изо всех сил
щиплют его худенькое, иззябшее
тело приемная мать и ее сестра,
«выдавливая» бесов, злых духов, все-
лившихся в ноги, руки, живот, спину,
шею... А когда, обессилев от крика
и плача, от боли и холода, он упал
замертво под их благочестивые мо-
литвы, они решили, что вновь бесы
одержали победу, оказались сильнее
«врачевателей».
Ну ладно, думаю я, отыскался
изувер — приемная мать, да еще
сестра ее, привлекли соучастницу...
Но ведь рядом мелились еще три
женщины, пришедшие из лавры вмес-
те с ними. Эти-то почему молчали,
когда на их глазах истязали ребенка?
Может, тоже фанатички? Да нет,
обычные верующие, каких немало
поиходит в лавру Почему же не вме-
шались, не остановили изуверство?
24
Если совершено убийство, пусть
и «неосторожное», как квалифициро-
вал суд, то кто-то же в этом все-таки
виноват? Суд приговорил приемную
мать Саши к принудительному лече-
нию, ее сестру к двум годам лишения
свободы (она тут же попала под
амнистию). Кукуру-Надрыгайло, учи-
тывая, что на ее иждивении двое
детей, решено было в связи с амнис-
тией к судебной ответственности не
привлекать.
Суд посчитал свое дело сделанным,
направил в школу, где учился Саша,
частное определение и устранился от
анализа тех явлений, которые стояли
за лаконичными строчками пригово-
ра. А какова логика событий? Что
привело этих людей на скамью подсу-
димых?
Судьба Сашу не баловала. Родился
он в феврале 1975 года в Донецке
совсем крохой — всего-то килограмм
с небольшим Мать, молодая оаботни-
ца местной фабрики, забрать его из
роддома отказалась, а имя отца ни
в каких записях не упоминалось. Так,
едва появившись на свет, Саша стал
круглым сиротой. И первым его
новосельем был переезд из роддома
в Дом малютки. Попади он потом
в детдом, судьба его возможно,
сложилась бы по-другому.
Ему было всего три месяца, когда
Раиса Александровна Кудряшева, ма-
шинист мостового крана произ-
водственного объединения «Тяж-
маш», что в городе Жданове, получи-
ла тяжелую производственную трав-
му.
— Работала я,— вспоминает Раиса
Александровна,— и машинистом, и
газорезчиком, и сварщиком. Рабочих
не хватало, вот и приходилось все вре-
мя кого-то подменять, браться то за
одно, то за другое, переходить
с места на место. Вот так однажды
переходила, торопилась, а тут прово-
лока посреди цеха — и кусками, и
кругами, и целыми бухтами валяется.
Ну, я впопыхах и зацепилась, разбила
голову. Ходила по врачам, в больни-
цах сколько времени провела, а тол-
ку— чуть. Правда, одно время легче
стало...
Из-за возникшего после травмы
психического заболевания Раиса
Александровна стала инвалидом вто-
рой группы.
Детей у Кудряшевых не было.
Сейчас уже трудно определить, поче-
му именно в 1977 году решили они
усыновить ребенка. Скорее всего ска-
залось обилие свободного времени
и вроде бы (если судить по заключе-
нию ВТЭК) временное улучшение
самочувствия Раисы Александровны,
которую перевели на третью группу
инвалидности. Однако все эти мои
предположения не дают ответа на
Недоуменные вопросы.
Прежде всего: как получилось, что
психически больному человеку, инва-
лиду, доверили судьбу ребенка? На-
сколько правомерно и с юридичес-
кой, и с морально-этической точки
зрения такое решение? Ведь не могли
же ни в Донецком Доме малютки, ни
в Приморском райисполкоме г. Жда-
нова не обратить внимания на обяза-
тельную в таких случаях справку из
психоневрологического диспансера
Или. может, этой справки просто не
было? А может, сведения в cnpai ке не
соответствовали действительности?
Так или иначе, но Саша стал
Кудряшевым. И до последнего мгно-
вения своей короткой жизни Раису
Александровну и ее мужа, Николая
Егоровича, считал родными матерью
и отцом, самыми близкими ему
людьми.
Между тем после непродолжитель-
ного улучшения, словно специально
приключившегося на время усыновле-
ния, здоровье Раисы Александровны
вернулось в прежнее состояние, что
и было вновь зафиксировано инвалид
ностью второй группы. Опять, сначала
в 1980, а потом в 1983 году, Кудряше-
ву в первом случае на полгода, во
втором на меньший срок помещают в
психиатрическую больницу, после че-
го она и от стационарного, и от
лечения вообще отказалась. Тут об
усыновлении ребенка и речи идти не
могло бы, однако дело было уже
сделано! И вновь напрашивается воп-
рос — а не должен был в такой
ситуации встать вопрос об аннулиро-
вании усыновления? И если да, то
кому надлежало это сделать?
Из медицинских заключений сле-
дует, что у Р. А. Кудряшевой фиксиро-
вались «отдаленные последствия че-
репно-мозговой травмы, психоорга-
нический синдром с параноидными
включениями...». «Хроническое пси-
хическое заболевание в виде отда-
ленных последствий черепно-мозго
вой травмы со стойким психооргани-
ческим синдромом, галлюцинаторно-
бредовым синдромом, со склон-
ностью к нарастанию дефекта по
парафредному типу, в связи с чем она
не могла давать отчет своим действи-
ям и руководить ими»,— это уже из
материалов следствия.
Позволю себе вопрос: доверили бы
человеку с подобным диагнозом уп-
равление мостовым или башенным
краном, автомашиной? Конечно же
нет! Во всем, что связано со сложной
или имеющей повышенную опасность
техникой, существует жесткая регла-
ментация — кому ее можно дове-
рить, кому нельзя, ведутся регу-
лярные осмотры работников медика-
ми-профессионалами. И заключения
их обжалованию не подлежат, ибо
в случае какого-либо ЧП сразу возни-
кает вопрос: кто лично в нем виноват?
Почему же человеку, которому никог-
да бы не доверили сложную технику,
доверили неизмеримо более цен-
ное — жизнь и судьбу ребенка?
Странные мысли приходят, когда на-
чинаешь размышлять об этом. Сколь-
ко сказано о доброте, гуманности,
внимании к человеку. Так что же все
это — своего рода заклинания, ко-
торыми мы время от времени
убаюкиваем свою совесть? Разве не
знали о сложившейся ситуации врачи?
Не знали этого на «Тяжмаше», где
когда-то трудилась Раиса Алек-
сандровна и где до сих пор рабо-
тают ее муж и брат (о нем речь еще
впереди)? Не знали в школе N° 26, где
учился Саша? Может, знали, но не
понимали, чем это угрожает? Или
вообще не задумывались об этом?
Пишу и размышляю: а может, зря
я об этом? Что же теперь-то, как
говорится, после драки7 Сашу-то
уже не вернешь. Сашу, конечно, не
вернешь. Но уроки извлечь необходи-
мо. Мне лично вся эта история
представляется если даже не с юри-
дической, то с нравственной точки
зрения какой-то патологической,
выламывающейся из рамок здравого
смысла и норм нашей жизни
И вот, думаю я, а не умер бы Саша?
Решили новоявленные чудотворцы,
что изгнали из него бесов, что было
бы тогда?
Проще всего ответить, что не было
бы суда и частного определения
в адрес ждановской школы № 26 о
«проведении еще не в полной мере
атеистической пропаганды среди уча-
щихся школы и их родителей», не
появился бы и приказ № 100 от
22.06.1987 г. Приморского районо
г. Жданова «Об организации индиви-
дуальной работы с семьей Кудря-
шовых, ученика 4-В класса средней
школы № 26».
Не буду комментировать грамот-
ность формулировок. Не в них дело,
хотя и наводят они на грустные
размышления. Приведу целиком этот
шедевр бюрократического твор-
чества:
«3 июня 1987 года при неизвестных
обстоятельствах умер ученик 4-В класса
Кудряшов Александр (правильно —
Кудряшев. — В. Л.).
В результате служебного расследова-
ния установлено, что ученик Кудряшов
А. стоял на школьном учете, как тре-
бующий особого индивидуального подхо-
да. Мать; Кудряшова Р. А., регулярно
посещала школу, интересовалась поведе-
нием, учебой, интересами сына.
В период учебы в начальных классах
учитель Пащенко Н. В. регулярно посе-
щала семью в связи с отклонениями
в поведении ученика. Дава ia советы
родителям по воспитанию ребенка.
Однако, при переходе в 4 класс была
ослаблена индивидуальная работа с
семьей, не установлены изменения в пове-
дении матери, не проанализированы
взаимоотношения между матерью и
сыном (наблюдались физические меры
наказания), не установлен факт принад-
лежности матери к православной вере.
Все это способствовало тому, что мать
25
увезла ребенка в Тернопольскую область
на лечение, в результате которого насту-
пила смерть.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За упущение в организации индиви-
дуальной работы в семье директору
школы тов. Саркиц Г. Ф объявить выго-
вор.
2. Принять меры к классному руково-
дителю тов. Семеновой Е. В. допустившей
просчеты в работе с семьей
3. Директорам школ:
Организовать проведение в школах
педагогических лекториев по формирова-
нию активной гражданской позиции
школьников, достижения взаимопонима-
ния родителей и детей. Педагогическое
просвещение и воспитательную работу
провопить дифференцированно, в завися
мости от типа семьи.
Начиная с 1.09.1987 года.
4. Заведующей районо:
Данный приказ довести до сведения
всех директоров школ до 25.06.1987 го-
да.
Районному методическому кабинету.
Разработать научнообоснованные реко-
мендации по индивидуальной работе
с семьей и рассмотреть на семинаре
классных руководителей: «Деятельность
классного руководителя по обеспечению
системного подхода к воспитанию уча-
щихся».
5. Контроль за выполнением данного
приказа возлагаю на себя.
Зав. Приморским районо
В. Д. Гончарова*.
С точки зрения В. Д. Гончаровой,
ничего чрезвычайного не произошло.
Ну, замучили до смерти ученика, так
ведь не учителя замучили, не в школе,
даже не в подведомственном районе,
а в чужой области. Однако «отреаги-
ровать» на всякий случай надо. Мало
ли какая комиссия вдруг спросит или
корреспондент какой нагрянет... А мы
ему — приказ! А директору — выго-
вор! А к классному руководителю
«принять меры»! И так далее...
Между тем разворачивалась
предыстория трагедии на глазах у пе-
дагогов. Ее вполне можно было
разглядеть, забить тревогу...
Из посмертной характеристики:
«Несмотря на слабые результаты, Саша
относился к учебе с интересом... На
уроках пытался отвечать на вопросы
учителя... Очень подвижный, непосед-
ливый, бывали случаи драк. Однако
в драках он злобности (увы, столь
обычной и частой. — В. Л.) не проявлял.
Ребята в классе относились к нему
доброжелательно... Пионер. Обществен-
ное поручение — политинформатор. От-
ветственно относился ко всему поручен-
ному... Часто сам проявлял инициативу
Умеет трудиться... Являлся членом тру-
дового сектора. Со старшими вежлив*.
Просматривая журналы за 3-й и 4-й
классы, вижу у Саши и тройки, и ред-
кие четверки, и двойки. Тройки —
прочные, хотя к концу 4-го класса
учиться стал хуже,
Из показаний Н. В. Пащенко, первой
учительницы Саши:
— Учился удовлетворительно...
У него была хорошая память, учил
наизусть всегда и был тогда активным
на уроках, любил пересказывать мате-
риал... Саша любил детей, тянулся
к ним... Из школы уходить не хотел,
любил играть с детьми...
Так может действительно ничего
особенного не происходило в семье
Кудряшевых?
Из беседы с Р. А. Кудряшевой:
— Раньше я была верующей, но не
так, как ныне... Знала, что праздники
церковные есть и всякое такое...
Соблюдала их, как и старые люди, но
особого значения этому не придава-
ла... Я по-настоящему поверила, когда
мне жизнь надоела, года два-три
назад. Я уже смерти просила... Куда
меня только не возили — и в об-
ластной больнице лежала, и в респуб-
ликанской... Однажды легла спать
и бога живого увидела, как вас
сейчас... Он явился и все озарил
в комнате. Раньше у меня просто
галлюцинации были, а тут — явь! Я да-
же не испугалась. Только удивилась.
Господи, говорю, что же мне теперь
делать? Жить ведь хочется, а куда ни
пойду, никто помочь не может...
Из показаний А. Г. Мазной, матери
Р А. Кудряшевой:
— Приблизительно три года тому
назад моя дочь прекратила со мной
нормальные отношения Причина в
том, что мой сын Мазный В. А. и Куд-
ряшева оклеветали меня, будто я вла-
дею колдовством и держу дома книгу
«Черная магия». Они даже искали
у меня дома эту книгу и заставили
поклясться в церкви, что я никаким
колдовством не владею. Так же, как
сын и дочь, я верую в бога, но они мне
говорили, что если я буду ходить
в церковь, то умру за свое кол-
довство...
Итак, традиционно верующая пра-
вославная семья — мать, сын и две
дочери — Кудряшева и Сургуч.
Из беседы с В. А. Мазным
— В селе церковь была и я, как
самый старший из детей, ходил в нее,
до села-то далеко...
Биографическая справка:
Мазный В. А., родился в 1941 г. В
1960-м вступил в комсомол, через 5 лет —
в партию. Еще через 2 года закончил
школу рабочей молодежи. В декабре
1982 г. исключен из КПСС за системати-
ческую неуплату членских взносов. Рабо-
тал н работает в производственном
объединении «Тяжмаш».
От ответа на вопрос, был ли он
верующим, числясь в партии, Виктор
Александрович уклонился — при-
знаться неудобно, а соврать — грех.
Предпочел обойти он и многие дру-
гие, «.толь же деликатные подробнос-
ти:
— Вы, случайно, не помните, кто
давал вам рекомендации в партию?
— Да разве теперь уж вспом-
нишь
— А сами вы кого-нибудь рекомен-
довали в партию?
— Не помню... Что было, то про-
шло, чего уж об этом...
Может, просто забывчивость, рас-
сеянность подвела тогда, в 1982 году,
В. А. Мазного, а товарищи из партий-
ной организации слишком круто обо-
шлись с ним, лишив звания комму-
ниста?
Да нет же! К тому времени Мазный
веровал уже не просто традиционно,
а глубоко, убежденно, правда во
многом по-своему.
Но какая связь, может спросить
читатель, между биографией Мазного
и смертью Саши Кудряшева?
Связь эта существует. Именно
Мазный оказал большое влияние на
психику Людмилы Сургуч, именно
под его воздействием изменился ха-
рактер религиозности Раисы Алек-
сандровны. И даже церковь поселка
Приморского стала для них своей,
вроде бы семейной, опять же по его
инициативе.
Но почему именно она? Да потому,
что шла между верующими молва
о местном священнике отце Николае,
что тот чудодейственные молитвы
знает против колдовства, ворожбы,
нечистой силы и прочей «черной
магии». И ежели кого «сглазили»,
«начитали» на него и так далее, беги
к отцу Николаю — тот по святым
книгам сумеет и «отчитать», и от
напасти избавить!
После, когда слух о трагедии возле
Почаевской лавры прокатится через
город, отец Николай припомнит и
Раису Александровну и Сашу, однако
от сомнительной популярности своей
будет изо всех сил открещиваться.
Из беседы с В. А. Мазным:
— Вы допускаете, что есть люди,
знающие секреты и приемы кол-
довства, черной магии, оберега от
нечистой силы?
— Конечно!
— А можно таких людей отличить
от других?
— Можно.
— Могут злые духи, бесы, Сатана
вселяться в кого-нибудь?
— В любого могут...
— А изгнать их можно?
— Конечно!
Думаю, ясно, почему именно
эту церковь избрали для себя
В. А. Мазный, а затем и Раиса
Александровна.
Постепенно брат и сестра все
больше раздували друг в друге и веру
и суеверие. Но если Виктор Алек-
сандрович предпочитал религиозные
искания и размышления, то Раиса
Александровна старалась реализовать
26
результаты его поисков и размышле-
ний в повседневной жизни. Сашу
стали учить молитвам, возить по
церквам и прочим «святым местам»,
а если он вдруг начинал артачиться,
то, как отмечено в том самом приказе
районе, применяли «физические
меры наказания».
Если же Саша просто не выдержи-
вал такого режима, если от перегру-
зок падал в обморок,— этому на-
шлось скорое объяснение то злые
духи воюют за его душу, то Сатана
вселился в ребенка и душит его
в храме божьем.
Я уже говорил, что родился Саша
крохой, проще говоря, недоно-
шенным. Он и дальше здоровьем
и развитием не отличался: приемная
мать — душевнобольная, инвалид, то
в психиатрических больницах, то на
амбулаторном лечении. Какой уж тут
уход, какое развитие, какое, выра-
жаясь казенным языком, «попече-
ние», разве что «иждивение». «Отста-
ет в развитии, нуждается в консульта-
циях психоневролога», «правосторон-
ний грудно-поясничный сколиоз пер-
вой степени» — констатировали дет-
ские врачи. В школу Саша пришел
неподготовленным.
Из беседы с директором школы:
— В конце прошлого учебного года
у нас была торжественная линейка,
посвященная окончанию года. Первая
учительница Саши (Н. В. Пащенко. —
В. Л.) работала тогда в детском садике
и вела группу шестилеток. Саша
спросил: «Геннадий Федорович, а где
Наталья Витальевна?» Я ответил, что
она в садике. Саша, пришедший тогда
с букетом цветов, отправился туда
поздравить любимую учительницу.
Он приходил к ней неоднократно...
Скажите, положа руку на сердце,—
встречали вы подобную привязан-
ность к учителю в современной
школе?
Да, Саша тянулся и к детям,
и к взрослым. И не случайно из школы
уходить не хотел, не случайно упра-
шивал в четвертом классе учителей не
ставить двойки в дневник — боялся
идти домой, боялся той, иной жизни,
к которой приобщала мать, дядька,
тетка. Боялся и физических мер нака-
зания... И, возможно, останься На-
талья Витальевна и дальше его учи-
тельницей, рассказал бы ей о нелег-
ком своем житье-бытье и все могло
повернуться иначе.
Роковая поездка в Почаевскую
лавру была отнюдь не первой. И в
школьные каникулы, и посреди учеб-
ного года возила мать Сашу по
«святым местам» в поисках «исцеле-
ния». Предыстория трагедии на
Волчьей горе развертывалась на гла-
зах школы. Но глаза эти были равно-
душными
С мужем Раисы Александровны
мне побеседовать, к сожалению, не
удалось. А жаль. Он в этой трагедии
играл, конечно же, не последнюю
роль. Знаю только, что на собрании
рабочего коллектива (а трудится он,
напомню, на том же «Тяжмаше») во
время обсуждения случившегося он
бурно возмущался. Однако не изу-
верством собственной жены и ее
сестры, а, как он считает, шумом
и клеветой, поднятыми вокруг «не-
счастного случая». Говорят, грозился
даже обратиться в суд.
Находится на принудительном ле-
чении Р. А. Кудряшева. Неужели для
этою, вполне разумного шага, необ-
ходимо было, чтобы она совершила
убийство?
Отделалась легким испугом
Л. А. Сургуч Не пойдет ли она по
стопам Раисы Александровны (та те-
перь мечтает, выписавшись из псих-
больницы, вновь заняться врачевани-
ем по своим методам)? Притаился
В. А. Мазный. Выждав какое-то время,
кого еще втянет он в роковой круг
своих религиозных исканий?
И тут самое время обратиться
к религиозной стороне трагедии
Правда, наместник Почаевской лавры
отец Марк (в миру Николай Иванович
Петровский) со мной явно не согла-
сен:
— При чем здесь вера, церковь? —
говорит он, имея в виду Раису
Александровну. — Это все, наоборот,
от невежества. Ее религиозное воспи-
тание ничего не имеет общего с пра-
вославием..
— К вам же идут верующие,
прихожане православных церквей,
значит, их воспитали священники, пра-
вославная церковь?
— Да не церковное это воспитание,
я же вам говоою Да и что церковь
может сделать?
— Скажите, а на горе Божьей и под
горой Волчьей где замучили Сашу,
источники действительно святые?
— Не буду говорить о себе, но
даже никто из монахов, что живут
здесь по 30, по 40 лет, никогда не
слышали об источнике у Волчьей как
о святом. И никто из Почаева святым
его не считает. Я вообще не знаю,
откуда взялось это представление.
— А источник на Божьей горе —
святой?
— Ну какой там святой? Обычный
источник. Только почитаемый.
Трудно поверить, будто наместник
лавры и слыхом не слыхал, что
верующие считают источник на
Божьей горе святым. Да и другой
источник тоже не столь уж безвестен,
если паломники даже часовенку над
ним установили, которую, правда,
позже кто-то разрушил.
Размышляя над его доводами, я не-
вольно вспомнил свои беседы о
нравственности и духовности, о рели-
гиозной вере и атеизме с другими
священнослужителями, писателями,
художниками.
Богословы, священнослужители ви-
дят в христианстве средоточие
нравственности и духовности, гума-
низма и милосердия. Таким оно
предстает и со страниц религиозных
изданий. Идеализированное христи-
анство превозносят и некоторые мои
знакомые из среды творческой интел-
лигенции.
Но в массе верующих обыденное
религиозное сознание неизбежно по-
рождало и продолжает порождать
невежественные, суеверные пред-
ставления, фанатизм — все те явле-
ния, от которых религиозные идеоло-
ги вынуждены открещиваться изо всех
сил. И если в чем и прав наместник
Почаевской лавры, так это в том, что
преодолеть разрыв между интеллек-
туализмом богословов и примитив-
ностью обыденного религиозного
сознания подавляющей массы ве-
рующих православная церковь не
в силах.
ОТ РЕДАКЦИИ: История, трагичес-
ки закончившаяся на Волчьей го-
ре,— не единственная в своем роде.
О таких случаях уже писали, кроме
того, несколько раз они становились
предметом редакционного расследо-
вания.
Подобные трагедии происходят,
как правило, в тех случаях, когда
мистические представления патоло-
гически осложняются психическим
заболеванием Однако странное де-
ло — пишем и говорим мы о случив-
шемся всегда постфактум. В одних
случаях врачи, наблюдая за пациен-
том, либо не в состоянии вовремя
определить его потенциальную опас-
ность для окружающих, либо и не
задаются такой целью. Типичный
пример — Раиса Александровна
Кудряшева. В других даже не обна-
руживают каких-либо отклонений
в психике явно больного человека.
Так, года два назад в Московской
области молодая женщина убила
свою дочь первоклассницу, нанеся ей
многочисленные удары по голове
металлической ступкой. При рассле-
довании оказалось, что она в течение
года постоянно слышала голос бога,
который в то трагическое утро прямо
приказал ей принести дочь в жертву.
Естественно, общение бога с
простыми смертными — явление су-
губо мистическое, может именно
поэтому и невропатолог и психиатр,
входившие в комиссию, которая об-
следовала эту женщину за несколько
месяцев до трагедии, не нашли у нее
никаких отклонений.
Возникает естественный вопрос:
своевременное выявление психичес-
кого заболевания и определение
степени опасности больного для ок-
ружающих — это что: нерешенная
научная проблема или же результат
чьей-то халатности, профессиональ-
ной безграмотности, организаци-
онных промахов?
Хотелось бы, чтобы руководители
психиатрической службы Минздра-
ва СССР ответили на этот вопрос.
27
ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ
’I
ПРОИТИ СВОЮ ЭКСТРЕМУ
Разговор с Влаилем Петровичем Казна-
чеевым начался с парадоксальных ут-
верждений: атеист все время возвращался
к мыслям о необходимости Веры.
в^в^ивиииивииии^ии
— Мне кажется, что сегодня в понятие
интеллигентности должна все более вхо-
дить Вера — Долг Не религия, а именно
Вера — Долг... Миссия человека, его от-
ветственность за существование биосферы
на Земле нынче беспримерно велика. Но кто
заботится о перспективах его самого? Кто
планирует человека как цель? Строя
счастливое будущее людей, мы самого
человека рассматриваем лишь как средство
достижения какого-то уровня общества.
При этом он как бы «занормироваи»,
заторможен в социальном развитии.
А человек меняется, растет! Из молодого
превращается во взрослого, пожилого...
В каждом возрасте свои заботы. Но давно
замечено: молодежь всегда рвется к риску,
каким-то чрезвычайным ситуациям и об-
стоятельствам. Иногда называют подобное
состояние романтизмом, порой — юношес-
ким максимализмом, даже экстремизмом
Одни молодые проходят испытание благо-
получно и становятся в результате лишь
сильнее духом. Другие... Впрочем, мы все
знаем, к чему ведут несданные жизненные
«экзамены», срывы личной программы жиз-
ни. Не в итоге ли подобных срывов на свет
рождаются Вера — Убежище, Вера в свой
маленький мирок, Вера в нечто высшее, что
правит нами и определяет судьбу?
Для меня, медика и психолога, важно
знать: почему именно у молодежи чаще
проявляется это странное (для пожилых,
разумеется!) стремление к риску? Здесь,
мне думается, лежит огромное поле иссле-
дования...
• - Начнем с определений. Влаиль Пет
робиЧ, какое определение «экстремальной
ситуации» вы дали бы как специалист?
— Экстремальная ситуация — особая
обстановка в сознании человека или вне
его, выходящая за пределы обычных норм,
сложившихся психофизиологических рит-
мов. Непривычная, чрезмерная нагрузка;
оиа может быть острой, внезапной и,
наоборот,^- растянутой, хронической. В за-
висимости от психофизиологической уста-
новки и подготовки (готов ли человек
в экстремальной ситуации, насколько она
для него внезапна) будет складываться его
отношение к этой ситуации. К ней можно
(и надо!) готовить себя заранее. Ведь
нередко в экстремальной ситуации человек
оказывается не «физически» — ему не надо
куда-то бежать, стрелять... Ои должен
лишь решить задачу, выбрать, как говорят,
вектор поведения. Представьте себе си-
туации м1новениого выбора: произ-
водственная или дорожная катастрофа. Да
просто Ч П во время доклада, когда прозву-
чит неожиданный вопрос, реплика — и
В. КАЗНАЧЕЕВ,
академик АМН СССР, директор
Института клинической и экспери-
ментальной медицины Сибирского
отделения АМН СССР
нужно мысленно собраться, дать ответ.
Случаются и житейские ситуации, которые
мы относим к экстремальным. Например,
несчастье дома, болезнь — своя или близ-
кого человека...
Экстремальная ситуация создает для
личности необычную, чрезвычайную обста-
новку, выдвигает >адачу, требующую
быстрого принятия решения. Это решение
будет определяться, с одной стороны,
психофизиологическими, конституциональ-
но-генетическими свойствами личности,
а с другой — в еще большей степени! -
«внутренним горизонтом» воспитания,
сформированным в детстве. Ведь каждый
юноша или девушка, вступая в самос-
тоятельную жизнь, несут в себе свою
историю. Это как бы заложенная в нас
программа - психологическое простраи-
ство и семантическое поле личности в дан-
ное время...
Что такое психологическое простран-
ство? Это мой субъективный внутренний
мир результат прошлого воспитания
и обучения. А семантическое поле — мир
жизни, выраженный в нашем «словаре».
Ведь окружающий мир мы определяем
с помощью терминов, невольно подчиняясь
той понятнйности, которую знаем с детства.
О чем бы ни говорили, например, о погоде,
мы все равно не остаемся абсолютно
бесстрастными, и наши эмоции на-
кладываются на семантику, на слова.
В психологии же слова не играют ре-
шающей роли, там важны чувства, сфера
личностного, важно, что скрывается за
словом. Человек как бы несет в себе некую
программу, и в ней есть элементы твор-
чества, особые степени свободы. Взаимо-
действие конкретных психофизиологичес-
ких качеств и психологического поведения
(в реальной жизни это, скажем, решение —
закрыть собой амбразуру или нет?) насту-
пает не в последний момент. Это, по
существу, лишь конечная стадия реализа-
ции той личностной программы, которая
сформировалась под воздействием воспита-
ния. У каждого молодого человека в созна-
нии, подсознании заложен этот итог, оп-
ределяющий, станет ли он защищать
позицию эгоизма или альтруизма; будет ли
защищать свое, личностное — сегодня, че-
рез десять лет. Отстоит ли он друга,
любовь, идею, страну...
• То есть вы считаете, что у каждого
но юдого человека, чья личность и миро-
воззрение еще только формируются,
итог проявится по-своему, в зависимости
от предшествующего?
— Я думаю, что решение вопроса, ради
чего юноша или девушка сейчас живет,—
это часть его сложившейся психофизиоло-
гической программы, эпицентр его личной
Веры. Если он верит в необходимость
прогресса человечества, убежден, что дол-
жен посвятить себя целиком этому про-
грессу, то и его личностное поведение
(скажем, решение войти или ие войти
в радиоактивную зону, отстаивать научную
правду или смириться с мнением боль-
шинства) будет зависеть от этой установки.
Вообще-то такая Вера с течением време-
ни может менять свою «окраску». И мис-
сионер, и исследователь тоже жертвовали
своим личностным, причем жертвы прино-
сились великие. Если большая духовная
вера пропитывает человека с детства, то
и раньше, и теперь она, конечно, может
включать в себя веру религиозную. Но ие
28
только ее! Дело не в деятельности церкви,
а в том, что такие понятия, как Добро
и Справедливость, входят в конструкцию
«здания» любой религии, ио ие только в нее.
Каждый индивид — частичка общества.
Общество дает ему убеждение, веру в
идеалы, потребность в счастье. Если с
детства в человеке ие воспитывать общече-
ловеческое. социальное начало, то в нем
проявятся эгоистические тенденции. Через
отношение к родителям, к товарищам,
к природе формируется позиция либо
эгоизма, либо альтруизма. Так что и вера
вере рознь — скажем, вера в сверхчелове-
ка, в право убивать других, «низших»,
которую прививал фашизм...
ф Есть ли различия в реакциях челове-
ка на экстремальную ситуацию?
— Можно выделить два типа реагирова-
ния на внешнюю среду: «спринтер» и «ста-
йер»
«Спринтер» отвечает на экстремальную
ситуацию большим, но кратковременным
сопротивлением. Чтобы сопротивляться,
выжить, он может иа короткий срок
мобилизовать из психонервной, гормональ-
ной. иммунной и других систем все, что
в них заложено. Затем, после короткой
борьбы, он должен уходить в противофазу,
отдыхать. Он не в состоянии долго тянуть
«сверхрежим». «Спринтеры» более, как мы
говорим, интравертны, то есть замкнуты на
себя. У них больше и социально-эгоистичес-
ких компонентов. В то же время они часто
более романтичны, эмоциональны.
У «стайера» способность в короткие
сроки отвечать сверхиагрузке или сверхза-
даче сравнительно невелика. Но зато ои
может долго работать в среднеэкстре-
мальных условиях, тест на выживаемость
в таких режимах у него очень высок.
«Стайер» способен в течение длительного
времени дезаритмично не спать, выполнять
весьма утомительные процедуры, голодать,
выдерживать психологическую монотон-
ность Обычно его отличает «долгое
упорство», по психологическому типу это
скорее экстраверт.
Пример БАМа и организации работ иа
Севере показывает, что в течение первого
года жизни в сложных условиях среди
молодежи лидируют «спринтеры». «Ста-
йеры» медленно втягиваются в работу,
в коллектив, часто болеют. Но спустя два-
три гола выясняется: «спринтеры» ра съеха-
лись (по разным мотивам), а «стайеры:-
остались. Таким образом, общество как бы
моделирует себя в зависимости от того,
какая складывается ситуация.
ф - А как ведут себя «спринтер» и «ста-
йер» в экстремальной ситуации?
— Социально-эмоциональная и граж-
данская позиция человека определяется ие
типом конституции, а прошлым, «анамне-
зом», в конечном счете тем обществом,
которое сформировало личность молодого
человека. Его социальная и индивидуаль-
ная истории определят меру самопожертво-
вания, степень альтруизма или эгоизма.
А вот темпы реагирования, ре-
альные психофизиологические и биологи-
ческие возможности (выдержит ли человек,
доведет ли выполнение поставленной зада-
чи в экстремальной ситуации до конца),
а также его психофизиологические реак-
ции, его поведение — все это будет су-
щественно определяться естественно при-
родной, биосоциальной «базой» — консти-
туцией человека, его гено-феиотипической
индивидуальностью.
Когда утверждают, что эгоизм и альтру-
изм — наследственные черты, очень важно
правильно понять, что имеется в виду.
Биологические черты альтруизма и эгоизма
несомненно существуют, Волчица будет
сама идти на охотника, отводя его от норы.
от выводка, то есть жертвовать собой.
Вроде бы по всем параметрам реакция
альтруистическая. Но когда нет потомства,
волчица ведет себя иначе.
Значит, с точки зрения этологической
альтруистические и эгоистические реакции
выполняют задачи естественного отбора
(нет у самки такой альтруистической реак-
ции — погибнет потомство).
ф — Ну, а как с человеком? Эгоизм
и а^отруизм понятия сложные, и споры
о них в молодежной среде имеют давнюю
историю. Вспомним хотя бы роман Чер-
нышевского «Что делать?»...
— Попробую объяснить. Мы имеем дело
с поведением молодого человека, с его
личностным удовлетворением. Например,
он ставит перед собой задачу социально
значимую: открыть что-то, выполнить ка-
кую-то социально важную функцию. Ои
ставит эту задачу перед самим со-
бой и все подчиняет ее решению. Она
и мотивирует его поведение в отношении
товарищей, семьи, общества. Покинет ли ои
семью и поедет ли иа год в экспедицию, или
останется работать в городе... Если жена
ставит условие ие ехать, а у него —
обратная жизненная установка, что ему
делать? Остаться, свернуть собственную
программу — что это, эгоизм или альтру-
изм? Ответить однозначно трудно. Здесь
мы попадаем в такую социальную сферу,
где альтруистические и эгоистические ком-
поненты требуют прежде всего вдумчи-
вой оценки в социальных категориях.
В самом деле, с каких позиций оценить тот
или иной поступок?
Можно выстроить целую их иерархию.
Например, бригадир комсомольско-моло-
дежной бригады, убежденный в том, что
она занимает в колхозе или на стройке
особое положение, может повести себя
с точки зрения председателя колхоза или
начальника стройтреста как «собственник».
Если он принимает интересы своего рабоче-
го подразделения близко к сердцу, то он
кто — эгоист или альтруист? Оценить не-
легко...
Мы когда-то провели такое исследова-
ние: взяли большое количество жалоб
грудящихся и посмотрели, кто на кого
жалуется — с точки зрения ранга интере-
сов. Картина интересная: человек жалуется
на учреждение, защищая профессию; за-
щищает учреждение от ведомства; родину
от учреждения; семью от профессии...
Думаю, все же можно выработать табель
оценок, ведь в какой-то мере он уже
существует — шкала общественного мне-
ния в демократической атмосфере
ф - Очевидно, практически всякий моло-
дой человек, резко переменивший обстанов-
ку, скажем переехавший из столицы на
Север, оказывается в экстремальных усло-
виях Что же происходит с ним в этих
условиях?
— Давайте вспомним о стрессе. Пред-
ставляется, что стресс позволяет увидеть
человека глубже, ио далеко не ограничи-
вает и не исчерпывает его сущности. Есть
психофизиологические программы более
высокого уровня, которые я назвал бы (по
типу реагирования) в совокупности «реак-
цией Прометея». Если у молодого человека
социально-эмоциональная установка на его
собственные действия в среде мощная, то
иа пути к цели ои мало раним: терпит голод,
лишения, страдания. Все вынесет, потому
что есть главное — ради чего страдать.
Вероятно, результат — достижение цели
формирует реакцию такого «общения» моз-
га с телом, что целый ряд гормональных
функций, при обычных ритмах жизни
обеспечивающих уровень восприятия, эмо-
циональной чувствительности, на этот раз
«берут на себя» такие факторы, как психо-
логическая установка, одержимость, фана-
тизм. Кажется, что тело становится не-
обычайно прочным, сильным, человек мо-
жет все, он становится «живой леген-
дой»...
А люди даже с сильной установкой оез
экстремальной ситуации, видимо, ие могут
выполнить свою жизненную программу до
конца. Одного надо посылать в Антарктиду,
другой сам туда рвется... Или, например:
молодой драматург пишет пьесу. Он прой-
дет через все — горечь напонимания, боль
от нереализованной программы, умрет, но
закончит свою пьесу... Говоря об экстре-
мальности, мы часто рассматриваем ее как
внешнюю составляющую, вроде бы ие
зависящую от человека. Поменяем знак:
человек нередко сам приближает себя
29
к экстремальной ситуации, она им движет.
Я думаю, что Гагарин был подготовлен всей
современностью, наукой и техникой. Но,
с другой стороны, он ие мог войти в эту
экстрему, как былинный Илья Муромец —
после долгих лет сидения на печи. Гагарин
созрел психологически и был подготовлен
обществом.
Если экстремальная ситуация обруши-
вается на человека внезапно, то мерой его
ответа на вызов экстремы может быть
психофизиологическая подготовленность
Тренированность. Но есть и второй план:
человек сам ищет себе экстремальную
ситуацию. Это мы и называем подвигом:
гражданским, патриотическим, професси-
ональным. Просто человеческим.
— Представьте себе, что двое молодых
людей любят друг друга и появляется
третий. Так вот, если это Любовь с большой
буквы, то иногда приходится самому
уйти — для того, чтобы другой был
счастлив, наступить на свое сердце... Ко-
нечно, не всякий на это способен. Героичес-
кий подвиг и такое поведение в личной
жизни близки по своей психофизиологичес-
кой глубине.
• - А что вы можете сказать о скорости
поообной реакции?
— Быстрота принятия решения ярче
всего проявляет то, что в человеке — от его
личностной истории, психофизиологическо-
го типа. Возьмем, к примеру, экстрему
длинную, например ссылку, когда на про-
чность проверяется вся предшествующая
судьба. Но тут мы опять возвращаемся
к вопросу: ради чего терпеть? Николай
Морозов двадцать лет сидел в Шлиссель-
бурге, писал, потом вышел, возглавлял
институт уже при советской власти. Или
ссыльные большевики, примеров тут мно-
жество...
Но вот вопрос: как бы повел себя
молодой человек, допустим, при весьма
«прозаическом» пожаре? То есть в си-
туации, требующей немедленного поступ-
ка? Может оказаться так, что кто-то всей
своей жизнью подготовлен к растянутой
экстремальной ситуации, а мгновенная
застанет его врасплох и вызовет непредска-
зуемую реакцию.
Мы снова возвращаемся к свойствам
личности. Предсказать трудно, хотя су-
ществует особый — смешанный —
тип. Это «стайеры» и «спринтеры» одновре-
менно. Исследования показывают, что
таких «суперличностей» из общего числа
примерно три процента.
ф И они сочетают в себе признаки
ра Ъных типов, оба типа реакции, о которых
мы уже говорили?
— Да, но случается это крайне редко...
Вообще, если «реакция Прометея» сопро-
вождает акт социального подвижничества,
подвига, она подкрепляет эффект гормо-
нально, психофизиологически. Интересно,
что такой эмоциональный порыв несет
в себе своеобразное социальное «опьяне-
ние». Порой оно доходит до религиозной
экзальтации. Иногда — снижено. От-
сутствие возможности проявить себя в де-
ле. в борьбе подменяется алкоголем, стиму-
лятором, наркотиками. Это — своего рода
суррогат естественной человеческой удов-
летворенности - награды за борьбу, по-
двиг. Кто-то входит в «состояние подвига»,
движимый собственным типом личности,
а кто-то подменяет его допингами.
В истории известны кулачные бои —
улица иа улицу, разного рода народные
соревнования, поединки, которые легко
объяснить в свете вышесказанного. Риск,
азарт, победа «на маленьком интервале»,
возбуждали у человека его эмоциональную
установку; ему не надо было напиваться,
чтобы войти в состояние подвига. Сейчас
эта специфическая радость победы над
собой у молодежи притупилась — да ее
и негде развивать. Драться, говорят, не-
льзя — и ие дерутся. Плавать, чтобы сзади
ие шла спасательная лодка, тоже не
разрешают. Кто же рискует? Па-
рашютисты, боксеры, альпинисты — и все...
Чувство риска должен испытать каждый,
большая судьба без риска не формируется.
Я ие призываю легализовать драки, но доза
риска, считаю, необходима молодому чело-
веку. Вы заметили, как людей притягивает
любое начинание, где хоть немного, ио —
риск? Это не случайно.
ф — Вы полагаете, что тяга к риску
заложена в человеке генетически?
— Да. Эволюция развила у человека
свойство совершенствовать. Не
повторять что-то, а именно совершенство-
вать. А для этого нужно открывать но-
вое; это почти всегда риск. Иногда откры-
тие происходит безболезненно (правда,
чаще лишь для внешнего наблюдателя), а
иной раз сопровождается огнем, взрывом...
Ломоносов так потерял друга.
Есть люди, специально тренированные на
пустынные условия, на холод, для работы
в космосе. Молодой человек вообще плас-
тичен, ои может быть натренирован на что
угодно. Гладиаторов ведь тоже тренирова-
ли... Эта пластичность должна прибли-
жаться к психофизиологической конститу-
циональной природной базе. Но степень
выражения тренированности и ее величина
будут определяться эмоциональными ком-
понентами. Скажем, когда два человека
бегут стометровку, то победный шаг к фи-
нишной ленточке зависит не столько от
тренировки, сколько от психологического
настроя в данную долю секунды.
Изменение жизненной программы порой
оздоровительно для человека. Поэтому
выскажу такую парадоксальную мысль:
адаптация к экстремальным условиям —
это и способ лечения, и метод взросления.
ф — А что будет, если совсем убрать риск
из жизни?
— Люди вымрут. Но риск окончательно
ие устранишь, он всегда скрытно при-
сутствует: риск неизведаииого, инфекции,
неправильного питания, охлаждения, риск
несчастной любви, социального поступка...
Эти явления одного порядка — и плохо,
если люди окажутся психологически и те-
лесно ие приспособленными к рисковой
ситуации. Что же говорить о ситуации
заурядной, бытовой?
Больше того, доля сознательного риска
должна нарастать. Его совсем не обяза-
тельно связывать со смертельной опас-
ностью. Например, есть риск принятия
решения, риск ответственности («нажму
кнопку — и земле конец»). Сейчас мера
риска ие та, что раньше. Когда-то я лез иа
стену по лестнице, прямо в меня целился
стрелок — риск был конкретный, глаза
в глаза — была война. Сегодня иное:
достаточно что-то переключить иа пульте
управления, чтобы поезд пошел не туда...
ф Получается, что мы рождаемся
с ощущением риска, с каким-то внутренним
знанием об этой самой «кнопке»?
— Нет, в том-то все и дело! Чтобы
в полной мере почувствовать, чем сегодня
социальный риск отличается от прошлого,
молодой человек должен пройти стадию
своего личного — конкретного душев-
ного, болевого, психоболевого — риска.
Если ои эту стадию обойдет, то научить его,
никогда не ощущавшего ни боли, ни
сострадания, не нажимать эту прокля-
тую кнопку, думаю, не удастся. Он просто
ие сможет этого понять.
Есть еще одни момент, иа котором
я хотел бы остановиться в связи с пробле-
мой экстремальных ситуаций. Если неболь-
шая группа, какое-то сообщество людей
едины в своей высшей социальной установ-
ке, если они сплочены и обстоятельства
ставят их всех в похожее напряженное
состояние, то объединяющая их атмосфе-
ра — социальная, словесная, атмосфера
жестов, действий — позволит им с полусло-
ва — мимикой, интуицией, как хотите! —
понять друг друга. Общение даже незна-
комых людей в таких напряженных си-
туациях выявляет несомненный пласт о б-
щественного, эмоционально-
г о объединения.
И когда находится человек, который
может их как-то направить, его сила
связана вовсе ие с какими-то «сверхлич-
ностиыми» обстоятельствами. Просто в
данный момент эти люди находятся в сло-
жившейся экстремальной ситуации, а у
конкретного человека хватило умения ее
использовать.
Есть и другая сторона — психологичес-
кая. Молодые люди, внешне разрозненные,
с разными установками, обнаружив какие-
то обобщающие интересы, могут найти
в своей среде тех, кто духовно и психологи-
чески станет иа время лидерами, ведущими.
Ничего «сверхпсихического» тут нет.
Обычно такой л идер — человек с собствен-
ной мощной психологической установкой.
Скажем, в экспедициях, других экстре-
мальных обстоятельствах «формальные»
лидера порой уступают место н а-
стоящим. Культ личности, конечно,
страшен, но без талантов, гениев, без
неудержимого стремления к подвигам об-
щество развиваться не может.
Тут я рновь возвращаюсь в Вере —
Долгу. И 6 нашем социалистическом
обществе существует Вера — в могущество
человека, в мысль, силу разума, в счастье.
Без такой веры люди жить не могут.
Беседу вела Нина К о пт юг.
г. Новосибирск
30
ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ
В начале XVII века Россия пережила множество бед и потрясений,
разрешившихся гражданской войной. Современники называли это
время «смутным».
Известный советский историк продолжает свой рассказ о событиях
Смутного времени (см.: 1986, № 8; 1988, № 1). Теперь в центре
внимания автора — глава православной церкви патриарх Гермоген, его
роль в событиях того сложного периода отечественной истории.
пйтрнярк итога=
ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН принадлежит к числу самых ярких фигур
Смутного времени. Точных данных о его происхождении нет.
Опираясь на косвенные сведения и на предания XVIII века,
известный русский историк С. Ф. Платонов установил, что его род
не был ни знатен, ни именит, но историк явно недооценил
сведения о Гермогене, собранные командующим польским
гарнизоном Москвы А. Гонсевским, которого Связывали с пат-
риархом и близкое знакомство, и смертельная вражда. Гон-
севский имел множество приспешников в Боярской думе и среди
духовенства. Один из московских священников вручил ему
письменное сообщение, свидетельствующее о том, что Гермоген
ранее служил в «казаках донских, а после — попом в Казани».
Случаи пострижения в ту пору донских атаманов в монашество
хорошо известны Известно и название казанской церкви,
в которой Гермоген был священником. Последний факт под-
тверждает достоверность данных, полученных Гонсевским
Первые сведения о деятельности Гермогена как священнослужи-
теля относятся к 1579 году. В это время ему было никак не менее
50 лет — по понятиям своих современников, он был уже старым
человеком. На вольных казачьих окраинах находил прибежище
всякий люд — от обнищавших князей и беглых монахов до беглых
холопов, «гулящих» посадских людей, крестьян и т. д. Скорее
всего служба в казаках не была столь уж мимолетным эпизодом
в жизни Ермолая (таково было мирское имя Ермогена — как
писал его сам Гермоген). Постригся он в монахи в 57 лет, и уже
через два года стал казанским митрополитом. Среди высшего
духовенства выделялся решительным и независимым характером.
Став казанским митрополитом. Гермоген с редким упорством
стал насаждать православие в инородческом Казанском крае. Если
патриарх Иов обладал звучным и красивым голосом, подобным
«дивной трубе», то Гермоген не был голосист, хотя при случае
и мог удивить слушателей хитросплетенными словесами. В об-
щем-то, он был человеком дела и обладал нравом крутым
и вспыльчивым. И те, кто хвалил Гермогена, и те, кто ругал,
сходились в том, что он был «прикрут в словесах и воз-
зрениях», «муж словесен и хитроречив, но не сладко-
гласен... нравом груб». Он пережил четырех царей, из
которых, по крайней мере, двое побаивались прямого и несговор-
чивого пастыря. Так, в дни междуцарствия после смерти царя
Федора Борис Годунов надолго задержал Гермогена в Казани,
чтобы воспрепятствовать его участию в царском избрании.
При Лжедмитрии I 75-летний иерарх не побоялся бросить
вызов главе государства. Ревнители православия с подозрением
взирали на связи царя с католиками. Помолвка «Дмитрия»
с католичкой Мариной Мнишек подлила масла в огонь. Царскую
невесту в Москве честили как еретичку и язычницу. Гермоген
публично осудил готовившуюся царскую свадьбу и потребовал
крещения Марины по православному обряду. За это он был
подвергнут опале и ссылке. Ждали, что с ним расправятся так же,
как некогда опричники расправились с Филиппом Колычевым. Но
Гермоген отделался кратковременным монастырским заточе-
нием.
Переворот 17 мая 1606 года покончил с властью самозванца
и открыл Гермогену путь к патриаршему престолу. Гермоген
помог Шуйскому удержать трон во время восстания Болотникова.
Патриарх не уставал проклинать мертвого «расстригу», «тайного
• Патриарх Гермоген.
католика», «волка в овечьей шкуре» Отрепьева, а заодно объявил
еретиками и отлучил от церкви всех, кто участвовал в восстании
Болотникова. Хотя Гермоген не знал, что новый самозванец —
Лжедмитрий II был тайным иудеем, но у «тушинского вора» не
было другого столь яростного врага, как Гермоген. «Тушинские
перелеты» (так называли дворян, отправлявшихся за милостями
и «пожалованиями» в Тушино, а затем возвращавшихся в Москву)
страшились патриаршего гнева не меньше, чем царской опалы.
Непреклонность Гермогена в свое время помогла Шуйскому
сплотить вокруг трона феодальное сословие, но события
гражданской войны сильно поколебали авторитет официальной
церкви в народной среде. Подпав под власть утопической веры
в «доброго царя Дмитрия», низы с недоверием взирали на
главного пастыря церкви, видя в нем пособника неправой власти.
Ровесник царя Ивана Грозного, Гермоген обладал большим
политическим опытом. Он ясно видел, что свержение Шуйского
в обстановке усиливавшейся интервенции и внутренних меж-
доусобиц еще больше осложнит положение России. Но не в его
силах было изменить ход событий.
17 июля 1610 года Иван Салтыков, Захарий Ляпунов и другие
31
заговорщики из дворян собрали на Красной площади внушитель-
ную толпу и обратились к посаду с призывом свергнуть царя
Василия принесшего стране бесконечные бедствия Опасаясь
противодействия Гермогена, мятежники ворвались в патриаршие
палаты и захватили его. Заложниками в руках толпы стали бояре,
которых искали повсюду и тащили на Лобное место. Помня
о прежних неудачах, заговорщики не стали штурмовать царский
дворец, а все внимание обратили на армию. Последнее слово
принадлежало вооруженной силе Для отражения самозванца
полки были сосредоточены в Замоскворечье. Туда-то и повели
толпу Салтыков и Ляпунов. Престарелого патриарха волокли, не
давая ему отдышаться. С бояр не спускали глаз.
В военном лагере за Серпуховскими воротами открылся
своего рода Земский собор с участием Думы, высшего духо-
венства и восставшего народа. За низложение Василия Шуйского
высказались Голицыны, Мстиславский, Филарет — в миру Федор
Романов. Патриарх Гермоген пытался защищать Шуйских, но его
не стали слушать
Для переговоров с Шуйским собор направил в Кремль бояр
Воротынского и Федора Шереметева, а также патриарха со всем
священным собором. Посланцы старались добром уговорить царя
покинуть трон. Свояк князь Воротынский обещал «промыслить»
(выхлопотать) ему особое удельное княжество со столицей
в Нижнем Новгороде. Василий не слушал увещеваний и не желал
расставаться с царским посохом. Тогда его силой свели из дворца
на старый двор.
Низложив царя, собор направил своих представителей в лагерь
Лжедмитрия II подле Данилова монастыря. Тушинский боярин
князь Д Трубецкой, возглавлявший Думу самозванца, лукаво обе-
щал москвичам, что тушинцы откажутся от «царика», как только
москвичи свергнут Шуйского, а затем всем миром можно будет
избрать законного государя. Но обещания эти оказались не более
чем хитростью. Когда москвичи явились в лагерь к «ворам», те
предложили им отворить ворота столицы перед «истинным
государем», т. е. Лжедмитрием II
Иллюзии рассеялись. Наступила минута общего замеша-
тельства. Партия Шуйских преодолела растерянность и попыта-
лась восстановить утраченные позиции. Патриарх обратился
к народу с воззванием, моля вернуть на престол прежнего царя
Начальник Стрелецкого приказа Иван Шуйский через верных
людей пытался склонить кремлевских стрельцов к новому
перевороту.
Так заговорщики решили довести дело до конца. Вместе
с Захарием Ляпуновым в их «совете» участвовали думный
дворянин Гаврила Пушкин и множество уездных дворян. На этот
раз заговорщики не стали обращаться к Земскому собору. Собрав
немногих стрельцов и толпу москвичей, они явились во двор
Шуйского, прихватив с собой некоего чудовского чернеца
Дворяне держали бившегося в их руках самодержца, пока монах
совершал обряд пострижения. «Инока Варлаама» тут же вытащили
из хором и в крытой повозке отвезли в Чудов монастырь. Конечно
же, Гермоген тогда не мог даже предположить, что патриарший
Чудов монастырь станет тюрьмой не только для поверженного
самодержца, но позже и для него самого. Власть перешла в руки
московской семибоярщины. В ее состав входили Федор Мстис-
лавский, Иван Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов,
Федор Шереметев и другие
Тем временем к Москве подступил гетман Жолкевский,
который вел переговоры с казаками Лжедмитрия II о том, чтобы
совместно штурмовать Москву. Одновременно Жолкевский
предложил мир боярскому правительству с условием, что
московский трон достанется польскому королевичу Владиславу
По иронии судьбы, идею передачи русской короны Владиславу
впервые выдвинули Шуйский и Голицын — еще в дни заговора
против Лжедмитрия I. Позже тушинское правительство во главе
с Филаретом Романовым и Михаилом Салтыковым положили эту
идею в основу договора, заключенного с Сигизмундом III. Своим
авторитетом Филарет Романов немало способствовал тому, что
семибоярщина последовала примеру тушинской Боярской думы
и заключила с Жолкевским договор о признании Владислава
русским царем.
С избранием Владислава на трон бояре рассчитывали
использовать королевскую армию для наведения порядка в стра-
не. Мстиславский и другие влиятельные бояре мечтали получить
такие же привилегии, какими пользовались польские магнаты.
В своих манифестах Сигизмунд III обещал прибавить русским
дворянам вольностей и избавить их от тиранических порядков. Но
куда больше феодалов волновал вопрос о землях и крестьянах.
Дворянские представители имели численное преобладание на
Земском соборе. Им и предстояло принять окончательное
решение. Не желая передоверять дело семибоярщине, дворяне
постановили сами вести переговоры с Жолкевским. В польский
лагерь явились, как прикинул гетман, около пятисот дворян,
стольников и боярских детей. Жолкевский не скупился на
обещания.
16 августа 1610 года Мстиславский, Романов, Голицын и члены
Земского собора привезли гетману текст соглашения об избрании
Владислава на царский трон. На другой день посланцы Жолкевско-
го Валуев и Салтыков явились в Кремль и зачитали собравшемуся
народу текст московского договора. Бояре принесли присягу
Владиславу в Успенском соборе. Из Кремля начальные люди
и население направились на Новодевичье поле, где их уже ждал
Жолкевский с другими поляками. Гетман сообщает, что на поле
собралось более 10 тысяч русских. В их присутствии русские
и польские вожди торжественно утвердили договор.
Между членами московского собора и столичным населением
единодушия не было и в помине, и боярское правительство не
решилось передать договор на подпись выборным земским
членам Мстиславский, Голицын да Шереметев запечатали
документ своими печатями, двое думных дьяков поставили на них
подписи. Тем дело и ограничилось.
Московский договор был плодом компромисса, который не
мог удовлетворить ни одну из сторон. Боярская дума и патриарх
Гермоген не допускали и мысли о том, что православным
царством будет править государь-католик. Жолкевский же считал
абсурдной саму мысль о крещении в православную веру короле-
вича, но согласился на его коронацию по православному обряду.
Предпринимая поход в Россию, король Сигизмунд III обещал
папе римскому распространить католическую веру на эту
«варварскую страну». Но Гермоген отнюдь не уступал Сигизмунду
в фанатизме. Чтобы предотвратить распространение католичества
в России после воцарения Владислава, патриарх Гермоген
потребовал смертной казни для тех русских, которые «похотят
малоумием своим» принять «папежскую веру» (католичество).
Для короля и его католического окружения эти требования
Гермогена были так же неприемлемы, как и требование, чтобы
Владислав перешел в православие
Московское соглашение подтвердило незыблемость тради-
ционных русско-польских границ. Именем Сигизмунда Жол-
кевский обязался очистить после воцарения Владислава все
«порубежные» русские города, занятые королевскими войсками.
Однако в вопросе о прекращении военных действий стороны не
достигли ясности. С начала интервенции главным пунктом борьбы
стал Смоленск. Соглашение о передаче трона Владиславу
и договор о нерушимости границ, казалось бы, автоматически
влекли за собой прекращение осады крепости. Однако гетман
знал, что Сигизмунд задался целью присоединить Смоленск
к коронным владениям и не собирался отступать от поставленной
цели. Поэтому он ограничился обещанием просить короля
о прекращении бомбардировки и осадных действий под Смо-
ленском. Бояре удовлетворились этими неопределенными обе-
щаниями и, подписав договор фактически бросили на произвол
судьбы гарнизон и население Смоленска.
Хотя семибоярщина и не заручилась окончательным согласием
претендента и его отца, был отдан приказ о немедленной присяге
царю Владиславу Текст присяги содержал два пункта. Первый
предусматривал отправить послов к Сигизмунду с просьбой
отпустить сына на русский царский престол. К этому пункту был
прибавлен второй с клятвой верности «царю всея Руси» Владисла-
ву В спешке боярские правители утратили не только осторож-
ность, но и здравый смысл. В их действиях была логика, но то была
логика отчаянно трусивших людей.
Каким бы непопулярным царь ни был, олицетворением зла
в глазах народа всегда оставались лихие бояре. Когда бояре
свергли Шуйского, показалось, что страна и вовсе может остаться
без «надежи-государя». Столичный гарнизон насчитывал до
15 тысяч человек, у самозванца было не более 3—5 тысяч воинов.
Но бояре слишком хорошо помнили триумфальное вступление
32
Отрепьева в столицу. С «законным царем» они обороняли Москву
от второго самозванца в течение полутора лет. Без царя на троне
бороться с «добрым Дмитрием» было куда труднее. Потому
семибоярщина и решила не медлить ни дня с провозглашением
Владислава царем всея Руси, надеясь утихомирить народ именем
нового «законного государя». Однако семибоярщина не учла, что
ее кандидат не обладал популярностью ни в русской столице, ни
в провинциях
Московский договор поставил людей перед трудным выбо-
ром: либо покориться лихим боярам с их чужестранным
королевичем, либо предпочесть «истинного, прав'ославного Дмит-
рия». Миф о «добром сыне» Ивана Грозного вновь стал
овладевать воображением народа. Семибоярщина напоминала
человека, вязнущего в тоясине. Чем судорожнее она цеплялась за
власть, тем глубже погружалась в пучину. Объявив об избрании на
царство Владислава, верхи окончательно оттолкнули от себя
народ. Свидетели московских событий единодушно утверждали,
что москвичи — «черный люд» — всячески противились намере-
нию возвести на трон королевича. В обычных условиях Дума,
опираясь на Земский собор, без особых затруднений решила бы
вопрос о престолонаследии. Ведь низы не имели представителей
ни в Думе, ни на соборах. Но в обстановке Смуты роль народа
в происходящих событиях неизмеримо возросла
Большая часть столичного населения не приняла участия
в устроенном боярами шествии на Новодевичье поле. На другой
день после присяги монахи Симонова монастыря послали гонцов-
монахов к «царьку» на поклон. Прошло еще два дня, и множество
московского люда, не желая присягать католическому государю,
покинуло столицу и перебралось в лагерь самозванца.
Провинции имели еще больше оснований негодовать на
семибоярщину, чем столица. Ведь правители не стали дожидаться
съезда выборных от всей земли и избрали государя без их
участия. Последствия этого сказались очень скоро. В августе
прокатились волнения в Твери и Владимире, Ростове, Суздале
и Галиче. «Черный люд» объявил о поддержке Лжедмитрия II.
Избрание Владислава на время сплотило феодальные верхи.
Целой толпой явились в Москву бывшие тушинцы, давно перешед-
шие на королевскую службу. Настороженно встречало их
столичное население, не забывшее голодных «осадных» лет. Все
ждали, что скажет глава церкви Гермоген, ярый противник
Тушинского лагеря. Наконец настал день, когда Михаилу Салтыко-
ву с товарищами пришлось отправиться в Успенский собор за
патриаршим благословением. Гермоген поначалу «не даде им
благословения», грозя проклятием за двоедушие и «лесть».
Только после того, как Салтыков «притворне» заплакал и стал
клясться, что нет в нем лукавства, патриарх смягчился и благосло-
вил тушинцев. Лишь увидев М. Молчанова, убийцу Федора
Годунова и «зачинщика болотниковщины». Гермоген дал волю
гневу и с позором изгнал из храма «окаянного еретика».
Вслед за Салтыковым в Москву вернулись многие другие
дворяне, до последнего момента державшиеся за Лжедмитрия II.
В Москве они принесли присягу Владиславу.
Однако чем больше дворян покидало самозванца, тем вернее
приобретал Лжедмитрий 11 сторонников среди московской
городской бедноты, крестьян и холопов. Пожар гражданской
войны разгорался с новой силой. Дух Болотникова вновь витал над
страной Народ готов был начать все сначала.
Именно страх перед назревавшим восстанием низов погнал
бояр в стан интервентов. С помощью иноземного войска они
надеялись навсегда покончить с крестьянско-казацкими таборами
Московский договор заключал пункт, в глазах бояр едва ли не
самый важный. По их настоянию Жолкевский принял на себя
обязательство «промышлять» над «воровскими таборами» до тех
пор, пока «вор» не будет убит или взят в плен, а его лагерь
перестанет существовать, после чего земля «в тишине станет».
После воцарения Владислава бояре надеялись решить вопрос
о самом существовании вольных казаков. Жолкевский действи-
тельно помог семибоярщине отогнать «вора» от стен Москвы, но
ввязываться в войну с войсками Лжедмитрия 11 не стал.
После присяги Владиславу Москва снарядила великое по-
сольство к королю, чтобы в его лагере под Смоленском
завершить мирные переговоры С послами выехало около
пятидесяти человек. Они представляли все чины, или палаты,
Земского собора. От православного духовенства к королю
отправились кроме Филаретр несколько столичных игуменов
и старцев.
Боярское правительство не могло дать стране ни мира, ни
популярной династии. Народ отвернулся от него окончательно.
Знать пировала в кремлевском дворце с королевскими
ротмистрами, а за окнами дворца чернь волновалась, грозя
боярам расправой. Королевские приспешники слали под Смо-
ленск донос за доносом. Часть москвичей, утверждали они,
замышляет поддаться «вору», другие сами желают стать господа-
ми, и мало тех, кто не был бы бунтовщиком. Жолкевский целиком
разделял опасения доносчиков. Склонная к возмущению мос-
ковская чернь, писал он, в любой момент может призвать
Лжедмитрия.
По иронии судьбы, вчерашние «тушинцы» — Михаил Салтыков
с товарищами — громче всех кричали об опасности переворота
в пользу Лжедмитрия 11: мол, чернь того и гляди перебьет власть
• Казанская икона божьей матери.
Во время священства Гермогена 23 июня 1579 года в Казани
случился страшный пожар, охвативший не только гостиные ряды,
большую часть посада, но и Спасо-Преображенский монастырь.
Казанские мусульмане увидели в пожаре проявление гнева
Аллаха, наказавшего христиан, в частности, за поклонение иконам.
8 июля на месте сгоревшего дома стрельца Онучина «чудесно
открылась» икона богоматери, дабы стать «символом торжества не
только в Казани, но и во всей православной России над инове-
рием». В 1594 году Гермоген, который собственноручно перенес
икону в церковь, написал «Сказание о явлении Чудотворные Иконы
Пресвятые Богородицы во граде Казани»
Иллюстрации из книги С. Кедрова «Жизнеописание святейшего
Гермогена патриарха Московского и всея России». М„ 1912.
имущих и отдаст Москву «вору». Ссылаясь на опасность народного
возмущения, Салтыков требовал немедленного введения в
Москву иноземцев-наемников
Инициативу приглашения наемных сил в Кремль взяли на себя
Мстиславский, Иван Романов и двое других бояр, имея непрочное
большинство в семибоярщине. Жолкевский прекрасно разбирал-
ся в мотивах, которыми руководствовались его новые союзники.
Боярские правители, говорил он, страшились своего народа
и желали под защитой иноземных войск обезопасить себя от
ярости низов.
Мстиславскому и его сообщникам не сразу удалось осу-
ществить свои замыслы. Когда по их приглашению в Кремль
явился полковник Гонсевский и русские приставы повели его
осматривать места расквартирования рот, москвичи ударили
в набат и, вооружившись чем попало, бросились в Кремль.
Попытка ввести в крепость иностранные войска была сорвана.
Боярская дума оказалась парализована разногласиями, и тогда
церковь попыталась взять инициативу в свои руки. Гермогену
было за восемьдесят, но он сохранял ясную голову, способность
к трезвой оценке ситуации и не боялся вступить в спор с власть
33
имущими, не помышляя О том, чем это обернется для него
Введение иноземных войск в Москву казалось патриотам
немыслимым, чудовищным шагом, но их голоса были едва
слышны среди общего ликования по поводу счастливо обретенно-
го государя. Лишь поддержка главы православной церкви придала
силу этим голосам.
Патриоты могли рассчитывать на содействие только двух
членов семибоярщины — князей Ивана Воротынского и Андрея
Голицына. С их помощью Гермоген созвал на Патриаршем дворе
других чиновных людей — дворян и приказных. Дважды патриарх
безуспешно посылал за Мстиславским и прочими начальными
боярами. Наконец, выведенный из терпения, он пригрозил, что
вместе с толпой сам явится в Думу. Тогда Мстиславский с товари-
щами прибыл на собор.
По словам Жолкевского, у Гермогена собралось великое
множество людей, не столько из простого народа, сколько из
дворян и служилых Атмосфера накалялась Забыв о всякой
дипломатии, дворяне бранили гетмана за нарушение заключенно-
го договора.
Мстиславский лишний раз обнаружил свою никчемность.
Подвергшись нападкам со всех сторон, он заботился лишь о том.
чтобы сохранить свое лицо. С миной оскорбленной добродетели
он вновь и вновь твердил, что никогда не нарушал присяги
и теперь готов умереть за царя Владислава.
Гермоген более всего негодовал на то, что польское
командование Не выполнило обязательств относительно истреб-
ления таборов и пленения Лжедмитрия II. Дворянское боль-
шинство всецело разделяло его чувства.
Пан Гонсевский, главный помощник гетмана, через своего
агента князя Василия Черкасского клятвенно заверил членов
собора, что польское командование на следующий же день
пошлет свои роты против «калужского вора», если московские
воеводы поддержат наступление. Заверения были лживы от
первого до последнего слова. Вместо похода на Калугу Гонсевский
завершал последние приготовления к захвату Москвы. Мстис-
лавский повторил ложь Гонсевского и тем заставил замолчать
Гермогена.
Попытка главы церкви вмешаться в мирские дела окончилась
неудачей. Впрочем, уже опричнина Грозного определила подчи-
ненное положение русской церкви в системе нарождавшейся
в России самодержавной системы
Возможно, при более благоприятных обстоятельствах пат-
риарх мог бы возглавить Земский собор и решить дело наперекор
семибоярщине. Но Земский собор, руководивший свержением
Шуйского, оказался неспособным вторично взять на себя функции
высшей власти. Влиятельная верхушка собора Ла удалена из
столицы под предлогом переговоров с королём, Немногие из
оставшихся вождей собора осознавали в,сю меру опасности,
угрожавшей государству. Гермоген и ё^о окружение были
всецело поглощены планами разгрома Калужского лагеря. Они
пытались предотвратить вторжение в Кремль королевских войск,
но боялись прибегнуть к помощи той единственной силы, которая
могла спасти Положение. Сам выходец из народа немалую часть
жизни проведший в вольных казаках, Гермоген знал народ лучше
многих других правителей. Опыт Смуты подсказывал ему, что
власть имущие будут бессильны перед лицом народной стихии,
даже если сами в своих целях ее развяжут. Страх перед надвигав-
шимся восстанием «черни» в пользу истинно православного,
законного, «доброго» иаря парализовал все усилия Земского
собора.
Чтобы устрашить Гермогена, Мстиславский и Салтыков велели
арестовать нескольких патриотов. Другие получили приказ
явиться в ставку к Жолкевскому Многие приказ не выполнили. Их
не оставили в покое. Вместе с Федором Шереметевым Михайло
Салтыков стал объезжать дворы «мятежников» и вразумлять
их. В знатных домах он бранился, но соблюдая некоторую меру.
С мелкой сошкой и вовсе не церемонился. Земским представите-
лям гоозили всевозможными карами. Боярин Андрей Голицын
и Гермоген пошли на попятную. Они не противились более
Мстиславскому Голицын даже разъезжал по улицам вместе
с Салтыковым, стараясь успокоить народ и предотвратить
волнения и кровопролитие. Покончив с сопротивлением Земского
собора, бояре убрали последние препоны к вступлению ино-
земных войск в Москву.
Наемные роты вошли в столицу ночью, без барабанного боя,
со свернутыми знаменами. Жолкевский разместился в Кремле, но
при нем находилась лишь небольшая свита. Один из полков занял
казармы в Китай-городе, другой — в Белом городе. Прочие силы
остались в Новодевичьем монастыре.
И все же иллюзии, порожденные московским мирным
договором, рассеялись не сразу Семибоярщина, готовая идти на
новые уступки королю, тщательно скрывала правд" от народа.
Гетман Жолкевский старался любыми средствами предотвратить
столкновения между солдатами и населением Москвы. Хорошо
зная нравы наемников, он составил детально расписанный устав,
грозивший суровым наказанием за мародерство и насилие На
первых порах командование весьма строго следило за его
выполнением. Например, однажды пьяный гайдук, стоявший на
карауле у ворот, на глазах у толпы выпалил в икону богоматери,
висевшую над воротами. В считанные часы об этом событии узнала
вся Москва. Город гудел, как потревоженный улей. Поляки
поспешили созвать войско и приговорили Виновного к смерти.
Гайдуку отрубили руки. Затем его бросили живым в костер. Руки
прибили к стене под расстрелянной иконой. Известно также, что
военный суд приговорил к смерти нескольких мародеров, кото-
рых помиловали лишь по ходатайству Гермогена.
Однако планы Жолкевского не осуществились. Да и сам он
недолго пробыл Москве Сторонники завоевания России вскоре
аннулировали мирные соглашения. Нежданные союзники, пу-
щенные боярами в Москву, все больше превращались в оккупан-
тов. Столкновение между наемными солдатами и населением
неизбежно приближалось.
Тем временем русские послы вели тщетные переговоры
с королем Сигизмундом III. Выступивший за унию между Речью
Посполитой и Россией Жолкевский советовал королю утвердить
московский договор. Из Москвы приходили вести, от которых
голова шла кругом. Бояре склонились к ногам Владислава.
Королевские войска водворились в Кремле. Но при дворе
Сигизмунда III взяли верх сторонники продолжения войны
с Россией, домогавшиеся присоединения к коронным владениям
всех завоеванных в России земель. Падение Смоленска стало для
Сигизмунда вопросом престижа. Он ультимативно требовал от
послов немедленной сдачи Смоленска. К тому же король не
собирался отпускать сына в охваченную смутой Россию. Он
готовился занять царский трон по праву завоевателя. Мирный
договор, навязанный боярам Жолкевским, оказался хитрой
уловкой, которая помогла завоевателям утвердиться в сердце
России.
Однако пока Смоленск сопротивлялся интервентам, коро-
левская армия была прикована к границе. Чтобы окончательно
поставить Россию на колени, Сигизмунду надо было сокрушить
Смоленск. 21 ноября 1610 года поляки возобновили штурм
русской крепости. Едва забрезжил рассвет, как взрыв огромной
силы потряс окрестности. Осела одна из башен, рухнула часть
стены. Трижды неприятель врывался в город и трижды принужден
был отступить. Гром пушек под Смоленском подтвердил
решимость короля продолжать завоевательную войну.
Штурм Смоленска ошеломил москвичей. Однако глава
семибоярщины решил положиться на волю короля. По его
настоянию Боярская дума постановила сдать Смоленск. Боярское
решение вызвало гнев и возмущение патриотов. Зыразителем
национальных чувств выступила церковь зо главе с патриархом. На
сей раз Гермоген не мог рассчитывать на поддержку прежних
единомышленников из числа членов распущенного Земского
собора. Тем не менее он категорически отказался подчиниться
семибоярщине и не подписал решение о капитуляции Смоленска.
Михаил Салтыков обрушился на патриарха с угрозами, грозя ему
расправой. Но Гермоген не испугался угроз.
В королевском лагере под Смоленском русские послы наотрез
отказались следовать приказу насчет сдачи города. «Отправлены
мы от патриарха, всего священного собора, от бояр, от всех чинов
и от всей земли, а эти грамоты писаны без согласия патриарха
и без ведома всей земли: как же нам их слушать?» — заявляли они
королевским сановникам.
Посол Василий Голицын тайно уведомил Гермогена, что
Сигизмунд сам намерен занять русский трон и нельзя верить его
обещаниям прислать в Россию сына Разоблачения посла еще
больше накалили обстановку в Москве.
34
Швед по рождению, Сигизмунд 111 не понимал вольнолюбиво-
го духа польского народа и не пользовался популярностью даже
среди собственных подданных. Рьяный фанатик, король спо-
собствовал торжеству католицизма в Речи Посполитой. Заключен-
ная при нем церковная Брестская уния отдала православную
церковь Украины и Белоруссии под власть Ватикана. В России
знали об этом и считали Сигизмунда 111 злейшим врагом «истин-
ной веры». Даже ярые приспешники короля, наподобие Салтыко-
ва и Мстиславского, не предлагали ему царскую корону из-за его
крайней непопулярности среди русского православного населе-
ния. Замыслив подчинить Россию, Сигизмунд допустил массу
просчетов. Один из них был связан с делами церковными.
Примеривая шапку Мономаха, король нимало не заботился о том,
чтобы наладить отношения с православной церковью, слабо
представляя себе роль московского патриаршества в жизни
русского общества. Королевская агентура в Москве надеялась
справиться с церковной оппозицией, с боярским кругом всецело
с помощью угроз и гонений. Подготовляя почву для расправы
с патриотами, Гонсевский с помощью Салтыкова инспирировал
громкий судебный процесс.
В руки властей попал некий казак из войска самозванца. Под
пыткой пленник оговорил московского попа Иллариона: поп
якобы отвез Лжедмитрию 11 письмо от всех сословий столицы
с приглашением в Москву, где все готовы присягнуть ему. Власти
нарядили следствие. Немало «помог» донос, поступивший от
холопа боярина Мстиславского. Холоп сообщал, что видел
заподозренного попа в день отъезда его из Москвы в Серпухов.
Показания свидетелей плохо увязывались между собой. Казак
толковал о попе Илларионе, а холоп — о попе Харитоне. Но
подобная мелочь не смутила следователей. При аресте у Харитона
в самом деле нашли «воровские листы». Правда, они не заключа-
ли в себе никакого обращения москвичей к Лжедмитрию II. При
Харитоне были грамоты, каких в то время много ходило по
Москве. Самозванец писал «прелестные листы» без счета, обещая
всем подряд свои милости. Хотя обнаруженные грамоты и были
адресованы Гермогену, но не доказывали вину патриарха. Однако
судьи нашли выход из положения, приобщив к делу признания
бывшего слуги Юрия Мнишека. Слуга показал, что он «делал
измену» Владиславу в компании с Лжедмитрием II и Гермогеном.
Попа Харитона несколько раз брали к пытке пока он не
сознался в преступлениях, ранее приписываемых Иллариону.
Священник по подсказкам палачей покорно повторял наветы.
Боярин Иван Воротынский и князь Засекин, признавался Харитон,
не раз поручали ему носить изменные письма в Калугу. Василий
Голицын, показывал поп, писал Лжедмитрию II, едучи в Смо-
ленск. В заговор с «вором» вступил не только Василий, но
и Андрей Голицын.
Власти обнародовали официальную версию, «раскрывавшую»
планы заговора во всех деталях. Переворот якобы намечался на
19 октября 1610 года за три часа до рассвета. Москвичи, по этой
версии, вступили в сговор с серпуховским воеводой Федором
Плещеевым, державшим сторону самозванца. Плещеев с казака-
ми будто бы ждал условного сигнала С первыми ударами
колоколов мятежники должны были проникнуть через тайный
подземный ход в Кремль и овладеть Водяными воротами, а затем
впустить в крепость «воровские» войска. Поляков предполагалось
перебить, кроме самых знатных, а князя Мстиславского «огра-
бить» и в одной рубашке привести к «вору».
Инициаторы процесса постарались убедить Мстиславского, что
заговор был направлен лично против него, а заодно и против всех
«лучших» столичных людей. Они объявили, что бунтовщики
замыслили побить бояр, родовитых дворян и всех благонаме-
ренных москвичей, не участвовавших в «воровском» совете, а жен
и сестер убитых вместе со всем имуществом отдать холопам
и казакам.
Обвинения по адресу заговорщиков носили обычный характер..
Верхи неизменно предъявляли их всем повстанцам, начиная
с Болотникова. Правдой в них было лишь то, что восстание
в Москве могло вспыхнуть со дня на день. Эмиссары Лжедмитрия
II открыто настраивали народ против Владислава. На рыночных
площадях стражники и дворяне не раз хватали таких ораторов, но
толпа отбивала их силой. Гонсевскому нетрудно было заполучить
сколькр угодно доказательств подготовки восстания в столице.
Однако ни патриарх, ни Голицын с Воротынским не имели
никакого отношения к назревавшему выступлению низов. Своих
казаков эти люди боялись гораздо больше, чем иноземных
солдат.
Дело о заговоре патриарха и бояр едва не рухнуло, когда
разбирательство перенесли с пыточного двора в помещение суда.
Бояре, полковники и ротмистры собрались во дворце, чтобы
выслушать важные сообщения о заговоре. Но как только началось
заседание суда, главный свидетель обвинения поп Харитон
отказался от своих показаний и заявил, что со страху оговорил
бояр Голицыных. Признание Харитона испортило спектакль, но не
заставило инициаторов процесса отказаться от своих намерений.
Раскрытие мнимого заговора стало для Гонсевского удобным
предлогом, чтобы ввести наемных солдат в Кремль. Отныне на
карауле у кремлевских ворот вместе со стрельцами стояли
немцы-наемники. Ключи от ворот были переданы смешанной
комиссии из представителей семибоярщины и польского коман-
дования.
Иван Воротынский не очистился от обвинения. Но он проявил
покладистость, и после недолгого ареста его вернули в Думу
Андрей Голицын доказал на суде свою невиновность. Однако он
был решительным противником передачи трона Сигизмунду,
и потому его изгнали из Думы и заключили под стражу. Патриарха
обвинили в тайной переписке с «вором». Нелепость обвинения
была очевидна для всех.
Сила московского патриаршества опиралась на обширные
земельные владения церкви. Патриарха окружали вооруженные
боярские дети и дворяне, получавшие поместья из его рук.
У главы церкви были свой дворецкий, казначей и другие прове-
ренные и преданные чиновные люди. Боярский суд не случайно
предъявил Гермогену обвинение в государственной измене.
Обвинение позволило властям применить к церкви неслыханные
со времен опричнины меры. Суд постановил распустить весь штат
патриарших слуг — дьяков, подьячих и дворовых людей. В итоге
у Гермогена и «писать стало некому». Отныне главу церкви
окружали одни соглядатаи Гонсевского.
Вмешательство в церковные дела, инспирированное ино-
земным командованием, вызвало возмущение в столице. Су-
дебный фарс и замена служителей унизили властного и гордого
Гермогена. Но впереди его ждали худшие испытания.
Продолжение следует.
Научная
ЭКСТРАСЕНС
ЗА СОРОК ДОЛЛАРОВ
Именно за сорок долларов можно
приобрести устройство, выпускаемое
фирмой «Персептрон» (Нью-Йорк).
Разработчики утверждают, что прибор
«улучшает экстрасенсорное воспри-
ятие».
Судя по описанию, принцип действия
прост: микропроцессор с батарейным
питанием включает последовательно
цли произвольно четыре цвета. Претен-
дент на роль экстрасенса старается
угадать каким будет следующий цвет
в каждой последовательности. Число
мозаика
совпадений и определит экстрасен-
сорные способности клиента.
В инструкции к прибору рекомен-
дуется запоминать ощущения и эмоции,
при которых угадывание шло особенно
удачно. Это, по утверждению фирмы,
может развить экстрасенсорные спо-
собности.
От такой «новинки», которую может
сработать умелец из кружка юных
техников, можно было бы отмахнуться.
Но следует заметить, что в основу
прибора легли разработки известного
ученого Р. Тарга, а заказчиком было
НАСА
МЫСЛИ БЕЗ НИМБА
4- Если души не существует, то почему
возникает желание отвести душу!
4 Что-что, а холодный прием вам в аду не
угрожает.
Дмитрий ПЕРЛИН
г. Минск
4 Из лозунгов того времени: «Выше
производительность сизифова труда!»
Григорий ГАРЧЕНКО
г. Днепропетровск
+ Плохо, если ученик дьявола превзойдет
учителя
Валерий ВОРОНЦОВ
г. Тольятти
Куйбышевской области
35
ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ
БОГОСЛОВ?
МИСТИК?
АТЕИСТ?
О мистицизме Сковороды писали и спо-
рили много, пожалуй, слишком много.
Тиражируясь, ходячая версия, как это
обычно бывает, обрастала легендарными
подробностями. И вот уже архиепископ
Филарет в своем «Обзоре русской духов-
ной литературы» рассказывает о том, как
ему каким-то «крестьянином Каразина»
были принесены «три фолианта» с сочине-
ниями немецкого мистика конца XVI —
начала XVII века Якоба Бёме. «В рукопи-
си нет показания,— пишет Филарет,— кто
переводил Бема: но по современности
фолиантов со Сковородою (?) и по его
связям с дворянскими домами Украйны
вероятно, что фолианты если не пере-
ведены Сковородою, то были в его руках
и навеяли нечистую пыль на его душу».
Дело, однако, в том, что и у М Кова-
линского, специально перечислявшего
близких учителю писателей, и, самое глав-
ное, в сочинениях и письмах самого Сково-
роды нет ни слова о Я. Бёме или о других
немецких мистиках, ни малейших следов
их влияния.
С начала нынешнего века русские
исследователи, говоря о мистицизме Ско-
вороды, переносят акцент на вопрос о его
«домашних» истоках. «В Сковороде,— пи-
сал В. Эрн, автор наиболее значительной
из работ такой направленности,— прово-
дится божественным плугом первая бо-
розда, поднимается в первый раз дикий
и вольный русский чернозем. И в этом
черноземе, в этой земляной народной
природе Сковороды мы с удивлением
видим основные черты, характеризую-
щие всю последующую русскую мысль.
После него восстает ряд великих, гениаль-
ных творцов русской мысли». В этом ряду
ключевое место занимают у В. Эрна
такие мыслители, как В. Печерин, А. Хо-
мяков, С. Трубецкой, П. Юркевич, Вл. Со-
ловьев, Вяч. Иванов
Андрей Белый, увлеченный в ту пору,
особенно после путешествия в Тунис,
Египет и Палестину, неославянофильской
идеей «особого», неевропейского пути
России, окончательно подводит — явно не
без влияния В. Эрна — черту под своим
былым интересом к кантианству, «собира-
ет в урну пепел сожженного своего востор-
га». В новый вариант программной с этой
точки зрения вещи — «Искуситель» он
включает такую строфу:
Оставьте... В этом фолианте
Мы все утонем без следа!..
Не говорите мне о Канте!!
Окончание. Начало в № 2, 3.
Юрий БАРАБАШ
Что Кант?.. Вот... есть... Сковорода.
Философ русский, а ие немец!!!
В ранней редакции «Петербурга» имя
украинского философа сопрягалось с ха-
рактеристикой мыслей Аполлона Аполло-
новича Аблеухова. Но в окончательной
редакции романа образ Сковороды вы-
полняет совсем иную смыслообразующую
функцию: он возникает в последних стро-
ках как символ духовного возрождения
Аблеухова-младшего, возвращения его к
«истокам».
Все сказанное, однако, не должно засло-
нять для нас неоднозначность вопроса:
ведь мистиком называли Сковороду не
только цитируемые выше авторы. В шев-
ченковских «Близнецах» он упоминает-
ся как «мистик-философ». И. Франко го-
ворит, что в сковородинском духовном
наследии немало писаний «преимущест-
венно мистико-философского характера».
М. Рыльский отмечает «идеалистические,
а отчасти и мистические элементы фило-
софии этого мыслителя». Чтобы убедиться
в правомерности этих авторитетных свиде-
тельств, достаточно перечитать такие со-
чинения Сковороды, как «Кольцо», «Ико-
на Алкивиадская», «Жена Лотова», «Потоп
змиин», хотя и в них, заметим, немало
вкраплений фольклорного происхождения
(например, притча про «умницу бабу» в
«Кольце» или ссылка на «малороссий-
скую песню» в «Потопе змиином»).
Но особенно очевидны религиозно-
мистические мотивы в некоторых песнях
из «Сада божественных песен». Разве
не становится главенствующей мистиче-
ская стихия в песне 1, где воспевается
«иго благое и бремя легкое» служения
Христу, блаженство и «сладость» аскети-
ческого самоотречения?
А как от грехов воскресну, как одену
плоть небесну,
Ты в меня, я в гебя вселюся,
Сладости той иасыщуся,
С гобою в беседе, с тобою в совете.
Как дня заход, как утра всход.
О! се златых век лет!
А следующая, 2-я песня — разве не про-
никнута она тем же религиозным вооду-
шевлением, переходящим в экстаз, в не-
поддельный мистический восторг:
Оставь, о дух мой, вскоре все земные
места!
Взойди, дух мой, иа горы, где правда
живет свята.
Где покой, тишина от вечных
царствует лет.
Где блещет та страна, в коей
неприступный свет.
Или песня 7:
Кто ли меня разлучит от любви твоей?
Может пи мне наскучить дивный
пламень сей?
Пусть весь мир отбежит!
Я буду в тебе жить, о Иисусе!
Язвы твои суровы - то моя печать,
Венец мне твой терновый — славы
благодать,
Твой сей поносный крест —
Се мне хвала и честь, о Иисусе!
Это — последние всплески мощной и
по-своему яркой, по-своему впечатля-
ющей духовной традиции, на протяжении
веков господствовавшей в старой украин-
ской литературе, которая к тому времени
уже завершала свою историю, готовясь
уступить (отнюдь не без борьбы!) место
литературе новой, светской. И Сковорода
стоит как раз на этом рубеже.
Размышления о мистицизме подводят
нас к проблеме — Сковорода и масоны.
Ведь деятельность украинского философа
приходится на тот период, когда следом
за Европой и в России, наряду с рациона-
листической философией, с просветитель-
ством, широкое распространение получи-
ли всевозможные религиозно-мистиче-
ские школы и течения, среди которых
наиболее заметное место занимает масон-
ство.
Скажем сразу: масоном Сковорода не
был, в этом согласны все исследователи,
его биография попросту не дает никаких
оснований предположить иное. Но, быть
может, существовала другая близость,
какое-то духовное родство?
Некоторые авторы склоняются к поло-
жительному ответу на этот вопрос. Проще
всего было бы оспорить такое мнение
ссылкой на самого Сковороду. М. Кова-
линский вспоминает: «Речь доходила... до
разных толков или сект. Всякая секта,
говорил он, пахнет собственностью, а где
собственномудрие, тут нет главной цели
или главной мудрости. Я не знаю марты-
нистов (мартинистами называли обычно
русских масонов — последователей фран-
цузского мистика Сен-Мартена. — Ю Б.),
продолжал он, ни разума, ни учения
их; если они особничествуют в правилах
и обрядах, чтобы казаться мудрыми, то я
не хочу знать их...». Мы еще вернемся к
этому суждению Сковороды, к его аргу-
ментации, но прежде хотелось бы разо-
браться в вопросе по существу.
Сделать это нам поможет Гамалея,
с которым нередко сближали Сковороду.
36
Семен Иванович Гамалея был земля-
ком и младшим современником Сково-
роды: он родился на Полтавщине в 1743
году, по некоторым сведениям — в семье
священника. Учился в Киевской академии,
затем переехал в Петербург, где препо-
давал в Шляхетском кадетском корпусе.
Около середины 70-х годов поступил на
службу к графу 3= Г Чернышеву, испол-
няя при нем должность правителя кан-
целярии в бытность графа сначала намест-
ником Белоруссии, а позднее московским
градоначальником. В Москве Гамалея
близко сходится с Н. И. Новиковым и
профессором Московского университе-
та И. Г. Шварцем, игравшими видную роль
в деятельности масонского ордена «ро-
зенкрейцеров», вступает в орден и вскоре,
оставив выгодную и почетную службу,
весь остаток жизни посвящает литератур-
ной, научной и филантропической деятель-
ности. Почти тридцать лет он безвыездно
прожил в принадлежавшей его ближайше-
му другу Новикову подмосковной деревне
Авдотьино, где и умер в 1822 году. Че-
тырьмя годами раньше там же скончался
сломленный Шлиссельбургской кре-
постью, разоренный кредиторами Нови-
ков.
Хотя Гамалея и участвовал в управле-
нии московским масонством, входя в так
называемый главный капитул и руководя
«ложей Девка 1иона», в челом он зани-
мал в ордене особое положение — поло-
же».ле признанного теоретика-эрудита,
непревзойденного знатока многих наук и
богословских премудростей. Выделяясь
среди «братьев» своей образованностью
и кругозором, основательным знанием
языков (кроме латинского и немецкого
также некоторых восточных), он написал
и перевел огромное количество мисти-
ческих сочинений, в большинстве не опуб-
ликованных, в частности все сочинения
Я. Бёме в 22-х томах
Гамалея имел репутацию «божьего че-
ловека», «совести» московского масонст-
ва, репутацию, которую он заслужил уди-
вительной цельностью натуры, нравствен-
ной чистотой и максимализмом, строгим
аскетизмом и бессребреничеством. О нем
ходили легенды. Согласно одной из них,
он отказался от пожалованных ему за
службу 300 душ крестьян, объясняя, что не
знает, как управиться с одной своею ду-
шой и не решится взять на себя ответст-
венность за триста чужих Известна (в
передаче) его речь, в которой он гневно
укоряет тех, кто печется только о себе,
о своем чине и месте, «не мысля о том,
что каждый кусок наш напоен кровавым
потом или слезами наших братьев слу-
жащих».
О духовных победах Гамалеи над самим
собой, о его отказе от мирских желаний,
об укрощении страстей свидетельствуют
некоторые письма, вошедшие в изданный
после смерти двухтомник его эпистоляр
ного наследия.
Адресованные безымянному другу
письма Гамалеи представляют немалый
интерес для понимания особенностей
масонского мировоззрения и мироощу-
щения; они дают возможность опреде-
лить действительно имевшие место точки
соприкосновения не только между Гама-
леей и Сковородой, но шире — между
взглядами последнего и масонским уче-
нием вообще. Прежде всего это безуслов-
ное доминирование нравственного начала,
причем моральное самосовершенствова-
ние личности, самопознание, самоограни-
чение вплоть до аскетизма в обоих слу-
чаях рассматриваются как непременное
условие благотворного воздействия на
нравственный уровень общества. Далее —
повышенный интерес преимущественно
к ветхозаветным книгам священного пи-
сания, их символическое и мистическое
истолкование. Наконец, сдержанное, если
не сказать равнодушное отношение к дог-
матической стороне христианского уче-
ния, склонность к чересчур вольной трак-
товке тех или иных постулатов, что часто
расценивалось церковью как ересь
Если это так, то что мешает нам сделать
следующий (и не логичный ли?) шаг —
от «точек соприкосновения» к сближению,
а то и к знаку равенства? Коротко можно
ответить так: мешает демократизм Сково-
роды, в самом широком смысле этого
слова. Демократизм, которому совершен-
но чуждо было масонство.
Вспомним слова Сковороды о «марты-
нистах». Более всего претит ему «особ-
ничество» в правилах и обрядах. Хочешь
мудрствовать в «простоте сердца», чтоб
быть полезным гражданином общества?
«Ради сего не для чего бы... особничество-
вать»,— таков главный его аргумент. Во
многих своих сочинениях Сковорода рез-
ко выступал претив того, что он назы-
вал «враками церемониальными», «види-
мостью», «пустыми церемониями», «ше-
лухой, или коркой». Один из разделов
«Начальной двери к христианскому добро-
нравию» так и называется «Благочестие
и церемония — рознь». «...Церемония
возле благочестия,— пишет Сковорода,—
есть то, что возле плодов лист, что на
зернах шелуха, что при доброжелатель-
стве комплименты. Если же сия маска
лишена своей силы, в то время остается
одна лицемерная обманчивость, а чело-
век — гробом раскрашенным. Все же то
церемония, что может исправлять самый
несчастный бездельник».
Между тем в масонстве церемонии,
«правила и обряды» играли важнейшую
роль и направлены были именно на
«особничество», на отгораживание от мас-
сы непосвященных. Этому должны были
служить и таинственность, окутывавшая
деятельность масонских лож, и их слож-
нейшая внутренняя иерархичность, и на-
гнетание устрашающих эффектов в ритуа-
ле приема новопоступающих «братьев»
(окровавленные рубашки, нацеленные в
обнаженную грудь шпаги, «смешение кро-
ви» и т. п.), и зашифрованная символика,
выспренняя и невнятная фразеология.
Были различия и более глубокие, более
существенные — социально-классовые.
«Особничество» масонов коренилось в
дворянской природе этого движения.
Не случайно в России тогда в него
входили многие представители родовитых
и высокопоставленных семейств — Ворон-
цовых, Щербатовых, Гагариных, Кураки-
ных, Трубецких, Елагиных, масонам сим-
патизировали и покровительствовали не-
которые царствующие особы, в частности
Павел I и Александр I. Сковорода нахо-
дился на противоположном, демокритиче-
ском социальном полюсе. Он жил с людь-
ми, и учение его было обращено к лю-
дям, открыто и доступно для них, и песни,
сочиненные им, знал и пел народ. Даже
непритязательный и аскетичный Гамалея,
в этом отношении «белая ворона» среди
масонов, все же выглядит «барином» ря-
дом с бездомным странником, филосо-
фом-«мужиком» Сковородой.
Еще раз вернемся к беседе Сковороды
с М Ковалинским. Внимательный чита-
тель, возможно, заметил, что «мартыни-
сты» упоминаются тут в ряду других
«сект». Напрашивается вывод, что все кри-
тические суждения философа о масонах,
в частности об их «особничестве», можно
отнести к сектантству вообще, к сектантст-
ву как явлению.
Однако существует довольно распро-
страненная точка зрения, сближающая или
даже идентифицирующая учение и дея-
тельность Сковороды с различного рода
сектантскими течениями. Еще при жизни
ему приходилось выслушивать обвинения
в манихейской ереси. Различные исследо-
ватели сближали его учение с учения-
ми молокан, духоборов, вообше русских
духовных христиан.
Хотелось бы обратить внима^че на то,
что практически все, кто сближал Сково-
роду с сектантами, обосновывали — прямо
ли, косвенно ли — такое сближение ха-
рактерной в той или иной мере для обеих
сторон неудовлетворенностью господст-
вовавшей в России конфессиональной си-
стемой, неприятием некоторых официаль-
но утвержденных религиозных догматов
прежде всего пышной обрядности, мно-
гих аспектов практической деятельности
церкви, жизни духовенства.
Что касается Сковороды, то в этих
соображениях есть свой резон. Правда,
отношения Сковороды с русской право-
славной церковью не были враждебны-
ми, мы не найдем у него критических
выпадов против церковных властей, одна-
ко и безоблачными эти отношения не на-
зовешь — достаточно острыми были его
конфликты с епископами Никодимом
Сребницким, Порфирием Крайским, Са-
муилом Миславским
Хочется избежать малейшего упроще-
ния. Не забудем, что среди друзей и
единомышленников Сковороды было
немало представителей как белого, так
и черного духовенства — от рядовых
сельских священников до архимандритов
и епископов, гостеприимством многих из
них Сковорода не раз пользовался, нема-
лое время проведя в различных мона-
стырях (М. Ковалинский в этой связи на-
зывает монастыри Старо-Харьковский,
Харьковский училищный, Ахтырский, Сум-
ской, Святогорский, Синнянский; к этому
списку можно добавить Гусинскую пустынь
и Троице-Сергиеву лавру). Это реальные
факты его биографии, которые никак не
следует игнорировать, как не следует,
37
впрочем, и преувеличивать их значение.
Его мятущаяся, взыскующая истины и гар-
монии душа в поисках прочной основы
(камня, «петры», берега, гавани, «кифы»,
или «кефы») не" обращается к церкви
как высшей духовной инстанции. Сковоро-
да в Библии ищет ответы на мучившие
его вопросы, Библия для него выше
церкви; он обращается к мысли — пусть
языческой! — древних мудрецов; он жаж-
дет слиться с природой, раствориться в
ней... Пантеистическая вера в божест-
венное начало, искренний, страстный по-
рыв к религиозному идеалу для Сково-
роды отнюдь не то же самое, что слепое
преклонение перед силой и авторитетом
официальной церкви.
Задумывался ли над этим сам Сково-
рода? Осознавал ли он в полной мере, что,
например его критика буквалистского
понимания священного писания, отрицание
библейских чудес, или едкие насмешки
над «царемойистами», «спящими на Биб-
лии», или сравнение Христа с язычни-
ком Эпикуром,— что все это не вписы-
вается в рамки ортодоксального вероуче-
ния? Что его пренебрежение к церков-
ным обрядам и таинствам, которые он
называл «хвостами, кои должно от веры
отсечь», будет истолковано властями пре-
держащими как ересь, и уж тут не помо-
жет авторитет самого апостола Павла,
учившего, что «не тот Иудей, кто таков
по наружности, и не то обрезание,
которое наружно» (Послание к римлянам,
гл. 2, ст 28) Не мог не задумываться.
Не мог не сознавать, что сама его уклон-
чивость в вопросе об исторической мис-
сии русской православной церкви, само
умолчание слишком красноречиво Но
иначе поступать, как видно, не мог.
Есть немало моментов, сближающих
религиозные взгляды Сковороды и Толсто-
го. Обозначим некоторые из них, отдавая
себе отчет в том, что детальный анализ
проблемы далеко выходит за рамки на-
шего разговора.
Прежде всего это осознание неразрыв-
ной связи религии с нравственностью,
с такими понятиями, как добро, зло, прав-
да, совесть и т д. «Попытки основать
нравственность помимо религии,— счи-
тает Толстой,— подобны тому, что делают
дети, которые, желая пересадить нравя-
щееся им растение, отрывают от него
ненравящийся им и кажущийся им лиш-
ним корень и без корня втыкают растение
в землю. Без религиозной основы не мо-
жет быть никакой настоящей, непритвор-
ной нравственности, точно так же, как без
корня не может быть настоящего расте-
ния». Но и религия, это Толстой специаль-
но Подчеркивает, невозможна вне нрав-
ственных начал, ибо сущность рели-
гии состоит не в учении «о божест-
вах», а «только в ответе на вопрос:
зачем я живу и какое мое отношение
к окружающему меня бесконечному ми-
ру?» Только это. И ничего больше.
Отсюда резко негативное отношение
писателя к «метафизике религии», к
«внешнему богопочитанию», к суеверию
и обрядности — ко всему тому, что Сково-
рода называл «шелухою», «непролазным
терновником». Отсюда решимость Толсто-
го «быть свободным от обманов веры
в чудеса», от всего, что «противоречит
разуму», ибо это «есть обман людской,
как обманы всяких современных чудес,
исцелений, воскрешений, чудотворных
икон, мощей, пресуществления хлеба
и вина и т. п., так же как и чудес, про
которые рассказывается в Библии, в еван-
гелиях, в буддийских магометанских,
таосийских и других книгах». Отсюда
отрицание богодухновенного происхожде-
ния священного писания, взгляд на него
как на «книгу, прошедшую через много-
сложные соединения, переводы и пере-
писки, составленную 18 веков тому назад
людьми малообразованными и суевер-
ными». И наконец, как итог: господству-
ющая в России церковь искажает подлин-
но христианское учение, она не способна
дать людям ясно выраженные нравствен-
ные основы, нить, связующую церковь с
миром, с людьми, стала лишь помехой ..
Признаем: ничего подобного мы у Ско-
вороды не найдем. Ни безоглядной тол-
стовской готовности к самым крайним,
«последним» выводам, ни его бес пощад-
ной и покоряющей (даже в слабостях
своих) мысли — всего того, за что Толстой
заплатил отлучением от церкви. Сковоро-
да то и дело, вольно или невольно, проти-
воречит церкви; Толстой и церковь
несовместимы. Там — инакомыслящий,
который время от времени впадает в
ересь; здесь — откровенный и после-
довательный еретик. Там — аутсайдер,
здесь — бунтарь
Но в одном и Сковорода непрекло-
нен — в своем отношении к монашеству
Известны апокрифические истории о том,
что он по крайней мере дважды в резкой
форме отвергал предложения о переходе
в «монашеское состояние», за что даже
друг его архимандрит Гервасий Якубо-
вич «оказал ему остуду». В сочинениях
и письмах философа встречаем колючие
замечания то о «монашеском маскера-
де», когда лицемеры напяливают на себя
одежды святых пустынников и аскетов,
то о монахах, прячущих истинное лицо
«под маской благочестия».
Своей кульминации обличительный
пафос Сковороды, направленный против
монашества, достигает в диалоге «Брань
архистратига Михаила со Сатаною» Вос-
седающие на радуге «архивоины» ози-
рают землю и всю вселенную, с горечью
отмечая, что всюду «рассеял Сатана се-
мена свои» Среди тех, кто выбрал «путь
левый» — путь «тяжбы, брани, татьбы,
грабительства, лести, купли, продажи, ли-
хоимства», они видят «странную» процес-
сию: «Пятерка человеков бредут в преоб-
ширных епанчах, на пять локтей по пути
влекущихся. На головах капюшоны. ' руках
не жезлы, но колья. На шее каждому по
колоколу с веревкою. Сумами, иконами,
книгами обвешаны. Едва-едва движутся,
как быки, парохиальный колокол везу-
щие». Наивный, как и полагается небесно-
му жителю, Варахиил сокрушается: «Вот
разве прямо трудящиеся и обременен-
ные! Горе им, горе!..» Однако коллега
его Рафаил, более трезво глядящий на ве-
щи, разъясняет: «Сии суть лицемеры. .
мартышки истинной святости... по лицу
святы, по сердцу всех беззаконнее». При-
ведем лишь некоторые эпитеты и харак-
теристики из его монолога, выдержанно
го не совсем в ангельском тоне: «сребро-
любивы», «сластолюбцы», «СВОДНИКИ»,
«полагающие в прибылях благочестие»,
«целующие всяк день заповеди господние
и за алтын оные продающие», «домашние
звери и внутренние змии, лютейшие тиг-
ров, крокодилов и василисков». «Вся их
молитва в том,— жестко резюмирует Ра-
фаил,— чтоб роптать на бога и просить
тленностей».
Тут монахи как раз останавливаются и
затягивают свои «безбожные... песни бо-
жии». Их молитва представляет собой
пародию Сковороды на некоторые сочине-
ния «мандрованых дьяков» и бродячих
«спудеев». Монахи бесцеремонно взы-
вают к богу, не столько выпрашивая,
сколько требуя внимания и милостей:
Боже, восстань, что спишь?
Почто о нас ие рядишь?
При этом они без излишней скромности
напоминают о своих достойных вознаграж-
дения заслугах:
Мы ж тебе свечищи ставим.
Всякий день молебны правим!
Два раза постим в неделю.
В пост ие уживаем хмелю.
Хоть псалтыри не внимаем,
Но наизусть ее знаем.
В финале молитвы монахи деловито тор-
гуются со всевышним:
Услышь, боже, вопль и рык!
Дай нам богатство всех язык!
Тогда-то тебя прославим,
Златые свечи поставим,
И все храмы позлащениы
Восшумят твоих шум пений —
Только дай нам век злат!
Теперь уже и Варахиил понял, с кем
имеет дело, и гневно «возопил»: «О смер-
дящие гробы со своею молитвою!.. Зло-
ба, в одежду преподобия одета... Отвра-
тим очи наши от богомерзких сих ропот-
ников, просителей, льстецов и лицеме-
ров. Не слышите ли, что шум, треск,
оев, вопль, вой, свист, дым, жупел и
смрад содомский восходят от сего пути?»
И ангелы, послушавшись совета Вара-
хиила, обратили взоры в другую сторону
и воспели свою ангельскую песнь
Только Сковорода не отвращает очей от
земных мерзостей, в какие бы священ-
ные одежды они ни рядились...
...Так что же нам ответить на постав-
ленный в заголовке «тройной» вопрос о
Сковороде : кто он — богослов? мистик?
атеист?
Нет однозначного ответа. И вряд ли сле-
дует искать его, если не хотим сбиться
на примитивные формулы. Время таких
формул, время, когда кое-кому открове-
нием казались циничные рекомендации
«великого провокатора» Хулио Хурени-
то («Оскорбляй святыни, преступай запо-
веди, смейся, громче смейся... чтобы бы-
ло для пустого — пустое»), это время
ушло. И ушло, будем надеяться, безвоз-
вратно.
38
ЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ
ВЕЧНАЯ ТАЙНА-
ЖЕНЩИНА
9. ВАРДИМАН
Мужчина в древности кри-
тическим вз1 лядом смотрел иа
свою жену, но влюбленным —
на подругу или на чужую
женщину. Вавилонянин, посе-
щая женщину в храме, назы-
* В 600 г. до н. з. Солон издал
закон о создании под надзором
государства публичных домов,
«чтобы удержать мужчин от
стремления к запретным свя-
зям». Любовному свиданию с
гетерой посвящен рисунок на
краснофигурной аттической ва-
зе (550 г. до н э.). Музей
Ньюхафена.
вал это «возвышением серд-
ца». Особого рода «возвыше-
ние сердца» происходило в
праздник Нового года, когда
он посещал величественное
семиступенное святилище
Мардука и благоговейно на-
блюдал церемонию «священ-
ного брака» царя с верховной
жрицей, происходившую на
верхнем этаже, и сам мог за
плату повторить ту же цере-
монию с храмовой рабыней.
Под «возвышением сердца»
он понимал молитву, культ и
жертву деятельной любви.
Восточный человек, интен-
сивный и страстный в жизнен-
ных проявлениях, был уверен,
что религия должна заботить-
ся не только о его духе, при-
зывая поклоняться высшим
силам, но и о его чувствах,
способствуя приобщению к
божественному.
Храмовые женщины по-
явились вместе с храмами.
На ннх возлагалась задача
цивилизовать человечество
посредством «молитвенной»
любви. В эпосе о Гильгаме-
ше, созданном 3300 лет на-
зад, герой нанимает такую
Продолжаем публикацию от-
рывков из книги Э. Вардимана
«Женщина в Древнем мире»
(Е Wardiman. Die Frau in
der Antike. Wien — Dusseldorf,
1982), которая выйдет в этом
году в издательстве «Наука»
(Перевод с немецкого М. Ха
ритонова). Начало в /6 3, 1988.
«посвященную» рабыню люб-
ви, чтобы цивилизовать Эн-
киду, научить его нравствен-
ности, приличиям, с по-
мощью ее искусства приоб-
щить дикаря к культуре лю-
дей. Умирая, Энкиду прокли-
нает женщину за эту услу-
гу, которую она оказала ему
против его желания. В ответ
бог Шамаш упрекнул его: он
не понял истинной сути по-
священной служительницы,
ибо культовая проституция —
это жертвенная отдача себя
божеству; общающийся с
этими женщинами тем самым
служит божеству. Это и есть
«возвышение сердца».
В религии не существует
вопросов, лишь абсолютная
готовность верить и служить.
В Вавилоне были специаль-
ные храмовые школы, где
жившие по-монастырски де-
вушки, многие из лучших,
богатых семейств, учились
выполнению своих специфи-
ческих обязанностей, получая
уроки культовых ритуалов,
танца, пения, игры иа струн-
ных инструментах, а также
искусства любви. Такая об-
разованность обеспечивала
им высокую репутацию. Они
могли выходить замуж и по-
лучать статус законных жен.
но будучи посвященными не
имели права рожать. Для
этой цели они либо приводи-
ли к мужу служанок, либо
усыновляли детей
Нельзя судить сакральную
проституцию и наивио-рас-
кованную чувственность посе-
тителей храма по меркам со-
временной морали. Ильза
Зейберт в книге «Женщина на
Древием Востоке» поясняет
это: «То, что в сфере влияния
христианской религии счита-
лось «греховным», в древне-
восточных религиях связыва-
лось с самой природой. Поло-
вое соединение считалось
культовым священным дей-
ствием и в своем сакральном
значении не предполагало
ничего непристойного или
аморального. Религия, пред-
ставлявшая богов в антро-
поморфном виде,— оии и ве-
дут себя как люди, в том числе
и по части любви — находи-
ла место и для сексуально-
сти, причем с такой откры-
тостью, какую сейчас нам
трудно представить. Житель
Древнего Востока говорил о
любви и зачатии у боюв и
людей без робости и без мо-
ральных опасений, в соответ-
ствии со своими специфиче-
скими, совершенно естествен-
ными представлениями».
К сожалению, замечает
Ильза Зейберт, множество
клинописных табличек по
причине своей «аморальной»
откровенности скрыты в под-
валах различных музеев;
иные ученые полагают, что
широкой публике незачем
знать такие «непристойно-
сти». Даже такой фразе,
как эта: «...Я хочу при свете
луны играть в любовные иг-
ры; на чистом роскошном ло-
же я хочу распустить тебе
• Ссора двух гетер или жены
с гетерой, символически изобра-
женная как борьба Адикии и
Дики — богинь, живших среди
людей в золотом веке. Деталь
рисунка на аттической вазе
(500 г. до н. э.) Британский
музей. Лондон.
волосы»,— пришлось ждать
80 лет, пока ее опубли-
ковали.
Высшие жрицы были ари-
стократического происхожде-
ния, иные даже из царского
дома. В Южной Аравии были
найдены стелы с надписями,
которые свидетельствуют,
что вожди племен посвящали
своих жен и дочерей в верхов-
ные жрицы и невесты бога;
в Израиле царица Мааха, по-
видимому, была начальницей
женского дома при храме.
Низшие служительницы хра-
ма были из числа подкидышей
или обедневших, задолжав-
ших женщин и девушек сред-
них и низших слоев населе-
ния.
В одном вавилонском тек-
сте (550 г. до н. э.) есть
слова вдовы Банатиннии:
«Мой муж умер В стране го-
лод. Поэтому я отметила обо-
их своих детей знаком звезды
(Венеры) и доверила госпо-
же. За это она даст им про-
питание».
Греческий писатель Лукиан
(120— 180 гг. н. э.) прокли-
нал сакральную, но защищал
обычную проституцию, ибо,
по его мнению, сакральная
проституция порождена ре-
лигиозным безумием, обыч-
ная же — необходимость, в
которой повинно общество.
По мере того, как культу-
ра становилась все более
утонченной, прежние «рогпе»
(проститутки), занимавшие
низкое положение в общест-
ве, составили аристократичес-
кий слой избранных гетер.
Это греческое слово озна-
чает «спутница», по толкова-
нию Демосфена — «спутница
радости». Гетеры играли вы-
дающуюся роль в высшем
обществе.
Они отличались ие только
изысканной красотой, но и
были весьма образованны в
музыке, литературе, филосо-
фии, политике и многих дру-
гих областях. Они единствен-
ные представляли женщин в
сфере культуры. Дайса из
• Грекам полагалось едино-
брачие. У них не было гарема,
но каждый мог провести время
в обществе дорогостоящих ге-
тер. На краснофигурной вазе —
пирующий юноша и танцующая
гетера. Британский музей. Лон-
дон.
Коринфа была подругой и
ученицей Диогена и сама слы-
ла незаурядным философом;
Дистима принадлежала к
окружению Сократа и Плато-
на, который с похвалой упо-
мянул ее в «Пире», воссла-
вив как жрицу. Дионитон бы-
ла вдохновительницей эпи-
курейцев, чье учение вызвало
крайнее осуждение «консер-
вативных умов».
Гетера Фрина была обвине-
на в кощунстве: это она по-
служила моделью великому
ваятелю Праксителю для его
Афродиты Книдской. Знав-
шие Фрину улыбались,
глядя на статую Афродиты,
а видевшие статую благо-
говейно смотрели на Фрииу.
Сотни тысяч паломников, ко-
торые молитвенно простирали
руки в книдском святилище
Афродиты и слали поцелуи
мраморной статуе, вслух вос-
клицали: «Афродита, пре-
красная Афродита!» Но про
себя они шептали: «Как ты
прекрасна, Фрина, божест-
венна твоя красота!» Ее за-
щитником на процессе о ко-
щунстве был Гиперид. Исчер-
пав аргументы против нала-
док религиозных обвините-
лей. он обнажил грудь своей
подзащитной и воскликнул:
«Вот, посмотрите!» Судьи бы-
ли ослеплены несказанной
красотой и решили, что Фри-
на ни в чем не виновата.
Перевел М Харитонов.
39
Вместо предисловия
В середине шестидесятых годов я стал
получать такие телеграммы- «Приналягте
на Давида. Ваш Чуковский». Завершалась,
и как всегда срочно, работа над книгой
«Вавилонская башня». Художник
Л. Фейнберг уже сдал в Детгиз прекрасные
иллюстрации и там с нетерпением ждали,
когда же наш авторский коллектив поста-
вит последнюю точку.
Мы готовили пересказ библейских мифов
для дошкольников и первоклассников,
пересказ, более похожий на сказку. У Кор-
нея Ивановича Чуковского такой опыт уже
был. В его «Храбром Персее» к ребятам
пришла добрая волшебница Афина Палла-
да. Теперь очередь была за... волшебником
Ягве.
Где бы мы ни рассказывали о том, над
чем работаем, идея вызывала интерес
и одобренне. Как-то на одном из вечеров
в Доме литераторов мои пересказы «Давид
и Голиаф:, «Давид и Саул», «Иона»
слышал академик Г. П. Францев. Он
сказал, что появление такой книги для
детей было давней его мечтой. Известный
ученый вспомнил по этому случаю, что
Маркс, редактируя сочинение Отто Бауэра,
внес туда фразу: «Религия находит свое
разрешение в сказке» Всегда, при всех
обстоятельствах остается жить, способна
воспитывать каждое новое поколение тыся-
челетняя культура - своими гранди-
озными поэтическими образами и сюжета-
ми. Среди' них — и библейские сюжеты.
И вот последняя встреча в Переделкине.
Последний пересказ, поступивший от ав-
торской группы. Редактируем втроем —
К- Чуковский, Т. М. Литвинова, я Один
читает рукопись, вногит правки, другие
диктуют. Корней Иванович садится за
правку, едва успевает записывать наши
предложения. «Так вот почему,— патети-
чески восклицает он,— лучшие места в сов-
местной прозе Некрасова и Панаевой
написаны не его рукой, а рукою Па-
наевой!»
Книгу уже печатали, когда случилось
неожиданное и малопонятное. Корней Ива-
нович в интервью корреспонденту «Труда»
упомянул и о «Вавилонской башне». Был
самый разгар «великой культурной ре-
волюции» в Китае. Хунвейбины заметили
эту публикацию в «Труде» и громогласно
потребовали размозжить собачью голову
старому ревизионисту Чуковскому, засо-
ряющему сознание советских детей рели-
гиозными бреднями.
...Наша книга так и не попала к юным
читателям. Но ведь рукописи не горят!
Сегодня на страницах журнала вы прочтете
го, что было подготовлено нами двадцать
лет назад.
Валентин БЕРЕСТОВ
РДВИАОТГСКДЯ
UAWIf
И ДРУГИЕ
^РЕВЯИЕ
ЛЕГЕЙДЫ
Портреты К- Чуковского и М. Горького
из книги «Чукоккала»
(М., «Искусство». 1979).
ПРО ЭТУ книгу
В Москве на Волхонке есть чудесный музей. Название у него
довольно длинное: Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина.
Много статуй, рисунков, картин, созданных лучшими в мире
художниками, выставлено в этом музее. Поэтому с утра до вечера
здесь толпится народ. Каждому охота увидеть великолепную
скульптуру и живопись.
В толпе немало иностранцев и приезжих, но, конечно, больше
всего москвичей.
Пришел в этот музей один быстроглазый школьник — не
старше двенадцати лет. Пришел со своим отцом. В первом же зале
с порога он увидел три статуи, которые живо заинтересовали его:
две не очень большие, а третья высокая — уходит головою под
самую крышу И подпись под каждой — «Давид». И тут же
сказано, что одного Давида вылепил скульптор Донателло,
другого Андреа Верроккьо, а третьего, высокого,— сам Мике-
ланджело.
Школьник удивлен.
«Чем же был замечателен этот Давид? Почему три скульптора,
один за другим, поставили ему такие красивые памятники? Должно
быть, он был знаменитый герой. Но в чем его геройство? Что он
сделал? Какие подвиги он совершил? И чья голова у него под
ногами — огромная лохматая голова великана? Что это был за
великан? И кто отрубил ему голову? Неужели этот самый Давид
с такой маленькой тоненькой сабелькой? Ведь стоило великану
размахнуться как следует - и Давид отлетел бы от него на десять
шагов».
Школьник перебегает от статуи к статуе. Вопросы быстро
следуют один за другим. Отец насупился и угрюмо молчит -
высоколобый, серьезный, в очках. Похоже, что он чувствует себя
очень неловко перед своим любознательным сыном; тот, должно
быть, с самого раннего детства привык простодушно думать, что не
существует такого вопроса, на который он не мог бы немедленно
получить от отца самый .точный и ясный ответ.
И мне вспомнилось то, что я видел однажды в Эрмитаже.
Эрмитаж это всемирно знаменитый ленинградский музей,
где собраны замечательные произведения искусства. В этот музей
со всего света съезжаются люди, чтобы только поглядеть на
картины и статуи, хранящиеся в роскошных залах.
Есть в Эрмитаже прекрасная картина Рембрандта: какой-то
бродяга в изодранной грязной одежде, подпоясанный грубой
веревкой, упал на колени перед седым стариком, умоляя его
о прощении, а старик, очень дряхлый, богато одетый, тор-
жественным и ласковым жестом прижимает этого оборванца
к себе, и на лице у него кроткая нежность. Обе фигуры светятся
каким-то таинственным светом, и кажется, что все изображенное
здесь совершается под дивную музыку. Видно, что бродяга пришел
к старику издалека: когда он падал перед ним на колени, с одной
ноги у него слетела рваная сандалия, и видна израненная долгой
дорогой нога. Подпись под картиной: «Возвращение блудного
сына». Значит, богатый старик — родной отец этого несчастного
бродяги. Почему же у такого богача такой оборванный сын,
замученный нуждою и голодом? Откуда он вернулся? Где он был?
Что довело его до такой нищеты? И в чем он провинился перед
отцом? Отчего он так униженно просит прощения?
Подошли к картине какие-то милые девушки
— Что это за старик? — мимоходом спросила одна.
— Должно быть, поп,- равнодушно сказала другая, и они
отошли от непонятной картины.
Между тем если б они знали, что изображено здесь великим
40
художником, они надолго остановились бы перед этим холстом,
всмотрелись бы в него с величайшим вниманием.
Прочтите в нашей книге историю блудного сына, и вы поймете,
почему Рембрандт и другие художники так любовно изображали ее
в своих гениальных картинах. Вы узнаете о жалкой судьбе
безумного юноши - «блудного сына», который, не слушая угово-
ров отца, стал вести разгульную, праздную жизнь и в конце концов
чуть не погиб. Только возвращение в родительский дом спасло его
от неминуемой гибели. И как великодушен отец, простивший ему
все свои обиды и слезы! Из этой книги вам будет нетрудно узнать,
кто такой был юный Давид и с каким великаном он так храбро
сразился ради того, чтобы спасти свою родину.
Здесь, в этой книге, мы попытались пересказать для детей
несколько чудесных легенд древнего еврейского народа, которые
вот уже тысячи лет волнуют миллионы сердец — так они пре-
красны и мудры. Недаром в течение многих веков замечательные
скульпторы, живописцы, поэты создали по этим легендам столько
бессмертных произведений искусства.
Легенды эти собраны в книге, которая называется «Библия».
В старое время религиозные люди верили, будто эта книга
священная и будто она продиктована с неба самим господом богом,
который хотел научить свой народ, как ему жить и трудиться.
На самом деле Библия создавалась людьми на протяжении
многих веков и никакой господь бог не диктовал ее людям. У тех,
кто писал ее, не было научных представлений ни о звездах, ни
о луне, нн о солнце, ни о космосе, ни о происхождении мира. Люди
эти не были учеными, но были вдохновенными, великими поэтами.
И на ветхих страницах Библии — много прекрасных, трога-
тельных, поэтичных легенд. Этн легенды давным-давно существо-
вали в народе и передавались из уст в уста. Потом, через много
столетий, мудрецы и поэты стали в разное время записывать их,
и впоследствии они были собраны в Библии. И мы восхищаемся
ими, так же как мы восхищаемся мудрыми, поучительными
высокохудожественными народными сказаниями индийскими,
японскими, древнегреческими, русскими И другими.
Некоторые из библейских легенд мы и постарались рассказать
в нашей книге. Надеемся, что она будет полезна не только детям, но
и их воспитателям, матерям и отцам. Ведь каждому из нас
приходится часто читать в разных газетах и книгах, а порой
и слышать в разговоре о всемирном потопе, о вавилонской башне,
о валаамовой ослице, о Каине, о суде Соломона, и, конечно, многим
хотелось бы знать, почему эти слова живут у нас в языке и что они,
в сущности, значат.
Так, например, про шумную и большую толпу у нас часто
говорят: «столпотворение», но мало кто знает, что это слово взято
из библейского сказания о постройке высочайшей башни в древнем
ороде Вавилоне. Столпом в старину называлась всякая башня,
а постройка башни «сотворением столпа» - столпотворением.
Часто приходится слышать такие выражения, как «тридцать
сребреников», «Иуда-предатель», «избиение младенцев», «пища
святого Антония», «на седьмом небе», «валаамова ослица», «козел
отпущения», «райское житье», «внести свою лепту» и т. д.,
и т. д. И опять-таки: хотя эти выражения взяты из религиозных
преданий и мифов, они давно уже оторвались от рели! ии, утратили
свой «божественный» смысл и вошли в обиход каждого культурно-
го человека, независимо от того, верит он в бога или нет. Но далеко
ие каждому известно, каков смысл этих выражений. И повторяю:
невозможно понять мировое искусство, если не знать библейских
преданий, а также античных мифов, нз которых заимствована
большая часть сюжетов фламандской, итальянской, французской,
испанской живописи.
Да и русское искусство требует таких же познаний - искусство
Пушкина, Лермонтова, Блока, Андрея Рублева, Александра
Иванова, Николая Ге, Репина, Поленова. Врубеля.
В многочисленных картинных галереях и музеях нашей страны
вы найдете немало картин и рисунков на библейские темы,
созданных замечательными русскими художниками Многие из
этих картин и рисунков станут вам понятны, когда вы прочтете
нашу книгу Так, например, для всякого, кто прочтет сказание
«Иосиф и его братья», где повествуется о жизни и приключениях
этого благородного героя-страдальца, станет понятным рисунок
Александра Иванова «Братья Иосифа находят чашу в мешке
Вениамина». Рисунок этот вы можете увидеть в Третьяковской
галерее, в Москве.
Да и независимо от скульптуры и живописи библейские
предания представляют собой великую литературную ценность.
В 1916 году, когда Алексей Максимович Горький привлек меня
к участию в детском отделе издательства «Парус», он ввел в его
программу сборник «Библейские легенды и мифы» и поручил
составление этого сборника мне. Он называл Библию одной из
величайших книг человечества и советовал писателям учиться
простоте и выразительности библейского стиля В более позднее
время он предлагал издать в серии «Жизнь замечательных людей»
книгу о пророке Моисее.
Для ребенка многие из этих древних библейских легенд,
созданных древним народом, привлекательны изобилием ска-
>очных подвигов, приключений, событий В них столько задушев-
ной любви к угнетенным, столько ненависти к врагам-угнетателям,
такое преклонение перед каждым героем, отдающим свои силы
борьбе за народное счастье, что давно уже пора этим легендам
войти в круг чтения советских детей.
Задача нашего коллектива была нелегкой. Мы старались
сделать библейский сюжет, порою очень сложный и запутанный,
доступным для детей и в то же время в меру своих сил и возможнос-
тей сохранить простой и безыскусственный стиль величавого
подлинника.
Корней ЧУКОВСКИЙ
АВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Это было так давно, что никто уже не
помнит, когда это было. Рассказывают,
однако, будто в те времена все люди
говорили на одном языке и все друг друга
понимали.
И захотелось людям оставить память
о себе на веки веков.
— Давайте соберемся все вместе и
выстроим высокую башню! — сказал один.
Все обрадовались и закричали:
— Мы выстроим башню, мы выстроим
башню до самого неба!
Выбрали высокую гору — и закипела
работа! Одни месят глину, другие лепят из
нее кирпичи, третьи кирпичи эти = печах
обжигают, четвертые возят их на гору.
А наверху уже люди стоят, принимают
кирпичи и складывают из них башню.
Все работают, всем весело, все поют.
Башня строилась не год и не два. Одних
кирпичей для нее понадобилось тридцать
пять миллионов! И для себя пришлось еще
дома построить, чтобы было где отдыхать
после работы, а возле домов посадить
кусты и деревья, чтобы птицам было где
петь.
Целый город вырос вокруг горы, на
которой строилась башня. Город Вавилон.
А на горе с каждым днем все выше
и выше, уступами, поднималась красавица
башня: внизу широкая, кверху все уже
и уже. И каждый уступ этой башни красили
в разный цвет: в черный, в желтый,
в красный, в зеленый, в белый, в оран-
жевый. Верх придумали сделать синим,
чтобы был как небо, а кровлю — золотой,
чтобы как солнце сверкала!
И вот башня почти готова. Кузнецы уже
золото куют для кровли, маляры оку-
нают кисти в ведра с синей краской. Но
вдруг, откуда ни возьмись, появляется
среди людей сам Ягве. Не понравилась ему
их затея — выстроить башню до самого
неба. Не захотел он, чтобы люди добра-
лись до неба.
«Это оттого они умудрились свою
башню выстроить,— подумал он,— что у
них один язык и всякий человек понимает
другого. Вот они и договорились!»
И наслал Ягве на землю великую бурю.
Пока буря бушевала, ветер унес все слова,
которые люди привыкли друг другу гово-
пить.
Вскоре буря утихла, и люди снова
принялись за работу. Они еще не знали,
какая беда их постигла. Кровельщики
пошли к кузнецам сказать, чтобы те скорее
ковали тонкие золотые листы для кровли.
А кузнецы не понимают ни слова.
И во всем городе Вавилоне люди
перестали понимать друг друга
Маляр кричит:
— Краска кончилась!
А у него получается:
— Номорпэнт!
— Ничего не понимаю! — кричит ему
снизу другой.
А получается:
— Жэнэком пренепа!
И по всему Вавилону раздаются слова,
понятные одним и непонятные другим.
— Виндадоры!
— Маракири!
— Бобэоби!
— Дзын!
Все побросали работу, ходят как в воду
опущенные и ищут: кто бы мог их понять?
И стали люди собираться кучками — кто
с кем говорит одинаково, тот с тем
и старается держаться. И вместо одного
/7родолжение п 3 с < и п и ц е >и юж ки
41
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
л.
вот уже
отчалил,
борцы в
хание
горький
Может,
...1И1
НЕМИРА
пароход
Духо-
одно ды-
затянули
псалом,
этот:
В саду Г ефсиманском стоял он один,
Предсмертною мукой томимый...
От мала до велика стояли они нь
палубе и смотрели, смотрели во все
глаза, как, треснув, отвалилась корка
родного берега как черно словно
OTWO СТАЛАСЬ ПЛАКУН-ТРАВА?
полынья, зазияла морская вода.
«Тысячи голосов слились теперь в один
вопль отчаянья, горечи, обиды. Не только
люди, но, казалось, и вся природа притих-
ла, потрясенная этими раздирающими
душу рыданиями тысячной толпы, оплаки-
вающей свою разлуку с землей-матерью,—
вспоминал известный русский актер
Л. А. Сулержицкий. — С обнаженными
головами, печальные и торжественные,
с глазами полными слез и горя, стояли
духоборцы лицом к земле, на которой они
выросли, где жили и умирали их деды
и прадеды, где погребены их вожди, где
пришлось им столько перестрадать, понести
столько дорогих утрат...»
Люди на берегу, машущие руками,
башлыками, платками, картузами,
что-то еще кричали вслед кораблю.
Сипло охнул гудок, будто оборвалась
душа. Винт парохода сдавленно
фыркал, захлебываясь, и толкал эту
черную воду, а она как бы отталкивала
берег, и вот уже так он далек, что
кинься сейчас в море, поплыви на-
зад — не доплывешь.
«Выселение далеко за океан семитысяч-
ной массы исконных, предприимчивых,
трудолюбивых, горячо привязанных к своей
родине русских людей — является чуть ли
не первым примером в летописях русской
истории и во всяком случае единственным
по тому из ряда вон выдающемуся сцепле-
нию предшествовавших этому выселению
Продолжение. Начало в № 2.
обстоятельств»,— писал В Д. Бонч-Бру-
евич, которому довелось сопровождать
одну из четырех групп духоборцев в Кана-
лу-
Почему именно в Канаду? Дело
складывалось так. Получив от царского
правительства разрешение на выезд, духо-
борцы не мешкая обратились к близким им
по духу и вероучению ан1лийским кваке-
рам: «Постарайтесь, милые братья, помочь
нашему переезду и нашему переселению,
потому что мы дошли до крайности».
Впервые познакомившись с духо-
борцами в 1819 году, английские
квакеры уже не раз помогали им
в тяжелых жизненных невзгодах и на
этот оаз откликнулись сразу: органи-
зовали «Комитет друзей», объявили
сбор пожертвований в фонд русских
переселенцев. В это же время в
Англии духоборческой эмиграцией
занимались и В. Г. Чертков, П. А. Кро-
поткин, В. Д. Бонч-Бруевич. Сообща
решили, что по климатическим усло-
виям наиболее подходящее место для
переселения духоборцев — Канада.
А главное, правительство этой страны,
заинтересованное в притоке новых
рабочих рук, соглашалось принять
русских крестьян, гарантируя им пол-
ную религиозную свободу и осво-
бождение от воинской повинности.
Однако переговоры затягивались,
собрать необходимые средства для
столь дальнего переезда еще не
удалось, а откладывать с переселе-
нием дольше было невозможно. При-
ехавшие в Англию духоборческие
представители торопили: «Наши
братья готовы взять на руки детей
и идти, закрыв глаза, хотя бы в Тур-
цию. Лучше переселить их куда-
нибудь, чем оставлять дома». Так,
первую партию духоборцев, более
других пострадавших в гонениях, при-
шлось сначала отправить на Кипр, хотя
побывавшие там представители об-
щины известили, что климатические
условия и предоставленные земли для
русских переселенцев не годны.
Тем временем в Англии энергично
собирали средства: уже в первое
время в фонд «Комитета друзей»
поступило 20 тысяч рублей. И здесь
решающую роль сыграло воззвание
Л. Н Толстого. Переведенное на
многие языки, оно не только привлек-
ло внимание мировой общественнос-
ти, но и помогло собрать немалые
денежные пожертвования. И все же
их было еще недостаточно, чтобы
перевезти на другой континент и
устроить там почти восьмитысячную
массу людей.
Князю Д. А. Хилкову и представи-
телю «Комитета друзей» А. Мооду,
осматривавшим канадские земли,
• Духоборки пашут целину.
удалось привлечь на помощь духо-
борцам американцев: безотлагатель-
но были созданы два комитета —
квакерский и состоявший из почитате-
лей Л. Н Толстого. Оба собрали
значительные средства и помогли
в переговорах духоборческих пред-
ставителей С канадским прави
тельством.
Заботились о переселенцах и в Рос-
сии. Несмотря на активное противо-
действие царского правительства,
Л. Н. Толстой рассылал письма со-
стоятельным знакомым с просьбой
поддержать бедствующих. Многие
Откликались, и все-таки самым боль-
шим жертвователем оказался он сам
Не имея наличных денег, он решил
как можно скорее завершить когда-то
начатые им «Отца Сергия», «Иртене-
ва» и конивскую повесть*.
При обработке повесть разрослась
в роман «Воскресение»; о незамедли-
тельной его публикации Толстой дого-
ворился с редактором журнала «Ни-
ва», причем, вопреки своим правилам,
торговался с издателем за каждый
рубль. Всего от русских, английских',
* А. Ф. Коми — известный русский юрист „-т
рассказал Л. Н. Толстому случай из судебной
практики, который лег в основу роман^
«воскресение». ыд
42
американских и других издателей
гонорар за «Воскресение» составил
около 50 тысяч рублей.
Итак, необходимые средства для
переселения были собраны. Теперь
оставалось зафрахтовать суда для
переезда в «тот свет», как называли
тогда Америку. Основную массу ду-
хоборцев предполагалось перевозить
тремя партиями, которые должны
были сопровождать В. Д. Бонч-Бру-
евич, Л. А. Сулержицкий и
С. Л. Толстой — сын писателя.
Подготовка первого корабля к
отплытию переселенцев шла полным
ходом Между тем буквально до
последней минуты местные жители
отговаривали их от этого шага. Недо-
верие народа к полицейскому прави-
тельству было настолько велико, а
разрешение выехать из России
живыми и невредимыми казалось
такой невероятной уступкой, что
люди, знавшие царское вероломство,
решили: отъезд духоборцев на кораб-
ле станет не чем иным, как смертной
казнью через потопление. Обреченно
и самоотверженно, как на плаху,
поднимались духоборцы с детьми на
корабль.
Но пароход благополучно отчалил,
развернулся и пошел быстрей и
быстрей, набирая скорость. Прово-
жавшие тревожно смотрели вслед,
пока он не стал серой точкой у гори-
зонта, только тогда облегченно вздох-
нули и разошлись.
Около месяца шел корабль к друго-
му континенту — и вот наконец пока-
залась земля, которая должна была
стать духоборцам второй родиной.
Люди, измученные тяготами дальнего
пути, оживленно вглядывались в при-
ближающийся берег: что там? Этот
момент один из переселенцев
описывал так:
«И нигде земли не видно—все было
заполнено толпами народа, который вышел
встречать нас. Было народу так много, что
и сказать нельзя».
Канадцы радостно приветствовали
духоборцев, и в речах, обращенных
к русским, звучали теплые слова.
«Вы являетесь не только наиболее жела-
тельными переселенцами, но более того —
приносите с собой нечто более необходимое,
ибо вы представляете людей, твердо сто-
ящих за свои убеждения, каких бы страда-
ний вам это ни стоило,— говорил предста-
витель канадских рабочих. — Ваш благо-
родный отказ употреблять оружие, ваша
благородная решимость еде >аться ради
своих убеждений изгнанниками из родной
земли, является вместе с тем поддержкой
всякому доброму начинанию и в самой
Канаде... Вы принадлежите к одной из тех
великих северных рас, в которых так
нуждается эта страна; между ними русские
отличаются своей способностью к
промышленной организации и артельной
жцзни и могут в этом дать урок даже такой
передовой стране, как Канада—»
Благожелательно отозвалась на
приезд духоборцев и канадская прес-
су Подробно описывая не совсем
обычную внешность новых пересе-
ленцев (носят усы, но обривают боро-
ду, волосы коротко острижены за
исключением одной пряди, спус-
кающейся на широкий открытый лоб;
светлое и приветливое выражение
глаз, мощные фигуры), журналисты
отмечали их трудолюбие, нравствен-
ную чистоту, бережливость и аккурат-
ность. Особенно всех поражала чисто-
та парохода, на котором почти
2000 духоборцев совершили плавание
через океан. «Палуба «Лейк Гурон»
блистала такой чистотой, что без
преувеличения могла бы служить обе-
Петр Васильевич
Веригин
(1859—1924)
денным столом»,— писала одна из
газет, и все единодушно признавали,
что «никогда канадский народ и ка-
• Одна из первых деревень духоборцев
в Канаде
надское правительство не встречали
переселенцев так охотно и так сер-
дечно».
Как же складывалась судьба духо-
борцев на чужбине? Уны, не так легко,
как можно было бы ожидать после
столь бурного приема. Шел 1899 год.
Западные прерии Северной Америки,
где предстояло жить духоборцам,
были частью незаселенного так
называемого Дикого Запада. Эти зем-
ли даже напоминали Закавказье. Но
вот ирония судьбы еще трещали кое-
где выстрелы индейцев и метисов,
отстаивавших свои права на жизнь
и эту землю, а их земля уже была
обещана и фактически принадлежала
изгнанникам другой страны.
Бесправные в своей стране, духо-
борцы на чужбине обретали права,
отнятые у таких же, как они, гонимых.
И у первых, и у вторых не было
выбора.
Приветливые, незлобивые духо-
борцы горячо сочувствовали затрав-
ленным аборигенам, старались по-
мочь им, чем могли.
«Помню, как однажды днем ко мне
в блокгауз, где я занимался систематиза-
цией записанных псалмов из «Животной
Книги» духоборцев,— писал В. Д. Бонч-
Бруевич,— стали доноситься крики с того
берега Лебяжьей реки, протекавшей здесь
неболее как в пятидесяти саженях от моего
жилища. Я вышел. Вижу, индеец ишет
брода для своей тележкн, где сидели его три
жены и куча ребятишек. Река вздулась от
дождей Вот он нашел кое-как брод и пере-
брался на нашу сторону. Далее ему надо
было ехать на крутой берег, чтобы выбрать-
ся на дорогу. Его худая лошаденка никак
не могла вытащить довольно загруженную
тележку Духоборческие ребята, игравшие
здесь, стрелой помчались на деревню,
сообщая о беде индейца. Сейчас же
прибежали с десяток парней и женщин
и окружили тележку. Жены индейца в ужа-
се вскочили в тележку, дети разом закрича-
Петр Петрович
Веригин-
Чистяков
(1881—1939).
ли, заплакали, а несчастный потомок царей
свободных степей снял шапку и стал быстро
низко кланяться, торопиться и изо всех сил
бить лошадь. Когда один из духоборцев
взял лошадь под уздцы, индеец в страхе
затрясся, а в это время остальные духо-
борцы дружно подхватили таратайку и
вместе с женами и детьми в один миг
вынесли ее на вершину гористого берега.
Индеец захохотал что есть мочи, стал
кланяться, прижимать руку к сердцу, жены
приятно улыбались, а дети перестали пла-
кать, все еще в страхе прячась за матерей
— Пойдем чай пить,— понимаешь,—
ча-а-й пи-и-ить!.. — усердно выговаривали
духоборки.
— Не понимает,— сокрушались духо-
борцы.
— А то о-бе-да-ать... — слышишь,— за-
говорили все хором, махая руками, по-
казывая на свои дома, на рот, мимикой
изображая еду.
43
Индеец догадался и захохотал еще
сильней, а жены закивали головой, прижи-
мая руки к сердцу, но знаками отказыва-
лись...
— Боятся... Вот до чего запуганы,—
сказал один из духоборцев,— прямо беда,
как увидят белого, так сейчас бежать...
Видно, плохо им, любошным, здесь жи-
лось... закончил он».
По вигвамам быстро распространи-
лась добрая молва о приезжих,
и друзья по несчастью скоро нашли
общий язык.
Но, увы, не так просто складывались
отношения с фермерими-ирландца-
ми. Заносчивые бритты свысока отно-
сились к этим русским, считая их
«азиатской» народностью, «цветной»
расой. В Д. Бонч-Бруевич описывал
случай, когда за то, что духоборчес-
кий мальчик нечаянно ушиб сына
англичанина, разгневанный отец од-
ним ударом убил невинного ребенка.
Как на это ответили духоборцы?
Они написали письмо в полицию
такого содержания:
«Духоборческая колония Громовая гора.
Милостивый Государь, этим нашим заяв-
лением мы просим вас постараться, чтобы
человек, убивший мальчика, не был нака-
зан. Мы уверены, что он уже и теперь
и будет еще достаточно наказан в сердце
своем. Мы сочувствуем ему, потому что
и мы теряли спокойствие и за это страдали
в сердцах наших. Уже один мальчик убит,
и нам казалось бы ужасным, если б еще
другая жизнь поплатилась за это».
Этот поступок совершенно ошело-
мил убийцу, и с тех пор он навсегда
стал истовым доброжелателем духо-
борцев. Были и другие не менее
тяжелые ситуации, и всякий раз эти
люди обезоруживали своих врагов
неожиданной реакцией, всегда оста-
ваясь верными человеческой добро-
детели.
Если проблем в общении с соседя-
ми оставалось все меньше, то куда
сложнее складывались отношения с
властями. Отгремели приветствия и
вступили в силу законы бюрократии,
законы государе гва, стоящего на стра-
же частнокапиталистического пред-
принимательства. Под угрозой оказа-
лись главные принципы духобор-
чества. Первое столкновение про-
изошло из-за землепользования: ду-
хоборцы хотели владеть землей
общинно, правительство настаивало,
чтобы участки стали собственностью
конкретных лиц. После острых
столкновений все же удалось найти
компромиссное решение — землю
записали на духоборческих руководи-
телей.
Одинаково несовместимым как с
российским, так и с любым другим
государственным строем оказался и
принцип «неподчинения». Местные
чиновники, желая добиться полного
повиновения, обирали, третировали
духоборцев, отказывали больным
цингой, плевритом, воспалением лег-
ких в самых необходимых медикамен-
тах. Ополчились они и на русских
интеллигентов, приехавших с духо-
борцами, чтобы помочь им устроить-
ся и обжиться в чужой стране.
Недовольство это было вызвано тем,
что интеллигенция, как говорили сами
духоборцы, не давала «утопить их
в ложке воды».
Между тем средства, полученные
на переезд и устройство, иссякали.
Первый урожай на канадской земле
был так скуден, что повергал в
уныние.Переселенцам грозил голод.
Изнуренные несчастьями на родине,
они почти не имели возможности
восстановить силы, а ведь жизнь
приходилось начинать на пустом мес-
те, целину только предстояло превра-
тить в плодородную землю.
Тогда врач В. М. Величкина, жена
В. Д. Бонч-Бруевича, сопровождавшая
духоборцев вместе с мужем, обрати-
лась с письмом к канадским рабочим,
и если бы не их помощь, переселен-
цам пришлось бы совсем худо.
Первое время все здоровые муж-
чины, чтобы хоть немного поддер-
жать общину, ушли на заработки
в города Дома остались старые,
малые и женщины. Особенно пола-
гаться на городские заработки не
приходилось, да и что прокормит
крестьянина, как не земля! Лошадей,
скота духоборцы еще не нажили,
и женщины — а что было делать! —
по 12—16 человек парами впрягались
в плуги, пахали землю, буквально
поливая ее потом и кровью. «Ве-
ликолепные работницы, — писал
В. Д. Бонч-Бруевич,— это они по-
строили в первый год жизни в прериях
почти все деревни и вспахаЛи на себе
целину полей...»
Вообще о духоборках стоит сказать
особо. Эти женщины, по словам
В Д. Бонч-Бруевича, «являются если
не правящим элементом всей об-
щины, то во всяком случае именно
они имеют громадный вес во всех
делах, стремлениях и решениях об-
щины», поэтому руководители всегда
искали популярности среди духобо-
рок. Преданные делу и идее, они
радостны в радости, упорны в дости-
жениях. Скромные, даже застенчивые
на чужих людях, могут «резануть»
в глаза своим такую иной раз жесто-
кую правду, что она «очень рискован-
на для говорящего».
В выборе супруга женщина свобод-
на и может выйти за кого пожелает,
хотя и не без согласия родителей.
«Любительницы одеться покрасивей в
домотканые одежды,— писал В Д. Бонч-
Бруевич,— духоборки ценят мужество,
выносливость, силу, отвагу мужчин, не
любят маленькую породу, и помню не-
счастное положение одного духоборца
маленького роста, га которого ни одна
духоборка не захотела выйти замуж, так
как, говорили они, «нам таких на раззавод
не нужно».
Почтительное отношение духобор-
цев к женщине сказывалось и в том,
что нередко прежняя фамилия семьи
заменялась на другую — по имени
выдающейся женщины в этом роду.
Конечно, не все почитали и уважали
женщин, иные от этого правила отсту-
пали. Вскоре после переезда в Канаду
дюжий духоборец стал жестоко изби-
вать молодую жену. «Старички» соби-
рались, толковали, «постановляли»:
«прекратить бой жены». Но «бой»
продолжался.
По канадским законам мужа за
избиение жены на 6 месяцев заключа-
ли в тюрьму. Если после этого он
побьет жену снова, срок следующего
тюремного заключения увеличивался
вдвое. Пришлось разъяснять духобор-
цам этот закон. В. Д. Бонч-Бруевич
вспоминал:
«Женщины слушали с живейшим интере-
сом и, к моему удивлению, то и дело
перебивали' меня возгласами:
— Вот это дело!..
— Постой, погоди, любошный, теперь
прикрутим тебя!..
Теперь не больно-то палкой сиганешь
по чем ни попало...
— Здесь и на вас, разбойников, управа
есть, не то что там, в Азии...»
Нашлись, правда, и недовольные,
которые заявляли- «Это только один
разврат и потачка нашей сестре.
В писании так сказано: «Жена да
убоится мужа своего»,— как же нам
против писания идти?..» Но таких
оказалось немного, больше старухи.
Мужчинам тоже не пришелся по душе
этот закон, однако молодой духобо-
рец «укрощать» жену перестал и да-
же впредь прислушивался к ее сове-
там.
Бережно сохраняя свои прежние
традиции и мировоззрение, духо-
борцы учились здесь многому, пре-
жде неслыханному. Медленно, кро-
потливо, словно отделяя зерна от
плевел, отбирали они для себя луч-
ший опыт этой высокоразвитой
страны
Со временем, после долгих
мытарств и препирательств с прави-
тельством, духоборцы зажили двумя
колониями — одна в провинции Сас-
качеван, другая в Британской Колум-
бии. Религиозный принцип «избранно-
го рода» сохранялся, духоборцы жили
общинно, замкнуто. Даже в годы
«грязного десятилетия», как называли
в Америке 30-е годы, когда в за-
падных странах разразился экономи-
ческий кризис, они стремились во
всем обходиться своими силами.
Тогда духоборческую общину
возглавлял сын Петра Веригина —
Петр Петрович Веригин-Чистяков
В тяжелое время, когда умы и дух
человеческие страдали и никли под
шквалами экономической стихии, а
нравственные принципы зачастую ус-
тупали место жестокой борьбе за
выживание, он четко определил духо-
борческое кредо на все времена;
«Мы все достойное и доброе будем
перенимать у Канады, но мы никогда
не согласимся утерять свою
русскость, и во что бы то ни стало мы
сохраним свою русскую душу!»
Окончание следует.
44
EX L'BRIS «НАУКИ И РЕЛИГИИ»
ЕДИНСТВЕННОГО ОБЪЯСНЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКУ МАЛО
Николай
САМВЕЛЯН
Генрик Панас.
И в обыденной жизни слу-
чается невероятное. Не веря
в потусторонние силы, я все
же не забываю об одном
случае, рассказанном Мар-
ком Твеном. Как-то раз, в
омнибусе, читал он газету
и натолкнулся на сообщение
о конкурсе на самый корот-
кий рассказ о привидениях.
«Интересно, кто же сегодня
верит в привидения? — про-
изнес писатель.— Ведь они
исчезли еще в минувшем ве-
ке!» Сидевший напротив пас-
сажир с искренним, почти
детским недоумением спросил: «Вы так полагаете?» —
и... с легким стоном растворился в воздухе.
А вот что случилось совсем недавно со мной.
Приснился сон, будто сидим мы с польским писателем
Генриком Панасом на скамеечке в городе Ольштын,
у входа в местный планетарий, и беседуем о нашей
Галактике, о том, существовала ли она всегда, или
образовалась в результате гигантского взрыва. А если как-
то иначе?
«Этому всегда будет несколько объяснений,— говорит
Панас.— Человек по самой своей природе и особенности
ума никогда не согласится с единственным объяснением,
пусть даже очень убедительным: одного ему всегда
ало».
Я спорю, Панас улыбается, картинно поглаживая свои
седые усы...
А проснулся я от необычно раннего телефонного
звонка и узнал, что наконец-то в издательстве «Радуга»
вышла в переводе на русский язык знаменитая книга
Генрика Панаса «Евангелие от Иуды». Наконец-то! Ведь
родилась эта книга не сегодня и не вчера, а добрых 15 лет
назад. Успела завоевать Европу.
Ну а тот снежный вечер в Ольштыне — он был когда-то
и в реальности, наяву.
В начале восьмидесятых годов, в трудное для Польши
время, когда на дорогах стояли военные патрули,
а в городах рано гасили огни и все вокруг казалось
призрачным, нереальным, мы с Панасом отыскали место
в подвальном кафе. Стены обшиты гладко обструганными
бревнышками — не го блиндаж, не то средневековое
укрепление. Угощали здесь слабеньким кофе — не совсем
чтобы ячменным, но все же и не вполне настоящим. Это,
впрочем, не имело никакого значения. Уютно, тепло,
мягко светят какие-то рукотворно-экзотичные лампионы,
официанты европейски вежливы и умелы. Беседовать
здесь было хорошо.
— Почему понадобилось «Евангелие от Иуды»—об
этом после. Если это вообще надо объяснять,— говорил
Панас.— Кое-что в жизни объяснять можно, но далеко не
все. Да и не все поддается логическому анализу... Вот,
например, кто мог подумать, что мы с тобой, два писателя,
но один — пишущий по-польски, а другой — по-русски,
с разницей в тридцать лет окончили один и тот же
Львовский университет. Но и этого мало — как только что
выяснили, оба провели студенческие годы в одной и той же
аудитории, окнами в парк.
— А теперь в этой аудитории слушает лекции мой сын.
— Ну, это не просто совпадение,— заявил Панас.—
Это уже пугающая мистика!..
Что-то ошеломляюще первородное было в самом
облике Панаса: человек, каким он выглядел всегда,
завершив свой эволюционный бросок от всего лишь
«умелого» к «мыслящему». Если бы Панас вместо
респектабельного темного костюма облачился в тогу,
никого бы это не удивило. И доспехи средневекового
рыцаря тоже не выглядели бы маскарадными. Словно
угадав мои мысли, Панас сказал:
— Мы с тобой сейчас в перекрестии европейской
истории. Рядом — замок, в котором жил и работал
Коперник. А чуть поодаль — поле Грюнвальда. И не по
этим ли местам шел когда-то во Львов ваш Иван Федоров,
который, как считают некоторые исследователи, учился
в Кракове?
Видимо, недаром польская критика писала о книге
Панаса: «Евангелие от Иуды» подталкивает к мысли, что
история — некое пространство, по которому разбросаны
как вехи данные, обладающие высокой степенью вероят-
ности, но не более того, а окружены они бесчисленным
количеством белых пятен, неведомых территорий. В зави-
симости от заполнения белых пятен всевозможными
толкованиями меняют свой смысл даже те положения
истории, которые казались аксиомами. О книге говорили,
что история в ней представлена как действительность
текучая... Да, Панас обладал удивительной особен-
ностью — тихо, мягко, неспешно, с интонациями мудрого
школьного учителя приглашать к раздумьям над вещами,
казалось бы, давным-давно известными, и это становилось
путешествием в незнаемое...
В Ольштыне Генрика Панаса знали все. Он был местной
достопримечательностью и легендой. Родился Панас во
Львове, там же учился, а в тридцать девятом сражался
против рвавшихся ко Львову, как и к Варшаве, танковых
колонн нацистов. Затем был в армии Андерса. В Африке
и на Ближнем Востоке участвовал в боях поотив армии
Роммеля, а в Италии — в знаменитой битве под Монте-
Кассино. Но после войны, в отличие от многих своих
товарищей по армии, не оказался в эмиграции, а приехал
в Польшу. Обосновался в Ольштыне, стал писателем
и общественным деятелем.
«Евангелие от Иуды» сделало его знаменитым Книга
невелика, но издатели считают ее романом. Автор назвал
ее апокрифом. Апокрифы (по-гречески — потаенные) —
это книги, дополняющие священное писание, но не
канонизированные церковью. Их много. В свое время
апокрифы были необычайнс распространены. В Древней
Руси, например. Потом становились «отреченными книга-
ми». Но извести их было нелегко...
«Жажда всезнания — парадокс нашего разума (назна-
чение коего, по моему мнению,— цели практические),—
говорит Иуда у Генрика Панаса.— А в истории такое
всезнание — неосуществимая мечта, хотя и мужи нанобра-
зованнейшие не находят сил отказаться эт подобной
пытливости».
Иуда Панаса — человек практичный, рациональный.
Порою — мыслящий смело, но не вдохновенный. Христос,
которого он искренне любит, видится ему человеком
выдающимся, но вполне земным. Иуда, может быть,
больше, чем другие апостолы, предан Христу, понимает
глубинный смысл его проповедей люб: и и терпимости.
45
«Апокрифический» Иуда не предает Христа, но оставляет
его...
В романе мемуарист Иуда как бы исподволь объясняет
рождение мифа и возникновение ореола. Это ученикам
Христа нужен был не земной образ учителя, а явление, до
которого людям не дотянуться,— символ, идеал. Иуда
понимает: никакого цельного и стройного учения Христос
не создал — это сделали его последователи.
Перед нами анализ самого процесса мифотворчества,
его тайных и явных пружин. Но «Евангелие от Иуды» — не
научное исследование. Это — художественное произведе-
ние, в котором есть и лирическая линия: страстная любовь
Иуды к Марии Магдальской, а Марии — к Христу.
— Собирался я написать обычный исторический ро-
ман,— говорил Панас.— Не более того. Вовсе не атеисти-
ческую книгу.
— Но атеист найдет в ней подтверждение своим
мыслям. А верующий — своим...
— Может быть. Объяснять свое произведение вообще
трудно. Да и нужно ли — вот вопрос! Меня утомляют бес-
численные рецензии на бесчисленные книги. Каждый из
рецензентов творит злой или добрый миф о книге. Как
правило, автор собирался написать не то, что умудряются
увидеть в его произведении рецензенты. Но, наверное, это
тоже естественное, человеческое... Иуда в какой-то мере
рецензент учения Христа. Но среди окружающих пропо-
ведника такой человек должен был быть... Для Иуды
Христос прекрасен, но все ли прекрасное беспорочно? Да
и нуждается ли оно в усовершенствованиях? Но людям
нужен миф Иуда с интересом, а порою и с сочувствием
наблюдает за тем, как этот миф творят...
...Нам с Панасом не сиделось на месте. Зима
в Ольштыне мягкая — Балтика не так далеко. Даже в
феврале снег тут же таял на тротуарах. Но на деревьях
был пушист. Вот он мягко отливает золотом, потому что
льется на него свет из зала, куда мы попали. Здесь лампы
под желтыми шелковыми абажурами И во всем вокруг
пленительная радость бытия: белоснежные хрустящие
скатерти, весело поблескивающее на столах цветное
стекло, ловкие и очень уважающие седс го Панаса
официанты. Слово «предупредительные» было бы не-
уместным...
— Как в молодости,— сказал Панас.— Бродим из
одного кафе в другое... Разве что пью теперь в основном
воду . Но ничего — была бы беседа. Я рад, что «Евангелие
от Иуды» переводят на русский. Когда выйдет в свет, поеду
в Москву . Только ты рецензию на книгу не пиши. Если
будет какое-нибудь обсуждение, расскажи лучше об этом
разговоре...
Книга издана. Но Генрика Панаса уже нет среди нас.
— ...Интересно, куда я попаду после смерти,— в ад или
в рай? — улыбаясь, размышлял он.— Конечно, лучше бы
всего в какой-нибудь Пантеон: вернее и нагляднее.
Впрочем, я сбиваюсь на интонацию вульгарного безбожни-
ка, что вряд ли украшает автора философско-исторических
романов, каковым я себя считаю...
Популярность «Евангелия от Иуды» растет. Книгу
переводят. Насколько я знаю, она уже вышла на всех
континентах за исключением разве что Антарктиды.
Листаю старый блокнот со словами Панаса: «Если бы я не
написал «Евангелие от Иуды», его обязательно написал бы
кто-нибудь другой. Человеческий ум не знает покоя. Он
всегда ищет разные точки зрения. Моя книга—одна из
них...»
И сейчас, отложив роман-апокриф в сторону, ловлю
себя на удивительном ощущении: Иуда стал для меня
реальным персонажем, как, к примеру, булгаковский
Иешуа или Иоанн Креститель художника А. Иванова
в «Явлении Христа народу». И как — простите за несопос-
тавимое — призрак в омнибусе из устного рассказа Марка
Твена. Что за эффект такой, на чем основан? Кто-то сказал,
что талант — это знания, помноженные на воображение.
Мажет быть, в этом-то все дело?
ЕВАНГЕЛИЕ
Из «Книги
седьмой.
в коей сказывается
о воскресении
Иисуса...»
...Немного погодя полу-
чил я доступ к полицей-
ским донесениям, тогда-то
и убедился, сколь отлаже-
на была у заговорщиков
конспирация. Иисус чис-
лился в списках бродячих
общин лишь проповедни-
ком и чудотворцем из
Капернаума, до самого
конца в нем так и не при-
знали вождя мятежни-
ков1. В самом важном до-
носе излагались события
на храмовом подворье:
среди приговоренных ока-
зался-де некий самозва-
ный мессия.
...Дня Через два мне со-
общили: заболела Мария.
Презрев опасность, сопро-
вождаемый двумя рабами,
я отправился на Елеон-
скую гору в закрытой лек-
тике; безбородый, в то-
ге — пригодилось и мое
римское гражданство,—
преобразился до неузна-
ваемости.
...Я прибыл на виллу,
когда лекарь настоем не-
сколько утолил у Марии
горячку, больная очень
ослабела из-за несчастий
последних дней. Красивая,
хоть давно минуло ей три-
дцать и красота ее слег-
ка поблекла, она казалась
мне прекрасней, чем рань-
ше: бледное лицо и бело-
мраморная шея утопали в
облаке золотистых волос.
...Мария, постоянно бро-
дившая с Иисусом, не
пряталась ни от солнца,
ни от ветра, кожа на лице
других женщин станови-
лась темно-бронзовой, а ее
лицо покрывалось легкой
золотистой патиной, чуть
более темной, чем волосы,
золотисто - пепельные,
словно кора оливковых де-
ревьев. Едва заметные
морщинки лишили Марию
очарования юности, да ме-
ня это не заботило - ни-
когда не разлюбил бы,
будь ее лицо не в мор-
щинках, а в язвах от леп-
ры.
ОТ
Генрик ПАНАС
ИУДЫ
Взволнованный, молча
смотрел я в ее блестящие
глаза и ждал, пока она
заговорит, как всегда,
медленно и отчетливо вы-
говаривая слова, слегка
как бы цедя их капризно,
обычаем элегантных ге-
тер,— от такой манеры
она не избавилась, как я от
александрийского акцен-
та. Я обожал эту едва уло
вимую напевность ее речи,
в сравнении со стреми-
тельным кудахтаньем
крестьянок медлительная
напевность ласкала слух,
и сегодня слышу ее говор,
хотя едва улавливаю зву-
ки из внешнего мира; слух
у меня изрядно притупил-
ся, может, именно потому
столь отчетливо эхо голо-
сов прошлого.
Мария была явно взбу-
доражена, но не моим
появлением, в ее возбуж-
дении не чувствовалось
того, чего я столь жаж-
дал,— нашей близости. Я
не питал иллюзий и любил
без надежды; вдру! беспо-
койно пронеслось: а не дал
ли ей Иисус тайных по-
ручений снестись со мной?
Она долго молчала,
словно никак не решалась
перемочь неуверенность,
дабы открыть нечто, что
должно сокрыть. Я наблю-
дал эту борьбу в лице ее,
в глазах, в губах, гото-
вых поверить тайну, но не
помог ей ни жестом, ни
словом, лишь с любовью
всматривался в ее лицо.
Она схватила мою руку,
прижала к своей груди —
увы. вовсе не любовно, что
я тут же разочарованно
и отметил,— привлекла
меня поближе, дабы сел
возле нее на ложе. Затя-
нувшееся молчание обе-
щало тайну, нечто неслы-
ханно важное, уму непод-
властное. Хорошо помню
1 По версии романа Г. Панаса,
Иисус и его приверженцы вСТу'
пили в Иерусалим с целью мй*
тежа. (Ред.) ягк
46
ее шепот — я впивал его
и слухом, и взглядом, ды-
ханием своим впивал ее
горячее дыхание.
Я видела его, вчера
видела его.
— Так, значит, он не
погиб?
Она пожала плечами и
ответила тихо, но четко
произнося слова, будто
опасаясь, пойму ли ее:
— Я знак, оль <иде-
ла его. Он вознесся в небо.
Веришь ли мне?
— Расскажи, что слу-
чилось,— ответил я мягко,
глядя ей в глаза.
Взгляд ее был ясный,
чуть горячечный, но сом-
неваться, в рассудке ли
она, не приходилось; верно,
Мария заметила мое бес-
покойство или сомнение,
а пожалуй, сомнение про-
звучало в моем ответе,
она настойчиво повторила
вопрос, словно и сама сом-
невалась, словно загодя
была уверена: видению ее
нельзя поверить. Поэтому
я продолжал:
— Много чудесного
случалось на белом свете.
Иона живым вышел из
чрева китова, Даниил уце-
лел в львином рву. Коли
ты говоришь, видела его,
значит, и верно видела.
Успокойся и скажи все
как было, по порядку.
Тонкие пальцы впились
в мою ладонь, она то сти-
скивала мою руку, то от-
пускала, речь ее прерыва-
лась, Мария тихонько
стонала и всхлипывала.
Я терпеливо пытался уло-
вить смысл нескладного
рассказа, в коем, разуме-
ется, не было логики, все
тонуло в несущественных
отступлениях — она хоте-
ла одновременно сообщить
и о том, что чувствовала,
и о том, что было реаль-
ностью, вернее, казалось
ей реальностью, но, при-
знаю, слушал я поверх-
ностно: меня интересовала
история, все сопутствую-
щие трагические обстоя-
тельства, а в голове ца-
рил полный сумбур —
слишком близко от ее гру-
ди покоилась моя рука.
Сокрушенно каюсь, сей
факт запечатлелся в моей
памяти намного тверже,
нежели все, о чем сказы-
вала Мария; когда дожи-
вешь до моих лет, убе-
дишься: самые живые вос-
поминания составляет в
нас Эрос, пожалуй, они
только и остаются.
Согласен, мысли, мель-
тешившие в голове, б выс-
шей степени не соответст-
вовали минуте, но не на-
писать об этом — значит
представить себя в более
выгодном свете, чем то
было на самом деле.
Так вот, из рассказа
Марии я узнал: женщины,
не все, лишь немногие,
видели схваченных плен-
ников, когда их вели в го-
род. Видели тоже Иисуса,
в разорванных одеждах,
окровавленного, руки стя-
нуты за спиной, вервием
был связан со своими
соратниками.
Женщины схоронились
за стеной, огораживающей
оливковую рощу от доро-
ги, и боялись выйти; вече-
рело, за стражниками дви-
галась пехота, за ней кон-
ница, они не отважились
даже громко плакаты
Когда колонна спустилась
в долину Кедрона, разра-
зились рыданиями — рва-
ли волосы, проклинали
римлян, пока не отупели
от усталости. В темноте не
пошли разыскивать, кто
из близких погиб, и при-
крыть тела, чтобы не обез-
образили шакалы и пти-
цы.
...Одна женщина ходи-
ла в город и слышала раз-
говоры на улицах; около
полудня узнали о казни...
Говорили об экзекуции на
Голгофе.
Презрев опасность, жен-
щины побежали туда, где
всегда несколько sta-
urds2 в форме буквы «Т»
поджидало преступников.
Округлая вершина пусто-
вала, кресты тоже, но в
выбоинах на сухой земле
засохла кровь — значит,
казнь свершилась здесь.
Тлетворный дух отравлял
воздух, стервятники стаей
сидели на скалах вокруг
заваленной камнями рас-
селины, куда сбросили
казненных. Птицы копо-
шились и в расселине,
склевывали останки чело-
веческой плоти, засовыва-
ли клювы в щели между
камнями, когтями пыта-
лись отвалить каменья,
откуда несло трупным
смрадом.
Мария, с ней еще три
или четыре женщины оста-
лись у подножий крестов,
оплакивая умерших Ник-
то не мешал им, редкие
прохожие спешили мино-
вать проклятое и страш-
ное место, только птицы,
громадная стая, насторо-
женно наблюдали за пла-
кальщицами, терпеливо
дожидаясь своего часа...
Под вечер ушли в усадь-
бу, Мария еще несколько
дней ходила на Голго-
фу — не могла поверить,
что ее равви умер и ле-
жит, засыпанный камня-
ми, вместе со злодеями
Она не пила и не ела,
целыми днями просижива-
ла на выступе скалы без
сил, не слыша зловещих
криков стервятников, не
чувствуя зноя, кровопийц-
мух, что роились в рассе-
лине. Она усмотрела
один крест, сердцем уга-
дав, этот Иисусов, и целы-
ми часами обнимала под-
ножие, где капли смолы
смешались с каплями за-
сохшей крови. Под креста-
ми в трещинах на иссу-
шенной зноем земле тем-
нели ржавые пятна, кровь
тех, кто не погиб в муках
на кресте, кому не раз-
дробили голени, а просто
убили копьями.
Три дня приходила Ма
рия на Голгофу, а вчера,
перед заходом солнца,
когда спешила в город к
Ефраимовым воротам,
увидела в отдалении зна-
комую фигуру.
Дорога поднималась в
гору на невысокий холм
В лучах заходящего солн-
ца на фоне неба она от-
четливо видела Иисуса
На нем был светло-корич-
невый бурнус с капюшо-
ном (похожий на пенулу),
в каком его схватили.
Волосы, посеребренные
сединой, слегка шевелил
легкий ветер — об эту по-
8 Крест (греч.).
47
ру всегда дует из Иудей-
ской пустыни.
На верху холма Иисус
оглянулся на Марию, по-
трясенная, она останови-
лась, тогда он махнул ру-
кой; что хотел сказать,
Мария не уловила — знак
мог означать и приветст-
вие, и прощание или пред-
ложение поторопиться.
Потом Иисус повернулся
и пошел в город.
Мария с криком побе-
жала вниз, в долину, меж-
ду горой и холмом, а когда
поднялась на холм, нико-
го не было видно до са-
мых ворот
В отчаянии пала она на
колени у камня, возле ко-
торого, как ей показалось,
стоял учитель (насчет
камня сначала речи вооб-
ще не было), с плачем и
мольбой обратила взор к
небу и увидела розовое
облачко, одинокую кудря-
вую тучку, похожую на
агнца, а не было этой туч-
ки на небе...
И тогда Мария уразуме-
ла: равви ступил на об-
лако.
Осторожно и мягко до-
пытывался я у Марии, не
привиделось ли ей все
ведь учитель умер, уже по-
лучены почти достоверные
сведения; погиб и погребен
вместе с другими, как же
мог явиться?
Разве что ты видела
дух его,— сказал я, лишь
бы не перечить ей и не
разубеждать
Она решительно воспро-
тивилась такому объясне-
нию, уверяла, равви вы-
глядел как всегда, уж
она-то хорошо его знает
и не могла ошибиться
днем всего на расстоянии
оклика.
Не хотелось лишать
Марию последней надеж-
ды, хотя сомневаться не
приходилось: голод, го-
рячка и экзальтация поро-
дили это видение, и пото-
му я осторожно спросил,
может быть, учитель не по-
гиб, чудом спасся от
смерти?
Ответила:
Знаю только, виде-
ла его, как тебя сейчас.
На мой вопрос об исчез-
новении ответила, по-
думав:
Вознесся на небо.
Про то и знак давал.
Мы долго говорили о
странном явлении, а горя-
чая ее убежденность по-
колебала даже мой скеп-
тицизм,
Ежели Иисус и в самом
деле посланник божий
о том немало свидетельст-
вовало - и, предвидя
свою горестную судьбу,
пошел ей навстречу вопре-
ки всем своим убежде-
ниям, может, и сверши-
лось сие по воле господа,
приговоры 'его неиспове-
димы.
..Не подумай, что и ны-
не считаю вознесение воз-
можным, так считал не-
долгое время, пока не
освободился от Марии.
Мистическая вера изна-
чально была присуща мне,
как и любому иудею, изу-
чившему Тору и веро-
вавшему в бога Яхве,
но посеянное эллинскими
мыслителями уже в те ле-
та научило меня, дало
свои всходы: я умел реаль-
но оценить божественное
вмешательство .в дела
человеческие. Едва оста-
вив Марию и обдумав ее
видение обратной дорогой
в лектике, я извлек лишь
одну гипотезу, заслужи-
вающую внимания: Иисус
стечением обстоятельств
не погиб и скрывался где-
то либо в самом городе,
либо в околице.
Идея восстания потер-
пела крах, учителю грози-
ла опасность, он, есте-
ственно, избегал встречи
с братией, если и показал-
ся Марии, вовсе не для
утешения, а лишь затем,
чтобы дать знак мне: он
жив. Памятуя о нашем
последнем разговоре,
использовал Марию, зная,
как дорога она мне, и от
нее я всенепременно узнаю
о его судьбе.
Я прекрасно понимал,
сколь эфемерна моя гипо-
теза, и все же возмож-
ность сия не исключена, и
даже без всякого вмеша-
тельства небесных сил.
У меня, однако, не хва-
тало решимости изверить-
ся в них, хотя и обманули
нас, когда мы более всего -я
в том нуждались; я до- °
пускал, что крах мяте- «>
жа предостережение; S
не этим путем приблизить *
можно царство божие; ч
се знак и предостереже- °
ние — и самому Иисусу, и *
тем немногим, кто поддер- ’S
живал его первоначаль- о
ную идею. А потому бог g
ниспослал ему испытание, g
указуя истинный путь, §
от коего под недобрым е
влиянием уклонился, а _
значит, мог спасти учите- g
ля, дабы выполнил свою а.
миссию t;
А. С. МАКАРЕНКО: «Из моих
учеников выходили неверующие
люди»
По решению ЮНЕСКО в нынешнем
году весь мир отметит 100-летие со
дня рождения великого советского
педагога и писателя Антона Семено-
вича Макаренко.
В богатейшем педагогическом на-
следии Макаренко мы находим и
мудрые мысли о формировании у
подростающего поколения матери-
алистического мировоззрения, атеис-
тических убеждений.
Христианская религия существует около
двух тысяч лет, и за это время не так уж
много было людей, которые серьезно
могли верить в троичность божества, или
в непорочное зачатие, или в грехопадение
прародителей... И в литературе, и в народ-
ном творчестве нет, кажется, ни одного
образа, изображающего церковников в ви-
де, вполне адекватном их официальной
святости. В историческом развитии эксплу-
ататорского общества церковная иерархия
складывалась как аппарат принуждения
и классового порабощения. Недаром в эпо-
ху пугачевского восстания, происходивше-
го как будто в довольно религиозное
время, народ расправлялся с попами так
же, как с помещиками. Совсем иную
историю переживают этические религи-
озные системы, в частности, христианская.
Нет никакого сомнения в том, что эта
система родилась гораздо раньше офи-
циальной церкви, родилась при этом,
безусловно, в среде подавленных и пора-
бощенных классов в эпоху плачевного
отчаяния... Потеряв всякие надежды на
какой бы то ни было суррогат свободной
жизни, люди решились на самоубийствен-
ную попытку найти эту свободу в пессимис-
тическом индивидуализме, в полном отка-
зе от борьбы, от сопротивления... Такая
этика оказалась очень живучей как
привычка, как система нравственных тра-
диций..
Из статьи «О коммунистической этике»,
1939 г.
В нашей школе нет теории морали, нет
такого предмета, нет такого лица, которое
бы эту теорию морали преподавало или
было бы обязано по известной программе
сообщать детям.
В старой школе был закон божий,
предмет, отрицаемый не только ученика-
ми, но сплошь и рядом самими батюшка-
ми, которые относились к нему как к чему-
то не заслуживающему уважения, но
вместе с тем в нем было много моральных
проблем, которых так или иначе касались
на занятиях... В своей практике я пришел
к убеждению, что и для нас необходимо
изложение теории морали... Я уверен, что
в развитии нашей школы в будущем мы
необходимо придем к такой форме
В своей практике я принужден был теорию
морали в определенном виде... своим
ученикам предлагать... Я имел перед
собой программу, мною лично составлен-
ную, которую я излагал моим воспитанни-
кам на общих собраниях, пользуясь раз-
личными поводами. ..И я видел очень
хорошие, большие результаты такой те-
ории морали.
Из лекции «Проблемы школьного со-
ветского воспитания», январь 1938 г.
Высказывания А. Макаренко подобрал
Л. Ч у б а р о в, член совета московского Музея
А. С. Макаренко.
48
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
ПРОЗРЕНИЕ
«А зори здесь тихие»,
«Не стреляйте в белых
лебедей», «В списках не зна-
чился», «Завтра была вой-
на» — эти произведения Бо-
риса Васильева получили не
только литературную жизнь.
Спектакли, фильмы по сце-
нариям известного писателя
отмечены на крупнейших
международных фестивалях.
Специальный корреспон-
дент журнала Александр
Романов обратился к
лауреату Государственной
премии СССР Борису Льво-
вичу ВАСИЛЬЕВУ с вопро-
сами, интересующими наших
читателей.
— Борис Львович, сегодня много гово-
рят и пишут об изучении реальной истории
об уроках правды. Чем объясняется, в
частности, ваше обращение к драматичес-
ким событиям, связанным с культом лич-
ности?
— Мировоззрение писателя фор-
мируется его ближайшим социаль-
ным окружением. Я из семьи военно-
го. Отец был командиром, в прошлом
кадровый офицер царской армии
Военные вообще консервативны. При-
сяга обязывает следовать букве, уста-
ву. Атмосферу, в которой я рос,
отличала верность традициям, опре-
деленным нравственным нормам. Для
отца понятия чести, верности знаме-
ни, державе были слиты воедино.
Начинал он свой путь кавалеристом,
много раз был ранен Спустя годы
перешел в инженерные войска, зани-
мался строительством дорог. В по
следней войне, участвуя в жестоких
боях под Харьковом, чудом остался
цел, вышел из окружения
Я рос «правоверным» пионером,
комсомольцем. Мама мечтала видеть
меня отличником, но я оценкам осо-
бого значения не придавал. В семье
меня окружало поклонение Сталину.
Прозрение для отца, думаю, насту-
пило после финской кампании
1940 года, в которой он принимал
участие Именно в Финляндии отец
понял, что наша страна к войне не
готова. А я пришел к этой мысли
позже. Сначала война. Сказать, что
мы шли тогда не «за Сталина», было
бы неправдой. И за Сталина тоже
49
Сталин был для меня символом,
внутренним знаком, кличем. Мне
довелось испытать войну не побед-
ную— я попал на фронт в 1941-м,
добровольцем, под Смоленск.
Трижды оказывался в окружении.
Семнадцати летний мальчишка, я ви-
дел сотни, тысячи взрослых солдат
в состоянии паники. Война взглянула
на меня крайне неприглядно, не
показала ни одной нашей победы.
Видел я и хохочущих, гогочущих
немцев, опьяненных удачами. С де-
кабря 1943 года я учился в военной
академии, где преподавали и исто-
рию, в основном новейшую. Разбира-
лись, скажем, наиболее известные
сражения. Историю того времени как
предмет не успели слишком «приче-
сать», еще фигурировали документы
с числами погибших, номерами час-
тей. При объективном изучении исто-
рии такой, какой она была, у нас —
слушателей не могло не возникнуть
сомнения в полководческом гении
Сталина. Хотя и тогда он был для меня
как символ, знамя.
Когда война закончилась, то, с од-
ной стороны, ощущалась радость
победы, с другой — и это хорошо
помнили фронтовики, люди моего
поколения — каждый чувствовал,
ждал: должно что-то произойти, за
все лишения, муки, утраты должно
как-то, чем-то воздаться. Ждали
перемен, изменений. Но мало что
изменилось. Например, выпустили по
амнистии уголовников, зато штрафба-
товцев оставили, а миллионы людей,
оказавшихся в плену, прошедших
муки ада, снова попали за колючую
проволоку, но теперь уже к «своим».
Кончину Сталина я встретил в горести,
притом искренней. Но так же искрен-
но, с радостью и облегчением я встре-
тил в 1956 году XX съезд партии.
К тому времени я твердо укоренился
в том, что ощущение подавленности,
холопства, жившее в каждом из нас
сознание, что ты не более, чем
«винтик»,— противоречили великой
нашей революции, самой ее сути.
— О культе личности есть разные мне-
ния, что видно и из нашей редакционной
почты. Одни спрашивают, нужно ли воро-
шить прошлое? Другие, напротив, считают,
что правду следует высказать до конца.
Каково ваше мнение?
— Безусловно, изучая прошлое во
имя сегодняшнего и грядущего, нуж-
но честно признавать истину, какой бы
горькой она ни оказалась. Помню, как
вышли из печати главы книги И. Эрен-
бурга «Люди. Годы. Жизнь», где
в числе прочего воздавалось должное
гениальной прозорливости Верховно-
го Главнокомандующего. И вот тогда
Эрнст Генри обратился к Эренбургу
с письмом, в котором задавал непрос-
тые вопросы. Письмо напечатано не
было, однако широко ходило по
рукам Эрнст Генри считал Сталина
виноватее виноватых, ибо накануне
войны пали жертвами культа личности
лучшие люди Советской Армии, блес-
тящие полководцы, которым едва
исполнилось сорок или около того.
Практически еще очень молодые,
полные сил люди, с огромными зна-
ниями, опытом. И главное, огромным
авторитетом. Можно предположить,
что наши потери в войне оказались бы
меньшими, если бы в военсовет вхо-
дили Тухачевский, Уборевич, Якир,
Блюхер? Вне всякого сомнения! У нас
имелась своя, весьма укрепленная
линия обороны. По приказу Верховно-
го Главнокомандующего ее демонти-
ровали и отодвинули к Бресту, но
сделать на новом месте практически
ничего не успели. 26 июня 1941 года
немцы оказались уже в Минске. Ар-
мия, ее руководство при Сталине
потеряли свой голос, который в усло-
виях войны является решающим.
Известно, как определялось число
погибших в годы Отечественной
войны. Сталин собственноручно по-
ставил цифру — 20 миллионов погиб-
ших. Так она и идет.
Стоит или не стоит ворошить про-
шлое во имя истины, исторической
правды? Недавно я присутствовал на
творческом вечере Эльдара Рязанова
в Останкине, куда он меня пригласил:
круглая дата, 60-летие. Мы с ним
старинные друзья. Разумеется, я при-
шел. Зал занимала в основном моло-
дежь. Режиссеру то и дело задавали,
а чаще яростно выкрикивали вопросы,
требуя категорических, чуть ли не
директивных ответов. Очень многие
молодые люди сходились во мнении,
что не нужно ворошить былое, нико-
му якобы не интересно «ваше про-
шлое», давайте, мол, вести разговор
о сегодняшнем и завтрашнем дне.
Я вспоминаю об этом творческом
вечере потому, что еле удерживался
от ответа не в меру бойким оппонен-
там Рязанова. Как можно не знать
собственную биографию! Человек до-
лжен знать свою историю, и как
можно глубже! Тогда у него есть
прочная опора, есть достоинство,
честь, память! Только тогда есть фун-
дамент, с которого видится перспек-
тива. Человек живет не одним сегод-
няшним днем. Известна мысль Ньюто-
на о том, что если он кое-чего и достиг
в науке, то лишь потому, что стоял на
плечах своих предшественников-ги-
гантов.
Я вспоминаю времена, когда в на-
ших школах история как предмет
отсутствовала. Ее включили в учебные
планы только с 1933 года. А сколько
лет ее переделывали, переписывали?
Для людей, только начинающих
жизнь, изучающих, что было до них,
должны существовать какие-то ка-
ноны, истины. Возьмем лишь один
пример — личность Шамиля. То его
объявляли народным героем, пла-
менным борцом, то прислужником
царизма, сторонником экспансии на
Кавказе. То это светлый образ на-
ционального революционера, то ре-
лигиозный фанатик, знамя мюридов,
английский шпион. Метаморфозы с
Шамилем происходили на глазах не
одного поколения. Повесть «Хаджи
Мурат» скороговоркой обходят в
школах и вузах. И не это ли — главное
препятствие на пути экранизации по-
длинного шедевра Л. JH. Толстого?
Когда учился я, о творчестве
Ф. М. Достоевского даже не упоми-
налось. Если кто-то спрашивал в клас-
се о Достоевском, его тут же одерги-
вали: не надо, не наше, великий
путаник...
Можно ли при таком подходе
научить историческому мышлению?
— Грубые нарушения законности, спра-
ведливости в период культа личности одних
ломали, других вынуждали приспособить-
ся Тем удивительнее стойкость только
начинающих жизнь девятиклассников в ва-
шей повести «Завтра была война» и в по-
ставленном по ней фильме.
— Мое поколение, а герои повес-
ти — мои сверстники, хотя история,
связанная с самоубийством Вики
Люберецкой, произошла не в моем
классе, не в моей 11-й воронежской
школе, а в соседней 5-ой, воспитыва-
лось в сложных, далеко не одно-
значных, противоречивых условиях.
С одной стороны, нарушения соци-
алистической законности, репрес-
сии — горе прошло через многие
семьи. С другой, все мы, так или
иначе, были детьми участников граж-
данской войны или, по крайней мере,
тех, кто ее пережил. И поскольку мы,
дети, оказались.в стане победивших,
а не побежденных, пафос победы
коснулся и нас. Мы вырастали на
победном взлете революции, на вол-
не ее нового мироощущения и радос-
ти, счастливой, звонкой, с пре-
красными порывами, песнями, по-
бедными, искренними. Революци-
онный пафос того времени игнориро-
вать нельзя.
Сегодня, когда чаще рассказывает-
ся суровая правда, нередки вопросы
молодых: «У вас в прошлом — все
тюрьмы, лагеря. Но как же тогда вы
победили?» Было и то, и другое. Да,
тюрьмы, лагеря, пытки и подлость,
доносы, страшная неправда.. И од-
новременно с этим — действительно
трудовой энтузиазм. Люди ощущали
себя счастливыми, чувствовалось
братство в стране. .И это — тоже
правда, я все это испытал на себе.
Помню, каким подлинно всеобщим
торжеством были для каждого из нас
и спасение челюскинцев, и перелет
Чкалова. Все это — наша история.
Правда «Детей Арбата» Анатолия
Рыбакова — всего лишь одна сторона
медали, потому это лишь полуправда.
А нам необходима, я в этом твердо
убежден, вся, полная правда.
50
Мое поколение плавилось в таком
тигле, при невероятном накале страс-
тей и невероятном «хладе могиль-
ном». Все было одновременно, одно-
моментно. И об этом надо помнить.
Еще один штрих того времени —
молодежи доверяли. Сейчас возни-
кает масса объединений, организа-
ций, союзов — формальных, нефор-
мальных. Тем не менее на деле
молодым зачастую не доверяют, их
боятся.
Когда мы были юными, то еще не
разуверились в своей мечте. Но на ка-
ком-то отрезке исторического пути
мы мечту, к величайшему сожалению,
потеряли.
Религиозную веру мы восприни-
мать не могли, ибо она к новому
нашему обществу ни с какой стороны
не подходила. По сути, церковь звала
назад, а не вперед. Наиболее доход-
чивая мечта в те далекие годы была
предельно простой: завтра будет хо-
рошо. И в это верилось, вера подкреп-
лялась реальными делами.
Вот герои повести «Завтра была
война». В 9-м «Б» мечтают все. Иск-
ра — человек с мечтой, точной, конк-
ретной, с верой в незыблемость убеж-
дений, ее нельзя, казалось бы, сдви-
нуть с места. Ради светлого завтра она
может пойти на плаху и в конце
концов идет. Ее окружают такие же
ребята. И Вика, кончающая само-
убийством, тоже такая, ибо не преда-
ет. Непокореженная мечта, непоко-
реженная, не изъеденная ржавчиной
лжи, приспособленчества вера — эта
вера для меня как писателя есть
главная движущая сила общества, его
вечный двигатель. Самые лучшие
призывы и планы остаются призывами
и планами, пока не реализуются
в нечто возвышенное. В те страшные
годы культа у народа была мечта.
Сталин это прекрасно понимал и такие
настроения по-своему поддерживал.
— Как получилось, что повесть «Завтра
была война» обрела новую жизнь иа сцене
театра и в кино? Что привлекло к ней
огромную молодежную аудиторию? Ведь,
скажем, в Московском театре имени Ма-
яковского второй год спектакль идет
с аншлагом как премьера.
— Думаю, зрителя привлекает
искренность буквально всех
действующих лиц. Они искренно за-
блуждаются, искренно верят, искрен-
но вредят. Их действия, столь разно-
речивые,— ради дела, но не корысти,
не карьеры. Даже Валендра, доводя-
щая Вику до гибели, руководствуется
своими убеждениями, но не какой-то
предметной выгодой.
Мать Искры, фанатически предан-
ная революции,— наиболее трагичес-
кий образ Она в конце концов
прозревает, понимает, что происхо-
дит в стране. Арест Люберецкого для
нее последняя капля. Практически она
решается на самоубийство, когда пи-
шет письмо, ибо знает, чем все
закончится,— завтра ее заберут. Но
не может не идти на это, потому
что — человек честный. Она хотела
спасти Искру, но не ради карьеры, а во
имя сохранения чистоты души. Ибо
боялась, что в Искре поселится сомне-
ние,— этим объясняются ее крайние
методы воздействия. Но цель — свя-
тая. Она мечтает видеть Искру
честной, последовательной, без сом-
нений в душе. Все герои в силу черт
характера так или иначе подходят
к трагедии. Ждет ареста директор
школы Ромахин, старавшийся пере-
дать детям то, что сумел пронести
А А.Гоыарог
в себе сквозь революцию,— умение
любить и ненавидеть. Он учил этому
высокому гражданскому искусству
своих учеников И как переживает
этот удивительный человек, что стра-
на, которая недавно пела, начинает
молчать!
Как создавались эти образы? Ска-
жем, мать Искры. За ней когорта
большевиков, искренних, трагически
прозревших, делавших трудный
выбор. У самих ребят разговоров
о культе личности нет. Никто из них не
сомневается в правильности системы.
Они докажут это ценой собственной
жизни. На войне никто из них не
дрогнул, все там полегли, защищая
свою власть Столкновений с культом
у них нет, однако есть конкретные
представления — скажем, что в дан-
ной ситуации Валентина Андроновна
не права. И только.
Локальный конфликт разрешается,
имеет подтекст для нас, зрителей.
Учительница организовала травлю де-
вочки. Но ребят воспитывали в друж-
бе. И на первом этапе они свою
победу одержали, ничего не испугав-
шись. У них нет конформизма,
желания приспособиться, словчить. Их
приучили быть бойцами, драться за
справедливость, правда в рамках со-
вершенно четких законов: почему
Вику нужно исключать из комсомола,
даже если ее отец — враг? Ведь ее-то
вины нет, и мы будем ее защищать.
Они живут завтрашним боем. На их
фоне особенно одиноко выглядит
Саня, приспособленец, любой ценой
пытающийся удержаться.
— Почему был выбран именно 9-й
класс? Чтобы пропустить трагедию проис-
ходящего через юные души, ибо отзывчи-
вость, честность, бунт — свойства прежде
всего молодости?
— Начнем с того, что сам я ушел на
фронт именно девятиклассником. Для
меня это рубеж.
Десятиклассники — без пяти минут
выпускники, вот-вот школа останется
позади. У девятиклассников завтраш-
ний день — 10-й класс, та же самая
школа, учителя, по сути мало что
меняется. Поэтому интересно брать
перелом именно в девятом классе.
Человек еще очень юн, искренен,
открыт, только-только начинает му-
жать. Никаких сильных влияний пока
не испытал.
Иногда спрашивают, почему в
фильме отдельные эпизоды сняты на
цветной пленке. Фильм по повести
был дипломной работой. На нее
отводится максимум четыре части.
Ровно на такой метраж создатели
картины получили цветную пленку.
Режиссер, сразу решивший создавать
полнометражный фильм, обратил де-
фицит в художественный прием — он
снял на цвет только эпизоды с Викой
Люберецкой, все остальное — на чер-
но-белой пленке, правдами и неправ-
дами доставая ее у коллег. Диплом-
ник, первый фильм — и как точно все
распределил. Режиссер — Юрий Ка-
ра, 32-летний выпускник ВГИКа, до
этого окончивший Институт стали и
сплавов, несколько лет отработавший
в Донбассе. Именно искренность са-
мого режиссера, передавшего атмос-
феру времени, сделала фильм за-
метным явлением.
— Какой смысл вложили вы в образ
Вики Люберецкой, которая нашла только
один выход из отчаянного положения —
уйти из жизни?
— Наше поколение воспитывалось
на «подвиге» Павлика Морозова. Вика
Люберецкая — его антипод. Она не
предает отца, предпочитая смерть
измене. Нет ничего страшнее пре-
дательства, и оно наказуемо все< да
— В своем романе «Вам привет от бабы
Леры...», отрывок из которого мы публи-
куем, вы описали и иную реакцию человека.
51
столкнувшегося с сокрушающей его не-
справедл и boc i ью поис к илл юзорного выхо-
да из безвыходной ситуации, обращение
к богу.
— История эта — рассказ о женщи-
нах, одна из которых просидела
в лагерях 27 лет, другая — 18. Не-
смотря на все ужасы, которые им, без
вины виноватым, пришлось пережить,
души они сохранили чистые, открытые
добру, состраданию. И веру в людей,
желание помочь, благородство, высо-
кую нравственность.
Эти русские женщины оказались
несломленными. У Анисьи, неграмот-
ной крестьянки, вернувшейся с катор-
ги, в жизни только один кумир — баба
Лера, имеющая свое великое про-
шлое, которым она живет, из которо-
го стремится вырваться, но оно цепко
держит ее. Ибо там — молодость,
талант, лучшие годы Баба Лера вспо-
минает революцию с восторгом,
вновь переживает былое. Анисья ма-
ло что в этом понимает Житейски ей
не с кем посоветоваться, и тогда она
выдумывает себе собеседника, бога.
Строго говоря, она — неверующая.
Для Анисьи вера — форма изложе-
ния мечты. Со своим богом-собесед-
ником она часто спорит. Что ж ты,
старый, упрекает она всевышнего,
людям вредишь, нагнал мор, елки
зеленые... Чего ты на деревню-то
нашу накинулся? Она, скорее, язычни-'
ца, нежели христианка. Ее бог —
добрый старикан, вроде лешего, при-
чем местный, деревенский. Он дает
запас сил, помогает решать какие-то
проблемы, уяснять окружающее. Ве-
ра для нее — живительный родник.
Баба Лера, рафинированная интелли-
гентка, для Анисьи часто недоступна,
непонятна. А бог — свой, привычный,
отношения с ним простейшие. Это не
уход в религию, по сути, это способ
восполнения одиночества. Исполняя
ритуал, перекрестившись, Анисья ос-
тается в принципе неверующей, ду-
шевно закрытой для веры.
Мне важно было показать ее
крестьянскую дотошность, желание
каким-то образом снять с людей часть
вины, переложить ее на плечи бога:
он-то выдюжит, стерпит. Во всем этом
есть и какая-то рациональная черта,
мол, годится — молиться, а не годит-
ся — горшки покрывать.
Образ Анисьи для меня важен, ибо
если кто безвинно и пострадал, то
прежде всего — она. Баба Лера хоть
за «что-то» сидела, хоть за платфор-
му свою или за работу. Анисья же
безропотно несет свой крест, как
миллионы ей подобных.
Бабу Леру каторга не поколебала,
она по-прежнему верит, что права.
У нее даже не появилось сомнений
в правоте, ни на секунду, никогда.
Таких женщин я встречал, не слом-
ленных, убежденных большевичек.
Они жили во имя идеалов, которым
следовали — вчера, сегодня, завтра.
ДЛИННЫЕ
Борис ВАСИЛЬЕВ
ВЕРСТЫ
КРАСНОГОРЬЯ
Отрывки из романа «Вам привет от бабы Леры...»
— Вам привет от бабы Леры...
До сей поры я слышу эти слова. Они
звучат в телефонной трубке то мужскими,
то женскими голосами как пароль странно-
го братства незнакомых людей, как сигнал
из одиночества. Они как отзвук неистово-
го, вечно юного «Дае-ешь!..», бешеного
топота коней, звона клинков и торопливых
выстрелов
— Баба Лера- неужели вы стреляли из
маузера?
— Вам трудно представить, что у этакой
^старушенции хватало сил надавить на
спусковой крючок? А я на пари дырявила
пятак, но всегда почему-то промахивалась
в людей.
Баба Лера... Вечная полуулыбка на
запавших губах, добрые морщинки и горь-
кие глаза. Горькие даже тогда, когда баба
Лера смеялась, а она очень любила
смеяться.
— Знаете, Алиса Коонен рассказывала
мне, что шестнадцати лет начала дневник
с фразы: «Я очень хочу страдать». Смеш-
но, я тоже затеяла дневник в шестнадцать,
но начало у меня было иное: «Я очень хочу
умереть счастливой». Пророчества гимна-
зисток выпускного класса.
На другой день я пошел за четырнадцать
верст в Красногорье. Купил самую толстую
тетрадь, вывел на титульном листе
«ДНЕВНИК» и сам написал первую фразу:
«Дорогая баба Лера! Живите долго и дол-
го дарите счастье». Баба Лера неторопли-
во надела очки, внимательно прочитала
восторженное вступление; затем сняла
очки, задумчиво постучала ими по тетради.
— Дарить счастье — это талант, а талант
всегда живет меньше, чем надо. И вообще,
мне кажется, что следует прибавлять
жизнь к годам, а не годы к жизни, Юрий
Иванович.
Баба Лера всех называла по имени
и отчеству, делая исключение лишь для
единственного человека — для Анисьи,
или Анюхи Поликарьевны, как та сама себя
величала. Она звала ее Анишей, хотя сама
Анисья обращалась к бабе Лере с кресть-
янской обходительностью. «Леря Ми-
лентьевна». Анисья была моложе бабы
Леры — ей исполнилось пятнадцать, когда
ее сослали, шестнадцать, когда посадили
за побег из ссылки в родное село,
и восемнадцать, когда «навесили» еще
десятку за немыслимый по дерзости отказ
удовлетворить естественное желание на-
чальника конвоя. Но, шагнув из отрочества
в ссылку, тюрьмы и лагеря и выйдя оттуда
Полностью роман будет опубликован в журна-
ле «Нева».
уже старухой, она всех называла только по
имени или — «начальник», если очень сер-
дилась.
Она походила на лошадь. Не исполнен-
ную грации и животворной силы кровную
кобылицу, а заморенную, мослаковатую,
с екающей селезенкой несуразную кресть-
янскую савраску. Лошадиными выглядели
длинные, в узлах вздувшихся венг тяжелые
руки, лошадиной была сутулая костлявая
спина, тоскливые, глубоко проваленные
глаза и те четыре зуба, что еще сохрани-
лись чудом каким-то. Четыре желтых,
больших, как стамески, резца в верхней
челюсти, которыми она не жевала, а скоб-
лила хлеб или картошку, совсем по-
лоша ди ному мотая при этом головой.
— Аниша, ты бы вставила зубы.
— Ништо, господь и такую примет, не
обознается.
— В рай метишь?
— А куды ж меня еще, Леря Милентьев-
на? Я в жизни не по своей воле грешила.
А по своей всего один разочек, один-
разъединственный за все зимы мои.
Анисья считала не годами, не летами,
а только зимами: «Мне, почитай, шестьде-
сят пять зим намело, так-то».
— Шестьдесят пять лет?
— Зим, милай, зим. Это у вас — леты,
а у меня вся жизнь — вьюга да мороз.
Стало быть, зимы и надо считать.
Спорить с нею было бессмысленно, ибо
она не признавала никакой логики, и сама
баба Лера отступалась, когда коса находи-
ла на камень. А такое могло случиться
вдруг, совершенно непредсказуемо, от
мимолетной интонации или случайно сор-
вавшегося слова. Тогда Анюха Поликарьев-
на замолчала и долго глядела на провинив-
шегося тяжелым, изучающим взглядом.
Гот порою не замечал этого, продолжая
болтать, но баба Лера мгновенно ощущала
силовое поле протеста, исходившее от
Анисьи, и пыталась вмешаться.
— Аниша, пожалуйста, завари свежего
чаю.
Если Анисья безропотно брала чайник
и уходила, значит, вина гостя была еще
невелика: Поликарьевна отругивалась в
одиночестве и возвращалась к столу. Но
иногда спасательный круг бабы Леры
ничем уже помочь не мог: у Анисьи белели
ноздри.
— А спать будешь с комарами!
— Аниша, помилуй, он же все-таки
гость.
— Гость? — Анисья вставала, крепко
хватив ладонью по столу. — В глотке кость,
а не гость! Ступай отсюдова, чего рассел-
ся?
52
Лер я Милей • —» ft. i
ном у>фою£ь —
Анисья ft туу же рыва
глаза разуй, сеетричка^к
единственнь Ишь д
— А что
моего спокойствия,
пообещайте меня рядом с Анишей поло-
жить. Звезда и крест в одной ограде —
знаете, это даже символично.
Да
ко г
шел, пока й тебя в Двину не в
Однако б , rtfeo^eura Айи£ья не так
как можно было бы предположить,
неукротимый нрав и высшее зек
образование. Порою ей было про о
некогда негодовать: она ни секунды не
сидела без работы, точно стремилась
добровольным трудом компенсировать то
многолетнее унижение, которое вынесла
ее душа от труда подневольного. Она
делала по дому, вокруг дома, на огороде
и во дворе все, что только замечали ее
ненасытные кулацкие глаза, и баба Лера
смогла оставить за собою дела кухонные,
единожды вполне осознанно обидев
женскую душу преданной Аниши:
— Ты уж меня извини, но готовить буду
я. У тебя, Аниша, отрава, а не еда.
Анисья поплакала и сдалась, и таким
образом хоть что-то в их доме было
исполнено не ее руками. Еда, соленья,
варенья да шитье, штопка и починка
одежды и белья стали привилегией бабы
Леры, и добрая Анисья не забывала
восхищаться каждым обедом. Она вообще
восхищалась своей Лерей Милентьевной
безмерно, чистосердечно считая ее образ-
цом, посланным людям на землю для
примера, и жарко молила бога об одной
милости: помереть раньше бабы Леры.
И бог услышал ее молитвы.
Я пишу так подробно об Анисье, потому
что мне многое рассказала баба Лера в то
последнее лето, когда осталась одна. Баба
Лера, видимо, чувствовала, что лето и
впрямь последнее, что ей не пережить
зимы, но относилась к этому спокойно.
И наотрез отказалась перебраться в Крас-
ногорье, на главную усадьбу, а тем паче —
в город.
— Нет, нет, Всеволод Васильевич, и не
просите и не соблазняйте,— улыбалась
она, безостановочно встряхивая седой
головой: непроизвольный жест, который
появился после похорон Анисьи.— Я с
Анишей душою срослась, куда уж мне без
нее? Каждый день на могилу хожу и с ней
разговариваю. Рассказываю, как чувствую
себя, как день прошел, что в мире нового.
Смешно, правда? Понимаю, а у меня —
потребность Особенно, как что-нибудь
про Китай услышу: Аниша последнее
время что-то на Китай сердилась.
— Да как же я могу вас тут одну
оставить? — вздыхал секретарь райкома,
специально прикативший уговаривать зауп-
рямившуюся бабу Леру.— Если желаете,
мы Анисьин прах перевезем.
— Ни под каким видом! — баба Лера
сердито постучала по столу маленькой
иссохшей ладонью.—- Тут ее земля. Она
сама мне место указала.
— Для вашего спокойствия хотел.
. А вот зимою я у них никогда не был.
Мечтал об этом, по возвращению от бабы s
Леры строил планы. Но наступала зима,
работа, московская суета, и мне все никак
не удавалось выкроить недельку. Впрочем,
мы всегда мечтаем с большим энтузиаз-
мом, чем пытаемся осуществить хот^ что-
то из своих мечтаний. Я не был исключе-
нием, красочно представляя себе двух
старых женщин в желтом круге керосино-
вой лампы, уютное тепло раскаленной
S3
печи, сугробы до половины окон, нестер-
пимо белые снега да великую тишь за
стенами избы. Не белое безмолвие Джека
Лондона, а ту оглушающую русскую тиши-
ну, от которой сходят с ума. И на
четырнадцать верст вокруг нет ни одного
огонька. А баба Лера негромко читает, *
часто останавливаясь, чтобы растолковать
прочитанное темной сестре своей.
— Ты все поняла, А ниша?
— Сурьезный человек Каренин-то этот,
чего ж не понять. А офицеришко, поди,
стервь, а? Задрал бабе подол, она и голову
потеряла.
— Мне кажется, здесь все-таки слож-
нее. Женщина хочет любить, это ее право
—г Чего? — презрительно тянет Анисья.
— Очнись, сестричка-каторга! Тебя блат-
няки с нар на нары передавали? Вот
и вся наша любовь.
— Лагерь — зловонная яма на дороге.
Кто перепрыгнул, кто упал, но все равно
он — позади. А жизнь — впереди.
— Лагерь он и есть вся жизнь наша! —
разозлясь, уже кричит Анисья.— Там даже
лучше, если хошь знать, лучше, сестричка-
каторга! Там все свою цену имеет, а тут —
слова одни, а цены нет никакой...
Они постоянно спорили друг с другом,
и последнее слово всегда оставалось за
Анисьей. Но постепенно, год за годом, от
спора к спору было заметно, как мягчеет,
оттаивает вечная каторжанка, в пятнадцать
лет познавшая всю звериную лагерную
науку и не познавшая ничего более. Ее
сжигали старые обиды, она кричала, спори-
ла, дралась и пила, не в силах понять, что
обижаться уже не на кого. И хотя не было
у нее спасительной мудрости бабы Леры,
скандалы ее были кратки, обнаженны
и отходчивы. Уже через час она с вино-
ватыми глазами ластилась к своей сестрич-
ке-каторге, ибо во всем мире не было для
нее никого дороже, святее и благороднее
ее Лери Милентьевны.
— Офицерье — они такие.
— Анна полюбила человека, а не фор-
му. В те времена даже образованной
женщине трудно отстоять свое человечес-
кое достоинство.
— Достоинство,— несогласно провор-
чала каторжная.— Начальника лагеря на
начальника конвоя сменила, дура, вот и все
достоинство. А ребятеночка...— Анисья
внезапно замолчала и зло нахмурила
светлые разлапистые русские брови.—
Ладно, читай уж.
Баба Лера безропотно начала читать;
худенькая рука ее нашла жесткую жилис-
тую ладонь Анисьи и нежно поглаживала
ее. А подруга курила папиросу за папиро-
сой, и по остекленевшим глазам ее было
видно, что до нее не доходит сейчас ни
одного слова. Тогда баба Лера переставала
• читать, шла к тумбочке, где хранились
лекарства, и, не отмеряя, наливала вале-
рьянки
— Выпей,— обнимала за плечи вдруг
окаменевшую подругу, тихо целуя в се-
дую, редкую гриву.— Пожалуйста, очень
прошу. А то и я вспоминать начну, и будем
мы с тобой реветь до завтрашнего вечера.
А что толку-то? Ну, ревут взахлеб' две
старухи — эка невидаль.
Иногда Анисья выпивала капли и мягче-
ла, иногда решительно отталкивала капли
и бежала во двор, где прятала свои
бутылки. И начиналась пьянка, ругань
и слезы.
— Пьем в скорбях о материнском
праве,— объявляла баба Лера с грустной
и одновременно виноватой улыбкой.—
Пить перестанет, пожалуй, завтра к вечеру,
но неделю не советую задевать. Уж
извините нас, как теперь говорят, «болевая
точка».
Болевая точка была настолько ощутима,
что Анисья приходила в себя, будто после
приступа. В эти дни она бывала на редкость
неразговорчива, груба и трудно переноси-
ма даже для очень близких. Исключая,
естественно, бабу Леру, которая все пони-
мала и все прощала, ибо была не только
мудра, но и смертельно ранена тем же
оружием, которым нанесли раны открыто-
му и доброму сердцу Анисьи
В огромном — в два этажа — доме ста-
рушек, где ни одна дверь не запиралась на
замок, даже если обе хозяйки надолго
уходили в Красногорье, никогда не бывало
ни одного ребенка Здесь с открытой
душой принимали редких туристов и то-
пографов, рыбаков и охотников, собирате-
лей фольклора и странствующих художни-
ков — принимали всех хоть обогреться
чаем, хоть прожить лето — при одном
непременном условии: без детей. Условие
это не знало никаких исключений и неукос-
нительно проводилось в жизнь при любых
обстоятельствах, хотя баба Лера поддер-
живала активную дружбу с детьми, но, так
сказать, вне стен этого дома. Она была
почетной пионеркой и еще кем-то в Крас
ногорской школе, часто ходила туда
зимой — пока, естественно, была дорога,
а летом посещала пионерские лагеря
и любила рассказывать ребятам о граж-
данской войне. Но это, повторяю, вне
дома, а в нем баба Лера свято соблюдала
все условия, выдвинутые Анисьей.
— Есть одна тема, которую не надо бы
затрагивать,— сказала мне баба Лера в са-
мом начале нашей дружбы.— Аниша
очень болезненно реагирует на любые
упоминания о детях, и на это, поверьте
мне, у нее есть очень серьезные причины.
Я воспринял предупреждение бабы
Леры как закон, но Анисья сама однажды
начала разговор Баба Лера ушла в пи-
онерский лагерь на очередной костер
с воспоминаниями Анисье это очень не
нравилось, и заговорила-то она, как мне
кажется, от несогласия.
— Пионери,— ворчала она, гремя само-
варной трубой.— Пионери и пионерьки,
костер и дымища.
Я сидел в сторонке, двумя руками
отмахиваясь от комаров Был поздний
вечер, светло, как днем, и Двина под
обрывом играла всеми красками исчезнув-
шего за горизонтом солнца.
— Пионерьки называются, а грудища,
как у верблюда. Иди в дым, горемыка, чего
комарье подпаиваешь?
Я послушно пересел поближе к струе
густого желтоватого дыма, валившего из
самоварной трубы. Анисья еще раз
громыхнула ею, подсыпала сосновых ши-
шек, ударила ладонью о ладонь и сердито
уселась рядом. Закурила и вдруг заворча-
ла, не глядя:
— Меня такой, как пионерьки эти,
на Канал пригнали. Тугая была: нада-
вишь— соком брызну, ей-богу, будто
тыщу жизней в себе носила. На Канале
говорят: во, говорят, еще одна рожалочка
приехала. Это меня так воровайка Муся
окрестила и к себе в барак взяла. Блатным
всегда лафа, а тогда — наособинку: брига-
дами командовали, контриков очкастых
перевоспитывали и жрали с котла первые,
а нам — водица теплая. Я потому к ним-то
и пошла, дура, а Муся эта меня на второй
день своему полюбовнику подложила. От
него я и понесла попервости, да мертвень-
кого родила: глупой была очень, отбивать-
ся не умела, и мяли меня тогда сильно,
когда и по пять раз на дню мяли, вот
ребеночка и задушили. Много раз я потом
мертвеньких скидывала, а шестерых жи-
веньких родила и кормила, сколь позволя-
ли. Месяца четыре-пять покормлю, и отби-
рают от меня деток моих, как щенят от
суки. Опять в барак, опять на общие
Я ревмя реву, груди огнем горят, молоко
из них ручьями текет, а меня — на лесопо-
вал да на полную норму. Из-за слез
деревьев не видишь, в ушах не пилы —
деточки твои плачут, и думаешь только:
господи, хоть бы тебя, непутевую, боланом
каким придавило. А потом глохнешь
вроде, сердце запекается, и рвешь ты
собственных деток из себя самой. Где они
сейчас, как зовут их, какая такая фамилия
у них? Ничего не знаю. Без вины я винова-
тая, а на деток все одно глядеть не могу.
Душа у меня темнеет, будто черной пылью
покрывается, и стыд уж так гложет, так
гложет, что задавиться хочется. Почему
стыд, спросишь? А кто ж его знает, может,
и от совести. Все во мне убили, все во мне
опоганили, а совесть и там выжила
И боюся я детских глаз, будто подлюка
я и стерьва. Страдали мы с Лерей Миленть-
евной, страдали, рожали-рожали, а на
старых годах — никогошеньки в доме. Как
в лесу, хоть «Ау!» кричи..
Анисью Поликарповну Демову отпусти-
ли не «по чистой», но жить дозволили
в родных краях, благо, коая эти и до сего
дня все еще числятся в глухомани. После
долгих пересадок с обязательными ре-
гистрациями Аниша наконец-таки села
в Котласе на пароход, а как отвалил он от
пристани, так впервые за долгие дни
и долгие километры ощутила себя свобод-
ной.
Был вечер, пассажиры толпились на
палубе, махали платочками, кричали что-то
веселое, с неудовольствием поглядывая на
нескладную мослаковатую бабу в затас-
канном ватнике, что выла в голос, по-
звериному выла, лбом о палубу колотясь
А вскоре и сердобольные набежали:
— Ты чего, милая? Что, родимая? Ай
украли чего?
— Украли.— Анисья привычно, по-ла-
герному полоснула губу уцелевшими рез-
цами, кровь потекла по подбородку, по
ватнику — такому странному, такому чу-
54
жому и нелепому рядом с легкими
платьями.— Жизнь украли мою.
Не поняли бабоньки, однако обласкали,
с собой увели, чаем поили. Расспрашивали,
но ничего Анисья больше им не сказала.
Пила чай, глядела в мир запустевшими
глазами, громко вздыхала. И тогда что-то
ёкало в ней, как в старой изработанной
лошади. Бабы замолчали и глядели на нее
жалостливо, по-русски голову горсткой
подперев и вытирая слезы концами пла-
точков.
— Подремли, милая. Мы тебе мягкое
постелим.
— Нет,— Анисья тяжело помотала го-
ловой.— Стоять мне надо на этой дорож-
ке.
Вышла на палубу и стала на носу, на
самом ветродуе. Ночь шел пароход до
Красногорья, и всю ясную эту белую ночь
Анисья простояла на палубе, глядя на
родные берега, мимо которых провезли ее
на тюремной барже больше четверти века
назад.
— Анисья Демова,— вздохнул предсе-
датель колхоза (тогда еще колхоз послед-
ние годочки доживал).— Что же мне
с тобой делать-то, Анисья Демова?
— Ты начальник, ты и думай,— безраз-
лично сказала она.— В тридцатом, значит,
знал, что делать, а теперь, значит, не
знаешь?
— В тридцатом я, Анисья Поликарповна,
без штанов еще бегал. Ты из Демова
родом?
— Демова из Демова.
— Демова из Демова,— повторил
председатель.— Там за мной четыре де-
сятка пустых изб числится может, сторо-
жихой туда, а? Любой дом выбирай,
разбежалось твое Демово. Одна глухая
старуха Макаровна век доживает
— Одна? — улыбнулась Анисья спокой-
но и горько.— Там одних раскулаченных
двадцать три семьи было. Помнишь,
бесштанный?
— Помню,— кивнул председатель.—
Хотя я сам курский, а помню. Я все помню.
Хочешь, корову тебе дам?
— А на., мне она. Церкву красно-
горскую ты закрыл?
— Опиум это, Демова,— поморщился
председатель.
— Вели мне оттудова икону выдать
Матерь божью.
— Молиться решила? Брось, Анисья
Поликарповна, ты такое повидала, что тебе
и божий гнев — мармеладка.
— За вас бога молить буду,— сказала
Анисья, вставая.— Жалко мне вас, дура-
ков.
Всю беседу она рвалась спросить, цел ли
ее дом — дом, в котором родилась, в ко-
тором жила и из которого забрали. А если
цел, то кто живет в нем сейчас. А если
никто не живет, то можно ли ей, и до сей
поры непрощенной арестантке, хоть ночку
под родным кровом провести Но духу
у нее на этот вопрос не хватило. В Красно-
горье Анисья никого не знала, потому что
тогда, девчонкой, ходила сюда нечасто,
а еще потому, что была Демовская. До
германской их село не только не уступало
Красногорью, но и считалось посолиднее,
подревнее и побогаче. А как пришла
война, так и стало Красногорье переважи-
вать старого соперника, поскольку имело
пристань с глубоким фарватером, и де-
шевый водный путь в конце концов затмил
собой древние привилегии Демова. И то ли
из Красногорья мужиков в те лихозимья
меньше гибло, то ли умнее Демовских они
оказались, а только после гражданской
войны Демово окончательно отошло на
второй план, и всякие комитеты располага-
лись ныне в Красногорье. Все тогда
располагалось в Красногорье, но отзвуки
старого соперничества еще жили в
людских душах, и пятнадцатилетняя гла-
застая Анисья Демова из Демова Красно-
горье не уважала и с красногорскими не
дружилась. Теперь не у кого оказалось
спросить, не с кем словцом перекинуться
и получалось так, что на своей родине
она — как посторонняя. Чужая как бы,
и поэтому после беседы с председателем
Анисья пошла в родимое Демово одна
с неразделенной тяжестью.
— Все версты бегмя бежать хотелось,
уж так меня скипидарило, так скипидари-
ло. А на плечи давит, будто чугуном
накрыли, и воздуху в грудях нет. Как
сперва-то шла, так и не помню, ноги сами
ртащили, а я в тоске исходила. Хоть бы
слезиночку, думаю, уронить, все бы полег-
чало, ан не дал мне господь слезиночки,
а опамятоваться дозволил аккурат у места,
где я свой первый грех приняла...
Так рассказывала мне о последних шагах
до дома Анисья: по второму лету она
начала со мной откровенничать. Баба Лера
ушла в глухомань, в старые скиты, о ко-
торых ей поведала полумертвая стару-
ха из Красногорья. Стоял звенящий овода-
ми июль, душно пахло цветеньем в пере-
стойных лугах, и мы с Анисьей горько
праздновали очередную годовщину ее
возвращения.
— По шестнадцатому году влюби-
лась — как обварилась: и вдруг, и до
крика. До того дружилась, плясала, петь
была голосиста и в первой спелости; парни
потискать горазды были, но по-хорошему,
сколько сама дозволяла. А я все балова-
лась: разрешу, пока он кровь мою не
подожжет, да и дёру. Пылаю, хоть блины
на щеках пеки, а больше ни-ни, ни
краюшечки...
Анисья вертит в корявых пальцах стакан
и улыбается уцелевшими резцами. Рыхлый
нос ее с широкими ноздрями плавает
в испарениях мерзкой, местного разлива
водки, не чуя ее, а чуя далекие ароматы
ранней юности, жаркое дыхание первых
страстей и дым родного очага. И вся она
сейчас отмягшая, тихая, добрая — такая,
какой и предписано было ей быть.
..□Зноем, хвоей, смолой и земляникой
дышал бор, по которому в беспамятстве
бежала Анисья. Давила муравьев зе-
ковскими башмаками, волокла на спине
зековский сидор с остатками зековского
довольствия, обливалась потом под зе-
ковским серым ватником. И вроде все
узнавала вокруг, и вроде ничего не узнава-
ла и ужасалась, что не узнает, и еще
больше ужасалась, что узнает. И не плач,
не стоны — рык звериный рвался из нее
вместе с жарким дыханием и совсем по-
лошадиному ёкающей селезенкой. Соро-
кадвухлетняя Анисья Демова спешила
к отчему порогу.
Вначале она нестерпимо, до рвущей
боли в гортани, захотела пить, а уж потом
как-то вдруг увидела лес, суетливых му-
равьев, недвижное кудрявое облако над
головой. Остановилась, будто наткнув-
шись, услыхала жужжание деловитых шме-
лей, чуть слышное шуршание давно опав-
ших иголок, звон оводов вокруг собствен-
ного разгоряченного тела — и опамятова-
лась. Оглянулась, сразу вспомнив: «Тут
ведь свернули тогда, к роднику». Поиска
ла тропку, не нашла и грузно двинулась
напрямик, круша подлесок, продираясь
сквозь кусты, топча черничник с пере-
зрелыми ягодами. И через двадцать семь
лет без дорожек и зарубок, сквозь чащобу
вышла к еле приметному, заивленному,
давным-давно никем не чищенному род-
нику. «Здравствуй»,— шепнула душа eef
и напряженное тело вдруг ослабло, ноги
подкосились, АнисьА опустилась прямо
в ольху, с хрустом ломая ветки. «Тут-тут-
тут. Тут-тут-тут. Тут-тут-тут-тут...» — враз-
гон понесло сердце. Сюда привела ее
первая любовь, здесь она со счастливыми
слезами отдалась ей и здесь же распроща-
лась с нею навсегда. На всю ту жизнь, что
украли, и на тот ошметок, что вернули,
«прости» не сказав...
Ах, хорош был Митя Пешнев — с
пышным чубом и нездешними цыганскими
глазами, первый комсомолец их степенно-
го Демова. Девки вокруг него табунились,
глаза кидали, зубками слепили, а он за
Нюшей Демовой ходил как нитка за
иголкой. Завлекал гармошкой, сочинял
припевки, объяснял текущий момент, тис-
кал, когда позволяла, без самодовольства
И Нюше было с ним интересно, и тянуло ее
к нему, и мечтала она о нем, и точно знала,
что не минуют Митькины сваты их большо-
го даже для богатого Демова, на веки
вечные рубленного дома И Митя знал это,
часто говорил о будущей жизни, при-
кидывая, как и что. А однажды вздохнул
озабоченно:
— В ячейку вызывают Так что не
свидимся сегодня.
— Так не до зари ведь,— улыбнулась
Нюша.— Ты на ячейке поговоришь, а я —
на завалинке. А домой вместе пойдем.
Она и до того дня, случалось, провожала
своего Митю то в ячейку, то на собрание
бедноты, то на встречи с товарищами
уполномоченными. У Красногорья расста-
вались: Митя шел в сельсовет, а она —
к девчатам. Плясала, пела да смеялась,
пока дролечка заседал, а возвращались
вместе, и эти возвращения Нюша очень
ценила. Если честно сказать, то ради них
и топала четырнадцать верст туда да
столько же и обратно, целуясь да прижи-
маясь через каждые сто шагов. Но в тот
вечер он заседал дольше обычного — уже
почти все красногорские девчата по домам
разошлись,— а вышел чернее тучи. Нюша
спросила, что это с ним. Он сказал —
ничего, устал просто, а взгляд был расте-
рянный. И так случилось, что возвращались
они одни, Нюша что-то говорила, а он
55
молчал и обнимал ее строго, будто муж.
— Ты что так-то, миленький? Может,
обидел кто?
— Ах ты Нюша ты моя! — со стоном
выдохнул он.— Да я за тебя, знаешь...
Так сказал, с такой болью, что Нюша со
всей нежностью прижалась к нему,
впервые по-женски прижалась, всего обво-
лакивая и ничего не пугаясь.
— Коли так-то, чего же сватов не
шлешь?
— А вот и Пришлю,— он начал
задыхаться, сердце заколотилось, она
слышала этот стук и млела.— А вот
и пришлю. Может, завтра же Завтра...
Пойдем, а? Пойдем, пойдем.
— Куда же? Куда, мамочки...
Знала ведь, зачем уводит с дороги, жар
его чувствовала, дыхание, клекот сер-
дечный. Знала и пошла, потому что не
в силах уже была справляться со своим
жаром, своим дыханием, своим клекотом
в сердце. Пошла и покорно опустилась на
траву... Сейчас сидела на том самом месте.
За это время тут ольха выросла. Тело ее
именно здесь подломилось, как подломи-
лось тогда. И Анисья тяжело рухнула
в сочно затрещавшую ольху, постарев на
двадцать семь зим.
— Я по своей воле один разочек грех
приняла. Один-единственный. Так неужто
господь не простит?
Никогда уже не испытывала она той
сладкой боли и той нежности к тому, кто
причинил ей эту боль. Она стянула с головы
платок, жесткие, серые от седины и пыли
волосы рассыпались по сутулым плечам.
Острый ольховый сучок колол через
толстую юбку, а Анисья все пыталась
вспомнить ту боль, но вспоминались иные.
Несладкие боли вспоминались, а она все
сидела и сидела, все ждала и ждала...
Митя тогда сдержал слово: на сле-
дующий день пришел.
Вместе с уполномоченным, милиционе-
ром и двумя активистами. Глядя поверх
голов, расстегнул портфель, сверкнув ни-
келированным замочком, достал бумагу,
зачастил:
— На основании постановления общего
собрания все хозяйство переходит в
собственность колхоза, а вы, Демовы,
ссылаетесь в отдаленные края, как
вредный для социализма элемент...
Она не слышала, как голосила мать, не
видела, как выносили замертво рухнувше-
го отца, как взяли братьев,— она смотрела
на Митю. Она искала его глаза, а видела
портфель и холодного зайчика, прыгавше-
го на стенку от никелированного замочка.
— Значит, ты знал вчера, что нас
кулачить будут? Скажи, знал? Знал?
Митя не ответил. Сел к столу, достал
чистую бумагу, ручку, пузырек с чернила-
ми — аккуратный был паренек и запас-
ливый — и начал переписывать инвентарь.
Живой и мертвый.
— Лошадей три, из них одна кобыла
жеребая..
...Неприкаянно сидела Анисья, непри-
каянно ждала, и вся жизнь представлялась
ей неприкаянной — прошлая, настоящая
и будущая. Не приходил тот сладкий час ее
тела, тот восторг ее души, та немыслимая
нежность ее женского существа. Даже на
миг ничего не возвращалось. Поняв это,
Анисья перестала вспоминать. Выдохнула
застоявшийся, саднящий стон, огляделась.
Не билась струя в родничке, не цвели его
берега. И она подумала, что живая вода ее
молодости замутилась и заилилась, цвету-
щие нивы души заросли кустами да
кочками, и что деревенеет она изнутри.
Встала на колени, глотнула затхлой, болот-
ной воды, перекрестила бывший родник,
изломанный ею куст, что вырос на том
месте, саму себя и потащилась дальше.
В бывшее село Демово.
Теперь она шла медленно, глядя в
землю и ничего не видя. Ее уже не
интересовали такие знакомые и такие
чужие места, она уже не торопилась
в опустевшее село, где и родной могилы не
могла бы сыскать без чужой помощи, уже
не вдыхала прогорклой грудью насто-
ечный на детстве воздух. Она отрешилась
от всего, ушла в себя, вспоминала и дума-
ла, неторопливо вороша в душе сваляв-
шиеся пласты прошлого. Думала о своей
любви, о своем единственном часе и о Ми-
те, который подарил ей этот огненный час.
Думала без всякой обиды, без всякой
горечи, а с тихой радостью, что было у нее
это пламя и что, стало быть, счастливая она,
и у нее найдется, в чем покаяться, когда
предстанет пред Высшим Судом. «Уж там-
то, поди, за это на общие не пошлют,—
с некоторым ликованием думалось ей.—
Уж там-то, может, в каптерку какую
пристроят или при раздатке...»
Дорога стала круто спускаться, сосны
отступили, сыро зашелестел ольшаник.
И Анисья вспомнила, что сейчас будет
запруда и мельница, которая урчала по
осени днем и ночью, безостановочно
урчала, а подводы с зерном иной раз
выстраивались и на версту и где жила
знакомая девчонка Нюра. Когда случалось
им ходить с Митей в Красногорье, они
всегда отдыхали на этой мельнице и Нюра
поила их молоком. Двадцать семь лет не
пила она молока и сейчас, вспомнив о нем,
ощутила вдруг давно забытый вкус. «Ах,
молочка бы испить, молочка бы»,— вздох-
нулось ей, и ноги сами заспешили к пово-
роту. Она завернула за этот поворот
и стала, будто налетев на стену.
Не было мельницы, не было плотины, не
было широкого плеса за этой плотиной, где
на зорях упруго били горбатые озерные
окуни. Не было людского жилья, не было
скотины, не было живых звуков, а раскину-
лось гнилое болото, заросшее саженной
крапивой место, где стоял дом, да жалкий
ручеек, который можно было перейти, ног
не замочив. И от всего — от шума воды,
скрипа мельничного колеса, фырканья
застоявшихся лошадей, от людского гомо-
на, смеха, веселой ругани, песен и трудов
остался забытый вкус молока. А потом и он
пропал.
В родное Демово Анисья пришла белым
вечером, таким тихим, что было слышно,
как под обрывом играющая всполохами
Двина покачивает гальку у берега. Мучи-
тельно вслушиваясь, долго стояла у око-
лицы, ловя голос, мычанье, лай собачий —
хоть какой-то звук, хоть тень жизни: она
вдруг забыла, напрочь забыла о словах
председателя. Но мертво молчало
мертвое село, скорбно глядя на мир
провалами выбитых окон. Понапрасну про-
ждав, Анисья задами, через непролазную
крапиву, разросшуюся на бывших огоро-
дах, спустилась к реке. Вдали тащился
плот, пыхтел, изнемогая, буксир, но их
Демовский берег оставался пустынен. Ни
одной лодки не плескалось в воде, при-
брежный песок не сохранил ни единого
следа человека. И было так пусто в мире
сем, будто минул пятый день творения
и богу еще только предстояло создать
человека. Анисья вздохнула, разделась
догола, тихо-тихо, мелкими шажками вош-
ла в Двину. Опустилась на колени, и вода
ей была до подбородка. «Здравствуй,
родимая,— шептала она дрожащими губа-
ми, не замечая, как по лицу текут слезы.—
Здравствуй, матушка Двина моя. Крестили
меня в твоей воде, вот и вернулась я. А ты,
матушка, будто по погосту текешь, будто
одна я живая на бережку твоем, будто
сдвинулось все и пропала я в чужом краю,
в чужом времени, в чужом пламени. Так
прости ж ты меня, матушка, что не
сберегла я жизни звон на берегах твоих...»
Анисья никогда не была религиозной,
в церковь ходила по родительскому прика-
зу, а когда Митя-дролечка сказал, что бога
нет, то и совсем от церкви отвернулась.
И службы все перезабыла, и праздники из
головы выбросила, и даже из «Отче наш»
только первых пять слов в себе сохранила.
И в лагерях поначалу не до бога было, да
и не нужен он ей был вовсе. Но чем дольше
сидела, тем все чаще на ум один вопрос
приходил: о справедливости. И так получа-
лось, что на земле эту справедливость уж
и не сыщешь, а чтоб не пропасть оконча-
тельно, чтоб хоть во что-то верить, хоть во
имя чего-то зубами за жизнь эту прокляту-
щую держаться, пришлось вспомнить
о боге. Мол, лютуйте тут, сколько влезет,
а там вы бессильны, а так как я есть
безвинная, то там-то уж мне непременно
снисхождение будет. Вот таким образом
Анисьин бог принял форму высшей спра-
ведливости, и жила Анисья теперь для
того, чтоб после смерти все ему расска-
зать. Без злобы, без слез, без обиды.
Просто рассказать как есть: пусть узнает,
как тут, на земле, люди друг над дружкой
измываются, друг перед дружкой на
брюхе ползают, друг дружку предают до
первых петухов. Пусть все узнает и меры
примет, а ее велит куда-нибудь к сытному
и чтоб работать не до надрыва. Вот какой
странный бог жил в душе Аниши Демовой,
а поскольку никаких молитв она не помни-
ла, то сочиняла их сама смотря по
обстоятельствам.
Умывшись, Анисья надела сбереженную
белую рубаху, причесалась, напялила зе-
ковскую обмундировку и неторопливо
стала подниматься в село по давным-давно
нехоженному изволоку. Сердце ее колоти-
лось хоть и быстро, но ровно, и ноги лишь
чуть подрагивали, когда она проулком
вышла на мощенную крупным булыжни-
ком главную улицу. Теперь поверх
булыжника трава выросла хоть косой коси,
но она помнила, как гордились демовцы
56
этой булыжной мощенной перед красно-
горскими, у которых и посегодня такой
улицы не было. По обе стороны еще
прочно стояли дома, еще глядели друг на
дружку, и Анисья шла посередке, узнавая:
«Сикотниных дом, Севастьяновых —
здравствуйте, родня все ж таки. Чекал-
киныхж» За Чекалкиными на отступе стоял
их дом в два этажа с хлевом под клетью,
с прирубленными службами под общей
крышей на восемь комнат и залу в четыре
окна в палисадник, и...
И ничего не было. Ничего. Бугры,
бурьяном заросшие, четыре валуна под
углы да чудом уцелевшие пять ступенек
крыльца — уже втянутые в землю, уже
мхом заволоченные. И все.
— Все!..
Что мочи крикнула, а на ногах устояла,
закачалась только. И долго качалась,
закрыв глаза, так долго, что потом и при-
помнить не могла, сколько же это часов
качалась она перед родным пепелищем.
Потом очнулась, скинула мешок, опусти-
лась на колени, ладонями дорожку к уце-
левшим ступеням подмела и сами ступени
от мха очистила. Тряпочкой до блеска
протерла их, поцеловала, встала, взяла
сидор свой каторжный и низко-низко
поклонилась
— Здравствуйте,— сказала.— Здравст-
вуй, батюшка мой Поликарпий Созон-
тович, здравствуй, матушка моя Лу-
керья Фоминишна, здравствуйте, братаны
мои родные Федор Поликарьевич и Дани-
ла Поликарьевич. Вернулась я. Низко вам
кланяюся.
И по ступенькам чинно-благородно вош-
ла в дом. Все повороты исполнила сквозь
бурьян и крапиву, все двери открыла, все
порожки перешагнула, все сени прошла
и вступила в залу, что четырьмя окнами
глядела когда-то на улицу, откуда мать
домой ее кликала, до пояса из окна
высовываясь.
— Нюша! Нюша, доченька, где ты?..
— Здеся,— хрипло сказала Анисья,
опять не замечая, что по лицу ее давно уже
ручьями бегут слезы.— Здеся я, маменька.
Не кори, что долго не шла, воли на то моей
не было.
Поклонилась углу красному — там ло-
пух вырос, что куст, хоть прячься под НИМ.
Сняла котомку, достала выпрошенную
у председателя иконку и свечку, которую
еще в Котласе в керосиновой лавке купила.
Приладила иконку, затеплила свечку и села
в бурьян, где положено: с краю стола,
слева от матушки. Вынула из мешка хлеб,
селедку, луку Пучок, пачку маргарина, на
отца покосившись, не заругает ли — вон
там, где лопух, там сидел всегда —
бутылку водки выволокла, вздохнула:
— Вернулась я. Дозволили.
Чинно поужинала, крошечки не уронив.
Собрала все в мешок. Отошла в угол,
утоптала бурьян, легла, мешок под голову
приспособив и ватником укрывшись. Теп-
лилась свечка в белой ночи под лопухом,
горько и строго глядела с иконы матерь
божья. С низин туман тянулся, сырость
ночная, а Анисья ничего не чувствовала.
Спала Анисья. Сладко спала в отчем доме,
вернувшись через двадцать семь зим.
КОНЧИНЫ
Елизар МАЛЬЦЕВ
Г лавы
из романа
«Белые
гуси на к * 4 '
белом
снегу» ЯЙ
Государь Алексей Михайлович не
ведал более глубокой и высокой
страсти, чем соколиная охота, —
упоение, восторг, синь поднебесная,
слеза, вышибленная ветром из глаз,
безудержный смех и гогот свиты,
свист сокольничьих, возбуждающий
душу азарт. Но, пожалуй, самым
счастливым был тот вожделенный
миг, когда с протянутой руки в кожа-
ной перчатке, как выпущенный из
пращи, взмывает и вонзается в высь
белоперый сокол, расправляет в
вышине крылья, распластывается
в полете, высматривая на земле
добычу, и камнем летит вниз, чтобы
намертво ухватить жертву и терзать
Рисунок
«ой
57
ее, развеивая пух и перья, брызгая
алой кровью...
Самым отрадным полем охоты
было для царя село Коломенское
с его новым дворцом и богатой
усадьбой. Там было просторно и
вольготно, водилось много мелкого
зверья и птицы, чтобы стравливать
кречетов с коршунами,— что
называлось делать ставки,— и любо-
ваться открытой и красивой битвой
птиц — они то сходились, то расхо-
дились в небесной высоте, затем
сшибались в смертельной схватке до
победы, о чем государь собственно-
ручно заносил в особую книгу...
Коломенское окружали широкие лу-
говые поймы с некошеными, по пояс,
травами, ветер гнал зеленые волны,
атласно стелил их под ноги; среди
холмов и голубых озер в густых
камышах хорошо дышалось, и охота
всегда удавалась на славу...
Однако и любимая охота со време-
нем перестала радовать, наскучила
и принадоела. Но скорее всего, на нее
не стало хватать сил. С весны госу-
дарь занедужил, чаще ложился в по-
стель. Прибаливать начал еще с
зимы, когда умерла в Боровске бо-
ярыня Морозова. Эта смерть не
омрачила царя. Он знал, что дни
строптивой боярыни сочтены и к вес-
ти о ее кончине отнесся вроде бы
спокойно, как и подобает христиани-
ну. Кузьмищева, прибывшего доло-
жить о последних днях боярыни,
выслушал молча, не сгоняя с лица
тени молитвенной скорби, однако
терпения выслушать дьяка до конца
не хватило — вялым взмахом пре-
рвал на полуслове — довольно-де,
к чему эти подробности, и указал
глазами — иди! Кузьмищев вышел,
пятясь, прикрыл за собой створки...
Шаркая подошвами мягких сапог,
царь подошел к окну, постоял, глядя,
как разгорается за слюдяными
узорными пластинами погожее утро.
Но и оно не радовало, не просочилось
в душу ни одной благодатной капли,
а стало еще пуще прежнего пусто
и хладно... Он и не ждал услышать
что-то новое, когда явился дьяк, хотя
боялся сознаться самому себе, что
боярыня в предсмертный миг дрог-
нет и непокорность ее обернется
миром и ладом.
Ему казалось, что он ведает предел
человеческой слабости: на дыбе, за-
глянув смерти в глаза, объятые
ужасом небытия и сломленные мутя-
щей разум болью, почти все сдава-
лись. Редко попадались люди
недюжинной силы; как Стенька-
разбойник, который все стерпел, не
выдавил мольбы о пощаде,
сплевывая темные сгустки крови,
и ушел из жизни несломленный, но
тот хотя принял предсмертное при-
частие... А Федосья! Федосья!
Сдюжила все, не склонила головы ни
перед церковью, ни перед госуда-
рем... Нет, неведом человек во всей
его изначальной сути, неведома его
духовная мера... Вольной ушла бо-
ярыня на тот свет, и не он победил ее,
а она, слабая, унизила его своим
непокорством.
Он уже не чувствовал своей пра-
воты и истинной праведности, ибо
сказано в Евангелии — не надлежит
мучить и неправых... Почему господь
не остановил его злодейство, когда он
пытался добиться беспредельной
власти над женщиной, не пожелав
шей жить по принятой всеми вере
и обрядам. Но, принимая запоз-
далый укор совести, тут же пытался
оправдать себя — нельзя прожить
жизнь, творя одно добро и любовь.
И добро, и любовь могут быть слепы
и бесплодны, если не питаются силой
и волей, ненавистью к отступникам.
Когда он стоял у окна, щурясь от
сверкающей белизны снега, почуди-
лось ему, что сзади подкрался неис
товый Аввакум, снова жарко и гнев-
но вышептывая в затылок зло-
вредные и срамные слова, прочно
лежащие в памяти царя: «Где твои
златоверхие палаты? Что ты над
собой сделал? Где твои сияющие
одежды, где кони в кованой сбруе?
Где любимые седла? Где сады да
заборы? Где венец царский, с жемчу-
гами да самоцветами? Где все твои
затеи, заводы, изображения, в ко-
торых столько сил вкладывал и, бога
оставя, тем идолам бездушным слу-
жил? Ну сквозь землю пропадай!
Давно ждет тебя огонь! Отомстит бог
наш кровь нашу, всех, нас, сож-
женных, всех, в тюрьмах сидящих!»
Дни тянулись нестерпимо долго,
не принося ни малых, ни больших
радостей, одна хворь подступала за
другой, суетились вокруг иноземные
и домашние лекари, заслоняли друг
друга усердием и пустыми завере-
ниями. Но все кончалось тем, что
отворяли кровь, а легче не станови
лось. Болезнь грызла изнутри, не
давала покоя ни днем, ни ночью.
И он, сползая с пуховой перины на
пол, выстаивал часами на коленях
перед иконами, ловя трепетный ого-
нек в лампадах, все еще надеясь, что
придет исцеление, что перестанут
терзать его тягучие, изматывающие
боли...
За неделю до того, как снова
начался штурм вот уже восьмой год
осажденного Соловецкого мо-
настыря, государь прочно слег в по-
стель, словно бы утонул телом в пу-
ховиках. Полусонный, оживляясь на
минуту-другую, он выслушивал до-
несения об окруженном монастыре
и опять впадал в дремотное забытье.
Судя по донесениям, бунтовщики
сделали обитель крепостью, обзаве-
лись ружьями, пушками, припаса
ми, чтобы выдержать долгую осаду,
дрались отчаянно, обращая в бегство
царево войско. То был срам великий,
ведь еще весной государь отослал
грамоту воеводе Мещеринову, что тот
поплатится головой, ежели не иско-
ренит раскольников, обратив мо-
настырь в развалины.
В редкие часы просветления, когда
боль уползала, как змея, в потайной
угол передохнуть, государь возвра-
щался к мучительной думе — где же
и когда он оступился? В том ли, что
доверился Никону, покорился его
духовной власти, сразу дав ему
много воли; в том ли, что не считался
с норовом бояр; или же в том, что,
распыляя силы, лез во все концы
света?
Конечно, Никон нанес ему боль-
шой урон: властолюбивый, жесто-
ковыйный, бешеный нравом, он де-
лал святое дело нетерпеливо, гнул
всех под свой характер, ломал, при-
водя духовных овец к повиновению
не словом, а силой. Не закуси пат-
риарх удила, не обагрилась бы
церковь кровью... Видно, на Руси
народ надо брать не силой, а ду-
шевным уговором, вразумлением,
приручать его, как тех соколов,
потому что на силу всегда найдется
ответная сила, и тогда уж хочешь не
хочешь, а дави, круши, не давай
подняться ни ропоту, ни ненависти,
ни бунту. Надо было прежде ду-
мать — отчего смерды, холопы, вся
гулящая чернь, а заодно и многие бо-
яре отвернулись от церковных новин,
побежали в леса и пустыни. Укроти
он Никона вовремя, может, и не
поднялась бы смута, не пролилась
невинная кровь...
Тяжко, ох, как тяжко теперь
крепить и ставить все на прежнее
место, нелегко собрать в единый
кулак то, что подрасшаталось.
Сколько ни грози, ни злобствуй,
в кулаке всех не удержишь, рано или
поздно пальцы разожмутся, и вся
сила уйдет в песок, а мощь державы
пошатнется. Много он народишку
извел и в походах, покоряя
вспыхнувшие, как лесные пожары,
бунты, а чего добился? Русь все та
же, нищая, голодная, не собралась
под одной крышей, вся в разброде.
Одна слава, что держава размахну-
лась до возможных границ, по-
настроила на окраинах остроги,
докатилась до Амура, пробивается
к ближним и дальним морям. Но,
верно, судьбой ей предначертано так
шириться и раздвигаться. Оттого
и забирали под свою руку разные
народы, не глядели на лица, светлые
они или темные, пытаясь обратить
всех в одну веру.
Хватала сердце дикая боль, словно
кречет вонзался острыми когтями
и долго терзал. Надо было стиснуть
зубы, переждать, замолить ее, обра-
тившись к богу... Ведь не себя он
любил, не себя ради злобствовал на
бояр, когда они тянули каждый
в свою сторону. Не о себе радел,
стараясь достичь Амура, иных гра-
ниц, преуспевая в тех дерзаниях,
58
а вот заканчивал свой век как
простой смертный и раб. К чему ему,
раздавленному бессилием, заво-
еванные леса и тундры, озера и реки,
к чему была страсть загонять люд
под одну крышу, будто над той
крышей нет высокого неба, а
повыше, в недоступной безбрежнос-
ти — бога, перед которым каждому
надлежит держать свой ответ...
За неделю до кончины государя
пала Соловецкая обитель. Воеводе
Мещеринову принесла победу слепая
удача — из монастыря объявился
ночью перебежчик, чернец Феоктист,
и, указав потайной ход в монастырь,
предал братию.
Долгожданная весть о взятии ере-
тического монастыря не принесла
государю утешения, не помогла одо-
леть хворь. Он слабел с каждым
часом и сквозь наползающий жар
и бредовую сумятицу уже плохо
различал даже лица. А когда понял,
что Соловецкая обитель пала, разо-
рена дотла, что супротивные монахи
побиты и наказаны лютой смертью
числом не менее пятисот, вдруг
ужаснулся.
Аввакуму в Пустозерске неведомо
каким путем становилось известно
то, что творилось в те дни во дворце,
словно он находился не за сотни
верст от столицы, а хоронился где-то
в царских покоях. И потом обо всем,
что узрел, разносил по всему свету,
мешая быль с небылью: «Нико-
ниане! Видите, видите своего царя
Алексея хрипяща и стонуща.
Расслаблен он еще до смерти, прежде
суда осужден, еще до бесконечных
Мук мучим»... По словам протопопа
выходило, что государь в пред-
смертные минуты заглянул в адову
пропасть, пал на колени перед
святыми ликами и возопил, бессиль-
но колотя себя в грудь.
Приходя в себя на краткое время,
Алексей Михайлович униженно про-
сил: «Пощадите! Пощадите!» Ближ-
ние пытали — у кого он просит
пощады, кому бьет земные поклоны,
к кому простирает тряские руки,
и царь в беспамятстве и ужасе
бормотал, жалобно всхлипывая:
— Соловецкие старцы пилами
трут меня... Велите войску отступить
от монастыря их... Велите...
Никто не осмеливался сказать ему,
что монастырь опустел, только ветер
раскачивает там сотни повешенных,
да еще чернеют на льду трупы,
сваленные в кучу, как дрова.
Над бредящим государем кадили
ладаном, шепотно молились, исходи-
ли слезами царевны и сама царица
Наталья Кирилловна с малыми ца-
ревичами, которые испуганно тара-
щились на страшного бородатого
отца, ровно не узнавали его.
В субботу, когда ранние зимние
сумерки заволакивали московские
улочки, простонал тяжелый крем-
левский колокол, тремя ударами
возвестив о кончине государя Вели-
кие и Малые и Белые Руси само-
держца...
Пасмурно, хмуро занялось утро,
когда хоронили царя. Солнце не
пробилось сквозь толщу облаков.
Едва гроб вынесли из дворца, чтобы
отпеть государя в Архангельском
соборе, как наволокло откуда-то тем-
ную тучу. Густо, белыми хлопьями
повалил снег. Пока процессия мед-
ленно двигалась за гробом, налетев-
шая метель побелила всех, а молодо-
го' царя, хилого, слабого Федора,
которого несли следом за гробом
в кресле, превратила в снежную
куклу. Но перед папертью косо
летевший снег вдруг оборвался, по-
светлело во всем Кремле. Отряхнув
хлопья, все понуро и скорбно вошли
в озаренный тысячами свечей собор...
Царь Федор зябко ежился в шубе,
растерянно поглядывая на облачен-
ного в мантию патриарха со свер-
кающей панагией на груди, на
заплаканных сестер, на младших
братьев Ивана и Петра, стоявших
с тоненькими свечками в руках, на
угрюмых бояр, неведомо что
замышлявших,— они стояли наосо-
бицу и купно, именитыми семьями.
Он не догадывался, какую тяжкую
ношу возложил на его плечи по-
койный государь, лишь смутно
чувствовал, что ноша будет не по
силам. Не потому ли подступала
к горлу тошнота, а на глаза на-
вертывались слезы. Перебарывая
мелкую дрожь в теле, он крепился,
ибо негоже было показывать свою
немощь, когда предстояло повеле-
вать целой державой.
Держава, простиравшаяся за сте-
нами Кремля, была непонятна, тем-
на. От народа, населявшего ее.
можно было ждать и смуты, и бунта,
и дерзкой готовности идти присту-
пом на кого ни позовешь, и встать
под начало разбойника Стеньки.
Попробуй пойми, что у этого наро-
да на уме...
Похоронив отца и государя, Федор
Алексеевич выслушал совет бояр
и патриарха: выходило, что нужно
сначала унять огнепального Авваку-
ма в Пустозерске и помириться
с жившим в Ферапонтовом мо-
настыре Никоном. Шли донесения,
что бывший патриарх вел себя непот-
ребно — срамно бражничал, как
простой смерд. Молодой государь
послал к нему именитого Лопухина,
чтобы поглядел на все своими глаза-
ми, отделил правду от кривды, и если
слухи о жизни Никона ложны,
испросил бумагу о прощении покой-
ному царю за все прошлые вины.
«Пусть на том свете нас бог рассу-
дит,— мстительно ответил бывший
патриарх.— Прощения ему моего не
будет». Федор Алексеевич решил
пренебречь мелкой злобностью ста-
рика, желая вернуть его в недостро-
енный Новый Иерусалим. Но тут
воспротивился патриарх Иоаким: не
наше дело переиначивать то, что
порешил собор вселенских патриар-
хов. Царю пришлось отступить. Ког-
да стало известно, что Никон тяжело
болен, государь своей волей, не спра-
шивая никого, даровал ему свободу.
Никон пожелал добраться до
Воскресенского монастыря, где хотел
доживать свои дни, по воде, его
прихоти никто не стал перечить.
Смастерили струг, обзавелись припа-
сами, вышли на Шексну, а там и на
Волгу, чтобы спуститься к Ярос-
лавлю, Нижнему, Целыми днями
бывший патриарх лежал на палубе,
на мягкой постели, тепло кутая
зябнущие ноги, хотя стоял август.
Лишь изредка налетал ветер, мор-
щил воду, потом снова текла парная
теплынь Мимо проплывали зна-
комые берега — с одной стороны
низинный, луговой, весь в озерах
и поймах, а с другой — обрывистый,
крутой, с белыми колоколенками на
взгорьях; лепились на косогорах
убогие деревеньки с соломенными
крышами, с уткнувшимися в берег
лодками и растопыренными на коль-
ях сетями для просушки. Клубились
в небе пышные облака, в просветы
изливалось солнце. Никон жмурился
от блеска воды и сини, дышал
с надрывом, но сладостно — благо-
дать разливалась в воздухе, а со
скошенных лугов наплывал мед-
вяный травяной дух.
Когда приставали к берегу, чтобы
пополнить запасы чистой колодезной
воды или молока, к стругу подступа-
ла толпа мужиков и баб, быстро
густела. Одни глазели на бывшего
патриарха, прожившего столько лет
в опале, из простого любопытства.
Другие с неприязнью, а то и зло
окидывали взором человека, принес-
шего людям столько мук. Третьи, не
помня обид, несли ему скромные
дары — блины, лепехи, свежую осет-
рину, просились под благословение,
и он, с трудом поднимая руку,
крестил троеперстием незлобивых
сердцем.
На пристани Ярославля ему устро-
или торжественную встречу — яви-
лись и попы; архимандрит Сергий
склонился перед бывшим патриар-
хом, прося прощения и благослове-
ния. Многого ожидал Никон, думая
о предстоящих встречах на пути,—
и отчуждения, и открытой ненавис-
ти, но только не этой простодушной
забывчивости и всемилосердия. Буд-
то и не слыл он иконоборцем;
душегубом и даже Антихристом,
будто и не проклинали его в соборах
чуть ли не по всей Руси,— время
размыло все его вины и укоры,
и осталась в народе одна жалость
к немощному старику, дни которого
сочтены... Нет, все-таки непостижи-
мо загадочен русский народ, непо-
нятно отходчив в злобе; зачем вот
59
проталкиваются людишки к стругу,
жаждут прикоснуться к краю одеж-
ды, прикладываются, словно к
святому, к его высохшей, темной, как
корень дерева, узловатой руке. Ни-
кон не противился этому рабскому
приливу покорности, был рад, что
под конец жизни сподобил его гос-
подь такого просветленного всепро-
щения. Значит, он уйдет в могилу не
отринутый, а чтимый и любезный
многим христианам...
Он умер легко, когда струг входил
из Волги в реку Коростель: задре-
мал, пригретый ласковым
солнышком, несколько раз вздохнул,
смежил веки и открыть их снова
словно не хватило сил.
Гораздо тяжелее Федору Алек-
сеевичу было сладить с неистовым
Аввакумом, томившимсй в Пусто-
зерской тюрьме. Протопоп не подда-
вался на уговоры, не слушал увеще-
ваний молодого государя, желавше-
го погасить огонь давней распри.
Укротить его оказалось никому не
под силу — он не шел на мир и не
унимался в своих посланиях и во-
ровских грамотах, расходившихся
по Руси тысячами списков, грозил
в них, что покойного «царя Алексея
велит поставить к Христу на суд»,
а потом в прямой челобитной новому
государю предерзко и злопамятно
признался: «Бог судит между мною
и царем Алексеем. В муках он сидит,
слышал я от Спаса; то ему за свой
правду». Верные Аввакумовы люди
и слуги старой веры не гну-
шались метать те крамольные
листки в Москве с колокольни
Ивана Великого, а однажды на
глазах царя и патриарха кто-то
пустил их в воздух, как змей. Еще
открылось, что Афанасий, сын Авва-
кума, измазал дегтем гробницу
Алексея Михайловича. Патриарх
Иоаким, брызгая слюной, обличал
в соборе непокорного еретика и,
несмотря на несогласие многих про-
топопов, грозя всем карой небесной,
стоял на своем. Собор постановил —
за «великие их на царский дбМ
хулы» казнить четырех пусто-
зерских узников.
Исполнить указ велено было стре-
лецкому капитану Лешукову,
царскому телохранителю. В росте-
пель он двинулся в дальний путь —
через Мезень и Пижму на Печору,
а уж оттуда в тундряной захо-
лустный городок Пустозерск...
Через день после того, как
объявился в остроге Лешуков, Авва-
кум, как обычно с утра, похлебав
жидкой и теплой кашицы, подышав
на плохо гнущиеся пальцы, принял-
ся за очередное послание — не все
еще он высказал в своем «Житии»,
роились слова, мысли, и надобно
было поскорее закрепить их на бума-
ге и отослать всем страждущим
ревнителям старой веры. Рядом с
ним, на ветхом ложе, подремывал
старец Епифаний, духовный его отец,
сильно ослабевший за последние
дни. Если бы не его настойчивые
мольбы, вряд ли написал Аввакум
«Житие», не оставил бы свою испо-
ведь на память детям и сподвижни-
кам. За одно это можно было любить
инока, терпеливо выслушивать его
наставления, хотя Епифаний замет-
но слабел умом, день ото дня
становился забывчивее и многое пу-
тал...
На дворе стоял апрель. Когда
пригревало солнце, в узкое оконце
над самой крышей острога было
видно, как сочилась, алмазно свер-
кая на свету, капель. После полудня
подмораживало и тогда просвечива-
ли длинные сосульки, как витые
свечи. Любуясь тихим свечением,
протопоп стоял, задравши голову: то
была зримая жизнь, ее безостановоч-
ное движение, малая, но согревав-
шая душу радость.
И нынче день тоже выдался пого-
жий, солнечный. Звенела капель,
чирикали у пробитых ею лунок
шустрые воробьи. Но и звон капели,
и щебет малых птиц заглушал стук
топоров. Стук был дальний, однако
на слух можно было уловить, что
работают несколько плотников, рабо-
тают споро, словно что-то их пото-
рапливает.
Под этот стукоток протопопу луч-
ше писалось, казалось, что он не
в сумрачной яме, а на воле, среди
людей. Звуки жизни будоражили,
обновляли чувства, придавали кре-
пость телу и духу. Вот спорый
перестук затих, плотники, видать,
решили передохнуть. Но тут
послышались .чьи-то грузные шаги
у дверного лаза, лязгнул замок,
заскрипела на петлях дверь.
— Выходи, раб божий! — Авва-
кум сразу увидел ноги, обутые
в меховые сапоги.— И старца при-
хватывай... Ныне вам один путь...
Окрик был грубый, властный,
голос зычный, не слышимый прежде,
все они были у него на слуху —
тюремщики, стражи, стрельцы. Ав-
вакум на миг оторопел — неужто
полная воля? Отправляя челобит-
ную, он не надеялся, что молодой
государь повернет к старой вере: не
та ветка на древе, чтобы расти
своевольно! Что если царь Федор
узрел истину? А вдруг новый госу-
дарь захотел прослыть мило-
сердным, вызволить всех из
тюрьмы? Но эта мысль гут же
угасла, настигнутая иной, более по-
хожей на правду: что если это конец
жизни, ее последний день?
Старец Епифаний еле держался на
ногах, его пришлось тащить наверх
силком. Выбравшись на свет и глот-
нув воздуха, протопоп и сам заша-
тался, мир померк в очах, но он
устоял, даже помог подняться упав-
шему на колени иноку Епифанию.
— Вставай, отец мой во Христе...
Не позорь сана своего...
Выпрямившись, Аввакум бегучим
взором окинул всех, кто ждал его
наверху. Знакомый десятник стоял
наособицу от всех, видно, не ему
сегодня распоряжаться тут, а хотя
бы воеводе Хоненеву, кутавшемуся
в шубняк с недорогой лисьей опуш-
кой. Но скорее всего новому человеку
в шубе, отделанной соболем, в ме-
ховых сапогах, что высился с ним
рядом — судя по всему, столичный
гость. Это он и кричал так зычно
в яму. Неужто настал смертный
час?.. Он к этому часу себя готовил,
и все же опахнуло душу хладом.
Хотя разум и в эти мгновения
противился верить первой догадке,
он уже прозревал, что обмана быть
не может: смерть вот она — рядом,
в нескольких шагах. Иначе зачем эта
чернеющая за тыном толпа,
угрюмая, настороженная, точно ста-
до, согнанное на убой, и зловещий
белеющий ошкуренными бревныш-
ками свежий сруб за острогом?..
Так вот почему стучали раным-
рано топоры, вот почему спешили
плотники поспеть к указанному
сроку...
— А где ж мои братья по му-
кам? — выдавил Аввакум и не узнал
своего голоса, словно кто другой за
него спрашивал. Снова вздохнул
полной грудью, но голова от свежего
воздуха пошла кругом и он еле
устоял, чтобы не уйти в обморочный
дурман.
— Сейчас приползут! Время еще
есть... Как появятся, я зачитаю вам
указ государя!
— Не утруждай себя, шиш ца-
рев! — зло бросил протопоп.— Я и
без указа уйду на тот свет по зову
господа моего... Уважай сан и лета
преклонные, не то отрыгнется тебе на
том свете.
— Перед смертью дерзишь, рас-
поп...
— Моими устами глаголет исти-
на, до коей ты не дорос, червь зем-
ной,— возвысил голос Аввакум.—
Не бери греха на душу, хватит с лих-
вой и того, что взялся вершить чер-
ное дело...
— Укороти язык! — побагровев,
крикнул столичный гость.— Зря го-
сударь покойный не отрезал его тебе,
как иным!..
— Будешь подыхать, как пес
смрадный! — голос Аввакума быст-
ро креп.— Люди не будут тебя
провожать, как нас, не почтят за
муки и верность вере!.. Видишь,
стоят?.. Они тебя запомнят навек,
убийцу и холуя царского!..
60
— Вот поджарят тебя на огне,
покаешься! Кончится вместе, с тобой
и твоя спесь несносная!
Он крутошовернулся на взвизгнув-
шем в снегу каблуке.
— Стрелецкий десятник, а ты что
стоишь, как верстовой столб?.. Или
тебе по нраву, как еретик льет помои
на царского телохранителя?.. Где
стражи? Чего они мешкают?
— Сей час будут, — отвечал,
покрываясь холодной испариной,
стрелецкий десятник.
— Ага, так ты капитан Лешу-
ков? — скривил губы Аввакум. —
Слышать слыхал, а видеть не прихо-
дилось... Скажи на милость, какую
честь государь нам оказал — палача
прислал из самой столицы!.. Низкий
поклон ему, что всего-навсего пят-
надцать лет гноил нас в земляных
ямах.
— Не кощунствуй, распоп,— ото-
ропев от того, что Аввакум назвал
его фамилию, чуть сдержаннее про-
изнес стрелецкий капитан.— Не дол-
го тебе богохульствовать и срамить
царский двор... Сгоришь и весь
дымом выйдешь!
— Тело мое спалить в твоей
власти,— снизил голос Аввакум, по-
строжа л.— Но дух мой огню не
подвластен. Тебе того не понять и не
постичь, ибо твой удел — гниение
и вонь падали...
— Заткните ему глотку! — снова
теряя власть над собой, надорвался
в крике Лешуков.— Не совращать
тебе боле людские души словом
блудным!..
К Аввакуму труском подбежали
стрельцы, попытались ухватить его
руки, скрутить назад, но он движе-
нием плеч отбросил их прочь.
— Не поганьте души свои, добрые
люди, вам еще жить и детей годо-
вать!.. Это вон государеву шишу
терять нечего... Заместо души у него
пасть, глотать все, что кинут с
царского стола... Гореть ему в смоле
адовой, а чадам его невинным нести
позор по гроб жизни!..
— Вяжите гада!
— Не подступайте ко мне, цепные
кобели! Не подступайте,— затрясся
в бешеной злобе Аввакум.— Ино
всех прокляну, когда гореть буду...
А тебе, Лешуков, сейчас анафема!
— Помолчи! Сам не забывай про
бога! — подал наконец суровый го-
лос воевода Хоненев.— Излили
желчь и хватит! Вот братья твои,
протопоп, вылезли на свет.
Аввакум повернулся и чуть не
застонал от жалости — истощенные,
кожа да кости, в отрепьях серой
мешковины показались из ямы дьяк
Федор и поп Лазарь. Стрельцы про-
волокли их под руки, поставили
в нескольких шагах от Аввакума, но
они, ослепнув от сверкавшего снега,
как неживые повалились навзничь.
Аввакум дернулся навстречу, по-
днял одного, другого, встряхнул за
плечи, утвердил на ногах.
— Держитесь, сыны мои,—
властно выдохнул он.— Отгостевали
мы на земле, господь нас к себе
призывает... Повинимся друг перед
другом, не унизим сана своего в сей
роковой час...
Федор и Лазарь лишь мычали
в ответ, языки им вырезали до
ссылки. Вместо рук из трепья торча-
ли у обоих сизые культяпки, как
и у старца Епифания, — то зло-
действо произвели с ним уже тут,
в Пустозерске, чтобы не молились
двуперстно. Лишь одному Аввакуму
сестра покойного государя Ирина
Михайловна вымолила особую ми-
лость — остаться при языке и руках;
к тому же царю был по душе слог
Аввакума, он чтил его редкий дар.
Соузники прислонились к Авваку-
му, заныли, как сирые нищие, им
безъязычно вторил инок Епифаний.
Протопоп не прерывал их заунывно-
го воя — пусть выплачутся, изойдут
слезой, может, легче примут пред-
смертные муки.
Шевелилась, гудела за тыном
темная, беспокойная толпа, оттуда
послышался истошный вскрик и за-
упокойные причитания. Стрельцы
побежали, чтобы унять плакальщиц,
вырвать из гущи кликуш, пригро-
зить, что разгонят всех, если не будут
стоять недвижно и молиться шепо-
том...
Аввакум обнял за плечи дьяка
и попа, инок заковылял сам, без
поддержки. Они неспешно потяну-
лись к срубу, часто останавливаясь
и передыхая и снова пролагая троп-
ку в мягком, рассыпчатом снегу,
тропу к своей Голгофе.
— Кресты не отняли у вас? —
сурово спросил Аввакум, и соузники
замотали головами, мыкнули. Он
успокоился, поглядел на них с
нежностью.— А огня не бойтесь,
огонь очищает, и боль та будет
последней... Мы мученики Христовы,
и души наши чисты...
Снег легко оседал под онучами,
перевитыми веревочками, стреляя
в глаза синими, красными искрами,
переливался, вызывая слезу и резь.
Перед мутным взором начинали
мельтешить темные хлопья, будто
черный снег, не оседая, плавал в воз-
духе. Но небо было чистым и го-
лубым, непостижимо безбрежным,
и глаза, привыкнув к свету,
омывшись слезой, уже не зрели
летучих черных снежинок.
Открылся заново и слух. Аввакум
услышал, как звенела поблизости
капель, щебетали залетевшие на сруб
воробьи.
Он держался на ногах крепче
соузников, вел их, неуклонно при
ближаясь к белому срубу. Следом,
в некотором отдалении, брели капи-
тан, воевода и стрелецкий десятник.
«Наконец-то сподобил господь,—
в радостном упоении шептал Авва
кум.— Наступил и мой черед... Как
хорошо, что братия мои во Христе
виснут на мне. Я им опора и по-
водырь, без меня им бы тяжко
дотащиться до смертного ложа; шаг-
нуть в огонь не легко, даже ведая
что принимаешь мученический венец
и входишь во врата рая...»
Он остановился, задержал дыха-
ние. Дьяк Федор и поп Лазарь будто
обмякли на его плечах, Аввакум
дождался, когда доковыляет инок
Епифаний.
— Опускайтися, братия, на коле-
ни... Помою я вас снежком чистым,
негоже нам представать перед пре-
столом господа, не умыв хотя бы
лика своего...
Трое соузников послушно опусти-
лись на снег. Аввакум по очереди
умыл каждому лицо, шею, культи,
зачерпывая ладонью пушистые
комья. Хлопья снега таяли, потекли
по щекам и подбородкам мутными от
земляной пыли, что осела в ямах,
потом лица становились все белее,
и скоро чистая кожа скрипела под
ладонями Аввакума.
— Мы, обожжение получивше,
сподобимся веселитися,— тихо про-
шептал Аввакум.— Тогда бо изме-
нит господь сие небо и землю, и будет
небо ново и земля нова... Еже есть
рай, — будет вся земля та...
Увидев, что узники перед смертью
умываются, застыли на тропе те, кто
шел следом — и столичный гость,
и воевода, и стрелецкий десятник.
Когда осужденные поднялись с ко-
лен, Аввакум сам припал пицом
к пухлому снегу, и они тронулись
дальше.
Перед срубом Аввакум снова при-
держал братию. В узкую щель
в двери он увидел застывшие на
свежих бревнах янтарные капли
смолы, внутри за щелью — вороха
золотистой соломы. Распрямив оне-
мевшую спину, поймал взгляды
соузников, полные смертной тоски,
обернулся к толпе, притихшей за
оградой.
— Братия мои, не бойтесь пещи
61
сей... Дерзайте, плюйте на нее... До
пещи, може, и будет страх, а когда
войдешь в нее, то и забудешь все.
Он шагнул навстречу замершей
толпе и крикнул с неукротимой
яростью:
— Вот тако креститесь, православ-
ные!.. Не предавайте Исуса Хрис-
та? Гоните прочь Сатану и Антихрис-
та!.. А кто забудет про нашу веру,
тому анафема!
Его уже тряс за плечи злой до
одури Лешуков, харкал в глаза, бил
кулаками по губам, но Аввакум не
унимался, пока навалившийся свер-
ху стрелецкий десятник не зажал
ему ручищей рот, не толкнул к срубу.
Капитан развернул свернутый в
трубку государев указ и стал крик-
ливо читать, но Аввакум протиснул
в дыру сруба соузников, залез сам,
оказавшись чуть не по пояс в рыхлой
лучистой соломе. Нашарив в карма-
не четыре огарка, припасенных им
давно на смертный случай, сунул
каждому и не поразился, что братья
по мукам смотрят на него, как на
святого.
— Раб божий, не откажи в послед-
ней просьбе,— обратился Аввакум
к стрелецкому десятнику.— Засвети
наши свечи, дай вознести молитву
отходную...
— Поджигай солому! — кричал
за стеной Лешуков.
— Дак помолиться хотят,— робко
ответил стрелецкий и, не дожидаясь
разрешения капитана, высек креса-
лом огонь, запалил каждую свечку.
— Спасибо, добрая душа... То
зачтется тебе богом... Мы будем
Научная мозаика
НЕ ВАРИТЕ
КАРТОФЕЛЬ В МУНДИРЕ
Домашние хозяйки пожмут плечами,
услышав такой совет. Как же еще
готовить картофель для салатов, гарни-
ров и других блюд? Как бы то ни было,
но снимать кожуру с картошки просто
необходимо, иначе содержащиеся в
ней токсические вещества с жутко-
ватым названием «гликоалкалоиды»
могут при варке остаться в готовом
блюде. •
Предполагают, что некоторые желу-
дочно-кишечные недомогания, а так-
же случаи головной боли вызываются
именно этими гликоалкалоидами.
молиться, а ты вяжи нас потихоньку,
как велено.
Пораженный его спокойствием,
стрелецкий внял и этой просьбе,
наскоро привязав узников к врытым
по углам столбам.
— У всякого православного про-
щения прошу... Богу нашему слава
ныне и присно, и во веки веков...
Протопоп исступленно вышеп-
тывал слова молитвы, Федор, Ла-
зарь и Епифаний согласно с ним
мычали, тряся нечесаными голова-
ми. На их лицах трепетал отсвет
свечей, и не смертниками они выгля-
дели в эти страшные минуты, а при-
хожанами, стоявшими в церкви и не
сводившими глаз с распятия.
— Кидайте огонь на солому,—
жестко приказал Аввакум и
швырнул свой огарок в сухой ворох.
Это произошло столь мгновенно,
что стрелецкий десятник не сумел
помешать: повинуясь голосу прото-
попа, соузники тоже кинули огарки.
Солома мгновенно занялась,
вспыхнула, от нее повалил густой
дым, вздыбилось до верхних венцов
трескучее пламя.
Задыхаясь, стрелецкий метнулся
к узкой щели сруба, вывалился
наружу, закатался по снегу.
Дым пробился через пазы в брев-
нах, встал белым грибом над срубом,
покачался, колеблемый ветром,
вырвался рыжий огонь, обливая зо-
лотистой лавой стены. Смолистое
дерево заполыхало, застреляло
искрами. А толпа за оградой повали-
лась на колени, крестясь и стеная...
ЗУБНАЯ ЩЕТКА! ЭТО НЕ ПРОСТО...
Так полагает американская фирма,
разработавшая зубную щетку с
5520 щетинками. Создатели щетки на-
стаивают именно на этом количестве.
В новом ее варианте учтены рекомен-
дации Американской ассоциации
зубных врачей, советы выдерживать
угол в 45° между поверхностью зуба
и щетинками.
В щетке, сработанной «по последне-
му слову науки», оптимальный наклон
обеспечивается автоматически, благо-
даря хитроумному подбору мягких
и ориентированных щетинок.
Итак, 5520 — и ни одной меньше! Все
это может вызвать улыбку, но она
исчезает, стоит только вспомнить о ви-
зите к зубному врачу.
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ по Саха-
ре, прямо скажем, не сахар.
И хотя путь наш пролегал
по ее южной окраине — в
полосе «светлых» саванн и
полупустынь, раскаленное
дыхание Сахары, обдавая
сухим жаром тонкие стенки
нашего ветхого, страдающего
одышкой автобуса, превра-
щало его салон в настоящую
сауну.
В Тахуа, один из старейших
торговых городов Республи-
ки Нигер, расположенный
на пересечении древних ка-
раванных путей, мы добра-
лись после полудня. Взмок-
шие, ошалевшие после трех-
часовой парилки, с великим
наслаждением окунулись в
спасительную прохладу гос-
тиницы.
Мой недолгий отдых был
прерван появлением пред-
ставителя министерства куль-
туры месье Умару, сопро-
вождавшего нас в этой по-
ездке.
— Хватит валяться, соби-
райся, иначе опоздаем на
праздник,— сказал он, до-
вольно бесцеремонно тол-
кая меня в бок.
Я раскинул руки, закатил
глаза и притворился спящим.
— Ну как угодно,— усмех-
нулся месье Умару,— смот-
ри, не пожалей потом, про-
пустишь много интересного!
Он ушел, хлопнув дверью,
а я сел на кровати и заду-
мался. Прошлым днем в го-
роде Зиндере мы наблюда-
ли праздничные церемонии
на священном холме и во
дворце султана, и это дейст-
вительно было интересно.
Дело в том, что наша по-
ездка по внутренним райо-
нам Нигера совпала с окон-
чанием месяца рамадана.
Хотя ислам и не является го-
сударственной религией
страны, 90 процентов насе-
ления — мусульмане, строго
соблюдающие предписания
Корана. Рамадан — время
сурового испытания. С вос-
хода и до захода солнца
правоверные обязаны соблю-
дать строжайший пост — ни
корочки хлеба, ни глотка во-
ды. С наступлением темноты
измученные голодом и жаж-
дой люди бросаются навер-
стывать упущенное... Для сна
времени почти не остается...
В условиях Нигера, где днем
в тени 50°С, выдержать по-
добный режим очень и очень
нелегко. Возможно поэтому
окончание рамадана повсе-
местно отмечается массо-
62
летворение от того, что пони-
маю этих поющих и веселя-
щихся людей — ведь они
изъяснялись на языке хауса,
который я долгих пять лет
изучал в университете, а по-
том, в течение еще более
долгих десяти лет, ни разу не
имел возможности приме-
нить на практике. И вот те-
перь я ощущал себя не сто-
ронним наблюдателем, но
соучастником этого шумно-
го, динамичного действа.
Неожиданно плавное те-
чение праздника было прер-
вано. Противоположная три-
буна взорвалась воплями
восторга и одобрения, свис-
том и топотом, все вскочили.
— Приехал какой-то
босс? — спросил Райво. Я
недоуменно пожал плечами.
Если пожаловал важный
гость, то почему вдруг за-
молкла и напряженно за-
мерла трибуна власть иму-
щих?
Под несмолкающие крики
и свист на арене появились
трое странного вида людей:
постриженные под машинку,
одетые в хламиды, напоми-
нающие тюремные пижамы.
Один старательно играл на
своеобразном музыкальном
инструменте — картонной
коробке из-под молока с дву-
мя приделанными к ней стру-
конец застыло в гримасе
хищной радости...
«Типичный кот-бегемот»,—
подумал я.
Схватив стоявший на краю
площадки микрофон и обра-
тившись лицом к почетной
трибуне, он запел. Вначале я
не мог разобрать ни слова —
мешали свист, крики, но вот
в сплошном музыкально-
речевом потоке стали прояс-
няться сперва отдельные сло-
ва, а затем и целые пред-
ложения. Я слушал, раскрыв
рот от изумления, чувствуя,
как наливаются краской мои
уши и лицо.
— Что он поет? — спросил
Райво.
— Он поет частушки,—
ответил я,— хулиганские час-
тушки.
— А про что?
— Ругает знатных людей
города, которые сидят здесь.
— Крепко ругает?
— Так крепко, что даже
передать не могу!
— Понятно,— резюмиро-
вал Райво.— Значит, будет
заваруха.— И начал делови-
то готовить «к бою» две свои
фотокамерыо
Тем временем «бегемот»
вконец разошелся: он лихо
развенчал «отцов города»,
указывая на них пальцем и
называя поименно, не забыл
выми веселыми праздника-
ми, которые нередко вклю-
чают ритуалы и церемонии
восходящие к доисламской
традиционной культуре мест-
ных африканских народов.
Преодолев минутное сла-
бодушие, я встал и начал
заряжать фотоаппарат. Через
некоторое время вместе с
приятелем эстонцем Райво
Серсантом и месье Умару мы
были уже у небольшой, по-
хожей на стадион площади,
окруженной с двух сторон
трибунами. На той, что по-
проще, сидели и стояли
крестьяне, ремесленники,
мелкие лавочники, ребятня.
На другой — с защитным ко-
зырьком от солнца и дож-
дя— расположилась знать:
эмир и его свита, богатые
купцы, бизнесмены, местные
политические деятели Их
жены в дорогих одеждах,
сверкая массивными золо-
тыми украшениями, сидели
на той же трибуне, но в левой
ее половине, обособленно
от мужчин.
Мы нашли три свободных
места в нижнем ряду «пре-
стижной» трибуны. Праздник
начался с музыки и танцев.
Как в калейдоскопе, меня-
лись исполнители, им на сме-
ну выходили велеречивые
ораторы. В перерывах соби-
рались пожертвования на
различные богоугодные и
благотворительные дела.
Жара между тем несколь-
ко поутихла, повеяло долго-
жданной прохладой. Забыв
об усталости, мы увлеченно
следили за происходящим.
Я испытывал огромное удов-
нами; другой остервенело
бил колотушкой по желез-
ному обручу, а третий... О
третьем надо сказать особо:
коренастый, плотный, с гру-
шеобразной головой, он
передвигался по арене мяг-
кими кошачьими прыжками,
время от времени останав-
ливаясь и строя зрителям
жуткие рожи. Его подвиж-
ное лицо попеременно выра-
жало то ужас и гнев, то удив-
ление и растерянность, а под
помянуть и их жен, перечис-
лив, под восторженные кри-
ки толпы, их мнимые и истин-
ные достоинства и недостат-
ки,— словом, старался во-
всю. В обычной ситуации по-
добные оскорбления были бы
чреваты для смельчака тя-
желейшими последствия-
ми — огромным штрафом,
тюрьмой, а то и смертью.
Но в данном случае никто
из оскорбляемых, по край-
ней мере внешне, не выка-
63
зал своего возмущения или
злости, более того, некото-
рые даже пытались изобра-
зить подобие улыбки
Я наклонился к месье Ума=
ру за разъяснениями.
— Это сумасшедший, ду-
рачок, он не несет ответ-
ственности за то, что гово-
рит и делает,— прошептал
Умару.— Но его присутствие
обязательно на всех крупных
праздниках. Такова традиция.
Так вот оно что, местный
юродивый! Мне вспомнилось
все, что доводилось читать
на эту тему, и суть происхо-
дящего стала ясна. То, что мы
наблюдали, было отнюдь не
акцией безрассудного хули-
гана или бунтаря, а своеоб-
разным ритуалом социаль-
ной психотерапии. В общест-
вах, разделенных на классы
и сословия, неизбежно воз-
никали социальные конфлик-
ты, что противоречило со-
хранившимся у многих афри-
канских народов религиоз-
но-общинным нормам пове-
дения, предписывавшим чле-
нам общины «существование
в мире»- За внешней обо-
лочкой благопристойности
и единодушия нередко вски-
пали зависть, ненависть, вну-
тригрупповая борьба, гро-
зившие разрушить хрупкую
структуру общинной органи-
зации. Вот тут-то и вступали
в действие юродивые» На
больших праздниках, при
стечении народа они начина-
ли петь и говорить о том, о
чем в данном обществе, по
существующей традиции, от-
крыто не говорили. С их по-
мощью скрытые, тлеющие
конфликты становились пред-
метом обсуждения всего на-
селения. Зазнавшимся бога-
чам и властолюбцам напо-
минали, что их высокое по-
ложение непрочно. Обижен-
ные и угнетенные ненадолго
чувствовали себя отомщен-
ными— с наслаждением на-
блюдая, как под градом ос-
корблений и насмешек ежит-
ся высокомерная знать. На-
копившиеся негативные эмо-
ции прорывались наружу
взрывами гомерического хо-
хота, социальное напряже-
ние несколько снижалось...
...Финальный вольт «беге-
мота» был поистине блис-
тателен. Пропев последний
куплет, он вдруг приспустил
штаны и, развернувшись спи-
ной к почтенной публике,
выставил свой оголенный зад.
Народ ликовал! Казалось, от
аплодисментов и воплей
восторга обрушится небо.
Но вот отшумели апло-
дисменты, утихомирилась
«народная» трибуна, вновь
стали важными и неприступ-
ными «лучшие» люди города
А на площади появились чет-
веро крепких полуобнажен-
ных мужчин.
— Это масубори — кол-
дуны и медиумы, с помощью
которых духи предков «бо-
ри» общаются с людьми,—
пояснил Умару.— Благодаря
духам масубори могут без
всякого ущерба для себя
ходи по раскаленным уг-
лям, танцевать дни и ночи
напролет, резать и колоть те-
ло мечами»
—— Резать и колоть меча
ми? — переспросил я.
— Ну да,— ответил месье
Умару,— недаром их еще на-
зывают «танцующие на ост-
рие меча».
— Все ясно,— сказал Рай-
во,— пошли ближе.
Взведя затворы своих ка-
мер, мы придвинулись к са-
мому краю арены.
Масубори тем временем,
повинуясь командам своего
старшего, начали нетороп-
ливый плавный танец, заво-
раживающий монотонными
повторениями одних и тех
же движений. Вскоре ритм
тамтамов резко возрос, дви-
жения танцоров Стали резче,
порывистее, в какой-то мо-
мент, синхронно оттолкнув-
шись от земли, они проде-
лали серию из трех кульби-
тов и замерли как вкопанные.
— Духи вошли в них,—
прошептал месье Умару.
В руках у масубори поя-
вились кинжалы. Размахивая
ими, подбрасывая и ловя на
лету масубори возобновили
ганец; воткнув кинжалы ряд-
ком в землю, острием вверх,
они ловко перескакивали че-
рез них; но вот снова оста-
новились, замерли Вновь из-
менился ритм — удары там-
тамов стали тяжелее, мед-
леннее. Ухватив левой рукой
по палке, масубори стали
наносить по ним сильные уда-
ры кинжалами, очевидно де-
монстрируя их остроту,— во
все стороны полетели щепки.
Сомнений не было: действи-
тельно, кинжалы хорошо на-
точены. Двое колдунов вы-
сунули языки и с силой про-
вели по ним сверкающим
лезвием.
Поймав колдунов в прицел
фотокамеры, я нажал на
спуск. Увы! Аппарат не ра-
ботал, а снимать было что:
масубори закружились в
вихревом танце, полосуя
шею, грудь, живот широки-
ми, опоясывающими удара-
ми. Сидевшая неподалеку
женщина вскрикнула и закры-
ла лицо руками. Вскоре тех-
ника ударов изменилась —
под резкие выкрики и свист-
ки старшего масубори стали
наносить себе колющие уда-
ры — иллюзия проникнове-
ния блестящих клинков в тело
была полной. Я непроизволь-
но зажмурился, ожидая уви-
деть брызжущие потоки кро-
ви, но их не было. Вокруг
возбужденно шумели зрите-
ли; взмокший от напряжения
Райво, подобно ковбою из
вестерна, с обеих рук «палил»
из своих длиннофокусных
камер. Впоследствии, тща-
тельно изучив все фотогра-
фии, мы, к сожалению, не
нашли ни одной, фиксирую-
щей момент «вонзания» ост-
рия кинжала в тело масубо-
рио А внимательно осмотрев
колдунов после праздника,
я не обнаружил на их теле
ни единой царапины.
— Как они это делают? —
спросил я в гостинице месье
Умару.
— Человек, обладающий
сильным духом, может все,—
усмехнулся он. И как это ни
парадоксально, я с ним со-
гласился. Разумеется, я не
разделял воззрений месье
Умару насчет «духов», но,
с другой стороны, мы и сами
знаем, что люди, наделенные
сильным духом, действитель-
но могут достичь много та-
кого, что недоступно другим.
Что же касается манипу-
ляций с кинжалами, то выве-
дать их тайну у масубори я
не сумел. Оно и не удиви-
тельно: какой профессионал
откроет первому встречному
секрет своего ремесла? Впро-
чем, может быть, это не та-
кая уж и тайна и кто-нибудь
из читателей знает раз-
гадку...
CONTENTS
Perestroika in Action: > “Economics of
Socialism: Trends and Prospects” inter
\i w with Academician O. Bogomolov
( • grin’s Archives (Memoir^
( Minister of Foreigp
- U 5)
Religion and Politics: • Conflict in
Lebanon”, by journalis* p Dem henko
(p- 6)
Future Prophesy, Fantasy, F, ecast:
• “Countryhouse on the Moo ” an inter
view with architect D. Pyi ev (p. 8)
Loneliness — A Dilemma: * 1 iree dif-
ferent approaches to the problem of
Loneliness by J. Bogachev, V. Korobeini-
kov, G. Laevsky (p. 12—15)
Religion and Atheism in the USSR-
• “New Trends in Atheistic Education”
О Yuryeva (p. 1 I * “Sociology ol
Wedding”, b> Yulia Kuzmina (p. 16)
* “Modern Exorcism” an investigation
by journalist V. Lebedev . 24)
Christianity in Russia: • “Ancient Rus
sian Writer Ila .in” by jc rnalist A. Uzhan-
kov (p. 19' • iermogen, the Patri-
arch” — a historical "<<,",int by Professor
R. Skrynmkov (p. 31; * ‘The Doukhobors
Story”, by L Nemira (p. 42)
Reflections: * ‘Man in Extreme Condi
tions ’ — interview with Academician
V. Kaznacheev (p. 28) * ‘A Theologian?
Y Mystic? An Atheist’”, by Professor Yu Ba-
rabash (p. 36)
Arts and Literature: • An interview
with leading Soviet writer Boris Vasihev
plus fr-4ments from his latest novel
(p. 49) * Old Bible Legends commented
by Kornei Chukovsky (p. 4 * Elizar
Maltsev’s “White geese on White Snow“
(p 57) * he Gospel of Judas”, by
Polish author G. Panas with a com-
mentary by Soviet writer N. Samvelian
(p. 45—46)
Life and Manner' * Jancing on the
Sword’s Edge”, by К Melik-Simonian
(p. 62)
Сдано в набор
19.01.88
Подписано к печати
11.03.88.
А 10842
60X90 8.
Офсетная печать.
8 усл. печ. л.
9,75 кр. отт.
12,63 уч.-изд. л.
Тираж 480 000 экз.
Зак. 0367.
Ордена Ленина
комбинат печати
издательства
«Радянська Укра1на».
252047, Киев-47,
проспект Победы, 50.
Текст набран
с применением
отечественного
фотонаборного
комплекса «Каскад».
Начало на с. 40.
народа получилось множество разных
народов.
И разошлись люди в разные концы
земли, каждый народ в свою сторону —
строить свои города. А башня стала мало-
помалу разваливаться.
Но говорят, что до сих пор в каждом
городе можно найти обломки кирпичей от
вавилонской башни. Потому что многие
уносили их с собой на память о тех
зременах, когда на земле бьзл мир и люди
понимали Друг друга.
И до сих пор на всех языках света люди
рассказывают эту сказку о недостроенной
вавилонской башне.
Пересказала Г. ЛИТВИНОВА.
СУД СОЛОМОНА
Молодой царь Соломон услышал
однажды во сне неведомый голос.
«Проси, что дать тебе? — сказал
ему этот голос. — Ты должен решить
свою судьбу Хочешь ли прославиться
на земле военными подвигами? Хо-
чешь ли приобрести много золота
и сделаться первым богачом? Или
покорить себе все народы? Или про-
жить долгую-долгую жизнь?.. Выби-
рай— и сбудется, что ты захочешь!»
Задумался Соломон и, подумав,
ответил:
«Не прошу я себе ни воинской
славы, ни богатства, ни долголетия. Не
хочу и власти над всеми людьми
Одного я хочу: стать мудрым. Пусть
сердце мое будет разумным, а разум
добрым, чтобы я мог различать добро
и зло и быть справедливым судьей».
И сказал ему голос:
«Да будет так».
И стал Соломон мудрейшим среди
людей.
И оттого что он был мудрецом,
сделался он и могущественным влас-
тителем, и приобрел несметные бо-
гатства, и покорились ему все народы,
и прославился он на весь мир
По всей земле шла молва о его
великом уме и справедливости.
И люди приходили к нему, чтобы он
рассудил их споры и тяжбы.
Однажды пришли к нему две
женщины и принесли ребенка, кото-
рому не было еще и месяца от роду.
И сказала одна женщина:
— Царь! Мы жили обе в одном
доме, спали в одной комнате У меня
родился сын, у нее тоже. Во всем
доме мы были одни, и никого с нами
не было. Ночью сын этой женщины
умер, и она украдкой положила его ко
мне в постель, а моего сына взяла
к себе. Утром я проснулась и вижу
возле себя ее мертвого ребенка.
Но тут другая женщина стала
кричать:
Н. ПУССЕН. Суд Соломона.
1649 Лувр.
— Неправда! Это мой сын живой,
а твой мертвый!
Соломон сказал:
— Подайте мне меч!
Когда принесли царю острый меч,
Соломон приказал воину, стоявшему
рядом:
— Возьми ребенка и рассеки его
надвое. И отдай одну половину одной
женщине, а другую половину — дру-
гой.
Первая женщина испугалась и за-
кричала:
— Не убивайте его, не убивайте!
Молю тебя, царь, не вели убивать его!
Лучше отдай моего сына этой женщи-
не — лишь бы он остался в живых!
А другая сказала:
— Справедливо решение твое, о
мудрейший! Пусть не достанется этот
ребенок ни ей, ни мне!
Тогда Соломон удержал руку воина
и сказал:
— Отдайте ребенка той, которая
пожалела его: она и есть его мать!
И ребенка отдали матери, и она
прижала его к сердцу А обманщицу
с позором прогнали прочь.
Так рассудил Соломон, мудрый
и справедливый.
Пересказала В. СМИРНОВА.
ПОВЕСТЬ
КОСТРОМСКИХ
ЛЕТ
В 164 Костроме
в Ипатьевском монастыре
рухнул собор Ирра быпа
невоенная а причиной
к тас'рофы оказался по-
рох взорвались его запа-
сы хранившиеся в под-
кис ex обора То, что
хоам буквально стоял иа
порох >вых бочках,— не
случайно Заречная Ипать-
в - обитель стала ук-
... . -Ом
•
Калите Во время ордын-
ских нашествии Кострома
с ое крепостями »-
ась убежищем 'истом.
ра гох москов-
ских великих князей
Д--итрия Донского и Ва-
силия I Отск д । шли на
Квлаиъ -олки И хна Г, з-
♦< • ш
В Еку
И атьевск и. иёи сть .
рС к увянь ми ст1 а»
ми е мощными чегыр
ранниками П ст ь>
беше исходе С
него времени ,-Л «
защиту »1 < -. Романо-
ву -- В ГОД когда ‘ тер
ская Москва и • .
на царс'вр ток
монасть'рь с о ел славу
«ОДыбели династии и
-рльэо лея о ы
опв"ение -
₽ука Моск?» там< •
в е'о архитектуре г»,
чалу Трсицкии р за-
поминал < ,о. дц
н-е обт-емь1 собор
С’ОЛИчногО Кр м пя fjp
восстановлении поел-
в pt ва и перестройке в
XVII ьеке приобрел зак
-I . на, ядныи
-и ВО вку^е царя
Алеке и лови а Н<
фресках фи-ту
ЯТ'ЫХ ЯОЧТви ЛИ. .
• Михаил и
сея Раману. В
дв и дар кое место»,
гтод атром на че-
гыр- лба« на ма-
нер р • ‘Счека
ковеном Успенском со-
• чь * *.->•--U« : М4-
тырехъярусн-еи башчея
вт « .....-• »'»•--
Е ичо о
В -XVII ав
• • наспир°
• Л. ». «>Ю петАобург-
ску- ори» мац при-
езд * . •“>. ' 11 • • ро
и л B'j те по ’ ц'
вь< да Г'е^рспаглои-'чО'
крелос'и Однецо ве
спустя, при оче «днем
ре аврацт-и вновь про
-ась московская ли-
ния: г тарин ые палаты
бояр Романовых стили-
овали ц' млевскую
ГрановиТую палату
Н; про- жжении веков
державны покоовит ли
дар ли обители крепост
ные впадения (уж,
60fl году к ней бь'ло при-
писано 40: .пени- Сю-
да погтдчл дорогую
церковную утгарь шитье
иконы. И книги Они ока-
«ались ц^нн. • <• го
Сирая монастырский ар-
.« НМ Карамзин от
крыл уникальный источ
ник по и< ории Древней
•с. — । писок , Повес -
ременных ет» По м- ту
Н ХОД1и рукопись полу-
ч ла ь на/ке имя И- атьев-
кси
Рисунок О Т у р к у с.