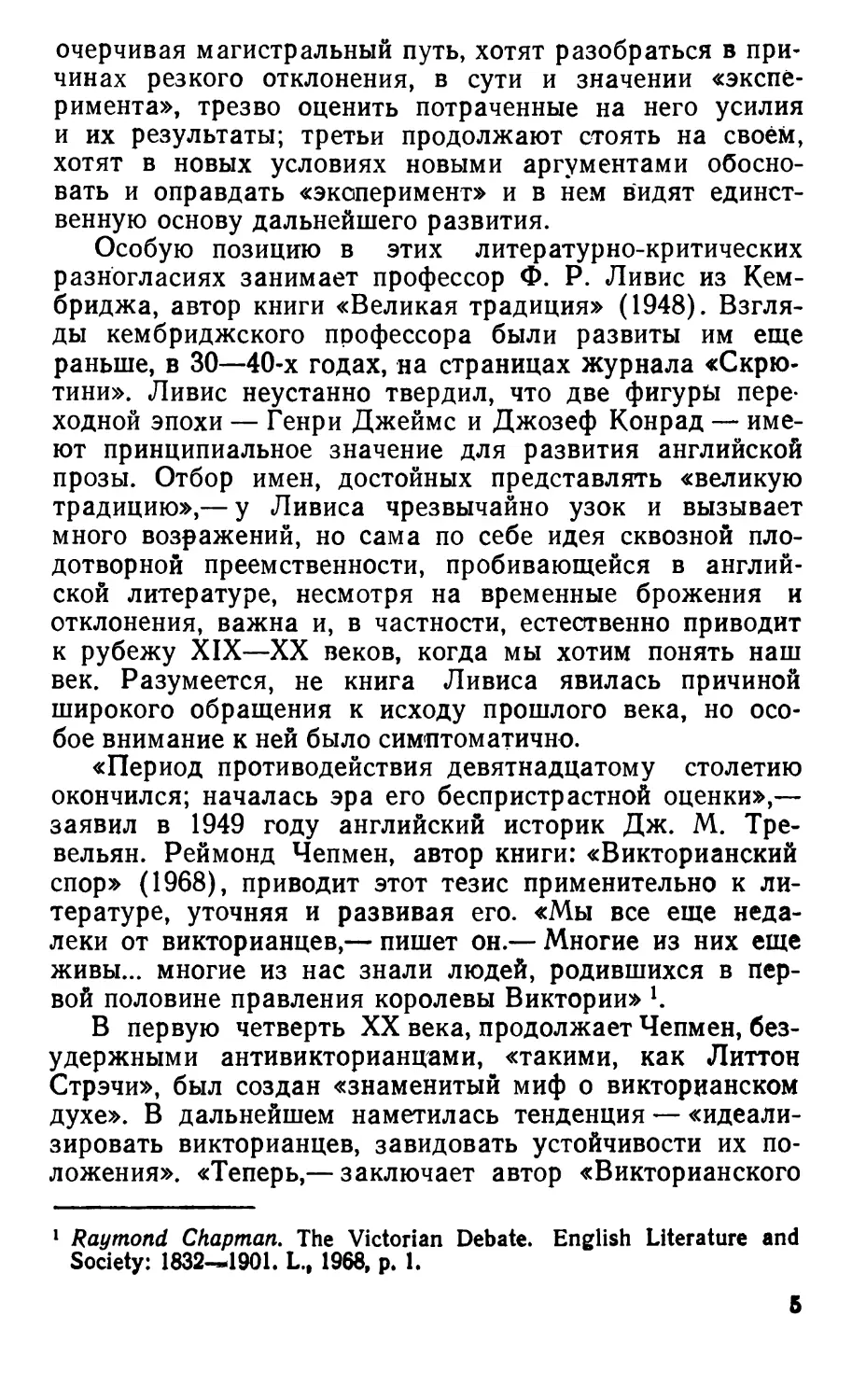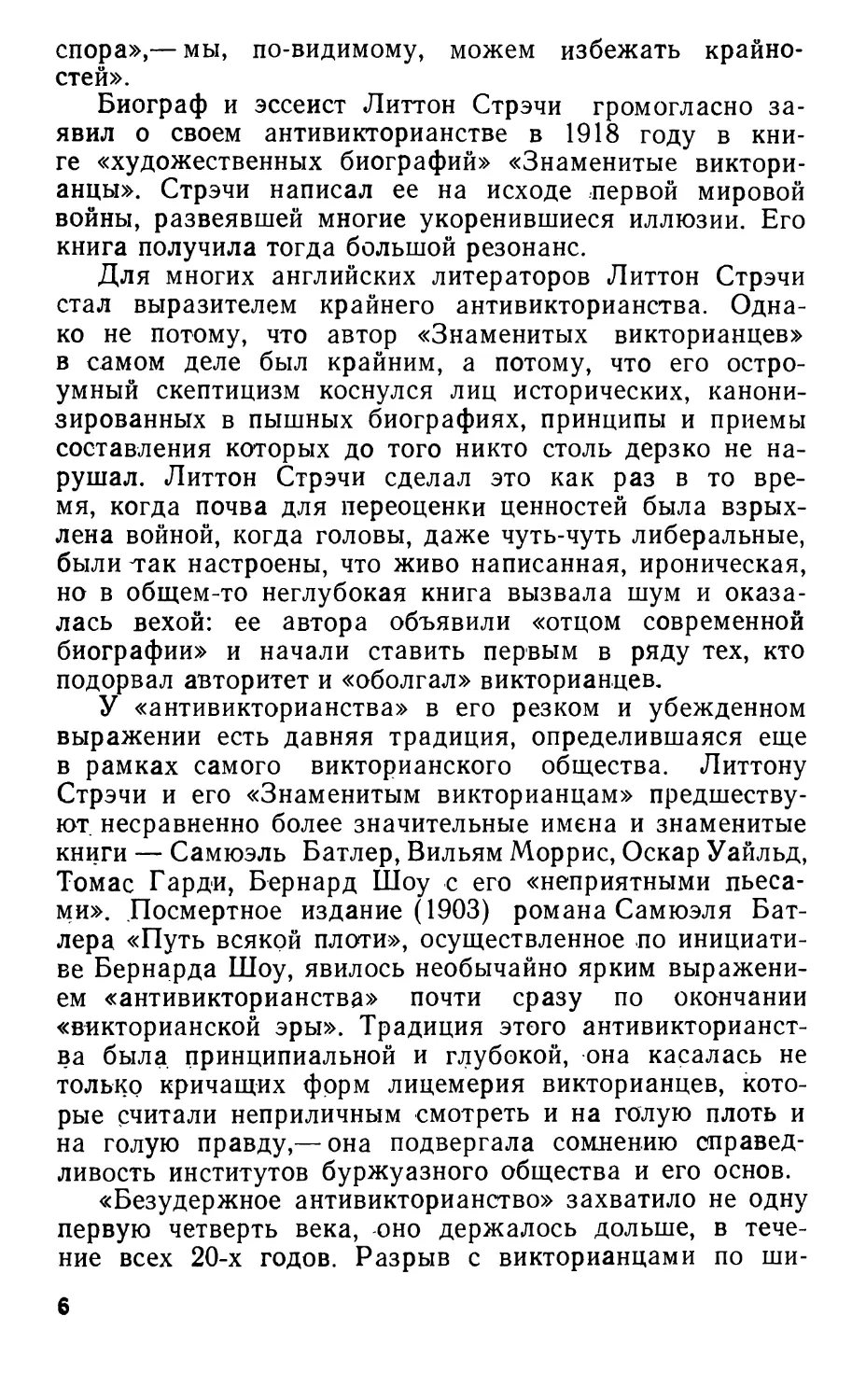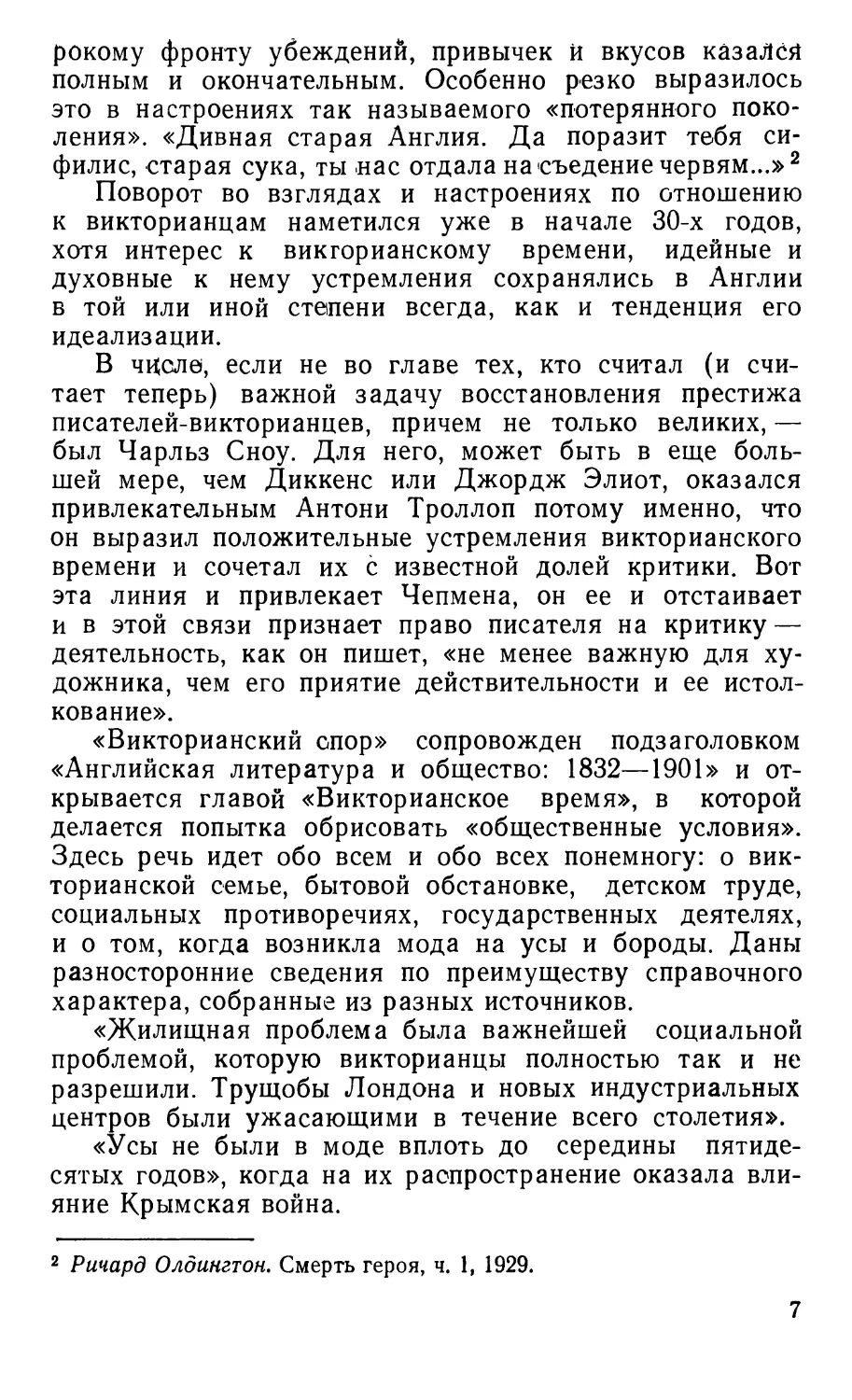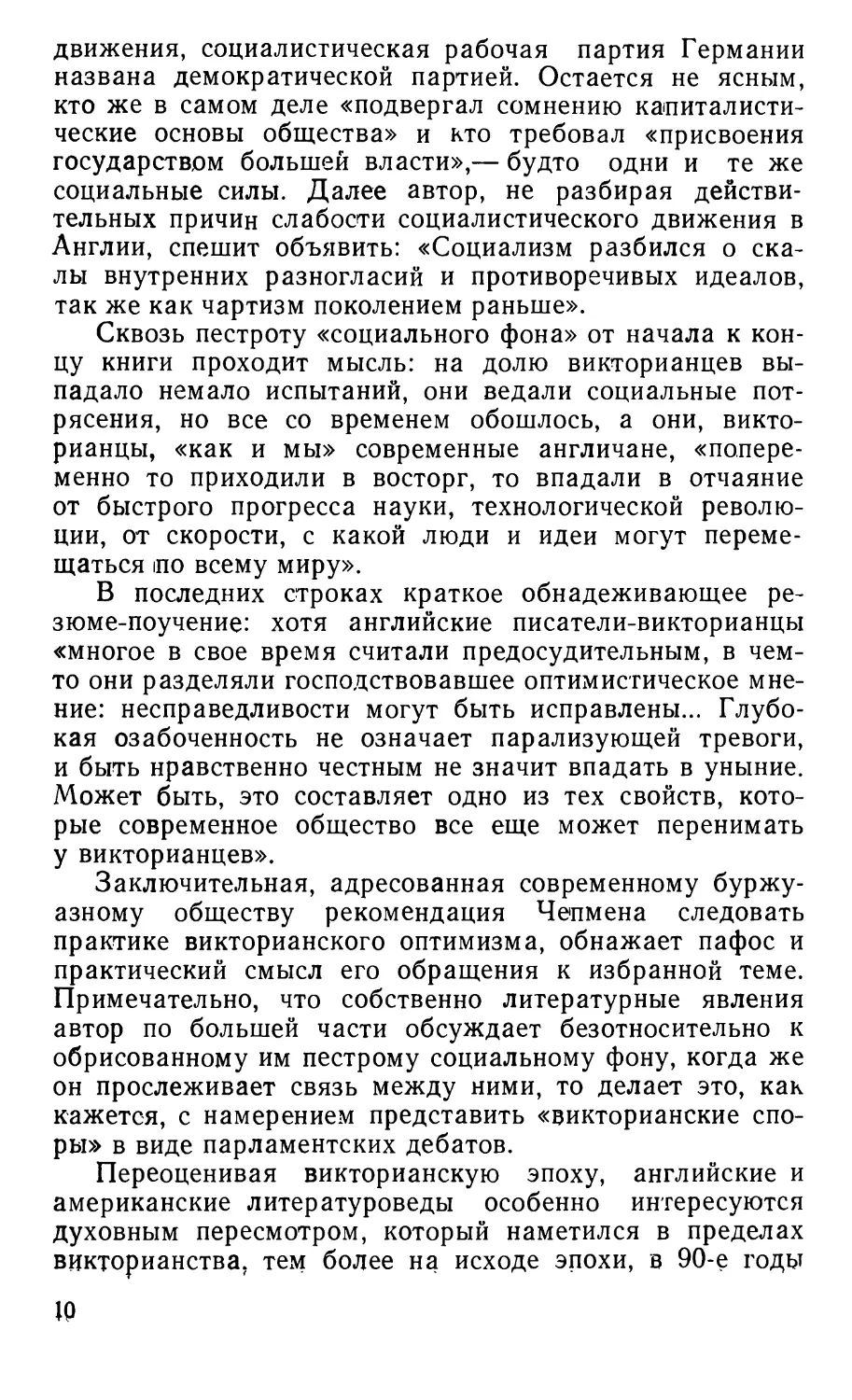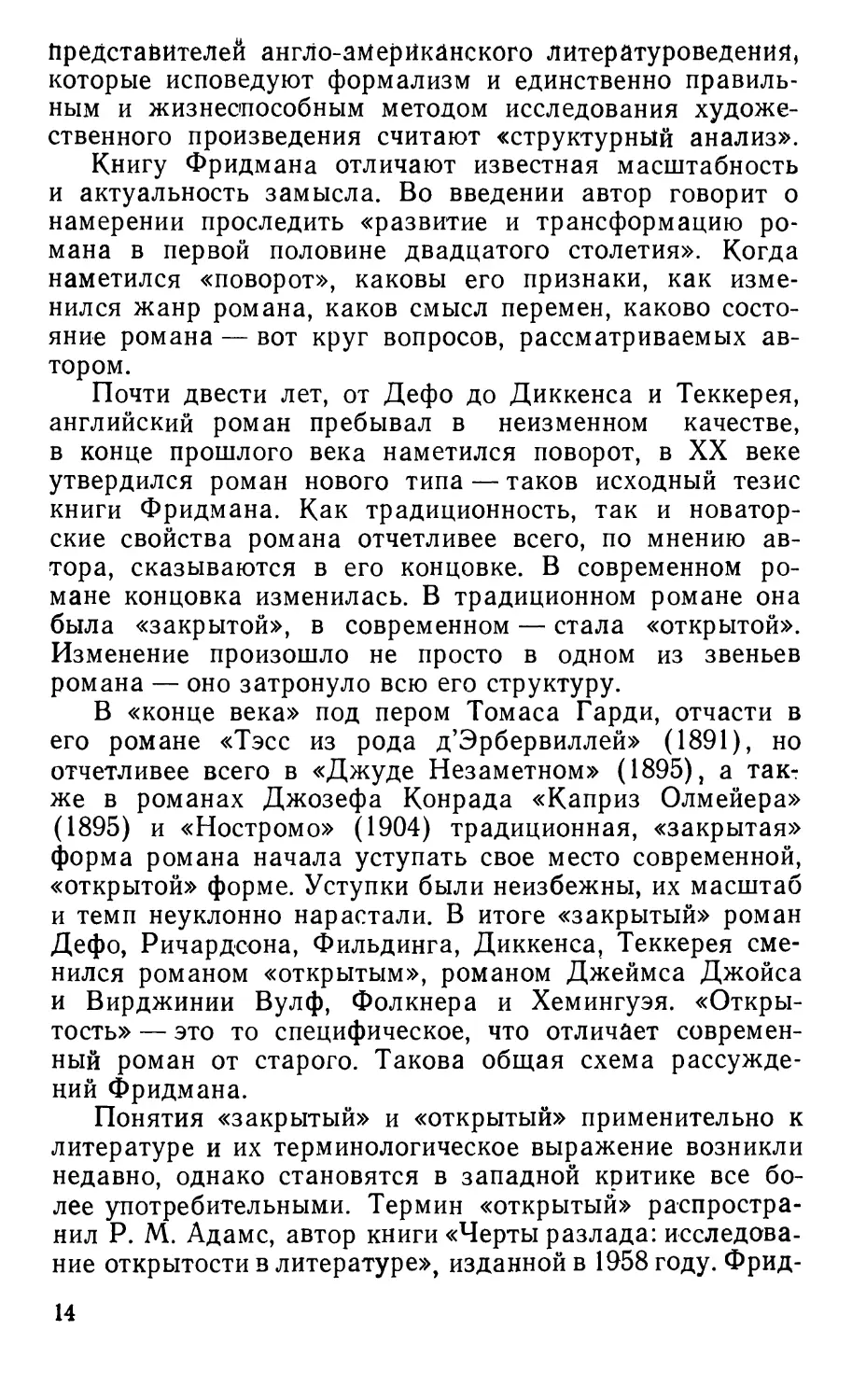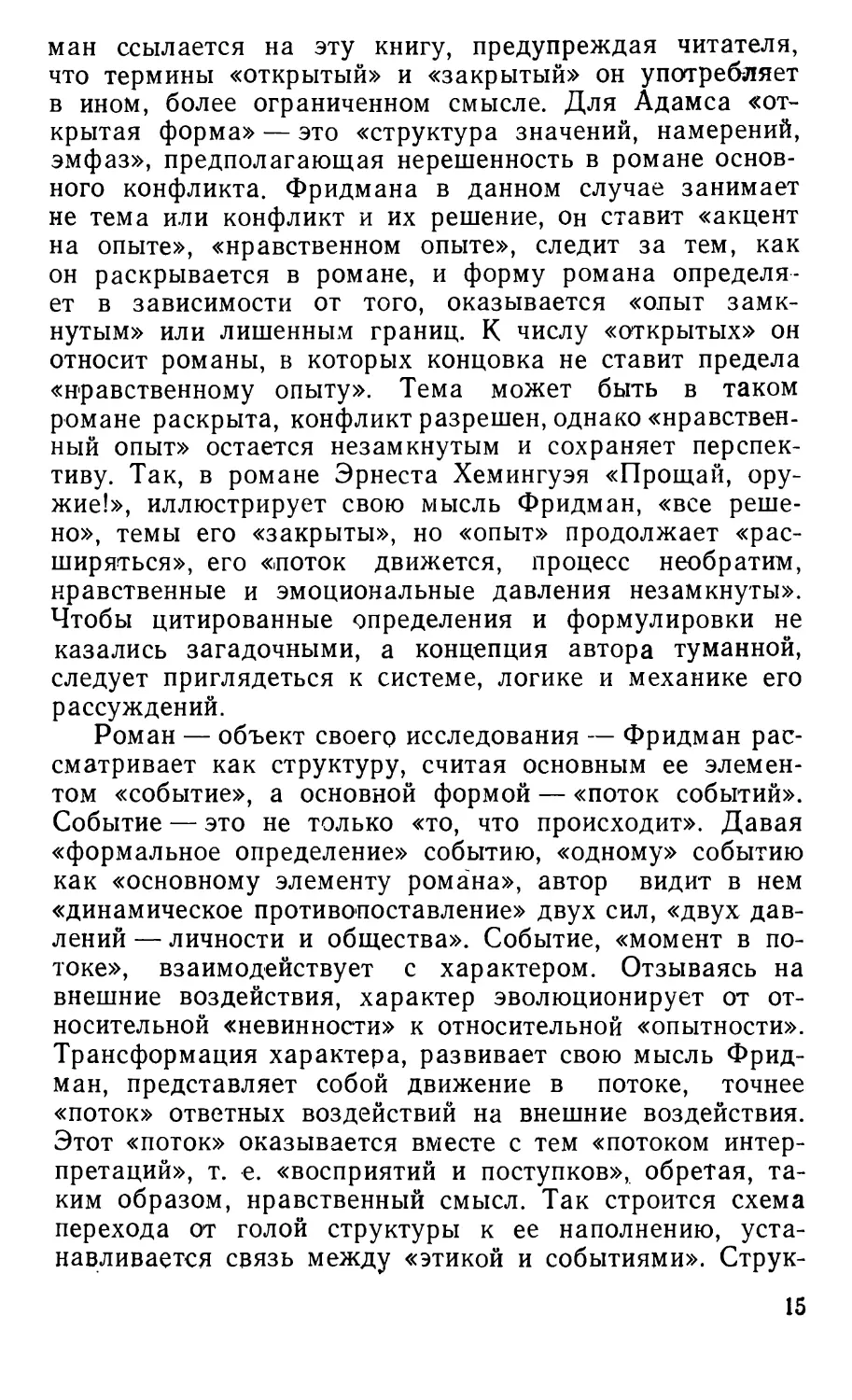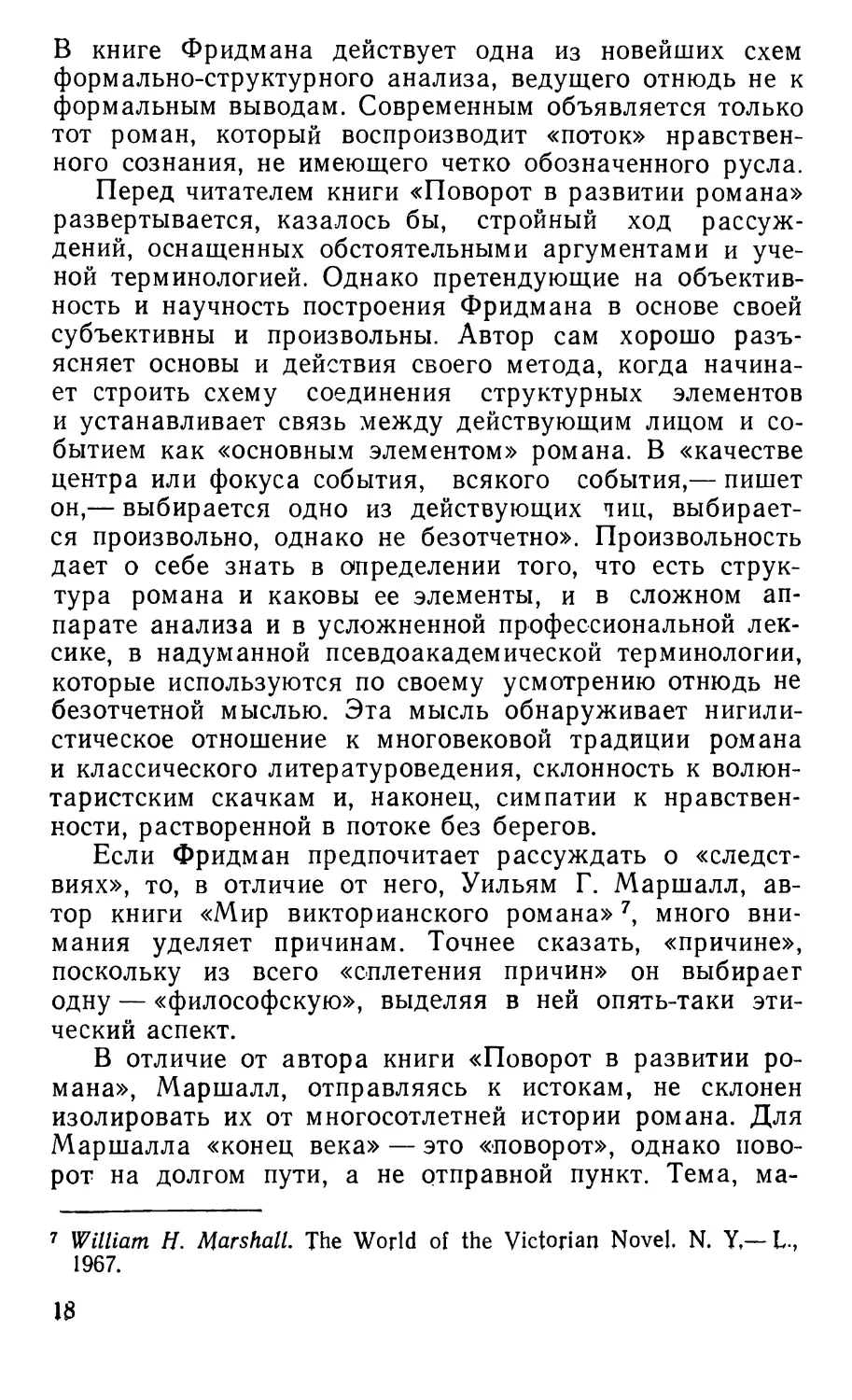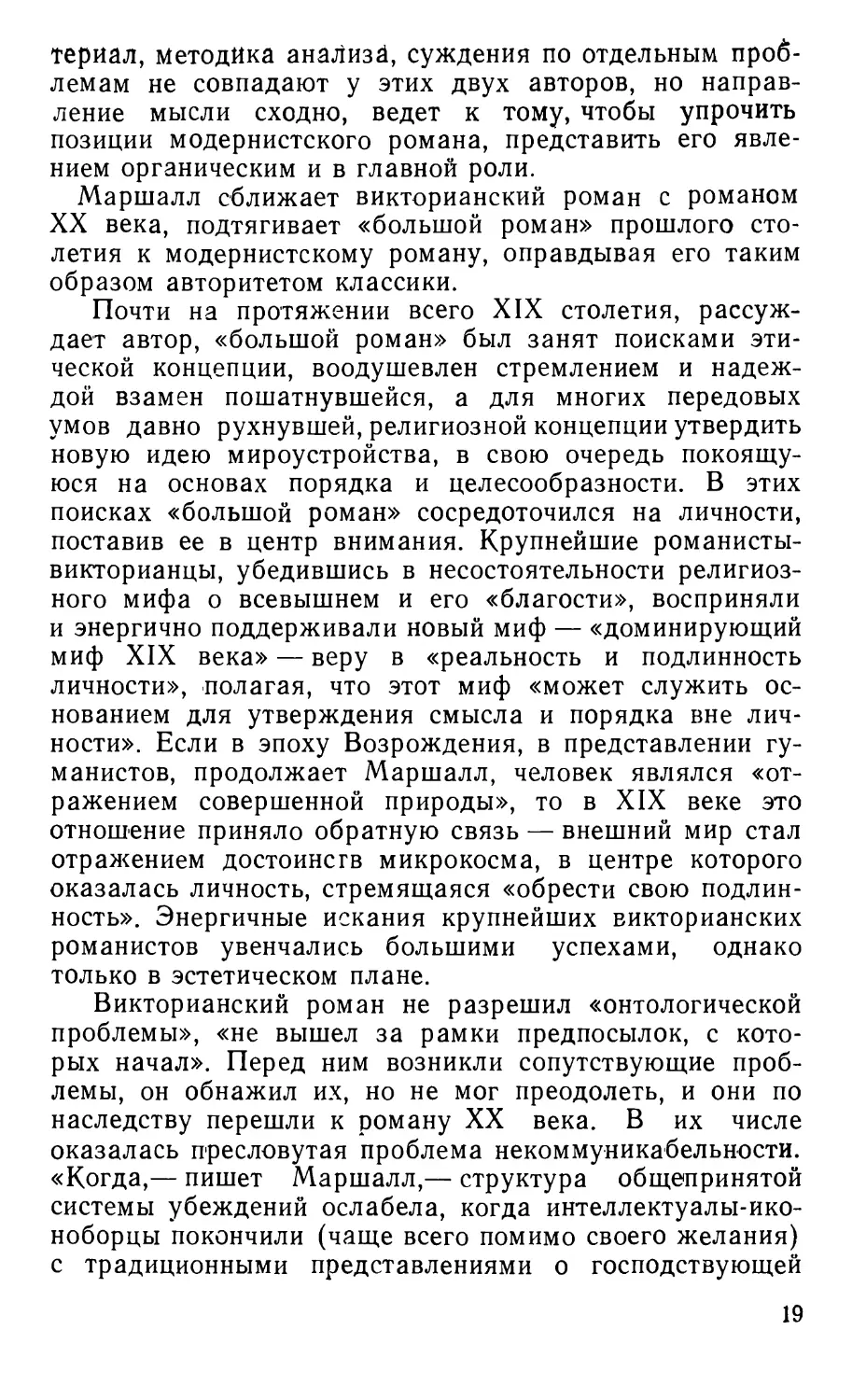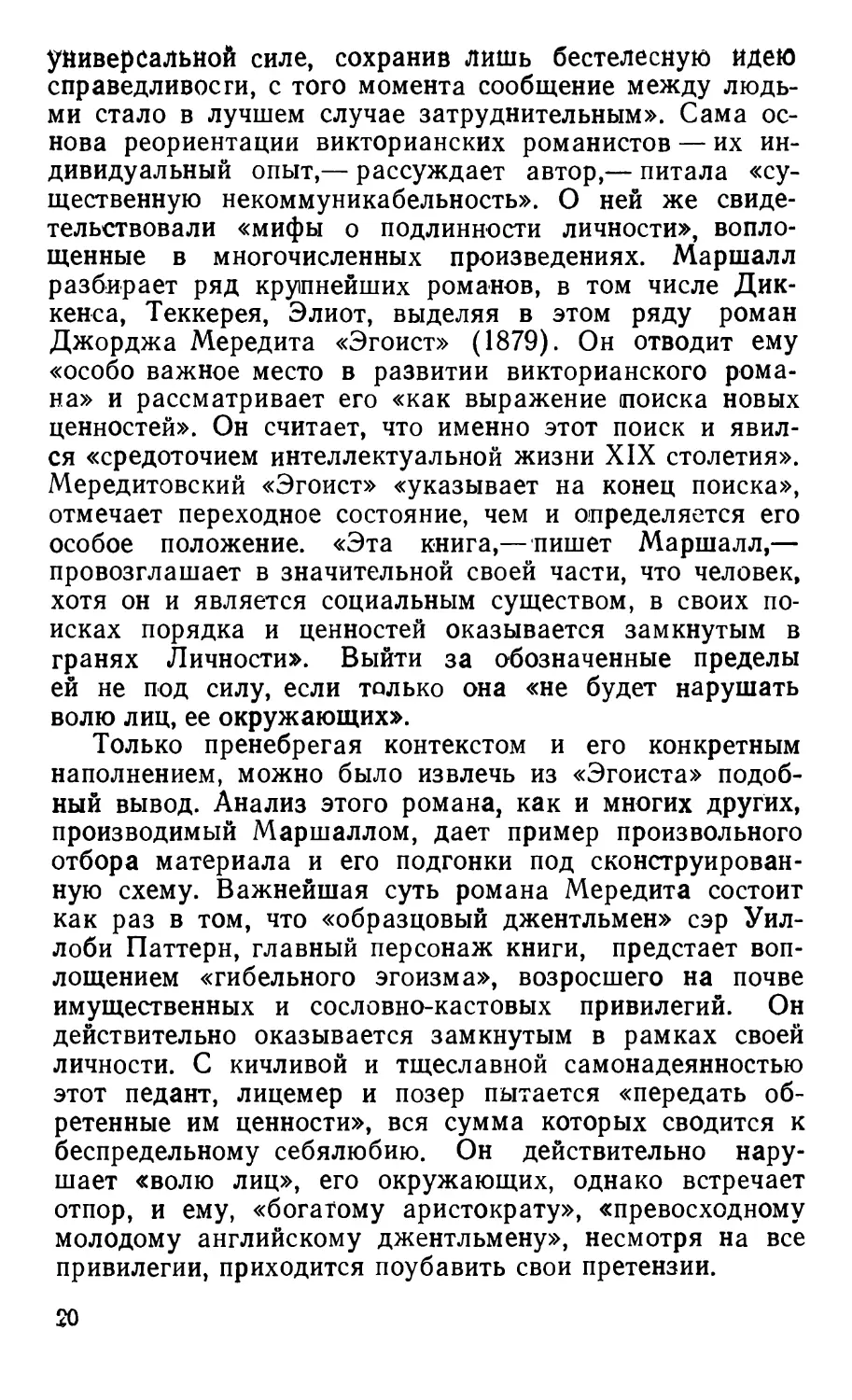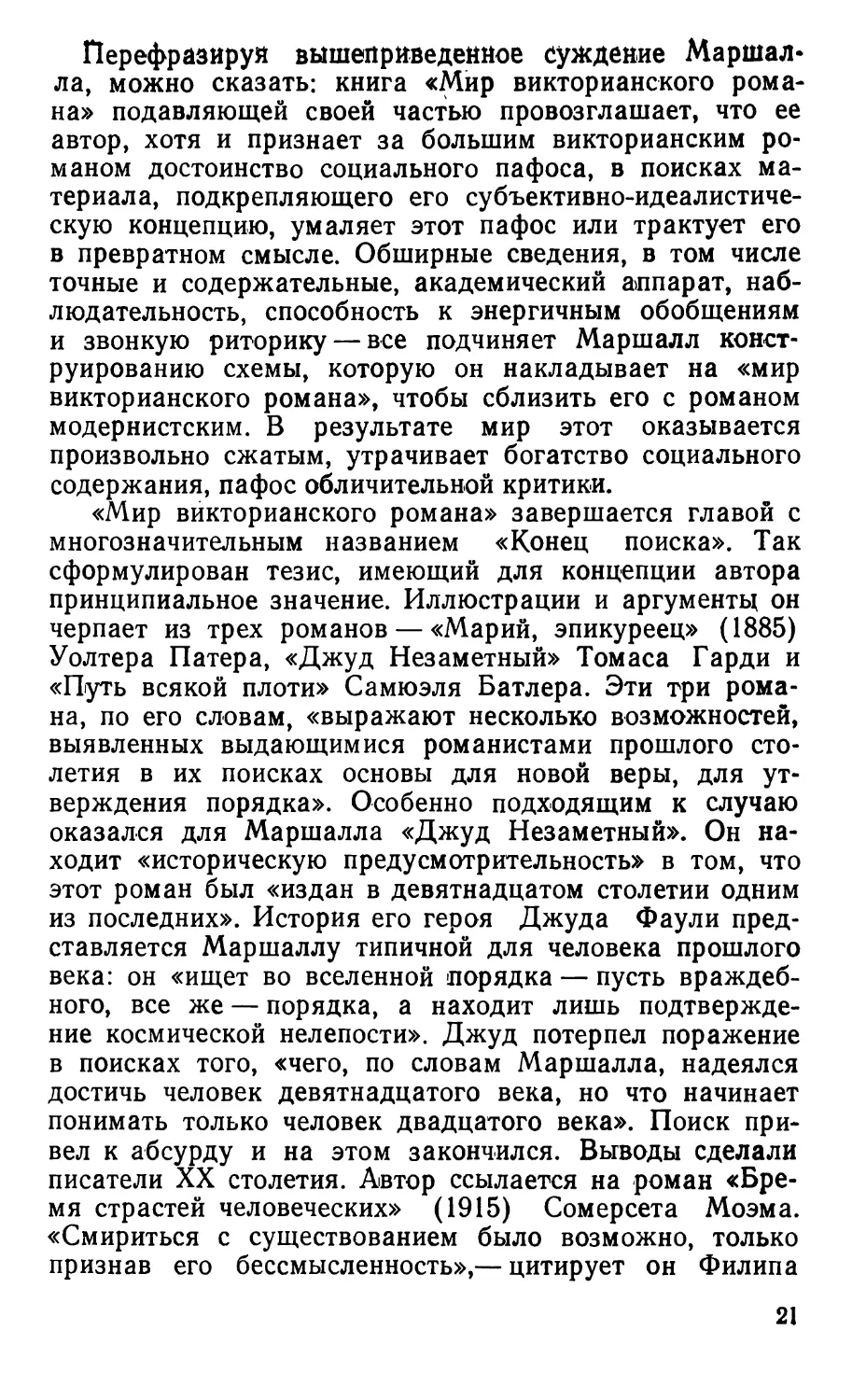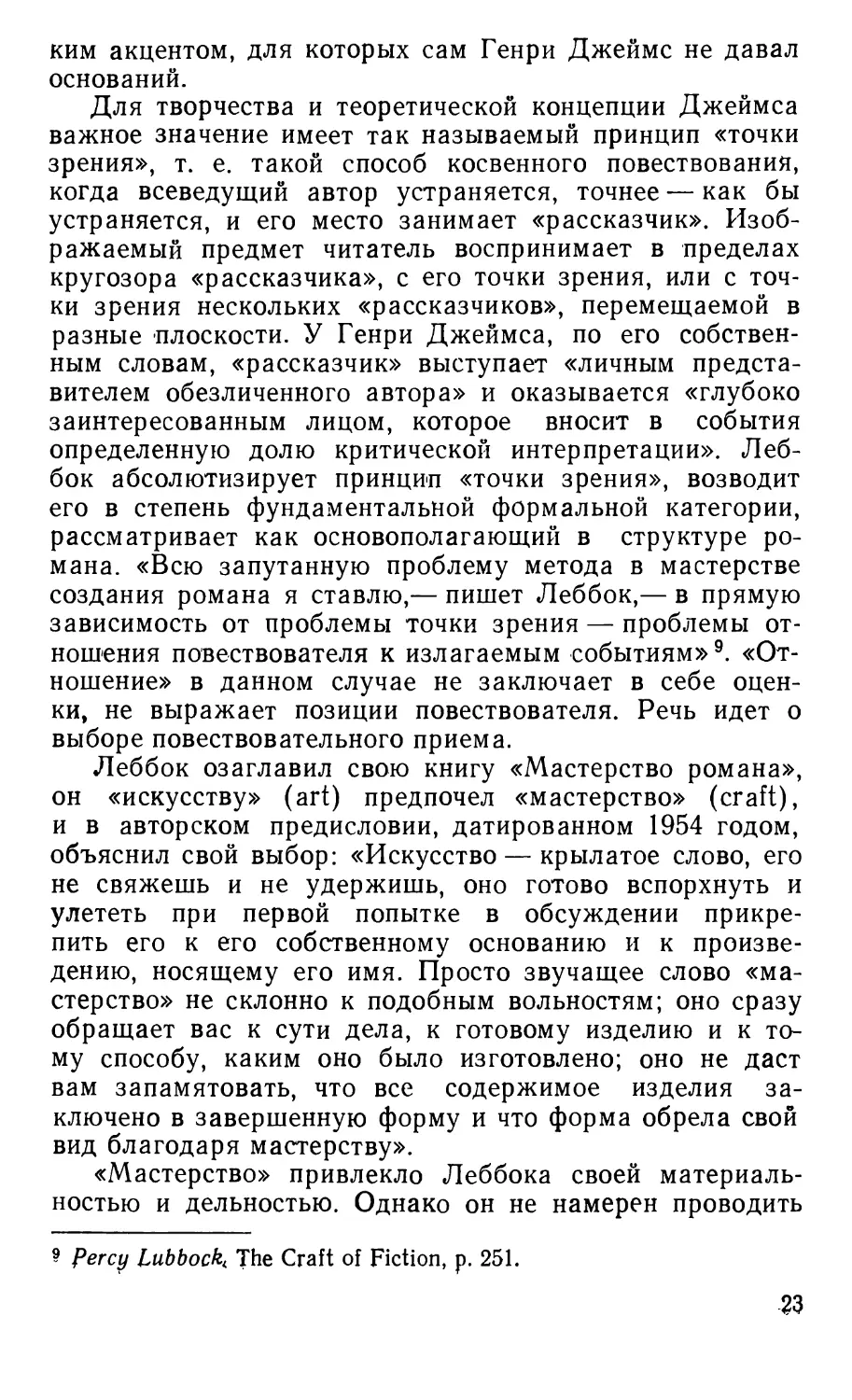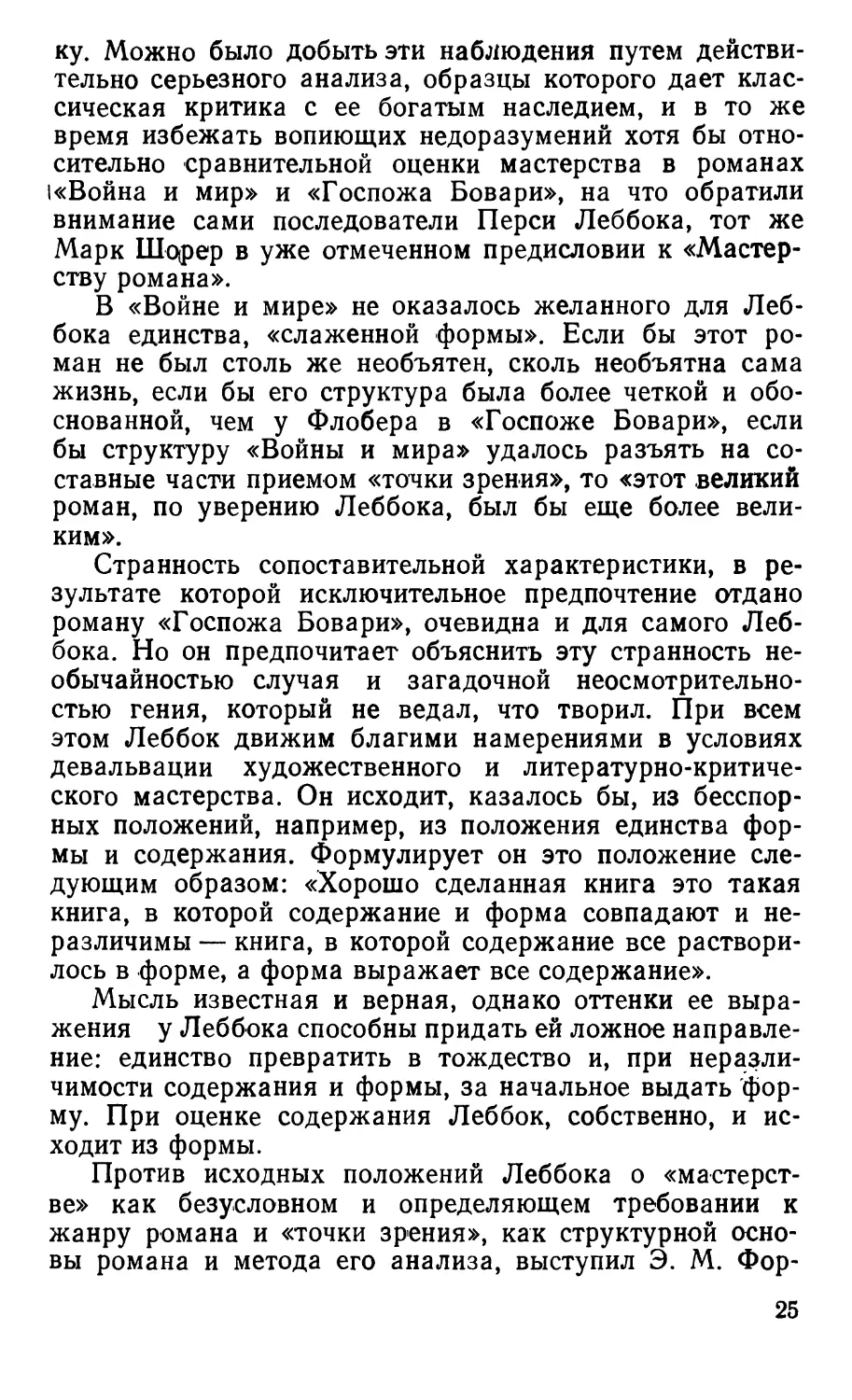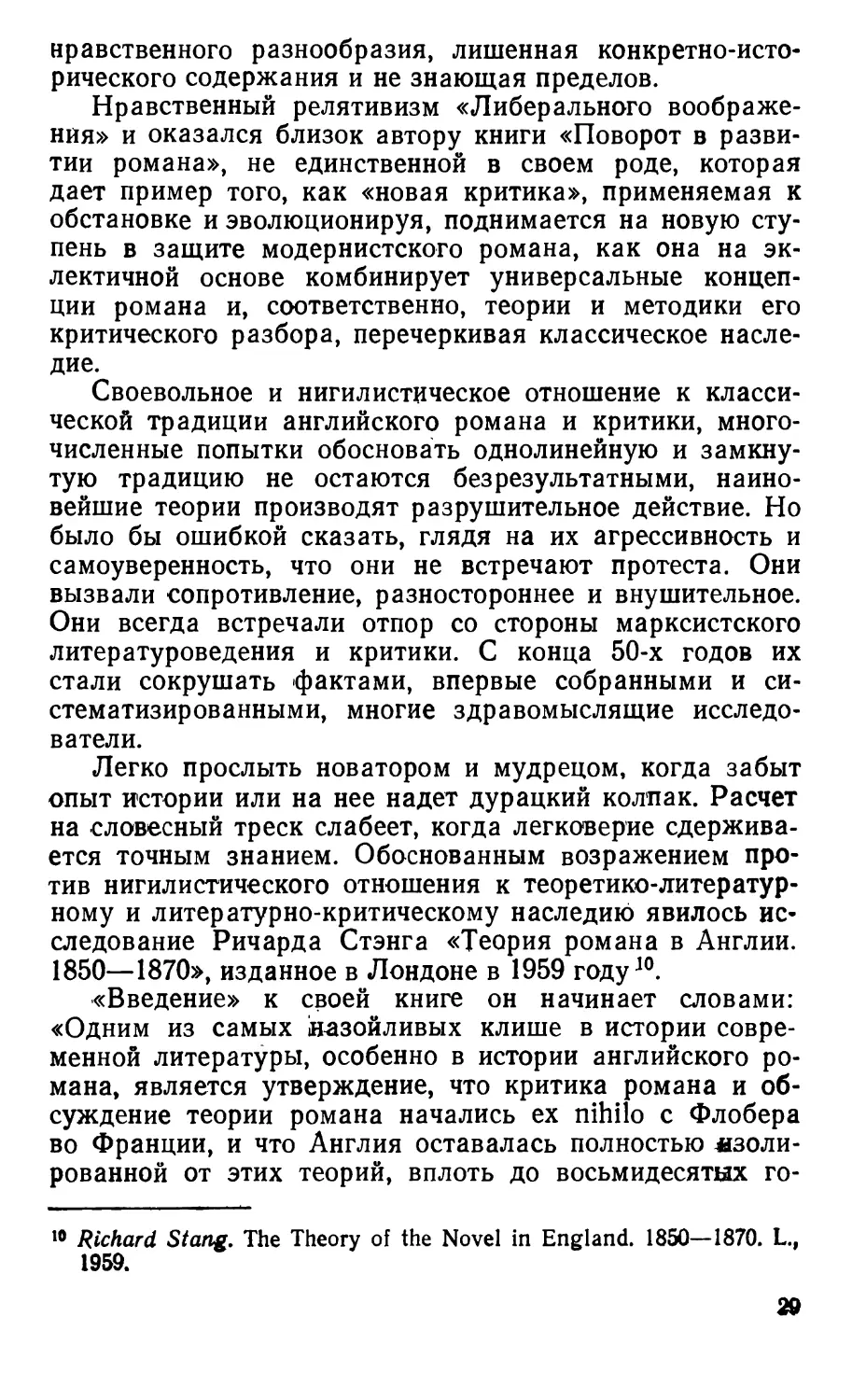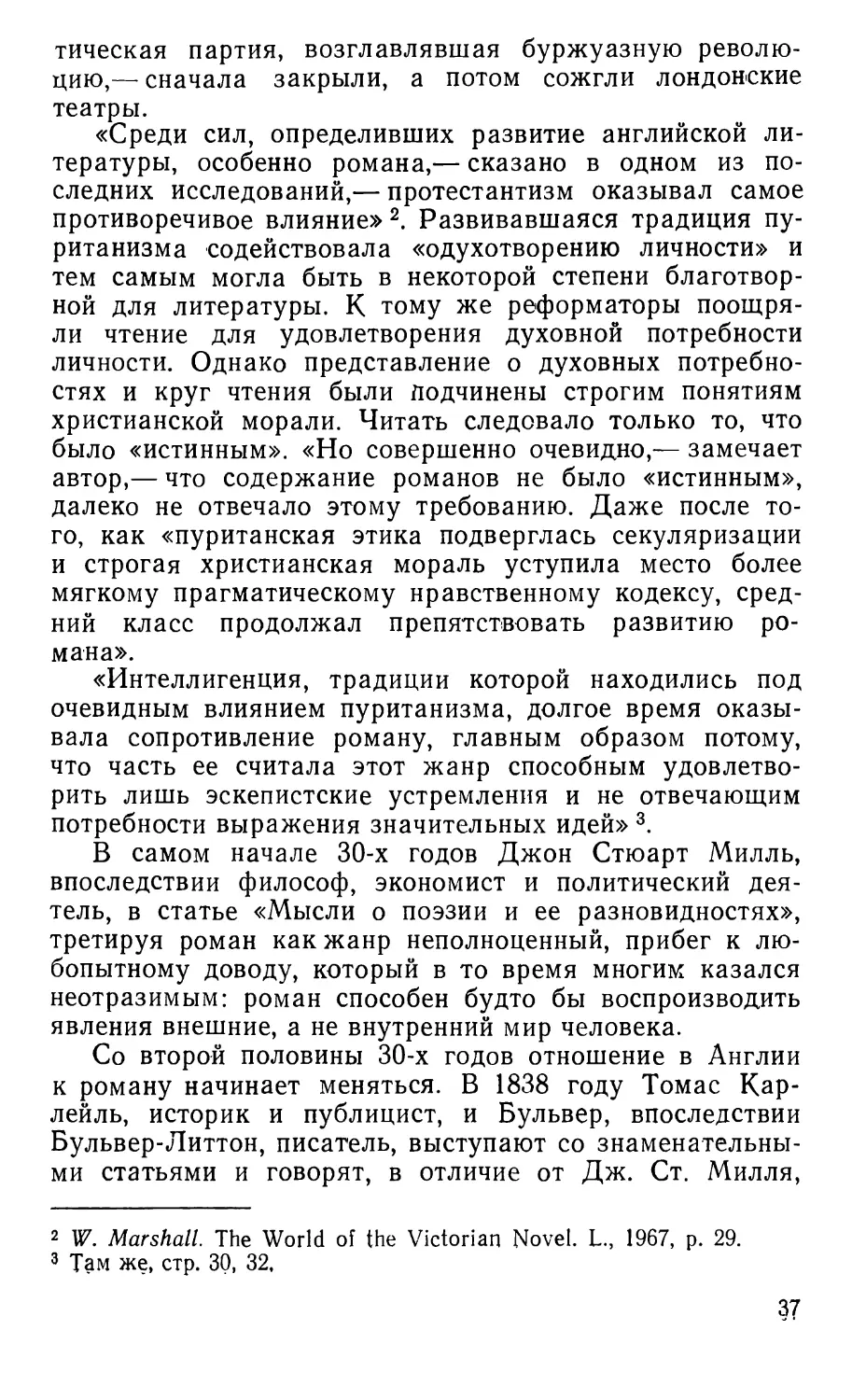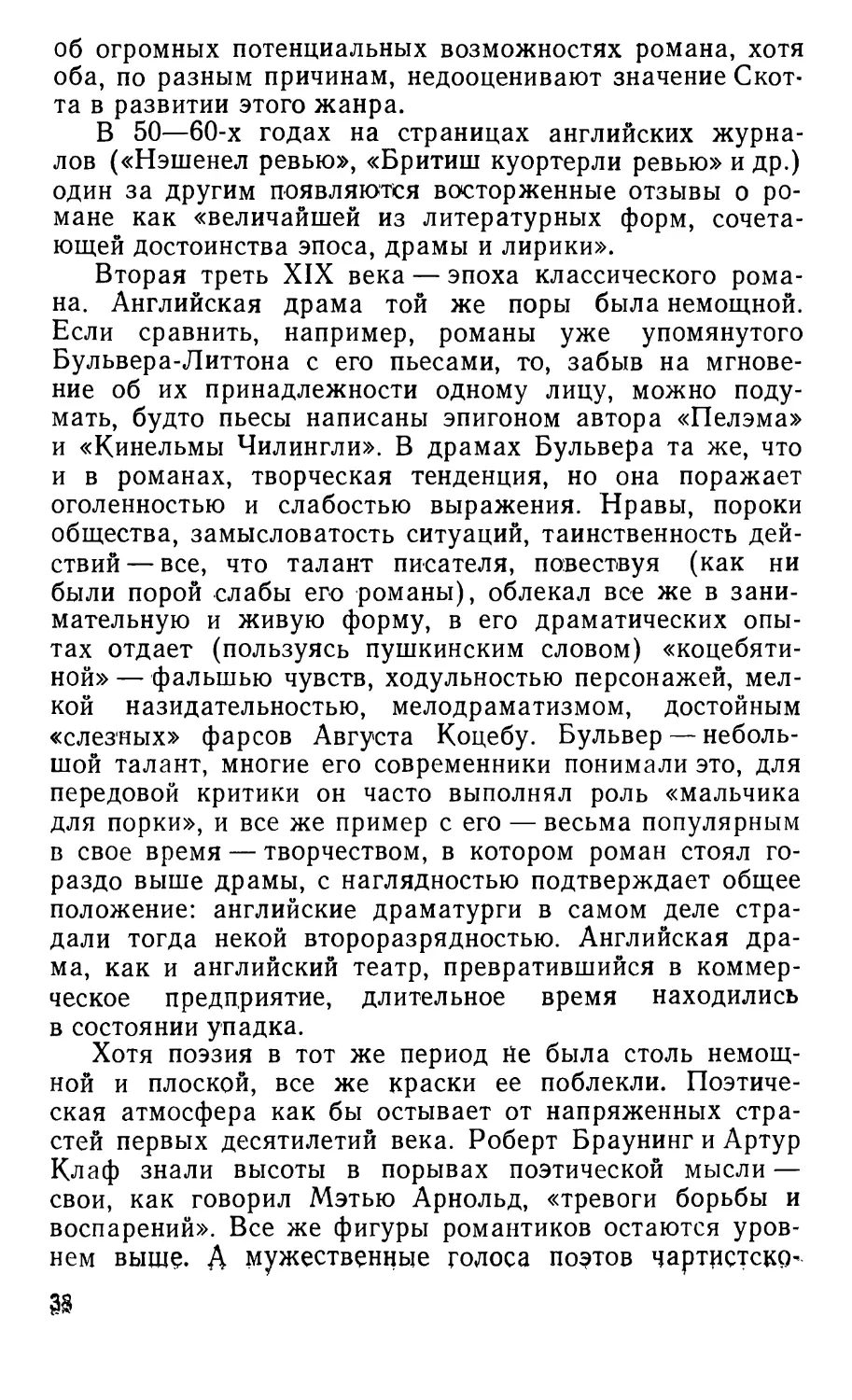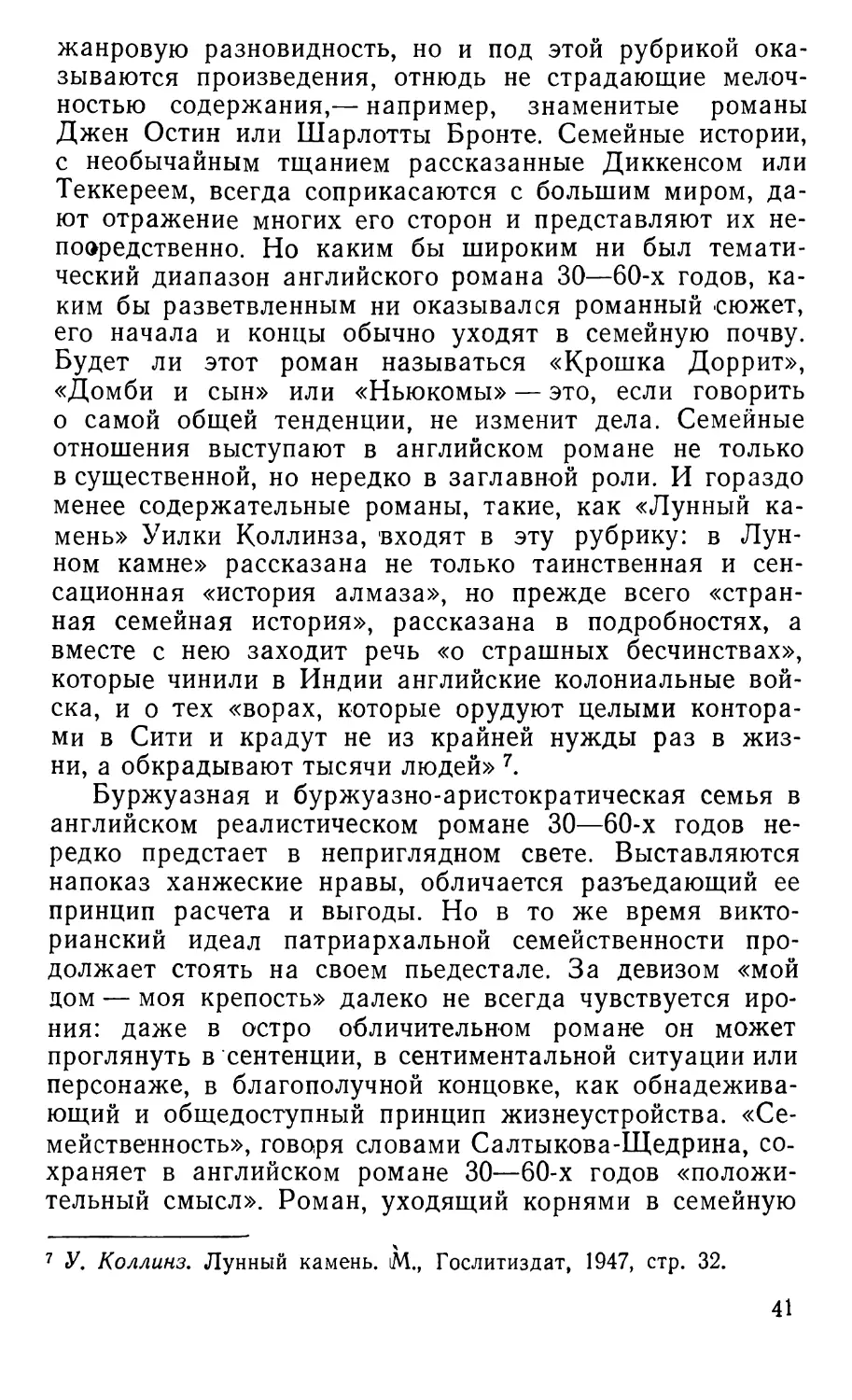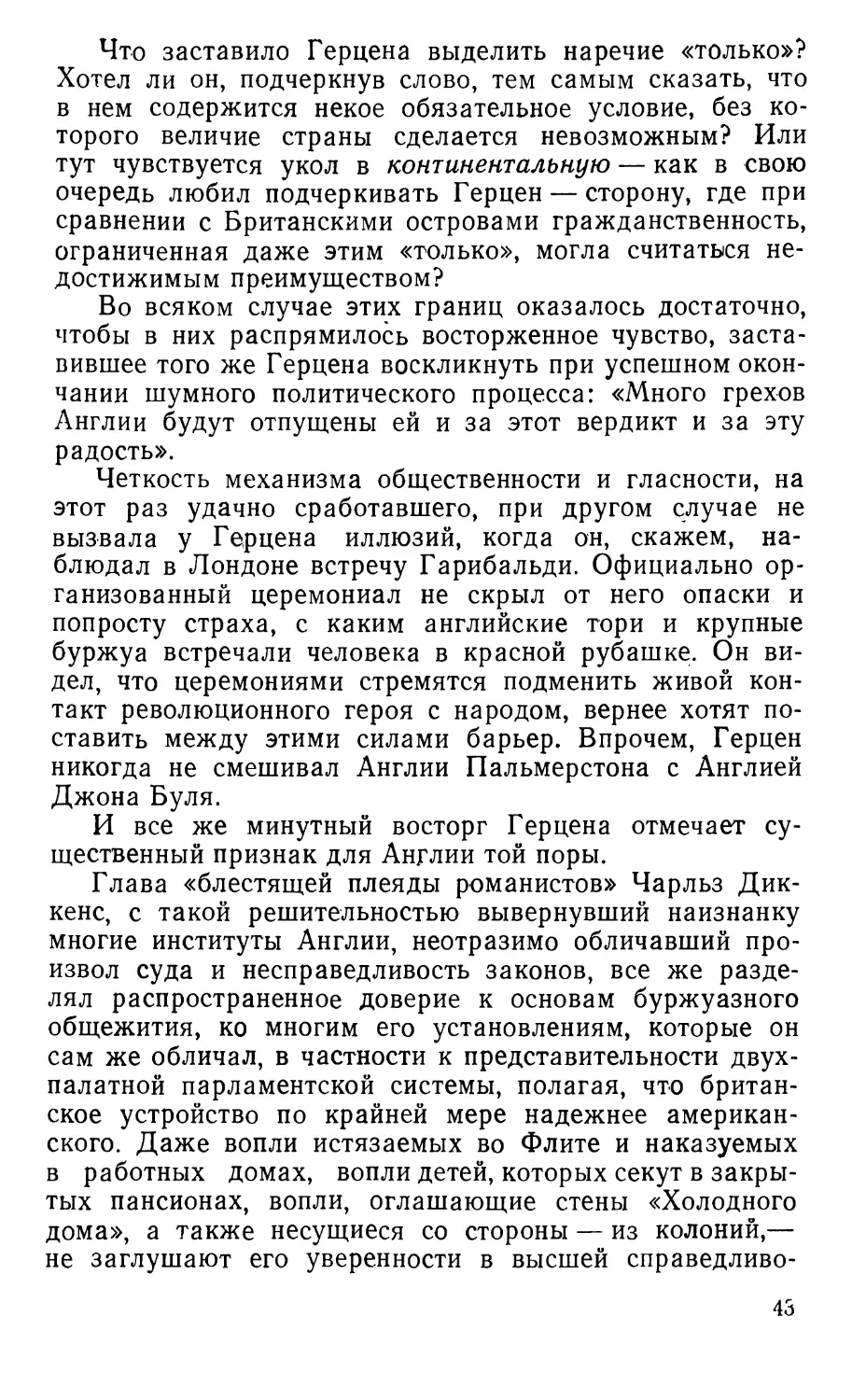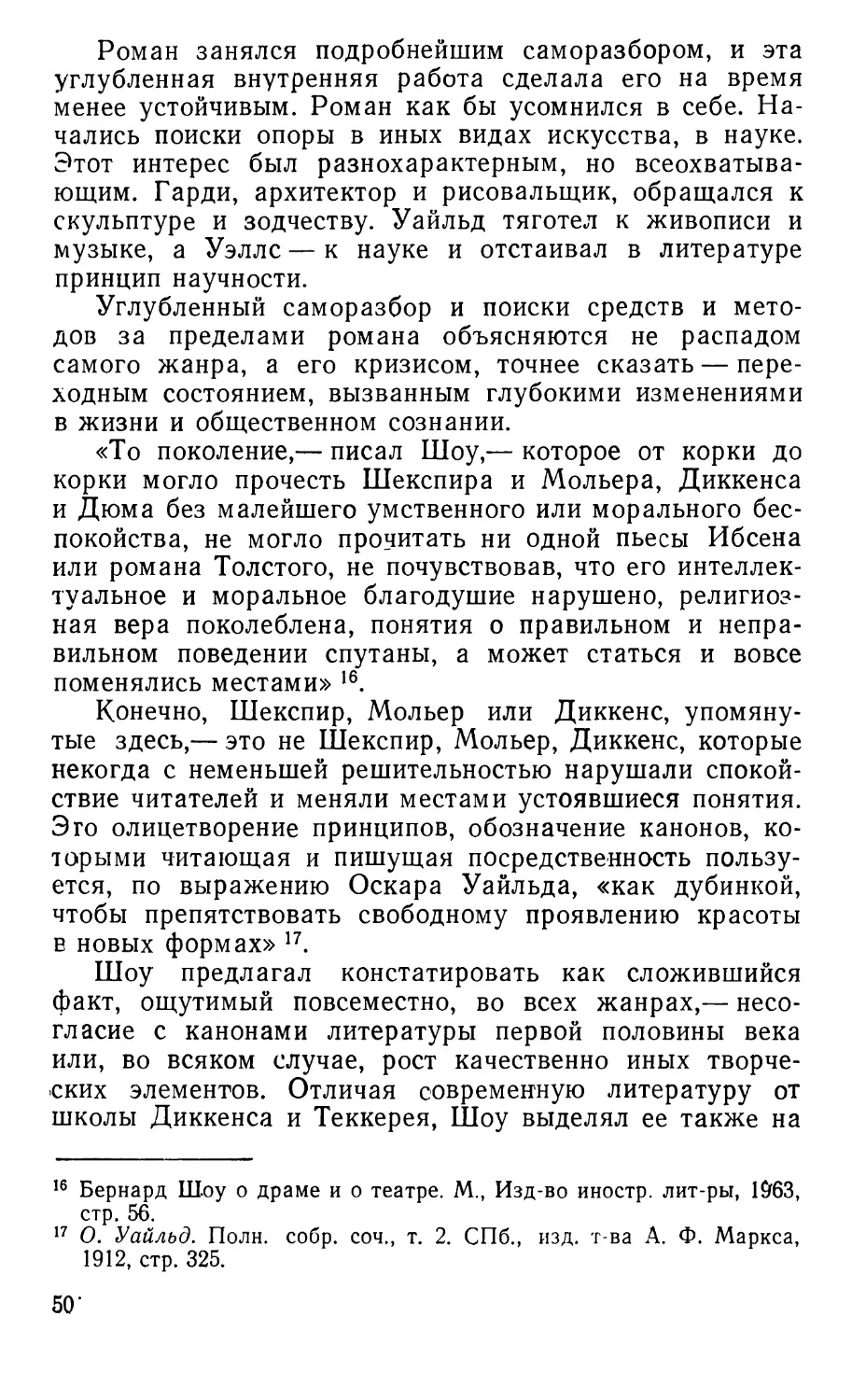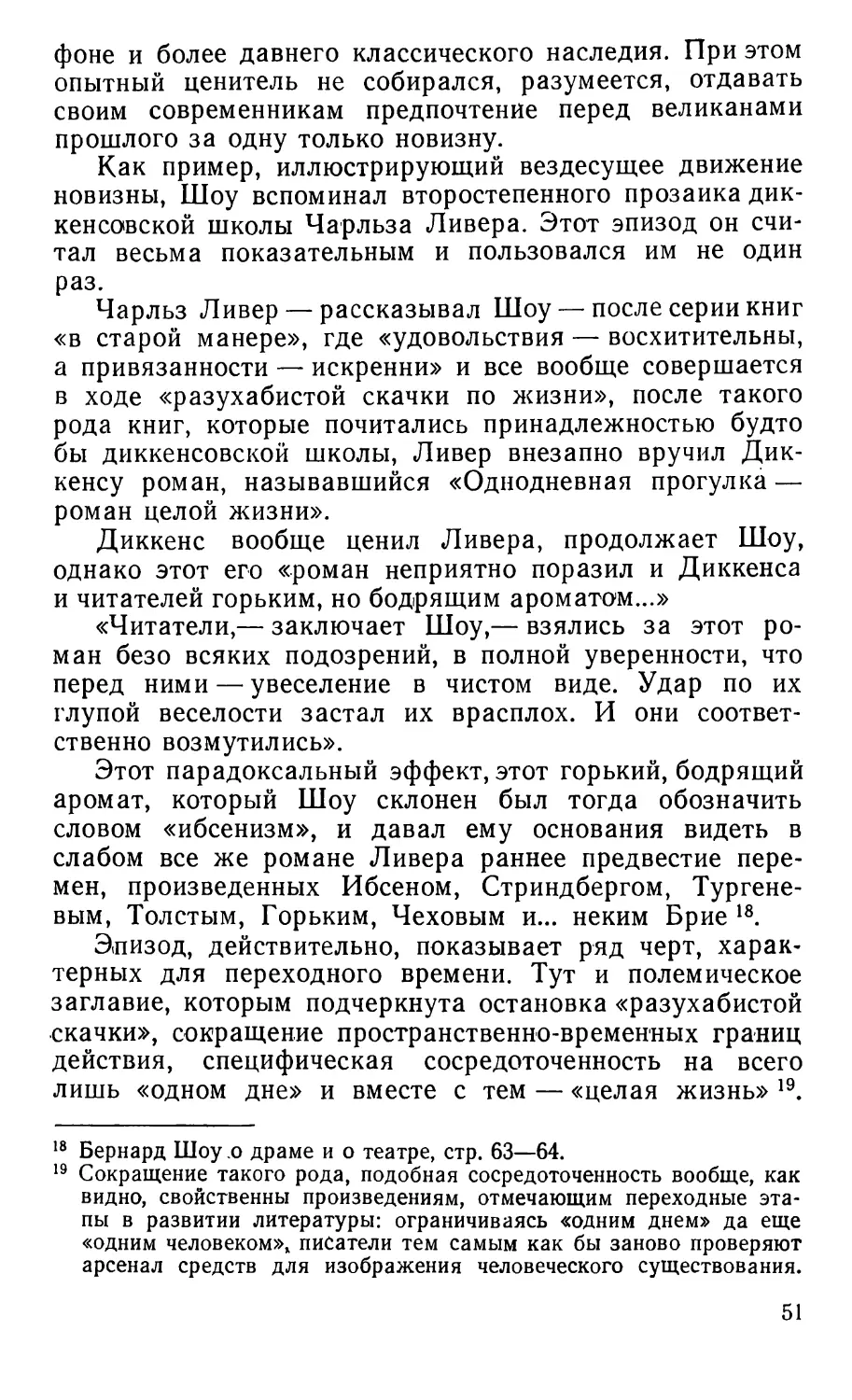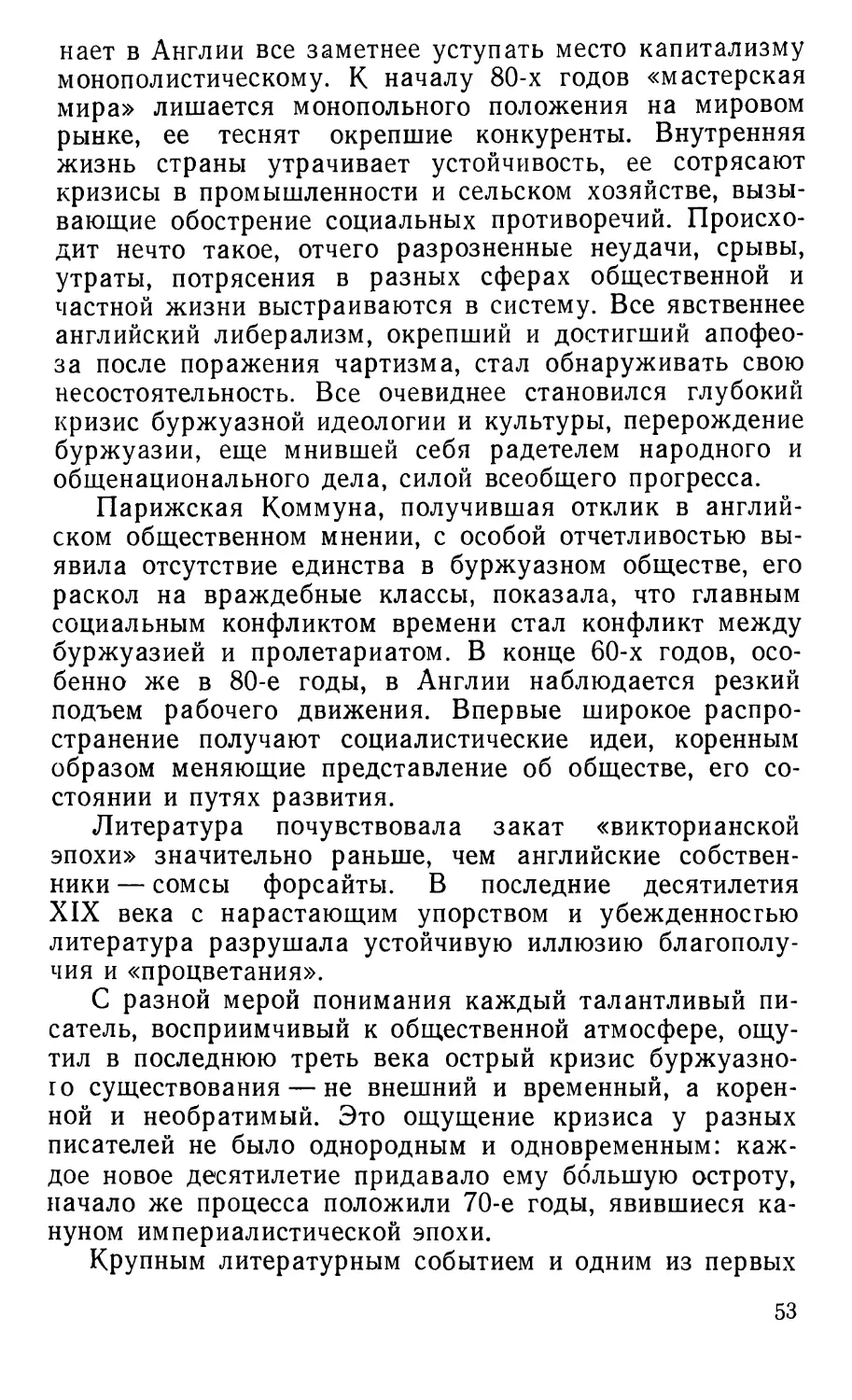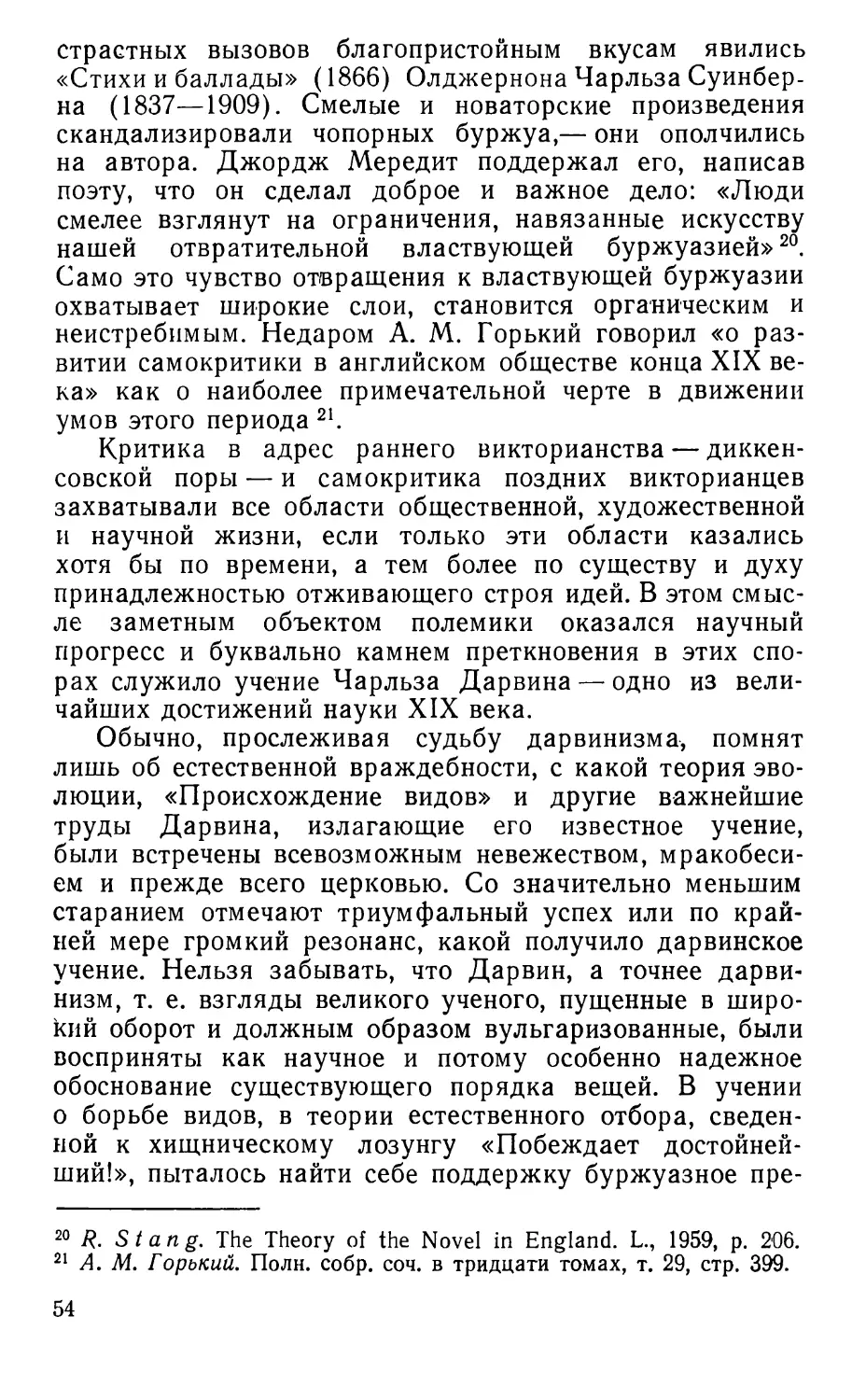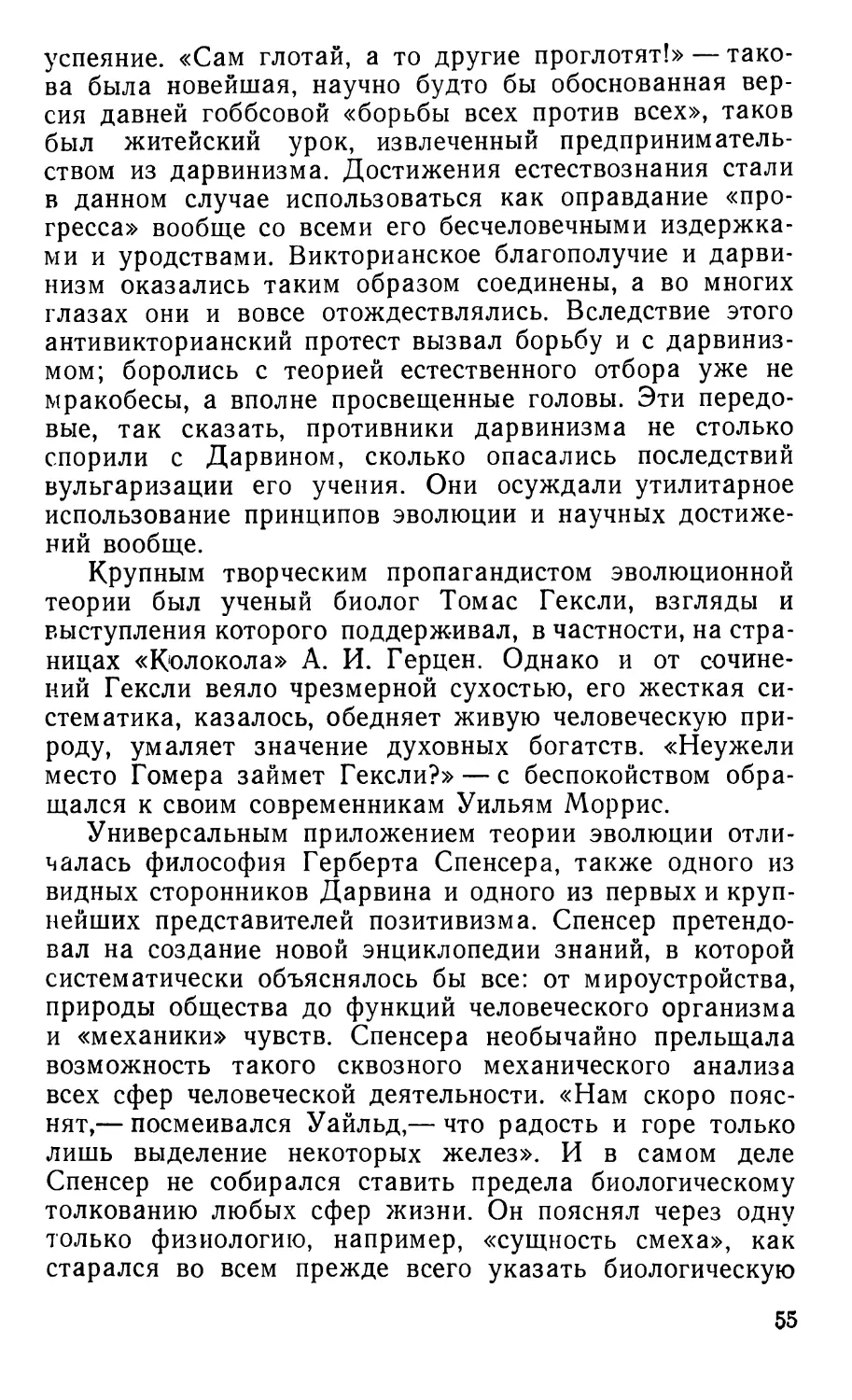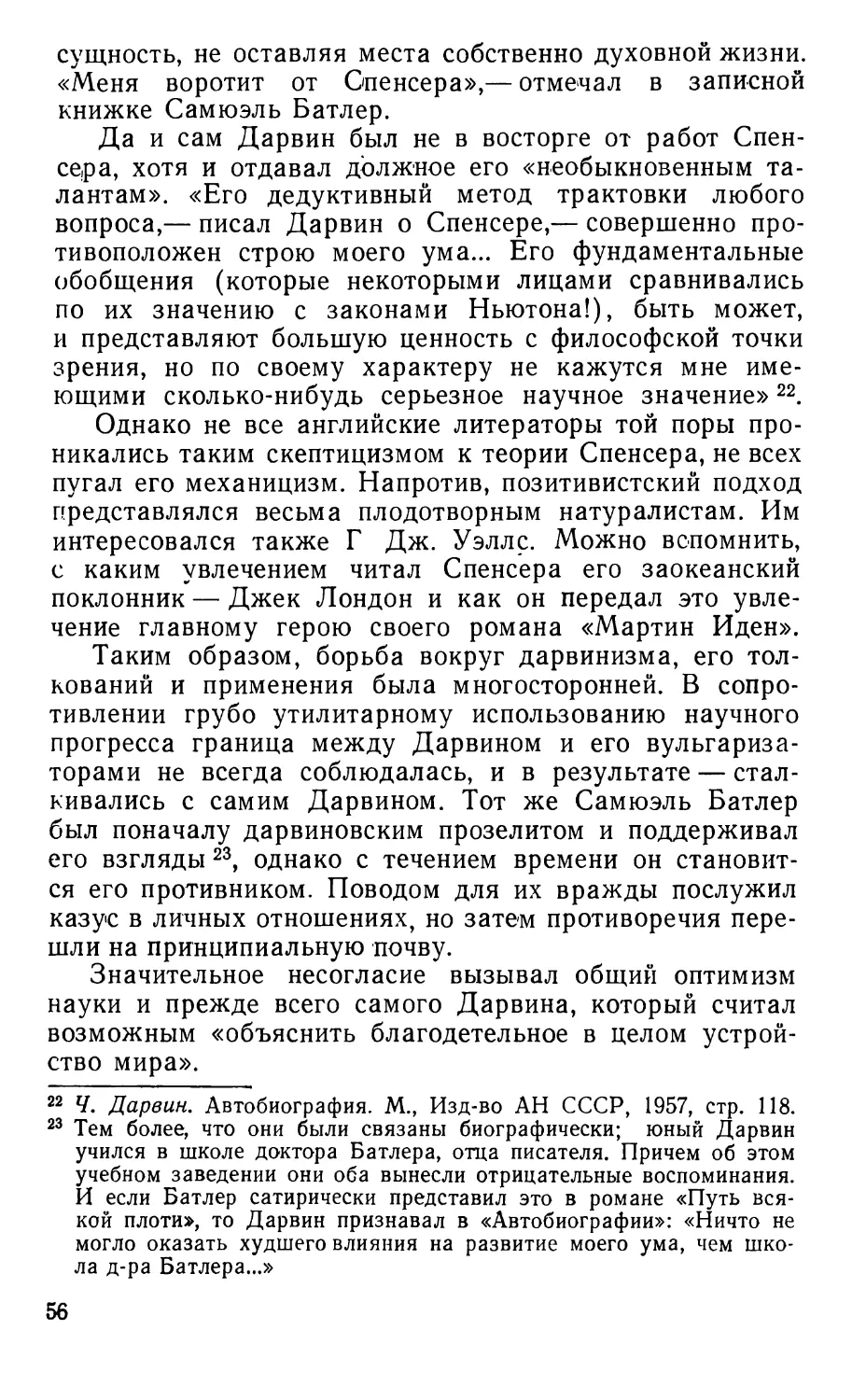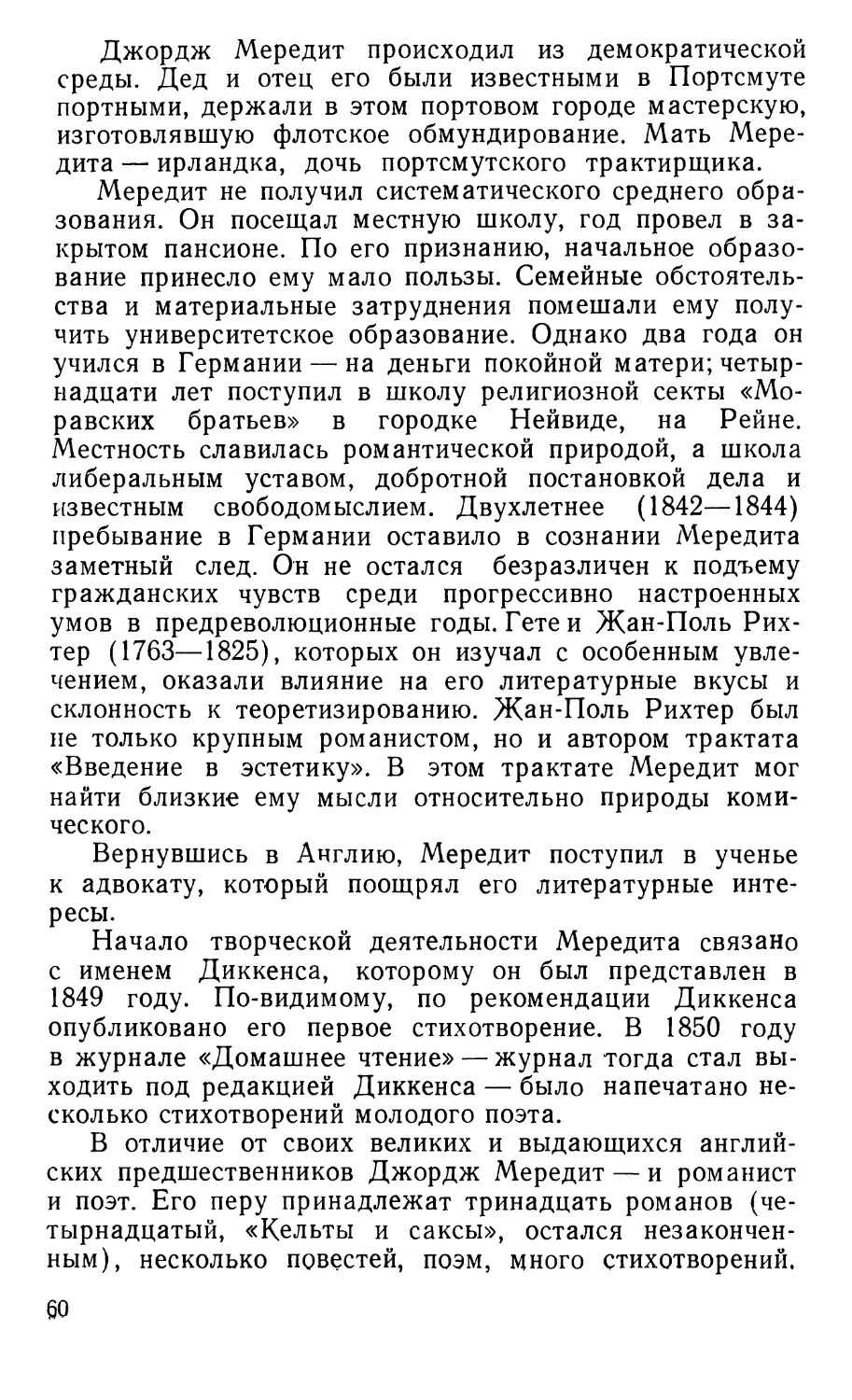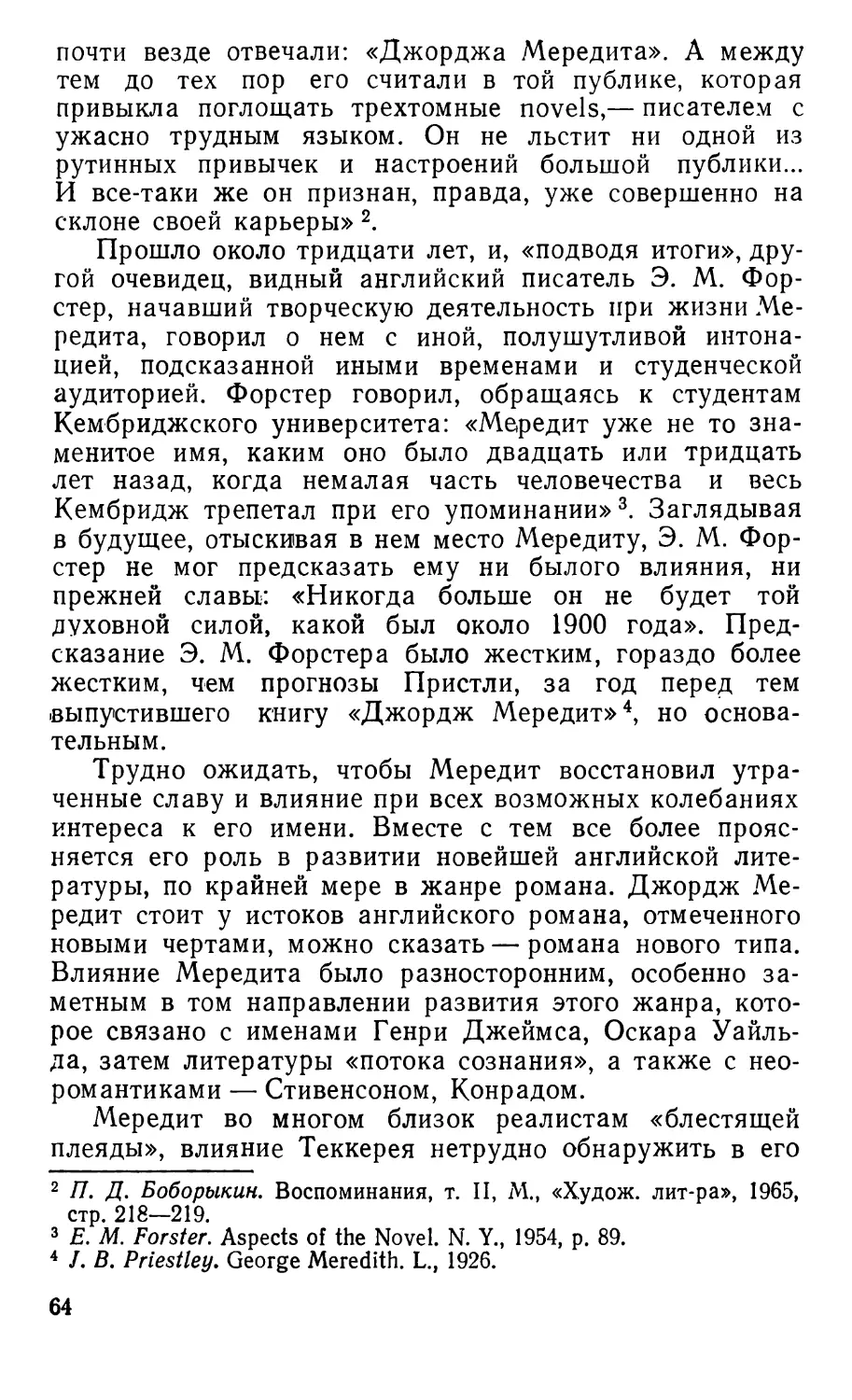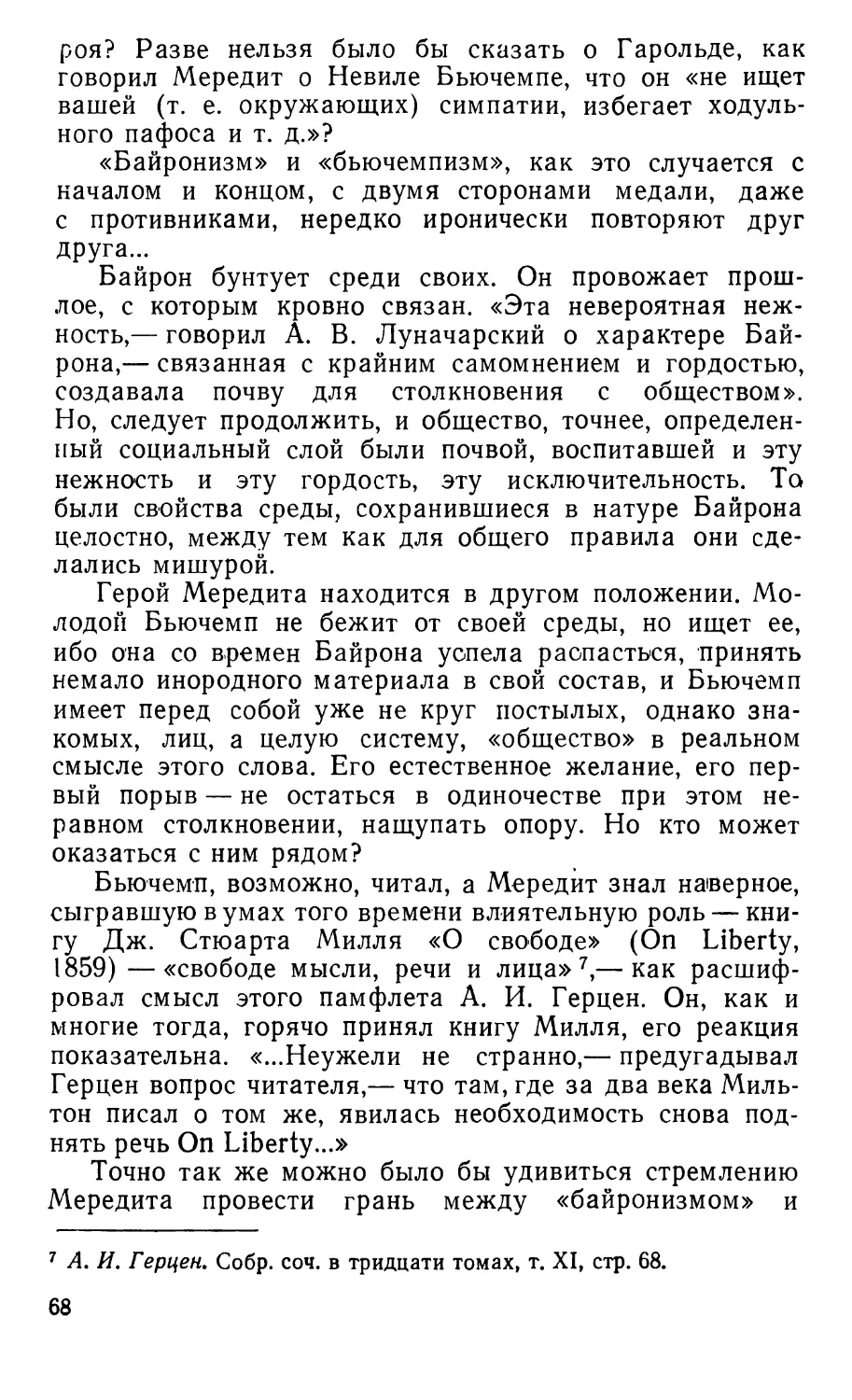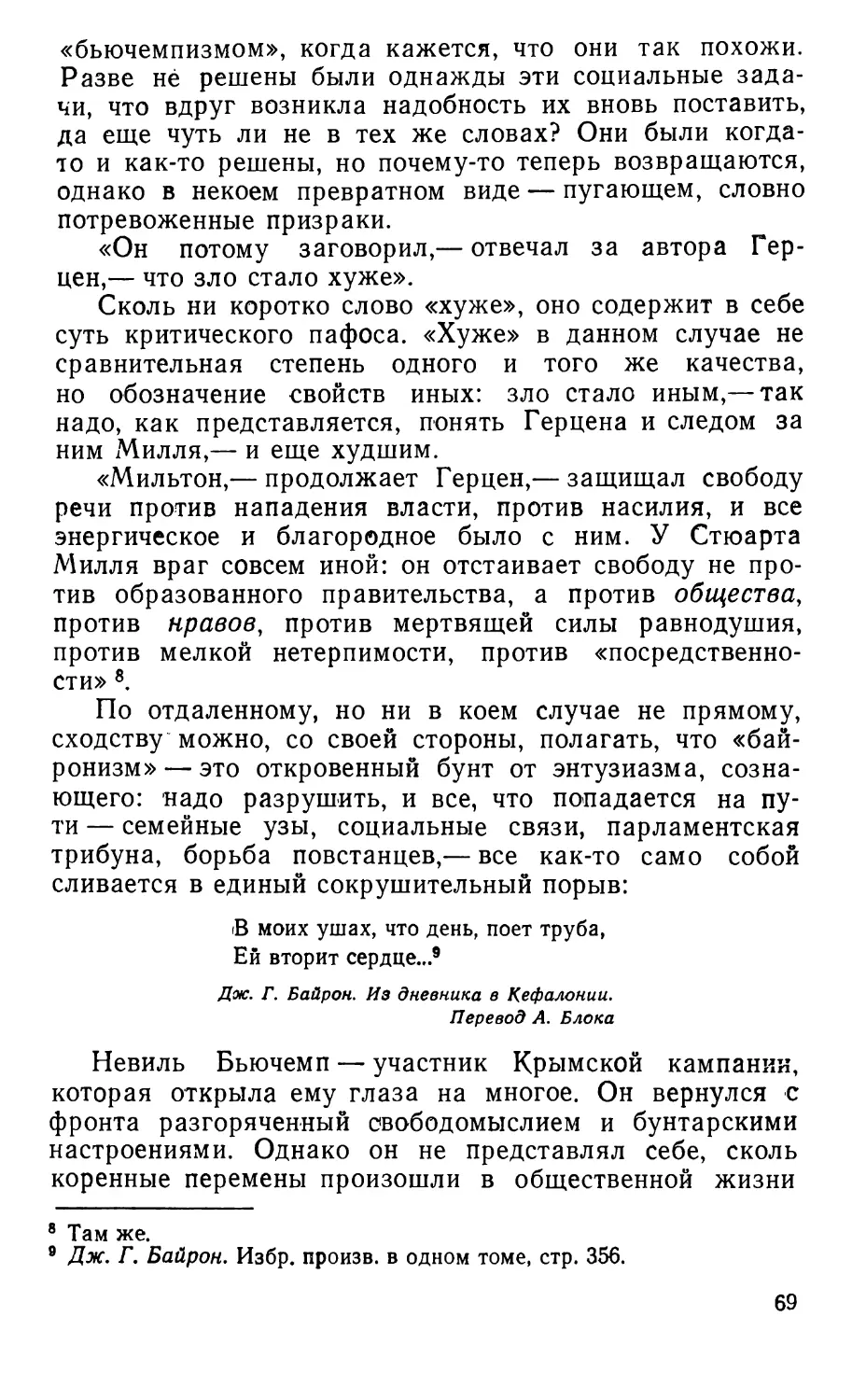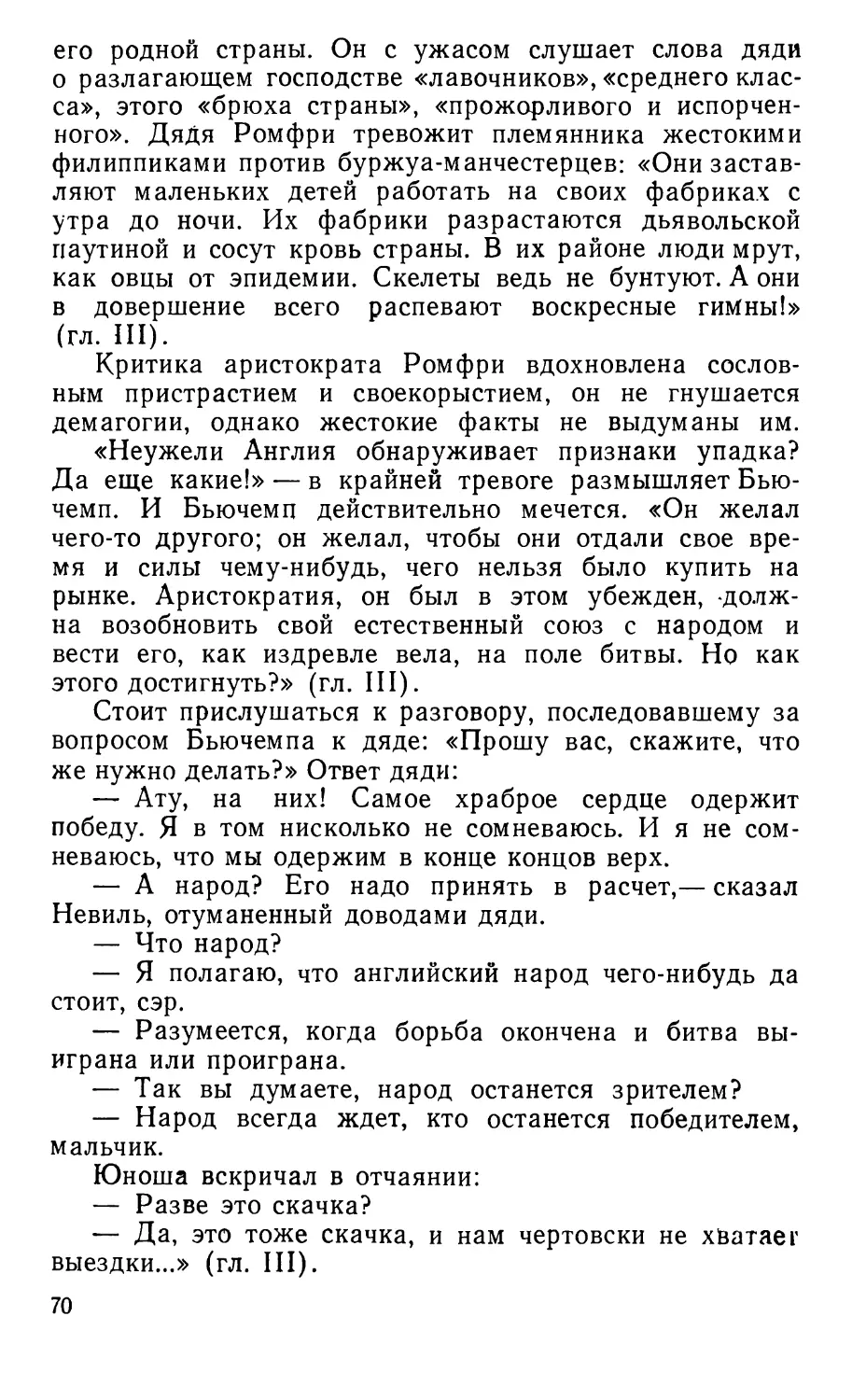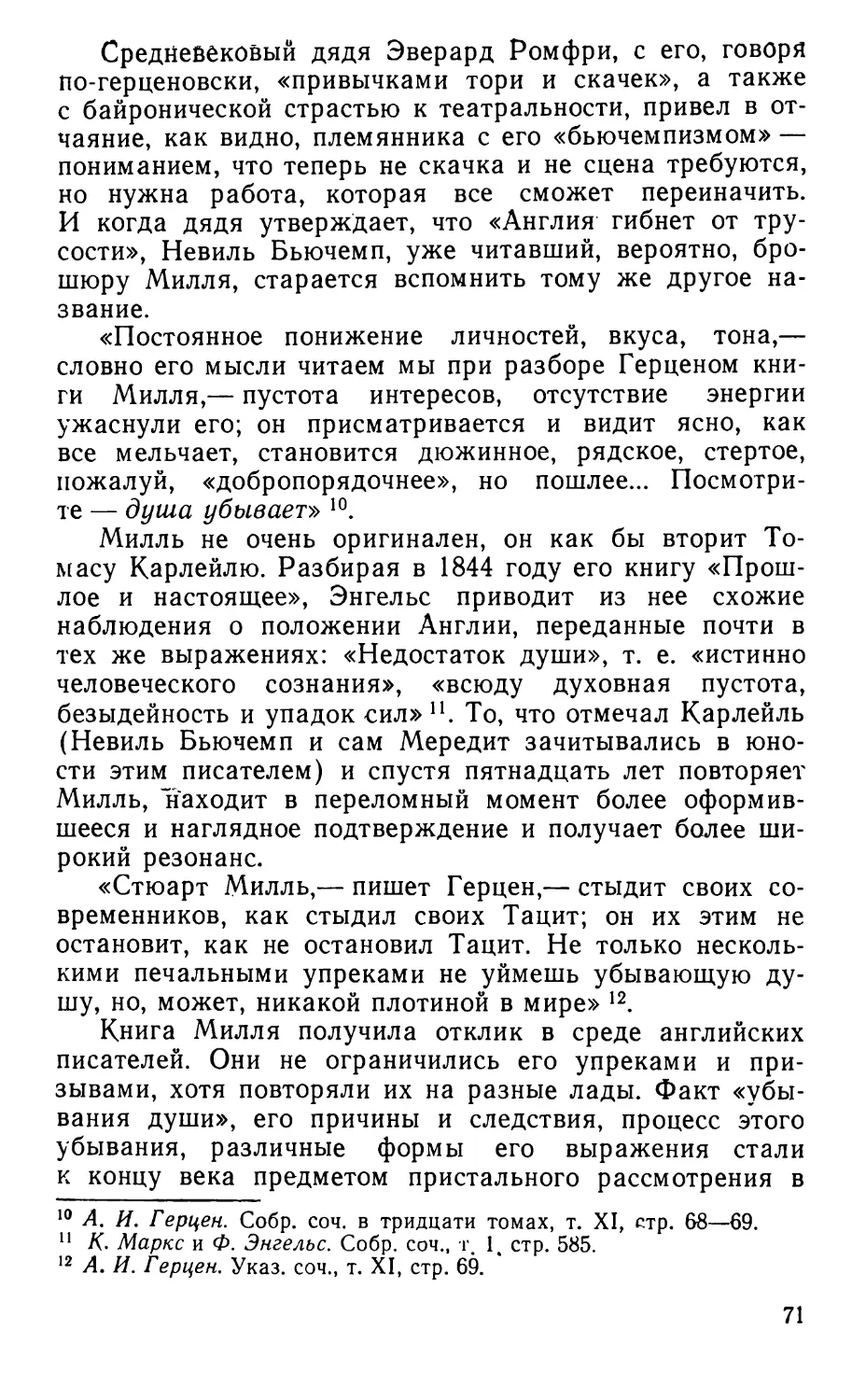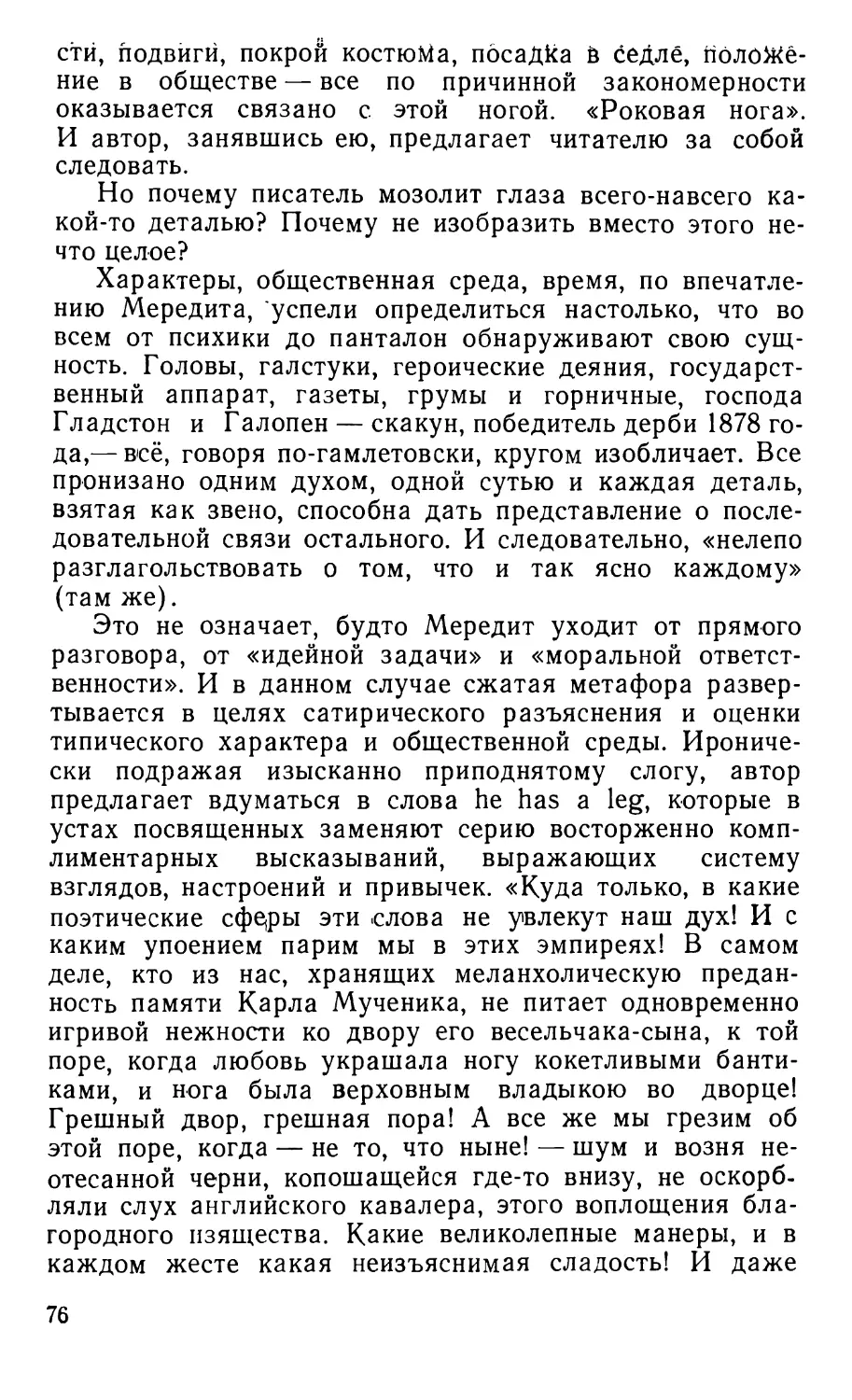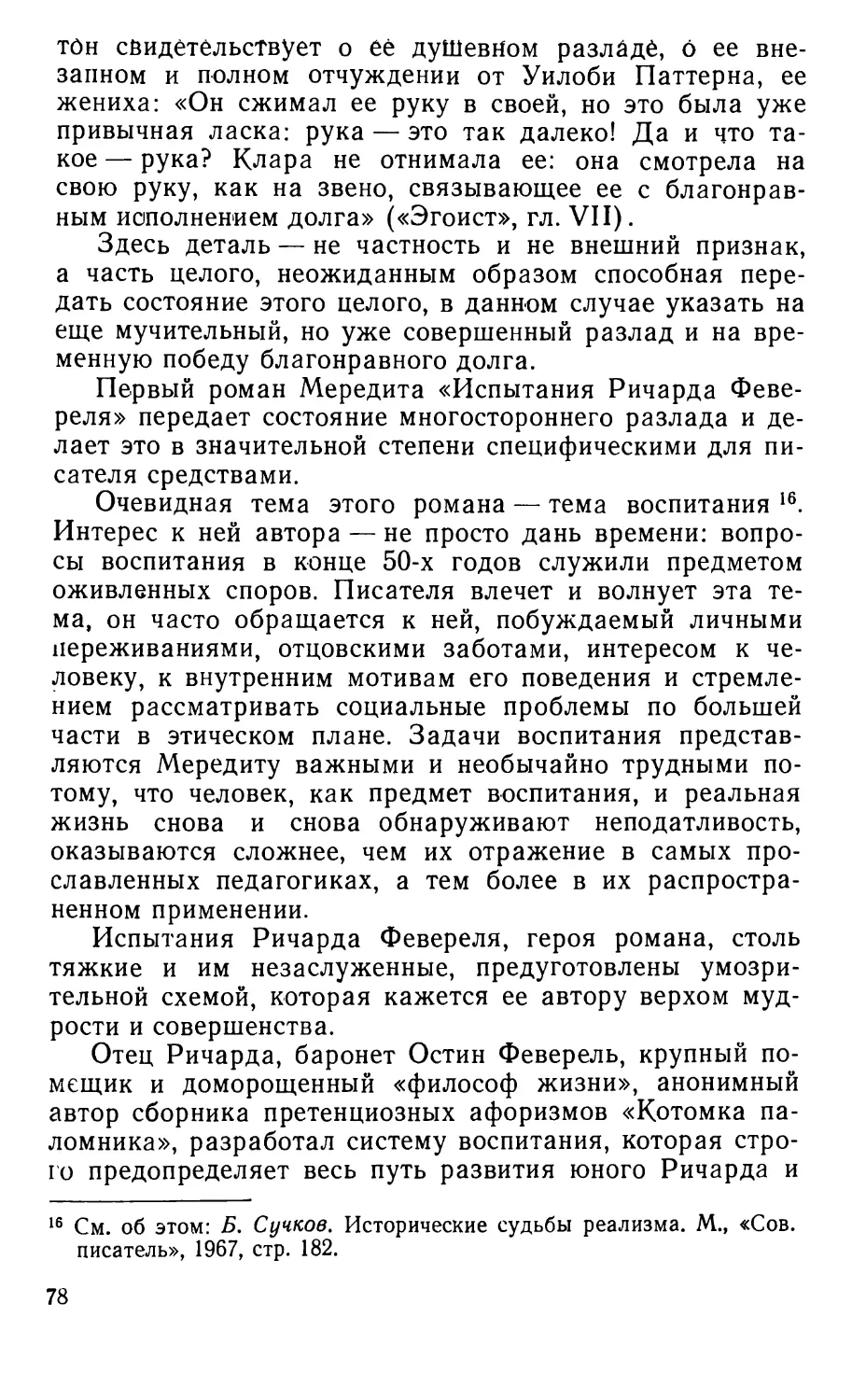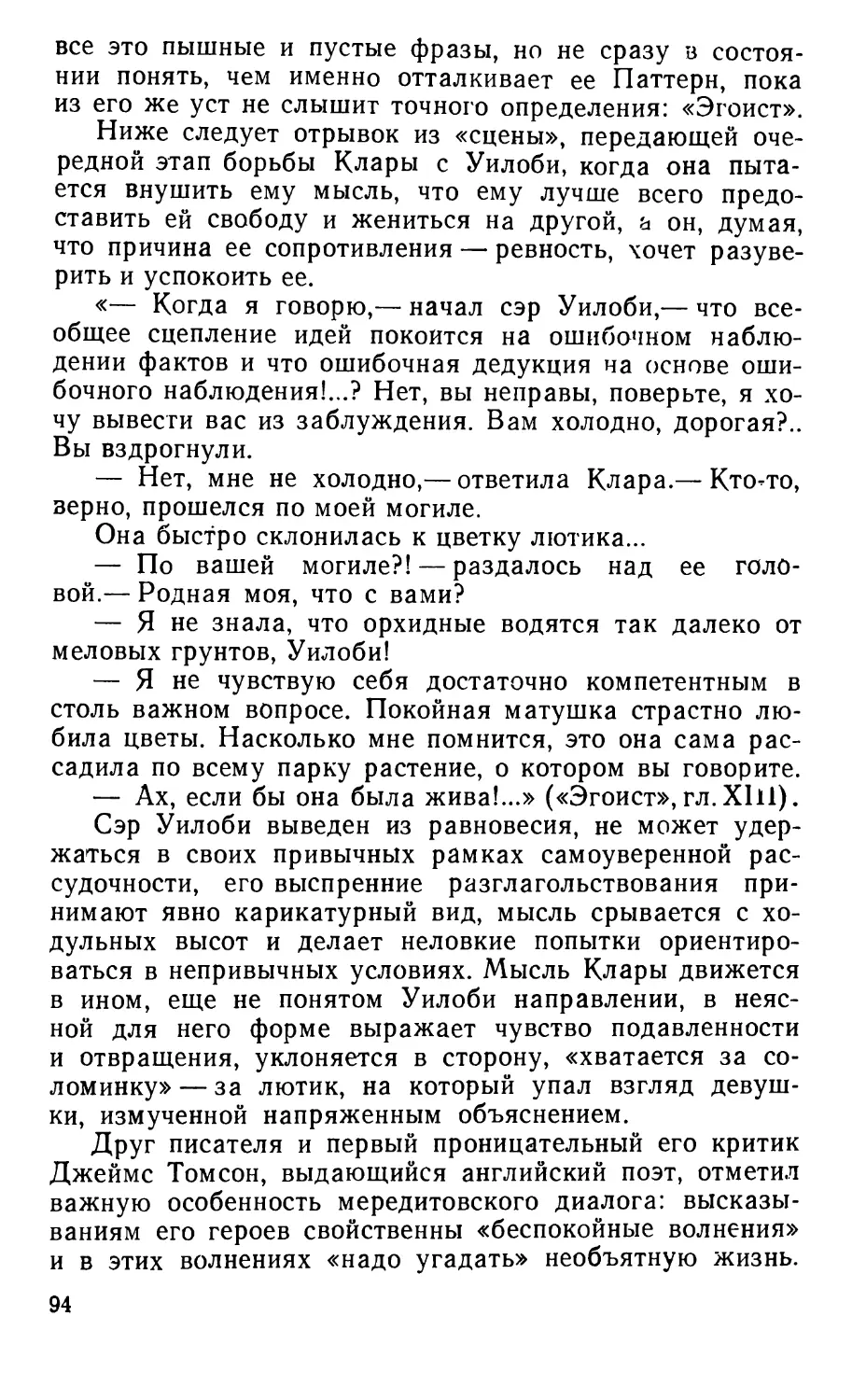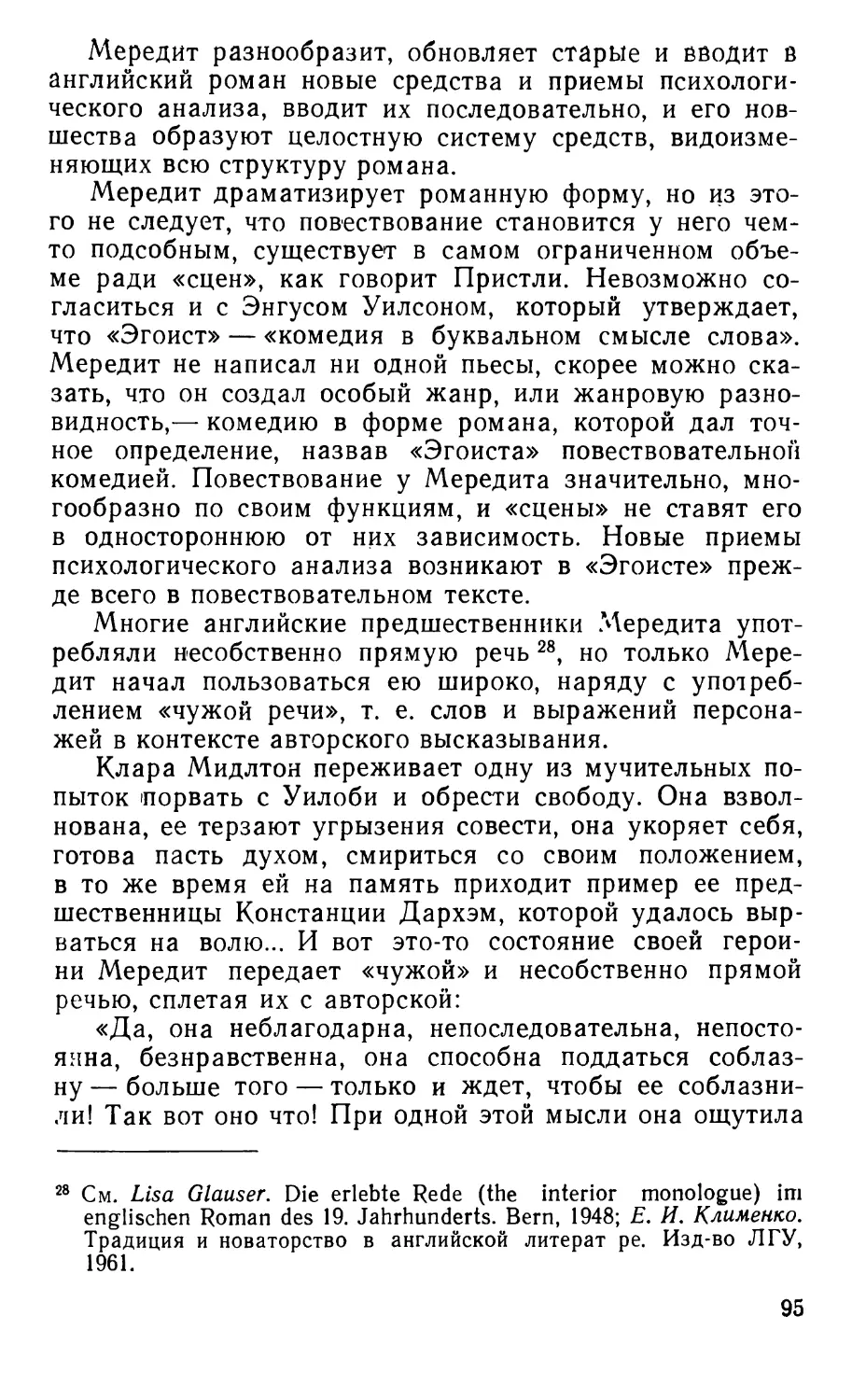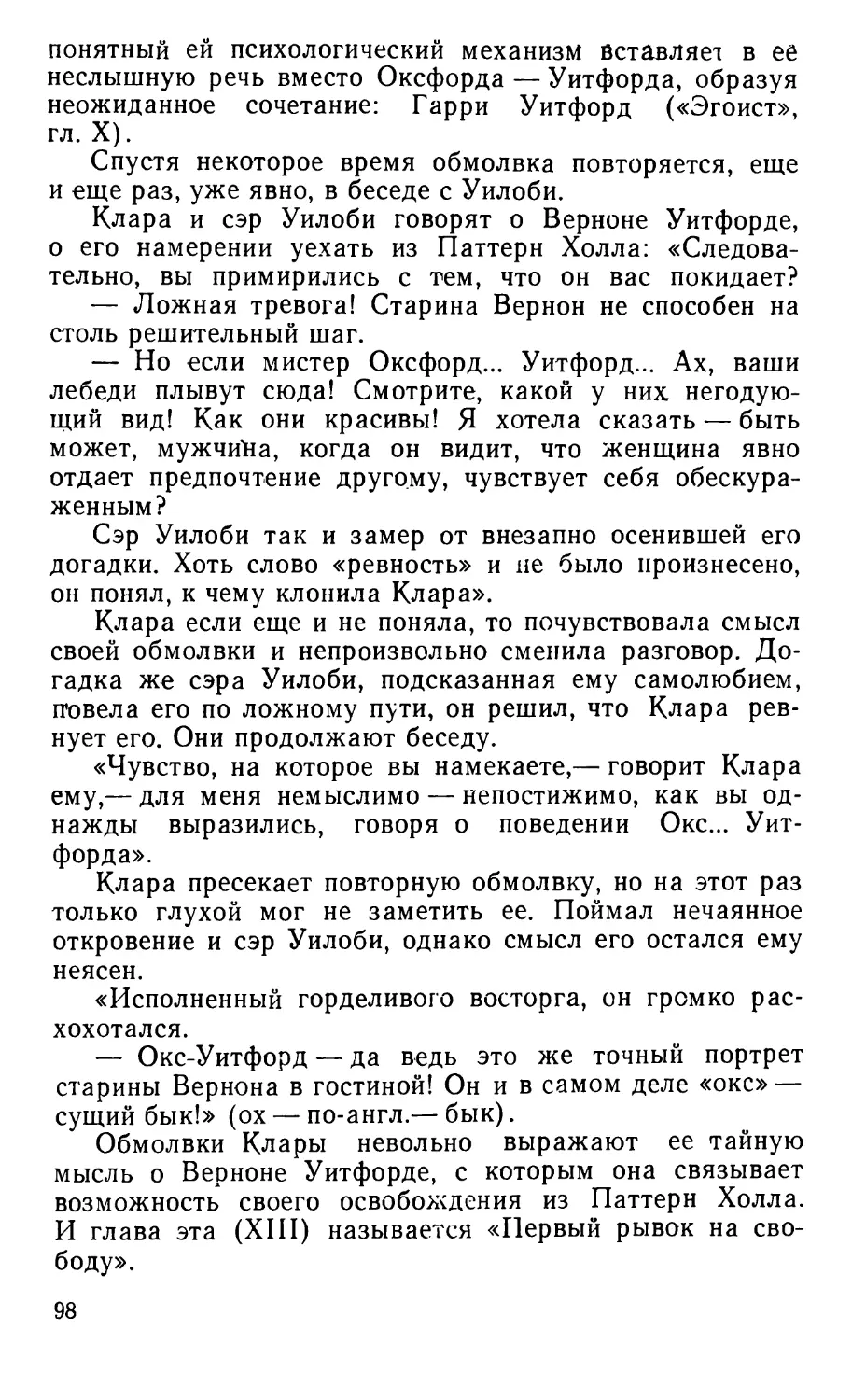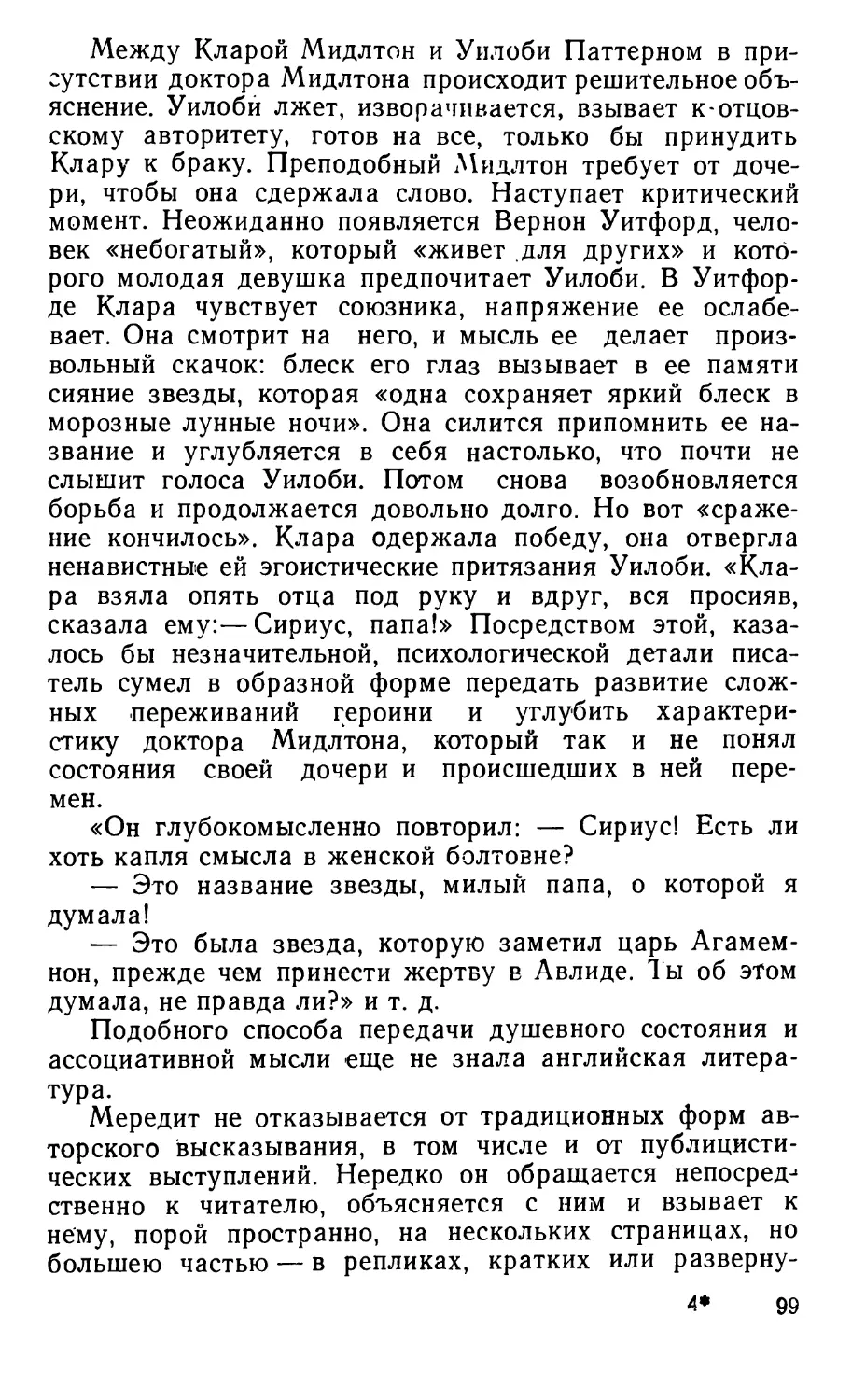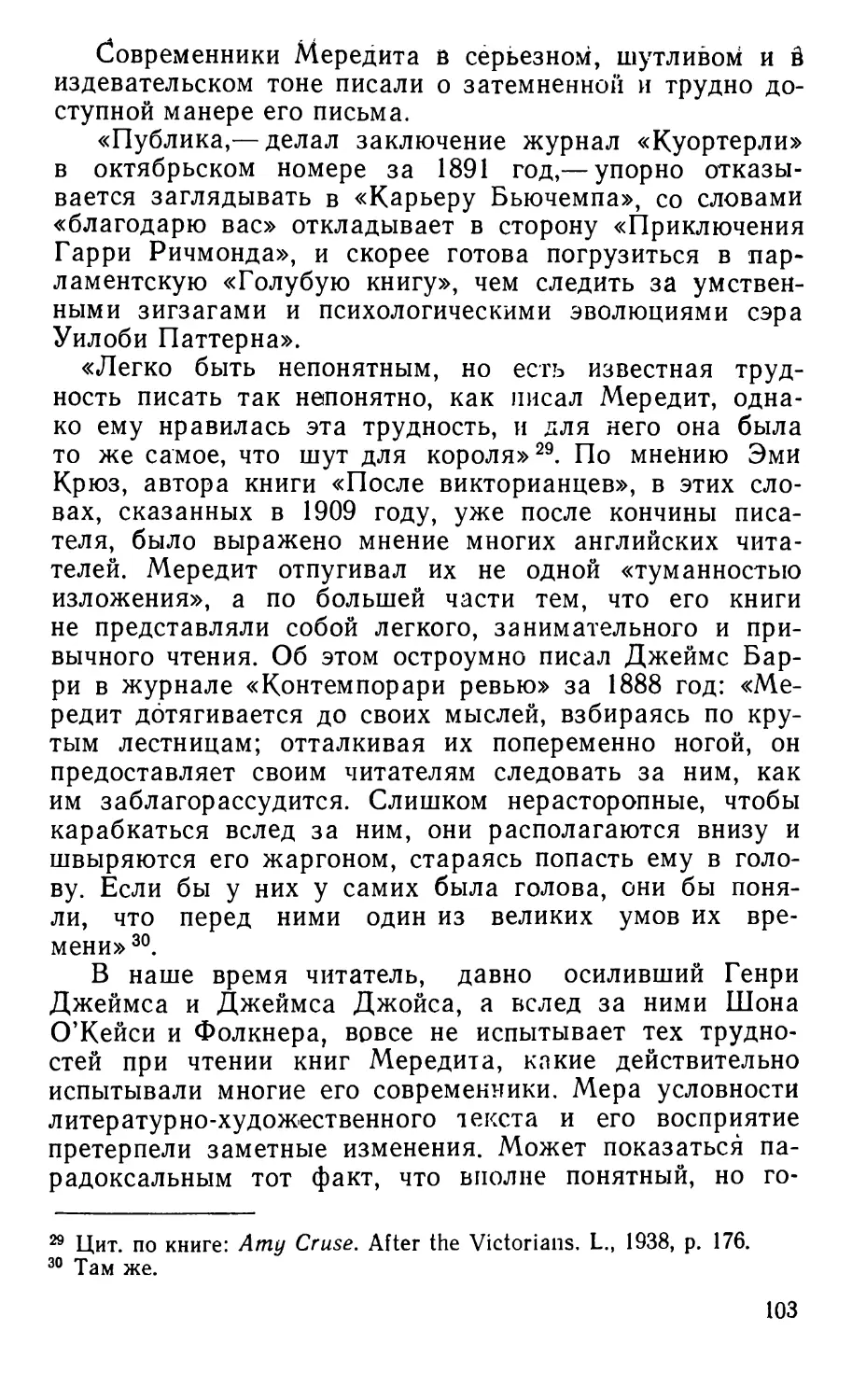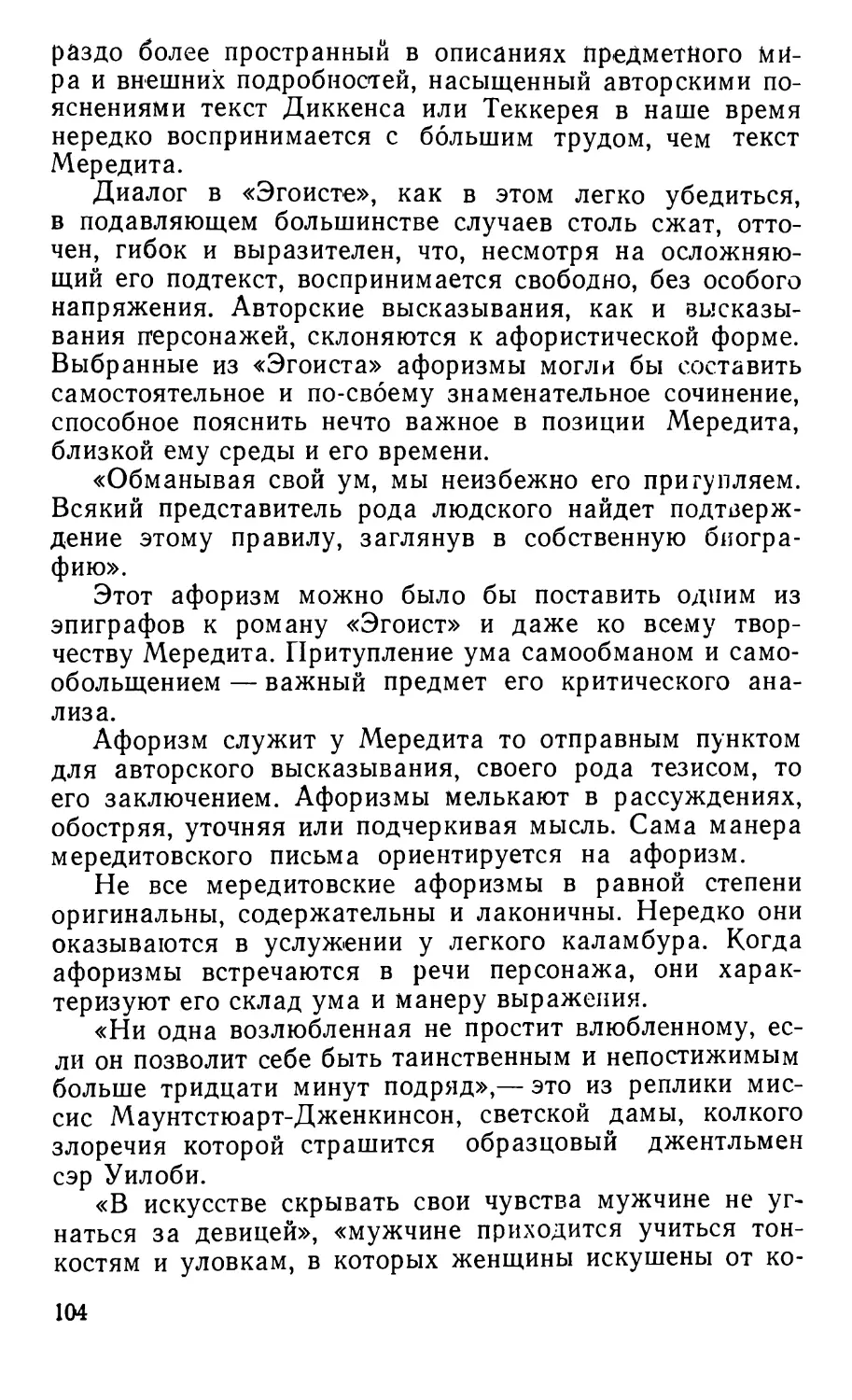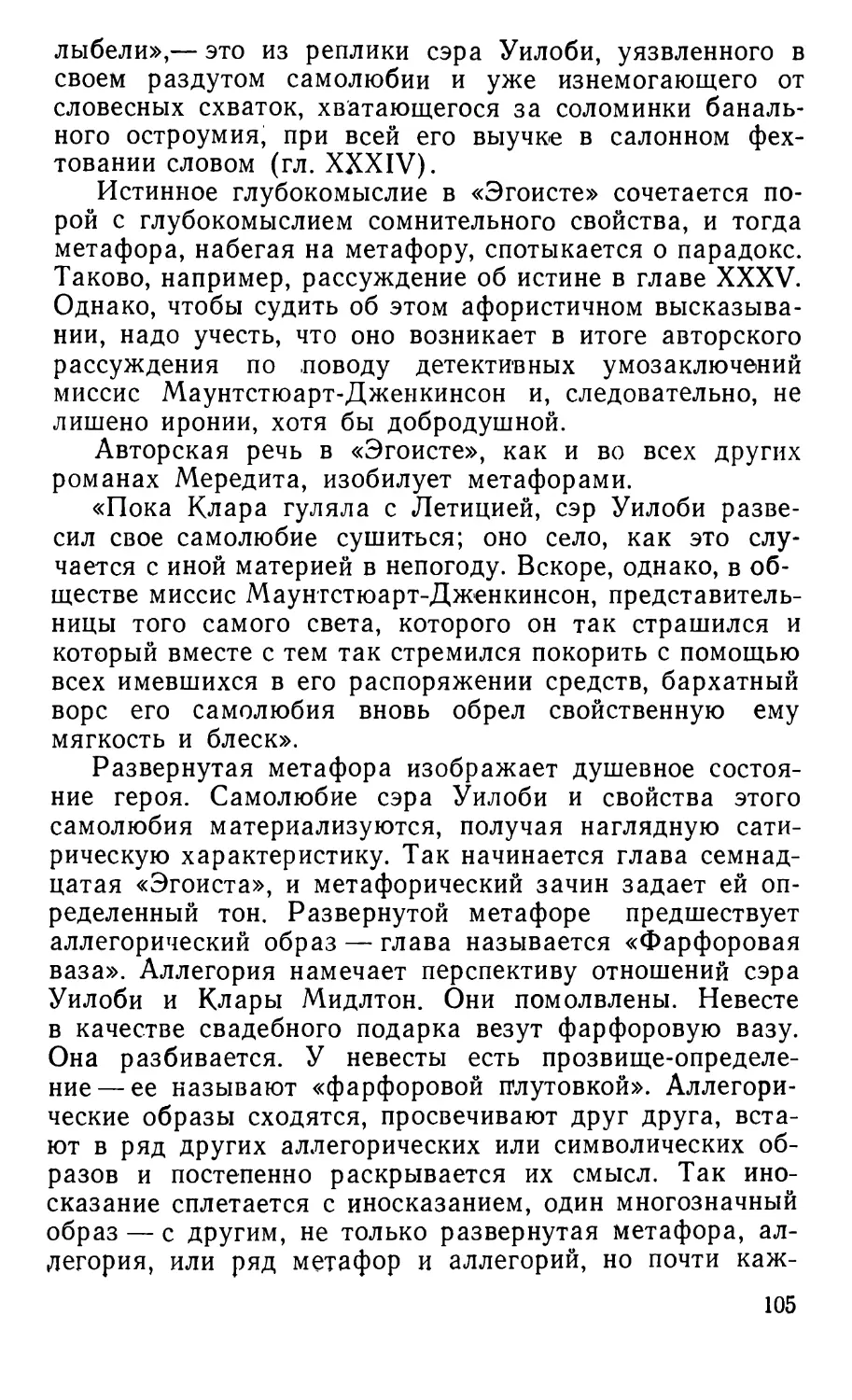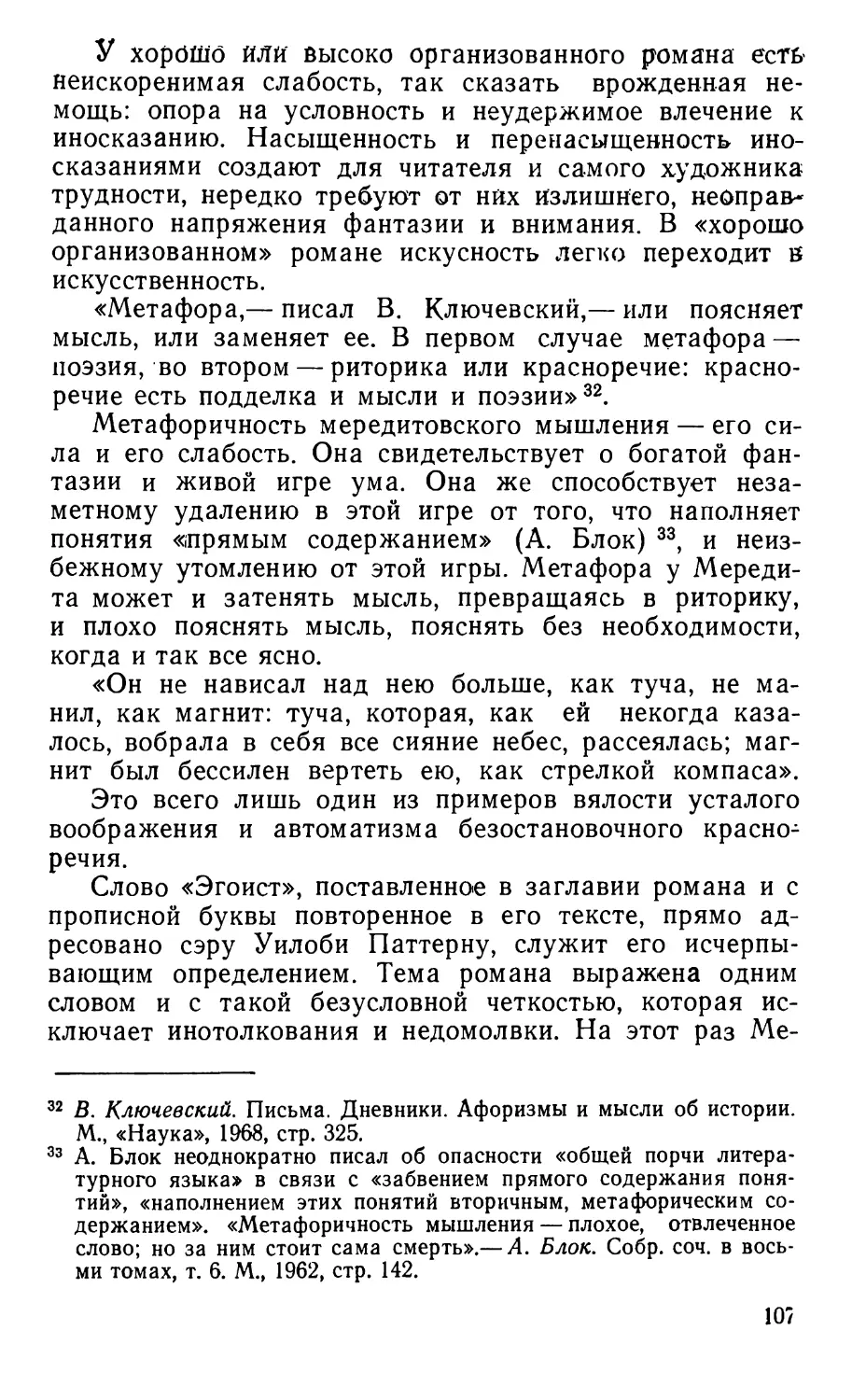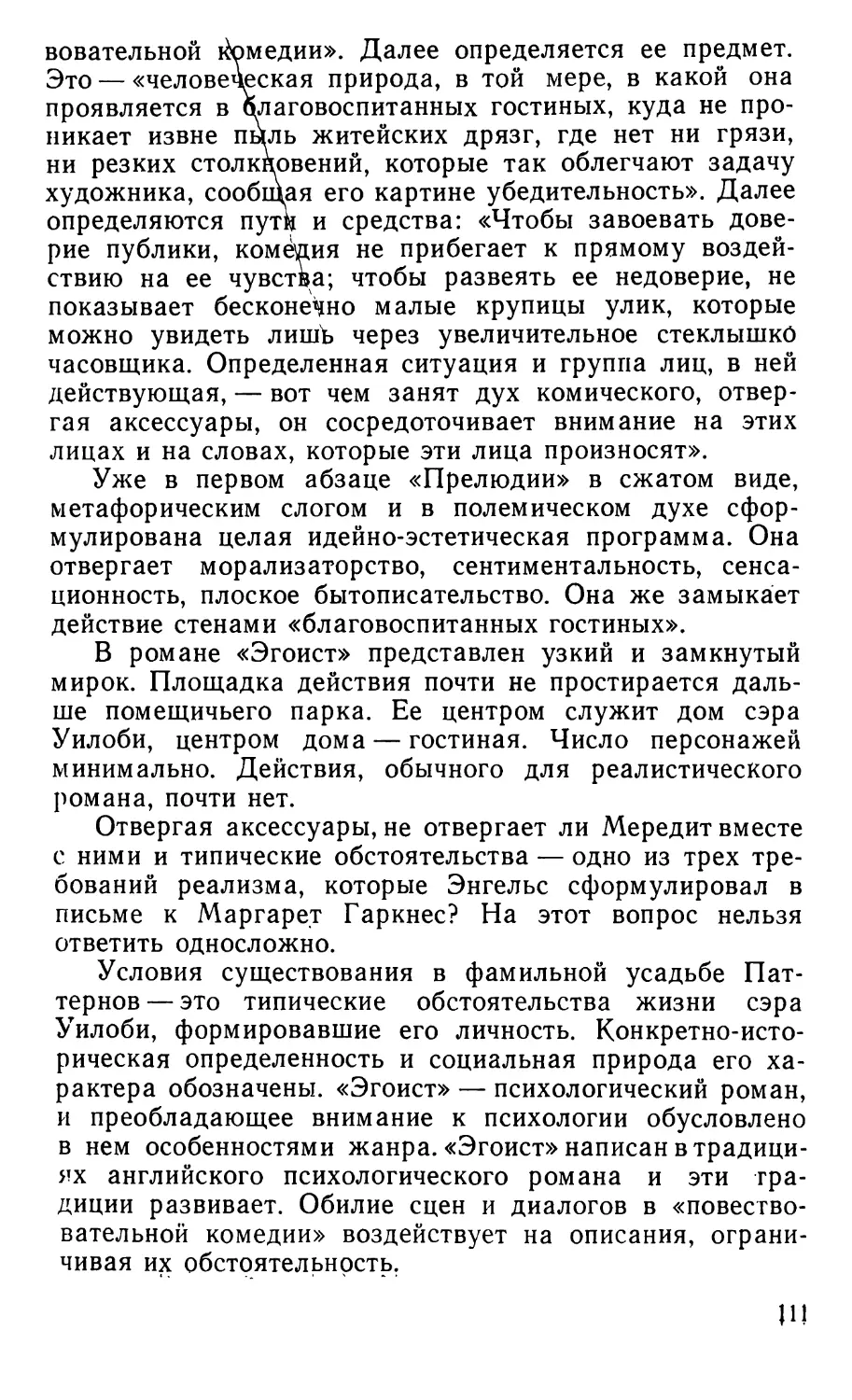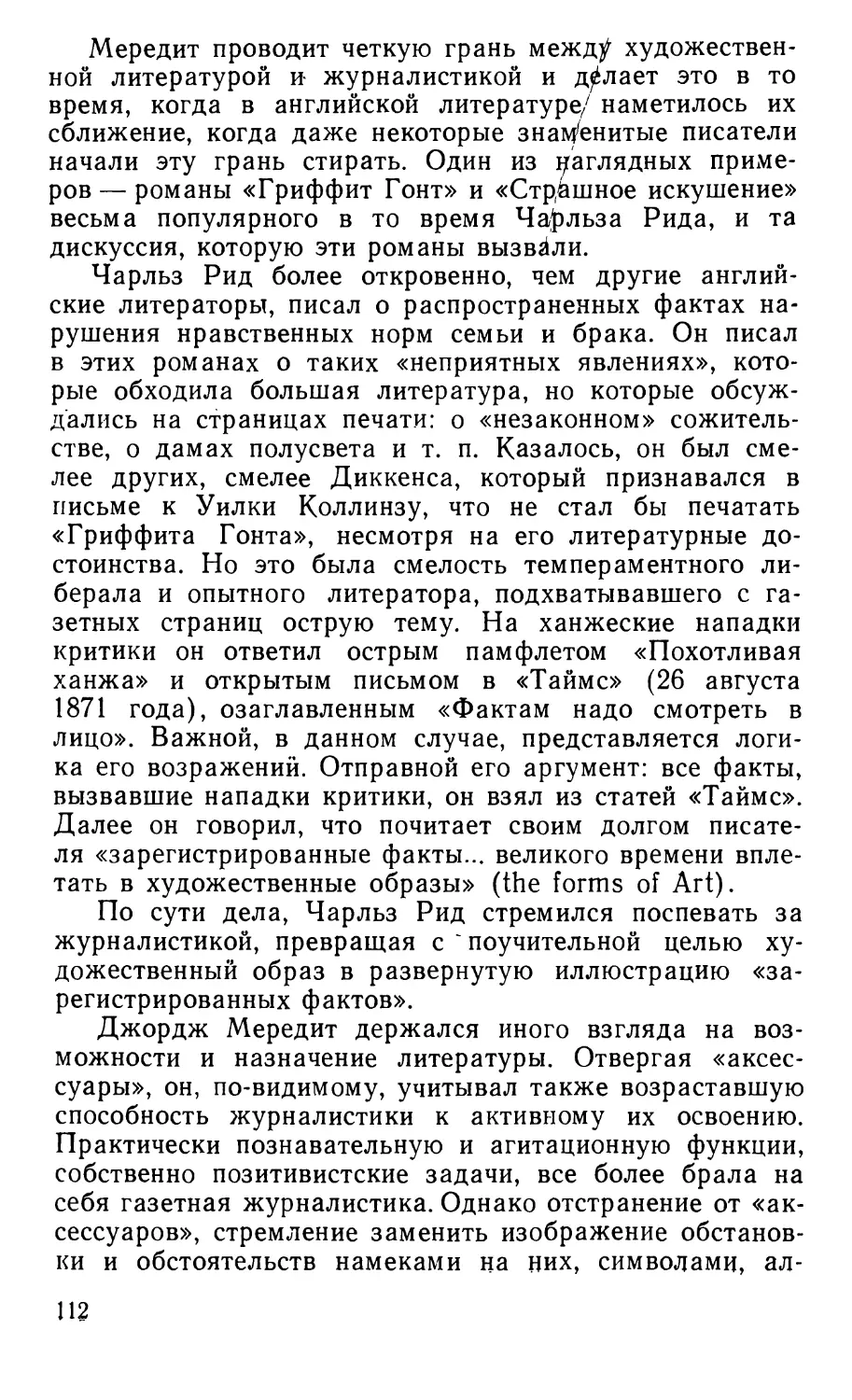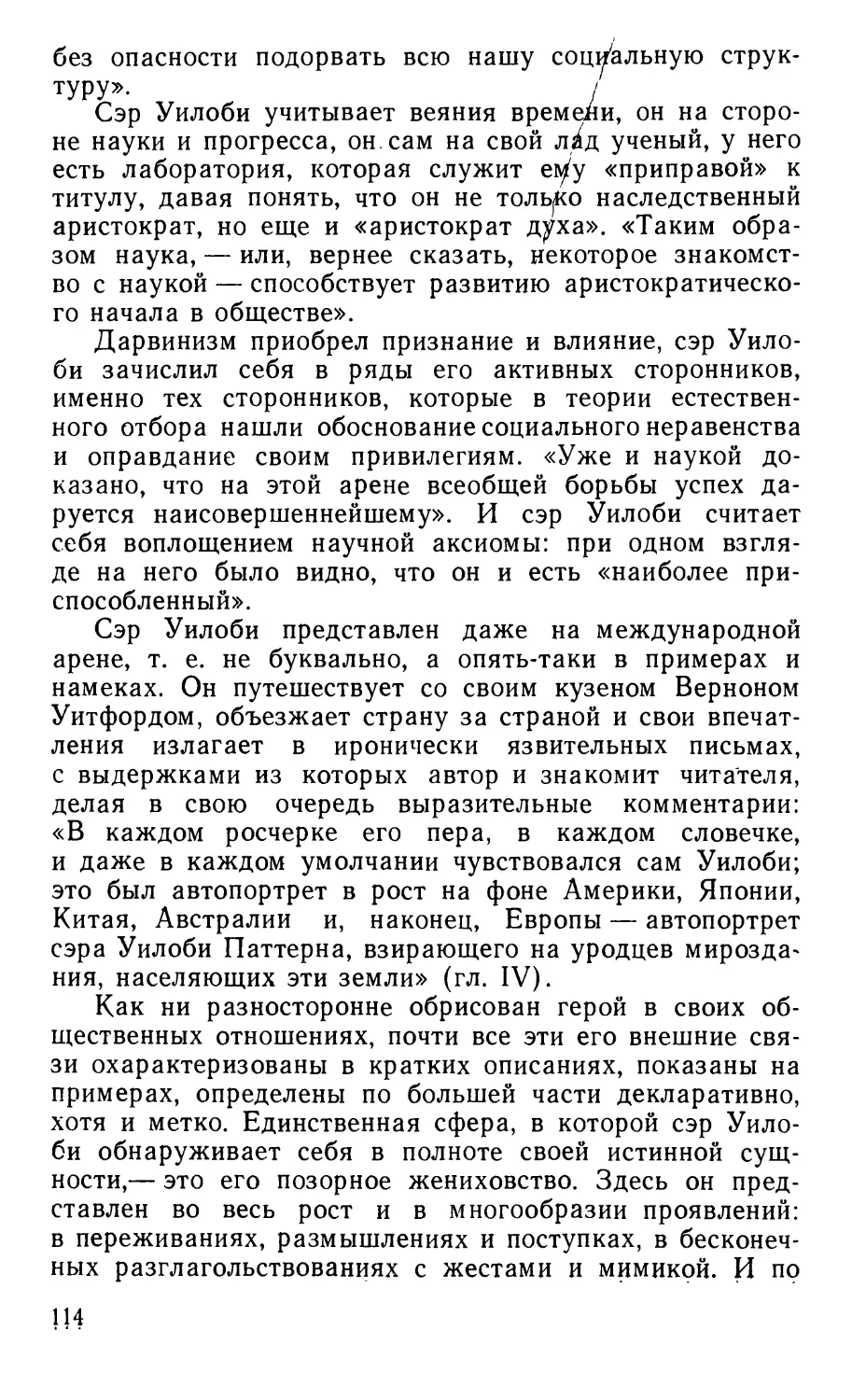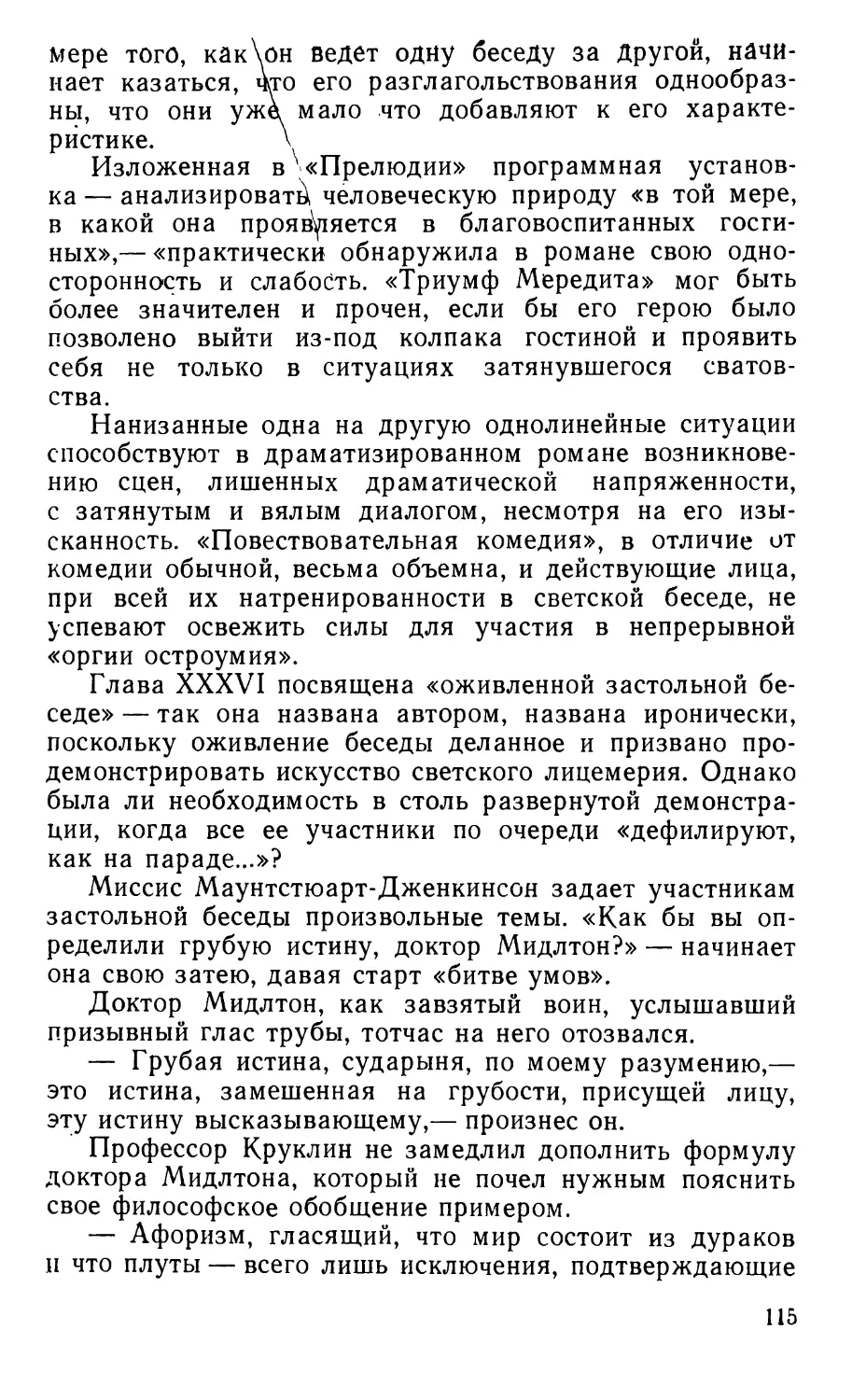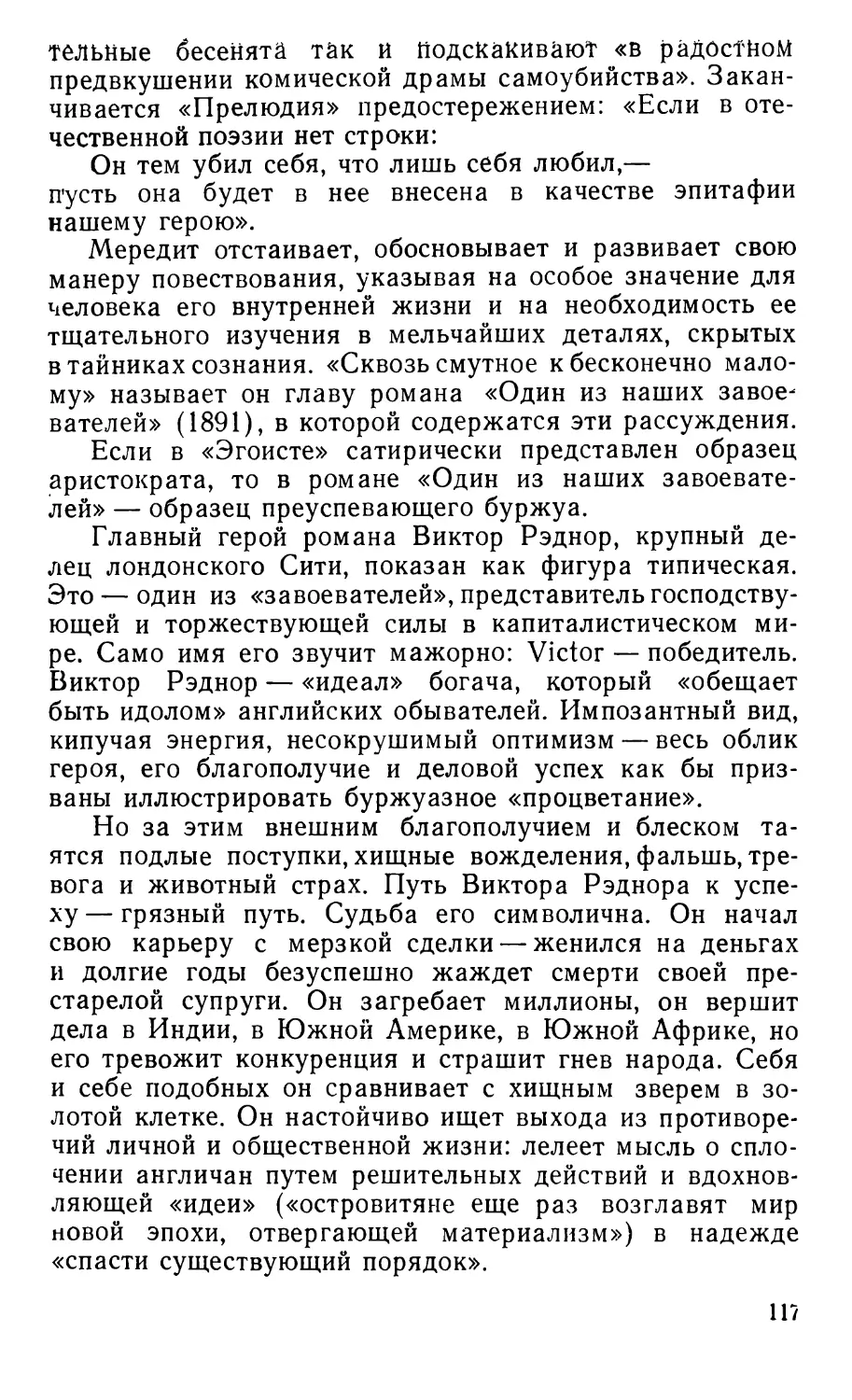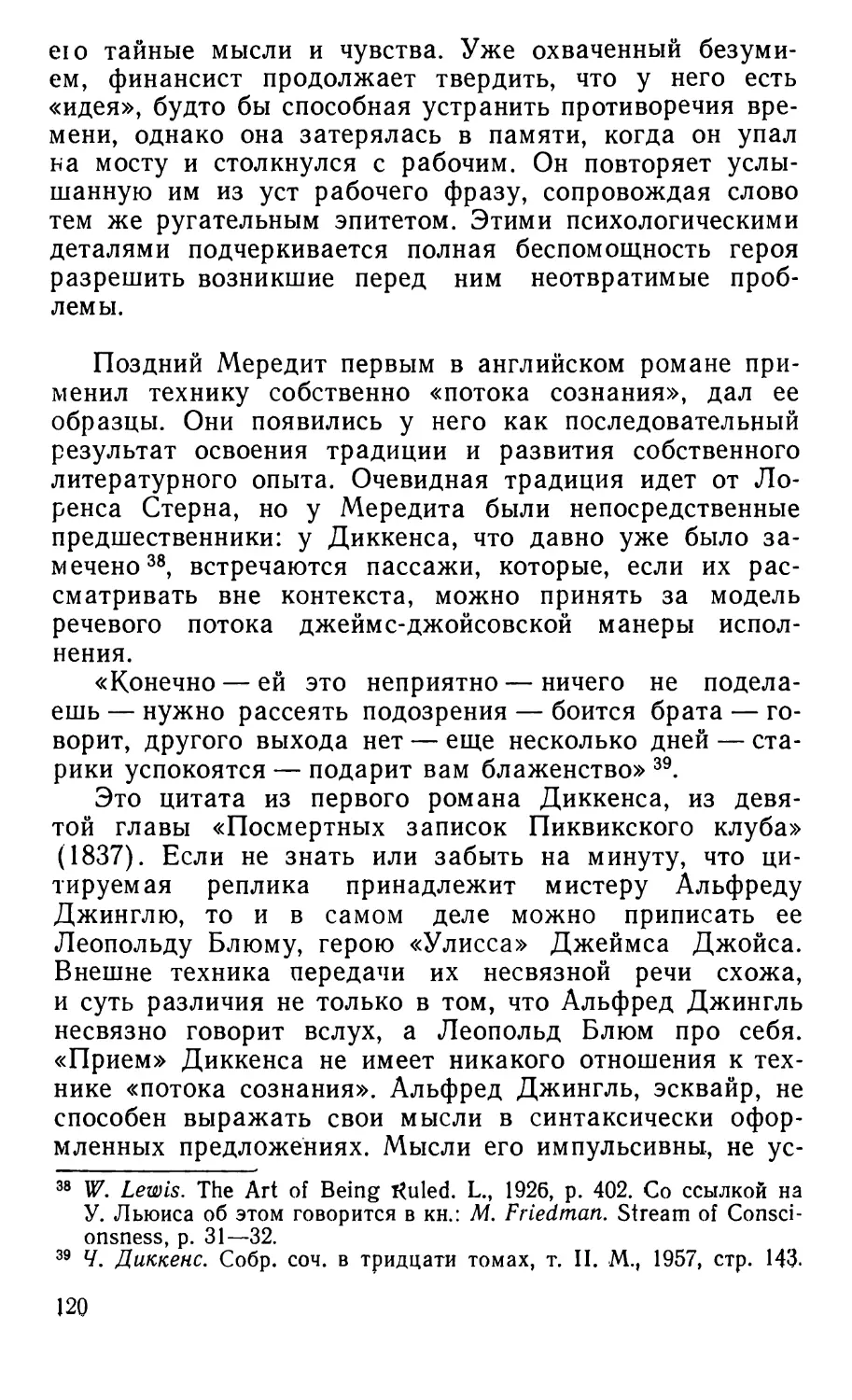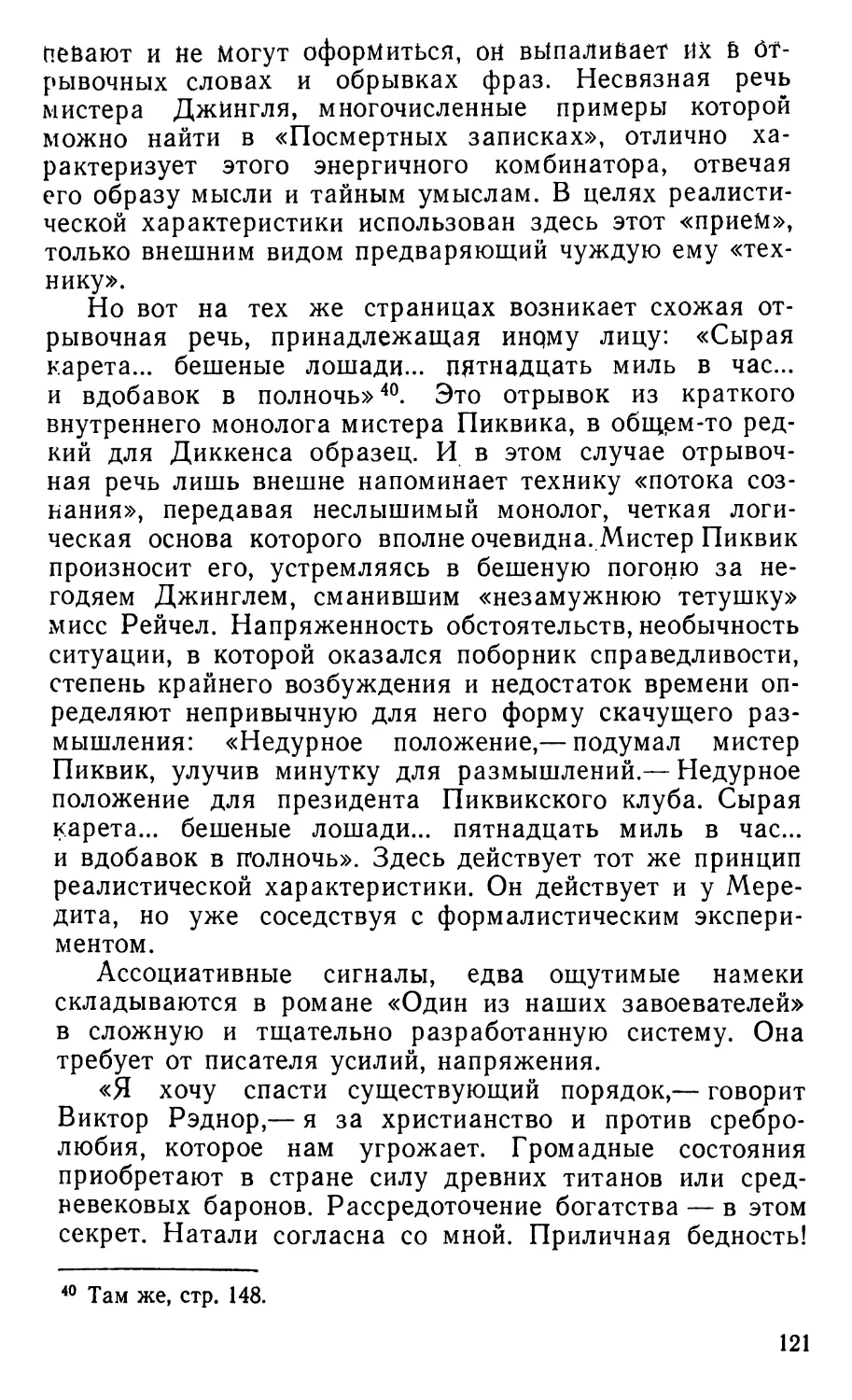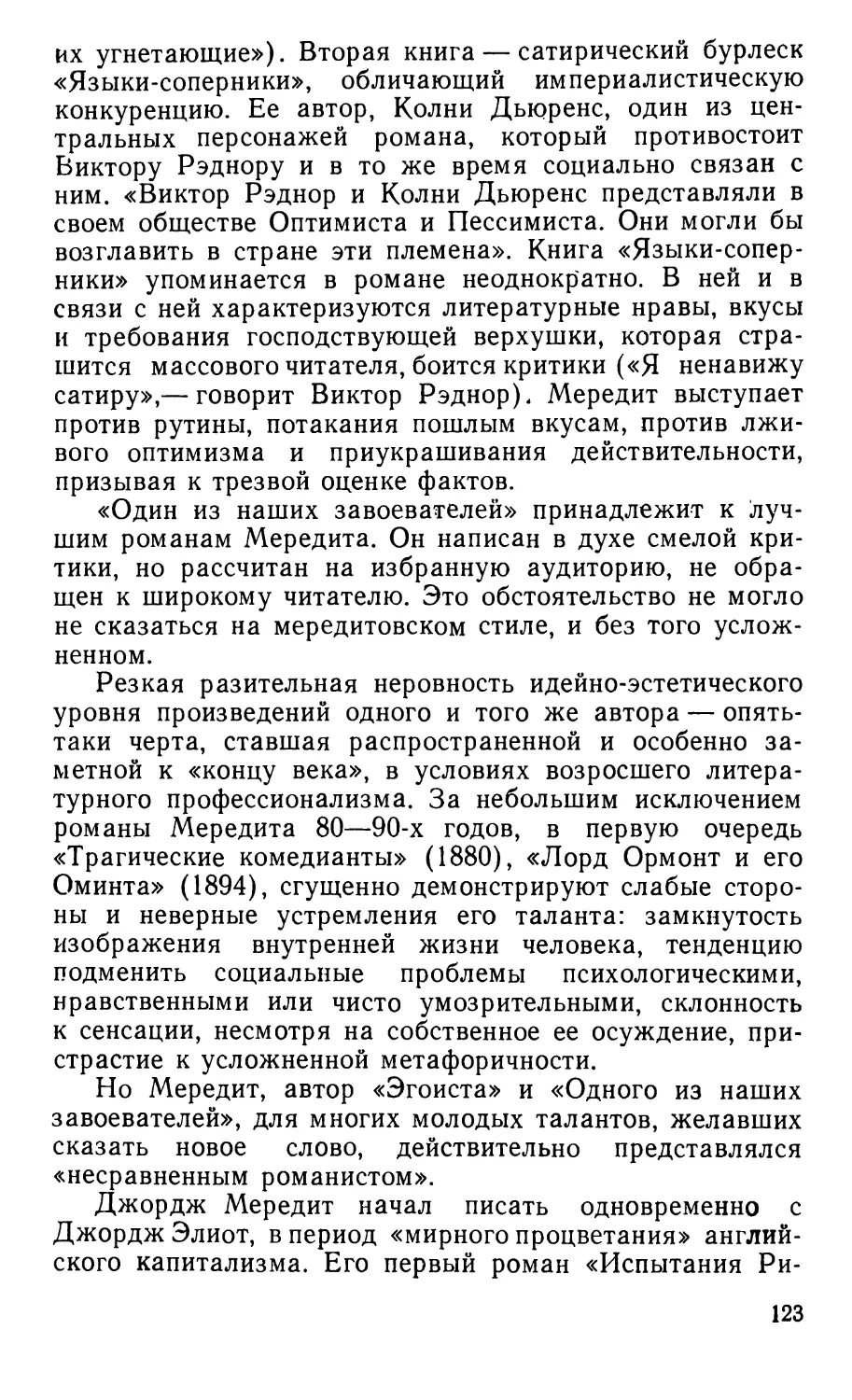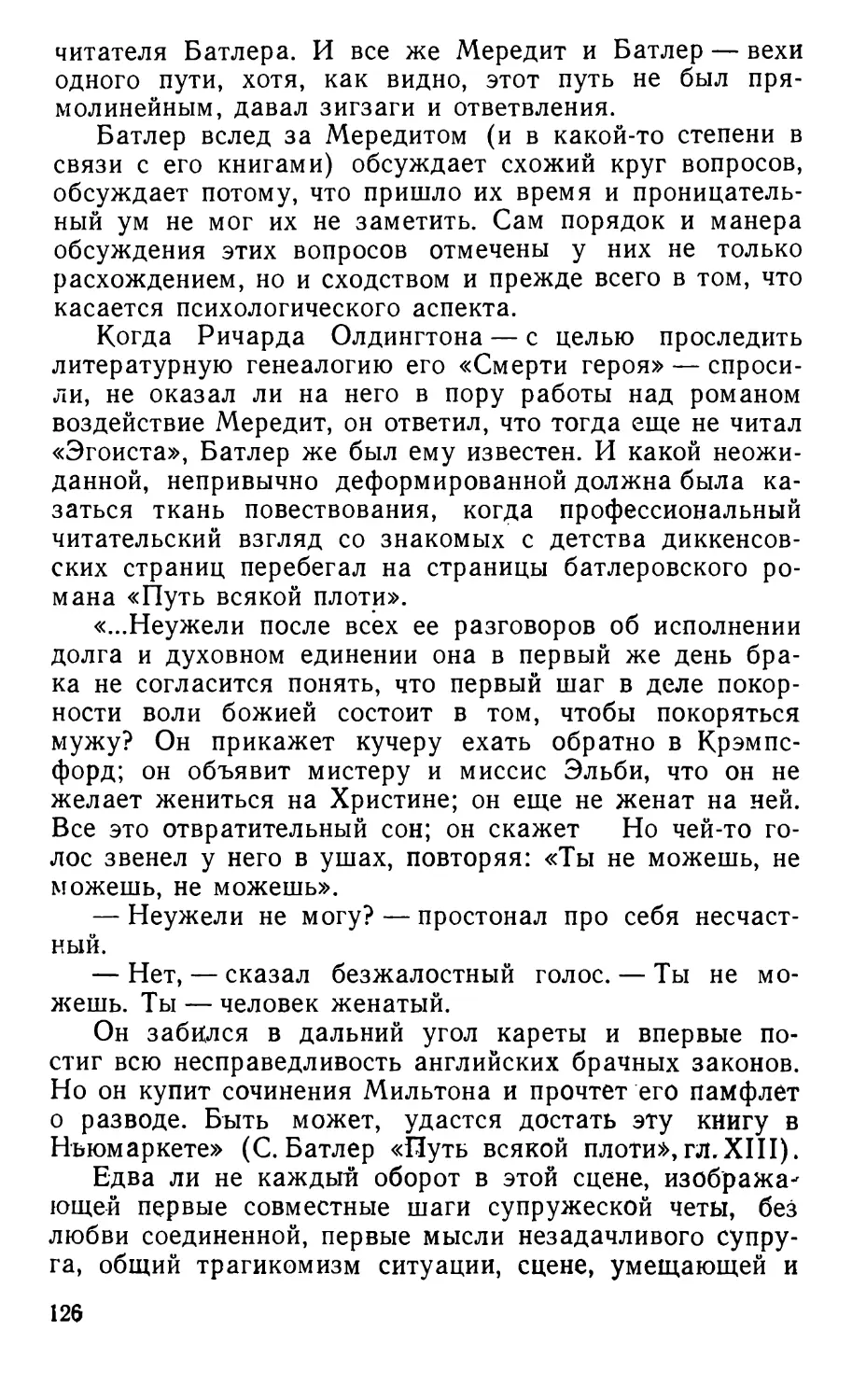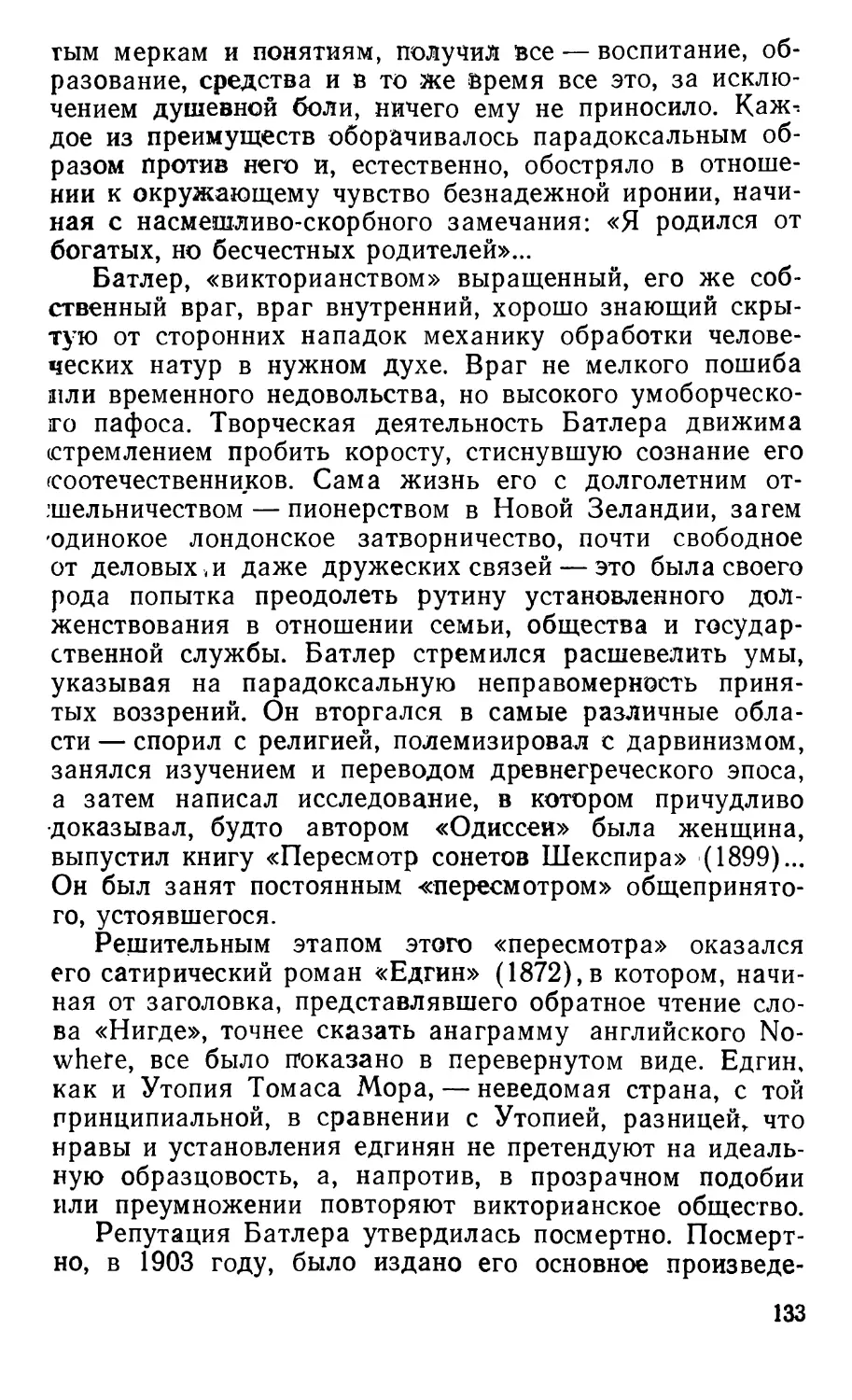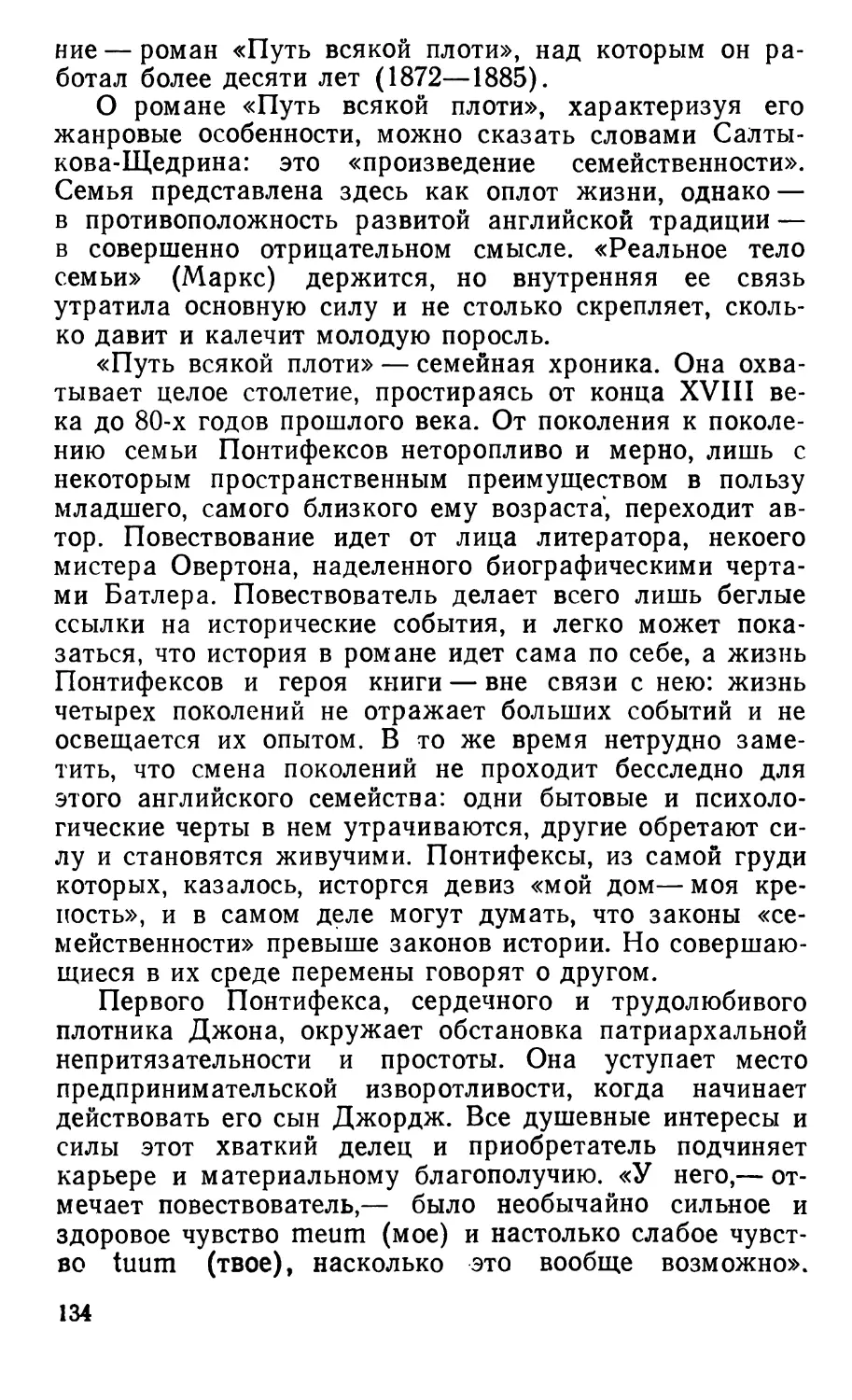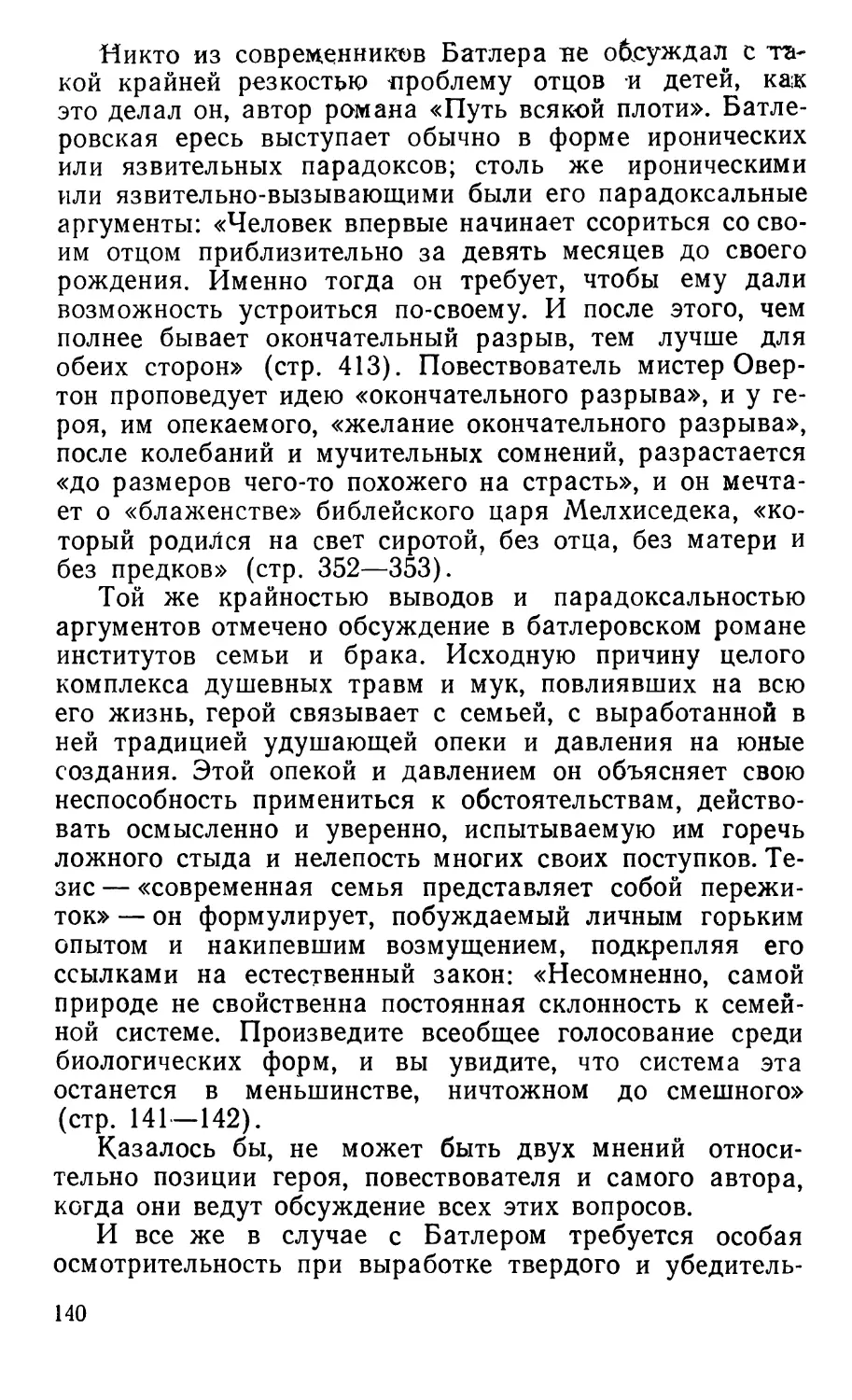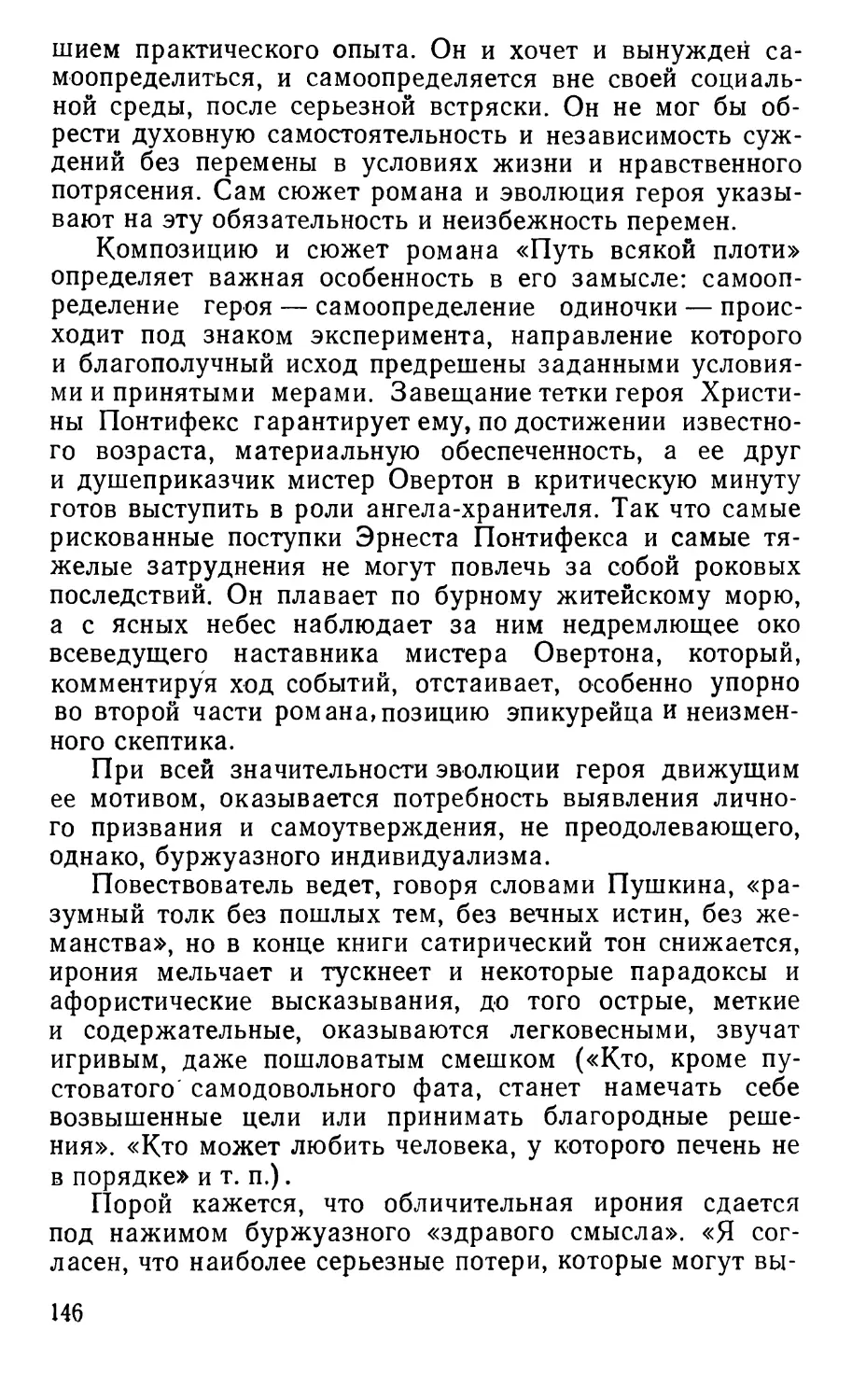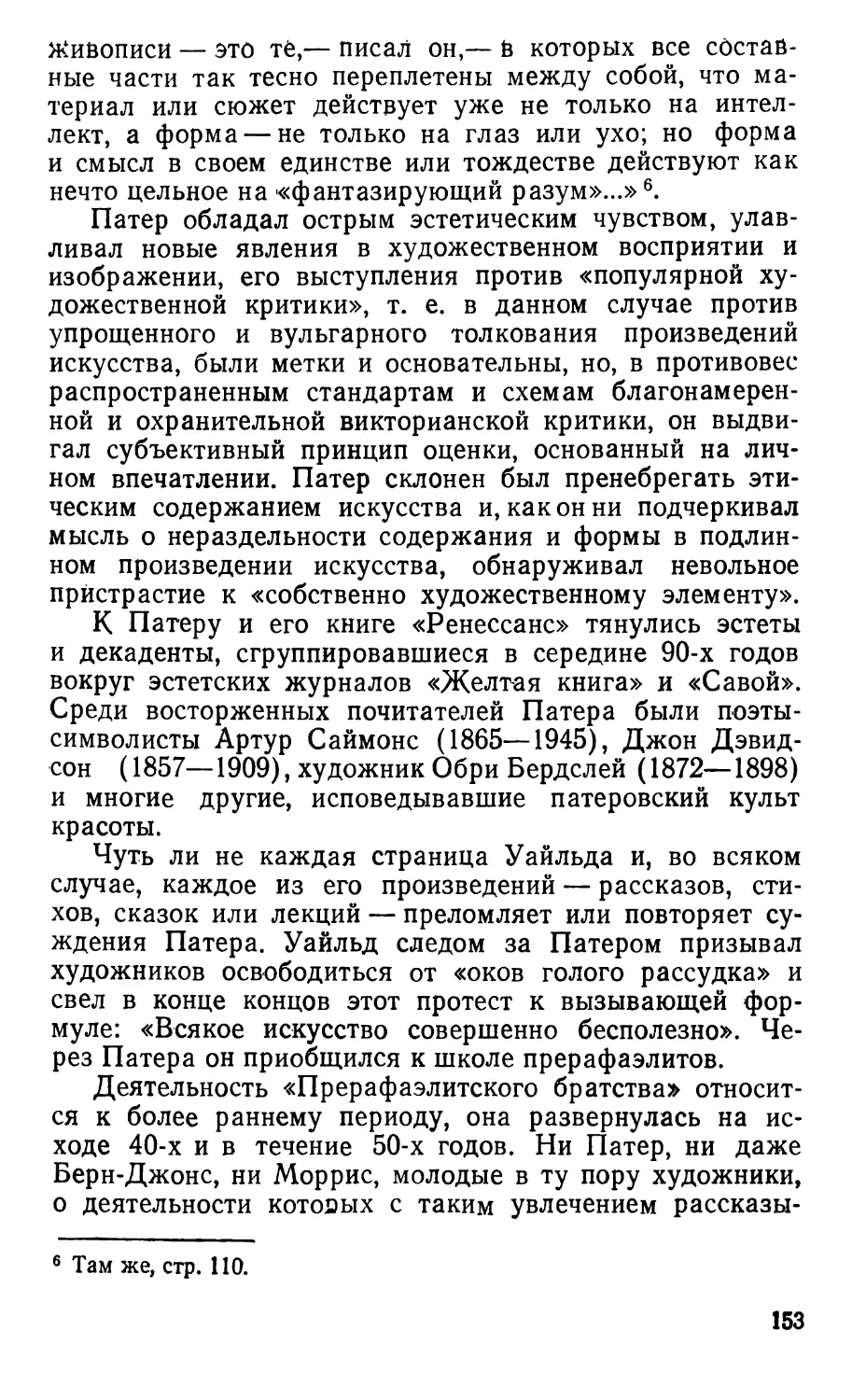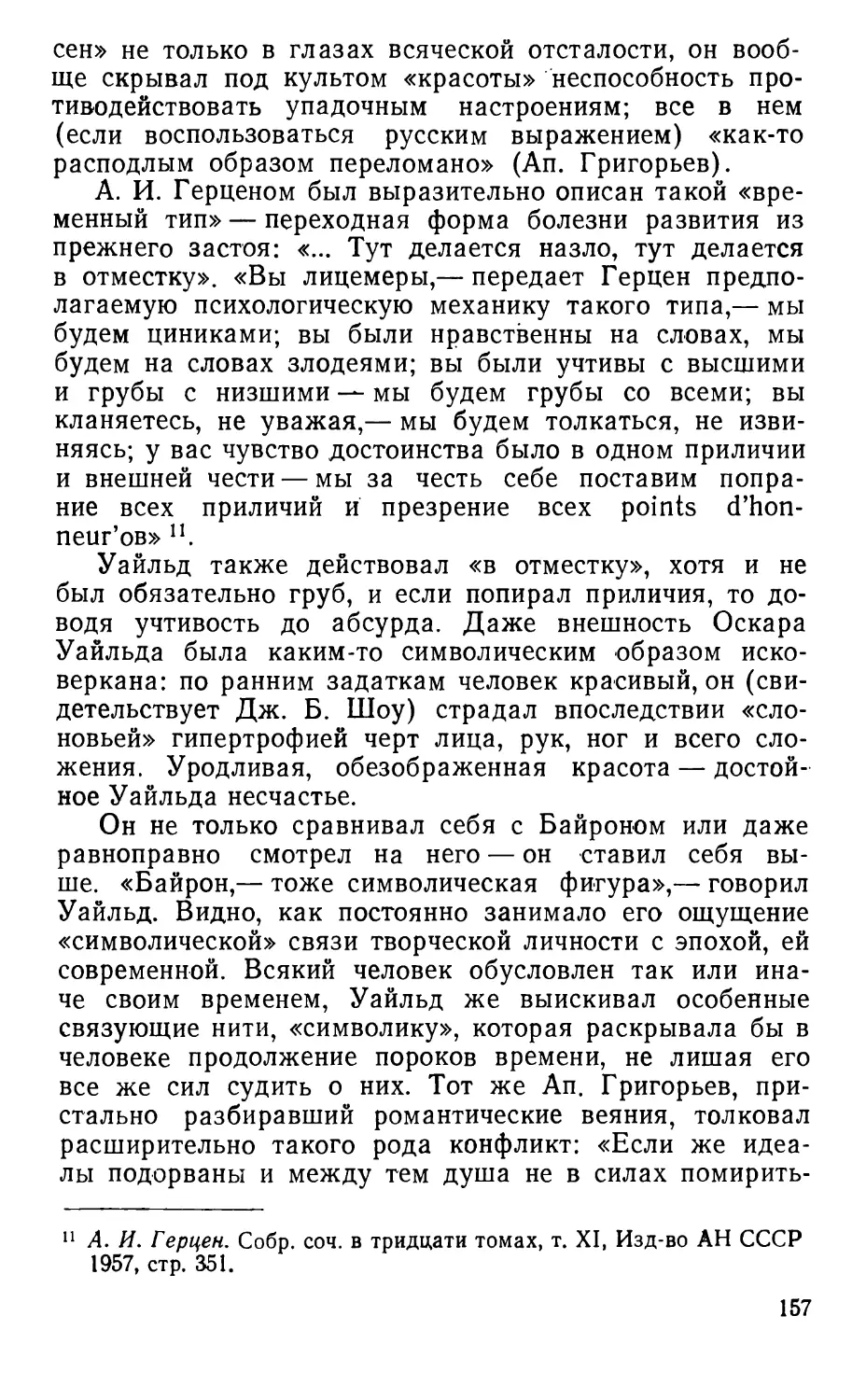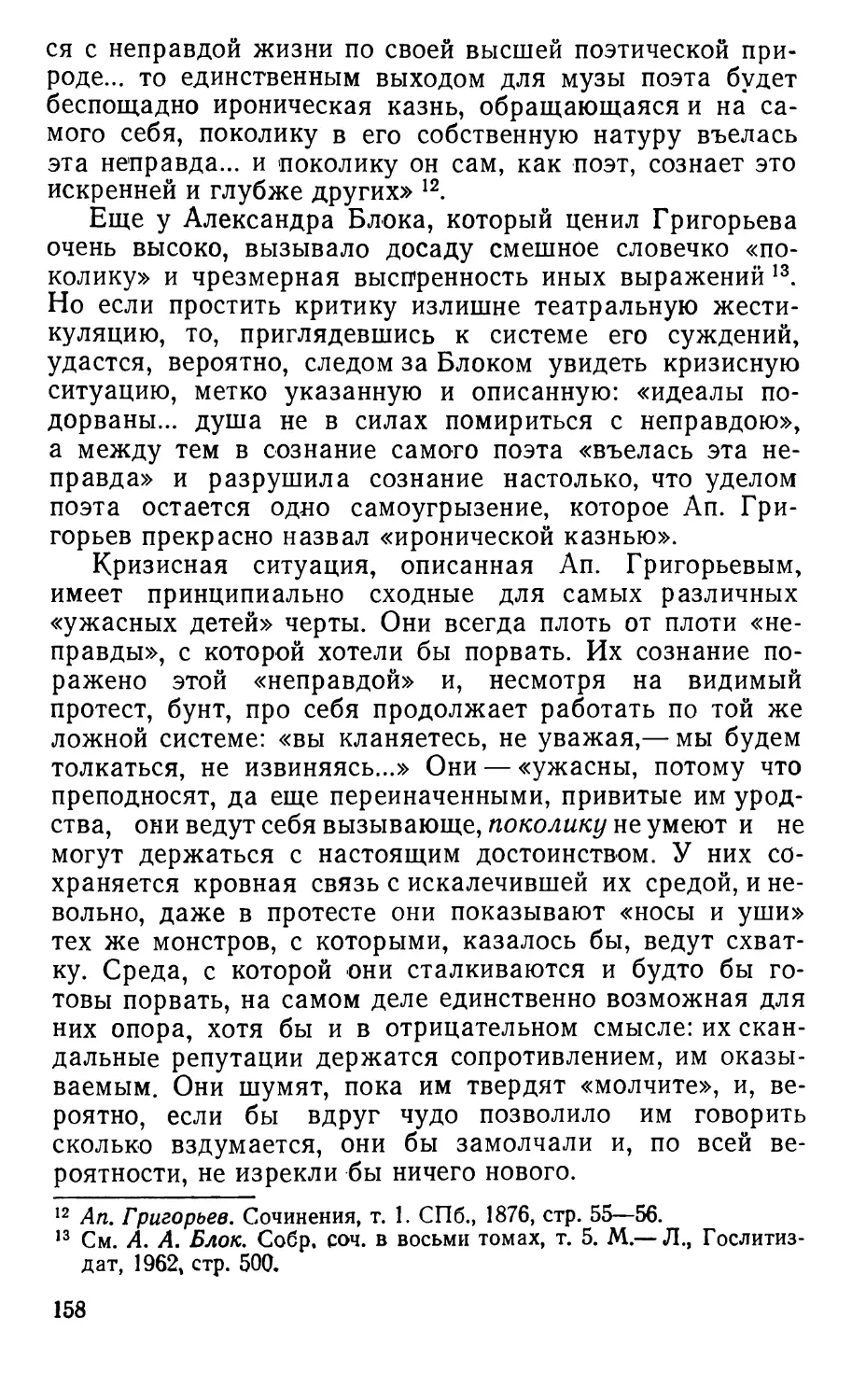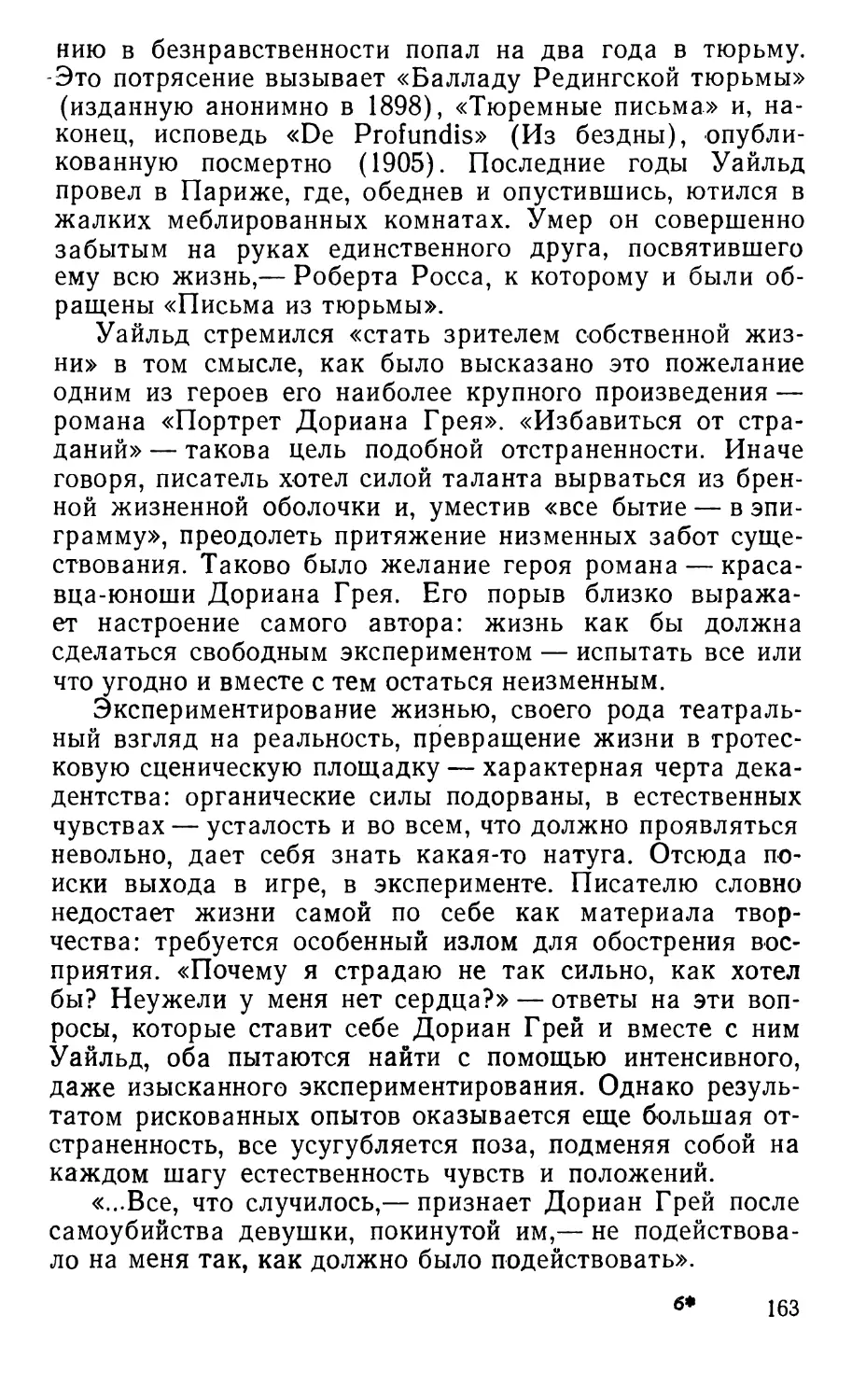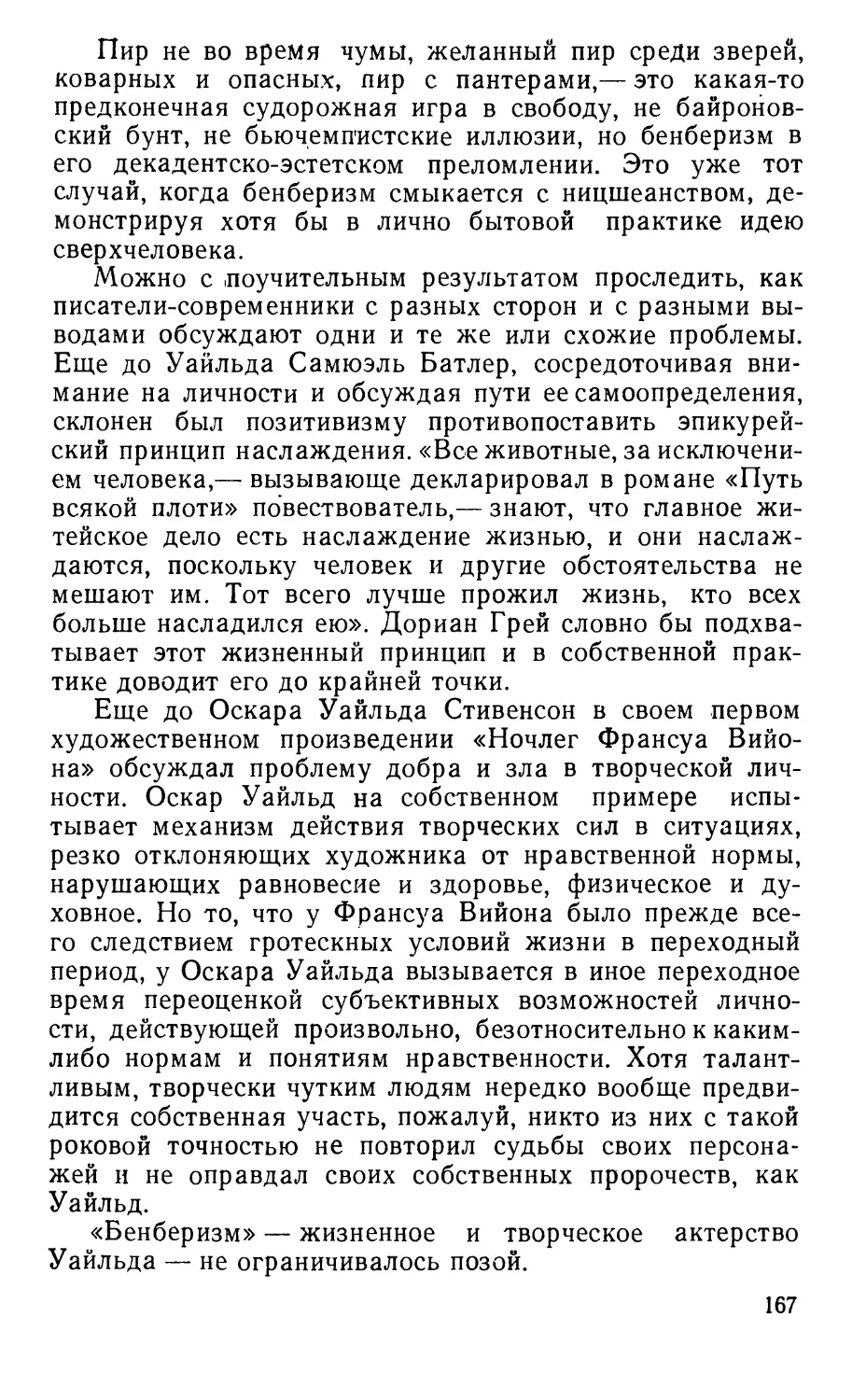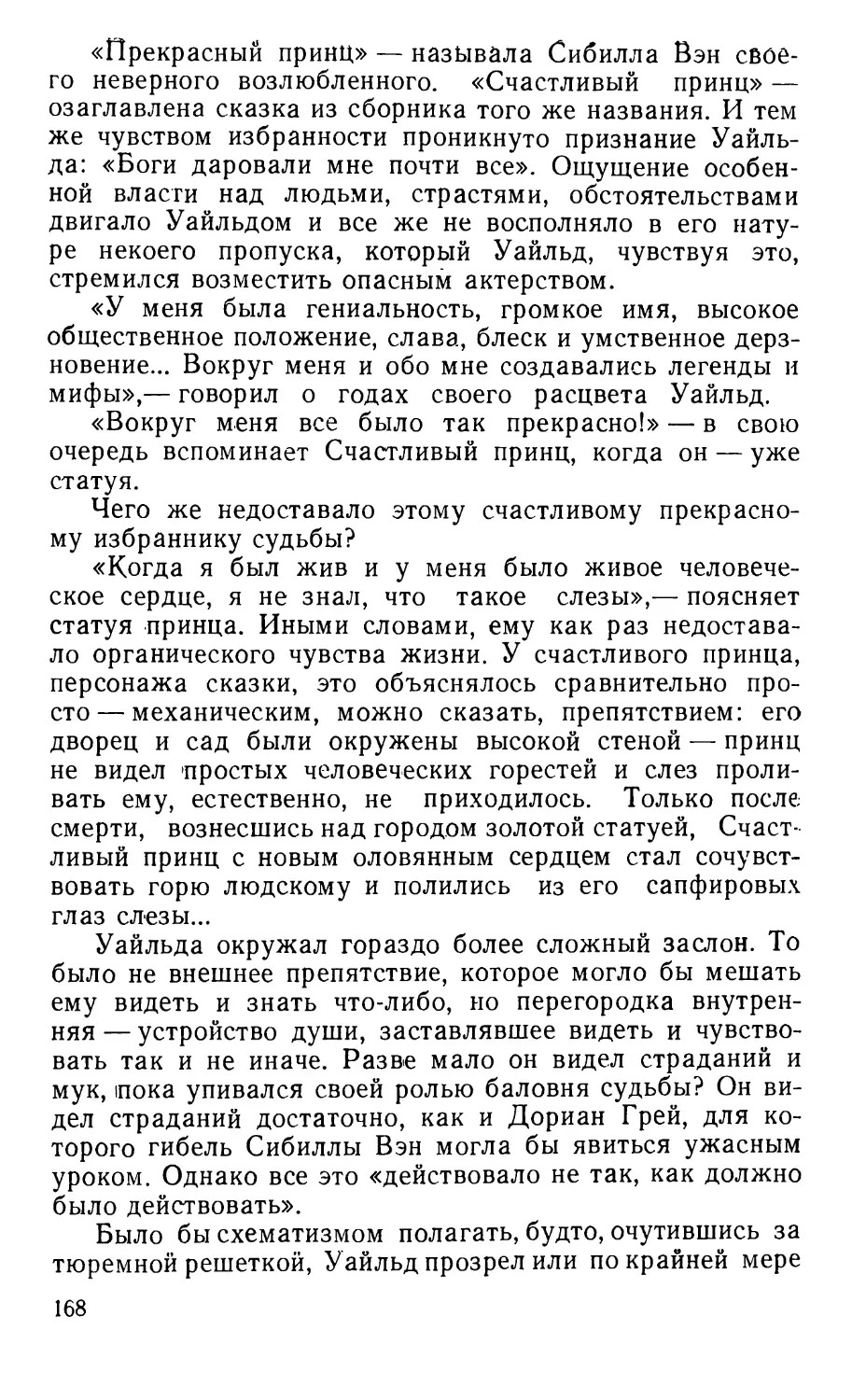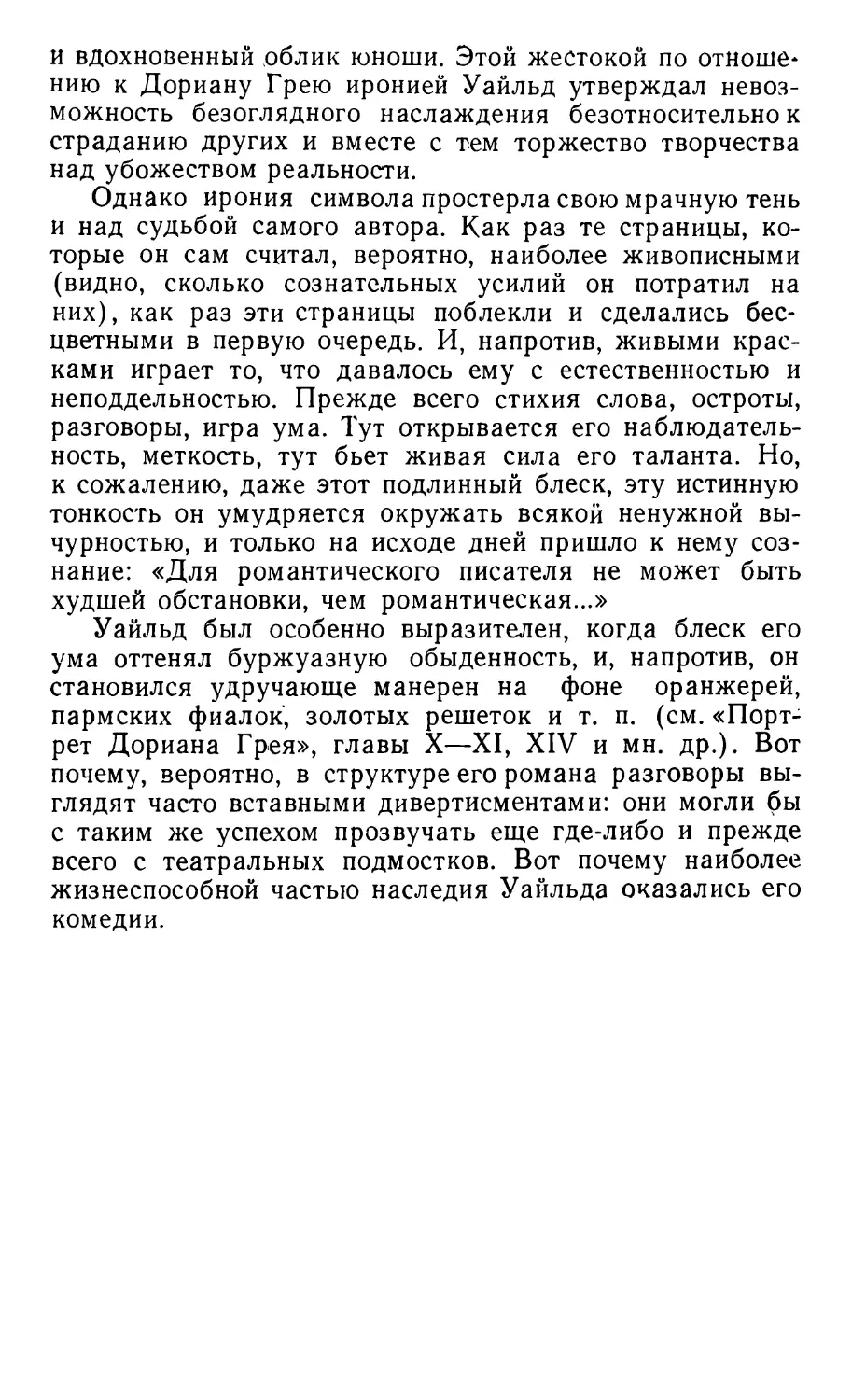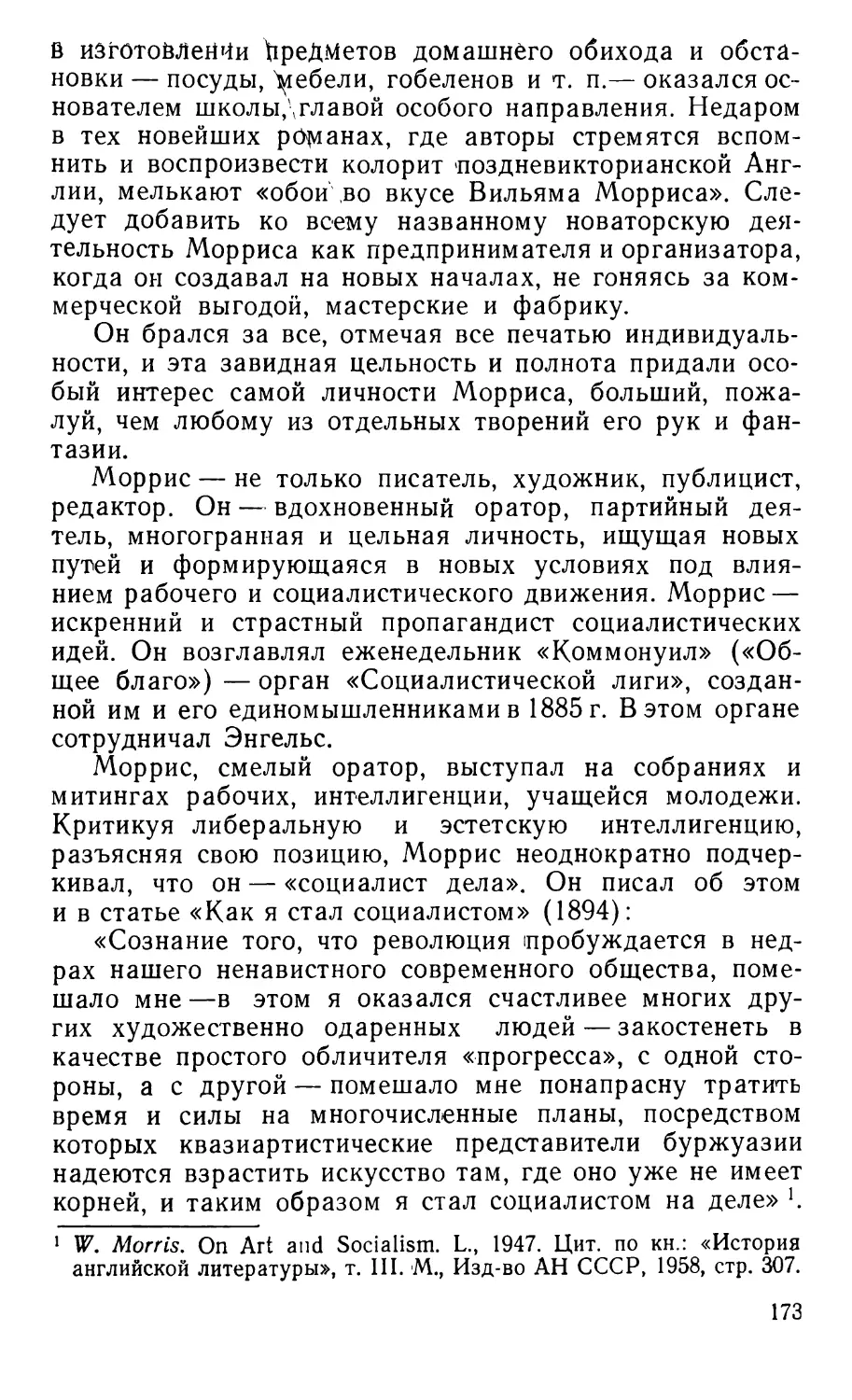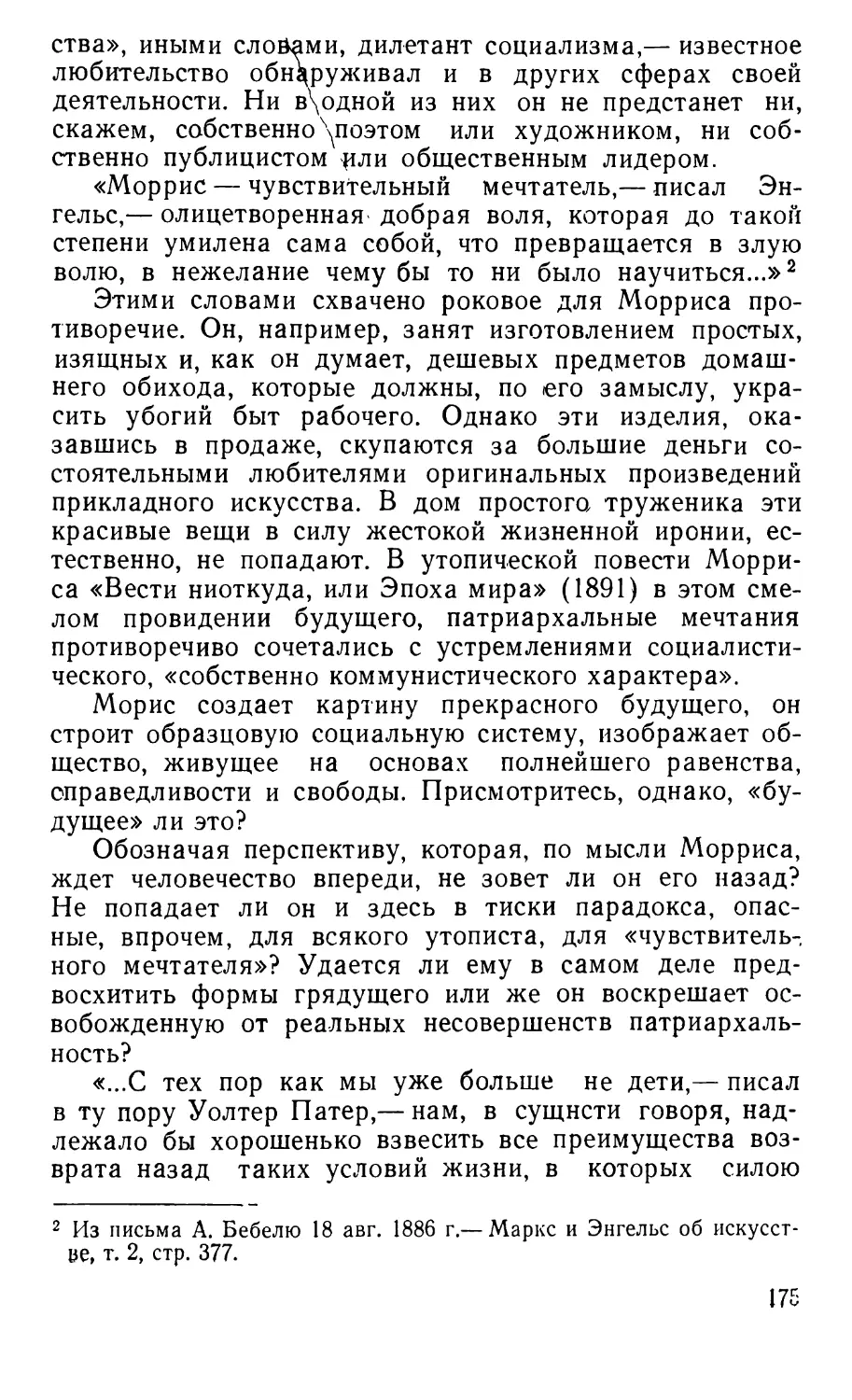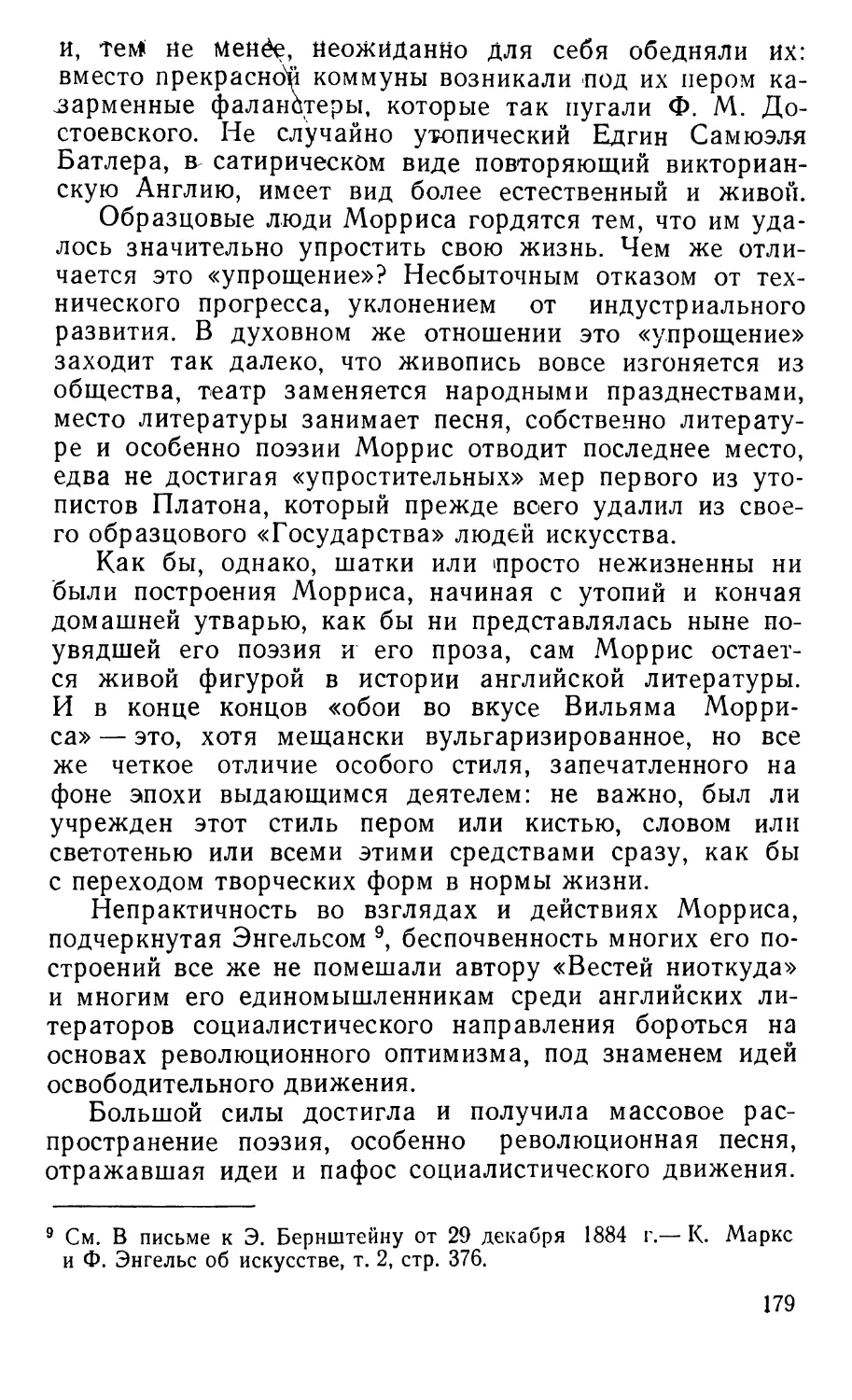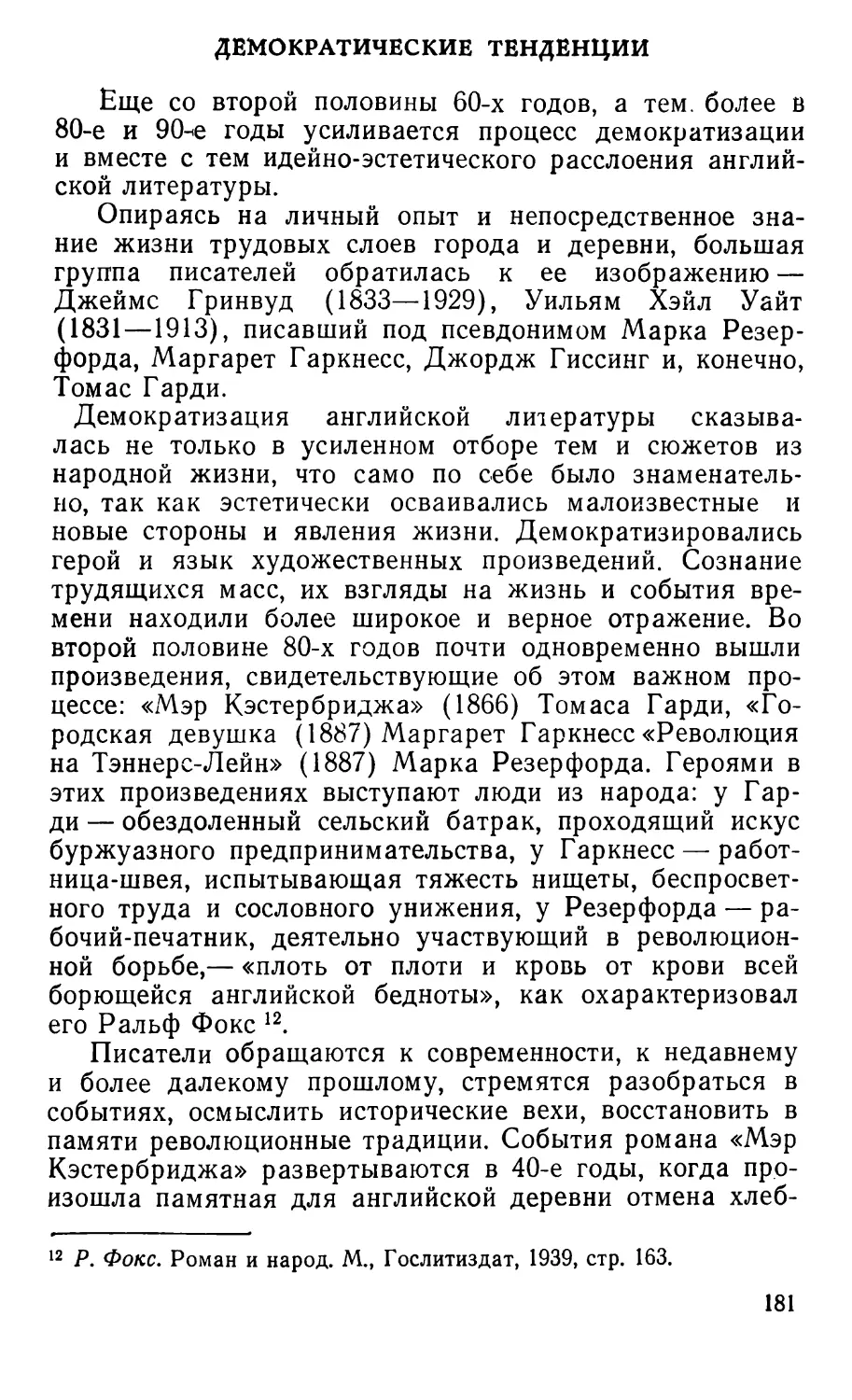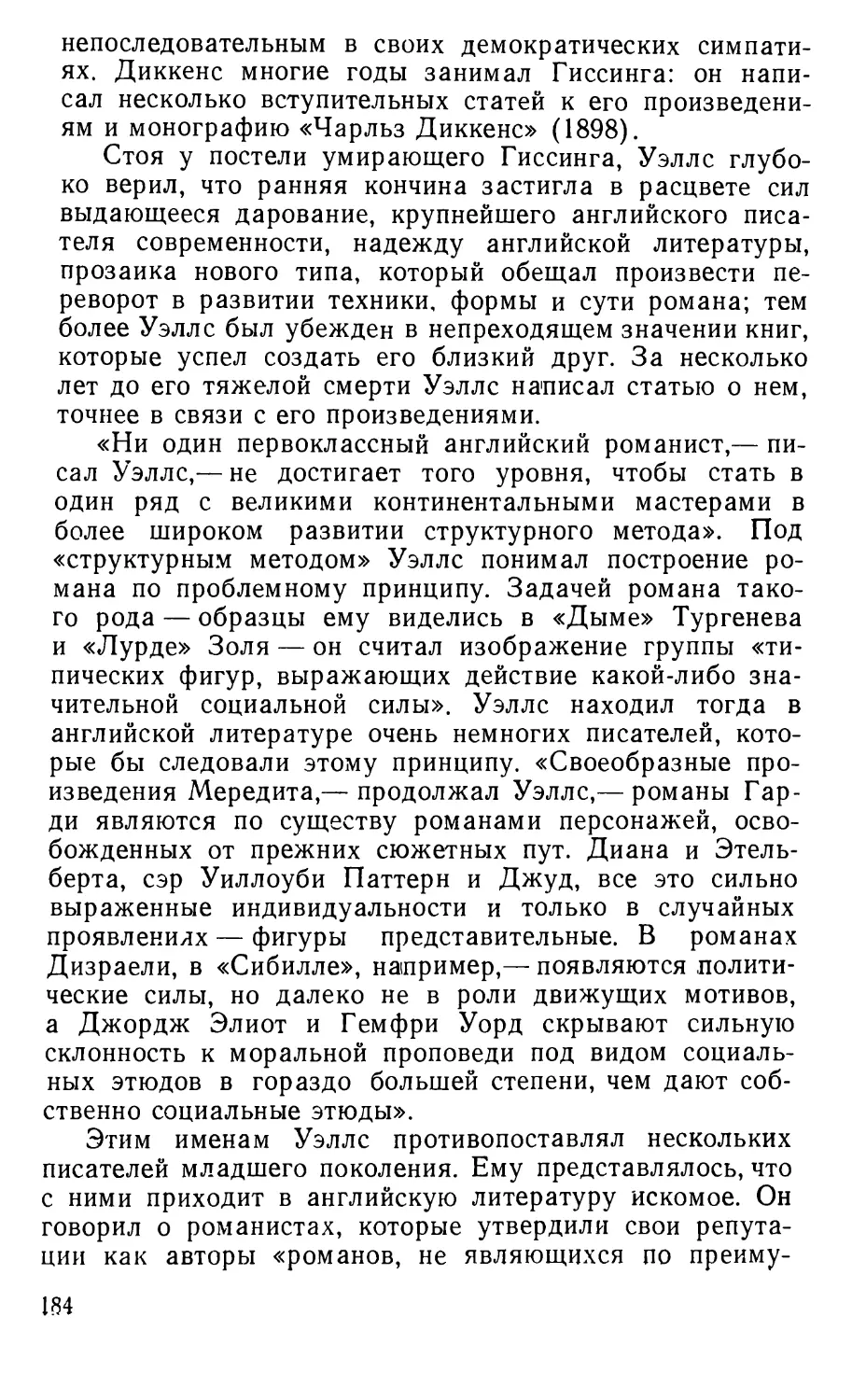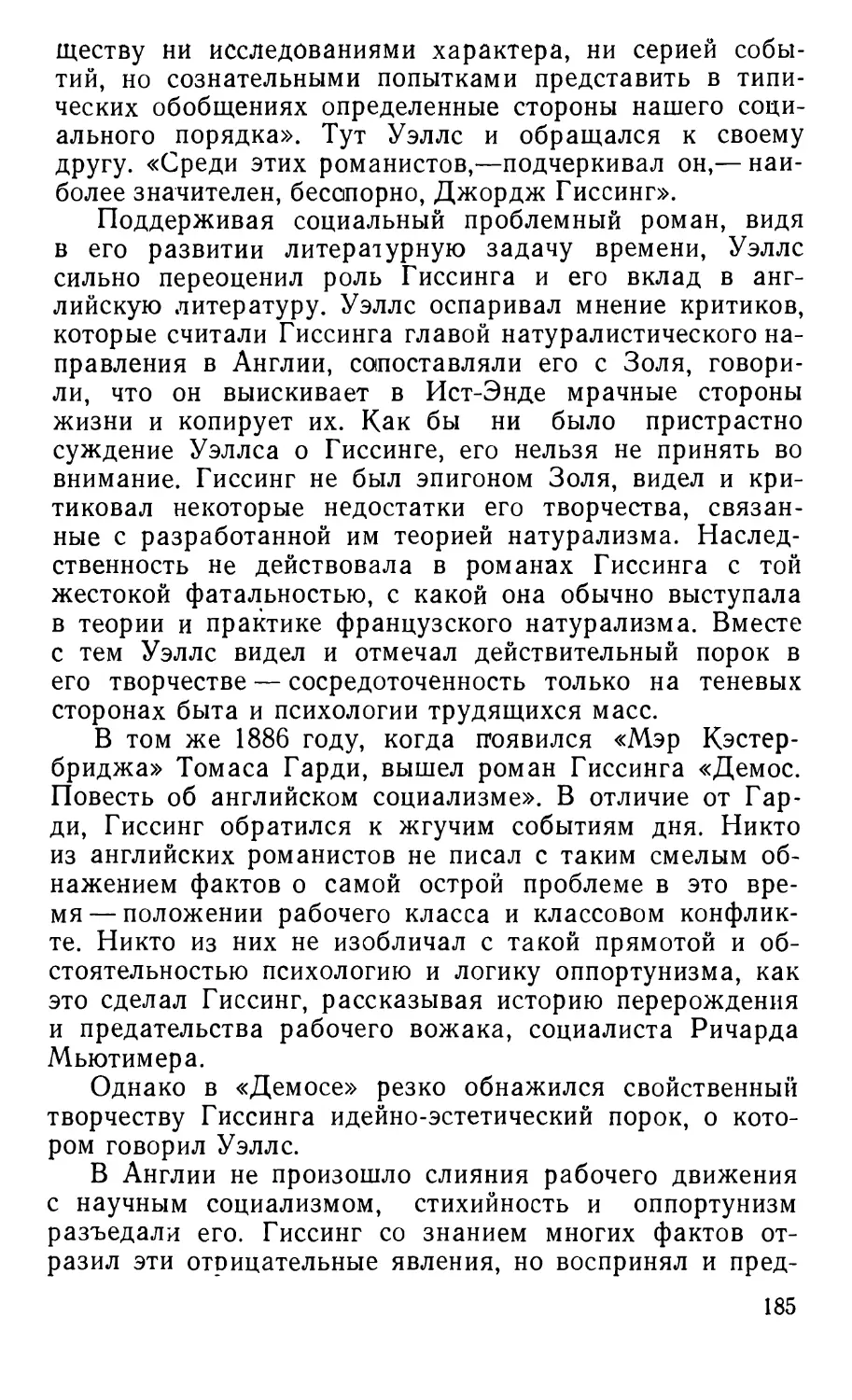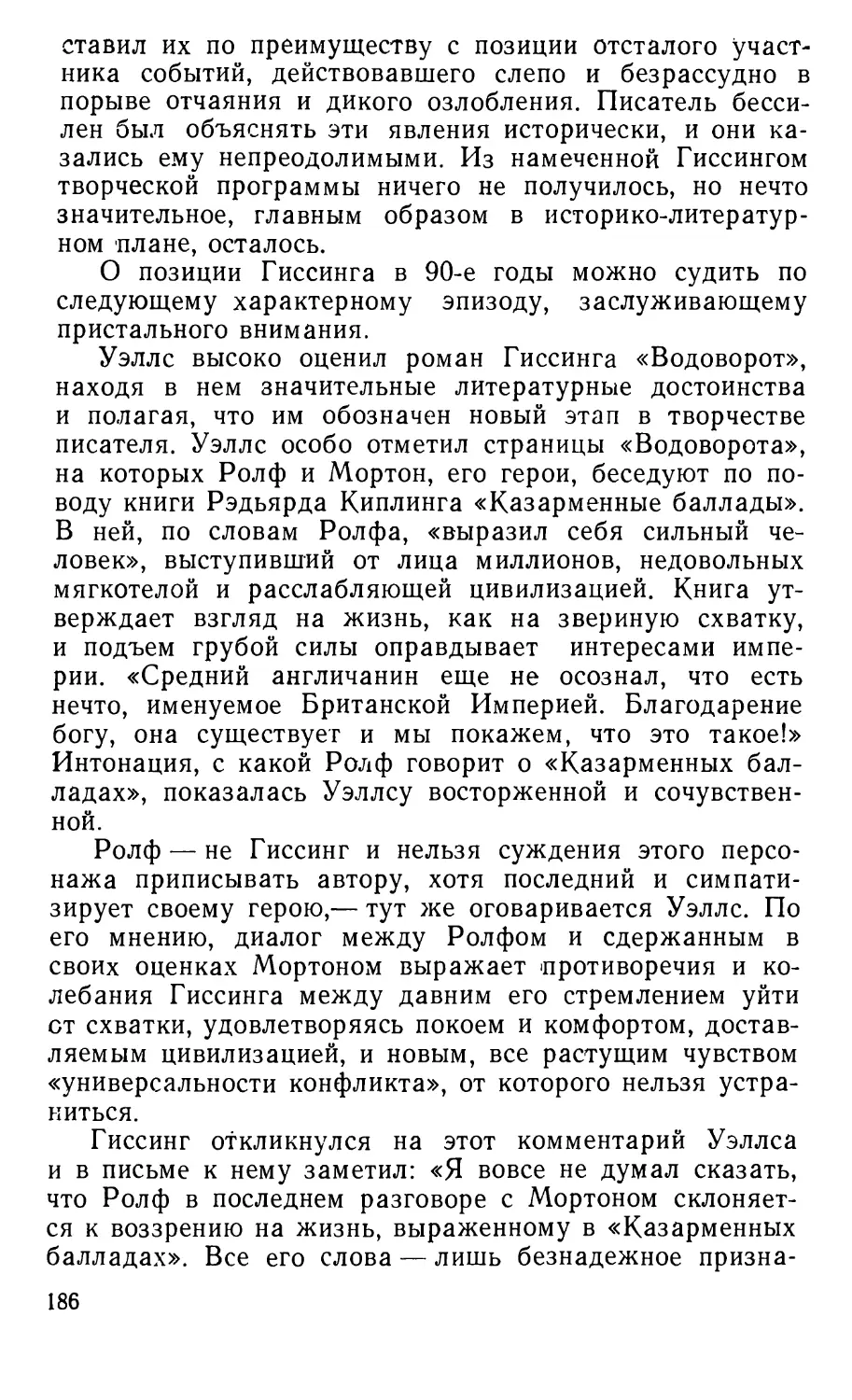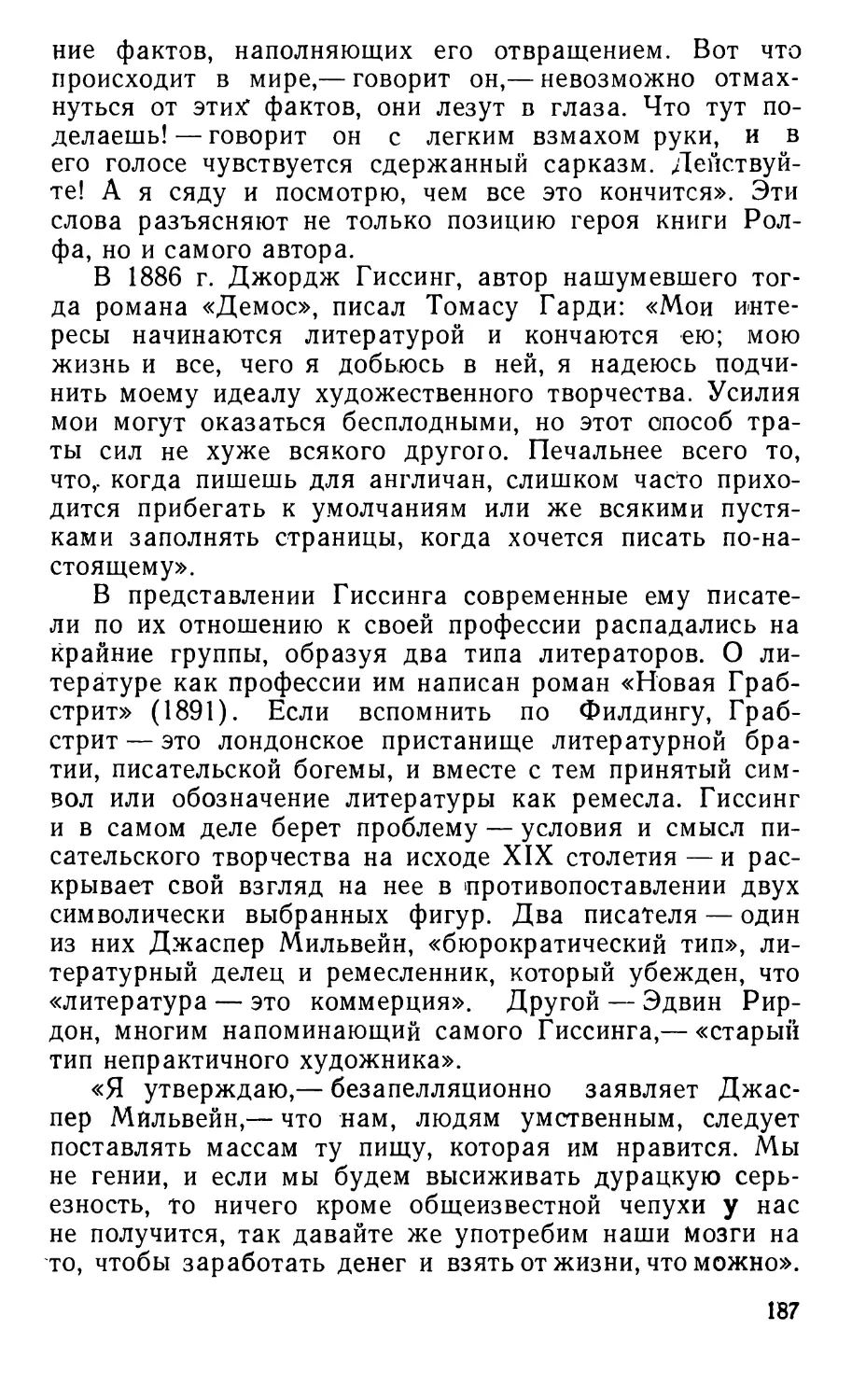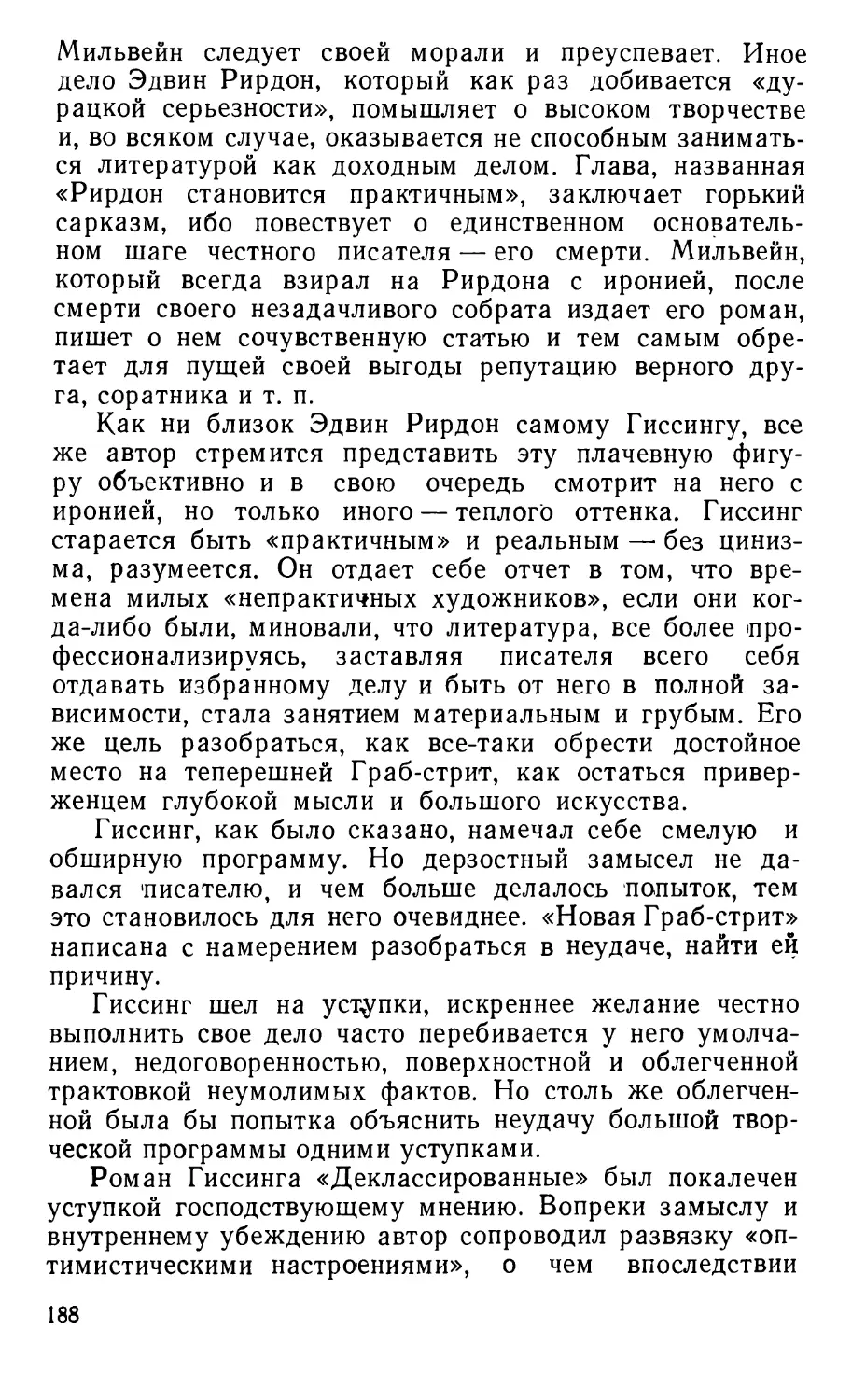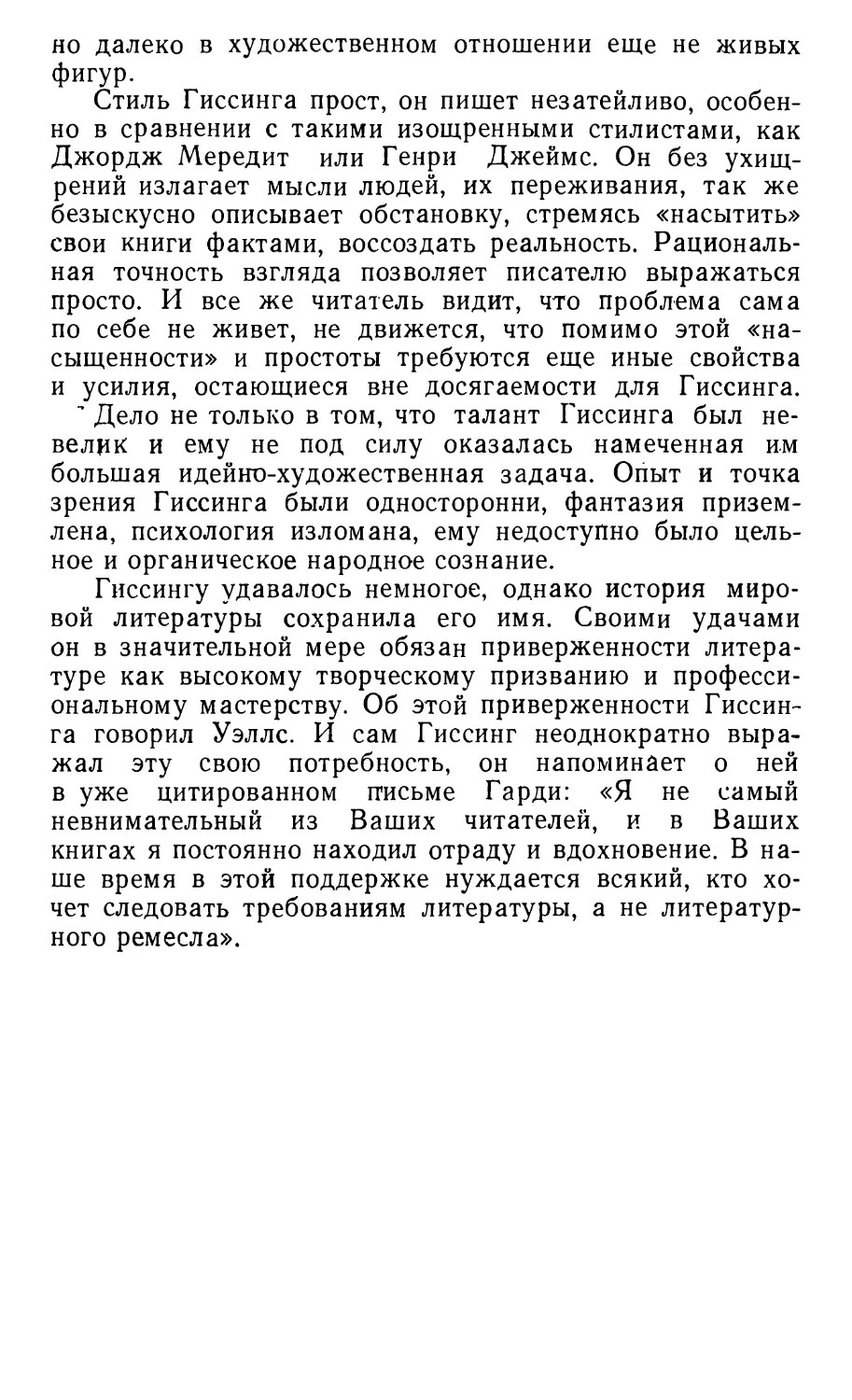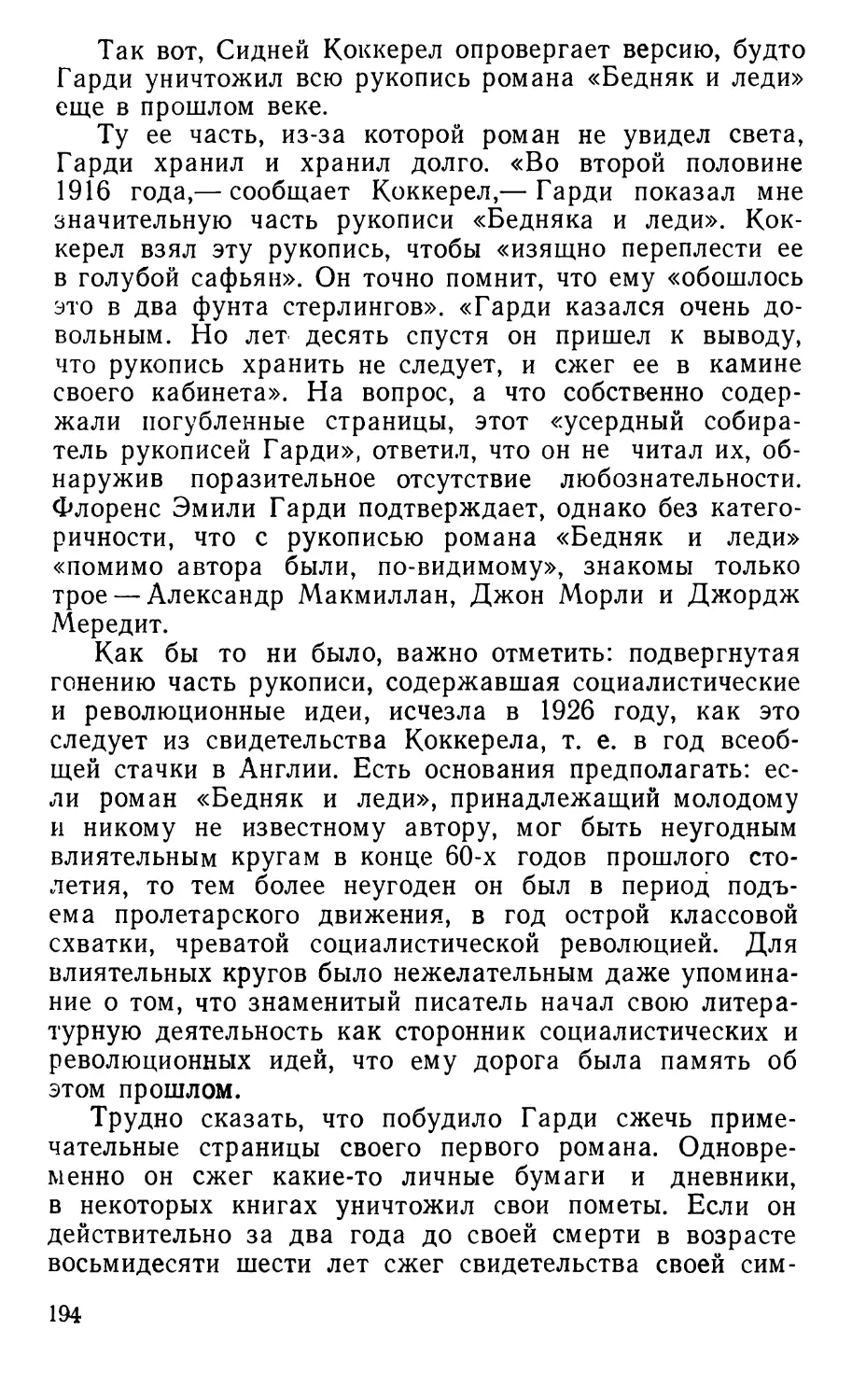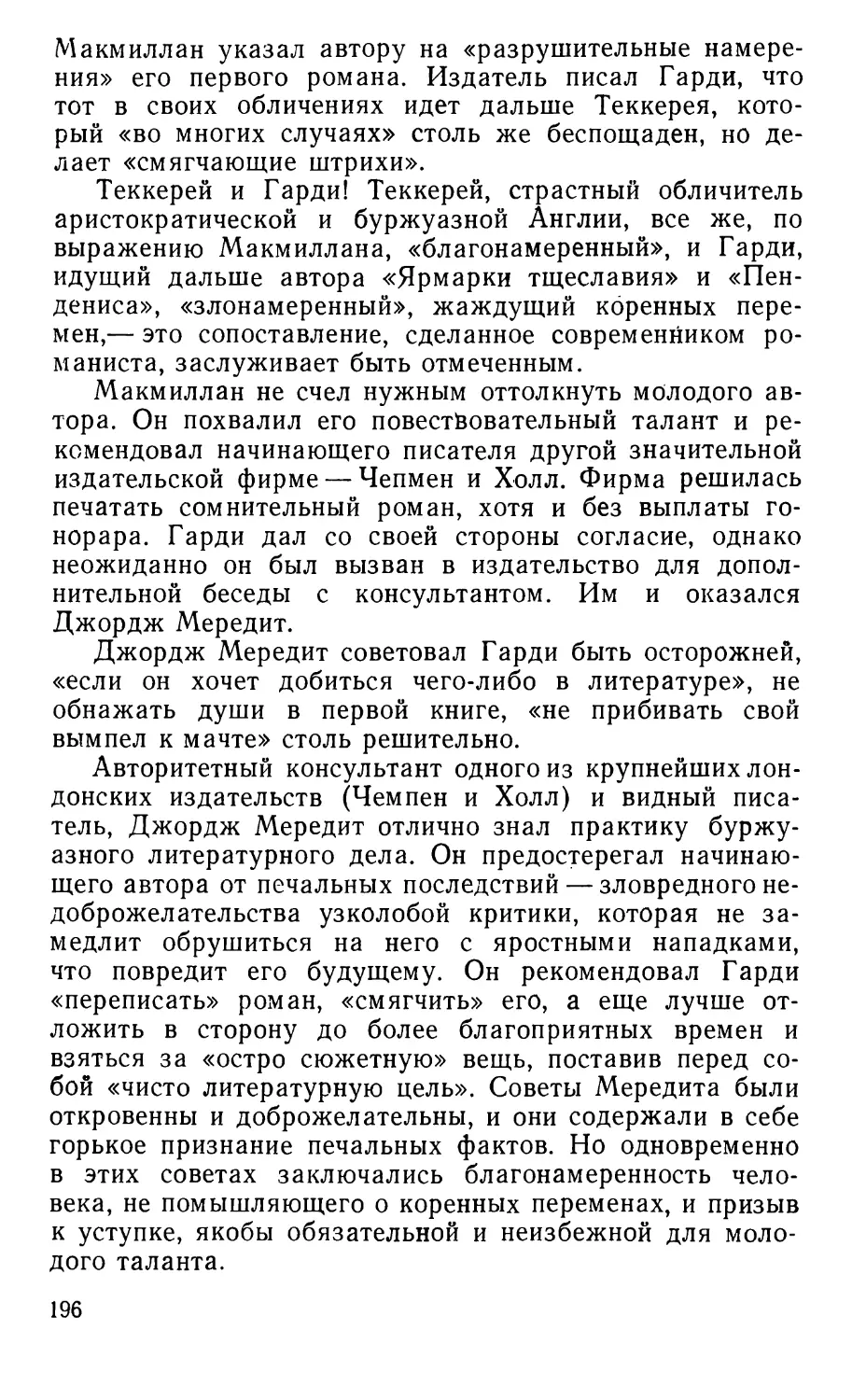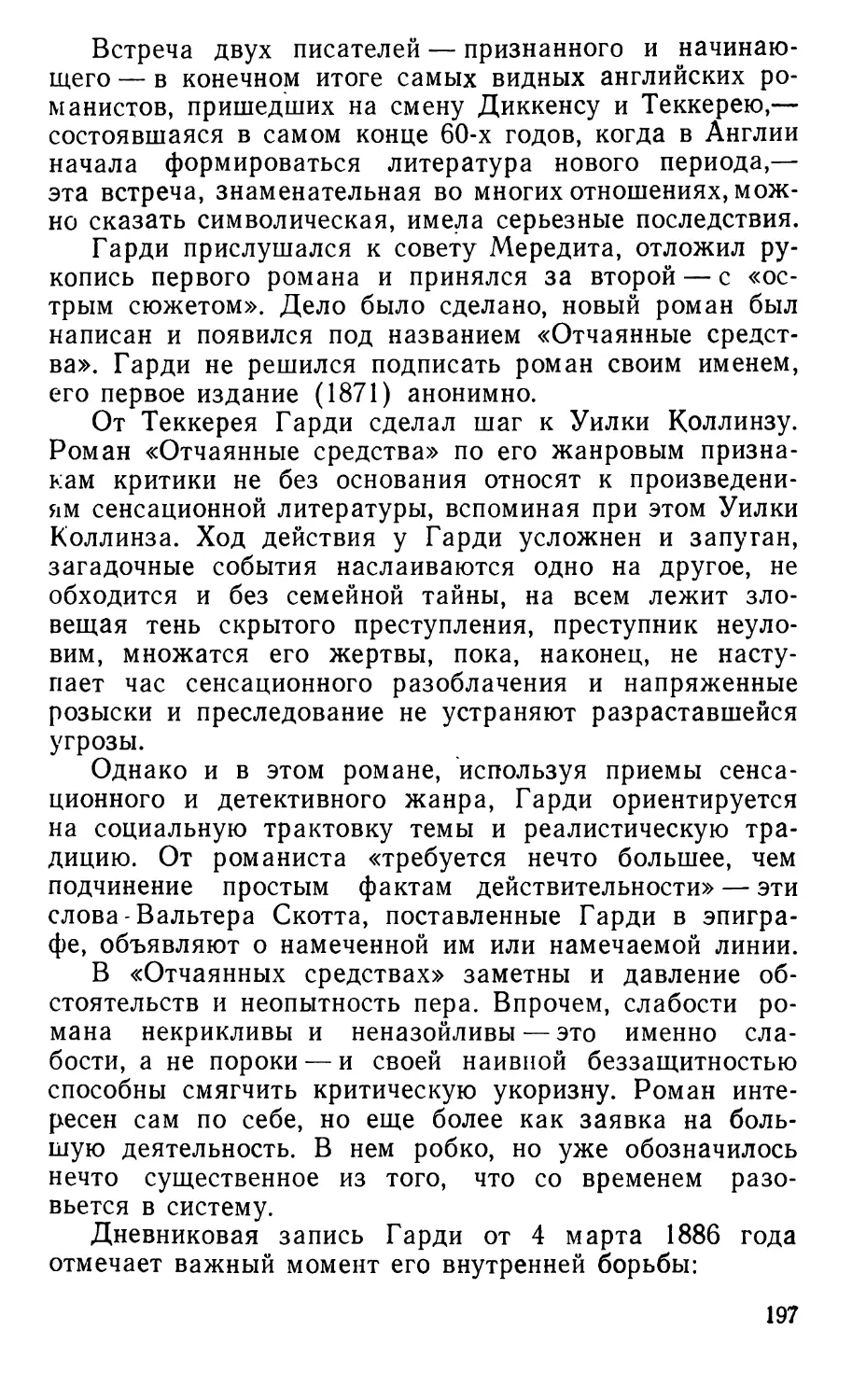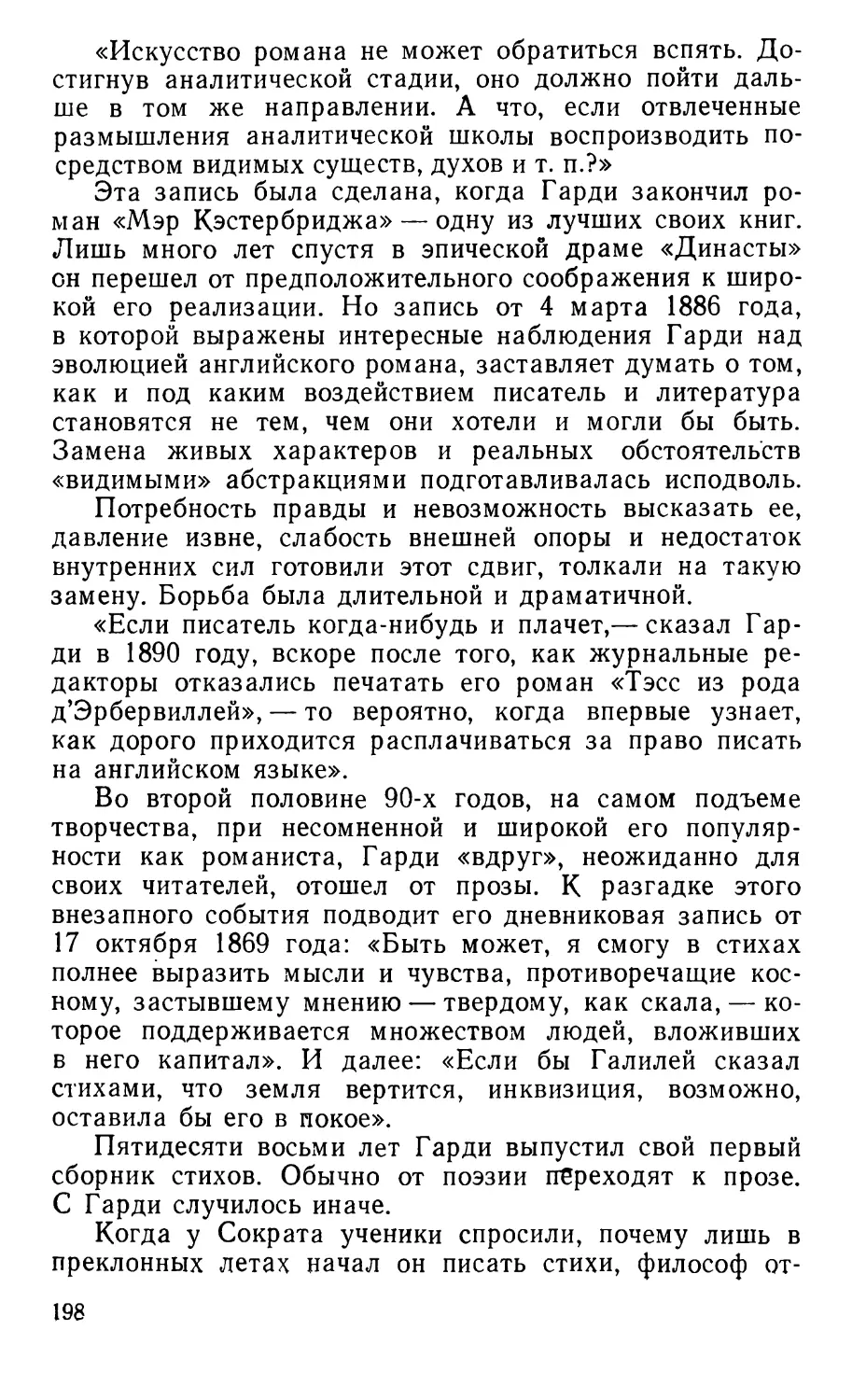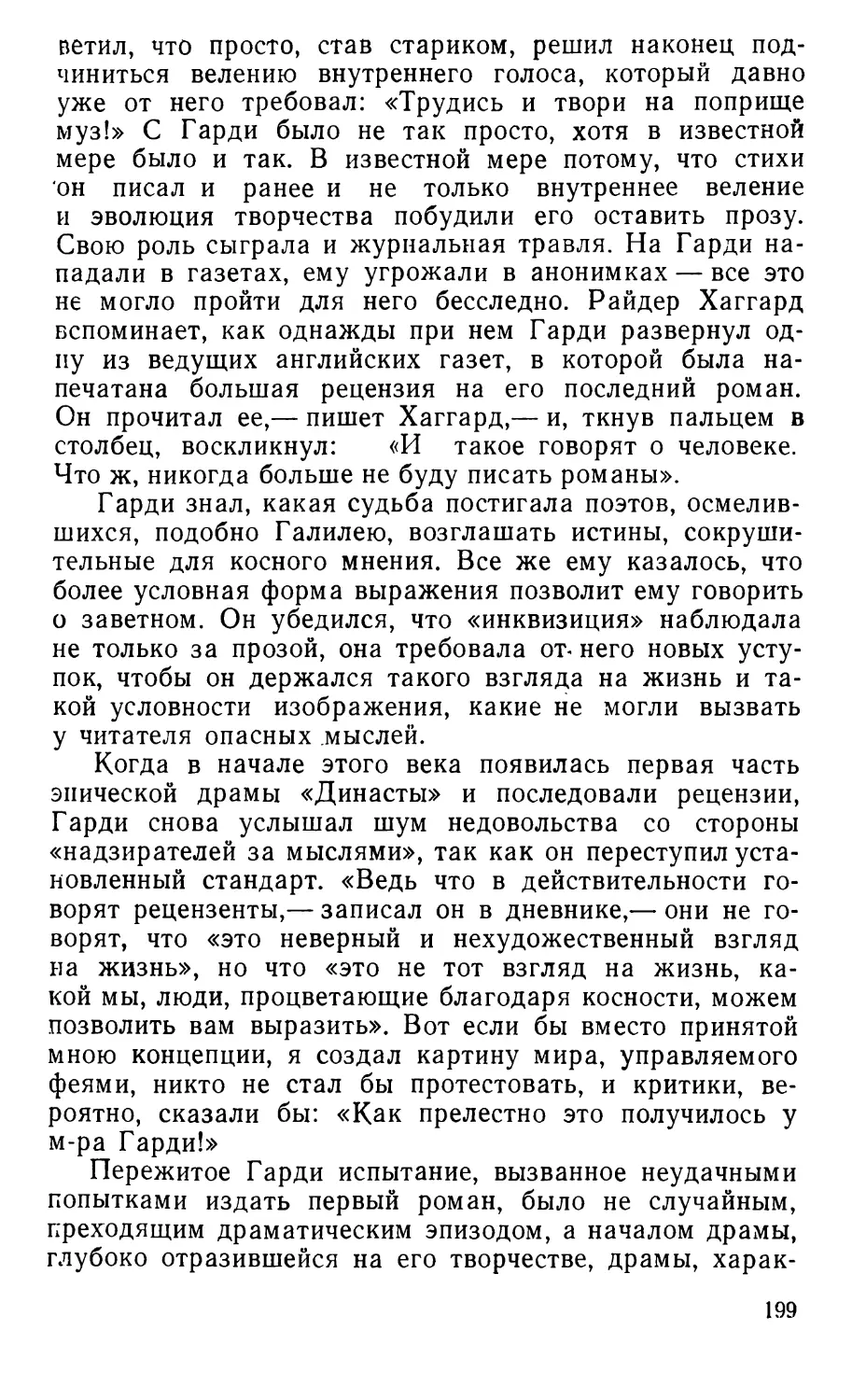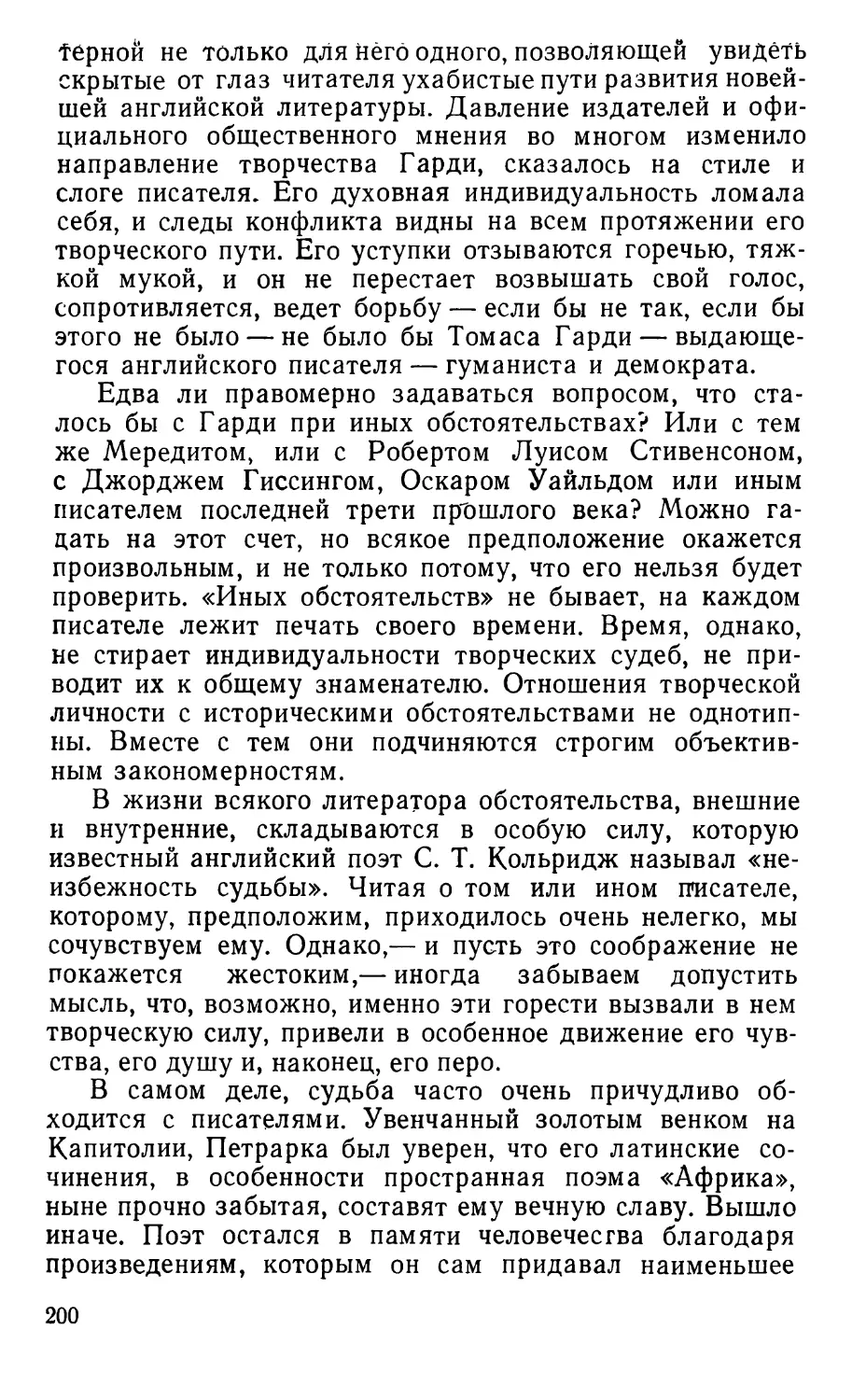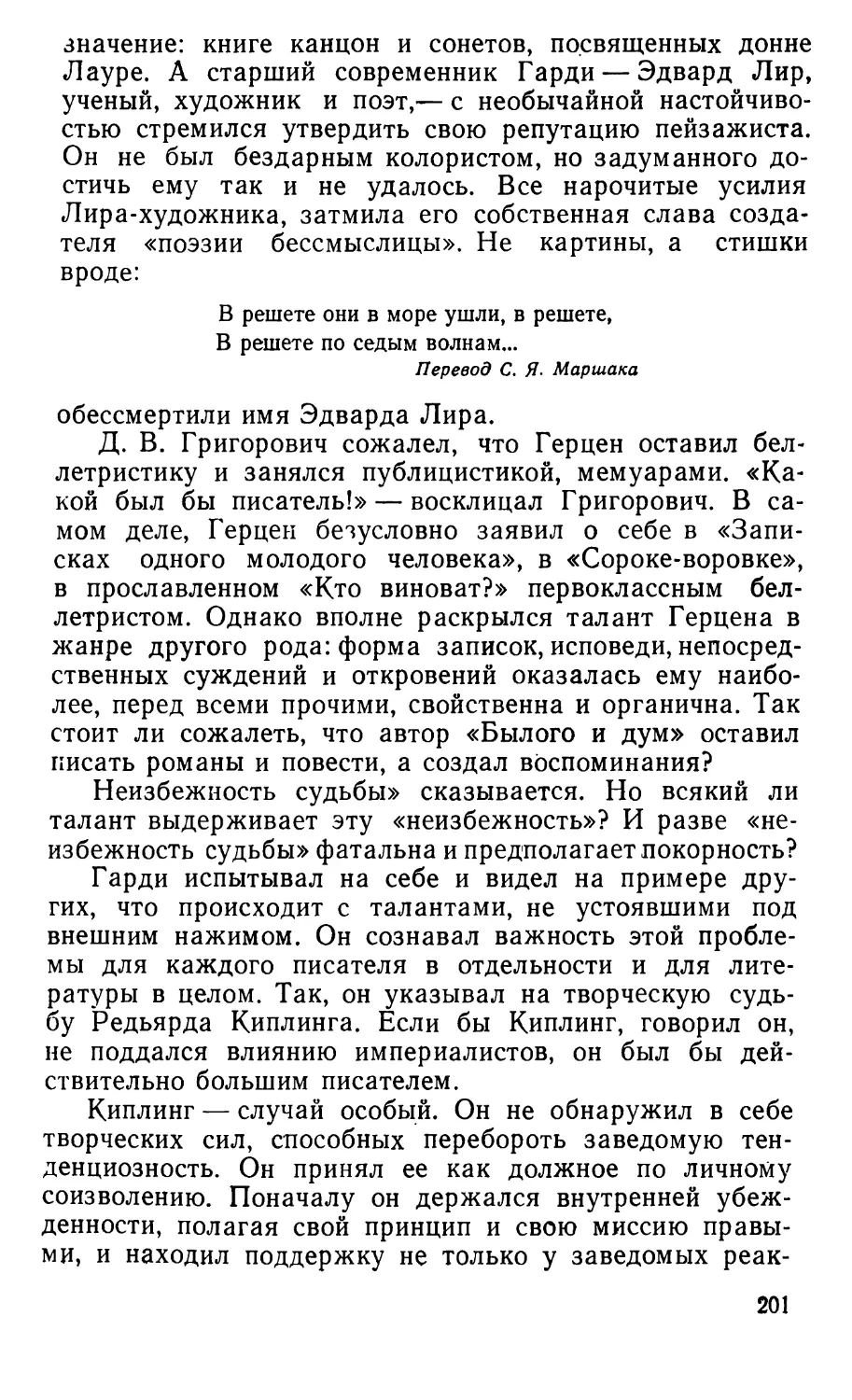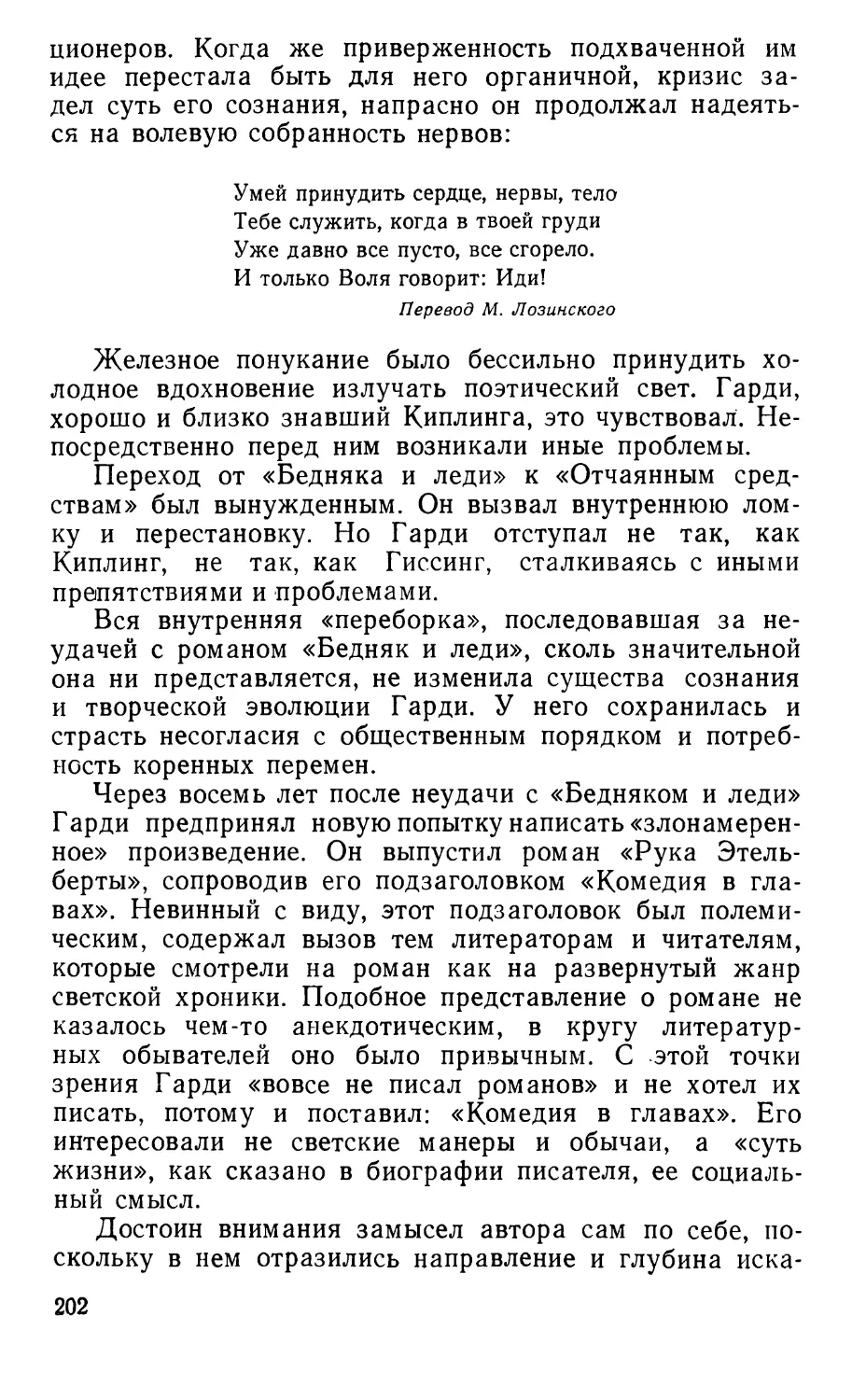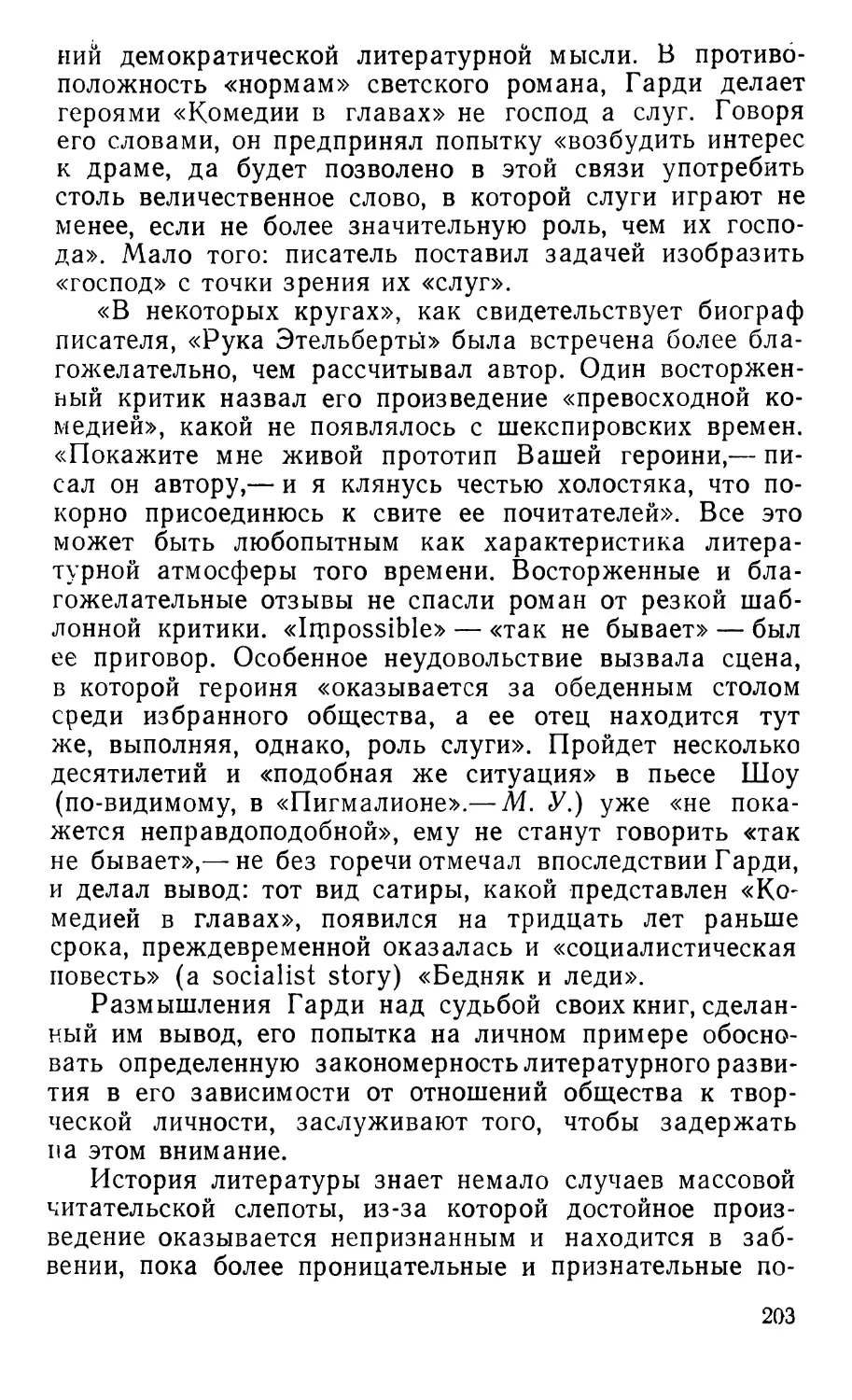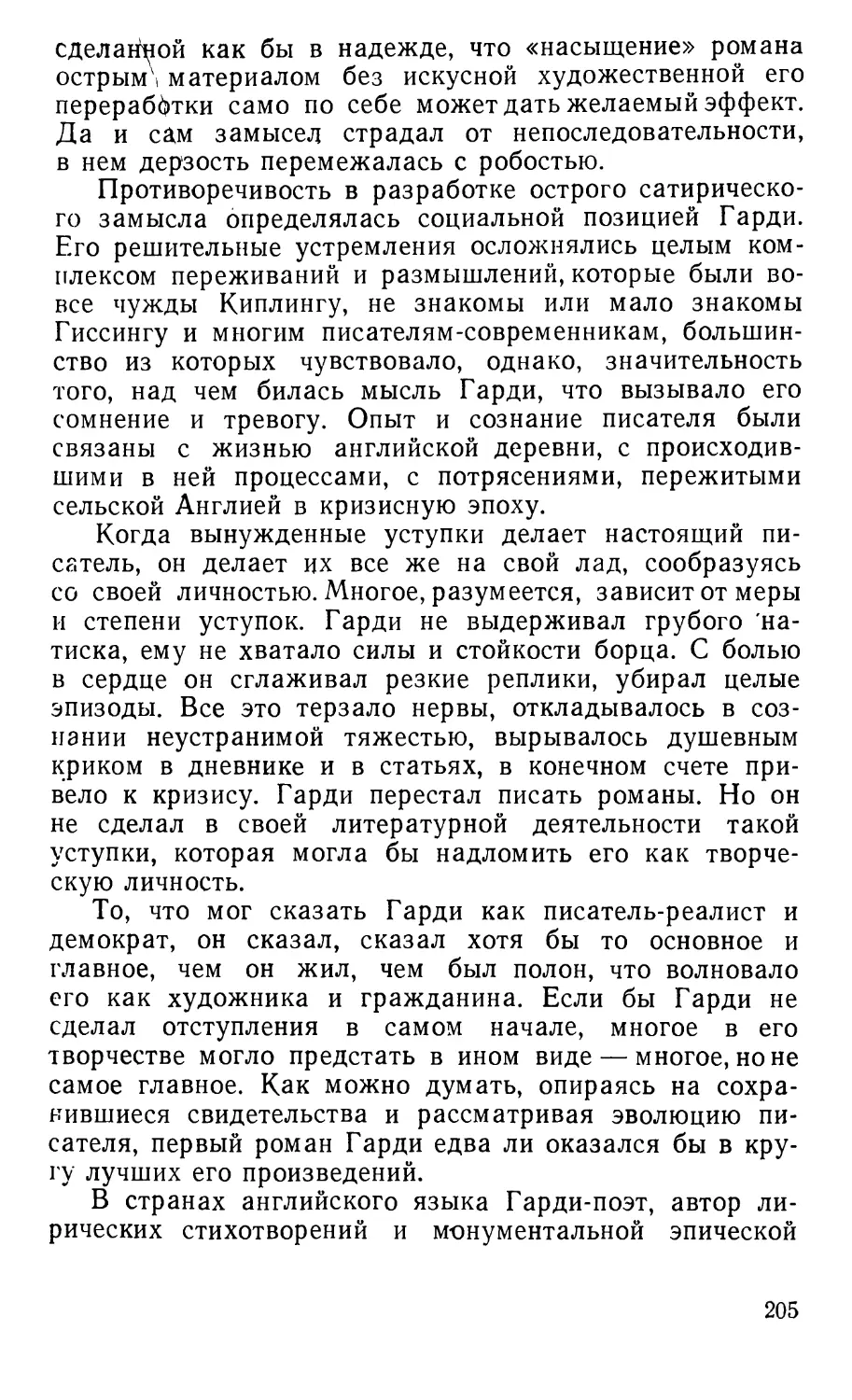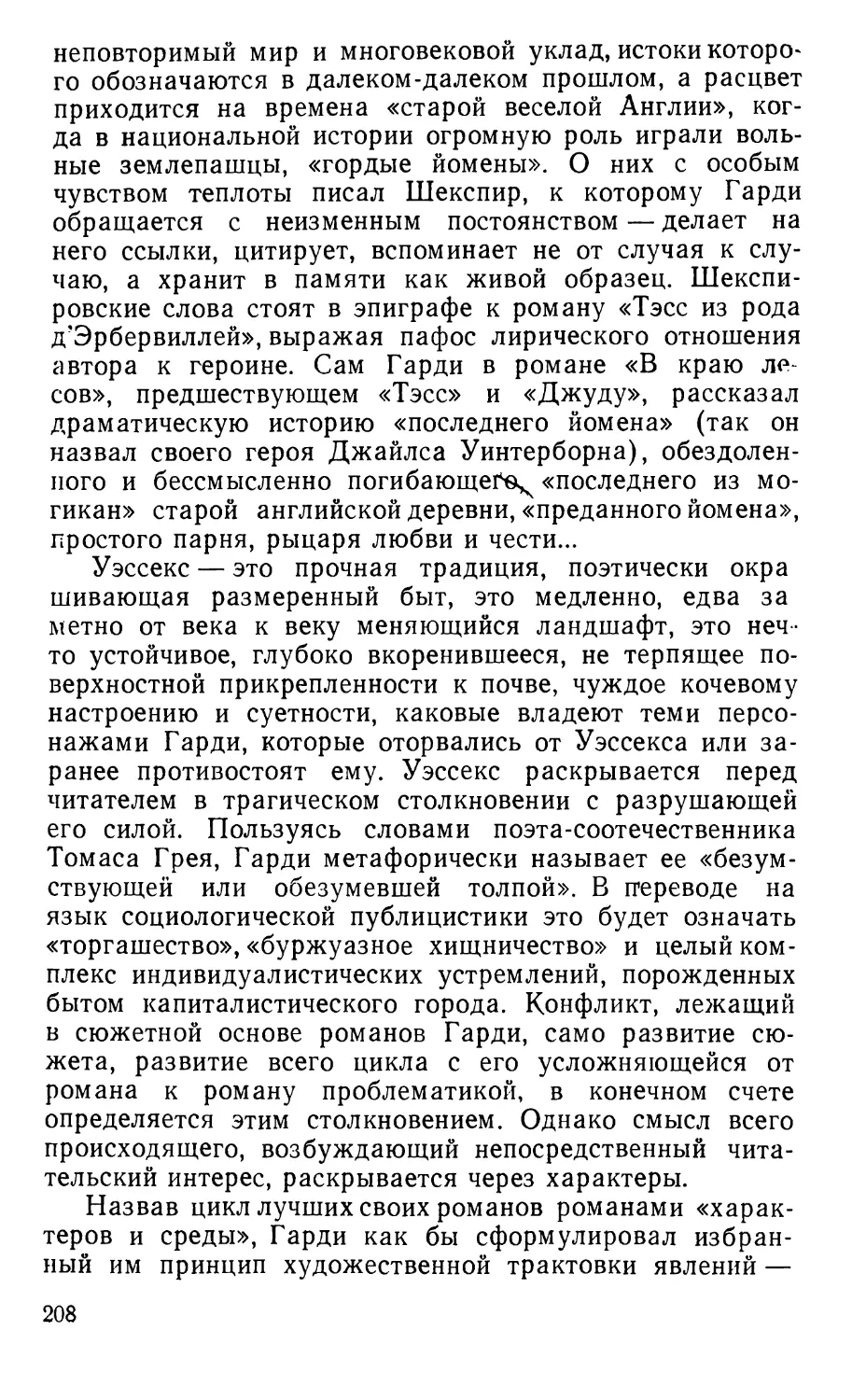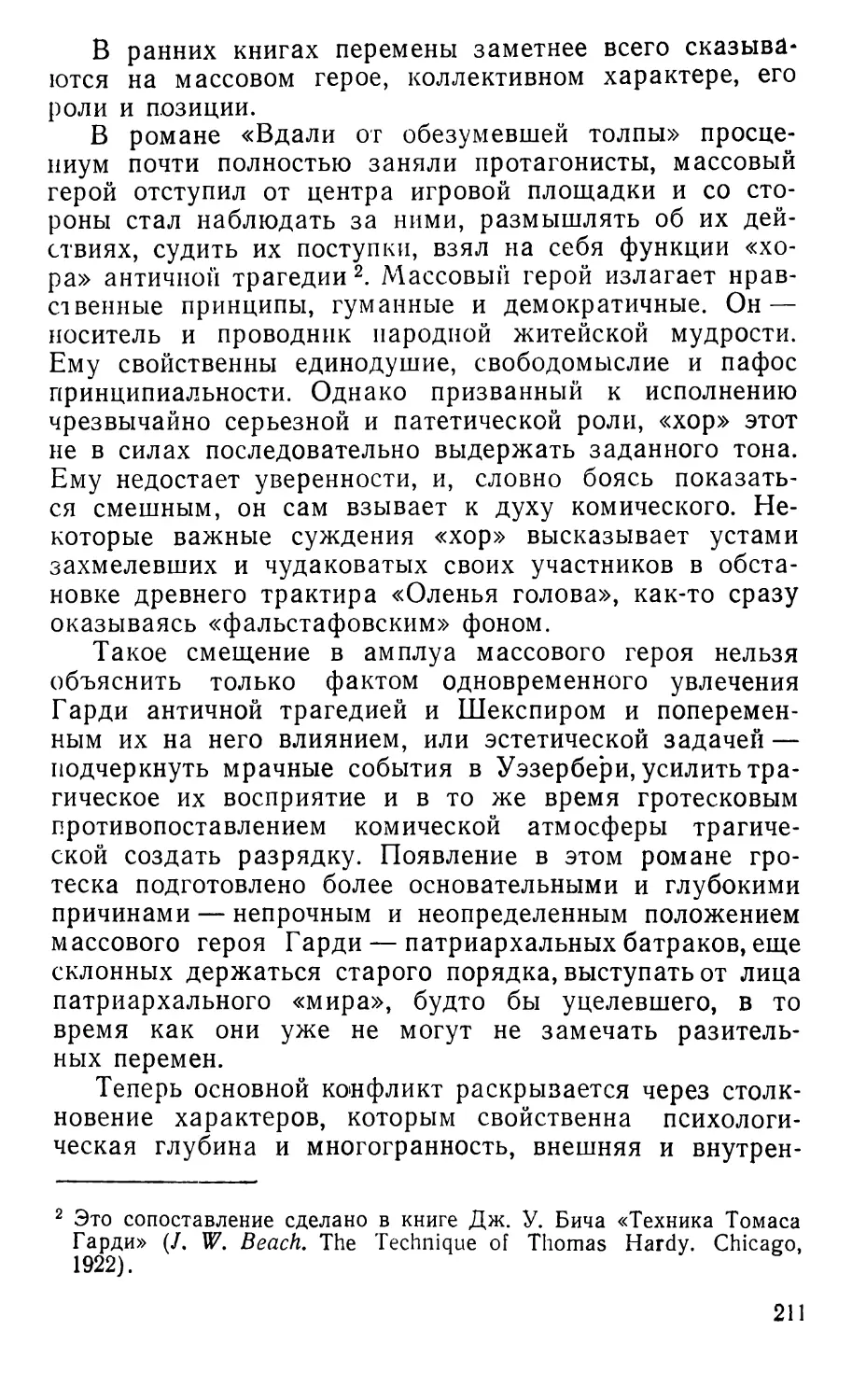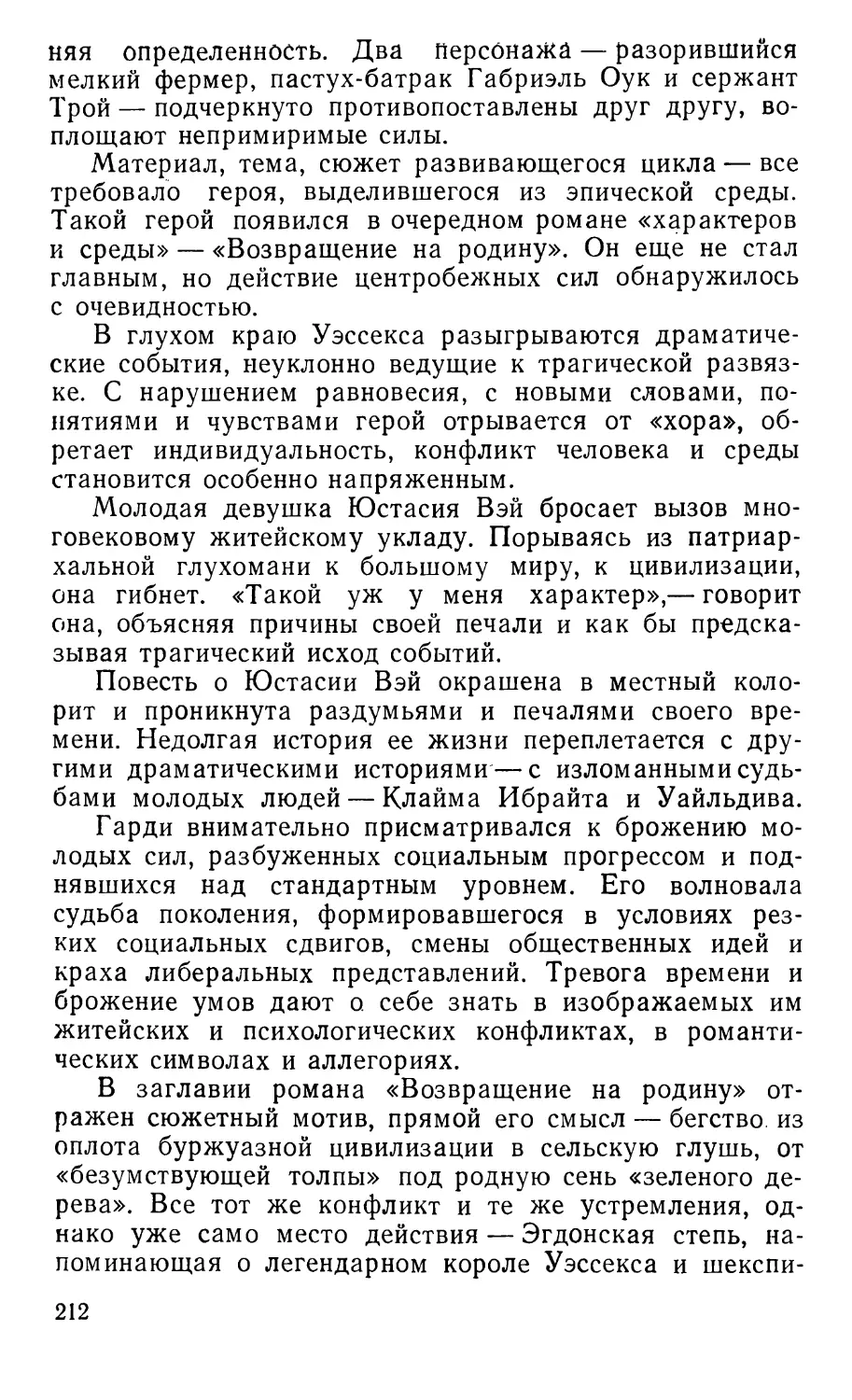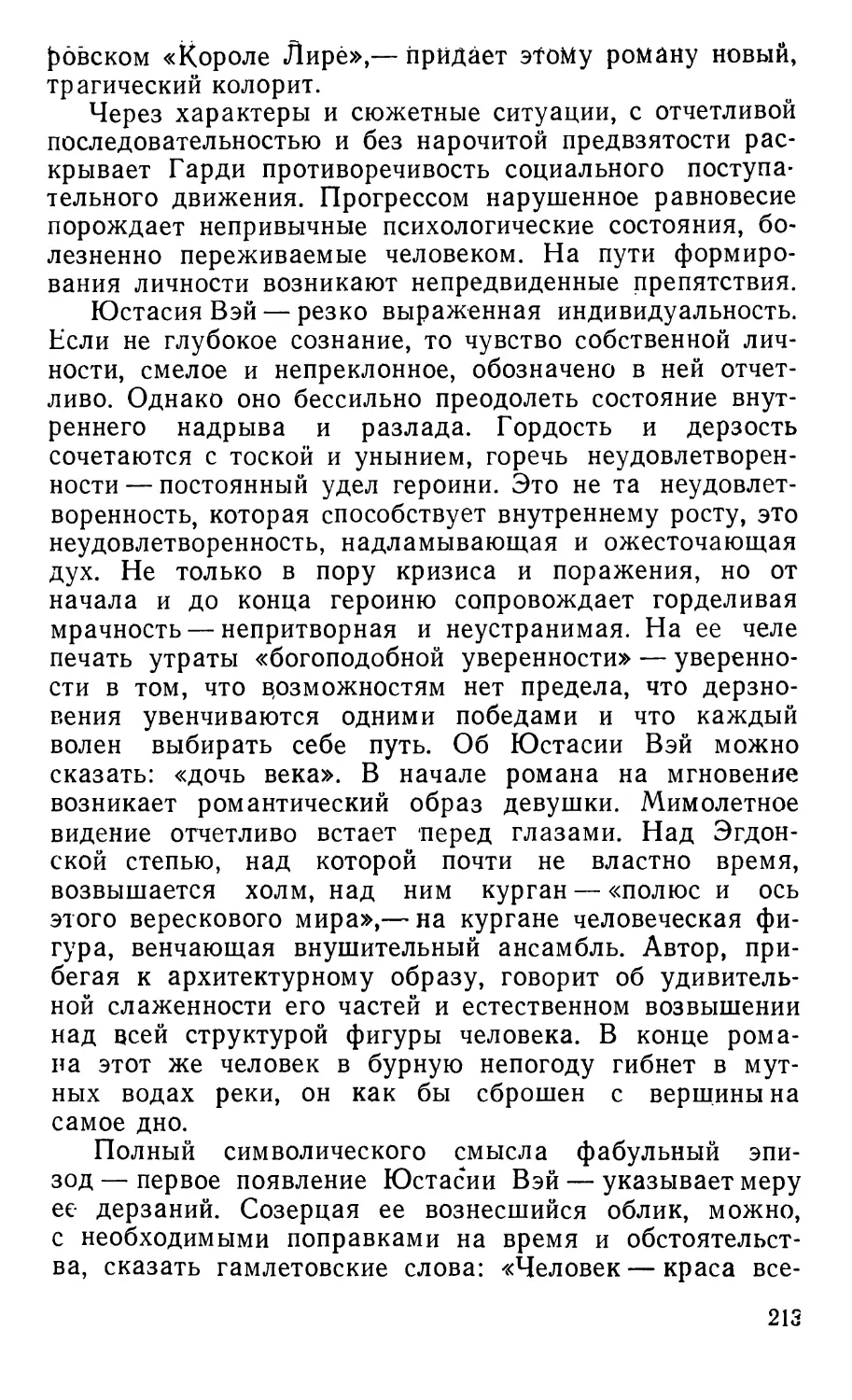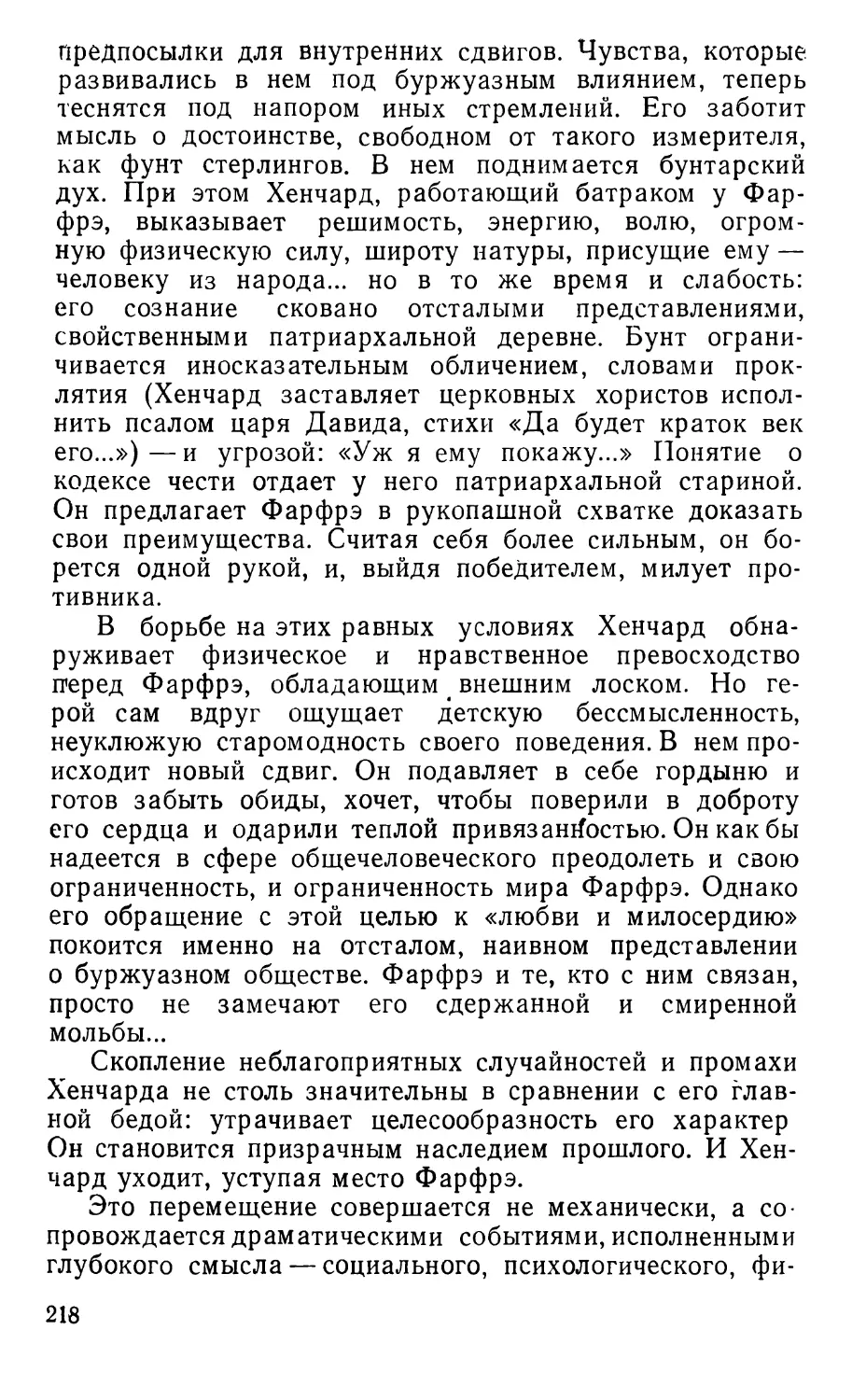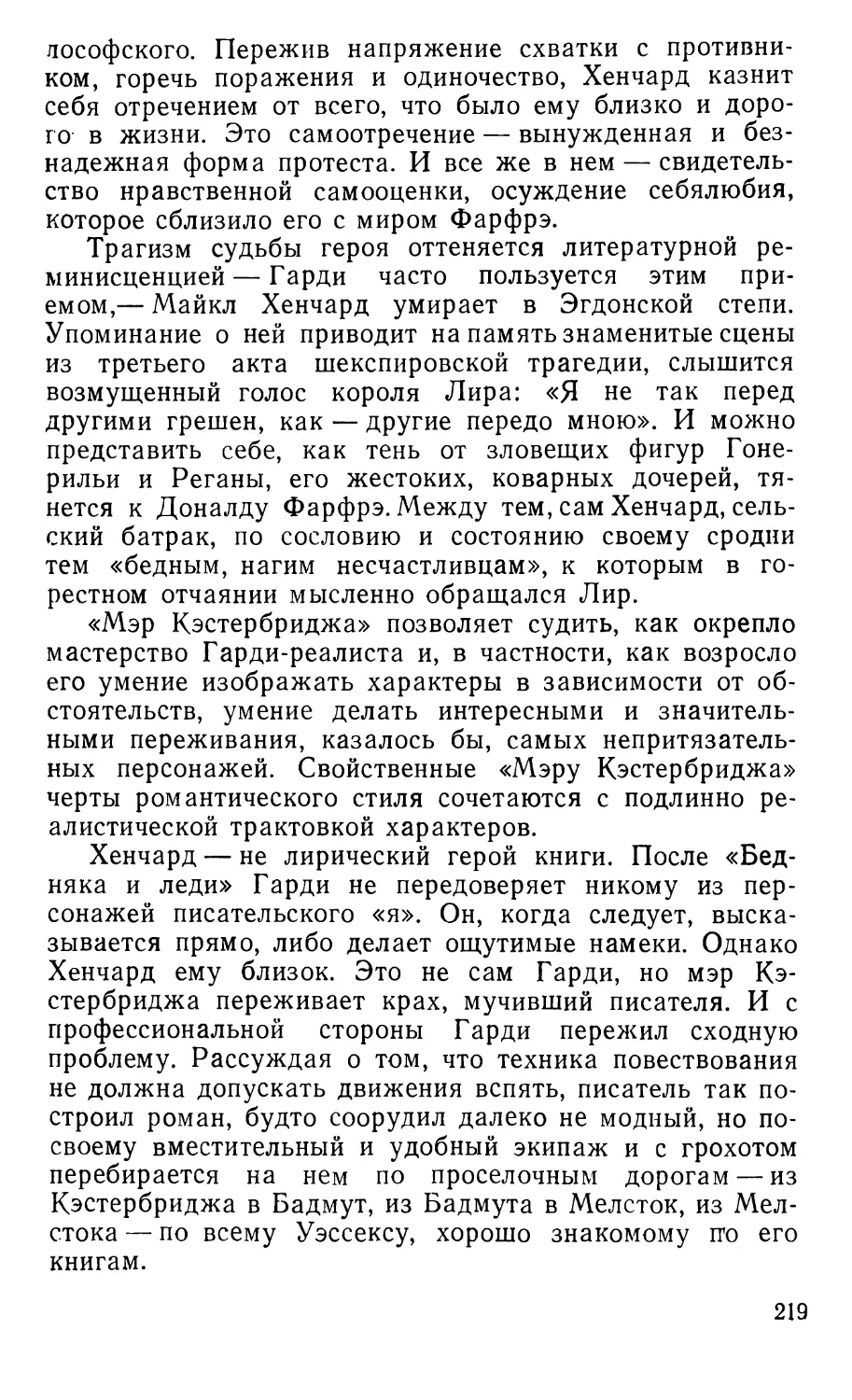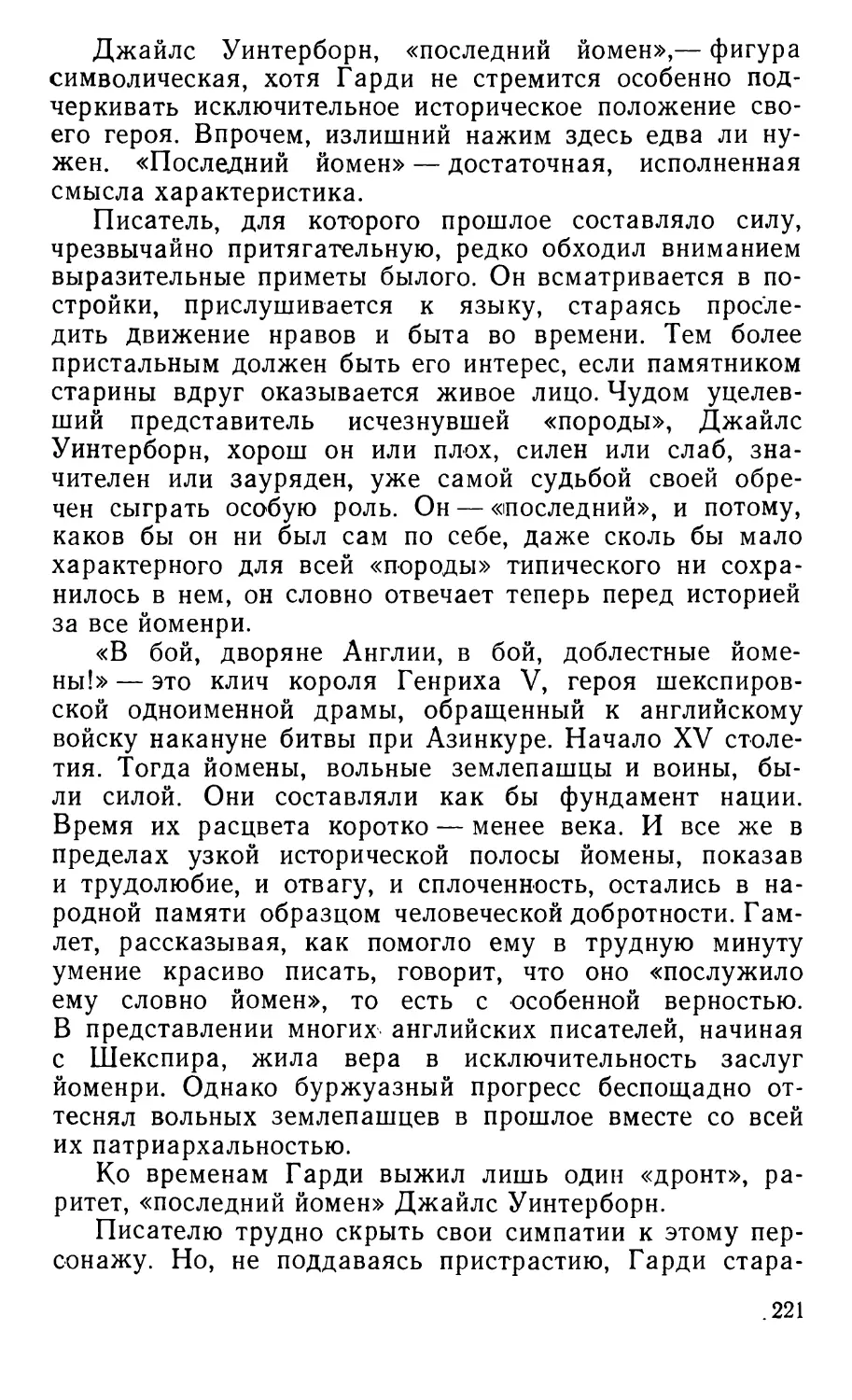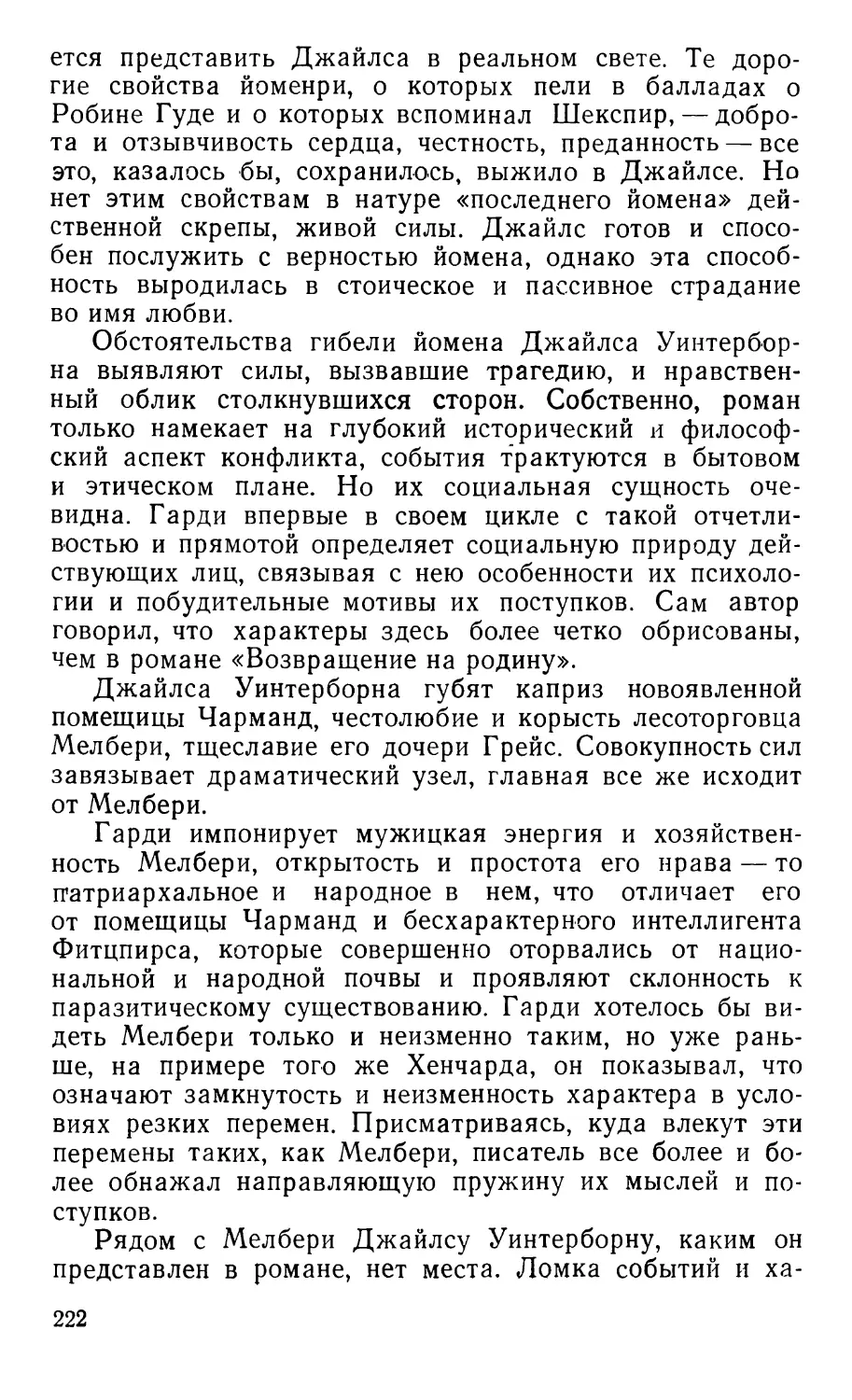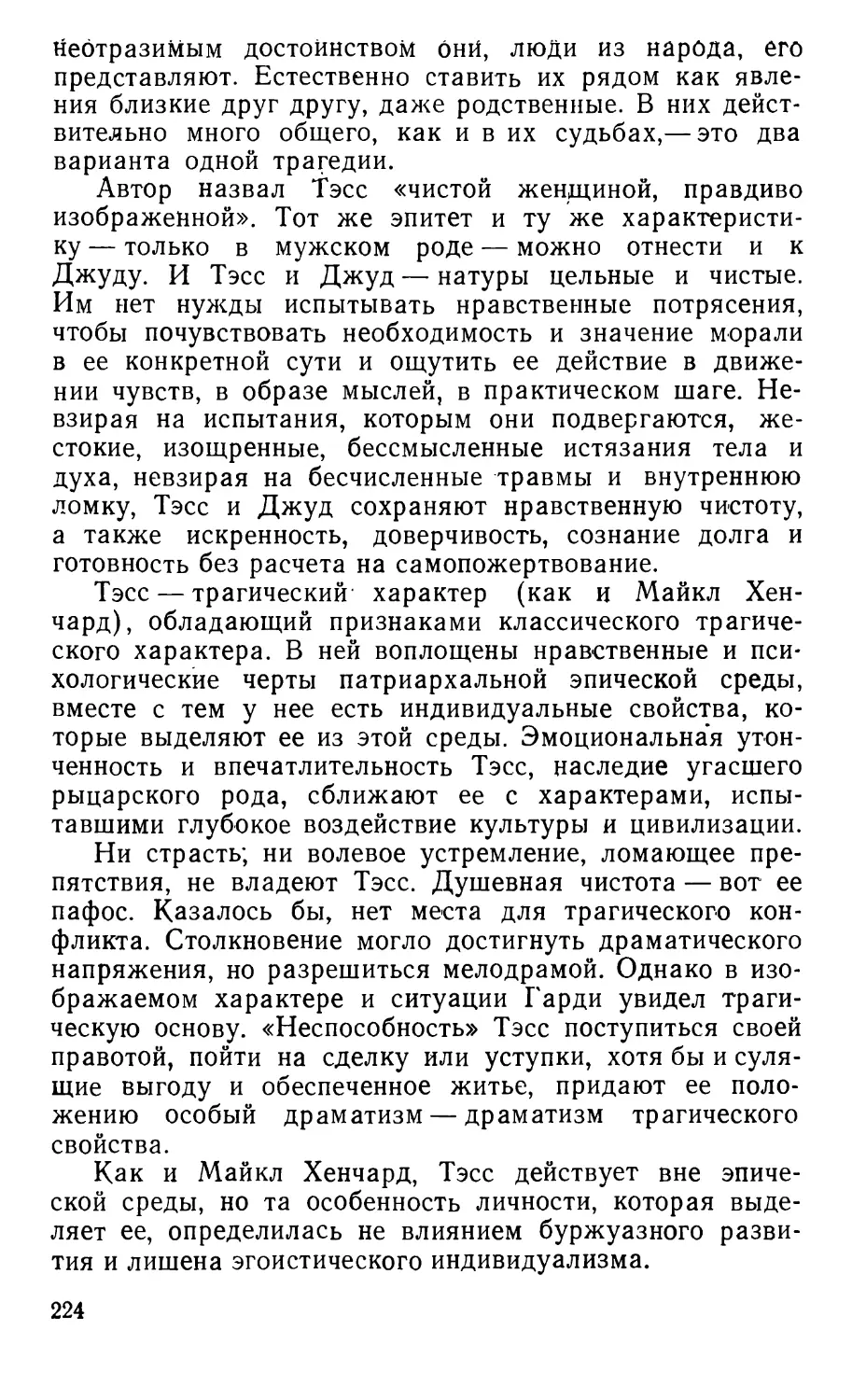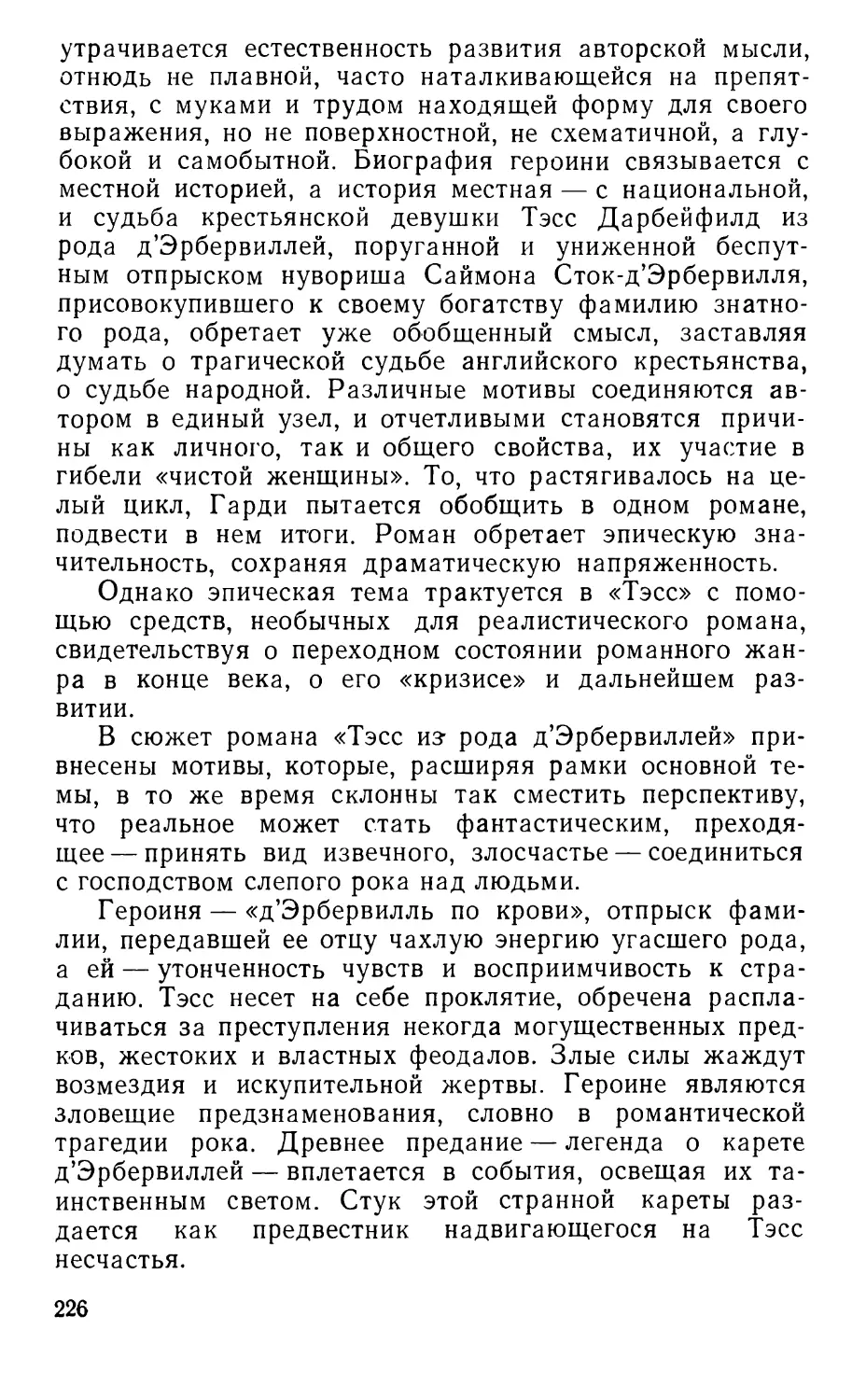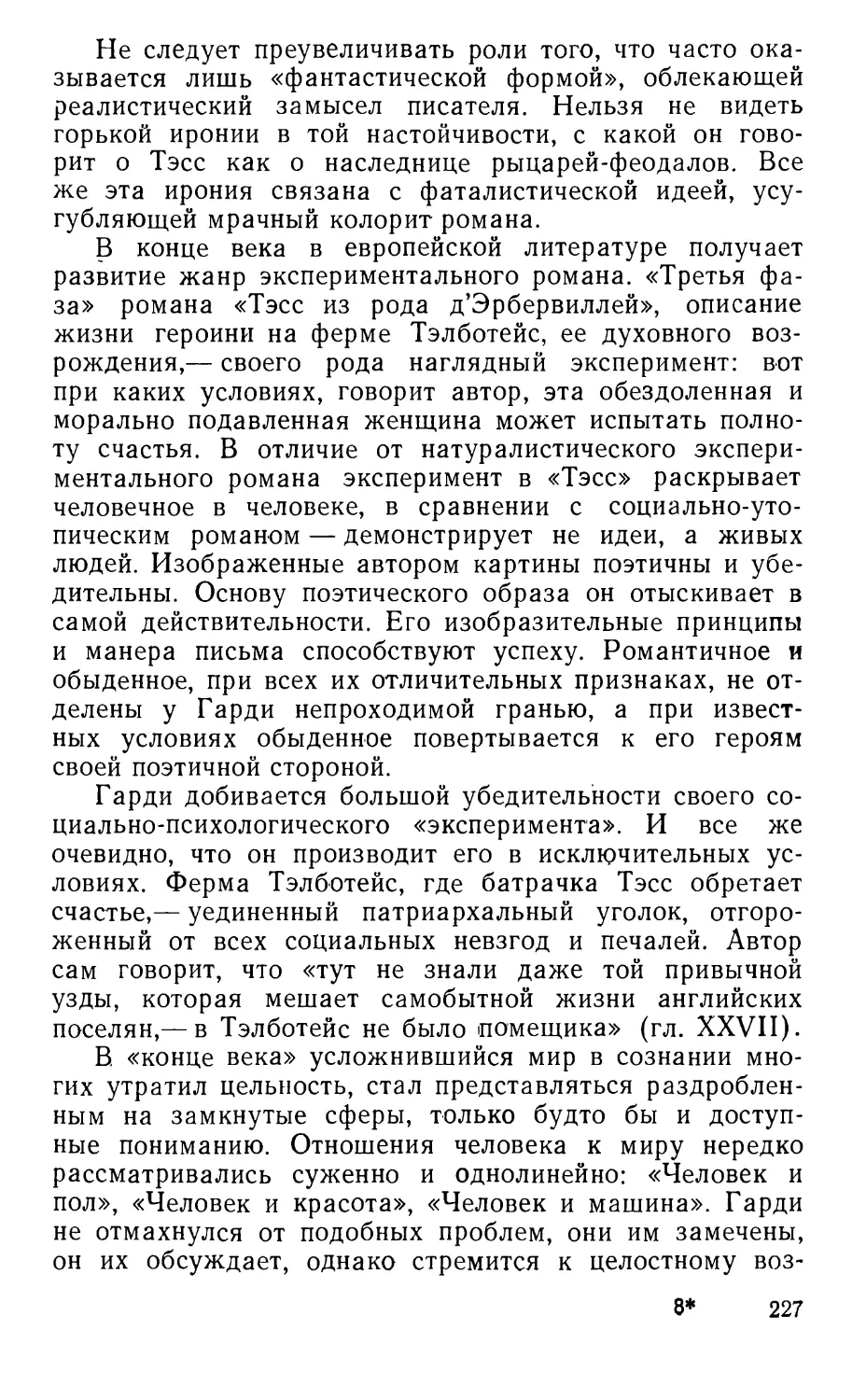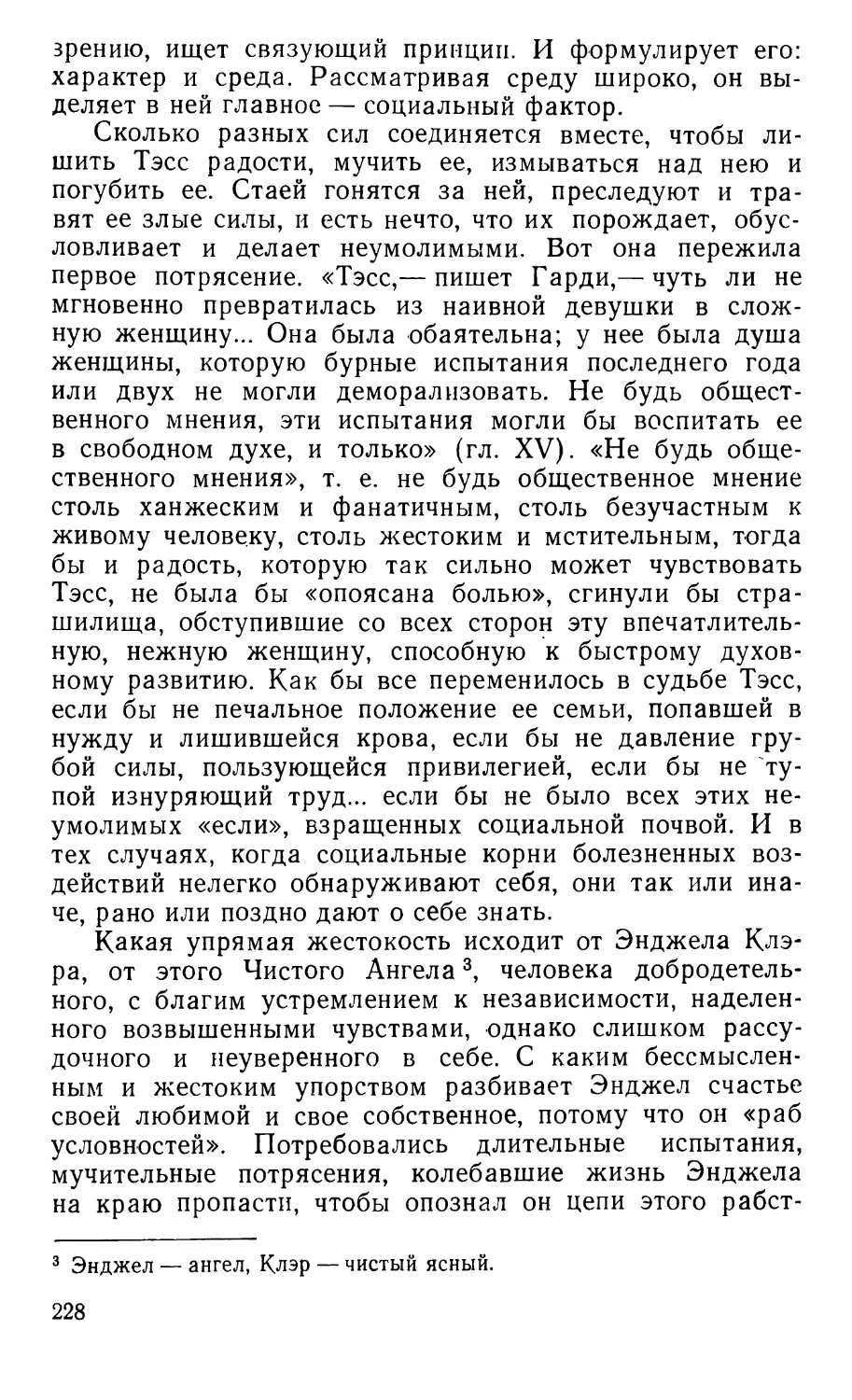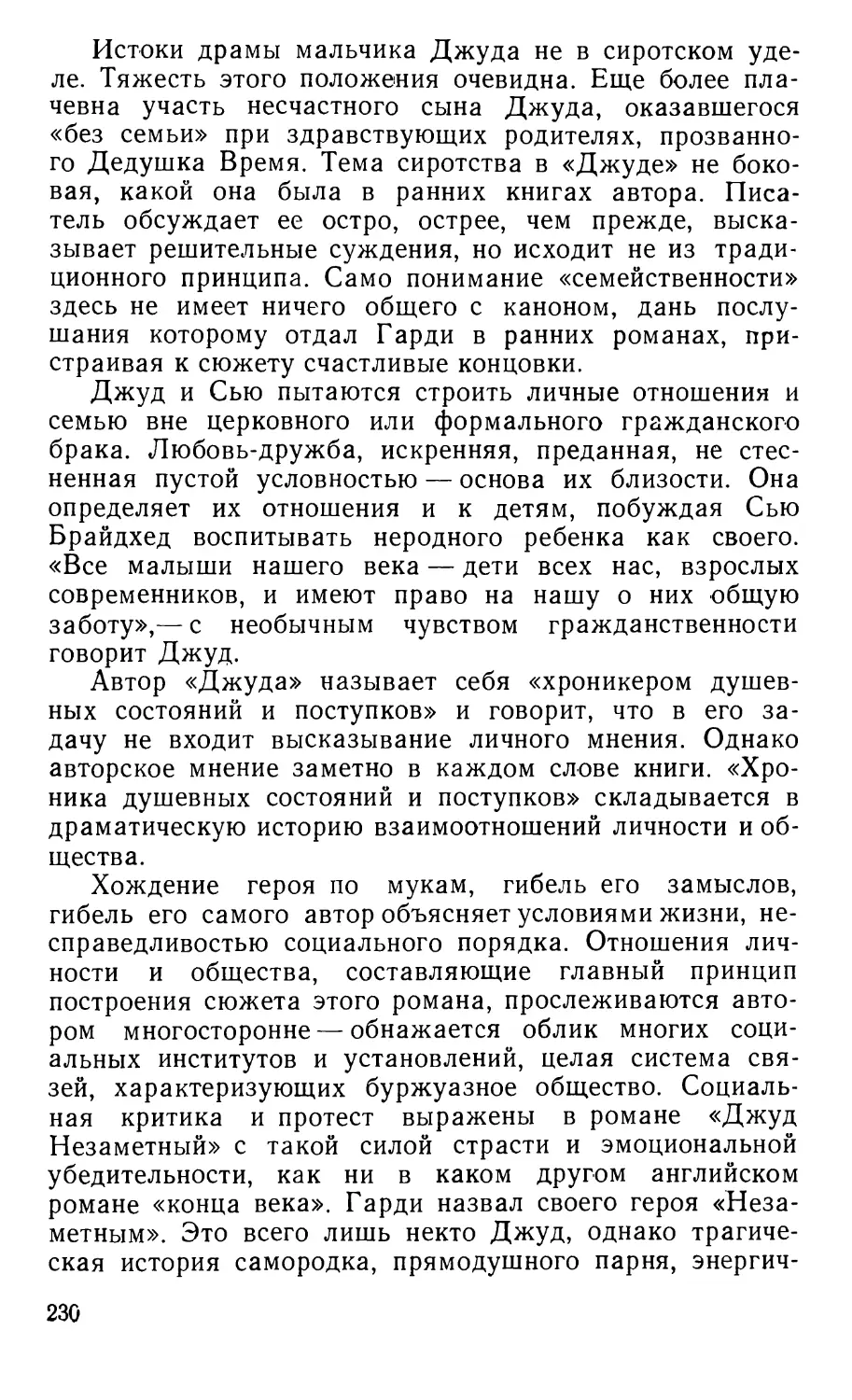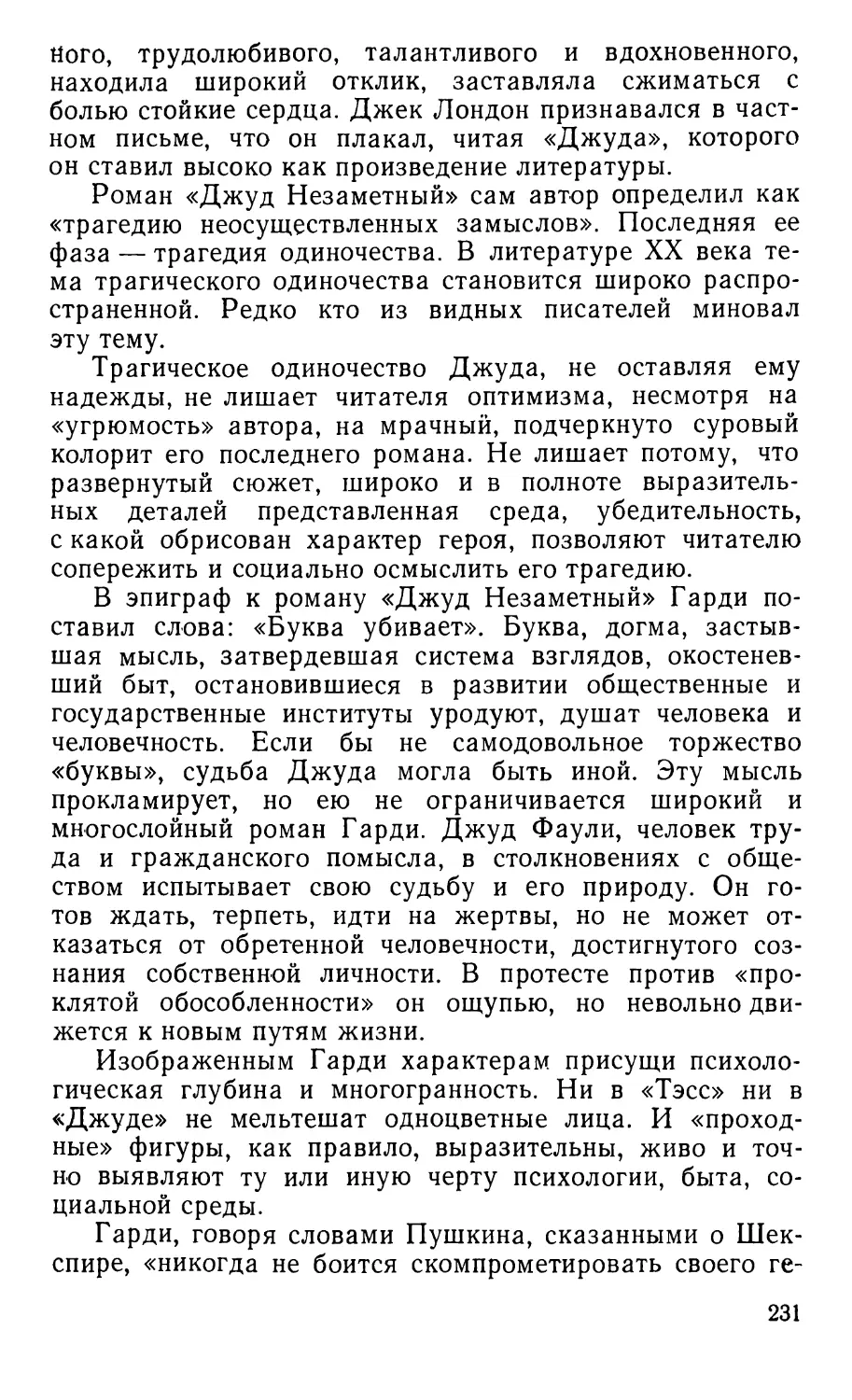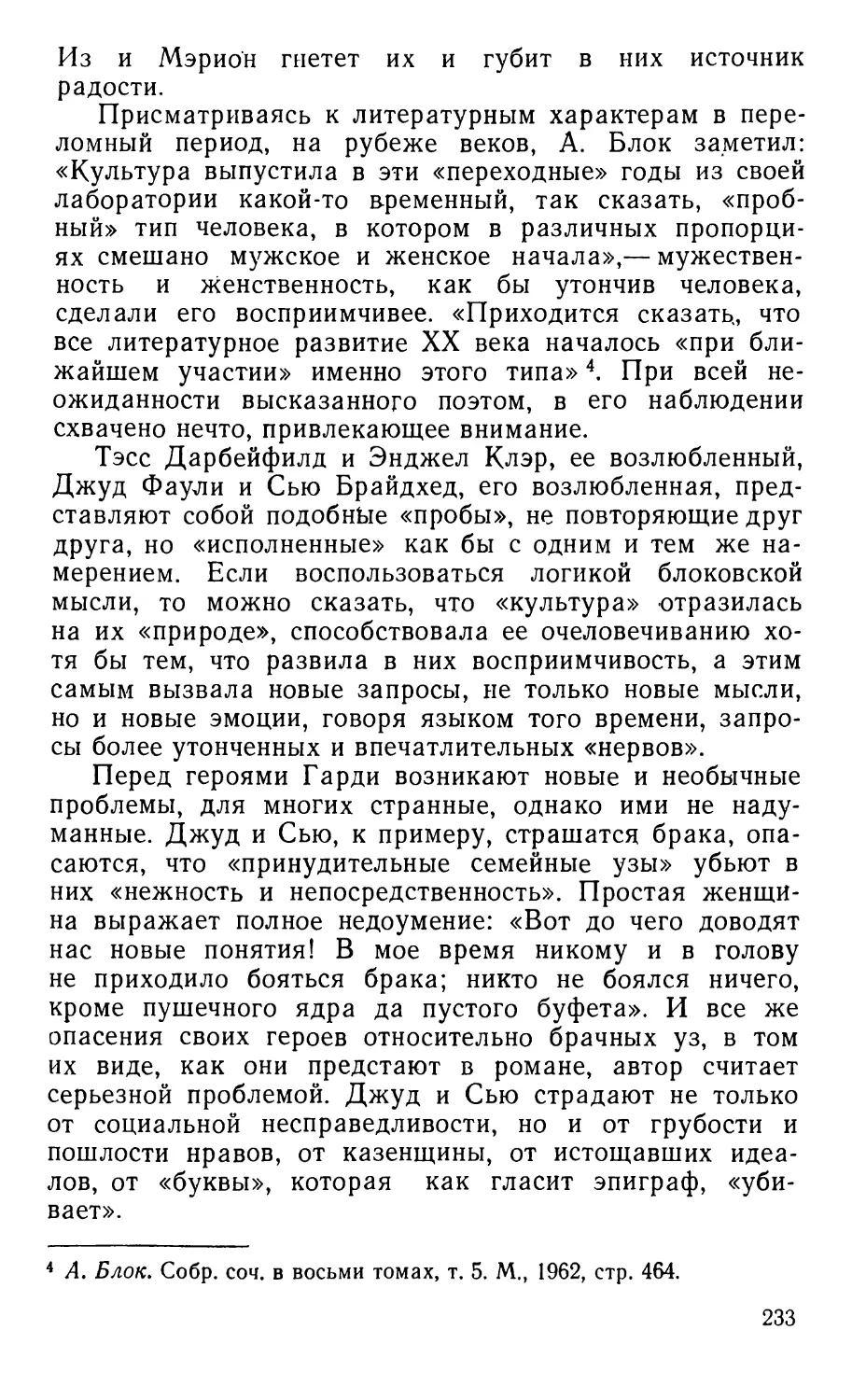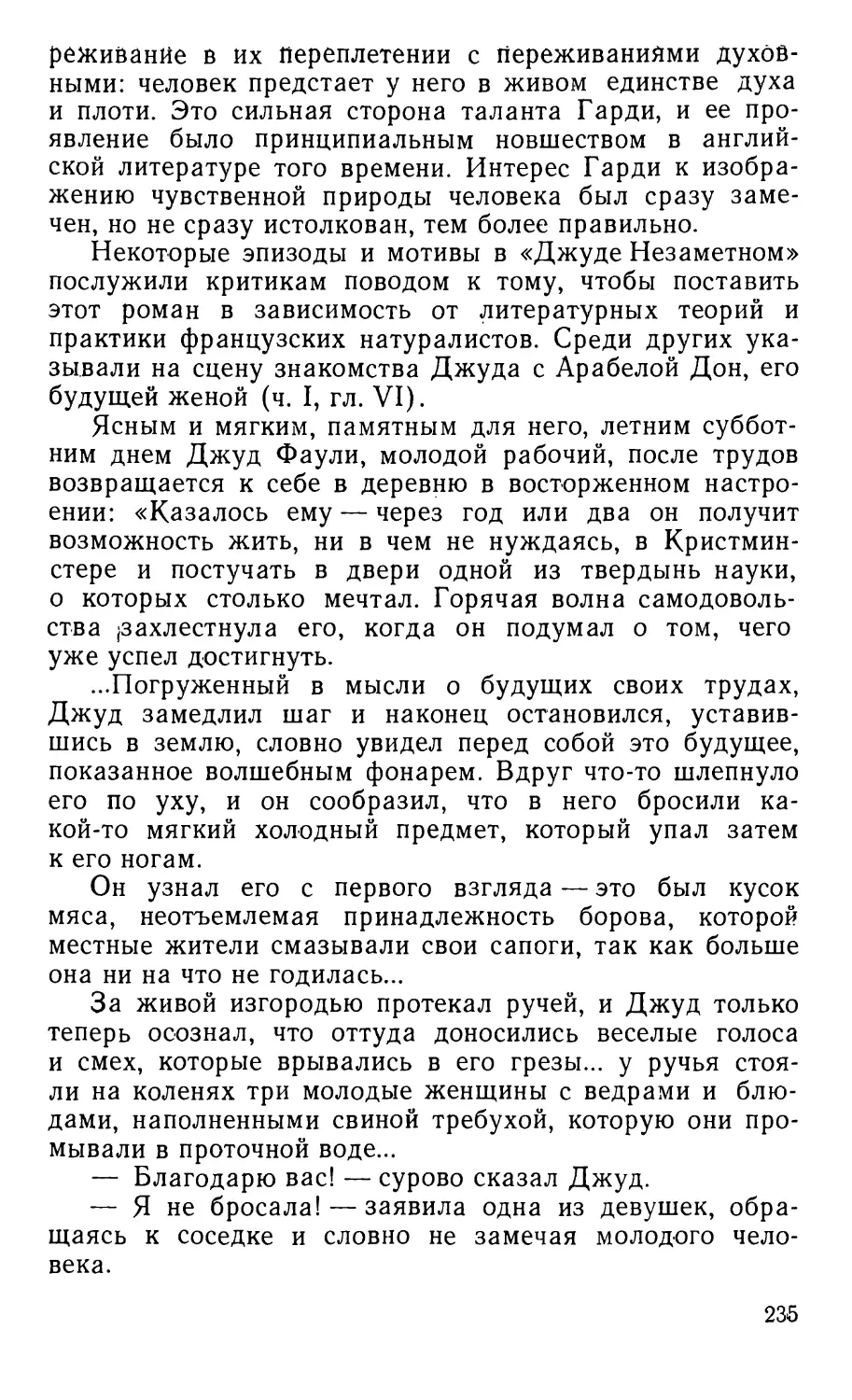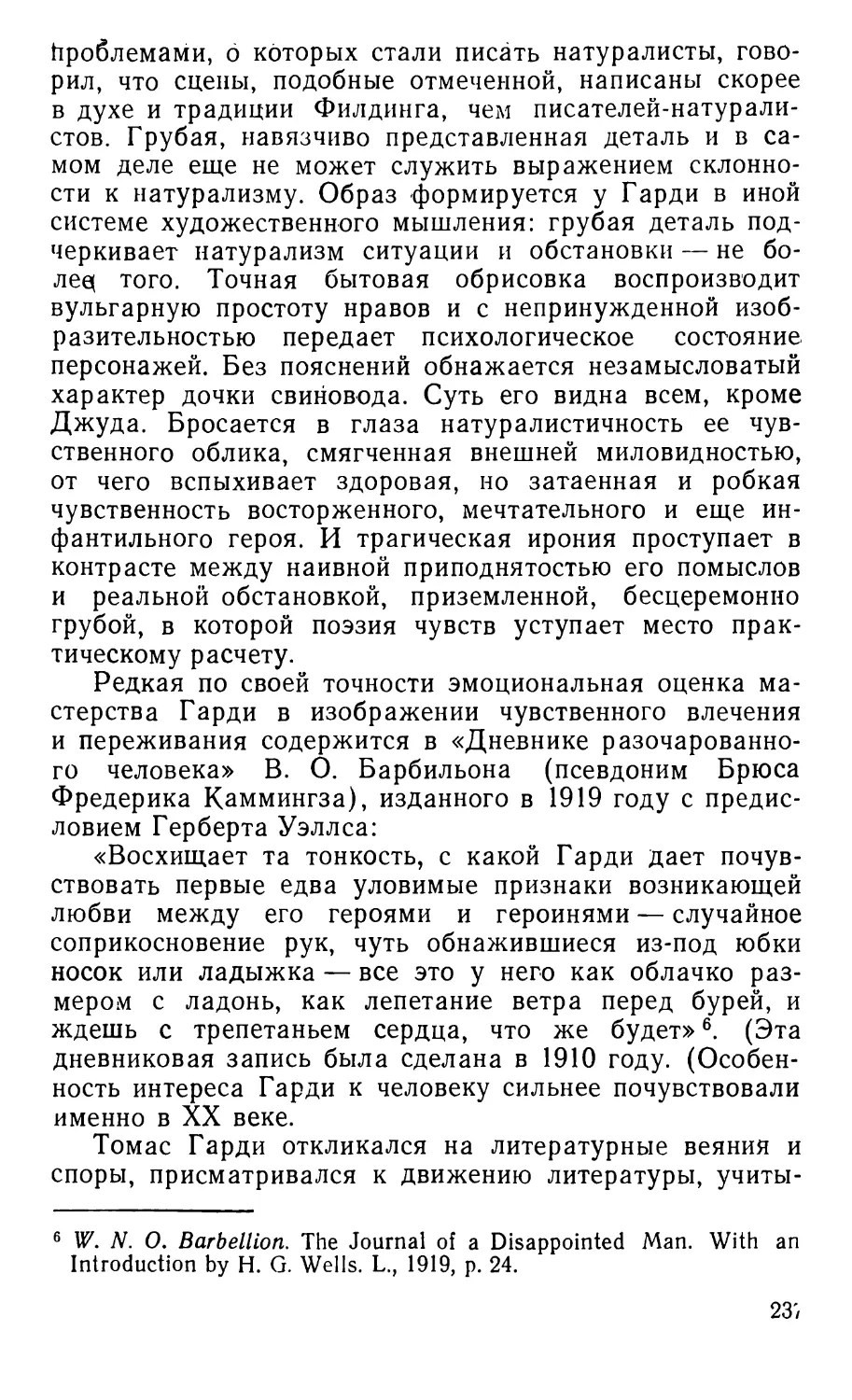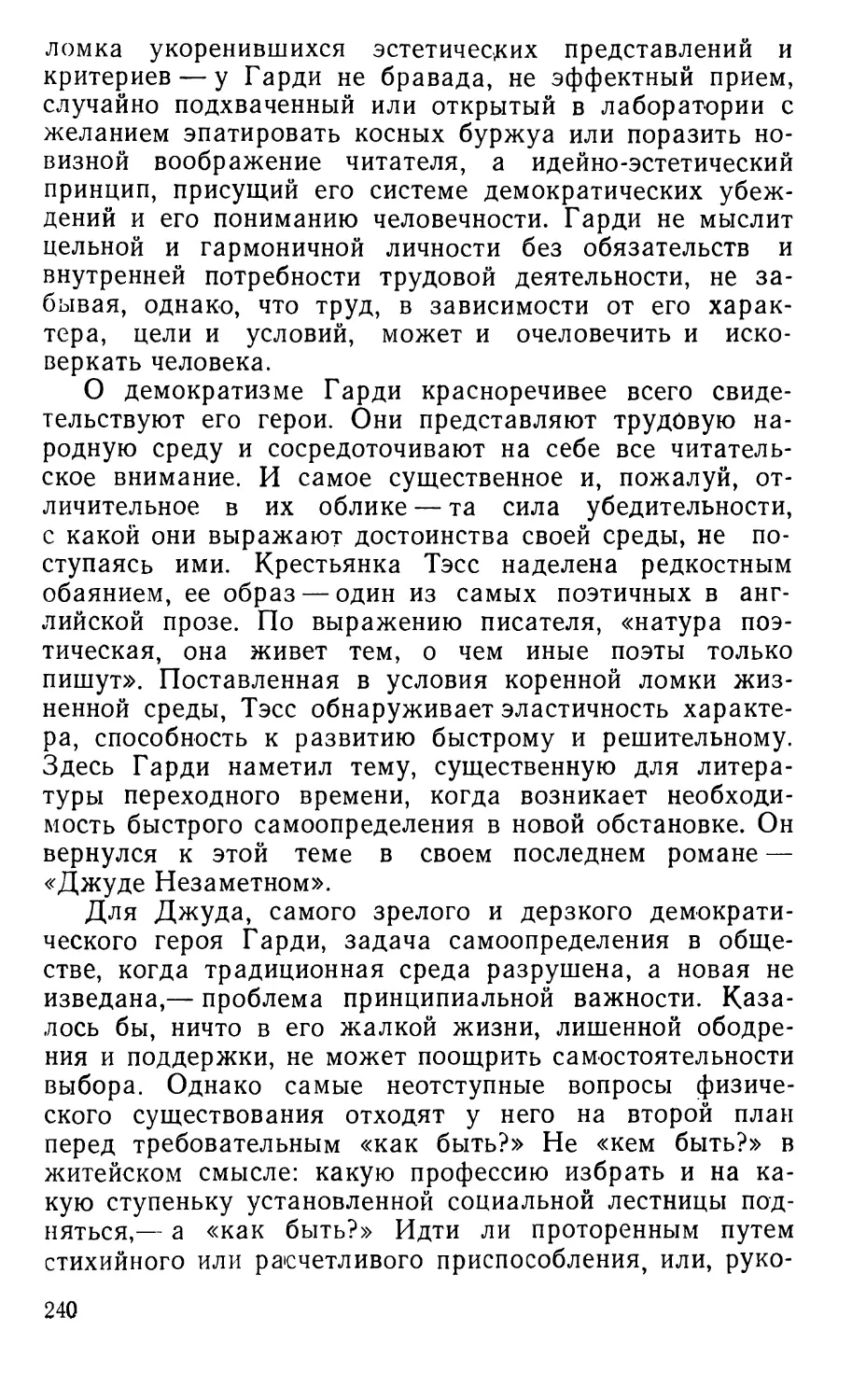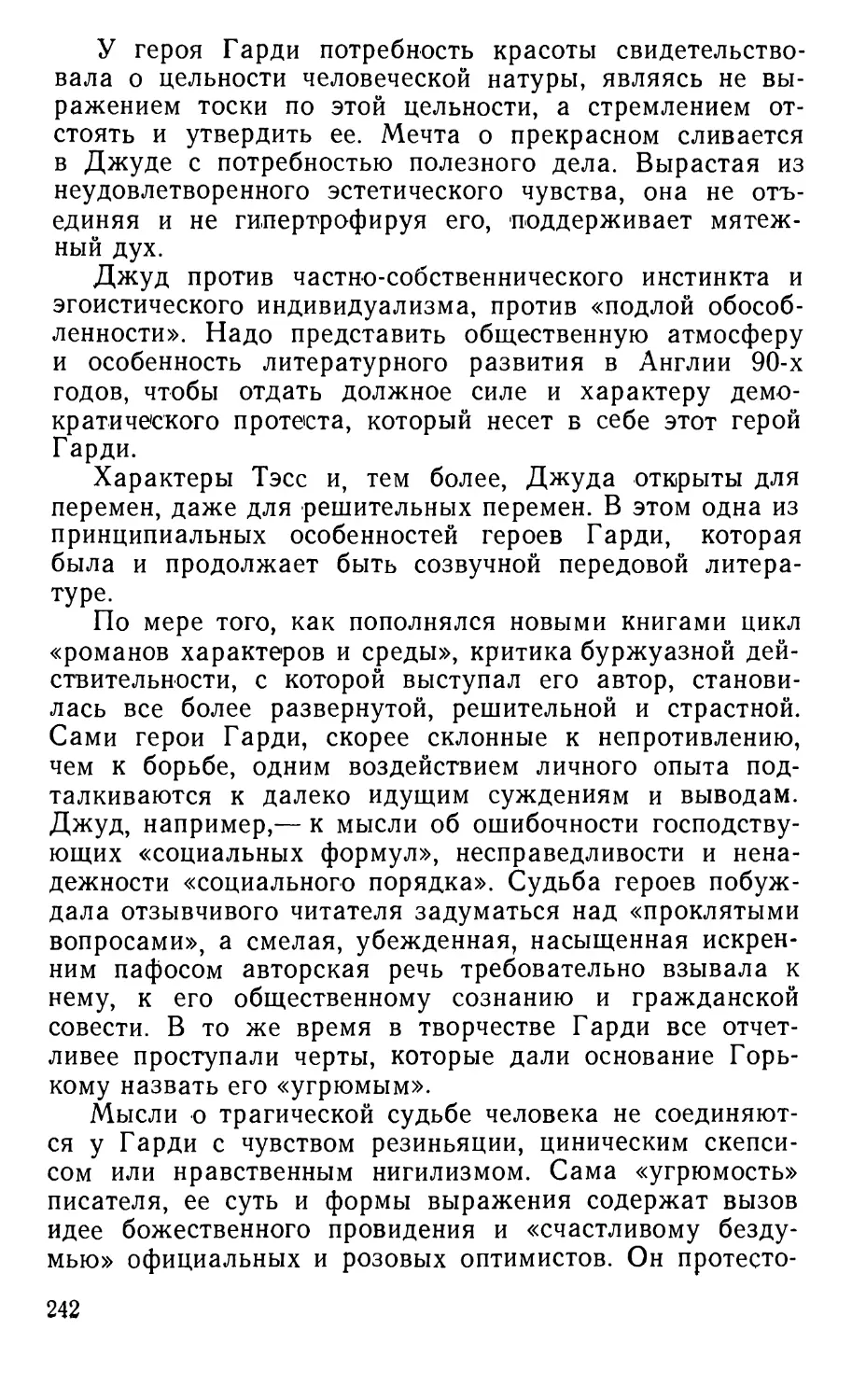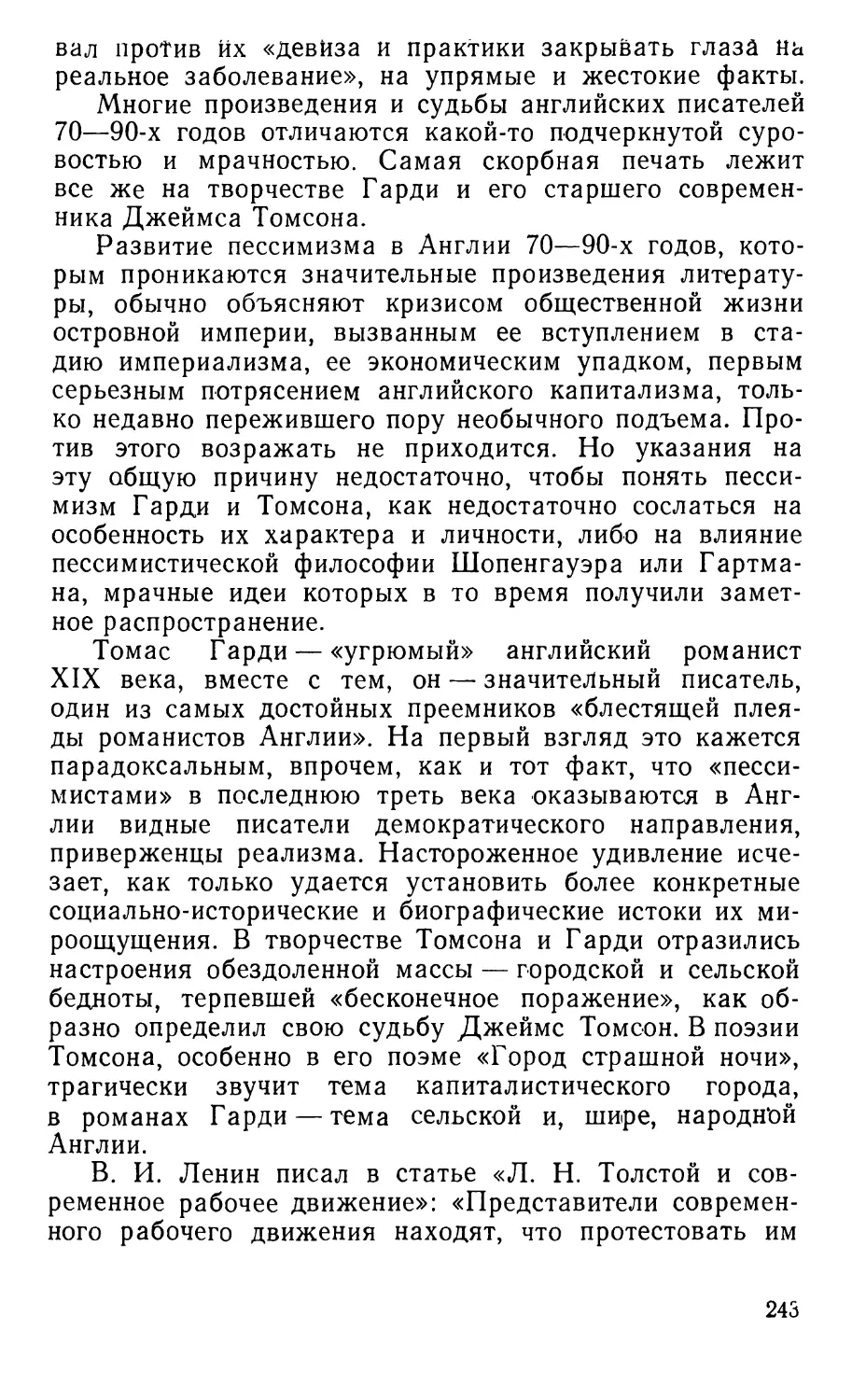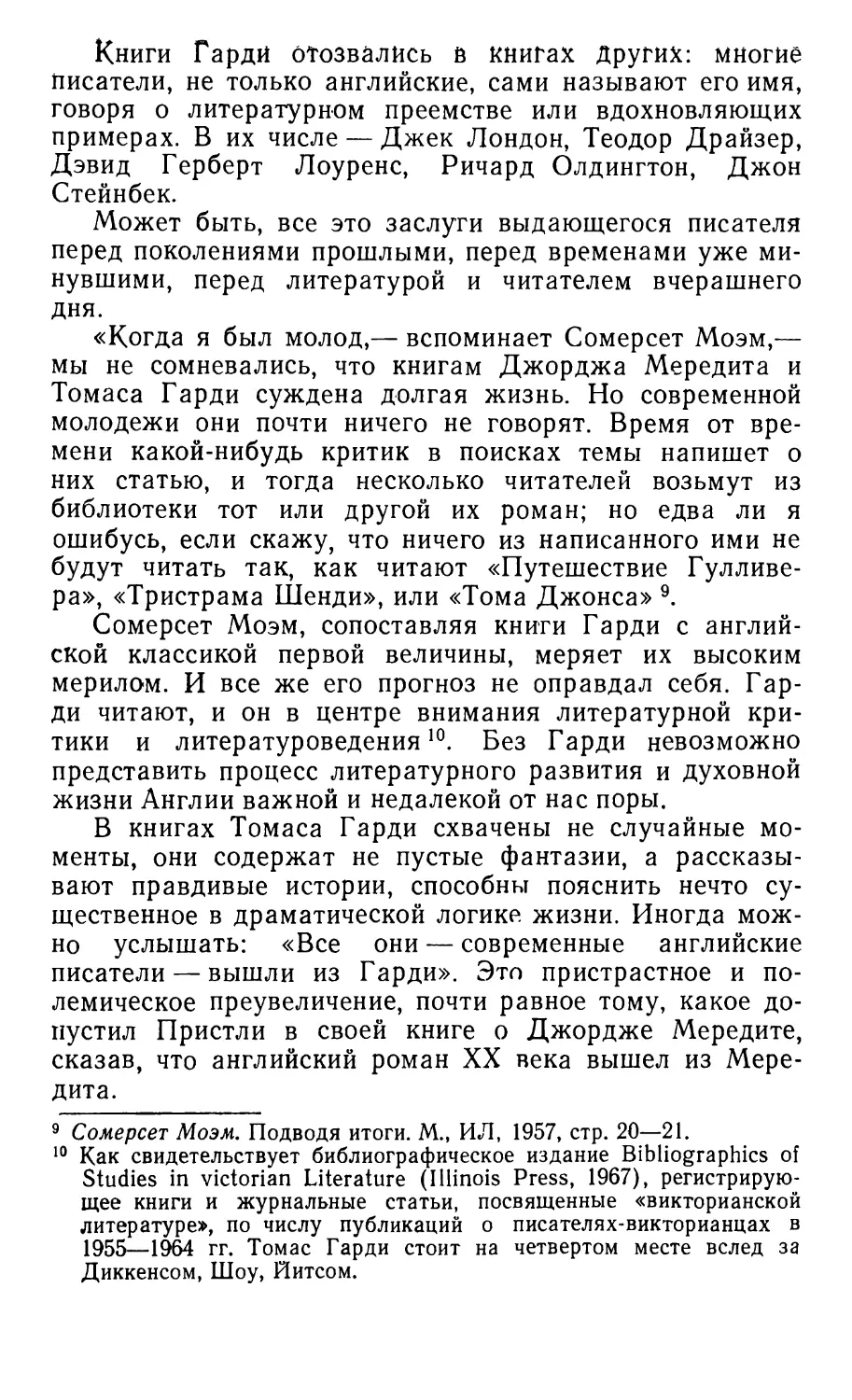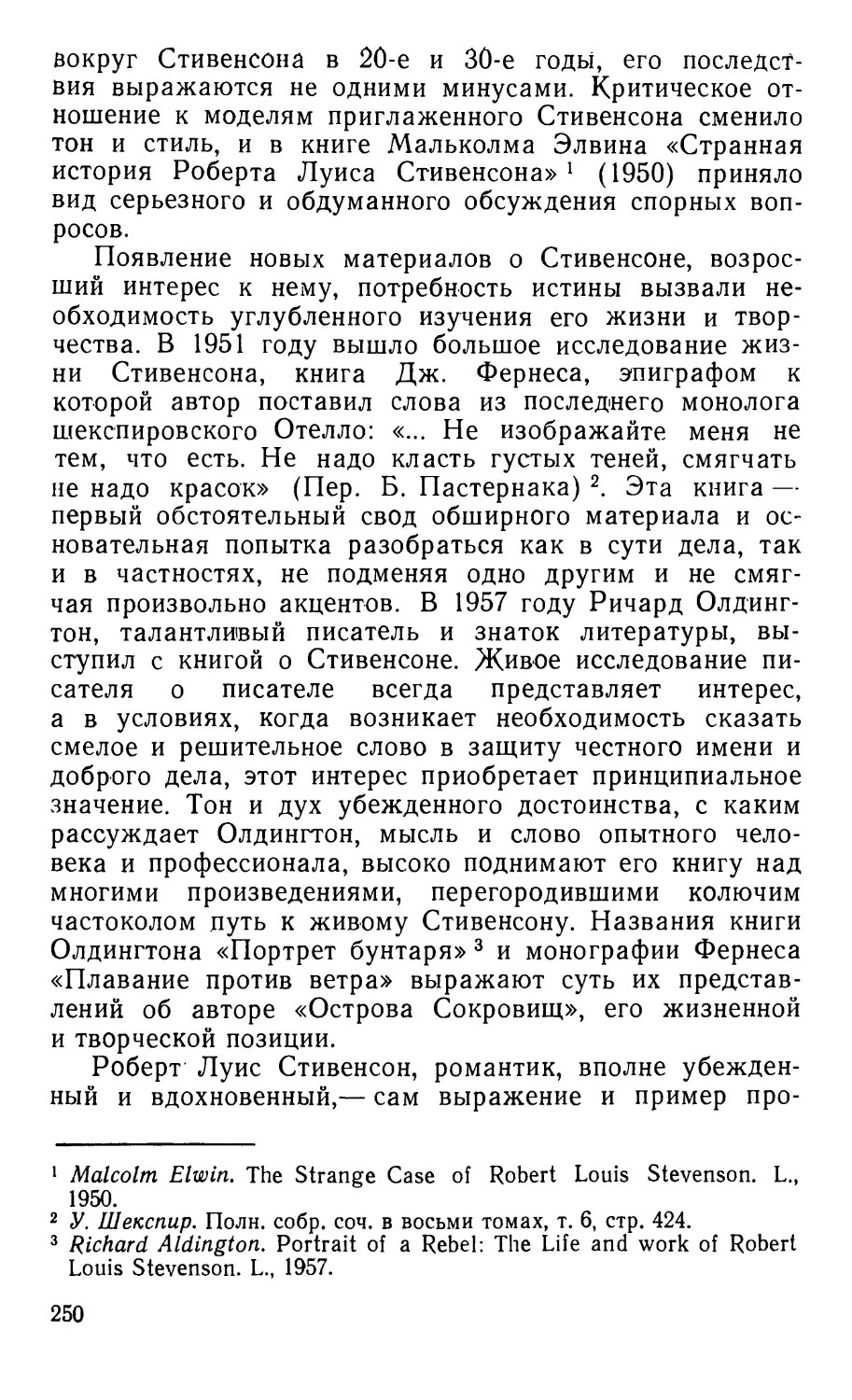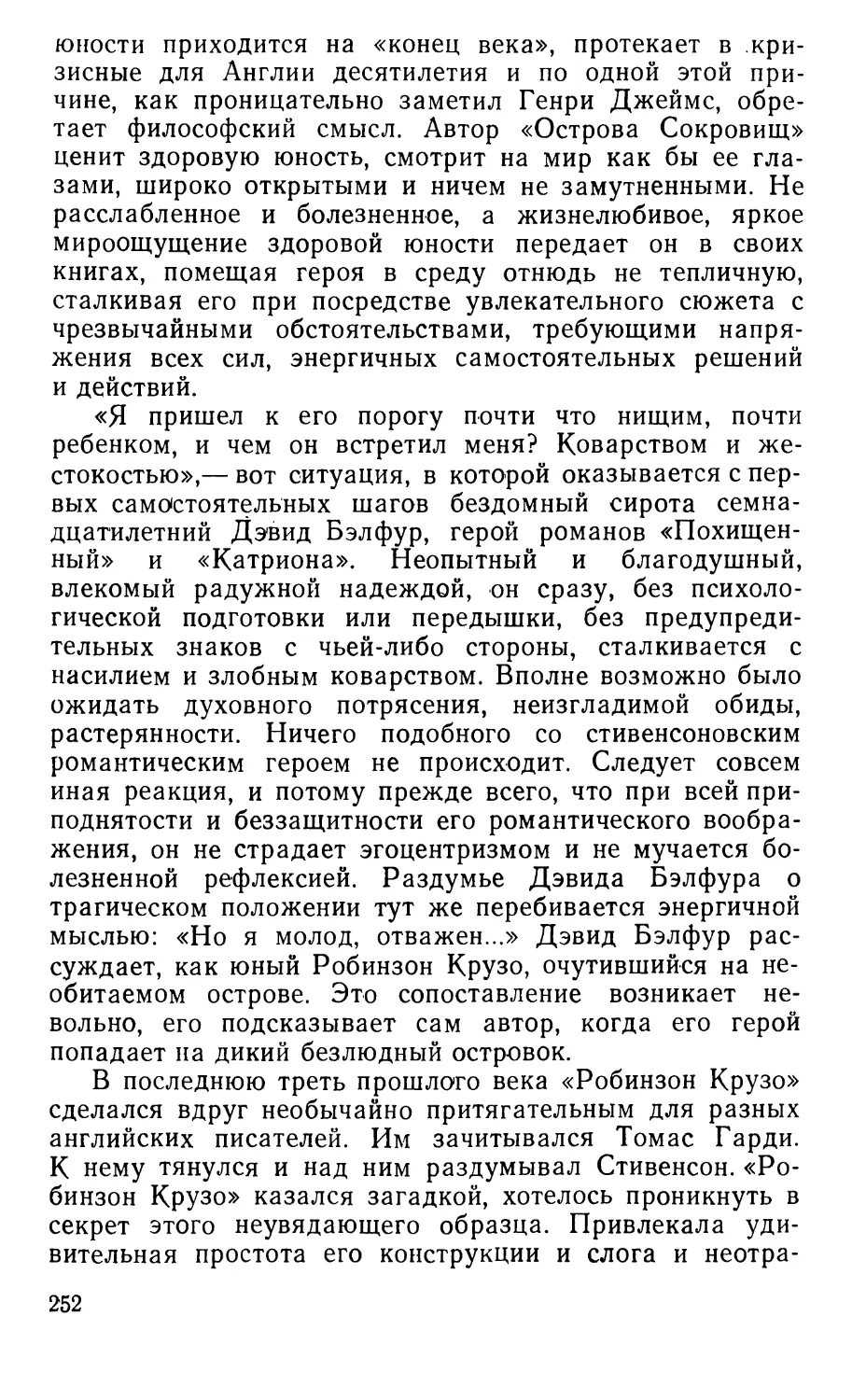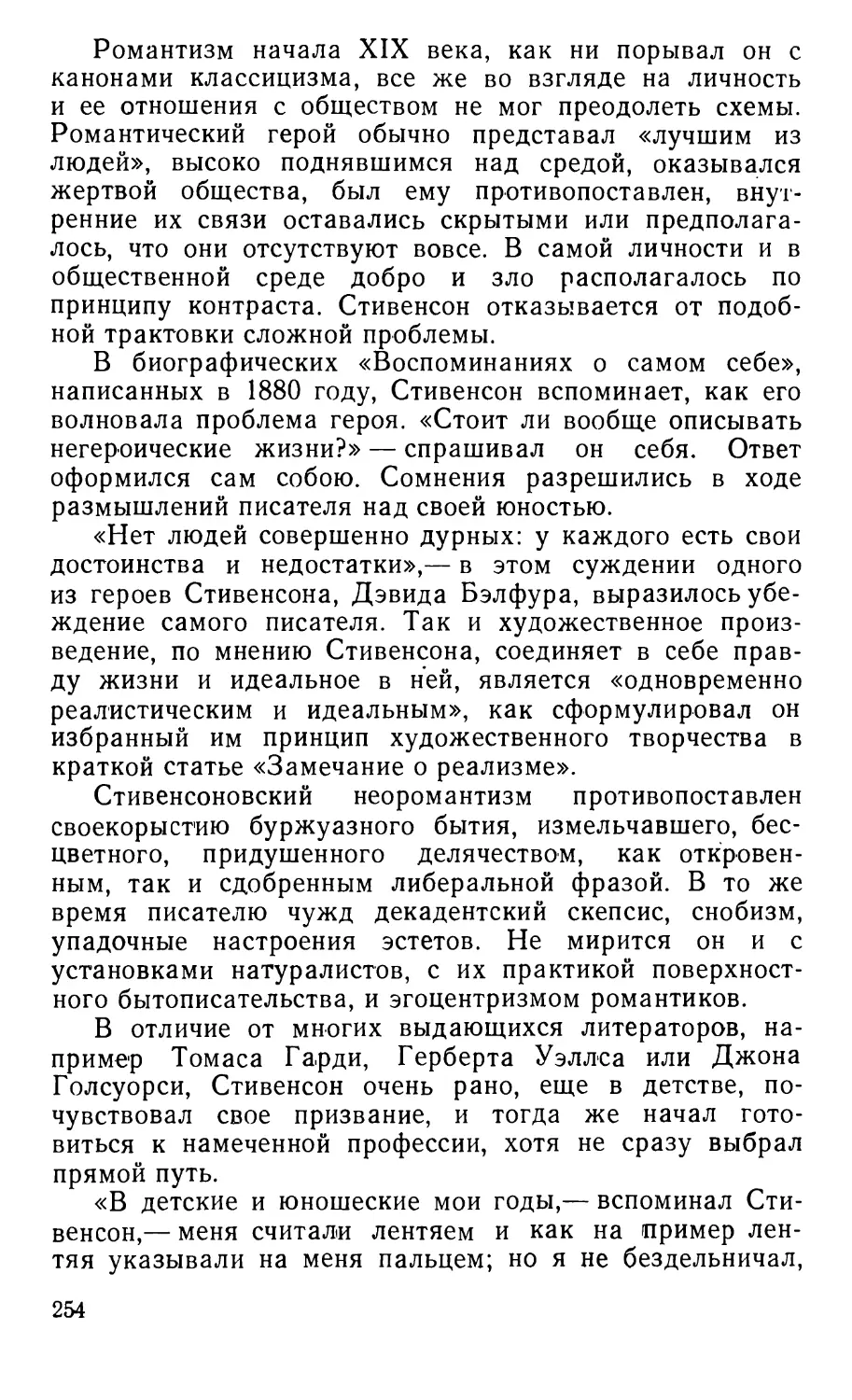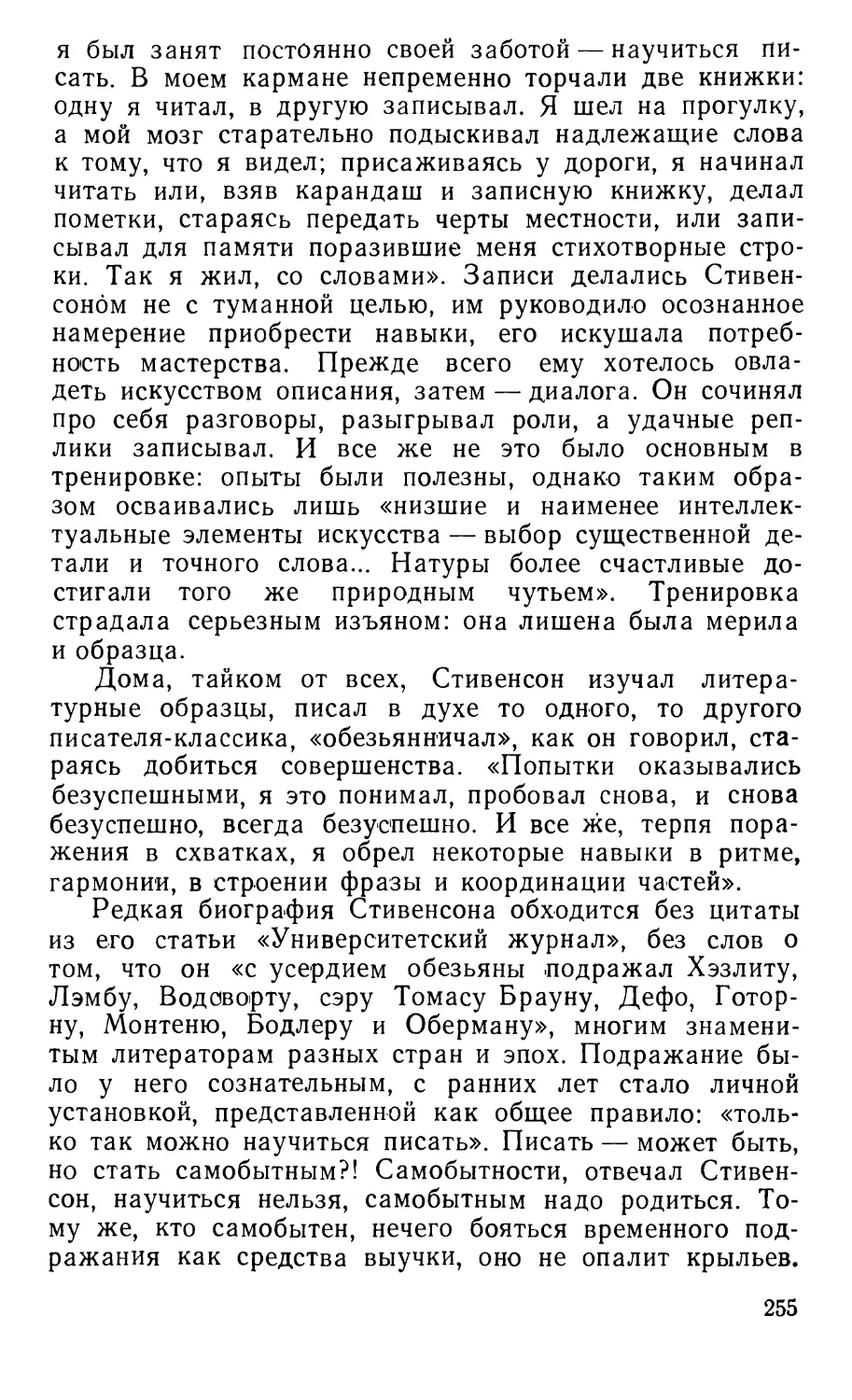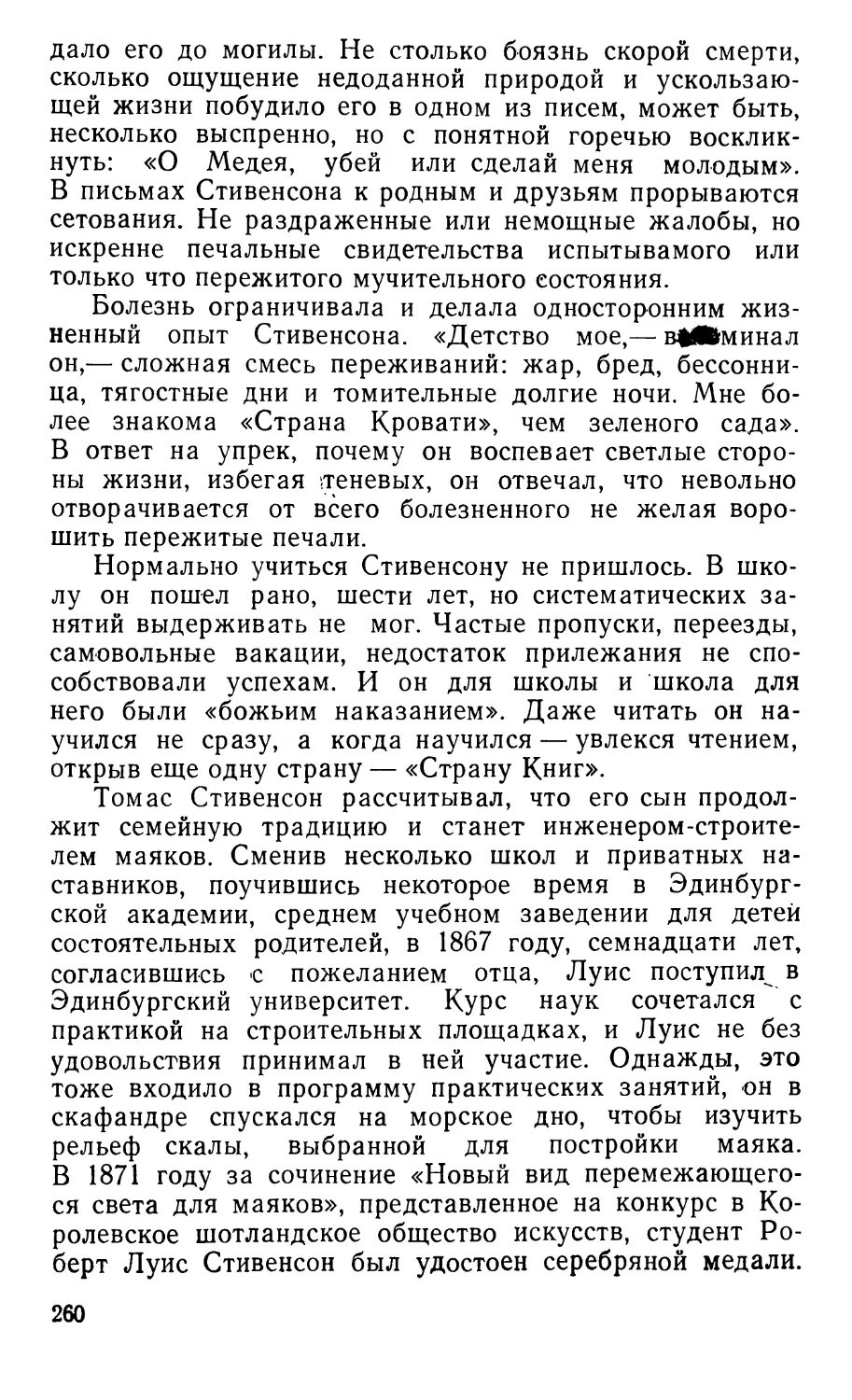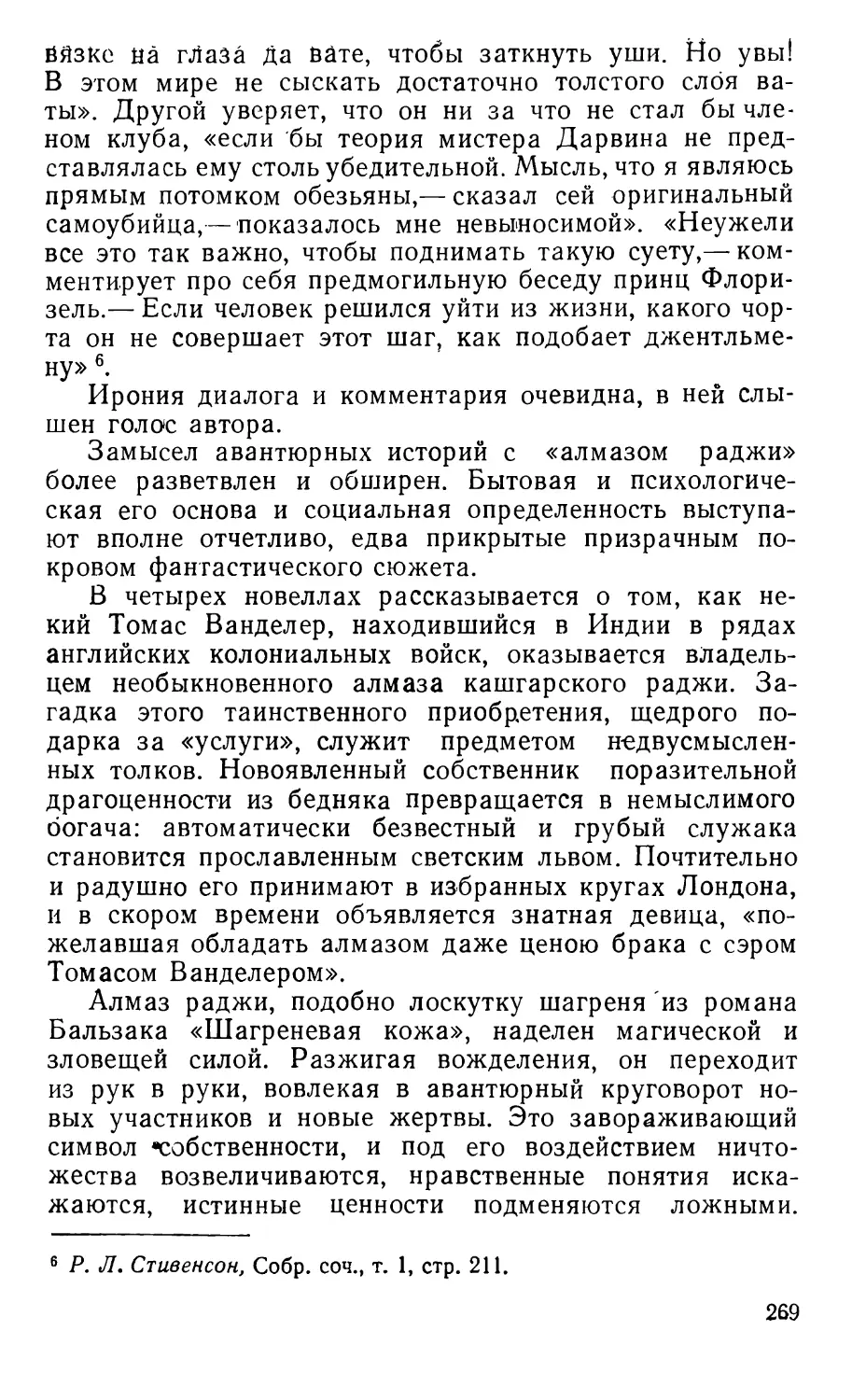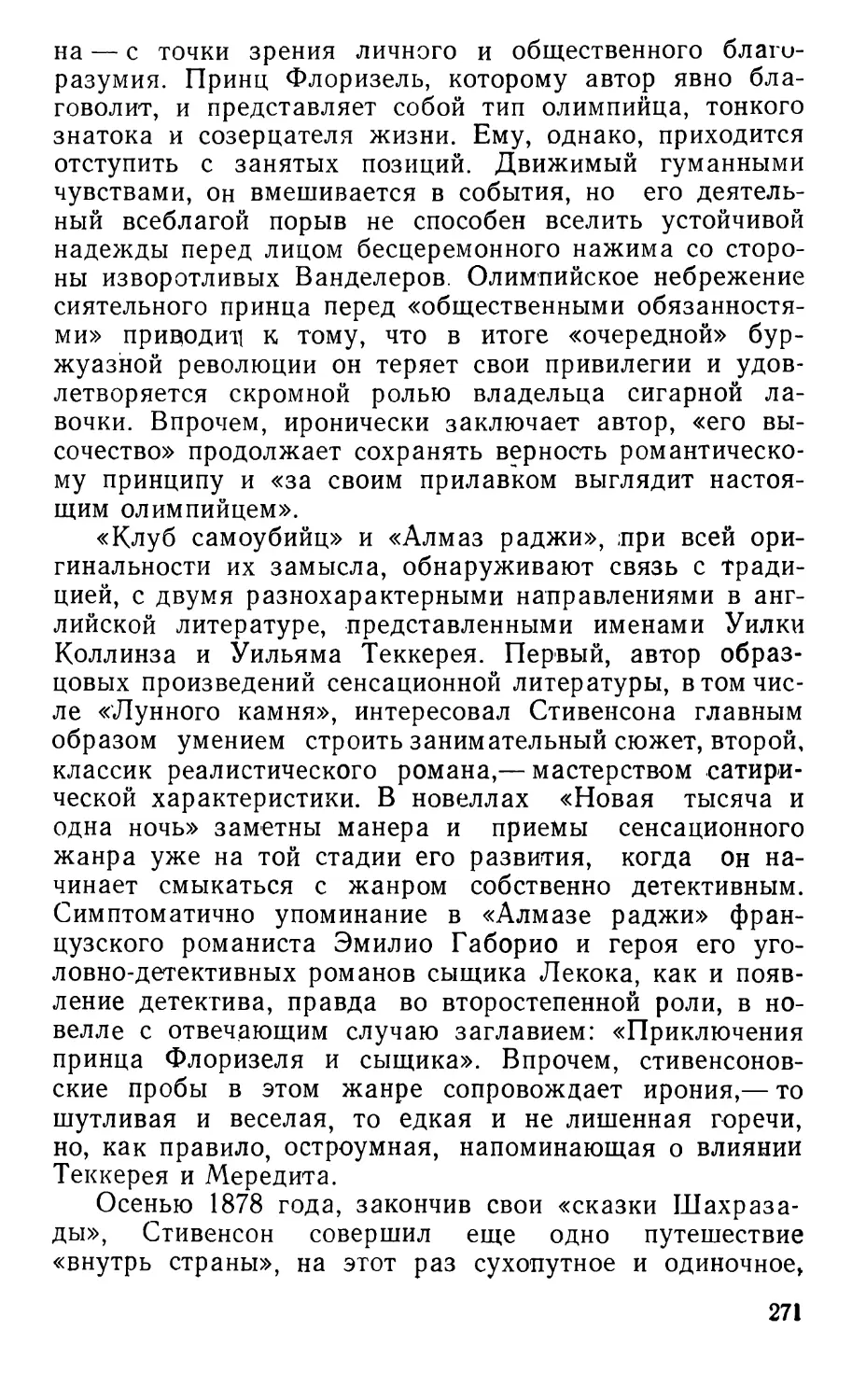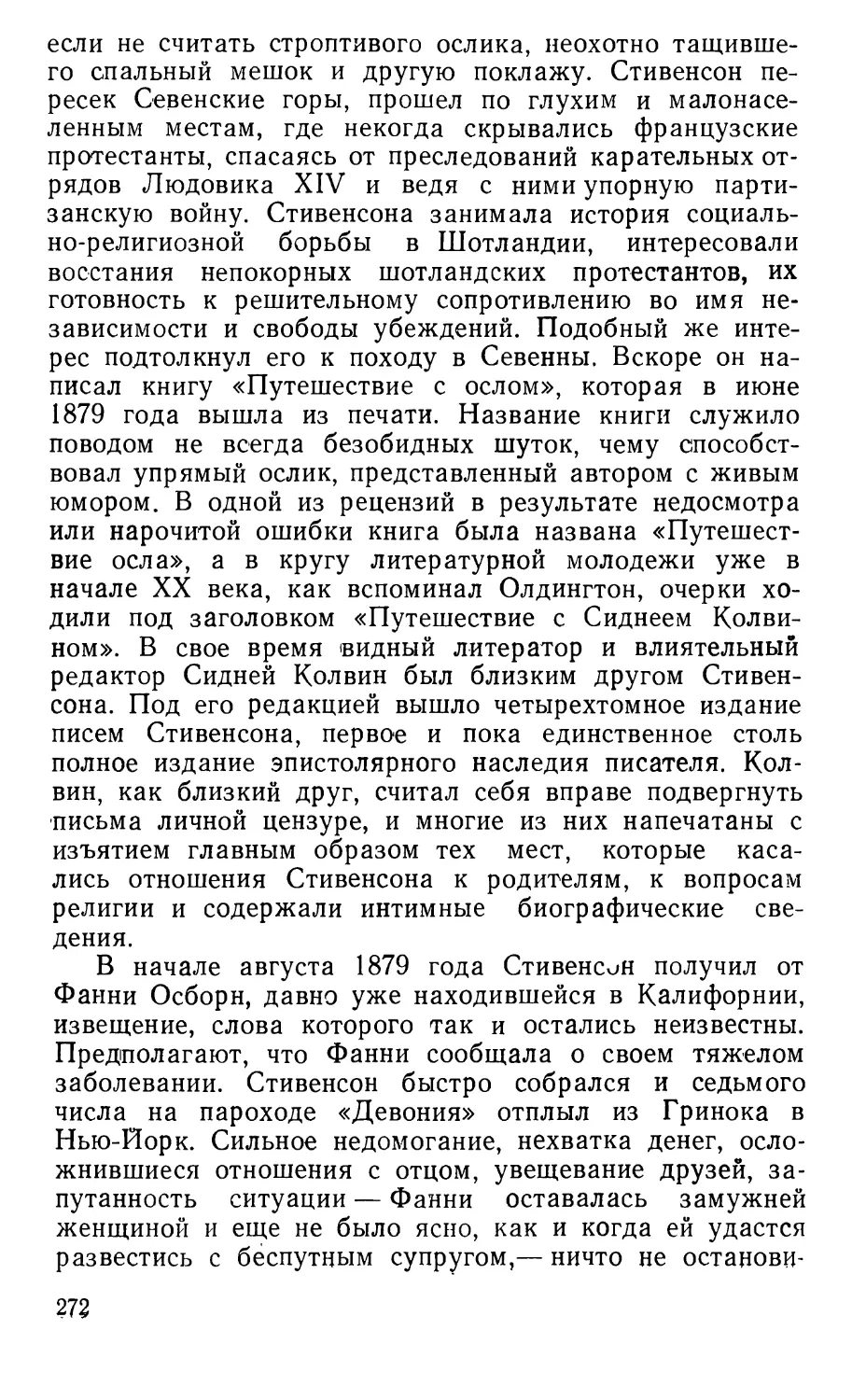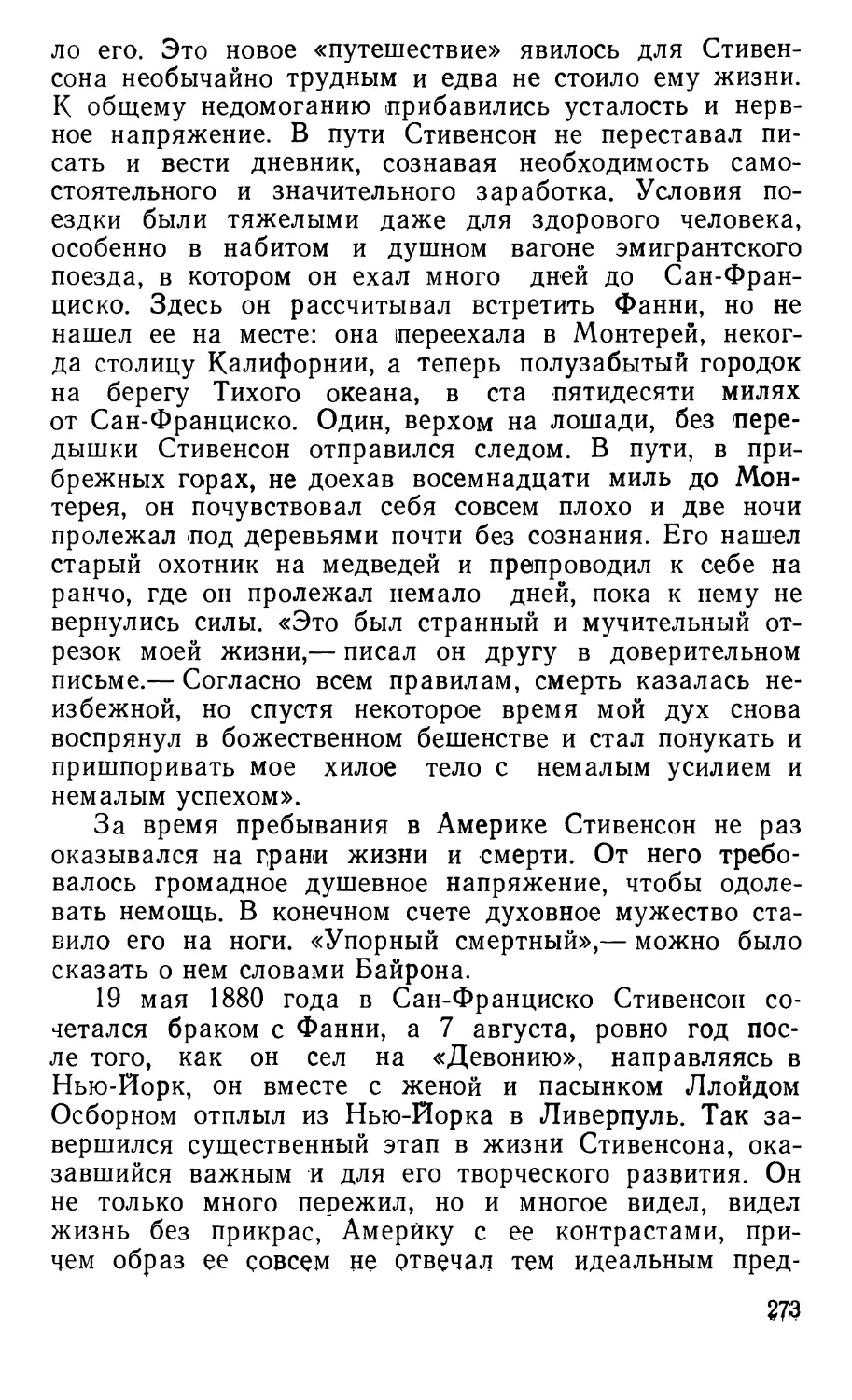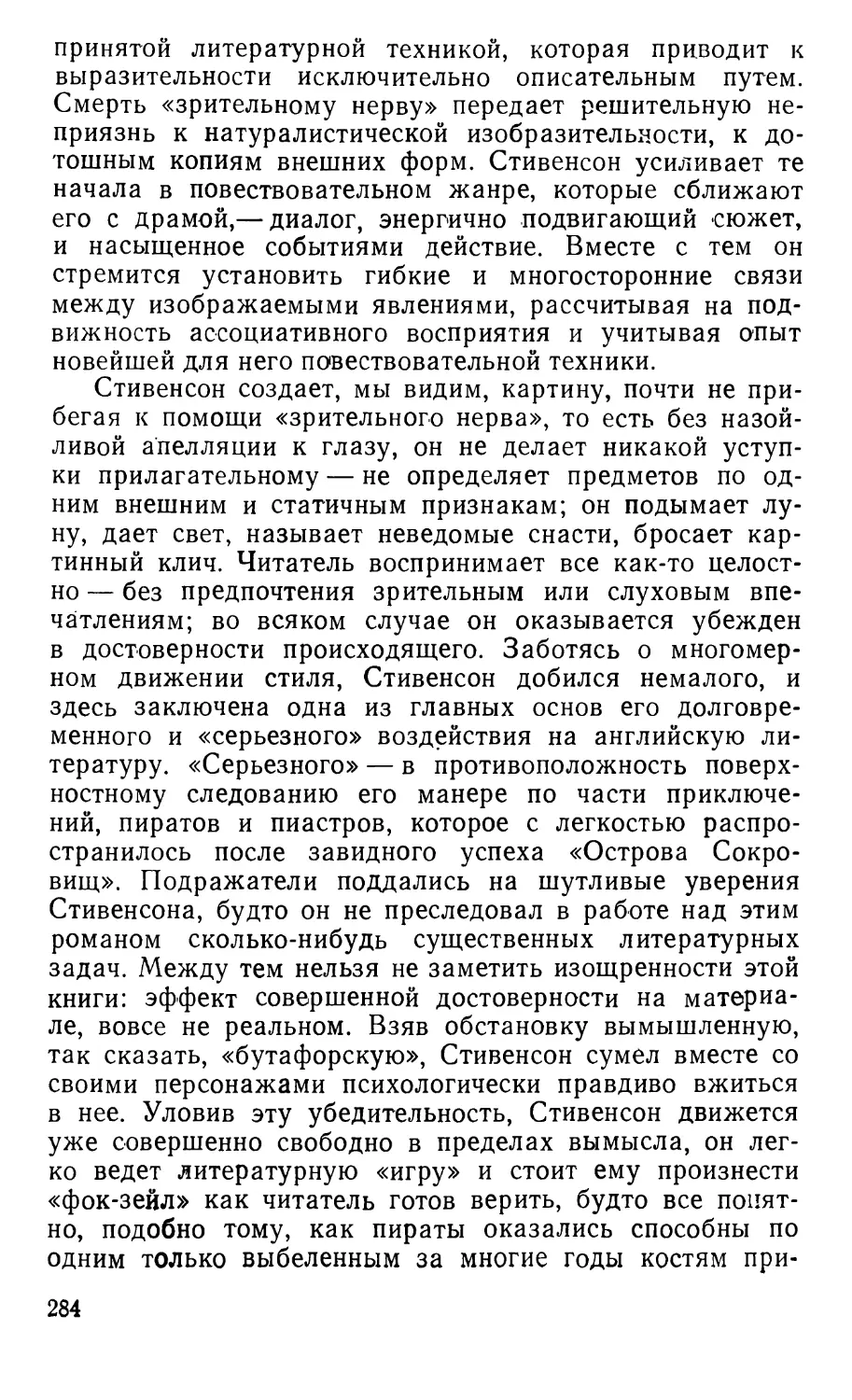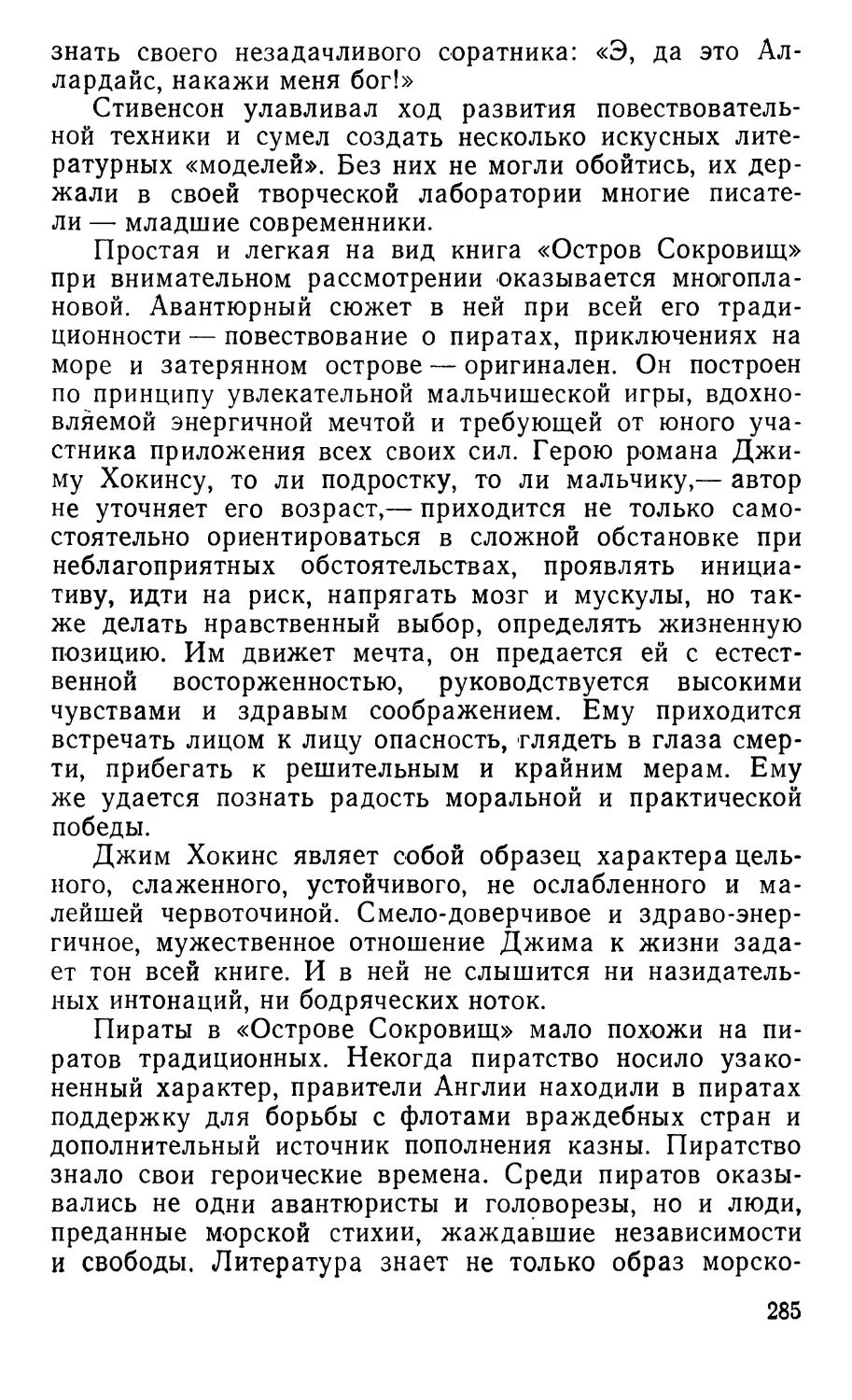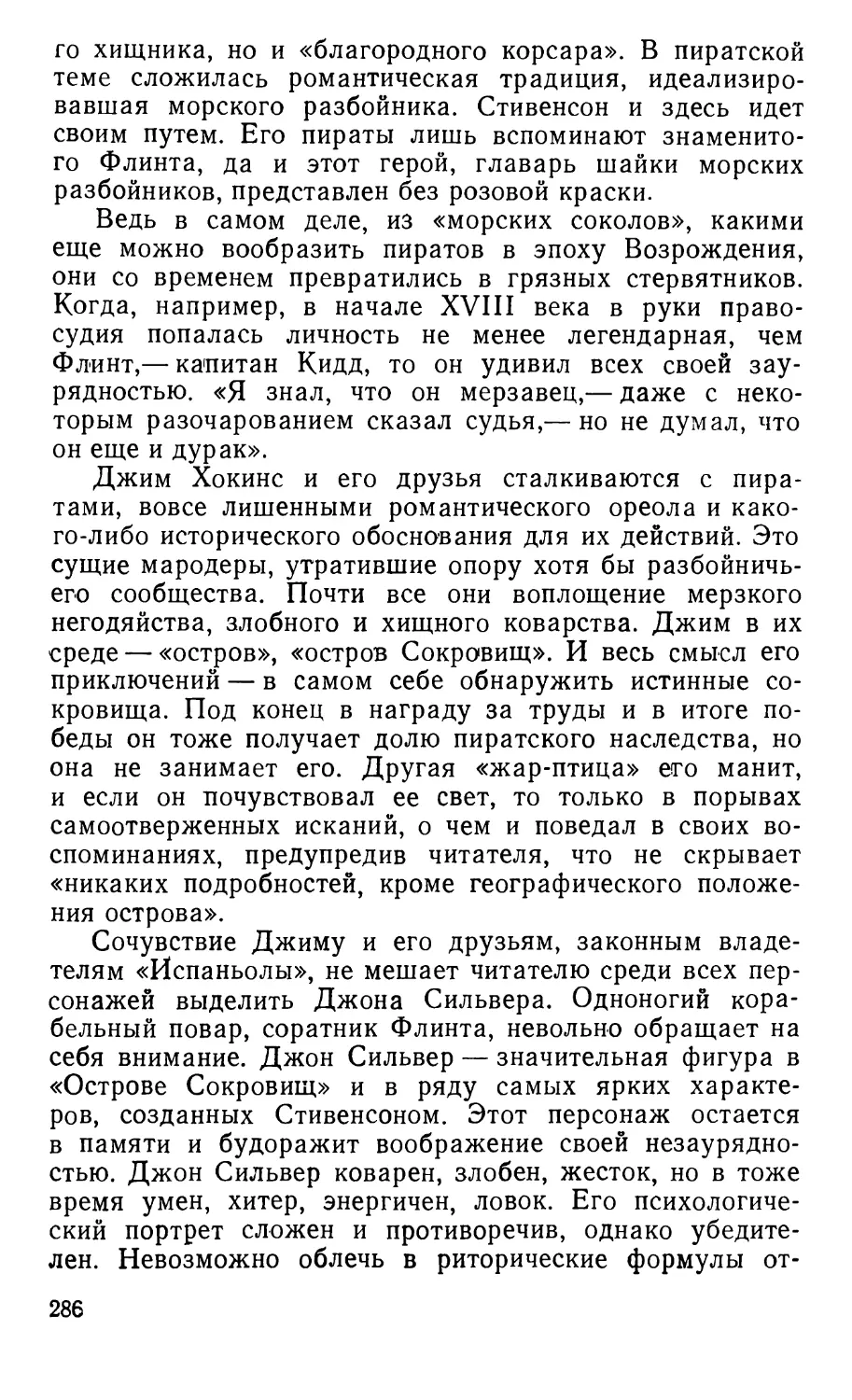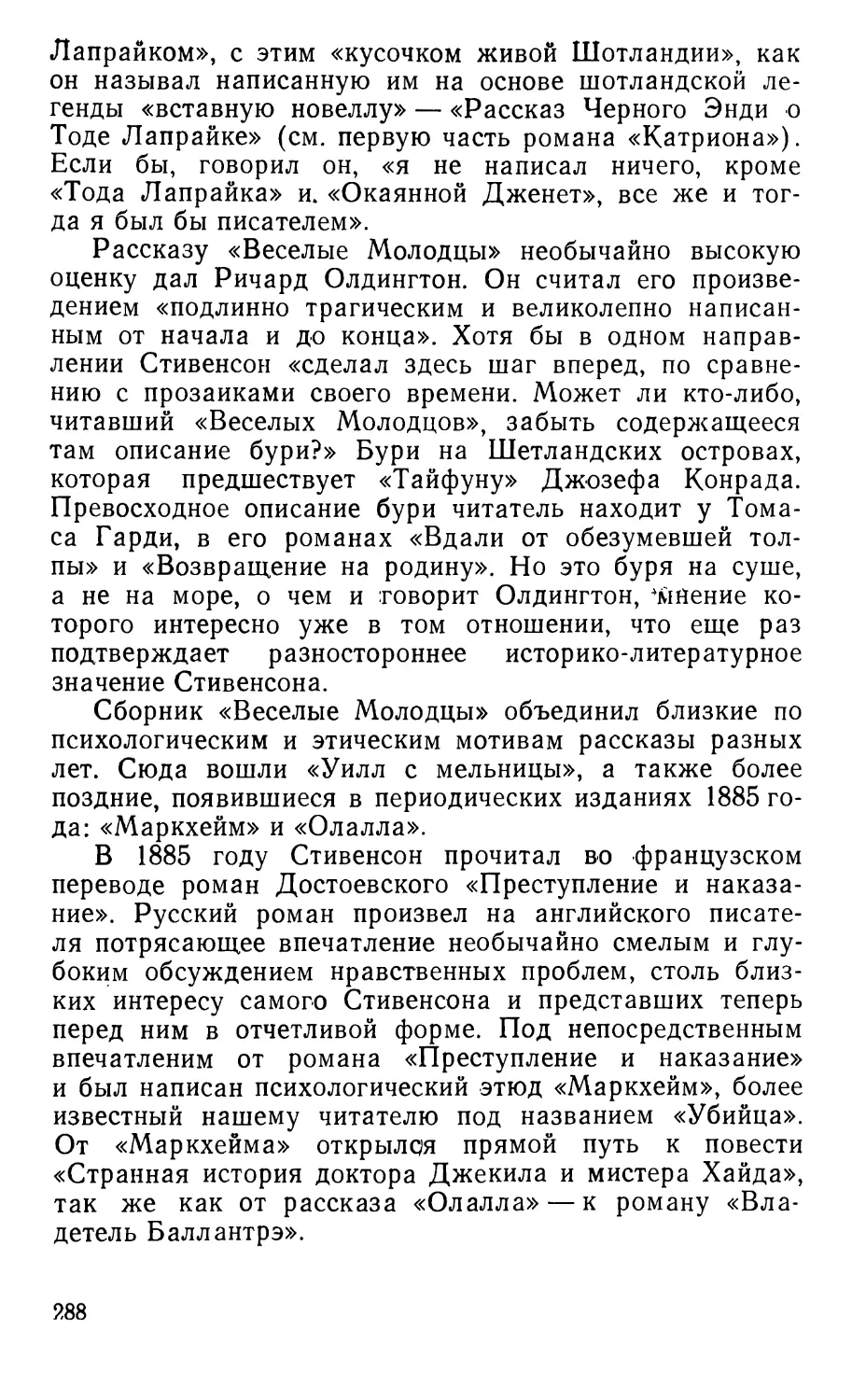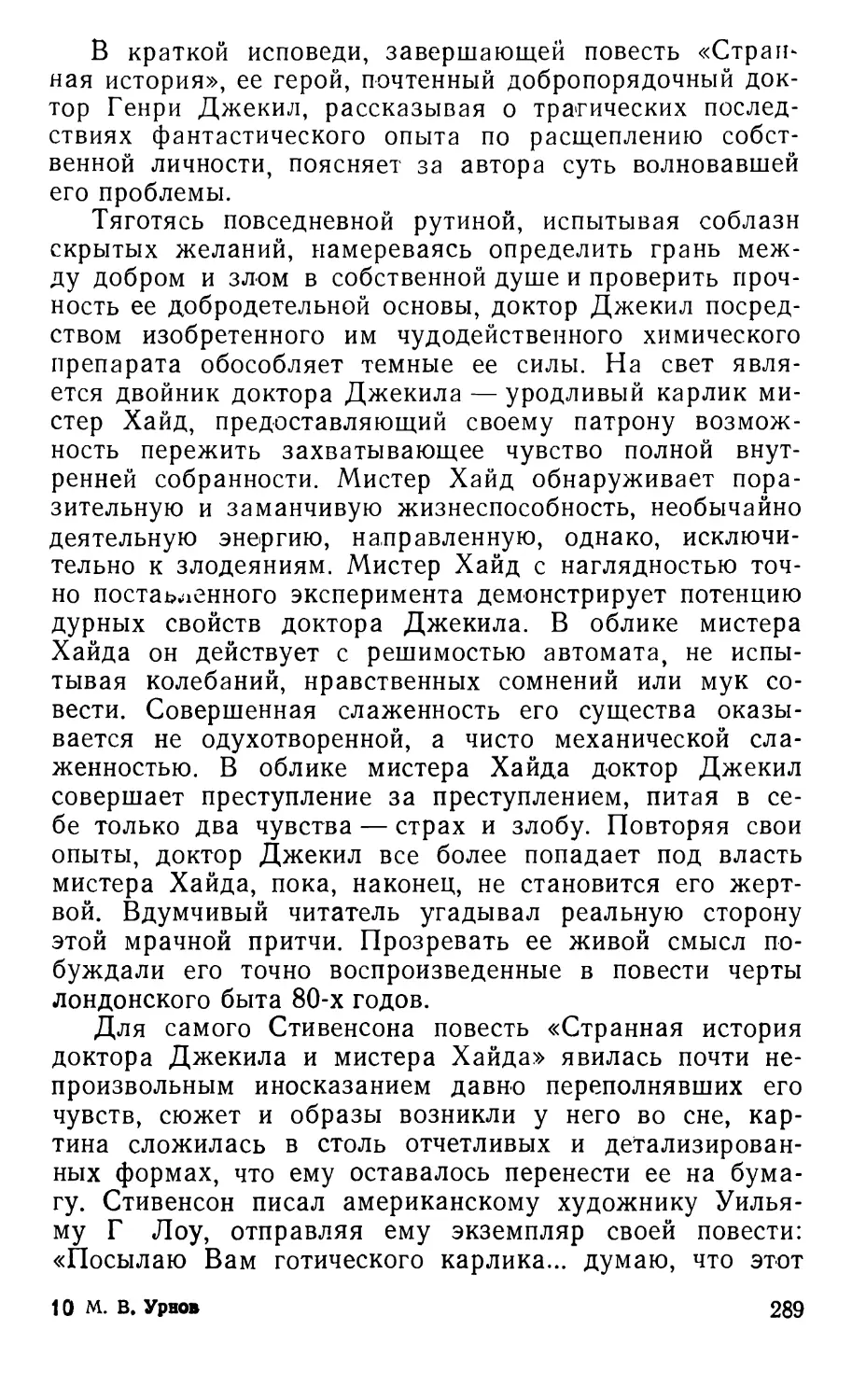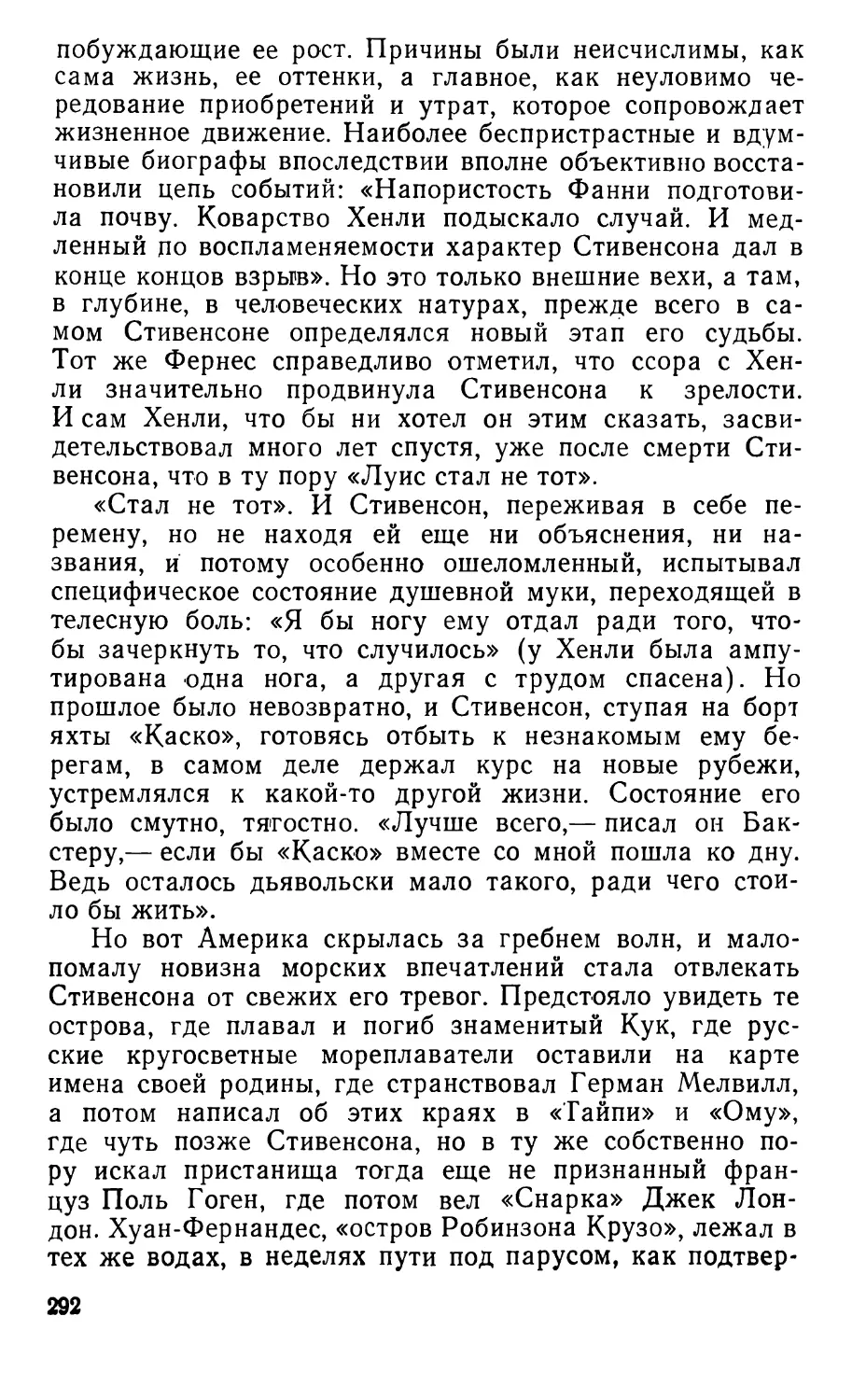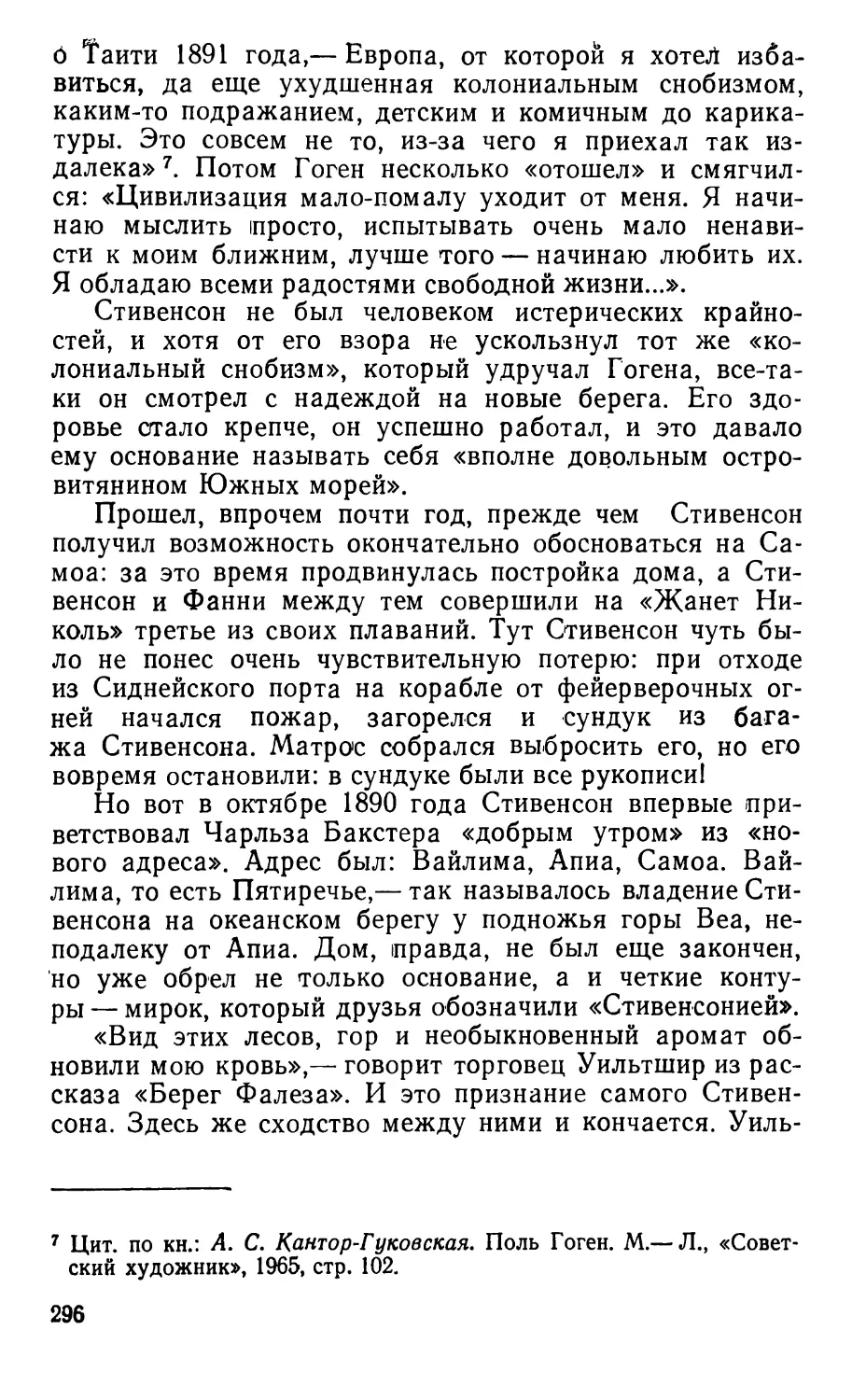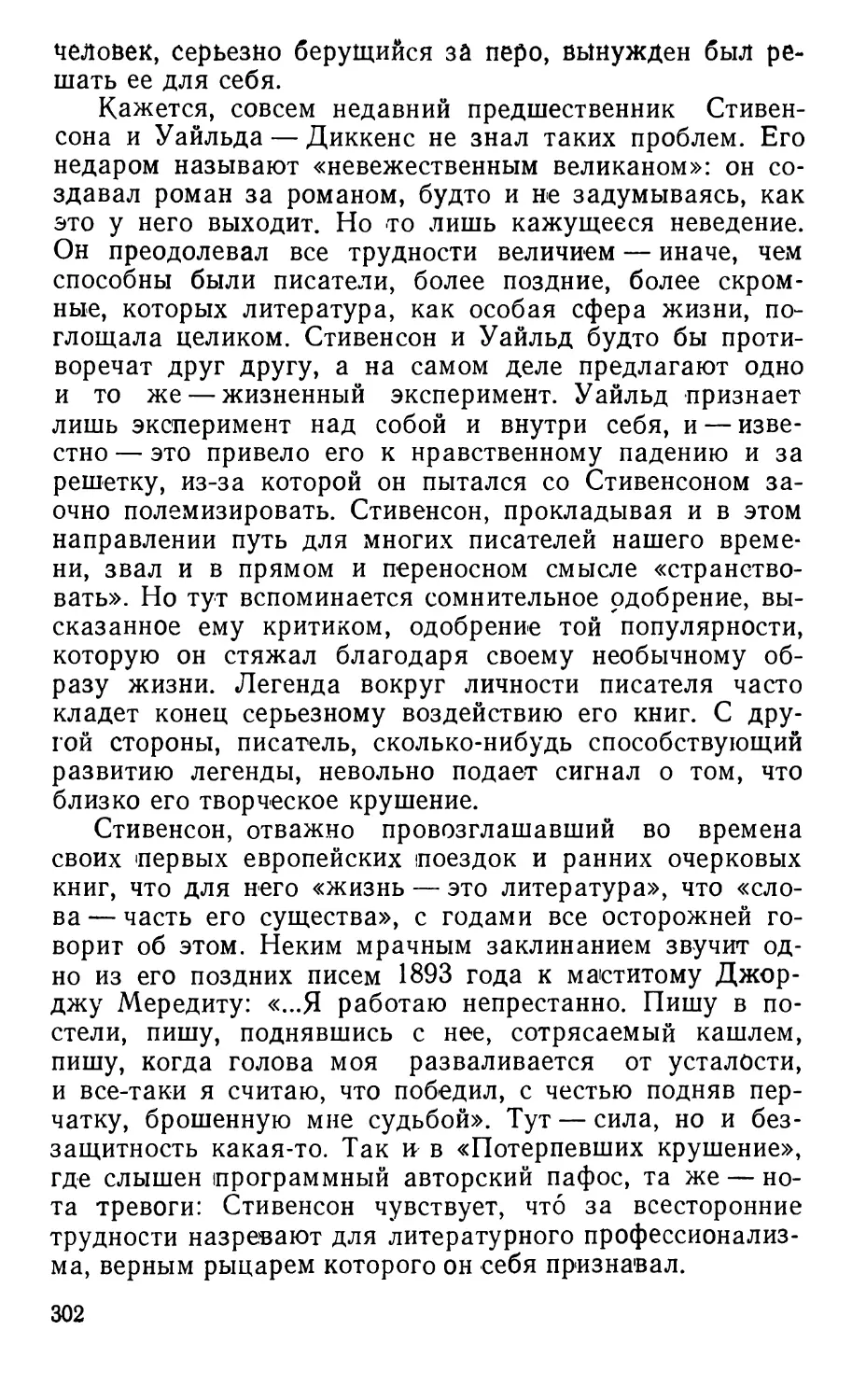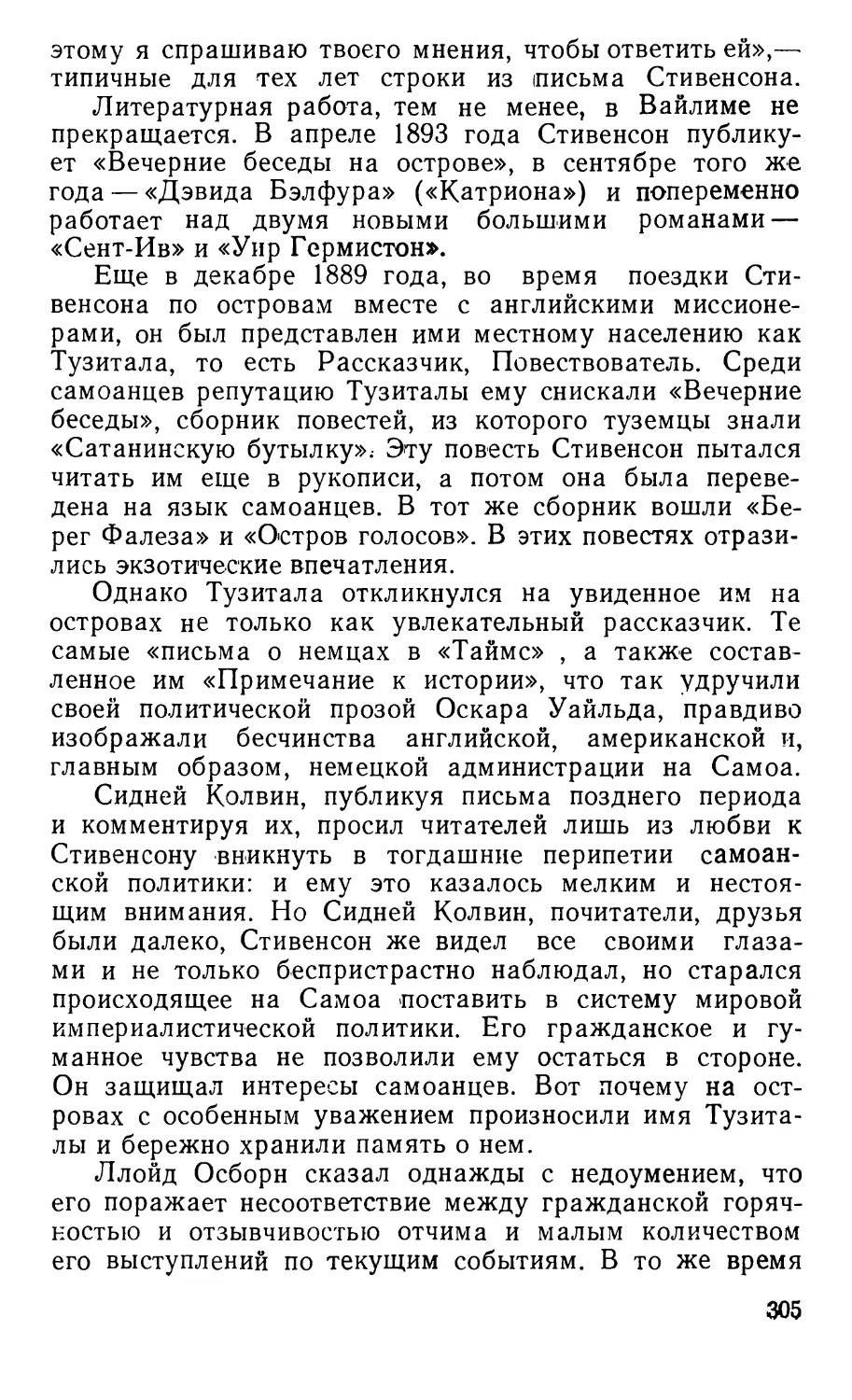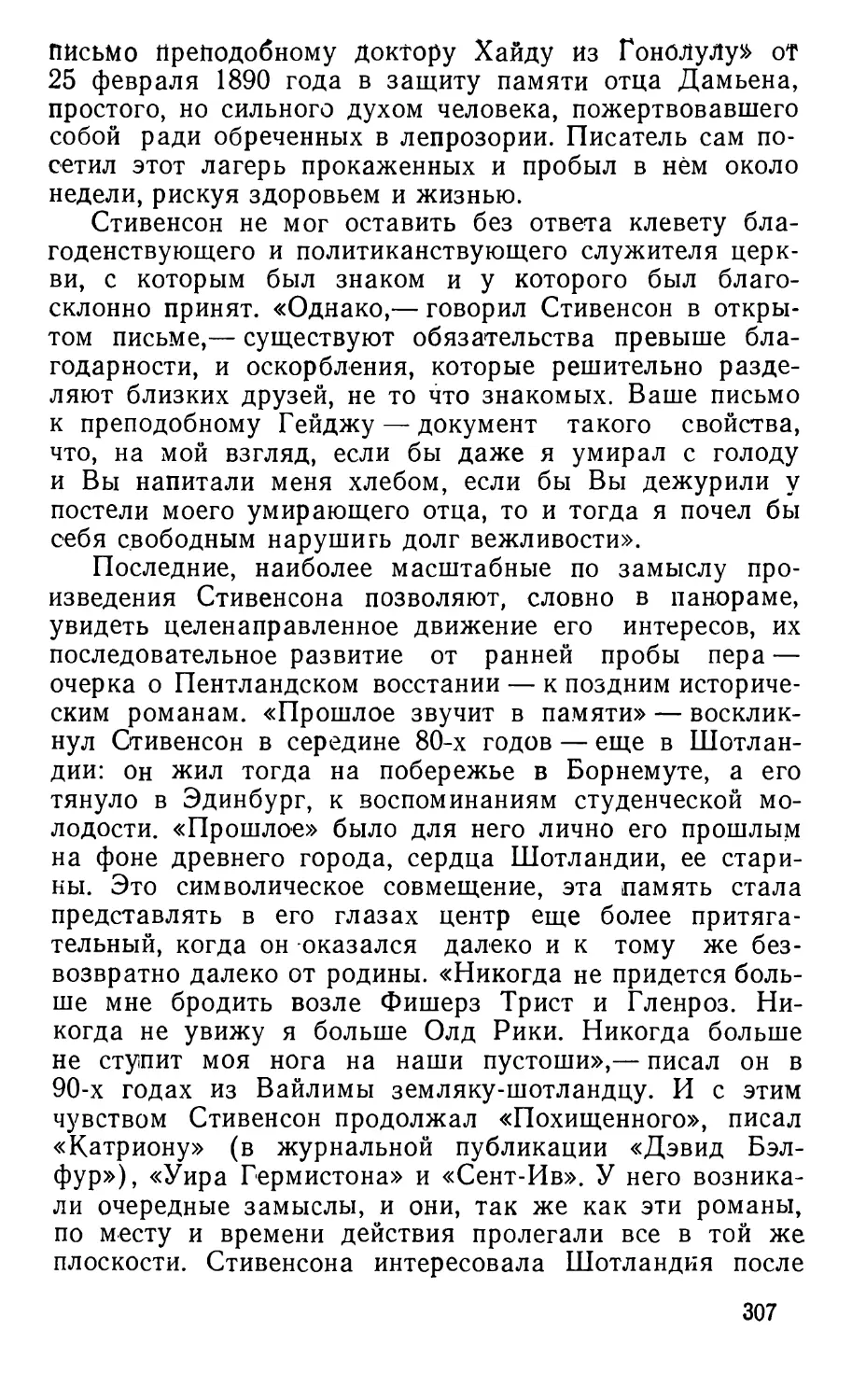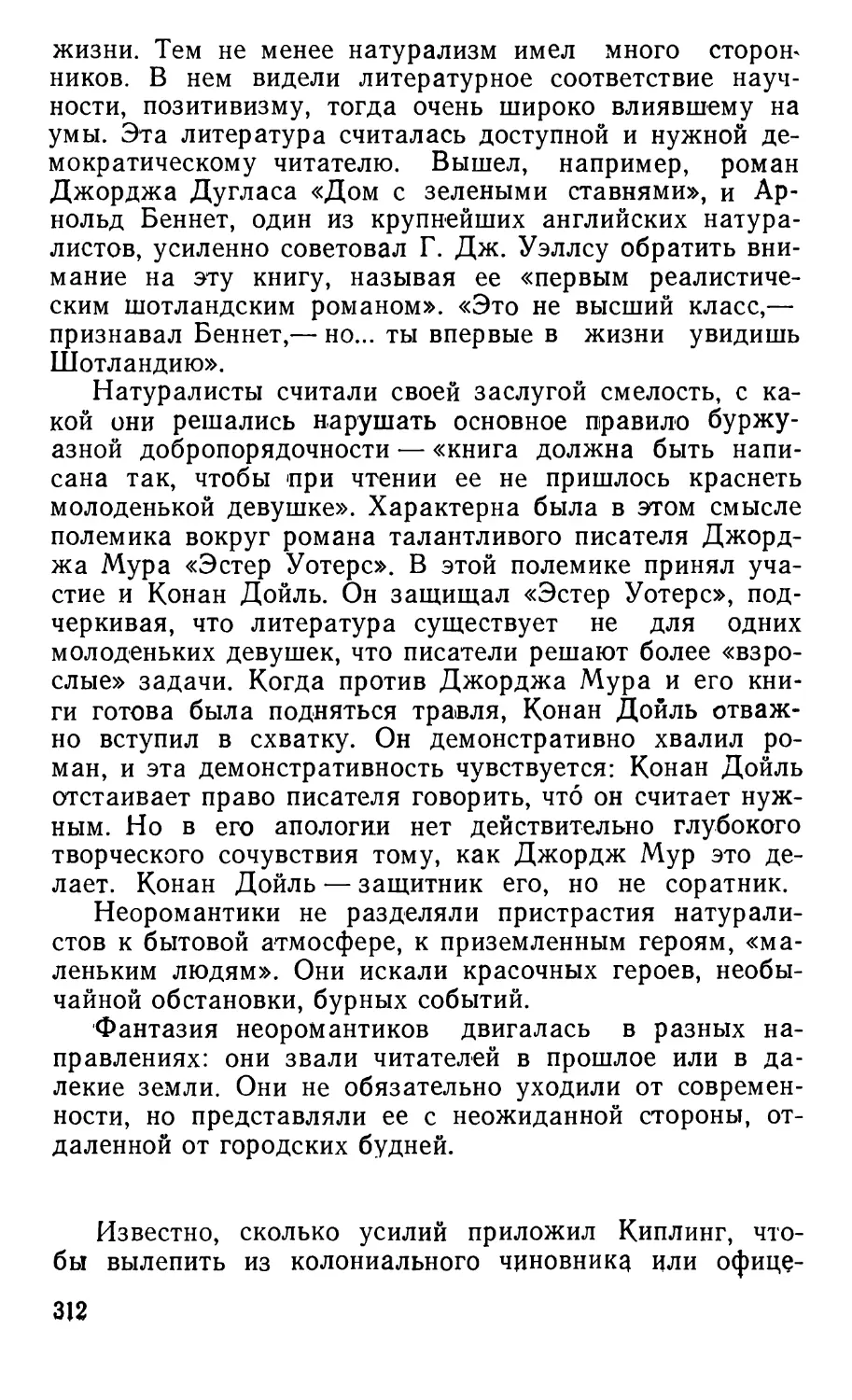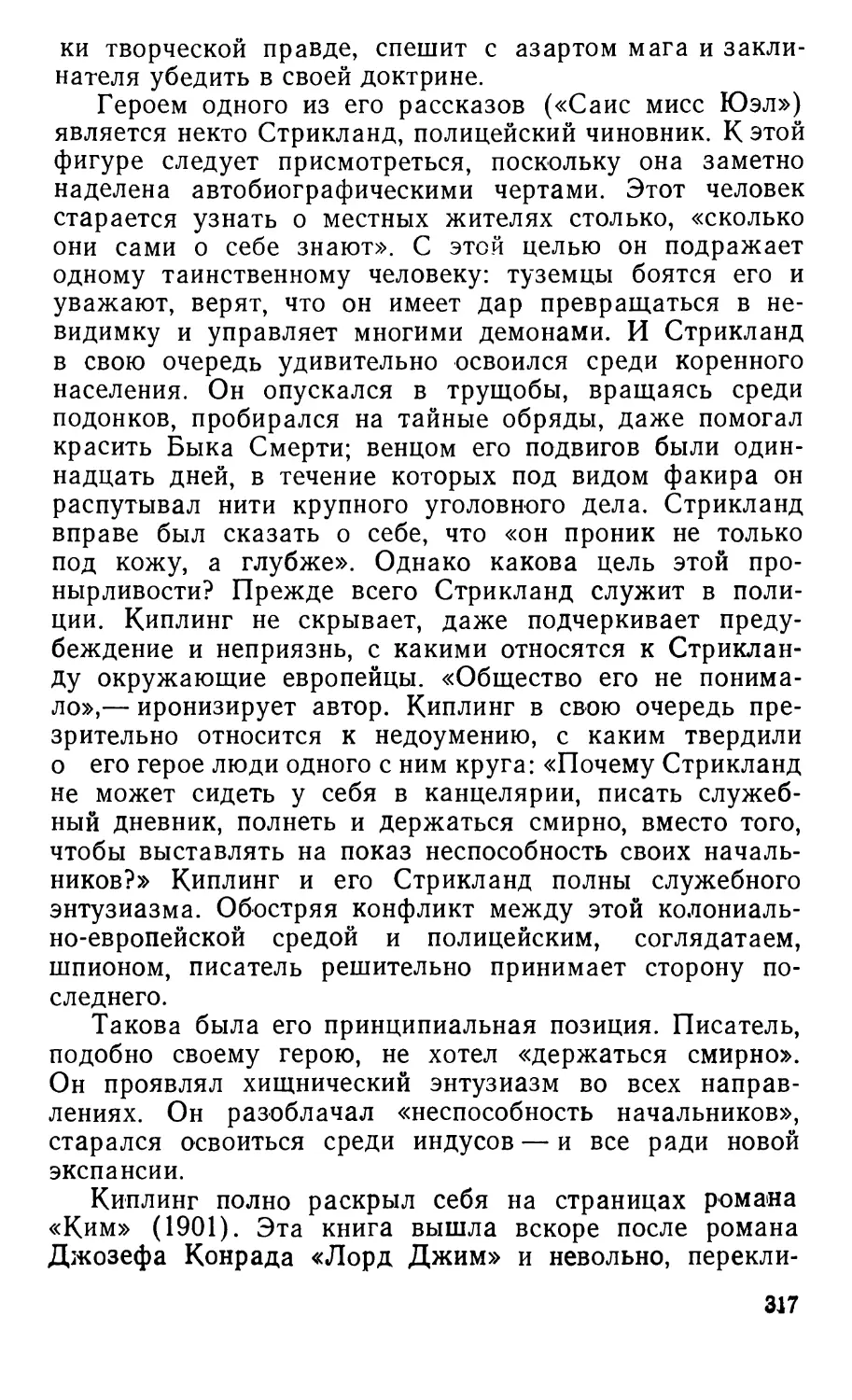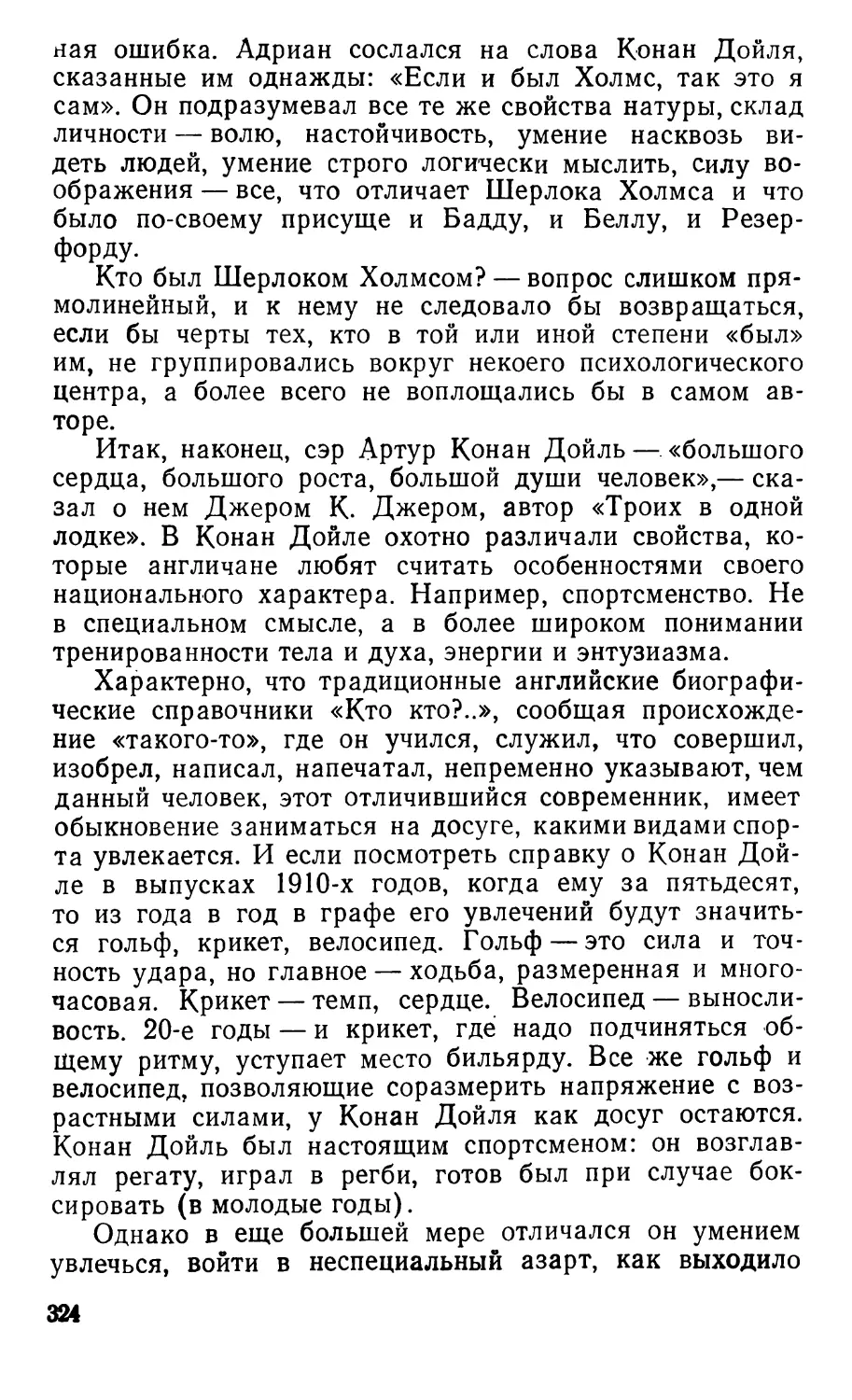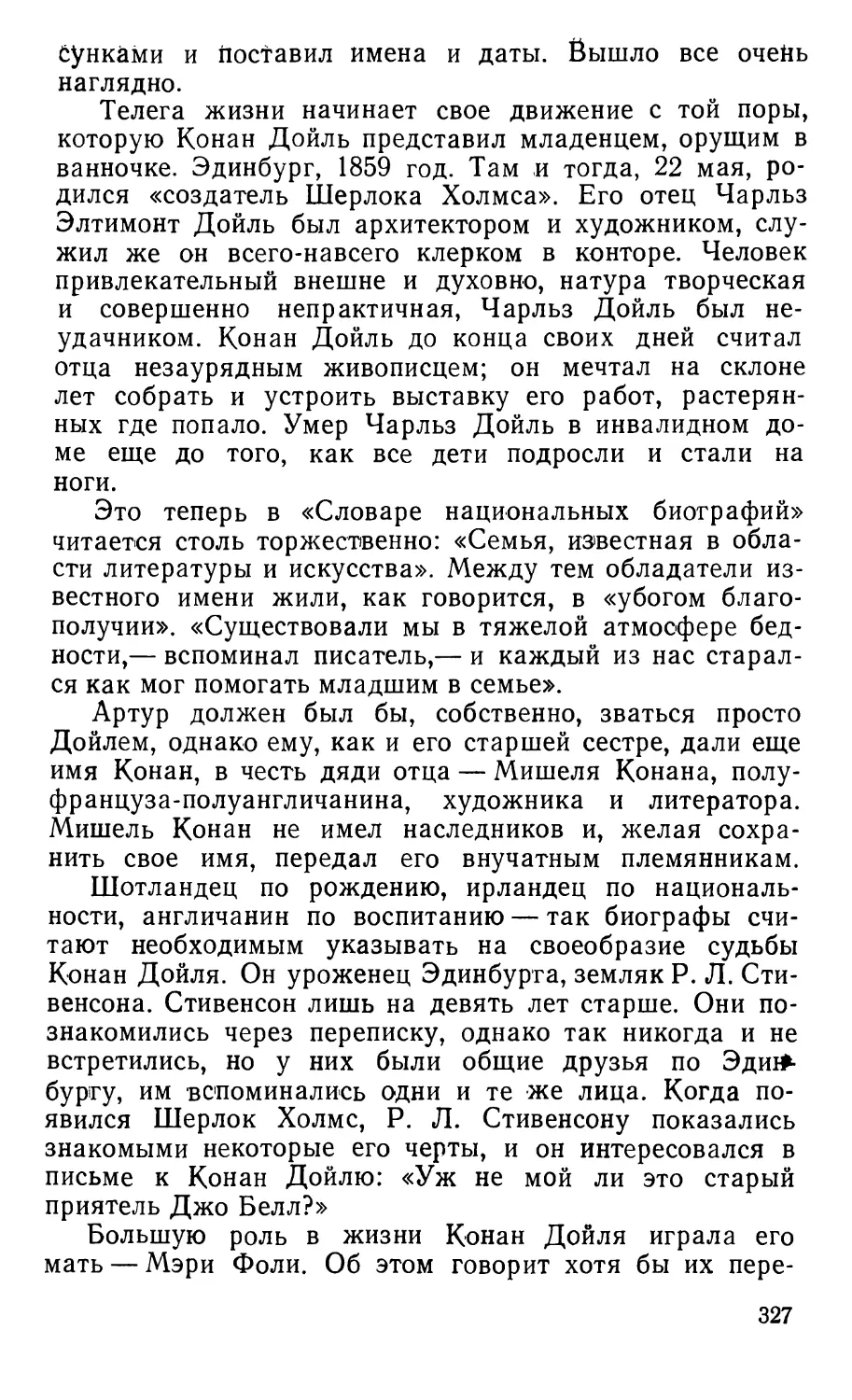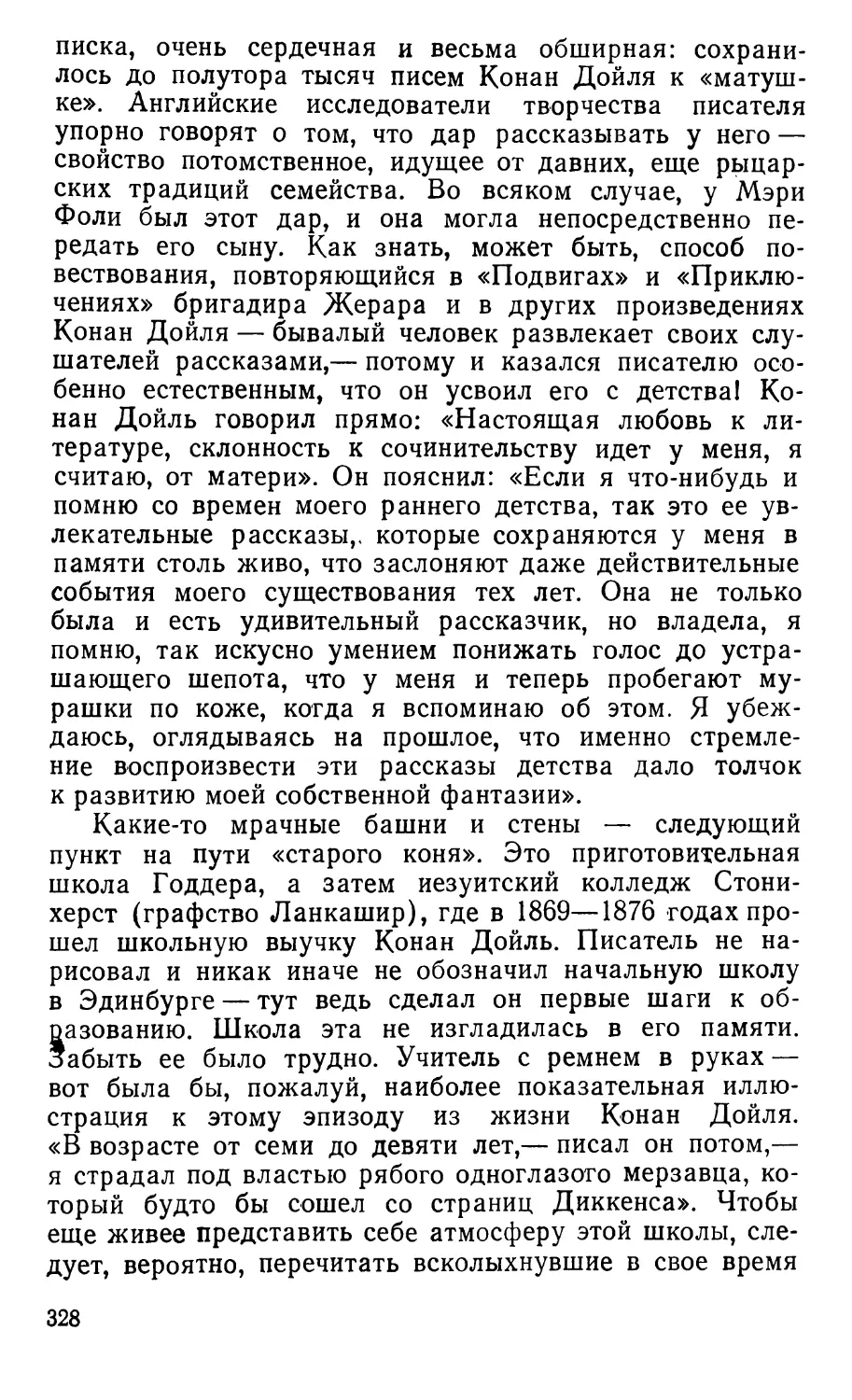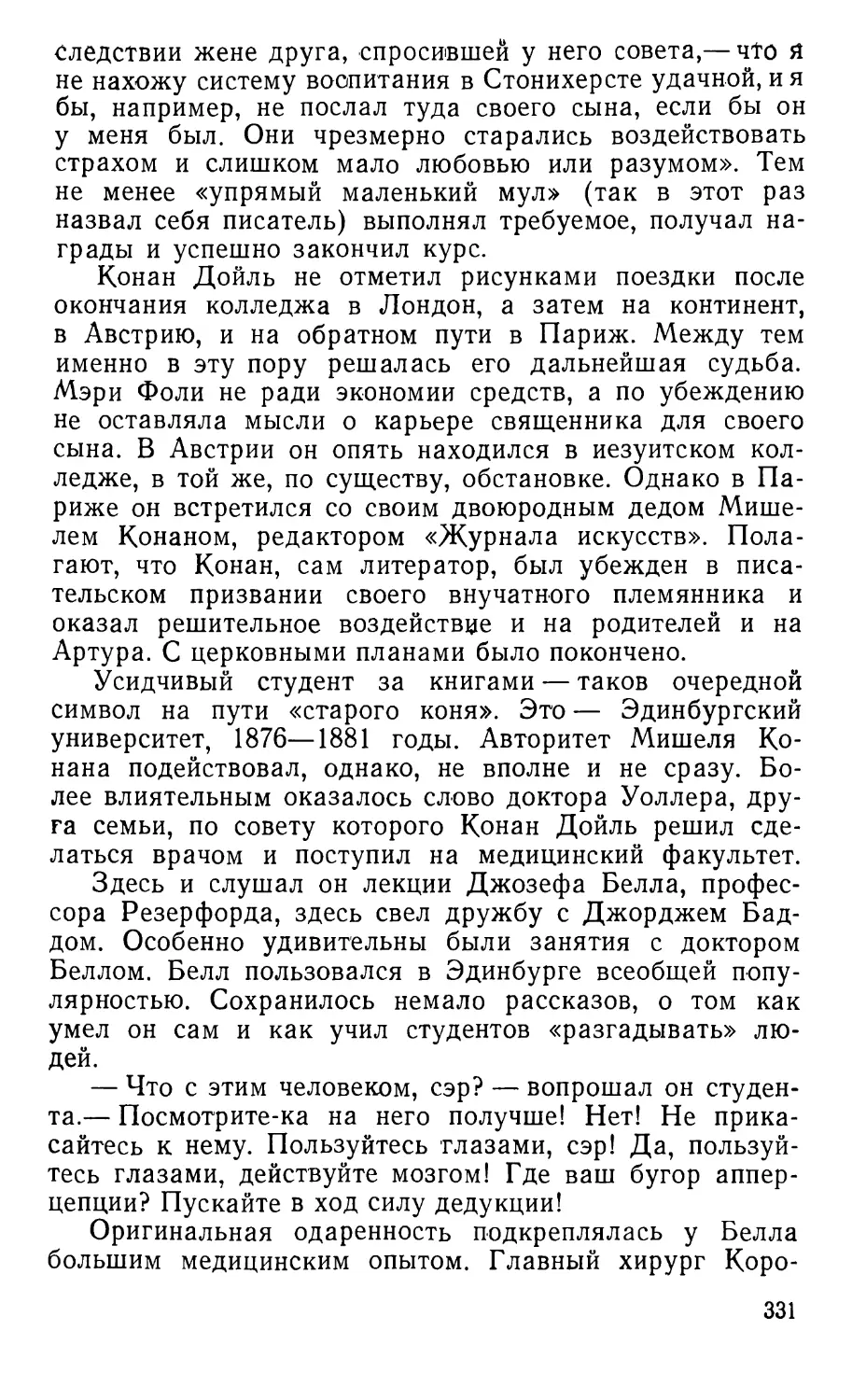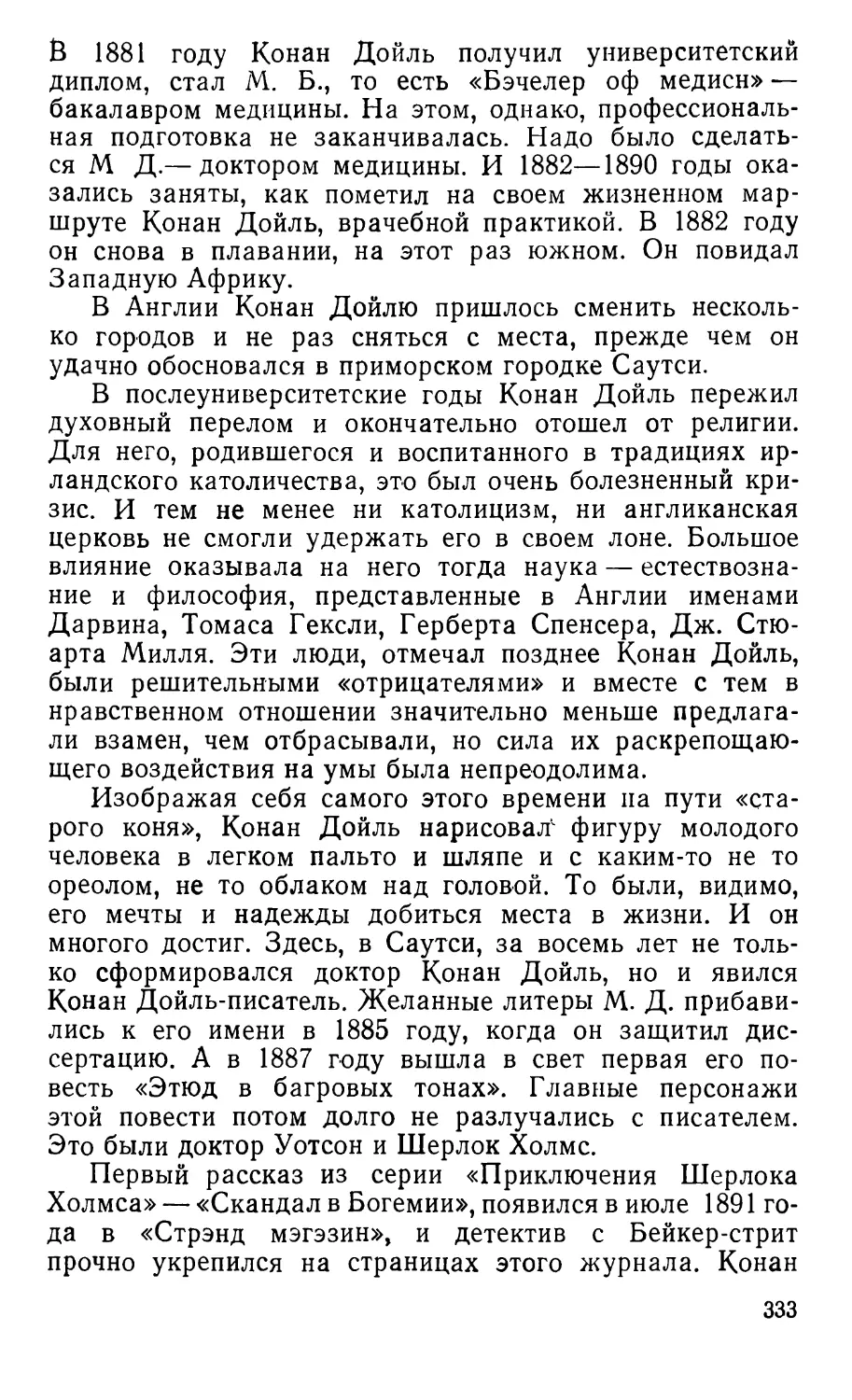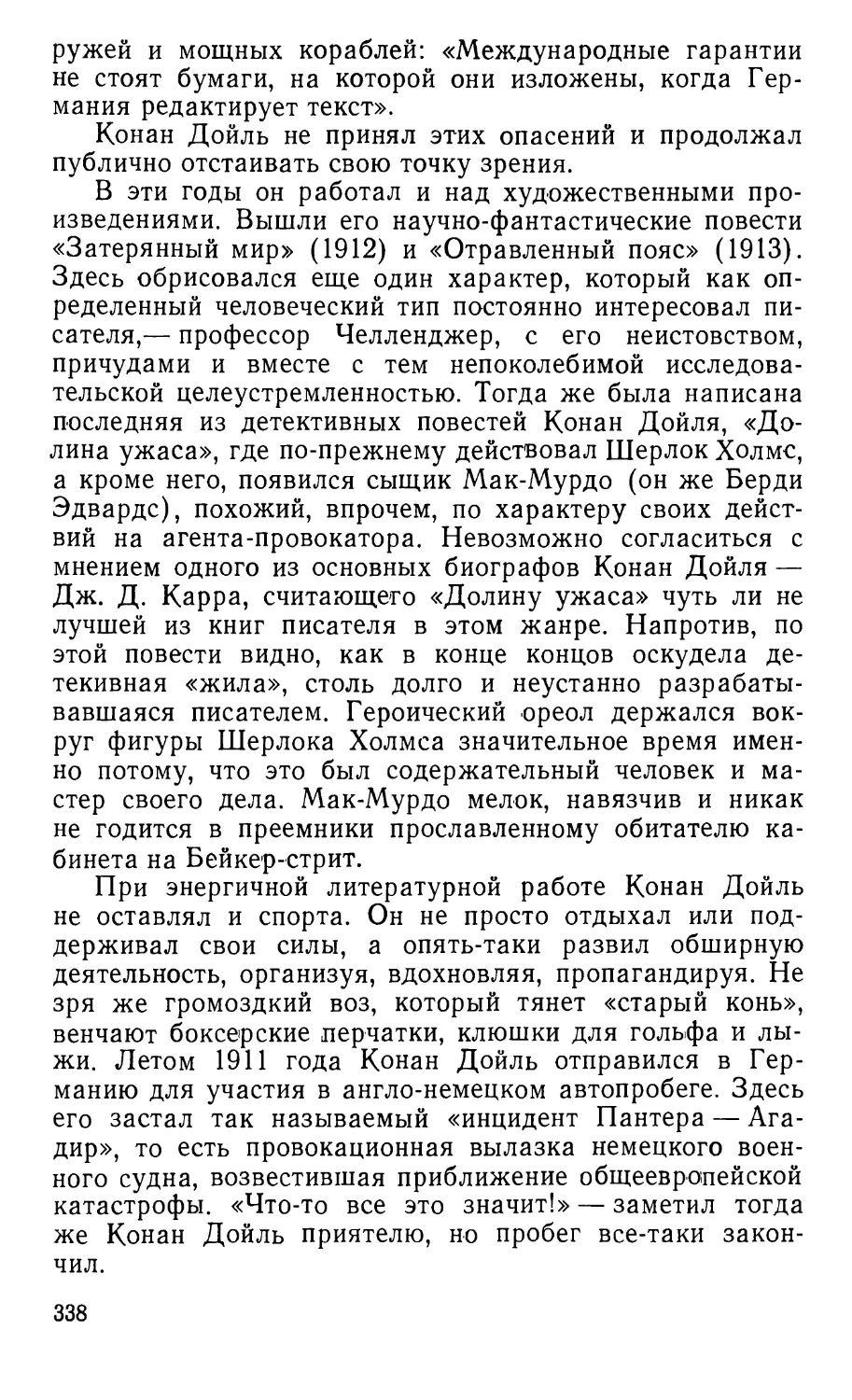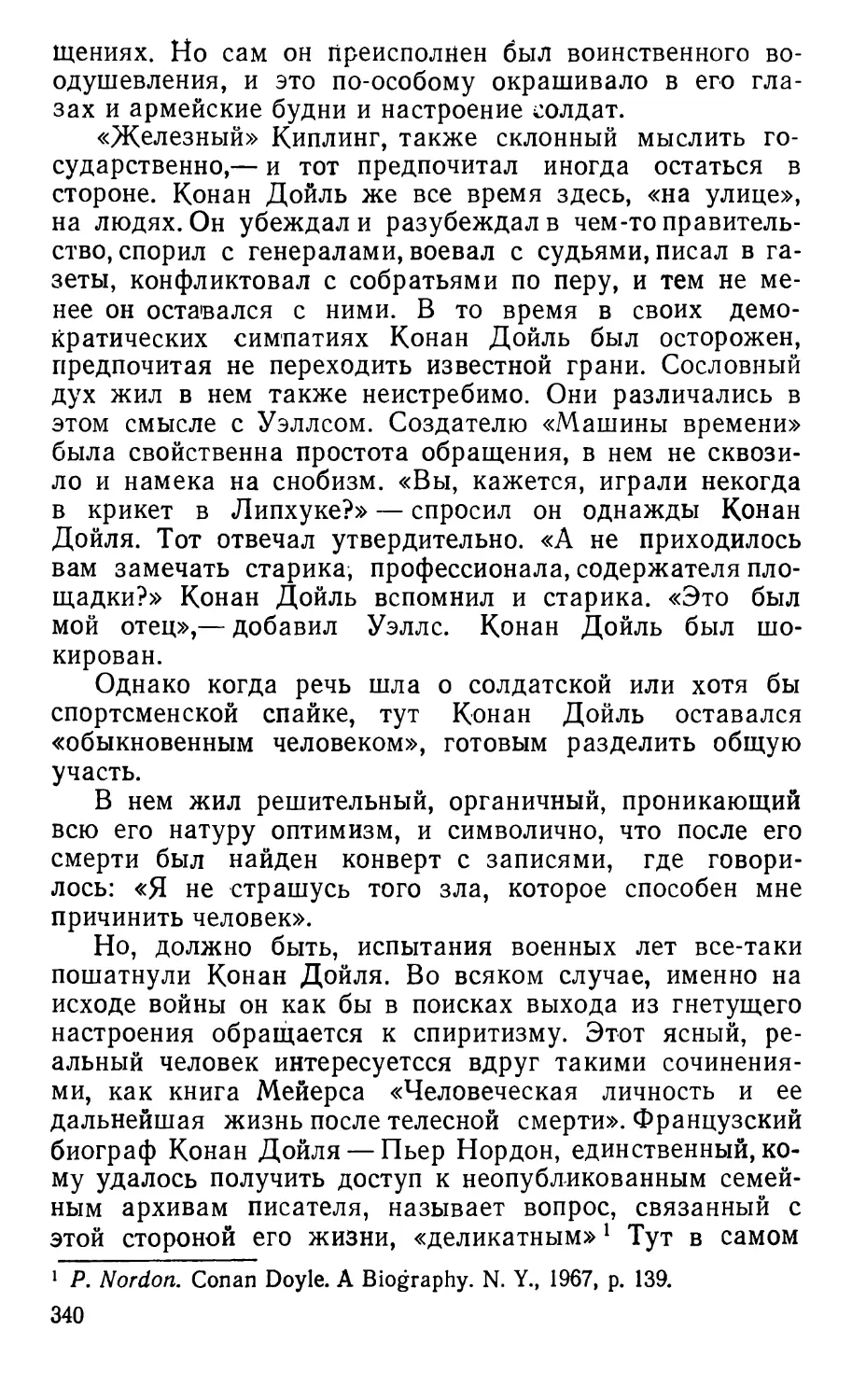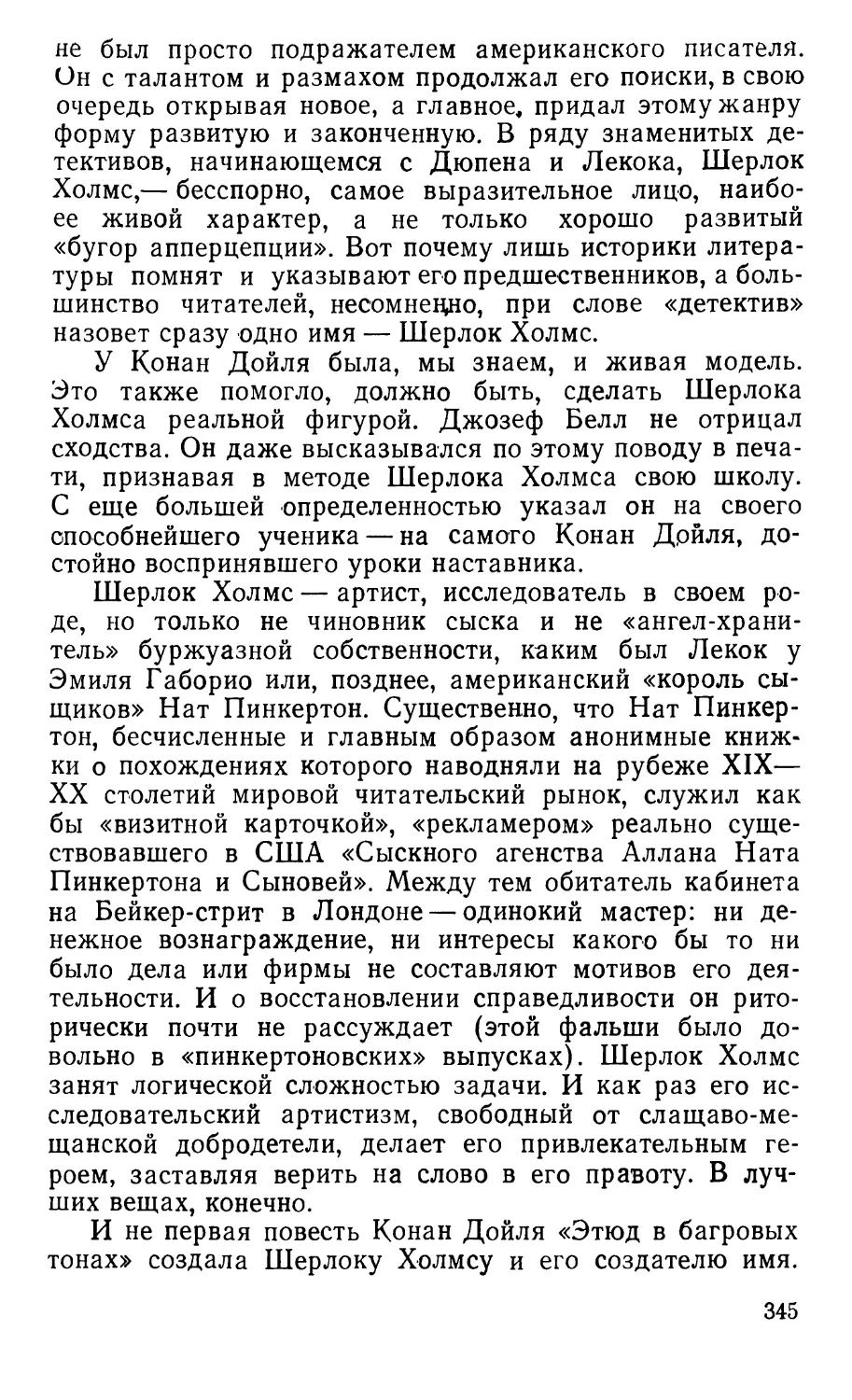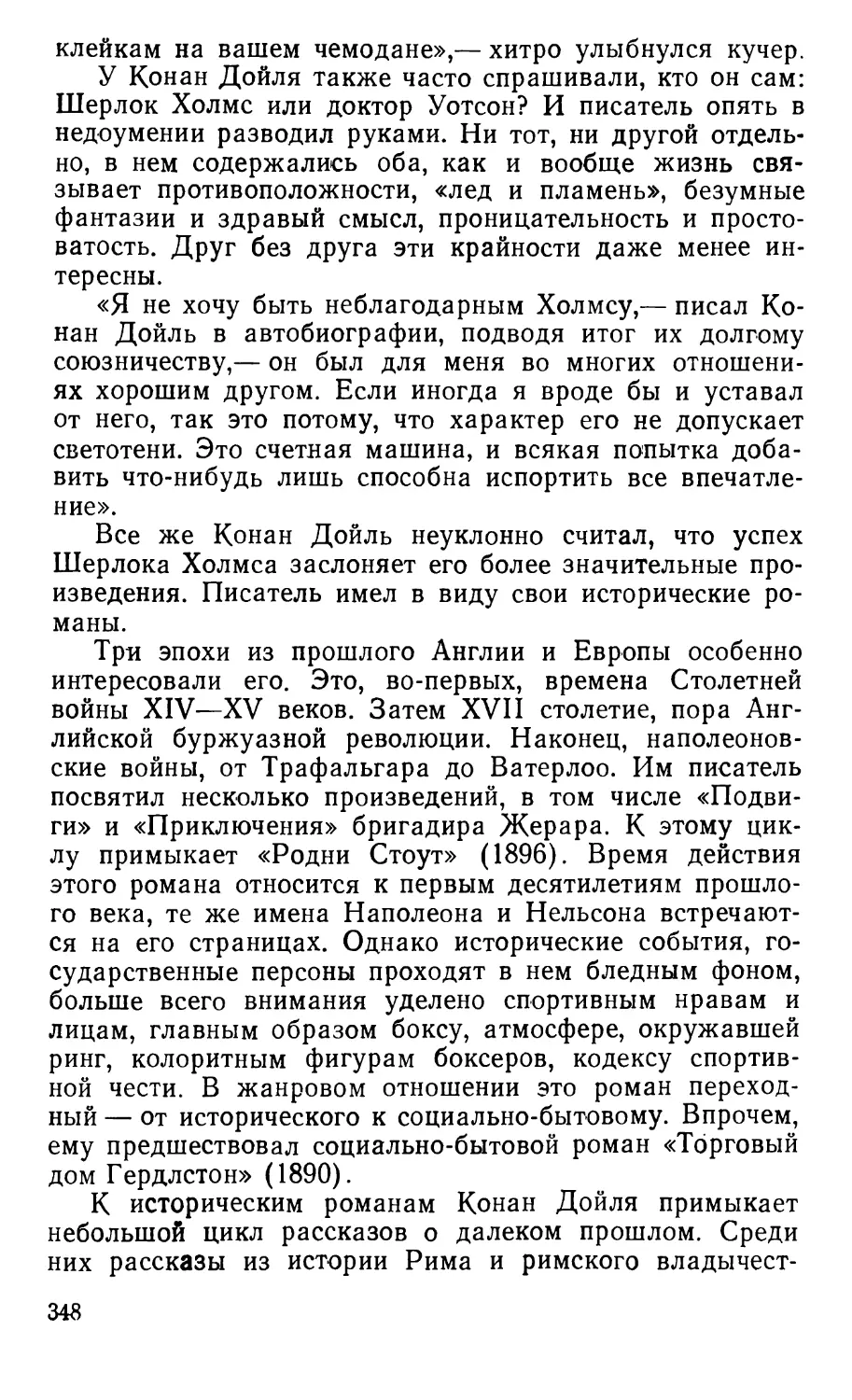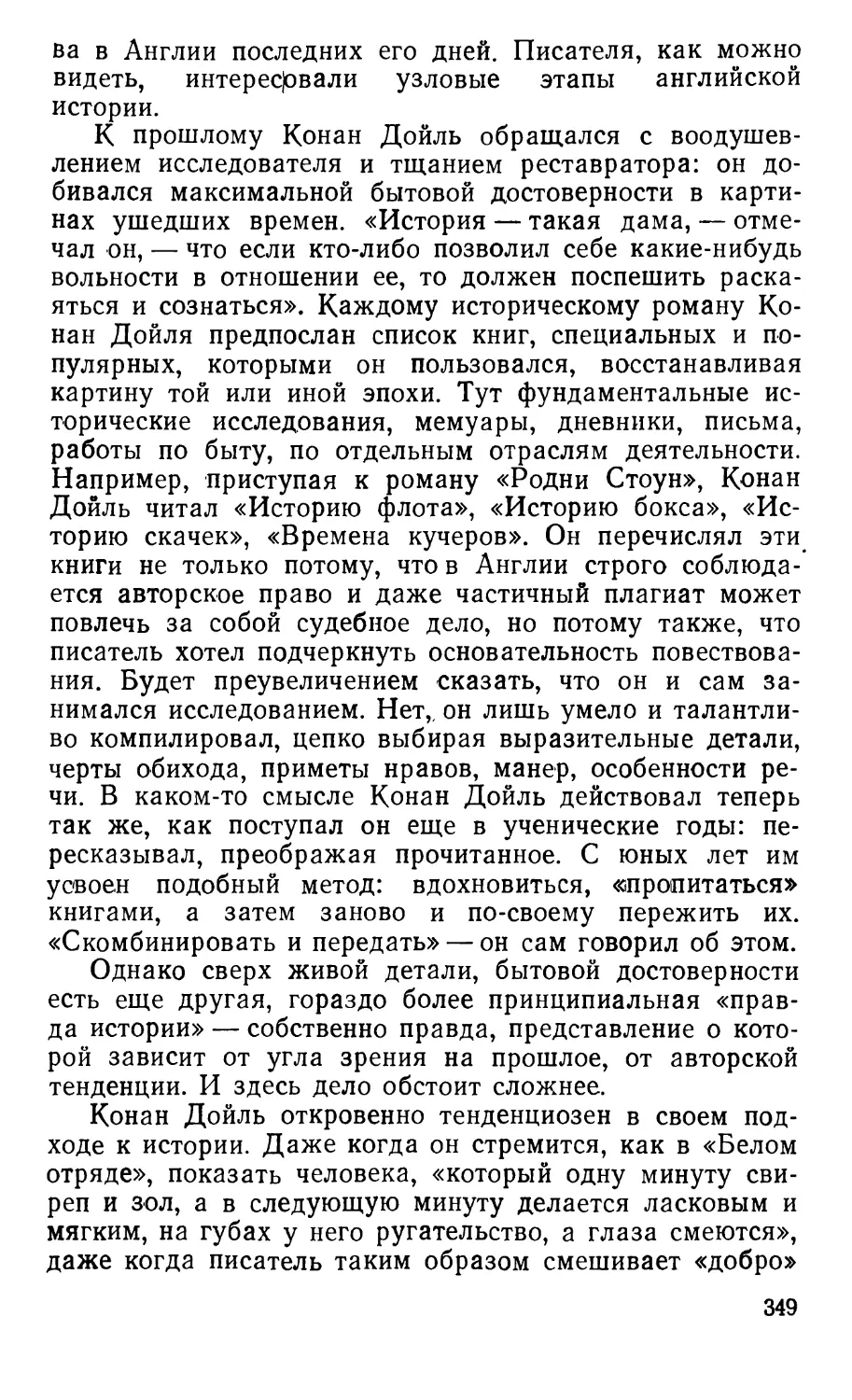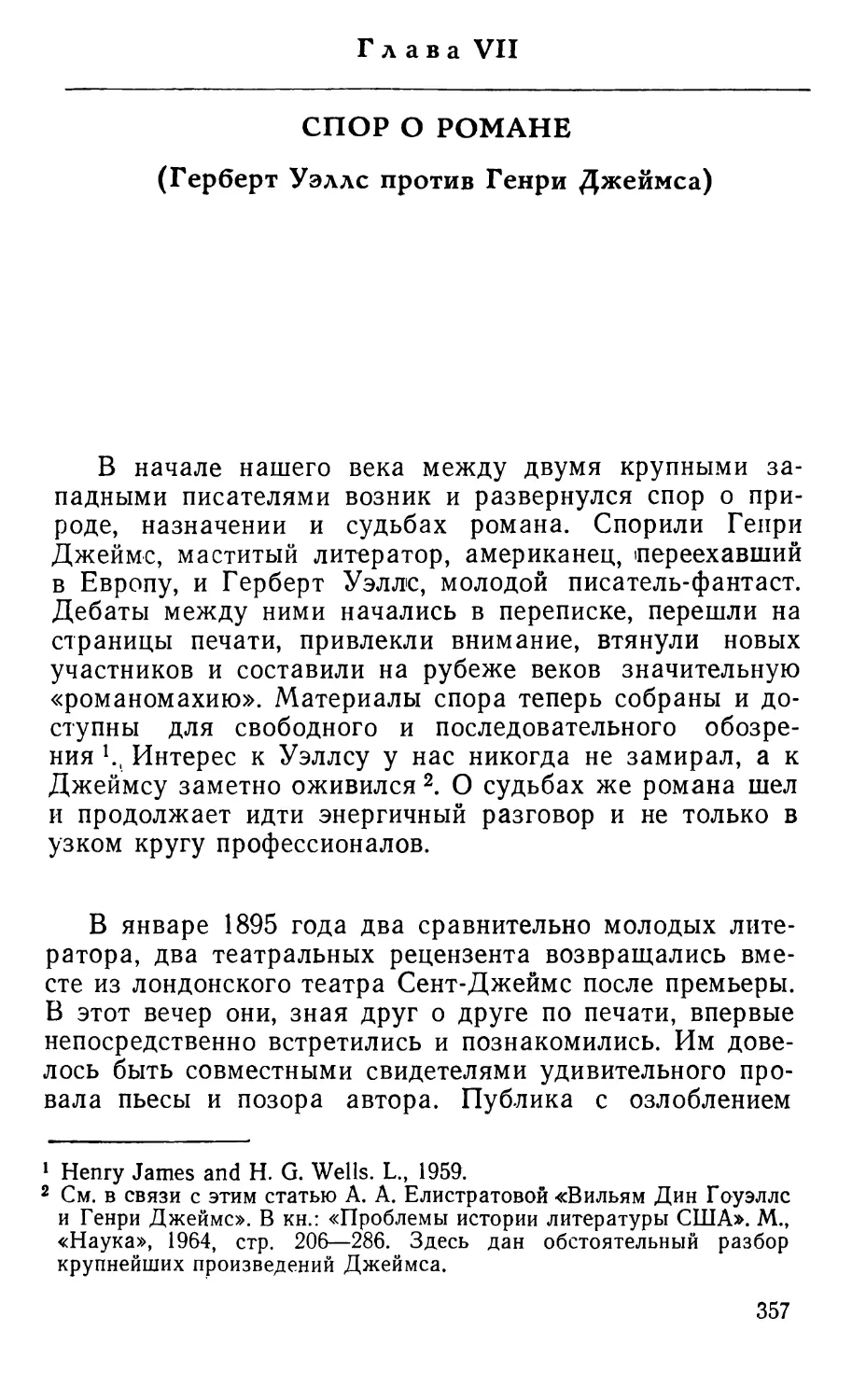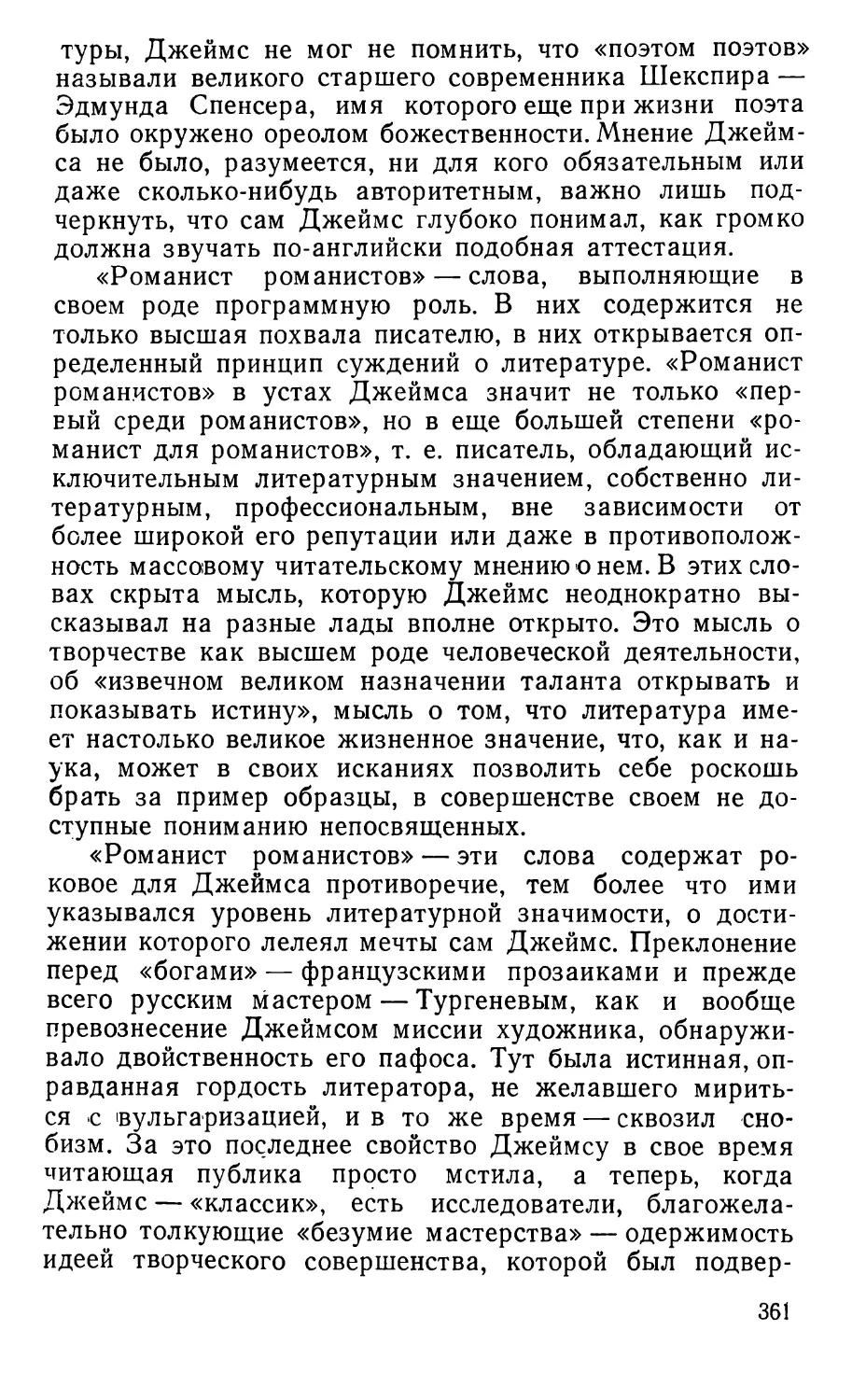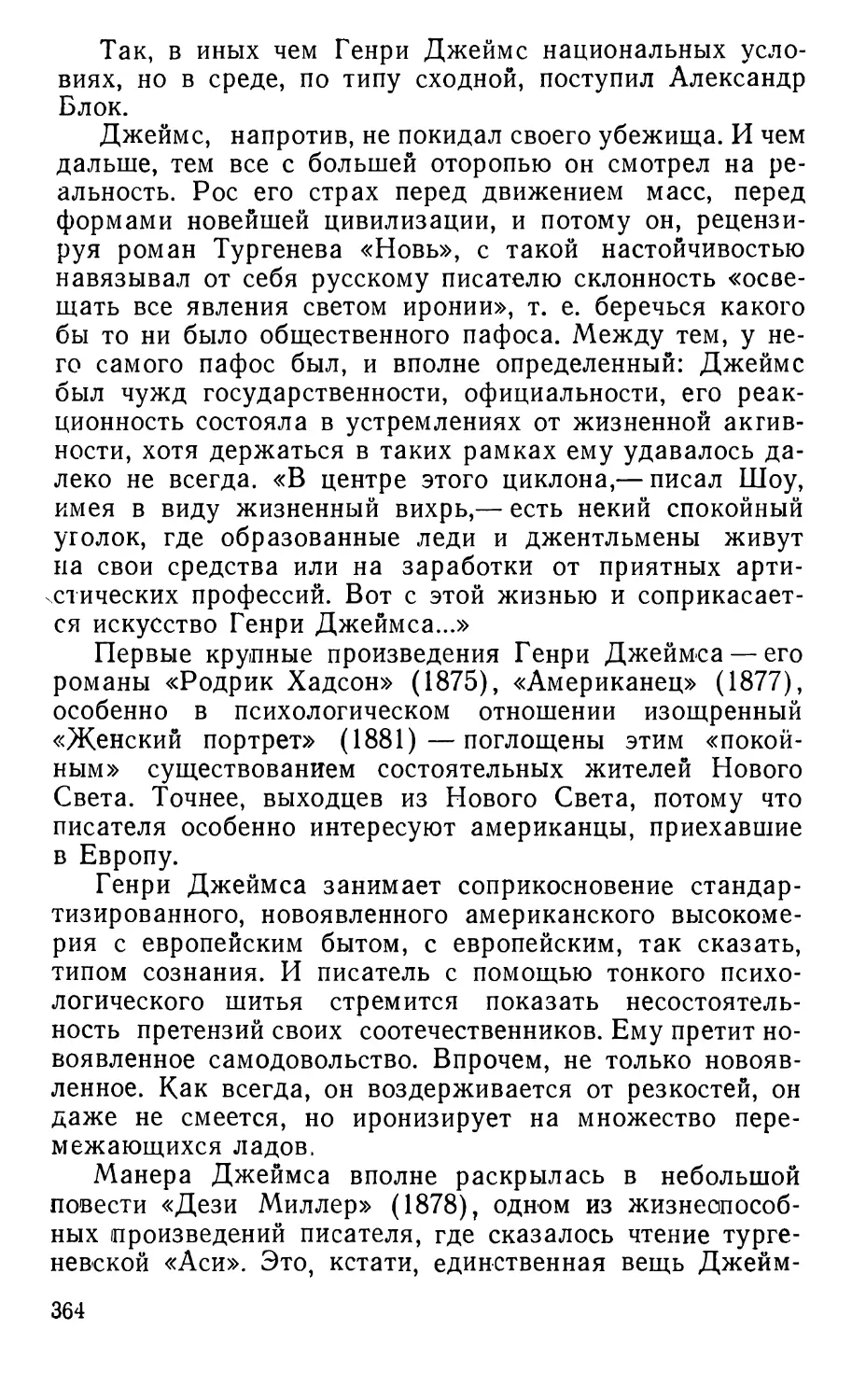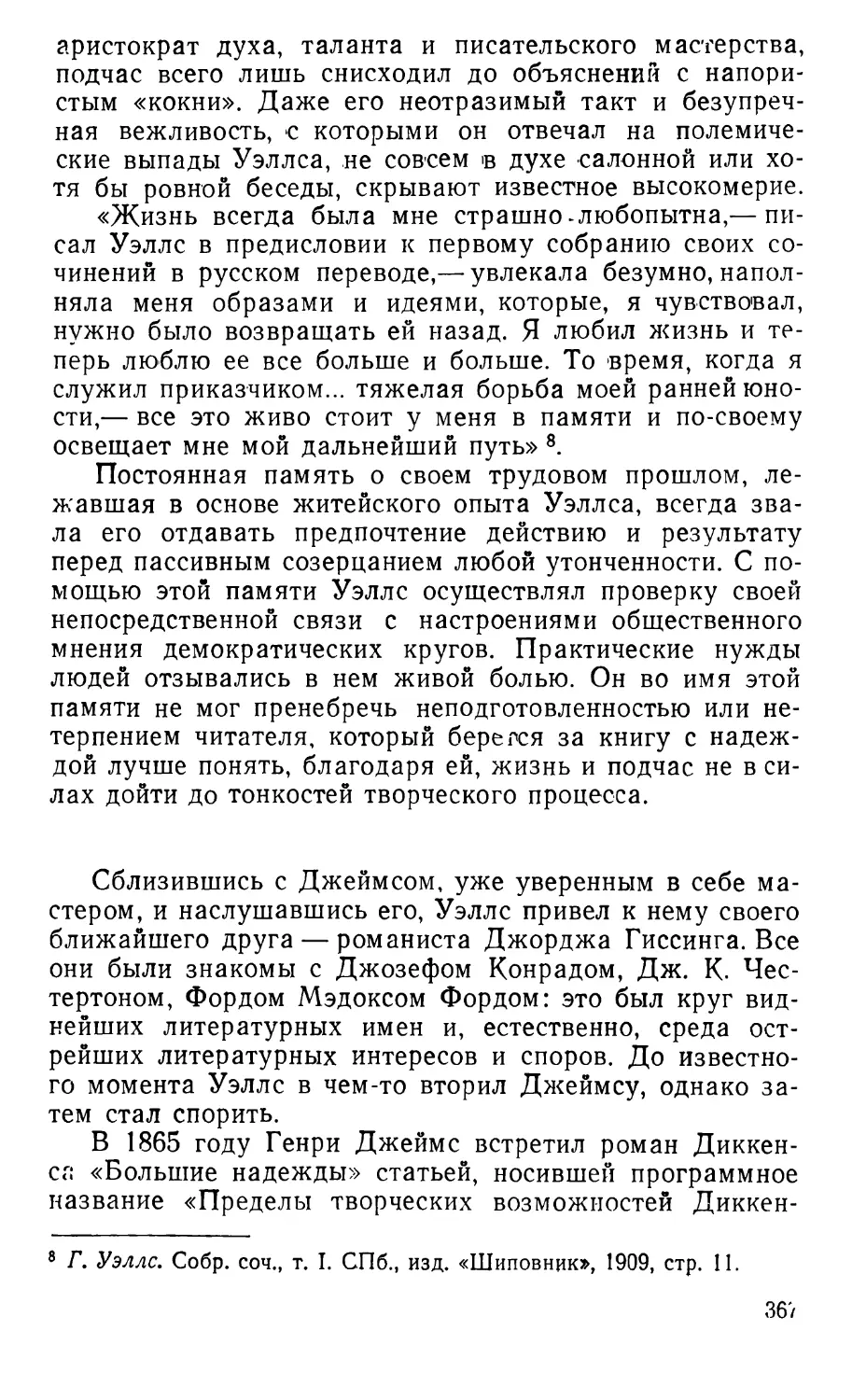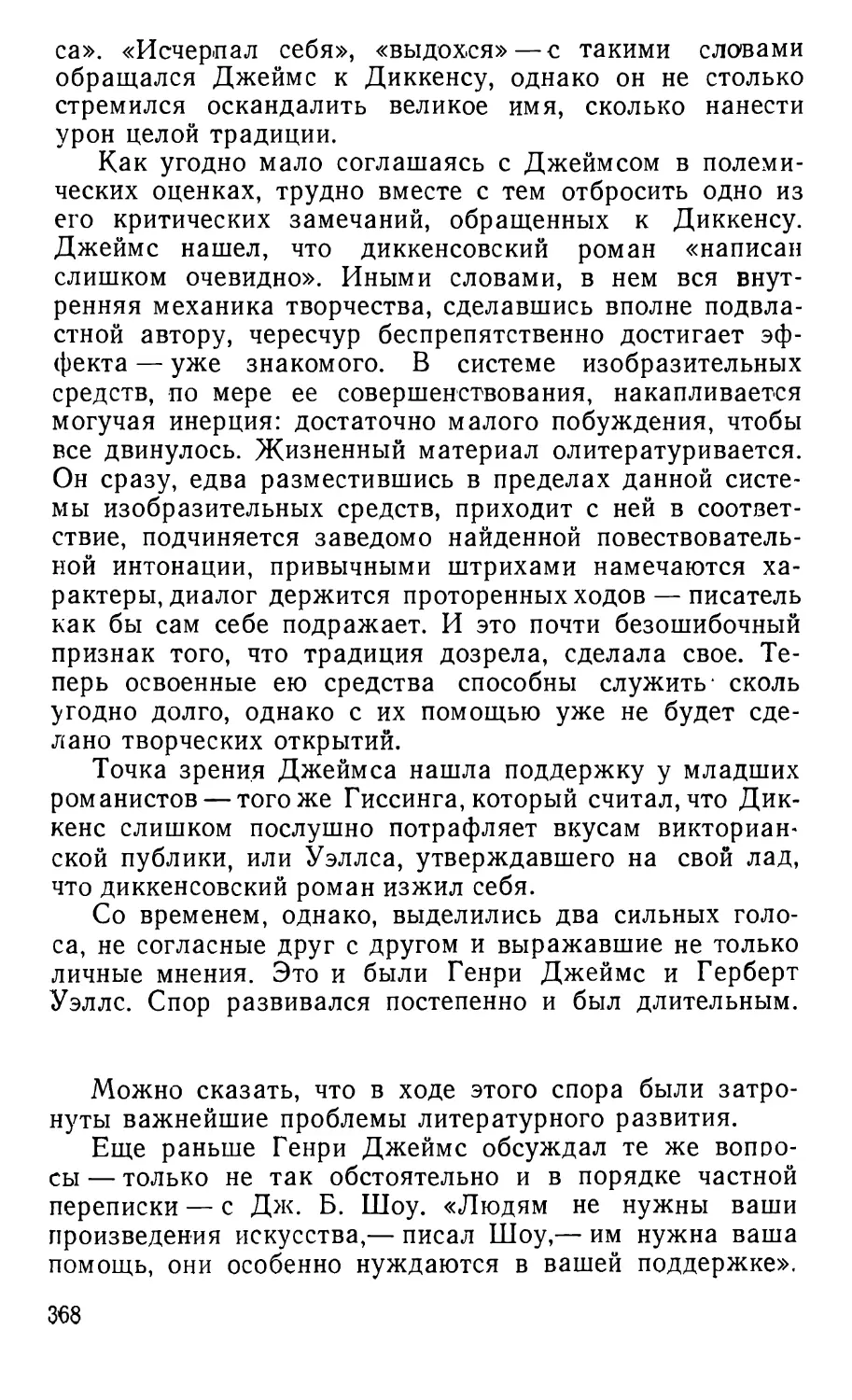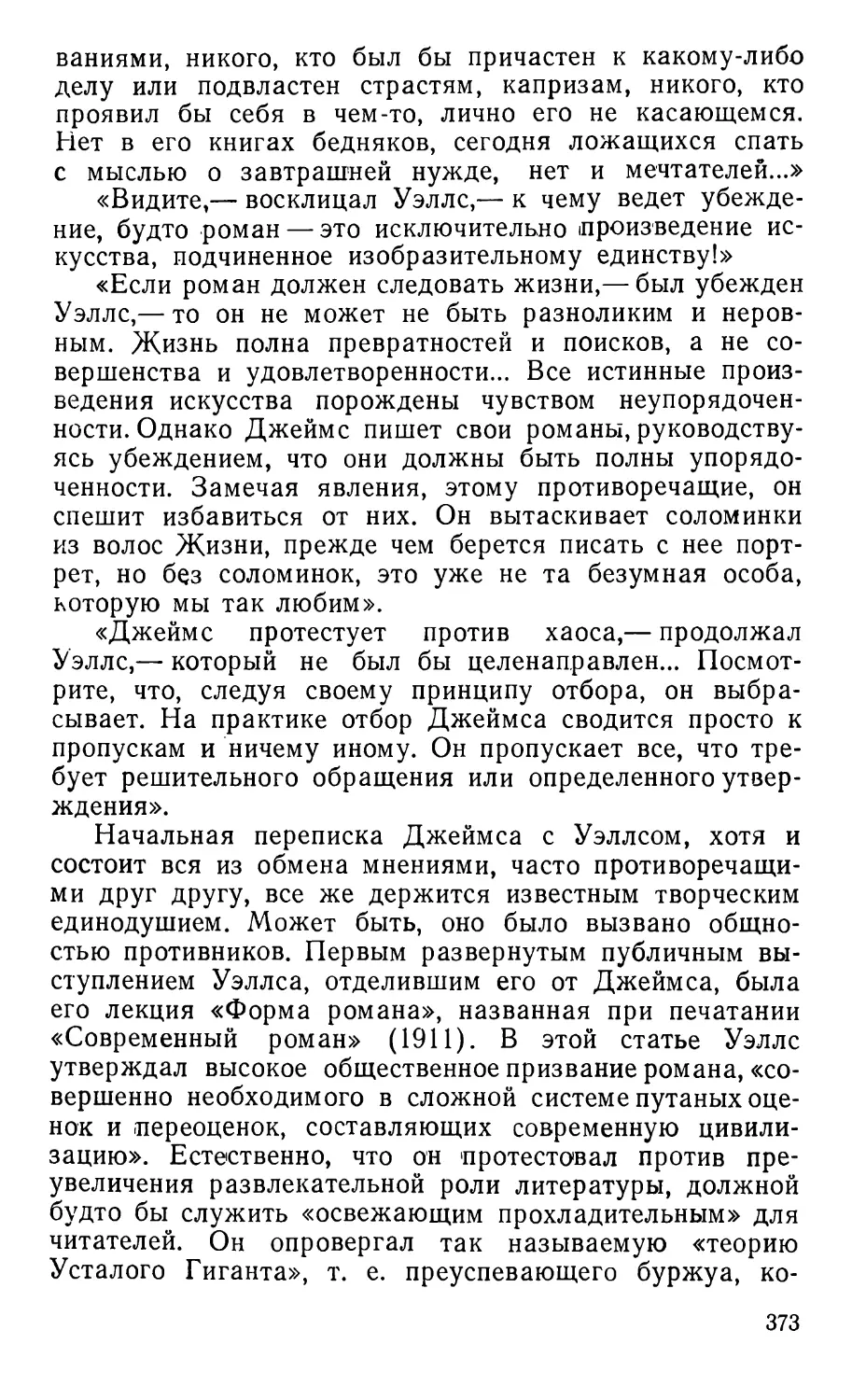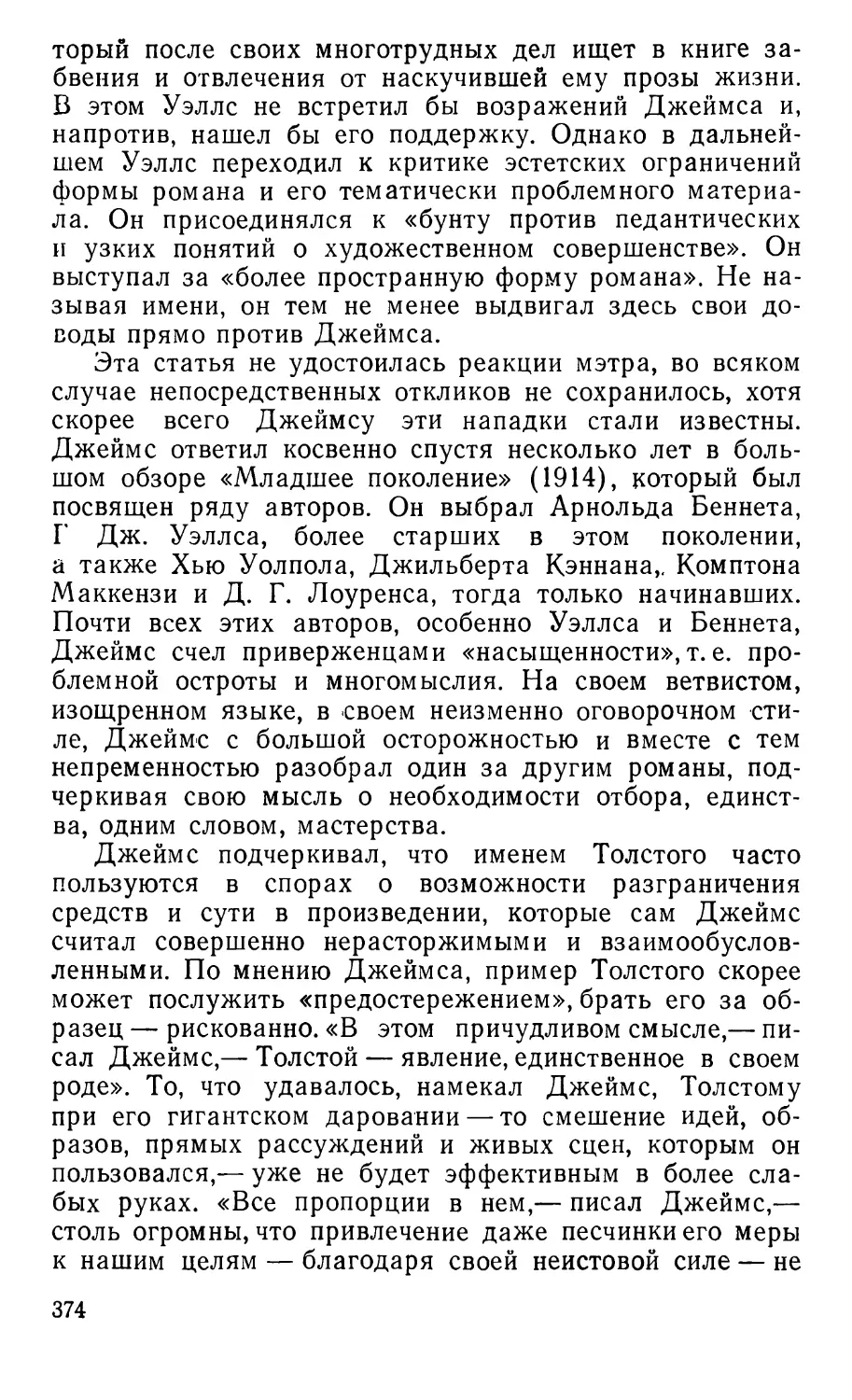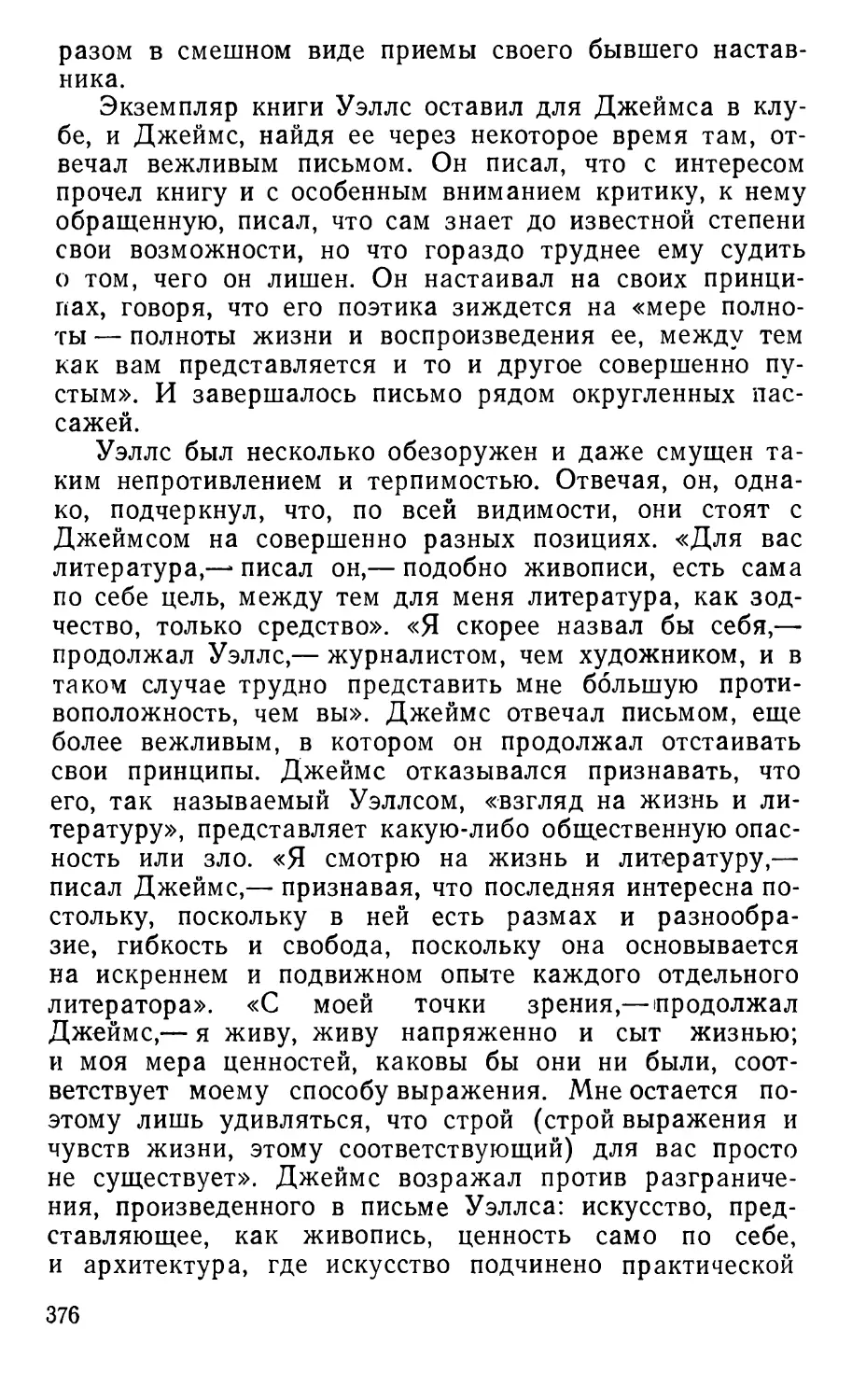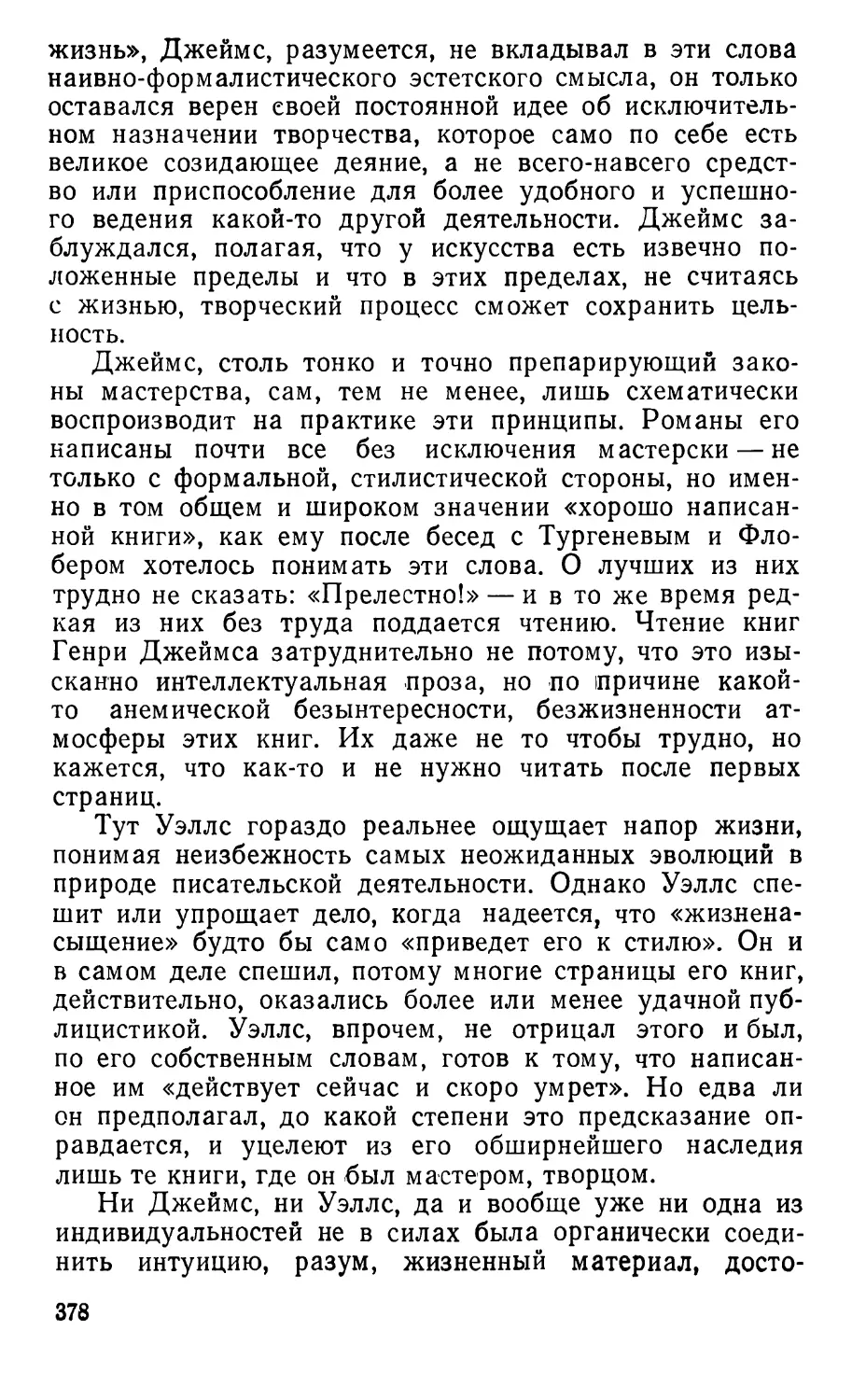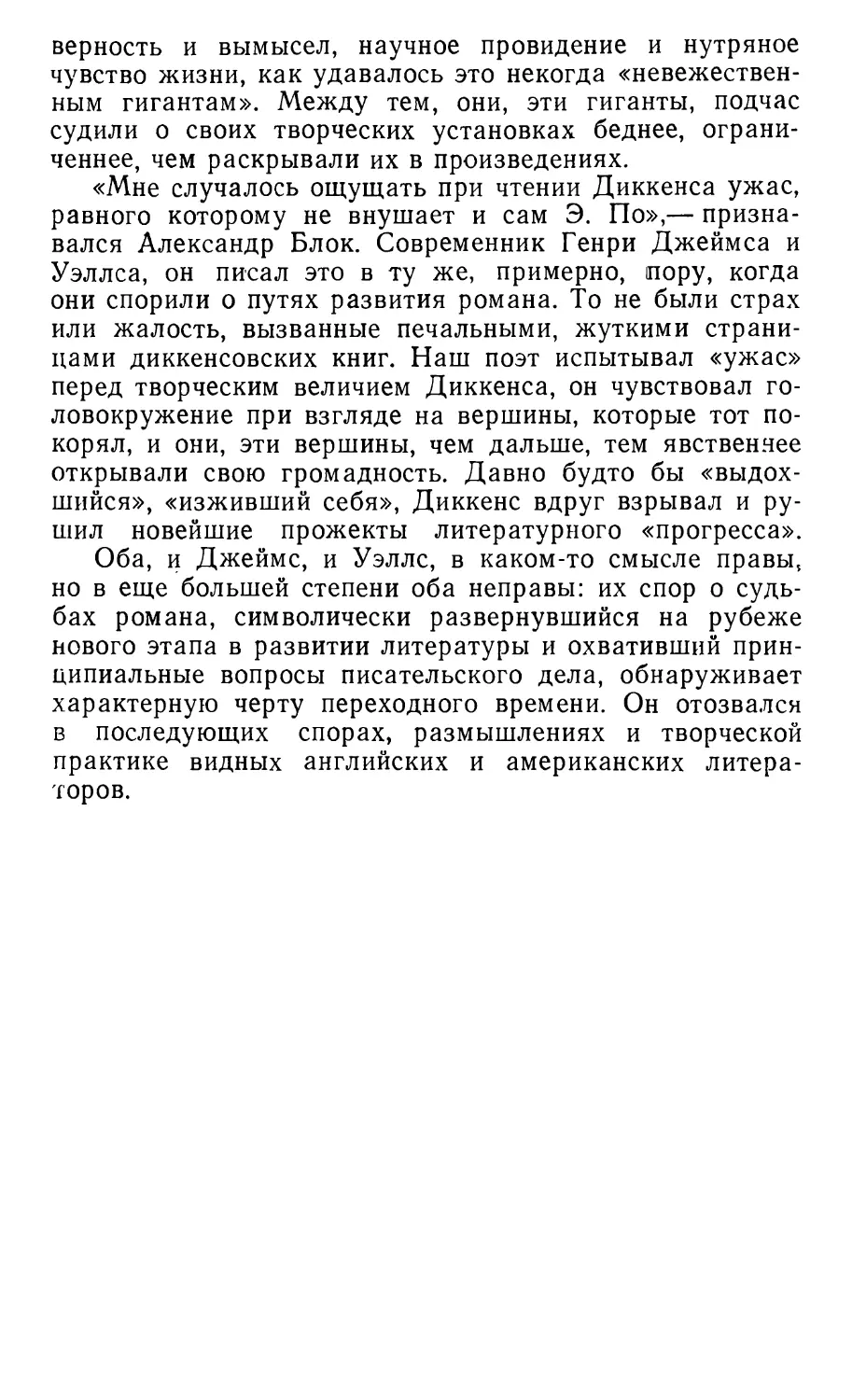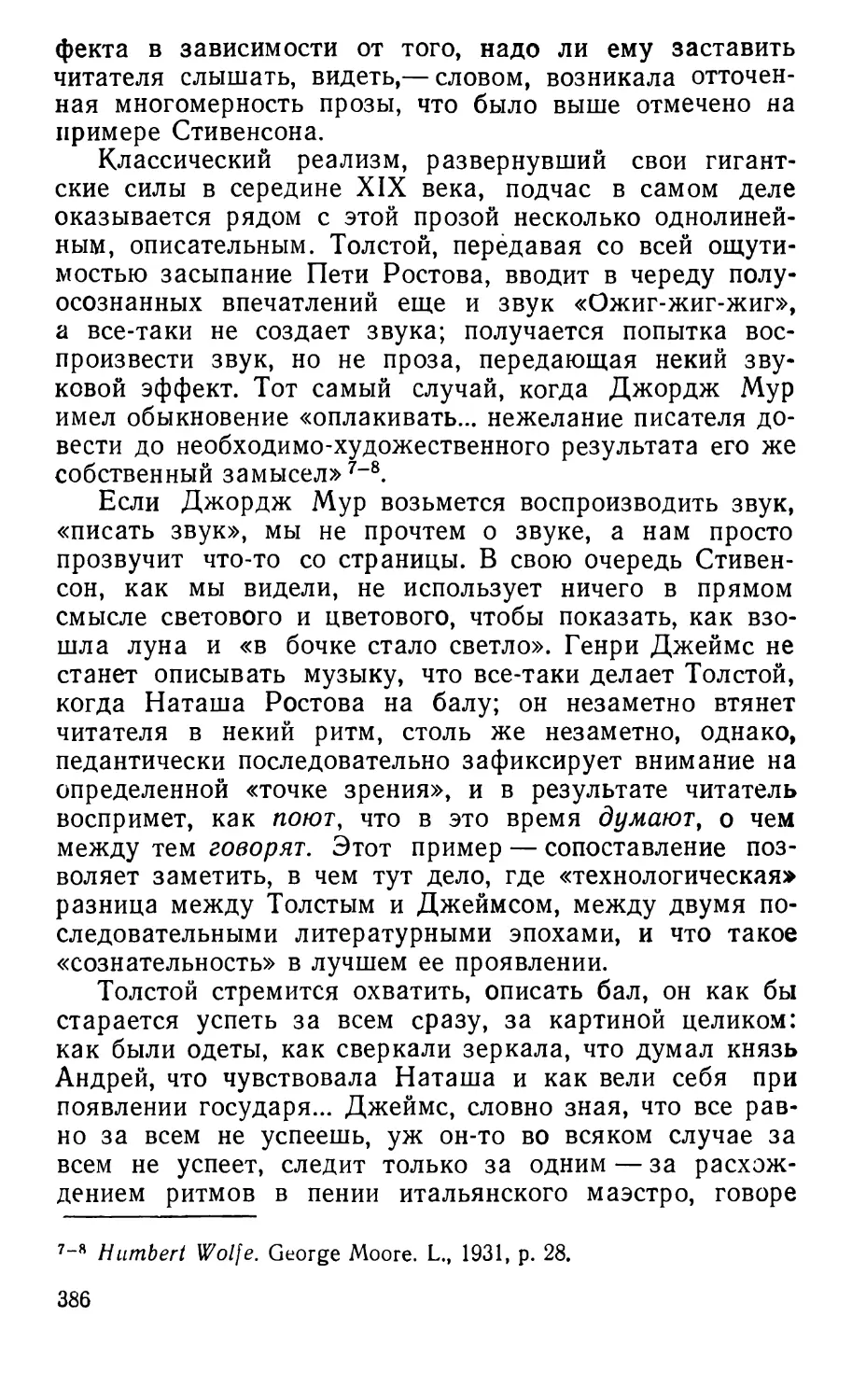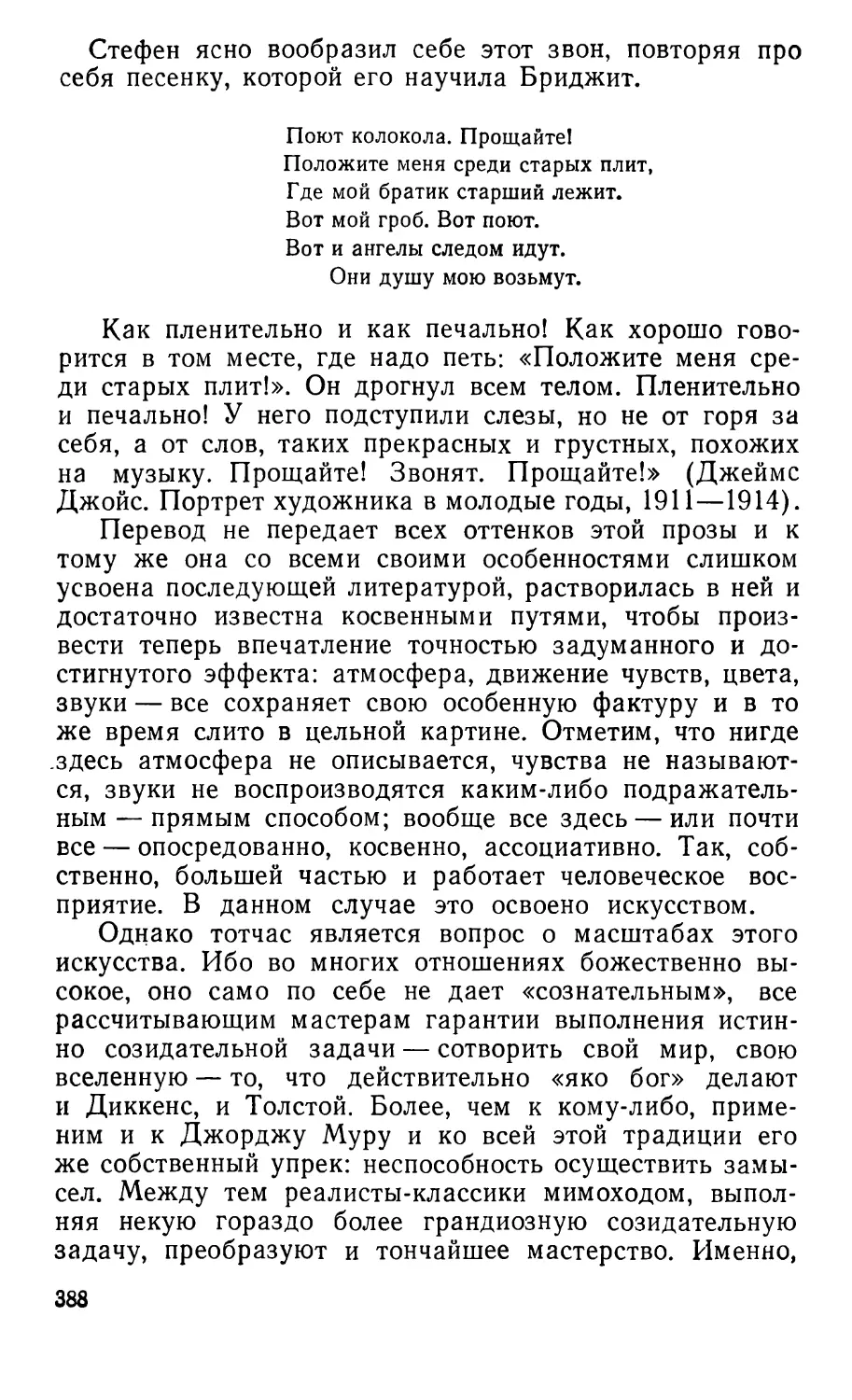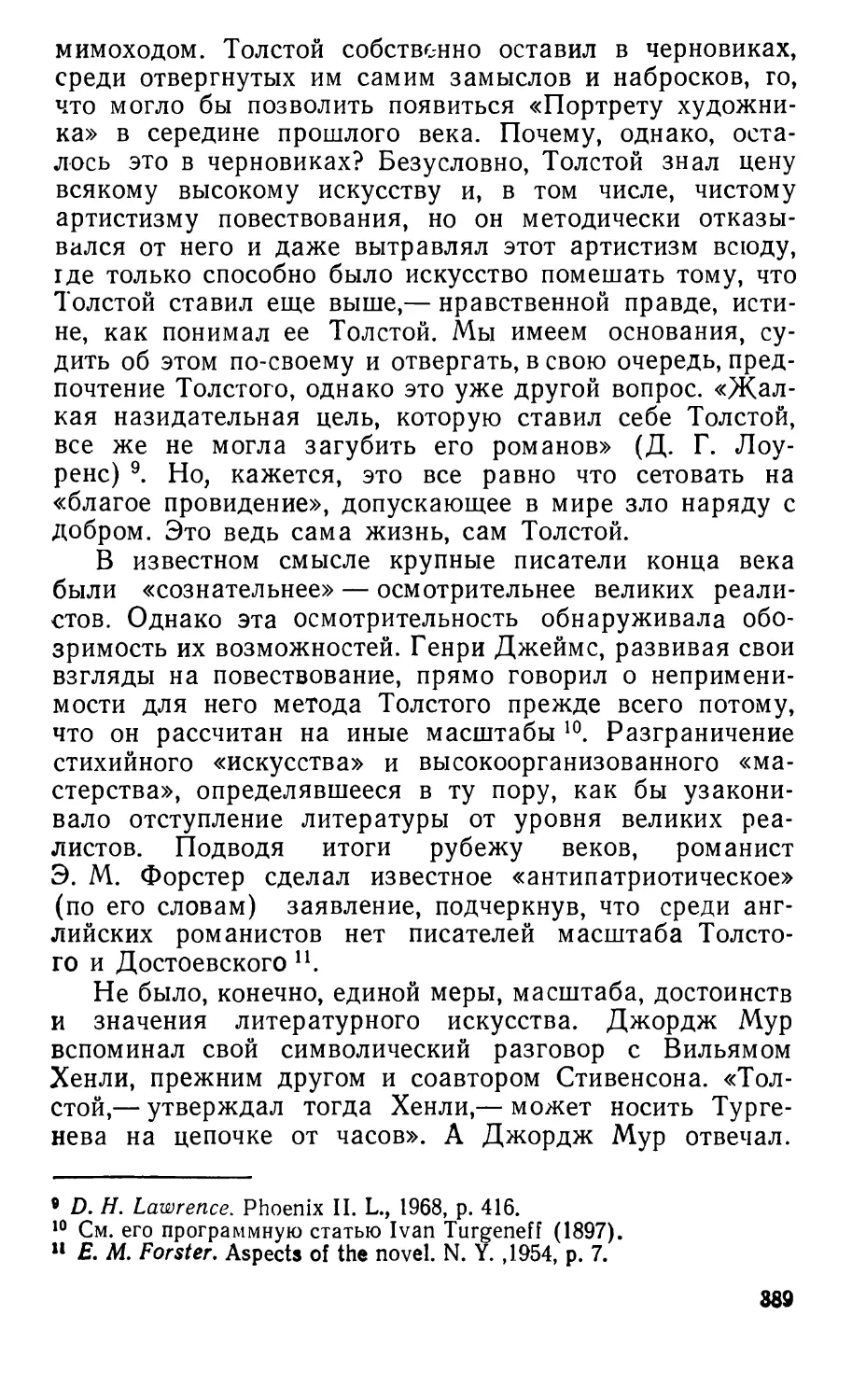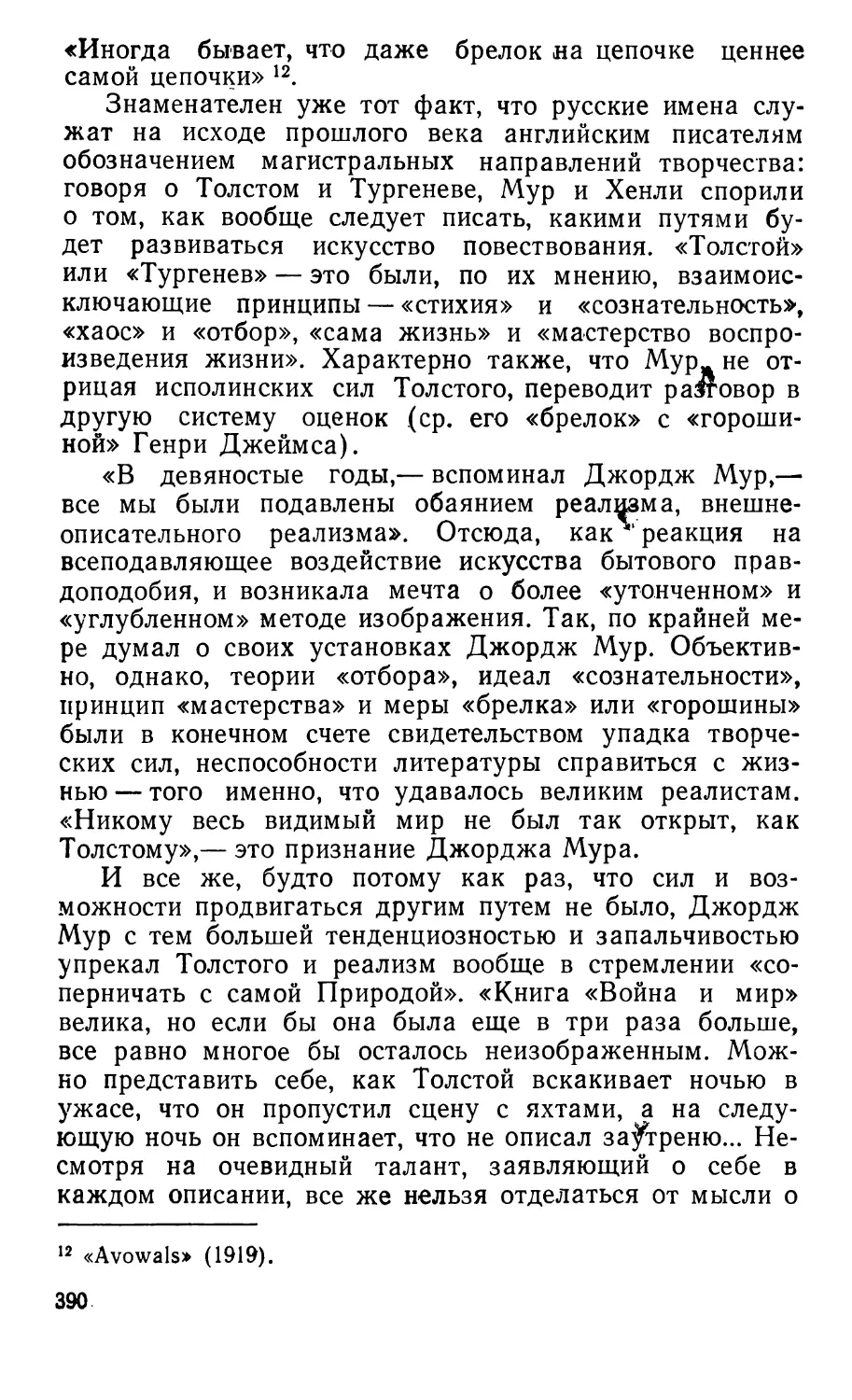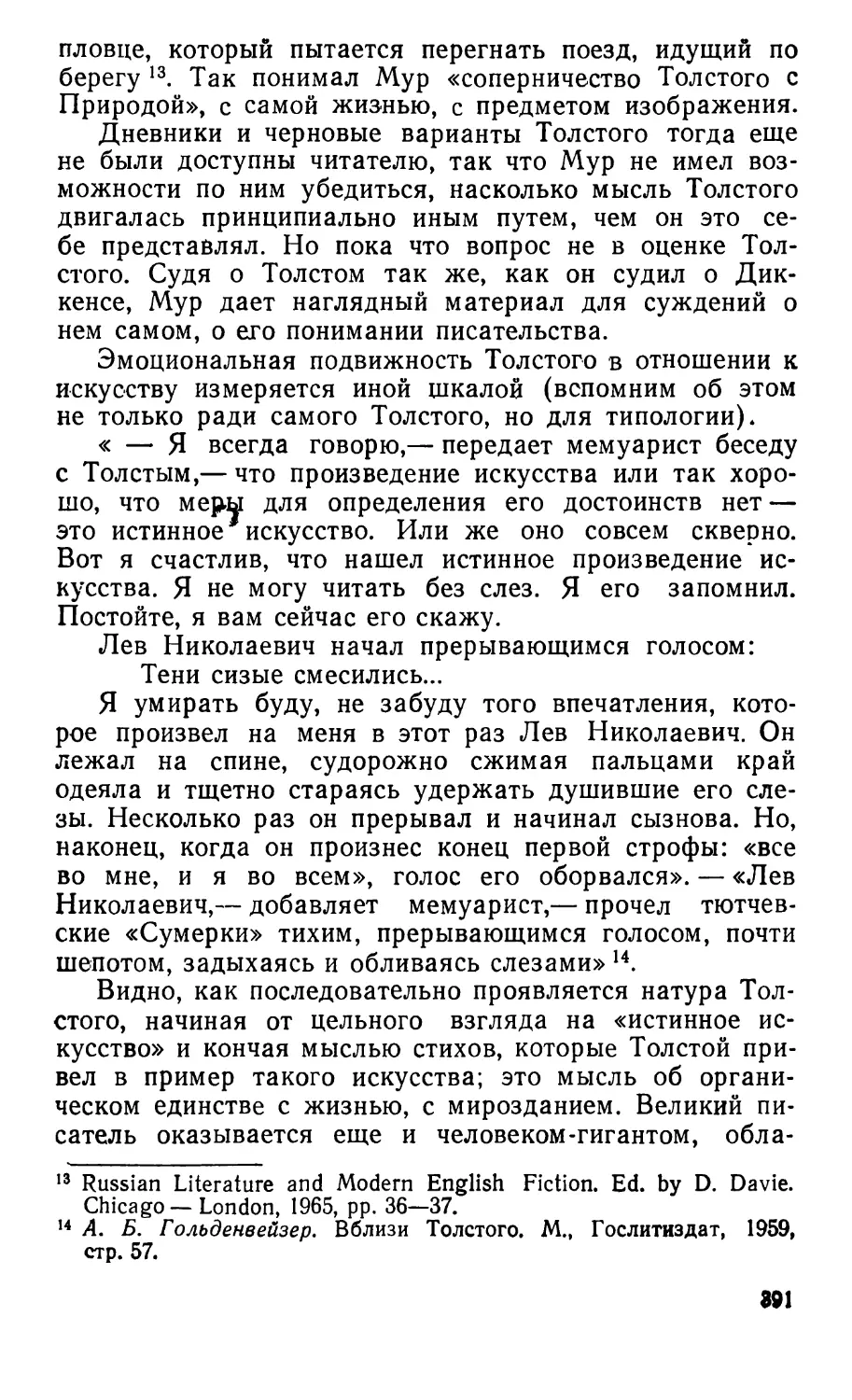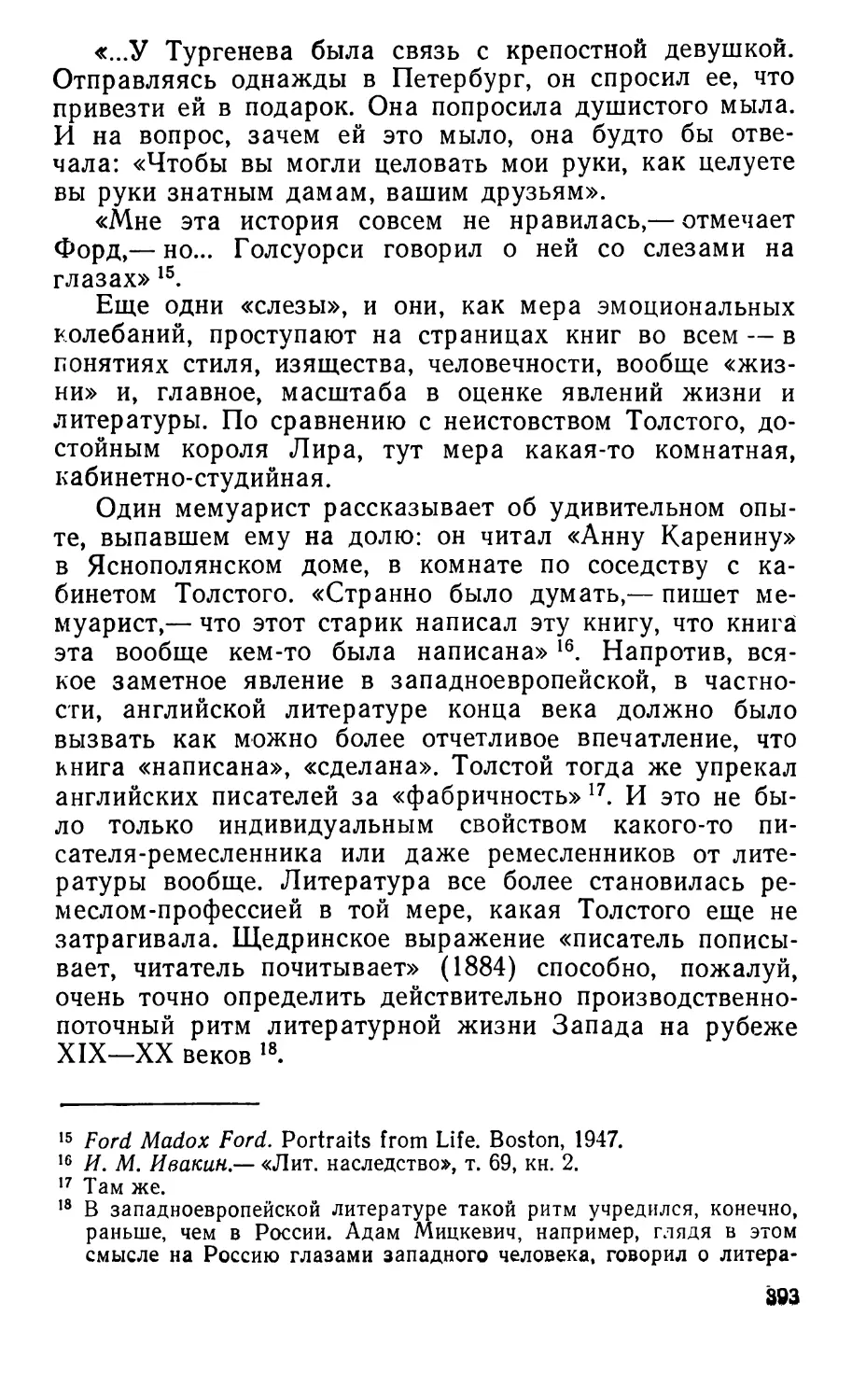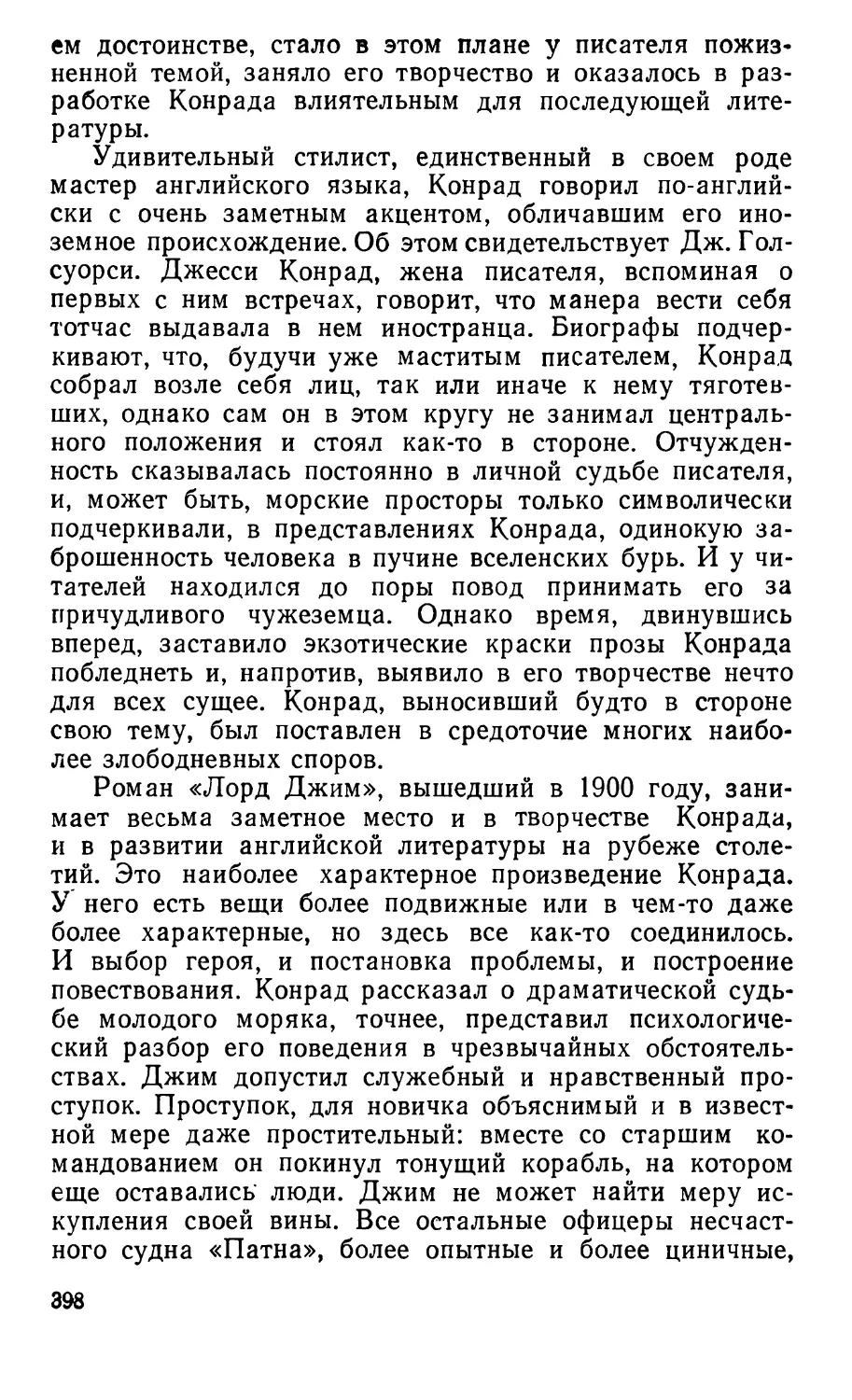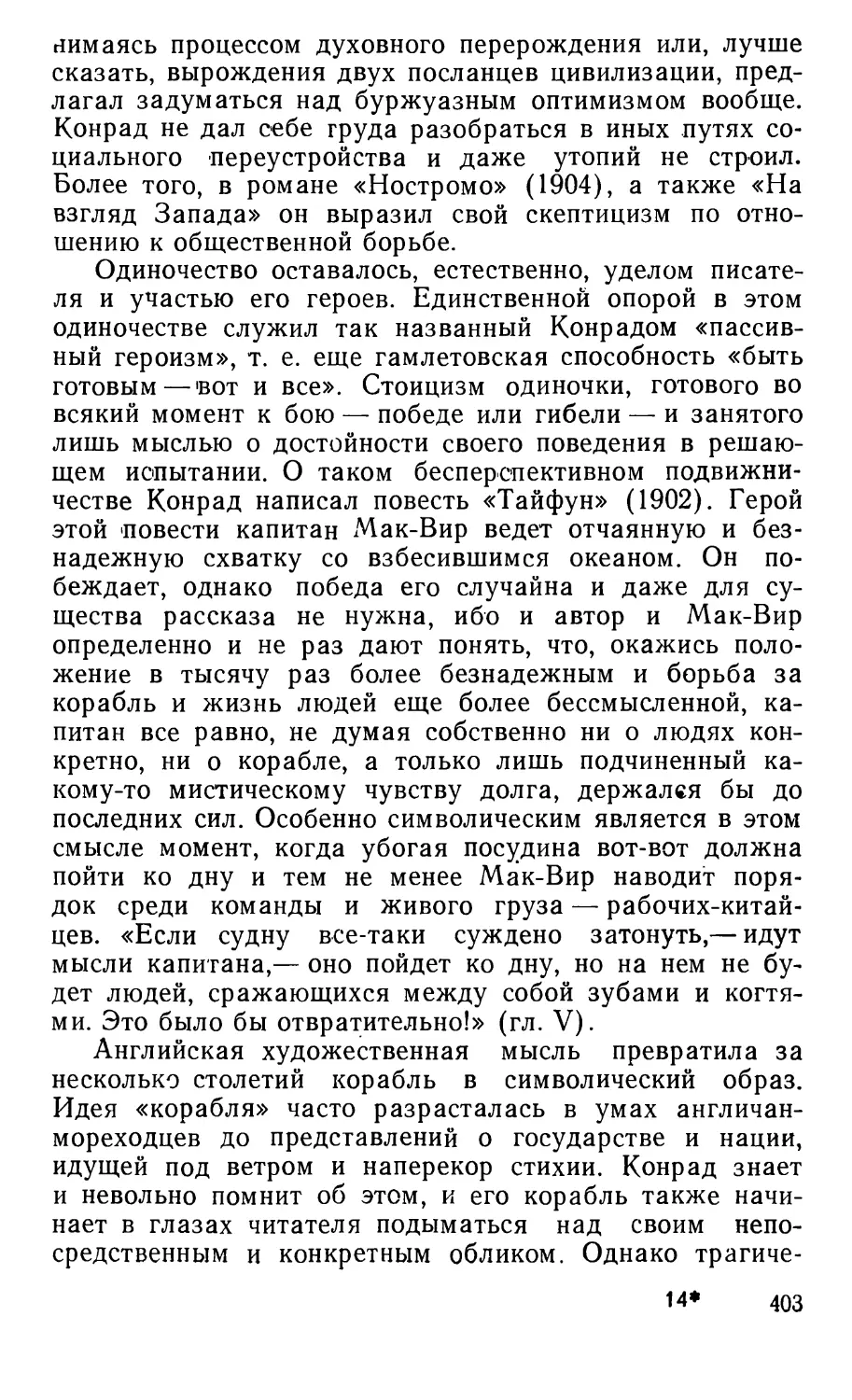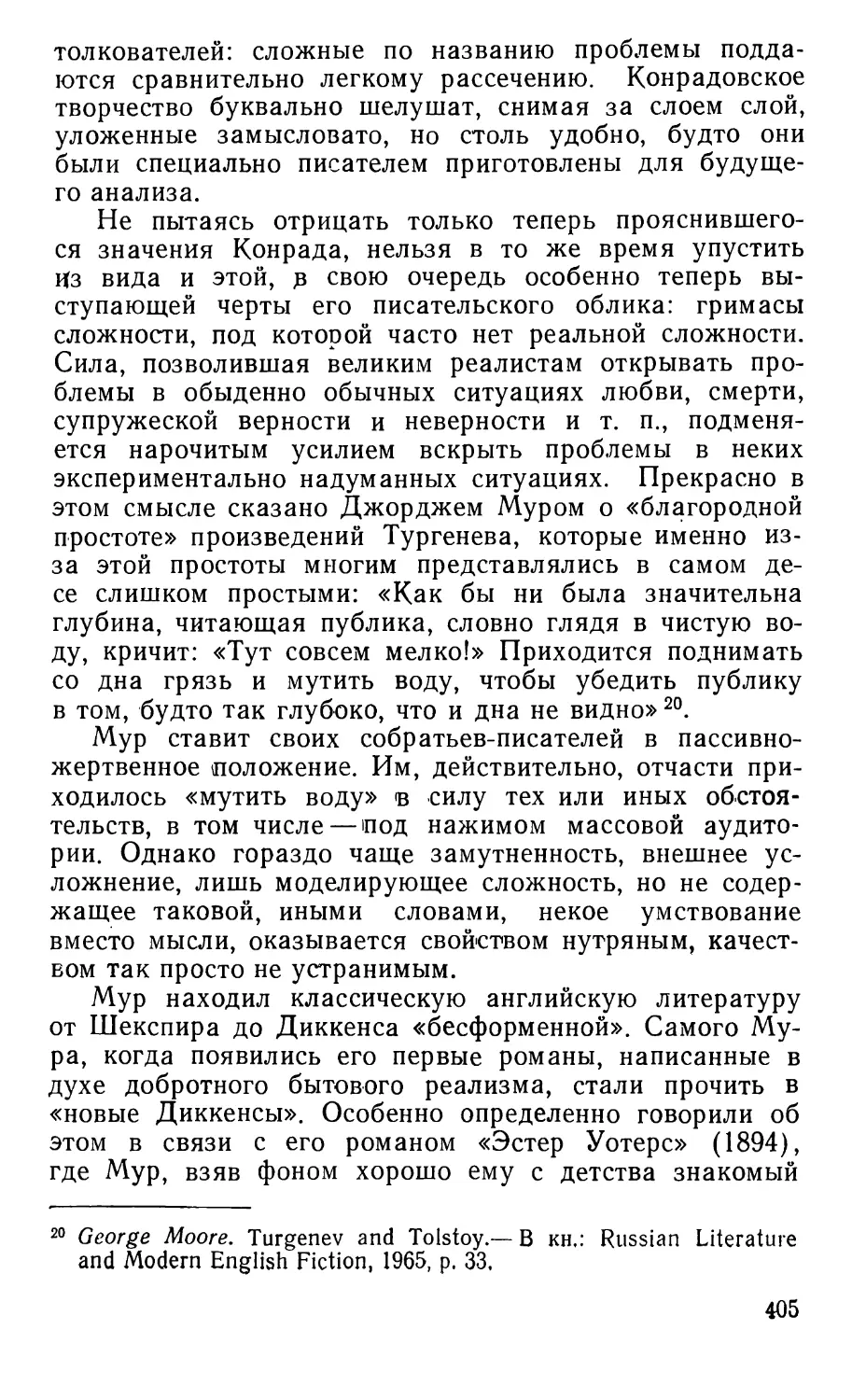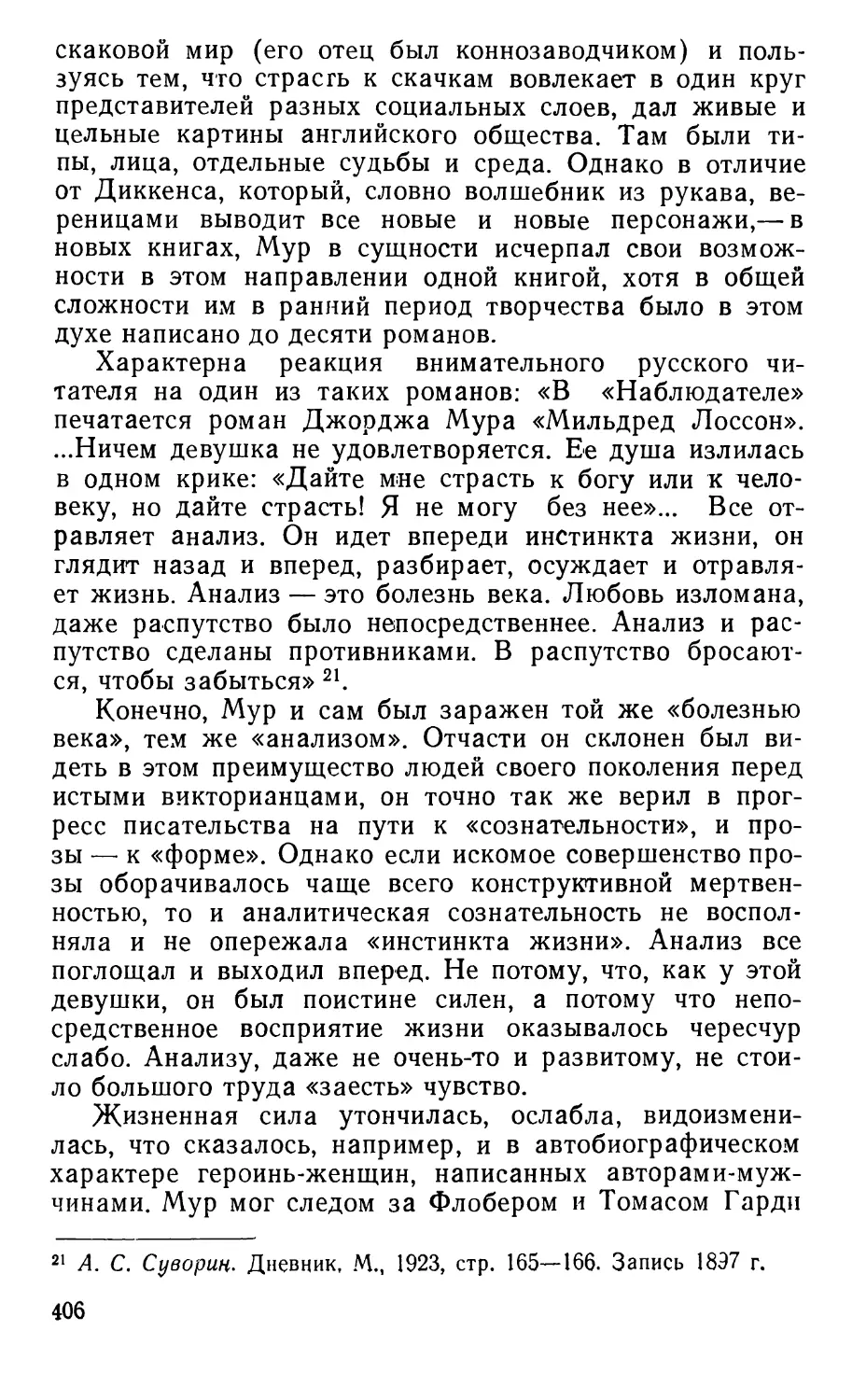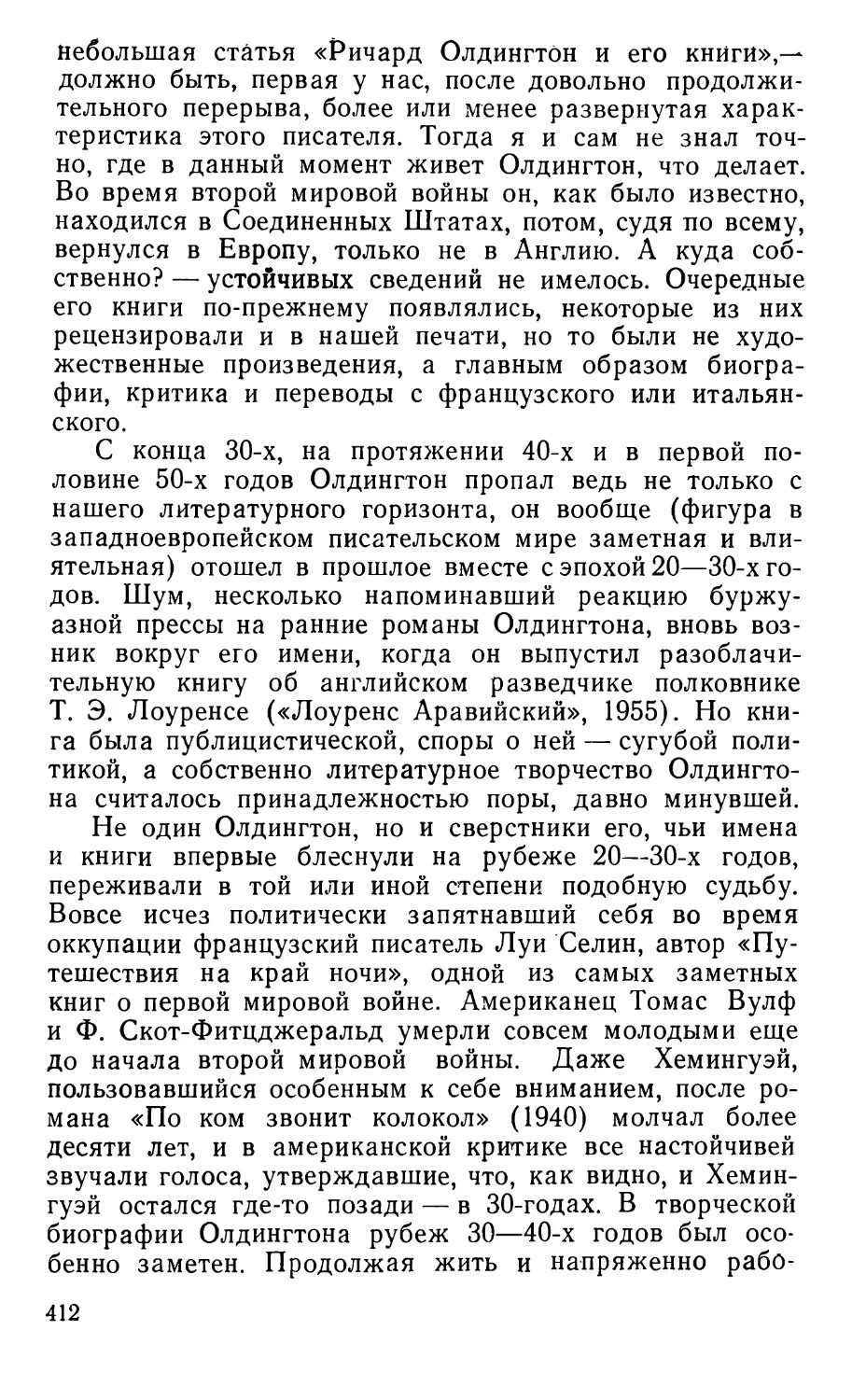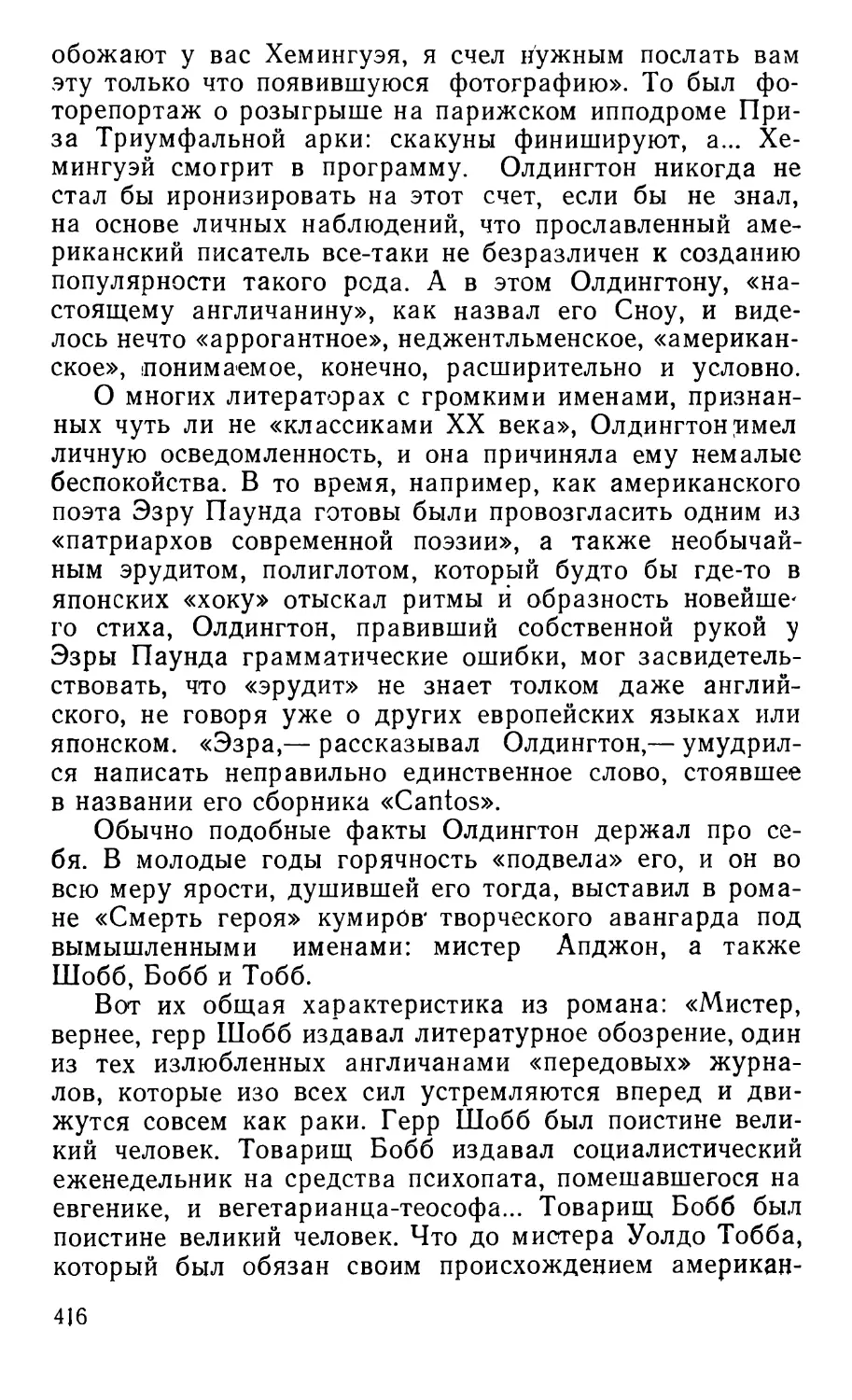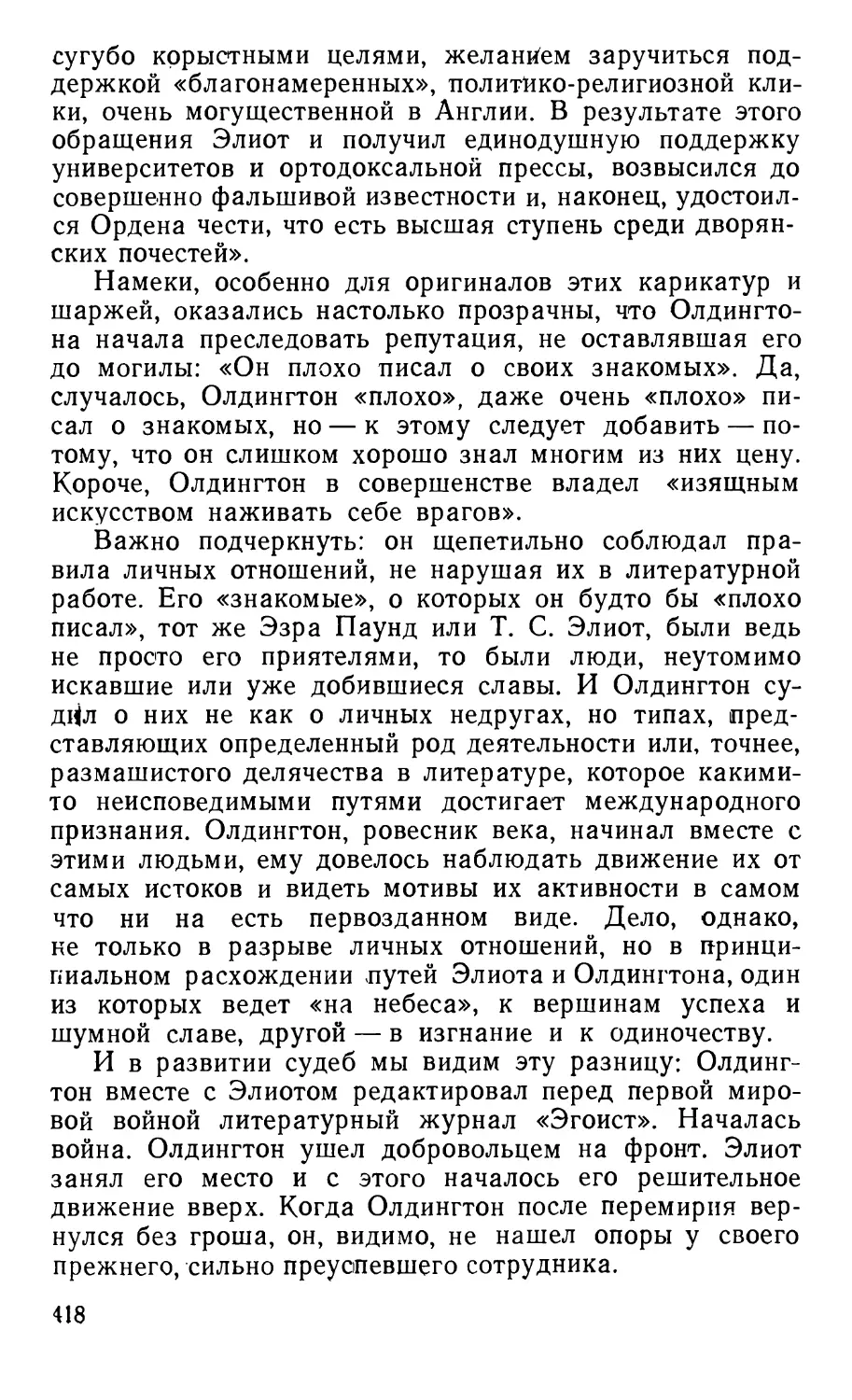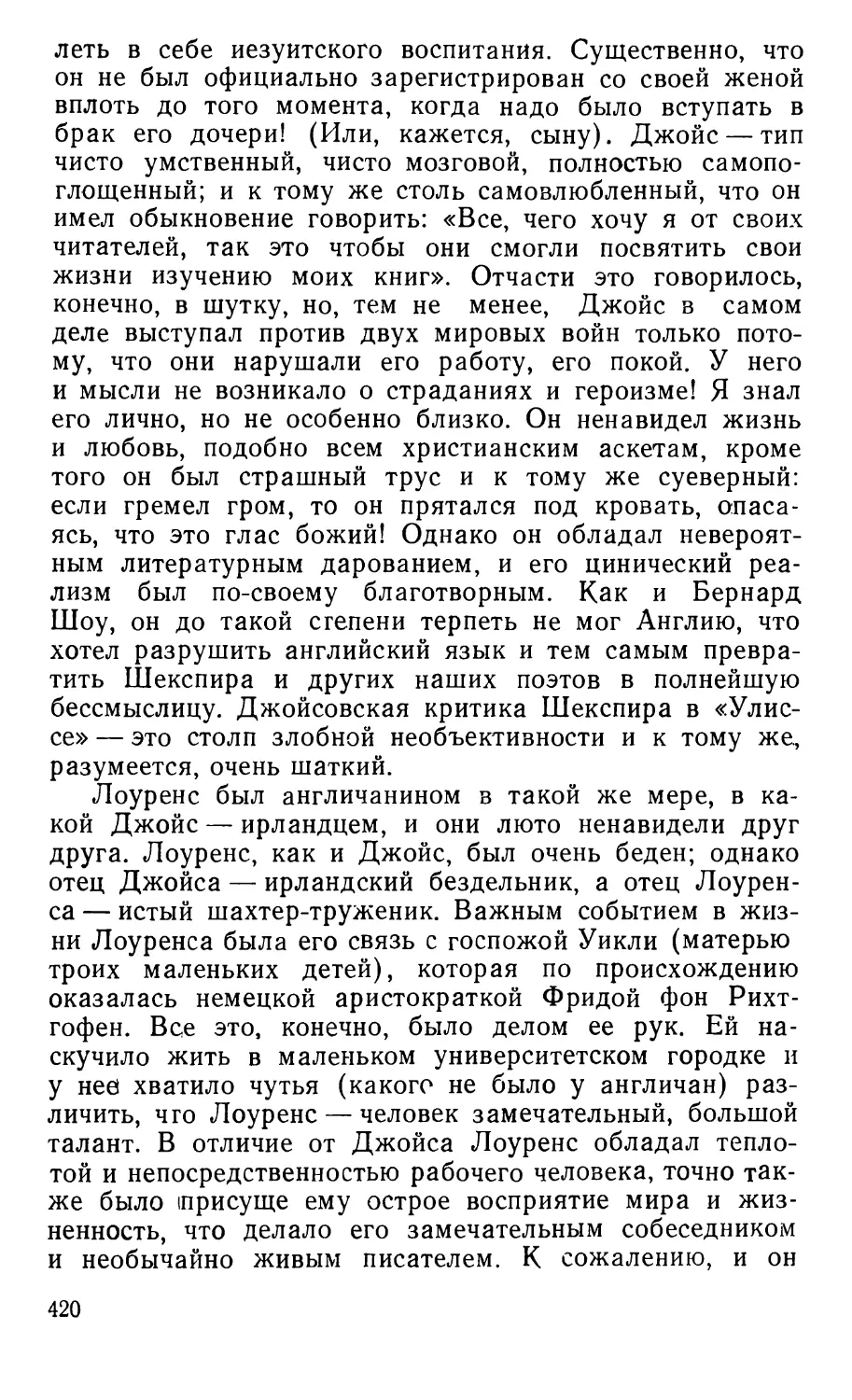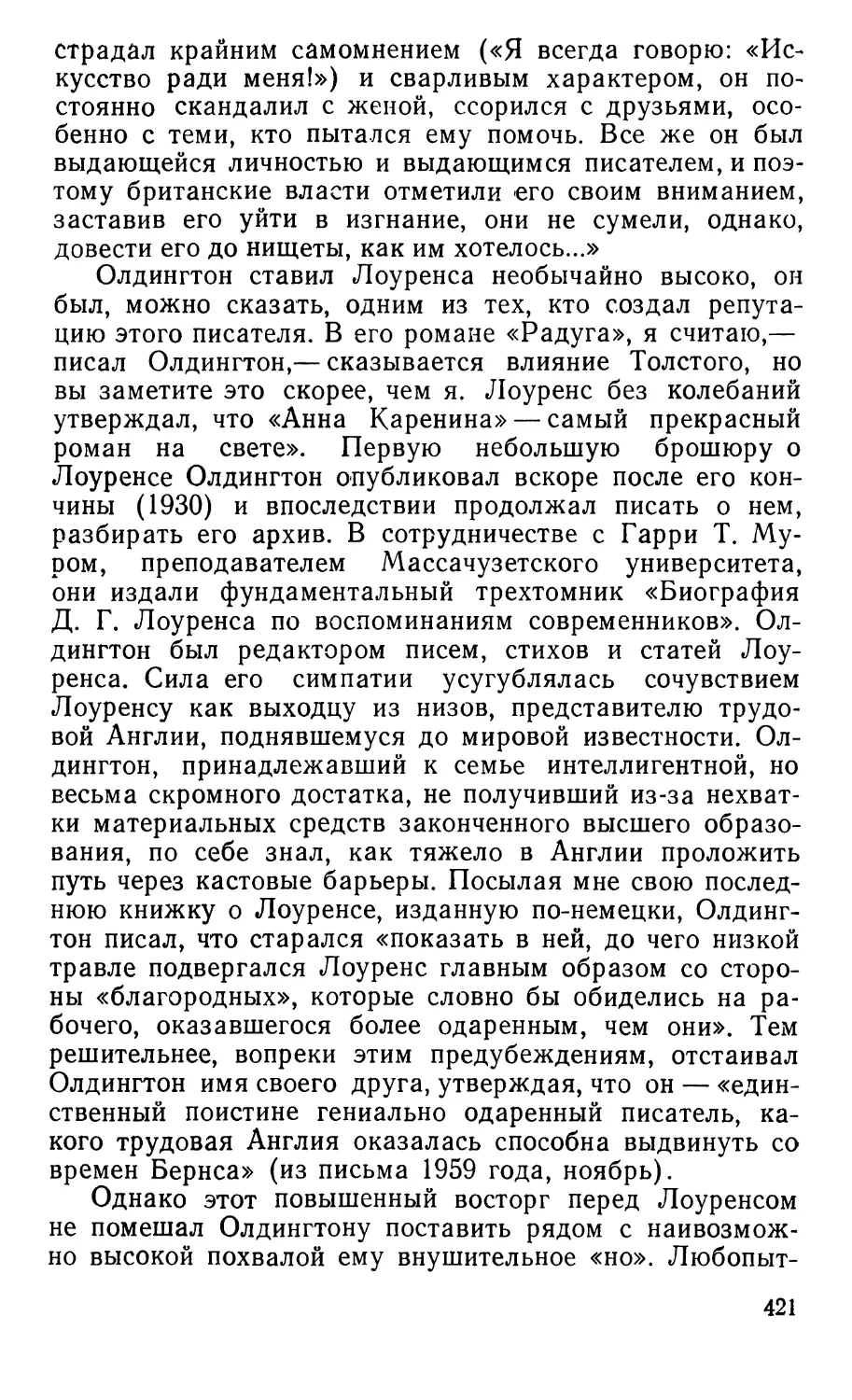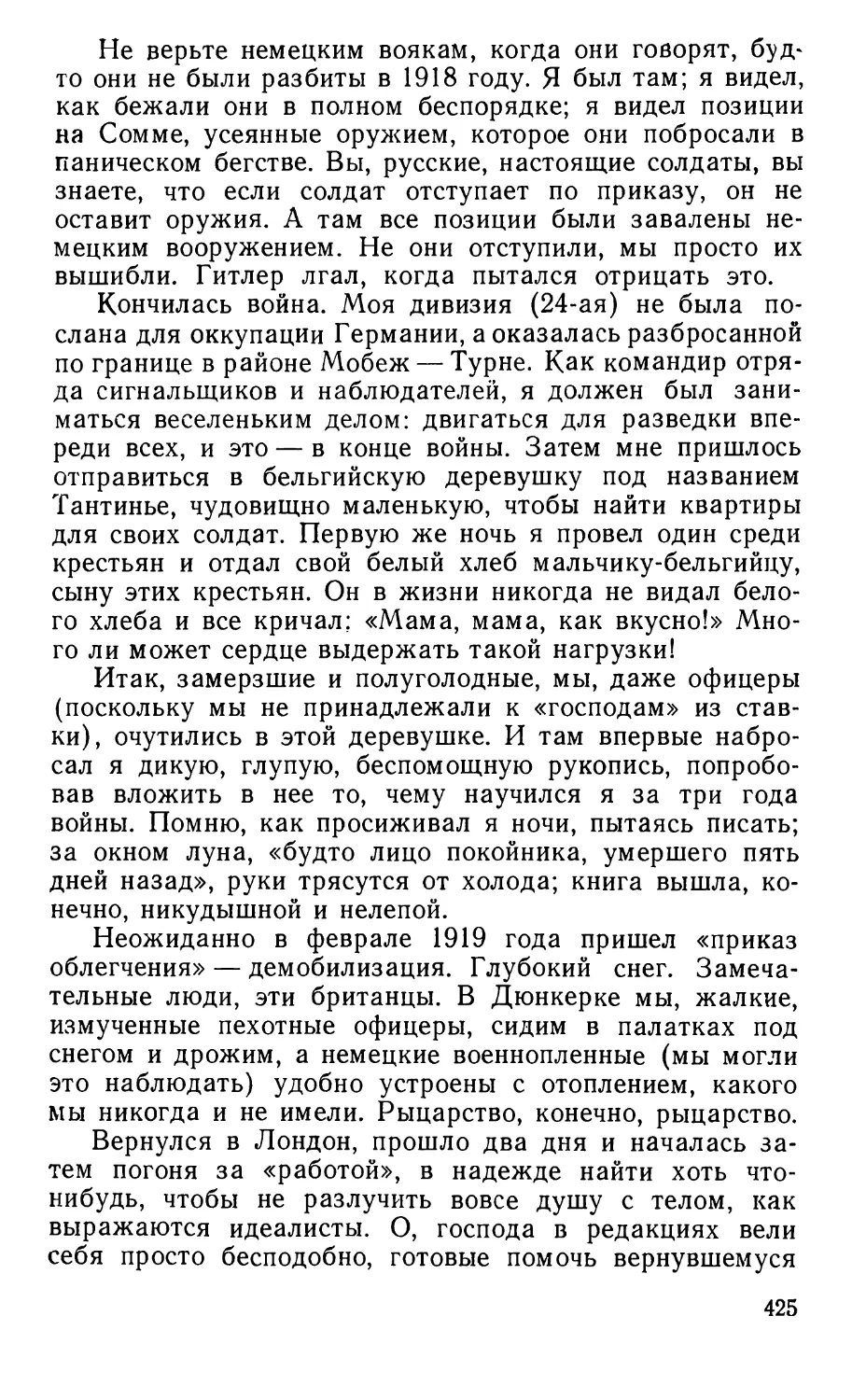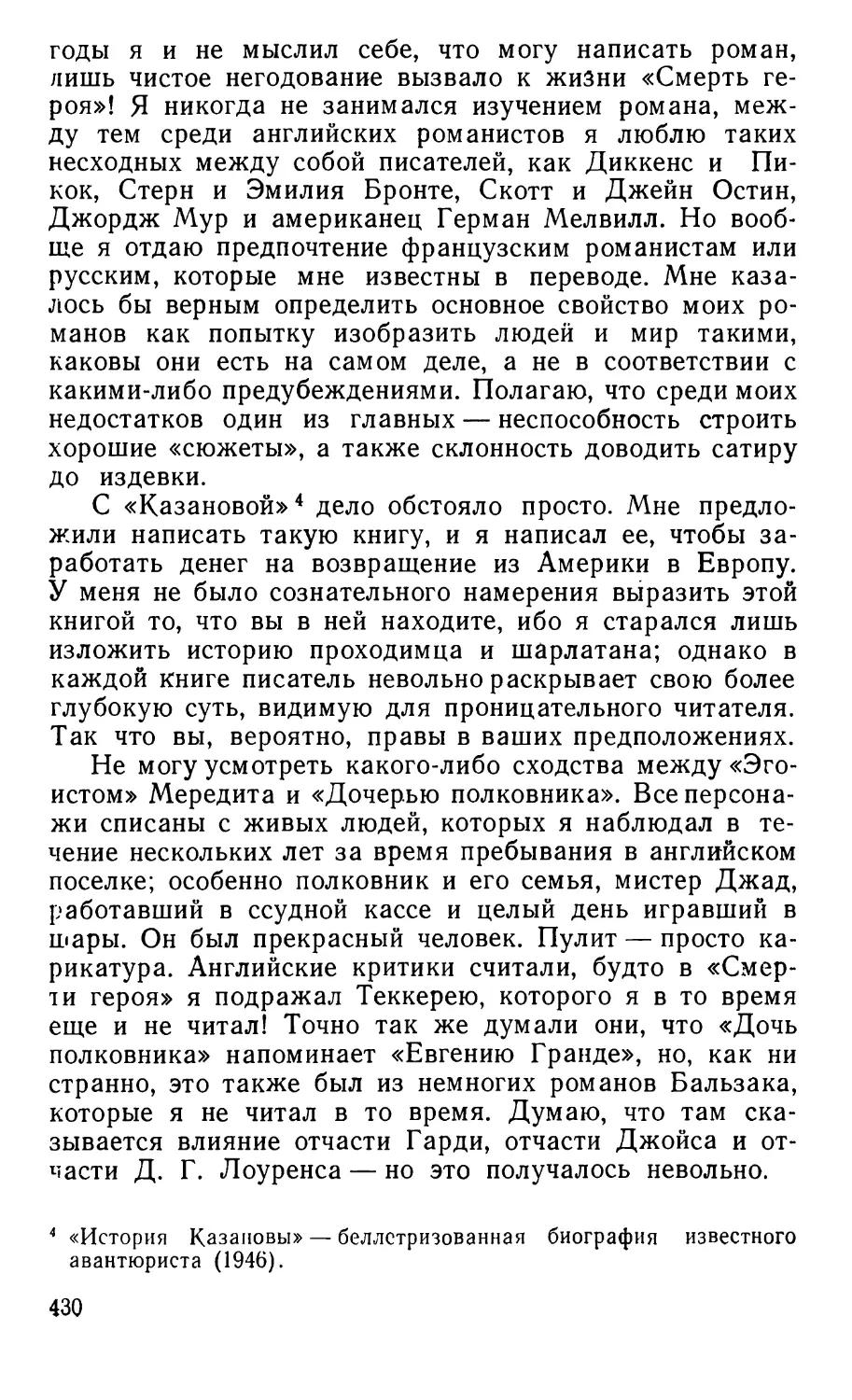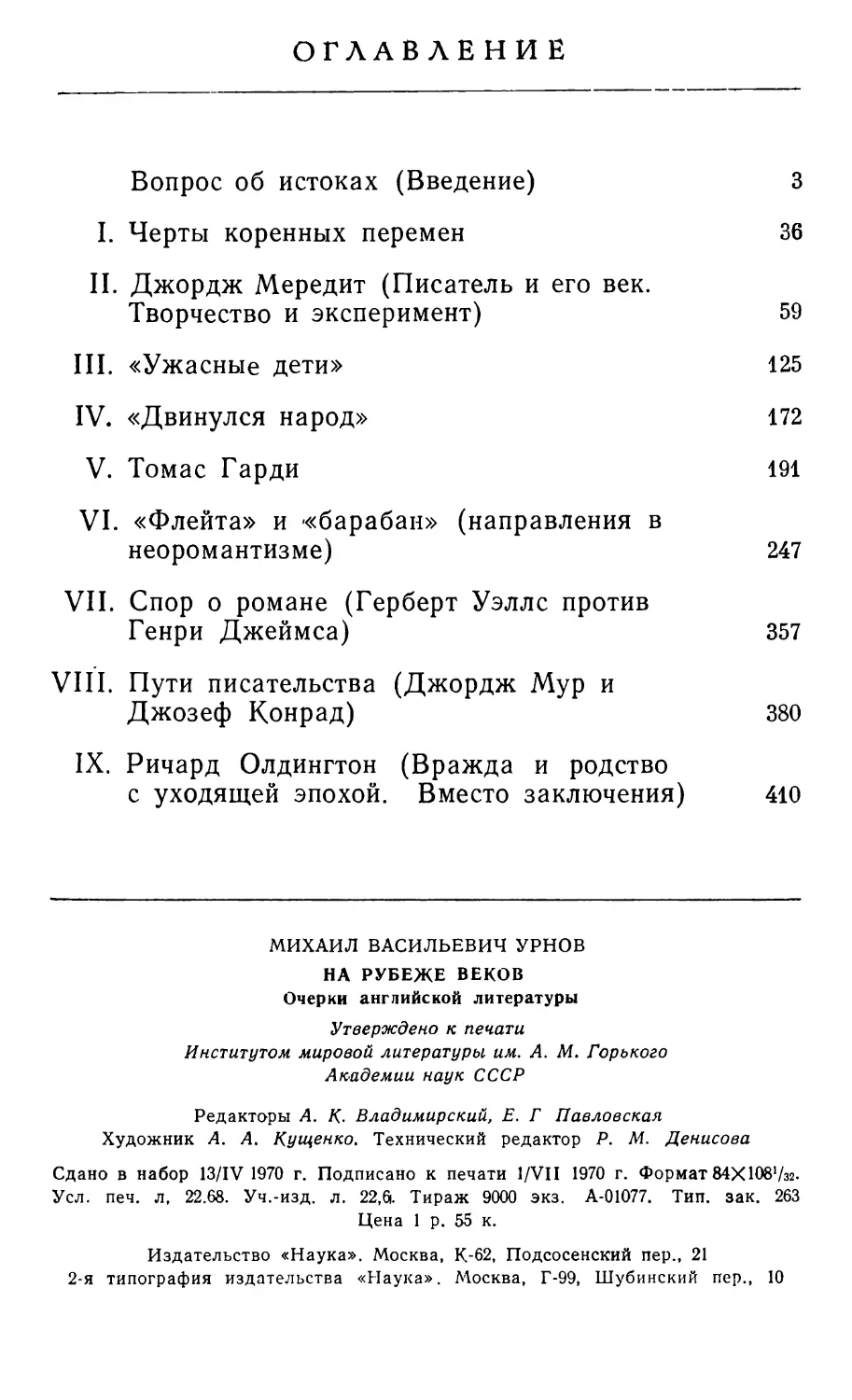Текст
Академия наук СССР
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
М. В. У Р н О В
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
ОЧЕРКИ АНГЛИЙСКОЙ литературы
(конец XIX — начало XX в.)
8
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1970
7-2-2
181-70(1)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Р. М. САМАРИН
ВОПРОС ОБ ИСТОКАХ
(Введение *)
Время, отделившее XX век от XIX — «рубеж сто-
летий», переходный этап, из которого развилось наше
время,— представляет принципиальный интерес. Сейчас
английских литературоведов, пожалуй, в большей мере,
чем сама история литературы XX века, привлекает ее
предыстория. Поток книг и статей составили в Англии
за последнее десятилетие работы, посвященные периоду,
названному некогда «концом века»,— исходу XIX столе-
тия, а также началу нынешнего столетия. Интерес к
истокам — так в двух словах можно определить причи-
ну обилия подобных исследований. Интерес этот заме-
чался и ранее, временами резко возрастал, однако сей-
час он кажется особенно устойчивым и последователь-
ным.
Этой темой занимаются с повышенной активностью,
так, примерно, как занимались на Западе некоторое
время тому назад 10-ми — 20-ми годами нашего века:
тогда интересовал разрыв с прошлым временем, теперь
все пристальнее стараются разглядеть постепенность пе-
рехода от XIX к XX веку. К «рубежу» обращаются с
разных сторон, рассматривается широкий круг проблем
общего и частного свойства, в теоретическом и приклад-
ном аспектах — традиция и новаторство, проблема по-
вествования, проблема героя, характер и сюжет, идей-
* В этой книге подведены итоги работы по изучению английской
литературы «рубежа веков», начатой мною еще в тридцатые го-
ды. Естественно, что в книгу вошли — иногда почти без измене-
ний, иногда в переработанном и дополненном виде — ранее опуб-
ликованные материалы наряду с очерками, написанными в самое
последнее время.
3
ная и нравственная позиция писателя, влияние русской
прозы, эволюция жанров и, разумеется, судьба романа,
в котором наиболее отчетливо отразилось «время».
Тот же период английской литературы вызывает
оживленный интерес в США, где одна за другой вы-
ходят монографии о крупнейших писателях, в своем
творчестве соединивших век нынешний и век минув-
ший,— о Джордже Мередите, Самюэле Батлере, Томасе
Гарди, Оскаре Уайльде, Джозефе Конраде и др. За ли-
тературоведением поспешает критика, обсуждая в об-
зорах, статьях и рецензиях те же проблемы на текущем
материале. Суждения и выводы становятся все более
решительными и определенными и, можно сказать, об-
ретают характер общепринятого, во всяком случае
широко принятого положения: «на рубеже веков» в ли-
тературе, прежде всего в жанре романа, произошли ко-
ренные сдвиги, «совершилась революция», литературное
развитие XX века пошло под знаком этих глубоких
перемен и их последствия обнаруживаются по сей день.
Подобные суждения и выводы представляются тем
более знаменательными, что еще сравнительно недавно
в английской и американской критике для многих было
естественным считать викторианскую эпоху, растянувшу-
юся почти на столетие — от Диккенса до Гарди,
особенно поздневикторианский период,— раз и навсегда
изжитой. Классиков викторианской эпохи теснили клас-
сики наиновейшей формации, инициаторы «литературно-
го эксперимента» 10—20-х годов. Продолжатели, сторон-
ники, почитатели дружным усилием выдвигали их в
центр всеобщего внимания.
В 50-е годы стали отчетливо оформляться литера-
туроведческие интересы иного направления и иного па-
фоса. Все более настойчивой становится потребность
обратиться к исторической почве, проверить наличие
корней, установить связь с традицией, определить меру
значительности каждого нашумевшего явления, отыскав
ему действительное место в литературном процессе. Ед-
ва эта потребность осознается исследователем и начи-
наются поиски «истоков», как он устремляется к «нача-
лу века» и к «концу века», словом — к «рубежу веков».
Одни движутся в этом направлении, воодушевленные же-
ланием ниспровергнуть модернистский «эксперимент» и
отбросить все, предложенное им, как помеху; другие,
4
очерчивая магистральный путь, хотят разобраться в при-
чинах резкого отклонения, в сути и значении «экспе-
римента», трезво оценить потраченные на него усилия
и их результаты; третьи продолжают стоять на своем,
хотят в новых условиях новыми аргументами обосно-
вать и оправдать «эксперимент» и в нем видят единст-
венную основу дальнейшего развития.
Особую позицию в этих литературно-критических
разногласиях занимает профессор Ф. Р. Ливис из Кем-
бриджа, автор книги «Великая традиция» (1948). Взгля-
ды кембриджского профессора были развиты им еще
раньше, в 30—40-х годах, на страницах журнала «Скрю-
тини». Ливис неустанно твердил, что две фигуры пере-
ходной эпохи — Генри Джеймс и Джозеф Конрад — име-
ют принципиальное значение для развития английской
прозы. Отбор имен, достойных представлять «великую
традицию»,— у Ливиса чрезвычайно узок и вызывает
много возражений, но сама по себе идея сквозной пло-
дотворной преемственности, пробивающейся в англий-
ской литературе, несмотря на временные брожения и
отклонения, важна и, в частности, естественно приводит
к рубежу XIX—XX веков, когда мы хотим понять наш
век. Разумеется, не книга Ливиса явилась причиной
широкого обращения к исходу прошлого века, но осо-
бое внимание к ней было симптоматично.
«Период противодействия девятнадцатому столетию
окончился; началась эра его беспристрастной оценки»,—
заявил в 1949 году английский историк Дж. М. Тре-
вельян. Реймонд Чепмен, автор книги: «Викторианский
спор» (1968), приводит этот тезис применительно к ли-
тературе, уточняя и развивая его. «Мы все еще неда-
леки от викторианцев,— пишет он.— Многие из них еще
живы... многие из нас знали людей, родившихся в пер-
вой половине правления королевы Виктории» *.
В первую четверть XX века, продолжает Чепмен, без-
удержными антивикторианцами, «такими, как Литтон
Стрэчи», был создан «знаменитый миф о викторианском
духе». В дальнейшем наметилась тенденция — «идеали-
зировать викторианцев, завидовать устойчивости их по-
ложения». «Теперь,— заключает автор «Викторианского
* Raymond Chapman. The Victorian Debate. English Literature and
Society: 1832—1901. L, 1968, p. 1.
5
спора»,— мы, по-видимому, можем избежать крайно-
стей».
Биограф и эссеист Литтон Стрэчи громогласно за-
явил о своем антивикторианстве в 1918 году в кни-
ге «художественных биографий» «Знаменитые виктори-
анцы». Стрэчи написал ее на исходе первой мировой
войны, развеявшей многие укоренившиеся иллюзии. Его
книга получила тогда большой резонанс.
Для многих английских литераторов Литтон Стрэчи
стал выразителем крайнего антивикторианства. Одна-
ко не потому, что автор «Знаменитых викторианцев»
в самом деле был крайним, а потому, что его остро-
умный скептицизм коснулся лиц исторических, канони-
зированных в пышных биографиях, принципы и приемы
составления которых до того никто столь дерзко не на-
рушал. Литтон Стрэчи сделал это как раз в то вре-
мя, когда почва для переоценки ценностей была взрых-
лена войной, когда головы, даже чуть-чуть либеральные,
были л'ак настроены, что живо написанная, ироническая,
но в общем-то неглубокая книга вызвала шум и оказа-
лась вехой: ее автора объявили «отцом современной
биографии» и начали ставить первым в ряду тех, кто
подорвал авторитет и «оболгал» викторианцев.
У «антивикторианства» в его резком и убежденном
выражении есть давняя традиция, определившаяся еще
в рамках самого викторианского общества. Литтону
Стрэчи и его «Знаменитым викторианцам» предшеству-
ют несравненно более значительные имена и знаменитые
книги — Самюэль Батлер, Вильям Моррис, Оскар Уайльд,
Томас Гарди, Бернард Шоу с его «неприятными пьеса-
ми». Посмертное издание (1903) романа Самюэля Бат-
лера «Путь всякой плоти», осуществленное по инициати-
ве Бернарда Шоу, явилось необычайно ярким выражени-
ем «антивикторианства» почти сразу по окончании
«викторианской эры». Традиция этого антивикторианст-
ва была принципиальной и глубокой, она касалась не
только кричащих форм лицемерия викторианцев, кото-
рые считали неприличным смотреть и на голую плоть и
на голую правду,— она подвергала сомнению справед-
ливость институтов буржуазного общества и его основ.
«Безудержное антивикторианство» захватило не одну
первую четверть века, оно держалось дольше, в тече-
ние всех 20-х годов. Разрыв с викторианцами по ши-
6
рокому фронту убеждений, привычек й вкусов казаЛсй
полным и окончательным. Особенно резко выразилось
это в настроениях так называемого «потерянного поко-
ления». «Дивная старая Англия. Да поразит тебя си-
филис, старая сука, ты нас отдала на съедение червям...»2
Поворот во взглядах и настроениях по отношению
к викторианцам наметился уже в начале 30-х годов,
хотя интерес к викторианскому времени, идейные и
духовные к нему устремления сохранялись в Англии
в той или иной степени всегда, как и тенденция его
идеализации.
В чцсле, если не во главе тех, кто считал (и счи-
тает теперь) важной задачу восстановления престижа
писателей-викторианцев, причем не только великих, —
был Чарльз Сноу. Для него, может быть в еще боль-
шей мере, чем Диккенс или Джордж Элиот, оказался
привлекательным Антони Троллоп потому именно, что
он выразил положительные устремления викторианского
времени и сочетал их с известной долей критики. Вот
эта линия и привлекает Чепмена, он ее и отстаивает
и в этой связи признает право писателя на критику—
деятельность, как он пишет, «не менее важную для ху-
дожника, чем его приятие действительности и ее истол-
кование».
«Викторианский спор» сопровожден подзаголовком
«Английская литература и общество: 1832—1901» и от-
крывается главой «Викторианское время», в которой
делается попытка обрисовать «общественные условия».
Здесь речь идет обо всем и обо всех понемногу: о вик-
торианской семье, бытовой обстановке, детском труде,
социальных противоречиях, государственных деятелях,
и о том, когда возникла мода на усы и бороды. Даны
разносторонние сведения по преимуществу справочного
характера, собранные из разных источников.
«Жилищная проблема была важнейшей социальной
проблемой, которую викторианцы полностью так и не
разрешили. Трущобы Лондона и новых индустриальных
центров были ужасающими в течение всего столетия».
«Усы не были в моде вплоть до середины пятиде-
сятых годов», когда на их распространение оказала вли-
яние Крымская война.
2 Ричард Олдингтон. Смерть героя, ч. 1, 1929.
7
Вплоть до конца девятнадцатого столетия курить в
присутствии дам считалось неприличным. «Мужчины
имели право курить, соблюдая предосторожность, в осо-
бом костюме и в отдельной комнате...»
«Железнодорожное сообщение явилось важным фак-
том в развитии более точного чувства времени».
«Комиссии по детскому труду снова собирались в
1843 и 1863 годах, и снова вскрывали ужасы, которых
не касалось никакое законодательство».
Как видно из последовательно приведенных цитат,
автор дает пестрые сведения разного свойства и зна-
чения (порой существенные, иногда любопытные или,
просто забавные), из которых складывается мозаичный
«общественный фон». Принцип обрисовки литературных
явлений на подобном «общественном фоне» становится
распространенным. «Новая линия» (точнее было бы ска-
зать, обновленная и приспособленная к новым условиям
старая линия литературоведческой эклектики) способна
создать иллюзию разностороннего и объективного со-
циального подхода к литературе. Признавая связь литера-
туры и общества, «новая линия» обходит ведущие
закономерности общественного и литературного развития.
Характеристику «общественного фона» Чепмен начи-
нает с викторианского дома, мотивируя это тем, что
именно дома, в семейной обстановке, чаще всего можно
было видеть викторианца. Действительно, выражение
«мой дом — моя крепость» получило в XIX веке зна-
чение девиза, и культ патриархальной семейственности
встречал поддержку выдающихся писателей, несмотря на
то, что «у миллионов англичан,— как пишет тот же Чеп-
мен,— почти не было реальной семейной жизни». Какая
семейная обстановка могла быть у тех, кто «после дол-
гих часов работы в поле или на фабрике приходил в
столь жалкое жилище, что его можно было терпеть толь-
ко как укрытие от непогоды».
Чепмен делает попытку разъяснить этот парадокс, но
по сути ограничивается официальной версией, указани-
ем на широко и неуклонно возраставшее благополучие:
«Однако более счастливые,— пишет он,— а их число росло
с каждым годом,— гордились своим домом и проводили
в нем большую часть времени».
Чепмен не только сообщает факты, во многих слу-
чаях он их комментирует. Некоторые его пояснения, не
8
отличаясь полнотой, рассудительны и метки. Например,
отмечая бурный рост пригородов как новое явление, осо-
бенно в 80-е годы, автор обнаруживает в нем проявле-
ние специфической социальной психологии, выражение
сословных и кастовых предрассудков, порожденных при-
вилегиями частной собственности. «Здесь, в пригородах,
конторский служащий или приказчик могли отгородить
себя от действительной бедноты, могли почувствовать,
что наконец-то они стали представителями среднего
класса». И далее: «Пригород стал царством лилипутской
фантазии, в котором новое сообщество утверждало ко-
декс, основанный на пребывании в доме, обозначенном
не номером (!), а именем». Словом, бегство в пригород
выражало распространенное недовольство обезличива-
ющим стандартом и к тому же было следствием не од-
них только психологических причин.
Когда же автор начинает комментировать глубокие
социальные, политические или идейные движения, тут
он, как правило, при внешней объективности, обнару-
живает и поверхностный и отчетливо тенденциозный
взгляд. Несмотря на прокламированную позицию избе-
гать крайностей, а также на спокойствие и умеренность
тона, автор остается пристрастным.
Так, рассуждая о развитии в Англии социалисти-
ческого движения и распространении социалистических
идей, Чепмен пишет: «Пугающее слово «социализм» те-
перь вольно звучало не только в устах некоторых проф-
союзных деятелей, но и в устах тех, кому, по мнению
их родственников и друзей, следовало бы знать, что к
чему. Подвергались сомнению капиталистические основы
общества и возрастало требование присвоения государ-
ством большей власти. Парижская Коммуна 1871 года
и последовавшее за ней французское социалистическое
движение, основание германской демократической пар-
тии в 1875 году поощряли идеи, лелеемые в Лондоне
эмигрантами, одним из которых был Карл Маркс».
Казалось бы, при всей краткости описания дана жи-
вая и разносторонняя характеристика с опорой на фак-
ты и даты. В действительности сама «живость» изло-
жения с нечеткими определениями и нарочитой расста-
новкой акцентов направляет читателя по ложному пути.
Карл Маркс оказывается всего лишь «одним из эмиг-
рантов», социалистическое учение оторвано от рабочего
9
движения, социалистическая рабочая партия Германии
названа демократической партией. Остается не ясным,
кто же в самом деле «подвергал сомнению капиталисти-
ческие основы общества» и кто требовал «присвоения
государством большей власти»,— будто одни и те же
социальные силы. Далее автор, не разбирая действи-
тельных причин слабости социалистического движения в
Англии, спешит объявить: «Социализм разбился о ска-
лы внутренних разногласий и противоречивых идеалов,
так же как чартизм поколением раньше».
Сквозь пестроту «социального фона» от начала к кон-
цу книги проходит мысль: на долю викторианцев вы-
падало немало испытаний, они ведали социальные пот-
рясения, но все со временем обошлось, а они, викто-
рианцы, «как и мы» современные англичане, «попере-
менно то приходили в восторг, то впадали в отчаяние
от быстрого прогресса науки, технологической револю-
ции, от скорости, с какой люди и идеи могут переме-
щаться по всему миру».
В последних строках краткое обнадеживающее ре-
зюме-поучение: хотя английские писатели-викторианцы
«многое в свое время считали предосудительным, в чем-
то они разделяли господствовавшее оптимистическое мне-
ние: несправедливости могут быть исправлены... Глубо-
кая озабоченность не означает парализующей тревоги,
и быть нравственно честным не значит впадать в уныние.
Может быть, это составляет одно из тех свойств, кото-
рые современное общество все еще может перенимать
у викторианцев».
Заключительная, адресованная современному буржу-
азному обществу рекомендация Чепмена следовать
практике викторианского оптимизма, обнажает пафос и
практический смысл его обращения к избранной теме.
Примечательно, что собственно литературные явления
автор по большей части обсуждает безотносительно к
обрисованному им пестрому социальному фону, когда же
он прослеживает связь между ними, то делает это, как
кажется, с намерением представить «викторианские спо-
ры» в виде парламентских дебатов.
Переоценивая викторианскую эпоху, английские и
американские литературоведы особенно интересуются
духовным пересмотром, который наметился в пределах
викторианства. тем более на исходе эпохи, в 90-е годы
10
прошлого века. Заметны стремления рассматривать 9й-ё
годы в лице одних лишь декадентов, составивших как
бы необычайно яркое событие и как бы подлинно жи-
вую и актуальную традицию современного литератур-
ного развития. Эти устремления возникли давно, энер-
гично заявили о себе в самом начале 10-х годов. Во
многих отношениях показательной для современного со-
стояния обозначенной тенденции является книга Рупер-
та Крофт-Кука «Пировать с пантерами», вышедшая в
1968 году3.
Историк английской литературы, Руперт Крофт-Кук
предметом скрупулезного рассмотрения избрал, как он
пишет, «так называемых писателей-декадентов», точнее
сказать, их жизнь «в ее влиянии на творчество».
Книгу Крофт-Кука составляет серия биографических
очерков и заметок, посвященных большой группе англий-
ских литераторов. В центре обозрения три фигуры —
Альджернон Чарльз Суинберн, Джон Аддингтон Сай-
мондс и Оскар Уайльд. Почти половина книги посвящена
последнему. Автор выдвигает несколько общих положе-
ний, оспаривая распространенные представления об анг-
лийской литературе рассматриваемого периода. Крофт-
Кук считает неточным и, более того, дезориентирующим
наименование последнего десятилетия прошлого века
«концом века», 'с которым ассоциируется мысль об упад-
ке. По его мнению, 90-е годы во многих отношениях были
десятилетием деятельным и плодотворным.
Автор считает неправомерным называть молодых лю-
дей 90-х годов «трагическим поколением». Напротив,
«это было время надежды для молодых художников,
впервые получивших возможность зарабатывать на жизнь
искусством, преодолевшим стереотипность, и для моло-
дых поэтов, вообще впервые получивших возможность
зарабатывать себе на жизнь. В первую половину десяти-
летия писательские клубы и кафе трещали от новых имен
и новых журналов...»
Девяностые годы и в самом деле заслуживают того,
чтобы выделить их для специального рассмотрения и
уточнить характеристики и оценки. В 90-е годы вышли
лучшие романы Томаса Гарди, «Вести ниоткуда» Виль-
3 Rupert Croft-Cooke. Feasting with Panthers. A New Consideration of
Some Late Victorian Writers. N. Y., 1968.
11
йМа Морриса, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайль-
да, «Неприятные пьесы» Бернарда Шоу, оживился те-
атр, появились новые литературные имена, получившие
широкое признание в XX веке: Герберт Уэллс, Джозеф
Конрад, Джон Голсуорси' и др. Но даже простое пе-
речисление имен и названий показывает, сколь пестрым
и сложным был литературный процесс в 90-е годы.
Крофт-Кук словно не замечает этой сложности и борь-
бы направлений. Для него «ведущая фигура в этом
процессе Оскар Уайльд, который в течение почти два-
дцати лет вызывал ярость филистеров».
Выражение «пировать с пантерами», поставленное ав-
тором в заглавие книги, принадлежит Оскару Уайльду —
так писатель назвал свои застольные встречи с «дур-
ными созданиями жизни». Эта интимная сторона жизни
и привлекает особое внимание Крофт-Кука. Жизнь Ос-
кара Уайльда, как и других литераторов, попавших в
его книгу, автор исследует в узких рамках и специ-
фическом аспекте сексуальных аномалий. Все излага-
емые здесь сокровенные сведения автор выдает за бес-
спорные даже в тех случаях, когда располагает самыми
косвенными и предположительными данными. Много-
численные факты аномалий в литературной декадент-
ской среде (именно о ее представителях, прежде всего,
идет речь в книге Крофт-Кука), по-видимому, заслужи-
вают внимания, хотя требуется научное их объяснение,
в связи с социальными условиями развития и деятель-
ности творческой личности. Но такое требование ав-
тор не считает для себя обязательным.
Авторский подзаголовок гласит: «Новое рассмотре-
ние некоторых поздневикторианских писателей». «Новое»
здесь состоит в сосредоточении специфического мате-
риала, в откровенном его изложении и в намерении ав-
тора подойти к обсуждаемым литераторам не как к
«героям» или «монстрам», а как к «простым смертным».
Но подобный материал и подход требуют выверенного
мерила и особого такта. Здесь легко потерять чувство
меры и тем самым исказить картину, что и произошло
в книге с броским названием «Пировать с пантерами».
Откровенность автора нередко переходит в фамиль-
ярность, и творческая личность, представленная им в
облике «простого смертного», утрачивает свойственные
ей масштаб и особые качества, а творческая деятель-
12
ность — социальную обусловленность. Провозглашенный
автором принцип «ни героев, ни монстров» не был вы-
держан: в книге представлены и те и другие, только в
гротескном или упрощенном и тенденциозном виде.
При всех авторских оговорках, Оскар Уайльд в его
декадентской сущности предстает героем — примером
для современных и будущих писателей. Он, по мнению
Крофт-Кука, провозгласил некоторые важнейшие идей-
ные ценности, в то время доступные только его созна-
нию: «Свобода в мире идей. Свобода для человечества
развиваться не общей прогрессивной мерой, но как мил-
лиард индивидуальностей. Свобода творить, пренебре-
гая общественным требованием или неодобрением. Сво-
бода жить, не без обязательств перед человечеством,
но без благоговения перед обществом. Свобода писать,
следуя не уайльдовскому провозглашению, что красота —
это всё, а своему собственному представлению о красоте.
Уайльд не был Давидом, сразившимся с Голиафом-
филистером. Но в глазах публики он в такой степени
приспособил для себя мантию Давида, что его пора-
жение явилось не только поражением Художника с боль-
шой буквы, но вообще художника. Писатели появятся,
более значительные, чем Уайльд, и скоро их услышат.
Но им придется модулировать свой голос. Их не бу-
дут слушать, если в их голосах нельзя будет разли-
чить уайльдовских модуляций, потому что настроение
слушателей изменилось».
Как и большинство современных английских и аме-
риканских исследователей, Крофт-Кук обращается к
последним десятилетиям прошлого века в поисках ис-
токов. Какие истоки ему нужны и во имя чего, об
этом красноречиво говорит приведенная пространная
цитата с отчетливо выраженными идейными модуля-
циями.
Энергичные усилия тратятся литературоведами с на-
мерением выявить, в чем состоял качественный, твор-
ческий и собственно «технический» переход от одного
века к другому. К числу литературоведов, претендую-
щих в этом-на новое слово, принадлежит Алан Фрид-
ман, автор книги «Поворот в развитии романа»4, книги,
во многих отношениях показательной для тенденций тех
4 Alan Friedman. The Turn of the Novel. N. Y., 1966.
13
йредстайителей англо-американского литературоведения,
которые исповедуют формализм и единственно правиль-
ным и жизнеспособным методом исследования художе-
ственного произведения считают «структурный анализ».
Книгу Фридмана отличают известная масштабность
и актуальность замысла. Во введении автор говорит о
намерении проследить «развитие и трансформацию ро-
мана в первой половине двадцатого столетия». Когда
наметился «поворот», каковы его признаки, как изме-
нился жанр романа, каков смысл перемен, каково состо-
яние романа — вот круг вопросов, рассматриваемых ав-
тором.
Почти двести лет, от Дефо до Диккенса и Теккерея,
английский роман пребывал в неизменном качестве,
в конце прошлого века наметился поворот, в XX веке
утвердился роман нового типа — таков исходный тезис
книги Фридмана. Как традиционность, так и новатор-
ские свойства романа отчетливее всего, по мнению ав-
тора, сказываются в его концовке. В современном ро-
мане концовка изменилась. В традиционном романе она
была «закрытой», в современном — стала «открытой».
Изменение произошло не просто в одном из звеньев
романа — оно затронуло всю его структуру.
В «конце века» под пером Томаса Гарди, отчасти в
его романе «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (1891), но
отчетливее всего в «Джуде Незаметном» (1895), а так-
же в романах Джозефа Конрада «Каприз Олмейера»
(1895) и «Ностромо» (1904) традиционная, «закрытая»
форма романа начала уступать свое место современной,
«открытой» форме. Уступки были неизбежны, их масштаб
и темп неуклонно нарастали. В итоге «закрытый» роман
Дефо, Ричардсона, Фильдинга, Диккенса, Теккерея сме-
нился романом «открытым», романом Джеймса Джойса
и Вирджинии Вулф, Фолкнера и Хемингуэя. «Откры-
тость» — это то специфическое, что отличает современ-
ный роман от старого. Такова общая схема рассужде-
ний Фридмана.
Понятия «закрытый» и «открытый» применительно к
литературе и их терминологическое выражение возникли
недавно, однако становятся в западной критике все бо-
лее употребительными. Термин «открытый» распростра-
нил Р. М. Адамс, автор книги «Черты разлада: исследова-
ние открытости в литературе», изданной в 1958 году. Фрид-
14
ман ссылается на эту книгу, предупреждая читателя,
что термины «открытый» и «закрытый» он употребляет
в ином, более ограниченном смысле. Для Адамса «от-
крытая форма» — это «структура значений, намерений,
эмфаз», предполагающая нерешенность в романе основ-
ного конфликта. Фридмана в данном случае занимает
не тема или конфликт и их решение, он ставит «акцент
на опыте», «нравственном опыте», следит за тем, как
он раскрывается в романе, и форму романа определя-
ет в зависимости от того, оказывается «опыт замк-
нутым» или лишенным границ. К числу «открытых» он
относит романы, в которых концовка не ставит предела
«нравственному опыту». Тема может быть в таком
романе раскрыта, конфликт разрешен, однако «нравствен-
ный опыт» остается незамкнутым и сохраняет перспек-
тиву. Так, в романе Эрнеста Хемингуэя «Прощай, ору-
жие!», иллюстрирует свою мысль Фридман, «все реше-
но», темы его «закрыты», но «опыт» продолжает «рас-
ширяться», его «поток движется, процесс необратим,
нравственные и эмоциональные давления незамкнуты».
Чтобы цитированные определения и формулировки не
казались загадочными, а концепция автора туманной,
следует приглядеться к системе, логике и механике его
рассуждений.
Роман — объект своего исследования — Фридман рас-
сматривает как структуру, считая основным ее элемен-
том «событие», а основной формой — «поток событий».
Событие — это не только «то, что происходит». Давая
«формальное определение» событию, «одному» событию
как «основному элементу романа», автор видит в нем
«динамическое противопоставление» двух сил, «двух дав-
лений— личности и общества». Событие, «момент в по-
токе», взаимодействует с характером. Отзываясь на
внешние воздействия, характер эволюционирует от от-
носительной «невинности» к относительной «опытности».
Трансформация характера, развивает свою мысль Фрид-
ман, представляет собой движение в потоке, точнее
«поток» ответных воздействий на внешние воздействия.
Этот «поток» оказывается вместе с тем «потоком интер-
претаций», т. е. «восприятий и поступков», обретая, та-
ким образом, нравственный смысл. Так строится схема
перехода от голой структуры к ее наполнению, уста-
навливается связь между «этикой и событиями». Струк-
15
тура становится значимой. Однако ее значение ограни-
чивается «нравственным опытом»: роман предстает од-
новременно как «повествовательная структура и этиче-
ская форма». Эта последняя представляет собой «поток
нравственного сознания», или, если буквально передать
слова автора,— «поток совести». Вместо термина
«поток сознания», ставшего широко употребительным,
Фридман вводит термин «поток совести», специально
разъясняя мотивы, побудившие его отойти от принято-
го. Он считает необходимым оговорить свое несогла-
сие с теми, кто, выявляя новаторство современного
романа, сводит это новаторство «исключительно к воп-
росам техники». При этом он предостерегает от воз-
можных попыток конкретного толкования термина. «По-
ток совести» для него отнюдь «не поток нравственных
суждений» и тем более «поток выбора между хорошим
и плохим». Всякая попытка со стороны романиста или
его критика самоопределиться в «потоке», сделать вы-
бор, обозначить путь, обрекает их, по утверждению
Фридмана, на отсталость, оставляет за порогом совре-
менности. С отчетливой наглядностью этот вывод-приго-
вор проясняется в полемике Фридмана с Уэйном Бутом,
автором книги «Риторика прозы».
Уэйн Бут с горечью пишет об этическом релятивиз-
ме «современного» романа, о. «нравственной неопреде-
ленности» авторской позиции. «Нельзя, — говорит он,—
освободить романиста от необходимости выносить суж-
дение по поводу представленного им материала, так как
только его суждение и возвышает этот материал над
тем, что Фолкнер называл простой «регистрацией чело-
века»; это делает из него «опору», помогающую чело-
веку быть вполне человеком»5. Фридман с недоумением
цитирует эти слова и задается вопросом, чего собст-
венно хочет Бут: стремится ли он выяснить «фундамен-
тальные проблемы», определить, что означает в совре-
менном романе «суждение», «ясность», «ответствен-
ность» или его «тревожные искания» сводятся к тому,
чтобы в «новой модели романа» обнаружить «специфи-
чески этический процесс, воплощенный в старой моде-
ли». Отсутствие «суждения», «ясности», четко выражен-
ной позиции — это и есть позиция, утверждает Фридман.
5 Wayne С. Booth. The Rhetoric of Fiction. Chicago, 1961, p. 397.
16
«Антиномии двойственной, даже противоречивой этики
в современном романе,— пишет он,— сами по себе, стро-
го говоря, представляют «суждение» — суждение, непро-
извольно утверждающее, что только такой взгляд и мо-
жет помочь человеку стать вполне человеком».
Разбирая заключительные эпизоды романа Джеймса
Джойса «Портрет художника в молодые годы», Бут ви-
дит в нем пример нравственного релятивизма, как и в
романе Владимира Набокова «Лолита», замечая по по-
воду последнего: «Словом, мы так долго смотрели на
туманные ландшафты, отраженные в затуманившихся
зеркалах, что сами начинаем расплываться туманом»6.
Горькие сетования Бута придставляются Фридману не
чем иным, как «риторикой критики». Для него «очевид-
но», что открытая форма романа и «ясность этических
суждений» несовместимы и что определенность нравст-
венной позиции есть по существу пережиток. «В раз-
витии романа,— пишет он,— наступает стадия, когда
этическая неопределенность последней страницы, а для
открытого романа — это единственно возможный обра-
зец, ведет к постраничному размыванию этики или к
этической неразрешимости (даже антиразрешимости) во
всех отношениях».
По мнению Фридмана, эта перемена в романе «от-
ражает глубочайший сдвиг в способе нашего рассмот-
рения самих себя». Автор готов признать «непоследо-
вательность этого нового способа» и его крайнюю па-
радоксальность с точки зрения этики, «парадоксаль-
ность, которая граничит с иррационализмом», однако
«с такой степенью иррационализма, какая нужна для
хорошего мифа». Одну из глав своей книги Алан Фрид-
ман так и называет «Миф открытости», утверждая, что
«новый миф», «реально созданный», уже обладает тра-
дицией и вполне может и должен заменить «миф закры-
тости», как устаревший.
Автору книги «Поворот в развитии романа» нельзя
отказать в наблюдательности, остроумии, изобретатель-
ности. Сама по себе мысль о существовании «закры-
той» и «открытой» романных форм не принадлежит к
числу пустых и произвольных, хотя, в сущности, не яв-
ляется новой и скорее знаменательна, чем оригинальна.
6 The Rhetoric of Fiction, p. 397.
17
В книге Фридмана действует одна из новейших схем
формально-структурного анализа, ведущего отнюдь не к
формальным выводам. Современным объявляется только
тот роман, который воспроизводит «поток» нравствен-
ного сознания, не имеющего четко обозначенного русла.
Перед читателем книги «Поворот в развитии романа»
развертывается, казалось бы, стройный ход рассуж-
дений, оснащенных обстоятельными аргументами и уче-
ной терминологией. Однако претендующие на объектив-
ность и научность построения Фридмана в основе своей
субъективны и произвольны. Автор сам хорошо разъ-
ясняет основы и действия своего метода, когда начина-
ет строить схему соединения структурных элементов
и устанавливает связь между действующим лицом и со-
бытием как «основным элементом» романа. В «качестве
центра или фокуса события, всякого события,— пишет
он,— выбирается одно из действующих чип, выбирает-
ся произвольно, однако не безотчетно». Произвольность
дает о себе знать в определении того, что есть струк-
тура романа и каковы ее элементы, и в сложном ап-
парате анализа и в усложненной профессиональной лек-
сике, в надуманной псевдоакадемической терминологии,
которые используются по своему усмотрению отнюдь не
безотчетной мыслью. Эта мысль обнаруживает нигили-
стическое отношение к многовековой традиции романа
и классического литературоведения, склонность к волюн-
таристским скачкам и, наконец, симпатии к нравствен-
ности, растворенной в потоке без берегов.
Если Фридман предпочитает рассуждать о «следст-
виях», то, в отличие от него, Уильям Г. Маршалл, ав-
тор книги «Мир викторианского романа»7, много вни-
мания уделяет причинам. Точнее сказать, «причине»,
поскольку из всего «сплетения причин» он выбирает
одну — «философскую», выделяя в ней опять-таки эти-
ческий аспект.
В отличие от автора книги «Поворот в развитии ро-
мана», Маршалл, отправляясь к истокам, не склонен
изолировать их от многосотлетней истории романа. Для
Маршалла «конец века» — это «поворот», однако пово-
рот на долгом пути, а не отправной пункт. Тема, ма-
7 William Н. Marshall. The World of the Victorian Novel. N. Y,— L,
1967.
IS
териал, методика анализа, суждения по отдельным проб-
лемам не совпадают у этих двух авторов, но направ-
ление мысли сходно, ведет к тому, чтобы упрочить
позиции модернистского романа, представить его явле-
нием органическим и в главной роли.
Маршалл сближает викторианский роман с романом
XX века, подтягивает «большой роман» прошлого сто-
летия к модернистскому роману, оправдывая его таким
образом авторитетом классики.
Почти на протяжении всего XIX столетия, рассуж-
дает автор, «большой роман» был занят поисками эти-
ческой концепции, воодушевлен стремлением и надеж-
дой взамен пошатнувшейся, а для многих передовых
умов давно рухнувшей, религиозной концепции утвердить
новую идею мироустройства, в свою очередь покоящу-
юся на основах порядка и целесообразности. В этих
поисках «большой роман» сосредоточился на личности,
поставив ее в центр внимания. Крупнейшие романисты-
викторианцы, убедившись в несостоятельности религиоз-
ного мифа о всевышнем и его «благости», восприняли
и энергично поддерживали новый миф — «доминирующий
миф XIX века» — веру в «реальность и подлинность
личности», полагая, что этот миф «может служить ос-
нованием для утверждения смысла и порядка вне лич-
ности». Если в эпоху Возрождения, в представлении гу-
манистов, продолжает Маршалл, человек являлся «от-
ражением совершенной природы», то в XIX веке это
отношение приняло обратную связь — внешний мир стал
отражением достоинств микрокосма, в центре которого
оказалась личность, стремящаяся «обрести свою подлин-
ность». Энергичные искания крупнейших викторианских
романистов увенчались большими успехами, однако
только в эстетическом плане.
Викторианский роман не разрешил «онтологической
проблемы», «не вышел за рамки предпосылок, с кото-
рых начал». Перед ним возникли сопутствующие проб-
лемы, он обнажил их, но не мог преодолеть, и они по
наследству перешли к роману XX века. В их числе
оказалась пресловутая проблема некоммуникабельности.
«Когда,— пишет Маршалл,— структура общепринятой
системы убеждений ослабела, когда интеллектуалы-ико-
ноборцы покончили (чаще всего помимо своего желания)
с традиционными представлениями о господствующей
19
универсальной силе, сохранив лишь бестелесную идею
справедливости, с того момента сообщение между людь-
ми стало в лучшем случае затруднительным». Сама ос-
нова реориентации викторианских романистов — их ин-
дивидуальный опыт,— рассуждает автор,— питала «су-
щественную некоммуникабельность». О ней же свиде-
тельствовали «мифы о подлинности личности», вопло-
щенные в многочисленных произведениях. Маршалл
разбирает ряд крупнейших романов, в том числе Дик-
кенса, Теккерея, Элиот, выделяя в этом ряду роман
Джорджа Мередита «Эгоист» (1879). Он отводит ему
«особо важное место в развитии викторианского рома-
на» и рассматривает его «как выражение поиска новых
ценностей». Он считает, что именно этот поиск и явил-
ся «средоточием интеллектуальной жизни XIX столетия».
Мередитовский «Эгоист» «указывает на конец поиска»,
отмечает переходное состояние, чем и определяется его
особое положение. «Эта книга,— пишет Маршалл,—
провозглашает в значительной своей части, что человек,
хотя он и является социальным существом, в своих по-
исках порядка и ценностей оказывается замкнутым в
гранях Личности». Выйти за обозначенные пределы
ей не под силу, если только она «не будет нарушать
волю лиц, ее окружающих».
Только пренебрегая контекстом и его конкретным
наполнением, можно было извлечь из «Эгоиста» подоб-
ный вывод. Анализ этого романа, как и многих других,
производимый Маршаллом, дает пример произвольного
отбора материала и его подгонки под сконструирован-
ную схему. Важнейшая суть романа Мередита состоит
как раз в том, что «образцовый джентльмен» сэр Уил-
лоби Паттерн, главный персонаж книги, предстает воп-
лощением «гибельного эгоизма», возросшего на почве
имущественных и сословно-кастовых привилегий. Он
действительно оказывается замкнутым в рамках своей
личности. С кичливой и тщеславной самонадеянностью
этот педант, лицемер и позер пытается «передать об-
ретенные им ценности», вся сумма которых сводится к
беспредельному себялюбию. Он действительно нару-
шает «волю лиц», его окружающих, однако встречает
отпор, и ему, «богатому аристократу», «превосходному
молодому английскому джентльмену», несмотря на все
привилегии, приходится поубавить свои претензии.
20
Перефразируя вышеприведенное суждение Маршал-
ла, можно сказать: книга «Мир викторианского рома-
на» подавляющей своей частью провозглашает, что ее
автор, хотя и признает за большим викторианским ро-
маном достоинство социального пафоса, в поисках ма-
териала, подкрепляющего его субъективно-идеалистиче-
скую концепцию, умаляет этот пафос или трактует его
в превратном смысле. Обширные сведения, в том числе
точные и содержательные, академический аппарат, наб-
людательность, способность к энергичным обобщениям
и звонкую риторику — все подчиняет Маршалл конст-
руированию схемы, которую он накладывает на «мир
викторианского романа», чтобы сблизить его с романом
модернистским. В результате мир этот оказывается
произвольно сжатым, утрачивает богатство социального
содержания, пафос обличительной критики.
«Мир викторианского романа» завершается главой с
многозначительным названием «Конец поиска». Так
сформулирован тезис, имеющий для концепции автора
принципиальное значение. Иллюстрации и аргументы он
черпает из трех романов — «Марий, эпикуреец» (1885)
Уолтера Патера, «Джуд Незаметный» Томаса Гарди и
«Путь всякой плоти» Самюэля Батлера. Эти три рома-
на, по его словам, «выражают несколько возможностей,
выявленных выдающимися романистами прошлого сто-
летия в их поисках основы для новой веры, для ут-
верждения порядка». Особенно подходящим к случаю
оказался для Маршалла «Джуд Незаметный». Он на-
ходит «историческую предусмотрительность» в том, что
этот роман был «издан в девятнадцатом столетии одним
из последних». История его героя Джуда Фаули пред-
ставляется Маршаллу типичной для человека прошлого
века: он «ищет во вселенной порядка — пусть враждеб-
ного, все же — порядка, а находит лишь подтвержде-
ние космической нелепости». Джуд потерпел поражение
в поисках того, «чего, по словам Маршалла, надеялся
достичь человек девятнадцатого века, но что начинает
понимать только человек двадцатого века». Поиск при-
вел к абсурду и на этом закончился. Выводы сделали
писатели XX столетия. Автор ссылается на роман «Бре-
мя страстей человеческих» (1915) Сомерсета Моэма.
«Смириться с существованием было возможно, только
признав его бессмысленность»,— цитирует он Филипа
21
Кэри, героя этого романа, и добавляет: «Он говорйт
как представитель поколения протагонистов, которые
следуют за викторианцами».
Так, благодаря избирательному вниманию, настроен-
ному на излюбленную Маршаллом философскую волну,
устанавливается литературная преемственность, учреж-
дается традиция, в силу которой Томас Гарди, его со-
циально-обличительный роман «Джуд Незаметный», его
герой Джуд Фаули, жертва социальной несправедли-
вости, объявляются предтечами экзистенциализма в ли-
тературе. Маршалл не первый избрал этот угол зрения,
у него есть предшественники, он сам делает ссылку на
Джильберта Неймена, на его статью «Томас Гарди —
экзистенциалист». И это только поощряет его к тому,
чтобы, говоря словами рекламной аннотации, помещен-
ной на суперобложке его книги, обнаружить в большом
викторианском романе «бесчисленные свидетельства пе-
рехода от романтизма начала девятнадцатого века к
экзистенциализму середины двадцатого». Однако нередко
сам материал книги Маршалла поправляет авторскую
схему и дает основание делать иные выводы.
«Поворот в развитии романа» и «Мир викториан-
ского романа» выражают специфическую и устойчи-
вую тенденцию не только в отношении к литературе и
ее классической традиции, но и к литературоведению
и литературной критике. Первая книга дает в этом смыс-
ле пример особенной наглядности.
Литературоведческая генеалогия автора книги «По-
ворот в развитии романа» не идет далее «рубежа ве-
ков». Самый далекий его предок — Генри Джеймс, не
только романист, но и теоретик романа. Восходящая ли-
ния теоретико-литературного родства ведет Фридмана
прежде всего к Марку Шореру и Алану Тейту, видным
представителям школы «новой критики», от них к Перси
Леббоку, автору книги «Мастерство романа»8, вышед-
шей в 1921 году и сильно повлиявшей на развитие этого
направления в науке о литературе. Редактор Генри
Джеймса, его писем и последних томов нью-йоркского
издания романов, Перси Леббок оказался, по словам
Марка Шорера, «более джеймсистом, чем сам Джеймс».
Он представил его формалистом в такой мере и с та-
8 Percy Lubbock. The Craft of Fiction. N. Y., 1957.
22
ким акцентом, для которых сам Генри Джеймс не давал
оснований.
Для творчества и теоретической концепции Джеймса
важное значение имеет так называемый принцип «точки
зрения», т. е. такой способ косвенного повествования,
когда всеведущий автор устраняется, точнее — как бы
устраняется, и его место занимает «рассказчик». Изоб-
ражаемый предмет читатель воспринимает в пределах
кругозора «рассказчика», с его точки зрения, или с точ-
ки зрения нескольких «рассказчиков», перемещаемой в
разные плоскости. У Генри Джеймса, по его собствен-
ным словам, «рассказчик» выступает «личным предста-
вителем обезличенного автора» и оказывается «глубоко
заинтересованным лицом, которое вносит в события
определенную долю критической интерпретации». Леб-
бок абсолютизирует принцип «точки зрения», возводит
его в степень фундаментальной формальной категории,
рассматривает как основополагающий в структуре ро-
мана. «Всю запутанную проблему метода в мастерстве
создания романа я ставлю,— пишет Леббок,— в прямую
зависимость от проблемы точки зрения — проблемы от-
ношения повествователя к излагаемым событиям»9. «От-
ношение» в данном случае не заключает в себе оцен-
ки, не выражает позиции повествователя. Речь идет о
выборе повествовательного приема.
Леббок озаглавил свою книгу «Мастерство романа»,
он «искусству» (art) предпочел «мастерство» (craft),
и в авторском предисловии, датированном 1954 годом,
объяснил свой выбор: «Искусство — крылатое слово, его
не свяжешь и не удержишь, оно готово вспорхнуть и
улететь при первой попытке в обсуждении прикре-
пить его к его собственному основанию и к произве-
дению, носящему его имя. Просто звучащее слово «ма-
стерство» не склонно к подобным вольностям; оно сразу
обращает вас к сути дела, к готовому изделию и к то-
му способу, каким оно было изготовлено; оно не даст
вам запамятовать, что все содержимое изделия за-
ключено в завершенную форму и что форма обрела свой
вид благодаря мастерству».
«Мастерство» привлекло Леббока своей материаль-
ностью и дельностью. Однако он не намерен проводить
$ Percy Lubbock The Craft of Fiction, p. 251.
23
резкой грани между мастерством и искусством, в том
и в другом он ценит живость и одухотворенность, стре-
мится сохранить эти свойства в своих рассуждениях, чу-
ждых холодного академизма и претензий на степен-
ность теоретического трактата. Автор исследования «Ма-
стерство романа» ищет прочного основания в обращении
с эпической формой, объективных средств литературно-
го анализа, которые дали бы возможность устранить из-
битость суждений и субъективность в оценках. Он
отдает себе отчет в сложности задачи и, обращаясь от
«искусства» к «мастерству», к рассмотрению того, ка-
кими способами «делаются» романы, предупреждает
читателя, что это только поиск более эффективного ме-
тода, что начинание это само по себе скромное, «тем
более скромной является его собственная попытка». Объ-
явленная степень замысла не мешает ему гореть энту-
зиазмом первооткрывателя и поддаваться невольному
обольщению. Ему кажется, он даже уверен, что он не
только заложил фундамент, но и возвел здание, и уже
держит ключ от двери и готов предложить его всяко-
му, кто движим теми же устремлениями.
Первое, что сделал в своем исследовании Леббок,—
он постарался отделить произведение искусства от его
творца и открыть к нему доступ только через форму
сделанной вещи. Его постулат: все заключено в книге,
в замкнутом изделии мастера, и это изделие надо
рассматривать как завершенную и уникальную форму,
отключенную от всех внешних зависимостей и связей.
А далее: осуществить разбор возможно путем спаси-
тельной «точки зрения», которая способна служить от-
правным пунктом, ориентиром и критерием оценки. «Точка
зрения» вдохновила автора, дала толчок его вообра-
жению, уверенность его аналитической мысли, и в ре-
зультате возник ряд интересных наблюдений, изложен-
ных живо, энергично, с убежденностью и не без убеди-
тельности.
Думается, однако, что все эти наблюдения можно
было собрать и иным путем, от которого Леббок реши-
тельно отвернулся, т. е. путем анализа образной систе-
мы, но, разумеется, анализа не школьного и не реме-
сленного, не примитивного и вульгарного, и без под-
мены анализа выспренним краснобайством, словом, без
всего того, что профанирует литературоведение и крити-
24
ку. Можно было добыть эти наблюдения путем действи-
тельно серьезного анализа, образцы которого дает клас-
сическая критика с ее богатым наследием, и в то же
время избежать вопиющих недоразумений хотя бы отно-
сительно сравнительной оценки мастерства в романах
|«Война и мир» и «Госпожа Бовари», на что обратили
внимание сами последователи Перси Леббока, тот же
Марк Шорер в уже отмеченном предисловии к «Мастер-
ству романа».
В «Войне и мире» не оказалось желанного для Леб-
бока единства, «слаженной формы». Если бы этот ро-
ман не был столь же необъятен, сколь необъятна сама
жизнь, если бы его структура была более четкой и обо-
снованной, чем у Флобера в «Госпоже Бовари», если
бы структуру «Войны и мира» удалось разъять на со-
ставные части приемом «точки зрения», то «этот великий
роман, по уверению Леббока, был бы еще более вели-
ким».
Странность сопоставительной характеристики, в ре-
зультате которой исключительное предпочтение отдано
роману «Госпожа Бовари», очевидна и для самого Леб-
бока. Но он предпочитает объяснить эту странность не-
обычайностью случая и загадочной неосмотрительно-
стью гения, который не ведал, что творил. При всем
этом Леббок движим благими намерениями в условиях
девальвации художественного и литературно-критиче-
ского мастерства. Он исходит, казалось бы, из бесспор-
ных положений, например, из положения единства фор-
мы и содержания. Формулирует он это положение сле-
дующим образом: «Хорошо сделанная книга это такая
книга, в которой содержание и форма совпадают и не-
различимы — книга, в которой содержание все раствори-
лось в форме, а форма выражает все содержание».
Мысль известная и верная, однако оттенки ее выра-
жения у Леббока способны придать ей ложное направле-
ние: единство превратить в тождество и, при неразли-
чимости содержания и формы, за начальное выдать фор-
му. При оценке содержания Леббок, собственно, и ис-
ходит из формы.
Против исходных положений Леббока о «мастерст-
ве» как безусловном и определяющем требовании к
жанру романа и «точки зрения», как структурной осно-
вы романа и метода его анализа, выступил Э. М. Фор-
25
стер в своих лекциях, прочитанных в 1927 году в Кэм-
бриджском университете и в том же году вышедших от-
дельным изданием под заглавием «Аспекты романа».
Теоретические и практические соображения относитель-
но структурных аспектов романа Форстер изложил в
еще более непринужденной и изящной форме. «Мастер-
ству» он противопоставил вдохновение, возобновив в но-
вых условиях, на новом материале и по большей ча-
сти в новых выражениях давнишний спор, который шел
между Моцартом и Сальери. Форстер отнюдь не против
профессионального мастерства и ответственного обраще-
ния с формой — его книга посвящена оригинальному
разбору структурных аспектов романа. Но он против
сальеризма в его новейшем виде, который флоберовский
принцип творчества предпочитает толстовскому и «Гос-
пожу Бовари», как художественное единство, ставит
выше «Войны и мира».
Форстер не согласен с Леббоком, который «всю за-
путанную проблему метода (в мастерстве создания ро-
мана.— М. У.) сводит к формуле». Автор «Мастерства
романа», по справедливому мнению Форстера, преуве-
личивает значение «точки зрения»,сколь бы специфич-
ной для художественной прозы ни являлась «проблема
отношения повествователя к излагаемым событиям».
Что-то неладно с правилами мастерства, которые ус-
танавливает Леббок, если Лев Толстой оказывается не-
способным удовлетворять этим правилам. Для Форсте-
ра «запутанная проблема» мастерства состоит в «силе
писателя захватить читателя», и в этом своем убежде-
нии он идет вслед за Толстым, который говорил о спо-
собности искусства «заражать» читателя. Что же каса-
ется технологии творчества, то «она меняется от поко-
ления к поколению».
Однако «новая критика» предпочла позицию Леббо-
ка и его «точку зрения».
Книга Леббока послужила стимулом и в известном
смысле отправным пунктом для «новых критиков» по-
слевоенной школы, «явилась,— по словам Марка Шоре-
ра,— пожалуй, первой книгой, в которой сделана по-
пытка рассмотреть роман как форму искусства». Леб-
бок, утверждает далее Шорер, «дал для критического
анализа романа не только критерии, с помощью которых
можно обсуждать вопрос о том, как делаются романы...
26
но также модель подхода к надлежащему его обсуж-
деянию». Шорер необычайно высоко ставит Леббока как
теоретика и критика, однако выражает сожаление, что
он не поднялся еще «на одну ступень критической ле-
стницы», тогда «он был бы в состоянии объяснить нам,
почему «Война и мир» — великое произведение искусст-
ва (в тех же терминах мастерства) и почему «Госпо-
жа Бовари» ...произведение менее значительное». Шорер
говорит об этом в предисловии к нью-йоркскому изданию
книги «Мастерство романа» (1957), завершая оценку ее
автора словами: «И если, спустя тридцать лет, наши
лучшие критики романа поднялись на ступень выше, то
потому, что его плечи вместе с очень немногими дру-
гими плечами поддерживают эту ступень». Тейт назвал
Леббока «лучшим критиком, когда-либо писавшим о ро-
мане».
Поднявшись еще на одну ступень, поддержанную
«мощным плечом» Леббока, «новые критики» предпочли
простому слову «мастерство» безличное и более отвеча-
ющее духу времени слово «техника»: одну из основных
своих работ Алан Тейт назвал «Техника романа», а
Марк Шорер — «Техника открытия». Они пошли дальше
в указанном Леббоком направлении формалистического
анализа романа с намерением устранить противоречия
книги «Мастерство романа». В результате опять появи-
лись интересные наблюдения, но исчезло нечто такое,
что обеспокоило более новых последователей, стремя-
щихся подняться еще на одну ступень критической
лестницы. Например, Фридман считает необходимым ого-
ворить свое несогласие с теми, кто, выявляя новаторство
современного романа, сводит его «исключительно к вопро-
сам техники». За поддержкой он обращается к литера-
туроведам несколько иного толка, хотя и связанным со
школой «новой критики», но не склонным замыкаться в
рамках формального анализа. Фридман ссылается на
Лайонеля Триллинга, который одним из первых в 40-х
годах выступил с позиций субъективизма против литера-
туры социального обличения и протеста. Фридман цити-
рует одно из принципиальных высказываний его книги
«Либеральное воображение».
«Для нашего времени самым эффективным стиму-
лятором нравственного воображения явился роман двух
последних столетий. Ни с эстетической, ни с нравствен-
27
ной точек зрения он никогда не был совершенной фор-
мой, легко перечислить его погрешности и недостатки.
Но его величие и практическая полезность заложены в
его способности беспрерывно приобщать читателя к нрав-
ственной жизни, побуждая его подвергать проверке мо-
тивы своего поведения, наводя его на мысль, что дей-
ствительность и заученные о ней представления не одно
и то же. Роман, как никакой другой жанр, учил нас,
давая нам представление о широте человеческого раз-
нообразия и ценности этого разнообразия».
Триллинг высоко оценивает роман как литературный
жанр и его классические образцы, однако, говоря о «ве-
личии и практической полезности» романа «двух по-
следних столетий», он ограничивает его значение нрав-
ственным влиянием. А это влияние улавливает в од-
ном направлении — в сторону нравственного реляти-
визма.
И в самом деле, классический роман беспрерывно
приобщал читателя к нравственной жизни, побуждал его
подвергать проверке мотивы своего поведения, наводил
его на мысль, что действительность и заученные о ней
представления не одно и то же. Однако, стоило доба-
вить,— не подвергал сомнению все заученные представ-
ления и не призывал начать все заучивать заново или
вообще отказаться от заученных представлений. Клас-
сический роман учил — и продолжает учить нас — давая
нам представление о широте человеческого разнообра-
зия и ценности этого разнообразия. Все это так и не
вызывает сомнений. Но опять-таки, надо добавить, «ро-
ман последних двух столетий» не был безучастным ин-
форматором, не всякий пример разнообразия был ему
мил и дорог, во многих своих образцах он не отрывал
нравственной сферы от социальной, если же сосредото-
чивался по преимуществу на нравственной стороне
жизни, то показывал ее в конкретных проявлениях, до-
стоверных и убедительных, изображал нравственные пе-
реживания в их действительных формах, держался вы-
соких представлений о нравственном идеале и его об-
щественном значении, говорил о ценностях подлинных и
ценностях мнимых, с определенностью выражал отноше-
ние к нравственному сознанию и поведению действую-
щих лиц. Триллингу же, как приходится думать, боль-
ше импонирует нравственная неопределенность, широта
28
нравственного разнообразия, лишенная конкретно-исто-
рического содержания и не знающая пределов.
Нравственный релятивизм «Либерального воображе-
ния» и оказался близок автору книги «Поворот в разви-
тии романа», не единственной в своем роде, которая
дает пример того, как «новая критика», применяемая к
обстановке и эволюционируя, поднимается на новую сту-
пень в защите модернистского романа, как она на эк-
лектичной основе комбинирует универсальные концеп-
ции романа и, соответственно, теории и методики его
критического разбора, перечеркивая классическое насле-
дие.
Своевольное и нигилистическое отношение к класси-
ческой традиции английского романа и критики, много-
численные попытки обосновать однолинейную и замкну-
тую традицию не остаются безрезультатными, наино-
вейшие теории производят разрушительное действие. Но
было бы ошибкой сказать, глядя на их агрессивность и
самоуверенность, что они не встречают протеста. Они
вызвали сопротивление, разностороннее и внушительное.
Они всегда встречали отпор со стороны марксистского
литературоведения и критики. С конца 50-х годов их
стали сокрушать фактами, впервые собранными и си-
стематизированными, многие здравомыслящие исследо-
ватели.
Легко прослыть новатором и мудрецом, когда забыт
опыт истории или на нее надет дурацкий колпак. Расчет
на словесный треск слабеет, когда легковерие сдержива-
ется точным знанием. Обоснованным возражением про-
тив нигилистического отношения к теоретико-литератур-
ному и литературно-критическому наследию явилось ис-
следование Ричарда Стэнга «Теория романа в Англии.
1850—1870», изданное в Лондоне в 1959 году10.
«Введение» к своей книге он начинает словами:
«Одним из самых назойливых клише в истории совре-
менной литературы, особенно в истории английского ро-
мана, является утверждение, что критика романа и об-
суждение теории романа начались ex nihilo с Флобера
во Франции, и что Англия оставалась полностью изоли-
рованной от этих теорий, вплоть до восьмидесятых го-
10 Richard Stang. The Theory of the Novel in England. 1850—1870. L,
1959.
29
дов, когда ее то ли заразил, то ли оплодотворил (в за-
висимдсти от точки зрения) Генри Джеймс или Джордж
Мур. До этого десятилетия, или в некоторых случаях
до конца семидесятых годов, английский романист вовсе
не считал себя художником; он был всего-навсего по-
пулярным развлекателем».
Стэнг подтверждает свои слова ссылками на многие
имена и книги. Он начинает с Марка Шорера, с его
категоричного суждения, что только «новая критика»,
одиноким предтечей которой был Генри Джеймс, «от-
неслась к роману серьезно, т. е. увидела в нем не раз-
влечение, а искусство», «а до того, согласно Марку ПТо-
реру,— пишет Стэнг,— в Англии вовсе не было критики
романа». Он цитирует Уолтера Аллена, его книгу «Анг-
лийский роман, краткая критическая история», в кото-
рой столь же категорично сказано, что «понятие о ро-
мане как литературной форме, имеющей какое-то от-
ношение к искусству... является совершенно новым»,
т. е. опять-таки, комментирует Стэнг, «возникло не ра-
нее Двух последних десятилетий девятнадцатого века».
Ричард Стэнг поставил в своей книге задачу «по-
казать, что критика романа средневикторианского пери-
ода в очень значительной степени недооценивается, что
ее следует рассматривать как важную часть истории
английской критики и учитывать в любом исследовании
английского романа, его эволюции».
Пренебрежение обширным критическим материалом
Стэнг объясняет прежде всего тем, что он «был похоро-
нен в подшивках периодики». Наиболее острые дискус-
сии развертывались на страницах журналов, о них за-
были и не принимают в расчет, о предмете судят по
немногочисленным книгам, в том числе таким, как «Ав-
тобиография» Троллопа, книге «откровенной, но не очень
проницательной», по искалеченному изданию «Писем и
дневников» Джордж Элиот.
Книга «Теория романа в Англии. 1850—1870» вме-
стила разносторонний материал, и многое стало доступ-
ным. По ней можно составить представление о том, кто
в Англии 50—70-х годов прошлого столетия активно об-
суждал проблемы романа, что это были за проблемы,
как расширялся их круг, какие мнения сталкивались
и как менялись акценты в связи с развитием обще-
ственной мысли и эволюцией жанра. Некоторые споры
30
столетней давности й своим пафосом, и своим топом
очень живо напоминают современные дискуссии. Те же
или почти те же проблемы — отношение искусства к
жизни, содержание и форма, значение романа и его бу-
дущее, о чем следует и о чем не надо писать, функ-
ции характера и сюжета, положительный герой, вос-
питательная роль романа, значение выразительности
языка... Те же или почти те же градации в манере
и тоне высказываний: серьезно, вдумчиво и нелицепри-
ятно высказанная мысль, проникнутая заботой о лите-
ратуре, и рядом трескучая болтовня, грубый окрик, пло-
ские поучения.
Чем ближе к концу книги, тем отчетливее выража-
ет автор свою прямую задачу: доказать, что в Англии
задолго до Джеймса и Леббока и всей школы «новой
критики» обсуждались вопросы «искусства» и «мастерст-
ва» романа. «Идея «точки зрения», различие между изо-
бражением и описанием и весь сложный вопрос внутрен-
него единства романа в его отличие от драмы или дру-
гих форм искусства,— подчеркивает Стэнг,— все эти
вопросы всесторонне обсуждались английскими крити-
ками до публикации в 1878 году первого сборника кри-
тических статей Генри Джеймса».
Сам термин «точка зрения» в его новейшем упот-
реблении Стэнгу, по его словам, удалось обнаружить
лишь однажды, в статье из «Бритиш куортерли ревью»
за июль 1866 года. Однако зачатки критического ана-
лиза, свойственного Генри Джеймсу, он находит и
раньше.
Подводя итог своим рассуждениям, Стэнг пишет:
«Начиная со статьи Бульвера 1838 года «Искусство ро-
мана» и до статьи Джеймса 1885 года, тоже названной
«Искусство романа», эта тема проходит через все дис-
куссии, посвященные роману как жанру». В 1850—
1870-е годы «довольно обстоятельно» рассматривались
«важные проблемы, специфические для романа», в том
числе такие, как «точка зрения, принцип драматической
трактовки характеров и сцен в повествовательном жан-.
ре, роман как структура и ее внутреннее единство».
Собранный Стэнгом материал обширен и многогра-
нен, но к концу книги автор заметно его сжимает и
поворачивает в одну сторону. Здесь его задача доказать,
что хотя «позиция Джеймса как крупнейшего теорети-
31
ка романа остается уникальной, многие его положения
были в том или ином виде высказаны до него». Про-
слеживая на английской почве истоки джеймсовых тео-
рий, можно «лучше оценить его значение как наибо-
лее важного звена в истории романа, который он назы-
вал «большой формой».
Заключая этим выводом свою книгу, Стэнг неволь-
но ограничивает ее смысл и значение. Выходит, что он
оспаривает всего лишь претензию «новой критики» на
чрезмерное значение ее теорий и ее родоначальника
Генри Джеймса. Самая же суть этих теорий не подверг
гается критике и не оспаривается их правильность. При
таком повороте полемический пафос автора никнет и
обнажаются его слабые места. Само название книги
«Теория романа в Англии. 1850—1870» представляется
полемически укрупненным, поскольку речь в ней идет
о проблемах и аспектах, а не о целостных концепциях.
Собственно, всесторонне развернутой теории романа,
как можно судить по этой книге, в Англии 1850—70-х
годов не было, тем более столь четко выраженной и
отработанной формалистской теории, каковая пред-
ставлена «новой критикой». В этом смысле у ее пред-
ставителей имеются основания претендовать на особый
приоритет.
В Англии 1850—70-х годов и критики и писатели
обсуждали проблемы романа без той широты и при-
страстия, как это было в «конце века», но обсуждали
основательно и отнюдь не в одном только направлении,
предваряющем позицию Генри Джеймса. В этих дис-
куссиях находили выход и оформление глубокие и зре-
лые суждения по многим проблемам «большой эпиче-
ской формы», не утратившие актуальности и в наши дни.
Вслед за книгой Стэнга, спустя несколько лет, в
1965 году, вышла книга Кеннета Грэхема «Английская
критика романа. 1865—1900»п, явившаяся как бы ее
продолжением, хотя Грэхем специально оговаривает, что
он приступил к разработке схожей темы еще до выхода
исследования Стэнга.
В отличие от Стэнга, Грэхем весь свой материал
группирует безотносительно к Генри Джеймсу, в изве-
11 Kenneth Graham. English Criticism of the Novel. 1865—1900. Oxford,
At the Clarendon Press, 1965.
32
стной мере полемизируя со своим предшественником.
В то же время он подкрепляет вывод Стэнга: кон-
цепция романа возникла у Джеймса не изолированно
от литературно-критической мысли XIX века, у него бы-
ли предшественники, французские и английские. Грэхем
ссылается на статью Поля Бурже «Наука романа», опу-
бликованную в английском журнале «Нью ревью» за
апрель 1891 года, и цитирует статью Вернон Ли (Вай-
олет Пэджет) 1895 года «О построении романа», кото-
рая в значительной мере предваряет трактовку Джейм-
сом «точки зрения», как существенной проблемы повест-
вовательной техники.
Несмотря на объемный материал, книга «Английская
критика романа. 1865—1900» при ее сопоставлении с
книгой «Теория английского романа. 1850—1870», мо-
жет создать впечатление, что в «конце века» проблемы
романа обсуждались менее активно, чем во времена Дик-
кенса и Теккерея. В действительности в последние де-
сятилетия прошлого века роман оказался предметом не-
обычайно энергичных, обстоятельных и горячих обсуж-
дений. Нередко обсуждение романа становилось не ме-
нее интересным, чем сам роман. Порой же, как это,
в известной мере, было и у Джорджа Мередита, роман
являлся как бы опытом воплощения теоретических по-
сылок. В «конце века» английская критика разносторон-
не обсуждала жанр романа, сталкивались противопо-
ложные мнения, споры, начатые в 80-х и 90-х годах,
перешагнули в XX век. Здесь уместно напомнить о по-
лемике между Гербертом Уэллсом и Генри Джеймсом,
продолженной новыми лицами в 20-х и 30-х годах.
Книга «Английская критика романа. 1865—1900» не
вместила еще очень большой и существенный материал,
но ее пополняют другие издания разного типа. В одном
случае это собрание высказываний современников о том
или ином романисте, например «Томас Гарди и его чи-
татели», в другом — собрания статей и писем самих пи-
сателей, объединенных по принципу сравнительной ха-
рактеристики и выходящих серией: «Генри Джеймс и
Герберт Уэллс», «Джордж Гиссинг и Герберт Уэллс»,
«Арнольд Беннет и Герберт Уэллс» и др.
Все эти и подобные издания — свидетельство назрев-
шей и осознанной потребности встать на точку зрения
исторического факта, учесть добытое предшественника-
2 М. В. Урнов
33
ми, чтобы оспорить выдаваемый за необходимость произ-
вол в литературоведении и критике, волевые экспери-
менты и отнюдь не безобидные умствования, которые,
говоря словами тургеневского романа, «хороши, но до
известной степени, до известных лет».
Сложившееся у нас представление об английской ли-
тературе «рубежа века» гораздо более неопределенно и
расплывчато, чем о предшествующем периоде, когда пи-
сали Диккенс и Теккерей. Им вслед появились многие
значительные имена, однако ни одно из них не подня-
лось столь же высокой вершиной, чтобы служить основ-
ным ориентиром в резко переменившейся, пестрой и не-
устойчивой литературной обстановке. Все же такие име-
на, как Джордж Мередит, Самюэль Батлер, Томас Гар-
ди, Генри Джеймс, Оскар Уайльд, Роберт Луис Стивен-
сон, Бернард Шоу, Герберт Уэллс и некоторые другие
получили мировую известность. Под их пером совер-
шились действительно радикальные перемены в англий-
ской литературе, особенно в жанре романа.
Нашими литературоведами отнюдь не забыты эти
имена, некоторые из них, например Бернард Шоу или
Герберт Уэллс, находятся в постоянном обороте у иссле-
дователей и критиков, но тот период, который все они
представляют с разных сторон и в разные его моменты,
в значительной мере ускользает от сосредоточенного и
последовательного внимания, в большей или меньшей
степени лишается самостоятельного и принципиального
значения.
Очевиден в последнее время настойчивый, разносто-
ронний и охватывающий интерес к литературе собствен-
но XX века: одно за другим выходят исследования, ей
посвященные. В середине 60-х годов почти сразу по-
явились три книги об английской литературе, в том чи-
сле две — о романе12. В этих работах впервые у нас
12 Д. Г. Жантиева. Английский роман XX века. М., «Наука», 1965;
Я. П. Михальская, Пути развития английского романа. 1920—1930.
М., «Высшая школа», 1966; В. В. Ивашева. Английская литература
XX века. М., «Просвещение», 1967.
Одновременно вышло несколько книг, посвященных американ-
скому и вообще зарубежному роману: М. О. Мендельсон. Совре-
менный американский роман. М., «Наука», 1964; Я. Н. Засурский.
Американская литература XX века. Изд-во МГУ, 1966; Т. Л. Мо-
гилева. Зарубежный роман сегодня. М., «Сов. писатель», 1966.
34
обстоятельно рассмотрены такие сложные фигуры, как
Джеймс Джойс, Д. Г Лоуренс, Вирджиния Вулф. Тем
отчетливее на этом фоне выступает необходимость при-
смотреться к литературе последней трети прошлого сто-
летия, к таким ее явлениям, которые приобрели особое
значение на рубеже веков и отразились на дальнейшем
ее развитии.
Основная задача монографии — проследить истоки
английской литературы новейшего времени, главным об-
разом ее основного жанра — жанра романа, понаблю-
дать, как в границах и недрах «викторианской» эпохи
намечаются тенденции, получившие влияние в реалисти-
ческой литературе XX века, или, напротив, в литерату-
ре так называемого «модерна».
Рассматриваются проблемы переходного времени в
преломлении через творчество крупнейших английских
писателей, например: Джордж Мередит и развитие пси-
хологического анализа, Томас Гарди и прощание с про-
шлым, со «старой веселой Англией», Вильям Моррис
и литература социалистического движения, Р. Л. Сти-
венсон и проблема профессионализма и т. п. Переход от
одного этапа к другому, различные направления и тенден-
ции прослеживаются на конкретных писательских судьбах.
Затрагивается деятельность Генри Джеймса, Бернарда
Шоу, Гиссинга, Уэллса, Голсуорси, а также писателей,
чье творчество принадлежит новому историческому эта-
пу (Джеймс Джойс, Д. Г Лоуренс, Ричард Олдинг-
тон), но все же соприкасается с прежней эпохой. Автор
данной работы лишь коснулся их творчества, ибо это —
новая эпоха, особое направление исследований.
Глава I
ЧЕРТЫ КОРЕННЫХ ПЕРЕМЕН
В первую четверть прошлого века в распространен-
ном мнении англичан роман стоял крайне низко. Это-
му жанру в еще сохранявшейся литературной иерархии,
несмотря на славу, созданную ему Дефо, Свифтом,
Фильдингом, Вальтером Скоттом, отводилось обычно
третье место — вслед за драмой и лирикой. Подобную
трактовку романа, несмотря на его стремительно воз-
раставшую популярность, можно проследить — правда,
уже только в отдельных высказываниях — вплоть до по-
следней трети XIX века. Это кажется странным, даже
невероятным, особенно на фоне отношения к роману в
некоторых других европейских странах, в том числе в
России. Лишь со временем, с заметным опозданием,
англичане характерным для них путем эмпирических на-
блюдений приходят к мысли, обоснованной в эстетике
Гегеля, а русскому читателю особенно близкой по тео-
ретическим высказываниям В. Г Белинского, мысли о
романе как эпосе нового времени, своего рода всеобщей
форме словесного искусства. Еще в 1835 году Белин-
ский говорил о победоносном развитии романа как «все-
мирном направлении» Г
Одной из важных причин отрицательного или сдер-
жанного отношения англичан к роману был пурита-
низм— протестантизм в его английском выражении. Пу-
ританизм сильно воздействовал на судьбу английского
искусства. В XVII веке пуритане — религиозно-поли-
1 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1953,
стр. 261.
36
тическая партия, возглавлявшая буржуазную револю-
цию,— сначала закрыли, а потом сожгли лондонские
театры.
«Среди сил, определивших развитие английской ли-
тературы, особенно романа,— сказано в одном из по-
следних исследований,— протестантизм оказывал самое
противоречивое влияние»2. Развивавшаяся традиция пу-
ританизма содействовала «одухотворению личности» и
тем самым могла быть в некоторой степени благотвор-
ной для литературы. К тому же реформаторы поощря-
ли чтение для удовлетворения духовной потребности
личности. Однако представление о духовных потребно-
стях и круг чтения были подчинены строгим понятиям
христианской морали. Читать следовало только то, что
было «истинным». «Но совершенно очевидно,— замечает
автор,— что содержание романов не было «истинным»,
далеко не отвечало этому требованию. Даже после то-
го, как «пуританская этика подверглась секуляризации
и строгая христианская мораль уступила место более
мягкому прагматическому нравственному кодексу, сред-
ний класс продолжал препятствовать развитию ро-
мана».
«Интеллигенция, традиции которой находились под
очевидным влиянием пуританизма, долгое время оказы-
вала сопротивление роману, главным образом потому,
что часть ее считала этот жанр способным удовлетво-
рить лишь эскепистские устремления и не отвечающим
потребности выражения значительных идей» 3.
В самом начале 30-х годов Джон Стюарт Милль,
впоследствии философ, экономист и политический дея-
тель, в статье «Мысли о поэзии и ее разновидностях»,
третируя роман как жанр неполноценный, прибег к лю-
бопытному доводу, который в то время многим казался
неотразимым: роман способен будто бы воспроизводить
явления внешние, а не внутренний мир человека.
Со второй половины 30-х годов отношение в Англии
к роману начинает меняться. В 1838 году Томас Кар-
лейль, историк и публицист, и Бульвер, впоследствии
Бульвер-Литтон, писатель, выступают со знаменательны-
ми статьями и говорят, в отличие от Дж. Ст. Милля,
2 W. Marshall. The World of the Victorian Novel. L., 1967, p. 29.
3 Там же, стр. 30, 32,
37
об огромных потенциальных возможностях романа, хотя
оба, по разным причинам, недооценивают значение Скот-
та в развитии этого жанра.
В 50—60-х годах на страницах английских журна-
лов («Нэшенел ревью», «Бритиш куортерли ревью» и др.)
один за другим появляются восторженные отзывы о ро-
мане как «величайшей из литературных форм, сочета-
ющей достоинства эпоса, драмы и лирики».
Вторая треть XIX века — эпоха классического рома-
на. Английская драма той же поры была немощной.
Если сравнить, например, романы уже упомянутого
Бульвера-Литтона с его пьесами, то, забыв на мгнове-
ние об их принадлежности одному лицу, можно поду-
мать, будто пьесы написаны эпигоном автора «Пелэма»
и «Кинельмы Чилингли». В драмах Бульвера та же, что
и в романах, творческая тенденция, но она поражает
оголенностью и слабостью выражения. Нравы, пороки
общества, замысловатость ситуаций, таинственность дей-
ствий— все, что талант писателя, повествуя (как ни
были порой слабы его романы), облекал все же в зани-
мательную и живую форму, в его драматических опы-
тах отдает (пользуясь пушкинским словом) «коцебяти-
ной» — фальшью чувств, ходульностью персонажей, мел-
кой назидательностью, мелодраматизмом, достойным
«слезных» фарсов Августа Коцебу. Бульвер — неболь-
шой талант, многие его современники понимали это, для
передовой критики он часто выполнял роль «мальчика
для порки», и все же пример с его — весьма популярным
в свое время — творчеством, в котором роман стоял го-
раздо выше драмы, с наглядностью подтверждает общее
положение: английские драматурги в самом деле стра-
дали тогда некой второразрядностью. Английская дра-
ма, как и английский театр, превратившийся в коммер-
ческое предприятие, длительное время находились
в состоянии упадка.
Хотя поэзия в тот же период йе была столь немощ-
ной и плоской, все же краски ее поблекли. Поэтиче-
ская атмосфера как бы остывает от напряженных стра-
стей первых десятилетий века. Роберт Браунинг и Артур
Клаф знали высоты в порывах поэтической мысли —
свои, как говорил Мэтью Арнольд, «тревоги борьбы и
воспарений». Все же фигуры романтиков остаются уров-
нем выше. А мужественные голоса поэтов чартистское
as
го движения, за редким исключением не достигают со-
вершенных литературных форм.
Роман занял в английской литературе 40—60-х го-
дов XIX века господствующее положение, доказав свою
жизнеспособность, силу и величие. В нем с особенной
эффективностью осуществляется синтез наблюдений, по-
нимания и творческих поисков.
Диккенс и его блестящее окружение — Теккерей, се-
стры Бронте, Джордж Элиот — вот круг имен и уровень,
по которому принято судить об английском романе той
поры. Можно, однако, этот круг расширить, спуститься
ниже высшего уровня, спуститься значительно и обнару-
жить, тем не менее, ряд явлений, достойных внимания:
романы Дизраели, Чарльза Кингсли, Уилки Коллинза,
того же Бульвера.
Крупнейшие фигуры эпохи, Диккенс и Теккерей высту-
пают тем резче и величественнее, что их оттеняет фон,
богатый разнообразием тонов, подобно тому, как среди
выдающихся драматургов «елизаветинцев» высится ги-
гант Шекспир.
Европейский роман возник и формировался как эпос
частной жизни4 и в отличие от античных или средне-
вековых поэм невольно оказывался «эпосом обыденно-
сти» в том смысле, что в нем в мелочах и подробно-
стях выступали повседневный быт человека и его пе-
реживания и что все это представало в повседневных
привычных формах. К середине XIX века роман в этом
отношении достиг образца. Искусство повествования изо-
щрилось настолько, что делом почти общедоступного ре-
месла оказалось изображение частной жизни в формах
самой жизни. Ученик Теккерея, отдавший, впрочем,
сильную дань бытовизму, писатель Антони Троллоп за-
мечал, что персонажи романа — все равно что люди,
с которыми имеешь обыкновение обедать. Нетрудно
проследить, как на протяжении века крепли эти стрем-
ления, как они реализовались прежде всего в романе,
где апофеоз повседневности оказался не только полным,
но и величественным, в тех случаях, разумеется, когда
не было простого копирования действительности. Путем
сложнейшего отбора средств выкристаллизовалась в ли-
4 См. В. Кожинов. Происхождение романа. М., «Сов. писатель»,
1963, стр. 31—33.
39
тературе способность создавать совершенную иллюзию
безыскусной простоты — «как в жизни».
Частная жизнь — как почва романа — и сам роман
резко изменились в середине XIX века, по сравнению
с ранними этапами его развития. Частная жизнь уже
отлилась в новые четкие формы и существовала в ус-
ловиях новой регламентации полностью утвердившегося
буржуазного общества. Чрезвычайное внимание роман
уделял человеку в его отношениях к семье, как основной
ячейке этого общества, тому «дому», который англий-
ский буржуа гордо именовал своей крепостью.
На рубеже 60—70-х годов М. Е. Салтыков-Щедрин
писал: «Роман (по крайней мере в том виде, в каком он
являлся до сих пор) есть по преимуществу произведе-
ние семейственности. Драма его зачинается в семейст-
ве, не выходит оттуда и там же заканчивается. В по-
ложительном смысле (роман английский), или в отри-
цательном (роман французский), но семейство всегда
играет в романе первую роль» 5.
«Семейственность» не следует понимать узко, только
как недальновидность и ограниченность писательского
интереса, его замкнутость в кругу семейно-бытовой те-
мы. Были, разумеется, «семейные романы», рассчитан-
ные на обывательский вкус, вызванные его потребно-
стью. С конца 50-х годов они стали выходить один за
другим, несмотря на авторитет Джордж Элиот — ново-
го писательского имени — и популярность ее «Адама Ви-
да» и «Мельницы на Флоссе». Журнал «Нэйшенел ре-
вью» сетовал в 1863 году: «Роман семейной жизни стал
«полномочной» литературной формой, назначение кото-
рой — прославлять семейные добродетели. Десять запо-
ведей творческого искусства свелись к требованию быть
благовоспитанным и сочетаться браком под конец треть-
его тома». Сетования журнала прозвучали в статье, по-
священной роману Маргарет Олифант «Хроники Кар-
лингфорда»,— одному из популярных образцов слаща-
вого семейно-бытового романа, отмеченного мелким
правдоподобием 6.
История литературы знает «семейный роман» как
5 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Избр. произв. в семи томах, т. III,
М., 1947, стр. 29.
6 См. R. Stang. The Theory of the Novel in England. L., 1959, pp. 180—
181.
40
жанровую разновидность, но и под этой рубрикой ока-
зываются произведения, отнюдь не страдающие мелоч-
ностью содержания,— например, знаменитые романы
Джен Остин или Шарлотты Бронте. Семейные истории,
с необычайным тщанием рассказанные Диккенсом или
Теккереем, всегда соприкасаются с большим миром, да-
ют отражение многих его сторон и представляют их не-
посредственно. Но каким бы широким ни был темати-
ческий диапазон английского романа 30—60-х годов, ка-
ким бы разветвленным ни оказывался романный сюжет,
его начала и концы обычно уходят в семейную почву.
Будет ли этот роман называться «Крошка Доррит»,
«Домби и сын» или «Ньюкомы» — это, если говорить
о самой общей тенденции, не изменит дела. Семейные
отношения выступают в английском романе не только
в существенной, но нередко в заглавной роли. И гораздо
менее содержательные романы, такие, как «Лунный ка-
мень» Уилки Коллинза, входят в эту рубрику: в Лун-
ном камне» рассказана не только таинственная и сен-
сационная «история алмаза», но прежде всего «стран-
ная семейная история», рассказана в подробностях, а
вместе с нею заходит речь «о страшных бесчинствах»,
которые чинили в Индии английские колониальные вой-
ска, и о тех «ворах, которые орудуют целыми контора-
ми в Сити и крадут не из крайней нужды раз в жиз-
ни, а обкрадывают тысячи людей» 7.
Буржуазная и буржуазно-аристократическая семья в
английском реалистическом романе 30—60-х годов не-
редко предстает в неприглядном свете. Выставляются
напоказ ханжеские нравы, обличается разъедающий ее
принцип расчета и выгоды. Но в то же время викто-
рианский идеал патриархальной семейственности про-
должает стоять на своем пьедестале. За девизом «мой
дом — моя крепость» далеко не всегда чувствуется иро-
ния: даже в остро обличительном романе он может
проглянуть в сентенции, в сентиментальной ситуации или
персонаже, в благополучной концовке, как обнадежива-
ющий и общедоступный принцип жизнеустройства. «Се-
мейственность», говоря словами Салтыкова-Щедрина, со-
храняет в английском романе 30—60-х годов «положи-
тельный смысл». Роман, уходящий корнями в семейную
7 У. Коллинз. Лунный камень. М., Гослитиздат, 1947, стр. 32.
41
почву, видит в ней прибежище от общественных зол и
опору для борьбы с ними.
Диккенс и Теккерей не принадлежали собственно пе-
реходному времени. В годы их деятельности происхо-
дили перемены, развертывались даже бурные события.
И Диккенс и Теккерей были свидетелями чартистского
движения, его возникновения, подъема и поражения. Эти
события отозвались в их сознании и творчестве, поолу-
жили толчком заметной эволюции, до предела накалив
страсть социального обличения.
Но Диккенс и Теккерей писали в ту пору, которую
в Англии в связи с длительным правлением королевы
Виктории (1837—1901) принято называть викториан-
ской эрой, в ее ранний и средний периоды. Буржуаз-
ное общество, окончательно укоренившееся, торжество-
вало победу, его экономические и социальные основы и
его господствующие идеи держались прочно. Философ-
ский, социальный и бытовой оптимизм, вера в промыш-
ленный, технический и научный прогресс укреплялись
разносторонними успехами Англии и подъемом ее авто-
ритета как мощной морской державы и «мастерской
мира».
И в годы «процветания» ничто не могло скрыть во-
пиющей нищеты, изнурительных условий фабричного
труда, кичливости сословных привилегий, циничной вла-
сти чистогана: социальное зло давало о себе знать на
каждом шагу. Тем не менее, даже многим проницатель-
ным умам казалось, что все это симптомы болезни вре-
менной, что в растущем социальном организме она не
может нарушить нормальное кровообращение и повре-
дить нервные ткани и что соединенными усилиями, мо-
билизацией общественного мнения, уступками и поправ-
ками зло можно сильно поубавить и, может быть, даже
свести на нет.
«Англия,— писал в конце 50-х годов Герцен,— вели-
ка и сносна только при полнейшем сохранении своих
прав и свобод, не спетых в одно, одетых в средневе-
ковые платья и пуританские кафтаны, но допустивших
жизнь до гордой самобытности и незыблемой юриди-
ческой уверенности в законной почве» 8.
8 См. очерк А. И. Герцена «Not Guilty» («Невиновен»).— Собр. соч..
т. XI, стр. 109.
42
Что заставило Герцена выделить наречие «только»?
Хотел ли он, подчеркнув слово, тем самым сказать, что
в нем содержится некое обязательное условие, без ко-
торого величие страны сделается невозможным? Или
тут чувствуется укол в континентальную — как в свою
очередь любил подчеркивать Герцен — сторону, где при
сравнении с Британскими островами гражданственность,
ограниченная даже этим «только», могла считаться не-
достижимым преимуществом?
Во всяком случае этих границ оказалось достаточно,
чтобы в них распрямилось восторженное чувство, заста-
вившее того же Герцена воскликнуть при успешном окон-
чании шумного политического процесса: «Много грехов
Англии будут отпущены ей и за этот вердикт и за эту
радость».
Четкость механизма общественности и гласности, на
этот раз удачно сработавшего, при другом случае не
вызвала у Герцена иллюзий, когда он, скажем, на-
блюдал в Лондоне встречу Гарибальди. Официально ор-
ганизованный церемониал не скрыл от него опаски и
попросту страха, с каким английские тори и крупные
буржуа встречали человека в красной рубашке. Он ви-
дел, что церемониями стремятся подменить живой кон-
такт революционного героя с народом, вернее хотят по-
ставить между этими силами барьер. Впрочем, Герцен
никогда не смешивал Англии Пальмерстона с Англией
Джона Буля.
И все же минутный восторг Герцена отмечает су-
щественный признак для Англии той поры.
Глава «блестящей плеяды романистов» Чарльз Дик-
кенс, с такой решительностью вывернувший наизнанку
многие институты Англии, неотразимо обличавший про-
извол суда и несправедливость законов, все же разде-
лял распространенное доверие к основам буржуазного
общежития, ко многим его установлениям, которые он
сам же обличал, в частности к представительности двух-
палатной парламентской системы, полагая, что британ-
ское устройство по крайней мере надежнее американ-
ского. Даже вопли истязаемых во Флите и наказуемых
в работных домах, вопли детей, которых секут в закры-
тых пансионах, вопли, оглашающие стены «Холодного
дома», а также несущиеся со стороны — из колоний,—
не заглушают его уверенности в высшей справедливо-
43
сти и в благополучном исходе. Изображая нравствен-
ных уродов, монстров, показывая душераздирающие сце-
ны физического и морального истязания детей, Диккенс
не забывал представить викторианский идеал любве-
обильной семейственности, посодействовать его возвели-
чению.
Когда писали Диккенс и Теккерей, радикализм бур-
жуазии и прогресс в рамках буржуазного общества еще
могли представляться неисчерпаемыми, и капитализм
свободной конкуренции питал в третьем сословии ил-
люзии широкого демократизма.
«Эти уютные романы Диккенса — очень страшный и
взрывчатый материал»,— как бы вдруг заметил Алек-
сандр Блок, и его суждение поначалу действительно ка-
жется неожиданным и парадоксальным. «Уют», который
рисовал Диккенс, представлявшийся его младшим сов-
ременникам, например романисту Гиссингу, вблизи все-
го лишь убогим утешительством, потрафлением вкусам
публики, на расстоянии многих лет обнаружил перед
нашим поэтом теплоту и устойчивость гуманного чувст-
ва, способного выдержать напор контрастов, ужас про-
тиворечий, сохранив при этом цельность и не утратив
перспективы, чего оказались лишены многие писатели
переходного времени.
В новых условиях, отдаленных от диккенсовской по-
ры, мысль об уюте не исчезает со страниц английских
книг, но никогда впредь не удастся ей обрести ту же
устойчивость и основательность. Она все более подвер-
гается сомнению, кажется нарочитой, поверхностной и
назойливой, хотя Дж. К. Честертон еще продолжал на-
стаивать: «Идеал уюта — идеал чисто английский». Тон
решительной уверенности, с каким произносилась эта
патриотическая формула, подчеркивал не только нацио-
нальную принадлежность идеала семейного уюта, но и
его живучесть. Однако в подтверждение Честертон при-
водил одни психологические мотивы, причем самого об-
щего, во всяком случае широкого свойства: «Уют поэ-
тичен тем, что он содержит в себе идею защиты, чуть
ли не борьбы; он напоминает о бушевании снега или
града и о веселых пиршествах в осажденной крепости».
На этой основе Честертон формулирует нечто вроде за-
кона литературной технологии: «Наши мирные мечты
нуждаются в аксессуарах в виде мрачного и зловеще-
44
го фона». «Идеал уюта» как «идеал чисто английский»
в своих лучших свойствах не содержит у Честертона
уже почти ничего, кроме благих намерений, сопровожда-
емых щемящим чувством утраты диккенсовского уюта,
который так органичен для мироощущения великого анг-
лийского классика.
Давние народные традиции еще сохранялись в «эпо-
ху Диккенса», особенно в семейном быту, поддерживая
дух национальной общности и патротическую память о
днях давно минувших, и, разумеется, о шекспировских
временах, о «старой веселой Англии», вызывая ощути-
мое о них представление или хотя бы завораживающую
иллюзию этого далекого прошлого. Домашний очаг, ка-
кие бы драмы ни разыгрывались за плотно закрытыми
дверями семейных домов, многим представлялся прибе-
жищем для душевного отдохновения и оплотом от на-
шествия мирских невзгод, и патриархальная традиция
продолжала в нем теплиться. Все это вместе могло пи-
тать и поддерживать убежденный энтузиазм, с каким
тот же Диккенс обличал зло в надежде его исправить
и восстановить справедливость.
Правда, это Диккенс писал: «...Мне кажется, что на-
ша система терпит крах» 9,— но писал он эти слова в
феврале 1870 года, за четыре месяца до смерти. Воз-
никавшие у него глубокие сомнения не меняли сущест-
венно пафоса его деятельности. Не меняли они и его
представлений о нормах нравственного в литературе:
«...То, что кажется нравственным художнику, может вну-
шить безнравственные мысли менее возвышенным умам
(а таких среди большой массы читателей неизбежно ока-
жется много)...»10 Это убеждение было распространен-
ным во времена Диккенса и в практическом действии
под пером благонамеренным поддерживало ту самую
показную респектабельность, то самое викторианское
ханжество, которое Диккенс атаковал, представив его
незабываемые образцы в сатирических персонажах —
в Пекснифе, в Подснапе. Для Диккенса этот прин-
цип не был чем-то инородным, извне навязанным, в его
глазах он находил оправдание, в известной мере под-
креплялся объективными обстоятельствами и воспри-
9 Ч. Диккенс. Собр. соч. в тридцати томах, т. 30. М., 1963, стр. 274.
10 Там же, стр. 212.
45
нятый его гигантским талантом отнюдь не всегда сви-
детельствовал об уступках и слабостях.
И Диккенс, и Теккерей, и сестры Бронте, и Гаскел
боролись против того, что условно называется «викто-
рианством». У Теккерея ирония играет уже огромную роль
и как средство сатиры, и как форма самокритической
рефлексии, вытекающей из горького сознания неосуще-
ствимости идеала. Объективно всем духом своего твор-
чества они восстают против торжествующего викториан-
ства, которое Диккенс воплотил в своих Подснапах и
Венирингах, а Теккерей — в собирательном образе «Яр-
марки тщеславия».
Проницательность великих английских реалистов, их
могучая и возвышенная позиция могут быть оценены
сейчас — на расстоянии столетия — особенно отчетливо.
По сравнению с их разоблачительным пафосом, кри-
тицизм крупнейших английских писателей конца века
не столь глубок, писательские фигуры, представляющие
последнюю треть века, вообще «мельчают». Но все-таки
в историческом положении этих писателей есть сущест-
венная особенность, осознанная и использованная ими.
Продолжая оставаться современниками «викторианской»
эпохи, они судят о ней как бы совершенно со стороны.
Наглядно отразилось это, например, у Батлера в
двух частях романа-памфлета «Едгин» и «Возвращение
в Едгин», где, возможно, не без чтения «Легенды о ве-
ликом инквизиторе», создана парадоксальная ситуация:
давно устоявшаяся идеология поверяется ее «воскрес-
шим» основоположником. Возвратившийся в Едгин не-
кий Хиггс узнает и в то же время не узнает себя в бо-
жестве, Сыне Солнца, созданном по его образу и по-
добию. Так и сам Батлер получил возможность оценить
свой же склад мышления как бы совершенно чужими
глазами. Сохраняя с известным строем идей кровную
связь, он одновременно очень далек, почти оторван от
него. Ни о Диккенсе, ни. о Теккерее этого нельзя ска-
зать, тут проходит очевидная граница между «великими
викторианцами» и поколением, пришедшим им на
смену.
Отмечая к концу 60-х годов перемены в романе, Сал-
тыков-Щедрин подчеркнул: «Мне кажется, что роман
утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семей-
ственность и все, что принадлежит к ней, начинает из-
46
менять свой характер» н. Писатель имел в виду не толь-
ко усиление и развитие в романе социальной темы, но
и самый характер этого развития, когда драма развер-
тывается на социальной почве и в ней обнаруживается
ее источник.
«Роман современного человека,— писал Салтыков-
Щедрин,— разрешается на улице, в публичном месте —
везде, только не дома, и потом разрешается самым
разнообразным и почти непредвиденным образом. Вы
видите: драма начиналась среди уютной обстановки
семейства, а кончилась бог знает где... Эти резкие пе-
рерывы и переходы кажутся нам неожиданными, но меж-
ду тем в них несомненно есть своя строгая последова-
тельность, только усложнившаяся множеством разного
рода мотивов, которые и до сих пор еще ускользают
от нашего внимания или неправильно признаются нами
недраматическими. Проследить эту неожиданность так,
чтобы она перестала быть неожиданностью — вот, по
моему мнению, задача, которая предстает гениальному
писателю, имеющему создать новый роман» 11 12.
Можно не соглашаться с Салтыковым-Щедриным,
сказать, что «новый роман», как он его понимает, стал
формироваться гораздо ранее обозначенного им рубежа,
что «семейная почва» не была исчерпана романистами
и «новый роман» не отстранился от нее вовсе, но неко-
торая общая и очень важная тенденция развития
романа была им уловлена и отмечена верно и свое
временно.
«Семейственность», с какой буквальностью или, на
против, в расширительном смысле ее ни рассматривать
являлась известным строем идей и связей, для опре-
деленной эпохи характерных. Эти идеи имели своим ма-
териальным началом социальный сдвиг, который пере-
дал ведущую историческую роль «третьему сословию»,
т. е. буржуазии.
Английский роман в его наиболее блестящем и ве-
личественном воплощении предстал во вторую треть про-
шлого века, когда этот сдвиг достиг вершинной точки,
и в «строе идей», наделенных «положительным смыс-
лом», роман опирался на его результаты.
11 Н. Щедрин. (М. Е. Салтыков). Избр. произв., т. III, стр. 29.
12 Там же, стр. 29—30.
47
Любопытно суждение Мэтью Арнольда, поэта и кри-
тика, человека наблюдательного, умевшего схватывать
переломные настроения: «В продолжение долгих лет,—
рассуждал он в середине 60-х годов,— все, что было
между нами молодого и пылкого, рассматривало каж-
дый вопрос в неразрывной связи с исторической и прак-
тической жизнью. Мы исчерпали выгодные стороны та-
кого взгляда на вещи, мы извлекли из него все, что
могли извлечь» 13.
Если прояснить конкретно-историческую подоплеку
этого суждения, то место «неразрывной связи с истори-
ческой и практической жизнью» займет вера «виктори-
анцев» в некоторую основательность их общественного
идеала, позволявшая «молодым людям», сверстникам
Арнольда, лишь только им «попадется идея или пол-
идеи, тотчас бежать на улицу, чтобы ей там доставить
торжество» 14.
Диккенс и писатели его окружения, «молодое и пыл-
кое» поколение первой половины века, надеялись быть
услышанными, поскольку считали, что с обществом, при
всех его пороках, заблуждениях, язвах, они говорят все
же на одном языке. Вот чем питался их морализатор-
ский энтузиазм, вот что толкало их «на улицу» — про-
поведовать и обличать, чтобы исправить зло и доставить
торжество справедливости,— и, наконец, вот почему, а не
только в силу свойственного им глубокого гуманизма,
мы едва ли отыщем у них ноту крайнего пессимизма
или мотив безнадежной иронии, столь характерные для
английской литературы второй половины и, особенно,
заключительной трети века. Иронии страстных сомнений
и скептицизма, иронии бешенства и отчаяния.
Жизнь и деятельность Мэтью Арнольда (1822—1888),
эволюция его воззрений охватывают не один поворот
общественной жизни и мысли. Его тон, его оценива-
ющий взгляд, в силу привычки к переменам и либе-
ральной недальновидности, мог быть спокойнее, чем мне-
ния литераторов, творческая судьба которых оказалась
сконцентрированной на переломе. Прогрессивные моло-
дые люди 70—90-х годов отзывались гораздо резче и
определеннее об исчерпанности «известного строя идей».
13 Мэтью Арнольд. Задачи современной критики. М., «Посредник»,
1902, стр. 20.
14 Там же.
48
Они уже плохо верили или не верили вовсе в апелля-
цию к «викторианскому» общественному мнению, кото-
рое, как им представлялось, успело притерпеться и при-
выкнуть к либеральной проповеди настолько, что не за-
мечало ее. Те из них, которые готовы были бежать на
улицу,— возгорались иными идеями и выбирали иные
улицы, присоединяясь к социалистическому движению,
участвуя в митингах и рабочих демонстрациях.
В это время изменилось состояние английского рома-
на, его положение среди других жанров. Роман не по-
ступился своей ролью и не сошел во второй ряд, хотя
в предшествующий период, особенно в 40-е и 50-е годы,
когда выдвинулась диккенсовская плеяда романистов,
он выглядел более внушительно и возвышался неколе-
бимо. Теперь — в конце века — оживилась драма. Луч-
шие пьесы Бернарда Шоу и Оскара Уайльда заметно
обозначились на общем литературном фоне и сохрани-
лись до нашего времени.
К поэзии в известной мере вернулся бурный мяту-
щийся гений. Поэт — в лице (Элджернона Чарльза Суин-
берна, например,— снова, как в давнюю романтическую
пору, дополнял личным обаянием силу своих стихов.
К его голосу прислушивались драматурги и романисты.
Драма и поэзия не то чтобы потеснили роман, но с
их оживлением заметнее стали происходившие в нем
брожение и сдвиги. Отношение к роману и взгляд на
него утратили прежнюю устойчивость и категоричность.
Сам термин «роман» вызывал к себе некоторое преду-
беждение, будто предмет легковесный и не вполне от-
вечающий запросам времени. Не всякий романист скло-
нен был пользоваться им без ограничения и оговорки.
Джордж Мередит свой лучший роман «Эгоист» (1879)
обозначил как «повествовательную комедию». Томас
Гарди назвал роман «Рука Этельберты» «комедией в
главах». У Гиссинга «Уилл Уорбортон» (1891) был по-
лемически назван «романтической повестью о реально-
сти» 15.
15 .В последнюю треть прошлого века подобную «предубежденность»
разделяли не только английские писатели. «Решительно, слово
«роман» уже не определяет книг, которые мы пишем,— замечает
в 1883 г. французский романист Эдмон де Гонкур.—Я хотел бы
дать им другое название,— ищу его и не могу найти...» — Эдмон
и Жюль де Гонкур. Жермини Ласерте. Актриса. Отрывки из
«Дневника». Лениздат, 1961, стр. 601.
49
Роман занялся подробнейшим саморазбором, и эта
углубленная внутренняя работа сделала его на время
менее устойчивым. Роман как бы усомнился в себе. На-
чались поиски опоры в иных видах искусства, в науке.
Этот интерес был разнохарактерным, но всеохватыва-
ющим. Гарди, архитектор и рисовальщик, обращался к
скульптуре и зодчеству. Уайльд тяготел к живописи и
музыке, а Уэллс—к науке и отстаивал в литературе
принцип научности.
Углубленный саморазбор и поиски средств и мето-
дов за пределами романа объясняются не распадом
самого жанра, а его кризисом, точнее сказать — пере-
ходным состоянием, вызванным глубокими изменениями
в жизни и общественном сознании.
«То поколение,— писал Шоу,— которое от корки до
корки могло прочесть Шекспира и Мольера, Диккенса
и Дюма без малейшего умственного или морального бес-
покойства, не могло прочитать ни одной пьесы Ибсена
или романа Толстого, не почувствовав, что его интеллек-
туальное и моральное благодушие нарушено, религиоз-
ная вера поколеблена, понятия о правильном и непра-
вильном поведении спутаны, а может статься и вовсе
поменялись местами» 16.
Конечно, Шекспир, Мольер или Диккенс, упомяну-
тые здесь,— это не Шекспир, Мольер, Диккенс, которые
некогда с неменьшей решительностью нарушали спокой-
ствие читателей и меняли местами устоявшиеся понятия.
Эго олицетворение принципов, обозначение канонов, ко-
торыми читающая и пишущая посредственность пользу-
ется, по выражению Оскара Уайльда, «как дубинкой,
чтобы препятствовать свободному проявлению красоты
в новых формах» 17.
Шоу предлагал констатировать как сложившийся
факт, ощутимый повсеместно, во всех жанрах,— несо-
гласие с канонами литературы первой половины века
или, во всяком случае, рост качественно иных творче-
ских элементов. Отличая современную литературу от
школы Диккенса и Теккерея, Шоу выделял ее также на
16 Бернард Ш.оу о драме и о театре. М., Изд-во иностр, лит-ры, 1963,
стр. 56.
17 О. Уайльд. Поли. собр. соч., т. 2. СПб., изд. т-ва А. Ф. Маркса,
1912, стр. 325.
50’
фоне и более давнего классического наследия. При этом
опытный ценитель не собирался, разумеется, отдавать
своим современникам предпочтение перед великанами
прошлого за одну только новизну.
Как пример, иллюстрирующий вездесущее движение
новизны, Шоу вспоминал второстепенного прозаика дик-
кенсовской школы Чарльза Ливера. Этот эпизод он счи-
тал весьма показательным и пользовался им не один
раз.
Чарльз Ливер — рассказывал Шоу — после серии книг
«в старой манере», где «удовольствия — восхитительны,
а привязанности — искренни» и все вообще совершается
в ходе «разухабистой скачки по жизни», после такого
рода книг, которые почитались принадлежностью будто
бы диккенсовской школы, Ливер внезапно вручил Дик-
кенсу роман, называвшийся «Однодневная прогулка —
роман целой жизни».
Диккенс вообще ценил Ливера, продолжает Шоу,
однако этот его «роман неприятно поразил и Диккенса
и читателей горьким, но бодрящим ароматом...»
«Читатели,— заключает Шоу,— взялись за этот ро-
ман безо всяких подозрений, в полной уверенности, что
перед ними — увеселение в чистом виде. Удар по их
глупой веселости застал их врасплох. И они соответ-
ственно возмутились».
Этот парадоксальный эффект, этот горький, бодрящий
аромат, который Шоу склонен был тогда обозначить
словом «ибсенизм», и давал ему основания видеть в
слабом все же романе Ливера раннее предвестие пере-
мен, произведенных Ибсеном, Стриндбергом, Тургене-
вым, Толстым, Горьким, Чеховым и... неким Брие 18.
Эпизод, действительно, показывает ряд черт, харак-
терных для переходного времени. Тут и полемическое
заглавие, которым подчеркнута остановка «разухабистой
скачки», сокращение пространственно-временных границ
действия, специфическая сосредоточенность на всего
лишь «одном дне» и вместе с тем — «целая жизнь» 19.
18 Бернард Шоу о драме и о театре, стр. 63—64.
19 Сокращение такого рода, подобная сосредоточенность вообще, как
видно, свойственны произведениям, отмечающим переходные эта-
пы в развитии литературы: ограничиваясь «одним днем» да еще
«одним человеком», писатели тем самым как бы заново проверяют
арсенал средств для изображения человеческого существования.
51
Тут и перевернутость представлений, когда веселые при-
ключения вдруг оборачиваются плачем. И некоторое не-
доумение мастера, главы направления. И возмущенные
читатели. И, наконец,— со стороны самого Шоу — оцен-
ки, еще не устоявшиеся, подчиненные главным образом
признаку новизны, «ибсенизму». И сбивчивый ряд имен,
где вдруг среди гигантов затерялась случайная фигура...
Все это на свой лад показывает, что наступает иное
время.
«Век уходит» — так передано в «Саге о Форсайтах»
Голсуорси настроение, которым сопровождаются похоро-
ны королевы Виктории, «старой Викки», поставившей
рекорд долголетнего правления (1837—1901). Соме Фор-
сайт, олицетворение буржуазного собственничества, свя-
зывает «уход века» со смертью престарелой королевы,
и его скрытый вздох передает ощущение «разрыва вре-
мен»: «Никогда уже больше не будет так спокойно, как
при доброй старой Викки!»
Длительное правление королевы Виктории было почти
до 80-х годов эпохой укрепления английского капита-
лизма и могло придавать «викторианству», как известно-
му складу жизни и мысли, иллюзию надежности.
Англия долгое время называлась и «мастерской ми-
ра», и «владычицей морей», она продолжала казаться
«старой и доброй», имела и другие горделивые наимено-
вания. До поры до времени она сохраняла для многих
умов, даже трезвых и лишенных национальной узости,
высокие и патетические оттенки мысли и чувства.
Но постепенно горделивые титулы начали перемещаться
в круг полунасмешливых, ирония все настойчивее заде-
вала их, они стали вызывать раздражение.
С 70-х годов «свободный» капитализм с его лозунгом
равных возможностей и иллюзией демократизма начи-
Ср. «Тристрам Шенди» (1760—1767), объемистый роман Лоренса
Стерна, на протяжении которого герой не успевает сменить мла-
денческую распашонку на детские штанишки, или «Последний
день осужденного на смерть» (1828) —этюд Виктора Гюго; эти
произведения стоят у начала длинной вереницы психологических
штудий и разнообразных «одних дней». Вспомним, как настойчиво
делал опыты с описанием «вчерашнего дня» молодой Л. Н. Толстой
(начало 1850 года). В свою очередь XX век знает множество опы-
тов в этом направлении, в том числе один из ранних — «Улисс»
(1914—1921) Джеймса Джойса, роман в 60 печатных листов, за-
нятый описанием одного дня из жизни трех лиц.
52
нает в Англии все заметнее уступать место капитализму
монополистическому. К началу 80-х годов «мастерская
мира» лишается монопольного положения на мировом
рынке, ее теснят окрепшие конкуренты. Внутренняя
жизнь страны утрачивает устойчивость, ее сотрясают
кризисы в промышленности и сельском хозяйстве, вызы-
вающие обострение социальных противоречий. Происхо-
дит нечто такое, отчего разрозненные неудачи, срывы,
утраты, потрясения в разных сферах общественной и
частной жизни выстраиваются в систему. Все явственнее
английский либерализм, окрепший и достигший апофео-
за после поражения чартизма, стал обнаруживать свою
несостоятельность. Все очевиднее становился глубокий
кризис буржуазной идеологии и культуры, перерождение
буржуазии, еще мнившей себя радетелем народного и
общенационального дела, силой всеобщего прогресса.
Парижская Коммуна, получившая отклик в англий-
ском общественном мнении, с особой отчетливостью вы-
явила отсутствие единства в буржуазном обществе, его
раскол на враждебные классы, показала, что главным
социальным конфликтом времени стал конфликт между
буржуазией и пролетариатом. В конце 60-х годов, осо-
бенно же в 80-е годы, в Англии наблюдается резкий
подъем рабочего движения. Впервые широкое распро-
странение получают социалистические идеи, коренным
образом меняющие представление об обществе, его со-
стоянии и путях развития.
Литература почувствовала закат «викторианской
эпохи» значительно раньше, чем английские собствен-
ники — сомсы форсайты. В последние десятилетия
XIX века с нарастающим упорством и убежденностью
литература разрушала устойчивую иллюзию благополу-
чия и «процветания».
С разной мерой понимания каждый талантливый пи-
сатель, восприимчивый к общественной атмосфере, ощу-
тил в последнюю треть века острый кризис буржуазно-
го существования — не внешний и временный, а корен-
ной и необратимый. Это ощущение кризиса у разных
писателей не было однородным и одновременным: каж-
дое новое десятилетие придавало ему большую остроту,
начало же процесса положили 70-е годы, явившиеся ка-
нуном империалистической эпохи.
Крупным литературным событием и одним из первых
53
страстных вызовов благопристойным вкусам явились
«Стихи и баллады» (1866) Олджернона Чарльза Суинбер-
на (1837—1909). Смелые и новаторские произведения
скандализировали чопорных буржуа,— они ополчились
на автора. Джордж Мередит поддержал его, написав
поэту, что он сделал доброе и важное дело: «Люди
смелее взглянут на ограничения, навязанные искусству
нашей отвратительной властвующей буржуазией»20.
Само это чувство отвращения к властвующей буржуазии
охватывает широкие слои, становится органическим и
неистребимым. Недаром А. М. Горький говорил «о раз-
витии самокритики в английском обществе конца XIX ве-
ка» как о наиболее примечательной черте в движении
умов этого периода 21.
Критика в адрес раннего викторианства — диккен-
совской поры — и самокритика поздних викторианцев
захватывали все области общественной, художественной
и научной жизни, если только эти области казались
хотя бы по времени, а тем более по существу и духу
принадлежностью отживающего строя идей. В этом смыс-
ле заметным объектом полемики оказался научный
прогресс и буквально камнем преткновения в этих спо-
рах служило учение Чарльза Дарвина — одно из вели-
чайших достижений науки XIX века.
Обычно, прослеживая судьбу дарвинизма, помнят
лишь об естественной враждебности, с какой теория эво-
люции, «Происхождение видов» и другие важнейшие
труды Дарвина, излагающие его известное учение,
были встречены всевозможным невежеством, мракобеси-
ем и прежде всего церковью. Со значительно меньшим
старанием отмечают триумфальный успех или по край-
ней мере громкий резонанс, какой получило дарвинское
учение. Нельзя забывать, что Дарвин, а точнее дарви-
низм, т. е. взгляды великого ученого, пущенные в широ-
кий оборот и должным образом вульгаризованные, были
восприняты как научное и потому особенно надежное
обоснование существующего порядка вещей. В учении
о борьбе видов, в теории естественного отбора, сведен-
ной к хищническому лозунгу «Побеждает достойней-
ший!», пыталось найти себе поддержку буржуазное пре-
20 R. Stang. The Theory of the Novel in England. L., 1959, p. 206.
21 A. M. Горький. Поли. собр. соч. в тридцати томах, т. 29, стр. 399.
54
успеяние. «Сам глотай, а то другие проглотят!» — тако-
ва была новейшая, научно будто бы обоснованная вер-
сия давней гоббсовой «борьбы всех против всех», таков
был житейский урок, извлеченный предприниматель-
ством из дарвинизма. Достижения естествознания стали
в данном случае использоваться как оправдание «про-
гресса» вообще со всеми его бесчеловечными издержка-
ми и уродствами. Викторианское благополучие и дарви-
низм оказались таким образом соединены, а во многих
глазах они и вовсе отождествлялись. Вследствие этого
антивикторианский протест вызвал борьбу и с дарвиниз-
мом; боролись с теорией естественного отбора уже не
мракобесы, а вполне просвещенные головы. Эти передо-
вые, так сказать, противники дарвинизма не столько
спорили с Дарвином, сколько опасались последствий
вульгаризации его учения. Они осуждали утилитарное
использование принципов эволюции и научных достиже-
ний вообще.
Крупным творческим пропагандистом эволюционной
теории был ученый биолог Томас Гексли, взгляды и
выступления которого поддерживал, в частности, на стра-
ницах «Колокола» А. И. Герцен. Однако и от сочине-
ний Гексли веяло чрезмерной сухостью, его жесткая си-
стематика, казалось, обедняет живую человеческую при-
роду, умаляет значение духовных богатств. «Неужели
место Гомера займет Гексли?» — с беспокойством обра-
щался к своим современникам Уильям Моррис.
Универсальным приложением теории эволюции отли-
чалась философия Герберта Спенсера, также одного из
видных сторонников Дарвина и одного из первых и круп-
нейших представителей позитивизма. Спенсер претендо-
вал на создание новой энциклопедии знаний, в которой
систематически объяснялось бы все: от мироустройства,
природы общества до функций человеческого организма
и «механики» чувств. Спенсера необычайно прельщала
возможность такого сквозного механического анализа
всех сфер человеческой деятельности. «Нам скоро пояс-
нят,— посмеивался Уайльд,— что радость и горе только
лишь выделение некоторых желез». И в самом деле
Спенсер не собирался ставить предела биологическому
толкованию любых сфер жизни. Он пояснял через одну
только физиологию, например, «сущность смеха», как
старался во всем прежде всего указать биологическую
55
сущность, не оставляя места собственно духовной жизни.
«Меня воротит от Опенсера»,— отмечал в записной
книжке Самюэль Батлер.
Да и сам Дарвин был не в восторге от работ Спен-
сера, хотя и отдавал должное его «необыкновенным та-
лантам». «Его дедуктивный метод трактовки любого
вопроса,— писал Дарвин о Спенсере,— совершенно про-
тивоположен строю моего ума... Его фундаментальные
обобщения (которые некоторыми лицами сравнивались
по их значению с законами Ньютона!), быть может,
и представляют большую ценность с философской точки
зрения, но по своему характеру не кажутся мне име-
ющими сколько-нибудь серьезное научное значение»22.
Однако не все английские литераторы той поры про-
никались таким скептицизмом к теории Спенсера, не всех
пугал его механицизм. Напротив, позитивистский подход
представлялся весьма плодотворным натуралистам. Им
интересовался также Г Дж. Уэллс. Можно вспомнить,
с каким увлечением читал Спенсера его заокеанский
поклонник — Джек Лондон и как он передал это увле-
чение главному герою своего романа «Мартин Иден».
Таким образом, борьба вокруг дарвинизма, его тол-
кований и применения была многосторонней. В сопро-
тивлении грубо утилитарному использованию научного
прогресса граница между Дарвином и его вульгариза-
торами не всегда соблюдалась, и в результате — стал-
кивались с самим Дарвином. Тот же Самюэль Батлер
был поначалу дарвиновским прозелитом и поддерживал
его взгляды 23, однако с течением времени он становит-
ся его противником. Поводом для их вражды послужил
казус в личных отношениях, но затем противоречия пере-
шли на принципиальную почву.
Значительное несогласие вызывал общий оптимизм
науки и прежде всего самого Дарвина, который считал
возможным «объяснить благодетельное в целом устрой-
ство мира».
22 Ч. Дарвин. Автобиография. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 118.
23 Тем более, что они были связаны биографически; юный Дарвин
учился в школе доктора Батлера, отца писателя. Причем об этом
учебном заведении они оба вынесли отрицательные воспоминания.
И если Батлер сатирически представил это в романе «Путь вся-
кой плоти», то Дарвин признавал в «Автобиографии»: «Ничто не
могло оказать худшего влияния на развитие моего ума, чем шко-
ла д-ра Батлера...»
56
«Правда,— отмечал он,— некоторые писатели так
сильно подавлены огромным количеством страдания
в мире, что, учитывая все чувствующие существа, они
выражают сомнение в том, чего в мире больше — стра-
дания или счастья, и хорош ли мир в целом или плох».
Со своей стороны Дарвин отвечал на это сомнение
с вполне достаточным оптимизмом: «По моему мнению,
счастье несомненно преобладает, хотя доказать это бы-
ло бы очень трудно».
За помощью Дарвин обращался к своему же учению,
считая, что и преобладание счастья над страданием и
«наличие большого количества страданий» находятся
«в полном согласии с теми результатами, которых мы
можем ожидать от действия естественного отбора»24.
Оптимизму, а также Дарвину и его теории, как обос-
нованию этого оптимизма, готовы были возразить тог-
да в самом деле многие писатели, склонные вместе
с Оскаром Уайльдом присоединиться к словам Вордс-
ворта:
Страданье — вечно, тускло и сурово,
И бесконечно в сущности своей.
По-своему продолжали отзываться в литературе по-
следних десятилетий века воздействия из другой — ре-
лигиозной — сферы общественной жизни и прежде всего
полемика вокруг «трактарианства», или «Оксфордского
движения», которая наибольшей остроты достигала еще
в 50-х годах. «Трактарианцы», называвшиеся так по
«Трактатам времен», которые они выпускали, или «окс-
фордцы», поскольку центром их одно время был знаме-
нитый университетский город, стремились произвести
пересмотр догматов англиканской протестантской церкви.
Подобно поэтам и художникам, именовавшим себя
прерафаэлитами, они, на свой, конечно, лад, обращались
к дореформационным, средневековым, католическим
временам. Это ставило их в оппозицию к протестантиз-
му, а поскольку английская буржуазия признавала про-
тестантизм своим вероисповеданием, то оксфордские
богословские тенденции приобретали до известной сте-
пени антибуржуазную, либеральную направленность.
Кроме того, их стремление исторически и критически
изучать вопросы веры придавало «Трактатам» культур-
24 Ч. Дарвин. Автобиография, стр. 100—102.
57
ное значение. Виднейшие лидеры движения были к тому
же и поэтами. А Джон Ньюмэн (1801 —1890), наиболее
даровитый из оксфордцев, писал также романы и стихи.
Все это привлекало к оксфордцам крупных англий-
ских литераторов. Одно время к ним примыкал замет-
ный поэт середины века Артур Клаф, ими интересовал-
ся Мэтью Арнольд, Уайльд говорил о воззрениях Нью-
мэна как о «великой школе мышления». Временным при-
верженцем трактарианцов сделал своего последнего
героя Джуда Томас Гарди. Без учета оксфордских спо-
ров останутся темны многие страницы Самюэля Батле-
ра, который резко отрицательно относился к этим но-
воявленным реформаторам, как, впрочем, скептически
смотрел на все вокруг. Внимательным читателем бого-
словских сочинений Ньюмэна был Джеймс Джойс.
Не один Батлер критиковал оксфордцев. С ними не
пошли далеко даже многие из прежних сочувствующих.
Отшатнулся от них Артур Клаф. Мэтью Арнольд назвал
Ньюмэна и его соратников «идолопоклонниками». А Ос-
кар Уайльд, обращаясь в сонете к великому поэту-про-
тестанту Мильтону, говорил, что он «не будет ни с
богом, ни среди его врагов», т. е. не примкнет ни к
официальной церкви, ни к трактарианской.
С иным, новым строем идей и чувств выступают пи-
сатели «конца века». И представители старшего поколе-
ния, заявившие о себе еще в 50-е годы, и те, кто взялся
за перо в самом конце 60-х или в начале 70-х годов
или десятилетием позже.
Старшим и одним из самых видных писателей нового
периода английской литературы был Джордж Мередит,
разносторонний и влиятельный литератор.
Глава II
ДЖОРДЖ МЕРЕДИТ
(Писатель и его век. Творчество и эксперимент)
Жизненный путь Джорджа Мередита (1828—1909)
охватывает почти тот же период времени, что и годы
жизни Л. Н. Толстого. Однако Толстой своим долголе-
тием — физическим и творческим — связан в нашем
представлении с целым веком, между тем репутация
Мередита умещается в гораздо более узкие рамки. Это
как бы Толстой меньшего масштаба, писатель, совпада-
ющий с Толстым в одном из направлений, там, где «ин-
терес подробностей чувства заменяет интерес самих со-
бытий» (Толстой).
Отношение к Мередиту в Англии, оценка его твор-
ческой деятельности была и остается разноречивой. Дол-
гое время его не замечали, о нем рассуждали свысока
и его же возвышали до Шекспира. В исторической пер-
спективе, уже с 20-х годов, о нем начинают судить спо-
койней и основательней. Если разноречия и сохраняют-
ся, то обычно они свободны от прежних крайностей.
Джордж Мередит — в «узких рамках», говоря слова-
ми Дж. Б. Пристли, «бесспорно крупная» и вместе с
тем «загадочная фигура». Обе части этого двучленного
определения — и несомненная значительность Мередита
и его загадочность — вызывают к нему оправданный ин-
терес.
Сама биография Мередита знаменательна во многих
отношениях для литературного периода в Англии, кото-
рый он представляет как выдающийся писатель.
59
Джордж Мередит происходил из демократической
среды. Дед и отец его были известными в Портсмуте
портными, держали в этом портовом городе мастерскую,
изготовлявшую флотское обмундирование. Мать Мере-
дита — ирландка, дочь портсмутского трактирщика.
Мередит не получил систематического среднего обра-
зования. Он посещал местную школу, год провел в за-
крытом пансионе. По его признанию, начальное образо-
вание принесло ему мало пользы. Семейные обстоятель-
ства и материальные затруднения помешали ему полу-
чить университетское образование. Однако два года он
учился в Германии — на деньги покойной матери; четыр-
надцати лет поступил в школу религиозной секты «Мо-
равских братьев» в городке Нейвиде, на Рейне.
Местность славилась романтической природой, а школа
либеральным уставом, добротной постановкой дела и
известным свободомыслием. Двухлетнее (1842— 1844)
пребывание в Германии оставило в сознании Мередита
заметный след. Он не остался безразличен к подъему
гражданских чувств среди прогрессивно настроенных
умов в предреволюционные годы. Гете и Жан-Поль Рих-
тер (1763—1825), которых он изучал с особенным увле-
чением, оказали влияние на его литературные вкусы и
склонность к теоретизированию. Жан-Поль Рихтер был
не только крупным романистом, но и автором трактата
«Введение в эстетику». В этом трактате Мередит мог
найти близкие ему мысли относительно природы коми-
ческого.
Вернувшись в Англию, Мередит поступил в ученье
к адвокату, который поощрял его литературные инте-
ресы.
Начало творческой деятельности Мередита связано
с именем Диккенса, которому он был представлен в
1849 году. По-видимому, по рекомендации Диккенса
опубликовано его первое стихотворение. В 1850 году
в журнале «Домашнее чтение» — журнал тогда стал вы-
ходить под редакцией Диккенса — было напечатано не-
сколько стихотворений молодого поэта.
В отличие от своих великих и выдающихся англий-
ских предшественников Джордж Мередит — и романист
и поэт. Его перу принадлежат тринадцать романов (че-
тырнадцатый, «Кельты и саксы», остался незакончен-
ным), несколько повестей, поэм, много стихотворений.
60
В этом распределении творческих сил,когда писатель
в равной или почти в равной степени проявляет себя
в жанре романа и в поэзии, сказывается иное их соот-
ношение в последнюю треть века, чем в 40—50-е годы.
Мередит-поэт был слабее Мередита-романиста, но Гар-
ди-поэт был равен Гарди-романисту, а по мнению мно-
гих, даже значительнее Гарди-прозаика, Киплинг-поэт
значительнее Киплинга-прозаика, Уайльд-прозаик равен
Уайльду-поэту и слабее Уайльда-драматурга. Определе-
ния «слабее», «равен», «сильнее» употребляются здесь
не в буквальном смысле, а лишь с целью отметить ха-
рактерную черту «рубежа веков», своеобразного пере-
ходного времени. В том, что многие писатели этого
периода были одновременно прозаиками и поэтами, мож-
но видеть признак многосторонности творческой лично-
сти, но эта многосторонность скорее была необходимо-
стью, чем потребностью.
Мередит тесно связан с журналистикой. В 60-х годах
он был постоянным сотрудником консервативной газеты
«Ипсвич джорнэл», в 1866 году — военным корреспон-
дентом «Морнинг пост» в Италии, первым, кажется, анг-
лийским писателем — военным корреспондентом новей-
шего времени. Литература и журналистика, их связь
в творческой деятельности большого писателя — опять-
таки характерная черта и одна из проблем литератур-
ного развития на «рубеже веков».
Опыт военного корреспондента позволил Мередиту
написать роман «Виттория», обусловил замысел книги,
дал для нее необходимый материал. «Виттория» — пер-
вый английский роман о национально-освободительной
борьбе. Он положил начало традиции, получившей ши-
рокое развитие в Англии спустя сто лет, уже в наше
время.
«Виттория» — единственный роман Мередита, в ко-
тором отчетливо проявила себя зависимость писателя
от журналиста. При всей значительности темы, этот ро-
ман сохраняет преимущественно историко-литературный
интерес. И в более позднем романе «Эгоист» можно об-
наружить пафос журналиста-публициста, готового от-
кликнуться на злобу дня, к примеру, высказать прямое,
в публицистической форме, суждение относительно дис-
куссий по вопросам воспитания или положения женщи-
ны в обществе. Однако Мередит стремится четко раз-
61
граничить в своем творчестве сферы литературы и жур-
налистики, и «Эгоист», в этом смысле, по-своему зна-
менателен.
В течение тридцати пяти лет, начиная с 1860 года,
Мередит непрерывно работал консультантом крупнейше-
го лондонского издательства Чепмен и Холл, фактиче-
ски являясь его главным редактором. Это единственный
в литературной жизни Англии случай почти пожизнен-
ного совмещения выдающейся творческой и профессио-
нальной редакционно-издательской деятельности. При-
сутствие в издательстве занимало у Мередита обычно
два дня в неделю, но необходимость читать рукописи,
писать о них отзывы, давать по ним заключения и ре-
комендации, беседовать с авторами,— все это требовало
времени и напряженного внимания, и так из месяца
в месяц, год за годом три с половиной десятка лет.
Решая судьбу рукописей, высказывая о них автори-
тетное мнение в издательских рецензиях, в письмах к
авторам и в беседах с ними, Мередит оказал значи-
тельное влияние на литературу и литературную жизнь
Англии 60—90-х годов, влияние, еще не получившее
должной научной оценки. Это было подвижничеством,
обусловленным призванием и материальной необходимо-
стью. Собственные произведения Мередита не приносили
ему прочного и систематического дохода. За свою рабо-
ту в издательстве он получал от главы фирмы 250 фун-
тов стерлингов в год — беспеременно, без перспективы
повышения ставки, несмотря на возраставшие заслуги,
трудовой стаж, опыт, писательский авторитет и колеба-
ния в реальной стоимости фунта. Все же Мередит со-
хранял за собой место издательского консультанта, учи-
тывая привилегию тесной связи с издательством и пре-
имущество постоянного заработка. Первое собрание
романов Мередита было выпущено издательством Чеп-
мен и Холл (1885—1887). Мередит оставил работу в
издательстве в 1895 году только после того, как получил
отказ на свою просьбу повысить ему служебную ставку.
В это время авторитет и слава писателя стояли особен-
но высоко.
«Вначале никто не шел к нему. Это было не важно.
Потом к нему стали приходить некоторые. Это не из-
менило его. Теперь к нему пошли многие. Он все тот же.
62
Он все тот же несравненный романист»,— писал в
1896 году Оскар Уайльд L
Мередит начал печататься достаточно рано. В 1851 го-
ду появился сборник его стихотворений. Свой первый
роман «Испытания Ричарда Февереля» он опубликовал
одновременно с появлением первого романа Джордж
Элиот «Адам Вид» в 1859 году. «Адам Вид» имел ско-
рый успех, имя Джордж Элиот встало в один ряд с име-
нами крупнейших викторианцев, а Мередит и в 50-е и
в 60-е годы, да и в первой половине 70-х годов все
еще оставался в тени, хотя уже появилась серия его
романов — «Ивэн Хэррингтон», «Сандра Беллони»
(«Эмилия в Англии»), «Рода Флеминг», «Виттория»,
«Приключения Гарри Ричмонда». Многие из них были
известны за рубежом, в том числе в России. О нем пи-
сали, его произведения обсуждали, но если у него и
был успех, то он ограничивался узким кругом. Когда
в 1885 году Мередит выпустил далеко не лучший свой
роман «Диана из Кроссуэйз», то в противоположность
всем прочим книгам писателя этот роман был встречен
с необычным оживлением. Причина успеха была слу-
чайная: за фабульную основу книги Мередит взял на-
шумевшую в свое время, а затем оказавшуюся ложной
политическую историю, в которой была замешана внучка
Шеридана,— это и привлекло читательское любопытство.
Но существо творчества писателя, тогда уже автора
восьми романов (в том числе «Карьеры Бьючемпа» и
«Эгоиста»), осталось все же без должного внимания.
По-видимому, только в 90-е годы Мередит получил
особое признание, однако на не продожительный срок.
П. Д. Боборыкин, любознательный русский очевидец
некоторых важных явлений английской культурной жиз-
ни, отметил как знаменательный факт «половины 90-х го-
дов», как «одно из доказательств» того, что «время
все-таки берет свое», признание Мередита «самым выда-
ющимся писателем» Англии тех лет. Он писал: «На мой
частый вопрос в последнюю мою поездку в Лондон,
обращенный к англичанам и англичанкам всяких воз-
растов и слоев общества: «Кого же следует теперь счи-
тать самым крупным английским романистом?» — мне
1 Оскар Уайльд. Поли. собр. соч., т. II. СПб., изд-во т-ва А. Ф. Марк-
са, 1912, стр. 333.
63
почти везде отвечали: «Джорджа Мередита». А между
тем до тех пор его считали в той публике, которая
привыкла поглощать трехтомные novels,— писателем с
ужасно трудным языком. Он не льстит ни одной из
рутинных привычек и настроений большой публики...
И все-таки же он признан, правда, уже совершенно на
склоне своей карьеры» 2.
Прошло около тридцати лет, и, «подводя итоги», дру-
гой очевидец, видный английский писатель Э. М. Фор-
стер, начавший творческую деятельность при жизни Ме-
редита, говорил о нем с иной, полушутливой интона-
цией, подсказанной иными временами и студенческой
аудиторией. Форстер говорил, обращаясь к студентам
Кембриджского университета: «Мередит уже не то зна-
менитое имя, каким оно было двадцать или тридцать
лет назад, когда немалая часть человечества и весь
Кембридж трепетал при его упоминании»3. Заглядывая
в будущее, отыскивая в нем место Мередиту, Э. М. Фор-
стер не мог предсказать ему ни былого влияния, ни
прежней славы: «Никогда больше он не будет той
духовной силой, какой был около 1900 года». Пред-
сказание Э. М. Форстера было жестким, гораздо более
жестким, чем прогнозы Пристли, за год перед тем
выпустившего книгу «Джордж Мередит»4, но основа-
тельным.
Трудно ожидать, чтобы Мередит восстановил утра-
ченные славу и влияние при всех возможных колебаниях
интереса к его имени. Вместе с тем все более прояс-
няется его роль в развитии новейшей английской лите-
ратуры, по крайней мере в жанре романа. Джордж Ме-
редит стоит у истоков английского романа, отмеченного
новыми чертами, можно сказать — романа нового типа.
Влияние Мередита было разносторонним, особенно за-
метным в том направлении развития этого жанра, кото-
рое связано с именами Генри Джеймса, Оскара Уайль-
да, затем литературы «потока сознания», а также с нео-
романтиками — Стивенсоном, Конрадом.
Мередит во многом близок реалистам «блестящей
плеяды», влияние Теккерея нетрудно обнаружить в его
2 П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. II, М., «Худож. лит-ра», 1965,
стр. 218—219.
3 Е. М. Forster. Aspects of the Novel. N. Y., 1954, p. 89.
4 J. B. Priestley. George Meredith. L., 1926.
64
романах, например в острой критике снобизма и в ма-
нере изобличительного иронического повествования.
Но Мередит — «дитя реализма, поссорившееся со своим
отцом», так в «Замыслах» Оскар Уайльд назвал писа-
теля 5. Это определение можно было бы распространить
также на многих его современников, отнести, хотя и с
разной степенью ограничения, ко всему поколению писа-
телей последней трети XIX века или к целому периоду,
так как в этом замечании схвачено если не существо,
то по крайней мере важное свойство переходного этапа.
«Дитя реализма». В самом деле многое соединяет
с «блестящей плеядой», с ее традициями Мередита и
Батлера, Гарди и Мура, Шоу и Уэллса, Стивенсона и
Конрада, а также Оскара Уайльда и Генри Джеймса.
И каждый из них на свой лад «ссорился» со своим
«отцом». Ссоры возникали не только по психологиче-
ским причинам становления молодых талантов на само-
стоятельный путь, когда творческий рост обостряет до
предела стремление к самостоятельности. Минет, оста-
нется позади наиболее напряженный момент этого роста,
тогда и связь, даже зависимость от непосредственно
предшествующих авторитетов не будет многим из «моло-
дых» казаться тягостной. Ссоры возникали по принци-
пиальным идейно-эстетическим поводам, под воздействи-
ем меняющихся обстоятельств, причем одни «ссорились»,
порываясь вперед, другие — отходя в сторону или об-
ращаясь вспять. В Мередите заметны разные порывы.
Мередит откликается на значительные события, про-
являет большой интерес к национально-освободитель-
ной, социальной и политической борьбе. Воодушевлен-
ность писателя гражданским пафосом, правда, в раз-
ной степени, сказывается не только в период наиболь-
шего подъема его творчества — в 70-е годы,— но на
разных этапах его эволюции. Общественный пафос осо-
бого заряда ведет перо писателя. В романе «Карьера
Бьючемпа» Мередит непосредственно рассуждал об этом.
«Героя моего,— писал Мередит,— можно обвинить в
заведомой неспособности угодить обществу, так как он
постоянно оскорблял все предрассудки и никогда не ис-
кал популярности. Быть популярным — последнее, о чем
бы он подумал. Бьючемпизм, если можно так выразить-
5 О. Уайльд. Поли. собр. соч., т. III, стр. 166.
3 М. В. Урнов
65
ся, есть олицетворение всего, что противоположно бай-
ронизму; он не ищет вашей симпатии, избегает ходуль-
ного пафоса или каких бы то ни было патетических поз.
Бьючемп не думает о личном счастье, хотя бы из-за
того, чтобы не оплакивать отсутствие его; мелодиче-
ский плач, демоническое презрение равно чужды ему.
Символ веры его — дело и борьба. Имея все, что могло
бы соблазнить его на роль романтического героя, он
презирает помаду и парикмахерские щипцы современ-
ной романтики, ее выкройки и ярлыки; словом, все вещи,
ловким употреблением которых устраивается таинствен-
ный ореол героя над головой джентльмена» (гл. IV).
Может показаться неожиданной и исторически за-
поздалой полемика Мередита с Байроном и байрониз-
мом*— все это было так давно. Однако Байрон и бай-
ронизм и в дальнейшем служили предметом и поводом
для полемики. Мередит первым из английских романи-
стов последней трети XIX века начал пересматривать
позиции байронического неприятия действительности и
критиковать уродливые ему подражания. В этом отно-
шении, как и в некоторых других, Мередит оказался
прямым предшественником неоромантиков. В противо-
положность реакции он отнюдь не оспаривал историче-
скую обоснованность, мужество и вдохновенную силу
байроновской «музы мести и печали», о сути которой
в те же 70-е годы в связи со смертью Некрасова вспо-
минал в «Дневнике писателя» Достоевский, подчерки-
вая, что «словом «байронист» браниться нельзя». Кри-
тика Мередитом романтического эгоцентризма и позы,
его стремление утвердить позитивную сторону романти-
ческого пафоса как условия независимой одухотворен-
ности, борьбы и практической деятельности были одним
из источников, которые питали восторженное отношение
к нему Стивенсона. Неоромантик более поздней форма-
ции Дж. К. Честертон, обращаясь к Байрону и байро-
низму, противопоставляет их декадентам и декадент-
ству: «Поза молодых байронических героев — преувели-
ченная искренность; декадент пошел дальше, и поза
его — позерство».
«Байронизм» и «бьючемпизм» предстают у Мереди-
та как начало и конец характерного энтузиазма эпохи
в его превращениях. «Дело и борьба?» Разве это не
родственно желанию «бежать на улицу»? Или готов-
66
ности подняться в парламенте одному против всех с
обличительной речью?
Восстань, мой дух, уразумей,
Откуда ты приял начало,
И — в бой смелей!
Дж. Г. Байрон. Перевод П. Сербаринова
Разница между этими порывами состоит не только
в их масштабах, но и в их подоснове и направлении.
Ломая нормы, Байрон, родовитый аристократ, бунтовал
против своей среды. Среды, и без того сдававшей по-
зиции под натиском буржуазного сословия. Тем сильнее
могла быть агоническая ненависть этой среды к отще-
пенцу, но это — иная сторона проблемы. Важен сам Бай-
рон и его пафос. Вспомним «Паломничество Чайльд Га-
рольда», как он покидает родину, бросая ей если не
проклятие, то во всяком случае последнее «прости».
Что оставляет он? Опустевшее поместье, «потухший
очаг», цепного пса с похоронным воем. Он уезжает от
развалин родового замка к руинам Эллады, Италии,
Испании, он хочет взглянуть, как прошло их живое ве-
ликолепие, чтобы освежить понимание своей собствен-
ной катастрофы, он ждет и от родных камней такого
же красноречия, как от остатков Колизея. Оскудение
составляет мотив его мыслей. И поиск энергии — его
страсть.
Я мира не любил, как он — меня же;
Не льстил его порокам, не сгибал
Колен перед кумирами и даже
Улыбкой гордых уст не искривлял.
В овациях мой юлос не звучал;
В толпе меня своим не почитали;
И хоть средь них, не с ними я стоял;
Их мыслей чужд, я вырвался б едва ли,
Когда б свой гордый ум не обуздал
вначале6.
Песнь третья, ст. CXLIII. Перевод В. Фишер
Разве эти свойства — нелюбовь к «обществу», неже-
лание льстить сильным и подделываться под общий тон,
обособленность положения — разве все это не напомина-
ет примет, подмеченных Мередитом в облике своего ге-
6 Дж. Г. Байрон. Избр. произв. в одном томе. М., 1935, стр. 7.
3* 67
роя? Разве нельзя было бы сказать о Гарольде, как
говорил Мередит о Невиле Бьючемпе, что он «не ищет
вашей (т. е. окружающих) симпатии, избегает ходуль-
ного пафоса и т. д.»?
«Байронизм» и «бьючемпизм», как это случается с
началом и концом, с двумя сторонами медали, даже
с противниками, нередко иронически повторяют друг
Друга...
Байрон бунтует среди своих. Он провожает прош-
лое, с которым кровно связан. «Эта невероятная неж-
ность,— говорил А. В. Луначарский о характере Бай-
рона,— связанная с крайним самомнением и гордостью,
создавала почву для столкновения с обществом».
Но, следует продолжить, и общество, точнее, определен-
ный социальный слой были почвой, воспитавшей и эту
нежность и эту гордость, эту исключительность. То
были свойства среды, сохранившиеся в натуре Байрона
целостно, между тем как для общего правила они сде-
лались мишурой.
Герой Мередита находится в другом положении. Мо-
лодой Бьючемп не бежит от своей среды, но ищет ее,
ибо она со времен Байрона успела распасться, принять
немало инородного материала в свой состав, и Бьючемп
имеет перед собой уже не круг постылых, однако зна-
комых, лиц, а целую систему, «общество» в реальном
смысле этого слова. Его естественное желание, его пер-
вый порыв — не остаться в одиночестве при этом не-
равном столкновении, нащупать опору. Но кто может
оказаться с ним рядом?
Бьючемп, возможно, читал, а Мередит знал наверное,
сыгравшую в умах того времени влиятельную роль — кни-
гу Дж. Стюарта Милля «О свободе» (On Liberty,
1859) —«свободе мысли, речи и лица»7,— как расшиф-
ровал смысл этого памфлета А. И. Герцен. Он, как и
многие тогда, горячо принял книгу Милля, его реакция
показательна. «...Неужели не странно,— предугадывал
Герцен вопрос читателя,— что там, где за два века Миль-
тон писал о том же, явилась необходимость снова под-
нять речь On Liberty...»
Точно так же можно было бы удивиться стремлению
Мередита провести грань между «байронизмом» и
7 А. И, Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XI, стр. 68.
68
«бьючемпизмом», когда кажется, что они так похожи.
Разве не решены были однажды эти социальные зада-
чи, что вдруг возникла надобность их вновь поставить,
да еще чуть ли не в тех же словах? Они были когда-
то и как-то решены, но почему-то теперь возвращаются,
однако в некоем превратном виде — пугающем, словно
потревоженные призраки.
«Он потому заговорил,— отвечал за автора Гер-
цен,— что зло стало хуже».
Сколь ни коротко слово «хуже», оно содержит в себе
суть критического пафоса. «Хуже» в данном случае не
сравнительная степень одного и того же качества,
но обозначение свойств иных: зло стало иным,— так
надо, как представляется, понять Герцена и следом за
ним Милля,— и еще худшим.
«Мильтон,— продолжает Герцен,— защищал свободу
речи против нападения власти, против насилия, и все
энергическое и благородное было с ним. У Стюарта
Милля враг совсем иной: он отстаивает свободу не про-
тив образованного правительства, а против общества,
против нравов, против мертвящей силы равнодушия,
против мелкой нетерпимости, против «посредственно-
сти» 8.
По отдаленному, но ни в коем случае не прямому,
сходству можно, со своей стороны, полагать, что «бай-
ронизм»— это откровенный бунт от энтузиазма, созна-
ющего: надо разрушить, и все, что попадается на пу-
ти — семейные узы, социальные связи, парламентская
трибуна, борьба повстанцев,— все как-то само собой
сливается в единый сокрушительный порыв:
(В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...9
Дж. Г. Байрон. Из дневника в Кефалонии.
Перевод А. Блока
Невиль Бьючемп — участник Крымской кампании,
которая открыла ему глаза на многое. Он вернулся с
фронта разгоряченный свободомыслием и бунтарскими
настроениями. Однако он не представлял себе, сколь
коренные перемены произошли в общественной жизни
8 Там же.
9 Дж. Г. Байрон. Избр. произв. в одном томе, стр. 356.
69
его родной страны. Он с ужасом слушает слова дяди
о разлагающем господстве «лавочников», «среднего клас-
са», этого «брюха страны», «прожорливого и испорчен-
ного». Дядя Ромфри тревожит племянника жестокими
филиппиками против буржуа-манчестерцев: «Они застав-
ляют маленьких детей работать на своих фабриках с
утра до ночи. Их фабрики разрастаются дьявольской
паутиной и сосут кровь страны. В их районе люди мрут,
как овцы от эпидемии. Скелеты ведь не бунтуют. А они
в довершение всего распевают воскресные гимны!»
(гл. III).
Критика аристократа Ромфри вдохновлена сослов-
ным пристрастием и своекорыстием, он не гнушается
демагогии, однако жестокие факты не выдуманы им.
«Неужели Англия обнаруживает признаки упадка?
Да еще какие!» — в крайней тревоге размышляет Бью-
чемп. И Бьючемп действительно мечется. «Он желал
чего-то другого; он желал, чтобы они отдали свое вре-
мя и силы чему-нибудь, чего нельзя было купить на
рынке. Аристократия, он был в этом убежден, долж-
на возобновить свой естественный союз с народом и
вести его, как издревле вела, на поле битвы. Но как
этого достигнуть?» (гл. III).
Стоит прислушаться к разговору, последовавшему за
вопросом Бьючемпа к дяде: «Прошу вас, скажите, что
же нужно делать?» Ответ дяди:
— Ату, на них! Самое храброе сердце одержит
победу. Я в том нисколько не сомневаюсь. И я не сом-
неваюсь, что мы одержим в конце концов верх.
— А народ? Его надо принять в расчет,— сказал
Невиль, отуманенный доводами дяди.
— Что народ?
— Я полагаю, что английский народ чего-нибудь да
стоит, сэр.
— Разумеется, когда борьба окончена и битва вы-
играна или проиграна.
— Так вы думаете, народ останется зрителем?
— Народ всегда ждет, кто останется победителем,
мальчик.
Юноша вскричал в отчаянии:
— Разве это скачка?
— Да, это тоже скачка, и нам чертовски не хватает
выездки...» (гл. III).
70
Средневековый дядя Эверард Ромфри, с его, говоря
по-герценовски, «привычками тори и скачек», а также
с байронической страстью к театральности, привел в от-
чаяние, как видно, племянника с его «бьючемпизмом» —
пониманием, что теперь не скачка и не сцена требуются,
но нужна работа, которая все сможет переиначить.
И когда дядя утверждает, что «Англия гибнет от тру-
сости», Невиль Бьючемп, уже читавший, вероятно, бро-
шюру Милля, старается вспомнить тому же другое на-
звание.
«Постоянное понижение личностей, вкуса, тона,—
словно его мысли читаем мы при разборе Герценом кни-
ги Милля,— пустота интересов, отсутствие энергии
ужаснули его; он присматривается и видит ясно, как
все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое,
пожалуй, «добропорядочнее», но пошлее... Посмотри-
те — душа убывает» 10 11.
Милль не очень оригинален, он как бы вторит То-
масу Карлейлю. Разбирая в 1844 году его книгу «Прош-
лое и настоящее», Энгельс приводит из нее схожие
наблюдения о положении Англии, переданные почти в
тех же выражениях: «Недостаток души», т. е. «истинно
человеческого сознания», «всюду духовная пустота,
безыдейность и упадок сил» и. То, что отмечал Карлейль
(Невиль Бьючемп и сам Мередит зачитывались в юно-
сти этим писателем) и спустя пятнадцать лет повторяет
Милль, находит в переломный момент более оформив-
шееся и наглядное подтверждение и получает более ши-
рокий резонанс.
«Стюарт Милль,— пишет Герцен,— стыдит своих со-
временников, как стыдил своих Тацит; он их этим не
остановит, как не остановил Тацит. Не только несколь-
кими печальными упреками не уймешь убывающую ду-
шу, но, может, никакой плотиной в мире» 12.
Книга Милля получила отклик в среде английских
писателей. Они не ограничились его упреками и при-
зывами, хотя повторяли их на разные лады. Факт «убы-
вания души», его причины и следствия, процесс этого
убывания, различные формы его выражения стали
к концу века предметом пристального рассмотрения в
10 А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XI, стр. 68—69.
11 К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 1. стр. 585.
12 А. И. Герцен. Указ, соч., т. XI, стр. 69.
71
английской литературе и опять-таки прежДе всего ё ро-
мане.
Мередита тревожил недостаток «истинно-человече-
ского сознания» в разных сферах жизни, он искал тому
причины и пути выхода. «Люди иного закала,— говорил
Милль,— сделали из Англии то, что она была, и только
люди другого закала могут ее предупредить от паде-
ния», В известной мере Мередит исходил из подобного
же убеждения. Он искал людей «другого закала», людей
одухотворенных, свободомыслящих, воодушевленных
высокой идеей, способных постоять за свое достоинство
и свои убеждения. И он отдавал себе отчет, что «вечно
обвешивающие, вечно обмеривающие лавочники» не сде-
лаются — «из какой-то поэтической потребности, из ка-
кой-то душевной гимнастики — героями» 13.
Продолжая разбирать книгу Милля, Герцен останав-
ливается на его характеристике общественной среды:
«Нравственная основа поведения состоит преимуще-
ственно в том, чтобы жить, как другие. «Горе мужчине,
а особенно женщине, которые вздумают делать то, чего
никто не делает, но горе и тем, которые не делают
того, что делают все». Для такой нравственности не
требуется: ни ума, ни особенной воли; люди занимают-
ся своими делами и иной раз для развлечения шалят
в филантропию... и остаются добропорядочными, но пош-
лыми людьми.
Этой-то среде принадлежит сила и власть; самое
правительство по той мере мощно, по какой оно служит
органом господствующей среды и понимает ее ин-
стинкт» 14.
Такова среда, вызывающая на столкновение Бьючем-
па, таков он сам с его затаенностью, постоянным пере-
смотром и стремлением к практическому действию. Пе-
ресмотр этот завел Мередита достаточно далеко. И все
же не избавил от иллюзий. Его общественный энтузи-
азм, как бы ни изменился он с байронических и более
поздних времен, все же еще нередко напоминал чисто
«викторианский» порыв «на улицу».
Но «улица» раскололась и грозила народной револю-
цией. Мередит интенсивно работал над романом «Карье-
13 А. И. Герцен. Указ, соч., т. XI, стр. 71.
14 Там же, стр. 72.
72
ра Бьючемпа» с 1871 по 1874 г., т. е. как раз в то
время, когда в Англии явно обозначился кризис либе-
ральной идеологии. Автор находился тогда под сильным
впечатлением событий, происходивших во Франции,—
франко-прусской войны и Парижской Коммуны. Дух
времени ощущается в том настроении, с каким писатель
обсуждает положение в связи с обострением классовой
борьбы и перспективой ее развития в Англии.
«Так вы хотите взорвать Маунт Лорель, мою бедную
усадьбу, в виде примирительной жертвы бедным клас-
сам?» — спрашивает Невиля Бьючемпа дочь богатого
аристократа. «Я надеюсь поставить ее на более проч-
ный фундамент»,— отвечает тот.— «С помощью взры-
ва?» — «Предупредив его».
Позиция пересмотра, но также и затаенности, приня-
тая Мередитом, не могла не повлечь за собой особого
творческого подхода к изображению. В его произведени-
ях крепнет тяга к «отстраненности» (aloofness), наме-
чается стремление скрыть пружину действия, а свой
взгляд на происходящее и персонажей выразить косвен-
ным путем.
Уже в ранних произведениях Мередит обнаруживает
особый интерес к психологическому анализу. Со време-
нем этот интерес резко возрастает, выступая приметой
не только его творческой индивидуальности.
Стареющий Диккенс показал в своих последних ро-
манах творческие новшества, близкие интересам Мере-
дита, Батлера и других писателей, пришедших ему на
смену. Он все более занимается одним лицом, все вни-
мательнее и подробнее следит за внутренней жизнью
своих персонажей. Степень психологической подробно-
сти вообще может служить наглядным показателем раз-
вития литературной техники. Пользуясь этой мерой,
нельзя не отметить сдвиг, характерный для всего перио-
да. Психологизм к концу века для многих писателей
едва ли не становится всепоглощающим.
Этот сдвиг затрагивает не одну только литературно-
формальную сторону. Обратившись к истории, не трудно
обнаружить, что не раз бывали времена, когда смеще-
ния такого рода оказывались показательным признаком.
Закат английского Возрождения характеризовался уси-
ленной интроспекцией поэтов-«метафизиков». Крах про-
светительских идеалов на рубеже XVIII—XIX веков вы-
73
звал в свою очередь отчаянный эгоцентризм и самоуг-
лубленность романтиков. Видимо, всякий раз, когда при-
ходит разочарование в системе общественных ценностей,
обостряется интерес к личности. Личность, заменяя бо-
лее широкие общественные факторы, представляется
землей обетованной, последним прибежищем, островом,
еще обитаемым, среди океана изменчивости.
Естественно, что такого рода кризис вызывает в ли-
тературе перестройку и формального оснащения. Как
объект изображения личность заставляет тратить на се-
бя весь арсенал средств. Стерн в известном смысле об-
разцовым примером показал, что просветители, столь
много рассуждая о человеке и правах личности, по су-
ществу не были вполне поглощены интересами этой лич-
ности. И действительно, «Исповедь» Руссо рядом с
«Тристрамом Шенди» выглядит недостаточно самоуглуб-
ленной.
Великие мастера из тех, кого мы ставим в один ряд
с Шекспиром, Толстым или тем же Диккенсом, умели
показать, как много им известно и дано. Они походя,
намеком обнаруживали, что в принципе они знают и
умеют в своем искусстве все и уж по крайней мере пред-
ставляют себе последовательность развития повествова-
тельного искусства. Поражаясь этой способности, вместе
с тем можно заметить, что не все, раскрываемое благо-
даря ей, органически прививалось в палитре красок,
излюбленных мастером, не все, ему известное, составля-
ло для него внутренний интерес.
Всякая вспышка «стернианства» в английской лите-
ратуре, т. е. повышенного, чуть не лихорадочно взвин-
ченного внимания к психологии, совершенно по-особому
освещает строй писательских интересов. Чем заметнее
она назревает, тем все очевиднее деформируется ткань
повествования. Размываются привычные границы связу-
ющих переходов, описания меняют пропорции, свободнее
и произвольнее становится слог, да и вся перспектива
изображения строится иначе: в ней пропадает, с точки
зрения предшествующей нормы, соразмерность и пра-
вильность.
В романах Диккенса многие страницы заняты под-
робным разбором душевных движений. Смерть Ральфа
Никльби в «Приключениях Николаса Никльби», напри-
мер, его приготовления к самоубийству, покаянные мыс-
74
ли, заботы, сомнения, вдруг обступившие это тяжелое
сердце, непосредственно раскрываются перед читателем.
Но психологический анализ у Диккенса оказывается
лишь одним из приемов, как и сама сфера психологи-
ческого является лишь одной из сторон изображаемого,
и мы, внезапно введенные в мир самых скрытых пере-
живаний диккенсовского героя, чувствуем временность
этого сближения, словно в самом деле некие «вход» и
«выход» ограничивают нас в интимном с ним знаком-
стве.
Повествование у Диккенса основывается на описа-
нии событий, и даже у Теккерея, как ни увлекается он
изложением мотивов поведения, какие силы ни тратит
на психологические портреты, чередование событий про-
должает играть в повествовании роль основной двига-
тельной пружины.
Под пером Мередита и Батлера структура повество-
вания, весь строй его существенно, а подчас до неузна-
ваемости, изменились. Внешний признак этих изменений,
точнее один из легко обнаруживаемых признаков,— за-
медленность в ходе действия, сокращение цепи событий,
да и сами события все меньше и меньше походят на
«приключения», без которых не обходился диккенсов-
ский роман. События сводятся к обыденным бытовым
ситуациям, и все это — за счет учащения внутреннего
ритма, пульса психологической подробности.
Мередит старался занять как можно более основа-
тельную позицию и, вооружившись особым орудием —
«внутренним зеркалом» (как названо оно в «Эгоисте»),
искал в движениях души, психологических поворотах,
работе чувств и микрокосме мозга отражения новых об-
щественных веяний, которые, как ему казалось, он сумел
поймать в воздухе.
Мы видим, как мир, который при Диккенсе имел
свою соразмерность, меняет пропорции. Вдруг перед на-
ми крупным планом возникает «деталь»: «Не has a leg»
(«Он человек с ногой»)—так неожиданным словцом-
формулой в начале повествования характеризуется цент-
ральный персонаж романа «Эгоист» сэр Уиллоби Пат-
терн. «А заметили вы в нем человека с ногой?» (Эго-
ист», гл. II). Нога молодого джентльмена. Автор сколь-
зит по ней взглядом. Он находит в этой ноге бездну по-
водов для далеко идущих размышлений. Порода, поче-
75
ста, подвиги, покрой костюМа, посадка й седле, положе-
ние в обществе — все по причинной закономерности
оказывается связано с этой ногой. «Роковая нога».
И автор, занявшись ею, предлагает читателю за собой
следовать.
Но почему писатель мозолит глаза всего-навсего ка-
кой-то деталью? Почему не изобразить вместо этого не-
что целое?
Характеры, общественная среда, время, по впечатле-
нию Мередита, успели определиться настолько, что во
всем от психики до панталон обнаруживают свою сущ-
ность. Головы, галстуки, героические деяния, государст-
венный аппарат, газеты, грумы и горничные, господа
Гладстон и Галопен — скакун, победитель дерби 1878 го-
да,— всё, говоря по-гамлетовски, кругом изобличает. Все
пронизано одним духом, одной сутью и каждая деталь,
взятая как звено, способна дать представление о после-
довательной связи остального. И следовательно, «нелепо
разглагольствовать о том, что и так ясно каждому»
(там же).
Это не означает, будто Мередит уходит от прямого
разговора, от «идейной задачи» и «моральной ответст-
венности». И в данном случае сжатая метафора развер-
тывается в целях сатирического разъяснения и оценки
типического характера и общественной среды. Ирониче-
ски подражая изысканно приподнятому слогу, автор
предлагает вдуматься в слова he has a leg, которые в
устах посвященных заменяют серию восторженно комп-
лиментарных высказываний, выражающих систему
взглядов, настроений и привычек. «Куда только, в какие
поэтические сферы эти слова не увлекут наш дух! И с
каким упоением парим мы в этих эмпиреях! В самом
деле, кто из нас, хранящих меланхолическую предан-
ность памяти Карла Мученика, не питает одновременно
игривой нежности ко двору его весельчака-сына, к той
поре, когда любовь украшала ногу кокетливыми банти-
ками, и нога была верховным владыкою во дворце!
Грешный двор, грешная пора! А все же мы грезим об
этой поре, когда — не то, что ныне! — шум и возня не-
отесанной черни, копошащейся где-то внизу, не оскорб-
ляли слух английского кавалера, этого воплощения бла-
городного изящества. Какие великолепные манеры, и в
каждом жесте какая неизъяснимая сладость! И даже
76
если дамы бывали йересйур... но нет, будем считать, что
на них возвели напраслину. Впрочем, если они и бывали
подчас чересчур нежны,— что же! — в ту пору джентль-
мены были джентльменами, и стоило того, чтобы из-за
них погибнуть! Таков английский миф, и своему рас-
пространению в обществе он обязан тоске по сладко-
звучной гармонии джентльменства, которая, как пола-
гают, некогда царила на нашем острове. Ведь точно так
же и поэты наши тешат свое воображение преданиями
о рыцарях «Круглого стола».
Мередит развенчивает этот и некоторые другие, ме-
нее застарелые мифы.
Ошибочно было бы полагать, что Мередит первый в
литературе взялся судить о целом по фрагментам. Мож-
но вспомнить Джонатана Свифта с его гротескной «фи-
лософией одежды», подхваченной и развитой Томасом
Карлейлем в его философском романе-памфлете (1831).
У Диккенса в свою очередь деталь нередко разраста-
лась до самостоятельной величины. Примером можно
взять, как это часто делают, его «постоянные характе-
ристики». Однако для Диккенса, сколько бы он ни уве-
личивал выхваченный фрагмент, деталь скорее всего
остается частностью 15. В сознании Диккенса жило пред-
ставление о некоей слаженности мира, при всех его кон-
трастах и противоречиях. Всякое нарушение этой сла-
женности могло ранить взгляд писателя до болезненно-
сти, могло вырасти в пальцы-щупальцы Урии Гиппа. Но
сама ранимость была спутником твердой веры, влекла
за собой желание «бежать на улицу», чтобы восстано-
вить порядок и мыслимую справедливость. В глазах Ме-
редита пропорции мира складывались иначе. «Нога», се-
мейная среда или общество — все могло свидетельство-
вать о разладе. В такой же мере, как рука Клары Мидл-
15 Ср., например, постоянные присказки, которыми Сэм Уэллер, слу-
га Пиквика, сопровождает свои злоключения: «Ехать так ехать»,—
и т. д. Они, эти присказки, парадоксально не совпадающие с со-
бытиями, живут постольку, поскольку существует в романе Уэллер,
и служат его характеристикой, а также выражением житейского
оптимизма. Между тем тот же прием, такого же рода байки у
Ярослава Гашека, скажем, в «Похождениях бравого солдата
Швейка» — не столько характерная черта героя, сколько символ
идиотического беспорядка общественных связей, в которые вкли-
нивается незадачливый Швейк: «Война? Маршевые роты? А вот
у нас был трактирщик...» и т. д.
77
тон свидетельствует о ее душевном разладе, 6 ее вне-
запном и полном отчуждении от Уилоби Паттерна, ее
жениха: «Он сжимал ее руку в своей, но это была уже
привычная ласка: рука — это так далеко! Да и что та-
кое — рука? Клара не отнимала ее: она смотрела на
свою руку, как на звено, связывающее ее с благонрав-
ным исполнением долга» («Эгоист», гл. VII).
Здесь деталь — не частность и не внешний признак,
а часть целого, неожиданным образом способная пере-
дать состояние этого целого, в данном случае указать на
еще мучительный, но уже совершенный разлад и на вре-
менную победу благонравного долга.
Первый роман Мередита «Испытания Ричарда Феве-
реля» передает состояние многостороннего разлада и де-
лает это в значительной степени специфическими для пи-
сателя средствами.
Очевидная тема этого романа — тема воспитания 16.
Интерес к ней автора — не просто дань времени: вопро-
сы воспитания в конце 50-х годов служили предметом
оживленных споров. Писателя влечет и волнует эта те-
ма, он часто обращается к ней, побуждаемый личными
переживаниями, отцовскими заботами, интересом к че-
ловеку, к внутренним мотивам его поведения и стремле-
нием рассматривать социальные проблемы по большей
части в этическом плане. Задачи воспитания представ-
ляются Мередиту важными и необычайно трудными по-
тому, что человек, как предмет воспитания, и реальная
жизнь снова и снова обнаруживают неподатливость,
оказываются сложнее, чем их отражение в самых про-
славленных педагогиках, а тем более в их распростра-
ненном применении.
Испытания Ричарда Февереля, героя романа, столь
тяжкие и им незаслуженные, предуготовлены умозри-
тельной схемой, которая кажется ее автору верхом муд-
рости и совершенства.
Отец Ричарда, баронет Остин Феверель, крупный по-
мещик и доморощенный «философ жизни», анонимный
автор сборника претенциозных афоризмов «Котомка па-
ломника», разработал систему воспитания, которая стро-
го предопределяет весь путь развития юного Ричарда и
16 См. об этом: Б. Сучков. Исторические судьбы реализма. М., «Сов.
писатель», 1967, стр. 182.
78
призвана сделать из него «подобие образцового челове-
ка». Сэр Остин, пострадавший от женского вероломства,
пуще всего боится, как бы его сын, наследник поместья
Рэйнхэмское аббатство, не поддался искушениям плоти,
и делает все, чтобы держать Ричарда в полном неведе-
нии относительно реальной жизни. Но жизнь то и дело
прорывается сквозь искусственные барьеры, ограждаю-
щие экспериментальную теплицу, и здоровая, деятель-
ная натура Ричарда, его пытливый и живой ум бунтуют
против мертвенного догматизма и педантства.
Сэр Остин и его приспешники плетут вокруг Ричар-
да сеть интриг и навлекают на него тяжелые испыта-
ния. В конце концов, жизнь его разбита, он искалечен
душой и телом, а любимая им женщина преждевременно
сходит в могилу. Таковы плоды воспитательной системы
«ученого гуманиста», как иронически называет самодо-
вольного баронета автор.
«Испытания Ричарда Февереля» — своего рода роман-
эксперимент, далеко не единственный пример этого жан-
ра в переходный период. В «Испытаниях Ричарда Феве-
реля» проходит проверку воспитательная система, теоре-
тические посылки и практический механизм которой
представлены Мередитом не только в их частном, узко
семейном, но и в более широком, социальном значении.
Писатель затрагивает проблему отцов и детей, которая в
условиях кризиса установившихся идей становится осо-
бенно острой. Его роман носит подзаголовок: «История
отношений отца и сына».
Воодушевленный «благими» намерениями, сэр Остин
желает предостеречь свое детище от пагубных ошибок.
Он строит свою методу, опираясь на личный опыт и от-
влеченные представления о гуманности и человеческой
природе. Он обольщен выводами собственной мудрости,
и фанатическая убежденность в их непогрешимости, со-
единенная со своеволием, безответственностью и произ-
волом, толкает его на крайние меры и мерзкие поступки.
Отношения юного существа с жизнью рисуются сэру
Остину в совершенно четкой и прозрачной схеме, стоит
только Ричарду следовать принципам системы и указую-
щему персту, и желанные плоды обнаружат себя. Он
ждет строго намеченного, скорого и все разрешающего
результата, полон удивления, когда его «система» и жи-
вой человек тянут в разные стороны, и готов во всем
79
обвинить человека. А Ричард, впечатлительный, пытли-
вый, романтически настроенный представитель молодого
поколения, не волен в своих естественных порывах, кото-
рые никак не сообразуются с требованиями «системы».
Вскрывая подоплеку поступков сэра Остина, автор
за его внешней благонамеренностью обнаруживает эго-
изм собственника и сословную кичливость, за претензи-
ей на ученость — невежество и ретроградство, за суро-
вым благочестием — отнюдь не смиренные вожделения,
за елейным добросердечием — сухой рационализм и чер-
ствость души.
Воспитательная система Остина Февереля — нагляд-
ное выражение его «философии жизни». Существо по-
следней изложено в «Котомке паломника». Образ мыс-
лей сэра Остина вырисовывается достаточно ясно, так
же ясна и его социальная природа.
Своевластие сэра Остина и его «философия жизни»
находят сочувствие и поддержку в его непосредствен-
ном окружении. Его сестра, миссис Дориа, не может
«простить Кромвелю казнь мученика Карла». Племян-
ник Остина, Адриан Харли, его приспешник и ближай-
ший советник,— «эпикуреец современного толка,... кото-
рого Эпикур, несомненно, изгнал бы из своего сада».
Мередит саркастически именует его «Мудрым юношей»
за ловкость, с какой он приспосабливается к господству-
ющему мнению «света» и «удовлетворяет свои аппетиты
без риска для собственной персоны». Беспринципный
и циничный, он оправдывает себя философскими пош-
лостями. Наиболее порядочные люди вынуждены бежать
из Рэйнхэмского аббатства, как это и делает другой
племянник баронета — Остин Уэнтворс, пользующийся
явной симпатией автора.
С точки зрения сэра Остина и его приближенных
Рэйнхэмское аббатство — идеальная система организа-
ции семейного бытия и, в миниатюре, всего общества,
так сказать Телемское аббатство Рабле на английской
почве.
Влияние и связи Рэйнхэмского аббатства не замыка-
ются в его стенах, картину жизни в нем автор дополня-
ет выразительными зарисовками нравов лондонской ари-
стократии. Среди представителей столичного светского
общества выделяются фигуры лорда Маунтфолкона и
его знатного приживальщика «почтенного Питера Брей-
80
дера». Один из них — распутник в ханжеской маске,
другой — распутник откровенный и наглый. Деньги, ти-
тул и общественное положение позволяют «могуществен-
ному пэру» Маунтфолкону не считаться с официальны-
ми нормами морали, а его приживальщику «устраивать
для него грязные делишки». Оба они играют гнусную
роль в судьбе Ричарда, действуя в согласии с «Мудрым
юношей», выполняющим указания сэра Остина Февере-
ля. Лорд Маунтфолкон, «в пятидесятый раз пронзенный
стрелой Купидона», пытается обольстить жену Ричарда,
а потерпев неудачу, дерется с ним на дуэли, что ведет
к печальным последствиям для героя романа.
Сэр Остин склонен объяснять выпавшие на долю Ри-
чарда испытания вмешательством фатальных сил (он
рассуждает о «проклятии крови», «отраве возмездия»).
Сам же автор стремится вскрыть реальные причины
жизненных невзгод своего героя. По его мнению, сослов-
ная спесь и эгоизм, полное пренебрежение интересами
нации и народа, ретроградные взгляды и моральное раз-
ложение — вот источники тех испытаний и потрясений,
которые переживает Рэйнхэмское аббатство.
Рэйнхэмское аббатство, естественно, воспринимает-
ся как символ. У Мередита символика — постоянный
способ обобщенного выражения мысли. Подобный же
символический образ возникает в романе «Эгоист», это
место его действия — поместье Паттерн-Холл.
Чувство разлада, идущее от малого к большому,
было обострено у Мередита кризисом в его личной жиз-
ни— разрывом с женой, которую он любил. Восторжен-
ная любовь героя романа и связанные с нею драмати-
ческие последствия в преображенном виде воспроизво-
дят пережитое самим писателем. Работая над «Испыта-
ниями Ричарда Февереля», Мередит «изживал» испыта-
ния, выпавшие на его долю. Они вызвали внутреннее
напряжение, потребовали не только крайнего самоуглуб-
ления, но и выхода чувств вовне, новой и более здра-
вой ориентации.
В романе «Испытания Ричарда Февереля» дана трез-
вая и критическая оценка действительности. Точка зре-
ния писателя расходится с господствовавшими в то вре-
мя восторженно либеральными суждениями и прогноза-
ми и отражает настроения широкого демократического
недовольства.
Критика сопровождается в романе определенными
пожеланиями, обращенными к изображаемой аристокра-
тической среде, к ее наиболее здравомыслящим и про-
грессивно настроенным представителям. Эти пожелания
отчетливо видны в заключительных эпизодах романа.
В Рэйнхэмском аббатстве происходят заметные сдвиги.
Возвращается Остин Уэнтворс и оказывает решительное
влияние на жизнь его обитателей. При его помощи здесь
находит приют, признание и уважение жена Ричарда —
Люси, племянница фермера Блэйза, которой, наконец,
простили ее демократическое происхождение. Бывший
батрак Том Блейквелл становится преданным слугой и
другом Ричарда. Даже сэр Остин Феверель и миссис
Дориа меняются к лучшему. Перемены в Рэйнхэмском
аббатстве происходят к концу романа не без воздейст-
вия литературной традиции и требований викторианской
морали.
Первый роман Мередита сохраняет внешний признак
классического социального романа — объемность, однако
почти утрачивает внутреннее его свойство — эпическую
широту. Он охватывает многие стороны жизни, но осве-
щает их бегло. Роман содержит некоторый материал,
позволяющий судить о положении народа и о классо-
вых противоречиях внутри английского общества того
времени. Интересна в этом отношении глава «Магиче-
ское противоречие», в которой бродячий лудильщик и
безработный батрак беседуют о положении дел в стране.
«Скверные времена!» — начинает лудильщик. «Вер-
но»,— подтверждает батрак. Лудильщик говорит, что
«все как-нибудь образуется», что «бог сильнее дьявола».
«Видно не всегда,— замечает батрак,— а то бы я не
болтался без работы, а что еще хуже — без куска хле-
ба». Рассказывая далее, как несправедливо и жестоко
обошлись с ним фермеры Боллоп и Блэйз, он отмечает
многозначительный факт — у фермера Боллопа сожгли
стог сена, а на другой день — ригу. Сам он тоже «хо-
тел бы как-нибудь сухой ветреной ночью сунуть спичку
в стог сена», так как иначе от «фермера Блэйза ничего
хорошего не добьешься...».
Батрака арестовали по подозрению в поджоге, фер-
мер Блэйз грозит ему ссылкой, и только случайные об-
стоятельства приводят эту историю к благополучному
исходу.
32
Едва Приподняв завесу над тем йли йныМ Сущест-
венным явлением, писатель спешит опустить ее. О мно-
гих важных вопросах он говорит намеками, полунаме-
ками, загадочными аллегориями, сжимая повествование
и вместе с тем как бы зашифровывая свои мысли, де-
лая их вполне доступными только для посвященных.
Первый роман Мередита по выходе в свет не имел
успеха, не был понят и принят читателем, за исключе-
нием ограниченного круга критика отнеслась к нему по
преимуществу отрицательно. Влиятельный «Спектейтор»
осудил его за «дурной нравственный тон», а не менее
влиятельная библиотека Мэди и другие библиотеки, прак-
тиковавшие платную выдачу книг на дом, на том же осно-
вании отказались распространять роман среди своих
подписчиков. Повторным изданием роман вышел спустя
почти двадцать лет и со временем стал одной из самых
популярных мередитовских книг. К нему, как пишет
Зигфрид Сэссун, видный английский поэт, автор книги о
Мередите, обращались читатели, которые не могли оси-
лить «Эгоиста», но не хотели отстать от моды и тяну-
лись к заманчивому заглавию и любовной истории 17
Перед Мередитом открывались разные творческие
возможности, в нем сталкивались разноречивые устрем-
ления. В 60-е годы возрастает интерес писателя к ост-
рым социальным проблемам, к значительным историче-
ским событиям, к национально-освободительной и поли-
тической борьбе.
В романе «Рода Флеминг» (1865) заметно стремле-
ние автора к широкому охвату действительности, к реа-
листической простоте и ясности выражения. Авторская
речь становится проще, в стиле романа гораздо менее
чувствуется усложненность и свойственная Мередиту
манерность. Еще более четко проступает эта тенден-
ция в дилогии «Сандра Беллони» (первоначальное за-
главие «Эмилия в Англии», 1864) и «Виттория» (1867).
Даже краткое изложение сюжета дает представление о
социальном пафосе дилогии и идейно-тематическом ее
содержании.
Героиня этих романов Эмилия, она же Сандра Бел-
лони, дочь бедного итальянского музыканта, бежавшего
в Англию от преследования иноземных поработителей.
17 Siegfried Sassoon. Meredith. L., Arroow Books, 1959. p. 34.
Сандра Беллони проходит нелёгкий жизненный путь.
Вместе с отцом она терпит нужду, с ранних лет само-
стоятельно трудится. Обладая отличным голосом, она
становится певицей, но, испытав тяжелое душевное по-
трясение, теряет голос. Однако когда Сандра, воспитан-
ная отцом в духе любви к родной Италии, вовлекается
в национально-освободительное движение, она пережи-
вает внутренний подъем и голос возвращается к ней.
Сандра завоевывает любовь патриотов, они видят в ней
символ победы и называют Витторией. Интересен эпизод
в театре Ла Скала. Прославленная примадонна, рискуя
быть арестованной, с подлинным мужеством и вдохнове-
нием исполняет главную партию в опере, созвучной сво-
им содержанием боевому настроению итальянских пат-
риотов. Идет последний акт, близится финал, атмосфера
в зале накаляется. Австрийские власти, опасаясь восста-
ния, приказывают прекратить представление. Но на сце-
не появляется группа патриотов, они приподнимают за-
навес и поддерживают его над головой Виттории.
Зал стоя слушает заключительные слова арии «Италия
будет свободной», которые звучат как призыв к восстанию.
В романе «Виттория» отражено, хотя и в романтиче-
ски затемненной форме, различие между чаяниями
итальянского народа, жаждущего освобождения не
только от национального, но и от социального гнета,
и интересами буржуазно-аристократических участников
движения за независимость Италии, которые страшатся
революционных требований.
Мередит настойчиво ищет положительного героя,
среду и условия его появления и действия. И столь же
настойчиво его стремление показать сильную и незави-
симую женскую натуру. Женские характеры у Мереди-
та — особая тема. Поэтическая вдохновленность, с какой
Мередит пишет о женщине, отстаивающей свое достоин-
ство, свободу мысли и чувства, убежденность, с какой
он выступает в ее защиту и утверждает ее социальную
роль, были необычными для Англии того времени, как
необычна была его сосредоточенность на духовных бо-
рениях женщины и манера изображения ее душевных
движений — устремленность к самостоятельности, поры-
ва к свободе, роста самосознания.
«Современный роман начинается с Мередита,— ре-
шительно утверждает Пристли.— Даже м-р Арнольд
84
Беннет, тип сознания и повествовательная манера кото-
рого побудили его стать враждебным критиком Мереди-
та, и тот вынужден признать, что Мередит был «не по-
следним из викторианских романистов, а первым из со-
временной школы» 18.
«В той мере, в какой это касается английской ху-
дожественной прозы, не может быть сомнений, что нача-
ло современному роману положило «Испытание Ричар-
да Февереля», опубликованное в 1859 году» 19.
Современный английский роман был начат не одним
Мередитом. Но он был первый, кто начал писать не
так, как писали его предшественники и старшие совре-
менники, от него ведет начало одно из направлений
новейшего английского романа, и он многое обозначил
в его эволюции.
«Испытания Ричарда Февереля» содержат в зачат-
ках почти «всего» Мередита-романиста20 только в нераз-
витом еще виде и не в полноте его возможностей. Если
из всего Мередита выделить одно произведение, то
«Эгоист» — вершина его творчества — может дать дейст-
вительное представление о подлинном своеобразии и но-
ваторстве писателя, о том, что можно назвать мереди-
товским в английской литературе.
В английской критике встречается мнение, что ослаб-
ленный интерес Мередита к предметному миру, к полно-
те его изображения — чуть ли не основная особенность
мередитовского романа, которая отличает его от романа
предшествующего — Диккенса, Теккерея.
Ни в одном английском романе XIX столетия, пишет
Пристли, так не ослаблена связь с предметным окруже-
нием и временем действия, как в романах Мередита.
«Масса материала, который столько места занимает в
большинстве романов и дает большинству читателей ил-
люзию реальности, множество вещей — дома, улицы, ме-
бель, доходы, бухгалтерские расчеты, займы, закладные,
сложные деловые операции и профессиональные отноше-
ния — совершенно отсутствует в романе Мередита Ког-
да его картины мы ставим рядом с загроможденными
полотнами Диккенса и Теккерея, они кажутся пустыми.
18 J. В. Priestley. George Meredith, р. 197.
19 Там же, стр. 164.
20 См. об этом: Ernest A. Baker. The History of the English Novel from
the Brontes to Meredith. L., 1937, p. 320; S. Sassoon. Op. cit., p. 35.
8
Сравните его мир с миром Троллопа, и они предстанут
так же непохожими друг на друга, как Венера и Юпи-
тер; едва ли обнаружится малейшее их совпадение.
В самом деле, Мередит и Троллоп предельно размежева-
лись в романе и представляют два полюса искусства».
Троллоп — случай крайний и явление не столь значи-
тельное, чтобы служить здесь основной меркой и отправ-
ным пунктом сравнения. Все же он представляет в Ангт
лии широкую традицию добротного бытописательства,
доведенную почти до последней, уже ремесленной черты.
Поставленный рядом с Мередитом Троллоп способен
резко' оттенить его своеобразие и новизну. Но и сравне-
ние с вершинами—Диккенсом и Теккереем — вполне
подтверждает вывод: многие страницы английского
классического романа «ломятся» от богатства вещного
мира и сверкают этим богатством, тогда как Мередит
пренебрегает им. Однако Мередита можно сопоставить с
другим рядом писателей — с Шарлоттой Бронте, Джен
Остин, Лоренсом Стерном, и в этой ретроспекции он уже
не будет выглядеть столь необычным и одиноким.
Как на особенность мередитовского романа, едва ли
не основную, английская критика указывает на резкое
умаление в нем роли всеведущего автора путем замены
«панорамного» принципа изображения «драматическим».
Перси Леббок, автор известного исследования «Мастер-
ство романа», вообще склонен считать замену в повест-
вовательном жанре «эпизода» «сценой» показателем
эволюции романа.
«Как романисту, ему все доступно, только не повест-
вовательный дар»21,— этот отзыв Оскара Уайльда о Ме-
редите, точнее сказать, заключительную его часть,(под-
держивает Пристли, называя автора «Эгоиста» «одним
из самых плохих повествователей в истории английского
романа». Пристли отнюдь не думает умалить этим значе-
ние весьма высоко ценимого им автора. К Мередиту-по-
вествователю, по его мнению, нельзя подходить с при-
вычными мерками, так как он по-особому «видит свой
материал» и «цели у него совершенно другие». Повест-
вовательный принцип он заменяет драматическим и ста-
новится, «как отмечают все его критики, автором рома-
нов с большими сценами». У предшественников Мереди-
21 Оскар Уайльд. Поли. собр. соч., т. III, стр. 166.
86
та хроника событий перемежается «сценами», но обычно
в повествовательном жанре «сцены» подчиняются зада-
чам повествования, «у Мередита повествование сущест-
вует ради сцен, оно торопит читателя от одной сцены
к другой, усложняя действие с таким расчетом, чтобы
сцена явилась сама собой». В подкрепление своих слов
Пристли, ссылаясь на Мередита, приводит часто цитируе-
мое его признание: «Мой метод состоит в том, чтобы
подготовить читателя к решительному выявлению дейст-
вующих лиц, а затем дать сцену, в которой бы их
кровь и мозг обнажились во всей полноте под давлени-
ем воспламеняющей ситуации...»
Мередит писал «Эгоиста»,— рассуждает далее При-
стли,— с намерением создать комедию в форме романа,
которая послужила для его замысла «всего лишь карка-
сом». «Эгоист», помимо всего прочего,— это комедия в
совершенно точном смысле этого слова,— вторит ему Эн-
гус Уилсон 22.
В «Эгоисте» Мередит впервые реализовал идею, к ко-
торой стремился «более или менее бессознательно с тех
пор, как стал романистом... Сразу после довольно не-
уклюжей экспозиции роман превращается в сцену
предназначенную для Комедии. Одна сцена быстро сме-
няется другой. Долгие перерывы во времени и частые
перемены места в равной степени устранены; действие
связано в узел, строго обусловлено и развивается в
темпе; концовка, заключительная глава с многозначи-
тельным названием «Занавес падает», исключает всякий
переход к рыхлому повествованию». (Пристли. Там же,
стр. 152).
Название главы XL «Эгоиста» дает ключ к понима-
нию природы этого романа: «Полночь. Сэр Уилоби и
Летиция; а также юный Кросджей под покрывалом»;
конечно, это сценическая ремарка. «Эта глава, кульми-
нация интриги, является в то же время пунктом, где ро-
манист подчеркивает полунасмешливое приспособление
традиционной сценической комедии к форме романа».
(Уилсон. Там же).
Таково мнение двух видных английских писателей
разных поколений, высказанное в одном случае (Прист*
22 Angus Wilson. The Egoist. N. Y., 1963, The New American Library,
p. 502. (Послесловие к роману.)
87
ли) в 1924 году, в другом (Энгус Уилсон) — в 1963.
Их доводы наглядны, мнение представляется обоснован-
ным и вполне убедительным. Его подсказывает сам ав-
тор: роман «Эгоист» назван в подзаголовке «повество-
вательной комедией», ему предшествовал эстетический
трактат о комедии и предпослано теоретическое введе-
ние — «Прелюдия».
Мередит любил теоретическую основательность в
творчестве. В нем, как писателе, возрождается интерес
к эстетическому умозрению и художественному экспери-
менту, не без его влияния оживившийся в английской
литературе. Он и на романы свои смотрел как бы
сквозь призму собственных теорий, превращая некото-
рые свои произведения или части их в своего рода худо-
жественные иллюстрации умозрительных посылок.
Мередита нередко называли романистом-философом.
Тот же Оскар Уайльд с похвалой отзывался об интел-
лектуализме повествовательной манеры писателя и его
внимании к мыслящим персонажам. «Изображаемые им
люди не просто живут, но живут духовно, живут своими
мыслями» 23.
К концу 1876 года Мередит приводит в систему свои
эстетические воззрения. Он читает 1 февраля 1877 года
знаменитую в свое время лекцию «О комедии и приме-
нении духа комического», которую в том же году публи-
кует в апрельском номере журнала «Нью Куотерли мэге-
зин» под заглавием «Этюд о комедии».
«Этюд» содержит сжатый критико-аналитический об-
зор комедии и комического в их развитии от антично-
сти до новейшего времени. За образец Мередит берет
комедию Мольера; его принцип создания типических ха-
рактеров и выражения идеи комического особенно бли-
зок автору «Эгоиста». Он характеризует природу и раз-
личные виды комического — сатиру, юмор, иронию, их
роль в литературе и жизни, соотносит их с различными
этапами общественного развития, обсуждает их достоин-
ства и недостатки в зависимости от исторических усло-
вий и задач времени.
В «Этюде» Мередит свел воедино свои размышления
о свойствах и функциях смеха, сформулировал теорию
«Духа комического», в которой концентрированно выра-
23 Оскар Уайльд, Поли. собр. соч., т. II, стр. 332,
88
зил свою точку зрения на искусство, на его возможности
и задачи. «Дух комического» олицетворяет у Мередита
способность разума обнаружить, обнажить и преодолеть
противоречия, всяческие отклонения от «здравого смыс-
ла», возникающие вследствие «безумия, постоянно в но-
вых обличиях проникающего в общество».
Теория «Духа комического» признаёт достоинство са-
тиры, но не приемлет ее крайности. Односторонен и
юмор, потому что оказывается во власти чувств, а иро-
ния — «это юмор сатиры». Сатирический смех, «смех во
весь рот», когда «брови взлетали, как крепость от поро-
хового взрыва», должен, по мнению Мередита, сменять-
ся веселой лукавой улыбкой фавна. «Смех придет снова,
не чудовищно громогласный», как у Аристофана или
Рабле,— нет, это будет «тонкая и сдержанная улыбка,
отражающая солнечную ясность духа и богатство ума».
Так будет смеяться «Дух комического», потому что им
«руководит разум», и его можно назвать «юмором разу-
ма». «Расцвет идеи комического и комедии» может слу-
жить показателем истинной цивилизованности, а показа-
телем «подлинной комедии» служит ее способность «воз-
буждать глубокомысленный смех».
На отдельное издание мередитовского «Этюда», по-
явившееся в 1897 году, Бернард Шоу отозвался рецен-
зией. Он назвал «Этюд о комедии» «блестящим эссе»24,
а его автора «пожалуй, лучшим из живущих в Англии
знатоков этого жанра». В «блестящем эссе» тонкая наб-
людательность, искусная мысль и оптимистические уст-
ремления сочетаются с изяществом метафорических ха-
рактеристик и блеском остроумия.
«Дух комического» доступен лишь избранным. «Меч
для многих, но свет для немногих»,— как сказано в «Оде
к «Духу комического». В год опубликования «Этюда о
комедии» Мередит приступил к работе над «Эгоистом».
Это его программный роман, теория «Духа комического»
нашла в нем практическое применение и развитие, и вме-
сте с тем практическое опровержение существенных ее
положений. Автору не удалось последовать всем указа-
ниям теории «Духа комического» и с «тайной и сдер-
жанной улыбкой» следить за комическим представлени-
ем. В его повествовательной комедии «серебристый
24 Бернард Шоу о драме и театре. М., 1963, стр. 365.
89
смех» нередко заглушается «смехом во весь рот», «юмор
сатиры» и сама сатира, не сложив оружия, являются в
положенное место и в назначенный час, а вместе с ни-
ми — гротеск и фарс. Сатирическая ирония по пятам
следует за главным персонажем, имя которого в англий-
ской литературе стало нарицательным.
Уже в начальной фразе романа «Эгоист», в названии
первой главы «Мелкое происшествие, показывающее на-
следственную склонность действовать ножом», заключе-
на сатирическая ирония. Смысл и характернее раскрыва-
ются в авторской речи и небольшом эпизоде, который в
неприглядном виде рисует молодого Уилоби. Основатель
дома Паттернов, Саймон Паттерн, не разбираясь в сред-
ствах, приносил в жертву родственные чувства и отно-
шения: он беспощадно «действовал ножом», освобождая
наследственное древо от побочных побегов, дабы дать
окрепнуть стволу. Сэр Уилоби, «пятый по прямой линии
наследник Саймона Паттерна», в полной мере воспринял
эту склонность и проявляет ее при разных обстоятель-
ствах. В данном случае он бесцеремонно обходится со
своим неимущим родственником, отказываясь принять
его, хотя сам когда-то предлагал ему гостеприимство.
В другой раз он нс прочь таким же образом обойтись
с мисс Дейл, когда ему приходится выбирать между
нею и Кларой Мидлтон:
«А еще сказано в книге эгоизма: ТЯЖЕЛО УСТУ-
ПАТЬ ТО, ОТ ЧЕГО НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТКАЗАТЬ-
СЯ... Сэр Уилоби Паттерн хотя и был готов поступить,
как того требовали долг и личные соображения (они
часто идут рука об руку) и бросить мисс Дейл, но
ему пришлось подумать о том, что он не просто, так
сказать, бросает ее через забор, а бросает в объятия
другого; и это было для него более тяжелым испыта-
нием, чем когда предполагалось, что она прямо ударит-
ся о землю».
Читатель наблюдает забавное и поучительное зрели-
ще: от этого блестящего жениха невесты бегут, как от
чумы. Констанция Дархэм уже после помолвки предпочи-
тает менее завидную партию. Клара Мидлтон тоже пы-
тается спастись бегством после помолвки, а когда побег
не удается, изо всех сил сопротивляется браку с «пер-
вым джентльменом графства». Даже Летиция Дейл, сле-
по обожавшая снизошедшего до нее владельца поме-
90
стья Паттерн Холл, и .та, прозрев, возмущается им. Ког-
да же> наконец, измученная и увядшая, она соглашается
выйти замуж за сэра Уилоби Паттерна, в душе у нее
звучат не свадебные клики, а звон похоронного колоко-
ла. Всякое живое чувство как бы восстает против этого
человека, сердце которого изъедено эгоизмом.
Мередит, его «дух комического», с особой бдитель-
ностью следят за проявлениями человеческого духа.
Шекспировская мысль «весь мир — театр» трансформи-
руется у Мередита, и эта трансформация имеет прин-
ципиальный смысл и значение. «Весь мир—театр», но...
внутренний мир, мир человеческого духа. Когда Мере-
дит говорит, что в его «сценах» под давлением «вос-
пламеняющейся ситуации» действующие лица должны
обнажать свою «кровь» и «мозг», то в действительно-
сти они обнажают прежде всего и главным образом
свой «мозг». И уже в связи с этим нельзя говорить,
что современный роман был начат одним Мередитом.
«Сцены» и диалог, как их естественное выражение,
выделяются в мередитовском романе не только числом,
но и свойством. Мередит драматизирует романную фор-
му. Однако с какой целью производит он подобную за-
мену?
Только ли затем, чтобы устраниться от роли всеве-
дущего автора? Он действительно выказывает широкое
предпочтение приемам «косвенного» повествования25,
прибегая к символам и аллегорическим образам. Он
сохраняет за собой право давать анализ и комментиро-
вать, но не хочет создавать впечатление у читателя,
что ограничивает его общение с изображаемыми лица-
ми, навязывает ему свое мнение, пичкает его назида-
ниями, которые приелись и потеряли кредит. Он перени-
мает драматическую и собственно сценическую формы
выражения, желая предоставить своим героям возмож-
ность выявить себя независимо и свободно. Но это лишь
одна из его задач, и состоит она в том, чтобы в меня-
ющихся условиях найти новую меру условности, которая
25 Уже современники писателя отметили эту особенность его ма^-
неры: «Мередит — великий мастер косвенного в художественной
прозе. Многими и различными способами он демонстрирует, как к
нашему знанию лиц и событий мы можем многое добавить, выяв-
ляя их суть в отраженном свете».— James Oliphant. Victorian
Novelists. L., 1899, p. 149.
91
укрепила бы у читателя впечатление достоверности ху-
дожественного изображения. Для него эта задача важ-
ная, но не основная, а сопутствующая. Ломка повест-
вования, энергичное введение «сцен» подчинены у Мере-
дита намерению обнажить и столкнуть разнохарактер-
ные идеи и устремления, проследить их борьбу, чтобы
выявить их смысл и истоки26. В «сценах» герои пред-
стают в моменты духовного напряжения и непроизволь-
но раскрывают себя, свои устремления, свою сущ-
ность.
У «сцен» и диалога в романе Мередита значительная
роль и оригинальное оформление. Диалог, как правило,
лаконичен, отточен и, несмотря на внешнюю легкость,
психологически насыщен, энергично передает внутрен-
ние движения и состояния, часто принимает чисто сце-
нический вид, не сопровождается авторскими пояснен
НИЯМИ27.
«— Вы принадлежите к партии мятежников, полков-
ник?
— Я протестант и консерватор, мисс Мидлтон.
— У меня голова совсем не приспособлена к поли-
тике.
— О, я насмотрелся на головы, которые к ней при-
способлены, и поэтому охотно с вами соглашаюсь.
— Уилоби не говорил, когда вернется?
— Нет, он не назначил определенного часа. Доктор
Мидлтон и мистер Уитфорд в библиотеке; у них идет
битва книг.
— Самая счастливая в мире битва!
— Ну да, вы привыкли к обществу ученых. Оно до-
вольно нетерпимо к нашему брату невеждам.
— К невежеству, может быть, но не к самим невеж-
дам.
— Насколько я понимаю, образование вам дал ваш
отец.
26 3. Венгерова, энергично пропагандировавшая творчество Мереди-
та в нашей стране, писала: «Перенеся центр тяжести романа от
описания нравов к пытливому точному изучению мотивов, управ-
ляющих действиями людей, Мередит пошел по новому^ пути. Он
создал «интроспективный роман», очень близко стоящий к драме
по самой манере противопоставления интересов действующих
лиц».— «Вестник Европы», СПб., 1895, № 4, стр. 157.
27 Почти все цитаты из романа «Эгоист» даны в переводе Т. М. Лит-
виновой.
92
— Он снабдил меня кое-камими познаниями в латы-
ни, и не его вина, если познания эти невелики.
— Вы и греческий знаете?
— Немножко.
— И вы несете весь этот груз, как перышко.
— Он и в самом деле почти невесом ...» («Эгоист»,
гл. XIX).
Подобный образец диалога едва ли возможно найти
в «Ярмарке тщеславия» Теккерея, но его легко обнару-
жить в «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда.
У предшественников и старших современников Мере-
дита вое же встречаются схожие образцы, правда не
столь многочисленные и развернутые. Однако в том же
«Эгоисте» традиционный диалог повествовательного
жанра с обычными авторскими вставками «он сказал»
или «она сказала, глянув в сторону» перемежается г
диалогами сценическими.
Мередит разрабатывает формы диалога, способные
передать состояния повышенного психологического на-
пряжения и взволнованности, когда неполнота, отры-
вочность и непоследовательность высказывания возни-
кают невольно, и мысль начинает блуждать, делает за-
гадочные ассоциативные движения, непроизвольные
скачки.
Клара Мидлтон связала себя обещанием выйти за-
муж за сэра Уилоби Паттерна, она живет в его поместье,
ей сулят «лучших лошадей, лучшие туалеты, прекрас-
нейшие бриллианты в Англии и несравненного повара».
Отец ее, доктор богословия, знаток античности и гурман,
поселившись в качестве будущего тестя Паттерна в его
роскошном доме, так привыкает к уюту, обширной биб-
лиотеке и славному портвейну, что поддается на эти при-
манки хозяина и готов принять его сторону. Однако
молодая девушка находит в себе силы выдержать внеш-
ний натиск и преодолеть внутреннее сопротивление. От
инстинктивного отвращения к браку-сделке после дол-
гой и мучительной душевной борьбы она приходит к соз-
нательному протесту, отстаивает свободу и выбирает са-
мостоятельный путь.
Автор тщательно, со множеством психологических
подробностей воспроизводит душевные перипетии герои-
ни. О чем бы ни говорил ее блестящий жених — о «веч-
ной любви» или «законах прогресса», она чувствует —
93
все это пышные и пустые фразы, но не сразу в состоя-
нии понять, чем именно отталкивает ее Паттерн, пока
из его же уст не слышит точного определения: «Эгоист».
Ниже следует отрывок из «сцены», передающей оче-
редной этап борьбы Клары с Уилоби, когда она пыта-
ется внушить ему мысль, что ему лучше всего предо-
ставить ей свободу и жениться на другой, а он, думая,
что причина ее сопротивления — ревность, хочет разуве-
рить и успокоить ее.
«— Когда я говорю,— начал сэр Уилоби,— что все-
общее сцепление идей покоится на ошибочном наблю-
дении фактов и что ошибочная дедукция на основе оши-
бочного наблюдения!...? Нет, вы неправы, поверьте, я хо-
чу вывести вас из заблуждения. Вам холодно, дорогая?..
Вы вздрогнули.
— Нет, мне не холодно,— ответила Клара.— Кто-то,
зерно, прошелся по моей могиле.
Она быстро склонилась к цветку лютика...
— По вашей могиле?! — раздалось над ее голо-
вой.— Родная моя, что с вами?
— Я не знала, что орхидные водятся так далеко от
меловых грунтов, Уилоби!
— Я не чувствую себя достаточно компетентным в
столь важном вопросе. Покойная матушка страстно лю-
била цветы. Насколько мне помнится, это она сама рас-
садила по всему парку растение, о котором вы говорите.
— Ах, если бы она была жива!...» («Эгоист», гл. XI11).
Сэр Уилоби выведен из равновесия, не может удер-
жаться в своих привычных рамках самоуверенной рас-
судочности, его выспренние разглагольствования при-
нимают явно карикатурный вид, мысль срывается с хо-
дульных высот и делает неловкие попытки ориентиро-
ваться в непривычных условиях. Мысль Клары движется
в ином, еще не понятом Уилоби направлении, в неяс-
ной для него форме выражает чувство подавленности
и отвращения, уклоняется в сторону, «хватается за со-
ломинку»— за лютик, на который упал взгляд девуш-
ки, измученной напряженным объяснением.
Друг писателя и первый проницательный его критик
Джеймс Томсон, выдающийся английский поэт, отметил
важную особенность мередитовского диалога: высказы-
ваниям его героев свойственны «беспокойные волнения»
и в этих волнениях «надо угадать» необъятную жизнь.
94
Мередит разнообразит, обновляет старые и вводит в
английский роман новые средства и приемы психологи-
ческого анализа, вводит их последовательно, и его нов-
шества образуют целостную систему средств, видоизме-
няющих всю структуру романа.
Мередит драматизирует романную форму, но из это-
го не следует, что повествование становится у него чем-
то подсобным, существует в самом ограниченном объе-
ме ради «сцен», как говорит Пристли. Невозможно со-
гласиться и с Энгусом Уилсоном, который утверждает,
что «Эгоист» — «комедия в буквальном смысле слова».
Мередит не написал ни одной пьесы, скорее можно ска-
зать, что он создал особый жанр, или жанровую разно-
видность,— комедию в форме романа, которой дал точ-
ное определение, назвав «Эгоиста» повествовательной
комедией. Повествование у Мередита значительно, мно-
гообразно по своим функциям, и «сцены» не ставят его
в одностороннюю от них зависимость. Новые приемы
психологического анализа возникают в «Эгоисте» преж-
де всего в повествовательном тексте.
Многие английские предшественники Мередита упот-
ребляли несобственно прямую речь 28, но только Мере-
дит начал пользоваться ею широко, наряду с употреб-
лением «чужой речи», т. е. слов и выражений персона-
жей в контексте авторского высказывания.
Клара Мидлтон переживает одну из мучительных по-
пыток (порвать с Уилоби и обрести свободу. Она взвол-
нована, ее терзают угрызения совести, она укоряет себя,
готова пасть духом, смириться со своим положением,
в то же время ей на память приходит пример ее пред-
шественницы Констанции Дархэм, которой удалось выр-
ваться на волю... И вот это-то состояние своей герои-
ни Мередит передает «чужой» и несобственно прямой
речью, сплетая их с авторской:
«Да, она неблагодарна, непоследовательна, непосто-
янна, безнравственна, она способна поддаться соблаз-
ну — больше того — только и ждет, чтобы ее соблазни-
ли! Так вот оно что! При одной этой мысли она ощутила
28 См. Lisa Glauser. Die erlebte Rede (the interior monologue) im
englischen Roman des 19. Jahrhunderts. Bern, 1948; E. И, Клименко.
Традиция и новаторство в английской литерат ре. Изд-во ЛГУ,
1961.
95
приятную слабость: ведь это — конец борению с собой,
конец мучительным попыткам оторваться от своих кор-
ней. Она будет беспечно колыхаться по воле волн, по-
добно водорослям в океане! Да, она будет чем-то вроде
Констанции,— по судьбе, но, увы, не по отваге.
Констанция по судьбе?»
Этим вопросом, который задает себе Клара, а вместе
с нею и автор, обрываются ее тягостные размышления
и возобновляется обычное повествование от лица авто-
ра: «С Кларой произошло то, что бывает с человеком,
очнувшимся внезапно среди ночи от тревожного сна...»
(«Эгоист», гл. XXI).
Перед тем догадками и сомнениями на свой лад му-
чился и Уилоби Паттерн. Нарушенное душевное равно-
весие опять-таки передано употреблением «чужой» и не-
собственно прямой речи. На этот раз несобственно пря-
мая речь более пространна, логически последовательна
и суха. Она возникает в авторской речи, настроенной
уже по-иному, безо всякой благожелательности к пере-
живаниям этого напыщенного лицемера.
«Течение мыслей сэра Уилоби было нарушено. Он
был болезненно самолюбив. Малейший удар по его са-
молюбию поднимал в его душе целую бурю... Особенного
неистовства буря достигала в тех случаях, когда Уило-
би не удавалось скрыть свою рану от посторонних глаз.
Что она хотела сказать? То ли, что ему не удаются
любовные письма? Или — что его эпистолярный стиль не
рассчитан на женский вкус? И почему она сказала:
«Мужчинам»,— употребив множественное число? Озна-
чало ли это, что она слышала о Констанции? Быть мо-
жет, у нее сложилось собственное мнение об этой пре-
зренной женщине? На эти вопросы его сверхуязвимое
самолюбие отвечало: «Да! Да! Да». Он давно уже поду-
мывал о том, что долг велит ему рассказать Кларе всю
правду о причинах, приведших к разрыву с Констанци-
ей, и объяснить, что она, как и всякий самоубийца, за-
служивает снисхождения. Во всяком случае, он обязан
привести смягчающие ее вину обстоятельства. Да, она,
конечно, поступила дурно, но ведь и он — разве ему не
в чем себя упрекнуть? А раз так, мужская честь обя-
зывает его сделать это признание.
А что если Клара уже слышала об этой истории в
той версии, которая имеет хождение в свете? Там, где
96
иной почувствовал бы булавочный укол, не более, че-
ловек, у которого гордость поглотила все прочие стра-
сти, испытывает муки ада. При мысли, что свет мог на-
шептать Кларе, будто его — его, сэра Уилоби! — броси-
ли, душа у него затрепетала, словно через нее пропу-
стили электрический ток» («Эгоист», гл. VII).
В иных случаях Мередит пользуется несобственно
прямой речью, чтобы передать развернутую реплику (на-
пример, рассуждения доктора Мидлтона на тему о труд-
ной миссии «быть взрослой дочери отцом») и даже диа-
лог доктора Мидлтона и сэра Уилоби:
«Доктор Мидлтон встал из-за стола в самом начале
двенадцатого. Последовал короткий диалог о дамах.
Они, верно, уже отправились спать? Ну, конечно же. Им
следует рано ложиться, чтобы радовать нас своим цве-
том лица. Но после часа, посвященного старому выдер-
жанному вину, их общество излишне. Оно излишне, не-
уместно и не гармонирует с душевным состоянием чело-
века... Разве способны дамы оценить чуткость дегуста-
тора, трезвый разгул чувств, сдержанную экзальта-
цию, словом опьянение в том смысле, в каком его
понимали древние?» и т. д. («Эгоист», гл. XX).
Мередит не только разнообразит избранный способ
соответственно ситуациям и авторской задаче, но упот-
ребляет его, как уже было сказано, в сочетании с це-
лым комплексом других средств и приемов.
Зарождающееся и еще неосознанное чувство любви
Клары к Вернону Уитфорду обнаруживает себя неожи-
данным образом, через психологические «мелочи», кото-
рым ни героиня, ни даже читатель поначалу не прида-
ют значения; но они накапливаются, повторяются в
разных видах, и вот уже для нее самой не остается
сомнений, на что они указывают.
Длинный внутренний монолог передает размышления
Клары, ее желание, чтобы хоть кто-нибудь вызволил ее
из тюрьмы, каковой представляется ей дом Уилоби Пат-
терна. Она думает о поступке Констанции Дархэм, ко-
торая убежала из этого ненавистного дома и вышла за-
муж по любви за Гарри Оксфорда. «Мужественная де-
вушка, что-то ты думаешь обо мне?» — произносит про
себя Клара, и вдруг допускает непроизвольную обмолв-
ку: «Но ведь у меня нет никакого Гарри Уитфорда,
я одна, одна». Независимый от ее сознания и воли, не-
4 М. В. Урнов
97
понятный ей психологический механизм вставляет в ее
неслышную речь вместо Оксфорда — Уитфорда, образуя
неожиданное сочетание: Гарри Уитфорд («Эгоист»,
гл. X).
Спустя некоторое время обмолвка повторяется, еще
и еще раз, уже явно, в беседе с Уилоби.
Клара и сэр Уилоби говорят о Верноне Уитфорде,
о его намерении уехать из Паттерн Холла: «Следова-
тельно, вы примирились с тем, что он вас покидает?
— Ложная тревога! Старина Вернон не способен на
столь решительный шаг.
— Но если мистер Оксфорд... Уитфорд... Ах, ваши
лебеди плывут сюда! Смотрите, какой у них негодую-
щий вид! Как они красивы! Я хотела сказать — быть
может, мужчина, когда он видит, что женщина явно
отдает предпочтение другому, чувствует себя обескура-
женным?
Сэр Уилоби так и замер от внезапно осенившей его
догадки. Хоть слово «ревность» и не было произнесено,
он понял, к чему клонила Клара».
Клара если еще и не поняла, то почувствовала смысл
своей обмолвки и непроизвольно сменила разговор. До-
гадка же сэра Уилоби, подсказанная ему самолюбием,
гговела его по ложному пути, он решил, что Клара рев-
нует его. Они продолжают беседу.
«Чувство, на которое вы намекаете,— говорит Клара
ему,— для меня немыслимо — непостижимо, как вы од-
нажды выразились, говоря о поведении Оке... Уит-
форда».
Клара пресекает повторную обмолвку, но на этот раз
только глухой мог не заметить ее. Поймал нечаянное
откровение и сэр Уилоби, однако смысл его остался ему
неясен.
«Исполненный горделивого восторга, он громко рас-
хохотался.
— Окс-Уитфорд — да ведь это же точный портрет
старины Вернона в гостиной! Он и в самом деле «оке» —
сущий бык!» (ох — по-англ.— бык).
Обмолвки Клары невольно выражают ее тайную
мысль о Верноне Уитфорде, с которым она связывает
возможность своего освобождения из Паттерн Холла.
И глава эта (XIII) называется «Первый рывок на сво-
боду».
98
Между Кларой Мидлтон и Уилоби Паттерном в при-
сутствии доктора Мидлтона происходит решительное объ-
яснение. Уилоби лжет, изворачивается, взывает к• отцов-
скому авторитету, готов на все, только бы принудить
Клару к браку. Преподобный Мидлтон требует от доче-
ри, чтобы она сдержала слово. Наступает критический
момент. Неожиданно появляется Вернон Уитфорд, чело-
век «небогатый», который «живет для других» и кото-
рого молодая девушка предпочитает Уилоби. В Уитфор-
де Клара чувствует союзника, напряжение ее ослабе-
вает. Она смотрит на него, и мысль ее делает произ-
вольный скачок: блеск его глаз вызывает в ее памяти
сияние звезды, которая «одна сохраняет яркий блеск в
морозные лунные ночи». Она силится припомнить ее на-
звание и углубляется в себя настолько, что почти не
слышит голоса Уилоби. Потом снова возобновляется
борьба и продолжается довольно долго. Но вот «сраже-
ние кончилось». Клара одержала победу, она отвергла
ненавистные ей эгоистические притязания Уилоби. «Кла-
ра взяла опять отца под руку и вдруг, вся просияв,
сказала ему:—Сириус, папа!» Посредством этой, каза-
лось бы незначительной, психологической детали писа-
тель сумел в образной форме передать развитие слож-
ных переживаний героини и углубить характери-
стику доктора Мидлтона, который так и не понял
состояния своей дочери и происшедших в ней пере-
мен.
«Он глубокомысленно повторил: — Сириус! Есть ли
хоть капля смысла в женской болтовне?
— Это название звезды, милый папа, о которой я
думала!
— Это была звезда, которую заметил царь Агамем-
нон, прежде чем принести жертву в Авлиде. Ты об этом
думала, не правда ли?» и т. д.
Подобного способа передачи душевного состояния и
ассоциативной мысли еще не знала английская литера-
тура.
Мередит не отказывается от традиционных форм ав-
торского высказывания, в том числе и от публицисти-
ческих выступлений. Нередко он обращается непосред-1
ственно к читателю, объясняется с ним и взывает к
нему, порой пространно, на нескольких страницах, но
большею частью — в репликах, кратких или разверну-
4*
99
гых, возникающих по ходу или в итоге «тематического»
описания.
Вернон Уитфорд разыскивает Клару Мидлтон, ре-
шившую бежать из Паттерн Холла. Он спешит по доро-
ге на железнодорожную станцию, рассчитывая перехва-
тить ее на вокзале. Погода ненастная, но молодого че-
ловека, здорового телом и душой, хорошего ходока, ни
ливень, ни ветер не тревожат; в душе он одобряет ре-
шительный поступок отважной девушки, его радует пер-
спектива ее свободы и только тревога за нее несколько
омрачает его «безмятежное упоение».
«Дождь хозяйничал повсюду, широким пологом рас-
стилаясь от холма к холму; в отдалении слышался гром,
а в перерывах между его глухими раскатами ливень
бил по земле с жадным урчанием, словно кто-то до кра-
ев наполнил свиное корыто, или словно огромное го-
лодное сборище расселось вкруг стола и с громким чав-
канием набросилось на питье и еду.
Какие только сравнения и образы не придут чело-
веку на ум во время быстрой ходьбы, особенно, если
человек этот от природы наделен поэтической душой и
чувством юмора! А проливной дождь — веселый попут-
чик тому, кто, не обращая внимания на промокшую
одежду и на жалобный визг, издаваемый его башмака-
ми, бодро шагает вперед. К тому же дождевые тучи,
что идут с юго-запада, хмурятся недолго; они прижи-
мают землю к своей груди и в избытке чувств покры-
вают ее сочными поцелуями, а затем, подобно закинув-
шему голову соколу, к клюву которого пристали перья
зажатой в когтях жертвы, водянисто-туманным силуэ-
том поднимаются ввысь. В любую минуту пелена эта
готова прорваться, обнажив пронизанную солнцем верх-
нюю гряду облаков да кусочек неба, по краям зеле-
ный, как лужайка, омытая предрассветной росой. Или
вдруг, подпираемые белыми плечами титана, небеса раз-
верзаются лазоревым смехом. Смех этот может обер-
нуться долгой, ясной улыбкой, а может и тот же час
оборваться. Впрочем, водянистые силуэты, бег облаков,
погоня их друг за другом, их крутые подъемы, смут-
ная лепка светом и тенью; взбудораженная листва де-
ревьев, машущая им вдогонку и склоняющаяся под их
тяжестью, треск ломающихся сучьев, победные крики
упрямых придорожных кустов, воюющих с ветром и ус-
100
тупающих его порывам один или, самое большее, два
листочка, и то с боем,— вся эта упоительная борьба,
вся эта картина разбушевавшейся стихии не нуждается
в ярких красках, чтобы зажечь восторгом сердце того,
кто издавна привык к большой дороге и к пустынным,
поросшим вереском, холмам. И пусть он вымок до нит-
ки, душа его поет. А ты, насмешливый столичный ще-
голь, как бы выглядел ты, если бы дождь и буря застиг-
ли тебя в поле, под открытым небом? Посмотрел бы я,
какие бы откалывал ты антраша в тщетном стремлении
сохранить сухим хоть клочок своей одежды — несчаст-
ный, загнанный мышонок, жалкая игрушка стихий! Нет,
под нашим небом человек должен уметь равно перено-
сить и дождь и солнце. Тот, кто хочет испить таинст-
венный эликсир, кружащий голову и дарующий силу
мышцам, пусть влюбится в тучи, бегущие с юго-запада,
пусть влюбится в них со всей страстью любовника!»
(гл. XXVI).
Этот отрывок, обычный образец метафоричного сти-
ля Мередита, может служить примером своеобразия его
повествовательной манеры. Повествование ведет автор,
однако пейзаж возникает перед читателем, изображен-
ный как бы «изнутри» действующего лица, Вернона Уит-
форда, быстро идущего по дороге. Почти все вокруг
предстает, охваченное его взглядом, воспринятое его
мыслью, выраженное его слогом. Натуральность внеш-
него явления передана даже с некоторыми подробно-
стями, но без обстоятельности и ожидаемой последова-
тельности. Рисунок пейзажа вольный, беглый, дроб-
ный— это натуральность индивидуального восприятия.
Восприятия романтически приподнятого и литературно
изысканного, но не оторванного от земли и прозаическо-
го быта — поэтическая восторженность и пышная изыс-
канность умеряются в душе Уитфорда чувством юмора
и трезвым опытом. Повествователь не исчезает за пер-
сонажем, но в данном случае автор и герой, Джордж
Мередит и Вернон Уитфорд, столь близки друг другу,
что бывает трудно различить их голоса, и даже обраще-
ние к читателю, завершающее отрывок, может быть вос-
принято как их совместный возглас.
Когда же подобным образом повествователь сбли-
жается с Уилоби Паттерном, лишенным живого чувства
юмора, их разделяет авторская ирония.
101
Ирония проступает не во всяком сближении автор-
ской речи с речью Уилоби. Иногда автор нейтрален и
даже вроде согласен со своим антигероем,— во всяком
случае так кажется или может показаться.
«Всякий раз, как Уилоби вспоминал свою обиду, мыс-
ли его, подобно лопастям старого мельничного колеса,
шли по одному и тому же кругу, вновь возвращаясь к
решению ни под каким видом не отпускать Клару.
С этой мысли он начал, к этой мысли пришел. Вот в
чем будет заключаться его месть! Как она, однако, хо-
роша! Она была как сияющий летний день, когда легкий
ветерок едва рябит водную гладь...» (гл. XXIII).
Восторженное восклицание принадлежит Уилоби и
вместе с тем автору — оно возникает в контексте его
речи. Здесь автор не спорит с героем: он убежден, что
Клара Мидлтон действительно хороша. Но он знает так-
же, как мучительно это признание для Уилоби и уве-
рен, что эта мука им заслужена. Согласие автора с ге-
роем — нажим на больное место. Уилоби предпочел бы
услышать возражение.
Сближая свою речь с речью Уилоби Паттерна, ав-
тор отнюдь не сближается с ним по существу, не под-
держивает его и не оправдывает. Он находит возмож-
ность в момент самого близкого схождения противопо-
ставить себя герою оттенком речи, интонацией, произ-
нести вместе одну и ту же фразу так, что читатель
услышит не два голоса, слитые в один, а разноголо-
сицу. Локальный и широкий контексты заставят его раз-
личить между ними грань. Название главы «Уязвлен-
ное самолюбие и стратегия» и начало ее предуведомят
читателя: «Сэр Уилоби, между тем, по-прежнему при-
держивался линии поведения, продиктованной ему его
чувством долга к самому себе. Он исходил из распро-
страненного и несколько наивного предположения, буд-
то от союза стратегии с уязвленным самолюбием мож-
но ожидать полезных плодов».
Перед тем как перейти на несобственно прямую речь,
автор раскроет читателю замысел сэра Уилоби, его на-
мерения, или намекнет на них: «Только бы поставить
Клару на колени,— в переносном смысле (а, впрочем,
не худо бы и в прямом) — и тогда он сам ее поднимет
и простит».
102
Современники Мередита в серьезном, шутливом и й
издевательском тоне писали о затемненной и трудно до-
ступной манере его письма.
«Публика,— делал заключение журнал «Куортерли»
в октябрьском номере за 1891 год,— упорно отказы-
вается заглядывать в «Карьеру Бьючемпа», со словами
«благодарю вас» откладывает в сторону «Приключения
Гарри Ричмонда», и скорее готова погрузиться в пар-
ламентскую «Голубую книгу», чем следить за умствен-
ными зигзагами и психологическими эволюциями сэра
Уилоби Паттерна».
«Легко быть непонятным, но есть известная труд-
ность писать так непонятно, как писал Мередит, одна-
ко ему нравилась эта трудность, и для него она была
то же самое, что шут для короля»29. По мнению Эми
Крюз, автора книги «После викторианцев», в этих сло-
вах, сказанных в 1909 году, уже после кончины писа-
теля, было выражено мнение многих английских чита-
телей. Мередит отпугивал их не одной «туманностью
изложения», а по большей части тем, что его книги
не представляли собой легкого, занимательного и при-
вычного чтения. Об этом остроумно писал Джеймс Бар-
ри в журнале «Контемпорари ревью» за 1888 год: «Ме-
редит дотягивается до своих мыслей, взбираясь по кру-
тым лестницам; отталкивая их попеременно ногой, он
предоставляет своим читателям следовать за ним, как
им заблагорассудится. Слишком нерасторопные, чтобы
карабкаться вслед за ним, они располагаются внизу и
швыряются его жаргоном, стараясь попасть ему в голо-
ву. Если бы у них у самих была голова, они бы поня-
ли, что перед ними один из великих умов их вре-
мени» 30.
В наше время читатель, давно осиливший Генри
Джеймса и Джеймса Джойса, а вслед за ними Шона
О’Кейси и Фолкнера, вовсе не испытывает тех трудно-
стей при чтении книг Мередита, какие действительно
испытывали многие его современники. Мера условности
литературно-художественного текста и его восприятие
претерпели заметные изменения. Может показаться па-
радоксальным тот факт, что вполне понятный, но го-
29 Цит. по книге: Atny Cruse. After the Victorians. L., 1938, p. 176.
30 Там же.
103
рйздо более пространный в описаниях Предметного ми-
ра и внешних подробностей, насыщенный авторскими по-
яснениями текст Диккенса или Теккерея в наше время
нередко воспринимается с большим трудом, чем текст
Мередита.
Диалог в «Эгоисте», как в этом легко убедиться,
в подавляющем большинстве случаев столь сжат, отто-
чен, гибок и выразителен, что, несмотря на осложняю-
щий его подтекст, воспринимается свободно, без особого
напряжения. Авторские высказывания, как и высказы-
вания персонажей, склоняются к афористической форме.
Выбранные из «Эгоиста» афоризмы могли бы составить
самостоятельное и по-своему знаменательное сочинение,
способное пояснить нечто важное в позиции Мередита,
близкой ему среды и его времени.
«Обманывая свой ум, мы неизбежно его притупляем.
Всякий представитель рода людского найдет подтверж-
дение этому правилу, заглянув в собственную биогра-
фию».
Этот афоризм можно было бы поставить одним из
эпиграфов к роману «Эгоист» и даже ко всему твор-
честву Мередита. Притупление ума самообманом и само-
обольщением — важный предмет его критического ана-
лиза.
Афоризм служит у Мередита то отправным пунктом
для авторского высказывания, своего рода тезисом, то
его заключением. Афоризмы мелькают в рассуждениях,
обостряя, уточняя или подчеркивая мысль. Сама манера
мередитовского письма ориентируется на афоризм.
Не все мередитовские афоризмы в равной степени
оригинальны, содержательны и лаконичны. Нередко они
оказываются в услужении у легкого каламбура. Когда
афоризмы встречаются в речи персонажа, они харак-
теризуют его склад ума и манеру выражения.
«Ни одна возлюбленная не простит влюбленному, ес-
ли он позволит себе быть таинственным и непостижимым
больше тридцати минут подряд»,— это из реплики мис-
сис Маунтстюарт-Дженкинсон, светской дамы, колкого
злоречия которой страшится образцовый джентльмен
сэр Уилоби.
«В искусстве скрывать свои чувства мужчине не уг-
наться за девицей», «мужчине приходится учиться тон-
костям и уловкам, в которых женщины искушены от ко-
104
лыбели»,— это из реплики сэра Уилоби, уязвленного в
своем раздутом самолюбии и уже изнемогающего от
словесных схваток, хватающегося за соломинки баналь-
ного остроумия, при всей его выучке в салонном фех-
товании словом (гл. XXXIV).
Истинное глубокомыслие в «Эгоисте» сочетается по-
рой с глубокомыслием сомнительного свойства, и тогда
метафора, набегая на метафору, спотыкается о парадокс.
Таково, например, рассуждение об истине в главе XXXV.
Однако, чтобы судить об этом афористичном высказыва-
нии, надо учесть, что оно возникает в итоге авторского
рассуждения по поводу детективных умозаключений
миссис Маунтстюарт-Дженкинсон и, следовательно, не
лишено иронии, хотя бы добродушной.
Авторская речь в «Эгоисте», как и во всех других
романах Мередита, изобилует метафорами.
«Пока Клара гуляла с Летицией, сэр Уилоби разве-
сил свое самолюбие сушиться; оно село, как это слу-
чается с иной материей в непогоду. Вскоре, однако, в об-
ществе миссис Маунтстюарт-Дженкинсон, представитель-
ницы того самого света, которого он так страшился и
который вместе с тем так стремился покорить с помощью
всех имевшихся в его распоряжении средств, бархатный
ворс его самолюбия вновь обрел свойственную ему
мягкость и блеск».
Развернутая метафора изображает душевное состоя-
ние героя. Самолюбие сэра Уилоби и свойства этого
самолюбия материализуются, получая наглядную сати-
рическую характеристику. Так начинается глава семнад-
цатая «Эгоиста», и метафорический зачин задает ей оп-
ределенный тон. Развернутой метафоре предшествует
аллегорический образ — глава называется «Фарфоровая
ваза». Аллегория намечает перспективу отношений сэра
Уилоби и Клары Мидлтон. Они помолвлены. Невесте
в качестве свадебного подарка везут фарфоровую вазу.
Она разбивается. У невесты есть прозвище-определе-
ние— ее называют «фарфоровой гтлутовкой». Аллегори-
ческие образы сходятся, просвечивают друг друга, вста-
ют в ряд других аллегорических или символических об-
разов и постепенно раскрывается их смысл. Так ино-
сказание сплетается с иносказанием, один многозначный
образ — с другим, не только развернутая метафора, ал-
легория, или ряд метафор и аллегорий, но почти каж-
105
Дое слово у Мередита играет оттенками. Гибкая мысль
художника плетет из перекрещивающихся иносказаний
и многозначных образов замысловатое, многоузорчатое,
мерцающее кружево.
Генри Джеймс назвал «Эгоиста» «хорошо организо-
ванным романом». «Хорошо организованный» и «хорошо
сделанный» роман не одно и то же. «Хорошо сделан-
ная» литературная вещь требует профессиональной вы-
учки и даже таланта, по особому тренированного и
приноровленного, однако не принадлежит собственно к
искусству слова. «Хорошо сделанный» роман держится,
обычно, на ловко сколоченном сюжете. «Хорошо органи-
зованный» роман возникает на иной конструктивной ос-
нове. Исключительное значение в его многослойной
структуре обретает словесная полисемия. В английской
литературе «хорошо организованный» роман утвердил и
теоретически обосновал американец Генри Джеймс. Ме-
редит, автор «Эгоиста», ему предшествует. Э. М. Фор-
стер, вслед за Джеймсом, ссылается на «Эгоиста» как
на роман «высоко организованный»31. Начало такому
роману было положено Лоренсом Стерном, который на
«рубеже веков» часто и по разным поводам напоминает
о себе.
В построении романа видную роль у Мередита иг-
рают условные приемы. Например, в романе «Испыта-
ния Ричарда Февереля» — последовательное цитирова-
ние афоризмов из «Котомки паломника», в «Эгоисте» —
афористические цитаты из вымышленной «Книги эгоиз-
ма». Мередит дает толчок заметному и возрастающему
развитию условности в английском романе. У Мередита
условность содержательна, она возникает не за тем толь-
ко, чтобы обновить структуру романа, придать ей ори-
гинальный вид, это отнюдь не конструктивный выверт
или забавное украшение. Условность в «Эгоисте» не слу-
жит основой построения романа и не выполняет иллю-
люстративной функции. Ссылки на «Книгу эгоизма» —
один из способов публицистических авторских отступле-
ний, которым Мередит пользуется, чтобы изложить свой
взгляд на природу человека, его эволюцию и проблему
эгоизма.
31 Е. М. Forster. Aspects of the Novel. N. Y., 1954r p. 87.
106
У хорошо йЛй высоко организованного романа есть
неискоренимая слабость, так сказать врожденная не-
мощь: опора на условность и неудержимое влечение к
иносказанию. Насыщенность и перенасыщенность ино-
сказаниями создают для читателя и самого художника
трудности, нередко требуют от них излишнего, неоправ*
данного напряжения фантазии и внимания. В «хорошо
организованном» романе искусность легко переходит в
искусственность.
«Метафора,— писал В. Ключевский,— или поясняет
мысль, или заменяет ее. В первом случае метафора —
поэзия, во втором — риторика или красноречие: красно-
речие есть подделка и мысли и поэзии»32.
Метафоричность мередитовского мышления — его си-
ла и его слабость. Она свидетельствует о богатой фан-
тазии и живой игре ума. Она же способствует неза-
метному удалению в этой игре от того, что наполняет
понятия «прямым содержанием» (А. Блок) 33, и неиз-
бежному утомлению от этой игры. Метафора у Мереди-
та может и затенять мысль, превращаясь в риторику,
и плохо пояснять мысль, пояснять без необходимости,
когда и так все ясно.
«Он не нависал над нею больше, как туча, не ма-
нил, как магнит: туча, которая, как ей некогда каза-
лось, вобрала в себя все сияние небес, рассеялась; маг-
нит был бессилен вертеть ею, как стрелкой компаса».
Это всего лишь один из примеров вялости усталого
воображения и автоматизма безостановочного красно-
речия.
Слово «Эгоист», поставленное в заглавии романа и с
прописной буквы повторенное в его тексте, прямо ад-
ресовано сэру Уилоби Паттерну, служит его исчерпы-
вающим определением. Тема романа выражена одним
словом и с такой безусловной четкостью, которая ис-
ключает инотолкования и недомолвки. На этот раз Ме-
32 В. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.
М., «Наука», 1968, стр. 325.
33 А. Блок неоднократно писал об опасности «общей порчи литера-
турного языка» в связи с «забвением прямого содержания поня-
тий», «наполнением этих понятий вторичным, метафорическим со-
держанием». «Метафоричность мышления — плохое, отвлеченное
слово; но за ним стоит сама смерть».— А. Блок. Собр. соч. в вось-
ми томах, т. 6. М., 1962, стр. 142.
107
редит обошелся без метафоры. Он начал с тезиса, суть
которого выразил с точностью ученого позитивистского
направления, но сформулировал его как поэт того же
направления. Данный им анализ развернут и скрупуле-
зен, аргументы многочисленны и убедительны, выдвину-
тое положение доказано, хотя весь опыт произведен не
в лаборатории ученого, а в повествовательной комедии,
в которой факты так отобраны, организованы и рас-
крыты посредством художественного вымысла, как это
недоступно даже первоклассной журналистике, по той
простой причине, что это не ее сфера.
Эгоист представлен как типический характер, обри-
сованный в неоклассицистском духе: сэр Уилоби Пат-
терн — воплощение одной определенной черты в ее пол-
ноте и завершенности, в данном случае — эгоизма.
Сэр Уилоби — типический характер джентльмена-
эгоиста с его специфически британскими чертами.
В «Прелюдии» автор подчеркнул: «Скажем без обиня-
ков: герой — наш соотечественник и современник; со-
стоятельный джентльмен, с положением в обществе».
Мередит производит проверку идеала английского
джентльмена и идеи «гармонии джентльменства» в том
их виде, как они оформились при «Карле Мученике»
и особенно при «его весельчаке-сыне», т. е. при Карле II,
хотя истоки этих идей уходят ко времени английского
рыцарства и Великой хартии вольностей.
Сэр Уилоби — глава родового поместья, и в этом по-
местье он центр слаженной системы отношений, цело-
го мирка, столь же образцового, сколь образцовым
джентльменом предстает он сам — «пятый по прямой
линии» наследник дома Паттернов. Когда он говорит
«Я», то произносит это местоимение так же, как пишут
его по-английски, то есть с прописной буквы. Он мыс-
лит себя личностью, будто бы вполне сознающей свое
достоинство, независимой в своих суждениях и в своем
поведении. Его убеждения, вкусы, привычки для него,
как и для всего мирка,— закон. В то же время он пола-
гает своим долгом благодетельствовать всех, кто его ок-
ружает, составляет звенья слаженной системы и неукос-
нительно ее поддерживает.
Сэр Уилоби Паттерн, «обладатель Ноги с большой
буквы», «воплощенный идеал молодого английского
джентльмена», наделен всеми внешними добродетелями,
108
соответствующими его положению богатого аристократа
и признаваемыми светом. Фамилия Паттерн (Patterne)
многозначительна (Pattern — образец).
Однако образцовый джентльмен предстает перед чи-
тателем не менее образцовым эгоистом. Понимая, как
неприятна для джентльмена процедура сдирания масок,
Мередит проделывает ее по возможности бережно, но
старательно и не без удовольствия.
Определяющая черта характера героя — «гибельный
эгоизм», проникший во все поры его существа. С нею
связан целый психологический комплекс, элементы кото-
рого автор рассматривает подробно и убедительно. Сэр
Уилоби Паттерн самонадеян и тщеславен, претенциозен
и кичлив, он лицемер и позер, человек пустой и педант,
в душе его ни разу не шевельнулось простое и свежее
чувство.
В этом психологическом комплексе амбиция главен-
ствует надо всеми остальными чувствами, амбиция, за-
местившая собою былую рыцарскую доблесть и даже са-
мое обыденное личное достоинство. Амбиция сэра Уило-
би — это не то, что он о себе думает, во что себя ценит,
на что рассчитывает; это то, что о нем думают, во что его
ценят, что от него требуют — миссисМаунтстюарт-Джен-
кинсон, лэди Баш и лэди Калмер, знатные дамы графст-
ва,— ходячее и вездесущее «мнение света». Амбиция сэ-
ра Уилоби суетна, злонравна, жестока и самодовольна.
Он только делает вид, что свободен в своем мнении и
независим в своих поступках. В действительности он
трусит перед «светом», даже не перед его мнением, а пе-
ред его сплетней, ведет себя как раб условностей:
коварно, лживо, . опускаясь до подлости и мелких
гадостей.
«Сэр Уилоби, прежде всего, олицетворенное само-
довольство английской буржуазии викторианской эры,
точнее сказать,— самодовольство английского джентль-
мена, на которого буржуазия взирала, как на свой иде-
ал». Эта социологическая трактовка героя «Эгоиста», как
и ниже следующие слова, принадлежит Энгусу Уилсону,
современному английскому писателю:
«Диагноз Мередита поражает сейчас, в шестидеся-
тые годы нашего века, с такой же силой, с какой он
поражал почти столетие назад, когда был поставлен.
Мередит со своим оптимизмом эволюциониста полагал,
109
что отмеченная им деградация национального характе-
ра может быть остановлена путем впрцёкивания про-
ницательной самокритики, доблести... Д^я него, следо-
вательно, зрелище национального самодовольства не
было столь тягостным, каким оно стало в позднейшие,
более пессимистические времена...». Всякий раз, продол-
жает Уилсон, когда Англия «ведет себя .в международ-
ных делах со специфически для нее глупым и упрямым
самодовольством... каждого критически настроенного ее
патриота посещает образ», представленный в «Эгоис-
те» 34.
Любопытно, в сколь широком практическом контек-
сте социально-политической истории Англии восприни-
мается «критически настроенным патриотом» (critical
patriot) сэр Уилоби, литературный образ, характер эго-
иста, созданный в «замкнутых» рамках психологическо-
го романа.
Отмечая актуальность «Эгоиста», Роберт Луис Сти-
венсон, истинный ценитель Мередита и один из его ли-
тературных преемников, говорил, что в «этой странной
и восхитительной книге» заключен «животрепещущий
материал» (red matter) 35. Характер сэра Уилоби Пат-
терна обладает индивидуальным обликом и конкретным
смыслом и вместе с тем универсальным значением. В его
обрисовке есть конкретно-исторические и социальные
признаки, а также черты общечеловеческого. Стивенсону
казалось, что Мередит, создавая сэра Уилоби, писал
портрет с него, Стивенсона 36.
Автор «Эгоиста» утверждал в свою очередь, что в
герое романа он изобразил самого себя. В универсаль-
ности центральной фигуры «Эгоиста» Пристли, не без
основания, увидел «триумф Мередита». Однако не менее
очевидно то своеобразие, с каким Мередит придает
своему герою определенность времени и социальной
среды.
«Комедия — игра, назначение которой пролить свет
на жизнь общества», — этими словами открывается «Эго-
ист», точнее сказать «Прелюдия», начальная глава-введе-
ние, ими же определена общественная задача «Повест-
34 Angus Wilson. Op. cit., p. 503—504.
35 Цит. по кн.: S. Sassoon. Meredith, p. 173.
36 P. Л. Стивенсон послужил прототипом Говера Вудсира, одного из
героев романа Мередита «Странный брак».
ПО
вовательной &)медии». Далее определяется ее предмет.
Это — «человеческая природа, в той мере, в какой она
проявляется в благовоспитанных гостиных, куда не про-
никает извне пыль житейских дрязг, где нет ни грязи,
ни резких столкновений, которые так облегчают задачу
художника, сообщая его картине убедительность». Далее
определяются пути и средства: «Чтобы завоевать дове-
рие публики, комедия не прибегает к прямому воздей-
ствию на ее чувства; чтобы развеять ее недоверие, не
показывает бесконечно малые крупицы улик, которые
можно увидеть лишЬ через увеличительное стеклышко
часовщика. Определенная ситуация и группа лиц, в ней
действующая, — вот чем занят дух комического, отвер-
гая аксессуары, он сосредоточивает внимание на этих
лицах и на словах, которые эти лица произносят».
Уже в первом абзаце «Прелюдии» в сжатом виде,
метафорическим слогом и в полемическом духе сфор-
мулирована целая идейно-эстетическая программа. Она
отвергает морализаторство, сентиментальность, сенса-
ционность, плоское бытописательство. Она же замыкает
действие стенами «благовоспитанных гостиных».
В романе «Эгоист» представлен узкий и замкнутый
мирок. Площадка действия почти не простирается даль-
ше помещичьего парка. Ее центром служит дом сэра
Уилоби, центром дома — гостиная. Число персонажей
минимально. Действия, обычного для реалистического
романа, почти нет.
Отвергая аксессуары, не отвергает ли Мередит вместе
с ними и типические обстоятельства — одно из трех тре-
бований реализма, которые Энгельс сформулировал в
письме к Маргарет Гаркнес? На этот вопрос нельзя
ответить односложно.
Условия существования в фамильной усадьбе Пат-
тернов— это типические обстоятельства жизни сэра
Уилоби, формировавшие его личность. Конкретно-исто-
рическая определенность и социальная природа его ха-
рактера обозначены. «Эгоист» — психологический роман,
и преобладающее внимание к психологии обусловлено
в нем особенностями жанра. «Эгоист» написан в традици-
ях английского психологического романа и эти тра-
диции развивает. Обилие сцен и диалогов в «повество-
вательной комедии» воздействует на описания, ограни-
чивая их обстоятельность.
IU
Мередит проводит четкую грань между художествен-
ной литературой и- журналистикой и делает это в то
время, когда в английской литературе/ наметилось их
сближение, когда даже некоторые знаменитые писатели
начали эту грань стирать. Один из i/аглядных приме-
ров— романы «Гриффит Гонт» и «Страшное искушение»
весьма популярного в то время Чарльза Рида, и та
дискуссия, которую эти романы вызвали.
Чарльз Рид более откровенно, чем другие англий-
ские литераторы, писал о распространенных фактах на-
рушения нравственных норм семьи и брака. Он писал
в этих романах о таких «неприятных явлениях», кото-
рые обходила большая литература, но которые обсуж-
дались на страницах печати: о «незаконном» сожитель-
стве, о дамах полусвета и т. п. Казалось, он был сме-
лее других, смелее Диккенса, который признавался в
письме к Уилки Коллинзу, что не стал бы печатать
«Гриффита Гонта», несмотря на его литературные до-
стоинства. Но это была смелость темпераментного ли-
берала и опытного литератора, подхватывавшего с га-
зетных страниц острую тему. На ханжеские нападки
критики он ответил острым памфлетом «Похотливая
ханжа» и открытым письмом в «Таймс» (26 августа
1871 года), озаглавленным «Фактам надо смотреть в
лицо». Важной, в данном случае, представляется логи-
ка его возражений. Отправной его аргумент: все факты,
вызвавшие нападки критики, он взял из статей «Таймс».
Далее он говорил, что почитает своим долгом писате-
ля «зарегистрированные факты... великого времени впле-
тать в художественные образы» (the forms of Art).
По сути дела, Чарльз Рид стремился поспевать за
журналистикой, превращая с ' поучительной целью ху-
дожественный образ в развернутую иллюстрацию «за-
регистрированных фактов».
Джордж Мередит держался иного взгляда на воз-
можности и назначение литературы. Отвергая «аксес-
суары», он, по-видимому, учитывал также возраставшую
способность журналистики к активному их освоению.
Практически познавательную и агитационную функции,
собственно позитивистские задачи, все более брала на
себя газетная журналистика. Однако отстранение от «ак-
сессуаров», стремление заменить изображение обстанов-
ки и обстоятельств намеками на них, символами, ал-
112
легориями и Литературными реминисценциями, и в то же
время сжать и\замкнуть систему взаимоотношений дей-
ствующих лиц-V все это могло питать и питало возмож-
ность обособления литературы от жизни. В дальнейшем
развитии английской литературы эта тенденция дала себя
знать и в своих\ крайностях — в абстракционизме и
формализме, в мнимой многозначительности изощренных
условных приемов/,
Сэр Уилоби обретает конкретно-историческую и со-
циальную определенность, раскрывает свою сущность
«образцового молодого английского джентльмена» в раз-
носторонних связях, данных в системе зримых наме-
ков.
Так, он раскрывает себя, богатого и властного зем-
левладельца, новейшей выучки феодального князька,
в своих отношениях к зависимым от него профессиям и
сословиям. Все стремятся освободиться из-под «желез-
ного колпака», каким он накрыл свое владение, тре-
буя «безоговорочного приятия его точки зрения». И все
«знают, что ни малейший мятежный оттенок не ускольз-
нет от его внимания» (гл. VIII).
Потомственный конюх, грум и кучер, Флитч «поже-
лал стать независимым»: решил, было, податься в Лон-
дон и «открыть лавочку» — его постигла неудача, он
вернулся с повинной, но сэр Уилоби неумолим. Огец
Флитча тридцать лет верой и правдой служил у Пат-
тернов; сам Флитч отнюдь не мятежник, напротив, про-
являет самое что ни на есть патриархальное смирение;
его к этому принуждает бедственное положение (у него
девять человек детей). Но сэр Уилоби верен своему сло-
ву: «отпавший лист не возвращается на ветку; оторвал-
ся — всё».
Арендатор Хопнер при встрече с Уилоби «не соиз-
волил коснуться полей своей шляпы». Действует тот
же принцип и следует тот же вердикт. Но на этот раз
сэр Уилоби сам оторвет непокорный лист: «Через пять
лет истекает срок аренды. Должен сказать, что я не
терплю грубиянства наших сельских жителей и нака-
зываю его всякий раз, когда мне приходится с ним
сталкиваться».
«Что касается нашего крестьянства,— поясняет свою
социально-политическую позицию сэр Уилоби, то, к со-
жалению, мы не можем нарушить сословные границы
ИЗ
без опасности подорвать всю нашу социальную струк-
туру». /
Сэр Уилоби учитывает веяния времени, он на сторо-
не науки и прогресса, он. сам на свой л^д ученый, у него
есть лаборатория, которая служит е&/у «приправой» к
титулу, давая понять, что он не только наследственный
аристократ, но еще и «аристократ духа». «Таким обра-
зом наука, — или, вернее сказать, некоторое знакомст-
во с наукой — способствует развитию аристократическо-
го начала в обществе».
Дарвинизм приобрел признание и влияние, сэр Уило-
би зачислил себя в ряды его активных сторонников,
именно тех сторонников, которые в теории естествен-
ного отбора нашли обоснование социального неравенства
и оправдание своим привилегиям. «Уже и наукой до-
казано, что на этой арене всеобщей борьбы успех да-
руется наисовершеннейшему». И сэр Уилоби считает
себя воплощением научной аксиомы: при одном взгля-
де на него было видно, что он и есть «наиболее при-
способленный».
Сэр Уилоби представлен даже на международной
арене, т. е. не буквально, а опять-таки в примерах и
намеках. Он путешествует со своим кузеном Верноном
Уитфордом, объезжает страну за страной и свои впечат-
ления излагает в иронически язвительных письмах,
с выдержками из которых автор и знакомит читателя,
делая в свою очередь выразительные комментарии:
«В каждом росчерке его пера, в каждом словечке,
и даже в каждом умолчании чувствовался сам Уилоби;
это был автопортрет в рост на фоне Америки, Японии,
Китая, Австралии и, наконец, Европы — автопортрет
сэра Уилоби Паттерна, взирающего на уродцев мирозда-
ния, населяющих эти земли» (гл. IV).
Как ни разносторонне обрисован герой в своих об-
щественных отношениях, почти все эти его внешние свя-
зи охарактеризованы в кратких описаниях, показаны на
примерах, определены по большей части декларативно,
хотя и метко. Единственная сфера, в которой сэр Уило-
би обнаруживает себя в полноте своей истинной сущ-
ности,— это его позорное жениховство. Здесь он пред-
ставлен во весь рост и в многообразии проявлений:
в переживаниях, размышлениях и поступках, в бесконеч-
ных разглагольствованиях с жестами и мимикой. И по
114
мере того, как\он ведет одну беседу за другой, начи-
нает казаться, что его разглагольствования однообраз-
ны, что они уже мало что добавляют к его характе-
ристике. \
Изложенная в '«Прелюдии» программная установ-
ка — анализировать человеческую природу «в той мере,
в какой она проявляется в благовоспитанных гости-
ных»,— «практически обнаружила в романе свою одно-
сторонность и слабость. «Триумф Мередита» мог быть
более значителен и прочен, если бы его герою было
позволено выйти из-под колпака гостиной и проявить
себя не только в ситуациях затянувшегося сватов-
ства.
Нанизанные одна на другую однолинейные ситуации
способствуют в драматизированном романе возникнове-
нию сцен, лишенных драматической напряженности,
с затянутым и вялым диалогом, несмотря на его изы-
сканность. «Повествовательная комедия», в отличие от
комедии обычной, весьма объемна, и действующие лица,
при всей их натренированности в светской беседе, не
успевают освежить силы для участия в непрерывной
«оргии остроумия».
Глава XXXVI посвящена «оживленной застольной бе-
седе» — так она названа автором, названа иронически,
поскольку оживление беседы деланное и призвано про-
демонстрировать искусство светского лицемерия. Однако
была ли необходимость в столь развернутой демонстра-
ции, когда все ее участники по очереди «дефилируют,
как на параде...»?
Миссис Маунтстюарт-Дженкинсон задает участникам
застольной беседы произвольные темы. «Как бы вы оп-
ределили грубую истину, доктор Мидлтон?» — начинает
она свою затею, давая старт «битве умов».
Доктор Мидлтон, как завзятый воин, услышавший
призывный глас трубы, тотчас на него отозвался.
— Грубая истина, сударыня, по моему разумению,—
это истина, замешенная на грубости, присущей лицу,
эту истину высказывающему,— произнес он.
Профессор Круклин не замедлил дополнить формулу
доктора Мидлтона, который не почел нужным пояснить
свое философское обобщение примером.
— Афоризм, гласящий, что мир состоит из дураков
п что плуты — всего лишь исключения, подтверждающие
115
общее йравйло,— образец такой грубой истины, суДа-
рыня,— сказал он....»
В таком же примерно духе беседа Продолжается да-
лее. Она иллюстрирует претенциозное пустословие и та-
кое тягучее оживление, в сопоставлении с которым ску-
ка может восприниматься как благодатный отдых. За-
мысел автора «осуществлен» путем подробной и почти
натуралистической иллюстрации в противоположность
его собственным установкам. На этот раз забыт прием
намека, иносказания, символа, способ косвенной харак-
теристики. Столь же вязкие каламбуры предшествуют
этой затянутой «сцене», которую едва ли возможно наз-
вать «воспламеняющей».
Замкнутость площадки действия заметнее всего от-
разилась <на положительном герое «Эгоиста» — Верноне
Уитфорде, с которым автор связывает свои надежды
на радикальные перемены. Вернон Уитфорд противопо-
ставлен своему богатому и знатному кузену. «Один из
них Паттерн, а другой — всего лишь — Уитфорд. Этим
все сказано... Первый... прежде всего — английский
джентльмен. Второй представляет собой... какую-то но-
вую формацию, получившую в последнее время распрост-
ранение в Англии» (гл. IV). Однако «новая формация»
представлена в общем-то бледной тенью. Потому, воз-
можно, что она недостаточно определилась, но и потому,
что характер Уитфорда раскрывается вне обстоятельств,
его определивших, без столкновений с враждебными об-
стоятельствами. Другое дело юный Кросджей, сын одного
из обнищавших Паттернов, храброго и скромного лейте-
нанта морской пехоты. В условиях той же усадьбы и
гостиной он попадает в критические для его нравст-
венного сознания ситуации, сталкивается с противосто-
ящими друг другу силами, он вынужден быстро сооб-
ражать, самостоятельно принимать решения, действо-
вать. У него есть возможность проявить свой характер,
это один из наиболее удачных в английской литературе
юных героев неоромантического склада. Он непосредст-
венно предшествует юным героям Стивенсона.
«Прелюдией» автор называет «главу, в которой важ-
на только последняя страница». А на последней стра-
нице идет речь об эгоизме, который угрожает «потрясти
фундамент дома» — родовое гнездо Паттернов. Там го-
ворится, что сопровождающие «Дух комического» бди-
116
тельные бесенята так и подскакивают «в радостном
предвкушении комической драмы самоубийства». Закан-
чивается «Прелюдия» предостережением: «Если в оте-
чественной поэзии нет строки:
Он тем убил себя, что лишь себя любил,—
пусть она будет в нее внесена в качестве эпитафии
нашему герою».
Мередит отстаивает, обосновывает и развивает свою
манеру повествования, указывая на особое значение для
человека его внутренней жизни и на необходимость ее
тщательного изучения в мельчайших деталях, скрытых
в тайниках сознания. «Сквозь смутное к бесконечно мало-
му» называет он главу романа «Один из наших завое-
вателей» (1891), в которой содержатся эти рассуждения.
Если в «Эгоисте» сатирически представлен образец
аристократа, то в романе «Один из наших завоевате-
лей» — образец преуспевающего буржуа.
Главный герой романа Виктор Рэднор, крупный де-
лец лондонского Сити, показан как фигура типическая.
Это — один из «завоевателей», представитель господству-
ющей и торжествующей силы в капиталистическом ми-
ре. Само имя его звучит мажорно: Victor — победитель.
Виктор Рэднор — «идеал» богача, который «обещает
быть идолом» английских обывателей. Импозантный вид,
кипучая энергия, несокрушимый оптимизм — весь облик
героя, его благополучие и деловой успех как бы приз-
ваны иллюстрировать буржуазное «процветание».
Но за этим внешним благополучием и блеском та-
ятся подлые поступки, хищные вожделения, фальшь, тре-
вога и животный страх. Путь Виктора Рэднора к успе-
ху— грязный путь. Судьба его символична. Он начал
свою карьеру с мерзкой сделки — женился на деньгах
и долгие годы безуспешно жаждет смерти своей пре-
старелой супруги. Он загребает миллионы, он вершит
дела в Индии, в Южной Америке, в Южной Африке, но
его тревожит конкуренция и страшит гнев народа. Себя
и себе подобных он сравнивает с хищным зверем в зо-
лотой клетке. Он настойчиво ищет выхода из противоре-
чий личной и общественной жизни: лелеет мысль о спло-
чении англичан путем решительных действий и вдохнов-
ляющей «идеи» («островитяне еще раз возглавят мир
новой эпохи, отвергающей материализм») в надежде
«спасти существующий порядок».
117
Но когда Виктор РэДйор уже возомнил себя будущим
спасителем нации и буржуазного миропорядка, небла-
гоприятное стечение обстоятельств сокрушает его.
В центре романа — частная жизнь Виктора Рэдно-
ра, но она полна глубокого общественного смысла.
Этюды делового Лондона, бытовые и политические за-
рисовки, многочисленные персонажи, представляющие
различные социальные и профессиональные слои — ари-
стократию, буржуазию, чиновничью, литературную, ар-
тистическую среду,— хотя и даны в своеобразной бег-
лой и дробной повествовательной манере, но содержат
типические черты и создают убедительный фон.
Роман «Один из наших завоевателей» ощутимо пе-
редает атмосферу потрясений и кризиса, которые пере-
живала Британская империя в период перехода к им-
периализму. Роман остро полемичен и резко контрасти-
рует с казенным оптимизмом официальной буржуазной
идеологии того времени.
Автор разделяет некоторые ложные представления
своего героя, но он трезво оценивает многие существен-
ные факты и явления. По мнению одного из действу-
ющих лиц, писателя Колни Дьюренса, напоминающего
самого автора, история Виктора Рэднора «вскрыла пу-
стоту абстрактного оптимизма». В этих заключительных
словах романа содержится одна из его основных идей.
Роман «Один из наших завоевателей» отличается
новизной материала и формы. Та необычность в при-
емах изображения, которая обращала на себя внима-
ние в предшествующих произведениях Мередита, осо-
бенно в «Эгоисте», в этом романе получила дальней-
шее развитие. Автор показывает общественные явления
преимущественно в их психологическом преломлении и
передает душевные процессы в сложных движениях и
деталях.
У Мередита почти нет прямого изображения клас-
совых противоречий и сравнительно мало говорится о
них, но автор дает почувствовать, что борьба труда и
капитала составляет определяющую черту времени и
больше всего беспокоит господствующие слои. Мередит
добивается этого с помощью характерных для него при-
емов. Так, в речи героя романа неоднократно звучит
слово «punctilio» (буквально — формальность, ще-
петильность). Соотнесенное с обстоятельствами жизни
118
Виктора Рэднора и взятое в кругу устойчивых ассоци-
аций, беспокоящих его сознание, оно оказывается весь-
ма значительным 37.
Роман открывается следующим эпизодом. Виктор
Рэднор, живое воплощение благополучия и успеха, идет,
«сверкая, как его новый жилет», по Лондонскому мосту
и вдруг падает и ударяется затылком. Этот ушиб ста-
новится источником его недуга, но беспокоит его мень-
ше, чем возникшая тут же перепалка с рабочим, кото-
рый помогает ему подняться на ноги. «Чёрт бы побрал
этого парня!» — говорит Виктор Рэднор, заметив пятна
грязи на своем жилете.— «Это меня, что ли, сэр?» —
спрашивает рабочий...— «Всё в порядке, старина»,—
откликается Рэднор. «Ошибаетесь: этого бы не случи-
лось».— «Что такое?» — «Будь всё в порядке, не растя-
нулись бы вы во всю длину, как полминуты назад»
«Ну, ладно, нечего грубить»... «А бросьте вы свою прок-
лятую формалистику» (And none of your darn’d punctilio),
И эта «формалистика» гвоздем застревает в мозгу Вик-
тора Рэднора. В дальнейшем punctilio не раз всплыва-
ет в сознании героя при таких обстоятельствах и в та-
ком внутреннем контексте, которые позволяют вскрыть
37 Справедливо замечание Джека Линдсея в его монографии о Ме-
редите, содержащей интересные наблюдения и богатый фактиче-
ский материал (George Meredith. His Life and Work. L., 1956):
«Стиль Мередита порою натянут и напыщен, в особенности в пер
вых главах. Но даже некоторые из тех фраз, которые обычно ци-
тируют, чтобы показать громоздкость фразеологии, не так плохи,
как может показаться» (стр. 292). Уже в первом предложении, от-
мечает Линдсей, читатель сталкивается с неожиданным оборотом:
Рэднора, который поскользнулся и упал, проходя по Лондонскому
мосту, по всей вероятности, подвела апельсинная корка. Но писа-
тель избегает точного определения, он пишет: «some sly strip of
slipperness»,— это словосочетание, построенное на звуковой игре,
дано в авторской речи и кажется натянутым. Но, взятое в стили-
стическом контексте, оно становится достаточно естественным и
понятным, составляя один из элементов психологической характе-
ристики героя: он не видел, на чем поскользнулся (для него это
некий скользкий лоскут), не придал этому значения и не учитыва-
ет, насколько этот пустяк может быть коварным (some sly strip,—
как говорит автор). По мнению Линдсея, Мередит воспроизводит
здесь -не столько внешние детали, сколько внутренние движения
героя «в связи с особой важностью для Виктора Рэднора это-
го момента, который обнаруживает его скрытый страх, его за-
таенный страх и ненависть к рабочему классу» (там же).
Джек Линдсей первый обратил внимание на глубокий идейный
свдысл романа «Один из наших завоевателей».
ПУ
ею тайные мысли и чувства. Уже охваченный безуми-
ем, финансист продолжает твердить, что у него есть
«идея», будто бы способная устранить противоречия вре-
мени, однако она затерялась в памяти, когда он упал
на мосту и столкнулся с рабочим. Он повторяет услы-
шанную им из уст рабочего фразу, сопровождая слово
тем же ругательным эпитетом. Этими психологическими
деталями подчеркивается полная беспомощность героя
разрешить возникшие перед ним неотвратимые проб-
лемы.
Поздний Мередит первым в английском романе при-
менил технику собственно «потока сознания», дал ее
образцы. Они появились у него как последовательный
результат освоения традиции и развития собственного
литературного опыта. Очевидная традиция идет от Ло-
ренса Стерна, но у Мередита были непосредственные
предшественники: у Диккенса, что давно уже было за-
мечено38, встречаются пассажи, которые, если их рас-
сматривать вне контекста, можно принять за модель
речевого потока джеймс-джойсовской манеры испол-
нения.
«Конечно — ей это неприятно — ничего не подела-
ешь — нужно рассеять подозрения — боится брата — го-
ворит, другого выхода нет — еще несколько дней — ста-
рики успокоятся — подарит вам блаженство» 39.
Это цитата из первого романа Диккенса, из девя-
той главы «Посмертных записок Пиквикского клуба»
(1837). Если не знать или забыть на минуту, что ци-
тируемая реплика принадлежит мистеру Альфреду
Джинглю, то и в самом деле можно приписать ее
Леопольду Блюму, герою «Улисса» Джеймса Джойса.
Внешне техника передачи их несвязной речи схожа,
и суть различия не только в том, что Альфред Джингль
несвязно говорит вслух, а Леопольд Блюм про себя.
«Прием» Диккенса не имеет никакого отношения к тех-
нике «потока сознания». Альфред Джингль, эсквайр, не
способен выражать свои мысли в синтаксически офор-
мленных предложениях. Мысли его импульсивны., не ус-
38 W. Lewis. The Art of Being tfuled. L., 1926, p. 402. Co ссылкой на
У. Льюиса об этом говорится в кн.: М. Friedman. Stream of Consci-
onsness, p. 31—32.
39 Ч. Диккенс. Собр. соч. в тридцати томах, т. II. М., 1957, стр. 143.
120
певают и не Могут оформиться, ой вЫпалибает их б от-
рывочных словах и обрывках фраз. Несвязная речь
мистера Джйнгля, многочисленные примеры которой
можно найти в «Посмертных записках», отлично ха-
рактеризует этого энергичного комбинатора, отвечая
его образу мысли и тайным умыслам. В целях реалисти-
ческой характеристики использован здесь этот «прием»,
только внешним видом предваряющий чуждую ему «тех-
нику».
Но вот на тех же страницах возникает схожая от-
рывочная речь, принадлежащая иному лицу: «Сырая
карета... бешеные лошади... пятнадцать миль в час...
и вдобавок в полночь»40. Это отрывок из краткого
внутреннего монолога мистера Пиквика, в общем-то ред-
кий для Диккенса образец. И в этом случае отрывоч-
ная речь лишь внешне напоминает технику «потока соз-
нания», передавая неслышимый монолог, четкая логи-
ческая основа которого вполне очевидна. Мистер Пиквик
произносит его, устремляясь в бешеную погоню за не-
годяем Джинглем, сманившим «незамужнюю тетушку»
мисс Рейчел. Напряженность обстоятельств, необычность
ситуации, в которой оказался поборник справедливости,
степень крайнего возбуждения и недостаток времени оп-
ределяют непривычную для него форму скачущего раз-
мышления: «Недурное положение,— подумал мистер
Пиквик, улучив минутку для размышлений.— Недурное
положение для президента Пиквикского клуба. Сырая
карета... бешеные лошади... пятнадцать миль в час...
и вдобавок в гголночь». Здесь действует тот же принцип
реалистической характеристики. Он действует и у Мере-
дита, но уже соседствуя с формалистическим экспери-
ментом.
Ассоциативные сигналы, едва ощутимые намеки
складываются в романе «Один из наших завоевателей»
в сложную и тщательно разработанную систему. Она
требует от писателя усилий, напряжения.
«Я хочу спасти существующий порядок,— говорит
Виктор Рэднор,— я за христианство и против сребро-
любия, которое нам угрожает. Громадные состояния
приобретают в стране силу древних титанов или сред-
невековых баронов. Рассредоточение богатства — в этом
секрет. Натали согласна со мной. Приличная бедность!
40 Там же, стр. 148.
121
Она несколько утоМленй, нуждается в йеремене. Я ду-
маю о паровой яхте, будущий месяц на Средиземном
море. Вся наша компания. Натали любит покой. Я верю
в мой политический рецепт».
Слышимая речь Виктора Рэднора напоминает внут-
ренний монолог, построенный на ассоциативном течении
умственного речевого процесса, и не только в данном
случае. Это характерно для него. Он живет двойствен-
ной жизнью и не хочет делать тайное явным. А сейчас
он говорит о самом для него сокровенном и выдает
себя за благодетеля общества. Но его демагогия, ко-
рысть, тревога и жажда спокойствия обнаруживают себя.
«Приличная бедность» плохо вяжется с планом увесе-
лений на широкую ногу. Однако, чтобы уловить весь
подтекст отрывка, недостаточно взять его в непосред-
ственном словесном окружении. Надо держать в памя-
ти широкий контекст с множеством деталей. Чтобы ох-
ватить, например, смысловой и эмоциональный объем
слова «секрет», надо с 401 страницы обратиться к на-
чалу книги, особо поразмыслив над 11 и 12 страница-
ми. Все это предсказывает уже джойсовские приемы,
складывающиеся в манеру «потока сознания».
Подчеркнутая ассоциативность «внешнего» и «внут-
реннего» монологов возникает у Мередита с учетом ин-
дивидуальных особенностей персонажей и их душевного
состояния. Психологический анализ в основе своей про-
должает быть содержательным. Однако заметно, как ме-
редитовский эксперимент вызывает стилистические и
композиционные «причуды» уже формалистического
свойства.
Мередит по-прежнему прибегает к излюбленному им
приему — ссылкам на вымышленные произведения, от-
теняя в них узловые темы. На этот раз важную идей-
ную и композиционную роль в романе играют две книги,
заключающие животрепещущий материал и приме-
чательные своей обличительной направленностью. Пер-
вая из них — «Раджа в Лондоне» («поэма, или драмати-
ческая сатира»). Перед критическим взором индийцев,
осматривающих Лондон, предстают завоеватели. Им-
перская столица обрисована лаконичными, беглыми, но
выразительными штрихами («Ночной Лондон — это от-
верженный, стонущий у ног полицейского», где обитают
«ущемленные, голодные, тощие, обездоленные и силы,
122
их угнетающие»). Вторая книга — сатирический бурлеск
«Языки-соперники», обличающий империалистическую
конкуренцию. Ее автор, Колни Дьюрене, один из цен-
тральных персонажей романа, который противостоит
Виктору Рэднору и в то же время социально связан с
ним. «Виктор Рэднор и Колни Дьюрене представляли в
своем обществе Оптимиста и Пессимиста. Они могли бы
возглавить в стране эти племена». Книга «Языки-сопер-
ники» упоминается в романе неоднократно. В ней и в
связи с ней характеризуются литературные нравы, вкусы
и требования господствующей верхушки, которая стра-
шится массового читателя, боится критики («Я ненавижу
сатиру»,— говорит Виктор Рэднор). Мередит выступает
против рутины, потакания пошлым вкусам, против лжи-
вого оптимизма и приукрашивания действительности,
призывая к трезвой оценке фактов.
«Один из наших завоевателей» принадлежит к луч-
шим романам Мередита. Он написан в духе смелой кри-
тики, но рассчитан на избранную аудиторию, не обра-
щен к широкому читателю. Это обстоятельство не могло
не сказаться на мередитовском стиле, и без того услож-
ненном.
Резкая разительная неровность идейно-эстетического
уровня произведений одного и того же автора — опять-
таки черта, ставшая распространенной и особенно за-
метной к «концу века», в условиях возросшего литера-
турного профессионализма. За небольшим исключением
романы Мередита 80—90-х годов, в первую очередь
«Трагические комедианты» (1880), «Лорд Ормонт и его
Оминта» (1894), сгущенно демонстрируют слабые сторо-
ны и неверные устремления его таланта: замкнутость
изображения внутренней жизни человека, тенденцию
подменить социальные проблемы психологическими,
нравственными или чисто умозрительными, склонность
к сенсации, несмотря на собственное ее осуждение, при-
страстие к усложненной метафоричности.
Но Мередит, автор «Эгоиста» и «Одного из наших
завоевателей», для многих молодых талантов, желавших
сказать новое слово, действительно представлялся
«несравненным романистом».
Джордж Мередит начал писать одновременно с
Джордж Элиот, в период «мирного процветания» англий-
ского капитализма. Его первый роман «Испытания Ри-
123
чарда Февереля» вышел в 1859 году — в том же году, что
и первый роман Элиот «Адам Вид». Мередит перестал
писать романы в одно время с Томасом Гарди, именно
в ту пору, когда английский капитализм переживал
острый кризис. Последний роман Мередита «Странный
брак» и последний роман Гарди «Джуд Незаметный»
были опубликованы в 1895 г. Как ни случайно это сов-
падение в датах, оно знаменательно.
«В Англии всадник слишком тяжел для лошади»,—
написал Мередит в «Карьере Бьючемпа», выразив этой
метафорой возраставшее в народных массах чувство
тяжести возложенного на них бремени.
«Народ — вот грядущая сила», «наступает эра рабо-
чего человека», — сказал он словами одного из героев
того же романа, выразив идею, которая в Европе и Ан-
глии становилась все более актуальной.
О чем бы ни писал Мередит в своих романах, он
помнил об этом чувстве и этой идее.
Глава III
«УЖАСНЫЕ ДЕТИ»
САМЮЭЛЬ БАТЛЕР
Самюэль Батлер моложе Мередита всего на семь
лет, однако к литературно-художественной деятельности
он обратился значительно позже, начав ее в 70-е го-
ды. Кризис викторианской идеологии стал тогда очевид-
нее и выявился в его творчестве резче и сосредото-
ченнее.
Можно сказать, что Мередит и Батлер — вехи одно-
го пути в истории английского романа. Речь идет не о
прямой преемственности, — едва ли возможно ее обозна-
чить. Сам Батлер отрицал малейшую связь, тем более
зависимость от своего влиятельного предшественника.
«Я не принимаю буквально ничего из того, что читал у
него», — говорил он о Мередите и тут же пояснял субъ-
ективную причину столь решительной неприязни: в
1871 году Мередит в качестве консультанта издательской
фирмы Чепмен и Холл отверг рукопись «Едгина», его
первого романа. «С тех пор, — заключал Батлер, — я в
течение 28 лет злюсь на него». Повод для «злости» был
серьезный. Но не только факт отказа принять рукопись
и столкновение причудливых характеров послужили ос-
нованием пожизненной взаимной неприязни. Батлер го-
ворил, что, окажись он на месте Мередита консультан-
том издательства, он дал бы издателям тот же отрица-
тельный совет. Было нечто во взгляде на вещи, в умо-
настроении и в принципах творчества, что разделило их,
что заставило Мередита с его теорией «Духа комическо-
го» отклонить рукопись «Едгина» и отклонять рукописи
ранних произведений Бернарда Шоу, восторженного по-
125
читателя Батлера. И все же Мередит и Батлер — вехи
одного пути, хотя, как видно, этот путь не был пря-
молинейным, давал зигзаги и ответвления.
Батлер вслед за Мередитом (и в какой-то степени в
связи с его книгами) обсуждает схожий круг вопросов,
обсуждает потому, что пришло их время и проницатель-
ный ум не мог их не заметить. Сам порядок и манера
обсуждения этих вопросов отмечены у них не только
расхождением, но и сходством и прежде всего в том, что
касается психологического аспекта.
Когда Ричарда Олдингтона — с целью проследить
литературную генеалогию его «Смерти героя» — спроси-
ли, не оказал ли на него в пору работы над романом
воздействие Мередит, он ответил, что тогда еще не читал
«Эгоиста», Батлер же был ему известен. И какой неожи-
данной, непривычно деформированной должна была ка-
заться ткань повествования, когда профессиональный
читательский взгляд со знакомых с детства диккенсов-
ских страниц перебегал на страницы батлеровского ро-
мана «Путь всякой плоти».
«...Неужели после всех ее разговоров об исполнении
долга и духовном единении она в первый же день бра-
ка не согласится понять, что первый шаг в деле покор-
ности воли божией состоит в том, чтобы покоряться
мужу? Он прикажет кучеру ехать обратно в Крэмпс-
форд; он объявит мистеру и миссис Эльби, что он не
желает жениться на Христине; он еще не женат на ней.
Все это отвратительный сон; он скажет Но чей-то го-
лос звенел у него в ушах, повторяя: «Ты не можешь, не
можешь, не можешь».
— Неужели не могу? — простонал про себя несчаст-
ный.
— Нет, — сказал безжалостный голос. — Ты не мо-
жешь. Ты — человек женатый.
Он забился в дальний угол кареты и впервые по-
стиг всю несправедливость английских брачных законов.
Но он купит сочинения Мильтона и прочтет его памфлет
о разводе. Быть может, удастся достать эту книгу в
Ньюмаркете» (С. Батлер «Путь всякой плоти», гл. XIII).
Едва ли не каждый оборот в этой сцене, изобража-
ющей первые совместные шаги супружеской четы, без
любви соединенной, первые мысли незадачливого супру-
га, общий трагикомизм ситуации, сцене, умещающей и
126
чудаковатые фигуры образцовых англичан, закоренелых
последышей «викторианства», их убогость, круг их по-
нятий, и тут же — блестящую фигуру автора, — едва ли
не каждый оборот здесь дает в намеке новый повество-
вательный принцип. Читатель, привыкший к диккенсов-
ской повествовательной интонации, втянутый в ритм из-
вестной плавности, будет поначалу смущен прерывисто-
стью, быстрыми, никак не подготовленными смещения-
ми. Однако затем, присмотревшись, он уловит, что за
вместимость обнаруживается в стиле благодаря вольно-
му скольжению авторского взгляда. Эта повествователь-
ная свобода не ограничена лишь формальными граница-
ми. Прием передает склад мировосприятия. Взгляд на
вещи стал подвижнее, поскольку были отброшены тен-
денциозные непременности, соблюдение которых в пред-
шествующую пору представлялось существенным. Этот
взгляд более, чем у «викторианцев», свободен, более,
чем у Диккенса, резок в скептицизме и отрицании.
Было бы принципиальной ошибкой из этого проти-
вопоставления делать вывод, что Батлер, продвинувший-
ся в чем-то важном вперед, по сравнению со своим ве-
ликим предшественником, стал «выше» его и оказался
значительнее. Ни Батлер и никто из его английских со-
временников не встал рядом с Диккенсом, не поднялся
до этой вершины. И как бы они ни спорили с ним, ни
отрицали его, с какой бы силой от него ни отталки-
вались, все они —и Мередит, и Гарди, и Батлер, и Мур,
и Стивенсон, и даже Уайльд,—так или иначе исходили
из него, связаны с ним творческой родословной, отмече-
ны его влиянием.
У Диккенса все они могли учиться свободе и под-
вижности эпического описания, умению повествовать с
неуловимым сочетанием серьезности и иронии:
«Госуэлл-стрит лежала у ног его, Госуэлл-стрит про-
тянулась направо, теряясь вдали, Госуэлл-стрит про-
стиралась налево и противоположная сторона Госуэлл-
стрит была перед ним».
«Таковы, — рассуждал мистер Пиквик, — и узкие го-
ризонты мыслителей, которые довольствуются изучени-
ем того, что находится перед ними, и не заботятся о
том, чтобы проникнуть в глубь вещей к скрытой там
истине. Могу ли я удовольствоваться вечным созерца-
нием Госуэлл-стрит и не приложить усилий к тому, что-
127
бы проникнуть в неведомые для Меня области, которые
ее со всех сторон окружают?» — И мистер Пиквик, раз-
вив эту прекрасную мысль, начал втискивать самого се-
бя в платье и свои вещи в чемодан. Великие люди
редко обращают большое внимание на свой туалет»1
и т. д.
Тут многое схвачено как-то сразу и достигнуты ра-
зом многие эффекты: автор выбрал предмет и посмеи-
вается над ним, в то же время причудливо героизируя
его. Это богатство повествовательных оттенков являлось
одним из следствий многообразия индивидуальных ав-
торских жизненных представлений, а те, в свою очередь,
отразили масштабы общественной развитости.
Ни Мередит, ни Гарди, ни Батлер — никто из них
не смог с такой свободной, живостью и лаконизмом, поль-
зуясь одновременно описанием, диалогом и внутренним
монологом, изобразить группу лиц в энергичном движе-
нии, передать его темп и ритм, обстановку и время
действия, характеры главных участников, их настроение,
душевное состояние, как это сделал Диккенс, описывая
уже упоминавшуюся погоню за Альфредом Джинглем:
«Они вскочили в двуколку.
— Гони вовсю, Том! — крикнул хозяин, и они помча-
лись по узким проселкам, подпрыгивая на выбоинах, за-
девая за живые изгороди, тянувшиеся с обеих сторон,
и рискуя в любой момент разбиться.
— На сколько они нас опередили? — крикнул Уордль,
когда они подъехали к воротам «Синего Льва», где,
несмотря на позднее время, собралась небольшая толпа.
— Не больше чем на три четверти часа, — отвечали
Все.
— Карету и четверку! Живо! Двуколку доставите
после!
— Ну, ребята! — закричал хозяин гостиницы.— Ка-
рету и четверку! Поторапливайтесь! Не зевать!
Конюхи и форейторы пустились бегом. Мелькали фо-
нари, метались люди; копыта лошадей цокали по плохо
вымощенному двору; с грохотом выкатилась карета из
сарая; шум, суета.
— Подадут когда-нибудь карету? — кричал Уордль.
— Она уже на дворе, сэр, — ответил конюх. 1
1 7. Диккенс. Указ, соч., т. II, стр. 22.
128
Карету подали, лошадей впрягли, форейторы вскочи-
ли на них, путники мигом влезли в карету.
— Помните, перегон в семь миль — полчаса! — кри-
чал Уордль.
— В путь!
Форейторы пустили в ход хлыст и шпоры, лакеи кри-
чали, конюхи подбадривали, и лошади бешено помча-
лись.
«Недурное положение, — подумал мистер Пиквик,
улучив минутку для размышлений.— Недурное положе-
ние для президента Пиквикского клуба. Сырая карета...
бешеные лошади... пятнадцать миль в час... и вдобавок
в полночь» 2.
У Диккенса Стивенсон мог учиться тому, как соче-
тать острый сюжет с углубленным психологическим ана-
лизом,— решать эту почти неразрешимую задачу.
Разумеется, свобода и подвижность повествования у
Диккенса — это свобода и подвижность в определенной
системе представлений и литературной технологии, бо-
гатейшей, разнообразнейшей, обладающей тем не ме-
нее четкими признаками и известными пределами, обо-
значенными писательским методом, выработанной им
практикой и излюбленными приемами.
«Мы можем представить себе св. Павла или даже са-
мого господа испивающими чашечку чая, но нельзя и по-
мыслить их с папиросой или с глиняной трубкой в зу-
бах» 3. В библейские времена «нельзя помыслить», по-
тому что «табак (чай тоже.— М. У.) тогда еще не был
известен». У Диккенса — по иной причине: он не мог или
не считал для себя или читателя возможным помыслить
о литературном портрете всевышнего с необычной быто-
вой деталью, разрушающей его канонический облик.
Батлер мыслил об этом сам и хотел побудить мыслить
об этом других. Одна эта способность мыслить дерзко о
самом господе боге позволяла ему еще более дерзко ду-
мать о его служителях и рисовать их в сатирическом
виде тем же лаконичным способом, смещая возвышенное
с привычного места необычным движением простой де-
тали. От только что приведенной цитаты естественно и
легко протягивается нить к одному из лучших в романе
2 Там же, стр. 148.
3 С. Батлер. Жизненный путь. Л., Гослитиздат, 1938, стр. 276. (Далее
ссылки в тексте.)
5 М. В. Урнов
129
обличительных мест — к описанию воскресного вечера
в доме «образцового священника» Теобальда Понтифек-
са, родителя героя романа Эрнеста Понтифекса 4.
Четырехлетний Эрнест не может произнести твердое
«к» и вместо того, чтобы сказать соте, говорит turn.
«Эрнест,— сказал Теобальд со своего кресла перед
огнем, где он сидел, сложив руки,— не думаешь ли ты,
что было бы очень мило с твоей стороны говорить соте,
как все люди, вместо turn.
— Я говорю turn,— возразил Эрнест, воображая, что
сказал соте.
Теобальд в тот же миг заметил, что ему не повину-
ются. Он встал с кресла и подошел к фортепьяно.
— Нет, Эрнест,— сказал он,— это не так: ты гово-
ришь turn, а не соте. Теперь повтори соте за мною, как
говорю я.
— Тит,— сказал Эрнест тотчас же.— Так лучше?...
— Вот что, Эрнест, ты не хочешь сделать усилия:
ты не стараешься так, как тебе бы следовало стараться.
Давно пора тебе научиться говорить соте. Ведь Джо мо-
жет сказать соте,— не правда ли, Джо?
— Да, могу,— ответил Джо, и сказал нечто весьма
похожее на соте.
— Итак, Эрнест, ты слышал. Тут нет никакой труд-
ности. Теперь соберись с духом, подумай и повтори за
мною соте.
Мальчик помолчал несколько секунд и затем опять
сказал: turn.
— Хорошо, Эрнест,— сказал отец, гневно хватая его
за плечо.— Я сделал все от меня зависящее, чтобы по-
щадить тебя, но если ты непременно хочешь, пусть бу-
дет по-твоему.— И он потащил из комнаты маленького
преступника, заранее плакавшего от страха. Прошло
еще несколько минут, и мы услышали визг, доносив-
шийся из столовой в гостиную через залу, и поняли,
что бедному Эрнесту опять досталось.
— Я велел ему лечь в постель,— сказал Теобальд,
вернувшись в гостиную.— А теперь, Христина, я пола-
гаю, мы можем созвать слуг для вечерней молитвы.
4 На эту сцену нередко ссылаются критики и литературоведы. «Удач-
ной во всех отношениях» считает ее, например, А. Кеттл (см. его
«Введение в историю английского романа». М., «Прогресс», 1966,
стр.. 256—258).
130
И он позвонил в колокольчик рукой, еще красной от
битья» (стр. 135—136).
Краткий эпизод, воспроизведенный здесь с неболь-
шими сокращениями, — ив самом деле превосходный
образец лаконичного, подвижного и многомысленного
изображения, исполненного писателем-новатором в луч-
ших традициях английской реалистической прозы. На
одной страничке обозначены: характер примерного па-
стыря, его логика, способ аргументации, образ дейст-
вий по отношению к своим ближним, действий, соверша-
емых, по его убеждению, ради их же блага и во имя
высшей справедливости. Законченность и специфиче-
скую содержательность изображению придает заключи-
тельный штрих, проведенный отточенным батлеровским
пером: «И он позвонил в колокольчик рукой, еще крас-
ной от битья». Каждое слово употреблено в своем бук-
вальном значении, без нажима и украшения, как бы с
единственной целью передать в наиболее сжатой форме
простую информацию. Однако, осмысленные в контексте
всего эпизода, слова эти сильно действуют на вообра-
жение и четко выражают суждение и эмоции автора, его
гневную оценку.
Лаконизм выразительной детали — важное свойство
батлеровской манеры письма. Глиняная трубка в устах
господа бога и красная от битья рука его «образцового»
служителя возникают в одной и той же системе размыш-
лений художника, хотя эти размышления разны по глу-
бине и серьезности. В первом случае дерзкая и убеж-
денная в своей правоте мысль озорует, во втором — она
по-философски серьезна, излагает выводы из тщательно-
го анализа существенных фактов и делает это с созна-
нием всей меры ответственности.
В отличие от Мередита Батлер не мозолит глаза
какой-нибудь одной деталью, но, как и Мередит, предпо-
читает обратиться к рядовому событию или происшест-
вию, к бытовой или психологической мелочи, чтобы че-
рез незамысловатую деталь раскрыть целостное явление,
систему привычек, поступков, убеждений, вполне опре-
делившуюся и в мелочах обнажающую свою суть. Бат-
лер тоже любит фиксировать обмолвки и описки и в ра-
зительных случаях всякое лыко ставит в строку. Одна-
ко прямому или косвенному изображению он нередко
предпочитает «замечания» и «примечания», краткий ком-
5*
131
ментарий вслух и про себя. «Я заметил, что Теобальд
молит бога сделать нас «истинно честными и добросове-
стными во всех делах наших», и посмеялся втихомолку
над самовольным добавлением слова «истинно»»
(стр. 138). Казалось бы, стилистическая «мелочь», сло-
весный нажим, свидетельствующий о напыщенном крас-
норечии ревностного священнослужителя, но в самых
этих риторических мелочах Батлер видит выражение
психологической фальши и девальвации высоких слов и
понятий.
Самюэля Батлера иногда называют «последним вик-
торианцем», а иногда «первым антивикторианцем». Тут
в наименованиях «первый» или «последний» следует ви-
деть подмеченные с различным пристрастием очертания
переходной фигуры.
Самюэль Батлер (1835—1902). вырос в семье, уклад и
убеждения которой вполне отвечали духу викторианско-
го процветания. Дед Батлера дослужился до епископа,
отец был священником, и самому ему прочили духовный
сан. Некоторое время Батлер был помощником пастора;
в Кембридже получил вполне викторианское образова-
ние. Родителями Батлера, его воспитателями, окруже-
нием было, казалось, предпринято достаточно, чтобы
замкнуть умонастроение будущего литератора в рам-
ках определившейся системы идейных и нравственных
норм. Однако взгляды Батлера развились и сложились
иначе.
«Викторианство», как уклад жизни, успело к годам
его сознательной молодости созреть, и Батлер наблюдал
своеобразное расслоение: выделилась, отстоялась, зачер-
ствела оболочка из непреложных религиозных догм, не-
пререкаемых мнений по части быта, морали и государ-
ственных устоев, — все это по-своему пристойно и благо-
разумно. Соткался покров, под которым таился в свою
очередь закосневший общественный организм, лишен-
ный пристойности и не знавший, кроме наживы, иных
действенных стимулов. У Батлера оформляется своя сис-
тема или, вернее, антисистема воззрений, где находят
последовательное сцепление воспоминания его мучитель-
ного — под гнетом достославной «семейственности» —
детства, иссушающие годы учения в Кембридже, более
поздние горькие жизненные наблюдения. Он, по приня-
132
тым меркам и понятиям, получил все — воспитание, об-
разование, средства и в то же время все это, за исклю-
чением душевной боли, ничего ему не приносило. Каж-
дое из преимуществ оборачивалось парадоксальным об-
разом против него и, естественно, обостряло в отноше-
нии к окружающему чувство безнадежной иронии, начи-
ная с насмешливо-скорбного замечания: «Я родился от
богатых, но бесчестных родителей»...
Батлер, «викторианством» выращенный, его же соб-
ственный враг, враг внутренний, хорошо знающий скры-
тую от сторонних нападок механику обработки челове-
ческих натур в нужном духе. Враг не мелкого пошиба
Д1ли временного недовольства, но высокого умоборческо-
го пафоса. Творческая деятельность Батлера движима
(.стремлением пробить коросту, стиснувшую сознание его
(соотечественников. Сама жизнь его с долголетним от-
шельничеством — пионерством в Новой Зеландии, затем
юдинокое лондонское затворничество, почти свободное
от деловых ,и даже дружеских связей — это была своего
рода попытка преодолеть рутину установленного дол-
женствования в отношении семьи, общества и государ-
ственной службы. Батлер стремился расшевелить умы,
указывая на парадоксальную неправомерность приня-
тых воззрений. Он вторгался в самые различные обла-
сти — спорил с религией, полемизировал с дарвинизмом,
занялся изучением и переводом древнегреческого эпоса,
а затем написал исследование, в котором причудливо
•доказывал, будто автором «Одиссеи» была женщина,
выпустил книгу «Пересмотр сонетов Шекспира» (1899)...
Он был занят постоянным «пересмотром» общепринято-
го, устоявшегося.
Решительным этапом этого «пересмотра» оказался
его сатирический роман «Едгин» (1872),в котором, начи-
ная от заголовка, представлявшего обратное чтение сло-
ва «Нигде», точнее сказать анаграмму английского No-
where, все было показано в перевернутом виде. Едгин,
как и Утопия Томаса Мора, — неведомая страна, с той
принципиальной, в сравнении с Утопией, разницей,, что
нравы и установления едгинян не претендуют на идеаль-
ную образцовость, а, напротив, в прозрачном подобии
или преумножении повторяют викторианское общество.
Репутация Батлера утвердилась посмертно. Посмерт-
но, в 1903 году, было издано его основное произведе-
133
ние — роман «Путь всякой плоти», над которым он ра-
ботал более десяти лет (1872—1885).
О романе «Путь всякой плоти», характеризуя его
жанровые особенности, можно сказать словами Салты-
кова-Щедрина: это «произведение семейственности».
Семья представлена здесь как оплот жизни, однако —
в противоположность развитой английской традиции —
в совершенно отрицательном смысле. «Реальное тело
семьи» (Маркс) держится, но внутренняя ее связь
утратила основную силу и не столько скрепляет, сколь-
ко давит и калечит молодую поросль.
«Путь всякой плоти» — семейная хроника. Она охва-
тывает целое столетие, простираясь от конца XVIII ве-
ка до 80-х годов прошлого века. От поколения к поколе-
нию семьи Понтифексов неторопливо и мерно, лишь с
некоторым пространственным преимуществом в пользу
младшего, самого близкого ему возраста*, переходит ав-
тор. Повествование идет от лица литератора, некоего
мистера Овертона, наделенного биографическими черта-
ми Батлера. Повествователь делает всего лишь беглые
ссылки на исторические события, и легко может пока-
заться, что история в романе идет сама по себе, а жизнь
Понтифексов и героя книги — вне связи с нею: жизнь
четырех поколений не отражает больших событий и не
освещается их опытом. В то же время нетрудно заме-
тить, что смена поколений не проходит бесследно для
этого английского семейства: одни бытовые и психоло-
гические черты в нем утрачиваются, другие обретают си-
лу и становятся живучими. Понтифексы, из самой груди
которых, казалось, исторгся девиз «мой дом—моя кре-
пость», и в самом деле могут думать, что законы «се-
мейственности» превыше законов истории. Но совершаю-
щиеся в их среде перемены говорят о другом.
Первого Понтифекса, сердечного и трудолюбивого
плотника Джона, окружает обстановка патриархальной
непритязательности и простоты. Она уступает место
предпринимательской изворотливости, когда начинает
действовать его сын Джордж. Все душевные интересы и
силы этот хваткий делец и приобретатель подчиняет
карьере и материальному благополучию. «У него,— от-
мечает повествователь,— было необычайно сильное и
здоровое чувство metim (мое) и настолько слабое чувст-
во tutim (твое), насколько это вообще возможно».
134
Джордж становится главой крупной издательской фир-
мы, наживающейся на издании религиозных книг. Тео-
бальд Понтифекс, сын Джорджа, формируется в бес-
смысленном подчинении его деспотической воле.
То, что в характере Джорджа возникало как след-
ствие жестокой борьбы за материальный успех и могло
служить средством к цели, в его сыне закрепляется под
давлением и становится для него самоценным. Теобальд
тиранит своего сына Эрнеста уже по традиции, гнет и
ломает его душу из принципа и убеждения — принципа
ложного, убеждения ханжеского и самодовольного.
На эту традицию педантского и самодовольного ка-
лечения юных душ «во имя», «на благо» и в подража-
ние— во имя омертвевшего принципа, ради мнимого
блага истязуемого и в подражание образцам дутого со-
вершенства, Батлер обрушивается с неудержимой, но
отнюдь не слепой яростью. Предметом его анализа и
оценки служат не просто разительные факты и случаи,
а факты и случаи, построенные в систему, прослеженные
во взаимосвязях. Он пишет не об уродливых отклоне-
ниях от образца: сам образец в его реальном виде вы-
ступает у него как уродство. Теобальд Понтифекс в той
же мере образцовая модель сельского священника, в ка-
кой сэр Уилоби Паттерн — пример аристократа: оба они
в своем окружении слывут за идеал джентльмена. По
нравственным меркам церковников его времени Тео-
бальд Понтифекс — исполнительный и преданный ревни-
тель, ревнитель вероучения и религиозной нравственно-
сти, добросовестный пастырь и добродетельный супруг.
В его облике и служебных отправлениях нет ничего та-
кого, что бы равняло его с диккенсовскими монстра-
ми — истязателями и ханжами.
В смене его настроений как-то невольно дает себя
знать остаточный дух человечности, загнанный в под-
сознание. «В воскресные вечера Теобальд всегда бывал
в очень дурном расположении духа. Потому ли, что в
эти дни им особенно докучают соседи, или потому, что
они устали, или по какой-нибудь другой причине, но
только духовные особы редко бывают в хорошем на-
строении в воскресные вечера». Особый интерес пред-
ставляет в данном случае «другая причина», которую
нащупал и которой серьезно занят батлеровский психо-
логический зонд. Человечность, гонимая и истребляемая
135
сознательным небрежением и служебным ревнитеЛЬсТ-
вом, мстит за себя, вызывая «дурное расположение»,
«какую-то злость» и готовность выместить ее на своих
ближних, что и делает Теобальд в достопамятный вос-
кресный вечер, вымещая неосознанную злобу на хилой
спине Эрнеста.
Примерный духовный пастырь, несмотря на свою гу-
манитарную просвещенность, в силу взятой на себя ро-
ли и повседневной механики ее слепого и ревностного
исполнения оказывается сущим истязателем и ханжой,
воплощением жестокого и самодовольного педантства.
Батлер обрушивается не на одни лишь случаи, формулы
и авторитеты, но и на укоренившуюся систему взгля-
дов, на принятую и распространенную мораль, на со-
циальные институты — церковь, семью, школу, брак —
обрушивается с иронической и сатирической язвитель-
ностью, напоминающей то о Стерне, то о Свифте.
Батлер не был первым, кто схватил «викторианское
самодовольство за глотку и потряс его»б. Он сделал
это вслед за Мередитом, наблюдая, как самодовольство,
поощряемое лицемерием, куражилось над элементарным
благоразумием. Но он был первый английский писатель
новейшего времени, кто столь методически и решитель-
но начал встряхивать и прочищать мозги, ломая их при-
верженность религии и церкви. Мередит вовсе не брал
на себя этой задачи, вероятно, потому, что его лично
она не занимала. Сам он не мучился религиозными во-
просами и не писал о том, что не трогало близко его
сознание. Судьба не связала его, как Батлера, с цер-
ковной средой, ему не было прямой нужды разбираться
в противоречиях библейских текстов, в религиозных спо-
рах и церковных контроверзах. Перефразируя известное
изречение Вольтера, Пристли отметил важную черту ми-
роощущения Мередита — «чистого язычника»: «Если бы
не было эволюции, ему пришлось бы ее изобрести.
В этом,— пишет далее Пристли,— заметная разница
между Мередитом и его современниками. Для них эво-
люция ^явилась чем-то вроде слабительного, которое на-
до было либо проглотить, либо выплеснуть; принимали
они его или отказывались принять, они всегда чувство-
8 С. Е. load. Samuel Butler. L., 1924, p. 16.
136
вали себя неуверенно» наедине с природой и старались
улучить минуту, чтобы шмыгнуть под кровлю. «Вот по-
чему остается впечатление, что многие из них живут в
замкнутой вселенной, освещенной газовым светом», в то
время как у Мередита, который непринужденно принял
дарвиновскую теорию эволюции и «не был счастлив, ес-
ли не говорил о Природе», у Мередита в его книгах
«мы чувствуем впервые в викторианской литературе, что
светит солнце и дуют ветры». И в самом деле, извест-
ная изначальность, органичность независимого философ-
ского сознания заметно выделяла его среди современни-
ков в переходный период.
В отличие от Мередита, Батлер выстрадал свою сво-
боду от религии и свой скепсис. Он перенес тяжелую бо-
лезнь сознания, когда у него рушилась традиционная
система воззрений, и он заново конструировал свои
убеждения. В этом смысле Батлер — гораздо более зна-
менательное явление «рубежа веков», чем Мередит. В зна-
чительной мере потому, что так дорого досталась ему
свобода мысли, Батлер не мог освободить свой роман от
богословской темы, заполнившей многие его страницы.
Художественный текст он перебивает ироническим бого-
словским трактатом, прослеживая эволюцию религиоз-
ной мысли в Англии XIX века, борьбу церковных пар-
тий, проблемы библейской и евангельской критики:
«Здесь надо вспомнить, что 1858 год был последним го-
дом того периода, в течение которого внутренний мир
англиканской церкви странным образом оставался неру-
шимым. Между 1844 годом, когда появились «Следы
творения», и 1859 годом, когда «Опыты и обозрения»
отметили начало той бури, которая разразилась несколь-
ко лет позднее, в Англии не издано было ни одной кни-
ги, которая вызвала бы серьезное волнение в лоне цер-
кви...» (гл. XLVII) и т. д. Все это сказано в расчете на
осведомленного и заинтересованного читателя. Этому
читателю не надо было объяснять, что «Следы творе-
ния» — анонимно вышедшая книга, которая содержала
популярное изложение достижений геологии и палеонто-
логии, опровергавших библейские легенды о сотворении
мира, а «Опыты и обозрения» — сборник статей несколь-
ких авторов, которые отрицали боговдохновенность Биб-
лии и указывали на необходимость исторического изу-
чения библейских текстов.
137
Пожалуй, не трудно в самой личности и биографии
Батлера найти объяснение его пристрастия к богослов-
ской— точнее сказать антибогословской — теме и его
манере соединять роман с трактатом. Он сам подсказы-
вает возможность такого объяснения, последовательно
излагая историю жизни и творческих исканий своего
героя, в котором воспроизводит многие черты собствен-
ного облика. Эрнест Понтифекс упорно изучает богос-
ловские, метафизические и ученые сочинения сначала
с целью проверить достоверность Моисеевой космого-
нии и этики, а затем для того, чтобы создать собст-
венную систему устойчивых воззрений. «Когда я, — го-
ворит повествователь,— умолял его сделать пробу пера
над какой-нибудь изящной, грациозной повестушкой, ис-
полненной таких вещей, которые люди знают и любят
больше всего, он немедленно принимался работать над
трактатом об основах, на которых покоится всякое ве-
рование» (стр. 388). Батлер мыслил себя больше иссле-
дователем, теоретиком, публицистом, чем художником.
Он увереннее чувствовал себя, когда брался за трактат,
а не за роман, и вовсе не был склонен писать ходкие
повестушки. Однако то, что у Батлера могло быть по
преимуществу выражением склада ума и дарования,
явилось в переходное время заметной чертой литерату-
ры, особенно жанра биографического романа, когда,
опять-таки вслед за Мередитом, в нем обнаружилась
ощутимая потребность слить философскую мысль с худо-
жественной.
На Мередита и Батлера мог оказывать и оказывал
влияние, поддерживая эту потребность, ранний Томас
Карлейль, который в своем «Sartor Resartus», в жанре
вымышленной биографии, слив философский трактат с
романом, дал оригинальный образец романа-памфлета.
Сам тип карлейлевских памфлетных сравнений близок
повествовательной манере Батлера, когда он переходит
на тон иронии или сатиры.
«И что всего достойнее замечания, эти речи исходи-
ли из головы, по-видимому, не более в них заинте-
ресованной, не более их сознающей, чем изваянная из
камня голова на каком-нибудь общественном фонтане,
которая, сквозь вставленную ей в рот медную трубку,
извергает воду достойным и недостойным, не заботясь,
берут ли ее для приготовления пищи или для тушения
138
Пожаров, и даже сохраняя тот же серьезный, внима-
тельный взгляд, течет ли вода или нет» 6.
Этот тип уподобления по контрасту с остро коми-
ческим эффектом и в самом деле близок Батлеру, он
приемлет его, разнообразит и вместе с тем обновляет,
применяя способ литературного монтажа, как в том слу-
чае, когда, нарушая библейский канон, вложил кури-
тельную трубку в священные уста.
«Путь всякой плоти» — тоже в своем роде роман-
памфлет, в той части, где антибогословский трактат и
гротесковое публицистическое повествование оттеняют
достоверное художественное изображение. Пространные
рассуждения об эволюции и состоянии англиканской
церкви узко специальны, и, как ни потребны они были
автору, кажутся в романе, даже в романе-памфлете,
инородными. Другое дело те же церковные движения
и контроверзы, представленные в лицах, в столкнове-
нии характеров. Батлер останавливает внимание на ре-
акционных попытках английских церковников преодо-
леть обострившийся кризис христианской идеологии пу-
тем создания замкнутой и сильной касты, готовой пой-
ти на компромисс с наукой и с римской католической
церковью, с тем чтобы использовать ее организационный
опыт активного воздействия на массы. В романе возни-
кает эпизодический, но запоминающийся образ «рефор-
матора» Прайера, демагога и авантюриста, который
вдохновляет Эрнеста Понтифекса основать на его день-
ги «колледж духовной патологии, где молодые люди...
могли бы изучать свойства греха и способы его изле-
чения так, как студенты-медики изучают телесные неду-
ги своих пациентов» (стр. 290).
Несмотря на специфичность и локальность конкрет-
но-исторической ситуации, действующие в ней лица, да-
же эпизодические — Прайер, евангелический проповед-
ник Гедеон Хаук, студент-симеонист Бэдкок — при всей
гротескности их фигур, обрисованы с психологической
убедительностью, выражают типические черты деловито-
авантюристического, восторженно-делового или востор-
женно-фанатичного карьеризма, эксплуатирующего вы-
сокие идеи и слепую веру.
6 Т. Карлейль. Sartor Resartus. М., 1904, стр. 19.
139
Никто из современников Батлера не обсуждал с та-
кой крайней резкостью проблему отцов и детей, как
это делал он, автор романа «Путь всякой плоти». Батле-
ровская ересь выступает обычно в форме иронических
или язвительных парадоксов; столь же ироническими
или язвительно-вызывающими были его парадоксальные
аргументы: «Человек впервые начинает ссориться со сво-
им отцом приблизительно за девять месяцев до своего
рождения. Именно тогда он требует, чтобы ему дали
возможность устроиться по-своему. И после этого, чем
полнее бывает окончательный разрыв, тем лучше для
обеих сторон» (стр. 413). Повествователь мистер Овер-
тон проповедует идею «окончательного разрыва», и у ге-
роя, им опекаемого, «желание окончательного разрыва»,
после колебаний и мучительных сомнений, разрастается
«до размеров чего-то похожего на страсть», и он мечта-
ет о «блаженстве» библейского царя ^Мелхиседека, «ко-
торый родился на свет сиротой, без отца, без матери и
без предков» (стр. 352—353).
Той же крайностью выводов и парадоксальностью
аргументов отмечено обсуждение в батлеровском романе
институтов семьи и брака. Исходную причину целого
комплекса душевных травм и мук, повлиявших на всю
его жизнь, герой связывает с семьей, с выработанной в
ней традицией удушающей опеки и давления на юные
создания. Этой опекой и давлением он объясняет свою
неспособность примениться к обстоятельствам, действо-
вать осмысленно и уверенно, испытываемую им горечь
ложного стыда и нелепость многих своих поступков. Те-
зис — «современная семья представляет собой пережи-
ток» — он формулирует, побуждаемый личным горьким
опытом и накипевшим возмущением, подкрепляя его
ссылками на естественный закон: «Несомненно, самой
природе не свойственна постоянная склонность к семей-
ной системе. Произведите всеобщее голосование среди
биологических форм, и вы увидите, что система эта
останется в меньшинстве, ничтожном до смешного»
(стр. 141—142).
Казалось бы, не может быть двух мнений относи-
тельно позиции героя, повествователя и самого автора,
когда они ведут обсуждение всех этих вопросов.
И все же в случае с Батлером требуется особая
осмотрительность при выработке твердого и убедитель-
но
ного вывода. Во-первых, герой, повествователь и автор,
при всей близости их точек зрения, не одно лицо; во-
вторых, «материал обсуждения» шире крайних и катего-
ричных суждений, которые высказывает Эрнест Понти-
фекс или мистер Овертон; в-третьих, нельзя не учиты-
вать склонности Батлера к мистификации и его намере-
ния. эпатировать читателя.
Если те же «проклятые» для Батлера и его героя во-
просы отношения поколений, семьи, брака рассмотреть
в сложном контексте всего романа, то крайние и кате-
горичные по ним суждения утратят прямолинейность и
однозначность.
«У Шекспира отцы и сыновья большей частью быва-
ют друзьями и зло дошло до последних пределов мерзо-
сти не раньше, чем пуританизм приучил людей видеть в
библейских идеалах тот образец, которому мы должны
по возможности подражать в нашей повседневной жиз-
ни» (стр. 54).
Очевидно стремление автора подойти к обсуждаемо-
му явлению исторически и указать на причины и след-
ствия. «Церковный катехизис много виноват в дурных
отношениях, обычно существующих между родителями и
детьми» (стр. 64). В семействе Понтифексов церковный
катехизис со временем начисто вытеснил естественность
и благоразумие из отношений родителей и детей. Это
пример обычного, возведенного Батлером в степень ти-
пического. Но он знает и другие примеры, опровергаю-
щие всевластие церковного или иного какого мертвяще-
го катехизиса. Контрастный пример, мелькающий на стра-
ницах романа, представляет трудовая семья лодочника,
которому Эрнест отдает на воспитание своих детей. Она
обрисована в самых общих чертах, это всего лишь на-
мек на иной образец, но намек этот есть и вынуждает
обратить на себя внимание.
В самой манере обсуждения сложных и наболевших
проблем у Батлера нередко сказывается раздраженная и
язвительная рефлексия, ошеломляющая бравада, воз-
буждаемая горечью перенесенного и не изжитого стра-
дания.
«В самом деле, почему поколения должны перепле-
таться одно с другим? Почему не складывают нас, будто
яйца, в уютных маленьких келейках, завернутыми в банк-
ноты Английского банка — тысяч этак по десять или гто
141
двадцать на брата? И почему не пробуждаемся мы, как
оса, которая узнает, что ее папа и мама не только оста-
вили ей изрядный запас для пропитания, но и сами были
благополучно съедены воробьями за несколько недель
до того, как она должна начать жить сознательной
жизнью за свой собственный счет?»
В переплетении неожиданно хлестких риторических
вопросов глубокая мысль соединяется с болезненной до-
садой, с полускрытым озлоблением, а дерзкая ирония с
чисто эпатирующим вызовом. Вот почему не всегда лег-
ко различить, когда автор говорит серьезно, когда
шутит, а когда мистифицирует. Из этого не следует,
что столь же трудно различить основное направление
его критической мысли, оно прочерчено рельефно и без
колебаний.
Хроника Понтифексов вполне семейная, вполне част-
ная, вполне обычная, однако она прослежена с незау-
рядным умом и талантом, что придает ей широкую зна-
чимость: занявшись сугубо бытовой сферой, Батлер об-
наружил на этой ткани явственные симптомы сквозной
гнилости. В романе попадается минутная, без нарочи-
тости аллегория. Повествователь, слушая семейную мо-
литву и наблюдая поразительную безучастность всех при-
сутствующих к обряду, вспоминает виденных им однаж-
ды пчел, которые приняли рисованные на обоях цветы за
настоящие и тщетно ползали по ним в поисках нектара.
«Когда я вспоминаю,— заключает Батлер,— о се-
мейных молитвах, которые повторяются утром и вече-
ром, из месяца в месяц, из года в год» — а к молитвам,
следуя авторской логике, можно прибавить множество
других с таким же механицизмом совершаемых граж-
данских, государственных, общественных отправлений,
освященных громкими фразами,— «мне трудно отделать-
ся от мысли,— продолжает автор,— что они похожи
на ползание пчел вверх и вниз по стене, от цветка к
цветку, причем ни одна из пчел не догадывается, что не-
смотря на наличие столь многих прочно связанных меж-
ду собою признаков, основной признак, главная идея
может отсутствовать безнадежно, исчезнуть навсегда»
(гл. XXIII).
Именно такое умерщвляющее отсутствие главной, ру-
ководящей, т. е. жизнеспособной, идеи и обнаружил Бат-
лер в «викторианском» укладе, несмотря на внушитель-
142
ный, казалось бы, ряд отдельных^признаков— процвета-
ние, прогресс и т. п. \
Сквозь детальное описание семейной жизни приход-
ского священника Теобальда Понтифекса проступает не
только история злоключений его сына, но также его на-
стойчивые стремления отстоять свое «я».
Батлер по-своему и по-новому определяет субъектив-
но-психологическую основу сопротивления «катехизису»,
внутреннюю опору бунта против омертвевшей системы
воззрений и высвобождение из-под ее власти. Он дела-
ет это, отвечая на свой же вопрос: почему герой его ро-
мана, инфантильный, особенно поначалу такой робкий и
хилый, почему он, выращенный викторианством по об-
разцовому стандарту, оказывается, вопреки всем расче-
там и ожиданиям, его убежденным противником и обли-
чителем? Если бы автор исходил из представлений эпо-
хи Просвещения, литература которого оказала на него
влияние, если бы пользовался ее терминологией, то, ве-
роятно, он ответил бы определительно и отвлеченно: при-
чина всему природа, «естественное начало», оно подгото-
вило сопротивление условному началу и одержало над
ним победу. Батлер не отвергает идею «естественно-
го человека», но трактует проблему по-своему и в
новых понятиях — «сознательное» и «бессознательное».
Уже в начале романа, в пятой главе, он отмечает прин-
ципиальное значение бессознательного в судьбе че-
ловека и новизну этого взгляда: «...есть некоторая доля
истины в том утверждении, которое впервые было вы-
двинуто в наши дни и гласит, что как раз наши наи-
менее сознательные мысли и наименее сознательные по-
ступки преимущественно влияют на нашу жизнь и на
жизнь тех, кто произошел от нас». В дальнейшем, в главе
XXXI, повествователь рассуждает о двойственности лич-
ности, о сознательном и бессознательном «я», воспроиз-
водя монолог бессознательного «я» Эрнеста, которое на-
зывает себя «истинным Я».
Сам факт пристального внимания Батлера к бессо-
знательному указывает на его принадлежность к лите-
ратуре «рубежа веков». Теоретические размышления пи-
сателя о роли в жизни человека неосознанных чувств и
стремлений, отражение его выводов и догадок на этот
счет в художественной практике, особенно в предмете и
приемах психологического анализа, вызвали в дальней-
143
шем большой интерес и разноречивые толкования со сто-
роны не одних только литераторов. Некоторые высказы-
вания в том же романе «Путь всякой плоти» и в самом
деле могли быть использованы как повод, чтобы отнес-
ти его автора к числу родоначальников современных
форм иррационализма. В романе, например, сказано:
«Быть может, есть люди, ничуть не зависящие от свое-
го прошлого и своего окружения и одаренные внутрен-
ней силой почина, не обусловленного никакими предпо-
сылками». Для самого Батлера это был «трудный вопрос»,
и он предпочитал «оставить его в стороне» (стр. 50).
В то же время он настойчиво подчеркивал значение
«предпосылок», зависимость человека от прошлого и окру-
жающей среды, сложность самоопределения и задач вос-
питания. Ему претил упрощенный позитивизм во взгля-
де на человека, на его биологическую и социальную при-
роду, и он склонен был утверждать, что «жизнь нельзя
свести к точной науке» (стр. 338).
«О, конечно, человек гордится своей сознательно-
стью»,— полемически и не без горькой иронии воскли-
цал Батлер. «Но как мало мы знаем наши мысли... не
наши обдуманные поступки, но наши затаенные размыш-
ления» (гл. V).
Батлер не интуицию противопоставлял разуму, а ра-
зум и здоровую интуицию — неразумию, невольному, по
невежеству или незнанию, а то и расчетливому, лице-
мерному и самодовольному. Он не мирился с тем уров-
нем, до которого был низведен разум в общественных
институтах, на страницах печати и в житейской практи-
ке. Достаточно сослаться на одно из его сравнений, на-
глядных и точных, простых, даже грубоватых и одно-
временно художественно изящных, чтобы почти физиче-
ски ощутить душевную оскомину, побуждавшую его от-
ворачиваться от духовной пищи, которой в семье и
школе питали его самого и питают его героя.
«Я, — рассуждает повествователь, прослеживая эво-
люцию Эрнеста Понтифекса,— однажды видел малень-
кого жеребенка, пытавшегося есть какие-то весьма сом-
нительные отбросы и неспособного решить, годятся они
в пищу или нет... Жеребенок был бессилен самолично
решить этот вопрос или хотя бы понять, нравится или
не нравится ему такого рода корм. Я полагаю, он поне-
множку раскусил, в чем дело, но с немалой потерей вре-
144
мени и с разными неприятностями, от которых один ма-
теринский взгляд мог его избавить...
Мой злополучный герой в это время чувствовал се-
бя, как упомянутый жеребенок, или, вернее, так, как же-
ребенок должен был себя чувствовать, если б мать его
и все взрослые кони на лугу поклялись ему, что он про-
бует наилучшую и самую питательную пищу, какую
только можно найти где бы то ни было» (стр. 303).
В этом метком сопоставлении нельзя не почувство-
вать свифтовской язвительной иронии, выраженной с за-
метным чувством личной горечи автора.
Драма героя у Батлера «зачинается в семействе»,
почти «не выходит оттуда», но уже нельзя сказать, что
она «там же и заканчивается». Намечается иной путь ее
развития, путь преодоления узких семейственных рамок.
Пафосу викторианской семейственности Батлер противо-
поставляет пафос личности, рвущейся к свободе, стремя-
щейся произвести переоценку ценностей и самостоятель-
но определить «жизненный путь». Эта направленность
романа выражает характерные устремления, которые ска-
зываются во многих произведениях английской литера-
туры последней трети XIX века и более позднего време-
ни. В романе «Путь всякой плоти» выявились как силь-
ные, так и слабые стороны критики викторианской
идеологии и пафоса самоутверждения личности.
В классическом жанре семейно-биографического ро-
мана у Батлера возникает и развертывается сюжет, опре-
деляющий длительное и острое столкновение личности
и общества. Эрнест Понтифекс проходит через искуше-
ния и нелегкие испытания, общаясь с разными сферами
частной и общественной жизни. Не столько в силу об-
стоятельств, сколько в силу субъективных устремлений,
особенностей своего характера, он попадает в положе-
ния, которые вынуждают его спускаться все ниже и
ниже по социальной лестнице, так что он получает воз-
можность самым непосредственным образом, без турист-
ского верхоглядства, ознакомиться с социальным рас-
слоением и взглянуть на жизнь с разных точек зрения,
не исключая состояния почти безнадежной нищеты. Не-
смотря на превратности судьбы, на неожиданность и тя-
жесть испытаний, Эрнест Понтифекс не утрачивает жиз-
нелюбия и оптимизма. Жизненный путь батлеровского
героя отмечен непокорством, дерзостью мысли, бесстра-
145
шием практического опыта. Он и хочет и вынужден са-
моопределиться, и самоопределяется вне своей социаль-
ной среды, после серьезной встряски. Он не мог бы об-
рести духовную самостоятельность и независимость суж-
дений без перемены в условиях жизни и нравственного
потрясения. Сам сюжет романа и эволюция героя указы-
вают на эту обязательность и неизбежность перемен.
Композицию и сюжет романа «Путь всякой плоти»
определяет важная особенность в его замысле: самооп-
ределение героя — самоопределение одиночки — проис-
ходит под знаком эксперимента, направление которого
и благополучный исход предрешены заданными условия-
ми и принятыми мерами. Завещание тетки героя Христи-
ны Понтифекс гарантирует ему, по достижении известно-
го возраста, материальную обеспеченность, а ее друг
и душеприказчик мистер Овертон в критическую минуту
готов выступить в роли ангела-хранителя. Так что самые
рискованные поступки Эрнеста Понтифекса и самые тя-
желые затруднения не могут повлечь за собой роковых
последствий. Он плавает по бурному житейскому морю,
а с ясных небес наблюдает за ним недремлющее око
всеведущего наставника мистера Овертона, который,
комментируя ход событий, отстаивает, особенно упорно
во второй части романа,позицию эпикурейца и неизмен-
ного скептика.
При всей значительности эволюции героя движущим
ее мотивом, оказывается потребность выявления лично-
го призвания и самоутверждения, не преодолевающего,
однако, буржуазного индивидуализма.
Повествователь ведет, говоря словами Пушкина, «ра-
зумный толк без пошлых тем, без вечных истин, без же-
манства», но в конце книги сатирический тон снижается,
ирония мельчает и тускнеет и некоторые парадоксы и
афористические высказывания, до того острые, меткие
и содержательные, оказываются легковесными, звучат
игривым, даже пошловатым смешком («Кто, кроме пу-
стоватого' самодовольного фата, станет намечать себе
возвышенные цели или принимать благородные реше-
ния». «Кто может любить человека, у которого печень не
в порядке» и т. п.).
Порой кажется, что обличительная ирония сдается
под нажимом буржуазного «здравого смысла». «Я сог-
ласен, что наиболее серьезные потери, которые могут вы-
146
пасть на долю человека, касаются его денег, здоровья и
чести. Потеря денег хуже всего; затем следует болезнь
и, наконец, потеря чести. В этом перечне зол потеря де-
нег стоит на переднем месте: если человек сохранил здо-
ровье и деньги, то почти всегда выясняется, что потеря
чести вызвана лишь нарушением каких-нибудь пошлых
условностей, а не отступлением от тех более древних и
устойчивых канонов, авторитет которых совершенно не-
зыблем». Эти рассуждения повествователя мистера
Овертона воспринимаются иронически, но история жиз-
ни его крестника Эрнеста Понтифекса в связи с окон-
чанием его злоключений и наступлением поры благоден-
ствия дает основание принимать иронический афоризм
за вывод житейской мудрости.
Среди множества характеристик, доставшихся на до-
лю Батлера, одна из них, отличаясь несомненной автори-
тетностью, в то же время выглядит неточной. Это слова,
отнесенные Батлером в собственный адрес. Он как-то
назвал себя «enfant terrible» — «ужасным ребенком»
английской литературы. Между тем это широко распро-
страненное обозначение литературных бунтарей к Бат-
леру с его особенностями не вполне применимо. Он был
бунтарем и даже скандалистом, но по-своему.
По словам Бернарда Шоу, «Батлер ненавидел из
принципа все, что не было близким ему по духу». Ка-
залось, он не ставит границ этому принципу, предпочи-
тая в единственном числе держаться особого мнения.
Романы Диккенса он называл «литературным хламом»
и тем же способом мог расправиться с кем угодно. «Он
ополчался против всех авторитетов и всех кумиров своей
эпохи — против Диккенса, Карлейля, Гете, Бетховена,
Вагнера, Дарвина, даже против Шекспира, Бэкона, Дан-
те и греческих трагиков. Иногда простая бравада про-
тив банальности ходячих оценок звучала в этих задор-
ных полемических выпадах. Еще чаще их подсказывало
раздражающее сознание собственной творческой инди-
видуальности, такой богатой, но не выявленной до
конца»7.
Однако бунтарство Батлера не отмечено характерной
для «ужасных детей» скороспелостью, импульсивностью.
7 «Жизненный путь». Вступительная статья, стр. 12.
147
«Ужасные детй» — это, как правило, подобно Чаттерто-
ну и Рембо, рано созревшие натуры, мгновенно сгораю-
щие; своей судьбой и своим существом, обычно изло-
манным, они бросают вызов отторгнувшему их общест-
ву. В основе своей критицизм Батлера, также необы-
чайно резкий, вулканического накала, является более
глубинным и сознательным. Даже замедленное призна-
ние Батлера, какое обычно не выпадает на долю «ужас-
ных детей», вызывающих мгновенную реакцию, подчер-
кивает далеко идущий характер сделанных им разобла-
чений.
Этот своевольный и разносторонний талант, ориги-
нальный мыслитель, дерзкий критик и полемист лишь
после смерти — и то не сразу — получает прочное при-
знание своих достоинств и заслуг. Признание отнюдь не
общее, как обычно бывает с классиком, и даже не столь
широкое, как может показаться при первом впечатлении
от издания его книг и возрастающих исследований его
творчества. Только в 20-х годах Батлеру и его роману
«Путь всякой плоти» было отведено надлежащее в исто-
рии английской литературы место.
Многое в судьбе Батлера можно объяснить остротой
его критики, эксцентризмом мысли и характера. Он сам в
лице повествователя на последних страницах романа
«Путь всякой плоти», рассказывая о литературной дея-
тельности героя, характеризует свою позицию, особен-
ность своего дарования и предсказывает судьбу своего
литературного наследства.
Мистеру Овертону хотелось, чтобы его крестник «пи-
сал, как все, и не оскорблял столь многих своих чита-
телей; а он говорит, что так же не может изменить свою
манеру письма, как цвет своих волос, и что он должен
писать, как пишется, или не писать вовсе».
«Признают, что у него есть талант, но слишком при-
чудливый и непрактический, и как бы серьезен он ни
был, его постоянно обвиняют в том, что он шутит».
Он «homo unius libri», т. е. человек, написавший
только одну, достойную внимания книгу. Он писал в на-
дежде, «что, быть может, младшее поколение станет
слушать его охотнее, чем нынешнее»8. Предсказание
Батлера сбылось.
8 «Жизненный путь», стр. 476, 477, 478.
148
«В историй английской интеллигенции Батлер играет
роль своего рода Иоанна Крестителя. Влияние его было
одинаково сильно на прогрессивную и на богемную ин-
теллигенцию и на широкие слои новых поколений бур-
жуазии вообще» 9.
Для многих писателей XX века Самюэль Батлер —
как бы исходная фигура. Бернард Шоу, Ричард Олдинг-
тон, Скотт Фитцджеральд ссылались на Батлера как на
авторитет и своего предшественника 10. Влияние Батлера
обнаруживается в романе Герберта Уэллса «Мир Уиль-
яма Клиссольда», в «Клейхенгере» Арнольда Беннета,
а также у Джеймса Джойса, Сомерсета Моэма, Д. Г. Лоу-
ренса.
Сколь бы ни запоздало признание Батлера, он
безусловно принадлежит своему времени. Более того,
именно он в пределах намеченного периода — один из
первых.
Самюэль Батлер наряду с Джорджем Мередитом
формирует новый тип английского психологического ро-
мана, во многом предопределяя развитие английского
романа XX века.
ОСКАР УАЙЛЬД
Существо взглядов Оскара Уайльда связано со мно-
гими явлениями не только английской, но и западной ли-
тературы вообще. Он не скрывал подобной родственно-
сти и даже подчеркивал ее, называя целый ряд близких
себе имен. Его авторитеты — Эдгар По, Бодлер, Теофиль
Готье. Подобно едва ли не всем английским литерато-
рам не только своего, но и более раннего поколения,
Уайльд прошел школу Джона Рёскина (1819—1900). Ес-
ли молодой Томас Гарди читал его «Современных ху-
дожников» в начале 60-х годов, то молодой Уайльд взял-
ся за эту книгу в конце 70-х — начале 80-х годов. Он вос-
принимал суждения Рёскина как философию индивиду-
9 Д. Мирский. «Интеллиджентсиа». М., «Сов. лит-ра», 1934, стр. 29.
10 «Мне особенно понравилось то место, где отец Эрнеста «отвернул-
ся» (см. гл. LXXXIIL—М. У.), чтобы скрыть отсутствие чувств.
Бог мой, как точно схвачена ненависть в этих строках». «Всякий
молодой писатель должен прочесть «Записные книжки Батлера»».—
«Letters of F. Scott Fitzgerald». N. Y., 1963, p. 139.
149
альности, борющейся против буржуазной стандартиза-
ции и воинствующего практицизма. Тем более близка
стала Уайльду книга, сменившая или продолжившая в
его представлении «Современных художников»,— «Ре-
нессанс» Уолтера Патера *.
«Личность — вот в чем все наше спасение»,— эту
мысль Уайльд вычитал в очерках Патера прежде всего,
а также многие другие суждения о существе искусства,
о его отношении к реальности, об эстетическом идеале,—
суждения, которые он, усвоив и принарядив, столько раз
заставлял совершать головоломные прыжки. Уайльд не
отказывался от этой преемственности и просто зависи-
мости. И если в своей ранней лекции «Ренессанс англий-
ского искусства» он ссылался на некоего «величайшего
из нынешних критиков» (1881), еще не приводя имени,
то позднее Уайльд говорил, что Патер — единственный,
чье влияние на себя он признает. Влияние Патера на
Уайльда было, конечно, далеко не единственным,
но все же наиболее непосредственным. Имена, на кото-
рые также ссылался Уайльд, он принял из рук Патера:
того же Гете или Байрона он по существу понимал так,
как они были истолкованы Патером.
Оксфордский преподаватель Уолтер Патер (1839—
1894) выступил с рядом поправок к тезису, которым
обозначалась общепринятая и будто бы вполне бесспор-
ная цель истинно критической и творческой деятельно-
сти: «Видеть вещь такой, какова она есть в действи-
тельности». Этот взгляд Патер находил излишне прямо-
линейным, статичным и как бы притупившимся в услови-
ях, когда широко распространилась убогая дидактиче-
ская назойливость, а за правдивость сходило в литерату-
ре бытовое подобие. Точнее, Патеру казалось, что меры
критической объективности, позволяющей судить явле-
ния такими, «каковы они есть», слишком стерлись и рас-
шатались, и он, новый законодатель, считал нужным
«пришпорить человеческий дух, толкая его к неустан-
ному и усердному наблюдению».
«Каждому из нас,— писал Патер в «Заключении»
своей книги, которое было принято как манифест эстет-
1 В первом издании этот сборник этюдов, посвященных по преиму-
ществу итальянским художникам и поэтам эпохи Возрождения,
имел описательное название «Очерки по истории Ренессанса»
(1873).
150
ства,— уделено определенное число биений пульса мно-
гоцветной драматичной жизни. Можем ли мы постоянно
замечать все, для чего требуются утонченнейшие чувст-
ва?» Патер отвечал призывом: «Всегда гореть сильным,
ярким, как самоцветный камень, пламенем, всегда со-
хранять в себе этот экстаз»...2
В погоне за множеством переменчивых оттенков Уол-
тер Патер уповал на скрытые силы личности. В проти-
вовес застойному самодовольству буржуа критик утвер-
ждал: «Современная мысль все более приобретает тен-
денцию рассматривать все вещи и свойства вещей, как
непостоянные формы и образы. Обращаясь к внут-
реннему миру мыслей и чувств,— продолжал Патер,—
мы видим вихрь еще более стремительный, пламя еще
более ненасытное. Это уже не постоянное слабение глаз,
выцветание краски на стене, движение воды у берега,
где она кажется особенно стоячею,— нет, это бурное те-
чение по середине реки, поток мгновенных движений
мысли и сердца» 3"4.
Патер до конца прослеживал намеченную им тен-
денцию. Если довериться этой стремительности, этому по-
току, рассуждал он, то на первых порах хаос от-
дельных явлений захлестнет наблюдателя. Затем, одна-
ко, по мере того, как мы начинаем размышлять об этих
предметах, «они рассеиваются», т. е. утрачивают в гла-
зах наблюдателя метафизическую расчлененность: «Си-
ла сцепления словно волшебством перестает действо-
вать».
Патером намечалась в английской эстетической мыс-
ли импрессионистическая расплывчатость, размытость
очертаний, динамика цветовых и эмоциональных перехо-
дов, так складывался новый ритм в изобразительном
движении, устанавливался принцип «сцепления», особен-
но раскрывшийся в психологизме литературы новейшего
времени. Патер повлиял не только своими критическими
суждениями. Его небольшой психологический этюд, ав-
тобиографически достоверный «Ребенок в доме», постро-
енный как раз на смене впечатлений, читали многие
2 Вальтер Патер. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. Пер.
С. Г. Займовского. М., изд. «Проблемы эстетики», 1912, стр. 191—
192.
3-4 Там же, стр. 189—190.
151
английские писатели, принимаясь уже в XX столетии за
«историю души»: и Джойс, автор «Портрета художника
в молодые годы», и Д. Г. Лоуренс, автор «Сыновей и
возлюбленных», и Ричард Олдингтон, автор романа «Все
люди — враги».
Естественно, что с этих новых позиций Патер по-осо-
бому отвечал на решающие творческие вопросы, кото-
рые были им сформулированы следующим образом:
«Что же означает для меня такая-то песня или картина,
тот или иной пленительный образ книги или жизни?
Как он действует на меня? Дает ли он мне наслажде-
ние, и, если да, то каков род или степень этого на-
слаждения? Как изменяется моя натура в его присутст-
вии или под его влиянием?»
Как мог отвечать на эти вопросы Патер, остерегав-
шийся понятийной определенности? В каком свете или
смысле могло представляться общественное значение ли-
тературы критику, подчеркнуто выделявшему «я»?
Здесь-то и оказывалась главным принципом неулови-
мость или, вернее, погоня за неуловимостью — неулови-
мостью красоты, искусства.
«Популярная художественная критика,— писал он,—
делает ту ошибку, что рассматривает различные формы
искусства — поэзию, живопись и музыку — так, словно
они лишь переводы определенного, твердо установлен-
ного идейного содержания на различные художествен-
ные языки при помощи определенных технических средств
выражения: в живописи — посредством красок, в му-
зыке — посредством звуков, а в поэзии — посредством
ритмического сочетания слов»5. При этом, гтолагал Па-
тер, ускользает «собственно художественный элемент
всякого искусства». Со своей стороны он считал пер-
вейшей задачей эстетической или творческой критики
постижение творческого процесса в синтезе, раскрытие
художественного мира как бы изнутри. Даже особен-
но распространенное и будто бы само собой разумеюще-
еся разграничение на «форму» и «содержание» он со-
ветовал производить с полнейшей осторожностью или не
касаться этой грани вовсе, потому что сколько-нибудь
грубое с ней обращение могло повести к искажению и
содержания и формы. «Идеальные примеры поэзии или
5 Вальтер Патер. Указ, соч., стр. 103,
152
Живописи — это тё,— писал он,— В которых все состав-
ные части так тесно переплетены между собой, что ма-
териал или сюжет действует уже не только на интел-
лект, а форма — не только на глаз или ухо; но форма
и смысл в своем единстве или тождестве действуют как
нечто цельное на «фантазирующий разум»...»6.
Патер обладал острым эстетическим чувством, улав-
ливал новые явления в художественном восприятии и
изображении, его выступления против «популярной ху-
дожественной критики», т. е. в данном случае против
упрощенного и вульгарного толкования произведений
искусства, были метки и основательны, но, в противовес
распространенным стандартам и схемам благонамерен-
ной и охранительной викторианской критики, он выдви-
гал субъективный принцип оценки, основанный на лич-
ном впечатлении. Патер склонен был пренебрегать эти-
ческим содержанием искусства и, как он ни подчеркивал
мысль о нераздельности содержания и формы в подлин-
ном произведении искусства, обнаруживал невольное
пристрастие к «собственно художественному элементу».
К Патеру и его книге «Ренессанс» тянулись эстеты
и декаденты, сгруппировавшиеся в середине 90-х годов
вокруг эстетских журналов «Желтая книга» и «Савой».
Среди восторженных почитателей Патера были поэты-
символисты Артур Саймонс (1865—1945), Джон Дэвид-
сон (1857—1909), художник Обри Бердслей (1872—1898)
и многие другие, исповедывавшие патеровский культ
красоты.
Чуть ли не каждая страница Уайльда и, во всяком
случае, каждое из его произведений — рассказов, сти-
хов, сказок или лекций — преломляет или повторяет су-
ждения Патера. Уайльд следом за Патером призывал
художников освободиться от «оков голого рассудка» и
свел в конце концов этот протест к вызывающей фор-
муле: «Всякое искусство совершенно бесполезно». Че-
рез Патера он приобщился к школе прерафаэлитов.
Деятельность «Прерафаэлитского братства» относит-
ся к более раннему периоду, она развернулась на ис-
ходе 40-х и в течение 50-х годов. Ни Патер, ни даже
Берн-Джонс, ни Моррис, молодые в ту пору художники,
о деятельности котовых с таким увлечением рассказы-
6 Там же, стр. ПО.
153
вал в своих лекциях Уайльд, не принадлежали собствен-
но к «Братству». Тем более не входил в него сам Уайльд.
Но все они и в практическом, и в духовном отношении
были тесно связаны с кружком Д. Г. Россетти. Патера
часто именуют «пассивным главой эстетства», поскольку
он почти не прерывал уединенной жизни в Оксфорде и
воздействовал на тех же прерафаэлитов в позднюю их
пору своими писаниями. Берн-Джонс и Моррис, заявив
о своем родстве с прерафаэлитами, отметили, как
подчеркнул Уайльд, новый этап в развитии их прин-
ципов; Моррис, говорил Уайльд, «заменил упро-
щенный реализм ранних дней более тонкой изыскан-
ностью...» 7 Уайльд истолковал крайне суженно новатор-
ство Морриса, который будто бы только усовершенст-
вовал «плотский мистицизм» прерафаэлитов; он вообще
вышел далеко за рамки их движения. Уайльд толковал
творчество Морриса так однобоко потому, что его само-
го занимали в деятельности прерафаэлитов лишь неко-
торые стороны, а к иным он отнесся без внимания или
даже с неприязнью. И все же, сколь по-разному ни при-
надлежали эти художники, поэты, литераторы, знатоки
искусства к сфере интересов, выдвинутых «Братством»,
они испытывали известное единодушие в определенных
склонностях и устремлениях.
Уайльд не обнаруживал, например, особенного энту-
зиазма во взгляде на Средневековье, какой отличал
вообще прерафаэлитов, хотя -он и упрекал (опять же
следом за Патером) Рафаэля в «поверхностных отвле-
ченностях» и превозносил «реализм могучего воображе-
ния», «реализм тщательной техники» старых, дорафаэле-
вых мастеров. Воспоминания или, лучше сказать, некие
иллюзорные представления о «старой веселой», средне-
веково-общинной Англии не отзывались в Уайльде ост-
рой национальной болью, какую вынашивали в пору ре-
шительного буржуазного прогресса многие сугубо анг-
лийские головы.
Интерес к средним векам не замыкался тогда в уз-
ком эстетстве и отличал не только прерафаэлитов. Эта
идеализация доренессансных времен, культ старины, и не
одна только идеализация, но, по существу, более при-
стальное внимание к этой стране, представлявшейся за
7 О. Уайльд. Поли. собр. соч.,. т. IV. СПб., 1912, стр. 131.
154
гранью Ренессанса столь беспросветно мрачной, само
стремление отыскать в готической строгости оттенки,—
все это было формой неприятия буржуазного прозаизма
и делячества. Ибо новейшее торгашеское «преуспеяние»
выставляло себя в прямые наследники «величайшего
прогрессивного переворота» (Энгельс). Буржуазная ис-
ториография — и не только в Англии (например, Якоб
Бурхард в Германии)—укрепляла этот пафос, аполо-
гетически превознося Возрождение, находя в нем отда-
ленные начала позднейших успехов «третьего сословия»,
предвестие триумфа среднего класса. Против этих вуль-
гарных претензий в общеевропейском масштабе и на-
правлено, в частности, известное замечание Энгельса о
том, что «люди, основавшие современное господство бур-
жуазии, были чем угодно, но только не буржуазно огра-
ниченными» 8. Классики марксизма неоднократно описы-
вали и раскрывали существо этого парадокса истории.
Многие деятели английской культуры принимались от-
рицать Ренессанс в борьбе с наступлением буржуазного
прогресса. Так, Томас .Карлейль, сравнивая Англию XII
и XIX веков, отдавал предпочтение первой, звал на-
зад— к рыцарскому героизму, Джон Рёскин ставил под
сомнение успехи цивилизации и превозносил патриар-
хальный уклад жизни. Д. Г. Россетти и его союзники по
«Прерафаэлитскому братству», отворачиваясь от без-
вкусного великолепия викторианства, обращались к про-
стоте и строгости Средневековья, воспевали Артуров
век.
«Жизнь слишком серьезна, чтобы о ней говорить
серьезно»,— заметил однажды Оскар Уайльд, и весь он,
острый наблюдатель, необычайно талантливый на слова,
способный рассматривать вещи пристально и будто не
желающий утруждать себя этим, раскрылся в этом па-
радоксальном афоризме.
Уже поверженный Уайльд набросал в тюремной ис-
поведи вполне четкий свой портрет и обозначил свою
трагедию. Он произнес там знаменательные слова:
«Я сам погубил себя». Точно так же существенно его
признание: «Между мной и между искусством и культу-
рой моего века была символическая связь»9.
8 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 1, стр. 346.
9 О. Уайльд. Поли. собр. соч., т. II, стр. 246—247.
155
Оскар Уайльд (1856?—1900)—сын знаменитого ир-
ландского хирурга, человека весьма эксцентрического,
и англичанки-поэтессы, в изысканном салоне которой
прошло его детство и юность. Студент Дублинского уни-
верситета, а затем слушатель лекций Рёскина в Окс-
форде. Лондонский парижанин по дальнейшему образу
жизни, европейский фланер, блуждающий по Италии
или Греции, миссионер-декадент в США, с волосами до
плеч и в панталонах до колен, читающий эстетские лек-
ции бостонским студентам и колорадским шахтерам. На-
следник дендизма, прославленный парадоксалист, испо-
ведующий и теории прерафаэлитов и христианский со-
циализм, автор изысканно чеканных стихов, причудли-
вых сказок и блистательных комедий, которые приносят
ему феерический и быстротечный успех. Литератор, вла-
деющий кристальной английской прозой. Извращенный
человек, обращающий свою порочность в скандальный
протест, дважды судимый. Затем узник, облаченный по-
сле замысловатых фраков в тюремную робу (готовая
модель для Доре или Ван Гога), некогда — кумир, по-
том— отверженный и презираемый. Таков был Оскар
Уайльд, который в натуре своей, своих действиях и про-
изведениях постоянно обнаруживал причудливое столк-
новение (скорее — смешение) свойств, достойное проти-
воречий века.
«Из искусства я сделал философию,— утверждал
Уайльд,— из философии — искусство. Я научил людей
думать по-иному, я придал новую окраску вещам...
Ложь, как и правду, я подчинил законной власти
Истины и показал, что правда и ложь — лишь умствен-
ные формы бытия» 10.
Приписывая себе так много, Уайльд упустил из вида
или не хотел замечать, что вместо всех этих реальных
будто бы преобразований, он нередко производил лишь
переиначение давно принятого. Положение, роковое для
парадоксалиста,— «общие места навыворот» — ему было
особенно опасно. Суть его характера соответствовала
избитому выражению: «enfant terrible». Оскар Уайльд
был «ужасным ребенком» своего времени в том смысле,
что, унаследовав застарелые уродства викторианского
уклада, он сохранял родство с рутиной и оказался «ужа-
10 О. Уайльд. Поли. собр. соч., т. II, стр. 247.
156
сен» не только в глазах всяческой отсталости, он вооб-
ще скрывал под культом «красоты» неспособность про-
тиводействовать упадочным настроениям; все в нем
(если воспользоваться русским выражением) «как-то
расподлым образом переломано» (Ап. Григорьев).
А. И. Герценом был выразительно описан такой «вре-
менный тип» — переходная форма болезни развития из
прежнего застоя: «... Тут делается назло, тут делается
в отместку». «Вы лицемеры,— передает Герцен предпо-
лагаемую психологическую механику такого типа,— мы
будем циниками; вы были нравственны на словах, мы
будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими
и грубы с низшими — мы будем грубы со всеми; вы
кланяетесь, не уважая,— мы будем толкаться, не изви-
няясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии
и внешней чести — мы за честь себе поставим попра-
ние всех приличий и презрение всех points d’hon-
пеиг’ов» 11.
Уайльд также действовал «в отместку», хотя и не
был обязательно груб, и если попирал приличия, то до-
водя учтивость до абсурда. Даже внешность Оскара
Уайльда была каким-то символическим образом иско-
веркана: по ранним задаткам человек красивый, он (сви-
детельствует Дж. Б. Шоу) страдал впоследствии «сло-
новьей» гипертрофией черт лица, рук, ног и всего сло-
жения. Уродливая, обезображенная красота — достой-
ное Уайльда несчастье.
Он не только сравнивал себя с Байроном или даже
равноправно смотрел на него — он ставил себя вы-
ше. «Байрон,— тоже символическая фигура»,— говорил
Уайльд. Видно, как постоянно занимало его ощущение
«символической» связи творческой личности с эпохой, ей
современной. Всякий человек обусловлен так или ина-
че своим временем, Уайльд же выискивал особенные
связующие нити, «символику», которая раскрывала бы в
человеке продолжение пороков времени, не лишая его
все же сил судить о них. Тот же Ап. Григорьев, при-
стально разбиравший романтические веяния, толковал
расширительно такого рода конфликт: «Если же идеа-
лы подорваны и между тем душа не в силах помирить- 11
11 А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XI, Изд-во АН СССР
1957, стр. 351.
157
ся с неправдой жизни по своей высшей поэтической при-
роде... то единственным выходом для музы поэта будет
беспощадно ироническая казнь, обращающаяся и на са-
мого себя, поколику в его собственную натуру въелась
эта неправда... и поколику он сам, как поэт, сознает это
искренней и глубже других» 12.
Еще у Александра Блока, который ценил Григорьева
очень высоко, вызывало досаду смешное словечко «по-
колику» и чрезмерная выспренность иных выражений 13.
Но если простить критику излишне театральную жести-
куляцию, то, приглядевшись к системе его суждений,
удастся, вероятно, следом за Блоком увидеть кризисную
ситуацию, метко указанную и описанную: «идеалы по-
дорваны... душа не в силах помириться с неправдою»,
а между тем в сознание самого поэта «въелась эта не-
правда» и разрушила сознание настолько, что уделом
поэта остается одно самоугрызение, которое Ап. Гри-
горьев прекрасно назвал «иронической казнью».
Кризисная ситуация, описанная Ап. Григорьевым,
имеет принципиально сходные для самых различных
«ужасных детей» черты. Они всегда плоть от плоти «не-
правды», с которой хотели бы порвать. Их сознание по-
ражено этой «неправдой» и, несмотря на видимый
протест, бунт, про себя продолжает работать по той же
ложной системе: «вы кланяетесь, не уважая,— мы будем
толкаться, не извиняясь...» Они — «ужасны, потому что
преподносят, да еще переиначенными, привитые им урод-
ства, они ведут себя вызывающе, поколику не умеют и не
могут держаться с настоящим достоинством. У них со-
храняется кровная связь с искалечившей их средой, и не-
вольно, даже в протесте они показывают «носы и уши»
тех же монстров, с которыми, казалось бы, ведут схват-
ку. Среда, с которой они сталкиваются и будто бы го-
товы порвать, на самом деле единственно возможная для
них опора, хотя бы и в отрицательном смысле: их скан-
дальные репутации держатся сопротивлением, им оказы-
ваемым. Они шумят, пока им твердят «молчите», и, ве-
роятно, если бы вдруг чудо позволило им говорить
сколько вздумается, они бы замолчали и, по всей ве-
роятности, не изрекли бы ничего нового.
12 Ап. Григорьев. Сочинения, т. 1. СПб., 1876, стр. 55—56.
13 См. А. А. Блок. Собр, соч. в восьми томах, т. 5. М.— Л., Гослитиз-
дат, 1962, стр. 500.
158
Развивая в лекции, прочитанной за океаном, «Ренес-
санс английского искусства» (1881) идеи о величии куль-
туры, об искусстве, в котором — «смысл жизни», о необ-
ходимой для художника задаче очистить окружающее от
«тумана вульгарной фамильярности, который затемняет
для нас самые первоосновы жизни», Уайльд подчерки-
вал, что его эстетский пафос — «реакция против пустой
и пошлой ремесленности, против разнузданных приемов
живописи и поэзии предшествующего периода»14. Это
разъяснение само по себе нуждается в расшифровке:
каковы истоки этой «реакции» и о какого рода «ремес-
ленности» и «разнузданности» идет речь?
Проще всего, казалось бы, взять с этой целью какое-
либо из ключевых высказываний Уайльда, особенно один
из тех его афоризмов, которые он на все лады постоян-
но повторял, вроде: «Держась в стороне от всяких со-
циальных проблем повседневности, искусство никогда не
бывает в ущербе. Напротив, лишь тогда оно и способ-
но дать нам то, чего мы хотим от него: ибо для боль-
шинства из нас истинная жизнь, это такая жизнь, кото-
рой мы не живем»... Достаточно, казалось бы, подоб-
ной декларации, и суть уайльдовского бунтарства обна-
ружит себя. Но еще Дж. Б. Шоу предостерегал тех, кто
хочет по-настоящему понять Уайльда, от намерений пой-
мать его на слове: он специально расставляет на каж-
дом шагу ловушки, и, как выражается один из его пер-
сонажей, его «цинизм просто-напросто — поза».
Так, провозгласив будто бы независимость искусства
от повседневности и вызвав всевозможные на себя на-
падки, Уайльд с рассчитанным недоумением пожимал
плечами: «... Английскому художнику нужно без конца
напоминать, что никто специально для него не пригото-
вил живописной жизни, и что пусть он сам озаботится,
чтобы увидеть ее при живописных условиях» 15.
Или сколько раз Уайльд провозглашал: «Нет ни
нравственных, ни безнравственных книг. Есть книги, хо-
рошо написанные, и есть книги, плохо написанные» 16,—
и как много с ним на этот счет спорили. По большей
части ему возражали бесплодно и, главное, не попадали
в точку, цепляясь за слово «нравственность». Между
14 О. Уайльд. Поли. собр. соч., т. IV, стр. 131—132, 133.
15 Там же, стр. 168.
16 Там же, т. II, стр. 3.
159
тем, уже в ранние годы своего эстетского паломничества
Уайльд на конкретном примере пояснил, что он имел в
виду, говоря: «В Бодлере больше здоровья, чем в Кинг-
сли» 17. В поэзии самого Бодлера есть сильные и слабые
стороны, но одно бесспорно: воспевает ли он могучего
альбатроса или падаль, Бодлер все равно стоит на голо-
ву выше достопочтенного Чарльза Кингсли, учившего
добродетели английских буржуа.
Полемизировать с Уайльдом можно, лишь установив
в его парадоксальных бросках систему. Множество из
его эксцентрических выкриков отдают всего-навсего по-
зой, но едва ли одной рисовкой следует объяснять
странный, на первый взгляд, факт, что «великий эстет»,
столько раз третировавший «демагогию», «демократию»,
«массу» или «чернь», столько раз убеждавший художни-
ков не заниматься бытом трущоб и нуждами бедности,
парадоксалист, утверждающий: «Я могу сочувствовать
всему, только не горю людскому!» — оказался вдруг
единственным из литераторов, кто откликнулся на при-
зыв Дж. Б. Шоу подписать протест против расправы над
жертвами хеймаркетской трагедии в США (1886) . Он же
выступал с Шоу на социалистическом митинге в Вестмин-
стере (1891). Очевидно, что «цинизм» Уайльда, его сло-
весная «безнравственность», как, впрочем, и пресловутое
абсолютизирование «красоты» нуждаются по большей
части в оговорках или хотя бы кавычках, потому что за
ними скрыт взгляд на вещи, более жесткий и последова-
тельный, чем гуманные будто бы убеждения людей неда-
леких или истинно циничных. На самом деле, если ари-
стократическая благотворительность ограничивается
слащавыми воззваниями и поставкой в Ист-Энд плохих,
негодных к употреблению вещей, то Уайльду только и
остается заявить: «Филантропы теряют всякое чувство
любви к человеку».
Как заметил по-своему, с причудливостью, Дж. Б. Шоу:
Уайльд высмеивает то, что он сам уважает 18. Можно,
пожалуй, добавить — слишком уважает: понятия высо-
кого смысла сохраняют для него высокий смысл, и по-
тому, естественно, он смеется над вульгарной пустой
формой обращения с ними, когда «человечность», «доб-
17 О. Уайльд. Поли. собр. соч., т. IV, стр. 136.
18 Дж. Б. Шоу о драме и театре. М., 1963, стр. 131.
160
родетель» и т. п. становятся разменной словесной
монетой.
Нарочитый костюм эстета и вычурный язык парадок-
салиста ставят Уайльда особняком, хотя в ту пору далеко
не он один рядился в подобные одежды. Дж. Б. Шоу,
а также Джордж Мур, вполне ирландцы, в свою оче-
редь, вооружившись парадоксами, ополчаются против
викторианского убожества. На свой лад высмеивают это
убожество, переворачивая его с ног на голову, поэты
«бессмыслицы»: Льюис Кэрролл, публикующий в начале
70-х годов вторую часть приключений Алисы — «В Зазер-
калье» (1872), и Уильям Ш. Джильберт, поэт-сатирик и
либреттист, который в оперетке «Терпение» (1881) кари-
катурно вывел молодого Оскара Уайльда. Таким обра-
зом, Уайльд был далеко не единственным, кто считал
нужным видеть, как «действительность балансирует на
туго натянутом канате», чтобы, уподобив все истины ак-
робатам, проверить их устойчивость.
Судьба иронически отнеслась к писателю, стремив-
шемуся овладеть «неизменным», и, наконец, сам Уайльд
будто подчеркнул с трагической нарочностью связь со
своим временем, отойдя вместе с веком в 1900 году.
Литературная деятельность Оскара Уайльда, как и
жизнь его, продолжалась сравнительно недолго. В са-
мом начале 80-х годов, двадцати пяти лет, Уайльд вы-
пустил первую свою книгу — «Стихи» (1881), в том же
году он отправился за океан проповедовать идеи «ново-
го Возрождения в английском искусстве». Там, в Амери-
ке, он встречался с Лонгфелло и Уитменом. По возвра-
щении Уайльд продолжал свои публичные выступления,
печатал статьи и заметки, а со второй половины 80-х
годов издает рассказы, которые были объединены в
сборнике «Преступление лорда Артура Севиля и другие
рассказы» (1891). Этот год был весьма плодотворным
для Уайльда: появился также его роман «Портрет Дори-
ана Грея», книга критических этюдов «Замыслы». Позд-
нее вышли книги сказок. Уайльд обращается к театру:
пишет одну за другой пьесы, начиная со стилизован-
ной, написанной по-французски драмы «Саломея» (1893)
и кончая рядом бытовых комедий: «Веер леди Уиндер-
мир» (1893), «Женщина, не стоящая внимания» (1894),
«Идеальный муж» (1895) и особенно популярная в Анг-
лии до сих пор — «Как важно быть серьезным» (1895),
б М. В. Урнов
161
Постановки его пьес рецензирует Дж. Б. Шоу, Уайльд
входит в моду Он пользуется не только литературным
успехом, но также репутацией неподражаемого собесед-
ника. Шоу свидетельствует, что в этом Уайльд действи-
тельно не знал себе равных.
Впрочем, Уайльд сам описал свою беседу, слегка
скрывшись под именем лорда Генри в романе «Портрет
Дориана Грея». Великосветский философ, пресыщенный
и надменный, он властвует за обеденным столом, небреж-
но опрокидывая прописные истины и тем самым поражая
или просто шокируя чванливых гостей своей тетушки.
Лорд Генри опаздывал к обеду, и, пока его не оыло,
собравшиеся пробавлялись сплетнями и потрепанными
остротами. Но вот явился лорд Генри, и разговор при-
правился «крупной солью». Испытанный острослов на-
чал исподтишка, будто бормоча себе под нос, однако об-
щее внимание как бы само собой стягивалось к нему,
прежним забавникам пришлось потесниться и даже вов-
се умолкнуть. Поймав все нити разговора, лорд Генри
изрекает, что руководствоваться рассудком, значит пре-
давать интеллект. «Девятнадцатый век,— говорит он да-
лее,— пришел к банкротству из-за того, что слишком
щедро расточал сострадание». «Если бы пещерные люди
умели смеяться, история бы пошла по другому пути».
Наконец, он предписывает: «Чтобы вернуть молодость,
стоит только повторить все ее безумства».
Замечательная теория! — восклицают одни.
Опасная теория! — твердят другие.
«Да,— продолжал лорд Генри.— Это одна из вели-
ких тайн жизни. В наши дни большинство людей уми-
рает от ползучей формы рабского благоразумия, и все
слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем
никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблу-
ждения.
За столом грянул дружный смех.
А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью,
давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал
ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; он заставлял
ее искриться, украшая радужными блестками своего
воображения, окрылял парадоксами» (глава III).
Так он «гарцует», так делает «из искусства — фило-
софию, из философии — искусство». Однако все обрыва-
ется очень скоро, когда в 1895 году писатель по обвине-
162
нию в безнравственности попал на два года в тюрьму.
-Это потрясение вызывает «Балладу Редингской тюрьмы»
(изданную анонимно в 1898), «Тюремные письма» и, на-
конец, исповедь «De Profundis» (Из бездны), опубли-
кованную посмертно (1905). Последние годы Уайльд
провел в Париже, где, обеднев и опустившись, ютился в
жалких меблированных комнатах. Умер он совершенно
забытым на руках единственного друга, посвятившего
ему всю жизнь,— Роберта Росса, к которому и были об-
ращены «Письма из тюрьмы».
Уайльд стремился «стать зрителем собственной жиз-
ни» в том смысле, как было высказано это пожелание
одним из героев его наиболее крупного произведения —
романа «Портрет Дориана Грея». «Избавиться от стра-
даний» — такова цель подобной отстраненности. Иначе
говоря, писатель хотел силой таланта вырваться из брен-
ной жизненной оболочки и, уместив «все бытие — в эпи-
грамму», преодолеть притяжение низменных забот суще-
ствования. Таково было желание героя романа — краса-
вца-юноши Дориана Грея. Его порыв близко выража-
ет настроение самого автора: жизнь как бы должна
сделаться свободным экспериментом — испытать все или
что угодно и вместе с тем остаться неизменным.
Экспериментирование жизнью, своего рода театраль-
ный взгляд на реальность, превращение жизни в гротес-
ковую сценическую площадку — характерная черта дека-
дентства: органические силы подорваны, в естественных
чувствах — усталость и во всем, что должно проявляться
невольно, дает себя знать какая-то натуга. Отсюда по-
иски выхода в игре, в эксперименте. Писателю словно
недостает жизни самой по себе как материала твор-
чества: требуется особенный излом для обострения вос-
приятия. «Почему я страдаю не так сильно, как хотел
бы? Неужели у меня нет сердца?» — ответы на эти воп-
росы, которые ставит себе Дориан Грей и вместе с ним
Уайльд, оба пытаются найти с помощью интенсивного,
даже изысканного экспериментирования. Однако резуль-
татом рискованных опытов оказывается еще большая от-
страненность, все усугубляется поза, подменяя собой на
каждом шагу естественность чувств и положений.
«...Все, что случилось,— признает Дориан Грей после
самоубийства девушки, покинутой им,— не подействова-
ло на меня так, как должно было подействовать».
б*
163
Ощущение театральности сразу овладевает им: «Как
бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы...
трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая
не ранила моей души».
«Зритель собственной жизни» или даже актер в
ней — все равно лишь временно действующее лицо, знаю-
щее за собой право «входа» и «выхода»: можно сме-
нить грим, костюм, можно передохнуть и взяться за сов-
сем иную роль.
Переживания становятся для Уайльда профессией,
ремеслом. В отличие от естественных натур Уайльд не
способен был жить ни страстями, ни какими-либо ин-
тересами самими по себе; эти страсти, если даже они
овладевали им сильно, эти интересы, даже если он по-
свящал себя им, все равно означали для него лишь не-
кий предварительный этап для другой страсти, другого
интереса и даже просто потребности — творчества.
С таким изломом представала у него крайняя профес-
сионализация искусства 19. Если множество жизней, пу-
стых и значительных, больших и малых, развивались и
двигались вокруг Уайльда, замыкая свой смысл в этом
развитии, если,— грубо говоря,— люди жили и живут,
чтобы жить, то Уайльд жил для того, чтобы написать,
как он существовал.
Вместе с Вильямом Джильбертом, пояснившим од-
нажды принцип построения «бессмыслицы», Уайльд на
вопрос о системе своего бытия мог бы ответить то же:
«Мы начинаем там, где вы заканчиваете...» Его жизнь,
действительно, складывалась парадоксально вывернутым
путем: все, как правило, стремятся освободить себя от
потрясений и тягостных чувств, между тем Уайльд наме-
ренно вбирал в себя эти тяготы, коллекционировал их,
испытывал, рассматривал, одни заменял другими и, напи-
сав о них, переходил к новому набору чувств.
В романе «Портрет Дориана Грея» писатель с -про-
фессиональной осведомленностью представил подобный
художнический парадокс. Сибилла Вэн, недолгая герои-
19 Профессионализм переживаний свойственен, разумеется, не толь-
ко декадентам. И. С. Тургенев, оказавшись на операционном
столе, думал, пока не усыпил его наркоз, о том, что теперь он смо-
жет точно рассказать своим друзьям-литераторам, в частности
Гонкурам, об ощущениях оперируемого и даже умирающего.— См.:
Эжен и Эдмон Гонкуры. Избранное. М., Гослитиздат, 1963.
164
ня романа,— талантливая актриса. Она прекрасно игра-
ет в шекспировских пьесах — Виолу, Розалинду, Джуль-
етту, она с необычайной выразительностью изображает
влюбленных девушек до тех пор, пока сама не испытала
любви. Как только ее захватывает страсть к Дориану
Грею, она становится на сцене деревянной, неестествен-
ной, плохой актрисой. Ее, однако, не только не удру-
чает, но напротив, радует возвращение к неподдельной
жизни. Дориан же Грей приходит в отчаяние и порыва-
ет с Сибиллой. Сам Уайльд предпочитал изображение
чувств самим чувствам.
Жизненному актерству Уайльд даже придумал наз-
вание: в комедии «Как важно быть серьезным» он при-
вел словечко «бенберизм», по имени некоего мистера
Бенбери. Мифический Бенбери, больной приятель, живу-
щий где-то за городом, был придуман героем пьесы как
повод для неожиданных отлучек из дому. Если Алджер-
нону Монкрифу, этому герою, нужно было избежать не-
угодных гостей, посещений или приглашений, если ему
вообще хотелось каких-либо не вполне светских забав,
он объявлял, что едет навестить мистера Бенбери, кото-
рого окружающие принимали за действительное лицо.
Пропадая из поля зрения своих знакомых, Алджернон
отправлялся «бенберировать». «Бенберистом» оказался
и его друг Джон Уординг; ему вместо мистера Бенбе-
ри ширмой или маской служил вымышленный брат Эр-
нест. Принцип был тот же: «бенберизм» — актерство в
жизни, игра в несуществующих персонажей и несущест-
вующие отношения, и это ради того, чтобы при надобно-
сти ускользнуть от реальных людей, связей и обяза-
тельств. «Неоценимый, вечно больной мистер Бенбе-
ри»,— призрачная оболочка, способная скрыть живого
человека, того же Алджернона Монкрифа, освобождая
его от него же самого.
«Завтра, Лэйн,— сообщает Алджернон своему слу-
ге,— я отправлюсь бенберировать Вероятно, я не вер-
нусь до понедельника. Уложите фрак, смокинг и все для
поездки к мистеру Бенбери».
Почтенный мистер Джекил из повести Стивенсона
принимал облик ужасного Хайда, а здесь: вот он —
Алджернон Монкриф, богатый и блестящий молодой че-
ловек, он ходит, разговаривает и острит, как подобает
Алджернону Монкрифу, он наносит визиты и принимает
165
у себя, он соблюдает в точности круг светских приличий,
он держится также необходимых сословных норм морали,
пока он... Алджернон Монкриф, но вот он едет к мисте-
ру Бенбери! — как «бенберист», он оказывается свобод-
ным от этих норм,— и кто может знать, чем ограни-
чится или как далеко зайдет подобная игра. «Если ты
не одумаешься, Алджи,— предостерегают его,— помяни
мое слово, попадешь ты с этим Бенбери в переделку!»
Однако «бенберист» отшучивается, более того, он пояс-
няет себя: «А мне это как раз нравится. Иначе скучно
было бы жить на свете» (действие 1).
В комедии «Как важно быть серьезным» бенберизм
не ведет к роковым последствиям, все заканчивается к
общему благополучию и удовольствию. Но это в «легко-
мысленной комедии для серьезных людей», как в подза-
головке назвал ее автор. Подобная «легкомысленная» иг-
ра в серьезной жизни завершилась для Оскара Уайль-
да драматическим образом.
Уайльд сам раскрыл психологическую подоплеку осо-
знанного участия в порочной игре, когда он все’ чаще и
чаще оказывался не только в кругу натур изломанных,
но и в вызывающем общении с подонками, с бродяга-
ми и шантажистами. Это была все возраставшая пот-
ребность возбуждения нервов, потребность переживать
опасность, испытывать себя, продвигаясь к краю пропа-
сти, при уверенности, что личность художника, тем бо-
лее такого художника, как Оскар Уайльд, художника-
«сверхчеловека», который сам себе — правило и закон,
не подвластна тлетворному влиянию, как бы он ни ук-
лонялся от нормы и ни попирал ее.
«Считалось ужасным с моей стороны,— объяснял
Уайльд,— что я приглашаю к своему столу дурные соз-
дания жизни и нахожу удовольствие в их обществе. Но
они для меня, с той, точки зрения, с какой я, как ху-
дожник в жизни, воспринимал их, являлись источником
восхитительного соблазна и вдохновения. Это было все
равно, что пировать с пантерами. Возбуждающим было
чувство опасности. Я испытывал то, что должен испыты-
вать заклинатель змей, когда он побуждает кобру под-
няться с раскрашенной ткани или из тростниковой кор-
зины»... 20
20 Цит. по кн: Rupert-Croft-Cooke. Feasting with Panthers. N. Y., 1968,
p. 269.
166
Пир не во время чумы, желанный пир среди зверей,
коварных и опасных, пир с пантерами,— это какая-то
предконечная судорожная игра в свободу, не байройов-
ский бунт, не бьючемп'истские иллюзии, но бенберизм в
его декадентско-эстетском преломлении. Это уже тот
случай, когда бенберизм смыкается с ницшеанством, де-
монстрируя хотя бы в лично бытовой практике идею
сверхчеловека.
Можно с поучительным результатом проследить, как
писатели-современники с разных сторон и с разными вы-
водами обсуждают одни и те же или схожие проблемы.
Еще до Уайльда Самюэль Батлер, сосредоточивая вни-
мание на личности и обсуждая пути ее самоопределения,
склонен был позитивизму противопоставить эпикурей-
ский принцип наслаждения. «Все животные, за исключени-
ем человека,— вызывающе декларировал в романе «Путь
всякой плоти» повествователь,— знают, что главное жи-
тейское дело есть наслаждение жизнью, и они наслаж-
даются, поскольку человек и другие обстоятельства не
мешают им. Тот всего лучше прожил жизнь, кто всех
больше насладился ею». Дориан Грей словно бы подхва-
тывает этот жизненный принцип и в собственной прак-
тике доводит его до крайней точки.
Еще до Оскара Уайльда Стивенсон в своем первом
художественном произведении «Ночлег Франсуа Вийо-
на» обсуждал проблему добра и зла в творческой лич-
ности. Оскар Уайльд на собственном примере испы-
тывает механизм действия творческих сил в ситуациях,
резко отклоняющих художника от нравственной нормы,
нарушающих равновесие и здоровье, физическое и ду-
ховное. Но то, что у Франсуа Вийона было прежде все-
го следствием гротескных условий жизни в переходный
период, у Оскара Уайльда вызывается в иное переходное
время переоценкой субъективных возможностей лично-
сти, действующей произвольно, безотносительно к каким-
либо нормам и понятиям нравственности. Хотя талант-
ливым, творчески чутким людям нередко вообще предви-
дится собственная участь, пожалуй, никто из них с такой
роковой точностью не повторил судьбы своих персона-
жей и не оправдал своих собственных пророчеств, как
Уайльд.
«Бенберизм» — жизненное и творческое актерство
Уайльда — не ограничивалось позой.
167
«Прекрасный принц» — называла Сибилла Вэн свое-
го неверного возлюбленного. «Счастливый принц» —
озаглавлена сказка из сборника того же названия. И тем
же чувством избранности проникнуто признание Уайль-
да: «Боги даровали мне почти все». Ощущение особен-
ной власти над людьми, страстями, обстоятельствами
двигало Уайльдом и все же не восполняло в его нату-
ре некоего пропуска, который Уайльд, чувствуя это,
стремился возместить опасным актерством.
«У меня была гениальность, громкое имя, высокое
общественное положение, слава, блеск и умственное дерз-
новение... Вокруг меня и обо мне создавались легенды и
мифы»,— говорил о годах своего расцвета Уайльд.
«Вокруг меня все было так прекрасно!» — в свою
очередь вспоминает Счастливый принц, когда он — уже
статуя.
Чего же недоставало этому счастливому прекрасно-
му избраннику судьбы?
«Когда я был жив и у меня было живое человече-
ское сердце, я не знал, что такое слезы»,— поясняет
статуя принца. Иными словами, ему как раз недостава-
ло органического чувства жизни. У счастливого принца,
персонажа сказки, это объяснялось сравнительно про-
сто— механическим, можно сказать, препятствием: его
дворец и сад были окружены высокой стеной — принц
не видел простых человеческих горестей и слез проли-
вать ему, естественно, не приходилось. Только после
смерти, вознесшись над городом золотой статуей, Счаст-
ливый принц с новым оловянным сердцем стал сочувст-
вовать горю людскому и полились из его сапфировых
глаз слезы...
Уайльда окружал гораздо более сложный заслон. То
было не внешнее препятствие, которое могло бы мешать
ему видеть и знать что-либо, но перегородка внутрен-
няя — устройство души, заставлявшее видеть и чувство-
вать так и не иначе. Разве мало он видел страданий и
мук, пока упивался своей ролью баловня судьбы? Он ви-
дел страданий достаточно, как и Дориан Грей, для ко-
торого гибель Сибиллы Вэн могла бы явиться ужасным
уроком. Однако все это «действовало не так, как должно
было действовать».
Было бы схематизмом полагать, будто, очутившись за
тюремной решеткой, У айльд прозрел или по крайней мере
168
узнал и увидел то, чего не знал и не видел прежде,
подобно тому, как не ведал горестей за дворцовой ог-
радой Счастливый принц. Из исповеди и тюремных пи-
сем писателя нетрудно, при спокойном на них взгляде,
заключить, что он и не видел, и не испытал никаких
особенных ужасов и страданий. Но душевное потрясение
он пережил и написал исповедь и поэму, хотя затем вы-
нужден был замолчать. То, что он, пережив крушение,
написал замечательные вещи, только подтверждает, как
исключение, закономерность его духовной эволюции.
Он — художник — не мог последним усилием не под-
твердить своего вечного правила: «К искусству я отно-
сился, как к наивысшей деятельности; жизнь я считал
одним из проявлений творчества». В тюрьме он начал и
вскоре завершил свои, может быть, самые сильные, дол-
говечные и наиболее естественные произведения, но в
этом и был его конец.
Игра в чувства, так же как подчеркнутое предпочте-
ние формы перед содержанием, до известной степени
(как и многое другое в Уайльде) — поза. В ней открыва-
ется протест против рутины и ремесленничества, против
натурализма, творческого убожества и беспомощности.
Когда Уайльд с раздражением говорил о художнике, ко-
торому приходится разъяснять, что «никто специально
для него не приготовил живописной жизни», он спорил
с натурализмом* Спорил о том ж<е, о чем по-своему
будет спорить с натуралистами Генри Джеймс. Речь шла
о границах искусства в пределах самого искусства.
Уайльд, как и Джеймс, утверждал, что художник толь-
ко тогда выполняет свою задачу, когда он — художник,
проще говоря, когда все, что ни попадает на страницы
его произведений, оказывается объектом творческого
преображения, контроля (Джеймс называл это «отбо-
ром»), переработки. Собственно жизнь остается жизнью
и совсем не обещает, как истинная любовь несчастной
Сибилле Вэн, творческого успеха. Лишь тот реальный
опыт, что стал материалом творчества, живет в произ-
ведении искусства. В этой мере протест и даже поза
Уайльда были оправданы, ибо натуралисты в противопо-
ложность ему провозглашали бессилие творческой фан-
тазии перед выразительностью реальных явлений. Ре-
зультат их программных убеждений — бесконечное число
бесцветных книг, будто бы правдивых, точнее, достовер-
169
ных, которые не были спасены ни этой мнимой жизнен-
ной правдивостью, ни документальной достоверностью.
Против бедствия ползучей «достоверности» и был на-
правлен броский парадокс Уайльда: «Художник творит
жизнь,— так же как и последующее заключение Генри
Джеймса: «Именно искусство создает жизнь».
Уайльд во многих отношениях справедливо спорил с
натуралистами, отстаивая самостоятельную силу искус-
ства. Однако он в свою очередь совершал ошибку, слиш-
ком часто обращаясь к искусственности. Его парадокс,
поощряя искусственность и произвол художника, был
направлен и против реализма. Верное замечание о том,
что нет для художника «специально приготовленной жи-
вописной жизни» — творец должен отыскать, открыть
живописность, как бы создать ее заново,— эта верная
мысль у него самого далеко не всегда находила приме-
нение. Поиск живописности он (подменял созданием ис-
кусственных моделей, искусственной обстановки, с ко-
торой и начинал «писать». Не случайно, такими манер-
ными и вместе с тем блеклыми выглядят теперь его
интерьеры и ггейзажи, хотя, казалось бы, в них сама изыс-
канность и красота. Роман «Портрет Дориана Грея»
делает подобный промах особенно заметным: тут и до-
рогие ткани и редкостные безделушки, какие-то особые
ароматы, небывалые цветы, пение птиц, шелест листвы и
прочее, а между тем все это скучно и тускло.
В этих пределах дарование изменяло Уайльду, в его
творчестве выступала манерность, претензия на чрезвы-
чайную оригинальность, достойную эстетского журнала
«Желтая книга» (1894—1897) 21.
«Портрет Дориана Грея» — значительный роман-
миф, герой которого превращает свою жизнь в экспери-
мент наслаждения. Дориан пытается уничтожить свой
портрет, портрет-символ, который с некоторых пор стал,
словно живой двойник, отражать его пороки: лицо До-
риана оставалось прекрасным, на портрете ложились
морщины. Дориан ударил ножом портрет, однако убил
себя: его тело, сделавшееся уродливым и жалким, нашел
слуга, между тем на полотне вновь возник прекрасный
21 Уайльду была близка направленность этого издания, где сотрудни-
чали Генри Джеймс, историк литературы Эдмунд Госс, художник
Обри Бердслей и некоторые другие. Уайльд, однако, не числился
среди постоянных участников или редакторов журнала.
170
и вдохновенный облик юноши. Этой жестокой по отноше-
нию к Дориану Грею иронией Уайльд утверждал невоз-
можность безоглядного наслаждения безотносительно к
страданию других и вместе с тем торжество творчества
над убожеством реальности.
Однако ирония символа простерла свою мрачную тень
и над судьбой самого автора. Как раз те страницы, ко-
торые он сам считал, вероятно, наиболее живописными
(видно, сколько сознательных усилий он потратил на
них), как раз эти страницы поблекли и сделались бес-
цветными в первую очередь. И, напротив, живыми крас-
ками играет то, что давалось ему с естественностью и
неподдельностью. Прежде всего стихия слова, остроты,
разговоры, игра ума. Тут открывается его наблюдатель-
ность, меткость, тут бьет живая сила его таланта. Но,
к сожалению, даже этот подлинный блеск, эту истинную
тонкость он умудряется окружать всякой ненужной вы-
чурностью, и только на исходе дней пришло к нему соз-
нание: «Для романтического писателя не может быть
худшей обстановки, чем романтическая...»
Уайльд был особенно выразителен, когда блеск его
ума оттенял буржуазную обыденность, и, напротив, он
становился удручающе манерен на фоне оранжерей,
пармских фиалок, золотых решеток и т. п. (см. «Порт-
рет Дориана Грея», главы X—XI, XIV и мн. др.). Вот
почему, вероятно, в структуре его романа разговоры вы-
глядят часто вставными дивертисментами: они могли бы
с таким же успехом прозвучать еще где-либо и прежде
всего с театральных подмостков. Вот почему наиболее
жизнеспособной частью наследия Уайльда оказались его
комедии.
Глава IV
«ДВИНУЛСЯ НАРОД»
ВИЛЬЯМ МОРРИС
В 90-е годы в английскую литературу прочно входят
новые писательские имена и возникают произведения,
в которых «срывание масок» и «стремление дойти до
корня» сочетаются с попытками найти выход из поло-
жения путем коренных общественных преобразований.
В русле критического реализма начинает формировать-
ся система художественных воззрений, предусматриваю-
щая целенаправленное переустройство мира. Этой систе-
ме враждебны шовинистический культ империи и эстет-
ский культ красоты, ей чужд социальный пессимизм.
Ей свойственны вера в силу разума и социальный про-
гресс. Эта система художественных воззрений развивает-
ся под непосредственным влиянием социалистических
идей, поддерживается борьбой пролетариата. Развива-
ется эта система воззрений непоследовательно, отдавая
дань реформистским иллюзиям, которые были сильны в
английском рабочем движении и получали широкое рас-
пространение через активную деятельность Фабианского
общества.
Среди английских писателей, выдвинувших в 90-е го-
ды новые, передовые задачи и принципы художественно-
го творчества, были представители разных поколений.
Старший из них — Вильям Моррис.
Вильям Моррис (1834—1896) проявил себя в твор-
честве с необычайной разносторонностью: в собрание его
сочинений вошли лирические стихи, многочисленные поэ-
мы, проза — повествовательная, публицистическая, фи-
лософская, переписка и переводы из античности и с дре-
внеанглийского. Он был одаренным художником —
живописцем и графиком, а в прикладном искусстве,
172
в изготоВЛейНи предметов домашнего обихода и обста-
новки — посуды, ^ебели, гобеленов и т. п.— оказался ос-
нователем школы,\главой особого направления. Недаром
в тех новейших романах, где авторы стремятся вспом-
нить и воспроизвести колорит поздневикторианской Анг-
лии, мелькают «обои во вкусе Вильяма Морриса». Сле-
дует добавить ко всему названному новаторскую дея-
тельность Морриса как предпринимателя и организатора,
когда он создавал на новых началах, не гоняясь за ком-
мерческой выгодой, мастерские и фабрику.
Он брался за все, отмечая все печатью индивидуаль-
ности, и эта завидная цельность и полнота придали осо-
бый интерес самой личности Морриса, больший, пожа-
луй, чем любому из отдельных творений его рук и фан-
тазии.
Моррис — не только писатель, художник, публицист,
редактор. Он — вдохновенный оратор, партийный дея-
тель, многогранная и цельная личность, ищущая новых
путей и формирующаяся в новых условиях под влия-
нием рабочего и социалистического движения. Моррис —
искренний и страстный пропагандист социалистических
идей. Он возглавлял еженедельник «Коммонуил» («Об-
щее благо») — орган «Социалистической лиги», создан-
ной им и его единомышленниками в 1885 г. В этом органе
сотрудничал Энгельс.
Моррис, смелый оратор, выступал на собраниях и
митингах рабочих, интеллигенции, учащейся молодежи.
Критикуя либеральную и эстетскую интеллигенцию,
разъясняя свою позицию, Моррис неоднократно подчер-
кивал, что он — «социалист дела». Он писал об этом
и в статье «Как я стал социалистом» (1894):
«Сознание того, что революция пробуждается в нед-
рах нашего ненавистного современного общества, поме-
шало мне—в этом я оказался счастливее многих дру-
гих художественно одаренных людей — закостенеть в
качестве простого обличителя «прогресса», с одной сто-
роны, а с другой — помешало мне понапрасну тратить
время и силы на многочисленные планы, посредством
которых квазиартистические представители буржуазии
надеются взрастить искусство там, где оно уже не имеет
корней, и таким образом я стал социалистом на деле» *.
1 W. Morris. On Art and Socialism. L., 1947. Цит. по кн.: «История
английской литературы», т. III. М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 307.
173
Активно участвуя в социалистическом движении,
Моррис пишет «Гимны для социалистов», в том числе
«Марш рабочих», исполненный веры в интернациональ-
ную силу трудового народа:
Что за шум и что з!а ропот слышен в недрах многих стран,
Словно ветер по долинам, словно близкий ураган,
Словно яростная буря сотрясает скеан?
Это двинулся народ!
Гнев с надеждой встал впервые,
Войско грозное идет.
Перевод В. В. Рогова
Моррис всякий раз являет цельность: Моррис — осо-
бый, обновленный тип личности, норм жизни, поведе-
ния и творчества.
Уайльд, когда он старался превратить жизнь в одно
из проявлений искусства, когда самонадеянно полагал,
что ему удается вместить «все бытие в эпиграмму»,
когда причудливо смешивал вымысел и реальность, по-
своему ориентировался на Морриса. Иначе говоря, он
на свой лад старался совместить принципы поведения
и творчества, хотел добиться какого-то особенно цель-
ного проявления личности. Да и в характеристике Мор-
риса он, словно не зная, чему отдать предпочтение, го-
тов был признать и совершенствование поэзии, и воз-
рождение декоративного искусства. Уайльд считал, что
Моррис и молодые люди из его окружения произвели
не только переворот идей и теорий, но и «революцию
творчества». Творчество он понимал в этом случае ши-
роко, как работу над тем или иным материалом вооб-
ще. А Моррис, не желая ограничиться одной определен-
ной сферой, стремился к некоему изначальному преобра-
зованию вещей. Сколько ни пытался Уайльд охватить
вполне значение Морриса, он все же воспринимал его
весьма однобоко, с той, главным образом, стороны, что
связывала Морриса с прерафаэлитами и эстетством. Раз-
витие, какое сообщал Уайльд чужим, заимствованным
со стороны идеям, часто завершалось парадоксальным
преломлением этих идей или вовсе несуразицей. Так
происходило с заимствованиями из Морриса. Впрочем,
Моррис сам нередко бился в сетях жестоких парадок-
сов. Моррис, по выражению Энгельса,— «социалист чув-
174
ства», иными словами, дилетант социализма,— известное
любительство обнаруживал и в других сферах своей
деятельности. Ни вводной из них он не предстанет ни,
скажем, собственно ^поэтом или художником, ни соб-
ственно публицистом или общественным лидером.
«Моррис — чувствительный мечтатель,— писал Эн-
гельс,— олицетворенная добрая воля, которая до такой
степени умилена сама собой, что превращается в злую
волю, в нежелание чему бы то ни было научиться...»2
Этими словами схвачено роковое для Морриса про-
тиворечие. Он, например, занят изготовлением простых,
изящных и, как он думает, дешевых предметов домаш-
него обихода, которые должны, по его замыслу, укра-
сить убогий быт рабочего. Однако эти изделия, ока-
завшись в продаже, скупаются за большие деньги со-
стоятельными любителями оригинальных произведений
прикладного искусства. В дом простого труженика эти
красивые вещи в силу жестокой жизненной иронии, ес-
тественно, не попадают. В утопической повести Морри-
са «Вести ниоткуда, или Эпоха мира» (1891) в этом сме-
лом провидении будущего, патриархальные мечтания
противоречиво сочетались с устремлениями социалисти-
ческого, «собственно коммунистического характера».
Морис создает картину прекрасного будущего, он
строит образцовую социальную систему, изображает об-
щество, живущее на основах полнейшего равенства,
справедливости и свободы. Присмотритесь, однако, «бу-
дущее» ли это?
Обозначая перспективу, которая, по мысли Морриса,
ждет человечество впереди, не зовет ли он его назад?
Не попадает ли он и здесь в тиски парадокса, опас-
ные, впрочем, для всякого утописта, для «чувствитель-
ного мечтателя»? Удается ли ему в самом деле пред-
восхитить формы грядущего или же он воскрешает ос-
вобожденную от реальных несовершенств патриархаль-
ность?
«...С тех пор как мы уже больше не дети,— писал
в ту пору Уолтер Патер,— нам, в сущнсти говоря, над-
лежало бы хорошенько взвесить все преимущества воз-
врата назад таких условий жизни, в которых силою
2 Из письма А. Бебелю 18 авг. 1886 г.— Маркс и Энгельс об искусст-
ве, т. 2, стр. 377.
175
обстоятельств ценность всех вещей была бы, так ска-
зать, наруже, тогда как мы сами уже не смогли бы
снова вернуться к детскому сознанию или, вернее, бес-
сознательности, необходимой, чтобы освоиться со всем
этим умело и с надлежащей легкостью на сердце» 3.
Утопизм как раз и совершает такой возврат.
Вглядитесь в очертания самой первой Утопии, обри-
сованной Томасом Мором на заре английского Возрож-
дения. Не проступают ли в стройном порядке идеаль-
ного государства контуры «старой веселой Англии»? И в
книге Морриса разве не слышим мы на каждом шагу
«о полном возврате этого (т. е. староанглийского, пат-
риархального.— М. У.) очарования»4.
Впрочем, Моррис и не скрывает своих романтиче-
ских устремлений. Напротив, жители прекрасной, образ-
цовой страны нередко допускают характерную оговорку:
«Подобно людям средневековья, мы...» И сам Моррис
подчеркивает, что, например, в архитектуре 2000 с чем-
то года сочетались свойства небывалой новизны с при-
метами строений XI века. Это весьма символическое
соединение, в котором преодолен словно прыжком соб-
ственно весь период истории нового времени. В глазах
Морриса подобный пропуск вполне оправдан.
Маркс и Энгельс неч зачеркивали, как известно, роли
утопического социализма. В «Манифесте Коммунистиче-
ской партии» указано, что сочинения утопистов «напа-
дают на все основы существующего общества. Поэтому
они дали в высшей степени ценный материал для про-
свещения рабочих» 5. Облик будущего общества, как ста-
раются его угадать утописты,— уничтожение противопо-
ложности между городом и деревней, уничтожение част-
ной наживы, наемного труда, провозглашение социаль-
ной гармонии, превращение государства в простое
управление производством,— все это в «Манифесте» на-
звано «положительными выводами» утопистов и состав-
ляет сильную сторону их мечтаний.
Так и в книге Морриса мы найдем подобные «поло-
жительные выводы», увидим эти сильные стороны. Со
страниц повести нам откроются картины обновленной
страны, с удивительной прозорливостью будет просле-
3 У. Патер. Воображаемые портреты. М., 1908, стр. 60—61.
4 В. Моррис. Вести ниоткуда. «Новая Москва», 1923, стр. 65.
5 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2, т. 4, стр. 456.
176
жен возможный\путь народа в борьбе за свое счастье,
автор покажет созидательный коллективный труд, он
постарается улови\ь рождение коммунистического созна-
ния, свободного от\буржуазных, собственнических пред-
рассудков. Именно в этом плане Моррис явился осно-
воположником традиции в английской литературе, оказал
влияние на последующих английских писателей, мы-
сливших социалистически. И, напротив, как бы в злоб-
ной полемике с Моррисом возникали утопии или, точнее,
антиутопии вроде реакционных мизантропических проро-
честв Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла.
«Неужели все кончится банковской конторой на вер-
шине мусорной кучи... и комитетом партии вигов, ко-
торый будет распределять шампанское богачам и марга-
рин беднякам в столь надлежащих пропорциях, что все
люди будут довольны, хотя в мире и нечем будет по-
любоваться, и место Гомера займет Гексли?» — этот
саркастический вопрос Моррис ставил в одной из своих
статей, и сам он, веря в разум и торжество истинной
человечности, отвечал на него отрицательно. Между тем
Олдос Хаксли в романе-памфлете, иронически назван-
ном шекспировскими словами «Прекрасный новый мир»
(1932), постарался обрисовать подобную и даже еще
более мрачную перспективу. Он, правда, убрал мусор-
ную кучу и вместо Гексли6, своего деда, учредил тор-
жество Форда — «фордизм», стандартизацию и безду-
шие. Моррис же утверждал: будущий расцвет челове-
ческого в природе людей.
Нельзя, конечно, не заметить, что Моррису с трудом
удается или вовсе не удается уловить живые, матери-
альные формы развития. Граждане его образцовой стра-
ны — прекрасны, однако бескровны, нежизненны. В них,
к сожалению, не больше человеческой убедительности,
чем в уродливых роботах, населяющих «новый мир» Хак-
сли. Это едва ли не общая беда утопистов. Прозор-
ливо угадывая подчас социальную даль в движении ис-
тории, они обнаруживают бедность фантазии, едва их
перо касается живого облика совершенных человеческих
созданий. В этом смысле здесь кстатизамечание А. В. Лу-
начарского: «Сцены «будущего» еще никому не удава-
6 По традиции русского произношения фамилии Huxley — имя извест-
ного ученого-дарвиниста — транскрибируется как Гексли, а имя его
внука-писателя — Хаксли.
177
лись». Луначарский пояснял подоплеку этих неудач:
«Фантастически-утопические «человеку» будущего всег-
да очень условны, надуманны и ...скучноваты. Заметь-
те: всегда в пьесах и романах-утопиях «люди будущего»
заняты только разговорами о «людях прошлого»7. Это
как будто прямо относится к Моррису, интонация ко-
торого сразу приобретает особую теплоту, едва его по-
вествование обращается к «очарованию былого». Труд-
но даже бывает иногда понять, пытается ли он пред-
восхитить будущее или же старательно воскрешает не-
бывалую жизнь патриархальных легенд и преданий.
Обратим тут же внимание на то, с какой, в отличие
от утопистов, точной осторожностью судили о психо-
логии будущего основоположники научного коммунизма.
Они были осторожны не только потому, что занимались
наукой, а не художественным творчеством, и не потому
также, что, скажем, их «Манифест» — это политический
документ, не допускающий вольных картин, но в силу
ясного понимания принципиальной несостоятельности
подобных пророчеств. «Общественное сознание всех ве-
ков,—говорится в «Манифесте»,— несмотря на все раз-
нообразие и все различия движется в определенных об-
щих формах»,— и тут же подчеркнуто, что «коммуни-
стическая, революция есть самый решительный разрыв
с унаследованными от прошлого отношениями собствен-
ности; неудивительно, что в ходе своего развития она
самым решительным образом порывает с Идеями, уна-
следованными от прошлого». Маркс и Энгельс замеча-
ли, что «с окончательным исчезновением противополож-
ности классов», т. е. с приходом того прекрасного бу-
дущего, о котором по-своему мечтали утописты, «вполне
исчезнут» и определенные формы сознания 8.
Вот почему так трудны и обычно неубедительны по-
пытки предвосхитить душевный строй человека будуще-
го. Стараясь угадать этого человека, утописты остава-
лись под воздействием идеологической инерции, которая
над новым сознанием уже, по всей вероятности, не бу-
дет властна. В стремлении заведомо преодолеть этот
гнет, утописты, казалось бы обоснованно, прежде всего
освобождали образцовых людей от нынешних пороков
1 Приведено в кн: Н. Луначарская-Розенель. Память сердца. М.,
«Искусство», 1962, стр. 49.
8 X. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, Изд. 2, т. 4, стр. 445—446,
178
и, Teivf не Менёе, Неожиданно для себя обедняли их:
вместо прекрасной коммуны возникали под их пером ка-
зарменные фаланстеры, которые так пугали Ф. М. До-
стоевского. Не случайно утопический Едгин Самюэля
Батлера, в сатирическом виде повторяющий викториан-
скую Англию, имеет вид более естественный и живой.
Образцовые люди Морриса гордятся тем, что им уда-
лось значительно упростить свою жизнь. Чем же отли-
чается это «упрощение»? Несбыточным отказом от тех-
нического прогресса, уклонением от индустриального
развития. В духовном же отношении это «упрощение»
заходит так далеко, что живопись вовсе изгоняется из
общества, театр заменяется народными празднествами,
место литературы занимает песня, собственно литерату-
ре и особенно поэзии Моррис отводит последнее место,
едва не достигая «упростительных» мер первого из уто-
пистов Платона, который прежде всего удалил из свое-
го образцового «Государства» людей искусства.
Как бы, однако, шатки или просто нежизненны ни
были построения Морриса, начиная с утопий и кончая
домашней утварью, как бы ни представлялась ныне по-
увядшей его поэзия и его проза, сам Моррис остает-
ся живой фигурой в истории английской литературы.
И в конце концов «обои во вкусе Вильяма Морри-
са» — это, хотя мещански вульгаризированное, но все
же четкое отличие особого стиля, запечатленного на
фоне эпохи выдающимся деятелем: не важно, был ли
учрежден этот стиль пером или кистью, словом или
светотенью или всеми этими средствами сразу, как бы
с переходом творческих форм в нормы жизни.
Непрактичность во взглядах и действиях Морриса,
подчеркнутая Энгельсом 9, беспочвенность многих его по-
строений все же не помешали автору «Вестей ниоткуда»
и многим его единомышленникам среди английских ли-
тераторов социалистического направления бороться на
основах революционного оптимизма, под знаменем идей
освободительного движения.
Большой силы достигла и получила массовое рас-
пространение поэзия, особенно революционная песня,
отражавшая идеи и пафос социалистического движения.
9 См. В письме к Э. Бернштейну от 29 декабря 1884 г.— К. Маркс
и Ф. Энгельс об искусстве, т. 2, стр. 376.
179
Многие поэты-социалисты формировались под влиянием
творческого авторитета Морриса. Их стихи появлялись
в газетах и антологиях. Со второй половины 80-х и до
начала 90-х годов вышло несколько сборников револю-
ционной поэзии, рассчитанных на самого широкого чи-
тателя. В этих сборниках революционная поэзия была
представлена в исторической преемственности: стихи ве-
ликих революционно-демократических поэтов Байрона и
Шелли перекликались со стихами поэтов-чартистов, со
стихами и революционными песнями поэтов социали-
стического движения.
Так вейся, знамя боевое;
Умрем иль победим с тобою!
Пусть трус дрожит, пусть грозен враг —
Мы выше вздымем алый флаг!
Перевод Ю. Д. Левина
Революционная песня «Красное знамя» с этим вдох-
новенным боевым припевом звучала на социалистиче-
ских митингах. «Красное знамя», «Мой друг коммунист»
и несколько других особенно популярных революцион-
ных песен принадлежали поэту-социалисту, талантливо-
му рабочему-докеру Джиму Коннеллу (1852—1929).
Высокая гражданственность и мужество поэтов-соци-
алистов противостояли пассивности, упадочному отчая-
нию и безверию, крайнюю суть которого выразил в ма-
нерном каламбуре Оскар Уайльд:
«— Fin de siecle!10 11— проронил лорд Генри.
— Fin du globe!11 — подхватила леди Нарборо.
— Если бы поскорее fin du globe!—вздохнул Дори-
ан.— Жизнь — сплошное разочарование».
Это циническое со стороны аристократических верхов
пожелание «хоть потопа», после того как сословные при-
вилегии подорваны и возможности их исчерпаны, вызы-
вало протест с различных сторон. Человечество отнюдь
не собиралось, подобно декадентам, готовиться к гибе-
ли мира под воздействием кризисных настроений конца
века. Именно английские социалисты, среди которых
после смерти Морриса наиболее авторитетными из ли-
тераторов стали Шоу и Уэллс, решительно боролись с
идеологией упадка. Они звали искать пути преобразо-
ваний и выхода.
10 Конец века (франц.).
11 Конец света (франц.).
180
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Еще со второй половины 60-х годов, а тем. более в
80-е и 90-<е годы усиливается процесс демократизации
и вместе с тем идейно-эстетического расслоения англий-
ской литературы.
Опираясь на личный опыт и непосредственное зна-
ние жизни трудовых слоев города и деревни, большая
группа писателей обратилась к ее изображению —
Джеймс Гринвуд (1833—1929), Уильям Хэйл Уайт
(1831 —1913), писавший под псевдонимом Марка Резер-
форда, Маргарет Гаркнесс, Джордж Гиссинг и, конечно,
Томас Гарди.
Демократизация английской литературы сказыва-
лась не только в усиленном отборе тем и сюжетов из
народной жизни, что само по себе было знаменатель-
но, так как эстетически осваивались малоизвестные и
новые стороны и явления жизни. Демократизировались
герой и язык художественных произведений. Сознание
трудящихся масс, их взгляды на жизнь и события вре-
мени находили более широкое и верное отражение. Во
второй половине 80-х годов почти одновременно вышли
произведения, свидетельствующие об этом важном про-
цессе: «Мэр Кэстербриджа» (1866) Томаса Гарди, «Го-
родская девушка (1887) Маргарет Гаркнесс «Революция
на Тэннерс-Лейн» (1887) Марка Резерфорда. Героями в
этих произведениях выступают люди из народа: у Гар-
ди — обездоленный сельский батрак, проходящий искус
буржуазного предпринимательства, у Гаркнесс — работ-
ница-швея, испытывающая тяжесть нищеты, беспросвет-
ного труда и сословного унижения, у Резерфорда — ра-
бочий-печатник, деятельно участвующий в революцион-
ной борьбе,— «плоть от плоти и кровь от крови всей
борющейся английской бедноты», как охарактеризовал
его Ральф Фокс 12.
Писатели обращаются к современности, к недавнему
и более далекому прошлому, стремятся разобраться в
событиях, осмыслить исторические вехи, восстановить в
памяти революционные традиции. События романа «Мэр
Кэстербриджа» развертываются в 40-е годы, когда про-
изошла памятная для английской деревни отмена хлеб-
12 Р. Фокс. Роман и народ. М., Гослитиздат, 1939, стр. 163.
181
ных законов, роман «Революция в Тэннерс-Лейн» (пер-
вая часть) обращен к началу XIX века, когда развер-
нулась борьба за парламентскую реформу, и рабочий
класс, только-только выступивший на политической аре-
не, показал себя передовым борцом за демократию.
Однако процесс демократизации английской литера-
туры был сложным и противоречивым.
Письмо Энгельса к Маргарет Гаркнесс 1888 года по
поводу ее повести «Городская девушка» помогает понять
историческую основу этой сложности и противоречиво-
сти. Гаркнесс пишет о жизни рабочих со знанием фак-
тов и глубоким сочувствием.
Но ее знания и сочувствие односторонни. Изобра-
женные в «Реалистической повести» характеры, по сло-
вам Энгельса, «достаточно типичны в тех пределах, в ка-
ких они действуют». Однако пределы эти замкнуты,
они не захватывают возросшего недовольства и борьбы
рабочих, тех сдвигов и перемен в их быту и сознании,
которые произошли в 80-е годы. «В «Городской девуш-
ке»,— пишет Энгельс,— рабочий класс фигурирует
как пассивная масса, неспособная помочь себе, не де-
лающая даже никаких попыток и усилий к тому, чтобы
помочь себе» 13.
Подобная замкнутость и смещенность писательского
кругозора мешали возросшему стремлению демократи-
зировать литературу и приблизить ее к суровой реаль-
ности. О том, в какие упрощенные и даже уродливые
формы выливалась порой потребность сказать правду о
народной жизни, представить ее без прикрас, свидетель-
ствует «литература трущоб», получившая распростране-
ние в 80-е и 90-е годы. Ее материалом явилась жизнь
нищенских кварталов столицы, лондонского Ист-Энда,
взятая только с одной, самой темной стороны и опи-
санная эмпирически. Все внимание в этой литературе
было сосредоточено на уродливом быте, диких нравах,
изломанной психологии и проникнуто настроением
безысходности.
Объективные предпосылки натуралистических описа-
ний и почва для литературы трущоб являлись сами собой,
когда писатели, выражая «точку зрения» придавленных
13 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 1, стр. 11.
182
и нравственно одичавших людей, не освещали явление
исторически, не находили ему объяснения.
Английский натурализм 80-х годов сложился эмпири-
ческим путем, не был подкреплен самостоятельной тео-
рией, на его основе не возникло литературной школы.
Однако в его атмосфере обсуждались наиболее острые
политические и социальные проблемы тех лет, и, естест-
венно, характер этого обсуждения и его выводы страдали
однобокостью, так как натуралисты находились под вли-
янием социального дарвинизма, придерживались биоло-
гической концепции жизни, законы животного мира рас-
пространяли на общественную жизнь и классовую борь-
бу. Поэтому роль английского натурализма, несмотря на
его слабость и незначительность как литературного на-
правления, была по преимуществу отрицательной.
Среди английских писателей, испытавших очевидное
влияние натурализма, талантом и социальной остротой
творчества выделялся Гиссинг.
Джордж Гиссинг (1857—1903) вышел из демократи-
ческой среды, личная жизнь его сложилась неудачно,
на его долю выпали суровые испытания. «Гиссинг был,—
рассказывал Уэллс Эдмунду Госсу, крупному критику
и биографу тех лет,— чрезвычайно милый, порядочный
человек, но совершенно безрассудный во всем, что вы-
ходило за пределы книжного переплета,— во всех
устройствах и делах. В его жизни нет ничего преступно-
го или скверного, но есть многое такое, что заслуживает
сострадания».
Гиссинг воочию наблюдал, как нищета, голод и по-
рок ломали людские жизни. Он искал выхода и не толь-
ко для себя. Его увлекли идеи социализма, он стал по-
сещать заседания Социал-демократической федерации и
Социалистической лиги. Он наметил себе широкую и
смелую программу творческой деятельности: «Я хочу,—
писал он в 1880 году,— показать ужасающую неспра-
ведливость всей нашей общественной системы, осветить
план ее изменения и, в особенности, проповедовать эн-
тузиазм к справедливости и высоким идеалам в этот
век откровенного эгоизма и торгашества». За этим за-
мыслом как пример и образец развертывалась бальза-
ковская «человеческая комедия». Притягательной, вдох-
новляющей силой был Диккенс, но вместе с тем он ка-
зался Гиссингу недостаточно смелым в изобличениях и
183
непоследовательным в своих демократических симпати-
ях. Диккенс многие годы занимал Гиссинга: он напи-
сал несколько вступительных статей к его произведени-
ям и монографию «Чарльз Диккенс» (1898).
Стоя у постели умирающего Гиссинга, Уэллс глубо-
ко верил, что ранняя кончина застигла в расцвете сил
выдающееся дарование, крупнейшего английского писа-
теля современности, надежду английской литературы,
прозаика нового типа, который обещал произвести пе-
реворот в развитии техники, формы и сути романа; тем
более Уэллс был убежден в непреходящем значении книг,
которые успел создать его близкий друг. За несколько
лет до его тяжелой смерти Уэллс написал статью о нем,
точнее в связи с его произведениями.
«Ни один первоклассный английский романист,— пи-
сал Уэллс,— не достигает того уровня, чтобы стать в
один ряд с великими континентальными мастерами в
более широком развитии структурного метода». Под
«структурным методом» Уэллс понимал построение ро-
мана по проблемному принципу. Задачей романа тако-
го рода — образцы ему виделись в «Дыме» Тургенева
и «Лурде» Золя — он считал изображение группы «ти-
пических фигур, выражающих действие какой-либо зна-
чительной социальной силы». Уэллс находил тогда в
английской литературе очень немногих писателей, кото-
рые бы следовали этому принципу. «Своеобразные про-
изведения Мередита,— продолжал Уэллс,— романы Гар-
ди являются по существу романами персонажей, осво-
божденных от прежних сюжетных пут. Диана и Этель-
берта, сэр Уиллоуби Паттерн и Джуд, все это сильно
выраженные индивидуальности и только в случайных
проявлениях — фигуры представительные. В романах
Дизраели, в «Сибилле», например,— появляются полити-
ческие силы, но далеко не в роли движущих мотивов,
а Джордж Элиот и Гемфри Уорд скрывают сильную
склонность к моральной проповеди под видом социаль-
ных этюдов в гораздо большей степени, чем дают соб-
ственно социальные этюды».
Этим именам Уэллс противопоставлял нескольких
писателей младшего поколения. Ему представлялось, что
с ними приходит в английскую литературу искомое. Он
говорил о романистах, которые утвердили свои репута-
ции как авторы «романов, не являющихся по преиму-
184
ществу ни исследованиями характера, ни серией собы-
тий, но сознательными попытками представить в типи-
ческих обобщениях определенные стороны нашего соци-
ального порядка». Тут Уэллс и обращался к своему
другу. «Среди этих романистов,—подчеркивал он,— наи-
более значителен, бесспорно, Джордж Гиссинг».
Поддерживая социальный проблемный роман, видя
в его развитии литературную задачу времени, Уэллс
сильно переоценил роль Гиссинга и его вклад в анг-
лийскую литературу. Уэллс оспаривал мнение критиков,
которые считали Гиссинга главой натуралистического на-
правления в Англии, сопоставляли его с Золя, говори-
ли, что он выискивает в Ист-Энде мрачные стороны
жизни и копирует их. Как бы ни было пристрастно
суждение Уэллса о Гиссинге, его нельзя не принять во
внимание. Гиссинг не был эпигоном Золя, видел и кри-
тиковал некоторые недостатки его творчества, связан-
ные с разработанной им теорией натурализма. Наслед-
ственность не действовала в романах Гиссинга с той
жестокой фатальностью, с какой она обычно выступала
в теории и практике французского натурализма. Вместе
с тем Уэллс видел и отмечал действительный порок в
его творчестве — сосредоточенность только на теневых
сторонах быта и психологии трудящихся масс.
В том же 1886 году, когда появился «Мэр Кэстер-
бриджа» Томаса Гарди, вышел роман Гиссинга «Демос.
Повесть об английском социализме». В отличие от Гар-
ди, Гиссинг обратился к жгучим событиям дня. Никто
из английских романистов не писал с таким смелым об-
нажением фактов о самой острой проблеме в это вре-
мя— положении рабочего класса и классовом конфлик-
те. Никто из них не изобличал с такой прямотой и об-
стоятельностью психологию и логику оппортунизма, как
это сделал Гиссинг, рассказывая историю перерождения
и предательства рабочего вожака, социалиста Ричарда
Мьютимера.
Однако в «Демосе» резко обнажился свойственный
творчеству Гиссинга идейно-эстетический порок, о кото-
ром говорил Уэллс.
В Англии не произошло слияния рабочего движения
с научным социализмом, стихийность и оппортунизм
разъедали его. Гиссинг со знанием многих фактов от-
разил эти отрицательные явления, но воспринял и пред-
185
ставил их по преимуществу с позиции отсталого участ-
ника событий, действовавшего слепо и безрассудно в
порыве отчаяния и дикого озлобления. Писатель бесси-
лен был объяснять эти явления исторически, и они ка-
зались ему непреодолимыми. Из намеченной Гиссингом
творческой программы ничего не получилось, но нечто
значительное, главным образом в историко-литератур-
ном плане, осталось.
О позиции Гиссинга в 90-е годы можно судить по
следующему характерному эпизоду, заслуживающему
пристального внимания.
Уэллс высоко оценил роман Гиссинга «Водоворот»,
находя в нем значительные литературные достоинства
и полагая, что им обозначен новый этап в творчестве
писателя. Уэллс особо отметил страницы «Водоворота»,
на которых Ролф и Мортон, его герои, беседуют по по-
воду книги Рэдьярда Киплинга «Казарменные баллады».
В ней, по словам Ролфа, «выразил себя сильный че-
ловек», выступивший от лица миллионов, недовольных
мягкотелой и расслабляющей цивилизацией. Книга ут-
верждает взгляд на жизнь, как на звериную схватку,
и подъем грубой силы оправдывает интересами импе-
рии. «Средний англичанин еще не осознал, что есть
нечто, именуемое Британской Империей. Благодарение
богу, она существует и мы покажем, что это такое!»
Интонация, с какой Ролф говорит о «Казарменных бал-
ладах», показалась Уэллсу восторженной и сочувствен-
ной.
Ролф — не Гиссинг и нельзя суждения этого персо-
нажа приписывать автору, хотя последний и симпати-
зирует своему герою,— тут же оговаривается Уэллс. По
его мнению, диалог между Ролфом и сдержанным в
своих оценках Мортоном выражает противоречия и ко-
лебания Гиссинга между давним его стремлением уйти
ст схватки, удовлетворяясь покоем и комфортом, достав-
ляемым цивилизацией, и новым, все растущим чувством
«универсальности конфликта», от которого нельзя устра-
ниться.
Гиссинг откликнулся на этот комментарий Уэллса
и в письме к нему заметил: «Я вовсе не думал сказать,
что Ролф в последнем разговоре с Мортоном склоняет-
ся к воззрению на жизнь, выраженному в «Казарменных
балладах». Все его слова — лишь безнадежное призна-
186
ние фактов, наполняющих его отвращением. Вот что
происходит в мире,— говорит он,— невозможно отмах-
нуться от этих* фактов, они лезут в глаза. Что тут по-
делаешь!— говорит он с легким взмахом руки, и в
его голосе чувствуется сдержанный сарказм. Действуй-
те! А я сяду и посмотрю, чем все это кончится». Эти
слова разъясняют не только позицию героя книги Рол-
фа, но и самого автора.
В 1886 г. Джордж Гиссинг, автор нашумевшего тог-
да романа «Демос», писал Томасу Гарди: «Мои инте-
ресы начинаются литературой и кончаются ею; мою
жизнь и все, чего я добьюсь в ней, я надеюсь подчи-
нить моему идеалу художественного творчества. Усилия
мои могут оказаться бесплодными, но этот способ тра-
ты сил не хуже всякого другого. Печальнее всего то,
что,, когда пишешь для англичан, слишком часто прихо-
дится прибегать к умолчаниям или же всякими пустя-
ками заполнять страницы, когда хочется писать по-на-
стоящему».
В представлении Гиссинга современные ему писате-
ли по их отношению к своей профессии распадались на
крайние группы, образуя два типа литераторов. О ли-
тературе как профессии им написан роман «Новая Граб-
стрит» (1891). Если вспомнить по Филдингу, Граб-
стрит— это лондонское пристанище литературной бра-
тии, писательской богемы, и вместе с тем принятый сим-
вол или обозначение литературы как ремесла. Гиссинг
и в самом деле берет проблему — условия и смысл пи-
сательского творчества на исходе XIX столетия — и рас-
крывает свой взгляд на нее в противопоставлении двух
символически выбранных фигур. Два писателя — один
из них Джаспер Мильвейн, «бюрократический тип», ли-
тературный делец и ремесленник, который убежден, что
«литература — это коммерция». Другой — Эдвин Рир-
дон, многим напоминающий самого Гиссинга,— «старый
тип непрактичного художника».
«Я утверждаю,— безапелляционно заявляет Джас-
пер Мильвейн,— что нам, людям умственным, следует
поставлять массам ту пищу, которая им нравится. Мы
не гении, и если мы будем высиживать дурацкую серь-
езность, то ничего кроме общеизвестной чепухи у нас
не получится, так давайте же употребим наши мозги на
то, чтобы заработать денег и взять от жизни, что можно».
187
Мильвейн следует своей морали и преуспевает. Иное
дело Эдвин Рирдон, который как раз добивается «ду-
рацкой серьезности», помышляет о высоком творчестве
и, во всяком случае, оказывается не способным занимать-
ся литературой как доходным делом. Глава, названная
«Рирдон становится практичным», заключает горький
сарказм, ибо повествует о единственном основатель-
ном шаге честного писателя — его смерти. Мильвейн,
который всегда взирал на Рирдона с иронией, после
смерти своего незадачливого собрата издает его роман,
пишет о нем сочувственную статью и тем самым обре-
тает для пущей своей выгоды репутацию верного дру-
га, соратника и т. п.
Как ни близок Эдвин Рирдон самому Гиссингу, все
же автор стремится представить эту плачевную фигу-
ру объективно и в свою очередь смотрит на него с
иронией, но только иного — теплого оттенка. Гиссинг
старается быть «практичным» и реальным — без циниз-
ма, разумеется. Он отдает себе отчет в том, что вре-
мена милых «непрактичных художников», если они ког-
да-либо были, миновали, что литература, все более 'Про-
фессионализируясь, заставляя писателя всего себя
отдавать избранному делу и быть от него в полной за-
висимости, стала занятием материальным и грубым. Его
же цель разобраться, как все-таки обрести достойное
место на теперешней Граб-стрит, как остаться привер-
женцем глубокой мысли и большого искусства.
Гиссинг, как было сказано, намечал себе смелую и
обширную программу. Но дерзостный замысел не да-
вался 'писателю, и чем больше делалось попыток, тем
это становилось для него очевиднее. «Новая Граб-стрит»
написана с намерением разобраться в неудаче, найти ей
причину.
Гиссинг шел на уступки, искреннее желание честно
выполнить свое дело часто перебивается у него умолча-
нием, недоговоренностью, поверхностной и облегченной
трактовкой неумолимых фактов. Но столь же облегчен-
ной была бы попытка объяснить неудачу большой твор-
ческой программы одними уступками.
Роман Гиссинга «Деклассированные» был покалечен
уступкой господствующему мнению. Вопреки замыслу и
внутреннему убеждению автор сопроводил развязку «оп-
тимистическими настроениями», о чем впоследствии
188
вспоминал не без горечи. И все же не это печальное
отклонение в сторону вызвало у Гиссинга встревожен-
ное и тягостное признание, когда он писал Гарди: «Воз-
можно, роман «Деклассированные» покажется вам от-
вратительным. Я сам не осмеливаюсь сейчас перечитать
его, он слишком насыщен всевозможными горестями,
отошедшими в прошлое».
Гиссинг, говоря о «насыщении», употребляет слово,
которое в литературной полемике того времени и более
поздних лет противостояло слову «отбор». «Насыщение»
и «отбор» сталкивались, выражая разные творческие
принципы. Выражение не было определенным и четким,
однако отмечало грань противоположных позиций. Это
было особенно заметно в длительном споре о романе,
главными участниками которого на рубеже веков ока-
зались Герберт Уэллс и Генри Джеймс.
Уэллс отстаивал принцип «насыщения». Для него
«насыщенность» означала в первую очередь проблем-
ную остроту и многомыслие. Поскольку Гиссинг откли-
кался на самые острые проблемы, улавливал настро-
ения и веяния дня, Уэллс склонен был видеть в Гиссин-
ге надежду английского социального романа, готов был
отвести ему роль зачинателя романа нового типа, со-
средоточенного на выявлении социальных и политиче-
ских сил времени. Уэллса в этом случае не смущала
плакатность персонажей: им отводилась подчиненная
роль: сгруппированные на противоположных полюсах,
они были призваны выразить эти силы. Гиссингу не
удавалось преодолеть внутреннюю тягу к «насыщению»
без строгого, чуткого «отбора». Он следовал жанру «бе-
зыскусного репортажа», отдавая известную дань нату-
ралистическому принципу и манере. Дань была воль-
ной — сахМ этот принцип укоренился в нем не силой вне-
шнего влияния, а под воздействием обстоятельств. Он
не только хорошо знал психологию обездоленной и
забитой массы, но нес в себе ее слепое отраже-
ние.
Намерение Гиссинга смотреть правде в глаза и го-
ворить о ней на страницах своих книг не оставляет сом-
нений. Однако не так уж много удается писателю ос-
воить этой правды и творчески переработать в жанре
«безыскусного репортажа». Мы видим четко обозначен-
ные ситуации, видим несколько жизненно достоверных,
189
но далеко в художественном отношении еще не живых
фигур.
Стиль Гиссинга прост, он пишет незатейливо, особен-
но в сравнении с такими изощренными стилистами, как
Джордж Мередит или Генри Джеймс. Он без ухищ-
рений излагает мысли людей, их переживания, так же
безыскусно описывает обстановку, стремясь «насытить»
свои книги фактами, воссоздать реальность. Рациональ-
ная точность взгляда позволяет писателю выражаться
просто. И все же читатель видит, что проблема сама
по себе не живет, не движется, что помимо этой «на-
сыщенности» и простоты требуются еще иные свойства
и усилия, остающиеся вне досягаемости для Гиссинга.
’ Дело не только в том, что талант Гиссинга был не-
велик и ему не под силу оказалась намеченная им
большая идейно-художественная задача. Опыт и точка
зрения Гиссинга были односторонни, фантазия призем-
лена, психология изломана, ему недоступно было цель-
ное и органическое народное сознание.
Гиссингу удавалось немногое, однако история миро-
вой литературы сохранила его имя. Своими удачами
он в значительной мере обязан приверженности литера-
туре как высокому творческому призванию и професси-
ональному мастерству. Об этой приверженности Гиссин-
га говорил Уэллс. И сам Гиссинг неоднократно выра-
жал эту свою потребность, он напоминает о ней
в уже цитированном письме Гарди: «Я не самый
невнимательный из Ваших читателей, и в Ваших
книгах я постоянно находил отраду и вдохновение. В на-
ше время в этой поддержке нуждается всякий, кто хо-
чет следовать требованиям литературы, а не литератур-
ного ремесла».
Глава V
ТОМАС ГАРДИ
Годы жизни Гарди (1840—1928) захватили два века,
они соединяют далекие друг от друга времена. Гарди —
современник Диккенса, он, в известном смысле, и наш
современник. Гарди не просто застал «век нынешний
и век минувший», он в равной степени принадлежит и
тому и другому веку. Первая его книга вышла около
ста лет назад, последняя — в конце 20-х годов нашего
века. В XIX столетии он опубликовал серию романов,
в XX веке — эпическую драму и несколько стихотворнььх
сборников.
Самое начало творчества Томаса Гарди загадочно.
Первый его роман «Бедняк и леди» утрачен: он не был
напечатан, и рукопись его исчезла. Но его судьба в не-
которых отношениях знаменательна и вызывает на раз-
мышления: о личности писателя, о психологии и судь-
бах творчества, о путях развития литературы.
Участь романа «Бедняк и леди» решали крупнейшие
лондонские издатели Александр Макмиллан и Фредерик
Чепмен, литературные консультанты — видный литера-
тор Джон Морли и Джордж Мередит. Профессиональ-
ное чутье и литературный вкус не изменили им — неза-
урядное дарование начинающего автора было признано.
Не изъяны слога и сюжета смутили их. Верх взяла
личная ориентация и оглядка на господствующее мне-
ние. Роман «Бедняк и леди», «написанный бедняком»
(так значилось на титульном листе рукописи), был от-
кровенным вызовом этому мнению. По словам Флоренс
Эмили Гарди, жены и биографа писателя, это была «ост-
рая и страстная сатира на помещичий класс и ари-
191
стократию, на лондонское общество, пошлость буржуа-
зии, современное христианство, реставрацию церквей, на
политические и семейные нравы в целом... Направлен-
ность произведения была социалистической, если не ска-
зать революционной» L
Роман «Бедняк и леди» не увидел света по понят-
ным причинам. Эта сторона вопроса достаточно ясна,
здесь нет ничего загадочного. Неясным осталось мно-
гое другое. И прежде всего: почему за всю долгую жизнь
писателя никогда больше не прозвучали открыто в его
книгах социалистические и революционные мотивы его
первого романа? Потому ли, что они были дерзкой вы-
ходкой еще неуравновешенного ума, вспышкой наивной
и необузданной молодости? Переменились обстоятельст-
ва, старые впечатления вытеснялись новыми,— и страсть
несогласия со всем порядком жизни поостыла, потреб-
ность коренной ее перестройки отпала? Как именно бы-
ло дело — ответить не так просто. Не хватает прямых
свидетельств самого писателя. В обороте у исследова-
телей и критиков находятся скудные данные, поступив-
шие из источников разной степени достоверности.
Спустя одиннадцать дней после смерти писателя его
друг Эдмунд Госс опубликовал в «Сэнди Таймс» ста-
тью «Утраченный роман Гарди». Из этой статьи сле-
дует, что Гарди уничтожил рукопись романа «Бедняк и
леди», и сделал это вскоре после неудачной попытки
опубликовать его. Много позднее «он обнаружил четыре
или пять случайно уцелевших страниц». Так утверждает
Госс, ссылаясь на свою беседу с писателем в
1921 году.
Вслед за этой статьей в том же, 1928 году вышла
книжка В. Г. Коллинза «Беседы с Томасом Гарди», ко-
торая поддерживает версию Госса. На обращенный к
писателю вопрос Коллинза, можно ли надеяться, что
его первый роман будет опубликован, тот ответил: «Ро-
мана больше не существует. Мне приходилось переез-
жать с места на место, и я отделался от него. Писате-
ли, когда они молоды, не думают о том, что может
наступить время, когда их ранние неудачные опыты мо-
гут приобрести значение».
1 F. Е. Hardy. The Life of Thomas Hardy. L., Macmillan Co., Ltd.,
1933, v. I, p. 81.
192
В первом томе биографии «Жизнь Томмаса Гарди»,
вышедшем в 1933 году, по этому поводу сказано: «Точ-
но неизвестно, что он сделал с рукописью, впоследствии
он не мог вспомнить, как поступил с нею, хотя и на-
шел несколько малозначительных страниц, ныне тоже
утраченных. Ему казалось, что он мог послать ее еще
какому-нибудь издателю, желая иметь дополнитель-
ные суждения прежде, чем окончательно решить ее
судьбу».
Все это сбивчиво и неопределенно, хотя и со ссыл-
кой на Гарди. Особенно огорчительно, что Флоренс Эми-
ли Гарди только усложняет загадку, когда, казалось бы,
именно ей проще всего было разрешить ее. Странно,
что ее свидетельство расходится с тем, что впоследствии
по этому поводу сообщил Сидней Коккерел, знаток ру-
кописей Гарди, близкий знакомый их семьи, советами
которого она пользовалась, работая над биографией.
Имя Сиднея Коккерела неоднократно всплывает ря-
дом с названием «Бедняк и леди». Через него или в
связи с ним поступают порой важные сведения о печаль-
ной истории этого романа. Какова была его роль в
данном случае — трудно сказать. Но, как можно думать,
от него зависело многое.
Сидней Коккерел был как раз тем лицом, кому Гар-
ди доверил судьбу многих своих рукописей. В 1911 году
Коккерел, директор Фитцвильямского музея (Кем-
бридж), навестил Гарди и предложил ему свое посред-
ничество, имея в виду разместить рукописи писателя по
надежным хранилищам. Гарди сам хотел этого, но счи-
тал для себя нескромным обращаться с подобной прось-
бой. Следует подчеркнуть: Гарди бережно относился к
своим рукописям. В том же году поступают через Кокке-
рела рукописи: «Тэсс из рода д’Эрбервиллей — в
Британский музей, «Джуд Незаметный» — в Фицвиль-
ямский и «Уэссекские стихотворения» (с иллюстраци-
ями автора) —в Бирмингемский. И в дальнейшем Гар-
ди время от времени посылал свои рукописи Сиднею
Коккерелу, предоставляя ему право поступать с ними по
своему усмотрению. В 1914 году многие рукописи Гар-
ди (в том числе роман «Вдали от обезумевшей толпы»)
на распродаже, организованной Красным Крестом, были
проданы в США и оказались не только в общедоступ-
ных хранилищах, но и в частных руках.
7 М В. Урнов
193
Так вот, Сидней Коккерел опровергает версию, будто
Гарди уничтожил всю рукопись романа «Бедняк и леди»
еще в прошлом веке.
Ту ее часть, из-за которой роман не увидел света,
Гарди хранил и хранил долго. «Во второй половине
1916 года,— сообщает Коккерел,— Гарди показал мне
значительную часть рукописи «Бедняка и леди». Кок-
керел взял эту рукопись, чтобы «изящно переплести ее
в голубой сафьян». Он точно помнит, что ему «обошлось
это в два фунта стерлингов». «Гарди казался очень до-
вольным. Но лет десять спустя он пришел к выводу,
что рукопись хранить не следует, и сжег ее в камине
своего кабинета». На вопрос, а что собственно содер-
жали погубленные страницы, этот «усердный собира-
тель рукописей Гарди», ответил, что он не читал их, об-
наружив поразительное отсутствие любознательности.
Флоренс Эмили Гарди подтверждает, однако без катего-
ричности, что с рукописью романа «Бедняк и леди»
«помимо автора были, по-видимому», знакомы только
трое — Александр Макмиллан, Джон Морли и Джордж
Мередит.
Как бы то ни было, важно отметить: подвергнутая
гонению часть рукописи, содержавшая социалистические
и революционные идеи, исчезла в 1926 году, как это
следует из свидетельства Коккерела, т. е. в год всеоб-
щей стачки в Англии. Есть основания предполагать: ес-
ли роман «Бедняк и леди», принадлежащий молодому
и никому не известному автору, мог быть неугодным
влиятельным кругам в конце 60-х годов прошлого сто-
летия, то тем более неугоден он был в период подъ-
ема пролетарского движения, в год острой классовой
схватки, чреватой социалистической революцией. Для
влиятельных кругов было нежелательным даже упомина-
ние о том, что знаменитый писатель начал свою литера-
турную деятельность как сторонник социалистических и
революционных идей, что ему дорога была память об
этом прошлом.
Трудно сказать, что побудило Гарди сжечь приме-
чательные страницы своего первого романа. Одновре-
менно он сжег какие-то личные бумаги и дневники,
в некоторых книгах уничтожил свои пометы. Если он
действительно за два года до своей смерти в возрасте
восьмидесяти шести лет сжег свидетельства своей сим-
194
патии к передовому движению современности, то мож-
но думать, что он сделал это под сильным влиянием со
стороны!
Рукопись романа «Бедняк и леди. История без сю-
жета. С прибавлением стихов» была готова в 1868 году.
Спустя некоторое время заглавие показалось автору
слишком крикливым, и, прежде чем отправить рукопись
в редакцию, он сократил его до более скромного и бо-
лее значительного названия: «Бедняк и леди. Написано
бедняком».
Как можно предположить по реставрации сюжета
«Бедняка и леди», выполненной исследователями на
основании издательских отзывов, его герой Уилл Стронг,
близкий по духу самому автору (роман был написан от
первого лица), не только движим справедливым побуж-
дением, не только предан ему, не только способен по-
страдать за него, но и готов бороться. Сын сельского
труженика, Уилл Стронг, попав в Лондон, примыкает к
рабочему движению: его можно видеть на Трафальгар-
ской площади выступающим на митинге с речью, обра-
щенной к рабочим. По-видимому, с ним отчетливее все-
ю были связаны в романе социалистические и револю-
ционные порывы. С изображением его судьбы сочета-
лась беспощадная критика господствующих классов.
Вместе с жизненным опытом Уилл Стронг обретал оп-
ределенную полноту и зрелость сознания — не только
нравственного и гражданского, но и политического.
В романе «Бедняк и леди» воспроизводились боль-
шие события дня —• рабочие демонстрации и многолюд-
ные митинги в Лондоне, свидетелем которых и, воз-
можно, участником был Гарди в 1867 г. «Гарди посещал
радикальные собрания»,— говорится в одной из англий-
ских книг о писателе, а в другой: «Едва ли брожение
этого года захватило Гарди в значительной мере, но его
симпатии были на стороне рабочих и отражение этих
симпатий обнаруживается в его ранних, еще незрелых
произведениях».
В «Бедняке и леди», стремясь к реальности изобра-
жения, Гарди брал за образец Даниеля Дефо (в то
время он особенно восхищался удивительной простотой
и точностью его письма). Насколько приблизился тогда
начинающий романист к этому образцу, сказать трудно.
Отклоняя рукопись «Бедняка и леди», Александр
7*
195
Макмиллан указал автору на «разрушительные намере-
ния» его первого романа. Издатель писал Гарди, что
тот в своих обличениях идет дальше Теккерея, кото-
рый «во многих случаях» столь же беспощаден, но де-
лает «смягчающие штрихи».
Теккерей и Гарди! Теккерей, страстный обличитель
аристократической и буржуазной Англии, все же, по
выражению Макмиллана, «благонамеренный», и Гарди,
идущий дальше автора «Ярмарки тщеславия» и «Пен-
дениса», «злонамеренный», жаждущий коренных пере-
мен,— это сопоставление, сделанное современником ро-
маниста, заслуживает быть отмеченным.
Макмиллан не счел нужным оттолкнуть молодого ав-
тора. Он похвалил его повествовательный талант и ре-
комендовал начинающего писателя другой значительной
издательской фирме — Чепмен и Холл. Фирма решилась
печатать сомнительный роман, хотя и без выплаты го-
норара. Гарди дал со своей стороны согласие, однако
неожиданно он был вызван в издательство для допол-
нительной беседы с консультантом. Им и оказался
Джордж Мередит.
Джордж Мередит советовал Гарди быть осторожней,
«если он хочет добиться чего-либо в литературе», не
обнажать души в первой книге, «не прибивать свой
вымпел к мачте» столь решительно.
Авторитетный консультант одного из крупнейших лон-
донских издательств (Чемпен и Холл) и видный писа-
тель, Джордж Мередит отлично знал практику буржу-
азного литературного дела. Он предостерегал начинаю-
щего автора от печальных последствий — зловредного не-
доброжелательства узколобой критики, которая не за-
медлит обрушиться на него с яростными нападками,
что повредит его будущему. Он рекомендовал Гарди
«переписать» роман, «смягчить» его, а еще лучше от-
ложить в сторону до более благоприятных времен и
взяться за «остро сюжетную» вещь, поставив перед со-
бой «чисто литературную цель». Советы Мередита были
откровенны и доброжелательны, и они содержали в себе
горькое признание печальных фактов. Но одновременно
в этих советах заключались благонамеренность чело-
века, не помышляющего о коренных переменах, и призыв
к уступке, якобы обязательной и неизбежной для моло-
дого таланта.
196
Встреча двух писателей — признанного и начинаю-
щего — в конечном итоге самых видных английских ро-
манистов, пришедших на смену Диккенсу и Теккерею,—
состоявшаяся в самом конце 60-х годов, когда в Англии
начала формироваться литература нового периода,—
эта встреча, знаменательная во многих отношениях, мож-
но сказать символическая, имела серьезные последствия.
Гарди прислушался к совету Мередита, отложил ру-
копись первого романа и принялся за второй — с «ос-
трым сюжетом». Дело было сделано, новый роман был
написан и появился под названием «Отчаянные средст-
ва». Гарди не решился подписать роман своим именем,
его первое издание (1871) анонимно.
От Теккерея Гарди сделал шаг к Уилки Коллинзу.
Роман «Отчаянные средства» по его жанровым призна-
кам критики не без основания относят к произведени-
ям сенсационной литературы, вспоминая при этом Уилки
Коллинза. Ход действия у Гарди усложнен и запуган,
загадочные события наслаиваются одно на другое, не
обходится и без семейной тайны, на всем лежит зло-
вещая тень скрытого преступления, преступник неуло-
вим, множатся его жертвы, пока, наконец, не насту-
пает час сенсационного разоблачения и напряженные
розыски и преследование не устраняют разраставшейся
угрозы.
Однако и в этом романе, используя приемы сенса-
ционного и детективного жанра, Гарди ориентируется
на социальную трактовку темы и реалистическую тра-
дицию. От романиста «требуется нечто большее, чем
подчинение простым фактам действительности» — эти
слова-Вальтера Скотта, поставленные Гарди в эпигра-
фе, объявляют о намеченной им или намечаемой линии.
В «Отчаянных средствах» заметны и давление об-
стоятельств и неопытность пера. Впрочем, слабости ро-
мана некрикливы и неназойливы — это именно сла-
бости, а не пороки — и своей наивной беззащитностью
способны смягчить критическую укоризну. Роман инте-
ресен сам по себе, но еще более как заявка на боль-
шую деятельность. В нем робко, но уже обозначилось
нечто существенное из того, что со временем разо-
вьется в систему.
Дневниковая запись Гарди от 4 марта 1886 года
отмечает важный момент его внутренней борьбы:
197
«Искусство романа не может обратиться вспять. До-
стигнув аналитической стадии, оно должно пойти даль-
ше в том же направлении. А что, если отвлеченные
размышления аналитической школы воспроизводить по-
средством видимых существ, духов и т. п.?»
Эта запись была сделана, когда Гарди закончил ро-
ман «Мэр Кэстербриджа» — одну из лучших своих книг.
Лишь много лет спустя в эпической драме «Династы»
он перешел от предположительного соображения к широ-
кой его реализации. Но запись от 4 марта 1886 года,
в которой выражены интересные наблюдения Гарди над
эволюцией английского романа, заставляет думать о том,
как и под каким воздействием писатель и литература
становятся не тем, чем они хотели и могли бы быть.
Замена живых характеров и реальных обстоятельств
«видимыми» абстракциями подготавливалась исподволь.
Потребность правды и невозможность высказать ее,
давление извне, слабость внешней опоры и недостаток
внутренних сил готовили этот сдвиг, толкали на такую
замену. Борьба была длительной и драматичной.
«Если писатель когда-нибудь и плачет,— сказал Гар-
ди в 1890 году, вскоре после того, как журнальные ре-
дакторы отказались печатать его роман «Тэсс из рода
д’Эрбервиллей», — то вероятно, когда впервые узнает,
как дорого приходится расплачиваться за право писать
на английском языке».
Во второй половине 90-х годов, на самом подъеме
творчества, при несомненной и широкой его популяр-
ности как романиста, Гарди «вдруг», неожиданно для
своих читателей, отошел от прозы. К разгадке этого
внезапного события подводит его дневниковая запись от
17 октября 1869 года: «Быть может, я смогу в стихах
полнее выразить мысли и чувства, противоречащие кос-
ному, застывшему мнению — твердому, как скала, — ко-
торое поддерживается множеством людей, вложивших
в него капитал». И далее: «Если бы Галилей сказал
стихами, что земля вертится, инквизиция, возможно,
оставила бы его в покое».
Пятидесяти восьми лет Гарди выпустил свой первый
сборник стихов. Обычно от поэзии переходят к прозе.
С Гарди случилось иначе.
Когда у Сократа ученики спросили, почему лишь в
преклонных летах начал он писать стихи, философ от-
198
ветил, что просто, став стариком, решил наконец под-
чиниться велению внутреннего голоса, который давно
уже от него требовал: «Трудись и твори на поприще
муз!» С Гарди было не так просто, хотя в известной
мере было и так. В известной мере потому, что стихи
он писал и ранее и не только внутреннее веление
и эволюция творчества побудили его оставить прозу.
Свою роль сыграла и журнальная травля. На Гарди на-
падали в газетах, ему угрожали в анонимках — все это
не могло пройти для него бесследно. Райдер Хаггард
вспоминает, как однажды при нем Гарди развернул од-
ну из ведущих английских газет, в которой была на-
печатана большая рецензия на его последний роман.
Он прочитал ее,— пишет Хаггард,— и, ткнув пальцем в
столбец, воскликнул: «И такое говорят о человеке.
Что ж, никогда больше не буду писать романы».
Гарди знал, какая судьба постигала поэтов, осмелив-
шихся, подобно Галилею, возглашать истины, сокруши-
тельные для косного мнения. Все же ему казалось, что
более условная форма выражения позволит ему говорить
о заветном. Он убедился, что «инквизиция» наблюдала
не только за прозой, она требовала оъ него новых усту-
пок, чтобы он держался такого взгляда на жизнь и та-
кой условности изображения, какие не могли вызвать
у читателя опасных мыслей.
Когда в начале этого века появилась первая часть
эпической драмы «Династы» и последовали рецензии,
Гарди снова услышал шум недовольства со стороны
«надзирателей за мыслями», так как он переступил уста-
новленный стандарт. «Ведь что в действительности го-
ворят рецензенты,— записал он в дневнике,— они не го-
ворят, что «это неверный и нехудожественный взгляд
на жизнь», но что «это не тот взгляд на жизнь, ка-
кой мы, люди, процветающие благодаря косности, можем
позволить вам выразить». Вот если бы вместо принятой
мною концепции, я создал картину мира, управляемого
феями, никто не стал бы протестовать, и критики, ве-
роятно, сказали бы: «Как прелестно это получилось у
м-ра Гарди!»
Пережитое Гарди испытание, вызванное неудачными
попытками издать первый роман, было не случайным,
преходящим драматическим эпизодом, а началом драмы,
глубоко отразившейся на его творчестве, драмы, харак-
199
верной не только для него одного, позволяющей увидеть
скрытые от глаз читателя ухабистые пути развития новей-
шей английской литературы. Давление издателей и офи-
циального общественного мнения во многом изменило
направление творчества Гарди, сказалось на стиле и
слоге писателя. Его духовная индивидуальность ломала
себя, и следы конфликта видны на всем протяжении его
творческого пути. Его уступки отзываются горечью, тяж-
кой мукой, и он не перестает возвышать свой голос,
сопротивляется, ведет борьбу — если бы не так, если бы
этого не было — не было бы Томаса Гарди — выдающе-
гося английского писателя — гуманиста и демократа.
Едва ли правомерно задаваться вопросом, что ста-
лось бы с Гарди при иных обстоятельствах? Или с тем
же Мередитом, или с Робертом Луисом Стивенсоном,
с Джорджем Гиссингом, Оскаром Уайльдом или иным
писателем последней трети прошлого века? Можно га-
дать на этот счет, но всякое предположение окажется
произвольным, и не только потому, что его нельзя будет
проверить. «Иных обстоятельств» не бывает, на каждом
писателе лежит печать своего времени. Время, однако,
не стирает индивидуальности творческих судеб, не при-
водит их к общему знаменателю. Отношения творческой
личности с историческими обстоятельствами не однотип-
ны. Вместе с тем они подчиняются строгим объектив-
ным закономерностям.
В жизни всякого литератора обстоятельства, внешние
и внутренние, складываются в особую силу, которую
известный английский поэт С. Т. Кольридж называл «не-
избежность судьбы». Читая о том или ином писателе,
которому, предположим, приходилось очень нелегко, мы
сочувствуем ему. Однако,— и пусть это соображение не
покажется жестоким,— иногда забываем допустить
мысль, что, возможно, именно эти горести вызвали в нем
творческую силу, привели в особенное движение его чув-
ства, его душу и, наконец, его перо.
В самом деле, судьба часто очень причудливо об-
ходится с писателями. Увенчанный золотым венком на
Капитолии, Петрарка был уверен, что его латинские со-
чинения, в особенности пространная поэма «Африка»,
ныне прочно забытая, составят ему вечную славу. Вышло
иначе. Поэт остался в памяти человечества благодаря
произведениям, которым он сам придавал наименьшее
200
значение: книге канцон и сонетов, посвященных донне
Лауре. А старший современник Гарди — Эдвард Лир,
ученый, художник и поэт,— с необычайной настойчиво-
стью стремился утвердить свою репутацию пейзажиста.
Он не был бездарным колористом, но задуманного до-
стичь ему так и не удалось. Все нарочитые усилия
Лира-художника, затмила его собственная слава созда-
теля «поэзии бессмыслицы». Не картины, а стишки
вроде:
В решете они в море ушли, в решете,
В решете по седым волнам...
Перевод С. Я. Маршака
обессмертили имя Эдварда Лира.
Д. В. Григорович сожалел, что Герцен оставил бел-
летристику и занялся публицистикой, мемуарами. «Ка-
кой был бы писатель!» — восклицал Григорович. В са-
мом деле, Герцен безусловно заявил о себе в «Запи-
сках одного молодого человека», в «Сороке-воровке»,
в прославленном «Кто виноват?» первоклассным бел-
летристом. Однако вполне раскрылся талант Герцена в
жанре другого рода: форма записок, исповеди, непосред-
ственных суждений и откровений оказалась ему наибо-
лее, перед всеми прочими, свойственна и органична. Так
стоит ли сожалеть, что автор «Былого и дум» оставил
писать романы и повести, а создал воспоминания?
Неизбежность судьбы» сказывается. Но всякий ли
талант выдерживает эту «неизбежность»? И разве «не-
избежность судьбы» фатальна и предполагает покорность?
Гарди испытывал на себе и видел на примере дру-
гих, что происходит с талантами, не устоявшими под
внешним нажимом. Он сознавал важность этой пробле-
мы для каждого писателя в отдельности и для лите-
ратуры в целом. Так, он указывал на творческую судь-
бу Редьярда Киплинга. Если бы Киплинг, говорил он,
не поддался влиянию империалистов, он был бы дей-
ствительно большим писателем.
Киплинг — случай особый. Он не обнаружил в себе
творческих сил, способных перебороть заведомую тен-
денциозность. Он принял ее как должное по личному
соизволению. Поначалу он держался внутренней убеж-
денности, полагая свой принцип и свою миссию правы-
ми, и находил поддержку не только у заведомых реак-
201
пионеров. Когда же приверженность подхваченной им
идее перестала быть для него органичной, кризис за-
дел суть его сознания, напрасно он продолжал надеять-
ся на волевую собранность нервов:
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело.
И только Воля говорит: Иди!
Перевод М. Лозинского
Железное понукание было бессильно принудить хо-
лодное вдохновение излучать поэтический свет. Гарди,
хорошо и близко знавший Киплинга, это чувствовал. Не-
посредственно перед ним возникали иные проблемы.
Переход от «Бедняка и леди» к «Отчаянным сред-
ствам» был вынужденным. Он вызвал внутреннюю лом-
ку и перестановку. Но Гарди отступал не так, как
Киплинг, не так, как Гиссинг, сталкиваясь с иными
препятствиями и проблемами.
Вся внутренняя «переборка», последовавшая за не-
удачей с романом «Бедняк и леди», сколь значительной
она ни представляется, не изменила существа сознания
и творческой эволюции Гарди. У него сохранилась и
страсть несогласия с общественным порядком и потреб-
ность коренных перемен.
Через восемь лет после неудачи с «Бедняком и леди»
Гарди предпринял новую попытку написать «злонамерен-
ное» произведение. Он выпустил роман «Рука Этель-
берты», сопроводив его подзаголовком «Комедия в гла-
вах». Невинный с виду, этот подзаголовок был полеми-
ческим, содержал вызов тем литераторам и читателям,
которые смотрели на роман как на развернутый жанр
светской хроники. Подобное представление о романе не
казалось чем-то анекдотическим, в кругу литератур-
ных обывателей оно было привычным. С этой точки
зрения Гарди «вовсе не писал романов» и не хотел их
писать, потому и поставил: «Комедия в главах». Его
интересовали не светские манеры и обычаи, а «суть
жизни», как сказано в биографии писателя, ее социаль-
ный смысл.
Достоин внимания замысел автора сам по себе, по-
скольку в нем отразились направление и глубина иска-
202
ний демократической литературной мысли. В противо-
положность «нормам» светского романа, Гарди делает
героями «Комедии в главах» не господ а слуг. Говоря
его словами, он предпринял попытку «возбудить интерес
к драме, да будет позволено в этой связи употребить
столь величественное слово, в которой слуги играют не
менее, если не более значительную роль, чем их госпо-
да». Мало того: писатель поставил задачей изобразить
«господ» с точки зрения их «слуг».
«В некоторых кругах», как свидетельствует биограф
писателя, «Рука Этельберты» была встречена более бла-
гожелательно, чем рассчитывал автор. Один восторжен-
ный критик назвал его произведение «превосходной ко-
медией», какой не появлялось с шекспировских времен.
«Покажите мне живой прототип Вашей героини,— пи-
сал он автору,— и я клянусь честью холостяка, что по-
корно присоединюсь к свите ее почитателей». Все это
может быть любопытным как характеристика литера-
турной атмосферы того времени. Восторженные и бла-
гожелательные отзывы не спасли роман от резкой шаб-
лонной критики. «Impossible» — «так не бывает» — был
ее приговор. Особенное неудовольствие вызвала сцена,
в которой героиня «оказывается за обеденным столом
среди избранного общества, а ее отец находится тут
же, выполняя, однако, роль слуги». Пройдет несколько
десятилетий и «подобная же ситуация» в пьесе Шоу
(по-видимому, в «Пигмалионе».— М. У.) уже «не пока-
жется неправдоподобной», ему не станут говорить «так
не бывает»,— не без горечи отмечал впоследствии Гарди,
и делал вывод: тот вид сатиры, какой представлен «Ко-
медией в главах», появился на тридцать лет раньше
срока, преждевременной оказалась и «социалистическая
повесть» (a socialist story) «Бедняк и леди».
Размышления Гарди над судьбой своих книг, сделан-
ный им вывод, его попытка на личном примере обосно-
вать определенную закономерность литературного разви-
тия в его зависимости от отношений общества к твор-
ческой личности, заслуживают того, чтобы задержать
па этом внимание.
История литературы знает немало случаев массовой
читательской слепоты, из-за которой достойное произ-
ведение оказывается непризнанным и находится в заб-
вении, пока более проницательные и признательные по-
203
ТОМки «вдруг» не заметят ёго и не Воздадут ему долин-
ное. Парадокс непризнания и забвения может распро-
страниться на все творчество писателя, как это было в
случае с Джерардом Мэнли Гопкинсом, который пре-
бывал в безвестности, а потом как-то сразу предстал
крупнейшим английским поэтом. В последнюю треть
прошлого века Гопкинс был «преждевременным». Поэты
XX века увидели в нем своего современника.
По-иному обошлась судьба с романом «Рука Этель-
берты». Путь его в общем-то беспечален, но и остав-
ленный им след мало заметен. Гарди склонен был ду-
мать, что «Бедняк и леди», «Рука Этельберты», а так-
же все им написанное — «в -прозе и стахах» — отмечено
роковым знаком «преждевременности». Но, к приме-
ру, его романы «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и «Джуд
Незаметный», как ни атаковала их критика, выдержали
ее натиск и устояли перед судом времени. Явление
преждевременности в литературе Гарди трактует одно-
сторонне и однолинейно, вовсе не беря в расчет субъ-
ективные причины, творческую индивидуальность и пове-
дение писателя, глубину и мастерство раскрытия зна-
чительной темы, объясняя все слепотой и давлением ог-
раниченного общественного мнения, не позволяющего
автору в полноте и последовательности осуществить
свой замысел. С тем же Гарди дело обстояло сложнее.
Гарди ломает господствующие представления о бур-
жуазно-аристократическом обществе, о его состоянии,
о его воздействии на моральное и духовное развитие
личности. Во взгляде писателя сказывается точка зре-
ния демократической среды, нарастающее в ней не-
довольство, потребность коренных перемен. Но автор-
скому замыслу и его воплощению не хватает свободы
и последовательности, свободы от тех же господству-
ющих представлений, которые он подрывает, от распро-
страненных предрассудков и привычек. Он намерен от-
решиться от устоявшейся и застывшей системы суж-
дений, но многие незримые нити связывают с ней его
сознание, и в «Руке Этельберты» чуть ли не верхом
оппозиционности, в представлении благонамеренной
критики, оказывается упомянутая сцена. Между тем,
какой бы заряд гражданской смелости ни несла в себе
эта сцена, многие обстоятельства смягчали ее. Сцена
написана слабо, кажется публицистической вставкой,
204
сделанной как бы в надежде, что «насыщение» романа
острым\ материалом без искусной художественной его
переработки само по себе может дать желаемый эффект.
Да и сам замысел страдал от непоследовательности,
в нем дерзость перемежалась с робостью.
Противоречивость в разработке острого сатирическо-
го замысла определялась социальной позицией Гарди.
Его решительные устремления осложнялись целым ком-
плексом переживаний и размышлений, которые были во-
все чужды Киплингу, не знакомы или мало знакомы
Гиссингу и многим писателям-современникам, большин-
ство из которых чувствовало, однако, значительность
того, над чем билась мысль Гарди, что вызывало его
сомнение и тревогу. Опыт и сознание писателя были
связаны с жизнью английской деревни, с происходив-
шими в ней процессами, с потрясениями, пережитыми
сельской Англией в кризисную эпоху.
Когда вынужденные уступки делает настоящий пи-
сатель, он делает их все же на свой лад, сообразуясь
со своей личностью. Многое, разумеется, зависит от меры
и степени уступок. Гарди не выдерживал грубого 'на-
тиска, ему не хватало силы и стойкости борца. С болью
в сердце он сглаживал резкие реплики, убирал целые
эпизоды. Все это терзало нервы, откладывалось в соз-
нании неустранимой тяжестью, вырывалось душевным
криком в дневнике и в статьях, в конечном счете при-
вело к кризису. Гарди перестал писать романы. Но он
не сделал в своей литературной деятельности такой
уступки, которая могла бы надломить его как творче-
скую личность.
То, что мог сказать Гарди как писатель-реалист и
демократ, он сказал, сказал хотя бы то основное и
главное, чем он жил, чем был полон, что волновало
его как художника и гражданина. Если бы Гарди не
сделал отступления в самом начале, многое в его
творчестве могло предстать в ином виде — многое, ноне
самое главное. Как можно думать, опираясь на сохра-
нившиеся свидетельства и рассматривая эволюцию пи-
сателя, первый роман Гарди едва ли оказался бы в кру-
гу лучших его произведений.
В странах английского языка Гарди-поэт, автор ли-
рических стихотворений и монументальной эпической
205
драмы «Династы» известен не менее Гарди-прозаика.
Многие английские литераторы ставят стихи Гарди (осо-
бенно в смысле «современности») выше его прозы. Гарди
печатался как поэт тридцать лет. В приятельских бесе-
дах на исходе своих дней он даже был склонен под-
черкивать, что романами занимался только двадцать
пять лет и потому соотношение в его творчестве меж-
ду прозой и поэзией клонится в сторону последней. Им
было опубликовано восемь стихотворных сборников. Пер-
вый из них появился вскоре после «Джуда Незамет-
ного», в 1898 году. Однако мировая известность пришла
к Гарди благодаря переводам его романов, именно в
них (особенно в «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и в
«Джуде Незаметном») отчетливее всего выразилось свое-
образие личности писателя и демократической среды,
оказавшей на него неизгладимое влияние, сказалась со-
циальная природа и обличительный пафос его творчества.
Поэт и прозаик не совершенно вытесняют друг
друга в многожанровом творчестве Гарди. Только при-
рожденный поэт мог написать такой роман, как «Тэсс
из рода д’Эрбервиллей», и только основательный опыт
прозаика позволил Гарди написать «Династы», эпиче-
скую драму в стихах и прозе.
В Гарди сосуществовали поэт и прозаик, но также
писатель и художник. Он колебался в выборе про-
фессии, и ему не сразу удалось определить свой путь.
Десять лет он учился и работал под руководством
опытных архитекторов, занимался реставрацией древ-
них церквей в провинции и в Лондоне. Его занятия
и работа шли успешно, он мог стать незаурядным ар-
хитектором, но оставил архитектуру и живопись. Ху-
дожник в нем сохранился и давал о себе знать раз-
ными путями. Роман «Под деревом зеленым», при
повторном его издании, Гарди выпустил с собственны-
ми иллюстрациями. Интерес и опыт зодчего могут быть
обнаружены в материале и в сюжетах его романов,
в характере его композиционного мастерства. Все же ху-
дожник уступил место писателю, и произошло это, ве-
роятнее всего, потому, что в литературе Гарди видел
более широкую возможность выразить свой талант и
волновавшие его мысли, язык литературы был ближе
ему, чем язык живописи, графики или архитектуры.
В творческом сознании Гарди художник и писатель по-
206
менялись местами, когда он, испробовав свои силы в
литературе, убедился, что «может»,— тогда он преодо-
лел свои колебания.
Имя Томаса Гарди обрело в английской литерату-
ре определенность после выхода его романа «Под де-
ревом зеленым» в 1872 году. Тогда Гарди еще не пред-
полагал, что небольшая книга даст начало серии из
семи романов, начнет своего рода эпопею. Лишь много
лет спустя при подготовке их к новому изданию в
1912 году возникла у Гарди мысль дать им общий за-
головок, представить их как последовательный цикл —
«романы характеров и среды»; семь книг, которые вы-
ходили с 1872 по 1895 год. В них изображены сель-
ская и провинциальная Англия с 30-х по 80-е годы.
События развертываются на юго-западе Англии, почти
все время в четко обозначенных границах.
Место действия своих романов Гарди, движимый на-
ционально-патриотической идеей, назвал Уэссексом,
и сами эти романы выходят на родине писателя под
наименованием «уэссекских». К ним обычно прилагает-
ся карта с подробным обозначением топографии всего
края, собственно даже не края, а целого мира, дЛя оби-
тателей которого город Кэстербридж, Блекмурская до-
лина, Эгдонская вересковая степь значат так же много,
как название любой из великих столиц или прослав-
ленных в истории местностей.
В V—IX веках Уэссексом называлось королевство
древних саксов — одно из семи существовавших тогда
на территории Англии значительных королевств. Из всех
семи наиболее прочным оказался Уэссекс, послуживший
основой национального единения страны. Уэссекс Гарди
располагается на той же исторической территории, в цен-
тре его — графство Дорсетшир с городом Дорчесте-
ром — Кэстербриджем уэссекских романов, неподалеку
от которого, всего в трех милях, в небольшом селении
Хайер Бокэмптон родился Томас Гарди.
Уэссекс — многогранный и многозначительный образ,
созданный поэтическим воображением на реальной осно-
ве общенациональной, местной и семейной истории в
итоге непосредственных наблюдений и глубоких разду-
мий писателя над судьбой сельской Англии. Уэссекс —
207
неповторимый мир и многовековой уклад, истоки которое
го обозначаются в далеком-далеком прошлом, а расцвет
приходится на времена «старой веселой Англии», ког-
да в национальной истории огромную роль играли воль-
ные землепашцы, «гордые йомены». О них с особым
чувством теплоты писал Шекспир, к которому Гарди
обращается с неизменным постоянством — делает на
него ссылки, цитирует, вспоминает не от случая к слу-
чаю, а хранит в памяти как живой образец. Шекспи-
ровские слова стоят в эпиграфе к роману «Тэсс из рода
д’Эрбервиллей», выражая пафос лирического отношения
автора к героине. Сам Гарди в романе «В краю ле
сов», предшествующем «Тэсс» и «Джуду», рассказал
драматическую историю «последнего йомена» (так он
назвал своего героя Джайлса Уинтерборна), обездолен-
ного и бессмысленно погибающего^ «последнего из мо-
гикан» старой английской деревни, «преданного йомена»,
простого парня, рыцаря любви и чести...
Уэссекс — это прочная традиция, поэтически окра
шивающая размеренный быт, это медленно, едва за
метно от века к веку меняющийся ландшафт, это неч-
то устойчивое, глубоко вкоренившееся, не терпящее по-
верхностной прикрепленное™ к почве, чуждое кочевому
настроению и суетности, каковые владеют теми персо-
нажами Гарди, которые оторвались от Уэссекса или за-
ранее противостоят ему. Уэссекс раскрывается перед
читателем в трагическом столкновении с разрушающей
его силой. Пользуясь словами поэта-соотечественника
Томаса Грея, Гарди метафорически называет ее «безум-
ствующей или обезумевшей толпой». В переводе на
язык социологической публицистики это будет означать
«торгашество», «буржуазное хищничество» и целый ком-
плекс индивидуалистических устремлений, порожденных
бытом капиталистического города. Конфликт, лежащий
в сюжетной основе романов Гарди, само развитие сю-
жета, развитие всего цикла с его усложняющейся от
романа к роману проблематикой, в конечном счете
определяется этим столкновением. Однако смысл всего
происходящего, возбуждающий непосредственный чита-
тельский интерес, раскрывается через характеры.
Назвав цикл лучших своих романов романами «харак-
теров и среды», Гарди как бы сформулировал избран-
ный им принцип художественной трактовки явлений —
208
через характеры и среду в их отношениях. «Среда» у
Гарди —это уклад жизни, условия существования в ши-
роком смысле, а также конкретные обстоятельства, воз-
действующие на личную судьбу. Сила и новизна Тома-
са Гарди сказывались, в частности, в его стремлении
и умении проследить всесторонне и как можно глубже
связь характера с локальным окружением, оставившим
на нем неизгладимую печать. Они сказывались вместе
с тем в умении показать, что происходит, когда раз-
рываются эти связи, когда человек попадает в незна-
комую и чуждую ему среду и перед ним возникает не-
обходимость самоопределения, как, наконец, личный
выбор, характер и убеждение человека отражаются на
его судьбе.
В «романах характеров и среды» деревня и город
предстают как контрастные и враждебные начала. Меж-
ду ними идет неравная борьба, романы изображают ее
в последовательном развитии, и по ним можно су-
дить, как обострение конфликта сказывалось на жизни
деревни, какие влекло последствия, как сам объектив-
ный процесс и его осмысление писателем воздейство-
вали на общий замысел цикла, структуру отдельных его
частей, принципы построения сюжета и характеров, на
изобразительные приемы, манеру письма.
«Романы характеров и среды» — редкий литературный
цикл: в нем с отчетливой непосредственностью выразились
объективные условия жанрового формирования, зависи-
мость эпического жанра и его эволюции от социаль-
ных основ, от состояния общества, от степени его внут-
реннего единства и характера его развития. Движение
в цикле от романа к роману прокладывает неповтори-
мое по своим контурам русло в зависимости от конкрет-
ных условий и вместе с тем повторяет в миниатюре
более общий литературный процесс, подчиняясь его
закономерностям.
В первом произведении названного цикла, в романе
«Под деревом зеленым», еще нет ярко очерченных ин-
дивидуальностей, ведущих героев, на которых сосредо-
точивалось бы преимущественное внимание. Есть выра-
зительные, вызывающие любопытство персонажи, но они
более интересны не в самостоятельном существовании,
а как части целого, в совокупности, как коллективный
характер, сформированный устойчивой и более или менее
209
однородной средой, сохранившей еще стародедовские
нравы и обычаи. Человек в ней не противостоял кол-
лективу и не чувствовал или почти не чувствовал себя
обособленным и одиноким. Нравственные принципы ка-
зались всеобщими и правда единой.
Но уже второй роман цикла «Вдали от обезумевшей
толпы» отражает иное состояние: полупатриархальная
среда под буржуазным воздействием, распалась, лич-
ное и коллективное начала пришли в резкое столкно-
вение, нравственные нормы заколебались, правда раз-
двоилась, замкнутость, одиночество стали распростра-
ненным явлением. Структура романа отметила эти
глубокие изменения.
Гарди пишет роман, но мысль его делает невольные
попытки, оформить материал по драматическому прин-
ципу. Почти в то же время или немного позднее у него
начинает вызревать замысел широкого обобщенного по-
лотна. В поисках исходного рубежа он обращается в
глубь истории и останавливается на эпохе наполеонов-
ских войн. Он связывает с этим периодом начала важ-
ных перемен в современной истории. Особый интерес
возбуждает у него общенациональный энтузиазм, вы-
званный подготовкой Англии к отпору грозному врагу:
англичане ждали высадки на острова наполеоновских
войск, нараставшее патриотическое чувство сплачивало
людей разных общественных слоев. Старая сельская Ан-
глия в результате экономической блокады переживала
подъем, последний в ее истории. Страна смотрела на
деревню с надеждой и одобрением, патриархальные се-
ляне показывали пример сплоченности.
Гарди не оставляет в покое мысль о последовавшем
затем упадке сельской Англии и разломе национально-
го сознания. В связи с большими событиями прошлой
истории ему хотелось осветить многие проблемы своего
времени— социальные, философские, нравственные, пси-
хологические. Сначала он думает об исторической хро-
нике в форме баллады. Затем начинает размышлять о
«Великой современной драме». Одновременно читает ан-
тичных трагиков и Шекспира. Интересен ход творческой
мысли: от баллады — к драме, от драмы — к эпикодра-
матической форме. В том же, примерно, направлении
эволюционирует жанр в цикле «романы характеров и
среды».
210
В ранних книгах перемены заметнее всего сказыва-
ются на массовом герое, коллективном характере, его
роли и позиции.
В романе «Вдали от обезумевшей толпы» просце-
ниум почти полностью заняли протагонисты, массовый
герой отступил от центра игровой площадки и со сто-
роны стал наблюдать за ними, размышлять об их дей-
ствиях, судить их поступки, взял на себя функции «хо-
ра» античной трагедии 2. Массовый герой излагает нрав-
ственные принципы, гуманные и демократичные. Он —
носитель и проводник народной житейской мудрости.
Ему свойственны единодушие, свободомыслие и пафос
принципиальности. Однако призванный к исполнению
чрезвычайно серьезной и патетической роли, «хор» этот
не в силах последовательно выдержать заданного тона.
Ему недостает уверенности, и, словно боясь показать-
ся смешным, он сам взывает к духу комического. Не-
которые важные суждения «хор» высказывает устами
захмелевших и чудаковатых своих участников в обста-
новке древнего трактира «Оленья голова», как-то сразу
оказываясь «фальстафовским» фоном.
Такое смещение в амплуа массового героя нельзя
объяснить только фактом одновременного увлечения
Гарди античной трагедией и Шекспиром и поперемен-
ным их на него влиянием, или эстетической задачей —
подчеркнуть мрачные события в Уэзербери, усилить тра-
гическое их восприятие и в то же время гротесковым
противопоставлением комической атмосферы трагиче-
ской создать разрядку. Появление в этом романе гро-
теска подготовлено более основательными и глубокими
причинами — непрочным и неопределенным положением
массового героя Гарди — патриархальных батраков, еще
склонных держаться старого порядка, выступать от лица
патриархального «мира», будто бы уцелевшего, в то
время как они уже не могут не замечать разитель-
ных перемен.
Теперь основной конфликт раскрывается через столк-
новение характеров, которым свойственна психологи-
ческая глубина и многогранность, внешняя и внутрен-
2 Это сопоставление сделано в книге Дж. У. Бича «Техника Томаса
Гарди» (/. W. Beach. The Technique of Thomas Hardy. Chicago,
1922).
211
няя определенность. Два персонажа — разорившийся
мелкий фермер, пастух-батрак Габриэль Оук и сержант
Трой — подчеркнуто противопоставлены друг другу, во-
площают непримиримые силы.
Материал, тема, сюжет развивающегося цикла — все
требовало героя, выделившегося из эпической среды.
Такой герой появился в очередном романе «характеров
и среды» — «Возвращение на родину». Он еще не стал
главным, но действие центробежных сил обнаружилось
с очевидностью.
В глухом краю Уэссекса разыгрываются драматиче-
ские события, неуклонно ведущие к трагической развяз-
ке. С нарушением равновесия, с новыми словами, по-
нятиями и чувствами герой отрывается от «хора», об-
ретает индивидуальность, конфликт человека и среды
становится особенно напряженным.
Молодая девушка Юстасия Вэй бросает вызов мно-
говековому житейскому укладу. Порываясь из патриар-
хальной глухомани к большому миру, к цивилизации,
она гибнет. «Такой уж у меня характер»,— говорит
она, объясняя причины своей печали и как бы предска-
зывая трагический исход событий.
Повесть о Юстасии Вэй окрашена в местный коло-
рит и проникнута раздумьями и печалями своего вре-
мени. Недолгая история ее жизни переплетается с дру-
гими драматическими историями — с изломанными судь-
бами молодых людей — Клайма Ибрайта и Уайльдива.
Гарди внимательно присматривался к брожению мо-
лодых сил, разбуженных социальным прогрессом и под-
нявшихся над стандартным уровнем. Его волновала
судьба поколения, формировавшегося в условиях рез-
ких социальных сдвигов, смены общественных идей и
краха либеральных представлений. Тревога времени и
брожение умов дают о себе знать в изображаемых им
житейских и психологических конфликтах, в романти-
ческих символах и аллегориях.
В заглавии романа «Возвращение на родину» от-
ражен сюжетный мотив, прямой его смысл — бегство из
оплота буржуазной цивилизации в сельскую глушь, от
«безумствующей толпы» под родную сень «зеленого де-
рева». Все тот же конфликт и те же устремления, од-
нако уже само место действия — Эгдонская степь, на-
поминающая о легендарном короле Уэссекса и шекспи-
212
^обском «Короле Лире»,— придает этому роману новый,
трагический колорит.
Через характеры и сюжетные ситуации, с отчетливой
последовательностью и без нарочитой предвзятости рас-
крывает Гарди противоречивость социального поступа-
тельного движения. Прогрессом нарушенное равновесие
порождает непривычные психологические состояния, бо-
лезненно переживаемые человеком. На пути формиро-
вания личности возникают непредвиденные препятствия.
Юстасия Вэй — резко выраженная индивидуальность.
Если не глубокое сознание, то чувство собственной лич-
ности, смелое и непреклонное, обозначено в ней отчет-
ливо. Однако оно бессильно преодолеть состояние внут-
реннего надрыва и разлада. Гордость и дерзость
сочетаются с тоской и унынием, горечь неудовлетворен-
ности — постоянный удел героини. Это не та неудовлет-
воренность, которая способствует внутреннему росту, это
неудовлетворенность, надламывающая и ожесточающая
дух. Не только в пору кризиса и поражения, но от
начала и до конца героиню сопровождает горделивая
мрачность — непритворная и неустранимая. На ее челе
печать утраты «богоподобной уверенности» — уверенно-
сти в том, что возможностям нет предела, что дерзно-
вения увенчиваются одними победами и что каждый
волен выбирать себе путь. Об Юстасии Вэй можно
сказать: «дочь века». В начале романа на мгновение
возникает романтический образ девушки. Мимолетное
видение отчетливо встает перед глазами. Над Эгдон-
ской степью, над которой почти не властно время,
возвышается холм, над ним курган — «полюс и ось
этого верескового мира»,— на кургане человеческая фи-
гура, венчающая внушительный ансамбль. Автор, при-
бегая к архитектурному образу, говорит об удивитель-
ной слаженности его частей и естественном возвышении
над всей структурой фигуры человека. В конце рома-
на этот же человек в бурную непогоду гибнет в мут-
ных водах реки, он как бы сброшен с вершины на
самое дно.
Полный символического смысла фабульный эпи-
зод — первое появление Юстасии Вэй — указывает меру
ее дерзаний. Созерцая ее вознесшийся облик, можно,
с необходимыми поправками на время и обстоятельст-
ва, сказать гамлетовские слова: «Человек — краса все-
213
Ленной». И впоследствии за ним же повторить — «квинт-
эссенция праха».
Аллегория этих двух эпизодов — взлета и падения —
полемически заострена, но не столь прямолинейна, как
может представиться при первом впечатлении. Гарди, го-
воря словами Пришвина, «не кидался со злобой на ци-
вилизацию», но и «не хотел вступать в мещанский брак
с электричеством», не мог мириться с холодным равно-
душием энергичного и самодовольного либерализма, все
объясняющего и оправдывающего ссылками на «желез-
ную необходимость прогресса». Конкретный смысл его
аллегории раскрывает судьба Юстасии Вэй, романтиче-
ской девушки, трагического персонажам
Так, из общей среды у Гарди постепенно начинают
выделяться все более приметные фигуры, пока, наконец,
в «Мэре Кэстербриджа», четвертом романе цикла, в цен-
тре событий не оказывается «Человек с характером»,
как значится в подзаголовке романа. Бывший батрак,
затем мэр города Кэстербриджа, а затем снова батрак,
Майкл Хенчард — один из самых значительных харак-
теров, созданных писателем.
«Это повествование,— определял Гарди замысел «Мэ-
ра»,— занято изучением характера и поведения одного
человека в большей степени, чем, пожалуй, любая из
книг, составляющих мою панораму жизни Уэссекса».
В тот день, когда начал печататься «Мэр Кэстер-
бриджа», второго января 1886 года, Гарди записал в
дневнике, что его особенно заботит создание характе-
ров, что «в конце концов» главное — правдоподобие ха-
рактеров, а не правдоподобие событий. Из этого не сле-
дует, что Гарди относился к строению сюжета как к
чему-то третьестепенному. Он поддерживал мнение, что
сюжет, как слаженная система событий, должен удов-
летворять требованию занимательности, держать чита-
теля в напряжении. Только, полагал он, выбор событий
не следует делать произвольным и самодельным.
Критика отмечала, и не без основания, промахи Гар-
ди в сюжетосложении, указывая на скопление случай-
ностей, неоправданные совпадения и мелодраматизм эф-
фектов. Эти промахи явственны, однако стоит вместе с
тем обратить внимание и на то, что появляются они
в известной системе, подчиняясь не просто авторскому
произволу, но принципу.
214
«Случай» у Гарди в этих его романах редко ока-
зывается счастливым, он более тревожит, чем радует,
обычно сулит печальные перемены, обнажая трагиче-
скую основу жизни. Случайности и «преднамеренные»
совпадения у Гарди, если приглядеться, во многих
эпизодах отвечают сути характеров и тех обстоятельств,
с которыми они соотносятся.
«Романы Мередита и Гарди,—писал в конце 90-х
годов Герберт Уэллс,— избавились от прежних «кош-
марных» сюжетов». Их герои — «сильно очерченные ин-
дивидуальности...»
Уэллс выделил нечто общее в изображении харак-
теров у двух писателей-современников, представителей
старшего и молодого поколений, писателей, в значи-
тельной мере обозначивших новый этап в развитии ан-
глийской литературы, начало того процесса, который
разовьется в XX веке. «Сильно очерченные индиви-
дуальности», — это сказано точно, однако в порядке
самого общего определения.
Характеры в романах Гарди, особенно в «Мэре», в
«Тэсс» и «Джуде», для своего времени, для «конца
века», были отмечены несомненной оригинальностью и
новизной.
Майкл Хейнчард — явление принципиального свой-
ства в английской литературе переходного времени,
свидетельство развития в ней народных традиций. Мо-
жет быть, он выписан недостаточно тонко, но этой вну-
шительной фигуре не откажешь в глубине, многогран-
ности, жизненной достоверности. Личным достоинством,
прямотой, монументальностью фигуры батрак Майкл
Хенчард походит на смелых и гордых простолюдинов,
которых выводили на сцену Шекспир и его современни-
ки. Это трагический характер, причем трагическая кол-
лизия воплощена в нем с классической простотой. Майкл
Хенчард — средоточие характерных свойств целостной
общественной среды и вместе с тем он носитель инди-
видуального начала, которое возвышает его над этой
средой и сталкивает с ней.
«Характер», выделивший Хенчарда, сделавший его
фигурой трагической, осмысливается автором не просто
как сочетание незаурядных личных качеств, но как
сплав устойчивых свойств, тронутых внешним влиянием.
Он определен сильным воздействием деревни, еще хра-
215
нившей эпические патриархальные традиции. Когда эту
среду резко пошатнули буржуазные «веяния», они за-
тронули и деревенского парня, батрака, вязальщика сена
Майкла Хенчарда, поставив его в непривычное для него
положение и вызвав брожение чувств. В нем разгоряче-
но честолюбие, сталкиваются противоречивые устремле-
ния.
Хенчард отмечен чертой своего времени. Герой дей-
ствует вне эпической среды — она сохраняется лишь
как фон. Он действует на свой страх и риск, пресле-
дуя не общий, а прежде всего личный интерес и чув-
ствуя не локоть ближнего, а хищные зубы конкурента.
Поэтому так неизбежно и разительно его одиночество:
он среди людей и как бы один во всей вселенной.
Привычная почва исчезла из-под ног, все прежние,
естественные для него связи порушены, органически
приспособиться к новым условиям он не может,— этим
объясняется и свойственная ему «дикая импульсив-
ность», о которой настойчиво говорит автор.
Психологический облик Хенчарда очерчен точно, ло-
гика его поведения убедительна, ее зависимость от ус-
ловий жизни очевидна, несмотря на скопление случай-
ностей и разные скачки в движении сюжета.
Майкл Хенчард, мэр Кэстербриджа, значителен и
колоритен благодаря лучшим чертам своего характера:
широк и прям в чувствах, смышлен умом, тверд в убеж-
дениях, энергичен в поступках он — цельная и волевая
натура. Характер же делает его смешным, жалким, не-
дальновидным, малоподвижным. В характере Хенчар-
да заключена известная степень величия, залог успеха
и главная причина его несчастий. «Характер — это
судьба», — цитирует Гарди афоризм Новалиса. Он, имея
в виду Хенчарда, мог бы сказать: «Характер — это
беда». Быт, среда, старый сельский уклад, сформиро-
вавшие Хенчарда, полупатриархальный Кэстербридж,
поставивший его градоначальником, сообщили его на-
туре ту прочность и простую прямолинейность нрава,
которая им самим была свойственна.
Приходит, однако, необходимость перемен. Кэстер-
бридж пока все тот же. Но где-то вдали, за пределами
Уэссекса утвердилась жизнь иного склада, и она, не-
умолимо приближаясь к Кэстербриджу, находит для
себя и в нем подходящую почву. В городе появляется
216
молодой шотландец Доналд Фарфрэ, а с ним водво-
ряется дух новейшей предприимчивости.
Своевольный характер героя действительно становит-
ся его жестокой судьбой. Домашние рамки кэстербридж-
ского рынка — вот та стихия, где его грубая энергия
и природная сметка помогали ему побивать конкурен-
тов. Он преуспевал, пока торговле, употребляя слова
Энгельса, была свойственна «практика мелкого наду-
вательства и обмана». Противоречия в характере героя
не казались столь заметны, пока эта практика была
распространенной. То, что связывало его со старым бы-
том, еще не мешало ему тешить свое честолюбие —
притязания мелкого буржуа. Когда же узкие, «домаш-
ние» рамки торговли сломались и она стала приоб-
ретать «внешний лоск моральности» (Энгельс), Хен-
чард обнаружил решительную неспособность ориентиро-
ваться в новой обстановке. Вдруг сразу бросились в
глаза его неотесанность, грубость, косность, невежест-
во, мещанские претензии. Пришлый конкурент букваль-
но затмил его приятностью манер, комильфотным обхо-
ждением, умением откликнуться на «новые веяния». Хен-
чарду казалось, что его неудачи — печальное отклонение
от нормы, ошибка, которую можно избежать. Стоит
лишь «принять меры» — и он укрепит свое положение
и репутацию. Предпринятые им попытки «наладить дело»
обернулись злой издевкой, трагической иронией. Чем
решительнее действует он в уверенности избежать оши-
бок, тем стремительнее идет к краху. Чем настоятель-
нее взывает к идолу коммерческой честности, тем бес-
церемоннее и жестче готов драться за барыш.
Обстоятельства ставят Хенчарда перед выбором: либо
он обретет «внешний лоск моральности», либо ему
придется отказаться от честолюбивых требований. Оп-
ределенность дилеммы выводит его из относительного
равновесия и обостряет противоречия, свойственные его
личности. Честолюбие и эгоизм буржуа разгорячены в
нем до предела, патриархальное простодушие и прими-
тивность дают знать о себе, как никогда. Поклонник
«честного соперничества», он жаждет «уморить» конку-
рента, «стереть его с лица земли», но где там! Он
безнадежно отстал и сам падает жертвой.
Острота психологического конфликта, изменившиеся
обстоятельства, горечь поражения создают в Хенчарде
217
предпосылки для внутренних сдвигов. Чувства, которые
развивались в нем под буржуазным влиянием, теперь
теснятся под напором иных стремлений. Его заботит
мысль о достоинстве, свободном от такого измерителя,
как фунт стерлингов. В нем поднимается бунтарский
дух. При этом Хенчард, работающий батраком у Фар-
фрэ, выказывает решимость, энергию, волю, огром-
ную физическую силу, широту натуры, присущие ему —
человеку из народа... но в то же время и слабость:
его сознание сковано отсталыми представлениями,
свойственными патриархальной деревне. Бунт ограни-
чивается иносказательным обличением, словами прок-
лятия (Хенчард заставляет церковных хористов испол-
нить псалом царя Давида, стихи «Да будет краток век
его...»)—и угрозой: «Уж я ему покажу...» Понятие о
кодексе чести отдает у него патриархальной стариной.
Он предлагает Фарфрэ в рукопашной схватке доказать
свои преимущества. Считая себя более сильным, он бо-
рется одной рукой, и, выйдя победителем, милует про-
тивника.
В борьбе на этих равных условиях Хенчард обна-
руживает физическое и нравственное превосходство
перед Фарфрэ, обладающим < внешним лоском. Но ге-
рой сам вдруг ощущает детскую бессмысленность,
неуклюжую старомодность своего поведения. В нем про-
исходит новый сдвиг. Он подавляет в себе гордыню и
готов забыть обиды, хочет, чтобы поверили в доброту
его сердца и одарили теплой привязанйостью. Он как бы
надеется в сфере общечеловеческого преодолеть и свою
ограниченность, и ограниченность мира Фарфрэ. Однако
его обращение с этой целью к «любви и милосердию»
покоится именно на отсталом, наивном представлении
о буржуазном обществе. Фарфрэ и те, кто с ним связан,
просто не замечают его сдержанной и смиренной
мольбы...
Скопление неблагоприятных случайностей и промахи
Хенчарда не столь значительны в сравнении с его глав-
ной бедой: утрачивает целесообразность его характер
Он становится призрачным наследием прошлого. И Хен-
чард уходит, уступая место Фарфрэ.
Это перемещение совершается не механически, а со-
провождается драматическими событиями, исполненными
глубокого смысла — социального, психологического, фи-
218
лософского. Пережив напряжение схватки с противни-
ком, горечь поражения и одиночество, Хенчард казнит
себя отречением от всего, что было ему близко и доро-
го в жизни. Это самоотречение — вынужденная и без-
надежная форма протеста. И все же в нем — свидетель-
ство нравственной самооценки, осуждение себялюбия,
которое сблизило его с миром Фарфрэ.
Трагизм судьбы героя оттеняется литературной ре-
минисценцией— Гарди часто пользуется этим при-
емом,— Майкл Хенчард умирает в Эгдонской степи.
Упоминание о ней приводит на память знаменитые сцены
из третьего акта шекспировской трагедии, слышится
возмущенный голос короля Лира: «Я не так перед
другими грешен, как — другие передо мною». И можно
представить себе, как тень от зловещих фигур Гоне-
рильи и Реганы, его жестоких, коварных дочерей, тя-
нется к Доналду Фарфрэ. Между тем, сам Хенчард, сель-
ский батрак, по сословию и состоянию своему сродни
тем «бедным, нагим несчастливцам», к которым в го-
рестном отчаянии мысленно обращался Лир.
«Мэр Кэстербриджа» позволяет судить, как окрепло
мастерство Гарди-реалиста и, в частности, как возросло
его умение изображать характеры в зависимости от об-
стоятельств, умение делать интересными и значитель-
ными переживания, казалось бы, самых непритязатель-
ных персонажей. Свойственные «Мэру Кэстербриджа»
черты романтического стиля сочетаются с подлинно ре-
алистической трактовкой характеров.
Хенчард — не лирический герой книги. После «Бед-
няка и леди» Гарди не передоверяет никому из пер-
сонажей писательского «я». Он, когда следует, выска-
зывается прямо, либо делает ощутимые намеки. Однако
Хенчард ему близок. Это не сам Гарди, но мэр Кэ-
стербриджа переживает крах, мучивший писателя. И с
профессиональной стороны Гарди пережил сходную
проблему. Рассуждая о том, что техника повествования
не должна допускать движения вспять, писатель так по-
строил роман, будто соорудил далеко не модный, но по-
своему вместительный и удобный экипаж и с грохотом
перебирается на нем по проселочным дорогам — из
Кэстербриджа в Бадмут, из Бадмута в Мелсток, из Мел-
стока — по всему Уэссексу, хорошо знакомому по его
книгам.
219
Передавая внутренние движения «в зримых образах»,
писатель большей частью придает им символическое
значение. Такими емкими символами оказываются, на-
пример, два кэстербриджских моста (гл. XXXII). В опи-
сании этих достопримечательностей совместились, как
в фокусе, излюбленные приемы Гарди.
Даже известная «старомодность» романа придает ему
особый колорит, не поблекший от времени. С его стра-
ниц доносится живой говор кэстербриджцев, звучат
старинные мелодии, баллады и песенки. Встают трога-
тельные, а подчас трагические фигуры, полные значи-
тельного жизненного смысла, сохраняющего интерес
для читателя и теперь.
Цикл «романов характеров и среды» развивался по-
началу не только вглубь, но еще больше вширь. В об-
щей перспективе его развития роман «В лесном краю»
(1887) занимает несколько необычное положение. Корни
замысла тянутся к ранним произведениям, а ростки свя-
зывают роман с последними частями цикла. Тематически
и по месту действия — это и «под деревом зеленым» и
«вдали от обезумевшей толпы» — события развиваются
в глухой лесной деревушке под названием Малый Хин-
ток. Есть в этом романе мотив «возвращения на роди-
ну» — в родные места с багажом городского воспита-
ния возвращается молодая девушка Грейс Мелбери. Сно-
ва слышен безобидно лукавый говор простых поселян,
иронические и веселые реплики «коллективного харак-
тера» и незаметно четко определившегося главного ге-
роя.
В то же время «В лесном краю», «за воротами ми-
ра», как сказано у Гарди, многое переменилось и пред-
стает в ином свете. Здесь сталкиваются разноречивые
интересы, напрягаются страсти и развертываются жиз-
ненные драмы, которые, по мнению автора, сосредото-
ченностью и значительностью конфликта способны на-
помнить о софокловых трагедиях.
В Малом Хинтоке гибнет «последний йомен» и обры-
вается история не рода и не племени, а целого клас-
са — английских независимых земледельцев,, «гордых
йоменов», история вековая, отмеченная немалыми заслу-
гами перед национальной историей.
220
Джайлс Уинтерберн, «последний йомен»,— фигура
символическая, хотя Гарди не стремится особенно под-
черкивать исключительное историческое положение сво-
его героя. Впрочем, излишний нажим здесь едва ли ну-
жен. «Последний йомен» — достаточная, исполненная
смысла характеристика.
Писатель, для которого прошлое составляло силу,
чрезвычайно притягательную, редко обходил вниманием
выразительные приметы былого. Он всматривается в по-
стройки, прислушивается к языку, стараясь просле-
дить движение нравов и быта во времени. Тем более
пристальным должен быть его интерес, если памятником
старины вдруг оказывается живое лицо. Чудом уцелев-
ший представитель исчезнувшей «породы», Джайлс
Уинтерборн, хорош он или плох, силен или слаб, зна-
чителен или зауряден, уже самой судьбой своей обре-
чен сыграть особую роль. Он — «последний», и потому,
каков бы он ни был сам по себе, даже сколь бы мало
характерного для всей «породы» типического ни сохра-
нилось в нем, он словно отвечает теперь перед историей
за все йоменри.
«В бой, дворяне Англии, в бой, доблестные йоме-
ны!»—это клич короля Генриха V, героя шекспиров-
ской одноименной драмы, обращенный к английскому
войску накануне битвы при Азинкуре. Начало XV столе-
тия. Тогда йомены, вольные землепашцы и воины, бы-
ли силой. Они составляли как бы фундамент нации.
Время их расцвета коротко — менее века. И все же в
пределах узкой исторической полосы йомены, показав
и трудолюбие, и отвагу, и сплоченность, остались в на-
родной памяти образцом человеческой добротности. Гам-
лет, рассказывая, как помогло ему в трудную минуту
умение красиво писать, говорит, что оно «послужило
ему словно йомен», то есть с особенной верностью.
В представлении многих английских писателей, начиная
с Шекспира, жила вера в исключительность заслуг
йоменри. Однако буржуазный прогресс беспощадно от-
теснял вольных землепашцев в прошлое вместе со всей
их патриархальностью.
Ко временам Гарди выжил лишь один «дронт», ра-
ритет, «последний йомен» Джайлс Уинтерборн.
Писателю трудно скрыть свои симпатии к этому пер-
сонажу. Но, не поддаваясь пристрастию, Гарди стара-
.221
ется представить Джайлса в реальном свете. Те доро-
гие свойства йоменри, о которых пели в балладах о
Робине Гуде и о которых вспоминал Шекспир, — добро-
та и отзывчивость сердца, честность, преданность — все
это, казалось бы, сохранилось, выжило в Джайлсе. Но
нет этим свойствам в натуре «последнего йомена» дей-
ственной скрепы, живой силы. Джайлс готов и спосо-
бен послужить с верностью йомена, однако эта способ-
ность выродилась в стоическое и пассивное страдание
во имя любви.
Обстоятельства гибели йомена Джайлса Уинтербер-
на выявляют силы, вызвавшие трагедию, и нравствен-
ный облик столкнувшихся сторон. Собственно, роман
только намекает на глубокий исторический и философ-
ский аспект конфликта, события трактуются в бытовом
и этическом плане. Но их социальная сущность оче-
видна. Гарди впервые в своем цикле с такой отчетли-
востью и прямотой определяет социальную природу дей-
ствующих лиц, связывая с нею особенности их психоло-
гии и побудительные мотивы их поступков. Сам автор
говорил, что характеры здесь более четко обрисованы,
чем в романе «Возвращение на родину».
Джайлса Уинтерборна губят каприз новоявленной
помещицы Чарманд, честолюбие и корысть лесоторговца
Мелбери, тщеславие его дочери Грейс. Совокупность сил
завязывает драматический узел, главная все же исходит
от Мелбери.
Гарди импонирует мужицкая энергия и хозяйствен-
ность Мелбери, открытость и простота его нрава — то
матриархальное и народное в нем, что отличает его
от помещицы Чарманд и бесхарактерного интеллигента
Фитцпирса, которые совершенно оторвались от нацио-
нальной и народной почвы и проявляют склонность к
паразитическому существованию. Гарди хотелось бы ви-
деть Мелбери только и неизменно таким, но уже рань-
ше, на примере того же Хенчарда, он показывал, что
означают замкнутость и неизменность характера в усло-
виях резких перемен. Присматриваясь, куда влекут эти
перемены таких, как Мелбери, писатель все более и бо-
лее обнажал направляющую пружину их мыслей и по-
ступков.
Рядом с Мелбери Джайлсу Уинтерборну, каким он
представлен в романе, нет места. Ломка событий и ха-
222
рактеров предрешает драматический исход. Гарди не на-
рушил этой логики. Вместе с тем, расставаясь со своим
героем, Гарди с глубокой скорбью оплакивает гибель
«последнего йомена».
Тоска по утраченному, проникающая художествен-
ный образ, может усилить его эмоциональное воздей-
ствие, когда она соединяется с чувством жизни и не
оставляет осадка безысходной горечи. В романе «В лес-
ном краю» крепнут и чувство жизни, и трезвость взгляда.
Во всех романах цикла Гарди обращается к теме
любви и брака, но именно с этой книги столкновение
любящей пары с обществом, с господствующими в нем
понятиями нравственности приобретает остроту и зна-
чительность, обнажая характер самого общества.
Достаточно вспомнить «Анну Каренину», «Эмму Бо-
вари», «Нору», «Путь всякой плоти», чтобы почувство-
вать, какое значение приобрел этот конфликт в евро-
пейской литературе второй половины XIX века. Реали-
стическая его трактовка на английской почве была
затруднена воздействием ханжеской викторианской мора-
ли, особенно в годы, предшествовавшие появлению на
английской сцене ибсеновских драм. Стремление Гарди
откровенно обсудить эту проблему свидетельствовало о
развитии в его творчестве реалистической тенденции в
противовес утопическим иллюзиям. Победа этой реали-
стической тенденции и позволила Гарди стать автором
«Тэсс» и «Джуда».
Не в манере и способах обрисовки портрета или
психологического анализа заметно сказывалось нова-
торство писателя, хотя его технология обнаруживает не-
изведанные или по-своему примененные приемы и сред-
ства, а больше всего в самом принципе выбора «харак-
теров» и в понимании того, что такое характер, что
это за сложный и таинственный организм, какие силы
им движут и какие проблемы в меняющихся условиях
выдвигает он перед личностью и обществом.
Тэсс и Джуд — характеры знаменательные. Они —
бесспорное свидетельство демократизма Гарди и демокра-
тизации передовой английской литературы. Их своеоб-
разие не только в том, что они вышли из народной сре-
ды и сформированы ею, а прежде всего в том, с каким
223
Неотразимым достоинством онй, люди из народа, его
представляют. Естественно ставить их рядом как явле-
ния близкие друг другу, даже родственные. В них дейст-
вительно много общего, как и в их судьбах,— это два
варианта одной трагедии.
Автор назвал Тэсс «чистой женщиной, правдиво
изображенной». Тот же эпитет и ту же характеристи-
ку — только в мужском роде — можно отнести и к
Джуду. И Тэсс и Джуд—натуры цельные и чистые.
Им нет нужды испытывать нравственные потрясения,
чтобы почувствовать необходимость и значение морали
в ее конкретной сути и ощутить ее действие в движе-
нии чувств, в образе мыслей, в практическом шаге. Не-
взирая на испытания, которым они подвергаются, же-
стокие, изощренные, бессмысленные истязания тела и
духа, невзирая на бесчисленные травмы и внутреннюю
ломку, Тэсс и Джуд сохраняют нравственную чистоту,
а также искренность, доверчивость, сознание долга и
готовность без расчета на самопожертвование.
Тэсс — трагический характер (как и Майкл Хен-
чард), обладающий признаками классического трагиче-
ского характера. В ней воплощены нравственные и пси-
хологические черты патриархальной эпической среды,
вместе с тем у нее есть индивидуальные свойства, ко-
торые выделяют ее из этой среды. Эмоциональная утон-
ченность и впечатлительность Тэсс, наследие угасшего
рыцарского рода, сближают ее с характерами, испы-
тавшими глубокое воздействие культуры и цивилизации.
Ни страсть; ни волевое устремление, ломающее пре-
пятствия, не владеют Тэсс. Душевная чистота — вот ее
пафос. Казалось бы, нет места для трагического кон-
фликта. Столкновение могло достигнуть драматического
напряжения, но разрешиться мелодрамой. Однако в изо-
бражаемом характере и ситуации Гарди увидел траги-
ческую основу. «Неспособность» Тэсс поступиться своей
правотой, пойти на сделку или уступки, хотя бы и суля-
щие выгоду и обеспеченное житье, придают ее поло-
жению особый драматизм — драматизм трагического
свойства.
Как и Майкл Хенчард, Тэсс действует вне эпиче-
ской среды, но та особенность личности, которая выде-
ляет ее, определилась не влиянием буржуазного разви-
тия и лишена эгоистического индивидуализма.
224
Майкл Хенчард, как ни динамичен его характер, зам-
кнут патриархальной средой и не может перешагнуть
за отведенный ему предел. Тэсс способна раздвинуть
внутренние рамки, раздвинуть значительно, характер
ее эластичен: ни одно событие, подчеркивает автор, еще
не могло наложить на нее нерушимой печати. Гарди
наметил тему, особенно важную для литературы пере-
ходного времени, но не развил се, он вернется к ней
в своем последнем романе — в «Джуде Незаметном».
События в романе «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»
развертываются по логике биографического сюжета, од-
нако автор описывает не весь жизненный путь героини,
а несколько значительных его этапов, называя их — и
соответственно части романа — фазами. Мысль автора
от личной судьбы переходит к истории рода, от него —
к национальной истории, и среди других идей, извлека-
емых из обширного, последовательно разбираемого ма-
териала, затрагивает идею возмездия, популярную в кон-
це прошлого и в начале нынешнего века.
Заглавие романа «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и, в
известной мере, его сюжет были навеяны размышле-
ниями автора над судьбой его собственного рода, не-
когда отмеченного рыцарским достоинством. Томас Гар-
ди — сын провинциального строителя-подрядчика, «не
владевшего искусством обогащения», вырос в семье,
представлявшей ответвление древнего рыцарского, рода
Ле Гарди. Род оскудел, его могущество утратилось, от-
пала фамильная приставка Ле, остались семейные пре-
дания и легенды, мелкие вещественные признаки было-
го величия, так же как в случае с Тэсс Дарбейфилд.
Душевный склад героини, ее импульсивность, чувстви-
тельность, беззащитность перед грубой силой были в
какой-то степени свойственны самому Гарди. В рассуж-
дениях Энджела Клэра об иссякшей энергии у предста-
вителей древних знатных семей выражено мнение самого
писателя и его родителей, объяснявших отсутствие че-
столюбивых устремлений у Гарди-отца и Гарди-сына их
принадлежностью к оскудевшему знатному роду.
Иногда кажется, что подобные многочисленные на-
блюдения едва привязаны к сюжету: слишком они раз
нехарактерны, отрывочны и способны, можно поду-
мать, скорее затемнить, чем прояснить замысел. Одна-
ко при первой же попытке читателя что-нибудь опустить
8 М. В. Урнов
225
утрачивается естественность развития авторской мысли,
отнюдь не плавной, часто наталкивающейся на препят-
ствия, с муками и трудом находящей форму для своего
выражения, но не поверхностной, не схематичной, а глу-
бокой и самобытной. Биография героини связывается с
местной историей, а история местная — с национальной,
и судьба крестьянской девушки Тэсс Дарбейфилд из
рода д’Эрбервиллей, поруганной и униженной беспут-
ным отпрыском нувориша Саймона Сток-д’Эрбервилля,
присовокупившего к своему богатству фамилию знатно-
го рода, обретает уже обобщенный смысл, заставляя
думать о трагической судьбе английского крестьянства,
о судьбе народной. Различные мотивы соединяются ав-
тором в единый узел, и отчетливыми становятся причи-
ны как личного, так и общего свойства, их участие в
гибели «чистой женщины». То, что растягивалось на це-
лый цикл, Гарди пытается обобщить в одном романе,
подвести в нем итоги. Роман обретает эпическую зна-
чительность, сохраняя драматическую напряженность.
Однако эпическая тема трактуется в «Тэсс» с помо-
щью средств, необычных для реалистического романа,
свидетельствуя о переходном состоянии романного жан-
ра в конце века, о его «кризисе» и дальнейшем раз-
витии.
В сюжет романа «Тэсс из’ рода д’Эрбервиллей» при-
внесены мотивы, которые, расширяя рамки основной те-
мы, в то же время склонны так сместить перспективу,
что реальное может стать фантастическим, преходя-
щее— принять вид извечного, злосчастье — соединиться
с господством слепого рока над людьми.
Героиня — «д’Эрбервилль по крови», отпрыск фами-
лии, передавшей ее отцу чахлую энергию угасшего рода,
а ей — утонченность чувств и восприимчивость к стра-
данию. Тэсс несет на себе проклятие, обречена распла-
чиваться за преступления некогда могущественных пред-
ков, жестоких и властных феодалов. Злые силы жаждут
возмездия и искупительной жертвы. Героине являются
зловещие предзнаменования, словно в романтической
трагедии рока. Древнее предание — легенда о карете
д’Эрбервиллей — вплетается в события, освещая их та-
инственным светом. Стук этой странной кареты раз-
дается как предвестник надвигающегося на Тэсс
несчастья.
226
Не следует преувеличивать роли того, что часто ока-
зывается лишь «фантастической формой», облекающей
реалистический замысел писателя. Нельзя не видеть
горькой иронии в той настойчивости, с какой он гово-
рит о Тэсс как о наследнице рыцарей-феодалов. Все
же эта ирония связана с фаталистической идеей, усу-
губляющей мрачный колорит романа.
В конце века в европейской литературе получает
развитие жанр экспериментального романа. «Третья фа-
за» романа «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», описание
жизни героини на ферме Тэлботейс, ее духовного воз-
рождения,— своего рода наглядный эксперимент: вот
при каких условиях, говорит автор, эта обездоленная и
морально подавленная женщина может испытать полно-
ту счастья. В отличие от натуралистического экспери-
ментального романа эксперимент в «Тэсс» раскрывает
человечное в человеке, в сравнении с социально-уто-
пическим романом — демонстрирует не идеи, а живых
людей. Изображенные автором картины поэтичны и убе-
дительны. Основу поэтического образа он отыскивает в
самой действительности. Его изобразительные принципы
и манера письма способствуют успеху. Романтичное и
обыденное, при всех их отличительных признаках, не от-
делены у Гарди непроходимой гранью, а при извест-
ных условиях обыденное повертывается к его героям
своей поэтичной стороной.
Гарди добивается большой убедительности своего со-
циально-психологического «эксперимента». И все же
очевидно, что он производит его в исключительных ус-
ловиях. Ферма Тэлботейс, где батрачка Тэсс обретает
счастье,— уединенный патриархальный уголок, отгоро-
женный от всех социальных невзгод и печалей. Автор
сам говорит, что «тут не знали даже той привычной
узды, которая мешает самобытной жизни английских
поселян,— в Тэлботейс не было помещика» (гл. XXVII).
В. «конце века» усложнившийся мир в сознании мно-
гих утратил цельность, стал представляться раздроблен-
ным на замкнутые сферы, только будто бы и доступ-
ные пониманию. Отношения человека к миру нередко
рассматривались суженно и однолинейно: «Человек и
пол», «Человек и красота», «Человек и машина». Гарди
не отмахнулся от подобных проблем, они им замечены,
он их обсуждает, однако стремится к целостному воз-
8*
227
зрению, ищет связующий принцип. И формулирует его:
характер и среда. Рассматривая среду широко, он вы-
деляет в ней главное — социальный фактор.
Сколько разных сил соединяется вместе, чтобы ли-
шить Тэсс радости, мучить ее, измываться над нею и
погубить ее. Стаей гонятся за ней, преследуют и тра-
вят ее злые силы, и есть нечто, что их порождает, обус-
ловливает и делает неумолимыми. Вот она пережила
первое потрясение. «Тэсс,— пишет Гарди,— чуть ли не
мгновенно превратилась из наивной девушки в слож-
ную женщину... Она была обаятельна; у нее была душа
женщины, которую бурные испытания последнего года
или двух не могли деморализовать. Не будь общест-
венного мнения, эти испытания могли бы воспитать ее
в свободном духе, и только» (гл. XV). «Не будь обще-
ственного мнения», т. е. не будь общественное мнение
столь ханжеским и фанатичным, столь безучастным к
живому человеку, столь жестоким и мстительным, тогда
бы и радость, которую так сильно может чувствовать
Тэсс, не была бы «опоясана болью», сгинули бы стра-
шилища, обступившие со всех сторон эту впечатлитель-
ную, нежную женщину, способную к быстрому духов-
ному развитию. Как бы все переменилось в судьбе Тэсс,
если бы не печальное положение ее семьи, попавшей в
нужду и лишившейся крова, если бы не давление гру-
бой силы, пользующейся привилегией, если бы не ту-
пой изнуряющий труд... если бы не было всех этих не-
умолимых «если», взращенных социальной почвой. И в
тех случаях, когда социальные корни болезненных воз-
действий нелегко обнаруживают себя, они так или ина-
че, рано или поздно дают о себе знать.
Какая упрямая жестокость исходит от Энджела Клэ-
ра, от этого Чистого Ангела3, человека добродетель-
ного, с благим устремлением к независимости, наделен-
ного возвышенными чувствами, однако слишком рассу-
дочного и неуверенного в себе. С каким бессмыслен-
ным и жестоким упорством разбивает Энджел счастье
своей любимой и свое собственное, потому что он «раб
условностей». Потребовались длительные испытания,
мучительные потрясения, колебавшие жизнь Энджела
на краю пропасти, чтобы опознал он цепи этого рабст-
3 Энджел — ангел, Клэр — чистый ясный.
228
ва и посмел сбросить их, чтобы сквозь искусственные
наслоения пробилось в нем непосредственное чувство,
до тех пор робкое и угнетенное, пробилась самостоя-
тельная мысль, чтобы свершилось наконец его нравст-
венное возрождение.
Социальная мотивированность индивидуальных су-
деб в романе «Джуд Незаметный» выражена с еще
большей очевидностью и наглядностью.
Герой романа «Джуд Незаметный» Джуд Фаули —
сирота, драма его жизни начинается с бесприютности.
Для сюжетов Гарди подобный зачин — сиротство ге-
роя— непривычен и в то же время —после «Тэсс» —
внутренне закономерен: он отражает новый этап в раз-
витии основной темы.
Сиротское положение не ограничено в «Джуде» воз-
растными рамками. Одиночество и неприкаянность ге-
роя — выражение более общего состояния, вызванного
отсутствием не только семейной среды, но и близкого
по духу коллектива. Система человеческих взаимоотно-
шений, существовавшая в старой деревне, разрушена,
новые условия чужды Джуду, потому он так рвется
в город. Гарди точно передает психологическое состоя-
ние не одного только Джуда: деревенский парень, он
чужак в деревне. Город для него — средоточие надежд
и упований, смутных, неопределенных, но тревожно вол-
нующих и радостно зовущих. Тема города и деревни
с ее влиянием на человеческие судьбы не исчезает в
романе «Джуд Незаметный». Конфликт развертывается
в иных условиях, и в его трактовке господствует трез-
вый авторский взгляд. Нет даже попытки напомнить о
былом изображением тихого островка сельской патриар-
хальной жизни, как это было еще в «Тэсс из рода д’Эр-
бервиллей».
Тем сильнее у Джуда потребность прибежища, что
он не находит его в деревне. Сиротство героя — в ши-
роком смысле — сближает его с городом, устраняет пре-
поны для свободного сближения с ним, психологическую
или иную предвзятость. Однако в город он отправляет-
ся с внутренним багажом сельских впечатлений, еще
освященных патриархальной традицией. Наивность его
представлений, характер честолюбивой мечты, его неза-
щищенная доверчивость и простодушие обнаруживают в
нем связь с этой традицией.
229
Истоки драмы мальчика Джуда не в сиротском уде-
ле. Тяжесть этого положения очевидна. Еще более пла-
чевна участь несчастного сына Джуда, оказавшегося
«без семьи» при здравствующих родителях, прозванно-
го Дедушка Время. Тема сиротства в «Джуде» не боко-
вая, какой она была в ранних книгах автора. Писа-
тель обсуждает ее остро, острее, чем прежде, выска-
зывает решительные суждения, но исходит не из тради-
ционного принципа. Само понимание «семейственности»
здесь не имеет ничего общего с каноном, дань послу-
шания которому отдал Гарди в ранних романах, при-
страивая к сюжету счастливые концовки.
Джуд и Сью пытаются строить личные отношения и
семью вне церковного или формального гражданского
брака. Любовь-дружба, искренняя, преданная, не стес-
ненная пустой условностью — основа их близости. Она
определяет их отношения и к детям, побуждая Сью
Брайдхед воспитывать неродного ребенка как своего.
«Все малыши нашего века — дети всех нас, взрослых
современников, и имеют право на нашу о них общую
заботу»,— с необычным чувством гражданственности
говорит Джуд.
Автор «Джуда» называет себя «хроникером душев-
ных состояний и поступков» и говорит, что в его за-
дачу не входит высказывание личного мнения. Однако
авторское мнение заметно в каждом слове книги. «Хро-
ника душевных состояний и поступков» складывается в
драматическую историю взаимоотношений личности и об-
щества.
Хождение героя по мукам, гибель его замыслов,
гибель его самого автор объясняет условиями жизни, не-
справедливостью социального порядка. Отношения лич-
ности и общества, составляющие главный принцип
построения сюжета этого романа, прослеживаются авто-
ром многосторонне — обнажается облик многих соци-
альных институтов и установлений, целая система свя-
зей, характеризующих буржуазное общество. Социаль-
ная критика и протест выражены в романе «Джуд
Незаметный» с такой силой страсти и эмоциональной
убедительности, как ни в каком другом английском
романе «конца века». Гарди назвал своего героя «Неза-
метным». Это всего лишь некто Джуд, однако трагиче-
ская история самородка, прямодушного парня, энергич-
230
його, трудолюбивого, талантливого и вдохновенного,
находила широкий отклик, заставляла сжиматься с
болью стойкие сердца. Джек Лондон признавался в част-
ном письме, что он плакал, читая «Джуда», которого
он ставил высоко как произведение литературы.
Роман «Джуд Незаметный» сам автор определил как
«трагедию неосуществленных замыслов». Последняя ее
фаза — трагедия одиночества. В литературе XX века те-
ма трагического одиночества становится широко распро-
страненной. Редко кто из видных писателей миновал
эту тему.
Трагическое одиночество Джуда, не оставляя ему
надежды, не лишает читателя оптимизма, несмотря на
«угрюмость» автора, на мрачный, подчеркнуто суровый
колорит его последнего романа. Не лишает потому, что
развернутый сюжет, широко и в полноте выразитель-
ных деталей представленная среда, убедительность,
с какой обрисован характер героя, позволяют читателю
сопережить и социально осмыслить его трагедию.
В эпиграф к роману «Джуд Незаметный» Гарди по-
ставил слова: «Буква убивает». Буква, догма, застыв-
шая мысль, затвердевшая система взглядов, окостенев-
ший быт, остановившиеся в развитии общественные и
государственные институты уродуют, душат человека и
человечность. Если бы не самодовольное торжество
«буквы», судьба Джуда могла быть иной. Эту мысль
прокламирует, но ею не ограничивается широкий и
многослойный роман Гарди. Джуд Фаули, человек тру-
да и гражданского помысла, в столкновениях с обще-
ством испытывает свою судьбу и его природу. Он го-
тов ждать, терпеть, идти на жертвы, но не может от-
казаться от обретенной человечности, достигнутого соз-
нания собственной личности. В протесте против «про-
клятой обособленности» он ощупью, но невольно дви-
жется к новым путям жизни.
Изображенным Гарди характерам присущи психоло-
гическая глубина и многогранность. Ни в «Тэсс» ни в
«Джуде» не мельтешат одноцветные лица. И «проход-
ные» фигуры, как правило, выразительны, живо и точ-
но выявляют ту или иную черту психологии, быта, со-
циальной среды.
Гарди, говоря словами Пушкина, сказанными о Шек-
спире, «никогда не боится скомпрометировать своего ге-
231
роя». В одном случае Тэсс напоминает ему «насторо-
жившегося зверька», в другом — муху: Тэсс, «словно му-
ха на бесконечно длинном бильярде, стояла на зеленой
равнине». А одним дерзким сравнением он даже вызвал
раздражение многих критиков, написав: «Она не слыша-
ла, как Клэр вошел, и не сразу его заметила. Она зе-
вала, и он видел ее открытый рот, красный, как у змеи».
Обаятельная Тэсс, воплощение юной женственности,
и вдруг... Но никакого «вдруг» собственно нет. Сравнения
Гарди могут быть необычны, даже дерзки, но прежде
всего для тех, кто привык к готовой модели романти-
ческого образа. При всей их неожиданности эти срав-
нения возникают естественно, в определенной системе,
подчиняются внутренней логике, не нарушая сущности
характера. Тэсс — дитя земли, дитя природы, только с
необычайно тонкой душевной структурой. Гарди не раз
отмечает в ней сильное чувственное начало. Сравнив
чувственный рот Тэсс со змеиным, он писал: «Жизнь
била в ней через край. Это был один из тех момен-
тов, когда душа женщины полнее, чем когда-либо, обле-
кается в плоть, когда самая одухотворенная красота
становится плотской и чувственной».
Несомненно, в этом, как и в других сравнениях Гар-
ди, сказывается особенность индивидуального авторско-
го восприятия, обновленный взгляд, не нарушающий, од-
нако, объективной логики развития реалистического ха-
рактера. И в библейские и в античные времена знали
и писали о змеином яде любви. У Гарди в «конце ве-
ка» противоречие любовного чувства предстает и в его
естественно безобидном виде, как нечто, что восприни-
мается, но не сознается, что воздействует на жизнь,
но не ломает ее, и как нечто загадочное в ряду дру-
гих необъяснимых загадок, которые начинают требовать
к себе внимания, несмотря на, казалось бы, более важ-
ные житейские задачи и проблемы. И тот факт, что
сторонники философии позитивизма с легкостью объяс-
няют подобные явления, еще более озадачивает тех, ко-
му практически на себе приходится испытывать воздей-
ствие странных противоречий. На ферме Тэлботейс,
уединенной и замкнутой, еще сохранившей патриархаль-
ный быт и нравы, батрачка Тэсс, полюбив Энджела Клэ-
ра, преображается, забывая на время былые горести,
на этой же ферме неразделенная любовь ее подруг Рэтти,
232
Из и Мэрион гнетет их и губит в них источник
радости.
Присматриваясь к литературным характерам в пере-
ломный период, на рубеже веков, А. Блок заметил:
«Культура выпустила в эти «переходные» годы из своей
лаборатории какой-то в-ременный, так сказать, «проб-
ный» тип человека, в котором в различных пропорци-
ях смешано мужское и женское начала»,— мужествен-
ность и женственность, как бы утончив человека,
сделали его восприимчивее. «Приходится сказать, что
все литературное развитие XX века началось «при бли-
жайшем участии» именно этого типа»4. При всей не-
ожиданности высказанного поэтом, в его наблюдении
схвачено нечто, привлекающее внимание.
Тэсс Дарбейфилд и Энджел Клэр, ее возлюбленный,
Джуд Фаули и Сью Брайдхед, его возлюбленная, пред-
ставляют собой подобные «пробы», не повторяющие друг
друга, но «исполненные» как бы с одним и тем же на-
мерением. Если воспользоваться логикой блоковской
мысли, то можно сказать, что «культура» отразилась
на их «природе», способствовала ее очеловечиванию хо-
тя бы тем, что развила в них восприимчивость, а этим
самым вызвала новые запросы, не только новые мысли,
но и новые эмоции, говоря языком того времени, запро-
сы более утонченных и впечатлительных «нервов».
Перед героями Гарди возникают новые и необычные
проблемы, для многих странные, однако ими не наду-
манные. Джуд и Сью, к примеру, страшатся брака, опа-
саются, что «принудительные семейные узы» убьют в
них «нежность и непосредственность». Простая женщи-
на выражает полное недоумение: «Вот до чего доводят
нас новые понятия! В мое время никому и в голову
не приходило бояться брака; никто не боялся ничего,
кроме пушечного ядра да пустого буфета». И все же
опасения своих героев относительно брачных уз, в том
их виде, как они предстают в романе, автор считает
серьезной проблемой. Джуд и Сью страдают не только
от социальной несправедливости, но и от грубости и
пошлости нравов, от казенщины, от истощавших идеа-
лов, от «буквы», которая как гласит эпиграф, «уби-
вает».
4 А. Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 5. М., 1962, стр. 464.
233
Автор называет Джуда и Сью «слишком чувствитель-
ной парой» вслед за их собственным признанием: «Мы
ужасно восприимчивы». Гарди дает пример того, о чем
опять-таки можно сказать словами Блока: «Природа
мстит за цивилизацию тонко, многообразно и жестоко,
месть эта отражается на невиновных больше, чем ви-
новных» 5.
Джуд и Сью чувствуют и мыслят нешаблонно, они
способны подняться над предрассудками и условностя-
ми. В них развита и осознана потребность осмыслен-
ной, вдохновенной деятельности, отношений очеловечен-
ных, чуждых ложным предубеждениям и торгашескому
принципу. Но именно они, ни в чем не повинные, ста-
новятся жертвами, и их «чувствительность», дар цивили-
зации, оказывается их ахиллесовой пятой. В жизненной
борьбе они попадают в неравное положение даже по
сравнению с Арабелой Дон, скроенной из грубой пло-
ти. Упрощенная чувственность и пошлость интересов не
мешают ее цепкой практической хватке и деловитости.
«Сильно очерченная личность» в том виде, как она
предстает в романах «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и
«Джуд Незаметный», не терпит схемы, она проявляет
себя разносторонне. Гарди дает развернутую характе-
ристику личности, разбирая сложную систему мотивов
ее поведения, в том числе и мотивов «интимных», вы-
текающих из индивидуальной природы человека. У ге-
роев Гарди, говоря словами А. М. Горького, «своя био-
логическая и социальная логика действий».
Сталкиваясь с явлениями загадочными, Гарди не бе-
рется все объяснять, но если видит влиятельное дей-
ствие мотива скрытого и пока таинственного, решается
отметить его. Он говорит о влиянии темных инстинк-
тов, о тайне наследственности, о «странной разнице меж-
ду полами» и «вражде полов», однако говорит без той
прямолинейности, с какой о тех же вопросах первыми
и громче всех тогда в литературе заговорили натура-
листы, полагая, что ими найден, наконец, ключ к основ-
ным тайнам человеческого существования.
В отличие от Мередита, от него в особенности, да и
от всех своих английских современников, Гарди умел в
ощутимых формах передать чувственное влечение и пе-
5 А. Блок. Собр. соч., т. 6, стр. 336.
234
режипанйе в их переплетении с переживаниями духов-
ными: человек предстает у него в живом единстве духа
и плоти. Это сильная сторона таланта Гарди, и ее про-
явление было принципиальным новшеством в англий-
ской литературе того времени. Интерес Гарди к изобра-
жению чувственной природы человека был сразу заме-
чен, но не сразу истолкован, тем более правильно.
Некоторые эпизоды и мотивы в «Джуде Незаметном»
послужили критикам поводом к тому, чтобы поставить
этот роман в зависимость от литературных теорий и
практики французских натуралистов. Среди других ука-
зывали на сцену знакомства Джуда с Арабелой Дон, его
будущей женой (ч. I, гл. VI).
Ясным и мягким, памятным для него, летним суббот-
ним днем Джуд Фаули, молодой рабочий, после трудов
возвращается к себе в деревню в восторженном настро-
ении: «Казалось ему — через год или два он получит
возможность жить, ни в чем не нуждаясь, в Кристмин-
стере и постучать в двери одной из твердынь науки,
о которых столько мечтал. Горячая волна самодоволь-
ства {Захлестнула его, когда он подумал о том, чего
уже успел достигнуть.
...Погруженный в мысли о будущих своих трудах,
Джуд замедлил шаг и наконец остановился, уставив-
шись в землю, словно увидел перед собой это будущее,
показанное волшебным фонарем. Вдруг что-то шлепнуло
его по уху, и он сообразил, что в него бросили ка-
кой-то мягкий холодный предмет, который упал затем
к его ногам.
Он узнал его с первого взгляда — это был кусок
мяса, неотъемлемая принадлежность борова, которой
местные жители смазывали свои сапоги, так как больше
она ни на что не годилась...
За живой изгородью протекал ручей, и Джуд только
теперь осознал, что оттуда доносились веселые голоса
и смех, которые врывались в его грезы... у ручья стоя-
ли на коленях три молодые женщины с ведрами и блю-
дами, наполненными свиной требухой, которую они про-
мывали в проточной воде...
— Благодарю вас! — сурово сказал Джуд.
— Я не бросала! — заявила одна из девушек, обра-
щаясь к соседке и словно не замечая молодого чело-
века.
235
— И я не бросала,— подхватила вторая.
— Эх, Энни, как тебе не стыдно! — воскликнула тре-
тья.
— Уж я бы, во всяком случае, не стала бросать
такую неприличную штуку!
— Тьфу! Да какое мне до него дело!
Они смеялись и продолжали бойко работать, не под-
нимая глаз и притворно обвиняя друг друга.
Джуд вытер ухо, запачканное липким мясом, и сде-
лал саркастическое замечание.
— Уж вы-то, конечно, этого не сделали, о нет! —
сказал он одной из трех девушек, стоявшей выше по
течению ручья...
— Этого вам не узнать,— сказала она решительно.
— Кто бы это ни сделал, а расточать чужое имуще-
ство не полагается.
— Пустяки! Свинья принадлежит моему отцу.
— Ну, вероятно, вы хотели бы получить обратно этот
кусок?
— О, да! Если бы вы мне его вернули!
— Хотите — я швырну его через ручей, или, может
быть, вы перейдете сюда по доске, и я отдам его вам?
Быть может, она почуяла, что ей представляется
удобный случай; как бы там ни было, но смуглая де-
вушка посмотрела ему в глаза, когда он произнес эту
фразу, и на секунду вспыхнуло взаимное понимание,
безмолвное признание близости между нею и им, како-
вое со стороны Джуда Фаули было отнюдь не пред-
умышленным. Она поняла, что он выделил ее из трех,
как выделяют в таких случаях женщину, не помышляя
о дальнейшем знакомстве, а попросту повинуясь обя-
зательному приказу из главной квартиры, который полу-
чают, сами того не ведая, злополучные мужчины, когда
они меньше всего расположены заниматься женским по-
лом».
На этом можно оборвать и без того затянувшуюся
выдержку, она дает представление о том, что имели в
виду критики, упрекая Гарди в склонности к натурали-
стическим изображениям.
Гарди возражал, считая эти упреки необоснованны-
ми, возникшими из одностороннего и недальновидного
взгляда на литературный процесс. Он утверждал, что
еще в самом начале своего творчества интересовался
236
Проблемами, 6 которых стали писать натуралисты, гово-
рил, что сцены, подобные отмеченной, написаны скорее
в духе и традиции Филдинга, чем писателей-натурали-
стов. Грубая, навязчиво представленная деталь и в са-
мом деле еще не может служить выражением склонно-
сти к натурализму. Образ формируется у Гарди в иной
системе художественного мышления: грубая деталь под-
черкивает натурализм ситуации и обстановки — не бо-
лее( того. Точная бытовая обрисовка воспроизводит
вульгарную простоту нравов и с непринужденной изоб-
разительностью передает психологическое состояние
персонажей. Без пояснений обнажается незамысловатый
характер дочки свиновода. Суть его видна всем, кроме
Джуда. Бросается в глаза натуралистичность ее чув-
ственного облика, смягченная внешней миловидностью,
от чего вспыхивает здоровая, но затаенная и робкая
чувственность восторженного, мечтательного и еще ин-
фантильного героя. И трагическая ирония проступает в
контрасте между наивной приподнятостью его помыслов
и реальной обстановкой, приземленной, бесцеремонно
грубой, в которой поэзия чувств уступает место прак-
тическому расчету.
Редкая по своей точности эмоциональная оценка ма-
стерства Гарди в изображении чувственного влечения
и переживания содержится в «Дневнике разочарованно-
го человека» В. О. Барбильона (псевдоним Брюса
Фредерика Каммингза), изданного в 1919 году с предис-
ловием Герберта Уэллса:
«Восхищает та тонкость, с какой Гарди дает почув-
ствовать первые едва уловимые признаки возникающей
любви между его героями и героинями — случайное
соприкосновение рук, чуть обнажившиеся из-под юбки
носок или ладыжка — все это у него как облачко раз-
мером с ладонь, как лепетание ветра перед бурей, и
ждешь с трепетаньем сердца, что же будет»6. (Эта
дневниковая запись была сделана в 1910 году. (Особен-
ность интереса Гарди к человеку сильнее почувствовали
именно в XX веке.
Томас Гарди откликался на литературные веяния и
споры, присматривался к движению литературы, учиты-
6 W. N. О. Barbellion. The Journal of a Disappointed Man. With an
Introduction by H. G. Wells. L., 1919, p. 24.
23'/
вал требования новизны, однако шел своим путем. Что
бы он ни писал, всюду пробивался особый мир, особый
взгляд, свой круг тем и вопросов, в чем-то такой же,
как у других современников, и тут же заметно от них
отличающийся.
В романах характеров и среды, особенно в «Тэсс»
и «Джуде», отражены типические проблемы литератур-
ного развития переходной эпохи, первых ее десятиле-
тий. Переоценка ценностей, постановка и обсуждение
«проклятых вопросов» социальной жизни, нарастание ин-
тереса к человеку, его внутреннему миру, к нравствен-
ной и эстетической сферам сознания, к психологии и
вместе с тем к его природной сущности, ощущение кри-
зиса традиционных средств изобразительности, искание
новых путей и средств. Все это у Гарди предстает в жи-
вом единстве, пусть угловатом, однако органичном. Всем,
всем своим творчеством, но в «Тэсс» и «Джуде» особен-
но, Гарди многое подсказал новейшей английской прозе.
Романы характеров и среды — национально-само.-
бытное, самое яркое и последовательно развернутое сви-
детельство демократизации английской литературы в по-
следнюю треть XIX века, когда этот процесс усилива-
ется, идет вширь и вглубь, составляя примету времени,
захватывая творчество многих писателей — представи-
телей разных поколений и позиций.
Литература активнее и смелее начинает осваивать
малоизвестные стороны народной жизни, находит но-
вые ее черты и явления. Люди из народа, простые тру-
женики, все чаще выделяются в ряду персонажей, ста-
новятся главными действующими лицами. Демократи-
зируется художественная речь, сближаясь с широкими
пластами живого языка. Образ мыслей и взгляд на
жизнь трудовой массы получает не только более объ-
емлющее, но и более точное выражение. Однако этот
процесс идет не гладко, обнаруживая свои сложности,
противоречия и крайности, принимая порой упрощенные
либо уродливые формы. Среди других и Рэдьярд
Киплинг, младший современник Гарди и одно время
его близкий знакомый, выбирает в герои простого чело-
века. Но Киплинг заботится о процветании Британской
империи, и его герой, когда он простой человек,— все-
го лишь ее «маленький строитель», исправный и испол-
нительный. Киплинг склонен оттенить точку зрения
238
«простой массы», заговорить от ее имени, но в дема-
гогических целях. Он тоже смело преодолевает барьер
между литературной и простой речью, но все в тех же
целях, и часто делает это в ущерб языку, обременяя
его жаргоном и вульгаризмами.
Гарди не надо было настраивать себя на демокра-
тический лад, чувство близости к трудовой среде было
у него естественным.
Теккерей полагал, что писателю не следует изобра-
жать людей в практических условиях их повседневных
занятий. «Все, что могут сделать авторы,— писал он в
романе «Виргинцы»,— это показать людей вне их де-
ла — в их страстях, любви, смехе, забавах, ненависти
и пр.— и описать эту сторону как можно лучше, при-
нимая деловую часть как нечто само собой разумею-
щееся». Гарди один из первых в английской литера-
туре 70—90-х годов преодолел сомнения великого реа-
листа и опроверг его заповедь. На страницах книг Гар-
ди волнения страстей, интимные порывы чувств нахо-
дят выражение вовсе не обязательно в стороне от
практического дела или только на его фоне, но и в
связи с ним и в процессе его. Сюжет романа «Вдали от
обезумевшей толпы» развертывается неотделимо от че-
редования описанных в нем сельских сезонных работ.
Радости и огорчения любви его персонажи переживают
не только в романтически приподнятой обстановке, но
и в самой обыденной и деловой. Фермер-джентльмен
Болдвуд с горячностью выясняет личные отношения с
фермершей Батшебой Эвердин, в то время как она по-
хозяйски наблюдает за стрижкой овец, а преданно ее
любящий пастух Ок, занимаясь этой операцией, со сдер-
жанным волнением следит за необычной беседой, переме-
на в его настроении сказывается на безропотных овцах.
На ферме Тэлботейс восторженно-нежное откровение
чувств, столь .много значащее для Тэсс из рода д’Эрбер-
виллей, совершается в заботный час дойки коров. Тру-
довое занятие не препятствует лирическому объясне-
нию, его душевности и чистоте. Поэзия не растворяет-
ся в прозе, восторженность не грешит выспренностью,
и от всего эпизода остается впечатление живой реаль-
ности и трогательной простоты.
Изображение человека в его возвышенных и все-
дневных заботах, с учетом практической стороны жизни,
239
ломка укоренившихся эстетических представлений и
критериев — у Гарди не бравада, не эффектный прием,
случайно подхваченный или открытый в лаборатории с
желанием эпатировать косных буржуа или поразить но-
визной воображение читателя, а идейно-эстетический
принцип, присущий его системе демократических убеж-
дений и его пониманию человечности. Гарди не мыслит
цельной и гармоничной личности без обязательств и
внутренней потребности трудовой деятельности, не за-
бывая, однако, что труд, в зависимости от его харак-
тера, цели и условий, может и очеловечить и иско-
веркать человека.
О демократизме Гарди красноречивее всего свиде-
тельствуют его герои. Они представляют трудовую на-
родную среду и сосредоточивают на себе все читатель-
ское внимание. И самое существенное и, пожалуй, от-
личительное в их облике — та сила убедительности,
с какой они выражают достоинства своей среды, не по-
ступаясь ими. Крестьянка Тэсс наделена редкостным
обаянием, ее образ — один из самых поэтичных в анг-
лийской прозе. По выражению писателя, «натура поэ-
тическая, она живет тем, о чем иные поэты только
пишут». Поставленная в условия коренной ломки жиз-
ненной среды, Тэсс обнаруживает эластичность характе-
ра, способность к развитию быстрому и решительному.
Здесь Гарди наметил тему, существенную для литера-
туры переходного времени, когда возникает необходи-
мость быстрого самоопределения в новой обстановке. Он
вернулся к этой теме в своем последнем романе —
«Джуде Незаметном».
Для Джуда, самого зрелого и дерзкого демократи-
ческого героя Гарди, задача самоопределения в обще-
стве, когда традиционная среда разрушена, а новая не
изведана,— проблема принципиальной важности. Каза-
лось бы, ничто в его жалкой жизни, лишенной ободре-
ния и поддержки, не может поощрить самостоятельности
выбора. Однако самые неотступные вопросы физиче-
ского существования отходят у него на второй план
перед требовательным «как быть?» Не «кем быть?» в
житейском смысле: какую профессию избрать и на ка-
кую ступеньку установленной социальной лестницы под-
няться,— а «как быть?» Идти ли проторенным путем
стихийного или расчетливого приспособления, или, руко-
240
водствуясь чувством и сознанием собственного «я», из-
брать свою собственную дорогу, пойти на испытание и
риск, не страшась препятствий и последствий. Он одер-
жим идеей, пусть пока замкнутой личным существова-
нием, однако крамольной по своей сути. В своем дер-
зании он невольно становится нарушителем спокойствия
и чем сильнее упорствует в достижении цели, тем оче-
виднее его несогласие с господствующим порядком. На
его долю выпадают тяжкие испытания, его замысел тер-
пит крушение, и все же он не поступается идеей.
Муки самоопределения сопровождаются у Джуда
глубоким эстетическим переживанием. Чувство красоты
и потребность прекрасного для него — нечто необходи-
мое, без чего он не мыслит полноты существова-
ния.
В переходные периоды, когда распространяется идей-
ный кризис, чувство эстетического как бы вдруг заяв-
ляет о себе, обретая необычную силу и нередко гипер-
трофированные формы. В английской литературе 90-х
годов, когда Гарди работал над «Джудом» и когда
этот роман вышел в свет (1895—1896), обсуждение воп-
росов искусства, быта и социальной жизни под знаком
эстетических понятий и теорий приняло широкое рас-
пространение и крайнюю остроту. Многие видные писа-
тели словно . мучались жаждой красоты — не только
эстет Оскар Уайльд, приметная фигура в литературе
«конца века», или пурист Генри Джеймс, другая, не
менее приметная творческая личность. И знаменитые нео-
романтики— Роберт Луис Стивенсон и Джозеф Кон-
рад,— обращаясь к экзотике, избирая авантюрно-острые
сюжеты, выражали устремления к жизненной цельности,
сочетающей героическое, нравственное и эстетическое
начала. Тоска по красоте невольно пробивается в их
романтических фантазиях.
Эстетическое пристрастие было формой неприятия
буржуазно-деляческого, серого образа жизни, его безду-
шия, стандарта и вульгарности. Оно было вызовом нрав-
ственным прописям, ханжескому ригоризму, пошлости
нравов.
Стимулы и мотивы этого пристрастия, его внутрен-
ний- смысл и устремленность оказывались, вместе с тем,
совсем неоднородными. Уайльдовский культ красоты нес
на себе печать гипертрофированного индивидуализма.
241
У героя Гарди потребность красоты свидетельство-
вала о цельности человеческой натуры, являясь не вы-
ражением тоски по этой цельности, а стремлением от-
стоять и утвердить ее. Мечта о прекрасном сливается
в Джуде с потребностью полезного дела. Вырастая из
неудовлетворенного эстетического чувства, она не отъ-
единяя и не гипертрофируя его, поддерживает мятеж-
ный дух.
Джуд против частно-собственнического инстинкта и
эгоистического индивидуализма, против «подлой обособ-
ленности». Надо представить общественную атмосферу
и особенность литературного развития в Англии 90-х
годов, чтобы отдать должное силе и характеру демо-
кратического протеста, который несет в себе этот герой
Гарди.
Характеры Тэсс и, тем более, Джуда открыты для
перемен, даже для решительных перемен. В этом одна из
принципиальных особенностей героев Гарди, которая
была и продолжает быть созвучной передовой литера-
туре.
По мере того, как пополнялся новыми книгами цикл
«романов характеров и среды», критика буржуазной дей-
ствительности, с которой выступал его автор, станови-
лась все более развернутой, решительной и страстной.
Сами герои Гарди, скорее склонные к непротивлению,
чем к борьбе, одним воздействием личного опыта под-
талкиваются к далеко идущим суждениям и выводам.
Джуд, например,— к мысли об ошибочности господству-
ющих «социальных формул», несправедливости и нена-
дежности «социального порядка». Судьба героев побуж-
дала отзывчивого читателя задуматься над «проклятыми
вопросами», а смелая, убежденная, насыщенная искрен-
ним пафосом авторская речь требовательно взывала к
нему, к его общественному сознанию и гражданской
совести. В то же время в творчестве Гарди все отчет-
ливее проступали черты, которые дали основание Горь-
кому назвать его «угрюмым».
Мысли о трагической судьбе человека не соединяют-
ся у Гарди с чувством резиньяции, циническим скепси-
сом или нравственным нигилизмом. Сама «угрюмость»
писателя, ее суть и формы выражения содержат вызов
идее божественного провидения и «счастливому безду-
мью» официальных и розовых оптимистов. Он протесто-
242
вал против их «девиза и практики закрывать глаза на
реальное заболевание», на упрямые и жестокие факты.
Многие произведения и судьбы английских писателей
70—90-х годов отличаются какой-то подчеркнутой суро-
востью и мрачностью. Самая скорбная печать лежит
все же на творчестве Гарди и его старшего современ-
ника Джеймса Томсона.
Развитие пессимизма в Англии 70—90-х годов, кото-
рым проникаются значительные произведения литерату-
ры, обычно объясняют кризисом общественной жизни
островной империи, вызванным ее вступлением в ста-
дию империализма, ее экономическим упадком, первым
серьезным потрясением английского капитализма, толь-
ко недавно пережившего пору необычного подъема. Про-
тив этого возражать не приходится. Но указания на
эту общую причину недостаточно, чтобы понять песси-
мизм Гарди и Томсона, как недостаточно сослаться на
особенность их характера и личности, либо на влияние
пессимистической философии Шопенгауэра или Гартма-
на, мрачные идеи которых в то время получили замет-
ное распространение.
Томас Гарди — «угрюмый» английский романист
XIX века, вместе с тем, он — значительный писатель,
один из самых достойных преемников «блестящей плея-
ды романистов Англии». На первый взгляд это кажется
парадоксальным, впрочем, как и тот факт, что «песси-
мистами» в последнюю треть века оказываются в Анг-
лии видные писатели демократического направления,
приверженцы реализма. Настороженное удивление исче-
зает, как только удается установить более конкретные
социально-исторические и биографические истоки их ми-
роощущения. В творчестве Томсона и Гарди отразились
настроения обездоленной массы — городской и сельской
бедноты, терпевшей «бесконечное поражение», как об-
разно определил свою судьбу Джеймс Томсон. В поэзии
Томсона, особенно в его поэме «Город страшной ночи»,
трагически звучит тема капиталистического города,
в романах Гарди — тема сельской и, шире, народней
Англии.
В. И. Ленин писал в статье «Л. Н. Толстой и сов-
ременное рабочее движение»: «Представители современ-
ного рабочего движения находят, что протестовать им
243
ёсть против чего, но отчаиваться не в чем»7. Томсон й
Гарди выражали настроение трудовой бедноты, слабо
или вовсе не связанной с организованным рабочим и
социалистическим движением Англии, в котором, к тому
же, были сильны реформистские идеи. Сливаясь со сво-
ими героями, Томсон и Гарди выражали не только их
сильные стороны, в том числе способность к протесту,
но и слабые — склонность к отчаянию.
В лучших произведениях Гарди мрачные размышле-
ния соединяются со стремлением разобраться в обна-
жившихся противоречиях «дойти до корня». «Мой де-
виз,— разъяснял свою точку зрения Гарди в ответ на
официозную и либеральную критику,— вначале поста-
вить диагноз болезни... и установить ее причину; за-
тем приступить к отысканию лекарства, если оно суще-
ствует. Девиз или практика оптимистов — закрыть глаза
на реальное заболевание и применить эмпирические уни-
версальные средства, чтобы предупредить лишь сим-
птомы». Гарди с презрением относился к розовым оп-
тимистам, к их «счастливому бездумью», позволявшему
не замечать расхождение между либеральным словом о
прогрессе и процветании и оборотной их стороной, за-
крывать глаза на положение народа — «тех миллионов,—
как он писал,— которые восклицают вместе с Хором из
«Эллады»: «Победоносная несправедливость с хищным
криком встречает восходящее солнце».
Трагедия этих миллионов раскрывалась тем внуши-
тельнее в судьбах простых людей — героев Гарди, чем
смелее изживал он сам реакционно-утопические иллюзии.
Нередко замкнутая и скованная, иногда нерешитель-
ная и робкая, творческая мысль Гарди соединяла вме-
сте с тем силу и размах, какие свойственны только
большому и прочному таланту. Она охотно сосредото-
чивалась на малых событиях, примелькавшихся или по-
лузабытых фактах, но стремилась к тому, чтобы, поста-
вив их в ряд, раскрыть их внутренний и немалый смысл,
обнажить истинно комические черты жизни и ее под-
линный драматизм. Ей были доступны обширные планы
и внушительные построения.
Творческое наследие Гарди многогранно и объемно,
но составляющие его части — и это характерно для всех
писателей рубежа веков — расположены на разных по
достоинству уровнях. Из четырнадцати романов — треть
7 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 40—41.
244
слаба и малозначительна; среди тысячи стихотворений
много второстепенных; рассказы написаны ровнее и все
же одни из них заметно уступают другим; философско-
историческая пьеса-хроника или драматическая поэма
«Династы» — монументальна, ее эпический размах вну-
шителен, но она громоздка, осложнена аллегорической
образностью.
У каждого писателя, как и у всякого человека, бы-
вают подъемы и спады, удачи и срывы. У Гарди даже
в пределах отдельного произведения моменты творческо-
го взлета и снижения чертят заметную извилистую кри-
вую. В этой неровности письма сказывается своеобра-
зие личности Гарди, его душевных состояний, свойст-
венная ему импульсивность, ранимость и нервная утом-
ляемость, неприноровленность во всех случаях решитель-
но противостоять внешнему нажиму и препятствиям.
Многие писатели, сосредоточившие в себе необычную
меру ума и таланта, отошли на покой, и их энергия
едва ощущается в усилиях наших дней. Сетования
здесь напрасны: время не только авторитетный, но и
беспощадный критик. Бесполезно перечить ему — оно не
щадит своевольных пристрастий и вкусов.
Однако время непоспешливо в своих приговорах, оно
ждет и терпит, и далеко не всегда повинно в забвении
того или иного литературного имени. Немалое число
талантливых и некогда видных писателей забыто или
полузабыто не потому, что они безнадежно устарели.
К забвению ведут разные пути и причины.
Время и читатель не отказывали Гарди в своем рас-
положении, хотя чаши весов колебались и сейчас еще
не пришли в равновесие.
В конце прошлого века по поводу Гарди не раз
вспыхивали страсти. Одним это имя казалось крамоль-
ным и неуютным, и его пытались опорочить, заклеймить,
предать анафеме, вычеркнуть из литературы. Другие
приветствовали и благословляли его 8. Эти другие — сре-
ди них демократическая и прогрессивная молодежь —
в книгах Гарди находили откровение, отраду, желанное
наставление, даже в самых мрачных и жестоких, потому
что они будоражили мысль, призывали смотреть правде
в глаза, просветляли и облагораживали.
8 См. Thomas Hardy and his readers. A Selection of Contemporary Re-
views. Ed. by Laurence Lerner and John Holmstrom. L., 1968.
24 E
Книги Гарди отозвались в книгах Других: многие
Писатели, не только английские, сами называют его имя,
говоря о литературном преемстве или вдохновляющих
примерах. В их числе — Джек Лондон, Теодор Драйзер,
Дэвид Герберт Лоуренс, Ричард Олдингтон, Джон
Стейнбек.
Может быть, все это заслуги выдающегося писателя
перед поколениями прошлыми, перед временами уже ми-
нувшими, перед литературой и читателем вчерашнего
Дня.
«Когда я был молод,— вспоминает Сомерсет Моэм,—
мы не сомневались, что книгам Джорджа Мередита и
Томаса Гарди суждена долгая жизнь. Но современной
молодежи они почти ничего не говорят. Время от вре-
мени какой-нибудь критик в поисках темы напишет о
них статью, и тогда несколько читателей возьмут из
библиотеки тот или другой их роман; но едва ли я
ошибусь, если скажу, что ничего из написанного ими не
будут читать так, как читают «Путешествие Гулливе-
ра», «Тристрама Шенди», или «Тома Джонса» 9.
Сомерсет Моэм, сопоставляя книги Гарди с англий-
ской классикой первой величины, меряет их высоким
мерилом. И все же его прогноз не оправдал себя. Гар-
ди читают, и он в центре внимания литературной кри-
тики и литературоведения10. Без Гарди невозможно
представить процесс литературного развития и духовной
жизни Англии важной и недалекой от нас поры.
В книгах Томаса Гарди схвачены не случайные мо-
менты, они содержат не пустые фантазии, а рассказы-
вают правдивые истории, способны пояснить нечто су-
щественное в драматической логике жизни. Иногда мож-
но услышать: «Все они — современные английские
писатели — вышли из Гарди». Это пристрастное и по-
лемическое преувеличение, почти равное тому, какое до-
пустил Пристли в своей книге о Джордже Мередите,
сказав, что английский роман XX века вышел из Мере-
дита.
9 Сомерсет Моэм. Подводя итоги. М., ИЛ, 1957, стр. 20—21.
10 Как свидетельствует библиографическое издание Bibliographies of
Studies in Victorian Literature (Illinois Press, 1967), регистрирую-
щее книги и журнальные статьи, посвященные «викторианской
литературе», по числу публикаций о писателях-викторианцах в
1955—1964 гг. Томас Гарди стоит на четвертом месте вслед за
Диккенсом, Шоу, Йитсом.
Глава VI
«ФЛЕЙТА» И «БАРАБАН»
(Направления в неоромантизме)
РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН
(Жизнь и творчество)
Обычное сопоставление «жизни и творчества» осо-
бенно показательно, по ряду 'причин, на примере Робер-
та Луиса Стивенсона. Прежде всего Стивенсон сам был
глубоко и постоянно занят осмыслением творческого
процесса во взаимоотношении его с «жизнью писате-
ля» — своей жизнью. И в этом (разумеется, не только
в этом) он был среди европейских литераторов одним
из первых.
В читательской памяти Стивенсон нередко оказыва-
ется автором одной книги. Называют имя Стивенсона и
вслед за ним, как исчерпывающее его пояснение — «Ост-
ров Сокровищ». Особая популярность «Острова Сокро-
вищ» в школьной среде укрепила за произведением
Стивенсона репутацию книги открытой и очень доступ-
ной, а за ее автором — славу литератора, пишущего для
юношества. Подобное обстоятельство побуждает видеть
в этом романе, как и в творчестве Стивенсона вообще,
явление более простое и по значению своему довольно
узкое (приключения, увлекательность, романтика) в
сравнении с действительным его смыслом, реальным зна-
чением и воздействием.
Между тем, сложнейшие узлы многих литературных
проблем на английской почве обнаруживаются в твор-
честве Р. Л. Стивенсона. И когда, например, современ-
ный писатель Грэм Грин ставит это имя в ряд наибо-
лее влиятельных своих учителей, такой жест на первый
взгляд кажется неожиданным и даже произвольным:
Грин — новейший психолог, предпочитающий для на-
блюдений теневую сторону душевного мира, и Стивен-
247
сон — создатель столь «легкой» книги, как «Остров Сок-
ровищ»! Чтобы понять выбор Грэма Грина, чтобы про-
следить линии соединения таких фигур, как Теккерей
и Стивенсон, или связи Стивенсона с Достоевским, с
Уолтом Уитменом или же с Уилки Коллинзом, чтобы
уяснить своеобразие Стивенсона и его значения, надо
вспомнить о нем — авторе многих других, кроме «Остро-
ва Сокровищ», книг и разобрать пристальнее очевидную
романтику, так явственно выделившую его творчество.
Не только книги, почти в равной мере и биография
Стивенсона способствовала его популярности. Цель-
ность характера, мужество поведения, необычность фо-
на и обстановки, в которой оказывался Стивенсон, дра-
матизм судьбы — все волновало воображение. Имя
писателя сопровождали легенды. Его жизнь представля-
лась, как и книги его, то совершенно открытой, вполне
доступной пониманию, то таинственной, невдруг легко
объяснимой. Бродили слухи, складывались разноречи-
вые мнения, и одни и те же биографические факты яв-
лялись на печатных страницах то в розовом, то в чер-
ном свете.
В 1901 году Уильям Хенли, некогда заметный и вли-
ятельный литератор, бывший друг и соавтор Стивенсо-
на (совместно ими написано несколько пьес), заявил
во всеуслышание, что представления о Стивенсоне, соз-
данные его семейным кругом, сильно приглажены, что
он вовсе не был «ангелом с засахаренными крылышка-
ми». Не суть самих слов, а в большей степени ак-
цент, с которым они были произнесны, подстрекнул
другую крайность, задал тон, породив страсть и стиль
сенсационно-разоблачительного «толкования» Стивен-
сона. Отношения между Хенли и Стивенсоном — тема
особая, частная. Все же можно напомнить, что в их
дружбе давно обозначилась трещина, Хенли дал повод
к затяжной ссоре, виной тому был его характер, пи-
сательские наблюдения над которым отразились в Джо-
не Сильвере, знаменитом персонаже «Острова Сокро-
вищ».
Двухтомная биография Стивенсона, написанная его
двоюродным братом Грэхэмом Бэлфуром и появившая-
ся год спустя, не разъяснила сомнений и не внесла
умиротворения. Теперь читатель мог вооружиться новы-
ми сведениями, и все же было заметно, что автор
248
<Жизни Роберта Луиса Стивенсона» сэр Грэхэм Бэл-
фур урезывает факты и оставляет недомолвки.
После смерти в 1914 году жены писателя, Фанни
Стивенсон, на аукционе в Нью-Йорке пошли с молотка
его письма, разные рукописи, возбудившие естествен-
ный интерес и понятное любопытство. В недремлющих
очах «разоблачителей» зажегся лихорадочный огонек,
и начали являться статьи и книжки, «проясняющие»
портрет Стивенсона. Обрывочные сведения и намеки
служили основанием для решительных выводов и ши-
роких концепций. Критическая мысль вертелась вокруг
нескольких «проблем» интимного свойства, извлеченных
из туманных лет стивенсоновской юности. Больше всего
горячила страсти неясная история отношений Стивен-
сона к Кэт Драммонд, юной певичке из таверны «Весе-
лый трубач». Твердили, будто бы он полюбил обесче-
щенную девушку, тяготившуюся предосудительным ре-
меслом, собирался жениться на ней, но, отцовский
ультиматум заставил его капитулировать. Как это было
и что именно было, до сих пор остается неясным. Ни-
что, однако, не помешало представителям стороны, дей-
ствовавшей под девизом «Стивенсон не был ангелом»,
обсуждать его нравственный облик, суть его характера
и литературной позиции. О крикливо-сенсационном свой-
стве наиболее рьяных выступлений этого толка может
дать представление хотя бы заголовок статьи Джорджа
Хеллмана «Стивенсон и проститутка», опубликованной в
журнале «Америкэн меркюри» (1936 год). «Проблема»
«Лу Стивенсон — Кэт Драммонд» определила сюжет ре-
месленного «любовного» романа Джона А. Стюарта
(1927), автора двухтомной биографии писателя (1924),
«критической», как подчеркнуто в подзаголовке. Особые
усилия к тому, чтобы обесславить и принизить Стивен-
сона приложил Е. Ф. Бенсон, сын архиепископа Кентер-
берийского, в своем язвительном выступлении «Миф о
Роберте Луисе Стивенсоне» на страницах журнала
«Лондон меркюри» (июль — август 1925 года).
Отзвуки этой полемики слышны до сего времени,
хотя страсти давно утихли. Еще можно видеть вялые
круги от шумного всплеска, произведенного «иконобор-
цами» в 20—30-е годы, и в то же время еще держится
традиция дидактико-романтического толкования стивен-
соновой биографии. Каким бы ни был шум, поднятый
249
вокруг Стивенсона в 20-е и 30-е годы, его последст-
вия выражаются не одними минусами. Критическое от-
ношение к моделям приглаженного Стивенсона сменило
тон и стиль, и в книге Мальколма Элвина «Странная
история Роберта Луиса Стивенсона»1 (1950) приняло
вид серьезного и обдуманного обсуждения спорных воп-
росов.
Появление новых материалов о Стивенсоне, возрос-
ший интерес к нему, потребность истины вызвали не-
обходимость углубленного изучения его жизни и твор-
чества. В 1951 году вышло большое исследование жиз-
ни Стивенсона, книга Дж. Фернеса, эпиграфом к
которой автор поставил слова из последнего монолога
шекспировского Отелло: «... Не изображайте меня не
тем, что есть. Не надо класть густых теней, смягчать
не надо красок» (Пер. Б. Пастернака) 1 2. Эта книга —
первый обстоятельный свод обширного материала и ос-
новательная попытка разобраться как в сути дела, так
и в частностях, не подменяя одно другим и не смяг-
чая произвольно акцентов. В 1957 году Ричард Олдинг-
тон, талантливый писатель и знаток литературы, вы-
ступил с книгой о Стивенсоне. Живое исследование пи-
сателя о писателе всегда представляет интерес,
а в условиях, когда возникает необходимость сказать
смелое и решительное слово в защиту честного имени и
доброго дела, этот интерес приобретает принципиальное
значение. Тон и дух убежденного достоинства, с каким
рассуждает Олдингтон, мысль и слово опытного чело-
века и профессионала, высоко поднимают его книгу над
многими произведениями, перегородившими колючим
частоколом путь к живому Стивенсону. Названия книги
Олдингтона «Портрет бунтаря» 3 и монографии Фернеса
«Плавание против ветра» выражают суть их представ-
лений об авторе «Острова Сокровищ», его жизненной
и творческой позиции.
Роберт Луис Стивенсон, романтик, вполне убежден-
ный и вдохновенный,— сам выражение и пример про-
1 Malcolm Elwin. The Strange Case of Robert Louis Stevenson. L.,
1950.
2 У. Шекспир. Поли. собр. соч. в восьми томах, т. 6, стр. 424.
3 Richard Aldington. Portrait of a Rebel: The Life and work of Robert
Louis Stevenson. L., 1957.
250
возглашенных им принципов, но романтик особого скла-
да, не столько сторонник, сколько противник роман-
тизма начала прошлого века, тех его идей и настроений,
которые исходили от эгоцентрического индивидуализма,
лишь себе желавшего воли.
Стивенсон — основоположник, теоретик и ведущая
фигура английского романтизма (последней четверти
XIX века, значительного литературного направления, ко-
торый принято называть неоромантизмом в отличие от
романтизма первых десятилетий века. Самыми значи-
тельными неоромантиками, помимо Стивенсона, были
Джозеф Конрад, а также, в известной мере Рэдьярд
Киплинг и Конан Дойль.
Противодействие духовной инерции, потребность са-
мостоятельности, бунт против нравственного шаблона и
бытовой условности сказались у Стивенсона рано и по-
служили толчком для его романтических исканий. Едва
он стал литератором, как выразил озабоченность кри-
зисными явлениями, эстетскими и упадническими на-
строениями. «К сожалению, все мы в литературе игра-
ем на сентиментальной флейте, и никто из нас не
хочет забить в мужественный барабан»,— сказал он на
страницах очерков «Путешествие внутрь страны», из-
данных в 1878 году. В этих словах сожаление соеди-
няется с отчетливым пожеланием. В статье «Уолт Уит-
мен» та же беспокоившая Стивенсона мысль представ-
лена уже как личная установка, принятая на себя
задача и широкий призыв: «Будем по мере сил учить
народ радости. И будем помнить, что уроки должны
звучать бодро и воодушевленно, должны укреплять в
людях мужество» 4.
Принцип мужественного оптимизма, провозглашен-
ный Стивенсоном в .конце 70-х годов, явился осново-
полагающим в его программе неоромантизма, и он сле-
довал ему с убежденностью и воодушевлением. Особым
смыслом в связи с этим наполняется предпочтительный
интерес Стивенсона к раннему возрасту: герои Стивен-
сона, всех его знаменитых романов,— юноши или совсем
еще молодые люди. Подобное пристрастие вообще свой-
ственно романтизму. У Стивенсона увлечение временем
4 Р. Л. Стивенсон. Собр. соч. в пяти томах, т. 4, М., Изд. «Правда»,
1967, стр. 30.
251
юности приходится на «конец века», протекает в кри-
зисные для Англии десятилетия и по одной этой при-
чине, как проницательно заметил Генри Джеймс, обре-
тает философский смысл. Автор «Острова Сокровищ»
ценит здоровую юность, смотрит на мир как бы ее гла-
зами, широко открытыми и ничем не замутненными. Не
расслабленное и болезненное, а жизнелюбивое, яркое
мироощущение здоровой юности передает он в своих
книгах, помещая героя в среду отнюдь не тепличную,
сталкивая его при посредстве увлекательного сюжета с
чрезвычайными обстоятельствами, требующими напря-
жения всех сил, энергичных самостоятельных решений
и действий.
«Я пришел к его порогу почти что нищим, почти
ребенком, и чем он встретил меня? Коварством и же-
стокостью»,— вот ситуация, в которой оказывается с пер-
вых самостоятельных шагов бездомный сирота семна-
дцатилетний Дэвид Бэлфур, герой романов «Похищен-
ный» и «Катриона». Неопытный и благодушный,
влекомый радужной надеждой, он сразу, без психоло-
гической подготовки или передышки, без предупреди-
тельных знаков с чьей-либо стороны, сталкивается с
насилием и злобным коварством. Вполне возможно было
ожидать духовного потрясения, неизгладимой обиды,
растерянности. Ничего подобного со стивенсоновским
романтическим героем не происходит. Следует совсем
иная реакция, и потому прежде всего, что при всей при-
поднятости и беззащитности его романтического вообра-
жения, он не страдает эгоцентризмом и не мучается бо-
лезненной рефлексией. Раздумье Дэвида Бэлфура о
трагическом положении тут же перебивается энергичной
мыслью: «Но я молод, отважен...» Дэвид Бэлфур рас-
суждает, как юный Робинзон Крузо, очутившийся на не-
обитаемом острове. Это сопоставление возникает не-
вольно, его подсказывает сам автор, когда его герой
попадает на дикий безлюдный островок.
В последнюю треть прошлого века «Робинзон Крузо»
сделался вдруг необычайно притягательным для разных
английских писателей. Им зачитывался Томас Гарди.
К нему тянулся и над ним раздумывал Стивенсон. «Ро-
бинзон Крузо» казался загадкой, хотелось проникнуть в
секрет этого неувядающего образца. Привлекала уди-
вительная простота его конструкции и слога и неотра-
252
зимая убедительность описаний. И вместе с тем ясность,
натуральность и трезвый оптимизм выраженного в нем
мироощущения. Держа в памяти литературный образец
и многочисленные подражания, прибегая к сопоставлени-
ям, Стивенсон делает поправку: «Во всех книжках чита-
ем,— говорит Дэвид Бэлфур,— что когда люди терпят ко-
раблекрушение, у них либо все карманы набиты рабочим
инструментом, либо вскоре, как по заказу, выносит вслед
за ними на берег ящик с предметами первой необхо-
димости. Со мной получилось совсем иное». Стивенсону
не удается освободиться от этого «как по заказу», оно
появляется у него в виде счастливого случая или не-
ожиданной поддержки доброжелателя, повертывающих
сюжет и попавшего в беду героя с пути над пропа-
стью. Однако заслуживает быть отмеченной его уста-
новка: он ставит задачу преодолеть инерцию, он, ро-
мантик, не хочет отрываться от реальной почвы, и это
устремление берет за принцип. «Два обязательства воз-
лагаются на всякого, кто избирает литературную про-
фессию: быть верным факту и трактовать его с добрым
намерением»,— подчеркивает он в статье «Нравственная
сторона литературной профессии». Для Стивенсона, прин-
ципиального противника натурализма, соблюдать вер-
ность факту не означает довольствоваться его копией,
внешне документальным жизнеподобием.
Стивенсон высоко мыслит о литературе, ее возмож-
ностях и общественном значении, считает литературу
одной из деятельных форм жизни. Литературе, по его
глубокому убеждению, не следует ни подражать жизни,
то есть копировать ее, ни «соревноваться с нею», то есть
делать бесплодные попытки сравняться с творческой
энергией и масштабом самой жизни. Он решительно за-
явил об этом в статье «Скромное возражение», явив-
шейся откликом на литературную полемику середины
80-х годов между Генри Джеймсом и популярным в то
время английским беллетристом Уолтером Безантом. Сти-
венсон настаивал на необходимости отбора фактов и их
толкования по принципу типического. «Наше искусст-
во,— писал он,— занято и должно быть занято не столь-
ко тем, чтобы делать сюжет доподлинным, сколько ти-
пическим; не столько тем, чтобы воспроизводить каждый
факт, сколько тем, чтобы все их направить к единой
цели» для выражения правдивого замысла.
253
Романтизм начала XIX века, как ни порывал он с
канонами классицизма, все же во взгляде на личность
и ее отношения с обществом не мог преодолеть схемы.
Романтический герой обычно представал «лучшим из
людей», высоко поднявшимся над средой, оказывался
жертвой общества, был ему противопоставлен, внут-
ренние их связи оставались скрытыми или предполага-
лось, что они отсутствуют вовсе. В самой личности и в
общественной среде добро и зло располагалось по
принципу контраста. Стивенсон отказывается от подоб-
ной трактовки сложной проблемы.
В биографических «Воспоминаниях о самом себе»,
написанных в 1880 году, Стивенсон вспоминает, как его
волновала проблема героя. «Стоит ли вообще описывать
негероические жизни?» — спрашивал он себя. Ответ
оформился сам собою. Сомнения разрешились в ходе
размышлений писателя над своей юностью.
«Нет людей совершенно дурных: у каждого есть свои
достоинства и недостатки»,— в этом суждении одного
из героев Стивенсона, Дэвида Бэлфура, выразилось убе-
ждение самого писателя. Так и художественное произ-
ведение, по мнению Стивенсона, соединяет в себе прав-
ду жизни и идеальное в ней, является «одновременно
реалистическим и идеальным», как сформулировал он
избранный им принцип художественного творчества в
краткой статье «Замечание о реализме».
Стивенсоновский неоромантизм противопоставлен
своекорыстию буржуазного бытия, измельчавшего, бес-
цветного, придушенного делячеством, как откровен-
ным, так и сдобренным либеральной фразой. В то же
время писателю чужд декадентский скепсис, снобизм,
упадочные настроения эстетов. Не мирится он и с
установками натуралистов, с их практикой поверхност-
ного бытописательства, и эгоцентризмом романтиков.
В отличие от многих выдающихся литераторов, на-
пример Томаса Гарди, Герберта Уэллса или Джона
Голсуорси, Стивенсон очень рано, еще в детстве, по-
чувствовал свое призвание, и тогда же начал гото-
виться к намеченной профессии, хотя не сразу выбрал
прямой путь.
«В детские и юношеские мои годы,— вспоминал Сти-
венсон,— меня считали лентяем и как на пример лен-
тяя указывали на меня пальцем; но я не бездельничал,
254
я был занят постоянно своей заботой—научиться пи-
сать. В моем кармане непременно торчали две книжки:
одну я читал, в другую записывал. Я шел на прогулку,
а мой мозг старательно подыскивал надлежащие слова
к тому, что я видел; присаживаясь у дороги, я начинал
читать или, взяв карандаш и записную книжку, делал
пометки, стараясь передать черты местности, или запи-
сывал для памяти поразившие меня стихотворные стро-
ки. Так я жил, со словами». Записи делались Стивен-
соном не с туманной целью, им руководило осознанное
намерение приобрести навыки, его искушала потреб-
ность мастерства. Прежде всего ему хотелось овла-
деть искусством описания, затем — диалога. Он сочинял
про себя разговоры, разыгрывал роли, а удачные реп-
лики записывал. И все же не это было основным в
тренировке: опыты были полезны, однако таким обра-
зом осваивались лишь «низшие и наименее интеллек-
туальные элементы искусства — выбор существенной де-
тали и точного слова... Натуры более счастливые до-
стигали того же природным чутьем». Тренировка
страдала серьезным изъяном: она лишена была мерила
и образца.
Дома, тайком от всех, Стивенсон изучал литера-
турные образцы, писал в духе то одного, то другого
писателя-классика, «обезьянничал», как он говорил, ста-
раясь добиться совершенства. «Попытки оказывались
безуспешными, я это понимал, пробовал снова, и снова
безуспешно, всегда безуспешно. И все же, терпя пора-
жения в схватках, я обрел некоторые навыки в ритме,
гармонии, в строении фразы и координации частей».
Редкая биография Стивенсона обходится без цитаты
из его статьи «Университетский журнал», без слов о
том, что он «с усердием обезьяны подражал Хэзлиту,
Лэмбу, Водоворту, сэру Томасу Брауну, Дефо, Готор-
ну, Монтеню, Бодлеру и Оберману», многим знамени-
тым литераторам разных стран и эпох. Подражание бы-
ло у него сознательным, с ранних лет стало личной
установкой, представленной как общее правило: «толь-
ко так можно научиться писать». Писать — может быть,
но стать самобытным?! Самобытности, отвечал Стивен-
сон, научиться нельзя, самобытным надо родиться. То-
му же, кто самобытен, нечего бояться временного под-
ражания как средства выучки, оно не опалит крыльев.
255
Монтень, самобытный из самобытных, меньше всего на-
поминает Цицерона. Однако профессионал заметит, как
много первый подражал второму. Сам Шекспир, глава
поэтов, учился у предшественников. Когда пренебрега-
ют школой, классическими образцами и традицией, не-
чего надеяться, что появятся хорошие писатели. Вели-
кие писатели, эти исключения из правил почти всегда
проходили через школу.
Рассуждая таким образом, Стивенсон высказывал
выношенную мысль, проверенную личным опытом. Тре-
бование профессиональной выучки укреплялось в нем
наблюдением за современной практикой. Литература
сделалась профессией не одиночек и не узкого цеха.
Все шире становилось ее русло, смыкавшееся с потоком
повседневной журналистики. Стивенсон замечал, с ка-
кой легкостью даже некоторые даровитые литераторы
относились к своему призванию и сколь упрощенно, с ка-
ким теоретическим схематизмом и утилитарностью тол-
ковали литературные проблемы. Стивенсон настаивал:
литература — это искусство, и делал это решительно,
не поступаясь принципом. Его действительно заботила
форма выражения, и «в литературной форме,— говоря
словами Генри Джеймса,— он видел не просто систему
сигналов», как это было свойственно сторонникам по-
зитивистской теории Спенсера.
До сих пор, ссылаясь на статьи и другие высказы-
вания Стивенсона о литературе, его сближают с эсте-
тами и формалистами, хотя пафос его выступлений, их
логика и аргументы лежат в иной плоскости. Можно
оспаривать стивенсоновскую формулу «подражания»,
тем более ее упрощенную схему, не следовать его ре-
цептам и примеру. Стивенсон не обладал той силой
творческого чутья, каким отличались Вальтер Скотт или
Диккенс, «натуры более счастливые», не «мучавшие» се-
бя непрерывной предварительной литературной трени-
ровкой. Можно укорить Стивенсона за излишнюю изо-
щренность слога, s когда отточенная фраза несет порой
отпечаток нажима, блеск и холодок внешнего усилия.
Но невозможно оспаривать высокую степень его про-
фессиональной техники, выработанного им литературно-
го вкуса, чувства ритма и гармонии. Это большой ма-
стер, оригинальный и тонкий стилист. Справедливы его
слова о классической традиции, об ее значении в фор-
256
мировании и развитии писательского мастерства, оправ-
дана его ориентация на высокие образцы, заслуживает
признания и уважения его неустанная и вдохновенная
забота о совершенстве формы. В эстетической програм-
ме и в творчестве Стивенсона можно найти немало изъ-
янов, как впрочем, и у всякого писателя. Однако важ-
но понять его позицию и условия, ее определившие, не
цепляясь за словесные формулы и термины, не вкла-
дывая в них произвольно представлений нашего вре-
мени.
Стивенсон и романтика сами собою соединяются в
читательском представлении, его личность и творчество
овеяны духом романтики. Шотландская родословная,
уходящая корнями в глубь национальной истории, «бро-
дяжья» жизнь под разными широтами, близость к морю
как семейная традиция, стойкость и мужество перед
лицом смертельной опасности, книги, насыщенные при-
ключениями,— многое в этом писателе способно воспла-
менить романтическое воображение.
Стивенсон — заманчивая модель для литературного
портрета. Это отметил еще при жизни писателя его
старший современник и близкий друг Генри Джеймс,
предупредив вместе с тем: отличная модель, модель мо-
делей, только не в смысле нравственного и иного об-
разца.
Жизнь Стивенсона была непродолжительной и поч-
ти совпадает со второй половиной XIX столетия. Ро-
дился писатель в самой его середине, 13 ноября 1850 го-
да, а умер 3 декабря 1894 года. Томас Гарди (1840—
1928) всего на десять лет старше Стивенсона, а Оскар
Уайльд (1856?—1900) и Бернард Шоу (1856—1950) —
едва не его ровесники.
Стивенсон — коренной шотландец, шотландец по рож-
дению, воспитанию и национальному чувству, по духов-
ной связи с историей народа и его культурой. Как и
Вальтер Скотт, его великий земляк, Стивенсон родился
в Эдинбурге — политическом и культурном центре Шот-
ландии. Стивенсонов в Эдинбурге было много, фамилия
эта распространенная, но та семья, к которой принад-
лежал писатель, выделялась — пользовалась извест-
ностью и признанием.
9М. В. Урнов 257
Самые далекие предки Стивенсона со стороны отца
были мелкими фермерами, менее далекие — мельника-
ми, солодоварами, дед Роберт Стивенсон стал видным
гражданским инженером, строителем маяков, мостов
и волнорезов. Наиболее известное его сооружение —
маяк на сильно затопляемой скале Белл-Рок (восточ-
ное побережье Шотландии), гремевшей в бурю набатом,
которую моряки именовали «Кулаком дьявола». В свое
время маяк поражал воображение, им интересовались
многие, в том числе художники и писатели. Собирая
материал для романа «Пират», его посетил Вальтер
Скотт. Знаменитый английский художник Джон Тернер
изобразил его в лунную ночь (картина «Маяк Белл-
Рок»). На мозаичном фризе в Национальной галерее
Эдинбурга Роберт Стивенсон представлен в ряду про-
славленных шотландцев. Его гербовый щит (он был удо-
стоен герба) украшали не традиционные символы воин-
ской доблести: на нем изображение маяка и девиз
«Coelum non solem», смысл которого можно передать
словами: когда не светит солнце. Дело Роберта Сти-
венсона продолжили его сыновья, талантливые инжене-
ры— Алан, дядя писателя, и Томас, его отец.
Роберт Луис Стивенсон избрал иной путь, но семей-
ную традицию он ценил, ее историю знал превосходно,
в очерках «Семья инженеров» и «Томас Стивенсон» го-
ворит о ней с уважением и обоснованной гордостью.
В очерке «Томас Стивенсон» писатель вспоминает ре-
чевую манеру отца, по-видимому^ оказавшую влияние
на его стиль: «Точность и красочность (выражения от-
личали его речь». Тут же сказано о нем: «Он был упор-
ным консерватором, или тори, как он сам предпочитал
называть себя». Многие биографы утверждают, что
консерватизм отца отозвался даже на имени сына.
Распространенная легенда гласит, будто неподалеку
от Стивенсонов жил правоверный либерал Льюис, и То-
мас Стивенсон, правоверный консерватор, опасаясь, как
бы его не причислили к либералам, решил писать имя
сына на французский лад, однако произносить по-анг-
лийски. Как бы то ни было, имя Стивенсона пишется
Louis, и англичане, называя его, говорят Луис (не Луи
или Льюис); так обращались к нему и в кругу семьи,
если не называли именем уменьшительным — Лу. Робер-
том его звали редко.
258
По материнской линии Стивенсон принадлежал к
старинному роду Бэлфуров, к «знатным людям» из вид-
ных кланов равнинной и пограничной Шотландии. Мать
Стивенсона, Маргарет Изабель Бэлфур, была дочерью
священника из Колинтона, прихода, расположенного
вблизи Эдинбурга.
Стивенсон живо, отнюдь не праздно и без чувства
снобизма интересовался своей родословной. Он испыты-
вал особую радость художника и гражданина, который
может обратиться к истории родной страны как к исто-
рии в известном смысле «семейной», ощутить ее «по-
домашнему», глубоко в ее почве обнаружить свои корни.
Семейные предания и легенды он знал с детства, впо-
следствии искал им документального подтверждения,
проверял, в ряду других романтических историй, веро-
ятность родственной близости к воинственному клану
Мак Грегоров, к знаменитому Роб-Рою, о котором
Вальтер Скотт написал одноименный роман. Отзвуки
этого интереса и энергичных розысканий обнаруживают-
ся не только в письмах Стивенсона, но и в книгах его,
особенно в дилогии о Дэвиде Бэлфуре, и в неокончен-
ном романе «Уир Гермистон».
Роберт Луис Стивенсон был в семье единственным
ребенком. На третьем году жизни он перенес болезнь
(по определению врачей это был «круп»), и последст-
вия заболевания оказались непоправимыми. Луис или
Лу, как обычно звали его близкие, страдал тяжелым
недугом, часто его лихорадило, он задыхался, страш-
ный кашель в долгих приступах сотрясал его хилое те-
ло, внешний облик его изменился и метафорическое вы-
ражение «худой как щепка» точно подходило ему.
«Страна Кровати» была его вынужденным поселением,
неделями и месяцами он не покидал ее и в любую
минуту мог оказаться в ней снова'.
Во всех распространенных биографиях Стивенсона
сказано, что он страдал туберкулезом легких. Этот диа-
гноз в книге Э. Н. Колдуэлл «Последний свидетель Сти-
венсона», вышедшей в 1960 году, подвергается сомне-
нию. Автор, ссылаясь на мнения врачей, в разное время
лечивших писателя, делает вывод, что у него была
тяжелая болезнь бронхов.
Факт остается фактом, что еще в детстве Стивенсон
почувствовал себя инвалидом, и это чувство сопровож-
259
дало его до могилы. Не столько боязнь скорой смерти,
сколько ощущение недоданной природой и ускользаю-
щей жизни побудило его в одном из писем, может быть,
несколько выспренно, но с понятной горечью восклик-
нуть: «О Медея, убей или сделай меня молодым».
В письмах Стивенсона к родным и друзьям прорываются
сетования. Не раздраженные или немощные жалобы, но
искренне печальные свидетельства испытывамого или
только что пережитого мучительного состояния.
Болезнь ограничивала и делала односторонним жиз-
ненный опыт Стивенсона. «Детство мое,— вЮминал
он,— сложная смесь переживаний: жар, бред, бессонни-
ца, тягостные дни и томительные долгие ночи. Мне бо-
лее знакома «Страна Кровати», чем зеленого сада».
В ответ на упрек, почему он воспевает светлые сторо-
ны жизни, избегая теневых, он отвечал, что невольно
отворачивается от всего болезненного не желая воро-
шить пережитые печали.
Нормально учиться Стивенсону не пришлось. В шко-
лу он пошел рано, шести лет, но систематических за-
нятий выдерживать не мог. Частые пропуски, переезды,
самовольные вакации, недостаток прилежания не спо-
собствовали успехам. И он для школы и школа для
него были «божьим наказанием». Даже читать он на-
учился не сразу, а когда научился — увлекся чтением,
открыв еще одну страну — «Страну Книг».
Томас Стивенсон рассчитывал, что его сын продол-
жит семейную традицию и станет инженером-строите-
лем маяков. Сменив несколько школ и приватных на-
ставников, поучившись некоторое время в Эдинбург-
ской академии, среднем учебном заведении для детей
состоятельных родителей, в 1867 году, семнадцати лет,
согласившись с пожеланием отца, Луис поступил^ в
Эдинбургский университет. Курс наук сочетался с
практикой на строительных площадках, и Луис не без
удовольствия принимал в ней участие. Однажды, это
тоже входило в программу практических занятий, он в
скафандре спускался на морское дно, чтобы изучить
рельеф скалы, выбранной для постройки маяка.
В 1871 году за сочинение «Новый вид перемежающего-
ся света для маяков», представленное на конкурс в Ко-
ролевское шотландское общество искусств, студент Ро-
берт Луис Стивенсон был удостоен серебряной медали.
260
Казалось, выбор сделан, временем проверен, судьбой
одобрен. Спустя две недели в мучительном разговоре
с отцом Луис заявил, что строителем маяков он не бу-
дет и мысль о профессии инженера оставляет навсег-
да. Тогда же было решено, что Луис станет адвокатом.
Отец успокаивал себя соображением, что лучше быть
хорошим юристом, чем плохим поэтом, сын надеялся, что
занятия адвокатурой оставят ему достаточно свободного
времени для занятий литературных. Вот и Вальтер
Скотт: был же он адвокатом, и это не помешало ему
стать прославленным романистом.
Положенные экзамены были сданы, юридическое зва-
ние высокой градации получено, и все только затем,
чтобы лишний раз убедиться: Луис — прирожденный ли-
тератор.
Впервые в печати имя Роберта Луиса Стивенсона
появилось в октябре 1866 года — ему едва исполнилось
шестнадцать лет. То была книжечка в двадцать две
страницы, изданная в Эдинбурге в количестве ста эк-
земпляров на средства Томаса Стивенсона. Ее соста-
вил очерк под названием: «Пентландское восстание.
Страница истории, 1666 год». Юный автор на свой лад
ответил двухсотлетие крестьянского восстания в Шот-
ландии, подчеркнув намерение «быть снисходительным к
тому, что явилось злом, и честно оценить то доброе,
что несли пентландские повстанцы, боровшиеся за
жизнь, свободу, родину и веру». Юношеское сочинение
Стивенсона заслуживает упоминания уже по одному то-
му, что в нем выразилось устойчивое направление его
мысли: постоянный интерес к национальной истории,
к важным ее событиям, и его стремление быть объек-
тивным.
Первым печатным произведением Стивенсона, с ко-
торого началась его профессиональная деятельность ли-
тератора, явился очерк под знаменательным, можно ска-
зать, символическим названием «Дороги» (1873). Так
сложилась судьба Стивенсона, что он, абориген «Стра-
ны Кровати», был почти вечным странником — по ду-
шевной потребности и по жестокой необходимости. Ду-
шевную потребность он выразил в стихотворении «Бро-
261
дяга», в строках, которые звучат девизом:
Вот как жить хотел бы я,
Нужно мне немного:
Свод небес, да шум ручья,
Да еще дорога.
Смерть когда-нибудь придет,
А пока живется,—
Пусть кругом земля цветет,
Пусть дорога вьется.
Перевод Н. Чуковского
В 1876 году Луис и его друг Уолтер, сын знаме-
нитого эдинбургского врача Джеймса Симпсона, на бай-
дарках «Аретуза» и «Сигарета» совершили путешествие
по водным путям, рекам и каналам Бельгии и Франции.
Конечным пунктом намечался Париж, но не доплыв до
Сены, они остановились в деревушке Грез, где обычно
шумной колонией располагались молодые английские
и американские художники, приезжавшие практиковать-
ся к «барбизонцам», в прославленную сень Фонтенебло.
Некогда глухая деревенька Барбизон, давшая громкое
имя школе французских художников, находилась непо-
далеку, на окраине леса. Место, среда, обычаи и нравы
художнической богемы были Стивенсону хорошо знако-
мы. Классические времена Барбизона давно отошли.
Теодор Руссо, глава барбизонцев, умер еще в 1867 го-
ду, но Стивенсон застал в живых Милле, правда, на-
кануне его смерти, когда впервые побывал здесь в
1875 году.
Франция, ее столица, но, пожалуй, особенно среда
Барбизона оставили в жизни Стивенсона большой след.
Он хорошо знал французский язык, был начитан во
французской литературе, классической и современной.
«Барбизонский период» — время его усиленной литера-
турной выучки и момент, когда он почувствовал, что
пришла пора творческого штурма. «Наступает время,—
вспоминал он восемь лет спустя в очерке «Фонтенеб-
ло»,— когда приходится оставить подготовительную тре-
нировку, подняться во весь рост, напрячь всю волю
и — будь что будет — начать созидательный труд».
У «барбизонцев» Стивенсон встретил Франсес Ма-
тильду Осборн, впоследствии Фанни Стивенсон, урож-
262
денную Ван де Гриф, или Вандергрифт, как произно-
сили фамилию ее предки, переселившиеся в Америку
из Швеции и Дании. Когда Луис встретил Фанни, она
увлекалась живописью, потому и находилась в кругу
художников. Смерть ребенка, младшего сына, заставила
ее к тому же искать уединения. Фанни была замужем,
старше Стивенсона на десять лет, с нею находились
шестнадцатилетняя дочь и десятилетний сын, Ллойд
Осборн, его будущий пасынок и соавтор. Биографы лю-
бят описывать встречу Луиса с Фанни, когда он впер-
вые увидел ее в окне ярко освещенной комнаты, и уве-
ряют, что это был случай любви с первого взгляда.
Возвратившись в Эдинбург поздней осенью 1876 го-
да, Стивенсон принялся описывать путешествие на бай-
дарках, и вскоре у него была готова порядочная ру-
копись. Очерки «Путешествие внутрь страны» появи-
лись, однако, спустя два года, и это была первая книга
Стивенсона, если не считать «Пентландского восстания».
Стивенсон нарочито устремляется «внутрь» страны,
где вовсе не ищет ничего примечательного, тем более
отвлекающе авантюрного. И до него были английские
писатели — «внутренние» путешественники, причем —
великие: Лоренс Стерн или Чарльз Диккенс. В отличие
от Стерна автор очерков не поглощен «диалектикой
чувств», в отличие от Диккенса, или, вернее, от ми-
стера Пиквика, не преследует целей широковещатель-
ной познавательности и восторженной добродетели. Сти-
венсоновские очерки,— разумеется, вещь гораздо менее
значительная, и сопоставление делается лишь затем,
чтобы оттенить направление мысли. Стивенсон не был
склонен преувеличивать достоинства своей первой кни-
ги и в изящно написанном, остроумно задорном пре-
дисловии признается читателю, что автору лучше всего
делать вид, будто «книгу написал кто-то другой, а вы
лишь бегло ее просмотрели и вставили все лучшие ме-
ста» 5.
Автор описывает повседневные события путешествия,
забавные недоразумения, делает пейзажные и бытовые
зарисовки, наброски лиц и характеров, делает точно и
тонко, однако без видимого расчета и напряжения. Плы-
вя по течению, оз отдается ему, но противится инерции
5 Р. Л. Стивенсон. Собр. соч., т. 1, стр. 51.
263
ходячих представлений, отстаивает внутреннюю само-
стоятельность, добиваясь того, чтобы восприятие было
подвижным, отзывчивость непосредственной, а вывод са-
мостоятельным.
Заключительные слова «Путешествия» могут озада-
чить. Может показаться, что, путешествуя, Стивенсон
испытал глубокое разочарование, поблекли в его глазах
дальние дороги, и последняя фраза написана лишь для
того, чтобы охладить пыл ретивых путешественников.
«Греби хоть весь день напролет, но только вернув-
шись к ночи домой и заглянув в знакомую комнату,
ты найдешь Любовь или Смерть, поджидающих тебя воз-
ле очага, и самые прекрасные приключения — это
не те, за которыми мы пускаемся в далекий путь».
Некоторые биографы находят в этих словах скры-
тый намек на встречу Стивенсона с Фанни в дере-
вушке Грез, в тот момент когда путешествие заверши-
лось. Может быть, и так, но не в этом суть. Главная
мысль состоит в том, что внутреннее развитие и на-
полнение— собственно жизнь — нельзя заменить механи-
ческим передвижением, сколь бы ни было оно динамич-
ным и многокилометровым. И в путешествии, ближнем
или дальнем, важен отправной пункт, в конечном сче-
те сам человек, отправляющийся в путешествие. И вместе
с тем: «Великое дело быть в движении, непосредствен-
но ощутить потребности и тяготы жизни, спуститься с
перины цивилизации и почувствовать под ногами зем-
ную твердь»,— в этих словах выражено не только лич-
ное умонастроение Стивенсона; с приближением «конца
века» оно становилось все более заметным, как и же-
лание «забить в мужественный барабан». Недоверие к
нравственным прописям, ощущение идейного кризиса
вызвало порыв самостоятельных исканий, потребность
сквозь все наслоения пробиться к «сути вещей» и «соб-
ственной кожей» почувствовать «твердь земли». У Сти-
венсона этот порыв не имел ничего общего ни с ни-
гилистическим отрицанием предшествующего опыта, ни
с декадентским безволием.
В своих очерках Стивенсон создал тип путешествен-
ника, который не значится в известном перечне Лорен-
са Стерна, в его романе «Сентиментальное путешест-
вие», хотя в некотором отношении мог бы этот пере-
чень пополнить. Это тип нерасчетливого путешественни-
264
ка, «путешественника не по торговым делам», если
воспользоваться более ранним определением Диккенса.
Он оказался своего рода моделью на определенный пе-
риод. Такой путешественник, обычно художник или ли-
тератор, не преследует выгоды, пренебрегает стимулом
барыша, говоря словами Олдингтона, «отказывается от
наград и привилегий, а равно и от ответственности и
обязательств человека, делающего деньги».
«Это — литература», то есть не ремесленная поделка,
сказал об очерках «Путешествие внутрь страны»
Джордж Мередит, творчество и авторитет которого Сти-
венсон ставил высоко.
Путевые очерки Стивенсона начинают традицию, во-
плотившуюся позднее в книгах Джером К. Джерома
«Праздные мысли лентяя» (1886) и «Трое в одной лод-
ке» (1889), где «путешествие» подменяется стандартной
«прогулкой» и где как бы сам собой обнаруживается
идиотизм обывательского быта.
Радость, обретаемая в муках творчества, дар слова
и воображения, рано определившееся призвание, по-
требность самоутверждения давно, побуждали Стивенсо-
на выйти за круг литературных статей и очерков. В ок-
тябре 1877 года (в журнале «Темпл Бар») появилось
первое его художественное произведение — рассказ
«Ночлег Франсуа Вийона». Это сюжетное осмысление
личности выдающегося французского поэта XV века еще
связано с литературно-критическим опытом Стивенсона
и подсказано им. Наряду с рассказом он пишет
статью «Франсуа Вийон, ученый, поэт и взломщик».
И все же «Ночлег» — уже выход в иную область твор-
ческой деятельности.
Стивенсона занимали характер и судьба Вийона: та-
лантливейший поэт и в то же время — бродяга, про-
пойца и вор; человек свободомыслящий и, на свой лад,
рыцарь чести, у которого, говоря словами Шекспира,
«душа добра во зле», и вместе с тем — пример внут-
ренней расшатанности, образец нравственной аморф-
ности. Франсуа Вийону противостоит старик Энгерран
де Ла Фейе, рыцарь без страха и упрека, в букваль-
ном и в переносном смысле. Сталкивая характеры,
Стивенсон не опешит с выводом и вовсе избегает нази-
дания. Он готов и хочет подчиниться неумолимой ло-
гике объективного анализа.
265
Вместе с Вийоном автор называет Энгеррана де Ла
Фейе «чудесным стариком». Ему нравятся прямота его
характера, цельность чувств, широта гуманного жеста.
Ему приятно слышать из его уст, как решительно от-
вергает он принцип наживы, противопоставляя ему
принцип чести. И тут же, пробивая его обветшалые ры-
царские доспехи, он острием слова колет уязвимые ме-
ста нравственной модели слепленной феодальной Евро-
пой. Отдавая должное душевной силе и обаянию старого
рыцаря, он неспроста замечает, что его «прекрасное
лицо скорее почтенное, чем умное», и что стройная си-
стема его принципов далеко отлетела от реальности.
Вместе с Энгерраном де Ла Фейе Стивенсон, одо-
леваемый- какой-то неисповедимой симпатией, вгляды-
вается в поэта, стараясь понять, как это в нем столь
причудливо смешались добро и зло. В отличие от ста-
рика Стивенсону нравится, что Вийон чужд этического
ригоризма, что в нем живет творческий дух, и потреб-
ность свободы, и жажда самостоятельной оценки исти-
ны, и притом не утрачена честь.
Когда же в конце рассказа Энгеррану де Ла Фейе
становится не по себе в присутствии Вийона, ему «тош-
но его видеть, а поэт, не сомневаясь в порядочности
сеньора, всц же не может уверовать в его ум и на
этот раз называет его «нудным стариком», то очень по-
хоже, что автор равно разделяет их чувства и мнения.
Однако в отличие от средневекового рыцаря писатель
новейшего времени, пристально вглядываясь в причудли-
вый облик поэта, видит в нем проявление самобытной
артистической натуры и гротескных условий жизни.
Бродяга Вийон и зимний Париж 1456 года, описанные
с вдохновенной выразительностью, хорошо передают и
мысль и настроение Стивенсона, проникающего в тра-
гическую судьбу необычайно талантливой личности
переходного времени. Несмотря на, казалось бы, зам-
кнутость литературной темы и неразвернутость ее трак-
товки в малом жанре, рассказ «Ночлег Франсуа Вийо-
на» и его герой тогда же вызвали живой читательский
интерес.
Близко примыкает к «Ночлегу» «Уилл с мельни-
цы», написанный осенью 1878 года и появившийся в
январском номере «Корнхилл мэгэзин» за 1879 год.
Этот рассказ-притча также возникает еще на основе ли-
266
тературно-критических занятий Стивенсона и служит
аллегорическим выражением как бы очередного присту-
па его размышлений над практическими и философско-
этическими проблемами.
Высоко в горах, в отдаленном и замкнутом мирке,
живет юный Уилл, герой рассказа. С гор в долину бе-
жит река, и, прослеживая про себя ее движение через
шумные города в огромное море, он испытывает неволь-
ное желание бежать вместе с ней, спуститься вниз, при-
общиться к большому миру. Проснувшийся дух охвачен
волнением, жаждет «путешествия», смелого и энергич-
ного, по морю житейскому, и юноша Уилл одержим бес-
покойным стремлением. Но обстоятельства препятству-
ют ему. Не пускает приемный отец, а потом странный
гость отговаривает его, внушая мысль, что все это суета
духа, что также суетятся люди в долинах, мечтая под-
няться в горы. Никуда не надо стремиться, лучше сдер-
жать себя, укротить свой дух и жить созерцанием и
повседневной заботой. Уилл принимает совет и следует
ему, пока, наконец, не появляется загадочная карета и
не увозит его в последний путь. Старинная .по сюжет-
ным мотивам притча, пересказанная на современ-
ный лад с сохранением элементов библейского стиля,
содержит поучение, совершенно ясное по своему смыслу.
Уилл вел растительное существование, умирая заживо,
и его пример может только отвратить от его выбора.
В 1878 году, находясь во Франции в горной дере-
вушке Монистье, Стивенсон закончил серию рассказов,
которые с июня по октябрь под общим названием
«Современные тысяча и одна ночь» печатались в жур-
нале «Лондон». Подыскать для них издателя оказалось
не так просто, и отдельной книгой с несколько из-
мененным заголовком («Новые тысяча и одна ночь»)
они вышли только в 1882 году. Эту серию составляют
два цикла — «Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи»;
в первый входят три, во второй — четыре рассказа.
Со знаменитыми «арабскими сказками», широко
известными как «Сказки Шахразады» или «Тысяча и
одна ночь», Стивенсон познакомился еще в детстве и
увлекся ими. «Сказки», едва они появились в пере-
воде Галлана на французский язык, приобрели в Европе
популярность и литературное влияние. «Новые тысяча
и одна ночь» Стивенсона — еще одно свидетельство не
267
только устойчивости, но и разносторонности этого воз-
действия.
«Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи» объединены
общим замыслом и единым героем, романтическим
принцем Флоризелем, таинственным и добродетельным
правителем Богемии, выступающим в роли современ-
ного Гарун аль Рашида (в новейшем написании Харун-
ар-Рашида), великодушного халифа книги «Тысяча и
одна ночь». Стивенсон обратился к классическому и попу-
лярному произведению с намерением использовать его
сюжетные и иные мотивы в пародийных целях.
«Новые тысяча и одна ночь» — остроумная пародия
на жанр авантюрно-приключенческой и сенсационной
лцт(ерат!уры в том его затасканном виде, в како'м он
являлся под ремесленным, пошло-развлекательным или
утилитарно-нравоучительным пером. Стивенсоновская
пародия не замыкается литературной темой. В отличие
от рассказов «Ночлег» и «Уилл с мельницы» в семи
циклизованных новеллах отчетливо проступает совре-
менный материал и немаловажные проблемы времени.
«Клуб самоубийц» — ироническое наименование эстет-
ских кружков и групп, предшествовавших декадент-
ским содружествам и группировкам «конца века».
Предметом стивенсоновской пародии служит мнимая
значительность, эгоцентризм и крикливая поза поклон-
ников меланхолии, проповедников упаднических идей
и настроений.
«Клуб самоубийц» — заведение для избранных, его
посещают чувствительные юноши и молодые люди «со
всеми признаками острого ума», однако без намека
на энергию и волю, которые способны обеспечить жиз-
ненный успех. Клубная атмосфера насыщена экзаль-
тацией. Вспышки лихорадочного веселья сменяются
жуткой немотой. Занятия немногочисленны, праздны,
но по-своему деловиты, и все делается с позой пре-
сыщенности и под знаком упаднической бравады. Вино,
беседы о смерти и способах самоуничтожения, карточ-
ная игра, в которой фатальная карта намечает оче-
редную жертву и очередного убийцу,— таков ритуал
этого «храма опьянения». Дух смерти витает над соб-
равшимися, тема смерти на смоченных вином устах.
«Что касается меня,— говорит один из добровольных
самоубийц,— единственное, о чем я мечтал, это о по-
268
ВЯзке йа гЛаза Да вате, чтобы заткнуть уши. Но увы!
В этом мире не сыскать достаточно толстого слоя ва-
ты». Другой уверяет, что он ни за что не стал бы чле-
ном клуба, «если бы теория мистера Дарвина не пред-
ставлялась ему столь убедительной. Мысль, что я являюсь
прямым потомком обезьяны,— сказал сей оригинальный
самоубийца, — показалось мне невыносимой». «Неужели
все это так важно, чтобы поднимать такую суету,— ком-
ментирует про себя предмогильную беседу принц Флори-
зель.— Если человек решился уйти из жизни, какого чор-
та он не совершает этот шаг, как подобает джентльме-
ну» 6.
Ирония диалога и комментария очевидна, в ней слы-
шен голос автора.
Замысел авантюрных историй с «алмазом раджи»
более разветвлен и обширен. Бытовая и психологиче-
ская его основа и социальная определенность выступа-
ют вполне отчетливо, едва прикрытые призрачным по-
кровом фантастического сюжета.
В четырех новеллах рассказывается о том, как не-
кий Томас Ванделер, находившийся в Индии в рядах
английских колониальных войск, оказывается владель-
цем необыкновенного алмаза кашгарского раджи. За-
гадка этого таинственного приобретения, щедрого по-
дарка за «услуги», служит предметом недвусмыслен-
ных толков. Новоявленный собственник поразительной
драгоценности из бедняка превращается в немыслимого
богача: автоматически безвестный и грубый служака
становится прославленным светским львом. Почтительно
и радушно его принимают в избранных кругах Лондона,
и в скором времени объявляется знатная девица, «по-
желавшая обладать алмазом даже ценою брака с сэром
Томасом Ванделером».
Алмаз раджи, подобно лоскутку шагреня из романа
Бальзака «Шагреневая кожа», наделен магической и
зловещей силой. Разжигая вожделения, он переходит
из рук в руки, вовлекая в авантюрный круговорот но-
вых участников и новые жертвы. Это завораживающий
символ •собственности, и под его воздействием ничто-
жества возвеличиваются, нравственные понятия иска-
жаются, истинные ценности подменяются ложными.
6 Р. Л. Стивенсон, Собр. соч., т. 1, стр. 211.
269
И так тянется цепь злополучных событий, пока принц
Флоризель своим вмешательством не кладет им предел.
Нарушая права собственности, он завладевает чужим
алмазом и, в надежде избавиться от наваждения, бро-
сает его в реку. Но Ванделеры, истинно предприимчи-
вые буржуа, организуют водолазные работы и не сму-
щаются их безуспешным началом.
Стивенсоновские «сказки Шахразады», несмотря на
шутливый тон затейливой пародии, основаны на сюже-
тах реальных и отнюдь не шуточных. Характеры дей-
ствующих лиц обрисованы точно, их психологический
рисунок не только верно намечен, но и оживлен, об-
суждаемые проблемы не надуманы и не пустячны.
Герой одной из новелл, молодой человек Саймон
Роллз, выражает желание «больше узнать о жизни»,
имея «в виду не Ту жизнь, которая описана в рома-
нах Теккерея». Он хотел бы проникнуть как в скрытые
преступления общества, так и в его тайные возмож-
ности, «желал бы постичь основы разумного поведения
в исключительных обстоятельствах». Таково намерение
и самого автора. Он будет обнажать скрытые пороки
общества; он будет ставить своих героев в исключи-
тельные обстоятельства и следить за тем, как они
отыскивают «основы разумного поведения».
Казалось бы, избитые в дидактических рассужде-
ниях формулы в «Алмазе раджи» получают живое на-
полнение. «И самый добропорядочный человек может
попасть в сомнительное положение»,— делает малоуте-
шительный для себя вывод юный джентльмен Гарри
Хартли, оказавшийся «круглым сиротой и почти нищим».
Горестная замета и плачевный опыт незадачливого ге-
роя, который тратил юность, «совершенствуясь в пу-
стячных и чисто светских навыках», бросают свет на
состояние молодого поколения и уточняют понятие и
проблему «добропорядочности», весьма существенную
для житейской философии викторианского общества тех
времен, как и проблему «сомнительного положения», ее
отвлеченно-нравственного и реального смысла.
Все тот же Саймон Роллз не знает, «кем ему* больше
восхищаться — человеком, привыкшим действовать с
безрассудной смелостью, или тонким наблюдателем и
знатоком жизни». Эта альтернатива занимала многие
(не только молодые) умы, она занимала и Стивенсо-
270
на — с точки зрения личного и общественного благо-
разумия. Принц Флоризель, которому автор явно бла-
говолит, и представляет собой тип олимпийца, тонкого
знатока и созерцателя жизни. Ему, однако, приходится
отступить с занятых позиций. Движимый гуманными
чувствами, он вмешивается в события, но его деятель-
ный всеблагой порыв не способен вселить устойчивой
надежды перед лицом бесцеремонного нажима со сторо-
ны изворотливых Ванделеров. Олимпийское небрежение
сиятельного принца перед «общественными обязанностя-
ми» прицодит| к тому, что в итоге «очередной» бур-
жуазной революции он теряет свои привилегии и удов-
летворяется скромной ролью владельца сигарной ла-
вочки. Впрочем, иронически заключает автор, «его вы-
сочество» продолжает сохранять верность романтическо-
му принципу и «за своим прилавком выглядит настоя-
щим олимпийцем».
«Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи», ;при всей ори-
гинальности их замысла, обнаруживают связь с тради-
цией, с двумя разнохарактерными направлениями в анг-
лийской литературе, представленными именами Уилки
Коллинза и Уильяма Теккерея. Первый, автор образ-
цовых произведений сенсационной литературы, в том чис-
ле «Лунного камня», интересовал Стивенсона главным
образом умением строить занимательный сюжет, второй,
классик реалистического романа,— мастерством сатири-
ческой характеристики. В новеллах «Новая тысяча и
одна ночь» заметны манера и приемы сенсационного
жанра уже на той стадии его развития, когда он на-
чинает смыкаться с жанром собственно детективным.
Симптоматично упоминание в «Алмазе раджи» фран-
цузского романиста Эмилио Габорио и героя его уго-
ловно-детективных романов сыщика Лекока, как и появ-
ление детектива, правда во второстепенной роли, в но-
велле с отвечающим случаю заглавием: «Приключения
принца Флоризеля и сыщика». Впрочем, стивенсонов-
ские пробы в этом жанре сопровождает ирония,— то
шутливая и веселая, то едкая и не лишенная горечи,
но, как правило, остроумная, напоминающая о влиянии
Теккерея и Мередита.
Осенью 1878 года, закончив свои «сказки Шахраза-
ды», Стивенсон совершил еще одно путешествие
«внутрь страны», на этот раз сухопутное и одиночное,
271
если не считать строптивого ослика, неохотно тащивше-
го спальный мешок и другую поклажу. Стивенсон пе-
ресек Севенские горы, прошел по глухим и малонасе-
ленным местам, где некогда скрывались французские
протестанты, спасаясь от преследований карательных от-
рядов Людовика XIV и ведя с ними упорную парти-
занскую войну. Стивенсона занимала история социаль-
но-религиозной борьбы в Шотландии, интересовали
восстания непокорных шотландских протестантов, их
готовность к решительному сопротивлению во имя не-
зависимости и свободы убеждений. Подобный же инте-
рес подтолкнул его к походу в Севенны, Вскоре он на-
писал книгу «Путешествие с ослом», которая в июне
1879 года вышла из печати. Название книги служило
поводом не всегда безобидных шуток, чему способст-
вовал упрямый ослик, представленный автором с живым
юмором. В одной из рецензий в результате недосмотра
или нарочитой ошибки книга была названа «Путешест-
вие осла», а в кругу литературной молодежи уже в
начале XX века, как вспоминал Олдингтон, очерки хо-
дили под заголовком «Путешествие с Сиднеем Колви-
ном». В свое время видный литератор и влиятельный
редактор Сидней Колвин был близким другом Стивен-
сона. Под его редакцией вышло четырехтомное издание
писем Стивенсона, первое и пока единственное столь
полное издание эпистолярного наследия писателя. Кол-
вин, как близкий друг, считал себя вправе подвергнуть
письма личной цензуре, и многие из них напечатаны с
изъятием главным образом тех мест, которые каса-
лись отношения Стивенсона к родителям, к вопросам
религии и содержали интимные биографические све-
дения.
В начале августа 1879 года Стивенсон получил от
Фанни Осборн, давно уже находившейся в Калифорнии,
извещение, слова которого так и остались неизвестны.
Предполагают, что Фанни сообщала о своем тяжелом
заболевании. Стивенсон быстро собрался и седьмого
числа на пароходе «Девония» отплыл из Гринока в
Нью-Йорк. Сильное недомогание, нехватка денег, осло-
жнившиеся отношения с отцом, увещевание друзей, за-
путанность ситуации — Фанни оставалась замужней
женщиной и еще не было ясно, как и когда ей удастся
развестись с беспутным супругом,— ничто не останови-
272
ло его. Это новое «путешествие» явилось для Стивен-
сона необычайно трудным и едва не стоило ему жизни.
К общему недомоганию прибавились усталость и нерв-
ное напряжение. В пути Стивенсон не переставал пи-
сать и вести дневник, сознавая необходимость само-
стоятельного и значительного заработка. Условия по-
ездки были тяжелыми даже для здорового человека,
особенно в набитом и душном вагоне эмигрантского
поезда, в котором он ехал много дней до Сан-Фран-
циско. Здесь он рассчитывал встретить Фанни, но не
нашел ее на месте: она переехала в Монтерей, неког-
да столицу Калифорнии, а теперь полузабытый городок
на берегу Тихого океана, в ста пятидесяти милях
от Сан-Франциско. Один, верхом на лошади, без пере-
дышки Стивенсон отправился следом. В пути, в при-
брежных горах, не доехав восемнадцати миль до Мон-
терея, он почувствовал себя совсем плохо и две ночи
пролежал под деревьями почти без сознания. Его нашел
старый охотник на медведей и препроводил к себе на
ранчо, где он пролежал немало дней, пока к нему не
вернулись силы. «Это был странный и мучительный от-
резок моей жизни,— писал он другу в доверительном
письме.— Согласно всем правилам, смерть казалась не-
избежной, но спустя некоторое время мой дух снова
воспрянул в божественном бешенстве и стал понукать и
пришпоривать мое хилое тело с немалым усилием и
немалым успехом».
За время пребывания в Америке Стивенсон не раз
оказывался на грани жизни и смерти. От него требо-
валось громадное душевное напряжение, чтобы одоле-
вать немощь. В конечном счете духовное мужество ста-
вило его на ноги. «Упорный смертный»,— можно было
сказать о нем словами Байрона.
19 мая 1880 года в Сан-Франциско Стивенсон со-
четался браком с Фанни, а 7 августа, ровно год пос-
ле того, как он сел на «Девонию», направляясь в
Нью-Йорк, он вместе с женой и пасынком Ллойдом
Осборном отплыл из Нью-Йорка в Ливерпуль. Так за-
вершился существенный этап в жизни Стивенсона, ока-
завшийся важным и для его творческого развития. Он
не только много пережил, но и многое видел, видел
жизнь без прикрас, Америку с ее контрастами, при-
чем образ ее совсем не отвечал тем идеальным пред-
273
ставлениям, какие сложились у него под влиянием ли-
тературных и газетных источников. Он без устали писал
статьи и очерки, вдохновлялся художественными замыс-
лами. Книга очерков «Эмигрант-любитель» и повесть
«Дом на дюнах» — основной итог его литературной ра-
боты за это время. «Дом на дюнах» Стивенсон закон-
чил в октябре 1880 года, уже вернувшись из Америки.
Короткая повесть «Дом на дюнах» — одно из луч-
ших, если не лучшее произведение раннего Стивенсона,
предваряющее его приключенческие романы и психоло-
гические новеллы периода творческой зрелости. В этой
повести занимательный сюжет, сочетаясь с содержатель-
ной темой, разветвлен и развернут, характеры, сохраняя
четкость внешнего и внутреннего рисунка, даны в энер-
гичном развитии, пейзаж не только точен и выразите-
лен, но и разнообразен при общей выдержанности и сла-
женности тона. Стивенсон трезво оценивал свое новое
произведение, видел его слабости, однако не собирался
умалять его достоинств. «Конечно, работа плотницкая,
но добротная,— писал он Хенли, оспаривая его придир-
чивый отзыв.— Кто еще может так плотничать в англий-
ской литературе, теперь, когда Уилки Коллинз едва сту-
чит топором». (Коллинз умер в 1889 году, его наиболее
известные романы «Женщина в белом» и «Лунный ка-
мень» появились соответственно в 1860 и 1868 годах.)
В повести «Дом на дюнах» обнаруживается зависи-
мость Стивенсона не только от сенсационного романа
Коллинза, но и от романтической традиции. Вместе с
тем отчетливо видно, как он отталкивается от нее, в ка-
ком направлении и сколь последовательно подвергает
критике, не приемля многие ее нормы и образцы, ука-
зывая на их уязвимость или полную несостоятель-
ность. Из писателей романтиков он выделял для себя
Виктора Гюго, которому еще в 1879 году посвятил спе-
циальную статью.
Стивенсон приемлет и поддерживает романтическую
одухотворенность и приподнятость чувств, однако не
склонен воодушевление и деятельный порыв изолиро-
вать от реальной почвы. Не склонен он идеализировать
первобытную дикость и вольность цыганского табора,
привлекавших к себе европейский романтизм как аль-
тернатива цивилизации и прогресса. Герой романтиков
обычно бежал от своей среды, герой неоромантика Сти-
274
венсона ищет родственную среду. Фрэнк Кессилис, ге-
рой повести «Дом на дюнах», от имени которого ведется
повествование, поначалу гордится тем, что держится
особняком, восхищается жизнью одинокого цыгана. Но
вскоре под влиянием отрезвляющих обстоятельств ме-
няет и свои взгляды и свой образ жизни.
Трезво-критическую, беспощадную оценку получает
у Стивенсона еще Байроном утвержденный тип роман-
тического героя, сильной и яркой бунтарской лично-
сти, однако чрезмерно сосредоточенной на самой себе,
не способной даже при высоком воспарении чувств
освободить их от гибельной примеси бесконтрольного
эгоизма. Примером такой личности выступает в повести
Норсмор. Ему дана не только психологическая, но и
социальная характеристика, краткая и все же содержа-
тельная. Норсмор — наследник мрачного запущенного
поместья, последним владельцем которого был «бестол-
ковый и расточительный дилетант». Натура незауряд-
ная, но бесцельная, Норсмор весь во власти непомерно
раздутого и ничем не сдерживаемого себялюбия. Чувст-
ва не получили у него естественного, нормального раз-
вития и при его необузданном темпераменте проявляют
себя в уродливых контрастах. Даже в своем отношении
к Кессилису, составившему вместе с ним «содружество
двух нелюдимов», он в одно и то же время и друг и
недруг. В самую добрую минуту, приглядевшись к нему,
можно было «за наружностью настоящего джентльме-
на... разглядеть душу, достойную насильника и рабо-
торговца». И все же Стивенсон отдает безоговорочное
предпочтение Норсмору, когда сталкивает его с «гра-
бителем-банкиром» Хеддлстоном, обманувшим доверие
своих вкладчиков, среди которых оказались итальян-
ские революционеры, участники национально-освободи-
тельного движения, готовившие восстание.
Норсмор и Кессилис, отщепенцы и нелюдимы, мня-
щие себя мизантропами, втягиваясь в конфликт прин-
ципиального смысла и значения невольно поверяют
практическим опытом свой романтический образ мыс-
лей и поведения. Создается ситуация, которая позво-
ляет Стивенсону произвести наглядный анализ и здравую
переоценку традиционных романтических характеров.
В повести «Дом на дюнах» — можно сказать, не в
одной этой повести, а почти во всех произведениях
Стивенсона приключенческого жанра,— психологический
275
анализ лишен обстоятельности, развернутых подробно-
стей и завершенности — тому препятствует природа
жанра, который немыслим без острого динамичного сю-
жета, насыщенного внешними быстро сменяющимися со-
бытиями. Но психологические характеристики у Стивен-
сона точны, и логика их убедительна. Даже в таком,
казалось бы, мало вероятном случае, как решение Нор-
смора вступить в ряды итальянских повстанцев и бо-
роться под знаменем Гарибальди, исключается мысль
об авторском произволе — поведение этого героя внут-
ренне обосновано, как вполне объяснима и его драма-
тическая судьба. Стремление к анализу, трезвому и
вдумчивому, явлений сложных и противоречивых — важ-
ное. свойство стивенсоновского неоромантизма, утверж-
дающего мужественный оптимизм.
В повести «Дом на дюнах» звучит, хотя и приглу-
шенно, тема национально-освободительной борьбы италь-
янского народа, имеющая в английской литературе ос-
новательную и давнюю традицию. К этой теме обраща-
лись старшие современники писателя — Джордж Мере-
дит в романе «Виттория» (1867) и Чарльз Суинберн в
некогда знаменитых «Песнях перед восходом солнца»
(1871). В начале века Байрон проявлял живейший ин-
терес к освободительному движению в Италии, был свя-
зан с тайным революционно-демократическим общест-
вом карбонариев. В повести Стивенсона, действие кото-
рой относится к середине XIX столетия, итальянских
мстителей называют карбонариями уже по традиции,
поскольку в это время революционно-демократической
организации карбонариев уже не существовало.
«Рано или поздно мне суждено было написать ро-
ман. Почему? Праздный вопрос»,— вспоминал Стивен-
сон в конце жизни в статье «Моя первая книга —
«Остров Сокровищ», как бы отвечая на вопрос любозна-
тельного читателя. Статья была написана в 1894 году
по просьбе журнала Джером К. Джерома «Айдлер»
(«Бездельник»), который затеял тогда серию публика-
ций уже прославившихся современных писателей на те-
му «Моя первая книга». «Остров Сокровищ» собствен-
но не отвечал теме, так как этот первый роман пи-
сателя был далеко не первой его книгой. Стивенсон имел
в виду не один хронологический порядок появления
своих книг, но прежде всего их значение. «Остров Сок-
276
ровищ» — первая книга Стивенсона, получившая Широ-
кое признание и сделавшая его всемирно известным.
В ряду самых значительных его произведений эта кни-
га действительно первая по счету и вместе с тем са-
мая популярная.
Сколько раз, начиная с ранней юности, принимался
Стивенсон за роман, меняя замыслы и приемы пове-
ствования, снова и снова испытывая себя и пробуя свои
силы, побуждаемый не одними соображениями расчета
и честолюбия, но прежде всего внутренней потребностью
творчества и конкретной задачей — одолеть большой
жанр. Долгое время попытки оказывались безус-
пешными.
«Рассказ — я хочу сказать, плохой рассказ — может
написать всякий, у кого есть усердие, бумага и до-
суг, но далеко не всякому дано написать роман, хотя,
бы и плохой. Размеры — вот что убивает». Объем пугал,
изматывал силы и убивал творческий порыв, когда Сти-
венсон принимался за большую вещь. Ему с его здо-
ровьем и лихорадочными усилиями творчества вообще
трудно было одолеть барьеры большого жанра. Не слу-
чайно у него нет «длинных» романов. Но не только
эти препятствия стояли на его пути, когда он начинал
и откладывал незавершенными замыслы объемных про-
изведений. Для первого романа нужна была известная
степень зрелости, выработанный стиль и уверенное ма-
стерство. И надо, чтобы начало было удачным, чтобы
оно открывало перспективу естественного продолжения
начатого. На этот раз все сложилось наилучшим об-
разом, и создалась та непринужденность внутреннего
состояния, которая особенно нужна была Стивенсону,
когда воображение, полное сил, одухотворено и твор-
ческая мысль как бы развертывается само собой, не тре-
буя ни шпор, ни понукания.
Все началось, можно сказать, с забавы. Стивенсон
сам рассказал о том, как это было. Ллойд Осборн по-
просил его «написать что-нибудь интересное». Наблю-
дая, как пасынок что-то рисует и чертит, он увлекся
и набросал карту воображаемого острова. Своим конту-
ром карта напоминала «приподнявшегося толстого дра-
кона» и пестрила необычными наименованиями: Холм
Подзорной трубы, Остров Скелета и др. Больше мно-
гих книг Стивенсон ценил карты — «за их содержа-
277
тельность и за то, что их не скучно читать». На этот
раз карта вымышленного «Острова Сокровищ» дала тол-
чок творческому замыслу.
«Промозглым сентябрьским утром — веселый огонек
горел в камине, дождь барабанил в оконное стекло —
я начал «Судового повара» — так сперва назывался ро-
ман». Впоследствии это название получила одна из ча-
стей романа, а именно «Часть вторая». Длительное вре-
мя, с небольшими перерывами, в узком кругу семьи и
друзей Стивенсон читал написанное за день — обычно
дневная «порция» составляла очередную главу. Читал
Стивенсон хорошо. Слушатели проявляли живейшее уча-
стие к его работе над романом. Некоторые из под-
сказанных ими деталей попали в книгу. Благодаря То-
масу Стивенсону появился сундук Билли Бонса и боч-
ка с яблоками, та самая, забравшись в которую герой
раскрыл коварный замысел пиратов.
Роман еще далеко не был закончен, когда владе-
лец респектабельного детского журнала «Янг фолке»,
ознакомившись с первыми главами и общим замыслом
произведения, начал печатать его. Не на первых стра-
ницах, а вслед за другими сочинениями, в успехе ко-
торых он не сомневался,— сочинениями пустячными,
рассчитанными на банальный вкус, давно и навсегда
забытыми.
«Остров Сокровищ» печатался в «Янг фолке» с ок-
тября 1881 года по январь 1882 года под псевдонимом
«Капитан Джордж Норт». Успех романа был ничтож-
ным, если не сомнительным: в редакцию журнала п8-
ступали недовольные и возмущенные отклики, и подоб-
ные отклики не являлись единичными. Отдельным из-
данием «Остров Сокровищ» — уже под настоящей
фамилией автора — вышел только в конце ноября
1883 года. На этот раз его успех был основательным
и бесспорным. Правда, первое издание разошлось не
сразу, но уже в следующем году появилось второе из-
дание, в 1885 — третье, иллюстрированное, и роман и
его автор получили широкую известность. Журнальные
отзывы были разных градаций — от снисходительных до
чрезмерно восторженных,— но преобладал тон одобре-
ния. Романом зачитывались люди различных кругов и
возрастов. Стивенсону стало известно, что английский
премьер министр Гладстон читал роман долго за пол-
278
ночь с необычайным удовольствием. Стивенсон, не лю-
бивший Гладстона (он видел в нем воплощение нена-
вистной ему буржуазной респектабельности), сказал на
это: «Лучше бы этот высокопоставленный старик зани-
мался государственными делами Англии».
Серьезная английская критика 60—70-х годов, опи-
раясь на опыт и достижения социально-психологиче-
ского романа, выступала против чрезмерного увлечения
сюжетностью в защиту и поощрение характера, спра-
ведливо полагая, что через посредство характеров преж-
де всего осуществляется в романе глубинный процесс
эстетического освоения жизни. Внешне событийное по-
вествование, даже исполненное с талантом, обычно на-
талкивалось на осуждение со стороны этой критики. Не-
редко примером порицания служил Уилки Коллинз,
автор сенсационных романов «Женщина в белом»
и «Лунный камень», в которых хитросплетение проис-
шествий, захватывающая фабула теснили характеры,
ставя их в зависимое положение. Ни шумный успех этих
романов, ни популярность Уилки Коллинза, ни его твор-
ческое содружество с Диккенсом не спасали его от бо-
лезненных уколов неотвязчивой критики. Как бы оправ-
дываясь, Коллинз спешил заверить и критику и чита-
телей, что создание характеров он считает первейшей
обязанностью. «В романе,— писал он в предисловии
1861 года к «Женщине в белом»,— возможно удачно
вывести характеры, не рассказывая занимательной исто-
рии; однако невозможно удачно рассказать занима-
тельную историю, не выводя характеры: их наличие, как
факт реальности, является обязательным условием ус-
пешного повествования».
В 80-е годы в трактовке тех же проблем начинают
звучать иные ноты. По первому впечатлению может по-
казаться, что во мнении журнальной критики произошел
радикальный поворот: только что она отстаивала прио-
ритет характеров, теперь же свои надежды стала возла-
гать на сюжет. В защиту и прославление сюжета вы-
ступили молодые авторитеты, среди них Роберт Луис
Стивенсон. Однако стоит приглядеться к суждениям Сти-
венсона, как станет ясным, что они отнюдь не напоми-
нают колебание маятника: в них видно движение мысли,
подталкиваемое новым литературным опытом и обстоя-
тельствами времени.
279
Роман приключений невозможен без напряженной и
увлекательной фабулы, ее требует природа самого жан-
ра. Стивенсон разносторонне обосновывает эту мысль,
опираясь на психологию восприятия и классическую тра-
дицию, которая в английской литературе ведет начало
от «Робинзона Крузо». События, «происшествия», их уме-
стность, их связь и развитие должны, по его мнению,
составлять первоочередную заботу автора приключенче-
ского произведения. Психологическая разработка харак-
теров в приключенческом жанре попадает в зависимость
от напряженности действия, вызываемой быстрой сме-
ной неожиданных «происшествий» и необычных ситуа-
ций, оказывается невольно ограниченной ощутимым пре-
делом, как это видно по романам Дюма или Мар-
риэта.
Стивенсон с иронией отзывался о пристрастии к до-
тошному бытовизму, одно время получившему в Англии
распространение в повествовательной литературе и в
драме, особенно в пьесах, которые критика причисляла
к произведениям «школы чайной ложки и супницы».
«В наши дни,— писал Стивенсон в 1882 году,— анг-
личане, не знаю почему, склонны смотреть свысока на
происшествие» и с умилением прислушиваются к то-
му, «как постукивает в стакане чайная ложечка и дро-
жит голос священника. Считается хорошим тоном писать
романы вовсе бесфабульные или же с очень скучной
фабулой».
Стивенсон против тягучего и рыхлого описательства,
также как против скрупулезного, но вялого психологиче-
ского анализа. Он выступает в защиту сюжета, видя в
нем средство энергичного и целостного раскрытия ху-
дожественного замысла. Стивенсон с его чувством сти-
ля и гармонии частей, с его требованием профессио-
нально сделанной вещи, не терпит аморфного изложе-
нйя, он сторонник динамичного и занимательного по-
вествования. Однако, ратуя за событийный сюжет, Сти-
венсон не навязывает его произвольно всем жанрам по-
вествовательной литературы, он имеет в виду роман «ро-
мантический», тот его «условный» вид, отличающийся
свободным вымыслом, который англичане называют ro-
mance, и по преимуществу жанр приключенческого ро-
мана. Стивенсон меньше всего заботится об эффекте
внешнего действия, он стремится к тому, чтобы фабуль-
280
ное «происшествие» не нарушало психологической досто-
верности повествования. Необычно звучит афоризм Сти-
венсона: «Драма — это поэзия поведения, роман при-
ключений— поэзия обстоятельств». Интерес к «Робинзону
Крузо», самому выдающемуся образцу этого жанра,—
развивает он свою мысль,— «в огромной мере и у по-
давляющего числа читателей» вызывается и поддержи-
вается не просто цепью «происшествий», но «очарова-
нием обстоятельств».
В самом деле, лишь детские воспоминания выделя-
ют ощущение напряженной увлекательности фабулы
«Острова Сокровищ». Когда же ранние впечатления от
романа проверяются повторным знакомством с ним в зре-
лые годы, внимание сосредоточивается на иных чертах, и
сама фабула начинает выглядеть иначе. Интерес к ув-
лекательному приключению не пропадает, но очевидным
становится, что его вызывает не эффект чисто внешнего
действия. События в романе возникают и развиваются
соотносительно с обстоятельствами места и времени, и ав-
тор придает большое значение тому, чтобы эти возника-
ющие ситуации не были произвольными, а отвечали тре-
бованию психологической достоверности и убедитель-
ности.
Стивенсон не очень заботится о том, чтобы держать
читателя в таинственном неведении, и не склонен чистой
иллюзией подогревать его любопытство. Он не боится
предуведомляющих намеков относительно исхода собы-
тий. Такой намек содержится в словах Джима Хокин-
са, героя книги, в его словах о том, что он записал
всю историю по просьбе своих старших друзей; таким
образом сообщено, что основные участники приключений,
за судьбу которых приходится тревожиться читателю,
вышли из испытаний с торжеством. И вывеска тракти-
ра «Адмирал Бенбоу», проткнутая саблей разгневанного
Билли Бонса, след от которой, как подчеркивает, за-
бегая вперед, Джим, и «поныне виден», и подстрочные
примечания, сделанные доктором Ли-вси, где говорится
о том, что о некоторых событиях на острове узнали
позднее, а также другие детали,— все это последователь-
но нарушает таинственность будущего, столь будто бы
для приключенческого жанра важную и даже обязатель-
ную. Однако, предуведомляя читателя о ходе событий,
автор усиливает доверительный тон повествования, рас-
281
считывая на эффект достоверности. По-видимому, Сти-
венсон учитывал опыт Джорджа Мередита, который, раз-
вертывая сюжет, не боялся забегать вперед. В статье,
посвященной романам Дюма, обозначая задушевный
круг своего чтения, Стивенсон рядом с образцовым аван-
тюрно-приключенческим романом «Виконт де Бражелон»
ставит психологически изощренный роман Мередита
«Эгоист». Стивенсон мечтал написать книгу, в которой
бы достоинства остросюжетных романов Дюма соединя-
лись с достоинствами углубленно-психологических рома-
нов Мередита.
Переходы от эпизода к эпизоду в «Острове Сокро-
вищ» и в других приключенческих произведениях Сти-
венсона не всегда кажутся точно выверенными, но коль
скоро сюжетный поворот сделан, ситуация определена,
персонажи заняли исходные позиции, то все начинает
двигаться без нажима и скрипа, возникает живая кар-
тина событий и создается впечатление точности и пси-
хологической достоверности происходящего.
Важно учесть в связи с этим признание самого Сти-
венсона. В ответ на письмо Генри Джеймса с разбором
романа «Катриона» Стивенсон между прочим подчерк-
нул: «Справедливо ваше замечание относительно того,
что в этой книге ослаблено зрительное впечатление. Это
несомненно, и коль скоро я приложу к этому допол-
нительные усилия, а я так убежден в их необходимо-
сти, боюсь что в будущем это станет еще более
несомненным. Две мои основные цели можно опреде-
лить так:
1. Война прилагательному.
2. Смерть зрительному нерву.
Если считать, что мы переживаем в литературе эпо-
ху зрительного нерва. Сколько веков литература успеш-
но обходилась без него».
Автохарактеристика, как это нередко случается, мо-
жет противоречить творческой реальности, создаваемой
художником. Та# и со Стивенсоном в его бунте против
«прилагательного» и неприязни к «зрительному нерву»
не так просто согласиться, припомнив картины, им же
самим набросанные. Однако стоит присмотреться к этим
картинам, чтобы лучше понять позицию Стивенсона, и
надо иметь в виду, что он не пренебрегает замечани-
ями Генри Джеймса. Пояснив свои задачи в литератур-
282
ной технологии, он умерил воинственный тон словами:
«Все же я учту Ваше письмо».
Вот Джим Хокинс, спрятавшись в бочке из-под яб-
лок, подслушивает злодейский разговор непокорных мат-
росов. Они сговариваются захватить корабль, и эта но-
вость приводит Джима в отчаяние. Еще более непосред-
ственный ужас охватывает его, когда один из матросов
собирается подойти к бочке, чтобы достать оттуда яб-
лок. От этого рокового намерения его отвлекает случай-
ность, и он отправляется за бочонком рома для своих
дружков.
«Когда Дик возвратился, все трое по очереди взяли
кружку и выпили — один «за удачу», другой «за стари-
ка Флинта», а Сильвер даже пропел:
За ветер добычи, за ветер удачи!
Чтоб зажили мы веселей и богаче!
В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что
поднялся месяц, посеребрив крюйс-марс и вздувшийся
фок-зейл. И в то же мгновение с вахты раздался го-
лос:
— Земля!»
Как все здесь точно! Мы в самом деле слышим, ког-
да на палубе говорят, мы ловим движения и действия
пиратов, и вдруг ясно и ярко видим, как подымается
луна, освещая нутро пустой бочки, где притаился маль-
чик, и даже различаем проступающие из темноты крюйс-
марс и фок-зейл, хотя скорее всего представления не
имеем о том, как эти снасти выглядят. Наконец, все это
покрывает книжно-знакомый, а тут столь внезапный и
уместный, и убедительный зо*в — «Земля!»
Умение дать возможность услышать, если впечатле-
ние от реальности должно быть звуковым, увидеть, ес-
ли изображение должно стать картинным, причем, уви-
деть даже в том случае, когда перед взором встают
предметы ничем, как крюйс-марс и фок-зейл, в зритель-
ной памяти не помеченные, это умение, а точнее мысль
о подобном мастерстве составляет для Стивенсона не
просто заботу о нескольких выигрышных приемах, но
целую творческую программу.
«Война прилагательному» означает борьбу с одно-
мерным изображением, с наиболее распространенной и
283
принятой литературной техникой, которая приводит к
выразительности исключительно описательным путем.
Смерть «зрительному нерву» передает решительную не-
приязнь к натуралистической изобразительности, к до-
тошным копиям внешних форм. Стивенсон усиливает те
начала в повествовательном жанре, которые сближают
его с драмой,— диалог, энергично подвигающий сюжет,
и насыщенное событиями действие. Вместе с тем он
стремится установить гибкие и многосторонние связи
между изображаемыми явлениями, рассчитывая на под-
вижность ассоциативного восприятия и учитывая опыт
новейшей для него повествовательной техники.
Стивенсон создает, мы видим, картину, почти не при-
бегая к помощи «зрительного нерва», то есть без назой-
ливой апелляции к глазу, он не делает никакой уступ-
ки прилагательному — не определяет предметов по од-
ним внешним и статичным признакам; он подымает лу-
ну, дает свет, называет неведомые снасти, бросает кар-
тинный клич. Читатель воспринимает все как-то целост-
но — без предпочтения зрительным или слуховым впе-
чатлениям; во всяком случае он оказывается убежден
в достоверности происходящего. Заботясь о многомер-
ном движении стиля, Стивенсон добился немалого, и
здесь заключена одна из главных основ его долговре-
менного и «серьезного» воздействия на английскую ли-
тературу. «Серьезного» — в противоположность поверх-
ностному следованию его манере по части приключе-
ний, пиратов и пиастров, которое с легкостью распро-
странилось после завидного успеха «Острова Сокро-
вищ». Подражатели поддались на шутливые уверения
Стивенсона, будто он не преследовал в работе над этим
романом сколько-нибудь существенных литературных
задач. Между тем нельзя не заметить изощренности этой
книги: эффект совершенной достоверности на материа-
ле, вовсе не реальном. Взяв обстановку вымышленную,
так сказать, «бутафорскую», Стивенсон сумел вместе со
своими персонажами психологически правдиво вжиться
в нее. Уловив эту убедительность, Стивенсон движется
уже совершенно свободно в пределах вымысла, он лег-
ко ведет литературную «игру» и стоит ему произнести
«фок-зейл» как читатель готов верить, будто все понят-
но, подобно тому, как пираты оказались способны по
одним только выбеленным за многие годы костям при-
284
знать своего незадачливого соратника: «Э, да это Ал-
лардайс, накажи меня бог!»
Стивенсон улавливал ход развития повествователь-
ной техники и сумел создать несколько искусных лите-
ратурных «моделей». Без них не могли обойтись, их дер-
жали в своей творческой лаборатории многие писате-
ли — младшие современники.
Простая и легкая на вид книга «Остров Сокровищ»
при внимательном рассмотрении оказывается многопла-
новой. Авантюрный сюжет в ней при всей его тради-
ционности — повествование о пиратах, приключениях на
море и затерянном острове — оригинален. Он построен
по принципу увлекательной мальчишеской игры, вдохно-
вляемой энергичной мечтой и требующей от юного уча-
стника приложения всех своих сил. Герою романа Джи-
му Хокинсу, то ли подростку, то ли мальчику,— автор
не уточняет его возраст,— приходится не только само-
стоятельно ориентироваться в сложной обстановке при
неблагоприятных обстоятельствах, проявлять инициа-
тиву, идти на риск, напрягать мозг и мускулы, но так-
же делать нравственный выбор, определять жизненную
позицию. Им движет мечта, он предается ей с естест-
венной восторженностью, руководствуется высокими
чувствами и здравым соображением. Ему приходится
встречать лицом к лицу опасность, глядеть в глаза смер-
ти, прибегать к решительным и крайним мерам. Ему
же удается познать радость моральной и практической
победы.
Джим Хокинс являет собой образец характера цель-
ного, слаженного, устойчивого, не ослабленного и ма-
лейшей червоточиной. Смело-доверчивое и здраво-энер-
гичное, мужественное отношение Джима к жизни зада-
ет тон всей книге. И в ней не слышится ни назидатель-
ных интонаций, ни бодряческих ноток.
Пираты в «Острове Сокровищ» мало похожи на пи-
ратов традиционных. Некогда пиратство носило узако-
ненный характер, правители Англии находили в пиратах
поддержку для борьбы с флотами враждебных стран и
дополнительный источник пополнения казны. Пиратство
знало свои героические времена. Среди пиратов оказы-
вались не одни авантюристы и головорезы, но и люди,
преданные морской стихии, жаждавшие независимости
и свободы. Литература знает не только образ морско-
285
го хищника, но и «благородного корсара». В пиратской
теме сложилась романтическая традиция, идеализиро-
вавшая морского разбойника. Стивенсон и здесь идет
своим путем. Его пираты лишь вспоминают знаменито-
го Флинта, да и этот герой, главарь шайки морских
разбойников, представлен без розовой краски.
Ведь в самом деле, из «морских соколов», какими
еще можно вообразить пиратов в эпоху Возрождения,
они со временем превратились в грязных стервятников.
Когда, например, в начале XVIII века в руки право-
судия попалась личность не менее легендарная, чем
Флинт,— капитан Кидд, то он удивил всех своей зау-
рядностью. «Я знал, что он мерзавец,— даже с неко-
торым разочарованием сказал судья,— но не думал, что
он еще и дурак».
Джим Хокинс и его друзья сталкиваются с пира-
тами, вовсе лишенными романтического ореола и како-
го-либо исторического обоснования для их действий. Это
сущие мародеры, утратившие опору хотя бы разбойничь-
его сообщества. Почти все они воплощение мерзкого
негодяйства, злобного и хищного коварства. Джим в их
среде — «остров», «остров Сокровищ». И весь смысл его
приключений — в самом себе обнаружить истинные со-
кровища. Под конец в награду за труды и в итоге по-
беды он тоже получает долю пиратского наследства, но
она не занимает его. Другая «жар-птица» его манит,
и если он почувствовал ее свет, то только в порывах
самоотверженных исканий, о чем и поведал в своих во-
споминаниях, предупредив читателя, что не скрывает
«никаких подробностей, кроме географического положе-
ния острова».
Сочувствие Джиму и его друзьям, законным владе-
телям «Испаньолы», не мешает читателю среди всех пер-
сонажей выделить Джона Сильвера. Одноногий кора-
бельный повар, соратник Флинта, невольно обращает на
себя внимание. Джон Сильвер — значительная фигура в
«Острове Сокровищ» и в ряду самых ярких характе-
ров, созданных Стивенсоном. Этот персонаж остается
в памяти и будоражит воображение своей незаурядно-
стью. Джон Сильвер коварен, злобен, жесток, но в тоже
время умен, хитер, энергичен, ловок. Его психологиче-
ский портрет сложен и противоречив, однако убедите-
лен. Невозможно облечь в риторические формулы от-
286
влеченной морали подобную двойственность живого ха-
рактера. Писателя озадачивала и волновала деятель-
ная жизнеспособность зла и порока и их коварная при-
влекательность. С детства ему внушали религиозно-нрав-
ственные представления шотландских кальвинистов,
строгие и рассудочные, покоившиеся на принципе чет-
кого разделения добра и зла и безусловного воздаяния
за добро и возмездия за зло. Едва он обрел способ-
ность самостоятельного суждения, он стал выражать
сомнения и протест, но глубочайший интерес к нрав-
ственной сущности человека сохранился у него на
всю жизнь.
Уже в ранние годы Стивенсона занимала проблема
усложненного характера, душевные противоречия и кон-
трасты, явления затемненности и раздвоенности созна-
ния, смещавшие религиозно-нравственные представле-
ния о добре и зле. В середине 70-х годов он замыш-
лял написать книгу «таинственных» рассказов или рас-
сказов-«ужасов». Тогда замысел не был осуществлен, и
Стивенсон вернулся к нему лишь спустя шесть лет. На-
мечено было название: «Черный человек и другие рас-
сказы» (образ «черного человека» связан с народными
поверьями, с представлением о «нечистой силе»). И на
этот раз книга не получилась, но несколько расска-
зов все же было написано. Первый из них, «Окаянная
Дженет», появился в октябре 1881 года. К этому же
циклу относится рассказ «Веселые Молодцы». Он был
напечатан в журнале Корнхилл^ в июньском и июль-
ском номерах за 1882 год, а затем, в 1887 году, в сбор-
нике рассказов под тем же заглавием.
Стивенсону был дорог рассказ «Окаянная Дженет»
его народными шотландскими мотивами, развивая ко-
торые, писателю удалось убедительно передать случай
драматического душевного состояния и его загадоч-
ность, передать в таком соотношении элементы фанта-
стического и реального, когда реальное вдруг представ-
ляется фантастическим, а фантастическое реальным и,
вместе с тем, не утрачивается ощущение подлинности
происходящего. Стивенсон говорил, что он сам пережи-
вал состояние «смертельного» испуга, когда воспроизво-
дил жуткие события и обстоятельства, в которых отра-
зился дикий быт, мрачное поверье, суровая обстанов-
ка. Он ставил «Окаянную Дженет» рядом с «Тодом
237
Лапрайком», с этим «кусочком живой Шотландии», как
он называл написанную им на основе шотландской ле-
генды «вставную новеллу» — «Рассказ Черного Энди о
Тоде Лапрайке» (см. первую часть романа «Катриона»).
Если бы, говорил он, «я не написал ничего, кроме
«Тода Лапрайка» и. «Окаянной Дженет», все же и тог-
да я был бы писателем».
Рассказу «Веселые Молодцы» необычайно высокую
оценку дал Ричард Олдингтон. Он считал его произве-
дением «подлинно трагическим и великолепно написан-
ным от начала и до конца». Хотя бы в одном направ-
лении Стивенсон «сделал здесь шаг вперед, по сравне-
нию с прозаиками своего времени. Может ли кто-либо,
читавший «Веселых Молодцов», забыть содержащееся
там описание бури?» Бури на Шетландских островах,
которая предшествует «Тайфуну» Джозефа Конрада.
Превосходное описание бури читатель находит у Тома-
са Гарди, в его романах «Вдали от обезумевшей тол-
пы» и «Возвращение на родину». Но это буря на суше,
а не на море, о чем и говорит Олдингтон, "мнение ко-
торого интересно уже в том отношении, что еще раз
подтверждает разностороннее историко-литературное
значение Стивенсона.
Сборник «Веселые Молодцы» объединил близкие по
психологическим и этическим мотивам рассказы разных
лет. Сюда вошли «Уилл с мельницы», а также более
поздние, появившиеся в периодических изданиях 1885 го-
да: «Маркхейм» и «Олалла».
В 1885 году Стивенсон прочитал во французском
переводе роман Достоевского «Преступление и наказа-
ние». Русский роман произвел на английского писате-
ля потрясающее впечатление необычайно смелым и глу-
боким обсуждением нравственных проблем, столь близ-
ких интересу самого Стивенсона и представших теперь
перед ним в отчетливой форме. Под непосредственным
впечатленим от романа «Преступление и наказание»
и был написан психологический этюд «Маркхейм», более
известный нашему читателю под названием «Убийца».
От «Маркхейма» открылся прямой путь к повести
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»,
так же как от рассказа «Олалла» — к роману «Вла-
детель Баллантрэ».
288
В краткой исповеди, завершающей повесть «Стран-
ная история», ее герой, почтенный добропорядочный док-
тор Генри Джекил, рассказывая о трагических послед-
ствиях фантастического опыта по расщеплению собст-
венной личности, поясняет за автора суть волновавшей
его проблемы.
Тяготясь повседневной рутиной, испытывая соблазн
скрытых желаний, намереваясь определить грань меж-
ду добром и злом в собственной душе и проверить проч-
ность ее добродетельной основы, доктор Джекил посред-
ством изобретенного им чудодейственного химического
препарата обособляет темные ее силы. На свет явля-
ется двойник доктора Джекила — уродливый карлик ми-
стер Хайд, предоставляющий своему патрону возмож-
ность пережить захватывающее чувство полной внут-
ренней собранности. Мистер Хайд обнаруживает пора-
зительную и заманчивую жизнеспособность, необычайно
деятельную энергию, направленную, однако, исключи-
тельно к злодеяниям. Мистер Хайд с наглядностью точ-
но поставленного эксперимента демонстрирует потенцию
дурных свойств доктора Джекила. В облике мистера
Хайда он действует с решимостью автомата, не испы-
тывая колебаний, нравственных сомнений или мук со-
вести. Совершенная слаженность его существа оказы-
вается не одухотворенной, а чисто механической сла-
женностью. В облике мистера Хайда доктор Джекил
совершает преступление за преступлением, питая в се-
бе только два чувства — страх и злобу. Повторяя свои
опыты, доктор Джекил все более попадает под власть
мистера Хайда, пока, наконец, не становится его жерт-
вой. Вдумчивый читатель угадывал реальную сторону
этой мрачной притчи. Прозревать ее живой смысл по-
буждали его точно воспроизведенные в повести черты
лондонского быта 80-х годов.
Для самого Стивенсона повесть «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда» явилась почти не-
произвольным иносказанием давно переполнявших его
чувств, сюжет и образы возникли у него во сне, кар-
тина сложилась в столь отчетливых и детализирован-
ных формах, что ему оставалось перенести ее на бума-
гу. Стивенсон писал американскому художнику Уилья-
му Г Лоу, отправляя ему экземпляр своей повести:
«Посылаю Вам готического карлика... думаю, что этот
10 М. В. Урнов
289
карлик небезынтересен, он вышел из глубины моего су-
щества, где сторожит фонтан слез». Повесть о Джекиле
и Хайде сразу стала предметом широкого обсуждения
и, по сло*вам современника, литератора Эдмунда Госса,
с момента ее появления «Стивенсон, уже пользовавший-
ся восхищенным признанием сравнительно узкого круга,
стал занимать центральное место в большом мире ли-
тературы».
В «Джекиле и Хайде» тему двойника Стивенсон раз-
работал в приемах научной фантастики и детектива,
оказав влияние и на эти литературные жанры, на их
развитие в английской литературе. Можно, например,
«Невидимку» Герберта Уэллса ставить в определенную
связь с этой повестью Стивенсона.
«Странная история доктора Джекила и мистера Хай-
да» была опубликована в январе 1886 года. Прошло
всего несколько месяцев, и уже в мае (в журнале «Янг
Фолкс») появились первые главы «Похищенного» (в том
же году роман вышел отдельным изданием). Некоторых
биографов Стивенсона поражала подобная смена твор-
ческих замыслов. «Два произведения, столь различные
по своей сути, редко выходили из-под пера одного и
того же автора даже в гораздо более продолжитель-
ные промежутки времени»,— писал Стивен Гвинн, автор
монографии «Роберт Луис Стивенсон», получившей от-
клик и в нашей печати. Все же несхожесть этих про-
изведений не так разительна, как можно подумать. «По-
хищенного» соединяет с «Джекилем и Хайдом» внутрен-
няя связь, не только «подчеркнутое внимание к нрав-
ственным вопросам» и «трезвая выразительность стиля».
В «Похищенном» и его продолжении, романе «Катри-
она», те же основные вопросы обсуждаются вновь и
вновь. Стивенсон рассматривает их с разных сторон, и
уже не в условном плане. Его все более начинает ин-
тересовать историческая перспектива, он обращается к
прошлому своей страны, к тем событиям и обстоятель-
ствам, которые резко изменили ее социальный и поли-
тический облик: XVIII век, обострившаяся борьба Шот-
ландии с Англией за независимость. Более далекие вре-
мена, эпоху вражды Алой и Белой Роз (XV столетие),
Стивенсон описал в первом своем историческом романе
«Черная стрела», над которым он, готовя его для жур-
нала «Янг Фолкс», работал еще в 1884—1885 годах.
290
Отдельным изданием «Черная стрела» вышла уже в
1888 году. Стивенсон находился тогда в США, куда
приехал еще раз на непродолжительный срок.
«Я отправляюсь в путешествие с горьким сердцем»,—
писал Стивенсон близкому другу Чарльзу Бакстеру в
мае 1888 года, когда он вместе с Фанни и ее детьми
готовился отплыть из Сан-Франциско к тихоокеанским
островам. Такое состояние писателя не было кратковре-
менным, и причин у него имелось несколько, но в ту
минуту все сошлось на одном — вместе с дальнейшим
устройством семьи и домашними планами назрел раз-
рыв между Стивенсоном и Хенли. Это была не только
потеря советчика и сотрудника; это открылся рубеж, от-
секающий полосу жизни — все прошлое, всю молодость.
Стивенсон делился с Бакстером под непосредственным
впечатлением письма от Хенли: «О, письмо Хенли! Я не
могу прийти в себя после него». Однако вопрос заклю-
чался не только в Хенли и его бесцеремонности. Как
для ссоры с ним или с другими близкими приятеля-
ми, нараставшей исподволь, нашелся в итоге заметный
повод, так и сама размолвка лишь выражала процесс
более глубокий и неотвратимый. Мы по нашей литера-
туре, начиная с пушкинской переписки и соответству-
ющих глав «Былого и дум», можем проследить, как
распадаются связи юности, дружеские кружки и что зна-
чит это для их наиболее сознательных участников. Ес-
тественно в расцвете сил бросать гордый вызов: «Ку-
да бы нас ни бросила судьбина и счастие куда б ни
повело, все те же мы»,— и также естественно под на-
тиском лет и обстоятельств признать эпохой позже:
«Прошли года чредою незаметной, и как они переме-
нили нас!» Пушкин оборвал рыданием чтение этих по-
следних в его жизни стихов о «лицейской годовщине»...
И Стивенсон бился в конвульсиях: «Да, да, я пишу
об этом ночь напролет, несмотря на всю пропасть ра-
боты, которая у меня на руках, и все за девять дней
до отъезда... Это камень на моей могиле, мне никогда
не вернуться по-настоящему к жизни. О, я говорю ди-
кие вещи, но прежнего уже больше не будет». Стивен-
сон чувствовал свое бессилие остановить неумолимо ра-
стущую трещину или хотя бы уловить и учесть причины,
10* 291
побуждающие ее рост. Причины были неисчислимы, как
сама жизнь, ее оттенки, а главное, как неуловимо че-
редование приобретений и утрат, которое сопровождает
жизненное движение. Наиболее беспристрастные и вдум-
чивые биографы впоследствии вполне объективно восста-
новили цепь событий: «Напористость Фанни подготови-
ла почву. Коварство Хенли подыскало случай. И мед-
ленный до воспламеняемости характер Стивенсона дал в
конце концов взрыв». Но это только внешние вехи, а там,
в глубине, в человеческих натурах, прежде всего в са-
мом Стивенсоне определялся новый этап его судьбы.
Тот же Фернес справедливо отметил, что ссора с Хен-
ли значительно продвинула Стивенсона к зрелости.
И сам Хенли, что бы ни хотел он этим сказать, засви-
детельствовал много лет спустя, уже после смерти Сти-
венсона, что в ту пору «Луис стал не тот».
«Стал не тот». И Стивенсон, переживая в себе пе-
ремену, но не находя ей еще ни объяснения, ни на-
звания, и потому особенно ошеломленный, испытывал
специфическое состояние душевной муки, переходящей в
телесную боль: «Я бы ногу ему отдал ради того, что-
бы зачеркнуть то, что случилось» (у Хенли была ампу-
тирована одна нога, а другая с трудом спасена). Но
прошлое было невозвратно, и Стивенсон, ступая на борт
яхты «Каско», готовясь отбыть к незнакомым ему бе-
регам, в самом деле держал курс на новые рубежи,
устремлялся к какой-то другой жизни. Состояние его
было смутно, тягостно. «Лучше всего,— писал он Бак-
стеру,— если бы «Каско» вместе со мной пошла ко дну.
Ведь осталось дьявольски мало такого, ради чего стои-
ло бы жить».
Но вот Америка скрылась за гребнем волн, и мало-
помалу новизна морских впечатлений стала отвлекать
Стивенсона от свежих его тревог. Предстояло увидеть те
острова, где плавал и погиб знаменитый Кук, где рус-
ские кругосветные мореплаватели оставили на карте
имена своей родины, где странствовал Герман Мелвилл,
а потом написал об этих краях в «Тайпи» и «Ому»,
где чуть позже Стивенсона, но в ту же собственно по-
ру искал пристанища тогда еще не признанный фран-
цуз Поль Гоген, где потом вел «Снарка» Джек Лон-
дон. Хуан-Фернандес, «остров Робинзона Крузо», лежал в
тех же водах, в неделях пути под парусом, как подтвер-
292
цил это отважный Джоуша Слокам, шедший по следам
своих прославленных соотечественников и соединивший
удивительным маршрутом их судьбы. Словом, за два
года, сменив три судна, Стивенсон посетил несколько
архипелагов Тихого океана: на «Каско» — Маркизские,
Паумоту (ныне Туамоту) и Гавайские острова, на «Эк-
коль» — острова Гильберта и Самоа, на «Женет Ни-
коль»— Маршальские острова, Новую Каледонию. Бо-
лее или менее продолжительные стоянки они делали в
Сиднее, Нумеа и, наконец, на Самоа.
Впечатления просились на бумагу. «Я слышу, как
мой дневник взывает ко мне: «Пиши, пиши!» — сообщал
Стивенсон Чарльзу Бакстеру.— У меня получится пре-
красная книга путешествий, в этом я чувствую уверен-
ность». Стивенсону казалось, что он сумеет рассказать
об океане и об островах так, как не удавалось еще ни-
кому из писателей. Один только Мелвилл, создатель
«Моби Дика», считался у него серьезным соперни-
ком. Стивенсон чувствовал себя настолько обновленным,
что посылал сердечный привет Бобу Стивенсону (двою-
родному брату), Симпсону и Хенли — прежним дру-
зьям, с которыми у него поочередно наступал разрыв.
Писал он, как обычно, много, почти непрерывно, вы-
полняя договор с американскими газетами.
Однако не тропические моря послужили Стивенсону
основой наиболее значительного произведения, завер-
шенного им в пору океанских странствий. Морская сти-
хия освежила его, с воспрянувшими силами он мыслен-
но вернулся в родную Шотландию и к сентябрю 1889 го-
да закончил рукопись, которую уже не раз с безна-
дежностью прятал в стол — «Владетель Баллантрэ».
У почитателей Стивенсона к его вещам встре-
чаются различные, подчас весьма неожиданные пристра-
стия. Сам Стивенсон менял симпатии к своим произ-
ведениям. Если же взглянуть на его наследие с более
постоянной, историко-литературной точки зрения, то, бе-
зусловно, рядом с «Островом Сокровищ» и «Доктором
Джекилом и мистером Хайдом» окажется «Владетель
Баллантрэ». Многие находят этот роман чересчур мрач-
ным, безрадостным. Но это взгляд субъективный, так
сказать любительский. Между тем и в творчестве Сти-
венсона и в английской литературе вообще место «Вла-
детеля Баллантрэ» определилось почти сразу. Тогда же,
293
с выходом книги в свет, рецензент журнала «Бук Байер»
писал: «В своем последнем романе «Владетель Баллант-
рэ» Стивенсон достиг для себя, кажется, высшего уров-
ня. Я осмелился бы пойти дальше и утверждать, что
ни одно из новейших беллетристических произведений
на английском языке нельзя расценить столь высоко по
шкале литературных достоинств, как это».
В романе соединились две темы, особенно глубоко
занимавшие Стивенсона: границы добра и зла в чело-
веческой природе и шотландская история. От ранней
новеллы о беспутном Франсуа Вийоне к жутким опытам
доктора Джекила Стивенсон сам, подобно дерзкому эк-
спериментатору, вновь и вновь соединял и по-разному
дозировал злое и доброе в своих персонажах, присталь-
но наблюдая за результатами. Этим объясняется и его
столь живой отклик на Достоевского. «Искалеченная
даровитость», которую Стивенсон считал наиболее при-
мечательным и вместе с тем опасным свойством старого
приятеля — Хенли и которую он воплотил в памятной
фигуре одноногого Сильвера, на этот раз в обличье бо-
лее привлекательном и еще более опасном, выразилась
в хозяине поместья Баллантрэ. Прежде для подобных
экспериментов Стивенсон выбирал обстановку условную
и главным образом случайную. Теперь же он встал на
почву, ему хорошо знакомую и близкую.
Стивенсон воспроизвел прибрежные районы Шотлан-
дии у Ирландского моря, где некогда много бродил.
Свое повествование он отнес к середине XVIII столетия.
И в судьбах, в характерах главных героев романа, двух
братьев-соперников, сыновей лорда Дэррисдира, говори-
ло шотландское прошлое. Сила, дьявольская удачливость
и порочность одного, нравственная, но какая-то без-
жизненная натура другого, их путаные права на-
следства и неразрешимое пересечение чувств к одной
женщине,— весь клубок проблем Стивенсон признавал
типично шотландским. «Мой роман — трагедия»,— гово-
рил, он, работая над «Владетелем Баллантрэ». Корни
этой трагедии Стивенсон собирался проследить глубоко:
в семейном укладе шотландцев, в традициях шотланд-
ского пуританизма, в чертах национального характера.
«Все это в моем давнем вкусе»,— признавался он.
И Стивенсон горячо поначалу принялся за роман —
еще в Америке. «Четыре части из шести или семи на-
294
писаны и отправлены Издателю»,— сообщал он. Уже го-
товилась журнальная публикация «Владетеля Баллант-
рэ», когда Стивенсон оборвал над ним работу. Замысел
оказался слишком усложненным, и дело дальше не дви-
галось. «Пять частей ясная, человеческая трагедия, по-
следние же части, одна или две, печально сознавать-
ся, вырисовываются не столь ясно. Я даже сомневаюсь,
стоит ли их писать. Они очень красочны, но фантастич-
ны. Они путают и, я бы сказал, снижают начало»,—
жаловался Стивенсон искушенному авторитету в литера-
турной технике — Генри Джеймсу. Перерыв был доволь-
но длительным, и только на борту «Экватора» Стивен-
сон смог продолжить «Владетеля Баллантрэ».
То, что в свое время потребовало от Стивенсона
особых усилий, весь искусно сконструированный им ме-
ханизм повествования, а также всевозможная «фантас-
тика», вроде неоднократного воскрешения из мертвых
старшего брата, теперь, хотя и выглядит по-прежнему
красочным, но все-таки кажется несколько бутафорским.
Зато психологический конфликт, схваченный автором
«Владетеля Баллантрэ», и направление, в котором Сти-
венсон стремился найти истоки семейной драмы Дэр-
рисдиров, оказались принципиально новы и плодотвор-
ны: вот почему у новейших писателей нередко упоми-
нается этот роман.
За время плавания совершилось важное событие в
жизни Стивенсона и его семьи: в декабре 1889 года
Стивенсон приобрел на острове Уполу (архипелаг Са-
моа) участок земли в двадцать гектаров, и на нем бы-
ло начато строительство дома. Уполу с городом Апиа —
наибольший из Самоанских островов. На нем тогда на-
считывалось около трехсот белых, из которых примерно
две трети составляли англичане и американцы. (Архи-
пелаг Самоа находился под тройным протекторатом —
английской короны, Соединенных Штатов и Германии.)
Через Апиа в Сидней было налажено ежемесячное со-
общение пароходом. Земля и строительство здесь были
дешевы. Эти обстоятельства определили выбор Стивен-
сона, хотя сам по себе остров ему не очень понравил-
ся, и, например, Маркизы, Таити произвели на него го-
раздо большее впечатление. В этом смысле Стивенсон
отличался от Гогена, на которого вначале не подейст-
вовала и экзотика. «Все та же Европа,— писал Гоген
295
о Таити 1891 года,— Европа, от которой я хотел изба-
виться, да еще ухудшенная колониальным снобизмом,
каким-то подражанием, детским и комичным до карика-
туры. Это совсем не то, из-за чего я приехал так из-
далека»7. Потом Гоген несколько «отошел» и смягчил-
ся: «Цивилизация мало-помалу уходит от меня. Я начи-
наю мыслить просто, испытывать очень мало ненави-
сти к моим ближним, лучше того — начинаю любить их.
Я обладаю всеми радостями свободной жизни...».
Стивенсон не был человеком истерических крайно-
стей, и хотя от его взора не ускользнул тот же «ко-
лониальный снобизм», который удручал Гогена, все-та-
ки он смотрел с надеждой на новые берега. Его здо-
ровье стало крепче, он успешно работал, и это давало
ему основание называть себя «вполне довольным остро-
витянином Южных морей».
Прошел, впрочем почти год, прежде чем Стивенсон
получил возможность окончательно обосноваться на Са-
моа: за это время продвинулась постройка дома, а Сти-
венсон и Фанни между тем совершили на «Жанет Ни-
коль» третье из своих плаваний. Тут Стивенсон чуть бы-
ло не понес очень чувствительную потерю: при отходе
из Сиднейского порта на корабле от фейерверочных ог-
ней начался пожар, загорелся и сундук из бага-
жа Стивенсона. Матрос собрался выбросить его, но его
вовремя остановили: в сундуке были все рукописи!
Но вот в октябре 1890 года Стивенсон впервые при-
ветствовал Чарльза Бакстера «добрым утром» из «но-
вого адреса». Адрес был: Вайлима, Апиа, Самоа. Вай-
лима, то есть Пятиречье,— так называлось владение Сти-
венсона на океанском берегу у подножья горы Веа, не-
подалеку от Апиа. Дом, правда, не был еще закончен,
но уже обрел не только основание, а и четкие конту-
ры — мирок, который друзья обозначили «Стивенсонией».
«Вид этих лесов, гор и необыкновенный аромат об-
новили мою кровь»,— говорит торговец Уильтшир из рас-
сказа «Берег Фалеза». И это признание самого Стивен-
сона. Здесь же сходство между ними и кончается. Уиль-
7 Цит. по кн.: А. С. Кантор-Гуковская. Поль Гоген. М.— Л., «Совет-
ский художник», 1965, стр. 102.
296
тшир в дальнейшем переживает на острове различные
приключения: любовь, соперничество и пр. Ничего, хоть
сколько-нибудь подобного, не случалось на Самоа со
Стивенсоном. Его жизнь была напряженна и однообраз-
на— он писал. Теперь уже в буквальном и полном смы-
сле— непрерывно писал. Стивенсон подымался в пять-
шесть утра и работал до полудня, потом следовал пе-
рерыв, и с пяти вечера он снова садился за письмен-
ный стол. Отдыхом ему служили: флейта, чтение вслух
в семейном кругу и прогулки верхом. Так изо дня в
день. К этому следует добавить, что на первых порах
Стивенсон вместе со всем своим семейством помогал стро-
ить дом, вырубать кругом лес и т. д. Но, в общем —
свидетельствуют очевидцы — почти вся его жизнь про-
ходила в кабинете. Лишь два раза за весь самоанский
период Стивенсон отлучался из дома так далеко, что
ночевал не под крышей Вайлимы.
Художественные произведения, политические статьи
о положении на Самоа, обширная переписка, которая
сама по себе есть значительный литературный труд,—
таков был объем работы Стивенсона.
За какой из литературных жанров ни взялся бы
Стивенсон, он создавал в этом роде нечто классиче-
ское. Его книги путевых очерков положили начало це-
лой традиции. Он написал образцовый приключенческий
роман. Точно также принадлежит ему несколько перво-
классных стихотворений, ставших хрестоматийными. Кто
не знает с детства «Верескового меда»? В зрелом воз-
расте даже странно узнавать, что это написал Р. Л. Сти-
венсон или вообще кто-либо написал! Кажется, будто
эта баллада существовала всегда, что пришла она к
нам из неведомой дали веков: столь «настоящей» сде-
лал ее Стивенсон.
Писатель внимательно, а подчас с известной ревно-
стью следит за новыми литературными именами и яв-
лениями. Среди его корреспондентов крупные писате-
ли— Джордж Мередит, Генри Джеймс, Конан Дойль,
Р. Киплинг, Дж. М. Барри, критики Эндрю Ланг и Эд-
мунд Госс. Его слава, а вместе с тем и благосостоя-
ние подымаются высоко. «С тех пор, как Байрон нахо-
дился в Греции,— писал ему Эдмунд Госс,— ничего не
привлекало такого внимания к обычному литератору,
как ваша жизнь в тропических морях».
297
Это, конечно, опасный для писателя уровень попу-
лярности: когда его личность и быт начинают привле-
кать читающую публику больше, чем его произведения.
«Для романтического писателя не может быть худшей
обстановки, чем романтическая, вот что стало ясно для
меня,— рассуждал Оскар Уайльд под впечатлением от
публицистической книги Стивенсона «Примечание к ис-
тории» (о самоанских событиях).— Живи Стивенсон на
улице Гоуэр, он мог бы написать книгу вроде «Трех
мушкетеров», между тем на острове Самоа он писал
письма о немцах в «Таймс». Прославленный парадок-
салист думал так, сидя за решеткой в Редингской тюрь-
ме (через два года после смерти Стивенсона) и, долж-
но быть, не зная как следует его последних книг. Да
они тогда еще не все, в частности романы «Сент-Ив»
и «Уир Гермистон», были опубликованы. В одном все-
таки, сам опять же того не зная, уловил Оскар Уайльд
существенный для Стивенсона мотив: как ни благопри-
ятно складывалась жизнь писателя в красочных краях,
душой его тянуло домой, в Шотландию.
«Немного остается в памяти за всю жизнь, дорогой
Чарльз,— писал Стивенсон Бакстеру в августе 1890 года
из гостиницы «Севастополь» в Ноумеа.— Когда огляды-
ваешься на, казалось бы, яркую вереницу прежних дней,
они мелькают один за другим, вспыхивая и тут же уга-
сая, а в конце концов, словно во вращающемся калей-
доскопе, составляют некий однообразный тон. Лишь не-
которые вещи остаются сами по себе, и вот среди них
мне всегда особенно ясно видится — Ретланд Сквер».
Так что Стивенсон по-своему стремился на «улицу Гоу-
эр», и, не имея практической возможности попасть сно-
ва в родные места, он постоянно возвращался туда мы-
сленно — в своих книгах.
«Я дьявольски много работаю,— извещал он Генри
Джеймса на рубеже 1891 —1892 гг.— За двенадцать ме-
сяцев истекшего года я завершил «Потерпевших кораб-
лекрушение», написал весь, за исключением первой гла-
вы, «Берег Фалеза», значительную часть «Истории Са-
моа» (что потом называлось «Примечание к истории»),
сделал кое-что для «Жизнеописания моего деда» (в даль-
нейшем «Семья инженера»), а также начал и закон-
чил «Дэвида Бэлфура» («Катриона»). Как вам покажет-
ся для одного года? С тех пор я, надо признаться,
298
йочТи ничего Не сделал за исключением йёрноВогй й^*
броска трех глав нового романа «Слуга правосудия»
(будущий «Уир Гермистон»)...»
Исследователи Стивенсона обратили внимание на то,
что наиболее крупные свои произведения, созданные во
время океанских странствий и жизни на Самоа, он на-
писал о Шотландии. «Когда-то в молодости,— не без
иронии заметил один его биограф,— у него не было вре-
мени заглянуть в Эдинбургскую библиотеку, зато те-
перь, из Вайлимы, он постоянно просит друзей высылать
ему оттуда книги по шотландской истории». «Здесь, вда-
ли, я пишу, занятый мыслями о моем народе и моей
родине»,— говорилось в посвящении, предпосланном
«Уиру Гермистону». Даже «Потерпевшие кораблекруше-
ние», роман странствий, роман, начинающийся и окан-
чивающийся на островах Океании, все-таки уводит чи-
тателя к Эдинбургу и Парижу.
«Потерпевшие кораблекрушение» — книга в сущно-
сти автобиографическая. Сквозь все приключения, кото-
рых Стивенсон как истинно романтический писатель (со-
гласно парадоксальной логике Уайльда) сам никогда не
переживал, проступает схема его сознания и вырисо-
вывается чуть смещенная, но в принципе выдержанная
география его судьбы: Эдинбург, Париж, Сан-Франци-
ско, Маркизские острова, Самоа... На страницах романа
эти названия появляются в несколько иной последова-
тельности, как и герой книги Лауден Додд, по крови
шотландец, но по рождению американец. Все-таки шот-
ландец — это, конечно, не случайно и существенно,
а главное ведь и другой персонаж — Джим Пинкертон —
американец, однако американец в полной мере, и сразу
видна между ними разница: это Стивенсон через Лау-
дена Додда вновь и вновь затрагивает столь важную
для него самого проблему расставания с родиной, со-
прикосновения с американской психологией и особен-
но проблему призвания. Тут же как бы фоном разви-
вается общественная линия книги: «Дух нашего века,
его стремительность, смешение всех племен и классов
в погоне за деньгами, яростная и по-своему романти-
ческая борьба за существование, с вечной сменой про-
фессий и стран...»
Так что же, если фигура Лаудена — символ, то, ста-
ло быть, сам автор — «потерпевший крушение»? Пря-
299
Молинедно, разумеется, нельзя судить, но, безусловно, в
книге много суровых авторских признаний и даже при-
говоров Стивенсона самому себе.
— «В юности я был во всем привержен идеалам сво-
его поколения»,— говорит Лауден Додд, разумея моло-
дежь интеллигентную, творческую, мечтавшую об успе-
хах в искусстве, о высоком артистизме, о независимо-
сти духовной и материальной. Со временем рамки
профессионализма, хотя бы истинно творческого и без-
упречного, кажутся ему слишком узкими. «Те, кто трудит-
ся в кабинетах и мастерских, возможно, умеют создавать
прекрасные картины и увлекательные романы, но им не
следует позволять себе судить об истинном предназна-
чении человека, ибо об этом они ничего не знают». Труд-
но не увидеть тут же, что в устах недоучившегося ди-
летанта и неудачливого дельца, каким обрисован в
романе Лауден Додд, подобные суждения звучат мало-
естественно. Тем заметнее, что это .передано Лаудену
Стивенсоном от себя. Однако Лауден продолжает: «Ес-
ли бы я мог, то захватил бы с собой на остров Ми-
дуэй всех писателей и художников моего времени. Я хо-
тел бы, чтобы они испытали все то, что пришлось ис-
пытать мне: бесконечные дни разочарования, зноя, не-
прерывного труда, бесконечные ночи, когда болит все
тело, и все-таки ты погружаешься в глубокий сон, вы-
званный физическим утомлением. Я хотел бы, чтобы
они... услышали пронзительные крики бесчисленных мор-
ских птиц, а главное, испытали бы чувство отрезанно-
сти от всего мира, от всей современной жизни — здесь,
на острове, день начинается не с появления утренних
газет, а с восходом солнца»... Как видно, Стивенсон
через посредство своего героя прописывает коллегам-
литераторам рецепт, им на собственном опыте испро-
бованный.
Оскар Уайльд, судя по всему, «Потерпевших кораб-
лекрушение» не читал, однако, кажется, будто прямо
против этих программных тирад Стивенсона направле-
на его мысль, вызванная, впрочем, чтением Стивенсона
же, только другой его ;книги — писем о Самоа. Уайльд
нашел эту публицистику неудачной, она, по его мнению,
свидетельствовала о творческом упадке Стивенсона в
его поздний период и в связи с этим Уайльд рассуж-
дает: «Я вижу, какой страшной борьбы стоит вести ес-
300
тественную жизнь. Кто рубит Дрова — для себя или для
пользы других—тот не должен уметь описывать это.
Ведь естественная жизнь в действительности — бессоз-
нательна... Если бы я и провел остальную часть жизни
в кафе, читая Бодлера, все же она будет для меня бо-
лее естественной, чем если бы я стал чинить заборы
или сажать какао в топком болоте».
Два крупных писателя, две этапные фигуры, замы-
кающие собой историю английской литературы XIX сто-
летия, говорят вещи противоположные, но стоят перед
одной проблемой — писатель и жизнь, творец и мате-
риал его труда в эпоху, когда литературное творчество
окончательно и полностью сделалось профессией, собст-
венно ремеслом, средством существования наряду со все-
ми прочими занятиями. Творческая жизнь Шекспира,
как поэта и драматурга, была, надо думать, не менее
напряженной и насыщенной, чем у писателей конца про-
шлого века. Однако автор «Гамлета» жил главным об-
разом не литературой, он преуспевал как хозяин теат-
ра, а драматургия в этом, практическом смысле не мог-
ла еще в ту пору служить основным источником дохода.
Но как быть Стивенсону, если именно гонорар за «По-
терпевших кораблекрушение» и только гонорар, дал ему
возможность завершить постройку дома в Вайлиме? Как
ему быть, если та жизнь, которую он ведет с семьей
на Самоа, требует от него фактически безостановочного
писания? Где взять для этого силы и, наконец, запас
наблюдений? Должен ли писатель новейшего времени
уподобиться пауку и, забившись в угол, тянуть из себя
нескончаемую паутину, поджидая тем временем какую-
нибудь случайную жертву, чтобы поглотить ее, и она пой-
дет на изготовление все той же паутины? Но сколь од-
нообразно-серой получится нить! Следует ли художнику
идти на риск и где-то искать новизны ради накопле-
ния внутреннего багажа? Но когда и как, если творче-
ский труд должен быть размеренным и регулярным, как
всякая заурядная служба,— иначе нельзя будет этим
трудом существовать?
Вопрос возник не во времена Стивенсона и Уайль-
да. Творческий профессионализм всегда являлся пробле-
мой, но именно на исходе прошлого века эта, как и
многие другие извечные проблемы, приобрела характер
исключительно масштабный, массовый, и почти каждый
301
человек, серьезно берущийся за перо, вынужден был ре-
шать ее для себя.
Кажется, совсем недавний предшественник Стивен-
сона и Уайльда — Диккенс не знал таких проблем. Его
недаром называют «невежественным великаном»: он со-
здавал роман за романом, будто и не задумываясь, как
это у него выходит. Но то лишь кажущееся неведение.
Он преодолевал все трудности величием — иначе, чем
способны были писатели, более поздние, более скром-
ные, которых литература, как особая сфера жизни, по-
глощала целиком. Стивенсон и Уайльд будто бы проти-
воречат друг другу, а на самом деле предлагают одно
и то же — жизненный эксперимент. Уайльд признает
лишь эксперимент над собой и внутри себя, и — изве-
стно — это привело его к нравственному падению и за
решетку, из-за которой он пытался со Стивенсоном за-
очно полемизировать. Стивенсон, прокладывая и в этом
направлении путь для многих писателей нашего време-
ни, звал и в прямом и переносном смысле «странство-
вать». Но тут вспоминается сомнительное одобрение, вы-
сказанное ему критиком, одобрение той популярности,
которую он стяжал благодаря своему необычному об-
разу жизни. Легенда вокруг личности писателя часто
кладет конец серьезному воздействию его книг. С дру-
гой стороны, писатель, сколько-нибудь способствующий
развитию легенды, невольно подает сигнал о том, что
близко его творческое крушение.
Стивенсон, отважно провозглашавший во времена
своих первых европейских поездок и ранних очерковых
книг, что для него «жизнь — это литература», что «сло-
ва— часть его существа», с годами все осторожней го-
ворит об этом. Неким мрачным заклинанием звучит од-
но из его поздних писем 1893 года к маститому Джор-
джу Мередиту: «...Я работаю непрестанно. Пишу в по-
стели, пишу, поднявшись с нее, сотрясаемый кашлем,
пишу, когда голова моя разваливается от усталости,
и все-таки я считаю, что победил, с честью подняв пер-
чатку, брошенную мне судьбой». Тут — сила, но и без-
защитность какая-то. Так и в «Потерпевших крушение»,
где слышен программный авторский пафос, та же — но-
та тревоги: Стивенсон чувствует, что за всесторонние
трудности назревают для литературного профессионализ-
ма, верным рыцарем которого он себя признавал.
302
«Потерпевшие кораблекрушение» и кое-что еще Сти-
венсон выпустил в соавторстве со своим пасынком Ллой-
дом Осборном. Это признано самим Стивенсоном: на
титульном листе романа стоят два имени. Но что озна-
чает подобное соавторство? Как могло сложиться сот-
рудничество прославленного писателя с ничем особенно
не выделявшимся и очень еще молодым человеком? Во-
круг Стивенсона все писали. Пробовала перо Фанни, и ее
литературные опыты стоили Стивенсону дружбы с Хен-
ли: новелла, опубликованная Фанни, явилась поводом
для ссоры между ними. Ллойду Осборну Стивенсон по-
святил «Остров Сокровищ» — его «образцовому вкусу».
Ллойду было тогда пятнадцать лет. Посвящение, конеч-
но, шутливое, но звучало оно вполне серьезно, так как
имя «американского джентльмена» было обозначено толь-
ко начальными буквами. Даже ближайшим друзьям
Стивенсона и в голову не приходило, что господин, чье
литературное чутье будто бы оказалось способным по-
мочь в создании столь изящной книжки, пятнадцати-
летний мальчик. Только на исходе своих дней, подго-
тавливая собрание сочинений, Стивенсон раскрыл, что
литеры Л. О. означают — Ллойд Осборн. Тогда все ста-
ли принимать комплимент «образцовому вкусу» за доб-
родушную иронию, а вместе с этим являлась мысль, что
и последующее соавторство Стивенсона со своим па-
сынком — мистификация.
Нет, здесь Стивенсону было не до шуток. Оба от-
прыска Фанни от первого ее мужа помогали Стивен-
сону в работе. Дочь — Айсобель Осборн или, как ее
называли, Бель, писала под диктовку. Ллойд, считалось,
принимает участие более творческое — сочиняет сам, по-
могает развивать сюжет и т. д. Почему же в таком
случае не мог он завершить оставшиеся после Стивен-
сона недописанными «Сент-Ив» и «Уир Гермистон»? Еще
при жизни отчима Ллойд Осборн опубликовал самосто-
ятельно один рассказ, а потом, когда Стивенсона уже
не было, он напечатал несколько романов, новеллы и
пьесы. Так что имеется возможность объективно оценить
его данные — весьма средние. В самом деле, что-либо
значительное подсказать Стивенсону Ллойд был едва ли
способен. Его соавторство со Стивенсоном хотя и не яв-
лялось мистификацией, но в то же время не было дей-
ствительным. Оно — формально: приобщив Ллойда к
303
своей работе, поставив его имя рядом со своим на об-
ложке .Стивенсон обеспечивал за ним в дальнейшем ав-
торские права.
«Деньги» или, точнее, «деньги для моей семьи» —
вот слова, на каждом шагу попадающиеся в поздних
письмах Стивенсона. Даже соболезнуя Бакстеру по-
поводу смерти близкого человека, Стивенсон извиняясь
и прося его понять, сводит в конце концов разговор
на деньги, на ту часть своего литературного наследства,
которая должна достаться Айсобель Осборн. В этом от-
ношении он действительно стал «не тот». У него воз-
никает странный план: просить своих основных коррес-
пондентов вернуть ему его 1письма с тем, чтобы тотчас
собрать их в книгу, издать и — «я хочу,— пишет полу-
шутя-полусерьезно Стивенсон,— чтобы в случае моей
смерти, моя более или менее в том неповинная и ми-
лая семья могла бы извлечь из этого денежную выго-
ду». Он прекрасно понимает бестактность подобной
просьбы, но все-таки намерен просить Бакстера сыграть
роль посредника, и тот поневоле ищет слова, чтобы разъ-
яснить абсурдность такого плана — разъяснить Стивен-
сону, отличавшемуся всегда редкой душевной деликат-
ностью. Бакстер подал другую мысль — выпустить соб-
рание сочинений, назвав его «Эдинбургским». Стивен-
сон воспрянул духом. Ему необычайно понравилась и
сама идея и особенно титул «Эдинбургское издание Сти-
венсона». В ответ он писал Бакстеру нечто вроде то-
го, что, осуществив «Эдинбургское издание», можно бы
и умирать 8.
Слово «смерть» — также на разные лады склоняется
в эти годы Стивенсоном. Постоянные рассуждения о
близкой смерти подсказаны резким ухудшением здоро-
вья, и все теми же заботами о будущем семьи, а по-
тому возможная кончина писателя обсуждается всесто-
ронне и практически им самим и вокруг него. «Кстати,
мнение моей жены таково, что в случае моей смерти
им придется выкупать дом и мебель у остальных наслед-
ников; так ли это? Жена упорно утверждает это, по-
8 Иногда говорится, будто Киплинг был первым и единственным из
английских писателей, чьи сочинения заслужили высокую честь
выйти полным собранием при жизни автора. Впервые свое прижиз-
ненное собрание сочинений издал еще современник Шекспира Бен
Джонсон (1616).
304
этому я спрашиваю твоего мнения, чтобы ответить ей»,—
типичные для тех лет строки из письма Стивенсона.
Литературная работа, тем не менее, в Вайлиме не
прекращается. В апреле 1893 года Стивенсон публику-
ет «Вечерние беседы на острове», в сентябре того же
года — «Дэвида Бэлфура» («Катриона») и попеременно
работает над двумя новыми большими романами —
«Сент-Ив» и «Уир Гермистон».
Еще в декабре 1889 года, во время поездки Сти-
венсона по островам вместе с английскими миссионе-
рами, он был представлен ими местному населению как
Тузитала, то есть Рассказчик, Повествователь. Среди
самоанцев репутацию Тузиталы ему снискали «Вечерние
беседы», сборник повестей, из которого туземцы знали
«Сатанинскую бутылку».- Эту повесть Стивенсон пытался
читать им еще в рукописи, а потом она была переве-
дена на язык самоанцев. В тот же сборник вошли «Бе-
рег Фалеза» и «Остров голосов». В этих повестях отрази-
лись экзотические впечатления.
Однако Тузитала откликнулся на увиденное им на
островах не только как увлекательный рассказчик. Те
самые «письма о немцах в «Таймс» , а также состав-
ленное им «Примечание к истории», что так удручили
своей политической прозой Оскара Уайльда, правдиво
изображали бесчинства английской, американской и,
главным образом, немецкой администрации на Самоа.
Сидней Колвин, публикуя письма позднего периода
и комментируя их, просил читателей лишь из любви к
Стивенсону вникнуть в тогдашние перипетии самоан-
ской политики: и ему это казалось мелким и нестоя-
щим внимания. Но Сидней Колвин, почитатели, друзья
были далеко, Стивенсон же видел все своими глаза-
ми и не только беспристрастно наблюдал, но старался
происходящее на Самоа поставить в систему мировой
империалистической политики. Его гражданское и гу-
манное чувства не позволили ему остаться в стороне.
Он защищал интересы самоанцев. Вот почему на ост-
ровах с особенным уважением произносили имя Тузита-
лы и бережно хранили память о нем.
Ллойд Осборн сказал однажды с недоумением, что
его поражает несоответствие между гражданской горяч-
ностью и отзывчивостью отчима и малым количеством
его выступлений по текущим событиям. В то же время
305
некоторые доброжелатели считали, что талантливый и
слабый здоровьем писатель, истинный художник, слиш-
ком много потратил сил и времени на публицистиче-
ские письма, которые с 1889 по 1895 год печатались в
лондонской «Таймс» и в других газетах, выступая в
защиту мира и справедливости. Эти письма дополняют
книгу Стивенсона «Примечания к истории», изданную в
конце 1892 года. Письма и книга рассказывают о бес-
чинствах колонизаторов, о «режиме террора» на остро-
вах Самоа, об испытаниях самоанцев. В Германии «При-
мечания к истории» были преданы сожжению, а ее из-
датели подверглись штрафу.
Позиция Стивенсона была уверенной и решитель-
ной— он все более расходился с теми английскими пи-
сателями, кто бил в милитаристский барабан, пропа-
гандируя «величие» Британской империи. Еще в 1881 го-
ду, когда он узнал подробности о действиях англий-
ских войск в Трансваале, он не мог сдержать своего
возмущения. Он написал письмо-протест, назвав агрес-
сивные действия англичан против буров мерзостными.
«Кровь буквально закипает у меня в жилах,— писал
он.— Не нам судить, способны буры к самоуправлению
или не способны; в последнее время мы вполне убе-
дили Европу, что и сами мы в целом не самая слажен-
ная нация на земле... Может наступить время в исто-
рии Англии, так как история эта еще не завершилась,
когда и Англия может оказаться под гнетом мощного
соседа; и хотя я не могу сказать, есть ли бог на небе,
я все же могу сказать, что в цепи событий есть спра-
ведливость, и она заставит Англию пролить ведро своей
лучшей крови за каждую каплю, выжимаемую сейчас
из Трансвааля».
Письмо выражало не минутное настроение писателя,
а глубокие убеждения и чувства. Стивенсон просил же-
ну передать письмо в печать, однако Фанни, опасаясь,
по-видимому, враждебной реакции со стороны офици-
ального и благонамеренного общественного мнения, су-
лившего неприятные последствия для всей семьи, не вы-
полнила поручения мужа. Письмо не появилось тогда
в печати, и в какой-то мере этот факт разъясняет не-
доумение Ллойда Осборна.
О нравственных принципах и гражданском мужестве
Стивенсона может свидетельствовать его «Открытое
306
письмо Преподобному доктору Хайду из Гонолулу» от
25 февраля 1890 года в защиту памяти отца Дамьена,
простого, но сильного духом человека, пожертвовавшего
собой ради обреченных в лепрозории. Писатель сам по-
сетил этот лагерь прокаженных и пробыл в нём около
недели, рискуя здоровьем и жизнью.
Стивенсон не мог оставить без ответа клевету бла-
годенствующего и политиканствующего служителя церк-
ви, с которым был знаком и у которого был благо-
склонно принят. «Однако,— говорил Стивенсон в откры-
том письме,— существуют обязательства превыше бла-
годарности, и оскорбления, которые решительно разде-
ляют близких друзей, не то что знакомых. Ваше письмо
к преподобному Гейджу — документ такого свойства,
что, на мой взгляд, если бы даже я умирал с голоду
и Вы напитали меня хлебом, если бы Вы дежурили у
постели моего умирающего отца, то и тогда я почел бы
себя свободным нарушить долг вежливости».
Последние, наиболее масштабные по замыслу про-
изведения Стивенсона позволяют, словно в панораме,
увидеть целенаправленное движение его интересов, их
последовательное развитие от ранней пробы пера —
очерка о Пентландском восстании — к поздним историче-
ским романам. «Прошлое звучит в памяти» — восклик-
нул Стивенсон в середине 80-х годов — еще в Шотлан-
дии: он жил тогда на побережье в Борнемуте, а его
тянуло в Эдинбург, к воспоминаниям студенческой мо-
лодости. «Прошлое» было для него лично его прошлым
на фоне древнего города, сердца Шотландии, ее стари-
ны. Это символическое совмещение, эта память стала
представлять в его глазах центр еще более притяга-
тельный, когда он -оказался далеко и к тому же без-
возвратно далеко от родины. «Никогда не придется боль-
ше мне бродить возле Фишерз Трист и Гленроз. Ни-
когда не увижу я больше Олд Рики. Никогда больше
не ступит моя нога на наши пустоши»,— писал он в
90-х годах из Вайлимы земляку-шотландцу. И с этим
чувством Стивенсон продолжал «Похищенного», писал
«Катриону» (в журнальной публикации «Дэвид Бэл-
фур»), «Уира Гермистона» и «Сент-Ив». У него возника-
ли очередные замыслы, и они, так же как эти романы,
по месту и времени действия пролегали все в той же
плоскости. Стивенсона интересовала Шотландия после
307
1745 года, пережившая в тот год последнюю решитель-
ную вспышку шотландского национализма. В отличие
от Вальтера Скотта, демонстративно отнесшего действие
«Уэверли» от начала XIX века на «шестьдесят лет на-
зад» — как раз к 45 году, Стивенсон отодвинул события
этого времени, постоянно упоминаемые в его книгах,
за шределы повествования, в некую историческую пер-
спективу, сделав их в сознании персонажей исходной
точкой. «Вы не так молоды, чтобы не помнить ясно
45 года и смуты, объявшей всю страну»,— говорят Дэ-
виду Бэлфуру: это очень важная для Стивенсона ди-
станция во времени. Она дает ему возможность как
бы вместе с людьми середины XVIII столетия живо
вспоминать роковой рубеж.
И опять-таки вместе со своим героем Стивенсон про-
износит следующие слова: «У нас есть пословица, что
плоха та птица, которая грязнит собственное гнездо.
Помнится, я слышал еще ребенком, что в Эдинбурге
был мятеж (то есть восстание 1715 года.— М. У.), ко-
торый дал случай покойной королеве назвать нашу стра-
ну дикой, и .я давно понял, что этим мы ничего не
достигли, а только потеряли. А потом наступил сорок
пятый год, и все заговорили о Шотландии, но я ни от
кого не слышал мнения, что в сорок пятом году мы
что-нибудь выиграли».
Стивенсон мог с полным основанием сказать, что и
он ребенком слышал то же, о чем говорит Бэлфур, хо-
тя для Бэлфура это непосредственная память его дет-
ства, а для Стивенсона предания почти вековой давно-
сти. Но как бы там ни было, Стивенсон действительно
слышал все это из живых уст — от родителей, от ня-
ни, от местных жителей. Он вырос в тех краях, где
некогда должен был родиться, жить, бедствовать и до-
биваться у судбы справедливости, молодой человек се-
редины XVIII века, современник смутной поры, решив-
шей судьбу Шотландии. На собственном опыте писа-
тель знал, что такое запас, заряд исторической памяти
народа, передаваемый нераздельно от эпохи к эпохе.
Стивенсон старался разобраться в наслоениях этой па-
мяти. Она была для него и далеким историческим уро-
ком и реальностью его собственных воспоминаний. Упор-
ство шотландской патриархальной самобытности, анг-
лийская политика, вклинившаяся между горной и рав-
308
ййнной Шотландией, распад и вражда кланов, харак-
теры, формирующиеся в жестоких условиях,— «все это
в моем давнем вкусе!» — мог бы сказать тут Стивен-
сон, как сказал некогда о «Владетеле Баллантрэ».
Дэвид Бэлфур находится в драматическом 1положе-
нии: сторонник союза с Англией, он в силу обстоя-
тельств морального свойства должен отстаивать пре-
стиж тех, кто враждебен англичанам. Еще трагичнее,
по замыслу Стивенсона, должна была сложиться ситу-
ация в романе «Уир Гермистон»: лорд Гермистон, вер-
ховный судья Шотландии (Стивенсон имел в виду лор-
да Браксфилда — реальное историческое лицо), ходом
англо-шотландской распри поставлен перед жестокой
необходимостью вынести смертный приговор сыну.
Стивенсон верил, что «Уир Гермистон» (издан по-
смертно в 1896 г.) окажется его лучшим произведени-
ем. Именно трагическая глубина фигуры старого Герми-
стона давала ему такие надежды. И, возможно, он, за-
вершив роман, не ошибся бы. Во всяком случае, круп-
ные литературные авторитеты Шотландии, например вы-
дающийся прогрессивный поэт Хью Макдайармид, счи-
тали «Уира Гермистона» исходной вехой, от которой
после довольно длительного упадка в середине прошло-
го века началось с конца столетия возрождение шот-
ландской литературы.
В романе «Сент-Ив» Стивенсон взял иное время, но
от Шотландии не отвлекся. В 1892 году Генри Джеймс
прислал ему мемуары наполеоновского генерала Марбо.
Память о наполеоновских войнах вообще тогда вызвала
вспышку литературного интереса. Любопытно, что в том
же году ту же книгу получил из рук Джорджа Мере-
дита Конан Дойль. Марбо послужил Конан Дойлю мо-
делью для бравого бригадира Жерара. У Стивенсона
Марбо не вызвал подобного вдохновения, но все-таки
и Стивенсон, быть может, отчасти под воздействием
этих воспоминаний взялся за наполеоновскую тему, по-
строив ее по-своему: французский военнопленный бежит
из Эдинбургского замка 9... У Стивенсона намечался за-
* «Сент-Ив», оставшийся, как и «Уир Гермистон», самим Стивенсоном
не законченным, был дописан литератором А. Квиллер Кучем и вы-
шел в свет в 1898 г. Первоначально наследники Стивенсона проси-
ли об этом Конан Дойля. Но автор Шерлока Холмса, считая себя в
сравнении со Стивенсоном писателем недостаточно искусным, не
взялся дорабатывать книгу.
309
мысел еще одйбго Исторического романа о Шотландий.
«Идея в том,— писал он двоюродному брату,— чтобы
сделать настоящий исторический роман, охватывающий
эпоху целиком и народ, наш народ...» Он придумал толь-
ко заглавие — «Дикий кот», что также может означать
«Бродяга».
Шотландии же, ее национальному герою Роберту
Фергюсону, воспетому Бернсом, Стивенсон намеревался
посвятить собрание своих сочинений. Однако практиче-
ские соображения взяли верх над патетикой, и в итоге
Стивенсон адресовал посвящение жене. Судьба семьи
поглощала его мысли. Он страшился творческого кри-
зиса и утраты средств к существованию. «Я дошел до
мертвой точки,— извещал он Бакстера.— Я обычно не
помню прежних своих плохих состояний, но именно сей-
час мне достаточно плохо, я имею в виду литератур-
ную работу; здоровье пока хорошо и крепко». О том,
что он чувствует себя исписавшимся, конченным, Сти-
венсон говорил в эту пору многим. Здоровье также ос-
тавило его в относительном покое ненадолго. Стивен-
сон стал испытывать заметные нелады с правой рукой.
И вот она отнялась. Участились «визиты старого зна-
комого— кровавого Джека»,— так называл Стивенсон
кровотечения из горла. Творческая работа, однако, про-
должалась своим заведенным порядком.
Однажды в эти последние свои годы Стивенсон сде-
лал такое признание: «Да будет известно нынешнему
подвижному поколению, что я, Роберт Луис Стивенсон,
сорока трех лет от роду, проживший двадцать лет ли-
тературным трудом, написал недавно двадцать четыре
страницы за двадцать один день, работая с шести ут-
ра до одиннадцати, а затем вновь с двух до четырех
или около этого, без отдыха и (перерыва. Таковы дея-
ния богов нам, таковы возможности плодовитого писа-
теля!»
В конце 1894 года Эдмунд Госс прислал Стивенсо-
ну книжку своих стихов с посвящением — Тузитале.
«Что ж, мой дорогой Госс,— отвечал ему Стивенсон,—
желаю вам всяческого здоровья и процветания. Живи-
те долго, тем более, что вам, видно, все еще нравится
жить. Пишите новые книги, такие же хорошие, как эта;
одно лишь будет для вас невозможно: вам не удастся
больше никогда написать посвящения, которое достави-
310
ло бы столько же удовольствия исчезнувшему Тузита-
ле» (1 декабря 1894).
3 декабря 1894 года Стивенсон по обыкновению с
утра весь день напряженно работал над рукописью
«Уира Гермистона», который был доведен почти до по-
ловины. К вечеру он спустился в гостиную. Жена была
в мрачном настроении, и он старался развлечь ее. По-
том собрались ужинать. Стивенсон принес из погреба
бутылку бургундского. Вдруг он схватился за голову:
«Что со мной?» И упал. Кровоизлияние в мозг. В на-
чале девятого Тузиталы уже не стало.
С почестями, в окружении самоанцев, покрытого го-
сударственным английским флагом, его подняли на вер-
шину горы Веа. Все было исполнено по его стихам:
Здесь лежит он, где хотел лежать...
РЕДЬЯРД КИПЛИНГ
Во главе со Стивенсоном в Англии развивалось ли-
тературное течение, называемое неоромантизмом, то есть
романтизмом новым в отличие от романтизма первых
десятилетий века, а также в противоположность нату-
рализму и символизму — двум другим течениям, сфор-
мировавшимся в последней трети XIX столетия.
«К сожалению, все мы играем на сентиментальной
флейте, и надо, чтобы кто-нибудь ударил в мужествен-
ный барабан»,— говорил Стивенсон, выражая в несколь-
ких словах устремления неоромантиков. Он спорил с
упадочными настроениями декадентов, с их унынием,
замкнутостью, он протестовал и против убогого бытопи-
сательства натуралистов. Сама английская жизнь отли-
чалась в ту эпоху каким-то прозаизмом, бесцветной де-
ловитостью, деляческим практицизмом — словом, тем
духовным убожеством, от которого приходил в отчая-
ние Оскар Уайльд.
Натурализм следил за этим процессом впрямую, ли-
цом к лицу, невольно в то же время подчиняясь ему.
Факт в протокольно плоском, а не творчески преобра-
зованном виде давил творческую мысль. Правда, пре-
подносимая этой литературой, была правдой какой-то од-
нобокой и поверхностной тенденции, а не исследованием
31J
жизни. Тем не менее натурализм имел много сторон^
ников. В нем видели литературное соответствие науч-
ности, позитивизму, тогда очень широко влиявшему на
умы. Эта литература считалась доступной и нужной де-
мократическому читателю. Вышел, например, роман
Джорджа Дугласа «Дом с зелеными ставнями», и Ар-
нольд Беннет, один из крупнейших английских натура-
листов, усиленно советовал Г. Дж. Уэллсу обратить вни-
мание на эту книгу, называя ее «первым реалистиче-
ским шотландским романом». «Это не высший класс,—
признавал Беннет,— но... ты впервые в жизни увидишь
Шотландию».
Натуралисты считали своей заслугой смелость, с ка-
кой они решались нарушать основное правило буржу-
азной добропорядочности — «книга должна быть напи-
сана так, чтобы при чтении ее не пришлось краснеть
молоденькой девушке». Характерна была в этом смысле
полемика вокруг романа талантливого писателя Джорд-
жа Мура «Эстер Уотерс». В этой полемике принял уча-
стие и Конан Дойль. Он защищал «Эстер Уотерс», под-
черкивая, что литература существует не для одних
молоденьких девушек, что писатели решают более «взро-
слые» задачи. Когда против Джорджа Мура и его кни-
ги готова была подняться травля, Конан Дойль отваж-
но вступил в схватку. Он демонстративно хвалил ро-
ман, и эта демонстративность чувствуется: Конан Дойль
отстаивает право писателя говорить, что он считает нуж-
ным. Но в его апологии нет действительно глубокого
творческого сочувствия тому, как Джордж Мур это де-
лает. Конан Дойль — защитник его, но не соратник.
Неоромантики не разделяли пристрастия натурали-
стов к бытовой атмосфере, к приземленным героям, «ма-
леньким людям». Они искали красочных героев, необы-
чайной обстановки, бурных событий.
Фантазия неоромантиков двигалась в разных на-
правлениях: они звали читателей в прошлое или в да-
лекие земли. Они не обязательно уходили от современ-
ности, но представляли ее с неожиданной стороны, от-
даленной от городских будней.
Известно, сколько усилий приложил Киплинг, что-
бы вылепить из колониального чиновника или офице-
312
ра колониальных войск романтически приподнятого ге-
роя. По романам Грэма Грина, скажем, «Суть дела»,
где колониальный мир представлен таким, каков он
есть, нетрудно увидеть, что быт этого офицерства и чи-
новничества — еще большая проза, чем конторы лондон-
ского Сити. Но Киплингу в литературном отношении
было важно, чтобы контраст проявлялся во всем:
в красках пейзажа, в манерах, нравах.
Киплинг по-своему искал путей противодействия
упадку, скепсису, расхлябанности, анемии и в то же вре-
мя средств борьбы с распространением идей обществен-
ного протеста. И даже не искал, а решительно указы-
вал их: это — опора на силу, понимающую свой вер-
ноподданнический долг, непреклонность империалисти-
ческой политики, необходимость нести «тяготы» по бес-
человечной эксплуатации колоний, доверие «истинным»
патриотам. Демагогическое влияние Киплинга было
заметным. Тогда многие полагали, читая ч<Казармен-
ные баллады», что «наконец заговорил сильный чело-
век».
Киплинг (1865—1936) начал писать, когда британ-
ский империализм только определялся как историче-
ский этап, а завершил свою деятельность незадолго
до второй мировой войны (фашистские полчища уже
готовились идти железным маршем по Европе). Бри-
танский империализм, идеям которого ревностно служил
Киплинг, много раз на протяжении жизни писателя
изобличал себя и терпел крах, однако Киплинг оста-
вался его верным бардом.
Сколько раз патетика, которой проникнуты произ-
ведения Киплинга, оборачивалась совершенной ложью,
становилась дутой и даже смешной, однако голос и
взгляды «железного Киплинга» сохраняли все ту же
непреклонность. Один из самых ужасных кризисов, из
тех, что пришлись на время жизни и деятельности пи-
сателя,— первая мировая война, казалось, отбросила и
оставила за некоей исторической гранью идеалы, кото-
рым служил Киплинг, и вместе с тем сделала достоя-
нием истории самого Киплинга. Нет, он продолжал,
к тому же канонизированный, свою деятельность, словно
современный писатель.
Молодое поколение уже никак не хотело служить
«задом Империи, получающим пинки» (Р. Олдингтон),
313
го есть соответствовать образцу гражданственности, вос-
петому Киплингом, а заветы писателя — «Несите бремя
белых!», «Будь мужчиной, мой друг!» «Запад есть За-
пад, Восток есть Восток» — как ни в чем не бывало пред-
писывались, словно хрестоматийные истины.
Дж. Б. Пристли вспоминает, как в 20-х годах на ли-
тературном вечере появился Киплинг. Он держался обо-
собленно с видом генерала от литературы, поблескивая
на всех очками в золотой оправе. Его сановитость не
вызывала никакого уважения, между тем он, чувствуя
себя живым классиком, продолжал кичиться, хотя здесь
же, в общей среде, его сверстник Г. Дж. Уэллс находил
возможным дружески вести себя со всеми.
Часто говорят, что Киплинг — сильное дарование,
но загубленное, коль скоро оно подчинилось ложной тен-
денции. Вернее было бы считать Киплинга талантом, не
оправдавшим надежд. Явление незаурядное, Киплинг не
обнаружил, однако, в себе творческих сил, способных
перебороть заведомую тенденциозность. Киплинг — в
большей степени легендарная, чем значительная фигура;
в свою очередь историческое значение Киплинга замет-
но уже его репутации. Для большинства проницатель-
ных читателей он так и остался за гранью первой ми-
ровой войны, занимая, по словам Дж. Голсуорси, «осо-
бое одинокое положение полуобожаемого, полупрезирае-
мого писателя».
Сын колониального чиновника-интеллигента, Кип-
линг родился в Бомбее, образование получил в Англии,
вернулся на колониальную службу в Индию и стал
сотрудником газеты. Он печатал корреспонденции, рас-
сказы, стихи, а затем выпустил поэтический сборник
«Чиновничьи песни» (1886) и почти тут же сборник
«Простые рассказы с Холмов» (1888).
Новый голос сразу различили по его оригинальности.
Он был резок, решителен, неподделен. Он повествовал
о жизни необычайной, малознакомой, в уверенных ин-
тонациях чувствовалась достоверность знаний, натураль-
ность опыта. В ту пору в английской литературе то и
дело возникали экзотические темы. Р. Л. Стивенсон, ко-
торый занимался не только измышлением приключений
и странствий, опубликовал «Вечерние беседы на остро-
ве», Джозеф Конрад уже начал развертывать свою мор-
скую панораму, когда Киплинг печатал свои последую-
314
щие книги; У. Г. Хадсон, натуралист, путешественник
и писатель, выпустил автобиографическое повествование
«Пурпурная земля» (1885) — о жизни в Уругвае.
Киплинга заметили не только потому, что он начал
одним из первых, но потому также, что он преподно-
сил экзотику особенным образом — с подчеркнутой не-
приглядностью. Он писал про убожество туземного су-
ществования и узколобость колониальной администра-
ции, он раскрывал прозу причудливой и заманчивой, буд-
то бы, жизни.
«Чиновничьи песни», «Казарменные баллады» (1892),
«Простые рассказы», сборник «Ежедневная работа»
(1898): уже в заголовках подчеркнут интерес к прозаи-
ческой подоплеке бытия, тем более в самих произве-
дениях Киплинг стремится представить колониальную
повседневность. Сумев рассказать выразительно о чи-
новничьем, казарменном быте, не зная литературной
брезгливости и, напротив, обнаружив известное творче-
ское бесстрашие в обращении с обыденным материалом,
Киплинг заставил себя слушать. В книгах Киплинга чи-
тали, казалось, правду о колониях.
«Эта правдоподобность,— писал о произведениях
Киплинга А. И. Куприн,— достоверность рассказа и со-
ставляет ту тайну очарования, которая приковывает к
книгам Киплинга...» 1
«Выдумка его была полна правдоподобия»,— заме-
тил о Киплинге в свою очередь Константин Паустов-
ский 1 2.
Усилия, которые затрачивал Киплинг на преодоле-
ние иных тематических препятствий, сейчас могут пока-
заться излишними и даже по своей чрезмерности смеш-
ными. Необходимо помнить, однако, что перед ним дер-
жались бастионы викторианского ханжества, которое
осуждало за «безнравственность» романы Томаса Гарди
и презирало «низменность» поэзии Суинберна. Киплинг
же преподносил читателям не изящные вымыслы, по-
добные «Острову Сокровищ», и не аляповатую авантюр-
ность «Копей царя Соломона», он резким казенным то-
1 А. И. Куприн. Редиард Киплинг.— Собр. соч. в шести томах, т. 6.
М., 1958, стр. 611.
2 К. Паустовский. Редиард Киплинг.— Собр. соч. в шести томах, т. 5.
М., 1958, стр. 550.
315
ном, не терпящим возражений, сообщал на 'правах оче-
видца и ветерана о «чудесном» индийском крае все, что
считал нужным. Киплинг представлял шумные восточ-
ные базары, особенности нравов и, не задерживаясь дол-
го в пределах картинной этнографической новизны, при-
ступал к сути дела, не гнушаясь при этом самым не-
мудрящим жизненным обиходом. «Он начинает повест-
вование так просто, так небрежно и даже иногда так
сухо, как будто вы давным-давно знаете и этих людей
и эти причудливые условия жизни, как будто сегодня
Киплинг продолжает вам рассказывать о том, что вы
сами видели и слышали вчера» (А. И. Куприн) 3.
Если ограничиться первым, беллетристическим впе-
чатлением от Киплинга, то неизбежно обратит на себя
внимание талант рассказчика, и Киплинг, как писатель
силы и мужества, окажется в литературных представ-
лениях соединен, скажем, с Джеком Лондоном, что и
случалось часто поначалу у европейских читателей. Од-
нако более пристальный взгляд на его произведения,
более продолжительное знакомство с его творчеством
делают различимой подноготную «правды», им припод-
носимой. Киплинг движим патетической заботой о про-
цветании британской колониальной империи. Он расска-
зывает, и нередко, ужасные вещи о туземцах и коло-
низаторах, он с презрением и ненавистью говорит о раз-
гильдяйстве британского офицерства и чиновничества,
он с известным сочувствием, а главное, знанием пишет
об индусах. Он снимает немало литературных «табу».
Однако главная его мысль сводится к тому, чтобы по-
казать, насколько можно более выразительно, какова
«ноша» истинного британца, как тяжело бремя цивили-
затора, которое он должен нести. Свою идею Киплинг
высказывает достаточно прямо, безо всяких ухищрений,
и ее империалистическая суть станет особенно очевид-
на и неприглядна, если сопоставить индийские новеллы
Киплинга («Лиспет», «Строители моста», «Бегство бе-
лых гусар» и др.) с одним только рассказом Джозефа
Конрада «Аванпост цивилизации». Станет видно вместе
с тем идеологическое нетерпение Киплинга, его тенден-
циозная торопливость, с какой он, в противоположность
художнику более основательному — Конраду — и вопре-
3 А. И. Куприн» Поли. собр. соч., т. 7, стр. 612.
316
ки творческой правде, спешит с азартом мага и закли-
нателя убедить в своей доктрине.
Героем одного из его рассказов («Саис мисс Юэл»)
является некто Стрикланд, полицейский чиновник. К этой
фигуре следует присмотреться, поскольку она заметно
наделена автобиографическими чертами. Этот человек
старается узнать о местных жителях столько, «сколько
они сами о себе знают». С этой целью он подражает
одному таинственному человеку: туземцы боятся его и
уважают, верят, что он имеет дар превращаться в не-
видимку и управляет многими демонами. И Стрикланд
в свою очередь удивительно освоился среди коренного
населения. Он опускался в трущобы, вращаясь среди
подонков, пробирался на тайные обряды, даже помогал
красить Быка Смерти; венцом его подвигов были один-
надцать дней, в течение которых под видом факира он
распутывал нити крупного уголовного дела. Стрикланд
вправе был сказать о себе, что «он проник не только
под кожу, а глубже». Однако какова цель этой про-
нырливости? Прежде всего Стрикланд служит в поли-
ции. Киплинг не скрывает, даже подчеркивает преду-
беждение и неприязнь, с какими относятся к Стриклан-
ду окружающие европейцы. «Общество его не понима-
ло»,— иронизирует автор. Киплинг в свою очередь пре-
зрительно относится к недоумению, с каким твердили
о его герое люди одного с ним круга: «Почему Стрикланд
не может сидеть у себя в канцелярии, писать служеб-
ный дневник, полнеть и держаться смирно, вместо того,
чтобы выставлять на показ неспособность своих началь-
ников?» Киплинг и его Стрикланд полны служебного
энтузиазма. Обостряя конфликт между этой колониаль-
но-европейской средой и полицейским, соглядатаем,
шпионом, писатель решительно принимает сторону по-
следнего.
Такова была его принципиальная позиция. Писатель,
подобно своему герою, не хотел «держаться смирно».
Он проявлял хищнический энтузиазм во всех направ-
лениях. Он разоблачал «неспособность начальников»,
старался освоиться среди индусов — и все ради новой
экспансии.
Киплинг полно раскрыл себя на страницах романа
«Ким» (1901). Эта книга вышла вскоре после романа
Джозефа Конрада «Лорд Джим» и невольно, перекли-
317
каясь до некоторой степени с этим романом тематиче-
ски, она служит по существу ему противоположностью.
Оба произведения ставят проблему человеческого досто-
инства, проблему формирования личности, вопрос о про-
чности принятого нравственного кодекса. Решения, пред-
лагаемые писателями, контрастны. Конрад возвышает
индивидуальную честь, он бережет в ней все, способ-
ное сопротивляться рутине, мертвящим социальным ус-
тановлениям. Киплинг, напротив, вместе со служебной
инициативностью провозглашает, как основу жизненной
линии,— казенный долг, подчинение, органическое сли-
яние с полицейско-чиновничьим бюрократизмом. Даже
внешним своим поведением его герой — Ким (опять же
шпион) подчеркивает это: он /то ползет, то подслуши-
вает, таится. Киплинг поэтизирует полицейскую доб-
лесть и потому, ествественно, он со старанием выпи-
сывает, как его Ким умеет прятаться, становиться не-
заметным, уподобляться змее или коршуну.
Судьбу Кима, оборвыша-ирландца, выросшего в Ин-
дии, Киплинг освящает колдовским пророчеством. Ве-
щее предсказание сулит Киму славу, которая символи-
зируется неким мистическим видением «Красного Быка
по зеленому полю», главенствующее место в этой про-
цессии занимает британский полковник верхом на коне.
Если для конрадовского шкипера Джима минутная ус-
тупка бесчестью дала повод к душевному перевороту
и пространному саморазбору, то Ким у Киплинга го-
тов каждую минуту на предательство, с нескрываемым
наслаждением ведет он двойную игру.
Киплинг прославляет то, что его современник, пи-
сатель Дж. К. Честертон, автор детективных рассказов
о патере Брауне, метко назвал «романтикой цинизма».
Надо помнить, конечно, что этот патетический «цинизм»
был намеренно выдвинут против застарелого виктори-
анского чистоплюйства и лицемерия. Киплинг, безо вся-
кой щекотливости, в самом деле, устремляется, подобно
своему Стрикланду, во всякие «отвратительные места,
сунуться в которые не решился бы ни один порядоч-
ный человек» т. е. человек мнимой, ханжеской нрав-
ственности. Киплинг по-своему срывает маски. Однако
нельзя забыть, с какой целью, с какой низкой и цинич-
ной мыслью он это делает. «Романтика цинизма» ока-
залась для Киплинга не просто временной литературной
818
бравадой, пошибом, приемом, но сутью творческой ло-
гики.
Столь же весомое положение, как и колониальная
проблематика, занимает в творчестве Киплинга связан-
ная с нею тема войны. И здесь Киплинг представил
образцовую в своем роде фигуру, он оказался «созда-
телем Томми Аткинса». Томми Аткинс — та же ис-
правность, исполнительность, дотошность, знание своего
нечистого дела и привязанность к нему, но только уже
не в обличье шпиона, а в мундире британского солдата.
Томми Аткинс стал нарицательным, почти фольклор-
ным персонажем вроде Швейка. Решительная разница,
однако, между ними в том, что своей идиотской испол-
нительностью Швейк усугубляет бесчеловечную абсурд-
ность империалистической бойни, между тем как Томми
Аткинс полон истовой преданности и неподдельного
старания. Изображая тяготы воинской службы, Киплинг
героизирует их. И Томми Аткинс не хочет в иные ми-
нуты «держаться смирно», и он готов с ненавистью вы-
сказаться о бездарности начальства, однако солдат всег-
да остается верен высшему пафосу. И Киплинг умильно
следит за тем, как его Томми выносит тяготы походной
жизни, как браво марширует, как лихо поет, как дер-
жит в узде туземцев и покоряет сердца туземных кра-
савиц, которых автор заставляет мелодраматически взы-
вать:
«Приходи, солдат британский,
Возвращайся в Манделей!»
Талант молодого Киплинга отметили некоторые стар-
шие его современники, которым свойственно было ли-
тературное чутье. То были Оскар Уайльд, Генри Джеймс
и, особенно, Льюис Кэрролл — автор знаменитых дет-
ских книг о приключениях Алисы. Однако Уайльд и
Кэрролл имели возможность судить только о раннем
Киплинге, а Генри Джеймс наблюдал, как этот успех стал
меркнуть в течение первого десятилетия нового века:
Киплинг оттолкнул многих своей тенденциозностью, и не
только тенденциозностью, но и растущей ремесленно-
стью своего искусства. Опытный исследователь не сов-
сем прав, когда заметил, что континентальные, в том
числе русские, читатели воспринимали Киплинга исклю-
чительно с литературной стороны, не чувствуя в его
319
гворчестйе откровенной пропаганды империалистических
идеалов 4.
Возможно, что репутация Киплинга на континенте
и укрепилась позднее и держалась несколько дольше,
чем в самой Англии. Так, А. И. Куприн не отказался
все-таки сказать по адресу Киплинга несколько необы-
чайно высоких слов, но тот же Куприн прекрасно по-
казал в своем очерке, каким образом в Киплинге «анг-
личанин» (т. е. узость шовинистических идеалов) за-
слоняет художника и человека.
«И как бы ни был читатель очарован этим волшеб-
ником,— писал А. И. Куприн,— он видит из-за его строчек
настоящего культурного сына жестокой, алчной, купе-
ческой, современной Англии, джингоиста... поэта, вдох-
новлявшего наемных солдат на грабеж, кровопролитие
и насилие своими патриотическими песнями. Кровь так
и хлещет во всех произведениях Киплинга, но что зна-
чат несколько тысяч человеческих жизней, если ими ис-
купается величие и мощь гордой Англии?»5 Горькая
ирония последней вопросительной фразы в этой харак-
теристике не требует пояснений, следует только пред-
ставить, что тот же вопрос, точнее, воинственный воз-
глас, постоянно звучит со страниц книг Киплинга, од-
нако безо всякой иронии — с наглой надменностью.
В официальных кругах Киплинг был высоко постав-
лен. Но все же писатель многим представлялся от-
жившим явлением, и один английский пародист сарка-
стически писал о том, «когда же, наконец, Редьярд
прекратит свой киплинг (как «дриблинг», «тренинг» и
т. п.— М. У.)». Имя писателя превратилось в символ
реакционности.
Киплинга внутренне задевало то обстоятельство, что
он не смог утвердить за собой репутации романиста.
Его считали чем-то средним между поэтом, очеркистом
и новеллистом, ему, однако, хотелось более определен-
ного признания. В автобиографической книге «Кое-что о
себе самом» (1937) он с важным сожалением отметил,
что свой роман об ослепшем художнике-баталисте «Свет
погас» (1890) он не может признать «сделанной книгой».
4 Д. Мирский^ Киплинг.— В кн.: Р. Киплинг. Рассказы. «Academia»,
1936, стр. 7—8.
5 А. И. Куприн. Соч., т. 7, стр. 608—609.
320
Между тем не только этот роман ныне выглядит «не
сделанным». Мастерство Киплинга, его манера оказа-
лись быстро вянущими, и то, что, скажем лет пятьде-
сят тому назад вызывало некое магическое впечатле-
ние творческого волшебства теперь поражает нарочи-
тостью, стандартом приемов, удручает повторениями,
словно это в самом деле тягучий «киплинг».
Исключение составляют поэтические эпизоды и об-
разы, утверждающие бесстрашие человека, его неисся-
каемую энергию, несгибаемую волю. Однако обычно
бесстрашие, энергия, воля соединяются у Киплинга с ду-
хом бесшабашной авантюры и действуют во имя стя-
жательства. Иллюстрацией тому могут служить сюжет-
ные баллады «Три котиколова», «Боливар» или «Мери
Глостер». Обрисованная в них жизнь — вызов книжному
о ней представлению, размягченности и настроению
упадничества. И вместе с тем невольное пояснение, по-
чему железная энергия плодит хилую, почему, напри-
мер, у бесстрашного и волевого Глостера («Мери Гло-
стер»),. достигшего общественного положения и богат-
ства собственными усилиями, сын оказывается бездель-
ником и никчемным. Для киплингского героя воля в
конечном счете становится самоценной, она принуждает
«сердце и нервы» служить и тогда, когда в груди «все
пусто, все сгорело» и жизнь, потраченные усилия ста-
новятся бессмысленными, как это непроизвольно выра-
жено в «Песне мертвых»:
Следом, дети! Следом, дети! —Жатва — здесь и там:
По костям отцов придете вы к своим костям!
Перевод М. Фромана
Исключение составляют также книги Киплинга о жи-
вотных. Эти произведения Киплинга не вполне самосто-
ятельны: писатель собрал, обработал, развил, исполь-
зовал в них мотивы индийских, австралийских и афри-
канских народных сказок и преданий. Индийский
материал такого рода составил основу двухтомной
«Книги Джунглей» (1894—1895), австралийский и афри-
канский— сборника «Так себе сказки» (1902). Причем в
«Книге Джунглей» главный интерес представляет лишь
та серия рассказов, которая впоследствии оказалась вы-
делена в книгу «Маугли». Остальные новеллы значи-
тельно слабее, да и история самого Маугли привлекает
11 М. В. Урнов
321
тишь до тех пор, пока подросший «человеческий дете-
ныш» не покидает своих четвероногих сородичей. Жиз-
неописание повзрослевшего Маугли столь же тенденци-
озно, схематично и мертво, как и прочие «империали-
стические» произведения Киплинга.
В описании зверей Киплингу удалось добиться та-
кой живой выразительности, какой не знает, быть мо-
жет, ни одно из человеческих лиц, выведенных в его
книгах. В бесчисленной веренице киплинговских персо-
нажей люди различаются по именам, да двум-трем био-
графическим черточкам, но сразу запоминаются Мать-
волчица и Отец-волк, медведь Балу и бесстрашная чер-
ная пантера Багира, молчаливый владыка джунглей слон
Хати, питон Каа и тигр Шер-Хан. Не говоря уже о
таких прославленных персонажах киплинговских сказок,
в самом деле хрестоматийных, как Любопытный Сло-
ненок, Верблюд, у которого вырос горб, Носорог, у ко-
торого кожа застегивалась снизу на пуговочки, Кит, у
которого сузилось горло, и Кот, который ходил сам по
себе. Звери сохраняют у Киплинга достоверность своего
животного облика и вместе с этим каждому из них
придана живая, одухотворенная характерность и каж-
дый убедительно ведет себя в соответствии с ней.
Правда, Киплинг и здесь прилагает заметные усилия,
чтобы подчинить все заведомому идеологическому рас-
чету. Он нередко нарушает закон, которому следовал
мудрый Хати: «Хати никогда не говорит, пока не прихо-
дит минута, и вот почему он так долго живет» («Как
пришел страх»). Но Киплингу не терпится, он стремит-
ся «заговорить», начать свой тенденциозный «киплинг»
не к месту и несвоевременно. И все же его мохнатые,
полосатые, зубастые, рогатые, крылатые, хвостатые ге-
рои живут самостоятельной жизнью, нарушая рамки уз-
кой тенденциозности, уготованные им автором. «Мауг-
ли» и «Так себе сказки» — дорогое и незабываемое до-
стояние детства.
У Киплинга по сей день сохранились и такие по-
читатели, которых привлекает в нем именно «железная»,
бесчеловечная сторона его творчества. Среди самых ре-
шительных его апологетов поэт-декадент Т. С. Элиот.
Подобно тому, как Киплингу была присуждена Нобе-
левская премия (1907) за «мужественность стиля», так
и Т. С. Элиот был готов увенчать его лаврами «неувя-
322
дающего гения» за проповедь силы, натиска и воинст-
венной решительности.
Время, однако, произвело с судьбой писателя иной,
более взыскательный и человечный расчет.
АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ
Прежде чем говорить о писателе и его книгах, об-
ратим внимание на некоторых людей, его окружавших.
Перед нами встанут, собственно, три фигуры — словно
тени они возникают за спиной многих персонажей Ко-
нан Дойля.
Кто же они?
Джордж Бадд, студент Эдинбургского университета,
впоследствии доктор Бадд. Когда под пером Конан Дой-
ля явится прославленный сыщик Шерлок Холмс, он по-
лучит свою неукротимую энергию от Джорджа Бадда,
бригадир Жерар заимствует у него же манеру прихва-
стнуть, а профессор Челленджер в «Затерянном мире»
будет совершенно так же, как Бадд, носиться то с про-
ектом обезвреживания торпед, то нового и дешевого спо-
соба получения азота из воздуха и т. д. и т. п.
Следующий — профессор анатомии Эдинбургского
университета Вильям Резерфорд. Лекции, рассказывают,
он начинал читать еще в коридоре, постепенно входя
в аудиторию. И это было одно из мелких и безобид-
ных чудачеств, которые за профессором числились. Чер-
ная, особого фасона борода Резерфорда — вот она у то-
го же профессора Челленджера вместе с другими при-
вычками, манерами и фантазиями ученого-оригинала.
И еще одно, особенно важное лицо. Доктор Джозеф
Белл. С него, по мнению многих, «списан» Шерлок
Холмс. Исключительная наблюдательность Белла также
преподававшего в Эдинбургском университете, его уме-
ние «прочесть» биографию человека, разгадать его преж-
нюю жизнь по внешности, одежде, речи, жестам и под-
сказали будто бы писателю удивительную проницатель-
ность Шерлока Холмса. Ничего подобного заявляет по
этому поводу Адриан Конан Дойль, сын писателя. То,
что различные критики, считает он, слагали лавры
Шерлока Холмса к ногам доктора Белла — совершен-
ие
323
ная ошибка. Адриан сослался на слова Конан Дойля,
сказанные им однажды: «Если и был Холмс, так это я
сам». Он подразумевал все те же свойства натуры, склад
личности — волю, настойчивость, умение насквозь ви-
деть людей, умение строго логически мыслить, силу во-
ображения — все, что отличает Шерлока Холмса и что
было по-своему присуще и Бадду, и Беллу, и Резер-
форду.
Кто был Шерлоком Холмсом? — вопрос слишком пря-
молинейный, и к нему не следовало бы возвращаться,
если бы черты тех, кто в той или иной степени «был»
им, не группировались вокруг некоего психологического
центра, а более всего не воплощались бы в самом ав-
торе.
Итак, наконец, сэр Артур Конан Дойль —. «большого
сердца, большого роста, большой души человек»,— ска-
зал о нем Джером К. Джером, автор «Троих в одной
лодке». В Конан Дойле охотно различали свойства, ко-
торые англичане любят считать особенностями своего
национального характера. Например, спортсменство. Не
в специальном смысле, а в более широком понимании
тренированности тела и духа, энергии и энтузиазма.
Характерно, что традиционные английские биографи-
ческие справочники «Кто кто?..», сообщая происхожде-
ние «такого-то», где он учился, служил, что совершил,
изобрел, написал, напечатал, непременно указывают, чем
данный человек, этот отличившийся современник, имеет
обыкновение заниматься на досуге, какими видами спор-
та увлекается. И если посмотреть справку о Конан Дой-
ле в выпусках 1910-х годов, когда ему за пятьдесят,
то из года в год в графе его увлечений будут значить-
ся гольф, крикет, велосипед. Гольф — это сила и точ-
ность удара, но главное — ходьба, размеренная и много-
часовая. Крикет — темп, сердце. Велосипед — выносли-
вость. 20-е годы — и крикет, где надо подчиняться об-
щему ритму, уступает место бильярду. Все же гольф и
велосипед, позволяющие соразмерить напряжение с воз-
растными силами, у Конан Дойля как досуг остаются.
Конан Дойль был настоящим спортсменом: он возглав-
лял регату, играл в регби, готов был при случае бок-
сировать (в молодые годы).
Однако в еще большей мере отличался он умением
увлечься, войти в неспециальный азарт, как выходило
324
это, например, у бессмертного мистера Пиквика и его
друзей. Слово «приключение» сохраняло над ним власть
всю жизнь. Буквально перед смертью, чувствуя прибли-
жение последнего часа, Конан Дойль нашел в себе си-
лы пошутить: «За всю жизнь мою у меня было много
приключений. Но самое сильное и удивительное ждет
меня теперь».
У абсолютного большинства читателей имя Конан
Дойля вызывает в памяти героя многих его произве-
дений — Шерлока Холмса. На доме, где родился писа-
тель, имеется надпись: «Создатель Шерлока Холмса...»
Между тем Конан Дойль далеко не только «создатель
Шерлока Холмса», он — автор семидесяти книг: здесь
сборники рассказов, повести, романы — приключенче-
ские, фантастические, исторические, путевые очерки, сти-
хи, труды по... спиритизму и, наконец, автобиография
«Воспоминания и приключения (конечно же!) сэра Ар-
тура Конан Дойля». Есть разные свидетельства что зна-
менитый сыщик не пользовался особенным расположе-
нием самого писателя. Гораздо больший вес придавал
Конан Дойль своим историческим романам. И на это
имелись у писателя личные причины.
Сын писателя, все тот же Адриан Конан Дойль,
с гордостью подчеркивает, что в Британском «Словаре
национальных биографий» значатся пять представителей
фамилии Дойлей. Среди них Джон Дойль, дед писате-
ля, портретист и карикатурист, а также Ричард Дойль,
дядя писателя, художник журнала «Панч», иллюстратор
Теккерея. Диккенс и Теккерей были в числе семейных
знакомых Дойлей. Когда в «Национальные биографии»
вошло жизнеописание Артура Конан Дойля, то там го-
ворилось, что он происходит из семьи, «хорошо извест-
ной в области литературы и искусства». Следует до-
бавить: и довольно древней фамилии. Имена далеких
предков Конан Дойля попадаются на страницах рома-
нов Вальтера Скотта. Сэр Деннис Пэк, дядя матери,
вел в бой Шотландскую бригаду в битве при Ватер-
лоо. «Одни в нашей семье,— говорил Артур Конан
Дойль,— были благородны по происхождению, дру-
гие — по своим устремлениям». Адриан несколько кичит-
ся этим, но для его отца семейная традиция, так тес-
но соединившаяся с национальной историей, вовсе не
была предметом дутой спеси,
325
Во времена Конан Дойля, то есть на рубеже XIX—
XX столетий, не он один среди английских писателей
занимался в этом смысле геральдикой, отыскивая свои
исторические корни. Томас Гарди в свою очередь стре-
мился осмыслить историю с «семейной», так сказать, точ-
ки зрения. Вопрос даже не в титулах и дворянстве.
Действительным был творческий вклад Гарди или Дой-
лей в национальную историю. Он и составлял законную
гордость этих писателей.
С детских лет, главным образом под влиянием ма-
тери, Конан Дойль «вживался» в английскую историю,
различая в ушедших веках знакомые имена, детали,
события. Конан Дойль стал близко чувствовать про-
шлое. В романе «Белый отряд» он потом развернет кар-
тину Англии XIV столетия. И там, в частности, будет
сценка в придорожной гостинице. Конан Дойль покажет
таверну «Пестрый кобчик», где дым из камина лишь
частью выходит в трубу, а больше клубится здесь, пря-
мо в низкой, сумрачной зале. Сидит тут за кружкой эля
разный народ: местные жители, путники, а вот солдат
явился с добычей из Франции. Бродячий певец с грубо
сколоченной арфой занимает сидящих песней. Все
подхватывают. Пьют и поют: «За гусиные серые
перья...».
Конан Дойль наблюдает происходящее глазами Ал-
лейна Эдриксона, молодого человека, во многом на не-
го самого похожего. Звучит в дыму песня. Аллейн впо-
следствии пережил много сильных и тревожных впечат-
лений, но, несмотря на это, сцена, которую ему при-
шлось увидать теперь, запечатлелась навеки в его па-
мяти. Конан Дойль мог бы повторить это и о своей
памяти, вернее, воображении, которое с детства напол-
нилось и жило такими картинами, никогда им не видан-
ными и в то же время достоверно знакомыми.
За время последней предсмертной болезни Конан
Дойль нарисовал шуточную автобиографическую кар-
тинку «Старый конь»: он изобразил себя под видом по-
нурой, дряхлой клячи, которая тянет тяжело гружен-
ный воз («труд всей жизни»), а позади — длинный путь.
Разные вехи на этом пути! Конан Дойль обозначил те,
что казались ему существенными, символическими ри-
326
сунками и доставил имена и даты. Вышло все очейь
наглядно.
Телега жизни начинает свое движение с той поры,
которую Конан Дойль представил младенцем, орущим в
ванночке. Эдинбург, 1859 год. Там и тогда, 22 мая, ро-
дился «создатель Шерлока Холмса». Его отец Чарльз
Элтимонт Дойль был архитектором и художником, слу-
жил же он всего-навсего клерком в конторе. Человек
привлекательный внешне и духовно, натура творческая
и совершенно непрактичная, Чарльз Дойль был не-
удачником. Конан Дойль до конца своих дней считал
отца незаурядным живописцем; он мечтал на склоне
лет собрать и устроить выставку его работ, растерян-
ных где попало. Умер Чарльз Дойль в инвалидном до-
ме еще до того, как все дети подросли и стали на
ноги.
Это теперь в «Словаре национальных биографий»
читается столь торжественно: «Семья, известная в обла-
сти литературы и искусства». Между тем обладатели из-
вестного имени жили, как говорится, в «убогом благо-
получии». «Существовали мы в тяжелой атмосфере бед-
ности,— вспоминал писатель,— и каждый из нас старал-
ся как мог помогать младшим в семье».
Артур должен был бы, собственно, зваться просто
Дойлем, однако ему, как и его старшей сестре, дали еще
имя Конан, в честь дяди отца — Мишеля Конана, полу-
француза-полуангличанина, художника и литератора.
Мишель Конан не имел наследников и, желая сохра-
нить свое имя, передал его внучатным племянникам.
Шотландец по рождению, ирландец по националь-
ности, англичанин по воспитанию — так биографы счи-
тают необходимым указывать на своеобразие судьбы
Конан Дойля. Он уроженец Эдинбурга, земляк Р. Л. Сти-
венсона. Стивенсон лишь на девять лет старше. Они по-
знакомились через переписку, однако так никогда и не
встретились, но у них были общие друзья по Эдин-
бургу, им вспоминались одни и те же лица. Когда по-
явился Шерлок Холмс, Р. Л. Стивенсону показались
знакомыми некоторые его черты, и он интересовался в
письме к Конан Дойлю: «Уж не мой ли это старый
приятель Джо Белл?»
Большую роль в жизни Конан Дойля играла его
мать — Мэри Фоли. Об этом говорит хотя бы их пере-
327
писка, очень сердечная и весьма обширная: сохрани-
лось до полутора тысяч писем Конан Дойля к «матуш-
ке». Английские исследователи творчества писателя
упорно говорят о том, что дар рассказывать у него —
свойство потомственное, идущее от давних, еще рыцар-
ских традиций семейства. Во всяком случае, у Мэри
Фоли был этот дар, и она могла непосредственно пе-
редать его сыну. Как знать, может быть, способ по-
вествования, повторяющийся в «Подвигах» и «Приклю-
чениях» бригадира Жерара и в других произведениях
Конан Дойля — бывалый человек развлекает своих слу-
шателей рассказами,— потому и казался писателю осо-
бенно естественным, что он усвоил его с детства! Ко-
нан Дойль говорил прямо: «Настоящая любовь к ли-
тературе, склонность к сочинительству идет у меня, я
считаю, от матери». Он пояснил: «Если я что-нибудь и
помню со времен моего раннего детства, так это ее ув-
лекательные рассказы,, которые сохраняются у меня в
памяти столь живо, что заслоняют даже действительные
события моего существования тех лет. Она не только
была и есть удивительный рассказчик, но владела, я
помню, так искусно умением понижать голос до устра-
шающего шепота, что у меня и теперь пробегают му-
рашки по коже, когда я вспоминаю об этом. Я убеж-
даюсь, оглядываясь на прошлое, что именно стремле-
ние воспроизвести эти рассказы детства дало толчок
к развитию моей собственной фантазии».
Какие-то мрачные башни и стены — следующий
пункт на пути «старого коня». Это приготовительная
школа Годдера, а затем иезуитский колледж Стони-
херст (графство Ланкашир), где в 1869—1876 годах про-
шел школьную выучку Конан Дойль. Писатель не на-
рисовал и никак иначе не обозначил начальную школу
в Эдинбурге — тут ведь сделал он первые шаги к об-
разованию. Школа эта не изгладилась в его памяти.
Забыть ее было трудно. Учитель с ремнем в руках —
вот была бы, пожалуй, наиболее показательная иллю-
страция к этому эпизоду из жизни Конан Дойля.
«В возрасте от семи до девяти лет,— писал он потом,—
я страдал под властью рябого одноглазого мерзавца, ко-
торый будто бы сошел со страниц Диккенса». Чтобы
еще живее представить себе атмосферу этой школы, сле-
дует, вероятно, перечитать всколыхнувшие в свое время
328
всю Англию главы из диккенсовских «Приключений
Николаса Никльби», где изображается детский пан-
сион.
«Он калечил наши юные жизни»,—вспоминал об этом
учителе Конан Дойль. Как раз в столкновении с такой
жестокостью и как видно, очень рано обнаружилось уди-
вительное здоровье натуры писателя. Он ребенком испы-
тал жестокость, пережил ее, она оставила заметные руб-
цы, а все же не вселила в его душу неисправимую
робость, дрожь и даже неприязнь к напористой силе.
Конан Дойль всю жизнь ценил умение ударить и, если
требуется, дать сдачи. В семьдесят лет он едва не об-
ломал зонтик о наглеца, оскорбившего его отцовские
чувства.
«Иезуитский колледж» — звучит страшно. У Дж.
Джойса в романе «Портрет художника в молодые годы»
(1904—1914) описано на основе личного опыта суровое
иезуитское учебное заведение. Конан Дойль жил в Анг-
лии, но и здесь нравы иезуитов оставались столь же
средневековыми. Та же сухость во всем: в методе и
материале преподавания, в обращении с воспитанника-
ми, в распорядке жизни и в пище. Даже розгу звали
похоже: у Конан Дойля — «Толлей», а у Джойса —
«Торкай».
Отдать сына в иезуитский колледж побуждала роди-
телей Артура ритуальная привязанность к своей «старой
родине», к Ирландии, хотя они давно натурализова-
лись в Англии. Особенно их поддерживал в этом наме-
рении Мишель Конан. «Его (Артура) национальный
вкус,— подчеркивал он в письме к Мэри Фоли,— в ко-
тором у меня нет никаких сомнений, и определенная
доля выучки в Стонихерсте сделают из него закончен-
ного художника и позволят ему, таким образом, занять
высокое и почетное положение». Однако в то же время
Конан всячески предостерегал родителей будущего пи-
сателя от последующих шагов в этом направлении, от
того, чтобы выбрать для него религию делом жизни и
связать его судьбу с иезуитами.
К этому времени определился круг чтения Конан
Дойля, чтения еще юношеского, однако, как и детские
рассказы матери, сохранившего влияние на интересы
всей его жизни. «С тех пор,— говорил он о детстве,—
мне приходилось в самом деле стрелять медведей и охо-
329
титься на китов, но все не шло ни в какое сравне-
ние с тем, как я пережил это впервые с мистером Бал-
лантином или капитаном Майном Ридом в руках». Майн
Рид, Р. М. Баллантин, автор романа «Коралловый ост-
ров»,— пора мальчишества. Теперь же, в Стонихерсте,
Конан Дойль попадает под власть Вальтера Скотта, за-
читывается «Айвенго». Особую роль в его литературной
ориентации сыграли «Этюды» крупного английского ис-
торика Т. Б. Маколея. Это была одна из тех задушев-
ных для него книг, импульс впечатления от которых
действует долго. Маколей увлек его манерой изложения,
живостью исторических картин и выразительностью пор-
третов. Кроме того, хотя тогда это еще не могло быть
юношей осознано, Маколей патетически защищал прод-
вижение той среднебуржуазной прослойки, к которой
принадлежал и Конан Дойль. «Этюды» занимали почет-
ное место на его книжной полке до конца дней.
Со школьных лет в Конан Дойле буквально «заго-
ворил» рассказчик. Услышанное от матери, прочитан-
ное, игра пробудившегося воображения — все это проси-
лось наружу, и он занимал устными повествованиями
своих товарищей. Рассказы продолжались изо дня в день
и так неделями — свидетельствует Конан Дойль в своих
воспоминаниях. Он выдумывал что-нибудь захватываю-
щее, чтобы происходили битвы, схватки, чтобы лилась
кровь и совершались подвиги. «Подношения в виде сла-
достей побуждали меня творить дальше,— вспоминает
он,— и я всегда деловито уславливался относительно
кексов, что показывало, насколько я был от рождения
предназначен стать членом Общества литераторов. Иног-
да меня настигал упадок творческих сил и только яб-
локи придавали мне новую энергию. Когда же я подхо-
дил к моменту — «Держа левой рукой ее пышные локо-
ны, он правой размахивал ножом у нее над головой,
а тем временем...» или «Медленно, медленно отворилась
дверь, и взором, полным ужаса, несчастный маркиз уви-
дел...»,—я чувствовал, что слушатели в моей власти».
И рассказы, и Вальтер Скотт, и Маколей — все это
держалось в стороне от наставнических глаз.
Как ни тягостно было у Год дер а и в Стонихерсте,
но и на этот раз сказалась прочность характера Ко-
нан Дойля; тогда «конь» был совсем молод и усерд-
но тянул поклажу. «Должен сознаться,— писал он впо-
330
следствии жене друга, спросившей у него совета,— что я
не нахожу систему воспитания в Стонихерсте удачной, и я
бы, например, не послал туда своего сына, если бы он
у меня был. Они чрезмерно старались воздействовать
страхом и слишком мало любовью или разумом». Тем
не менее «упрямый маленький мул» (так в этот раз
назвал себя писатель) выполнял требуемое, получал на-
грады и успешно закончил курс.
Конан Дойль не отметил рисунками поездки после
окончания колледжа в Лондон, а затем на континент,
в Австрию, и на обратном пути в Париж. Между тем
именно в эту пору решалась его дальнейшая судьба.
Мэри Фоли не ради экономии средств, а по убеждению
не оставляла мысли о карьере священника для своего
сына. В Австрии он опять находился в иезуитском кол-
ледже, в той же, по существу, обстановке. Однако в Па-
риже он встретился со своим двоюродным дедом Мише-
лем Конаном, редактором «Журнала искусств». Пола-
гают, что Конан, сам литератор, был убежден в писа-
тельском призвании своего внучатного племянника и
оказал решительное воздействие и на родителей и на
Артура. С церковными планами было покончено.
Усидчивый студент за книгами — таков очередной
символ на пути «старого коня». Это — Эдинбургский
университет, 1876—1881 годы. Авторитет Мишеля Ко-
нана подействовал, однако, не вполне и не сразу. Бо-
лее влиятельным оказалось слово доктора Уоллера, дру-
га семьи, по совету которого Конан Дойль решил сде-
латься врачом и поступил на медицинский факультет.
Здесь и слушал он лекции Джозефа Белла, профес-
сора Резерфорда, здесь свел дружбу с Джорджем Бад-
дом. Особенно удивительны были занятия с доктором
Беллом. Белл пользовался в Эдинбурге всеобщей попу-
лярностью. Сохранилось немало рассказов, о том как
умел он сам и как учил студентов «разгадывать» лю-
дей.
— Что с этим человеком, сэр? — вопрошал он студен-
та.— Посмотрите-ка на него получше! Нет! Не прика-
сайтесь к нему. Пользуйтесь глазами, сэр! Да, пользуй-
тесь глазами, действуйте мозгом! Где ваш бугор аппер-
цепции? Пускайте в ход силу дедукции!
Оригинальная одаренность подкреплялась у Белла
большим медицинским опытом. Главный хирург Коро-
331
левской лечебницы в Эдинбурге, он начинал некогда са-
нитаром. Из своего обширного профессионального бага-
жа он искусно подбирал «ключ» к характеру и недугу
пациента. Вот его суждение: «Перед нами рыбак, гос-
пода! Это можно сразу заметить, если учесть, что даже
в столь жаркий день наш пациент носит высокие сапо-
ги. Кроме моряка, никто не станет в такое время года
носить высокие сапоги. Загар на его лице говорит о
том, что это сухопутный, прибрежный моряк, а не моряк
дальнего плавания, открывающий новые земли. Загар
этот явно возник в одном климате, местный загар, так
сказать... За щекой у него жевательный табак, и он уп-
равляется с ним весьма уверенно. Свод всех этих умо-
заключений позволяет считать, что этот человек — ры-
бак. Далее, об этом свидетельствуют рыбьи чешуйки,
уцепившиеся за его одежду и налипшие ему на руки.
И, наконец, специфический запах позволяет судить о его
занятии с особенной определенностью». И Белл редко
ошибался.
Занятия Конан Дойля двигались успешно. Не забы-
вал он и литературу, хотя писательство было для него
пока вторым делом, развлечением, хобби. Еще когда он
был студентом, ему удалось кое-что опубликовать. В ок-
тябре 1879 года в «Чемберс джорнэл» появился его рас-
сказ «Тайна Сэсасской долины», а «Лондон сосаети»
принял «Американскую повесть». Вещи эти прошли не-
замеченными. Впрочем, и в памяти самого автора они не
оставили существенного следа.
Несколько позднее, но все же в ранние годы своего
писательства Конан Дойль сотрудничал в журнале
«Корнхилл мэгэзин» и очень гордился этим. В свое вре-
мя там активно печатался Теккерей, а потом — Р. Л. Сти-
венсон. Рассказы Конан Дойля помещались анонимно,
чтобы не навлечь на молодого автора гнев рецензентов.
И в самом деле, один утверждал: «Теккерей в гробу,
должно быть, перевернулся от этих рассказов!» Одна-
ко другой счел их достойными «Новых арабских ночей»,
то есть книги Стивенсона.
Каникулы предпоследнего года обучения в универ-
ситете Конан Дойль провел в плавании. Ему повезло,
и он попал корабельным врачом на судно, отправляв-
шееся в арктические воды. Новые горизонты открылись
перед ним и необычайно вдохновили молодого человека.
332
В 1881 году Конан Дойль получил университетский
диплом, стал М. Б., то есть «Бэчелер оф медисн» —
бакалавром медицины. На этом, однако, профессиональ-
ная подготовка не заканчивалась. Надо было сделать-
ся М Д.— доктором медицины. И 1882—1890 годы ока-
зались заняты, как пометил на своем жизненном мар-
шруте Конан Дойль, врачебной практикой. В 1882 году
он снова в плавании, на этот раз южном. Он повидал
Западную Африку.
В Англии Конан Дойлю пришлось сменить несколь-
ко городов и не раз сняться с места, прежде чем он
удачно обосновался в приморском городке Саутси.
В послеуниверситетские годы Конан Дойль пережил
духовный перелом и окончательно отошел от религии.
Для него, родившегося и воспитанного в традициях ир-
ландского католичества, это был очень болезненный кри-
зис. И тем не менее ни католицизм, ни англиканская
церковь не смогли удержать его в своем лоне. Большое
влияние оказывала на него тогда наука — естествозна-
ние и философия, представленные в Англии именами
Дарвина, Томаса Гексли, Герберта Спенсера, Дж. Стю-
арта Милля. Эти люди, отмечал позднее Конан Дойль,
были решительными «отрицателями» и вместе с тем в
нравственном отношении значительно меньше предлага-
ли взамен, чем отбрасывали, но сила их раскрепощаю-
щего воздействия на умы была непреодолима.
Изображая себя самого этого времени па пути «ста-
рого коня», Конан Дойль нарисовал фигуру молодого
человека в легком пальто и шляпе и с каким-то не то
ореолом, не то облаком над головой. То были, видимо,
его мечты и надежды добиться места в жизни. И он
многого достиг. Здесь, в Саутси, за восемь лет не толь-
ко сформировался доктор Конан Дойль, но и явился
Конан Дойль-писатель. Желанные литеры М. Д. прибави-
лись к его имени в 1885 году, когда он защитил дис-
сертацию. А в 1887 году вышла в свет первая его по-
весть «Этюд в багровых тонах». Главные персонажи
этой повести потом долго не разлучались с писателем.
Это были доктор Уотсон и Шерлок Холмс.
Первый рассказ из серии «Приключения Шерлока
Холмса» — «Скандал в Богемии», появился в июле 1891 го-
да в «Стрэнд мэгэзин», и детектив с Бейкер-стрит
прочно укрепился на страницах этого журнала. Конан
333
Дойль очутился на некоторое время во власти собствен-
ного персонажа. Через два года он при всей своей вы-
держке, здоровье и плодовитости стал тяготиться непре-
менной надобностью продолжать нескончаемую цепь по-
хождений Шерлока Холмса. «Дорогая матушка,— сооб-
щал он Мэри Фоли в одном из писем.— ...Я решил убить
Шерлока Холмса. Он отвлекает меня от более важных
вещей», «Кровожадное» намерение было выполнено: в
рассказе «Последнее дело 'Холмса» '(1893) Шерлок
Холмс погиб в схватке с профессором Мориарти. Но от-
делаться от любимца читающей публики оказалось не
так просто. И хотя в конце рассказа было подчерк-
нуто, что эксперты не имели двух мнений по поводу ис-
хода борьбы грозных соперников на краю жуткой про-
пасти, тем не менее лет через десять Шерлока Холмса
пришлось воскресить.
Конан Дойль с большим энтузиазмом занимался ис-
торической темой. Первый его исторический роман вы-
шел тотчас следом за «Этюдом в багровых тонах». Затем
появилась любимая книга самого Конан Дойля — роман
из английской истории XIV века «Белый отряд».
В 1901—1902 годах на страницах журнала «Стрэнд мэгэ-
зин» Конан Дойль опубликовал образцовую в своем
романе повесть «Собака Баскервилей».
Первым из видных писателей на талант начинающе-
го Конан Дойля обратил внимание Оскар Уайльд. Впо-
следствии они встретились у редактора журнала «Лип-
пинкотс мэгэзин». Эта встреча осталась для Конан Дой-
ля на всю жизнь одним из ярких впечатлений. Оскар
Уайльд царил за столом, и хотя общий разговор больше
походил на монолог, произносимый одним Уайльдом, это
выходило естественно, и его принимали как достойно-
го властелина в умении занять слушателей.
Редактор предложил каждому из них дать в его
журнал по одному произведению. Оскар Уайльд напи-
сал тогда «Портрет Дориана Грея», Конан Дойль —
«Знак четырех».
С 1891 года Конан Дойль оставил врачебную прак-
тику. Литература стала для него профессией. Он про-
должал путешествовать. Ездил по Европе; в швейцар-
ском курорте Давосе познакомился с Редьярдом Кип-
лингом. Конан Дойль высоко ценил стихи Киплинга, од-
нако тут же ревниво замечал: «А большой прозаиче-
334
ской вещи ему не написать...» В Норвегии он был вме-
сте с Джеромом К. Джеромом, и тот оставил об этой
поездке забавные воспоминания вполне в духе «Троих в
одной лодке». Конан Дойль пересек океан и посетил
Соединенные Штаты, где выступал с публичными чте-
ниями своих произведений. Побывал в Египте.
Попробовал Конан Дойль свои силы и в драматур-
гии. Его пьеса «Ватерлоо» (1894—1895) с выдающимся
английским актером Генри Ирвингом в главной роли
прошла очень удачно в Бристоле и в Лондоне. Очеви-
дец отметил в дневнике: «Новая пьеса — невероятный
успех. Генри Ирвинг великолепен и грандиозен. Все сме-
ялись и плакали. Прекрасное изображение старости. Во-
семь вызовов в финале».
Были сделаны также две инсценировки по мотивам
рассказов о Шерлоке Холмсе — одна в США, другая в
Англии. В первой из них Конан Дойль выступал, соб-
ственно, только как консультант, отвечая за океан на
вопросы постановщика: «Можно женить Шерлока Холм-
са?» — «Делайте с ним, что хотите!» Сам Конан Дойль
написал пьесу по рассказу «Пестрая лента». И ему и
рецензентам спектакль в общем казался удачным. Хо-
рош был в роли Шерлока Холмса Сэнтсбери. Конан
Дойль считал, что этот актер наиболее точно соответ-
ствует его представлениям о внешности и манерах зна-
менитого детектива. Мнения автора и печати разошлись
в одном неожиданном пункте. В интриге этого рассказа
первостепенное место занимает ядовитая змея. Писатель
намеревался как можно больше ошеломить и устрашить
зрителей и приспособил для спектакля живого «испол-
нителя». Однако результат получился обратный: в зале
отказывались принимать его за настоящую змею. «Весь
спектакль,— утверждала одна газета,— портит отвра-
тительное «чучело змеи». Хотел бы я,— в свою очередь,
возмущался Конан Дойль,— чтобы этот писака позна-
комился с таким «чучелом» поближе! Он подбирал новых
и новых змей, однако все они, по его признанию, ока-
зались «плохими актерами». Пришлось обратиться к
обычному театральному реквизиту и просто повесить му-
ляж. Эффект превзошел все ожидания. Газеты писали:
«Прекрасно смотрится на сцене живая змея». Такова уж
ирония в соотношении фактической достоверности и те-
атральной правды!
335
Уже на закате своих дней Конан Дойль встретил-
ся творчески с крупным кинорежиссером Альфредом
Хичкоком, который снял по его сценарию фильм
«Ринг» (1927).
1900 год — англо-бурская война. Конан Дойль сно-
ва врач. Он добровольно стал главным хирургом в по-
левом госпитале, организованном богатым филантропом.
«Дело в том,— писал он Мэри Фоли,— что, мне кажется,
я имею сильное влияние на молодых людей, особенно
на молодых, атлетически развитых, спортивных людей
(как и Киплинг). И коль скоро это действительно так,
чрезвычайно важно, чтобы именно я подал им пример.
Вопрос не в моих сорока годах, хотя я совершенно здо-
ров, как всегда, но в том воздействии, какое я могу
иметь на эту молодежь». По возвращении с фронта он
составил свой писательский отчет о войне — книгу, ко-
торая вызвала широкий отклик в общественном мнении
и политических кругах. С тех пор Конан Дойля стали
называть Патриотом. Был это, разумеется, тот самый
«патриотизм», о котором А. И. Куприн выразительно
писал в очерке «Редиард Киплинг», где упоминается и
Конан Дойль: «беспримерно жестокая колониальная по-
литика».
Конан Дойль выпустил еще одну книгу — «Война в
Южной Африке; ее суть и события» (1902), где в сжа-
том виде изложил свою точку зрения. Он значитель-
но сблизился со сферами высшей английской политики.
Получил дворянское, рыцарское звание, стал сэром.
Дважды, в 1901 и в 1906 годах, он баллотировался на
выборах по Эдинбургскому округу, однако оба раза без-
успешно. Но это не охладило и не исчерпало общест-
венного пыла писателя. Свою незаурядную энергию он
устремил в иную область. Так, с завидной настойчи-
востью и совершенно безвозмездно Конан Дойль высту-
пал ходатаем за некоего Джорджа Эдалжи, который
в 1903 году был осужден на семь лет тюрьмы. Дело
его было состряпано полицией. Узнав об этом в 1906 го-
ду, Конан Дойль в январе 1907 года опубликовал в
«Дейли телеграф» серию статей, принял другие энер-
гичные меры и добился окончательного оправдания сво-
его подопечного.
На исходе 1900-х годов Конан Дойль оказался глу-
боко вовлечен в широкий международный конфликт по
336
поводу политики Бельгии в Конго. Теперь он высту-
пил с развернутым осуждением колониальной политики,
впрочем, именно бельгийской колониальной политики,
которая нарушала ряд соглашений относительно Конго,
касавшихся Англии и Франции. Когда произведенные
им разоблачения постарались опровергнуть на том осно-
вании, что он тенденциозно осветил факты, желая лишь
способствовать интересам Англии, Конан Дойль отвечал
на это: «Бельгия не управляла своей колонией. Она про-
сто выжимала из нее соки, заставляя силой местное на-
селение отправлять пароходами все сколько-нибудь цен-
ное в Антверпен». Конан Дойль привел в самом деле
сильный разоблачительный материал, дал картину бес-
человечия и беззакония колониальных бельгийских вла-
стей, того, что одним словом было указано в заглавии
его книги — «Преступление в Конго» (1909).
Книгу эту Конан Дойль написал в неделю: его за-
интересованность в конголезском инциденте была ис-
ключительной. Даже некоторые крупные политические
деятели обратили пристальное внимание на происходив-
шее в Конго, лишь прочитав написанное Конан Дой-
лем. Из других английских и американских писателей
участие в обсуждении конголезской проблемы принимал
Джозеф Конрад, но значительно менее активно. Марк
Твен, хотя был уже серьезно болен, все же просил пе-
редать Конан Дойлю, что с интересом ознакомился с
его книгой. Своеобразную позицию занял Киплинг, для
которого колониальная тема была, как известно, нео-
бычайно острой. Он знал о Конго и прочел книгу Ко-
нан Дойля, оценив его осведомленность и разоблачи-
тельное воодушевление. Однако сам Киплинг не был
склонен к тому, чтобы энергично воздействовать на ми-
ровое общественное мнение. Если конфликт разрастет-
ся, замечал он Конан Дойлю, то ведь не придется в
изъявлениях человеколюбия ограничиться патетически-
ми призывами. «А вдруг,— продолжал он,— Бельгия ре-
шит дать нам совет заниматься нашими собственными
делами (с добавлением некоторых неприятных замеча-
ний относительно Индии), что мы будем делать?» На-
конец, Германия — она может взять Бельгию под свое
крыло, приняв «позу защитника угнетенных националь-
ностей». И далее, завершал свои предостережения Кип-
линг, вопрос сведется к простой арифметике солдат,
337
ружей и мощных кораблей: «Международные гарантии
не стоят бумаги, на которой они изложены, когда Гер-
мания редактирует текст».
Конан Дойль не принял этих опасений и продолжал
публично отстаивать свою точку зрения.
В эти годы он работал и над художественными про-
изведениями. Вышли его научно-фантастические повести
«Затерянный мир» (1912) и «Отравленный пояс» (1913).
Здесь обрисовался еще один характер, который как оп-
ределенный человеческий тип постоянно интересовал пи-
сателя,— профессор Челленджер, с его неистовством,
причудами и вместе с тем непоколебимой исследова-
тельской целеустремленностью. Тогда же была написана
последняя из детективных повестей Конан Дойля, «До-
лина ужаса», где по-прежнему действовал Шерлок Холмс,
а кроме него, появился сыщик Мак-Мурдо (он же Верди
Эдвардс), похожий, впрочем, по характеру своих дейст-
вий на агента-провокатора. Невозможно согласиться с
мнением одного из основных биографов Конан Дойля —
Дж. Д. Карра, считающего «Долину ужаса» чуть ли не
лучшей из книг писателя в этом жанре. Напротив, по
этой повести видно, как в конце концов оскудела де-
текивная «жила», столь долго и неустанно разрабаты-
вавшаяся писателем. Героический ореол держался вок-
руг фигуры Шерлока Холмса значительное время имен-
но потому, что это был содержательный человек и ма-
стер своего дела. Мак-Мурдо мелок, навязчив и никак
не годится в преемники прославленному обитателю ка-
бинета на Бейкер-стрит.
При энергичной литературной работе Конан Дойль
не оставлял и спорта. Он не просто отдыхал или под-
держивал свои силы, а опять-таки развил обширную
деятельность, организуя, вдохновляя, пропагандируя. Не
зря же громоздкий воз, который тянет «старый конь»,
венчают боксерские перчатки, клюшки для гольфа и лы-
жи. Летом 1911 года Конан Дойль отправился в Гер-
манию для участия в англо-немецком автопробеге. Здесь
его застал так называемый «инцидент Пантера — Ага-
дир», то есть провокационная вылазка немецкого воен-
ного судна, возвестившая приближение общеевропейской
катастрофы. «Что-то все это значит!» — заметил тогда
же Конан Дойль приятелю, но пробег все-таки закон-
чил.
338
С началом первой мировой войны писатель, которо-
му исполнилось пятьдесят пять лет, снова готов был ид-
ти добровольцем, и снова он видел в этом миссию ве-
терана, обязанного подать пример. «Мне дана только
одна жизнь, чтобы прожить ее,— писал он брату Инес-
су Дойлю, в будущем генералу,— и вот возможность
пройти удивительное испытание, что к тому же способ-
но оказать благотворное воздействие на других». Его
предложение было отклонено. Все же в составе англий-
ского военного флота плавал в это время траулер, на-
званный «Конан Дойль». А главное, сын, брат, два пле-
мянника, зять, брат жены Конан Дойля, ушли на фронт.
Все погибли. Сын Кингсли был ранен на Сомме в гор-
ло и за несколько часов до перемирия скончался от вос-
паления легких. Тот же недуг унес брата Инесса.
Всю войну Конан Дойль писал не покладая рук; по
неостывшим следам событий он составлял летопись это-
го мирового потрясения. Его «История действий англий-
ских войск во Франции и Фландрии» начала выходить
в 1916 году — когда гремела война, а к 1920 году бы-
ли изданы шесть томов.
Конан Дойлю предложили посетить театр военных
действий. Результатом поездки была его книга «На трех
фронтах» (1916). Он посетил английскую, итальянскую
и французскую армии, то есть побывал на позициях,
где в это время сражались будущие авторы романов
«Огонь», «Смерть героя», «Прощай, оружие!». Конечно,
ни революционного пафоса Анри Барбюса, ни горечи
разочарования Олдингтона или Хемингуэя не мог бы
разделить Конан Дойль. Он смотрел совершенно иными
глазами. Сам готовый идти на смерть и принесший тяж-
кие личные жертвы, он видел в происходящем герои-
ческий трагизм.
В своем старом мундире, при ордене, Конан Дойль,
став опять на короткий срок солдатом, сжился с армией.
Он был на передовой, ходил по окопам. «С фронта труд-
но писать,— отмечал он.— Известно, что имеются некие
вежливые, однако неумолимые джентльмены, которые
могут высказать свое мнение, и это повлечет за собой
«небольшое упрощение стиля»». Он прекрасно понимал,
что, если даже смотреть с оптимистической и благо-
желательной точки зрения, положение дел гораздо бо-
лее сурово, чем это изображается в официальных сооб-
339
щениях. Но сам он преисполнен был воинственного во-
одушевления, и это по-особому окрашивало в его гла-
зах и армейские будни и настроение солдат.
«Железный» Киплинг, также склонный мыслить го-
сударственно,— и тот предпочитал иногда остаться в
стороне. Конан Дойль же все время здесь, «на улице»,
на людях. Он убеждали разубеждал в чем-то правитель-
ство, спорил с генералами, воевал с судьями, писал в га-
зеты, конфликтовал с собратьями по перу, и тем не ме-
нее он оставался с ними. В то время в своих демо-
кратических симпатиях Конан Дойль был осторожен,
предпочитая не переходить известной грани. Сословный
дух жил в нем также неистребимо. Они различались в
этом смысле с Уэллсом. Создателю «Машины времени»
была свойственна простота обращения, в нем не сквози-
ло и намека на снобизм. «Вы, кажется, играли некогда
в крикет в Липхуке?» — спросил он однажды Конан
Дойля. Тот отвечал утвердительно. «А не приходилось
вам замечать старика, профессионала, содержателя пло-
щадки?» Конан Дойль вспомнил и старика. «Это был
мой отец»,— добавил Уэллс. Конан Дойль был шо-
кирован.
Однако когда речь шла о солдатской или хотя бы
спортсменской спайке, тут Конан Дойль оставался
«обыкновенным человеком», готовым разделить общую
участь.
В нем жил решительный, органичный, проникающий
всю его натуру оптимизм, и символично, что после его
смерти был найден конверт с записями, где говори-
лось: «Я не страшусь того зла, которое способен мне
причинить человек».
Но, должно быть, испытания военных лет все-таки
пошатнули Конан Дойля. Во всяком случае, именно на
исходе войны он как бы в поисках выхода из гнетущего
настроения обращается к спиритизму. Этот ясный, ре-
альный человек интересуетсся вдруг такими сочинения-
ми, как книга Мейерса «Человеческая личность и ее
дальнейшая жизнь после телесной смерти». Французский
биограф Конан Дойля — Пьер Нордон, единственный, ко-
му удалось получить доступ к неопубликованным семей-
ным архивам писателя, называет вопрос, связанный с
этой стороной его жизни, «деликатным»1 Тут в самом
1 Р. Nordon. Conan Doyle. A Biography. N. Y., 1967, p. 139.
340
деле есть, вероятно, глубоко личные мотивы. Рафаэль
Сабатини, автор «Одиссеи капитана Блэда», рассказы-
вал, что, когда у него погиб в автомобильной катастрофе
сын, Конан Дойль советовал ему искать утешения в спи-
ритизме,
Личные мотивы, особенно гибель близких людей, по-
влияли на умонастроение писателя, однако не без воз-
действия других основательных причин. Конан Дойля
тревожило нарастание социальных противоречий и клас-
совых конфликтов, он пережил определенный внутренний
кризис, когда почувствовал, что над буржуазным суще-
ствованием нависла угроза решительных потрясений,
а он не видел приемлемого для его убеждений реального
выхода. Повышенный интерес к спиритизму связан с
этим его состоянием, на что указывают, в частности,
и произведения художественной фантастики, написанные
Конан Дойлем к концу его жизни.
В 1924 году Конан Дойль издал свои собственные
«Воспоминания и приключения». В 1929 году вышла
его научно-фантастическая повесть «Маракотова без-
дна».
В начале 20-х годов Конан Дойль съездил в Австра-
лию, а всего за год до кончины — снова в Южную Африку
и Норвегию с лекционным турне. По возвращении из Ос-
ло он уже не в силах был добраться домой без посто-
ронней помощи. «Старый конь долго тащил тяжелый воз.
Но за ним был хороший уход. Надо, чтобы недель шесть
он постоял в конюшне, да еще на шесть месяцев пустить
его на траву, и он снова отправится в путь»,— так рассуж-
дали у Конан Дойля врачи — «ветеринары», изображен-
ные писателем тут же на картинке. Однако путь «старо-
го коня» непреодолимо шел под уклон. И рисунок —
больной в постели — с датой «1930» оказался послед-
ним. Конан Дойля в этом году не стало.
Посмертная жизнь «создателя Шерлока Холмса» сло-
жилась в общем столь же удачливо, как быстро и ес-
тественно росла прижизненная слава Конан Дойля.
Шерлок Холмс и его спутник доктор Уотсон соперни-
чали в популярности с персонажами Шекспира и Дик-
кенса. Речь шла не о том, чтобы поставить самого Ко-
нан Дойля в один ряд с гигантами английской литера-
туры, но эти два его героя в самом деле казались ли-
цами реальными, убедительно живыми, как мистер Пик-
341
Вик и Сэм Уэллер. И если англичане хорошо помнят, что
Хэмпстедские пруды в Лондоне — это те самые, где члены
Пиквикского клуба изучали жизнь колюшки, то не менее
прочно сохранились в национальной памяти названия
улиц, отелей, связанных с именем Шерлока Холмса и
его изысканиями. Показательно, что иногда говорят, буд-
то обстановка кабинета знаменитого сыщика была пере-
несена с Бейкер-стрит в специальную мемориальную
комнату «клуба Шерлока Холмса» неподалеку от Скот-
ленд-Ярда. Почему же «перенесена»? Разве жил когда-
нибудь на Бейкер-стрит Шерлок Холмс? Трудно пове-
рить, что нет. И это — лучшее свидетельство главной
удачи писателя в его долгой жизни и деятельности.
Конан Дойля влекли и история, и моря, и не толь-
ко дальние, но и вымышленные страны, а главное —
романтика рядом, где-то здесь, за углом. У Герберта
Уэллса есть рассказ «Волшебная лавка», у Конан Дой-
ля — «Таинственная дверь», и по этим двум произведе-
ниям видно, как владело английскими писателями
стремление неожиданно открыть средь бела дня некую
тайну, вдруг отыскать «дверь в стене», через которую
можно будет проникнуть в необычайный мир. Шерлок
Холмс и называл это своим «пристрастием ко всему не-
обычному, ко всему, что выходит за пределы привычно-
го и банального течения повседневной жизни». Но тот
же Шерлок Холмс следовал четкому правилу: «Чтобы
отыскать эти непонятые явления и необычные ситуации,
мы должны обратиться к самой жизни, ибо она всегда
способна на большее, чем любое усилие фантазии».
Книги Конан Дойля определенно складываются в не-
сколько циклов. Каждый из этих циклов соединен тема-
тически или судьбами одних и тех же героев, или одно-
го и того же героя. Так следует одна за другой книги
о бригадире Жераре, книги, где действует Шерлок
Холмс или профессор Челленджер.
Похождения Шерлока Холмса занимают четыре ро-
мана (как называл их автор, но точнее сказать, пове-
сти) : «Этюд в багровых тонах», «Знак четырех», «Со-
бака Баскервилей», «Долина ужаса» — и пять сборни-
ков рассказов.
А. И. Куприну принадлежит выразительная, хотя не-
сколько преувеличенная характеристика: «Конан Дойль,
заполнивший весь земной шар детективными рассказа-
342
ми, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком
Холмсом, как в футляр, в небольшое гениальное произ-
ведение Э. По — «Преступление на улице Морг» 3. Ска-
зано, может быть, излишне сурово, но, по сути, точно.
Предшественников Шерлока Холмса нетрудно назвать.
Во Франции это Лекок из романов Эмиля Габорио,
в Англии — сыщик Кафф из «Лунного камня» Уилки
Коллинза, однако самый ранний — это Дюпен из «Убий-
ства на улице Морг».
Конан Дойль не скрывал литературной родословной
своего героя. Он был восторженным почитателем Эдга-
ра По. Кстати в его архиве сохранился редкий доку-
мент: подробное письмо одного из очень немногих, а мо-
жет быть, единственного (к 1909 году) человека, знав-
шего лично американского писателя и присутствовавшего
на его нищенских похоронах.
Та самая «сила дедукции», о которой постоянно на-
поминал своим студентам доктор Джозеф Белл, то есть
умение делать вывод на основе множества мимолетных
наблюдений, и оказалась действенным орудием следствия,
сыска, розыска в руках Дюпена. «Полицейских смуща-
ет,— говорит Дюпен,— видимая немотивированность»,—
речь идет о небывало зверском убийстве... В полиции
озадачены, потому что там привыкли искать мотивы
преступных действий прямым путем, привыкли тянуться
по следу преступника и обкладывать его, будто за-
травленного зверя. Иное дело Дюпен. В его глазах улик
и мотивов достаточно. Стоило ему заметить оттенок в
показаниях свидетелей, из которых одни говорили, что
слышали визгливый голос, а другие утверждали — хрип-
лый, как у Дюпена возникает догадка, предопределя-
ющая весь дальнейший ход расследования тайны.
«Рассудок силится установить причинную связь явлений,—
размышляет, в свою очередь, Легран, добровольный де-
тектив из рассказа «Золотой жук»,— и, потерпев неуда-
чу, оказывается на время парализованным». Но только
на время. Легран вновь и вновь приводит в систему
факты и наблюдения, на первый взгляд никак между
собой не связанные, пока наконец не обнаружится в их
сопоставлении своя логика.
3 А. И. Куприу. Собр. соч. в шести томах, т, 6. М., Гослитиздат, 1958,
стр. 608.
343
И Конан Дойль говорил о Шерлоке Холмсе, что
его герой раскрывал сложные криминальные случаи не
из-за промахов преступника, а благодаря своему уме-
нию.
«Так называемые аналитические способности нашего
ума сами по себе малодоступны анализу» — этой про-
блемой открывается рассказ «Убийство на улице Морг».
Речь идет об этом в самом начале 40-х годов прошлого
века, когда впереди еще — за единичными исключения-
ми — будущее развитие литературной школы психологи-
ческого анализа. Эдгар По — среди пионеров, осваиваю-
щих неведомую область. Гениальность его, о которой го-
ворил Куприн, и сказалась в плодотворном направлении
поисков, в точности намеков и находок, развитых позд-
нейшими писателями далеко за пределами детективного
жанра.
Конан Дойль следовал создателю Дюпена и Леграна
в более узком, специальном смысле. Кажется, будто в
самом деле Шерлок Холмс продолжает своими мыслями
и действиями первые страницы «Убийства на улице
Морг». «Известно,— говорится там,— что для человека,
исключительно одаренного в этом смысле, дар анализа
служит источником живейших наслаждений. Как атлет
радуется своей силе и ловкости и находит удовольствие
в упражнениях, заставляющих его мышцы работать,
так и аналитик горд своим умением распутать любую
головоломку. Всякое, хотя бы и нехитрое занятие, вы-
секающее искры из его таланта, ему приятно. Он обожа-
ет загадки, ребусы, криптограммы, обнаруживая в их
решении проницательность, которая заурядному созна-
нию представляется чуть ли не сверхъестественной. Его
выводы, рожденные существом и душой метода, и в са-
мом деле кажутся чудесами интуиции».
К «умению распутать» и «проницательности» добав-
ляется здесь же еще одно, также подчеркиваемое свой-
ство: «все решает внимание». Стоит ему ослабеть, рас-
суждает По, и вы совершаете оплошность, которая при-
водит к просчету или поражению. Это указание будто
бы прямо обращено к доктору Уотсону, постоянному
спутнику Шерлока Холмса, который не успевает следить
за мыслью знаменитого детектива.
Да, Эдгар По многое подсказал несколькими свои-
ми новеллами детективному жанру. Однако Конан Дойль
344
не был просто подражателем американского писателя.
Он с талантом и размахом продолжал его поиски, в свою
очередь открывая новое, а главное, придал этому жанру
форму развитую и законченную. В ряду знаменитых де-
тективов, начинающемся с Дюпена и Лекока, Шерлок
Холмс,— бесспорно, самое выразительное лицо, наибо-
ее живой характер, а не только хорошо развитый
«бугор апперцепции». Вот почему лишь историки литера-
туры помнят и указывают его предшественников, а боль-
шинство читателей, несомненно, при слове «детектив»
назовет сразу одно имя — Шерлок Холмс.
У Конан Дойля была, мы знаем, и живая модель.
Это также помогло, должно быть, сделать Шерлока
Холмса реальной фигурой. Джозеф Белл не отрицал
сходства. Он даже высказывался по этому поводу в печа-
ти, признавая в методе Шерлока Холмса свою школу.
С еще большей определенностью указал он на своего
способнейшего ученика — на самого Конан Дойля, до-
стойно воспринявшего уроки наставника.
Шерлок Холмс — артист, исследователь в своем ро-
де, но только не чиновник сыска и не «ангел-храни-
тель» буржуазной собственности, каким был Лекок у
Эмиля Габорио или, позднее, американский «король сы-
щиков» Нат Пинкертон. Существенно, что Нат Пинкер-
тон, бесчисленные и главным образом анонимные книж-
ки о похождениях которого наводняли на рубеже XIX—
XX столетий мировой читательский рынок, служил как
бы «визитной карточкой», «рекламером» реально суще-
ствовавшего в США «Сыскного агенства Аллана Ната
Пинкертона и Сыновей». Между тем обитатель кабинета
на Бейкер-стрит в Лондоне — одинокий мастер: ни де-
нежное вознаграждение, ни интересы какого бы то ни
было дела или фирмы не составляют мотивов его дея-
тельности. И о восстановлении справедливости он рито-
рически почти не рассуждает (этой фальши было до-
вольно в «пинкертоновских» выпусках). Шерлок Холмс
занят логической сложностью задачи. И как раз его ис-
следовательский артистизм, свободный от слащаво-ме-
щанской добродетели, делает его привлекательным ге-
роем, заставляя верить на слово в его правоту. В луч-
ших вещах, конечно.
И не первая повесть Конан Дойля «Этюд в багровых
тонах» создала Шерлоку Холмсу и его создателю имя.
345
Шерлок Холмс раскрылся по-настоящему в циклах рас-
сказов: в его «Приключениях» (1892) и «Записках» о
нем (1894), составленных доктором Уотсоном. «Союз ры-
жих», «Человек с рассеченной губой», «Голубой карбун-
кул», «Пять апельсиновых зернышек», а также «Пляшу-
щие человечки» из сборника «Возвращение Шерлока
Холмса» (1905) —вот образцы. Именно после этих рас-
сказов Шерлок Холмс заставляет помнить о себе как о
живой, цельной и незаурядной личности.
В каких только поворотах не изучался Шерлок
Холмс, будто он в самом деле жил и действовал! На-
шлись исследователи, которые с необычайным энтузиаз-
мом и тщанием привели в хронологический порядок его
биографию, постарались по косвенным намекам восста-
новить в его существовании все то, что выходит за пре-
делы разбираемых им таинственных происшествий. Уста-
новили, что ему нравилось и не нравилось, чем он увле-
кался и что недолюбливал, каковы были его взгляды на
религию и взаимоотношения с женщинами. Наконец, те
же добросовестные исследователи указали... профессио-
нальные ошибки маэстро.
И Шерлок Холмс, оказывается, ошибался, но не толь-
ко потому, что «на всякого мудреца довольно простоты»;
некоторые его промахи на совести Конан Дойля, кото-
рый не всегда мог соблюсти совершенную строгость и
стройность в умозаключениях своего героя.
Так случалось, если автор вторгался в область
специальную, и тогда «соколиное зрение» не спасало
Шерлока Холмса перед судом знатока. Фиаско в этом
смысле Конан Дойль потерпел с рассказом «Серебря-
ный» — о пропаже классного скакуна и убийстве трене-
ра. Позднее писатель чистосердечно признался, что
ничего не понимал в ипподромном быте и взял скаковой
мир лишь как эффектную площадку для действий. Истин-
ные знатоки тотчас различили невежество и не могли
этого простить. И тот, кто ^понимал скачки как следует,
учинил Конан Дойлю в спортивном отделе одной из га-
зет полный разнос. Писатель оценил ревность конника-
энтузиаста, не спорил, не отпарировал, но и не сдавал
своих позиций. Он знал, что им раз и навсегда найден в
поведении Шерлока Холмса тон психологической убеди-
тельности, который. уберегает его от мелочных приди-
рок. «Накануне вечером, как обычно, лошадей трениро-
346
вали и купали, и конюшни были заперты в девять ча-
сов», — что же, пусть «обычно» лошадей тренируют и
купают по утрам, и в девять часов утра, а не вечера,
скаковой ипподром уже замирает, но сюжет, но суть про-
исходящего требовала сумерек — и был вечер. Ведь не
хотели же верить в натуральную змею на сцене, а макет
выглядел, как живая змея.
Еще раз Шерлока Холмса поймали на слове, когда
в рассказе «Случай в интернате» он с присущей ему
уверенностью определяет, между прочим, по следу вело-
сипедных колес, в какую сторону ехал человек.
— Это невозможно! — стали говорить Конан Дой-
лю.— След переднего и заднего колеса совершенно оди-
наков!
Тут Конан Дойля взяло за живое, потому, должно
быть, что он сам был заядлым велосипедистом. Он ре-
шил проверить это на опыте, и оказалось, что Шерлок
Холмс был прав!
Конечно, лишь специальное и скрупулезное изучение
могло обнаружить всякие несуразности. С широкой чи-
тательской точки зрения Шерлок Холмс оставался не-
погрешимым. Ведь большинство следило не за ходом
следствия и не за «дедукцией» — все подчинялось по-
лету вдохновения, которое овладевало Шерлоком Холм-
сом при столкновении с опасностью или тайной. Убеди-
тельно было вот что: приехали французские школьники
в Лондон и первым делом попросили показать, где на
Бейкер-стрит живет Шерлок Холмс. А когда уже не
школьники, а литераторы поинтересовались у Конан
Дойля, где тот дом, который автор имел в виду, когда
описывал жилище Шерлока Холмса, писатель просто не
знал, что ответить. Он и не думал об этом. «Но,— ска-
зал он, в утешение,— там обязательно должен быть ка-
кой-нибудь дом в этом роде».
Шерлок Холмс сделался мифическим персонажем;
сойдя со страниц книг Конан Дойля, он стал достояни-
ем молвы, о нем фантазировали сами читатели. Появи-
лись анектоды о Шерлоке Холмсе и его создателе. На-
пример: в Риме берет Конан Дойль извозчика, тот и го-
ворит: «А, господин Дойль, приветствую вас после ва-
шего путешествия в Константинополь и в Милан!» «Как
мог ты узнать, откуда я приехал?» — удивился шерлок-
холмсовской проницательности Конан Дойль. «По на-
347
клейкам на вашем чемодане»,— хитро улыбнулся кучер.
У Конан Дойля также часто спрашивали, кто он сам:
Шерлок Холмс или доктор Уотсон? И писатель опять в
недоумении разводил руками. Ни тот, ни другой отдель-
но, в нем содержались оба, как и вообще жизнь свя-
зывает противоположности, «лед и пламень», безумные
фантазии и здравый смысл, проницательность и просто-
ватость. Друг без друга эти крайности даже менее ин-
тересны.
«Я не хочу быть неблагодарным Холмсу,— писал Ко-
нан Дойль в автобиографии, подводя итог их долгому
союзничеству,— он был для меня во многих отношени-
ях хорошим другом. Если иногда я вроде бы и уставал
от него, так это потому, что характер его не допускает
светотени. Это счетная машина, и всякая попытка доба-
вить что-нибудь лишь способна испортить все впечатле-
ние».
Все же Конан Дойль неуклонно считал, что успех
Шерлока Холмса заслоняет его более значительные про-
изведения. Писатель имел в виду свои исторические ро-
маны.
Три эпохи из прошлого Англии и Европы особенно
интересовали его. Это, во-первых, времена Столетней
войны XIV—XV веков. Затем XVII столетие, пора Анг-
лийской буржуазной революции. Наконец, наполеонов-
ские войны, от Трафальгара до Ватерлоо. Им писатель
посвятил несколько произведений, в том числе «Подви-
ги» и «Приключения» бригадира Жерара. К этому цик-
лу примыкает «Родни Стоут» (1896). Время действия
этого романа относится к первым десятилетиям прошло-
го века, те же имена Наполеона и Нельсона встречают-
ся на его страницах. Однако исторические события, го-
сударственные персоны проходят в нем бледным фоном,
больше всего внимания уделено спортивным нравам и
лицам, главным образом боксу, атмосфере, окружавшей
ринг, колоритным фигурам боксеров, кодексу спортив-
ной чести. В жанровом отношении это роман переход-
ный — от исторического к социально-бытовому. Впрочем,
ему предшествовал социально-бытовой роман «Торговый
дом Гердлстон» (1890).
К историческим романам Конан Дойля примыкает
небольшой цикл рассказов о далеком прошлом. Среди
них рассказы из истории Рима и римского владычест-
348
ва в Англии последних его дней. Писателя, как можно
видеть, интересовали узловые этапы английской
истории.
К прошлому Конан Дойль обращался с воодушев-
лением исследователя и тщанием реставратора: он до-
бивался максимальной бытовой достоверности в карти-
нах ушедших времен. «История — такая дама, — отме-
чал он, — что если кто-либо позволил себе какие-нибудь
вольности в отношении ее, то должен поспешить раска-
яться и сознаться». Каждому историческому роману Ко-
нан Дойля предпослан список книг, специальных и по-
пулярных, которыми он пользовался, восстанавливая
картину той или иной эпохи. Тут фундаментальные ис-
торические исследования, мемуары, дневники, письма,
работы по быту, по отдельным отраслям деятельности.
Например, приступая к роману «Родни Стоун», Конан
Дойль читал «Историю флота», «Историю бокса», «Ис-
торию скачек», «Времена кучеров». Он перечислял эти
книги не только потому, что в Англии строго соблюда-
ется авторское право и даже частичный плагиат может
повлечь за собой судебное дело, но потому также, что
писатель хотел подчеркнуть основательность повествова-
ния. Будет преувеличением сказать, что он и сам за-
нимался исследованием. Нет,, он лишь умело и талантли-
во компилировал, цепко выбирая выразительные детали,
черты обихода, приметы нравов, манер, особенности ре-
чи. В каком-то смысле Конан Дойль действовал теперь
так же, как поступал он еще в ученические годы: пе-
ресказывал, преображая прочитанное. С юных лет им
усвоен подобный метод: вдохновиться, «пропитаться»
книгами, а затем заново и по-своему пережить их.
«Скомбинировать и передать» — он сам говорил об этом.
Однако сверх живой детали, бытовой достоверности
есть еще другая, гораздо более принципиальная «прав-
да истории» — собственно правда, представление о кото-
рой зависит от угла зрения на прошлое, от авторской
тенденции. И здесь дело обстоит сложнее.
Конан Дойль откровенно тенденциозен в своем под-
ходе к истории. Даже когда он стремится, как в «Белом
отряде», показать человека, «который одну минуту сви-
реп и зол, а в следующую минуту делается ласковым и
мягким, на губах у него ругательство, а глаза смеются»,
даже когда писатель таким образом смешивает «добро»
349
и «зло», все равно ясны его симпатии. И в истории он
ищет людей родственной ему среды, следя за тем, как
от прошлого к настоящему совершалось их продвиже-
ние. На этот счет у писателя существует своя, так ска-
зать, правда, свой пафос истории. И в этом продолжа-
ют действовать ранние его пристрастия. Конан Дойль
по-прежнему сохраняет привязанность к Маколею, ибо
по-своему оправдывает повороты и жертвы истории там
и тогда, где торжествует среднебуржуазная прослойка.
В романе «Белый отряд» Конан Дойль обратился к
кризисному этапу истории феодальной Англии и пред-
ставил в героическом ореоле мелкое или измельчавшее
рыцарство, которое готово было приспособиться к новым
условиям. Была, однако, в английской литературе еще од-
на книга о рыцарстве. Но уже не исторический роман,
а памятник как раз того самого времени. Книга эта —
«Смерть Артура»—появилась за рамками периода, взя-
того Конан Дойлем, позднее событий, изображенных им,
однако в пределах все той же эпохи Столетней войны,
а также междоусобицы Алой и Белой Розы.
Автор «Смерти Артура», сэр Томас Мэлори, рыцарь,
личность полулегендарная, но все же установленная,
был истинным сыном своего века. Он был, возможно, ро-
весником XV столетия, и не исключено, что юношей уча-
ствовал в прославленной битве при Азинкуре. В итоге
своей бурной, ломаной жизни сэр Томас оказался в тем-
нице и там составил обширный свод легенд о рыцарях
Круглого Стола, служивших древнему королю Артуру.
И Мэлори был тенденциозен, стараясь через старинные
рассказы передать свое понимание современности. Пате-
тический приверженец прошлого, плоть от плоти фео-
дального уклада, он с безысходной горечью смотрел,
как уходит в небытие его Англия. Чем ближе к раз-
вязке, тем чаще раздаются вздохи: «Так было в то вре-
мя», или «Вот было время», или «Не то, что ныне». Да-
же когда подруга короля Артура оказывается неверна
супружескому долгу, Мэлори не хочет признавать изме-
ны, «ибо и любовь в те времена была не такой, как в
наши дни».
Со страниц исторических романов Конан Дойля так-
же слышны вздохи о прошлом, о том какое «было вре-
мя»... Но вздохи и сетования этих двух авторов звучат
не в унисон.
350
Разница становится особенно резка, когда Мэлорй
подходит к последним главам своей эпопеи. Не только
степень, не только сила тоски по прошлому, но и само ее
существо иное.
Содружество Круглого Стола распалось. Вместо не-
го видим груду мертвых, искалеченных тел. Доблестные
рыцари уничтожили друг друга. Один из немногих ос-
тавшихся в живых вассалов короля Артура отправляет-
ся взглянуть на поле битвы. В накаленном гибельными
страстями воздухе реет сознание непоправимой, трагиче-
ской ошибки. То, что открывается взору последнего из
рыцарей, еще более жутко.
«... И услышал он и увидел при лунном свете, что
вышли на поле хищные грабители и лихие воры и гра-
бят и обирают благородных рыцарей, срывают богатые
пряжки, и браслеты, и добрые кольца, и драгоценные
камни во множестве. А кто еще не вовсе испустил дух,
они того добивают ради богатых доспехов и украше-
ний».
Кто же эти «пузыри земли», если воспользоваться
шекспировскими словами? Вглядевшись пристальнее, мы
узнаем в них обломки тех самых «белых отрядов», ко-
торые были героизированы Конан Дойлем.
Ночное поле боя, покрытое окровавленными телами,
и вурдалаки, бродящие по нему в поисках добычи,— жи-
вая картина и в то же время аллегория. Так представ-
лял себе автор «Смерти Артура» распад прежнего мира
и судьбы отечества. Столь низменный облик имели в его
глазах силы, способствовавшие этому распаду.
«Однако тут-то, в этом чаду смерти,— на свой лад
рассуждает Конан Дойль,— в этом тумане заразы, заро-
дилась более светлая и более свободная Англия. Тут в
этот мрачный час сверкнул первый луч новой зари. Ибо
не иначе, как посредством великой встряски и переме-
ны, могла нация свергнуть железную феодальную систе-
му, сковывавшую ее члены».
Необходимо еще раз оговорить: в «Смерти Артура»
и в романе Конан Дойля, откуда взято это суждение,
показаны разные события, разные этапы, но одного про-
цесса. И если для Мэлорй феодальная эпоха обрывается
«днем рока», несет в себе смерть, конец, то Конан
Дойль говорит о «новой заре». Говорит он об этом в то
время, когда новейшие сэры Найджелы стали очень уж
351
похожи на прозаических, благополучных Форсайтов.
А Конан Дойль хочет напомнить им о бурных страстях,
о былом героизме, о благородстве. Никакое другое поня-
тие не употребляется им столь часто, как «рыцарское
благородство».
И если Мэлори в свое время оправдывал супруже-
скую измену, потому что и «любовь прежде была не та-
кая», то Конан Дойль в том же примерно духе романти-
зирует наполеоновские войны, ибо и у него выходит, что
раньше была иная война, не беспринципно-безжалост-
ная, как ныне... «То был исключительный век,— говорит-
ся в авторском предисловии к наполеоновским рома-
нам,— и он давал исключительных людей. Двадцать
три года Франция находилась в состоянии войны, лишь
с 'краткой мирной передышкой на несколько месяцев.
Для французов война стала нормальным и естественным
состоянием. Дети рождались на войне, росли на войне,
бились на войне и умирали все в той же нескончаемой
войне, не имея даже понятия о том, что такое мирная
жизнь... И, оказывается, столь удивительные условия
не огрубили их, между ними попадались рыцарственные,
благородные души, отчаянно доблестные, чьи поступки
живо напоминали об истинном духе рыцарства». И да-
лее неунывающий бригадир Жерар на протяжении своих
«Подвигов» и «Приключений» постоянно толкует о
«благородстве» и «рыцарстве».
Бокс, и тот был прежде благороднее, как стремится
показать это Конан Дойль в романе «Родни Стоун». «Во
времена Джексона, Брейна, Крибба, Блетчеров, Пирса,
Галли и прочих главарями ринга оставались люди, чья
честность стояла выше подозрений»,— так утверждает
Родни Стоун. Он не хочет остаться голословным: «Вы
слышали, как Пирс спас в Бристоле девушку из горяще-
го дома, как Джексон завоевал уважение и дружбу луч-
ших людей своего векз и как Галли занял место в пер-
вом Парламенте после реформы». Готовые отдубасить
друг друга по всем рыцарским правилам на ринге, эти
бойцы тем более являли образцы благородства за чер-
той канатов. Словом, «были люди»! Аныне? И слово «про-
ходимцы» — первое, что срывается с языка у Родни
Стоуна.
Никакая жестокая схватка, даже никакое коварство
или урон, нанесенный рыцарской чести, не способны бы-
352
ли вывести сэра Томаса Мэлори из равновесия до тех
пор, пока все это совершалось в пределах Круглого
Стола. И повествователь с толком, со знанием дела и
высоким чувством готов без устали живописать, как ры-
цари в доблестном бою наступали, да отступали, да
приседали, да увертывались от нападений и сами отве-
чали противнику могучими ударами. Сэр Томас внима-
тельно следит за тем, как хлещет кровь, подробно пере-
дает, что за раны и увечья были нанесены в честной
схватке и какое множество полегло на поле. А сколько
раз не только в силу повествовательного ритуала, а по
непосредственной склонности и охоте Мэлори наблюдает
и передает: вот один рыцарь поверг другого замертво,
и спешит к нему, и снимает с него шлем, и становится
на грудь ногой или поступает каким-нибудь еще страш-
ным способом и собирается отсечь ему голову, если
только побежденный не успеет или не пожелает вымо-
лить себе пощаду!
Весь этот ужас по меньшей мере нормален, если не
привлекателен для Мэлори. И для него это вовсе не
«ужас», но суровая и даже страшная цена единства
Круглого Стола. А Круглый Стол, как и чаша Свято-
го Грааля,— превыше и важнее всего! Совершенно ины-
ми глазами смотрит ^1элори, когда вдруг откуда-то
из-под земли выползает кровососное пожирательство,
хищничество, чуждое каких бы то ни было одушевляю-
щих понятий, устремленное к наживе.
По-своему и Конан Дойль говорит о войне как о
«нормальном и естественном состоянии», о кулачной дра-
ке— как о честном и благородном занятии и, наконец,
о разбое «белых отрядов» — как о чем-то героическом,
поскольку каждая из этих сфер — замкнутый, живущий
своими законами мир, отличный в этом смысле от мира
новейшего, где, кажется, нет пределов, нет норм, короче,
нет «благородства».
Конан Дойль соблюдает, конечно, меру иронии в от-
ношении к браваде и «доблести» Жерара, вообще ко
всему «героическому» и «благородному», что берет он из
прошлого. Но эта мера далеко не всегда выдерживает-
ся им или оказывается подвластна ему. Его голос дро-
жит, взор затуманивается, ему чудится «воссоединение
народов английского языка», ему видится торжествую-
щий «дух нации».
12 М. В. Урнов
353
Конан Дойля привлекают цельные, жизнелюбивые и
волевые характеры, героями его исторических романов
выступают люди, чуждые религиозного фанатизма и со-
словной ограниченности, проникнутые свободолюбивым
духом, наделенные чувством личного достоинства. Обра-
щаясь от прошлого к современности, он духу наживы и
буржуазному хищничеству противопоставляет дух бес-
корыстия и благовидной деятельности, дельцам-живо-
глотам— деловых людей иного склада. Вместе с тем он
невольно обнажает зависимость неприглядных и преступ-
ных явлений, злобных характеров и зловещих замыслов
от условий жизни, как он это делает, например, в «Тор-
говом доме Гердлстон» — социально-бытовом романе с
криминальным и детективным сюжетом.
Хотя исторические романы Конан Дойля, а также
«Торговый дом Гердлстон» имели успех, все же им не
была суждена столь долгая и постоянная жизнь в чита-
тельской памяти, какой достигли книги о Шерлоке Холм-
се. Да и научно-фантастические повести Конан Дойля
оказались в этом смысле удачливее. «Затерянный мир»,
«Отравленный пояс», «Маракотова бездна» — именно
фантастические свои произведения, и прежде всего «За-
терянный мир», Конан Дойль посвятил «мальчику, на-
половину ставшему мужчиной, или мужчине, наполовину
остающемуся мальчиком», то есть читателю, готовому
отправиться в страну вымысла. Впрочем, фантазируя,
Конан Дойль также добивался достоверности.
Работая над «Затерянным миром», населяя плато на
Амазонке разными доисторическими животными, Конан
Дойль консультировался со специалистами. На него,
в частности, оказал влияние своими трудами и советами
зоолог Эдвин Рей Ланкестер. «Как насчет гигантской
змеи длиной в шестьдесят футов? — предлагал Ланке-
стер Конан Дойлю новых обитателей «Затерянного ми-
ра».— Или зверя, похожего на кролика, а величиной с
быка?»
«Затерянный мир» вышел самой удачной и убеди-
тельной научно-фантастической книгой Конан Дойля.
Вот почему, должно быть, подобно тому, как искали на
Бейкер-стрит дом Шерлока Холмса, современные летчи-
ки, пролетая над Амазонкой, высматривают плато, опи-
санное Конан Дойлем.
В поздних книгах сказались кризисные настроения,
354
владевшие тогда писателем. Фантазия там переставала
быть трезвой, она наполнялась мистикой.
Конан Дойля всегда внутренне задевало, что книги,
которые писались у него как бы сами собой, оказыва-
лись лучше его же произведений, требовавших большого
труда. Если бы было наоборот, полагал Конан. Дойль,
«я занимал бы иное положение в литературе». У него не
было болезненного самолюбия или честолюбия. Напро-
тив, он отдавал 'себе отчет в своих творческих возможно-
стях. О многом говорит тот факт, что на предложение
завершить оставшийся незаконченным последний роман
Р Л. Стивенсона «Сент-Ив» Конан Дойль ответил отка-
зом: Стивенсон слишком хороший писатель, чтобы он,
Дойль, мог как бы то ни было равняться с ним...
Его тревожило другое.
Принадлежа к поколению Оскара Уайльда,
Дж. Б. Шоу, Джозефа Конрада, Р. Киплинга, Г. Дж. Уэл-
лса и Дж. Голсуорси, Конан Дойль тем не менее не попа-
дал в разряд «серьезных литераторов», а числился каким-
то развлекателем. В молодости он попробовал писать, под-
ражая Генри Джеймсу, мэтру «серьезной литературы».
Не вышло: он не владел психологизмом. Р Л. Стивен-
сон, который с блеском проявил себя во многих жан-
рах, также оставался недосягаем для него.
Уровень, составлявший предел мечтаний Конан Дой-
ля, требовал, в частности, резко индивидуального, изы-
сканного стиля. А его язык был подвижен, легок, прям,
но не более. Не доставало богатства оттенков. И как
ему было тягаться с литераторами-психологами, когда
наиболее выразительное лицо, им созданное, не допу-
скало, по его собственному признанию, светотени?
И читательская популярность, по размаху которой Ко-
нан Дойль мог поспорить с самим Стивенсоном, не успо-
каивала его. Он искал прочной литературной репутации.
Все это говорит о требовательности писателя к себе.
Между тем он мог бы чувствовать себя спокойнее: его
место и в читательской памяти и в истории английской
литературы определенно и оригинально. Оно заметно
для всех.
Конечно, были ценители, которые смотрели на Конан
Дойля свысока. Тот же Генри Джеймс говорил как-то
Уэллсу о «бессилии своей выдумки» и тут же прибав-
лял: «Это скорее для Конан Дойля»,— считая занима-
12*
355
гельность сюжета чем-то второстепенным и второсорт-
ным.
Конан Дойль думал иначе.
Быть понятным, интересным и умным — вот требова-
ния, которые он предъявлял к писателю. Некоторые
крупные литераторы, отмечал он, иногда сполна удов-
летворяют последнему условию, однако два первых им
никак не даются, и дорога к читателю закрыта для них.
Такова была судьба выдающегося английского романи-
ста и поэта Джорджа Мередита, которого Конан Дойль
знал лично и ставил как мастера очень высоко. Конан
Дойль же старался по мере своих сил следовать всем
трем пунктам, и книги его до сих пор не выпускают из
рук читатели самых разных стран и возрастов.
«Много было писем из России»,— вспоминал в авто-
биографии Конан Дойль, говоря об откликах на свои
произведения, главным образом на рассказы о Шерлоке
Холмсе.
У нас ценили и ценят Конан Дойля за талант увле-
кательного рассказчика, за его жизнелюбие и веру в че-
ловека и его разум, за силу фантазии и мастерство,
с каким он строит напряженный детективный или приклю-
ченческий сюжет, за серьезное отношение к писатель-
скому труду и уважение к своему читателю.
Г л а в a VII
СПОР О РОМАНЕ
(Герберт Уэллс против Генри Джеймса)
В начале нашего века между двумя крупными за-
падными писателями возник и развернулся спор о при-
роде, назначении и судьбах романа. Спорили Генри
Джеймс, маститый литератор, американец, переехавший
в Европу, и Герберт Уэллс, молодой писатель-фантаст.
Дебаты между ними начались в переписке, перешли на
страницы печати, привлекли внимание, втянули новых
участников и составили на рубеже веков значительную
«романомахию». Материалы спора теперь собраны и до-
ступны для свободного и последовательного обозре-
ния Ч, Интерес к Уэллсу у нас никогда не замирал, а к
Джеймсу заметно оживился 1 2. О судьбах же романа шел
и продолжает идти энергичный разговор и не только в
узком кругу профессионалов.
В январе 1895 года два сравнительно молодых лите-
ратора, два театральных рецензента возвращались вме-
сте из лондонского театра Сент-Джеймс после премьеры.
В этот вечер они, зная друг о друге по печати, впервые
непосредственно встретились и познакомились. Им дове-
лось быть совместными свидетелями удивительного про-
вала пьесы и позора автора. Публика с озлоблением
1 Henry James and Н. G. Wells. L., 1959.
2 См. в связи с этим статью А. А. Елистратовой «Вильям Дин Гоуэллс
и Генри Джеймс». В кн.: «Проблемы истории литературы США». М.,
«Наука», 1964, стр. 206—286. Здесь дан обстоятельный разбор
крупнейших произведений Джеймса.
357
встретила драму «Гай Домвиль» Генри Джеймса. В зале
поднялся скандал, гул которого Джеймс, находившийся
за кулисами, принял по ошибке за восторженные вызо-
вы. Он появился перед занавесом в ожидании привет-
ствия, но вместо оваций на него обрушился град него-
дующих возгласов и оскорблений.
Обоим рецензентам запомнилась смертельная блед-
ность лица и растерянность автора, так резко сделавшая-
ся заметной под огнями рампы на фоне темного зана-
веса: Генри Джеймс ревниво относился к славе и пора-
жение свое воспринял крайне болезненно. Оба рецензен-
та выступили в его защиту.
То были Джордж Бернард Шоу и Герберт Джордж
Уэллс.
Шоу держался особенно решительно. «Самая худшая
правда о «Гае Домвиле» Генри Джеймса,— писал он.—
это то, что пьеса не соответствует моде. В один прекрас-
ный день любой интересующийся театром молодой чело-
век, который взращивает свои эмоции на алкоголе, про-
никает в тайну «вечно женственного» с помощью пароч-
ки грязных интрижек, чурается искусства и философии
и сохраняет невинность в отношении высокой жизни че-
ловеческих чувств и интеллекта, может легко состряпать
пьесу, и она сойдет за подлинную драму у тех, кто
Генри Джеймса не считает драматургом»3.
Шоу, а также Уэллс находили в пьесе Джеймса не-
мало промахов. Им обоим показался крайне слабым
весь второй акт, Уэллс вообще считал всю пьесу не-
удачной, а центральный характер неубедительным. Од-
нако оба не упустили из вида, к какому качественному
уровню стремится автор и поддержали его в этом.
«Если бы поклонники Райдера Хаггарда 4,— продол-
жал Шоу,— так же верховодили романистами, как их
единомышленники драматургами, то они заявили бы,
что Джеймс совершенно не способен писать романы»5.
Как видно, Шоу противопоставлял Генри Джеймса
дешевой развлекательности, обывательским вкусам, ре-
3 Бернард Шоу о драме и театре. М., 1963, стр. 126—127.
4 Английский писатель (1856—1925), автор авантюрно-экзотических
романов, в том числе довольно известного — «Копи царя Соломона».
5 Бернард Шоу о драме и театре, стр. 127,
358
месленному литературному стандарту и в этом смысле
подчеркивал: «Нельзя же допускать, чтобы партер и га-
лерка изгоняли жизнь, изображаемую Генри Джеймсом,
из театра, заявляя, что она бескровна и в ней нет нут-
ра, и чтобы этот приговор формулировался каким-ни-
будь страшно тщеславным и злонамеренным критиком,
восседающим в креслах!» 6
Шоу утверждал с известной полемической нарочито-
стью, что драматургическое творчество Джеймса — цен-
но, что пьесы его сценичны, и выдвигал как главное их
достоинство «редкостную красоту языка». В свою оче-
редь Уэллс, отозвавшись о «Гае Домвиле» гораздо бо-
лее сдержанно и более критически, признал все же, что
«пьеса отлично продумана и прекрасно написана».
Ни Шоу, ни Уэллс не испытывали чувства творческо-
го союзничества с Джеймсом, они не разделяли его по-
зиции, им были чужды его интересы, особенно или даже
вовсе не привлекала их его манера. Шоу подчеркивал в
рецензии, что не «принадлежит к единомышленникам
Генри Джеймса». Уэллс тем более был в ту пору еще
далек от него, позднее он с ним сблизился, однако впо-
следствии связи между ними были прерваны. На этот же
раз рецензенты приняли сторону Генри Джеймса, худож-
ника и мастера,— против поделок и ремесленничества.
Они защищали его пьесу потому, что в ней, как выра-
зился Шоу, «есть содержание», иными словами — твор-
ческий поиск, серьезная мысль и культура исполнения
замысла. И в последующие годы, когда они отзывались о
Генри Джеймсе критически, когда Шоу указывал на чрез-
мерно книжный язык его диалогов, когда Уэллс высту-
пил против Джеймса в споре о назначении и природе
романа, они никогда не позволяли себе уничижительно
говорить о нем.
В рецензии на «Гая Домвиля» Уэллс, впрочем, под-
метил один недостаток Джеймса, который губительно
сказался не только на этой пьесе, но во всем творчест-
ве писателя и был, пожалуй, роковым для него. Уэллс
говорил о том, что пьеса отлично продумана и прекрас-
но написана, но, добавлял он, совершенство отделки как
бы затрудняет актерское исполнение. Уэллс не решался
тут же вменить это в вину автору или упрекнуть акте-
6 Там же.
359
ров в недостатке умения. Несомненно, однако, заключил
он, что «утонченность пьесы доходит до чахоточной сла-
бости». То, о чем Уэллс судил с такой осторожностью,
о чем говорил, тщательно подбирая слова, о том же не
раз гораздо прямее и грубее высказывались критики, об-
виняя искусство Генри Джеймса в бездумии, бесплотно-
сти и вялости. С этим мнением до известной степени пе-
рекликался Шоу, когда писал, что у Генри Джеймса не-
изменно «страсти подчиняются рассудку и утонченному
художественному вкусу». Они преисполнены, добавлял
Шоу, «достоинством покоя». Шоу не высказал здесь по
этому поводу никаких критических замечаний, он под-
черкнул только, что его самого в противоположность
Джеймсу, «интересует та жизнь, которая кипит энергией».
Можно, вероятно, спорить о том, является ли Генри
Джеймс английским или американским писателем. Аме-
риканец по национальности и рождению, он почти всю
жизнь прожил в Европе, преимущественно в Лондоне,
однако писал по большей части об американцах. Его пе-
чатали, читали, принимали или не принимали и в Ста-
ром и в Новом свете. Точно так же по обеим сторонам
Атлантики распространялось его влияние. И книг о Ген-
ри Джеймсе можно сейчас найти немало и в Соединен-
ных Штатах и в Англии. Скорее всего следует согла-
ситься, что Генри Джеймс — явление особое, «промежу-
точное», англо-американское.
Этапом необычайного для Генри Джеймса значения
была его жизнь в Париже конца 60-х — начала 70-х го-
дов, где он оказался причастен к кружку И. С. Тургене-
ва, Флобера, Мопассана, Золя, Доде. Джеймс жил ощу-
щением, что он попал на литературный Олимп. Даже
физически рядом с рослым Тургеневым и крупным Фло-
бером невысокий округлый Джеймс чувствовал себя сре-
ди гигантов. Джеймс стремился как можно более орга-
нически проникнуться атмосферой этой среды. Тургенева
он ставил особенно высоко, написал о его произведени-
ях несколько восторженных статей, а личная встреча с
Тургеневым в 1876 году приобрела в глазах Джеймса
смысл решающего для него творческого откровения.
Именно Джеймс назвал Тургенева «романистом романи-
стов». Писатель английского языка и английской куль-
360
туры, Джеймс не мог не помнить, что «поэтом поэтов»
называли великого старшего современника Шекспира —
Эдмунда Спенсера, имя которого еще при жизни поэта
было окружено ореолом божественности. Мнение Джейм-
са не было, разумеется, ни для кого обязательным или
даже сколько-нибудь авторитетным, важно лишь под-
черкнуть, что сам Джеймс глубоко понимал, как громко
должна звучать по-английски подобная аттестация.
«Романист романистов» — слова, выполняющие в
своем роде программную роль. В них содержится не
только высшая похвала писателю, в них открывается оп-
ределенный принцип суждений о литературе. «Романист
романистов» в устах Джеймса значит не только «пер-
вый среди романистов», но в еще большей степени «ро-
манист для романистов», т. е. писатель, обладающий ис-
ключительным литературным значением, собственно ли-
тературным, профессиональным, вне зависимости от
более широкой его репутации или даже в противополож-
ность массовому читательскому мнению о нем. В этих сло-
вах скрыта мысль, которую Джеймс неоднократно вы-
сказывал на разные лады вполне открыто. Это мысль о
творчестве как высшем роде человеческой деятельности,
об «извечном великом назначении таланта открывать и
показывать истину», мысль о том, что литература име-
ет настолько великое жизненное значение, что, как и на-
ука, может в своих исканиях позволить себе роскошь
брать за пример образцы, в совершенстве своем не до-
ступные пониманию непосвященных.
«Романист романистов» — эти слова содержат ро-
ковое для Джеймса противоречие, тем более что ими
указывался уровень литературной значимости, о дости-
жении которого лелеял мечты сам Джеймс. Преклонение
перед «богами» — французскими прозаиками и прежде
всего русским мастером — Тургеневым, как и вообще
превознесение Джеймсом миссии художника, обнаружи-
вало двойственность его пафоса. Тут была истинная, оп-
равданная гордость литератора, не желавшего мирить-
ся с вульгаризацией, и в то же время — сквозил сно-
бизм. За это последнее свойство Джеймсу в свое время
читающая публика просто мстила, а теперь, когда
Джеймс — «классик», есть исследователи, благожела-
тельно толкующие «безумие мастерства» — одержимость
идеей творческого совершенства, которой был подвер-
361
жен Джеймс, но есть и такие, от которых можно услы-
шать резкость: «Джеймс, считал, будто искусство — это
нечто вроде взятки, которую надо суметь подсунуть бо-
гам» 7.
Честолюбивые помыслы Джеймса терпели жестокое
поражение при жизни писателя, и даже посмертное при-
знание не реализовало их. Главная причина заключена,
конечно, в том, что по масштабам дарования Джеймс
стоял ниже того уровня, на который всеми силами ста-
рался равняться. И все же, неизмеримо уступая Турге-
неву или Флоберу, Джеймс в своих пределах оказался
если не «романистом романистов», то, во всяком слу-
чае, «романистом для романистов». Проблемы повество-
вательной техники, над решением которых он бился и ко-
торые он часто фетишизировал, далеко не были им реше-
ны. Однако даже несостоятельными своими усилиями
Джеймс подсказал направление, следуя которому позд-
нейшие художники создали немало удивительных по
психологической тонкости страниц. Влияние Джеймса
распространилось широко, подчас оно уходило так дале-
ко, что теряло имя автора, и некоторые писатели, поль-
зуясь намеками Джеймса, даже не отдавали себе отчет
в том, кому они обязаны иными своими удачами. Генри
Джеймс — явление, мимо которого нельзя пройти, зани-
маясь историей западной литературы конца XIX и те-
кущего века. Герберт Уэллс, иронизируя, назвал Джейм-
са «неизбежным предисловием». Это — фигура, сама по
себе для этого периода характерная. Кроме того, без
учета опыта Генри Джеймса корни многих тенденций в
развитии зарубежной литературы и, стало быть, сами
тенденции останутся не ясны.
Благоустроенный «покой», как форма существования,
проникал натуру писателя, отзывался в его сознании
фамильными традициями, интересами среды, в которой
он рос, условиями его европейских странствий. Кажется,
будто сама судьба позволила Генри Джеймсу оградить-
ся от острых углов жизни. Его отец, интеллигентный и
состоятельный человек, имел возможность вести себя
7 Herbert Read and Edward Dahlberg. Truth is more Sacred. N. Y.,
1962, p. 22.
362
независимо, живя на проценты с капитала. В кругу его
домашних знакомых были такие знаменитые американцы,
как Эмерсон, и не менее знаменитые англичане — Дик-
кенс, Теккерей, Джордж Элиот. «Не могу себе предста-
вить,— вспоминал впоследствии в своей «Автобиогра-
фии» Генри Джеймс,—-молодого человека моих лет или
по крайней мере самого себя, столь же неизъяснимо во-
сторженным, столь же мистически потрясенным в при-
сутствии какого-либо властелина дум, который бы хоть
сколько-нибудь походил на автора Пиквика и Коппер-
филда».
Уже дает 'себя знать столь развившаяся у
Джеймса позднее, столь абсолютизированная им страсть
к искусству, литературе, творчеству. Отец писателя, Ген-
ри Джеймс старший, был известным богословом. Семей-
ство Джеймсов выдвинуло также Вильяма Джеймса,
брата писателя, влиятельного психолога и философа, ко-
торый, кстати, ввел так разошедшийся впоследствии тер-
мин «поток сознания». В этой семье блюлась традиция
высокого и разностороннего книжного знания, воспитан-
ности, утонченности, одним словом — традиция рафини-
рованной культуры, именно традиция, т. е. не вдруг об-
ретенный багаж знаний, но нечто для данной среды
исконное, от поколения к поколению усвоенное. В этой
среде рождались, уже как бы располагая известной ци-
вилизующей подготовкой, и тем более воспитывались и
начинали жизнь от некоего культурного рубежа, от си-
стематизированной и укрепленной прослойки, удаляю-
щей, смягчающей непосредственную школу жизни, ко-
торая, как гласит английская поговорка, «сразу не ска-
жет». Здесь же многое или почти все «говорилось» сра-
зу, преподносилось заведомо осмысленным, преодолен-
ным. Ток заведомого понимания передавался из поколе-
ния в поколение, наслаиваясь и создавая своего рода
культурный «кокон», оболочку значительной толщины.
Сложившаяся во много оборотов, эта оболочка оказыва-
лась столь ощутимой, что вполне могла послужить ат-
мосферой существования в течение жизни. Те из этой
среды, кому воздуха не хватало, разрывали комфорта-
бельную пелену, пробивались ради непосредственного
опыта к самой обыденности с риском даже повредить
свои стерильные легкие слишком резким грозовым озо-
ном.
363
Так, в иных чем Генри Джеймс национальных усло-
виях, но в среде, по типу сходной, поступил Александр
Блок.
Джеймс, напротив, не покидал своего убежища. И чем
дальше, тем все с большей оторопью он смотрел на ре-
альность. Рос его страх перед движением масс, перед
формами новейшей цивилизации, и потому он, рецензи-
руя роман Тургенева «Новь», с такой настойчивостью
навязывал от себя русскому писателю склонность «осве-
щать все явления светом иронии», т. е. беречься какого
бы то ни было общественного пафоса. Между тем, у не-
го самого пафос был, и вполне определенный: Джеймс
был чужд государственности, официальности, его реак-
ционность состояла в устремлениях от жизненной актив-
ности, хотя держаться в таких рамках ему удавалось да-
леко не всегда. «В центре этого циклона,— писал Шоу,
имея в виду жизненный вихрь,— есть некий спокойный
утолок, где образованные леди и джентльмены живут
на свои средства или на заработки от приятных арти-
стических профессий. Вот с этой жизнью и соприкасает-
ся искусство Генри Джеймса...»
Первые крупные произведения Генри Джеймса — его
романы «Родрик Хадсон» (1875), «Американец» (1877),
особенно в психологическом отношении изощренный
«Женский портрет» (1881)—поглощены этим «покой-
ным» существованием состоятельных жителей Нового
Света. Точнее, выходцев из Нового Света, потому что
писателя особенно интересуют американцы, приехавшие
в Европу.
Генри Джеймса занимает соприкосновение стандар-
тизированного, новоявленного американского высокоме-
рия с европейским бытом, с европейским, так сказать,
типом сознания. И писатель с помощью тонкого психо-
логического шитья стремится показать несостоятель-
ность претензий своих соотечественников. Ему претит но-
воявленное самодовольство. Впрочем, не только новояв-
ленное. Как всегда, он воздерживается от резкостей, он
даже не смеется, но иронизирует на множество пере-
межающихся ладов.
Манера Джеймса вполне раскрылась в небольшой
повести «Дези Миллер» (1878), одном из жизнеспособ-
ных произведений писателя, где сказалось чтение турге-
невской «Аси». Это, кстати, единственная вещь Джейм-
364
са, которая имела довольно широкий читательский успех.
Возникло даже на некоторое время бытовое понятие «дэ-
зимиллеризм». Под ним разумели удачно показанную
Джеймсом американизированную душевную убогость в
сочетании с внутренней подвижностью, наличием разно-
образных запросов — этакую видимость культуры и вме-
сте с тем отсутствие глубины, сколько-нибудь стойкой
содержательной самобытности.
Суть Джеймс схватил, очертив «милое, свежее и ма-
ловыразительное личико» своей героини — молоденькой
американки, живущей с семьей на швейцарском курорте.
Вся повесть представляет последовательное развитие
мгновенного мотива миловидности в сочетании с малой
выразительностью. Это принцип, определяющий, по на-
блюдениям Генри Джеймса, характер самой Дэзи, а так-
же семьи, где она выросла, ее поколения и, наконец, ее
общества.
Джеймс ведет повествование, замедляя, делая все
более подробным ход мысли своего героя — молодого
американца из респектабельной семьи, глазами которо-
го он чаще всего наблюдает Дэзи. У мастеров психо-
логического анализа, предшествовавших Джеймсу, мы
скорее обнаружим обратное явление: мысли обгоняют
события. Но Джеймс свел на нет событийную сторону;
он погружен во внутренний, душевный мир, и для него
это принцип — держаться как бы против жизненного дви-
жения, пристально вглядываясь в душевные переливы.
Экстатическая приверженность Генри Джеймса лите-
ратурному ремеслу вызвала к нему внимание поколения
писателей, шедшего на смену. Среди его молодых друзей
оказался поначалу Г. Дж. Уэллс. Они познакомились че-
рез несколько лет после рецензии Уэллса на «Гая Дом-
виля». Джеймсу было уже за пятьдесят, он был масти-
тым литератором, хотя и страдал от недостатка успеха.
Герберту Джорджу Уэллсу было за тридцать и он
успел выпустить лучшие свои научно-фантастические
произведения — «Машина времени» (1895) и «Человек-
невидимка» (1897). Уэллс был заметно моложе, не столь
известен, однако на его стороне в дружбе или в спорах
с Джеймсом выступала сила таланта, быстро идущего в
гору, растущая популярность и авторитет, особенно сре-
366
ди молодежи. Накануне первой мировой войны, когда
споры с Джеймсом крайне обострились, репутация Уэл-
лса в молодой аудитории стояла исключительно прочно
и высоко. Так что, возражая опытному мастеру, млад-
ший его собрат имел веские основания говорить от ли-
ца поколения.
Английский романист Ч. П. Сноу, вспомнив времена
своей молодости, представил в романе «Поиск» (1934),
как герой (наделенный автобиографическими чертами)
ночь напролет читает «Машину времени». Этот эпизод,
правда, относится к более позднему периоду — к нача-
лу 20-х годов, но в принципе молодой ученый-физик пе-
реживает за книгой Уэллса то же чувство открываю-
щихся новых горизонтов, какое выносили от этого и
других произведений автора «Машины времени» многие
молодые люди в первые десятилетия нашего века. Тот же
Сноу подчеркнул, что он сам и его сверстники тянулись
к Уэллсу, привлеченные действенным характером его гу-
манизма и обостренным чувством социальной, граждан-
ской ответственности. Конечно, здесь вопросы собствен-
но искусства, тем более утонченного мастерства, как бы
отступали на второй план или даже вовсе не принима-
лись в расчет. Во всяком случае решительное признание
Уэллса: «Я журналист... Я отказываюсь изображать из
себя художника»— справедливо оно по адресу самого
Уэллса или нет,— не могло отпугнуть от него читателей,
а то и напротив, побуждало охотнее брать в руки его
книги с надеждой найти в них злобу дня, прямое сужде-
ние, совет или содержательную информацию.
Уэллс вырос в мелкобуржуазной семье, невысоко
поднявшись над пролетарским уровнем. Он родился
в провинции и с юных лет прошел разнокалиберную
школу жизненной трудовой выучки — от розничного про-
давца до учителя начальной школы. Это воспитало в
нем трезвый и практический взгляд на вещи. Исследо-
ватели, которые при разборе его дискуссий с Джеймсом,
безоговорочно принимают сторону последнего, как прави-
ло, по поводу этого свойства Уэллса высокомерно мор-
щатся и называют писателя — «кокни», т. е. находят в
нем некую безнадежную, с их точки зрения, приземлен-
ность, достойную лондонского обывателя. И сам Джеймс,
366
аристократ духа, таланта и писательского мастерства,
подчас всего лишь снисходил до объяснений с напори-
стым «кокни». Даже его неотразимый такт и безупреч-
ная вежливость, -с которыми он отвечал на полемиче-
ские выпады Уэллса, не совсем <в духе салонной или хо-
тя бы ровной беседы, скрывают известное высокомерие.
«Жизнь всегда была мне страшно-любопытна,— пи-
сал Уэллс в предисловии к первому собранию своих со-
чинений в русском переводе,— увлекала безумно, напол-
няла меня образами и идеями, которые, я чувствовал,
нужно было возвращать ей назад. Я любил жизнь и те-
перь люблю ее все больше и больше. То время, когда я
служил приказчиком... тяжелая борьба моей ранней юно-
сти,— все это живо стоит у меня в памяти и по-своему
освещает мне мой дальнейший путь» 8.
Постоянная память о своем трудовом прошлом, ле-
жавшая в основе житейского опыта Уэллса, всегда зва-
ла его отдавать предпочтение действию и результату
перед пассивным созерцанием любой утонченности. С по-
мощью этой памяти Уэллс осуществлял проверку своей
непосредственной связи с настроениями общественного
мнения демократических кругов. Практические нужды
людей отзывались в нем живой болью. Он во имя этой
памяти не мог пренебречь неподготовленностью или не-
терпением читателя, который берегся за книгу с надеж-
дой лучше понять, благодаря ей, жизнь и подчас не в си-
лах дойти до тонкостей творческого процесса.
Сблизившись с Джеймсом, уже уверенным в себе ма-
стером, и наслушавшись его, Уэллс привел к нему своего
ближайшего друга — романиста Джорджа Гиссинга. Все
они были знакомы с Джозефом Конрадом, Дж. К. Чес-
тертоном, Фордом Мэдоксом Фордом: это был круг вид-
нейших литературных имен и, естественно, среда ост-
рейших литературных интересов и споров. До известно-
го момента Уэллс в чем-то вторил Джеймсу, однако за-
тем стал спорить.
В 1865 году Генри Джеймс встретил роман Диккен-
са «Большие надежды» статьей, носившей программное
название «Пределы творческих возможностей Диккен-
8 Г. Уэллс. Собр. соч., т. I. СПб., изд. «Шиповник», 1909, стр. 11.
367
са». «Исчерпал себя», «выдохся» — с такими словами
обращался Джеймс к Диккенсу, однако он не столько
стремился оскандалить великое имя, сколько нанести
урон целой традиции.
Как угодно мало соглашаясь с Джеймсом в полеми-
ческих оценках, трудно вместе с тем отбросить одно из
его критических замечаний, обращенных к Диккенсу.
Джеймс нашел, что диккенсовский роман «написан
слишком очевидно». Иными словами, в нем вся внут-
ренняя механика творчества, сделавшись вполне подвла-
стной автору, чересчур беспрепятственно достигает эф-
фекта — уже знакомого. В системе изобразительных
средств, по мере ее совершенствования, накапливается
могучая инерция: достаточно малого побуждения, чтобы
все двинулось. Жизненный материал олитературивается.
Он сразу, едва разместившись в пределах данной систе-
мы изобразительных средств, приходит с ней в соответ-
ствие, подчиняется заведомо найденной повествователь-
ной интонации, привычными штрихами намечаются ха-
рактеры, диалог держится проторенных ходов — писатель
как бы сам себе подражает. И это почти безошибочный
признак того, что традиция дозрела, сделала свое. Те-
перь освоенные ею средства способны служить* сколь
угодно долго, однако с их помощью уже не будет сде-
лано творческих открытий.
Точка зрения Джеймса нашла поддержку у младших
романистов — того же Гиссинга, который считал, что Дик-
кенс слишком послушно потрафляет вкусам викториан-
ской публики, или Уэллса, утверждавшего на свой лад,
что диккенсовский роман изжил себя.
Со временем, однако, выделились два сильных голо-
са, не согласные друг с другом и выражавшие не только
личные мнения. Это и были Генри Джеймс и Герберт
Уэллс. Спор развивался постепенно и был длительным.
Можно сказать, что в ходе этого спора были затро-
нуты важнейшие проблемы литературного развития.
Еще раньше Генри Джеймс обсуждал те же вопро-
сы — только не так обстоятельно и в порядке частной
переписки — с Дж. Б. Шоу. «Людям не нужны ваши
произведения искусства,— писал Шоу,— им нужна ваша
помощь, они особенно нуждаются в вашей поддержке».
368
На этб Джеймс отвечал несколько фигурально, что «ес-
ли мы оба не увлечены процессом разговора, то лучше
нам вовсе молчать», иными словами, творчество только
тогда ценно, когда оно — творчество. Произведения ис-
кусства,— утверждал Джеймс,— «способны поведать че-
ловеку о нем самом больше, чем какие-либо другие про-
изведения. И только в том случае, если мы будем го-
ворить ему таким образом как можно больше, будем го-
ворить, насколько это возможно, все, что есть, подходя
к этому всевозможными путями и с различных сторон и
добиваясь живости изображения, на что способно «ис-
кусство», и только искусство, тогда мы дадим ему воз-
можность искать, выбирать, сравнивать и познавать, по-
можем ему прийти к какому-либо синтезу, который, не-
смотря на все недостатки и пробелы, будет все же не
пустым призрачным багажом».
«Я использую здесь драматическое действие для то-
го,— пояснил однажды Шоу замысел своей пьесы,— что-
бы заставить читателя призадуматься над некоторыми
неприятными фактами...»
«Я использую драматическое действие для того, что-
бы...», «я без обиняков изложил» — в этих подчеркнутых
интонациях раскрывается природа драматургии Шоу,
цель которой «заставить читателя призадуматься». Тут
достаточно отчетливо дает себя знать авторский взгляд
на драму и театр, на сцену, исполнителей, текст, на дра-
матический эффект в целом, как на средство идейного и
публицистического воздействия. В этом заключалась жи-
вая сила и смелость драматургии Шоу, злободневное и
историческое значение его решительного вторжения на
сцену. Новаторство Шоу позволило сделать театр три-
буной современности, оно открыло сцену для любого
жизненного материала. Шоу принципиально расширил
пределы творческих возможностей драмы и театра.
Однако то же стремление «использовать драматиче-
ское действие», готовность прямо «изложить», «заста-
вить призадуматься» и вообще взгляд на искусство глав-
ным образом как на прикладное средство обнаруживал
и свою слабую сторону. Однажды в лекции «Квинтэс-
сенция ибсенизма» Шоу прибег к характерному для не-
го полемическому сопоставлению. Он вспомнил старин-
ную пьесу «Убийство Гонзаго», которую, по просьбе
Гамлета, разыгрывают в трагедии Шекспира перед коро-
369
лем, и далее заметил: «Она производит на Клавдия
большее впечатление, чем произвел бы «Эдип» Софокла,
потому что в ней говорится о самом Клавдии», т. е. имен-
но потому, что пьеса отвечает на прямой практический
запрос. Гамлет в данном случае «использует драмати-
ческое действие» ради конкретной цели, текст, где и без
того все достаточно прямо «изложено», он приправляет
еще более острым выпадом. Клавдия все это «заставля-
ет задуматься». На этом основании Шоу советует совре-
менному драматургу «спокойно пренебречь всеми стары-
ми приемами... как стрелок пренебрегает пороховыми
рожками, пистонами и пыжами». Шоу полагал, что из
современных ему мастеров Ибсен «заменил эти приемы
меткими выстрелами по публике...»
Даже если отнести здесь очевидную крайность ис-
ходного сопоставления, а также безапелляционность
конструктивных предложений на счет полемической ост-
роты, тем не менее воинственный подход Шоу к театру
и зрителю, его готовность «стрелять» по «самым бо-
лезненным местам совести», не избавит его, в принци-
пе допускающего такое предпочтение, от творческого про-
маха. Как бы кстати ни пришлась в гамлетовской си-
туации ремесленная поделка вместо великой трагедии,
все равно «Эдип» Софокла останется бессмертным тво-
рением, а «Убийство Гонзаго» в свою очередь останет-
ся... за пределами искусства. В лучшем случае это схе-
матическое действие может удержаться где-нибудь возле
истории театра, на периферии драмы, на краю твор-
ческой области. Одно дело взять «несценический», «не-
поддающийся» (по устоявшимся нормам) для искусства
материал и сделать его сценическим, превратить его в
искусство. Другое дело, воспользоваться одним из
свойств театра, одной стороной искусства для того, что-
бы сказать со сцены о существовании этого жизненного
материала.
Первый путь — это путь истинного искусства, под-
линной драмы: подобно античному герою настоящий ху-
дожник черпает силы от земли и воплощает их в твор-
чество. Другая дорога — для ремесленничества — и ни-
какая видимая злободневность не спасет ремесленную
поделку от творческого бесплодия, как это и произошло
со всеми «убийственными» пьесами, бесчисленными тра-
гедиями «грома и крови», которые стяжали в шекспи-
370
ровской Англии бурный успех, и над безымяннным пра-
хом которых высится один «Гамлет».
И посредственная пьеса, конечно, способна вызвать
вполне искренний отклик зрителей, может «заставить их
задуматься» благодаря своей злободневности. Но едва
дискуссионные страсти улягутся, тут же поникнет вся
пьеса, подобно тому, как поблекнут краски на старых
выгородках и обвиснут костюмы на ходульных фигурах.
Более того и самое главное: сделается различимо, что
злоба дня, позволяющая прощать прочие промахи, бы-
ла представлена в этой пьесе в перекошенном виде,
в ложном, мертвенном евете.
Эта однобокая «злободневность» встречала в свою
очередь полемически перекошенное Джеймса: «искусст-
во... и только искусство».
О том же шел, развиваясь, и спор с Уэллсом.
Вначале младший участник дебатов, как ни чужд
был ему Джеймс многими сторонами, все же испыты-
вал определенный интерес и уважение к его творческой
углубленности. О романе Джеймса «Крылья голубки»
(1902), тогда только вышедшем, Уэллс писал своему
другу прозаику Арнольду Беннету: «Это книга, которую
следует читать и на которой следует учиться. Там есть
нечто такое, что ни ты, ни я, никто вообще, кроме Джей-
мса, сделать не способен. Что-то относится к недостат-
кам книги, а что-то — нет». Любопытны следующие
строки из этого письма Уэллса, поскольку они раскры-
вают, как воспринимал он произведение Генри Джейм-
са. «Я отдал бы,— пишет Уэллс,— за эту книгу целый
океан «Спрутов» (роман Фрэнка Норриса.— М. У.) и
всю чертову серость «Домов с зелеными ставнями» (по-
пулярный роман тех лет.— М. У.) и всего Джорджа
Мура, кем бы он ни был»9. Как видно, Уэллс проти-
вопоставлял искусство Джеймса натурализму, он видел
в нем иной, более творческий и серьезный подход к
литературе, чем предполагал натурализм и просто ли-
тературное ремесленничество. В свою очередь Джеймс,
который также многого не принимал в книгах Уэллса,
получал от него каждое его очередное произведение и
писал в ответ благожелательные разборы. По праву
старшего и более искушенного, он указывал на прома-
9 Arnold Bennet & Н. G. Wells. L„ 1940, р. 84.
371
хи, но вместе с тем хвалил за юмор, наблюдательность
и вообще называл Уэллса наиболее интересным рома-
нистом его поколения, «собственно единственным инте-
ресным», подчеркивал Джеймс.
Со временем, однако, между двумя литераторами
росла взаимная настороженность. Джеймс всегда с
обычной для него осмотрительностью и велеречивостью
пенял Уэллсу за небрежение к стилю, композиции, ма-
стерству в целом. О нем же он писал прямее одному
из своих друзей: «Мне кажется столь странным в этом
случае сочетание такого большого таланта с таким не-
значительным мастерством, так много жизни и (так ска-
зать) столь мало живого!»
«Так много жизни» — говорил Джеймс, имея в виду
пристальный интерес Уэллса к проблемам современно-
сти, знание этих проблем и желание отразить эти проб-
лемы в своих произведениях. «Так мало живого» — не-
доумевал Джеймс, наблюдая, как эти проблемы в слиш-
ком схематически оголенном виде выступают со страниц
книг Уэллса без того, чтобы облечься в плоть подвиж-
ных фигур и развивающихся характеров. Конечно, это
была весьма пристрастная оценка, суд именно такого
писателя, как Джеймс. Мы помним, как убеждал он
прежде Шоу, что если «не любить говорить», т. е. если
процесс разговора не занимает тебя, а важна лишь те-
ма этого разговора, то «лучше молчать».
Джеймс вообще был одержим идеей «цельности»
творческого создания. Под «цельностью» он понимал не-
расторжимость средств и сути, подчиненность стройно-
му замыслу, ответственность за каждое слово. Эти прин-
ципы сами по себе выглядят вполне достойными, но
следует помнить о крайне узком жизненном кругозоре
Джеймса, точнее ограниченности жизненного материала,
над которым он работал. Все тот же «уголок», «досто-
инство покоя» — сама жизнь цельна, упорядочена, уст-
роена. «Персонажи Джеймса — возмущался Уэллс,—
всего-навсего копиятех длиннолицых, черноволосых дам,
которые все сидят себе, сидят на японских цветных кар-
тинках, составляющих непременную принадлежность ин-
терьера в черном колорите»... «Ни в одном из его ро-
манов,— с заметным преувеличением писал Уэллс,— вы
не найдете людей с определенными политическими
взглядами, людей с определенными религиозными веро-
372
ваниями, никого, кто был бы причастен к какому-либо
делу или подвластен страстям, капризам, никого, кто
проявил бы себя в чем-то, лично его не касающемся.
Нет в его книгах бедняков, сегодня ложащихся спать
с мыслью о завтрашней нужде, нет и мечтателей...»
«Видите,— восклицал Уэллс,— к чему ведет убежде-
ние, будто роман — это исключительно (произведение ис-
кусства, подчиненное изобразительному единству!»
«Если роман должен следовать жизни,— был убежден
Уэллс,— то он не может не быть разноликим и неров-
ным. Жизнь полна превратностей и поисков, а не со-
вершенства и удовлетворенности... Все истинные произ-
ведения искусства порождены чувством неупорядочен-
ности. Однако Джеймс пишет свои романы, руководству-
ясь убеждением, что они должны быть полны упорядо-
ченности. Замечая явления, этому противоречащие, он
спешит избавиться от них. Он вытаскивает соломинки
из волос Жизни, прежде чем берется писать с нее порт-
рет, но без соломинок, это уже не та безумная особа,
которую мы так любим».
«Джеймс протестует против хаоса,— продолжал
Уэллс,— который не был бы целенаправлен... Посмот-
рите, что, следуя своему принципу отбора, он выбра-
сывает. На практике отбор Джеймса сводится просто к
пропускам и ничему иному. Он пропускает все, что тре-
бует решительного обращения или определенного утвер-
ждения».
Начальная переписка Джеймса с Уэллсом, хотя и
состоит вся из обмена мнениями, часто противоречащи-
ми друг другу, все же держится известным творческим
единодушием. Может быть, оно было вызвано общно-
стью противников. Первым развернутым публичным вы-
ступлением Уэллса, отделившим его от Джеймса, была
его лекция «Форма романа», названная при печатании
«Современный роман» (1911). В этой статье Уэллс
утверждал высокое общественное призвание романа, «со-
вершенно необходимого в сложной системе путаных оце-
нок и -переоценок, составляющих современную цивили-
зацию». Естественно, что он протестовал против пре-
увеличения развлекательной роли литературы, должной
будто бы служить «освежающим прохладительным» для
читателей. Он опровергал так называемую «теорию
Усталого Гиганта», т. е. преуспевающего буржуа, ко-
373
торый после своих многотрудных дел ищет в книге за-
бвения и отвлечения от наскучившей ему прозы жизни.
В этом Уэллс не встретил бы возражений Джеймса и,
напротив, нашел бы его поддержку. Однако в дальней-
шем Уэллс переходил к критике эстетских ограничений
формы романа и его тематически проблемного материа-
ла. Он присоединялся к «бунту против педантических
и узких понятий о художественном совершенстве». Он
выступал за «более пространную форму романа». Не на-
зывая имени, он тем не менее выдвигал здесь свои до-
воды прямо против Джеймса.
Эта статья не удостоилась реакции мэтра, во всяком
случае непосредственных откликов не сохранилось, хотя
скорее всего Джеймсу эти нападки стали известны.
Джеймс ответил косвенно спустя несколько лет в боль-
шом обзоре «Младшее поколение» (1914), который был
посвящен ряду авторов. Он выбрал Арнольда Беннета,
Г Дж. Уэллса, более старших в этом поколении,
а также Хью Уолпола, Джильберта Кэннана,. Комптона
Маккензи и Д. Г. Лоуренса, тогда только начинавших.
Почти всех этих авторов, особенно Уэллса и Беннета,
Джеймс счел приверженцами «насыщенности»,т. е. про-
блемной остроты и многомыслия. На своем ветвистом,
изощренном языке, в своем неизменно оговорочном сти-
ле, Джеймс с большой осторожностью и вместе с тем
непременностью разобрал один за другим романы, под-
черкивая свою мысль о необходимости отбора, единст-
ва, одним словом, мастерства.
Джеймс подчеркивал, что именем Толстого часто
пользуются в спорах о возможности разграничения
средств и сути в произведении, которые сам Джеймс
считал совершенно нерасторжимыми и взаимообуслов-
ленными. По мнению Джеймса, пример Толстого скорее
может послужить «предостережением», брать его за об-
разец — рискованно. «В этом причудливом смысле,— пи-
сал Джеймс,— Толстой — явление, единственное в своем
роде». То, что удавалось, намекал Джеймс, Толстому
при его гигантском даровании — то смешение идей, об-
разов, прямых рассуждений и живых сцен, которым он
пользовался,— уже не будет эффективным в более сла-
бых руках. «Все пропорции в нем,— писал Джеймс,—
столь огромны, что привлечение даже песчинки его меры
к нашим целям — благодаря своей неистовой силе — не
374
оставит нас в живых». Джеймс закруглял обзор рассуж-
дением о том, «идут ли эти молодые романисты, дви-
жимые жизнью, хотя бы стихийным путем к стилю»,
и отвечал не без оговорок, но все же утвердительно.
Искушенный ценитель, показав столь утонченный
вкус и требовательность, совершил, вместе с тем, стран-
ный шаг, обратив усиленное внимание на Джильберта
Кэннана, автора посредственной книги, вовсе сошедше-
го затем с литературной сцены, между тем как для
Д. Г. Лоуренса, кроме нескольких иронических восклица-
ний, у него не нашлось иных слов. Можно, конечно,
в свою очередь понять старого мастера, который начи-
нал в диккенсовско-тургеневском обаянии, а на склоне
лет ему довелось застать такие романы, как «Сыновья и
возлюбленные». Впрочем, сам Лоуренс остался к этому
небрежению довольно безучастен. Уэллс же стал гото-
виться к решительной схватке.
Он работал в это время над публицистическим ро-
маном «Бун», куда после появления обзора Генри Джей-
мса, решил включить отповедь ему. Уэллс ввел в эту
книгу диалог, озаглавленный «Об искусстве, о литера-
туре, о мистере Генри Джеймсе» (1915). Частично стиль
этого раздела сам по себе представлял пародийное вос-
произведение манеры Джеймса, полной округлых фраз,
вводных предложений и слов, фигур и оговорок. Кроме
того, главный персонаж этой книги, воображаемый пи-
сатель Бун, давал Генри Джеймсу пространную харак-
теристику, частично приведенную выше. Именно устами
Буна Уэллс утверждал, что, следуя жизни, роман дол-
жен быть, как сама жизнь, «разноликим и неровным».
Особенно, иронизировал Бун над джеймсовым принци-
пом «единства» и «отбора». «Убедившись прежде все-
го,— говорил о Джеймсе Бун,— что ничего достойного
выражения не осталось, он принимается выражать это
с помощью системы средств и интеллектуального богат-
ства, способного низвести Ньютона до уровня ничтоже-
ства». В итоге Бун переходил на язык гротеска и срав-
нивал Джеймса с «могучим», но болезненным бегемо-
том, который решил любой ценой, даже ценой своего
достоинства, достать горошину, закатившуюся в дальний
угол его логовища. Причем Бун, признавшись, что сам
хотел было написать роман в духе Генри Джеймса, да-
лее пересказывает его содержание, выставляя таким об-
375
разом в смешном виде приемы своего бывшего настав-
ника.
Экземпляр книги Уэллс оставил для Джеймса в клу-
бе, и Джеймс, найдя ее через некоторое время там, от-
вечал вежливым письмом. Он писал, что с интересом
прочел книгу и с особенным вниманием критику, к нему
обращенную, писал, что сам знает до известной степени
свои возможности, но что гораздо труднее ему судить
о том, чего он лишен. Он настаивал на своих принци-
пах, говоря, что его поэтика зиждется на «мере полно-
ты — полноты жизни и воспроизведения ее, между тем
как вам представляется и то и другое совершенно пу-
стым». И завершалось письмо рядом округленных пас-
сажей.
Уэллс был несколько обезоружен и даже смущен та-
ким непротивлением и терпимостью. Отвечая, он, одна-
ко, подчеркнул, что, по всей видимости, они стоят с
Джеймсом на совершенно разных позициях. «Для вас
литература,—- писал он,— подобно живописи, есть сама
по себе цель, между тем для меня литература, как зод-
чество, только средство». «Я скорее назвал бы себя,—
продолжал Уэллс,— журналистом, чем художником, и в
таком случае трудно представить мне большую проти-
воположность, чем вы». Джеймс отвечал письмом, еще
более вежливым, в котором он продолжал отстаивать
свои принципы. Джеймс отказывался признавать, что
его, так называемый Уэллсом, «взгляд на жизнь и ли-
тературу», представляет какую-либо общественную опас-
ность или зло. «Я смотрю на жизнь и литературу,—
писал Джеймс,— признавая, что последняя интересна по-
стольку, поскольку в ней есть размах и разнообра-
зие, гибкость и свобода, поскольку она основывается
на искреннем и подвижном опыте каждого отдельного
литератора». «С моей точки зрения,— продолжал
Джеймс,— я живу, живу напряженно и сыт жизнью;
и моя мера ценностей, каковы бы они ни были, соот-
ветствует моему способу выражения. Мне остается по-
этому лишь удивляться, что строй (строй выражения и
чувств жизни, этому соответствующий) для вас просто
не существует». Джеймс возражал против разграниче-
ния, произведенного в письме Уэллса: искусство, пред-
ставляющее, как живопись, ценность само по себе,
и архитектура, где искусство подчинено практической
376
пользе. «Как искусство,— писал Джеймс,— архитектура
подчинена пользе в таком же смысле, что и всякое дру-
гое искусство; точно так же литература далека от то-
го, чтобы оказаться безразличной к своему воздейст-
вию на жизнь и к тому, чтобы сделать ее максимально
интересной — все это настолько, я считаю, важно, что
все прочее остается далеко позади».
Заканчивал Джеймс свое письмо словами, которые
часто приводились впоследствии в качестве его кратко-
го кредо. Одни приводили их сочувственно, другие, на-
против, критически, но весьма редко возвращались, ци-
тируя это письмо, к собственному смыслу того, что бы-
ло высказано Джеймсом. «Именно искусство,— писал,
подчеркивая, Джеймс,— создает жизнь, создает интерес,
создает значимость для того, чтобы все это мы могли при-
нять в расчет и использовать, и я не знаю иной дея-
тельности, во силе и красоте способной подменить
эту».
Правда, смысл этих слов не так легко уловим. Уэллс
по крайней мере встретил их с недоумением. «Я не сов-
сем ясно понимаю,— писал он в ответ,— заключитель-
ные фразы вышего письма, которые, тем не менее, не
оставляют сомнений относительно того, насколько рас-
ходятся наши взгляды. Когда вы говорите «искусство
создает жизнь, создает интерес, создает значимость»,
я только в том случае могу постичь смысл этих слов,
если буду понимать под «искусством» всякий род соз-
нательной человеческой деятельности. Я же пользуюсь
этим понятием, имея в виду изыскание и освоение, ко-
торые являются узкотехническими и специальными».
В этом споре слабые стороны противников выступа-
ли особенно очевидно, их промахи были весьма показа-
тельны. Заметно, что ни один из участников спора не
обладает цельным творческим взглядом на жизнь и чув-
ством своего ремесла, какое умели хранить «невежест-
венные гиганты» — Вальтер Скотт или Диккенс. Изощ-
ренная мысль спорщиков, обнаруживая такое тонкое
будто бы понимание природы искусства, тем резче от-
теняет ослабленность4 их непосредственного творческо-
го чутья. Оба рассуждают значительно лучше и инте-
реснее, чем могут писать. Сама по себе мысль Джеймса
о том, что искусство хорошо только тогда, когда это
искусство,— справедлива. Говоря «искусство создает
377
жизнь», Джеймс, разумеется, не вкладывал в эти слова
наивно-формалистического эстетского смысла, он только
оставался верен своей постоянной идее об исключитель-
ном назначении творчества, которое само по себе есть
великое созидающее деяние, а не всего-навсего средст-
во или приспособление для более удобного и успешно-
го ведения какой-то другой деятельности. Джеймс за-
блуждался, полагая, что у искусства есть извечно по-
ложенные пределы и что в этих пределах, не считаясь
с жизнью, творческий процесс сможет сохранить цель-
ность.
Джеймс, столь тонко и точно препарирующий зако-
ны мастерства, сам, тем не менее, лишь схематически
воспроизводит на практике эти принципы. Романы его
написаны почти все без исключения мастерски — не
только с формальной, стилистической стороны, но имен-
но в том общем и широком значении «хорошо написан-
ной книги», как ему после бесед с Тургеневым и Фло-
бером хотелось понимать эти слова. О лучших из них
трудно не сказать: «Прелестно!» — и в то же время ред-
кая из них без труда поддается чтению. Чтение книг
Генри Джеймса затруднительно не потому, что это изы-
сканно интеллектуальная проза, но по причине какой-
то анемической безынтересное™, безжизненности ат-
мосферы этих книг. Их даже не то чтобы трудно, но
кажется, что как-то и не нужно читать после первых
страниц.
Тут Уэллс гораздо реальнее ощущает напор жизни,
понимая неизбежность самых неожиданных эволюций в
природе писательской деятельности. Однако Уэллс спе-
шит или упрощает дело, когда надеется, что «жизнена-
сыщение» будто бы само «приведет его к стилю». Он и
в самом деле спешил, потому многие страницы его книг,
действительно, оказались более или менее удачной пуб-
лицистикой. Уэллс, впрочем, не отрицал этого и был,
по его собственным словам, готов к тому, что написан-
ное им «действует сейчас и скоро умрет». Но едва ли
он предполагал, до какой степени это предсказание оп-
равдается, и уцелеют из его обширнейшего наследия
лишь те книги, где он был мастером, творцом.
Ни Джеймс, ни Уэллс, да и вообще уже ни одна из
индивидуальностей не в силах была органически соеди-
нить интуицию, разум, жизненный материал, досто-
378
верность и вымысел, научное провидение и нутряное
чувство жизни, как удавалось это некогда «невежествен-
ным гигантам». Между тем, они, эти гиганты, подчас
судили о своих творческих установках беднее, ограни-
ченнее, чем раскрывали их в произведениях.
«Мне случалось ощущать при чтении Диккенса ужас,
равного которому не внушает и сам Э. По»,— призна-
вался Александр Блок. Современник Генри Джеймса и
Уэллса, он писал это в ту же, примерно, пору, когда
они спорили о путях развития романа. То не были страх
или жалость, вызванные печальными, жуткими страни-
цами диккенсовских книг. Наш поэт испытывал «ужас»
перед творческим величием Диккенса, он чувствовал го-
ловокружение при взгляде на вершины, которые тот по-
корял, и они, эти вершины, чем дальше, тем явственнее
открывали свою громадность. Давно будто бы «выдох-
шийся», «изживший себя», Диккенс вдруг взрывал и ру-
шил новейшие прожекты литературного «прогресса».
Оба, и Джеймс, и Уэллс, в каком-то смысле правы,
но в еще большей степени оба неправы: их спор о судь-
бах романа, символически развернувшийся на рубеже
нового этапа в развитии литературы и охвативший прин-
ципиальные вопросы писательского дела, обнаруживает
характерную черту переходного времени. Он отозвался
в последующих спорах, размышлениях и творческой
практике видных английских и американских литера-
торов.
Глава VIII
ПУТИ ПИСАТЕЛЬСТВА
(Джордж Мур и Джозеф Конрад)
Наиболее последовательно и полно убеждения Уэл-
лса творчески воплощал сам Уэллс. Об этом у нас пи-
сали !. Менее изучено воздействие Уэллса на младшее
поколение литераторов, выступившее в 20-е годы нашего
века. Жил и писал Уэллс долго, он буквально являлся
«живой традицией»; в пристрастиях литературной моло-
дежи 20—30-х годов он занимал место отчетливого ори-
ентира. Не столь очевидна судьба Генри Джеймса и
его «школы».
О старшем брате Генри Джеймса — психологе и фи-
лософе Вильяме Джеймсе говорится, например, так: «Из-
за того, что основные философские труды Джеймса бы-
ли написаны в самом начале века и давно уже влились
в общий поток современных философских учений, а так-
же из-за того, что Джеймс редко точно формулировал
свои философские идеи, в наши дни не часто цитируют
Джеймса как основной источник тех идей, которые сво-
им возникновением обязаны главным образом ему» 1 2. За
тем отличием, что Джеймс-младший достаточно четко и
часто формулировал свои положения, эта характеристи-
ка в принципе применима и к нему: его могли бы цити-
ровать чаще те, кто желал поразить новизной взглядов
в эпоху 20-х годов.
Теперь же его без колебаний называют «мастером
своего времени», то есть «рубежа веков». В это «время»
1 См. Д. Г, Жантиева. Английский роман XX века. М., «Наука». 1965;
Ю. И. Кагарлицкий. Герберт Уэллс. М., «Худож. лит-ра»', 1964.
2 Т. И. Хилл. Современные теории познания. М., «Прогресс», 1965,
стр. 299.
380
(когда из общего потока западной литературы с чет-
кой определенностью выделялись немногие имена, в том
числе Генри Джеймс) «в Англии имелось множество
вполне хороших романистов, драматургов и поэтов —
точно так же, как имелось довольно много товаров в
довольно приличных магазинах. Однако шедевров в то
время что-то не замечалось» 3.
Существует «текущая литература», которая, впрочем,
движется широким потоком и даже заполняет все ме-
ста в иерархии успеха — «властитель дум», «поэт поко-
ления», «мастер»... В начале 20-х годов Джон Голсуор-
си написал, по предложению Горького, краткий обзор
новейшей английской литературы, где, между прочим,
как характерную черту отмечал: места «выдающихся
старых романистов» занимают более молодые прозаи-
ки — они как бы становятся на вакантные должности,
соответствуя, если не по масштабу, то по направленно-
сти творчества старым мастерам.
«Усредненный», однако, высокий уровень. Писателей
отличают профессионализм, образцовое ремесло и пло-
довитость. «Если хорошее настроение — пиши, если пло-
хое — тоже пиши, если здоров — пиши, голова бо-
лит — все равно пиши»,— такой зарок дал себе в моло-
дости Дж. Б. Пристли4 (р. 1894), будто вторя мрачному
и тоже программному заклинанию Стивенсона: «В по-
стели, больной, я пишу и, поднявшись с 'нее, пишу»
и т. д. Стивенсон, как известно, при всем своем нездо-
ровье написал до тридцати томов, Киплинг — трид-
цать семь, Конан Дойль считается автором семидеся-
ти пяти книг, наследие Уэллса вообще пока не под-
дается полному обозрению. Дж. К. Честертону не была
свойственна усидчивость и дисциплина, однако он на-
верстывал время продуктивностью и, когда истекали сро-
ки договоров, способен был, говорят, приняться за кни-
гу и в одну ночь завершить ее. Так что вполне в духе
того времени действовал Сомерсет Моэм (1874—1965),
который, «подведя итоги» в конце 30-х годов, после это-
го издал еще почти столько же — сколько написал и
опубликовал до «итогов»: в общей сложности ему при-
3 I. М. Stewart. Eight Modern Writers. Oxford, 1963, p. 15.
4 Признание Пристли из книги воспоминаний: «Margin Released». L.,
1962.
381
надлежит более пятидесяти романов, сборников расска-
зов, пьес и т. п.
«Новая Граб-стрит» помещалась фактически на
Флит-стрит, но в сущности и здесь от профессиональ-
ного литератора требовалось, чтобы он,— как выражал-
ся тот же Пристли,— «умел писать все: и проповеди и
фарсы». Здесь вырабатывались такие «неистощимо пло-
довитые, неистощимо остроумные» типы литераторов, ка-
кими были, например, Честертон, Хью Уолпол и мно-
гие другие. Честертон помимо того, что он являлся ав-
тором романов, рассказов, бесчисленных эссе, давал
с 1905 по 1930 год каждую неделю очерк на целую
полосу в журнал «Иллюстрейтед Лондон ньюс», и за
четверть века без его участия вышло лишь два номера.
Никогда прежде не рассуждали в Англии так охотно
и часто, как в эту пору, о литературном ремесле, о том,
что и как следует писать. О существовании крити-
ки в эпоху Диккенса дало возможность вспомнить толь-
ко специальное исследование: настолько художествен-
ные создания (литература собственно) оставляли тогда
в тени суждения о них, о писательской технологии. На
рубеже веков, напротив, литература о литературе при-
обрела необычайный вес и могла спорить по влиянию с
литературной продукцией как таковой.
Еще одна особенность: писатель, завзятый професси-
онал, измельчается во множестве проявлений, пишет в
самом деле «проповеди и фарсы», а между тем ни одно
из его созданий не является достаточно представитель-
ным, не показывает его вполне. Личность автора за-
полняет и заслоняет его же творчество: более, чем
книги, им написанные, более, чем герои, им выведен-
ные, оказываются интересны впрямую его взгляды и
мнения.
При именах Фильдинг, Вальтер Скотт, Диккенс сами
собой вспоминаются «Том Джонс», «Айвенго», «Пиквик-
ский клуб». Еще «по-старомодному» связаны с книгами
Стивенсон, Киплинг, Уэллс— «Остров сокровищ», «Ма-
угли», «Человек-невидимка». Однако чем ближе к наше-
му времени, тем все большее число писателей оказы-
ваются прославлены и памятны не книгами, не назва-
ниями произведений, не персонажами, а вообще свойст-
вами, которые, надо признать, англичане до сих пор
хорошо помнят и различают. Честертон — сразу опре-
382
целяется: эксцентрическая манера, юмор, парадоксы; Ар-
нольд Беннет — быт, Уолпол — «ужасы». О нем же,
кстати, говорили, что он прежде всего интересен сво-
ей биографией, умением оказываться в «исторический
момент в историческом месте». О нем хорошо помнят
несколько любопытных фактов, так, в частности, что в
начале 20-х годов он случайно познакомился с Гитле-
ром, а в конце 30-х годов написал об этом статью под
названием «Зачем я тогда его не отравил!». В анг-
лийской литературе первой трети XX века Хью Уолпол
(1884—1941) занимает достаточно прочное место как
колоритная фигура, как литературный деятель, а про-
изведения его, немного поднимавшиеся в свое время
над уровнем «текущей литературы», так и унесены тем
же потоком в забвение— все без исключения и почти
без следа.
Правда, более существенные имена не избегают впол-
не той же участи. Стараясь определить, чем же все-
таки останется памятен в литературе Джордж Мур, от-
вечают: «скорее всего прозой» 5. Это не жанровое опре-
деление достоинств творчества, не «проза» (романы, рас-
сказы)— в противоположность «поэзии» (стихам), но
наиболее важный результат творчества — проза как фак-
тура письма, вообще «проза Джорджа Мура», не заклю-
ченная в некую определенную книгу. Ею прекрасно
владел Джордж Мур, но все же не написал книги, ко-
торую можно было бы написать.
«В старые добрые времена» писатель, так ничего и
не написавший, мог вызвать разве что ироническое к
себе отношение, что у нас, например, выразил Гри-
боедов знаменитой репликой: «Ты сочинения его читал
ли что-нибудь?... Да он не пишет ничего!» Теперь же
такому писателю чаще сострадали, как надломившемуся
под бременем чрезмерно возвышенной творческой
задачи.
Все это были симптомы усугублявшегося професси-
с .лизма: литератор владеет образцовой «прозой», од-
нако ему не дано нечто большее, что позволяет созда-
вать живые творения. Это также признаки глубоко пе-
реходного состояния литературы, которая собирается во
5 D. Shawe-Taylor. The Achievement of George Moore.— В кн.: /. Ho-
ne. The Life of George Moore. L., 1935.
383
многом изменить свою природу, нарушить прежние гра-
ницы. Как далеко? Насколько? Тот же Джордж Мур
допускал, что даже «писание», как форма литературно-
го труда, отживает свой век, и предпочитал диктовать.
Джордж Мур (1852—1933) —явление принципиаль-
ное, типичнейший и крупный писатель той поры со все-
ми достоинствами и слабостями, как субъективными, так
и независящими от его сил. Соотношение биографии
и творчества, этапы биографии, «годы учения и стран-
ствий», отношение к традиции, к современникам, нако-
нец, размеры дарования и уровень достижений,— все
характерно.
Его считают «естественным продолжателем Мереди-
та»6. Голсуорси, выстраивая шкалу относительных до-
стоинств своих современников, счел, что Мур «заместил»
Генри Джеймса. Все это, в сущности, одна линия, отли-
чающаяся в ряду основных своих признаков внутрили-
тературным значением. Выше говорилось уже о том, на-
сколько творчество Мередита и Джеймса так и не пре-
одолело границ писательской лаборатории, «эксперимен-
та». Этих писателей, в том числе Мура, называли
«сознательными», даже «самыми сознательными» литера-
торами своего времени, но это определение двоякое. Оно
поднимает их над уровнем «бессознательно»-ремеслен-
ной писанины, однако в то же время показывает зримый
предел в сравнении с «невежественными великанами».
Как бы ни колебалась (при том большей частью в
благоприятную сторону) репутация Мередита, она все
же всегда остается ограниченной — кругом искушенных
поклонников. Теперь много пишут о Генри Джеймсе,
многословно комментируют каждое его высказывание и
тем не менее почти не переиздают его произведения.
Посмертная канонизация Джеймса как «мэтра», теоре-
тика, «учителя» только, пожалуй, подчеркивает ро*г
вую неполноценность его творчества. И если ДжеЙА
«это лучшее», что на английском языке было написано
на рубеже XIX—XX веков, то, стало быть, тем опреде-
леннее можно говорить об органических пороках литера-
туры этого периода.
6 М. Friedman. The Stream of Consciousness, p. 37.
384
Джордж Мур полагал, что литература вообще забы-
ла о некоторых своих исконных свойствах: пренебрег-
ла, например, традицией, интонацией, преимуществами
устного рассказа («романы когда-то рассказывались»).
Стремясь в самом деле рассказывать свои произведе-
ния и запечатлеть на бумаге особенности такого повест-
вования, Мур надеялся тем самым избавиться от уже
бездействующих признаков обычной прозы (вмешатель-
ство автора, переходы от описания к диалогу). Он во-
обще ставил своей целью создать «искусство более утон-
ченное, чем обычный реализм».
Диккенса он считал великим, но бесповоротно прой-
денным этапом, Томаса Гарди Мур, подобно Генри
Джеймсу, иронически третировал, утверждая, что ему
«не хватает стиля». Томаса Гарди упрекали и в наив-
ности, и в сентиментальности, в аляповатости и бес-
стильности. Однако, в свою очередь, если быть объек-
тивным, вряд ли кто мог бы создателя «Тэсс» и «Джуда»
назвать «безжизненным».
Причем, жизненность всего, что написано Гарди, от-
личается от «насыщения литературы жизнью», которое
в спорах с Генри Джеймсом выдвигал молодой Уэллс.
Суждения Уэллса также обнаруживают опасный — кри-
зисный и профессионально характерный «поиск материа-
ла», чего-то внешнего, о чем писателю предстоит на-
писать. Перед Гарди этой проблемы, кажется, просто
не возникало. Он всегда знал, имел о чем писать, черпая
из запасов своей личности, хотя от первого лица и тем
более непосредственно о себе романов (кроме утрачен-
ного) не писал. >
Допустим, ни Томас Гарди, ни сам Диккенс, да и
вообще предшествующая литература, не знали той сте-
пени и тех способов самоуглубления, какие оказались
выработанными в традиции Мередита — Батлера —
Джеймса — Мура. В результате литература несколько
продвинулась к идеалу, очерченному Флобером: «Автор
в своем творении должен быть как бог: его не видно,
а он чувствуется». В самом деле, многие обветшавшие,
окаменевшие повествовательные, преимущественно, опи-
сательные условности были устранены. Повествование
сделалось более подвижным, многоплановым и, дейст-
вительно, более «сознательным» в том смысле, что пи-
сатель мог добиться соответственно многообразного эф-
13 м. в. Урнов
885
фекта в зависимости от того, надо ли ему заставить
читателя слышать, видеть,— словом, возникала отточен-
ная многомерность прозы, что было выше отмечено на
примере Стивенсона.
Классический реализм, развернувший свои гигант-
ские силы в середине XIX века, подчас в самом деле
оказывается рядом с этой прозой несколько однолиней-
ным, описательным. Толстой, передавая со всей ощути-
мостью засыпание Пети Ростова, вводит в череду полу-
осознанных впечатлений еще и звук «Ожиг-жиг-жиг»,
а все-таки не создает звука; получается попытка вос-
произвести звук, но не проза, передающая некий зву-
ковой эффект. Тот самый случай, когда Джордж Мур
имел обыкновение «оплакивать... нежелание писателя до-
вести до необходимо-художественного результата его же
собственный замысел»7-8.
Если Джордж Мур возьмется воспроизводить звук,
«писать звук», мы не прочтем о звуке, а нам просто
прозвучит что-то со страницы. В свою очередь Стивен-
сон, как мы видели, не использует ничего в прямом
смысле светового и цветового, чтобы показать, как взо-
шла луна и «в бочке стало светло». Генри Джеймс не
станет описывать музыку, что все-таки делает Толстой,
когда Наташа Ростова на балу; он незаметно втянет
читателя в некий ритм, столь же незаметно, однако,
педантически последовательно зафиксирует внимание на
определенной «точке зрения», и в результате читатель
воспримет, как поют, что в это время думают, о чем
между тем говорят. Этот пример — сопоставление поз-
воляет заметить, в чем тут дело, где «технологическая»
разница между Толстым и Джеймсом, между двумя по-
следовательными литературными эпохами, и что такое
«сознательность» в лучшем ее проявлении.
Толстой стремится охватить, описать бал, он как бы
старается успеть за всем сразу, за картиной целиком:
как были одеты, как сверкали зеркала, что думал князь
Андрей, что чувствовала Наташа и как вели себя при
появлении государя... Джеймс, словно зная, что все рав-
но за всем не успеешь, уж он-то во всяком случае за
всем не успеет, следит только за одним — за расхож-
дением ритмов в пении итальянского маэстро, говоре
7-а Humbert Wolfe. George Moore. L., 1931, p. 28.
386
окружающих и, наконец, мыслях героя. Он не показы-
вает и не передает ни пения, ни разговоров, ни мыс-
лей: он только следит за ритмом (понимаемым, конечно,
не формально — не ритмическая проза), за ритмом ды-
хания что ли... Он сознает: добившись точного вос-
приятия расхождения ритмов, он заставит поверить во
все остальное.
В сущности, ту же повествовательную закономер-
ность обосновывает Чехов, предостерегая от «прилага-
тельных» и описаний и предлагая сообразовывать по-
вествование как можно точнее с конкретным восприя-
тием конкретного человека в конкретный момент, иными
словами, соблюдать психологическую выверенность по-
вествования, что на сцене Станиславский называл
«правдой сценических действий», советуя: «Не играйте
эмоций вообще, ищите точные формы проявления этих
эмоций».
Вот пример такой последовательности и точности в
повествовании. Маленький мальчик-ирландец очутился
в больнице:
«Это было в изоляторе. Он захворал. А домой папе
и маме написали? Лучше бы кто-нибудь из монахов
съездил за ними. Или, еще лучше, он сам отправит
письмо.
Мама,
Я заболел. Мне хочется домой. Прошу тебя, приез-
жай и забери меня. Я в изоляторе.
Твой любимый сын
Стефен
Как все они далеко! Холодный солнечный свет сиял
за окном. А вдруг придет смерть! И в такой яркий
день можно умереть. Он может умереть и не дождать-
ся, пока приедет мама. Тогда будут похороны и служ-
ба в часовне, как было,— ему другие дети рассказыва-
ли,— когда умер Литл. Приведут учеников, они будут в
черном и с печальными лицами. Уэллс (враг Стефена.—
М, У.) будет тут же, но никто на него не взглянет.
И ректор придет, одетый в черное и золотое, и высо-
кие сияющие свечи будут возвышаться на алтаре и во-
круг гроба. И медленно вынесут гроб из часовни и по-
хоронят его на маленьком приходском дворе возле ли-
повой аллеи. Вот тогда Уэллс почувствует, что он наде-
лал. И медленно будет раскачиваться большой колокол.
13*
367
Стефен ясно вообразил себе этот звон, повторяя про
себя песенку, которой его научила Бриджит.
Поют колокола. Прощайте!
Положите меня среди старых плит,
Где мой братик старший лежит.
Вот мой гроб. Вот поют.
Вот и ангелы следом идут.
Они душу мою возьмут.
Как пленительно и как печально! Как хорошо гово-
рится в том месте, где надо петь: «Положите меня сре-
ди старых плит!». Он дрогнул всем телом. Пленительно
и печально! У него подступили слезы, но не от горя за
себя, а от слов, таких прекрасных и грустных, похожих
на музыку. Прощайте! Звонят. Прощайте!» (Джеймс
Джойс. Портрет художника в молодые годы, 1911—1914).
Перевод не передает всех оттенков этой прозы и к
тому же она со всеми своими особенностями слишком
усвоена последующей литературой, растворилась в ней и
достаточно известна косвенными путями, чтобы произ-
вести теперь впечатление точностью задуманного и до-
стигнутого эффекта: атмосфера, движение чувств, цвета,
звуки — все сохраняет свою особенную фактуру и в то
же время слито в цельной картине. Отметим, что нигде
.здесь атмосфера не описывается, чувства не называют-
ся, звуки не воспроизводятся каким-либо подражатель-
ным— прямым способом; вообще все здесь — или почти
все — опосредованно, косвенно, ассоциативно. Так, соб-
ственно, большей частью и работает человеческое вос-
приятие. В данном случае это освоено искусством.
Однако тотчас является вопрос о масштабах этого
искусства. Ибо во многих отношениях божественно вы-
сокое, оно само по себе не дает «сознательным», все
рассчитывающим мастерам гарантии выполнения истин-
но созидательной задачи — сотворить свой мир, свою
вселенную — то, что действительно «яко бог» делают
и Диккенс, и Толстой. Более, чем к кому-либо, приме-
ним и к Джорджу Муру и ко всей этой традиции его
же собственный упрек: неспособность осуществить замы-
сел. Между тем реалисты-классики мимоходом, выпол-
няя некую гораздо более грандиозную созидательную
задачу, преобразуют и тончайшее мастерство. Именно,
388
мимоходом. Толстой собственно оставил в черновиках,
среди отвергнутых им самим замыслов и набросков, го,
что могло бы позволить появиться «Портрету художни-
ка» в середине прошлого века. Почему, однако, оста-
лось это в черновиках? Безусловно, Толстой знал цену
всякому высокому искусству и, в том числе, чистому
артистизму повествования, но он методически отказы-
вался от него и даже вытравлял этот артистизм всюду,
где только способно было искусство помешать тому, что
Толстой ставил еще выше,— нравственной правде, исти-
не, как понимал ее Толстой. Мы имеем основания, су-
дить об этом по-своему и отвергать, в свою очередь, пред-
почтение Толстого, однако это уже другой вопрос. «Жал-
кая назидательная цель, которую ставил себе Толстой,
все же не могла загубить его романов» (Д. Г. Лоу-
ренс) 9. Но, кажется, это все равно что сетовать на
«благое провидение», допускающее в мире зло наряду с
добром. Это ведь сама жизнь, сам Толстой.
В известном смысле крупные писатели конца века
были «сознательнее» — осмотрительнее великих реали-
стов. Однако эта осмотрительность обнаруживала обо-
зримость их возможностей. Генри Джеймс, развивая свои
взгляды на повествование, прямо говорил о непримени-
мости для него метода Толстого прежде всего потому,
что он рассчитан на иные масштабы 10 11. Разграничение
стихийного «искусства» и высокоорганизованного «ма-
стерства», определявшееся в ту пору, как бы узакони-
вало отступление литературы от уровня великих реа-
листов. Подводя итоги рубежу веков, романист
Э. М. Форстер сделал известное «антипатриотическое»
(по его словам) заявление, подчеркнув, что среди анг-
лийских романистов нет писателей масштаба Толсто-
го и Достоевского н.
Не было, конечно, единой меры, масштаба, достоинств
и значения литературного искусства. Джордж Мур
вспоминал свой символический разговор с Вильямом
Хенли, прежним другом и соавтором Стивенсона. «Тол-
стой,— утверждал тогда Хенли,— может носить Турге-
нева на цепочке от часов». А Джордж Мур отвечал.
9 D. Н. Lawrence. Phoenix II. L., 1968, р. 416.
10 См. его программную статью Ivan Turgeneff (1897).
11 £. M Forster. Aspects of the novel. N. Y. ,1954, p. 7.
389
«Иногда бывает, что даже брелок на цепочке ценнее
самой цепочки» 12.
Знаменателен уже тот факт, что русские имена слу-
жат на исходе прошлого века английским писателям
обозначением магистральных направлений творчества:
говоря о Толстом и Тургеневе, Мур и Хенли спорили
о том, как вообще следует писать, какими путями бу-
дет развиваться искусство повествования. «Толстой»
или «Тургенев» — это были, по их мнению, взаимоис-
ключающие принципы — «стихия» и «сознательность»,
«хаос» и «отбор», «сама жизнь» и «мастерство воспро-
изведения жизни». Характерно также, что Мурж не от-
рицая исполинских сил Толстого, переводит разговор в
другую систему оценок (ср. его «брелок» с «гороши-
ной» Генри Джеймса).
«В девяностые годы,— вспоминал Джордж Мур,—
все мы были подавлены обаянием реализма, внешне-
описательного реализма». Отсюда, как^1 реакция на
всеподавляющее воздействие искусства бытового прав-
доподобия, и возникала мечта о более «утонченном» и
«углубленном» методе изображения. Так, по крайней ме-
ре думал о своих установках Джордж Мур. Объектив-
но, однако, теории «отбора», идеал «сознательности»,
принцип «мастерства» и меры «брелка» или «горошины»
были в конечном счете свидетельством упадка творче-
ских сил, неспособности литературы справиться с жиз-
нью — того именно, что удавалось великим реалистам.
«Никому весь видимый мир не был так открыт, как
Толстому»,— это признание Джорджа Мура.
И все же, будто потому как раз, что сил и воз-
можности продвигаться другим путем не было, Джордж
Мур с тем большей тенденциозностью и запальчивостью
упрекал Толстого и реализм вообще в стремлении «со-
перничать с самой Природой». «Книга «Война и мир»
велика, но если бы она была еще в три раза больше,
все равно многое бы осталось неизображенным. Мож-
но представить себе, как Толстой вскакивает ночью в
ужасе, что он пропустил сцену с яхтами, а на следу-
ющую ночь он вспоминает, что не описал за/треню... Не-
смотря на очевидный талант, заявляющий о себе в
каждом описании, все же нельзя отделаться от мысли о
12 «Avowals» (1919).
390
пловце, который пытается перегнать поезд, идущий по
берегу 13. Так понимал Мур «соперничество Толстого с
Природой», с самой жизнью, с предметом изображения.
Дневники и черновые варианты Толстого тогда еще
не были доступны читателю, так что Мур не имел воз-
можности по ним убедиться, насколько мысль Толстого
двигалась принципиально иным путем, чем он это се-
бе представлял. Но пока что вопрос не в оценке Тол-
стого. Судя о Толстом так же, как он судил о Дик-
кенсе, Мур дает наглядный материал для суждений о
нем самом, о его понимании писательства.
Эмоциональная подвижность Толстого в отношении к
искусству измеряется иной шкалой (вспомним об этом
не только ради самого Толстого, но для типологии).
« — Я всегда говорю,— передает мемуарист беседу
с Толстым,— что произведение искусства или так хоро-
шо, что меры для определения его достоинств нет —
это истинноеJ искусство. Или же оно совсем скверно.
Вот я счастлив, что нашел истинное произведение ис-
кусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил.
Постойте, я вам сейчас его скажу.
Лев Николаевич начал прерывающимся голосом:
Тени сизые смесились...
Я умирать буду, не забуду того впечатления, кото-
рое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он
лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край
одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его сле-
зы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но,
наконец, когда он произнес конец первой строфы: «все
во мне, и я во всем», голос его оборвался». — «Лев
Николаевич,— добавляет мемуарист,— прочел тютчев-
ские «Сумерки» тихим, прерывающимся голосом, почти
шепотом, задыхаясь и обливаясь слезами» 14.
Видно, как последовательно проявляется натура Тол-
стого, начиная от цельного взгляда на «истинное ис-
кусство» и кончая мыслью стихов, которые Толстой при-
вел в пример такого искусства; это мысль об органи-
ческом единстве с жизнью, с мирозданием. Великий пи-
сатель оказывается еще и человеком-гигантом, обла-
13 Russian Literature and Modern English Fiction. Ed. by D. Davie.
Chicago — London, 1965, pp. 36—37.
14 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. M., Гослитиздат, 1959,
стр. 57.
391
дающим совершенно исключительной жизненной силой.
Не только писатель, но и соответственно натура мень-
шего масштаба сказывается в суждениях Джорджа Му-
ра, когда живую мощь Толстого, бьющую через край,
он трактует в духе студийно-ремесленного «соперни-
чества с Природой», желания нечто «написать»... Надо
отдать в этом смысле должное Генри Джеймсу, который
осмотрительно учитывал это, а потому, говоря о «жиз-
ни» как о предмете искусства, подчеркивал — «жизнь
в доступных мне пределах». Известно, что пределы эти
были для Генри Джеймса совершенно определенно огра-
ничены самой природой.
Сейчас историки литературы пристальнее и, главное,
серьезнее, чем прежде, всматриваются в человеческий
материал, оказавшийся подоплекой творчества наиболее
заметных и влиятельных писателей на переходе из
XIX в XX век. Делается это теперь все чаще не за-
тем, чтобы, наконец, решить «справедливо ли осудили
Оскара Уайльда» и «правда ли, что у Томаса Гарди
был внебрачный ребенок», не ради скандально-детектив-
ных изысканий, но в силу оправданного понимания, на-
сколько небезразлично отражался этот материал в твор-
честве.
Кстати, предпочтение, какое отдавали Тургеневу пе-
ред Толстым и Генри Джеймс, и Джордж Мур, и еще мно-
гие их современники, было мотивировано глубоко лич-
но. Вне зависимости опять-таки от того, насколько это
определяет Тургенева, некий культ его характеризует
хотя бы Мура. Тургенев близок и приятен ему многим:
изяществом, тонкостью; даже размеры его книг особен-
но нравились и Муру и Генри Джеймсу — последователь-
ный подход, где выдержана все та же мера «горошин»
и «брелка». С какой субъективной заинтересованностью
встретил Джордж Мур издание писем Тургенева к По-
лине Виардо! Позднейшая публикация переписки самого
Джорджа Мура с Нэнси Кунард — леди Кунард— впол-
не поясняет такой пристрастный интерес.
Форд Мэдокс Форд, близко знавший английских ли-
тераторов этого круга, свидетельствует, насколько в са-
мом деле личным было отношение его старших сооте-
чественников к Тургеневу. О Голсуорси он, например,
вспоминает, как тот передавал ему эпизод, слышанный
от самого Тургенева.
392
«...У Тургенева была связь с крепостной девушкой.
Отправляясь однажды в Петербург, он спросил ее, что
привезти ей в подарок. Она попросила душистого мыла.
И на вопрос, зачем ей это мыло, она будто бы отве-
чала: «Чтобы вы могли целовать мои руки, как целуете
вы руки знатным дамам, вашим друзьям».
«Мне эта история совсем не нравилась,— отмечает
Форд,— но... Голсуорси говорил о ней со слезами на
глазах» 15.
Еще одни «слезы», и они, как мера эмоциональных
колебаний, проступают на страницах книг во всем — в
понятиях стиля, изящества, человечности, вообще «жиз-
ни» и, главное, масштаба в оценке явлений жизни и
литературы. По сравнению с неистовством Толстого, до-
стойным короля Лира, тут мера какая-то комнатная,
кабинетно-студийная.
Один мемуарист рассказывает об удивительном опы-
те, выпавшем ему на долю: он читал «Анну Каренину»
в Яснополянском доме, в комнате по соседству с ка-
бинетом Толстого. «Странно было думать,— пишет ме-
муарист,— что этот старик написал эту книгу, что книга
эта вообще кем-то была написана»16. Напротив, вся-
кое заметное явление в западноевропейской, в частно-
сти, английской литературе конца века должно было
вызвать как можно более отчетливое впечатление, что
книга «написана», «сделана». Толстой тогда же упрекал
английских писателей за «фабричность» 17. И это не бы-
ло только индивидуальным свойством какого-то пи-
сателя-ремесленника или даже ремесленников от лите-
ратуры вообще. Литература все более становилась ре-
меслом-профессией в той мере, какая Толстого еще не
затрагивала. Щедринское выражение «писатель пописы-
вает, читатель почитывает» (1884) способно, пожалуй,
очень точно определить действительно производственно-
поточный ритм литературной жизни Запада на рубеже
XIX—XX веков 18.
15 Ford Madox Ford. Portraits from Life. Boston, 1947.
16 И. M. Ивакин.— «Лит. наследство», т. 69, кн. 2.
17 Там же.
18 В западноевропейской литературе такой ритм учредился, конечно,
раньше, чем в России. Адам Мицкевич, например, глядя в этом
смысле на Россию глазами западного человека, говорил о литера-
393
«Пища для творчества» нужна была и Толстому, од-
нако внешний материал не превращается у Толстого в
творчество до тех пор, пока не совершалось его орга-
ническое усвоение, пока не становился он частью лич-
ности Толстого, его собственной жизнью. Для этого, ра-
зумеется, требовалось время; темпы усвоения «пищи для
творчества» были иными, чем, скажем, при «изучении»,
выдвигавшемся натуралистами. Существенно, что даже
те писатели, которые, казалось бы, о пополнении мате-
риала могли и не заботиться (жизненный опыт сполна
обеспечивал их материалом), испытывали нехватку «пи-
щи для творчества».
Судьба Джозефа Конрада в этом отношении просто
парадоксальна. Конрад часто удивлял людей, хорошо
его знавших, тем, что он, человек столь действительно
сложной судьбы, пишет о проблемах, будто нарочно и
к тому же с большим усилием выдуманных. «Он охотил-
ся за призрачной честью»,— говорил, например, о нем
Уэллс. К чему в самом деле было ему за чем-либо «охо-
титься», гнаться, что-то искать, когда его жизнь бы-
ла готовым романом, эпопеей? Не говоря о всех про-
чих поворотах в судьбе Конрада, одно только море —
поистине бездонный источник материала, откуда черпать
можно было безо всякого усилия. И вот моря Конраду
оказывается как бы недостаточно.
«Он не уставал утверждать, что вовсе не является
писателем-маринистом». Так вспоминал о Джозефе Кон-
раде знавший его Форд Мэдокс Форд, который сотруд-
ничал с Конрадом в работе над тремя «неморскими»
книгами и потому, в частности, это утверждение осо-
бенно ему запомнилось. Конечно, автооценка говорит
еще и о том, что Конрад — писатель, так близко срод-
нившийся с морем и столь многим морю обязанный, рас-
пространяет свое воздействие и значение далеко за
пределы «морской стихии» как темы и материала твор-
чества.
торах пушкинской поры: «Почти все они люди состоятельные или
правительственные чиновники и пишут преимущественно для при-
обретения славы и веса... Талант не стал еще там товаром». Своих
же европейских собратьев-писателей Мицкевич тут же называет
«пролетариями» (1837).— Собр. соч. в пяти томах, т. 4, стр. 91—
93. Ср. суждения Пушкина, отдававшего себе в этом ясный отчет,
в письмах к Баранту (декабрь, 1836) и к Вяземскому.
394
Подобно Стивенсону, неоромантик Конрад, пользу-
ясь прижизненным и посмертным успехом, оказался в
свое время причислен по признакам, не случайным и
все же не самым существенным, к довольно узкой —
экзотической области в литературе. Только позднейшие
писатели, особенно в последнее время, обнаружив свой
долг перед Конрадом в различных сферах — в стиле,
технике психологического анализа, во взглядах на про-
блемы морали и развития личности,— значительно рас-
ширили границы признания и понимания его творчества.
Историки литературы указывают сейчас, как правило,
на Джозефа Конрада среди фигур, стоящих у истоков
английского романа XX столетия. Именно у Конрада,
особо отмечают многие из них, окончательно оформился
разрыв между моралью личной и моралью обществен-
ной и был таким образом обозначен конечный распад
викторианского уклада жизни.
Судьба Джозефа Конрада (1857—1924) исключи-
тельна. История литературы знает немало случаев, ког-
да человек, родившись в одной стране, воспитывается
и становится писателем на иной национальной почве.
Однако случаи такого позднего и прочного развития
в чужеродных условиях, как у Конрада, невероятно ред-
ки. Поляк по национальности, Конрад до семнадцати
лет остается в России, затем оказывается во Франции
и Англии, только к двадцати годам в среде матросов
осваивает английский язык. Тридцати шести лет он де-
бютирует как английский писатель и показывает себя
не только вполне безупречным, но выдающимся стили-
стом. Некоторые критики считают лишь возможным по-
жалеть, что у него чересчур правильный английский
язык.
Теодор Юзеф Конрад Коженевский, взявший себе
впоследствии псевдоним Джозеф Конрад, родился на
Украине в Бердичеве. Его отец, литератор и польский
повстанец, был сослан в Вологду. Очутившись вместе
с отцом в «местах не столь отдаленных», Конрад, хоть
и мальчиком, но все же узнал обстановку «мертвого
дома», о которой потом, а может быть и тогда, читал
у Ф. М. Достоевского, оказавшего на него заметное вли-
яние. Семнадцати лет Конрад отправился в Марсель,
395
где поступил юнгой на английский корабль, через не-
сколько лет стал капитаном и в течение многих лет
плавал по всем океанам мира. Тогда же он пробовал
писать. В 1893 году он вел корабль «Торренс», на борт
которого в порту Аделаида сел Джон Голсуорси, а так-
же литератор Э. Л. Сэндерсон. По просьбе капитана,
они ознакомились с предложенной им рукописью, кото-
рую сочли нужным передать Эдварду Гарнету, довольно
известному критику и консультанту издательской фир-
мы 19. Эдвард Гарнет, живший, кстати, одно время в
России, принял рукопись. Таким образом, рейс на «Тор-
ренсе» оказался для капитана Конрада Коженевского
последним, а роман «Каприз Олмейера» (1895), можно
сказать, созданный на этом корабле, открыл творческий
путь писателя Джозефа Конрада.
Почти все творчество Конрада посвящено морю.
О море он написал лучшие свои книги; в них героями
являются моряки, события развертываются в плавании,
на кораблях, в портовых городах, на островах и да-
леких землях. Показана моряцкая служба, ее доблесть
и тяготы, раскрыт сам океан, его простор, краски, ва-
лы, ярость; на фоне гигантской подвижной панорамы
прослеживаются человеческие судьбы, даются столкно-
вения, схватки, дружба, любовь, измены, муки совести
и подвиги чести. Конрад пишет о море и его тружени-
ках со знанием профессионала и силой мастера. Как
поэт определенной стихии, он, конечно, один из первых.
Море составило для Конрада школу, основу жизнен-
ного опыта, и, пройдя искус, он — уже будучи писате-
лем — как бы заново пережил и осмыслил морскую сти-
хию в творчестве. Очень немногие произведения Конра-
да «неморские» из обширного его наследия отличают-
ся заметными литературными достоинствами и имеют
сколь-нибудь существенное значение. Конрад, как видно,
мог писать почти исключительно о море или о том, что
видел и узнал благодаря своим морским странствиям.
«Моя задача,— заметил как-то писатель вполне в духе
литературных настроений века,— заставить силой слова
19 Гарнеты — литературная семья. Отец Эдварда Гарнета был библио-
текарем и ученым, его сын, Дэвид Гарнет, стал романистом, а дочь,
Констанция Гарнет, переводила Тургенева, Толстого, Достоевского,
по ее переводам, главным образом английским, мир узнал русских
гигантов.
396
слышать, заставить чувствовать и прежде всего заста-
вить видеть». Добиться этого ему удавалось, только ког-
да он писал о море. Касаясь иных областей, он сохра-
нял, разумеется, механическую силу пера, но живое дви-
жение из его «неморских» вещей по большей части ис-
чезало. Море оставалось для него творческим материа-
лом, который раскрывался органически, без заведомо
тенденциозного насилия, часто навязанного его «немор-
ским» произведениям.
Конрад был вполне прав, когда отказывался считать
себя писателем-маринистом. Конечно, он не только
«морской» писатель. Дело не в том даже, что он в от-
личие, скажем, от Стивенсона уделял психологии больше
внимания, чем приключениям. (Стивенсон, как ни занят
он в свою очередь душевным миром своих персонажей,
следит за равномерным движением событий и пережи-
ваний. Конрад это соотношение намеренно и постоянно
нарушает, забывая будто бы о развитии фабулы и
занимаясь исключительно психологической мотивацией.)
Главное в том, что «психология», которой поглощен Кон-
рад, душевный мир его героев, вся внутренняя работа
их борений устремляются к одной точке, замкнуты в од-
ном центре: эти немцы, французы, испанцы, и, по боль-
шей части конечно, англичане — герои Конрада — ка-
кой-то странной славянской истовостью бьются над во-
просом нравственного самоопределения.
«Они ждали какого-то важного разоблачения, кото-
рое вскрыло бы силу, могущество, ужас человеческих
эмоций»,— пишет Конрад в романе «Лорд Джим» о тол-
пе, наблюдающей судебное разбирательство (глава VI).
Подобная фраза на фоне всего творчества Конрада спо-
собна приобрести символический смысл, ибо и сам пи-
сатель, и его герои напряжены непрестанным ожидани-
ем некоего универсального откровения, способного дать
внезапное осмысление существа их страстей, стремле-
ний и действий. Но как ни держатся эти люди вместе,
подобно толпе любопытных в суде, как ни ищут они от-
вета, как та же толпа, у закона или государства, в ито-
ге им приходится вести поиск разобщенно на свой страх
и риск. Каждый действует в одиночку, не имея возмож-
ности опереться на общественные установления.
Таков в глазах Конрада исход буржуазного про-
гресса. Одиночество всякого человека, думающего о сво-
397
ем достоинстве, стало в этом плане у писателя пожиз-
ненной темой, заняло его творчество и оказалось в раз-
работке Конрада влиятельным для последующей лите-
ратуры.
Удивительный стилист, единственный в своем роде
мастер английского языка, Конрад говорил по-англий-
ски с очень заметным акцентом, обличавшим его ино-
земное происхождение. Об этом свидетельствует Дж. Гол-
суорси. Джесси Конрад, жена писателя, вспоминая о
первых с ним встречах, говорит, что манера вести себя
тотчас выдавала в нем иностранца. Биографы подчер-
кивают, что, будучи уже маститым писателем, Конрад
собрал возле себя лиц, так или иначе к нему тяготев-
ших, однако сам он в этом кругу не занимал централь-
ного положения и стоял как-то в стороне. Отчужден-
ность сказывалась постоянно в личной судьбе писателя,
и, может быть, морские просторы только символически
подчеркивали, в представлениях Конрада, одинокую за-
брошенность человека в пучине вселенских бурь. И у чи-
тателей находился до поры повод принимать его за
причудливого чужеземца. Однако время, двинувшись
вперед, заставило экзотические краски прозы Конрада
побледнеть и, напротив, выявило в его творчестве нечто
для всех сущее. Конрад, выносивший будто в стороне
свою тему, был поставлен в средоточие многих наибо-
лее злободневных споров.
Роман «Лорд Джим», вышедший в 1900 году, зани-
мает весьма заметное место и в творчестве Конрада,
и в развитии английской литературы на рубеже столе-
тий. Это наиболее характерное произведение Конрада.
У него есть вещи более подвижные или в чем-то даже
более характерные, но здесь все как-то соединилось.
И выбор героя, и постановка проблемы, и построение
повествования. Конрад рассказал о драматической судь-
бе молодого моряка, точнее, представил психологиче-
ский разбор его поведения в чрезвычайных обстоятель-
ствах. Джим допустил служебный и нравственный про-
ступок. Проступок, для новичка объяснимый и в извест-
ной мере даже простительный: вместе со старшим ко-
мандованием он покинул тонущий корабль, на котором
еще оставались люди. Джим не может найти меру ис-
купления своей вины. Все остальные офицеры несчаст-
ного судна «Патна», более опытные и более циничные,
398
нашли способ ускользнуть от официальной ответствен-
ности, что вполне вместе с тем успокоило их совесть.
И только шкипер Джим предстает перед судом. Он го-
тов отвечать, он готов нести кару, он идет навстречу
следствию, надеясь в принятых законом границах уме-
стить свое представление о чести. Однако судьи, мень-
ше чем кто или что-либо, способны привести вверенные
им правовые каналы к выяснению сути дела. Конрад
сравнивает процесс допроса с «постукиванием молот-
ком по железному ящику, с целью узнать, что лежит
внутри».
Тут вспоминаются метафорически представленные
Самюэлем Батлером пчелы, ползающие по рисованным
цветам в поисках нектара, и механически произносимые
молитвы. Как видно, один за другим английские писа-
тели наблюдали в конце века, как вышелушивается
смысл понятий, составлявших, по принятым нормам, ос-
нову гражданственности. Прочно пригнанные внешние
признаки не могли скрыть от них отсутствия живой со-
единяющей идеи. Так Самюэль Батлер видел реальную
пустоту молитвенных обрядов и многих других общест-
венных отправлений, так Конраду ясно истинное бесси-
лие суда, призванного воплощать справедливость.
Судебное следствие, замечает Конрад, «поставило се-
бе целью добиться ответа не на основной вопрос «поче-
му?», а на существенный «как?» Джиму приходится вер-
шить над самим собой длительный самосуд, он терзает
себя как может и в результате идет навстречу верной
гибели, которая кажется ему единственным достойным
испытанием и которая не заставляет себя ждать.
Хотя роман посвящен Джиму, его, так сказать, лич-
ной проблеме, происходящее с ним и в его душе пере-
дается через вторые, третьи и многие руки, достигая
читателя путем множества косвенных отражений. Изло-
жение главным образом ведет капитан Марлоу, случай-
ный свидетель происходящего на судне, попутно в рас-
сказ вторгается бесконечное число лиц, психологических
отступлений, уводящих иногда, казалось бы, достаточно
далеко от основной нити сюжета. В свое время критики
выражали скептическое недоумение, как вообще может
кто-либо действовать при таком безудержном многосло-
вии. Однако для Конрада подобная затянутость не была
случайностью, небрежностью композиции или следстви-
399
ем неумения динамически построить повествование. Он
ставил себе иные, чем сюжетная увлекательность, зада-
чи и прежде всего стремился противодействовать, как
и Стивенсон, всякому движению, если только оно подчи-
нено холостой инерции. Напротив, Конрад готов любую
минуту задержаться, он намеренно медлит, не ленится
еще и еще раз повернуть вспять, рассмотреть тот же
оборот дела под новым, дополнительным углом зрения,
он выполняет за всех ту работу, какую уже не в си-
лах, как кажется ему, нести общественная мысль.
Влияние Ф. М. Достоевского на Конрада несомнен-
но. В отличие от многих английских писателей Конрад
знал Достоевского лучше и воспринимал его ближе, имея
возможность читать его по-русски. Один из романов Кон-
рада «На взгляд Запада» (1911) посвящен русской те-
ме и обнаруживает не просто школу Достоевского, его
влияние, но подражание ему (особенно сказывается
знакомство с «Бесами»), Подражательность этого рома-
на, вполне вместе с тем «конрадовского», связанного с
остальными, более оригинальными произведениями пи-
сателя, подчеркивает, как много Конрад воспринял у
Достоевского уже совершенно органически. И хотя в
этом романе один из героев, близких автору, с ирони-
ей говорит о «чисто русской», по его мнению, черте —
«склонности выносить с помощью мистических выраже-
ний любую проблему за пределы понимания» (ч. II. 1),
похожую склонность нетрудно заметить и в характе-
ре многих персонажей Конрада. По крайней мере в том
же романе «Лорд Джим» герои намеренно испытывают
прочность границ своей нравственной природы и стре-
мятся навстречу нравственным испытаниям и опасно-
стям, заставляя вспоминать и Раскольникова, и Кара-
мазовых, и Ставрогина. Через Конрада усвоили Досто-
евского, а точнее «достоевщину», другие английские
писатели, не знавшие русского романиста в оригинале.
Заметно также в творчестве Конрада воздействие
Стивенсона. Во всяком случае, Конрад не отказывался
признать его своим предшественником в «романтиче-
ской», «морской» литературе. Хотя, вероятно, по праву
искушенного читателя он цричудливым образом отдавал
некоторым слабым его страницам предпочтение даже
перед «Островом сокровищ». Конрад продолжал и раз-
вил начатое Стивенсоном. Под его пером психологиче-
400
зкий анализ распространяет в «романтическом» жанре
свое влияние все шире, и здесь между Стивенсоном и
Конрадом стоит, конечно, фигура Генри Джеймса.
Признаки не только интереса к Генри Джеймсу, но
увлечения его манерой были у Конрада так многочис-
ленны и явны, что рецензенты корили его в свое время
за эпигонство. Конрад обладал, однако, дарованием,
слишком сильным и самостоятельным, чтобы находиться
в плену даже у такого заманчиво манерного стилиста,
как Генри Джеймс.
Джеймс способен оттолкнуть своей манерностью, и
в то же время соприкосновение с ним не проходит бес-
следно: это весьма цельно сочлененная творческая си-
стема, и даже частная уступка ей влечет за собой даль-
нейшее подчинение. Конрад же воспринял у Джеймса
то, что, в самом деле, трудно было тогда не воспри-
нять. Прежде всего, умение строить рассказ на контра-
сте в ритмах, внешнем и внутреннем: своим чередом
сменяются события и по-своему, то опережая события,
то заметно отставая от йшх, движется мысль героев.
Особенно часто встречается у Джеймса второе сочета-
ние, т. е. очевидная замедленность или, вернее, наро-
читая подробность в передаче переживаний, между тем
как действие давным-давно ушло или должно было уйти
вперед. В умении передавать этот контраст Джеймс до-
стиг значительной тонкости даже на фоне таких всемо-
гущих психологов, как Лев Толстой и Флобер.
Кроме того, Конрад воспользовался приемом, так
называемой «точки зрения», творческой пропагандой ко-
торого особенно был занят Джеймс. «Точка зрения»,
как прием, предполагает кругообразное, по различным
измерениям направленное движение повествователя,
точнее, лиц, выполняющих эту роль, вокруг одной пси-
хологической ситуации, даже одного душевного порыва.
Будто бы развивается событийный сюжет, а на самом
деле читателю предлагается следить за едва заметным
перемещением рассказчика, меняющего ракурс взгляда
на все тот же психологический казус. У Стивенсона,
например, в романе «Хозяин Баллантрэ», а до извест-
ной степени и в «Острове Сокровищ», уже заметно дви-
жение к сходному принципу. Однако там перемена
взгляда происходит слишком очевидно — повествование
просто передают из уст в уста различные рассказчики.
14 М. В. Урнов
40J
Еще более схематически используется подобный прием в
романах Уилки Коллинза, автора «Лунного камня»
(1868). Генри Джеймс не ведет диалог, не устраивает
переклички, согласной или противоречивой, он развора-
чивает монолог со сложнейшим внутренним «контрапун-
ктом», он держится точки зрения, угол, исходный пункт
которой, оставаясь неизменным, совершает переход из
одной плоскости в другую. Этот эффект и старался по-
своему воспроизвести Конрад.
Хотя Конрада единодушно, да еще подкрепляясь
ссылкой на его собственные признания, считают по на-
туре «прирожденным романтиком», он может быть та-
ковым назван с очень серьезными оговорками. Допу-
стимо отнести его к романтикам или неоромантикам в
том смысле, что его влекло необычное — исключитель-
ность ситуаций и характеров. Но по существу, в более
точном литературно-историческом смысле, Конрада труд-
но принять за романтика. У него не было области, ку-
да можно было бы направить романтические устрем-
ления, у него не было основы, на которой можно бы-
ло бы строить ретроспективные или перспективные ил-
люзии или планы. Он не знал за собой прошлого, ко-
торое бы тянуло его к себе так, как Томаса Гарди.
Ему не могла быть свойственна тоска по «старой ве-
селой Англии...» Между тем его собственные нацио-
нальные привязанности были безнадежно ослаблены,
и его память оставляла ему разве что чувство боли, ра-
зочарования и опустошенности. Его в общем-то никуда
не тянуло и «не звало», а море все же не способно
было унести его далеко от самой непременной совре-
менности. Природная сила его героев только подчер-
кивает их бессилие перед реальностью, а необычность
страстей поднимает их над обыденностью, кажется,
только затем, чтобы сильнее ударить с размаху о про-
зу жизни. Иллюзий, чтобы смягчить удар, у Конрада
не имелось.
Буржуазного развития Конрад не принимал. Сте-
пень этого неприятия была им означена в безысход-
ном по пессимизму рассказе «Аванпост цивилизации».
Написанный на африканском материале, этот рассказ
осуждал не только колониализм. Как всегда у Конрада
на несколько необычном, экзотическом фоне решались
общечеловеческие проблемы. Писатель, пристально за-
402
нимаясь процессом духовного перерождения или, лучше
сказать, вырождения двух посланцев цивилизации, пред-
лагал задуматься над буржуазным оптимизмом вообще.
Конрад не дал себе груда разобраться в иных путях со-
циального переустройства и даже утопий не строил.
Более того, в романе «Ностромо» (1904), а также «На
взгляд Запада» он выразил свой скептицизм по отно-
шению к общественной борьбе.
Одиночество оставалось, естественно, уделом писате-
ля и участью его героев. Единственной опорой в этом
одиночестве служил так названный Конрадом «пассив-
ный героизм», т. е. еще гамлетовская способность «быть
готовым—вот и все». Стоицизм одиночки, готового во
всякий момент к бою — победе или гибели — и занятого
лишь мыслью о достойности своего поведения в решаю-
щем испытании. О таком бесперспективном подвижни-
честве Конрад написал повесть «Тайфун» (1902). Герой
этой повести капитан Мак-Вир ведет отчаянную и без-
надежную схватку со взбесившимся океаном. Он по-
беждает, однако победа его случайна и даже для су-
щества рассказа не нужна, ибо и автор и Мак-Вир
определенно и не раз дают понять, что, окажись поло-
жение в тысячу раз более безнадежным и борьба за
корабль и жизнь людей еще более бессмысленной, ка-
питан все равно, не думая собственно ни о людях кон-
кретно, ни о корабле, а только лишь подчиненный ка-
кому-то мистическому чувству долга, держался бы до
последних сил. Особенно символическим является в этом
смысле момент, когда убогая посудина вот-вот должна
пойти ко дну и тем не менее Мак-Вир наводит поря-
док среди команды и живого груза — рабочих-китай-
цев. «Если судну все-таки суждено затонуть,— идут
мысли капитана,— оно пойдет ко дну, но на нем не бу-
дет людей, сражающихся между собой зубами и когтя-
ми. Это было бы отвратительно!» (гл. V).
Английская художественная мысль превратила за
несколько столетий корабль в символический образ.
Идея «корабля» часто разрасталась в умах англичан-
мореходцев до представлений о государстве и нации,
идущей под ветром и наперекор стихии. Конрад знает
и невольно помнит об этом, и его корабль также начи-
нает в глазах читателя подыматься над своим непо-
средственным и конкретным обликом. Однако трагиче-
14*
403
ский пессимизм Конрада пробивает в нем безнадежную
течь.
Направление «неоромантизма», в том числе создан-
ные в его рамках значительные произведения, по ряду
признаков, большей частью внешних, обычно сопостав-
ляется с литературой империалистической реакции.
В творчестве Джозефа Конрада содержатся идеи, кото-
рые нередко служили основанием связывать его с Кип-
лингом, самым талантливым и видным ее представите-
лем. Так, например, теория «взаимонепроницаемости
рас», столь близкая Киплингу, находит отклик, даже
известное признание и у Конрада. Однако и в тех слу-
чаях, когда у этих писателей обнаруживается «совпаде-
ние» в мыслях, они остаются на разных позициях.
Сейчас, конечно, отношение к Киплингу и Конраду
несоизмеримо. Киплинг все более рассматривается как
типично «былая слава». Конрад, напротив, канонизиро-
ван как один из самых современных писателей, значение
которого еще только начинает раскрываться. Если не-
когда точка зрения Ф. Р. Ливиса, включившего амери-
канца Генри Джеймса и уже совершенного «инородца»
Джозефа Конрада в так называемую им «великую тради-
цию английской прозы», была встречена скептически,
то теперь именно такой взгляд на Конрада стал рас-
пространенным. Иная точка зрения способна вызвать
разве что недоумение —под натиском целой литературы
о Конраде, возникшей в течение последних лет и под-
дающейся обозрению не без труда.
Все-таки можно заметить, как вырисовывается центр
разносторонних интересов к Джозефу Конраду и услов-
но его можно обозначить «тип писателя». Конрад стал
ныне популярен типологически, ибо вообще подобный
писатель — мозговой, проблемный, нарочито-профессио-
нальный — стоит теперь в авангарде. Некогда Уэллс
удивлялся конструктивности писательского мышления
Конрада: не прежний классический рационализм, а па-
радоксальное сочетание — темперамент и жесткий
ум, рассекающий, конструирующий. Точно так же Уэлл-
са поражала в Конраде языковая переимчивость, не-
прерывная сосредоточенность и глубокомыслие, некий
«трагизм», «конфликты», «проблемы», живую ткань ко-
торых Уэллс никак не мог почувствовать. Ныне же имен-
но эти черты привлекают к Конраду многочисленных
404
толкователей: сложные по названию проблемы подда-
ются сравнительно легкому рассечению. Конрадовское
творчество буквально шелушат, снимая за слоем слой,
уложенные замысловато, но столь удобно, будто они
были специально писателем приготовлены для будуще-
го анализа.
Не пытаясь отрицать только теперь прояснившего-
ся значения Конрада, нельзя в то же время упустить
Из вида и этой, д свою очередь особенно теперь вы-
ступающей черты его писательского облика: гримасы
сложности, под которой часто нет реальной сложности.
Сила, позволившая великим реалистам открывать про-
блемы в обыденно обычных ситуациях любви, смерти,
супружеской верности и неверности и т. п., подменя-
ется нарочитым усилием вскрыть проблемы в неких
экспериментально надуманных ситуациях. Прекрасно в
этом смысле сказано Джорджем Муром о «благородной
простоте» произведений Тургенева, которые именно из-
за этой простоты многим представлялись в самом де-
се слишком простыми: «Как бы ни была значительна
глубина, читающая публика, словно глядя в чистую во-
ду, кричит: «Тут совсем мелко!» Приходится поднимать
со дна грязь и мутить воду, чтобы убедить публику
в том, будто так глубоко, что и дна не видно»20.
Мур ставит своих собратьев-писателей в пассивно-
жертвенное положение. Им, действительно, отчасти при-
ходилось «мутить воду» *в силу тех или иных обстоя-
тельств, в том числе — под нажимом массовой аудито-
рии. Однако гораздо чаще замутненность, внешнее ус-
ложнение, лишь моделирующее сложность, но не содер-
жащее таковой, иными словами, некое умствование
вместо мысли, оказывается свойством нутряным, качест-
вом так просто не устранимым.
Мур находил классическую английскую литературу
от Шекспира до Диккенса «бесформенной». Самого Му-
ра, когда появились его первые романы, написанные в
духе добротного бытового реализма, стали прочить в
«новые Диккенсы». Особенно определенно говорили об
этом в связи с его романом «Эстер Уотерс» (1894),
где Мур, взяв фоном хорошо ему с детства знакомый
20 George Moore. Turgenev and Tolstoy.— В кн.: Russian Literature
and Modern English Fiction, 1965, p. 33.
405
скаковой мир (его отец был коннозаводчиком) и поль-
зуясь тем, что страсть к скачкам вовлекает в один круг
представителей разных социальных слоев, дал живые и
цельные картины английского общества. Там были ти-
пы, лица, отдельные судьбы и среда. Однако в отличие
от Диккенса, который, словно волшебник из рукава, ве-
реницами выводит все новые и новые персонажи,— в
новых книгах, Мур в сущности исчерпал свои возмож-
ности в этом направлении одной книгой, хотя в общей
сложности им в ранний период творчества было в этом
духе написано до десяти романов.
Характерна реакция внимательного русского чи-
тателя на один из таких романов: «В «Наблюдателе»
печатается роман Джорджа Мура «Мильдред Лоссон».
...Ничем девушка не удовлетворяется. Ее душа излилась
в одном крике: «Дайте мне страсть к богу или к чело-
веку, но дайте страсть! Я не могу без нее»... Все от-
равляет анализ. Он идет впереди инстинкта жизни, он
глядит назад и вперед, разбирает, осуждает и отравля-
ет жизнь. Анализ — это болезнь века. Любовь изломана,
даже распутство было непосредственнее. Анализ и рас-
путство сделаны противниками. В распутство бросают-
ся, чтобы забыться» 21.
Конечно, Мур и сам был заражен той же «болезнью
века», тем же «анализом». Отчасти он склонен был ви-
деть в этом преимущество людей своего поколения перед
истыми викторианцами, он точно так же верил в прог-
ресс писательства на пути к «сознательности», и про-
зы — к «форме». Однако если искомое совершенство про-
зы оборачивалось чаще всего конструктивной мертвен-
ностью, то и аналитическая сознательность не воспол-
няла и не опережала «инстинкта жизни». Анализ все
поглощал и выходил вперед. Не потому, что, как у этой
девушки, он был поистине силен, а потому что непо-
средственное восприятие жизни оказывалось чересчур
слабо. Анализу, даже не очень-то и развитому, не стои-
ло большого труда «заесть» чувство.
Жизненная сила утончилась, ослабла, видоизмени-
лась, что сказалось, например, и в автобиографическом
характере героинь-женщин, написанных авторами-муж-
чинами. Мур мог следом за Флобером и Томасом Гарди
21 А. С. Суворин. Дневник, М., 1923, стр. 165—166. Запись 1897 г.
406
признать своими alter ego (вторым «я») и Эстер Уотерс
и Мильдред Лоссон, и блоковское замечание о возник-
шем в «переходные» годы «пробном» типе человека, в ко-
тором в различных пропорциях смешано мужское и жен-
ское начала, получило бы лишнее и типичное под-
тверждение.
Но еще более характерна, пожалуй, для Джорджа
Мура трудность отрешиться от своего «я», то есть пи-
сать о других людях. Он самокритично зачеркнул все
свои ранние романы, и, за исключением «Эстер Уотерс»
и отчасти «Муслиновой драмы», историки литературы при-
знают этот самосуд объективным. Если бы он умер мо-
ложе пятидесяти лет — так рассуждают его критики,—
то он остался бы в английской литературе эпигоном
Диккенса. Самобытное творческое значение Мур обрел
во вторую половину своей довольно продолжительной
жизни, когда он как писатель занимался главным обра-
зом тем, что вспоминал и описывал первую половину
своей жизни. «Он сделал себя своим собственным пер-
сонажем, он занимался саморедактурой и делал это с
такой отвлеченностью, что, казалось, в самом деле судит
не о себе, а об одном из литературных типов — «вне-
лично»,— таково впечатление его интимного друга 22.
Однако этот самоанализ и обнаруживает свои роко-
вым образом суженные границы. Тот же друг находит
для характеристики Мура еще несколько точных слов:
«Он жил больше умом, чем телом». Он жил, можно до-
бавить, в литературе, а ц£ собственно в жизни. Отсю-
да: «Воспоминания получаются у меня живее, чем пер-
сонажи»,— эго уже его собственное признание.
Вот тут и началась та самая «проза», поставившая
Джорджа Мура как важное звено в литературном раз-
витии, тут и осуществились творческие мечты его моло-
дости, когда он воспринял уроки только обретавшего си-
лу импрессионизма и, переведя их в план литератур-
ный, присоединился к знамени символистов: «Оттенки —
только не цвет, одни оттенки» (Поль Верлен). Тогда же
он преклонялся перед Бальзаком («психологическая жи-
вость лиц»), внимательно прислушивался к Золя и Гонку-
рам («служение искусству»), восхищался Тургеневым
Nancy Canard. G. М., Memoirs of George Moore. L., 1956, p. 170—
171.
407
(«способность отыскать точное слово»), а впоследствии
вспоминал: «Натурализм бантом висел у меня на шее,
романтизм был выткан в моем сердце, символизм я но-
сил в жилетном кармане, как игрушечный 1пистолет, что-
бы при случае пустить его в ход» («Исповедь молодого
человека», 1888). Постепенно этот «джентльменский на-
бор» несколько сократился, сосредоточившись на «оттен-
ках», то есть литературном импрессионизме. После кон-
чины Генри Джеймса Мура признали его «заместите-
лем».
Писатели, вступившие в литературу после первой ми-
ровой войны, воспринимали Мура как «живого классика»,
как «прошлое». Его влияние было значительным и приз-
нанным, однако не всегда согласовалось с логикой са-
мого Джорджа Мура. В нем видели одного из первых
экспериментаторов как в жизни, так и в литературе,
одного из первых, совершивших паломничество в Париж,
чтобы «научиться писать» (это стало потом модно).
«С восхищением читал я «Исповедь молодого челове-
ка»,— признавался Шервуд Андерсон, в свою очередь
повлиявший затем на молодежь,— меня восхищал Па-
риж и эта жизнь богемы»...23 Вот именно! Восторг без-
отчетный, без второго плана, без самооценки и пере-
оценки во взгляде Джорджа Мура на себя самого той
поры, когда ему так нравилось бравировать «бантом на
шее» и «пистолетом в жилетном кармане». Именно та-
кое поверхностное эстетство принимали за программу
Джорджа Мура и ошибались, конечно.
Промах этот объясняется молодостью новых поклон-
ников Джорджа Мура, молодостью, а также еще одним,
гораздо менее временным качеством. Оно отчетливо про-
явилось и в словах Шервуда Андерсона, передающих
восторг провинциального, недоучившегося американско-
го паренька перед неким «артистизмом» и «Парижем».
Кстати, Джорджа Мура литераторы его поколения и
круга обычно считали недостаточно образованным, во
всяком случае, не получившим классического образова-
ния. Привкус провинциальности, налет нахватанности све-
дений, а не глубоко усвоенной культуры, эти читатели
непременно различали в произведениях Мура до конца
его дней. Кажется, среди молодого поколения писателей
23 Sherwood Anderson. Memoirs. N. Y., 1944.
408
20-х годов не было ни одного, кто мог бы таким обра-
зом взглянуть на автора «Бесед на Эбюри-стрит». Не
было ни почвы, ни позиции, ни меры для такого взгля-
да. Были литераторы-ученые (как Джойс3 почти одной,
кстати, формации с Муром), но не было никого, кому
пришло бы в голову назвать Мура «недоучкой».
В 20-х годах в Париже в книжной лавке-библиоте-
ке «Шекспир и Компания», служившей прибежищем ли-
тературного авангарда, состоялась символическая встре-
ча. Точнее, встреча так и не состоялась, и это оказа-
лось тем более символично.
В лавке находился Джеймс Джойс, только что пе-
ренесший глазную операцию и потому избегавший
встреч с незнакомыми людьми. На пороге вдруг поя-
вился посетитель, который представился: «Джордж
Мур». И пока владелица этой в своем роде историче-
ской лавки вела с ним разговор, он беспрестанно по-
глядывал на Джойса. Они были незнакомы. Хозяйка так
и не решилась представить их друг другу, помня о не-
расположенное™ Джойса к новым знакомствам. Как
только Мур вышел, Джойс тотчас опросил: «Кто это
был?» — и, узнав, пожалел, что не заговорил со обоим
старшим собратом. А Мур прислал в лавку «Шекспир
и Компания» письмо, где спрашивал, не Джойс ли это
был, и в свою очередь жалел, что они не познакоми-
лись 24.
Все символично: время и место не состоявшейся
встречи, и два ирландца, шедшие будто бы одной до-
рогой в литературе, но так и не сблизившиеся.
24 Sylvia Beach. Shakespeare and Company. N. Y., 1956, p. 72. Встреча
между Муром и Джойсом все-таки состоялась позднее в Лондоне,
но не оставила существенных впечатлений ни у кого из ее участни-
ков.
Глава IX
РИЧАРД ОЛДИНГТОН
(Вражда и родство с уходящей эпохой.
Вместо заключения)
«Джордж Мур — изящный скандал в двуколке; Гар-
ди — пасторально-атеистический скандал (никто еще не
понял, что он смертельно скучен); Оскар Уайльд ис-
полнен небрежного высокомерия — и, ах, как остроумен,
и, ах, как одет!» — так, цепью «скандалов», рисовалась
литературная панорама конца века англичанину друго-
го поколения — Ричарду Олдингтону, прошедшему фронт
первой мировой войны.
«Совсем другая Англия — Англия 1890 года — и, од-
нако, на удивление та же,— писал он тогда, в конце
двадцатых годов,— в чем-то неправдоподобная, бесконеч-
но далекая от нас, а во многом—такая близкая, до ужаса
близкая, сегодняшняя Англия, чей дух окутан плотны-
ми туманами лицемерия, благополучия, ничтожности. Уж
так богата эта Англия, уж такая это могущественная
морская держава! А ее оптимизм, способный посрамить
даже Стивенсона, а ее праведное ханжество!»
Как видно, всем достается по порядку, сводятся сче-
ты века с веком. И, действительно, молодой автор про-
должает: «...Диззи (Дизраэли) умер не так давно, и его
романы еще не кажутся смехотворйо старомодными, ка-
кой-то нелепой пародией. Интеллигенция эстетствует и
поклоняется Оскару, или эстетствует и поклоняется
Берн — Мориссу (то есть Берн-Джонсу и Вильяму Мор-
рису.— М. У.), или проповедует утилитаризм и покло-
няется Гексли с Дарвином» («Смерть героя», ч. I, 1).
Ирония не щадит ничего. Олдингтон начинает свой
роман, «памятуя о Джордже Муре», но — снисходитель-
но
но «памятуя», как помнят мысли, когда-то казавшиеся
блестками, но безнадежно приевшиеся. Пожалуй, никто
из английских писателей 20-х годов не взглянул бы на не-
давно отошедшую эпоху в таком собранном фокусе и,
иронизируя над литературными «скандалами» того вре-
мени, не начал бы свою писательскую деятельность скан-
далом, но более резкого свойства.
Олдингтон (1892—1962) как фигура интересен для
историка английской литературы «рубежа веков», пото-
му что своей биографией и в своем творчестве -по-осо-
бому соединяет два века. Исход девятнадцатого столе-
тия, «конец века», составляет его детство, а если учесть,
что не девятьсотым годом обрывается прошлый век, про-
должая жить и после 1901 года, то и его юность. Пер-
вые главы романа «Все люди — враги», вполне автобио-
графические, показывают, в какой еще непосредственной
близости и натуральности мог наблюдать Олдингтон ухо-
дящую эпоху «викторианства», эпоху, растянувшуюся в
английской литературе от Диккенса до Томаса Гарди.
Олдингтон однажды заметил, что Томас Гарди в мо-
лодости видел английскую деревню, сохранившуюся не-
тронутой с шекспировских времен. Олдингтон же, в сущ-
ности его младший современник, знал Англию Томаса
Гарди: он родился и рос >в то время, когда романы
Гарди еще составляли необычайно дерзкое новшество,
производили «скандал», как это и отмечено в прологе к
«Смерти героя». Оскар Уайльд эпатировал публику, Су-
инберн лечился от запоя,— все это Олдингтон слышал
в детстве и юности собственными ушами как модные
сплетни. А ведь это столь же далеко, как далеки от
нас, скажем, дворянское, бунинское «оскудение» или
продажа вишневого сада.
Вместе с тем Олдингтон — человек совершенно сов-
ременный, более того, он сам составлял в канун пер-
вой мировой войны поэтический авангард, он значится
в историях литературы среди основоположников има-
жизма. Джойс, Лоуренс, эталоны модерна, только на
десять—семь лет старше его, Т. С. Элиот—почти сверст-
ник; Хемингуэй едва пробует перо в то время, когда
Олдингтон печатается уже несколько лет: стихи, крити-
ка, переводы,— обретает известность, имя.
Весной 1956 года в советском журнале «Новости»,
выходившем на английском языке, была помещена моя
411
небольшая статья «Ричард Олдингтон и его книги»,—
должно быть, первая у нас, после довольно продолжи-
тельного перерыва, более или менее развернутая харак-
теристика этого писателя. Тогда я и сам не знал точ-
но, где в данный момент живет Олдингтон, что делает.
Во время второй мировой войны он, как было известно,
находился в Соединенных Штатах, потом, судя по всему,
вернулся в Европу, только не в Англию. А куда соб-
ственно? — устойчивых сведений не имелось. Очередные
его книги по-прежнему появлялись, некоторые из них
рецензировали и в нашей печати, но то были не худо-
жественные произведения, а главным образом биогра-
фии, критика и переводы с французского или итальян-
ского.
С конца 30-х, на протяжении 40-х и в первой по-
ловине 50-х годов Олдингтон пропал ведь не только с
нашего литературного горизонта, он вообще (фигура в
западноевропейском писательском мире заметная и вли-
ятельная) отошел в прошлое вместе с эпохой 20—30-х го-
дов. Шум, несколько напоминавший реакцию буржу-
азной прессы на ранние романы Олдингтона, вновь воз-
ник вокруг его имени, когда он выпустил разоблачи-
тельную книгу об английском разведчике полковнике
Т. Э. Лоуренсе («Лоуренс Аравийский», 1955). Но кни-
га была публицистической, споры о ней — сугубой поли-
тикой, а собственно литературное творчество Олдингто-
на считалось принадлежностью поры, давно минувшей.
Не один Олдингтон, но и сверстники его, чьи имена
и книги впервые блеснули на рубеже 20—30-х годов,
переживали в той или иной степени подобную судьбу.
Вовсе исчез политически запятнавший себя во время
оккупации французский писатель Луи Селин, автор «Пу-
тешествия на край ночи», одной из самых заметных
книг о первой мировой войне. Американец Томас Вулф
и Ф. Скот-Фитцджеральд умерли совсем молодыми еще
до начала второй мировой войны. Даже Хемингуэй,
пользовавшийся особенным к себе вниманием, после ро-
мана «По ком звонит колокол» (1940) молчал более
десяти лет, и в американской критике все настойчивей
звучали голоса, утверждавшие, что, как видно, и Хемин-
гуэй остался где-то позади — в 30-годах. В творческой
биографии Олдингтона рубеж 30—40-х годов был осо-
бенно заметен. Продолжая жить и напряженно рабо-
412
тать, писатель очутился как бы за «гранью прошлых
дней».
И вот после публикации моей статьи об Олдингтоне
некоторое время спустя пришло — не хочу сказать «с того
света», но по крайней мере из какого-то небытия,— пись-
мо от Олдингтона.
Олдингтон в некотором роде «воскрес». А вместе с
этим все активнее оживали одно за другим литератур-
ные впечатления довольно давнего времени. И, конечно,
началась переоценка этих впечатлений. Известно, как
опасен бывает возврат к прежним книжным восторгам
и тем более их проверка. Не избежал этого и Олдинг-
тон. Многое из того, что в «Смерти героя», книге злой,
нервной, судорожной, «полной жуткого отчаяния», по
словам Горького, некогда казалось столь слитным, не-
обычно органичным и убедительным — некий клубок
иронии и боли,— теперь, по зрелом, что называется, рас-
смотрении, показывало «швы», непоследовательность мо-
тивировки, а главное, далеко не всегда в свете выгод-
ном обрисовывало фигуру самого автора, Давали себя
знать молодое самомнение, самоуверенность, игра и бра-
вада, словом, анархический индивидуализм, который тем
не менее желает, чтобы в нем признавали мировую
скорбь и заботу о человечестве. Уже в статье для «Но-
востей», написанной больше по воспоминаниям о кни-
гах Олдингтона, чем непосредственно по книгам, я по-
старался отметить это и тем более убедился в этом,
когда началась переписка с Олдингтоном и мнение о
его романах надо было освежить, взяв их в руки. К то-
му же предстояло готовить «Смерть героя» и «Все лю-
ди — враги» к новому изданию в «Художественной ли-
тературе» (тогда — Гослитиздате).
Меня смущала подчас резкость собственных упреков
Олдингтону и критических суждений по его адресу. Од-
нако он сам принимал их спокойно и, я бы даже ска-
зал, охотно, сочувственно. «Благодарю вас за ваши ком-
плименты и за вашу строгую критику»,— говорил он в
первом же письме. Дальнейшее общение показало, что
это была со стороны Олдингтона не просто вежливая
отписка. Он менее всего был склонен преувеличивать
свои достоинства и свое значение как литератора. Дли-
тельный антагонизм западной прессы приучил его, да
он и сам более, чем кто бы то ни было, убежден был,
413
что с некоторых пор для читателей «Олдингтона» не
существует, что он «остался» где-то в 30-х годах. Он
был несколько растерян и, наконец, растроган до слез,
когда летом 1962 года встретился с нашей аудиторией
в московской Библиотеке иностранной литературы. «Они
здесь принимают меня за писателя — не смейся!» — го-
ворил потом Олдингтон своему близкому другу.
Когда-то в молодости Олдингтон обиделся на
Д. Г. Лоуренса, который посмеялся над ним в одном из
своих рассказов. Но ирония Лоуренса не касалась ли-
тературного ремесла. Просто ему показалось, что моло-
дой поэт и военный, каким был тогда Олдингтон, слиш-
ком охотно и часто протягивает руку за бокалом вина.
Олдингтон в свою очередь съязвил в «Смерти героя» на
тот счет, что Лоуренс чересчур навязчиво втолковывает
всем идею «сексуальной революции», и на этом размолв-
ка была исчерпана. В дальнейшем Олдингтон с исклю-
чительной верностью отстаивал репутацию Лоуренса,
рано умершего.
Раздраженно реагировал Олдингтон на казавшиеся
нам столь естественными попытки сопоставить его как
представителя «потерянного поколения» с Хемингуэем.
Не ревность к легендарной славе своего современника
говорила в нем. Его коробило от рекламы и саморек-
ламы, которой так или иначе был окружен Хемингуэй.
«Я все^таки джентльмен»,— усмехался на этот счет Ол-
дингтон. В Хемингуэе, в его манере жить и писать, на-
конец, в популярности его творчества Олдингтон видел
нечто специфически американское. К этому — к «аме-
риканскому», к Америке — у него отношение меня-
лось.
В 30-е годы, когда с Соединенными Штатами он
лишь периодически соприкасался, время от времени на-
ведываясь туда, Олдингтону «американское», то есть ак-
тивное, подвижное, воспринимаемое как черты нации,
многим импонировало. В романе 1938 года «Семеро про-
тив Ривза» есть несколько высказываний об этом, в част-
ности о большем, по сравнению с английской чопор-
ностью и сдержанностью, демократизме американцев.
Когда же Олдингтон остался в Соединенных Штатах на
длительный срок, после того как он готов был сделать
Штаты своей «второй родиной», его мнение претерпело
коренную перемену.
414
С годами накапливался новый материал — через ли-
тературу, газеты, гд^ Олдингтон нередко, особенно пос-
ле «Лоуренса Аравийского», мог прочесть о себе, но
столь редко нечто серьезное и объективное. «Жаль, у ме-
ня нет сил приехать и повидаться с вами,— писал Ол-
дингтон в апреле 1957 года,— потому что есть много
такого, о чем следовало бы поговорить, много я мог бы
рассказать вам о США, где я жил в течение нескольких
лет. В этой стране встречаются прекрасные люди, но
в целом такое невежество и такая наглость». И еще
характерная оценка, присланная несколько раньше (ок-
тябрь, 1956) из Монпелье: «Не верьте тому, что со зло-
бой говорится о Франции американскими и английскими
газетами. Они злобствуют потому, что Франция во что
бы то ни стало хочет остаться французской. Марианна
все еще Марианна. Позвольте мне рассказать вам ма-
ленькую историю, которая случилась со мной жарким
летним днем на морском побережье в Сант-Мари. Мне
очень захотелось пить, и я вспомнил, как в бытность
мою в Америке там постоянно утверждали, что от жаж-
ды лучшее спасение в жару это ром с ледяной кока-
колой. Мне попалось небольшое кафе в Сант-Мари, уве-
шанное снаружи рекламами с изображениями миловид-
ных молодых особ, пьющих кока-колу, которое «всегда
здесь имеется в продаже». Когда же, однако, я заказал
себе этот напиток, гарсон мне ответил: «У нас есть
ром с Мартиники, но кока-колы нет».— «Почему же в
таком случае,— сказал я,— вы повесили рекламу?» —
«Ах, это! — отвечал гарсон.— Кока-колы тут никто и не
пьет. Рекламу мы повесили, чтобы доставить удоволь-
ствие американцам».
Странно было бы думать, будто «американское», вы-
ступающее в виде «невежества и наглости», связыва-
лось в представлении Олдингтона также и с Хемингуэ-
ем. Однако оттенок дерзкой напористости, бесцеремон-
ной решительности, содержащихся в слове «arrogana»,
которое было употреблено Олдингтоном и здесь переда-
но в крайнем смысле как «наглость», этот оттенок (ко-
нечно, в совершенно других дозах!), я думаю, Олдинг-
тон находил и в авторе «Фиесты». В октябре 1959 года
от Олдингтона пришло письмо, весьма краткое и по-сво-
ему выразительное. Оно заключало в себе вырезку из
французской газеты и одну только фразу: «Зная, как
415
обожают у вас Хемингуэя, я счел нужным послать вам
эту только что появившуюся фотографию». То был фо-
торепортаж о розыгрыше на парижском ипподроме При-
за Триумфальной арки: скакуны финишируют, а... Хе-
мингуэй смотрит в программу. Олдингтон никогда не
стал бы иронизировать на этот счет, если бы не знал,
на основе личных наблюдений, что прославленный аме-
риканский писатель все-таки не безразличен к созданию
популярности такого рода. А в этом Олдингтону, «на-
стоящему англичанину», как назвал его Сноу, и виде-
лось нечто «аррогантное», неджентльменское, «американ-
ское», понимаемое, конечно, расширительно и условно.
О многих литераторах с громкими именами, признан-
ных чуть ли не «классиками XX века», Олдингтонимел
личную осведомленность, и она причиняла ему немалые
беспокойства. В то время, например, как американского
поэта Эзру Паунда готовы были провозгласить одним из
«патриархов современной поэзии», а также необычай-
ным эрудитом, полиглотом, который будто бы где-то в
японских «хоку» отыскал ритмы й образность новейшее
го стиха, Олдингтон, правивший собственной рукой у
Эзры Паунда грамматические ошибки, мог засвидетель-
ствовать, что «эрудит» не знает толком даже англий-
ского, не говоря уже о других европейских языках или
японском. «Эзра,— рассказывал Олдингтон,— умудрил-
ся написать неправильно единственное слово, стоявшее
в названии его сборника «Cantos».
Обычно подобные факты Олдингтон держал про се-
бя. В молодые годы горячность «подвела» его, и он во
всю меру ярости, душившей его тогда, выставил в рома-
не «Смерть героя» кумиров* творческого авангарда под
вымышленными именами: мистер Апджон, а также
Шобб, Бобб и Тобб.
Вот их общая характеристика из романа: «Мистер,
вернее, герр Шобб издавал литературное обозрение, один
из тех излюбленных англичанами «передовых» журна-
лов, которые изо всех сил устремляются вперед и дви-
жутся совсем как раки. Герр Шобб был поистине вели-
кий человек. Товарищ Бобб издавал социалистический
еженедельник на средства психопата, помешавшегося на
евгенике, и вегетарианца-теософа... Товарищ Бобб был
поистине великий человек. Что до мистера Уолдо Тобба,
который был обязан своим происхождением американ-
416
скому Среднему Западу, то сей пылкий британский пат-
риот и убежденный\тори стоял за Монархизм в Искус-
стве, Твердую власть в политике и Классицизм в рели-
гии... Американизированный консерватизм мистера Тоб-
ба оказался чуть более живым и гибким, нежели
консерватизм отечественный, или, может быть, ми-
стер Тобб до того круто склонялся вправо, что, сам
того не ведая, подчас ударялся во взгляды крайне ле-
вые. Но как бы то пи было, мистер Уолдо Тобб также
был поистине великий человек... Стоит ли говорить, что
мистер Апджон был поистине великий человек. Он был
художник. Начисто лишенный подлинной, внутренней
оригинальности, он именно поэтому старался быть ори-
гинальным и каждый год изобретал новое течение в
живописи».
«Мистер Апджон,— рассказывал Олдингтон в пись-
ме 1961 года (январь),— это довольно точный портрет
Эзры Паунда (как и Шарлемань Кокс в «Кротких от-
ветах»), Джемсу Джойсу этот портрет очень нравился.
Шобб — Форд Мэдокс Форд Гуэффер, Тобб — Т. С. Эли-
от, который также является и Сиббером из «Пути к не-
бесам». Бобб — карикатура на Д. Г. Лоуренса».
О сборнике рассказов «Кроткие ответы» Олдингтон
сообщал подробнее в письме 1957 года: «Все типы из
«Кротких ответов» основаны на действительных людях...
Вам, возможно, интересно будет узнать, что один из них
уже умер, другой в сумасшедшем доме, а еще, трое
процветают, увешанные наградами и почестями. Для ва-
шей личной осведомленности, но не для публикации
рассказ «Ничей ребенок» изображает начало «карьеры»
фашиствующего литератора Эзры Паунда, ныне находя-
щегося в Вашингтонской больнице для умалишенных!»
Позднее, в июне 1960 года, Олдингтон рассказал об од-
ном из троих «процветающих», что «увешаны почестями
и наградами»: «Путь к небесам» — это сатира на амери-
кано-английского писателя-сноба Т. С. Элиота, которо-
го я некогда достаточно близко знал. По моему мнению,
сложившемуся по непосредственным наблюдениям, его
переход в лоно англиканской церкви был продиктован
1 В дальнейшем Олдингтон специально оговорил разрешение исполь-
зовать сведения из нашей переписки в печати. Разрешение это было
подтверждено после его кончины дочерью писателя Кэтрин Гийом-
Олдингтон,
417
сугубо корыстными целями, желанием заручиться под-
держкой «благонамеренных», политико-религиозной кли-
ки, очень могущественной в Англии. В результате этого
обращения Элиот и получил единодушную поддержку
университетов и ортодоксальной прессы, возвысился до
совершенно фальшивой известности и, наконец, удостоил-
ся Ордена чести, что есть высшая ступень среди дворян-
ских почестей».
Намеки, особенно для оригиналов этих карикатур и
шаржей, оказались настолько прозрачны, что Олдингто-
на начала преследовать репутация, не оставлявшая его
до могилы: «Он плохо писал о своих знакомых». Да,
случалось, Олдингтон «плохо», даже очень «плохо» пи-
сал о знакомых, но — к этому следует добавить — по-
тому, что он слишком хорошо знал многим из них цену.
Короче, Олдингтон в совершенстве владел «изящным
искусством наживать себе врагов».
Важно подчеркнуть: он щепетильно соблюдал пра-
вила личных отношений, не нарушая их в литературной
работе. Его «знакомые», о которых он будто бы «плохо
писал», тот же Эзра Паунд или Т. С. Элиот, были ведь
не просто его приятелями, то были люди, неутомимо
искавшие или уже добившиеся славы. И Олдингтон су-
дйл о них не как о личных недругах, но типах, пред-
ставляющих определенный род деятельности или, точнее,
размашистого делячества в литературе, которое какими-
то неисповедимыми путями достигает международного
признания. Олдингтон, ровесник века, начинал вместе с
этими людьми, ему довелось наблюдать движение их от
самых истоков и видеть мотивы их активности в самом
что ни на есть первозданном виде. Дело, однако,
не только в разрыве личных отношений, но в принци-
пиальном расхождении путей Элиота и Олдингтона, один
из которых ведет «на небеса», к вершинам успеха и
шумной славе, другой — в изгнание и к одиночеству.
И в развитии судеб мы видим эту разницу: Олдинг-
тон вместе с Элиотом редактировал перед первой миро-
вой войной литературный журнал «Эгоист». Началась
война. Олдингтон ушел добровольцем на фронт. Элиот
занял его место и с этого началось его решительное
движение вверх. Когда Олдингтон после перемирия вер-
нулся без гроша, он, видимо, не нашел опоры у своего
прежнего, сильно преуспевшего сотрудника.
418
Сравните эти факты с тем, что рассказывает о про
движении Элиота Хемингуэй в мемуарной книге «Празд-
ник, который всегда с тобой», опубликованной посмерт-
но, и станет очевидна представленная с разных и не-
зависимых друг от друга точек зрения все та же изво-
ротливость, «тщеславие в сочетании с упорством», что
Олдингтон на страницах «Смерти героя» подчеркнул
еще у мистера Уолдо Тобба: «Мистер Тобб слушал с
серьезностью чрезвычайной.— О-о! — протянул он много-
значительно, как бы намекая на вещи, о которых лучше
не говорить вслух. Это было великое преимущество ми-
стера Тобба в светской беседе. Он убедился, что, когда
молчишь с вопросительным видом, собеседнику стано-
вится неловко, он чувствует себя обязанным что-то ска-
зать и иной раз невольно проговорится.
Справедливость точки зрения Олдингтона и на дру-
гих литературных «вождей» 20-х годов можно, до из-
вестной степени, поверить соответствующими главами и
страницами из книги Хемингуэя. Хемингуэй положил в
банковский сейф, предназначив для публикации только
после своей смерти эти зарисовки с натуры. Олдинг-
тон не скрывал своего мнения при жизни. Однако он не
позволял себе прямых личных выпадов. Американское
издательство готово было заказать ему жизнеописание
Эзры Паунда. Олдингтон, донельзя нуждаясь, все же
отказался. «Я не мог этого сделать,— пояснял он в пись-
ме 1957 года,— потому что он поддержал меня в свое
время, когда я был молод и крайне беден; я не могу
обличать его и, разумеется, я не способен восхвалять
его».
Между прочим, Олдингтон с абсолютно ненаигранной
скромностью при разговоре о крупных именах, с ко-
торыми свела его судьба, тактично соблюдал дистанцию.
С Д. Г. Лоуренсом он, как выше говорилось, и ссорился
и дружил, он встретил джойсовского «Улисса» весьма
критической рецензией, однако он всегда давал понять,
что судит о них несколько снизу вверх, как о фигурах
иного, более высокого, чем он, калибра.
«Д. Г. Лоуренс и Джойс,— писал Олдингтон в октяб-
ре 1960 года,— действительно значительные, однако,
совершенно противоположные друг другу фигуры.
Джойс — разуверившийся священник, восставший злоб-
но против католицизма, но так и не сумевший преодо-
419
леть в себе иезуитского воспитания. Существенно, что
он не был официально зарегистрирован со своей женой
вплоть до того момента, когда надо было вступать в
брак его дочери! (Или, кажется, сыну). Джойс — тип
чисто умственный, чисто мозговой, полностью самопо-
глощенный; и к тому же столь самовлюбленный, что он
имел обыкновение говорить: «Все, чего хочу я от своих
читателей, так это чтобы они смогли посвятить свои
жизни изучению моих книг». Отчасти это говорилось,
конечно, в шутку, но, тем не менее, Джойс в самом
деле выступал против двух мировых войн только пото-
му, что они нарушали его работу, его покой. У него
и мысли не возникало о страданиях и героизме! Я знал
его лично, но не особенно близко. Он ненавидел жизнь
и любовь, подобно всем христианским аскетам, кроме
того он был страшный трус и к тому же суеверный:
если гремел гром, то он прятался под кровать, опаса-
ясь, что это глас божий! Однако он обладал невероят-
ным литературным дарованием, и его цинический реа-
лизм был по-своему благотворным. Как и Бернард
Шоу, он до такой степени терпеть не мог Англию, что
хотел разрушить английский язык и тем самым превра-
тить Шекспира и других наших поэтов в полнейшую
бессмыслицу. Джойсовская критика Шекспира в «Улис-
се» — это столп злобной необъективности и к тому же,
разумеется, очень шаткий.
Лоуренс был англичанином в такой же мере, в ка-
кой Джойс — ирландцем, и они люто ненавидели друг
друга. Лоуренс, как и Джойс, был очень беден; однако
отец Джойса — ирландский бездельник, а отец Лоурен-
са — истый шахтер-труженик. Важным событием в жиз-
ни Лоуренса была его связь с госпожой Уикли (матерью
троих маленьких детей), которая по происхождению
оказалась немецкой аристократкой Фридой фон Рихт-
гофен. Все это, конечно, было делом ее рук. Ей на-
скучило жить в маленьком университетском городке и
у нее хватило чутья (какого не было у англичан) раз-
личить, чго Лоуренс — человек замечательный, большой
талант. В отличие от Джойса Лоуренс обладал тепло-
той и непосредственностью рабочего человека, точно так-
же было (присуще ему острое восприятие мира и жиз-
ненность, что делало его замечательным собеседником
и необычайно живым писателем. К сожалению, и он
420
страдал крайним самомнением («Я всегда говорю: «Ис-
кусство ради меня!») и сварливым характером, он по-
стоянно скандалил с женой, ссорился с друзьями, осо-
бенно с теми, кто пытался ему помочь. Все же он был
выдающейся личностью и выдающимся писателем, и поэ-
тому британские власти отметили его своим вниманием,
заставив его уйти в изгнание, они не сумели, однако,
довести его до нищеты, как им хотелось...»
Олдингтон ставил Лоуренса необычайно высоко, он
был, можно сказать, одним из тех, кто создал репута-
цию этого писателя. В его романе «Радуга», я считаю,—
писал Олдингтон,— сказывается влияние Толстого, но
вы заметите это скорее, чем я. Лоуренс без колебаний
утверждал, что «Анна Каренина» — самый прекрасный
роман на свете». Первую небольшую брошюру о
Лоуренсе Олдингтон опубликовал вскоре после его кон-
чины (1930) и впоследствии продолжал писать о нем,
разбирать его архив. В сотрудничестве с Гарри Т. Му-
ром, преподавателем Массачузетского университета,
они издали фундаментальный трехтомник «Биография
Д. Г. Лоуренса по воспоминаниям современников». Ол-
дингтон был редактором писем, стихов и статей Лоу-
ренса. Сила его симпатии усугублялась сочувствием
Лоуренсу как выходцу из низов, представителю трудо-
вой Англии, поднявшемуся до мировой известности. Ол-
дингтон, принадлежавший к семье интеллигентной, но
весьма скромного достатка, не получивший из-за нехват-
ки материальных средств законченного высшего образо-
вания, по себе знал, как тяжело в Англии проложить
путь через кастовые барьеры. Посылая мне свою послед-
нюю книжку о Лоуренсе, изданную по-немецки, Олдинг-
тон писал, что старался «показать в ней, до чего низкой
травле подвергался Лоуренс главным образом со сторо-
ны «благородных», которые словно бы обиделись на ра-
бочего, оказавшегося более одаренным, чем они». Тем
решительнее, вопреки этим предубеждениям, отстаивал
Олдингтон имя своего друга, утверждая, что он — «един-
ственный поистине гениально одаренный писатель, ка-
кого трудовая Англия оказалась способна выдвинуть со
времен Бернса» (из письма 1959 года, ноябрь).
Однако этот повышенный восторг перед Лоуренсом
не помешал Олдингтону поставить рядом с наивозмож-
но высокой похвалой ему внушительное «но». Любопыт-
421
яо, что уже карикатура на Лоуренса («товарищ Бобб»),
набросанная в «Смерти героя», содержала при всей гро-
тескности зерно серьезной и всесторонней оценки. «То-
варищем» Олдингтон назвал Лоуренса потому, что тот,
к сожалению, позволял себе подчас кокетничать «про-
летарским происхождением», а то вдруг демонстративно
забывал о нем. Олдингтон, который лишь шутя мог на-
помнить о своем «джентльменстве», не терпел подобных
вещей. Шаржируя облик приятеля, Олдингтон тем не
менее точно назвал, что привлекает его в Лоуренсе и
чего он принять не может. Он отметил в нем «быст-
рое, иногда изумительное проникновение в человеческую
натуру», но развернуться в полную силу ему не дава-
ло «безудержное злорадство, тяга к аристократическим
альковам и нелепые теории о бессознательном, которые
являлись странным сплавом неверно понятой теософии
с плохо переваренным фрейдизмом». В дальнейших сво-
их суждениях о Лоуренсе Олдингтон развивал в сущ-
ности ту же мысль. Вместе со многими литераторами
самых разных убеждений Олдингтон сочувствовал реа-
билитации романа «Любовник леди Чаттерлей», против
которого в Англии было возбуждено дело по обвинению
в «порнографии», через тридцать лет после кончины ав-
тора, как раз в годовщину его смерти! Из приведен-
ного выше письма видно, что Олдингтон, как и многие
другие, отстаивал этот роман по соображениям прин-
ципиальным, а не потому, что особенно одобрял послед-
нюю книгу Лоуренса.
Разбирая ранний роман писателя «Нарушитель», Ол-
дингтон в присланных заметках отмечал: «Эта книга,
мне кажется, во многом предвосхищает «Любовника ле-
ди Чаттерлей». Только «Нарушитель» — произведение
гораздо более юное, целомудренное и поэтическое, в нем
нет той горечи, надлома, нет дидактической сексуальной
проповеди, в нем бьется и живет присущее Лоуренсу
чувство красоты и плотской страсти».
Очерк-воспоминание о Лоуренсе Олдингтон очень хо-
тел видеть переведенным на русский язык. «Быть мо-
жет,— писал он,— это послужит распространению из-
вестности Лоуренса среди советских читателей». Еще в
20-е годы у нас появились основные романы Лоурен-
са — «Белый павлин», «Сыновья и возлюбленные», «Ра-
дуга» (под названием «Семья Бренгвинов») и «Жезл
422
Аарона»; переводились некоторые стихи... Однако изда-
ния отличались неполнотой и неточностью переводов.
Когда шла работа по изданию у нас книг самого
Олдингтона, он, по возможности, помогал нам, и эта по-
мощь раскрывала его самого, а вместе с этим подопле-
ку, напитавшую его горечь и злость. Так он припомнил
историю некоторых рассказов в сборнике «Прощайте,
воспоминания».
«Вы спрашиваете о рассказе «Жертвенный пост»,—
писал Олдингтон.— Ваша великая война 1941—45 гг.
была гораздо более открытой, чем наша в 1914—18 гг.
Тогда дело решалось большей частью осадами. Весной
1918 года британская армия несла на себе всю тяжесть
Западного фронта. Французы капризничали, а американ-
цы (естественно!) вовсе не прибыли на позиции. Осенью
1917 года мы, англичане, потеряли 40 тысяч человек у
Пашенделе, а затем еще 225 тысяч на Сомме в марте
1918 года. Поскольку французы по-прежнему не собира-
лись наступать, мы вынуждены были выдерживать ос-
новные удары немцев, и наши дивизии (всего лишь 51!)
в некоторых местах растянулись в чрезвычайно тонень-
кую цепь. Поэтому нам приходилось выдвигать передо-
вые посты (их назвали «жертвенными»), чтобы преду-
предить при случае внезапную атаку, и наши резервы
(главным образом канадцы и австралийцы) могли бы
подготовиться заблаговременно и предупредить прорыв
фронта. Пост, о котором говорится у меня (я сам был
там), это высота 70 к востоку от дороги на Лен-ла-
Бассе. За эту позицию шли такие жестокие бои, что
если бы люди, убитые там, вдруг воскресли и подня-
лись, им негде было бы стоять. «Жертвенные посты»
на британском фронте в 1918 году имели приказ дер-
жаться на смерть, однако сообщать (цветными ракета-
ми) о всякой угрозе со стороны противника».
Тем более существенной была помощь Олдингтона
при подготовке к новому изданию «Смерти героя», где
в особенном изобилии встречаются намеки и литератур-
ные параллели, не всегда ясные. Писатель охотно от-
кликнулся. «Приятно видеть,— подчеркивал он,— что пе-
реводчики у вас так глубоко вникают в смысл моего
текста. Вы, совершенно очевидно, гораздо более тщатель-
ны в этом отношении, чем немцы и, особенно, францу-
зы, которые если не понимают чего-либо в иностранной
423
книге, то считают автора просто идиотом и пишут, как
им вздумается. Я убедился, что итальянцы и испанцы
соблюдают большую точность и, разумеется, вы также».
Когда же Олдингтон получил книгу и обнаружил, что
его пояснения нашли место в комментариях, а коммен-
тарии весьма обширны, он заметил: «Это мой недоста-
ток, мне не следовало перегружать роман до такой сте-
пени литературными намеками. И в последующих моих
книгах содержится чересчур много подобной «культуры»
в духе Олдоса Хаксли. Мы слишком поздно научаемся
тому, как нужно писать».
В ответ на мои вопросы Олдингтон подробно изло-
жил историю создания «Смерти героя», с появлением ко-
торого имя его вошло в историю английской литерату-
ры. В ноябре 1959 года Олдингтон писал:
«Постараюсь рассказать вам, что помню о том, как
был написан этот роман.
Выходец из среды непривилегированной, я получил
за время моей военной службы ряд полезных уроков.
До тех пор я и не знал, что высшие классы в Брита-
нии расценивают низших не дороже животных. Однаж-
ды во время внезапного артиллерийского обстрела я
собственными ушами слышал, как офицер кричал: «Не
обращайте внимания на людей! Спасайте мулов! Они
стоят денег!» Я слышал это в январе 1917 года на доро-
ге из Бюлли-Грене в Лоо.
Возможно, что это вошло в «Смерть героя» — я не
заглядывал в книгу с момента ее первой публикации,—
но вот, однако, еще одна сценка из той же зимы 1916—
17 года, которую я не могу забыть. Было холодно, не
так холодно, как у вас зимой, но все-таки: глубокий
снег и мороз. Потом я читал об «увеселениях», которые
были устроены в ставке главного командования во вре-
мя этих морозов: блюда с черной икрой, паштеты, дичь,
жаркое, вино и проч. Мы же, орудийный расчет, сидели
на половинном довольствии из говяжьих консервов и су-
харей, кроме того мы, более двадцати человек, были
вынуждены умываться в одной и той же воде. Это ти-
пично для британской культуры: тюремные власти за-
ставляли Оскара Уайльда «мыться» грязной водой.
Если бы я сам не испытал таких унижений, разве я
мог бы озлобиться на них? Если бы не видел я собст-
венными глазами раны и гибель стольких безвинных лю-
дей, разве вынес бы я в душе такую травму?
424
Не верьте немецким воякам, когда они говорят, буд-
то они не были разбиты в 1918 году. Я был там; я видел,
как бежали они в полном беспорядке; я видел позиции
на Сомме, усеянные оружием, которое они побросали в
паническом бегстве. Вы, русские, настоящие солдаты, вы
знаете, что если солдат отступает по приказу, он не
оставит оружия. А там все позиции были завалены не-
мецким вооружением. Не они отступили, мы просто их
вышибли. Гитлер лгал, когда пытался отрицать это.
Кончилась война. Моя дивизия (24-ая) не была по-
слана для оккупации Германии, а оказалась разбросанной
по границе в районе Мобеж — Турне. Как командир отря-
да сигнальщиков и наблюдателей, я должен был зани-
маться веселеньким делом: двигаться для разведки впе-
реди всех, и это — в конце войны. Затем мне пришлось
отправиться в бельгийскую деревушку под названием
Тантинье, чудовищно маленькую, чтобы найти квартиры
для своих солдат. Первую же ночь я провел один среди
крестьян и отдал свой белый хлеб мальчику-бельгийцу,
сыну этих крестьян. Он в жизни никогда не видал бело-
го хлеба и все кричал: «Мама, мама, как вкусно!» Мно-
го ли может сердце выдержать такой нагрузки!
Итак, замерзшие и полуголодные, мы, даже офицеры
(поскольку мы не принадлежали к «господам» из став-
ки), очутились в этой деревушке. И там впервые набро-
сал я дикую, глупую, беспомощную рукопись, попробо-
вав вложить в нее то, чему научился я за три года
войны. Помню, как просиживал я ночи, пытаясь писать;
за окном луна, «будто лицо покойника, умершего пять
дней назад», руки трясутся от холода; книга вышла, ко-
нечно, никудышной и нелепой.
Неожиданно в феврале 1919 года пришел «приказ
облегчения» — демобилизация. Глубокий снег. Замеча-
тельные люди, эти британцы. В Дюнкерке мы, жалкие,
измученные пехотные офицеры, сидим в палатках под
снегом и дрожим, а немецкие военнопленные (мы могли
это наблюдать) удобно устроены с отоплением, какого
мы никогда и не имели. Рыцарство, конечно, рыцарство.
Вернулся в Лондон, прошло два дня и началась за-
тем погоня за «работой», в надежде найти хоть что-
нибудь, чтобы не разлучить вовсе душу с телом, как
выражаются идеалисты. О, господа в редакциях вели
себя просто бесподобно, готовые помочь вернувшемуся
425
«герою»: берите вот эту книжку, стоит она десять шил-
лингов, напишите мне на нее рецензию, а книжку може-
те оставить себе.
Словом, известная история. Но я победил их, я все-
таки достал работу, отыскал за городом маленький до-
мик и даже сумел съездить за границу (при моих-то
возможностях), в Италию, что дало мне необычайно
много.
Прошли годы и благодаря щедрости одного амери-
канца я получил за книгу достаточно денег, которые да-
вали мне несколько недель свободного времени. Я ис-
пользовал эти средства с тем, чтобы предоставить вре-
менное уединение на острове Порт Крое моему другу
Д. Г. Лоуренсу... И там же за несколько дней я напи-
сал пролог к «Смерти героя», я намеренно сделал его
кратким, так как опасался, что времени мне не хватит.
Итак, по утрам я работал над романом, а вечерами пе-
реводил «Декамерона» Боккаччо — дело двигалось.
Роман, начатый в ноябре 1928 года на Порт Крое,
был продолжен в Италии и закончен в Париже. Всего
работа над ним заняла пятьдесят один день, и в мае
1929 года книга была завершена».
Известно, однако, что на этом злоключения «Смерти
героя» и ее автора не кончились: книга вышла в том же
году, но была покалечена цензурой. Серьезная критика
тотчас отметила появление романа благожелательными
оценками. «Книга глубоко тронула меня»,— писал Уэллс.
Отклик политиканов был иным: Олдингтон покинул Анг-
лию. Правда, когда впоследствии он слышал в приме-
нении к своей судьбе слово «изгнанник», то обычно со-
ветовал обращаться с этим понятием осторожнее. Он не
знал «изгнания» в нашем, традиционном, герценском
что ли, смысле, когда человек оказывается раз и на*
всегда, бесповоротно отрешен от родины. Какой бы сте-
ной молчания или недоброжелательства ни было окру-
жено в Англии или Америке имя Олдингтона, он все-
таки продолжал поддерживать деловые связи с издате-
лями: в общей сложности им было выпущено более
двадцати книг, не считая публикаций, где он выступал
как редактор, составитель, автор предисловий и т. д.
Даже в наиболее трудное, «безвестное» время он сооб-
щал: «У меня масса работы на руках и в издатель-
стве». Конечно, ему приходилось ради денег заниматься
426
и случайной работой. Умер он, переводя «Воспитание
чувств» Флобера... Кроме того, Олдингтон (впрочем, из
зарубежных писателей не только он) полагал, что уда-
ление от родины, вынужденное или добровольное, помо-
гает писать, проясняет представление о ней. И все же
разрыв с Англией, репутация «ненавидимого писателя»
была для Олдингтона до конца его дней незаживающей
раной.
Жизнь западного писателя напряженна. Пример Хе-
мингуэя, наиболее высоко оплачиваемого и все-таки
знавшего материальные затруднения, красноречив. Хе-
мингуэю платили, конечно, необычайно много, но пос-
ледние двадцать лет жизни он печатал мало, между тем
он числился в разряде людей, весьма состоятельных и
подлежащих высокому налогу: до семидесяти пяти про-
центов. «А охота на львов, моторные яхты и катера, дом
в Гаване, дом в Штатах — это поглощает в неделю та-
кие деньги, каких мы с вами не проживем и за год»,—
говорил мне американский коммерсант, спортивный де-
лец, знавший хорошо тех, кто боксировал или ходил на
скачки с Хемингуэем. По его авторитетному мнению,
американские писатели, покойный Фитцджеральд, Саро-
ян, тот же Хемингуэй, допускали один финансовой про-
мах: имея крупный успех, видя, как текут к ним рекой
деньги, они именно в этот момент не заботятся платить
налогов. Успеется! Поток рано или поздно оскудевает,
а платить-то надо все равно и за все, вот тут и насту-
пает катастрофа. Однако и не роскошь, не «охота на
львов и моторные катера», но просто жизнь, что назы-
вается, «на уровне», требует от писателя на Западе
систематической публикации. Даже прославленный
Р. Л. Стивенсон, один из первых литераторов Запада,
поведший сугубо профессиональное существование, при-
знавался, что вынужден писать с такой интенсивностью,
что у него «кожа пальцев стирается о перо» (в конце
концов у него отнялась рука).
Олдингтон доживал свой век на юге Франции в ма-
ленькой деревушке Сюри-эн-Во, занимая домик, предо-
ставленный ему безвозмездно его близким другом, тру-
дясь неизменно за пишущей машинкой («У меня еще
есть, что сказать, и я скажу»), трудясь у себя на ого-
роде и в саду, которые были для него просто источ-
427
ником питания. Ведя вполне крестьянскую жизнь, Ол-
дингтон шутя называл себя «Толстым в миниатюре».
Да, воспоминания Олдингтона уходили далеко, и сам
он служил живым соединительным звеном с далекими
временами. Осознать это было не так-то просто. Вот
почему, должно быть, производил он при непосредствен-
ной встрече впечатление несколько неожиданное и, я бы
сказал, даже разочаровывающее. «Вместо писателя, ка-
ким я все-таки был лет 30 тому назад, вы увидите толь-
ко скучного старика»,— предупреждал Олдингтон, когда
он, почувствовав себя значительно лучше, принял при-
глашение Союза писателей СССР приехать с дочерью в
нашу страну летом 1962 года. Действительно, первая
встреча на аэродроме в Шереметьеве, казалось, пол-
ностью подтвержает это обещание.
Все видевший, все переживший, мало подвижный че-
ловек,— таким выглядел Олдингтон поначалу. Какая-то
отдаленность и замкнутость чувствовались прежде все-
го: столько испытал он на своем веку разочарований от
взаимоотношений с людьми, что начинать какие-то но-
вые личные связи у него нет больше ни энтузиазма, ни
сил. Долгое время единственным моментом, вызвавшим
оживление у Олдингтона, оставался каталог библиотеки
Вольтера, показанный и преподнесенный Олдингтону в
нашем издательстве Академии наук. Казалось, потому
так обрадовался Олдингтон, взяв в руки эту книгу, что
увидел в ней нечто верное, незыблемое, что уж, во вся-
ком случае, никакой фальшивой стороной не обернется.
Мы же, могу засвидетельствовать, так и не разгля-
дели вполне Олдингтона. Лишь потом, вновь и вновь
«прокручивая» в памяти встречи с ним, можно было
осмыслить его облик. Как ни популярны у нас лучшие
романы Олдингтона, как ни высока репутация, в силу
которой мы ставим его в ряд крупных художников сов-
ременности, все же мы не представляли себе, что за
тип литератора, личность какого склада, индивидуаль-
ность какой природы являл собой Олдингтон.
По книгам легко было схватить наиболее очевидные,
будто бы отличительные, а по существу наименее инди-
видуальные его свойства: горечь и злость, объединяв-
шие его на Западе со многими. Между тем Олдинг-
тон— явление на литературном фоне весьма редкое.
Вот выстраданные им заповеди сверстникам: «... Бе-
428
регись, мой друг! Спеши надеть скользкую маску бри-
танской лжи и страха перед жизнью или жди, что тебя
раздавят. Быть может, временно ты избегнешь гибели.
Тебе покажется, что можно пойти на компромисс. Эго
неверно. Ты должен душу им отдать, или они ее рас-
топчут. Либо можешь уйти в изгнание». Или: «...Если
жить всеми чувствами, столько же плотью, сколько ра-
зумом, всеми своими непосредственными живыми вос-
приятиями вместо выдуманных, отвлеченных, тогда дей-
ствительно все люди станут тебе врагами».
По книгам его, «жутким и отчаянным», можно было
рассчитывать увидеть некое живое воплощение желчной
динамики. Однако оказалось совсем напротив: спокой-
ный, даже вышколенный, с выправкой военно-аристокра-
тической, сдержанный от сосредоточенной мысли и край-
ней деликатности. Можно было все-таки представить се-
бе, что из уст этого доброго, осторожного человека
способно вырваться жуткое и даже сквернословное ру-
гательство, как это и происходит на страницах его
«Смерти героя». Но теперь, при взгляде на Олдингтона,
это звучало бы совершенно иначе, было (бы по-особому
окрашено его обликом.
Олдингтон оказался куда менее «современным», чем
мы ожидали. Ведь это викторианство говорило в нем,
в его выправке, то викторианство, на которое он обру-
шивался одним из первых с такой несдержанной яростью.
В занятиях творчеством Олдингтона меня всегда ин-
тересовало, как сам он смотрит на соединение в себе
«старины» и «модерна», в какую связь с традициями
английского романа он сам бы себя поставил
«Вы понуждаете меня предаться величайшему поро-
ку большинства писателей — распространяться о себе,—
шутил в ответ Олдингтон еще в одном из первых пи-
сем (декабрь, 1956).— Но коль скоро вам нужны све-
дения для работы 2, я охотно посылаю их, постаравшись
быть наивозможно кратким.
Не думаю, что я занимаю какое-либо место в раз-
витии английского романа, по крайней мере, ни один
англичанин или американец не считает этого3. Многие
2 Мне было поручено написать главу об Олдингтоне для «Истории
английской литературы», готовившейся в Институте мировой лите-
ратуры (т. III. М„ Изд-во АН СССР, 1958, стр. 208—227).
3 Сильно преувеличено: «Смерть героя» неизменно упоминалась.
429
годы я и не мыслил себе, что могу написать роман,
лишь чистое негодование вызвало к жизни «Смерть ге-
роя»! Я никогда не занимался изучением романа, меж-
ду тем среди английских романистов я люблю таких
несходных между собой писателей, как Диккенс и Пи-
кок, Стерн и Эмилия Бронте, Скотт и Джейн Остин,
Джордж Мур и американец Герман Мелвилл. Но вооб-
ще я отдаю предпочтение французским романистам или
русским, которые мне известны в переводе. Мне каза-
лось бы верным определить основное свойство моих ро-
манов как попытку изобразить людей и мир такими,
каковы они есть на самом деле, а не в соответствии с
какими-либо предубеждениями. Полагаю, что среди моих
недостатков один из главных — неспособность строить
хорошие «сюжеты», а также склонность доводить сатиру
до издевки.
С «Казановой»4 дело обстояло просто. Мне предло-
жили написать такую книгу, и я написал ее, чтобы за-
работать денег на возвращение из Америки в Европу.
У меня не было сознательного намерения выразить этой
книгой то, что вы в ней находите, ибо я старался лишь
изложить историю проходимца и шарлатана; однако в
каждой книге писатель невольно раскрывает свою более
глубокую суть, видимую для проницательного читателя.
Так что вы, вероятно, правы в ваших предположениях.
Не могу усмотреть какого-либо сходства между «Эго-
истом» Мередита и «Дочерью полковника». Все персона-
жи списаны с живых людей, которых я наблюдал в те-
чение нескольких лет за время пребывания в английском
поселке; особенно полковник и его семья, мистер Джад,
работавший в ссудной кассе и целый день игравший в
шары. Он был прекрасный человек. Пулит — просто ка-
рикатура. Английские критики считали, будто в «Смер-
ти героя» я подражал Теккерею, которого я в то время
еще и не читал! Точно так же думали они, что «Дочь
полковника» напоминает «Евгению Гранде», но, как ни
странно, это также был из немногих романов Бальзака,
которые я не читал в то время. Думаю, что там ска-
зывается влияние отчасти Гарди, отчасти Джойса и от-
части Д. Г. Лоуренса — но это получалось невольно.
4 «История Казановы» — беллстризованная биография известного
авантюриста (1946).
430
Многие годы любимым моим романистом оставался
Анатоль Франс. Если бы теперь я мог писать, как он,
вот тогда было бы о чем поговорить! После «Казано-
вы» я и не принимался за романы, у меня просто не было
побуждения, а кроме того я, судя по всему, все мень-
ше и меньше знаю современный мир! Иногда у меня
возникала мысль написать сентиментальный роман о
том, какую чудную жизнь вела Европа между 1922 го-
дом и приходом Гитлера, но кто стал бы читать эту
книгу?»
Вопрос о «подобиях» и «подражании» Олдингтон пе-
ревел в план слишком практический, я же спрашивал
о традиции, которую так или иначе продолжает его ин-
теллектуально-психологический ром ан. Мередит, счита-
ющийся среди родоначальников этого жанра, естествен-
но, одним из первых пришел на память. Впрочем, Олдинг-
тон сам указал на иной источник его манеры — Анатоль
Франс.
«Жить здесь и теперь»,— ответил Олдингтон уже в
Москве на вопрос: каков его ведущий девиз? Он под-
твердил этим ответом свою тягу к внутренней само-
стоятельности. И столь же последователен был его вы-
бор, когда его попросили записать на магнитную пленку
несколько строк из «Смерти героя».
«Сквозь многочисленные волнения, колебания и пе-
рипетии я пронес некий идеализм,— прочел Олдингтон
из письма к Олкоту Гловеру, открывающему роман.—
Я верю в людей, верю в какую-то основную порядоч-
ность и чувство товарищества, без которых общество не
может существовать. Как часто искажается эта поря-
дочность и как часто предается чувство товарищества,
об этом незачем вам говорить. Я не верю ни в бол-
товню, ни в деспотизм, ни даже в Диктаторство интел-
лигенции. Мне кажется, что мы-то с вами немножко
знакомы с интеллигенцией?»
Когда в одной из французских газет появился не-
кролог Олдингтона и его портрет, Алистер Кершоу, пре-
данный друг, прислал нам это в письме. На фотогра-
фии Олдингтон, седой и стройный, с молодым разворо-
том плеч, стоял, как всегда, с выправкой и, в то же
время, безо всякой нарочитости или позы,— таким нам
посчастливилось видеть его, таким все четче и четче
вырисовывается в нашей памяти его облик.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вопрос об истоках (Введение) 3
I. Черты коренных перемен 36
II. Джордж Мередит (Писатель и его век.
Творчество и эксперимент) 59
III. «Ужасные дети» 125
IV. «Двинулся народ» 172
V. Томас Гарди 191
VI. «Флейта» и «барабан» (направления в
неоромантизме) 247
VII. Спор о романе (Герберт Уэллс против
Генри Джеймса) 357
VIII. Пути писательства (Джордж Мур и
Джозеф Конрад) 380
IX. Ричард Олдингтон (Вражда и родство
с уходящей эпохой. Вместо заключения) 410
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ УРНОВ
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Очерки английской литературы
Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР
Редакторы А. К. Владимирский, Е. Г Павловская
Художник А. А. Кущенко. Технический редактор Р. М. Денисова
Сдано в набор 13/IV 1970 г. Подписано к печати 1/VII 1970 г. Формат 84Х108’/з2.
Усл. печ. л, 22.68. Уч.-изд. л. 22,6j. Тираж 9000 экз. А-01077. Тип. зак. 263
Цена 1 р. 55 к.
Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10