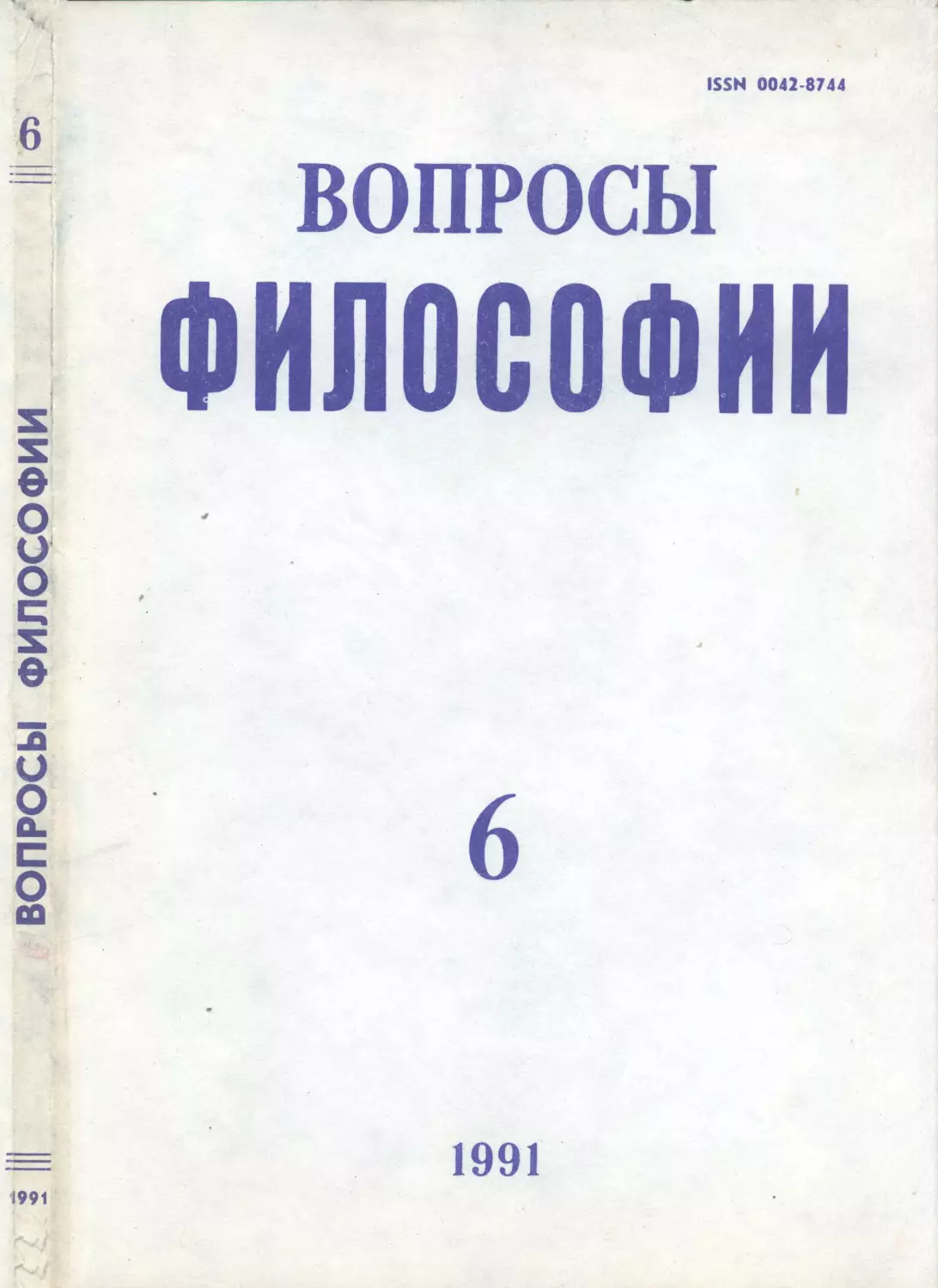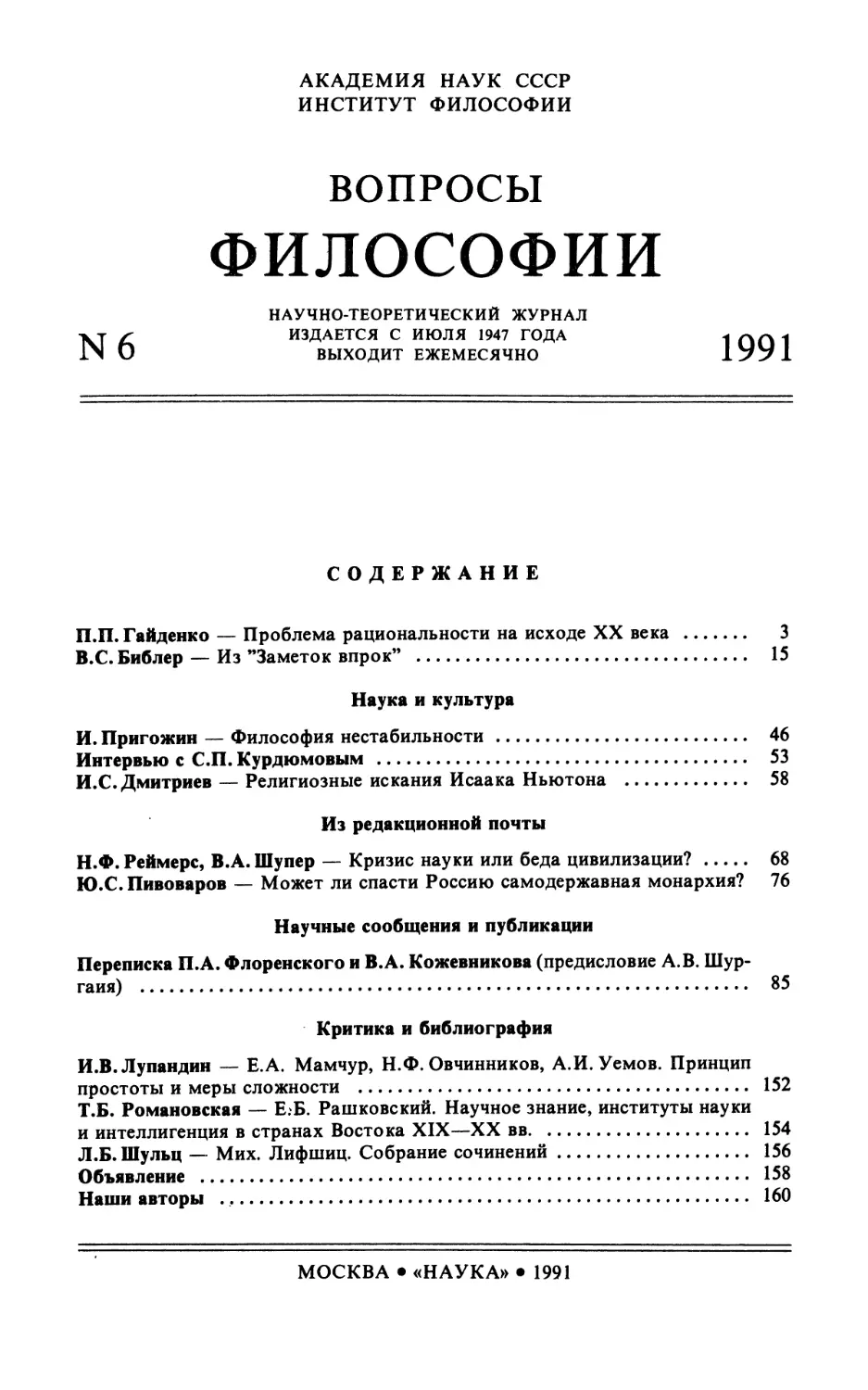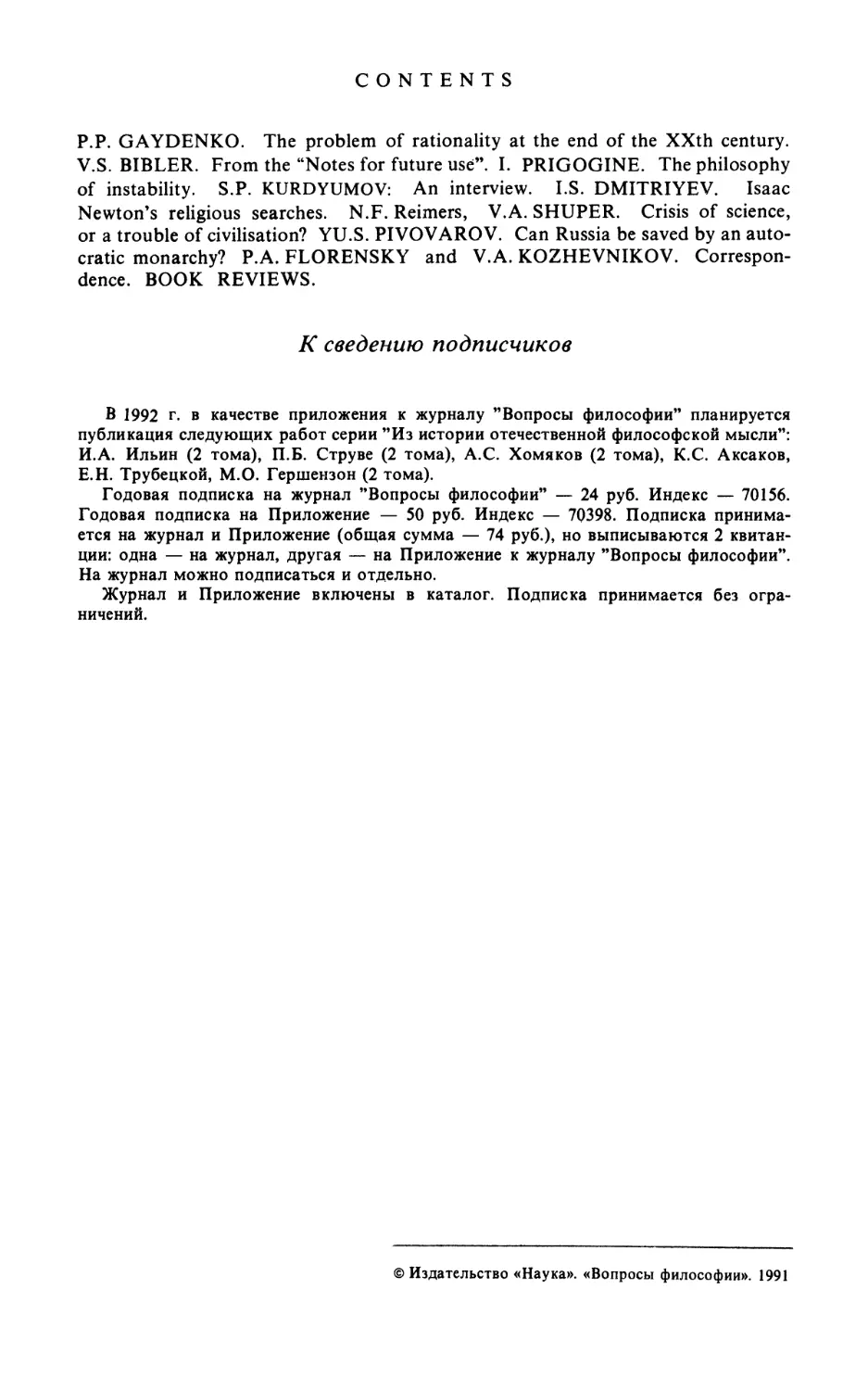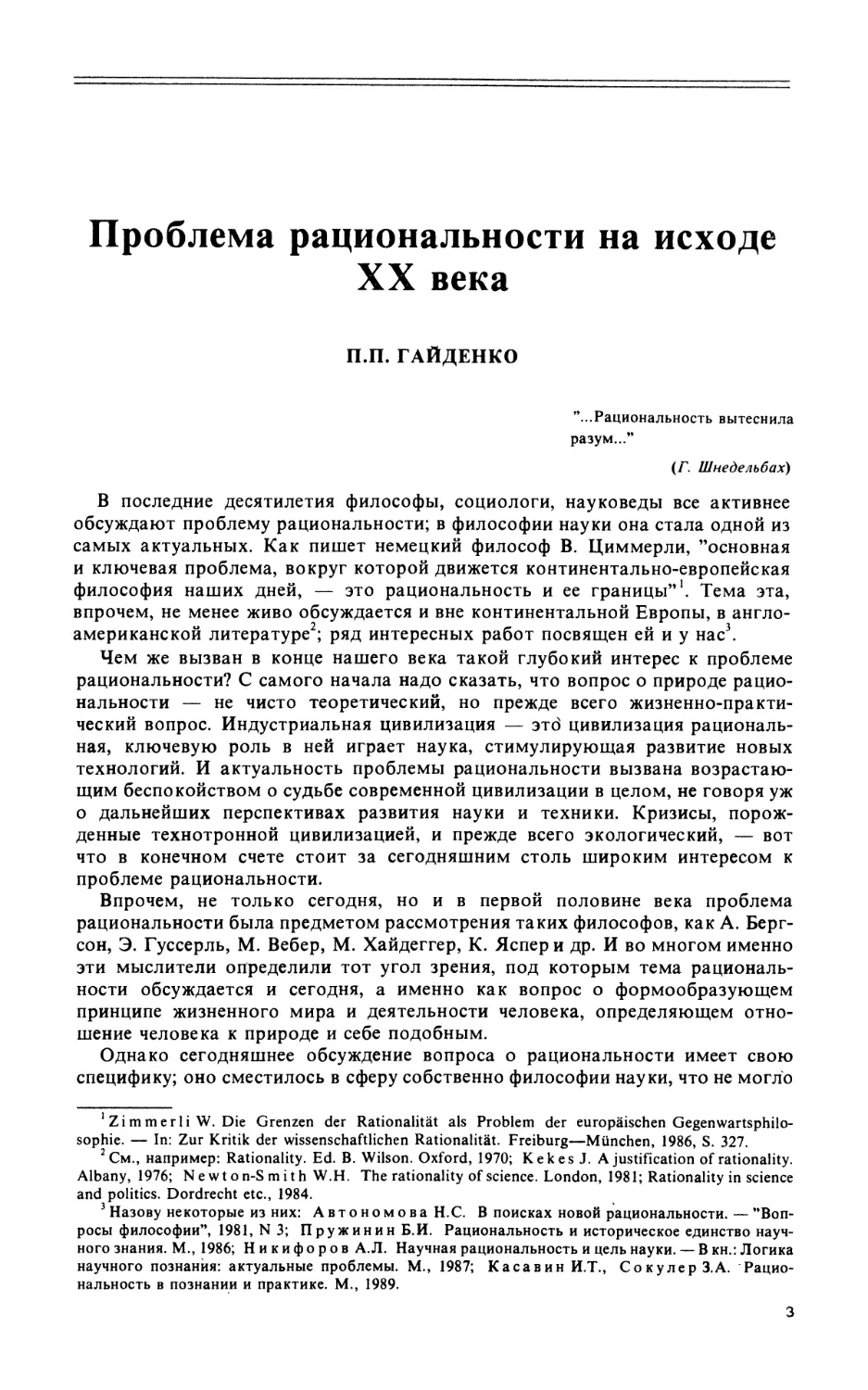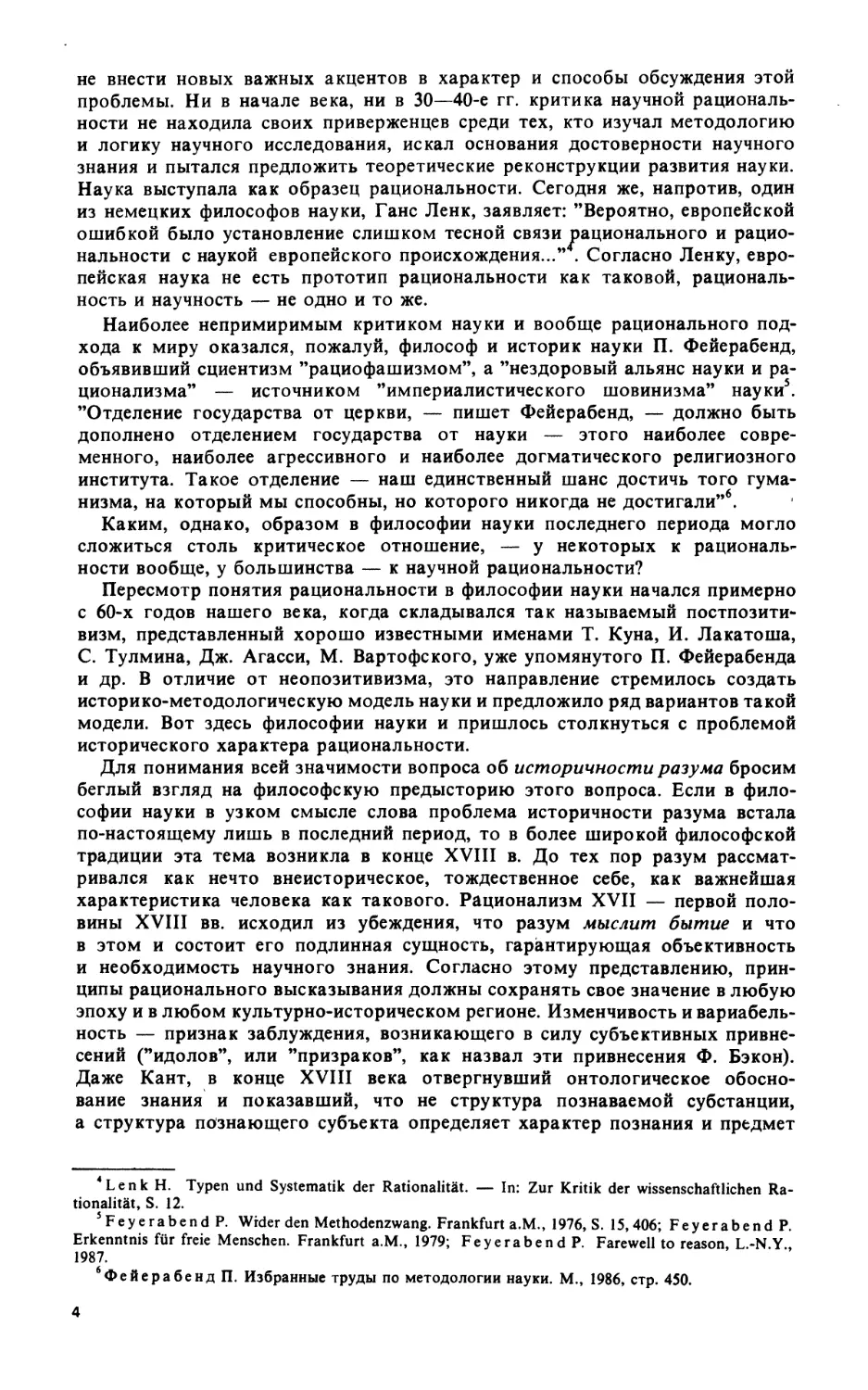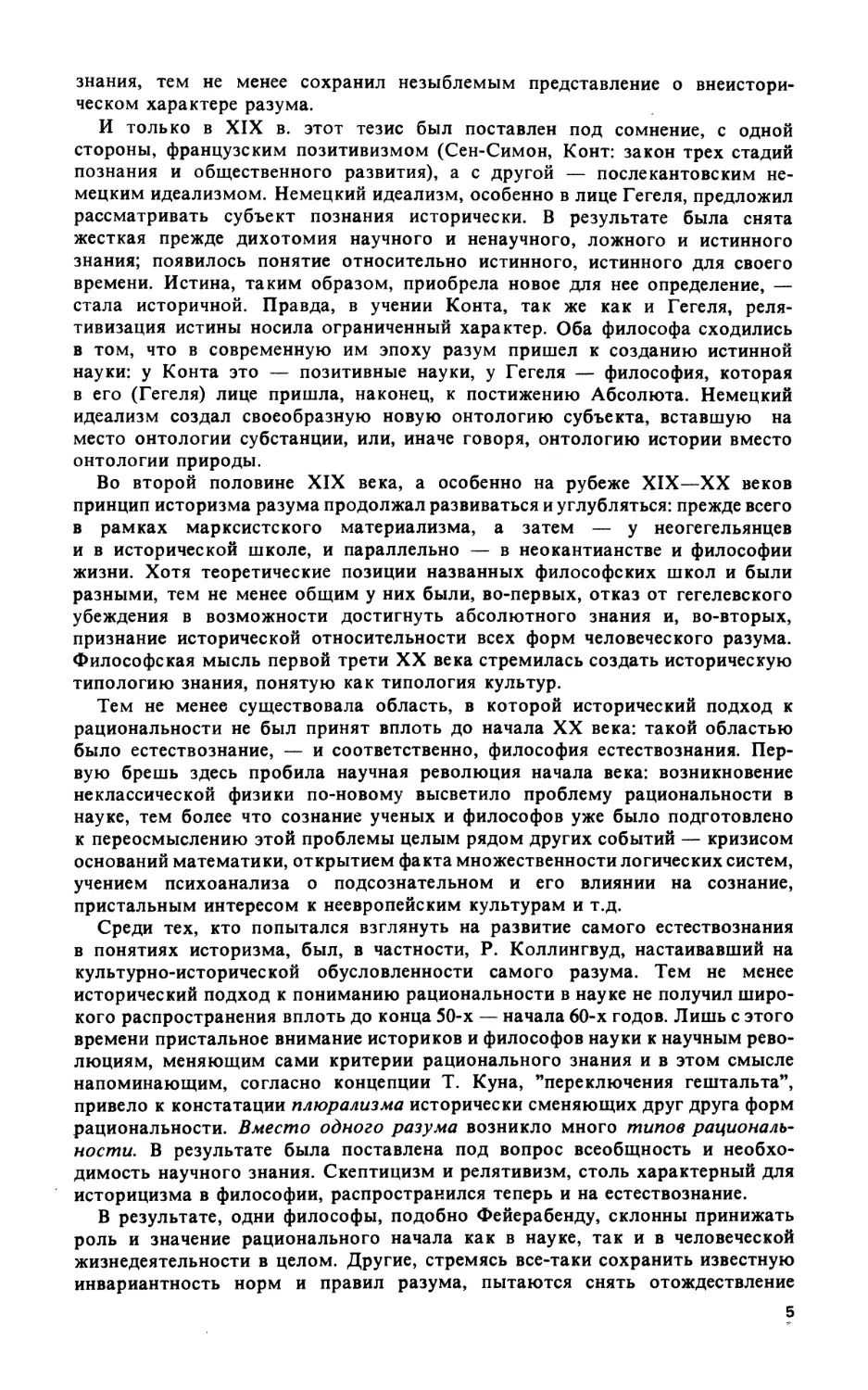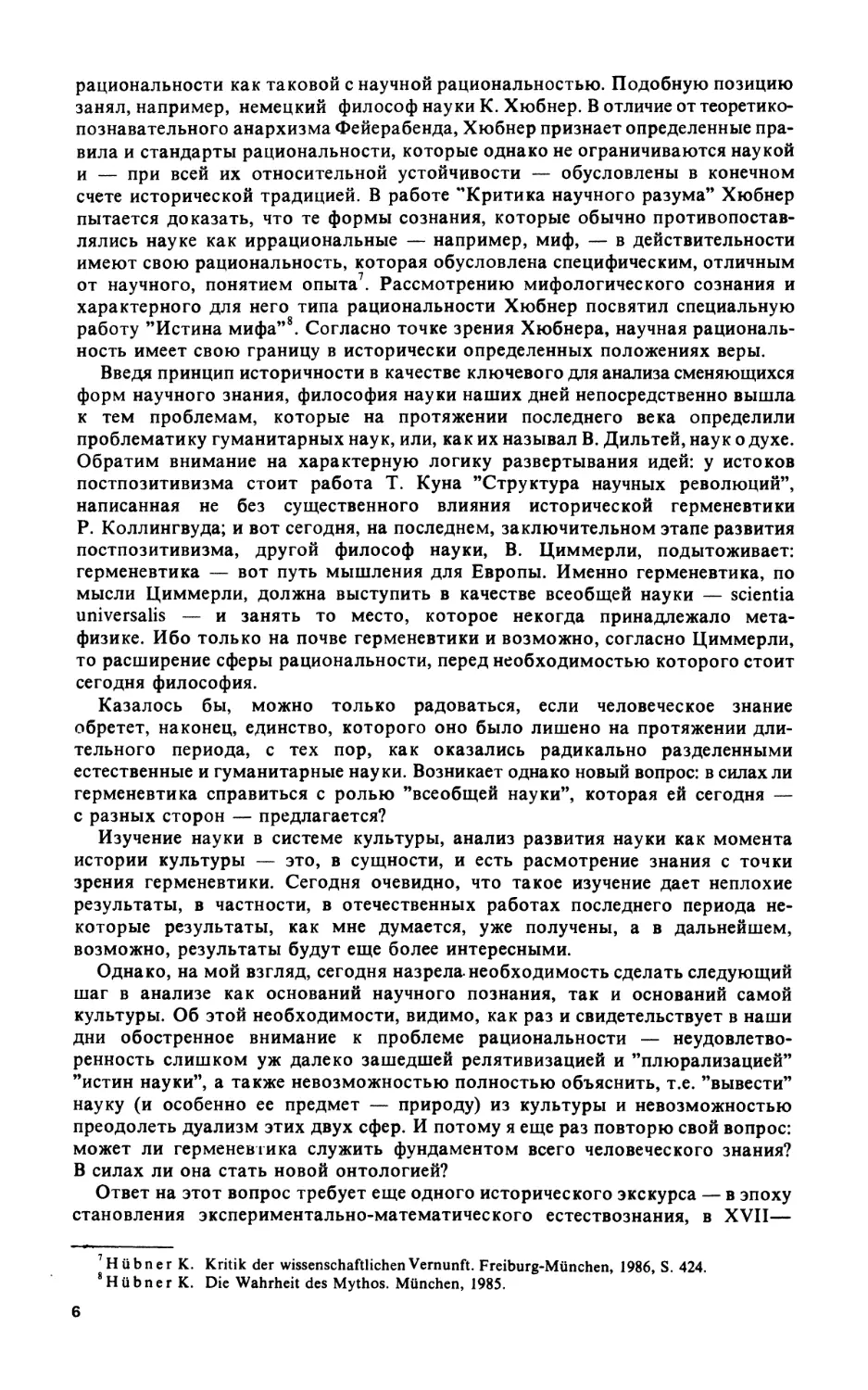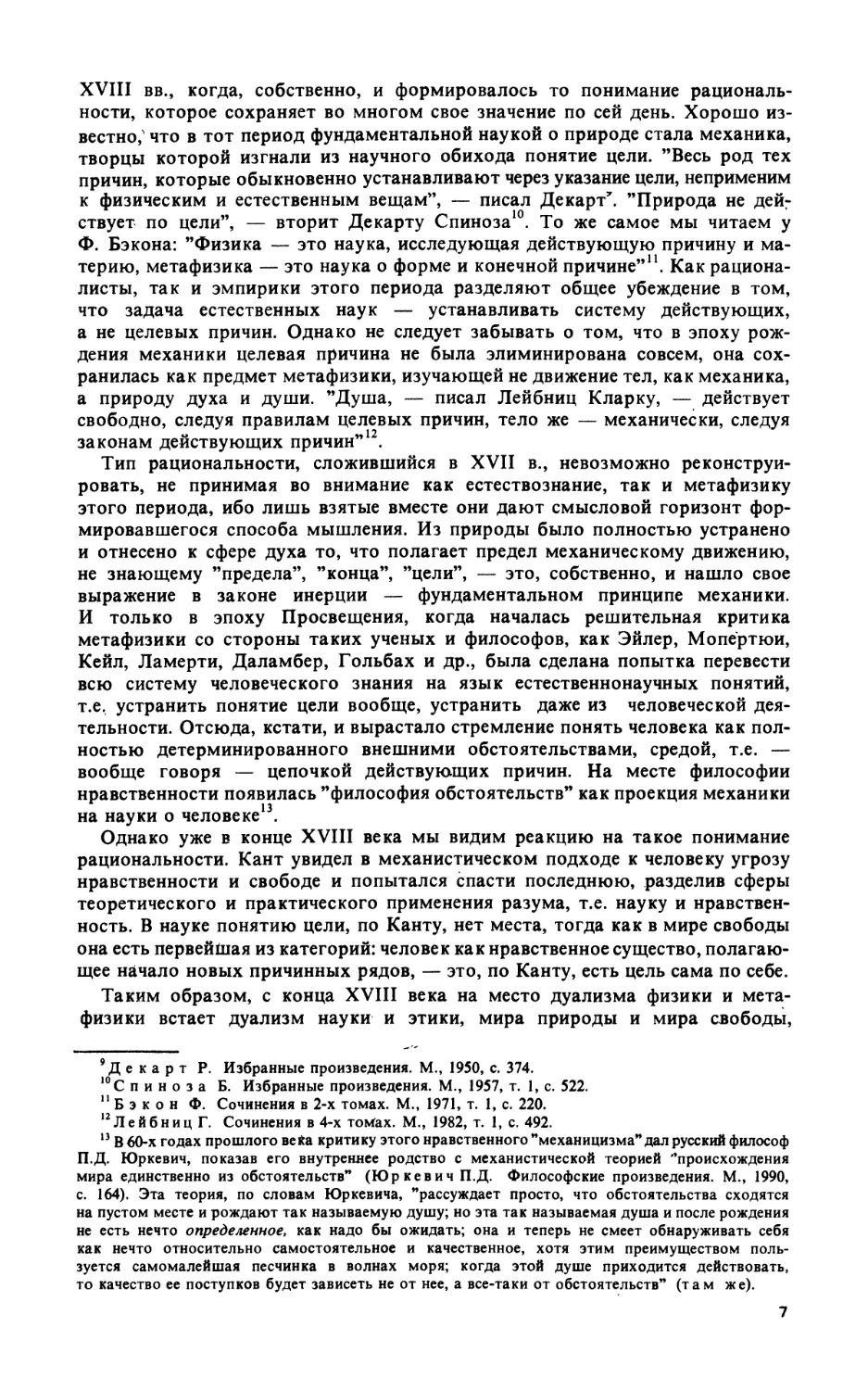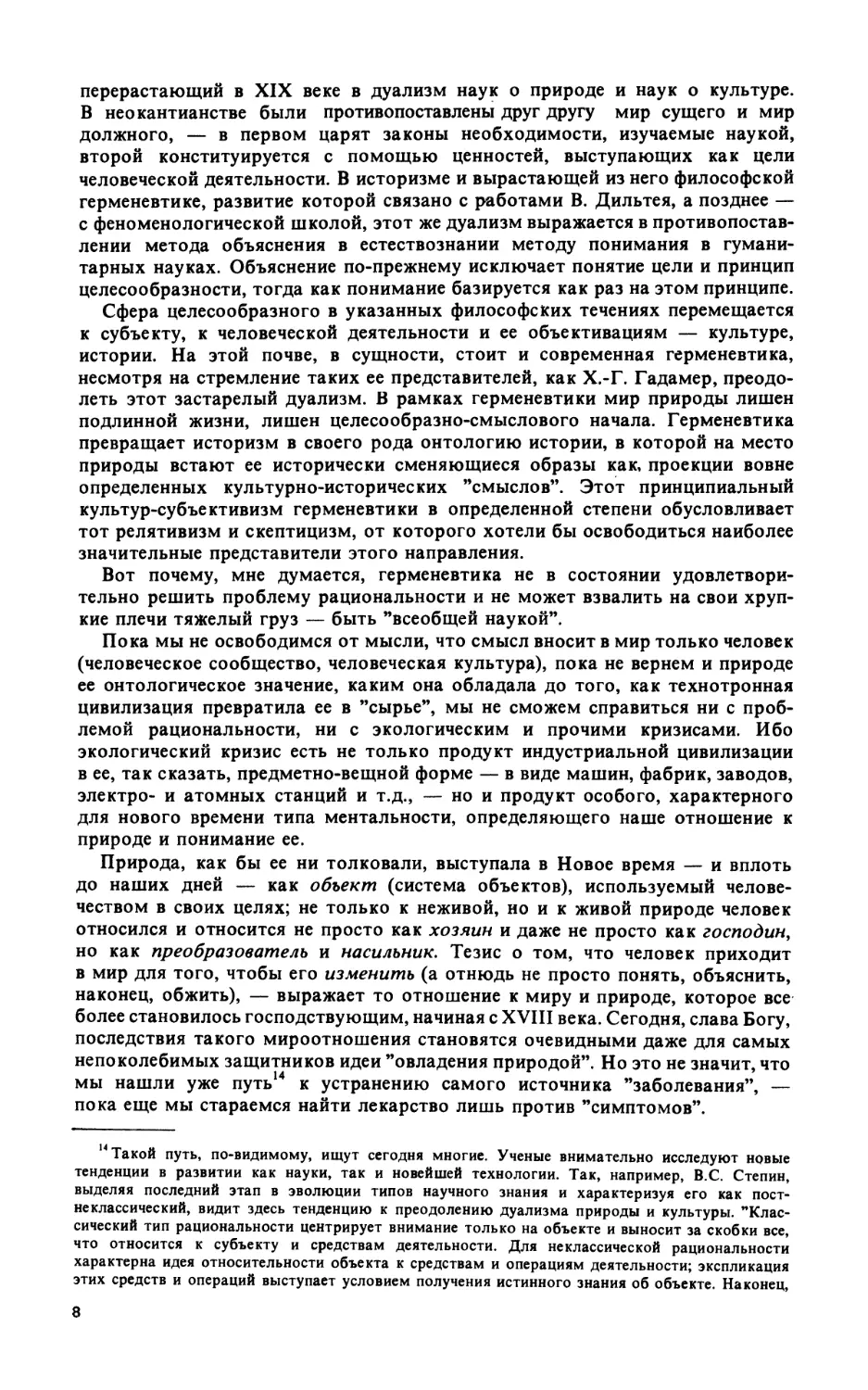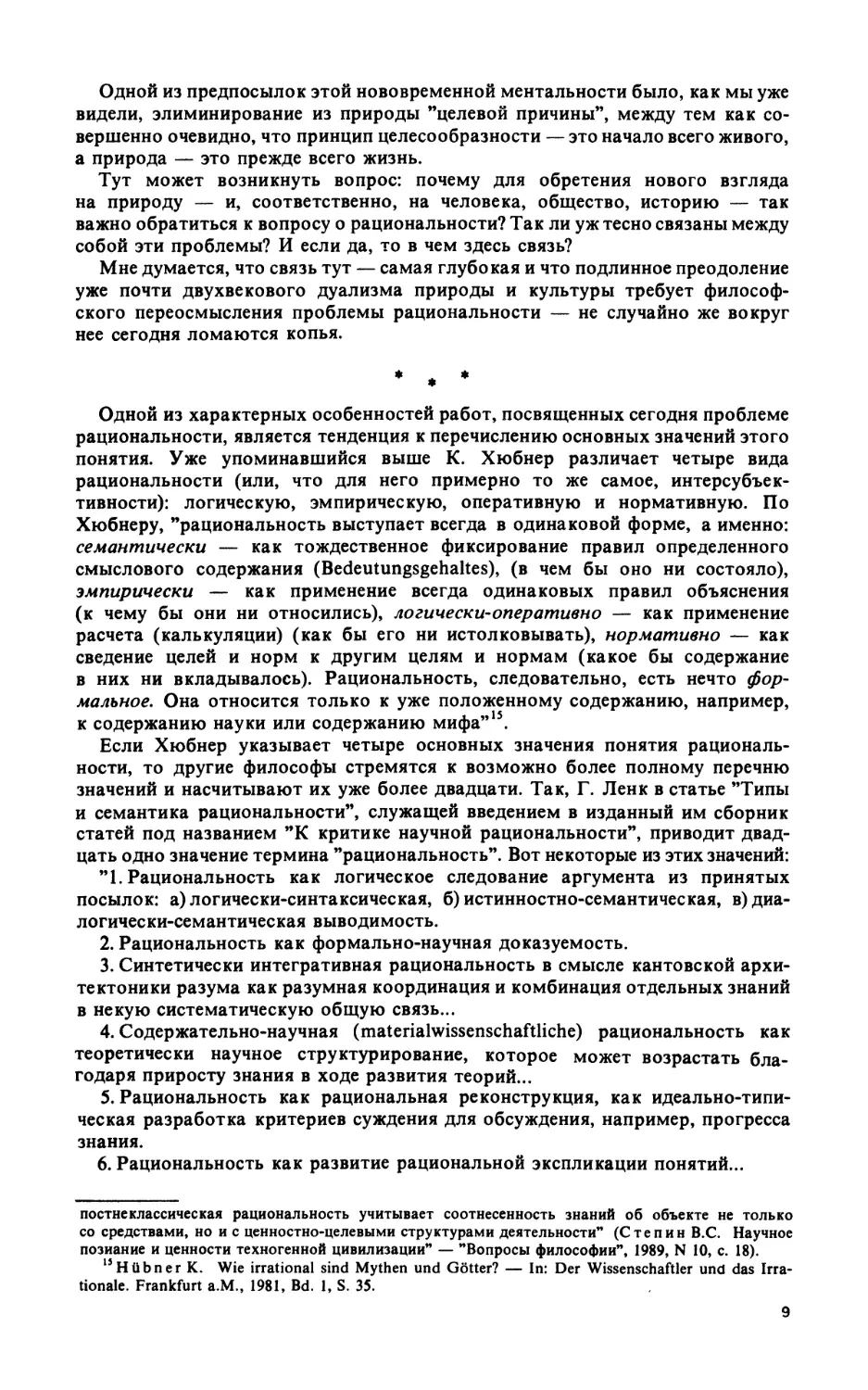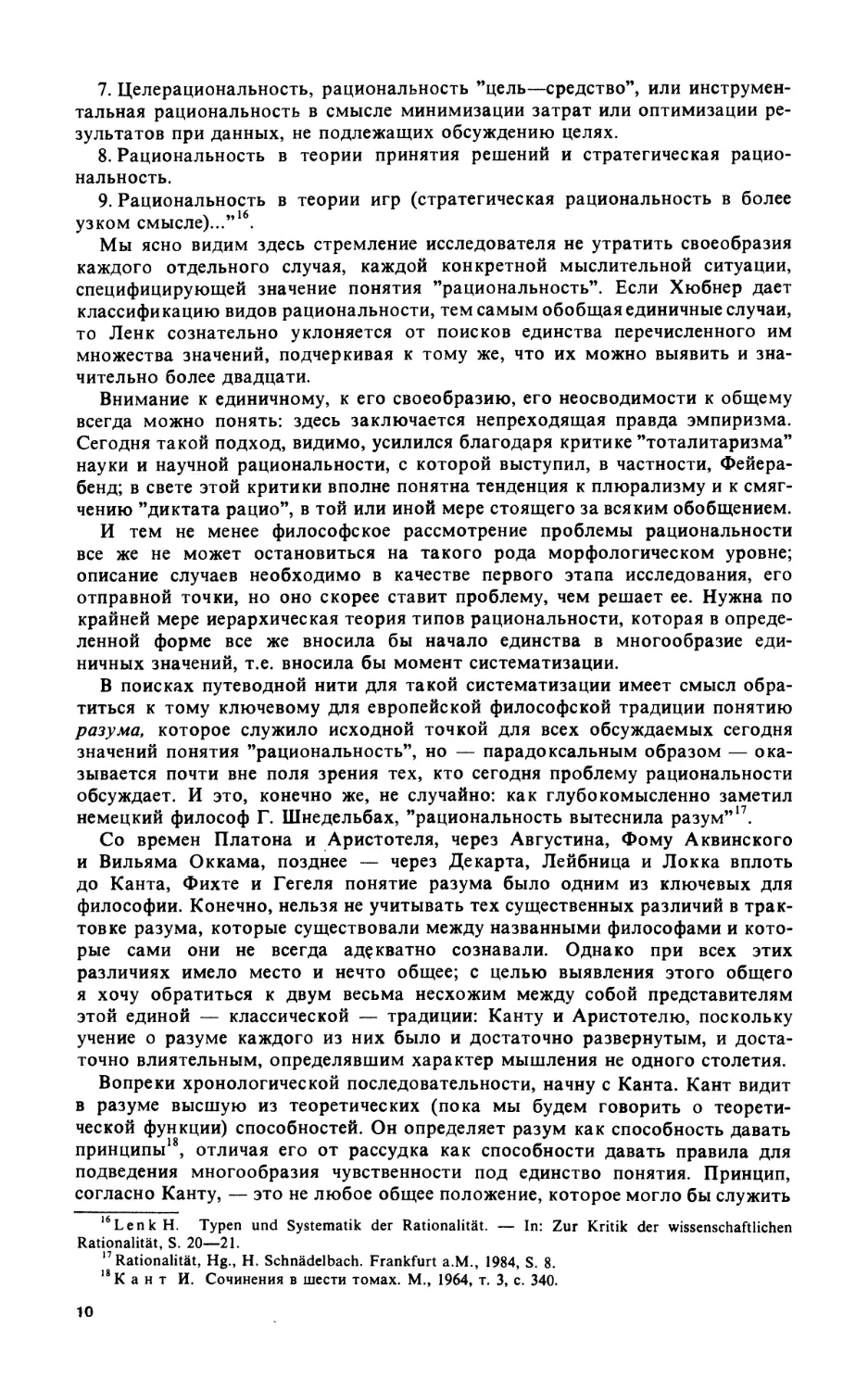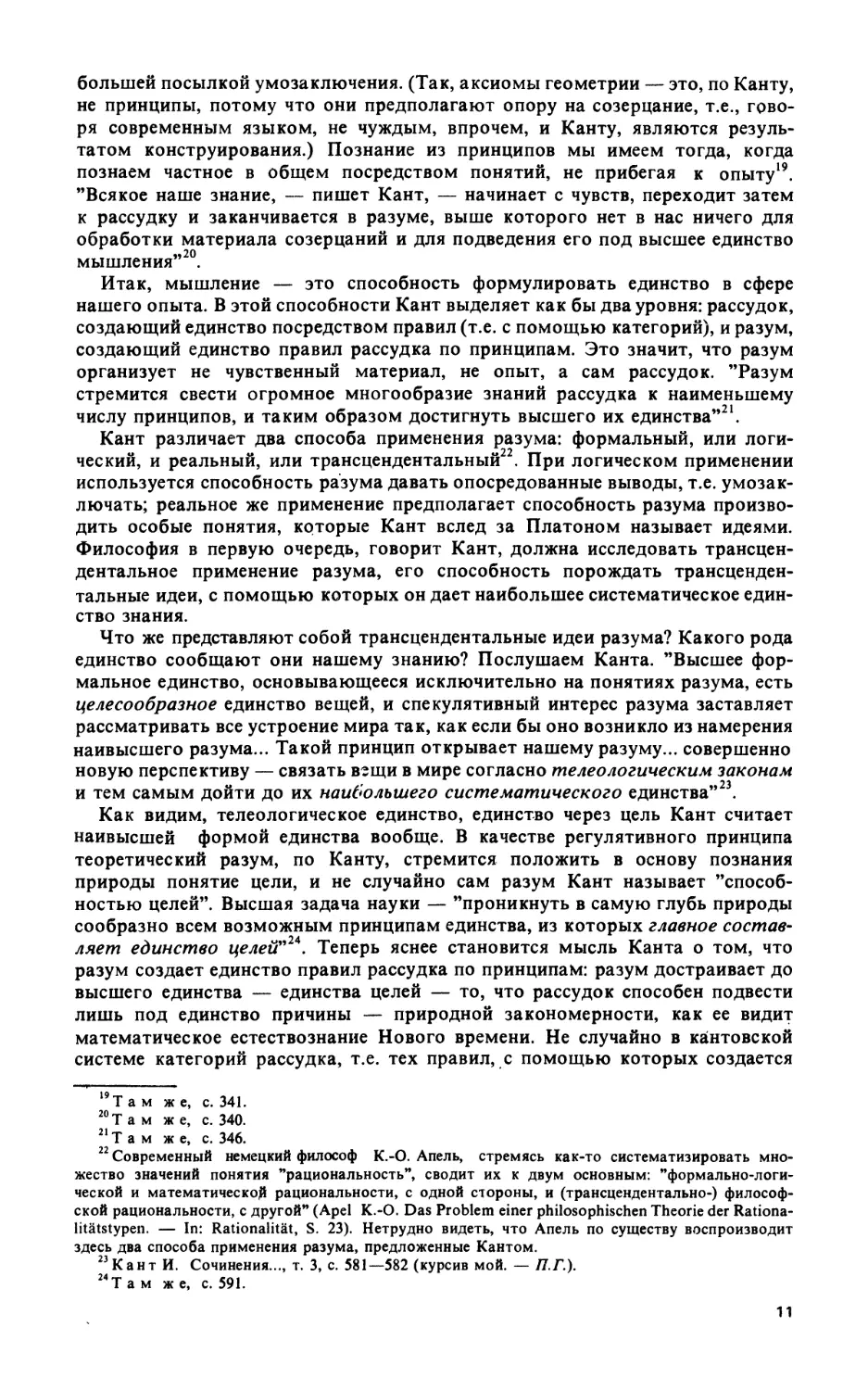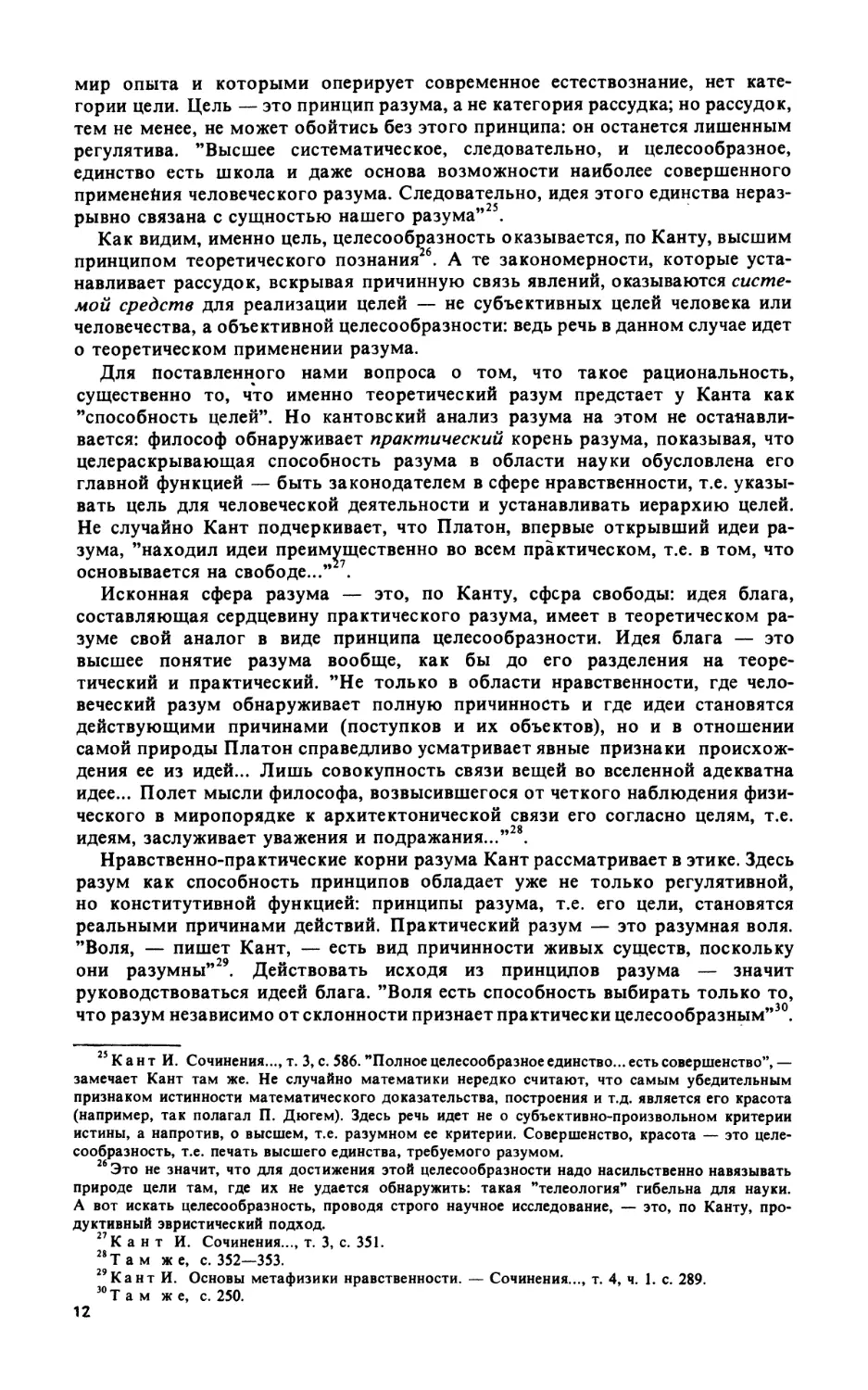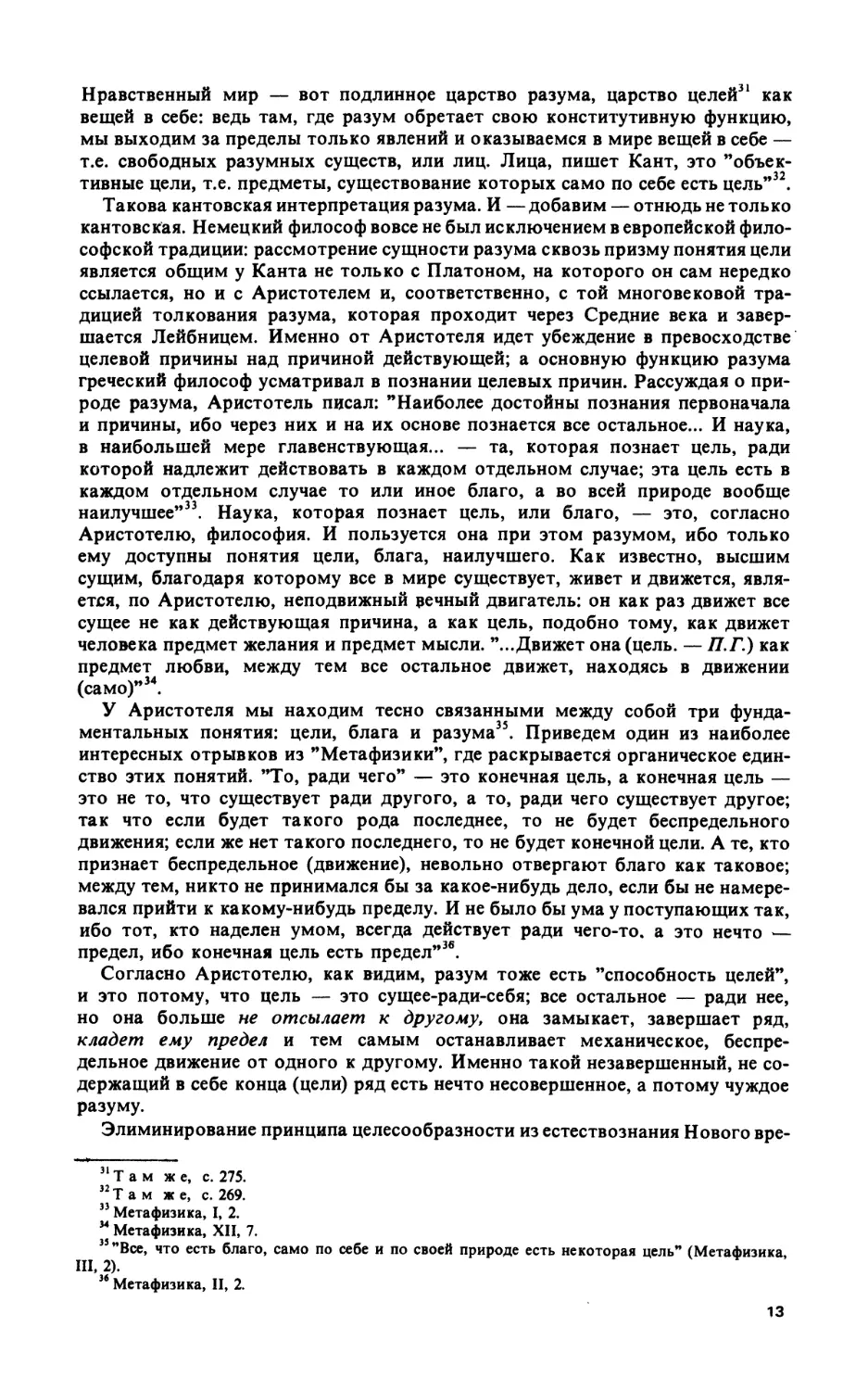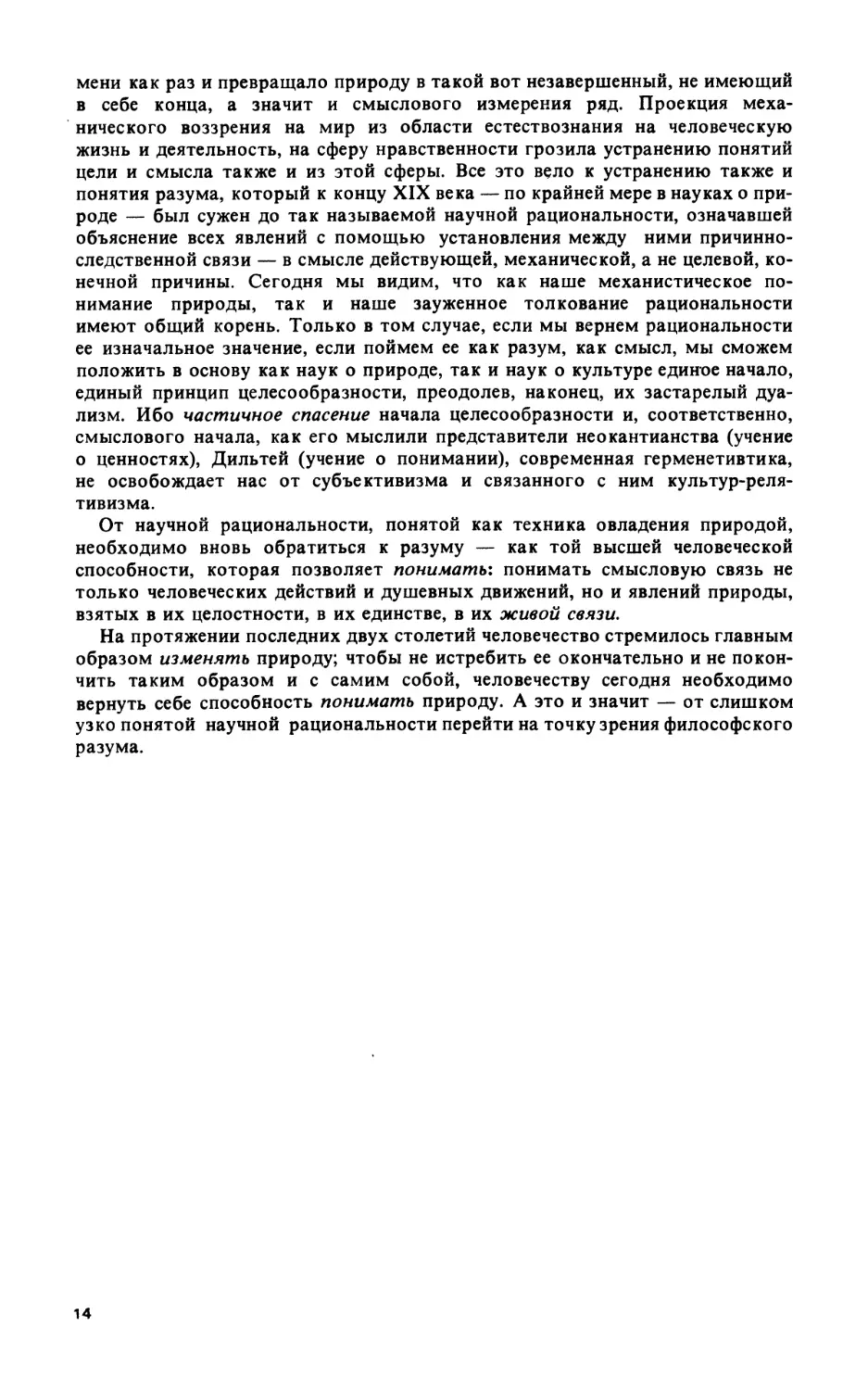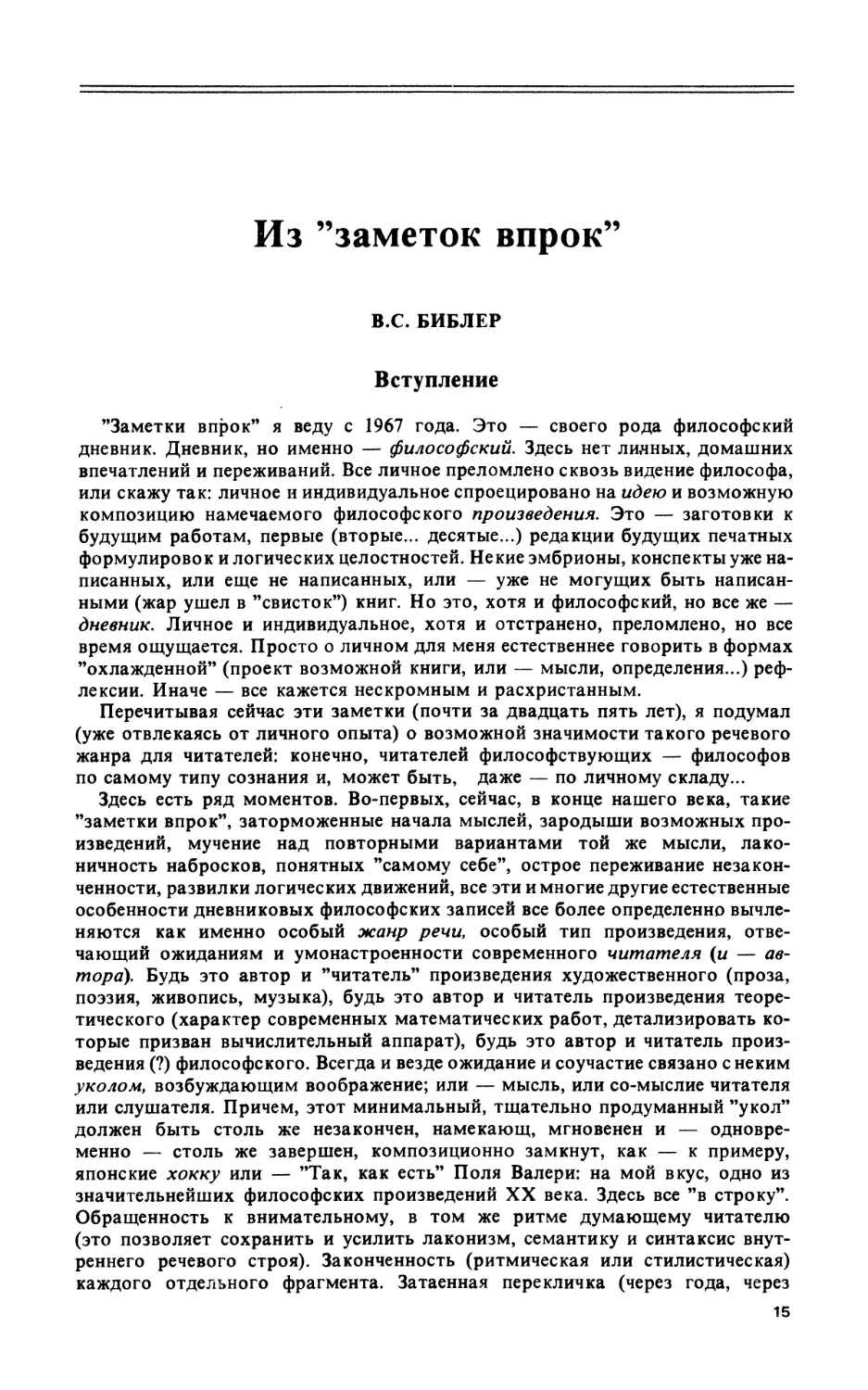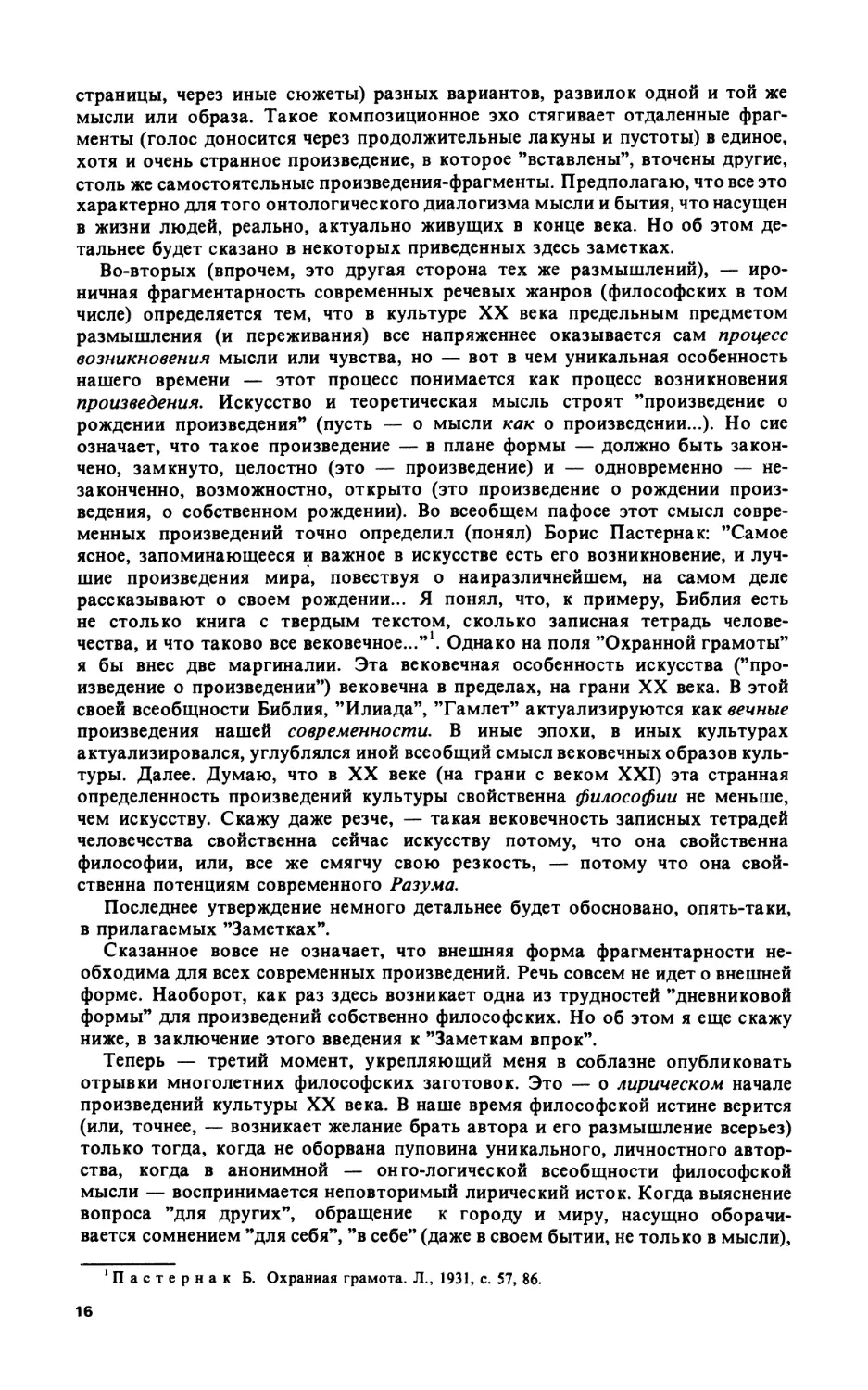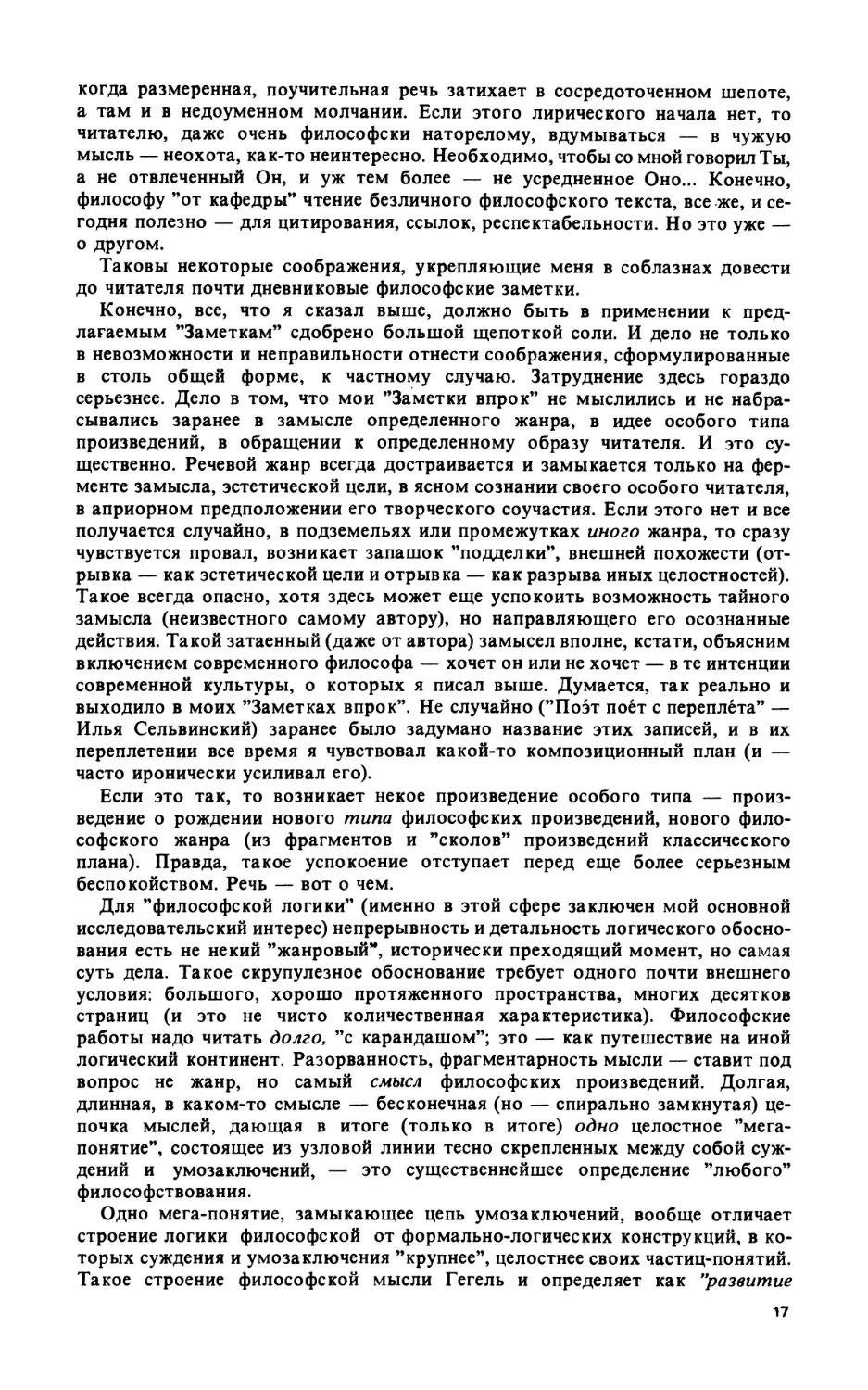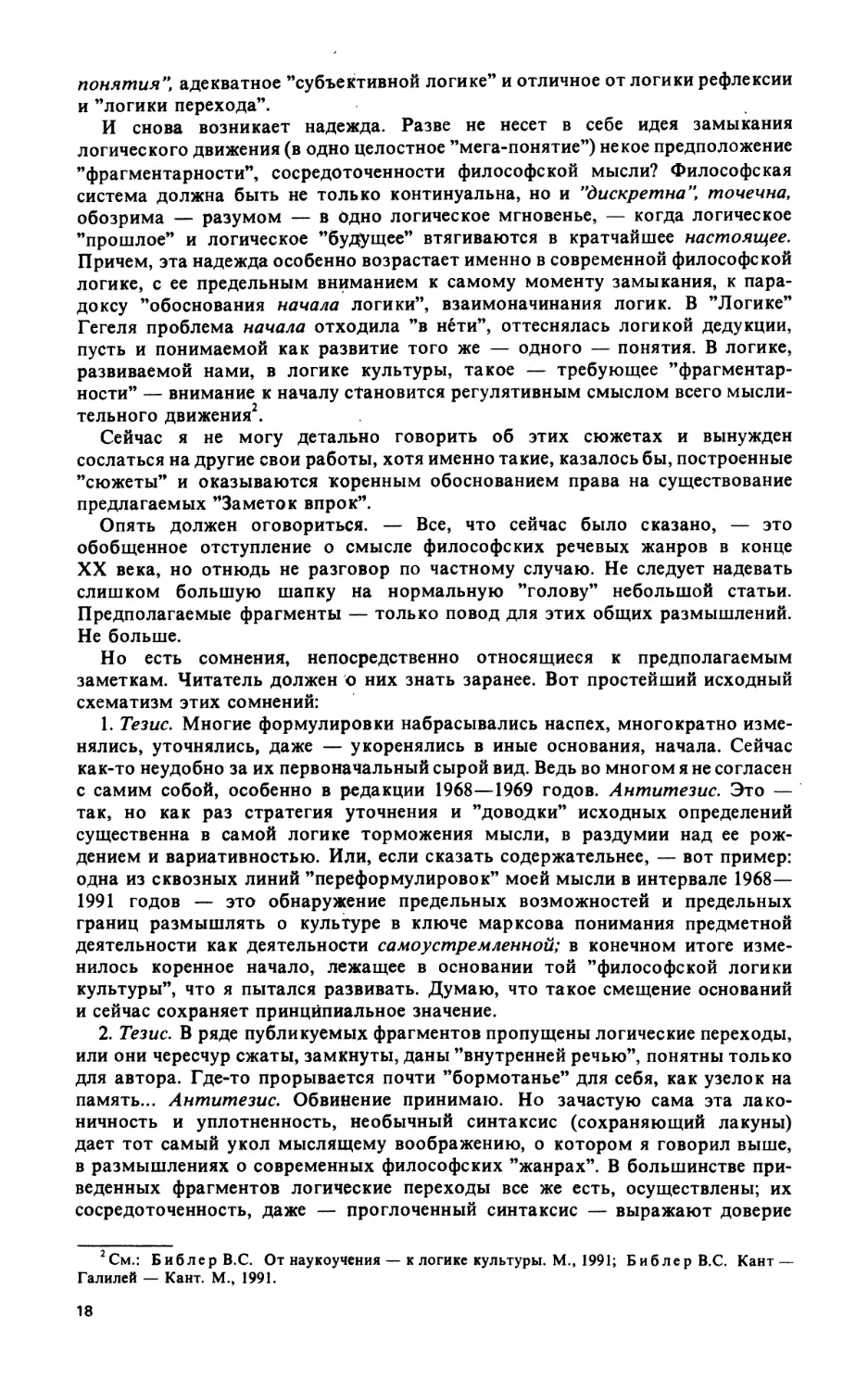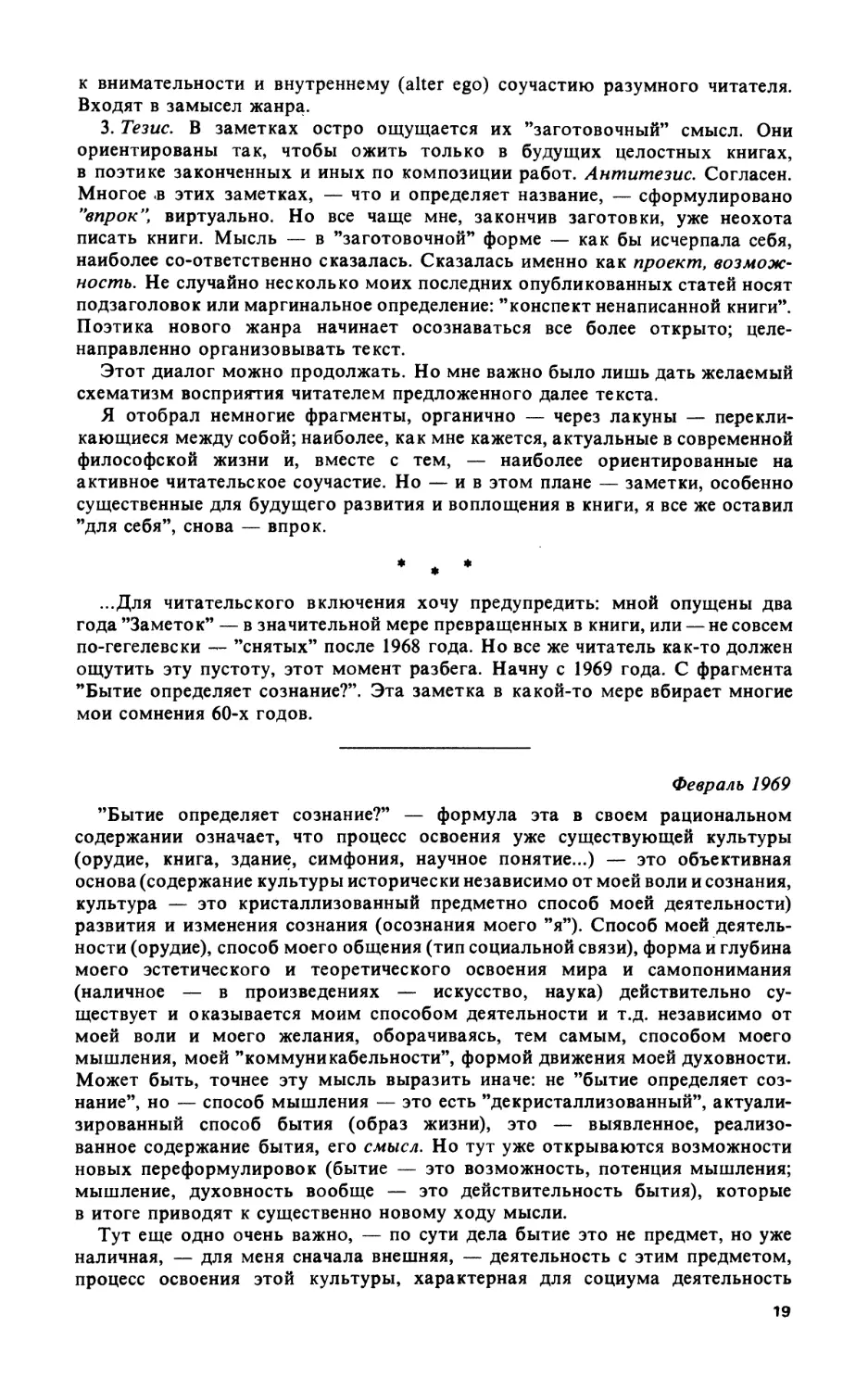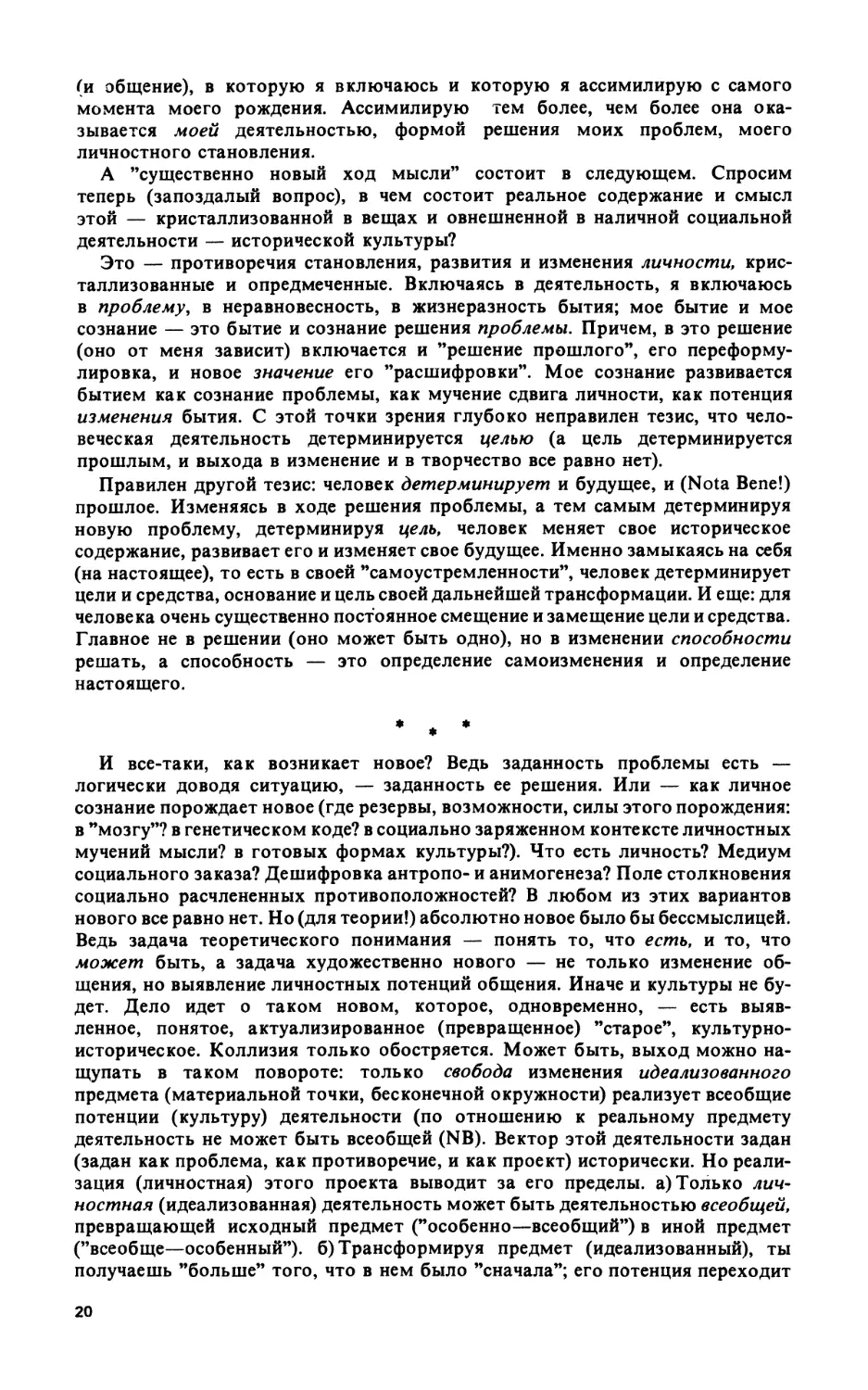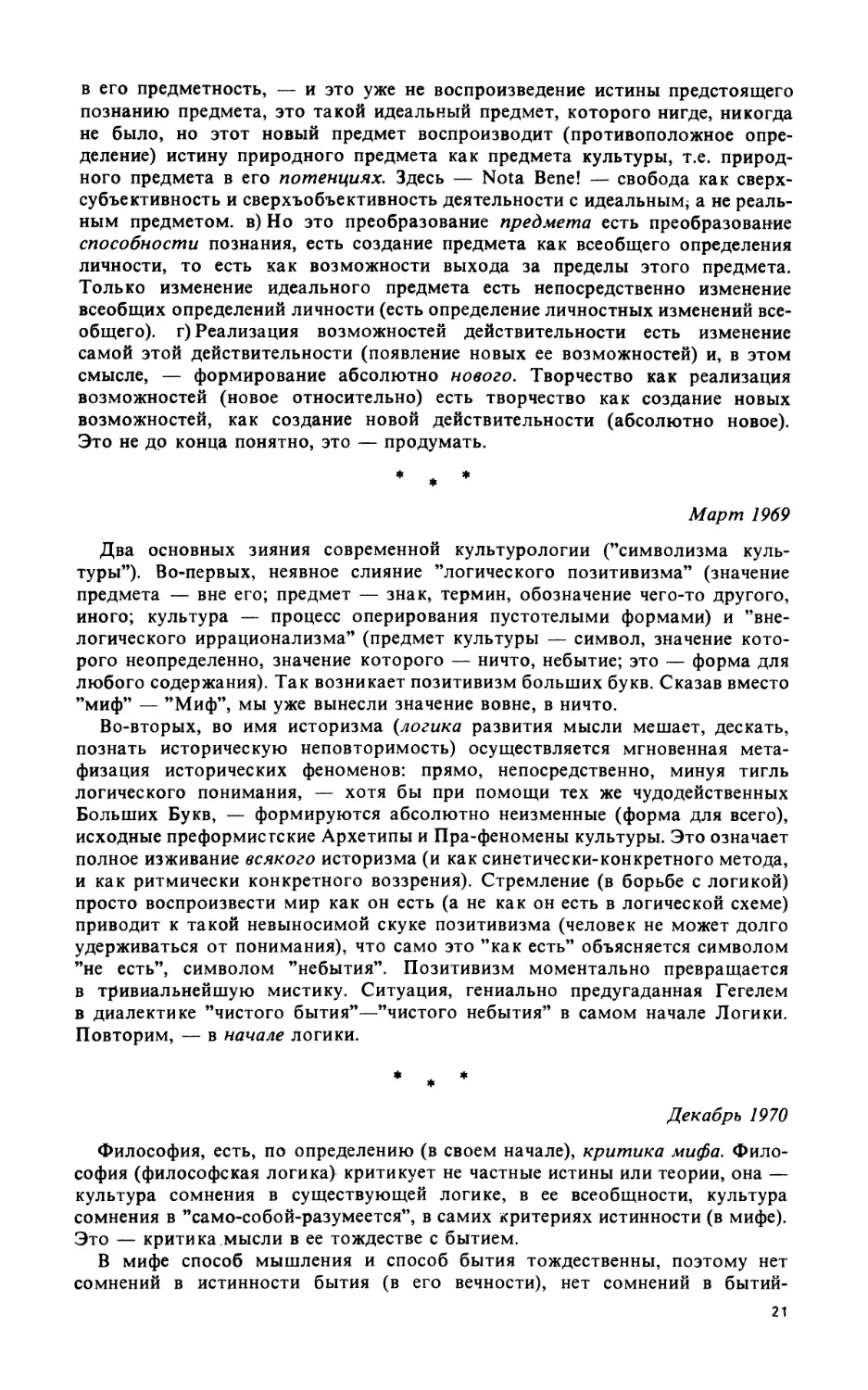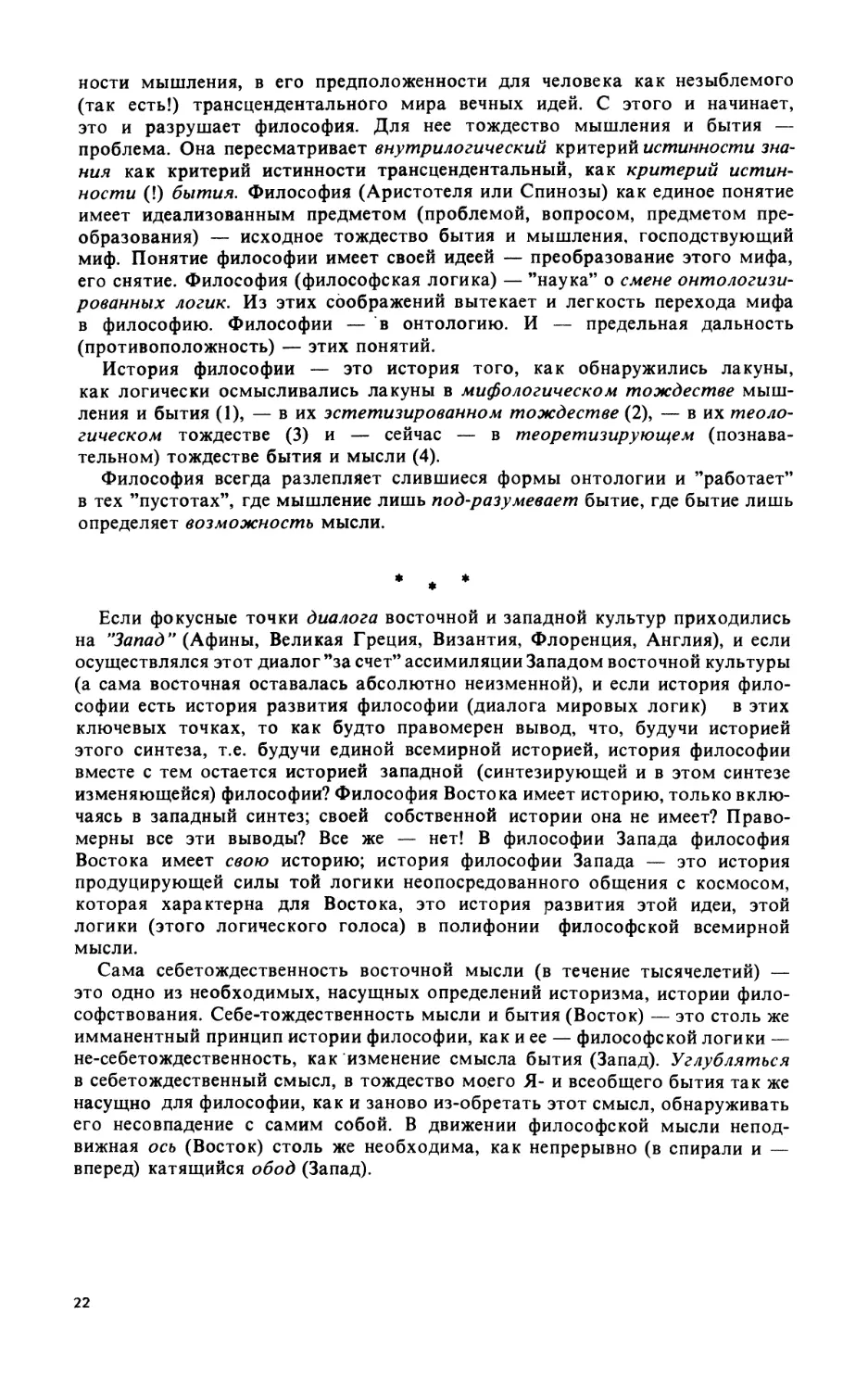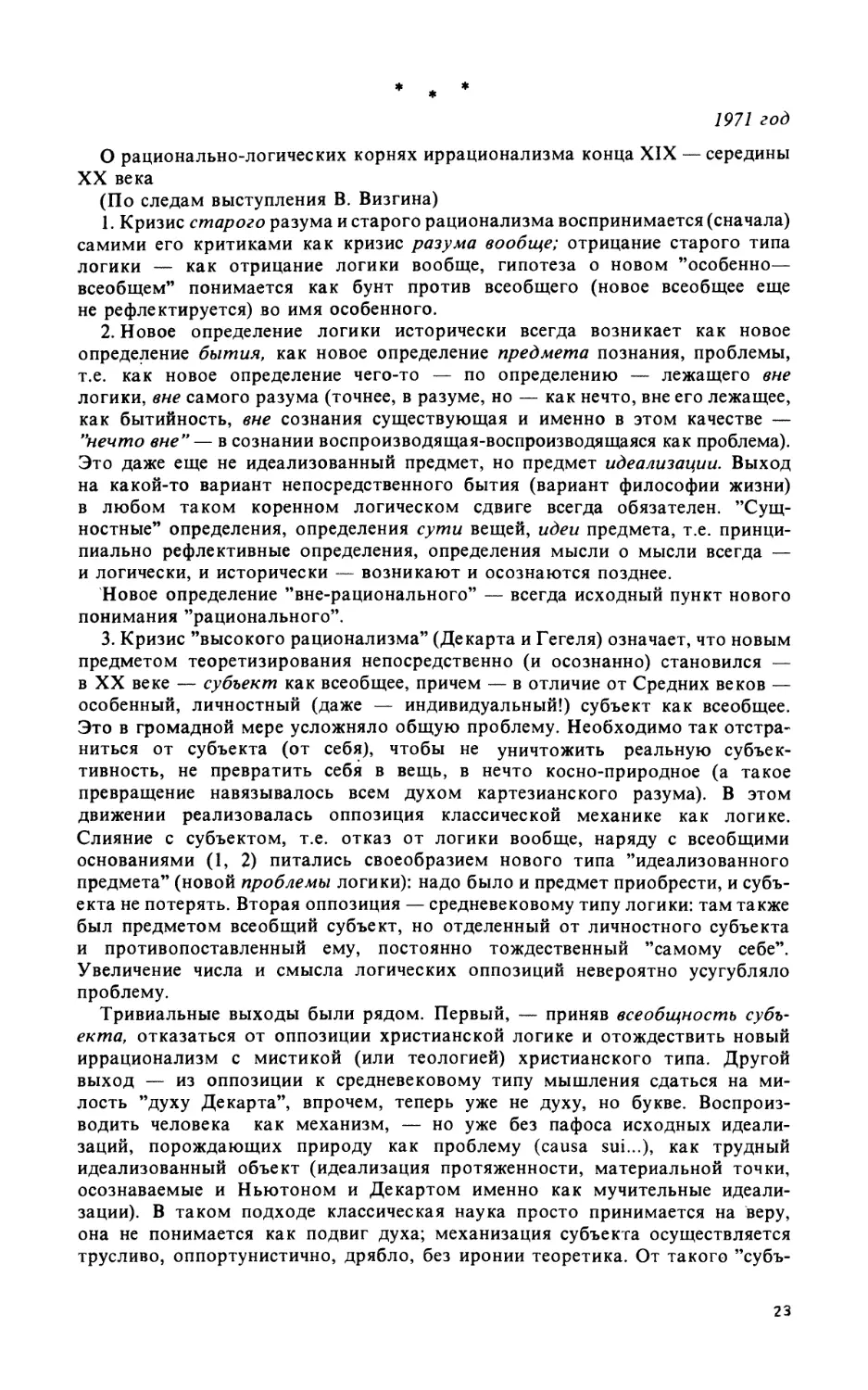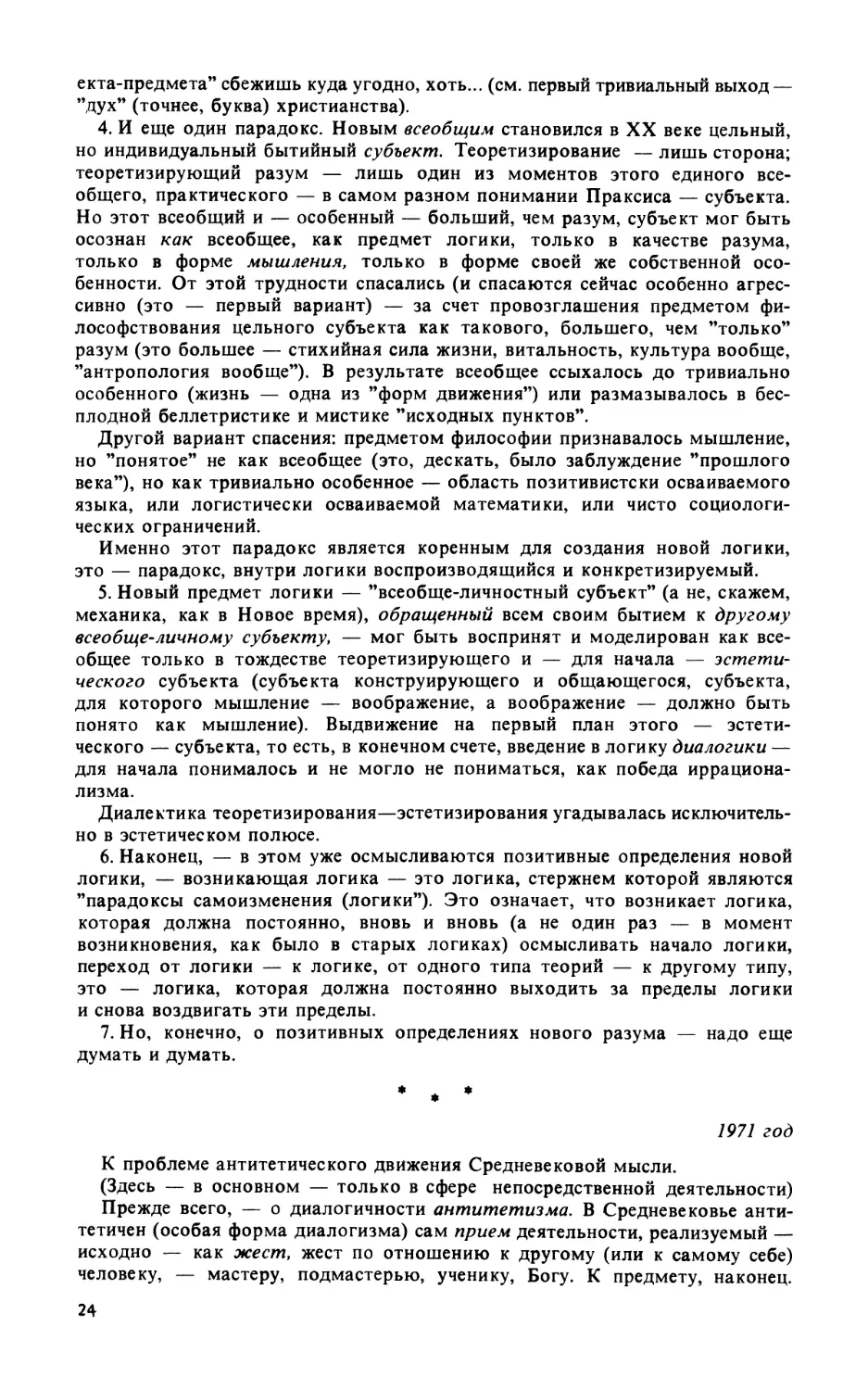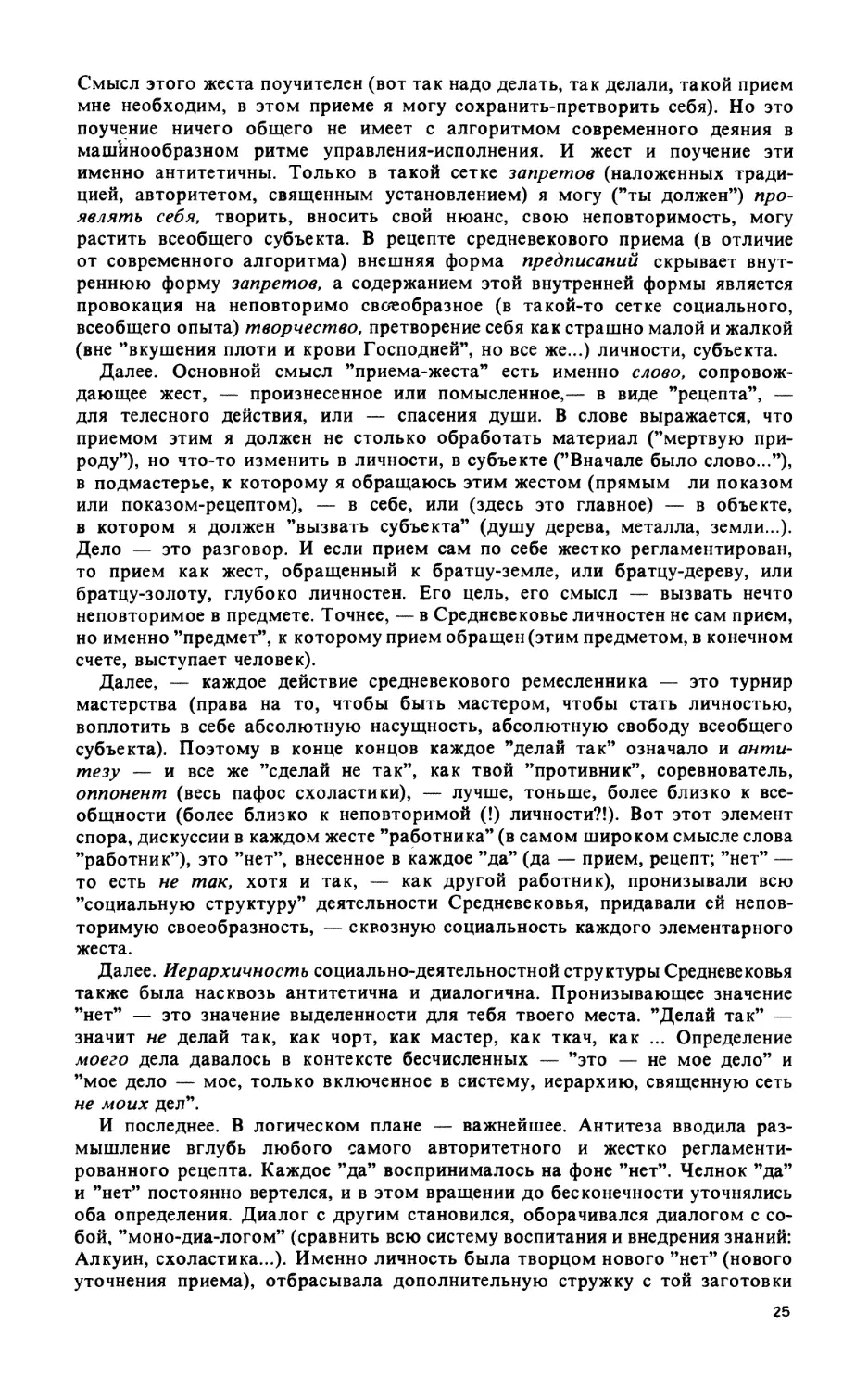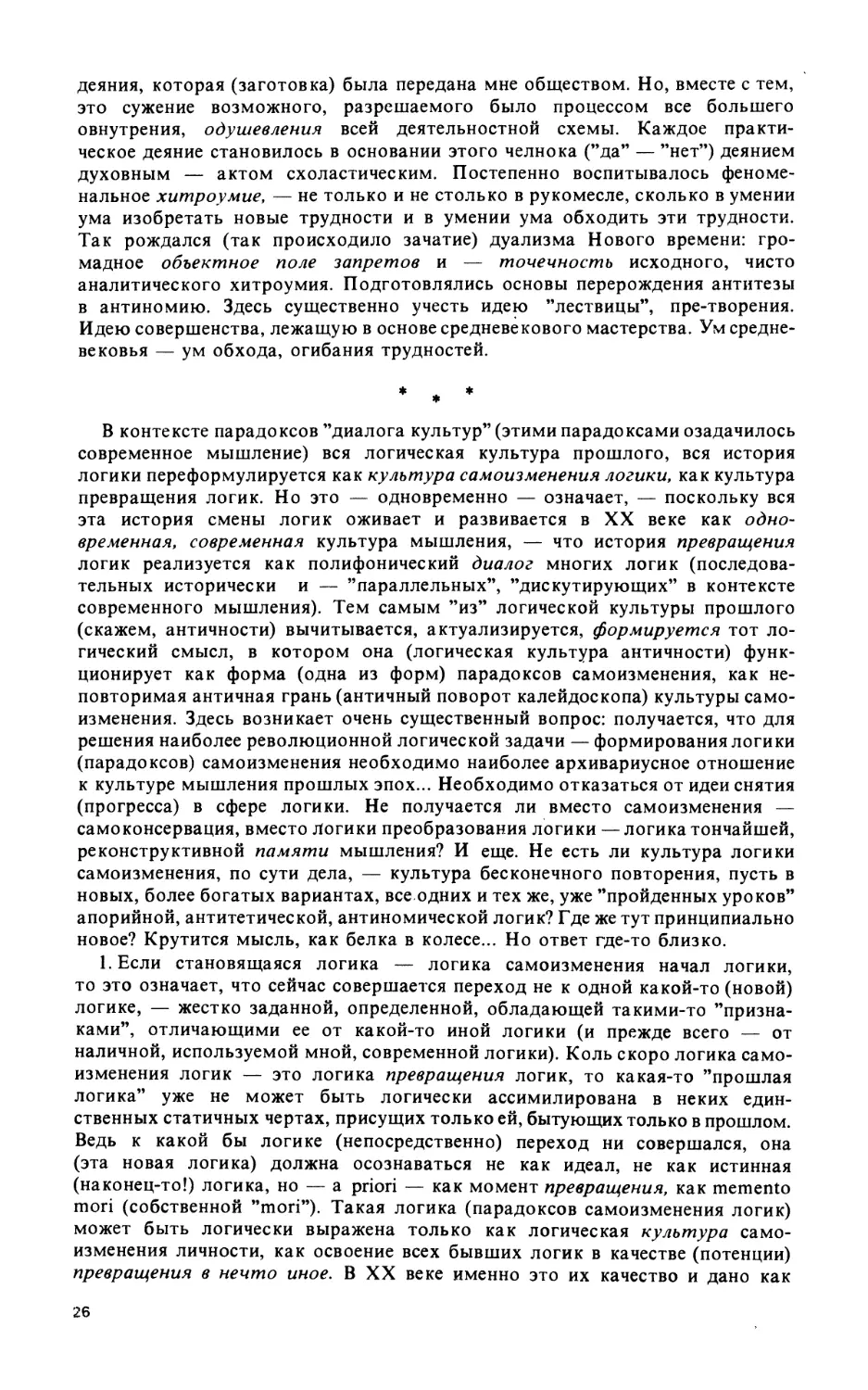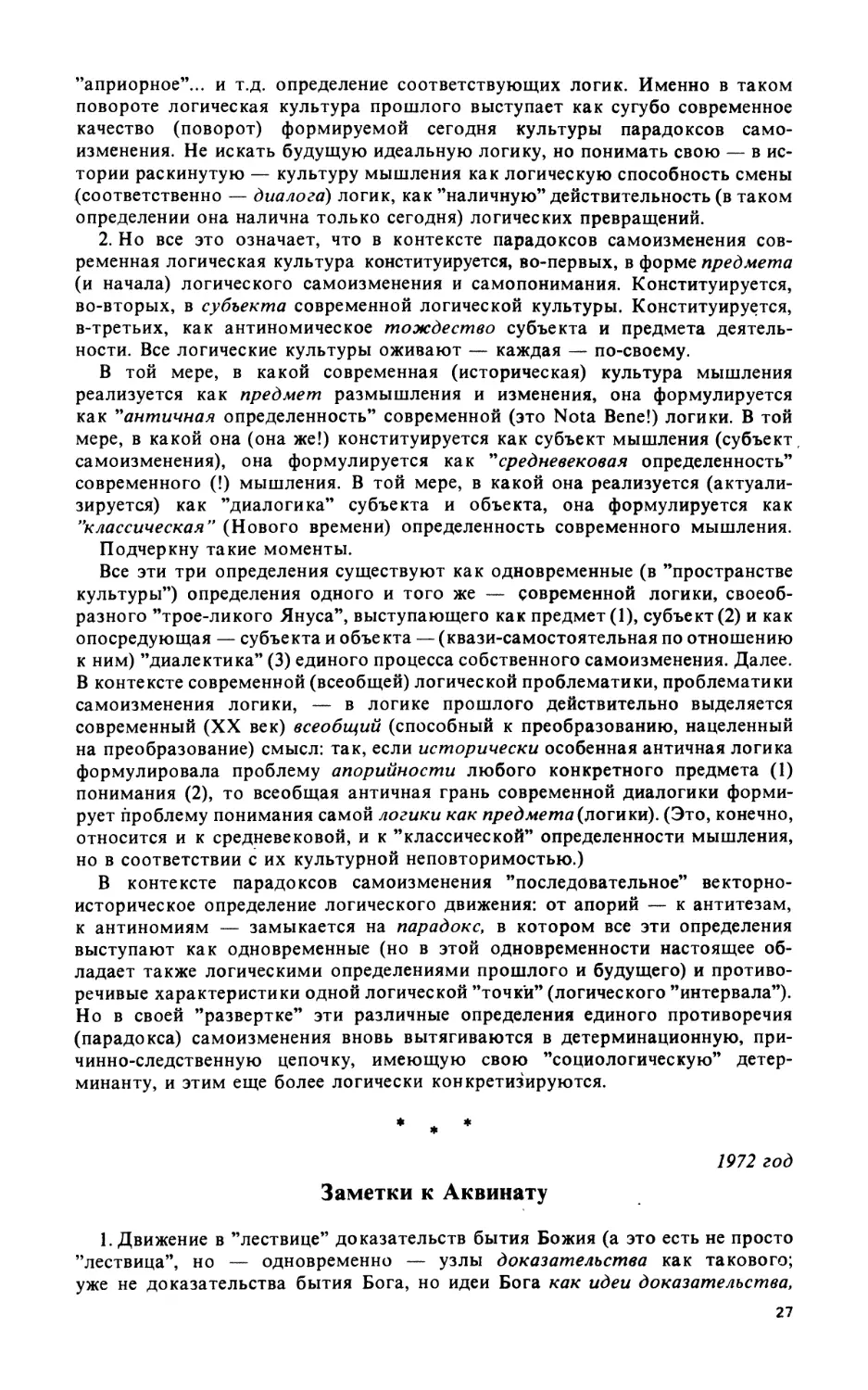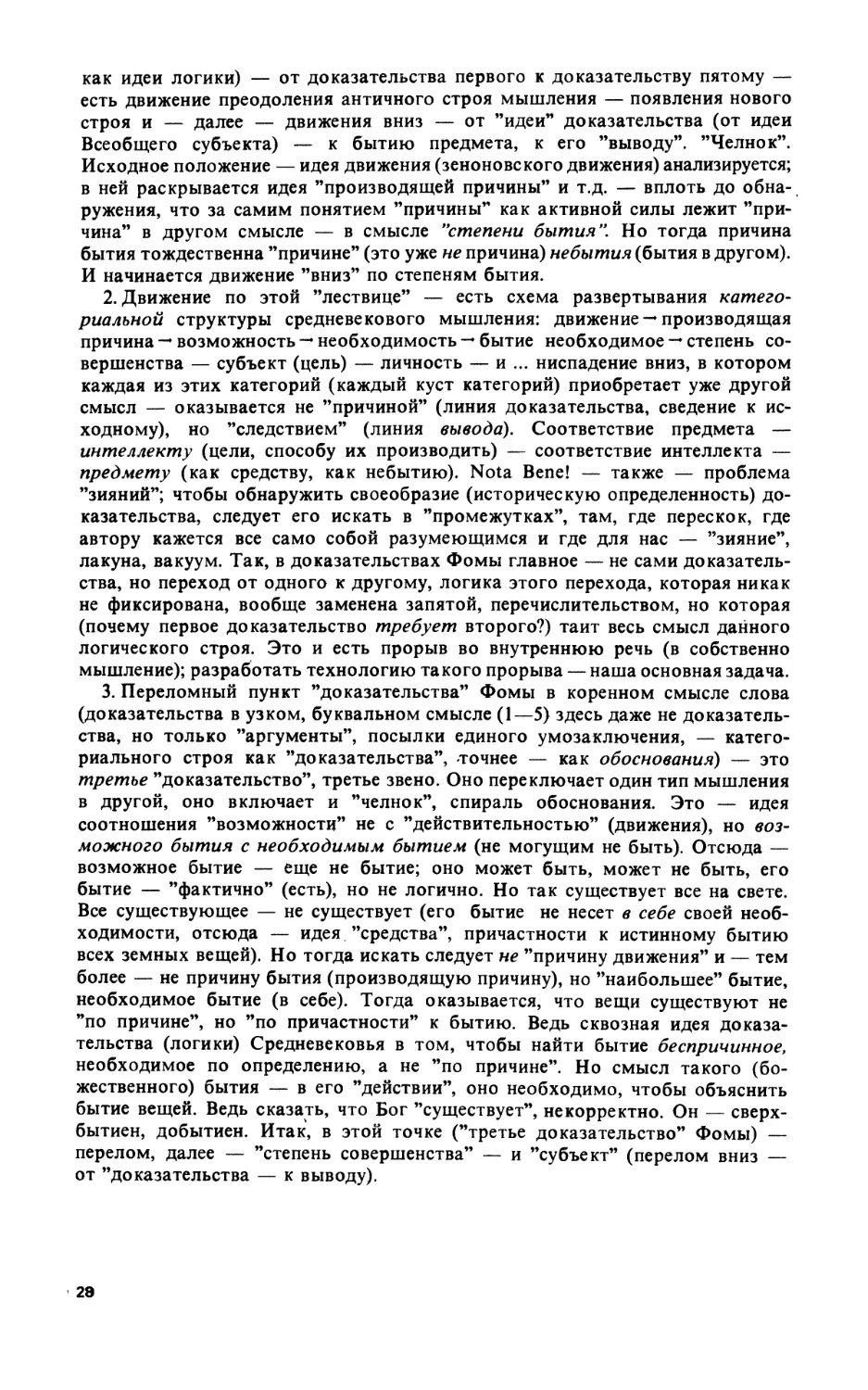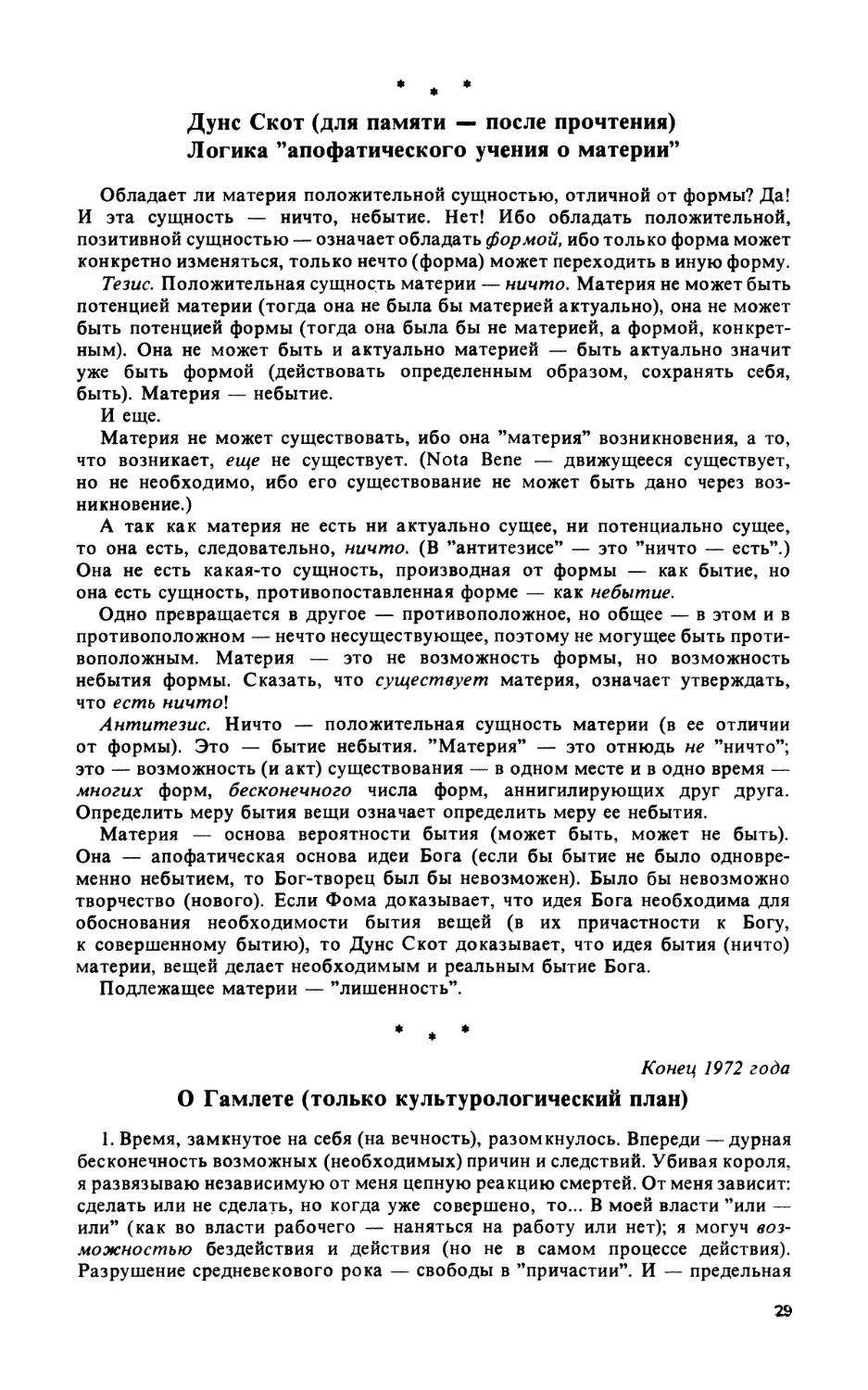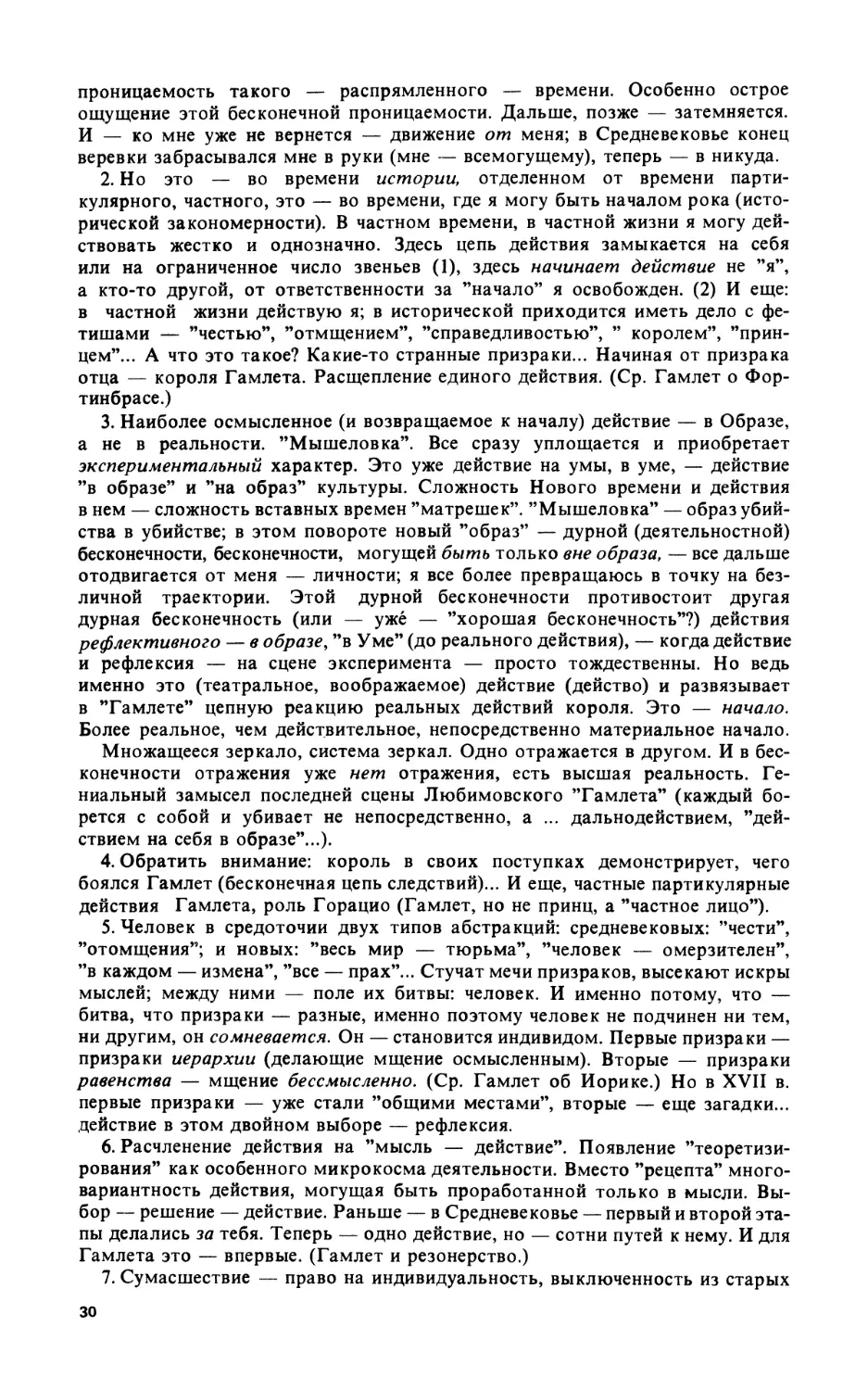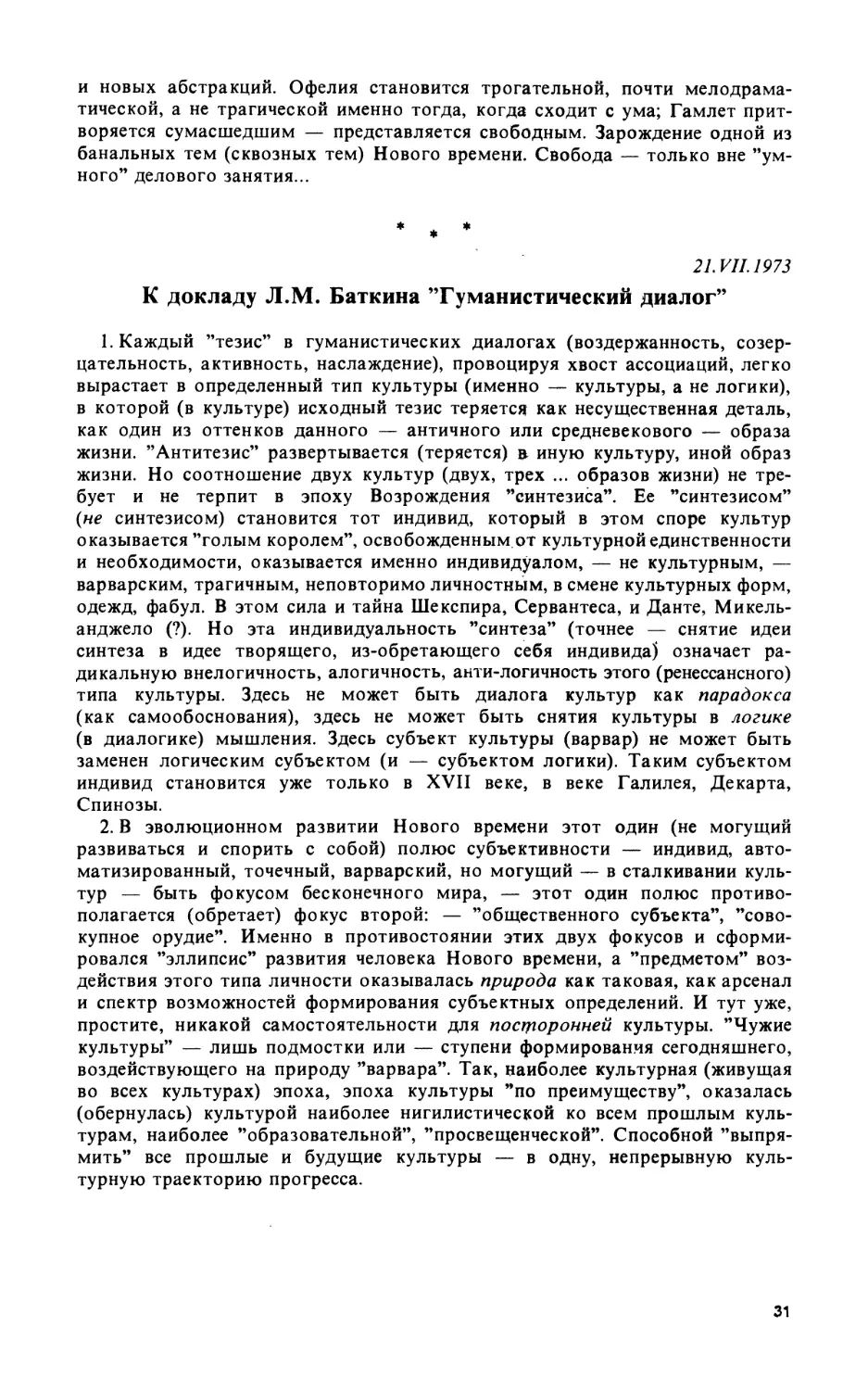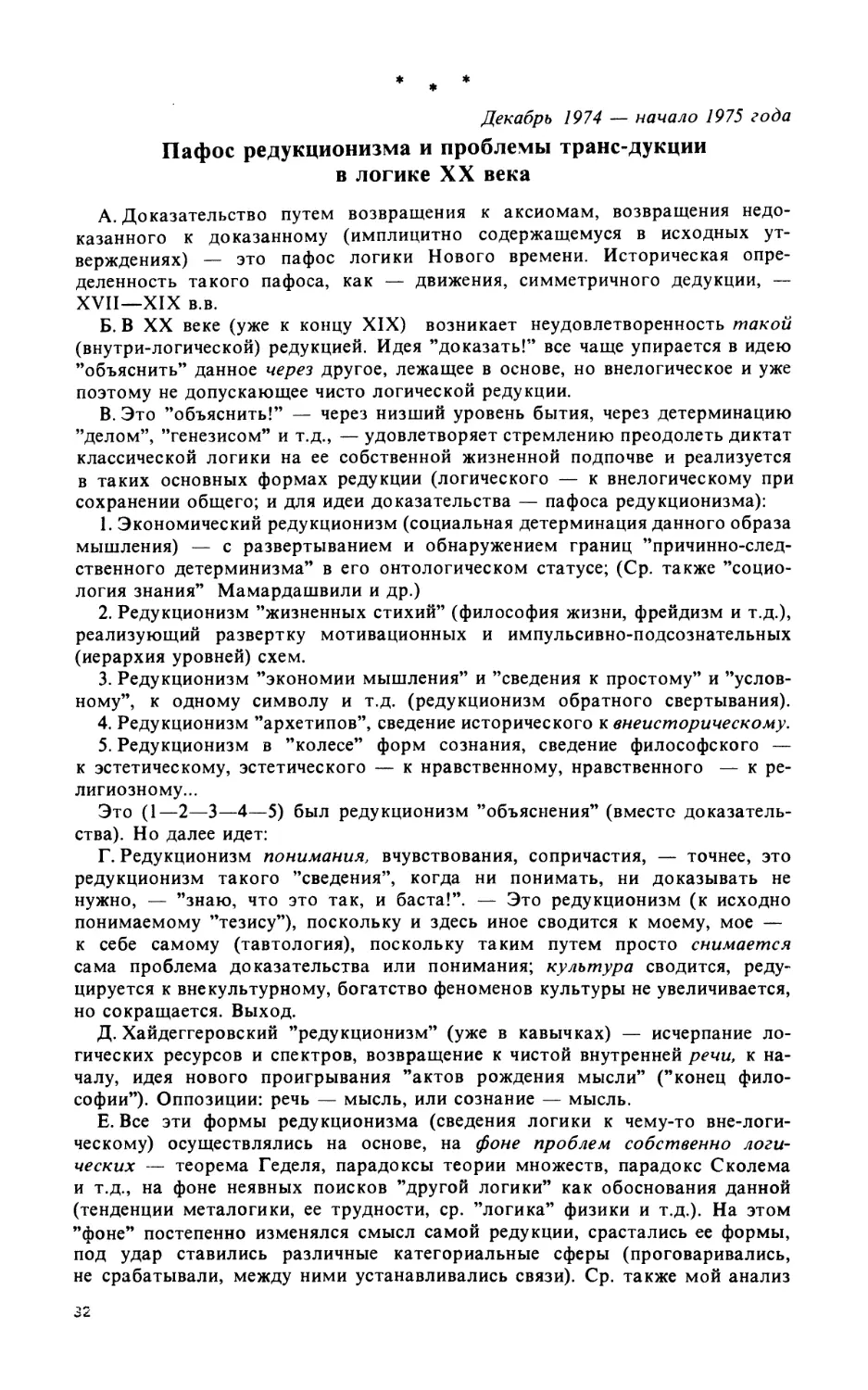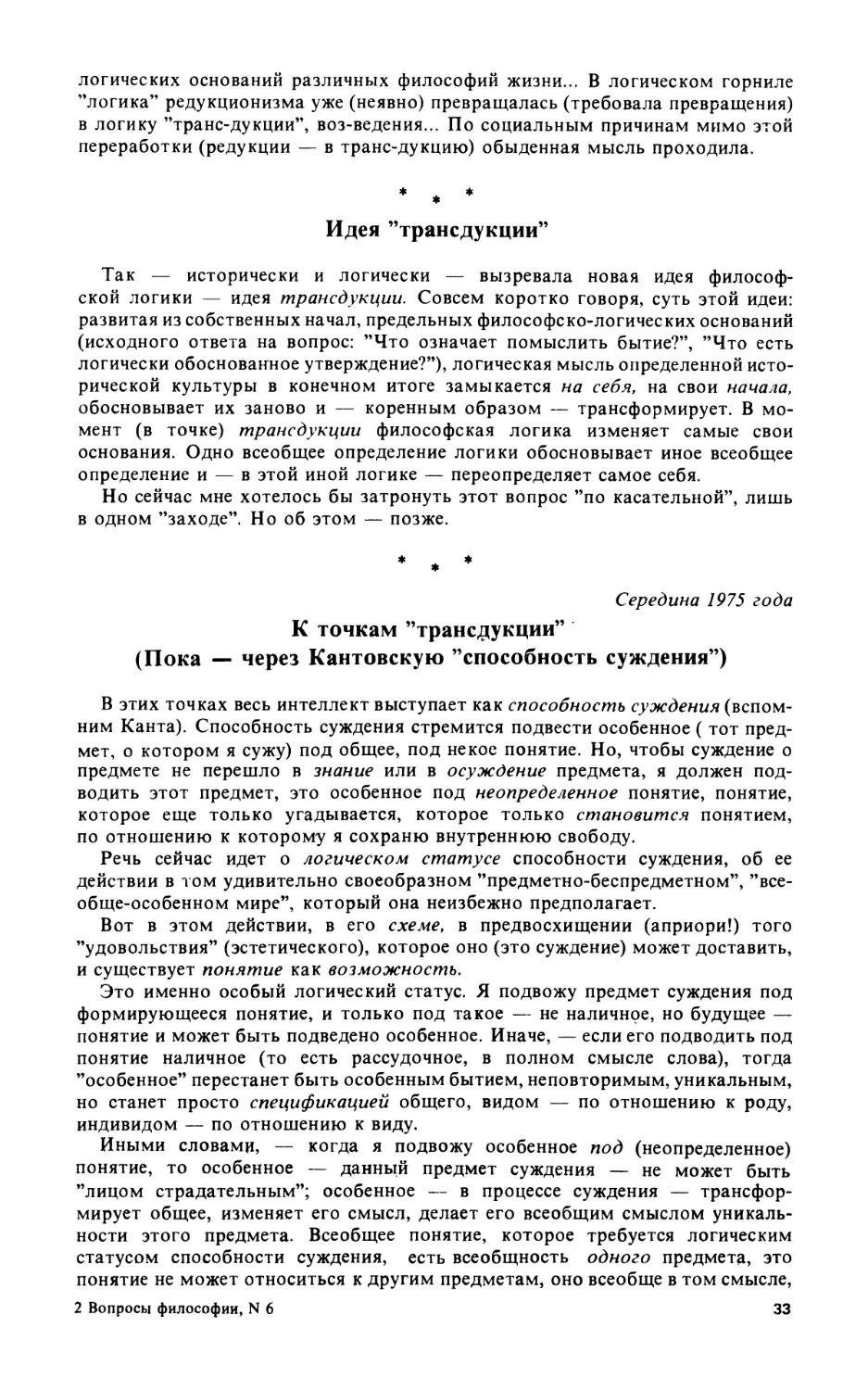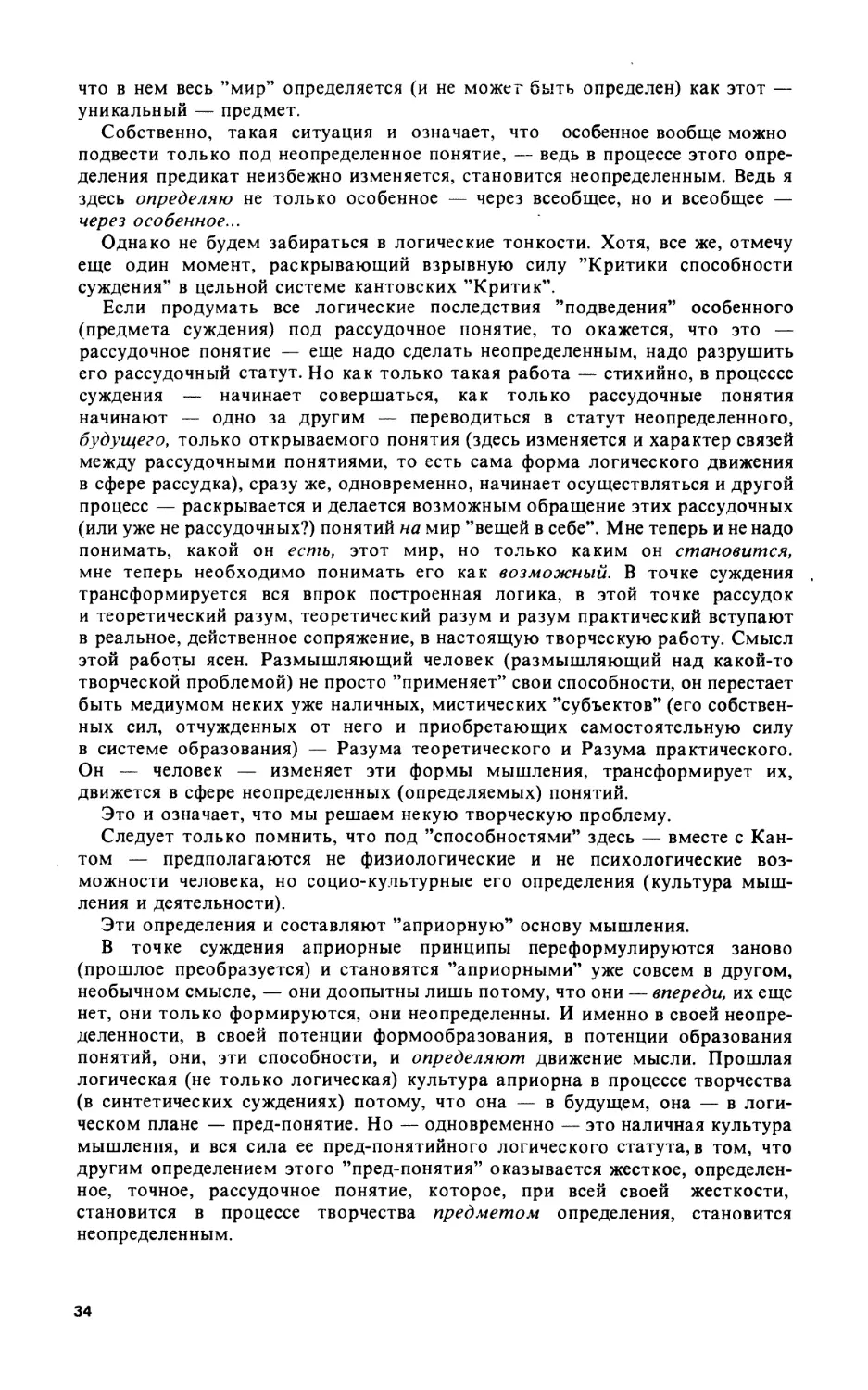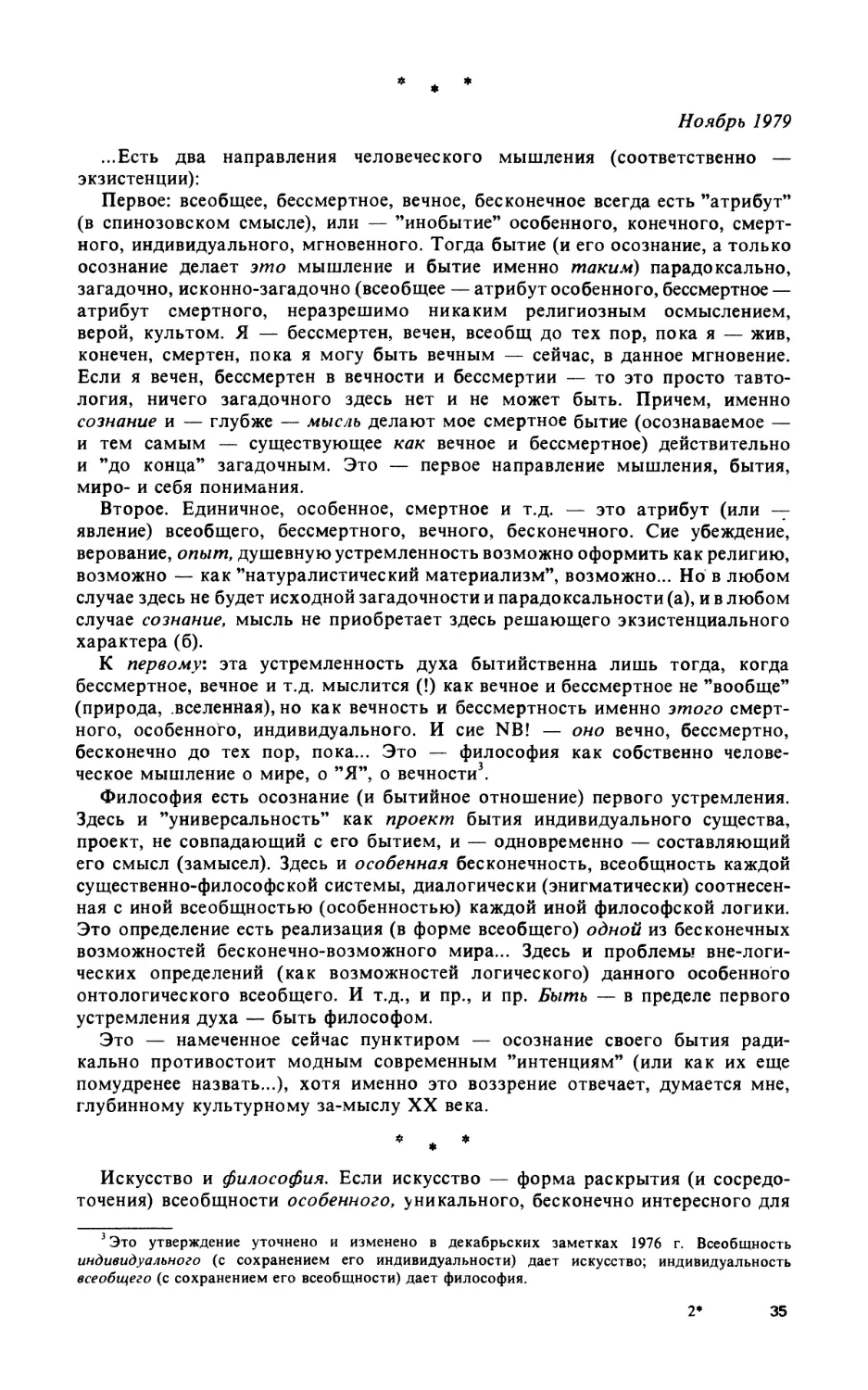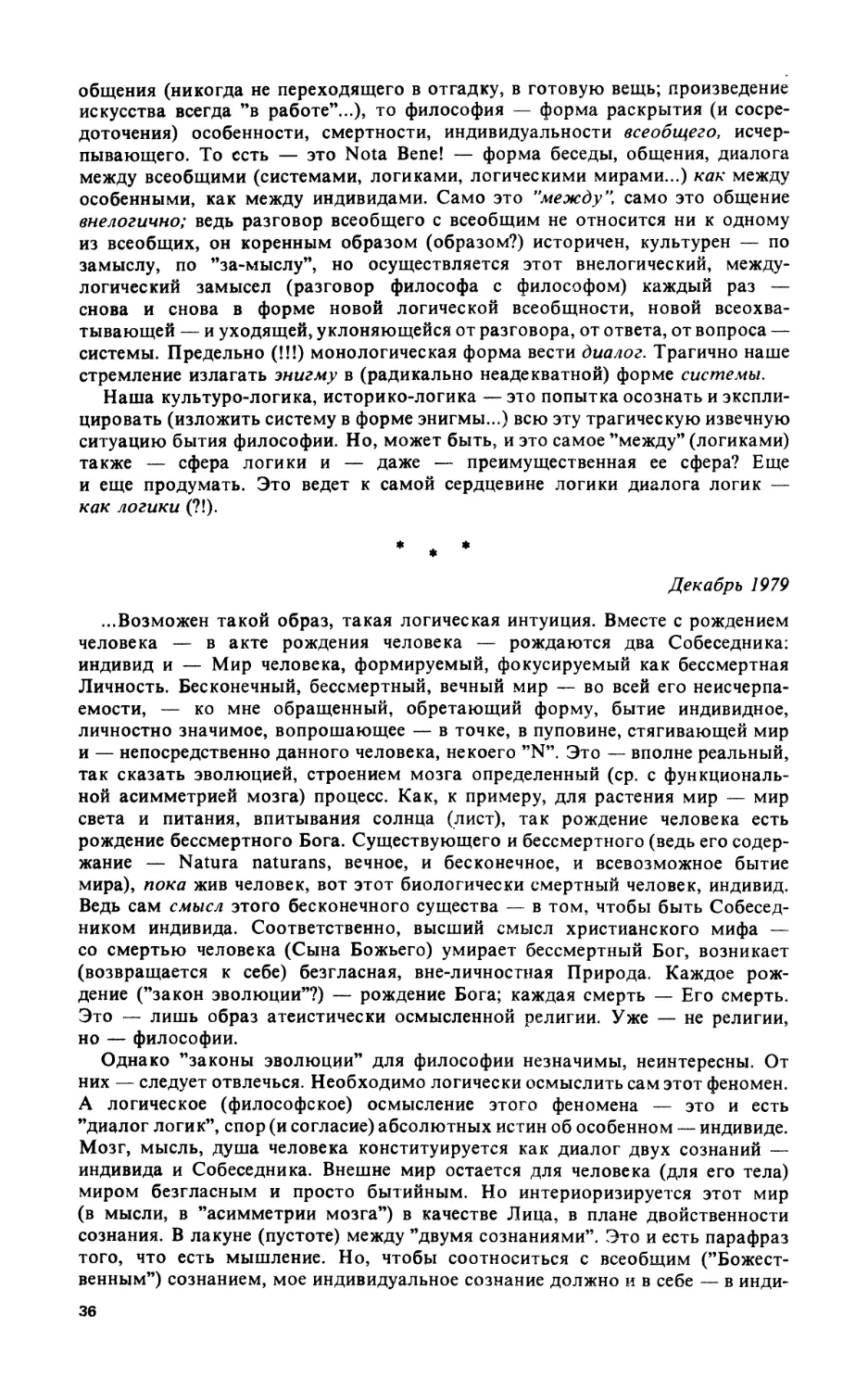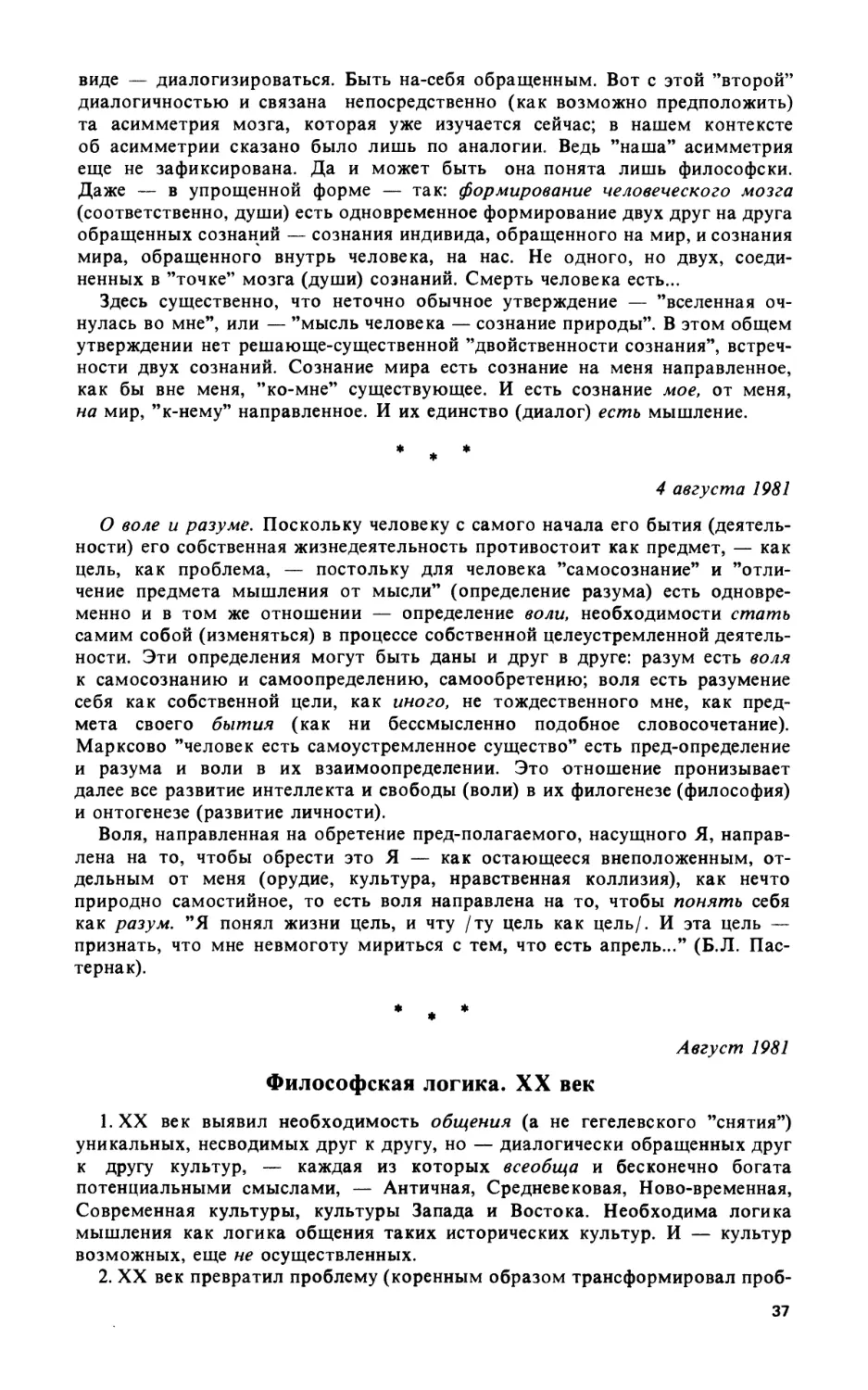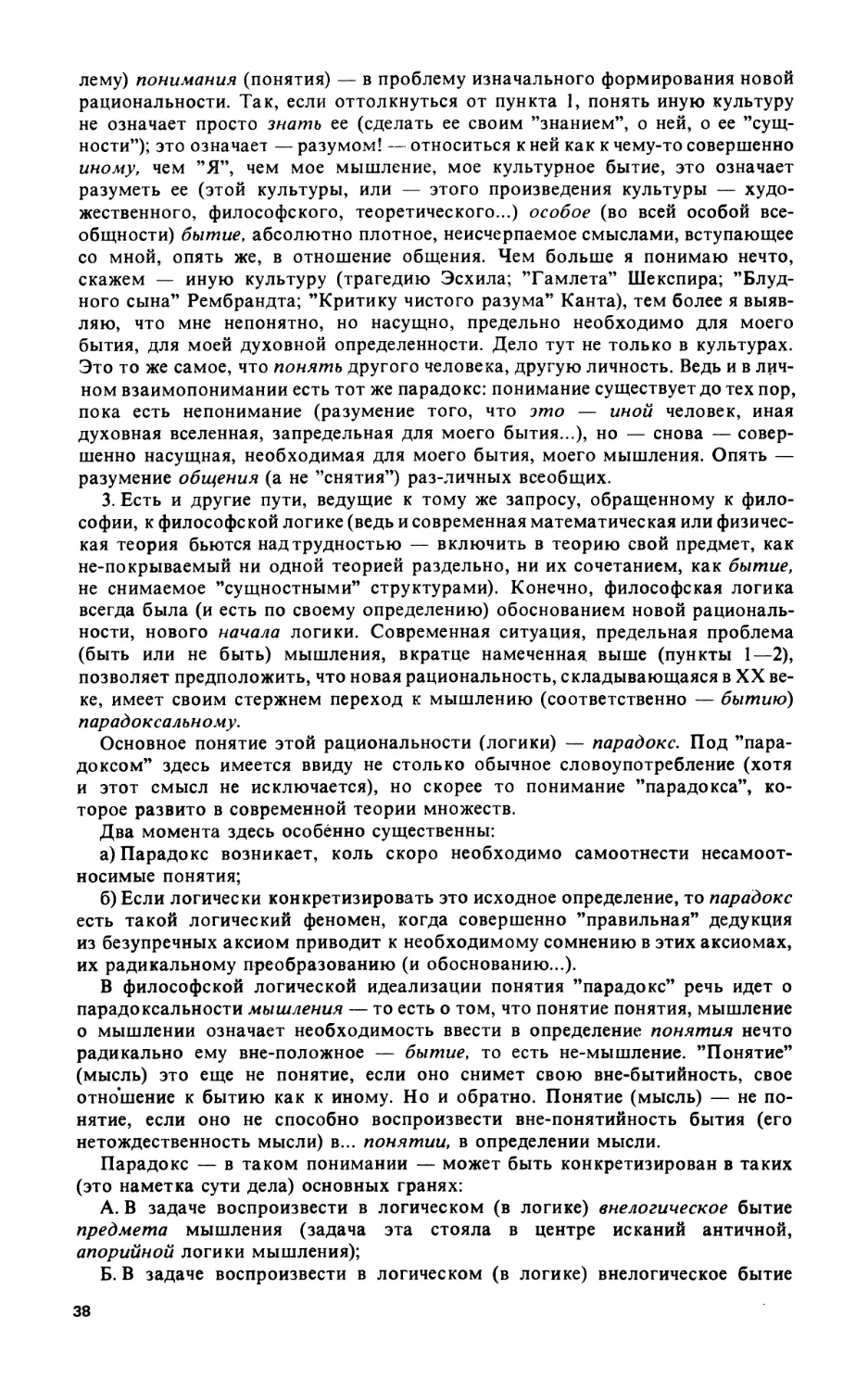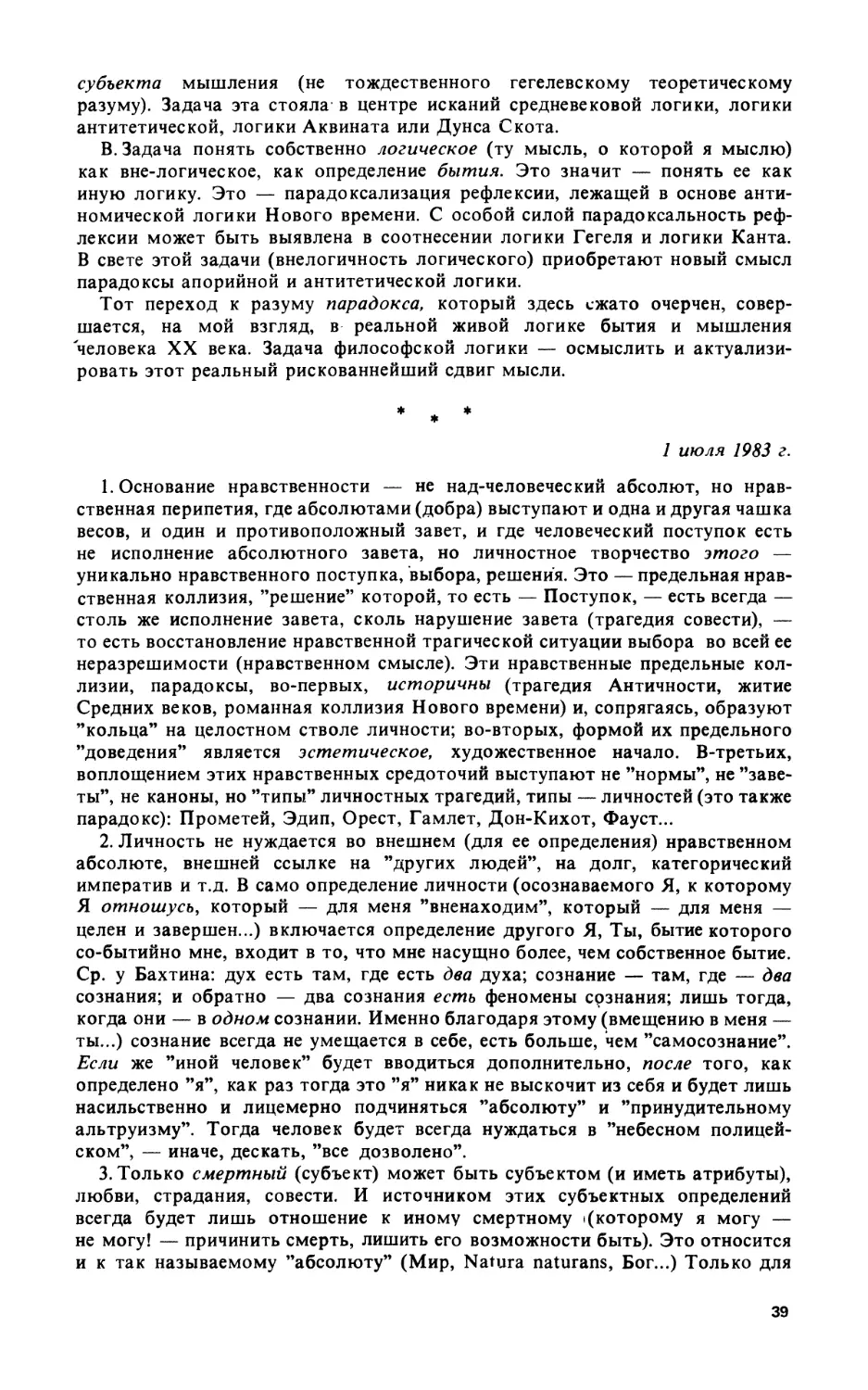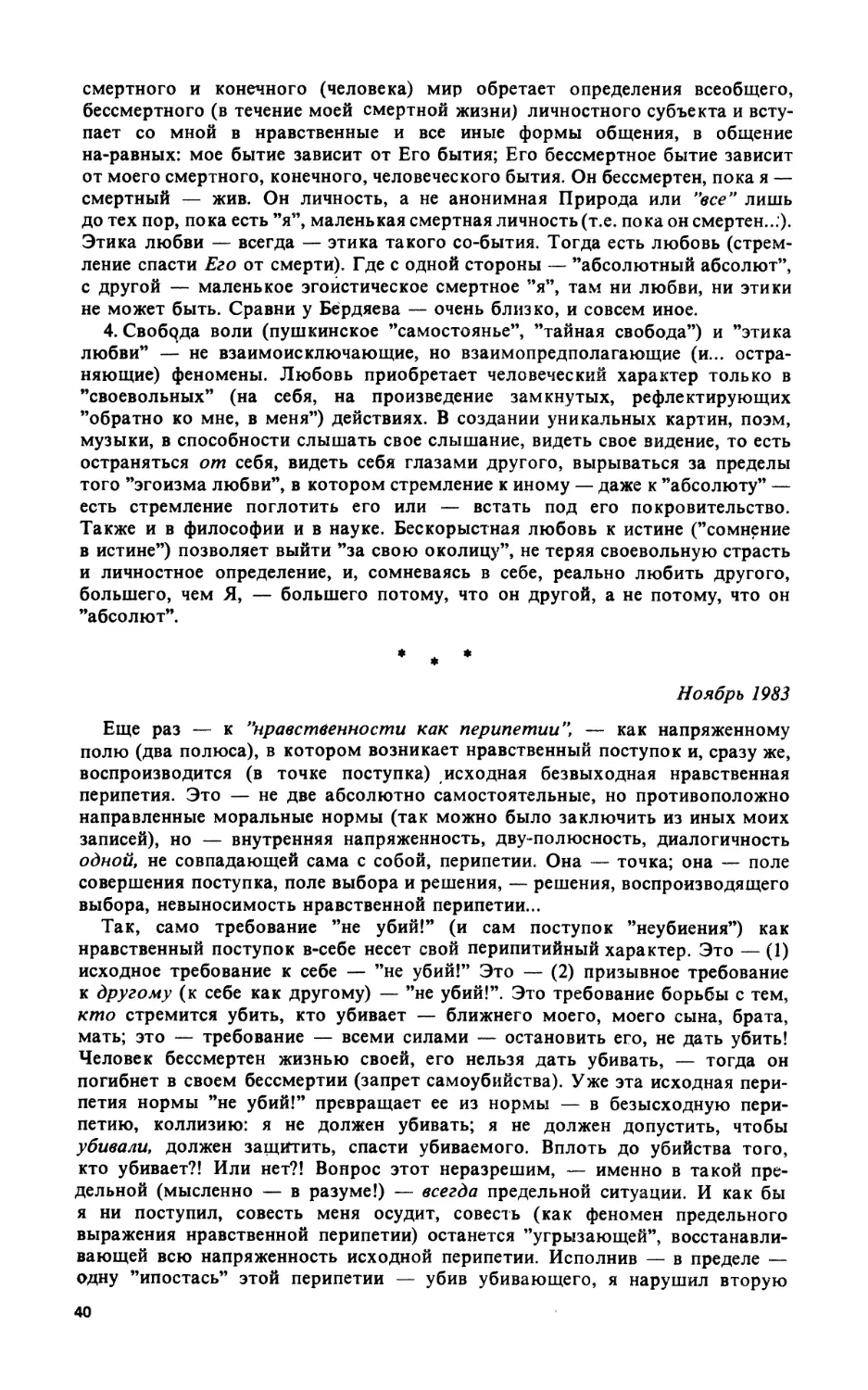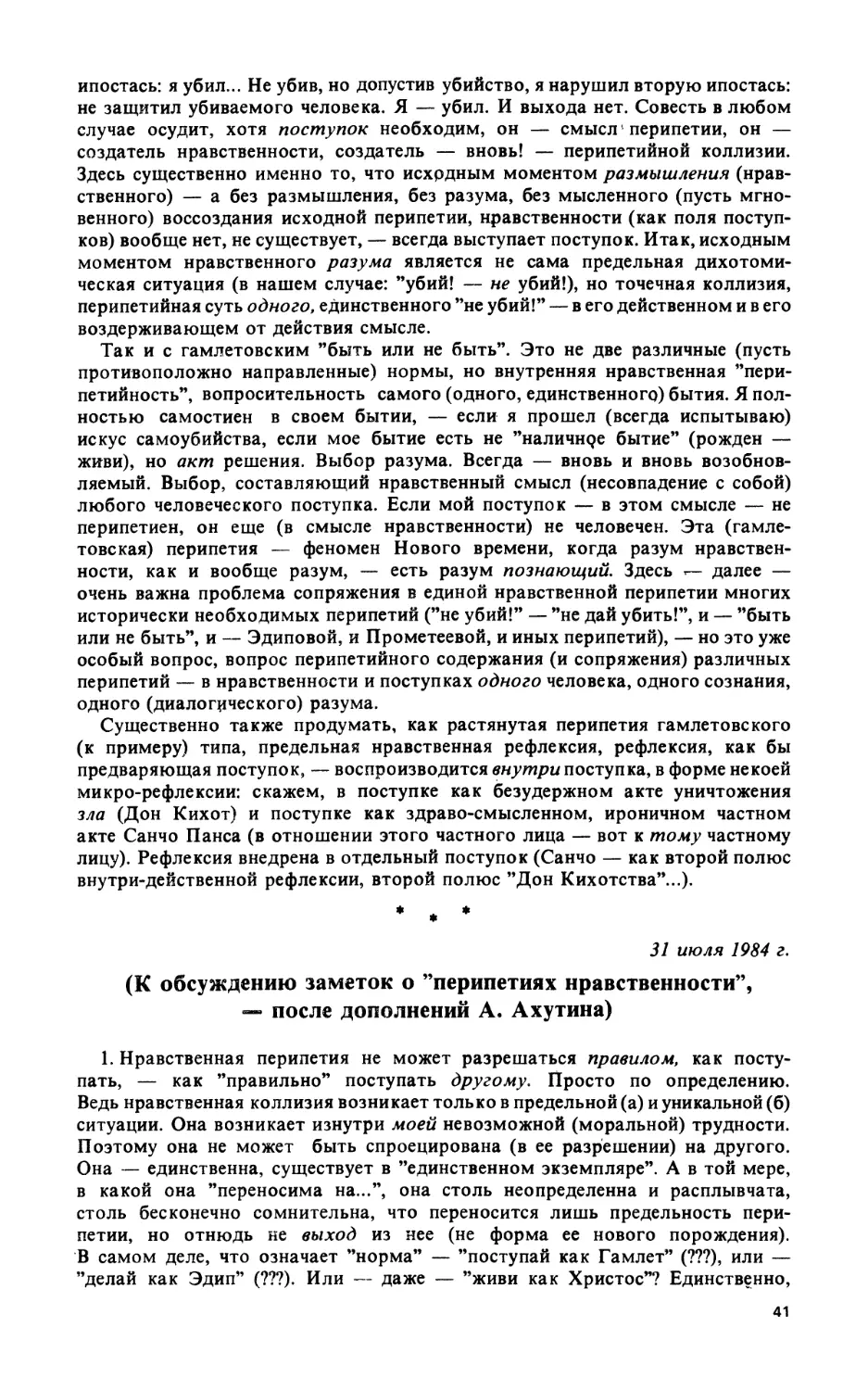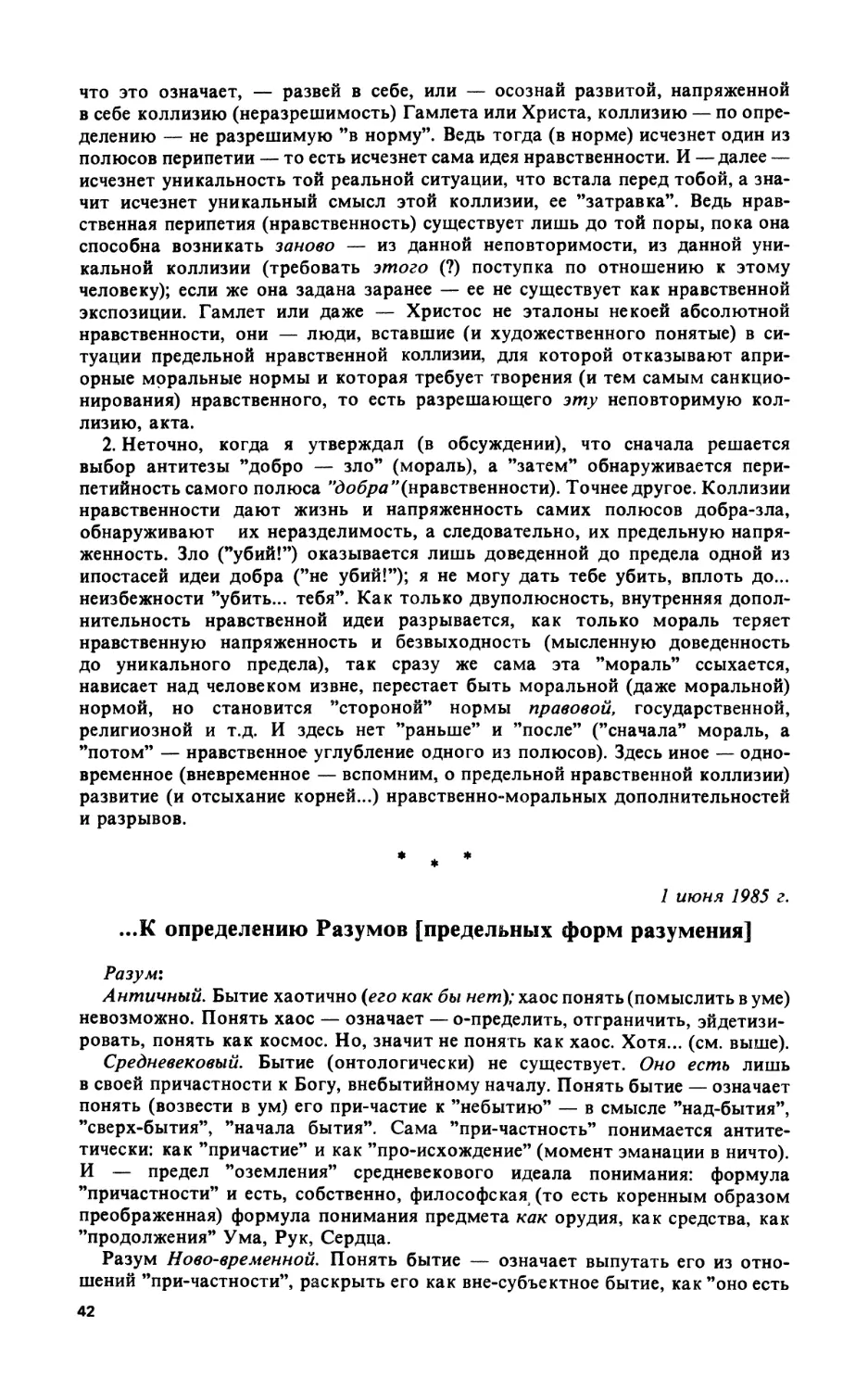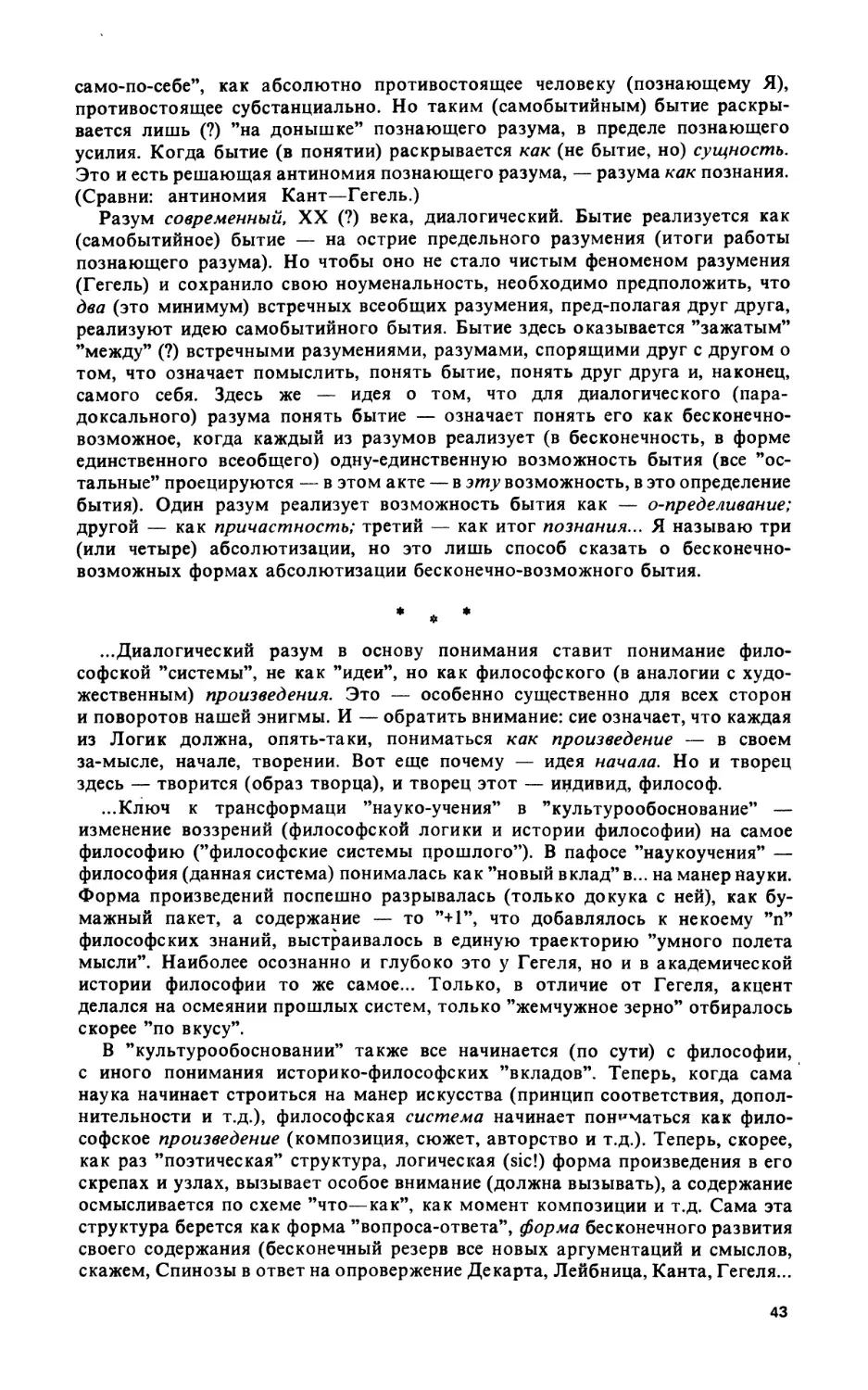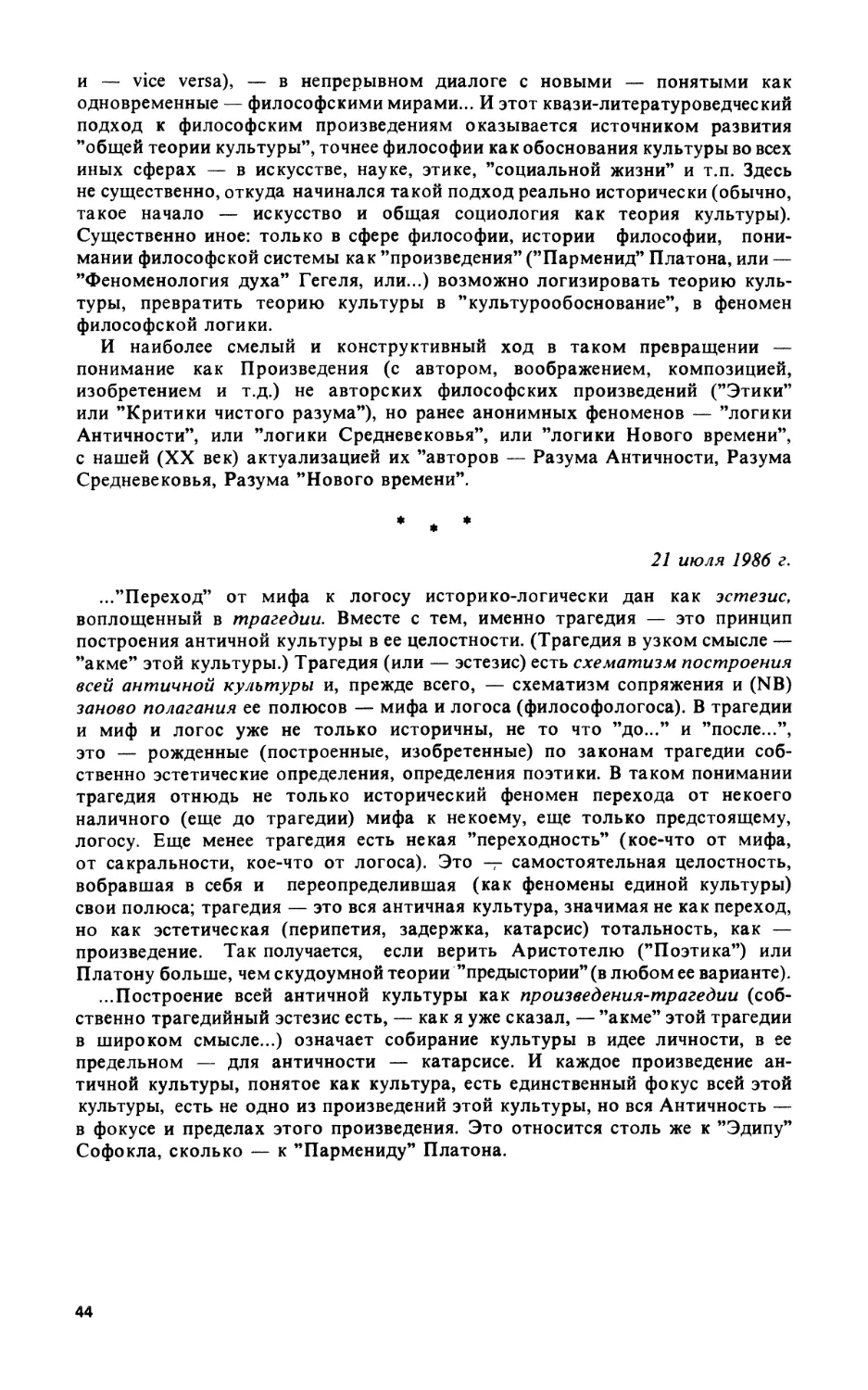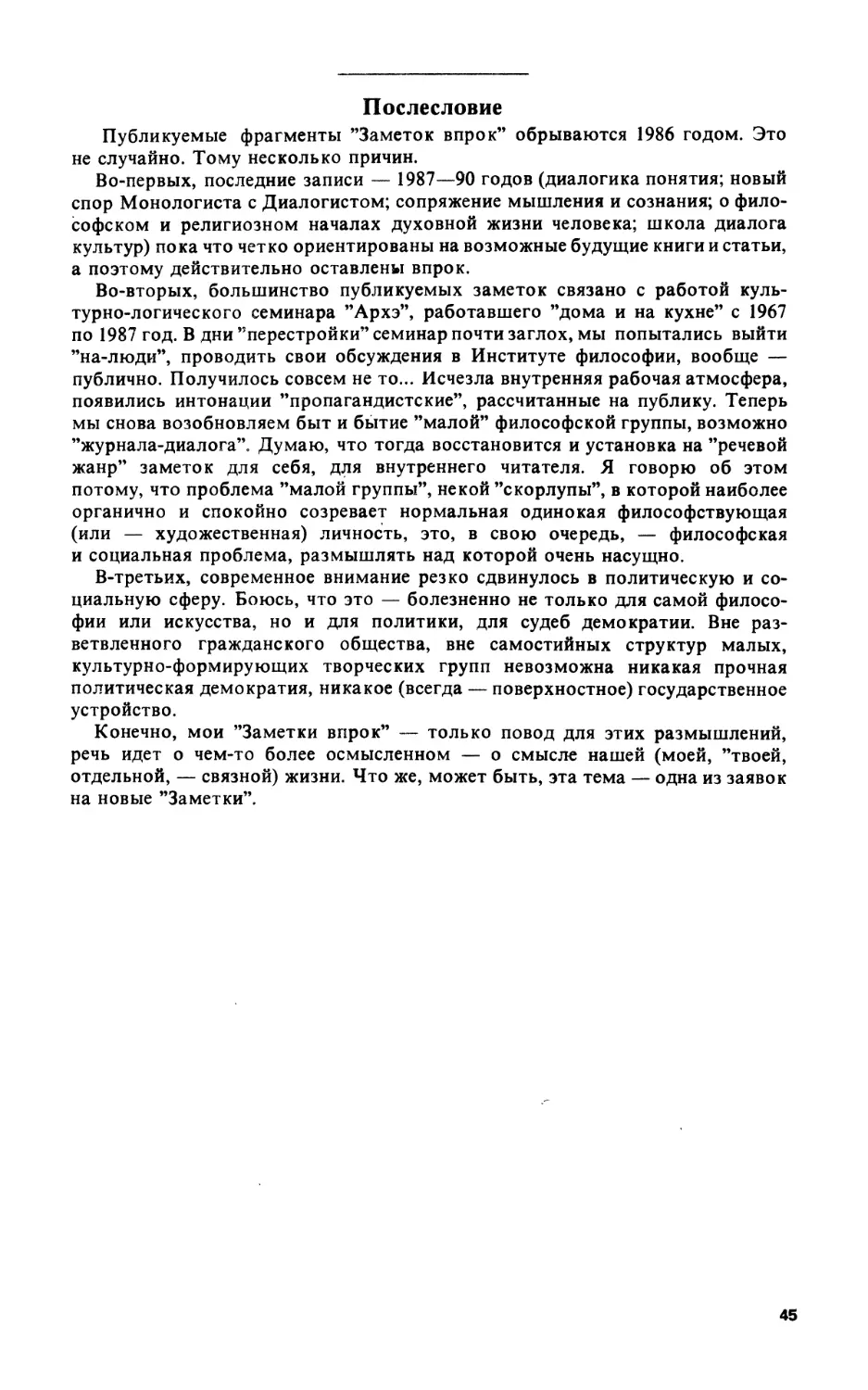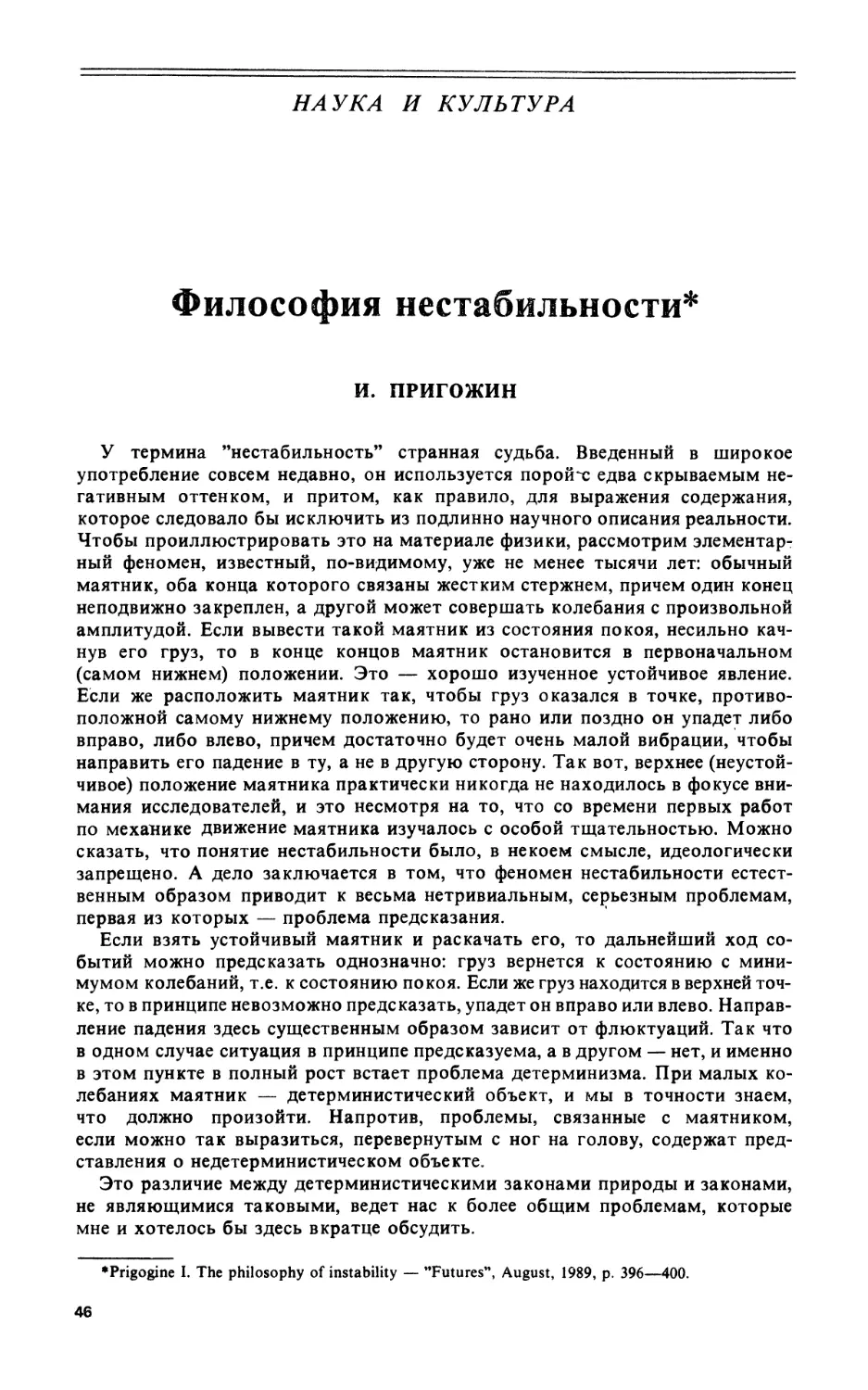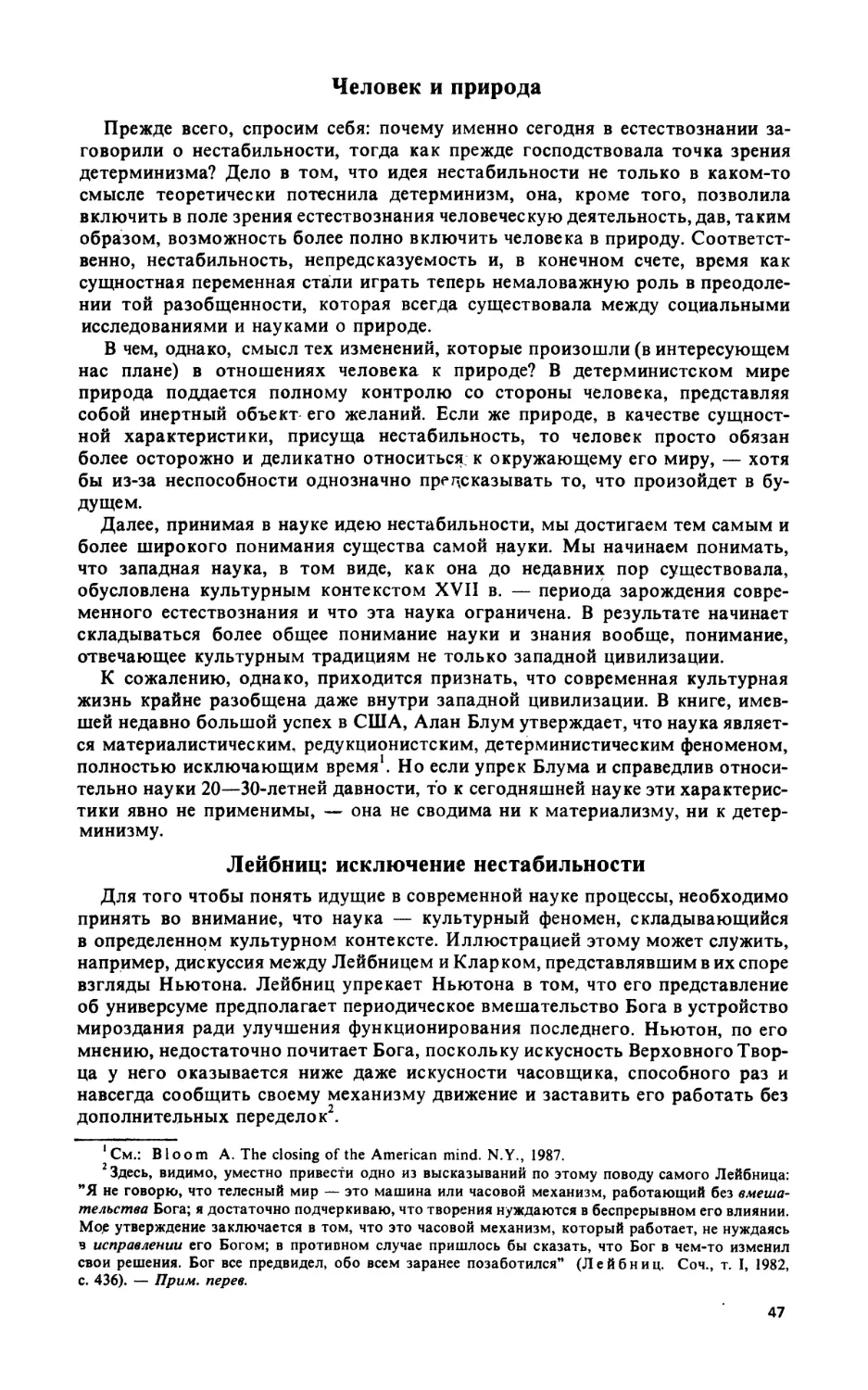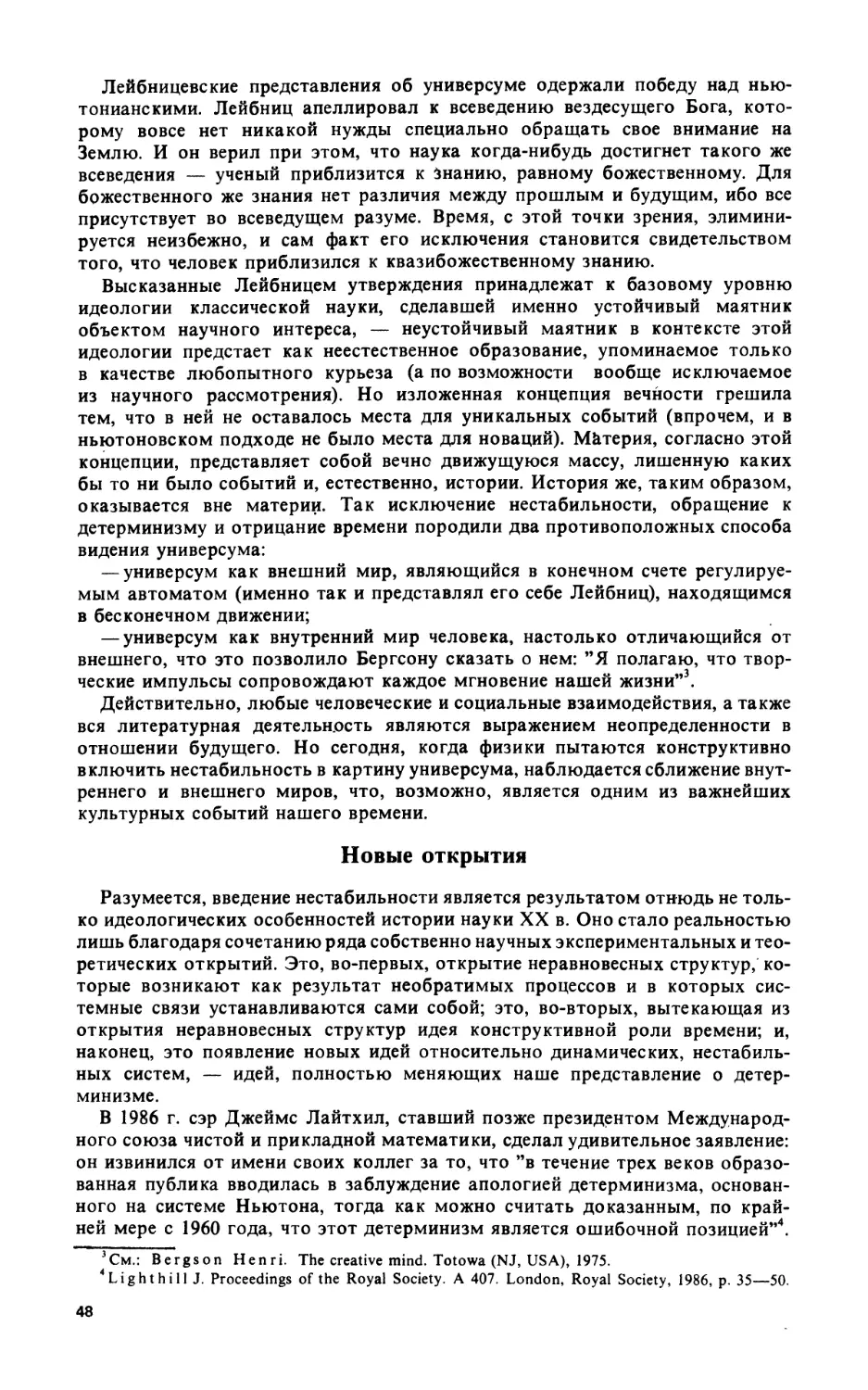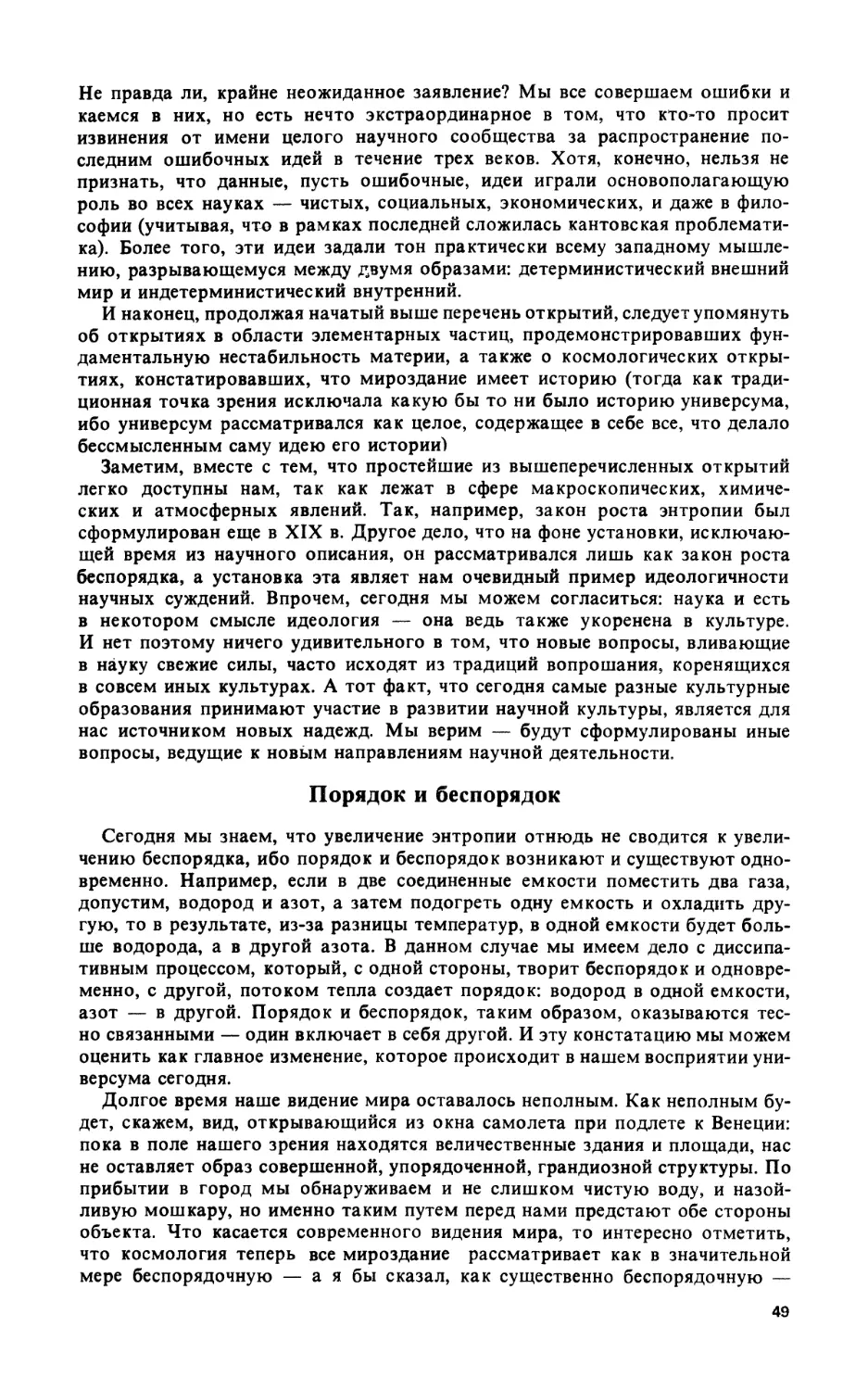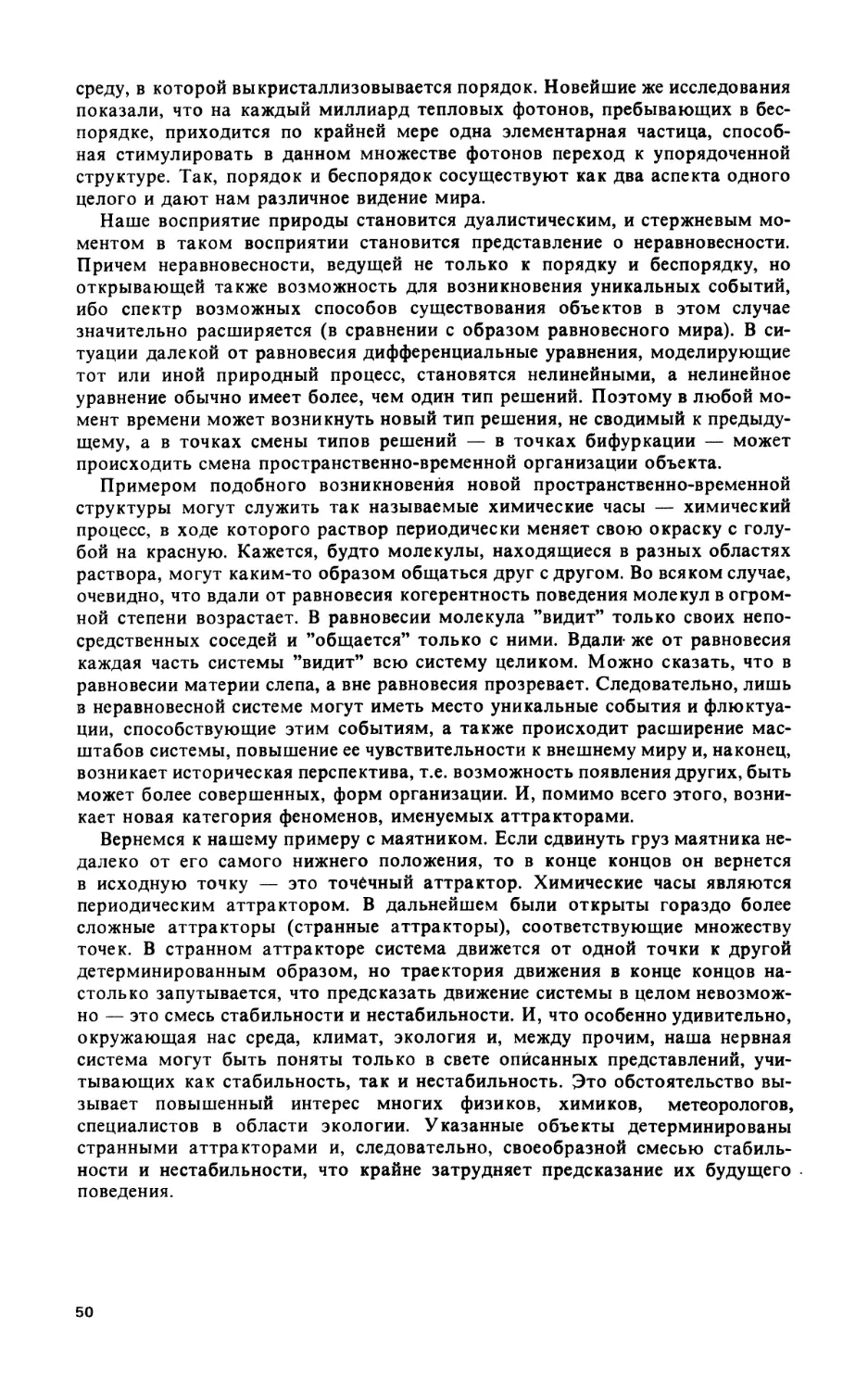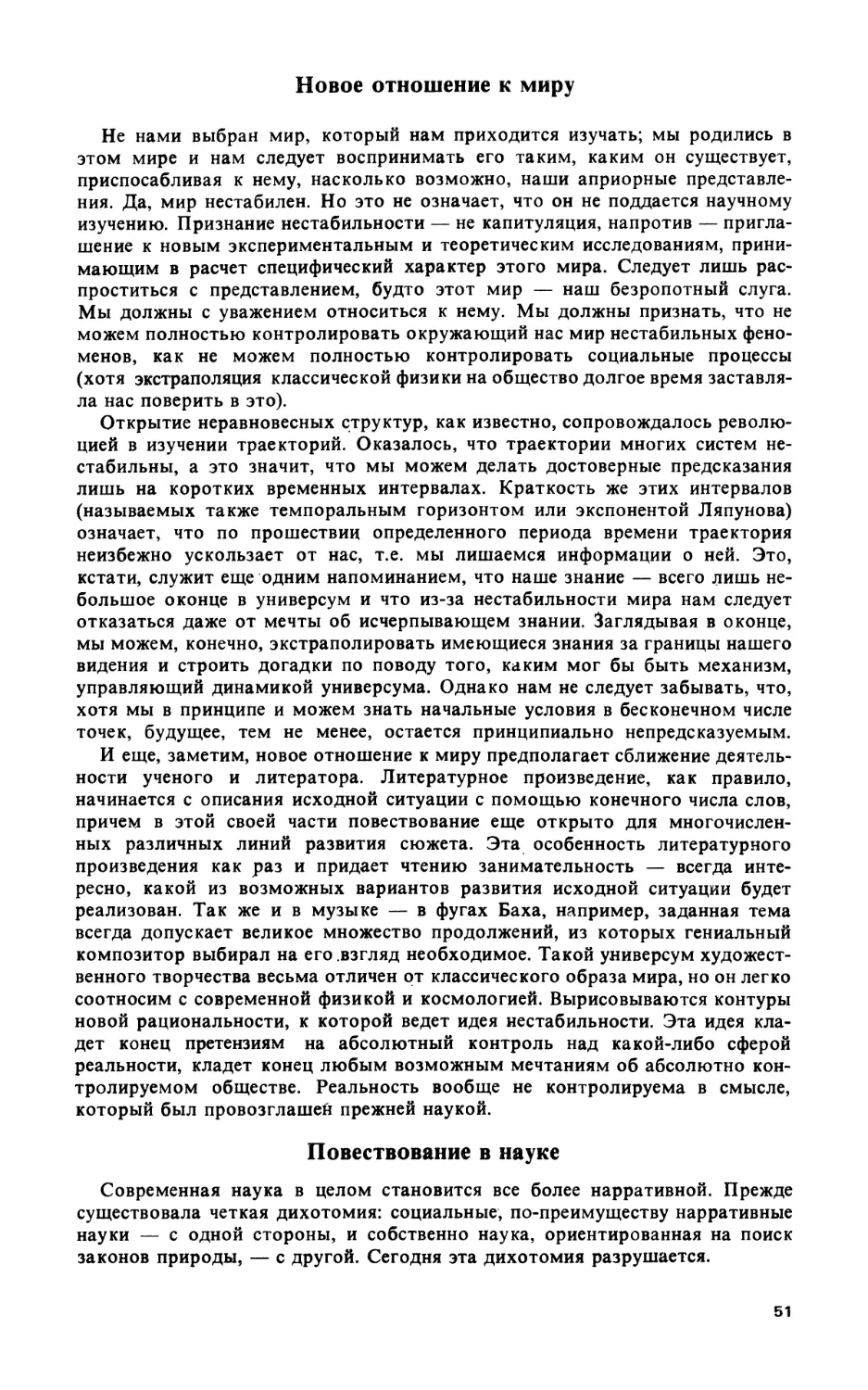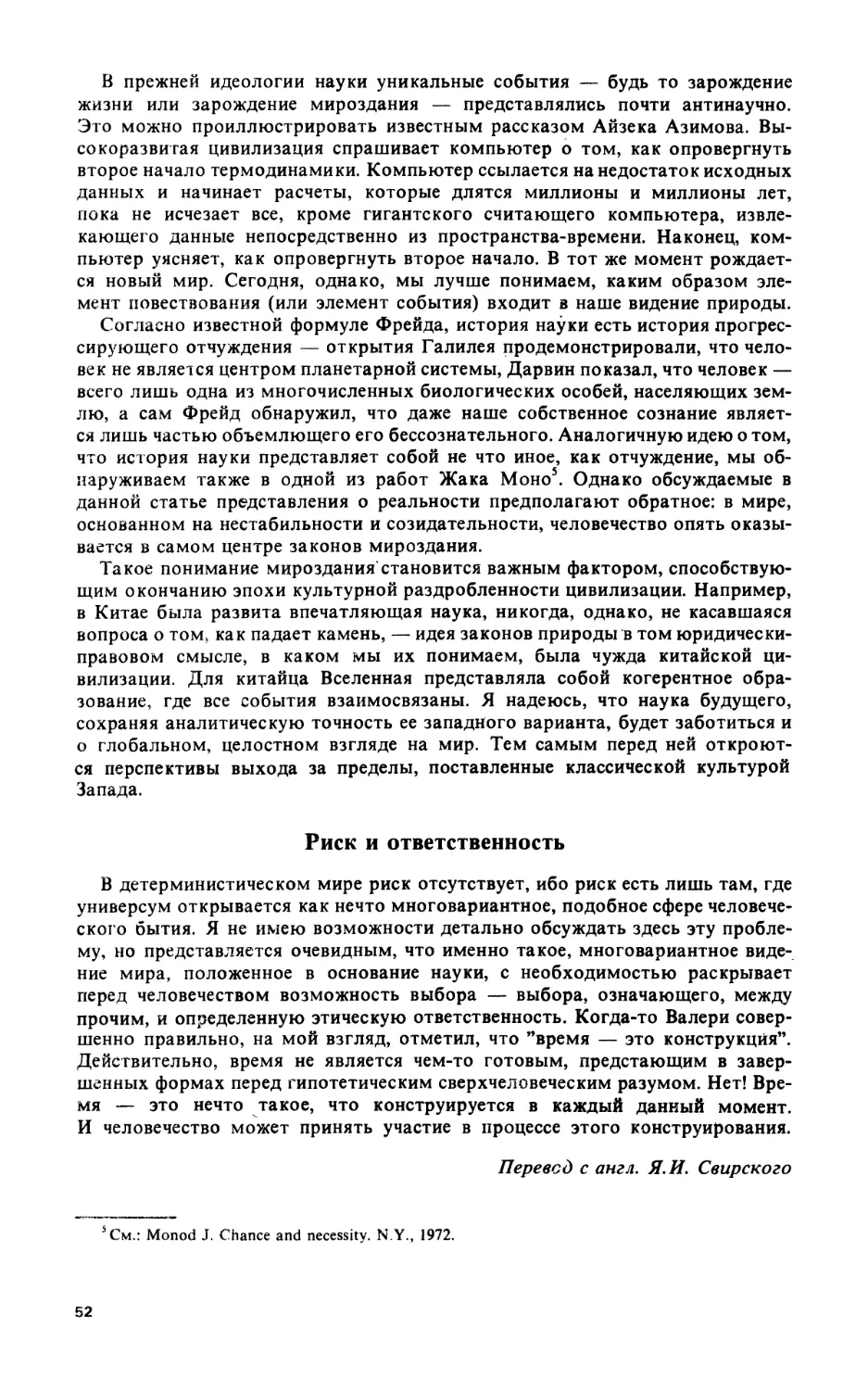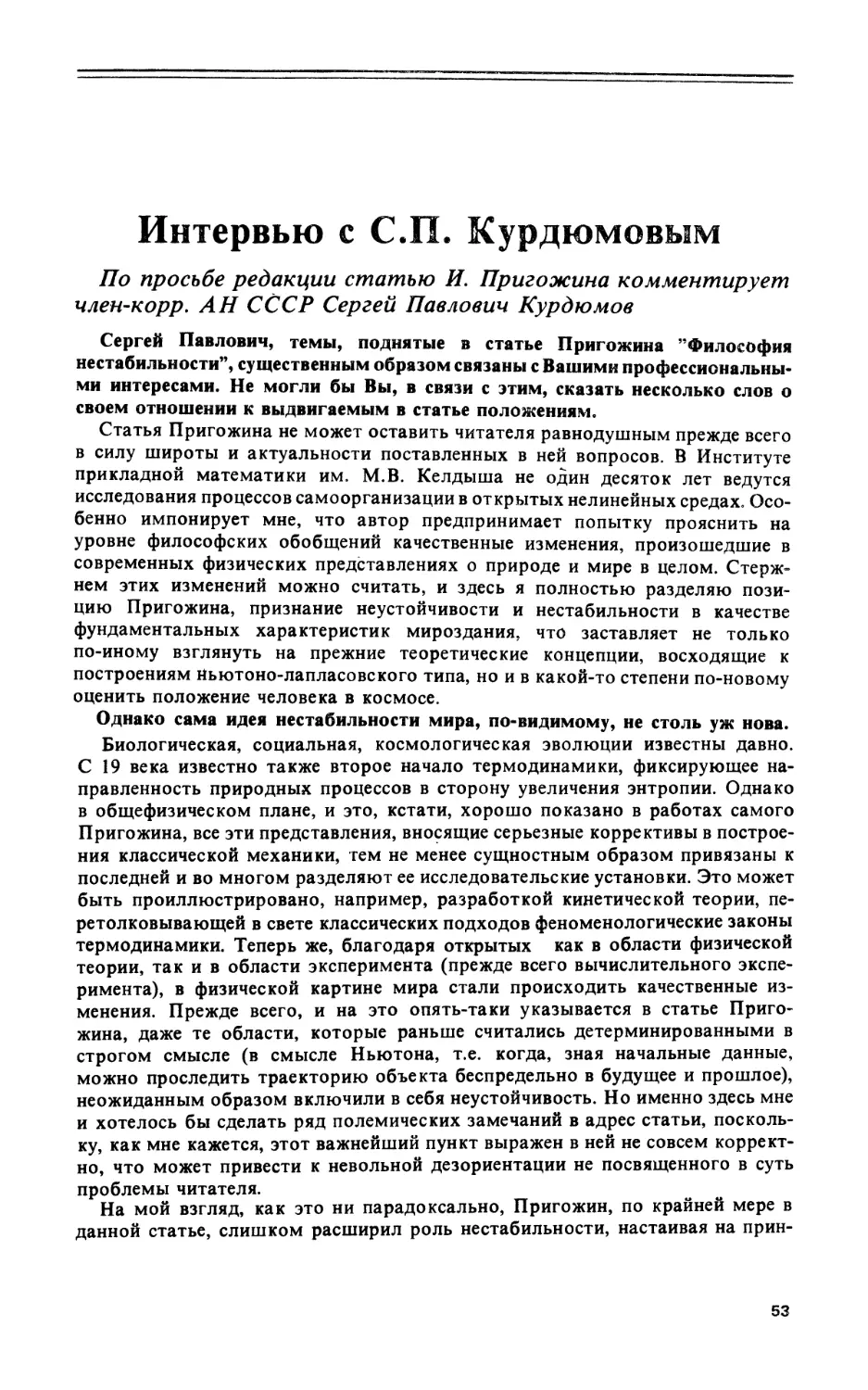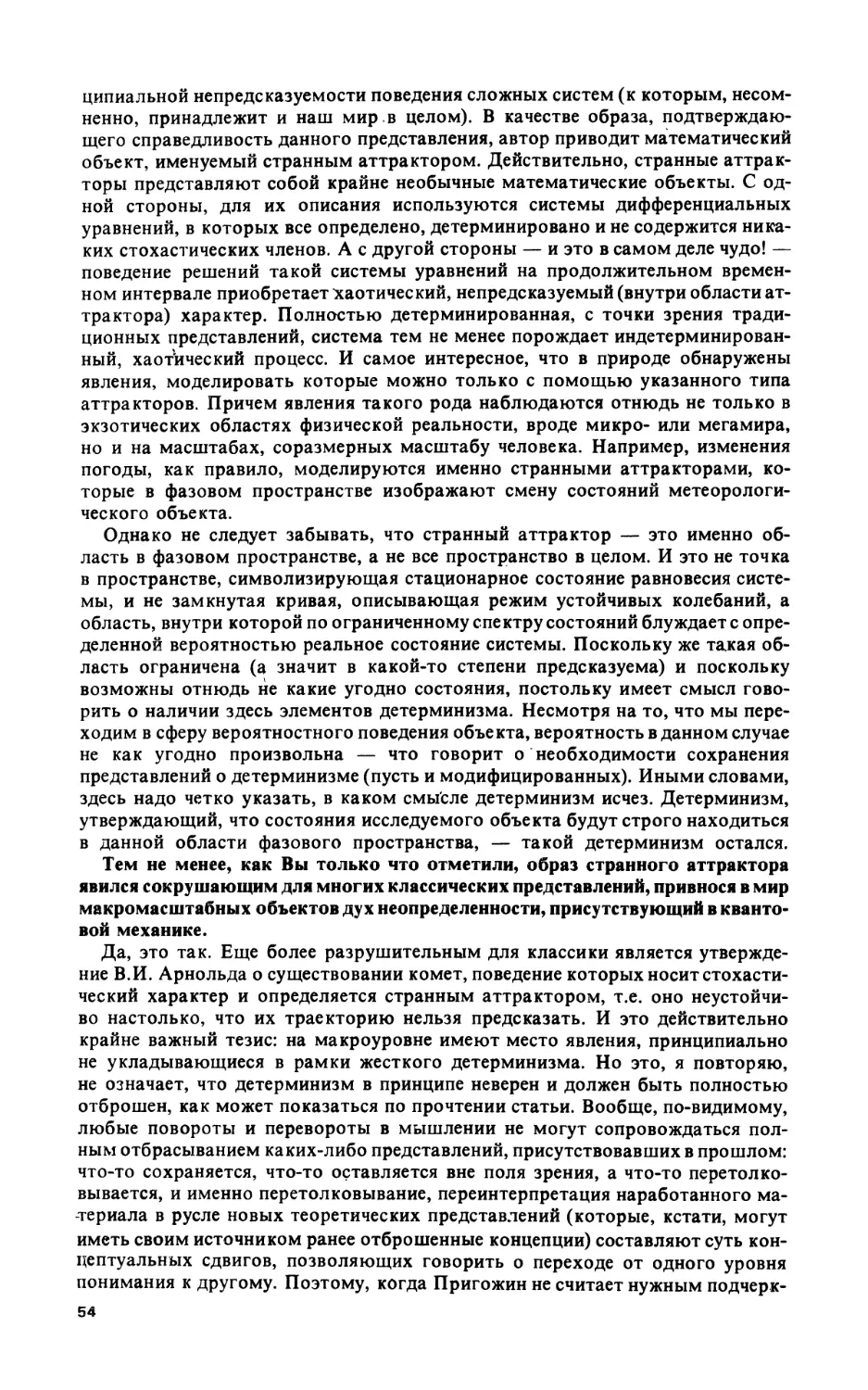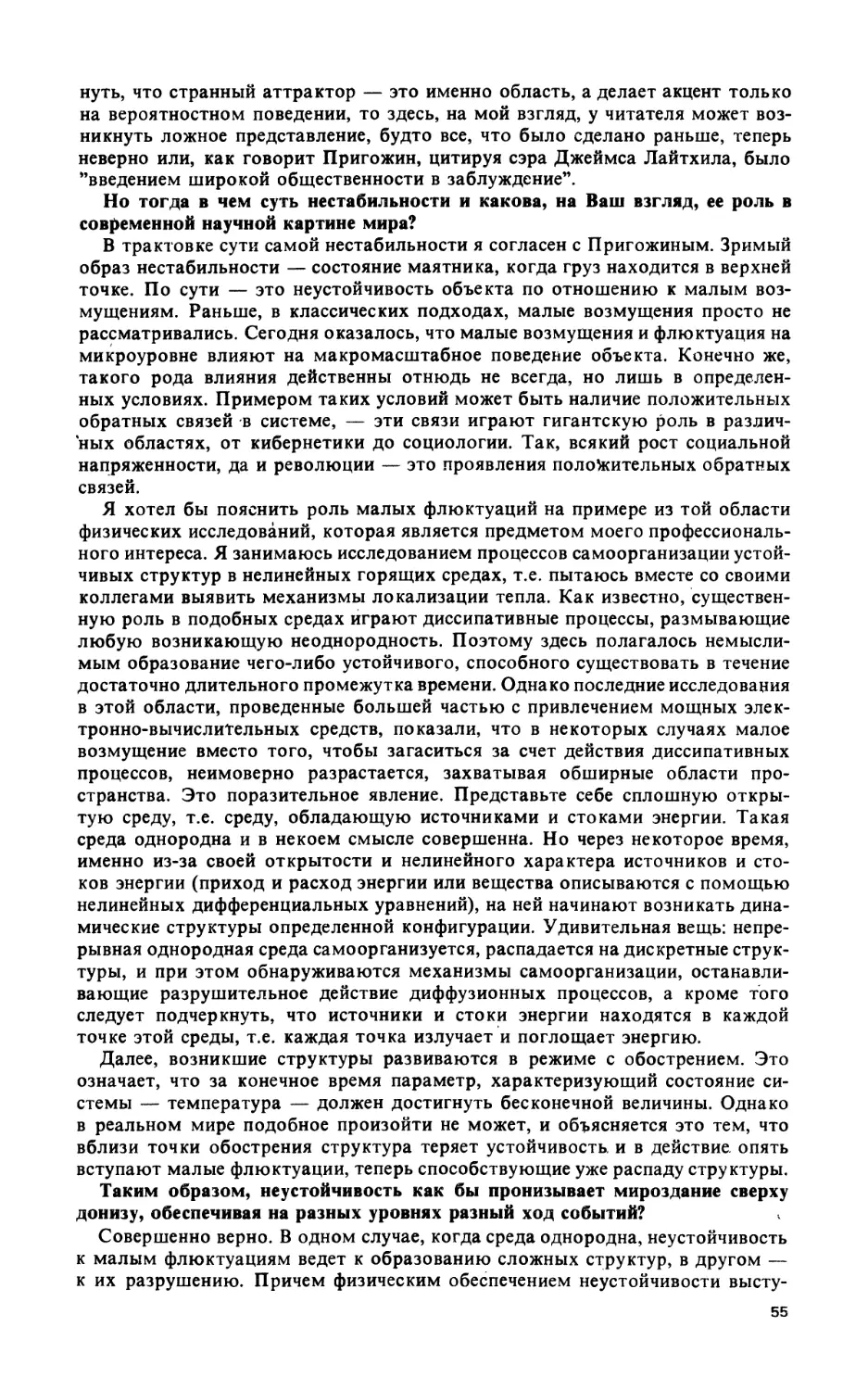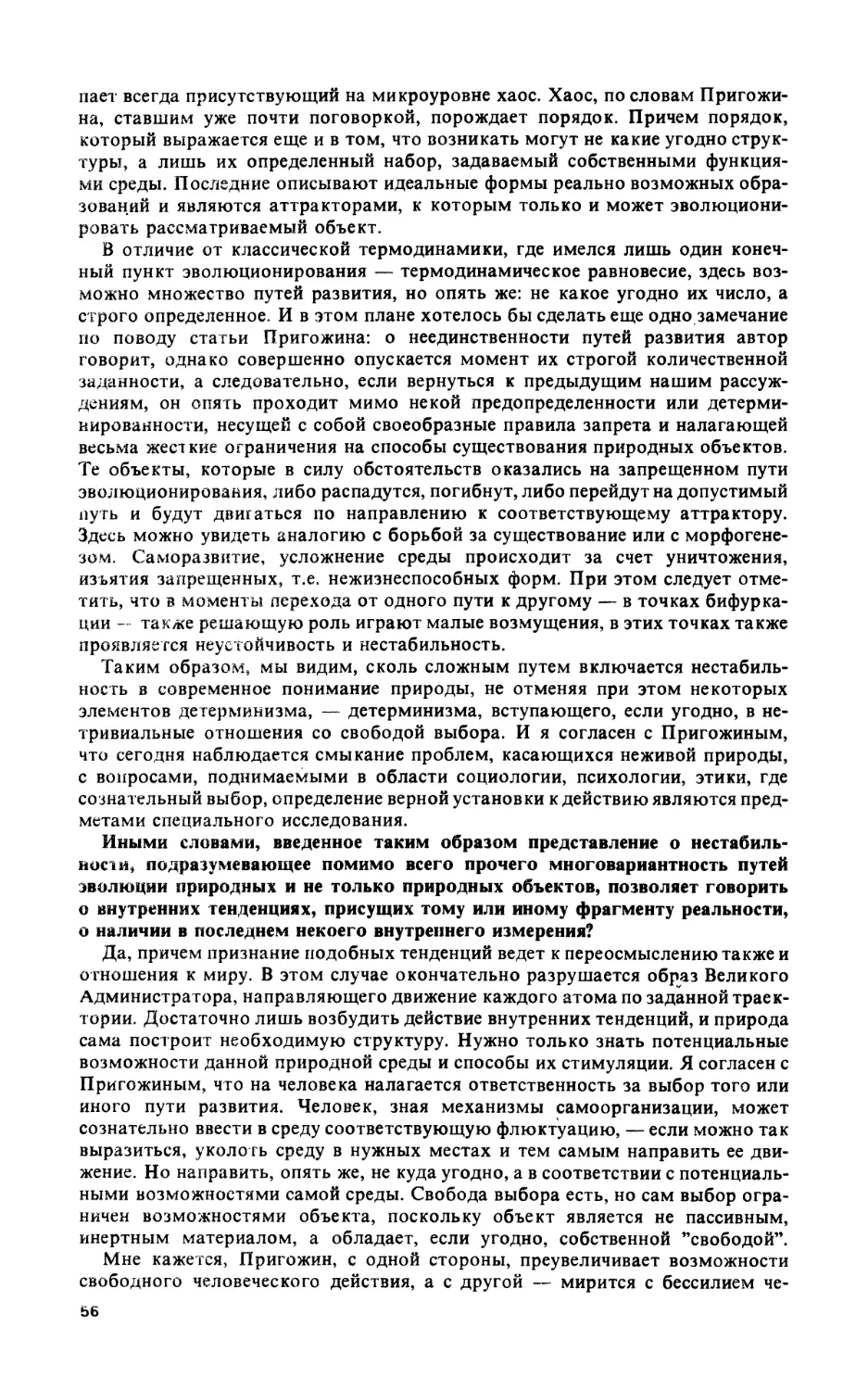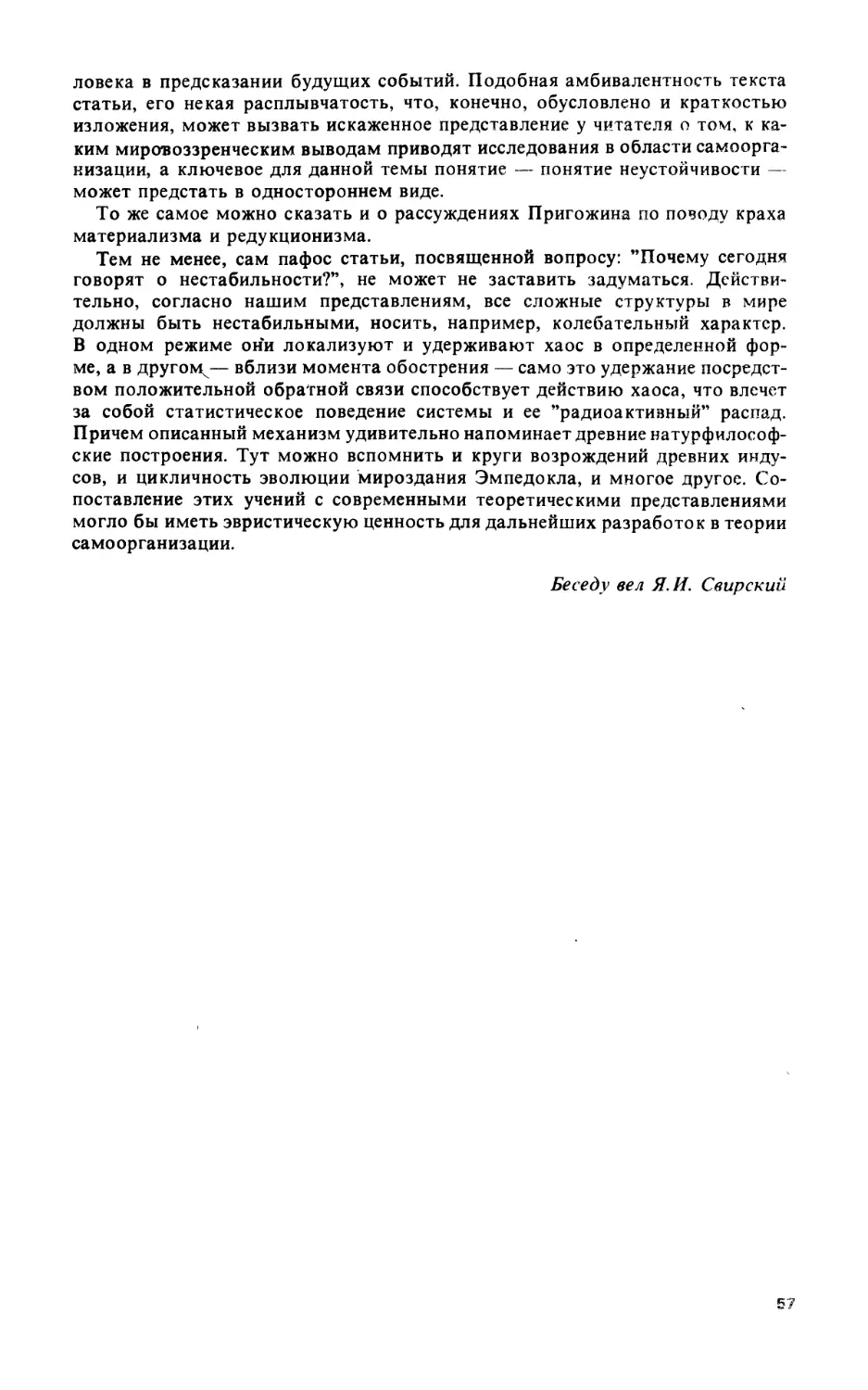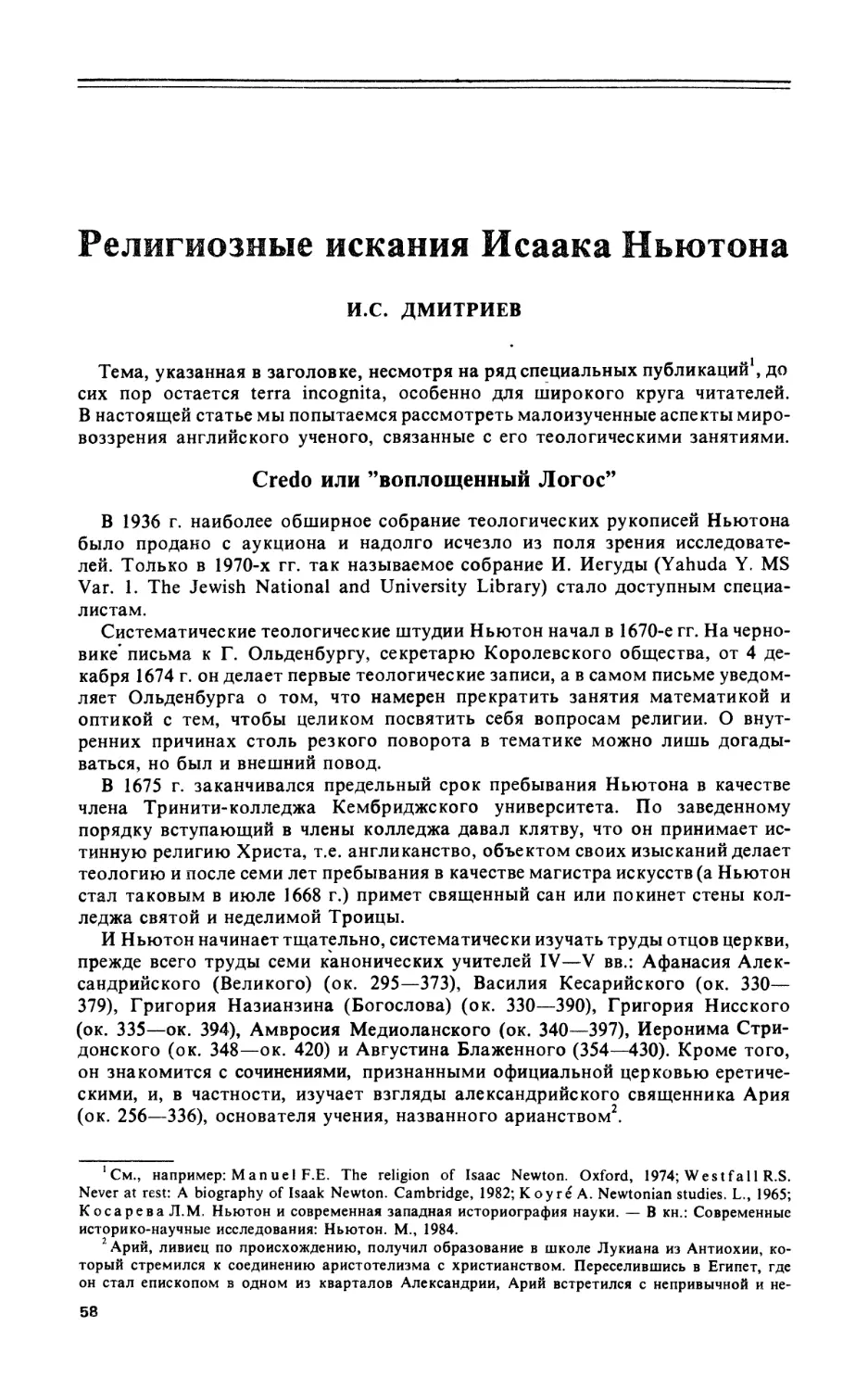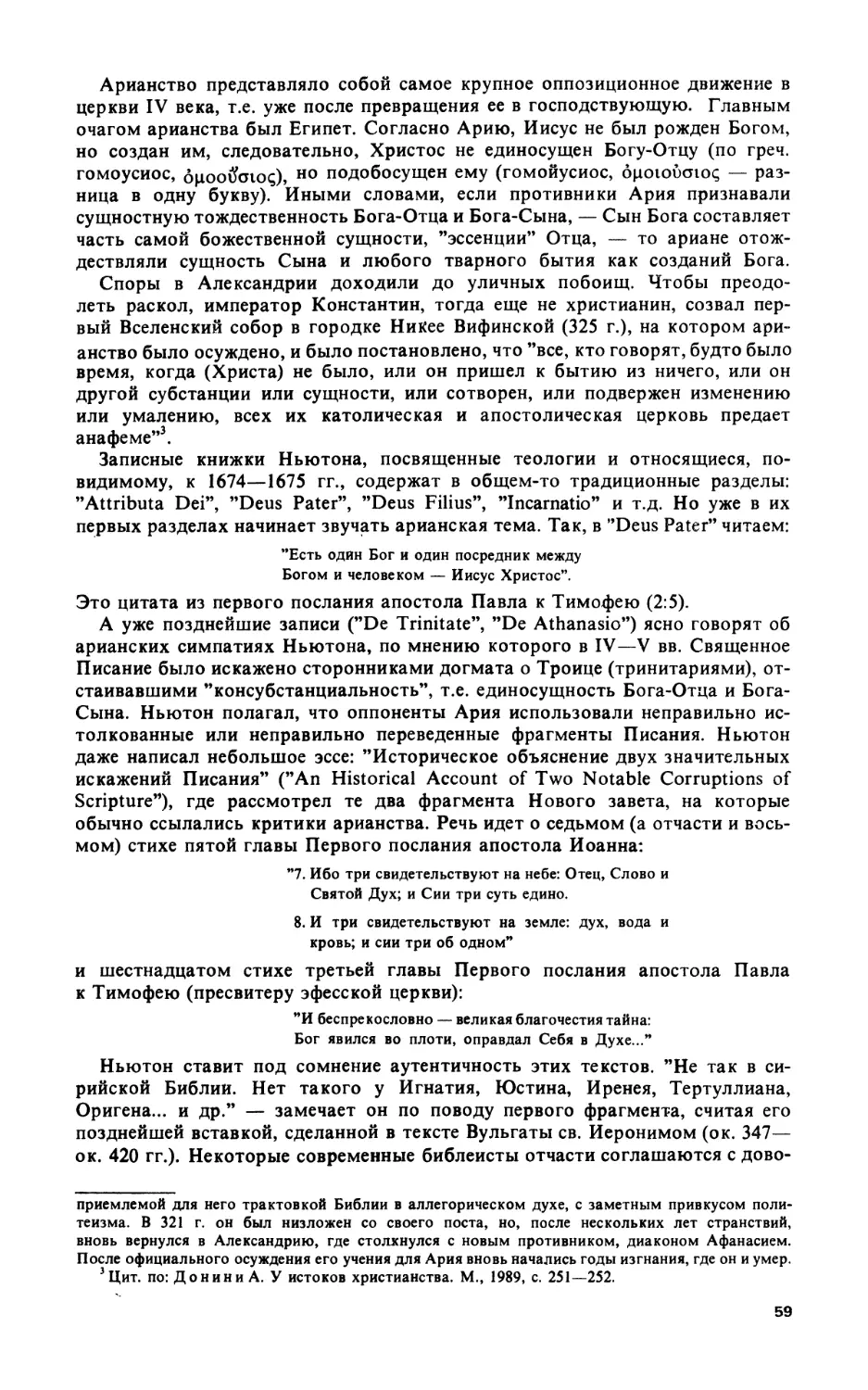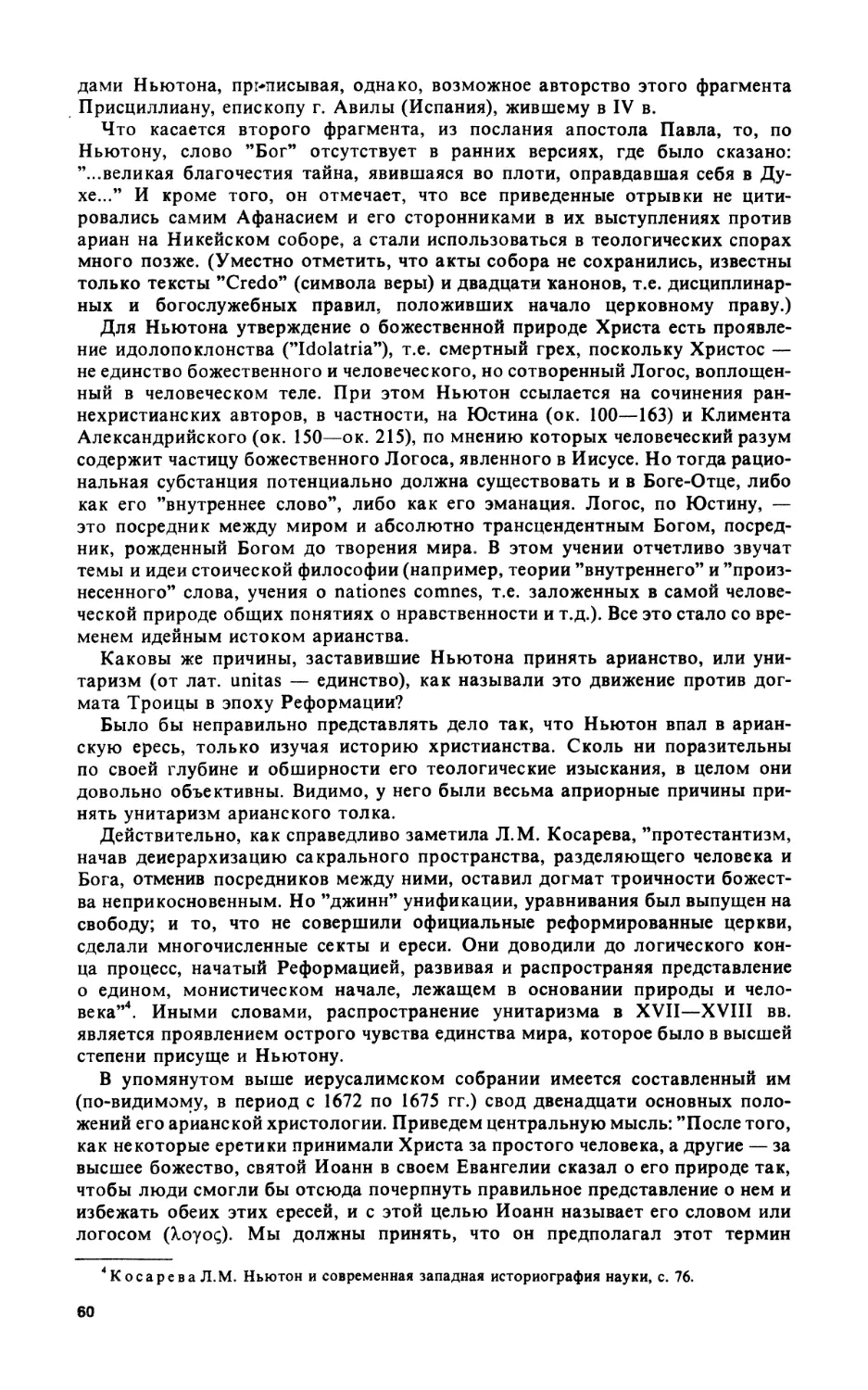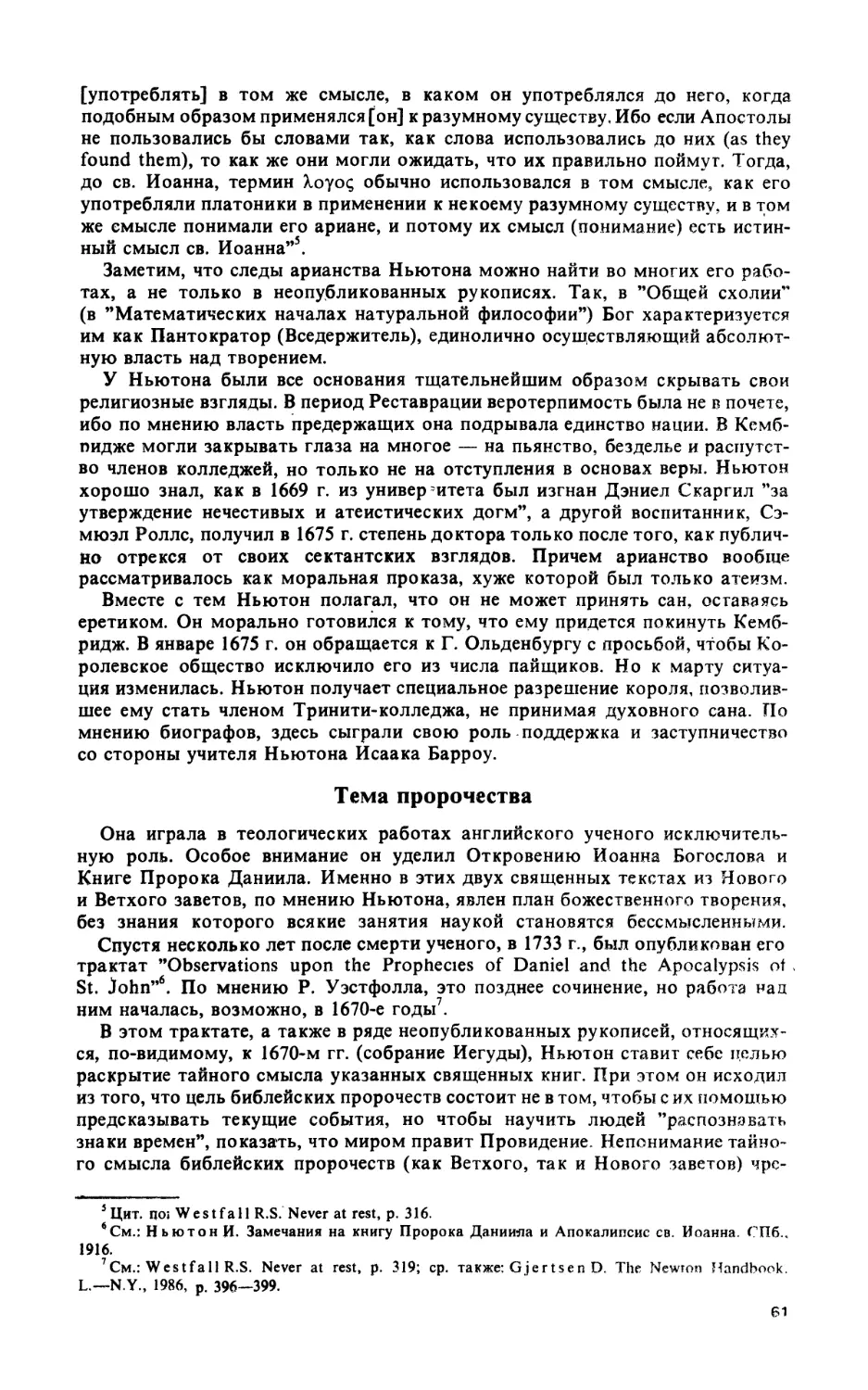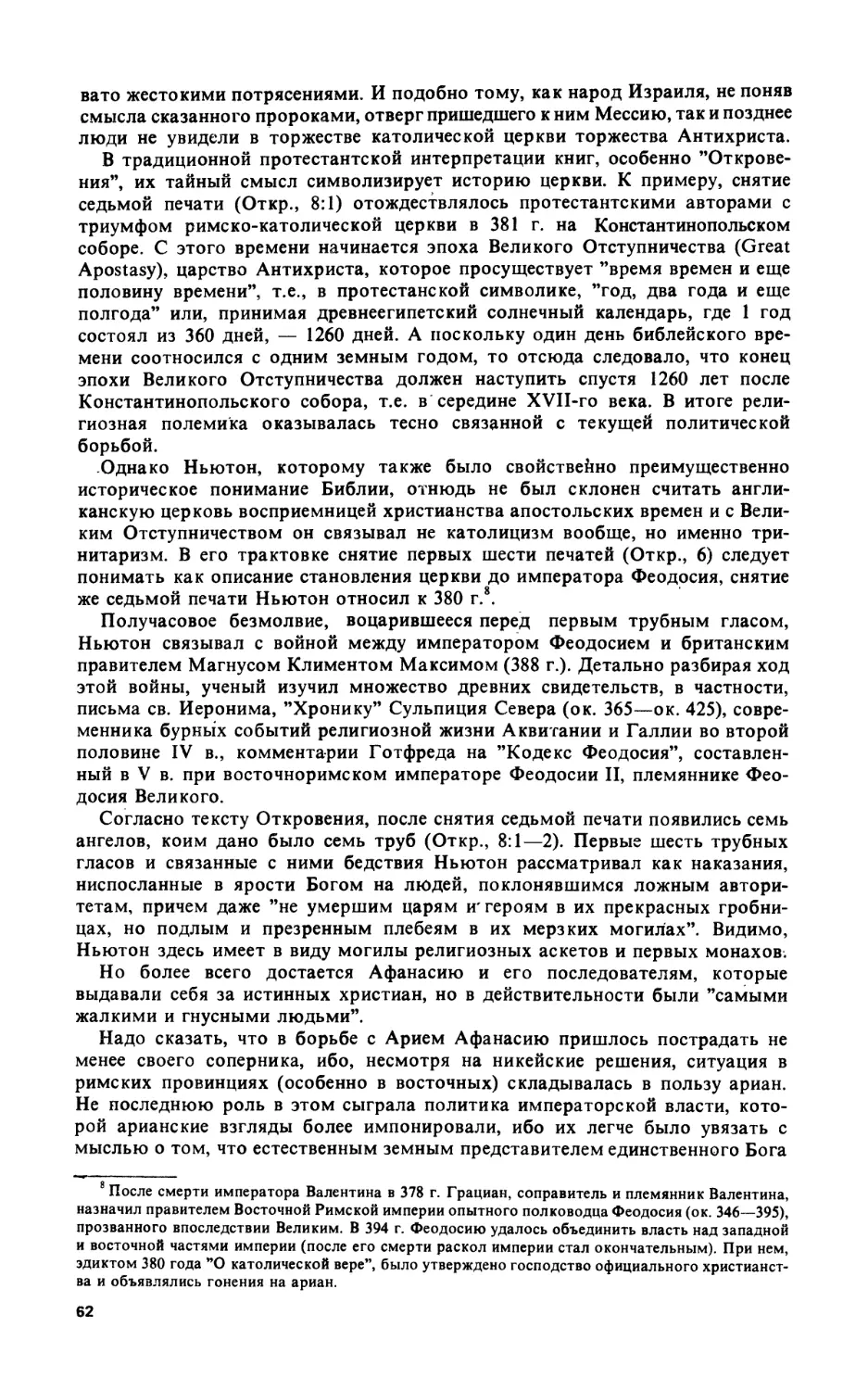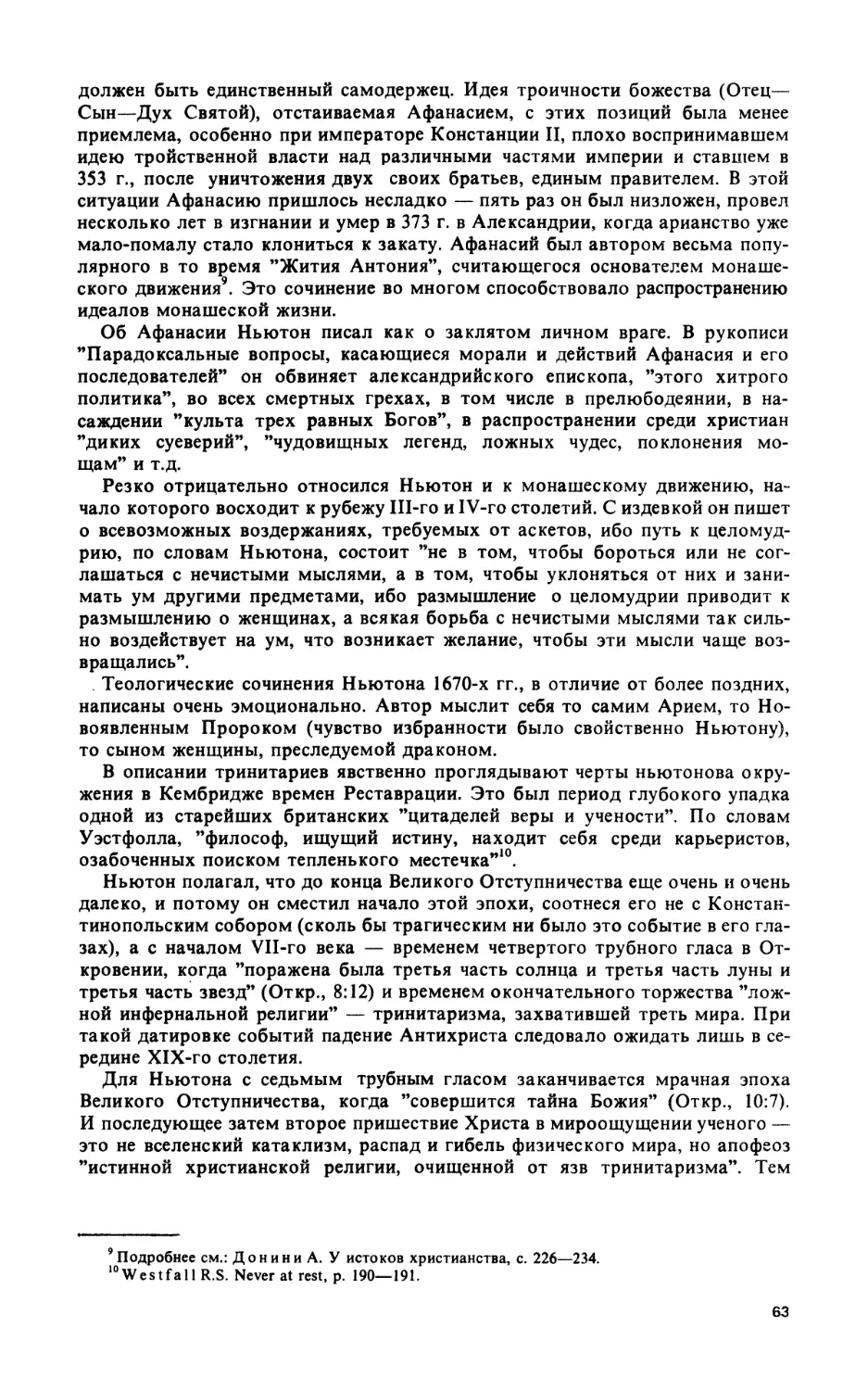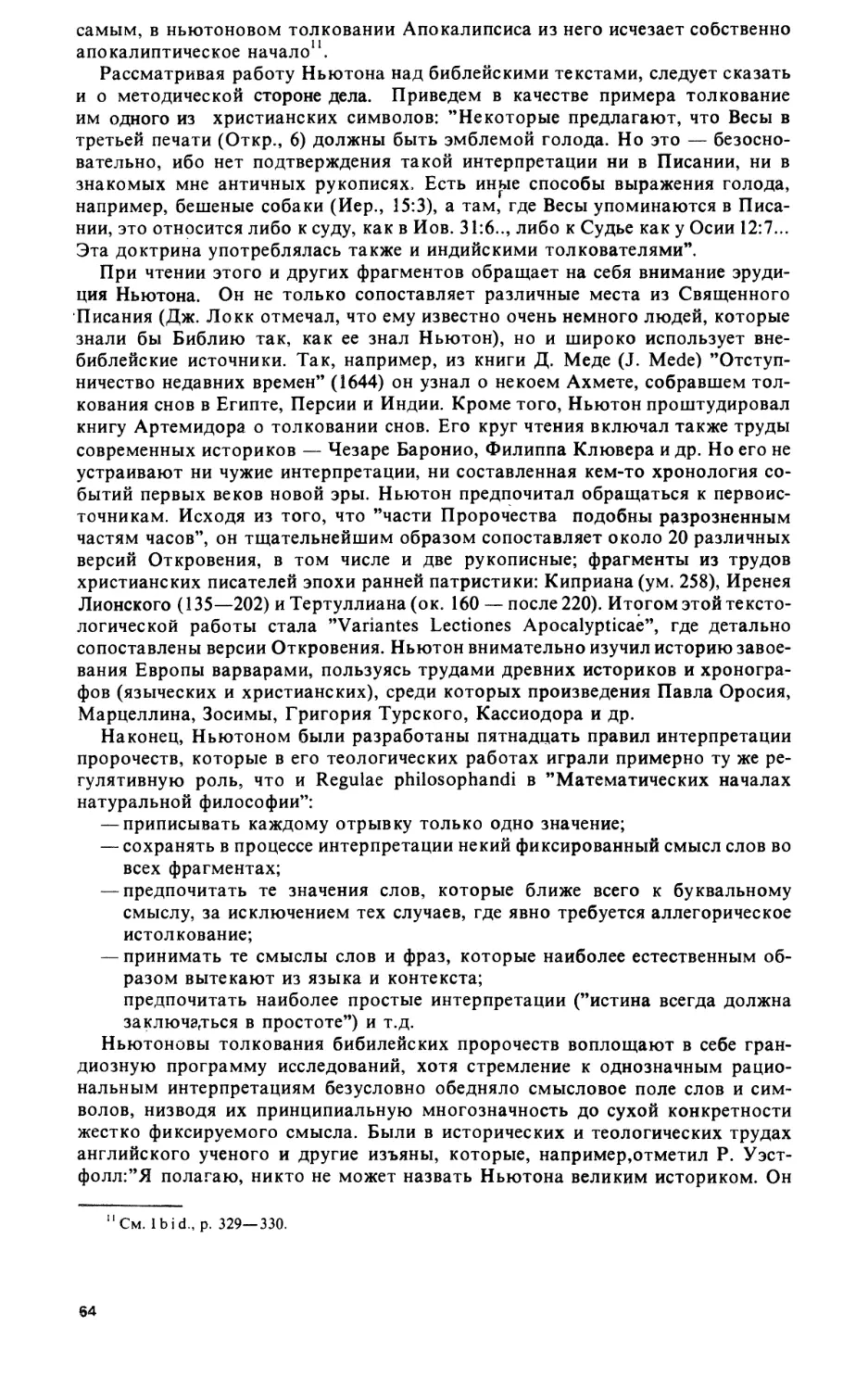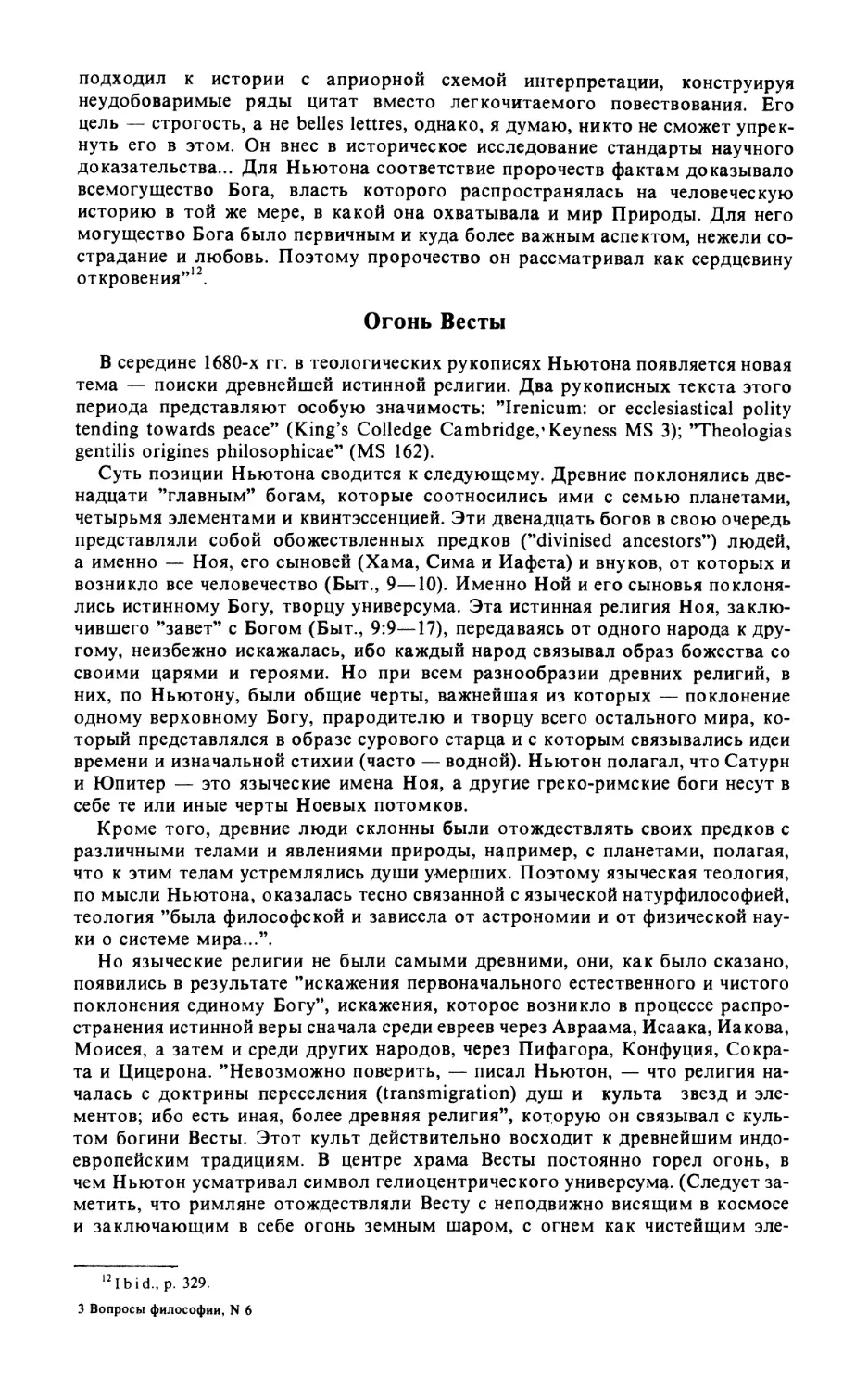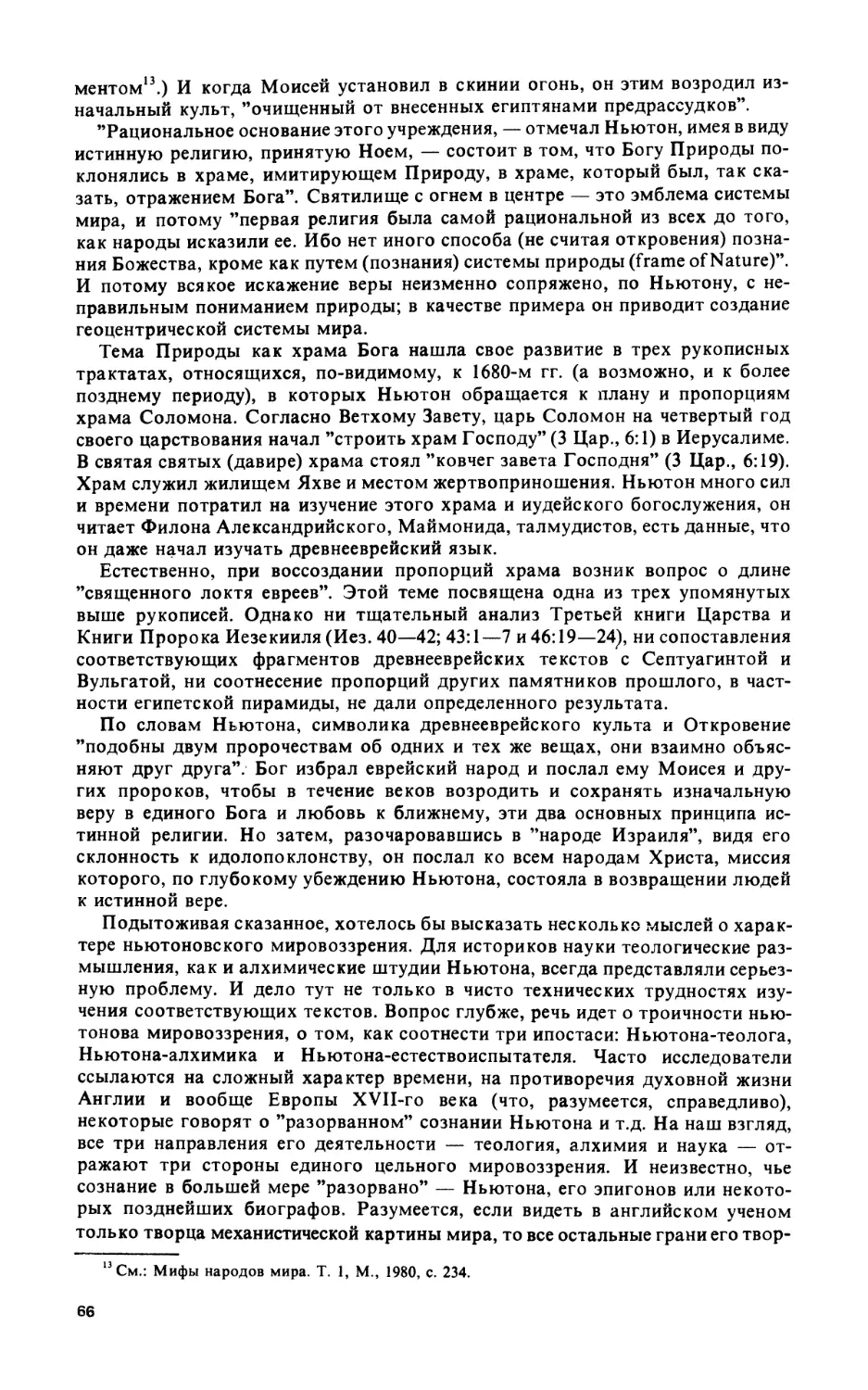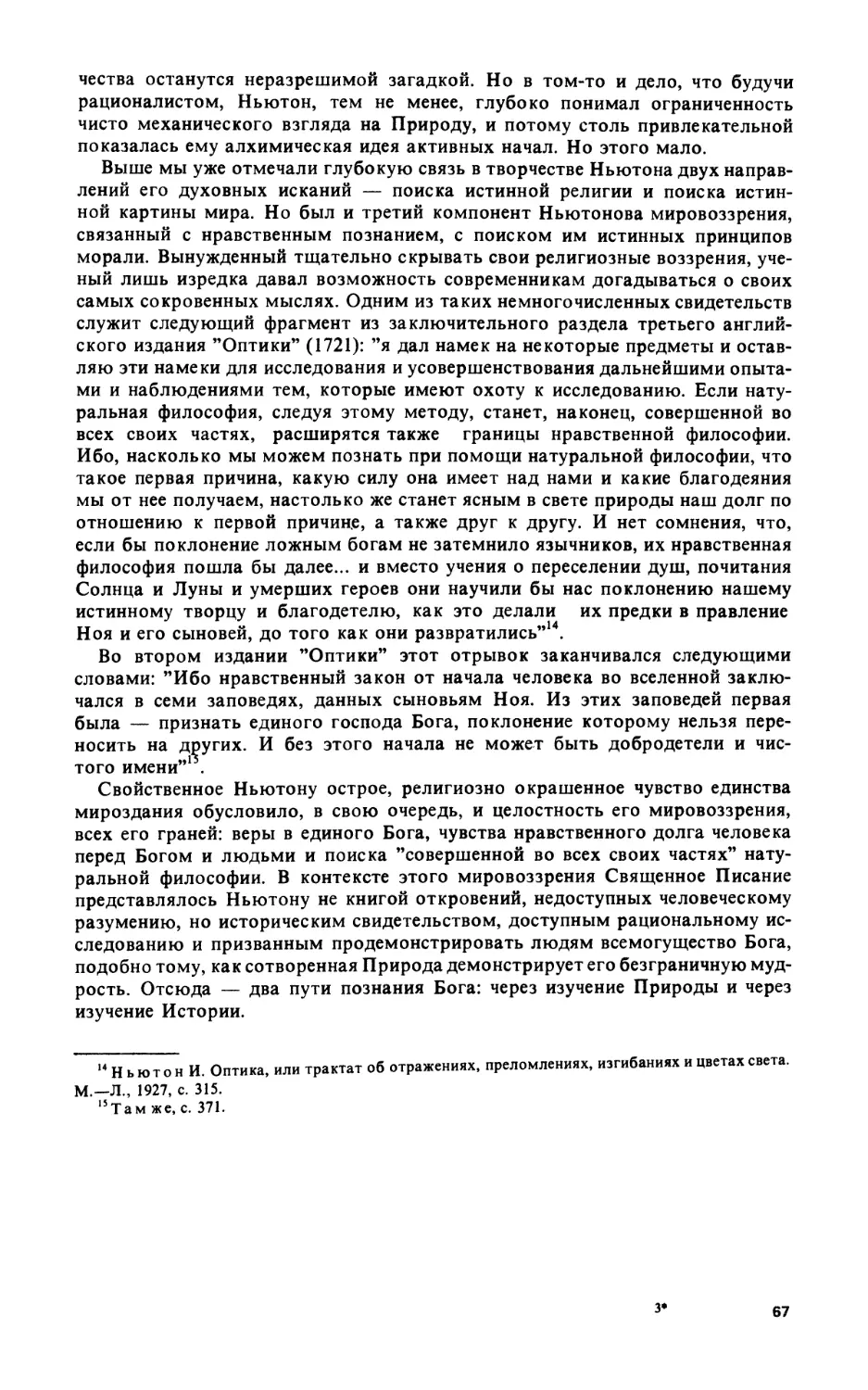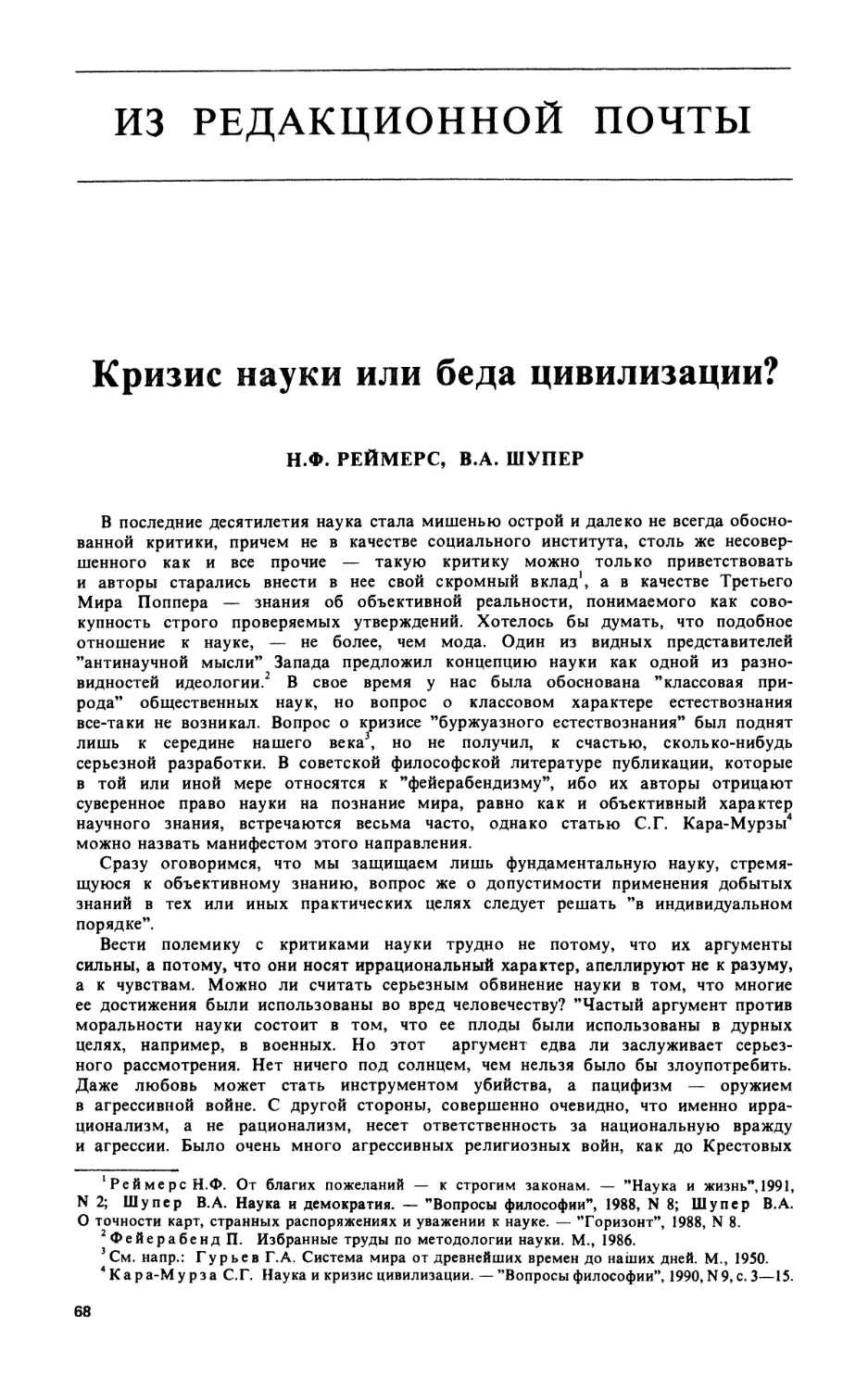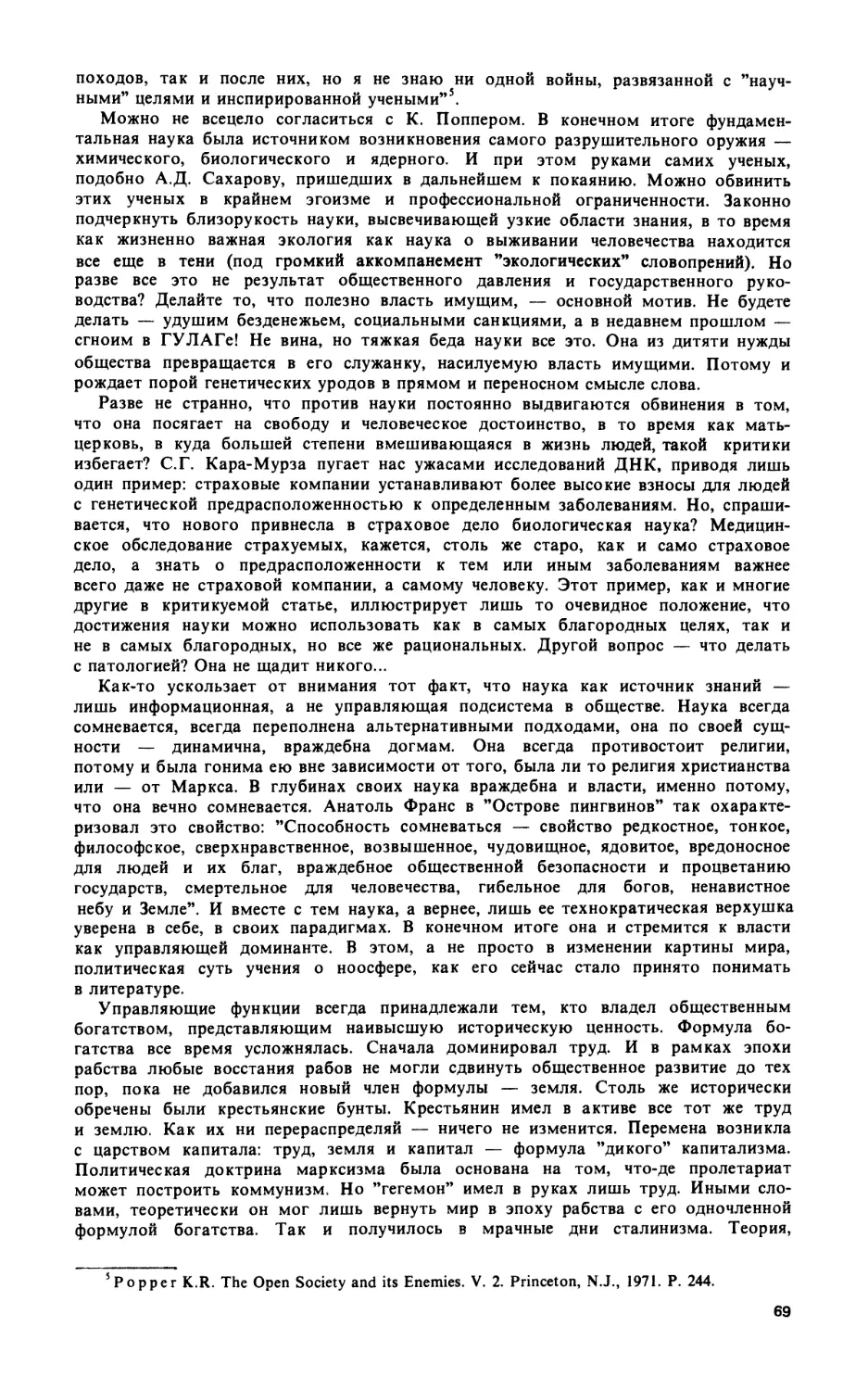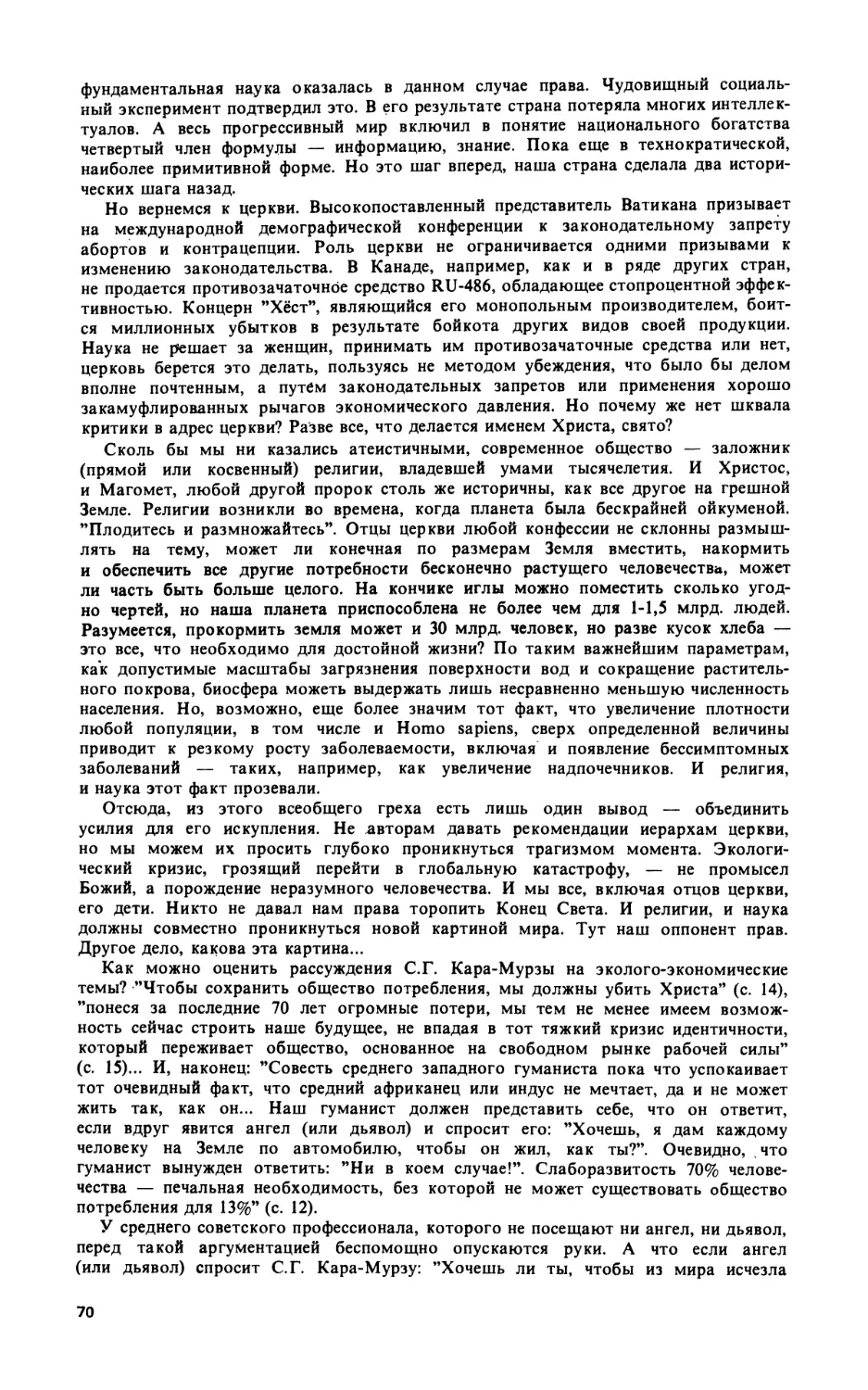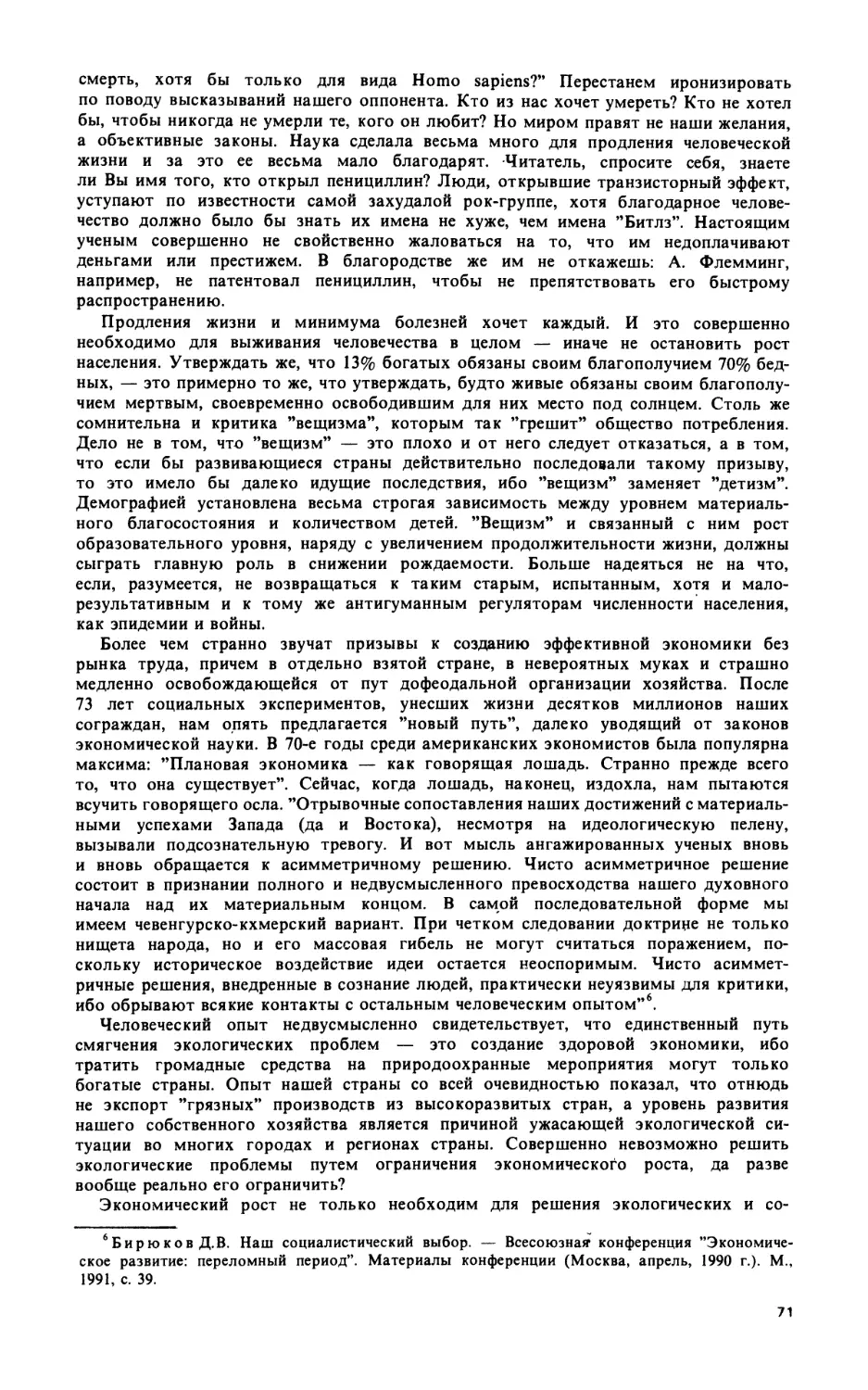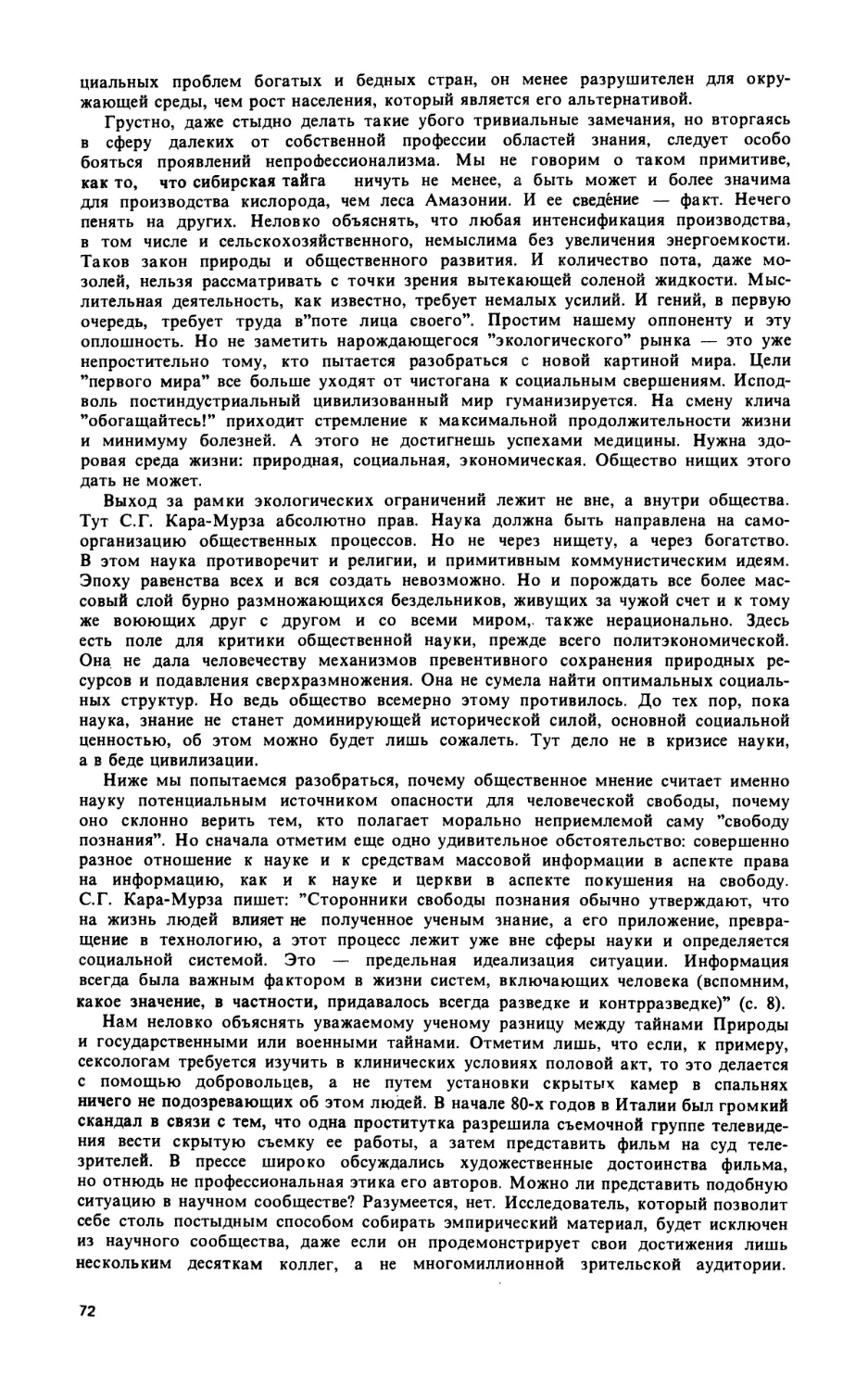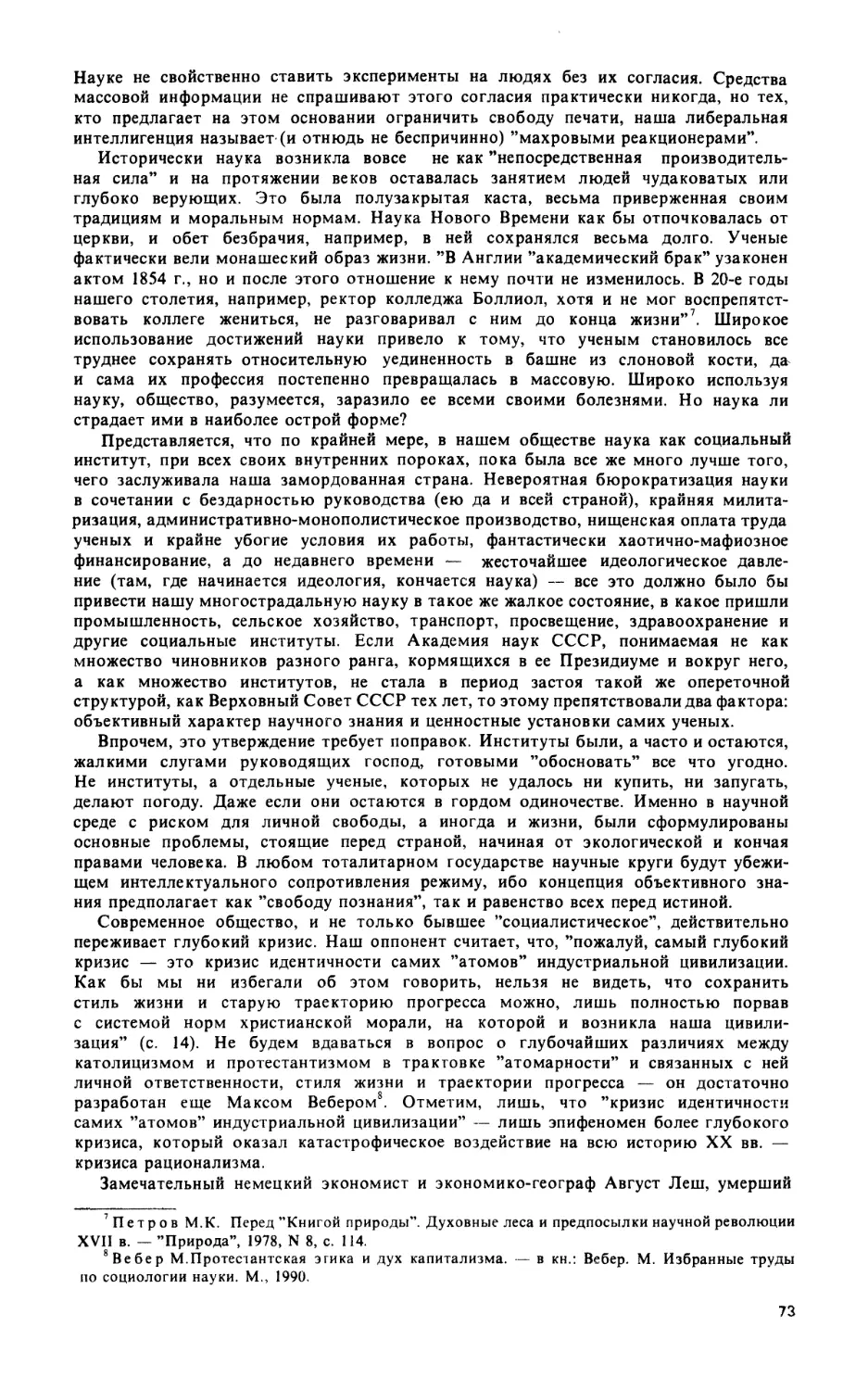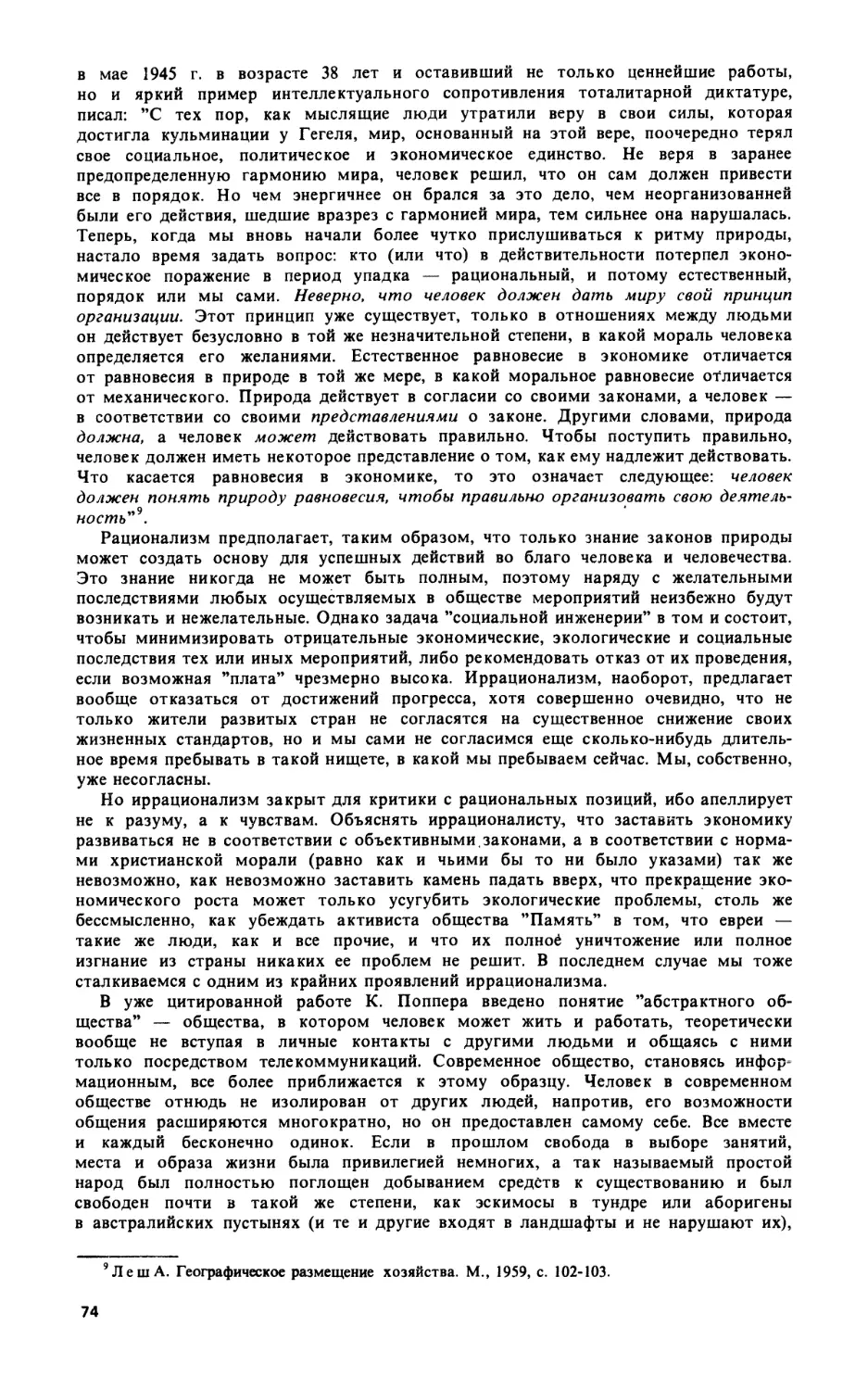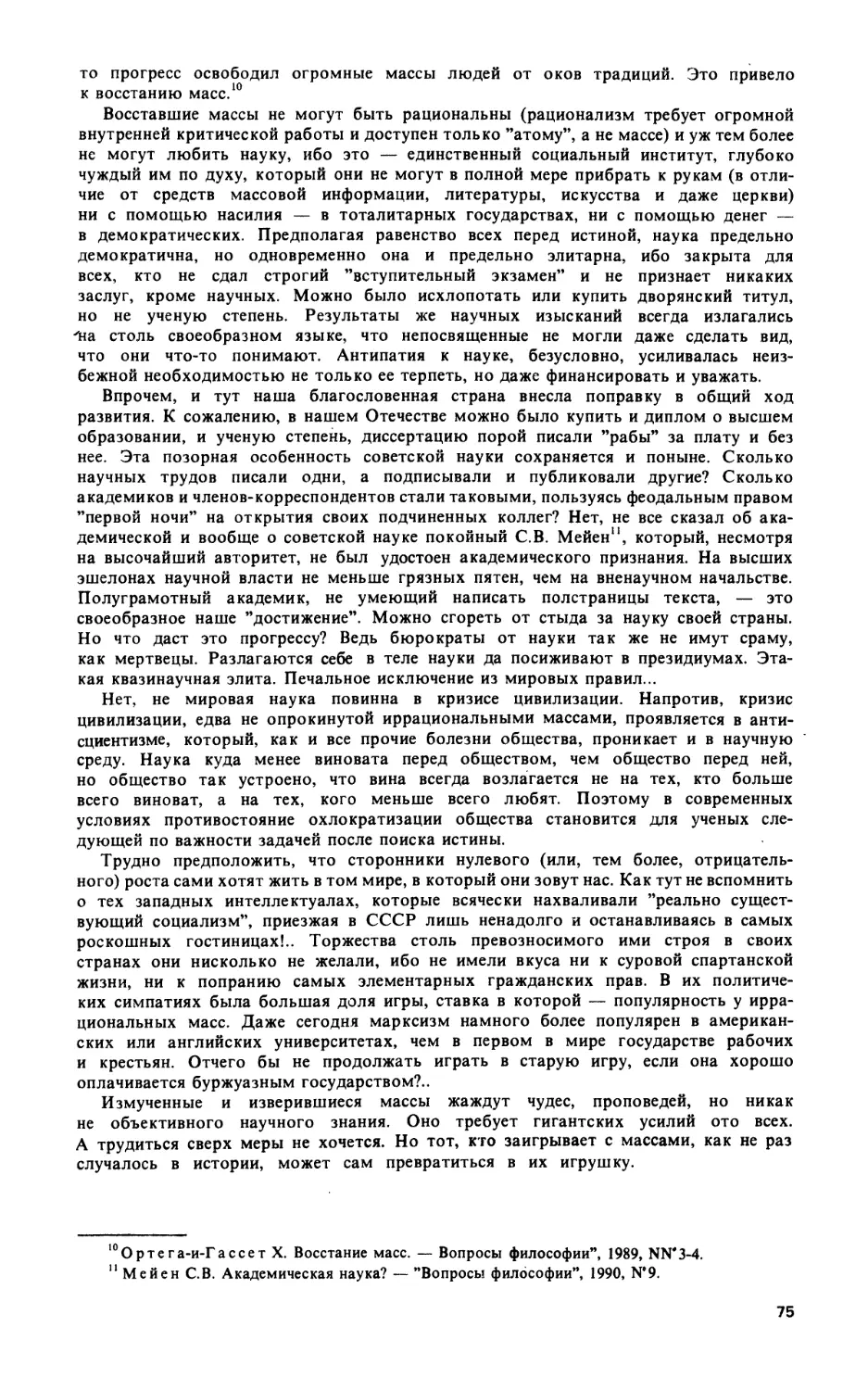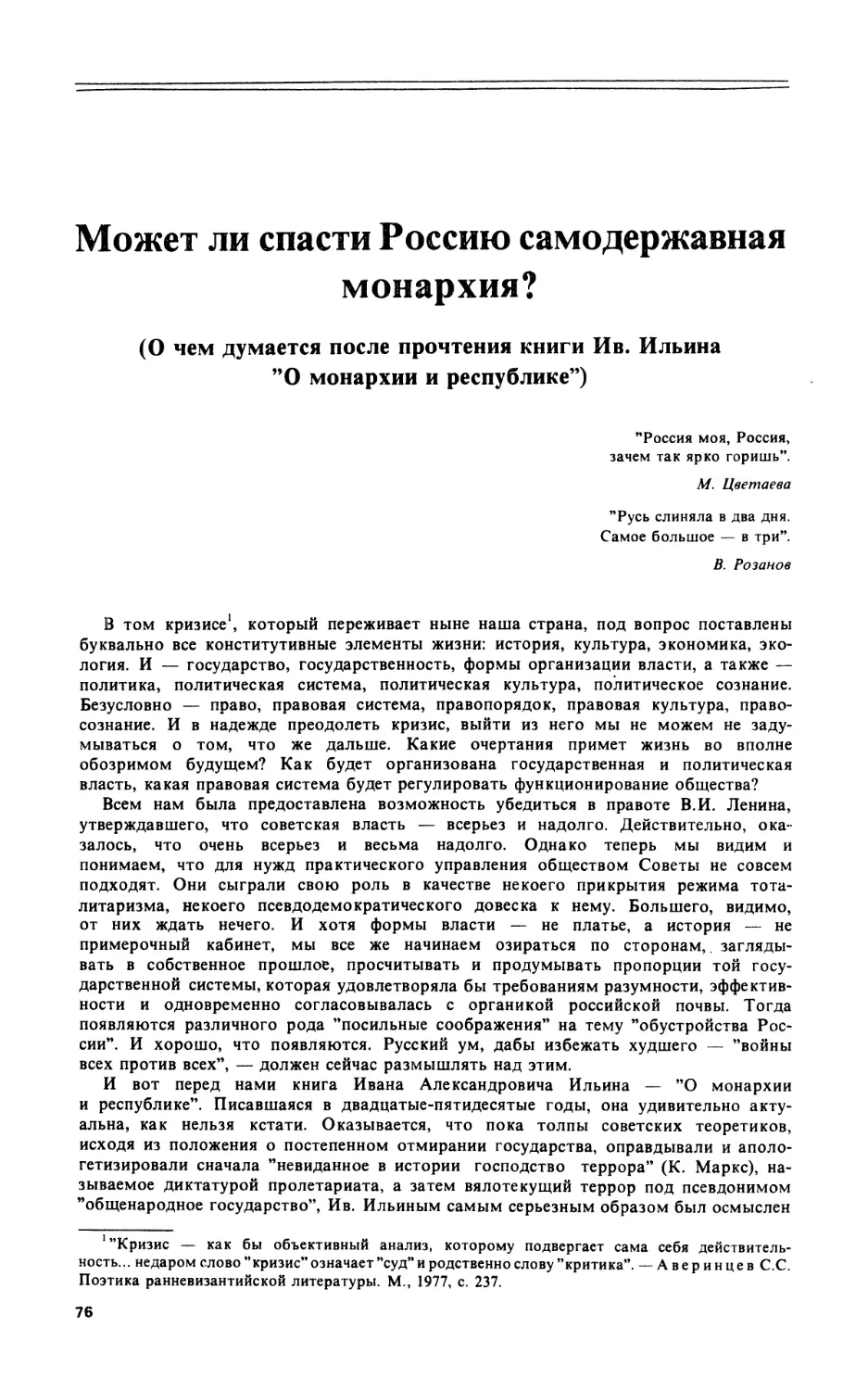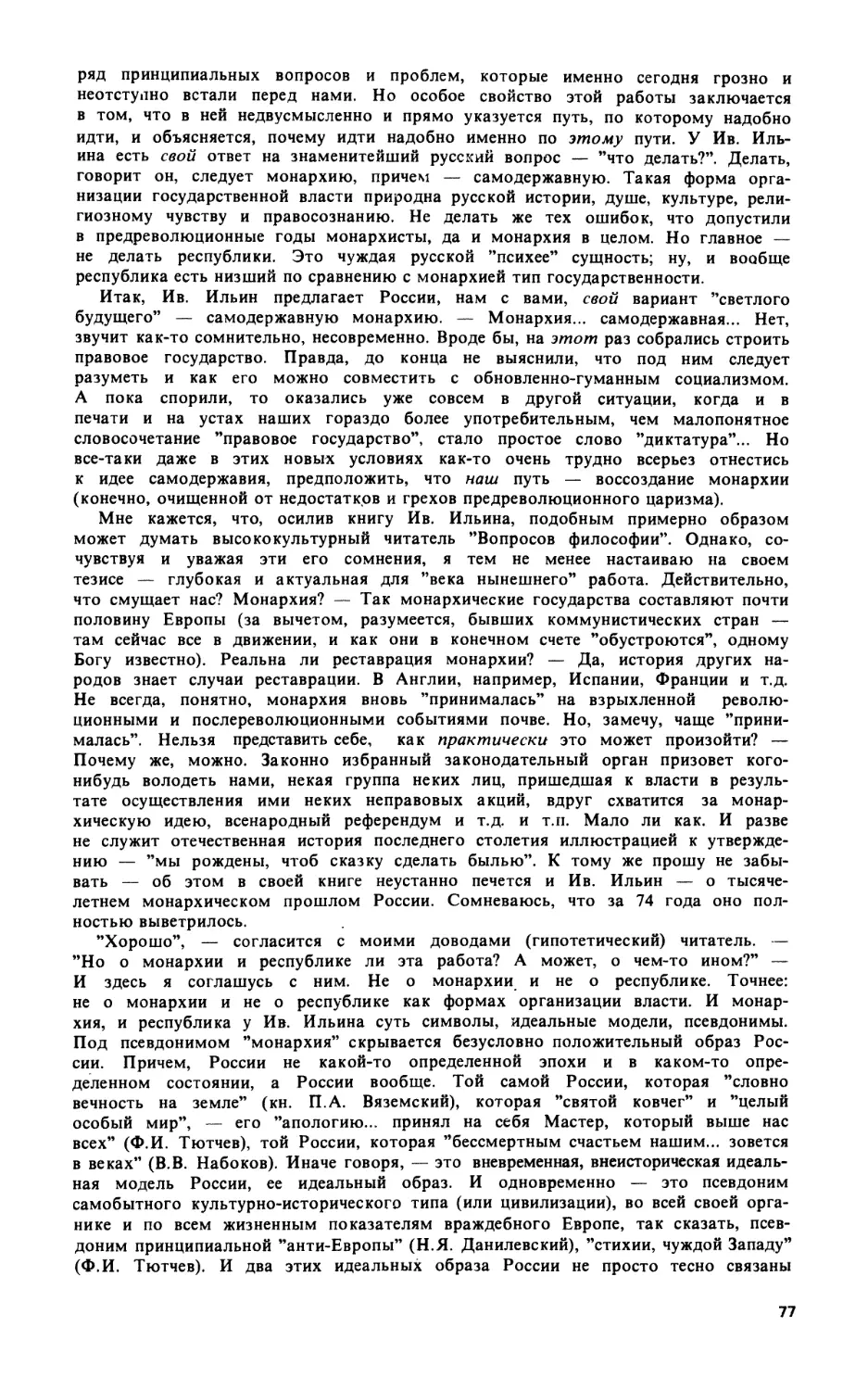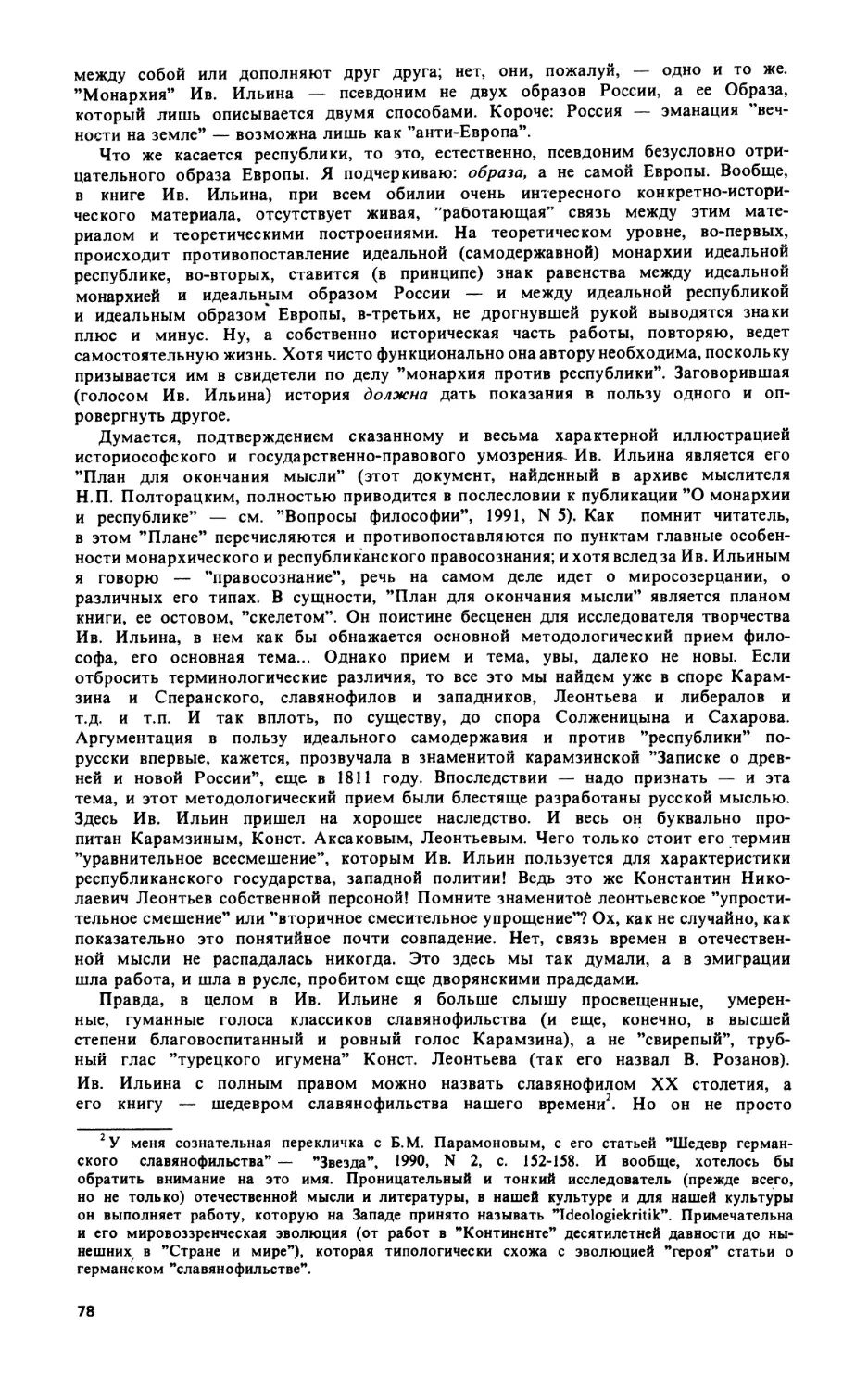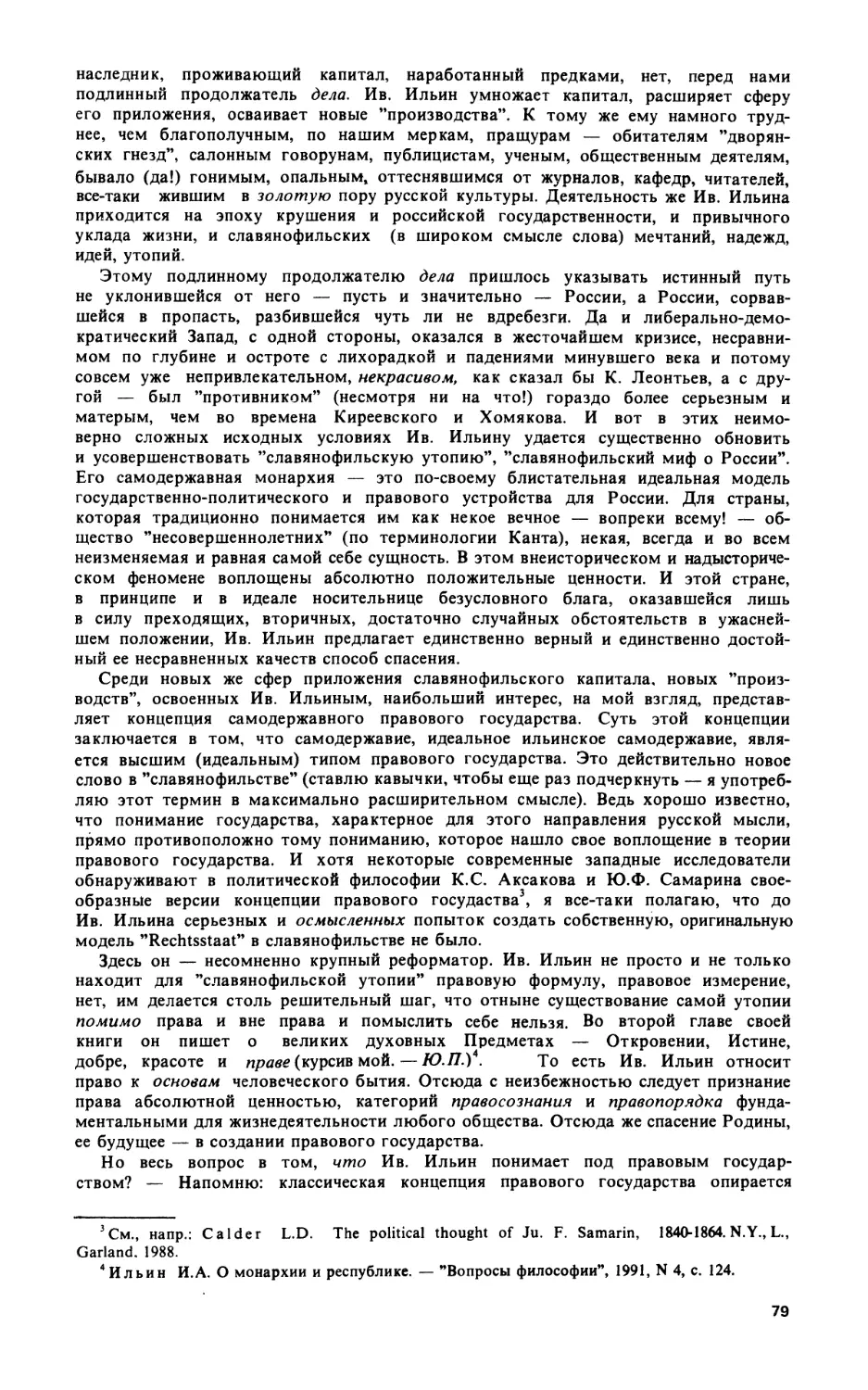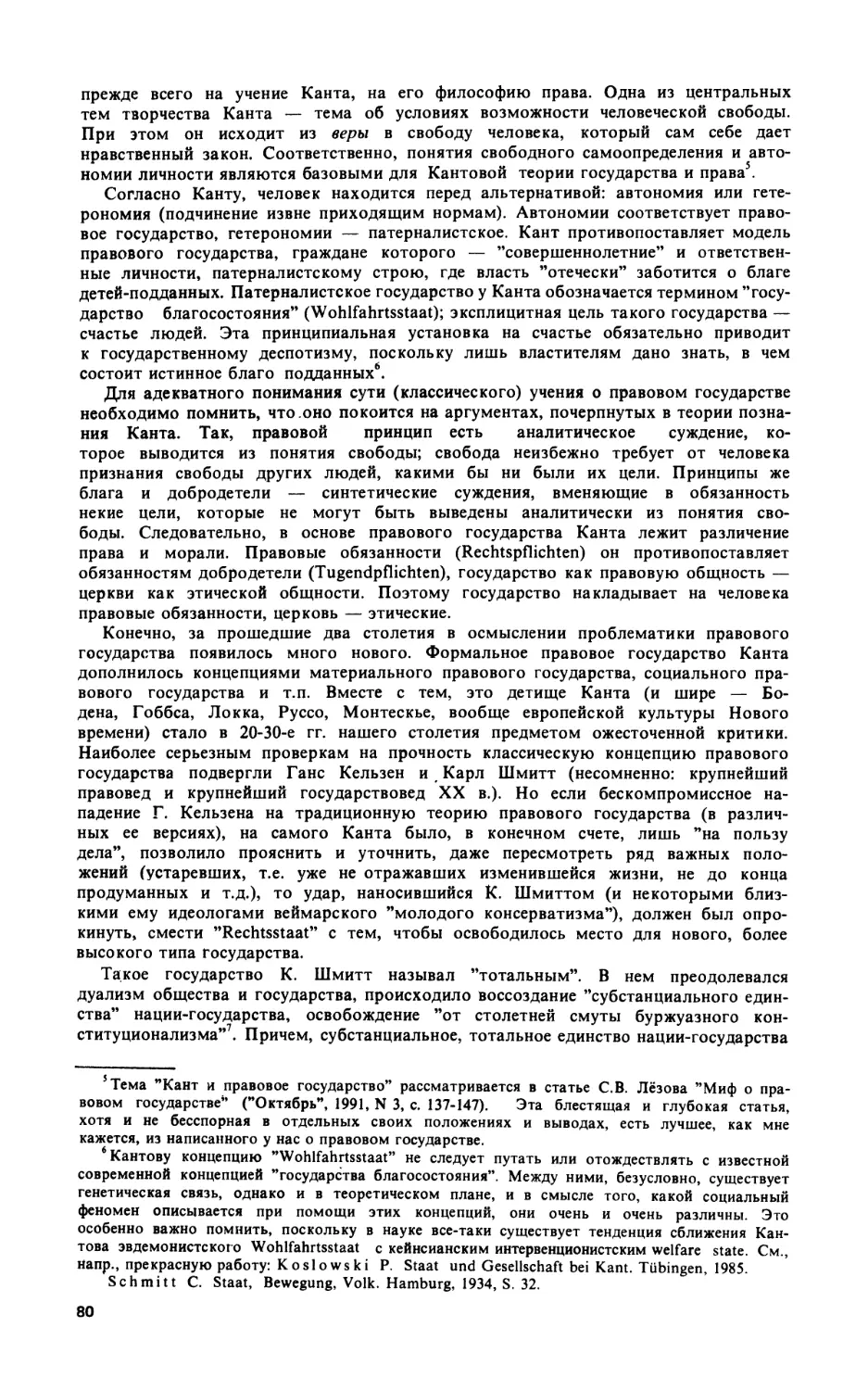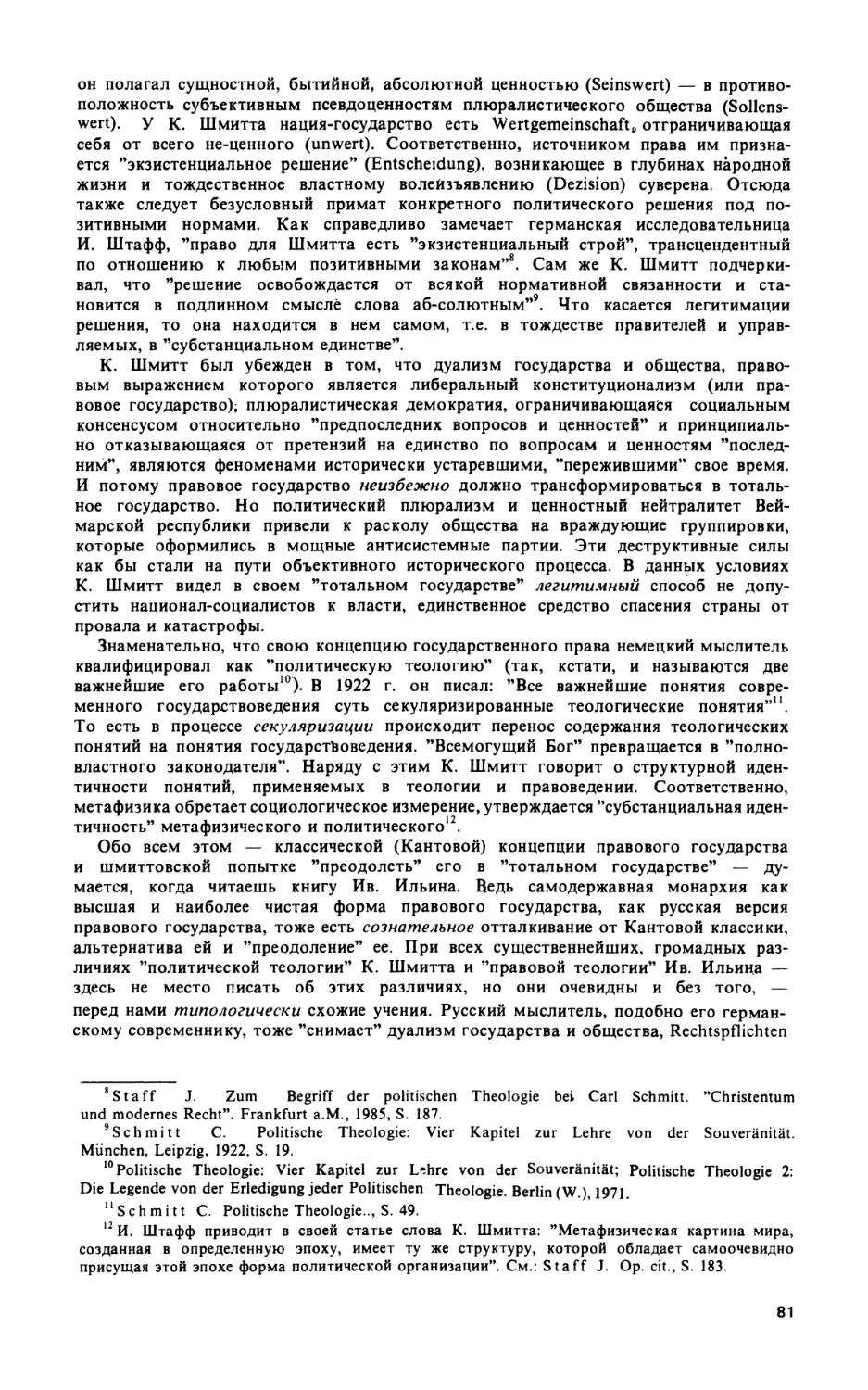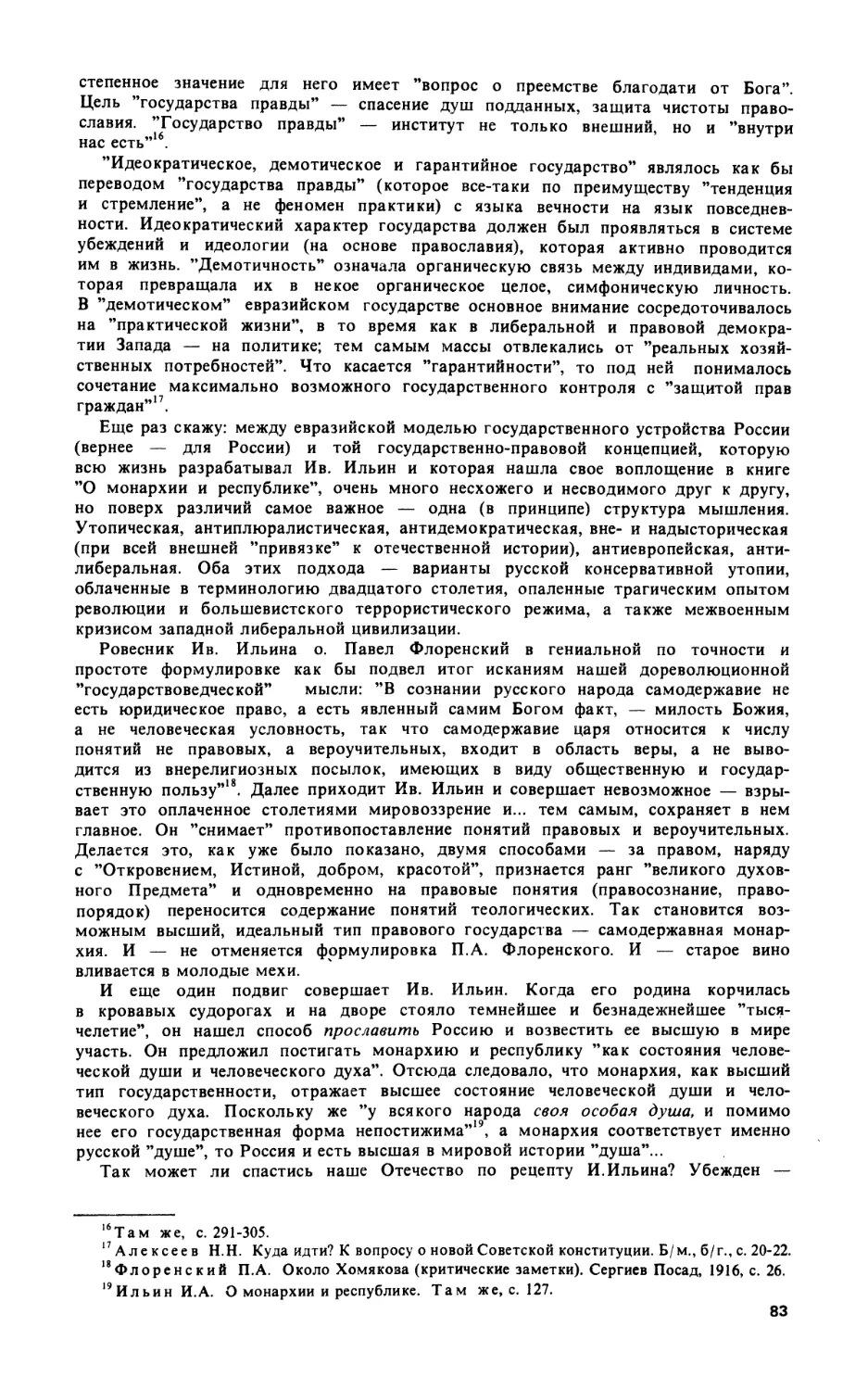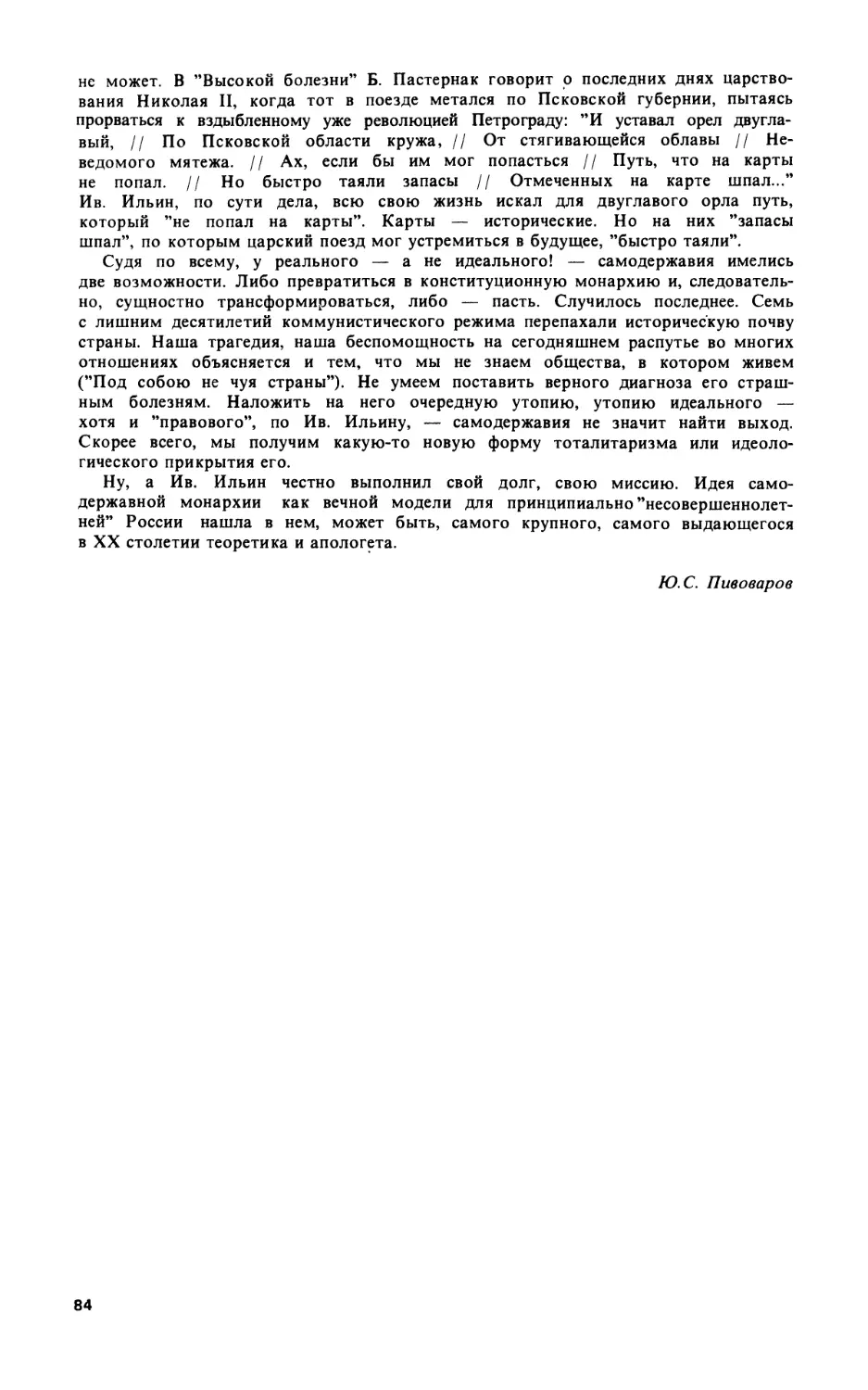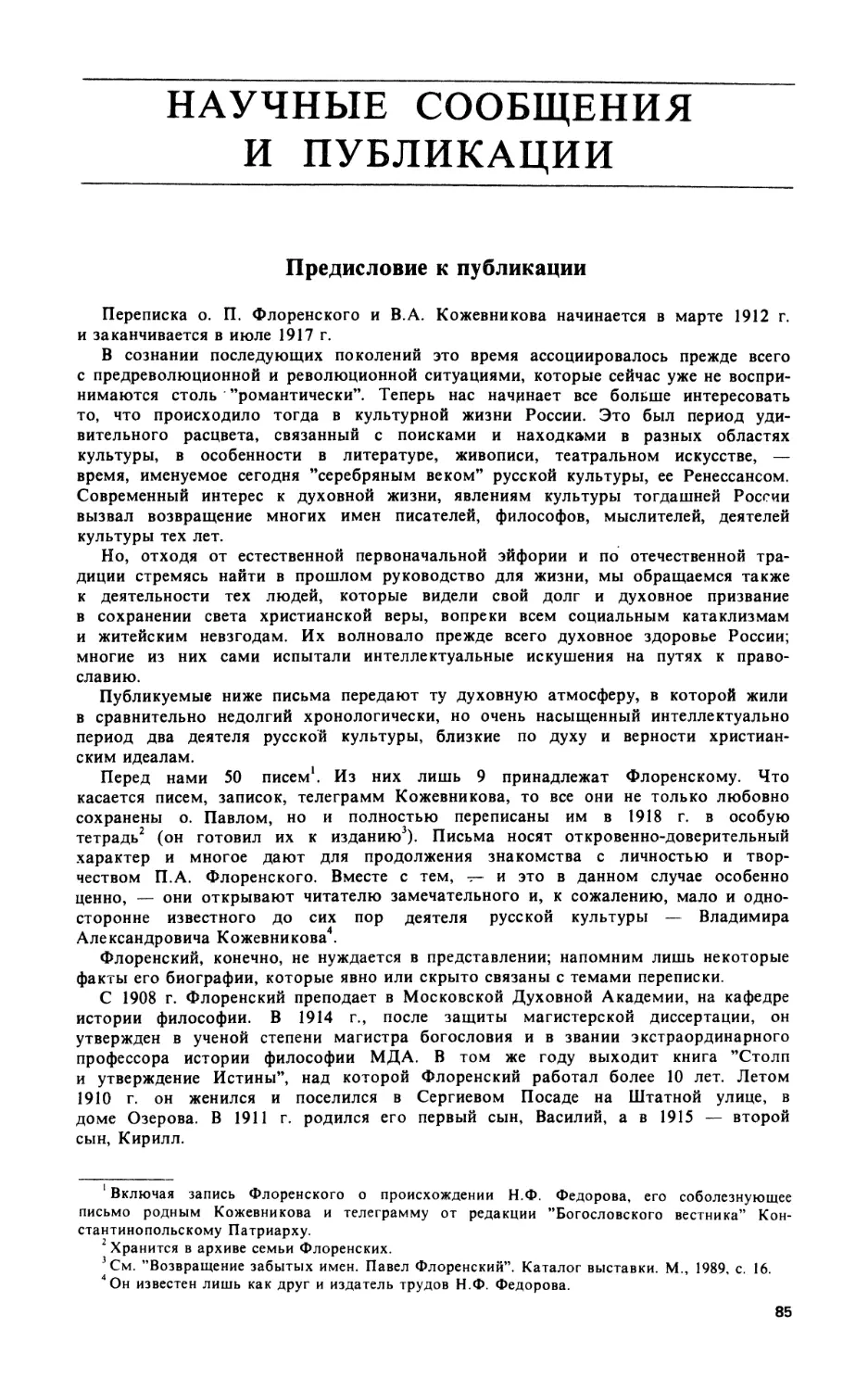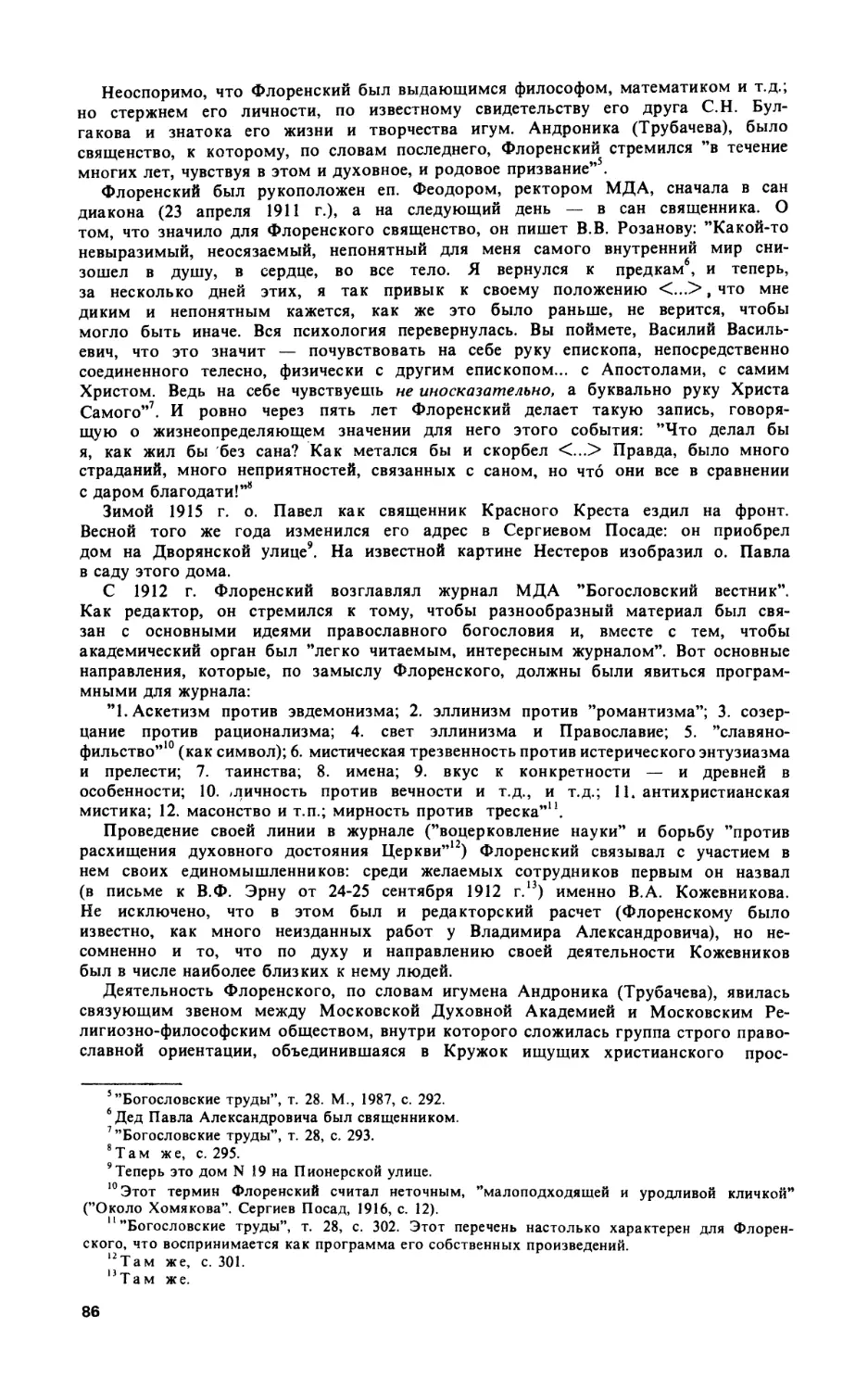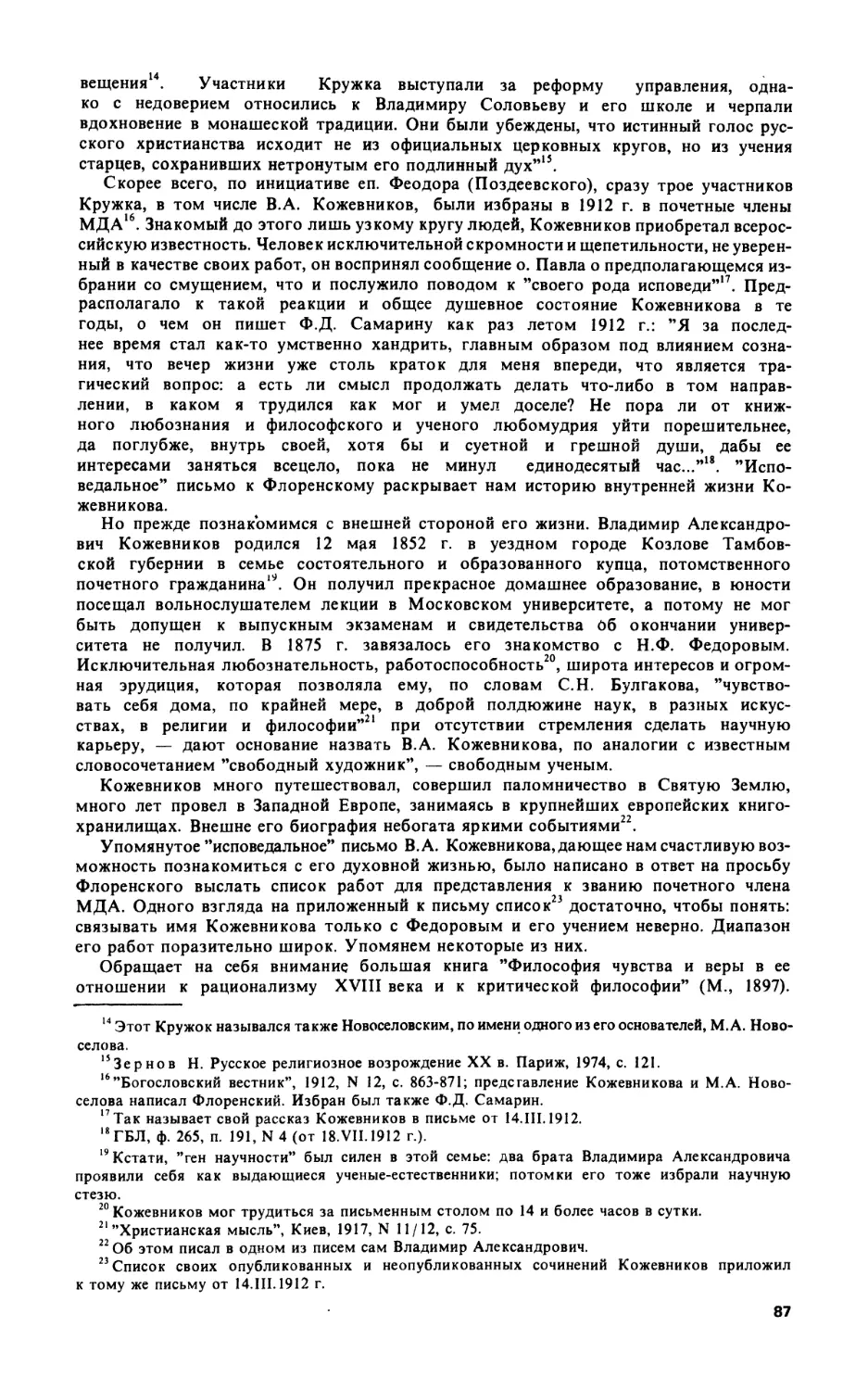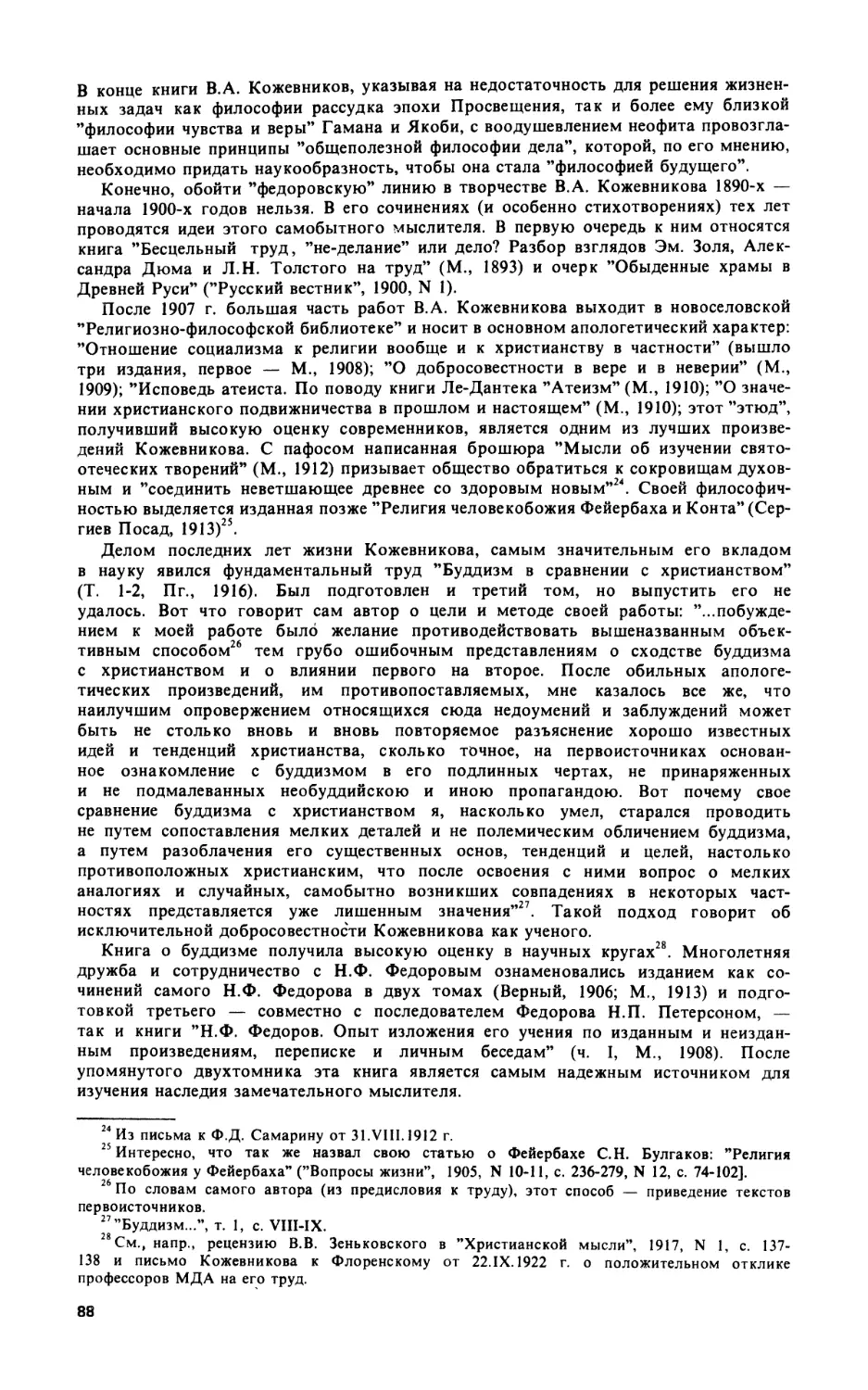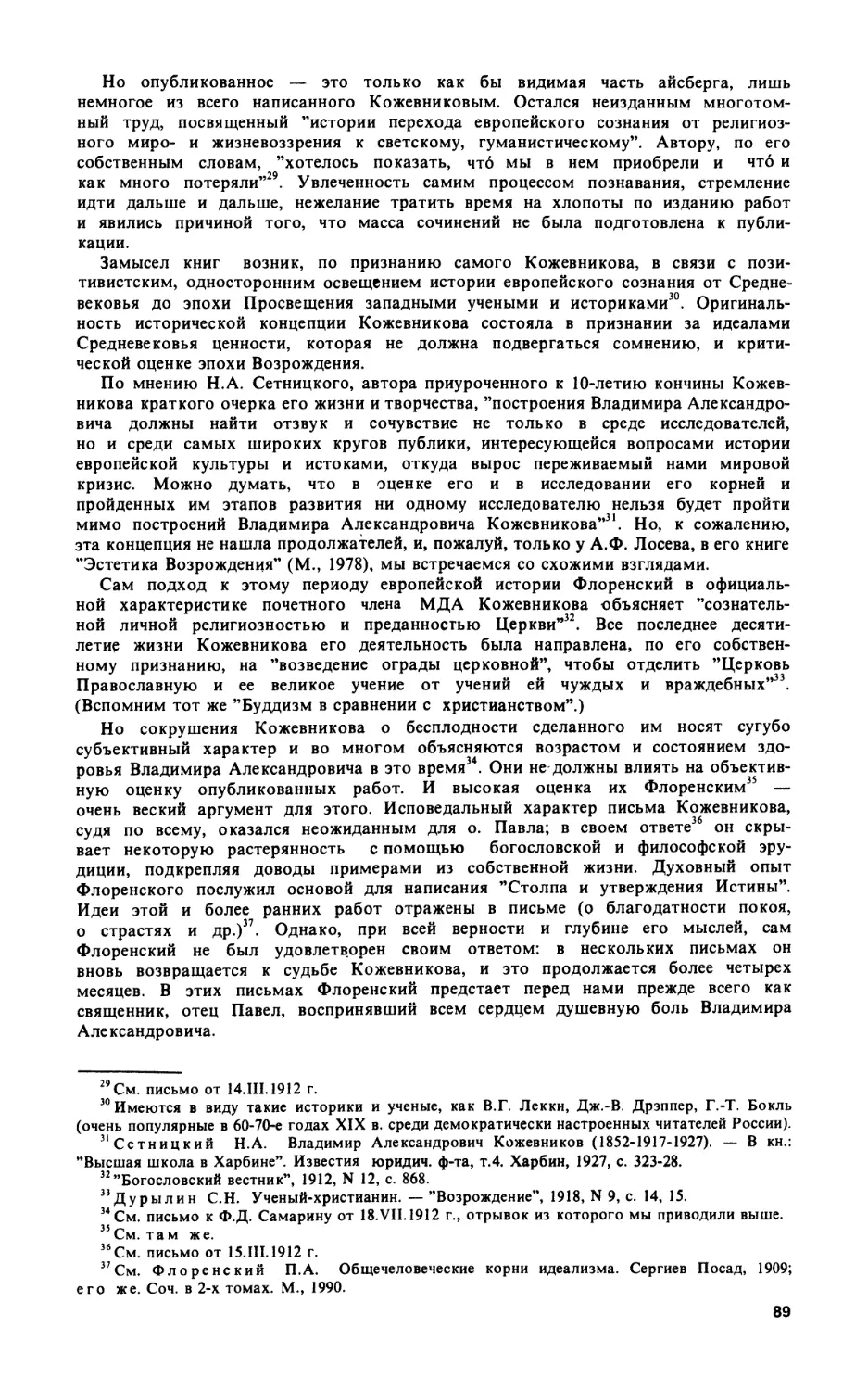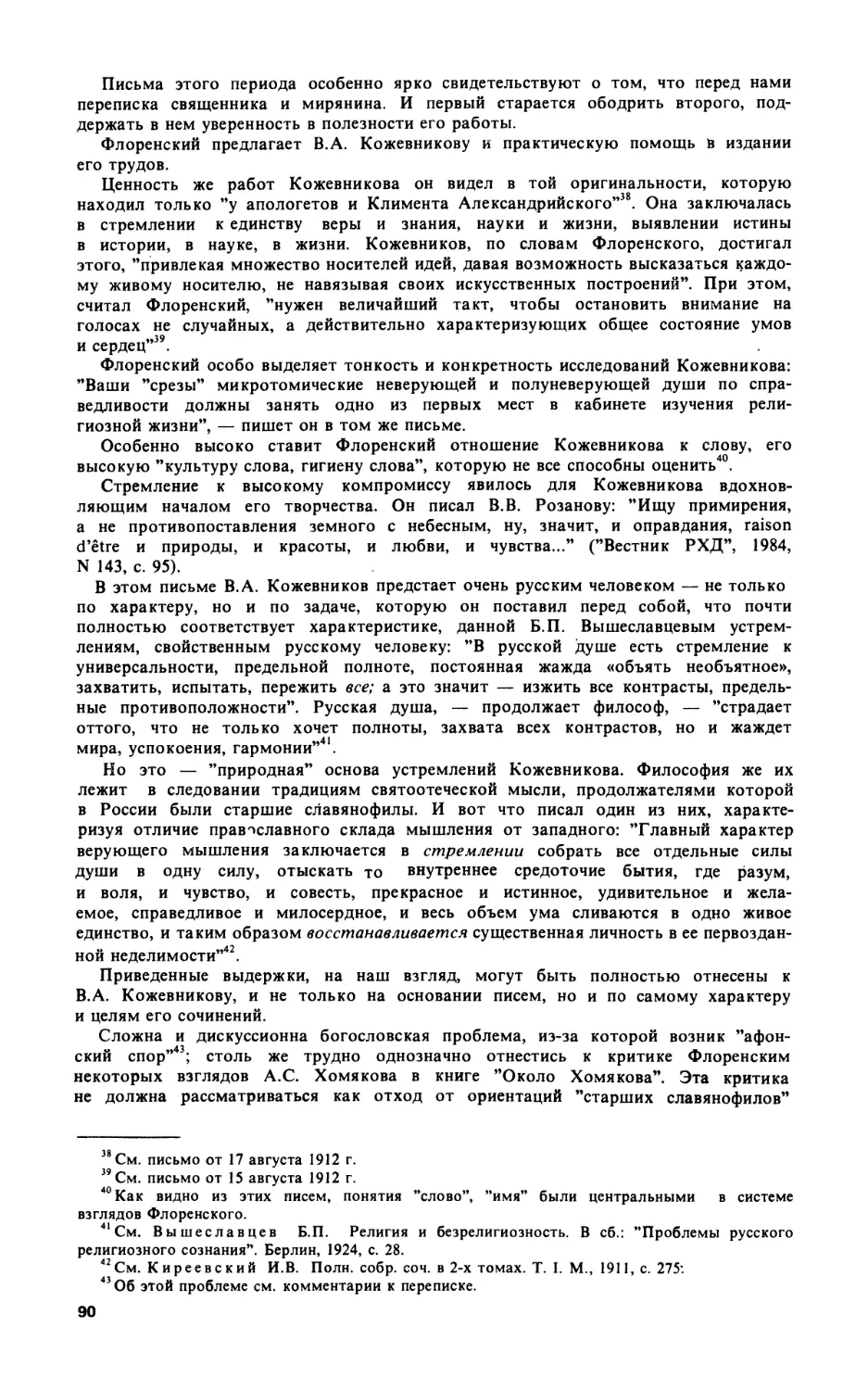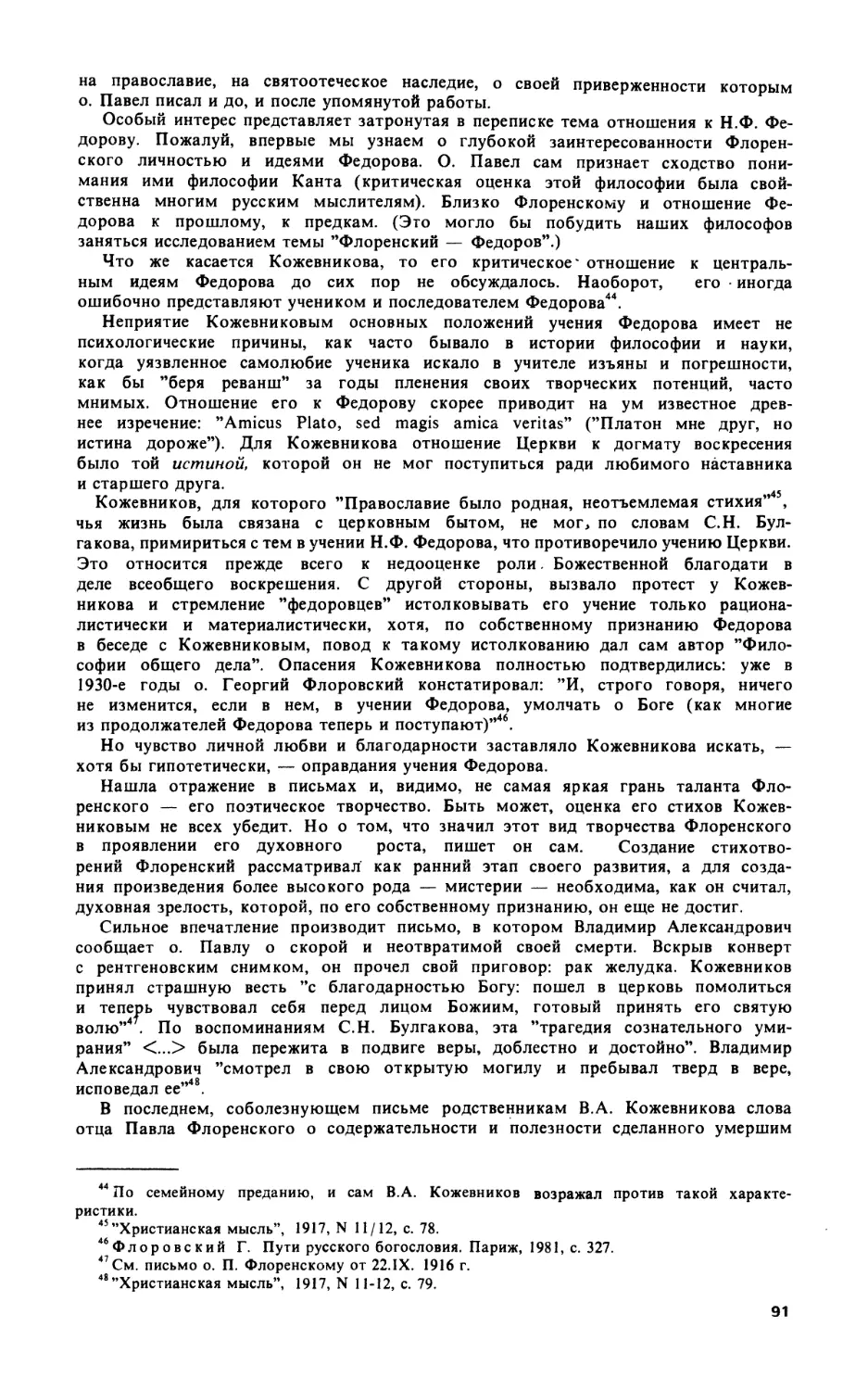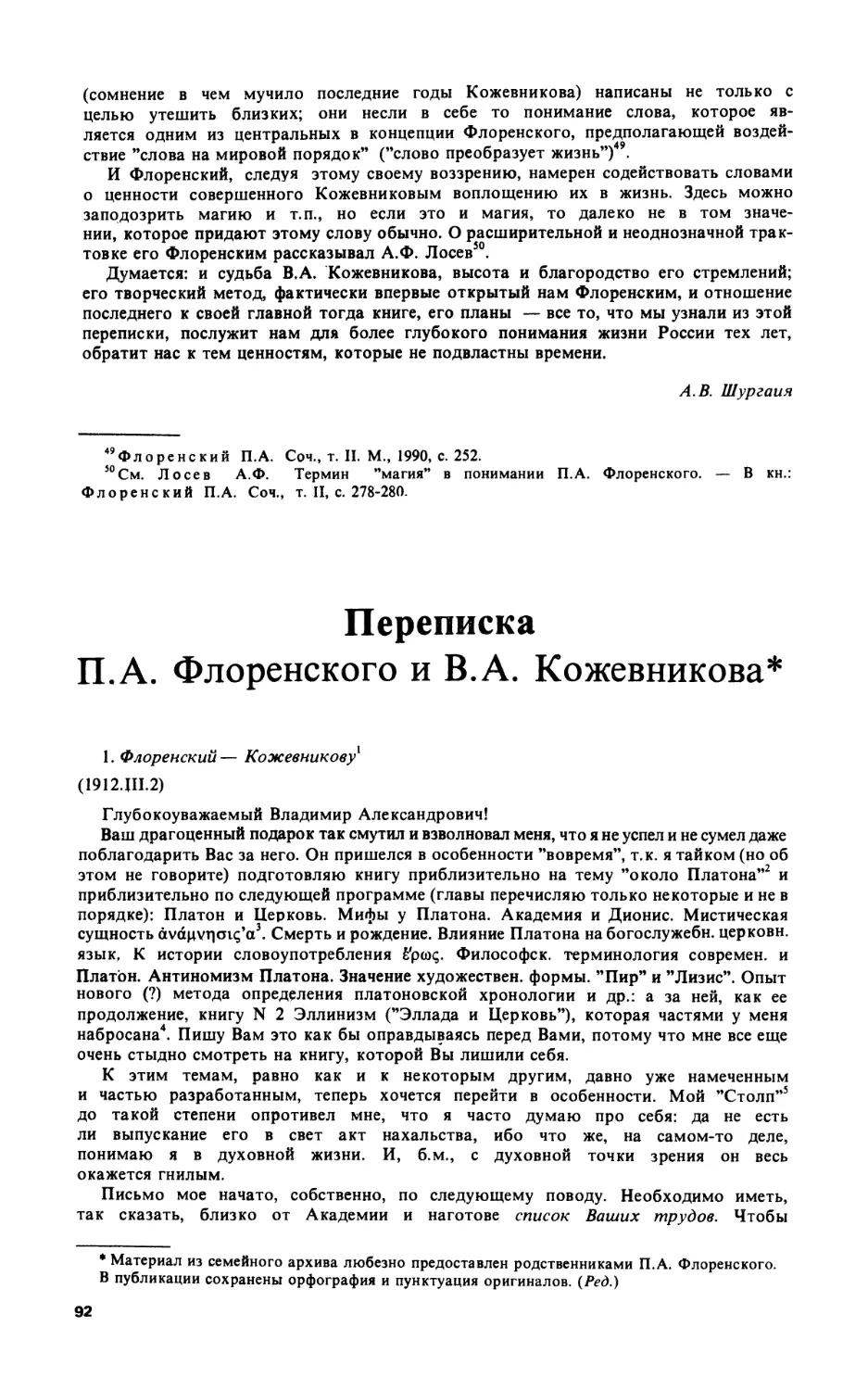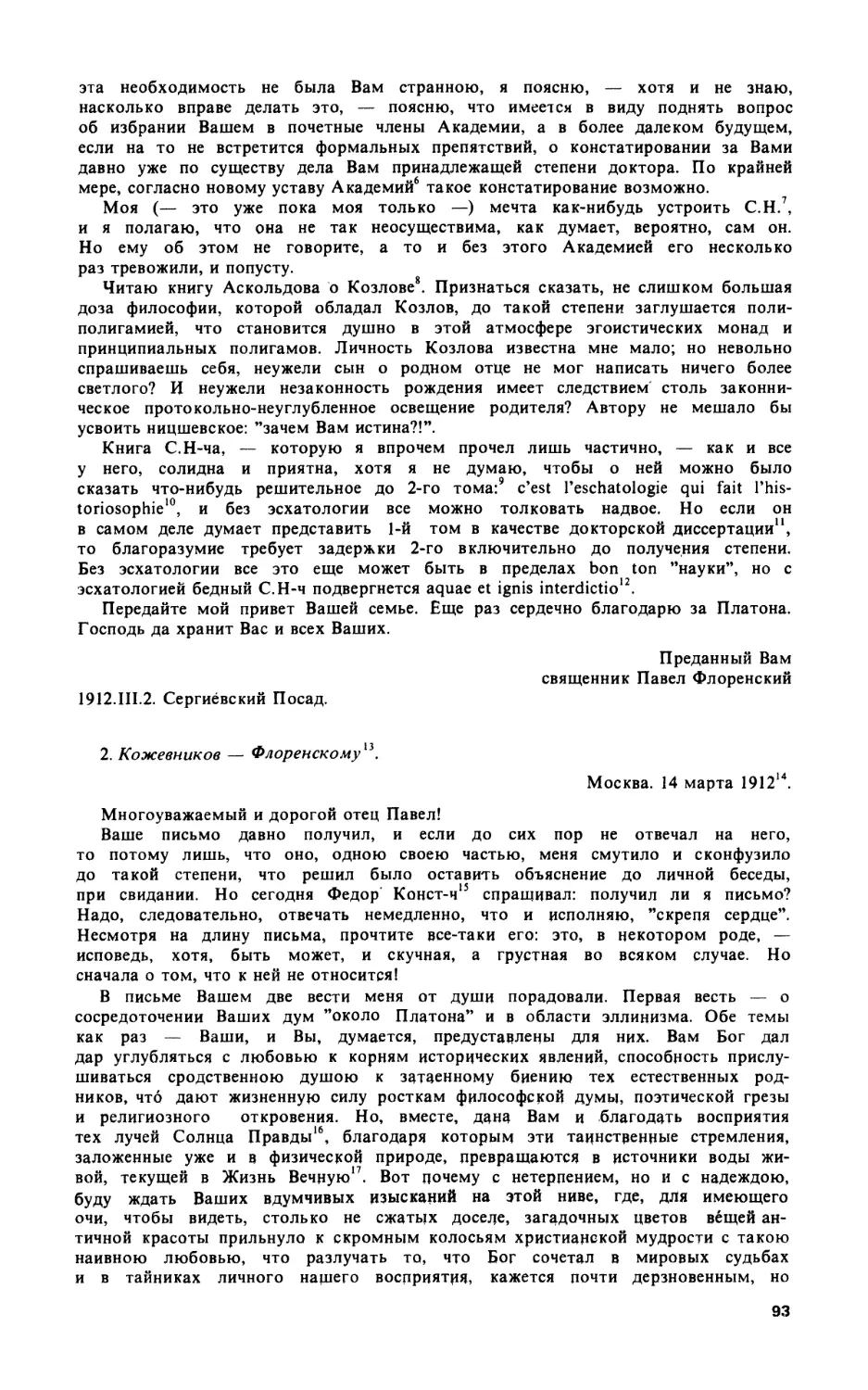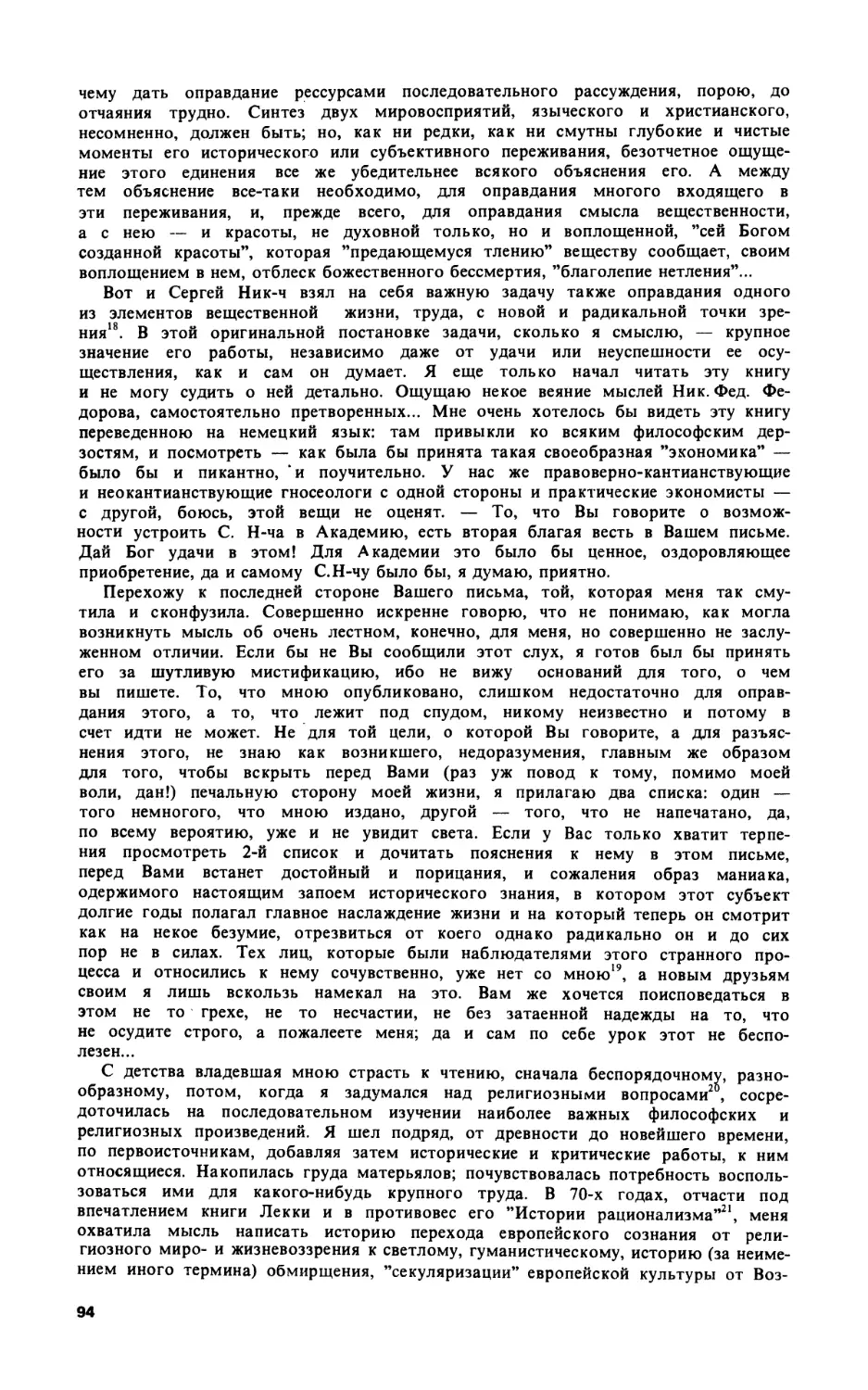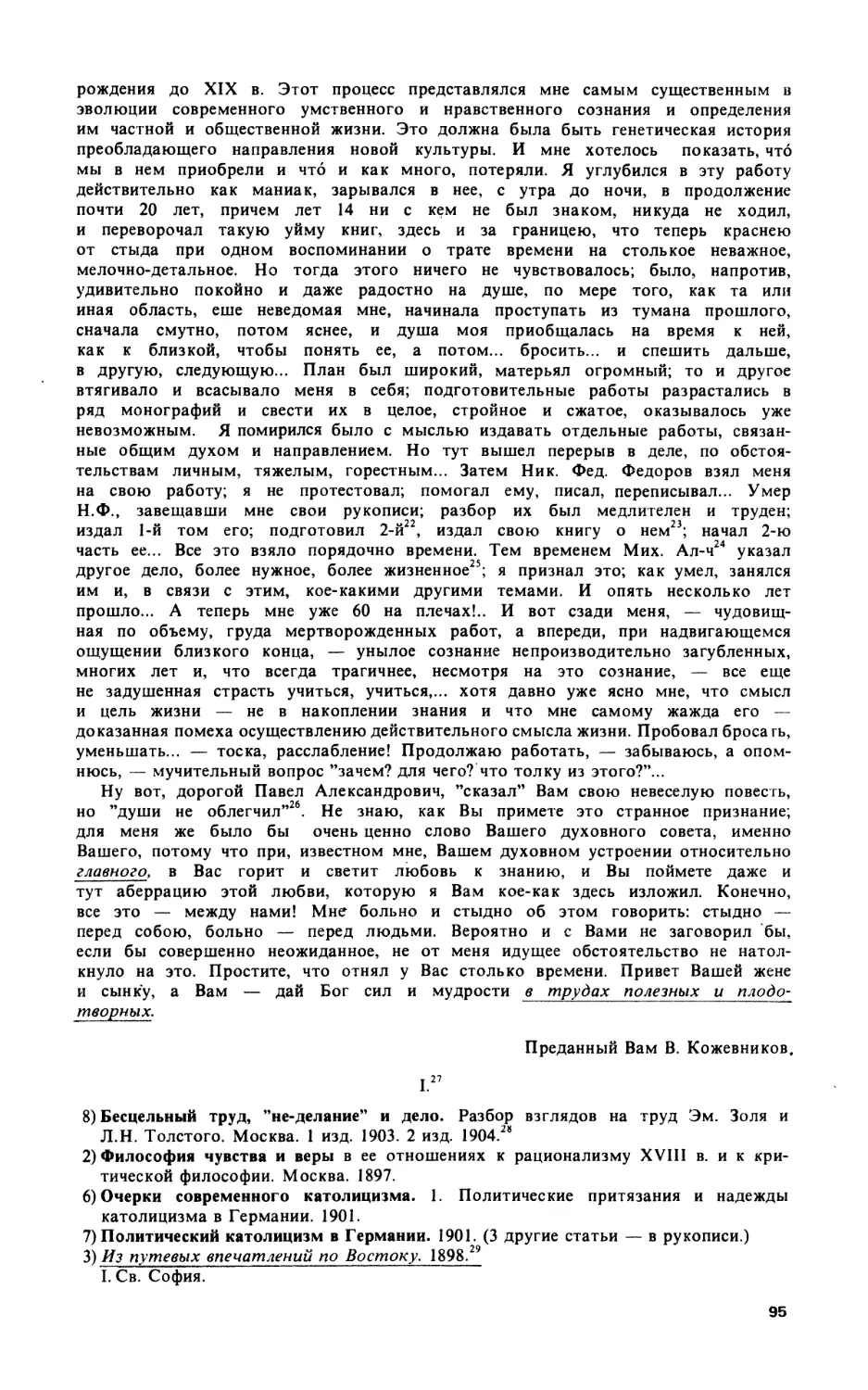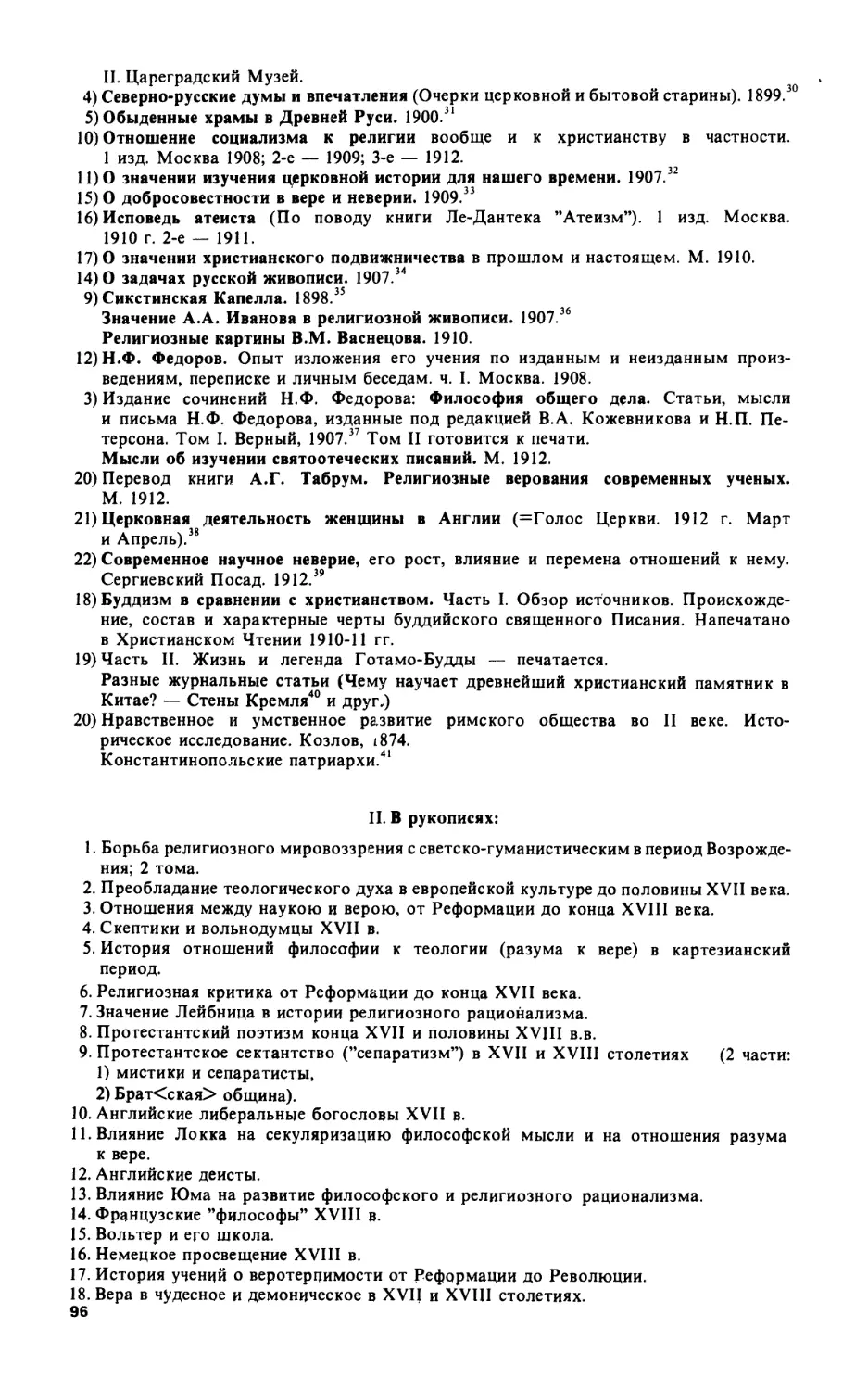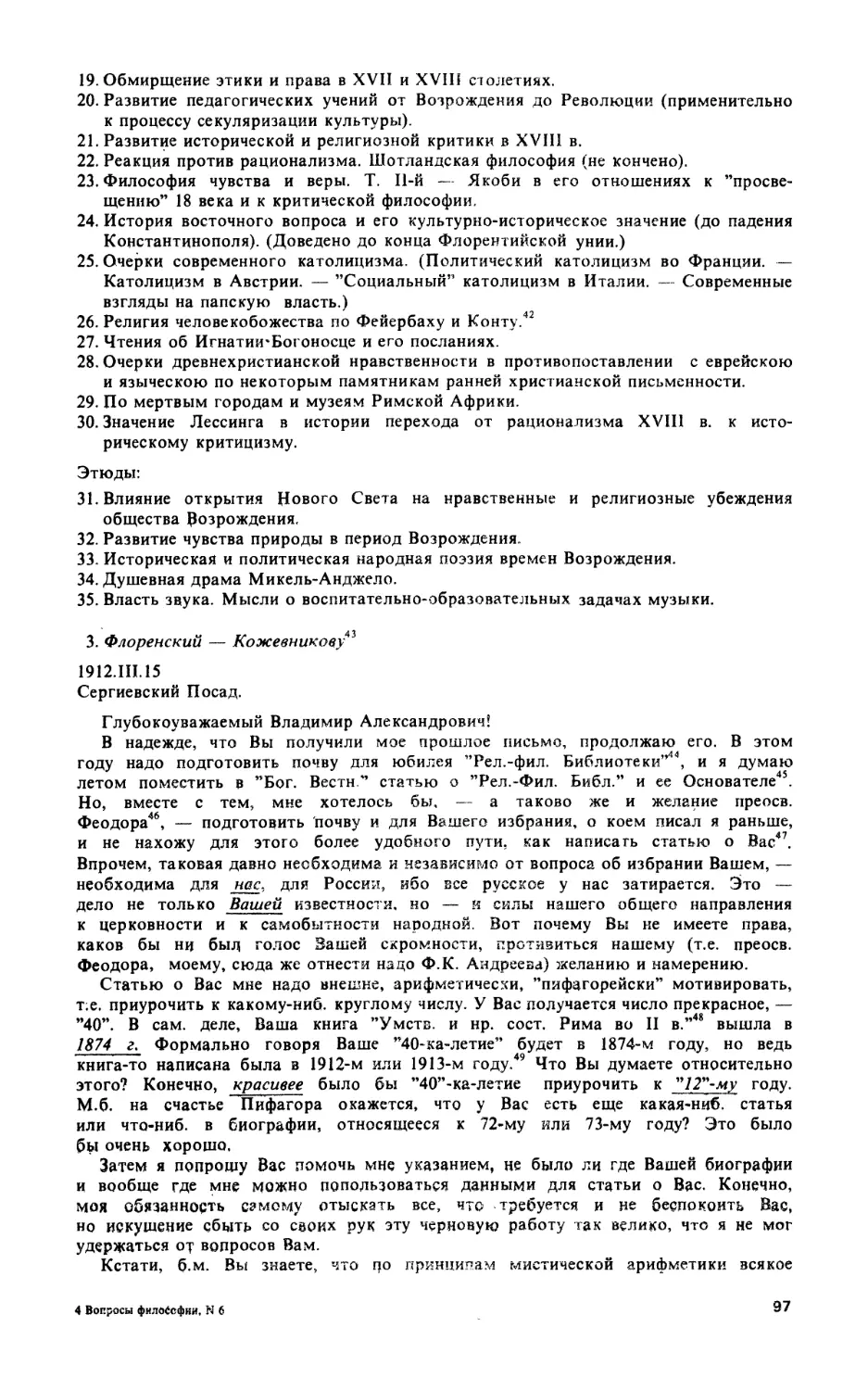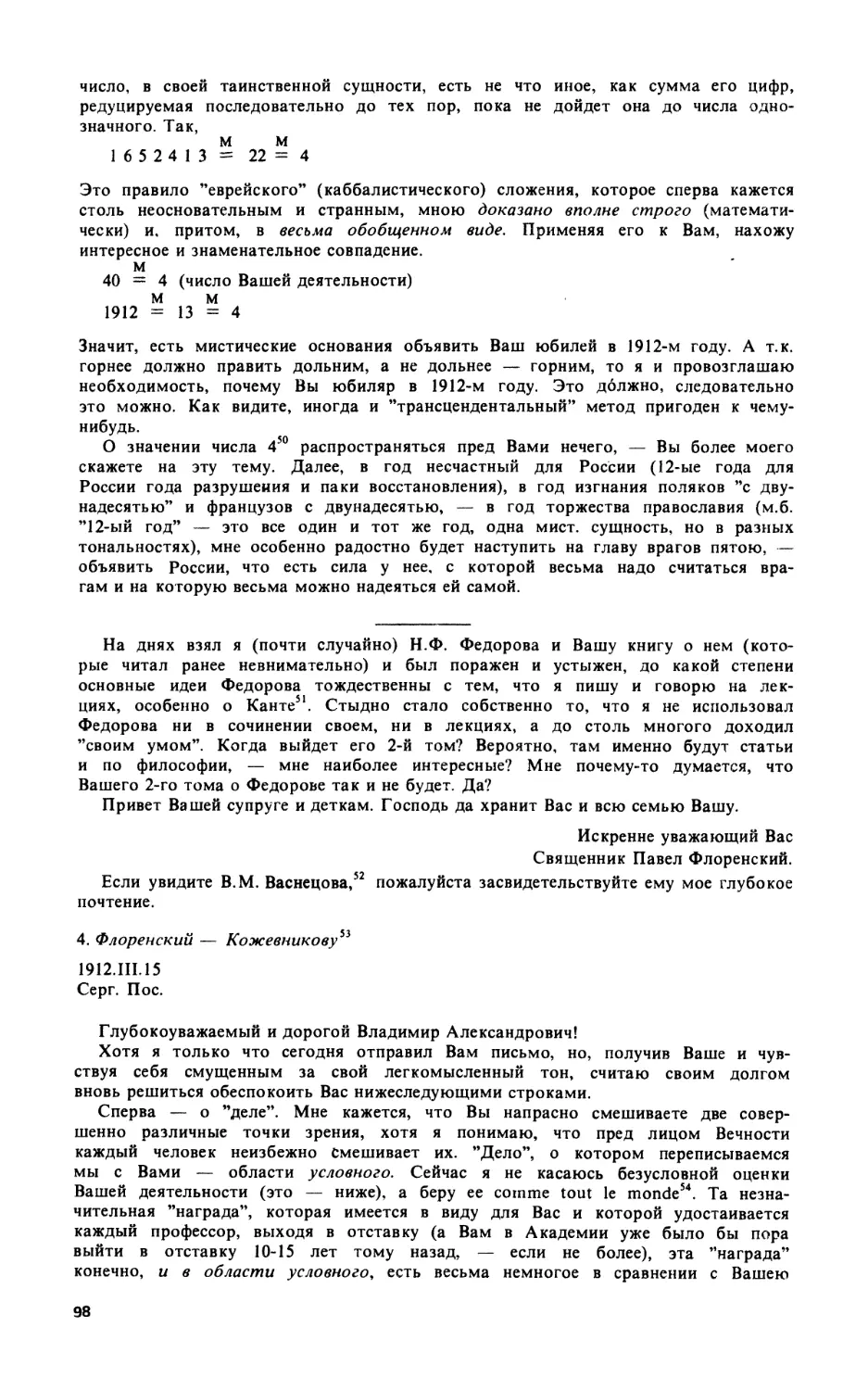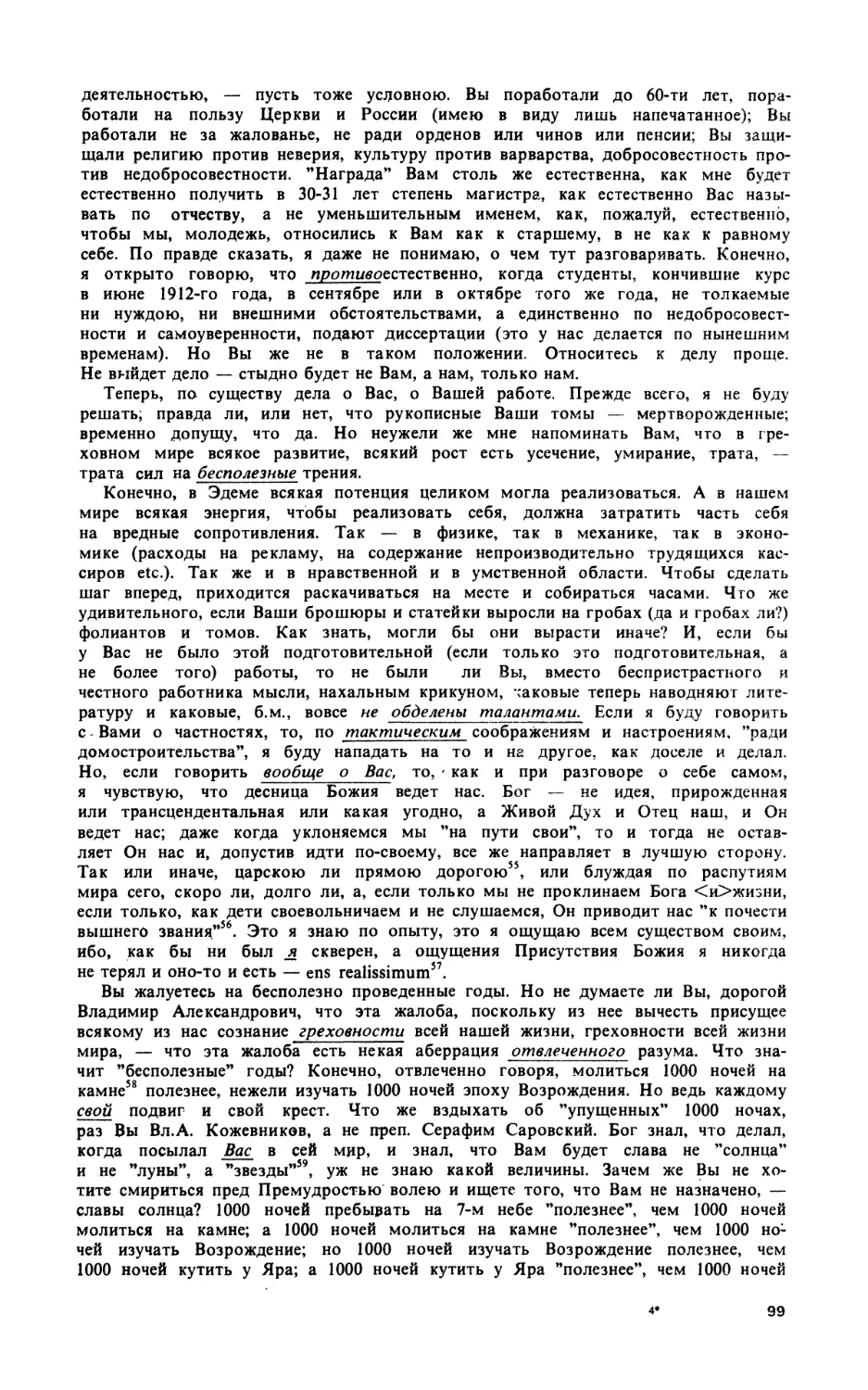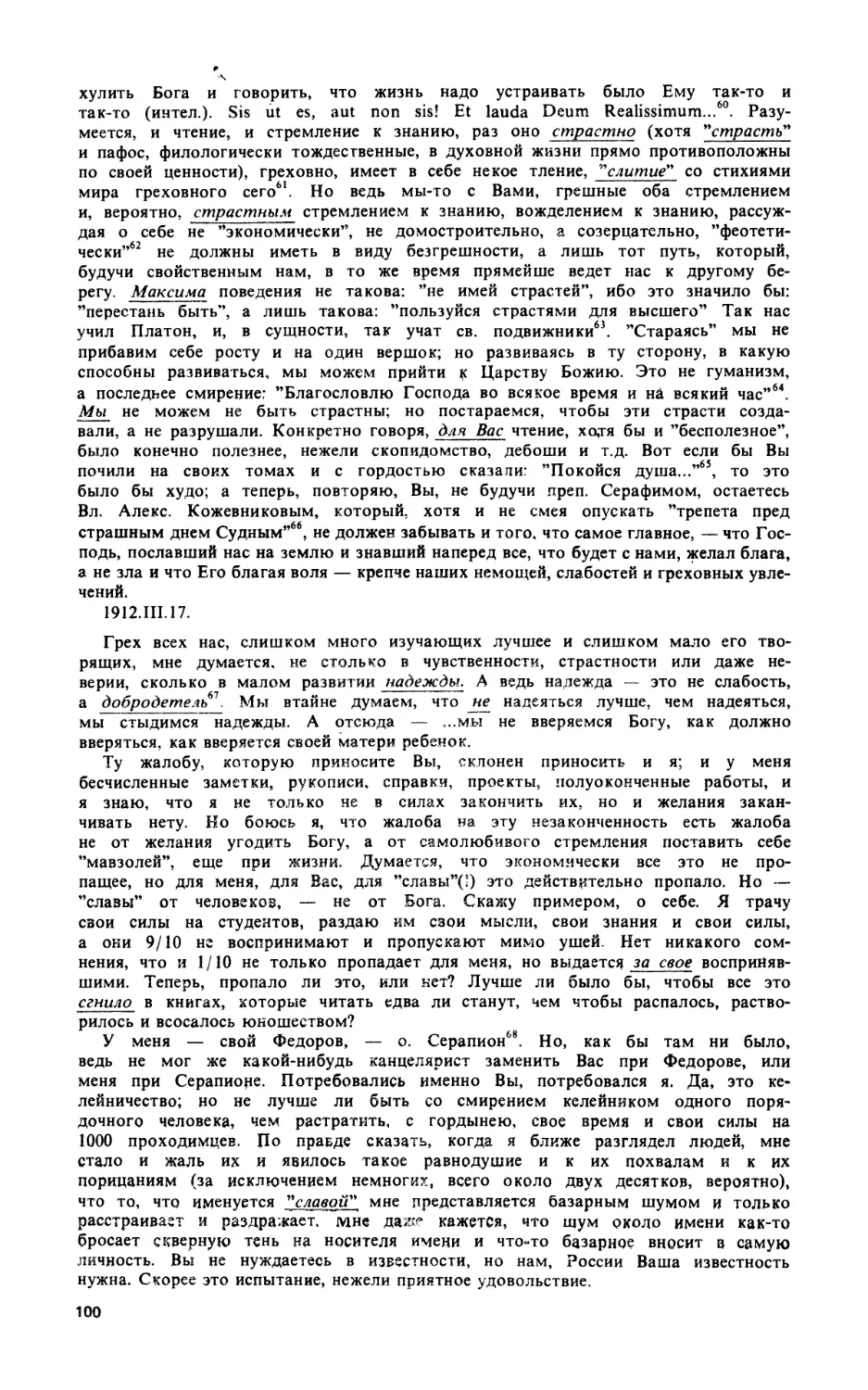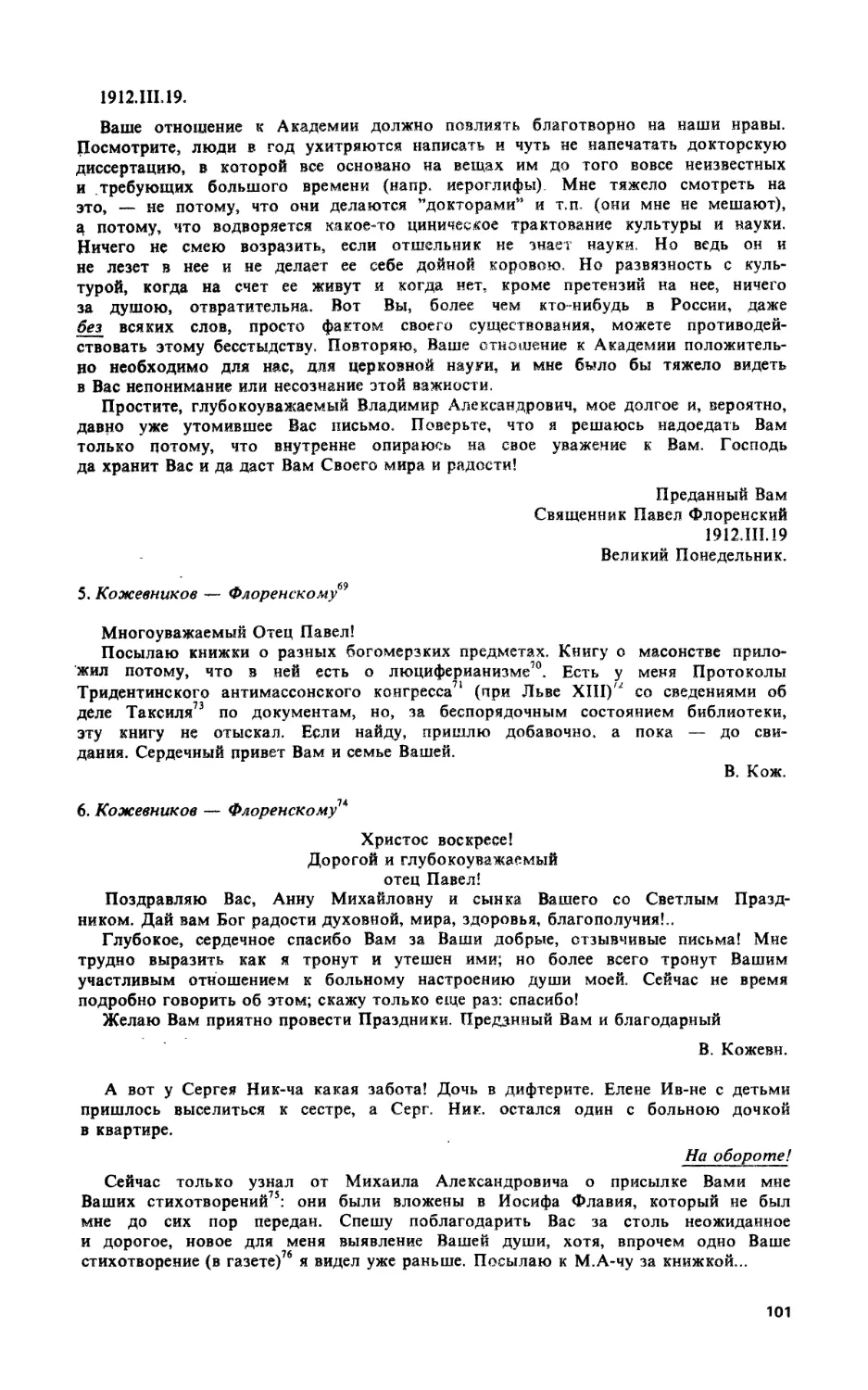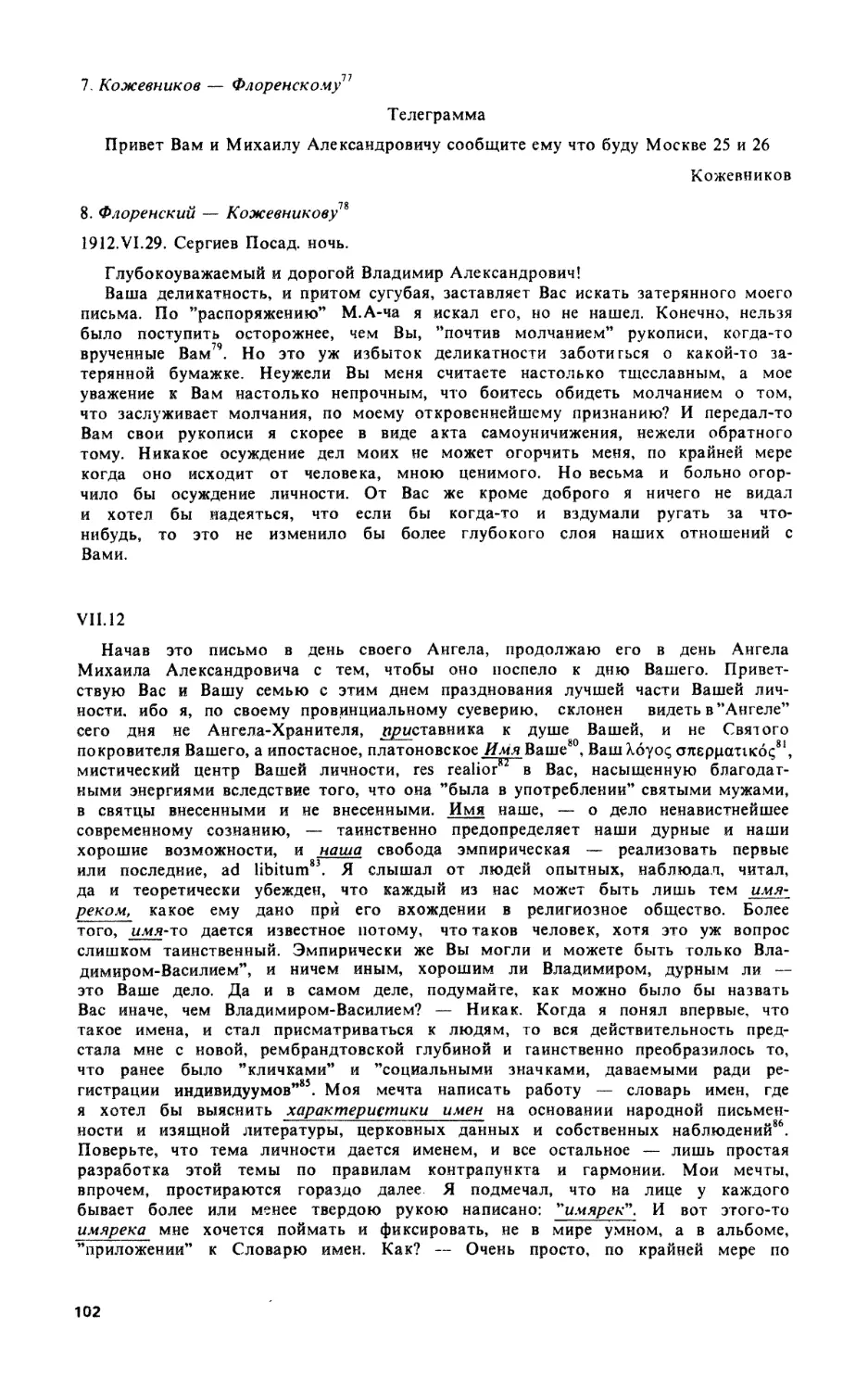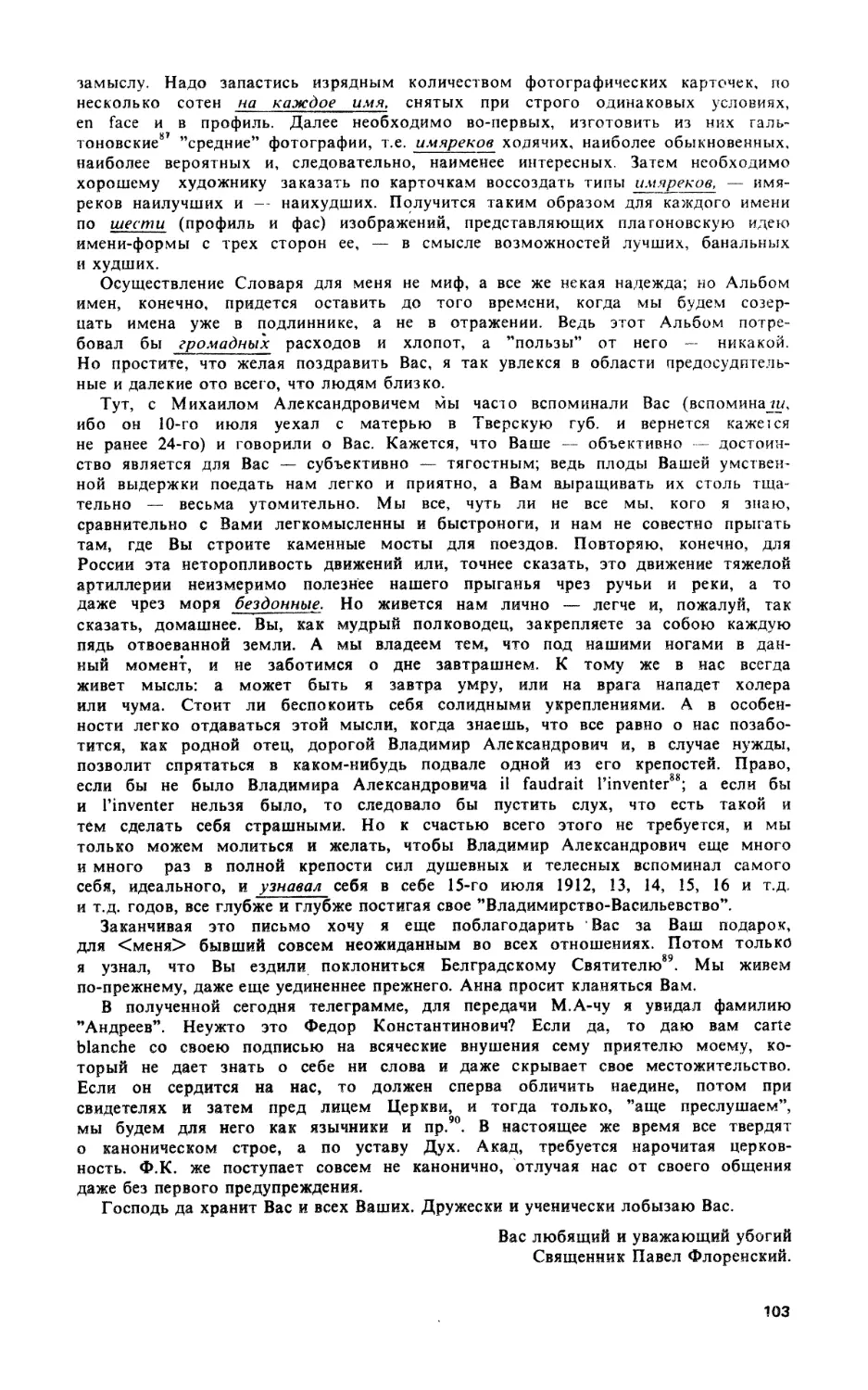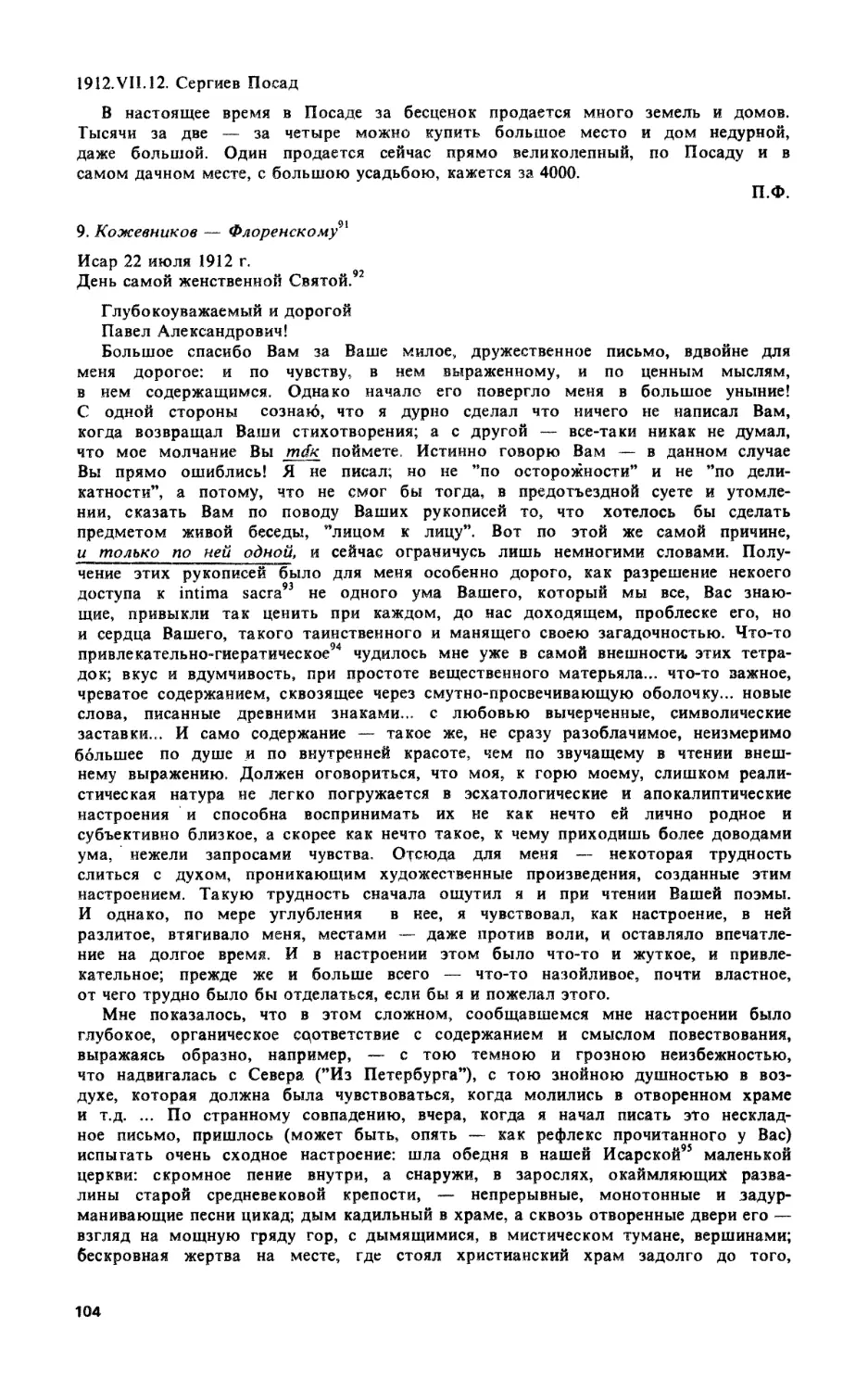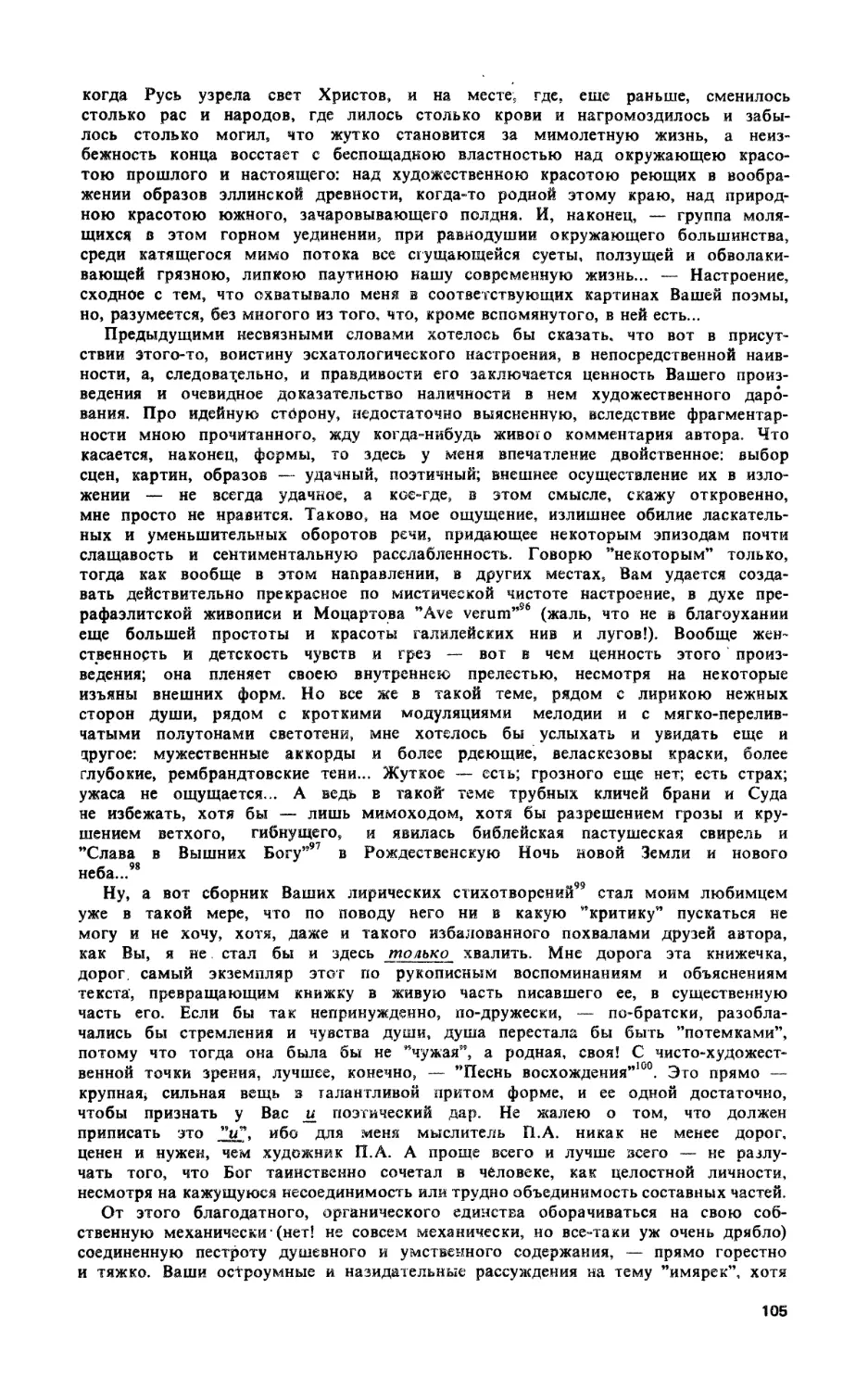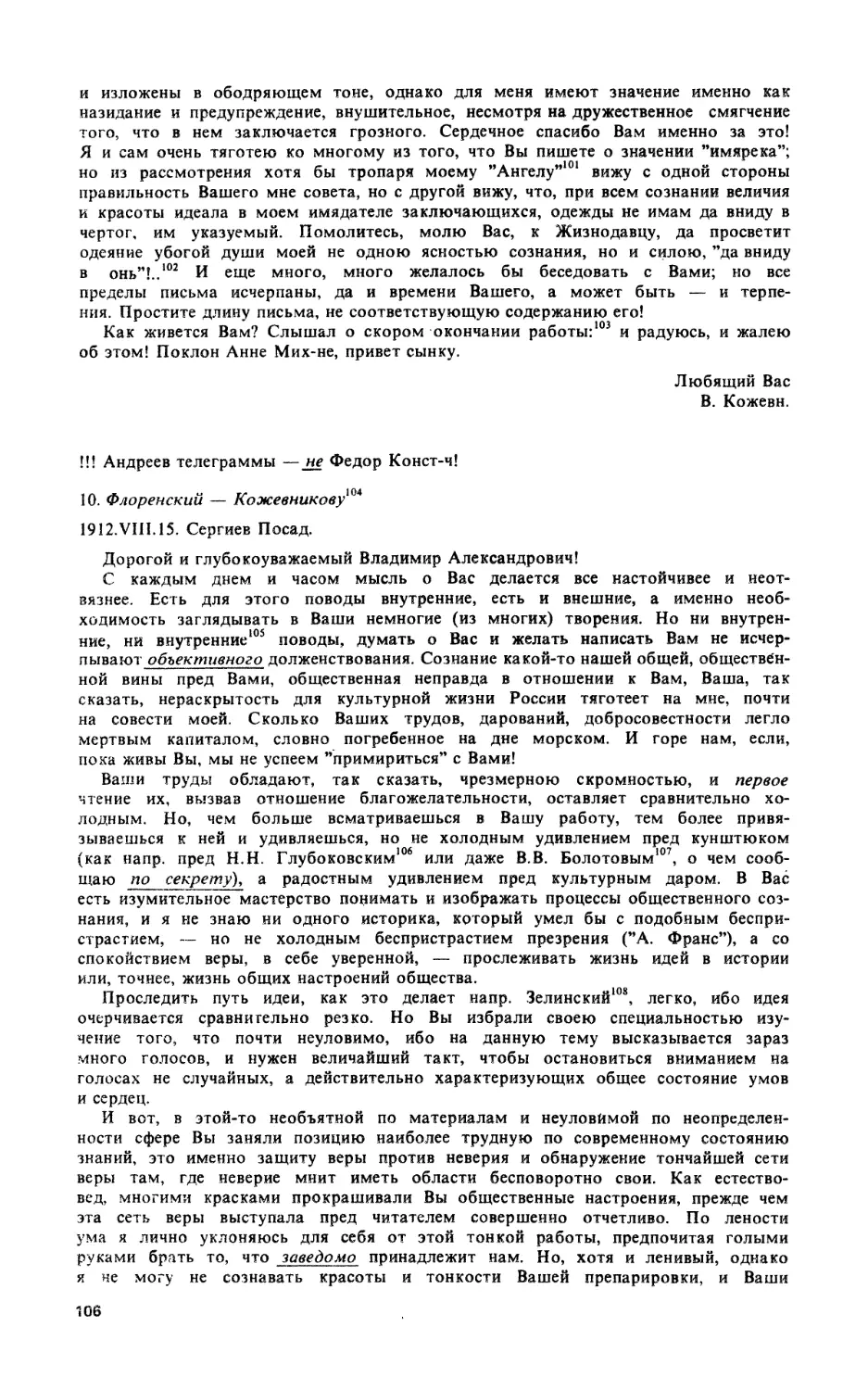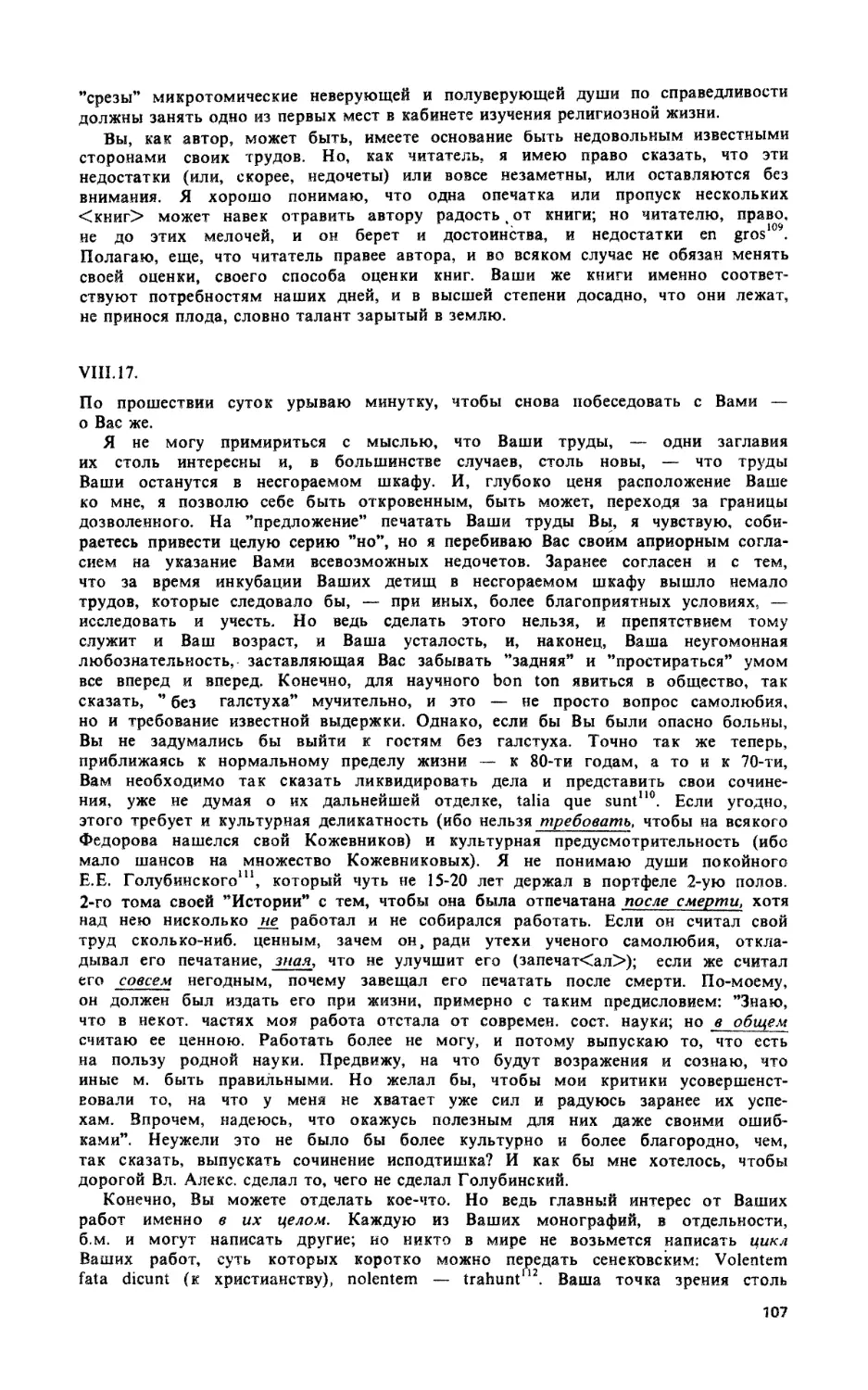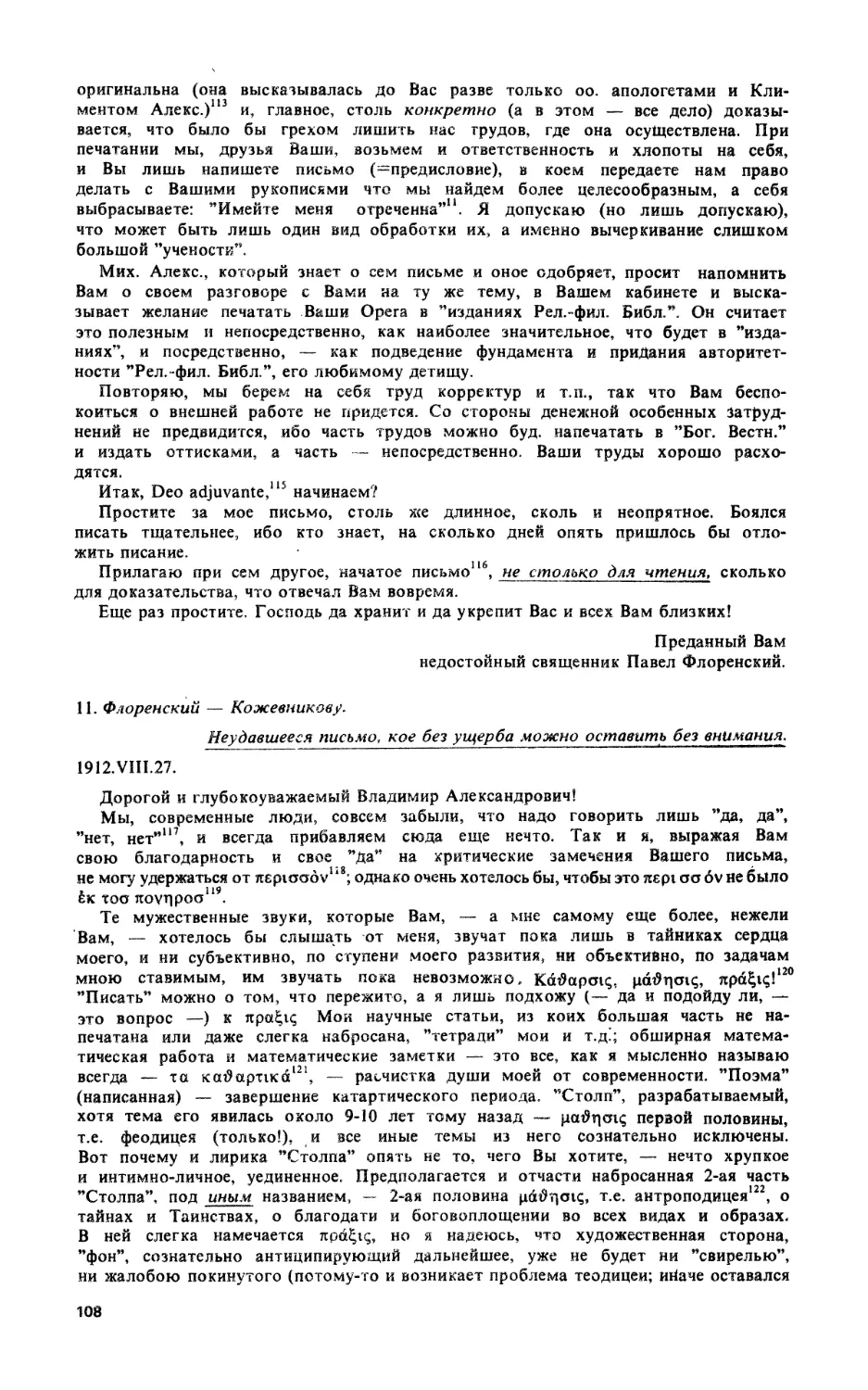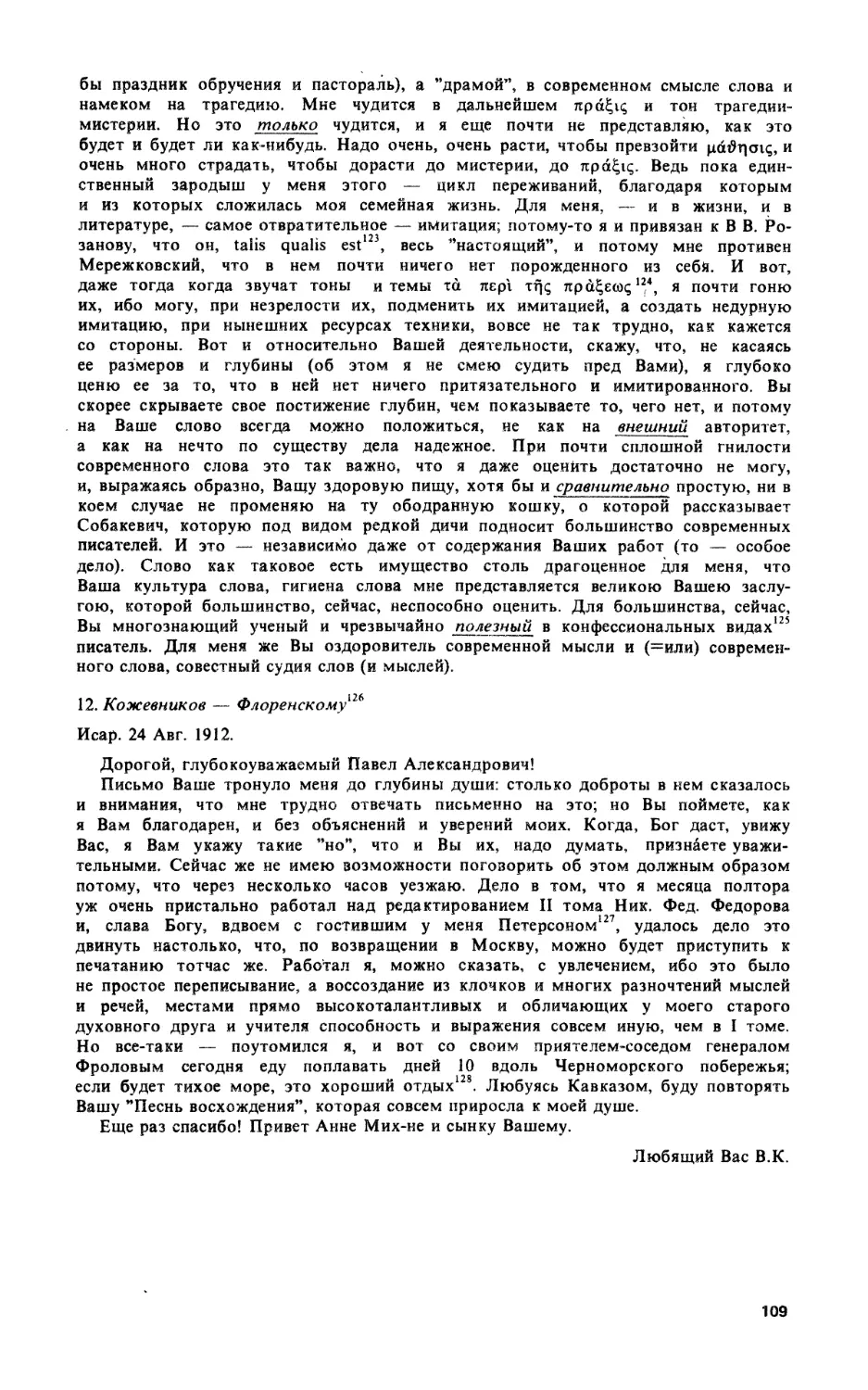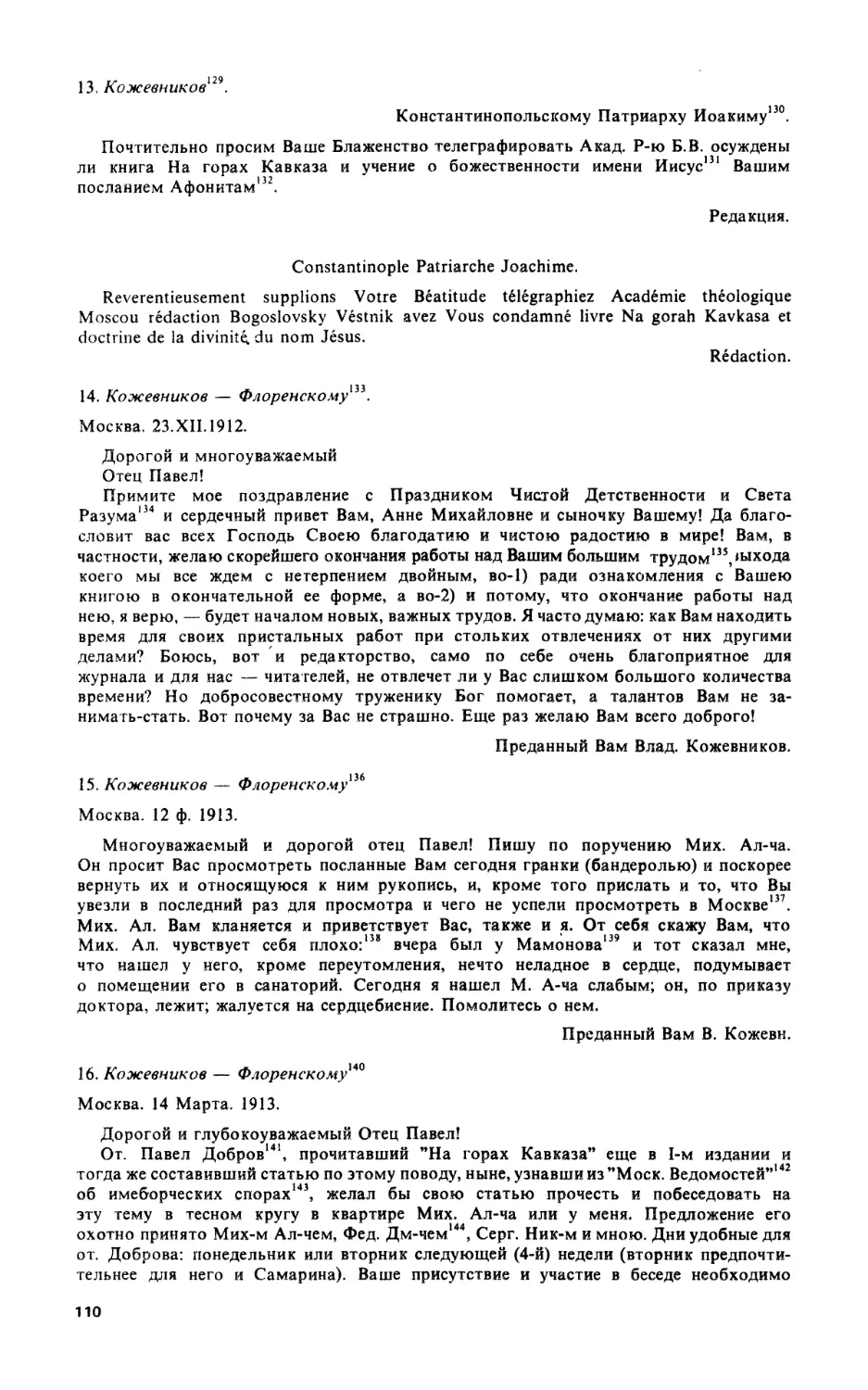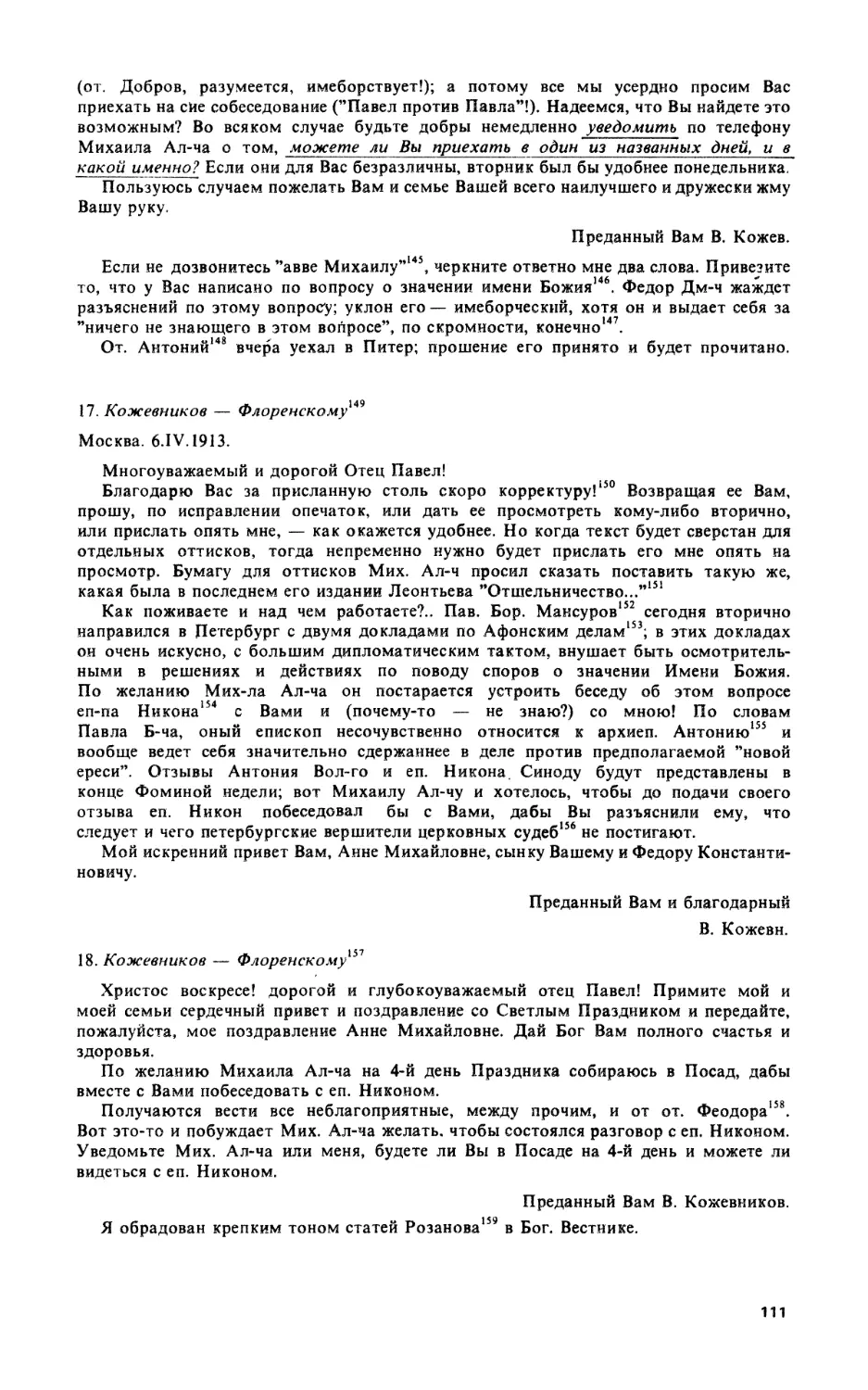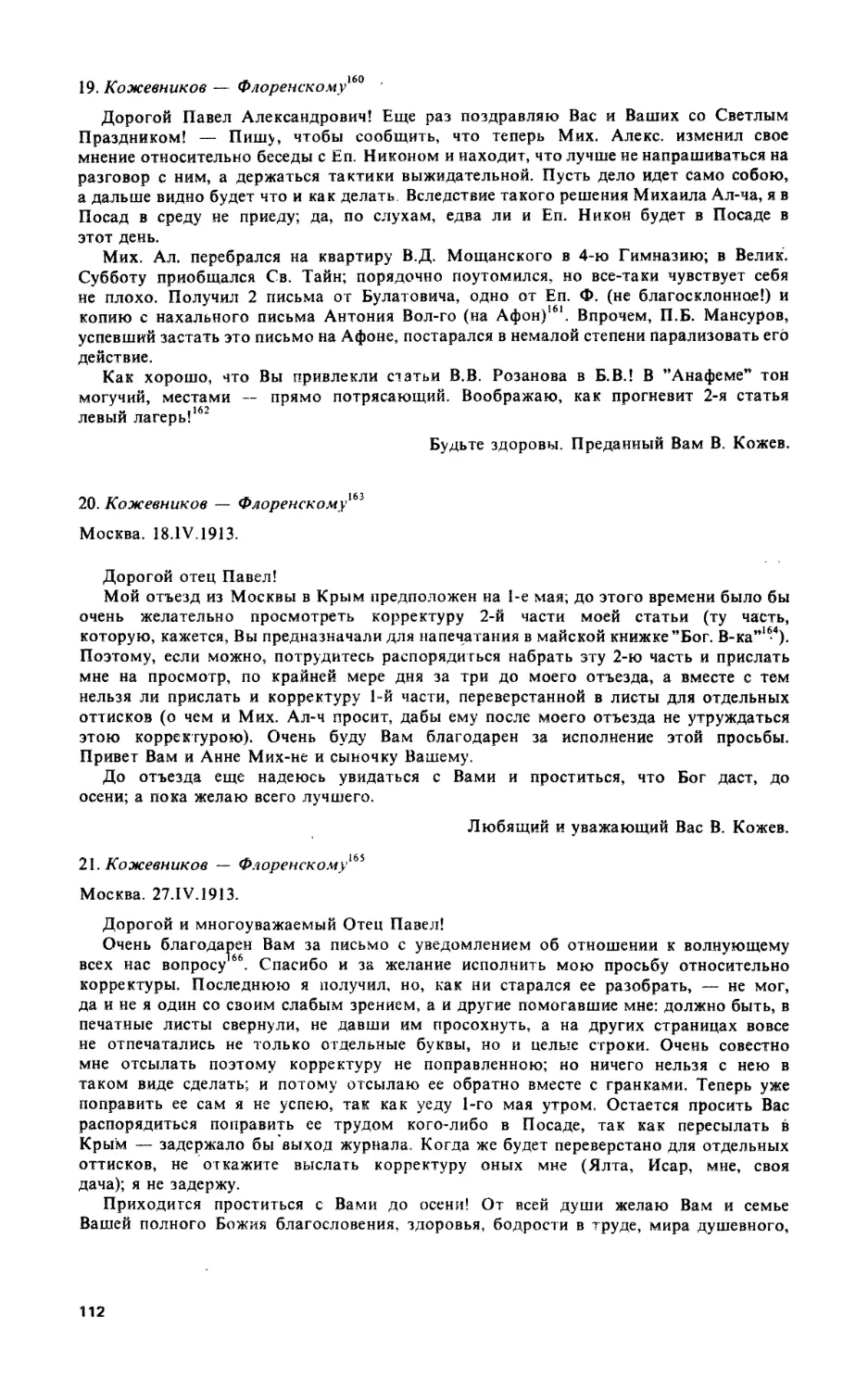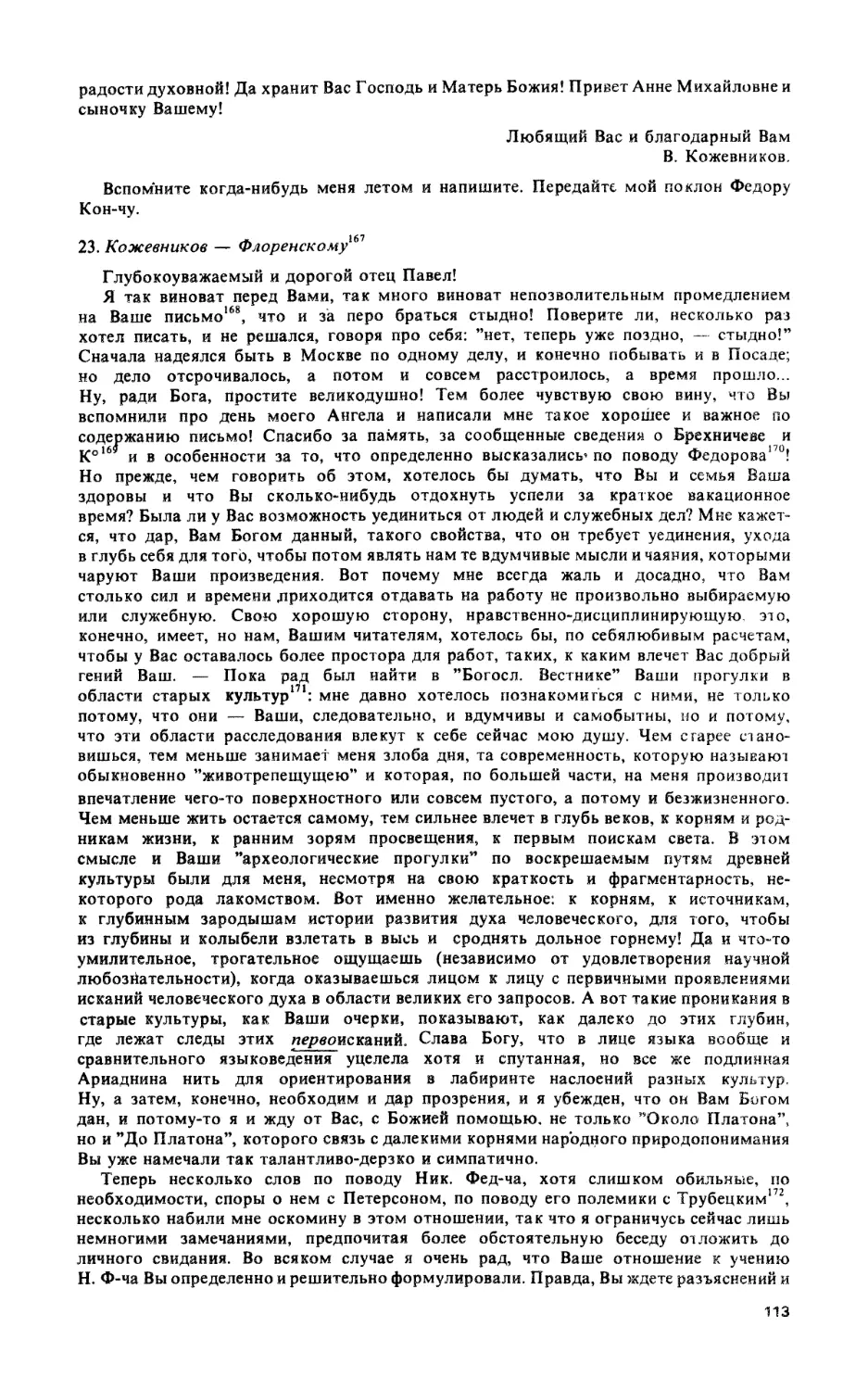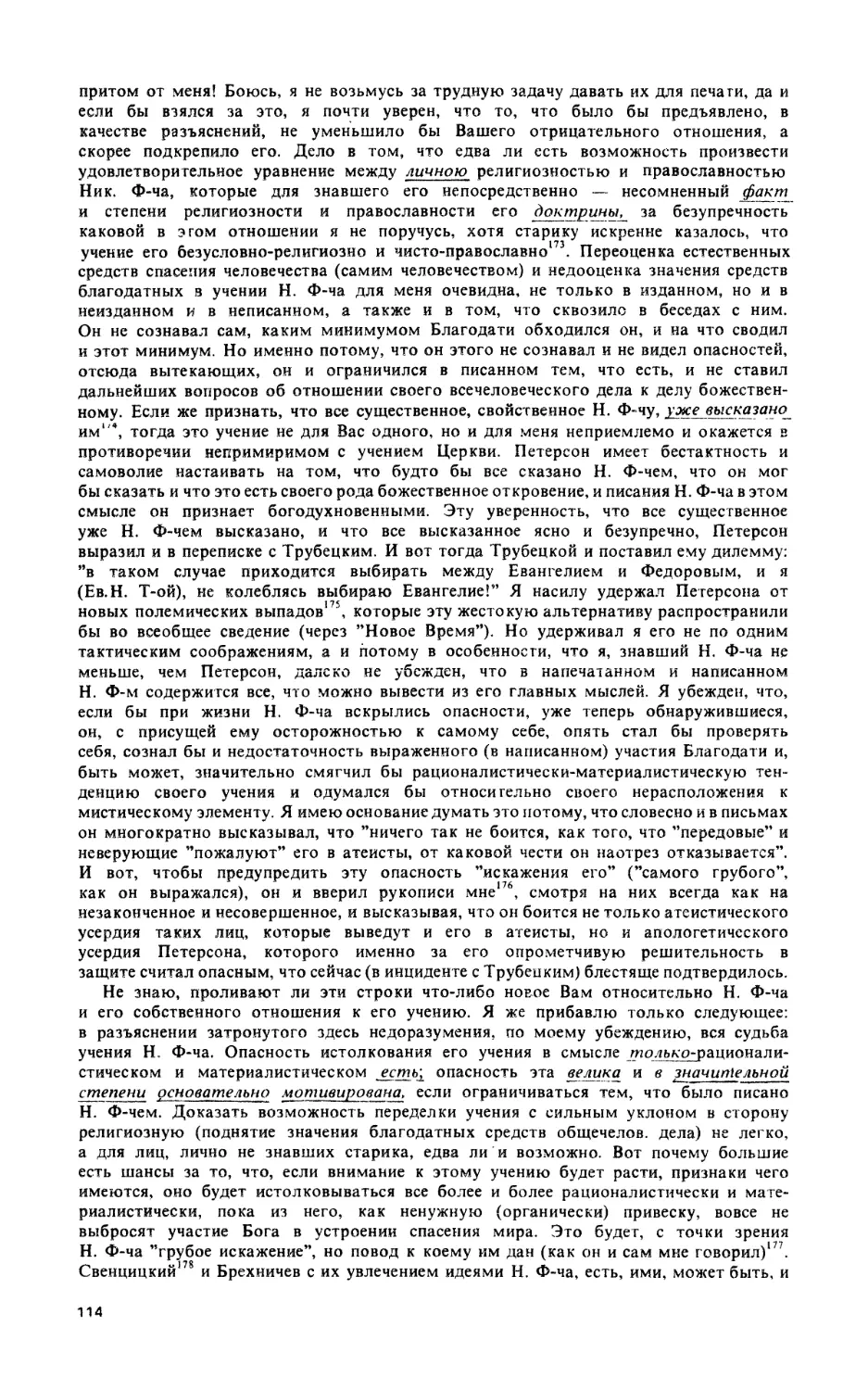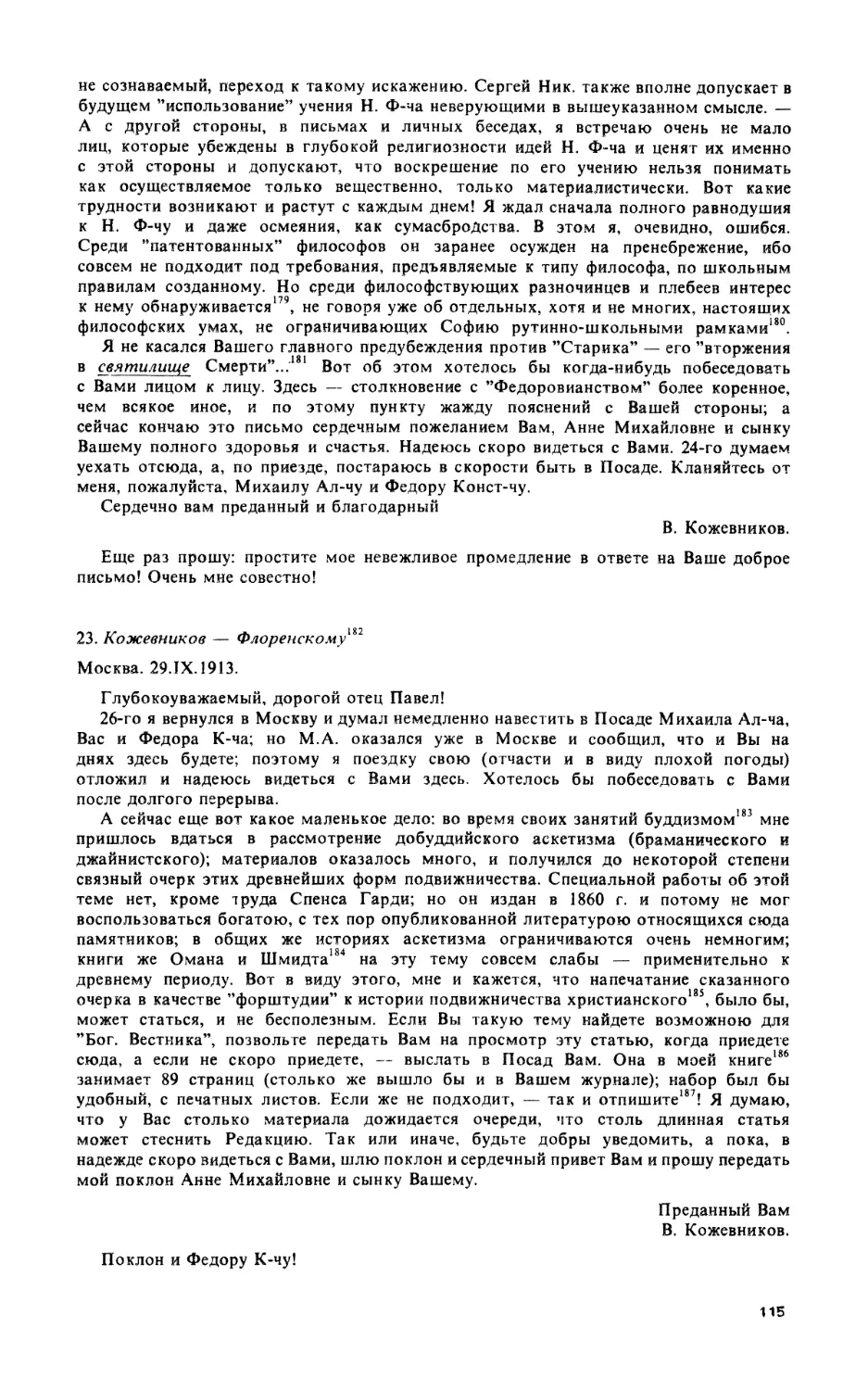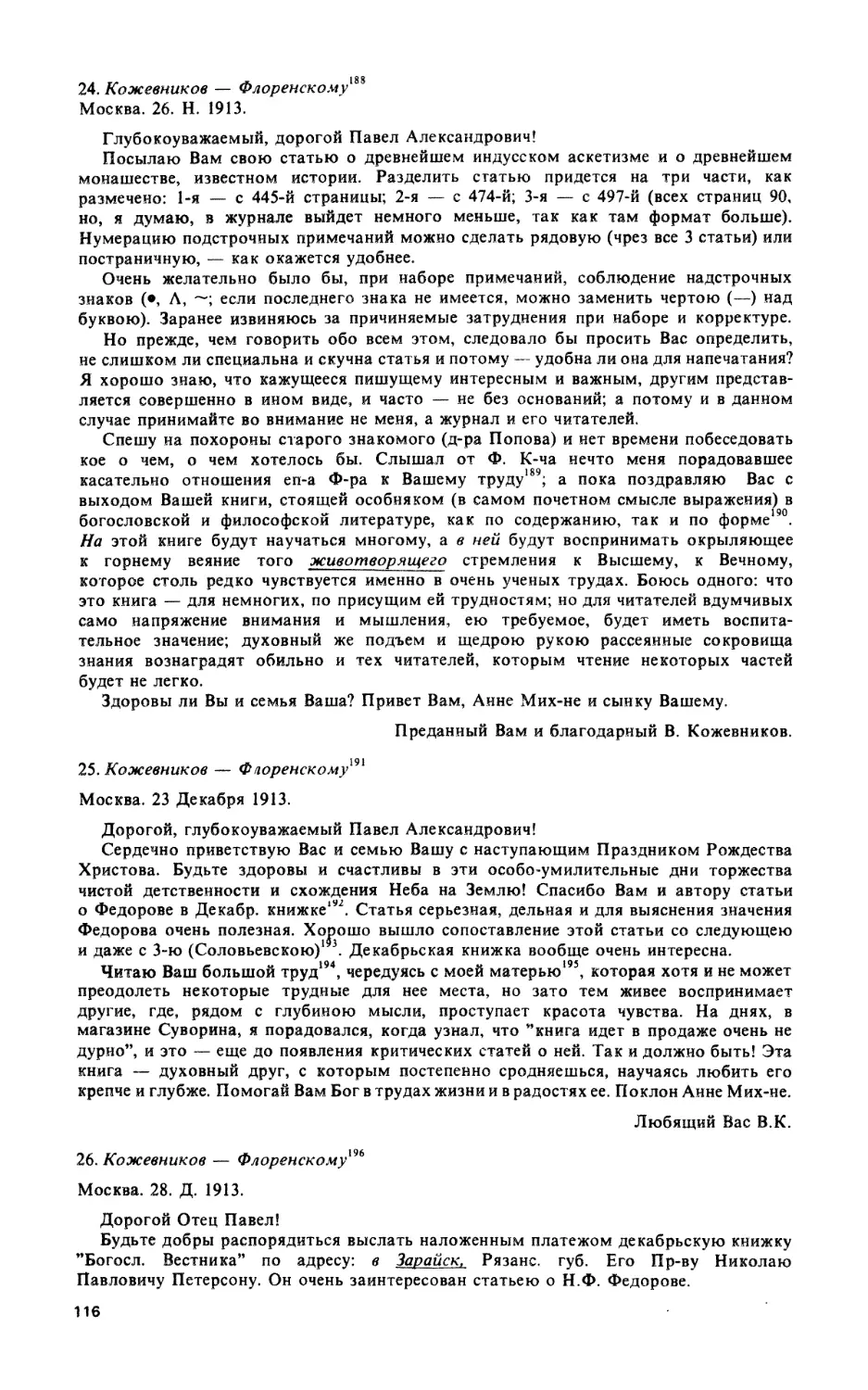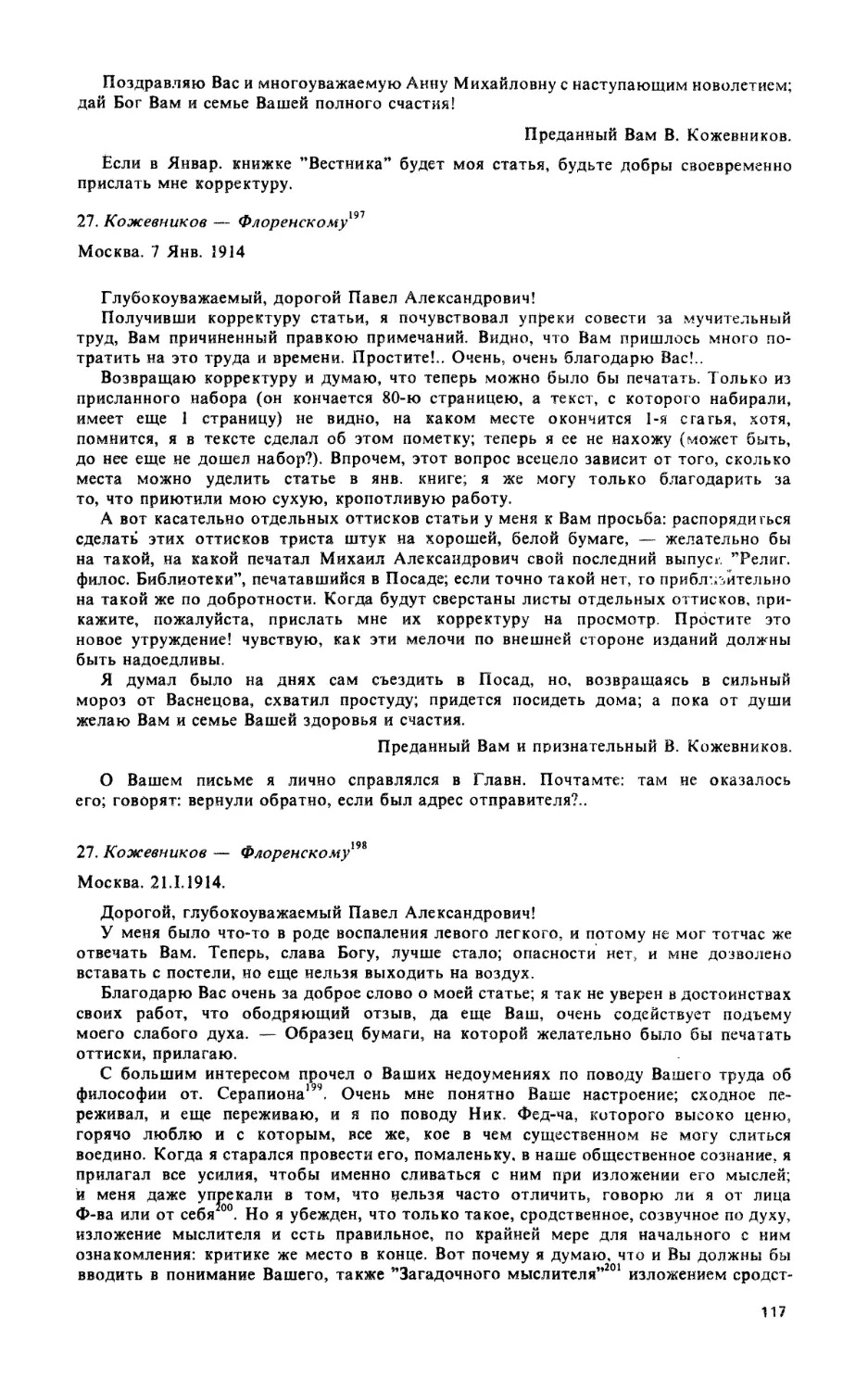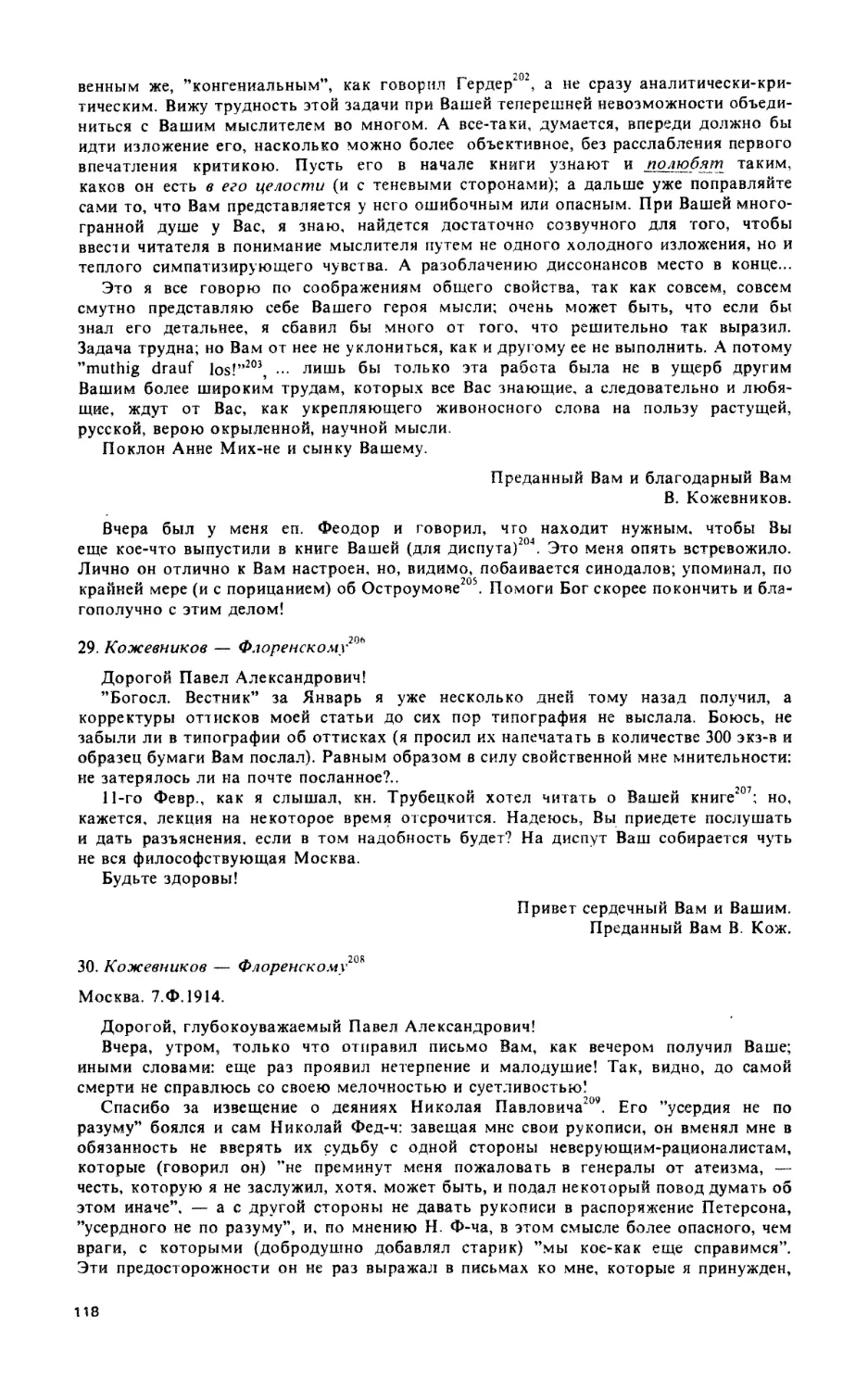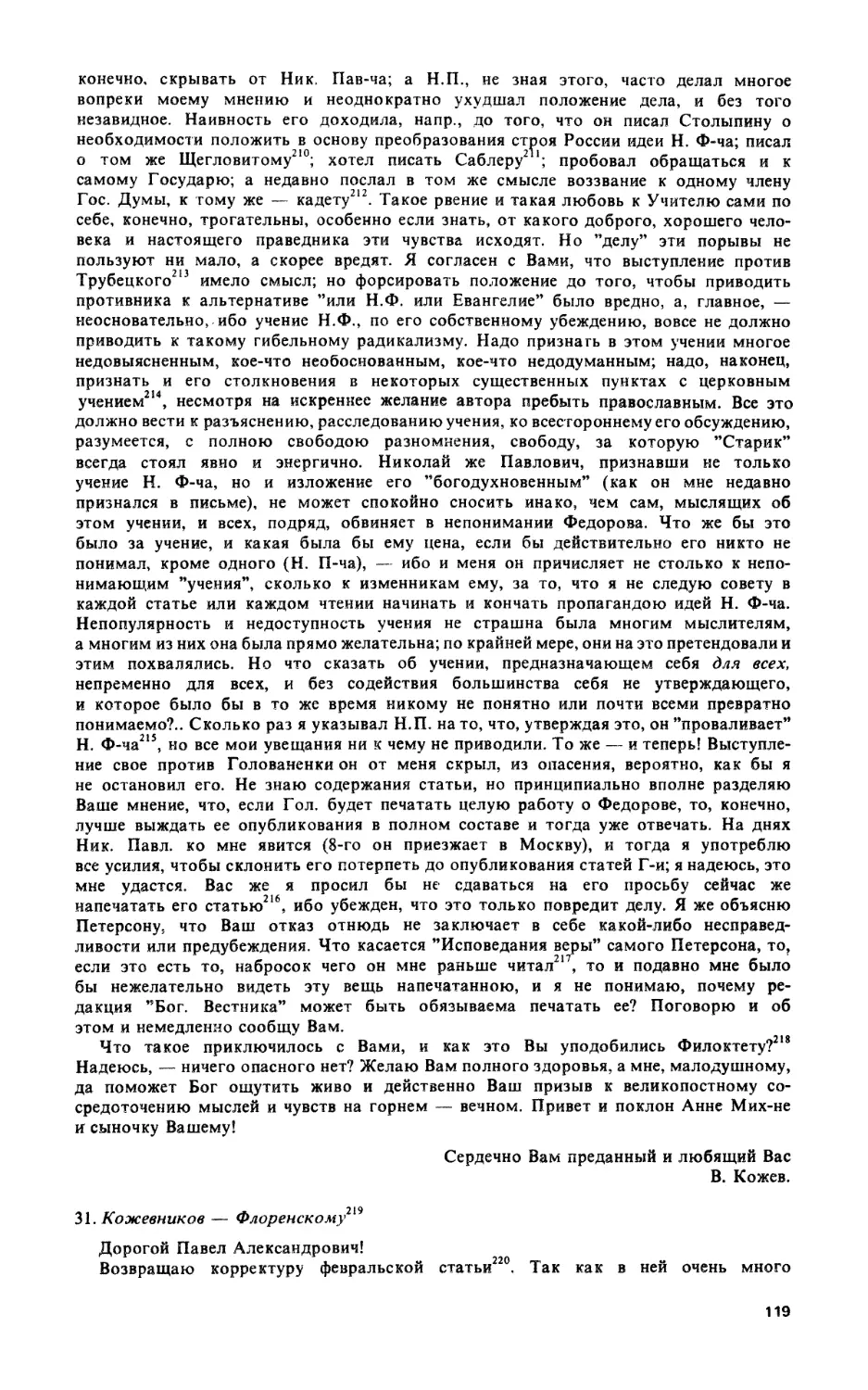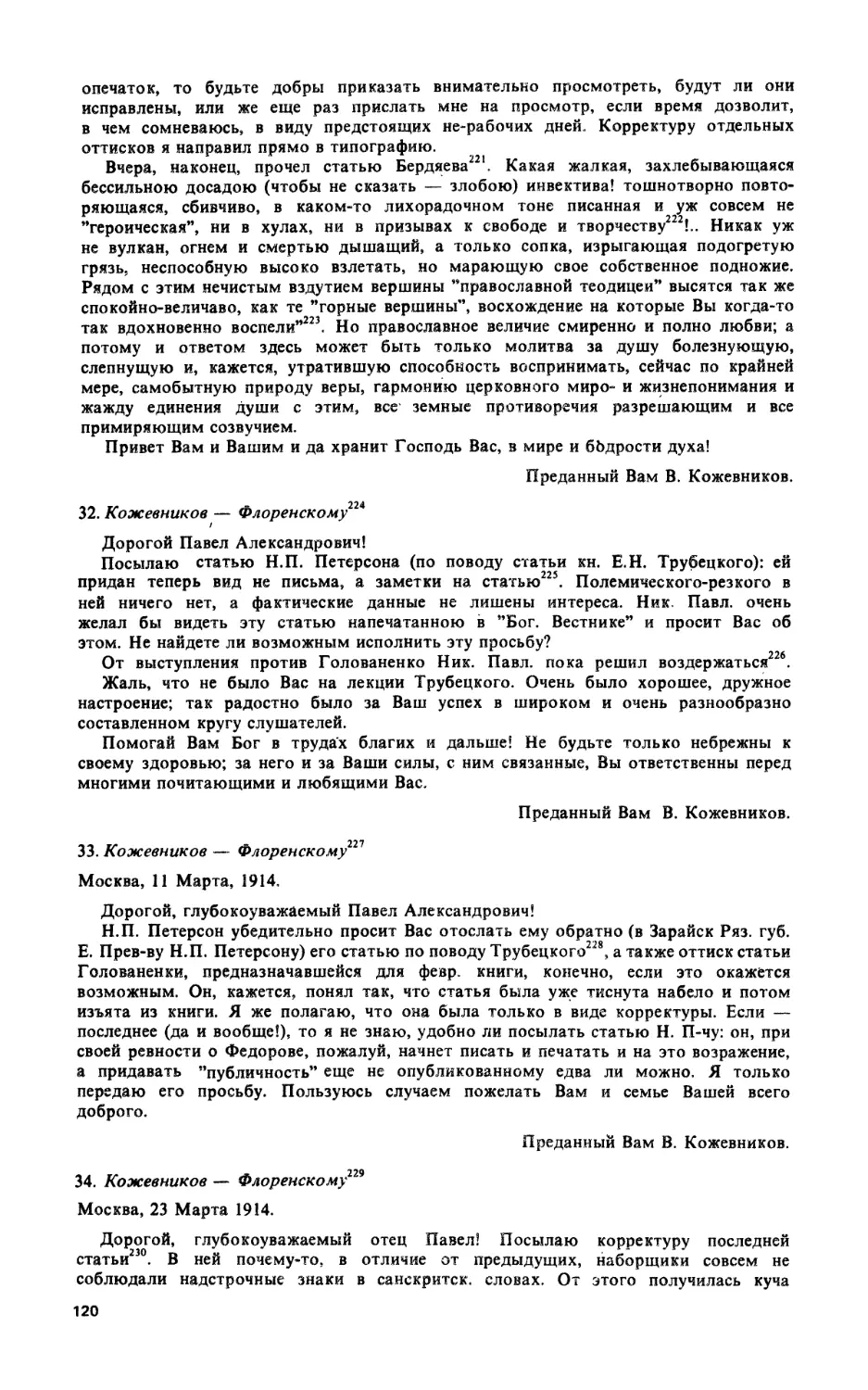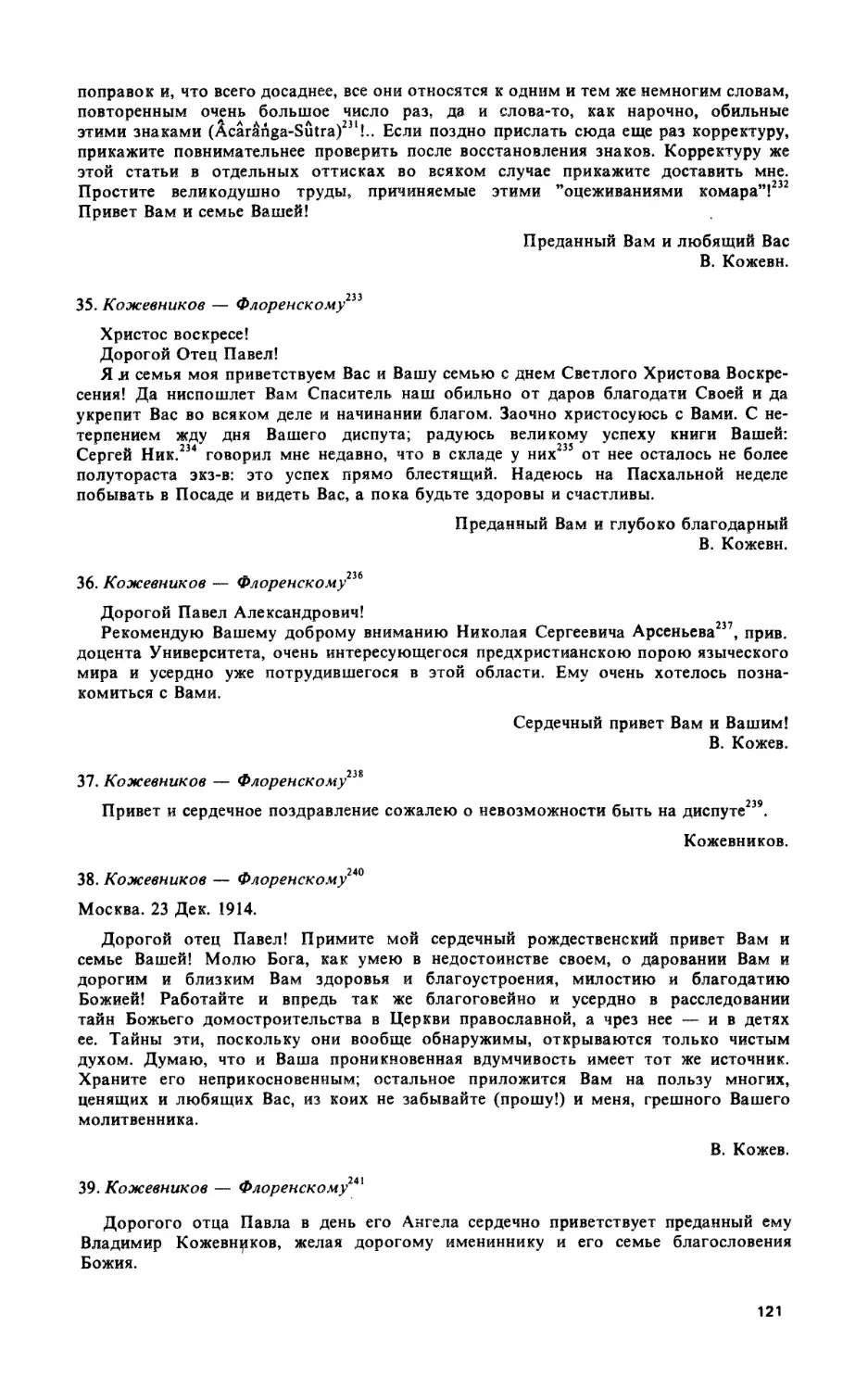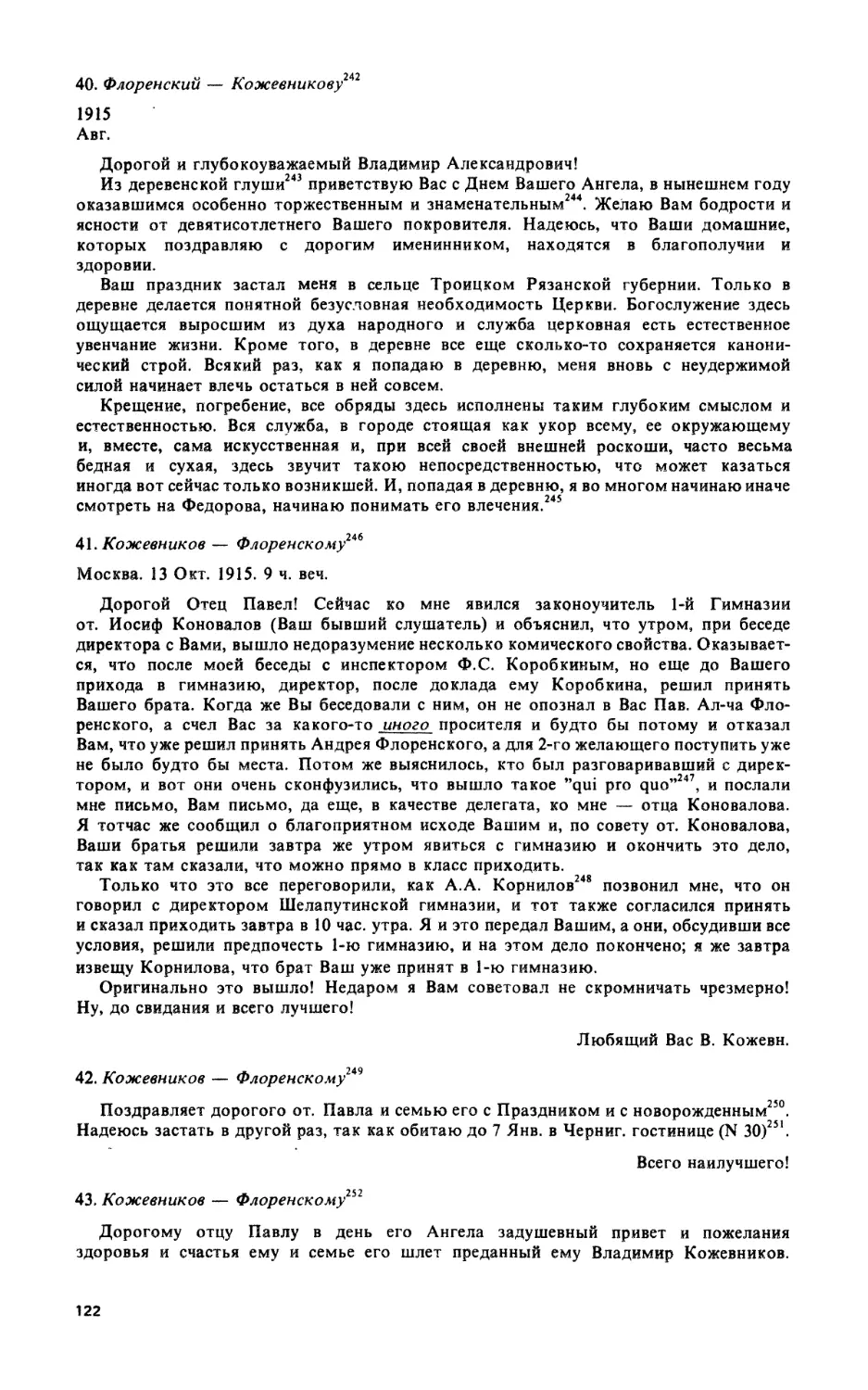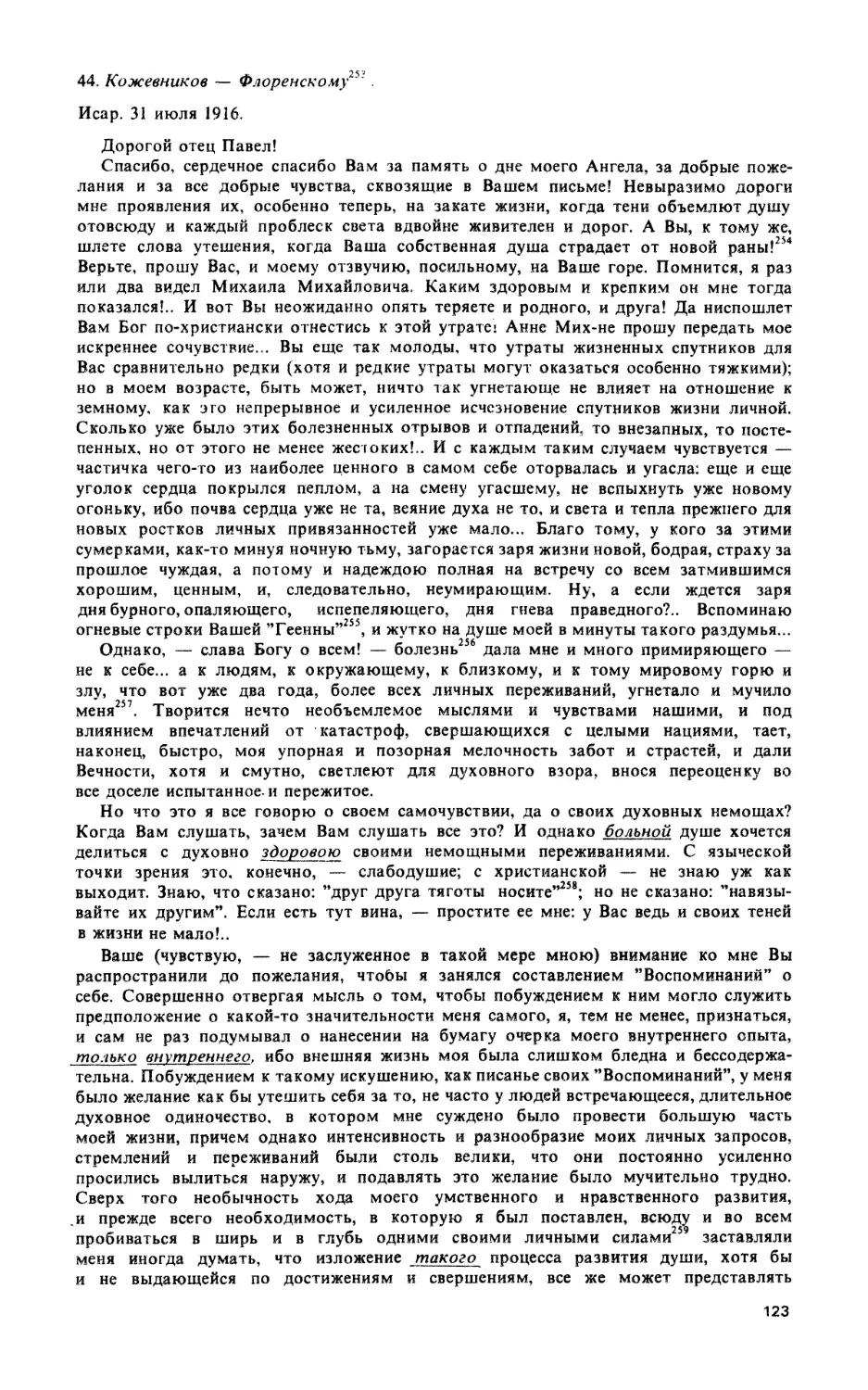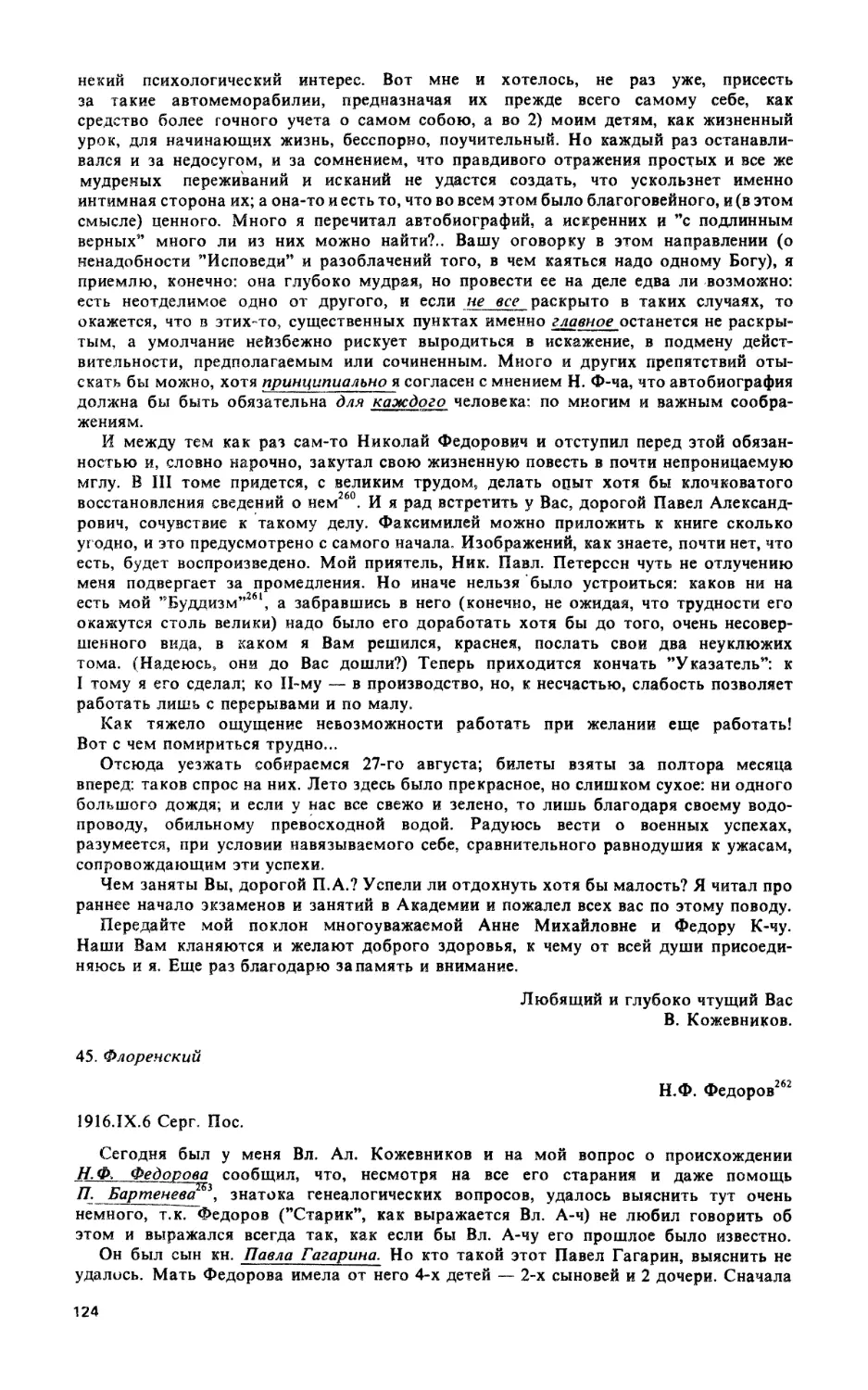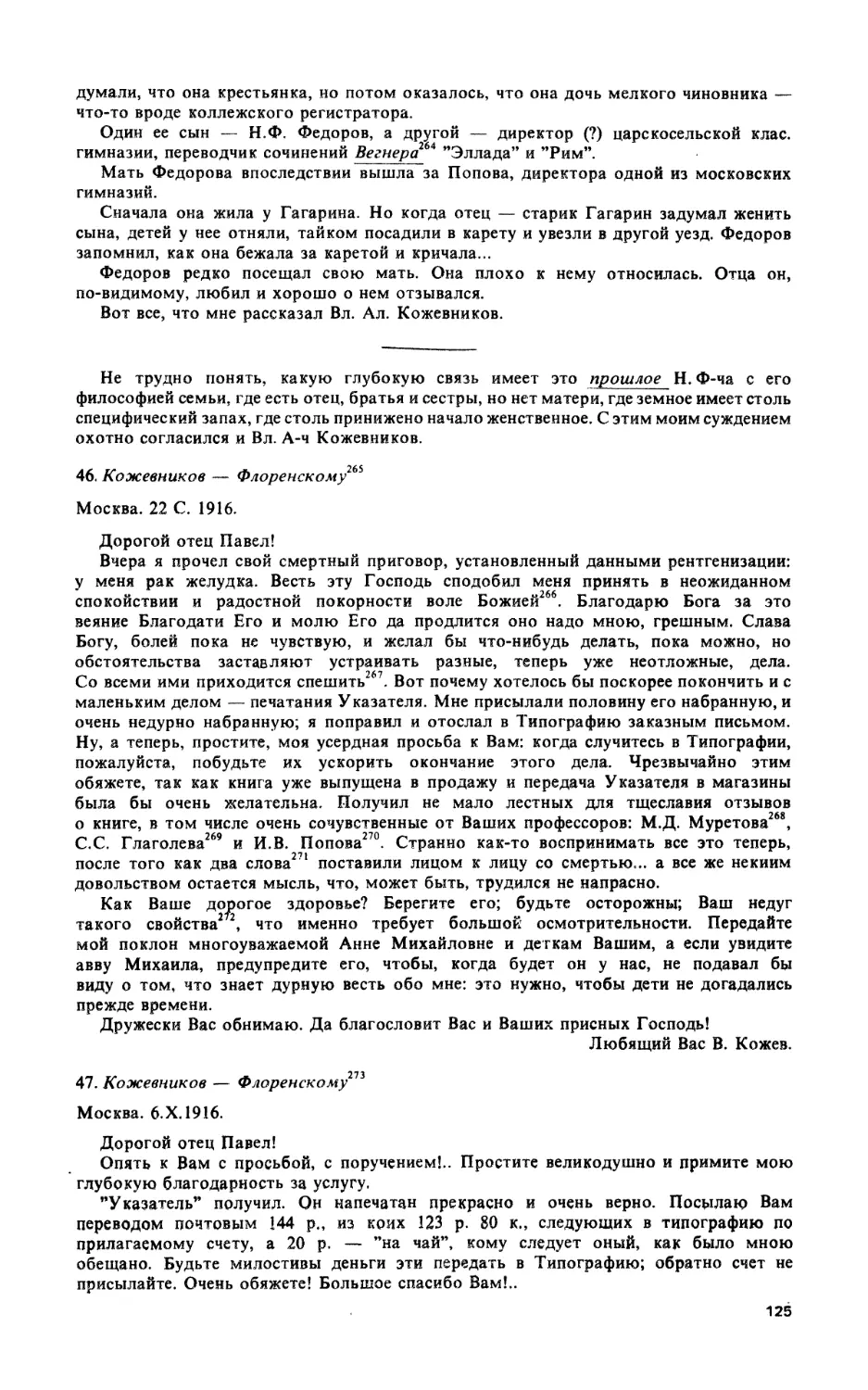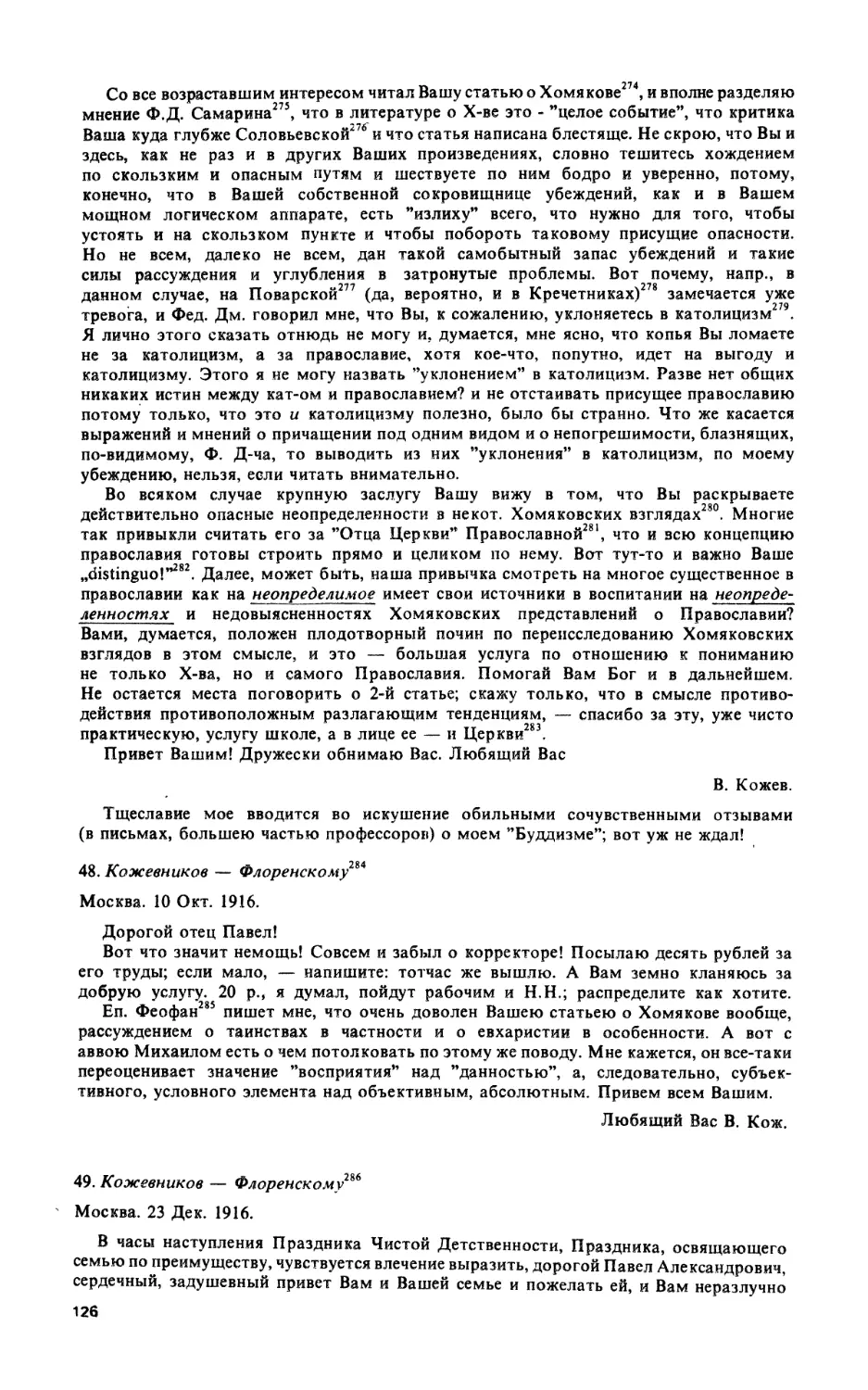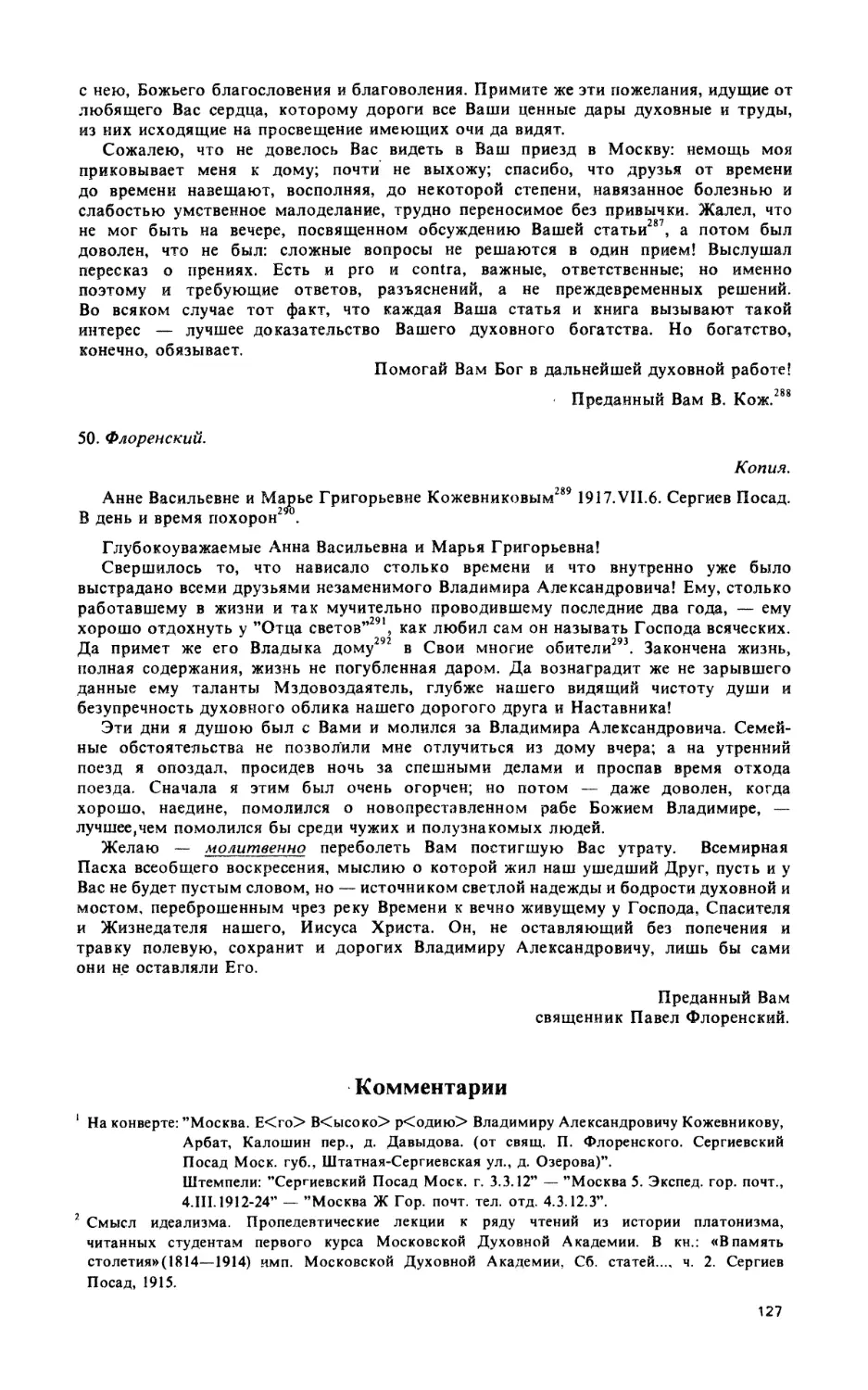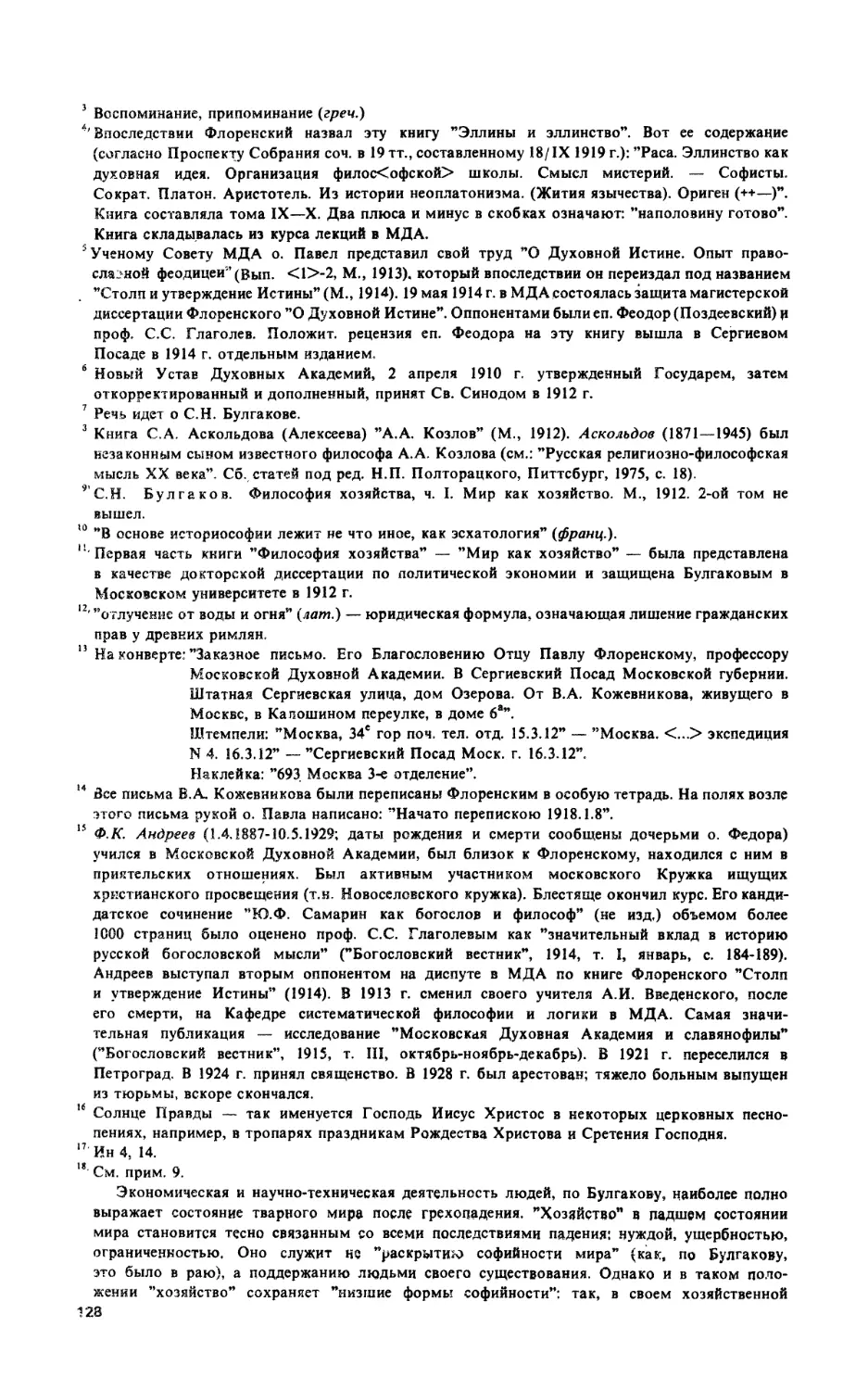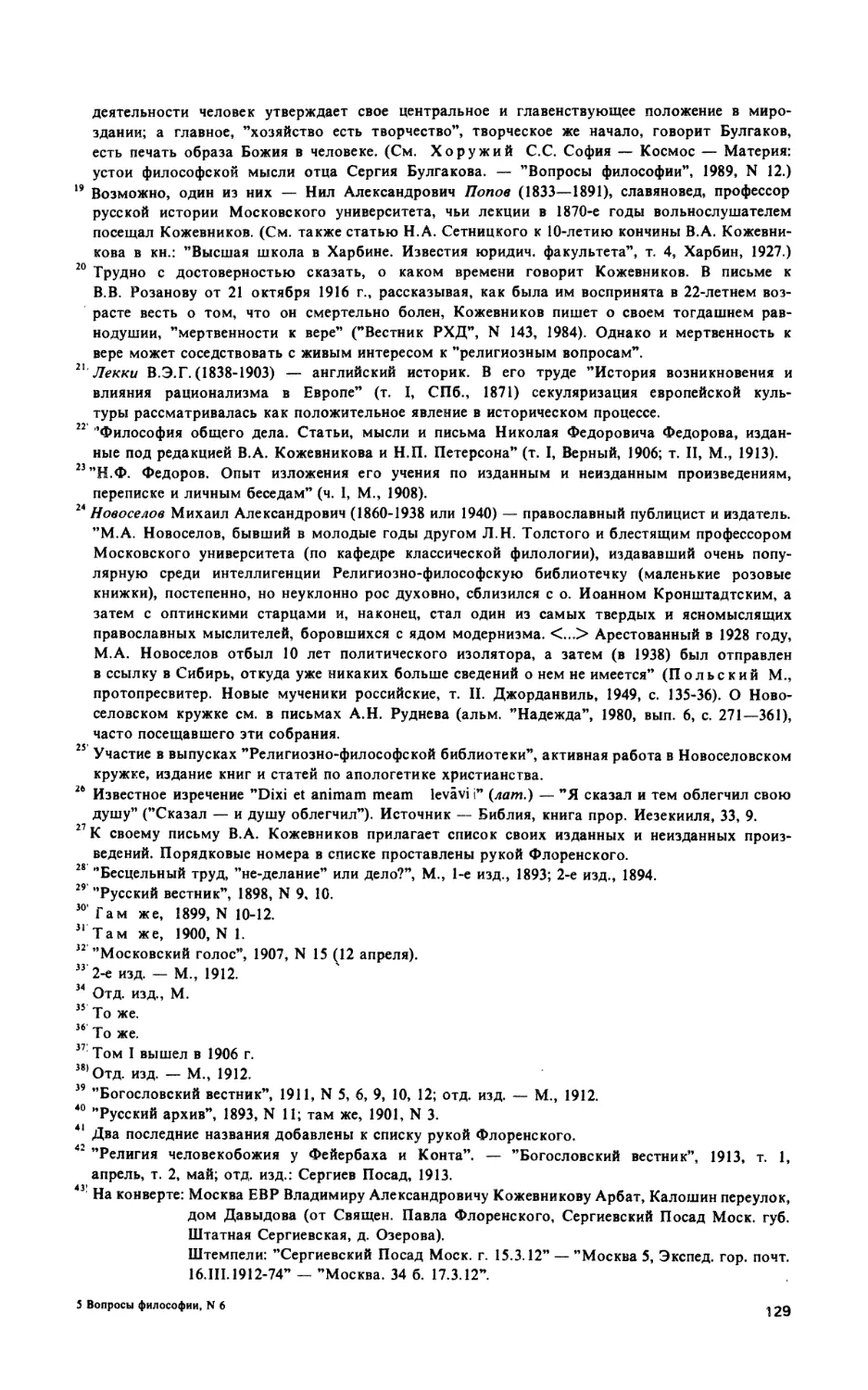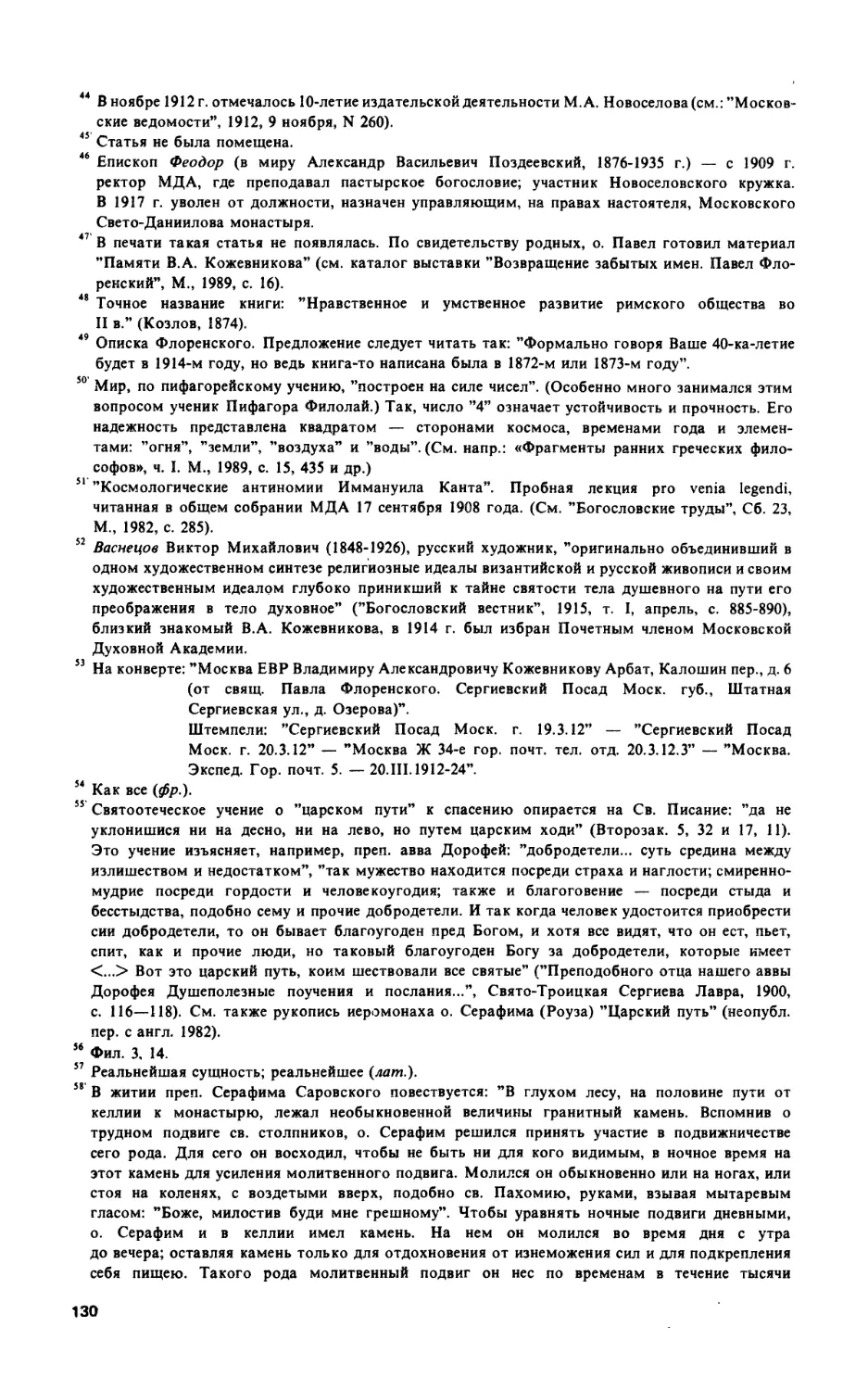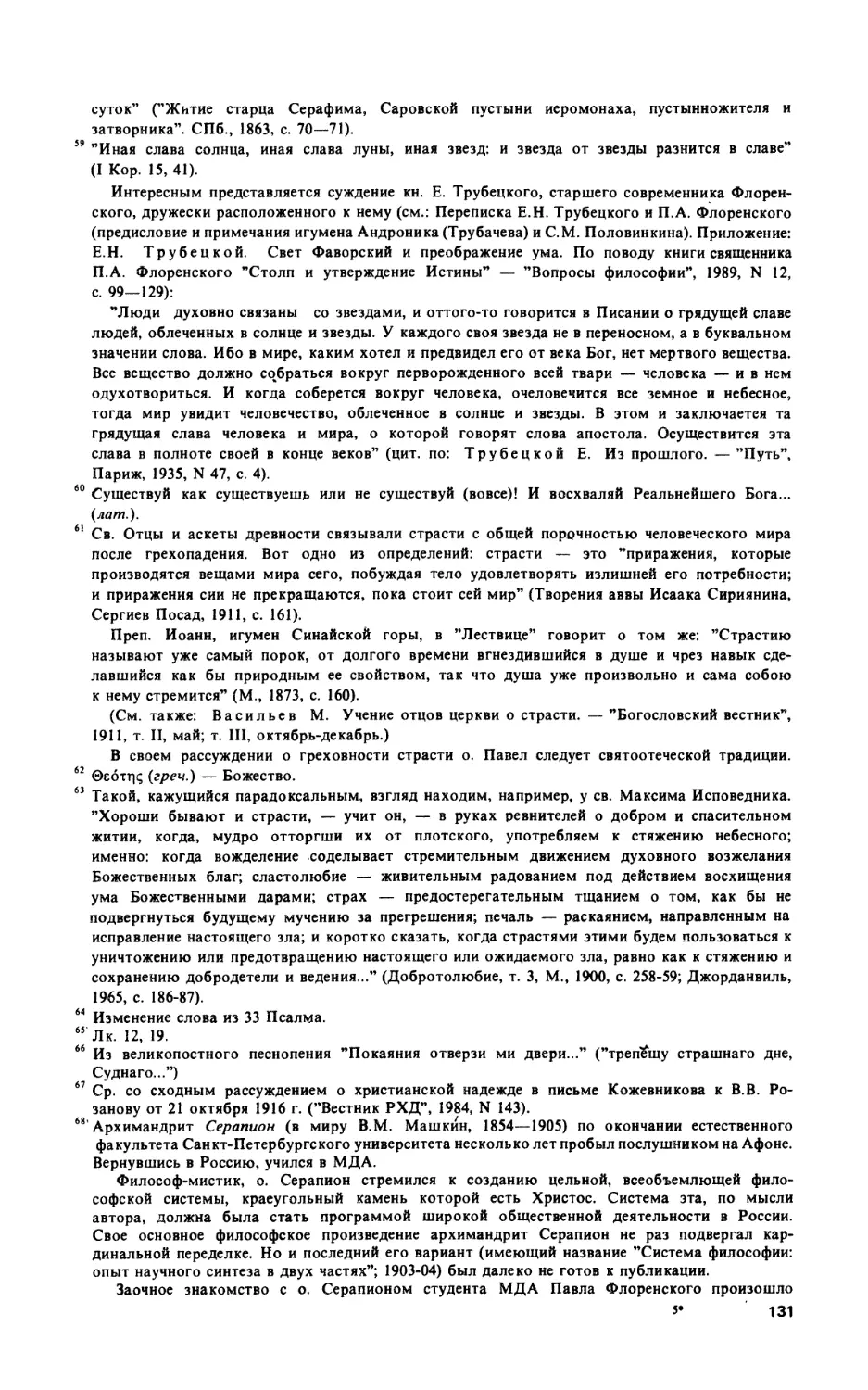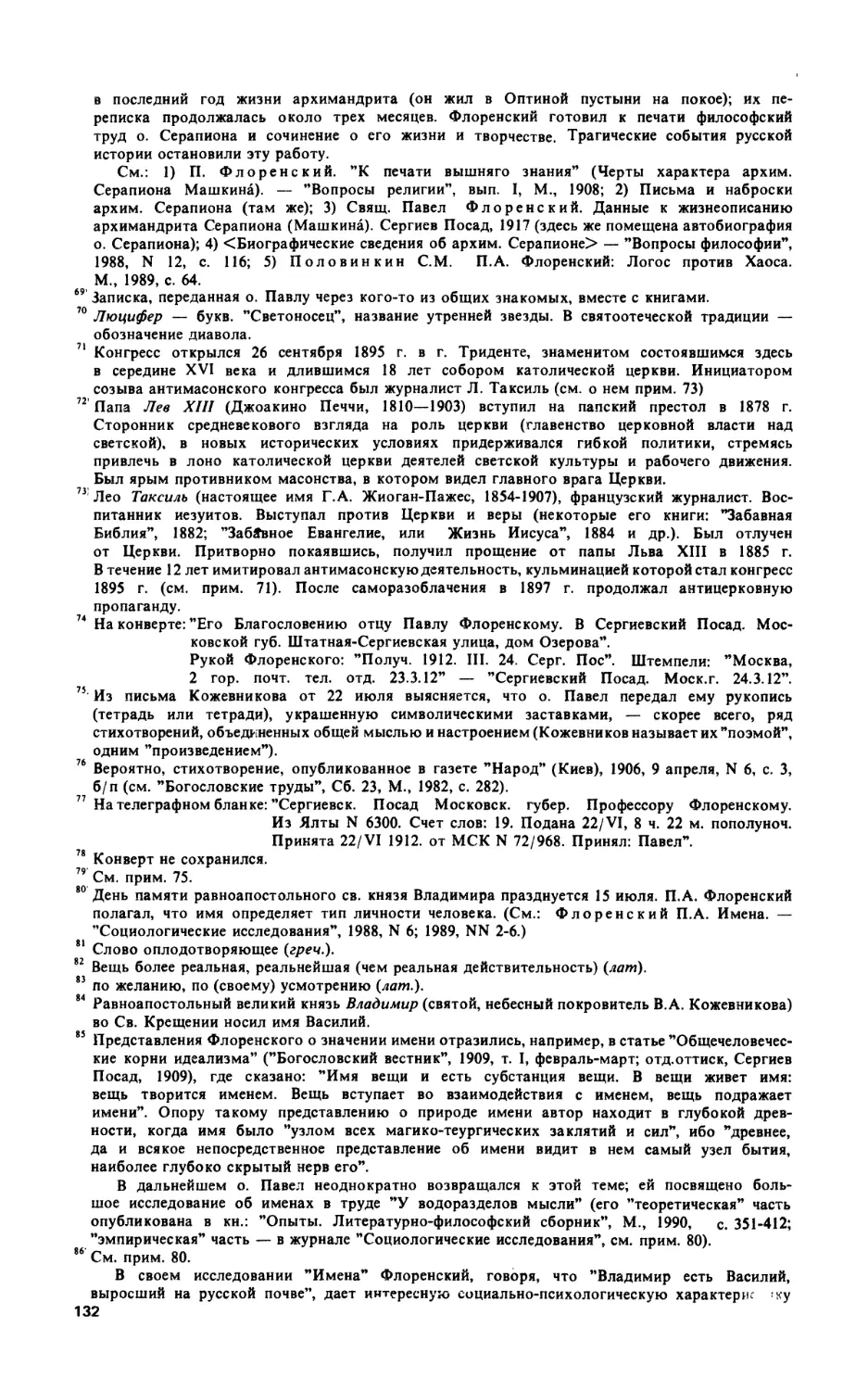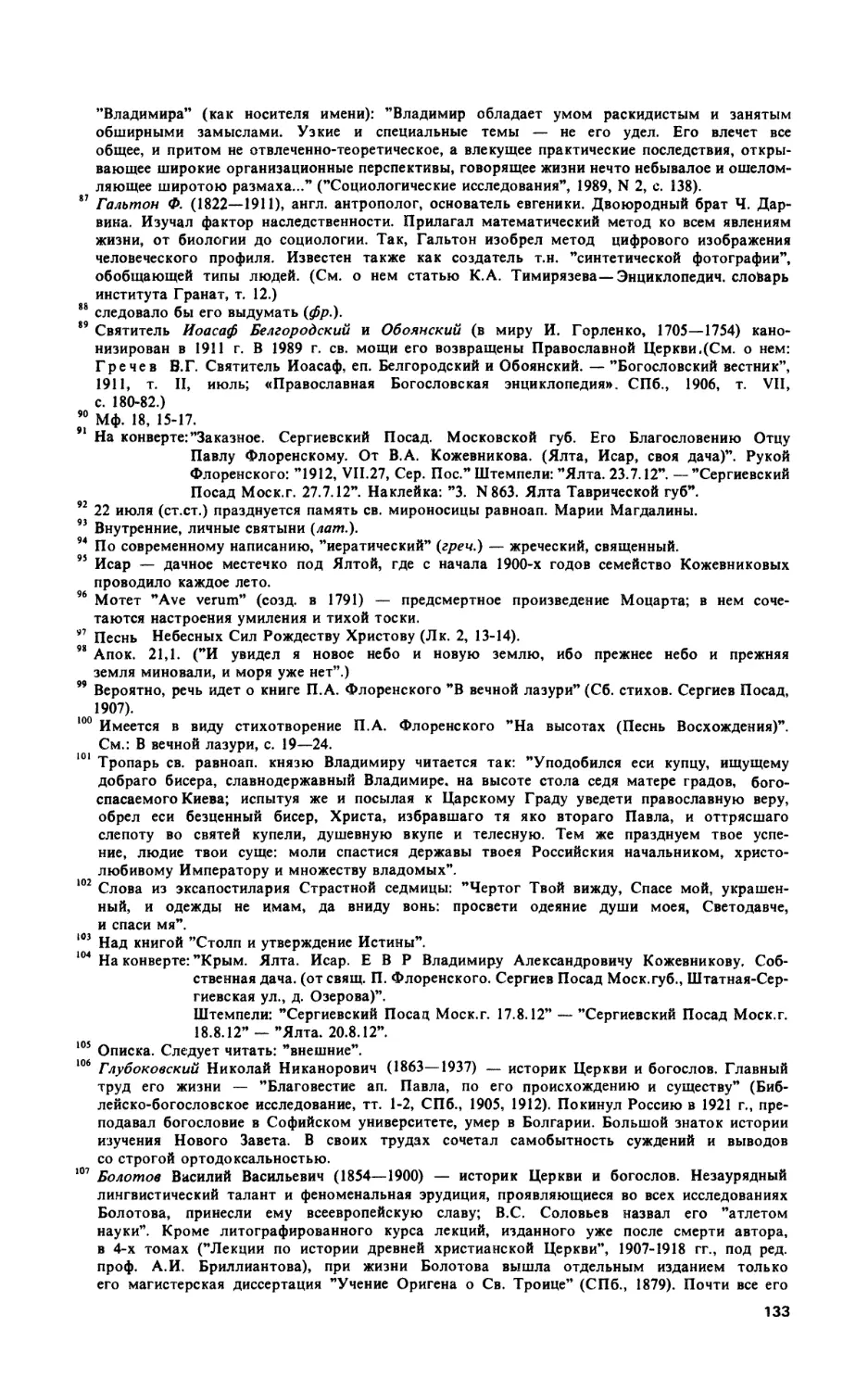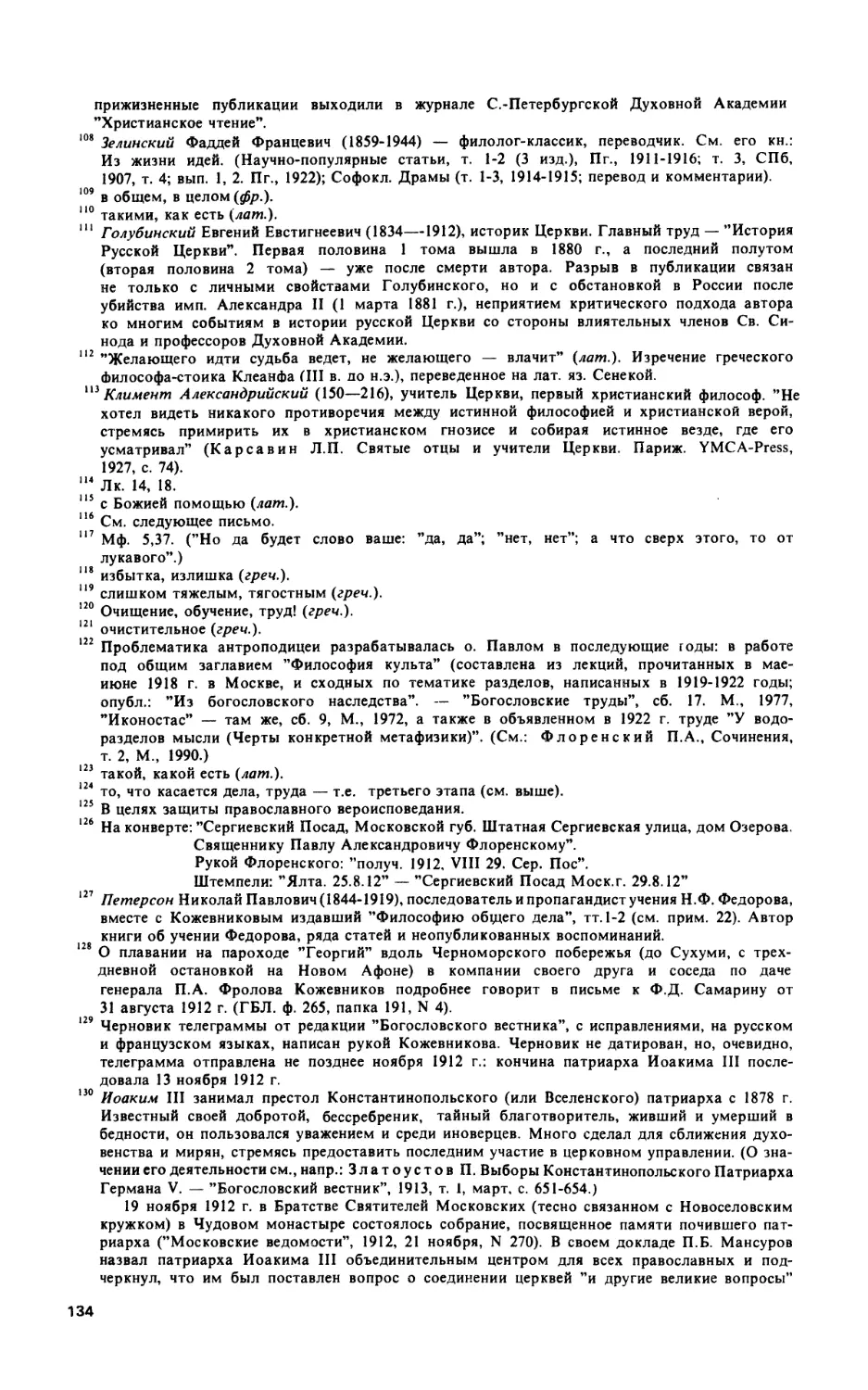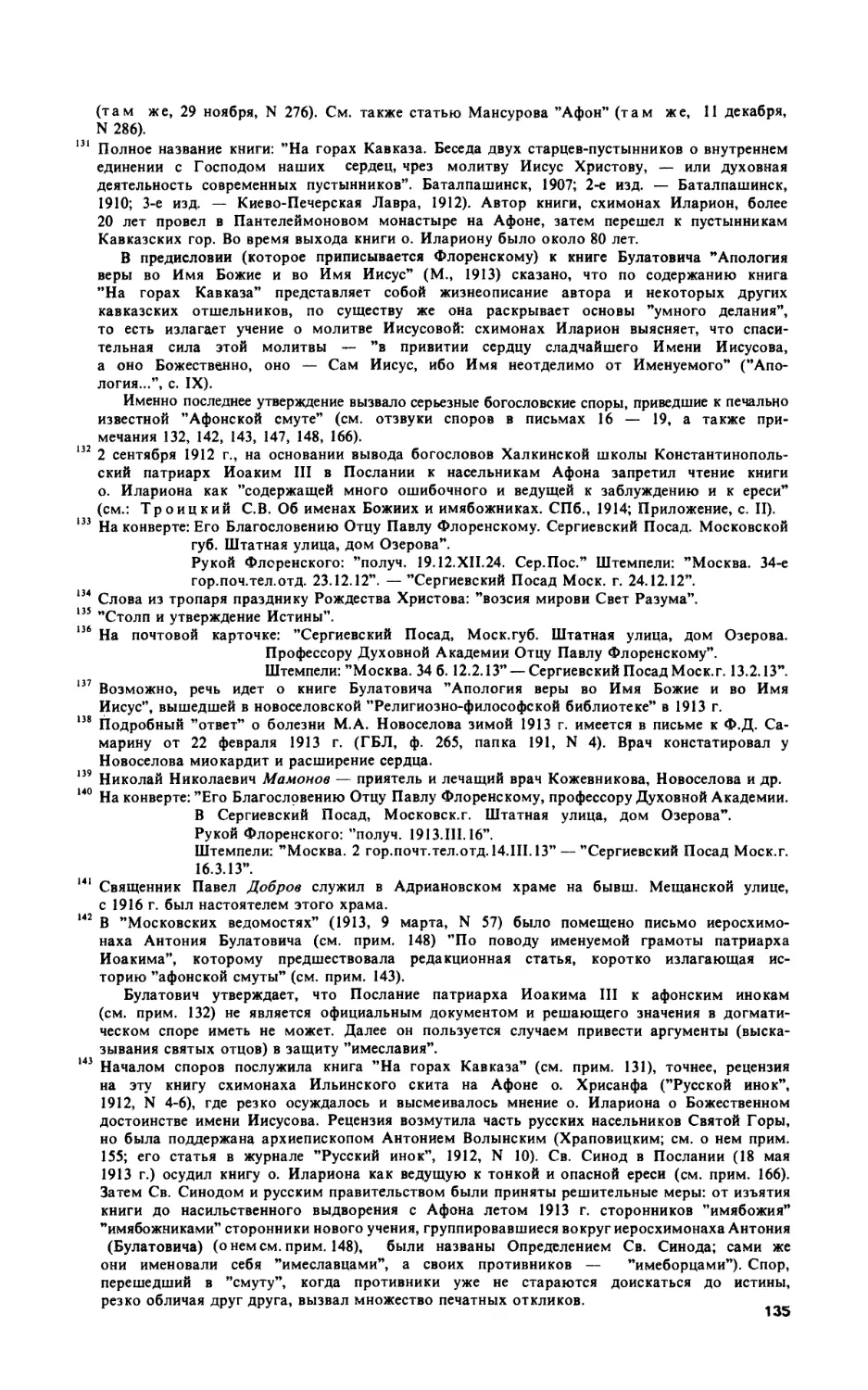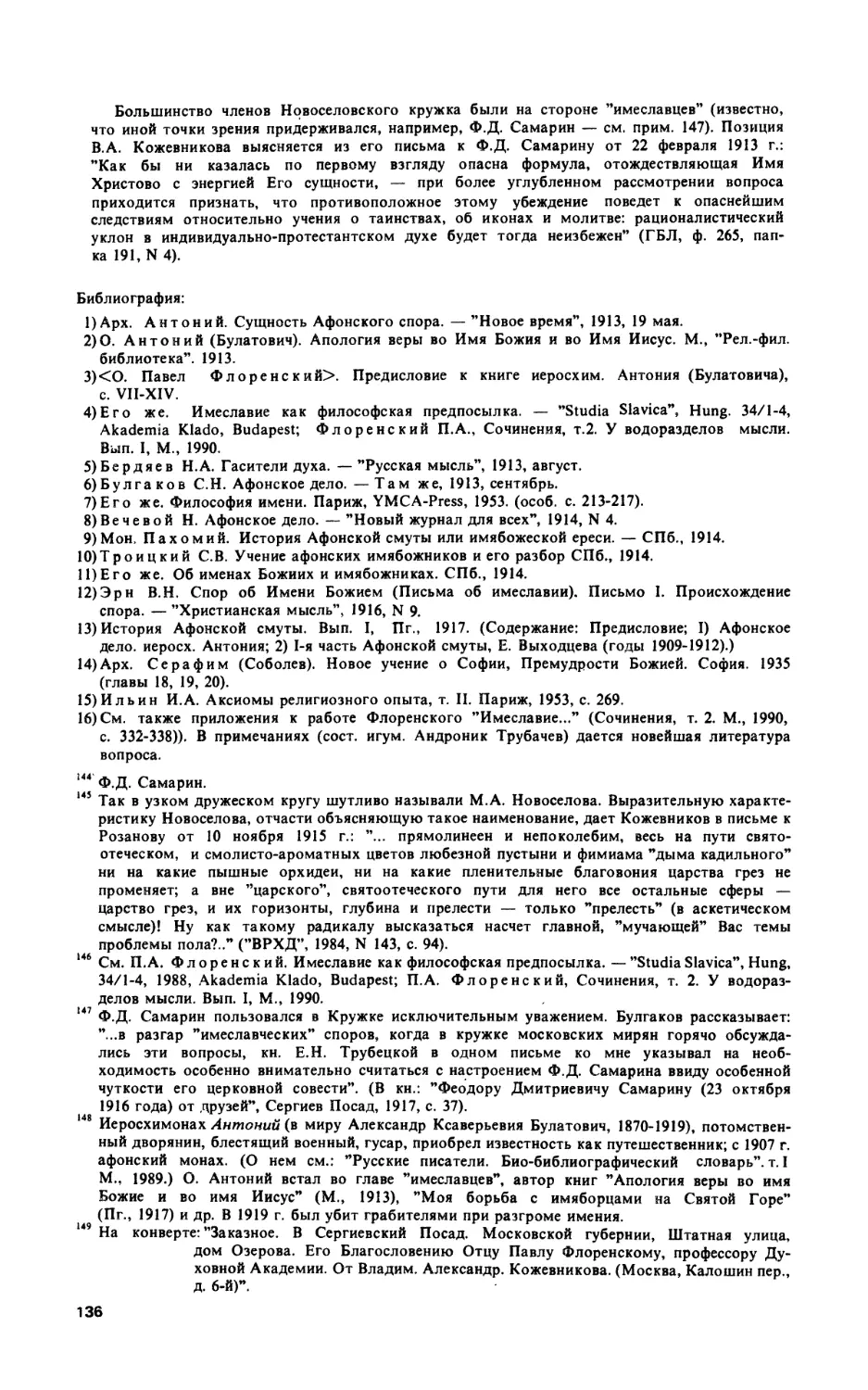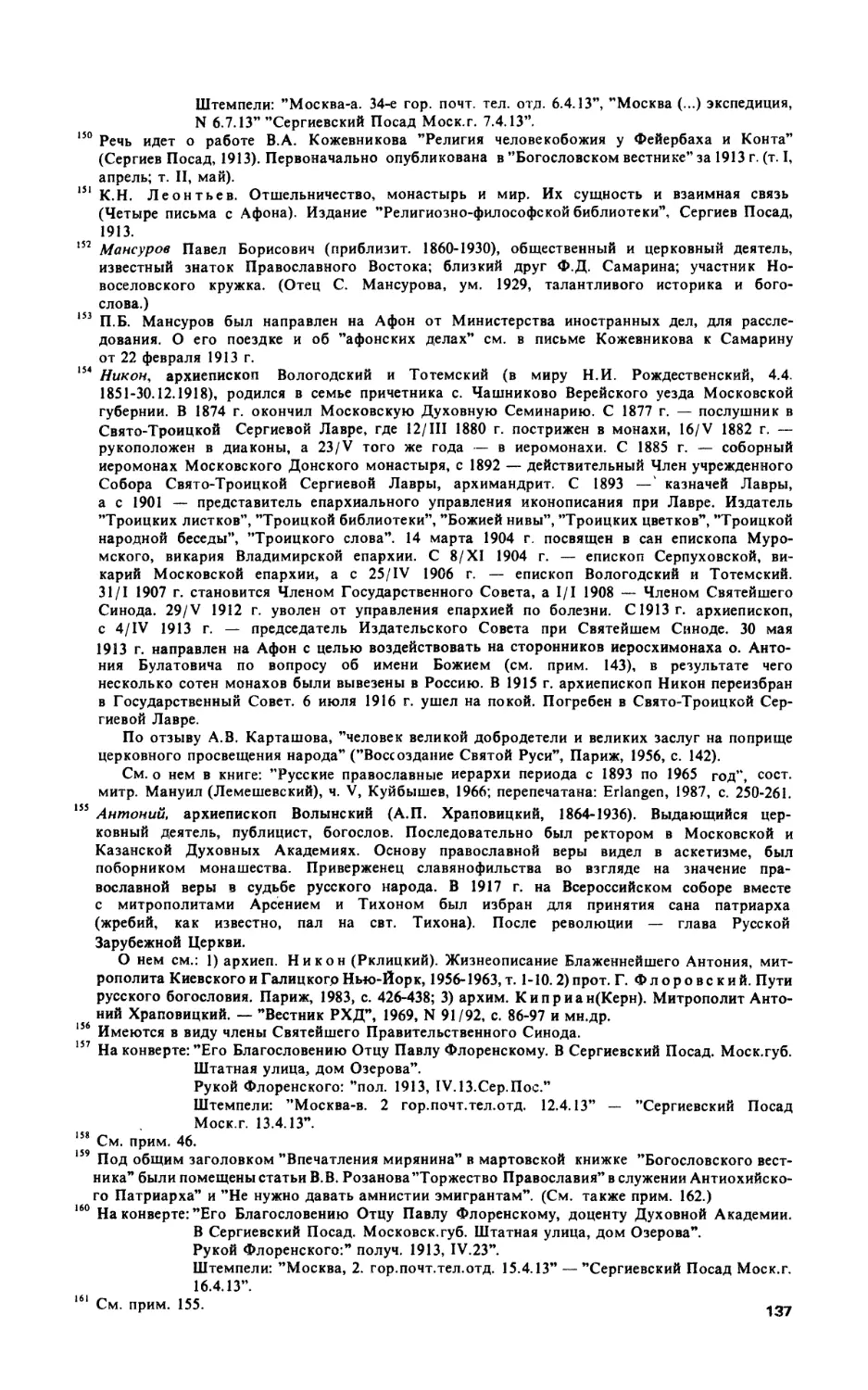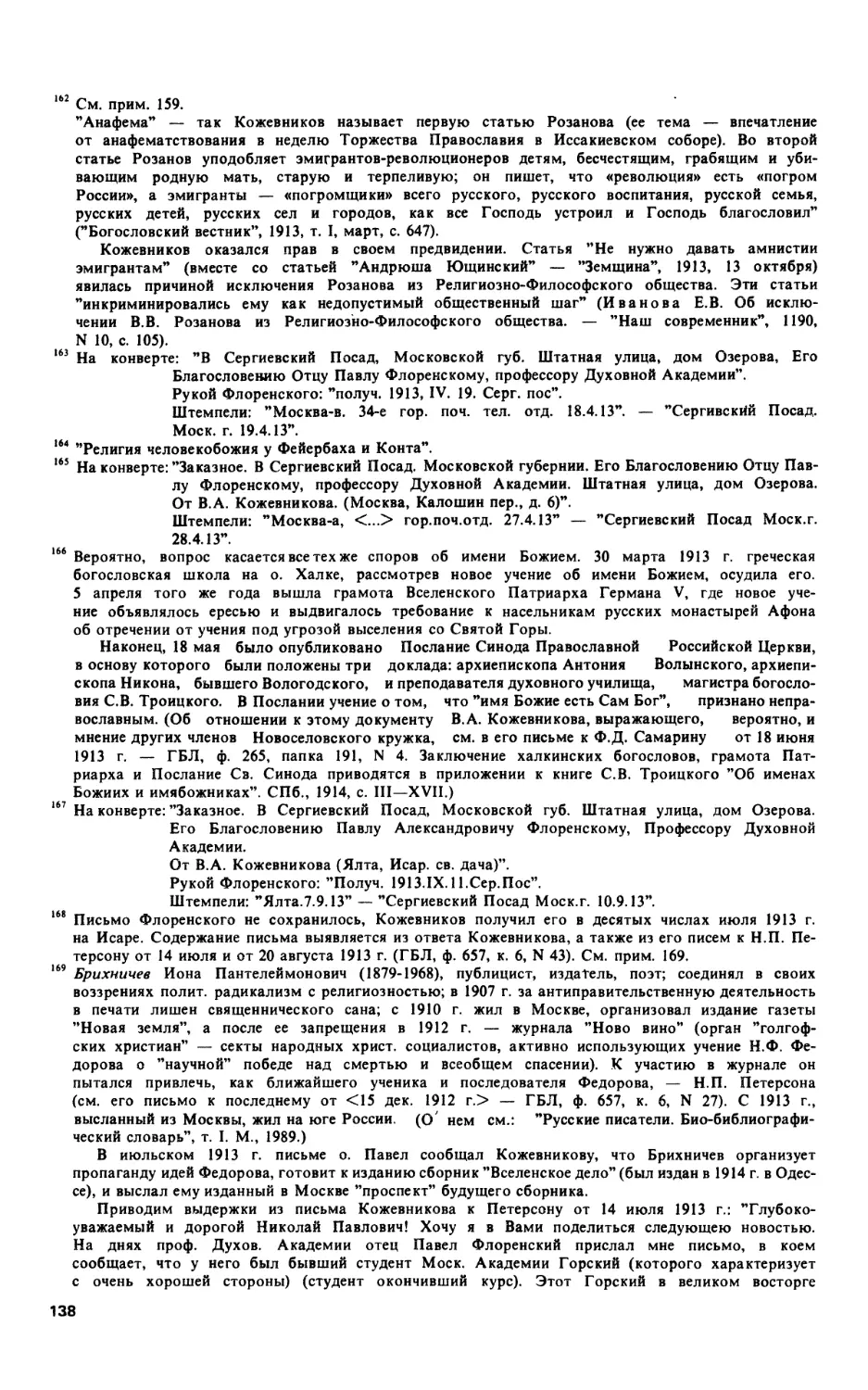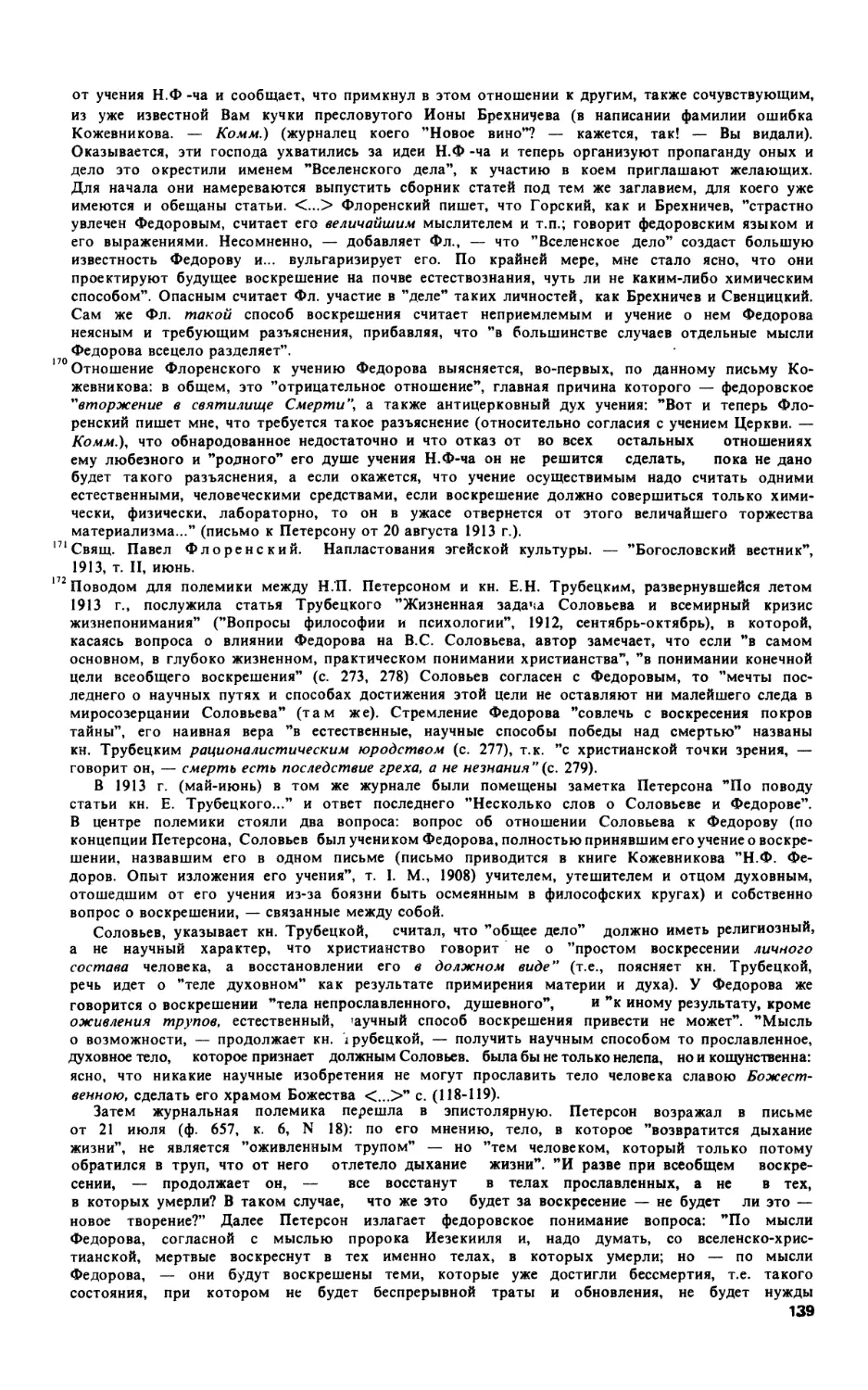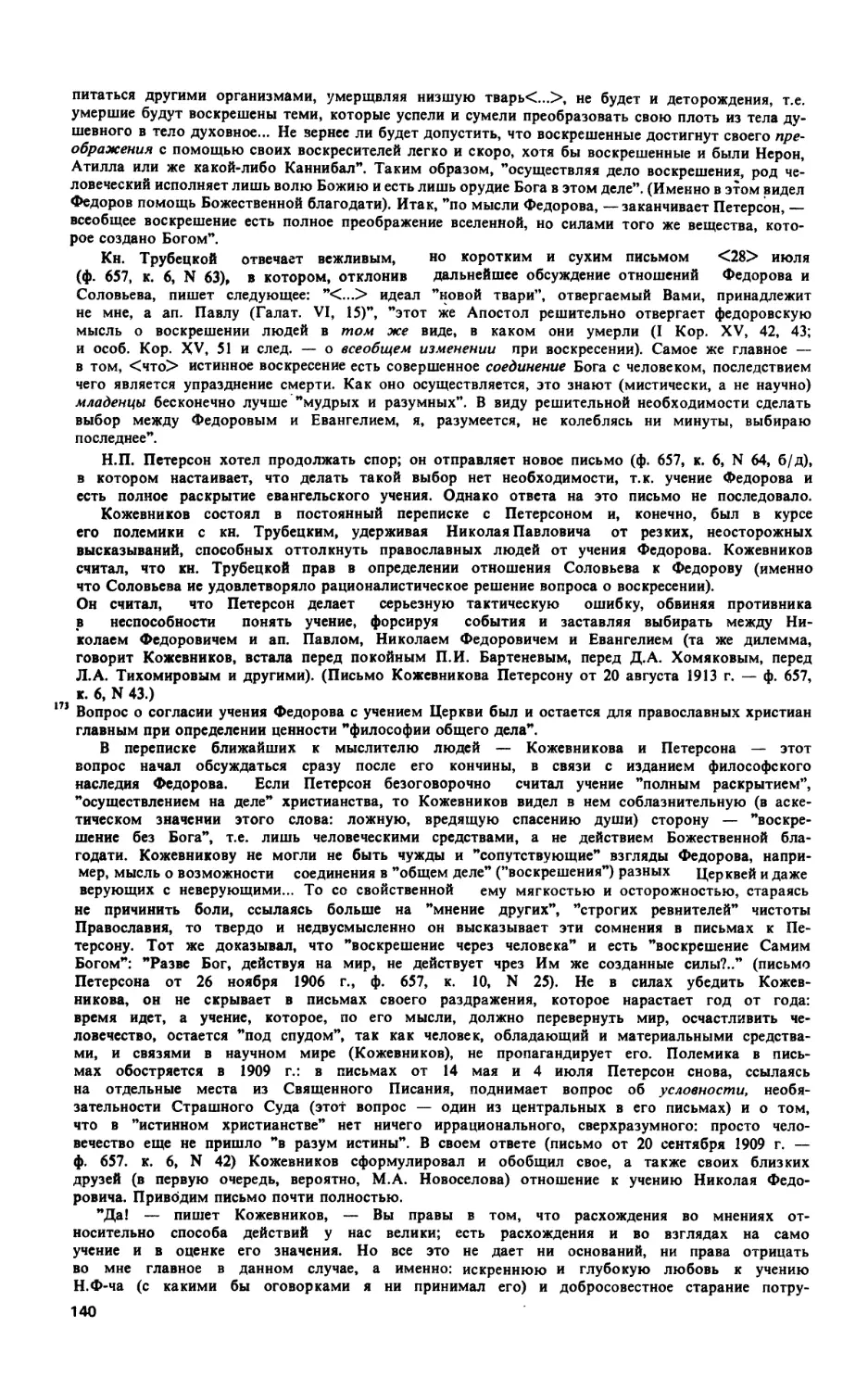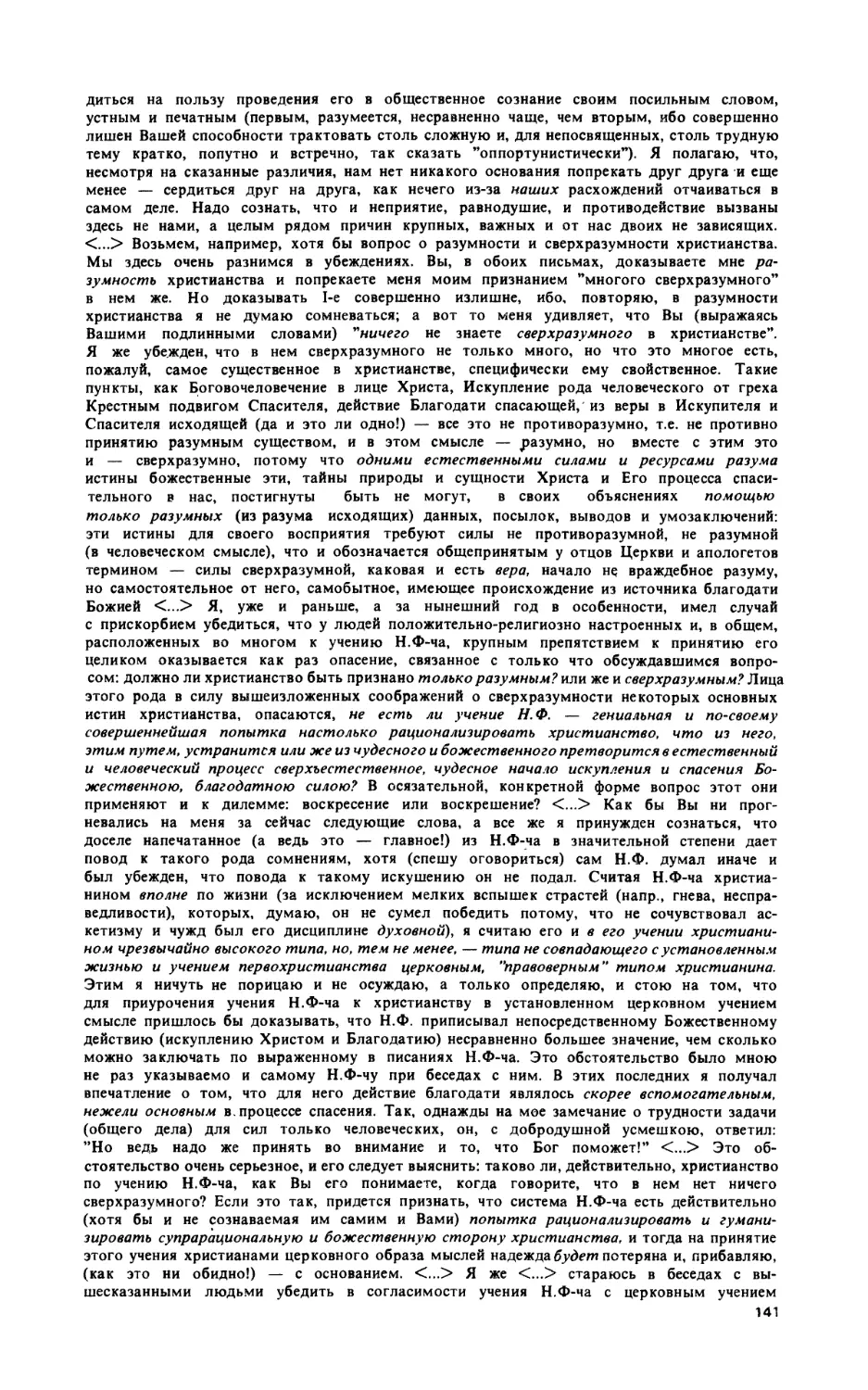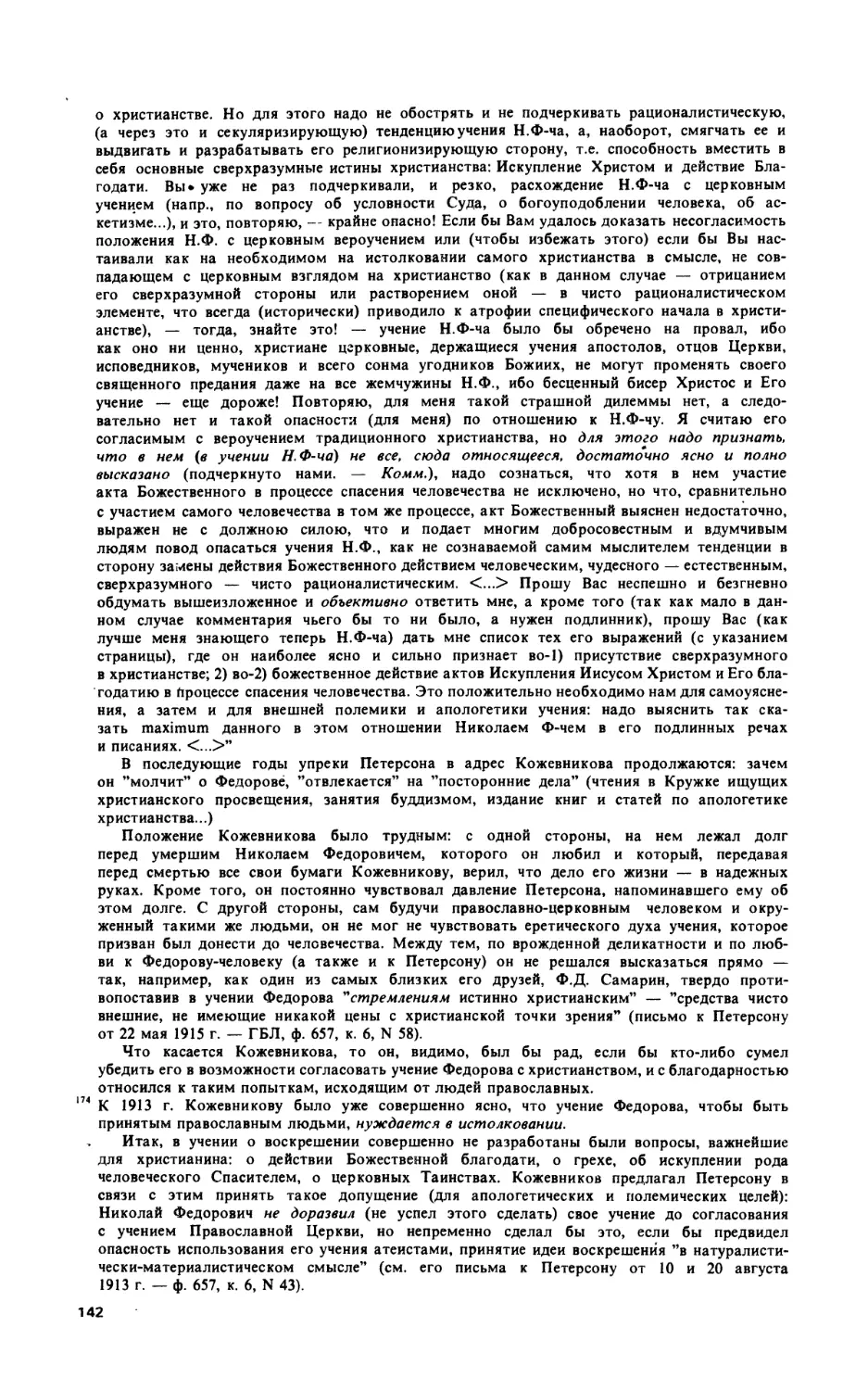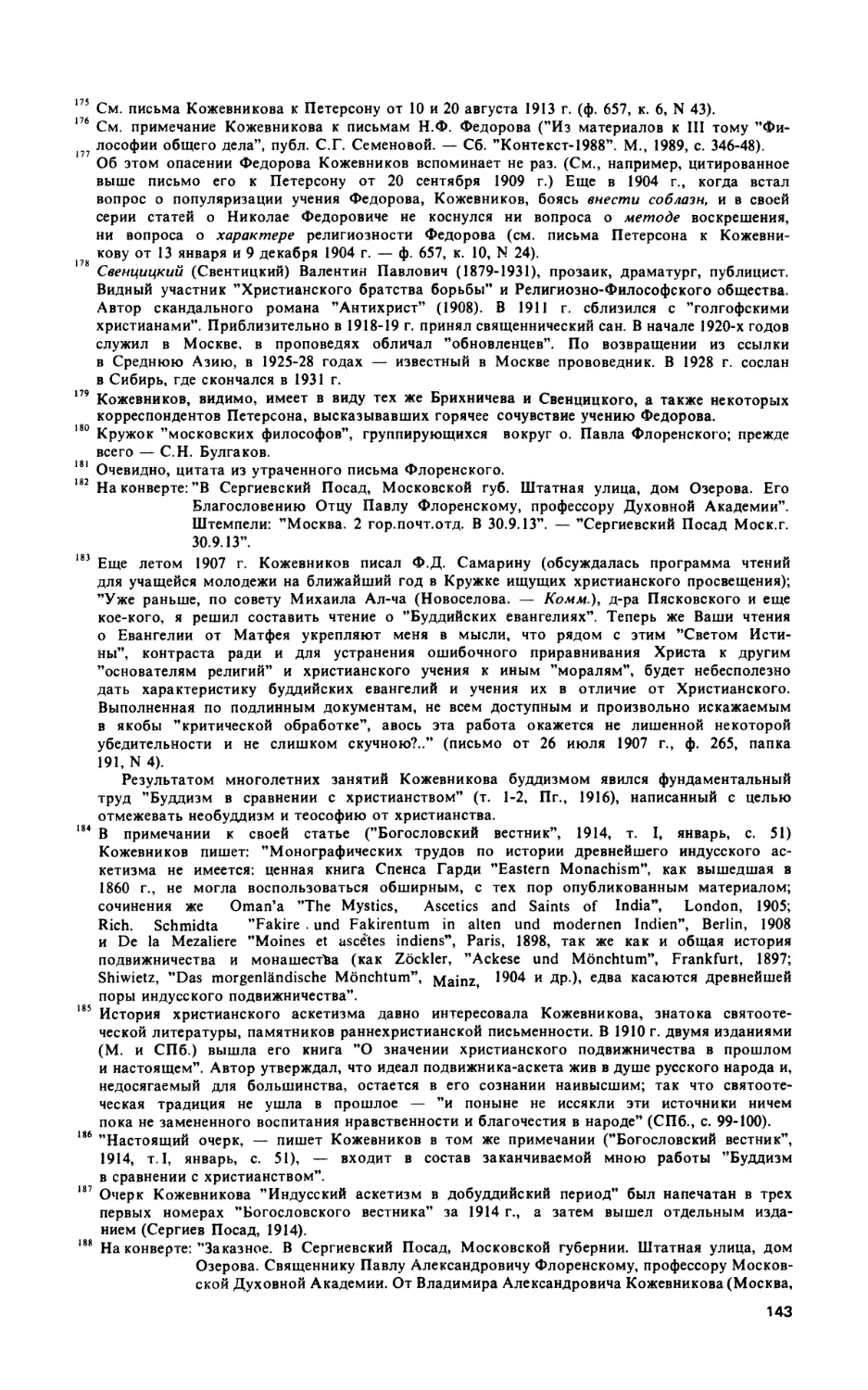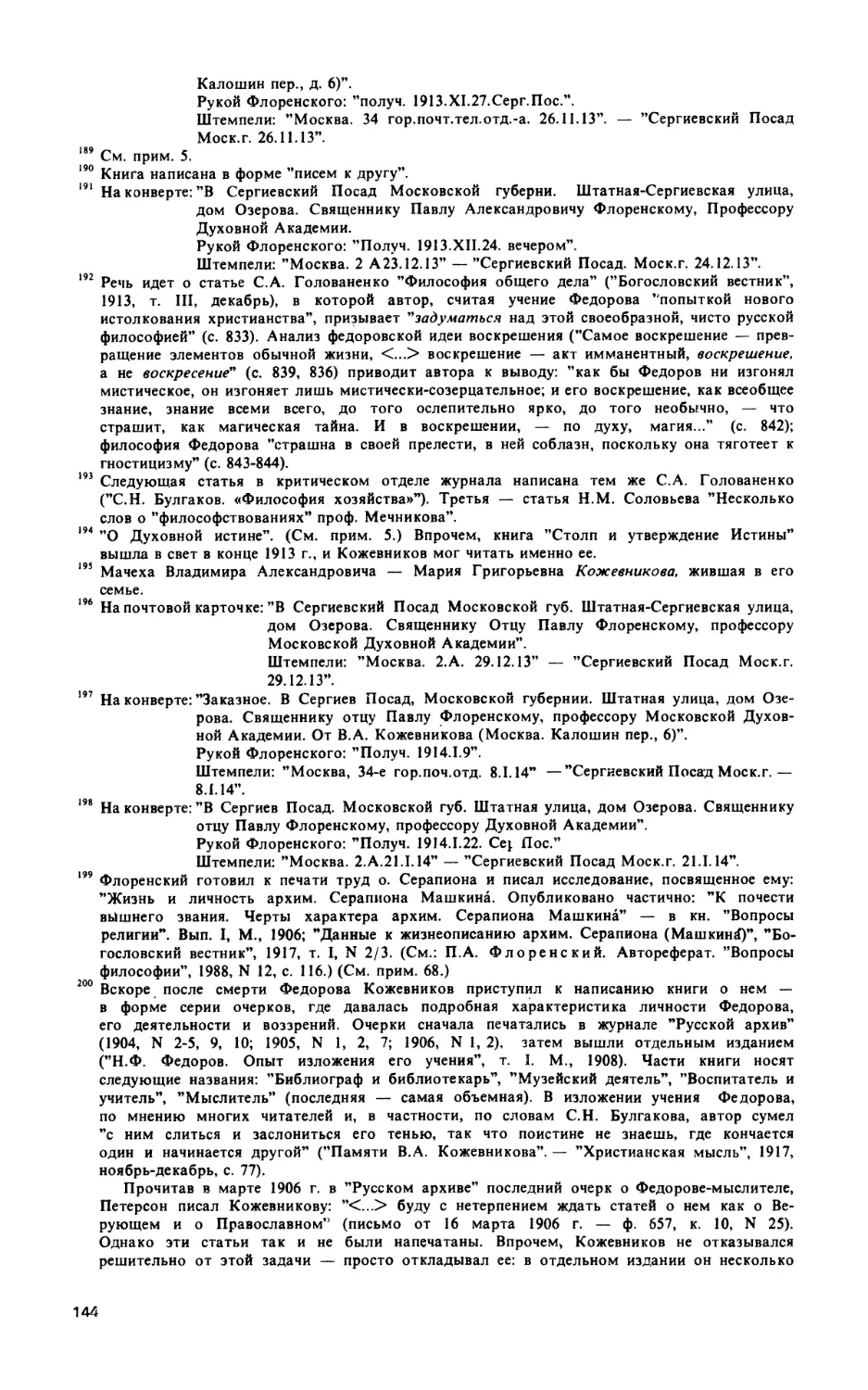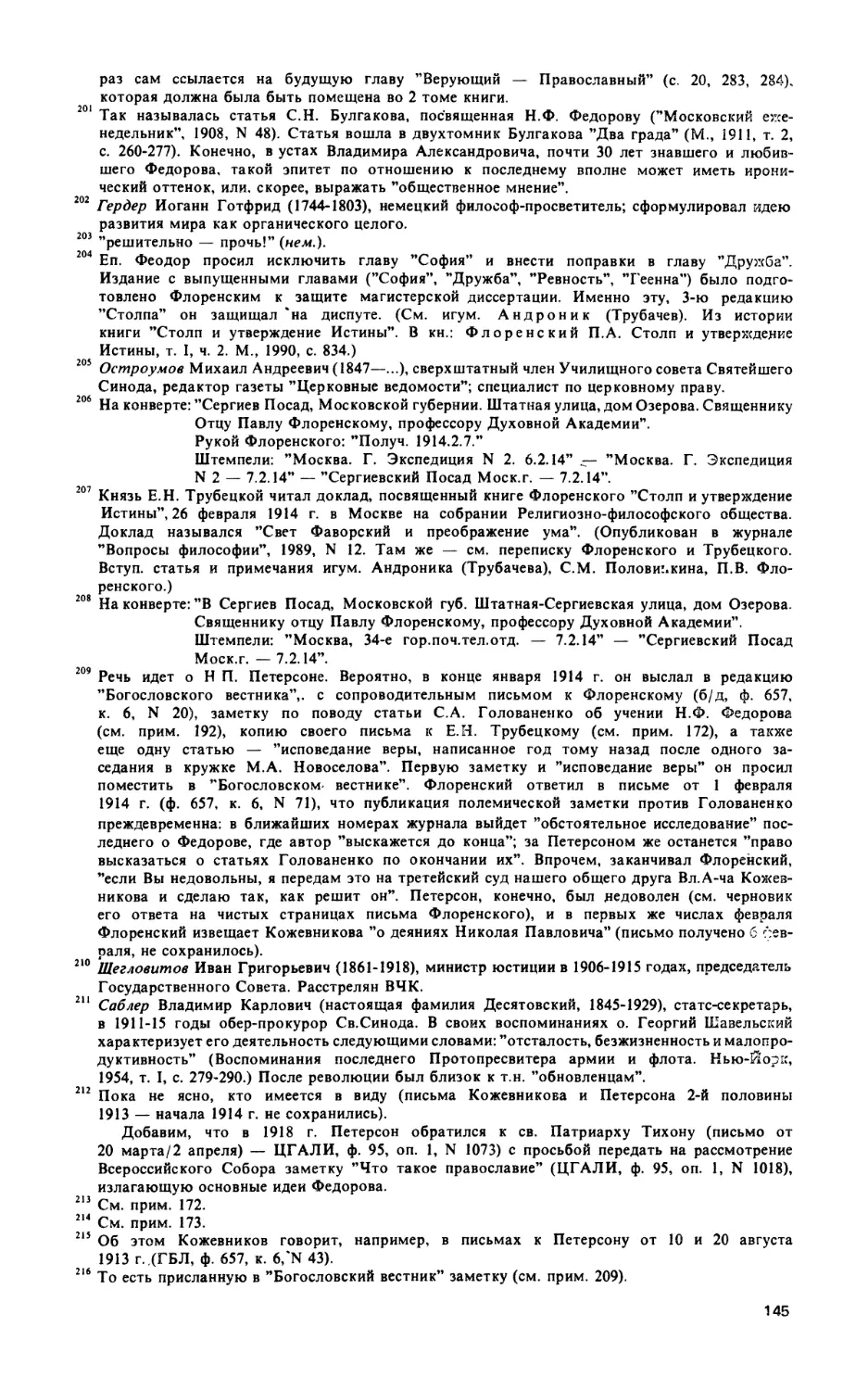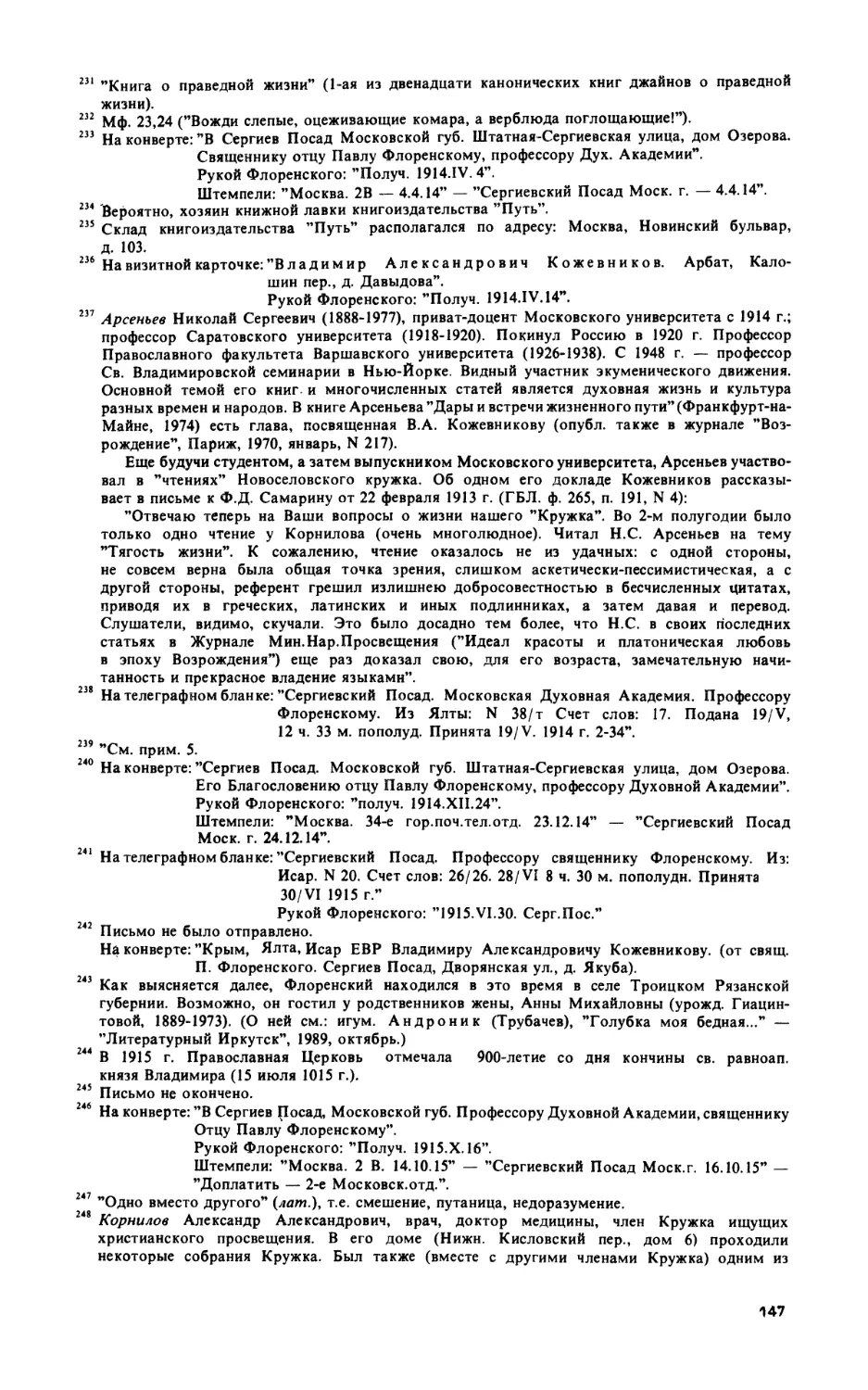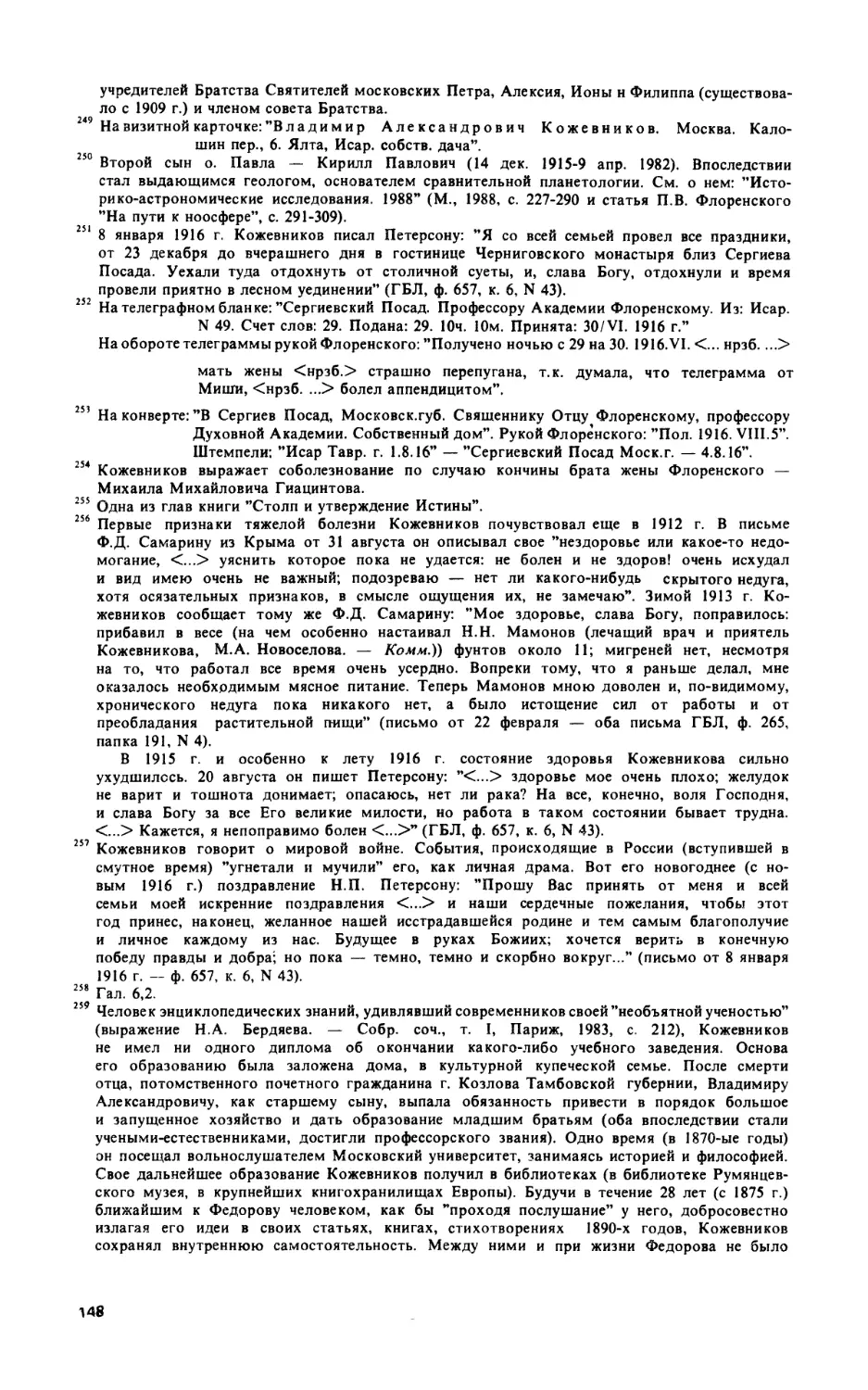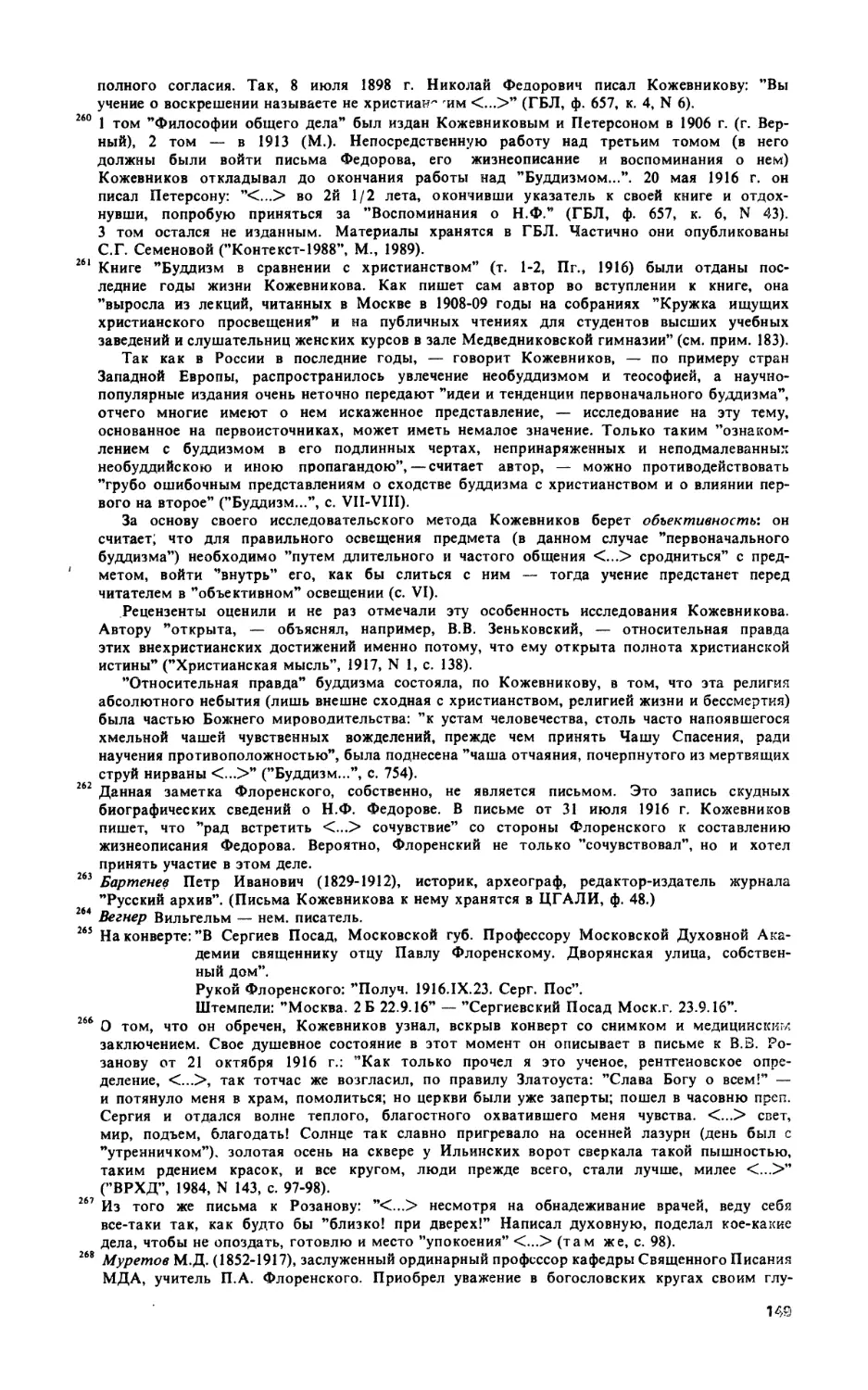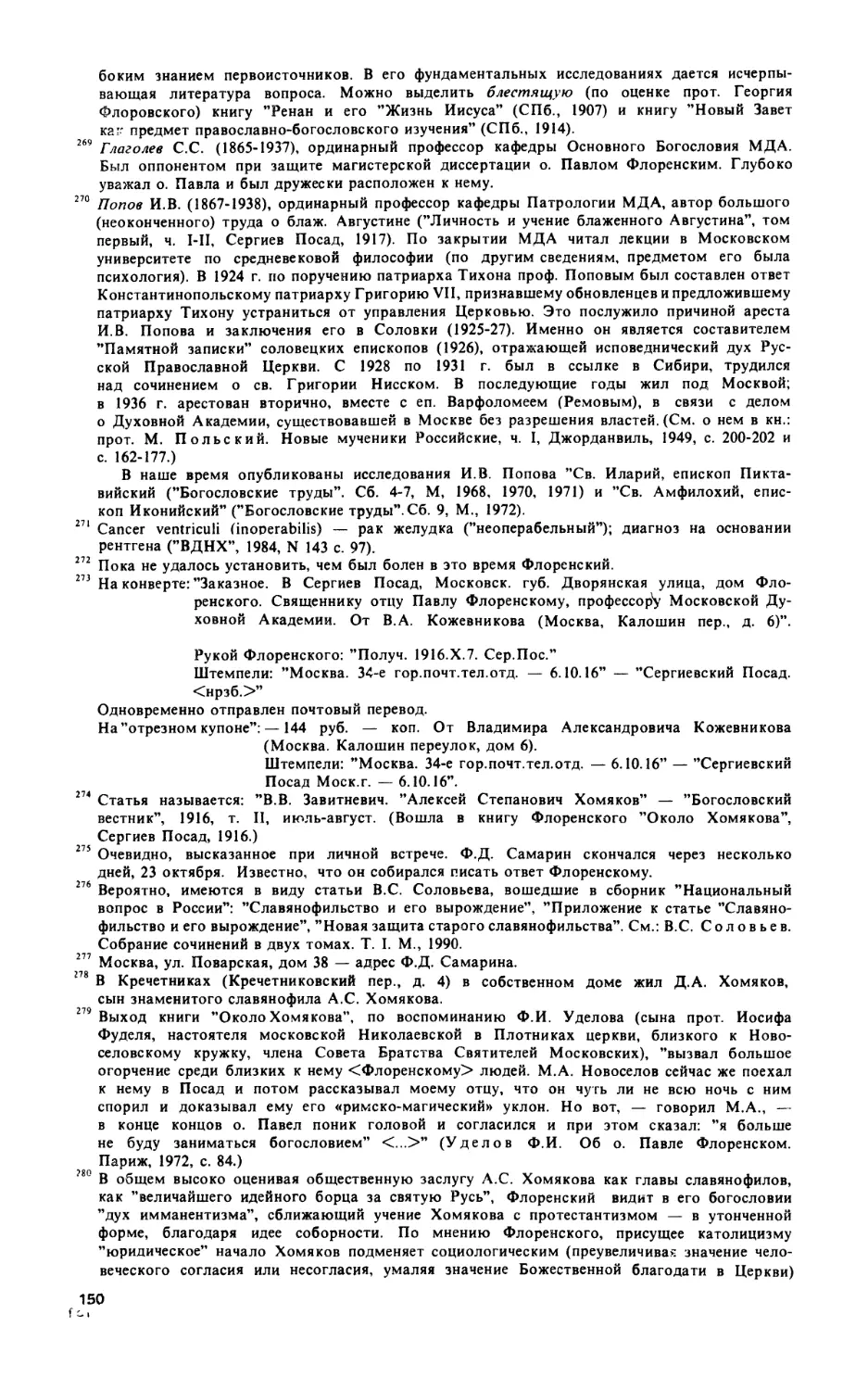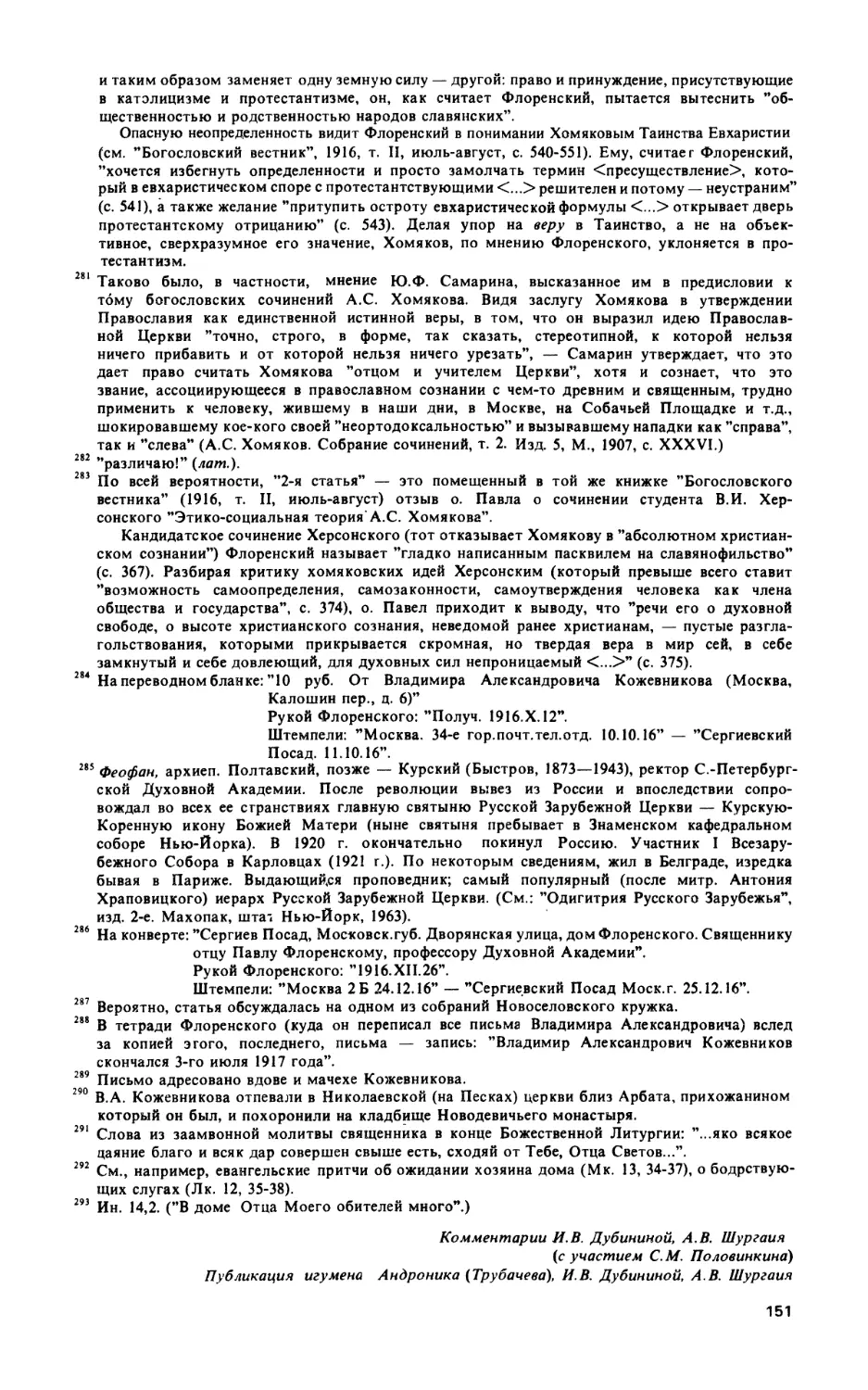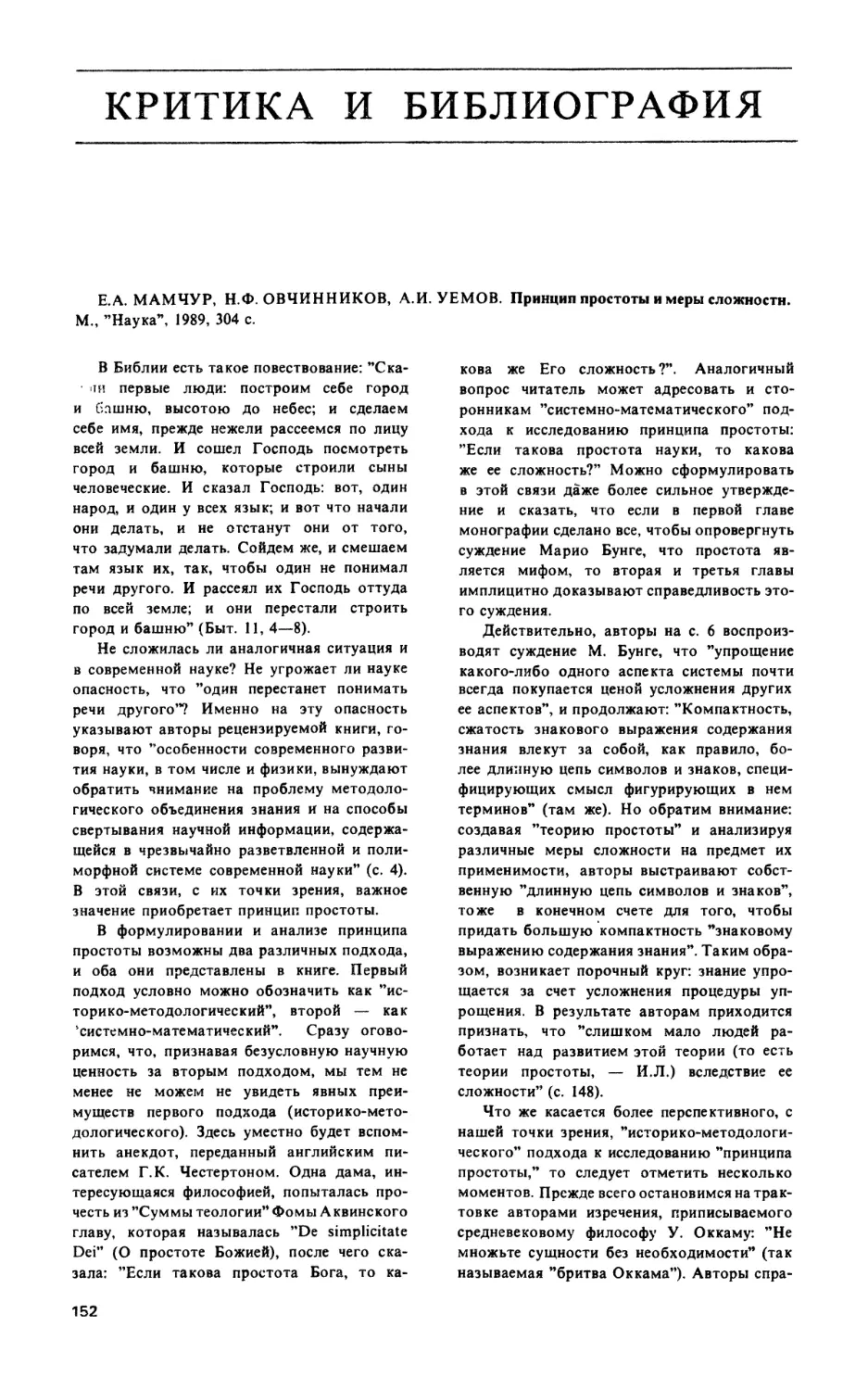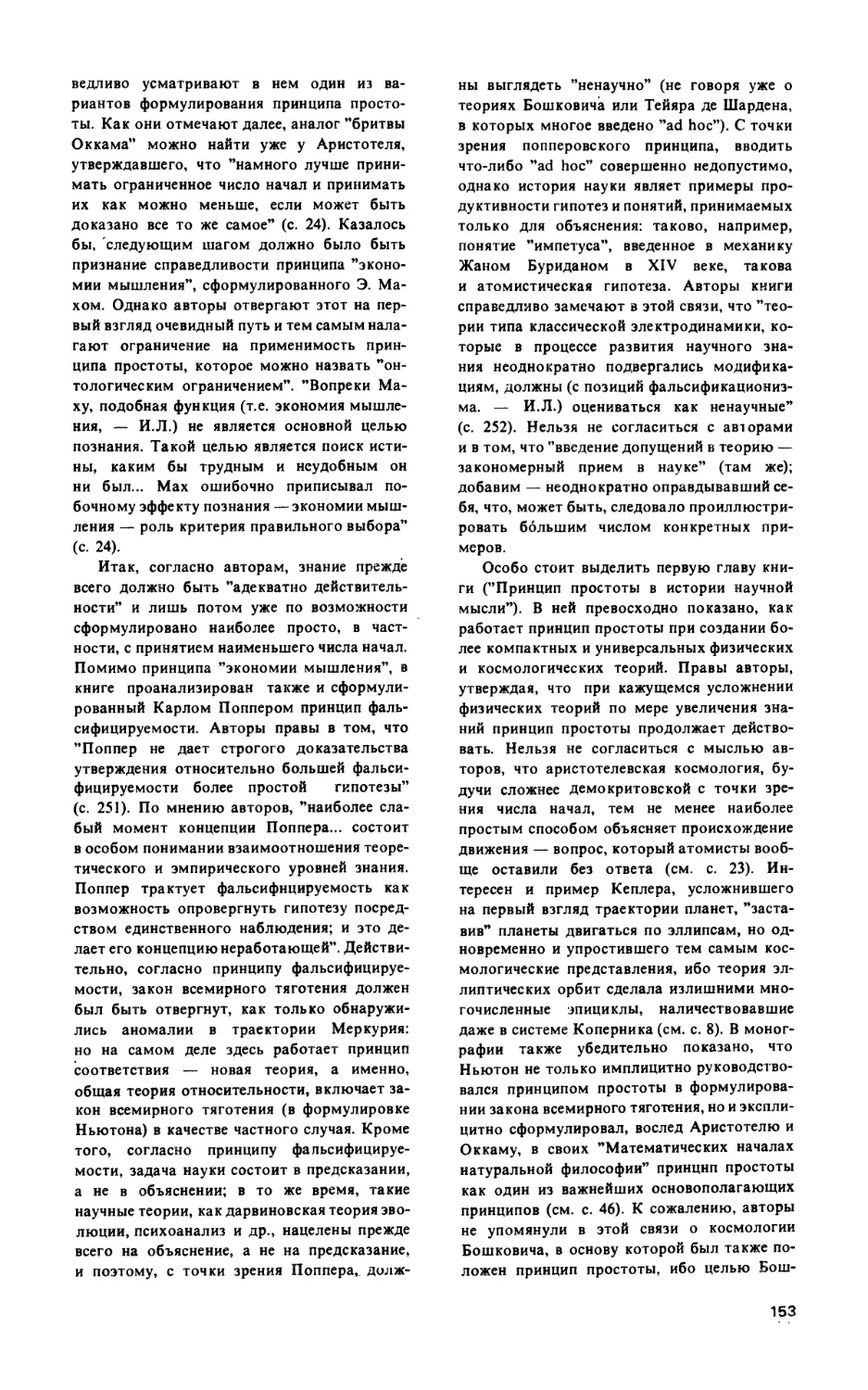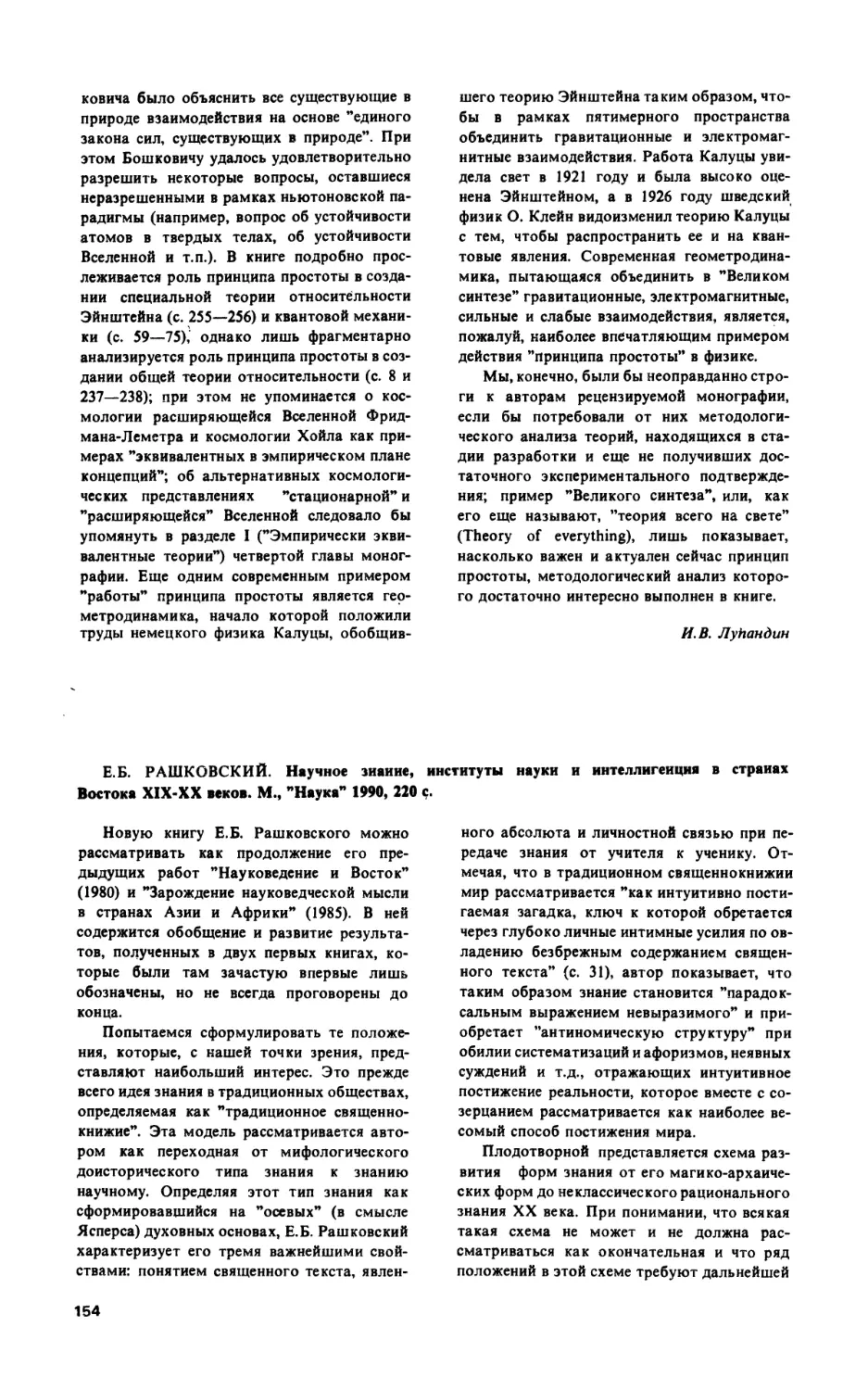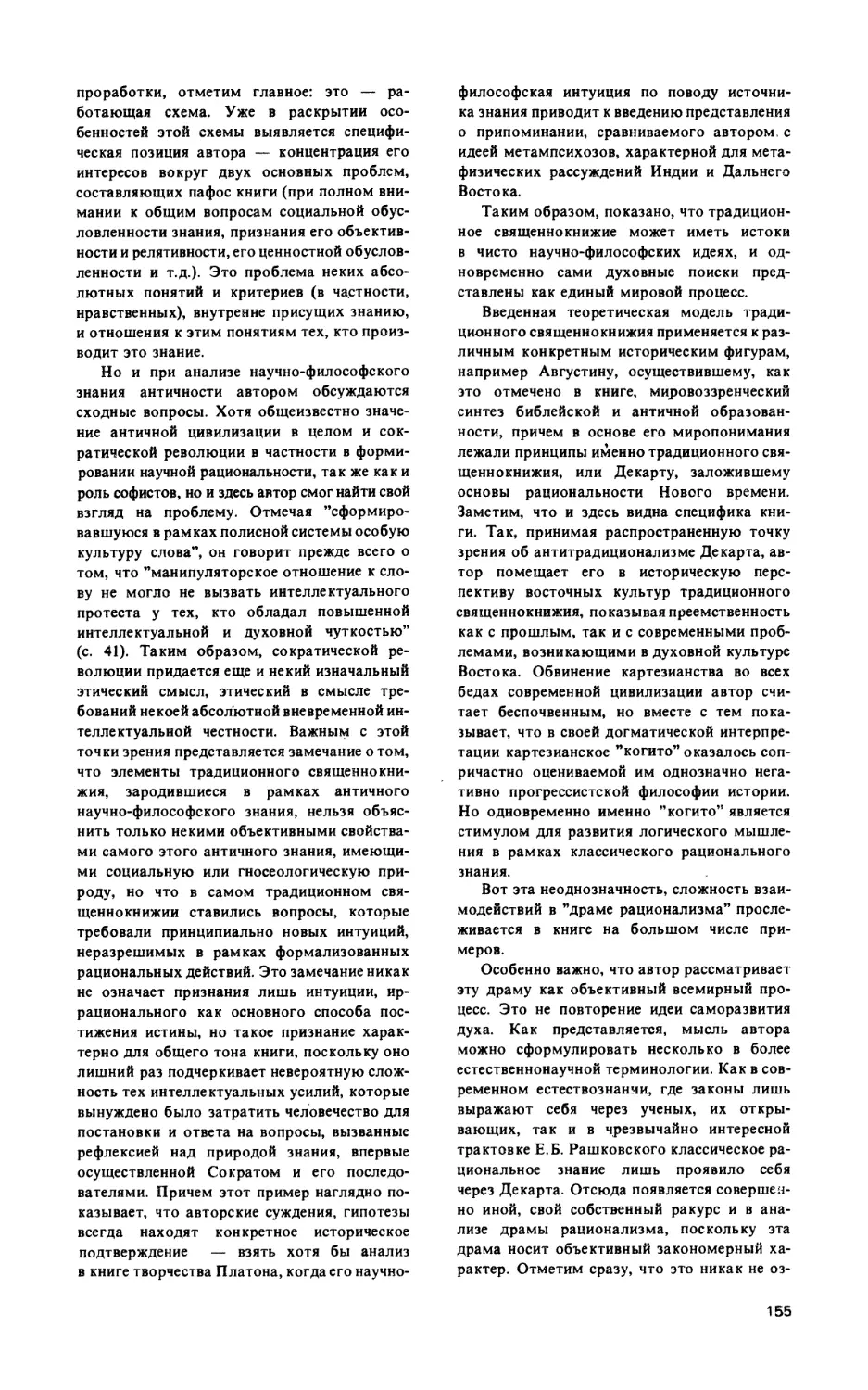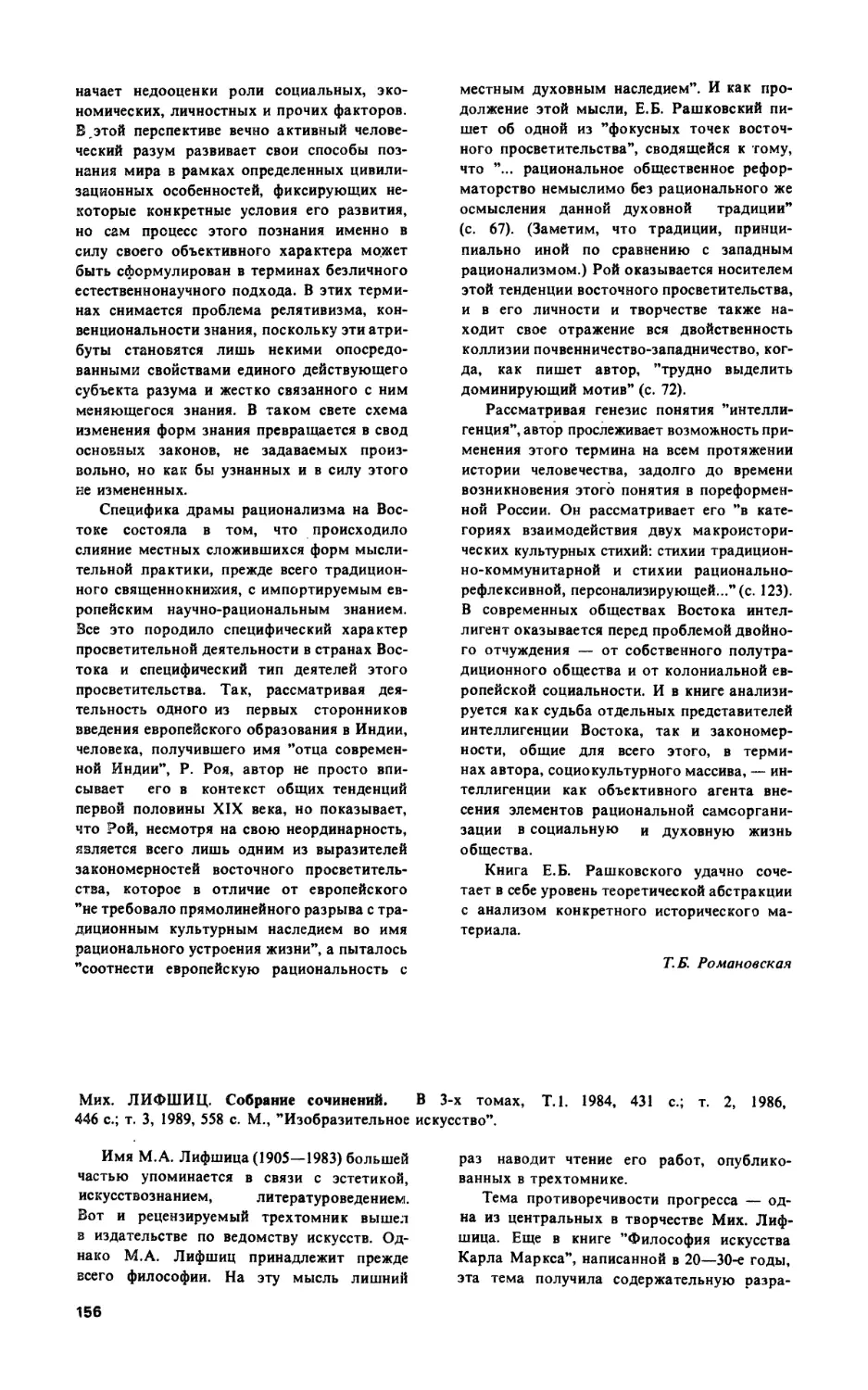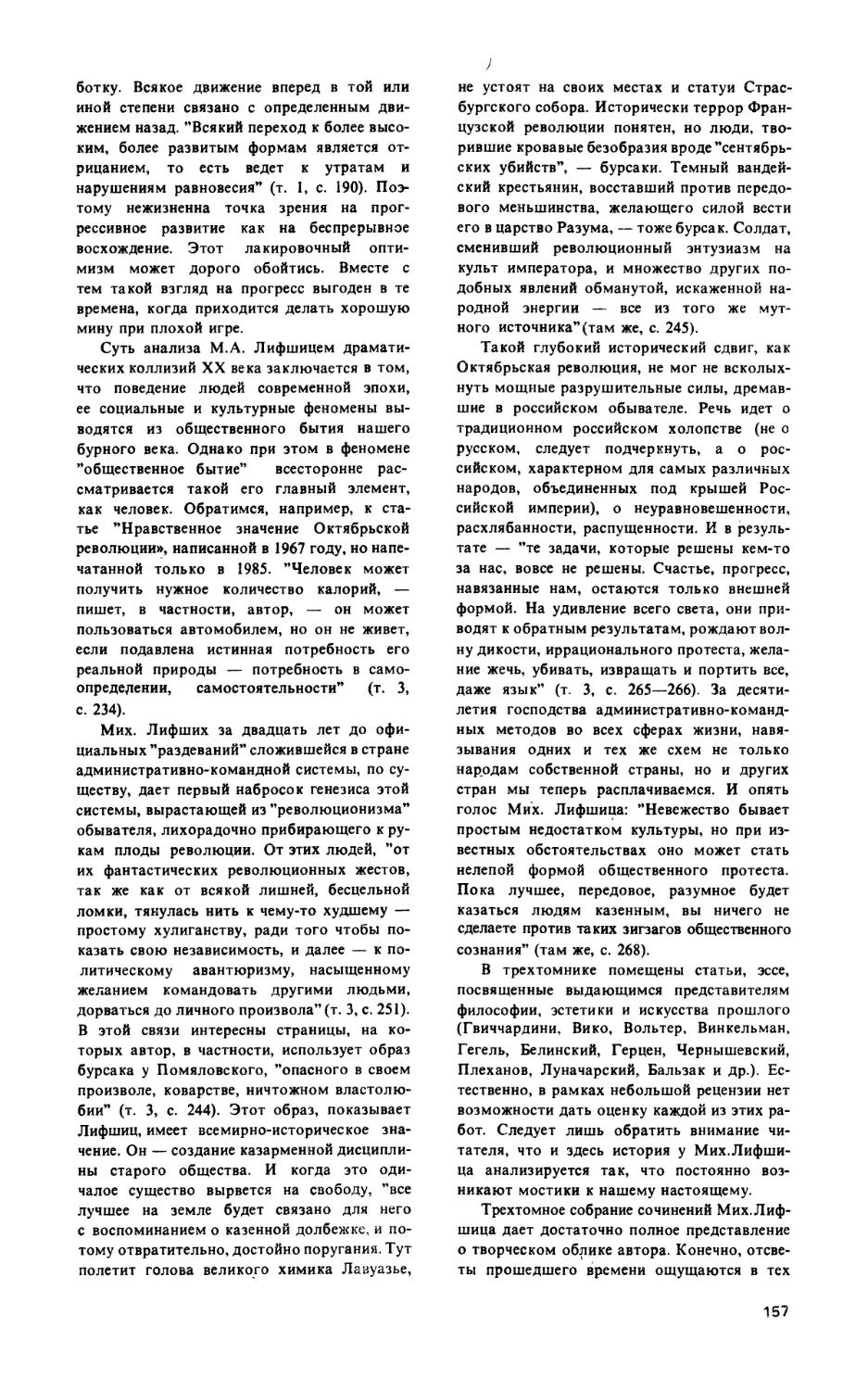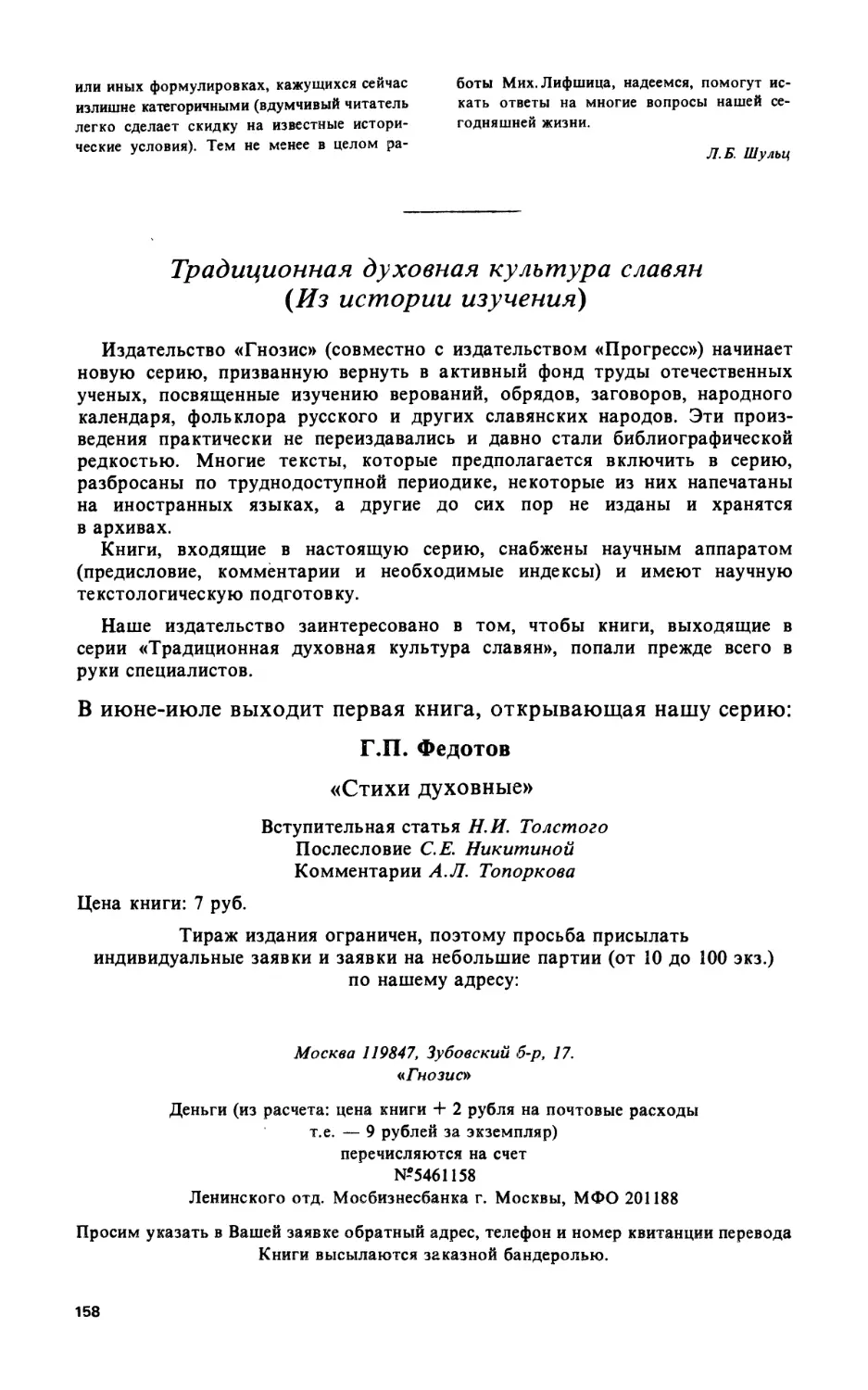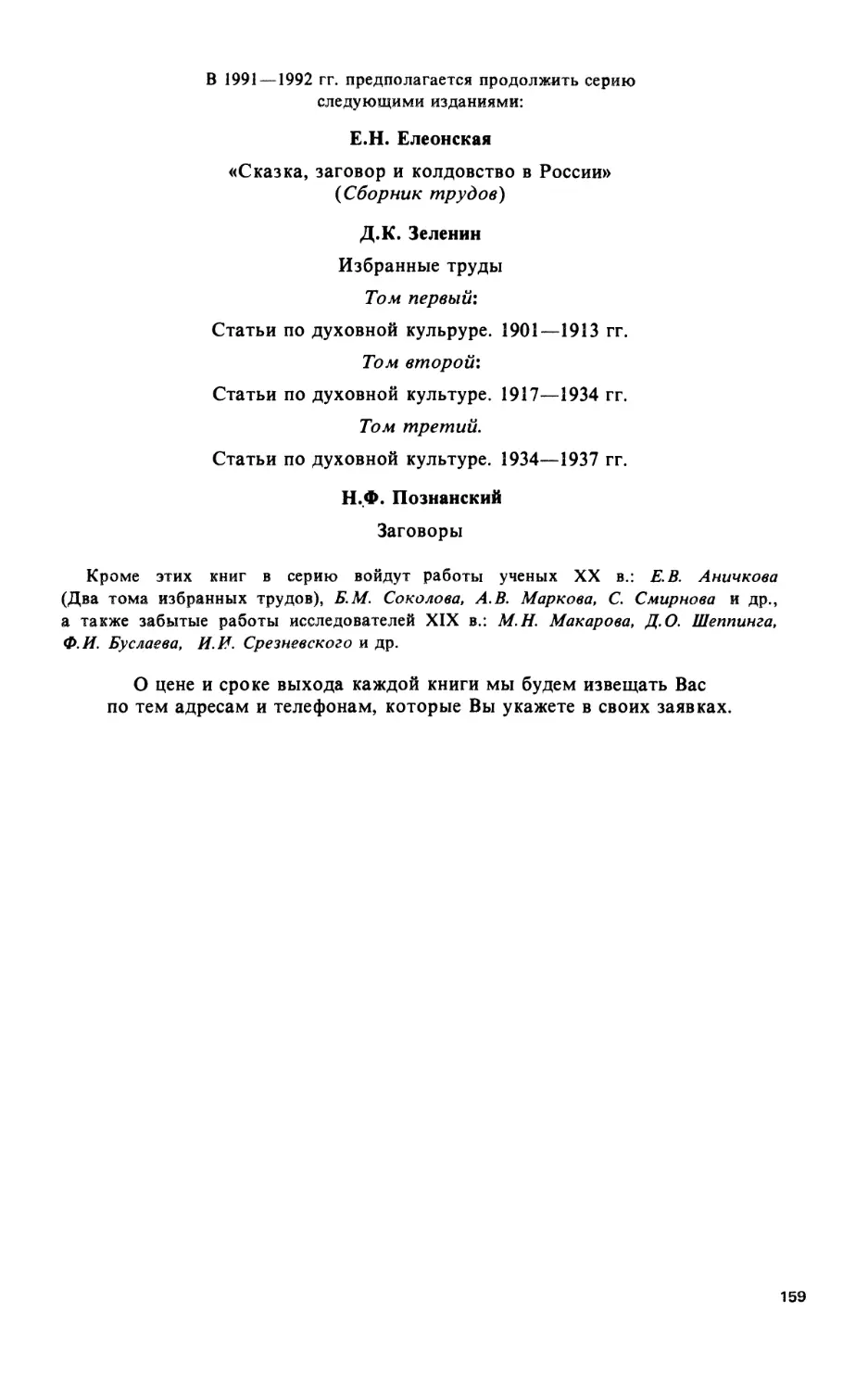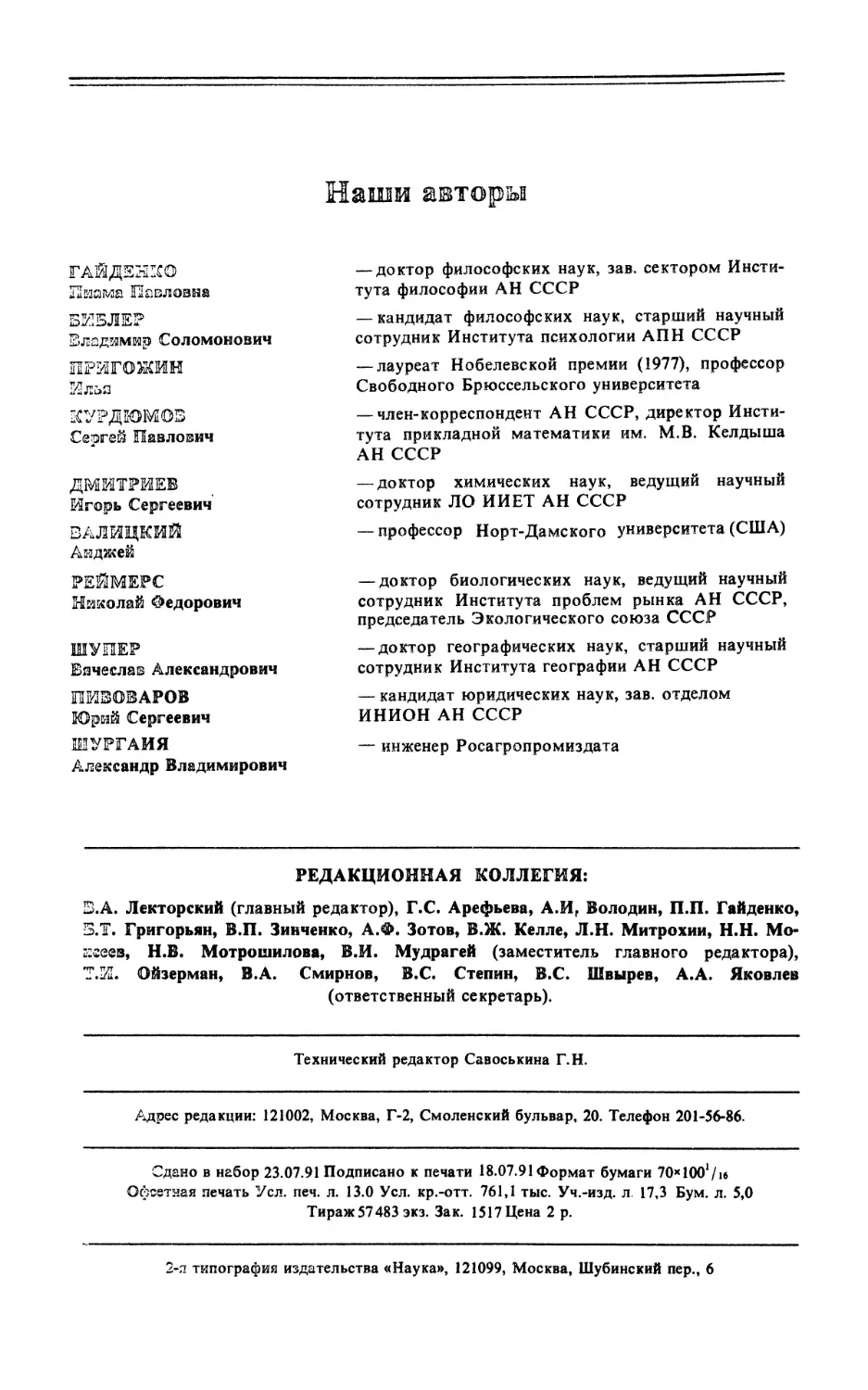Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Nr ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА 1 ПП 1
О ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 1 У У 1
СОДЕРЖАНИЕ
П.П. Гайденко — Проблема рациональности на исходе XX века 3
B.C. Библер — Из "Заметок впрок" 15
Наука и культура
И. Пригожий — Философия нестабильности 46
Интервью с СП. Курдюмовым 53
И.С.Дмитриев — Религиозные искания Исаака Ньютона 58
Из редакционной почты
Н.Ф. Реймерс, В.А. Шупер — Кризис науки или беда цивилизации? 68
Ю.С. Пивоваров — Может ли спасти Россию самодержавная монархия? 76
Научные сообщения и публикации
Переписка П.А. Флоренского и В.А. Кожевникова (предисловие А. В. Шур-
гаия) 85
Критика и библиография
И.В.Лупандин — Е.А. Мамчур, Н.Ф.Овчинников, А.И.Уемов. Принцип
простоты и меры сложности 152
Т.Б. Романовская — Е.Б. Рашковский. Научное знание, институты науки
и интеллигенция в странах Востока XIX—XX вв 154
Л.Б. Шульц — Мих. Лифшиц. Собрание сочинений 156
Объявление 158
Наши авторы ., 160
МОСКВА • «НАУКА» • 1991
CONTENTS
P.P. GAYDENKO. The problem of rationality at the end of the XXth century.
V.S. BIBLER. From the "Notes for future use". I. PRIGOGINE. The philosophy
of instability. S.P. KURDYUMOV: An interview. I.S. DMITRIYEV. Isaac
Newton's religious searches. N.F. Reimers, V.A. SHUPER. Crisis of science,
or a trouble of civilisation? YU.S. PIVOVAROV. Can Russia be saved by an
autocratic monarchy? P.A. FLORENSKY and V.A. KOZHEVNIKOV.
Correspondence. BOOK REVIEWS.
К сведению подписчиков
В 1992 г. в качестве приложения к журналу "Вопросы философии" планируется
публикация следующих работ серии "Из истории отечественной философской мысли":
И.А. Ильин (2 тома), П.Б. Струве (2 тома), А.С. Хомяков (2 тома), К.С. Аксаков,
Е.Н. Трубецкой, М.О. Гершензон (2 тома).
Годовая подписка на журнал "Вопросы философии" — 24 руб. Индекс — 70156.
Годовая подписка на Приложение — 50 руб. Индекс — 7Q398. Подписка
принимается на журнал и Приложение (общая сумма — 74 руб.), но выписываются 2
квитанции: одна — на журнал, другая — на Приложение к журналу "Вопросы философии".
На журнал можно подписаться и отдельно.
Журнал и Приложение включены в каталог. Подписка принимается без
ограничений.
© Издательство «Наука». «Вопросы философии». 1991
Проблема рациональности на исходе
XX века
П.П. ГАЙДЕНКО
"...Рациональность вытеснила
разум...*'
(Г. Шнедельбах)
В последние десятилетия философы, социологи, науковеды все активнее
обсуждают проблему рациональности; в философии науки она стала одной из
самых актуальных. Как пишет немецкий философ В. Циммерли, "основная
и ключевая проблема, вокруг которой движется континентально-европейская
философия наших дней, — это рациональность и ее границы"1. Тема эта,
впрочем, не менее живо обсуждается и вне континентальной Европы, в
англоамериканской литературе2; ряд интересных работ посвящен ей и у нас3.
Чем же вызван в конце нашего века такой глубокий интерес к проблеме
рациональности? С самого начала надо сказать, что вопрос о природе
рациональности — не чисто теоретический, но прежде всего
жизненно-практический вопрос. Индустриальная цивилизация — это" цивилизация
рациональная, ключевую роль в ней играет наука, стимулирующая развитие новых
технологий. И актуальность проблемы рациональности вызвана
возрастающим беспокойством о судьбе современной цивилизации в целом, не говоря уж
о дальнейших перспективах развития науки и техники. Кризисы,
порожденные технотронной цивилизацией, и прежде всего экологический, — вот
что в конечном счете стоит за сегодняшним столь широким интересом к
проблеме рациональности.
Впрочем, не только сегодня, но и в первой половине века проблема
рациональности была предметом рассмотрения таких философов, как А.
Бергсон, Э. Гуссерль, М. Вебер, М. Хайдеггер, К. Яспер и др. И во многом именно
эти мыслители определили тот угол зрения, под которым тема
рациональности обсуждается и сегодня, а именно как вопрос о формообразующем
принципе жизненного мира и деятельности человека, определяющем
отношение человека к природе и себе подобным.
Однако сегодняшнее обсуждение вопроса о рациональности имеет свою
специфику; оно сместилось в сферу собственно философии науки, что не могло
'Zimmerli W. Die Grenzen der Rationalitat als Problem der europaischen Gegenwartsphilo-
SOphie. — In: Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalitat. Freiburg—Miinchen, 1986, S. 327.
2 См., например: Rationality. Ed. B. Wilson. Oxford, 1970; К ekes J. A justification of rationality.
Albany, 1976; Newton-Smith W.H. The rationality of science. London, 1981; Rationality in science
and politics. Dordrecht etc., 1984.
3 Назову некоторые из них: АвтономоваН.С. В поисках новой рациональности. —
"Вопросы философии**, 1981, N3; ПружининБ.И. Рациональность и историческое единство
научного знания. М., 1986; Никифоров А.Л. Научная рациональность и цель науки. — В кн.: Логика
научного познания: актуальные проблемы. М., 1987; К аса вин И.Т., СокулерЗ.А.
Рациональность в познании и практике. М., 1989.
3
не внести новых важных акцентов в характер и способы обсуждения этой
проблемы. Ни в начале века, ни в 30—40-е гг. критика научной
рациональности не находила своих приверженцев среди тех, кто изучал методологию
и логику научного исследования, искал основания достоверности научного
знания и пытался предложить теоретические реконструкции развития науки.
Наука выступала как образец рациональности. Сегодня же, напротив, один
из немецких философов науки, Ганс Ленк, заявляет: "Вероятно, европейской
ошибкой было установление слишком тесной связи рационального и
рациональности с наукой европейского происхождения..." . Согласно Ленку,
европейская наука не есть прототип рациональности как таковой,
рациональность и научность — не одно и то же.
Наиболее непримиримым критиком науки и вообще рационального
подхода к миру оказался, пожалуй, философ и историк науки П. Фейерабенд,
объявивший сциентизм "рациофашизмом", а "нездоровый альянс науки и
рационализма" — источником "империалистического шовинизма" науки5.
"Отделение государства от церкви, — пишет Фейерабенд, — должно быть
дополнено отделением государства от науки — этого наиболее
современного, наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного
института. Такое отделение — наш единственный шанс достичь того
гуманизма, на который мы способны, но которого никогда не достигали"6.
Каким, однако, образом в философии науки последнего периода могло
сложиться столь критическое отношение, — у некоторых к
рациональности вообще, у большинства — к научной рациональности?
Пересмотр понятия рациональности в философии науки начался примерно
с 60-х годов нашего века, когда складывался так называемый
постпозитивизм, представленный хорошо известными именами Т. Куна, И. Лакатоша,
С. Тулмина, Дж. Агасси, М. Вартофского, уже упомянутого П. Фейерабенда
и др. В отличие от неопозитивизма, это направление стремилось создать
историко-методологическую модель науки и предложило ряд вариантов такой
модели. Вот здесь философии науки и пришлось столкнуться с проблемой
исторического характера рациональности.
Для понимания всей значимости вопроса об историчности разума бросим
беглый взгляд на философскую предысторию этого вопроса. Если в
философии науки в узком смысле слова проблема историчности разума встала
по-настоящему лишь в последний период, то в более широкой философской
традиции эта тема возникла в конце XVIII в. До тех пор разум
рассматривался как нечто внеисторическое, тождественное себе, как важнейшая
характеристика человека как такового. Рационализм XVII — первой
половины XVIII вв. исходил из убеждения, что разум мыслит бытие и что
в этом и состоит его подлинная сущность, гарантирующая объективность
и необходимость научного знания. Согласно этому представлению,
принципы рационального высказывания должны сохранять свое значение в любую
эпоху и в любом культурно-историческом регионе. Изменчивость и
вариабельность — признак заблуждения, возникающего в силу субъективных
привнесений ("идолов", или "призраков", как назвал эти привнесения Ф. Бэкон).
Даже Кант, в конце XVIII века отвергнувший онтологическое
обоснование знания и показавший, что не структура познаваемой субстанции,
а структура познающего субъекта определяет характер познания и предмет
4Lenk H. Typen und Systematik der Rationalitat. — In: Zur Kritik der wissenschaftlichen
Rationalitat, S. 12.
5FeyerabendP. Wider den Methodenzwang. Frankfurt a.M., 1976, S. 15,406; Feyerabend P.
Erkenntnis fur freie Menschen. Frankfurt a.M., 1979; Feyerabend P. Farewell to reason, L-N Y
1987.
бФейерабендП. Избранные труды по методологии науки. М., 1986, стр. 450.
знания, тем не менее сохранил незыблемым представление о внеистори-
ческом характере разума.
И только в XIX в. этот тезис был поставлен под сомнение, с одной
стороны, французским позитивизмом (Сен-Симон, Конт: закон трех стадий
познания и общественного развития), а с другой — послекантовским
немецким идеализмом. Немецкий идеализм, особенно в лице Гегеля, предложил
рассматривать субъект познания исторически. В результате была снята
жесткая прежде дихотомия научного и ненаучного, ложного и истинного
знания; появилось понятие относительно истинного, истинного для своего
времени. Истина, таким образом, приобрела новое для нее определение, —
стала историчной. Правда, в учении Конта, так же как и Гегеля,
релятивизация истины носила ограниченный характер. Оба философа сходились
в том, что в современную им эпоху разум пришел к созданию истинной
науки: у Конта это — позитивные науки, у Гегеля — философия, которая
в его (Гегеля) лице пришла, наконец, к постижению Абсолюта. Немецкий
идеализм создал своеобразную новую онтологию субъекта, вставшую на
место онтологии субстанции, или, иначе говоря, онтологию истории вместо
онтологии природы.
Во второй половине XIX века, а особенно на рубеже XIX—XX веков
принцип историзма разума продолжал развиваться и углубляться: прежде всего
в рамках марксистского материализма, а затем — у неогегельянцев
и в исторической школе, и параллельно — в неокантианстве и философии
жизни. Хотя теоретические позиции названных философских школ и были
разными, тем не менее общим у них были, во-первых, отказ от гегелевского
убеждения в возможности достигнуть абсолютного знания и, во-вторых,
признание исторической относительности всех форм человеческого разума.
Философская мысль первой трети XX века стремилась создать историческую
типологию знания, понятую как типология культур.
Тем не менее существовала область, в которой исторический подход к
рациональности не был принят вплоть до начала XX века: такой областью
было естествознание, — и соответственно, философия естествознания.
Первую брешь здесь пробила научная революция начала века: возникновение
не классической физики по-новому высветило проблему рациональности в
науке, тем более что сознание ученых и философов уже было подготовлено
к переосмыслению этой проблемы целым рядом других событий — кризисом
оснований математики, открытием факта множественности логических систем,
учением психоанализа о подсознательном и его влиянии на сознание,
пристальным интересом к неевропейским культурам и т.д.
Среди тех, кто попытался взглянуть на развитие самого естествознания
в понятиях историзма, был, в частности, Р. Коллингвуд, настаивавший на
культурно-исторической обусловленности самого разума. Тем не менее
исторический подход к пониманию рациональности в науке не получил
широкого распространения вплоть до конца 50-х — начала 60-х годов. Лишь с этого
времени пристальное внимание историков и философов науки к научным
революциям, меняющим сами критерии рационального знания и в этом смысле
напоминающим, согласно концепции Т. Куна, "переключения гештальта",
привело к констатации плюрализма исторически сменяющих друг друга форм
рациональности. Вместо одного разума возникло много типов
рациональности. В результате была поставлена под вопрос всеобщность и
необходимость научного знания. Скептицизм и релятивизм, столь характерный для
историцизма в философии, распространился теперь и на естествознание.
В результате, одни философы, подобно Фейерабенду, склонны принижать
роль и значение рационального начала как в науке, так и в человеческой
жизнедеятельности в целом. Другие, стремясь все-таки сохранить известную
инвариантность норм и правил разума, пытаются снять отождествление
5
рациональности как таковой с научной рациональностью. Подобную позицию
занял, например, немецкий философ науки К. Хюбнер. В отличие от теоретико-
познавательного анархизма Феиерабенда, Хюбнер признает определенные
правила и стандарты рациональности, которые однако не ограничиваются наукой
и — при всей их относительной устойчивости — обусловлены в конечном
счете исторической традицией. В работе "Критика научного разума" Хюбнер
пытается доказать, что те формы сознания, которые обычно
противопоставлялись науке как иррациональные — например, миф, — в действительности
имеют свою рациональность, которая обусловлена специфическим, отличным
от научного, понятием опыта . Рассмотрению мифологического сознания и
характерного для него типа рациональности Хюбнер посвятил специальную
работу "Истина мифа"8. Согласно точке зрения Хюбнера, научная
рациональность имеет свою границу в исторически определенных положениях веры.
Введя принцип историчности в качестве ключевого для анализа сменяющихся
форм научного знания, философия науки наших дней непосредственно вышла
к тем проблемам, которые на протяжении последнего века определили
проблематику гуманитарных наук, или, как их называл В. Дильтей, наук о духе.
Обратим внимание на характерную логику развертывания идей: у истоков
постпозитивизма стоит работа Т. Куна "Структура научных революций",
написанная не без существенного влияния исторической герменевтики
Р. Коллингвуда; и вот сегодня, на последнем, заключительном этапе развития
постпозитивизма, другой философ науки, В. Циммерли, подытоживает:
герменевтика — вот путь мышления для Европы. Именно герменевтика, по
мысли Циммерли, должна выступить в качестве всеобщей науки — scientia
universalis — и занять то место, которое некогда принадлежало
метафизике. Ибо только на почве герменевтики и возможно, согласно Циммерли,
то расширение сферы рациональности, перед необходимостью которого стоит
сегодня философия.
Казалось бы, можно только радоваться, если человеческое знание
обретет, наконец, единство, которого оно было лишено на протяжении
длительного периода, с тех пор, как оказались радикально разделенными
естественные и гуманитарные науки. Возникает однако новый вопрос: в силах ли
герменевтика справиться с ролью "всеобщей науки", которая ей сегодня —
с разных сторон — предлагается?
Изучение науки в системе культуры, анализ развития науки как момента
истории культуры — это, в сущности, и есть расмотрение знания с точки
зрения герменевтики. Сегодня очевидно, что такое изучение дает неплохие
результаты, в частности, в отечественных работах последнего периода
некоторые результаты, как мне думается, уже получены, а в дальнейшем,
возможно, результаты будут еще более интересными.
Однако, на мой взгляд, сегодня назрела, необходимость сделать следующий
шаг в анализе как оснований научного познания, так и оснований самой
культуры. Об этой необходимости, видимо, как раз и свидетельствует в наши
дни обостренное внимание к проблеме рациональности —
неудовлетворенность слишком уж далеко зашедшей релятивизацией и "плюрализацией"
"истин науки", а также невозможностью полностью объяснить, т.е. "вывести"
науку (и особенно ее предмет — природу) из культуры и невозможностью
преодолеть дуализм этих двух сфер. И потому я еще раз повторю свой вопрос:
может ли герменевтика служить фундаментом всего человеческого знания?
В силах ли она стать новой онтологией?
Ответ на этот вопрос требует еще одного исторического экскурса — в эпоху
становления экспериментально-математического естествознания, в XVII—
7Hubner К. Kritik der wissenschaftlichen Vernunft. Freiburg-Munchen, 1986, S. 424.
8Hubner K. Die Wahrheit des Mythos. Munchen, 1985.
XVIII вв., когда, собственно, и формировалось то понимание
рациональности, которое сохраняет во многом свое значение по сей день. Хорошо
известно,' что в тот период фундаментальной наукой о природе стала механика,
творцы которой изгнали из научного обихода понятие цели. "Весь род тех
причин, которые обыкновенно устанавливают через указание цели, неприменим
к физическим и естественным вещам", — писал Декарт*. "Природа не дейг
ствует по цели", — вторит Декарту Спиноза10. То же самое мы читаем у
Ф. Бэкона: "Физика — это наука, исследующая действующую причину и
материю, метафизика — это наука о форме и конечной причине"11. Как
рационалисты, так и эмпирики этого периода разделяют общее убеждение в том,
что задача естественных наук — устанавливать систему действующих,
а не целевых причин. Однако не следует забывать о том, что в эпоху
рождения механики целевая причина не была элиминирована совсем, она
сохранилась как предмет метафизики, изучающей не движение тел, как механика,
а природу духа и души. "Душа, — писал Лейбниц Кларку, — действует
свободно, следуя правилам целевых причин, тело же — механически, следуя
законам действующих причин"12.
Тип рациональности, сложившийся в XVII в., невозможно
реконструировать, не принимая во внимание как естествознание, так и метафизику
этого периода, ибо лишь взятые вместе они дают смысловой горизонт
формировавшегося способа мышления. Из природы было полностью устранено
и отнесено к сфере духа то, что полагает предел механическому движению,
не знающему "предела", "конца", "цели", — это, собственно, и нашло свое
выражение в законе инерции — фундаментальном принципе механики.
И только в эпоху Просвещения, когда началась решительная критика
метафизики со стороны таких ученых и философов, как Эйлер, Мопертюи,
Кейл, Ламерти, Даламбер, Гольбах и др., была сделана попытка перевести
всю систему человеческого знания на язык естественнонаучных понятий,
т.е. устранить понятие цели вообще, устранить даже из человеческой
деятельности. Отсюда, кстати, и вырастало стремление понять человека как
полностью детерминированного внешними обстоятельствами, средой, т.е. —
вообще говоря — цепочкой действующих причин. На месте философии
нравственности появилась "философия обстоятельств" как проекция механики
на науки о человеке13.
Однако уже в конце XVIII века мы видим реакцию на такое понимание
рациональности. Кант увидел в механистическом подходе к человеку угрозу
нравственности и свободе и попытался спасти последнюю, разделив сферы
теоретического и практического применения разума, т.е. науку и
нравственность. В науке понятию цели, по Канту, нет места, тогда как в мире свободы
она есть первейшая из категорий: человек как нравственное существо,
полагающее начало новых причинных рядов, — это, по Канту, есть цель сама по себе.
Таким образом, с конца XVIII века на место дуализма физики и
метафизики встает дуализм науки и этики, мира природы и мира свободы,
9Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950, с. 374.
10 Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957, т. 1, с. 522.
"Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах. М., 1971, т. 1, с. 220.
12 Лейбниц Г. Сочинения в 4-х томах. М., 1982, т. 1, с. 492.
13 В 60-х годах прошлого века критику этого нравственного "механицизма" дал русский философ
П.Д. Юркевич, показав его внутреннее родство с механистической теорией "происхождения
мира единственно из обстоятельств** (Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990,
с. 164), Эта теория, по словам Юркевича, **рассуждает просто, что обстоятельства сходятся
на пустом месте и рождают так называемую душу; но эта так называемая душа и после рождения
не есть нечто определенное, как надо бы ожидать; она и теперь не смеет обнаруживать себя
как нечто относительно самостоятельное и качественное, хотя этим преимуществом
пользуется самомалейшая песчинка в волнах моря; когда этой душе приходится действовать,
то качество ее поступков будет зависеть не от нее, а все-таки от обстоятельств** (там же).
перерастающий в XIX веке в дуализм наук о природе и наук о культуре.
В неокантианстве были противопоставлены друг другу мир сущего и мир
должного, — в первом царят законы необходимости, изучаемые наукой,
второй конституируется с помощью ценностей, выступающих как цели
человеческой деятельности. В историзме и вырастающей из него философской
герменевтике, развитие которой связано с работами В. Дильтея, а позднее —
с феноменологической школой, этот же дуализм выражается в
противопоставлении метода объяснения в естествознании методу понимания в
гуманитарных науках. Объяснение по-прежнему исключает понятие цели и принцип
целесообразности, тогда как понимание базируется как раз на этом принципе.
Сфера целесообразного в указанных философских течениях перемещается
к субъекту, к человеческой деятельности и ее объективациям — культуре,
истории. На этой почве, в сущности, стоит и современная герменевтика,
несмотря на стремление таких ее представителей, как Х.-Г. Гадамер,
преодолеть этот застарелый дуализм. В рамках герменевтики мир природы лишен
подлинной жизни, лишен целесообразно-смыслового начала. Герменевтика
превращает историзм в своего рода онтологию истории, в которой на место
природы встают ее исторически сменяющиеся образы как, проекции вовне
определенных культурно-исторических "смыслов". Этот принципиальный
культур-субъективизм герменевтики в определенной степени обусловливает
тот релятивизм и скептицизм, от которого хотели бы освободиться наиболее
значительные представители этого направления.
Вот почему, мне думается, герменевтика не в состоянии
удовлетворительно решить проблему рациональности и не может взвалить на свои
хрупкие плечи тяжелый груз — быть "всеобщей наукой".
Пока мы не освободимся от мысли, что смысл вносит в мир только человек
(человеческое сообщество, человеческая культура), пока не вернем и природе
ее онтологическое значение, каким она обладала до того, как технотронная
цивилизация превратила ее в "сырье", мы не сможем справиться ни с
проблемой рациональности, ни с экологическим и прочими кризисами. Ибо
экологический кризис есть не только продукт индустриальной цивилизации
в ее, так сказать, предметно-вещной форме — в виде машин, фабрик, заводов,
электро- и атомных станций и т.д., — но и продукт особого, характерного
для нового времени типа ментальности, определяющего наше отношение к
природе и понимание ее.
Природа, как бы ее ни толковали, выступала в Новое время — и вплоть
до наших дней — как объект (система объектов), используемый
человечеством в своих целях; не только к неживой, но и к живой природе человек
относился и относится не просто как хозяин и даже не просто как господин,
но как преобразователь и насильник. Тезис о том, что человек приходит
в мир для того, чтобы его изменить (а отнюдь не просто понять, объяснить,
наконец, обжить), — выражает то отношение к миру и природе, которое все
более становилось господствующим, начиная с XVIII века. Сегодня, слава Богу,
последствия такого мироотношения становятся очевидными даже для самых
непоколебимых защитников идеи "овладения природой". Но это не значит, что
мы нашли уже путь14 к устранению самого источника "заболевания", —
пока еще мы стараемся найти лекарство лишь против "симптомов".
14 Такой путь, по-видимому, ищут сегодня многие. Ученые внимательно исследуют новые
тенденции в развитии как науки, так и новейшей технологии. Так, например, B.C. Степин,
выделяя последний этап в эволюции типов научного знания и характеризуя его как пост-
неклассический, видит здесь тенденцию к преодолению дуализма природы и культуры.
"Классический тип рациональности центрирует внимание только на объекте и выносит за скобки все,
что относится к субъекту и средствам деятельности. Для неклассической рациональности
характерна идея относительности объекта к средствам и операциям деятельности; экспликация
этих средств и операций выступает условием получения истинного знания об объекте. Наконец,
Одной из предпосылок этой нововременной ментальности было, как мы уже
видели, элиминирование из природы "целевой причины", между тем как
совершенно очевидно, что принцип целесообразности — это начало всего живого,
а природа — это прежде всего жизнь.
Тут может возникнуть вопрос: почему для обретения нового взгляда
на природу — и, соответственно, на человека, общество, историю — так
важно обратиться к вопросу о рациональности? Так ли уж тесно связаны между
собой эти проблемы? И если да, то в чем здесь связь?
Мне думается, что связь тут — самая глубокая и что подлинное преодоление
уже почти двухвекового дуализма природы и культуры требует
философского переосмысления проблемы рациональности — не случайно же вокруг
нее сегодня ломаются копья.
Одной из характерных особенностей работ, посвященных сегодня проблеме
рациональности, является тенденция к перечислению основных значений этого
понятия. Уже упоминавшийся выше К. Хюбнер различает четыре вида
рациональности (или, что для него примерно то же самое,
интерсубъективности): логическую, эмпирическую, оперативную и нормативную. По
Хюбнеру, "рациональность выступает всегда в одинаковой форме, а именно:
семантически — как тождественное фиксирование правил определенного
смыслового содержания (Bedeutungsgehaltes), (в чем бы оно ни состояло),
эмпирически — как применение всегда одинаковых правил объяснения
(к чему бы они ни относились), логически-оперативно — как применение
расчета (калькуляции) (как бы его ни истолковывать), нормативно — как
сведение целей и норм к другим целям и нормам (какое бы содержание
в них ни вкладывалось). Рациональность, следовательно, есть нечто
формальное. Она относится только к уже положенному содержанию, например,
к содержанию науки или содержанию мифа"15.
Если Хюбнер указывает четыре основных значения понятия
рациональности, то другие философы стремятся к возможно более полному перечню
значений и насчитывают их уже более двадцати. Так, Г. Лен к в статье "Типы
и семантика рациональности", служащей введением в изданный им сборник
статей под названием "К критике научной рациональности", приводит
двадцать одно значение термина "рациональность". Вот некоторые из этих значений:
"1. Рациональность как логическое следование аргумента из принятых
посылок: а) логически-синтаксическая, б) истинностно-семантическая, в)
диалогически-семантическая выводимость.
2. Рациональность как формально-научная доказуемость.
3. Синтетически интегративная рациональность в смысле кантовской
архитектоники разума как разумная координация и комбинация отдельных знаний
в некую систематическую общую связь...
4. Содержательно-научная (materialwissenschaftliche) рациональность как
теоретически научное структурирование, которое может возрастать
благодаря приросту знания в ходе развития теорий...
5. Рациональность как рациональная реконструкция, как
идеально-типическая разработка критериев суждения для обсуждения, например, прогресса
знания.
6. Рациональность как развитие рациональной экспликации понятий...
постнеклассическая рациональность учитывает соотнесенность знаний об объекте не только
со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности" (Степин B.C. Научное
познание и ценности техногенной цивилизации" — "Вопросы философии", 1989, N 10, с. 18).
I5Htibner К. Wie irrational sind Mythen und Gutter? — In: Der Wissenschaftler und das Irra-
tionale. Frankfurt a.M., 1981, Bd. 1, S. 35.
7. Целерациональность, рациональность "цель—средство", или
инструментальная рациональность в смысле минимизации затрат или оптимизации
результатов при данных, не подлежащих обсуждению целях.
8. Рациональность в теории принятия решений и стратегическая
рациональность.
9. Рациональность в теории игр (стратегическая рациональность в более
узком смысле)..."16.
Мы ясно видим здесь стремление исследователя не утратить своеобразия
каждого отдельного случая, каждой конкретной мыслительной ситуации,
специфицирующей значение понятия "рациональность". Если Хюбнер дает
классификацию видов рациональности, тем самым обобщая единичные случаи,
то Ленк сознательно уклоняется от поисков единства перечисленного им
множества значений, подчеркивая к тому же, что их можно выявить и
значительно более двадцати.
Внимание к единичному, к его своеобразию, его неосводимости к общему
всегда можно понять: здесь заключается непреходящая правда эмпиризма.
Сегодня такой подход, видимо, усилился благодаря критике "тоталитаризма"
науки и научной рациональности, с которой выступил, в частности, Фейера-
бенд; в свете этой критики вполне понятна тенденция к плюрализму и к
смягчению "диктата рацио", в той или иной мере стоящего за всяким обобщением.
И тем не менее философское рассмотрение проблемы рациональности
все же не может остановиться на такого рода морфологическом уровне;
описание случаев необходимо в качестве первого этапа исследования, его
отправной точки, но оно скорее ставит проблему, чем решает ее. Нужна по
крайней мере иерархическая теория типов рациональности, которая в
определенной форме все же вносила бы начало единства в многообразие
единичных значений, т.е. вносила бы момент систематизации.
В поисках путеводной нити для такой систематизации имеет смысл
обратиться к тому ключевому для европейской философской традиции понятию
разума, которое служило исходной точкой для всех обсуждаемых сегодня
значений понятия "рациональность", но — парадоксальным образом —
оказывается почти вне поля зрения тех, кто сегодня проблему рациональности
обсуждает. И это, конечно же, не случайно: как глубокомысленно заметил
немецкий философ Г. Шнедельбах, "рациональность вытеснила разум"17.
Со времен Платона и Аристотеля, через Августина, Фому Аквинского
и Вильяма Оккама, позднее — через Декарта, Лейбница и Локка вплоть
до Канта, Фихте и Гегеля понятие разума было одним из ключевых для
философии. Конечно, нельзя не учитывать тех существенных различий в
трактовке разума, которые существовали между названными философами и
которые сами они не всегда адекватно сознавали. Однако при всех этих
различиях имело место и нечто общее; с целью выявления этого общего
я хочу обратиться к двум весьма несхожим между собой представителям
этой единой — классической — традиции: Канту и Аристотелю, поскольку
учение о разуме каждого из них было и достаточно развернутым, и
достаточно влиятельным, определявшим характер мышления не одного столетия.
Вопреки хронологической последовательности, начну с Канта. Кант видит
в разуме высшую из теоретических (пока мы будем говорить о
теоретической функции) способностей. Он определяет разум как способность давать
принципы18, отличая его от рассудка как способности давать правила для
подведения многообразия чувственности под единство понятия. Принцип,
согласно Канту, — это не любое общее положение, которое могло бы служить
16LenkH. Typen und Systematik der Rationalitat. — In: Zur Kritik der wissenschaftlichen
Rationalitat, S. 20—21.
17 Rationalitat, Hg., H. Schnadelbach. Frankfurt a.M., 1984, S. 8.
18 К а н т И. Сочинения в шести томах. М., 1964, т. 3, с. 340.
10
большей посылкой умозаключения. (Так, аксиомы геометрии — это, по Канту,
не принципы, потому что они предполагают опору на созерцание, т.е.,
говоря современным языком, не чуждым, впрочем, и Канту, являются
результатом конструирования.) Познание из принципов мы имеем тогда, когда
познаем частное в общем посредством понятий, не прибегая к опыту19.
"Всякое наше знание, — пишет Кант, — начинает с чувств, переходит затем
к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для
обработки материала созерцаний и для подведения его под высшее единство
мышления"20.
Итак, мышление — это способность формулировать единство в сфере
нашего опыта. В этой способности Кант выделяет как бы два уровня: рассудок,
создающий единство посредством правил (т.е. с помощью категорий), и разум,
создающий единство правил рассудка по принципам. Это значит, что разум
организует не чувственный материал, не опыт, а сам рассудок. "Разум
стремится свести огромное многообразие знаний рассудка к наименьшему
числу принципов, и таким образом достигнуть высшего их единства"21.
Кант различает два способа применения разума: формальный, или
логический, и реальный, или трансцендентальный22. При логическом применении
используется способность разума давать опосредованные выводы, т.е.
умозаключать; реальное же применение предполагает способность разума
производить особые понятия, которые Кант вслед за Платоном называет идеями.
Философия в первую очередь, говорит Кант, должна исследовать
трансцендентальное применение разума, его способность порождать
трансцендентальные идеи, с помощью которых он дает наибольшее систематическое
единство знания.
Что же представляют собой трансцендентальные идеи разума? Какого рода
единство сообщают они нашему знанию? Послушаем Канта. "Высшее
формальное единство, основывающееся исключительно на понятиях разума, есть
целесообразное единство вещей, и спекулятивный интерес разума заставляет
рассматривать все устроение мира так, как если бы оно возникло из намерения
наивысшего разума... Такой принцип открывает нашему разуму... совершенно
новую перспективу — связать вещи в мире согласно телеологическим законам
и тем самым дойти до их наибольшего систематического единства"23.
Как видим, телеологическое единство, единство через цель Кант считает
наивысшей формой единства вообще. В качестве регулятивного принципа
теоретический разум, по Канту, стремится положить в основу познания
природы понятие цели, и не случайно сам разум Кант называет
"способностью целей". Высшая задача науки — "проникнуть в самую глубь природы
сообразно всем возможным принципам единства, из которых главное
составляет единство целей"24. Теперь яснее становится мысль Канта о том, что
разум создает единство правил рассудка по принципам: разум достраивает до
высшего единства — единства целей — то, что рассудок способен подвести
лишь под единство причины — природной закономерности, как ее видит
математическое естествознание Нового времени. Не случайно в кантовской
системе категорий рассудка, т.е. тех правил, с помощью которых создается
"Там же, с. 341.
20Там же, с. 340.
21 Та м же, с. 346.
22 Современный немецкий философ К.-О. Апель, стремясь как-то систематизировать
множество значений понятия "рациональность", сводит их к двум основным:
"формально-логической и математической рациональности, с одной стороны, и (трансцендентально-)
философской рациональности, с другой" (Apel К.-О. Das Problem einer philosophischen Theorie der Rationa-
litatstypen. — In: Rationalitat, S. 23). Нетрудно видеть, что Апель по существу воспроизводит
здесь два способа применения разума, предложенные Кантом.
23Кант И. Сочинения..., т. 3, с. 581—582 (курсив мой. — П.Г.).
24Там же, с. 591.
11
мир опыта и которыми оперирует современное естествознание, нет
категории цели. Цель — это принцип разума, а не категория рассудка; но рассудок,
тем не менее, не может обойтись без этого принципа: он останется лишенным
регулятива. "Высшее систематическое, следовательно, и целесообразное,
единство есть школа и даже основа возможности наиболее совершенного
применения человеческого разума. Следовательно, идея этого единства
неразрывно связана с сущностью нашего разума"25.
Как видим, именно цель, целесообразность оказывается, по Канту, высшим
принципом теоретического познания26. А те закономерности, которые
устанавливает рассудок, вскрывая причинную связь явлений, оказываются
системой средств для реализации целей -~ не субъективных целей человека или
человечества, а объективной целесообразности: ведь речь в данном случае идет
о теоретическом применении разума.
Для поставленного нами вопроса о том, что такое рациональность,
существенно то, что именно теоретический разум предстает у Канта как
"способность целей". Но кантовский анализ разума на этом не
останавливается: философ обнаруживает практический корень разума, показывая, что
целераскрывающая способность разума в области науки обусловлена его
главной функцией — быть законодателем в сфере нравственности, т.е.
указывать цель для человеческой деятельности и устанавливать иерархию целей.
Не случайно Кант подчеркивает, что Платон, впервые открывший идеи
разума, "находил идеи преимущественно во всем практическом, т.е. в том, что
основывается на свободе..." 7.
Исконная сфера разума — это, по Канту, сфера свободы: идея блага,
составляющая сердцевину практического разума, имеет в теоретическом
разуме свой аналог в виде принципа целесообразности. Идея блага — это
высшее понятие разума вообще, как бы до его разделения на
теоретический и практический. "Не только в области нравственности, где
человеческий разум обнаруживает полную причинность и где идеи становятся
действующими причинами (поступков и их объектов), но и в отношении
самой природы Платон справедливо усматривает явные признаки
происхождения ее из идей... Лишь совокупность связи вещей во вселенной адекватна
идее... Полет мысли философа, возвысившегося от четкого наблюдения
физического в миропорядке к архитектонической связи его согласно целям, т.е.
идеям, заслуживает уважения и подражания..."28.
Нравственно-практические корни разума Кант рассматривает в этике. Здесь
разум как способность принципов обладает уже не только регулятивной,
но конститутивной функцией: принципы разума, т.е. его цели, становятся
реальными причинами действий. Практический разум — это разумная воля.
"Воля, — пишет Кант, — есть вид причинности живых существ, поскольку
они разумны"29. Действовать исходя из принцидов разума — значит
руководствоваться идеей блага. "Воля есть способность выбирать только то,
что разум независимо от склонности признает практически целесообразным"30.
25 К а н т И. Сочинения..., т. 3, с. 586. "Полное целесообразное единство... есть совершенство", —
замечает Кант там же. Не случайно математики нередко считают, что самым убедительным
признаком истинности математического доказательства, построения и т.д. является его красота
(например, так полагал П. Дюгем). Здесь речь идет не о субъективно-произвольном критерии
истины, а напротив, о высшем, т.е. разумном ее критерии. Совершенство, красота — это
целесообразность, т.е. печать высшего единства, требуемого разумом.
26 Это не значит, что для достижения этой целесообразности надо насильственно навязывать
природе цели там, где их не удается обнаружить: такая "телеология" гибельна для науки.
А вот искать целесообразность, проводя строго научное исследование, — это, по Канту,
продуктивный эвристический подход.
27Кант И. Сочинения..., т. 3, с. 351.
12
28Там же, с. 352—353.
29Кант И. Основы метафизики нравственности. — Сочинения..., т. 4, ч. 1. с. 289.
30Там же, с. 250.
Нравственный мир — вот подлинное царство разума, царство целей31 как
вещей в себе: ведь там, где разум обретает свою конститутивную функцию,
мы выходим за пределы только явлений и оказываемся в мире вещей в себе —
т.е. свободных разумных существ, или лиц. Лица, пишет Кант, это
"объективные цели, т.е. предметы, существование которых само по себе есть цель"32.
Такова кантовская интерпретация разума. И — добавим — отнюдь не только
кантовская. Немецкий философ вовсе не был исключением в европейской
философской традиции: рассмотрение сущности разума сквозь призму понятия цели
является общим у Канта не только с Платоном, на которого он сам нередко
ссылается, но и с Аристотелем и, соответственно, с той многовековой
традицией толкования разума, которая проходит через Средние века и
завершается Лейбницем. Именно от Аристотеля идет убеждение в превосходстве
целевой причины над причиной действующей; а основную функцию разума
греческий философ усматривал в познании целевых причин. Рассуждая о
природе разума, Аристотель писал: "Наиболее достойны познания первоначала
и причины, ибо через них и на их основе познается все остальное... И наука,
в наибольшей мере главенствующая... — та, которая познает цель, ради
которой надлежит действовать в каждом отдельном случае; эта цель есть в
каждом отдельном случае то или иное благо, а во всей природе вообще
наилучшее"33. Наука, которая познает цель, или благо, — это, согласно
Аристотелю, философия. И пользуется она при этом разумом, ибо только
ему доступны понятия цели, блага, наилучшего. Как известно, высшим
сущим, благодаря которому все в мире существует, живет и движется,
является, по Аристотелю, неподвижный речный двигатель: он как раз движет все
сущее не как действующая причина, а как цель, подобно тому, как движет
человека предмет желания и предмет мысли. "...Движет она (цель. — П.Г.) как
предмет любви, между тем все остальное движет, находясь в движении
(само)"34.
У Аристотеля мы находим тесно связанными между собой три
фундаментальных понятия: цели, блага и разума35. Приведем один из наиболее
интересных отрывков из "Метафизики", где раскрывается органическое
единство этих понятий. "То, ради чего" — это конечная цель, а конечная цель —
это не то, что существует ради другого, а то, ради чего существует другое;
так что если будет такого рода последнее, то не будет беспредельного
движения; если же нет такого последнего, то не будет конечной цели. А те, кто
признает беспредельное (движение), невольно отвергают благо как таковое;
между тем, никто не принимался бы за какое-нибудь дело, если бы не
намеревался прийти к какому-нибудь пределу. И не было бы ума у поступающих так,
ибо тот, кто наделен умом, всегда действует ради чего-то, а это нечто —
предел, ибо конечная цель есть предел"36.
Согласно Аристотелю, как видим, разум тоже есть "способность целей",
и это потому, что цель — это сущее-ради-себя; все остальное — ради нее,
но она больше не отсылает к другому, она замыкает, завершает ряд,
кладет ему предел и тем самым останавливает механическое,
беспредельное движение от одного к другому. Именно такой незавершенный, не
содержащий в себе конца (цели) ряд есть нечто несовершенное, а потому чуждое
разуму.
Элиминирование принципа целесообразности из естествознания Нового вре-
31Там же, с. 275.
32Там же, с. 269.
33 Метафизика, I, 2.
34 Метафизика, XII, 7.
35 "Все, что есть благо, само по себе и по своей природе есть некоторая цель" (Метафизика,
III, 2).
36 Метафизика, II, 2.
13
мени как раз и превращало природу в такой вот незавершенный, не имеющий
в себе конца, а значит и смыслового измерения ряд. Проекция
механического воззрения на мир из области естествознания на человеческую
жизнь и деятельность, на сферу нравственности грозила устранению понятий
цели и смысла также и из этой сферы. Все это вело к устранению также и
понятия разума, который к концу XIX века — по крайней мере в науках о
природе — был сужен до так называемой научной рациональности, означавшей
объяснение всех явлений с помощью установления между ними причинно-
следственной связи — в смысле действующей, механической, а не целевой,
конечной причины. Сегодня мы видим, что как наше механистическое
понимание природы, так и наше зауженное толкование рациональности
имеют общий корень. Только в том случае, если мы вернем рациональности
ее изначальное значение, если поймем ее как разум, как смысл, мы сможем
положить в основу как наук о природе, так и наук о культуре единое начало,
единый принцип целесообразности, преодолев, наконец, их застарелый
дуализм. Ибо частичное спасение начала целесообразности и, соответственно,
смыслового начала, как его мыслили представители неокантианства (учение
о ценностях), Дильтей (учение о понимании), современная герменетивтика,
не освобождает нас от субъективизма и связанного с ним культур-реля-
тивизма.
От научной рациональности, понятой как техника овладения природой,
необходимо вновь обратиться к разуму — как той высшей человеческой
способности, которая позволяет понимать: понимать смысловую связь не
только человеческих действий и душевных движений, но и явлений природы,
взятых в их целостности, в их единстве, в их живой связи.
На протяжении последних двух столетий человечество стремилось главным
образом изменять природу; чтобы не истребить ее окончательно и не
покончить таким образом и с самим собой, человечеству сегодня необходимо
вернуть себе способность понимать природу. А это и значит — от слишком
узко понятой научной рациональности перейти на точку зрения философского
разума.
14
Из "заметок впрок"
B.C. БИБЛЕР
Вступление
"Заметки впрок" я веду с 1967 года. Это — своего рода философский
дневник. Дневник, но именно — философский. Здесь нет лвдшых, домашних
впечатлений и переживаний. Все личное преломлено сквозь видение философа,
или скажу так: личное и индивидуальное спроецировано на идею и возможную
композицию намечаемого философского произведения. Это — заготовки к
будущим работам, первые (вторые... десятые...) редакции будущих печатных
формулировок и логических целостностей. Некие эмбрионы, конспекты уже
написанных, или еще не написанных, или — уже не могущих быть
написанными (жар ушел в "свисток") книг. Но это, хотя и философский, но все же —
дневник. Личное и индивидуальное, хотя и отстранено, преломлено, но все
время ощущается. Просто о личном для меня естественнее говорить в формах
"охлажденной" (проект возможной книги, или — мысли, определения...)
рефлексии. Иначе — все кажется нескромным и расхристанным.
Перечитывая сейчас эти заметки (почти за двадцать пять лет), я подумал
(уже отвлекаясь от личного опыта) о возможной значимости такого речевого
жанра для читателей: конечно, читателей философствующих — философов
по самому типу сознания и, может быть, даже — по личному складу...
Здесь есть ряд моментов. Во-первых, сейчас, в конце нашего века, такие
"заметки впрок", заторможенные начала мыслей, зародыши возможных
произведений, мучение над повторными вариантами той же мысли,
лаконичность набросков, понятных "самому себе", острое переживание
незаконченности, развилки логических движений, все эти и многие другие естественные
особенности дневниковых философских записей все более определенно
вычленяются как именно особый жанр речи, особый тип произведения,
отвечающий ожиданиям и умонастроенности современного читателя (и —
автора). Будь это автор и "читатель" произведения художественного (проза,
поэзия, живопись, музыка), будь это автор и читатель произведения
теоретического (характер современных математических работ, детализировать
которые призван вычислительный аппарат), будь это автор и читатель
произведения (?) философского. Всегда и везде ожидание и соучастие связано с неким
уколом, возбуждающим воображение; или — мысль, или со-мыслие читателя
или слушателя. Причем, этот минимальный, тщательно продуманный "укол"
должен быть столь же незакончен, намекающ, мгновенен и —
одновременно — столь же завершен, композиционно замкнут, как — к примеру,
японские хокку или — "Так, как есть" Поля Валери: на мой вкус, одно из
значительнейших философских произведений XX века. Здесь все "в строку".
Обращенность к внимательному, в том же ритме думающему читателю
(это позволяет сохранить и усилить лаконизм, семантику и синтаксис
внутреннего речевого строя). Законченность (ритмическая или стилистическая)
каждого отдельного фрагмента. Затаенная перекличка (через года, через
15
страницы, через иные сюжеты) разных вариантов, развилок одной и той же
мысли или образа. Такое композиционное эхо стягивает отдаленные
фрагменты (голос доносится через продолжительные лакуны и пустоты) в единое,
хотя и очень странное произведение, в которое "вставлены", вточены другие,
столь же самостоятельные произведения-фрагменты. Предполагаю, что все это
характерно для того онтологического диалогизма мысли и бытия, что насущен
в жизни людей, реально, актуально живущих в конце века. Но об этом
детальнее будет сказано в некоторых приведенных здесь заметках.
Во-вторых (впрочем, это другая сторона тех же размышлений), —
ироничная фрагментарность современных речевых жанров (философских в том
числе) определяется тем, что в культуре XX века предельным предметом
размышления (и переживания) все напряженнее оказывается сам процесс
возникновения мысли или чувства, но — вот в чем уникальная особенность
нашего времени — этот процесс понимается как процесс возникновения
произведения. Искусство и теоретическая мысль строят "произведение о
рождении произведения" (пусть — о мысли как о произведении...). Но сие
означает, что такое произведение — в плане формы — должно быть
закончено, замкнуто, целостно (это — произведение) и — одновременно —
незаконченно, возможностно, открыто (это произведение о рождении
произведения, о собственном рождении). Во всеобщем пафосе этот смысл
современных произведений точно определил (понял) Борис Пастернак: "Самое
ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение, и
лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле
рассказывают о своем рождении... Я понял, что, к примеру, Библия есть
не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь
человечества, и что таково все вековечное..."1. Однако на поля "Охранной грамоты"
я бы внес две маргиналии. Эта вековечная особенность искусства
("произведение о произведении") вековечна в пределах, на грани XX века. В этой
своей всеобщности Библия, "Илиада", "Гамлет" актуализируются как вечные
произведения нашей современности. В иные эпохи, в иных культурах
актуализировался, углублялся иной всеобщий смысл вековечных образов
культуры. Далее. Думаю, что в XX веке (на грани с веком XXI) эта странная
определенность произведений культуры свойственна философии не меньше,
чем искусству. Скажу даже резче, — такая вековечность записных тетрадей
человечества свойственна сейчас искусству потому, что она свойственна
философии, или, все же смягчу свою резкость, — потому что она
свойственна потенциям современного Разума.
Последнее утверждение немного детальнее будет обосновано, опять-таки,
в прилагаемых "Заметках".
Сказанное вовсе не означает, что внешняя форма фрагментарности
необходима для всех современных произведений. Речь совсем не идет о внешней
форме. Наоборот, как раз здесь возникает одна из трудностей "дневниковой
формы" для произведений собственно философских. Но об этом я еще скажу
ниже, в заключение этого введения к "Заметкам впрок".
Теперь — третий момент, укрепляющий меня в соблазне опубликовать
отрывки многолетних философских заготовок. Это — о лирическом начале
произведений культуры XX века. В наше время философской истине верится
(или, точнее, — возникает желание брать автора и его размышление всерьез)
только тогда, когда не оборвана пуповина уникального, личностного
авторства, когда в анонимной — он го-логической всеобщности философской
мысли — воспринимается неповторимый лирический исток. Когда выяснение
вопроса "для других", обращение к городу и миру, насущно
оборачивается сомнением "для себя", "в себе" (даже в своем бытии, не только в мысли),
'Пастернак Б. Охранная грамота. Л., 1931, с. 57, 86.
16
когда размеренная, поучительная речь затихает в сосредоточенном шепоте,
а там и в недоуменном молчании. Если этого лирического начала нет, то
читателю, даже очень философски наторелому, вдумываться — в чужую
мысль — неохота, как-то неинтересно. Необходимо, чтобы со мной говорил Ты,
а не отвлеченный Он, и уж тем более — не усредненное Оно... Конечно,
философу "от кафедрьГ чтение безличного философского текста, все же, и
сегодня полезно — для цитирования, ссылок, респектабельности. Но это уже —
о другом.
Таковы некоторые соображения, укрепляющие меня в соблазнах довести
до читателя почти дневниковые философские заметки.
Конечно, все, что я сказал выше, должно быть в применении к
предлагаемым "Заметкам" сдобрено большой щепоткой соли. И дело не только
в невозможности и неправильности отнести соображения, сформулированные
в столь общей форме, к частному случаю. Затруднение здесь гораздо
серьезнее. Дело в том, что мои "Заметки впрок" не мыслились и не
набрасывались заранее в замысле определенного жанра, в идее особого типа
произведений, в обращении к определенному образу читателя. И это
существенно. Речевой жанр всегда достраивается и замыкается только на
ферменте замысла, эстетической цели, в ясном сознании своего особого читателя,
в априорном предположении его творческого соучастия. Если этого нет и все
получается случайно, в подземельях или промежутках иного жанра, то сразу
чувствуется провал, возникает запашок "подделки", внешней похожести
(отрывка — как эстетической цели и отрывка — как разрыва иных целостностей).
Такое всегда опасно, хотя здесь может еще успокоить возможность тайного
замысла (неизвестного самому автору), но направляющего его осознанные
действия. Такой затаенный (даже от автора) замысел вполне, кстати, объясним
включением современного философа — хочет он или не хочет — в те интенции
современной культуры, о которых я писал выше. Думается, так реально и
выходило в моих "Заметках впрок". Не случайно ("Поэт поет с переплёта" —
Илья Сельвинский) заранее было задумано название этих записей, и в их
переплетении все время я чувствовал какой-то композиционный план (и —
часто иронически усиливал его).
Если это так, то возникает некое произведение особого типа —
произведение о рождении нового типа философских произведений, нового
философского жанра (из фрагментов и "сколов" произведений классического
плана). Правда, такое успокоение отступает перед еще более серьезным
беспокойством. Речь — вот о чем.
Для "философской логики" (именно в этой сфере заключен мой основной
исследовательский интерес) непрерывность и детальность логического
обоснования есть не некий "жанровый**, исторически преходящий момент, но самая
суть дела. Такое скрупулезное обоснование требует одного почти внешнего
условия: большого, хорошо протяженного пространства, многих десятков
страниц (и это не чисто количественная характеристика). Философские
работы надо читать долго, "с карандашом"; это — как путешествие на иной
логический континент. Разорванность, фрагментарность мысли — ставит под
вопрос не жанр, но самый смысл философских произведений. Долгая,
длинная, в каком-то смысле — бесконечная (но — спирально замкнутая)
цепочка мыслей, дающая в итоге (только в итоге) одно целостное "мега-
понятие", состоящее из узловой линии тесно скрепленных между собой
суждений и умозаключений, — это существеннейшее определение "любого"
философствования.
Одно мега-понятие, замыкающее цепь умозаключений, вообще отличает
строение логики философской от формально-логических конструкций, в
которых суждения и умозаключения "крупнее", целостнее своих частиц-понятий.
Такое строение философской мысли Гегель и определяет как "развитие
17
понятия", адекватное "субъективной логике" и отличное от логики рефлексии
и "логики перехода".
И снова возникает надежда. Разве не несет в себе идея замыкания
логического движения (в одно целостное "мега-понятие") некое предположение
"фрагментарности", сосредоточенности философской мысли? Философская
система должна быть не только континуальна, но и "дискретна", точечна,
обозрима — разумом — в одно логическое мгновенье, — когда логическое
"прошлое" и логическое "булущее" втягиваются в кратчайшее настоящее.
Причем, эта надежда особенно возрастает именно в современной философской
логике, с ее предельным вниманием к самому моменту замыкания, к
парадоксу "обоснования начала логики", взаимоначинания логик. В "Логике"
Гегеля проблема начала отходила "в нети", оттеснялась логикой дедукции,
пусть и понимаемой как развитие того же — одного — понятия. В логике,
развиваемой нами, в логике культуры, такое — требующее
"фрагментарности" — внимание к началу становится регулятивным смыслом всего
мыслительного движения2.
Сейчас я не могу детально говорить об этих сюжетах и вынужден
сослаться на другие свои работы, хотя именно такие, казалось бы, построенные
"сюжеты" и оказываются коренным обоснованием права на существование
предлагаемых "Заметок впрок".
Опять должен оговориться. — Все, что сейчас было сказано, — это
обобщенное отступление о смысле философских речевых жанров в конце
XX века, но отнюдь не разговор по частному случаю. Не следует надевать
слишком большую шапку на нормальную "голову" небольшой статьи.
Предполагаемые фрагменты — только повод для этих общих размышлений.
Не больше.
Но есть сомнения, непосредственно относящиеся к предполагаемым
заметкам. Читатель должен о них знать заранее. Вот простейший исходный
схематизм этих сомнений:
1. Тезис. Многие формулировки набрасывались наспех, многократно
изменялись, уточнялись, даже — укоренялись в иные основания, начала. Сейчас
как-то неудобно за их первоначальный сырой вид. Ведь во многом я не согласен
с самим собой, особенно в редакции 1968—1969 годов. Антитезис. Это —
так, но как раз стратегия уточнения и "доводки" исходных определений
существенна в самой логике торможения мысли, в раздумий над ее
рождением и вариативностью. Или, если сказать содержательнее, — вот пример:
одна из сквозных линий "переформулировок" моей мысли в интервале 1968—
1991 годов — это обнаружение предельных возможностей и предельных
границ размышлять о культуре в ключе марксова понимания предметной
деятельности как деятельности самоустремленной; в конечном итоге
изменилось коренное начало, лежащее в основании той "философской логики
культуры", что я пытался развивать. Думаю, что такое смещение оснований
и сейчас сохраняет принципиальное значение.
2. Тезис. В ряде публикуемых фрагментов пропущены логические переходы,
или они чересчур сжаты, замкнуты, даны "внутренней речью", понятны только
для автора. Где-то прорывается почти "бормотанье" для себя, как узелок на
память... Антитезис, Обвинение принимаю. Но зачастую сама эта
лаконичность и уплотненность, необычный синтаксис (сохраняющий лакуны)
дает тот самый укол мыслящему воображению, о котором я говорил выше,
в размышлениях о современных философских "жанрах". В большинстве
приведенных фрагментов логические переходы все же есть, осуществлены; их
сосредоточенность, даже — проглоченный синтаксис — выражают доверие
2См.: Библер B.C. От наукоучения — к логике культуры. М., 1991; Библер B.C. Кант —
Галилей — Кант. М., 1991.
18
к внимательности и внутреннему (alter ego) соучастию разумного читателя.
Входят в замысел жанра.
3. Тезис. В заметках остро ощущается их "заготовочный" смысл. Они
ориентированы так, чтобы ожить только в будущих целостных книгах,
в поэтике законченных и иных по композиции работ. Антитезис. Согласен.
Многое .в этих заметках, — что и определяет название, — сформулировано
"впрок", виртуально. Но все чаще мне, закончив заготовки, уже неохота
писать книги. Мысль — в "заготовочной" форме — как бы исчерпала себя,
наиболее со-ответственно сказалась. Сказалась именно как проект,
возможность. Не случайно несколько моих последних опубликованных статей носят
подзаголовок или маргинальное определение: "конспект ненаписанной книги".
Поэтика нового жанра начинает осознаваться все более открыто;
целенаправленно организовывать текст.
Этот диалог можно продолжать. Но мне важно было лишь дать желаемый
схематизм восприятия читателем предложенного далее текста.
Я отобрал немногие фрагменты, органично — через лакуны —
перекликающиеся между собой; наиболее, как мне кажется, актуальные в современной
философской жизни и, вместе с тем, — наиболее ориентированные на
активное читательское соучастие. Но — ив этом плане — заметки, особенно
существенные для будущего развития и воплощения в книги, я все же оставил
"для себя", снова — впрок.
...Для читательского включения хочу предупредить: мной опущены два
года "Заметок" — в значительной мере превращенных в книги, или — не совсем
по-гегелевски — "снятых" после 1968 года. Но все же читатель как-то должен
ощутить эту пустоту, этот момент разбега. Начну с 1969 года. С фрагмента
"Бытие определяет сознание?". Эта заметка в какой-то мере вбирает многие
мои сомнения 60-х годов.
Февраль 1969
"Бытие определяет сознание?" — формула эта в своем рациональном
содержании означает, что процесс освоения уже существующей культуры
(орудие, книга, здание, симфония, научное понятие...) — это объективная
основа (содержание культуры исторически независимо от моей воли и сознания,
культура — это кристаллизованный предметно способ моей деятельности)
развития и изменения сознания (осознания моего "я"). Способ моей
деятельности (орудие), способ моего общения (тип социальной связи), форма и глубина
моего эстетического и теоретического освоения мира и самопонимания
(наличное — в произведениях — искусство, наука) действительно
существует и оказывается моим способом деятельности и т.д. независимо от
моей воли и моего желания, оборачиваясь, тем самым, способом моего
мышления, моей "коммуникабельности", формой движения моей духовности.
Может быть, точнее эту мысль выразить иначе: не "бытие определяет
сознание", но — способ мышления — это есть "декристаллизованный",
актуализированный способ бытия (образ жизни), это — выявленное,
реализованное содержание бытия, его смысл. Но тут уже открываются возможности
новых переформулировок (бытие — это возможность, потенция мышления;
мышление, духовность вообще — это действительность бытия), которые
в итоге приводят к существенно новому ходу мысли.
Тут еще одно очень важно, — по сути дела бытие это не предмет, но уже
наличная, — для меня сначала внешняя, — деятельность с этим предметом,
процесс освоения этой культуры, характерная для социума деятельность
19
(и общение), в которую я включаюсь и которую я ассимилирую с самого
момента моего рождения. Ассимилирую тем более, чем более она
оказывается моей деятельностью, формой решения моих проблем, моего
личностного становления.
А "существенно новый ход мысли" состоит в следующем. Спросим
теперь (запоздалый вопрос), в чем состоит реальное содержание и смысл
этой — кристаллизованной в вещах и овнешненной в наличной социальной
деятельности — исторической культуры?
Это — противоречия становления, развития и изменения личности,
кристаллизованные и опредмеченные. Включаясь в деятельность, я включаюсь
в проблему, в неравновесность, в жизнеразность бытия; мое бытие и мое
сознание — это бытие и сознание решения проблемы. Причем, в это решение
(оно от меня зависит) включается и "решение прошлого", его
переформулировка, и новое значение его "расшифровки". Мое сознание развивается
бытием как сознание проблемы, как мучение сдвига личности, как потенция
изменения бытия. С этой точки зрения глубоко неправилен тезис, что
человеческая деятельность детерминируется целью (а цель детерминируется
прошлым, и выхода в изменение и в творчество все равно нет).
Правилен другой тезис: человек детерминирует и будущее, и (Nota Bene!)
прошлое. Изменяясь в ходе решения проблемы, а тем самым детерминируя
новую проблему, детерминируя цель, человек меняет свое историческое
содержание, развивает его и изменяет свое будущее. Именно замыкаясь на себя
(на настоящее), то есть в своей "самоустремленности", человек детерминирует
цели и средства, основание и цель своей дальнейшей трансформации. И еще: для
человека очень существенно постоянное смещение и замещение цели и средства.
Главное не в решении (оно может быть одно), но в изменении способности
решать, а способность — это определение самоизменения и определение
настоящего.
И все-таки, как возникает новое? Ведь заданность проблемы есть —
логически доводя ситуацию, — заданность ее решения. Или — как личное
сознание порождает новое (где резервы, возможности, силы этого порождения:
в "мозгу"? в генетическом коде? в социально заряженном контексте личностных
мучений мысли? в готовых формах культуры?). Что есть личность? Медиум
социального заказа? Дешифровка антропо- и анимогенеза? Поле столкновения
социально расчлененных противоположностей? В любом из этих вариантов
нового все равно нет. Но (для теории!) абсолютно новое было бы бессмыслицей.
Ведь задача теоретического понимания — понять то, что есть, и то, что
может быть, а задача художественно нового — не только изменение
общения, но выявление личностных потенций общения. Иначе и культуры не
будет. Дело идет о таком новом, которое, одновременно, — есть
выявленное, понятое, актуализированное (превращенное) "старое", культурно-
историческое. Коллизия только обостряется. Может быть, выход можно
нащупать в таком повороте: только свобода изменения идеализованного
предмета (материальной точки, бесконечной окружности) реализует всеобщие
потенции (культуру) деятельности (по отношению к реальному предмету
деятельность не может быть всеобщей (NB). Вектор этой деятельности задан
(задан как проблема, как противоречие, и как проект) исторически. Но
реализация (личностная) этого проекта выводит за его пределы, а) Только
личностная (идеализованная) деятельность может быть деятельностью всеобщей,
превращающей исходный предмет ("особенно—всеобщий") в иной предмет
("всеобще—особенный"), б) Трансформируя предмет (идеализованный), ты
получаешь "больше" того, что в нем было "сначала"; его потенция переходит
20
в его предметность, — и это уже не воспроизведение истины предстоящего
познанию предмета, это такой идеальный предмет, которого нигде, никогда
не было, но этот новый предмет воспроизводит (противоположное
определение) истину природного предмета как предмета культуры, т.е.
природного предмета в его потенциях. Здесь — Nota Bene! — свобода как
сверхсубъективность и сверхъобъективность деятельности с идеальным, а не
реальным предметом, в) Но это преобразование предмета есть преобразование
способности познания, есть создание предмета как всеобщего определения
личности, то есть как возможности выхода за пределы этого предмета.
Только изменение идеального предмета есть непосредственно изменение
всеобщих определений личности (есть определение личностных изменений
всеобщего), г) Реализация возможностей действительности есть изменение
самой этой действительности (появление новых ее возможностей) и, в этом
смысле, — формирование абсолютно нового. Творчество как реализация
возможностей (новое относительно) есть творчество как создание новых
возможностей, как создание новой действительности (абсолютно новое).
Это не до конца понятно, это — продумать.
Март 1969
Два основных зияния современной культурологии ("символизма
культуры"). Во-первых, неявное слияние "логического позитивизма" (значение
предмета — вне его; предмет — знак, термин, обозначение чего-то другого,
иного; культура —процесс оперирования пустотелыми формами) и
"внелогического иррационализма" (предмет культуры — символ, значение
которого неопределенно, значение которого — ничто, небытие; это — форма для
любого содержания). Так возникает позитивизм больших букв. Сказав вместо
"миф" — "Миф", мы уже вынесли значение вовне, в ничто.
Во-вторых, во имя историзма {логика развития мысли мешает, дескать,
познать историческую неповторимость) осуществляется мгновенная мета-
физация исторических феноменов: прямо, непосредственно, минуя тигль
логического понимания, — хотя бы при помощи тех же чудодейственных
Больших Букв, — формируются абсолютно неизменные (форма для всего),
исходные преформисгские Архетипы и Пра-феномены культуры. Это означает
полное изживание всякого историзма (и как синетически-конкретного метода,
и как ритмически конкретного воззрения). Стремление (в борьбе с логикой)
просто воспроизвести мир как он есть (а не как он есть в логической схеме)
приводит к такой невыносимой скуке позитивизма (человек не может долго
удерживаться от понимания), что само это "как есть" объясняется символом
"не есть", символом "небытия". Позитивизм моментально превращается
в тривиальнейшую мистику. Ситуация, гениально предугаданная Гегелем
в диалектике "чистого бытия"—"чистого небытия" в самом начале Логики.
Повторим, — в начале логики.
Декабрь 1970
Философия, есть, по определению (в своем начале), критика мифа.
Философия (философская логика) критикует не частные истины или теории, она —
культура сомнения в существующей логике, в ее всеобщности, культура
сомнения в "само-собой-разумеется", в самих критериях истинности (в мифе).
Это — критика мысли в ее тождестве с бытием.
В мифе способ мышления и способ бытия тождественны, поэтому нет
сомнений в истинности бытия (в его вечности), нет сомнений в бытий-
21
ности мышления, в его предположенности для человека как незыблемого
(так есть!) трансцендентального мира вечных идей. С этого и начинает,
это и разрушает философия. Для нее тождество мышления и бытия —
проблема. Она пересматривает внутрилогический критерий истинности
знания как критерий истинности трансцендентальный, как критерий
истинности (!) бытия. Философия (Аристотеля или Спинозы) как единое понятие
имеет идеализованным предметом (проблемой, вопросом, предметом
преобразования) — исходное тождество бытия и мышления, господствующий
миф. Понятие философии имеет своей идеей — преобразование этого мифа,
его снятие. Философия (философская логика) — "наука" о смене онтологизи-
рованных логик. Из этих соображений вытекает и легкость перехода мифа
в философию. Философии — в онтологию. И — предельная дальность
(противоположность) — этих понятий.
История философии — это история того, как обнаружились лакуны,
как логически осмысливались лакуны в мифологическом тождестве
мышления и бытия (1), — в их эстетизированном тождестве (2), — в их
теологическом тождестве (3) и — сейчас — в теоретизирующем
(познавательном) тождестве бытия и мысли (4).
Философия всегда разлепляет слившиеся формы онтологии и "работает"
в тех "пустотах", где мышление лишь под-разумевает бытие, где бытие лишь
определяет возможность мысли.
Если фокусные точки диалога восточной и западной культур приходились
на "Запад" (Афины, Великая Греция, Византия, Флоренция, Англия), и если
осуществлялся этот диалог "за счет" ассимиляции Западом восточной культуры
(а сама восточная оставалась абсолютно неизменной), и если история
философии есть история развития философии (диалога мировых логик) в этих
ключевых точках, то как будто правомерен вывод, что, будучи историей
этого синтеза, т.е. будучи единой всемирной историей, история философии
вместе с тем остается историей западной (синтезирующей и в этом синтезе
изменяющейся) философии? Философия Востока имеет историю, только
включаясь в западный синтез; своей собственной истории она не имеет?
Правомерны все эти выводы? Все же — нет! В философии Запада философия
Востока имеет свою историю; история философии Запада — это история
продуцирующей силы той логики неопосредованного общения с космосом,
которая характерна для Востока, это история развития этой идеи, этой
логики (этого логического голоса) в полифонии философской всемирной
мысли.
Сама себетождественность восточной мысли (в течение тысячелетий) —
это одно из необходимых, насущных определений историзма, истории
философствования. Себе-тождественность мысли и бытия (Восток) — это столь же
имманентный принцип истории философии, как и ее — философской логики —
не-себетождественность, как изменение смысла бытия (Запад). Углубляться
в себетождественный смысл, в тождество моего Я- и всеобщего бытия так же
насущно для философии, как и заново из-обретать этот смысл, обнаруживать
его несовпадение с самим собой. В движении философской мысли
неподвижная ось (Восток) столь же необходима, как непрерывно (в спирали и —
вперед) катящийся обод (Запад).
22
1971 год
О рационально-логических корнях иррационализма конца XIX — середины
XX века
(По следам выступления В. Визгина)
1. Кризис старого разума и старого рационализма воспринимается (сначала)
самими его критиками как кризис разума вообще; отрицание старого типа
логики — как отрицание логики вообще, гипотеза о новом "особенно—
всеобщем" понимается как бунт против всеобщего (новое всеобщее еще
не рефлектируется) во имя особенного.
2. Новое определение логики исторически всегда возникает как новое
определение бытия, как новое определение предмета познания, проблемы,
т.е. как новое определение чего-то — по определению — лежащего вне
логики, вне самого разума (точнее, в разуме, но — как нечто, вне его лежащее,
как бытийность, вне сознания существующая и именно в этом качестве —
"нечто вне"— в сознании воспроизводящая-воспроизводящаяся как проблема).
Это даже еще не идеализованный предмет, но предмет идеализации. Выход
на какой-то вариант непосредственного бытия (вариант философии жизни)
в любом таком коренном логическом сдвиге всегда обязателен.
"Сущностные" определения, определения сути вещей, идеи предмета, т.е.
принципиально рефлективные определения, определения мысли о мысли всегда —
и логически, и исторически — возникают и осознаются позднее.
Новое определение "вне-рационального" — всегда исходный пункт нового
понимания "рационального".
3. Кризис "высокого рационализма" (Декарта и Гегеля) означает, что новым
предметом теоретизирования непосредственно (и осознанно) становился —
в XX веке — субъект как всеобщее, причем — в отличие от Средних веков —
особенный, личностный (даже — индивидуальный!) субъект как всеобщее.
Это в громадной мере усложняло общую проблему. Необходимо так
отстраниться от субъекта (от себя), чтобы не уничтожить реальную
субъективность, не превратить себя в вещь, в нечто косно-природное (а такое
превращение навязывалось всем духом картезианского разума). В этом
движении реализовалась оппозиция классической механике как логике.
Слияние с субъектом, т.е. отказ от логики вообще, наряду с всеобщими
основаниями (1, 2) питались своеобразием нового типа "идеализованного
предмета" (новой проблемы логики): надо было и предмет приобрести, и
субъекта не потерять. Вторая оппозиция — средневековому типу логики: там также
был предметом всеобщий субъект, но отделенный от личностного субъекта
и противопоставленный ему, постоянно тождественный "самому себе".
Увеличение числа и смысла логических оппозиций невероятно усугубляло
проблему.
Тривиальные выходы были рядом. Первый, — приняв всеобщность
субъекта, отказаться от оппозиции христианской логике и отождествить новый
иррационализм с мистикой (или теологией) христианского типа. Другой
выход — из оппозиции к средневековому типу мышления сдаться на
милость "духу Декарта", впрочем, теперь уже не духу, но букве.
Воспроизводить человека как механизм, — но уже без пафоса исходных
идеализации, порождающих природу как проблему (causa sui...), как трудный
идеализованный объект (идеализация протяженности, материальной точки,
осознаваемые и Ньютоном и Декартом именно как мучительные
идеализации). В таком подходе классическая наука просто принимается на веру,
она не понимается как подвиг духа; механизация субъекта осуществляется
трусливо, оппортунистично, дрябло, без иронии теоретика. От такого "субъ-
23
екта-предмета" сбежишь куда угодно, хоть... (см. первый тривиальный выход —
"дух" (точнее, буква) христианства).
4. И еще один парадокс. Новым всеобщим становился в XX веке цельный,
но индивидуальный бытийный субъект. Теоретизирование — лишь сторона;
теоретизирующий разум — лишь один из моментов этого единого
всеобщего, практического — в самом разном понимании Праксиса — субъекта.
Но этот всеобщий и — особенный — больший, чем разум, субъект мог быть
осознан как всеобщее, как предмет логики, только в качестве разума,
только в форме мышления, только в форме своей же собственной
особенности. От этой трудности спасались (и спасаются сейчас особенно
агрессивно (это — первый вариант) — за счет провозглашения предметом
философствования цельного субъекта как такового, большего, чем "только"
разум (это большее — стихийная сила жизни, витальность, культура вообще,
"антропология вообще"). В результате всеобщее ссыхалось до тривиально
особенного (жизнь — одна из "форм движения") или размазывалось в
бесплодной беллетристике и мистике "исходных пунктов".
Другой вариант спасения: предметом философии признавалось мышление,
но "понятое" не как всеобщее (это, дескать, было заблуждение "прошлого
века"), но как тривиально особенное — область позитивистски осваиваемого
языка, или логистически осваиваемой математики, или чисто
социологических ограничений.
Именно этот парадокс является коренным для создания новой логики,
это — парадокс, внутри логики воспроизводящийся и конкретизируемый.
5. Новый предмет логики — "всеобще-личностный субъект" (а не, скажем,
механика, как в Новое время), обращенный всем своим бытием к другому
всеобще-личному субъекту, — мог быть воспринят и моделирован как
всеобщее только в тождестве теоретизирующего и — для начала —
эстетического субъекта (субъекта конструирующего и общающегося, субъекта,
для которого мышление — воображение, а воображение — должно быть
понято как мышление). Выдвижение на первый план этого —
эстетического — субъекта, то есть, в конечном счете, введение в логику диалогики —
для начала понималось и не могло не пониматься, как победа
иррационализма.
Диалектика теоретизирования—эстетизирования угадывалась
исключительно в эстетическом полюсе.
6. Наконец, — в этом уже осмысливаются позитивные определения новой
логики, — возникающая логика — это логика, стержнем которой являются
"парадоксы самоизменения (логики"). Это означает, что возникает логика,
которая должна постоянно, вновь и вновь (а не один раз — в момент
возникновения, как было в старых логиках) осмысливать начало логики,
переход от логики — к логике, от одного типа теорий — к другому типу,
это — логика, которая должна постоянно выходить за пределы логики
и снова воздвигать эти пределы.
7. Но, конечно, о позитивных определениях нового разума — надо еще
думать и думать.
1971 год
К проблеме антитетического движения Средневековой мысли.
(Здесь — в основном — только в сфере непосредственной деятельности)
Прежде всего, — о диалогичности антитетизма. В Средневековье
антитетичен (особая форма диалогизма) сам прием деятельности, реализуемый —
исходно — как жест, жест по отношению к другому (или к самому себе)
человеку, — мастеру, подмастерью, ученику, Богу. К предмету, наконец.
24
Смысл этого жеста поучителен (вот так надо делать, так делали, такой прием
мне необходим, в этом приеме я могу сохранить-претворить себя). Но это
поучение ничего общего не имеет с алгоритмом современного деяния в
машйнообразном ритме управления-исполнения. И жест и поучение эти
именно антитетичны. Только в такой сетке запретов (наложенных
традицией, авторитетом, священным установлением) я могу ("ты должен")
проявлять себя, творить, вносить свой нюанс, свою неповторимость, могу
растить всеобщего субъекта. В рецепте средневекового приема (в отличие
от современного алгоритма) внешняя форма предписаний скрывает
внутреннюю форму запретов, а содержанием этой внутренней формы является
провокация на неповторимо своеобразное (в такой-то сетке социального,
всеобщего опыта) творчество, претворение себя как страшно малой и жалкой
(вне "вкушения плоти и крови Господней", но все же...) личности, субъекта.
Далее. Основной смысл "приема-жеста" есть именно слово,
сопровождающее жест, — произнесенное или помысленное,— в виде "рецепта", —
для телесного действия, или — спасения души. В слове выражается, что
приемом этим я должен не столько обработать материал ("мертвую
природу"), но что-то изменить в личности, в субъекте ("Вначале было слово..."),
в подмастерье, к которому я обращаюсь этим жестом (прямым ли показом
или показом-рецептом), — в себе, или (здесь это главное) — в объекте,
в котором я должен "вызвать субъекта" (душу дерева, металла, земли...).
Дело — это разговор. И если прием сам по себе жестко регламентирован,
то прием как жест, обращенный к братцу-земле, или братцу-дереву, или
братцу-золоту, глубоко личностей. Его цель, его смысл — вызвать нечто
неповторимое в предмете. Точнее, — в Средневековье личностей не сам прием,
но именно "предмет", к которому прием обращен (этим предметом, в конечном
счете, выступает человек).
Далее, — каждое действие средневекового ремесленника — это турнир
мастерства (права на то, чтобы быть мастером, чтобы стать личностью,
воплотить в себе абсолютную насущность, абсолютную свободу всеобщего
субъекта). Поэтому в конце концов каждое "делай так" означало и
антитезу — и все же "сделай не так", как твой "противник", соревнователь,
оппонент (весь пафос схоластики), — лучше, тоньше, более близко к
всеобщности (более близко к неповторимой (!) личности?!). Вот этот элемент
спора, дискуссии в каждом жесте "работника" (в самом широком смысле слова
"работник"), это "нет", внесенное в каждое "да" (да — прием, рецепт; "нет" —
то есть не так, хотя и так, — как другой работник), пронизывали всю
"социальную структуру" деятельности Средневековья, придавали ей
неповторимую своеобразность, — сквозную социальность каждого элементарного
жеста.
Далее. Иерархичность социально-деятельностной структуры Средневековья
также была насквозь антитетична и диалогична. Пронизывающее значение
"нет" — это значение выделенности для тебя твоего места. "Делай так" —
значит не делай так, как чорт, как мастер, как ткач, как ... Определение
моего дела давалось в контексте бесчисленных — "это — не мое дело" и
"мое дело — мое, только включенное в систему, иерархию, священную сеть
не моих цел".
И последнее. В логическом плане — важнейшее. Антитеза вводила
размышление вглубь любого самого авторитетного и жестко
регламентированного рецепта. Каждое "да" воспринималось на фоне "нет". Челнок "да"
и "нет" постоянно вертелся, и в этом вращении до бесконечности уточнялись
оба определения. Диалог с другим становился, оборачивался диалогом с
собой, "моно-диа-логом" (сравнить всю систему воспитания и внедрения знаний:
Алкуин, схоластика...). Именно личность была творцом нового "нет" (нового
уточнения приема), отбрасывала дополнительную стружку с той заготовки
25
деяния, которая (заготовка) была передана мне обществом. Но, вместе с тем,
это сужение возможного, разрешаемого было процессом все большего
овнутрения, одушевления всей деятельностной схемы. Каждое
практическое деяние становилось в основании этого челнока ("да" — "нет") деянием
духовным — актом схоластическим. Постепенно воспитывалось
феноменальное хитроумие, — не только и не столько в рукомесле, сколько в умении
ума изобретать новые трудности и в умении ума обходить эти трудности.
Так рождался (так происходило зачатие) дуализма Нового времени:
громадное объектное поле запретов и — точечность исходного, чисто
аналитического хитроумия. Подготовлялись основы перерождения антитезы
в антиномию. Здесь существенно учесть идею "лествицы", пре-творения.
Идею совершенства, лежащую в основе средневекового мастерства. Ум
средневековья — ум обхода, огибания трудностей.
В контексте парадоксов "диалога культур" (этими парадоксами озадачилось
современное мышление) вся логическая культура прошлого, вся история
логики переформулируется как культура самоизменения логики, как культура
превращения логик. Но это — одновременно — означает, — поскольку вся
эта история смены логик оживает и развивается в XX веке как
одновременная, современная культура мышления, — что история превращения
логик реализуется как полифонический диалог многих логик
(последовательных исторически и — "параллельных", "дискутирующих" в контексте
современного мышления). Тем самым "из" логической культуры прошлого
(скажем, античности) вычитывается, актуализируется, формируется тот
логический смысл, в котором она (логическая культура античности)
функционирует как форма (одна из форм) парадоксов самоизменения, как
неповторимая античная грань (античный поворот калейдоскопа) культуры
самоизменения. Здесь возникает очень существенный вопрос: получается, что для
решения наиболее революционной логической задачи — формирования логики
(парадоксов) самоизменения необходимо наиболее архивариусное отношение
к культуре мышления прошлых эпох... Необходимо отказаться от идеи снятия
(прогресса) в сфере логики. Не получается ли вместо самоизменения —
самоконсервация, вместо логики преобразования логики —логика тончайшей,
реконструктивной памяти мышления? И еще. Не есть ли культура логики
самоизменения, по сути дела, — культура бесконечного повторения, пусть в
новых, более богатых вариантах, все одних и тех же, уже "пройденных уроков"
апорийной, антитетической, антиномической логик? Где же тут принципиально
новое? Крутится мысль, как белка в колесе... Но ответ где-то близко.
1.Если становящаяся логика — логика самоизменения начал логики,
то это означает, что сейчас совершается переход не к одной какой-то (новой)
логике, — жестко заданной, определенной, обладающей такими-то
"признаками", отличающими ее от какой-то иной логики (и прежде всего — от
наличной, используемой мной, современной логики). Коль скоро логика
самоизменения логик — это логика превращения логик, то какая-то "прошлая
логика" уже не может быть логически ассимилирована в неких
единственных статичных чертах, присущих только ей, бытующих только в прошлом.
Ведь к какой бы логике (непосредственно) переход ни совершался, она
(эта новая логика) должна осознаваться не как идеал, не как истинная
(наконец-то!) логика, но — a priori — как момент превращения, как memento
rnori (собственной "mori"). Такая логика (парадоксов самоизменения логик)
может быть логически выражена только как логическая культура
самоизменения личности, как освоение всех бывших логик в качестве (потенции)
превращения в нечто иное. В XX веке именно это их качество и дано как
26
"априорное"... и т.д. определение соответствующих логик. Именно в таком
повороте логическая культура прошлого выступает как сугубо современное
качество (поворот) формируемой сегодня культуры парадоксов
самоизменения. Не искать будущую идеальную логику, но понимать свою — в
истории раскинутую — культуру мышления как логическую способность смены
(соответственно — диалога) логик, как "наличную" действительность (в таком
определении она налична только сегодня) логических превращений.
2. Но все это означает, что в контексте парадоксов самоизменения
современная логическая культура конституируется, во-первых, в форме предмета
(и начала) логического самоизменения и самопонимания. Конституируется,
во-вторых, в субъекта современной логической культуры. Конституируется,
в-третьих, как антиномическое тождество субъекта и предмета
деятельности. Все логические культуры оживают — каждая — по-своему.
В той мере, в какой современная (историческая) культура мышления
реализуется как предмет размышления и изменения, она формулируется
как "античная определенность" современной (это Nota Bene!) логики. В той
мере, в какой она (она же!) конституируется как субъект мышления (субъект
самоизменения), она формулируется как "средневековая определенность"
современного (!) мышления. В той мере, в какой она реализуется
(актуализируется) как "диалогика" субъекта и объекта, она формулируется как
"классическая'* (Нового времени) определенность современного мышления.
Подчеркну такие моменты.
Все эти три определения существуют как одновременные (в "пространстве
культуры") определения одного и того же — современной логики,
своеобразного "трое-ликого Януса", выступающего как предмет (1), субъект (2) и как
опосредующая — субъекта и объекта — (квази-самостоятельная по отношению
к ним) "диалектика" (3) единого процесса собственного самоизменения. Далее.
В контексте современной (всеобщей) логической проблематики, проблематики
самоизменения логики, — в логике прошлого действительно выделяется
современный (XX век) всеобщий (способный к преобразованию, нацеленный
на преобразование) смысл: так, если исторически особенная античная логика
формулировала проблему апорийности любого конкретного предмета (1)
понимания (2), то всеобщая античная грань современной диалогики
формирует проблему понимания самой логики как предмета (логики). (Это, конечно,
относится и к средневековой, и к "классической" определенности мышления,
но в соответствии с их культурной неповторимостью.)
В контексте парадоксов самоизменения "последовательное" векторно-
историческое определение логического движения: от апорий — к антитезам,
к антиномиям — замыкается на парадокс, в котором все эти определения
выступают как одновременные (но в этой одновременности настоящее
обладает также логическими определениями прошлого и будущего) и
противоречивые характеристики одной логической "точки" (логического "интервала").
Но в своей "развертке" эти различные определения единого противоречия
(парадокса) самоизменения вновь вытягиваются в детерминационную,
причинно-следственную цепочку, имеющую свою "социологическую"
детерминанту, и этим еще более логически конкретизируются.
1972 год
Заметки к Аквинату
1. Движение в "лествице" доказательств бытия Божия (а это есть не просто
"лествица", но — одновременно — узлы доказательства как такового;
уже не доказательства бытия Бога, но идеи Бога как идеи доказательства,
27
как идеи логики) — от доказательства первого к доказательству пятому —
есть движение преодоления античного строя мышления — появления нового
строя и — далее — движения вниз — от "идеи" доказательства (от идеи
Всеобщего субъекта) — к бытию предмета, к его "выводу". "Челнок".
Исходное положение — идея движения (зеноновского движения) анализируется;
в ней раскрывается идея "производящей причины" и т.д. — вплоть до
обнаружения, что за самим понятием "причины" как активной силы лежит
"причина" в другом смысле — в смысле "степени бытия". Но тогда причина
бытия тождественна "причине" (это уже не причина) небытия (бытия в другом).
И начинается движение "вниз" по степеням бытия.
2. Движение по этой "лествице" — есть схема развертывания
категориальной структуры средневекового мышления: движение — производящая
причина — возможность -> необходимость -»бытие необходимое —* степень
совершенства — субъект (цель) — личность — и ... ниспадение вниз, в котором
каждая из этих категорий (каждый куст категорий) приобретает уже другой
смысл — оказывается не "причиной" (линия доказательства, сведение к
исходному), но "следствием" (линия вывода). Соответствие предмета —
интеллекту (цели, способу их производить) — соответствие интеллекта —
предмету (как средству, как небытию). Nota Bene! — также — проблема
"зияний"; чтобы обнаружить своеобразие (историческую определенность)
доказательства, следует его искать в "промежутках", там, где перескок, где
автору кажется все само собой разумеющимся и где для нас — "зияние",
лакуна, вакуум. Так, в доказательствах Фомы главное — не сами
доказательства, но переход от одного к другому, логика этого перехода, которая никак
не фиксирована, вообще заменена запятой, перечислительством, но которая
(почему первое доказательство требует второго?) таит весь смысл данного
логического строя. Это и есть прорыв во внутреннюю речь (в собственно
мышление); разработать технологию такого прорыва — наша основная задача.
3. Переломный пункт "доказательства" Фомы в коренном смысле слова
(доказательства в узком, буквальном смысле (1—5) здесь даже не
доказательства, но только "аргументы", посылки единого умозаключения, —
категориального строя как "доказательства", точнее — как обоснования) — это
третье "доказательство", третье звено. Оно переключает один тип мышления
в другой, оно включает и "челнок", спираль обоснования. Это — идея
соотношения "возможности" не с "действительностью" (движения), но
возможного бытия с необходимым бытием (не могущим не быть). Отсюда —
возможное бытие — еще не бытие; оно может быть, может не быть, его
бытие — "фактично" (есть), но не логично. Но так существует все на свете.
Все существующее — не существует (его бытие не несет в себе своей
необходимости, отсюда — идея "средства", причастности к истинному бытию
всех земных вещей). Но тогда искать следует не "причину движения" и — тем
более — не причину бытия (производящую причину), но "наибольшее" бытие,
необходимое бытие (в себе). Тогда оказывается, что вещи существуют не
"по причине", но "по причастности" к бытию. Ведь сквозная идея
доказательства (логики) Средневековья в том, чтобы найти бытие беспричинное,
необходимое по определению, а не "по причине". Но смысл такого
(божественного) бытия — в его "действии", оно необходимо, чтобы объяснить
бытие вещей. Ведь сказать, что Бог "существует", некорректно. Он — сверх-
бытиен, добытиен. Итак, в этой точке ("третье доказательство" Фомы) —
перелом, далее — "степень совершенства" — и "субъект" (перелом вниз —
от "доказательства — к выводу).
28
Дуне Скот (для памяти — после прочтения)
Логика "апофатического учения о материи"
Обладает ли материя положительной сущностью, отличной от формы? Да!
И эта сущность — ничто, небытие. Нет! Ибо обладать положительной,
позитивной сущностью — означает обладать формой, ибо только форма может
конкретно изменяться, только нечто (форма) может переходить в иную форму.
Тезис. Положительная сущность материи — ничто. Материя не может быть
потенцией материи (тогда она не была бы материей актуально), она не может
быть потенцией формы (тогда она была бы не материей, а формой,
конкретным). Она не может быть и актуально материей — быть актуально значит
уже быть формой (действовать определенным образом, сохранять себя,
быть). Материя — небытие.
И еще.
Материя не может существовать, ибо она "материя" возникновения, а то,
что возникает, еще не существует. (Nota Bene — движущееся существует,
но не необходимо, ибо его существование не может быть дано через
возникновение.)
А так как материя не есть ни актуально сущее, ни потенциально сущее,
то она есть, следовательно, ничто. (В "антитезисе" — это "ничто — есть".)
Она не есть какая-то сущность, производная от формы — как бытие, но
она есть сущность, противопоставленная форме — как небытие.
Одно превращается в другое — противоположное, но общее — в этом и в
противоположном — нечто несуществующее, поэтому не могущее быть
противоположным. Материя — это не возможность формы, но возможность
небытия формы. Сказать, что существует материя, означает утверждать,
что есть ничто\
Антитезис. Ничто — положительная сущность материи (в ее отличии
от формы). Это — бытие небытия. "Материя" — это отнюдь не "ничто";
это — возможность (и акт) существования — в одном месте и в одно время —
многих форм, бесконечного числа форм, аннигилирующих друг друга.
Определить меру бытия вещи означает определить меру ее небытия.
Материя — основа вероятности бытия (может быть, может не быть).
Она — апофатическая основа идеи Бога (если бы бытие не было
одновременно небытием, то Бог-творец был бы невозможен). Было бы невозможно
творчество (нового). Если Фома доказывает, что идея Бога необходима для
обоснования необходимости бытия вещей (в их причастности к Богу,
к совершенному бытию), то Дуне Скот доказывает, что идея бытия (ничто)
материи, вещей делает необходимым и реальным бытие Бога.
Подлежащее материи — "лишенность".
Конец 1972 года
О Гамлете (только культурологический план)
1. Время, замкнутое на себя (на вечность), разомкнулось. Впереди — дурная
бесконечность возможных (необходимых) причин и следствий. Убивая короля,
я развязываю независимую от меня цепную реакцию смертей. От меня зависит:
сделать или не сделать, но когда уже совершено, то... В моей власти "или —
или" (как во власти рабочего — наняться на работу или нет); я могуч
возможностью бездействия и действия (но не в самом процессе действия).
Разрушение средневекового рока — свободы в "причастии". И — предельная
29
проницаемость такого — распрямленного — времени. Особенно острое
ощущение этой бесконечной проницаемости. Дальше, позже — затемняется.
И — ко мне уже не вернется — движение от меня; в Средневековье конец
веревки забрасывался мне в руки (мне — всемогущему), теперь — в никуда.
2. Но это — во времени истории, отделенном от времени
партикулярного, частного, это — во времени, где я могу быть началом рока
(исторической закономерности). В частном времени, в частной жизни я могу
действовать жестко и однозначно. Здесь цепь действия замыкается на себя
или на ограниченное число звеньев (1), здесь начинает действие не "я",
а кто-то другой, от ответственности за "начало" я освобожден. (2) И еще:
в частной жизни действую я; в исторической приходится иметь дело с
фетишами — "честью", "отмщением", "справедливостью", " королем",
"принцем"... А что это такое? Какие-то странные призраки... Начиная от призрака
отца — короля Гамлета. Расщепление единого действия. (Ср. Гамлет о Фор-
тинбрасе.)
3. Наиболее осмысленное (и возвращаемое к началу) действие — в Образе,
а не в реальности. "Мышеловка". Все сразу уплощается и приобретает
экспериментальный характер. Это уже действие на умы, в уме, — действие
"в образе" и "на образ" культуры. Сложность Нового времени и действия
в нем — сложность вставных времен "матрешек". "Мышеловка" — образ
убийства в убийстве; в этом повороте новый "образ" — дурной (деятельностной)
бесконечности, бесконечности, могущей быть только вне образа, — все дальше
отодвигается от меня — личности; я все более превращаюсь в точку на
безличной траектории. Этой дурной бесконечности противостоит другая
дурная бесконечность (или — уже — "хорошая бесконечность"?) действия
рефлективного — в образе, "в Уме" (до реального действия), — когда действие
и рефлексия — на сцене эксперимента — просто тождественны. Но ведь
именно это (театральное, воображаемое) действие (действо) и развязывает
в "Гамлете" цепную реакцию реальных действий короля. Это — начало.
Более реальное, чем действительное, непосредственно материальное начало.
Множащееся зеркало, система зеркал. Одно отражается в другом. И в
бесконечности отражения уже нет отражения, есть высшая реальность.
Гениальный замысел последней сцены Любимовского "Гамлета" (каждый
борется с собой и убивает не непосредственно, а ... дальнодействием,
"действием на себя в образе"...).
4. Обратить внимание: король в своих поступках демонстрирует, чего
боялся Гамлет (бесконечная цепь следствий)... И еще, частные партикулярные
действия Гамлета, роль Горацио (Гамлет, но не принц, а "частное лицо").
5. Человек в средоточии двух типов абстракций: средневековых: "чести",
"отомщения"; и новых: "весь мир — тюрьма", "человек — омерзителен",
"в каждом — измена", "все — прах"... Стучат мечи призраков, высекают искры
мыслей; между ними — поле их битвы: человек. И именно потому, что —
битва, что призраки — разные, именно поэтому человек не подчинен ни тем,
ни другим, он сомневается. Он — становится индивидом. Первые призраки —
призраки иерархии (делающие мщение осмысленным). Вторые — призраки
равенства — мщение бессмысленно. (Ср. Гамлет об Йорике.) Но в XVII в.
первые призраки — уже стали "общими местами", вторые — еще загадки...
действие в этом двойном выборе — рефлексия.
6. Расчленение действия на "мысль — действие". Появление
"теоретизирования" как особенного микрокосма деятельности. Вместо "рецепта"
многовариантность действия, могущая быть проработанной только в мысли.
Выбор — решение — действие. Раньше — в Средневековье — первый и второй
этапы делались за тебя. Теперь — одно действие, но — сотни путей к нему. И для
Гамлета это — впервые. (Гамлет и резонерство.)
7. Сумасшествие — право на индивидуальность, выключенность из старых
30
и новых абстракций. Офелия становится трогательной, почти
мелодраматической, а не трагической именно тогда, когда сходит с ума; Гамлет
притворяется сумасшедшим — представляется свободным. Зарождение одной из
банальных тем (сквозных тем) Нового времени. Свобода — только вне
"умного" делового занятия...
21. VII. 1973
К докладу Л.М. Баткина "Гуманистический диалог"
1. Каждый "тезис" в гуманистических диалогах (воздержанность,
созерцательность, активность, наслаждение), провоцируя хвост ассоциаций, легко
вырастает в определенный тип культуры (именно — культуры, а не логики),
в которой (в культуре) исходный тезис теряется как несущественная деталь,
как один из оттенков данного — античного или средневекового — образа
жизни. "Антитезис" развертывается (теряется) & иную культуру, иной образ
жизни. Но соотношение двух культур (двух, трех ... образов жизни) не
требует и не терпит в эпоху Возрождения "синтезиса". Ее "синтезисом"
{не синтезисом) становится тот индивид, который в этом споре культур
оказывается "голым королем", освобожденным от культурной единственности
и необходимости, оказывается именно индивидуалом, — не культурным, —
варварским, трагичным, неповторимо личностным, в смене культурных форм,
одежд, фабул. В этом сила и тайна Шекспира, Сервантеса, и Данте,
Микельанджело (?). Но эта индивидуальность "синтеза" (точнее — снятие идеи
синтеза в идее творящего, из-обретающего себя индивида) означает
радикальную внелогичность, алогичность, анти-логичность этого (ренессансного)
типа культуры. Здесь не может быть диалога культур как парадокса
(как самообоснования), здесь не может быть снятия культуры в логике
(в диалогике) мышления. Здесь субъект культуры (варвар) не может быть
заменен логическим субъектом (и — субъектом логики). Таким субъектом
индивид становится уже только в XVII веке, в веке Галилея, Декарта,
Спинозы.
2. В эволюционном развитии Нового времени этот один (не могущий
развиваться и спорить с собой) полюс субъективности — индивид,
автоматизированный, точечный, варварский, но могущий — в сталкивании
культур — быть фокусом бесконечного мира, — этот один полюс
противополагается (обретает) фокус второй: — "общественного субъекта",
"совокупное орудие". Именно в противостоянии этих двух фокусов и
сформировался "эллипсис" развития человека Нового времени, а "предметом"
воздействия этого типа личности оказывалась природа как таковая, как арсенал
и спектр возможностей формирования субъектных определений. И тут уже,
простите, никакой самостоятельности для посторонней культуры. "Чужие
культуры" — лишь подмостки или — ступени формирования сегодняшнего,
воздействующего на природу "варвара". Так, наиболее культурная (живущая
во всех культурах) эпоха, эпоха культуры "по преимуществу", оказалась
(обернулась) культурой наиболее нигилистической ко всем прошлым
культурам, наиболее "образовательной", "просвещенческой". Способной
"выпрямить" все прошлые и будущие культуры — в одну, непрерывную
культурную траекторию прогресса.
31
Декабрь 1974 — начало 1975 года
Пафос редукционизма и проблемы транс-дукции
в логике XX века
A. Доказательство путем возвращения к аксиомам, возвращения
недоказанного к доказанному (имплицитно содержащемуся в исходных
утверждениях) — это пафос логики Нового времени. Историческая
определенность такого пафоса, как — движения, симметричного дедукции, —
XVII—XIX в.в.
Б. В XX веке (уже к концу XIX) возникает неудовлетворенность такой
(внутри-логической) редукцией. Идея "доказать!" все чаще упирается в идею
"объяснить" данное через другое, лежащее в основе, но внелогическое и уже
поэтому не допускающее чисто логической редукции.
B. Это "объяснить!" — через низший уровень бытия, через детерминацию
"делом", "генезисом" и т.д., — удовлетворяет стремлению преодолеть диктат
классической логики на ее собственной жизненной подпочве и реализуется
в таких основных формах редукции (логического — к внелогическому при
сохранении общего; и для идеи доказательства — пафоса редукционизма):
1. Экономический редукционизм (социальная детерминация данного образа
мышления) — с развертыванием и обнаружением границ
"причинно-следственного детерминизма" в его онтологическом статусе; (Ср. также
"социология знания" Мамардашвили и др.)
2. Редукционизм "жизненных стихий" (философия жизни, фрейдизм и т.д.),
реализующий развертку мотивационных и импульсивно-подсознательных
(иерархия уровней) схем.
3. Редукционизм "экономии мышления" и "сведения к простому" и
"условному", к одному символу и т.д. (редукционизм обратного свертывания).
4. Редукционизм "архетипов", сведение исторического к внеисторическому.
5. Редукционизм в "колесе" форм сознания, сведение философского —
к эстетическому, эстетического — к нравственному, нравственного — к
религиозному...
Это (1—2—3—4—5) был редукционизм "объяснения" (вместе
доказательства). Но далее идет:
Г. Редукционизм понимания, вчувствования, сопричастия, — точнее, это
редукционизм такого "сведения", когда ни понимать, ни доказывать не
нужно, — "знаю, что это так, и баста!". — Это редукционизм (к исходно
понимаемому "тезису"), поскольку и здесь иное сводится к моему, мое —
к себе самому (тавтология), поскольку таким путем просто снимается
сама проблема доказательства или понимания; культура сводится,
редуцируется к вне культурному, богатство феноменов культуры не увеличивается,
но сокращается. Выход.
Д. Хайдеггеровский "редукционизм" (уже в кавычках) — исчерпание
логических ресурсов и спектров, возвращение к чистой внутренней речи, к
началу, идея нового проигрывания "актов рождения мысли" ("конец
философии"). Оппозиции: речь — мысль, или сознание — мысль.
Е. Все эти формы редукционизма (сведения логики к чему-то
вне-логическому) осуществлялись на основе, на фоне проблем собственно
логических — теорема Геделя, парадоксы теории множеств, парадокс Сколема
и т.д., на фоне неявных поисков "другой логики" как обоснования данной
(тенденции металогики, ее трудности, ср. "логика" физики и т.д.). На этом
"фоне" постепенно изменялся смысл самой редукции, срастались ее формы,
под удар ставились различные категориальные сферы (проговаривались,
не срабатывали, между ними устанавливались связи). Ср. также мой анализ
логических оснований различных философий жизни... В логическом горниле
"логика" редукционизма уже (неявно) превращалась (требовала превращения)
в логику "транс-дукции", воз-ведения... По социальным причинам мимо этой
переработки (редукции — в транс-дукцию) обыденная мысль проходила.
* *
Идея "трансдукции"
Так — исторически и логически — вызревала новая идея
философской логики — идея трансдукции. Совсем коротко говоря, суть этой идеи:
развитая из собственных начал, предельных философско-логических оснований
(исходного ответа на вопрос: "Что означает помыслить бытие?", "Что есть
логически обоснованное утверждение?"), логическая мысль определенной
исторической культуры в конечном итоге замыкается на себя, на свои начала,
обосновывает их заново и — коренным образом — трансформирует. В
момент (в точке) трансдукции философская логика изменяет самые свои
основания. Одно всеобщее определение логики обосновывает иное всеобщее
определение и — в этой иной логике — переопределяет самое себя.
Но сейчас мне хотелось бы затронуть этот вопрос "по касательной", лишь
в одном "заходе". Но об этом — позже.
Середина 1975 года
К точкам "трансдукции"
(Пока — через Кантовскую "способность суждения")
В этих точках весь интеллект выступает как способность суждения
(вспомним Канта). Способность суждения стремится подвести особенное ( тот
предмет, о котором я сужу) под общее, под некое понятие. Но, чтобы суждение о
предмете не перешло в знание или в осуждение предмета, я должен
подводить этот предмет, это особенное под неопределенное понятие, понятие,
которое еще только угадывается, которое только становится понятием,
по отношению к которому я сохраню внутреннюю свободу.
Речь сейчас идет о логическом статусе способности суждения, об ее
действии в том удивительно своеобразном "предметно-беспредметном",
"всеобще-особенном мире", который она неизбежно предполагает.
Вот в этом действии, в его схеме, в предвосхищении (априори!) того
"удовольствия" (эстетического), которое оно (это суждение) может доставить,
и существует понятие как возможность.
Это именно особый логический статус. Я подвожу предмет суждения под
формирующееся понятие, и только под такое — не наличное, но будущее —
понятие и может быть подведено особенное. Иначе, — если его подводить под
понятие наличное (то есть рассудочное, в полном смысле слова), тогда
"особенное" перестанет быть особенным бытием, неповторимым, уникальным,
но станет просто спецификацией общего, видом — по отношению к роду,
индивидом — по отношению к виду.
Иными словами, — когда я подвожу особенное под (неопределенное)
понятие, то особенное — данный предмет суждения — не может быть
"лицом страдательным"; особенное — в процессе суждения —
трансформирует общее, изменяет его смысл, делает его всеобщим смыслом
уникальности этого предмета. Всеобщее понятие, которое требуется логическим
статусом способности суждения, есть всеобщность одного предмета, это
понятие не может относиться к другим предметам, оно всеобще в том смысле,
2 Вопросы философии, N 6 33
что в нем весь "мир" определяется (и не может быть определен) как этот —
уникальный — предмет.
Собственно, такая ситуация и означает, что особенное вообще можно
подвести только под неопределенное понятие, — ведь в процессе этого
определения предикат неизбежно изменяется, становится неопределенным. Ведь я
здесь определяю не только особенное — через всеобщее, но и всеобщее —
через особенное,..
Однако не будем забираться в логические тонкости. Хотя, все же, отмечу
еще один момент, раскрывающий взрывную силу "Критики способности
суждения" в цельной системе кантовских "Критик".
Если продумать все логические последствия "подведения" особенного
(предмета суждения) под рассудочное понятие, то окажется, что это —
рассудочное понятие — еще надо сделать неопределенным, надо разрушить
его рассудочный статут. Но как только такая работа — стихийно, в процессе
суждения — начинает совершаться, как только рассудочные понятия
начинают — одно за другим — переводиться в статут неопределенного,
будущего, только открываемого понятия (здесь изменяется и характер связей
между рассудочными понятиями, то есть сама форма логического движения
в сфере рассудка), сразу же, одновременно, начинает осуществляться и другой
процесс — раскрывается и делается возможным обращение этих рассудочных
(или уже не рассудочных?) понятий на мир "вещей в себе". Мне теперь и не надо
понимать, какой он есть, этот мир, но только каким он становится,
мне теперь необходимо понимать его как возможный. В точке суждения
трансформируется вся впрок построенная логика, в этой точке рассудок
и теоретический разум, теоретический разум и разум практический вступают
в реальное, действенное сопряжение, в настоящую творческую работу. Смысл
этой работы ясен. Размышляющий человек (размышляющий над какой-то
творческой проблемой) не просто "применяет" свои способности, он перестает
быть медиумом неких уже наличных, мистических "субъектов" (его
собственных сил, отчужденных от него и приобретающих самостоятельную силу
в системе образования) — Разума теоретического и Разума практического.
Он — человек — изменяет эти формы мышления, трансформирует их,
движется в сфере неопределенных (определяемых) понятий.
Это и означает, что мы решаем некую творческую проблему.
Следует только помнить, что под "способностями" здесь — вместе с
Кантом — предполагаются не физиологические и не психологические
возможности человека, но социо-культурные его определения (культура
мышления и деятельности).
Эти определения и составляют "априорную" основу мышления.
В точке суждения априорные принципы переформулируются заново
(прошлое преобразуется) и становятся "априорными" уже совсем в другом,
необычном смысле, — они доопытны лишь потому, что они — впереди, их еще
нет, они только формируются, они неопределенны. И именно в своей
неопределенности, в своей потенции формообразования, в потенции образования
понятий, они, эти способности, и определяют движение мысли. Прошлая
логическая (не только логическая) культура априорна в процессе творчества
(в синтетических суждениях) потому, что она — в будущем, она — в
логическом плане — пред-понятие. Но — одновременно — это наличная культура
мышления, и вся сила ее пред-понятийного логического статута, в том, что
другим определением этого "пред-понятия" оказывается жесткое,
определенное, точное, рассудочное понятие, которое, при всей своей жесткости,
становится в процессе творчества предметом определения, становится
неопределенным.
34
Ноябрь 1979
...Есть два направления человеческого мышления (соответственно —
экзистенции):
Первое: всеобщее, бессмертное, вечное, бесконечное всегда есть "атрибут"
(в спинозовском смысле), или — "инобытие" особенного, конечного,
смертного, индивидуального, мгновенного. Тогда бытие (и его осознание, а только
осознание делает это мышление и бытие именно таким) парадоксально,
загадочно, исконно-загадочно (всеобщее — атрибут особенного, бессмертное —
атрибут смертного, неразрешимо никаким религиозным осмыслением,
верой, культом. Я — бессмертен, вечен, всеобщ до тех пор, пока я — жив,
конечен, смертен, пока я могу быть вечным — сейчас, в данное мгновение.
Если я вечен, бессмертен в вечности и бессмертии — то это просто
тавтология, ничего загадочного здесь нет и не может быть. Причем, именно
сознание и — глубже — мысль делают мое смертное бытие (осознаваемое —
и тем самым — существующее как вечное и бессмертное) действительно
и "до конца" загадочным. Это — первое направление мышления, бытия,
миро- и себя понимания.
Второе. Единичное, особенное, смертное и т.д. — это атрибут (или —
явление) всеобщего, бессмертного, вечного, бесконечного. Сие убеждение,
верование, опыт, душевную устремленность возможно оформить как религию,
возможно — как "натуралистический материализм", возможно... Но в любом
случае здесь не будет исходной загадочности и парадоксальности (а), и в любом
случае сознание, мысль не приобретает здесь решающего экзистенциального
характера (б).
К первому: эта устремленность духа бытийственна лишь тогда, когда
бессмертное, вечное и т.д. мыслится (!) как вечное и бессмертное не "вообще"
(природа, вселенная), но как вечность и бессмертность именно этого
смертного, особенного, индивидуального. И сие NB! — оно вечно, бессмертно,
бесконечно до тех пор, пока... Это — философия как собственно
человеческое мышление о мире, о "Я", о вечности3.
Философия есть осознание (и бытийное отношение) первого устремления.
Здесь и "универсальность" как проект бытия индивидуального существа,
проект, не совпадающий с его бытием, и — одновременно — составляющий
его смысл (замысел). Здесь и особенная бесконечность, всеобщность каждой
существенно-философской системы, диалогически (энигматически)
соотнесенная с иной всеобщностью (особенностью) каждой иной философской логики.
Это определение есть реализация (в форме всеобщего) одной из бесконечных
возможностей бесконечно-возможного мира... Здесь и проблемы
вне-логических определений (как возможностей логического) данного особенного
онтологического всеобщего. И т.д., и пр., и пр. Быть — в пределе первого
устремления духа — быть философом.
Это — намеченное сейчас пунктиром — осознание своего бытия
радикально противостоит модным современным "интенциям" (или как их еще
помудренее назвать...), хотя именно это воззрение отвечает, думается мне,
глубинному культурному за-мыслу XX века.
Искусство и философия. Если искусство — форма раскрытия (и
сосредоточения) всеобщности особенного, уникального, бесконечно интересного для
3Это утверждение уточнено и изменено в декабрьских заметках 1976 г. Всеобщность
индивидуального (с сохранением его индивидуальности) дает искусство; индивидуальность
всеобщего (с сохранением его всеобщности) дает философия.
2* 35
общения (никогда не переходящего в отгадку, в готовую вещь; произведение
искусства всегда "в работе"...), то философия — форма раскрытия (и
сосредоточения) особенности, смертности, индивидуальности всеобщего,
исчерпывающего. То есть — это Nota Bene! — форма беседы, общения, диалога
между всеобщими (системами, логиками, логическими мирами...) как между
особенными, как между индивидами. Само это "между", само это общение
внелогично; ведь разговор всеобщего с всеобщим не относится ни к одному
из всеобщих, он коренным образом (образом?) историчен, культурен — по
замыслу, по "за-мыслу", но осуществляется этот внелогический,
междулогический замысел (разговор философа с философом) каждый раз —
снова и снова в форме новой логической всеобщности, новой
всеохватывающей — и уходящей, уклоняющейся от разговора, от ответа, от вопроса —
системы. Предельно (!!!) монологическая форма вести диалог. Трагично наше
стремление излагать энигму в (радикально неадекватной) форме системы.
Наша культуро-логика, историко-логика — это попытка осознать и
эксплицировать (изложить систему в форме энигмы...) всю эту трагическую извечную
ситуацию бытия философии. Но, может быть, и это самое "между" (логиками)
также — сфера логики и — даже — преимущественная ее сфера? Еще
и еще продумать. Это ведет к самой сердцевине логики диалога логик —
как логики (?!).
Декабрь 1979
...Возможен такой образ, такая логическая интуиция. Вместе с рождением
человека — в акте рождения человека — рождаются два Собеседника:
индивид и — Мир человека, формируемый, фокусируемый как бессмертная
Личность. Бесконечный, бессмертный, вечный мир — во всей его
неисчерпаемости, — ко мне обращенный, обретающий форму, бытие индивидное,
личностно значимое, вопрошающее — в точке, в пуповине, стягивающей мир
и — непосредственно данного человека, некоего "N". Это — вполне реальный,
так сказать эволюцией, строением мозга определенный (ср. с
функциональной асимметрией мозга) процесс. Как, к примеру, для растения мир — мир
света и питания, впитывания солнца (лист), так рождение человека есть
рождение бессмертного Бога. Существующего и бессмертного (ведь его
содержание — Natura naturans, вечное, и бесконечное, и всевозможное бытие
мира), пока жив человек, вот этот биологически смертный человек, индивид.
Ведь сам смысл этого бесконечного существа — в том, чтобы быть
Собеседником индивида. Соответственно, высший смысл христианского мифа —
со смертью человека (Сына Божьего) умирает бессмертный Бог, возникает
(возвращается к себе) безгласная, вне-личностная Природа, Каждое
рождение ("закон эволюции"?) — рождение Бога; каждая смерть — Его смерть.
Это — лишь образ атеистически осмысленной религии. Уже — не религии,
но — философии.
Однако "законы эволюции" для философии незначимы, неинтересны. От
них — следует отвлечься. Необходимо логически осмыслить сам этот феномен.
А логическое (философское) осмысление этого феномена — это и есть
"диалог логик", спор (и согласие) абсолютных истин об особенном — индивиде.
Мозг, мысль, душа человека конституируется как диалог двух сознаний —
индивида и Собеседника. Внешне мир остается для человека (для его тела)
миром безгласным и просто бытийным. Но интериоризируется этот мир
(в мысли, в "асимметрии мозга") в качестве Лица, в плане двойственности
сознания. В лакуне (пустоте) между "двумя сознаниями". Это и есть парафраз
того, что есть мышление. Но, чтобы соотноситься с всеобщим
("Божественным") сознанием, мое индивидуальное сознание должно и в себе — в инди-
36
виде — диалогизироваться. Быть на-себя обращенным. Вот с этой "второй"
диалогичностью и связана непосредственно (как возможно предположить)
та асимметрия мозга, которая уже изучается сейчас; в нашем контексте
об асимметрии сказано было лишь по аналогии. Ведь "наша" асимметрия
еще не зафиксирована. Да и может быть она понята лишь философски.
Даже — в упрощенной форме — так: формирование человеческого мозга
(соответственно, души) есть одновременное формирование двух друг на друга
обращенных сознаний — сознания индивида, обращенного на мир, и сознания
мира, обращенного внутрь человека, на нас. Не одного, но двух,
соединенных в "точке" мозга (души) сознаний. Смерть человека есть...
Здесь существенно, что неточно обычное утверждение — "вселенная
очнулась во мне", или — "мысль человека — сознание природы". В этом общем
утверждении нет решающе-существенной "двойственности сознания", встреч-
ности двух сознаний. Сознание мира есть сознание на меня направленное,
как бы вне меня, "ко-мне" существующее. И есть сознание мое, от меня,
на мир, "к-нему" направленное. И их единство (диалог) есть мышление.
4 августа 1981
О воле и разуме. Поскольку человеку с самого начала его бытия
(деятельности) его собственная жизнедеятельность противостоит как предмет, — как
цель, как проблема, — постольку для человека "самосознание" и
"отличение предмета мышления от мысли" (определение разума) есть
одновременно и в том же отношении — определение воли, необходимости стать
самим собой (изменяться) в процессе собственной целеустремленной
деятельности. Эти определения могут быть даны и друг в друге: разум есть воля
к самосознанию и самоопределению, самообретению; воля есть разумение
себя как собственной цели, как иного, не тождественного мне, как
предмета своего бытия (как ни бессмысленно подобное словосочетание).
Марксово "человек есть самоустремленное существо" есть пред-определение
и разума и воли в их взаимоопределении. Это отношение пронизывает
далее все развитие интеллекта и свободы (воли) в их филогенезе (философия)
и онтогенезе (развитие личности).
Воля, направленная на обретение пред-полагаемого, насущного Я,
направлена на то, чтобы обрести это Я — как остающееся внеположенным,
отдельным от меня (орудие, культура, нравственная коллизия), как нечто
природно самостийное, то есть воля направлена на то, чтобы понять себя
как разум. "Я понял жизни цель, и чту /ту цель как цель/. И эта цель —
признать, что мне невмоготу мириться с тем, что есть апрель..." (Б.Л.
Пастернак).
Август 1981
Философская логика. XX век
1.ХХ век выявил необходимость общения (а не гегелевского "снятия")
уникальных, несводимых друг к другу, но — диалогически обращенных друг
к другу культур, — каждая из которых всеобща и бесконечно богата
потенциальными смыслами, — Античная, Средневековая, Ново-временная,
Современная культуры, культуры Запада и Востока. Необходима логика
мышления как логика общения таких исторических культур. И — культур
возможных, еще не осуществленных.
2. XX век превратил проблему (коренным образом трансформировал проб-
37
лему) понимания (понятия) — в проблему изначального формирования новой
рациональности. Так, если оттолкнуться от пункта 1, понять иную культуру
не означает просто знать ее (сделать ее своим "знанием", о ней, о ее
"сущности"); это означает — разумом! — относиться к ней как к чему-то совершенно
иному, чем "Я", чем мое мышление, мое культурное бытие, это означает
разуметь ее (этой культуры, или — этого произведения культуры —
художественного, философского, теоретического...) особое (во всей особой
всеобщности) бытие, абсолютно плотное, неисчерпаемое смыслами, вступающее
со мной, опять же, в отношение общения. Чем больше я понимаю нечто,
скажем — иную культуру (трагедию Эсхила; "Гамлета" Шекспира;
"Блудного сына" Рембрандта; "Критику чистого разума" Канта), тем более я
выявляю, что мне непонятно, но насущно, предельно необходимо для моего
бытия, для моей духовной определенности. Дело тут не только в культурах.
Это то же самое, что понять другого человека, другую личность. Ведь и в
личном взаимопонимании есть тот же парадокс: понимание существует до тех пор,
пока есть непонимание (разумение того, что это — иной человек, иная
духовная вселенная, запредельная для моего бытия...), но — снова —
совершенно насущная, необходимая для моего бытия, моего мышления. Опять —
разумение общения (а не "снятия") раз-личных всеобщих.
3. Есть и другие пути, ведущие к тому же запросу, обращенному к
философии, к философской логике (ведь и современная математическая или
физическая теория бьются над трудностью — включить в теорию свой предмет, как
не-покрываемый ни одной теорией раздельно, ни их сочетанием, как бытие,
не снимаемое "сущностными" структурами). Конечно, философская логика
всегда была (и есть по своему определению) обоснованием новой
рациональности, нового начала логики. Современная ситуация, предельная проблема
(быть или не быть) мышления, вкратце намеченная, выше (пункты 1—2),
позволяет предположить, что новая рациональность, складывающаяся в XX
веке, имеет своим стержнем переход к мышлению (соответственно — бытию)
парадоксальному.
Основное понятие этой рациональности (логики) — парадокс. Под
"парадоксом" здесь имеется ввиду не столько обычное словоупотребление (хотя
и этот смысл не исключается), но скорее то понимание "парадокса",
которое развито в современной теории множеств.
Два момента здесь особенно существенны:
а) Парадокс возникает, коль скоро необходимо самоотнести несамоот-
носимые понятия;
б) Если логически конкретизировать это исходное определение, то парадокс
есть такой логический феномен, когда совершенно "правильная" дедукция
из безупречных аксиом приводит к необходимому сомнению в этих аксиомах,
их радикальному преобразованию (и обоснованию...).
В философской логической идеализации понятия "парадокс" речь идет о
парадоксальности мышления — то есть о том, что понятие понятия, мышление
о мышлении означает необходимость ввести в определение понятия нечто
радикально ему вне-положное — бытие, то есть не-мышление. "Понятие"
(мысль) это еще не понятие, если оно снимет свою вне-бытийность, свое
отношение к бытию как к иному. Но и обратно. Понятие (мысль) — не
понятие, если оно не способно воспроизвести вне-понятийность бытия (его
нетождественность мысли) в... понятии, в определении мысли.
Парадокс — в таком понимании — может быть конкретизирован в таких
(это наметка сути дела) основных гранях:
А. В задаче воспроизвести в логическом (в логике) внелогическое бытие
предмета мышления (задача эта стояла в центре исканий античной,
апорийной логики мышления);
Б. В задаче воспроизвести в логическом (в логике) внелогическое бытие
38
субъекта мышления (не тождественного гегелевскому теоретическому
разуму). Задача эта стояла в центре исканий средневековой логики, логики
антитетической, логики Аквината или Дунса Скота.
В. Задача понять собственно логическое (ту мысль, о которой я мыслю)
как вне-логическое, как определение бытия. Это значит — понять ее как
иную логику. Это — парадоксализация рефлексии, лежащей в основе
антиномической логики Нового времени. С особой силой парадоксальность
рефлексии может быть выявлена в соотнесении логики Гегеля и логики Канта.
В свете этой задачи (внелогичность логического) приобретают новый смысл
парадоксы апорийной и антитетической логики.
Тот переход к разуму парадокса, который здесь сжато очерчен,
совершается, на мой взгляд, в реальной живой логике бытия и мышления
'человека XX века. Задача философской логики — осмыслить и
актуализировать этот реальный рискованнейший сдвиг мысли.
1 июля 1983 г.
1. Основание нравственности — не над-человеческий абсолют, но
нравственная перипетия, где абсолютами (добра) выступают и одна и другая чашка
весов, и один и противоположный завет, и где человеческий поступок есть
не исполнение абсолютного завета, но личностное творчество этого —
уникально нравственного поступка, выбора, решения. Это — предельная
нравственная коллизия, "решение" которой, то есть — Поступок, — есть всегда —
столь же исполнение завета, сколь нарушение завета (трагедия совести), —
то есть восстановление нравственной трагической ситуации выбора во всей ее
неразрешимости (нравственном смысле). Эти нравственные предельные
коллизии, парадоксы, во-первых, историчны (трагедия Античности, житие
Средних веков, романная коллизия Нового времени) и, сопрягаясь, образуют
"кольца" на целостном стволе личности; во-вторых, формой их предельного
"доведения" является эстетическое, художественное начало. В-третьих,
воплощением этих нравственных средоточий выступают не "нормы", не
"заветы", не каноны, но "типы" личностных трагедий, типы — личностей (это также
парадокс): Прометей, Эдип, Орест, Гамлет, Дон-Кихот, Фауст...
2. Личность не нуждается во внешнем (для ее определения) нравственном
абсолюте, внешней ссылке на "других людей", на долг, категорический
императив и т.д. В само определение личности (осознаваемого Я, к которому
Я отношусь, который — для меня "вненаходим", который — для меня —
целен и завершен...) включается определение другого Я, Ты, бытие которого
со-бытийно мне, входит в то, что мне насущно более, чем собственное бытие.
Ср. у Бахтина: дух есть там, где есть два духа; сознание — там, где — два
сознания; и обратно — два сознания есть феномены сознания; лишь тогда,
когда они — в одном сознании. Именно благодаря этому (вмещению в меня —
ты...) сознание всегда не умещается в себе, есть больше, чем "самосознание".
Если же "иной человек" будет вводиться дополнительно, после того, как
определено "я", как раз тогда это "я" никак не выскочит из себя и будет лишь
насильственно и лицемерно подчиняться "абсолюту" и "принудительному
альтруизму". Тогда человек будет всегда нуждаться в "небесном
полицейском", — иначе, дескать, "все дозволено".
3. Только смертный (субъект) может быть субъектом (и иметь атрибуты),
любви, страдания, совести. И источником этих субъектных определений
всегда будет лишь отношение к иному смертному i(которому я могу —
не могу! — причинить смерть, лишить его возможности быть). Это относится
и к так называемому "абсолюту" (Мир, Natura naturans, Бог...) Только для
39
смертного и конечного (человека) мир обретает определения всеобщего,
бессмертного (в течение моей смертной жизни) личностного субъекта и
вступает со мной в нравственные и все иные формы общения, в общение
на-равных: мое бытие зависит от Его бытия; Его бессмертное бытие зависит
от моего смертного, конечного, человеческого бытия. Он бессмертен, пока я —
смертный — жив. Он личность, а не анонимная Природа или "все" лишь
до тех пор, пока есть "я", маленькая смертная личность (т.е. пока он смертен...).
Этика любви — всегда — этика такого со-бытия. Тогда есть любовь
(стремление спасти Его от смерти). Где с одной стороны — "абсолютный абсолют",
с другой — маленькое эгоистическое смертное "я", там ни любви, ни этики
не может быть. Сравни у Бердяева — очень близко, и совсем иное.
4. Свобода воли (пушкинское "самостоянье", "тайная свобода") и "этика
любви" — не взаимоисключающие, но взаимопредполагающие (и... остра-
няющие) феномены. Любовь приобретает человеческий характер только в
"своевольных" (на себя, на произведение замкнутых, рефлектирующих
"обратно ко мне, в меня") действиях. В создании уникальных картин, поэм,
музыки, в способности слышать свое слышание, видеть свое видение, то есть
остраняться от себя, видеть себя глазами другого, вырываться за пределы
того "эгоизма любви", в котором стремление к иному — даже к "абсолюту" —
есть стремление поглотить его или — встать под его покровительство.
Также и в философии и в науке. Бескорыстная любовь к истине ("сомнение
в истине") позволяет выйти "за свою околицу", не теряя своевольную страсть
и личностное определение, и, сомневаясь в себе, реально любить другого,
большего, чем Я, — большего потому, что он другой, а не потому, что он
"абсолют".
Ноябрь 1983
Еще раз — к "нравственности как перипетии", — как напряженному
полю (два полюса), в котором возникает нравственный поступок и, сразу же,
воспроизводится (в точке поступка) исходная безвыходная нравственная
перипетия. Это — не две абсолютно самостоятельные, но противоположно
направленные моральные нормы (так можно было заключить из иных моих
записей), но — внутренняя напряженность, дву-полюсность, диалогичность
одной, не совпадающей сама с собой, перипетии. Она — точка; она — поле
совершения поступка, поле выбора и решения, — решения, воспроизводящего
выбора, невыносимость нравственной перипетии...
Так, само требование "не убий!" (и сам поступок "неубиения") как
нравственный поступок в-себе несет свой перипитийный характер. Это — (1)
исходное требование к себе — "не убий!" Это — (2) призывное требование
к другому (к себе как другому) — "не убий!". Это требование борьбы с тем,
кто стремится убить, кто убивает — ближнего моего, моего сына, брата,
мать; это — требование — всеми силами — остановить его, не дать убить!
Человек бессмертен жизнью своей, его нельзя дать убивать, — тогда он
погибнет в своем бессмертии (запрет самоубийства). Уже эта исходная
перипетия нормы "не убий!" превращает ее из нормы — в безысходную
перипетию, коллизию: я не должен убивать; я не должен допустить, чтобы
убивали, должен защитить, спасти убиваемого. Вплоть до убийства того,
кто убивает?! Или нет?! Вопрос этот неразрешим, — именно в такой
предельной (мысленно — в разуме!) — всегда предельной ситуации. И как бы
я ни поступил, совесть меня осудит, совесть (как феномен предельного
выражения нравственной перипетии) останется "угрызающей",
восстанавливающей всю напряженность исходной перипетии. Исполнив — в пределе —-
одну "ипостась" этой перипетии — убив убивающего, я нарушил вторую
40
ипостась: я убил... Не убив, но допустив убийство, я нарушил вторую ипостась:
не защитил убиваемого человека. Я — убил. И выхода нет. Совесть в любом
случае осудит, хотя поступок необходим, он — смысл перипетии, он —
создатель нравственности, создатель — вновь! — перипетийной коллизии.
Здесь существенно именно то, что исхрдным моментом размышления
(нравственного) — а без размышления, без разума, без мысленного (пусть
мгновенного) воссоздания исходной перипетии, нравственности (как поля
поступков) вообще нет, не существует, — всегда выступает поступок. Итак, исходным
моментом нравственного разума является не сама предельная
дихотомическая ситуация (в нашем случае: "убий! — не убий!), но точечная коллизия,
перипетийная суть одного, единственного "не убий!" — в его действенном и в его
воздерживающем от действия смысле.
Так и с гамлетовским "быть или не быть". Это не две различные (пусть
противоположно направленные) нормы, но внутренняя нравственная "пери-
петийность", вопросительность самого (одного, единственного) бытия. Я
полностью самостиен в своем бытии, — если я прошел (всегда испытываю)
искус самоубийства, если мое бытие есть не "наличнре бытие" (рожден —
живи), но акт решения. Выбор разума. Всегда — вновь и вновь
возобновляемый. Выбор, составляющий нравственный смысл (несовпадение с собой)
любого человеческого поступка. Если мой поступок — в этом смысле — не
перипетией, он еще (в смысле нравственности) не человечен. Эта
(гамлетовская) перипетия — феномен Нового времени, когда разум
нравственности, как и вообще разум, — есть разум познающий. Здесь т— далее —
очень важна проблема сопряжения в единой нравственной перипетии многих
исторически необходимых перипетий ("не убий!" — "не дай убить!", и — "быть
или не быть", и — Эдиповой, и Прометеевой, и иных перипетий), — но это уже
особый вопрос, вопрос перипетийного содержания (и сопряжения) различных
перипетий — в нравственности и поступках одного человека, одного сознания,
одного (диалогического) разума.
Существенно также продумать, как растянутая перипетия гамлетовского
(к примеру) типа, предельная нравственная рефлексия, рефлексия, как бы
предваряющая поступок, — воспроизводится внутри поступка, в форме некоей
микро-рефлексии: скажем, в поступке как безудержном акте уничтожения
зла (Дон Кихот) и поступке как здраво-смысленном, ироничном частном
акте Санчо Панса (в отношении этого частного лица — вот к тому частному
лицу). Рефлексия внедрена в отдельный поступок (Санчо — как второй полюс
внутри-действенной рефлексии, второй полюс "Дон Кихотства"...).
31 июля 1984 г.
(К обсуждению заметок о "перипетиях нравственности",
— после дополнений А. Ахутина)
1. Нравственная перипетия не может разрешаться правилом, как
поступать, — как "правильно" поступать другому. Просто по определению.
Ведь нравственная коллизия возникает только в предельной (а) и уникальной (б)
ситуации. Она возникает изнутри моей невозможной (моральной) трудности.
Поэтому она не может быть спроецирована (в ее разрешении) на другого.
Она — единственна, существует в "единственном экземпляре". А в той мере,
в какой она "переносима на...", она столь неопределенна и расплывчата,
столь бесконечно сомнительна, что переносится лишь предельность
перипетии, но отнюдь не выход из нее (не форма ее нового порождения).
В самом деле, что означает "норма" — "поступай как Гамлет" (???), или —
"делай как Эдип" (???). Или — даже — "живи как Христос"? Единственно,
41
что это означает, — развей в себе, или — осознай развитой, напряженной
в себе коллизию (неразрешимость) Гамлета или Христа, коллизию — по
определению — не разрешимую "в норму". Ведь тогда (в норме) исчезнет один из
полюсов перипетии — то есть исчезнет сама идея нравственности. И — далее —
исчезнет уникальность той реальной ситуации, что встала перед тобой, а
значит исчезнет уникальный смысл этой коллизии, ее "затравка". Ведь
нравственная перипетия (нравственность) существует лишь до той поры, пока она
способна возникать заново — из данной неповторимости, из данной
уникальной коллизии (требовать этого (?) поступка по отношению к этому
человеку); если же она задана заранее — ее не существует как нравственной
экспозиции. Гамлет или даже — Христос не эталоны некоей абсолютной
нравственности, они — люди, вставшие (и художественного понятые) в
ситуации предельной нравственной коллизии, для которой отказывают
априорные моральные нормы и которая требует творения (и тем самым
санкционирования) нравственного, то есть разрешающего эту неповторимую
коллизию, акта.
2. Неточно, когда я утверждал (в обсуждении), что сначала решается
выбор антитезы "добро — зло" (мораль), а "затем" обнаруживается пери-
петийность самого полюса "добря "(нравственности). Точнее другое. Коллизии
нравственности дают жизнь и напряженность самих полюсов добра-зла,
обнаруживают их неразделимость, а следовательно, их предельную
напряженность. Зло ("убий!") оказывается лишь доведенной до предела одной из
ипостасей идеи добра ("не убий!"); я не могу дать тебе убить, вплоть до...
неизбежности "убить... тебя". Как только двуполюсность, внутренняя
дополнительность нравственной идеи разрывается, как только мораль теряет
нравственную напряженность и безвыходность (мысленную доведенность
до уникального предела), так сразу же сама эта "мораль" ссыхается,
нависает над человеком извне, перестает быть моральной (даже моральной)
нормой, но становится "стороной" нормы правовой, государственной,
религиозной и т.д. И здесь нет "раньше" и "после" ("сначала" мораль, а
"потом" — нравственное углубление одного из полюсов). Здесь иное —
одновременное (вневременное — вспомним, о предельной нравственной коллизии)
развитие (и отсыхание корней...) нравственно-моральных дополнительностей
и разрывов.
/ июня 1985 г.
...К определению Разумов [предельных форм разумения]
Разум:
Античный. Бытие хаотично (его как бы нет); хаос понять (помыслить в уме)
невозможно. Понять хаос — означает — о-пределить, отграничить, эйдетизи-
ровать, понять как космос. Но, значит не понять как хаос. Хотя... (см. выше).
Средневековый. Бытие (онтологически) не существует. Оно есть лишь
в своей причастности к Богу, внебытийному началу. Понять бытие — означает
понять (возвести в ум) его при-частие к "небытию" — в смысле "над-бытия",
"сверх-бытия", "начала бытия". Сама "при-частность" понимается
антитетически: как "причастие" и как "про-исхождение" (момент эманации в ничто).
И — предел "оземления" средневекового идеала понимания: формула
"причастности" и есть, собственно, философская (то есть коренным образом
преображенная) формула понимания предмета как орудия, как средства, как
"продолжения" Ума, Рук, Сердца.
Разум Ново-временной. Понять бытие — означает выпутать его из
отношений "при-частности", раскрыть его как вне-субъектное бытие, как "оно есть
42
само-по-себе", как абсолютно противостоящее человеку (познающему Я),
противостоящее субстанциально. Но таким (самобытийным) бытие
раскрывается лишь (?) "на донышке" познающего разума, в пределе познающего
усилия. Когда бытие (в понятии) раскрывается как (не бытие, но) сущность.
Это и есть решающая антиномия познающего разума, — разума как познания.
(Сравни: антиномия Кант—Гегель.)
Разум современный, XX (?) века, диалогический. Бытие реализуется как
(самобытийное) бытие — на острие предельного разумения (итоги работы
познающего разума). Но чтобы оно не стало чистым феноменом разумения
(Гегель) и сохранило свою ноуменальность, необходимо предположить, что
два (это минимум) встречных всеобщих разумения, пред-полагая друг друга,
реализуют идею самобытийного бытия. Бытие здесь оказывается "зажатым"
"между" (?) встречными разумениями, разумами, спорящими друг с другом о
том, что означает помыслить, понять бытие, понять друг друга и, наконец,
самого себя. Здесь же — идея о том, что для диалогического
(парадоксального) разума понять бытие — означает понять его как бесконечно-
возможное, когда каждый из разумов реализует (в бесконечность, в форме
единственного всеобщего) одну-единственную возможность бытия (все
"остальные" проецируются — в этом акте — в эту возможность, в это определение
бытия). Один разум реализует возможность бытия как — о-пределивание;
другой — как причастность; третий — как итог познания... Я называю три
(или четыре) абсолютизации, но это лишь способ сказать о бесконечно-
возможных формах абсолютизации бесконечно-возможного бытия.
...Диалогический разум в основу понимания ставит понимание
философской "системы", не как "идеи", но как философского (в аналогии с
художественным) произведения. Это — особенно существенно для всех сторон
и поворотов нашей энигмы. И — обратить внимание: сие означает, что каждая
из Логик должна, опять-таки, пониматься как произведение — в своем
за-мысле, начале, творении. Вот еще почему — идея начала. Но и творец
здесь — творится (образ творца), и творец этот — индивид, философ.
...Ключ к трансформаци "науко-учения" в "культурообоснование" —
изменение воззрений (философской логики и истории философии) на самое
философию ("философские системы прошлого"). В пафосе "наукоучения" —
философия (данная система) понималась как "новый вклад" в... на манер науки.
Форма произведений поспешно разрывалась (только докука с ней), как
бумажный пакет, а содержание — то "+1", что добавлялось к некоему "п"
философских знаний, выстраивалось в единую траекторию "умного полета
мысли". Наиболее осознанно и глубоко это у Гегеля, но и в академической
истории философии то же самое... Только, в отличие от Гегеля, акцент
делался на осмеянии прошлых систем, только "жемчужное зерно" отбиралось
скорее "по вкусу".
В "культурообосновании" также все начинается (по сути) с философии,
с иного понимания историко-философских "вкладов". Теперь, когда сама
наука начинает строиться на манер искусства (принцип соответствия,
дополнительности и т.д.), философская система начинает пониматься как
философское произведение (композиция, сюжет, авторство и т.д.). Теперь, скорее,
как раз "поэтическая" структура, логическая (sic!) форма произведения в его
скрепах и узлах, вызывает особое внимание (должна вызывать), а содержание
осмысливается по схеме "что—как", как момент композиции и т.д. Сама эта
структура берется как форма "вопроса-ответа", форма бесконечного развития
своего содержания (бесконечный резерв все новых аргументаций и смыслов,
скажем, Спинозы в ответ на опровержение Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля...
43
и — vice versa), — в непрерывном диалоге с новыми — понятыми как
одновременные — философскими мирами... И этот квази-литературоведческий
подход к философским произведениям оказывается источником развития
"общей теории культуры", точнее философии как обоснования культуры во всех
иных сферах — в искусстве, науке, этике, "социальной жизни" и т.п. Здесь
не существенно, откуда начинался такой подход реально исторически (обычно,
такое начало — искусство и общая социология как теория культуры).
Существенно иное: только в сфере философии, истории философии,
понимании философской системы как "произведения" ("Парменид" Платона, или —
"Феноменология духа" Гегеля, или...) возможно логизировать теорию
культуры, превратить теорию культуры в "культурообоснование", в феномен
философской логики.
И наиболее смелый и конструктивный ход в таком превращении —
понимание как Произведения (с автором, воображением, композицией,
изобретением и т.д.) не авторских философских произведений ("Этики"
или "Критики чистого разума"), но ранее анонимных феноменов — "логики
Античности", или "логики Средневековья", или "логики Нового времени",
с нашей (XX век) актуализацией их "авторов — Разума Античности, Разума
Средневековья, Разума "Нового времени".
21 июля 1986 г.
..."Переход" от мифа к логосу историко-логически дан как эстезис,
воплощенный в трагедии. Вместе с тем, именно трагедия — это принцип
построения античной культуры в ее целостности. (Трагедия в узком смысле —
"акме" этой культуры.) Трагедия (или — эстезис) есть схематизм построения
всей античной культуры и, прежде всего, — схематизм сопряжения и (NB)
заново полагания ее полюсов — мифа и логоса (философологоса). В трагедии
и миф и логос уже не только историчны, не то что "до..." и "после...",
это — рожденные (построенные, изобретенные) по законам трагедии
собственно эстетические определения, определения поэтики. В таком понимании
трагедия отнюдь не только исторический феномен перехода от некоего
наличного (еще до трагедии) мифа к некоему, еще только предстоящему,
логосу. Еще менее трагедия есть некая "переходность" (кое-что от мифа,
от сакральности, кое-что от логоса). Это -г самостоятельная целостность,
вобравшая в себя и переопределившая (как феномены единой культуры)
свои полюса; трагедия — это вся античная культура, значимая не как переход,
но как эстетическая (перипетия, задержка, катарсис) тотальность, как —
произведение. Так получается, если верить Аристотелю ("Поэтика") или
Платону больше, чем скудоумной теории "предыстории" (в любом ее варианте).
...Построение всей античной культуры как произведения-трагедии
(собственно трагедийный эстезис есть, — как я уже сказал, — "акме" этой трагедии
в широком смысле...) означает собирание культуры в идее личности, в ее
предельном — для античности — катарсисе. И каждое произведение
античной культуры, понятое как культура, есть единственный фокус всей этой
культуры, есть не одно из произведений этой культуры, но вся Античность —
в фокусе и пределах этого произведения. Это относится столь же к "Эдипу"
Софокла, сколько — к "Пармениду" Платона.
44
Послесловие
Публикуемые фрагменты "Заметок впрок" обрываются 1986 годом. Это
не случайно. Тому несколько причин.
Во-первых, последние записи — 1987—90 годов (диалогика понятия; новый
спор Монологиста с Диалогистом; сопряжение мышления и сознания; о
философском и религиозном началах духовной жизни человека; школа диалога
культур) пока что четко ориентированы на возможные будущие книги и статьи,
а поэтому действительно оставлены впрок.
Во-вторых, большинство публикуемых заметок связано с работой
культурно-логического семинара "Архэ", работавшего "дома и на кухне" с 1967
по 1987 год. В дни "перестройки" семинар почти заглох, мы попытались выйти
"на-люди", проводить свои обсуждения в Институте философии, вообще —
публично. Получилось совсем не то... Исчезла внутренняя рабочая атмосфера,
появились интонации "пропагандистские", рассчитанные на публику. Теперь
мы снова возобновляем быт и бытие "малой" философской группы, возможно
"журнала-диалога". Думаю, что тогда восстановится и установка на "речевой
жанр" заметок для себя, для внутреннего читателя. Я говорю об этом
потому, что проблема "малой группы", некой "скорлупы", в которой наиболее
органично и спокойно созревает нормальная одинокая философствующая
(или — художественная) личность, это, в свою очередь, — философская
и социальная проблема, размышлять над которой очень насущно.
В-третьих, современное внимание резко сдвинулось в политическую и
социальную сферу. Боюсь, что это — болезненно не только для самой
философии или искусства, но и для политики, для судеб демократии. Вне
разветвленного гражданского общества, вне самостийных структур малых,
культурно-формирующих творческих групп невозможна никакая прочная
политическая демократия, никакое (всегда — поверхностное) государственное
устройство.
Конечно, мои "Заметки впрок" — только повод для этих размышлений,
речь идет о чем-то более осмысленном — о смысле нашей (моей, "твоей,
отдельной, — связной) жизни. Что же, может быть, эта тема — одна из заявок
на новые "Заметки".
45
НАУКА И КУЛЬТУРА
Философия нестабильности*
И. ПРИГОЖИЙ
У термина "нестабильность" странная судьба. Введенный в широкое
употребление совсем недавно, он используется поройх едва скрываемым
негативным оттенком, и притом, как правило, для выражения содержания,
которое следовало бы исключить из подлинно научного описания реальности.
Чтобы проиллюстрировать это на материале физики, рассмотрим
элементарный феномен, известный, по-видимому, уже не менее тысячи лет: обычный
маятник, оба конца которого связаны жестким стержнем, причем один конец
неподвижно закреплен, а другой может совершать колебания с произвольной
амплитудой. Если вывести такой маятник из состояния покоя, несильно
качнув его груз, то в конце концов маятник остановится в первоначальном
(самом нижнем) положении. Это — хорошо изученное устойчивое явление.
Если же расположить маятник так, чтобы груз оказался в точке,
противоположной самому нижнему положению, то рано или поздно он упадет либо
вправо, либо влево, причем достаточно будет очень малой вибрации, чтобы
направить его падение в ту, а не в другую сторону. Так вот, верхнее
(неустойчивое) положение маятника практически никогда не находилось в фокусе
внимания исследователей, и это несмотря на то, что со времени первых работ
по механике движение маятника изучалось с особой тщательностью. Можно
сказать, что понятие нестабильности было, в некоем смысле, идеологически
запрещено. А дело заключается в том, что феномен нестабильности
естественным образом приводит к весьма нетривиальным, серьезным проблемам,
первая из которых — проблема предсказания.
Если взять устойчивый маятник и раскачать его, то дальнейший ход
событий можно предсказать однозначно: груз вернется к состоянию с
минимумом колебаний, т.е. к состоянию покоя. Если же груз находится в верхней
точке, то в принципе невозможно предсказать, упадет он вправо или влево.
Направление падения здесь существенным образом зависит от флюктуации. Так что
в одном случае ситуация в принципе предсказуема, а в другом — нет, и именно
в этом пункте в полный рост встает проблема детерминизма. При малых
колебаниях маятник — детерминистический объект, и мы в точности знаем,
что должно произойти. Напротив, проблемы, связанные с маятником,
если можно так выразиться, перевернутым с ног на голову, содержат
представления о недетерминистическом объекте.
Это различие между детерминистическими законами природы и законами,
не являющимися таковыми, ведет нас к более общим проблемам, которые
мне и хотелось бы здесь вкратце обсудить.
♦Prigogine I. The philosophy of instability — "Futures", August, 1989, p. 396—400.
46
Человек и природа
Прежде всего, спросим себя: почему именно сегодня в естествознании
заговорили о нестабильности, тогда как прежде господствовала точка зрения
детерминизма? Дело в том, что идея нестабильности не только в каком-то
смысле теоретически потеснила детерминизм, она, кроме того, позволила
включить в поле зрения естествознания человеческую деятельность, дав, таким
образом, возможность более полно включить человека в природу.
Соответственно, нестабильность, непредсказуемость и, в конечном счете, время как
сущностная переменная стали играть теперь немаловажную роль в
преодолении той разобщенности, которая всегда существовала между социальными
исследованиями и науками о природе.
В чем, однако, смысл тех изменений, которые произошли (в интересующем
нас плане) в отношениях человека к природе? В детерминистском мире
природа поддается полному контролю со стороны человека, представляя
собой инертный объект его желаний. Если же природе, в качестве
сущностной характеристики, присуща нестабильность, то человек просто обязан
более осторожно и деликатно относиться; к окружающему его миру, — хотя
бы из-за неспособности однозначно предсказывать то, что произойдет в
будущем.
Далее, принимая в науке идею нестабильности, мы достигаем тем самым и
более широкого понимания существа самой науки. Мы начинаем понимать,
что западная наука, в том виде, как она до недавних пор существовала,
обусловлена культурным контекстом XVII в. — периода зарождения
современного естествознания и что эта наука ограничена. В результате начинает
складываться более общее понимание науки и знания вообще, понимание,
отвечающее культурным традициям не только западной цивилизации.
К сожалению, однако, приходится признать, что современная культурная
жизнь крайне разобщена даже внутри западной цивилизации. В книге,
имевшей недавно большой успех в США, Алан Блум утверждает, что наука
является материалистическим, редукционистским, детерминистическим феноменом,
полностью исключающим время1. Но если упрек Блума и справедлив
относительно науки 20—30-летней давности, то к сегодняшней науке эти
характеристики явно не применимы, — она не сводима ни к материализму, ни к
детерминизму.
Лейбниц: исключение нестабильности
Для того чтобы понять идущие в современной науке процессы, необходимо
принять во внимание, что наука — культурный феномен, складывающийся
в определенном культурном контексте. Иллюстрацией этому может служить,
например, дискуссия между Лейбницем и Кларком, представлявшим в их споре
взгляды Ньютона. Лейбниц упрекает Ньютона в том, что его представление
об универсуме предполагает периодическое вмешательство Бога в устройство
мироздания ради улучшения функционирования последнего. Ньютон, по его
мнению, недостаточно почитает Бога, поскольку искусность Верховного
Творца у него оказывается ниже даже искусности часовщика, способного раз и
навсегда сообщить своему механизму движение и заставить его работать без
дополнительных переделок2.
См.: Bloom A. The closing of the American mind. N.Y., 1987.
2 Здесь, видимо, уместно привести одно из высказываний по этому поводу самого Лейбница:
"Я не говорю, что телесный мир — это машина или часовой механизм, работающий без
вмешательства Бога; я достаточно подчеркиваю, что творения нуждаются в беспрерывном его влиянии.
Мое утверждение заключается в том, что это часовой механизм, который работает, не нуждаясь
в исправлении его Богом; в противном случае пришлось бы сказать, что Бог в чем-то изменил
свои решения. Бог все предвидел, обо всем заранее позаботился'* (Лейбниц. Соч., т. I, 1982,
с. 436). — Прим. перев.
47
Лейбницевские представления об универсуме одержали победу над нью-
тонианскими. Лейбниц апеллировал к всеведению вездесущего Бога,
которому вовсе нет никакой нужды специально обращать свое внимание на
Землю. И он верил при этом, что наука когда-нибудь достигнет такого же
всеведения — ученый приблизится к Знанию, равному божественному. Для
божественного же знания нет различия между прошлым и будущим, ибо все
присутствует во всеведущем разуме. Время, с этой точки зрения,
элиминируется неизбежно, и сам факт его исключения становится свидетельством
того, что человек приблизился к квазибожественному знанию.
Высказанные Лейбницем утверждения принадлежат к базовому уровню
идеологии классической науки, сделавшей именно устойчивый маятник
объектом научного интереса, — неустойчивый маятник в контексте этой
идеологии предстает как неестественное образование, упоминаемое только
в качестве любопытного курьеза (а по возможности вообще исключаемое
из научного рассмотрения). Но изложенная концепция вечности грешила
тем, что в ней не оставалось места для уникальных событий (впрочем, и в
ньютоновском подходе не было места для новаций). Материя, согласно этой
концепции, представляет собой вечно движущуюся массу, лишенную каких
бы то ни было событий и, естественно, истории. История же, таким образом,
оказывается вне материи. Так исключение нестабильности, обращение к
детерминизму и отрицание времени породили два противоположных способа
видения универсума:
— универсум как внешний мир, являющийся в конечном счете
регулируемым автоматом (именно так и представлял его себе Лейбниц), находящимся
в бесконечном движении;
— универсум как внутренний мир человека, настолько отличающийся от
внешнего, что это позволило Бергсону сказать о нем: "Я полагаю, что
творческие импульсы сопровождают каждое мгновение нашей жизни"3.
Действительно, любые человеческие и социальные взаимодействия, а также
вся литературная деятельность являются выражением неопределенности в
отношении будущего. Но сегодня, когда физики пытаются конструктивно
включить нестабильность в картину универсума, наблюдается сближение
внутреннего и внешнего миров, что, возможно, является одним из важнейших
культурных событий нашего времени.
Новые открытия
Разумеется, введение нестабильности является результатом отнюдь не
только идеологических особенностей истории науки XX в. Оно стало реальностью
лишь благодаря сочетанию ряда собственно научных экспериментальных и
теоретических открытий. Это, во-первых, открытие неравновесных структур,
которые возникают как результат необратимых процессов и в которых
системные связи устанавливаются сами собой; это, во-вторых, вытекающая из
открытия неравновесных структур идея конструктивной роли времени; и,
наконец, это появление новых идей относительно динамических,
нестабильных систем, — идей, полностью меняющих наше представление о
детерминизме.
В 1986 г. сэр Джеймс Лайтхил, ставший позже президентом
Международного союза чистой и прикладной математики, сделал удивительное заявление:
он извинился от имени своих коллег за то, что "в течение трех веков
образованная публика вводилась в заблуждение апологией детерминизма,
основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, по
крайней мере с 1960 года, что этот детерминизм является ошибочной позицией"4.
3См.: Bergson Henri. The creative mind. Totowa (NJ, USA), 1975.
4Lighthill J. Proceedings of the Royal Society. A 407. London, Royal Society, 1986, p. 35—50.
48
Не правда ли, крайне неожиданное заявление? Мы все совершаем ошибки и
каемся в них, но есть нечто экстраординарное в том, что кто-то просит
извинения от имени целого научного сообщества за распространение
последним ошибочных идей в течение трех веков. Хотя, конечно, нельзя не
признать, что данные, пусть ошибочные, идеи играли основополагающую
роль во всех науках — чистых, социальных, экономических, и даже в
философий (учитывая, что в рамках последней сложилась кантовская
проблематика). Более того, эти идеи задали тон практически всему западному
мышлению, разрывающемуся между двумя образами: детерминистический внешний
мир и индетерминистический внутренний.
И наконец, продолжая начатый выше перечень открытий, следует упомянуть
об открытиях в области элементарных частиц, продемонстрировавших
фундаментальную нестабильность материи, а также о космологических
открытиях, констатировавших, что мироздание имеет историю (тогда как
традиционная точка зрения исключала какую бы то ни было историю универсума,
ибо универсум рассматривался как целое, содержащее в себе все, что делало
бессмысленным саму идею его истории)
Заметим, вместе с тем, что простейшие из вышеперечисленных открытий
легко доступны нам, так как лежат в сфере макроскопических,
химических и атмосферных явлений. Так, например, закон роста энтропии был
сформулирован еще в XIX в. Другое дело, что на фоне установки,
исключающей время из научного описания, он рассматривался лишь как закон роста
беспорядка, а установка эта являет нам очевидный пример идеологичности
научных суждений. Впрочем, сегодня мы можем согласиться: наука и есть
в некотором смысле идеология — она ведь также укоренена в культуре.
И нет поэтому ничего удивительного в том, что новые вопросы, вливающие
в науку свежие силы, часто исходят из традиций вопрошания, коренящихся
в совсем иных культурах. А тот факт, что сегодня самые разные культурные
образования принимают участие в развитии научной культуры, является для
нас источником новых надежд. Мы верим — будут сформулированы иные
вопросы, ведущие к новым направлениям научной деятельности.
Порядок и беспорядок
Сегодня мы знаем, что увеличение энтропии отнюдь не сводится к
увеличению беспорядка, ибо порядок и беспорядок возникают и существуют
одновременно. Например, если в две соединенные емкости поместить два газа,
допустим, водород и азот, а затем подогреть одну емкость и охладить
другую, то в результате, из-за разницы температур, в одной емкости будет
больше водорода, а в другой азота. В данном случае мы имеем дело с диссипа-
тивным процессом, который, с одной стороны, творит беспорядок и
одновременно, с другой, потоком тепла создает порядок: водород в одной емкости,
азот — в другой. Порядок и беспорядок, таким образом, оказываются
тесно связанными — один включает в себя другой. И эту констатацию мы можем
оценить как главное изменение, которое происходит в нашем восприятии
универсума сегодня.
Долгое время наше видение мира оставалось неполным. Как неполным
будет, скажем, вид, открывающийся из окна самолета при подлете к Венеции:
пока в поле нашего зрения находятся величественные здания и площади, нас
не оставляет образ совершенной, упорядоченной, грандиозной структуры. По
прибытии в город мы обнаруживаем и не слишком чистую воду, и
назойливую мошкару, но именно таким путем перед нами предстают обе стороны
объекта. Что касается современного видения мира, то интересно отметить,
что космология теперь все мироздание рассматривает как в значительной
мере беспорядочную — а я бы сказал, как существенно беспорядочную —
49
среду, в которой выкристаллизовывается порядок. Новейшие же исследования
показали, что на каждый миллиард тепловых фотонов, пребывающих в
беспорядке, приходится по крайней мере одна элементарная частица,
способная стимулировать в данном множестве фотонов переход к упорядоченной
структуре. Так, порядок и беспорядок сосуществуют как два аспекта одного
целого и дают нам различное видение мира.
Наше восприятие природы становится дуалистическим, и стержневым
моментом в таком восприятии становится представление о неравновесности.
Причем неравновесности, ведущей не только к порядку и беспорядку, но
открывающей также возможность для возникновения уникальных событий,
ибо спектр возможных способов существования объектов в этом случае
значительно расширяется (в сравнении с образом равновесного мира). В
ситуации далекой от равновесия дифференциальные уравнения, моделирующие
тот или иной природный процесс, становятся нелинейными, а нелинейное
уравнение обычно имеет более, чем один тип решений. Поэтому в любой
момент времени может возникнуть новый тип решения, не сводимый к
предыдущему, а в точках смены типов решений — в точках бифуркации — может
происходить смена пространственно-временной организации объекта.
Примером подобного возникновения новой пространственно-временной
структуры могут служить так называемые химические часы — химический
процесс, в ходе которого раствор периодически меняет свою окраску с
голубой на красную. Кажется, будто молекулы, находящиеся в разных областях
раствора, могут каким-то образом общаться друг с другом. Во всяком случае,
очевидно, что вдали от равновесия когерентность поведения молекул в
огромной степени возрастает. В равновесии молекула "видит" только своих
непосредственных соседей и "общается" только с ними. Вдали- же от равновесия
каждая часть системы "видит" всю систему целиком. Можно сказать, что в
равновесии материи слепа, а вне равновесия прозревает. Следовательно, лишь
в неравновесной системе могут иметь место уникальные события и
флюктуации, способствующие этим событиям, а также происходит расширение
масштабов системы, повышение ее чувствительности к внешнему миру и, наконец,
возникает историческая перспектива, т.е. возможность появления других, быть
может более совершенных, форм организации. И, помимо всего этого,
возникает новая категория феноменов, именуемых аттракторами.
Вернемся к нашему примеру с маятником. Если сдвинуть груз маятника
недалеко от его самого нижнего положения, то в конце концов он вернется
в исходную точку — это точечный аттрактор. Химические часы являются
периодическим аттрактором. В дальнейшем были открыты гораздо более
сложные аттракторы (странные аттракторы), соответствующие множеству
точек. В странном аттракторе система движется от одной точки к другой
детерминированным образом, но траектория движения в конце концов
настолько запутывается, что предсказать движение системы в целом
невозможно — это смесь стабильности и нестабильности. И, что особенно удивительно,
окружающая нас среда, климат, экология и, между прочим, наша нервная
система могут быть поняты только в свете описанных представлений,
учитывающих как стабильность, так и нестабильность. Это обстоятельство
вызывает повышенный интерес многих физиков, химиков, метеорологов,
специалистов в области экологии. Указанные объекты детерминированы
странными аттракторами и, следовательно, своеобразной смесью
стабильности и нестабильности, что крайне затрудняет предсказание их будущего
поведения.
50
Новое отношение к миру
Не нами выбран мир, который нам приходится изучать; мы родились в
этом мире и нам следует воспринимать его таким, каким он существует,
приспосабливая к нему, насколько возможно, наши априорные
представления. Да, мир нестабилен. Но это не означает, что он не поддается научному
изучению. Признание нестабильности — не капитуляция, напротив —
приглашение к новым экспериментальным и теоретическим исследованиям,
принимающим в расчет специфический характер этого мира. Следует лишь
распроститься с представлением, будто этот мир — наш безропотный слуга.
Мы должны с уважением относиться к нему. Мы должны признать, что не
можем полностью контролировать окружающий нас мир нестабильных
феноменов, как не можем полностью контролировать социальные процессы
(хотя экстраполяция классической физики на общество долгое время
заставляла нас поверить в это).
Открытие неравновесных структур, как известно, сопровождалось
революцией в изучении траекторий. Оказалось, что траектории многих систем
нестабильны, а это значит, что мы можем делать достоверные предсказания
лишь на коротких временных интервалах. Краткость же этих интервалов
(называемых также темпоральным горизонтом или экспонентой Ляпунова)
означает, что по прошествии определенного периода времени траектория
неизбежно ускользает от нас, т.е. мы лишаемся информации о ней. Это,
кстати, служит еще одним напоминанием, что наше знание — всего лишь
небольшое оконце в универсум и что из-за нестабильности мира нам следует
отказаться даже от мечты об исчерпывающем знании. Заглядывая в оконце,
мы можем, конечно, экстраполировать имеющиеся знания за границы нашего
видения и строить догадки по поводу того, каким мог бы быть механизм,
управляющий динамикой универсума. Однако нам не следует забывать, что,
хотя мы в принципе и можем знать начальные условия в бесконечном числе
точек, будущее, тем не менее, остается принципиально непредсказуемым.
И еще, заметим, новое отношение к миру предполагает сближение
деятельности ученого и литератора. Литературное произведение, как правило,
начинается с описания исходной ситуации с помощью конечного числа слов,
причем в этой своей части повествование еще открыто для
многочисленных различных линий развития сюжета. Эта особенность литературного
произведения как раз и придает чтению занимательность — всегда
интересно, какой из возможных вариантов развития исходной ситуации будет
реализован. Так же и в музыке — в фугах Баха, например, заданная тема
всегда допускает великое множество продолжений, из которых гениальный
композитор выбирал на его взгляд необходимое. Такой универсум
художественного творчества весьма отличен от классического образа мира, но он легко
соотносим с современной физикой и космологией. Вырисовываются контуры
новой рациональности, к которой ведет идея нестабильности. Эта идея
кладет конец претензиям на абсолютный контроль над какой-либо сферой
реальности, кладет конец любым возможным мечтаниям об абсолютно
контролируемом обществе. Реальность вообще не контролируема в смысле,
который был провозглашен прежней наукой.
Повествование в науке
Современная наука в целом становится все более нарративной. Прежде
существовала четкая дихотомия: социальные, по-преимуществу нарративные
науки — с одной стороны, и собственно наука, ориентированная на поиск
законов природы, — с другой. Сегодня эта дихотомия разрушается.
51
В прежней идеологии науки уникальные события — будь то зарождение
жизни или зарождение мироздания — представлялись почти антинаучно.
Это можно проиллюстрировать известным рассказом Айзека Азимова.
Высокоразвитая цивилизация спрашивает компьютер о том, как опровергнуть
второе начало термодинамики. Компьютер ссылается на недостаток исходных
данных и начинает расчеты, которые длятся миллионы и миллионы лет,
пока не исчезает все, кроме гигантского считающего компьютера,
извлекающего данные непосредственно из пространства-времени. Наконец,
компьютер уясняет, как опровергнуть второе начало. В тот же момент
рождается новый мир. Сегодня, однако, мы лучше понимаем, каким образом
элемент повествования (или элемент события) входит в наше видение природы.
Согласно известной формуле Фрейда, история науки есть история
прогрессирующего отчуждения — открытия Галилея продемонстрировали, что
человек не является центром планетарной системы, Дарвин показал, что человек —
всего лишь одна из многочисленных биологических особей, населяющих
землю, а сам Фрейд обнаружил, что даже наше собственное сознание
является лишь частью объемлющего его бессознательного. Аналогичную идею о том,
что история науки представляет собой не что иное, как отчуждение, мы
обнаруживаем также в одной из работ Жака Моно5. Однако обсуждаемые в
данной статье представления о реальности предполагают обратное: в мире,
основанном на нестабильности и созидательности, человечество опять
оказывается в самом центре законов мироздания.
Такое понимание мироздания становится важным фактором,
способствующим окончанию эпохи культурной раздробленности цивилизации. Например,
в Китае была развита впечатляющая наука, никогда, однако, не касавшаяся
вопроса о том, как падает камень, ~ идея законов природы в том юридически-
правовом смысле, в каком мы их понимаем, была чужда китайской
цивилизации, Для китайца Вселенная представляла собой когерентное
образование, где все события взаимосвязаны. Я надеюсь, что наука будущего,
сохраняя аналитическую точность ее западного варианта, будет заботиться и
о глобальном, целостном взгляде на мир. Тем самым перед ней
откроются перспективы выхода за пределы, поставленные классической культурой
Запада.
Риск и ответственность
В детерминистическом мире риск отсутствует, ибо риск есть лишь там, где
универсум открывается как нечто многовариантное, подобное сфере
человеческого бытия. Я не имею возможности детально обсуждать здесь эту
проблему, но представляется очевидным, что именно такое, многовариантное
видение мира, положенное в основание науки, с необходимостью раскрывает
перед человечеством возможность выбора — выбора, означающего, между
прочим, и определенную этическую ответственность. Когда-то Валери
совершенно правильно, на мой взгляд, отметил, что "время — это конструкция".
Действительно, время не является чем-то готовым, предстающим в
завершенных формах перед гипотетическим сверхчеловеческим разумом. Нет!
Время — это нечто такое, что конструируется в каждый данный момент.
И человечество может принять участие в процессе этого конструирования.
Перевод с англ. Я. И. Свирского
5 См.: Monod J. Chance and necessity. N.Y., 1972.
52
Интервью с СП. Курдюмовым
По просьбе редакции статью И. Пригожина комментирует
член-корр. АН СССР Сергей Павлович Курдюмов
Сергей Павлович, темы, поднятые в статье Пригожина "Философия
нестабильности", существенным образом связаны с Вашими
профессиональными интересами. Не могли бы Вы, в связи с этим, сказать несколько слов о
своем отношении к выдвигаемым в статье положениям.
Статья Пригожина не может оставить читателя равнодушным прежде всего
в силу широты и актуальности поставленных в ней вопросов. В Институте
прикладной математики им. М.В. Келдыша не один десяток лет ведутся
исследования процессов самоорганизации в открытых нелинейных средах.
Особенно импонирует мне, что автор предпринимает попытку прояснить на
уровне философских обобщений качественные изменения, произошедшие в
современных физических представлениях о природе и мире в целом.
Стержнем этих изменений можно считать, и здесь я полностью разделяю
позицию Пригожина, признание неустойчивости и нестабильности в качестве
фундаментальных характеристик мироздания, что заставляет не только
по-иному взглянуть на прежние теоретические концепции, восходящие к
построениям ньютоно-лапласовского типа, но и в какой-то степени по-новому
оценить положение человека в космосе.
Однако сама идея нестабильности мира, по-видимому, не столь уж нова.
Биологическая, социальная, космологическая эволюции известны давно.
С 19 века известно также второе начало термодинамики, фиксирующее
направленность природных процессов в сторону увеличения энтропии. Однако
в общефизическом плане, и это, кстати, хорошо показано в работах самого
Пригожина, все эти представления, вносящие серьезные коррективы в
построения классической механики, тем не менее сущностным образом привязаны к
последней и во многом разделяют ее исследовательские установки. Это может
быть проиллюстрировано, например, разработкой кинетической теории,
перетолковывающей в свете классических подходов феноменологические законы
термодинамики. Теперь же, благодаря открытых как в области физической
теории, так и в области эксперимента (прежде всего вычислительного
эксперимента), в физической картине мира стали происходить качественные
изменения. Прежде всего, и на это опять-таки указывается в статье
Пригожина, даже те области, которые раньше считались детерминированными в
строгом смысле (в смысле Ньютона, т.е. когда, зная начальные данные,
можно проследить траекторию объекта беспредельно в будущее и прошлое),
неожиданным образом включили в себя неустойчивость. Но именно здесь мне
и хотелось бы сделать ряд полемических замечаний в адрес статьи,
поскольку, как мне кажется, этот важнейший пункт выражен в ней не совсем
корректно, что может привести к невольной дезориентации не посвященного в суть
проблемы читателя. о о
На мой взгляд, как это ни парадоксально, Пригожий, по крайней мере в
данной статье, слишком расширил роль нестабильности, настаивая на прин-
53
ципиальной непредсказуемости поведения сложных систем (к которым,
несомненно, принадлежит и наш мир.в целом). В качестве образа,
подтверждающего справедливость данного представления, автор приводит математический
объект, именуемый странным аттрактором. Действительно, странные
аттракторы представляют собой крайне необычные математические объекты. С
одной стороны, для их описания используются системы дифференциальных
уравнений, в которых все определено, детерминировано и не содержится
никаких стохастических членов. А с другой стороны — и это в самом деле чудо! —
поведение решений такой системы уравнений на продолжительном
временном интервале приобретает хаотический, непредсказуемый (внутри области
аттрактора) характер. Полностью детерминированная, с точки зрения
традиционных представлений, система тем не менее порождает индетерминирован-
ный, хаотический процесс. И самое интересное, что в природе обнаружены
явления, моделировать которые можно только с помощью указанного типа
аттракторов. Причем явления такого рода наблюдаются отнюдь не только в
экзотических областях физической реальности, вроде микро- или мегамира,
но и на масштабах, соразмерных масштабу человека. Например, изменения
погоды, как правило, моделируются именно странными аттракторами,
которые в фазовом пространстве изображают смену состояний
метеорологического объекта.
Однако не следует забывать, что странный аттрактор — это именно
область в фазовом пространстве, а не все пространство в целом. И это не точка
в пространстве, символизирующая стационарное состояние равновесия
системы, и не замкнутая кривая, описывающая режим устойчивых колебаний, а
область, внутри которой по ограниченному спектру состояний блуждает с
определенной вероятностью реальное состояние системы. Поскольку же такая
область ограничена (а значит в какой-то степени предсказуема) и поскольку
возможны отнюдь не какие угодно состояния, постольку имеет смысл
говорить о наличии здесь элементов детерминизма. Несмотря на то, что мы
переходим в сферу вероятностного поведения объекта, вероятность в данном случае
не как угодно произвольна — что говорит о необходимости сохранения
представлений о детерминизме (пусть и модифицированных). Иными словами,
здесь надо четко указать, в каком смысле детерминизм исчез. Детерминизм,
утверждающий, что состояния исследуемого объекта будут строго находиться
в данной области фазового пространства, — такой детерминизм остался.
Тем не менее, как Вы только что отметили, образ странного аттрактора
явился сокрушающим для многих классических представлений, привнося в мир
макромасштабных объектов дух неопределенности, присутствующий в
квантовой механике.
Да, это так. Еще более разрушительным для классики является
утверждение В.И. Арнольда о существовании комет, поведение которых носит
стохастический характер и определяется странным аттрактором, т.е. оно
неустойчиво настолько, что их траекторию нельзя предсказать. И это действительно
крайне важный тезис: на макроуровне имеют место явления, принципиально
не укладывающиеся в рамки жесткого детерминизма. Но это, я повторяю,
не означает, что детерминизм в принципе неверен и должен быть полностью
отброшен, как может показаться по прочтении статьи. Вообще, по-видимому,
любые повороты и перевороты в мышлении не могут сопровождаться
полным отбрасыванием каких-либо представлений, присутствовавших в прошлом:
что-то сохраняется, что-то оставляется вне поля зрения, а что-то
перетолковывается, и именно перетолковывание, переинтерпретация наработанного
материала в русле новых теоретических представлений (которые, кстати, могут
иметь своим источником ранее отброшенные концепции) составляют суть
концептуальных сдвигов, позволяющих говорить о переходе от одного уровня
понимания к другому. Поэтому, когда Пригожий не считает нужным подчерк-
54
нуть, что странный аттрактор — это именно область, а делает акцент только
на вероятностном поведении, то здесь, на мой взгляд, у читателя может
возникнуть ложное представление, будто все, что было сделано раньше, теперь
неверно или, как говорит Пригожий, цитируя сэра Джеймса Лайтхила, было
"введением широкой общественности в заблуждение".
Но тогда в чем суть нестабильности н какова, на Ваш взгляд, ее роль в
современной научной картине мира?
В трактовке сути самой нестабильности я согласен с Пригожиным. Зримый
образ нестабильности — состояние маятника, когда груз находится в верхней
точке. По сути — это неустойчивость объекта по отношению к малым
возмущениям. Раньше, в классических подходах, малые возмущения просто не
рассматривались. Сегодня оказалось, что малые возмущения и флюктуация на
микроуровне влияют на макромасштабное поведение объекта. Конечно же,
такого рода влияния действенны отнюдь не всегда, но лишь в
определенных условиях. Примером таких условий может быть наличие положительных
обратных связей в системе, — эти связи играют гигантскую роль в
различных областях, от кибернетики до социологии. Так, всякий рост социальной
напряженности, да и революции — это проявления положительных обратных
связей.
Я хотел бы пояснить роль малых флюктуации на примере из той области
физических исследований, которая является предметом моего
профессионального интереса. Я занимаюсь исследованием процессов самоорганизации
устойчивых структур в нелинейных горящих средах, т.е. пытаюсь вместе со своими
коллегами выявить механизмы локализации тепла. Как известно,
существенную роль в подобных средах играют диссипативные процессы, размывающие
любую возникающую неоднородность. Поэтому здесь полагалось
немыслимым образование чего-либо устойчивого, способного существовать в течение
достаточно длительного промежутка времени. Однако последние исследования
в этой области, проведенные большей частью с привлечением мощных
электронно-вычислительных средств, показали, что в некоторых случаях малое
возмущение вместо того, чтобы загаситься за счет действия диссипативных
процессов, неимоверно разрастается, захватывая обширные области
пространства. Это поразительное явление. Представьте себе сплошную
открытую среду, т.е. среду, обладающую источниками и стоками энергии. Такая
среда однородна и в некоем смысле совершенна. Но через некоторое время,
именно из-за своей открытости и нелинейного характера источников и
стоков энергии (приход и расход энергии или вещества описываются с помощью
нелинейных дифференциальных уравнений), на ней начинают возникать
динамические структуры определенной конфигурации. Удивительная вещь:
непрерывная однородная среда самоорганизуется, распадается на дискретные
структуры, и при этом обнаруживаются механизмы самоорганизации,
останавливающие разрушительное действие диффузионных процессов, а кроме того
следует подчеркнуть, что источники и стоки энергии находятся в каждой
точке этой среды, т.е. каждая точка излучает и поглощает энергию.
Далее, возникшие структуры развиваются в режиме с обострением. Это
означает, что за конечное время параметр, характеризующий состояние
системы — температура — должен достигнуть бесконечной величины. Однако
в реальном мире подобное произойти не может, и объясняется это тем, что
вблизи точки обострения структура теряет устойчивость, и в действие опять
вступают малые флюктуации, теперь способствующие уже распаду структуры.
Таким образом, неустойчивость как бы пронизывает мироздание сверху
донизу, обеспечивая на разных уровнях разный ход событий?
Совершенно верно. В одном случае, когда среда однородна, неустойчивость
к малым флюктуациям ведет к образованию сложных структур, в другом —
к их разрушению. Причем физическим обеспечением неустойчивости высту-
55
пает всегда присутствующий на микроуровне хаос. Хаос, по словам Пригожи-
на, ставшим уже почти поговоркой, порождает порядок. Причем порядок,
который выражается еще и в том, что возникать могут не какие угодно
структуры, а лишь их определенный набор, задаваемый собственными
функциями среды. Последние описывают идеальные формы реально возможных
образований и являются аттракторами, к которым только и может
эволюционировать рассматриваемый объект.
В отличие от классической термодинамики, где имелся лишь один
конечный пункт эволюционирования — термодинамическое равновесие, здесь
возможно множество путей развития, но опять же: не какое угодно их число, а
строго определенное. И в этом плане хотелось бы сделать еще одно замечание
по поводу статьи Пригожина: о неединственности путей развития автор
говорит, однако совершенно опускается момент их строгой количественной
заданности, а следовательно, если вернуться к предыдущим нашим
рассуждениям, он опять проходит мимо некой предопределенности или
детерминированности, несущей с собой своеобразные правила запрета и налагающей
весьма жесткие ограничения на способы существования природных объектов.
Те объекты, которые в силу обстоятельств оказались на запрещенном пути
эволюционирования, либо распадутся, погибнут, либо перейдут на допустимый
путь и будут двигаться по направлению к соответствующему аттрактору.
Здесь можно увидеть аналогию с борьбой за существование или с
морфогенезом. Саморазвитие, усложнение среды происходит за счет уничтожения,
изъятия запрещенных, т.е. нежизнеспособных форм. При этом следует
отметить, что в моменты перехода от одного пути к другому — в точках
бифуркации - также решающую роль играют малые возмущения, в этих точках также
проявляется неустойчивость и нестабильность.
Таким образом» мы видим, сколь сложным путем включается
нестабильность в современное понимание природы, не отменяя при этом некоторых
элементов детерминизма, — детерминизма, вступающего, если угодно, в
нетривиальные отношения со свободой выбора. И я согласен с Пригожиным,
что сегодня наблюдается смыкание проблем, касающихся неживой природы,
с вопросами, поднимаемыми в области социологии, психологии, этики, где
сознательный выбор, определение верной установки к действию являются
предметами специального исследования.
Иными словами, введенное таким образом представление о
нестабильное! щ подразумевающее помимо всего прочего многовариантность путей
эволюции природных и не только природных объектов, позволяет говорить
о внутренних тенденциях, присущих тому или иному фрагменту реальности,
о наличии в последнем некоего внутреннего измерения?
Да, причем признание подобных тенденций ведет к переосмыслению также и
отношения к миру. В этом случае окончательно разрушается образ Великого
Администратора, направляющего движение каждого атома по заданной
траектории. Достаточно лишь возбудить действие внутренних тенденций, и природа
сама построит необходимую структуру. Нужно только знать потенциальные
возможности данной природной среды и способы их стимуляции. Я согласен с
Пригожиным, что на человека налагается ответственность за выбор того или
иного пути развития. Человек, зная механизмы самоорганизации, может
сознательно ввести в среду соответствующую флюктуацию, — если можно так
выразиться, уколоть среду в нужных местах и тем самым направить ее
движение. Но направить, опять же, не куда угодно, а в соответствии с
потенциальными возможностями самой среды. Свобода выбора есть, но сам выбор
ограничен возможностями объекта, поскольку объект является не пассивным,
инертным материалом, а обладает, если угодно, собственной "свободой".
Мне кажется, Пригожий, с одной стороны, преувеличивает возможности
свободного человеческого действия, а с другой — мирится с бессилием че-
56
ловека в предсказании будущих событий. Подобная амбивалентность текста
статьи, его некая расплывчатость, что, конечно, обусловлено и краткостью
изложения, может вызвать искаженное представление у читателя о том, к
каким мировоззренческим выводам приводят исследования в области
самоорганизации, а ключевое для данной темы понятие — понятие неустойчивости —
может предстать в одностороннем виде.
То же самое можно сказать и о рассуждениях Пригожина по поводу краха
материализма и редукционизма.
Тем не менее, сам пафос статьи, посвященной вопросу: "Почему сегодня
говорят о нестабильности?", не может не заставить задуматься.
Действительно, согласно нашим представлениям, все сложные структуры в мире
должны быть нестабильными, носить, например, колебательный характер.
В одном режиме они локализуют и удерживают хаос в определенной
форме, а в другом^— вблизи момента обострения — само это удержание
посредством положительной обратной связи способствует действию хаоса, что влечет
за собой статистическое поведение системы и ее "радиоактивный" распад.
Причем описанный механизм удивительно напоминает древние
натурфилософские построения. Тут можно вспомнить и круги возрождений древних
индусов, и цикличность эволюции мироздания Эмпедокла, и многое другое.
Сопоставление этих учений с современными теоретическими представлениями
могло бы иметь эвристическую ценность для дальнейших разработок в теории
самоорганизации.
Беседу вел Я. И. Свирский
57
Религиозные искания Исаака Ньютона
И.С, ДМИТРИЕВ
Тема, указанная в заголовке, несмотря на ряд специальных публикаций1, до
сих пор остается terra incognita, особенно для широкого круга читателей.
В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть малоизученные аспекты
мировоззрения английского ученого, связанные с его теологическими занятиями.
Credo или "воплощенный Логос"
В 1936 г. наиболее обширное собрание теологических рукописей Ньютона
было продано с аукциона и надолго исчезло из поля зрения
исследователей. Только в 1970-х гг. так называемое собрание И. Иегуды (Yahuda Y. MS
Var. 1. The Jewish National and University Library) стало доступным
специалистам.
Систематические теологические штудии Ньютон начал в 1670-е гг. На
черновике' письма к Г. Ольденбургу, секретарю Королевского общества, от 4
декабря 1674 г. он делает первые теологические записи, а в самом письме
уведомляет Ольденбурга о том, что намерен прекратить занятия математикой и
оптикой с тем, чтобы целиком посвятить себя вопросам религии. О
внутренних причинах столь резкого поворота в тематике можно лишь
догадываться, но был и внешний повод.
В 1675 г. заканчивался предельный срок пребывания Ньютона в качестве
члена Тринити-колледжа Кембриджского университета. По заведенному
порядку вступающий в члены колледжа давал клятву, что он принимает
истинную религию Христа, т.е. англиканство, объектом своих изысканий делает
теологию и после семи лет пребывания в качестве магистра искусств (а Ньютон
стал таковым в июле 1668 г.) примет священный сан или покинет стены
колледжа святой и неделимой Троицы.
И Ньютон начинает тщательно, систематически изучать труды отцов церкви,
прежде всего труды семи канонических учителей IV—V вв.: Афанасия
Александрийского (Великого) (ок. 295—373), Василия Кесарийского (ок. 330—
379), Григория Назианзина (Богослова) (ок. 330—390), Григория Нисского
(ок. 335—ок. 394), Амвросия Медиоланского (ок. 340—397), Иеронима Стри-
донского (ок. 348—ок. 420) и Августина Блаженного (354—430). Кроме того,
он знакомится с сочинениями, признанными официальной церковью
еретическими, и, в частности, изучает взгляды александрийского священника Ария
(ок. 256—336), основателя учения, названного арианством2.
См., например: Manuel F.E. The religion of Isaac Newton. Oxford, 1974; West fall R.S.
Never at rest: A biography of Isaak Newton. Cambridge, 1982; Koyre A. Newtonian studies. L., 1965;
Косарева Л.М. Ньютон и современная западная историография науки. — В кн.: Современные
историко-научные исследования: Ньютон. М., 1984.
2 Арий, ливиец по происхождению, получил образование в школе Лукиана из Антиохии,
который стремился к соединению аристотелизма с христианством. Переселившись в Египет, где
он стал епископом в одном из кварталов Александрии, Арий встретился с непривычной и не-
58
Арианство представляло собой самое крупное оппозиционное движение в
церкви IV века, т.е. уже после превращения ее в господствующую. Главным
очагом арианства был Египет. Согласно Арию, Иисус не был рожден Богом,
но создан им, следовательно, Христос не единосущен Богу-Отцу (по греч.
гомоусиос, 6цоо&тю<;), но подобосущен ему (гомойусиос, оцоюиаюс; —
разница в одну букву). Иными словами, если противники Ария признавали
сущностную тождественность Бога-Отца и Бога-Сына, — Сын Бога составляет
часть самой божественной сущности, "эссенции" Отца, — то ариане
отождествляли сущность Сына и любого тварного бытия как созданий Бога.
Споры в Александрии доходили до уличных побоищ. Чтобы
преодолеть раскол, император Константин, тогда еще не христианин, созвал
первый Вселенский собор в городке НиКее Вифинской (325 г.), на котором
арианство было осуждено, и было постановлено, что "все, кто говорят, будто было
время, когда (Христа) не было, или он пришел к бытию из ничего, или он
другой субстанции или сущности, или сотворен, или подвержен изменению
или умалению, всех их католическая и апостолическая церковь предает
анафеме"3.
Записные книжки Ньютона, посвященные теологии и относящиеся, по-
видимому, к 1674—1675 гг., содержат в общем-то традиционные разделы:
"Attributa Dei", "Deus Pater", "Deus Filius", "Incarnatio" и т.д. Но уже в их
первых разделах начинает звучать арианская тема. Так, в "Deus Pater" читаем:
"Есть один Бог и один посредник между
Богом и человеком — Иисус Христос'*.
Это цитата из первого послания апостола Павла к Тимофею (2:5).
А уже позднейшие записи ("De Trinitate", "De Athanasio") ясно говорят об
арианских симпатиях Ньютона, по мнению которого в IV—V вв. Священное
Писание было искажено сторонниками догмата о Троице (тринитариями),
отстаивавшими "консубстанциальность", т.е. единосущность Бога-Отца и Бога-
Сына. Ньютон полагал, что оппоненты Ария использовали неправильно
истолкованные или неправильно переведенные фрагменты Писания. Ньютон
даже написал небольшое эссе: "Историческое объяснение двух значительных
искажений Писания" ("An Historical Account of Two Notable Corruptions of
Scripture"), где рассмотрел те два фрагмента Нового завета, на которые
обычно ссылались критики арианства. Речь идет о седьмом (а отчасти и
восьмом) стихе пятой главы Первого послания апостола Иоанна:
"7. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и
Святой Дух; и Сии три суть едино.
8. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и
кровь; и сии три об одном"
и шестнадцатом стихе третьей главы Первого послания апостола Павла
к Тимофею (пресвитеру эфесской церкви):
"И беспрекословно — великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе..."
Ньютон ставит под сомнение аутентичность этих текстов. "Не так в
сирийской Библии. Нет такого у Игнатия, Юстина, Иренея, Тертуллиана,
Оригена... и др." — замечает он по поводу первого фрагмента, считая его
позднейшей вставкой, сделанной в тексте Вульгаты св. Иеронимом (ок. 347—
ок. 420 гг.). Некоторые современные библеисты отчасти соглашаются с дово-
приемлемой для него трактовкой Библии в аллегорическом духе, с заметным привкусом
политеизма. В 321 г. он был низложен со своего поста, но, после нескольких лет странствий,
вновь вернулся в Александрию, где столкнулся с новым противником, диаконом Афанасием.
После официального осуждения его учения для Ария вновь начались годы изгнания, где он и умер.
3Цит. по: Донини А. У истоков христианства. М., 1989, с. 251—252.
59
дами Ньютона, приписывая, однако, возможное авторство этого фрагмента
Присциллиану, епископу г. Авилы (Испания), жившему в IV в.
Что касается второго фрагмента, из послания апостола Павла, то, по
Ньютону, слово "Бог" отсутствует в ранних версиях, где было сказано:
"...великая благочестия тайна, явившаяся во плоти, оправдавшая себя в
Духе..." И кроме того, он отмечает, что все приведенные отрывки не
цитировались самим Афанасием и его сторонниками в их выступлениях против
ариан на Никейском соборе, а стали использоваться в теологических спорах
много позже. (Уместно отметить, что акты собора не сохранились, известны
только тексты "Credo" (символа веры) и двадцати канонов, т.е.
дисциплинарных и богослужебных правил, положивших начало церковному праву.)
Для Ньютона утверждение о божественной природе Христа есть
проявление идолопоклонства ("Idolatria"), т.е. смертный грех, поскольку Христос —
не единство божественного и человеческого, но сотворенный Логос,
воплощенный в человеческом теле. При этом Ньютон ссылается на сочинения
раннехристианских авторов, в частности, на Юстина (ок. 100—163) и Климента
Александрийского (ок. 150—ок. 215), по мнению которых человеческий разум
содержит частицу божественного Логоса, явленного в Иисусе. Но тогда
рациональная субстанция потенциально должна существовать и в Боге-Отце, либо
как его "внутреннее слово", либо как его эманация. Логос, по Юстину, —
это посредник между миром и абсолютно трансцендентным Богом,
посредник, рожденный Богом до творения мира. В этом учении отчетливо звучат
темы и идеи стоической философии (например, теории "внутреннего" и
"произнесенного" слова, учения о nationes comnes, т.е. заложенных в самой
человеческой природе общих понятиях о нравственности и т.д.). Все это стало со
временем идейным истоком арианства.
Каковы же причины, заставившие Ньютона принять арианство, или
унитаризм (от лат. unitas — единство), как называли это движение против
догмата Троицы в эпоху Реформации?
Было бы неправильно представлять дело так, что Ньютон впал в ариан-
скую ересь, только изучая историю христианства. Сколь ни поразительны
по своей глубине и обширности его теологические изыскания, в целом они
довольно объективны. Видимо, у него были весьма априорные причины
принять унитаризм арианского толка.
Действительно, как справедливо заметила Л.М. Косарева, "протестантизм,
начав деиерархизацию сакрального пространства, разделяющего человека и
Бога, отменив посредников между ними, оставил догмат троичности
божества неприкосновенным. Но "джинн" унификации, уравнивания был выпущен на
свободу; и то, что не совершили официальные реформированные церкви,
сделали многочисленные секты и ереси. Они доводили до логического
конца процесс, начатый Реформацией, развивая и распространяя представление
о едином, монистическом начале, лежащем в основании природы и
человека"4. Иными словами, распространение унитаризма в XVII—XVIII вв.
является проявлением острого чувства единства мира, которое было в высшей
степени присуще и Ньютону.
В упомянутом выше иерусалимском собрании имеется составленный им
(по-видимому, в период с 1672 по 1675 гг.) свод двенадцати основных
положений его арианской христологии. Приведем центральную мысль: "После того,
как некоторые еретики принимали Христа за простого человека, а другие — за
высшее божество, святой Иоанн в своем Евангелии сказал о его природе так,
чтобы люди смогли бы отсюда почерпнуть правильное представление о нем и
избежать обеих этих ересей, и с этой целью Иоанн называет его словом или
логосом (Хоуо<;). Мы должны принять, что он предполагал этот термин
4КосареваЛ.М. Ньютон и современная западная историография науки, с. 76.
60
[употреблять] в том же смысле, в каком он употреблялся до него, когда
подобным образом применялся [он] к разумному существу. Ибо если Апостолы
не пользовались бы словами так, как слова использовались до них (as they
found them), то как же они могли ожидать, что их правильно поймут. Тогда,
до св. Иоанна, термин >.оуо<; обычно использовался в том смысле, как его
употребляли платоники в применении к некоему разумному существу, и в том
же смысле понимали его ариане, и потому их смысл (понимание) есть
истинный смысл св. Иоанна"5.
Заметим, что следы арианства Ньютона можно найти во многих его
работах, а не только в неопубликованных рукописях. Так, в "Общей схолии"
(в "Математических началах натуральной философии") Бог характеризуется
им как Пантократор (Вседержитель), единолично осуществляющий
абсолютную власть над творением.
У Ньютона были все основания тщательнейшим образом скрывать свои
религиозные взгляды. В период Реставрации веротерпимость была не в почете,
ибо по мнению власть предержащих она подрывала единство нации. В Кемб-
пидже могли закрывать глаза на многое — на пьянство, безделье и
распутство членов колледжей, но только не на отступления в основах веры. Ньютон
хорошо знал, как в 1669 г. из университета был изгнан Дэниел Скаргил "за
утверждение нечестивых и атеистических догм", а другой воспитанник, Сэ-
мюэл Ролле, получил в 1675 г. степень доктора только после того, как
публично отрекся от своих сектантских взглядов. Причем арианство вообще
рассматривалось как моральная проказа, хуже которой был только атеизм.
Вместе с тем Ньютон полагал, что он не может принять сан, оставаясь
еретиком. Он морально готовился к тому, что ему придется покинуть
Кембридж. В январе 1675 г. он обращается к Г. Ольденбургу с просьбой, чтобы
Королевское общество исключило его из числа пайщиков. Но к марту
ситуация изменилась. Ньютон получает специальное разрешение короля,
позволившее ему стать членом Тринити-колледжа, не принимая духовного сана. По
мнению биографов, здесь сыграли свою роль поддержка и заступничество
со стороны учителя Ньютона Исаака Барроу.
Тема пророчества
Она играла в теологических работах английского ученого
исключительную роль. Особое внимание он уделил Откровению Иоанна Богослова и
Книге Пророка Даниила. Именно в этих двух священных текстах из Нового
и Ветхого заветов, по мнению Ньютона, явлен план божественного творения,
без знания которого всякие занятия наукой становятся бессмысленными.
Спустя несколько лет после смерти ученого, в 1733 г., был опубликован его
трактат "Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypsis of,
St. John"6. По мнению Р. Уэстфолла, это позднее сочинение, но работа над
ним началась, возможно, в 1670-е годы7.
В этом трактате, а также в ряде неопубликованных рукописей,
относящихся, по-видимому, к 1670-м гг. (собрание Иегуды), Ньютон ставит себе целью
раскрытие тайного смысла указанных священных книг. При этом он исходил
из того, что цель библейских пророчеств состоит не в том, чтобы с их иомошью
предсказывать текущие события, но чтобы научить людей "распознавать
знаки времен", показать, что миром правит Провидение. Непонимание
тайного смысла библейских пророчеств (как Ветхого, так и Нового заветов) чре-
5Цит. по» West fall R.S. Never at rest, p. 316.
*См.: Ньютон И. Замечания на книгу Пророка Даниила и Апокалипсис св. Иоанна. СПб.,
1916.
7См.: Westfall R.S. Never at rest, p. 319; ср. также: Gjertsen D. The Newton Handbook.
L.— N.Y., 1986, p. 396—399.
81
вато жестокими потрясениями. И подобно тому, как народ Израиля, не поняв
смысла сказанного пророками, отверг пришедшего к ним Мессию, так и позднее
люди не увидели в торжестве католической церкви торжества Антихриста.
В традиционной протестантской интерпретации книг, особенно
"Откровения", их тайный смысл символизирует историю церкви. К примеру, снятие
седьмой печати (Откр., 8:1) отождествлялось протестантскими авторами с
триумфом римско-католической церкви в 381 г. на Константинопольском
соборе. С этого времени начинается эпоха Великого Отступничества (Great
Apostasy), царство Антихриста, которое просуществует "время времен и еще
половину времени", т.е., в протестанской символике, "год, два года и еще
полгода" или, принимая древнеегипетский солнечный календарь, где 1 год
состоял из 360 дней, — 1260 дней. А поскольку один день библейского
времени соотносился с одним земным годом, то отсюда следовало, что конец
эпохи Великого Отступничества должен наступить спустя 1260 лет после
Константинопольского собора, т.е. в середине XVII-ro века. В итоге
религиозная полемика оказывалась тесно связанной с текущей политической
борьбой.
Однако Ньютон, которому также было свойствейно преимущественно
историческое понимание Библии, отнюдь не был склонен считать
англиканскую церковь восприемницей христианства апостольских времен и с
Великим Отступничеством он связывал не католицизм вообще, но именно три-
нитаризм. В его трактовке снятие первых шести печатей (Откр., 6) следует
понимать как описание становления церкви до императора Феодосия, снятие
же седьмой печати Ньютон относил к 380 г.8.
Получасовое безмолвие, воцарившееся перед первым трубным гласом,
Ньютон связывал с войной между императором Феодосием и британским
правителем Магнусом Климентом Максимом (388 г.). Детально разбирая ход
этой войны, ученый изучил множество древних свидетельств, в частности,
письма св. Иеронима, "Хронику" Сульпиция Севера (ок. 365—ок. 425),
современника бурных событий религиозной жизни Аквитании и Галлии во второй
половине IV в., комментарии Готфреда на "Кодекс Феодосия",
составленный в V в. при восточноримском императоре Феодосии II, племяннике
Феодосия Великого.
Согласно тексту Откровения, после снятия седьмой печати появились семь
ангелов, коим дано было семь труб (Откр., 8:1—2). Первые шесть трубных
гласов и связанные с ними бедствия Ньютон рассматривал как наказания,
ниспосланные в ярости Богом на людей, поклонявшимся ложным
авторитетам, причем даже "не умершим царям и'героям в их прекрасных
гробницах, но подлым и презренным плебеям в их мерзких могилах". Видимо,
Ньютон здесь имеет в виду могилы религиозных аскетов и первых монахов.
Но более всего достается Афанасию и его последователям, которые
выдавали себя за истинных христиан, но в действительности были "самыми
жалкими и гнусными людьми".
Надо сказать, что в борьбе с Арием Афанасию пришлось пострадать не
менее своего соперника, ибо, несмотря на никейские решения, ситуация в
римских провинциях (особенно в восточных) складывалась в пользу ариан.
Не последнюю роль в этом сыграла политика императорской власти,
которой арианские взгляды более импонировали, ибо их легче было увязать с
мыслью о том, что естественным земным представителем единственного Бога
После смерти императора Валентина в 378 г. Грациан, соправитель и племянник Валентина,
назначил правителем Восточной Римской империи опытного полководца Феодосия (ок. 346—395),
прозванного впоследствии Великим. В 394 г. Феодосию удалось объединить власть над западной
и восточной частями империи (после его смерти раскол империи стал окончательным). При нем,
эдиктом 380 года "О католической вере", было утверждено господство официального
христианства и объявлялись гонения на ариан.
62
должен быть единственный самодержец. Идея троичности божества (Отец—
Сын—Дух Святой), отстаиваемая Афанасием, с этих позиций была менее
приемлема, особенно при императоре Констанции II, плохо воспринимавшем
идею тройственной власти над различными частями империи и ставшем в
353 г., после уничтожения двух своих братьев, единым правителем. В этой
ситуации Афанасию пришлось несладко — пять раз он был низложен, провел
несколько лет в изгнании и умер в 373 г. в Александрии, когда арианство уже
мало-помалу стало клониться к закату. Афанасий был автором весьма
популярного в то время "Жития Антония", считающегося основателем
монашеского движения9. Это сочинение во многом способствовало распространению
идеалов монашеской жизни.
Об Афанасии Ньютон писал как о заклятом личном враге. В рукописи
"Парадоксальные вопросы, касающиеся морали и действий Афанасия и его
последователей" он обвиняет александрийского епископа, "этого хитрого
политика", во всех смертных грехах, в том числе в прелюбодеянии, в
насаждении "культа трех равных Богов", в распространении среди христиан
"диких суеверий", "чудовищных легенд, ложных чудес, поклонения
мощам" и т.д.
Резко отрицательно относился Ньютон и к монашескому движению, на-
чало которого восходит к рубежу Ш-го и IV-ro столетий. С издевкой он пишет
о всевозможных воздержаниях, требуемых от аскетов, ибо путь к
целомудрию, по словам Ньютона, состоит "не в том, чтобы бороться или не
соглашаться с нечистыми мыслями, а в том, чтобы уклоняться от них и
занимать ум другими предметами, ибо размышление о целомудрии приводит к
размышлению о женщинах, а всякая борьба с нечистыми мыслями так
сильно воздействует на ум, что возникает желание, чтобы эти мысли чаще
возвращались".
Теологические сочинения Ньютона 1670-х гг., в отличие от более поздних,
написаны очень эмоционально. Автор мыслит себя то самим Арием, то
Новоявленным Пророком (чувство избранности было свойственно Ньютону),
то сыном женщины, преследуемой драконом.
В описании тринитариев явственно проглядывают черты ньютонова
окружения в Кембридже времен Реставрации. Это был период глубокого упадка
одной из старейших британских "цитаделей веры и учености". По словам
Уэстфолла, "философ, ищущий истину, находит себя среди карьеристов,
озабоченных поиском тепленького местечка"10.
Ньютон полагал, что до конца Великого Отступничества еще очень и очень
далеко, и потому он сместил начало этой эпохи, соотнеся его не с
Константинопольским собором (сколь бы трагическим ни было это событие в его
глазах), а с началом VII-го века — временем четвертого трубного гласа в
Откровении, когда "поражена была третья часть солнца и третья часть луны и
третья часть звезд" (Откр., 8:12) и временем окончательного торжества
"ложной инфернальной религии" — тринитаризма, захватившей треть мира. При
такой датировке событий падение Антихриста следовало ожидать лишь в
середине XIX-го столетия.
Для Ньютона с седьмым трубным гласом заканчивается мрачная эпоха
Великого Отступничества, когда "совершится тайна Божия" (Откр., 10:7).
И последующее затем второе пришествие Христа в мироощущении ученого —
это не вселенский катаклизм, распад и гибель физического мира, но апофеоз
"истинной христианской религии, очищенной от язв тринитаризма". Тем
9Подробнее см.: ДониниА. У истоков христианства, с. 226—234.
10Westfall R.S. Never at rest, p. 190—191.
63
самым, в ньютоновом толковании Апокалипсиса из него исчезает собственно
апокалиптическое начало11.
Рассматривая работу Ньютона над библейскими текстами, следует сказать
и о методической стороне дела. Приведем в качестве примера толкование
им одного из христианских символов: "Некоторые предлагают, что Весы в
третьей печати (Откр., 6) должны быть эмблемой голода. Но это —
безосновательно, ибо нет подтверждения такой интерпретации ни в Писании, ни в
знакомых мне античных рукописях, Есть иные способы выражения голода,
например, бешеные собаки (Иер., 15:3), а там, где Весы упоминаются в
Писании, это относится либо к суду, как в Иов. 31:6.., либо к Судье как у Осии 12:7...
Эта доктрина употреблялась также и индийскими толкователями".
При чтении этого и других фрагментов обращает на себя внимание
эрудиция Ньютона. Он не только сопоставляет различные места из Священного
Писания (Дж. Локк отмечал, что ему известно очень немного людей, которые
знали бы Библию так, как ее знал Ньютон), но и широко использует вне-
библейские источники. Так, например, из книги Д. Меде (J. Mede)
"Отступничество недавних времен" (1644) он узнал о некоем Ахмете, собравшем
толкования снов в Египте, Персии и Индии. Кроме того, Ньютон проштудировал
книгу Артемидора о толковании снов. Его круг чтения включал также труды
современных историков — Чезаре Баронио, Филиппа Клювера и др. Но его не
устраивают ни чужие интерпретации, ни составленная кем-то хронология
событий первых веков новой эры. Ньютон предпочитал обращаться к
первоисточникам. Исходя из того, что "части Пророчества подобны разрозненным
частям часов", он тщательнейшим образом сопоставляет около 20 различных
версий Откровения, в том числе и две рукописные; фрагменты из трудов
христианских писателей эпохи ранней патристики: Киприана (ум. 258), Иренея
Лионского (135—202) и Тертуллиана (ок. 160 — после 220). Итогом этой
текстологической работы стала "Variantes Lectiones Apocalypticae", где детально
сопоставлены версии Откровения. Ньютон внимательно изучил историю
завоевания Европы варварами, пользуясь трудами древних историков и
хронографов (языческих и христианских), среди которых произведения Павла Оросия,
Марцеллина, Зосимы, Григория Турского, Кассиодора и др.
Наконец, Ньютоном были разработаны пятнадцать правил интерпретации
пророчеств, которые в его теологических работах играли примерно ту же
регулятивную роль, что и Regulae philosophandi в "Математических началах
натуральной философии":
— приписывать каждому отрывку только одно значение;
— сохранять в процессе интерпретации некий фиксированный смысл слов во
всех фрагментах;
— предпочитать те значения слов, которые ближе всего к буквальному
смыслу, за исключением тех случаев, где явно требуется аллегорическое
истолкование;
— принимать те смыслы слов и фраз, которые наиболее естественным
образом вытекают из языка и контекста;
предпочитать наиболее простые интерпретации ("истина всегда должна
заключаться в простоте") и т.д.
Ньютоновы толкования бибилейских пророчеств воплощают в себе
грандиозную программу исследований, хотя стремление к однозначным
рациональным интерпретациям безусловно обедняло смысловое поле слов и
символов, низводя их принципиальную многозначность до сухой конкретности
жестко фиксируемого смысла. Были в исторических и теологических трудах
английского ученого и другие изъяны, которые, например,отметил Р. Уэст-
фолл:"Я полагаю, никто не может назвать Ньютона великим историком. Он
11 См. Ibid., p. 329—330.
подходил к истории с априорной схемой интерпретации, конструируя
неудобоваримые ряды цитат вместо легкочитаемого повествования. Его
цель — строгость, а не belles lettres, однако, я думаю, никто не сможет
упрекнуть его в этом. Он внес в историческое исследование стандарты научного
доказательства... Для Ньютона соответствие пророчеств фактам доказывало
всемогущество Бога, власть которого распространялась на человеческую
историю в той же мере, в какой она охватывала и мир Природы. Для него
могущество Бога было первичным и куда более важным аспектом, нежели
сострадание и любовь. Поэтому пророчество он рассматривал как сердцевину
откровения"12.
Огонь Весты
В середине 1680-х гг. в теологических рукописях Ньютона появляется новая
тема — поиски древнейшей истинной религии. Два рукописных текста этого
периода представляют особую значимость: "Irenicum: or ecclesiastical polity
tending towards peace" (King's Colledge Cambridge," Keyness MS 3); "Theologias
gentilis origines philosophicae" (MS 162).
Суть позиции Ньютона сводится к следующему. Древние поклонялись
двенадцати "главным" богам, которые соотносились ими с семью планетами,
четырьмя элементами и квинтэссенцией. Эти двенадцать богов в свою очередь
представляли собой обожествленных предков ("divinised ancestors") людей,
а именно — Ноя, его сыновей (Хама, Сима и Иафета) и внуков, от которых и
возникло все человечество (Быт., 9—10). Именно Ной и его сыновья
поклонялись истинному Богу, творцу универсума. Эта истинная религия Ноя,
заключившего "завет" с Богом (Быт., 9:9—17), передаваясь от одного народа к
другому, неизбежно искажалась, ибо каждый народ связывал образ божества со
своими царями и героями. Но при всем разнообразии древних религий, в
них, по Ньютону, были общие черты, важнейшая из которых — поклонение
одному верховному Богу, прародителю и творцу всего остального мира,
который представлялся в образе сурового старца и с которым связывались идеи
времени и изначальной стихии (часто — водной). Ньютон полагал, что Сатурн
и Юпитер — это языческие имена Ноя, а другие греко-римские боги несут в
себе те или иные черты Ноевых потомков.
Кроме того, древние люди склонны были отождествлять своих предков с
различными телами и явлениями природы, например, с планетами, полагая,
что к этим телам устремлялись души умерших. Поэтому языческая теология,
по мысли Ньютона, оказалась тесно связанной с языческой натурфилософией,
теология "была философской и зависела от астрономии и от физической
науки о системе мира...".
Но языческие религии не были самыми древними, они, как было сказано,
появились в результате "искажения первоначального естественного и чистого
поклонения единому Богу", искажения, которое возникло в процессе
распространения истинной веры сначала среди евреев через Авраама, Исаака, Иакова,
Моисея, а затем и среди других народов, через Пифагора, Конфуция,
Сократа и Цицерона. "Невозможно поверить, — писал Ньютон, — что религия
началась с доктрины переселения (transmigration) душ и культа звезд и
элементов; ибо есть иная, более древняя религия", которую он связывал с
культом богини Весты. Этот культ действительно восходит к древнейшим
индоевропейским традициям. В центре храма Весты постоянно горел огонь, в
чем Ньютон усматривал символ гелиоцентрического универсума. (Следует
заметить, что римляне отождествляли Весту с неподвижно висящим в космосе
и заключающим в себе огонь земным шаром, с огнем как чистейщим эле-
12Ibid., р. 329.
3 Вопросы философии, N 6
ментом13.) И когда Моисей установил в скинии огонь, он этим возродил
изначальный культ, "очищенный от внесенных египтянами предрассудков".
"Рациональное основание этого учреждения, — отмечал Ньютон, имея в виду
истинную религию, принятую Ноем, — состоит в том, что Богу Природы
поклонялись в храме, имитирующем Природу, в храме, который был, так
сказать, отражением Бога". Святилище с огнем в центре — это эмблема системы
мира, и потому "первая религия была самой рациональной из всех до того,
как народы исказили ее. Ибо нет иного способа (не считая откровения)
познания Божества, кроме как путем (познания) системы природы (frame of Nature)".
И потому всякое искажение веры неизменно сопряжено, по Ньютону, с
неправильным пониманием природы; в качестве примера он приводит создание
геоцентрической системы мира.
Тема Природы как храма Бога нашла свое развитие в трех рукописных
трактатах, относящихся, по-видимому, к 1680-м гг. (а возможно, и к более
позднему периоду), в которых Ньютон обращается к плану и пропорциям
храма Соломона. Согласно Ветхому Завету, царь Соломон на четвертый год
своего царствования начал "строить храм Господу" (3 Цар., 6:1) в Иерусалиме.
В святая святых (давире) храма стоял "ковчег завета Господня" (3 Цар., 6:19).
Храм служил жилищем Яхве и местом жертвоприношения. Ньютон много сил
и времени потратил на изучение этого храма и иудейского богослужения, он
читает Филона Александрийского, Маймонида, талмудистов, есть данные, что
он даже начал изучать древнееврейский язык.
Естественно, при воссоздании пропорций храма возник вопрос о длине
"священного локтя евреев". Этой теме посвящена одна из трех упомянутых
выше рукописей. Однако ни тщательный анализ Третьей книги Царства и
Книги Пророка Иезекииля (Иез. 40—42; 43:1—7 и 46:19—24), ни сопоставления
соответствующих фрагментов древнееврейских текстов с Септуагинтой и
Вульгатой, ни соотнесение пропорций других памятников прошлого, в
частности египетской пирамиды, не дали определенного результата.
По словам Ньютона, символика древнееврейского культа и Откровение
"подобны двум пророчествам об одних и тех же вещах, они взаимно
объясняют друг друга". Бог избрал еврейский народ и послал ему Моисея и
других пророков, чтобы в течение веков возродить и сохранять изначальную
веру в единого Бога и любовь к ближнему, эти два основных принципа
истинной религии. Но затем, разочаровавшись в "народе Израиля", видя его
склонность к идолопоклонству, он послал ко всем народам Христа, миссия
которого, по глубокому убеждению Ньютона, состояла в возвращении людей
к истинной вере.
Подытоживая сказанное, хотелось бы высказать несколько мыслей о
характере ньютоновского мировоззрения. Для историков науки теологические
размышления, как и алхимические штудии Ньютона, всегда представляли
серьезную проблему. И дело тут не только в чисто технических трудностях
изучения соответствующих текстов. Вопрос глубже, речь идет о троичности
ньютонова мировоззрения, о том, как соотнести три ипостаси: Ньютона-теолога,
Ньютона-алхимика и Ньютона-естествоиспытателя. Часто исследователи
ссылаются на сложный характер времени, на противоречия духовной жизни
Англии и вообще Европы XVII-ro века (что, разумеется, справедливо),
некоторые говорят о "разорванном" сознании Ньютона и т.д. На наш взгляд,
все три направления его деятельности — теология, алхимия и наука —
отражают три стороны единого цельного мировоззрения. И неизвестно, чье
сознание в большей мере "разорвано" — Ньютона, его эпигонов или
некоторых позднейших биографов. Разумеется, если видеть в английском ученом
только творца механистической картины мира, то все остальные грани его твор-
13 См.: Мифы народов мира. Т. 1, М., 1980, с. 234.
66
чества останутся неразрешимой загадкой. Но в том-то и дело, что будучи
рационалистом, Ньютон, тем не менее, глубоко понимал ограниченность
чисто механического взгляда на Природу, и потому столь привлекательной
показалась ему алхимическая идея активных начал. Но этого мало.
Выше мы уже отмечали глубокую связь в творчестве Ньютона двух
направлений его духовных исканий — поиска истинной религии и поиска
истинной картины мира. Но был и третий компонент Ньютонова мировоззрения,
связанный с нравственным познанием, с поиском им истинных принципов
морали. Вынужденный тщательно скрывать свои религиозные воззрения,
ученый лишь изредка давал возможность современникам догадываться о своих
самых сокровенных мыслях. Одним из таких немногочисленных свидетельств
служит следующий фрагмент из заключительного раздела третьего
английского издания "Оптики" (1721): "я дал намек на некоторые предметы и
оставляю эти намеки для исследования и усовершенствования дальнейшими
опытами и наблюдениями тем, которые имеют охоту к исследованию. Если
натуральная философия, следуя этому методу, станет, наконец, совершенной во
всех своих частях, расширятся также границы нравственной философии.
Ибо, насколько мы можем познать при помощи натуральной философии, что
такое первая причина, какую силу она имеет над нами и какие благодеяния
мы от нее получаем, настолько же станет ясным в свете природы наш долг по
отношению к первой причине, а также друг к другу. И нет сомнения, что,
если бы поклонение ложным богам не затемнило язычников, их нравственная
философия пошла бы далее... и вместо учения о переселении душ, почитания
Солнца и Луны и умерших героев они научили бы нас поклонению нашему
истинному творцу и благодетелю, как это делали их предки в правление
Ноя и его сыновей, до того как они развратились"14.
Во втором издании "Оптики" этот отрывок заканчивался следующими
словами: "Ибо нравственный закон от начала человека во вселенной
заключался в семи заповедях, данных сыновьям Ноя. Из этих заповедей первая
была — признать единого господа Бога, поклонение которому нельзя
переносить на других. И без этого начала не может быть добродетели и
чистого имени"1 .
Свойственное Ньютону острое, религиозно окрашенное чувство единства
мироздания обусловило, в свою очередь, и целостность его мировоззрения,
всех его граней: веры в единого Бога, чувства нравственного долга человека
перед Богом и людьми и поиска "совершенной во всех своих частях"
натуральной философии. В контексте этого мировоззрения Священное Писание
представлялось Ньютону не книгой откровений, недоступных человеческому
разумению, но историческим свидетельством, доступным рациональному
исследованию и призванным продемонстрировать людям всемогущество Бога,
подобно тому, как сотворенная Природа демонстрирует его безграничную
мудрость. Отсюда — два пути познания Бога: через изучение Природы и через
изучение Истории.
"Ньютон И. Оптика, или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света.
М.—Л., 1927, с. 315.
15Тамже, с. 371.
3* 67
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Кризис науки или беда цивилизации?
Н.Ф. РЕЙМЕРС, В.А. ШУПЕР
В последние десятилетия наука стала мишенью острой и далеко не всегда
обоснованной критики, причем не в качестве социального института, столь же
несовершенного как и все прочие — такую критику можно только приветствовать
и авторы старались внести в нее свой скромный вклад1, а в качестве Третьего
Мира Поппера — знания об объективной реальности, понимаемого как
совокупность строго проверяемых утверждений. Хотелось бы думать, что подобное
отношение к науке, — не более, чем мода. Один из видных представителей
"антинаучной мысли" Запада предложил концепцию науки как одной из
разновидностей идеологии.2 В свое время у нас была обоснована "классовая
природа" общественных наук, но вопрос о классовом характере естествознания
все-таки не возникал. Вопрос о кризисе "буржуазного естествознания" был поднят
лишь к середине нашего века3, но не получил, к счастью, сколько-нибудь
серьезной разработки. В советской философской литературе публикации, которые
в той или иной мере относятся к "фейерабендизму", ибо их авторы отрицают
суверенное право науки на познание мира, равно как и объективный характер
научного знания, встречаются весьма часто, однако статью С.Г. Кара-Мурзы4
можно назвать манифестом этого направления.
Сразу оговоримся, что мы защищаем лишь фундаментальную науку,
стремящуюся к объективному знанию, вопрос же о допустимости применения добытых
знаний в тех или иных практических целях следует решать "в индивидуальном
порядке".
Вести полемику с критиками науки трудно не потому, что их аргументы
сильны, а потому, что они носят иррациональный характер, апеллируют не к разуму,
а к чувствам. Можно ли считать серьезным обвинение науки в том, что многие
ее достижения были использованы во вред человечеству? "Частый аргумент против
моральности науки состоит в том, что ее плоды были использованы в дурных
целях, например, в военных. Но этот аргумент едва ли заслуживает
серьезного рассмотрения. Нет ничего под солнцем, чем нельзя было бы злоупотребить.
Даже любовь может стать инструментом убийства, а пацифизм — оружием
в агрессивной войне. С другой стороны, совершенно очевидно, что именно
иррационализм, а не рационализм, несет ответственность за национальную вражду
и агрессии. Было очень много агрессивных религиозных войн, как до Крестовых
РеймерсН.Ф. От благих пожеланий — к строгим законам. — "Наука и жизнь",1991,
N 2; Шупер В.А. Наука и демократия. — "Вопросы философии", 1988, N 8; Шупер В.А.
О точности карт, странных распоряжениях и уважении к науке. — "Горизонт", 1988, N 8.
*ФейерабендП. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
*См. напр.: Гурьев Г.А. Система мира от древнейших времен до наших дней. М., 1950.
Кар а-М у р з а С.Г. Наука и кризис цивилизации. — "Вопросы философии", 1990, N 9, с. 3—15.
68
походов, так и после них, но я не знаю ни одной войны, развязанной с
"научными" целями и инспирированной учеными"5.
Можно не всецело согласиться с К. Поппером. В конечном итоге
фундаментальная наука была источником возникновения самого разрушительного оружия —
химического, биологического и ядерного. И при этом руками самих ученых,
подобно А.Д. Сахарову, пришедших в дальнейшем к покаянию. Можно обвинить
этих ученых в крайнем эгоизме и профессиональной ограниченности. Законно
подчеркнуть близорукость науки, высвечивающей узкие области знания, в то время
как жизненно важная экология как наука о выживании человечества находится
все еще в тени (под громкий аккомпанемент "экологических" словопрений). Но
разве все это не результат общественного давления и государственного
руководства? Делайте то, что полезно власть имущим, — основной мотив. Не будете
делать — удушим безденежьем, социальными санкциями, а в недавнем прошлом —
сгноим в ГУЛАГе! Не вина, но тяжкая беда науки все это. Она из дитяти нужды
общества превращается в его служанку, насилуемую власть имущими. Потому и
рождает порой генетических уродов в прямом и переносном смысле слова.
Разве не странно, что против науки постоянно выдвигаются обвинения в том,
что она посягает на свободу и человеческое достоинство, в то время как мать-
церковь, в куда большей степени вмешивающаяся в жизнь людей, такой критики
избегает? С.Г. Кара-Мурза пугает нас ужасами исследований ДНК, приводя лишь
один пример: страховые компании устанавливают более высокие взносы для людей
с генетической предрасположенностью к определенным заболеваниям. Но,
спрашивается, что нового привнесла в страховое дело биологическая наука?
Медицинское обследование страхуемых, кажется, столь же старо, как и само страховое
дело, а знать о предрасположенности к тем или иным заболеваниям важнее
всего даже не страховой компании, а самому человеку. Этот пример, как и многие
другие в критикуемой статье, иллюстрирует лишь то очевидное положение, что
достижения науки можно использовать как в самых благородных целях, так и
не в самых благородных, но все же рациональных. Другой вопрос — что делать
с патологией? Она не щадит никого...
Кактто ускользает от внимания тот факт, что наука как источник знаний —
лишь информационная, а не управляющая подсистема в обществе. Наука всегда
сомневается, всегда переполнена альтернативными подходами, она по своей
сущности — динамична, враждебна догмам. Она всегда противостоит религии,
потому и была гонима ею вне зависимости от того, была ли то религия христианства
или — от Маркса. В глубинах своих наука враждебна и власти, именно потому,
что она вечно сомневается. Анатоль Франс в "Острове пингвинов" так
охарактеризовал это свойство: "Способность сомневаться — свойство редкостное, тонкое,
философское, сверхнравственное, возвышенное, чудовищное, ядовитое, вредоносное
для людей и их благ, враждебное общественной безопасности и процветанию
государств, смертельное для человечества, гибельное для богов, ненавистное
небу и Земле". И вместе с тем наука, а вернее, лишь ее технократическая верхушка
уверена в себе, в своих парадигмах. В конечном итоге она и стремится к власти
как управляющей доминанте. В этом, а не просто в изменении картины мира,
политическая суть учения о ноосфере, как его сейчас стало принято понимать
в литературе.
Управляющие функции всегда принадлежали тем, кто владел общественным
богатством, представляющим наивысшую историческую ценность. Формула
богатства все время усложнялась. Сначала доминировал труд. И в рамках эпохи
рабства любые восстания рабов не могли сдвинуть общественное развитие до тех
пор, пока не добавился новый член формулы — земля. Столь же исторически
обречены были крестьянские бунты. Крестьянин имел в активе все тот же труд
и землю. Как их ни перераспределяй — ничего не изменится. Перемена возникла
с царством капитала: труд, земля и капитал — формула "дикого" капитализма.
Политическая доктрина марксизма была основана на том, что-де пролетариат
может построить коммунизм, Но "гегемон" имел в руках лишь труд. Иными
словами, теоретически он мог лишь вернуть мир в эпоху рабства с его одночленной
формулой богатства. Так и получилось в мрачные дни сталинизма. Теория,
5 Popper K.R. The Open Society and its Enemies. V. 2. Princeton, N.J., 1971. P. 244.
фундаментальная наука оказалась в данном случае права. Чудовищный
социальный эксперимент подтвердил это. В его результате страна потеряла многих
интеллектуалов. А весь прогрессивный мир включил в понятие национального богатства
четвертый член формулы — информацию, знание. Пока еще в технократической,
наиболее примитивной форме. Но это шаг вперед, наша страна сделала два
исторических шага назад.
Но вернемся к церкви. Высокопоставленный представитель Ватикана призывает
на международной демографической конференции к законодательному запрету
абортов и контрацепции. Роль церкви не ограничивается одними призывами к
изменению законодательства. В Канаде, например, как и в ряде других стран,
не продается противозачаточное средство RU-486, обладающее стопроцентной
эффективностью. Концерн "Хёст", являющийся его монопольным производителем,
боится миллионных убытков в результате бойкота других видов своей продукции.
Наука не решает за женщин, принимать им противозачаточные средства или нет,
церковь берется это делать, пользуясь не методом убеждения, что было бы делом
вполне почтенным, а путем законодательных запретов или применения хорошо
закамуфлированных рычагов экономического давления. Но почему же нет шквала
критики в адрес церкви? Разве все, что делается именем Христа, свято?
Сколь бы мы ни казались атеистичными, современное общество — заложник
(прямой или косвенный) религии, владевшей умами тысячелетия. И Христос,
и Магомет, любой другой пророк столь же историчны, как все другое на грешной
Земле. Религии возникли во времена, когда планета была бескрайней ойкуменой.
"Плодитесь и размножайтесь". Отцы церкви любой конфессии не склонны
размышлять на тему, может ли конечная по размерам Земля вместить, накормить
и обеспечить все другие потребности бесконечно растущего человечества, может
ли часть быть больше целого. На кончике иглы можно поместить сколько
угодно чертей, но наша планета приспособлена не более чем для 1-1,5 млрд. людей.
Разумеется, прокормить земля может и 30 млрд. человек, но разве кусок хлеба —
это все, что необходимо для достойной жизни? По таким важнейшим параметрам,
как допустимые масштабы загрязнения поверхности вод и сокращение
растительного покрова, биосфера можеть выдержать лишь несравненно меньшую численность
населения. Но, возможно, еще более значим тот факт, что увеличение плотности
любой популяции, в том числе и Homo sapiens, сверх определенной величины
приводит к резкому росту заболеваемости, включая и появление бессимптомных
заболеваний — таких, например, как увеличение надпочечников. И религия,
и наука этот факт прозевали.
Отсюда, из этого всеобщего греха есть лишь один вывод — объединить
усилия для его искупления. Не авторам давать рекомендации иерархам церкви,
но мы можем их просить глубоко проникнуться трагизмом момента.
Экологический кризис, грозящий перейти в глобальную катастрофу, — не промысел
Божий, а порождение неразумного человечества. И мы все, включая отцов церкви,
его дети. Никто не давал нам права торопить Конец Света. И религии, и наука
должны совместно проникнуться новой картиной мира. Тут наш оппонент прав.
Другое дело, какова эта картина...
Как можно оценить рассуждения С.Г. Кара-Мурзы на эколого-экономические
темы? "Чтобы сохранить общество потребления, мы должны убить Христа" (с. 14),
"понеся за последние 70 лет огромные потери, мы тем не менее имеем
возможность сейчас строить наше будущее, не впадая в тот тяжкий кризис идентичности,
который переживает общество, основанное на свободном рынке рабочей силы"
(с. 15)... И, наконец: "Совесть среднего западного гуманиста пока что успокаивает
тот очевидный факт, что средний африканец или индус не мечтает, да и не может
жить так, как он... Наш гуманист должен представить себе, что он ответит,
если вдруг явится ангел (или дьявол) и спросит его: "Хочешь, я дам каждому
человеку на Земле по автомобилю, чтобы он жил, как ты?". Очевидно, что
гуманист вынужден ответить: "Ни в коем случае!". Слаборазвитость 70%
человечества — печальная необходимость, без которой не может существовать общество
потребления для 13%" (с. 12).
У среднего советского профессионала, которого не посещают ни ангел, ни дьявол,
перед такой аргументацией беспомощно опускаются руки. А что если ангел
(или дьявол) спросит С.Г. Кара-Мурзу: "Хочешь ли ты, чтобы из мира исчезла
70
смерть, хотя бы только для вида Homo sapiens?" Перестанем иронизировать
по поводу высказываний нашего оппонента. Кто из нас хочет умереть? Кто не хотел
бы, чтобы никогда не умерли те, кого он любит? Но миром правят не наши желания,
а объективные законы. Наука сделала весьма много для продления человеческой
жизни и за это ее весьма мало благодарят. Читатель, спросите себя, знаете
ли Вы имя того, кто открыл пенициллин? Люди, открывшие транзисторный эффект,
уступают по известности самой захудалой рок-группе, хотя благодарное
человечество должно было бы знать их имена не хуже, чем имена "Битлз". Настоящим
ученым совершенно не свойственно жаловаться на то, что им недоплачивают
деньгами или престижем. В благородстве же им не откажешь: А. Флемминг,
например, не патентовал пенициллин, чтобы не препятствовать его быстрому
распространению.
Продления жизни и минимума болезней хочет каждый. И это совершенно
необходимо для выживания человечества в целом — иначе не остановить рост
населения. Утверждать же, что 13% богатых обязаны своим благополучием 70%
бедных, — это примерно то же, что утверждать, будто живые обязаны своим
благополучием мертвым, своевременно освободившим для них место под солнцем. Столь же
сомнительна и критика "вещизма", которым так "грешит" общество потребления.
Дело не в том, что "вещизм" — это плохо и от него следует отказаться, а в том,
что если бы развивающиеся страны действительно последовали такому призыву,
то это имело бы далеко идущие последствия, ибо "вещизм" заменяет "детизм".
Демографией установлена весьма строгая зависимость между уровнем
материального благосостояния и количеством детей. "Вещизм" и связанный с ним рост
образовательного уровня, наряду с увеличением продолжительности жизни, должны
сыграть главную роль в снижении рождаемости. Больше надеяться не на что,
если, разумеется, не возвращаться к таким старым, испытанным, хотя и
малорезультативным и к тому же антигуманным регуляторам численности населения,
как эпидемии и войны.
Более чем странно звучат призывы к созданию эффективной экономики без
рынка труда, причем в отдельно взятой стране, в невероятных муках и страшно
медленно освобождающейся от пут дофеодальной организации хозяйства. После
73 лет социальных экспериментов, унесших жизни десятков миллионов наших
сограждан, нам опять предлагается "новый путь", далеко уводящий от законов
экономической науки. В 70-е годы среди американских экономистов была популярна
максима: "Плановая экономика — как говорящая лошадь. Странно прежде всего
то, что она существует". Сейчас, когда лошадь, наконец, издохла, нам пытаются
всучить говорящего осла. "Отрывочные сопоставления наших достижений с
материальными успехами Запада (да и Востока), несмотря на идеологическую пелену,
вызывали подсознательную тревогу. И вот мысль ангажированных ученых вновь
и вновь обращается к асимметричному решению. Чисто асимметричное решение
состоит в признании полного и недвусмысленного превосходства нашего духовного
начала над их материальным концом. В самой последовательной форме мы
имеем чевенгурско-кхмерский вариант. При четком следовании доктрине не только
нищета народа, но и его массовая гибель не могут считаться поражением,
поскольку историческое воздействие идеи остается неоспоримым. Чисто
асимметричные решения, внедренные в сознание людей, практически неуязвимы для критики,
ибо обрывают всякие контакты с остальным человеческим опытом"6.
Человеческий опыт недвусмысленно свидетельствует, что единственный путь
смягчения экологических проблем — это создание здоровой экономики, ибо
тратить громадные средства на природоохранные мероприятия могут только
богатые страны. Опыт нашей страны со всей очевидностью показал, что отнюдь
не экспорт "грязных" производств из высокоразвитых стран, а уровень развития
нашего собственного хозяйства является причиной ужасающей экологической
ситуации во многих городах и регионах страны. Совершенно невозможно решить
экологические проблемы путем ограничения экономического роста, да разве
вообще реально его ограничить?
Экономический рост не только необходим для решения экологических и со-
6БирюковД.В. Наш социалистический выбор. — Всесоюзная? конференция
"Экономическое развитие: переломный период". Материалы конференции (Москва, апрель, 1990 г.). М.,
1991, с. 39.
71
циальных проблем богатых и бедных стран, он менее разрушителен для
окружающей среды, чем рост населения, который является его альтернативой.
Грустно, даже стыдно делать такие убого тривиальные замечания, но вторгаясь
в сферу далеких от собственной профессии областей знания, следует особо
бояться проявлений непрофессионализма. Мы не говорим о таком примитиве,
как то, что сибирская тайга ничуть не менее, а быть может и более значима
для производства кислорода, чем леса Амазонии. И ее сведение — факт. Нечего
пенять на других. Неловко объяснять, что любая интенсификация производства,
в том числе и сельскохозяйственного, немыслима без увеличения энергоемкости.
Таков закон природы и общественного развития. И количество пота, даже
мозолей, нельзя рассматривать с точки зрения вытекающей соленой жидкости.
Мыслительная деятельность, как известно, требует немалых усилий. И гений, в первую
очередь, требует труда в"поте лица своего". Простим нашему оппоненту и эту
оплошность. Но не заметить нарождающегося "экологического" рынка — это уже
непростительно тому, кто пытается разобраться с новой картиной мира. Цели
"первого мира" все больше уходят от чистогана к социальным свершениям.
Исподволь постиндустриальный цивилизованный мир гуманизируется. На смену клича
"обогащайтесь!" приходит стремление к максимальной продолжительности жизни
и минимуму болезней. А этого не достигнешь успехами медицины. Нужна
здоровая среда жизни: природная, социальная, экономическая. Общество нищих этого
дать не может.
Выход за рамки экологических ограничений лежит не вне, а внутри общества.
Тут С.Г. Кара-Мурза абсолютно прав. Наука должна быть направлена на
самоорганизацию общественных процессов. Но не через нищету, а через богатство.
В этом наука противоречит и религии, и примитивным коммунистическим идеям.
Эпоху равенства всех и вся создать невозможно. Но и порождать все более
массовый слой бурно размножающихся бездельников, живущих за чужой счет и к тому
же воюющих друг с другом и со всеми миром,, также нерационально. Здесь
есть поле для критики общественной науки, прежде всего политэкономической.
Она не дала человечеству механизмов превентивного сохранения природных
ресурсов и подавления сверхразмножения. Она не сумела найти оптимальных
социальных структур. Но ведь общество всемерно этому противилось. До тех пор, пока
наука, знание не станет доминирующей исторической силой, основной социальной
ценностью, об этом можно будет лишь сожалеть. Тут дело не в кризисе науки,
а в беде цивилизации.
Ниже мы попытаемся разобраться, почему общественное мнение считает именно
науку потенциальным источником опасности для человеческой свободы, почему
оно склонно верить тем, кто полагает морально неприемлемой саму "свободу
познания". Но сначала отметим еще одно удивительное обстоятельство: совершенно
разное отношение к науке и к средствам массовой информации в аспекте права
на информацию, как и к науке и церкви в аспекте покушения на свободу.
С.Г. Кара-Мурза пишет: "Сторонники свободы познания обычно утверждают, что
на жизнь людей влияет не полученное ученым знание, а его приложение,
превращение в технологию, а этот процесс лежит уже вне сферы науки и определяется
социальной системой. Это — предельная идеализация ситуации. Информация
всегда была важным фактором в жизни систем, включающих человека (вспомним,
какое значение, в частности, придавалось всегда разведке и контрразведке)" (с. 8).
Нам неловко объяснять уважаемому ученому разницу между тайнами Природы
и государственными или военными тайнами. Отметим лишь, что если, к примеру,
сексологам требуется изучить в клинических условиях половой акт, то это делается
с помощью добровольцев, а не путем установки скрытых камер в спальнях
ничего не подозревающих об этом людей. В начале 80-х годов в Италии был громкий
скандал в связи с тем, что одна проститутка разрешила съемочной группе
телевидения вести скрытую съемку ее работы, а затем представить фильм на суд
телезрителей. В прессе широко обсуждались художественные достоинства фильма,
но отнюдь не профессиональная этика его авторов. Можно ли представить подобную
ситуацию в научном сообществе? Разумеется, нет. Исследователь, который позволит
себе столь постыдным способом собирать эмпирический материал, будет исключен
из научного сообщества, даже если он продемонстрирует свои достижения лишь
нескольким десяткам коллег, а не многомиллионной зрительской аудитории.
72
Науке не свойственно ставить эксперименты на людях без их согласия. Средства
массовой информации не спрашивают этого согласия практически никогда, но тех,
кто предлагает на этом основании ограничить свободу печати, наша либеральная
интеллигенция называет (и отнюдь не беспричинно) "махровыми реакционерами".
Исторически наука возникла вовсе не как "непосредственная
производительная сила" и на протяжении веков оставалась занятием людей чудаковатых или
глубоко верующих. Это была полузакрытая каста, весьма приверженная своим
традициям и моральным нормам. Наука Нового Времени как бы отпочковалась от
церкви, и обет безбрачия, например, в ней сохранялся весьма долго. Ученые
фактически вели монашеский образ жизни. "В Англии "академический брак" узаконен
актом 1854 г., но и после этого отношение к нему почти не изменилось. В 20-е годы
нашего столетия, например, ректор колледжа Боллиол, хотя и не мог
воспрепятствовать коллеге жениться, не разговаривал с ним до конца жизни"7. Широкое
использование достижений науки привело к тому, что ученым становилось все
труднее сохранять относительную уединенность в башне из слоновой кости, да
и сама их профессия постепенно превращалась в массовую. Широко используя
науку, общество, разумеется, заразило ее всеми своими болезнями. Но наука ли
страдает ими в наиболее острой форме?
Представляется, что по крайней мере, в нашем обществе наука как социальный
институт, при всех своих внутренних пороках, пока была все же много лучше того,
чего заслуживала наша замордованная страна. Невероятная бюрократизация науки
в сочетании с бездарностью руководства (ею да и всей страной), крайняя
милитаризация, административно-монополистическое производство, нищенская оплата труда
ученых и крайне убогие условия их работы, фантастически хаотично-мафиозное
финансирование, а до недавнего времени — жесточайшее идеологическое
давление (там, где начинается идеология, кончается наука) — все это должно было бы
привести нашу многострадальную науку в такое же жалкое состояние, в какое пришли
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, просвещение, здравоохранение и
другие социальные институты. Если Академия наук СССР, понимаемая не как
множество чиновников разного ранга, кормящихся в ее Президиуме и вокруг него,
а как множество институтов, не стала в период застоя такой же опереточной
структурой, как Верховный Совет СССР тех лет, то этому препятствовали два фактора:
объективный характер научного знания и ценностные установки самих ученых.
Впрочем, это утверждение требует поправок. Институты были, а часто и остаются,
жалкими слугами руководящих господ, готовыми "обосновать" все что угодно.
Не институты, а отдельные ученые, которых не удалось ни купить, ни запугать,
делают погоду. Даже если они остаются в гордом одиночестве. Именно в научной
среде с риском для личной свободы, а иногда и жизни, были сформулированы
основные проблемы, стоящие перед страной, начиная от экологической и кончая
правами человека. В любом тоталитарном государстве научные круги будут
убежищем интеллектуального сопротивления режиму, ибо концепция объективного
знания предполагает как "свободу познания", так и равенство всех перед истиной.
Современное общество, и не только бывшее "социалистическое", действительно
переживает глубокий кризис. Наш оппонент считает, что, "пожалуй, самый глубокий
кризис — это кризис идентичности самих "атомов" индустриальной цивилизации.
Как бы мы ни избегали об этом говорить, нельзя не видеть, что сохранить
стиль жизни и старую траекторию прогресса можно, лишь полностью порвав
с системой норм христианской морали, на которой и возникла наша
цивилизация" (с. 14). Не будем вдаваться в вопрос о глубочайших различиях между
католицизмом и протестантизмом в трактовке "атомарности" и связанных с ней
личной ответственности, стиля жизни и траектории прогресса — он достаточно
разработан еще Максом Вебером8. Отметим, лишь, что "кризис идентичности
самих "атомов" индустриальной цивилизации" — лишь эпифеномен более глубокого
кризиса, который оказал катастрофическое воздействие на всю историю XX вв. —
кризиса рационализма.
Замечательный немецкий экономист и экономико-географ Август Леш, умерший
7 П е т р о в М.К. Перед "Книгой природы". Духовные леса и предпосылки научной революции
XVII в. — "Природа", 1978, N 8, с. 114.
8 Be бе р М.Протестантская эгика и дух капитализма. — в кн.: Вебер. М. Избранные труды
по социологии науки. М., 1990.
73
в мае 1945 г. в возрасте 38 лет и оставивший не только ценнейшие работы,
но и яркий пример интеллектуального сопротивления тоталитарной диктатуре,
писал: "С тех пор, как мыслящие люди утратили веру в свои силы, которая
достигла кульминации у Гегеля, мир, основанный на этой вере, поочередно терял
свое социальное, политическое и экономическое единство. Не веря в заранее
предопределенную гармонию мира, человек решил, что он сам должен привести
все в порядок. Но чем энергичнее он брался за это дело, чем неорганизованней
были его действия, шедшие вразрез с гармонией мира, тем сильнее она нарушалась.
Теперь, когда мы вновь начали более чутко прислушиваться к ритму природы,
настало время задать вопрос: кто (или что) в действительности потерпел
экономическое поражение в период упадка — рациональный, и потому естественный,
порядок или мы сами. Неверно, что человек должен дать миру свой принцип
организации. Этот принцип уже существует, только в отношениях между людьми
он действует безусловно в той же незначительной степени, в какой мораль человека
определяется его желаниями. Естественное равновесие в экономике отличается
от равновесия в природе в той же мере, в какой моральное равновесие отличается
от механического. Природа действует в согласии со своими законами, а человек —
в соответствии со своими представлениями о законе. Другими словами, природа
должна, а человек может действовать правильно. Чтобы поступить правильно,
человек должен иметь некоторое представление о том, как ему надлежит действовать.
Что касается равновесия в экономике, то это означает следующее: человек
должен понять природу равновесия, чтобы правильно организовать свою деятель-
ность"9.
Рационализм предполагает, таким образом, что только знание законов природы
может создать основу для успешных действий во благо человека и человечества.
Это знание никогда не может быть полным, поэтому наряду с желательными
последствиями любых осуществляемых в обществе мероприятий неизбежно будут
возникать и нежелательные. Однако задача "социальной инженерии" в том и состоит,
чтобы минимизировать отрицательные экономические, экологические и социальные
последствия тех или иных мероприятий, либо рекомендовать отказ от их проведения,
если возможная "плата" чрезмерно высока. Иррационализм, наоборот, предлагает
вообще отказаться от достижений прогресса, хотя совершенно очевидно, что не
только жители развитых стран не согласятся на существенное снижение своих
жизненных стандартов, но и мы сами не согласимся еще сколько-нибудь
длительное время пребывать в такой нищете, в какой мы пребываем сейчас. Мы, собственно,
уже несогласны.
Но иррационализм закрыт для критики с рациональных позиций, ибо апеллирует
не к разуму, а к чувствам. Объяснять иррационалисту, что заставить экономику
развиваться не в соответствии с объективными.законами, а в соответствии с
нормами христианской морали (равно как и чьими бы то ни было указами) так же
невозможно, как невозможно заставить камень падать вверх, что прекращение
экономического роста может только усугубить экологические проблемы, столь же
бессмысленно, как убеждать активиста общества "Память" в том, что евреи —
такие же люди, как и все прочие, и что их полное" уничтожение или полное
изгнание из страны никаких ее проблем не решит. В последнем случае мы тоже
сталкиваемся с одним из крайних проявлений иррационализма.
В уже цитированной работе К. Поппера введено понятие "абстрактного
общества" — общества, в котором человек может жить и работать, теоретически
вообще не вступая в личные контакты с другими людьми и общаясь с ними
только посредством телекоммуникаций. Современное общество, становясь инфор=
мационным, все более приближается к этому образцу. Человек в современном
обществе отнюдь не изолирован от других людей, напротив, его возможности
общения расширяются многократно, но он предоставлен самому себе. Все вместе
и каждый бесконечно одинок. Если в прошлом свобода в выборе занятий,
места и образа жизни была привилегией немногих, а так называемый простой
народ был полностью поглощен добыванием средств к существованию и был
свободен почти в такой же степени, как эскимосы в тундре или аборигены
в австралийских пустынях (и те и другие входят в ландшафты и не нарушают их),
9 Леш А. Географическое размещение хозяйства. М., 1959, с. 102-103.
74
то прогресс освободил огромные массы людей от оков традиций. Это привело
к восстанию масс.10
Восставшие массы не могут быть рациональны (рационализм требует огромной
внутренней критической работы и доступен только "атому", а не массе) и уж тем более
не могут любить науку, ибо это — единственный социальный институт, глубоко
чуждый им по духу, который они не могут в полной мере прибрать к рукам (в
отличие от средств массовой информации, литературы, искусства и даже церкви)
ни с помощью насилия — в тоталитарных государствах, ни с помощью денег —
в демократических. Предполагая равенство всех перед истиной, наука предельно
демократична, но одновременно она и предельно элитарна, ибо закрыта для
всех, кто не сдал строгий "вступительный экзамен" и не признает никаких
заслуг, кроме научных. Можно было исхлопотать или купить дворянский титул,
но не ученую степень. Результаты же научных изысканий всегда излагались
'на столь своеобразном языке, что непосвященные не могли даже сделать вид,
что они что-то понимают. Антипатия к науке, безусловно, усиливалась
неизбежной необходимостью не только ее терпеть, но даже финансировать и уважать.
Впрочем, и тут наша благословенная страна внесла поправку в общий ход
развития. К сожалению, в нашем Отечестве можно было купить и диплом о высшем
образовании, и ученую степень, диссертацию порой писали "рабы" за плату и без
нее. Эта позорная особенность советской науки сохраняется и поныне. Сколько
научных трудов писали одни, а подписывали и публиковали другие? Сколько
академиков и членов-корреспондентов стали таковыми, пользуясь феодальным правом
"первой ночи" на открытия своих подчиненных коллег? Нет, не все сказал об
академической и вообще о советской науке покойный СВ. Мейен11, который, несмотря
на высочайший авторитет, не был удостоен академического признания. На высших
эшелонах научной власти не меньше грязных пятен, чем на вненаучном начальстве.
Полуграмотный академик, не умеющий написать полстраницы текста, — это
своеобразное наше "достижение". Можно сгореть от стыда за науку своей страны.
Но что даст это прогрессу? Ведь бюрократы от науки так же не имут сраму,
как мертвецы. Разлагаются себе в теле науки да посиживают в президиумах.
Этакая квазинаучная элита. Печальное исключение из мировых правил...
Нет, не мировая наука повинна в кризисе цивилизации. Напротив, кризис
цивилизации, едва не опрокинутой иррациональными массами, проявляется в
антисциентизме, который, как и все прочие болезни общества, проникает и в научную
среду. Наука куда менее виновата перед обществом, чем общество перед ней,
но общество так устроено, что вина всегда возлагается не на тех, кто больше
всего виноват, а на тех, кого меньше всего любят. Поэтому в современных
условиях противостояние охлократизации общества становится для ученых
следующей по важности задачей после поиска истины.
Трудно предположить, что сторонники нулевого (или, тем более,
отрицательного) роста сами хотят жить в том мире, в который они зовут нас. Как тут не вспомнить
о тех западных интеллектуалах, которые всячески нахваливали "реально
существующий социализм", приезжая в СССР лишь ненадолго и останавливаясь в самых
роскошных гостиницах!.. Торжества столь превозносимого ими строя в своих
странах они нисколько не желали, ибо не имели вкуса ни к суровой спартанской
жизни, ни к попранию самых элементарных гражданских прав. В их политиче-
ких симпатиях была большая доля игры, ставка в которой — популярность у
иррациональных масс. Даже сегодня марксизм намного более популярен в
американских или английских университетах, чем в первом в мире государстве рабочих
и крестьян. Отчего бы не продолжать играть в старую игру, если она хорошо
оплачивается буржуазным государством?..
Измученные и изверившиеся массы жаждут чудес, проповедей, но никак
не объективного научного знания. Оно требует гигантских усилий ото всех.
А трудиться сверх меры не хочется. Но тот, кто заигрывает с массами, как не раз
случалось в истории, может сам превратиться в их игрушку.
10Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. — Вопросы философии", 1989, NN*3-4.
11 Мейен СВ. Академическая наука? — "Вопросы философии", 1990, N'9.
75
Может ли спасти Россию самодержавная
монархия?
(О чем думается после прочтения книги Ив. Ильина
"О монархии и республике")
"Россия моя, Россия,
зачем так ярко горишь".
М. Цветаева
"Русь слиняла в два дня.
Самое большое — в три".
В. Розанов
В том кризисе1, который переживает ныне наша страна, под вопрос поставлены
буквально все конститутивные элементы жизни: история, культура, экономика,
экология. И — государство, государственность, формы организации власти, а также —
политика, политическая система, политическая культура, политическое сознание.
Безусловно — право, правовая система, правопорядок, правовая культура,
правосознание. И в надежде преодолеть кризис, выйти из него мы не можем не
задумываться о том, что же дальше. Какие очертания примет жизнь во вполне
обозримом будущем? Как будет организована государственная и политическая
власть, какая правовая система будет регулировать функционирование общества?
Всем нам была предоставлена возможность убедиться в правоте В.И. Ленина,
утверждавшего, что советская власть — всерьез и надолго. Действительно,
оказалось, что очень всерьез и весьма надолго. Однако теперь мы видим и
понимаем, что для нужд практического управления обществом Советы не совсем
подходят. Они сыграли свою роль в качестве некоего прикрытия режима
тоталитаризма, некоего псевдодемократического довеска к нему. Большего, видимо,
от них ждать нечего. И хотя формы власти — не платье, а история — не
примерочный кабинет, мы все же начинаем озираться по сторонам,,
заглядывать в собственное прошлое, просчитывать и продумывать пропорции той
государственной системы, которая удовлетворяла бы требованиям разумности,
эффективности и одновременно согласовывалась с органикой российской почвы. Тогда
появляются различного рода "посильные соображения" на тему "обустройства
России". И хорошо, что появляются. Русский ум, дабы избежать худшего — "войны
всех против всех", — должен сейчас размышлять над этим.
И вот перед нами книга Ивана Александровича Ильина — "О монархии
и республике". Писавшаяся в двадцатые-пятидесятые годы, она удивительно
актуальна, как нельзя кстати. Оказывается, что пока толпы советских теоретиков,
исходя из положения о постепенном отмирании государства, оправдывали и аполо-
гетизировали сначала "невиданное в истории господство террора" (К. Маркс),
называемое диктатурой пролетариата, а затем вялотекущий террор под псевдонимом
"общенародное государство", Ив. Ильиным самым серьезным образом был осмыслен
"Кризис — как бы объективный анализ, которому подвергает сама себя
действительность... недаром слово "кризис" означает "суд" и родственно слову "критика". —Аверинцев С.С.
Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 237.
76
ряд принципиальных вопросов и проблем, которые именно сегодня грозно и
неотступно встали перед нами. Но особое свойство этой работы заключается
в том, что в ней недвусмысленно и прямо указуется путь, по которому надобно
идти, и объясняется, почему идти надобно именно по этому пути. У Ив.
Ильина есть свой ответ на знаменитейший русский вопрос — "что делать?". Делать,
говорит он, следует монархию, причем — самодержавную. Такая форма
организации государственной власти природна русской истории, душе, культуре,
религиозному чувству и правосознанию. Не делать же тех ошибок, что допустили
в предреволюционные годы монархисты, да и монархия в целом. Но главное —
не делать республики. Это чуждая русской "психее" сущность; ну, и вообще
республика есть низший по сравнению с монархией тип государственности.
Итак, Ив. Ильин предлагает России, нам с вами, свой вариант "светлого
будущего" — самодержавную монархию. — Монархия... самодержавная... Нет,
звучит как-то сомнительно, несовременно. Вроде бы, на этот раз собрались строить
правовое государство. Правда, до конца не выяснили, что под ним следует
разуметь и как его можно совместить с обновленно-гуманным социализмом.
А пока спорили, то оказались уже совсем в другой ситуации, когда и в
печати и на устах наших гораздо более употребительным, чем малопонятное
словосочетание "правовое государство", стало простое слово "диктатура"... Но
все-таки даже в этих новых условиях как-то очень трудно всерьез отнестись
к идее самодержавия, предположить, что наш путь — воссоздание монархии
(конечно, очищенной от недостатков и грехов предреволюционного царизма).
Мне кажется, что, осилив книгу Ив. Ильина, подобным примерно образом
может думать высококультурный читатель "Вопросов философии". Однако,
сочувствуя и уважая эти его сомнения, я тем не менее настаиваю на своем
тезисе — глубокая и актуальная для "века нынешнего" работа. Действительно,
что смущает нас? Монархия? — Так монархические государства составляют почти
половину Европы (за вычетом, разумеется, бывших коммунистических стран —
там сейчас все в движении, и как они в конечном счете "обустроются", одному
Богу известно). Реальна ли реставрация монархии? — Да, история других
народов знает случаи реставрации. В Англии, например, Испании, Франции и т.д.
Не всегда, понятно, монархия вновь "принималась" на взрыхленной
революционными и послереволюционными событиями почве. Но, замечу, чаще
"принималась". Нельзя представить себе, как практически это может произойти? —
Почему же, можно. Законно избранный законодательный орган призовет кого-
нибудь володеть нами, некая группа неких лиц, пришедшая к власти в
результате осуществления ими неких неправовых акций, вдруг схватится за
монархическую идею, всенародный референдум и т.д. и т.п. Мало ли как. И разве
не служит отечественная история последнего столетия иллюстрацией к
утверждению — "мы рождены, чтоб сказку сделать былью". К тому же прошу не
забывать — об этом в своей книге неустанно печется и Ив. Ильин — о
тысячелетнем монархическом прошлом России. Сомневаюсь, что за 74 года оно
полностью выветрилось.
"Хорошо", — согласится с моими доводами (гипотетический) читатель. —
"Но о монархии и республике ли эта работа? А может, о чем-то ином?" —
И здесь я соглашусь с ним. Не о монархии и не о республике. Точнее:
не о монархии и не о республике как формах организации власти. И
монархия, и республика у Ив. Ильина суть символы, идеальные модели, псевдонимы.
Под псевдонимом "монархия" скрывается безусловно положительный образ
России. Причем, России не какой-то определенной эпохи и в каком-то
определенном состоянии, а России вообще. Той самой России, которая "словно
вечность на земле" (кн. П,А. Вяземский), которая "святой ковчег" и "целый
особый мир", — его "апологию... принял на себя Мастер, который выше нас
всех" (Ф.И. Тютчев), той России, которая "бессмертным счастьем нашим... зовется
в веках" (В.В. Набоков). Иначе говоря, — это вневременная, внеисторическая
идеальная модель России, ее идеальный образ. И одновременно — это псевдоним
самобытного культурно-исторического типа (или цивилизации), во всей своей
органике и по всем жизненным показателям враждебного Европе, так сказать,
псевдоним принципиальной "анти-Европы" (Н.Я. Данилевский), "стихии, чуждой Западу"
(Ф.И. Тютчев). И два этих идеальных образа России не просто тесно связаны
77
между собой или дополняют друг друга; нет, они, пожалуй, — одно и то же.
"Монархия" Ив. Ильина — псевдоним не двух образов России, а ее Образа,
который лишь описывается двумя способами. Короче: Россия — эманация
"вечности на земле" — возможна лишь как "анти-Европа".
Что же касается республики, то это, естественно, псевдоним безусловно
отрицательного образа Европы. Я подчеркиваю: образа, а не самой Европы. Вообще,
в книге Ив. Ильина, при всем обилии очень интересного
конкретно-исторического материала, отсутствует живая, "работающая" связь между этим
материалом и теоретическими построениями. На теоретическом уровне, во-первых,
происходит противопоставление идеальной (самодержавной) монархии идеальной
республике, во-вторых, ставится (в принципе) знак равенства между идеальной
монархией и идеальным образом России — и между идеальной республикой
и идеальным образом* Европы, в-третьих, не дрогнувшей рукой выводятся знаки
плюс и минус. Ну, а собственно историческая часть работы, повторяю, ведет
самостоятельную жизнь. Хотя чисто функционально она автору необходима, поскольку
призывается им в свидетели по делу "монархия против республики". Заговорившая
(голосом Ив. Ильина) история должна дать показания в пользу одного и
опровергнуть другое.
Думается, подтверждением сказанному и весьма характерной иллюстрацией
историософского и государственно-правового умозрения- Ив. Ильина является его
"План для окончания мысли" (этот документ, найденный в архиве мыслителя
Н.П. Полторацким, полностью приводится в послесловии к публикации "О монархии
и республике" — см. "Вопросы философии", 1991, N 5). Как помнит читатель,
в этом "Плане" перечисляются и противопоставляются по пунктам главные
особенности монархического и республиканского правосознания; и хотя вслед за Ив. Ильиным
я говорю — "правосознание", речь на самом деле идет о миросозерцании, о
различных его типах. В сущности, "План для окончания мысли" является планом
книги, ее остовом, "скелетом". Он поистине бесценен для исследователя творчества
Ив. Ильина, в нем как бы обнажается основной методологический прием
философа, его основная тема... Однако прием и тема, увы, далеко не новы. Если
отбросить терминологические различия, то все это мы найдем уже в споре
Карамзина и Сперанского, славянофилов и западников, Леонтьева и либералов и
т.д. и т.п. И так вплоть, по существу, до спора Солженицына и Сахарова.
Аргументация в пользу идеального самодержавия и против "республики" по-
русски впервые, кажется, прозвучала в знаменитой карамзинской "Записке о
древней и новой России", еще в 1811 году. Впоследствии — надо признать — и эта
тема, и этот методологический прием были блестяще разработаны русской мыслью.
Здесь Ив. Ильин пришел на хорошее наследство. И весь он буквально
пропитан Карамзиным, Конст. Аксаковым, Леонтьевым. Чего только стоит его термин
"уравнительное всесмешение", которым Ив. Ильин пользуется для характеристики
республиканского государства, западной политии! Ведь это же Константин
Николаевич Леонтьев собственной персоной! Помните знаменитое леонтьевское "упрости-
тельное смешение" или "вторичное смесительное упрощение"? Ох, как не случайно, как
показательно это понятийное почти совпадение. Нет, связь времен в
отечественной мысли не распадалась никогда. Это здесь мы так думали, а в эмиграции
шла работа, и шла в русле, пробитом еще дворянскими прадедами.
Правда, в целом в Ив. Ильине я больше слышу просвещенные,
умеренные, гуманные голоса классиков славянофильства (и еще, конечно, в высшей
степени благовоспитанный и ровный голос Карамзина), а не "свирепый",
трубный глас "турецкого игумена" Конст. Леонтьева (так его назвал В. Розанов).
Ив. Ильина с полным правом можно назвать славянофилом XX столетия, а
его книгу — шедевром славянофильства нашего времени2. Но он не просто
2 У меня сознательная перекличка с Б.М. Парамоновым, с его статьей "Шедевр
германского славянофильства" — "Звезда", 1990, N 2, с. 152-158. И вообще, хотелось бы
обратить внимание на это имя. Проницательный и тонкий исследователь (прежде всего,
но не только) отечественной мысли и литературы, в нашей культуре и для нашей культуры
он выполняет работу, которую на Западе принято называть "Ideologiekritik". Примечательна
и его мировоззренческая эволюция (от работ в "Континенте" десятилетней давности до
нынешних в "Стране и мире"), которая типологически схожа с эволюцией "героя" статьи о
германском "славянофильстве".
78
наследник, проживающий капитал, наработанный предками, нет, перед нами
подлинный продолжатель дела. Ив. Ильин умножает капитал, расширяет сферу
его приложения, осваивает новые "производства". К тому же ему намного
труднее, чем благополучным, по нашим меркам, пращурам — обитателям
"дворянских гнезд", салонным говорунам, публицистам, ученым, общественным деятелям,
бывало (да!) гонимым, опальным* оттеснявшимся от журналов, кафедр, читателей,
все-таки жившим в золотую пору русской культуры. Деятельность же Ив. Ильина
приходится на эпоху крушения и российской государственности, и привычного
уклада жизни, и славянофильских (в широком смысле слова) мечтаний, надежд,
идей, утопий.
Этому подлинному продолжателю дела пришлось указывать истинный путь
не уклонившейся от него — пусть и значительно — России, а России,
сорвавшейся в пропасть, разбившейся чуть ли не вдребезги. Да и
либерально-демократический Запад, с одной стороны, оказался в жесточайшем кризисе,
несравнимом по глубине и остроте с лихорадкой и падениями минувшего века и потому
совсем уже непривлекательном, некрасивом, как сказал бы К. Леонтьев, а с
другой — был "противником" (несмотря ни на что!) гораздо более серьезным и
матерым, чем во времена Киреевского и Хомякова. И вот в этих
неимоверно сложных исходных условиях Ив. Ильину удается существенно обновить
и усовершенствовать "славянофильскую утопию", "славянофильский миф о России".
Его самодержавная монархия — это по-своему блистательная идеальная модель
государственно-политического и правового устройства для России. Для страны,
которая традиционно понимается им как некое вечное — вопреки всему! —
общество "несовершеннолетних" (по терминологии Канта), некая, всегда и во всем
неизменяемая и равная самой себе сущность. В этом внеисторическом и надысториче-
ском феномене воплощены абсолютно положительные ценности. И этой стране,
в принципе и в идеале носительнице безусловного блага, оказавшейся лишь
в силу преходящих, вторичных, достаточно случайных обстоятельств в
ужаснейшем положении, Ив. Ильин предлагает единственно верный и единственно
достойный ее несравненных качеств способ спасения.
Среди новых же сфер приложения славянофильского капитала, новых
"производств", освоенных Ив. Ильиным, наибольший интерес, на мой взгляд,
представляет концепция самодержавного правового государства. Суть этой концепции
заключается в том, что самодержавие, идеальное ильинское самодержавие,
является высшим (идеальным) типом правового государства. Это действительно новое
слово в "славянофильстве" (ставлю кавычки, чтобы еще раз подчеркнуть — я
употребляю этот термин в максимально расширительном смысле). Ведь хорошо известно,
что понимание государства, характерное для этого направления русской мысли,
прямо противоположно тому пониманию, которое нашло свое воплощение в теории
правового государства. И хотя некоторые современные западные исследователи
обнаруживают в политической философии К.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина
своеобразные версии концепции правового госудаства3, я все-таки полагаю, что до
Ив. Ильина серьезных и осмысленных попыток создать собственную, оригинальную
модель "Rechtsstaat" в славянофильстве не было.
Здесь он — несомненно крупный реформатор. Ив. Ильин не просто и не только
находит для "славянофильской утопии" правовую формулу, правовое измерение,
нет, им делается столь решительный шаг, что отныне существование самой утопии
помимо права и вне права и помыслить себе нельзя. Во второй главе своей
книги он пишет о великих духовных Предметах — Откровении, Истине,
добре, красоте и праве (курсив мой. — Ю.П.)4. То есть Ив. Ильин относит
право к основам человеческого бытия. Отсюда с неизбежностью следует признание
права абсолютной ценностью, категорий правосознания и правопорядка
фундаментальными для жизнедеятельности любого общества. Отсюда же спасение Родины,
ее будущее — в создании правового государства.
Но весь вопрос в том, что Ив. Ильин понимает под правовым
государством? — Напомню: классическая концепция правового государства опирается
3См., напр.: С alder L.D. The political thought of Ju. F. Samarin, 1840-1864. N.Y., L.,
Garland. 1988.
4 Ильин И.А. О монархии и республике. — "Вопросы философии", 1991, N 4, с. 124.
79
прежде всего на учение Канта, на его философию права. Одна из центральных
тем творчества Канта — тема об условиях возможности человеческой свободы.
При этом он исходит из веры в свободу человека, который сам себе дает
нравственный закон. Соответственно, понятия свободного самоопределения и
автономии личности являются базовыми для Кантовой теории государства и права5.
Согласно Канту, человек находится перед альтернативой: автономия или
гетерономия (подчинение извне приходящим нормам). Автономии соответствует
правовое государство, гетерономии — патерналистское. Кант противопоставляет модель
правового государства, граждане которого — "совершеннолетние" и
ответственные личности, патерналистскому строю, где власть "отечески" заботится о благе
детей-подданных. Патерналистское государство у Канта обозначается термином
"государство благосостояния" (Wohlfahrtsstaat); эксплицитная цель такого государства —
счастье людей. Эта принципиальная установка на счастье обязательно приводит
к государственному деспотизму, поскольку лишь властителям дано знать, в чем
состоит истинное благо подданных6.
Для адекватного понимания сути (классического) учения о правовом государстве
необходимо помнить, что.оно покоится на аргументах, почерпнутых в теории
познания Канта. Так, правовой принцип есть аналитическое суждение,
которое выводится из понятия свободы; свобода неизбежно требует от человека
признания свободы других людей, какими бы ни были их цели. Принципы же
блага и добродетели — синтетические суждения, вменяющие в обязанность
некие цели, которые не могут быть выведены аналитически из понятия
свободы. Следовательно, в основе правового государства Канта лежит различение
права и морали. Правовые обязанности (Rechtspflichten) он противопоставляет
обязанностям добродетели (Tugendpflichten), государство как правовую общность —
церкви как этической общности. Поэтому государство накладывает на человека
правовые обязанности, церковь — этические.
Конечно, за прошедшие два столетия в осмыслении проблематики правового
государства появилось много нового. Формальное правовое государство Канта
дополнилось концепциями материального правового государства, социального
правового государства и т.п. Вместе с тем, это детище Канта (и шире — Бо-
дена, Гоббса, Локка, Руссо, Монтескье, вообще европейской культуры Нового
времени) стало в 20-ЗО-е гг. нашего столетия предметом ожесточенной критики.
Наиболее серьезным проверкам на прочность классическую концепцию правового
государства подвергли Ганс Кельзен и Карл Шмитт (несомненно: крупнейший
правовед и крупнейший государствовед XX в.). Но если бескомпромиссное
нападение Г. Кельзена на традиционную теорию правового государства (в
различных ее версиях), на самого Канта было, в конечном счете, лишь "на пользу
дела", позволило прояснить и уточнить, даже пересмотреть ряд важных
положений (устаревших, т.е. уже не отражавших изменившейся жизни, не до конца
продуманных и т.д.), то удар, наносившийся К. Шмиттом (и некоторыми
близкими ему идеологами веймарского "молодого консерватизма"), должен был
опрокинуть, смести "Rechtsstaat" с тем, чтобы освободилось место для нового, более
высокого типа государства.
Такое государство К. Шмитт называл "тотальным". В нем преодолевался
дуализм общества и государства, происходило воссоздание "субстанциального
единства" нации-государства, освобождение "от столетней смуты буржуазного
конституционализма"7. Причем, субстанциальное, тотальное единство нации-государства
5 Тема "Кант и правовое государство" рассматривается в статье СВ. Лёзова "Миф о
правовом государстве" ("Октябрь", 1991, N 3, с. 137-147). Эта блестящая и глубокая статья,
хотя и не бесспорная в отдельных своих положениях и выводах, есть лучшее, как мне
кажется, из написанного у нас о правовом государстве.
6Кантову концепцию "Wohlfahrtsstaat" не следует путать или отождествлять с известной
современной концепцией "государства благосостояния". Между ними, безусловно, существует
генетическая связь, однако и в теоретическом плане, и в смысле того, какой социальный
феномен описывается при помощи этих концепций, они очень и очень различны. Это
особенно важно помнить, поскольку в науке все-таки существует тенденция сближения Кан-
това эвдемонистского Wohlfahrtsstaat с кейнсианским интервенционистским welfare state. См.,
Напр., прекрасную работу: Koslowski P. Staat und Gesellschaft bei Kant. Tubingen, 1985.
Schmitt С Staat, Bewegung, Volk. Hamburg, 1934, S. 32.
80
он полагал сущностной, бытийной, абсолютной ценностью (Seinswert) — в
противоположность субъективным псевдоценностям плюралистического общества (Sollens-
wert). У К. Шмитта нация-государство есть Wertgemeinschaftj, отграничивающая
себя от всего не-ценного (unwert). Соответственно, источником права им
признается "экзистенциальное решение" (Entscheidung), возникающее в глубинах народной
жизни и тождественное властному волеизъявлению (Dezision) суверена. Отсюда
также следует безусловный примат конкретного политического решения под
позитивными нормами. Как справедливо замечает германская исследовательница
И. Штафф, "право для Шмитта есть "экзистенциальный строй", трансцендентный
по отношению к любым позитивными законам"8. Сам же К. Шмитт
подчеркивал, что "решение освобождается от всякой нормативной связанности и
становится в подлинном смысле слова аб-солютным"9. Что касается легитимации
решения, то она находится в нем самом, т.е. в тождестве правителей и
управляемых, в "субстанциальном единстве".
К. Шмитт был убежден в том, что дуализм государства и общества,
правовым выражением которого является либеральный конституционализм (или
правовое государство); плюралистическая демократия, ограничивающаяся социальным
консенсусом относительно "предпоследних вопросов и ценностей" и
принципиально отказывающаяся от претензий на единство по вопросам и ценностям
"последним", являются феноменами исторически устаревшими, "пережившими" свое время.
И потому правовое государство неизбежно должно трансформироваться в
тотальное государство. Но политический плюрализм и ценностный нейтралитет
Веймарской республики привели к расколу общества на враждующие группировки,
которые оформились в мощные антисистемные партии. Эти деструктивные силы
как бы стали на пути объективного исторического процесса. В данных условиях
К. Шмитт видел в своем "тотальном государстве" легитимный способ не
допустить национал-социалистов к власти, единственное средство спасения страны от
провала и катастрофы.
Знаменательно, что свою концепцию государственного права немецкий мыслитель
квалифицировал как "политическую теологию" (так, кстати, и называются две
важнейшие его работы10). В 1922 г. он писал: "Все важнейшие понятия
современного государствоведения суть секуляризированные теологические понятия"11.
То есть в процессе секуляризации происходит перенос содержания теологических
понятий на понятия государствоведения. "Всемогущий Бог" превращается в
"полновластного законодателя". Наряду с этим К. Шмитт говорит о структурной
идентичности понятий, применяемых в теологии и правоведении. Соответственно,
метафизика обретает социологическое измерение, утверждается "субстанциальная
идентичность" метафизического и политического12.
Обо всем этом — классической (Кантовой) концепции правового государства
и шмиттовской попытке "преодолеть" его в "тотальном государстве" —
думается, когда читаешь книгу Ив. Ильина. Ведь самодержавная монархия как
высшая и наиболее чистая форма правового государства, как русская версия
правового государства, тоже есть сознательное отталкивание от Кантовой классики,
альтернатива ей и "преодоление" ее. При всех существеннейших, громадных
различиях "политической теологии" К. Шмитта и "правовой теологии" Ив. Ильина —
здесь не место писать об этих различиях, но они очевидны и без того, —
перед нами типологически схожие учения. Русский мыслитель, подобно его
германскому современнику, тоже "снимает" дуализм государства и общества, Rechtspflichten
Staff J. Zum Begriff der politischen Theologie bei Carl Schmitt. "Christentum
und modernes Recht". Frankfurt a.M., 1985, S. 187.
9Schmitt C. Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat.
Miinchen, Leipzig, 1922, S. 19.
10 Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat; Politische Theologie 2:
Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. Berlin (W.), 1971.
nSchmitt C. Politische Theologie.., S. 49.
12 И. Штафф приводит в своей статье слова К. Шмитта: "Метафизическая картина мира,
созданная в определенную эпоху, имеет ту же структуру, которой обладает самоочевидно
присущая этой эпохе форма политической организации". См.: Staff J. Op. cit., S. 183.
81
и Tugendpflichten13, государства как правовой общности и церкви как этической
общности (не случайно, что и в "тотальном государстве" атеиста К. Шмитта
и в "самодержавной монархии" православно верующего Ив. Ильина не
оказывается места для церкви — оно "занято"). В альтернативе "автономия —
гетерономия" оба отдают предпочтение гетерономии (вспомните ильинский "План для
окончания мысли"). По сути дела, в их теоретических построениях происходит
реставрация патерналистского государства.
Но не только К. Шмитт и близкие ему по духу другие теоретики
веймарского "молодого консерватизма" приходят на ум при знакомстве с идеями
Ив. Ильина. Мы никак не ошибемся, если скажем об этих идеях: "здесь
русский дух, здесь Русью пахнет". Я уже говорил выше о "славянофильских"
корнях концепции самодержавной монархии, о великой отечественной традиции,
которую он с блеском продолжил и развил. Но это было, так сказать,
установление интеллектуального родства по временной вертикали, а сейчас следует
указать на родство и по временной горизонтали. Конечно, я имею в виду
евразийцев — великолепную плеяду идеологов и ученых, принадлежавшую к первой
волне эмиграции. Как и в случае с К. Шмиттом, речь идет не о
содержательной идентичности теорий, а (прежде всего!) о типологической близости
структур мышления.
Если учение о "тотальном государстве" определялось самим же автором как
"политическая теология", если проект самодержавной монархии Ив. Ильина я назвал
"правовой теологией" (совсем не случайно, не походя, не ради красного словца),
то корпус евразийских идей — безусловно, с известной долей осторожности,
неизбежно в чем-то зауживая тему, но выявляя все-таки главное — можно
охарактеризовать как "политико-историософскую теологию". К. Шмитт перенес
теологические понятия в область государствоведения14, Ив. Ильин — правоведения
(так реализовал он свою "первоначальную интуицию" — "не выходя из пределов
науки, выйти за пределы юриспруденции"), евразийцы — в сферу историософии
и политики. Теоретики евразийского движения тоже отвергли "республику",
правовое государство, — либеральную демократию и т.п., тоже сформулировали
альтернативную — скажем, для краткости, Кантовой — модель государства,
которая одновременно соответствовала неким вечным российским архетипам и
ценностям. Точнее, в рамках евразийства были разработаны две близкие,
дополнявшие друг друга, но не полностью совпадающие, концепции "государства правды"
и "идеократического, демотического и гарантийного государства".
Различные идейные компоненты "государства правды" евразийцы находили в
древних русских летописях, которые проникнуты стремлением "соблюсти
изначальную истину, покорить человеческую волю, человеческое "самочинение",
религиозно-государственной правде"15. Вообще, доктрина "государства правды" как бы
имманентна русской истории и культуре (правовое же государство — западной
истории и культуре). "Государство правды" — это и "Москва — Третий Рим",
и учение Иосифа Волоцкого, и славянофилы, и Ф.М. Достоевский, и П.И.
Новгородцев. Евразийцы (по их собственному разумению) подхватывают у них
эстафету и уточняют данную доктрину применительно к современности. В идеале
"государство правды" есть "подчинение государства началу вечности". Перво-
13 В этом контексте более понятна принципиальная установка Ив. Ильина: "Сущность
монархии, как и самая сущность права, — имеет природу сверх-юридическую. Это
означает, что для разрешения вопроса об отличии монархии от республики необходимо, не
выходя из пределов науки, выйти за пределы юриспруденции. Надо, не порывая с научным
материалом государственных законов, политических явлений и исторических фактов,
проникнуть в их философский, религиозный, нравственный и художественный смысл и
постигнуть их как состояния человеческой души и человеческого духа" ("О монархии и
республике". Та м же, с. 109). Эти "состояния человеческой души и человеческого духа" напомнили мне
того же К. Шмитта, согласно которому, как мы знаем, источник права есть "экзистенциальное
решение", возникающее в глубинах народной жизни, а само право — "экзистенциальный
строй", трансцендентный по отношению к позитивным законам.
14 Он назвал эту операцию — полемически реинтерпретируя термин X. Блюменберга —
"понятийной перестановкой" (Schmitt С. Politische Theologie, S. 110).
Шахматов М. Государство правды (Опыт по истории государственных идеалов в
России). — "Евразийский временник", кн. 4. Берлин, 1925, с. 270.
82
степенное значение для него имеет "вопрос о преемстве благодати от Бога".
Цель "государства правды" — спасение душ подданных, защита чистоты
православия. "Государство правды" — институт не только внешний, но и "внутри
нас есть"16.
"Идеократическое, демотическое и гарантийное государство" являлось как бы
переводом "государства правды" (которое все-таки по преимуществу "тенденция
и стремление", а не феномен практики) с языка вечности на язык
повседневности. Идеократический характер государства должен был проявляться в системе
убеждений и идеологии (на основе православия), которая активно проводится
им в жизнь. "Демотичность" означала органическую связь между индивидами,
которая превращала их в некое органическое целое, симфоническую личность.
В "демотическом" евразийском государстве основное внимание сосредоточивалось
на "практической жизни", в то время как в либеральной и правовой
демократии Запада — на политике; тем самым массы отвлекались от "реальных
хозяйственных потребностей". Что касается "гарантийности", то под ней понималось
сочетание максимально возможного государственного контроля с "защитой прав
граждан"17.
Еще раз скажу: между евразийской моделью государственного устройства России
(вернее — для России) и той государственно-правовой концепцией, которую
всю жизнь разрабатывал Ив. Ильин и которая нашла свое воплощение в книге
"О монархии и республике", очень много несхожего и несводимого друг к другу,
но поверх различий самое важное — одна (в принципе) структура мышления.
Утопическая, антиплюралистическая, антидемократическая, вне- и надысторическая
(при всей внешней "привязке" к отечественной истории), антиевропейская,
антилиберальная. Оба этих подхода — варианты русской консервативной утопии,
облаченные в терминологию двадцатого столетия, опаленные трагическим опытом
революции и большевистского террористического режима, а также межвоенным
кризисом западной либеральной цивилизации.
Ровесник Ив. Ильина о. Павел Флоренский в гениальной по точности и
простоте формулировке как бы подвел итог исканиям нашей дореволюционной
"государствоведческой" мысли: "В сознании русского народа самодержавие не
есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, — милость Божия,
а не человеческая условность, так что самодержавие царя относится к числу
понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не
выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную и
государственную пользу"18. Далее приходит Ив. Ильин и совершает невозможное —
взрывает это оплаченное столетиями мировоззрение и... тем самым, сохраняет в нем
главное. Он "снимает" противопоставление понятий правовых и вероучительных.
Делается это, как уже было показано, двумя способами — за правом, наряду
с "Откровением, Истиной, добром, красотой", признается ранг "великого
духовного Предмета" и одновременно на правовые понятия (правосознание,
правопорядок) переносится содержание понятий теологических. Так становится
возможным высший, идеальный тип правового государства — самодержавная
монархия. И — не отменяется формулировка П.А. Флоренского. И — старое вино
вливается в молодые мехи.
И еще один подвиг совершает Ив. Ильин. Когда его родина корчилась
в кровавых судорогах и на дворе стояло темнейшее и безнадежнейшее
"тысячелетие", он нашел способ прославить Россию и возвестить ее высшую в мире
участь. Он предложил постигать монархию и республику "как состояния
человеческой души и человеческого духа". Отсюда следовало, что монархия, как высший
тип государственности, отражает высшее состояние человеческой души и
человеческого духа. Поскольку же "у всякого народа своя особая душа, и помимо
нее его государственная форма непостижима"19, а монархия соответствует именно
русской "душе", то Россия и есть высшая в мировой истории "душа"...
Так может ли спастись наше Отечество по рецепту И.Ильина? Убежден —
16Там же, с. 291-305.
17 Алексеев Н.Н. Куда идти? К вопросу о новой Советской конституции. Б/м., б/г., с. 20-22.
18Флоренский П.А. Около Хомякова (критические заметки). Сергиев Посад, 1916, с. 26.
19Ильин И.А. О монархии и республике. Там же, с. 127.
83
не может. В "Высокой болезни" Б. Пастернак говорит о последних днях
царствования Николая II, когда тот в поезде метался по Псковской губернии, пытаясь
прорваться к вздыбленному уже революцией Петрограду: "И уставал орел
двуглавый, // По Псковской области кружа, // От стягивающейся облавы //
Неведомого мятежа. // Ах, если бы им мог попасться // Путь, что на карты
не попал. // Но быстро таяли запасы // Отмеченных на карте шпал..."
Ив. Ильин, по сути дела, всю свою жизнь искал для двуглавого орла путь,
который "не попал на карты". Карты — исторические. Но на них "запасы
шпал", по которым царский поезд мог устремиться в будущее, "быстро таяли".
Судя по всему, у реального — а не идеального! — самодержавия имелись
две возможности. Либо превратиться в конституционную монархию и,
следовательно, сущностно трансформироваться, либо — пасть. Случилось последнее. Семь
с лишним десятилетий коммунистического режима перепахали историческую почву
страны. Наша трагедия, наша беспомощность на сегодняшнем распутье во многих
отношениях объясняется и тем, что мы не знаем общества, в котором живем
("Под собою не чуя страны"). Не умеем поставить верного диагноза его
страшным болезням. Наложить на него очередную утопию, утопию идеального —
хотя и "правового", по Ив. Ильину, — самодержавия не значит найти выход.
Скорее всего, мы получим какую-то новую форму тоталитаризма или
идеологического прикрытия его.
Ну, а Ив. Ильин честно выполнил свой долг, свою миссию. Идея
самодержавной монархии как вечной модели для принципиально
"несовершеннолетней" России нашла в нем, может быть, самого крупного, самого выдающегося
в XX столетии теоретика и апологета.
Ю. С. Пивоваров
84
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ПУБЛИКАЦИИ
Предисловие к публикации
Переписка о. П. Флоренского и В.А. Кожевникова начинается в марте 1912 г.
и заканчивается в июле 1917 г.
В сознании последующих поколений это время ассоциировалось прежде всего
с предреволюционной и революционной ситуациями, которые сейчас уже не
воспринимаются столь "романтически". Теперь нас начинает все больше интересовать
то, что происходило тогда в культурной жизни России. Это был период
удивительного расцвета, связанный с поисками и находками в разных областях
культуры, в особенности в литературе, живописи, театральном искусстве, —
время, именуемое сегодня "серебряным веком" русской культуры, ее Ренессансом.
Современный интерес к духовной жизни, явлениям культуры тогдашней России
вызвал возвращение многих имен писателей, философов, мыслителей, деятелей
культуры тех лет.
Но, отходя от естественной первоначальной эйфории и по отечественной
традиции стремясь найти в прошлом руководство для жизни, мы обращаемся также
к деятельности тех людей, которые видели свой долг и духовное призвание
в сохранении света христианской веры, вопреки всем социальным катаклизмам
и житейским невзгодам. Их волновало прежде всего духовное здоровье России;
многие из них сами испытали интеллектуальные искушения на путях к
православию.
Публикуемые ниже письма передают ту духовную атмосферу, в которой жили
в сравнительно недолгий хронологически, но очень насыщенный интеллектуально
период два деятеля русской культуры, близкие по духу и верности
христианским идеалам.
Перед нами 50 писем1. Из них лишь 9 принадлежат Флоренскому. Что
касается писем, записок, телеграмм Кожевникова, то все они не только любовно
сохранены о. Павлом, но и полностью переписаны им в 1918 г. в особую
тетрадь2 (он готовил их к изданию3). Письма носят откровенно-доверительный
характер и многое дают для продолжения знакомства с личностью и
творчеством П.А. Флоренского. Вместе с тем, — и это в данном случае особенно
ценно, Они открывают читателю замечательного и, к сожалению, мало и
односторонне известного до сих пор деятеля русской культуры — Владимира
Александровича Кожевникова4.
Флоренский, конечно, не нуждается в представлении; напомним лишь некоторые
факты его биографии, которые явно или скрыто связаны с темами переписки.
С 1908 г. Флоренский преподает в Московской Духовной Академии, на кафедре
истории философии. В 1914 г., после защиты магистерской диссертации, он
утвержден в ученой степени магистра богословия и в звании экстраординарного
профессора истории философии МДА. В том же году выходит книга "Столп
и утверждение Истины", над которой Флоренский работал более 10 лет. Летом
1910 г. он женился и поселился в Сергиевом Посаде на Штатной улице, в
доме Озерова. В 1911 г. родился его первый сын, Василий, а в 1915 — второй
сын, Кирилл.
Включая запись Флоренского о происхождении Н.Ф. Федорова, его соболезнующее
письмо родным Кожевникова и телеграмму от редакции "Богословского вестника"
Константинопольскому Патриарху.
2 Хранится в архиве семьи Флоренских.
3См. "Возвращение забытых имен. Павел Флоренский". Каталог выставки. М., 1989, с. 16.
4 Он известен лишь как друг и издатель трудов Н.Ф. Федорова.
85
Неоспоримо, что Флоренский был выдающимся философом, математиком и т.д.;
но стержнем его личности, по известному свидетельству его друга С.Н.
Булгакова и знатока его жизни и творчества игум. Андроника (Трубачева), было
священство, к которому, по словам последнего, Флоренский стремился "в течение
многих лет, чувствуя в этом и духовное, и родовое призвание"5.
Флоренский был рукоположен еп. Феодором, ректором МДА, сначала в сан
диакона (23 апреля 191! г.), а на следующий день — в сан священника. О
том, что значило для Флоренского священство, он пишет В.В. Розанову: "Какой-то
невыразимый, неосязаемый, непонятный для меня самого внутренний мир
снизошел в душу, в сердце, во все тело. Я вернулся к предкам6, и теперь,
за несколько дней этих, я так привык к своему положению <...>, что мне
диким и непонятным кажется, как же это было раньше, не верится, чтобы
могло быть иначе. Вся психология перевернулась. Вы поймете, Василий
Васильевич, что это значит — почувствовать на себе руку епископа, непосредственно
соединенного телесно, физически с другим епископом... с Апостолами, с самим
Христом. Ведь на себе чувствуешь не иносказательно, а буквально руку Христа
Самого"7. И ровно через пять лет Флоренский делает такую запись,
говорящую о жизнеопределяющем значении для него этого события: "Что делал бы
я, как жил бы без сана? Как метался бы и скорбел <...> Правда, было много
страданий, много неприятностей, связанных с саном, но что они все в сравнении
с даром благодати!"8
Зимой 1915 г. о. Павел как священник Красного Креста ездил на фронт.
Весной того же года изменился его адрес в Сергиевом Посаде: он приобрел
дом на Дворянской улице9. На известной картине Нестеров изобразил о. Павла
в саду этого дома.
С 1912 г. Флоренский возглавлял журнал МДА "Богословский вестник".
Как редактор, он стремился к тому, чтобы разнообразный материал был
связан с основными идеями православного богословия и, вместе с тем, чтобы
академический орган был "легко читаемым, интересным журналом". Вот основные
направления, которые, по замыслу Флоренского, должны были явиться
программными для журнала:
"1. Аскетизм против эвдемонизма; 2. эллинизм против "романтизма"; 3.
созерцание против рационализма; 4. свет эллинизма и Православие; 5.
"славянофильство"10 (как символ); 6. мистическая трезвенность против истерического энтузиазма
и прелести; 7. таинства; 8. имена; 9. вкус к конкретности — и древней в
особенности; 10. ^личность против вечности и т.д., и т.д.; 114 антихристианская
мистика; 12. масонство и т.п.; мирность против треска"11.
Проведение своей линии в журнале ("воцерковление науки" и борьбу "против
расхищения духовного достояния Церкви"12) Флоренский связывал с участием в
нем своих единомышленников: среди желаемых сотрудников первым он назвал
(в письме к В.Ф. Эрну от 24-25 сентября 1912 г.13) именно В.А. Кожевникова.
Не исключено, что в этом был и редакторский расчет (Флоренскому было
известно, как много неизданных работ у Владимира Александровича), но
несомненно и то, что по духу и направлению своей деятельности Кожевников
был в числе наиболее близких к нему людей.
Деятельность Флоренского, по словам игумена Андроника (Трубачева), явилась
связующим звеном между Московской Духовной Академией и Московским
Религиозно-философским обществом, внутри которого сложилась группа строго
православной ориентации, объединившаяся в Кружок ищущих христианского прос-
5 "Богословские труды", т. 28. М., 1987, с. 292.
6 Дед Павла Александровича был священником.
7 "Богословские труды", т. 28, с. 293.
8Там же, с. 295.
9Теперь это дом N 19 на Пионерской улице.
10 Этот термин Флоренский считал неточным, "малоподходящей и уродливой кличкой"
("Около Хомякова". Сергиев Посад, 1916, с. 12).
11 "Богословские труды", т. 28, с. 302. Этот перечень настолько характерен для
Флоренского, что воспринимается как программа его собственных произведений.
12Там же, с. 301.
!3Там же.
86
вещения14. Участники Кружка выступали за реформу управления,
однако с недоверием относились к Владимиру Соловьеву и его школе и черпали
вдохновение в монашеской традиции. Они были убеждены, что истинный голос
русского христианства исходит не из официальных церковных кругов, но из учения
старцев, сохранивших нетронутым его подлинный дух"15.
Скорее всего, по инициативе еп. Феодора (Поздеевского), сразу трое участников
Кружка, в том числе В.А. Кожевников, были избраны в 1912 г. в почетные члены
МДА16. Знакомый до этого лишь узкому кругу людей, Кожевников приобретал
всероссийскую известность. Человек исключительной скромности и щепетильности, не
уверенный в качестве своих работ, он воспринял сообщение о. Павла о предполагающемся
избрании со смущением, что и послужило поводом к "своего рода исповеди"17.
Предрасполагало к такой реакции и общее душевное состояние Кожевникова в те
годы, о чем он пишет Ф.Д. Самарину как раз летом 1912 г.: "Я за
последнее время стал как-то умственно хандрить, главным образом под влиянием
сознания, что вечер жизни уже столь краток для меня впереди, что является
трагический вопрос: а есть ли смысл продолжать делать что-либо в том
направлении, в каком я трудился как мог и умел доселе? Не пора ли от
книжного любознания и философского и ученого любомудрия уйти порешительнее,
да поглубже, внутрь своей, хотя бы и суетной и грешной души, дабы ее
интересами заняться всецело, пока не минул единодесятый час..."18.
"Исповедальное" письмо к Флоренскому раскрывает нам историю внутренней жизни
Кожевникова.
Но прежде познакомимся с внешней стороной его жизни. Владимир
Александрович Кожевников родился 12 мая 1852 г. в уездном городе Козлове
Тамбовской губернии в семье состоятельного и образованного купца, потомственного
почетного гражданина19. Он получил прекрасное домашнее образование, в юности
посещал вольнослушателем лекции в Московском университете, а потому не мог
быть допущен к выпускным экзаменам и свидетельства бб окончании
университета не получил. В 1875 г. завязалось его знакомство с Н.Ф. Федоровым.
Исключительная любознательность, работоспособность20, широта интересов и
огромная эрудиция, которая позволяла ему, по словам С.Н. Булгакова,
"чувствовать себя дома, по крайней мере, в доброй полдюжине наук, в разных
искусствах, в религии и философии"21 при отсутствии стремления сделать научную
карьеру, — дают основание назвать В.А. Кожевникова, по аналогии с известным
словосочетанием "свободный художник", — свободным ученым.
Кожевников много путешествовал, совершил паломничество в Святую Землю,
много лет провел в Западной Европе, занимаясь в крупнейших европейских
книгохранилищах. Внешне его биография небогата яркими событиями22.
Упомянутое "исповедальное" письмо В.А. Кожевникова, дающее нам счастливую
возможность познакомиться с его духовной жизнью, было написано в ответ на просьбу
Флоренского выслать список работ для представления к званию почетного члена
МДА. Одного взгляда на приложенный к письму список23 достаточно, чтобы понять:
связывать имя Кожевникова только с Федоровым и его учением неверно. Диапазон
его работ поразительно широк. Упомянем некоторые из них.
Обращает на себя внимание большая книга "Философия чувства и веры в ее
отношении к рационализму XVIII века и к критической философии" (М., 1897).
14 Этот Кружок назывался также Новоселовским, по имени одного из его основателей, М. А.
Новоселова.
15 Зерно в Н. Русское религиозное возрождение XX в. Париж, 1974, с. 121.
16"Богословский вестник", 1912, N 12, с. 863-871; представление Кожевникова и М.А.
Новоселова написал Флоренский. Избран был также Ф.Д. Самарин.
17 Так называет свой рассказ Кожевников в письме от 14.111.1912.
18ГБЛ, ф. 265, п. 191, N 4 (от 18.VII.1912 г.).
19 Кстати, "ген научности" был силен в этой семье: два брата Владимира Александровича
проявили себя как выдающиеся ученые-естественники; потомки его тоже избрали научную
стезю.
20
Кожевников мог трудиться за письменным столом по 14 и более часов в сутки.
21 "Христианская мысль", Киев, 1917, N 11/12, с. 75.
22 Об этом писал в одном из писем сам Владимир Александрович.
23 Список своих опубликованных и неопубликованных сочинений Кожевников приложил
к тому же письму от 14.III. 1912 г.
87
В конце книги В.А. Кожевников, указывая на недостаточность для решения
жизненных задач как философии рассудка эпохи Просвещения, так и более ему близкой
"философии чувства и верьГ Гамана и Якоби, с воодушевлением неофита
провозглашает основные принципы "общеполезной философии дела", которой, по его мнению,
необходимо придать наукообразность, чтобы она стала "философией будущего".
Конечно, обойти "федоровскую" линию в творчестве В.А. Кожевникова 1890-х —
начала 1900-х годов нельзя. В его сочинениях (и особенно стихотворениях) тех лет
проводятся идеи этого самобытного мыслителя. В первую очередь к ним относятся
книга "Бесцельный труд, "не-делание" или дело? Разбор взглядов Эм. Золя,
Александра Дюма и Л.Н. Толстого на труд" (М., 1893) и очерк "Обыденные храмы в
Древней Руси" ("Русский вестник", 1900, N 1).
После 1907 г. большая часть работ В.А. Кожевникова выходит в новоселовской
"Религиозно-философской библиотеке" и носит в основном апологетический характер:
"Отношение социализма к религии вообще и к христианству в частности" (вышло
три издания, первое — М., 1908); "О добросовестности в вере и в неверии" (М.,
1909); "Исповедь атеиста. По поводу книги Ле-Дантека "Атеизм" (М., 1910); "О
значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем" (М., 1910); этот "этюд",
получивший высокую оценку современников, является одним из лучших
произведений Кожевникова. С пафосом написанная брошюра "Мысли об изучении
святоотеческих творений" (М., 1912) призывает общество обратиться к сокровищам
духовным и "соединить неветшающее древнее со здоровым новым"24. Своей
философичностью выделяется изданная позже "Религия человекобожия Фейербаха и Конта"
(Сергиев Посад, 1913)25.
Делом последних лет жизни Кожевникова, самым значительным его вкладом
в науку явился фундаментальный труд "Буддизм в сравнении с христианством"
(Т. 1-2, Пг., 1916). Был подготовлен и третий том, но выпустить его не
удалось. Вот что говорит сам автор о цели и методе своей работы:
"...побуждением к моей работе было желание противодействовать вышеназванным
объективным способом26 тем грубо ошибочным представлениям о сходстве буддизма
с христианством и о влиянии первого на второе. После обильных
апологетических произведений, им противопоставляемых, мне казалось все же, что
наилучшим опровержением относящихся сюда недоумений и заблуждений может
быть не столько вновь и вновь повторяемое разъяснение хорошо известных
идей и тенденций христианства, сколько точное, на первоисточниках
основанное ознакомление с буддизмом в его подлинных чертах, не принаряженных
и не подмалеванных необуддийскою и иною пропагандою. Вот почему свое
сравнение буддизма с христианством я, насколько умел, старался проводить
не путем сопоставления мелких деталей и не полемическим обличением буддизма,
а путем разоблачения его существенных основ, тенденций и целей, настолько
противоположных христианским, что после освоения с ними вопрос о мелких
аналогиях и случайных, самобытно возникших совпадениях в некоторых
частностях представляется уже лишенным значения"27. Такой подход говорит об
исключительной добросовестности Кожевникова как ученого.
Книга о буддизме получила высокую оценку в научных кругах28. Многолетняя
дружба и сотрудничество с Н.Ф. Федоровым ознаменовались изданием как
сочинений самого Н.Ф. Федорова в двух томах (Верный, 1906; М., 1913) и
подготовкой третьего — совместно с последователем Федорова Н.П. Петерсоном, —
так и книги "Н.Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и
неизданным произведениям, переписке и личным беседам" (ч. I, M., 1908). После
упомянутого двухтомника эта книга является самым надежным источником для
изучения наследия замечательного мыслителя.
24 Из письма к Ф.Д. Самарину от 31.VIII.1912 г.
"Интересно, что так же назвал свою статью о Фейербахе С.Н. Булгаков: "Религия
человекобожия у Фейербаха" ("Вопросы жизни", 1905, N 10-11, с. 236-279, N 12, с. 74-102].
По словам самого автора (из предисловия к труду), этот способ — приведение текстов
первоисточников.
""Буддизм...", т. 1, с. VIII-IX.
28 См., напр., рецензию В.В. Зеньковского в "Христианской мысли", 1917, N 1, с. 137-
138 и письмо Кожевникова к Флоренскому от 22.IX.1922 г. о положительном отклике
профессоров МДА на его труд.
88
Но опубликованное — это только как бы видимая часть айсберга, лишь
немногое из всего написанного Кожевниковым. Остался неизданным
многотомный труд, посвященный "истории перехода европейского сознания от
религиозного миро- и жизневоззрения к светскому, гуманистическому". Автору, по его
собственным словам, "хотелось показать, что мы в нем приобрели и что и
как много потеряли"29. Увлеченность самим процессом познавания, стремление
идти дальше и дальше, нежелание тратить время на хлопоты по изданию работ
и явились причиной того, что масса сочинений не была подготовлена к
публикации.
Замысел книг возник, по признанию самого Кожевникова, в связи с
позитивистским, односторонним освещением истории европейского сознания от
Средневековья до эпохи Просвещения западными учеными и историками30.
Оригинальность исторической концепции Кожевникова состояла в признании за идеалами
Средневековья ценности, которая не должна подвергаться сомнению, и
критической оценке эпохи Возрождения.
По мнению Н.А. Сетницкого, автора приуроченного к 10-летию кончины
Кожевникова краткого очерка его жизни и творчества, "построения Владимира
Александровича должны найти отзвук и сочувствие не только в среде исследователей,
но и среди самых широких кругов публики, интересующейся вопросами истории
европейской культуры и истоками, откуда вырос переживаемый нами мировой
кризис. Можно думать, что в оценке его и в исследовании его корней и
пройденных им этапов развития ни одному исследователю нельзя будет пройти
мимо построений Владимира Александровича Кожевникова"31. Но, к сожалению,
эта концепция не нашла продолжателей, и, пожалуй, только у А.Ф. Лосева, в его книге
"Эстетика Возрождения" (М., 1978), мы встречаемся со схожими взглядами.
Сам подход к этому периоду европейской истории Флоренский в
официальной характеристике почетного члена МДА Кожевникова объясняет
"сознательной личной религиозностью и преданностью Церкви"32. Все последнее
десятилетие жизни Кожевникова его деятельность была направлена, по его
собственному признанию, на "возведение ограды церковной", чтобы отделить "Церковь
Православную и ее великое учение от учений ей чуждых и враждебных"33.
(Вспомним тот же "Буддизм в сравнении с христианством".)
Но сокрушения Кожевникова о бесплодности сделанного им носят сугубо
субъективный характер и во многом объясняются возрастом и состоянием
здоровья Владимира Александровича в это время34. Они не должны влиять на
объективную оценку опубликованных работ. И высокая оценка их Флоренским35 —
очень веский аргумент для этого. Исповедальный характер письма Кожевникова,
судя по всему, оказался неожиданным для о. Павла; в своем ответе36 он
скрывает некоторую растерянность с помощью богословской и философской
эрудиции, подкрепляя доводы примерами из собственной жизни. Духовный опыт
Флоренского послужил основой для написания "Столпа и утверждения Истины".
Идеи этой и более ранних работ отражены в письме (о благодатности покоя,
о страстях и др.)37- Однако, при всей верности и глубине его мыслей, сам
Флоренский не был удовлетворен своим ответом: в нескольких письмах он
вновь возвращается к судьбе Кожевникова, и это продолжается более четырех
месяцев. В этих письмах Флоренский предстает перед нами прежде всего как
священник, отец Павел, воспринявший всем сердцем душевную боль Владимира
Александровича.
29 См. письмо от 14.111.1912 г.
30 Имеются в виду такие историки и ученые, как В.Г. Лекки, Дж.-В. Дрэппер, Г.-Т. Бокль
(очень популярные в 60-70-е годах XIX в. среди демократически настроенных читателей России).
31Сетницкий Н.А. Владимир Александрович Кожевников (1852-1917-1927). — В кн.:
"Высшая школа в Харбине**. Известия юридич. ф-та, т.4. Харбин, 1927, с. 323-28.
""Богословский вестник'*, 1912, N 12, с, 868.
33Дурылин С.Н. Ученый-христианин. — "Возрождение**, 1918, N 9, с. 14, 15.
34 См. письмо к Ф.Д. Самарину от 18.VII. 1912 г., отрывок из которого мы приводили выше.
35См. там же.
36 См. письмо от 15.111.1912 г.
37См. Флоренский П.А. Общечеловеческие корни идеализма. Сергиев Посад, 1909;
его же. Соч. в 2-х томах. М., 1990.
89
Письма этого периода особенно ярко свидетельствуют о том, что перед нами
переписка священника и мирянина. И первый старается ободрить второго,
поддержать в нем уверенность в полезности его работы.
Флоренский предлагает В.А. Кожевникову и практическую помощь в издании
его трудов.
Ценность же работ Кожевникова он видел в той оригинальности, которую
находил только "у апологетов и Климента Александрийского"38. Она заключалась
в стремлении к единству веры и знания, науки и жизни, выявлении истины
в истории, в науке, в жизни. Кожевников, по словам Флоренского, достигал
этого, "привлекая множество носителей идей, давая возможность высказаться
каждому живому носителю, не навязывая своих искусственных построений". При этом,
считал Флоренский, "нужен величайший такт, чтобы остановить внимание на
голосах не случайных, а действительно характеризующих общее состояние умов
и сердец"39.
Флоренский особо выделяет тонкость и конкретность исследований Кожевникова:
"Ваши "срезы" микротомические неверующей и полуневерующей души по
справедливости должны занять одно из первых мест в кабинете изучения
религиозной жизни", — пишет он в том же письме.
Особенно высоко ставит Флоренский отношение Кожевникова к слову, его
высокую "культуру слова, гигиену слова", которую не все способны оценить40.
Стремление к высокому компромиссу явилось для Кожевникова
вдохновляющим началом его творчества. Он писал В.В. Розанову: "Ищу примирения,
а не противопоставления земного с небесным, ну, значит, и оправдания, raison
d'etre и природы, и красоты, и любви, и чувства..." ("Вестник РХД", 1984,
N 143, с. 95).
В этом письме В.А. Кожевников предстает очень русским человеком — не только
по характеру, но и по задаче, которую он поставил перед собой, что почти
полностью соответствует характеристике, данной Б.П. Вышеславцевым
устремлениям, свойственным русскому человеку: "В русской душе есть стремление к
универсальности, предельной полноте, постоянная жажда «объять необъятное»,
захватить, испытать, пережить все; а это значит — изжить все контрасты,
предельные противоположности". Русская душа, — продолжает философ, — "страдает
оттого, что не только хочет полноты, захвата всех контрастов, но и жаждет
мира, успокоения, гармонии"41.
Но это — "природная" основа устремлений Кожевникова. Философия же их
лежит в следовании традициям святоотеческой мысли, продолжателями которой
в России были старшие славянофилы. И вот что писал один из них,
характеризуя отличие православного склада мышления от западного: "Главный характер
верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные силы
души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум,
и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и
желаемое, справедливое и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое
единство, и таким образом восстанавливается существенная личность в ее
первозданной неделимости"42.
Приведенные выдержки, на наш взгляд, могут быть полностью отнесены к
В.А. Кожевникову, и не только на основании писем, но и по самому характеру
и целям его сочинений.
Сложна и дискуссионна богословская проблема, из-за которой возник
"афонский спор"43; столь же трудно однозначно отнестись к критике Флоренским
некоторых взглядов А.С. Хомякова в книге "Около Хомякова". Эта критика
не должна рассматриваться как отход от ориентации "старших славянофилов"
38 См. письмо от 17 августа 1912 г.
39 См. письмо от 15 августа 1912 г.
40 »/•
Как видно из этих писем, понятия слово , имя были центральными в системе
взглядов Флоренского.
41 См. Вышеславцев Б.П. Религия и безрелигиозность. В сб.: "Проблемы русского
религиозного сознания'*. Берлин, 1924, с. 28.
42См. Киреевский И.В. Поли. собр. соч. в 2-х томах. Т. I. M., 1911, с. 275:
43 Об этой проблеме см. комментарии к переписке.
90
на православие, на святоотеческое наследие, о своей приверженности которым
о. Павел писал и до, и после упомянутой работы.
Особый интерес представляет затронутая в переписке тема отношения к Н.Ф.
Федорову. Пожалуй, впервые мы узнаем о глубокой заинтересованности
Флоренского личностью и идеями Федорова. О. Павел сам признает сходство
понимания ими философии Канта (критическая оценка этой философии была
свойственна многим русским мыслителям). Близко Флоренскому и отношение
Федорова к прошлому, к предкам. (Это могло бы побудить наших философов
заняться исследованием темы "Флоренский — Федоров".)
Что же касается Кожевникова, то его критическое* отношение к
центральным идеям Федорова до сих пор не обсуждалось. Наоборот, его • иногда
ошибочно представляют учеником и последователем Федорова44.
Неприятие Кожевниковым основных положений учения Федорова имеет не
психологические причины, как часто бывало в истории философии и науки,
когда уязвленное самолюбие ученика искало в учителе изъяны и погрешности,
как бы "беря реванш" за годы пленения своих творческих потенций, часто
мнимых. Отношение его к Федорову скорее приводит на ум известное
древнее изречение: "Amicus Plato, sed magis arnica veritas" ("Платон мне друг, но
истина дороже"). Для Кожевникова отношение Церкви к догмату воскресения
было той истиной, которой он не мог поступиться ради любимого наставника
и старшего друга.
Кожевников, для которого "Православие было родная, неотъемлемая стихия" ,
чья жизнь была связана с церковным бытом, не мог, по словам С.Н.
Булгакова, примириться с тем в учении Н.Ф. Федорова, что противоречило учению Церкви.
Это относится прежде всего к недооценке роли. Божественной благодати в
деле всеобщего воскрешения. С другой стороны, вызвало протест у
Кожевникова и стремление "федоровцев" истолковывать его учение только
рационалистически и материалистически, хотя, по собственному признанию Федорова
в беседе с Кожевниковым, повод к такому истолкованию дал сам автор
"Философии общего дела". Опасения Кожевникова полностью подтвердились: уже в
1930-е годы о. Георгий Флоровский констатировал: "И, строго говоря, ничего
не изменится, если в нем, в учении Федорова, умолчать о Боге (как многие
из продолжателей Федорова теперь и поступают)"46.
Но чувство личной любви и благодарности заставляло Кожевникова искать, —
хотя бы гипотетически, — оправдания учения Федорова.
Нашла отражение в письмах и, видимо, не самая яркая грань таланта
Флоренского — его поэтическое творчество. Быть может, оценка его стихов
Кожевниковым не всех убедит. Но о том, что значил этот вид творчества Флоренского
в проявлении его духовного роста, пишет он сам. Создание
стихотворений Флоренский рассматривал как ранний этап своего развития, а для
создания произведения более высокого рода — мистерии — необходима, как он считал,
духовная зрелость, которой, по его собственному признанию, он еще не достиг.
Сильное впечатление производит письмо, в котором Владимир Александрович
сообщает о. Павлу о скорой и неотвратимой своей смерти. Вскрыв конверт
с рентгеновским снимком, он прочел свой приговор: рак желудка. Кожевников
принял страшную весть "с благодарностью Богу: пошел в церковь помолиться
и теперь чувствовал себя перед лицом Божиим, готовый принять его святую
волю"4 . По воспоминаниям С.Н. Булгакова, эта "трагедия сознательного
умирания" <...> была пережита в подвиге веры, доблестно и достойно". Владимир
Александрович "смотрел в свою открытую могилу и пребывал тверд в вере,
исповедал ее"48.
В последнем, соболезнующем письме родственникам В.А. Кожевникова слова
отца Павла Флоренского о содержательности и полезности сделанного умершим
44 По семейному преданию, и сам В. А. Кожевников возражал против такой
характеристики.
45 "Христианская мысль", 1917, N 11/12, с. 78.
46Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1981, с. 327.
47 См. письмо о. П. Флоренскому от 22.IX. 1916 г.
48 "Христианская мысль", 1917, N 11-12, с. 79.
91
(сомнение в чем мучило последние годы Кожевникова) написаны не только с
целью утешить близких; они несли в себе то понимание слова, которое
является одним из центральных в концепции Флоренского, предполагающей
воздействие "слова на мировой порядок" ("слово преобразует жизнь")49.
И Флоренский, следуя этому своему воззрению, намерен содействовать словами
о ценности совершенного Кожевниковым воплощению их в жизнь. Здесь можно
заподозрить магию и т.п., но если это и магия, то далеко не в том
значении, которое придают этому слову обычно. О расширительной и неоднозначной
трактовке его Флоренским рассказывал А.Ф. Лосев50.
Думается: и судьба В.А. Кожевникова, высота и благородство его стремлений;
его творческий метод, фактически впервые открытый нам Флоренским, и отношение
последнего к своей главной тогда книге, его планы — все то, что мы узнали из этой
переписки, послужит нам для более глубокого понимания жизни России тех лет,
обратит нас к тем ценностям, которые не подвластны времени.
А.В. Шургаия
49Флоренский П.А. Соч., т. II. М., 1990, с. 252.
50 См. Лосев А.Ф. Термин "магия" в понимании П.А. Флоренского. — В кн.:
Флоренский П.А. Соч., т. И, с. 278-280.
Переписка
П.А. Флоренского и В.А. Кожевникова*
1. Флоренский— Кожевникову1
(1912.Ц1.2)
Глубокоуважаемый Владимир Александрович!
Ваш драгоценный подарок так смутил и взволновал меня, что я не успел и не сумел даже
поблагодарить Вас за него. Он пришелся в особенности "вовремя", т.к. я тайком (но об
этом не говорите) подготовляю книгу приблизительно на тему "около Платона"2 и
приблизительно по следующей программе (главы перечисляю только некоторые и не в
порядке): Платон и Церковь. Мифы у Платона. Академия и Дионис. Мистическая
сущность ауацуг|ац'а3. Смерть и рождение. Влияние Платона на богослужебн. церковн.
язык, К истории словоупотребления ^рсх;. Философск. терминология современ. и
Платон. Антиномизм Платона. Значение художествен, формы. "Пир" и "Лизис". Опыт
нового (?) метода определения платоновской хронологии и др.: а за ней, как ее
продолжение, книгу N 2 Эллинизм ("Эллада и Церковь"), которая частями у меня
набросана4. Пишу Вам это как бы оправдываясь перед Вами, потому что мне все еще
очень стыдно смотреть на книгу, которой Вы лишили себя.
К этим темам, равно как и к некоторым другим, давно уже намеченным
и частью разработанным, теперь хочется перейти в особенности. Мой "Столп"5
до такой степени опротивел мне, что я часто думаю про себя: да не есть
ли выпускание его в свет акт нахальства, ибо что же, на самом-то деле,
понимаю я в духовной жизни. И, б.м., с духовной точки зрения он весь
окажется гнилым.
Письмо мое начато, собственно, по следующему поводу. Необходимо иметь,
так сказать, близко от Академии и наготове список Ваших трудов. Чтобы
* Материал из семейного архива любезно предоставлен родственниками П.А. Флоренского.
В публикации сохранены орфография и пунктуация оригиналов. (Ред.)
92
эта необходимость не была Вам странною, я поясню, — хотя и не знаю,
насколько вправе делать это, — поясню, что имеется в виду поднять вопрос
об избрании Вашем в почетные члены Академии, а в более далеком будущем,
если на то не встретится формальных препятствий, о констатировании за Вами
давно уже по существу дела Вам принадлежащей степени доктора. По крайней
мере, согласно новому уставу Академий6 такое констатирование возможно.
Моя (— это уже пока моя только —) мечта как-нибудь устроить С.Н.7,
и я полагаю, что она не так неосуществима, как думает, вероятно, сам он.
Но ему об этом не говорите, а то и без этого Академией его несколько
раз тревожили, и попусту.
Читаю книгу Аскольдова о Козлове8. Признаться сказать, не слишком большая
доза философии, которой обладал Козлов, до такой степени заглушается
полиполигамией, что становится душно в этой атмосфере эгоистических монад и
принципиальных полигамов. Личность Козлова известна мне мало; но невольно
спрашиваешь себя, неужели сын о родном отце не мог написать ничего более
светлого? И неужели незаконность рождения имеет следствием столь законни-
ческое протокольно-неуглубленное освещение родителя? Автору не мешало бы
усвоить ницшевское: "зачем Вам истина?!".
Книга С.Н-ча, — которую я впрочем прочел лишь частично, — как и все
у него, солидна и приятна, хотя я не думаю, чтобы о ней можно было
сказать что-нибудь решительное до 2-го тома:9 c'est l'eschatologie qui fait This-
toriosophie10, и без эсхатологии все можно толковать надвое. Но если он
в самом деле думает представить 1-й том в качестве докторской диссертации11,
то благоразумие требует задержки 2-го включительно до получения степени.
Без эсхатологии все это еще может быть в пределах bon ton "науки", но с
эсхатологией бедный С.Н-ч подвергнется aquae et ignis interdictio12.
Передайте мой привет Вашей семье. Еще раз сердечно благодарю за Платона.
Господь да хранит Вас и всех Ваших.
Преданный Вам
священник Павел Флоренский
1912.Ш.2. Сергиевский Посад.
2. Кожевников — Флоренскому1*.
Москва. 14 марта 191214.
Многоуважаемый и дорогой отец Павел!
Ваше письмо давно получил, и если до сих пор не отвечал на него,
то потому лишь, что оно, одною своею частью, меня смутило и сконфузило
до такой степени, что решил было оставить объяснение до личной беседы,
при свидании. Но сегодня Федор Конст-ч15 спрашивал: получил ли я письмо?
Надо, следовательно, отвечать немедленно, что и исполняю, "скрепя сердце".
Несмотря на длину письма, прочтите все-таки его: это, в некотором роде, —
исповедь, хотя, быть может, и скучная, а грустная во всяком случае. Но
сначала о том, что к ней не относитря!
В письме Вашем две вести меня от души порадовали. Первая весть — о
сосредоточении Ваших дум "около Платона" и в области эллинизма. Обе темы
как раз — Ваши, и Вы, думается, предустацлецы для них. Вам Бог дал
дар углубляться с любовью к корням исторических явлений, способность
прислушиваться сродственною душою к затаенному биению тех естественных
родников, что дают жизненную силу росткам философской думы, поэтической грезы
и религиозного откровения. Но, вместе, дана Вам и благодать восприятия
тех лучей Солнца Правды16, благодаря которым эти таинственные стремления,
заложенные уже и з физической природе, превращаются в источники воды
живой, текущей в Жизнь Вечную17. Вот почему с нетерпением, но и с надеждою,
буду ждать Ваших вдумчивых изысканий на этой ниве, где, для имеющего
очи, чтобы видеть, столько не сжатых доселе, загадочных цветов вещей
античной красоты прильнуло к скромным колосьям христианской мудрости с такою
наивною любовью, что разлучать то, что Бог сочетал в мировых судьбах
и в тайниках личного нащего восприятия, кажется почти дерзновенным, но
93
чему дать оправдание рессурсами последовательного рассуждения, порою, до
отчаяния трудно. Синтез двух мировосприятий, языческого и христианского,
несомненно, должен быть; но, как ни редки, как ни смутны глубокие и чистые
моменты его исторического или субъективного переживания, безотчетное
ощущение этого единения все же убедительнее всякого объяснения его. А между
тем объяснение все-таки необходимо, для оправдания многого входящего в
эти переживания, и, прежде всего, для оправдания смысла вещественности,
а с нею — и красоты, не духовной только, но и воплощенной, "сей Богом
созданной красоты", которая "предающемуся тлению" веществу сообщает, своим
воплощением в нем, отблеск божественного бессмертия, "благолепие нетления"...
Вот и Сергей Ник-ч взял на себя важную задачу также оправдания одного
из элементов вещественной жизни, труда, с новой и радикальной точки
зрения18. В этой оригинальной постановке задачи, сколько я смыслю, — крупное
значение его работы, независимо даже от удачи или неуспешности ее
осуществления, как и сам он думает. Я еще только начал читать эту книгу
и не могу судить о ней детально. Ощущаю некое веяние мыслей Ник. Фед.
Федорова, самостоятельно претворенных... Мне очень хотелось бы видеть эту книгу
переведенною на немецкий язык: там привыкли ко всяким философским
дерзостям, и посмотреть — как была бы принята такая своеобразная "экономика" —
было бы и пикантно, 'и поучительно. У нас же правоверно-кантианствующие
и неокантианствующие гносеологи с одной стороны и практические экономисты —
с другой, боюсь, этой вещи не оценят. — То, что Вы говорите о
возможности устроить С. Н-ча в Академию, есть вторая благая весть в Вашем письме.
Дай Бог удачи в этом! Для Академии это было бы ценное, оздоровляющее
приобретение, да и самому С.Н-чу было бы, я думаю, приятно.
Перехожу к последней стороне Вашего письма, той, которая меня так
смутила и сконфузила. Совершенно искренне говорю, что не понимаю, как могла
возникнуть мысль об очень лестном, конечно, для меня, но совершенно не
заслуженном отличии. Если бы не Вы сообщили этот слух, я готов был бы принять
его за шутливую мистификацию, ибо не вижу оснований для того, о чем
вы пишете. То, что мною опубликовано, слишком недостаточно для
оправдания этого, а то, что лежит под спудом, никому неизвестно и потому в
счет идти не может. Не для той цели, о которой Вы говорите, а для
разъяснения этого, не знаю как возникшего, недоразумения, главным же образом
для того, чтобы вскрыть перед Вами (раз уж повод к тому, помимо моей
воли, дан!) печальную сторону моей жизни, я прилагаю два списка: один —
того немногого, что мною издано, другой — того, что не напечатано, да,
по всему вероятию, уже и не увидит света. Если у Вас только хватит
терпения просмотреть 2-й список и дочитать пояснения к нему в этом письме,
перед Вами встанет достойный и порицания, и сожаления образ маниака,
одержимого настоящим запоем исторического знания, в котором этот субъект
долгие годы полагал главное наслаждение жизни и на который теперь он смотрит
как на некое безумие, отрезвиться от коего однако радикально он и до сих
пор не в силах. Тех лиц, которые были наблюдателями этого странного
процесса и относились к нему сочувственно, уже нет со мною19, а новым друзьям
своим я лишь вскользь намекал на это. Вам же хочется поисповедаться в
этом не то грехе, не то несчастии, не без затаенной надежды на то, что
не осудите строго, а пожалеете меня; да и сам по себе урок этот не
бесполезен...
С детства владевшая мною страсть к чтению, сначала беспорядочному,
разнообразному, потом, когда я задумался над религиозными вопросами ,
сосредоточилась на последовательном изучении наиболее важных философских и
религиозных произведений. Я шел подряд, от древности до новейшего времени,
по первоисточникам, добавляя затем исторические и критические работы, к ним
относящиеся. Накопилась груда матерьялов; почувствовалась потребность
воспользоваться ими для какого-нибудь крупного труда. В 70-х годах, отчасти под
впечатлением книги Лекки и в противовес его "Истории рационализма"21, меня
охватила мысль написать историю перехода европейского сознания от
религиозного миро- и жизневоззрения к светлому, гуманистическому, историю (за
неимением иного термина) обмирщения, "секуляризации" европейской культуры от Воз-
94
рождения до XIX в. Этот процесс представлялся мне самым существенным в
эволюции современного умственного и нравственного сознания и определения
им частной и общественной жизни. Это должна была быть генетическая история
преобладающего направления новой культуры. И мне хотелось показать, что
мы в нем приобрели и что и как много, потеряли. Я углубился в эту работу
действительно как маниак, зарывался в нее, с утра до ночи, в продолжение
почти 20 лет, причем лет 14 ни с кем не был знаком, никуда не ходил,
и переворочал такую уйму книг, здесь и за границею, что теперь краснею
от стыда при одном воспоминании о трате времени на столь кое неважное,
мелочно-детальное. Но тогда этого ничего не чувствовалось; было, напротив,
удивительно покойно и даже радостно на душе, по мере того, как та или
иная область, еше неведомая мне, начинала проступать из тумана прошлого,
сначала смутно, потом яснее, и душа моя приобщалась на время к ней,
как к близкой, чтобы понять ее, а потом... бросить... и спешить дальше,
в другую, следующую... План был широкий, матерьял огромный; то и другое
втягивало и всасывало меня в себя; подготовительные работы разрастались в
ряд монографий и свести их в целое, стройное и сжатое, оказывалось уже
невозможным. Я помирился было с мыслью издавать отдельные работы,
связанные общим духом и направлением. Но тут вышел перерыв в деле, по
обстоятельствам личным, тяжелым, горестным... Затем Ник. Фед. Федоров взял меня
на свою работу; я не протестовал; помогал ему, писал, переписывал... Умер
Н.Ф., завещавши мне свои рукописи; разбор их был медлителен и труден;
издал 1-й том его; подготовил 2-й22, издал свою книгу о нем23; начал 2-ю
часть ее... Все это взяло порядочно времени. Тем временем Мих. Ал-ч24 указал
другое дело, более нужное, более жизненное25; я признал это; как умел, занялся
им и, в связи с этим, кое-какими другими темами. И опять несколько лет
прошло... А теперь мне уже 60 на плечах!.. И вот сзади меня, —
чудовищная по объему, груда мертворожденных работ, а впереди, при надвигающемся
ощущении близкого конца, — унылое сознание непроизводительно загубленных,
многих лет и, что всегда трагичнее, несмотря на это сознание, — все еще
не задушенная страсть учиться, учиться,... хотя давно уже ясно мне, что смысл
и цель жизни — не в накоплении знания и что мне самому жажда его —
доказанная помеха осуществлению действительного смысла жизни. Пробовал бросать,
уменьшать... — тоска, расслабление! Продолжаю работать, — забываюсь, а
опомнюсь, — мучительный вопрос "зачем? для чего? что толку из этого?"...
Ну вот, дорогой Павел Александрович, "сказал" Вам свою невеселую повесть,
но "души не облегчил"26. Не знаю, как Вы примете это странное признание;
для меня же было бы очень ценно слово Вашего духовного совета, именно
Вашего, потому что при, известном мне, Вашем духовном устроении относительно
главного, в Вас горит и светит любовь к знанию, и Вы поймете даже и
тут аберрацию этой любви, которую я Вам кое-как здесь изложил. Конечно,
все это — между нами! Мне больно и стыдно об этом говорить: стыдно —
перед собою, больно — перед людьми. Вероятно и с Вами не заговорил бы,
если бы совершенно неожиданное, не от меня идущее обстоятельство не
натолкнуло на это. Простите, что отнял у Вас столько времени. Привет Вашей жене
и сынку, а Вам — дай Бог сил и мудрости в трудах полезных и
плодотворных.
Преданный Вам В. Кожевников,
8) Бесцельный труд, "не-делание" и дело. Разбор взглядов на труд Эм. Золя и
Л.Н. Толстого. Москва. 1 изд. 1903. 2 изд. 1904.28
2) Философия чувства и веры в ее отношениях к рационализму XVIII в. и к
критической философии. Москва. 1897.
6) Очерки современного католицизма. 1. Политические притязания и надежды
католицизма в Германии. 1901.
7) Политический католицизм в Германии. 1901. (3 другие статьи — в рукописи.)
3) Из путевых впечатлений по Востоку. 1898.29
I. Св. София.
95
II. Цареградский Музей.
4) Северно-русские думы и впечатления (Очерки церковной и бытовой старины). 1899.30
5) Обыденные храмы в Древней Руси. 1900.31
10) Отношение социализма к религии вообще и к христианству в частности.
1 изд. Москва 1908; 2-е — 1909; 3-е — 1912.
11)0 значении изучения церковной истории для нашего времени. 1907.32
15)0 добросовестности в вере и неверии. 1909.33
16) Исповедь атеиста (По поводу книги Ле-Дантека "Атеизм"). 1 изд. Москва.
1910 г. 2-е — 1911.
17)0 значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем. М. 1910.
14)0 задачах русской живописи. 1907.34
9) Сикстинская Капелла. 1898.35
Значение А.А. Иванова в религиозной живописи. 1907.36
Религиозные картины В.М. Васнецова. 1910.
12)Н.Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным
произведениям, переписке и личным беседам, ч. I. Москва. 1908.
3) Издание сочинений Н.Ф. Федорова: Философия общего дела. Статьи, мысли
и письма Н.Ф. Федорова, изданные под редакцией В.А. Кожевникова и Н.П. Пе-
терсона. Том I. Верный, 1907.37 Том II готовится к печати.
Мысли об изучении святоотеческих писаний. М. 1912.
20) Перевод книги А.Г. Табрум. Религиозные верования современных ученых.
М. 1912.
21) Церковная деятельность женщины в Англии (=Голос Церкви. 1912 г. Март
и Апрель).38
22) Современное научное неверие, его рост, влияние и перемена отношений к нему.
Сергиевский Посад. 1912.39
18) Буддизм в сравнении с христианством. Часть I. Обзор источников.
Происхождение, состав и характерные черты буддийского священного Писания. Напечатано
в Христианском Чтении 1910-11 гг.
19) Часть II. Жизнь и легенда Готамо-Будды — печатается.
Разные журнальные статьи (Чему научает древнейший христианский памятник в
Китае? — Стены Кремля40 и друг.)
20) Нравственное и умственное развитие римского общества во II веке.
Историческое исследование. Козлов, *874.
Константинопольские патриархи.41
II. В рукописях:
1. Борьба религиозного мировоззрения с светско-гуманистическим в период
Возрождения; 2 тома.
2. Преобладание теологического духа в европейской культуре до половины XVII века.
3. Отношения между наукою и верою, от Реформации до конца XVIII века.
4. Скептики и вольнодумцы XVII в.
5. История отношений философии к теологии (разума к вере) в картезианский
период.
6. Религиозная критика от Реформации до конца XVII века.
7. Значение Лейбница в истории религиозного рационализма.
8. Протестантский поэтизм конца XVII и половины XVIII в.в.
9. Протестантское сектантство ("сепаратизм") в XVII и XVIII столетиях (2 части:
1) мистики и сепаратисты,
2) Брат<ская> община).
10. Английские либеральные богословы XVII в.
И. Влияние Локка на секуляризацию философской мысли и на отношения разума
к вере.
12. Английские деисты.
13. Влияние Юма на развитие философского и религиозного рационализма.
14. Французские "философы" XVIII в.
15. Вольтер и его школа.
16. Немецкое просвещение XVIII в.
17. История учений о веротерпимости от Реформации до Революции.
18. Вера в чудесное и демоническое в XVII и XVIII столетиях.
96
19.Обмирщение этики и права в XVII и XVIII столетиях.
20. Развитие педагогических учений от Возрождения до Революции (применительно
к процессу секуляризации культуры).
21. Развитие исторической и религиозной критики в XVIII в.
22. Реакция против рационализма. Шотландская философия (не кончено).
23. Философия чувства и веры. Т. 11-й — Якоби в его отношениях к
"просвещению" 18 века и к критической философии,
24. История восточного вопроса и его культурно-историческое значение (до падения
Константинополя). (Доведено до конца Флорентийской унии.)
25. Очерки современного католицизма. (Политический католицизм во Франции. —
Католицизм в Австрии. — "Социальный" католицизм в Италии. — Современные
взгляды на папскую власть.)
26. Религия человекобожества по Фейербаху и Конту.42
27. Чтения об Игнатии^Богоносце и его посланиях.
28. Очерки древнехристианской нравственности в противопоставлении с еврейскою
и языческою по некоторым памятникам ранней христианской письменности.
29. По мертвым городам и музеям Римской Африки.
30. Значение Лессинга в истории перехода от рационализма XVIII в. к
историческому критицизму.
Этюды:
31. Влияние открытия Нового Света на нравственные и религиозные убеждения
общества Розрождения,
32. Развитие чувства природы в период Возрождения.
33. Историческая и политическая народная поэзия времен Возрождения.
34. Душевная драма Микель-Анджело.
35. Власть звука. Мысли о воспитательно-образовательных задачах музыки.
3. Флоренский — Кожевникову^
1912.Ш.15
Сергиевский Посад.
Глубокоуважаемый Владимир Александрович!
В надежде, что Вы получили мое прошлое письмо, продолжаю его. В этом
году надо подготовить почву для юбилея "Рел.-фил. Библиотеки'*44, и я думаю
летом поместить в "Бог. Вестн." статью о "Рел.-Фил. Библ." и ее Основателе45.
Но, вместе с тем, мне хотелось бы, — а таково же и желание преосв.
Феодора46, — подготовить почву и для Вашего избрания, о коем писал я раньше,
и не нахожу для этого более удобного пути, как написать статью о Вас47.
Впрочем, таковая давно необходима и независимо от вопроса об избрании Вашем, —
необходима для нас, для России, ибо все русское у нас затирается. Это —
дело не только Вашей известности, но — и силы нашего общего направления
к церковности и к самобытности народной. Вот почему Вы не имеете права,
каков бы ни быд голос Зашей скромности, противиться нашему (т.е. преосв.
Феодора, моему, сюда же отнести надо Ф.К. Андреева) желанию и намерению.
Статью о Вас мне надо внешне, арифметически, "пифагорейски" мотивировать,
т;е. приурочить к какому-ниб. круглому числу. У Вас получается число прекрасное, —
"40". В сам. деле, Ваша книга "Умств. и нр. сост. Рима во II в."48 вышла в
1874 г. Формально говоря Ваше "40-ка-летие" будет в 1874-м году, но ведь
книга-то написана была в 1912-м или 1913-м году.49 Что Вы думаете относительно
этого? Конечно, красивее было бы "40"-ка-летие приурочить к "12"-му году.
М.б. на счастье Пифагора окажется, что у Вас есть еще какая-ниб. статья
или что-ниб. в биографии, относящееся к 72-му или 73-му году? Это было
бы очень хорошо,
Затем я попрошу Вас помочь мне указанием, не было ли где Вашей биографии
и вообще где мне можно попользоваться данными для статьи о Вас. Конечно,
моя обязаннорть самому отыскать все, что требуется и не беспокоить Вас,
но искушение сбыть со своих рук эту черновую работу так велико, что я не мог
удержаться о-г вопросов Вам.
Кстати, б.м. Вы знаете, что по принципам мистической арифметики всякое
4 Вопросы философии, N 6 97
число, в своей таинственной сущности, есть не что иное, как сумма его цифр,
редуцируемая последовательно до тех пор, пока не дойдет она до числа
однозначного. Так,
м м
1652413 = 22= 4
Это правило "еврейского" (каббалистического) сложения, которое сперва кажется
столь неосновательным и странным, мною доказано вполне строго
(математически) и, притом, в весьма обобщенном виде. Применяя его к Вам, нахожу
интересное и знаменательное совпадение.
м
40 = 4 (число Вашей деятельности)
м м
1912 = 13 = 4
Значит, есть мистические основания объявить Ваш юбилей в 1912-м году. А т.к.
горнее должно править дольним, а не дольнее — горним, то я и провозглашаю
необходимость, почему Вы юбиляр в 1912-м году. Это должно, следовательно
это можно. Как видите, иногда и "трансцендентальный" метод пригоден к чему-
нибудь.
О значении числа 450 распространяться пред Вами нечего, — Вы более моего
скажете на эту тему. Далее, в год несчастный для России (12-ые года для
России года разрушения и паки восстановления), в год изгнания поляков "с дву-
надесятью" и французов с двунадесятью, — в год торжества православия (м.б.
"12-ый год" — это все один и тот же год, одна мист. сущность, но в разных
тональностях), мне особенно радостно будет наступить на главу врагов пятою, —
объявить России, что есть сила у нее, с которой весьма надо считаться
врагам и на которую весьма можно надеяться ей самой.
На днях взял я (почти случайно) Н.Ф. Федорова и Вашу книгу о нем
(которые читал ранее невнимательно) и был поражен и устыжен, до какой степени
основные идеи Федорова тождественны с тем, что я пишу и говорю на
лекциях, особенно о Канте51. Стыдно стало собственно то, что я не использовал
Федорова ни в сочинении своем, ни в лекциях, а до столь многого доходил
"своим умом". Когда выйдет его 2-й том? Вероятно, там именно будут статьи
и по философии, — мне наиболее интересные? Мне почему-то думается, что
Вашего 2-го тома о Федорове так и не будет. Да?
Привет Вашей супруге и деткам. Господь да хранит Вас и всю семью Вашу.
Искренне уважающий Вас
Священник Павел Флоренский.
Если увидите В.М. Васнецова,52 пожалуйста засвидетельствуйте ему мое глубокое
почтение.
4. Флоренский — Кожевникову53
1912.111.15
Серг. Пос.
Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович!
Хотя я только что сегодня отправил Вам письмо, но, получив Ваше и
чувствуя себя смущенным за свой легкомысленный тон, считаю своим долгом
вновь решиться обеспокоить Вас нижеследующими строками.
Сперва — о "деле". Мне кажется, что Вы напрасно смешиваете две
совершенно различные точки зрения, хотя я понимаю, что пред лицом Вечности
каждый человек неизбежно смешивает их. "Дело", о котором переписываемся
мы с Вами — области условного. Сейчас я не касаюсь безусловной оценки
Вашей деятельности (это — ниже), а беру ее coinme tout le monde54. Та
незначительная "награда", которая имеется в виду для Вас и которой удостаивается
каждый профессор, выходя в отставку (а Вам в Академии уже было бы пора
выйти в отставку 10-15 лет тому назад. — если не более), эта "награда"
конечно, и в области условного, есть весьма немногое в сравнении с Вашею
98
деятельностью, — пусть тоже условною. Вы поработали до 60-ти лет,
поработали на пользу Церкви и России (имею в виду лишь напечатанное); Вы
работали не за жалованье, не ради орденов или чинов или пенсии; Вы
защищали религию против неверия, культуру против варварства, добросовестность
против недобросовестности. "Награда" Вам столь же естественна, как мне будет
естественно получить в 30-31 лет степень магистра, как естественно Вас
называть по отчеству, а не уменьшительным именем, как, пожалуй, естественно,
чтобы мы, молодежь, относились к Вам как к старшему, в не как к равному
себе. По правде сказать, я даже не понимаю, о чем тут разговаривать. Конечно,
я открыто говорю, что противоестественно, когда студенты, кончившие курс
в июне 1912-го года, в сентябре или в октябре того же года, не толкаемые
ни нуждою, ни внешними обстоятельствами, а единственно по
недобросовестности и самоуверенности, подают диссертации (это у нас делается по нынешним
временам). Но Вы же не в таком положении. Относитесь к делу проще.
Не выйдет дело — стыдно будет не Вам, а нам, только нам.
Теперь, по существу дела о Вас, о Вашей работе. Прежде всего, я не буду
решать; правда ли, или нет, что рукописные Ваши томы — мертворожденные;
временно допущу, что да. Но неужели же мне напоминать Вам, что в
греховном мире всякое развитие, всякий рост есть усечение, умирание, трата, —
трата сил на бесполезные трения.
Конечно, в Эдеме всякая потенция целиком могла реализоваться. А в нашем
мире всякая энергия, чтобы реализовать себя, должна затратить часть себя
на вредные сопротивления. Так — в физике, так в механике, так в
экономике (расходы на рекламу, на содержание непроизводительно трудящихся
кассиров etc.). Так же и в нравственной и в умственной области. Чтобы сделать
шаг вперед, приходится раскачиваться на месте и собираться часами. Что же
удивительного, если Ваши брошюры и статейки выросли на гробах (да и гробах ли?)
фолиантов и томов. Как знать, могли бы они вырасти иначе? И, если бы
у Вас не было этой подготовительной (если только это подготовительная, а
не более того) работы, то не были ли Вы, вместо беспристрастного и
честного работника мысли, нахальным крикуном, лаковые теперь наводняют
литературу и каковые, б.м., вовсе не обделены талантами. Если я буду говорить
с - Вами о частностях, то, по тактическим соображениям и настроениям, "ради
домостроительства", я буду нападать на то и на другое, как доселе и делал.
Но, если говорить вообще о Вас, то, - как и при разговоре о себе самом,
я чувствую, что десница Божия ведет нас. Бог — не идея, прирожденная
или трансцендентальная или какая угодно, а Живой Дух и Отец наш, и Он
ведет нас; даже когда уклоняемся мы "на пути свои", то и тогда не
оставляет Он нас и, допустив идти по-своему, все же направляет в лучшую сторону.
Так или иначе, царскою ли прямою дорогою55, или блуждая по распутиям
мира сего, скоро ли, долго ли, а, если только мы не проклинаем Бога <и>жизни,
если только, как дети своевольничаем и не слушаемся, Он приводит нас "к почести
вышнего звания"56. Это я знаю по опыту, это я ощущаю всем существом своим,
ибо, как бы ни был я. скверен, а ощущения Присутствия Божия я никогда
не терял и оно-то и есть — ens realissimum57.
Вы жалуетесь на бесполезно проведенные годы. Но не думаете ли Вы, дорогой
Владимир Александрович, что эта жалоба, поскольку из нее вычесть присущее
всякому из нас сознание греховности всей нашей жизни, греховности всей жизни
мира, — что эта жалоба есть некая аберрация отвлеченного разума. Что
значит "бесполезные" годы? Конечно, отвлеченно говоря, молиться 1000 ночей на
камне58 полезнее, нежели изучать 1000 ночей эпоху Возрождения. Но ведь каждому
свой подвиг и свой крест. Что же вздыхать об "упущенных" 1000 ночах,
раз Бы Вл.А. Кожевников, а не преп. Серафим Саровский. Бог знал, что делал,
когда посылал Вас в сей мир, и знал, что Вам будет слава не "солнца"
и не "луны", а "звезды"59, уж не знаю какой величины. Зачем же Вы не
хотите смириться пред Премудростью волею и ищете того, что Вам не назначено, —
славы солнца? 1000 ночей пребырать на 7-м небе "полезнее", чем 1000 ночей
молиться на камне; а 1000 ночей молиться на камне "полезнее", чем 1000 но1
чей изучать Возрождение; но 1000 ночей изучать Возрождение полезнее, чем
1000 ночей кутить у Яра; а 1000 ночей кутить у Яра "полезнее", чем 1000 ночей
4* 99
хулить Бога и говорить, что жизнь надо устраивать было Ему так-то и
так-то (интел.). Sis ut es, aut non sis! Et lauda Deum Realissimum...60,
Разумеется, и чтение, и стремление к знанию, раз оно страстно (хотя "страсть"
и пафос, филологически тождественные, в духовной жизни прямо противоположны
по своей ценности), греховно, имеет в себе некое тление, "слитие" со стихиями
мира греховного сего61. Но ведь мы-то с Вами, грешные оба стремлением
и, вероятно, страстным стремлением к знанию, вожделением к знанию,
рассуждая о себе не "экономически", не домостроительно, а созерцательно, "феотети-
чески"62 не должны иметь в виду безгрешности, а лишь тот путь, который,
будучи свойственным нам, в то же время прямейше ведет нас к другому бе-
РегУ- Максима поведения не такова: "не имей страстей", ибо это значило бы:
"перестань быть", а лишь такова: "пользуйся страстями для высшего" Так нас
учил Платон, и, в сущности, так учат св. подвижники63. "Стараясь" мы не
прибавим себе росту и на один вершок; но развиваясь в ту сторону, в какую
способны развиваться, мы можем прийти к Царству Божию. Это не гуманизм,
а последнее смирение: "Благословлю Господа во всякое время и на всякий час"64.
Мы не можем не быть страстны; но постараемся, чтобы эти страсти
создавали, а не разрушали. Конкретно говоря, для Вас чтение, хо»тя бы и "бесполезное",
было конечно полезнее, нежели скопидомство, дебоши и т.д. Вот если бы Вы
почили на своих томах и с гордостью сказали: "Покойся душа..."65, то это
было бы худо; а теперь, повторяю, Вы, не будучи преп. Серафимом, остаетесь
Вл. Алекс. Кожевниковым, который, хотя и не смея опускать "трепета пред
страшным днем Судным*'66, не должен забывать и того, что самое главное, — что
Господь, пославший нас на землю и знавший наперед все, что будет с нами, желал блага,
а не зла и что Его благая воля — крепче наших немощей, слабостей и греховных
увлечений.
1912.111.17.
Грех всех нас, слишком много изучающих лучшее и слишком мало его
творящих, мне думается, не столько в чувственности, страстности или даже
неверии, сколько в малом развитии надежды. А ведь надежда — это не слабость,
а добродетель"\ Мы втайне думаем, что не_ надеяться лучше, чем надеяться,
мы стыдимся надежды. А отсюда — „..мы не вверяемся Богу, как должно
вверяться, как вверяется своей матери ребенок.
Ту жалобу, которую приносите Вы, склонен приносить и я; и у меня
бесчисленные заметки, рукописи, справки, проекты, полуоконченные работы, и
я знаю, что я не только не в силах закончить их, но и желания
заканчивать нету. Но боюсь я, что жалоба на эту незаконченность есть жалоба
не от желания угодить Богу, а от самолюбивого стремления поставить себе
"мавзолей", еще при жизни. Думается, что экономически все это не
пропащее, но для меня, для Вас, для "славы"(!) это действительно пропало. Но —
"славы" от человеков, — не от Бога. Скажу примером, о себе. Я трачу
свои силы на студентов, раздаю им сзои мысли, свои знания и свои силы,
а они 9/10 не воспринимают и пропускают мимо ушей. Нет никакого
сомнения, что и 1/10 не только пропадает для меня, но выдается за свое
воспринявшими. Теперь, пропало ли это, или кет? Лучше ли было бы, чтобы все это
сгнило в книгах, которые читать едва ли станут, чем чтобы распалось,
растворилось и всосалось юношеством?
У меня — свой Федоров, — о. Серапион68. Но, как бы там ни было,
ведь не мог же какой-нибудь канцелярист заменить Вас при Федорове, или
меня при Серапионе. Потребовались именно Вы, потребовался я. Да, это ке-
лейничество; но не лучше ли быть со смирением келейником одного
порядочного человека, чем растратить, с гордынею, свое время и свои силы на
1000 проходимцев. Цо правде сказать, когда я ближе разглядел людей, мне
стало и жаль их и явилось такое равнодушие и к их похвалам и к их
порицаниям (за исключением немногих, всего около двух десятков, вероятно),
что то, что именуется "славой" мне представляется базарным шумом и только
расстраивает и раздражает, мне даже кажется, что шум около имени как-то
бросает скверную тень на носителя имени и что-то базарное вносит в самую
личность. Вы не нуждаетесь в известности, но нам, России Ваша известность
нужна. Скорее это испытание, нежели приятное удовольствие.
100
1912ЛП.19.
Ваше отношение к Академии должно повлиять благотворно на наши нравы.
Досмотрите, люди в год ухитряются написать и чуть не напечатать докторскую
диссертацию, в которой все основано на вещах им до того вовсе неизвестных
и требующих большого времени (напр, иероглифы) Мне тяжело смотреть на
это, — не потому, что они делаются "докторами" и т,п, (они мне не мешают),
а потому, что водворяется какое-то циническое трактование культуры и науки.
Ничего не смею возразить, если отшельник не знает науки. Но ведь он и
не лезет в нее и не делает ее себе дойной коровою» Но развязность с
культурой, когда на счет ее живут и когда нет, кроме претензий на нее, ничего
за душою, отвратительна. Вот Вы, более чем кто-нибудь в России, даже
без всяких слов, просто фактом своего существования, можете
противодействовать этому бесстыдству, Повторяю, Ваше отношение к Академии
положительно необходимо для нас, для церковной науки, и мне было бы тяжело видеть
в Вас непонимание или несознание этой важности,
Простите, глубокоуважаемый Владимир Александрович, мое долгое и, вероятно,
давно уже утомившее Вас письмо. Поверьте, что я решаюсь надоедать Вам
только цотому, что внутренне опираюсь на свое уважение к Вам. Господь
да хранит Вас и да даст Вам Своего мира и радости!
Преданный Вам
Священник Павел Флоренский
1912.111.19
Великий Понедельник.
5. Кожевников — Флоренскому69
Многоуважаемый Отец Павел!
Посылаю книжки о разных богомерзких предметах. Книгу о масонстве
приложил потому, что в ней есть о люциферианизме70. Есть у меня Протоколы
Тридентинского антимассонского конгресса71 (при Льве XIII)и со сведениями об
деле Таксиля73 по документам, но, за беспорядочным состоянием библиотеки,
эту книгу не отыскал. Если найду, пришлю добавочно, а пока — до
свидания. Сердечный привет Вам и семье Вашей.
В. Кож.
6. Кожевников — Флоренскому14
Христос воскресе!
Дорогой и глубокоуважаемый
отец Павел!
Поздравляю Вас, Анну Михайловну и сынка Вашего со Светлым
Праздником. Дай вам Бог радости духовной, мира, здоровья, благополучия!..
Глубокое, сердечное спасибо Вам за Ваши добрые, отзывчивые письма! Мне
трудно выразить как я тронут и утешен ими; но более всего тронут Вашим
участливым отношением к больному настроению души моей. Сейчас не время
подробно говорить об этом; скажу только еще раз: спасибо!
Желаю Вам приятно провести Праздники. Преданный Вам и благодарный
В. Кожевн.
А вот у Сергея Ник-ча какая забота! Дочь в дифтерите. Елене Ив-не с детьми
пришлось выселиться к сестре, а Серг. Ник. остался один с больною дочкой
в квартире.
На обороте!
Сейчас только узнал от Михаила Александровича о присылке Вами мне
Ваших стихотворений75: они были вложены в Иосифа Флавия, который не был
мне до сих пор передан. Спешу поблагодарить Вас за столь неожиданное
и дорогое, новое для меня выявление Вашей души, хотя, впрочем одно Ваше
стихотворение (в газете)76 я видел уже раньше. Посылаю к М.А-чу за книжкой...
101
7. Кожевников — Флоренскому11
Телеграмма
Привет Вам и Михаилу Александровичу сообщите ему что буду Москве 25 и 26
Кожевников
8. Флоренский — Кожевникову*
1912.VI.29. Сергиев Посад, ночь.
Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович!
Ваша деликатность, и притом сугубая, заставляет Вас искать затерянного моего
письма. По "распоряжению" М.А-ча я искал его, но не нашел. Конечно, нельзя
было поступить осторожнее, чем Вы, "почтив молчанием" рукописи, когда-то
врученные Вам79. Но это уж избыток деликатности заботиться о какой-то
затерянной бумажке. Неужели Вы меня считаете настолько тщеславным, а мое
уважение к Вам настолько непрочным, что боитесь обидеть молчанием о том,
что заслуживает молчания, по моему откровеннейшему признанию? И передал-то
Вам свои рукописи я скорее в виде акта самоуничижения, нежели обратного
тому. Никакое осуждение дел моих не может огорчить меня, по крайней мере
когда оно исходит от человека, мною ценимого. Но весьма и больно
огорчило бы осуждение личности. От Вас же кроме доброго я ничего не видал
и хотел бы надеяться, что если бы когда-то и вздумали ругать за что-
нибудь, то это не изменило бы более глубокого слоя наших отношений с
Вами.
VII.12
Начав это письмо в день своего Ангела, продолжаю его в день Ангела
Михаила Александровича с тем, чтобы оно поспело к дню Вашего.
Приветствую Вас и Вашу семью с этим днем празднования лучшей части Вашей
личности, ибо я, по своему провинциальному суеверию, склонен видеть в "Ангеле"
сего дня не Ангела-Хранителя, /грцставника к душе Вашей, и не Святого
покровителя Вашего, а ипостасное, платоновское Имя Ваше80, Ваш koyoc; аяершхпкбс;81,
мистический центр Вашей личности, res realior82 в Вас, насыщенную
благодатными энергиями вследствие того, что она "была в употреблении" святыми мужами,
в святцы внесенными и не внесенными. Имя наше, — о дело ненавистнейшее
современному сознанию, — таинственно предопределяет наши дурные и наши
хорошие возможности, и наша свобода эмпирическая — реализовать первые
или последние, ad libitum83. Я слышал от людей опытных, наблюдал, читал,
да и теоретически убежден, что каждый из нас может быть лишь тем
имяреком, какое ему дано при его вхождении в религиозное общество. Более
того, имя-то дается известное потому, что таков человек, хотя это уж вопрос
слишком таинственный. Эмпирически же Вы могли и можете быть только
Владимиром-Василием", и ничем иным, хорошим ли Владимиром, дурным ли —
это Ваше дело. Да и в самом деле, подумайте, как можно было бы назвать
Вас иначе, чем Владимиром-Василием? — Никак. Когда я понял впервые, что
такое имена, и стал присматриваться к людям, то вся действительность
предстала мне с новой, рембрандтовской глубиной и таинственно преобразилось то,
что ранее было "кличками" и "социальными значками, даваемыми ради
регистрации индивидуумов"85. Моя мечта написать работу — словарь имен, где
я хотел бы выяснить характеристики имен на основании народной
письменности и изящной литературы, церковных данных и собственных наблюдений86.
Поверьте, что тема личности дается именем, и все остальное — лишь простая
разработка этой темы по правилам контрапункта и гармонии. Мои мечты,
впрочем, простираются гораздо далее. Я подмечал, что на лице у каждого
бывает более или менее твердою рукою написано: "имярек". И вот этого-то
имярека мне хочется поймать и фиксировать, не в мире умном, а в альбоме,
"приложении" к Словарю имен. Как? — Очень просто, по крайней мере по
102
замыслу. Надо запастись изрядным количеством фотографических карточек, по
несколько сотен на каждое имя, снятых при строго одинаковых условиях,
en face и в профиль. Далее необходимо во-первых, изготовить из них галь-
тоновские87 "средние" фотографии, т.е. имяреков ходячих, наиболее обыкновенных,
наиболее вероятных и, следовательно, наименее интересных. Затем необходимо
хорошему художнику заказать по карточкам воссоздать типы имяреков, —
имяреков наилучших и — наихудших. Получится таким образом для каждого имени
по шести (профиль и фас) изображений, представляющих платоновскую идею
имени-формы с трех сторон ее, — в смысле возможностей лучших, банальных
и худших.
Осуществление Словаря для меня не миф, а все же некая надежда; но Альбом
имен, конечно, придется оставить до того времени, когда мы будем
созерцать имена уже в подлиннике, а не в отражении. Ведь этот Альбом
потребовал бы громадных расходов и хлопот, а "пользы" от него — никакой.
Но простите, что желая поздравить Вас, я так увлекся в области
предосудительные и далекие ото всего, что людям близко.
Тут, с Михаилом Александровичем мы часто вспоминали Вас (вспомина^ш,
ибо он 10-го июля уехал с матерью в Тверскую губ. и вернется каже!ся
не ранее 24-го) и говорили о Вас. Кажется, что Ваше — объективно —
достоинство является для Вас — субъективно — тягостным; ведь плоды Вашей
умственной выдержки поедать нам легко и приятно, а Вам выращивать их столь
тщательно — весьма утомительно. Мы все, чуть ли не все мы, кого я знаю,
сравнительно с Вами легкомысленны и быстроноги, и нам не совестно прыгать
там, где Вы строите каменные мосты для поездов. Повторяю, конечно, для
России эта неторопливость движений или, точнее сказать, это движение тяжелой
артиллерии неизмеримо полезнее нашего прыганья чрез ручьи и реки, а то
даже чрез моря бездонные. Но живется нам лично — легче и, пожалуй, так
сказать, домашнее. Вы, как мудрый полководец, закрепляете за собою каждую
пядь отвоеванной земли. А мы владеем тем, что под нашими ногами в
данный момент, и не заботимся о дне завтрашнем. К тому же в нас всегда
живет мысль: а может быть я завтра умру, или на врага нападет холера
или чума. Стоит ли беспокоить себя солидными укреплениями. А в
особенности легко отдаваться этой мысли, когда знаешь, что все равно о нас
позаботится, как родной отец, дорогой Владимир Александрович и, в случае нужды,
позволит спрятаться в каком-нибудь подвале одной из его крепостей. Право,
если бы не было Владимира Александровича il faudrait Tinventer88; а если бы
и Tinventer нельзя было, то следовало бы пустить слух, что есть такой и
тем сделать себя страшными. Но к счастью всего этого не требуется, и мы
только можем молиться и желать, чтобы Владимир Александрович еще много
и много раз в полной крепости сил душевных и телесных вспоминал самого
себя, идеального, и узнавал себя в себе 15-го июля 1912, 13, 14, 15, 16 и т.д.
и т.д. годов, все глубже и глубже постигая свое "Владимирство-Васильевство".
Заканчивая это письмо хочу я еще поблагодарить Вас за Ваш подарок,
для <меня> бывший совсем неожиданным во всех отношениях. Потом только
я узнал, что Вы ездили поклониться Белградскому Святителю89. Мы живем
по-прежнему, даже еще уединеннее прежнего. Анна просит кланяться Вам.
В полученной сегодня телеграмме, для передачи М.А-чу я увидал фамилию
"Андреев". Неужто это Федор Константинович? Если да, то даю вам carte
blanche со своею подписью на всяческие внушения сему приятелю моему,
который не дает знать о себе ни слова и даже скрывает свое местожительство.
Если он сердится на нас, то должен сперва обличить наедине, потом при
свидетелях и затем пред лицем Церкви, и тогда только, "аще преслушаем",
мы будем для него как язычники и пр.90. В настоящее же время все твердят
о каноническом строе, а по уставу Дух. Акад, требуется нарочитая
церковность. Ф.К. же поступает совсем не канонично, отлучая нас от своего общения
даже без первого предупреждения.
Господь да хранит Вас и всех Ваших. Дружески и ученически лобызаю Вас.
Вас любящий и уважающий убогий
Священник Павел Флоренский.
103
1912.VII. 12. Сергиев Посад
В настоящее время в Посаде за бесценок продается много земель и домов.
Тысячи за две — за четыре можно купить большое место и дом недурной,
даже большой. Один продается сейчас прямо великолепный, по Посаду и в
самом дачном месте, с большою усадьбою, кажется за 4000.
П.Ф.
9. Кожевников — Флоренскому*1
Исар 22 июля 1912 г.
День самой женственной Святой.92
Глубокоуважаемый и дорогой
Павел Александрович!
Большое спасибо Вам за Ваше милое, дружественное письмо, вдвойне для
меня дорогое: и по чувству, в нем выраженному, и по ценным мыслям,
в нем содержащимся. Однако начало его повергло меня в большое уныние!
С одной стороны сознаю, что я дурно сделал что ничего не написал Вам,
когда возвращал Ваши стихотворения; а с другой — все-таки никак не думал,
что мое молчание Вы mdx поймете. Истинно говорю Вам — в данном случае
Вы прямо ошиблись! Я не писал; но не "по осторожности" и не "по
деликатности", а потому, что не смог бы тогда, в предотъездной суете и
утомлении, сказать Вам по поводу Ваших рукописей то, что хотелось бы сделать
предметом живой беседы, "лицом к лицу". Вот по этой же самой причине,
и только по ней одной, и сейчас ограничусь лишь немногими словами.
Получение этих рукописей было для меня особенно дорого, как разрешение некоего
доступа к intima sacra93 не одного ума Вашего, который мы все, Вас
знающие, привыкли так ценить при каждом, до нас доходящем, проблеске его, но
и сердца Вашего, такого таинственного и манящего своею загадочностью. Что-то
привлекательно-гиератическое94 чудилось мне уже в самой внешности, этих
тетрадок; вкус и вдумчивость, при простоте вещественного матерьяла... что-то важное,
чреватое содержанием, сквозящее через смутно-просвечивающую оболочку... новые
слова, писанные древними знаками... с любовью вычерченные, символические
заставки... И само содержание — такое же, не сразу разоблачимое, неизмеримо
большее по душе и по внутренней красоте, чем по звучащему в чтении
внешнему выражению. Должен оговориться, что моя, к горю моему, слишком
реалистическая натура не легко погружается в эсхатологические и апокалиптические
настроения и способна воспринимать их не как нечто ей лично родное и
субъективно близкое, а скорее как нечто такое, к чему приходишь более доводами
ума, нежели запросами чувства. Отсюда для меня — некоторая трудность
слиться с духом, проникающим художественные произведения, созданные этим
настроением. Такую трудность сначала ощутил я и при чтении Вашей поэмы.
И однако, по мере углубления в нее, я чувствовал, как настроение, в ней
разлитое, втягивало меня, местами — даже против воли, ц оставляло
впечатление на долгое время. И в настроении этом было что-то и жуткое, и
привлекательное; прежде же и больше всего — что-то назойливое, почти властное,
от чего трудно было бы отделаться, если бы я и пожелал этого.
Мне показалось, что в этом сложном, сообщавшемся мне настроении было
глубокое, органическое сцответствие с содержанием и смыслом повествования,
выражаясь образно, например, — с тою темною и грозною неизбежностью,
что надвигалась с Севера ("Из Петербурга"), с тою знойною душностью в
воздухе, которая должна была чувствоваться, когда молились в отворенном храме
и т.д. ... По странному совпадению, вчера, когда я начал писать это
нескладное письмо, пришлось (может быть, опять — как рефлекс прочитанного у Вас)
испытать очень сходное настроение: шла обедня в нашей Исарской95 маленькой
церкви: скромное пение внутри, а снаружи, в зарослях, окаймляющих
развалины старой средневековой крепости, — непрерывные, монотонные и
задурманивающие песни цикад; дым кадильный в храме, а сквозь отворенные двери его —
взгляд на мощную гряду гор, с дымящимися, в мистическом тумане, вершинами;
бескровная жертва на месте, где стоял христианский храм задолго до того,
104
когда Русь узрела свет Христов, и на месте; где. еще раньше, сменилось
столько рас и народов, где лилось столько крови и нагромоздилось и
забылось столько могил, что жутко становится за мимолетную жизнь, а
неизбежность конца восстает с беспощадною властностью над окружающею
красотою прошлого и настоящего: над художественною красотою реющих в
воображении образов эллинской древности, когда-то родной этому краю, над природ-
ною красотою южного, зачаровывающего полдня. й5 наконец, — группа
молящихся в этом горном уединении, при равнодушии окружающего большинства»
среди катящегося мимо потока все сгущающейся суеты, ползущей и
обволакивающей грязною, липкою паутиною кашу современную жизнь... — Настроение,
сходное с тем, что охватывало меня в соответствующих картинах Вашей поэмы,
но, разумеется, без многого из того, что, кроме вспомянутого, в ней есть...
Предыдущими несвязными словами хотелось бы сказать, что вот в
присутствии этого-то, воистину эсхатологического настроения, в непосредственной
наивности, а, следовательно, и правдивости его заключается ценность Вашего
произведения и очевидное доказательство наличности в нем художественного
дарования. Про идейную сторону, недостаточно выясненную, вследствие
фрагментарности мною прочитанного, жду когда-нибудь живого комментария автора. Что
касается, наконец, формы, то здесь у меня впечатление двойственное: выбор
сцен, картин, образов — удачный, поэтичный; внешнее осуществление их в
изложении — не всегда удачное, а кое-где, в этом смысле, скажу откровенно,
мне просто не нравится. Таково, на мое ощущение, излишнее обилие
ласкательных и уменьшительных оборотов речи, придающее некоторым эпизодам почти
слащавость и сентиментальную расслабленность. Говорю "некоторым" только,
тогда как вообще в этом направлении, в других местах, Вам удается
создавать действительно прекрасное по мистической чистоте настроение, в духе
прерафаэлитской живописи и Моцартова "Ave verum"56 (жаль, что не в благоухании
еще большей простоты и красоты галилейских нив и лугов!). Вообще жен-
ственнорть й детскость чувств и грез — вот в чем ценность этого
произведения; она пленяет своею внутреннею прелестью, несмотря на некоторые
изъяны внешних форм. Но все же в такой теме, рядом с лирикою нежных
сторон Души, рядом с кроткими модуляциями мелодии и с
мягко-переливчатыми полутонами светотени, мне хотелось бы услыхать и увидать еще и
цругое: мужественные аккорды и более рдеющие, веласкезовы краски, более
глубокие, рембрандтовские тени... Жуткое — есть; грозного еще нет; есть страх;
ужаса не ощущается,,. А ведь в такой* теме трубных кличей брани и Суда
не избежать, хотя бы — лишь мимоходом, хотя бы разрешением грозы и
крушением ветхого, гибнущего, и явилась библейская пастушеская свирель и
"Слава в Вышних Богу5'97 в Рождественскую Ночь новой Земли и нового
неба...98
Ну, а вот сборник Ваших лирических стихотворений99 стал моим любимцем
уже в такой мере, что по поводу него ни в какую "критику" пускаться не
могу и не хочу, хотя, даже и такого избалованного похвалами друзей автора,
как Вы, я не стал бы и здесь только хвалить. Мне дорога эта книжечка,
дорог, самый экземпляр этот по рукописным воспоминаниям и объяснениям
текста, превращающим книжку в живую часть писавшего ее, в существенную
часть его. Если бы так непринужденно, по-дружески, — по-братски,
разоблачались бы стремления и чувства души, душа перестала бы быть "потемками",
потому что тогда она была бы не "чужая", а родная, своя! С
чисто-художественной точки зрения, лучшее, конечно, — "Песнь восхождения"100. Это прямо —
крупная, сильная вещь в талантливой притом форме, и ее одной достаточно,
чтобы признать у Вас j£ поэтический дар. Не жалею о том, что должен
приписать это ^V*s ибо для меня мыслитель П.А. никак не менее дорог,
ценен и нужен, чем художник П.А. А проще всего и лучше всего — не
разлучать того, что Бог таинственно сочетал в человеке, как целостной личности,
несмотря на кажущуюся несоединимость или трудно объединимость составных частей.
От этого благодатного, органического единства оборачиваться на свою
собственную механически• (нет! не совсем механически, но все-таки уж очень дрябло)
соединенную пестроту душевного и умственного содержания, — прямо горестно
и тяжко. Ваши остроумные и назидательные рассуждения на тему "имярек", хотя
10S
и изложены в ободряющем тоне, однако для меня имеют значение именно как
назидание и предупреждение, внушительное, несмотря на дружественное смягчение
того, что в нем заключается грозного. Сердечное спасибо Вам именно за это!
Я и сам очень тяготею ко многому из того, что Вы пишете о значении "имярека";
но из рассмотрения хотя бы тропаря моему "Ангелу"101 вижу с одной стороны
правильность Вашего мне совета, но с другой вижу, что, при всем сознании величия
и красоты идеала в моем имядателе заключающихся, одежды не имам да вниду в
чертог, им указуемый. Помолитесь, молю Вас, к Жизнодавцу, да просветит
одеяние убогой души моей не одною ясностью сознания, но и силою, "да вниду
в онь"!..102 И еще много, много желалось бы беседовать с Вами; но все
пределы письма исчерпаны, да и времени Вашего, а может быть — и
терпения. Простите длину письма, не соответствующую содержанию его!
Как живется Вам? Слышал о скором окончании работы:103 и радуюсь, и жалею
об этом! Поклон Анне Мих-не, привет сынку.
Любящий Вас
В. Кожевн.
!!! Андреев телеграммы — hie Федор Конст-ч!
10. Флоренский — Кожевникову™*
1912.VIII.15. Сергиев Посад.
Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Александрович!
С каждым днем и часом мысль о Вас делается все настойчивее и
неотвязнее. Есть для этого поводы внутренние, есть и внешние, а именно
необходимость заглядывать в Ваши немногие (из многих) творения. Но ни
внутренние, ни внутренние105 поводы, думать о Вас и желать написать Вам не
исчерпывают объективного^ долженствования. Сознание какой-то нашей общей,
общественной вины пред Вами, общественная неправда в отношении к Вам, Ваша, так
сказать, нераскрытость для культурной жизни России тяготеет на мне, почти
на совести моей. Сколько Ваших трудов, дарований, добросовестности легло
мертвым капиталом, словно погребенное на дне морском. И горе нам, если,
пока живы Вы, мы не успеем "примириться" с Вами!
Ваши труды обладают, так сказать, чрезмерною скромностью, и первое
чтение их, вызвав отношение благожелательности, оставляет сравнительно
холодным. Но, чем больше всматриваешься в Вашу работу, тем более
привязываешься к ней и удивляешься, но не холодным удивлением пред кунштюком
(как напр, пред Н.Н. Глубоковским106 или даже В.В. Болотовым107, о чем сооб-
щаю по секрету), а радостным удивлением пред культурным даром. В Вас
есть изумительное мастерство понимать и изображать процессы общественного
сознания, и я не знаю ни одного историка, который умел бы с подобным
беспристрастием, — но не холодным беспристрастием презрения ("А. Франс"), а со
спокойствием веры, в себе уверенной, — прослеживать жизнь идей в истории
или, точнее, жизнь общих настроений общества.
Проследить путь идеи, как это делает напр. Зелинский108, легко, ибо идея
очерчивается сравнительно резко. Но Вы избрали своею специальностью
изучение того, что почти неуловимо, ибо на данную тему высказывается зараз
много голосов, и нужен величайший такт, чтобы остановиться вниманием на
голосах не случайных, а действительно характеризующих общее состояние умов
и сердец.
И вот, в этой-то необъятной по материалам и неуловимой по
неопределенности сфере Вы заняли позицию наиболее трудную по современному состоянию
знаний, это именно защиту веры против неверия и обнаружение тончайшей сети
веры там, где неверие мнит иметь области бесповоротно свои. Как
естествовед, многими красками прокрашивали Вы общественные настроения, прежде чем
эта сеть веры выступала пред читателем совершенно отчетливо. По лености
ума я лично уклоняюсь для себя от этой тонкой работы, предпочитая голыми
руками брать то, что заведомо принадлежит нам. Но, хотя и ленивый, однако
я не могу не сознавать красоты и тонкости Вашей препарировки, и Ваши
106
"срезы" микротомические неверующей и полуверующей души по справедливости
должны занять одно из первых мест в кабинете изучения религиозной жизни.
Вы, как автор, может быть, имеете основание быть недовольным известными
сторонами своих трудов. Но, как читатель, я имею право сказать, что эти
недостатки (или, скорее, недочеты) или вовсе незаметны, или оставляются без
внимания. Я хорошо понимаю, что одна опечатка или пропуск нескольких
<книг> может навек отравить автору радость % от книги; но читателю, право,
не до этих мелочей, и он берет и достоинства, и недостатки en gros109.
Полагаю, еще, что читатель правее автора, и во всяком случае не обязан менять
своей оценки, своего способа оценки книг. Ваши же книги именно
соответствуют потребностям наших дней, и в высшей степени досадно, что они лежат,
не принося плода, словно талант зарытый в землю.
VIIL17.
По прошествии суток урываю минутку, чтобы снова побеседовать с Вами —
о Вас же.
Я не могу примириться с мыслью, что Ваши труды, — одни заглавия
их столь интересны и, в большинстве случаев, столь новы, — что труды
Ваши останутся в несгораемом шкафу. И, глубоко ценя расположение Ваше
ко мне, я позволю себе быть откровенным, быть может, переходя за границы
дозволенного. На "предложение" печатать Ваши труды Вы, я чувствую,
собираетесь привести целую серию "но", но я перебиваю Вас своим априорным
согласием на указание Вами всевозможных недочетов. Заранее согласен и с тем,
что за время инкубации Ваших детищ в несгораемом шкафу вышло немало
трудов, которые следовало бы, — при иных, более благоприятных условиях, —
исследовать и учесть- Но ведь сделать этого нельзя, и препятствием тому
служит и Ваш возраст, и Ваша усталость, и, наконец, Ваша неугомонная
любознательность, заставляющая Вас забывать "задняя" и "простираться" умом
все вперед и вперед. Конечно, для научного bon ton явиться в общество, так
сказать, " без галстуха" мучительно, и это — не просто вопрос самолюбия,
но и требование известной выдержки. Однако, если бы Вы были опасно больны,
Вы не задумались бы выйти к гостям без галстуха. Точно так же теперь,
приближаясь к нормальному пределу жизни — к 80-ти годам, а то и к 70-ти,
Вам необходимо так сказать ликвидировать дела и представить свои
сочинения, уже не думая о их дальнейшей отделке, talia que sunt110. Если угодно,
этого требует и культурная деликатность (ибо нельзя требовать, чтобы на всякого
Федорова нашелся свой Кожевников) и культурная предусмотрительность (ибо
мало шансов на множество Кожевниковых). Я не понимаю души покойного
Е.Е. Голубинского111, который чуть не 15-20 лет держал в портфеле 2-ую полов.
2-го тома своей "Истории" с тем, чтобы она была отпечатана после смерти, хотя
над нею нисколько _ие работал и не собирался работать. Если он считал свой
труд сколько-ниб. ценным, зачем он, ради утехи ученого самолюбия,
откладывал его печатание, зная, что не улучшит его (запечат<ал>); если же считал
его совсем негодным, почему завещал его печатать после смерти. По-моему,
он должен был издать его при жизни, примерно с таким предисловием: "Знаю,
что в некот. частях моя работа отстала от современ. сост. науки; но в общем
считаю ее ценною. Работать более не могу, и потому выпускаю то, что есть
на пользу родной науки. Предвижу, на что будут возражения и сознаю, что
иные м. быть правильными. Но желал бы, чтобы мои критики
усовершенствовали то, на что у меня не хватает уже сил и радуюсь заранее их
успехам. Впрочем, надеюсь, что окажусь полезным для них даже своими
ошибками". Неужели это не было бы более культурно и более благородно, чем,
так сказать, выпускать сочинение исподтишка? И как бы мне хотелось, чтобы
дорогой Вл. Алекс, сделал то, чего не сделал Голубинский.
Конечно, Вы можете отделать кое-что. Но ведь главный интерес от Ваших
работ именно в их целом. Каждую из Ваших монографий, в отдельности,
б.м. и могут написать другие; но никто в мире не возьмется написать цикл
Ваших работ, суть которых коротко можно передать сенекъвским: Volentem
fata dicunt (к христианству), nolentem — trahunt112. Ваша точка зрения столь
107
оригинальна (она высказывалась до Вас разве только оо. апологетами и
Климентом Алекс.)113 и, главное, столь конкретно (а в этом — все дело)
доказывается, что было бы грехом лишить нас трудов, где она осуществлена. При
печатании мы, друзья Ваши, возьмем и ответственность и хлопоты на себя,
и Вы лишь напишете письмо (—предисловие), в коем передаете нам право
делать с Вашими рукописями что мы найдем более целесообразным, а себя
выбрасываете: "Имейте меня отреченна"11. Я допускаю (но лишь допускаю),
что может быть лишь один вид обработки их, а именно вычеркивание слишком
большой "учености**.
Мих. Алекс, который знает о сем письме и оное одобряет, просит напомнить
Вам о своем разговоре с Вами на ту же тему, в Вашем кабинете и
высказывает желание печатать Ваши Opera в "изданиях Рел.-фил. Библ.". Он считает
это полезным и непосредственно, как наиболее значительное, что будет в
"изданиях", и посредственно, — как подведение фундамента и придания
авторитетности "Рел.-фил. Библ.", его любимому детищу.
Повторяю, мы берем на себя труд корректур и т.п., так что Вам
беспокоиться о внешней работе не придется. Со стороны денежной особенных
затруднений не предвидится, ибо часть трудов можно буд. напечатать в "Бог. Вестн."
и издать оттисками, а часть — непосредственно. Ваши труды хорошо
расходятся,
Итак, Deo adjuvante,115 начинаем?
Простите за мое письмо, столь же длинное, сколь и неопрятное. Боялся
писать тщательнее, ибо кто знает, на сколько дней опять пришлось бы
отложить писание..
Прилагаю при сем другое, начатое письмо116, не столько для чтения, сколько
для доказательства, что отвечал Вам вовремя.
Еще раз простите, Господь да хранит и да укрепит Вас и всех Вам близких!
Преданный Вам
недостойный священник Павел Флоренский.
11. Флоренский — Кожевникову.
Неудавшееся письмо, кое без ущерба можно оставить без внимания.
1912.VIII.27.
Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Александрович!
Мы, современные люди, совсем забыли, что надо говорить лишь "да, да",
"нет, нет"117, и всегда прибавляем сюда еще нечто. Так и я, выражая Вам
свою благодарность и свое "Да" на критические замещения Вашего письма,
не могу удержаться от rcepicrodv1*8; однако очень хотелось бы, чтобы это шрг аа 6v не было
ёк тоа ноупР0**119-
Те мужественные звуки, которые Вам, — а мне самому еще более, нежели
Вам, — хотелось бы слышать от меня, звучат пока лишь в тайниках сердца
моего, и ни субъективно, по ступени моего развития, ни объективно, по задачам
мною ставимым, им звучать пока невозможно, Ка#арац, цадцок;, np&%xq\m
"Писать" можно о том, что пережито, а я лишь подхожу (— да и подойду ли, —
это вопрос —) к яра^ц Мок научные статьи, из коих большая часть не
напечатана или даже слегка набросана, "тетради" мои и т.д[; обширная
математическая работа и математические заметки — это все, как я мысленно называю
всегда — та компартией121, — расчистка души моей от современности. "Поэма"
(написанная) — завершение катартического периода. "Столп", разрабатываемый,
хотя тема его явилась около 9-10 лет тому назад — цадт]ац перзой половины,
т.е. феодицея (только!), и все иные темы из него сознательно исключены.
Вот почему и лирика "Столпа" опять не то, чего Вы хотите, — нечто хрупкое
и интимно-личное, уединенное. Предполагается и отчасти набросанная 2-ая часть
"Столпа", под иным названием, — 2-ая половина \iddr\oiq, т.е. антроподицея122, о
тайнах и Таинствах, о благодати и боговоплощении во всех видах и образах,
В ней слегка намечается яра^ц, но я надеюсь, что художественная сторона,
"фон", сознательно антиципирующий дальнейшее, уже не будет ни "свирелью",
ни жалобою покинутого (потому-то и возникает проблема теодицеи; ин(аче оставался
108
бы праздник обручения и пастораль), а "драмой", в современном смысле слова и
намеком на трагедию. Мне чудится в дальнейшем яра^ц и тон трагедии-
мистерии. Но это только чудится, и я еще почти не представляю, как это
будет и будет ли как-нибудь. Надо очень, очень расти, чтобы превзойти ца#г)ац, и
очень много страдать, чтобы дорасти до мистерии, до тгра^ц, Ведь пока
единственный зародыш у меня этого — цикл переживаний, благодаря которым
и из которых сложилась моя семейная жизнь. Для меня. — и в жизни, и в
литературе, — самое отвратительное — имитация; потому-то я и привязан к В В.
Розанову, что он, talis qualis est123, весь "настоящий", и потому мне противен
Мережковский, что в нем почти ничего нет порожденного из себя. И вот,
даже тогда когда звучат тоны и темы та rcepi T.fj<; пра&щ12?, я почти гоню
их, ибо могу, при незрелости их, подменить их имитацией, а создать недурную
имитацию, при нынешних ресурсах техники, вовсе не так трудно, как кажется
со стороны. Вот и относительно Вашей деятельности, скажу, что, не касаясь
ее размеров и глубины (об этом я не смею судить пред Вами), я глубоко
ценю ее за то, что в ней нет ничего притязательного и имитированного. Вы
скорее скрываете свое постижение глубин, чем показываете то, чего нет, и потому
на Ваше слово всегда можно положиться, не как на внешний авторитет,
а как на нечто по существу дела надежное. При почти сплошной гнилости
современного слова это так важно, что я даже оценить достаточно не могу,
и, выражаясь образно, Ващу здоровую пищу, хотя бы и сравнительно простую, ни в
коем случае не променяю на ту ободранную кошку, о которой рассказывает
Собакевич, которую под видом редкой дичи подносит большинство современных
писателей. И это — независимо даже от содержания Ваших работ (то — особое
дело). Слово как таковое есть имущество столь драгоценное для меня, что
Ваша культура слова, гигиена слова мне представляется великою Вашею
заслугою, которой большинство, сейчас, неспособно оценить. Для большинства, сейчас,
Вы многознающий ученый и чрезвычайно полезный^ в конфессиональных видах125
писатель. Для меня же Вы оздоровитель современной мысли и (=или)
современного слова, совестный судия слов (и мыслей).
12. Кожевников — Флоренскому1™
Исар. 24 Авг. 1912.
Дорогой, глубокоуважаемый Павел Александрович!
Письмо Ваше тронуло меня до глубины души: столько доброты в кем сказалось
и внимания, что мне трудно отвечать письменно на это; но Вы поймете, как
я Вам благодарен, и без объяснений и уверений моих. Когда, Бог даст, увижу
Вас, я Вам укажу такие "но", что и Вы их, надо думать, признаете
уважительными. Сейчас же не имею возможности поговорить об этом должным образом
потому, что через несколько часов уезжаю. Дело в том, что я месяца полтора
уж очень пристально работал над редактированием II тома Ник. Фед. Федорова
и, слава Богу, вдвоем с гостившим у меня Петерсоном127, удалось дело это
двинуть настолько, что, по возвращении в Москву, можно будет приступить к
печатанию тотчас же. Работал я, можно сказать, с увлечением, ибо это было
не простое переписывание, а воссоздание из клочков и многих разночтений мыслей
и речей, местами прямо высокоталантливых и обличающих у моего старого
духовного друга и учителя способность и выражения совсем иную, чем в I томе.
Но все-таки — поутомился я, и вот со своим приятелем-соседом генералом
Фроловым сегодня еду поплавать дней 10 вдоль Черноморского побережья;
если будет тихое море, это хороший отдых128. Любуясь Кавказом, буду повторять
Вашу "Песнь восхождения", которая совсем приросла к моей душе.
Еще раз спасибо! Привет Анне Мих-не и сынку Вашему.
Любящий Вас В.К.
109
13. Кожевников129.
Константинопольскому Патриарху Иоакиму130.
Почтительно просим Ваше Блаженство телеграфировать Акад. Р-ю Б.В. осуждены
ли книга На горах Кавказа и учение о божественности имени Иисус131 Вашим
посланием Афонитам132.
Редакция.
Constantinople Patriarche Joachime.
Reverentieusement supplions Votre Beatitude telegraphiez Academie theologique
Moscou redaction Bogoslovsky Vestnik avez Vous condamne livre Na gorah Kavkasa et
doctrine de la divinity du nom Jesus.
Redaction.
14. Кожевников — Флоренскому111'.
Москва. 23.XII.1912.
Дорогой и многоуважаемый
Отец Павел!
Примите мое поздравление с Праздником Чистой Детственности и Света
Разума134 и сердечный привет Вам, Анне Михайловне и сыночку Вашему! Да
благословит вас всех Господь Своею благодатию и чистою радостию в мире! Вам, в
частности, желаю скорейшего окончания работы над Вашим большим трудом135, *ыхода
коего мы все ждем с нетерпением двойным, во-1) ради ознакомления с Вашею
книгою в окончательной ее форме, а во-2) и потому, что окончание работы над
нею, я верю, — будет началом новых, важных трудов. Я часто думаю: как Вам находить
время для своих пристальных работ при стольких отвлечениях от них другими
делами? Боюсь, вот и редакторство, само по себе очень благоприятное для
журнала и для нас — читателей, не отвлечет ли у Вас слишком большого количества
времени? Но добросовестному труженику Бог помогает, а талантов Вам не
занимать-стать. Вот почему за Вас не страшно. Еще раз желаю Вам всего доброго!
Преданный Вам Влад. Кожевников.
15. Кожевников — Флоренскому136
Москва. 12 ф. 1913.
Многоуважаемый и дорогой отец Павел! Пишу по поручению Мих. Ал-ча.
Он просит Вас просмотреть посланные Вам сегодня гранки (бандеролью) и поскорее
вернуть их и относящуюся к ним рукопись, и, кроме того прислать и то, что Вы
увезли в последний раз для просмотра и чего не успели просмотреть в Москве137.
Мих. Ал. Вам кланяется и приветствует Вас, также и я. От себя скажу Вам, что
Мих. Ал. чувствует себя плохо:138 вчера был у Мамонова139 и тот сказал мне,
что нашел у него, кроме переутомления, нечто неладное в сердце* подумывает
о помещении его в санаторий. Сегодня я нашел М. А-ча слабым; он, по приказу
доктора, лежит; жалуется на сердцебиение. Помолитесь о нем.
Преданный Вам В. Кожевн.
16. Кожевников — Флоренскому140
Москва. 14 Марта. 1913.
Дорогой и глубокоуважаемый Отец Павел!
От. Павел Добров141, прочитавший "На горах Кавказа" еще в 1-м издании и
тогда же составивший статью по этому поводу, ныне, узнавши из "Моск. Ведомостей"142
об имеборческих спорах143, желал бы свою статью прочесть и побеседовать на
эту тему в тесном кругу в квартире Мих. Ал-ча или у меня. Предложение его
охотно принято Мих-м Ал-чем, Фед. Дм-чем144, Серг. Ник-м и мною. Дни удобные для
от. Доброва: понедельник или вторник следующей (4-й) недели (вторник
предпочтительнее для него и Самарина). Ваше присутствие и участие в беседе необходимо
110
(от. Добров, разумеется, имеборствует!); а потому все мы усердно просим Вас
приехать на сйе собеседование ("Павел против Павла"!). Надеемся, что Вы найдете это
возможным? Во всяком случае будьте добры немедленно уведомить по телефону
Михаила Ал-ча о том, можете ли Вы приехать в один из названных дней, и в
какой именно? Если они для Вас безразличны, вторник был бы удобнее понедельника.
Пользуюсь случаем пожелать Вам и семье Вашей всего наилучшего и дружески жму
Вашу руку.
Преданный Вам В. Кожев.
Если не дозвонитесь "авве Михаилу"145, черкните ответно мне два слова. Привезите
то, что у Вас написано по вопросу о значении имени Божия146. Федор Дм-ч жаждет
разъяснений по этому вопросу; уклон его — имеборческий, хотя он и выдает себя за
"ничего не знающего в этом вопросе", по скромности, конечно147.
От. Антоний148 вчера уехал в Питер; прошение его принято и будет прочитано.
17. Кожевников — Флоренскому149
Москва. 6.IV.1913.
Многоуважаемый и дорогой Отец Павел!
Благодарю Вас за присланную столь скоро корректуру!150 Возвращая ее Вам,
прошу, по исправлении опечаток, или дать ее просмотреть кому-либо вторично,
или прислать опять мне, — как окажется удобнее. Но когда текст будет сверстан для
отдельных оттисков, тогда непременно нужно будет прислать его мне опять на
просмотр. Бумагу для оттисков Мих. Ал-ч просил сказать поставить такую же,
какая была в последнем его издании Леонтьева "Отшельничество..."151
Как поживаете и над чем работаете?.. Пав. Бор. Мансуров152 сегодня вторично
направился в Петербург с двумя докладами по Афонским делам153; в этих докладах
он очень искусно, с большим дипломатическим тактом, внушает быть
осмотрительными в решениях и действиях по поводу споров о значении Имени Божия.
По желанию Мих-ла Ал-ча он постарается устроить беседу об этом вопросе
еп-па Никона154 с Вами и (почему-то — не знаю?) со мною! По словам
Павла Б-ча, оный епископ несочувственно относится к архиеп. Антонию155 и
вообще ведет себя значительно сдержаннее в деле против предполагаемой "новой
ереси". Отзывы Антония Вол-го и еп. Никона. Синоду будут представлены в
конце Фоминой недели; вот Михаилу Ал-чу и хотелось, чтобы до подачи своего
отзыва еп. Никон побеседовал бы с Вами, дабы Вы разъяснили ему, что
следует и чего петербургские вершители церковных судеб156 не постигают.
Мой искренний привет Вам, Анне Михайловне, сынку Вашему и Федору
Константиновичу.
Преданный Вам и благодарный
В. Кожевн.
18. Кожевников — Флоренскому151
Христос воскресе! дорогой и глубокоуважаемый отец Павел! Примите мой и
моей семьи сердечный привет и поздравление со Светлым Праздником и передайте,
пожалуйста, мое поздравление Анне Михайловне. Дай Бог Вам полного счастья и
здоровья.
По желанию Михаила Ал-ча на 4-й день Праздника собираюсь в Посад, дабы
вместе с Вами побеседовать с еп. Никоном.
Получаются вести все неблагоприятные, между прочим, и от от. Феодора158.
Вот это-то и побуждает Мих. Ал-ча желать, чтобы состоялся разговор с еп. Никоном.
Уведомьте Мих. Ал-ча или меня, будете ли Вы в Посаде на 4-й день и можете ли
видеться с еп. Никоном.
Преданный Вам В. Кожевников.
Я обрадован крепким тоном статей Розанова159 в Бог. Вестнике.
111
19. Кожевников — Флоренскому
Дорогой Павел Александрович! Еще раз поздравляю Вас и Ваших со Светлым
Праздником! — Пиш>, чтобы сообщить, что теперь Мих. Алекс, изменил свое
мнение относительно беседы с Еп. Никоном и находит, что лучше не напрашиваться на
разговор с ним, а держаться тактики выжидательной. Пусть дело идет само собою,
а дальше видно будет что и как делать. Вследствие такого решения Михаила Ал-ча, я в
Посад в среду не приеду; да, по слухам, едва ли и Еп. Никон будет в Посаде в
этот день.
Мих. Ал. перебрался на квартиру В.Д. Мощанского в 4-ю Гимназию; в Велик.
Субботу приобщался Св. Тайн; порядочно поутомился, но все-таки чувствует себя
не плохо. Получил 2 письма от Булатовича, одно от Еп. Ф. (не благосклонное!) и
копию с нахального письма Антония Вол-го (на Афон)161. Впрочем, П.Б. Мансуров,
успевший застать это письмо на Афоне, постарался в немалой степени парализовать его
действие.
Как хорошо, что Вы привлекли статьи В.В. Розанова в Б.В.! В "Анафеме" тон
могучий, местами — прямо потрясающий. Воображаю, как прогневит 2-я статья
левый лагерь!162
Будьте здоровы. Преданный Вам В. Кожев.
20. Кожевников — Флоренскому1^
Москва. 18.IV.1913.
Дорогой отец Павел!
Мой отъезд из Москвы в Крым предположен на 1-е мая; до этого времени было бы
очень желательно просмотреть корректуру 2-й части моей статьи (ту часть,
которую, кажется, Вы предназначали для напечатания в майской книжке "Бог. В-ка"16-4).
Поэтому, если можно, потрудитесь распорядиться набрать эту 2-ю часть и прислать
мне на просмотр, по крайней мере дня за три до моего отъезда, а вместе с тем
нельзя ли прислать и корректуру 1-й части, переверстанной в листы для отдельных
оттисков (о чем и Мих. Ал-ч просит, дабы ему после моего отъезда не утруждаться
этою корректурою). Очень буду Вам благодарен за исполнение этой просьбы.
Привет Вам и Анне Мих-не и сыночку Вашему.
До отъезда еще надеюсь увидаться с Вами и проститься, что Бог даст, до
осени; а пока желаю всего лучшего.
Любящий и уважающий Вас В. Кожев.
21. Кожевников — Флоренскому1^
Москва. 27.IV.1913.
Дорогой и многоуважаемый Отец Павел!
Очень благодарен Вам за письмо с уведомлением об отношении к волнующему
всех нас вопросу 66. Спасибо и за желание исполнить мою просьбу относительно
корректуры. Последнюю я получил, но, как ни старался ее разобрать, — не мог,
да и не я один со своим слабым зрением, а и другие помогавшие мне: должно быть, в
печатные листы свернули, не давши им просохнуть, а на других страницах вовсе
не отпечатались не только отдельные буквы, но и целые строки. Очень совестно
мне отсылать поэтому корректуру не поправленною; но ничего нельзя с нею в
таком виде сделать; и потому отсылаю ее обратно вместе с гранками. Теперь уже
поправить ее сам я не успею, так как уеду 1-го мая утром, Остается просить Вас
распорядиться поправить ее трудом кого-либо в Посаде, так как пересылать в
Крым — задержало бы выход журнала. Когда же будет переверстано для отдельных
оттисков, не откажите выслать корректуру оных мне (Ялта, Исар, мне, своя
дача); я не задержу.
Приходится проститься с Вами до осени! От всей души желаю Вам и семье
Вашей полного Божия благословения, здоровья, бодрости в труде, мира душевного,
112
радости духовной! Да хранит Вас Господь и Матерь Божия! Привет Анне Михайловне и
сыночку Вашему!
Любящий Вас и благодарный Вам
В. Кожевников.
Вспомните когда-нибудь меня летом и напишите. Передайте мой поклон Федору
Кон-чу.
23. Кожевников — Флоренскому161
Глубокоуважаемый и дорогой отец Павел!
Я так виноват перед Вами, так много виноват непозволительным промедлением
на Ваше письмо168, что и за перо браться стыдно! Поверите ли, несколько раз
хотел писать, и не решался, говоря про себя: "нет, теперь уже поздно, — стыдно!"
Сначала надеялся быть в Москве по одному делу, и конечно побывать и в Посаде;
но дело отсрочивалось, а потом и совсем расстроилось, а время прошло...
Ну, ради Бога, Простите великодушно! Тем более чувствую свою вину, что Вы
вспомнили про день моего Ангела и написали мне такое хорошее и важное но
содержанию письмо! Спасибо за память, за сообщенные сведения о Брехничеве и
К° и в особенности за то, что определенно высказались'по поводу Федорова170!
Но прежде, чем говорить об этом, хотелось бы думать, что Вы и семья Ваша
здоровы и что Вы сколько-нибудь отдохнуть успели за краткое вакационное
время? Была ли у Вас возможность уединиться от людей и служебных дел? Мне
кажется, что дар, Вам Богом данный, такого свойства, что он требует уединения, ухода
в глубь себя для того, чтобы потом являть нам те вдумчивые мысли и чаяния, которыми
чаруют Ваши произведения. Вот почему мне всегда жаль и досадно, что Вам
столько сил и времени .приходится отдавать на работу не произвольно выбираемую
или служебную. Свою хорошую сторону, нравственно-дисциплинирующую, это,
конечно, имеет, но нам, Вашим читателям, хотелось бы, по себялюбивым расчетам,
чтобы у Вас оставалось более простора для работ, таких, к каким влечет Вас добрый
гений Ваш. — Пока рад был найти в "Богосл. Вестнике" Ваши прогулки в
области старых культур171: мне давно хотелось познакомиться с ними, не только
потому, что они — Ваши, следовательно, и вдумчивы и самобытны, но и потому,
что эти области расследования влекут к себе сейчас мою душу. Чем старее
становишься, тем меньше занимает меня злоба дня, та современность, которую называют
обыкновенно "животрепещущею" и которая, по большей части, на меня производит
впечатление чего-то поверхностного или совсем пустого, а потому и безжизненного.
Чем меньше жить остается самому, тем сильнее влечет в глубь веков, к корням и
родникам жизни, к ранним зорям просвещения, к первым поискам света. В этом
смысле и Ваши "археологические прогулки" по воскрешаемым путям древней
культуры были для меня, несмотря на свою краткость и фрагментарность,
некоторого рода лакомством. Вот именно желательное: к корням, к источникам,
к глубинным зародышам истории развития духа человеческого, для того, чтобы
из глубины и колыбели взлетать в высь и сроднять дольное горнему! Да и что-то
умилительное, трогательное ощущаешь (независимо от удовлетворения научной
любознательности), когда оказываешься лицом к лицу с первичными проявлениями
исканий человеческого духа в области великих его запросов. А вот такие проникания в
старые культуры, как Ваши очерки, показывают, как далеко до этих глубин,
где лежат следы этих ягрвоисканий. Слава Богу, что в лице языка вообще и
сравнительного языковедения уцелела хотя и спутанная, но все же подлинная
Ариаднина нить для ориентирования в лабиринте наслоений разных культур.
Ну, а затем, конечно, необходим и дар прозрения, и я убежден, что он Вам Богом
дан, и потому-то я и жду от Вас, с Божией помощью, не только "Около Платона",
но и "До Платона", которого связь с далекими корнями народного природононимания
Вы уже намечали так талантливо-дерзко и симпатично.
Теперь несколько слов по поводу Ник. Фед-ча, хотя слишком обильные, по
необходимости, споры о нем с Петерсоном, по поводу его полемики с Трубецким172,
несколько набили мне оскомину в этом отношении, так что я ограничусь сейчас лишь
немногими замечаниями, предпочитая более обстоятельную беседу отложить до
личного свидания. Во всяком случае я очень рад, что Ваше отношение к учению
Н. Ф-ча Вы определенно и решительно формулировали. Правда, Вы ждете разъяснений и
113
притом от меня! Боюсь, я не возьмусь за трудную задачу давать их для печати, да и
если бы взялся за это, я почти уверен, что то, что было бы предъявлено, в
качестве разъяснений, не уменьшило бы Вашего отрицательного отношения, а
скорее подкрепило его. Дело в том, что едва ли есть возможность произвести
удовлетворительное уравнение между личною религиозностью и православностью
Ник. Ф-ча, которые для знавшего его непосредственно — несомненный (ракп1_
и степени религиозности и православности его доктрины, за безупречность
каковой в эгом отношении я не поручусь, хотя старику искренне казалось, что
учение его безусловно-религиозно и чисто-православно173. Переоценка естественных
средств спасения человечества (самим человечеством) и недооценка значения средств
благодатных в учении Н. Ф-ча для меня очевидна, не только в изданном, но и в
неизданном и в неписанном, а также и в том, что сквозило в беседах с ним.
Он не сознавал сам, каким минимумом Благодати обходился он, и на что сводил
и этот минимум. Но именно потому, что он этого не сознавал и не видел опасностей,
отсюда вытекающих, он и ограничился в писанном тем, что есть, и не ставил
дальнейших вопросов об отношении своего всечеловеческого дела к делу
божественному. Если же признать, что все существенное, свойственное Н. Ф-чу, уже высказано
им"4, тогда это учение не для Вас одного, но и для меня неприемлемо и окажется в
противоречии непримиримом с учением Церкви. Петерсон имеет бестактность и
самоволие настаивать на том, что будто бы все сказано Н. Ф-чем, что он мог
бы сказать и что это есть своего рода божественное откровение, и писания Н. Ф-ча в этом
смысле он признает богодухновенными. Эту уверенность, что все существенное
уже Н. Ф-чем высказано, и что все высказанное ясно и безупречно, Петерсон
выразил и в переписке с Трубецким. И вот тогда Трубецкой и поставил ему дилемму:
"в таком случае приходится выбирать между Евангелием и Федоровым, и я
(Ев.Н. Т-ой), не колеблясь выбираю Евангелие!" Я насилу удержал Пегерсона от
новых полемических выпадов175, которые эту жестокую альтернативу распространили
бы во всеобщее сведение (через "Новое Время"). Но удерживал я его не по одним
тактическим соображениям, а и потому в особенности, что я, знавший Н. Ф-ча не
меньше, чем Петерсон, далеко не убежден, что в напечатанном и написанном
Н. Ф-м содержится все, что можно вывести из его главных мыслей. Я убежден, что,
если бы при жизни Н. Ф-ча вскрылись опасности, уже теперь обнаружившиеся,
он, с присущей ему осторожностью к самому себе, опять стал бы проверять
себя, сознал бы и недостаточность выраженного (в написанном) участия Благодати и,
быть может, значительно смягчил бы рационалистически-материалистическую
тенденцию своего учения и одумался бы относительно своего нерасположения к
мистическому элементу. Я имею основание думать это потому, что словесно и в письмах
он многократно высказывал, что "ничего так не боится, как того, что "передовые" и
неверующие "пожалуют" его в атеисты, от каковой чести он наотрез отказывается".
И вот, чтобы предупредить эту опасность "искажения его" ("самого грубого",
как он выражался), он и вверил рукописи мне176, смотря на них всегда как на
незаконченное и несовершенное, и высказывая, что он боится не только атеистического
усердия таких лиц, которые выведут и его в атеисты, но и апологетического
усердия Петерсона, которого именно за его опрометчивую решительность в
защите считал опасным, что сейчас (в инциденте с Трубецким) блестяще подтвердилось.
Не знаю, проливают ли эти строки что-либо ноеое Вам относительно Н. Ф-ча
и его собственного отношения к его учению. Я же прибавлю только следующее:
в разъяснении затронутого здесь недоразумения, по моему убеждению, вся судьба
учения Н, Ф-ча. Опасность истолкования его учения в смысле толь/со^рационали-
стическом и материалистическом jxn±b± опасность эта велика и в значительной
степени основательно мотивирована, если ограничиваться тем, что было писано
Н. Ф-чем. Доказать возможность переделки учения с сильным уклоном в сторону
религиозную (поднятие значения благодатных средств общечелов. дела) не легко,
а для лиц, лично не знавших старика, едва ли и возможно. Вот почему большие
есть шансы за то, что, если внимание к этому учению будет расти, признаки чего
имеются, оно будет истолковываться все более и более рационалистически и
материалистически, пока из него, как ненужную (органически) привеску, вовсе не
выбросят участие Бога в устроении спасения мира. Это будет, с точки зрения
Н. Ф-ча "грубое искажение", но повод к коему им дан (как он и сам мне говорил)177.
Свенцицкий178 и Брехничев с их увлечением идеями Н. Ф-ча, есть, ими, может быть, и
114
не сознаваемый, переход к такому искажению. Сергей Ник. также вполне допускает в
будущем "использование" учения Н. Ф-ча неверующими в вышеуказанном смысле. —
А с другой стороны, в письмах и личных беседах, я встречаю очень не мало
лиц, которые убеждены в глубокой религиозности идей Н. Ф-ча и ценят их именно
с этой стороны и допускают, что воскрешение по его учению нельзя понимать
как осуществляемое только вещественно, только материалистически. Вот какие
трудности возникают и растут с каждым днем! Я ждал сначала полного равнодушия
к Н. Ф-чу и даже осмеяния, как сумасбродства. В этом я, очевидно, ошибся.
Среди "патентованных" философов он заранее осужден на пренебрежение, ибо
совсем не подходит под требования, предъявляемые к типу философа, по школьным
правилам созданному. Но среди философствующих разночинцев и плебеев интерес
к нему обнаруживается179, не говоря уже об отдельных, хотя и не многих, настоящих
философских умах, не ограничивающих Софию рутинно-школьными рамками180.
Я не касался Вашего главного предубеждения против "Старика" — его "вторжения
в святилище Смерти"...181 Вот об этом хотелось бы когда-нибудь побеседовать
с Вами лицом к лицу. Здесь — столкновение с "Федоровианством" более коренное,
чем всякое иное, и по этому пункту жажду пояснений с Вашей стороны; а
сейчас кончаю это письмо сердечным пожеланием Вам, Анне Михайловне и сынку
Вашему полного здоровья и счастья. Надеюсь скоро видеться с Вами. 24-го думаем
уехать отсюда, а, по приезде, постараюсь в скорости быть в Посаде. Кланяйтесь от
меня, пожалуйста, Михаилу Ал-чу и Федору Конст-чу.
Сердечно вам преданный и благодарный
В. Кожевников.
Еще раз прошу: простите мое невежливое промедление в ответе на Ваше доброе
письмо! Очень мне совестно!
23. Кожевников — Флоренскому1*1
Москва. 29.IX.1913.
Глубокоуважаемый, дорогой отец Павел!
26-го я вернулся в Москву и думал немедленно навестить в Посаде Михаила Ал-ча,
Вас и Федора К-ча; но М.А. оказался уже в Москве и сообщил, что и Вы на
днях здесь будете; поэтому я поездку свою (отчасти и в виду плохой погоды)
отложил и надеюсь видеться с Вами здесь. Хотелось бы побеседовать с Вами
после долгого перерыва.
А сейчас еще вот какое маленькое дело: во время своих занятий буддизмом183 мне
пришлось вдаться в рассмотрение добуддийского аскетизма (браманического и
джайнистского); материалов оказалось много, и получился до некоторой степени
связный очерк этих древнейших форм подвижничества. Специальной работы об этой
теме нет, кроме труда Спенса Гарди; но он издан в 1860 г. и потому не мог
воспользоваться богатою, с тех пор опубликованной литературою относящихся сюда
памятников; в общих же историях аскетизма ограничиваются очень немногим;
книги же Омана и Шмидта184 на эту тему совсем слабы — применительно к
древнему периоду. Вот в виду этого, мне и кажется, что напечатание сказанного
очерка в качестве "форштудии" к истории подвижничества христианского185, было бы,
может статься, и не бесполезным. Если Вы такую тему найдете возможною для
"Бог. Вестника", позвольте передать Вам на просмотр эту статью, когда приедете
сюда, а если не скоро приедете, — выслать в Посад Вам. Она в моей книге186
занимает 89 страниц (столько же вышло бы и в Вашем журнале); набор был бы
удобный, с печатных листов. Если же не подходит, — так и отпишите187! Я думаю,
что у Вас столько материала дожидается очереди, что столь длинная статья
может стеснить Редакцию. Так или иначе, будьте добры уведомить, а пока, в
надежде скоро видеться с Вами, шлю поклон и сердечный привет Вам и прошу передать
мой поклон Анне Михайловне и сынку Вашему.
Преданный Вам
В. Кожевников.
Поклон и Федору К-чу!
115
24. Кожевников — Флоренскому1**
Москва. 26. Н. 1913.
Глубокоуважаемый, дорогой Павел Александрович!
Посылаю Вам свою статью о древнейшем индусском аскетизме и о древнейшем
монашестве, известном истории. Разделить статью придется на три части, как
размечено: 1-я — с 445-й страницы; 2-я — с 474-й; 3-я — с 497-й (всех страниц 90,
но, я думаю, в журнале выйдет немного меньше, так как там формат больше).
Нумерацию подстрочных примечаний можно сделать рядовую (чрез все 3 статьи) или
постраничную, — как окажется удобнее.
Очень желательно было бы, при наборе примечаний, соблюдение надстрочных
знаков (•, Л, ~; если последнего знака не имеется, можно заменить чертою (—) над
буквою). Заранее извиняюсь за причиняемые затруднения при наборе и корректуре.
Но прежде, чем говорить обо всем этом, следовало бы просить Вас определить,
не слишком ли специальна и скучна статья и потому — удобна ли она для напечатания?
Я хорошо знаю, что кажущееся пишущему интересным и важным, другим
представляется совершенно в ином виде, и часто — не без оснований; а потому и в данном
случае принимайте во внимание не меня, а журнал и его читателей.
Спешу на похороны старого знакомого (д-ра Попова) и нет времени побеседовать
кое о чем, о чем хотелось бы. Слышал от Ф. К-ча нечто меня порадовавшее
касательно отношения еп-а Ф-ра к Вашему труду189; а пока поздравляю Вас с
выходом Вашей книги, стоящей особняком (в самом почетном смысле выражения) в
богословской и философской литературе, как по содержанию, так и по форме190.
На этой книге будут научаться многому, а в ней будут воспринимать окрыляющее
к горнему веяние того животворящего стремления к Высшему, к Вечному,
которое столь редко чувствуется именно в очень ученых трудах. Боюсь одного: что
это книга — для немногих, по присущим ей трудностям; но для читателей вдумчивых
само напряжение внимания и мышления, ею требуемое, будет иметь
воспитательное значение; духовный же подъем и щедрою рукою рассеянные сокровища
знания вознаградят обильно и тех читателей, которым чтение некоторых частей
будет не легко.
Здоровы ли Вы и семья Ваша? Привет Вам, Анне Мих-не и сынку Вашему.
Преданный Вам и благодарный В. Кожевников.
25. Кожевников — Флоренскому191
Москва. 23 Декабря 1913.
Дорогой, глубокоуважаемый Павел Александрович!
Сердечно приветствую Вас и семью Вашу с наступающим Праздником Рождества
Христова. Будьте здоровы и счастливы в эти особо-умилительные дни торжества
чистой детственности и схождения Неба на Землю! Спасибо Вам и автору статьи
о Федорове в Декабр. книжке192. Статья серьезная, дельная и для выяснения значения
Федорова очень полезная. Хорошо вышло сопоставление этой статьи со следующею
и даже с 3-ю (Соловьевскою)1 3. Декабрьская книжка вообще очень интересна.
Читаю Ваш большой труд194, чередуясь с моей матерью195, которая хотя и не может
преодолеть некоторые трудные для нее места, но зато тем живее воспринимает
другие, где, рядом с глубиною мысли, проступает красота чувства. На днях, в
магазине Суворина, я порадовался, когда узнал, что "книга идет в продаже очень не
дурно", и это — еще до появления критических статей о ней. Так и должно быть! Эта
книга — духовный друг, с которым постепенно сродняешься, научаясь любить его
крепче и глубже. Помогай Вам Бог в трудах жизни и в радостях ее. Поклон Анне Мих-не.
Любящий Вас В.К.
26. Кожевников — Флоренскому196
Москва. 28. Д. 1913.
Дорогой Отец Павел!
Будьте добры распорядиться выслать наложенным платежом декабрьскую книжку
"Богосл. Вестника" по адресу: в Зарайск, Рязанс. губ. Его Пр-ву Николаю
Павловичу Петерсону. Он очень заинтересован статьею о Н.Ф. Федорове.
116
Поздравляю Вас и многоуважаемую Анну Михайловну с наступающим новолетием;
дай Бог Вам и семье Вашей полного счастия!
Преданный Вам В. Кожевников.
Если в Январ. книжке "Вестника** будет моя статья, будьте добры своевременно
прислать мне корректуру.
27. Кожевников — Флоренскому191
Москва. 7 Янв. 1914
Глубокоуважаемый, дорогой Павел Александрович!
Получивши корректуру статьи, я почувствовал упреки совести за мучительный
труд, Вам причиненный правкою примечаний. Видно, что Вам пришлось много
потратить на это труда и времени. Простите!.. Очень, очень благодарю Вас!..
Возвращаю корректуру и думаю, что теперь можно было бы печатать. Только из
присланного набора (он кончается 80-ю страницею, а текст, с которого набирали,
имеет еще 1 страницу) не видно, на каком месте окончится 1-я статья, хотя,
помнится, я в тексте сделал об этом пометку; теперь я ее не нахожу (может быть,
до нее еще не дошел набор?). Впрочем, этот вопрос всецело зависит от того, сколько
места можно уделить статье в янв. книге; я же могу только благодарить за
то, что приютили мою сухую, кропотливую работу.
А вот касательно отдельных оттисков статьи у меня к Вам просьба: распорядиться
сделать этих оттисков триста штук на хорошей, белой бумаге, — желательно бы
на такой, на какой печатал Михаил Александрович свой последний выпуск "Религ.
филос. Библиотеки", печатавшийся в Посаде; если точно такой нет, го приблизительно
на такой же по добротности. Когда будут сверстаны листы отдельных оттисков,
прикажите, пожалуйста, прислать мне их корректуру на просмотр. Простите это
новое утруждение! чувствую, как эти мелочи по внешней стороне изданий должны
быть надоедливы.
Я думал было на днях сам съездить в Посад, но, возвращаясь в сильный
мороз от Васнецова, схватил простуду; придется посидеть дома; а пока от души
желаю Вам и семье Вашей здоровья и счастия.
Преданный Вам и признательный В. Кожевников.
О Вашем письме я лично справлялся в Главк. Почтамте: там не оказалось
его; говорят: вернули обратно, если был адрес отправителя?..
27. Кожевников — Флоренскому19*
Москва. 21.1.1914.
Дорогой, глубокоуважаемый Павел Александрович!
У меня было что-то в роде воспаления левого легкого, и потому не мог тотчас же
отвечать Вам. Теперь, слава Богу, лучше стало; опасности нет, и мне дозволено
вставать с постели, но еще нельзя выходить на воздух.
Благодарю Вас очень за доброе слово о моей статье; я так не уверен в достоинствах
своих работ, что ободряющий отзыв, да еще Ваш, очень содействует подъему
моего слабого духа. — Образец бумаги, на которой желательно было бы печатать
оттиски, прилагаю.
С большим интересом прочел о Ваших недоумениях по поводу Вашего труда об
философии от. Серапиона199. Очень мне понятно Ваше настроение; сходное
переживал, и еще переживаю, и я по поводу Ник. Фед-ча, которого высоко ценю,
горячо люблю и с которым, все же, кое в чем существенном не могу слиться
воедино. Когда я старался провести его, помаленьку, в наше общественное сознание, я
прилагал все усилия, чтобы именно сливаться с ним при изложении его мыслей;
и меня даже упрекали в том, что нельзя часто отличить, говорю ли я от лица
Ф-ва или от себя 00. Но я убежден, что только такое, сродственное, созвучное по духу,
изложение мыслителя и есть правильное, по крайней мере для начального с ним
ознакомления: критике же место в конце. Вот почему я думаю, что и Вы должны бы
вводить в понимание Вашего, также "Загадочного мыслителя"201 изложением сродст-
117
венным же, "конгениальным", как говорил Гердер202, а не сразу
аналитически-критическим. Вижу трудность этой задачи при Вашей теперешней невозможности
объединиться с Вашим мыслителем во многом. А все-таки, думается, впереди должно бы
идти изложение его, насколько можно более объективное, без расслабления первого
впечатления критикою. Пусть его в начале книги узнают и полюбят таким,
каков он есть в его целости (и с теневыми сторонами); а дальше уже поправляйте
сами то, что Вам представляется у него ошибочным или опасным. При Вашей
многогранной душе у Вас, я знаю, найдется достаточно созвучного для того, чтобы
ввести читателя в понимание мыслителя путем не одного холодного изложения, но и
теплого симпатизирующего чувства. А разоблачению диссонансов место в конце...
Это я все говорю по соображениям общего свойства, так как совсем, совсем
смутно представляю себе Вашего героя мысли; очень может быть, что если бы
знал его детальнее, я сбавил бы много от того, что решительно так выразил.
Задача трудна; но Вам от нее не уклониться, как и другому ее не выполнить. А потому
"muthig drauf los!"203, ... лишь бы только эта работа была не в ущерб другим
Вашим более широким трудам, которых все Вас знающие, а следовательно и
любящие, ждут от Вас, как укрепляющего живоносного слова на пользу растущей,
русской, верою окрыленной, научной мысли.
Поклон Анне Мих-не и сынку Вашему.
Преданный Вам и благодарный Вам
В. Кожевников.
Вчера был у меня еп. Феодор и говорил, чго находит нужным, чтобы Вы
еще кое-что выпустили в книге Вашей (для диспута)204. Это меня опять встревожило.
Лично он отлично к Вам настроен, но, видимо, побаивается синодалов; упоминал, по
крайней мере (и с порицаь
гополучно с этим делом!
крайней мере (и с порицанием) об Остроумове205. Помоги Бог скорее покончить и бла-
29. Кожевников — Флоренскому™
Дорогой Павел Александрович!
"Богосл. Вестник" за Январь я уже несколько дней тому назад получил, а
корректуры оттисков моей статьи до сих пор типография не выслала. Боюсь, не
забыли ли в типографии об оттисках (я просил их напечатать в количестве 300 экз-в и
образец бумаги Вам послал). Равным образом в силу свойственной мне мнительности:
не затерялось ли на почте посланное?..
11-го Февр., как я слышал, кн. Трубецкой хотел читать о Вашей книге207; но,
кажется, лекция на некоторое время отсрочится. Надеюсь, Вы приедете послушать
и дать разъяснения, если в том надобность будет? На диспут Ваш собирается чуть
не вся философствующая Москва.
Будьте здоровы!
Привет сердечный Вам и Вашим.
Преданный Вам В. Кож.
30. Кожевников — Флоренскому™
Москва. 7.Ф.1914.
Дорогой, глубокоуважаемый Павел Александрович!
Вчера, утром, только что отправил письмо Вам, как вечером получил Ваше;
иными словами: еще раз проявил нетерпение и малодушие! Так, видно, до самой
смерти не справлюсь со своею мелочностью и суетливостью!
Спасибо за извещение о деяниях Николая Павловича209. Его "усердия не по
разуму" боялся и сам Николай Фед-ч: завещая мне свои рукописи, он вменял мне в
обязанность не вверять их судьбу с одной стороны неверующим-рационалистам,
которые (говорил он) "не преминут меня пожаловать в генералы от атеизма, —
честь, которую я не заслужил, хотя, может быть, и подал некоторый повод думать об
этом иначе", — ас другой стороны не давать рукописи в распоряжение Петерсона,
"усердного не по разуму", и, по мнению Н. Ф-ча, в этом смысле более опасного, чем
враги, с которыми (добродушно добавлял старик) "мы кое-как еще справимся".
Эти предосторожности он не раз выражал в письмах ко мне, которые я принужден,
118
конечно, скрывать от Ник, Пав-ча; а Н.П., не зная этого, часто делал многое
вопреки моему мнению и неоднократно ухудшал положение дела, и без того
незавидное. Наивность его доходила, напр., до того, что он писал Столыпину о
необходимости положить в основу преобразования строя России идеи Н. Ф-ча; писал
о том же Щегловитому210; хотел писать Саблеру2 '; пробовал обращаться и к
самому Государю; а недавно послал в том же смысле воззвание к одному члену
Гос. Думы, к тому же — кадету212. Такое рвение и такая любовь к Учителю сами по
себе, конечно, трогательны, особенно если знать, от какого доброго, хорошего
человека и настоящего праведника эти чувства исходят. Но "делу" эти порывы не
пользуют ни мало, а скорее вредят. Я согласен с Вами, что выступление против
Трубецкого213 имело смысл; но форсировать положение до того, чтобы приводить
противника к альтернативе "или Н.Ф. или Евангелие" было вредно, а, главное, —
неосновательно, ибо учение Н.Ф., по его собственному убеждению, вовсе не должно
приводить к такому гибельному радикализму. Надо признать в этом учении многое
недовыясненным, кое-что необоснованным, кое-что недодуманным; надо, наконец,
признать и его столкновения в некоторых существенных пунктах с церковным
учением214, несмотря на искреннее желание автора пребыть православным. Все это
должно вести к разъяснению, расследованию учения, ко всестороннему его обсуждению,
разумеется, с полною свободою разномнения, свободу, за которую "Старик"
всегда стоял явно и энергично. Николай же Павлович, признавши не только
учение Н. Ф-ча, но и изложение его "богодухновенным" (как он мне недавно
признался в письме), не может спокойно сносить инако, чем сам, мыслящих об
этом учении, и всех, подряд, обвиняет в непонимании Федорова. Что же бы это
было за учение, и какая была бы ему цена, если бы действительно его никто не
понимал, кроме одного (Н. П-ча), — ибо и меня он причисляет не столько к
непонимающим "учения", сколько к изменникам ему, за то, что я не следую совету в
каждой статье или каждом чтении начинать и кончать пропагандою идей Н. Ф-ча.
Непопулярность и недоступность учения не страшна была многим мыслителям,
а многим из них она была прямо желательна; по крайней мере, они на это претендовали и
этим похвалялись. Но что сказать об учении, предназначающем себя для всех,
непременно для всех, и без содействия большинства себя не утверждающего,
и которое было бы в то же время никому не понятно или почти всеми превратно
понимаемо?.. Сколько раз я указывал Н.П. на то, что, утверждая это, он "проваливает"
Н. Ф-ча215, но все мои увещания ни к чему не приводили. То же — и теперь!
Выступление свое против Голованенки он от меня скрыл, из опасения, вероятно, как бы я
не остановил его. Не знаю содержания статьи, но принципиально вполне разделяю
Ваше мнение, что, если Гол. будет печатать целую работу о Федорове, то, конечно,
лучше выждать ее опубликования в полном составе и тогда уже отвечать. На днях
Ник. Павл. ко мне явится (8-го он приезжает в Москву), и тогда я употреблю
все усилия, чтобы склонить его потерпеть до опубликования статей Г-и; я надеюсь, это
мне удастся. Вас же я просил бы не сдаваться на его просьбу сейчас же
напечатать его статью216, ибо убежден, что это только повредит делу. Я же объясню
Петерсону, что Ваш отказ отнюдь не заключает в себе какой-либо
несправедливости или предубеждения. Что касается "Исповедания веры" самого Петерсона, то,
если это есть то, набросок чего он мне раньше читал217, то и подавно мне было
бы нежелательно видеть эту вещь напечатанною, и я не понимаю, почему
редакция "Бог. Вестника" может быть обязываема печатать ее? Поговорю и об
этом и немедленно сообщу Вам.
Что такое приключилось с Вами, и как это Вы уподобились Филоктету?218
Надеюсь, — ничего опасного нет? Желаю Вам полного здоровья, а мне, малодушному,
да поможет Бог ощутить живо и действенно Ваш призыв к великопостному
сосредоточению мыслей и чувств на горнем — вечном. Привет и поклон Анне Мих-не
и сыночку Вашему!
Сердечно Вам преданный и любящий Вас
В. Кожев.
31. Кожевников — Флоренскому1^
Дорогой Павел Александрович!
Возвращаю корректуру февральской статьи220. Так как в ней очень много
119
опечаток, то будьте добры приказать внимательно просмотреть, будут ли они
исправлены, или же еще раз прислать мне на просмотр, если время дозволит,
в чем сомневаюсь, в виду предстоящих не-рабочнх дней. Корректуру отдельных
оттисков я направил прямо в типографию.
Вчера, наконец, прочел статью Бердяева221» Какая жалкая, захлебывающаяся
бессильною досадою (чтобы не сказать — злобою) инвектива! тошнотворно
повторяющаяся, сбивчиво, в каком-то лихорадочном тоне писанная и уж совсем не
"героическая", ни в хулах, ни в призывах к свободе и творчеству222!.. Никак уж
не вулкан, огнем и смертью дышащий, а только сопка, изрыгающая подогретую
грязь, неспособную высоко взлетать, но марающую свое собственное подножие.
Рядом с этим нечистым вздутием вершины "православной теодицеи" высятся так же
спокойно-величаво, как те "горные вершины", восхождение на которые Вы когда-то
так вдохновенно воспели"223. Но православное величие смиренно и полно любви; а
потому и ответом здесь может быть только молитва за душу болезнующую,
слепнущую и, кажется, утратившую способность воспринимать, сейчас по крайней
мере, самобытную природу веры, гармонию церковного миро» и жизнепонимания и
жажду единения души с этим, все земные противоречия разрешающим и все
примиряющим созвучием.
Привет Вам и Вашим и да хранит Господь Вас, в мире и ббдрости духа!
Преданный Вам В. Кожевников.
32. Кожевников — Флоренскому224
Дорогой Павел Александрович!
Посылаю статью Н.П. Петерсона (по поводу статьи кн. Е.Н. Трубецкого): ей
придан теперь вид не письма, а заметки на статью225. Полемического-резкого в
ней ничего нет, а фактические данные не лишены интереса. Ник. Павл. очень
желал бы видеть эту статью напечатанною в "Бог. Вестнике" и просит Вас об
этом. Не найдете ли возможным исполнить эту просьбу?
От выступления против Голованенко Ник. Павл. пока решил воздержаться226.
Жаль, что не было Вас на лекции Трубецкого, Очень было хорошее, дружное
настроение; так радостно было за Ваш успех в широком и очень разнообразно
составленном кругу слушателей.
Помогай Вам Бог в трудах благих и дальше! Не будьте только небрежны к
своему здоровью; за него и за Ваши силы, с ним связанные, Вы ответственны перед
многими почитающими и любящими Вас,
Преданный Вам В. Кожевников.
33. Кожевников — Флоренскому221
Москва, 11 Марта, 1914,
Дорогой, глубокоуважаемый Павел Александрович!
Н.П. Петерсон убедительно просит Вас отослать ему обратно (в Зарайск Ряз. губ.
Е. Прев-ву Н.П. Петерсону) его статью по поводу Трубецкого228, а также оттиск статьи
Голованенки, предназначавшейся для февр. книги, конечно, если это окажется
возможным. Он, кажется, понял так, что статья была уже тиснута набело и потом
изъята из книги. Я же полагаю, что она была только в виде корректуры. Если —
последнее (да и вообще!), то я не знаю, удобно ли посылать статью Н. П-чу: он, при
своей ревности о Федорове, пожалуй, начнет писать и печатать и на это возражение,
а придавать "публичность" еще не опубликованному едва ли можно, Я только
передаю его просьбу. Пользуюсь случаем пожелать Вам и семье Вашей всего
доброго.
Преданный Вам В. Кожевников.
34. Кожевников — Флоренскому129
Москва, 23 Марта 1914.
Дорогой, глубокоуважаемый отец Павел! Посылаю корректуру последней
статьи230. В ней почему-то, в отличие от предыдущих, наборщики совсем не
соблюдали надстрочные знаки в санскритск. словах. От этого получилась куча
120
поправок и, что всего досаднее, все они относятся к одним и тем же немногим словам,
повторенным очень большое число раз, да и слова-то, как нарочно, обильные
этими знаками (Acar^nga-Sutra)231!.. Если поздно прислать сюда еще раз корректуру,
прикажите повнимательнее проверить после восстановления знаков. Корректуру же
этой статьи в отдельных оттисках во всяком случае прикажите доставить мне.
Простите великодушно труды, причиняемые этими "оцеживаниями комара'*!232
Привет Вам и семье Вашей!
Преданный Вам и любящий Вас
В. Кожевн.
35. Кожевников — Флоренскому23*
Христос воскресе!
Дорогой Отец Павел!
Я л семья моя приветствуем Вас и Вашу семью с днем Светлого Христова
Воскресения! Да ниспошлет Вам Спаситель наш обильно от даров благодати Своей и да
укрепит Вас во всяком деле и начинании благом. Заочно христосуюсь с Вами. С
нетерпением жду дня Вашего диспута; радуюсь великому успеху книги Вашей:
Сергей Ник.234 говорил мне недавно, что в складе у них235 от нее осталось не более
полутораста экз-в: это успех прямо блестящий. Надеюсь на Пасхальной неделе
побывать в Посаде и видеть Вас, а пока будьте здоровы и счастливы.
Преданный Вам и глубоко благодарный
В. Кожевн.
36. Кожевников — Флоренскому2*6
Дорогой Павел Александрович!
Рекомендую Вашему доброму вниманию Николая Сергеевича Арсеньева237, прив.
доцента Университета, очень интересующегося предхристианскою порою языческого
мира и усердно уже потрудившегося в этой области. Ему очень хотелось
познакомиться с Вами.
Сердечный привет Вам и Вашим!
В. Кожев.
37. Кожевников — Флоренскому211
Привет и сердечное поздравление сожалею о невозможности быть на диспуте239.
Кожевников.
38. Кожевников — Флоренскому2^
Москва. 23 Дек. 1914.
Дорогой отец Павел! Примите мой сердечный рождественский привет Вам и
семье Вашей! Молю Бога, как умею в недостоинстве своем, о даровании Вам и
дорогим и близким Вам здоровья и благоустроения, милостию и благодатию
Божией! Работайте и впредь так же благоговейно и усердно в расследовании
тайн Божьего домостроительства в Церкви православной, а чрез нее — ив детях
ее. Тайны эти, поскольку они вообще обнаружимы, открываются только чистым
духом. Думаю, что и Ваша проникновенная вдумчивость имеет тот же источник.
Храните его неприкосновенным; остальное приложится Вам на пользу многих,
ценящих и любящих Вас, из коих не забывайте (прошу!) и меня, грешного Вашего
молитвенника.
В. Кожев.
39. Кожевников — Флоренскому2*1
Дорогого отца Павла в день его Ангела сердечно приветствует преданный ему
Владимир Кожевников, желая дорогому имениннику и его семье благословения
Божия.
121
40. Флоренский — Кожевникову2*2
1915
Авг.
Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Александрович!
Из деревенской глуши243 приветствую Вас с Днем Вашего Ангела, в нынешнем году
оказавшимся особенно торжественным и знаменательным244. Желаю Вам бодрости и
ясности от девятисотлетнего Вашего покровителя. Надеюсь, что Ваши домашние,
которых поздравляю с дорогим именинником, находятся в благополучии и
здоровий.
Ваш праздник застал меня в сельце Троицком Рязанской губернии. Только в
деревне делается понятной безусловная необходимость Церкви. Богослужение здесь
ощущается выросшим из духа народного и служба церковная есть естественное
увенчание жизни. Кроме того, в деревне все еще сколько-то сохраняется
канонический строй. Всякий раз, как я попадаю в деревню, меня вновь с неудержимой
силой начинает влечь остаться в ней совсем.
Крещение, погребение, все обряды здесь исполнены таким глубоким смыслом и
естественностью. Вся служба, в городе стоящая как укор всему, ее окружающему
и, вместе, сама искусственная и, при всей своей внешней роскоши, часто весьма
бедная и сухая, здесь звучит такою непосредственностью, что может казаться
иногда вот сейчас только возникшей. И, попадая в деревню, я во многом начинаю иначе
смотреть на Федорова, начинаю понимать его влечения.245
41. Кожевников— Флоренскому1*6
Москва. 13 Окт. 1915. 9 ч. веч.
Дорогой Отец Павел! Сейчас ко мне явился законоучитель 1-й Гимназии
от. Иосиф Коновалов (Ваш бывший слушатель) и объяснил, что утром, при беседе
директора с Вами, вышло недоразумение несколько комического свойства.
Оказывается, что после моей беседы с инспектором Ф.С. Коробкиным, но еще до Вашего
прихода в гимназию, директор, после доклада ему Коробкина, решил принять
Вашего брата. Когда же Вы беседовали с ним, он не опознал в Вас Пав. Ал-ча
Флоренского, а счел Вас за какого-то иного просителя и будто бы потому и отказал
Вам, что уже решил принять Андрея Флоренского, а для 2-го желающего поступить уже
не было будто бы места. Потом же выяснилось, кто был разговаривавший с
директором, и вот они очень сконфузились, что вышло такое "qui pro quo"247, и послали
мне письмо, Вам письмо, да еще, в качестве делегата, ко мне — отца Коновалова.
Я тотчас же сообщил о благоприятном исходе Вашим и, по совету от. Коновалова,
Ваши братья решили завтра же утром явиться с гимназию и окончить это дело,
так как там сказали, что можно прямо в класс приходить.
Только что это все переговорили, как А.А. Корнилов248 позвонил мне, что он
говорил с директором Шелапутинской гимназии, и тот также согласился принять
и сказал приходить завтра в 10 час. утра. Я и это передал Вашим, а они, обсудивши все
условия, решили предпочесть 1-ю гимназию, и на этом дело покончено; я же завтра
извещу Корнилова, что брат Ваш уже принят в 1-ю гимназию.
Оригинально это вышло! Недаром я Вам советовал не скромничать чрезмерно!
Ну, до свидания и всего лучшего!
Любящий Вас В. Кожевн.
42. Кожевников — Флоренскому2*9
Поздравляет дорогого от. Павла и семью его с Праздником и с новорожденным250.
Надеюсь застать в другой раз, так как обитаю до 7 Янв. в Черниг. гостинице (N 30)251.
Всего наилучшего!
43. Кожевников — Флоренскому252
Дорогому отцу Павлу в день его Ангела задушевный привет и пожелания
здоровья и счастья ему и семье его шлет преданный ему Владимир Кожевников.
122
44. Кожевников — Флоренскому^* .
Исар. 31 июля 1916.
Дорогой отец Павел!
Спасибо, сердечное спасибо Вам за память о дне моего Ангела, за добрые
пожелания и за все добрые чувства, сквозящие в Вашем письме! Невыразимо дороги
мне проявления их, особенно теперь, на закате жизни, когда тени объемлют душу
отовсюду и каждый проблеск света вдвойне живителен и дорог. А Вы, к тому же,
шлете слова утешения, когда Ваша собственная душа страдает от новой раны!254
Верьте, прошу Вас, и моему отзвучию, посильному, на Ваше горе. Помнится, я раз
или два видел Михаила Михайловича. Каким здоровым и крепким он мне тогда
показался!.. И вот Вы неожиданно опять теряете и родного, и друга! Да ниспошлет
Вам Бог по-христиански отнестись к этой утрате'» Анне Мих-не прошу передать мое
искреннее сочувствие... Вы еще так молоды, что утраты жизненных спутников для
Вас сравнительно редки (хотя и редкие утраты могут оказаться особенно тяжкими);
но в моем возрасте, быть может, ничто так угнетающе не влияет на отношение к
земному, как эго непрерывное и усиленное исчезновение спутников жизни личной.
Сколько уже было этих болезненных отрывов и отпадений, то внезапных, то
постепенных, но от этого не менее жестоких!.. И с каждым таким случаем чувствуется —
частичка чего-то из наиболее ценного в самом себе оторвалась и угасла: еще и еще
уголок сердца покрылся пеплом, а на смену угасшему, не вспыхнуть уже новому
огоньку, ибо почва сердца уже не та, веяние духа не то, и света и тепла прежнего для
новых ростков личных привязанностей уже мало... Благо тому, у кого за этими
сумерками, как-то минуя ночную тьму, загорается заря жизни новой, бодрая, страху за
прошлое чуждая, а потому и надеждою полная на встречу со всем затмившимся
хорошим, ценным, и, следовательно, неумирающим. Ну, а если ждется заря
дня бурного, опаляющего, испепеляющего, дня гнева праведного?.. Вспоминаю
огневые строки Вашей "Геенны"255, и жутко на душе моей в минуты такого раздумья...
Однако, — слава Богу о всем! — болезнь256 дала мне и много примиряющего —
не к себе... а к людям, к окружающему, к близкому, и к тому мировому горю и
злу, что вот уже два года, более всех личных переживаний, угнетало и мучило
меня257. Творится нечто необъемлемое мыслями и чувствами нашими, и под
влиянием впечатлений от катастроф, свершающихся с целыми нациями, тает,
наконец, быстро, моя упорная и позорная мелочность забот и страстей, и дали
Вечности, хотя и смутно, светлеют для духовного взора, внося переоценку во
все доселе испытанное- и пережитое.
Но что это я все говорю о своем самочувствии, да о своих духовных немощах?
Когда Вам слушать, зачем Вам слушать все это? И однако больной душе хочется
делиться с духовно здоровою своими немощными переживаниями. С языческой
точки зрения это, конечно, — слабодушие; с христианской — не знаю уж как
выходит. Знаю, что сказано: "друг друга тяготы носите"258; но не сказано:
"навязывайте их другим". Если есть тут вина, — простите ее мне: у Вас ведь и своих теней
в жизни не мало!..
Ваше (чувствую, — не заслуженное в такой мере мною) внимание ко мне Вы
распространили до пожелания, чтооы я занялся составлением "Воспоминаний" о
себе. Совершенно отвергая мысль о том, чтобы побуждением к ним могло служить
предположение о какой-то значительности меня самого, я, тем не менее, признаться,
и сам не раз подумывал о нанесении на бумагу очерка моего внутреннего опыта,
только внутреннего, ибо внешняя жизнь моя была слишком бледна и
бессодержательна. Побуждением к такому искушению, как писанье своих "Воспоминаний", у меня
было желание как бы утешить себя за то, не часто у людей встречающееся, длительное
духовное одиночество, в котором мне суждено было провести большую часть
моей жизни, причем однако интенсивность и разнообразие моих личных запросов,
стремлений и переживаний были столь велики, что они постоянно усиленно
просились вылиться наружу, и подавлять это желание было мучительно трудно.
Сверх того необычность хода моего умственного и нравственного развития,
и прежде всего необходимость, в которую я был поставлен, всюду и во всем
пробиваться в ширь и в глубь одними своими личными силами259 заставляли
меня иногда думать, что изложение такого процесса развития души, хотя бы
и не выдающейся по достижениям и свершениям, все же может представлять
123
некий психологический интерес. Вот мне и хотелось, не раз уже, присесть
за такие автомеморабилии, предназначая их прежде всего самому себе, как
средство более точного учета о самом собою, а во 2) моим детям, как жизненный
урок, для начинающих жизнь, бесспорно, поучительный. Но каждый раз
останавливался и за недосугом, и за сомнением, что правдивого отражения простых и все же
мудреных переживаний и исканий не удастся создать, что ускользнет именно
интимная сторона их; а она-то и есть то, что во всем этом было благоговейного, и (в этом
смысле) ценного. Много я перечитал автобиографий, а искренних и "с подлинным
верных" много ли из них можно найти?.. Вашу оговорку в этом направлении (о
ненадобности "Исповеди" и разоблачений того, в чем каяться надо одному Богу), я
приемлю, конечно: она глубоко мудрая, но провести ее на деле едва ли возможно:
есть неотделимое одно от другого, и если не все раскрыто в таких случаях, то
окажется, что в этих-то, существенных пунктах именно главное останется не
раскрытым, а умолчание неизбежно рискует выродиться в искажение, в подмену
действительности, предполагаемым или сочиненным. Много и других препятствий
отыскать бы можно, хотя принципиально я согласен с мнением Н. Ф-ча, что автобиография
должна бы быть обязательна для каждого человека: по многим и важным
соображениям.
И между тем как раз сам-то Николай Федорович и отступил перед этой
обязанностью и, словно нарочно, закутал свою жизненную повесть в почти непроницаемую
мглу. В III томе придется, с великим трудом, делать опыт хотя бы клочковатого
восстановления сведений о нем260. И я рад встретить у Вас, дорогой Павел
Александрович, сочувствие к такому делу. Факсимилей можно приложить к книге сколько
угодно, и это предусмотрено с самого начала. Изображений, как знаете, почти нет, что
есть, будет воспроизведено. Мой приятель, Ник. Павл. Петерсон чуть не отлучению
меня подвергает за промедления: Но иначе нельзя было устроиться: каков ни на
есть мой "Буддизм"261, а забравшись в него (конечно, не ожидая, что трудности его
окажутся столь велики) надо было его доработать хотя бы до того, очень
несовершенного вида, в каком я Вам решился, краснея, послать свои два неуклюжих
тома. (Надеюсь, они до Вас дошли?) Теперь приходится кончать "Указатель": к
I тому я его сделал; ко И-му — в производство, но, к несчастью, слабость позволяет
работать лишь с перерывами и по малу.
Как тяжело ощущение невозможности работать при желании еще работать!
Вот с чем помириться трудно...
Отсюда уезжать собираемся 27-го августа; билеты взяты за полтора месяца
вперед: таков спрос на них. Лето здесь было прекрасное, но слишком сухое: ни одного
большого дождя; и если у нас все свежо и зелено, то лишь благодаря своему
водопроводу, обильному превосходной водой. Радуюсь вести о военных успехах,
разумеется, при условии навязываемого себе, сравнительного равнодушия к ужасам,
сопровождающим эти успехи.
Чем заняты Вы, дорогой П.А.? Успели ли отдохнуть хотя бы малость? Я читал про
раннее начало экзаменов и занятий в Академии и пожалел всех вас по этому поводу.
Передайте мой поклон многоуважаемой Анне Михайловне и Федору К-чу.
Наши Вам кланяются и желают доброго здоровья, к чему от всей души
присоединяюсь и я. Еще раз благодарю за память и внимание.
45. Флоренский
Любящий и глубоко чтущий Вас
В. Кожевников.
Н.Ф. Федоров262
I916.IX.6 Серп Пос.
Сегодня был у меня Вл. Ал. Кожевников и на мой вопрос о происхождении
Я. Ф. Федорова сообщил, что, несмотря на все его старания и даже помощь
П. Бартенева^1, знатока генеалогических вопросов* удалось выяснить тут очень
немного, т.к. Федоров ("Старик", как выражается Вл. А-ч) не любил говорить об
этом и выражался всегда так, как если бы Вл. А-чу его прошлое было известно.
Он был сын кн. Павла Гагарина. Но кто такой этот Павел Гагарин, выяснить не
удалось. Мать Федорова имела от него 4-х детей — 2-х сыновей и 2 дочери. Сначала
124
думали, что она крестьянка, но потом оказалось, что она дочь мелкого чиновника —
что-то вроде коллежского регистратора.
Один ее сын — Н.Ф. Федоров, а другой — директор (?) царскосельской клас.
гимназии, переводчик сочинений Вегнера264 "Эллада" и "Рим".
Мать Федорова впоследствии вышла за Попова, директора одной из московских
гимназий.
Сначала она жила у Гагарина. Но когда отец — старик Гагарин задумал женить
сына, детей у нее отняли, тайком посадили в карету и увезли в другой уезд. Федоров
запомнил, как она бежала за каретой и кричала.,.
Федоров редко посещал свою мать. Она плохо к нему относилась. Отца он,
по-видимому, любил и хорошо о нем отзывался.
Вот все, что мне рассказал Вл. Ал. Кожевников.
Не трудно понять, какую глубокую связь имеет это прошлое Н. Ф-ча с его
философией семьи, где есть отец, братья и сестры, но нет матери, где земное имеет столь
специфический запах, где столь принижено начало женственное. С этим моим суждением
охотно согласился и Вл. А-ч Кожевников.
46. Кожевников — Флоренскому265
Москва. 22 С. 1916.
Дорогой отец Павел!
Вчера я прочел свой смертный приговор, установленный данными рентгенизации:
у меня рак желудка. Весть эту Господь сподобил меня принять в неожиданном
спокойствии и радостной покорности воле Божией266. Благодарю Бога за это
веяние Благодати Его и молю Его да продлится оно надо мною, грешным. Слава
Богу, болей пока не чувствую, и желал бы что-нибудь делать, пока можно, но
обстоятельства заставляют устраивать разные, теперь уже неотложные, дела.
Со всеми ими приходится спешить267. Вот почему хотелось бы поскорее покончить и с
маленьким делом — печатания Указателя. Мне присылали половину его набранную, и
очень недурно набранную; я поправил и отослал в Типографию заказным письмом.
Ну, а теперь, простите, моя усердная просьба к Вам: когда случитесь в Типографии,
пожалуйста, побудьте их ускорить окончание этого дела. Чрезвычайно этим
обяжете, так как книга уже выпущена в продажу и передача Указателя в магазины
была бы очень желательна. Получил не мало лестных для тщеславия отзывов
о книге, в том числе очень сочувственные от Ваших профессоров: М.Д. Муретова268,
С.С. Глаголева269 и И.В. Попова270. Странно как-то воспринимать все это теперь,
после того как два слова271 поставили лицом к лицу со смертью... а все же некиим
довольством остается мысль, что, может быть, трудился не напрасно.
Как Ваше дорогое здоровье? Берегите его; будьте осторожны; Ваш недуг
такого свойства2 2, что именно требует большой осмотрительности. Передайте
мой поклон многоуважаемой Анне Михайловне и деткам Вашим, а если увидите
авву Михаила, предупредите его, чтобы, когда будет он у нас, не подавал бы
виду о том, что знает дурную весть обо мне: это нужно, чтобы дети не догадались
прежде времени.
Дружески Вас обнимаю. Да благословит Вас и Ваших присных Господь!
Любящий Вас В. Кожев.
47. Кожевников — Флоренскому213
Москва. 6.Х.1916.
Дорогой отец Павел!
Опять к Вам с просьбой, с поручением!.. Простите великодушно и примите мою
глубокую благодарность за услугу.
"Указатель" получил. Он напечатан прекрасно и очень верно. Посылаю Вам
переводом почтовым 144 р., из коих 123 р. 80 к., следующих в типографию по
прилагаемому счету, а 20 р. — "на чай", кому следует оный, как было мною
обещано. Будьте милостивы деньги эти передать в Типографию; обратно счет не
присылайте. Очень обяжете! Большое спасибо Вам!..
125
Со все возраставшим интересом читал Вашу статью о Хомякове274, и вполне разделяю
мнение Ф.Д. Самарина275, что в литературе о Х-ве это - "целое событие", что критика
Ваша куда глубже Соловьевской"6 и что статья написана блестяще. Не скрою, что Вы и
здесь, как не раз и в других Ваших произведениях, словно тешитесь хождением
по скользким и опасным путям и шествуете по ним бодро и уверенно, потому,
конечно, что в Вашей собственной сокровищнице убеждений, как и в Вашем
мощном логическом аппарате, есть "излиху" всего, что нужно для того, чтобы
устоять и на скользком пункте и чтобы побороть таковому присущие опасности.
Но не всем, далеко не всем, дан такой самобытный запас убеждений и такие
силы рассуждения и углубления в затронутые проблемы. Вот почему, напр., в
данном случае, на Поварской277 (да, вероятно, и в Кречетниках)278 замечается уже
тревога, и Фед. Дм. говорил мне, что Вы, к сожалению, уклоняетесь в католицизм279.
Я лично этого сказать отнюдь не могу и, думается, мне ясно, что копья Вы ломаете
не за католицизм, а за православие, хотя кое-что, попутно, идет на выгоду и
католицизму. Этого я не могу назвать "уклонением" в католицизм. Разве нет общих
никаких истин между кат-ом и православием? и не отстаивать присущее православию
потому только, что это и католицизму полезно, было бы странно. Что же касается
выражений и мнений о причащении под одним видом и о непогрешимости, блазнящих,
по-видимому, Ф. Д-ча, то выводить из них "уклонения" в католицизм, по моему
убеждению, нельзя, если читать внимательно.
Во всяком случае крупную заслугу Вашу вижу в том, что Вы раскрываете
действительно опасные неопределенности в некот. Хомяковских взглядах280. Многие
так привыкли считать его за "Отца Церкви" Православной281, что и всю концепцию
православия готовы строить прямо и целиком по нему. Вот тут-то и важно Ваше
„distinguo!"282. Далее, может быть, наша привычка смотреть на многое существенное в
православии как на неопределимое имеет свои источники в воспитании на
неопределенностях и недовыясненностях Хомяковских представлений о Православии?
Вами, думается, положен плодотворный почин по переисследованию Хомяковских
взглядов в этом смысле, и это — большая услуга по отношению к пониманию
не только Х-ва, но и самого Православия. Помогай Вам Бог и в дальнейшем.
Не остается места поговорить о 2-й статье; скажу только, что в смысле
противодействия противоположным разлагающим тенденциям, — спасибо за эту, уже чисто
практическую, услугу школе, а в лице ее — и Церкви283.
Привет Вашим! Дружески обнимаю Вас. Любящий Вас
В. Кожев.
Тщеславие мое вводится во искушение обильными сочувственными отзывами
(в письмах, большею частью профессоров) о моем "Буддизме"; вот уж не ждал!
48. Кожевников — Флоренскому2**
Москва. 10 Окт. 1916.
Дорогой отец Павел!
Вот что значит немощь! Совсем и забыл о корректоре! Посылаю десять рублей за
его труды; если мало, — напишите: тотчас же вышлю. А Вам земно кланяюсь за
добрую услугу. 20 р., я думал, пойдут рабочим и Н.Н.; распределите как хотите.
Еп. Феофан285 пишет мне, что очень доволен Вашею статьею о Хомякове вообще,
рассуждением о таинствах в частности и о евхаристии в особенности. А вот с
аввою Михаилом есть о чем потолковать по этому же поводу. Мне кажется, он все-таки
переоценивает значение "восприятия" над "данностью", а, следовательно,
субъективного, условного элемента над объективным, абсолютным. Привем всем Вашим.
Любящий Вас В. Кож.
49. Кожевников — Флоренскому1^
Москва. 23 Дек. 1916.
В часы наступления Праздника Чистой Детственности, Праздника, освящающего
семью по преимуществу, чувствуется влечение выразить, дорогой Павел Александрович,
сердечный, задушевный привет Вам и Вашей семье и пожелать ей, и Вам неразлучно
126
с нею, Божьего благословения и благоволения. Примите же эти пожелания, идущие от
любящего Вас сердца, которому дороги все Ваши ценные дары духовные и труды,
из них исходящие на просвещение имеющих очи да видят.
Сожалею, что не довелось Вас видеть в Ваш приезд в Москву: немощь моя
приковывает меня к дому; почти не выхожу; спасибо, что друзья от времени
до времени навещают, восполняя, до некоторой степени, навязанное болезнью и
слабостью умственное малоделание, трудно переносимое без привычки. Жалел, что
не мог быть на вечере, посвященном обсуждению Вашей статьи287, а потом был
доволен, что не был: сложные вопросы не решаются в один прием! Выслушал
пересказ о прениях. Есть и pro и contra, важные, ответственные; но именно
поэтому и требующие ответов, разъяснений, а не преждевременных решений.
Во всяком случае тот факт, что каждая Ваша статья и книга вызывают такой
интерес — лучшее доказательство Вашего духовного богатства. Но богатство,
конечно, обязывает.
Помогай Вам Бог в дальнейшей духовной работе!
Преданный Вам В. Кож.288
50. Флоренский.
Копия.
Анне Васильевне и Марье Григорьевне Кожевниковым289 1917.VII.6. Сергиев Посад.
В день и время похорон2 °.
Глубокоуважаемые Анна Васильевна и Марья Григорьевна!
Свершилось то, что нависало столько времени и что внутренне уже было
выстрадано всеми друзьями незаменимого Владимира Александровича! Ему, столько
работавшему в жизни и так мучительно проводившему последние два года, — ему
хорошо отдохнуть у "Отца светов"291, как любил сам он называть Господа всяческих.
Да примет же его Владыка дому292 в Свои многие обители293. Закончена жизнь,
полная содержания, жизнь не погубленная даром. Да вознаградит же не зарывшего
данные ему таланты Мздовоздаятель, глубже нашего видящий чистоту души и
безупречность духовного облика нашего дорогого друга и Наставника!
Эти дни я душою был с Вами и молился за Владимира Александровича.
Семейные обстоятельства не позволили мне отлучиться из дому вчера; а на утренний
поезд я опоздал, просидев ночь за спешными делами и проспав время отхода
поезда. Сначала я этим был очень огорчен; но потом — даже доволен, когда
хорошо, наедине, помолился о новопреставленном рабе Божием Владимире, —
лучшее,чем помолился бы среди чужих и полузнакомых людей.
Желаю — молитвенно переболеть Вам постигшую Вас утрату. Всемирная
Пасха всеобщего воскресения, мыслию о которой жил наш ушедший Друг, пусть и у
Вас не будет пустым словом, но — источником светлой надежды и бодрости духовной и
мостом, переброшенным чрез реку Времени к вечно живущему у Господа, Спасителя
и Жизнедателя нашего, Иисуса Христа. Он, не оставляющий без попечения и
травку полевую, сохранит и дорогих Владимиру Александровичу, лишь бы сами
они не оставляли Его.
Преданный Вам
священник Павел Флоренский.
Комментарии
На конверте: "Москва. Е<го> В<ысоко> р<одию> Владимиру Александровичу Кожевникову,
Арбат, Калошин пер., д. Давыдова, (от свящ. П. Флоренского. Сергиевский
Посад Моск. губ., Штатная-Сергиевская ул., д. Озерова)'*.
Штемпели: "Сергиевский Посад Моск. г. 3.3.12й — "Москва 5. Экспед. гор. почт.,
4.III. 1912-24" — "Москва Ж Гор. почт. тел. отд. 4.3.12.3".
Смысл идеализма. Пропедевтические лекции к ряду чтений из истории платонизма,
читанных студентам первого курса Московской Духовной Академии. В кн.: «Впамять
столетия»(1814—1914) ймп. Московской Духовной Академии, Сб. статей..., ч. 2. Сергиев
Посад, 1915.
127
3 Воспоминание, припоминание (греч.)
4'Впоследствии Флоренский назвал эту книгу "Эллины и эллинство". Вот ее содержание
(согласно Проспекту Собрания соч. в 19 тт., составленному 18/IX 1919 г.): "Раса. Эллинство как
духовная идея. Организация филос<офской> школы. Смысл мистерий. — Софисты.
Сократ. Платон. Аристотель. Из истории неоплатонизма. (Жития язычества). Ориген (++—)".
Книга составляла тома IX—X. Два плюса и минус в скобках означают: "наполовину готово".
Книга складывалась из курса лекций в МДА.
5 Ученому Совету МДА о. Павел представил свой труд "О Духовной Истине. Опыт
православной феодицеи" (Вып. <1>-2, М., 1913), который впоследствии он переиздал под названием
"Столп и утверждение Истины" (М., 1914). 19 мая 1914 г. в МДА состоялась защита магистерской
диссертации Флоренского "О Духовной Истине". Оппонентами былиеп. Феодор(Поздеевский) и
проф. С.С. Глаголев. Положит, рецензия еп. Феодора на эту книгу вышла в Сергиевом
Посаде в 1914 г. отдельным изданием,
6 Новый Устав Духовных Академий, 2 апреля 1910 г. утвержденный Государем, затем
откорректированный и дополненный, принят Св. Синодом в 1912 г.
7 Речь идет о С.Н. Булгакове.
3 Книга С.А. Аскольдова (Алексеева) "А.А, Козлов" (М., 1912). Аскольдов (1871—1945) был
незаконным сыном известного философа А.А. Козлова (см.: "Русская религиозно-философская
мысль XX века". Сб. статей под ред. Н.П. Полторацкого, Питтсбург, 1975, с. 18),
9'С.Н. Булгаков. Философия хозяйства, ч. I. Мир как хозяйство. М., 1912. 2-ой том не
вышел.
10 "В основе историософии лежит не что иное, как эсхатология" {франц.).
1!/Первая часть книги "Философия хозяйства" — "Мир как хозяйство" — была представлена
в качестве докторской диссертации по политической экономии и защищена Булгаковым в
Московском университете в 1912 г.
12'"отлучение от воды и огня" {лат.) — юридическая формула, означающая лишение гражданских
прав у древних римлян,
13 На конверте: "Заказное письмо. Его Благословению Отцу Павлу Флоренскому, профессору
Московской Духовной Академии. В Сергиевский Посад Московской губернии.
Штатная Сергиевская улица, дом Озерова. От В.А. Кожевникова, живущего в
Москве, в Калошином переулке, в доме 6а".
Штемпели: "Москва, 34е гор поч. тел. отд. 15.3.12" — "Москва. <...> экспедиция
N 4. 16.3.12" — "Сергиевский Посад Моск. г. 16.3.12".
Наклейка: "693 Москва 3-е отделение".
14 Все письма В.А. Кожевникова были переписаны Флоренским в особую тетрадь. На полях возле
этого письма рукой о. Павла написано: "Начато перепискою 1918.1.8".
15 Ф.К. Андреев (1.4.1887-10.5.1929; даты рождения и смерти сообщены дочерьми о. Федора)
учился в Московской Духовной Академии, был близок к Флоренскому, находился с ним в
приятельских отношениях. Был активным участником московского Кружка ищущих
христианского просвещения (т.н, Новоселовского кружка). Блестяще окончил курс. Его
кандидатское сочинение "Ю.Ф. Самарин как богослов и философ" (не изд,) объемом более
1000 страниц было оценено проф. С.С. Глаголевым как "значительный вклад в историю
русской богословской мысли" ("Богословский вестник", 1914, т. I, январь, с. 184-189).
Андреев выступал вторым оппонентом на диспуте в МДА по книге Флоренского "Столп
и утверждение Истины" (1914). В 1913 г. сменил своего учителя А.И. Введенского, после
его смерти, на Кафедре систематической философии и логики в МДА. Самая
значительная публикация — исследование "Московская Духовная Академия и славянофилы"
("Богословский вестник", 1915, т. III, октябрь-ноябрь-декабрь). В 1921 г. переселился в
Петроград. В 1924 г. принял священство. В 1928 г. был арестован; тяжело больным выпущен
из тюрьмы, вскоре скончался.
16 Солнце Правды — так именуется Господь Иисус Христос в некоторых церковных
песнопениях, например, в тропарях праздникам Рождества Христова и Сретения Господня.
17 Ин4, 14.
18 См. прим. 9.
Экономическая и научно-техническая деятельность людей, по Булгакову, наиболее полно
выражает состояние тварного мира после грехопадения. "Хозяйство1* в падшем состоянии
мира становится тесно связанным со всеми последствиями падения: нуждой, ущербностью,
ограниченностью. Оно служит не "раскрытию софийности мира" (как, по Булгакову,
это было в раю), а поддержанию людьми своего существования. Однако и в таком
положении "хозяйство" сохраняет "низшие формы софийности": так, в своем хозяйственной
128
деятельности человек утверждает свое центральное и главенствующее положение в
мироздании; а главное, "хозяйство есть творчество", творческое же начало, говорит Булгаков,
есть печать образа Божия в человеке. (См. Хоружий С.С. София — Космос — Материя:
устои философской мысли отца Сергия Булгакова. — "Вопросы философии", 1989, N 12.)
19 Возможно, один из них — Нил Александрович Попов (1833—1891), славяновед, профессор
русской истории Московского университета, чьи лекции в 1870-е годы вольнослушателем
посещал Кожевников. (См. также статью Н.А. Сетницкого к 10-летию кончины В.А.
Кожевникова в кн.: "Высшая школа в Харбине. Известия юридич. факультета", т. 4, Харбин, 1927.)
20 Трудно с достоверностью сказать, о каком времени говорит Кожевников. В письме к
В.В. Розанову от 21 октября 1916 г., рассказывая, как была им воспринята в 22-летнем
возрасте весть о том, что он смертельно болен, Кожевников пишет о своем тогдашнем
равнодушии, "мертвенности к вере" ("Вестник РХД", N 143, 1984). Однако и мертвенность к
вере может соседствовать с живым интересом к "религиозным вопросам".
21 Лекки В.Э.Г. (1838-1903) — английский историк. В его труде "История возникновения и
влияния рационализма в Европе" (т. I, СПб., 1871) секуляризация европейской
культуры рассматривалась как положительное явление в историческом процессе.
22 "Философия общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова,
изданные под редакцией В.А. Кожевникова и Н.П. Петерсона" (т. I, Верный, 1906; т. II, М., 1913).
23"Н.Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям,
переписке и личным беседам" (ч. I, M., 1908).
24 Новоселов Михаил Александрович (1860-1938 или 1940) — православный публицист и издатель.
"М.А. Новоселов, бывший в молодые годы другом Л.Н. Толстого и блестящим профессором
Московского университета (по кафедре классической филологии), издававший очень
популярную среди интеллигенции Религиозно-философскую библиотечку (маленькие розовые
книжки), постепенно, но неуклонно рос духовно, сблизился с о. Иоанном Кронштадтским, а
затем с оптинскими старцами и, наконец, стал один из самых твердых и ясномыслящих
православных мыслителей, боровшихся с ядом модернизма. <...> Арестованный в 1928 году,
М.А. Новоселов отбыл 10 лет политического изолятора, а затем (в 1938) был отправлен
в ссылку в Сибирь, откуда уже никаких больше сведений о нем не имеется" (Польский М.,
протопресвитер. Новые мученики российские, т. II. Джорданвиль, 1949, с. 135-36). О Ново-
селовском кружке см. в письмах А.Н. Руднева (альм. "Надежда", 1980, вып. 6, с. 271—361),
часто посещавшего эти собрания.
25 Участие в выпусках "Религиозно-философской библиотеки", активная работа в Новоселовском
кружке, издание книг и статей по апологетике христианства.
26 Известное изречение "Dixi et animam meam levavi i" {лат.) — "Я сказал и тем облегчил свою
душу" ("Сказал — и душу облегчил"). Источник — Библия, книга прор. Иезекииля, 33, 9.
27 К своему письму В.А. Кожевников прилагает список своих изданных и неизданных
произведений. Порядковые номера в списке проставлены рукой Флоренского.
28 "Бесцельный труд, "не-делание" или дело?", М., 1-е изд., 1893; 2-е изд., 1894.
29 "Русский вестник", 1898, N 9, 10.
30< Гам же, 1899, N 10-12.
31 Там же, 1900, N 1.
32 "Московский голос", 1907, N 15 (12 апреля).
33 2-е изд. — М., 1912.
34 Отд. изд., М.
35 То же.
36 То же.
37 Том I вышел в 1906 г.
38)Отд. изд. — М., 1912.
39 "Богословский вестник", 1911, N 5, 6, 9, 10, 12; отд. изд. — М., 1912.
40 "Русский архив", 1893, N 11; там же, 1901, N 3.
41 Два последние названия добавлены к списку рукой Флоренского.
42 "Религия человекобожия у Фейербаха и Конта". — "Богословский вестник", 1913, т. 1,
апрель, т. 2, май; отд. изд.: Сергиев Посад, 1913.
43: На конверте: Москва ЕВР Владимиру Александровичу Кожевникову Арбат, Калошин переулок,
дом Давыдова (от Священ. Павла Флоренского, Сергиевский Посад Моск. губ.
Штатная Сергиевская, д. Озерова).
Штемпели: "Сергиевский Посад Моск. г. 15.3.12" — "Москва 5, Экспед. гор. почт.
16.111.1912-74" — "Москва. 34 б. 17.3.12".
5 Вопросы философии, N 6 * 29
44 В ноябре 1912 г. отмечалось 10-летие издательской деятельности М.А. Новоселова (см.:
"Московские ведомости", 1912, 9 ноября, N 260).
45 Статья не была помещена.
46 Епископ Феодор (в миру Александр Васильевич Поздеевский, 1876-1935 г.) — с 1909 г.
ректор МДА, где преподавал пастырское богословие; участник Новоселовского кружка.
В 1917 г. уволен от должности, назначен управляющим, на правах настоятеля, Московского
Свето-Даниилова монастыря.
47 В печати такая статья не появлялась. По свидетельству родных, о. Павел готовил материал
"Памяти В.А. Кожевникова" (см. каталог выставки "Возвращение забытых имен. Павел
Флоренский", М., 1989, с. 16).
48 Точное название книги: "Нравственное и умственное развитие римского общества во
II в." (Козлов, 1874).
49 Описка Флоренского. Предложение следует читать так: "Формально говоря Ваше 40-ка-летие
будет в 1914-м году, но ведь книга-то написана была в 1872-м или 1873-м году".
50 Мир, по пифагорейскому учению, "построен на силе чисел". (Особенно много занимался этим
вопросом ученик Пифагора Филолай.) Так, число "4" означает устойчивость и прочность. Его
надежность представлена квадратом — сторонами космоса, временами года и
элементами: "огня", "земли", "воздуха" и "воды". (См. напр.: «Фрагменты ранних греческих
философов», ч. I. M., 1989, с. 15, 435 и др.)
51 "Космологические антиномии Иммануила Канта". Пробная лекция pro venia legendi,
читанная в общем собрании МДА 17 сентября 1908 года. (См. "Богословские труды", Сб. 23,
М., 1982, с. 285).
52 Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926), русский художник, "оригинально объединивший в
одном художественном синтезе религиозные идеалы византийской и русской живописи и своим
художественным идеалом глубоко приникший к тайне святости тела душевного на пути его
преображения в тело духовное" ("Богословский вестник", 1915, т. I, апрель, с. 885-890),
близкий знакомый В.А. Кожевникова, в 1914 г. был избран Почетным членом Московской
Духовной Академии.
53 На конверте: "Москва ЕВР Владимиру Александровичу Кожевникову Арбат, Калошин пер., д. 6
(от свящ. Павла Флоренского. Сергиевский Посад Моск. губ., Штатная
Сергиевская ул., д. Озерова)".
Штемпели: "Сергиевский Посад Моск. г. 19.3.12" — "Сергиевский Посад
Моск. г. 20.3.12" — "Москва Ж 34-е гор. почт. тел. отд. 20.3.12.3" — "Москва.
Экспед. Гор. почт. 5. — 20.111.1912-24".
54 Как все {фр.\
55 Святоотеческое учение о "царском пути" к спасению опирается на Св. Писание: "да не
уклонишися ни на десно, ни на лево, но путем царским ходи" (Второзак. 5, 32 и 17, 11).
Это учение изъясняет, например, преп. авва Дорофей: "добродетели... суть средина между
излишеством и недостатком", "так мужество находится посреди страха и наглости;
смиренномудрие посреди гордости и человекоугодия; также и благоговение — посреди стыда и
бесстыдства, подобно сему и прочие добродетели. И так когда человек удостоится приобрести
сии добродетели, то он бывает благоугоден пред Богом, и хотя все видят, что он ест, пьет,
спит, как и прочие люди, но таковый благоугоден Богу за добродетели, которые имеет
<...> Вот это царский путь, коим шествовали все святые" ("Преподобного отца нашего аввы
Дорофея Душеполезные поучения и послания...", Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900,
с. 116—118). См. также рукопись иеромонаха о. Серафима (Роуза) "Царский путь" (неопубл.
пер. с англ. 1982).
56 Фил. 3, 14.
57 Реальнейшая сущность; реальнейшее {лат.).
58 В житии преп. Серафима Саровского повествуется: "В глухом лесу, на половине пути от
келлии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о
трудном подвиге св. столпников, о. Серафим решился принять участие в подвижничестве
сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни для кого видимым, в ночное время на
этот камень для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или
стоя на коленях, с воздетыми вверх, подобно св. Пахомию, руками, взывая мытаревым
гласом: "Боже, милостив буди мне грешному". Чтобы уравнять ночные подвиги дневными,
о. Серафим и в келлии имел камень. На нем он молился во время дня с утра
до вечера; оставляя камень только для отдохновения от изнеможения сил и для подкрепления
себя пищею. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение тысячи
130
суток" ("Житие старца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха, пустынножителя и
затворника". СПб., 1863, с. 70—71).
59 "Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд: и звезда от звезды разнится в славе"
(I Кор. 15, 41).
Интересным представляется суждение кн. Е. Трубецкого, старшего современника
Флоренского, дружески расположенного к нему (см.: Переписка Е.Н. Трубецкого и П.А. Флоренского
(предисловие и примечания игумена Андроника (Трубачева) и СМ. Половинкина). Приложение:
Е.Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума. По поводу книги священника
П.А. Флоренского "Столп и утверждение Истины" — "Вопросы философии", 1989, N 12,
с. 99—129):
"Люди духовно связаны со звездами, и оттого-то говорится в Писании о грядущей славе
людей, облеченных в солнце и звезды. У каждого своя звезда не в переносном, а в буквальном
значении слова. Ибо в мире, каким хотел и предвидел его от века Бог, нет мертвого вещества.
Все вещество должно собраться вокруг перворожденного всей твари — человека — ив нем
одухотвориться. И когда соберется вокруг человека, очеловечится все земное и небесное,
тогда мир увидит человечество, облеченное в солнце и звезды. В этом и заключается та
грядущая слава человека и мира, о которой говорят слова апостола. Осуществится эта
слава в полноте своей в конце веков" (цит. по: Трубецкой Е. Из прошлого. — "Путь",
Париж, 1935, N 47, с. 4).
60 Существуй как существуешь или не существуй (вовсе)! И восхваляй Реальнейшего Бога...
(лат.).
61 Св. Отцы и аскеты древности связывали страсти с общей порочностью человеческого мира
после грехопадения. Вот одно из определений: страсти — это "приражения, которые
производятся вещами мира сего, побуждая тело удовлетворять излишней его потребности;
и приражения сии не прекращаются, пока стоит сей мир" (Творения аввы Исаака Сириянина,
Сергиев Посад, 1911, с. 161).
Преп. Иоанн, игумен Синайской горы, в "Лествице" говорит о том же: "Страстию
называют уже самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе и чрез навык
сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою
к нему стремится" (М., 1873, с. 160).
(См. также: Васильев М. Учение отцов церкви о страсти. — "Богословский вестник",
1911, т. II, май; т. III, октябрь-декабрь.)
В своем рассуждении о греховности страсти о. Павел следует святоотеческой традиции.
62 0е6тг|<; (греч.) — Божество.
63 Такой, кажущийся парадоксальным, взгляд находим, например, у св. Максима Исповедника.
"Хороши бывают и страсти, — учит он, — в руках ревнителей о добром и спасительном
житии, когда, мудро отторгши их от плотского, употребляем к стяжению небесного;
именно: когда вожделение ходелывает стремительным движением духовного возжелания
Божественных благ; сластолюбие — живительным радованием под действием восхищения
ума Божественными дарами; страх — предостерегательным тщанием о том, как бы не
подвергнуться будущему мучению за прегрешения; печаль — раскаянием, направленным на
исправление настоящего зла; и коротко сказать, когда страстями этими будем пользоваться к
уничтожению или предотвращению настоящего или ожидаемого зла, равно как к стяжению и
сохранению добродетели и ведения..." (Добротолюбие, т. 3, М., 1900, с. 258-59; Джорданвиль,
1965, с. 186-87).
64 Изменение слова из 33 Псалма.
65 Лк. 12, 19.
66 Из великопостного песнопения "Покаяния отверзи ми двери..." ("трепещу страшнаго дне,
Суднаго...")
67 Ср. со сходным рассуждением о христианской надежде в письме Кожевникова к В.В.
Розанову от 21 октября 1916 г. ("Вестник РХД", 1984, N 143).
681 Архимандрит Серапион (в миру В.М. Машкин, 1854—1905) по окончании естественного
факультета Санкт-Петербургского университета несколько лет пробыл послушником на Афоне.
Вернувшись в Россию, учился в МДА.
Философ-мистик, о. Серапион стремился к созданию цельной, всеобъемлющей
философской системы, краеугольный камень которой есть Христос. Система эта, по мысли
автора, должна была стать программой широкой общественной деятельности в России.
Свое основное философское произведение архимандрит Серапион не раз подвергал
кардинальной переделке. Но и последний его вариант (имеющий название "Система философии:
опыт научного синтеза в двух частях"; 1903-04) был далеко не готов к публикации.
Заочное знакомство с о. Серапионом студента МДА Павла Флоренского произошло
5* 131
в последний год жизни архимандрита (он жил в Оптиной пустыни на покое); их
переписка продолжалась около трех месяцев. Флоренский готовил к печати философский
труд о. Серапиона и сочинение о его жизни и творчестве. Трагические события русской
истории остановили эту работу.
См.: 1) П. Флоренский. "К печати вышняго знания" (Черты характера архим.
Серапиона Машкина). — "Вопросы религии", вып. I, M., 1908; 2) Письма и наброски
архим. Серапиона (там же); 3) Свящ. Павел Флоренский. Данные к жизнеописанию
архимандрита Серапиона (Машкина). Сергиев Посад, 1917 (здесь же помещена автобиография
о. Серапиона); 4) <Биографические сведения об архим. Серапионе> — "Вопросы философии",
1988, N 12, с. 116; 5) Половин кин СМ. П.А. Флоренский: Логос против Хаоса.
М., 1989, с. 64.
69 Записка, переданная о. Павлу через кого-то из общих знакомых, вместе с книгами.
70 Люцифер — букв. "Светоносец", название утренней звезды. В святоотеческой традиции —
обозначение диавола.
71 Конгресс открылся 26 сентября 1895 г. в г. Триденте, знаменитом состоявшимся здесь
в середине XVI века и длившимся 18 лет собором католической церкви. Инициатором
созыва антимасонского конгресса был журналист Л. Таксиль (см. о нем прим. 73)
72 Папа Лев XIII (Джоакино Печчи, 1810—1903) вступил на папский престол в 1878 г.
Сторонник средневекового взгляда на роль церкви (главенство церковной власти над
светской), в новых исторических условиях придерживался гибкой политики, стремясь
привлечь в лоно католической церкви деятелей светской культуры и рабочего движения.
Был ярым противником масонства, в котором видел главного врага Церкви.
73Лео Таксиль (настоящее имя Г.А. Жиоган-Пажес, 1854-1907), французский журналист.
Воспитанник иезуитов. Выступал против Церкви и веры (некоторые его книги: "Забавная
Библия", 1882; "Забавное Евангелие, или Жизнь Иисуса", 1884 и др.). Был отлучен
от Церкви. Притворно покаявшись, получил прощение от папы Льва XIII в 1885 г.
В течение 12 лет имитировал антимасонскую деятельность, кульминацией которой стал конгресс
1895 г. (см. прим. 71). После саморазоблачения в 1897 г. продолжал антицерковную
пропаганду.
74 На конверте: "Его Благословению отцу Павлу Флоренскому. В Сергиевский Посад.
Московской губ. Штатная-Сергиевская улица, дом Озерова".
Рукой Флоренского: "Получ. 1912. III. 24. Серг. Пос". Штемпели: "Москва,
2 гор. почт. тел. отд. 23.3.12" — "Сергиевский Посад. Моск.г. 24.3.12".
75 Из письма Кожевникова от 22 июля выясняется, что о. Павел передал ему рукопись
(тетрадь или тетради), украшенную символическими заставками, — скорее всего, ряд
стихотворений, объединенных общей мыслью и настроением (Кожевников называет их "поэмой",
одним "произведением").
76 Вероятно, стихотворение, опубликованное в газете "Народ" (Киев), 1906, 9 апреля, N 6, с. 3,
б/п (см. "Богословские труды", Сб. 23, М., 1982, с. 282).
77 На телеграфном бланке: "Сергиевск. Посад Московск. губер. Профессору Флоренскому.
Из Ялты N 6300. Счет слов: 19. Подана 22/VI, 8 ч. 22 м. пополуноч.
Принята 22/VI 1912. от МСК N 72/968. Принял: Павел".
78 Конверт не сохранился.
79' См. прим. 75.
80 День памяти равноапостольного св. князя Владимира празднуется 15 июля. П.А. Флоренский
полагал, что имя определяет тип личности человека. (См.: Флоренский П.А. Имена. —
"Социологические исследования", 1988, N 6; 1989, NN 2-6.)
81 Слово оплодотворяющее (греч.).
82 Вещь более реальная, реальнейшая (чем реальная действительность) (лат).
83 по желанию, по (своему) усмотрению (лат.).
84 Равноапостольный великий князь Владимир (святой, небесный покровитель В. А. Кожевникова)
во Св. Крещении носил имя Василий.
85 Представления Флоренского о значении имени отразились, например, в статье
"Общечеловеческие корни идеализма" ("Богословский вестник", 1909, т. I, февраль-март; отд.оттиск, Сергиев
Посад, 1909), где сказано: "Имя вещи и есть субстанция вещи. В вещи живет имя:
вещь творится именем. Вещь вступает во взаимодействия с именем, вещь подражает
имени". Опору такому представлению о природе имени автор находит в глубокой
древности, когда имя было "узлом всех магико-теургических заклятий и сил", ибо "древнее,
да и всякое непосредственное представление об имени видит в нем самый узел бытия,
наиболее глубоко скрытый нерв его".
В дальнейшем о. Павел неоднократно возвращался к этой теме; ей посвящено
большое исследование об именах в труде "У водоразделов мысли" (его "теоретическая" часть
опубликована в кн.: "Опыты. Литературно-философский сборник", М., 1990, с. 351-412;
"эмпирическая" часть — в журнале "Социологические исследования", см. прим. 80).
86 См. прим. 80.
В своем исследовании "Имена" Флоренский, говоря, что "Владимир есть Василий,
выросший на русской почве", дает интересную социально-психологическую характерна -ку
132
"Владимира** (как носителя имени): "Владимир обладает умом раскидистым и занятым
обширными замыслами. Узкие и специальные темы — не его удел. Его влечет все
общее, и притом не отвлеченно-теоретическое, а влекущее практические последствия,
открывающее широкие организационные перспективы, говорящее жизни нечто небывалое и
ошеломляющее широтою размаха...*' ("Социологические исследования", 1989, N 2, с. 138).
87 Гальтон Ф. (1822—1911), англ. антрополог, основатель евгеники. Двоюродный брат Ч.
Дарвина. Изучал фактор наследственности. Прилагал математический метод ко всем явлениям
жизни, от биологии до социологии. Так, Гальтон изобрел метод цифрового изображения
человеческого профиля. Известен также как создатель т.н. "синтетической фотографии",
обобщающей типы людей. (См. о нем статью К.А. Тимирязева—Энциклопедич. словарь
института Гранат, т. 12.)
88 следовало бы его выдумать (фр.).
89 Святитель Иоасаф Белгородский и Обоянский (в миру И. Горленко, 1705—1754)
канонизирован в 1911 г. В 1989 г. св. мощи его возвращены Православной Церкви.(См. о нем:
Грече в В.Г. Святитель Иоасаф, еп. Белгородский и Обоянский. — "Богословский вестник",
1911, т. II, июль; «Православная Богословская энциклопедия». СПб., 1906, т. VII,
с. 180-82.)
9° Мф. 18, 15-17.
На конверте:"Заказное. Сергиевский Посад. Московской губ. Его Благословению Отцу
Павлу Флоренскому. От В.А. Кожевникова. (Ялта, Исар, своя дача)". Рукой
Флоренского: "1912, VII.27, Сер. Пос."Штемпели: "Ялта. 23.7.12". —"Сергиевский
Посад Моск.г. 27.7.12". Наклейка: "3. N863. Ялта Таврической губ".
92 22 июля (ст.ст.) празднуется память св. мироносицы равноап. Марии Магдалины.
93 Внутренние, личные святыни (лат.).
94 По современному написанию, "иератический" (греч.) — жреческий, священный.
95 Исар — дачное местечко под Ялтой, где с начала 1900-х годов семейство Кожевниковых
проводило каждое лето.
96 Мотет "Ave verum" (созд. в 1791) — предсмертное произведение Моцарта; в нем
сочетаются настроения умиления и тихой тоски.
97 Песнь Небесных Сил Рождеству Христову (Лк. 2, 13-14).
98 Апок. 21,1. ("И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали, и моря уже нет".)
99 Вероятно, речь идет о книге П.А. Флоренского "В вечной лазури" (Сб. стихов. Сергиев Посад,
1907).
100 Имеется в виду стихотворение П.А. Флоренского "На высотах (Песнь Восхождения)".
См.: В вечной лазури, с. 19—24.
101 Тропарь св. равноап. князю Владимиру читается так: "Уподобился еси купцу, ищущему
добраго бисера, славнодержавный Владимире, на высоте стола седя матере градов,
богоспасаемого Киева; испытуя же и посылая к Царскому Граду уведети православную веру,
обрел еси безценный бисер, Христа, избравшаго тя яко втораго Павла, и оттрясшаго
слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную. Тем же празднуем твое
успение, людие твои суще: моли спастися державы твоея Российския начальником,
христолюбивому Императору и множеству владомых".
102 Слова из эксапостилария Страстной седмицы: "Чертог Твой вижду, Спасе мой,
украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея, Светодавче,
и спаси мя".
103 Над книгой "Столп и утверждение Истины".
104 На конверте: "Крым. Ялта. Исар. Е В Р Владимиру Александровичу Кожевникову,
Собственная дача, (отсвящ. П. Флоренского. Сергиев Посад Моск.губ.,
Штатная-Сергиевская ул., д. Озерова)".
Штемпели: "Сергиевский Посад Моск.г. 17.8.12" — "Сергиевский Посад Моск.г.
18.8.12" —"Ялта. 20.8.12".
105 Описка. Следует читать: "внешние".
106 Глубоковский Николай Никанорович (1863—1937) — историк Церкви и богослов. Главный
труд его жизни — "Благовестив ап. Павла, по его происхождению и существу" (Биб-
лейско-богословское исследование, тт. 1-2, СПб., 1905, 1912). Покинул Россию в 1921 г.,
преподавал богословие в Софийском университете, умер в Болгарии. Большой знаток истории
изучения Нового Завета. В своих трудах сочетал самобытность суждений и выводов
со строгой ортодоксальностью.
107 Болотов Василий Васильевич (1854—1900) — историк Церкви и богослов. Незаурядный
лингвистический талант и феноменальная эрудиция, проявляющиеся во всех исследованиях
Болотова, принесли ему всеевропейскую славу; B.C. Соловьев назвал его "атлетом
науки". Кроме литографированного курса лекций, изданного уже после смерти автора,
в 4-х томах ("Лекции по истории древней христианской Церкви", 1907-1918 гг., под ред.
проф. А.И. Бриллиантова), при жизни Болотова вышла отдельным изданием только
его магистерская диссертация "Учение Оригена о Св. Троице" (СПб., 1879). Почти все его
133
прижизненные публикации выходили в журнале С.-Петербургской Духовной Академии
"Христианское чтение".
108 Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944) — филолог-классик, переводчик. См. его кн.:
Из жизни идей. (Научно-популярные статьи, т. 1-2 (3 изд.), Пг., 1911-1916; т. 3, СПб,
1907, т. 4; вып. 1, 2. Пг., 1922); Софокл. Драмы (т. 1-3, 1914-1915; перевод и комментарии).
109 в общем, в целом (фр.).
110 такими, как есть (лат.).
111 Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834—1912), историк Церкви. Главный труд — "История
Русской Церкви". Первая половина 1 тома вышла в 1880 г., а последний полутом
(вторая половина 2 тома) — уже после смерти автора. Разрыв в публикации связан
не только с личными свойствами Голубинского, но и с обстановкой в России после
убийства имп. Александра II (1 марта 1881 г.), неприятием критического подхода автора
ко многим событиям в истории русской Церкви со стороны влиятельных членов Св.
Синода и профессоров Духовной Академии.
112 "Желающего идти судьба ведет, не желающего — влачит" (лат.). Изречение греческого
Философа-стоика Клеанфа ПН в. по н.э.), переведенное на лат. яз. Сенекой.
113 Климент Александрийский (150—216), учитель Церкви, первый христианский философ. "Не
хотел видеть никакого противоречия между истинной философией и христианской верой,
стремясь примирить их в христианском гнозисе и собирая истинное везде, где его
усматривал" (Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. Париж. YMCA-Press,
1927, с. 74).
114 Лк. 14, 18.
115 с Божией помощью (лат.).
116 См. следующее письмо.
117 Мф. 5,37. ("Но да будет слово ваше: "да, да"; "нет, нет"; а что сверх этого, то от
лукавого".)
118 избытка, излишка (греч.).
119 слишком тяжелым, тягостным (греч.).
120 Очищение, обучение, труд! (греч.).
121 очистительное (греч.).
122 Проблематика антроподицеи разрабатывалась о. Павлом в последующие годы: в работе
под общим заглавием "Философия культа" (составлена из лекций, прочитанных в мае-
июне 1918 г. в Москве, и сходных по тематике разделов, написанных в 1919-1922 годы;
опубл.: "Из богословского наследства". — "Богословские труды", сб. 17. М., 1977,
"Иконостас" — там же, сб. 9, М., 1972, а также в объявленном в 1922 г. труде "У
водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)". (См.: Флоренский П.А., Сочинения,
т. 2, М., 1990.)
123 такой, какой есть (лат.).
124 то, что касается дела, труда — т.е. третьего этапа (см. выше).
125 В целях защиты православного вероисповедания.
126 На конверте: "Сергиевский Посад, Московской губ. Штатная Сергиевская улица, дом Озерова.
Священнику Павлу Александровичу Флоренскому".
Рукой Флоренского: "получ. 1912, VIII 29. Сер. Пос".
Штемпели: "Ялта. 25.8.12" — "Сергиевский Посад Моск.г. 29.8.12"
127 Петерсон Николай Павлович (1844-1919), последователь и пропагандист учения Н.Ф. Федорова,
вместе с Кожевниковым издавший "Философию общего дела", тт. 1-2 (см. прим. 22). Автор
книги об учении Федорова, ряда статей и неопубликованных воспоминаний.
128 О плавании на пароходе "Георгий" вдоль Черноморского побережья (до Сухуми, с
трехдневной остановкой на Новом Афоне) в компании своего друга и соседа по даче
генерала П.А. Фролова Кожевников подробнее говорит в письме к Ф.Д. Самарину от
31 августа 1912 г. (ГБЛ. ф. 265, папка 191, N 4).
129 Черновик телеграммы от редакции "Богословского вестника", с исправлениями, на русском
и французском языках, написан рукой Кожевникова. Черновик не датирован, но, очевидно,
телеграмма отправлена не позднее ноября 1912 г.: кончина патриарха Иоакима III
последовала 13 ноября 1912 г.
130 Иоаким III занимал престол Константинопольского (или Вселенского) патриарха с 1878 г.
Известный своей добротой, бессребреник, тайный благотворитель, живший и умерший в
бедности, он пользовался уважением и среди иноверцев. Много сделал для сближения
духовенства и мирян, стремясь предоставить последним участие в церковном управлении. (О
значении его деятельности см., напр.: Златоустов П. Выборы Константинопольского Патриарха
Германа V. — "Богословский вестник", 1913, т. 1, март, с. 651-654.)
19 ноября 1912 г. в Братстве Святителей Московских (тесно связанном с Новоселовским
кружком) в Чудовом монастыре состоялось собрание, посвященное памяти почившего
патриарха ("Московские ведомости", 1912, 21 ноября, N 270). В своем докладе П.Б. Мансуров
назвал патриарха Иоакима III объединительным центром для всех православных и
подчеркнул, что им был поставлен вопрос о соединении церквей "и другие великие вопросы"
134
(там же, 29 ноября, N 276). См. также статью Мансурова "Афон" (там же, 11 декабря,
N 286).
131 Полное название книги: "На горах Кавказа. Беседа двух старцев-пустынников о внутреннем
единении с Господом наших сердец, чрез молитву Иисус Христову, — или духовная
деятельность современных пустынников". Баталпашинск, 1907; 2-е изд. — Баталпашинск,
1910; 3-е изд. — Киево-Печерская Лавра, 1912). Автор книги, схимонах Иларион, более
20 лет провел в Пантелеймоновом монастыре на Афоне, затем перешел к пустынникам
Кавказских гор. Во время выхода книги о. Илариону было около 80 лет.
В предисловии (которое приписывается Флоренскому) к книге Булатовича "Апология
веры во Имя Божие и во Имя Иисус" (М., 1913) сказано, что по содержанию книга
"На горах Кавказа" представляет собой жизнеописание автора и некоторых других
кавказских отшельников, по существу же она раскрывает основы "умного делания",
то есть излагает учение о молитве Иисусовой: схимонах Иларион выясняет, что
спасительная сила этой молитвы — "в привитии сердцу сладчайшего Имени Иисусова,
а оно Божественно, оно — Сам Иисус, ибо Имя неотделимо от Именуемого"
("Апология...", с. IX).
Именно последнее утверждение вызвало серьезные богословские споры, приведшие к печально
известной "Афонской смуте" (см. отзвуки споров в письмах 16 — 19, а также
примечания 132, 142, 143, 147, 148, 166).
132 2 сентября 1912 г., на основании вывода богословов Халкинской школы
Константинопольский патриарх Иоаким III в Послании к насельникам Афона запретил чтение книги
о. Илариона как "содержащей много ошибочного и ведущей к заблуждению и к ереси"
(см.: Троицкий СВ. Об именах Божиих и имябожниках. СПб., 1914; Приложение, с. II).
133 На конверте: Его Благословению Отцу Павлу Флоренскому. Сергиевский Посад. Московской
губ. Штатная улица, дом Озерова".
Рукой Флоренского: "получ. 19.12.XII.24. Сер.Пос." Штемпели: "Москва. 34-е
гор.поч.тел.отд. 23.12.12". — "Сергиевский Посад Моск. г. 24.12.12".
134 Слова из тропаря празднику Рождества Христова: "возсия мирови Свет Разума".
135 "Столп и утверждение Истины".
136 На почтовой карточке: "Сергиевский Посад, Моск.губ. Штатная улица, дом Озерова.
Профессору Духовной Академии Отцу Павлу Флоренскому".
Штемпели: "Москва. 34 б. 12.2.13" — Сергиевский Посад Моск.г. 13.2.13".
137 Возможно, речь идет о книге Булатовича "Апология веры во Имя Божие и во Имя
Иисус", вышедшей в новоселовской "Религиозно-философской библиотеке" в 1913 г.
138 Подробный "ответ" о болезни М.А. Новоселова зимой 1913 г. имеется в письме к Ф.Д.
Самарину от 22 февраля 1913 г. (ГБЛ, ф. 265, папка 191, N 4). Врач констатировал у
Новоселова миокардит и расширение сердца.
139 Николай Николаевич Мамонов — приятель и лечащий врач Кожевникова, Новоселова и др.
140 На конверте: "Его Благословению Отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии.
В Сергиевский Посад, Московск.г. Штатная улица, дом Озерова".
Рукой Флоренского: "получ. 1913.111.16".
Штемпели: "Москва. 2 гор.почт.тел.отд. 14.111.13" — "Сергиевский Посад Моск.г.
16.3.13".
141 Священник Павел Доброе служил в Адриановском храме на бывш. Мещанской улице,
с 1916 г. был настоятелем этого храма.
142 В "Московских ведомостях" (1913, 9 марта, N 57) было помещено письмо иеросхимо-
наха Антония Булатовича (см. прим. 148) "По поводу именуемой грамоты патриарха
Иоакима", которому предшествовала редакционная статья, коротко излагающая
историю "афонской смуты" (см. прим. 143).
Булатович утверждает, что Послание патриарха Иоакима III к афонским инокам
(см. прим. 132) не является официальным документом и решающего значения в
догматическом споре иметь не может. Далее он пользуется случаем привести аргументы
(высказывания святых отцов) в защиту "имеславия".
143 Началом споров послужила книга "На горах Кавказа" (см. прим. 131), точнее, рецензия
на эту книгу схимонаха Ильинского скита на Афоне о. Хрисанфа ("Русской инок",
1912, N 4-6), где резко осуждалось и высмеивалось мнение о. Илариона о Божественном
достоинстве имени Иисусова. Рецензия возмутила часть русских насельников Святой Горы,
но была поддержана архиепископом Антонием Волынским (Храповицким; см. о нем прим.
155; его статья в журнале "Русский инок", 1912, N 10). Св. Синод в Послании (18 мая
1913 г.) осудил книгу о. Илариона как ведущую к тонкой и опасной ереси (см. прим. 166).
Затем Св. Синодом и русским правительством были приняты решительные меры: от изъятия
книги до насильственного выдворения с Афона летом 1913 г. сторонников "имябожия"
"имябожниками" сторонники нового учения, группировавшиеся вокруг иеросхимонаха Антония
(Булатовича) (о нем см. прим. 148), были названы Определением Св. Синода; сами же
они именовали себя "имеславцами", а своих противников — "имеборцами"). Спор,
перешедший в "смуту", когда противники уже не стараются доискаться до истины,
резко обличая друг друга, вызвал множество печатных откликов.
Большинство членов Новоселовского кружка были на стороне "имеславцев" (известно,
что иной точки зрения придерживался, например, Ф.Д. Самарин — см. прим. 147). Позиция
В.А. Кожевникова выясняется из его письма к Ф,Д. Самарину от 22 февраля 1913 г.:
"Как бы ни казалась по первому взгляду опасна формула, отождествляющая Имя
Христово с энергией Его сущности, — при более углубленном рассмотрении вопроса
приходится признать, что противоположное этому убеждение поведет к опаснейшим
следствиям относительно учения о таинствах, об иконах и молитве: рационалистический
уклон в индивидуально-протестантском духе будет тогда неизбежен*' (ГБЛ, ф. 265,
папка 191, N 4).
Библиография:
1)Арх. Антоний. Сущность Афонского спора. — "Новое время", 1913, 19 мая.
2)0. Антоний (Булатович). Апология веры во Имя Божия и во Имя Иисус. М., "Рел.-фил.
библиотека". 1913.
3)<О. Павел Флоренс к ий>. Предисловие к книге иеросхим. Антония (Булатовича),
с. VII-XIV.
4)Его же. Имеславие как философская предпосылка. — "Studia Slavica", Hung. 34/1-4,
Akademia Klado, Budapest; Флоренский П.А., Сочинения, т.2. У водоразделов мысли.
Вып. I, M, 1990.
5)Бердяев Н.А. Гасители духа. — "Русская мысль", 1913, август.
6) Булга ков С.Н. Афонское дело. —Там же, 1913, сентябрь.
7)Его же. Философия имени. Париж, YMCA-Press, 1953. (особ. с. 213-217).
8)Вечевой Н. Афонское дело. — "Новый журнал для всех", 1914, N 4.
9)Мон, Пахомий. История Афонской смуты или имябожеской ереси. — СПб., 1914.
10)Троицкий СВ. Учение афонских имябожников и его разбор СПб., 1914.
11)Его же. Об именах Божиих и имябожниках. СПб., 1914.
12)Эрн В.Н. Спор об Имени Божием (Письма об имеславии). Письмо I. Происхождение
спора. — "Христианская мысль", 1916, N 9.
13) История Афонской смуты. Вып. I, Иг., 1917. (Содержание: Предисловие; I) Афонское
дело, иеросх. Антония; 2) 1-я часть Афонской смуты, Е. Выходцева (годы 1909-1912).)
14)Арх. Серафим (Соболев). Новое учение о Софии, Премудрости Божией. София. 1935
(главы 18, 19, 20).
15) Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта, т. II. Париж, 1953, с. 269.
16) См. также приложения к работе Флоренского "Имеславие..." (Сочинения, т. 2. М., 1990,
с. 332-338)). В примечаниях (сост. игум. Андроник Трубачев) дается новейшая литература
вопроса.
144 Ф.Д. Самарин.
145 Так в узком дружеском кругу шутливо называли М.А. Новоселова. Выразительную
характеристику Новоселова, отчасти объясняющую такое наименование, дает Кожевников в письме к
Розанову от 10 ноября 1915 г.: "... прямолинеен и непоколебим, весь на пути
святоотеческом, и смолисто-ароматных цветов любезной пустыни и фимиама "дыма кадильного"
ни на какие пышные орхидеи, ни на какие пленительные благовония царства грез не
променяет; а вне "царского", святоотеческого пути для него все остальные сферы —
царство грез, и их горизонты, глубина и прелести — только "прелесть" (в аскетическом
смысле)! Ну как такому радикалу высказаться насчет главной, "мучающей" Вас темы
проблемы пола?.." ("ВРХД", 1984, N 143, с. 94).
146 См. П.А. Флоренский. Имеславие как философская предпосылка. —"StudiaSlavica", Hung,
34/1-4, 1988, Akademia Klado, Budapest; П.А. Флоренский, Сочинения, т. 2. У
водоразделов мысли. Вып. I, M., 1990.
147 Ф.Д. Самарин пользовался в Кружке исключительным уважением. Булгаков рассказывает:
"...в разгар "имеславческих" споров, когда в кружке московских мирян горячо
обсуждались эти вопросы, кн. Е.Н. Трубецкой в одном письме ко мне указывал на
необходимость особенно внимательно считаться с настроением Ф.Д. Самарина ввиду особенной
чуткости его церковной совести". (В кн.: "Феодору Дмитриевичу Самарину (23 октября
1916 года) от друзей", Сергиев Посад, 1917, с. 37).
148 Иеросхимонах Антоний (в миру Александр Ксаверьевия Булатович, 1870-1919),
потомственный дворянин, блестящий военный, гусар, приобрел известность как путешественник; с 1907 г.
афонский монах. (О нем см.: "Русские писатели. Био-библиографический словарь", т. I
М., 1989.) О. Антоний встал во главе "имеславцев", автор книг "Апология веры во имя
Божие и во имя Иисус" (М., 1913), "Моя борьба с имяборцами на Святой Горе"
(Пг., 1917) и др. В 1919 г. был убит грабителями при разгроме имения.
149 На конверте: "Заказное. В Сергиевский Посад. Московской губернии, Штатная улица,
дом Озерова. Его Благословению Отцу Павлу Флоренскому, профессору
Духовной Академии. От Владим. Александр. Кожевникова. (Москва, Калошин пер.,
Д. 6-й)".
136
Штемпели: "Москва-а. 34-е гор. почт. тел. отд. 6.4.13й, "Москва (...) экспедиция,
N 6.7.13" "Сергиевский Посад Моск.г. 7.4.13".
150 Речь идет о работе В.А. Кожевникова "Религия человекобожия у Фейербаха и Конта"
(Сергиев Посад, 1913). Первоначально опубликована в "Богословском вестнике" за 1913 г. (т. I,
апрель; т. II, май).
151 К.Н. Леонтьев. Отшельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь
(Четыре письма с Афона). Издание "Религиозно-философской библиотеки", Сергиев Посад,
1913.
152 Мансуров Павел Борисович (приблизит. 1860-1930), общественный и церковный деятель,
известный знаток Православного Востока; близкий друг Ф.Д. Самарина; участник Но-
воселовского кружка. (Отец С. Мансурова, ум. 1929, талантливого историка и
богослова.)
153 П.Б. Мансуров был направлен на Афон от Министерства иностранных дел, для
расследования. О его поездке и об "афонских делах" см. в письме Кожевникова к Самарину
от 22 февраля 1913 г.
154 Никон, архиепископ Вологодский и Тотемский (в миру Н.И. Рождественский, 4.4,
1851-30.12.1918), родился в семье причетника с. Чашниково Верейского уезда Московской
губернии. В 1874 г. окончил Московскую Духовную Семинарию. С 1877 г. — послушник в
Свято-ТроицкоЙ Сергиевой Лавре, где 12/III 1880 г. пострижен в монахи, 16/V 1882 г. —
рукоположен в диаконы, a 23/V того же года — в иеромонахи. С 1885 г. — соборный
иеромонах Московского Донского монастыря, с 1892 — действительный Член учрежденного
Собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит. С 1893 —* казначей Лавры,
а с 1901 — представитель епархиального управления иконописания при Лавре. Издатель
"Троицких листков", "Троицкой библиотеки", "Божией нивы", "Троицких цветков", "Троицкой
народной беседы", "Троицкого слова". 14 марта 1904 г. посвящен в сан епископа
Муромского, викария Владимирской епархии. С 8/XI 1904 г. — епископ Серпуховской,
викарий Московской епархии, а с 25/IV 1906 г. — епископ Вологодский и Тотемский.
31/1 1907 г. становится Членом Государственного Совета, a I/I 1908 — Членом Святейшего
Синода. 29/V 1912 г. уволен от управления епархией по болезни. С1913 г. архиепископ,
с 4/IV 1913 г. — председатель Издательского Совета при Святейшем Синоде. 30 мая
1913 г. направлен на Афон с целью воздействовать на сторонников иеросхимонаха о.
Антония Булатовича по вопросу об имени Божием (см. прим. 143), в результате чего
несколько сотен монахов были вывезены в Россию. В 1915 г. архиепископ Никон переизбран
в Государственный Совет. 6 июля 1916 г. ушел на покой. Погребен в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре.
По отзыву А.В. Карташова, "человек великой добродетели и великих заслуг на поприще
церковного просвещения народа" ("Воссоздание Святой Руси", Париж, 1956, с. 142).
См. о нем в книге: "Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 год", сост.
митр. Мануил (Лемешевский), ч. V, Куйбышев, 1966; перепечатана: Erlangen, 1987, с. 250-261.
155 Антоний, архиепископ Волынский (А.П. Храповицкий, 1864-1936). Выдающийся
церковный деятель, публицист, богослов. Последовательно был ректором в Московской и
Казанской Духовных Академиях. Основу православной веры видел в аскетизме, был
поборником монашества. Приверженец славянофильства во взгляде на значение
православной веры в судьбе русского народа. В 1917 г. на Всероссийском соборе вместе
с митрополитами Арсением и Тихоном был избран для принятия сана патриарха
(жребий, как известно, пал на свт. Тихона). После революции — глава Русской
Зарубежной Церкви.
О нем см.: 1) архиеп. Никон (Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония,
митрополита Киевского и Галицкогр Нью-Йорк, 1956-1963,т. 1-10.2)прот. Г. Флоровский. Пути
русского богословия. Париж, 1983, с. 426-438; 3) архим. К и п р и а н(Керн). Митрополит
Антоний Храповицкий. — "Вестник РХД", 1969, N 91/92, с. 86-97 и мн.др.
156 Имеются в виду члены Святейшего Правительственного Синода.
157 На конверте: "Его Благословению Отцу Павлу Флоренскому. В Сергиевский Посад. Моск.губ.
Штатная улица, дом Озерова".
Рукой Флоренского: "пол. 1913, IV.13.Cep.noc."
Штемпели: "Москва-в. 2 гор.почт.тел.отд. 12.4.13" — "Сергиевский Посад
Моск.г. 13.4.13".
158 См. прим. 46.
159 Под общим заголовком "Впечатления мирянина" в мартовской книжке "Богословского
вестника" были помещены статьи В. В. Розанова "Торжество Православия" в служении Антиохийско-
го Патриарха" и "Не нужно давать амнистии эмигрантам". (См. также прим. 162.)
160 На конверте: "Его Благословению Отцу Павлу Флоренскому, доценту Духовной Академии.
В Сергиевский Посад. Московск.губ. Штатная улица, дом Озерова".
Рукой Флоренского:" получ. 1913, IV.23".
Штемпели: "Москва, 2. гор.почт.тел.отд. 15.4.13" — "Сергиевский Посад Моск.г.
16.4.13".
161 См. прим. 155. 137
162 См. прим. 159.
"Анафема" — так Кожевников называет первую статью Розанова (ее тема — впечатление
от анафематствования в неделю Торжества Православия в Иссакиевском соборе). Во второй
статье Розанов уподобляет эмигрантов-революционеров детям, бесчестящим, грабящим и
убивающим родную мать, старую и терпеливую; он пишет, что «революция» есть «погром
России», а эмигранты — «погромщики» всего русского, русского воспитания, русской семья,
русских детей, русских сел и городов, как все Господь устроил и Господь благословил"
("Богословский вестник", 1913, т. I, март, с. 647).
Кожевников оказался прав в своем предвидении. Статья "Не нужно давать амнистии
эмигрантам" (вместе со статьей "Андрюша Ющинский" — "Земщина", 1913, 13 октября)
явилась причиной исключения Розанова из Религиозно-Философского общества. Эти статьи
"инкриминировались ему как недопустимый общественный шаг" (Иванова Е.В. Об
исключении В.В. Розанова из Религиозно-Философского общества. — "Наш современник", 1190,
N 10, с. 105).
163 На конверте: "В Сергиевский Посад, Московской губ. Штатная улица, дом Озерова, Его
Благословению Отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии".
Рукой Флоренского: "получ. 1913, IV. 19. Серг. пос".
Штемпели: "Москва-в. 34-е гор. поч. тел. отд. 18.4.13". — "Сергивскйй Посад.
Моск. г. 19.4.13".
164 "Религия человекобожия у Фейербаха и Конта".
165 На конверте: "Заказное. В Сергиевский Посад. Московской губернии. Его Благословению Отцу
Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии. Штатная улица, дом Озерова.
От В.А. Кожевникова. (Москва, Калошин пер., д. 6)".
Штемпели: "Москва-а, <...> гор.поч.отд. 27.4.13" — "Сергиевский Посад Моск.г.
28.4.13".
166 Вероятно, вопрос касается все тех же споров об имени Божием. 30 марта 1913 г. греческая
богословская школа на о. Халке, рассмотрев новое учение об имени Божием, осудила его.
5 апреля того же года вышла грамота Вселенского Патриарха Германа V, где новое
учение объявлялось ересью и выдвигалось требование к насельникам русских монастырей Афона
06 отречении от учения под угрозой выселения со Святой Горы.
Наконец, 18 мая было опубликовано Послание Синода Православной Российской Церкви,
в основу которого были положены три доклада: архиепископа Антония Волынского,
архиепископа Никона, бывшего Вологодского, и преподавателя духовного училища, магистра
богословия СВ. Троицкого. В Послании учение о том, что "имя Божие есть Сам Бог", признано
неправославным. (Об отношении к этому документу В.А. Кожевникова, выражающего, вероятно, и
мнение других членов Новоселовского кружка, см. в его письме к Ф.Д. Самарину от 18 июня
1913 г. — ГБЛ, ф. 265, папка 191, N 4. Заключение халкинских богословов, грамота
Патриарха и Послание Св. Синода приводятся в приложении к книге СВ. Троицкого "Об именах
Божиих и имябожниках". СПб., 1914, с. III—XVII.)
167 На конверте: "Заказное. В Сергиевский Посад, Московской губ. Штатная улица, дом Озерова.
Его Благословению Павлу Александровичу Флоренскому, Профессору Духовной
Академии.
От В.А. Кожевникова (Ялта, Исар. св. дача)".
Рукой Флоренского: "Получ. 1913.1Х.11.Сер.Пос".
Штемпели: "Ялта.7.9.13" — "Сергиевский Посад Моск.г. 10.9.13".
168 Письмо Флоренского не сохранилось, Кожевников получил его в десятых числах июля 1913 г.
на Исаре. Содержание письма выявляется из ответа Кожевникова, а также из его писем к Н.П. Пе-
терсону от 14 июля и от 20 августа 1913 г. (ГБЛ, ф. 657, к. 6, N 43). См. прим. 169.
169 Брихничев Иона Пантелеймонович (1879-1968), публицист, издатель, поэт; соединял в своих
воззрениях полит, радикализм с религиозностью; в 1907 г. за антиправительственную деятельность
в печати лишен священнического сана; с 1910 г. жил в Москве, организовал издание газеты
"Новая земля", а после ее запрещения в 1912 г. — журнала "Ново вино" (орган "голгоф-
ских христиан" — секты народных христ. социалистов, активно использующих учение Н.Ф.
Федорова о "научной" победе над смертью и всеобщем спасении). К участию в журнале он
пытался привлечь, как ближайшего ученика и последователя Федорова, — Н.П. Петерсона
(см. его письмо к последнему от <15 дек. 1912 г.> — ГБЛ, ф. 657, к. 6, N 27). С 1913 г.,
высланный из Москвы, жил на юге России. (О' нем см.: "Русские писатели. Био-библиографи-
ческий словарь", т. I. M., 1989.)
В июльском 1913 г. письме о. Павел сообщал Кожевникову, что Брихничев организует
пропаганду идей Федорова, готовит к изданию сборник "Вселенское дело" (был издан в 1914 г. в
Одессе), и выслал ему изданный в Москве "проспект" будущего сборника.
Приводим выдержки из письма Кожевникова к Петерсону от 14 июля 1913 г.:
"Глубокоуважаемый и дорогой Николай Павлович! Хочу я в Вами поделиться следующею новостью.
На днях проф. Духов. Академии отец Павел Флоренский прислал мне письмо, в коем
сообщает, что у него был бывший студент Моск. Академии Горский (которого характеризует
с очень хорошей стороны) (студент окончивший курс). Этот Горский в великом восторге
138
от учения Н.Ф -ча и сообщает, что примкнул в этом отношении к другим, также сочувствующим,
из уже известной Вам кучки пресловутого Ионы Брехничева (в написании фамилии ошибка
Кожевникова. — Комм.) (журналец коего "Новое вино"? — кажется, так! — Вы видали).
Оказывается, эти господа ухватились за идеи Н.Ф -ча и теперь организуют пропаганду оных и
дело это окрестили именем "Вселенского дела", к участию в коем приглашают желающих.
Для начала они намереваются выпустить сборник статей под тем же заглавием, для коего уже
имеются и обещаны статьи. <...> Флоренский пишет, что Горский, как и Брехничев, "страстно
увлечен Федоровым, считает его величайшим мыслителем и т.п.; говорит федоровским языком и
его выражениями. Несомненно, — добавляет Фл., — что "Вселенское дело" создаст большую
известность Федорову и... вульгаризирует его. По крайней мере, мне стало ясно, что они
проектируют будущее воскрешение на почве естествознания, чуть ли не каким-либо химическим
способом". Опасным считает Фл. участие в "деле" таких личностей, как Брехничев и Свенцицкий.
Сам же Фл. такой способ воскрешения считает неприемлемым и учение о нем Федорова
неясным и требующим разъяснения, прибавляя, что "в большинстве случаев отдельные мысли
Федорова всецело разделяет".
Отношение Флоренского к учению Федорова выясняется, во-первых, по данному письму
Кожевникова: в общем, это "отрицательное отношение", главная причина которого — федоровское
"вторжение в святилище Смерти", а также антицерковный дух учения: "Вот и теперь
Флоренский пишет мне, что требуется такое разъяснение (относительно согласия с учением Церкви. —
Комм.), что обнародованное недостаточно и что отказ от во всех остальных отношениях
ему любезного и "родного" его душе учения Н.Ф-ча он не решится сделать, пока не дано
будет такого разъяснения, а если окажется, что учение осуществимым надо считать одними
естественными, человеческими средствами, если воскрешение должно совершиться только
химически, физически, лабораторно, то он в ужасе отвернется от этого величайшего торжества
материализма..." (письмо к Петерсону от 20 августа 1913 г.).
171 Свящ. Павел Флоренский. Напластования эгейской культуры. — "Богословский вестник",
1913, т. II, июнь.
172 Поводом для полемики между Н.'П. Петерсоном и кн. Е.Н. Трубецким, развернувшейся летом
1913 г., послужила статья Трубецкого "Жизненная задача Соловьева и всемирный кризис
жизнепонимания" ("Вопросы философии и психологии", 1912, сентябрь-октябрь), в которой,
касаясь вопроса о влиянии Федорова на B.C. Соловьева, автор замечает, что если "в самом
основном, в глубоко жизненном, практическом понимании христианства", "в понимании конечной
цели всеобщего воскрешения" (с. 273, 278) Соловьев согласен с Федоровым, то "мечты
последнего о научных путях и способах достижения этой цели не оставляют ни малейшего следа в
миросозерцании Соловьева" (там же). Стремление Федорова "совлечь с воскресения покров
тайны", его наивная вера "в естественные, научные способы победы над смертью" названы
кн. Трубецким рационалистическим юродством (с. 277), т.к. "с христианской точки зрения, —
говорит он, — смерть есть последствие греха, а не незнания"(с. 279).
В 1913 г. (май-июнь) в том же журнале были помещены заметка Петерсона "По поводу
статьи кн. Е. Трубецкого..." и ответ последнего "Несколько слов о Соловьеве и Федорове".
В центре полемики стояли два вопроса: вопрос об отношении Соловьева к Федорову (по
концепции Петерсона, Соловьев был учеником Федорова, полностью принявшим его учение о
воскрешении, назвавшим его в одном письме (письмо приводится в книге Кожевникова "Н.Ф.
Федоров. Опыт изложения его учения", т. I. M., 1908) учителем, утешителем и отцом духовным,
отошедшим от его учения из-за боязни быть осмеянным в философских кругах) и собственно
вопрос о воскрешении, — связанные между собой.
Соловьев, указывает кн. Трубецкой, считал, что "общее дело" должно иметь религиозный,
а не научный характер, что христианство говорит не о "простом воскресении личного
состава человека, а восстановлении его в должном виде" (т.е., поясняет кн. Трубецкой,
речь идет о "теле духовном" как результате примирения материи и духа). У Федорова же
говорится о воскрешении "тела непрославленного, душевного", и "к иному результату, кроме
оживления трупов, естественный, таучный способ воскрешения привести не может". "Мысль
о возможности, — продолжает кн. Трубецкой, — получить научным способом то прославленное,
духовное тело, которое признает должным Соловьев, была бы не только нелепа, но и кощунственна:
ясно, что никакие научные изобретения не могут прославить тело человека славою
Божественною, сделать его храмом Божества <...>" с. (118-119).
Затем журнальная полемика перешла в эпистолярную. Петерсон возражал в письме
от 21 июля (ф. 657, к. 6, N 18): по его мнению, тело, в которое "возвратится дыхание
жизни", не является "оживленным трупом" — но "тем человеком, который только потому
обратился в труп, что от него отлетело дыхание жизни". "И разве при всеобщем
воскресении, — продолжает он, — все восстанут в телах прославленных, а не в тех,
в которых умерли? В таком случае, что же это будет за воскресение — не будет ли это —
новое творение?" Далее Петерсон излагает федоровское понимание вопроса: "По мысли
Федорова, согласной с мыслью пророка Иезекииля и, надо думать, со вселенско-хрис-
тианской, мертвые воскреснут в тех именно телах, в которых умерли; но — по мысли
Федорова, — они будут воскрешены теми, которые уже достигли бессмертия, т.е. такого
состояния, при котором не будет беспрерывной траты и обновления, не будет нужды
139
питаться другими организмами, умерщвляя низшую тварь<...>, не будет и деторождения, т.е.
умершие будут воскрешены теми, которые успели и сумели преобразовать свою плоть из тела
душевного в тело духовное... Не вернее ли будет допустить, что воскрешенные достигнут своего
преображения с помощью своих воскресителей легко и скоро, хотя бы воскрешенные и были Нерон,
Атилла или же какой-либо Каннибал**. Таким образом, "осуществляя дело воскрешения, род
человеческий исполняет лишь волю Божию и есть лишь орудие Бога в этом деле**. (Именно в этом видел
Федоров помощь Божественной благодати). Итак, **по мысли Федорова, — заканчивает Петерсон, —
всеобщее воскрешение есть полное преображение вселенной, но силами того же вещества,
которое создано Богом**.
Кн. Трубецкой отвечает вежливым, но коротким и сухим письмом <28> июля
(ф. 657, к. 6, N 63), в котором, отклонив дальнейшее обсуждение отношений Федорова и
Соловьева, пишет следующее: **<...> идеал "новой твари", отвергаемый Вами, принадлежит
не мне, а ап. Павлу (Галат. VI, 15)**, **этот же Апостол решительно отвергает федоровскую
мысль о воскрешении людей в том же виде, в каком они умерли (I Кор. XV, 42, 43;
и особ. Кор. XV, 51 и след. — о всеобщем изменении при воскресении). Самое же главное —
в том, <что> истинное воскресение есть совершенное соединение Бога с человеком, последствием
чего является упразднение смерти. Как оно осуществляется, это знают (мистически, а не научно)
младенцы бесконечно лучше "мудрых и разумных**. В виду решительной необходимости сделать
выбор между Федоровым и Евангелием, я, разумеется, не колеблясь ни минуты, выбираю
последнее**.
Н.П. Петерсон хотел продолжать спор; он отправляет новое письмо (ф. 657, к. 6, N 64, б/д),
в котором настаивает, что делать такой выбор нет необходимости, т.к. учение Федорова и
есть полное раскрытие евангельского учения. Однако ответа на это письмо не последовало.
Кожевников состоял в постоянный переписке с Петерсоном и, конечно, был в курсе
его полемики с кн. Трубецким, удерживая Николая Павловича от резких, неосторожных
высказываний, способных оттолкнуть православных людей от учения Федорова. Кожевников
считал, что кн. Трубецкой прав в определении отношения Соловьева к Федорову (именно
что Соловьева не удовлетворяло рационалистическое решение вопроса о воскресении).
Он считал, что Петерсон делает серьезную тактическую ошибку, обвиняя противника
в неспособности понять учение, форсируя события и заставляя выбирать между
Николаем Федоровичем и ап. Павлом, Николаем Федоровичем и Евангелием (та же дилемма,
говорит Кожевников, встала перед покойным П.И. Бартеневым, перед Д.А. Хомяковым, перед
Л.А. Тихомировым и другими). (Письмо Кожевникова Петерсону от 20 августа 1913 г. — ф. 657,
к. 6, N 43.)
173 Вопрос о согласии учения Федорова с учением Церкви был и остается для православных христиан
главным при определении ценности "философии общего дела*9.
В переписке ближайших к мыслителю людей — Кожевникова и Петерсона — этот
вопрос начал обсуждаться сразу после его кончины, в связи с изданием философского
наследия Федорова. Если Петерсон безоговорочно считал учение "полным раскрытием*',
"осуществлением на деле" христианства, то Кожевников видел в нем соблазнительную (в
аскетическом значении этого слова: ложную, вредящую спасению души) сторону —
"воскрешение без Бога", т.е. лишь человеческими средствами, а не действием Божественной
благодати. Кожевникову не могли не быть чужды и "сопутствующие" взгляды Федорова,
например, мысль о возможности соединения в "общем деле" ("воскрешения") разных Церквей и даже
верующих с неверующими... То со свойственной ему мягкостью и осторожностью, стараясь
не причинить боли, ссылаясь больше на "мнение других", "строгих ревнителей" чистоты
Православия, то твердо и недвусмысленно он высказывает эти сомнения в письмах к
Петерсону. Тот же доказывал, что "воскрешение через человека" и есть "воскрешение Самим
Богом": "Разве Бог, действуя на мир, не действует чрез Им же созданные силы?.." (письмо
Петерсона от 26 ноября 1906 г., ф. 657, к. 10, N 25). Не в силах убедить
Кожевникова, он не скрывает в письмах своего раздражения, которое нарастает год от года:
время идет, а учение, которое, по его мысли, должно перевернуть мир, осчастливить
человечество, остается "под спудом", так как человек, обладающий и материальными
средствами, и связями в научном мире (Кожевников), не пропагандирует его. Полемика в
письмах обостряется в 1909 г.: в письмах от 14 мая и 4 июля Петерсон снова, ссылаясь
на отдельные места из Священного Писания, поднимает вопрос об условности,
необязательности Страшного Суда (этот вопрос — один из центральных в его письмах) и о том,
что в "истинном христианстве" нет ничего иррационального, сверхразумного: просто
человечество еще не пришло "в разум истины". В своем ответе (письмо от 20 сентября 1909 г. —
ф. 657. к. 6, N 42) Кожевников сформулировал и обобщил свое, а также своих близких
друзей (в первую очередь, вероятно, М.А. Новоселова) отношение к учению Николая
Федоровича. Приводим письмо почти полностью.
"Да! — пишет Кожевников, — Вы правы в том, что расхождения во мнениях
относительно способа действий у нас велики; есть расхождения и во взглядах на само
учение и в оценке его значения. Но все это не дает ни оснований, ни права отрицать
во мне главное в данном случае, а именно: искреннюю и глубокую любовь к учению
Н.Ф-ча (с какими бы оговорками я ни принимал его) и добросовестное старание потру-
140
диться на пользу проведения его в общественное сознание своим посильным словом,
устным и печатным (первым, разумеется, несравненно чаще, чем вторым, ибо совершенно
лишен Вашей способности трактовать столь сложную и, для непосвященных, столь трудную
тему кратко, попутно и встречно, так сказать "оппортунистически*'). Я полагаю, что,
несмотря на сказанные различия, нам нет никакого основания попрекать друг друга и еще
менее — сердиться друг на друга, как нечего из-за наших расхождений отчаиваться в
самом деле. Надо сознать, что и неприятие, равнодушие, и противодействие вызваны
здесь не нами, а целым рядом причин крупных, важных и от нас двоих не зависящих.
<...> Возьмем* например, хотя бы вопрос о разумности и сверхразумности христианства.
Мы здесь очень разнимся в убеждениях. Вы, в обоих письмах, доказываете мне
разумность христианства и попрекаете меня моим признанием "многого сверхразумного"
в нем же. Но доказывать 1-е совершенно излишне, ибо, повторяю, в разумности
христианства я не думаю сомневаться; а вот то меня удивляет, что Вы (выражаясь
Вашими подлинными словами) "ничего не знаете сверхразумного в христианстве".
Я же убежден, что в нем сверхразумного не только много, но что это многое есть,
пожалуй, самое существенное в христианстве, специфически ему свойственное. Такие
пункты, как Боговочеловечение в лице Христа, Искупление рода человеческого от греха
Крестным подвигом Спасителя, действие Благодати спасающей, из веры в Искупителя и
Спасителя исходящей (да и это ли одно!) — все это не противоразумно, т.е. не противно
принятию разумным существом, и в этом смысле — разумно, но вместе с этим это
и — сверхразумно, потому что одними естественными силами и ресурсами разума
истины божественные эти, тайны природы и сущности Христа и Его процесса
спасительного в нас, постигнуты быть не могут, в своих объяснениях помощью
только разумных (из разума исходящих) данных, посылок, выводов и умозаключений:
эти истины для своего восприятия требуют силы не противоразумной, не разумной
(в человеческом смысле), что и обозначается общепринятым у отцов Церкви и апологетов
термином — силы сверхразумной, каковая и есть вера, начало не. враждебное разуму,
но самостоятельное от него, самобытное, имеющее происхождение из источника благодати
Божией <...> Я, уже и раньше, а за нынешний год в особенности, имел случай
с прискорбием убедиться, что у людей положительно-религиозно настроенных и, в общем,
расположенных во многом к учению Н.Ф-ча, крупным препятствием к принятию его
целиком оказывается как раз опасение, связанное с только что обсуждавшимся
вопросом: должно ли христианство быть признано только разумным? или же и сверхразумным? Лица
этого рода в силу вышеизложенных соображений о сверхразумности некоторых основных
истин христианства, опасаются, не есть ли учение Н.Ф. — гениальная и по-своему
совершеннейшая попытка настолько рационализировать христианство, что из него,
этим путем, устранится или же из чудесного и божественного претворится в естественный
и человеческий процесс сверхъестественное, чудесное начало искупления и спасения
Божественною, благодатною силою? В осязательной, конкретной форме вопрос этот они
применяют и к дилемме: воскресение или воскрешение? <...> Как бы Вы ни
прогневались на меня за сейчас следующие слова, а все же я принужден сознаться, что
доселе напечатанное (а ведь это — главное!) из Н.Ф-ча в значительной степени дает
повод к такого рода сомнениям, хотя (спешу оговориться) сам Н.Ф. думал иначе и
был убежден, что повода к такому искушению он не подал. Считая Н.Ф-ча
христианином вполне по жизни (за исключением мелких вспышек страстей (напр., гнева,
несправедливости), которых, думаю, он не сумел победить потому, что не сочувствовал
аскетизму и чужд был его дисциплине духовной), я считаю его и в его учении
христианином чрезвычайно высокого типа, но, тем не менее, — типа не совпадающего с установленным
жизнью и учением первохристианства церковным, "правоверным" типом христианина.
Этим я ничуть не порицаю и не осуждаю, а только определяю, и стою на том, что
для приурочения учения Н.Ф-ча к христианству в установленном церковном учением
смысле пришлось бы доказывать, что Н.Ф. приписывал непосредственному Божественному
действию (искуплению Христом и Благодатию) несравненно большее значение, чем сколько
можно заключать по выраженному в писаниях Н.Ф-ча. Это обстоятельство было мною
не раз указываемо и самому Н.Ф-чу при беседах с ним. В этих последних я получал
впечатление о том, что для него действие благодати являлось скорее вспомогательным,
нежели основным в. процессе спасения. Так, однажды на мое замечание о трудности задачи
(общего дела) для сил только человеческих, он, с добродушной усмешкою, ответил:
"Но ведь надо же принять во внимание и то, что Бог поможет!" <...> Это
обстоятельство очень серьезное, и его следует выяснить: таково ли, действительно, христианство
по учению Н.Ф-ча, как Вы его понимаете, когда говорите, что в нем нет ничего
сверхразумного? Если это так, придется признать, что система Н.Ф-ча есть действительно
(хотя бы и не сознаваемая им самим и Вами) попытка рационализировать и
гуманизировать супрарациональную и божественную сторону христианства, и тогда на принятие
этого учения христианами церковного образа мыслей надежда будет потеряна и, прибавляю,
(как это ни обидно!) — с основанием. <...> Я же <...> стараюсь в беседах с
вышесказанными людьми убедить в согласимости учения Н.Ф-ча с церковным учением
141
о христианстве. Но для этого надо не обострять и не подчеркивать рационалистическую,
(а через это и секуляризирующую) тенденцию учения Н.Ф-ча, а, наоборот, смягчать ее и
выдвигать и разрабатывать его религионизирующую сторону, т.е. способность вместить в
себя основные сверхразумные истины христианства: Искупление Христом и действие
Благодати. Вы» уже не раз подчеркивали, и резко, расхождение Н.Ф-ча с церковным
учением (напр., по вопросу об условности Суда, о богоуподоблении человека, об
аскетизме...), и это, повторяю, — крайне опасно! Если бы Вам удалось доказать несогласимость
положения Н.Ф. с церковным вероучением или (чтобы избежать этого) если бы Вы
настаивали как на необходимом на истолковании самого христианства в смысле, не
совпадающем с церковным взглядом на христианство (как в данном случае — отрицанием
его сверхразумной стороны или растворением оной — в чисто рационалистическом
элементе, что всегда (исторически) приводило к атрофии специфического начала в
христианстве), — тогда, знайте это! — учение Н.Ф-ча было бы обречено на провал, ибо
как оно ни ценно, христиане церковные, держащиеся учения апостолов, отцов Церкви,
исповедников, мучеников и всего сонма угодников Божиих, не могут променять своего
священного предания даже на все жемчужины Н.Ф., ибо бесценный бисер Христос и Его
учение — еще дороже! Повторяю, для меня такой страшной дилеммы нет, а
следовательно нет и такой опасности (для меня) по отношению к Н.Ф-чу. Я считаю его
согласимым с вероучением традиционного христианства, но для этого надо признать,
что в нем (в учении Н.Ф-ча) не все, сюда относящееся, достаточно ясно и полно
высказано (подчеркнуто нами. — Комм.), надо сознаться, что хотя в нем участие
акта Божественного в процессе спасения человечества не исключено, но что, сравнительно
с участием самого человечества в том же процессе, акт Божественный выяснен недостаточно,
выражен не с должною силою, что и подает многим добросовестным и вдумчивым
людям повод опасаться учения Н.Ф., как не сознаваемой самим мыслителем тенденции в
сторону замены действия Божественного действием человеческим, чудесного — естественным,
сверхразумного — чисто рационалистическим. <...> Прошу Вас неспешно и безгневно
обдумать вышеизложенное и объективно ответить мне, а кроме того (так как мало в
данном случае комментария чьего бы то ни было, а нужен подлинник), прошу Вас (как
лучше меня знающего теперь Н.Ф-ча) дать мне список тех его выражений (с указанием
страницы), где он наиболее ясно и сильно признает во-1) присутствие сверхразумного
в христианстве; 2) во-2) божественное действие актов Искупления Иисусом Христом и Его бла-
годатию в процессе спасения человечества. Это положительно необходимо нам для
самоуяснения, а затем и для внешней полемики и апологетики учения: надо выяснить так
сказать maximum данного в этом отношении Николаем Ф-чем в его подлинных речах
и писаниях. <...>"
В последующие годы упреки Петерсона в адрес Кожевникова продолжаются: зачем
он "молчит" о Федорове, "отвлекается" на "посторонние дела" (чтения в Кружке ищущих
христианского просвещения, занятия буддизмом, издание книг и статей по апологетике
христианства...)
Положение Кожевникова было трудным: с одной стороны, на нем лежал долг
перед умершим Николаем Федоровичем, которого он любил и который, передавая
перед смертью все свои бумаги Кожевникову, верил, что дело его жизни — в надежных
руках. Кроме того, он постоянно чувствовал давление Петерсона, напоминавшего ему об
этом долге. С другой стороны, сам будучи православно-церковным человеком и
окруженный такими же людьми, он не мог не чувствовать еретического духа учения, которое
призван был донести до человечества. Между тем, по врожденной деликатности и по
любви к Федорову-человеку (а также и к Петерсону) он не решался высказаться прямо —
так, например, как один из самых близких его друзей, Ф.Д. Самарин, твердо
противопоставив в учении Федорова "стремлениям истинно христианским" — "средства чисто
внешние, не имеющие никакой цены с христианской точки зрения" (письмо к Петерсону
от 22 мая 1915 г. — ГБЛ, ф. 657, к. 6, N 58).
Что касается Кожевникова, то он, видимо, был бы рад, если бы кто-либо сумел
убедить его в возможности согласовать учение Федорова с христианством, и с благодарностью
относился к таким попыткам, исходящим от людей православных.
174 К 1913 г. Кожевникову было уже совершенно ясно, что учение Федорова, чтобы быть
принятым православным людьми, нуждается в истолковании.
Итак, в учении о воскрешении совершенно не разработаны были вопросы, важнейшие
для христианина: о действии Божественной благодати, о грехе, об искуплении рода
человеческого Спасителем, о церковных Таинствах. Кожевников предлагал Петерсону в
связи с этим принять такое допущение (для апологетических и полемических целей):
Николай Федорович не доразвил (не успел этого сделать) свое учение до согласования
с учением Православной Церкви, но непременно сделал бы это, если бы предвидел
опасность использования его учения атеистами, принятие идеи воскрешения "в
натуралистически-материалистическом смысле" (см. его письма к Петерсону от 10 и 20 августа
1913 г. — ф. 657, к. 6, N 43).
142
175 См. письма Кожевникова к Петерсону от 10 и 20 августа 1913 г. (ф. 657, к. 6, N 43).
176 См. примечание Кожевникова к письмам Н.Ф. Федорова ("Из материалов к III тому "Фи-
(77 лософии общего дела", публ. С.Г. Семеновой. — Сб. "Контекст-1988". М., 1989, с. 346-48).
Об этом опасении Федорова Кожевников вспоминает не раз. (См., например, цитированное
выше письмо его к Петерсону от 20 сентября 1909 г.) Еще в 1904 г., когда встал
вопрос о популяризации учения Федорова, Кожевников, боясь внести соблазн, и в своей
серии статей о Николае Федоровиче не коснулся ни вопроса о методе воскрешения,
ни вопроса о характере религиозности Федорова (см. письма Петерсона к
Кожевникову от 13 января и 9 декабря 1904 г. — ф. 657, к. 10, N 24).
Свенцицкий (Свентицкий) Валентин Павлович (1879-1931), прозаик, драматург, публицист.
Видный участник "Христианского братства борьбы" и Религиозно-Философского общества.
Автор скандального романа "Антихрист" (1908). В 1911 г. сблизился с "голгофскими
христианами". Приблизительно в 1918-19 г. принял священнический сан. В начале 1920-х годов
служил в Москве, в проповедях обличал "обновленцев". По возвращении из ссылки
в Среднюю Азию, в 1925-28 годах — известный в Москве прововедник. В 1928 г. сослан
в Сибирь, где скончался в 1931 г.
179 Кожевников, видимо, имеет в виду тех же Брихничева и Свенцицкого, а также некоторых
корреспондентов Петерсона, высказывавших горячее сочувствие учению Федорова.
180 Кружок "московских философов", группирующихся вокруг о, Павла Флоренского; прежде
всего — С.Н. Булгаков.
181 Очевидно, цитата из утраченного письма Флоренского.
182 На конверте: "В Сергиевский Посад, Московской губ. Штатная улица, дом Озерова. Его
Благословению Отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии".
Штемпели: "Москва. 2 гор.почт.отд. В 30.9.13". — "Сергиевский Посад Моск.г.
30.9.13".
183 Еще летом 1907 г. Кожевников писал Ф.Д. Самарину (обсуждалась программа чтений
для учащейся молодежи на ближайший год в Кружке ищущих христианского просвещения);
"Уже раньше, по совету Михаила Ал-ча (Новоселова. — Комм.), д-ра Пясковского и еще
кое-кого, я решил составить чтение о "Буддийских евангелиях". Теперь же Ваши чтения
о Евангелии от Матфея укрепляют меня в мысли, что рядом с этим "Светом
Истины", контраста ради и для устранения ошибочного приравнивания Христа к другим
"основателям религий" и христианского учения к иным "моралям", будет небесполезно
дать характеристику буддийских евангелий и учения их в отличие от Христианского.
Выполненная по подлинным документам, не всем доступным и произвольно искажаемым
в якобы "критической обработке", авось эта работа окажется не лишенной некоторой
убедительности и не слишком скучною?.." (письмо от 26 июля 1907 г., ф. 265, папка
191, N 4).
Результатом многолетних занятий Кожевникова буддизмом явился фундаментальный
труд "Буддизм в сравнении с христианством" (т. 1-2, Пг., 1916), написанный с целью
отмежевать необуддизм и теософию от христианства.
184 В примечании к своей статье ("Богословский вестник", 1914, т. I, январь, с. 51)
Кожевников пишет: "Монографических трудов по истории древнейшего индусского
аскетизма не имеется: ценная книга Спенса Гарди "Eastern Monachism", как вышедшая в
1860 г., не могла воспользоваться обширным, с тех пор опубликованным материалом;
сочинения же Oman'a "The Mystics, Ascetics and Saints of India", London, 1905;
Rich. Schmidta "Fakire . und Fakirentum in alten und modernen Indien", Berlin, 1908
и De la Mezaliere "Moines et asc£tes indiens", Paris, 1898, так же как и общая история
подвижничества и монашества (как Zockler, "Ackese und Monchtum", Frankfurt, 1897;
Shiwietz, "Das morgenlandische Monchtum", \fainz, 1904 и др.), едва касаются древнейшей
поры индусского подвижничества".
185 История христианского аскетизма давно интересовала Кожевникова, знатока
святоотеческой литературы, памятников раннехристианской письменности. В 1910 г. двумя изданиями
(М. и СПб.) вышла его книга "О значении христианского подвижничества в прошлом
и настоящем". Автор утверждал, что идеал подвижника-аскета жив в душе русского народа и,
недосягаемый для большинства, остается в его сознании наивысшим; так что
святоотеческая традиция не ушла в прошлое — "и поныне не иссякли эти источники ничем
пока не замененного воспитания нравственности и благочестия в народе" (СПб., с. 99-100).
186 "Настоящий очерк, — пишет Кожевников в том же примечании ("Богословский вестник",
1914, т. I, январь, с. 51), — входит в состав заканчиваемой мною работы "Буддизм
в сравнении с христианством".
187 Очерк Кожевникова "Индусский аскетизм в добуддийский период" был напечатан в трех
первых номерах "Богословского вестника" за 1914 г., а затем вышел отдельным
изданием (Сергиев Посад, 1914).
188 На конверте: "Заказное. В Сергиевский Посад, Московской губернии. Штатная улица, дом
Озерова. Священнику Павлу Александровичу Флоренскому, профессору
Московской Духовной Академии. От Владимира Александровича Кожевникова (Москва,
143
Калошин пер., д. 6)".
Рукой Флоренского: "получ. 1913.Х1.27.Серг.Пос".
Штемпели: "Москва. 34 гор.почт.тел.отд.-а. 26.11.13". — "Сергиевский Посад
Моск. г. 26.11.13".
189 См. прим. 5.
190 Книга написана в форме "писем к другу".
191 На конверте: "В Сергиевский Посад Московской губерни. Штатная-Сергиевская улица,
дом Озерова. Священнику Павлу Александровичу Флоренскому, Профессору
Духовной Академии.
Рукой Флоренского: "Получ. 1913.XII.24. вечером".
Штемпели: "Москва. 2 А23.12.13" — "Сергиевский Посад. Моск.г. 24.12.13".
192 Речь идет о статье С.А. Голованенко "Философия общего дела" ("Богословский вестник",
1913, т. III, декабрь), в которой автор, считая учение Федорова "попыткой нового
истолкования христианства", призывает "задуматься над этой своеобразной, чисто русской
философией" (с. 833). Анализ федоровской идеи воскрешения ("Самое воскрешение —
превращение элементов обычной жизни, <...> воскрешение — акт имманентный, воскрешение,
а не воскресение" (с. 839, 836) приводит автора к выводу: "как бы Федоров ни изгонял
мистическое, он изгоняет лишь мистически-созерцательное; и его воскрешение, как всеобщее
знание, знание всеми всего, до того ослепительно ярко, до того необычно, — что
страшит, как магическая тайна. И в воскрешении, — по духу, магия..." (с. 842);
философия Федорова "страшна в своей прелести, в ней соблазн, поскольку она тяготеет к
гностицизму" (с. 843-844).
193 Следующая статья в критическом отделе журнала написана тем же С.А. Голованенко
("С.Н. Булгаков. «Философия хозяйства»"). Третья — статья Н.М. Соловьева "Несколько
слов о "философствованиях" проф. Мечникова".
194 "О Духовной истине". (См. прим. 5.) Впрочем, книга "Столп и утверждение Истины"
вышла в свет в конце 1913 г., и Кожевников мог читать именно ее.
195 Мачеха Владимира Александровича — Мария Григорьевна Кожевникова, жившая в его
семье.
196 На почтовой карточке: "В Сергиевский Посад Московской губ. Штатная-Сергиевская улица,
дом Озерова. Священнику Отцу Павлу Флоренскому, профессору
Московской Духовной Академии".
Штемпели: "Москва. 2.А. 29.12.13" — "Сергиевский Посад Моск.г.
29.12.13".
197 На конверте: "Заказное. В Сергиев Посад, Московской губернии. Штатная улица, дом
Озерова. Священнику отцу Павлу Флоренскому, профессору Московской
Духовной Академии. От В.А. Кожевникова (Москва. Калошин пер., 6)".
Рукой Флоренского: "Получ. 1914.1.9".
Штемпели: "Москва, 34-е гор.поч.отд. 8.1.14" —"Сергиевский Посад Моск.г.—
8.1.14".
198 На конверте: "В Сергиев Посад. Московской губ. Штатная улица, дом Озерова. Священнику
отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии".
Рукой Флоренского: "Получ. 1914.1.22. Cej. Пос."
Штемпели: "Москва. 2.А.21.1.14" — "Сергиевский Посад Моск.г. 21.1.14".
199 Флоренский готовил к печати труд о. Серапиона и писал исследование, посвященное ему:
"Жизнь и личность архим. Серапиона Машкина. Опубликовано частично: "К почести
вешнего звания. Черты характера архим. Серапиона Машкина" — в кн. "Вопросы
религии". Вып. I, M., 1906; "Данные к жизнеописанию архим. Серапиона (Машкина*)",
"Богословский вестник", 1917, т. I, N 2/3. (См.: П.А. Флоренский. Автореферат. "Вопросы
философии", 1988, N 12, с. 116.) (См. прим. 68.)
200 Вскоре после смерти Федорова Кожевников приступил к написанию книги о нем —
в форме серии очерков, где давалась подробная характеристика личности Федорова,
его деятельности и воззрений. Очерки сначала печатались в журнале "Русской архив"
(1904, N 2-5, 9, 10; 1905, N 1, 2, 7; 1906, N 1, 2), затем вышли отдельным изданием
("Н.Ф. Федоров. Опыт изложения его учения", т. I. M., 1908). Части книги носят
следующие названия: "Библиограф и библиотекарь", "Музейский деятель", "Воспитатель и
учитель", "Мыслитель" (последняя — самая объемная). В изложении учения Федорова,
по мнению многих читателей и, в частности, по словам С.Н. Булгакова, автор сумел
"с ним слиться и заслониться его тенью, так что поистине не знаешь, где кончается
один и начинается другой" ("Памяти В.А. Кожевникова". — "Христианская мысль", 1917,
ноябрь-декабрь, с. 77).
Прочитав в марте 1906 г. в "Русском архиве" последний очерк о Федорове-мыслителе,
Петерсон писал Кожевникову: "<...> буду с нетерпением ждать статей о нем как о
Верующем и о Православном'3 (письмо от 16 марта 1906 г. — ф. 657, к. 10, N 25).
Однако эти статьи так и не были напечатаны. Впрочем* Кожевников не отказывался
решительно от этой задачи — просто откладывал ее: в отдельном издании он несколько
144
раз сам ссылается на будущую главу "Верующий — Православный" (с. 20, 283, 284),
которая должна была быть помещена во 2 томе книги.
201 Так называлась статья С.Н. Булгакова, посвященная Н.Ф. Федорову ("Московский
еженедельник", 1908, N 48). Статья вошла в двухтомник Булгакова "Два града" (М., 1911, т. 2,
с. 260-277). Конечно, в устах Владимира Александровича, почти 30 лет знавшего и
любившего Федорова, такой эпитет по отношению к последнему вполне может иметь
иронический оттенок, или, скорее, выражать "общественное мнение".
202 Гердер Иоганн Готфрид (1744-1803), немецкий философ-просветитель; сформулировал идею
развития мира как органического целого.
203 "решительно — прочь!" (нем.).
Еп. Феодор просил исключить главу "София" и внести поправки в главу "Дружба".
Издание с выпущенными главами ("София", "Дружба", "Ревность", "Геенна") было
подготовлено Флоренским к защите магистерской диссертации. Именно эту, 3-ю редакцию
"Столпа" он защищал %на диспуте. (См. игум. Андроник (Трубачев). Из истории
книги "Столп и утверждение Истины". В кн.: Флоренский П.А. Столп и утверждение
Истины, т. I, ч. 2. М., 1990, с. 834.)
205 Остроумов Михаил Андреевич (1847—...), сверхштатный член Училищного совета Святейшего
Синода, редактор газеты "Церковные ведомости"; специалист по церковному праву.
206 На конверте: "Сергиев Посад, Московской губернии. Штатная улица, дом Озерова. Священнику
Отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии".
Рукой Флоренского: "Получ. 1914.2.7."
Штемпели: "Москва. Г. Экспедиция N 2. 6.2.14" — "Москва. Г. Экспедиция
N 2 — 7.2.14" — "Сергиевский Посад Моск.г. — 7.2.14".
207 Князь Е.Н. Трубецкой читал доклад, посвященный книге Флоренского "Столп и утверждение
Истины", 26 февраля 1914 г. в Москве на собрании Религиозно-философского общества.
Доклад назывался "Свет Фаворский и преображение ума". (Опубликован в журнале
"Вопросы философии", 1989, N 12. Там же — см. переписку Флоренского и Трубецкого.
Вступ. статья и примечания игум. Андроника (Трубачева), С.М. Половш.кина, П.В.
Флоренского.)
208 На конверте: "В Сергиев Посад, Московской губ. Штатная-Сергиевская улица, дом Озерова.
Священнику отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии".
Штемпели: "Москва, 34-е гор.поч.тел.отд. — 7.2.14" — "Сергиевский Посад
Моск.г. — 7.2.14".
209 Речь идет о Н П. Петерсоне. Вероятно, в конце января 1914 г. он выслал в редакцию
"Богословского вестника",, с сопроводительным письмом к Флоренскому (б/д, ф. 657,
к. 6, N 20), заметку по поводу статьи С.А. Голованенко об учении Н.Ф. Федорова
(см. прим. 192), копию своего письма к Е.И. Трубецкому (см. прим. 172), а также
еще одну статью — "исповедание веры, написанное год тому назад после одного
заседания в кружке М.А. Новоселова". Первую заметку и "исповедание веры" он просил
поместить в "Богословском- вестнике". Флоренский ответил в письме от 1 февраля
1914 г. (ф. 657, к. 6, N 71), что публикация полемической заметки против Голованенко
преждевременна: в ближайших номерах журнала выйдет "обстоятельное исследование"
последнего о Федорове, где автор "выскажется до конца"; за Петерсоном же останется "право
высказаться о статьях Голованенко по окончании их". Впрочем, заканчивал Флоренский,
"если Вы недовольны, я передам это на третейский суд нашего общего друга Вл.А-ча
Кожевникова и сделаю так, как решит он". Петерсон, конечно, был .недоволен (см. черновик
его ответа на чистых страницах письма Флоренского), и в первых же числах февраля
Флоренский извещает Кожевникова "о деяниях Николая Павловича" (письмо получено б
Февраля, не сохранилось).
210 Щегловитов Иван Григорьевич (1861-1918), министр юстиции в 1906-1915 годах, председатель
Государственного Совета. Расстрелян ВЧК.
211 Саблер Владимир Карлович (настоящая фамилия Десятовский, 1845-1929), статс-секретарь,
в 1911-15 годы обер-прокурор Св.Синода. В своих воспоминаниях о. Георгий Шавельский
характеризует его деятельность следующими словами: "отсталость, безжизненность и малопро-
дуктивность" (Воспоминания последнего Протопресвитера армии и флота. Нью-Йорк,
1954, т. I, с. 279-290.) После революции был близок к т.н. "обновленцам".
212 Пока не ясно, кто имеется в виду (письма Кожевникова и Петерсона 2-й половины
1913 — начала 1914 г. не сохранились).
Добавим, что в 1918 г. Петерсон обратился к св. Патриарху Тихону (письмо от
20 марта/2 апреля) — ЦГАЛИ, ф. 95, on. I, N 1073) с просьбой передать на рассмотрение
Всероссийского Собора заметку "Что такое православие" (ЦГАЛИ, ф. 95, on. I, N 1018),
излагающую основные идеи Федорова.
213 См. прим. 172.
214 См. прим. 173.
215 Об этом Кожевников говорит, например, в письмах к Петерсону от 10 и 20 августа
1913 г. (ГБЛ, ф. 657, к. 6,'N43).
216 То есть присланную в "Богословский вестник" заметку (см. прим. 209).
145
217 Как сообщает сам Петерсон, "исповедание веры" написано было "год тому назад после
одного заседания в кружке М.А. Новоселова" (письмо к Флоренскому б/д, ф. 657, к. 6,
N20).
К Новоселову Петерсон относился с сильным предубеждением как к упорному
противнику учения Федорова, придерживающемуся "ортодоксальных" взглядов о безусловности
Страшного Суда, сверхразумности христианства... "Чем я больше узнаю о г.
Новоселове, — с раздражением писал Петерсон еще в 1909 г., — тем страннее он мне
кажется. Был толстовцем, стал христианином, боится читать книгу Н.Ф. из-за ее рационализма
и в то же время издает религиозно-философскую библиотеку, т.е. хочет рационально
изъяснять то, что, по его мнению, иррационально" (письмо к Кожевникову от 14 мая —
ф. 657, к. 10, N 28).
"Проповедь к учащейся молодежи" (то есть "чтения" в Новоселовском кружке) Петерсон
считал бесплодной, так как она не указывает молодежи "настоящего дела", которое
дает только учение Федорова.
Вероятно, его "исповедание веры" — это изложение федоровских идей как "полного
раскрытия" христианства, как "истинного христианства" с попутной критикой Новоселовского
кружка.
218 Филоктет — царь Мелибеи (в Фессалии), участник похода на Трою греческих царей.
В пути был ужалел змеей. Рана не заживала и издавала страшное зловоние. Греки
оставили Филоктета на острове Лемнос. Через 10 лет был исцелен врачом Махаоном.
219 На конверте: "Заказное. Сергиев Посад, Московской губ. Штатная-Сергиевская улица, дом
Озерова. Священнику отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии.
От В.А. Кожевникова (Москва, Калошин пер., 6)".
Рукой Флоренского: "Получ. 1914.2.11. Сер.Пос."
Штемпели: "Москва. 34-е гор.поч.тел.отд. 10.2.14". — "Сергивский Посад
Моск.г. 10.2.14".
220 См. прим. 187.
221 Написанная о книге Флоренского "Столп и утверждение Истины" статья Н.А. Бердяева
"Стилизованное православие" ("Русская мысль", 1914, N 1).
222 "Когда читаешь эту удушливую книгу, — писал Бердяев, — хочется вырваться на свежий
воздух, в ширь, на свободу, к творчеству свободного духа человеческого" (с. 112).
223 Вероятно, речь идет о любимом Кожевниковым стихотворении "Песнь восхождения".
224 На конверте: "М.А. Новоселову ддя передачи П.А. Флоренскому от В. Кожевникова".
Рукой Флоренского: "(1914, февраль?) (Доклад кн. Трубецкого, о коем идет
<речь> в письме ("Свет Фаворский и преображение ума") был 26-го февраля
1914-го года)".
225 Имеется в. виду письмо Петерсона кн. Трубецкому от 21 июля 1913 г. (см. прим. 172);
полемическая сторона была смягчена (в особенности то, что касается взаимоотношений
Федорова и В. Соловьева), и письмо приобрело форму заметки, излагающей учение о
воскрешении. Кожевников, получив заметку от Петерсона, "вполне одобрил для напечатания"
(тогда как раньше он был против продолжения полемики Петерсона с кн. Трубецким)
и косвенно (как бы не от себя, а от Петерсона) просил Флоренского опубликовать ее
в "Богословском вестнике". (См. также письмо Кожевникова к Петерсону от 5 марта
1914 г. — ф. 657, к. 6, N 43.)
226 См. прим. 209.
227 На почтовой карточке: "Сергиев Посад, Москов. губ. Штатная-Сергиевская улица, дом
Озерова. Священнику отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной
Академии".
Рукой Флоренского: "1914.111.12. Сер.Пос".
Штемпели: "Москва. 2. В. 11.3.14". — "Сергиевский Посад Моск.г. 11.3.14".
228 В письме от 5 марта 1914 г. (см. прим. 225) Кожевников сообщал Петерсону, что
публикация его заметки невозможна по обстоятельству, не зависящему от Флоренского:
ректор Духовной Академии еп. Феодор запретил печатание в академическом журнале
статьи Голованенко об учении Федорова как "распространяющей идеи, несогласные с
некоторыми истинами христианского учения" (несмотря на отрицательное отношение автора к
федоровским идеям), вследствие чего февральский номер "Богословского вестника" задержался
с выходом. Следовательно, говорит Кожевников, тем более "нет никакой надежды, чтобы
ректор разрешил поместить в том же журнале статью вполне одобряющую учение Н.Ф-ча
и превозносящую его". Зная характер Петерсона, Кожевников в конце письма предупреждает:
"Убеждать епископа Феодора в том, что он ошибочно понимает Федорова, было бы
бесполезно".
229 На почтовой карточке: "Сергиев Посад, Моск.губ. Штатная-Сергиевская улица, дом Озерова,
Священнику Отцу Павлу Флоренскому, профессору Дух. Академии".
Штемпели: "Москва. 34 б. 23.3.14" — "Сергиевский Посад Моск.г.
23.3.14".
230 См. прим. 187.
146
231 "Книга о праведной жизни" (1-ая из двенадцати канонических книг джайнов о праведной
жизни).
232 Мф. 23,24 ("Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!").
233 На конверте: "В Сергиев Посад Московской губ. Штатная-Сергиевская улица, дом Озерова.
Священнику отцу Павлу Флоренскому, профессору Дух. Академии".
Рукой Флоренского: "Получ. 1914.IV. 4".
Штемпели: "Москва. 2В — 4.4.14" — "Сергиевский Посад Моск. г. — 4.4.14".
234 'Вероятно, хозяин книжной лавки книгоиздательства "Путь".
235 Склад книгоиздательства "Путь" располагался по адресу: Москва, Новинский бульвар,
д. 103.
236 Навизитной карточке: "Владимир Александрович Кожевников. Арбат,
Калошин пер., д. Давыдова".
Рукой Флоренского: "Получ. 1914.IV.14**.
237 Арсеньев Николай Сергеевич (1888-1977), приват-доцент Московского университета с 1914 г.;
профессор Саратовского университета (1918-1920). Покинул Россию в 1920 г. Профессор
Православного факультета Варшавского университета (1926-1938). С 1948 г. — профессор
Св. Владимировской семинарии в Нью-Йорке. Видный участник экуменического движения.
Основной темой его книг, и многочисленных статей является духовная жизнь и культура
разных времен и народов. В книге Арсеньева "Дары и встречи жизненного пути"(Франкфурт-на-
Майне, 1974) есть глава, посвященная В.А. Кожевникову (опубл. также в журнале
"Возрождение", Париж, 1970, январь, N 217).
Еще будучи студентом, а затем выпускником Московского университета, Арсеньев
участвовал в "чтениях" Новоселовского кружка. Об одном его докладе Кожевников
рассказывает в письме к Ф.Д. Самарину от 22 февраля 1913 г. (ГБЛ. ф. 265, п. 191, N 4):
"Отвечаю теперь на Ваши вопросы о жизни нашего "Кружка". Во 2-м полугодии было
только одно чтение у Корнилова (очень многолюдное). Читал Н.С. Арсеньев на тему
"Тягость жизни". К сожалению, чтение оказалось не из удачных: с одной стороны,
не совсем верна была общая точка зрения, слишком аскетически-пессимистическая, а с
другой стороны, референт грешил излишнею добросовестностью в бесчисленных цитатах,
приводя их в греческих, латинских и иных подлинниках, а затем давая и перевод.
Слушатели, видимо, скучали. Это было досадно тем более, что Н.С. в своих последних
статьях в Журнале Мин. Нар.Просвещения ("Идеал красоты и платоническая любовь
в эпоху Возрождения") еще раз доказал свою, для его возраста, замечательную
начитанность и прекрасное владение языками".
238 На телеграфном бланке: "Сергиевский Посад. Московская Духовная Академия. Профессору
Флоренскому. Из Ялты: N 38/т Счет слов: 17. Подана 19/V,
12 ч. 33 м. пополуд. Принята 19/V. 1914 г. 2-34".
239 "См. прим. 5.
240 На конверте: "Сергиев Посад. Московской губ. Штатная-Сергиевская улица, дом Озерова.
Его Благословению отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии".
Рукой Флоренского: "получ. 1914.XII.24".
Штемпели: "Москва. 34-е гор.поч.тел.отд. 23.12.14" — "Сергиевский Посад
Моск. г. 24.12.14й.
241 На телеграфном бланке: "Сергиевский Посад. Профессору священнику Флоренскому. Из:
Исар. N 20. Счет слов: 26/26. 28/VI 8 ч. 30 м. пополудн. Принята
30/VI 1915 г."
Рукой Флоренского: "1915.VI.30. Серг.Пос."
242 Письмо не было отправлено.
На конверте: "Крым, Ялта, Исар ЕВР Владимиру Александровичу Кожевникову, (от свящ.
П. Флоренского. Сергиев Посад, Дворянская ул., д. Якуба).
243 Как выясняется далее, Флоренский находился в это время в селе Троицком Рязанской
губернии. Возможно, он гостил у родственников жены, Анны Михайловны (урожд.
Гиацинтовой, 1889-1973). (О ней см.: игум. Андроник (Трубачев), "Голубка моя бедная..." —
"Литературный Иркутск", 1989, октябрь.)
244 В 1915 г. Православная Церковь отмечала 900-летие со дня кончины св. равноап.
князя Владимира (15 июля 1015 г.).
245 Письмо не окончено.
246 На конверте: "В Сергиев Посад, Московской губ. Профессору Духовной Академии, священнику
Отцу Павлу Флоренскому".
Рукой Флоренского: "Получ. 1915.X. 16".
Штемпели: "Москва. 2 В. 14.10.15" — "Сергиевский Посад Моск.г. 16.10.15" —
"Доплатить — 2-е Московск.отд.".
247 "Одно вместо другого" (лат.), т.е. смешение, путаница, недоразумение.
248 Корнилов Александр Александрович, врач, доктор медицины, член Кружка ищущих
христианского просвещения. В его доме (Нижн. Кисловский пер., дом 6) проходили
некоторые собрания Кружка. Был также (вместе с другими членами Кружка) одним из
147
учредителей Братства Святителей московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа
(существовало с 1909 г.) и членом совета Братства.
249 На визитной карточке: "В ладим ир Александрович Кожевников. Москва.
Калошин пер., 6. Ялта, Исар. собств. дача".
250 Второй сын о. Павла — Кирилл Павлович (14 дек. 1915-9 апр. 1982). Впоследствии
стал выдающимся геологом, основателем сравнительной планетологии. См. о нем: "Исто-
рико-астрономические исследования. 1988й (М., 1988, с. 227-290 и статья П.В. Флоренского
"На пути к ноосфере", с. 291-309).
8 января 1916 г. Кожевников писал Петерсону: "Я со всей семьей провел все праздники,
от 23 декабря до вчерашнего дня в гостинице Черниговского монастыря близ Сергиева
Посада. Уехали туда отдохнуть от столичной суеты, и, слава Богу, отдохнули и время
провели приятно в лесном уединении" (ГБЛ, ф. 657, к. 6, N 43).
252 На телеграфном бланке: "Сергиевский Посад. Профессору Академии Флоренскому. Из: Исар.
N 49. Счет слов: 29. Подана: 29. 10ч. Юм. Принята: 30/VI. 1916 г."
На обороте телеграммы рукой Флоренского: "Получено ночью с 29 на 30. 1916.VI. <... нрзб. ...>
мать жены <нрзб.> страшно перепугана, т.к. думала, что телеграмма от
Миши, <нрзб. ...> болел аппендицитом".
253 На конверте: "В Сергиев Посад, Московск.губ. Священнику Отцу Флоренскому, профессору
Духовной Академии. Собственный дом". Рукой Флоренского: "Пол. 1916. VIII.5".
Штемпели; "Исар Тавр. г. 1.8.16" — "Сергиевский Посад Моск.г. — 4.8.16".
254 Кожевников выражает соболезнование по случаю кончины брата жены Флоренского —
Михаила Михайловича Гиацинтова.
255 Одна из глав книги "Столп и утверждение Истины".
256 Первые признаки тяжелой болезни Кожевников почувствовал еще в 1912 г. В письме
Ф.Д. Самарину из Крыма от 31 августа он описывал свое "нездоровье или какое-то
недомогание, <...> уяснить которое пока не удается: не болен и не здоров! очень исхудал
и вид имею очень не важный; подозреваю — нет ли какого-нибудь скрытого недуга,
хотя осязательных признаков, в смысле ощущения их, не замечаю". Зимой 1913 г.
Кожевников сообщает тому же Ф.Д. Самарину: "Мое здоровье, слава Богу, поправилось:
прибавил в весе (на чем особенно настаивал Н.Н. Мамонов (лечащий врач и приятель
Кожевникова, М.А. Новоселова. — Комм.)) фунтов около 11; мигреней нет, несмотря
на то, что работал все время очень усердно. Вопреки тому, что я раньше делал, мне
оказалось необходимым мясное питание. Теперь Мамонов мною доволен и, по-видимому,
хронического недуга пока никакого нет, а было истощение сил от работы и от
преобладания растительной п-ищи" (письмо от 22 февраля — оба письма ГБЛ, ф. 265,
папка 191, N 4).
В 1915 г. и особенно к лету 1916 г. состояние здоровья Кожевникова сильно
ухудшилось. 20 августа он пишет Петерсону: "<...> здоровье мое очень плохо; желудок
не варит и тошнота донимает; опасаюсь, нет ли рака? На все, конечно, воля Господня,
и слава Богу за все Его великие милости, но работа в таком состоянии бывает трудна.
<...> Кажется, я непоправимо болен <...>" (ГБЛ, ф. 657, к. 6, N 43).
257 Кожевников говорит о мировой войне. События, происходящие в России (вступившей в
смутное время) "угнетали и мучили" его, как личная драма. Вот его новогоднее (с
новым 1916 г.) поздравление Н.П. Петерсону: "Прошу Вас принять от меня и всей
семьи моей искренние поздравления <...> и наши сердечные пожелания, чтобы этот
год принес, наконец, желанное нашей исстрадавшейся родине и тем самым благополучие
и личное каждому из нас. Будущее в руках Божиих; хочется верить в конечную
победу правды и добра; но пока — темно, темно и скорбно вокруг..." (письмо от 8 января
1916 г. — ф. 657, к. 6, N 43).
258 Гал. 6,2.
259 Человек энциклопедических знаний, удивлявший современников своей "необъятной ученостью"
(выражение Н.А. Бердяева. — Собр. соч., т. I, Париж, 1983, с. 212), Кожевников
не имел ни одного диплома об окончании какого-либо учебного заведения. Основа
его образованию была заложена дома, в культурной купеческой семье. После смерти
отца, потомственного почетного гражданина г. Козлова Тамбовской губернии, Владимиру
Александровичу, как старшему сыну, выпала обязанность привести в порядок большое
и запущенное хозяйство и дать образование младшим братьям (оба впоследствии стали
учеными-естественниками, достигли профессорского звания). Одно время (в 1870-ые годы)
он посещал вольнослушателем Московский университет, занимаясь историей и философией.
Свое дальнейшее образование Кожевников получил в библиотеках (в библиотеке Румянцев-
ского музея, в крупнейших книгохранилищах Европы). Будучи в течение 28 лет (с 1875 г.)
ближайшим к Федорову человеком, как бы "проходя послушание" у него, добросовестно
излагая его идеи в своих статьях, книгах, стихотворениях 1890-х годов, Кожевников
сохранял внутреннюю самостоятельность. Между ними и при жизни Федорова не было
148
полного согласия. Так, 8 июля 1898 г. Николай Федорович писал Кожевникову: "Вы
учение о воскрешении называете не христиане гим <...>" (ГБЛ, ф. 657, к. 4, N 6).
260 1 том "Философии общего дела" был издан Кожевниковым и Петерсоном в 1906 г. (г.
Верный), 2 том — в 1913 (М.). Непосредственную работу над третьим томом (в него
должны были войти письма Федорова, его жизнеописание и воспоминания о нем)
Кожевников откладывал до окончания работы над "Буддизмом...". 20 мая 1916 г. он
писал Петерсону: "<...> во 2й 1/2 лета, окончивши указатель к своей книге и
отдохнувши, попробую приняться за "Воспоминания о Н.Ф." (ГБЛ, ф. 657, к. 6, N 43).
3 том остался не изданным. Материалы хранятся в ГБЛ. Частично они опубликованы
С.Г. Семеновой ("Контекст-1988", М., 1989).
261 Книге "Буддизм в сравнении с христианством" (т. 1-2, Пг., 1916) были отданы
последние годы жизни Кожевникова. Как пишет сам автор во вступлении к книге, она
"выросла из лекций, читанных в Москве в 1908-09 годы на собраниях "Кружка ищущих
христианского просвещения" и на публичных чтениях для студентов высших учебных
заведений и слушательниц женских курсов в зале Медведниковской гимназии" (см. прим. 183).
Так как в России в последние годы, — говорит Кожевников, — по примеру стран
Западной Европы, распространилось увлечение необуддизмом и теософией, а научно-
популярные издания очень неточно передают "идеи и тенденции первоначального буддизма",
отчего многие имеют о нем искаженное представление, — исследование на эту тему,
основанное на первоисточниках, может иметь немалое значение. Только таким
"ознакомлением с буддизмом в его подлинных чертах, непринаряженных и неподмалеванных
необуддийскою и иною пропагандою",—считает автор, — можно противодействовать
"грубо ошибочным представлениям о сходстве буддизма с христианством и о влиянии
первого на второе" ("Буддизм...", с. VII-VIII).
За основу своего исследовательского метода Кожевников берет объективность: он
считает; что для правильного освещения предмета (в данном случае "первоначального
буддизма") необходимо "путем длительного и частого общения <...> сродниться" с пред-
' метом, войти "внутрь" его, как бы слиться с ним — тогда учение предстанет перед
читателем в "объективном" освещении (с. VI).
Рецензенты оценили и не раз отмечали эту особенность исследования Кожевникова.
Автору "открыта, — объяснял, например, В.В. Зеньковский, — относительная правда
этих внехристианских достижений именно потому, что ему открыта полнота христианской
истины" ("Христианская мысль", 1917, N 1, с. 138).
"Относительная правда" буддизма состояла, по Кожевникову, в том, что эта религия
абсолютного небытия (лишь внешне сходная с христианством, религией жизни и бессмертия)
была частью Божиего мироводительства: "к устам человечества, столь часто напоявшегося
хмельной чашей чувственных вожделений, прежде чем принять Чашу Спасения, ради
научения противоположностью", была поднесена "чаша отчаяния, почерпнутого из мертвящих
струй нирваны <...>" ("Буддизм...", с. 754).
262 Данная заметка Флоренского, собственно, не является письмом. Это запись скудных
биографических сведений о Н.Ф. Федорове. В письме от 31 июля 1916 г. Кожевников
пишет, что "рад встретить <...> сочувствие" со стороны Флоренского к составлению
жизнеописания Федорова. Вероятно, Флоренский не только "сочувствовал", но и хотел
принять участие в этом деле.
263 Бартенев Петр Иванович (1829-1912), историк, археограф, редактор-издатель журнала
"Русский архив". (Письма Кожевникова к нему хранятся в ЦГАЛИ, ф. 48.)
264 Вегнер Вильгельм — нем. писатель.
265 На конверте: "В Сергиев Посад, Московской губ. Профессору Московской Духовной
Академии священнику отцу Павлу Флоренскому. Дворянская улица,
собственный дом".
Рукой Флоренского: "Получ. 1916.IX.23. Серг. Пос".
Штемпели: "Москва. 2 Б 22.9.16" — "Сергиевский Посад Моск.г. 23.9.16".
266 О том, что он обречен, Кожевников узнал, вскрыв конверт со снимком и медицинским
заключением. Свое душевное состояние в этот момент он описывает в письме к В.В.
Розанову от 21 октября 1916 г.: "Как только прочел я это ученое, рентгеновское
определение, <...>, так тотчас же возгласил, по правилу Златоуста: "Слава Богу о всем!" —
и потянуло меня в храм, помолиться; но церкви были уже заперты; пошел в часовню преп.
Сергия и отдался волне теплого, благостного охватившего меня чувства. <...> свет,
мир, подъем, благодать! Солнце так славно пригревало на осенней лазури (день был с
"утренничком"). золотая осень на сквере у Ильинских ворот сверкала такой пышностью,
таким рдением красок, и все кругом, люди прежде всего, стали лучше, милее <...>"
("ВРХД", 1984, N 143, с. 97-98).
267 Из того же письма к Розанову: "<...> несмотря на обнадеживание врачей, веду себя
все-таки так, как будто бы "близко! при дверех!" Написал духовную, поделал кое-какке
дела, чтобы не опоздать, готовлю и место "упокоения" <...> (там же, с. 98).
268 Муретов М.Д. (1852-1917), заслуженный ординарный профессор кафедры Священного Писания
МДА, учитель П.А. Флоренского. Приобрел уважение в богословских кругах своим глу-
149
боким знанием первоисточников. В его фундаментальных исследованиях дается
исчерпывающая литература вопроса. Можно выделить блестящую (по оценке прот. Георгия
Флоровского) книгу "Ренан и его "Жизнь Иисуса" (СПб., 1907) и книгу "Новый Завет
кат- предмет православно-богословского изучения" (СПб., 1914).
269 Глаголев С.С. (1865-1937), ординарный профессор кафедры Основного Богословия МДА.
Был оппонентом при защите магистерской диссертации о. Павлом Флоренским. Глубоко
уважал о. Павла и был дружески расположен к нему.
270 Попов И.В. (1867-1938), ординарный профессор кафедры Патрологии МДА, автор большого
(неоконченного) труда о блаж. Августине ("Личность и учение блаженного Августина", том
первый, ч. Ж—II, Сергиев Посад, 1917). По закрытии МДА читал лекции в Московском
университете по средневековой философии (по другим сведениям, предметом его была
психология). В 1924 г. по поручению патриарха Тихона проф. Поповым был составлен ответ
Константинопольскому патриарху Григорию VII, признавшему обновленцев и предложившему
патриарху Тихону устраниться от управления Церковью. Это послужило причиной ареста
И.В. Попова и заключения его в Соловки (1925-27). Именно он является составителем
"Памятной записки" соловецких епископов (1926), отражающей исповеднический дух
Русской Православной Церкви. С 1928 по 1931 г. был в ссылке в Сибири, трудился
над сочинением о св. Григории Нисском. В последующие годы жил под Москвой;
в 1936 г. арестован вторично, вместе с еп. Варфоломеем (Ремовым), в связи с делом
о Духовной Академии, существовавшей в Москве без разрешения властей. (См. о нем в кн.:
прот. М. Польский. Новые мученики Российские, ч. I, Джорданвиль, 1949, с. 200-202 и
с. 162-177.)
В наше время опубликованы исследования И.В. Попова "Св. Иларий, епископ Пикта-
вийский ("Богословские труды". Сб. 4-7, М, 1968, 1970, 1971) и "Св. Амфилохий,
епископ Иконийский" ("Богословские труды". Сб. 9, М., 1972).
271 Cancer ventriculi (inoDerabilis) — рак желудка ("неоперабельный"); диагноз на основании
рентгена ("ВДНХ", 1984, N 143 с. 97).
272 Пока не удалось установить, чем был болен в это время Флоренский.
273 На конверте: "Заказное. В Сергиев Посад, Московск. губ. Дворянская улица, дом
Флоренского. Священнику отцу Павлу Флоренскому, профессор^ Московской
Духовной Академии. От В.А. Кожевникова (Москва, Калошин пер., д. 6)".
Рукой Флоренского: "Получ. 1916.X.7. Сер.Пос."
Штемпели: "Москва. 34-е гор.почт.тел.отд. — 6.10.16" — "Сергиевский Посад.
<нрзб.>"
Одновременно отправлен почтовый перевод.
На "отрезном купоне": —144 руб. — коп. От Владимира Александровича Кожевникова
(Москва. Калошин переулок, дом 6).
Штемпели: "Москва. 34-е гор.почт.тел.отд. — 6.10.16" — "Сергиевский
Посад Моск.г. — 6.10.16".
274 Статья называется: "В.В. Завитневич. "Алексей Степанович Хомяков" — "Богословский
вестник", 1916, т. II, июль-август. (Вошла в книгу Флоренского "Около Хомякова",
Сергиев Посад, 1916.)
275 Очевидно, высказанное при личной встрече. Ф.Д. Самарин скончался через несколько
дней, 23 октября. Известно, что он собирался писать ответ Флоренскому.
276 Вероятно, имеются в виду статьи B.C. Соловьева, вошедшие в сборник "Национальный
вопрос в России": "Славянофильство и его вырождение", "Приложение к статье
"Славянофильство и его вырождение", "Новая защита старого славянофильства". См.: B.C. Соловьев.
Собрание сочинений в двух томах. Т. I. M., 1990.
277 Москва, ул. Поварская, дом 38 — адрес Ф.Д. Самарина.
278 В Кречетниках (Кречетниковский пер., д. 4) в собственном доме жил Д.А. Хомяков,
сын знаменитого славянофила А.С. Хомякова.
279 Выход книги "Около Хомякова", по воспоминанию Ф.И. Уделова (сына прот. Иосифа
Фуделя, настоятеля московской Николаевской в Плотниках церкви, близкого к Ново-
селовскому кружку, члена Совета Братства Святителей Московских), "вызвал большое
огорчение среди близких к нему <Флоренскому> людей. М.А. Новоселов сейчас же поехал
к нему в Посад и потом рассказывал моему отцу, что он чуть ли не всю ночь с ним
спорил и доказывал ему его «римско-магический» уклон. Но вот, — говорил М.А., —
в конце концов о. Павел поник головой и согласился и при этом сказал: "я больше
не буду заниматься богословием" <...>" (Уделов Ф.И. Об о. Павле Флоренском.
Париж, 1972, с. 84.)
280 В общем высоко оценивая общественную заслугу А.С. Хомякова как главы славянофилов,
как "величайшего идейного борца за святую Русь", Флоренский видит в его богословии
"дух имманентизма", сближающий учение Хомякова с протестантизмом — в утонченной
форме, благодаря идее соборности. По мнению Флоренского, присущее католицизму
"юридическое" начало Хомяков подменяет социологическим (преувеличивая значение
человеческого согласия или несогласия, умаляя значение Божественной благодати в Церкви)
150
и таким образом заменяет одну земную силу — другой: право и принуждение, присутствующие
в католицизме и протестантизме, он, как считает Флоренский, пытается вытеснить
"общественностью и родственностью народов славянских".
Опасную неопределенность видит Флоренский в понимании Хомяковым Таинства Евхаристии
(см. "Богословский вестник", 1916, т. II, июль-август, с. 540-551). Ему, считает Флоренский,
"хочется избегнуть определенности и просто замолчать термин <пресуществление>,
который в евхаристическом споре с протестантствующими <...> решителен и потому — неустраним"
(с. 541), а также желание "притупить остроту евхаристической формулы <...> открывает дверь
протестантскому отрицанию" (с. 543). Делая упор на веру в Таинство, а не на
объективное, сверхразумное его значение, Хомяков, по мнению Флоренского, уклоняется в
протестантизм.
281 Таково было, в частности, мнение Ю.Ф. Самарина, высказанное им в предисловии к
тому богословских сочинений А.С. Хомякова. Видя заслугу Хомякова в утверждении
Православия как единственной истинной веры, в том, что он выразил идею
Православной Церкви "точно, строго, в форме, так сказать, стереотипной, к которой нельзя
ничего прибавить и от которой нельзя ничего урезать", — Самарин утверждает, что это
дает право считать Хомякова "отцом и учителем Церкви", хотя и сознает, что это
звание, ассоциирующееся в православном сознании с чем-то древним и священным, трудно
применить к человеку, жившему в наши дни, в Москве, на Собачьей Площадке и т.д.,
шокировавшему кое-кого своей "неортодоксальностью" и вызывавшему нападки как "справа",
так и "слева" (А.С. Хомяков. Собрание сочинений, т. 2. Изд. 5, М., 1907, с. XXXVI.)
282 "различаю!" (лат.).
283 По всей вероятности, "2-я статья" — это помещенный в той же книжке "Богословского
вестника" (1916, т. II, июль-август) отзыв о. Павла о сочинении студента В.И.
Херсонского "Этико-социальная теория'А.С. Хомякова".
Кандидатское сочинение Херсонского (тот отказывает Хомякову в "абсолютном
христианском сознании") Флоренский называет "гладко написанным пасквилем на славянофильство"
(с. 367). Разбирая критику хомяковских идей Херсонским (который превыше всего ставит
"возможность самоопределения, самозаконности, самоутверждения человека как члена
общества и государства", с. 374), о. Павел приходит к выводу, что "речи его о духовной
свободе, о высоте христианского сознания, неведомой ранее христианам, — пустые
разглагольствования, которыми прикрывается скромная, но твердая вера в мир сей, в себе
замкнутый и себе довлеющий, для духовных сил непроницаемый <...>" (с. 375).
284 На переводном бланке: "10 руб. От Владимира Александровича Кожевникова (Москва,
Калошин пер., д. 6)"
Рукой Флоренского: "Получ. 1916.X. 12".
Штемпели: "Москва. 34-е гор.почт.тел.отд. 10.10.16" — "Сергиевский
Посад. 11.10.16".
285 Феофан, архиеп. Полтавский, позже — Курский (Быстрое, 1873—1943), ректор
С.-Петербургской Духовной Академии. После революции вывез из России и впоследствии
сопровождал во всех ее странствиях главную святыню Русской Зарубежной Церкви — Курскую-
Коренную икону Божией Матери (ныне святыня пребывает в Знаменском кафедральном
соборе Нью-Йорка). В 1920 г. окончательно покинул Россию. Участник I Всезару-
бежного Собора в Карловцах (1921 г.). По некоторым сведениям, жил в Белграде, изредка
бывая в Париже. Выдающиеся проповедник; самый популярный (после митр. Антония
Храповицкого) иерарх Русской Зарубежной Церкви. (См.: "Одигитрия Русского Зарубежья",
изд. 2-е. Махопак, штач Нью-Йорк, 1963).
286 На конверте: "Сергиев Посад, Московск.губ. Дворянская улица, дом Флоренского. Священнику
отцу Павлу Флоренскому, профессору Духовной Академии".
Рукой Флоренского: "1916.XII.26".
Штемпели: "Москва 2 Б 24.12.16" — "Сергиевский Посад Моск.г. 25.12.16".
287 Вероятно, статья обсуждалась на одном из собраний Новоселовского кружка.
288 В тетради Флоренского (куда он переписал все письма Владимира Александровича) вслед
за копией эгого, последнего, письма — запись: "Владимир Александрович Кожевников
скончался 3-го июля 1917 года".
289 Письмо адресовано вдове и мачехе Кожевникова.
290 В.А. Кожевникова отпевали в Николаевской (на Песках) церкви близ Арбата, прихожанином
который он был, и похоронили на кладбище Новодевичьего монастыря.
291 Слова из заамвонной молитвы священника в конце Божественной Литургии: "...яко всякое
даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов...".
292 См., например, евангельские притчи об ожидании хозяина дома (Мк. 13, 34-37), о
бодрствующих слугах (Лк. 12, 35-38).
293 Ин. 14,2. ("В доме Отца Моего обителей много".)
Комментарии И.В. Дубининой, А. В. Шургаия
(с участием С. М. Половинкина)
Публикация игумена Андроника (Трубачева), И.В. Дубининой, А.В. Шургаия
151
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Е.А. МАМЧУР, Н.Ф.ОВЧИННИКОВ, АИ. УЕМОВ. Принцип простоты и меры сложности.
М., "Наука", 1989, 304 с.
В Библии есть такое повествование:
"Скати первые люди: построим себе город
и башню, высотою до небес; и сделаем
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу
всей земли. И сошел Господь посмотреть
город и башню, которые строили сыны
человеческие. И сказал Господь: вот, один
народ, и один у всех язык; и вот что начали
они делать, и не отстанут они от того,
что задумали делать. Сойдем же, и смешаем
там язык их, так, чтобы один не понимал
речи другого. И рассеял их Господь оттуда
по всей земле; и они перестали строить
город и башню" (Быт. 11, 4—8).
Не сложилась ли аналогичная ситуация и
в современной науке? Не угрожает ли науке
опасность, что "один перестанет понимать
речи другого"? Именно на эту опасность
указывают авторы рецензируемой книги,
говоря, что "особенности современного
развития науки, в том числе и физики, вынуждают
обратить чнимание на проблему
методологического объединения знания и на способы
свертывания научной информации,
содержащейся в чрезвычайно разветвленной и
полиморфной системе современной науки" (с. 4).
В этой связи, с их точки зрения, важное
значение приобретает принцип простоты.
В формулировании и анализе принципа
простоты возможны два различных подхода,
и оба они представлены в книге. Первый
подход условно можно обозначить как "ис-
торико-методологический", второй — как
"системно-математический". Сразу
оговоримся, что, признавая безусловную научную
ценность за вторым подходом, мы тем не
менее не можем не увидеть явных
преимуществ первого подхода (историко-мето-
дологического). Здесь уместно будет
вспомнить анекдот, переданный английским
писателем Г.К. Честертоном. Одна дама,
интересующаяся философией, попыталась
прочесть из "Суммы теологии" Фомы Аквинского
главу, которая называлась "De simplicitate
Dei" (О простоте Божией), после чего
сказала: "Если такова простота Бога, то
какова же Его сложность?". Аналогичный
вопрос читатель может адресовать и
сторонникам "системно-математического"
подхода к исследованию принципа простоты:
"Если такова простота науки, то какова
же ее сложность?" Можно сформулировать
в этой связи даже более сильное
утверждение и сказать, что если в первой главе
монографии сделано все, чтобы опровергнуть
суждение Марио Бунге, что простота
является мифом, то вторая и третья главы
имплицитно доказывают справедливость
этого суждения.
Действительно, авторы на с. 6
воспроизводят суждение М. Бунге, что "упрощение
какого-либо одного аспекта системы почти
всегда покупается ценой усложнения других
ее аспектов", и продолжают: "Компактность,
сжатость знакового выражения содержания
знания влекут за собой, как правило,
более длинную цепь символов и знаков,
специфицирующих смысл фигурирующих в нем
терминов" (там же). Но обратим внимание:
создавая "теорию простоты" и анализируя
различные меры сложности на предмет их
применимости, авторы выстраивают
собственную "длинную цепь символов и знаков",
тоже в конечном счете для того, чтобы
придать большую компактность "знаковому
выражению содержания знания". Таким
образом, возникает порочный круг: знание
упрощается за счет усложнения процедуры
упрощения. В результате авторам приходится
признать, что "слишком мало людей
работает над развитием этой теории (то есть
теории простоты, — И.Л.) вследствие ее
сложности" (с. 148).
Что же касается более перспективного, с
нашей точки зрения, "историко-методологи-
ческого" подхода к исследованию "принципа
простоты," то следует отметить несколько
моментов. Прежде всего остановимся на
трактовке авторами изречения, приписываемого
средневековому философу У. Оккаму: "Не
множьте сущности без необходимости" (так
называемая "бритва Оккама"). Авторы спра-
152
ведливо усматривают в нем один из
вариантов формулирования принципа
простоты. Как они отмечают далее, аналог "бритвы
Оккама" можно найти уже у Аристотеля,
утверждавшего, что "намного лучше
принимать ограниченное число начал и принимать
их как можно меньше, если может быть
доказано все то же самое" (с. 24). Казалось
бы, следующим шагом должно было быть
признание справедливости принципа
"экономии мышления", сформулированного Э.
Махом. Однако авторы отвергают этот на
первый взгляд очевидный путь и тем самым
налагают ограничение на применимость
принципа простоты, которое можно назвать
"онтологическим ограничением". "Вопреки
Маху, подобная функция (т.е. экономия
мышления, — И.Л.) не является основной целью
познания. Такой целью является поиск
истины, каким бы трудным и неудобным он
ни был... Мах ошибочно приписывал
побочному эффекту познания — экономии
мышления — роль критерия правильного выбора"
(с. 24).
Итак, согласно авторам, знание прежде
всего должно быть "адекватно
действительности" и лишь потом уже по возможности
сформулировано наиболее просто, в
частности, с принятием наименьшего числа начал.
Помимо принципа "экономии мышления", в
книге проанализирован также и
сформулированный Карлом Поппером принцип фаль-
сифицируемости. Авторы правы в том, что
"Поппер не дает строгого доказательства
утверждения относительно большей фальси-
фицируемости более простой гипотезы"
(с. 251). По мнению авторов, "наиболее
слабый момент концепции Поппера... состоит
в особом понимании взаимоотношения
теоретического и эмпирического уровней знания.
Поппер трактует фальсифицируемость как
возможность опровергнуть гипотезу
посредством единственного наблюдения; и это
делает его концепцию неработающей".
Действительно, согласно принципу фальсифицируе-
мости, закон всемирного тяготения должен
был быть отвергнут, как только
обнаружились аномалии в траектории Меркурия:
но на самом деле здесь работает принцип
соответствия — новая теория, а именно,
общая теория относительности, включает
закон всемирного тяготения (в формулировке
Ньютона) в качестве частного случая. Кроме
того, согласно принципу фальсифицируе-
мости, задача науки состоит в предсказании,
а не в объяснении; в то же время, такие
научные теории, как дарвиновская теория
эволюции, психоанализ и др., нацелены прежде
всего на объяснение, а не на предсказание,
и поэтому, с точки зрения Поппера,.
должны выглядеть "ненаучно" (не говоря уже о
теориях Бошковича или Тейяра де Шардена,
в которых многое введено "ad hoc"). С точки
зрения попперовского принципа, вводить
что-либо "ad hoc" совершенно недопустимо,
однако история науки являет примеры
продуктивности гипотез и понятий, принимаемых
только для объяснения: таково, например,
понятие "импетуса", введенное в механику
Жаном Буриданом в XIV веке, такова
и атомистическая гипотеза. Авторы книги
справедливо замечают в этой связи, что
"теории типа классической электродинамики,
которые в процессе развития научного
знания неоднократно подвергались
модификациям, должны (с позиций фальсификациониз-
ма. — И.Л.) оцениваться как ненаучные"
(с. 252). Нельзя не согласиться с авторами
и в том, что "введение допущений в теорию —
закономерный прием в науке" (там же);
добавим — неоднократно оправдывавший
себя, что, может быть, следовало
проиллюстрировать большим числом конкретных
примеров.
Особо стоит выделить первую главу
книги ("Принцип простоты в истории научной
мысли"). В ней превосходно показано, как
работает принцип простоты при создании
более компактных и универсальных физических
и космологических теорий. Правы авторы,
утверждая, что при кажущемся усложнении
физических теорий по мере увеличения
знаний принцип простоты продолжает
действовать. Нельзя не согласиться с мыслью
авторов, что аристотелевская космология,
будучи сложнее демокритовской с точки
зрения числа начал, тем не менее наиболее
простым способом объясняет происхождение
движения — вопрос, который атомисты
вообще оставили без ответа (см. с. 23).
Интересен и пример Кеплера, усложнившего
на первый взгляд траектории планет,
"заставив" планеты двигаться по эллипсам, но
одновременно и упростившего тем самым
космологические представления, ибо теория
эллиптических орбит сделала излишними
многочисленные эпициклы, наличествовавшие
даже в системе Коперника (см. с. 8). В
монографии также убедительно показано, что
Ньютон не только имплицитно
руководствовался принципом простоты в
формулировании закона всемирного тяготения, но и
эксплицитно сформулировал, вослед Аристотелю и
Оккаму, в своих "Математических началах
натуральной философии" принцип простоты
как один из важнейших основополагающих
принципов (см. с. 46). К сожалению, авторы
не упомянули в этой связи о космологии
Бошковича, в основу которой был также
положен принцип простоты, ибо целью Бош-
153
ковича было объяснить все существующие в
природе взаимодействия на основе "единого
закона сил, существующих в природе*'. При
этом Бошковичу удалось удовлетворительно
разрешить некоторые вопросы, оставшиеся
неразрешенными в рамках ньютоновской
парадигмы (например, вопрос об устойчивости
атомов в твердых телах, об устойчивости
Вселенной и т.п.). В книге подробно
прослеживается роль принципа простоты в
создании специальной теории относительности
Эйнштейна (с. 255—256) и квантовой
механики (с. 59—75)i однако лишь фрагментарно
анализируется роль принципа простоты в
создании общей теории относительности (с. 8 и
237—238); при этом не упоминается о
космологии расширяющейся Вселенной Фрид-
мана-Леметра и космологии Хойла как
примерах "эквивалентных в эмпирическом плане
концепций"; об альтернативных
космологических представлениях "стационарной" и
"расширяющейся** Вселенной следовало бы
упомянуть в разделе I ("Эмпирически
эквивалентные теории**) четвертой главы
монографии. Еще одним современным примером
"работы" принципа простоты является гео-
метродинамика, начало которой положили
труды немецкого физика Калуцы,
обобщившего теорию Эйнштейна таким образом,
чтобы в рамках пятимерного пространства
объединить гравитационные и
электромагнитные взаимодействия. Работа Калуцы
увидела свет в 1921 году и была высоко
оценена Эйнштейном, а в 1926 году шведский
физик О. Клейн видоизменил теорию Калуцы
с тем, чтобы распространить ее и на
квантовые явления. Современная геометродина-
мика, пытающаяся объединить в "Великом
синтезе" гравитационные, электромагнитные,
сильные и слабые взаимодействия, является,
пожалуй, наиболее впечатляющим примером
действия "принципа простоты" в физике.
Мы, конечно, были бы неоправданно
строги к авторам рецензируемой монографии,
если бы потребовали от них
методологического анализа теорий, находящихся в
стадии разработки и еще не получивших
достаточного экспериментального
подтверждения; пример "Великого синтеза", или, как
его еще называют, "теорий всего на свете"
(Theory of everything), лишь показывает,
насколько важен и актуален сейчас принцип
простоты, методологический анализ
которого достаточно интересно выполнен в книге.
И. В. ЛуНандин
Е.Б. РАШКОВСКИЙ. Научное знание, институты науки н интеллигенция в странах
Востока XIX-XX веков. М., "Наука" 1990, 220 с.
Новую книгу Е.Б. Рашковского можно
рассматривать как продолжение его
предыдущих работ "Науковедение и Восток"
(1980) и "Зарождение науковедческой мысли
в странах Азии и Африки" (1985). В ней
содержится обобщение и развитие
результатов, полученных в двух первых книгах,
которые были там зачастую впервые лишь
обозначены, но не всегда проговорены до
конца.
Попытаемся сформулировать те
положения, которые, с нашей точки зрения,
представляют наибольший интерес. Это прежде
всего идея знания в традиционных обществах,
определяемая как "традиционное священно-
книжие". Эта модель рассматривается
автором как переходная от мифологического
доисторического типа знания к знанию
научному. Определяя этот тип знания как
сформировавшийся на "осевых" (в смысле
Ясперса) духовных основах, Е.Б. Рашковский
характеризует его тремя важнейшими
свойствами: понятием священного текста,
явленного абсолюта и личностной связью при
передаче знания от учителя к ученику.
Отмечая, что в традиционном священнокнижии
мир рассматривается "как интуитивно
постигаемая загадка, ключ к которой обретается
через глубоко личные интимные усилия по
овладению безбрежным содержанием
священного текста" (с. 31), автор показывает, что
таким образом знание становится
"парадоксальным выражением невыразимого" и
приобретает "антиномическую структуру" при
обилии систематизации и афоризмов, неявных
суждений и т.д., отражающих интуитивное
постижение реальности, которое вместе с
созерцанием рассматривается как наиболее
весомый способ постижения мира.
Плодотворной представляется схема
развития форм знания от его магико-архаиче-
ских форм до не классического рационального
знания XX века. При понимании, что всякая
такая схема не может и не должна
рассматриваться как окончательная и что ряд
положений в этой схеме требуют дальнейшей
154
проработки, отметим главное: это —
работающая схема. Уже в раскрытии
особенностей этой схемы выявляется
специфическая позиция автора — концентрация его
интересов вокруг двух основных проблем,
составляющих пафос книги (при полном
внимании к общим вопросам социальной
обусловленности знания, признания его
объективности и релятивности, его ценностной
обусловленности и т.д.). Это проблема неких
абсолютных понятий и критериев (в частности,
нравственных), внутренне присущих знанию,
и отношения к этим понятиям тех, кто
производит это знание.
Но и при анализе научно-философского
знания античности автором обсуждаются
сходные вопросы. Хотя общеизвестно
значение античной цивилизации в целом и
сократической революции в частности в
формировании научной рациональности, так же как и
роль софистов, но и здесь автор смог найти свой
взгляд на проблему. Отмечая
"сформировавшуюся в рамках полисной системы особую
культуру слова", он говорит прежде всего о
том, что "манипуляторское отношение к
слову не могло не вызвать интеллектуального
протеста у тех, кто обладал повышенной
интеллектуальной и духовной чуткостью"
(с. 41). Таким образом, сократической
революции придается еще и некий изначальный
этический смысл, этический в смысле
требований некоей абсолютной вневременной
интеллектуальной честности. Важным с этой
точки зрения представляется замечание о том,
что элементы традиционного священнокни-
жия, зародившиеся в рамках античного
научно-философского знания, нельзя
объяснить только некими объективными
свойствами самого этого античного знания,
имеющими социальную или гносеологическую
природу, но что в самом традиционном свя-
щеннокнижии ставились вопросы, которые
требовали принципиально новых интуиции,
неразрешимых в рамках формализованных
рациональных действий. Это замечание никак
не означает признания лишь интуиции,
иррационального как основного способа
постижения истины, но такое признание
характерно для общего тона книги, поскольку оно
лишний раз подчеркивает невероятную
сложность тех интеллектуальных усилий, которые
вынуждено было затратить человечество для
постановки и ответа на вопросы, вызванные
рефлексией над природой знания, впервые
осуществленной Сократом и его
последователями. Причем этот пример наглядно
показывает, что авторские суждения, гипотезы
всегда находят конкретное историческое
подтверждение — взять хотя бы анализ
в книге творчества Платона, когда его научно-
философская интуиция по поводу
источника знания приводит к введению представления
о припоминании, сравниваемого автором, с
идеей метампсихозов, характерной для
метафизических рассуждений Индии и Дальнего
Востока.
Таким образом, показано, что
традиционное священнокнижие может иметь истоки
в чисто научно-философских идеях, и
одновременно сами духовные поиски
представлены как единый мировой процесс.
Введенная теоретическая модель
традиционного священнокнижия применяется к
различным конкретным историческим фигурам,
например Августину, осуществившему, как
это отмечено в книге, мировоззренческий
синтез библейской и античной
образованности, причем в основе его миропонимания
лежали принципы именно традиционного
священнокнижия, или Декарту, заложившему
основы рациональности Нового времени.
Заметим, что и здесь видна специфика
книги. Так, принимая распространенную точку
зрения об антитрадиционализме Декарта,
автор помещает его в историческую
перспективу восточных культур традиционного
священнокнижия, показывая преемственность
как с прошлым, так и с современными
проблемами, возникающими в духовной культуре
Востока. Обвинение картезианства во всех
бедах современной цивилизации автор
считает беспочвенным, но вместе с тем
показывает, что в своей догматической
интерпретации картезианское "когито" оказалось соп-
ричастно оцениваемой им однозначно
негативно прогрессистской философии истории.
Но одновременно именно "когито" является
стимулом для развития логического
мышления в рамках классического рационального
знания.
Вот эта неоднозначность, сложность
взаимодействий в "драме рационализма"
прослеживается в книге на большом числе
примеров.
Особенно важно, что автор рассматривает
эту драму как объективный всемирный
процесс. Это не повторение идеи саморазвития
духа. Как представляется, мысль автора
можно сформулировать несколько в более
естественнонаучной терминологии. Как в
современном естествознании, где законы лишь
выражают себя через ученых, их
открывающих, так и в чрезвычайно интересной
трактовке Е.Б. Рашковского классическое
рациональное знание лишь проявило себя
через Декарта. Отсюда появляется
совершенно иной, свой собственный ракурс и в
анализе драмы рационализма, поскольку эта
драма носит объективный закономерный
характер. Отметим сразу, что это никак не оз-
155
начает недооценки роли социальных,
экономических, личностных и прочих факторов.
В.этой перспективе вечно активный
человеческий разум развивает свои способы
познания мира в рамках определенных цивили-
зационных особенностей, фиксирующих
некоторые конкретные условия его развития,
но сам процесс этого познания именно в
силу своего объективного характера может
быть сформулирован в терминах безличного
естественнонаучного подхода. В этих
терминах снимается проблема релятивизма, кон-
венциональности знания, поскольку эти
атрибуты становятся лишь некими
опосредованными свойствами единого действующего
субъекта разума и жестко связанного с ним
меняющегося знания. В таком свете схема
изменения форм знания превращается в свод
основных законов, не задаваемых
произвольно, но как бы узнанных и в силу этого
не измененных.
Специфика драмы рационализма на
Востоке состояла в том, что происходило
слияние местных сложившихся форм
мыслительной практики, прежде всего
традиционного священнокнижия, с импортируемым
европейским научно-рациональным знанием.
Все это породило специфический характер
просветительной деятельности в странах
Востока и специфический тип деятелей этого
просветительства. Так, рассматривая
деятельность одного из первых сторонников
введения европейского образования в Индии,
человека, получившего имя "отца
современной Индии", Р. Роя, автор не просто
вписывает его в контекст общих тенденций
первой половины XIX века, но показывает,
что Рой, несмотря на свою неординарность,
является всего лишь одним из выразителей
закономерностей восточного
просветительства, которое в отличие от европейского
"не требовало прямолинейного разрыва с
традиционным культурным наследием во имя
рационального устроения жизни", а пыталось
"соотнести европейскую рациональность с
местным духовным наследием". И как
продолжение этой мысли, Е.Б. Рашковский
пишет об одной из "фокусных точек
восточного просветительства", сводящейся к тому,
что "... рациональное общественное
реформаторство немыслимо без рационального же
осмысления данной духовной традиции"
(с. 67). (Заметим, что традиции,
принципиально иной по сравнению с западным
рационализмом.) Рой оказывается носителем
этой тенденции восточного просветительства,
и в его личности и творчестве также
находит свое отражение вся двойственность
коллизии почвенничество-западничество,
когда, как пишет автор, "трудно выделить
доминирующий мотив" (с. 72).
Рассматривая генезис понятия
"интеллигенция", автор прослеживает возможность
применения этого термина на всем протяжении
истории человечества, задолго до времени
возникновения этого понятия в
пореформенной России. Он рассматривает его "в
категориях взаимодействия двух
макроисторических культурных стихий: стихии традицион-
но-коммунитарной и стихии рационально-
рефлексивной, персонализирующей..." (с. 123).
В современных обществах Востока
интеллигент оказывается перед проблемой
двойного отчуждения — от собственного
полутрадиционного общества и от колониальной
европейской социальности. И в книге
анализируется как судьба отдельных представителей
интеллигенции Востока, так и
закономерности, общие для всего этого, в
терминах автора, социокультурного массива, —
интеллигенции как объективного агента
внесения элементов рациональной
самоорганизации в социальную и духовную жизнь
общества.
Книга Е.Б. Рашковского удачно
сочетает в себе уровень теоретической абстракции
с анализом конкретного исторического
материала.
Т. Б. Романовская
Мих. ЛИФШИЦ. Собрание сочинений. В 3-х томах, Т.1. 1984, 431 с; т. 2, 1986,
446 с; т. 3, 1989, 558 с. М., "Изобразительное искусство".
Имя М.А. Лифшица (1905—1983) большей
частью упоминается в связи с эстетикой,
искусствознанием, литературоведением.
Вот и рецензируемый трехтомник вышел
в издательстве по ведомству искусств.
Однако М.А. Лифшиц принадлежит прежде
всего философии. На эту мысль лишний
раз наводит чтение его работ,
опубликованных в трехтомнике.
Тема противоречивости прогресса —
одна из центральных в творчестве Мих.
Лифшица. Еще в книге "Философия искусства
Карла Маркса", написанной в 20—30-е годы,
эта тема получила содержательную разра-
156
ботку. Всякое движение вперед в той или
иной степени связано с определенным
движением назад. "Всякий переход к более
высоким, более развитым формам является
отрицанием, то есть ведет к утратам и
нарушениям равновесия** (т. 1, с. 190).
Поэтому нежизненна точка зрения на
прогрессивное развитие как на беспрерывное
восхождение. Этот лакировочный
оптимизм может дорого обойтись. Вместе с
тем такой взгляд на прогресс выгоден в те
времена, когда приходится делать хорошую
мину при плохой игре.
Суть анализа М.А. Лифшицем
драматических коллизий XX века заключается в том,
что поведение людей современной эпохи,
ее социальные и культурные феномены
выводятся из общественного бытия нашего
бурного века. Однако при этом в феномене
"общественное бытие" всесторонне
рассматривается такой его главный элемент,
как человек. Обратимся, например, к
статье "Нравственное значение Октябрьской
революции», написанной в 1967 году, но
напечатанной только в 1985. "Человек может
получить нужное количество калорий, —
пишет, в частности, автор, — он может
пользоваться автомобилем, но он не живет,
если подавлена истинная потребность его
реальной природы — потребность в
самоопределении, самостоятельности" (т. 3,
с. 234).
Мих. Лифших за двадцать лет до
официальных "раздеваний" сложившейся в стране
административно-командной системы, по
существу, дает первый набросок генезиса этой
системы, вырастающей из "революционизма"
обывателя, лихорадочно прибирающего к
рукам плоды революции. От этих людей, "от
их фантастических революционных жестов,
так же как от всякой лишней, бесцельной
ломки, тянулась нить к чему-то худшему —
простому хулиганству, ради того чтобы
показать свою независимость, и далее — к
политическому авантюризму, насыщенному
желанием командовать другими людьми,
дорваться до личного произвола" (т. 3, с. 251).
В этой связи интересны страницы, на
которых автор, в частности, использует образ
бурсака у Помяловского, "опасного в своем
произволе, коварстве, ничтожном
властолюбии" (т. 3, с. 244). Этот образ, показывает
Лифшиц, имеет всемирно-историческое
значение. Он — создание казарменной
дисциплины старого общества. И когда это
одичалое существо вырвется на свободу, "все
лучшее на земле будет связано для него
с воспоминанием о казенной долбежке, и
потому отвратительно, достойно поругания. Тут
полетит голова великого химика Лавуазье,
не устоят на своих местах и статуи Страс-
бургского собора. Исторически террор
Французской революции понятен, но люди,
творившие кровавые безобразия вроде
"сентябрьских убийств", — бурсаки. Темный вандей-
ский крестьянин, восставший против
передового меньшинства, желающего силой вести
его в царство Разума, — тоже бурсак. Солдат,
сменивший революционный энтузиазм на
культ императора, и множество других
подобных явлений обманутой, искаженной
народной энергии — все из того же
мутного источника" (там же, с. 245).
Такой глубокий исторический сдвиг, как
Октябрьская революция, не мог не
всколыхнуть мощные разрушительные силы,
дремавшие в российском обывателе. Речь идет о
традиционном российском холопстве (не о
русском, следует подчеркнуть, а о
российском, характерном для самых различных
народов, объединенных под крышей
Российской империи), о неуравновешенности,
расхлябанности, распущенности. И в
результате — "те задачи, которые решены кем-то
за нас, вовсе не решены. Счастье, прогресс,
навязанные нам, остаются только внешней
формой. На удивление всего света, они
приводят к обратным результатам, рождают
волну дикости, иррационального протеста,
желание жечь, убивать, извращать и портить все,
даже язык" (т. 3, с. 265—266). За
десятилетия господства
административно-командных методов во всех сферах жизни,
навязывания одних и тех же схем не только
народам собственной страны, но и других
стран мы теперь расплачиваемся. И опять
голос Мих. Лифшица: "Невежество бывает
простым недостатком культуры, но при
известных обстоятельствах оно может стать
нелепой формой общественного протеста.
Пока лучшее, передовое, разумное будет
казаться людям казенным, вы ничего не
сделаете против таких зигзагов общественного
сознания" (там же, с. 268).
В трехтомнике помещены статьи, эссе,
посвященные выдающимся представителям
философии, эстетики и искусства прошлого
(Гвиччардини, Вико, Вольтер, Винкельман,
Гегель, Белинский, Герцен, Чернышевский,
Плеханов, Луначарский, Бальзак и др.).
Естественно, в рамках небольшой рецензии нет
возможности дать оценку каждой из этих
работ. Следует лишь обратить внимание
читателя, что и здесь история у
Мих.Лифшица анализируется так, что постоянно
возникают мостики к нашему настоящему.
Трехтомное собрание сочинений
Мих.Лифшица дает достаточно полное представление
о творческом облике автора. Конечно,
отсветы прошедшего времени ощущаются в тех
157
или иных формулировках, кажущихся сейчас боты Мих.Лифшица, надеемся, помогут ис-
излишне категоричными (вдумчивый читатель кать ответы на многие вопросы нашей се-
легко сделает скидку на известные истори- годняшней жизни,
ческие условия). Тем не менее в целом pa- ^ R ш
Традиционная духовная культура славян
{Из истории изучения)
Издательство «Гнозис» (совместно с издательством «Прогресс») начинает
новую серию, призванную вернуть в активный фонд труды отечественных
ученых, посвященные изучению верований, обрядов, заговоров, народного
календаря, фольклора русского и других славянских народов. Эти
произведения практически не переиздавались и давно стали библиографической
редкостью. Многие тексты, которые предполагается включить в серию,
разбросаны по труднодоступной периодике, некоторые из них напечатаны
на иностранных языках, а другие до сих пор не изданы и хранятся
в архивах.
Книги, входящие в настоящую серию, снабжены научным аппаратом
(предисловие, комментарии и необходимые индексы) и имеют научную
текстологическую подготовку.
Наше издательство заинтересовано в том, чтобы книги, выходящие в
серии «Традиционная духовная культура славян», попали прежде всего в
руки специалистов.
В июне-июле выходит первая книга, открывающая нашу серию:
ГЛ. Федотов
«Стихи духовные»
Вступительная статья Н.И. Толстого
Послесловие СЕ. Никитиной
Комментарии А.Л. Топоркова
Цена книги: 7 руб.
Тираж издания ограничен, поэтому просьба присылать
индивидуальные заявки и заявки на небольшие партии (от 10 до 100 экз.)
по нашему адресу:
Москва 119847, Зубовский б-р, 17.
«Гнозис»
Деньги (из расчета: цена книги + 2 рубля на почтовые расходы
т.е. — 9 рублей за экземпляр)
перечисляются на счет
№5461158
Ленинского отд. Мосбизнесбанка г. Москвы, МФО 201188
Просим указать в Вашей заявке обратный адрес, телефон и номер квитанции перевода
Книги высылаются заказной бандеролью.
158
В 1991—1992 гг. предполагается продолжить серию
следующими изданиями:
Е.Н. Елеонская
«Сказка, заговор и колдовство в России»
(Сборник трудов)
Д.К. Зеленин
Избранные труды
Том первый:
Статьи по духовной кульруре. 1901—1913 гг.
Том второй:
Статьи по духовной культуре. 1917—1934 гг.
Том третий.
Статьи по духовной культуре. 1934—1937 гг.
Н..Ф. Познанский
Заговоры
Кроме этих книг в серию войдут работы ученых XX в.: Е.В. Аничкова
(Два тома избранных трудов), Б.М. Соколова, Л.В. Маркова, С. Смирнова и др.,
а также забытые работы исследователей XIX в.: М.Н. Макарова, Д. О. Шеппинга,
Ф.И. Буслаева, И. И. Срезневского и др.
О цене и сроке выхода каждой книги мы будем извещать Вас
по тем адресам и телефонам, которые Вы укажете в своих заявках.
159
ГАЙДЕШШ
Лвзама Швловиа
БКБЛЕР
Владимир Соломонович
ПРИГОЖИЙ
Сергей Павлович
Мгорь Сергеевич
ВАЛИЦКИЙ
Аяджей
РЕЙМЕРС
Николай Федорович
ШУШЕР
Вячеслав Александрович
1Ш80ВАР0В
Юрий Сергеевич
ИЗУРГАИЯ
Александр Владимирович
— доктор философских наук, зав. сектором
Института философии АН СССР
— кандидат философских наук, старший научный
сотрудник Института психологии АПН СССР
— лауреат Нобелевской премии (1977), профессор
Свободного Брюссельского университета
— член-корреспондент АН СССР, директор
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша
АН СССР
— доктор химических наук, ведущий научный
сотрудник ЛО ИИЕТ АН СССР
— профессор Норт-Дамского университета (США)
— доктор биологических наук, ведущий научный
сотрудник Института проблем рынка АН СССР,
председатель Экологического союза СССР
— доктор географических наук, старший научный
сотрудник Института географии АН СССР
— кандидат юридических наук, зав. отделом
ИНИОН АН СССР
— инженер Росагропромиздата
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.А. Лекторский (главный редактор), Г.С. Арефьева, А.ИГ Володин, П.П. Гайденко,
S.T. Грнгорьян, В.П. Зикченко, А.Ф. Зотов, В.Ж. Келле, Л.Н. Митрохин, Н.Н.
Моисеев, H.B. Мотрошилова, В.И. Мудрагей (заместитель главного редактора),
T.JHL Ойзерман, В.А. Смирнов, B.C. Степин, B.C. Швырев, А.А. Яковлев
(ответственный секретарь).
Технический редактор Савоськина Г.Н.
Адрес редакции: 121002, Москва, Г-2, Смоленский бульвар, 20. Телефон 201-56-86.
Сдано в набор 23.07.91 Подписано к печати 18.07.91 Формат бумаги 70*100Vi6
Офсетная печать Усл. печ. л. 13.0 Усл. кр.-отт. 761,1 тыс. Уч.-изд. л. 17,3 Бум. л. 5,0
Тираж 57 483 экз. Зак. 1517 Цена 2 р.
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6