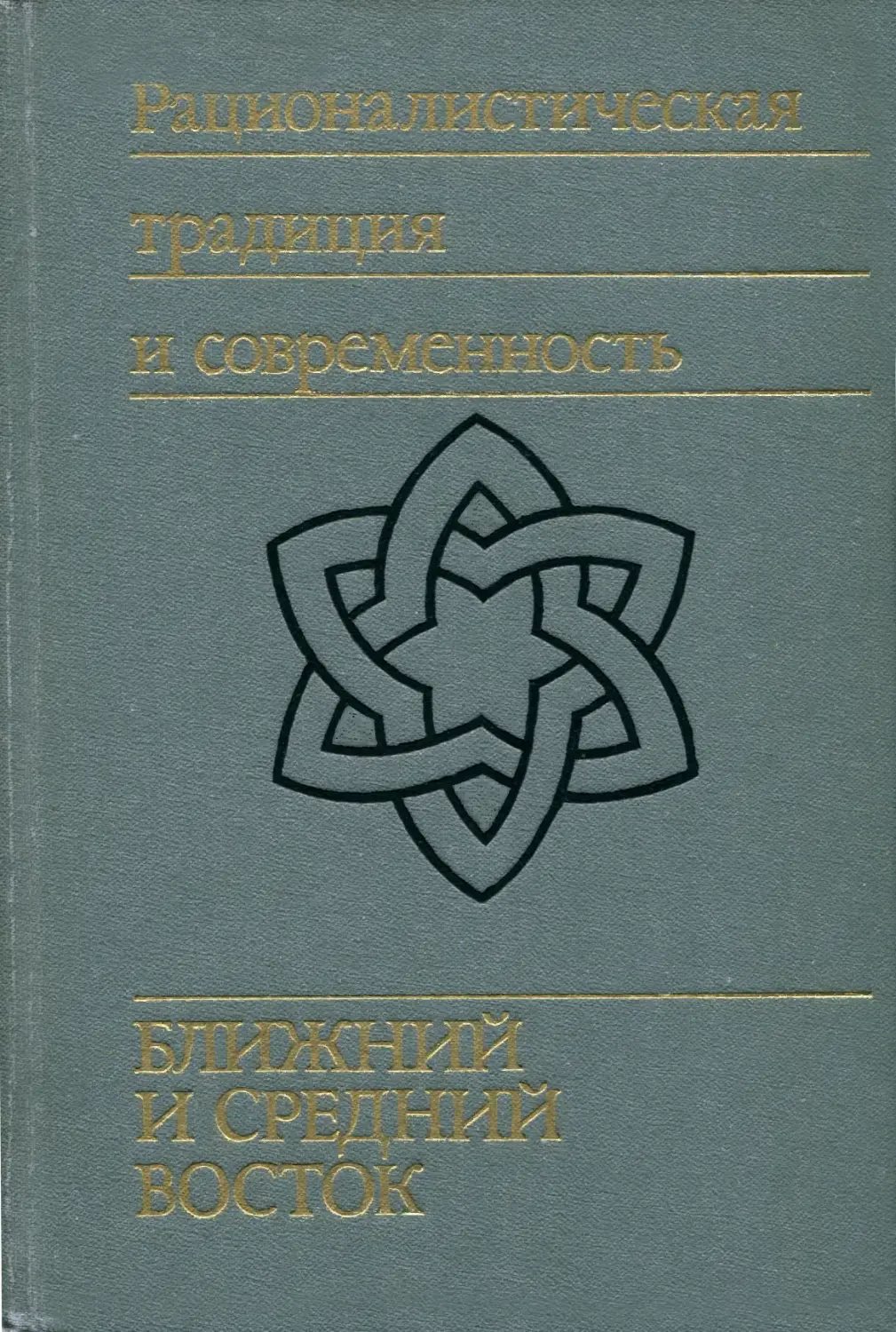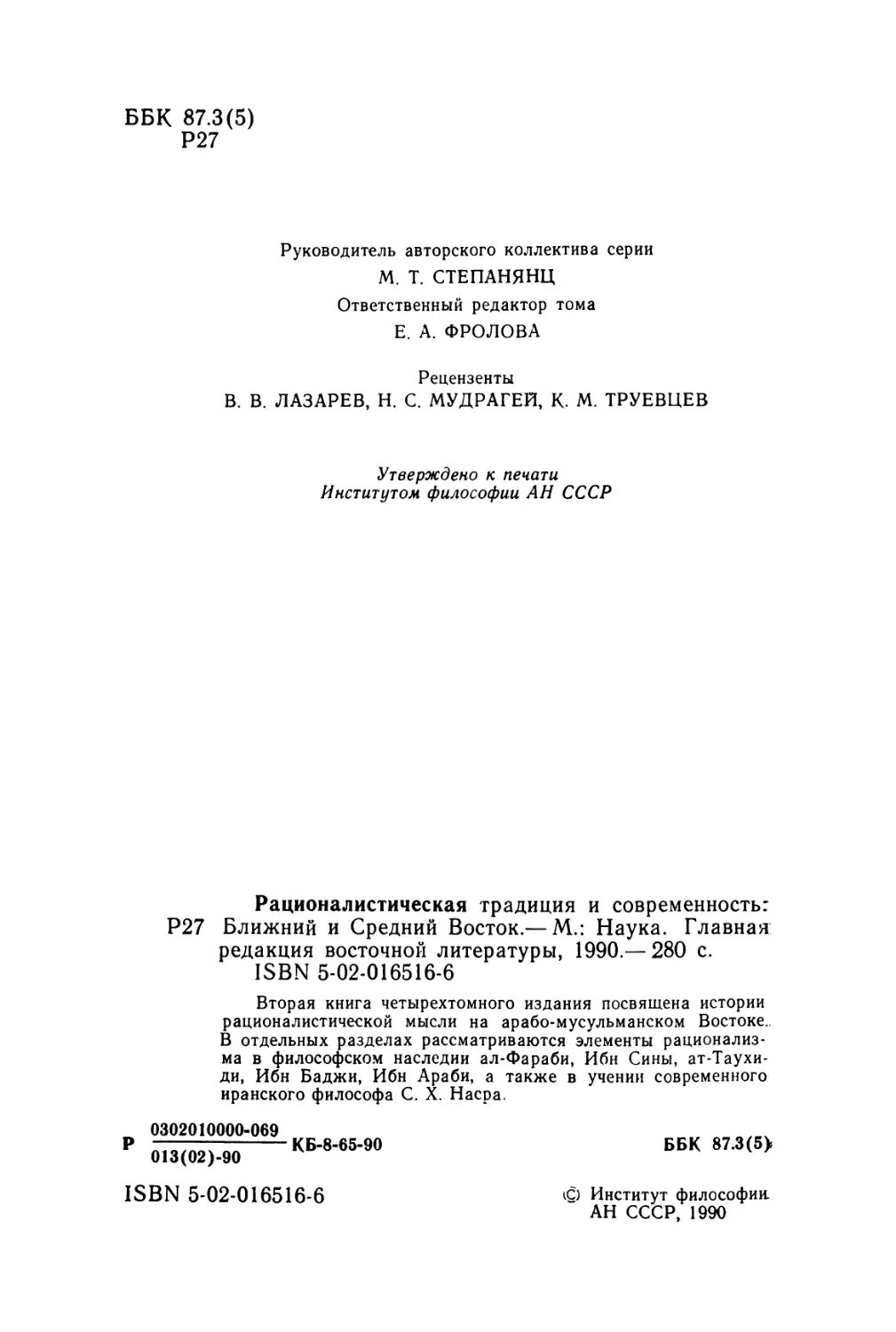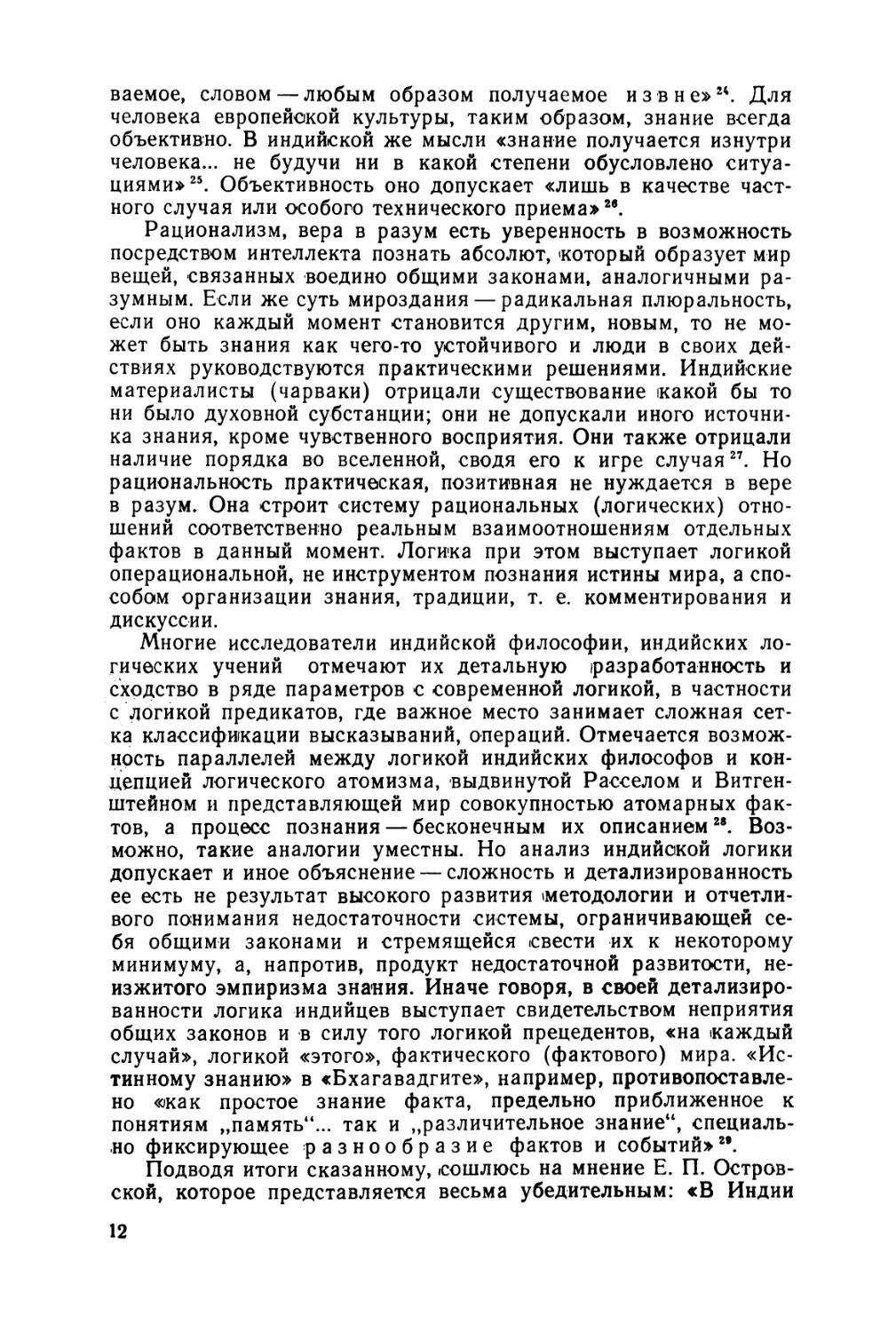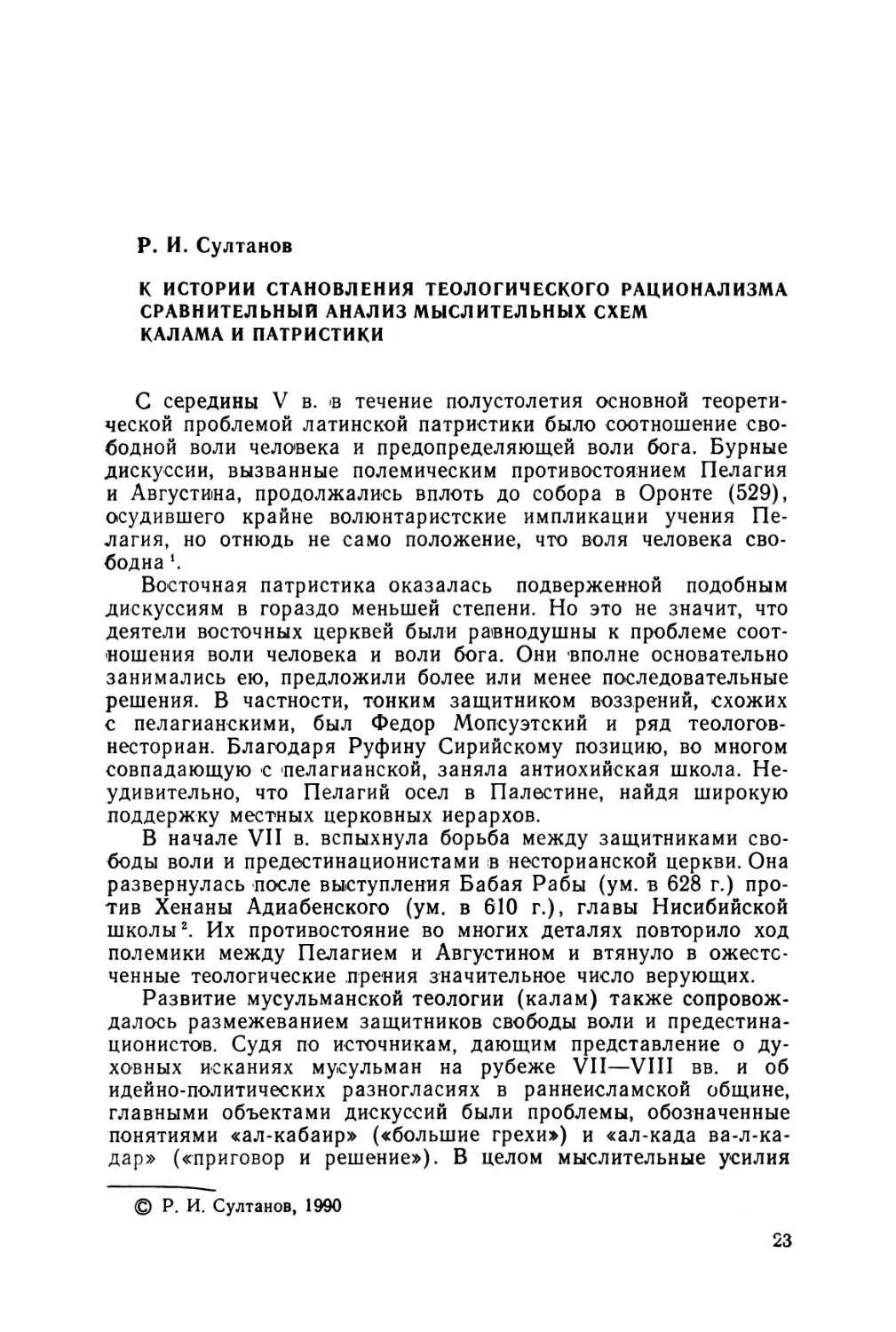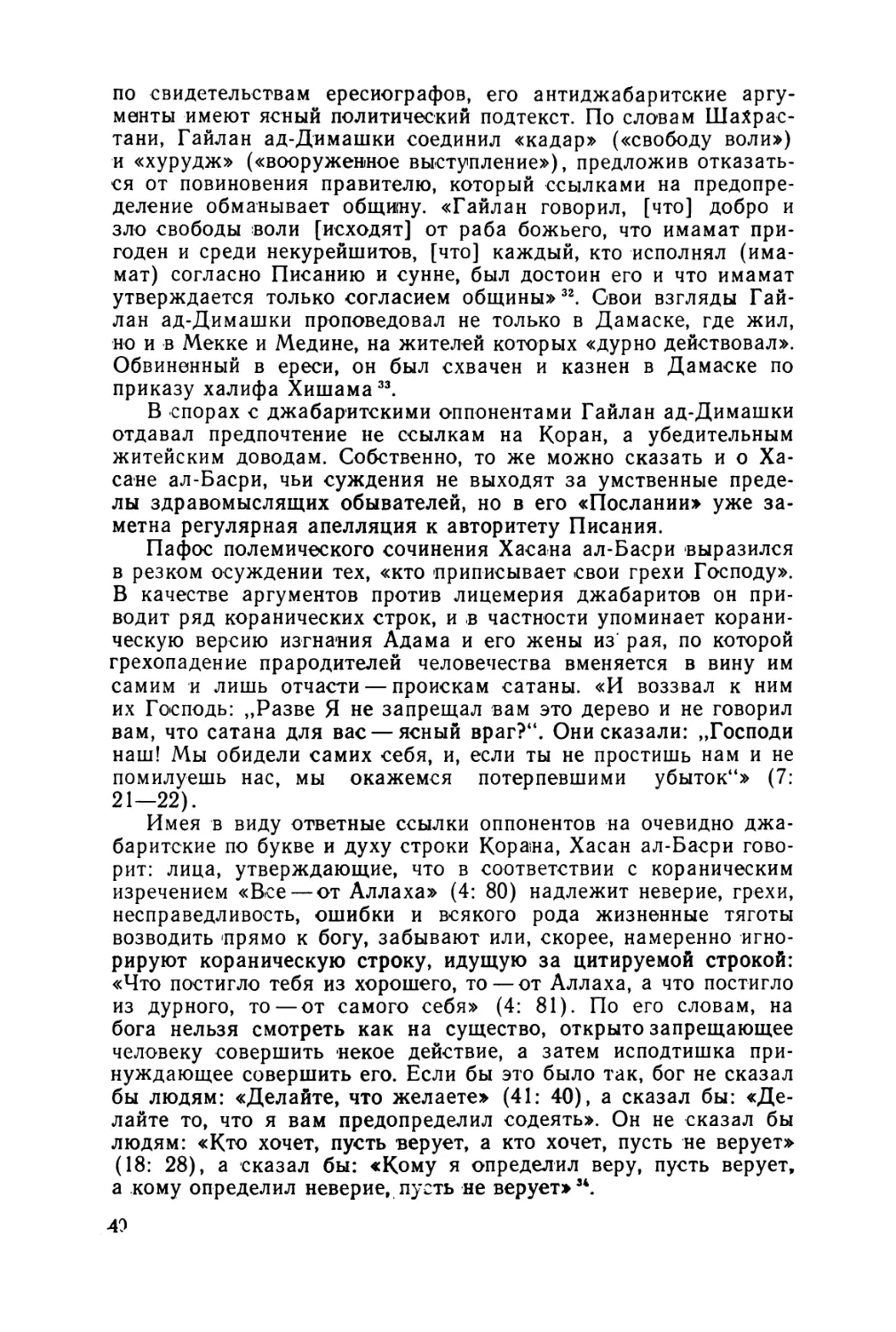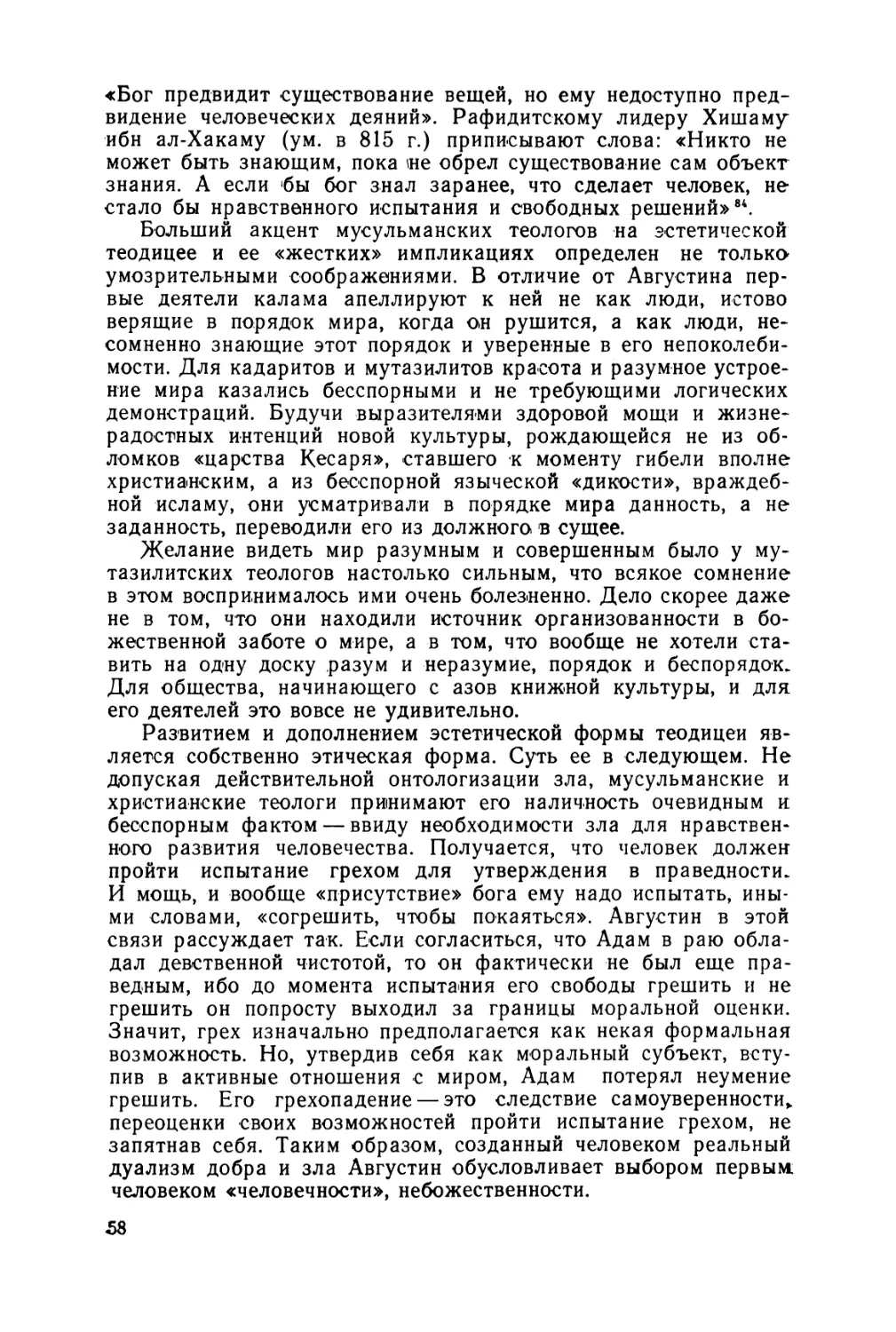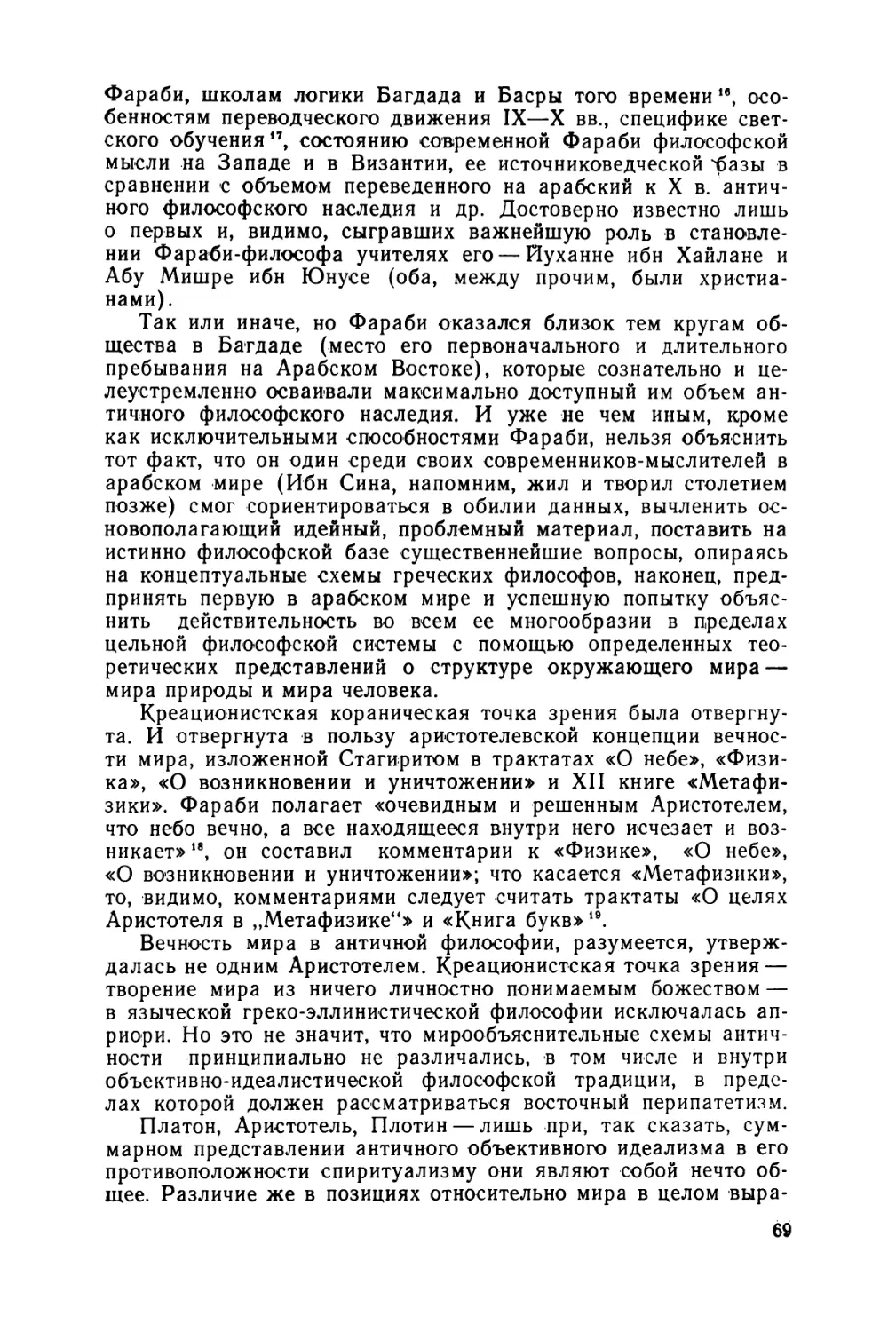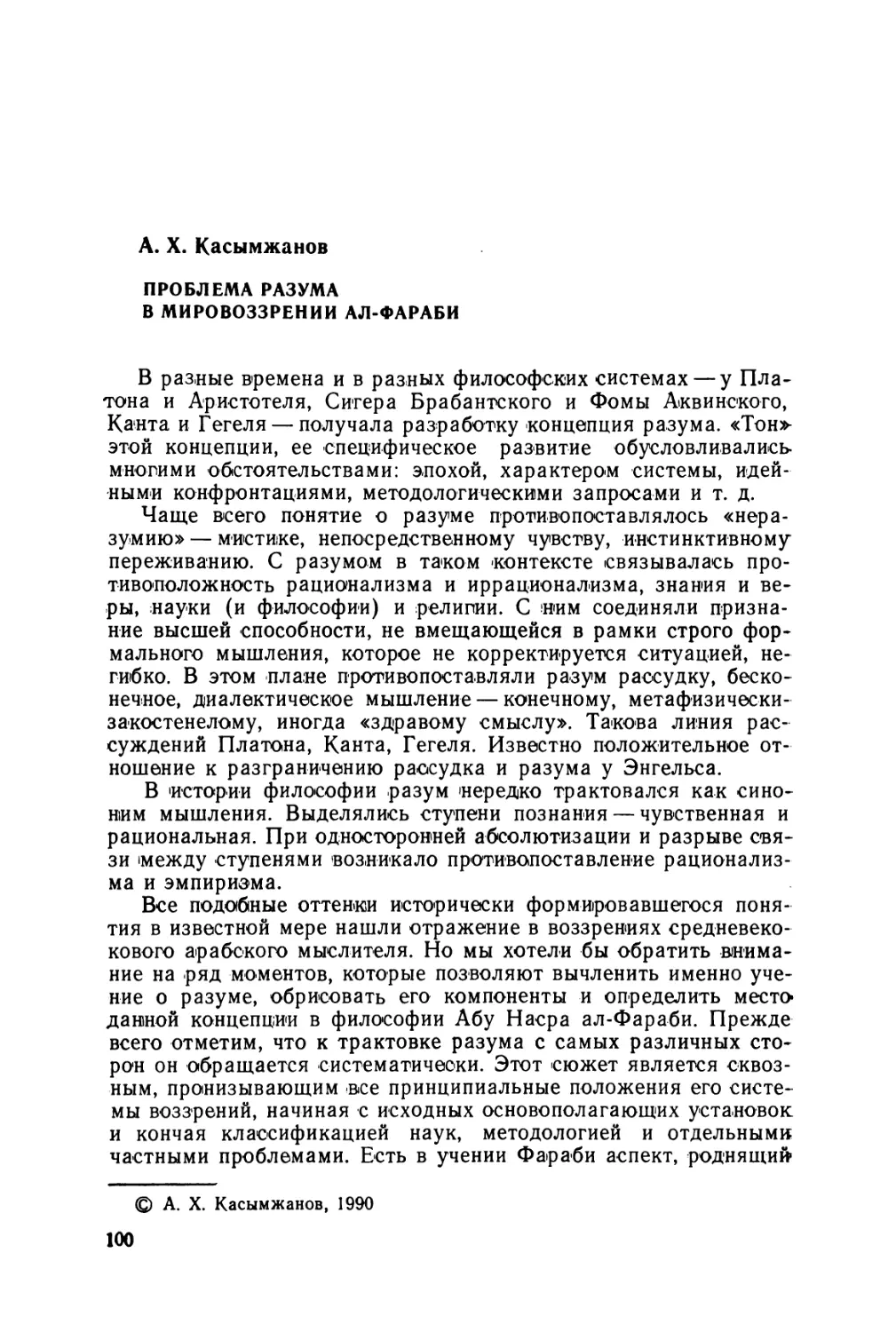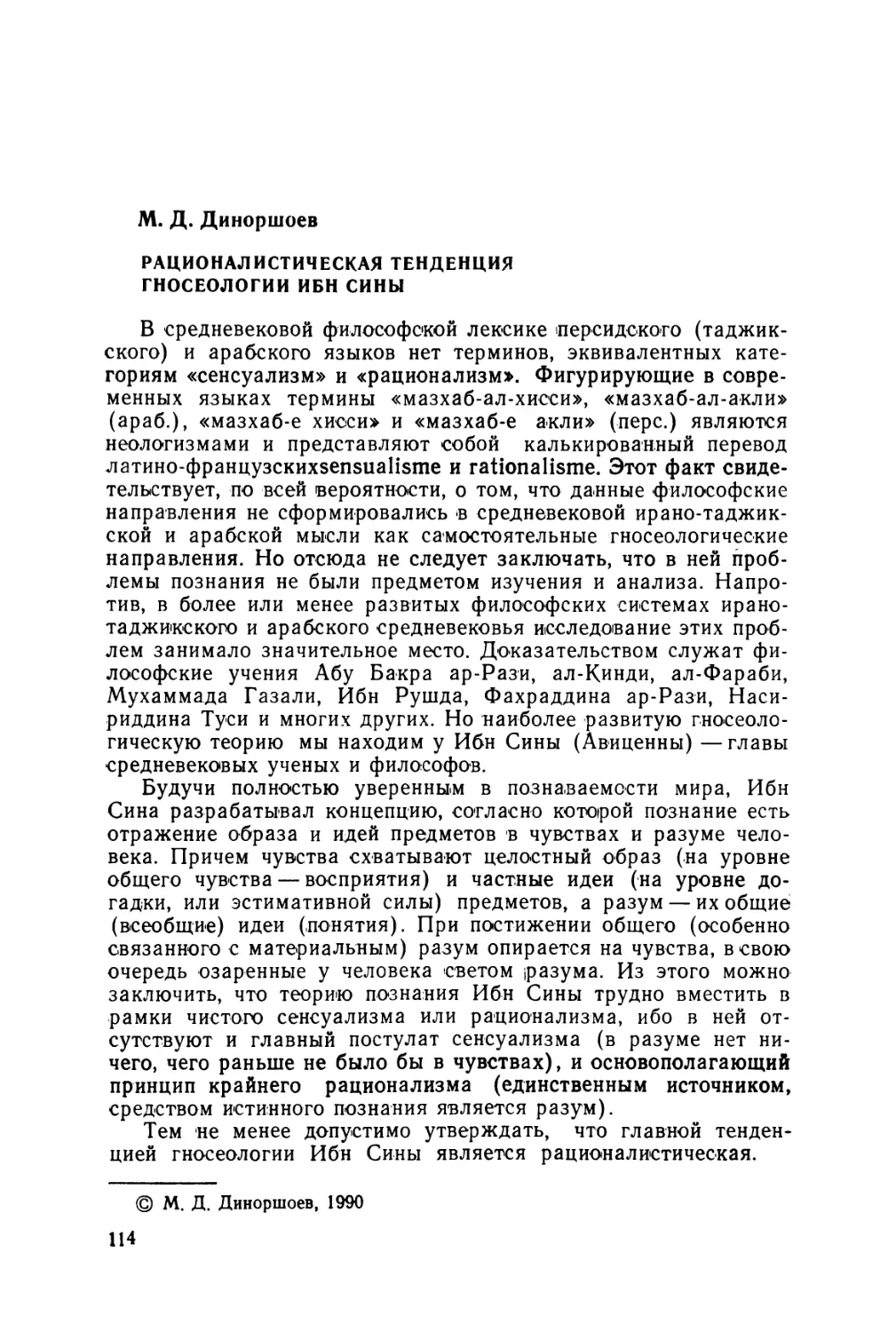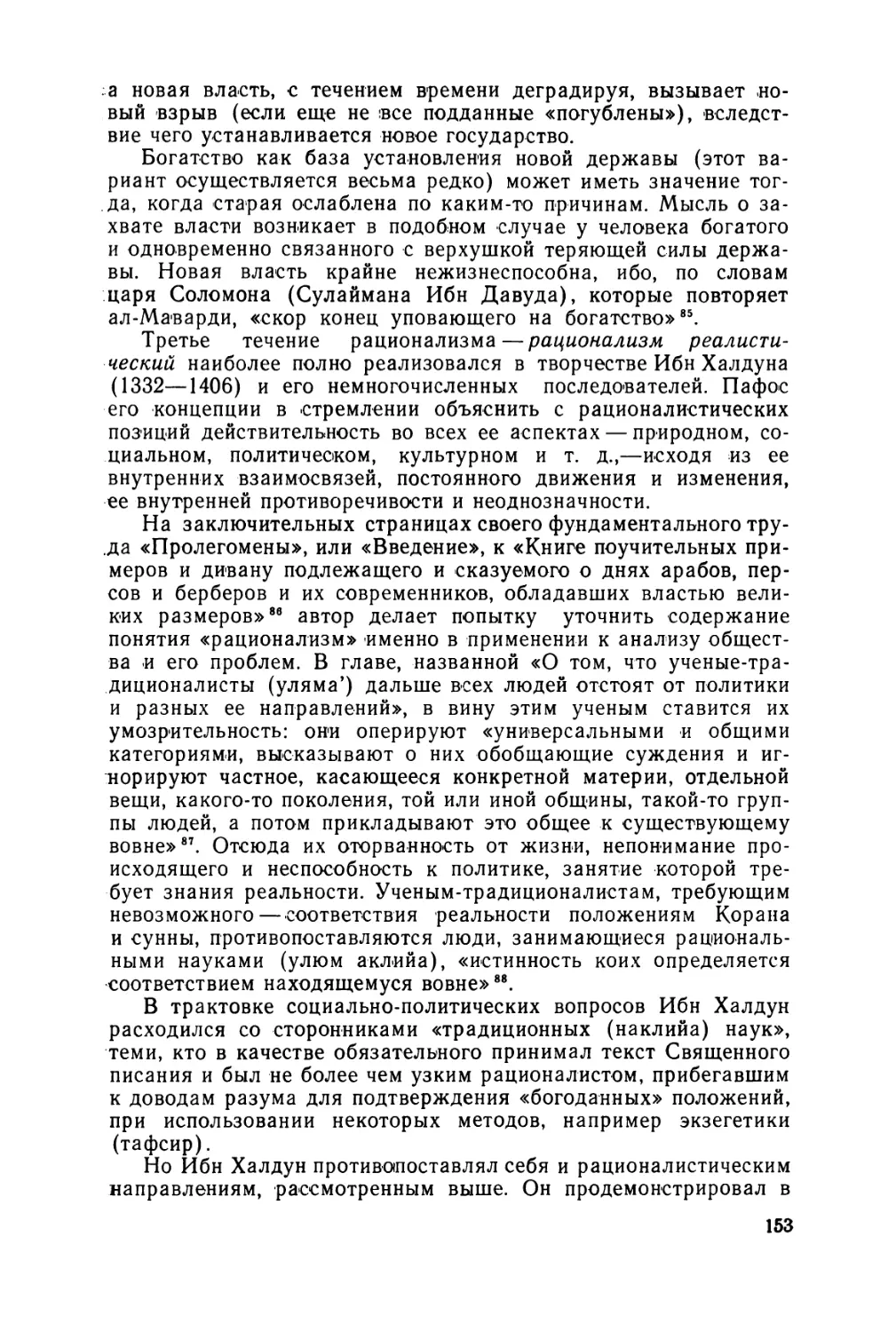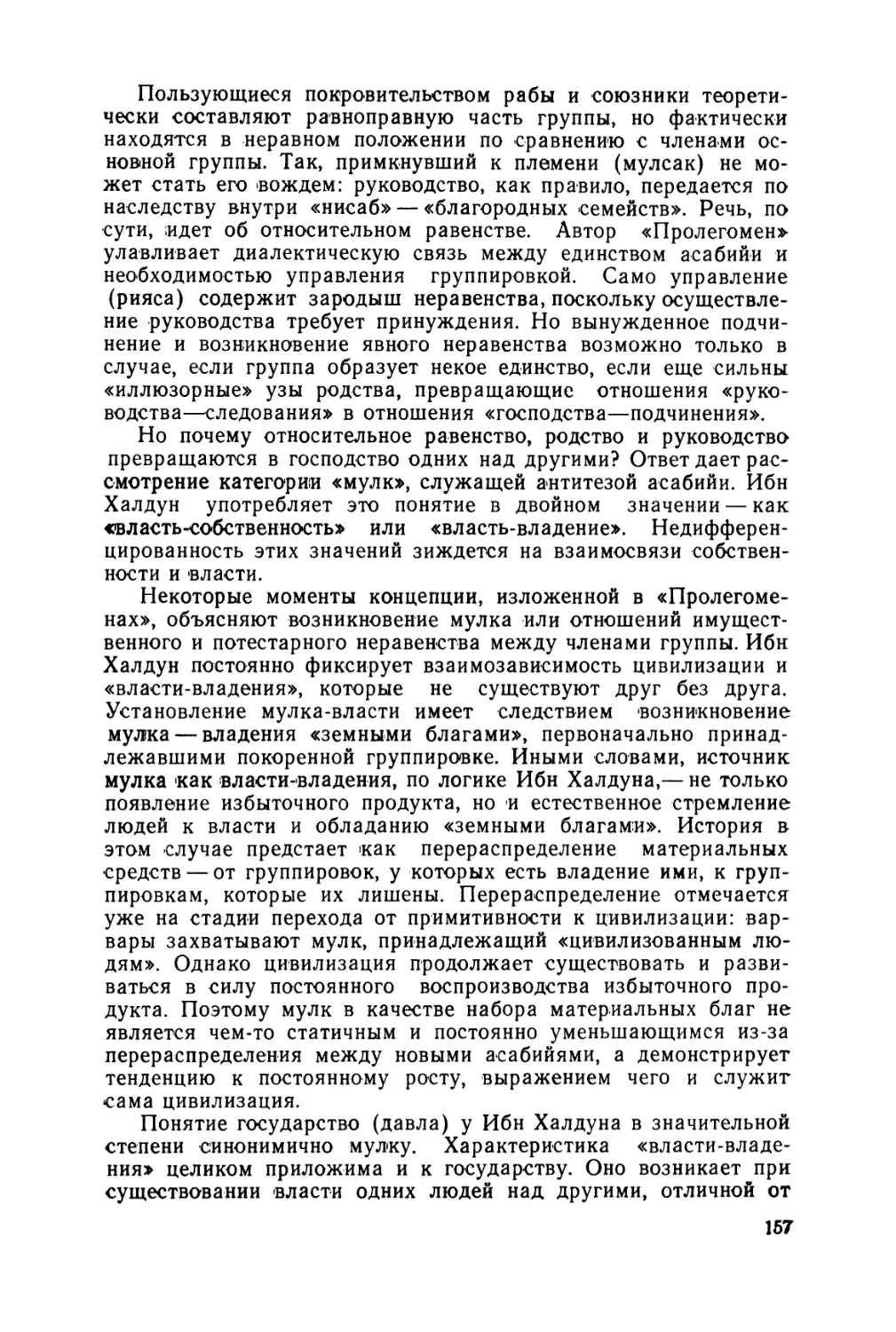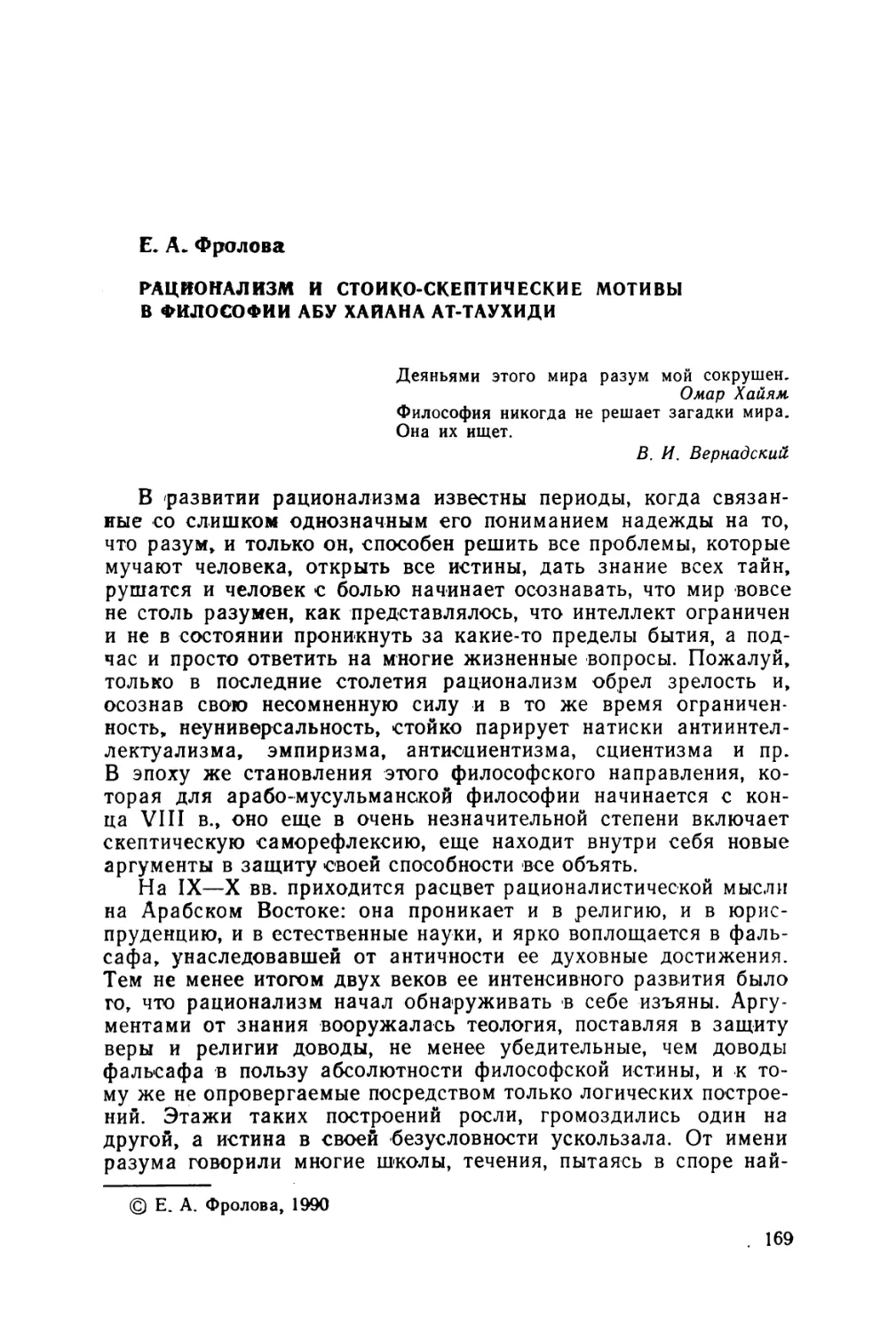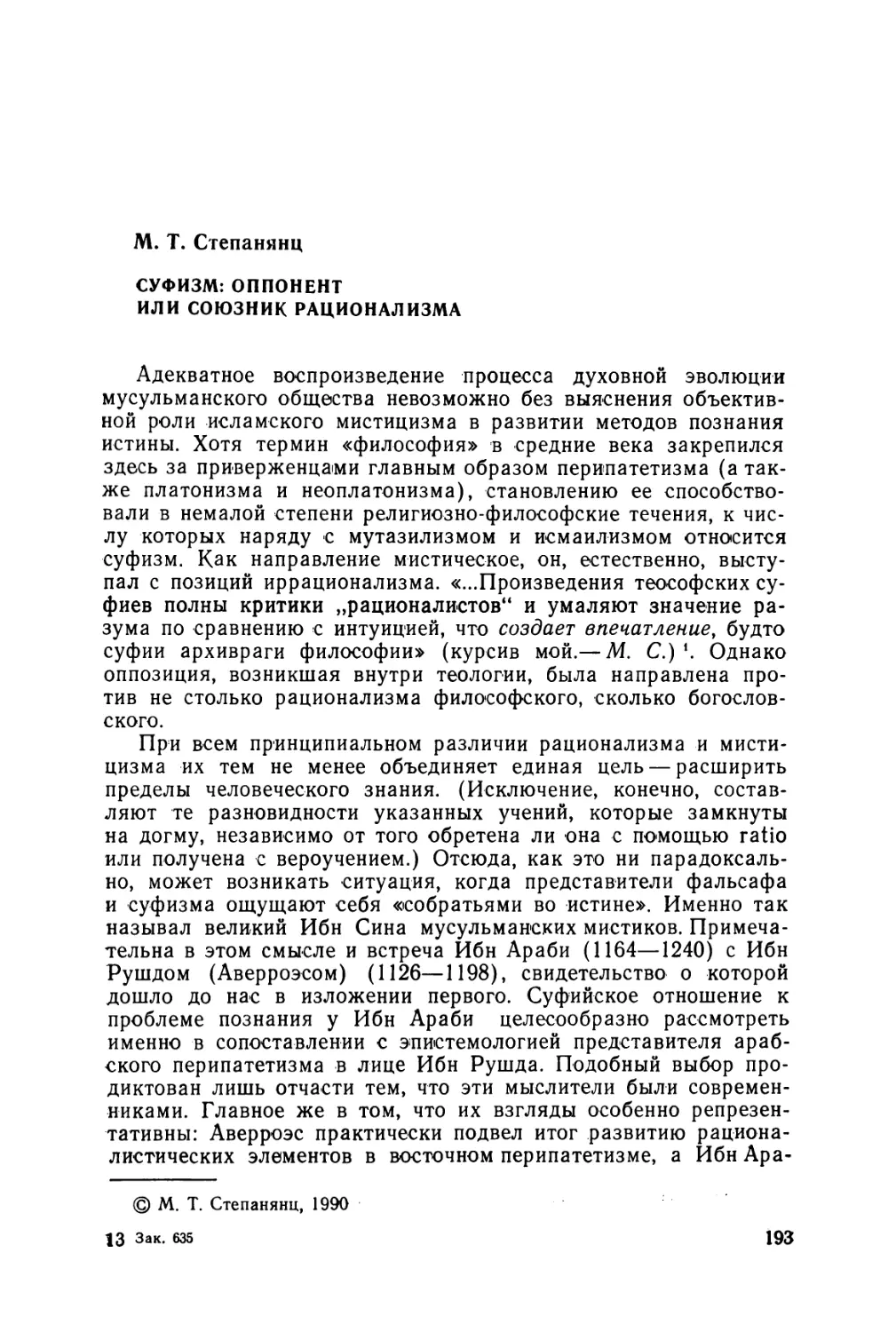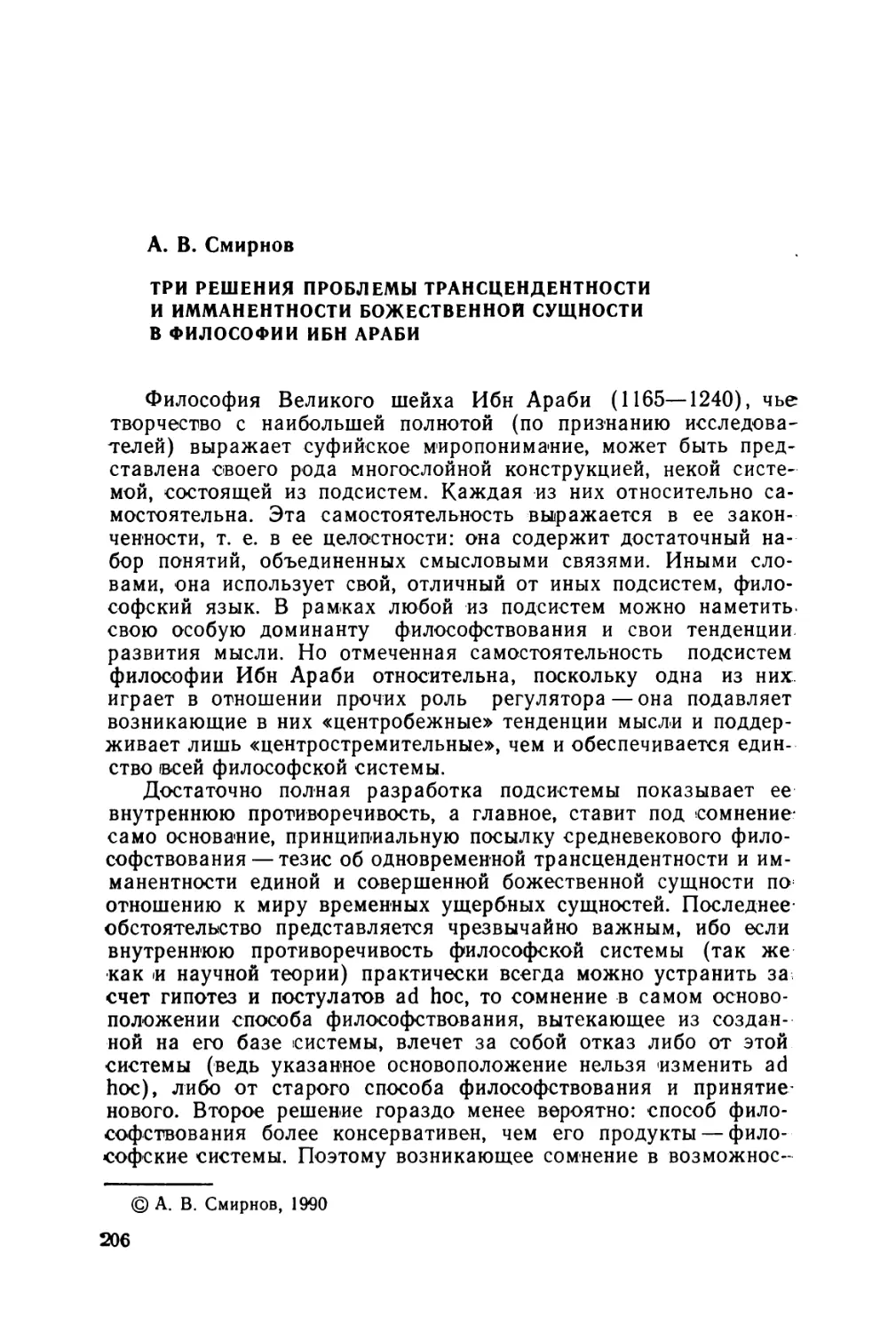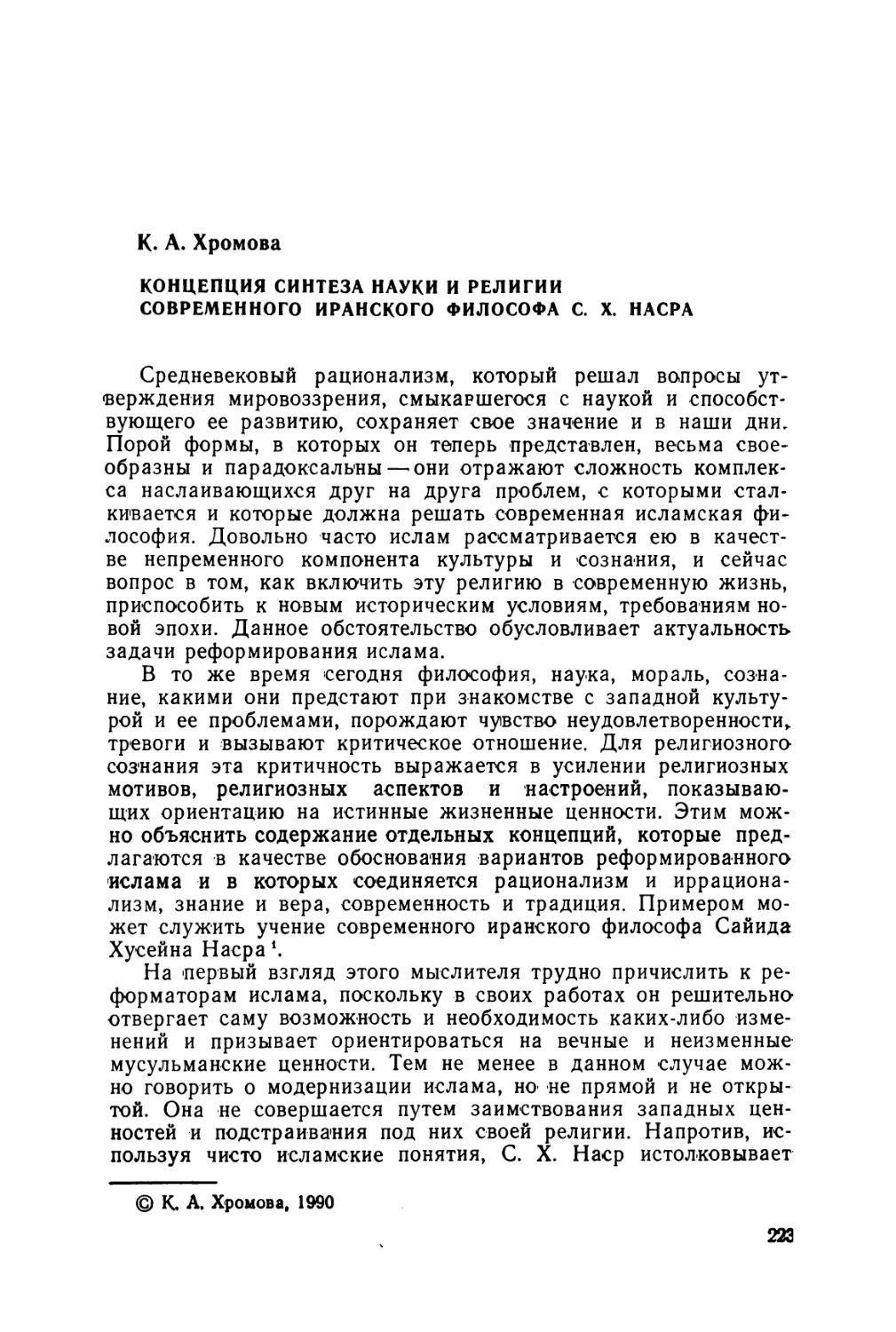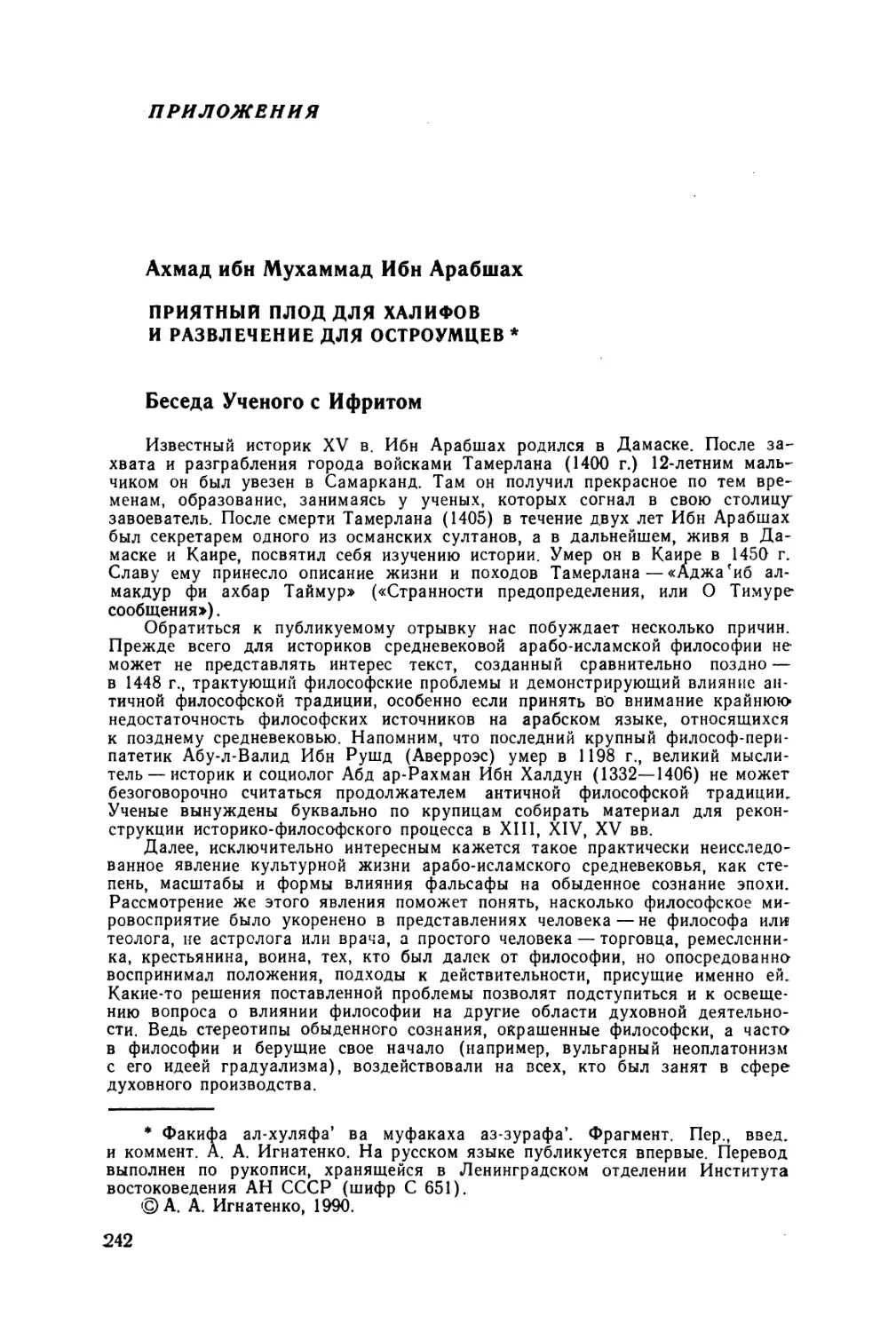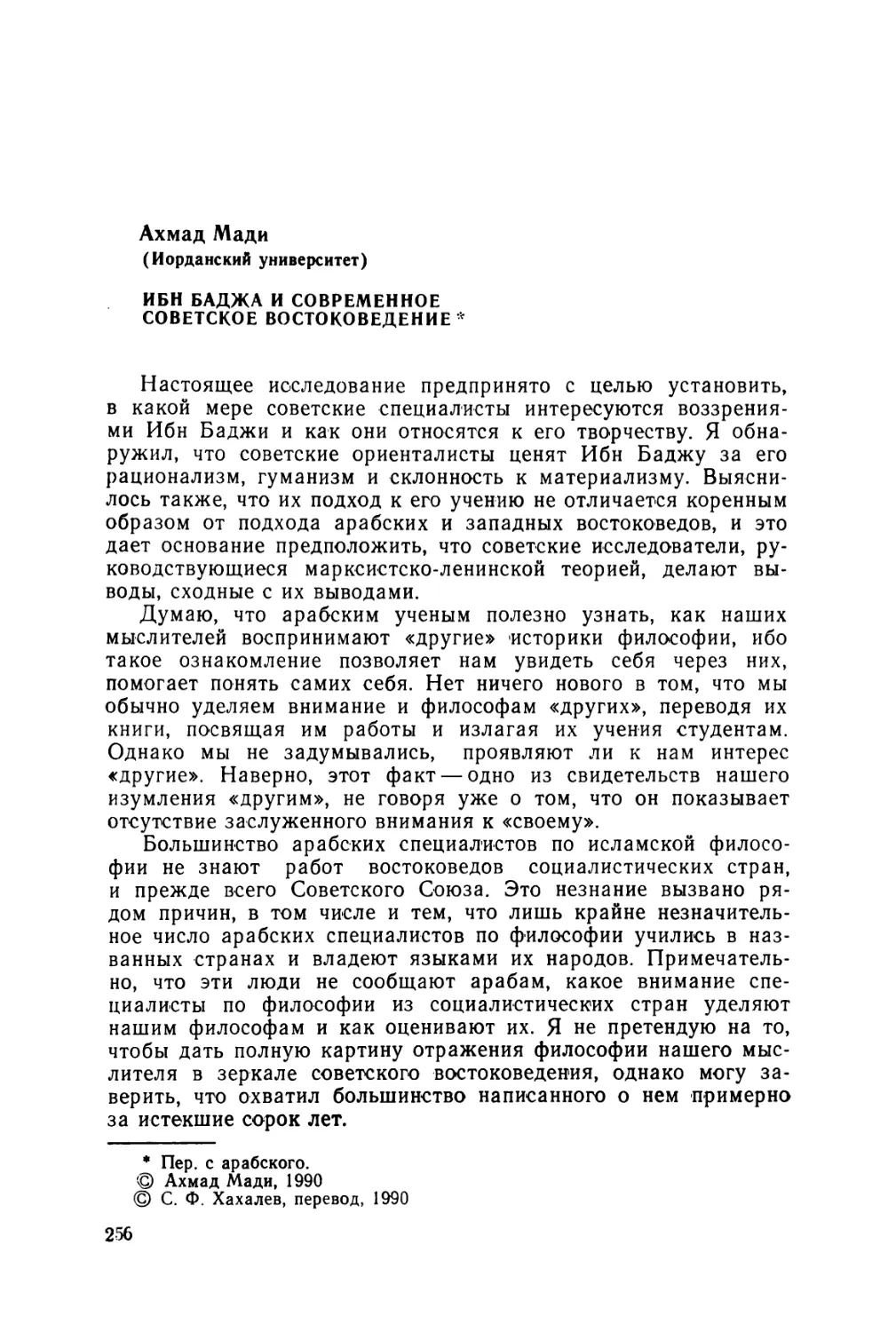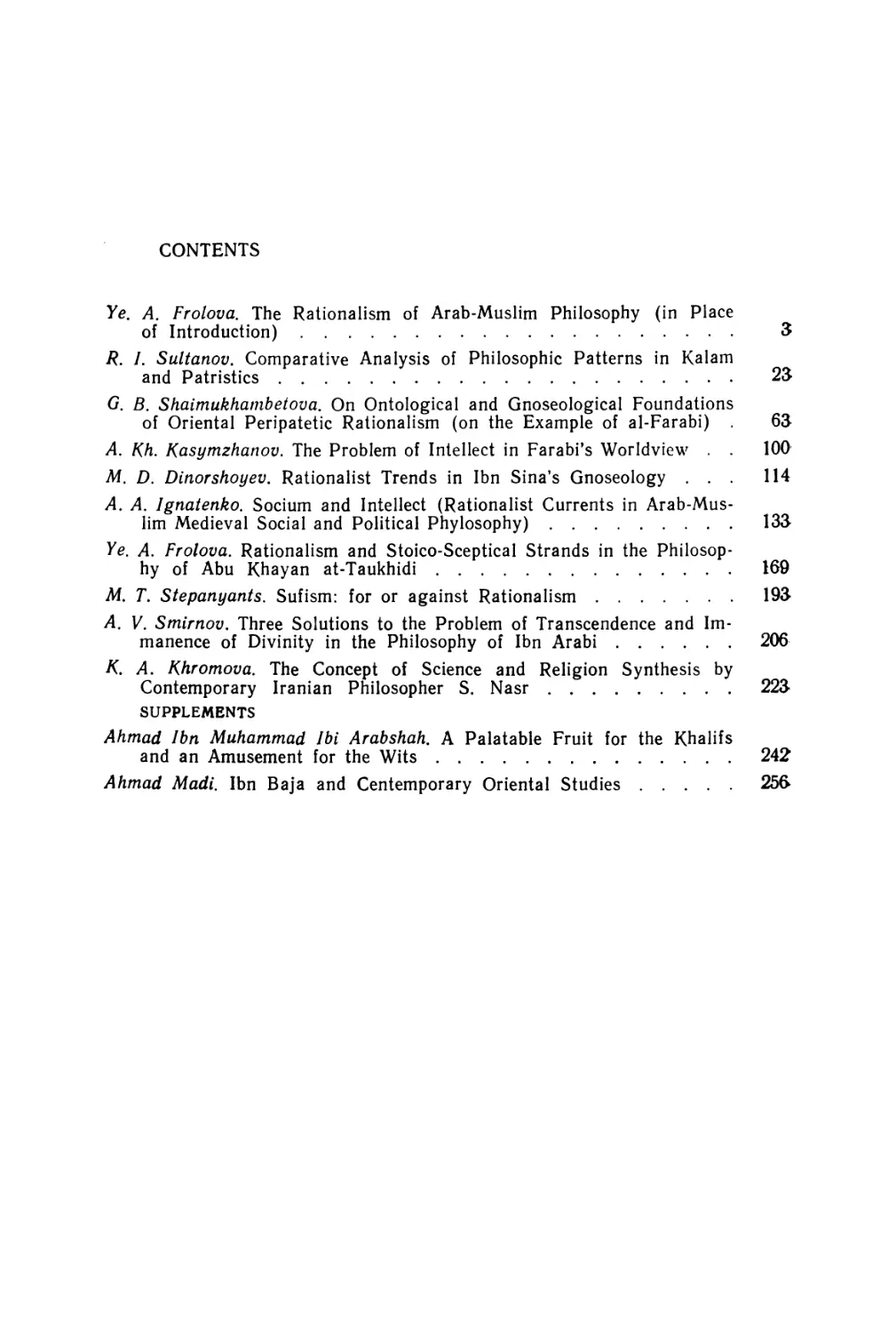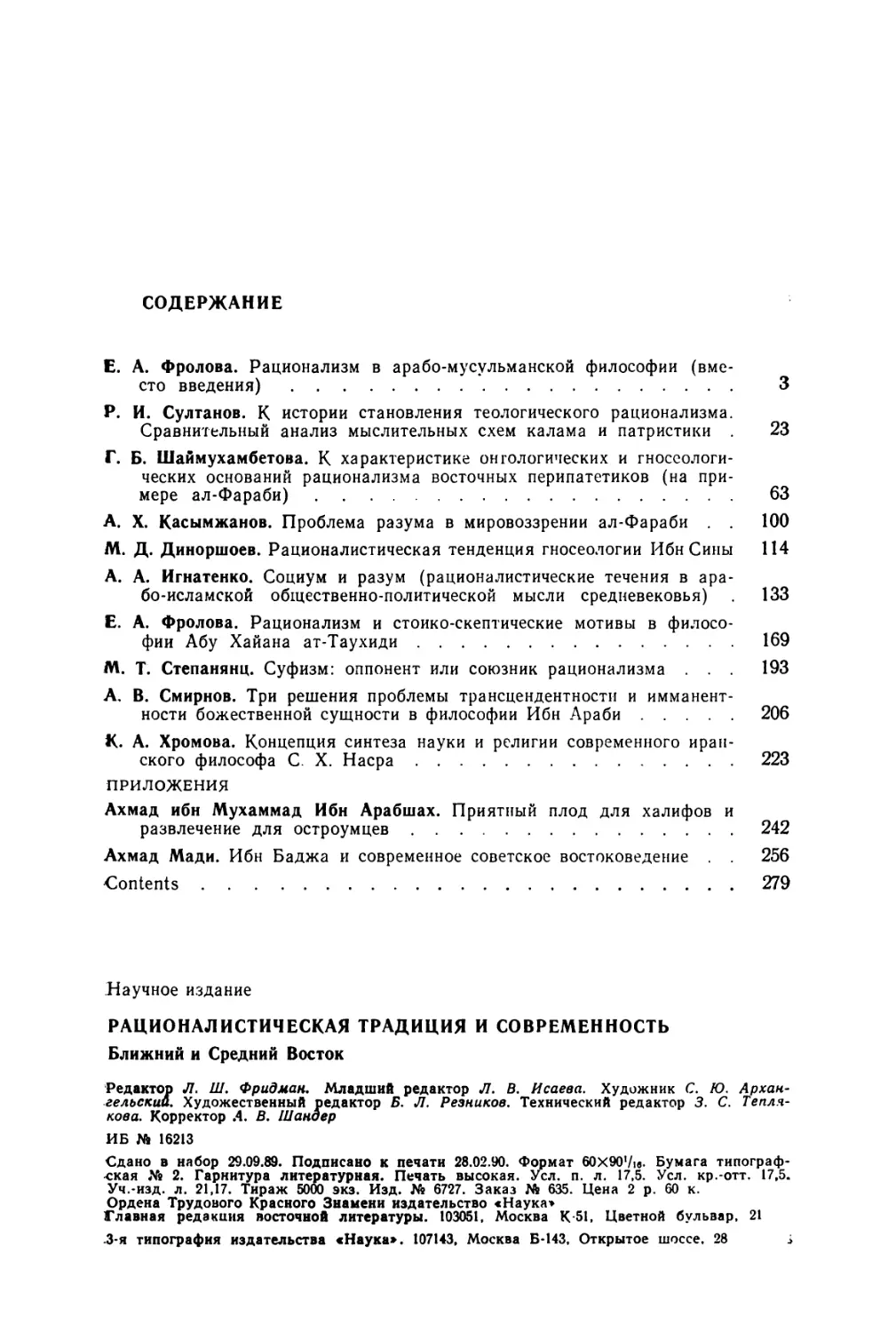Автор: Фролова Е.А. Степаняц М.Т.
Теги: философия стран азии философия стран востока философия академия наук ссср издательство наука рационализм
ISBN: 5-02-016516-6
Год: 1990
Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Рационалистическая
традиция
и современность
БЛИЖНИЙ
И СРЕДНИЙ
ВОСТОК
Москва
«НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
1990
ББК 87.3(5)
Р27
Руководитель авторского коллектива серии
М. Т. СТЕПАНЯНЦ
Ответственный редактор тома
Е. А. ФРОЛОВА
Рецензенты
В. В. ЛАЗАРЕВ, H. С. МУДРАГЕИ, К. М. ТРУЕВЦЕВ
Утверждено к печати
Институтом философии АН СССР
Рационалистическая традиция и современность:
Р27 Ближний и Средний Восток.— М.: Наука. Главная
редакция восточной литературы, 1990.— 280 с.
ISBN 5-02-016516-6
Вторая книга четырехтомного издания посвящена истории
рационалистической мысли на арабо-мусульманском Востоке..
В отдельных разделах рассматриваются элементы рационализ¬
ма в философском наследии ал-Фараби, Ибн Сины, ат-Таухи-
ди, Ибн Баджи, Ибн Араби, а также в учении современного
иранского философа С. X. Насра.
0302010000-069
Р КБ-8-65-90
013(02)-90
ISBN 5-02-016516-6
ББК 87.3(5>
Æ) Институт философии.
АН СССР, 1990
Е. А. Фролова
РАЦИОНАЛИЗМ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
(вместо введения)
Предметом своего анализа авторы предлагаемой вниманию
читателя книги взяли тему, которая определяла развитие фило¬
софской мысли и в целом культуры арабо-мусульманского сред¬
невековья IX—XII вв. Но если в последующие столетия культ
разума и рационального знания и стал ослабевать, едва ли
можно говорить об угасании его «светильника»: то там, то здесь
юн вспыхивал вновь. В XIX в. разум начинает успешно восста¬
навливать свои позиции во всех сферах общественного созна¬
ния.
Современный Арабский Восток — мир, преобразующий свою
экономику и социальные структуры, меняющий культурные, ми¬
ровоззренческие ориентиры, ищущий формы общественной жиз¬
ни, которые способны решить многочисленные проблемы, порож¬
денные отсталостью, вывести мусульманские страны в разряд
развитых. Все это делает важным вопрос о месте и роли науч¬
ного мировоззрения, научной методологии, вопрос о внедрении
науки в качестве существенного компонента культуры и эконо¬
мики данных стран. Отсюда вытекает необходимость историче¬
ского анализа сложившегося типа миропонимания, необходи¬
мость выявления в культуре, в знании элементов, ставших наи¬
более эффективными в предшествующей истории и помогаю¬
щих в наши дни преодолевать стереотипы сознания, несовмес¬
тимые с наукой. Ориентированная на научность и рациональ¬
ность современная философия в странах арабо-мусульманского
Востока пытается заново воссоздать историю культуры народов
региона, акцентируя внимание на тех традициях, которые поз¬
воляют им учесть требования эпохи и интенсивно включиться
в научно-технический прогресс и социальные преобразования.
В немалой степени это относится к уяснению сущности средне¬
векового рационализма и его культурно-исторической роли.
Некоторые арабские философы под влиянием распространен¬
ных сейчас идей исламизма, а также ведущейся на Западе ата¬
ки на дух технизации, под влиянием тенденции к гуманизации
науки и знания, критики сциентизма и рационализма переносят
эти веяния в свои доктрины. Однако, как справедливо полагает
© Е. А. Фролова, 1990
3
известный философ Хасан Ханафи, арабское общество находит¬
ся еще на той стадии развития, когда задачей его является куль¬
тивирование специализации, рационализма, духа научности.
В его культуре до сих пор превалировал гуманитарный дух, дух
универсализма знания. То же относится к критике идей техни¬
цизма, науки, рационализма в пользу идей интуитивизма, ирра¬
ционализма и т. п. Арабские страны, по убеждению Ханафиг
страдают не от тирании техники, а от недостатка ее: «Напад¬
кам на технику у нас нет никакого оправдания, наша действи¬
тельность требует обожествления техники»1. Что касается кри¬
тики разума, то она, считает Ханафи, исходит от Запада, пре¬
сыщенного рационализмом и достигшего крайних его пределов.
Арабское же общество идет пока еще путями, далекими от ра¬
зума; оно страдает от недостатка рациональности, а не от за¬
силья ее. Арабам нужно не сокрушать разум, а утверждать его,
строить жизнь на основе разума, видя в культуре реальную ис¬
торическую связь ее элементов, уяснив логику ее развития,
т. е. обратившись к ее истории.
Хотя в данном издании тема рационализма в средневековой
арабо-мусульманской философии анализируется как сама собой
разумеющаяся сущность ее, вряд ли можно сказать, что харак¬
тер этого рационализма и все его аспекты поняты до конца*
Возникают вопросы, был ли рационализм только в гносеологии
«фальсафа» или в онтологии тоже? Если он затрагивал и онто¬
логию, то как совмещался с пантеизмом, который, по мнению
многих исследователей, свойствен фальсафа? Какую роль в раз¬
витии рационализма сыграли помимо фальсафа другие формы
мысли, формы также философские или околофилософские, на¬
пример калам, суфизм, адаб и т. д.?
Для того чтобы ответить на эти достаточно конкретные воп¬
росы, следует определить наш подход к проблеме рационализма
вообще как проблеме методологическо-теоретической и исто¬
рико-философской. Что такое рационализм в нашем понимании?
Какие философские концепции допустимо обозначать этим тер¬
мином?
Разумеется, такая постановка вопроса может удивить, ибо,
казалось бы, уже само понятие «философия» предполагает на¬
личие рационализма. Философия появляется тогда, когда концеп¬
ции получают теоретическое оформление с помощью разрабо¬
танного понятийного аппарата. Не согласиться с этим нельзя*
И все же если мы отождествим философию и рационализм, то
философского статуса сразу же лишаются направления мысли,
которые своей методологией провозглашают эмпиризм, интуи¬
тивизм; в философской значимости будет отказано мистической
философии, иррационализму, религиозной философии.
Возможен и другой вывод. Поскольку все названные направ¬
ления демонстрируют концептуализацию учений, при которой
используется логико-понятийный аппарат, они получают право
называться философскими и уже тем самым в определенном
4
смысле и рационалистическими. Вероятно, допустимо и так
посмотреть на историческое движение человеческой мысли, ибо
в разных идейных течениях, в их борьбе друг с другом форми¬
ровался и оттачивался тот способ объяснения мира и челове¬
ка, который сегодня считается научным. А поскольку главным
орудием, с помощью которого человек создает и отстаивает на¬
учное видение, служит разум, постольку способ объяснения,
методологию и теорию, опирающуюся на разум, можно назвать
рационалистическими.
И все же остается неудовлетворенность такого рода опреде¬
лением рационализма ка,к историко-философского феномена:
слишком широкий круг течений охватывается данным понятием,
слишком релятивным, относительным оно становится. Поэтому,
употребляя его, исследователь должен прояснить вкладываемый
в данное понятие смысл — идет ли речь об исторических пер¬
спективах, подходах, ведущих к современной научности, ее ме¬
тодологических зачатках или же о достаточно узкоограниченном
историко-философском способе вйдения и объяснения мира.
В нашем случае под рационализмом подразумевается стро¬
го определенный тип философствования, решительно ориентиро¬
ванный на рациональное знание и концептуализирующий эту
ориентацию. Для него характерны неколебимая вера в разум,
в его безграничные возможности, в способность его — и только
его — постичь и решить все проблемы, разгадать все загадки,
открыть все законы, управляющие миром (и законы эти также
рациональны и тождественны Разуму). Мудрый правитель, на¬
род могут создать общество, в котором будут царить разум и
благодаря ему благоденствие — на этой идее основаны утопии
о «добродетельном городе». Благодаря разуму человек возвы¬
шается над животным, над недостоверностью чувств и, воору¬
женный системой логики, идет к постижению истины.
Впрочем, одно простое использование логики не является до¬
казательством рационализма доктрины. Логика может быть од¬
ним из способов постижения наряду с другими — чувственно-эс¬
тетическим, интуитивным, экстатическим, быть подспорьем в
в целом иррационалистического учения, служить обоснованию
его конечных задач, разъяснению его содержания.
Иными словами, даже расширяя рамки рационализма как
направления, утверждавшего веру в разум, в его могущество,
веру, которая имеет онтологические основания (разумность ми¬
ра), т. е. описывая его как метод познания, мы не вправе по¬
лагать, что любая философская система, уже в силу того что
она философская (организованная как теория, оперирующая
системой понятий, в структуре понятий), есть рационализм. Ес¬
тественно, благодаря теоретичности философия рационалистич¬
на, а именно: заключает в себе рациональность как компонент,
пусть непременный, но все же компонент, играющий в ней
большую или меньшую роль. И лишь когда он начинает опре¬
делять суть конкретного учения, начинает доминировать и обос-
5
новывает это доминирование, учение можно рассматривать как
рационализм.
Наиболее последовательно рационалистической будет докт¬
рина, которая проводит данный принцип не только в гносеоло¬
гии, но и в онтологии, т. е. делает разум (Бог, Закон, Разум)
началом бытия, мироздания. Здесь рассматриваемое нами фи¬
лософское направление выступает в качестве разновидности
идеализма.
Как свидетельствует история философии, чистых видов ра¬
ционализма человеческая мысль не дала или почти не дала.
Посмотрим под этим углом зрения на доктрины арабо- и пер¬
соязычных народов.
Возникновение ислама, появление новой религии уже само
по себе означало введение нового типа знания, новой рацио¬
нальности, которая противостояла прежнему, включенному в
магию мистических верований типу знания, апеллируя к рас¬
судку людей, их разумению, хотя последнее понималось доста¬
точно утилитарно — как способное внушить и утвердить веру в
ислам, в учение пророка. Новый тип знания — это знание поли¬
тическое, правовое, выраженное на языке религии и сочетающее
установку на разумность, рациональность с авторитарным тре¬
бованием слепого подчинения носителю более высокого знания,
с 'верой в верховное провидение. Само 'возникновение философии
как рационалистического направления мысли связывается мно¬
гими исследователями с идейными движениями в богословии,
в фикхе (с постановкой вопросов об ответственности человека за
свои поступки, свободе его воли, предопределении и детерми¬
нированности происходящего, вопросов о вмешательстве бога
в дела мира и — как итог всего — о сотворенности, а потому
и подсудности Писания человеку). В трудах мутазилитов со¬
держится обширно и глубоко разработанная эпистемология,
базирующаяся на логике.
Тем не менее, хотя между каламом и фальсафа существо¬
вала определенная идейная связь и общность, «философия»
формировалась как светский, антисхоластический вариант ре¬
шения общемировоззренческих проблем, .как способ объяснения
мира, основывающийся на научных представлениях, унаследо¬
ванных от перипатетизма и античного естествознания. Фаласифа
дали разработанную теорию души, разума, интеллекта, знания,
пытались объяснить идеальную суть мышления. Существует,
считали ал-Фараби и Ибн Сина, особым образом организован¬
ная материя — зеркало, которое запечатлевает кусочек целост¬
ного мира в его внешнем выражении. Человеческий мозг, суб¬
страт разумной души,— также не что иное, как высшая сту¬
пень организации материи, уподобляющейся зеркалу, но только
особого рода, способному воспроизводить не только внешний
облик мира, но и его внутренние связи, его единство, выражаю¬
щееся в причинной зависимости вещей2. Содержание сознания,
являющееся результатом соприкосновения двух материальных
G
рядов, само уже не материально. Оно — свойство, итог взаимо¬
действия материальных субстратов, выявляющее их глубинную,
онтическую сущность.
Фаласифа проделали колоссальную работу по возвеличе¬
нию рационализма в форме учения логики и введения логиче¬
ских методов определения истинности знания. Светская наука
должна была выработать внутренне согласованную систему дос¬
товерных концептов, которая могла бы, с одной стороны, про¬
тивостоять притязаниям религиозной догматики и, с другой —
обосновать правильность выводов, утверждений уже внутри са¬
мой науки. Логика и через нее разум выступали верховными
судьями истины; они помогли выкристаллизоваться научно цен¬
ным, существенным знаниям, вокруг которых складывались ос¬
тальные элементы науки.
Развиваемая учеными-исследователями философия была свя¬
зана с выводами из их обширной опытно-практической деятель¬
ности. Но преобладающим стилем мышления было умозрение.
Попытки найти главный, определяющий принцип организации
мира, выражающийся в единстве, вычленить это единое как ис¬
ходную точку, причину сущего, содержащую в потенции все
многообразие мира, получали воплощение в логике, в абсолю¬
тизации значения исходных посылок, из которых выводилось
все знание3. Особое место в данной концепции приобретал ме¬
тодологический поиск «среднего члена», который соединяет
предмет с известной уже общей идеей. Познавательные усилия
человека направляются в значительной мере на то, чтобы под¬
вести единичное под всегда уже сознаваемое человеком общее4.
И все-таки можно ли говорить без оговорок о «восточном
перипатетизме» как о чистом рационализме?
В качестве философского направления последний означает
не просто возвеличивание роли разума, но и полагание его в
качестве основного принципа системы бытия и знания. Яв¬
ляется ли таковой онтология восточного перипатетизма? Анализ
учения о бытии, проделанный современными исследователями
применительно к фальсафа, вряд ли позволяет сделать такой
общий вывод. Употребляя термин «рационализм» в отношении
к прошлому, мы придаем ему нередко современную окраску.
Имеющиеся в литературе классификации восточноперипатети¬
ческой онтологии как дуализма, деизма или пантеизма, в ко¬
торых материя и дух изначально извечны, сразу вносят извест¬
ное ограничение в попытки толковать эту онтологию как просто
рационалистическую. Только, пожалуй, у теоретиков исмаилиз-
ма разум откровенно делался основополагающим началом, близ¬
ким богу. В других концепциях он занимал важное, но не
верховное место.
Своеобразен характер рационализма фальсафа и в области
гносеологии. В отличие от античной философии и философии
нового времени, где рационализм в немалой мере выступал как
оппозиция сенсуализму и эмпиризму, на мусульманском Вос-
7
токе он был связан с противостоянием доктринам, ориентиро¬
вавшим мысль на признание приоритета веры. Поэтому, не ума¬
ляя роли чувств и чувственных данных, философы стремились
возвысить значение рационального знания, противостоящего
знанию веровательному, рационализирующему веру, утверждаю¬
щему веру как знание, выдающему веру за знание. И это выдви¬
жение разума в качестве главного критерия истины дает осно¬
вание относить их к рационалистам.
О трудностях понимания рационализма говорит и характе¬
ристика под этим углом зрения ряда религиозно-философских
течений в исламе — калама в целом и мутазилизма особенно.
Мутазилизм возник и развивался как попытка рационалис¬
тическим способом решить многие религиозные проблемы, соз¬
дать философски обоснованную и ориентированную на разумное
знание теологию. В конце XIX в. развернулось и продолжается
в наши дни движение за модернизацию ислама; идеологи этого
движения настаивают на необходимости признать права науч¬
ного знания, опираться в решении спорных вопросов на компе¬
тенцию разума, на ограничении сферы влияния религии. Есть
ли все это рационализм? Конечно. Хотя надлежит учитывать, что
его исходные принципы, связанные здесь религиозными целями
или же облаченные в религиозные формы, теряют первоначаль¬
ную силу, окрашиваются в другие менее эффективные для раз¬
витой мысли и искажающие ее тона: рационализм переплетает¬
ся с веровательными установками.
Чтобы точнее выразить содержание рационализма как исто¬
рико-философского явления и выявить его своеобразие в ара¬
бо-мусульманской философии, целесообразно, вероятно, сопо¬
ставить его типы, возникавшие в разных культурах, скажем,
в Индии и Китае, тем более что эта проблема образует тему
предложенной серии книг. Вопрос этот вовсе не ординарен. Об¬
ратимся к одному из течений индийской религиозно-философ¬
ской мысли — буддизму. Вряд ли можно применить к нему тер¬
мин «рационализм». Центральная онтологическая концепция
раннего буддизма заключается во взгляде на мир как на ми¬
раж. Нагарджуна позднее назовет это «относительной (пустой)
иллюзией»5. Мир предстает в виде потока отдельных элемен¬
тов6. Реальность, лежащая за ним, не доступна сознанию.
«...Между сознанием и объектом имеется особое отношение, ко¬
торое может быть названо „координация“»7,— поясняет
Ф. И. Щербатской и приводит часть диалога из «Абхидхарма-
коши»:
«Вопрос. Мы читаем в Писании: „Сознание воспринимает“.
Что здесь понимается под сознанием?
Ответ. Абсолютно ничего...
Вопрос. Что подразумевается под „координацией“ (между
сознанием и его объективным элементом)?
Ответ. Соответствие между ними... Сознание воспринимает
подобно пути, по которому движется свет.
8
Вопрос. А как движется свет?
Ответ. Свет лампы — это обычное образное выражение не¬
прерывного образования серии вспышек огня...»8.
Коль скоро нет реального мира и мир — иллюзия или коль
скоро мир и сознание — лишь параллельные процессы, кото¬
рые связывает только соответствие, и, следовательно, не су¬
ществует реальных закономерностей либо мы ничего о них не
способны сказать, то не может быть и рационалистического ме¬
тода познания. «Реальность невыразима» — так называется один
из параграфов работы Ф. И. Щербатского «Концепция буддий¬
ской нирваны»9. В главе «Буддийской логики», посвященной
теории мгновенности бытия, он пишет: но если мир каждый
миг творится заново, каждый миг в нем появляются новые воз¬
можности и он открыт для их реализации, тогда действия лю¬
дей определяются уже не «познанными законами», а практи¬
ческими решениями, выбором, обусловленным ситуациями.
«Вследствие этого все логические конструкции... признаются со¬
вершенно негодными как ложные и противоречивые. Единст¬
венным источником истинного знания является мистическая ин¬
туиция...» 10. И хотя кашмирская школа комментаторов видела
в Будде персонификацию абсолютного бытия и абсолютного
знания, тождественного чистой логике, это, по мнению Щер¬
батского, «не более чем условное выражение чувства преклоне¬
ния; сам стих не имеет теоретического значения» и. И к позна¬
нию такого абсолюта логика, по сути дела, никакого отношения
не имеет.
Использование ее ограничивалось критическими функция¬
ми— умением вести диспуты. Опровергая доводы оппонентов,
мадхьямик не предлагал собственной метафизической концепции.
«Я не выдвигаю тезиса и именно потому не ошибаюсь»,— гово¬
рил Нагарджуна 12. Не доказать что-то позитивное, а добиться
осознания относительности любого тезиса, выдвигаемого про¬
тивником, т. е. диалектически опровергнуть его,— такова его
цель.
Существование рационализма в индийской философии наи¬
более убедительно аргументируется пониманием самой филосо¬
фии как системы особых конструкций, требующих аналитиче¬
ской, рациональной деятельности. Но этот довод представляется
недостаточным, поскольку философская мысль вообще, как из¬
вестно, предполагает разработанный понятийный аппарат, об¬
служивающий концепцию. Содержанием же концепции может
быть не только рационалистическая методология, но и убеждение
в том, что единственно достоверным способом познания и ис¬
тинным знанием является интуиция, непосредственное усмотре¬
ние. И с этой точки зрения философскую мысль древней и
средневековой Индии точнее было бы определять не как ра¬
ционализм, а как некоего рода рациональность, которая подра¬
зумевает наличие рационалистических структур, но не предпо¬
лагает обязательного концептуального выдвижения их в качест-
9
ве доминирующих, характеризующих суть, основную направлен¬
ность доктрины.
Вряд ли правомерно рассматривать логические системы, ко¬
торые создавались и разрабатывались и в буддизме, и в индуист¬
ских даршанах, особенно в санкхье, во-первых, как определяю¬
щие их содержание и, во-вторых, как выражение их рационализ¬
ма. В связи с этим было бы интересно проанализировать, что
собой представляет логика в даршанах.
«Большая часть сутр ньяи,— пишет Ф. И. Щербатской,— по¬
священа описанию различных методов ведения публичных диспу¬
тов... И только в реформированной новой брахманистской ло¬
гике, в логике, которая возникла в борьбе с буддизмом... тео¬
рия силлогизма начала играть главную роль*13. В. 1C Шохин
в подтверждение тезиса о рационализме ньяи ссылается на ха¬
рактеристику учения этой школы Ватсьяяной (V—VI вв.) в ком¬
ментарии к «Ньяя-сутрам»: «Эта наука (ньяи) означает дея¬
тельность [трех видов] : номинация, дефиниция и исследование.
При этом номинация — это только указание предмета через его
наименование; дефиниция — свойство, посредством которого наз¬
ванное отделяется от других предметов; исследование — уста¬
новление с помощью инструментов/источников познания, соот¬
ветствует ли определение определяемому»14.
Эта цитата, безусловно, свидетельствует о внимании к логи¬
ческому знанию, о разработке системы логического инструмен¬
тария и логических операций, используемых в философской
деятельности, но, пожалуй, ни о чем больше. Кстати, в «Ньяя-
сутрах» Готамы (примерно III в.) логический вывод упоми¬
нается наряду с тремя другими праманами: восприятием, срав¬
нением и словом авторитета. И хотя ньяя дает детальную клас¬
сификацию источников достоверного знания, разрабатывая тео¬
рию вывода, а навья ньяя начиная с XIII в. разрабатывает
абстрактную формальную логику, нельзя игнорировать и тот
факт, что умозаключение — один из четырех видов праман и
что важным источником знания остается авторитет. Носителем
же религиозной истины является «знаток 25 начал». Таковым он
признается потому, что «в его менталитете преобладает благая
гуна саттва, несущая в себе добродетель, знание, устраненное™
и „сверхспособность“» 15.
Познание истины в санкхье начинается с интеллектуальной
работы с категориями (и это можно отнести к рационалистиче¬
ской деятельности), продолжается в виде медитации и завер¬
шается «истинным познанием». Оно достигается, таким обра¬
зом, через совершенствование «внутреннего знания», позволяю¬
щее прийти к полной «устраненное™» и подвести индивида к
спасению. В эпическом предании о Панчашикхе («Мокшадхар-
ма») говорится, что он — «лучший знаток дхармы и вед»; он счи¬
тает, что «достигший „устраненное™“ индивид недоступен стра¬
ху смерти и „возлежит с шрути, авторитетами, преданием и
благословениями“»1в.
10
Рамануджа писал: «Изречения упанишад предписывают зна-
ние — обозначаемое такими понятиями, как „сосредоточенное
размышление“, „почитание“ и др.,— которое есть нечто иное,
чем простое понимание смысла этих изречений. Именно так
[утверждают] тексты шрути: „...Атмана, дорогой, следует со¬
зерцать, об Атмане слушать разъяснения, о Нем напряженно
размышлять, Его непрестанно припоминать“» 17. В этом процес¬
се созерцания, размышления, припоминания большое место за¬
нимал, по В. С. Семенцову, «ментальный ритуал», выражаемый
формулой «кто так знает» и означающий «длящееся знание»,
знание как перманентное состояние, как постоянное воспроиз¬
ведение исходной ритуальной формулы. «...Рецитировать фор¬
мулу „Я есмь Брахман“ хотя бы в течение одного дня и при
этом постоянно помнить, что такое Брахман и что „я есмь“
именно это. Между тем продолжительность такого рода „зна¬
ния“ должна была быть растянута в конечном счете на всю
жизнь» 18. Целью и идеалом подобного знания, поясняет иссле¬
дователь, является истина, понимаемая не как «что», но как
«кто», как живое единство личности и знания. В результате
достаточно долгого повторения текст отпечатывается в памяти
человека и наконец «наступит такой момент, когда... ритуальный
синтез действия—слова—образа произойдет сам собой...»19.
Здесь подмечены важные моменты формирования исходных
знаний, пути возникновения абстрактных представлений из ри¬
туальной практики и слитность знания с индивидом, его лич¬
ностью. Но приведенные выдержки из учений найяиков и санк-
хьяиков позволяют прийти к заключению, что рационализм в
них был не теоретическим, идейным, мировоззренческим, а прак¬
тическим, житейским, прагматическим. Его можно описать как
методику, систему упражнений, наставлений, нужных для на¬
хождения пути к истинному знанию, завершающемуся «деструк¬
цией всех привязанностей»20, как «„устраненность“, полное пре¬
кращение реальных связей „познающего поле“ с любыми
проявлениями „поля“»21, т. е. эти философские концепции пра¬
вильнее определить не как рационализм, а как гносис22. То же
отмечает и Ф. И. Щербатской: «...совершенно неожиданно об¬
наружить семейное сходство, возникающее само по себе между
сознанием (cit, purusa) школы санкхьи и его буддийским двой¬
ником (vidjnäna). Оба совершенно неактивны, без всякого содер¬
жания, знание без объекта, знание „ничего“, чистое ощущение...
Будучи чистым светом, знание „стоит рядом“ с явлением, осве¬
щает его, отражает его без схватывания и не будучи затронуто
им» (курсив мой.— Е. Ф.)23.
Еще одним важным аспектом концепции знания в индийской
философии является связанность его с субъектом, концентри¬
рованность его на субъекте. «Для образованного человека совре¬
менной европейской культуры,— считает А. М. Пятигорский,—
знание всегда есть н е ч то внешнее по отношению к чело¬
веку, который знает нечто искомое, достигаемое, обнаружи-
П
ваемое, словом — любым образом получаемое извне»24. Для
человека европейской культуры, таким образом, знание всегда
объективно. В индийской же мысли «знание получается изнутри
человека... не будучи ни в какой степени обусловлено ситуа¬
циями»25. Объективность оно допускает «лишь в качестве част¬
ного случая или особого технического приема»2в.
Рационализм, вера в разум есть уверенность в возможность
посредством интеллекта познать абсолют, »который образует мир
вещей, связанных воедино общими законами, аналогичными ра¬
зумным. Если же суть мироздания — радикальная плюральность,
если оно каждый момент становится другим, новым, то не мо¬
жет быть знания как чего-то устойчивого и люди в своих дей¬
ствиях руководствуются практическими решениями. Индийские
материалисты (чарваки) отрицали существование какой бы то
ни было духовной субстанции; они не допускали иного источни¬
ка знания, кроме чувственного восприятия. Они также отрицали
наличие порядка во вселенной, сводя его к игре случая27. Но
рациональность практическая, позитивная не нуждается в вере
в разум. Она строит систему рациональных (логических) отно¬
шений соответственно реальным взаимоотношениям отдельных
фактов в данный момент. Логика при этом выступает логикой
операциональной, не инструментом познания истины мира, а спо¬
собом организации знания, традиции, т. е. комментирования и
дискуссии.
Многие исследователи индийской философии, индийских ло¬
гических учений отмечают их детальную разработанность и
сходство в ряде параметров с современной логикой, в частности
с логикой предикатов, где важное место занимает сложная сет¬
ка классификации высказываний, операций. Отмечается возмож¬
ность параллелей между логикой индийских философов и кон-
депцией логического атомизма, выдвинутой Расселом и Витген¬
штейном и представляющей мир совокупностью атомарных фак¬
тов, а процесс познания — бесконечным их описанием28. Воз¬
можно, такие аналогии уместны. Но анализ индийской логики
допускает и иное объяснение — сложность и детализированность
ее есть не результат высокого развития (методологии и отчетли¬
вого понимания недостаточности системы, ограничивающей се¬
бя общими законами и стремящейся свести их к некоторому
минимуму, а, напротив, продукт недостаточной развитости, не¬
изжитого эмпиризма знания. Иначе говоря, в своей детализиро-
ванности логика индийцев выступает свидетельством неприятия
общих законов и в силу того логикой прецедентов, «на каждый
случай», логикой «этого», фактического (фактового) мира. «Ис¬
тинному знанию» в «Бхагавадгите», например, противопоставле¬
но «как простое знание факта, предельно приближенное к
понятиям „память“... так и „различительное знание“, специаль¬
но фиксирующее разнообразие фактов и событий»29.
Подводя итоги сказанному, сошлюсь на мнение Е. П. Остров¬
ской, которое представляется весьма убедительным: «В Индии
12
вплоть до XIX в. не сложилось такое философское направление,
которое можно было бы без известных натяжек оценить как
гомолого-диалогическую параллель европейскому рационализ¬
му»30. Очевидно, сознавая своеобразие традиционной философии,
многие современные индийские философы настаивают на це¬
лесообразности отказаться от нее и решительно принять ин¬
теллектуальные достижения Запада.
Тем не менее даже при возможном скептическом взгляде на
прошлую мысль Индии с точки зрения наличия в ней разви¬
того рационализма нельзя, думается, отказываться от попыток
реконструировать элементы рациональности, которая уже в
классический период складывается в рамках религиозно-фило¬
софских систем. И хотя речь здесь может идти не о рациона¬
лизме и тем более не о сложившемся направлении, а именно
об одном из типов рациональности, о некоторых тенденциях к
рационализму, о них допустимо и нужно говорить.
Развитие индийской культуры в новое и новейшее время
требует, чтобы был серьезно обсужден вопрос и о тенденциях
к рационализму в древней и средневековой мысли. Такой ракурс
проблемы обязывает по достоинству оценить (попытки рациона¬
листических подходов индийских философов при создании он¬
тологических и эпистемологических систем: внутри них содер¬
жатся разработки концепции знания, имеющие непосредственное
отношение к научному знанию наших дней, к нашему взгляду
на сознание, человека и человеческие возможности. Опыт куль¬
турного строительства в любом обществе показывает, что наи¬
более конструктивны те элементы наследия, которые в большей
мере опираются на созвучные сегодняшним потребностям ду¬
ховные традиции,— в данном случае рационалистические.
Другой культурный континент, с которым напрашивается со¬
поставление,— Китай; там издревле существовала философская
мысль, независимая от религии, от буддизма, привнесенного из¬
вне и так и оставшегося отделенным от исходно китайской
традиции. Чем же характеризовалась исконная китайская фи¬
лософия? Первое, что ей свойственно, это прагматика, цен¬
ностно-нормативное содержание—связь с объяснением и обос¬
нованием структуры китайского общества. Она представляла
собой «моральную метафизику» с преобладанием моральной
проблематики31. Второй особенностью древней китайской фило¬
софии, по мнению А. И. Кобзева (на работы которого я в своем
анализе и опиралась), является натурализм. Отсутствие поня¬
тия идеального, противопоставленного материальному, обусло¬
вило невыработанность идеалистических концепций и господство
натурализма, типологически сходного с досократовской фило¬
софией. Третьей важной чертой А. И. Кобзев считает отсутствие
развитой системы формальной логики, наличие, а позже и утра¬
ту протологической тенденции и оперирование системой «нуме¬
рологии».
Следствием устойчивой ограниченности проблем, составляв-
13
ших предмет китайской философии и соответственно категорий,,
была возможность вписать их все в некие системы связей. В од-
ной системе термин «ци», например, был связан с одними по¬
нятиями и обретал смысл «материи», в другой системе он был
связан с другими понятиями и получал противоположный смысл
и т. д., т. е. в каждом конкретном случае функционировала опре¬
деленная система, рождающая соответствующие ассоциации.
Процедура обобщения в ней была сопряжена не с абстрагиро¬
ванием, получением отвлеченной идеи, а с выделением конкрет¬
ного индивида, который становился представителем множества
подобных.
Таким образом, в древней китайской философии присутст¬
вовали элементы рационалистического осмысления мироустрой¬
ства и построения миропорядка. Но это был не рационализм,,
а скорее, как и в Индии, некоторый тип рациональности, хотя
и в большей степени связанный с наукой, с ориентацией на
реальный мир и жизнь в этом мире. Несмотря на неразвитость-
логики, рационализма, древние китайцы смогли добиться очень-
серьезных успехов в области науки. Дело в том, что нумероло¬
гические системы, таблицы давали для этого основания, пусть
ограниченные.
Современные исследования в области психологии и физиоло¬
гии высшей нервной деятельности обнаружили ее биполяр¬
ность— взаимосвязь и взаимодополняемость логико-понятийной
и образно-ассоциативной деятельности. Этот феномен демонст¬
рирует, что обе эти формы важны для человека, для познания.
Нередко, ограничиваясь только логической работой, ум человека
заходит в тупик. Чтобы выйти на новый уровень, он должен
отступить от установившихся, сложившихся конструкций. Про¬
исходит возврат сознания к первоначальному, может быть-
смутному, нерасчлененному образу предмета. И освободившее¬
ся от привычной схемы логических связей, оно через ассоциации,,
новое вйдение образа обнаруживает новые связи, раздвигает
рамки прежнего понимания, а возможно, и переворачивает,
опровергает его. Нумерологические таблицы, наполняющие их
символы позволяют сознанию постоянно проделывать подобную'
работу, достигать результатов, сходных с результатами дея¬
тельности ума, вооруженного логикой.
Эта тема подводит к еще одному аспекту проблемы — к воп¬
росу об историческом развитии самого рационализма. Неверно
было бы представлять его как раз и навсегда данную, завер¬
шенную и безукоризненную доктрину. Он, подобно другим ти¬
пам философствования, являет собой направление мысли, под
воздействием критики постоянно совершенствующейся, умеющей:
сознавать свои исторические изъяны. Уяснение этого вопроса
важно для понимания того, какие обстоятельства толкали к
разработке разных сторон теории знания, заставляли обращать
внимание на познавательную функцию разных пластов психики:
рациональное и чувственное постижение, логическое и интуи-
14
-гивное познание. Оно важно и для понимания роли в склады¬
вании научной картины мира и научной методологии таких
идейных течений, которые, казалось бы, далеки от науки (на¬
пример, мистическая философия).
В развитии рационализма как способа объяснения мира в
.арабо-мусульманской культуре прослеживаются два значимых
момента и в какой-то мере этапа. Первый касается утверждения
принципа рационализма как такового, концепции разума —
орудия постижения истины, рационалистического знания в про¬
тивоположность чувственному, интуитивному или опирающему¬
ся на традицию, авторитет, т. е. знанию «веровательному». Соз¬
дание учения о разуме как высшей способности человека и
мериле истины было огромным достижением арабо- и персо¬
язычной философии. Но вслед за этим возникает проблема ха¬
рактера, содержания рационального знания в плане различения
рационализма догматического и критического.
Утвердившийся почти во всех сферах общественного созна¬
ния и выявивший многие потенции рационализм обнаружил уже
в средние века и свои слабости. Почти все религиозные течения,
школы, обосновывая притязания на «истинность», опирались на
«доводы» разума. Прагматически настроенные религиозные идео¬
логи использовали для убеждения людей рационализм, его сис¬
тему аргументации. Таким образом, он становился средством
не выражения истины, а некоего изображения ее, субъективного
ее видения, которое подменяло предмет доказательства — квази¬
рационально обосновывалась веровательная позиция. Исполь¬
зование рационализма в подобных целях приводило к тому, что
с его помощью утверждались прямо противоположные тезисы,
и разум в качестве средства постижения истины дискредити¬
ровался.
Однако для развития мысли важнее, наверно, была конста¬
тация не идеологической, а реальной ограниченности мировоз¬
зрения, ориентированного на всесилие разума в решении всех
проблем — житейских, научных, религиозных. На втором этапе
эволюции средневековой философии ярко обозначилась труд¬
ность, с которой столкнулась средневековая философия,— абсо¬
лютизация мысли как сугубо формально логической структуры,
которая в чистом виде, свободная от «примесей», способна и
должна привести к достоверному знанию. Безразличие форма¬
лизма логики к содержанию исходных посылок приводило к
тому, что с ее помощью могло доказываться как то, что мир —
творение бога, так и то, что бога нет, а мир — извечная мате¬
рия. Рационализм, замкнутый на себе, нацеленный только на
организацию «умопостигаемых объектов», «объектов интеллек-
ции», оказывался бессильным предложить единственную непро¬
тиворечивую и достоверную систему знания, останавливался пе¬
ред возможностью дать множество или по крайней мере несколь¬
ко равно вероятных и правдоподобных объяснений какого-то яв¬
ления. Одни аргументы разума разбивались другими. «Дока-
15
зательство,— скажет позже Роджер Бэкон,— приводит нас к:
заключению, но оно не подтверждает и не устраняет сомнения
так, чтобы дух успокоился в созерцании истины, если к истине
не приведет нас путь опыта... Доводов недостаточно, необхо¬
дим опыт»32. Так создавалась почва для критического взгляда
на самодостаточность разума, характерную для средневекового
рационализма. Этот скепсис можно увидеть уже у некоторых
философов и ученых той эпохи33. Однако он свидетельствовал не
только об обнаружившихся изъянах рационализма, но и о его
способности к преодолению их и дальнейшему развитию, что
показало учение Ибн Рушда.
* * #
Весь комплекс вопросов, на которые современные исследо¬
ватели пока не дали удовлетворительного однозначного ответа,,
стоял и перед авторами настоящего издания. Каждый из них
предложил свое понимание проблемы, какой-то ее аспект на выб¬
ранном им материале. Во многом они выражают сходное мне¬
ние— убежденность в рационалистическом характере арабо-му¬
сульманской фальсафа, в подходе к ней как наследнице антич¬
ной философской и научной мысли и в признании несомненной
самостоятельности «восточного перипатетизма», рожденного в
иной культуре, в иное время и решающего иные идейные за¬
дачи.
В то же время есть и некоторые отличия в понимании
отдельных сторон арабо-мусульманской философии. Авторы не
считали возможным и нужным полностью унифицировать точки
зрения: последние отражают общее состояние исследований,
поиски адекватного объяснения и определения богатого, слож¬
ного феномена, развившегося в непростых условиях идейных
столкновений, связанного часто с оппозиционными власти по¬
литическими течениями и потому прекровенно выражавшего свою
суть. Анализируя проблемы, участники сборника сознательно
отказались от окончательных, категорических оценок и отнес¬
лись к своим выводам как к тем итогам, которые допустимо
предложить на данной стадии изучения предмета.
Книгу открывает статья Р. И. Султанова, освещающая са-
мые ранние шаги становления рационализма, тот этап, когда
предшественники мутазилитов — кадариты, обсуждая теологи¬
ческую проблему свободы воли, обнаружили потребность в тео¬
ретическом аргументировании своей позиции, в создании поня¬
тий, которыми можно было бы оперировать для подкрепления
верности этой позиции. Выработка категориального аппарата
ознаменовала проникновение в культуру ислама философского
рационализма, ставшего на первых порах средством решения
религиозных споров, за коими скрывались политические, пра¬
вовые и этические проблемы.
В немногочисленных исследованиях мутазилизма, имеющихся
16
на сей день в советской литературе *, проблема свободы воли*
берется фактически как проблема внутриисламская. Р. И. Сул¬
танов в работе, представленной в книге, останавливается на ее
теоретических внеисламских истоках. Сопоставление полемики
между кадаритами и джабаритами с аналогичным спором о
предопределении в христианской теологии позволяет не только
точнее увидеть направление, по которому шло формирование
своеобразного, отличного от христианского, толкования пробле¬
мы (т. е. уже в самом начале выделить особенность арабо-му¬
сульманской философии), но и наметить содержательную связь
первых в арабской мысли философских категорий с конкретной
проблематикой. И это тоже может пролить свет на понимание
последующих этапов развития калама и фальсафа.
Авторы попытались найти для рационализма как гносеоло¬
гической концепции онтологические основания — объяснить уче¬
ние о бытии в плане соответствия его рационалистической тео¬
рии познания (см. статьи Г. Б. Шаймухамбетовой, А. X. Ка-
-сымжано1ва, М. Д. Диноршоева). Наиболее спорен вопрос об
онтологическом основании. Что такое первосущее, необходимо-
сущее? Некоторые исследователи приравнивают его к богу. Но
ведь бог, даже обладающий божественным разумом, не обяза¬
тельно тождествен последнему: он нечто неопределенное, неоп¬
ределимое. Другие считают, что данные понятия не раскрывают
субстанциальную сущность первоначала и употребляются лишь
для обозначения причинно-логической последовательности.
Г. Б. Шаймухамбетова рассматривает философскую систе¬
му ал-Фараби как развивающую аристотелевскую систему, ко¬
торая была воспринята без посредства неоплатонизма: нахож¬
дение в учении восточного перипатетика налета идей Плотина*
является, по мнению автора статьи, результатом поверхностного»
знакомства с соответствующими трудами Аристотеля, неверного-
их прочтения. Обращаясь вновь к работам Стагирита, она ста¬
рается показать, что многие утверждения, воспринимающиеся
как неоплатонические, восходят к Аристотелю, у которого, од¬
нако, они имеют иную, чем у Плотина, направленность. Именно*
этот (а не трансформированный неоплатонизмом) смысл, но>
вместе с тем модифицируя его по-своему, воспроизводит ал-Фа¬
раби. Таким образом, Шаймухамбетова снимает с философию
последнего непременно сопровождающий ее — в дополнение к.
аристотелизму — ярлык неоплатонизма, в наличии которого
обычно усматривается особенность восточного перипатетизма.
Исследуя творчество ал-Фараби, Г. Б. Шаймухамбетова ар¬
гументирует тезис о том, что в раннее средневековье на арабо-
мусульманском Востоке рационализм как уверенность в позна-
* Например: Ибрагим Т. К. Атомистика калама и ее место в средневеко¬
вой арабо-мусульманской философии. М., 1978 (канд. дис.) ; он же. Философия
калама. VIII—XV вв. М., 1984 (докт. дис.); Аляви А. А. Философская доктри¬
на мутазилитов. М., 1975 (канд. дис.); Султанов Р. И. Роль дискуссий о сво¬
боде воли в оформлении теологической этики мутазилитов. VIII—IX вв. М.,.
1984 (канд. дис.).
2 Зак. 635
17
вательных возможностях человеческого разума и стремление
познавать не божественное, а именно природное и социальное
бытие, для представителей фальсафа был общепринятой концеп¬
цией. Однако научная деятельность ал-Фараби позволяет гово¬
рить не только о сохранении достижений античного перипате¬
тизма, но и о развитии им рационалистической традиции, о соз¬
нательном выборе мировоззренческой установки, ориентирован¬
ной на научное постижение мира. Опираясь на концепции гре¬
ческих философов, продолжая линию Аристотеля и противопос¬
тавляя свою философскую позицию неоплатонической, он ба¬
зирует учение о едином и целостном бытии на понимании пер¬
вопричины как сверхчувственной сущности, как мышлении о
мышлении. Он устраняет дуализм формы и материи, бога и
мира на путях идеалистического монизма.
Созвучны тезисам Шаймухамбетовой рассуждения А. X. Ка-
сымжанова. Сопоставляя понятие «разум» у ал-Фараби с соот¬
ветствующими концепциями античных и средневековых филосо¬
фов Европы и даже философов нового времени, он полагает,
что учение ал-Фараби о разуме логически переплетается с идеа¬
лизмом, с признанием тождества мышления и бытия и продол¬
жает тем .самым платоновско-аристотелевскую традицию, пред¬
восхищая панлогизм Гегеля. Постижимость мира, сходство дея¬
тельности разума с внутренней организацией постигаемого объ¬
екта ведет к признанию «разумности мира».
Для понимания онтологических аспектов рационализма сред¬
невековой философии народов Ближнего и Среднего Востока
важное значение имеет раскрытие смысла категории «разум»
и особенно «Деятельный разум». Может быть, это некая, гово¬
ря современным языком, ноосфера, концентрирующая, объеди¬
няющая способность интеллектуальной деятельности, активизи¬
рующая ее? Может быть, это зафиксированная в культуре, в ее
продуктах общеродовая человеческая мысль, вошедшая через
культуру в плоть и кровь каждого, мысль, с которой соединяет¬
ся индивидуальный разум и которая не всегда осознанно для
человека воздействует на него, формирует его ментальность?
Может быть, это активность сознания, его интенциональность,
предуготовленность к восприятию, любознательность? А может
быть, следует признать, что фаласифа принимали в самом прос¬
том, непереносном смысле божественную либо околобожествен-
ную субстанцию или силу, которая превращает аморфную пра-
материю в обладающее законами развития, структурированное
мироздание, силу, благодаря которой мы можем говорить не
просто о бытии как таковом, но о мире вещей, о природе?
Впрочем, любое из этих выдвинутых в виде вопросов ут¬
верждений нелегко обосновать как единственно верное. Каж¬
дому из них допустимо, опираясь на труды философов, проти¬
вопоставить несогласующиеся с ним высказывания. Не исклю¬
чено, что наше видение противоречий в концепции того или
иного философа — результат недостаточно полного проникно-
18
вения в нее. Фиксация этих противоречий знаменует наличие
проблемы, требующей дальнейшего обдумывания, размышления
над текстами, причем оригинальными, ибо здесь нужна точ¬
ность терминологии, которая не всегда достигается переводами.
Трудно однозначно передать -суть учения ал-Фараби. Не ме¬
нее сложно определить в этом плане сущность философии тако¬
го мыслителя, как Ибн Сина. Едва ли можно отвергать рацио¬
нализм как содержание его методологии. Вместе с тем твор¬
чество этого мыслителя наглядно свидетельствует, что рацио¬
налистические установки вполне органично сочетаются с по¬
ниманием важности или даже исходного характера чувственно¬
го познания, опоры на опытно-практическую деятельность че¬
ловека. И хотя исследователь философии Ибн Сины М. Д. Ди-
норшоев на этом основании делает вывод, что мы не вправе
оценивать учение Ибн Сины в целом как рационалистическое,
он сохраняет это определение применительно к главной тенден¬
ции его гносеологии.
Фальсафа демонстрирует многоплановость и многомерность
средневекового рационализма. Восточные перипатетики делают
его важным принципом построения социальных связей, объясне¬
ния социального бытия. Эту тему А. А. Игнатенко раскрывает
через анализ этического и политического учения Ибн Баджи.
В качестве близких к фальсафа форм разумного освоения со¬
циальной действительности предстают воззрения приверженцев
«прагматического рационализма» (так квалифицируется их по¬
зиция, изложенная в сочинениях жанра «поучения владыкам»)
и адептов «реалистического рационализма», к которым автор-
относит Ибн Халдуна и его последователей. Рассмотрение ма¬
лоизвестных нам теорий Ибн ал-Азрака, ал-Макризи, ал-Мавар-
ди будет, несомненно, интересным читателю.
Характеристику арабо-исламской философии нельзя считать-
полной, если удовлетвориться констатацией только ее успехов.
Необходимым предполагается и вйдение того, насколько восточ¬
ный перипатетизм смог осознать или по крайней мере ощу¬
тить свои изъяны, ограниченность представленного им типа ра¬
циональности.
Вариантом критического переосмысления рационализма яв¬
ляется рассмотренное в статье Е. А. Фроловой творчество араб¬
ского философа X—XI вв., одного из великих арабских ерети¬
ков, Абу Хайяна ат-Таухиди, трагически переживавшего падение*
веры во всесилие человеческого разума и своеобразно выразив¬
шего мятежность своего сознания. Чувство полного и непопра¬
вимого разрыва между разумом и реальностью, наукой и таинст¬
вом, беспомощностью человека перед самим собой и природой
сублимировались в неодолимую потребность в божестве. И мыс*
литель переходит от рационального препарирования действи¬
тельности к воспеванию мистической любви. Так, в цельной
философской системе могут естественно соединяться рациона¬
лизм и нерационализм, воспевание разума и его критика.
2
19-
«Критическую» тенденцию представляет и философия суфиз¬
ма (статьи М. Т. Степанянц и А. В. Смирнова), постоянного
оппонента средневековой фальсафа, оказавшего на нее извест¬
ное влияние. Во многом благодаря суфизму наметился более
определенный поворот философии от мира к субъекту, от при¬
роды к человеку, от проблем космологических, онтологических
к проблемам антропологическим. Рационализм развил аналити¬
ческое, дискурсивное знание, обосновал его научную значи¬
мость. Мистическая философия была попыткой разработать
другую модель сознания и познания, подчеркивающую значе¬
ние образного и через него интуитивного. Рационализм был на¬
правлен «а коммуникативность, «общественность» знания; мис¬
тицизм апеллировал к знанию личному. Рационализм опирался
на знание, четко выраженное и логически обоснованное, знание
в итоге однозначное; мистицизм базировался на знании, не осоз¬
нанном полностью, до конца, знании множественном. Рациона¬
лизм упорядочивал знание; мистицизм оставлял простор для
разных вариантов его выявления и пользования им.
Завершается анализ занимающей нас темы статьей К. А. Хро¬
мовой, в которой разбирается концепция науки и религии, соз¬
данная современным иранским философом С. X. Наером. Мы
остановились на этой концепции (из многих других) потому, что
она концентрирует сейчас суть споров между рационализмом,
ориентированным на науку, и попытками решить современные
проблемы посредством синтеза традиции (мистицизма, суфизма)
и современного мышления, утилитарного подхода к новой науке
и поисков в прошлом философских, мировоззренческих систем,
имитирующих ответы на запросы сегодняшнего времени.
В приложении к книге помещен перевод отрывка из произ¬
ведения арабского историка XV в. Ибн Арабшаха, выполненный
А. А. Игнатенко. Хотелось бы также обратить внимание чита¬
теля на статью доктора философии Ахмада Мади из Иорданско¬
го университета в Аммане, которая посвящена интересному для
советских исследователей вопросу — оценке их взглядов на фи¬
лософию Ибн Баджи. Хотя эта оценка ограничивается изложе¬
нием самых общих положений его учения в советских работах,
она позволяет тем самым зафиксировать и выявить уровень изу¬
ченности данной философии в СССР. Критический взгляд на
наши т.руды со стороны, тем более со стороны авторов, духов¬
ная культура которых стала предметом внимания наших иссле¬
дователей, думается, вызовет ответный интерес. К тому же,
и это необходимо отметить особо, статья снабжена обширным
источниковедческим комментарием, освещением литературы,
вышедшей на Западе и в арабских странах.
Собранные в едином издании, все эти статьи призваны были
показать мощь движения за рационализацию общественной
мысли, общественного сознания, движения, захватившего поми¬
мо фальсафа также теологию, литературу и определившего рас¬
цвет культуры народов Ближнего и Среднего Востока, взлет
20
его науки в то время, когда Европа переживала этап духовного
застоя. Экскурс в средневековую философию арабо-мусульман¬
ского региона свидетельствует, что здесь наметилась .серьезная
тенденция, выводящая мысль на новый щтъ. Философы при¬
соединили к философскому мышлению теоретическую и опыт¬
ную практику, касающуюся природы. Она давала ищущему
достоверные основы сознанию опору. Помимо интеллектуально¬
интуитивно найденных очевидностей сознание обрело еще мето¬
дологическое оружие, усиливавшее возможности разума. Опыт
заострял действенность таких средств познания, как наглядное
восприятие и рациональное мышление. В «ем разум находил
дополнительные средства, подспорье в своих поисках истинного,
достоверного знания. И хотя во времена творчества великих
арабо-мусульманских философов прорыва разума из умозритель¬
ной системы не произошло, обозначились, и именно благодаря
их деятельности, пути выхода к новой мыслительной парадигме,
новой науке, новой рациональности.
1 Ханафи Хасан. Сакафатуна ал-муасыра бейна-л-асала ва-т-таклид (На¬
ша современная культура между самобытностью и подражанием).— Ал-Адаб.
Бейрут, 1970, № 5, с. 150.
2 См.: Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного горо¬
да.— Аль-Фараби. Философские трактаты. А.-А., 1970, с. 36, 283; Ибн Сина.
Книга знания.— Избранные философские произведения. М., 1980, с. 216; он
же. О душе.— Избранные философские произведения, с. 488 и др.
3 Ибн Сина. Книга знания, с. 95, 145, 222; он же. О душе.— Избранные
произведения мыслителей Ближнего и Среднего Востока. М., 1961, с. 269.
4 Ибн Сина. Книга знания, с. 216—217.
5 Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. М., 1988, с. 164.
6 Там же, с. 56—60.
7 Там же, с. 156.
8 Там же, с. 157.
9 Там же, с. 276.
10 Там же, с. 63.
11 Там же с. 93.
12 Цит. по: Андросов В. П. Диалектика рассудочного познания в творче¬
стве Нагарджуны.— Рационалистическая традиция и современность. Индия.
М., 1988, с. 50.
13 См.: Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму, с. 80.
14 Цит. по: Шохин В. К. Древнеиндийский рационализм как предмет ис¬
торико-философской науки (проблемы периодизации истории древнеиндийской
мысли).— Рационалистическая традиция и современность, с. 39.
15 Шохин В. К. Рационализм классической санкхьи: история и типоло¬
гия.— Рационалистическая традиция и современность, с. 192—193.
16 Там же, с. 189.
17 Цит. по: Семенцов В. С. Бхагавадгита в традиции и в современной
научной критике. М., 1985, с. 117.
18 Там же, с. 61.
19 Там же, с. 65—66.
20 Шохин В. К. Рационализм классической санкхьи, с. 190.
21 Там же, с. 189—190.
22 Там же, с. 185. / ' \
23 Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму, с. 162.'
24 Пятигорский А. М. «Знание» как «знак личности» в духовной куль-
21
туре древней Индии.— Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды по востоко¬
ведению. II. Тарту, 1973, с. 217.
25 Там же, с. 219.
26 Там же, с. 220.
27 См.: Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму, с. 68.
28 Логический атомизм.— Философский энциклопедический словарь. М.,.
1983.
29 Пятигорский А. М. «Знание» как «знак личности», с. 221.
30 Островская Е. П. О месте и роли рационального познания в системе
поздней синкретической ньяя-вайшешики.— Рационалистическая традиция и
современность, с. 103.
31 См.: «Восток—Запад» в мировом историко-философском процессе (ма¬
териалы «круглого стола». М., 1987).— Философские науки. 1988, № 7, с. 106.
32 Антология мировой философии. Т. 1,ч. 2, М., 1969, с. 872—873.
33 См.: Ибн Сина. Книга знания, с. 227—228; он же. О душе, с. 506—507.
Р. И. Султанов
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ
КАЛАМА И ПАТРИСТИКИ
С середины V в. 'В течение полустолетия основной теорети¬
ческой проблемой латинской патристики было соотношение сво¬
бодной воли человека и предопределяющей воли бога. Бурные
дискуссии, вызванные полемическим противостоянием Пелагия
и Августина, продолжались вплоть до собора в Оронте (529),
осудившего крайне волюнтаристские импликации учения Пе¬
лагия, но отнюдь не само положение, что воля человека сво¬
бодна 1.
Восточная патристика оказалась подверженной подобным
дискуссиям в гораздо меньшей степени. Но это не значит, что
деятели восточных церквей были равнодушны к проблеме соот¬
ношения воли человека и воли бога. Они вполне основательно
занимались ею, предложили более или менее последовательные
решения. В частности, тонким защитником воззрений, схожих
с пелагианскими, был Федор Мопсуэтский и ряд теологов-
несториан. Благодаря Руфину Сирийскому позицию, во многом
совпадающую с пелагианской, заняла антиохийская школа. Не¬
удивительно, что Пелагий осел в Палестине, найдя широкую
поддержку местных церковных иерархов.
В начале VII в. вспыхнула борьба между защитниками сво¬
боды воли и предестинационистами в несторианской церкви. Она
развернулась после выступления Бабая Рабы (ум. в 628 г.) про¬
тив Хенаны Адиабенского (ум. в 610 г.), главы Нисибийской
школы2. Их противостояние во многих деталях повторило ход
полемики между Пелагием и Августином и втянуло в ожесто¬
ченные теологические прения значительное число верующих.
Развитие мусульманской теологии (калам) также сопровож¬
далось размежеванием защитников свободы воли и предестина-
ционистов. Судя по источникам, дающим представление о ду¬
ховных исканиях мусульман на рубеже VII—VIII вв. и об
идейно-политических разногласиях в раннеисламской общине,
главными объектами дискуссий были проблемы, обозначенные
понятиями «ал-кабаир» («большие грехи») и «ал-када ва-л-ка-
дар» («приговор и решение»). В целом мыслительные усилия
© Р. И. Султанов, 1990
23
деятелей раннего калама направлялись на решение двух воп¬
росов: об отношении к членам общины, совершившим те или
иные греховные деяния, и о соотношении божьего предопределе¬
ния и воли человека. Многие средневековые авторы отмечают
крайнюю интенсивность этих дискуссий. Они не ослабевали
вплоть до X в., когда, по словам теолога Ибн Хазма (ум. в
1064 г.), «уже лишь немногих занимали -проблемы предопре¬
деления и греха»3.
Лагерь крайних провиденциалистов мусульманские историки:
и ересиографы именуют джабаритским (от «джабр» — «сила,,
власть, принуждение»), а лагерь их противников — кадаритским
(от «кадар» — «способность действовать», «могущество», а так¬
же— «судьба», «неодолимое решение»). К первым относят при¬
верженцев Джахма ибн Сафвана (ум. в 745 г.), главным обра¬
зом выходцев из Хорасана (Северо-Восточный Иран) 4. Када-
ритами именуют, в частности, сторонников Абу Марвана Гай-
лана ад-Димашки (ум. в 742 г.), выходцев из Сирии5.
По поводу употребления терминов «джабарит» и «надарите
необходимо сделать одну оговорку. Поскольку в сложных пере¬
плетениях интересов различных религиозно-политических груп¬
пировок джабаритские или, напротив, кадаритские суждения не
могли быть равно приемлемыми для всех и не получили ста¬
туса общепризнанного догматического определения, названные
термины к середине VIII в. стали ругательными, уничижитель¬
ными обозначениями—в основном лиц, которые смели выска¬
зывать нетривиальные мысли. Очевидно, именно с этим обстоя¬
тельством связано то, что последовательные защитники свободы
воли вовсе не были склонны принимать название «кадариты»
и переадресовывали его своим оппонентам 6.
Численно и в плане массовой поддержки джабариты имели
неоспоримое преимущество перед кадаритами, так как их по¬
зиция «суммировала» суждения большинства мусульман. Джа¬
бариты переносили на Аллаха языческие представления о не¬
умолимом безжалостном провидении, грозном роке, делали бога
свершителем приговора Судьбы, «того, что суждено», «записано
в небесной книге». Они повторяли расхожую идею низовой ре¬
лигиозности, согласно которой греховность и праведность не за¬
висят от индивидуальной воли, а навязываются ей извне. По¬
казательны, например, сетования Гайлана ад-Димашки на то,
что в Сирии простонародье верит, будто дурные, как и хорошие,
дела совершаются по воле Аллаха.
Положение кадаритов было осложнено тем, что в Коране
сплошь и рядом употребляются термины, несущие буквальные
фаталистические значения. Само их наличие и высокий сакраль¬
ный статус препятствовали убедительной критике джабаритских
воззрений. Были и другие препятствия идеологического и эмо¬
ционально-психологического характера. Ссылки на предопреде¬
ление арабы использовали для утверждения своей власти: ло¬
зунг «борьбы за веру» оправдывал их грабительские походы,
24
^ обещание предуготовленного места в райских садах стимули¬
ровало усердие новоявленных «борцов» в ее насаждении.
С образованием религиозно-политических группировок ссыл¬
ки на предопределение заметно участились: враждующие сто¬
роны прибегали к ним для оправдания своих действий. Вожди
всех группировок вдохновляли собственных сторонников прежде
всего убежденностью в твердом знании и неуклонном следо¬
вании божественной воле.
Можно сказать, что предестинационизм был эпохальным яв¬
лением. Он зрел в атмосфере политических смут, роста ощуще¬
ния нестабильности социальных устоев. Его подпитывали не
•только захватнические амбиции арабов, но и мессианские упо¬
вания покоренных ими народов. Представление о принадлеж¬
ности пришельцев к «божьему уделу», включение их в сакраль¬
ную историю как «потомства Авраама и Агари» и -соответствен¬
но признание их «прирожденных прав» на Палестину, землю
‘Обетованную, куда арабы совершают «исход» из Аравийской
пустыни, были существенной чертой восприятия арабского на¬
шествия ближневосточными евреями и христианами7. Не слу¬
чайно во многих греческих « сирийских источниках середины
"VII в. арабы называются беглецами, возвращающимися на ро¬
дину предков. Осмысление слова «мухаджир» («изгнанник»,
греч. magaritai, арам, mahgraye) которое стало самоназванием
последователей Мухаммада, переселившихся вместе с ним в
*622 г. из Мекки в Медину, а затем арабов-мусульман, покинув¬
ших пределы Аравии, показывает, чем было вызвано массовое
обращение в ислам большого числа евреев и христиан.
В годы арабского нашествия появляются сочинения христи¬
анских и еврейских авторов с грозными прорицаниями «конца
времен», с призывами к очищению и покаянию в ожидании Ан¬
тихриста, Лжемессии («Князя лжи») и последующего пришест¬
вия истинного Спасителя. Об отношении к арабам как к мсти¬
телям за многолетнее «унижение Израиля», об исступленно-тре¬
вожном ожидании «второго царя, народившегося от Измаила»,
который будет «возлюбленным Израиля, залатает его прорехи
и бреши его храма», свидетельствует трактат «Тайны рабби Си¬
мона бен Иохаи», созданный в середине VIII в. на основе таргу-
мического источника предшествующего столетия8. Действующие
.лица этого псевдоэпиграфического сочинения — живший во II в.
знаменитый мудрец Симон бен Иохаи, которому приписывается
авторство каббалистического трактата «Зогар», и его собесед¬
ник мудрец Метатрон — усматривают в нашествии арабов-из-
маильтян осуществление давних пророчеств о входе Спасителя
в Сион (Иерусалим).
«Узрев наступающее царство Измаила, он (рабби Симон.—
P. С.) начал вопрошать: „Разве не хватило того, что грешное
царство Эдома (здесь: римляне, византийцы.— P. С.) содеяло
нам и мы должны обрести царство Измаила?“ Метатрон, вла¬
дыка спокойствия, тут же ответил [ему], сказав: „Не страшись,
25
сын человеческий, ибо Бог, хвала Ему, самолично ниспослал
царство Измаила, дабы спасти вас от злодейства. Он поставил
над ними пророка, который следует Его воле, и земля будет
завоевана ими, и придут они, и восстановят ее в величии, и бу¬
дет затем ужасная сеча между ними и потомством Исава“. Раб*
би Симон спросил: „Как же мы узнаем, что в них наше спасе¬
ние?“ Он (Метатрон) ответил: „Разве не сказано пророком
Исайей так: „И увидел он едущих попарно всадников“... и далее?
Почему он поставил всадников на ослах впереди всадников на
верблюдах, когда надобно было лишь сказать: всадники на
верблюдах и всадники на ослах? Но когда всадник на верблю¬
де прошествует, за ним грядет царство всадника на осле“»9.
Упомянутый здесь всадник на верблюде (Исаия 21, 7) —это,
несомненно, мусульманский вождь, возвещающий пришествие
истинного спасителя Израиля, который, согласно Писанию, не¬
пременно должен быть всадником на осле (Зах. 9, 9).
К столь убедительной легитимации их владычества арабы
не могли остаться равнодушными. Так, в «Истории пророков и
царей» Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (ум. в 923 г.) уже
дано описание взятия арабами Иерусалима, которое информатор
летописца увязывает с исполнением древнего предсказания. Там
же сообщается, явно- вопреки реальным событиям, о приезде
халифа Омара в Палестину последовательно на коне, на вер¬
блюде и на осле.
Сюжетная канва сообщения о взятии Иерусалима такова.
Командующий арабскими отрядами под Иерусалимом, именуе¬
мым Табари Илия (от Aelia Capitolina — названия города со
времени правления римского императора Адриана), Амр ибн
ал-Ас якобы потребовал от византийского военачальника Арта-
буна, который защищал город, сдачи последнего. Артабун отка¬
зался, ибо знал, что город должен взять другой человек — по
имени Омар. Посол вернулся к Амру ибн ал-Асу и объяснил
причину отказа. Арабский военачальник понял, что речь идет
о халифе Омаре и написал ему. Омар сообразил, что Амр гово¬
рит неспроста, «и кликнул клич людям, вышел во главе их
и остановился в ал-Джабии» (в 150 км к северо-западу от Иеру¬
салима). Всего, согласно Табари, Омар был в Сирии четыре
раза: «Что касается первого раза, то он был на коне, что ка¬
сается второго раза, то он был на верблюде; что касается
третьего раза, то его удержало от вступления в Сирию то об¬
стоятельство, что там свирепствовала чума; что касается четвер¬
того раза, то он вступил в Сирию на осле» 10.
Далее, ссылаясь на Салима ибн Абдаллаха (ум. в 724 г.)г
внука халифа Омара, Табари сообщает: «Когда Омар прибыл
в ал-Джабию, один еврей сказал ему: „Повелитель верующих,,
ты не вернешься в твою страну, пока Бог не откроет тебе Илии“..
В то время как Омар находился .в ал-Джабии, он неожиданна
увидел приближавшийся отряд конников. Подъехав к нему по¬
ближе, они обнажили мечи. Тогда Омар сказал: „Эти люди:
2G
просят амана (пощады—P. С.), обещайте им аман!“ Они приб¬
лизились, оказались жителями Илии, заключили с Омаром мир
на условии уплаты поголовной подати и сдали ему Илию. Ког¬
да она была сдана ему, он позвал того еврея, и ему было заяв¬
лено, что он (еврей.— P. С.) действительно человек знающий.
Омар спросил его об ад-Даджжале (Антихристе.— P. С.), о ко¬
тором он (вообще) много расспрашивал. Еврей ответил: „И что
же ты спрашиваешь о нем, о повелитель верующих? Ведь вы,
арабы, клянусь Богом, убьете его в 13—19 локтях от ворот
Лудда“» и.
В описании деталей пребывания халифа Омара в 639 г. в
Иерусалиме у Табари в качестве выразителя мессианских упо¬
ваний евреев фигурирует вполне реальное историческое лицо —
;Ка‘б ал-Ахбар (ум. в 652 или 654 г.), иудей, чуть ранее в том
же году принявший ислам и сопровождавший халифа в поезд¬
ке12. «Со слов Раджа ибн Хейва (ум. в 730 г.— P. С.), слышав¬
шего от очевидцев: когда Омар отправился из ал-Джабии в
Илию и приблизился к мечети (Давидовой), он сказал: „Оты¬
щите мне Ка‘ба!“ Когда же прошел через ворота, то сказал:
„Вот я перед Тобою, Боже мой! Приношу Тебе то, что Тебе
приятнее всего“. Затем он пошел к михрабу Давидову — а это
было ночью — и помолился там. Не успел он помолиться, как
появилась заря. Тогда он приказал муэззину провозгласить ика-
му (вторичный призыв на молитву.— P. С.), выступил вперед,
совершил с народом молитву, прочитал суру Сад (38-ю главу
Корана.— P. С.) и простерся при этом ниц. Затем он встал, про¬
читал еще начало суры Израильтян (сура 17 — „Перенес
ночью“.—P. С.) и совершил ракат (коленопреклонение). Затем
он удалился и сказал: „Подавайте мне Ка‘ба!“ Его привели,
и Омар сказал: „Где ты советуешь нам устроить место для
молитвы?“ Тот ответил: „Лицом к ac-Сахре“. Омар сказал:
„Клянусь Богом, ты еврействуешь, Ка‘б, я уже заметил, что ты
снял сандалии“. Тот ответил: „Я желал попрать это место своей
ступней...“ Затем от того места, где он (Омар) молился, он
подошел к сорной куче, где румы во времена израильтян зарыли
храм Иерусалимский; когда Иерусалим перешел в руки изра¬
ильтян, они сняли часть кучи и оставили часть ее. И сказал
Омар: „Люди, делайте, как я!“, и он стал на колени у под¬
ножья кучи, набросал сора в одну из складок своего плаща и
в это время услышал сзади такбир (речение „Аллах акбар“ —
„Бог велик“.—P. С.). Омар терпеть не мог, чтобы его в чем
бы то ни было прерывали; он сказал: „Что это?“ Ему ответили:
„Ка‘б произнес такбир, и люди повторили его“. Омар сказал:
„Подавайте мне Ка‘ба!“ Его привели, и он сказал: „Повелитель
верующих, один пророк 500 лет назад предсказал то, что ты
сделал сегодня“. „Как так?“—спросил Омар. „Румы,— ответил
Ка‘б,— сделали нападение на израильтян, победили их и зары¬
ли храм, затем счастье улыбнулось израильтянам; но не успели
«они найти времени для храма, как на них напали персы; и они
27
притеснили израильтян. Затем счастье улыбнулось румам про¬
тив персов, пока ты не стал правителем. И посла л Бог пророка
на эту кучу сора, и он сказал: „Радуйся, Ури Шалам (Иеруса¬
лим)! у тебя будет ал-Фарук („Отделитель“), который очистит
тебя от того, что в тебе“. И был послан другой пророк в Кон¬
стантинополь, и встал на холме его, и сказал: „Константино¬
поль! что сделал твой народ с Моим домом? они опустошили его,
а тебя уподобили Моему престолу и перетолковали Мои слова,
вследствие чего я постановил о тебе решение, что сделаю тебя
однажды лысым, так что никто не будет искать у тебя приюта
•и не укроется в твоей тени, [и ты будешь развеян], подобно
потомству ал-Казира, Сабы и Ваддана“. И не наступил вечер,
как от кучи ничего не осталось.
Рабби Сириец передает то же самое, прибавляя (к словам
Ка‘ба ал-Ахбара об ал-Фаруке.— P. С.): „Придет к тебе ал-
Фарук во главе моего послушного войска, и они отомстят за
тебя румам“, и относительно Константинополя: „Я оставляю
тебя лысым, выставленным на солнце; никто не будет искать
у тебя приюта, и никого ты не осенишь“»13.
Многие исследователи отмечают сходство аргументации ка-
даритов и их преемников — мутазилитов с аргументацией хри¬
стианских теологов и считают возможным говорить о значитель¬
ном воздействии мыслительных схем патристики на калам. Пра¬
вомерно задать вопрос, что служит убедительным свидетельст¬
вом христианского влияния на ход кадаритско-джабаритской
полемики и соответственно каким образом это влияние осу¬
ществлялось?
Мусульманские ересиографы подчеркивают, что кадариты в
большинстве своем были мувалладами, т. е. «новорожденными»
мусульманами. Это позволяет утверждать, что первоначально с
доводами христианских теологов мусульмане ознакомились в ос¬
новном благодаря принятию значительной массой ближневосточ¬
ных христиан веры новых господ. Многие новообращенные име¬
ли устоявшиеся догматические представления. Среди них попа¬
дались даже священники и образованные миряне, обладавшие
опытом решения спорных вопросов догматики. Когда процессы
общественно-политического и идейного развития поставили му¬
сульман перед проблемой рационального обоснования вероиспо¬
ведных истин и необходимостью «оправдания» бога, вчерашним
христианам было легче исходить из привычных описаний бога
как абсолютно благого существа, а человека как существа изна¬
чально греховного, несущего полную ответственность за твори¬
мые им злые деяния.
Но участие мувалладов в кадаритско-джабаритской полеми¬
ке и их влияние на ее ход не следует преувеличивать. Во-пер¬
вых, грамотных мувалладов было мало. Как и арабы, в массе
своей они были людьми необразованными. Во-вторых, даже от¬
носительно грамотная часть новообращенных вряд ли осмыс¬
ливала проблему соотношения предопределения и свободы воли*
28
парадоксы морального выбора и ответственности человека столь
#се глубоко, как закаленные в догматических прениях отцы
церкви. О последовательной теодицее здесь не может быть и
речи, ибо она требует достаточно высокой культуры мысли. На
всем протяжении средневековья ее демонстрировали лишь не¬
многие искушенные в теологии и философии лица.
На наш взгляд, если влияние христианской теологии и могло
сказаться на кадаритско-джабаритской полемике, то поначалу
не в виде предложенных христианами зрелых теологических
идей и готовых схем, а в виде порыва к умозрению, осознан¬
ного побуждения к постановке и разрешению мыслительных
проблем.
Вдумчивый описатель истории калама аш-Шахрастани (ум. в
1153 г.) так характеризует кадаритов: «Сущность кадаритов —
в желании найти причину всякой вещи, а это [пошло] от сущ¬
ности первопроклятого (дьявола.— P. С.), так как он искал,,
во-первых, причину сотворения, во-вторых, мудрость в религиоз¬
ной обязанности, в-третьих, пользу в обязанности поклоняться
Адаму...»14. Люди следом за дьяволом «противопоставляют соб¬
ственное мнение божественному указанию, предпочитают собст¬
венные желания божественному повелению»15. Первое дьяволь¬
ское сомнение в справедливости и правоте решений бога поро¬
дило людские сомнения, что выразилось в распространении ере¬
тических и ошибочных учений, в том числе и учения кадаритов.
Дьявол, считает Шахрастани, поставил проблему теодицеи в
таких вопросах:
«Первый -из них. До того как сотворить меня, он уже знал,,
что из меня выйдет и что из меня получится. Так почему же
он сотворил меня первым? Какова же мудрость в том, что он
сотворил меня?
Второй [вопрос]. Раз он сотворил меня по своей воле и же¬
ланию, то зачем же он обязал меня признать его и повиноваться
ему? Какова же мудрость в этой обязанности, коль скоро он
не воспользуется повиновением и не пострадает от непослуша¬
ния?
Третий [вопрос]. Раз он сотворил меня и обязал меня и я
следовал вмененной им обязанности признавать [его] и пови¬
новаться [ему], признал [его] и повиновался [ему], то зачем
же он обязал меня повиноваться Адаму и поклоняться ему?
Какова же мудрость в этой обязанности, особенно учитывая, что
это не увеличивает мое признание [его] и мое повиновение ему?
Четвертый [вопрос]. Раз он сотворил меня, обязал меня
в общем и возложил на меня эту обязанность в частности, то
почему же он проклял меня и изгнал из рая, когда я не по¬
клонился Адаму? Какова же мудрость в том, коль скоро я не
совершил ничего плохого, кроме того, что сказал: „Я поклоняюсь
только тебе“?
Пятый [вопрос]. Раз он сотворил меня и обязал меня в
общем и в частности, но я не повиновался и он проклял меня
»
л прогнал меня, то зачем же он открыл мне путь к Адаму, так
что я вторично вошел в рай, совратил его своим искушением,
и он вкусил после этого от запретного дерева, и он изгнал его
из рая вместе со мной? Какова же мудрость в том, учитывая,
что если бы он запретил мне входить в рай, то Адам отдохнул
бы от меня и пребывал бы в нем вечно?
Шестой [вопрос]. Раз он сотворил меня, обязал меня в об¬
щем и в частности, проклял меня, затем дал дорогу в рай и
между мной и Адамом был спор, то зачем же он предоставил
мне власть над его потомками, так что я вижу их там, где они
не видят меня, мое искушение действует на них, а на меня не
действуют их сила и их могущество, их способность и их воз¬
можность? Какова же мудрость в том, учитывая, что если бы
он сотворил их сообразно природе, без того, кто отвращает их
от нее, с тем чтобы они жили непорочными, послушными, покор¬
ными, то это было бы лучше для них и более достойно мудрости?
Седьмой [вопрос]. Я признаю все это: он сотворил меня и
обязал меня в общем и в частности; поскольку я не повино¬
вался, он проклял меня и прогнал меня; когда я захотел войти
опять в рай, он дал мне такую возможность и открыл мне путь,
а так как я сделал свое дело, он изгнал меня; затем он дал мне
власть над людьми. Но зачем же он, когда я попросил у него
дать мне отсрочку, сказав: „Дай мне отсрочку до дня, когда
они будут воскрешены“, сказал: „Поистине, ты — из тех, кому
будет отсрочено до дня назначенного времени“? Какова же муд¬
рость в том, учитывая, что если бы он погубил меня тотчас,
то Адам и люди отдохнули бы от меня и в мире >не осталось
бы никакого зла? Не лучше ли сохранить мир в благоустройст¬
ве, чем смешивать его со злом?» 16.
Шахрастани безусловно прав, называя кадаритов первыми
«задумавшимися» и «препирающимися» мусульманами. Не толь¬
ко муваллады, но и прирожденные «истинные» мусульмане из
числа чистокровных арабов, взявшись за продумывание «дья¬
вольских» мыслительных каверз, могли быть и, вероятно, были
смущены совпадением в дотоле привычном облике бога взаимо¬
исключающих черт, сочетанием в его характере качеств злого
тирана, неумолимого свершителя собственных решений с чер¬
тами характера бесконечно доброго «дарителя прощения»,«по¬
дателя благ», «спасителя». Отсюда их недоуменные вопросы и
в первую очередь попытка определить, что же в описаниях бога
главное — гневливость, мстительность, нежелание поступиться
властью над миром или доброта, справедливость, желание уни¬
версальной гармонии, терпимость к слабостям существа, сотво¬
ренного из «праха земного», из «сгустков жил», которому он
заставил поклониться даже ангелов, сотворенных из «чистого
огня»? Если бог дал мирозданию разумное устроение, а чело¬
веку— разум, мог ли он ограничить свободу человека, предоп¬
ределив все его поступки, и соответственно, если человек не во¬
лен в своих поступках, почему он должен отвечать за них?
30
Постановка этих вопросов свидетельствует о желании када-
ритов преодолеть естественное для языческой религиозности
•представление о богах как носителях амбивалентных качеств,
об отрицании лишенной этического смысла идеи судьбы как без¬
вольной вовлеченности в космический круговорот бытия.
Конечно, кадаритскую критику лицемеров, скрытых язычни¬
ков нельзя назвать неожиданной для современников: в ней они
зачастую были неотличимы от прочих морализирующих крити¬
ков наследия джахилийи — доисламской эпохи «неведения бога»,,
но именно кадариты решились придать моралистической крити¬
ке языческого атавизма последовательно-доказательную форму.
Эта попытка не имеет зримых прецедентов в краткой предшест¬
вующей истории ислама. Реально предваряющая ее традиция
начинается не с изречений Мухаммада, не с его инвектив в
адрес современных ему «лицемеров», а с критико-апологетиче¬
ского «богословствования» ветхозаветных пророков. То, что бы¬
ло проблемой для пророков, вещавших полуязычникам Иудеи,
столетия спустя вновь превратилось в проблему — уже для мо¬
лодого мира ислама. Начинающие мусульманские теологи, чье
беспокойство по поводу осознанной ими этической апории бога,
который наказывает за дурные поступки, творящиеся по его же
воле, не могло быть удовлетворено противоречивыми суждения¬
ми Мухаммада, сами того не ведая, задали вопросы, некогда
сформулированные и по-своему решенные адептами двух других
религий Писания.
По замечанию С. С. Аверинцева, исторические типы теоди¬
цеи зависят от определяемых социальной ситуацией мыслитель¬
ных возможностей постановки вопросов, требующих «оправда¬
ния» бога17. Таких возможностей у кадаритов было немного.
Поэтому прежде чем сравнивать разработанные в раннем ка¬
ламе варианты теодицеи с вариантами, разработанными ранее
отцами церкви, на наш взгляд, уместно было бы сопоставить
предложенный кадаритами подход к проблеме с тем, что встре¬
чается в «таком документе становящегося теизма, как библей¬
ская книга Иова»18.
Обратимся к ней, вкратце наметив вехи предваряющей ее
ветхозаветной критики языческого атавизма. В числе пророков,
выдвинувших на передний план универсализм и справедливость
верховного бога Яхве, можно назвать Амоса, Осию, Первоисаию
и других деятелей «до-пленного» периода (VIII—VII вв. до я. э.).
В их мироощущении и в суждениях появляется нечто общее,
а именно озабоченность моральной стороной отношений бога
и людей.
От недоуменного переживания по поводу растущего чис¬
ла конфликтов между богом и «богоизбранным» народом, от
горьких попреков в адрес израильтян за измену своему богу
и блуд с чужими богами они начинают подходить к критике
веры в интимную связь между богом и «его» общиной, веры
в справедливость получения награды и возмездия не индивидом,
31
а сакральной телесностью цельнодействующей «общины Израи¬
ля», судимой «не взирая на лица».
Следует подчеркнуть, что у древних израильтян, как -и у а-ра-
бов-язычников, отсутствовала идея загробного воздаяния. Они
верили, что после смерти тела душа опускается в шеол — мрач¬
ное подземелье, место забвения. Шеол можно сравнить с царст¬
вом Аида в греческой мифологии, где бестелесные духи прозя¬
бают в призрачном существовании. В нем нет различия между
рабом и хозяином, поденщиком и царем; равная участь уготова¬
на злому и доброму, нечестивцу и праведнику19.
Идея прижизненного воздаяния не встречала трудности, пока
имелась в виду жизнь всего виновного коллектива — строптиво¬
го «жестоковыйного» народа, нарушающего обет верности свое¬
му богу. Хотя при таком массовом подходе, игнорирующем со¬
циальную и нравственную градацию, страдали также и невин¬
ные, это не вызывало сомнений в справедливости бога. Но уже
современники пророка Иеремии (VII—VI вв. до н. э.) с трудом
примирялись с традиционным представлением о коллективной
ответственности. Они с возмущением заявляли: «Отцы ели кис¬
лый виноград, а у детей на зубах—оскомина» (Иер. 31, 29).
Отвечая на их недоуменные вопросы и негодование по поводу
уравнивания праведников и грешников, Иеремия заверяет, что
в будущей жизни все будет иначе, чем в настоящей: «Но каж¬
дый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет
есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет»
(Иер. 31, 30). Его современник Иезекииль также подтверждает,
что бог будет судить каждого по его делам: «...сын не понесет
вины отца и отец не понесет вины сына, правда праведного при
нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается»
(Иез. 18, 20).
Переход к новой форме интерпретации взаимоотношений
бога и созданных им тварей совершался очень долго, сопутствуя
процессу разложения патриархально-родовых устоев, усилению
имущественной дифференциации, возрастанию личных прав од¬
них и личных обязанностей других членов коллектива. По мере
индивидуализации общественной жизни их отношение к богу
становилось все более личностным. Они уже обращались к нему,
руководствуясь частно-эгоистическими интересами, от себя, «от
лица своего», а не только как безликие члены целиком спасае¬
мой или целиком осуждаемой этническо-религиозной общности20.
Представители пророческой когорты должны были отвечать
на новые религиозно-нравственные вопросы, идти навстречу ес¬
тественному нежеланию невинных страдать вместе с виновны¬
ми. Остро переживая растущий антагонизм «интересов» бога
и человека в отдельности, пророки вынуждены были раз за ра¬
зом ставить «проклятые» вопросы: как бог может оправдать
существование зла ib созданном им мире? Как он может за
зло, творимое одной частью общины, наказывать другую, луч¬
шую ее часть?
32
Сомнения в справедливости огульного, «не взирая на лица»»
©оздаяния демонстрируют многие пророки. Софония заявляет:
«...не делает Господь ни добра, ни зла» (Соф. 1, 12). Автор
«Екклесиаста» горько сетует: «...праведник гибнет в праведности
своей; нечестивый живет в нечестии своем» (Еккл. 7, 15). Ие¬
ремия при всем своем демонстративном смирении осмеливается
задать богу вопрос: «Праведен будешь Ты, Господи, если я ста¬
ну судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о
правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все веро¬
ломные благоденствуют?» (Иер. 12, 1).
Связь между этими богоборческими высказываниями и ин¬
дивидуалистическими моральными поисками пророков, между
их апелляциями к эсхатологической перспективе спасения не
вечного «народа святого», а вечного индивида и возрастанием
личных требований последнего к богу, соответственно личной
ответственности перед ним совершенно очевидна21.
Как и среди мусульман, разделившихся на джабаритов и
кадаритов, среди израильтян лица, озабоченные моральной сто¬
роной взаимоотношений бога с «возлюбленным» им народом,
а также собственным нравственным обликом бога, вероятно,
собирались в кружки, чтобы сообща обсуждать волнующие их
проблемы. Недаром в самом начале Книги псалмов восхваляет¬
ся человек, который «не ходит на совет нечестивых, и не стоит
на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей»
(Пс. 1. 1).
Ситуация размежевания и противостояния усомнившихся в
ветхозаветной теодицее с теми, кто защищал ее, наиболее на¬
глядно отражена в «Книге Иова». Характерно, что в роли раз¬
рушителя теодицеи «вчерашнего дня», основанной на коллек¬
тивном воздаянии и предопределении всех действий человека,
оказался не высоколобый книжник, а здравомыслящий обыва¬
тель, о котором сообщается, что он был «непорочен, справедлив
и богобоязнен, и удалялся от зла» (Иов 1, 1).
Сюжетная канва «Книги Иова» такова. Сатана навел бога
на мысль, что праведность Иова небескорыстна, и бог решил
подвергнуть его испытанию. С разрешения бога сатана насы¬
лает на праведника ужасные бедствия — потерю богатства, ги¬
бель детей, проказу, но тот не произносит ни слова осуждения
бога. Три старых друга приходят к нему, чтобы выразить со¬
чувствие, однако, ужаснувшись глубине страданий Иова, они
не могут вымолвить хотя бы слово. Жена предлагает Иову
простой выход из мучительного конфликта между верой в спра¬
ведливость решений бога и знанием собственной невинности:
•«...похули бога, и умри» (Иов 2, 9). Иов не принимает этот вы¬
ход и начинает полемику с друзьями, пришедшими утешить
его. Ход полемики превратил доселе покорного раба в богобор¬
ца, возмущенного искателя справедливости.
Реальными фактами Иов опровергает представления о безус¬
ловной справедливости и всегдашней правоте действий бога.
3 Зак. 635
за
Повсюду на земле праведники страдают, гибнут от рук зло¬
деев, терпят унижение от беззаконников, «и бог не воспрещает
того» (Иов 24, 12). Видят ли пришедшие к Иову «жалкие
утешители» справедливое воздаяние каждому «по путям его»?
Нет, они выдают желаемое за действительное. В жизни бог
равно «губит и непорочного, и виновного» (Иов 9, 22); он явно*
благоволит беззаконию: «...в день погибели пощажен бывает*
злодей, в день гнева отводится в сторону» (Иов 21, 30). Нечес¬
тивцы и беззаконии™ проживают долгую жизнь в богатстве,,
окруженные многочисленным потомством, и умирают легкой и
быстрой смертью. Они горделиво говорят, что всем прочим не¬
зачем служить богу и бесполезно прибегать к его помощи (Иов-
21, 7—15).
Аргументы друзей Иова можно выстроить так. Они не отри¬
цают, что в жизни часто страдает тот, кто, подобно Иову, счи¬
тает себя невиновным в совершении зла. Но никто из живущих
не может относить себя к совершенно невинным перед богом;
«...как быть чистым рожденному женщиною? Вот даже луна,,
и та несветла, и звезды нечисты перед очами Его» (Иов 25,.
4—5). Далее. Каждый может совершить «грех по неведению».
Человек, который себя считал невинным, должен рассматривать
постигшее его несчастье как вещий знак, коим отмечена «заслу¬
га» потаенного греха. Наказание следует принимать с благо¬
дарностью и смирением. Ведь убежденность в собственной пра¬
ведности сама по себе есть греховная гордыня.
Кроме того, страдание необязательно является наказанием
за уже совершенный грех. Оно может быть послано богом ь
качестве предупреждения тому, кто намеревается вступить на
этот путь. Чтобы отвести человека от греха и «удалить от него
гордость», бог остерегает его ночным видением или болезнью,
«жестокою болью во всех костях...» (Иов 33, 17, 19).
Подошедший «молодой мудрец» Елиуй защищает бога от
обвинения, что он не слышит стонов угнетенных. Все дело в
том, что даже те, кто стонут, не смирились перед богом. Они
вопиют. «Но никто не говорит: «Где Бог, Творец мой“... и Он не
отвечает им, по причине гордости злых людей» (Иов 35, 10—12).
Вилдад укоряет Иова за то, что он горделиво осмеливается
возвести свое страдание в ранг вселенской проблемы (Иов
18, 4).
Контраргументы Иова таковы. Он допускает возможность,
что в юности совершил какой-либо грех. Но справедливо ли
было со стороны бога наслать на него столь страшное, несоиз¬
меримое с самим грехом наказание? Иов готов признать, что
человек порочен от рождения. Но в подобном случае бог вовсе
не должен гневаться на человека, когда тот совершает грех,
ибо сам сотворил его таким. В конце концов, если человек в
чем-то провинился, достойно ли всемогущего бога мщение столь
ничтожному существу, чья жизнь как «сорванный листок», и сам
он как «сухая соломинка»? Почему бог не проявит великоду-
34
илия, простив его грех? Ведь бог не ровня человеку, чтобы Иов
мог пойти с ним на суд (Иов 16, 21; 9, 32).
Иов возражает против идеи профилактической роли наказа¬
ния.^ Если человек намеревается совершить грех, то и это за¬
висит от бога; «пред Ним заблуждающий и вводящий в заблуж¬
дение» (Иов 12, 16). Иов отвергает утверждение, что страдание
обусловливает будущее блаженство и само есть благо. Он не
верит, что страдающий воскреснет из мертвых и обретет счастье,
в загробном мире. Смерть — это конец и радости, и горю. С нею
•нельзя связывать никаких ожиданий. Человек умирает и уходит
яз жизни безвозвратно. «...Ляжет и не встанет; до скончания
неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Иов 14,
10 и 12). Соответственно Иов не согласен с объяснением, что
бог отомстит детям злодея: «Пусть воздаст Он ему самому,
«ггобы он это знал... Ибо какая ему забота до дома своего после
него, когда число месяцев его кончится» (Иов 21, 19—21). Иов
опрокидывает укоренившиеся представления о боге, развенчи¬
вает взгляды своих друзей — защитников вчерашнего дня иудей¬
ской идеологии. Недаром Вилдад в начале спора откровенно
признается: «А мы »вчерашние, и ничего не знаем» (Иов 8, 9).
Особенно примечательна концовка спора с друзьями: «...те три
мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в
тлаэах своих» (Иов 32, 1). Но тут в защиту иудейской ортодок¬
сии неожиданно выступает «из бури» сам бог. Он подводит итог
полемике таким аргументом: человек по сравнению с богом
столь слаб и неразумен, что просто не имеет права судить о
•его делах. Бог заставляет Иова признать: «Вот, я ничтожен,'
что буду я отвечать тебе? Руку мою налагаю на уста мои»
(Иов 39, 34). Тот отрекся от своих богоборческих суждений, за
что получил «вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов
42, 10).
.i По сути дела, бог не ответил на тревожные раздумья Иова:
уйдя от существа затеянного им спора, одержал в нем весьма;
сомнительную победу. Впрочем, вряд ли стоит умалять торжест¬
во бога в данном случае. Допустим, что в тексте «Книги Иова»
пет ортодоксальных интерпелляций и что Иов охотно принял по¬
рядок вещей, при котором возможны жестокость и произвол
неправедных и страдания безвинных. Если исключить мотив
страха и выгоды, что заставило его'оправдать бога? Американ¬
ский драматург А. Маклиш, спроецировавший драму Иова на
нашу действительность, вкладывает в уста героя-страдальца та¬
кой ответ:
Да, мы виновны — не может быть иное,
Господь немыслим, если мы безвинны22.
Не в этой ли фразе — истинный смысл решения Иова, раскры¬
ваемый многими поколениями читателей и комментаторов «Кни¬
ги Иова»? Подобная формулировка решения связана не столь¬
ко с проблемой теодицеи,’ сколько с проблемой существования,
3*
35
а следовательно, и сосуществования бога и человека. Они не¬
мыслимы друг без друга, скованы одной цепью. Если мы не
сомневаемся в том, что миром управляет бог, мы не должны
сомневаться, что он делает это наилучшим образом, даже если
самокритично полагаем его действия непостижимыми для нас.
Признание виновности человека и принципиальной непостижи¬
мости действий бога переводит проблему теодицеи из облает
разума в область веры, а сама вера выступает как безоговороч¬
ная личная преданность и сознательное повиновение человека:
богу, как его доверие к правоте бога23.
Кадариты, как и их ветхозаветный предшественник, начи¬
нали не со строгих логических доказательств, а с апелляций к:
элементарному чувству справедливости и здравомыслию своих
современников. Раннеисламские полемисты легко выявили про¬
тиворечивость коранических описаний бога, но в отличие or
Иова, примирившегося со своевольно-тираническим божествен-
ным управлением, иными словами, пожертвовавшего разумом1
ради веры, они, стремясь подвести под критику «джабаритского*
облика бога прочный фундамент умозрения, безостановочно
пошли дальше. Интеллектуальное «грехопадение» мусульман на¬
чалось с реализации потребности адептов новой религии Писа¬
ния в теодицее более высокого интеллектуального уровня, не¬
жели та, которая отражена в Коране и больше соответствует
языческим представлениям арабов.
Сходство духовно-культурного контекста деятельности пер¬
сонажей «Книги Иова» и участников кадаритско-джабаритской
полемики указанным выше не ограничивается. Нужно сказать
также, что и в том и в другом случае само появление полемис¬
тов было прямым результатом разрушения социальных устоев
и традиционной религиозности. «Книга Иова» была написана в
IV—III вв. до н. э., когда Иудея испытывала сильнейшее влия¬
ние эллинистической культуры и философии. В эти годы шла
острая борьба филэллинистов и хасидеев, защитников «веры
отцов», которые пытались «возвести ограду вокруг Торы» но¬
выми ее толкованиями. Их противостояние способствовало
оформлению сословия книжников-теологов (соферим)—той са¬
мой общественной группы, главной задачей которой стало ду¬
ховное производство, идеологическая рефлексия, направленная
на создание всеобъемлющей религиозно-догматической системы.
До начала кадаритско-джабаритской полемики в арабо¬
мусульманском обществе тоже не было сословия книжников —
профессиональных «хранителей веры», блюстителей «чистоты
Писания». Противостояние кадаритов и джабаритов способство¬
вало складыванию сословия, основной функцией которого стала
духовное посредничество, осуществление идеологических связей
между всеми сословиями и которое высоко ценило это свое наз¬
начение (или по меньшей мере принимало его всерьез). Бла¬
годаря кадаритско-джабаритской полемике термин «калам»,,
буквально означающий «слово», «речь», «литературный диалог»*
36
и задолго до возникновения ислама использовавшийся в смыс¬
ле полемического способа выявления истины, начал применять¬
ся к вполне определенному виду интеллектуальной деятель¬
ности, а именно к строгому и последовательному рассмотрению
«слова божьего». Чтобы калам из элемента языческой риторики
превратился в умственную «отмычку» деятелей новой культуры,
он должен был пройти рубеж, отмеченный дискуссиями об «ис¬
тинном» содержании коранических положений, их «правильной»
интерпретации.
Практически полное отсутствие отвлеченной терминологии
так же очевидно для раннеисламской культуры, как и для ан¬
тичной доаристотелевской философии. У раннеисламских мыс¬
лителей термины сакрального обихода, как и философские тер¬
мины у греков,— это чаще всего первые попавшиеся слова из
сферы обыденного словоупотребления. Именно рубеж созна¬
тельного и целенаправленного терминотворчества отделяет ка¬
лам от его материнского лона — синкретической «мудрости»
языческой культуры, унаследованной исламизировавшимися
арабами, от дидактики сумбурных пророческих речений хани-
фюв и Мухаммада, словом, от «предфилософской предриторики»
(С. С. Аверинцев), столь характерной для раннеклассовых куль¬
тур Ближнего Востока, но в равной степени присущей любому
культурному региону, переходящему от «мифа» к «логосу».
О вкладе кадаритов и джабаритов в понятийное становле¬
ние калама можно судить по ряду дошедших до нас текстов
раннеисламской эпохи. Это — две антикадаритские работы:
«Послание» халифа Омара II (ум. в 720 г.) и «Вопросы» Ха¬
сана ибн Мухаммада ал-Ханафийи (ум. ок. 719 г.) и две адре¬
сованные халифу Омару II антиджабаритские полемические ра¬
боты: «Послание» Хасана ал-Басри (ум. в 728 г.) и «Послание»
уже упоминавшегося Гайлана ад-Димашки. Действительная при¬
надлежность данных текстов перу указанных лиц, пожалуй за
исключением «Послания» Хасана ал-Басри, сомнительна24, од¬
нако это вовсе не умаляет их значения в качестве образцов
формирующейся теологической книжности.
В сочинениях Омара II и Хасана ал-Ханафийи25 один из
главных пунктов обвинения в адрес оппонентов — неверная трак¬
товка ими коранического термина «аджал» («назначенный срок»,
«предел»). Омар II, в частности, приписывает кадаритам утверж¬
дение, что насильственная смерть приходит не ввиду окончания
назначенного богом срока жизни, а по случайному стечению
обстоятельств26. Он осуждает проводимое в связи с этим раз¬
личение кадаритами божьего предвидения и собственно предоп¬
ределения, которое использовалось ими в целях доказательства
свободы воли человека.
Ссылаясь на коранические утверждения, что все течет и вся¬
кий «направляется к определенному пределу» (13: 2; 31: 28;
35: 14), что «для всякого предела—свое писание» (13: 38),
что «предел Аллаха, когда придет,— не отсрочивается» (71: 4),
37
Омар II заявляет, что божье предвидение человеческих деяний
тождественно повелению совершить эти деяния. Предопределе¬
ние (ал-када ва-л-кадар) он истолковывает в крайне пессимис¬
тическом смысле, акцентируя не столько милосердие и справед¬
ливость бога, сколько его всемогущество, жестокость и неумоли¬
мость. Предопределение, разъясняет Омар II, есть божье ре¬
шение, высказанное еще до сотворения мира, согласно которому
лица, «от материнского чрева» предназначенные к райским уте¬
хам, будут спасены от адского огня, а те, кто «от материнского
чрева» предназначены к адскому огню, не смогут никакими уси¬
лиями обрести райские утехи.
Любопытный антикадаритский аргумент, использующий ло¬
гический прием сведения к абсурду, приведен в сочинении Ха¬
сана ал-Ханафийи. Обращаясь к приверженцам, он пишет:
«Хотел ли бог для людей изначально лишь добра, а ад устроил
впоследствии, или же он хотел изначально и зла? Если они
(кадариты.— P. С.) скажут: „Бог хотел людям лишь добра“,
то их следует спросить: „Как же так получается, что он устроил
ад, зная, что людям не будет от этого пользы и он лишь повре¬
дит им?“. Если же они скажут: „Бог устроил ад, чтобы повре¬
дить людям“, то сами себя опровергнут»27. По мысли автора,
поскольку ад сотворен изначально, очевидно, что существование
зла в мире предрешено богом. В подтверждение своих слов он
приводит кораническое изречение: «Мы сотворили для геенны
много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не пони¬
мают, глаза, которыми они не видят, уши, которыми не слы¬
шат» (7; 178). Отсюда становится ясным, что бог предопреде¬
лил некоторым людям ад, а некоторым рай, сделав первых
неспособными уверовать, а вторых неспособными творить зло.
В полемике об аджал, нашедшей отражение в сочинениях
Омара II и Хасана ал-Ханафийи, ряд исследователей усматри¬
вает влияние дискуссий, шедших в сиро-христианской среде28.
Действительно, как можно судить по переписке монофизитского
теолога Иакова Одесского (ум. в 708 г.) с Иоанном Литарбским
(ум. в 737 г.), многие сирийские христиане были убеждены, что
каждому человеку отведен срок жизни, к которому нельзя ни¬
чего прибавить и который нельзя убавить ни на один день. Не
только рядовые верующие, но и церковные иерархи при обсуж¬
дении вопроса о существовании жизненного срока (‘eddänä),
или предела (tehömä; meshühtä), проявляли серьезные колеба¬
ния, демонстрировали языческий атавизм. В ответ на просьбу
Иоанна из Литарбы разъяснить позицию отцов церкви по столь
деликатному вопросу Иаков заявляет, что подобная вера бого¬
хульна, подрывает нравственные устои христианства. Коль ско¬
ро Адаму было предначертано согрешить и обрести «предел»,
стать смертным, его наказание не имело бы морального оправ¬
дания. То же можно сказать о судьбе каждого из его потомков,
будь то Каин, жители Содома и Гоморры или жертвы вселен¬
ского потопа. Вера в определенный каждому срок к тому же на-
38
80дит на еретическую мысль, что бог не может продлить жизнь
праведникам и снять кару с покаявшихся грешников, т. е. не в
силах изменить свое однажды принятое решение29.
М. Кук считает весьма показательным, что в своем коммен¬
тарии к строке Писания, утверждающей, что нечестивые «от
утробы матери заблуждают, говоря ложь» (Пс. 57, 4), Иаков
«по-кадаритски» противопоставляет божье предвидение (meqad-
demüth ïda‘teh) и предопределение (metahhemüthâ dehayyë). По
его словам, бог наперед знает, кто из людей может стать греш¬
ником, но вовсе не предрешает их греховность; точно так же
высказываются безымянные кадаритские оппоненты Омара II
и Хасана ал-Ханафийи. Иаков заявляет, что грехи творятся
людьми с «разрешения» (maîsânüthâ) бога, который наделил их
свободой делания добра и зла; такие же высказывания можно
найти и у Хасана ал-Басри, и у оппонентов Омара II, которым
он приписывает аналогичную по смыслу концепцию «наделения»
людей свободой выбора 30.
Чтобы охарактеризовать взгляды кадаритов, которые в «пре¬
стольной провинции» Омейядов — Сирии получили широкую по¬
пулярность и побудили халифа Омара II организовать диспуты
в целях их дискредитации, процитируем адресованное халифу
«Послание» Гайлана ад-Димашки. Дискутируя с ним вопрос
о предопределении, Гайлан писал: «Находишь ли ты кого-ни¬
будь мудрым, кто осуждает то, что сам он делает, или делает
то, что сам осуждает, или кто наказывает за то, что сам он
предписал, или предписывает то, за что он накажет? Находишь
ли ты кого-нибудь проницательным, кто приводит людей к ис¬
тинной вере и затем отвращает их от нее? Находишь ли ты
кого-нибудь милосердным, кто навязывает служащим ему не¬
посильные дела и кто наказывает их за непослушание? Нахо¬
дишь ли ты кого-нибудь справедливым, кто побуждает людей
на несправедливость и неразумные деяния? Находишь ли ты
кого-нибудь правдивым, кто побуждает людей на ложь и хит¬
роумие?» 31.
Эти «богоборческие» строки письма Гайлана ад-Димашки
перекликаются со строками «Книги Иова»: «Хорошо ли для
Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих?» (Иов
10, 3); «Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж челове¬
ков! Зачем ты поставил меня противником Себе, так что я
стал самому себе в тягость?» (Иов 7, 20). Как и в аргументах
Иова, в аргументах Гайлана ад-Димашки подчеркнута мысль,
что возведение всех действий человека прямо и непосредственно
к богу недопустимо, ибо это сопряжено с признанием неспра¬
ведливости действий бога. Гайлан ад-Димашки протестует про¬
тив умаления справедливости божьей, «подбрасывания богу гре¬
хов человека». Этим, по его мнению, грешат джабариты, забыв,
что. Коран очевидным образом вменяет самим людям ответст¬
венность за их злые деяния.
Как можно судить по «Посланию» Гайлана ад-Димашки и
39
по свидетельствам ересиографов, его антиджабаритские аргу¬
менты имеют ясный политический подтекст. По словам ШаХрас-
тани, Гайлан ад-Димашки соединил «кадар» («свободу воли»)
и «хурудж» («вооруженное выступление»), предложив отказать¬
ся от повиновения правителю, который ссылками на предопре¬
деление обманывает общину. «Гайлан говорил, [что] добро и
зло свободы воли [исходят] от раба божьего, что имамат при¬
годен и среди некурейшитов, [что] каждый, кто исполнял (има¬
мат) согласно Писанию и сунне, был достоин его и что имамат
утверждается только согласием общины»32. Свои взгляды Гай¬
лан ад-Димашки проповедовал не только в Дамаске, где жил,
но и в Мекке и Медине, на жителей которых «дурно действовал».
Обвиненный в ереси, он был схвачен и казнен в Дамаске по
приказу халифа Хишама33.
В спорах с джабаритскими оппонентами Гайлан ад-Димашки
отдавал предпочтение не ссылкам на Коран, а убедительным
житейским доводам. Собственно, то же можно сказать и о Ха¬
сане ал-Басри, чьи суждения не выходят за умственные преде¬
лы здравомыслящих обывателей, но в его «Послании» уже за¬
метна регулярная апелляция к авторитету Писания.
Пафос полемического сочинения Хасана ал-Басри выразился
в резком осуждении тех, «кто приписывает свои грехи Господу».
В качестве аргументов против лицемерия джабаритов он при¬
водит ряд коранических строк, и в частности упоминает корани¬
ческую версию изгнания Адама и его жены из' рая, по которой
грехопадение прародителей человечества вменяется в вину им
самим и лишь отчасти — проискам сатаны. «И воззвал к ним
их Господь: „Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил
вам, что сатана для вас — ясный враг?“. Они сказали: „Господи
наш! Мы обидели самих себя, и, если ты не простишь нам и не
помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток“» (7:
21—22).
Имея в виду ответные ссылки оппонентов на очевидно джа-
баритские по букве и духу строки Корана, Хасан ал-Басри гово¬
рит: лица, утверждающие, что в соответствии с кораническим
изречением «Все — от Аллаха» (4: 80) надлежит неверие, грехи,
несправедливость, ошибки и всякого рода жизненные тяготы
возводить прямо к богу, забывают или, скорее, намеренно игно¬
рируют кораническую строку, идущую за цитируемой строкой:
«Что постигло тебя из хорошего, то — от Аллаха, а что постигло
из дурного, то—от самого себя» (4: 81). По его словам, на
бога нельзя смотреть как на существо, открыто запрещающее
человеку совершить некое действие, а затем исподтишка при¬
нуждающее совершить его. Если бы это было так, бог не сказал
бы людям: «Делайте, что желаете» (41: 40), а сказал бы: «Де¬
лайте то, что я вам предопределил содеять». Он не сказал бы
людям: «Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует»
(18: 28), а сказал бы: «Кому я определил веру, пусть верует,
а кому определил неверие, пусть не верует»34.
40
В связи с частой ссылкой джабаритов на кораническое по¬
ложение: «Не придется душе уверовать, иначе как с соизволе¬
ния Аллаха» (10: 100) Хасан ал-Басри приводит объяснение
такого рода. Употребляемое здесь слово «изн» («соизволение»)
является синонимом слова «тахлийа» («разрешение доступа к
чему-либо»), 'поэтому цитируемое высказывание нужно пони¬
мать как подтверждение того, что бог открывает душе свобод¬
ный доступ к вере и наделяет человека способностью уверо¬
вать 35.
В ответ на приводимый джабаритами стих Корана: «Ничто
не постигает из событий на земле или в ваших душах, без того,
чтобы его не было в Писании раньше, чем мы создадим его»
(57: 22) Хасан ал-Басрй указывает, что из этого стиха сле¬
дует выводить не оправдание бездействия, а решимость отказа
от привязанности к земным радостям, необходимость сознатель¬
ного выполнения всех предписаний веры. Бог создал человека
не безвольным существом, неспособным идти по прямому пути
веры без угроз и подталкиваний, а своевольным гордецом, спо¬
собным на все — плохое и хорошее, и судимым за все — плохое
и хорошее.
Бог делает какого-нибудь человека слепым или немым не
для того, чтобы требовать от него: «Прозрей, или я накажу
тебя» или же: «Говори, или я накажу тебя». Раскрывая пред¬
назначение человека, бог сказал: «Я ведь создал джиннов
и людей только, чтобы они Мне поклонялись. Я не желаю от
них никакого надела и не желаю, чтобы они Меня кормили»
(51: 56—57). Повелев людям служить ему, бог не вмешивается
в их жизнь, потому что он — «не обидчик для рабов» (3: 178).
Иначе говоря, бог не принуждает своих рабов верить и служить
себе, но и не избавляет их от веры и служения себе, предрешив
некоторым из них неверие, т. е. толкнув их на путь зла зв.
Бог не лишает людей своей милости до тех пор, пока те
сами не встают на путь зла. В Коране сказано: «Разве ты не
видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и
поселили народ свой в жилище гибели — в геенне...» (14: 33—
34). Из этих строк явствует, что на благодеяния бога люди из
поколения в поколение отвечают непослушанием, делают все
то, что он им запрещает. Они сами губят свое счастье — ведь
послушание и непослушание, добро и зло в их собственных ру¬
ках. Нельзя приписывать богу творение того, что он запретил
творить, ибо «он не повелевает то, что ему самому неприятно
видеть и терпеть»37. В подтверждение этого Хасан ал-Басри при¬
водит стих Корана: «Если вы будете неверными, то Аллах не
нуждается в Нас, и не соблаговолит Он для Своих рабов на не¬
верие...» (39: 9).
Подытожив все приводимые в «Послании» Хасана ал-Басри
доводы, можно сказать, что автор, как и прочие кадариты, в ре¬
шении дилеммы «джамал» и «джалал», т. е. дилеммы бесконеч¬
ной доброты и бесконечного могущества, пошел путем ограни-
41
чения свободы бога в творении добра и зла, его вмешательства
в людские дела. В рассуждениях кадаритов явно или неявно
имплицируется такой ответ: чем больше будет ограничен бог
требованиями разума в своих действиях, тем более свободным,
а значит, и вменяемым будет человек. Правда, об открытом
посягательстве на дефинитивную власть бога кадариты речь не
заводят. Во всех отрабатываемых ими схемах этот естественно
напрашивающийся ход мысли заранее предполагается и осуж¬
дается.
Пытаясь обойти указанное формально-логическое табу, ка¬
дариты создали теорию «наделения* (тафвид)—вариант тео¬
дицеи, в котором бог выступает добровольно ограничивающим
свою власть субъектом. Он наделяет людей способностью дей¬
ствия и свободой выбора того или иного действия, а затем на¬
казывает тех из них, кто неразумно воспользовался предостав¬
ленной свободой. Фактически теория «наделения* подменяет ак¬
туально-бесконечное могущество бога потенциально-бесконеч¬
ным, нереализуемым. Джабаритским ответом на ее появление
стала теория «обыкновения» (‘ада)—вариант теодицеи, кото¬
рый дает богу возможность нарушить в любой миг нравствен¬
ный и физический порядок бытия, сохраняемый им по при¬
вычке. В последующем теологическая мысль ислама неоднократ¬
но возвращалась к обеим теориям.
Некоторые исследователи отмечают сходство кадаритско-
джабаритской полемики с полемикой между сторонниками Пе¬
лагия и Августина 38. Нужно сказать, что такое сравнение впол¬
не уместно, но требует ряда оговорок. Считая оба случая раз¬
межевания защитников свободы воли и предестинационистов
одним из аспектов общей теологической дискуссии, в разное вре¬
мя протекавшей во всех трех религиях Писания и действовав¬
шей на умы их адептов аналогичным образом, мы должны
иметь в виду, что даже те авторы, которые не говорят о прямом
влиянии христианства на ислам, ставят на одну доску явно
неравноценные фигуры.
В поисках моментов сходства они легко забывают моменты
различия. А различие в данном случае очень существенно. Пе¬
лагий и Августин — лица, привычные к умственному труду, са¬
модельным мыслительным усилиям. В их споре вопросы и отве¬
ты отличаются глубокой продуманностью и мастерской апел¬
ляцией к Писанию. Это вполне естественно для тех, кто опирался
не только на противоречивое единство библейских текстов, но и
на античную логико-философскую традицию. Усматривать в ар¬
гументах кадаритов и джабаритов интеллектуальную хватку
и интенсивность продумывания, свойственные Августину и Пе¬
лагию, было бы явной натяжкой. Участники кадаритско-джаба-
ритской полемики не имеют навыка последовательного связы¬
вания и членения понятий, которые могли бы передать все
нюансы защищаемых противными сторонами позиций. Они сви¬
детельствуют о собственном мировосприятии пока еще не
42
мыслью, манерой думать и аргументировать, а своим реальным
политическим действием или бездействием. Во всяком случае,
обнаруживаемые у них зачатки рационалистического умствова¬
ния кажутся чем-то второстепенным сравнительно с их полити¬
ческими позициями.
Преодолевая в полемике инерцию мышления, идущую от до¬
исламской старины, кадариты создали атмосферу словесной иг¬
ры, привели языковой быт к повышенной подвижности. Это
ускорило выделение поля собственно сакральных терминов и
предопределило становление нового — теологического языка как
важнейшего элемента новой, теистической культуры.
Конечно, следует учесть, что интеллектуальные усилия ка-
даритов ориентированы не столько на поиск объективной истины
в споре, сколько на доказательство неправоты противоборст¬
вующей стороны. Их критика — негативная, «сокрушающая»,
а не позитивная, «объясняющая». Здесь видна лишь робкая по¬
пытка сделать мышление и речь, конкретно собственное мне¬
ние — убедительным и доказательным.
В полной мере активное использование приемов «объясняю¬
щей» критики выпало на долю мутазилитов. Они перешли от
допущения определенной правоты оспариваемого со стороны
оспаривающего к осознанию того, что цель полемики — избе¬
гать двумысленность допущения равноочевидных и равноспра¬
ведливых противоположных утверждений. Мутазилиты отвергли
мысль, что недоказанное суждение может быть истинным. Они
постулировали множественность объяснений, одно из которых
должно быть убедительнее всех остальных. Это привело к выде¬
лению возражения как необходимого элемента процесса выяв¬
ления истины. Правда, сами мутазилиты порой придавали воз¬
ражению характер совершенно самостоятельного элемента по¬
лемики, превращая вспомогательную технику спора в искусство
оспаривания любого утверждения.
В лице мутазилитов калам окончательно перешел к новому
этапу своего развития — к этапу универсальной и вначале раз¬
рушительной рефлексии, которая потребовала от адептов ис¬
лама иной направленности и иных способностей ума, чем тс,
которыми довольствовались малограмотные слушатели и спод¬
вижники Мухаммада.
Подчеркивая отличие мутазилитов от предшественников,
Шахрастани пишет, что наставники первых изучили и исполь¬
зовали сочинения философов, получившие распространение в
период правления халифа ал-Мамуна (813—833). Всех крупней¬
ших мутазилитов Шахрастани упрекает в «согласии с филосо¬
фами», «неумеренности в изложении учений философов», «сим¬
патии к натурфилософам», выражая мнение, что философство¬
вание придало каламу мутазилитов характер предосудительно¬
го занятия, чреватого забвением «доброй старины»39. Подчерк¬
нутое Шахрастани очевидное отличие раннего («кадаритского»)
калама от мутазилитского, на наш взгляд, равнозначно отме-
43
ченному С. С. Аверинцевым отличию философской мысли от
предфилософской: «Если последняя говорит нерасчлененными
общепринятыми символами, а значит, словами, то философия
стремится говорить категориальными понятиями, а значит, тер¬
минами. Рождение философии из нефилософии — это рождение
философского языка из житейского языка, перерождение слова
в термин: процесс длящийся, противоречивый, даже парадок¬
сальный»40.
Специфической чертой деятельности мутазилитов с самого
начала являлось желание не только получить определенные
результаты — научные, нравственные, политические и т. д.,— но
и обосновать их. У них впервые возник интерес к тому, как
человек познает, что ему доступно и почему он себя ведет тем
или иным образом. Сделав предметом анализа человеческое
сознание, они сделали объектом рассмотрения и слово как сред¬
ство воздействия на сознание. Здесь усматриваются далеко иду¬
щие последствия: пафос книжной учености и интеллектуального
общения, искус софистики и предельного формализма в решении
умозрительных проблем. Можно утверждать, что любовь к зна¬
нию, к его орудию — слову и к его олицетворению — красноре¬
чию стала у мусульманских книжников по-настоящему незави¬
симым культом наряду с культом бога — владельца и ниспосы-
лателя животворящего Слова.
Впрочем, подробно говорить о вербализме средневековья, об
этико-мировоззренческих импликациях логоцентризма теологов
и прочих книжников нет нужды, поскольку это выводит нас
за рамки исследовательской задачи, указанной в заглавии
статьи.
Вернемся к сопоставлению позиций, участников кадаритско-
джабаритской полемики с позициями Пелагия и Августина.
Прежде всего нужно сказать, что о полном отождествлении джа-
баритского предестинационизма с августиновским не может
быть и речи — уже по той причине, что Августин, выступая в
споре с Пелагием защитником абсолютного предопределения,
в отличие от джабаритов не отрицает свободы воли человека.
Для него все люди — «суть воли» (omnes nihil aliud, nisi vo-
lumtates sunt); воля — это сознательное движение души (animi
motus) к чему-либо, что человек хочет приобрести или не хо¬
чет потерять, выражение его согласия или несогласия. Он убеж¬
ден, что человеку дана власть изменять мир собственными ре¬
шениями, разумеется, в меру соответствия его воли божествен¬
ной.
По словам Августина, бог предвидит (praescire) все дейст¬
вия и возможные проявления человеческой воли. Все в мире
вплоть до самых незначительных вещей происходит согласно
божьему предвидению, входящему в акт вечного предопределе¬
ния, что, однако, не умаляет человеческой свободы. Нелепо ут¬
верждать, будто бог, предвидя, что человек согрешит, 1вынуждает
его совершить грех. Если признать несовместимость свободы
44
воли человека с божьим предвидением, то можно пойти еще
дальше и заявить, что творец действует по необходимости, по¬
скольку предвидит и свои будущие действия
Приведя данный аргумент, Августин заявляет, что, буду¬
чи весомым, аргумент все же не может иметь решающего зна¬
чения ввиду принципиального различия божьего и человеческо¬
го предвидения. Для бога нельзя полагать и самого предвиде¬
ния как знания того, что будет в будущем, ведь в божественном
знании единым вечным актом охвачено все, определяемое через
-«прежде» и «после», через «причину» и «следствие». Потому не
может идти речь и о предвидении как навязывании человеку
жесткого порядка действий. Хотя бог знает причинно-следствен¬
ный порядок мира в том виде, в каком ему предстоит осущест¬
виться, свободная воля в качестве причины действий человека
не перестает быть таковой. Необходимостью для воли является
только ее же свободное решение, предвидимое богом. Иными сло¬
вами, по отношению к воле допустимо говорить лишь о необхо¬
димости, в силу которой все, что она свободно решает, приво¬
дится в исполнение. Предвидя причины всех вещей, бог пред¬
видит действия человека как необходимо свободные, поэтому
воля его в качестве причины действий не может быть несво¬
бодной *2.
Человек не мог получить от бога свободу, которая исклю¬
чала бы творение греха. Только для бога, являющегося неиз¬
менным совершенным благом, невозможность грешить (non pos¬
se рессаге) — истинное осуществление свободы. Для человека
•свобода, предполагающая возможность зла,— высочайший дар,
без коего не имели бы смысла увещевания, угрозы и обещания
наград за творение добра4’. Как указывает Августин, свобода
«необходимо должна быть присуща ему (человеку.— P. С.)
и именно такой, каковой она существует, поэтому абсолютно
прекрасна и добра сама возможность зла, если только она не
претворяется в действительность» 4‘.
Чем именно разнятся позиции Пелагия и Августина, если
они оба исходят из постулата свободы воли человека? Прежде
всего Августин упрекает Пелагия в том, что он увязывает, если
не сказать отождествляет, свободу воли с выбором. Собственно,
по поводу увязки Августин не спорит, поскольку он тоже увя¬
зывает свободу воли с выбором и с реализацией сделанного вы¬
бора, но считает ее осуществимой лишь при божьей помощи,
обязательность которой Пелагий отрицал. Другой упрек Авгус¬
тина выражается в том, что пелагиане сводят на нет качествен¬
ную определенность нравственного развития человека и чело¬
вечества, игнорируют динамику «самоопределения» человека, ко¬
торый с помощью бога освобождает свою волю от «рабства
греху» и снимает с себя печать первородного греха.
Действительно, Пелагий придает акту выбора судьбоносный
характер, а потому считает его исключительной прерогативой
человека: «Ибо в том, что имеется два разных пути, в самой
45
свободе выбора этих двух сторон и заключается преимущество*
разумной души. В этом-то, говорю я, и заключается вся честь
природы нашей, в этом-то и есть ее достоинство, из-за этого,,
наконец, все великие люди и заслуживают хвалы и награды.
И вообще не было бы никакой добродетели у того, кто пребы¬
вает в добре, если бы он не имел возможности Tiepeftra на сто¬
рону зла. Ибо волей своей Бог даровал своему разумному тво-
рению добровольный выбор и свободную волю. Наделив челове¬
ка и той и другой возможностью, Он, собственно, сотворил так,,
что тот поступает как хочет, дабы, способный к добру и злу,,
имел он по природе своей две возможности и по своей воле
склонялся бы к одному или же к другому. Иначе не по собст¬
венному побуждению сотворит он добро, если он не может рав¬
ным образом избрать также и зло.
Всеблагой Творец пожелал, чтобы мы были способны делать,
и то и другое, но делали бы только одно, а именно добро, как
Он и повелел. Он даровал нам возможность творить зло только
для того, чтобы мы по собственной нашей воле творили Его
волю. Если верно, что мы можем творить также и зло,— это бла¬
го. Благо, повторяю я, потому что это усиливает дело добра..
Ведь человек добровольно его выбирает, он следует добру не
по необходимости, но свободно ino пра/ву своему»45.
Согласно Пелагию, воля определяет весь спектр отношений
человека к творцу, она выступает особой духовной силой, со¬
вершенно самостоятельно склоняющей себя к чему-либо. В чис¬
то формальном определении ее свобода — это абсолютная сво¬
бода выбора (liberum arbïtrium) между добром и злом. «Везде,,
где идет речь о хотении или нехотении, об избрании или от¬
вержении, всюду говорится не о силе природы, а о свободе
воли (libertas voluntatis). Томы обоих заветов полны подтверж¬
дениями такого рода; в -них написано, что как все добро, так
и все зло всегда совершаются в зависимости от воли... И конеч¬
но, защищая благо, присущее природе, мы не говорим, будто
она не может творить зла, и признаем, что она способна как
на добро, так и на зло. Мы оберегаем не только от несправед¬
ливого мнения, будто из-за порочности своей природы мы вле¬
чемся к злу, и утверждаем, что без воли (sine voluntate) мы не
в состоянии творить -ни добра, ни зла. Таким образом, если мы
всегда способны и к тому и к другому, то мы свободны делать
•всегда одно из двух. Почему же одни люди будут судить, а дру¬
гие будут судимы, если не потому, что при одной и той же при¬
роде у людей разная воля?»48.
В соответствии со сказанным Пелагий представляет акт пред¬
определения действий человека обусловленным свободной волей
его самого. В акте вечного предрешения людских судеб бог
является благожелательным созерцателем того, что человек пред¬
принимает для своего спасения. Бог предвидит тех, кто обретет
святость и непорочность, но он не делает ничего, что мешает
человеку располагать собой. «Господь, однако, пожелал, чтобы.
46
человек был праведен по своей доброй /воле, но не по принужде¬
нию, и потому оставил „в руке »произволения его“ и положил
перед ним жизнь и смерть, добро и зло — что угодно будет ему,
то и дастся»47.
По мысли Пелагия, божье предопределение равнозначно
♦божьему предвидению, из чего следует мысль о естественности
сложившегося порядка вещей, в частности борьбы тела и души,
бедствий и лишений человека, его смерти. Пелагий отверг раз¬
личение райских и нынешних нравственных черт людей, утверж¬
дая, что первые люди принуждены были добывать пищу, испы¬
тывали похоть и что слабость тела должна была довести их до
смерти. Несмотря на то что Адам и Ева в качестве награды за
праведность могли получить от творца бессмертие, даже этот
дар не избавил бы их потомков от смертной участи48. Грех
Адама не оказал никакого внутреннего влияния ни на него са¬
мого, ни на его потомство. Как утверждал один из самых ре¬
шительных последователей Пелагия, Юлиан Экланокий, «сво¬
бода выбора и после грехов остается такой же полной, какой
она была до творения грехов»49.
Посягательство 1пелагиан на догмат первородного греха, ко¬
торый был сведен ими к дурному примеру, подаваемому Ада¬
мом своим потомкам, Августин мог отбить сравнительно легко,
уже хотя бы ссылкой на Библию. Гораздо большие усилия ему
понадобились для доказательства того, что пелагиане впали в
ересь, отвергнув неравноценность двух сторон в акте выбора
добра и зла и объявив формальную, по сути, возможность вы¬
бора истинным проявлением свободы. Если согласиться с ними,
получается, что в человеке происходит постоянная смена со¬
вершенно противоположных по своему нравственному смыслу
решений воли. Тогда обретаемый людьми нравственный облик не
имеет вообще никакого отношения к характеру и последователь¬
ности самоопределений воли. Соответственно и зло есть не
что иное, как незначительное по меркам исторического бытия
последствие действий каждого человека в отдельности.
Для Августина свобода —не только способность выбора меж¬
ду добром и злом, но и качественно определенная сила, зак¬
лючающая в себе предпочтение той или иной возможности.
Таковой она стала уже в самом акте творения первой человече¬
ской пары. Свобода Адама и Евы до их грехопадения была си¬
лой, направленной исключительно к добру, и потому их можно
считать существами, созданными с одной лишь доброй волей
(bona voluntas). Стержнем волевой деятельности служит лю¬
бовь. Объектом любви для прародителей человечества был ис¬
ключительно бог, к которому они стремились всеми своими си¬
лами. Ни внешний мир, ни внутренняя природа человека не
выступали /помехами в выполнении людьми их высочайшего наз¬
начения и цели. Послушание (obedientia) было в раю «матерью
и хранительницей всех добродетелей»50. Хотя первые люди об¬
ладали реальной способностью не грешить (posse non рессаге),
47
они вместе с тем обладали формальной возможностью греха:
«Человек был создан так, что возможность грешить была для
него необходимой, но грех был только возможным»51.
Таким образом, в отличие от Пелагия Августин ставит пер-
вых людей не в ситуацию выбора между двумя совершенно*
равными возможностями, а в ситуацию выбора между положи-
тельной действительностью творения добра и еще неосуществ¬
ленной возможностью зла. Свободная воля человека, произвед¬
шая зло в мире, 1по своей природе добра и злой предстает толь¬
ко в своих проявлениях. Можно сказать, что не человеческая
свобода противна богу, а греховное ее употребление, поскольку
зло, производимое человеком, «портит в нем природное благо»52..
Добрая воля, т. е. направленность свободы первых людей в
сторону добра, была не вполне устоявшейся. Она — низшая сте¬
пень свободы (libertas minor), благодаря которой в ходе долгих,
упражнений в добродеянии человек может достичь высшей сте¬
пени свободы (libertas major), когда он, имея окрепший и ус¬
тановившийся нравственный характер, попросту не способен
согрешить. В результате истинным определением и назначением
его свободы оказывается не свобода выбора, а уничтожениё са¬
мой возможности колебаний между добром и злом.
Особое место в споре Пелагия с Августином занимает тол¬
кование понятия «благодать» (gratia). Августин подчеркивает,,
что первые люди не могли достичь высшей степени свободы, опи¬
раясь на одни только естественные задатки. Божественная бла¬
годать была помощью, без которой Адам не мог осуществить,
свои добрые намерения. Благодать укрепляла решимость его*
доброй воли и содействовала утверждению в добродеянии53.
В акте грехопадения человек презрел божественный авторитег
и поставил свою волю выше божественной. За этим «невыра¬
зимым преступлением» последовали иные несчастья человече¬
ского рода. Греховная направленность свободы стала неотъем¬
лемой ее чертой. Человек сделался неспособным поступать спра¬
ведливо и воздерживаться от греха в одиночку. Возникла «жес¬
токая необходимость греха» как выработка устоявшегося грехов¬
ного умонастроения, »привычки грешить54. Без воздействия бла¬
годати человек не способен самостоятельно встать на путь спа¬
сения и обрести его. Благодать — единственное условие спасе¬
ния, и никакие заслуги не дают уверенности в ее обретении.
Пелагий не отвергает положительной роли благодати, одна¬
ко лишает ее эсхатологической окрашенности. По его словамг
человек всегда способен мочь (posse), хотеть (veile) и совер¬
шать (perficere) добро. Его способность «мочь» добро и есть
благодать55. При более широком истолковании благодатью до¬
пустимо назвать «естественный дар» — саму природу человека,,
которая такова, «что и без закона ее одной достаточно для дос¬
тижения праведности»56. Кроме того, благодатью можно наз¬
вать дар вечной жизни57, отпущение грехов58 и, наконец, осо¬
бое божье участие (adjutorium) в делах человека59. Все эти.
4а
формы божественной заботы не затрагивают 'воли человека, лишь
помогая ему в том, что он способен сделать самостоятельно:
«...даже те, которые закоснели в грехе и почти подавили добро,,
присущее их (природе, могут восстановить его своим покаянием,,
если, изменив образ жизни по своей воле (mutata voluntati vi¬
vendi), они могут заглушить привычку привычкой и из худших
стать лучшими...»в0.
Дар вечной жизни и отпущение грехов обусловлены правед¬
ностью человека, а участие в его делах бога выражается преж¬
де всего в освещении человеческой жизни светом библейских
истин. Каждый самостоятельно определяет необходимость обра¬
щения к внешней помощи, посредством которой он может дос¬
тичь еще большего совершенства в1. Благодать— не произволь¬
ный дар бога, жалуемый человеку в начале его спасительных
дел, а закономерная награда за уже проявленную им доброту-
«Бог дает достойному»62 — лозунг пелагианской «этики героиз¬
ма», отвергшей горестные стенания и упования на то, что может
и не осуществиться.
Пелагианскую этику, которая апеллирует к воздающей спра¬
ведливости, к заслугам, требующим обязательного вознаграж¬
дения, Августин категорически отвергает, справедливо усматри¬
вая в ней рецепцию язычества. По языческой морали, хотя
жизнь человека и выступает как всецело определенная судьбой,,
признание всесилия судьбы сопрягается с утверждением актив¬
ности человека в претворении ее. Человек идет навстречу судьбе,
и его свободное действование оказывается наилучшей реализа¬
цией ее решений.
Необходимо отметить, что, защищая догмат первородного*
греха, Августин, как и Пелагий, признает, что человек потерял1
в акте грехопадения способность не грешить, но вместе с тем*
не утратил способность творить добро. Свободная воля не ли¬
шилась окончательно своей идеальной природной устремленнос¬
ти к богу, хотя теперь она гораздо легче склоняется к злу, не¬
жели к добру. Сохранив в себе некоторые черты божественного
образа, падший человек может чувствовать нечто, отвечающее
требованию естественной порядочности, которая вложена богом
в его душу при творении83. Поэтому следует согласиться с мне¬
нием, что бог действует в человеке не без участия его воли.
Воля человека освобождается от «рабства греху» благодатью*
божьей, но бог спасает человека через его же волю84. Бог по¬
рождает в нем желание веры и спасения, а от воли человека
зависит, принять или отвергнуть божий призыв (vocatio) и бла¬
годатное убеждение (suasio). По несколько замысловатому
высказыванию Августина, «Бог предшествует желающему доб¬
ро, чтобы он желал, и сопровождает желающего, чтобы он не
напрасно желал»85.
Не противоречит ли сказанное идее абсолютного предопре¬
деления, от которой Августин не отказывался, несмотря на рез¬
кую критику ее многими современными ему теологами — не толь-
4 Зак. 635
49*
ко пелагианами, но и своими сторонниками? Его оппоненты го¬
ворили, что человек, утвердившись в мысли о строгой опреде¬
ленности «от века» принятых божественных решений, может по¬
лучить повод к охлаждению желания соблюдать нравственные
требования, сочтя их соблюдение бесполезным. Поразмыслив,
можно прийти к выводу, что бог связан актом предрешения, не
в состоянии изменить его. Кроме того, напрашивается резонное
суждение о том, что бог ограничен и в своем предвидении, по¬
скольку исключает какие-либо колебания воли — как своей, так
и человеческой.
Имея в виду этот ход мысли, Пелагий пишет: «Мы обвиняем
Бога всеведущего в двойном неведении: нам кажется, что Он
не знает, что Он творит, а также не знает о том, что Он повеле¬
вает, кажется, будто Он забыл о слабости человеческой, Твор¬
цом которой Он сам и является; будто Он возложил на чело¬
века такие заповеди, которых человек не в состоянии исполнить...
Сперва мы сетуем на то, что Он приказывает невозможное,
а потом полагаем, что Он наказывает человека за то, чего тот
не в силах избежать, и, по-видимому, Он ищет — а такое и
предположить кощунственно! — не столько нашего спасения,
сколько нашего наказания»66. Пелагий справедливо полагает,
что идея абсолютного предопределения возвращает к восприя¬
тию бога в качестве жестокого самодержца, который не желает
«поступиться славой» и, произвольно лишив большую часть лю¬
дей спасения, испытывает на них свою гневливость и мститель¬
ность, т. е. делает то, что впору делать лишь персонажу язы¬
ческого пантеона.
Возражая оппоненту, Августин говорит, что ничего языче¬
ского, в частности фатализма, свойственного манихейскому ми¬
росозерцанию, в его учении о предопределении нет. Каждый акт
предопределения гармонично сочетает божественную правду и
справедливость с божьим милосердием и любовью к человечест¬
ву. «От вечности» решив подвергнуть наказанию весь человече¬
ский род за преступление, которое ему предстояло совершить в
лице Адама и Евы, бог проявил свою бесконечную справедли¬
вость. Но вместе с тем, еще «от вечности» решив даровать не¬
которым людям спасение, бог проявил свое бесконечное мило¬
сердие.
В отличие от Пелагия Августин различает в акте предоп¬
ределения не только противоположные по нравственному содер¬
жанию CTOpOiHbi, но и отдельные моменты, соответствующие пред¬
вечным условиям спасения или отвержения человека. Прежде
всего это — момент божьего предположения (propositum) спас¬
ти некоторых людей, затем предуготовления (praeparatio) бла¬
годатных средств, необходимых людям для спасения, предвиде¬
ния (praescientia) соответствия этих средств собственным дей¬
ствиям человека и, наконец, избрания (electio) к спасению, ко¬
торый, в свою очередь, предваряет волевой акт предопределения,
реализующий все указанные моменты.
50
Разницу между отдельными моментами предопределения^
в совокупности именуемого Августином «предусмотрительней¬
шее расположение» (dispositio providentissima), и самым пред¬
определением можно выразить так: первые суть идеи божест¬
венного разума, а последнее — желание осуществить эти идеи.
Отсюда ясно, что земная жизнь людей является осуществлением
предвечных идей, пребывающих твердо и неизменно в божест¬
венном знании.
Одна общая «погибельная толпа» разделена богом на две
части — «сосуды чести» и «сосуды позора»67. Ни один человек:
не может изменить божественного решения и перейти из группы;
отверженных в группу спасенных, и наоборот68. Число тех и*
других неизменно, а имена всех людей «записаны неизгладимо»
в мысленной книге Отца»69.
Предопределенным к спасению бог отпускает благодатные-
средства. В них возбуждается вера в спасение, затем эта вера
и сопровождающие ее благие дела закрепляют праведность
настолько, что она не теряется до конца жизни. Иными слова¬
ми, всем предопределенным к спасению дается особый дар твер¬
дого следования добру (donum perseverantiae), на который ни¬
кто из отверженных не может претендовать. Последних бог
может призывать к вере и творению добрых дел, но со време¬
нем они теряют свою веру и добродетели. Бог оставляет их и не
оказывает более никакой помощи 70. Что касается спасенных, то
они могут совершить греховное дело и некоторое время вести
себя неправедно, но сами их греховные дела имеют для них
назидательное значение и оборачиваются им на пользу. После
раскаяния с помощью благодати они вновь встают на путь веры
и ведут добродетельную жизнь с большим мужеством и реши¬
мостью.
Лишение подавляющей части человечества спасения не дает
людям права обвинять бога в несправедливости. Он предложил
им ряд средств, с помощью которых спасаются люди, стоящие'
на разных ступенях нравственного совершенства. В лишении
этих благодатных средств виновны они сами же: не уменьшают,,
а увеличивают меру безнравственности, делая бессмысленным
наделение их благодатью.
По словам Августина, в акте отрицательного предопределе¬
ния, или, сказав иначе, отвержения (reprobatio), бог проявил
свое недеятельное и незаинтересованное участие в людских де¬
лах. Он предвидел свое нежелание давать части человечества
благодатные средства, которые могли бы воздействовать на
ожесточившиеся сердца, расширить и усилить естественные
нравственные силы. По отношению к ним он оставил в силе
приговор, который должен был бы адресоваться всем людям,
•как заслуженное наказание, но обращен по его милости лишь
к части человечества.
Грехи, приводящие человека к отвержению, зависят исклю¬
чительно от его собственной воли. Бог предвидит эти грехи
5Г
4*
и в акте отвержения не препятствует их осуществлению. Сло¬
вом, бог не все, что видит (в данном случае — грехи) непремен¬
но предопределяет, хотя предопределение никогда не бывает без
предвидения71.
В случае предопределения к спасению бог предвидит веру
человека как необходимую себе вещь, а в случае отвержения
предвидит только действия воли человека, не могущего принять
веру. Некоторые из числа отверженных богом могут находиться
определенное время под воздействием благодати и вести себя
праведно. Однако они не получают дара утверждения в добро¬
детели, которое является исключительным достоянием предопре¬
деленных к спасению.
Для Августина аксиоматично, что бог предвидит в акте свое¬
го предопределения не свободу человека в качестве положи¬
тельной силы в деле самоспасения, а прежде всего свою собст¬
венную милость, от которой зависит весь спасительный про¬
цесс воссоединения человека с богом. Правда, он признает, что
естественные добродетели, в той или иной степени свойственные
каждому человеку, учитываются богом, но сами по себе они не
гарантируют спасения. Благодать дается лишь тому, кто спо¬
собен ее принять.
На наш взгляд, наиболее близким по духу господствовавшей
провиденциалистской атмосфере раннего ислама в учении Ав¬
густина является утверждение «неодолимого» характера божест¬
венной помощи спасенным. Не только хариджиты, разделившие
мусульманскую общину на «людей рая» (ахл ал-джанна) и «лю¬
дей ада» (ахл ан-нар), но и мурджииты-джабариты, причисляв¬
шие к спасенным всю массу мусульман, делали акцент на
предызбранности к спасению. Но в отличие от них Августин
безусловно осуждает мотив коллективного избранничества, ко¬
торый дает верующим ложную уверенность в своем спасении
уже в силу их принадлежности к общине, «народу святому». По
его словам, никто из живущих не знает о предрешенной участи
своей, поэтому никто не должен отчаиваться в спасении, а рав¬
но и предаваться греховной уверенности в нем72. Каждый чело¬
век, памятуя об изменчивости своей нравственной природы, дол¬
жен постоянно стремиться к совершенству. Лишь в последнее
мгновение жизни перед ним раскрывается таинственная завеса
предопределения, а до того мгновения даже героическая твер¬
дость в добродетелях может рассматриваться лишь как косвен¬
ный признак возможной предызбранности к спасению.
Момент сходства аргументов Августина и джабаритов обна¬
руживается в их комментарии коранического стиха, гласящего:
«...из них (людей.— P. С.) будут и несчастный и счастливый»
(11: 107). Его объясняли так, будто бог осудил одних и спас
других «в материнском чреве» (фи бутуни уммахатихим). При
этом часто напоминали хадис, который гласит: «Проклят тот,
кто проклят в чреве матери». Однако можно ли из отмеченного
делать вывод, что джабариты, подобно Августину, разделяют
52
веру в первородный грех? В самом Коране отрицается врожден¬
ная греховность человека. Хотя Мухаммад и говорит о склон¬
ности человека ко злу (12: 53), причиной греховных дел, как
можно судить по его многочисленным заявлениям, служат не¬
ведение, торопливость, неосторожность и малодушие, т. е. впол¬
не извиняемые качества, а не изначальная непростительная раз¬
вращенность.
Сходство аргументов Августина и джабаритов можно усмот¬
реть в апелляции последних к кораническим положениям, кото¬
рые увязывают предопределение с фактом письменной фикса¬
ции воли бога, с записью его решений в «матери книг», в «не¬
бесной скрижали» и т. д. Мухаммад постоянно напоминает:
«Все—в книге ясной» (11: 8). «Нет ничего скрытого ни на
небесах, ни на земле, чего бы не было в ясной книге» (27: 77),
«Не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха,
по писанию с установленным сроком» (3: 139). Здесь необхо¬
димо оговориться, что Августин и джабариты по-разному пони¬
мают саму фиксацию воли. Для Августина это момент божьего
указания, метафорически описанное предвидение, существующее
в «мысленной книге», а для джабаритов — это до поры не ис¬
полненное действие. Его нет, но оно уже как бы есть. Запись
ждет своего часа. Как видно, джабариты понимают приговор
бога, его писанную волю в духе языческого представления о не¬
отвратимом свершении «того, что суждено» и что неподвластно
изменить даже тому, кто некогда распорядился его исполнить.
И наконец, еще один момент сходства позиций джабаритов
и Августина обнаруживается в рассмотрении судеб невинных
детей грешников и младенцев, умерших до принятия веры. Ка-
дариты утверждали, что грехи неверующих — только на них,
а не на их детях. Дети, умершие не обращенными в ислам, обре¬
тут спасение, как и праведные мусульмане. Объясняя причину
отвержения и спасения младенцев, некоторые из них, как и
Пелагий, признали грехи и заслуги, которые младенцы могли
бы иметь, если бы их жизнь преждевременно не прекратилась.
Джабариты и даже часть самих кадаритов резко раскритико¬
вали утверждение, касающееся будущих обусловленных заслуг
человека как нечто парадоксальное и противоречащее здравому
смыслу. По их словам, если сделать несовершенные дурные по¬
ступки основанием для вечного осуждения и, -наоборот, несовер¬
шенные благие деяния основанием для вечной награды, придет¬
ся отвергнуть участие бога в нравственном развитии младен¬
цев и во всяком случае значение его -благодати для них. Тогда,
идя дальше в рассуждениях, придется допустить, что обуслов¬
ленное будущее в той же мере значимо и для судеб взрослых
людей, поскольку -все они когда-то были младенцами.
Аналогичным образом высказывается и Августин. По его
словам, решающее значение в определении судьбы человека
имеет и должна иметь только земная жизнь. Бог предопределяет
одних людей к спасению, а других к наказанию, предвидя соот-
ветствие благодатных средств их действительному, а не предпо¬
лагаемому нравственному состоянию. В отличие от джабаритов
прямого ответа на вопрос о причине отвержения богом младен¬
цев, умерших до крещения, Августин не дает, оставив богу по¬
следнее, недоступное человеческому разумению, основание для
лишения их спасения. Он, однако, признает, что каждый при
появлении на свет обладает определенной неосознаваемой им
формой нравственной настроенности, которая способствует или
противодействует благодатной помощи бога. Поэтому бог, or
вечности предвидевший действие благодати, точно так же от
вечности предопределил одних младенцев к спасению, не до¬
пустив их преждевременной смерти, а другим позволил умереть,,
не одарив их спасительной помощью73.
Конечно, при детальном сопоставлении позиций джабари¬
тов и Августина, кадаритов и Пелагия нетрудно обнаружить и
другие черты сходства помимо названных. Причины действи¬
тельного сходства, как и непосредственный исток дискуссий о<
предопределении и свободе воли, следует искать в самом фе¬
номене монотеистической религиозности, а именно в присущем
ему диалогическом противопоставлении двух «я», двух субъек¬
тов: бога и человека. Чтение Корана, как и чтение Библии, не
дает повода сомневаться в том, что бог сотворил человека как.
свое «говорящее орудие», как собеседника и созерцателя «сла¬
вы Божьей», которому вменено громкое и внятное выражение
благодарности, хвала и величание Творца. Мухаммад утверж¬
дает, что слово бога (калимат Аллахи) есть его воля и что вся¬
кий порыв и движение тварей вызывается его словесным при¬
казом «быть», «подняться», «прийти» и т. д.: «...а когда Он
решит какое-нибудь дело, то только говорит ему „Будь!“— и оно*
бывает» (2: 111).
Своеволие и послушание оказываются главными характерис¬
тиками взаимоотношений человека с богом. Бог требует смире¬
ния перед произволом своей дефинитивной власти, но осужде¬
ние человеческого своеволия, «гордыни» означает не отрицание
его свободы, а, напротив, ее утверждение. Согласно Корану, бог
сотворил «человека лучшим сложением» (95: 4), «выровняв его-
и вдунув от духа своего» (15: 29). Хотя бог создал ангелов
раньше и не из земли, а из «чистого огня», он заставил их пре¬
клониться перед человеком. Дьявол, из гордости отказавшийся*
сделать это, был проклят богом: бог низверг его в геенну, куда
должны за ним последовать грешные потомки Адама, которым:
также -вменяется гордыня и нежелание отречься от грехов. Ког¬
да бог известил ангелов о сотворении Адама, они предупредили,,
что человечество может оказаться заносчивым и нечестивым
(2: 28). Но когда бог предложил залог веры небесам, земле
и горам, те отказались, устрашившись ответственности, а чело¬
век принял залог, и теперь бог с полным правом может нака¬
зывать потомство Адама за неверие и грехи (33: 72—73).
Отсюда ясно, что предпосылки для развития учения о сво-
боде воли со всеми присущими ему противоречиями, по боль¬
шей части неразрешимыми, можно найти в самом Коране. Внут¬
ренний строй монотеистической религиозности, креационистские
установки мышления неизбежно должны были породить дискус¬
сии о соотношении воли бога и воли человека, о соотношении
милости божьей и личных усилий человека в деле спасения.
Если свести первопричину этих дискуссий к прямому заимст¬
вованию из христианства или иудаизма отсутствовавших в са¬
мом исламе догматических проблем, то это будет равнозначно
отрицанию сколько-нибудь самостоятельного развития ислама
как религии.
Уже отмеченную нами разницу мыслительных возможностей
деятелей раннего калама и отцов церкви в деле «богооправда¬
ния» и в других существенных вопросах теологической рефлек¬
сии следует дополнить замечанием касательно самой направлен¬
ности их интеллектуальных усилий. У деятелей калама они об¬
ращены на проблемы эмпирической духовности, на прижизнен¬
ную гармонизацию отношений бога и людей путем детальной
регламентации поведения отдельного верующего и общины в це¬
лом. Эти практические вопросы, конечно, присутствуют и в проб¬
лемном поле патристики, обсуждаются ее деятелями весьма
серьезно, но для них они — не самодовлеющие, они не опреде¬
ляют целиком их мировоззрения, стиль их мышления.
Рефлексия участников кадаритско-джабаритской полемики
ориентирована не вовнутрь субъективных, метафизических глу¬
бин личности, а вовне. Развитое индивидуалистическое самосоз¬
нание, «личностное самостояние» для них не характерно. До
тонкого анализа интимных переживаний и динамики нравствен¬
ного становления человека первые деятели калама, образно го¬
воря, еще не доросли, но очень скоро мусульманские теологи
придут к этому, умело заимствуя достижения многих культур,
и в частности опираясь на выработанные античными философа¬
ми мыслительные схемы, уже много лет используемые христиан¬
скими и еврейскими теологами.
Общность суждений книжников-теологов, представляющих
три религии Писания, по кругу вопросов теодицеи выразилась
в сходных по результатам апелляциях к трем основным ее
формам: эстетической, моральной и метафизической. Наиболее
часто они использовали первую форму, поскольку креационизм
побуждал их всех видеть в мире изначально заложенный поря¬
док и красоту. Отвечая на вопрос, почему мир, устроенный выс¬
шим разумом и долженствующий быть максимально разумным
и совершенным, являет себя неразумным и несовершенным, они
утверждали, что мир лишь представляется противным порядку.
Человек видит зло, несправедливость и неустроенность в силу
собственной ограниченности, бессилия охватить весь мир своим
конечным взором. То, что кажется ему злом, на деле не яв¬
ляется таковым и служит украшению целого и соответствует
разумному божественному замыслу. Они настойчиво подчерки-
55
вают, что в мире нет ничего неуместного, все распределено и*
расположено должным образом.
Эстетическая форма теодицеи в Коране — основное средство
убеждения языческих соплеменников Мухаммада в необходи¬
мости веры в истинного бога. Это осененная авторитетом Писа¬
ния форма теодицеи, очень популярная в кадаритской среде, да
и среди их противников, логично приводит к понятию естествен¬
ного порядка вещей и, собственно говоря, требует исключения
«чудес», т. е. всего идущего вразрез с общими закономерностя¬
ми природы. Некоторые кадариты и мутазилиты не преминули'
этим воспользоваться. Шахрастани передает высказывание му-
тазилита Сумамы ибн Ашра-са ан-Нумайри (ум. до 850 г.):
«Мир есть деяние Аллаха всевышнего в силу его природы» к
замечает: «Вероятно, под этим он имел в виду ту необходи¬
мость, которую философы подразумевали под сущностью, а не
создание по [собственному] желанию. Однако в соответствии с*
этой своей верой он был вынужден признать то, что нужно было
признать философам,— вечность мира, так как необходимое не¬
отделимо от вызывающего необходимость»74.
Разработку крайне жесткого по отношению к богу вариан¬
та теодицеи, ограничившего его вмешательство в мирские дела,
Шахрастани связывает с именами мутазилитов Ибрахима ибн
Саййара ан-Наззама (ум. в 836 г.) и Хишама ибн Амра ал-
Фувати (ум. до 833 г.). Шахрастани пишет об ан-Наззаме:
«К признанию свободы воли, добро и зло которой [исходят] от
нас, он добавил свое мнение: „Аллах всевышний не отличается
властью над злодеяниями и грехами, они не подвластны Созда¬
телю всевышнему“. Это противоречит [мнению] его товарищей,,
которые признавали, что Аллах властен над ними, но не совер¬
шает их, потому что они суть мерзости. Согласно учению ан-
Наззама, если мерзость есть существенное качество мерзкого,
а Аллах удерживает от присоединения к нему действия, то в
допустимости совершения мерзкого с его стороны также [за¬
ключена] мерзость, вследствие чего он должен удерживать [от
совершения мерзкого]. Совершающий справедливость не отли¬
чается властью над несправедливостью»75.
Ан-Наззам постулировал ряд «непосильных» для бога вещей,
в их числе возможность уничтожения мира, нарушение природ¬
ных закономерностей, изгнание дьявола из мира, т. е. оконча¬
тельную победу добра над злом. Он отверг такие творимые бо¬
гом чудеса, как оживление мертвых, проход верблюда сквозь
игольное ушко, принуждение человека сидеть и стоять в одно
и то же время. Ссылаясь на Коран, он утверждал, что бог не
может изменить раз принятое решение. Там сказано, что пра¬
воверные «пребудут вечно» в раю, а неверные — в аду (43: 69—
74), следовательно, богу остается лишь наблюдать за ходом реа¬
лизации их участи. Согласно Шахрастани, ан-Наззам говорил:
«Создатель всевышний не отличается способностью ни что-либо
добавить к наказанию грешников, ни что-либо убавить из него.
56
Равным образом он не способен ни уменьшить благоденствие
праведников, ни вывести [из рая] кого-либо из праведников, это
.неподвластно ему»7в.
В разработанном ан-Наззамом варианте теодицеи утверж¬
дается, что бог, будучи источником природных закономерностей
и нравственности, сам связан законами природы и морали. Вза¬
имоотношения его с людьми необходимо описывать как неукос¬
нительное следование его определенным обязательствам перед
ними: «Аллах властен над совершением лишь того, в чем он
видит благо для своих рабов, и не способен совершать посредст-
;вом своих рабов в этом мире то, в чем нет для них блага»77.
Шахрастани сообщает, что ученик ан-Наззама — Али ал-Ас-
вари (ум. в 854 г.) добавил к его суждениям следующее: «Ал¬
лах всевышний не отличается властью ни над тем, о чем он
знал, что не совершит этого, ни над тем, о чем сообщил, что не
совершит этого, хотя человек способен на это, потому что сила
человека способна на два противоположных [действия]. Из¬
вестно, что одно из двух противоположных [действий] происхо¬
дит, когда (Аллаху) известно, что осуществляется оно, а не
другое»78. Еще один ученик ан-Наззама, Абу Джафар ал-Иска-
•фи (ум. в 854 г.), добавил к вышесказанному, что «Аллах все¬
вышний не властен над несправедливостью разумных, он отли¬
чается властью лишь над несправедливостью детей и безум¬
ных»79.
Вот как характеризует Шахрастани взгляды другого защит¬
ника «жесткого» варианта эстетической теодицеи: «Хишами-
ты — приверженцы Хишама ибн Амра ал-Фувати, преувеличения
которого в отношении свободы воли были сильнее и больше
преувеличений его товарищей. Он отказывался вообще припи¬
сывать действия создателю всевышнему, даже если о них го¬
ворилось в божественном откровении»80. К этим «преувеличе¬
ниям» Шахрастани относит высказывание, что не бог дает лю¬
дям веру и объединяет их в религиозные общины, но они сами
доходят до всего своим умом. Еще тягостнее, по словам Шах¬
растани, отрицание ал-Фувати того, что бог «запечатывает
сердца», т. е. предписывает неверие части людей, «накладывает
печати» на отверженных и «устанавливает преграды», дабы они
не обошли его приговор. «Хотел бы я знать, во что верил этот
человек?» — спрашивает Шахрастани81. Он отмечает суждение
ал-Фувати, что рай и ад всего лишь аллегории, поскольку «за
ненадобностью» еще не сотворены и находятся в предсущест¬
вовании. Ради этой идеи предсуществования он, по словам
Шахрастани, запрещал говорить, что бог знает вещи до их
существования82.
В данном случае ал-Фувати явно следует за кадаритами, ко¬
торые усомнились в том, что бог знает все наперед. В свое
время кадариты-шабибиты категорически отвергли мнение, что
-«бог предвидит действия людей и кем они станут»83, а группа
шиитов-рафидитов смягчила их отрицание предвидения, заявив:
57
«Бог предвидит существование вещей, но ему недоступно пред¬
видение человеческих деяний». Рафидитскому лидеру Хишаму
ибн ал-Хакаму (ум. в 815 г.) приписывают слова: «Никто не
может быть знающим, пока \не обрел существование сам объект
знания. А если бы бог знал заранее, что сделает человек, не
стало бы нравственного испытания и свободных решений»84.
Больший акцент мусульманских теологов на эстетической
теодицее и ее «жестких» импликациях определен не только
умозрительными соображениями. В отличие от Августина пер¬
вые деятели калама апеллируют к ней не как люди, истово
верящие в порядок мира, когда он рушится, а как люди, не¬
сомненно знающие этот порядок и уверенные в его непоколеби¬
мости. Для кадаритов и мутазилитов красота и разумное устрое¬
ние мира казались бесспорными и не требующими логических
демонстраций. Будучи выразителями здоровой мощи и жизне¬
радостных интенций новой культуры, рождающейся не из об¬
ломков «царства Кесаря», ставшего к моменту гибели вполне
христианским, а из бесспорной языческой «дикости», враждеб¬
ной исламу, они усматривали в порядке мира данность, а не
заданность, переводили его из должного в сущее.
Желание видеть мир разумным и совершенным было у му-
тазилитских теологов настолько сильным, что всякое сомнение
в этом воспринималось ими очень болезненно. Дело скорее даже
не в том, что они находили источник организованности в бо¬
жественной заботе о мире, а в том, что вообще не хотели ста¬
вить на одну доску разум и неразумие, порядок и беспорядок.
Для общества, начинающего с азов книжной культуры, и для
его деятелей это вовсе не удивительно.
Развитием и дополнением эстетической формы теодицеи яв¬
ляется собственно этическая форма. Суть ее в следующем. Не
допуская действительной онтологизации зла, мусульманские и
христианские теологи принимают его наличность очевидным и
бесспорным фактом — ввиду необходимости зла для нравствен¬
ного развития человечества. Получается, что человек должен
пройти испытание грехом для утверждения в праведности.
И мощь, и вообще «присутствие» бога ему надо испытать, ины¬
ми словами, «согрешить, чтобы покаяться». Августин в этой
связи рассуждает так. Если согласиться, что Адам в раю обла¬
дал девственной чистотой, то он фактически не был еще пра¬
ведным, ибо до момента испытания его свободы грешить и не
грешить он попросту выходил за границы моральной оценки.
Значит, грех изначально предполагается как некая формальная
возможность. Но, утвердив себя как моральный субъект, всту¬
пив в активные отношения с миром, Адам потерял неумение
грешить. Его грехопадение — это следствие самоуверенности*
переоценки своих возможностей пройти испытание грехом, не
запятнав себя. Таким образом, созданный человеком реальный
дуализм добра и зла Августин обусловливает выбором первым,
человеком «человечности», небожественности.
58
Шахрастани сообщает, что эта форма теодицеи вызвала сре¬
ди мутазилитов заметные разногласия. Они разошлись во мне¬
ниях о причинении страдания ради воздаяния. Ал-Джуббаи
(ум. в 915 г.) говорил: «Это возможно сначала ради воздаяния»
и обосновывал тем страдания детей. Его сын говорил: «Это хо¬
рошо лишь при условии воздаяния и предостережения одно¬
временно». Учение ал-Джуббаи о воздаянии разъяснялось дву¬
мя способами. Первый: «Возможно облагодетельствование напо¬
добие воздаяния, однако Всевышний знает, что человеку принесет
пользу воздаяние только с предшествующим страданием». Вто¬
рой способ: «Именно это хорошо, потому что воздаяние заслу¬
живается, облагодетельствование не заслуживается»85.
Согласно метафизической форме теодицеи, обнаруживаемой
в трудах мусульманских и христианских мыслителей86, все не¬
совершенства мира обусловлены творением его из ничего: зло
не от бога, а от небытия; зло — не реальность, а недостаток
реальности.
Эту форму теодицеи, явно заимствованную из обихода хри¬
стианских теологов, можно найти у Абу Али ал-Джуббаи
Старшего. Он утверждает, что субстанциального зла в мире
нет, а раз зло не субстанциально, относительно него не может
быть никакого предопределения, ибо предвидение бога распро¬
страняется только на то, что существует. Поэтому осуждение
^человека должно быть отнесено только на счет последствий
злоупотребления им своей свободой. Добрые дела совершаются
человеком по воле бога, а в дурных делах бог покидает его и
допускает совершение грехов, обращая сделанный человеком
выбор зла в испытание праведности.
Вряд ли должно удивлять совпадение мнения ал-Джуббаи
и по «кадаритски» звучащего — если вспомнить теорию «наде¬
ления»— утверждения Августина, что бог управляет всеми со¬
творенными вещами, позволяя им действовать и поступать свой¬
ственными им самим способами поведения. Хотя их существо¬
вание полностью зависит от него, они имеют все же и опреде¬
ленную самостоятельность — свободу (libertas) как способность
действовать вообще.
Так же как и Августин, ал-Джуббаи говорит, что воле в ее
естественных проявлениях свойственно предпочтительное избра¬
ние добра, что ее отличает своеобразная предопределенность к
добру. Он полагает свободу выбора присущей каждому взрос¬
лому человеку, однако предупреждает, что нельзя говорить о
каком-либо выборе между добром и злом, поскольку первое
предпочитаемо само по себе. Лишь до тех пор пока человек не
отличил добро от зла, его действия совершенно произвольны,
и грехи ему не могут вменяться в вину, ибо он совершает их
;по неведению. Но когда он узнает, что такое добро и зло, он
совершает действия, уже предполагая их конечный результат,
и потому отвечает за совершение или несовершение этих дейст¬
вий.
59
Можно сказать, что цели богооправдания у ал-Джуббаи слу¬
жит характерное как для мутазилитов, так и для христианских
теологов отождествление моральных и психофизиологических
качеств человека, «этизация» действий его воли. «Выбор исхо¬
дит из блага» (ихтийар ифта‘ала мин ал-хайр),— заявляли му-
тазилиты, имея в виду, что у слова «выбор» (ихтийар) общая
основа со словом «благо» (хайр) и оно несет на себе позитивно-
бытийственную окраску.
Но в отличие от большинства отцов церкви, ал-Джуббаи и
другие мутазилиты акцентируют в волевой активности не су¬
губо рефлексивную свободу хотения и формально полагаемую
свободу выбора, а реальную свободу действия. Мутазилитская
формула «способность (истита‘а) прежде действия» превраща¬
ла «истита‘а» в предшествующую каждому поступку врожден¬
ную способность к его осуществлению или уклонению от него.
Разумеется, четкого различия форм теодицеи ни у христиан¬
ских, ни у мусульманских авторов нет. Легкий и не всегда осо¬
знаваемый самими теологами переход от одной формы теоди¬
цеи к другой позволял им достигать искомого — признания учас¬
тия бога в делах разумно устроенного им мира, где по воле
всевышнего, но всегда без прямого его вмешательства «все
должное совершиться совершается».
1 См.: Кремлевский А. История пелагианства и пелагианская доктрина.
Казань, 1898.
2 См.: Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979,
с. 210—211; Krüger Р. Das Problem des Pelagianismus bei Babai dem Gro¬
ssen.— Oriens Christianus, 1962.
3 Ибн Хазм. Ал-фисал фи-л-милал ва-л-ахва ва-н-нихал (Подразделение
религий, отклоняющихся учений и сект). Т. 4. Каир, 1903, с. 112.
4 См.: Ал-Аш'ари. Макалат ал-исламиййин ва-хтилаф ал-мусаллин (Трак¬
таты мусульман и разногласия правоверных). T. 1. Стамбул—Лейпциг, 1929,
с. 132, 141, 279—280; Ал-Багдади. Ал-фарк байна-л-фирак (Расхождение
между сектами). Каир, [б. г.], с. 211—212.
5 Ал-Аш'ари. Трактаты мусульман, с. 136—137, 200; Ал-Багдади. Расхож¬
дение между сектами, с. 117—120, 206.
6 «Их называют сторонниками божественной справедливости и единобо¬
жия, а прозывают кадаритами и адлитами. Сами же они считают выражение
кадариты общим и говорили, что выражение кадариты применимо к тому,
кто признает предопределение, добро и зло которого [исходит] от Аллаха
всевышнего, предохраняя себя от заклеймения этим прозвищем» (Аш-Шахра-
стани. Китаб ал-милал ва-н-нихал (Книга о религиях и сектах). Ч. 1. Ислам.
Пер., исслед., коммент. С. М. Прозорова. М., 1984, с. 54).
7 Cahen Cl. Note sur l’Accueil des Chrétiens d’Orient à l’Islam.— Revue
de l’Histoire des Religions. 1964, t. 166, c. 51—58.
8 Исследование и частичный перевод см.: Lewis В. An Apocalyptic Vision
of Islamic History.— Bulletin of the School of Oriental and African Studies.
1950, vol. 13, c. 308—328.
9 Там же, с. 324—325.
ш Медников Н. А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых,
походов по арабским источникам. Прил. 11(3). СПб., 1897, с. 1793. Сомни¬
тельность данных о числе путешествий Омара отмечал Ю. Вельхаузен ( Wel¬
lhausen J. Skizzen und Forarbeiten. H. 6. В., 1899, с. 67). Причиной явного
преувеличения их числа Н. А. Медников полагает спор по поводу того,
60
на каком именно животном верхом Омар въехал в Сирию. (Медников Н. А.
Палестина. Исследование, 1. СПб., 1903, с. 614).
11 Медников Н. А. Палестина. Прил., 11(3), с. 1794—1795.
12 О его вкладе в религиозно-догматическую историю ислама см.: Wolf en-
son J. Ka‘b al-Ahbär und seine Stellung im Hadit und in der islamischen
Legenden-Literatur. Frankfurt a. M., 1933.
13 Медников H. А._ Палестина. Прил. 11(3), с. 1799—1802.
м Аш-Ш ахрастанй. Книги о религиях и сектах, с. 33.
15 Там же, с. 30.
16 Там же, с. 30—31.
17 Аверинцев С. С. Теодицея.— Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970*
с. 198.
18 Там же, с. 198.
19 Генкелъ Г. Представления о загробной жизни у древних евреев.—
Будущность. 1900, № 40, с. 813—825; Рижский М. М. Проблема теодицеи
в Ветхом завете.— Бахрушинские чтения. 1971. Вып. 3. Новосибирск, 1972,.
с. 16—17.
20 Paton L. В. Ethics of the Hebrew Prophets.—The Evolution of Ethics
as Revealed in the Great Religions. New Haven, 1927, c. 221—222.
21 Рижский M. M. Проблема теодицеи в Ветхом завете, с. 20—21.
22 Mac Leisfi A. «J. В.»: A Play in Verse. Boston, 1958, c. 111.
23 Преображенский Л. Ф. В мире античных идей и образов. М., 1965,.
с. 183.
24 См.: Cook М. Early Muslim Dogma. A Source-critical Study. Cambridge,.
1970, c. 117—145.
25 Тексты см.: Ess J. van. Anfänge muslimischer Theologie: zwei antiqada-
ritische Traktate aus dem I. Jahrhundert der Higra. Beirut—Wiesbaden, 1977„
c. 1—112 и 113—176.
28 Там же, с. 171—172.
27 Там же, с. 13.
28 Cook М. Early Muslim Dogma, с. 145—153; он же. The Origins of Ка-
lam.— Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1980, vol. 43,.
c. 32—43; Seale M. S. Muslim Theology. A Study of Origins with References
to the Church Fathers. L., 1964, c. 36—42.
29 Cook M. Early Muslim Dogma, c. 146.
39 Ал-Аш'ари. Трактаты мусульман, с. 93; Ess J. van. Anfänge muslimi¬
scher Theologie, с. 128—129.
31 Wolfson H. A. The Philosophy of the Kalam. Cambridge (Mass.), 1976,.
c. 616.
32 Аш-Шахрастанй. Книга о религиях и сектах, с. 128.
30 Ал-Аш'ари. Трактаты мусульман, с. 136—137; Ал-Багдади. Расхождение:
между сектами, с. 206.
34 Ritter Н. Studien zur Geschichte der islamischen Frömmigkeit. 1. Hasan
al-Basrl.—Der Islam. 1933. Bd 33, c. 69—70.
36 Там же, с. 73.
36 Там же, с. 68.
37 Там же, с. 69.
38 Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979, с. 202.
39 Аш-Ш ахрастанй. Книга о религиях и сектах, с. 42—43.
40 Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление исто¬
рико-литературного ряда.— Новое в современной классической филологии. М.„
1979, с. 26.
41 Augustini opera. T. 1, кол. 1275 (здесь и далее труды Августина цити¬
руются по изданию: Sancti Aurelii Augustini hipponensis episcopi opera omnia.
12 vol. in 16 lib. Editio novissima emendate et auctior accurante J.-P. Migne.—
Patrologiae cursus completus. Series latina prima. T. 32—47).
42 Там же, кол. 1274.
43 Там же, кол. 1266.
44 Augustini opera. T. 10, кол. 1497.
45 Пелагий. Послание к Деметриаде.— Эразм Роттердамский. Философ¬
ские произведения. М., 1986, с. 587.
61
46 Там же, с. 603—604.
47 Там же, с. 596.
48 Augustini opera. T. 10, кол. 1580.
49 Там же, кол. 1108.
50 Augustini opera. T. 7, кол. 620.
51 Augustini opera. T. 10, кол. 1494.
52 Augustini opera. T. 7, кол. 351.
53 Augustini opera. T. 10, кол. 935—937.
54 Там же, кол. 283.
55 Там же, кол. 361—363.
56 Пелагий. Послание к Деметриаде, с. 605.
57 Augustini opera. T. 10, кол. 890.
158 Там же, кол. 867.
59 Там же, кол. 1112.
60 Пелагий. Послание к Деметриаде, с. 617.
161 Augustini opera. T. 10, кол. 376.
62 Там же, кол. 344.
*6Э Там же, кол. 230.
*4 Там же, кол. 843.
^ Там же, кол. 264.
*б Пелагий. Послание к Деметриаде, с. 615—616.
■*67 Augustini opera. T. 2, кол. 860.
'e8 Augustini opera. T. 10, кол. 940.
Z69 Там же, кол. 928.
70 Там же, кол. 942.
71 Там же, кол. 975.
72 Там же, кол. 945.
73 Там же, кол. 978.
74 Аш-Шахрастйнй. Книга о религиях и сектах, с. 74.
75 Там же, с. 62.
76 Там же.
77 Там же.
78 Там же, с. 65.
79 Там же, с. 66.
80 Там же, с. 74.
81 Там же, с. 75.
82 Там же, с. 75—76.
83 Watt W. М. The Formative Period of Islamic Thought. Edinburg, 1973.
84 Wolfson H. A. The Philosophy of the Kalam, c. 681.
85 Аш-Шахрастйнй. Книга о религиях и сектах, с. 82.
86 См.: Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии - (латин¬
ская патристика). М., 1984, с. 318—319.
Г. Б. Шаймухамбетова
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ
И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ РАЦИОНАЛИЗМА
ВОСТОЧНЫХ ПЕРИПАТЕТИКОВ
(на примере ал-Фараби)
На первый взгляд в словосочетании «восточные перипате¬
тики» все как будто ясно: общеизвестно, что так в историко-
философской литературе названы философы арабо-мусульман¬
ского средневековья, целая плеяда выдающихся мыслителей,,
разделявших аристотелевские представления о предмете и ме¬
тоде философии — ал-Кинди, Закария ар-Рази, ал-Фараби, Ибн.
Сина, ал-Бируни, Ибн Баджа, Ибн Туфейль, Ибн Рушд. И ка¬
залось бы, нет необходимости специально доказывать право¬
мерность употребления термина «перипатетизм»: в общемето¬
дологическом плане творчество указанных философов, взятое
как типологическое целое, отразило, пусть с разной степенью
полноты и определенности, приверженность эмпирически ори¬
ентированному аристотелевскому подходу к познанию мира. Од¬
нако нельзя не видеть и то, что почти столь же общепризнан¬
ным является представление о восточном перипатетизме как о-
своего рода эклектичном направлении— в учении о бытии на¬
ходящемся под влиянием неоплатонизма, в учении о познании —
перипатетизма, в учении же об обществе наследующем Пла¬
тону. Хотя появившиеся в последние два десятилетия специаль¬
ные работы поколебали это, в сущности, традиционное пред¬
ставление, восприятие восточного перипатетизма как некоего
синтеза неоплатонизма и перипатетизма остается преобладаю¬
щим.
Таким образом, уточняя содержание понятия «восточный пе¬
рипатетизм», можно поставить вопрос: если в учении о бытии
представители данного направления являются неоплатониками,,
допустимо ли вообще словоупотребление «восточные перипате¬
тики»? Ведь онтология и гносеология, вычленяемые при ана¬
лизе как разделы единой философской системы, не могут не
быть взаимообусловлены. И соответственно возникает еще один
вопрос: действительно ли учение о бытии в трудах восточных
перипатетиков по своей структуре и в общеметодологическом
плане типично неоплатоническое?
© Г. Б. Шаймухамбетова, 1990
63
Ответы на эти вопросы могут отыскиваться на различных
путях — через прямое текстуальное сопоставление соответствую¬
щих разделов философских систем восточных перипатетиков и
Аристотеля и Плотина, а также через 'постановку проблем, поз¬
воляющих ухватить существо дела, построить то теоретическое
пространство, которое наиболее явно раскрывает сходство и
различие общеметодологических принципов классического пери¬
патетизма (Аристотель), неоплатонизма (Плотин) и восточного
перипатетизма (в качестве »наиболее яркого его представителя
нами избран ал-Фараби, общепризнанный основоположник это¬
го направления, создатель первой в арабском средневековье цель¬
ной философской системы, оказавшей воздействие на последую¬
щих философов в этом регионе).
В пределах статьи 'предпочтительнее, конечно, второй путь —
постановка определенным образом заостренной проблемы. И она,
собственно, уже обозначена в названии статьи. Однако при¬
менительно к периоду раннего средневековья (годы жизни Фа¬
раби— 870—950) и «направлению (восточный перипатетизм)
это обозначение проблемы требует уточнений.
Дело в том, что вообще проблематика рационализма тради¬
ционно осмысляется на материале западноевропейского культур¬
ного мира. Когда речь заходит о средневековье, тем более ран¬
нем, общим местом является утверждение сугубо служебной ро¬
ли разума по отношению к вере у большинства философов. Это,
конечно, верно, тем более что и философы в христианском
культурном ареале принадлежали к церковным кругам, были
теологами (сама ученость, знание принципиально не могли быть
светскими); наука как естественнонаучное, да и светское гума¬
нитарное знание фактически не культивировалась. Однако
иное, прямо противоположное положение в тот же период сло¬
жилось на арабо-мусульманском Востоке: философия (именно
фальсафа—обозначение восточного перипатетизма как особого
направления в дифференцированном культурном мире арабо¬
мусульманского средневековья) и теология сосуществовали па¬
раллельно, притом философы-профессионалы сознательно отме¬
жевывались от теологов и нередко сами были учеными, есте¬
ствоиспытателями. В первые века распространения ислама,
в классический период арабо-мусульманской культуры наряду с
богословием и независимо от него сложилось и развивалось
знание светское, естественнонаучное, ориентированное на мир
посюсторонний.
Здесь не место обсуждать, чем объясняется такое положе¬
ние, а также причины недолговечного, как оказалось, расцвета
науки и связанной с ней философии. Но нельзя не отметить уни¬
кальность ситуации — в раннее средневековье лишь в арабском
регионе существовала собственно философия в отличие от рели¬
гиозно-философской и чисто религиозной мысли. Важнейшие
ее особенности — антисхоластизм, антиавторитаризм и, самое
важное, сугубо светская ориентация, связь с естественнонауч-
64
ашм знанием и общественной проблематикой. Разумеется, при
таком положении дел рационализм, понимаемый в самом ши¬
роком смысле как уверенность в познавательных возможностях
разума человека и как выражение стремления познавать не
божественное, а именно природное и социальное бытие во всем
их многообразии, для представителей фальсафа не мог не быть
совершенно однозначной и общепринятой основополагающей ус¬
тановкой.
Вот как понимал суть философии химик и философ Джабр
Ибн Хайян (ум. в 804 г.): «Философское знание есть знание
реальной природы существующих вещей, имеющих причину»1.
Согласно Фараби, «определение философии и сущность ее в том,
что она есть наука о сущем, как таковом»2. При этом «объек¬
ты наук и их предметы могут быть только метафизическими,
физическими, логическими, математическими или политически¬
ми, а философия делает выводы из них всех и подводит итог
так, что в мире не остается ничего сущего, к чему она не имела
бы касательства. Из определения философии вытекает и ее
цель — познание в меру человеческих способностей»3. В клас¬
сификации наук Ибн Халдуна философия и теология разводятся
по различным рубрикам в зависимости от их отношения к разу¬
му: философские науки— рационалистические, ибо «человек мо¬
жет постигнуть их по природе своего мышления, идти в них
правильным путем, руководствуясь своими органами познания»4.
Науки же, «в которых место разуму находится только в вы¬
ведении частных вопросов из заданных основ»5, Ибн Халдун
называет «основанными на традиции»; их источник, «основа»,—
Коран и сунна.
Таким образом, уточняя содержание термина «рационализм»
применительно к восточным перипатетикам, нужно сразу от¬
бросить привычное для характеристики теоретико-познавательной
ситуации раннего средневековья представление о разуме чело¬
века как о крайне усеченном в своих возможностях, под¬
чиненном религиозной вере и соответственно радикально пере¬
смотреть положение, согласно которому для философа того пе¬
риода природный мир в его данности не являлся достойной
сферой приложения разума, не мог и не должен был познавать¬
ся. Это одно из важных и необходимых для нас уточнений, по¬
скольку оно позволяет перенести проблематику рационализма
из традиционной плоскости — исключительно соотношения веры
и разума — в сферу собственно философских размышлений вос¬
точных перипатетиков.
Конечно, указанная тема—соотношение веры и знания —
не могла не волновать философов арабского средневековья,
в частности ал-Фараби. Логично предположить, что в соответ¬
ствии с культурно-историческими особенностями той эпохи, глав¬
нейшей из которых (особенностей) в области философского
творчества явилось осознание самостоятельности философии в
условиях утверждающейся монотеистической религиозности,
^ Зэк. 635
65
Фараби с неизбежностью должен был уделить ей особое вни¬
мание. Так оно и случилось, причем для Фараби разработка
указанной темы не была лишь частным моментом. Исследова¬
тели подробно, в деталях описали, каким именно образом он
развел философию, теологию и религию (гносеологически, через
квалификационный анализ частей логики), справедливо высоко
оценили результаты проделанной им работы (как исток теории
двойственной истины) и подчеркнули значимость для мыслителя
этой проблематики®.
И все же нельзя замыкаться лишь на одной этой проблеме:
творчество Фараби позволяет, на наш взгляд, увидеть пробле¬
матику рационализма в ином ракурсе, поставить вопрос, огра¬
ничиваются ли его размышления попыткой сохранения и акту¬
ализации в новых культурно-исторических условиях достижений
классической античной философии, и именно перипатетизма,,
иными словами, можно ли говорить о развитии Фараби рацио¬
налистической традиции в контексте самой истории философии.
Такой поворот оправдан уже тем обстоятельством, что не¬
возможно рассматривать философию арабского средневековья
почти в любом аспекте, не затрагивая в той или иной мере
темы отношения ее представителей к унаследованному имя
мыслительному материалу, прежде всего античному.
Тема эта, несомненно, слишком обширна, чтобы обсуждать
ее здесь специально. В связи с нашей проблематикой отметим,
следующее. История переводов свидетельствует, что естествен¬
нонаучный и философский материал античности в регионе Ближ¬
него и Среднего Востока был введен в научный оборот в макси¬
мально полном объеме к IX—X вв., причем введен в очень
короткие сроки — на протяжении жизни двух поколений пере¬
водчиков7. Тем самым впервые после того, как христианская
теология во II в. начала приспосабливать к своим догмам фи¬
лософские идеи, действуя по принципу отбрасывания и замал¬
чивания, классическая греческая философия предстала в доста¬
точно цельном виде, позволяющем уловить определяющие ее
черты. Фараби имел в своем распоряжении уникальный по пол¬
ноте для раннесредневекового философа объем сочинений ан¬
тичных авторов и потому получил возможность сравнить пред¬
ставленные мыслительные схемы и сделать выбор — ситуация,-
в корне отличная от западноевропейской, когда средневековая,
философия лишь отрывочно и постепенно осваивала греко-эл¬
линистическое наследие.
Труды Фараби с очевидностью отразили этот факт — и внеш¬
ним образом (классификация философских школ, цитация),,
и самим качественно новым уровнем осмысления философской
проблематики по сравнению, например, с возможностями его
предшественника ал-Кинди8. Исследователи все более опреде¬
ленно отмечают дифференцированность отношения Фараби к.
представителям античной философии, его «уникальную прони¬
цательность»9 в установлении истинного содержания каждого»
66
философского направления, в том числе самого перипатетизма .
Предпочтение, отданное восточными мыслителями, в част¬
ности Фараби, философии Аристотеля, в свете изложенного
предстает актом сознательного выбора мировоззренческой уста¬
новки, в наибольшей степени соответствовавшей их научно
ориентированному воззрению на мир. Что же именно в класси¬
ческом перипатетизме привлекло Фараби?
В античной философии, многообразной в своих тенденциях,
последующие эпохи, как известно, искали и находили каждая
свое. Неприемлемый для патристики Аристотель был отвергнут
в пользу Платона, и он же, Аристотель, оказался необходимым
западноевропейскому культурному миру в XII в., когда совпали
стремление к изучению природы, вообще расширение научных
интересов вследствие изменяющихся социально-экономических и
культурных потребностей и само текстуально достаточно пол¬
ное знакомство с трудами Аристотеля, впервые для христиан¬
ского Запада представившими иной в сравнении с патриотиче¬
ским и религиозно-пантеистическим (Эриугена) способ объясне¬
ния мироздания, теснейшим образом связанный с эмпирией, при¬
родным бытием (к середине XII в. уже был полностью пере¬
веден «Органон», а к середине XIII в.— большинство осталь¬
ных трудов Стагирита, причем «Физика» и «О небе» впервые —
с арабского).
На Арабском Востоке подобная благоприятствующая вос¬
приятию сочинений Аристотеля ситуация сложилась- раньше и,
как уже отмечалось, совпала с годами жизни Фараби. Такова
внешняя, объективная сторона вопроса о его отношении к арис¬
тотелевской философии. Однако для понимания факта выбора
именно этой античной модели объяснения мира необходимо
уяснить и внутренние, субъективные установки мыслителя.
Отмеченная исследователями «индифферентность к религи¬
озной проблематике»11, характерная для представителей фаль-
-сафа, означала, по сути дела, отсутствие интереса к собствен¬
но богословским вопросам, что явилось результатом неприятия
ими коранической креационисткой модели мира как несовмести¬
мой с требованиями разума. В одном из не дошедших до нас
трактатов Фараби, содержание которого воспроизводится по
цитатам из сохранившихся произведений его сторонников и оп¬
понентов (свидетельства подобного рода собраны в книге с ха¬
рактерным названием «Учение о безначальности мира у сред¬
невековых арабских философов»12), говорится, что Фараби «не
доверяет высказываниям пророка, ибо не может постичь их
умом, а потому не верит в акт творения. То, что утверждает
пророк, разум не приемлет» 13.
Каким же образом стало возможным подобное умонастрое¬
ние для мыслителя раннего средневековья? В ответе на этот
вопрос кажется важным подчеркнуть и особо выделить то об¬
стоятельство, что в отличие от своих современников — филосо¬
фов в христианском культурном мире (например, Эриугены и
5*
67
Фотия), вовлеченных в устоявшуюся сферу идей, представлений
и привязанностей христианской, т. е. в той или иной степени тео¬
логической, мысли, Фараби, напротив, был полностью свободен
от какого-либо давления теологической традиции — хотя бы по¬
тому уже, что теология ислама как развитая система религиоз¬
ной догматики еще только складывалась.
Далее, нельзя, думается, не принять во внимание и саму
личность Фараби, особенности его внутреннего мира, психоло¬
гического настроя. Сейчас у нас уже немало написано о его
творчестве, но сам по себе этот мыслитель как человек опре¬
деленного склада ума и чувств известен сравнительно мало.
Биографические сведения скудны14, но все же и они дают не¬
который материал для размышления. Ал-Фараби родился на
окраине халифата в то время (870), когда ислам в форме ша-
фиитской школы права в качестве определенного вероучения
еще только внедрялся. Первоначальное образование будущего
философа не было религиозным, а арабский язык он вообще
начал изучать лишь в возрасте после 20 лет, когда прибыл в
Багдад. Выходец из семьи тюркского военачальника, он не
нуждался в службе, никогда не служил и, следовательно, был
свободен в выборе предмета занятий, учителей и, если так мож¬
но выразиться, стиля жизни (пребывание в важнейших центрах
культуры, путешествия в зависимости от собственного жела¬
ния). Это означало свободу и широту мировосприятия, мировоз¬
зрения. Даже на склоне лет, будучи близок ко двору Сайф ад-
Дауля, он сохранял и внешнюю (непосредственно при дворе
правителя не жил) и внутреннюю независимость.
Иными словами, ум Фараби, не отягощенный в детстве и
юности зубрежкой Корана в медресе или у частных учителей,
был открыт для непредвзятого осмысления трудов греческих
философов. Повезло и с учителями — ими были наиболее про¬
фессионально подготовленные знатоки арабского и греческого
языков, притом непосредственно связанные с традицией переда¬
чи греческого философского наследия, переводчики и знатоки
трудов Аристотеля, в особенности логических. Пребывание в
крупнейших городах (Багдад, Дамаск, Каир, Харран, Алеппо
или Халеб) с их напряженной духовной жизнью, разнообразны¬
ми интеллектуальными устремлениями различных слоев общест¬
ва давало пищу уму, возможность сравнивать множество точек
зрения.
Конечно, важно было бы достоверно знать, кто непосредст¬
венно пробудил у Фараби интерес к философии, каким все-та¬
ки образом он смог получить столь, как теперь уже не отри¬
цается, разностороннее, глубокое и дифференцированное по пер¬
соналиям и проблемам представление об античной философии.
Однако это особая и сложная тема («Ал-Фараби — источник фи¬
лософии»), предполагающая специальное и труднодоступное ос¬
воение ряда смежных тем, имеющих отношение к «христиан¬
ской философской школе Багдада»15, с которой полемизировал
68
Фараби, школам логики Багдада и Басры того времени 1в, осо¬
бенностям переводческого движения IX—X вв., специфике свет¬
ского обучения17, состоянию современной Фараби философской
мысли на Западе и в Византии, ее источниковедческой 15азы в
сравнении с объемом переведенного на арабский к X в. антич¬
ного философского наследия и др. Достоверно известно лишь
о первых и, видимо, сыгравших важнейшую роль в становле¬
нии Фараби-философа учителях его — Иуханне ибн Хайлане и
Абу Мишре ибн Юнусе (оба, между прочим, были христиа¬
нами).
Так или иначе, но Фараби оказался близок тем кругам об¬
щества в Багдаде (место его первоначального и длительного
пребывания на Арабском Востоке), которые сознательно и це¬
леустремленно осваивали максимально доступный им объем ан¬
тичного философского наследия. И уже не чем иным, кроме
как исключительными способностями Фараби, нельзя объяснить
тот факт, что он один среди своих современников-мыслителей в
арабском мире (Ибн Сина, напомним, жил и творил столетием
позже) смог сориентироваться в обилии данных, вычленить ос¬
новополагающий идейный, проблемный материал, поставить на
истинно философской базе существеннейшие вопросы, опираясь
на концептуальные схемы греческих философов, наконец, пред¬
принять первую в арабском мире и успешную попытку объяс¬
нить действительность во всем ее многообразии в пределах
цельной философской системы с помощью определенных тео¬
ретических представлений о структуре окружающего мира —
мира природы и мира человека.
Креационистская кораническая точка зрения была отвергну¬
та. И отвергнута в пользу аристотелевской концепции вечнос¬
ти мира, изложенной Стагиритом в трактатах «О небе», «Физи¬
ка», «О возникновении и уничтожении» и XII книге «Метафи¬
зики». Фараби полагает «очевидным и решенным Аристотелем,
что небо вечно, а все находящееся внутри него исчезает и воз¬
никает»18, он составил комментарии к «Физике», «О небе»,
«О возникновении и уничтожении»; что касается «Метафизики»,
то, видимо, комментариями следует считать трактаты «О целях
Аристотеля в „Метафизике“» и «Книга букв» 19.
Вечность мира в античной философии, разумеется, утверж¬
далась не одним Аристотелем. Креационистская точка зрения —
творение мира из ничего личностно понимаемым божеством —
в языческой греко-эллинистической философии исключалась ап¬
риори. Но это не значит, что мирообъяснительные схемы антич¬
ности принципиально не различались, в том числе и внутри
объективно-идеалистической философской традиции, в преде¬
лах которой должен рассматриваться восточный перипатетизм.
Платон, Аристотель, Плотин — лишь при, так сказать, сум¬
марном представлении античного объективного идеализма в его
противоположности спиритуализму они являют собой нечто об¬
щее. Различие же в позициях относительно мира в целом выра-
69
зил сам Аристотель, когда противопоставил себя Платону:
«Небо в своей целокупности не возникло и не может уничто¬
житься, вопреки тому, что утверждают о нем некоторые... оно,
напротив того, одно и вечно... и его полный жизненный век не
имеет ни начала, ни конца, но содержит и объемлет в себе бес¬
конечное время» (О небе II, I, 2836 26—31). «А между тем
имеются некоторые, по мнению которых и нечто невозникшее
может уничтожиться, и нечто возникшее — оставаться неуничто¬
жимым, как это утверждается в „Тимее“, где Платон говорит,
что Небо возникло и тем не менее впредь будет существовать
вечно» (О небе I, 10, 280а 28—33). В другом месте, доказывая
вечность, «нерождешюсть» времени, Стагирит констатирует:
«Один только Платон порождает его: он говорит, что оно воз¬
никло вместе со Вселенной, а Вселенная, по его мнению, воз¬
никла» (Физика VIII, 1, 2516 17—19).
Платон, как известно, действительно трактует проблемы
мира в целом, проблемы космоса в плане его «порождения»
в результате особой целеустремленной деятельности «демиур¬
га», «творца и родителя этой Вселенной» (Тимей 28в—с), соз¬
дающего космос по определенному образцу, (т. е. космология
Платона есть одновременно космогония). Аристотель же, по его
собственным словам, первым перестал понимать бытие Вселен¬
ной как результат порождения (О небе II, I) и вместо космого¬
нии с ее генетическим в конце концов объяснением действи¬
тельно впервые дает в форме структурно-имманентного анали¬
за космологическое описание извечно существующей вселенной.
Для уяснения причин и результатов этого различия, думает¬
ся, важно сделать акцент на следующем. Известно, что телеоло¬
гия как утверждение целеполагания во всех процессах, проис¬
ходящих в мире, означает общую характеристику объективно¬
идеалистического воззрения. Однако принимаемый в качестве
общей установки принцип телеологизма может получить разное
выражение в зависимости от понимания онтологического ста¬
туса объектов, подлежащих истолкованию.
Огрубляя воззрения Платона и Аристотеля, допустимо ска¬
зать, что платоновская концепция онтологически реально су¬
ществующих идей как образцов для вещей может объяснить
само взаимодействие этих качественно разнородных образова¬
ний только на путях телеологии, носящей внешний характер,—
целостность вещи имеет основание в ее стремлении к своей идее
как цели, идея же как таковая есть нечто внешнее по
отношению к цели. Применительно к миру это означает призна¬
ние необходимости совершенно внешней ему реальности, «силы,
которая наилучшим образом устроила все так, как оно есть
сейчас» (Тимей 99с), причем «устроение» имеет причиной волю
«творца и родителя этой Вселенной», который «пожелал, чтобы
все вещи стали как можно более подобны ему самому» (Ти¬
мей 29е).
Что касается Аристотеля, то в его понимании мир, вселенная
70
есть бытие единое, но представленное двумя аспектами, сфера¬
ми, «уровнями»20 бытия, сущего. Подобно Платону, Аристо¬
тель полагает, что сверхчувственные сущности реальны, одна¬
ко в отличие от Платона он считает, что они не противополож¬
ны чувственным сущностям материально-предметной реальности
до признания какого-то особого бытия «образцов». В совокуп¬
ности оба уровня и составляют бытие: сверхчувственные и чув¬
ственные сущности, виды вещей и сами вещи в своей единич¬
ности, форма и материя — все это и есть сущее, бытие, по¬
скольку форма (вид, интеллигибельное) для Аристотеля есть
неотъемлемая характеристика бытия («один из двух рядов бы¬
тия сам по себе есть предмет мысли» — Мет. VII, 7, 1072а 31).
Взаимодействие между этими уровнями бытия Стагирит видит
в процессуальноети, в том или ином виде всегда свойственной
всем явлениям и предметам, всему сущему. Процессуальное^
же, динамичность объясняется через введение в философию двух
новых понятий — «возможность» и «действительность»: то, что
составляет сущее, бытие, не «порождается», оно есть результат
перехода из возможности в действительность, из потенциального
состояния в актуальное, возникновение — не порождение, а ак¬
туализация возможности.
Переход же этот совершается вследствие присущей всему
«целевой причины» — стремления к законченному состоянию
действительного, названного Аристотелем энтелехией. Это стрем¬
ление к пределу, завершенности, «энтелехиальности», это целе-
полагание не вносится в сущее, а свойственно ему — «ведь каж¬
дая вещь может иногда развивать энергию, иногда нет» (Фи¬
зика III, 1, 201в 7—8) и «при отсутствии каких-либо внешних
препятствий станет сущим в действительности через себя»
(Мет. IX, 7, 1049а 13—14). Иными словами, цели — в самих
вещах, и потому это телеология имманентная.
Согласно Аристотелю, во всех своих частях вселенная имеет
внутреннюю цель — достижение «блага», понимаемого как веч¬
ность и неизменность. Именно эта цель служит причиной дви¬
жения, движущей силой всякого развития. Сами же цели раз¬
нятся с ценностной точки зрения, в зависимости от вида движе¬
ния (круговое движение «наилучшее, поскольку оно вечное» —
О небе, 19, 279в 1) и от степени наполненности «благом» каж¬
дой данной части. «...Одно существо обладает высшим благом
или причастно ему, другое сразу же достигает его в результа¬
те немногих действий, третье — посредством многих, а четвер¬
тое даже и не пытается его достичь и довольствуется тем, что¬
бы приблизиться к этой конечной цели... Вот почему Земля вовсе
не движется, а планеты, близкие к ней, обладают малым чис¬
лом движений: они не достигают конечной цели, а лишь при¬
ближаются к ней в той мере, в какой они способны приобщиться
к божественному началу. Первое Небо достигает ее сразу —
посредством одного движения, а звезды, находящиеся посредине
между первыми и последними небесами, хотя и достигают ее,
71
но достигают посредством множества движений» (О небе II,
12, 2926 10—25).
Применительно к миру в целом аристотелевская имманент¬
ная телеология постулирует некую высшую цель, которая одно¬
временно есть конечный результат, завершение всякого разви¬
тия. Как осуществленность всех возможностей сущего, как са¬
мая полная действительность она есть нечто божес,1чзенное, есть
бог — энтелехия применительно ко вселенной. Понятый таким
образом аристотелевский бог должен содержать в себе энергию
всех остальных осуществленных возможностей, энтелехий, форм,
быть, по словам Стагирита, «формой форм». Бог является как
бы более сверчувственной сущностью в ряду и в сравнении с
другими сверхчувственными сущностями, каковыми у Аристо¬
теля выступают «неподвижные и вечные сущности», обусловли¬
вающие вечные движения планет (Мет. XII, 8, 1078а 25—35).
Однако, и это очень важно, в свете аристотелевского понима¬
ния двух уровней, «рядов» одного единого бытия бог не исклю¬
чается из этого бытия вообще как нечто трансцендентное, вне-
бытийственное; он — лишь наивысшее в одном из «рядов», уров¬
ней бытия, наивысшее и наисовершеннейшее в ряду сверхчувст¬
венных сущностей форм.
Задачей философии, по Аристотелю, является познание сверх¬
чувственных сущностей, «начал и причин всего сущего» (Мет.
VI, 1). Но поскольку сверхчувственный уровень бытия всегда,
за исключением одного случая, одного «начала» — бога, дан
только совместно с чувственными сущностями, то познание их
неразрывно связано с познанием материально-предметного, вещ¬
но-физического уровня сущего, чем и занимается физика как
«вторая философия». Тем самым аристотелевская концепция
оправдывает познавательную ценность чувственного уровня бы¬
тия и способствует конкретному исследованию природы, пусть
и сугубо умозрительному.
Вот этими своими особенностями — необходимостью позна¬
вать бытие на уровне чувственной материально-предметной дан¬
ности, природы, а также возможностью истолковать бога как
определенного рода самую совершенную, но все же познавае¬
мую сущность в ряду других сверхчувственных сущностей еди¬
ного бытия — аристотелевская философия и привлекла Фараби
в первую очередь.
Мирообъяснительные схемы Платона .и Аристотеля разли¬
чаются не только по онтологическому статусу вещно-физиче¬
ской реальности, но и по своей архитектонике. Платон убежден,
что «есть вечное, не знающее возникновения бытие... и есть веч¬
ное возникающее, но никогда не сущее» (Тимей 28а). Космос
в целом — это второе бытие, которое «никогда не существует
на самом деле», т. е. вечно и извечно, поскольку составляющие
его вещи, будучи возникающими и уничтожающимися, «под¬
властны мнению и неразумному ощущению» (Тимей 28а). Кос¬
мос должен был именно возникнуть, быть порожденным, притом
72
не самопроизвольно, но по воле демиурга, «отца всех вещей»
(Тимей 28с).
Представленная в «Тимее» картина подобного порождения
и его результатов такова: еще до того, как демиург вдруг «по¬
желал» заняться устроением вселенной, существовали он сам,
идеи-образцы (где они существовали, неизвестно) и материя;
из смеси последних демиург создает «душу космоса», а затем
«тело космоса», т. е. мир вещно-материальной действитель¬
ности.
Таким образом, говоря о платоновской картине мира, необ¬
ходимо учитывать принципиальное разделение бытий (истин¬
ное, действительное бытие в платоновском его понимании и соот¬
ветственно неистинное бытие, не существующее «на самом де¬
ле») и помнить, что собственно мир, космос, вселенная есть
нечто вторичное, занимающее лишь какую-то часть.
Последовательно и систематично подобное миропонимание
воспроизведено, как известно, Плотином, который отчетливее,
чем это сказано у Платона, представил механизм порождающей
деятельности демиурга. Единое дало «первое рождение» вна¬
чале «Числам» (Эннеады V, 2, 1), затем «Уму» — первой «осу¬
ществленной ипостаси», первому проявлению Единого. Его вто¬
рая ипостась — «Мировая душа». Третья ипостась — это космос,
мир вещно-физический, трактуемый как проявление Единого
уже во времени через посредство Мировой души. Именно она
имеет особое значение в плотиновской космогонии, поскольку
является непосредственным началом мира, осуществляя прямое
воздействие на становление космоса. «Душа произвела все жи¬
вые существа, вдохнув в них жизнь,— тех, которых питает земля
и море, и тех, что в воздухе, и божественные звезды в небе, и она
же произвела Солнце и великое Небо, которое она устроила и
украсила. Но сама она иной природы, чем то, что она устроила,
привела в движение и призвала к жизни. Она должна, следова¬
тельно, быть более ценным, чем нее то, что возникает и унич¬
тожается согласно тому, дает ли она жизнь или отнимает»
(Эннеады V, 1, 3).
Платоновско-плотиновское разделение «бытий», отчетливо
проявившиеся в структуре мироздания (вселенная, космос и его
порождающий механизм), у Аристотеля заменено концепцией
одного бытия из двух уровней. Соответственно у Стагирита
иная структура мироздания, причем здесь уже не требуется ого¬
ворки: он дает описание только одного мира, одного бытия, кос¬
моса, вселенной, части которой содержат сущности обоих уров¬
ней, чувственного и сверхчувственного, но в различной, так ска¬
зать, пропорции. Мир не порождается, а существует вечно и
извечно, безначально в отношении времени, а задача философа
состоит в описании и объяснении бытия через качественный
анализ различных частей вселенной, через качественное опи¬
сание процесса развития, понимаемого как актуализация воз¬
можности.
73
Архитектоника аристотелевской вселенной в первую очередь
определяется обычным общеантичным астрономическим и на¬
турфилософским представлением о строении космоса с его раз¬
делением на подлунную и надлунную части и их качественной
неоднородностью (эфир и четыре элемента). Однако этот вещ¬
но-физический естественнонаучный каркас в космологической
картине мира Стагирита облачен в плотные одежды «первой фи¬
лософии», постулирующей необходимость сверхчувственных сущ¬
ностей как активного действующего начала по отношению ко
всем процессам и явлениям во вселенной.
Наиболее очевидным образом эта функция, т. е. перевод по¬
тенциального, возможного в актуальное, действительное, у Арис¬
тотеля представлена применительно к перводвигателю и осо¬
бым сверхчувственным сущностям, так сказать, приданным, при¬
сущим планетам. «Очевидно, что должно существовать столько
же сущностей, сколько имеется движений светил, и что они
вечны по своей природе, сами по себе неподвижны и не имеют
величины» (Мет. XII, 8, 1072а 35—1073в 3); «Так как движу¬
щееся должно чем-то приводиться в движение, а первое дви¬
жущее— быть неподвижным само по себе, причем вечное дви¬
жение вызывается тем, что вечно, и одно движение чем-то одним,
и так как помимо простого пространственного движения Мирово¬
го целого, движения, которое, как мы полагаем, вызвано первой
и неподвижной сущностью, мы видим другие пространственные
движения— вечные движения планет, то необходимо, чтобы и
каждое из этих движений вызывалось самой по себе неподвиж¬
ной и вечной сущностью» (Мет. XII, 8, 1073а 25—35).
Итак, все планеты и каждая »из них имеют свою сверхчувст¬
венную сущность, функция которых сообщать им движение,
и оно в отличие от всех прочих движений во вселенной (т. е. на
Земле) вечно. В подлунном мире, на Земле, вечных сущностей
нет, так как подобного рода «бытие не может быть присуще
всем вещам из-за их удаленности от первоначала» (О возникно¬
вении и уничтожении И, 10, 3366 28—30). Но поскольку «при¬
рода стремится к лучшему, а „быть“ лучше, чем не „быть“, бог
завершил мировое целое тем способом, который оставался,—
сделал возникновение безостановочным, потому что постоянное
возникновение ближе всего к вечной сущности» (3366 33—37).
Возможно, все эти рассуждения Аристотеля покажутся не¬
уместными в статье, посвященной онтологическим основаниям
рационализма восточных перипатетиков, достаточно было бы
просто указать, что Фараби разделял аристотелевскую концеп¬
цию бытия как единого бытия, но состоящего из двух уровней,
и обратиться непосредственно к характеристике гносеологиче¬
ской проблематики, как она дана у Фараби. Но дело в том, что
некоторые особенности структуры мироздания Фараби склоняют
исследователей, что уже отмечалось, истолковывать его онто¬
логию как неоплатоническую. Речь идет о концепции истечения
«бытий» и о наличии в космологической картине мира Фараби
74
особого образования — Деятельного разума, который интерпре¬
тируется как нечто тождественное по своим функциям Мировой
Душе Плотина.
На наш взгляд, онтология Фараби есть определенное разви¬
тие, трансформация именно классического перипатетизма. Срав¬
ним структуру Вселенной обоих мыслителей (аристотелевские
«вечные сущности» в надлунном мире, состоящие при планетах,
Фараби называет «бытии», иногда «интеллекты»):
Аристотель
Первопричина
Сущность*
Первое Небо
I ' I
Сущность Сфера неподвижных
I I звезд
Сущность Сатурн
Сущность Юпитер
Сущность Марс
Сущность ' Солнце
Сущность Венера
Сущность Меркурий
Сущность Луна
/
Подлунная сфера
Фараби 2
Первопричина
2-е бытие
3-е бытие
Первое небо
I
Сфера неподвижных
, звезд
4- е бытие —
5- е бытие —
6- е бытие —
7- е бытие —
8- е бытие —
9- е бытие —
10- е бытие —
i
11- е бытие
(Деятельный разум )
Подлунная сфера
- Сатурн
- Юпитер
• Марс
*
■ Солнце
■ Венера
Меркурии
Луна
Структура мироздания у Фараби, как видим, в основном со¬
ответствует аристотелевской, но не плотиновской, которую мож¬
но представить так:
Первоединое
Числа
Jit
I
Душа
Вселенная, космос
Есть ли принципиальное различие между аристотелевско-
фарабиевской и платоново-плотиновской структурами мирозда¬
75
ния? Ведь графически схему Плотина можно было бы продол¬
жить— под космосом, вселенной подразумеваются планеты и
Земля, притом планеты имеют «души». И в этом случае первые
четыре ступени оказываются лишь усложненным, как бы дета¬
лизированным представлением Единого, которое допустимо
было бы приравнять аристотелевско-фарабиевской первопри¬
чине.
Однако подобное «приравнивающее» истолкова!Ние этих
структур невозможно из-за тра1неценденталистской тенденции
платоно-плотиновского миропонимания. Ведь момент творения,
порождения Единым космоса через Мировую Душу исключить
нельзя. Мировая Душа, будучи порождением абсолютно транс¬
цендентного Единого, именно «вносит» в материю активное на¬
чало, тем самым создавая «тело» как нечто оформленное: «Все,
что здесь как вид, оттуда»,— считает Плотин (Эннеады V, 1,
2). Для Аристотеля же и Фараби форма и материя, вид вещи и
сама вещь составляют неразрывное целое. «Форма может су¬
ществовать только в материи»23,— полагает Фараби вслед за
Аристотелем. В трактате «О целях Аристотеля в „Метафизике“»
арабский мыслитель специально выделяет ту мысль Стаги-
рита, что «существующее в них, платоновских идеях, не нуж¬
дается» 24.
Принципиально различно в этих структурах понимание пер¬
воначала. Основная характеристика первопричины у Аристоте¬
ля и Фараби — мышление: «Ум мыслит сам себя... и мышление
его—мышление о мышлении... Не есть ли в некоторых случаях
само знание предмет знания... Поскольку, следовательно, пости¬
гаемое мыслью и ум не отличны друг от друга у того, что не
имеет материи, то они будут одно и то же, и мысль будет сос¬
тавлять одно с постигаемым мыслью» (Мет. XII, 7, 1074в 30—
1075а 5). «Ум через сопричастность предмету мысли мыслит
сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним
и мысля его так, что ум и предмет его — одно и то же» (Мет.
XII, 7, 10726 15—25).
У Фараби первопричина «по своей сущности является ак¬
туальным интеллектом..,. Он в самом себе умопостигает свою
сущность. Он — интеллект и знающий, поскольку он мыслит
своей сущностью. У него интеллект, интеллигирующий (т. е. про¬
изводящий акт умозрения.— Г. Ш.) и умопостигаемый объект —
все сливается в одной субстанции» (Философские трактаты,
с. 212—214).
Для Плотина же «Единое — не есть мышление» (Эннеады V,
6, 6), не является самосознающим умом, интеллектом; сущ¬
ность его не интеллектуалистсксго плана, оно ничем не детер¬
минировано и есть «хозяин самого себя»; «его воля и оно са¬
мо— одно и то же» (Эннеады VI, 8, 13). «Воля Единого и его
сущность тождественны»,— поясняет А. Ф. Лосев25.
Именно потому, что сущность первопричины — мышление,
Аристотель и Фараби полагают возможным его познание — по
76
аналогии, вследствие соответствия мышлению человека (пусть
-«минимальному» и, как говорит Аристотель, лишь «иногда» со¬
ответствующего полностью). Плотин же полагает принципиаль¬
но невозможным постичь Единое никаким иным образом, кро¬
ме как в состоянии «сверхумозрительного экстаза»26. «Плотин
существенно перерабатывает рационалистический подход Арис¬
тотеля, в результате чего в основу плотиновского учения о еди¬
ном ложится идея мистического единения»27.
Единое Плотина принципиальным образом не является су¬
щим— оно выше сущего, «сверхсущее», за пределами «сущего»
(Эннеады VI, 9, 2). «Само Единое — не сущее, а родитель его»
(VI, 2, 2). «Природа этого Единого по отношению ко всему
существующему, конечно, рождающая, но по самому этому оно
не есть что-либо из существующего — к нему не относятся ни
категория субстанции, ни качество, ни количество, оно не есть
ни Ум, ни Душа, оно не движется и не покоится, ни в месте,
ни во времени не находится, оно пребывает лишь сам в себе»
(VI, 9 3).
Это уже самый настоящий апофатизм: такое крайнее
отрицание положительного содержания природы Единого
объясняет известный религиозный настрой душевного мира Пло¬
тина (или объясняется им) и позволяет говорить именно об аб¬
солютной трансцендентности Единого.
У Аристотеля перводвигатель, первопричина есть «необхо¬
димо-сущее» (Мет. XII, 7, 10726 10). «Первым Сущим» назы¬
вает первопричину Фараби. Иными словами, она находится в
пределах сущего, являя собой для Аристотеля и Фараби наи¬
высшее совершенство бытия, завершенность действительного, его
энтелехию. Тем самым открывается возможность истолкования
аристотелевско-фарабиевского бытия как бытия именно едино¬
го и целостного.
Каким же образом достигается единство и целостность это¬
го бытия? Ведь первопричина у Аристотеля и Фараби — сверх¬
чувственная сущность, мышление о мышлении, без всякой при¬
меси материи. Все остальное во вселенной тем или иным обра¬
зом сопряжено с чувственными сущностями, с материей. При¬
менительно к таким «небесным телам», как планеты, обладаю¬
щим вечным движением, можно говорить об особых сверхчув¬
ственных сущностях, по-видимому обладающих какой-то сте¬
пенью обособленности и более наполненных «благом», мышле¬
нием, нежели близкие им по природе сущности вещно-физиче¬
ского подлунного мира. Однако эти приданные планетам сверх¬
чувственные сущности все же менее совершенны, чем Первое
Сущее, первопричина; в подлунном же мире сверхчувственные
сущности никак не обособлены, а существуют только в теле,
только в материи в качестве приводящих ее в движение, в ка¬
честве активного начала.
Подобное представление о структуре вселенной, когда опи¬
сывается никем не рожденный, извечно существующий единый,
77
•но двухуровневый мир при несомненном все же приоритете-
сверхчувственного уровня, сверхчувственных сущностей, побуж¬
дающих чувственные сущности к оформлению, и когда при этом
одновременно утверждается извечная данность материи в ка¬
честве субстрата, очень непросто для истолкования. Монизм или
дуализм — два принципа или один в истолковании целостности,,
единства мира? Возникшая в противостоянии тенденции к ре¬
альному «удвоению» мира, несомненной в концепции Платона
(несмотря на его попытки снять это удвоение за счет диалекти¬
ки «единого» и «многого» в «Пармениде», однако исключительно-
в сфере мышления), концепция Аристотеля, всеохватывающая,
т. е. учитывающая и вещно-физический мир, и мир мышления,,
объясняющая вселенную именно' в совокупности всех «причин
и начал бытия», совершенно однозначной интерпретации не под¬
дается.
Каждая большая культурно-историческая эпоха прочи¬
тывала, как известно, Стагирита по-своему, в соответствии со*
своими мировоззренческими и методологическими установками.
Не пришли к единому мнению и современные исследователи28.
Связь всех частей мирового целого у Аристотеля на физи¬
ческом уровне обусловливается передачей самим планетам по¬
следовательно через сверхчувственные сущности, пространствен¬
но располагающиеся на их сферах, вечного равномерного кру¬
гового, а потому наиболее совершенного движения Первого Не¬
ба, возникающего под воздействием перводвигателя. По мере
удаления от перводвигателя совершенство движения постепенно
утрачивается, и на Земле оно распадается на множество менее
совершенных движений (возникновение и уничтожение, прямо¬
линейное и прерывное, количественное изменение и тому подоб¬
ное) 29.
Однако само по себе движение, согласно Аристотелю, не¬
объяснимо— оно инициируется, возникает в телах под воздей¬
ствием активного начала, перводвигателя. Сущность же перво¬
двигателя, на языке «первой философии» «необходимо-суще¬
го»,— мышление, т. е. в конечном счете единство и целостность-
бытия у Стагирита достигается за счет повсеместного распро¬
странения сверхчувственного, которое, однако, во всех частях
вселенной, кроме перводвигателя, существует только вместе с
чувственным. Но именно в конечном счете: Аристотель учреж¬
дает в соответствии с числом планет посредующие звенья в воз¬
действии необходимо-сущего на материально-предметный под¬
лунный мир.
Вот как представляет он себе жизнедеятельность единой це¬
лостной вселенной: «Бессмертное и божественное существо на¬
делено движением... это движение в силу своего совершенства
0(бъемлет движения несовершенные... само оно при этом не име¬
ет ни начала, <ни конца и, будучи безостановочным в продол¬
жении бесконечного времени, выступает по отношению к другим
движениям как причина начала одних и восприемник остановки
'8
других» (О небе II, 1, 284а 4—14). «Первое начало, находящее¬
ся в состоянии осуществленное™, есть причина всего» (Мет. XII,
5, 1071а 37—38); «Должно быть такое начало, сущность ко¬
торого— деятельность», и это — «начало, способное вызывать
изменение» (Мет. XII, 6, 10716 19—20). Первоначало воздей¬
ствует последовательно на «вечные и неподвижные сущности»,
приданные планетам. «Очевидно, что то, что движет,— это сущ¬
ности, и что одна из них первая, другая — вторая в том же по¬
рядке, как и движения светил» (Мет. XII, 8, 1073в 2—5). Про¬
цессы же жизнедеятельности подлунного мира зависят от над¬
лунного:
«Этот мир по необходимости непосредственно связан
с обращением небесных сфер, так что вся его способность к дви¬
жению управляется оттуда. А откуда исходит 'начало движения
для всего, там следует полагать первопричину» (Метеорологи-
ка I, 2, 338а 24—25).
Итак, аристотелевская вселенная предстает как ряд ступе¬
ней единого бытия, которое является целостным благодаря дви¬
жению. «В Мировом целом все упорядочено определенным обра¬
зом, но не одинаково... и дело обстоит не так, что одно не
имеет отношения к другому: какое-то отношение есть» (Мет.
XII, 10, 1075а 15—18). Это отношение, как следует из дальней¬
шего текста, приравнивается стремлению к достижению цели
(«ибо все упорядочено для одной цели»), цель же, целевая при¬
чина у Стагирита применительно ко вселенной в целом объяс¬
няется через движущую причину.
Какое «отношение» связывает все ступени бытия — этот воп¬
рос, несомненно, особенно занимал Фараби. Аристотель не ука¬
зал в подробностях, как осуществляется воздействие движения
от перводвигателя к первой сверхчувственной сущности, состоя¬
щей при первом небе, и от нее к последующим: он говорил о
«приобщении к первоначалу» и иногда об «исхождении» дви¬
жения. Фараби конкретизирует «отношение» между ступенями
бытия, которые у него, за одним исключением (о чем речь
ниже), соответствуют аристотелевским, через термин «исте¬
чение».
Есть ли какое-либо различие между содержанием «похожде¬
ния» у Стагирита и «истечения» у Фараби? Думается, нет. На
наш взгляд, Фараби более четко, чем это имеет место у Арис¬
тотеля, включил первоначало в состав вселенной и определеннее
выразил зависимость бытий от него и связь между ними — актив¬
ное начало каждой ступени бытия вытекает, исходит из такого
же активного начала предшествующей ступени, и все они взаи¬
мосвязаны благодаря первопричине. Все это есть и у Аристо¬
теля, однако в нечеткой форме, в полемике и сравнении с ины¬
ми точками зрения, так сказать, разбросанно, неконцентриро¬
ванно, во многих местах многих произведениях и несколько
бессистемно. Ал-Фараби же сознательно строил именно систему,
причем заметен своего рода поучающий тон изложения, энци¬
79
клопедически-хрестоматийный настрой (в особенности это за~
метно в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города»,,
но и в иных своих произведениях он придерживался принципа
систематичности изложения, когда части каждого данного трак¬
тата создают как бы завершенную систему знания30). Иными
словами, Фараби сконцентрировал материал многих аристоте¬
левских сочинений (прежде всего XII книги «Метафизики»,
«О небе», «Физики», «О возникновении и уничтожении», «Ме-
теорологика» и «О душе»), вычленил костяк рассуждений Ста-
гирита и интепретировал его так, что обнаружилась, стала яв¬
ной, обнажилась одна из тенденций аристотелевской филосо¬
фии— стремление к устранению дуализма чувственных и сверх¬
чувственных сущностей, формы и материи, бога и мира на пу¬
тях идеалистического монизма.
И все же это только тенденция. Ни Аристотелю, ни Фараби
не удалось последовательно провести линию монизма, что, впро¬
чем, и невозможно, если физика — «вторая философия» — зави¬
сима в определяющих своих характеристиках от онтологии —
«первой философии», если априорно утверждаются два уровня
бытия: форма как вид и материя как субстрат.
Повторяем, Фараби решительнее, четче, определеннее, чем
Аристотель, выразил монистическую тенденцию его философии.
«Первопричина», «перводвигатель», «необходимо-сущее», «Пер¬
вое Сущее», аристотелевский «бог» — эти термины употребляют¬
ся Фараби и Аристотелем для обозначения высшей в составе
бытия, наиболее совершенной сверхчувственной сущности, кото¬
рая, будучи вечной и непрерывной деятельностью, равной мыш¬
лению, воздействует в форме исхождения, истечения последо¬
вательно на все остальные ступени бытия. Результатом такого
воздействия является поддержание в состоянии постоянства про¬
цессов жизнедеятельности во вселенной, поскольку энергия, ис¬
ходящая, вытекающая из первоначала и сообщаемая активной
части каждого природного вещно-физического образования, не¬
иссякаема, вечна, как вечно мышление человека, взятого в его
видовом определении.
Традиционное представление о неоплатонической по струк¬
туре и содержанию онтологии Фараби (зачастую принимаемое
априорно, без предварительного специального анализа, основан¬
ное лишь на авторитете традиции) покоится, на наш взгляд, на
ошибочном истолковании понятия «истечение» у Фараби: оно
отождествляется, полностью уподобляется понятию «истечение»
у Плотина. Считается, что Фараби придал именно такую форму
деятельности Первого Сущего, исходя из содержания «Теоло¬
гии Аристотеля», являющегося парафразом IV—VI «Эннеад»
Плотина 31. Но тогда получается, что в этом псевдоаристотелев-
ском трактате (который Фараби, кстати, никогда не включал в
свои перечни трудов Стагирита) он усмотрел лишь одно, в чем-
то действительно восходящее к Аристотелю—саму идею сооб¬
щения энергии первоначала, идею ее исхождения, истечения;
80
никаких, абсолютно никаких иных точек соприкосновения с нео¬
платонизмом у Фараби нет.
Исследователи, начиная еще с П. П. Блонского32, а в осо¬
бенности Л. Армстронг33 и А. Ф. Лосев34, приложили немало
усилий и вполне добились успеха в доказательстве влияния Арис¬
тотеля на Плотина в вопросе об эманации. Плотиновский
«энергийный идеализм» (А. Ф. Лосев) «имеет своим источником
Аристотеля: несомненно аристотелевского, но никак не плато¬
новского происхождения проблема потенции и энергии у Пло¬
тина»35. Проблема же эта прямо касается вопроса об эмана¬
ции. Плотиновский Ум (Ум, а не Первоединое, восходящее к
Платону) по своим характеристикам, в сущности, Ум Аристо¬
теля в XII книге «Метафизики», наполненный у Стагирита
энергией и в неявной форме изложения сообщающий свою энер¬
гию вселенной. «Истечения» же есть явленность этой энергии,
есть явная форма изложения воздействия Ума на Мировое Це¬
лое.
По нашему мнению, Фараби совершенно необязательно надо
было использовать идею истечения как взятую непременно и
только из «Теологии Аристотеля». Ведь что такое, собственно,
истечение? Для эпохи Фараби идея перехода энергии от высших
ступеней к низшим при сохранении в неизменности высшей
была, по существу, уже общим местом и, несомненно, много¬
кратно воспроизведена в переводах с греческого. Стоики с их
идеей истечения из мирового логоса логосов «осеменяющих» —
идеей, объясняющей и конкретизирующей творческую деятель¬
ность бога-логоса,— также не были обойдены вниманием пере¬
водчиков с греческого36. Существовали, наконец, и многовеко¬
вые религиозно-натуралистические представления о свете, ни¬
спосылаемом Небом. Именно они оказали в свое время влияние
и на Платона, и на Плотина (и прежде всего в концепции
Единого как первейшего источника эманации). Некоторое вни¬
мание философскому истолкованию этих представлений уделил
и Аристотель (О душе III). Надо сказать, однако, что Фараби,
как и Аристотель, в целом световой символике отводит незна¬
чительное место: в его онтологии мы не найдем световых обра¬
зов (имеется в виду «Трактат о взглядах...»; как и у Стагири¬
та, у него есть кое-что в этом плане в связи с процессом позна¬
ния).
Думается, что ал-Фараби, философ раннесредневековой мо¬
нотеистической эпохи, глубочайший и единственный в то время
по степени проникновения в мысль Стагирита знаток и почита¬
тель его, неизбежно должен был очень пристально вглядеть¬
ся в аристотелевское понимание бога. Г. Г. Майоров совершен¬
но справедливо отмечает, что «в архитектоническом отношении
метафизика Аристотеля более всякой другой, особенно если
учесть ее телеологизм, была расположена к монотеистической
интерпретации»37. Фактически описание Первого Сущего у Фа¬
раби есть расширенное воспроизведение характеристик необхо¬
Q Зак. 635
81
димо-сущего Аристотеля в XII книге «Метафизики». И если Фа¬
раби преобразовывает данное понятие, конкретизируя его дина¬
мизм, то, на наш взгляд, основания этому он находил не только
в «Теологии Аристотеля», не только в переводах иных грече¬
ских и эллинистических авторов или религиозно-натуралистиче¬
ских представлениях о роли Неба и т. д., но прежде всего у
самого Аристотеля. Ведь если бы у Аристотеля бог был совер¬
шенно отделен от мира, он не был бы «необходимо-сущим», не
был перводвигателем.
Физико-телеологическая аргументация существования иерар-
хичной вселенной у Стагирита, бесспорно, первооснова, но и
подкрепляющие ее ценностные, психологические доводы не ме¬
нее значимы. Фараби, представляется, естественным для себя
образом усилил ценностный аспект в понимании бога как пер¬
вопричины (заметна, однако, и доля физической, естественно¬
научной аргументации, также восходящей к Аристотелю) —и не
только самим очевидно возросшим, в сравнении с Аристотелем,
объемом текста, посвященного характеристикам Первого Су¬
щего, но и акцентированием значимости его именно как перво¬
начала для сверхчувственных сущностей, которые, будучи ак¬
тивной частью вещно-физического мира, для выполнения своей
функции перевода возможности в действительность, актуализа¬
ции потенциального субстрата, постоянно нуждаются в «под¬
питке» энергией этого первоначала.
Коль скоро Фараби конкретизирует аристотелевское «исхож-
дение» как «истечение», как исход энергии от Первого Сущего
в определенном порядке, в определенной, диктуемой числом и
расположением небесных дел последовательности от предшест¬
вующего «бытия»-«сущности» к последующему, то что иное,
кроме истечения, вообще могло быть способом описания взаи¬
мосвязи во вселенной? Полагаем, что непременно соотносить с
неоплатонизмом ход мысли Фараби в этом случае не является
непреложно обязательным: как и Плотин в свое время, Фараби
имел все исходные данные для самостоятельного истолкования
природы первопричины и связи частей вселенной на основе и в
пределах аристотелевской концепции энергии и потенции.
Можно подойти к вопросу и с другой стороны. Важно ведь
и то, как именно идея истечения претворяется. Истечение в ка¬
честве способа объяснения жизнедеятельности иерархичной все¬
ленной было известно и до Плотина; оригинальность его скорее
в истолковании этой идеи. А истолковывал он ее вполне в соот¬
ветствии с господствующими интенциями философии истории
своей эпохи — в виде концепции круговорота, возврата «к Едино¬
му «отпадающих» от него низших частей в подлунном мире
(впрочем, концепция возврата была характерна и для весьма
своеобразной «философии природы» стоиков). Ал-Фараби же дал
совершенно иное истолкование — его с известными оговорками
можно было бы назвать эволюционистским. Вселенная есть и
пребудет вечно такой, какова она есть; сама идея истечений —
82
лишь способ объяснения вот этой извечной и неизменной все¬
ленной (кстати, некоторые исследователи считают возможным
рассматривать эволюционистскую «лестницу существ» в биоло¬
гических трудах Аристотеля как модель для объяснения вселен¬
ной).
Естественно, возникают вопросы: что же понимается под*
«истечением», «похождением»? Содержит ли это понятие нечто,,
теоретически объективируемое Аристотелем и Фараби? И ко¬
нечно, закономерен вопрос, есть ли какое-то содержательное*
отличие аристотелевско-фарабиевского «иехождения-истечения»
от плотиновского «истечения», калькой которого на латыни слу¬
жит термин «эманация»?
Вкратце ответить на эти вопросы допустимо так: аристоте-
левско-фарабиевское иехождение-истечение есть чрезвычайно
затемненное аргументацией «первой философии» выражение
такого объективного явления, как взаимозависимость, взаимо¬
связь, взаимодействие всего существующего во вселенной. Явле¬
ние это — одно из наиболее сложных для истолкования и вместе
с тем несомненное с точки зрения реальности —с глубокой древ¬
ности занимало людей. Взаимодействие на физическом уровне,,
т. е. передача движения от тела к телу или от частицы к час¬
тице, и психофизическое взаимодействие, т. е. превращение ма¬
териального воздействия в идеальный образ и, наоборот, превра¬
щение идеального воздействия в материальное действие, движе¬
ние,— эти сложнейшие и отнюдь не надуманные проблемы всег¬
да были предметом особого внимания философии и всегда по¬
лучали объяснение в соответствии с объемом научных знаний
и типом научного мышления конкретной эпохи.
Аристотель, сам создатель определенного типа научного*
мышления, характерная особенность которого — теснейшая взаи¬
мосвязь «первой философии» и «второй философии», физики и-
онтологии (последняя, в свою очередь, связана с логикой), ука¬
занные фундаментальные проблемы философии разрешал сле¬
дующим образом:
«Так как все движущееся необходимо должно приводиться
в движение чем-нибудь, а именно если нечто перемещается под.
действием другого движущегося и это движущее в свою оче¬
редь приводится в движение другим движущимся, а оно другим
и так далее, то необходимо признать существование первого дви¬
жущего и не идти в бесконечность» (Физика VII, I, 242а 50—
55). В этом знаменитом рассуждении для нас важны две ве¬
щи: указание на, во-первых, последовательный характер пере¬
дачи движения; во-вторых, на само «приведение в движение».
Что именно приводит в движение? Взаимодействие на физиче¬
ском уровне со времен Ньютона объясняется законом всемир¬
ного тяготения, гравитацией, «дальнодействием без посредни¬
ка», как это тогда называлось. Для Аристотеля движение без:
«посредника» невозможно, но очевидно, что посредничество реа¬
лизуется лишь чем-то, что есть в самом данном теле и обеспе¬
6*
83:
чивает его активность, делает реализованной возможность дви¬
жения. А это и есть аристотелевская форма тела, отдельно от
него не существующая, но в описании, в созерцании предстаю¬
щая как «сверхчувственная сущность», воспринимающая и пе¬
редающая энергию, поступающую от первоначала. Иными сло¬
вами, аристотелевеко-фарабиевское исхождение-истечение, если
пытаться понять его с точки зрения науки нового времени, должно
рассматриваться в той же проблемной (функциональной) плос¬
кости, что и закон всемирного тяготения, хотя вместе с тем не¬
обходимо, конечно, помнить, что «истечение» и «гравитация» по
своему содержанию понятия прямо противоположные.
В чем же содержательное отличие истечения-исхождения у
Аристотеля и Фараби от истечения у Плотина? На первый
взгляд никакого отличия нет, тем более что, как было отмече¬
но, Плотин зависим от Аристотеля именно в усвоении идеи энер-
гизма, динамичности бытия. Однако между аристотелевско-фа-
рабиевским и платоново-плотиновским пониманием бытия есть
разница, о которой уже не раз говорилось.
Плотин — наследник Платона и разделял ведущую интенцию
основателя крайнего идеализма в понимании бытия — идею
трансцендентности миру «творца», «отца» и «демиурга», сози¬
дающего вещный мир, вселенную. Вещно-физическое чувствен¬
ное бытие в концепции Платона созидается, конструируется де¬
миургом в соответствии с «образцами»-идеями. У Плотина это
созидание становится истечением идей-образцов; «истекают»
сами идеи, причем своим рождением они обязаны «внезапному
появлению» Ума (Эннеады V, 8, 7) (до Ума, напомним, еще Чис¬
ла и само Единое). Идея «мыслится у Платона и неоплатоников
как реальное бытие... Все идеи, вместе взятые, или мир идей,
и есть то, что неоплатоники называют Умом. Он есть первообраз
всех вещей»38. Идеи через посредство Мировой Души внед¬
ряются в материю («отпадают» ее низшие части), но некоторые
из них затем могут и возвратиться в свой «мир идей» — при со¬
вершенном познании. А в состоянии экстаза человек способен
приблизиться и к самому Единому. Иными словами, динамика
плотиновской онтологии — это динамика «порождения», внедре¬
ния в материю самих идей.
Динамика же аристотелевско-фарабиевской онтологии — это
динамика описания процессуальности единого бытия, состоящего
из двух уровней, бытия, в котором формы уже существуют сов¬
местно с материей в виде вещи, тела, а не внедрены извне.
«Идея у Платона,— отмечает А. С. Богомолов,— в отношении к
вещи есть возможность, осуществляемая в материи; для созда¬
ния мира требуется демиург, осуществляющий эту возможность
(-образец). По Аристотелю же, форма уже есть „действитель¬
ность“ вещи, ее энтелехия, а божество — энтелехия мира; воз¬
можность же — материя»39.
В усложненной и сильно рефлектированной — в сравнении с
Платоном — плотиновской философии демиургом фактически вы¬
84
ступает Мировая Душа, поскольку именно из нее истекают
идеи, порождая «тело космоса». Но от этого суть дела не ме¬
няется: исходят, истекают и тем самым порождают вещи сами
идеи. У Аристотеля же и Фараби из необходимо-сущего исходит,
истекает, можно сказать, только сам принцип активности, не
формы вещей, а та энергия, которая делает вещь осуществлен-
ностью, энтелехией. Вещи уже существуют, однако их жизне¬
деятельность объяснима лишь в их определенной взаимосвязи,
взаимодействии через получение и передачу активным началом
вещей, их формами некоего импульса, запускающего механизм
активности во всей вселенной. Перводвигатель— форма форм;
если вдуматься и принять во внимание, что формы уже при¬
сутствуют в вещах, то можно понять перводвигатель, Первое Су¬
щее, Первопричину как своего рода конденсатор энергии, кон¬
центрацию активности, ее наивысшее наполнение, ее принцип.
Конечно, различие в содержании аристотелевско-фарабиев-
ского и плотиновского истечения, достаточно тонкое, выводимо
и доказуемо только в результате специального рассмотрения
ряда специальных вопросов и в широком контексте. Оно долж¬
но быть предметом особого исследования. Все же, думается,
лишь подобное, ориентированное на особенности именно арис¬
тотелевской онтологии и космологии прочтение соответствующих
сочинений Фараби может способствовать адекватному понима¬
нию онтологии восточного перипатетизма вообще и такого осо¬
бого образования в структуре бытия у представителей этого те¬
чения, как Деятельный разум, в частности.
Проблематика Деятельного разума —стык онтологии и гно¬
сеологии в фарабиевской системе, о чем свидетельствует его
особое положение во вселенной, как она описывается в «Трак¬
тате о взглядах жителей добродетельного города». Деятельный
разум есть одиннадцатое «бытие», а все предшествующие ему
«бытия», т. е. сверхчувственные сущности, с одной стороны,
представляющие собой активное начало по отношению к «не¬
бесным телам» — планетам, а с другой — являющиеся передатчи¬
ками энергии, активности, поступающей от первопричины, не име¬
ют непосредственного отношения к человеку с его мышлением.
Одиннадцатое «бытие» (в других трактатах названное «дей¬
ствующий интеллект», разум, «деятельный интеллект») опосре¬
дует надлунную и подлунную части вселенной, но связано оно,
по сути дела, исключительно с человеком и только с «мысля¬
щей силой» его души. Жизнедеятельность же в подлунной час¬
ти, т. е. на Земле, у Фараби, как и у Аристотеля, поддерживает¬
ся воздействием небесных тел, обеспечивающими периодичность
всех материальных процессов, движение во всех его проявле¬
ниях, кроме одного — движения в сфере мышления человека. Его
обеспечивает Деятельный разум.
Что же он такое с онтологической точки зрения? В «Трак¬
тате о взглядах..» о нем сказано: «Это — одиннадцатое — так¬
же не заключено в ма/ерию. Оно умопостигает свою сущность
85
и умопостигает первопричину. Но тем заключается вид бытия,
который для своего существования абсолютно не нуждается в
материи как основе. Это отдельные бытия, которые по своему
существу являются интеллектами и умопостигаемыми объекта¬
ми интеллекции»40. Ал-Фараби, следовательно, ставит Деятель¬
ный разум в ряд бытий, истекающих из первопричины, которая,,
как отмечалось, «по своей сущности является актуальным ин¬
теллектом», аристотелевским «мышлением о мышлении». Сущ¬
ность Деятельного разума, естественно, мышление. Но что озна¬
чает выражение — «умопостигаемые объекты интеллекции»? По
Фараби,— это особое понятие для обозначения всего того, что
познаваемо, материал для познания, причем Фараби различает
«умопостигаемые объекты интеллекции» и «формы различных
видов умопостигаемых объектов интеллекции»41.
Это различение важно в двух отношениях. Называя Дея¬
тельный разум и все другие бытия в надлунном мире «умопости¬
гаемыми объектами интеллекции», Фараби тем самым указы¬
вает на их познаваемость человеком. Далее, Деятельный ра¬
зум— объект познания, но сам в себе формы не содержит. Что
же тогда он содержит? Раз его сущность — мышление, логично
будто бы предположить, что содержание его составляет именно
то, чем оперирует мыслящий человек, т. е. формы мысли, по¬
нятия. И в таком случае Деятельный разум Фараби действи¬
тельно в какой-то степени можно отождествить с Мировой Ду¬
шой Плотина, от которой «отлетают» ее низшие как бы части —
души, обладающие умом, мышлением со всем его инструмента¬
рием, и внедряются в человека. И тогда справедливым оказы¬
вается суждение тех исследователей, кто вслед за Максом Хор¬
теном называет Фараби «платонизирующим», считая, что в его
теории познания «идеи наблюдались как совершенно готовые в
мире сфер, а именно и в ангелах, и в активном интеллекте»42"
(т. е. Деятельном разуме). И как вывод: Фараби якобы учил,,
что «мы не нуждаемся в тяжких поисках и абстракциях наших
понятий из материальных вещей. Мы получили их готовыми:
из мира истинно сущего»43.
Если предположить, что «умопостигаемые объекты интеллек-
цип» для Фараби и есть уже сами формы мысли, понятия, ТО'
интерпретация его воззрений на познание в духе платонизма,,
пусть даже не столь крайняя, как это представляет М. Хор¬
тен, неизбежна.
Однако мысль Фараби двигалась по путям, предложенным
Аристотелем. И в понимании бытия, его структуры и содержа¬
ния он следовал традиции классического перипатетизма. Тогда
закономерен вопрос, в чем все-таки различие платонизма и
аристотелизма? Принято считать, что аристотелизм есть как бы
«ослабленный» вариант платонизма. И признание Аристотелем
реальности сверхчувственных сущностей — веский, конечно, до¬
вод в пользу справедливости данного утверждения. Однако
Аристотель утверждал, так сказать, совместность пребывания
86
сверхчувственных и чувственных сущностей в одном бытии, опи¬
сывая это одно единое целостное бытие с точки зрения процес¬
суальное™, жизнедеятельности всех составляющих его явле¬
ний, тел и вещей через анализ движения и вычленяя во всех
видах движения активный момент, а именно сверхчувственные
сущности. И в конце концов, вопросом вопросов оказывается
один: каково содержание этих аристотелевских «сверхчувствен¬
ных сущностей», равных «бытиям» Фараби, в том числе Дея¬
тельного разума?
Ответить на него можно было бы так. С позиции физики
каждое из этих «бытий» — сгусток энергии, средство для пере¬
дачи деятельного начала движения, того импульса, что исхо¬
дит, истекает от первопричины (по Аристотелю, движение всег¬
да имеет посредника). Но суть этого начала с содержательной
стороны в аристотелевско-фарабиевской умозрительной, «на¬
блюдающей» физике не может быть описана в физических тер¬
минах: она неопределима на языке физики. И потому деятель¬
ностный, энергийный момент движения, пронизывающий всю
аристотелевско-фарабиевскую философию, то, что переводит
возможность в действительность, потенциальное в актуальное,
определяется по аналогии с деятельностью человека, его выс¬
шей видовой способностью — мышлением.
В мышлении же Аристотель различает деятельностный ас¬
пект и собственно формальную часть — представления, сужде¬
ния, понятия. Деятельностный аспект, благодаря чему осу¬
ществляются все операции мышления, Аристотель определяет
по аналогии с действием света. И, думается, это объяснимо.
Если судить по трактату «О душе», то очевидно-, что Стагирит
вплотную подошел к сердцевине, центральному вопросу психо¬
физической проблематики — как материальное воздействие прев¬
ращается в идеальный образ. Греческий философ скрупулезно
проследил становление чувственной ступени познания, опреде¬
ленно указав на органичную связь тела и души, наметил ступе¬
ни рассудка (способность по «составлению суждений» — О ду¬
ше III, 4276 30) и разума («ум, в смысле разумения» —4046 5),
он вообще как бы пунктиром обозначил все этапы познаватель¬
ного процесса.
Однако само осуществление рациональной ступени позна¬
ния, саму деятельность мышления, именно вопрос о переходе,
переводе чувственной ступени в рациональную, Аристотель раз¬
решает за счет принятия идеального — «сверхчувственной сущ¬
ности»— в природе. Содержание этого, идеального — только та
энергия, благодаря которой потенциальное становится актуаль¬
ным, только сама деятельность, конкретно им не определенная
и не могущая быть определенной. И если ставить вопрос, как
возникает мысль, понятие, чтб конкретно происходит, когда
смутные ощущения становятся представлениями и понятиями,
как чувственное, материальное становится идеальным, то, ду¬
мается, и в настоящее время не был ‘бы дан прямой конкретно
87
указующий на что-то ответ (ответы есть, но они описательны)^
Аристотель же переводит гносеологическую проблему в плос¬
кость как бы онтологическую, разрешая ее, эту действительную-
проблему, посредством распространения онтологических пред¬
посылок (два уровня бытия) на сферу познания.
Стагирит и в области мышления различает потенциальное
и актуальное, возможное и действительное, выделяя «ум, ‘ко¬
торый становится всем» и «ум, все производящий, как некое
свойство, подобное свету. Ведь некоторым образом свет делает
действительными цвета, существующие в возможности» (О душе
III, 430а 13—17). Под тем, «что производит» второй ум, подра¬
зумеваются— и это совершенно очевидно — не сами формы,
понятия (ведь они, как и цвета, о которых говорит Аристотель,
уже существуют, уже есть), а деятельность по переводу воз¬
можного в действительное, потенциального в актуальное, то по¬
нятием неуловимое, невыразимое, что переводит чувственное в
рациональное.
«Производящий ум» Аристотель характеризует так: «И этот
ум существует отдельно и не подвержен ничему, он ни с чем
не смешан, будучи по своей сущности деятельностью. Ведь
действие всегда выше претерпевающего (действие), и начала
выше материи» (О душе III, 430а 17—20).
В контексте этих рассуждений Аристотеля обратимся к со¬
ответствующим воззрениям Фараби. В «Трактате о взглядах..
говорится: «Что касается человеческого интеллекта, то он ес¬
тественно появляется у человека с начала его существования;
он представляет собой некое расположение в материи, подготов¬
ленное к восприятию умопостигаемых форм, следовательно,
это — интеллект потенции и равным образом умопостигаемые
возможности»44. Потенциальный интеллект, очевидно, есть арис¬
тотелевский «ум, который становится всем». Актуальным он
становится, т. е. «умопостигаемые возможности» становятся дей¬
ствительностью, процесс мышления протекает при условии, что
ему сообщена энергия, «...Им необходимо что-то другое, что
заставило бы их перейти из возможности в действительность.
Действующий агент, позволяющий им перейти в актуальную
силу, представляет сущность, субстанция которой — актуаль-'
ный интеллект, отделенный от материи... Действие этого интел¬
лекта на первоматериальный интеллект подобно действию солн¬
ца на зрение. По этой причине он назван действующим интел¬
лектом. Его место среди отделенных субстанций, упомянутых
ниже первопричины,— десятое»45 (или одиннадцатое, если вклю¬
чать в ряд этих субстанций саму первопричину).
Итак, Фараби несомненно следует Аристотелю. Содержание
Деятельного разума («действующего интеллекта») не сами по¬
нятия, не формы мысли, а та энергия, которая необходима для
осуществления мышления. Этот энергийный, деятельностный мо¬
мент процесса мышления не имеет какого-либо особого обозна¬
чения ни у Аристотеля, ни у Фараби (только аналогия со све¬
83
том), а источник деятельности, энергии выводится ими на сверх¬
чувственный уровень бытия.
Аристотель, однако, не указал местопребывание этого «все
производящего ума» среди иных своих отделенных «сверхчувст¬
венных сущностей», как это он сделал применительно к небес¬
ным телам, вероятно полагая его идентичным перводвигателю,
необходимо-сущему. Фараби же, верный своей склонности к
«системе и порядку», Деятельному разуму, «действующему ин¬
теллекту» определил в своей структуре вселенной особое место,
связав его с первопричиной, первым сущим. Видеть в этом -но¬
вовведении Фараби нечто, принципиально отличное от аристо¬
телевских воззрений, на наш взгляд, нет оснований — это уточ¬
нение, конкретизация, не меняющая сути дела.
Такого же рода уточнением, прояснением, конкретизацией,
развертыванием суждений Аристотеля о природе и механизме
познания, -которые разбросаны во всех его произведениях (ведь
он не оставил специального труда по проблемам гносеологии),
допустимо считать и теорию познания, предложенную Фараби в
•его трактате «О значениях слова интеллект».
Но прежде необходимо ответить на вопрос, в чем все-таки
выражается различие между платонизмом и аристотелизмом в
гносеологии, что разделяет Аристотеля и Платона, Фараби и
Плотина? Человек, его познание принадлежат каким-либо обра¬
зом понимаемому бытию. И естественно именно здесь искать воз¬
можность ответа на поставленный вопрос, конкретно же — через
проблематику души.
Платоновское «порождение» вселенной как конструирование,
«устроение» по желанию демиурга и по «образцам»-.идеям при¬
нимает у Плотина усложненную форму: из Единого через Числа
«внезапно появляется» Ум, из Ума «истекает» Мировая Душа;
ее низшая часть, опять же «истекая» и внедряясь в материю,
рождает тела и вещи — вселенную, космос. Пытаясь понять ход
мысли Плотина, «нам надо все (время помнить, что наш мир
есть менее реальный мир. Поэтому он есть лишь отражение иде¬
ального мира, т. е. его виды и понятия (мы бы сказали — его
геометрические формы и его разумность) лишь отражение поня¬
тий, имманентных природе, которые, однако, в свою очередь,
есть отражение понятий разумной Мировой Души, последней от
Ума»46.
Вообще проблематика души, и Мировой и человеческой,
у Плотина сложна. Вкратце же суть дела можно выразить так:
душа человека противоположна телу (для Плотина «нисхожде¬
ние души в тело» — особая тема), она как бы временно присут¬
ствует в теле, причем так, что высшая часть души причастна
через Мировую Душу Уму и пребывает в умопостигаемом мире,
а низшая часть души — в теле (философ сравнивает душу с че¬
ловеком, ноги которого в воде, а туловище — в воздухе — Эннеа-
ды VI, 9, 8), Ум просвещает высшую часть души, изливая в
нее идеи. Потому душа (точнее, интеллектуальная память) со¬
89
держит в себе в потенции все идеи, все умопостигаемое, а пере¬
ход «притекшего» из Ума умопостигаемого, сохраняемого выс¬
шей частью души, потенциального в актуальное состояние есть
припоминание, в чем, собственно, и состоит процесс мышления.
«Плотин — типичный платоник-трансценденталист»,— заключает
свой анализ проблематики души у этого мыслителя П. П. Блон¬
ский47. Он «наследник учения Платона о чувственных впечат¬
лениях как лишь стимулах „воспоминания“ самодеятельной ра¬
зумной души»48, сочетающий это учение с аристотелевской иде¬
ей потенции и активности.
У Аристотеля же и Фараби душа человека рассматривается
прежде всего с биологической точки зрения и выступает выс¬
шей формой жизни. Душа и тело соответственно составляют не¬
разрывное целое, причем у души есть ряд «способностей» (Арис¬
тотель), «сил» (Фараби). Одна из них высшая — «мыслящая».
И далее разворачивается описание процесса познания, получив¬
шее у Фараби форму достаточно цельной теории познания.
В трактате «О душе» Аристотель как бы пунктиром обозна¬
чил этапы познания, особо выделив лишь начало и завершение
процесса — концепции двух умов: «ум, который становится всем»
и «ум, все производящий». Конкретизацией представлений Ста-
гирита служит концепция «троичности ума» Александра Афро-
дизийского, согласно которой производящий ум Аристотеля, от¬
деленный от человека и названный Александром Афродизий-
ским «творческим умом», «умом, приходящим извне», воздей¬
ствует на первый ум, названный им «телесным»; результатом
этого воздействия является третий ум, по его терминологии —
«приобретенный». В структурном отношении концепция Фараби
близка концепции этого наиболее последовательного, «строгого»
аристотелика III в. В содержательном же отношении она не¬
сравненно богаче и, как отмечают ученые, систематичнее. Один
из них, Джеймс Финнеган, предприняв специальную попытку
сопоставления концепции ума Александра Афродизийского и
учения о разуме ал-Фараби, пришел к выводу, что последний
в самой незначительной степени испытал влияние Александра
Афродизийского и что в целом арабский мыслитель в своем ис¬
толковании воззрений Аристотеля был оригинален: «Нужно от¬
метить, что учение Фараби о разуме, особенно в его „Рассужде¬
нии о значении слова интеллект“, в части, поовященной приобре¬
тенному интеллекту, остается уникальным»49.
Характеристика учения о разуме Фараби как уникального,,
т. е. единственного в своем роде, думается, не вполне верна.
В дальнейшем развитии арабоязычной философии средневековья
оно было, хотя и с некоторыми вариациями, а иногда и значи¬
тельными трансформациями (Ибн Сина), принято восточными
перипатетиками — во всяком случае, сохранялся его остов,
структура. Однако в некотором отношении это учение Фараби
все-таки действительно уникально: впервые со времен Алек¬
сандра Афродизийского в истории философии проблематика по¬
90
знания столь определенно и в столь четкой форме ставится на
почву эмпирического натурализма (или материализма), что было
достигнуто-посредством конкретизации аристотелевского положе¬
ния: «Существо, не 'имеющее ощущений, ничему не научится и
ничего не поймет. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы
созерцали и в представлениях: ведь представления — это как
бы предметы ощущения, только без материи» (О душе III, 8,
132а 5—10). Ал-Фараби, опираясь на данные медицины своего
времени, более подробно и !КОнкретно излагает физиологическую
основу, материальную структуру процессов ощущения, памяти
и отвлеченного мышления (все они локализованы, по его мне¬
нию, в «головном мозге» — память, например, в передней его
части, «формообразующая сила», переводящая ощущение в
«формы», т. е. представления о внешних и внутренних свой¬
ствах вещей, находится в средней части головного мозга, раз¬
мышляющая, т. е. оперирующая уже формами, в его зад¬
ней части50). Это уже новый и важный шаг по пути уяснения
проблематики познавательного процесса — столь конкретная
«привязка» мышления к субстрату, к материальному уже не
могла пройти бесследно.
Уникальной для философии раннего средневековья можно
считать и обстоятельность, полноту представления процесса по¬
знания у Фараби как постепенного усложнения наших знаний
от единичных понятий, возникающих на первоначальных ста¬
диях, до целой их системы, когда появляется возможность опе¬
рировать уже понятиями о понятиях. Эта стадия обозначается
как «благоприобретенный интеллект».
Проследим ход мысли Фараби. Возможность познания обус¬
ловлена естественным фактором — существованием материаль¬
ного субстрата мышления, головного мозга, «некоего расположе¬
ния в материи, подготовленного к восприятию умопостигаемых
форм». Фараби вслед за Аристотелем приводит пример с от¬
печатком от перстня в воске, поясняющий эту способность к
восприятию формы: «Если ты представишь себе некую телесную
материю, например кусок воска, на котором сделан отпечаток
так, что этот отпечаток и его формы займут поверхность и глу¬
бину воска, и форма охватит субстанцию так, что субстанция
всецело станет этой формой, распространяясь в ней, то тогда
ты приблизишься к постижению того, как образовались формы
вещей в этой сущности»51, т. е. в материальном субстрате, кото¬
рый, с точки зрения философа, а не врача, скажем, должен быть
назван потенциальным интеллектом.
Этот потенциальный интеллект становится актуальным, ког¬
да начинается процесс познания. И здесь важно отметить, что
Фараби вообще различает и специально обозначает, формули¬
рует, дает в понятиях две ступени познания — чувственную и
разумную. «Чувственное знание связано как с внешними, так
и с внутренними органами тела. Первое достигается благодаря
пяти воспринимающим, которые -называются „чувства“, второе
91
суть инстинкты и относятся к воспринимающим обслуживающим
силам»,— говорится в трактате «Жемчужина мудрости»52. Далее
подробно описывается процесс чувственного познания, причем
«внешние органы» как органы чувства определяются в качестве
связующего звена между внешним миром и самим познающим
субъектом.
«И инстинкт и внутреннее восприятие схватывают представ--
ление не чистым, а смешанным, ибо инстинкт, а также фанта¬
зия порождают во внутреннем восприятии не чисто познава¬
тельную форму, а другую, которая воспроизводит состояние
внешнего чувственного восприятия, смешанного с добавочными
и скрытыми акциденциями, такими, как качество, количество,
место, положение.
Интеллект же человека является тем, что в состоянии во¬
образить себе представление согласно его истинной сущности
в определении, благодаря чему он освобождает его от добавоч¬
ных акциденций... и все это из-за внутренне присущей интеллек¬
ту силы, которая называется теоретическим разумом»53.
Таким образом, внешнее и внутреннее восприятие — состав¬
ные чувственной ступени познания. Разумная ступень — уже бо¬
лее сложная деятельность, базирующаяся на представлениях,
возникающих на уровне чувственном; материалом для нее явля¬
ются те «не чисто познавательные формы», которые есть резуль¬
тат деятельности чувств. И все рассуждения Фараби о видах
интеллекта, разума в трактате «О значениях слова интеллект»
относятся уже ко второй, разумной ступени познания, неразрыв¬
но связанной с чувственной.
«В природе всех существующих вещей заложена способность
постигаться интеллектом и реализовываться в качество форм
этой сущности»54. Потенциальный интеллект с содержательной
стороны и означает формы «существующих вещей» (т. е. они
не внедрились откуда-то извне), но они еще «не чисто познава¬
тельные формы», еще смешаны с «добавочными акциденциями».
Когда начинается процесс познания, эти формы как бы «очи¬
щаются» и становятся «актуальными объектами интеллекции»,
составляя содержание следующего вида интеллекта — актуаль¬
ного.
По сути дела, Фараби особо выделяет стадию абстрагирова¬
ния в процессе познания: «Объекты интеллекции, которые были
умопостигаемы лишь в потенции, прежде чем стать актуальны¬
ми объектами интеллекции, представляли собой формы в мате¬
риальных субстанциях; когда они реализуются в качестве умо¬
постижимых актуальных объектов интеллекции, то их бытие,
ввиду того что они умопостигаемы актуально, само становит¬
ся не таким, каким оно было в материи. Бытие само по себе не
присуще им, когда они становятся умопостижимыми актуальны¬
ми объектами интеллекции» (курсив мой.— Г. Ш.) 55. Как видим*
Фараби специально оговаривает ситуацию отделения формы от
материи в акте познания, допускает возможность мысленного*
92
разделения формы и материи и подчеркивает, что самостоятель¬
ного бытия эти формы не имеют.
«Актуальный интеллект» — это не аристотелевский «ум, все
производящий». Им в описании Фараби является «деятельный
интеллект», т. е. четвертый вид. Актуальный же интеллект —
совокупность форм, уже «очищенных» от «дополнительных акци¬
денций», готовых -к оперированию ими и только ими, без всякой
примеси материального.
Эта стадия в излишне замедленной на современный взгляд,
съемке процесса познания, как .можно воспринимать описание
Фараби этого процесса в трактате «О значениях слова интел¬
лект », запечатлена в характеристике следующего вида интеллек¬
та — благоприобретенного. Речь идет о способности разума че¬
ловека познать вещи и явления, взятые не в состоянии их раз¬
розненного бытия, не внешний облик мира, а его внутренние
связи, его единство, оперируя уже исключительно одними поня¬
тиями о понятиях. Благоприобретенный интеллект — это актуа¬
лизация, действительность, осуществленность предыдущего вида
интеллекта, который сам, в свою очередь, есть актуализация по¬
тенциального интеллекта, самого первого, иногда называемого
«первоматериальный интеллект». Благоприобретенный интел¬
лект— это актуальный интеллект в действии, когда с помощью*
понятий выполняется основная функция разума человека — цель¬
ное познание мира: «Актуальный интеллект является как бы
субстратом и субстанцией для благоприобретенного интеллекта»,,
действие которого выражается в том, что понятия, «формы на¬
чинают нисходить к телесным, материальным формам, в то вре¬
мя как прежде они постепенно восходили до тех пор, пока они
мало-помалу не абстрагировались от субстанции, переходя к
нематериальному состоянию»5в.
Благоприобретенный интеллект Фараби — это предельное со¬
вершенство человеческого разума, способного познать «все или
большинство вещей», данных ему уже в состоянии актуальной
ясности их сути в результате абстрагирующей деятельности
«мыслящей силы». Но это совершенство для Фараби—все же
совершенство потенции, возможного в процессе мышления. Все
три вида интеллекта, включая благоприобретенный, конкретизи¬
руют лишь один аспект в процессе мышления — аспект, так ска¬
зать субстрактности, материала, благодаря чему вообще возмож¬
ным становится мышление. Фараби в деталях, подробно, сей¬
час кажется даже излишне подробно, представил процесс ста¬
новления понятий как идеального продукта материальной дей¬
ствительности, вычленив такую особенность в этом процессе, как:
необходимость воздействия внешнего материального мира через
чувства, чтобы понятия возникли. Выделив стадию благоприоб¬
ретенного интеллекта, неразрывно связанного с предыдущими
стадиями, и указав на его функцию — понятийное познание ми¬
ра, Фараби связал чувственную и рациональную ступени позна¬
ния.
93
Однако верный аристотелевскому пониманию бытия как бы¬
тия единого, но двухуровневого, могущего быть понятым и опи¬
санным с точки зрения движения, процессуальности всех вещей
и явлений »во вселенной (а мышление, несомненно, процесс,
с точки зрения перехода из потенциального состояния в акту¬
альное, возможного в действительное), Фараби постулирует не¬
обходимость особого начала, а именно: начала деятельностного,
энергийного, «запускающего» весь описанный им постепенно ус¬
ложняющийся процесс познания. Началом этим и является дея¬
тельный интеллект, Деятельный разум, тождественный аристо¬
телевскому «уму, все производящему», о чем Фараби и говорит
совершенно недвусмысленно: «Деятельный интеллект, упомяну¬
тый Аристотелем в третьей книге трактата „О душе“, представ¬
ляет собой некую абстрагированную форму, которая никогда не
была в материи и с нею совершенно не связана»57. Деятельный
интеллект совершенно отделен от человека с его разумом и пре¬
бывает на ближайшей к земле сфере, т. е. в структуре вселен¬
ной Фараби,— это и есть ступень Деятельного разума, «одиннад¬
цатого бытия».
Благодаря этому началу, Деятельному интеллекту, стали дей¬
ствительными, осуществились все преобразования с первомате¬
риальным интеллектом, описанные Фараби: «Это он превращает
ту сущность, которая была в потенции, в актуальный интеллект,
и он же претворяет потенциальные умопостигаемые объекты ин-
теллекции в соответствующие актуальные объекты»58.
Как же происходит «превращение», как чувственное стано¬
вится рациональным, как представление становится понятием?
Ал-Фараби вслед за Аристотелем поясняет — через принятие
идеального в виде принципа деятельности в самой реальности.
А способ деятельности, воздействие принципа получает объясне¬
ние, как и нужно было ожидать, лишь по аналогии с действием
света: «Отношение актуального интеллекта к потенциальному
такое же, как отношение солнца к глазу, который, пока пребыва¬
ет в темноте, обладает лишь потенциальным зрением»59. «Глаз
стал актуально видящим не потому, что свет и прозрачность в
нем актуально реализовались»60,— специально отмечает Фараби,
т. е. применительно к познанию свет как бы «высветил», сделал
явными формы вещей, они не внедрились в интеллект, а лишь
стали пригодными для целей познания. В самой «той сущности,
которая принадлежит потенциальному интеллекту, есть нечто,
что реализуется актуально в той степени, в которой актуально¬
прозрачное становится видимым в зрении. Именно это и при¬
даст ему деятельный интеллект, становящийся тем принципом,
благодаря которому потенциальные умопостигаемые объекты
интеллекции становятся актуальными»61.
Итак, содержание деятельного интеллекта, ступени Деятель¬
ного разума в космологической картине мира Фараби не фор¬
мы и виды, не понятия, а особого рода нематериальное начало,
а именно деятельность как принцип, особого рода энергия сози¬
94
дания, обеспечивающая движение в сфере мышления человека.
Именно таким образом, на ваш взгляд, и следует истолковы¬
вать природу этого восходящего к аристотелевским размышле¬
ниям образования. Деятельный разум сообщает энергию (дей¬
ствительность) уже имеющемуся как возможность: без него про¬
цесс познания невозможен. Но познание невозможно и без суб¬
страта, без материального, чувственного. Что же первично в
этом двуедином процессе? Видимо, для познания как опериро¬
вания нематериальными данностями — понятиями первенствую¬
щее значение приобретает все-таки аспект деятельностный. По¬
тому, вероятно, сама деятельность, энергийность как принцип
мышления человека и занимает у Фараби особое место в реаль¬
ности среди других сверхчувственных сущностей надлунного
мира.
В свете представлений Фараби о незнании, думается, неубе¬
дительными оказываются утверждения исследователей, относя¬
щих мыслителя к «платонизирующим»: формы вещей у него не
внедряются в тело вместе с душой, а вырабатываются челове¬
ком в душе, в ее «мыслящей силе» и даже конкретно в опре¬
деленных участках головного мозга. Мысль Фараби движется
всецело в русле аристотелевского воззрения на мир и на мышле¬
ние человека, в том числе и разделяет, естественно, вместе с ним
его достоинства и его недостатки.
Достоинства аристотелевоко-фарабиевского воззрения на мир-
в контексте истории философии с точки зрения прохождения
определенных и необходимых этапов на пути адекватного по¬
нимания целей, предпосылок и особенностей человеческого поз¬
нания очевидны. Но также очевидны и недостатки: ведь несмот¬
ря на, казалось бы, исключительно процессуальный, динамичный
характер познания, каким он предстает в описании Аристотеля
и особенно Фараби, результаты познания статичны: формы и ви¬
ды раз и навсегда даны такими, какие они есть в душе в потен¬
циальном состоянии, надо только правильно объяснить их про¬
исхождение и их актуализацию. Такая как бы констатирующая
теория познания есть теория знания лишь описательного, прин¬
ципиально не ориентированного на выявление нового. Кроме
того, объяснение в этой теории мышления, познания возможно
только при признании активного сверхчувственного начала,,
имеющего реальное существование и приравненного к деятель¬
ностному аспекту самого мышления, т. е. это объяснение, в сущ¬
ности, тавтологично.
Воззрения Фараби на познание непросты для понимания н
анализа: в разных произведениях им расставляются различные
акценты на отдельных пунктах и пунктиках сложно описывае¬
мого им познавательного процесса (одни и те же вещи и явления
рассматриваются в актуальном и потенциальном состояниях*
что оговаривается, и соответственно меняется терминология*
и т. д.). В некоторых его трудах применительно к Деятельному
разуму встречается выражение «даритель форм». Видимо, оно
95
и послужило основанном для отождествления содержания и
функции Мировой Души Плотина и Деятельного разума Фараби.
Но ведь это выражение можно поднимать и как «дарение» фор¬
мам энергии, деятельности, без которой формы так и остаются
в потенциальном состоянии, остаются лишь субстратом для
мыслительной деятельности. Во всяком случае, думается, при
вынесении окончательных суждений о Фараби, его понимании
проблем познания необходимо исходить из всей совокупности
его трудов, что в итоге позволяет прийти к заключению об оче¬
видной зависимости учения Фараби прежде всего и исключи¬
тельно от учения Аристотеля, но никак не Плотина.
Завершая статью, кратко сформулируем ответ на вопрос,
поставленный в ее начале, действительно ли учение о бытии в
трудах восточных перипатетиков, в частности Фараби, по своей
структуре и в общеметодологическом плане является типично
неоплатоническим? Ответ этот, как мы стремились доказать,
может и должен быть отрицательным. Не говоря уже об энци-
клопедич'ности философского мышления Фараби (именно с его
именем связывается возобновление надолго прервавшейся тра¬
диции целостного и максимально широкого охвата действитель¬
ности, включая общественно-политическую ее сферу), что само
по себе разводит Фараби и неоплатоников, не позволяя произ¬
вести какое-то позитивное сопоставление их воззрений (все проб¬
лемы как бы со знаком минус», начиная с самого понимания
целей и задач философии), все аспекты, сферы философского
знания ставились им в .принципиально отличном от неоплато¬
ников духе (взять хотя бы ориентацию на естественнонаучное
знание).
Даже в логике, наиболее разрабатывавшейся неоплато¬
никами (Прокл, Порфирнй), Фараби в противоположность им
восстановил своими комментариями присущую Аристотелю тен¬
денцию к эпистемологизации силлогистики62. А «в собственно
теологии,— полагает автор специального исследования по исто¬
рии платонической традиции в арабском средневековье,— Фа¬
раби, несомненно, отличается от всех своих непосредственных
доисламских предшественников»63, т. е. неоплатоников.
Следовательно, в сущностных аспектах проблем бытия нео¬
платоники влияния на Фараби не оказали. Его учение о бытии —
это трансформация внутри перипатетической традиции, естест¬
венная и закономерная в 'монотеистическую эпоху раннего сред¬
невековья. Суть этой трансформации — в конкретизации приро¬
ды и механизма деятельности аристотелевского первоначала,
в развитии принадлежащей Стагириту идеи иехождения-истече-
ния энергии этого первоначала последовательно всем ступеням
бытия, чем и достигалось его единство и единственность. Способ
объяснения, предложенный Фараби, был, по существу, единст¬
венно возможным для того времени философским выражением
этого единства и собственно философским ответом креациониз¬
му. Эта трансформация, по сути дела, и составляет одну из важ-
96
яейших характеристик того течения, которое в истории филосо¬
фии полупило название «восточный перипатетизм» или «арабо-
язычный перипатетизм».
1 Цит. по: Фролова Е. А. Проблема веры и знания в арабской филосо¬
фии. М., 1983, с. 52.
2 Аль-Фараби. Философские трактаты. А.-А., 1970, с. 42.
3 Там же.
4 Цит. по: Игнатенко А. А. Ибн Халдун. М., 1980, с. 36.
5 Там же.
6 Сагадеев А. В. Учение Ибн Рушда о соотношении философии, теологии
и религии и его истоки в трудах Аль-Фараби.— Аль-Фараби. Научное творче¬
ство. М., 1975, с. 120—144; Касымжанов А. X. Аль-Фараби. М., 1982, с. 75—96;
Shah S. Aristotle, Farabi, Averroes and Aquinas — Four Views of Philosophy
and Religion —Sind University Research Journal. 1980, № 19.
7 В обобщенном виде о переводах см.: Шаймухамбетова Г. Б. Арабоязыч¬
ная философия средневековья и классическая традиция. М., 1979, с. 19—39;
см. также: Opelt J. Griechische Philosophie bei den Arabern. München, 1970.
8 Отметим, что труды ал-Кинди, хронологически первого философа араб¬
ского средневековья, «предшествовали переводам Хунейна» (Peters F. The Ori¬
gins of Islamic Platonism: the School Tradition.— Islamic Philosophical Theolo¬
gy. Ed. by P. Morewedge. N. Y., 1979, c. 27). С именами Хунейна ибн Исхака,
его сына Исхака, Косты ибн Луки, Сабита ибн Курры, Матты ибн Юнуса
и др. связан расцвет переводческого движения на средневековом арабо-му¬
сульманском Востоке.
9 Calston М. A. Re-examination of al-Farabi’s Neoplatonism.— Journal of
the History of Philosophy. 1977, vol. 15, № 1, c. 13.
10 Следует отметить, что специальная конкретная разработка вопроса
о степени знакомства Фараби с источниками греко-эллинистической филосо¬
фии, о характере, особенностях подхода к ним могла бы стать выходом к те¬
ме «Ал-Фараби как историк философии». О правомерности ее постановки сви¬
детельствует несомненно наличествующее в творчестве этого мыслителя стрем¬
ление уяснить историю становления и развития философского знания как
явления общечеловеческого, возникающего и развивающегося там и тогда, где
и когда налицо ряд благоприятных условий. И здесь, как и во множестве
иных случаев, можно указать на Аристотеля. На это указывают, например,
очевидные соответствия между фрагментами из диалога Аристотеля «О фило¬
софии» (3, 6, 7) и содержанием трактата Фараби «О происхождении филосо¬
фии» (выдержки из него см.: Rosenthal F. Das Fortleben der Antike im Islam.
Stuttgart — Zürich, 1965, c. 75—76.
111 Фролова E. А. Проблема веры и знания в арабской философии, с. 50.
12 Worms W. Die Lehre über die Anfanglösigkeit bei der mittelalterishen
arabischen Philosophen. Münster, 1900.
13 Там же, с. 22.
14 См.: Шуйский С. А. Ибн Халликан аль-Фараби.— Аль-Фараби. Науч¬
ное творчество. М., 1975, с. 112—119; дан перевод текста Ибн Халликана,
историка XIII в., куда вошли более ранние сведения о Фараби.
‘5 Mahdi М. Alfarabi against Philoponus.—Journal of Near Eastern Stu¬
dies. 1967, vol. 26, № 4, c. 236.
16 Rescher N. The Development of Arabic Logic. Pittsburg, 1964.
17 The Cultural Context of Medieval Learning. Boston, 1973, c. 113—147.
18 Цит. no: Worms W. Die Lehre über die Anfanglösigkeit, с. 21.
19 Полностью на европейские языки не переведен; выдержки из этого
трактата на русском опубликованы в приложении к кн.: Касымжанов А. X.
Аль-Фараби.
20 Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981, с. 290.
21 Для упрощения схемы число «вечных и неподвижных сущностей», ко¬
торые введены Аристотелем в целях объяснения того, что «у каждого несу-
7 Зак. 635
97
шегося тела несколько движений» (Мет. XII, 8, 10736 8—10), и которых го¬
раздо больше десяти (47 или 55), сокращено до десяти основных.
22 По «Трактату о взглядах жителей добродетельного города» (Аль-Фара¬
би. Философские трактаты).
23 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. А.-А., 1973, с. 59.
24 Цит. по: Alfarabius Philosophische Abhandlungen Ubers, von Fr. Diete-
rici. Leiden, 1892, c. 60. В русском издании трактата данное место пропуще¬
но, что объясняется неудачным выбором списка — более поздним, нежели спи¬
сок, использованный Фридрихом Детерици (Аль-Фараби. Историко-философ¬
ские трактаты. А.-А., 1985, с. 340). В русском переводе есть и другие про¬
пуски — всего четыре.
25 Лосев А. Ф. Поздний эллинизм.— История античной эстетики. Т. 6. М.,.
1980, с. 376.
26 Там же, с. 314.
27 Там же, с. 239.
28 Здесь, вероятно, уместно обратить внимание на следующее замечание*
А. С. Богомолова в его книге «Диалектический логос»: «В современной науке
об античности складывается обстановка, граничащая с революционной си¬
туацией. Все находится в состоянии текучем и неустойчивом; скрупулезный
филологический и исторический анализ то и дело ставит под сомнение, каза¬
лось бы, несомненно установленные филологической же и исторической тра¬
дицией истины» (Богомолов А. С. Диалектический логос. М., 1982, с. 8).
«Революционная ситуация» сложилась и в аристотелеведении; более всего
она ощутима как раз в истолковании «объективно-космологической картины
мира» (выражение А. С. Богомолова), представленной Аристотелем в русле-
общего развития античной философии. Конкретно это выражается в разработ¬
ке проблемы эволюции взглядов Аристотеля, степени его зависимости в об¬
щефилософском плане от Платона (см., в частности: Лебедев А. В. Аристо¬
тель.— Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 35—37).
29 Асмус В. Ф. Метафизика Аристотеля.— Аристотель. Сочинения. Т. 1_
М., 1976, вступит, статья, с. 33; Чанышев А. Н. Курс лекций по древней фи¬
лософии, с. 323'—324.
30 В связи с вопросом о стилевых особенностях трудов Фараби, связан¬
ным с проблемой экзотеризма и эзотеризма, необходимо особо обратить вни¬
мание на следующее. Ал-Фараби, как свидетельствует контекст всех извест¬
ных нам сочинений, в высшей степени было присуще стремление донести в до¬
ступной форме философские истины, даже сугубо метафизические, до, видимо,,
возможно более широких слоев общества. «Несостоятельным» называет он та¬
кого философа, который «осваивает теоретические знания, не обладая наивыс¬
шим совершенством, чтобы прививать свои знания другим людям по мере*
своих возможностей» (Аль-Фараби. Социально-этические трактаты, с. 346).
Истинный философ, по его мнению, не должен эгоистически замыкаться н*
себе самом или круге своих коллег; владея знанием, он должен стремиться
сделать его всеобщим, только тогда он и «состоится» как философ.
Этот просветительский, по сути, подход к целям и задачам философии*
обусловливался убеждением в том, что знание — высшая добродетель, «пре¬
дельное совершенство» человека как определенного вида среди природных су¬
ществ и знанием в той или иной форме могут и должны обладать все.
«Высшего совершенства» философ как обладатель знания достигает лишь
и именно тогда, когда он заботится о приемлемых способах передачи знания
другим.
Приоритет знания, разума в иерархии добродетелей для Фараби — по¬
стулат, в соответствии с которым конструируется сама система бытия, где'
Первый Сущий, т. е. бог,— «интеллект и знающий, поскольку он мыслит своей
сущностью». Многообразная аргументация истинности этого постулата по¬
следовательно разворачивается во всех компонентах его системы, выделяемых
при анализе как онтология, логика, теория познания, этика, психология, эсте¬
тика, в сущности, и составляет содержание его философского учения. Однако
одной этой констатации недостаточно для уяснения творческого облика Фа¬
раби. Труды его, рассмотренные с точки зрения формы подачи материала, по¬
ражают отчетливо выраженным стремлением именно «прививать свои знанию
98
. другим», желанием сделать содержание максимально ясным, очевидным про¬
педевтическим характером изложения, «ознакомительно-просветительским», ес¬
ли можно так выразиться, стилем. На наш взгляд, общеизвестные сочинения
Фараби — «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», трехчастный
цикл трактатов «О достижении счастья», «Гражданская политика», «Класси¬
фикация наук» и др.,— фактически все опубликованные произведения являют¬
ся экзотерическими. Мыслитель экзотеричен принципиально: он сознательно
стремится к максимальной ясности, доступности в изложении материала, по¬
лагая, что тем самым философия наилучшим образом выполняет свое на¬
значение.
31 Первое подробное описание трактата «Теология Аристотеля» и его
арабский текст даны в работе: Dieterici F. Die Sogennante Theologie des Ari-
stotelis. Lpz., 1882; Валентин Розе установил, что его текст является более
или менее точным парафразом IV—VI «Эннеад» Плотина; в целом историю
текста (вернее, трех его версий) и его понимания исследователями см.:
Opelt /. Griechische Philosophie bei den Arabern, c. 74—76.
32 Блонский П. П. Философия Плотина. M., 1918, с. 216—217.
33 Armstrong A. The Architecture of Intelligible Univers in the Philosophy
of Plotinus. Cambridge, 1940.
34 Лосев А. Ф. Поздний эллинизм, с. 282—312.
35 Там же, с. 302.
26 Horowitz J. Uber den Eintlüb des Stoizismus auf die Entwicklung der
Philosophie bei den Arabern.— Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge¬
sellschaft. 1903, Bd 57, c. 177—196.
37 Майоров Г. Г. К вопросу об эволюции аристотелизма в средние ве¬
тка.— Известия АН Тадж. ССР. Сер. общественных наук. 1981, № 2, с. 65.
38 Лосев А. Ф. Поздний эллинизм, с. 177.
39 Богомолов А. С. Античная философия. М., 1985, с. 217.
40 Аль-Фараби. Философские трактаты, с. 234—235.
41 Там же, с. 283.
42 Horten М. Die Philosophie des Islam. München, 1974, с. 68.
43 Там же, с. 68.
44 Аль-Фараби. Философские трактаты, с. 284.
45 Там же, с. 284—286.
46 Блонский П. П. Философия Плотина, с. 142.
47 Там же, с. 175—176.
48 Там же.
49 Finnegan J. Al-Farabi et le яер{ uou d’Alexandre d’Aphrodise.— Melange
'Louis Massignon. Damask, 1957, vol. 2, c. 151.
50 Alfarabius. Das Buch der Ringsteine.— Beitrage zur Geschichte des Mit¬
telalters. Münster, 1906, vol. 5, № 3, c. 24—27.
51 Аль-Фараби. Философские трактаты, с. 24.
52 Alfarabius. Das Buch der Ringsteine, c. 23.
53 Там же, с. 25—26.
54 Аль-Фараби. Философские трактаты, с. 27—28.
55 Там же, с. 26—27.
56 Там же, с. 32.
57 Там же, с. 33.
58 Там же, с. 34.
59 Там же.
60 Там же.
61 Там же, с. 36.
62 Rescher N. The Development of Arabic Logic, c. 12.
63 Peters F. The Origins of Islamic Platonism, c. 27.
7*
А. X. Касымжанов
ПРОБЛЕМА РАЗУМА
В МИРОВОЗЗРЕНИИ АЛ-ФАРАБИ
В разные времена и в разных философских системах — у Пла¬
тона и Аристотеля, Сигера Брабантского и Фомы Аквинского,
Канта и Гегеля — получала разработку концепция разума. «Тон*
этой концепции, ее специфическое развитие обусловливались
многими обстоятельствами: эпохой, характером системы, идей¬
ными конфронтациями, методологическими запросами и т. д.
Чаще всего понятие о разуме противопоставлялось «нера¬
зумию» — мистике, непосредственному чувству, инстинктивному
переживанию. С разумом в таком контексте связывалась про¬
тивоположность рационализма и иррационализма, знания и ве¬
ры, науки (и философии) и религии. С ним соединяли призна¬
ние высшей способности, не вмещающейся в рамки строго фор¬
мального мышления, которое не корректируется ситуацией, не¬
гибко. В этом плане противопоставляли разум рассудку, беско¬
нечное, диалектическое мышление — конечному, метафизически-
закостенелому, иногда «здравому смыслу». Такова линия рас-
суждений Платона, Канта, Гегеля. Известно положительное от¬
ношение к разграничению рассудка и разума у Энгельса.
В истории философии разум нередко трактовался как сино¬
ним мышления. Выделялись ступени познания — чувственная и
рациональная. При односторонней абсолютизации и разрыве свя¬
зи 1между ступенями возникало противопоставление рационализ¬
ма и эмпиризма.
Все подобные оттенки исторически формировавшеюся поня¬
тия в известной мере нашли отражение в воззрениях средневеко-
кового арабского мыслителя. Но мы хотели бы обратить внима¬
ние на ряд моментов, которые позволяют вычленить именно уче¬
ние о разуме, обрисовать его компоненты и определить место*
данной концепции в философии Абу Насра ал-Фараби. Прежде
всего отметим, что к трактовке разума с самых различных сто¬
рон он обращается систематически. Этот сюжет является сквоз¬
ным, пронизывающим нее принципиальные положения его систе¬
мы воззрений, начиная с исходных основополагающих установок
и кончая классификацией наук, методологией и отдельными
частными проблемами. Есть в учении Фараби аспект, роднящий1
© А. X. Касымжанов, 1990
100
его с традицией, согласно которой утверждаются безграничные
возможности человека в постижении внешнего мира и самого
себя. Это наиболее общее понятие о разуме, в соответствии с
коим о рационализме можно говорить в самом общем виде,
в противовес ограничению познавательных способностей челове¬
ка, скептицизму, агностицизму.
Но есть такое толкование, когда рационализм (признание
именно прав разума в постижении действительности) сопрягает¬
ся с идеализмом. Речь идет не о смешении рационализма с
идеализмом, что было бы неправомерно, поскольку известен и
рационализм материалистический. У Фараби учение о разуме,
рационализм логически переплетается с идеализмом, признанием
умопостигаемого характера реальности, тождества бытия с мыш¬
лением. Его учение находится в этом отношении в русле плато¬
новско-аристотелевской традиции, предвосхищая панлогизм
Гегеля. Помысленное бытие превращается в бытие само себя
мыслящее, насквозь прозрачное с точки зрения пронизан-
ности интеллектом. Постижимость мира, поддаваемость его мыс¬
лительному охвату, сходство деятельности разума с внутренней
организацией постигаемого объекта оборачивается доводом в
пользу «разумности мира», закона мира — «логосом», чем-то
аналогичным логической деятельности человека, а не наоборот:
законы внешнего мира суть основы логики мышления, которая
есть аналог объективной логики, т. е. логики вещей вне челове¬
ческой головы. У идеалистических сторонников тождества мыш¬
ления и бытия получается уподобление бытия мышлению. При¬
чем выдвигается сам принцип тождества мышления и бытия на
базе вполне здравого и приемлемого утверждения постижимости
мира человеческой мыслью. Но этот разум обезличен, оторван
от человека, абсолютизирован. У Фараби этот, иначе говоря,
обожествленный разум называется по-разному: Первый разум,
Разум в действительности.
Ясно, что после такою обожествления возникает специфи¬
ческая проблема определения обычного, существующего в голо¬
вах людей разума как чего-то конечного, несовершенною, свя¬
занного с телом, проблема отношения его к безмерно преувели¬
ченному и оторванному от человека разуму. Отсюда терминоло¬
гические дистинкции, отграничивающие собственно разум
(в обычном смысле слова) от потенциального и от актуализации
разума в процессе деятельного применения человеком своей мыс¬
лительной способности. Конечно, и за такой искаженно постав¬
ленной проблемой чувствуются какие-то реальные вопросы —
например, то, что человеческая мысль способна объять проти¬
востоящий ей мир.
В иерархической конструкции вселенной Фараби отделяет
надлунный мир от подлунного. Причиной бытия всего сущего
объявляется Первый Сущий. Он представляет собой тождество
мышления и бытия, ибо начало постижения их сущего озна¬
чает начало «бытия этого сущего. Производными Первою Су¬
101
щего служат вторые сущие, или небесные сферы, которых ал-
Фараби насчитывает десять. Каждая небесная сфера обладает
душой, заставляющей ее двигаться. Силы свои души черпают
из разумов небесных сфер, а все разумы — от Первого Сущего.
На вершине пирамиды у Фараби — безличный разум; у под¬
ножия— обыкновенный разум человека, который, в свою оче¬
редь, является высшим звеном в эволюции «земного мира».
Наблюдается двусторонний процесс. Верховный разум есть каль¬
ка с аристотелевского перводвигателя, который представляет
собою форму форм. Абу Наср называет его «Деятельный ра¬
зум». Сначала он «посылает» формы вниз, чтобы сделать умо¬
постигаемые сущности действительными, затем эти формы, ак¬
туализировавшись, начинают восходить с возрастающей степенью
совершенства — камни, растения, животные, неразумные и ра¬
зумные. Разумное животное — это человек, носитель приобретен¬
ного разума. Сущность действительности, мира вещей выражена
и воплощена в категории «разум в действительности». Это те
же вещи, но только в их мыслительно постигаемой форме. Разум
в действительности Фараби связывает с процессом диалектиче¬
ского отождествления бытия и мышления, объекта и познания.
До акта познания разум существует «в возможности» как со
стороны субъекта, так и со стороны объекта. Со стороны субъек¬
та он «потенциален» постольку, поскольку способность постиже¬
ния не дана сразу готовой, ее развитие, разворачивание, актуали¬
зация связаны с приобщением к «разуму» вещей, как бы извле¬
чением его из погруженности в материи и тем самым обретением
себя как манифестированного данного. Со стороны объекта
разум тоже только «возможен» в том смысле, что в чистом виде
его способность мыслить самого себя не зависит от него, а лишь
реализуется в акте постижения субъектом, приобретает действи¬
тельно адекватное состояние. «Разумность» мира видна только
в «зеркале». Если трактовать человеческое сознание как само¬
сознание мира, как его «идеализированное бытие» (а именно
в этом в конечном счете какое-то оправдание концепции тож¬
дества мышления и бытия), то сам мир — в известной мере еще
возможность, не реализовавшая себя с точки зрения «взгляда
на себя» извне, не замкнувшая себя. Сознание — «другое» мира,
реализующее его самосознание.
Для отделения разума в возможности как субъективной спо¬
собности от разума вещей, мира уместно прибегнуть к аристо¬
телевской концепции страдательного разума. Это тем более до¬
пустимо, что Фараби сам ссылается на соответствующие места
трактата «О душе». В этом сочинении Аристотель развивает по¬
ложение о присущем человеку разуме как страдательном, зави¬
сящем в своей актуализации от реального мира. Этим он от¬
личается от другого разума, который является самодовлеющим;
таков непрерывно деятельный, бессмертный и 'вечный ум. Стра¬
дательный разум есть лишь конечная, несовершенная своеобраз¬
ная форма проявления деятельного разума. Без последнего сам
102
по себе огг ничего -не мог бы помыслить. Разум в возможности
в субъективном смысле, таким образом, характеристика способ¬
ности индивида постигать. Это одно из состояний ума человека,
которое, сменившись на иное, деятельное, позволяет ему отде¬
лять формы вещей от материи, с которой связано их сущест¬
вование, вбирая ,в себя сущность, или понятие, вещи. После это¬
го у человека разум в возможности превращается в приобретен¬
ный, тогда как-разум -в возможности вещей — в разум в действи¬
тельности. Приобретенный разум — это тот же разум в действи¬
тельности, рассматриваемый со стороны субъекта, как реализа¬
ция его способности постигать формы внешних предметов и
превращать их в собственные.
Диалектика смены состояний разума и отношения субъекта
и объекта раскрывается Фараби в переходах и тождестве четы¬
рех основных значений термина «разум». Без Деятельного ра¬
зума нет ни одной другой формы разума, это и исходная осно¬
вополагающая форма и посредник в акте превращения разума
в возможности в действительный разум.
Для разъяснения Фараби прибегает к модели: солнце, пред¬
мет, глаз. Чтобы глаз стал видящим, а предмет — видимым, ну¬
жен свет. Существует близость деятельного и приобретенного
разума, поскольку лишь <в последнем находит завершение цикл
воплощения разума в вещах материального мира и высвобожде¬
ние его. Фараби поэтому определяет Деятельный разум как вид
приобретенного. Разум в действительности, хотя он представ¬
ляет формы самих вещей, объективно наличные, в известном
смысле лишь «возможен», ибо есть необходимость актуализации
его в акте человеческого постижения — умопостигаемое должно
еще превратиться в умопостигнутое. Но отношение его к приоб¬
ретенному разуму отдельных людей имеет и другие грани,
прежде всего связанные с решением вопроса об общечеловече¬
ской природе мышления и его реальном функционировании как
мышления вполне конкретного индивида.
В контексте марксистского понимания данный вопрос можно
было бы сформулировать как вопрос об общественно-историче¬
ской природе человеческого мышления и его индивидуальном
проявлении. Тогда Деятельный разум выступил бы как общая
всем людям способность мыслить, а страдательный и приобре¬
тенный были бы характеристиками ума отдельного индивида.
Тезис о всеобщем (общечеловеческом) -разуме и приобщен¬
ности к нему мышления индивида, его прижизненном форми¬
ровании и развитии связан и с другой проблемой, над которой
бился в свое время от Аристотель. Суть ее в том, что разум ин¬
дивида как связанный с телом, как специфическая «душа» (воз¬
вышающаяся над растительной и животной) признается преходя¬
щим, т. е. дается отрицательный ответ по поводу бессмертия
души,вопрос в условиях средневековья чрезвычайно острый и
идеологически важный. В «Гражданской политике» Абу Наср
утверждает* что у человека, достигшего совершенства, разумная
103
часть души не погибает е гибелью материи. Души дурных лю¬
дей не достигают 'Совершенства, остаются связанными с мате¬
рией и гибнут вместе с нею. В сочетании эти положения позво¬
ляют усомниться в том, что Фараби верил в бессмертие души.
«Среди прочих взглядов, о которых мы .можем судить по
тому, что рассказывают о многих древних мыслителях, имеется
и такой: „Умри по воле — будешь жить по природе“. По их мне¬
нию, смерть бывает двоякой: смертью естественной и смертью
по воле. Под смертью по воле они подразумевают уничтожение
таких аффектов души, как страсть и гнев, а под смертью есте¬
ственной— отделение души от тела. Под естественной же
жизнью они понимают совершенство и счастье. Так обстоит
дело по мнению тех, кто в таких аффектах души, как страсть
и гнев, видит состояния, для человека противоестественные» \
На ту среду, в которой вращался Абу Наср, несомненно
оказывал влияние суфизм. Если рассматривать его собственное
творчество, то какие-то следы этого воздействия, наверно, мож¬
но найти. Мысль о слиянии человека с богом в любви иногда
в очень слабой форме у него проскальзывает. Зато он катего¬
рически возражает против аскетизма и умерщвления плоти, хотя
сам вел весьма умеренный образ жизни. Последнее обстоятель¬
ство обычно приводится для обоснования суфизма Фараби, но
это аргумент не убедительный. В особенности же от суфиев
мыслителя отличают вера в разум, недоверие к пророчеству.
А тезис о невозможности достичь совершенства в одиночку явно
антисуфийский.
Главная проблема, с которой, как можно предположить, на¬
чинается развитие мысли Фараби,— это проблема достижения
человеком красоты и счастья, понимания и умения жить в гар¬
монии с мировым целым. Он так и говорит: философия — наука
о прекрасном, наука о предельном счастье. Теоретическая фило¬
софия, включающая в себя математику, физику, метафизику, су¬
щественна в рамках этой проблематики, так как проникновение
в структуру мира, его строение позволяет понять, в чем заклю¬
чается подлинное счастье и чем оно отличается от мнимого.
И логика (вместе с грамматикой — учением о языке) нужна
постольку, поскольку культивирует специфическое человеческое
благо — разум. Упорядочение наук, их классификация необхо¬
димы для систематизации общей картины мира. Во всех этих
суждениях Фараби очень часто отталкивается от Аристотеля и
Платона, однако часто идет собственным путем. Один из важ¬
нейших пунктов отличия от Аристотеля состоит в том, что вос¬
точный философ не ограничивает смысл человеческого бытия
созерцанием, а включает в него и действие, реальное самоут¬
верждение.
Человеческое счастье — абсолютная ценность, поэтому оно —
предел стремления всех людей. Но понимание счастья, уровень
такого понимания и выражения у разных народов не одина¬
ковы; существование многих религий — наглядное тому свиде-
104
телъство. Ал-Фараби доходит до религиозного индифферентиз¬
ма, ставя счастье выше религиозных заповедей. Исламу в этом
отношении не отдается никакого предпочтения2.
Чтобы люди были счастливы, надо знать, в чем заключает¬
ся его подлинность, ибо цена неправильного суждения здесь
слишком велика. И философия, изучая, что такое мир, место
индивида в нем, открывает смысл бытия достойного человека.
Тема смысла человеческого существования лежит в основе всей
позднейшей ближневосточной литературы и с потрясающей си¬
лой выражена в творчестве Омара Хайяма, будучи соотнесена
с коренными 'вопросами онтологии, гносеологии и этики.
Согласно Фараби, добродетель и порок не являются врож¬
денными: «Человек не может быть наделенным с самого начала
от природы добродетелью или -пороком, так же как он не может
быть прирожденным ткачом или писцом»3. Тот, кто с рождения
был бы склонен .к добродетели, уподобился бы богу, но родись
кто-либо, склонный исключительно к пороку, он был бы подо¬
бен зверю. Природная предрасположенность — только предпо¬
сылка. Ее можно либо (1) свести на нет, либо (2) ослабить,
либо (3) оказать противодействие и направить по другому руслу.
Добродетель самодостаточна и самоценна. Коль скоро нек¬
то избегает порока не из стремления к добру, а по расчету,
руководствуясь утилитарно-прагматическими соображениями, его
воздержание нельзя приравнять к добродетели. Счастье — не
награда за несовершение неблаговидных поступков. Иначе по¬
лучается, что некто делает добро исключительно в надежде на
возможную в будущем выгоду. Фараби выступает против лице¬
мерного превращения добродетели в предмет торговли: она
«близка к тому, чтобы оказаться пороком» у того, кто отказы¬
вается от некоторого действия или удовольствия, считая, что
оставленное им принадлежит ему с процентами. Истинно добро¬
детельный человек следует справедливости потому, что она сама
по себе благо, не нуждающееся в дополнительном вознагражде¬
нии, и воздерживается от совершения зла потому, что подобного
рода деяния ему противны. Истинная награда добродетели —
сама добродетель.
Смерть не страшна такому человеку. Перед лицом ее он
сохраняет достоинство, не впадает в смятение, хотя и ценит
жизнь, стараясь продлить ее для свершения добрых дел. Если
добродетельный человек умирает, то нужно оплакивать не его,
а его сограждан, которым он был нужен.
Жителям невежественных городов смерть страшна, ибо они
теряют все, к чему стремились,—богатство, честь, славу — и что
обнаруживает свою бренность. Порочные люди перед кончиной
раскаиваются в том, что делали на протяжении всей жизни, но
не голос совести пробуждается в них, они скорбят по поводу
возможности упустить потустороннее счастье.
Это не значит, что смерть, отделение души от тела суть муд¬
рость и благо. Лицам, придерживающимся подобной точки зре¬
105
ния, логично было бы убивать себя. Иными словами, Фараби
восстает не только против лицемерия и аскетизма, но и за ис¬
пытание полноты жизни, ее радостей.
Одно из самых зрелых произведении философа — «Трактат
о взглядах жителей добродетельного города». Он создан в 94S г.
в Египте как переработка и логическая систематизация воззре¬
ний мыслителя на основе написанного в Багдаде и Дамаске
(942) текста под названием «Гражда1нская политика». Цель до¬
стижения счастья требует теоретического обоснования, и автор
органически увязывает этику и политику с теорией познания.
Более того, они завершают общую концепцию мира, будучи свя¬
заны с его принципами. И названный трактат, посвященный со¬
циально-этическим проблемам, является главным сочинением
Фараби по общим вопросам метафизики, космологии, теории
познания. «Поскольку,— пишет он,— мы достигаем счастья толь¬
ко тогда, когда нам присуще прекрасное, а прекрасное присуще
нам только благодаря искусству философии, то из этого необхо¬
димо следует, что именно благодаря философии мы постигаем
счастье»4.
Но для овладения ею, в свою очередь, нужны и хороший
нрав, и сила ума. Последняя культивируется искусством логи¬
ки. «Поскольку блага, которыми наделен человек, одни более
специфичны, а другие менее, к тому же самым специфичным из
благ человека является человеческий разум, ибо человек стал
человеком благодаря разуму, и поскольку благом, которое при¬
меняет это искусство, является разум человека, то это искусство
применяет те блага, которые являются самыми специфичными
для человека»5.
Мыслитель делит добродетели на разумные и дианоэтиче-
ские. К первым относятся мудрость* сообразительность и остро¬
та ума, ко вторым — справедливость, умеренность, щедрость,
храбрость. И те и другие не являются врожденными. От при¬
роды человеку дается только нравственная предрасположен¬
ность. Ее нельзя классифицировать с точки зрения этики: это
лишь задаток, и невообразимы крайности, если кто-то был бы
предопределен только к добродетелям или, напротив, только к
порокам.
Благородные поступки, совершаемые (!) по доброй воле,
а не случайно, и (2) систематически, на протяжении всей жиз¬
ни, формируют прекрасный нрав. Потому большое значение при¬
дается привычке как фактору, способствующему его выработке.
«Политические деятели делают жителей города хорошими, при¬
учая их творить добро»8. Хороший нрав — это соблюдение ме¬
ры во всем. Но так как придерживаться середины очень трудно,
предлагается «искусный прием», состоящий в том, чтобы на ос¬
нове критического анализа складывающегося у нас нрава по¬
пытаться приучить себя к действиям, по существу противопо¬
ложным тем, в которых выражается недостаток или чрезмер¬
ность, т. е. прибегнуть к избавлению от чрезмерности или недо¬
106
статка путем «перегибания» палки в другую сторону до уста¬
новления равновесия. Это — самовоспитание, нечто вроде нрав¬
ственной терапии.
Знание о прекрасном и справедливом обязательно должно
подтверждаться и практической ориентацией. Человек, даже не
осведомленный в науках, если его поведение соответствует пре¬
красному, ближе к философии, чем тот, кто прочитал книги
по различным отраслям знания, но не согласовывает свои по¬
ступки с прекрасным.
Мыслитель постоянно стремится воссоздать конструкцию
мира. Начало — это Аллах; середина— иерархия бытия, чело¬
век, постигающий мир и действующий в нем; конец — достиже¬
ние подлинного счастья. Но конкретное содержание его конст¬
рукции демонстрирует обезличивание Аллаха, превращение всех
догматических положений в аллегорические образы и полную
независимость человеческой нравственности от каких-либо внеш¬
них сил, загробной жизни: последние нужны в качестве аксес¬
суаров людям слабым, невоздержанным, неспособным самостоя¬
тельно постичь действительность и мужественно принять ее.
В трудах ал-Фараби отражена страсть естествоиспытателя,
математика, наблюдателя. Как за различными, казалось бы,
надуманными описаниями «невежественных» городов угады¬
ваются исторические реалии феодального общества, так и в ука¬
заниях по устроению добродетельного города просматриваются
не просто идеальные максимы, а принципы, которыми он доро¬
жил и которым неуклонно следовал. Объединения людей, соз¬
данные на началах взаимопонимания и дружелюбия, включают¬
ся в мировую гармонию, т. е. воспринимаются не слепыми ору¬
диями божества, а личностями, могущими действовать сообраз¬
но велению разума.
«Человек должен обладать прекрасным пониманием и пред¬
ставлением сущности вещей, более того, он должен быть сдер¬
жанным и стойким в процессе овладения [науками], должен по
своей природе любить и истину и ее поборников, справедливость
и ее приверженцев, не проявлять своенравие и эгоизм в своих
желаниях, не быть жадным в еде, питье, от природы презирать
страсти, дирхемы и динары и все подобное этому. Он должен
соблюдать гордость в том, что порицается людьми, быть благо¬
воспитанным, легко подчиняться добру и справедливости и с
трудом поддаваться злу и несправедливости, обладать большим
благоразумием»7.
Философ, глава такого города, понимает добродетельное по¬
ведение как самоцель, позволяющую достичь совершенства и
счастья в посюстороннем мире. Теологи же паразитируют на
слабостях «широкой публики» и обещают за приверженность
к добродетели в дольнем мире блага в жизни загробной. В зтом
контексте ясен конечный вывод Фараби, смысл которого Ибн
Туфейль увидел в том, что описания потустороннего счастья —
«россказни и бредни старух». В то же время Фараби-реалист,
107
неоднократно поднимая тему «секретов книг», предупреждает
о недопустимости разглашения философских истин среди не¬
посвященных, которые из-за всеобщего фанатизма могут обру¬
шиться на неосторожного мыслителя.
Сторонники богословия считают, что разуму вообще нет мес¬
та там, где речь идет о религии. Они или отбрасывают то,
что постигнуто разумом и не согласуется со словом божьим, или
подделывают то, что разуму очевидно. Все слабости своей веры
они относят на счет «неистинности» других вероучений. Но это
мнение, полагает Фараби, легко опровергнуть, напомнив, что
сторонники разных религий опровергают друг друга.
Выступая против теологов, отрицающих значение разума,
ал-Фараби говорит, что они неспособны постичь его доводы, ло¬
гику и потому прибегают к софистике и беспардонной лжи.
«Другие же из них,— когда видят, что рассуждения, приводи¬
мые ими в поддержку подобных вещей, недостаточны, чтобы
полностью подтвердить истинность тех вещей,— то для того,
чтобы заставить замолчать противника — из-за истинности их
у него, а не потому, что он не в состоянии сопротивляться им
своим словом,— они вынуждены, при всем этом, применять дей¬
ствия, которые принуждают его молчать и не сопротивляться,
либо из робости, либо опасаясь зла. Другие же,— когда их ре¬
лигия является для них истинной,— не сомневаются в ее истин¬
ности и считают нужным отстаивать ее перед другими, совер¬
шенствовать ее, устранять в ней сомнение и защищать ее лю¬
быми средствами от противников. Им позволено применять
ложь, обман, -клевету и упорство...»8.
Центральное положение учения Фараби о разуме, его сущ¬
ности — космической и социальной, нравственной—определило
и тенденцию отграничения философии от религии (а не их при¬
мирения) не в пользу монопольных притязаний последней на
суждения человека о мире и самом себе; оно обусловило и со¬
держание вполне продуктивной для своего времени теории поз¬
нания и логики. Следует отметить, что предшествовавший ему
ал-Кинди еще допускает приоритет божественного откровения.
Для ал-Фараби приоритет разумного познания бесспорен, и, что
весьма важно, ему он предпосылает чувственное познание как
низшую, но необходимую ступень. Признание первичности ощу¬
щений в постижении мира накладывает -соответствующий отпе¬
чаток на интерпретацию разумного познания. Выполняя интег¬
рирующую функцию, оно оказывается ближе к земному, чем к
небесному миру.
В целях достижения разумного познания — получения исти¬
ны— привлекаются логические операции, рассудочная деятель¬
ность, т. е. все то, что полностью зависит от человека. Все
это позволяет говорить о прогрессивной роли учения ал-Фараби
в развитии гносеологии на арабоязычном Востоке. В его теории
познания наиболее отчетливо просматривается сплав материа¬
листических и идеалистических тенденций. С одной стороны, че¬
108
ловек 'предстает обладателем творческого начала, которое ве¬
дет его к постижению мира, с другой — исходный и конечный
пункты познания коренятся в первопричине -всего сущего.
Во многих своих сочинениях, но особенно в трактате «О дос¬
тижении счастья», обретение знания Абу Наор отождествляет
с достижением счастья. А поскольку это есть цель жизни чело¬
века, постольку оно осуществляется через познание им окружаю¬
щего мира и этических норм, направляющих его жизнь. Однако
опыт, наблюдение наталкивались на трудности установления
связи эмпирического и теоретического, необходимости материа¬
листической трактовки различных идеализаций, абстракций, до¬
пущений, интуиции. И здесь умопостигаемое всплыло не просто
как постигаемое умом, а как особая реальность, умственная,
идеальная система гипостазированных понятий, идей.
В своей теории познания ал-Фараби в значительной мере
склоняется -к номинализму, т. е. признанию первенства отдель¬
ных чувственно-воспринимаемых предметов перед общими по¬
нятиями. По мнению Маркса, средневековый номинализм в про¬
тивовес реализму, утверждавшему первичность и реальность
универсалий (общих понятий), был «первым выражением мате¬
риализма». Познаваемое существует до познания, чувственно-
воспринимаемое до восприятия, говорит Фараби. «Индивиды
субстанции более совершенны по бытию, чем универсалии суб¬
станции, в том отношении, что более самодовлеющи и более
независимы от чего-либо другого в своем бытии. Ибо индиви¬
ды субстанции не нуждаются в своем бытии ни в каком подле¬
жащем, поскольку они и не находятся в подлежащем и не ока¬
зываются в нем»9. В структуре бытия первичны индивиды. Зато
универсалии дают возможность умопостижения индивидов:
«Итак, дабы быть умопостигаемыми, индивиды субстанции нуж¬
даются в универсалиях субстанции, а универсалии субстанции,
дабы существовать, нуждаются в индивидах субстанции, так
как не будь последних, универсалии, которые явились бы
душе, оказались бы выдуманными, ложными, а то, что ложно,
не существует»10.
Абстрактные понятия должны быть проверены на конкретных
вещах, поэтому достижение счастья обусловлено наличием тео¬
ретических, мыслительных, этических добродетелей и практиче¬
ских искусств и.
Теоретические добродетели, по ал-Фараби, призваны способ¬
ствовать «изучению существующих вещей». Человек овладева¬
ет знанием вещей, о которых ему неизвестно, «как и откуда они
возникли». Философ различает первые знания и знания, по¬
лучаемые «путем размышления, изучения, исследования, учения
и обучения»12. Таким образом, речь идет о двух видах знаний:
исходных посылках и доказуемых знаниях.
Теоретическая добродетель вступает во взаимодействие с
этическими добродетелями, реализация которых зависит от пер¬
вой: «Этические добродетели могут стать существующими толь¬
109
ко после того, как теоретическая добродетель превратит их
умопостигаемые сущности посредством мыслительной доброде¬
тели»13. Реализация совершается через превращение их теоре¬
тической добродетелью в умопостигаемые сущности, через вы¬
явление их акциденций мыслительной добродетелью. В сочета¬
нии с нею они становятся понятиями. Сила мыслительной доб¬
родетели определяется ее связью с этической, и, хотя она может
существовать обособленно, человек, обладающий только мысли¬
тельной добродетелью, «не будет благим ни в одной [этиче¬
ской] добродетели»14. Иными словами, недостаточно постичь-
добродетели теоретически, ценно их практическое воплощение.
В «Трактате о взглядах жителей добродетельного города»
мыслящую (мыслительную) силу автор определяет как силу,
посредством которой человек «воспринимает умопостигаемые
объекты интеллекции, отличает красоту от уродства и обретает-
искусства и науки. Она также сопровождает стремление, от¬
носящееся к тому, что умопостигает-ся» 15. Здесь подчеркивается,,
что мыслящая сила господствует над всеми другими силами
души, хотя и не обладает способностью «становиться самостоя¬
тельно актуальным интеллектом»: «Чтобы стать им, ей необхо¬
димо что-то другое, позволяющее ей перейти из потенции в ак¬
туальность» 16. Актуальной она становится тогда, когда в «ней
реализуются умопостигаемые объекты интеллекции», а послед¬
ние становятся актуальными благодаря Деятельному разуму..
Теоретическое познание, хотя оно и более высокого порядкаг
чем практическое, должно постоянно сталкиваться с практи¬
кой, реализовываться в конкретном мире. Поэтому среди фило¬
софских терминов ал-Фараби встречаются такие, как «разумная
практическая сила души», «практическая мыслительная сила»,
«практическая профессиональная сила». Другие силы души, ощу¬
щающая и воображающая, «подготавливают и помогают разум¬
ной силе и предназначают ее для побуждения человека к дей¬
ствиям, и тогда человек обретает полное благо. Таким обра¬
зом обретается благо, основанное на воле»17.
Под словами «благо, основанное на воле» подразумевается,,
вероятно, что ощущающая, воображающая и разумная сила
души обеспечивают ту полноту гармонии, к которой стремится
человек, познавая мир, а также, что познание человека обус¬
ловлено его собственной волей, а не божественным открове¬
нием. В подтверждение этого допустимо привести фразу из
«Трактата о взглядах жителей добродетельного города»: «Зна¬
ние какого-то предмета может образоваться или посредством
мыслящей силы, или воображения, или ощущения»18.
Уровням развития ума соответствуют виды «силлогистиче¬
ских искусств». Наивысшей формой теоретического постижения
для Фараби является философия (наука). По отношению к ре¬
лигии как знанию в форме убеждения или воображения (либо
их вместе) она выступает как знание аподейктическое, доказа¬
тельное. Данной теме посвящены 19-й («Происхождение слов»
по
философии и религии») и 24-й («Связь между религией и фило¬
софией») разделы «Китаб ал-хуруф» («Книга букв»). В этом
сочинении прямо говорится, что подлинная истина добывается
доказательным путем только в философии. Но философскую ис¬
тину, замечает Абу Наср, трудно довести до сознания масс. Это¬
му могут препятствовать верхи, не заинтересованные в их про¬
свещении. Но и массы сами не подготовлены к усвоению фило¬
софских истин.
Вот почему приходится разрабатывать «популярную», «на¬
ружную» философию, приемлемую для людей, сформировавших¬
ся в определенном духе. Ее можно назвать даже «нормативной»,
«истинной» религией, подходящей для «образцового» города. Та¬
кая религия — лучший способ довести результаты философских
изысканий до масс и лучшее противоядие против «плохой», «не¬
истинной» религии догматических богословов, преследующих уз-
хополитические цели и извращающих истину.
С точки зрения логики философия предшествует религии, ко¬
торая представляет собой лишь популярное переложение пер¬
вой. Уместно напомнить, что Гегель считал искусство и религию
низшей по сравнению с философией формой постижения абсо¬
люта. Только у него речь идет о более ранней стадии развития
религии по сравнению с философией, у Фараби же — об опре¬
деленной деградации уровня знания — от теории к образному
представлению. Религия, говорит Абу Наср, служит целям обу¬
чения народа, подыскивая для «вещей умозрительных и практи¬
ческих», изучаемых философией, способ, соответствующий уров¬
ню его восприятия и способностей. В свою очередь, она пред¬
шествует искусству калама и мусульманскому праву. Часто меж¬
ду ними стоит деятельность законодателя, опирающегося на ре¬
лигию или в идеальном случае на настоящую философию. Це¬
почка выстраивается следующим образом: диалектика—софисти¬
ка—аподейктика (философия) —религия—законодательство—ис¬
кусство калама и мусульманское право. Однако философия мо¬
жет быть подлинной, истинной, или порочной, ложной. Соответ¬
ственно законодательство либо религия опираются на ту или
другую. В первом случае результатом будет «правильная» ре¬
лигия. Когда же в философию проникают под воздействием ди¬
алектики и софистики идеи, извращающие ее существо, делаю¬
щие ее сомнительной и ложной, возникает «неправильная», по¬
рочная религия. Теология принимает ее образы, вытекающие из
ложной философии, и выдает их за достоверные, истинные.
Порядок в указанной цепочке может меняться, если один на¬
род заимствует религию у другого народа и приспосабливает
ее к своим нуждам и возможностям. Несомненно, >в данном кон¬
тексте Фараби «ощущает» переплетение различных культур и
традиций. В таком случае религия может появиться раньше фи¬
лософии и раньше диалектики и софистики. Философ разбирает
два варианта. Первый: народ перенимает «правильную» рели¬
гию, основанную на истинной философии. Не зная, что его ре¬
111
лигия следует философии, он оценивает ее образы как истин-
■ные и тождественные теоретическим положениям философии.
Если бы затем у данного народа распространилась истинная фи¬
лософия, то он, наверное, не противодействовал бы ей, между
людьми из народа и философами не возникло бы конфликта. Но
теологи могут выступить »против носителей такой философии,
вынудив философов к защите. Но тогда они будут возражать не
против «правильной» религии, а лишь против принятия образов
истины за саму истину. Второй вариант: религия опирается на
порочную философию.
Иногда философию запрещают потому, что считают доста¬
точными для целей воспитания образы истины и уклоняются от
самой истины, полагая теоретические вопросы излишним мудр¬
ствованием. Чаще всего ненависть к философии вызывается тем,
что следуют порочной философии и «неправильной» религии, ис¬
пользуют религию как нечто выгодное и в целях манипулиро¬
вания сознанием других. Этим объясняется то, что в каждом
народе есть противники философии.
Заглянув глубже, мы обнаружим связь между «здравомыс¬
лящим» народом и настоящим философом. Первый опирается
на «общепринятое» у всех людей независимо от их религиозной
принадлежности. Мутакаллим (теолог), факих (юрист) тоже
придерживаются «принятого», но только в рамках определенной
религии. Особенность подлинного философа — отнесенность ко
всем людям и народам и культивирование разума в абсолютном
смысле путем критической выработки основ посылок и система¬
тически доказательного строя своих воззрений.
«Народное мнение» и «истинная философия» сходятся в оп¬
ределении разума и того, кого можно назвать «разумным чело¬
веком». Разум един с добродетелью, у них общая основа.
«...Разумным считается только тот, кто умен и сообразителен,
будучи к тому же добродетельным человеком, применяющим
свои качества в совершении добродетельных действий или ради
избежания действий порочных... Люди (впрочем) воздержива¬
ются применять этот эпитет к тому, кто сообразителен в совер¬
шении зла, называя его „коварным“, „хитрым“ и тому подоб¬
ными именами» 19.
Человек должен знать, в чем заключается подлинное сча¬
стье, сделать его достижение своей целью и неуклонно идти к
нему. Но знания, по Фараби, не ограничиваются восприятием
ближайшего окружения, «знать» значит постичь все от начала
и до конца, от первопричины до действий, ведущих к счастью,
включая все иерархические ступени бытия, в том числе общест¬
венного бытия. Вот почему разум — специфическое благо чело¬
века, а учение о разуме — центр всей философии великого от-
рарца.
112
1 Аль-Фараби. Философские трактаты. А.-А., 1970, с. 369—370.
2 Стремление к логической обработке и систематизации заводит Фараби
весьма далеко: он препарирует заповеди Корана с логической точки зрения
так же свободно, как и обычные суждения. «Например, среди [первых] при¬
нятых положений, которые мы имеем, [есть следующие]: „Запрещается гово¬
рить фу своим родителям“. Здесь не имеется в виду запретить именно одно
слово, но имеются в виду вообще слова подобного рода, т. е. [проявление],
любой строптивости в отношении родителей» (Аль-Фараби. Логические трак¬
таты. А.-А., 1975, с. 342).
3 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. А.-А., 1973, с. 180.
4 Там же, с. 37—38.
5 Там же, с. 35.
6 Там же, с. 14.
7 Там же, с. 345.
в Аль-Фараби. Философские трактаты, с. 191—192.
9 Аль-Фараби. Логические трактаты, с. 159.
10 Там же, с. 166.
11 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты, с. 277.
12 Там же.
10 Там же, с. 316.
14 Там же.
15 Аль-Фараби. Философские трактаты, с. 265.
16 Там же, с. 284.
17 Аль-Фараби. Социально-этические трактаты, с. 115.
№ Аль-Фараби. Философские трактаты, с. 269.
; 1в Аль-Фараби. О разуме и науке. А.-А., 1975, с. 4, 5.
8 Зак. 635
М. Д. Диноршоев
РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
ГНОСЕОЛОГИИ ИБН СИНЫ
В средневековой философской лексике персидского (таджик¬
ского) и арабского языков нет терминов, эквивалентных кате¬
гориям «сенсуализм» и «рационализм». Фигурирующие в совре¬
менных языках термины «мазхаб-ал-хисси», «мазхаб-ал-акли»
(араб.), «мазхаб-е хисси» и «мазхаб-е акли» (перс.) являются
неологизмами и представляют собой калькированный перевод
латино-французскихзепБиаПзше и rationalisme. Этот факт свиде¬
тельствует, по всей вероятности, о том, что данные философские
направления не сформировались -в средневековой ирано-таджик¬
ской и арабской мысли как самостоятельные гносеологические
направления. Но отсюда не следует заключать, что в ней проб¬
лемы познания не были предметом изучения и анализа. Напро¬
тив, в более или менее развитых философских системах ирано-
таджикского и арабского средневековья исследование этих проб¬
лем занимало значительное место. Доказательством служат фи¬
лософские учения Абу Бакра ар-Рази, ал-Кинди, ал-Фараби,
Мухаммада Газали, Ибн Рушда, Фахраддина ар-Рази, Наси-
риддина Туей и многих других. Но наиболее развитую гносеоло¬
гическую теорию мы находим у Ибн Сины (Авиценны) —главы
средневековых ученых и философов.
Будучи полностью уверенньш в познаваемости мира, Ибн
Сина разрабатывал концепцию, согласно которой познание есть
отражение образа и идей предметов в чувствах и разуме чело¬
века. Причем чувства схватывают целостный образ (на уровне
общего чувства — восприятия) и частные идеи (на уровне до¬
гадки, или эстимативной силы) предметов, а разум — их общие
(всеобщие) идеи (понятия). При постижении общего (особенно
связанного с материальным) разум опирается на чувства, в свою
очередь озаренные у человека светом (разума. Из этого можно
заключить, что теорию познания Ибн Сины трудно вместить в
рамки чистого сенсуализма или рационализма, ибо в ней от¬
сутствуют и главный постулат сенсуализма (в разуме нет ни¬
чего, чего раньше не было бы в чувствах), и основополагающий
принцип крайнего рационализма (единственным источником,
средством истинного познания является разум).
Тем не менее допустимо утверждать, что главной тенден¬
цией гносеологии Ибн Сины является рационалистическая.
© М. Д. Диноршоев, 1990
114
1. Хотя чувства он считал основой всякого познания, он был
уверен, что на этой базе не может возникнуть подлинное науч¬
ное знание, подлинная научная теория, ибо они фиксируют
лишь отдельные свойства предметов и явлений, создают лишь
целостный образ вещей (на уровне общего чувства), постигают
только их частные идеи (на уровне догадки). Из-за этого чув¬
ственное познание неспособно схватить и выразить закономер¬
ности вещей и явлений, без чего немыслимо подлинное научное
знание.
2. Разум и его продукт — слово — помогают чувствам в фор¬
мировании целостного образа и частных идей вещей. Ибн Сина
писал: «...ощущения и чувственные силы человека благодаря
близости к разуму становятся внутренними силами... Человек че¬
рез соразмерные звуки, гармоничные цвета, сложные запахи
и вкусовые качества, через надежды и желания познает такие
явления и вещи, которые животные постичь не могут. Это объ¬
ясняется тем, что свет разума как бы проливается на чувства
и освещает чувственные силы человека. Даже воображение, ко¬
торое у животных было субстратом догадки, у человека стало
субстратом разума, принося пользу в науках. Благодаря свету
разума полезным в науках стало и воспоминание»1.
3. Подлинное научное знание достигается исключительно ра¬
зумом, ибо только он один способен схватить и раскрыть за¬
кономерности предмета, познать его сущность и связи.
4. Разум обращается к чувствам для постижения начал по¬
нятия и суждения. «Приобретая их, душа возвратится к самой:
себе... и не будет нуждаться в помощи телесных сил (чувств.—
М. Д.)... кроме тех особых случаев, когда ей нужно обратиться
к силе представления для получения иного начала, чем то, ко¬
торое она уже приобрела, или для того, чтобы вызвать образ,
в представлении и закрепить его в разуме»2. Это бывает на*
раннем этапе и очень редко —позже; «когда же разумная душа*
становится совершенной и всесильной, т. е. когда приобретает
все начала, необходимые для образования понятий и суждений,,
она остается наедине с собой и своей внутренней работой; чув¬
ственные силы лишь отвлекают ее от свойственной ей деятель¬
ности по познанию умопостигаемых сущих.
В этом рассуждении Ибн Сины отражена постановка пробле¬
мы гносеологической самостоятельности разума, разумной души..
Признание самостоятельности рационального познания в прин¬
ципе не противоречит истине. Однако с современной точки зре¬
ния самостоятельность эта относительна, а не абсолютна. У Ибн
Сины же заметна некоторая тенденция абсолютизации гносео¬
логической роли разума. Выражается она в том, что разум, на
его взгляд, не зависит от тела и, укрепившись, редко будет нуж¬
даться в чувствах, познавая все посредством самого себя. Этот
последний вывод, по всей вероятности, и привел некоторых ис¬
следователей к заключению, что теория познания Ибн Сины
есть рационализм. Думается, однако, что этот факт не служит
8*
115*
достаточным основанием, чтобы квалифицировать учение фило¬
софа как рационализм в полном и прямом смысле слова, ибо
Ибн Сина окончательно не отрывает разум от чувств. Припи¬
сывая решающую роль в познании, в формировании научного
знания разуму и в некотором отношении абсолютизируя его
значение, Авиценна никогда и нигде -не отрицал познавательную
силу человеческих чувств, никогда и нигде не 'противопоставлял
абсолютно разум чувствам, разумное познание — чувственному
познанию, никогда и нигде полностью не отрывал разум от чув¬
ств, признавал их единство, в котором ведущую роль отводил
разуму.
5. Касаясь вопроса о критериях истинности знаний, Авицен¬
на приходит к выводу, что «содержание силлогизма — это его
посылки. Чем они вернее, тем вернее силлогизм. Силлогизмы все
по форме одинаковы, но не все их посылки истинны. В общем
посылки любого силлогизма могут быть двух родов. Или это
посылки, истинность или сомнительность которых установлены...
при помощи силлогизма или доказательства... Или это посыл¬
ки, которые приняты, исходя из убеждения, что они верны сами
по себе. Если посылки силлогизма бывают такими, о которых
мы сказали раньше, то их обязательно проверяют другими по¬
сылками... И таким путем доходят до таких посылок, которые
не выводятся из других и являются h действительности осново¬
положениями. Если они истинны и достоверны, то и силлогизмы,
составленные на их основе, истинны и достоверны. Если же они
ложны, то составленные посредством их [силлогизмы] также
ложны»3.
Отсюда совершенно очевидно, что Авиценна выдвигает в ка¬
честве критерия истинности выводного знания принцип верифи¬
кации и редуцирования достигнутых знаний до самоочевидных
основоположений. Верификация же есть логическая операция,
базирующаяся на разумной способности человека. Выдвижение
верификации в качестве критерия истинности выводного знания
означает, что мерилом истинности в конечном счете является
наш разум, способный отличать истину от лжи; это свидетельст¬
вует о том, что рационализм действительно есть главная тенден¬
ция гносеологии Ибн Сины.
Но чтобы принять подобное заключение, необходимо более
обстоятельно проанализировать сущность учения мыслителя о
рациональном познании, его формах и видах. Суммируя оп¬
ределения, данные Ибн Синой в различных его работах, сле¬
дует сказать, что рациональное познание, с его точки зрения,
есть оперирование всеобщими, абстрактными образами. Если
образы сами по себе абстрактны, то рациональное познание
состоит в простом их запечатлении в разуме, а если нет, то оно
означает абстрагирование этих образов от материи и ее привхо¬
дящих свойств с последующим их запечатлением в разуме. В ре¬
зультате складывается общее понятие, которое как предикат мо¬
жет приписываться большому классу единичных вещей.
116
Итак, рациональное познание в отличие от чувственного —
это познание не конкретных чувственных вещей, конкретных
частных связей, отношений и идей предметов материальной дей¬
ствительности, а общих объективных свойств, отношений и свя¬
зей материальных и нематериальных сущих и явлений. Как
познание общего (всеобщего) рациональное познание вместе с
тем есть и познание сущности предметов, ибо общее, или всеоб¬
щее, представляет собой 'выражение сущности познаваемых
объектов. Важной особенностью рационального познания явля¬
ется то, что оно—познание понятийное, т. е. приводящее к фор¬
мированию общего понятия предмета на основе абстрагирова¬
ния от его привходящих (второстепенных) свойств, связей, от¬
ношений. Другими словами, если восприятия и представления —
образы только единичных предметов, их свойств и отношений, то
.понятия суть обобщенные, абстрактные образы, относящиеся не
к одному, а ко всему классу предметов и явлений. Понятия —
своеобразные «кирпичики», из которых складываются опреде¬
ления, суждения, силлогизмы и т. п.4.
Но как общее отражается в разуме, дабы сформировалось,
понятие и суждение о нем? Когда речь идет о познании общего
в материальных телах и о формировании понятия о них, разум
на начальных стадиях осуществляет эту акцию, опираясь на
данные чувств:
а) сравнивая последние в целях установления их сходства
и различия, выделяя их постоянные и сущностные связи и свой¬
ства, отвлекаясь от второстепенных и акцидентных характерис¬
тик чувственных данных, разум определяет то общее, что объ¬
единяет их в один класс множеств, в один род. На основе этих
логических операций над чувственными данными и образуются
понятия, универсалии, категории;
б) сочетая и соединяя понятия, выявляя между ними отно¬
шения отрицания и утверждения, разум вырабатывает сужде¬
ния о предметах, отражением сущности, свойств, связей которых
являются исходные понятия. Отношение понятий в различных
формах суждений и-меет закономерный характер, ибо отноше¬
ние это — не временная, не случайная, а постоянная, необхо¬
димая связь5.
Понятие как форма рационального познания, с точки зрения
Ибн Сины, есть обобщенный умственный образ самых типич¬
ных признаков и качеств предмета, обобщенный образ сущ¬
ности его бытия. К такому выводу нас приводит теория абст¬
ракции Ибн Сины и многочисленные его рассуждения о сущ¬
ности понятий, категорий, универсалий и их отношениях к объек¬
тивной реальности. Философ убежден, что общее как реаль¬
ность, как основание общего понятия наличествует >в самой дей¬
ствительности, оно объективно и от разума не зависит, общее
же понятие — это рассудочное (разумное) выражение того объ¬
ективного общего, что есть в самих вещах, предметах, явле¬
ниях. Вот совершенно ясная и четкая формулировка этой идеи
117
в «Даниш-намэ» («Книга знаний»): «...общее понятие, посколь¬
ку оно является общим, не существует иначе как в разуме. Но-
сущность его (т. е. объективно общие признаки, свойства пред¬
метов и явлений, которые составляют содержание понятия.—
М. Д.) существует «как в разуме, так и вне разума, потому что
сущность человечности и черноты существует как в разуме, так
и вне разума, в вещах»6. В этом духе вопрос о соотношении по¬
нятия и объективной реальности трактуется в «Спасении» и
«Исцелении». В «Исцелении», например, говорится: «Общее в
силу своей общности присутствует в вещах. Что касается обще¬
го понятия, поскольку оно общее, оно не существует иначе как
в представлении. Далее, общее исчисляется своими частями,,
и каждая часть входит в его существование. Что касается об¬
щего понятия, то оно не исчисляется своими частями и частнос¬
ти не имеют отношения к его бытию»7. Вдумаемся и в сле¬
дующий отрывок «Исцеления»: «Животное со всеми его акци¬
денциями— существо природное... В разуме присутствует образ
единичного животного... Поэтому он называется образом рассу¬
дочным (разумным). Образ животного в разуме в одном от¬
ношении и в едином определении будет соответствовать мно¬
гим реалиям вне разума. Следовательно, единый рассудочный
образ будет относиться к множеству индивидов. В этом смысле
„животное“ есть единое общее, рассудочное понятие, одинаково-
относящееся к любому животному, т. е. к любому из них, образ
которого возникает в представлении. Стало быть, разум отделил
от акциденции и отразил в себе только идею животного и по¬
тому в нем появился его точный образ. Следовательно, это г
образ есть то, что возникло путем абстрагирования „живот¬
ности“ от внешнего сущего или от сущего, сходного с внешним
сущим, осуществленного неким индивидуальным представле¬
нием»8.
Анализируя проблему категорий, Ибн Сина придерживается
того же принципа: категории как наиболее общие роды поня¬
тий суть отражение наиболее общих и универсальных родов бы¬
тия. Причем он различал первичные и вторичные категории.
Первичные извлечены из чувственных предметов. Они — умст¬
венные образы, сформированные на основе обобщения образов
чувственных данных. Так возникли понятия «человек», «живое
существо», «растение», «металл» и т. п.
Вторичные категории суть общие понятия, созданные на ос¬
нове генерализации первичных, и выражают их родовые и видо¬
вые отношения. В этом смысле вторичные категории в конечном
счете также суть умственные образы объективных вещей, пред¬
метов и явлений.
Вместе с тем нужно отметить, что Ибн Сина не исключал
возможность наличествования понятий с нулевым объемом, ска¬
жем, «сотоварищи бога», «совмещение противоположностей»,
«река ртути», «анка», «симург», с ложным содержанием, являю¬
щимся продуктом фантазии (например, «человекодерево», «ле¬
118
тающий человек»...). Разумеется, это не меняет в целом мате¬
риалистической направленности концепции Ибн Сины: понятие
есть обобщенное отражение сущности, свойств и отношений
вещей, предметов, явлений. Ведь по мнению философа, понятия
с нулевым и фантастическим содержанием тоже возникают в ре¬
зультате отражения в воображении некоторых связей и отно¬
шений действительности, но скомбинированных, соединенных и
разъединенных неправильно.
Итак, по Ибн Сине, в вещах никаких понятий не существу¬
ет, в них заключены только основания понятий, т. е. некоторые
общие реальные свойства, служащие базой их формирования.
Понятия существуют либо в разуме человека, либо в разуме
бога. Первые — преимущественно отражение общих свойств род¬
ственных вещей. Но среди таких понятий есть отдельные поня¬
тия нулевого содержания, являющиеся продуктом фантазии,
•а также понятия, предшествующие реальным вещам, к примеру,
понятие здания еще не построенного, но уже задуманного нами.
Впрочем, это последнее положение нельзя трактовать как при¬
знание мыслителем абсолютного существования понятия до ве¬
щей: он не сомневался, что те, которые как бы предшествуют
вещам, в действительности формируются на основе прошлого
опыта человека и человечества.
Познавательную роль понятий Ибн Сина видел в том, что
они, будучи отражением сущности и свойств предметов, обоб¬
щенными умственными образами, позволяют схватить, уяснить
суть предметов и явлений, способны адекватно указать на их ка¬
чества, связи, отношения, закрепить в памяти и передать дру¬
гим результаты познания. «Смысл понятия,— писал Ибн Сина,—
состоит в том, что если в представлении отражается некое
слышимое имя, то .в душе отражается некое значение и она
познает, что это слышимое относится к данному понятию»9.
Анализируя вопрос о способах выражения понятия словом, Ибн
Сина в «Указаниях и наставлениях» подчеркивал, что «понятие
выражает значение либо адекватно, ибо данное слово есть но¬
ситель данного значения, как, например, слово „треугольник“,
которое указывает на фигуру, ограниченную тремя сторонами,
либо импликативно, ибо значение является частью того значе¬
ния, которому соответствует слово, как, например, слово „тре¬
угольник“, которое указывает на фигуру. Оно указывает на фи¬
гуру не потому, что является ее названием, а потому, что есть
название значения, частью которого является эта фигура. Или
же слово выражает значение ассоциативно, ибо оно адекватно
указывает на значение, которому соответствует другое значение,
являющееся как бы его неразлучным спутником и даже неотъ¬
емлемой частью, например, слово „потолок“, которое также ука¬
зывает на понятие „стена“, или слово „человек“, которое ука¬
зывает на понятие „владеющий искусством письма“»10.
Ибн Сина не сомневался в важности общих понятий для
науки: без них невозможно выразить ее содержание. Тем не ме¬
119
нее он рассматривал понятия только в качестве «клеточек» суж¬
дения и умозаключения, инструментов фиксации научных дан¬
ных. И вероятно, был еще далек от идеи, что понятия не толь-
ко исходный момент рационального познания, но и итог, сумма
человеческого познания. В целом же философ правильно интер¬
претировал онтологическую и гносеологическую природу понятия
как обобщенного, абстрактного образа предмета, как формы
познания действительности и инструмента научной мысли, как
свернутое, закодированное знание, которое необходимо раз¬
вернуть, раскодировать, расшифровать. Существенными спосо¬
бами достижения этого Ибн Сина считал определение, описание
и им подобные логические операции.
Вторым важным видом рационального познания Ибн Сина
полагал суждение, различные аспекты которого — анализ логи¬
ческой структуры объема и содержания (количества и качест¬
ва), видов суждения, их контрарности и контрадикторное™, об¬
ратимости и т. п.— исследованы им достаточно обстоятельно. На
нас интересуют не эти проблемы, а лишь вопрос о гносеологи¬
ческой сущности и роли суждения. Если под этим углом зрения
обобщить взгляды Ибн Сины, то можно сказать, что как род
(форма) познания суждение есть постижение закономерных свя¬
зей предметов и явлений действительности, их взаимозависимос¬
ти, 1Взаимодействия, взаимообусловленности. В противном слу¬
чае сочетание понятий в виде апофатической речи (т. е. логиче¬
ского суждения, утверждающего или отрицающего что-либо о
чем-либо) было бы практически невозможно. Но поскольку
имеется в виду познание закономерных связей вещей, постольку
«в апофатической речи либо утвердительным, либо отрицатель¬
ным образом определяется отношение одного понятия к друго¬
му. Апофатическая речь не является исключительно простой и
категорической как наше высказывание „Если солнце взошло,,
то наступил день“. Здесь утвердительным образом определяет¬
ся отношение между нашими суждениями: „солнце взошло“ и
„наступил день“, что обусловливает следование второго из пер¬
вого. Наше же высказывание „или солнце восходит, или насту¬
пает ночь“ устанавливает между двумя суждениями отношение
альтернативности. В сочетании компонентов каждого из выска¬
зываний оценивается данное отношение, т. е. отношение, зало¬
женное в апофатической речи. Стало быть, наше высказыва¬
ние „солнце взошло“ утверждает связь между „.взошло“ и
„солнцем“. Так обстоит дело с компонентами и других суждений,,
и ими пользуются потому, что они обладают этим качеством. Все
такие суждения называются условными. Те из них, что подобны
первому [нашему примеру], называются соединительными суж¬
дениями, а те, что сходны со вторым, именуются разделитель¬
ными» и.
Не только условные, но и категорические суждения выража¬
ют определенную закономерную связь (или отсутствие ее) по¬
нятий субъекта и предиката, фиксирующих постоянные свя:ш
120
самой действительности. «Отношение предиката к субъекту,—
писал Ибн Сина,— в утвердительных и отрицательных сужде¬
ниях, а также в том, что, подобно им, бывает либо необходимо
само по себе, как понятие „живое существо“ в наших суждениях
„человек есть живое существо“ или „человек не есть живое
существо“, либо необходимо для его бытия и небытия, как по¬
нятие „писец“ в :нашем примере „человек есть писец“ или „он
не есть писец“, либо необходимо отсутствующим, подобно 'поня¬
тию „камень“ в (Наших высказываниях „человек есть камень“
или „человек не есть камень“. Стало быть, -все содержания суж¬
дения таковы: необходимое содержание, возможное содержание,
невозможное содержание»12.
Итак, главной отличительной чертой суждения в качестве
формы рационального познания является то, что оно есть поз-
• нание не сущности и свойств отдельных предметов, а их необ¬
ходимых, постоянных связей и отношений, постигаемых, соглас¬
но Ибн Сине, и непосредственным наблюдением -и размышле¬
нием. От понятия суждение отличается и тем, что оно обяза¬
тельно или истинно, или ложно, или достоверно, или правдо¬
подобно. Это обусловлено тем, что суждение — апофатическая,
выносящая решение речь. Потому если оно правильно отразило
закономерности и взаимосвязи вещей, то непременно должно
быть истинным, достоверным, если же неправильно, то правдо¬
подобным или ложным. Понятие лишь называет вещь, в нем нет
ни утверждения, ни отрицания. Потому о нем нельзя сказать,
истинно оно или ложно.
Суждение-познание от понятия-познания отличается и по ме¬
топу своего формирования. Средством достижения, получения
су кдения-познания служит доказательство, которое бывает трех
видов: силлогизм, индукция и аналогия. «Наиболее достоверным
из этих трех [видов доказательства] является силлосизм, а из
всех силлогизмов—силлогизм доказательный»13.
Рациональное познание, подобно чувственному, бывает, по
мнению Ибн Сины, неприобретенным (непосредственным) и при¬
обретенным (опосредованным). Из объяснений мыслителя вы¬
текает, что неприобретенное знание — это изначально ясное, са¬
моочевидное, не требующее ни аргументации, ни определения,
ни описания и служащее основой всякого человеческого знания.
Всю же совокупность таких знаний, принимаемых в качестве
аксиоматических, самоочевидных посылок доказательства и, зна¬
чит, приобретаемого знания, он группировал следующим обра¬
зом: аксиоматические посылки, чувственные посылки, опытные
посылки, заимствованные мнения, посылки, естественно влеку¬
щие выводы, вымышленные посылки, общепринятые посылки,
установления, допущения, подобия, кажущиеся известными по¬
сылки, предположения, посылки воображения.
Но согласно Ибн Сине, не все классы применяемых без до¬
казательства посылок суть ясные, истинные и самоочевидные
суждения. Так, общепринятые посылки и допущения не обла¬
121
дают непосредственной достоверностью и не могут быть осно¬
ванием истинного знания — науки. Они суть посылки диалек¬
тического (в антично-средневековом смысле слова) силлогизма.
Точно так же не обладают непосредственной достоверностью
вымышленные посылки и подобия, служащие основанием софис¬
тических, ошибочных силлогизмов. Польза от знания таких по¬
сылок в том, чтобы избежать их применения в науках, показать
несостоятельность рассуждения софиста, уберечь неофита в
науках от их тлетворного влияния. Не более достоверны кажу¬
щиеся известными посылки установления и предположения. На
них опирается риторический силлогизм. Риторика же «полезна
в политике, в шариате (т. е. в традиционной религии.— Ai Д.),
в совете, во вражде, в упреках, в восхвалении, в порицании и
возвышении или в преуменьшении и т. п.» и. На 'посылках вооб¬
ражения зиждется поэтический силлогизм. Если в стихах встре¬
чаются истинные или общепринятые посылки, то их применяют,
считает Ибн Сина, не ради истины, а ради фантазии.
Иными словами, в качестве посылок доказательного силло¬
гизма, следовательно науки и философии, остаются аксиомы,
чувственные, опытные, заимствованные мления. Только они об¬
ладают непосредственной достоверностью и очевидностью, толь¬
ко на их основе через доказательство может быть открыта ис¬
тина. «Аксиомы, чувственные, опытные, заимствованные посыл¬
ки и то, что познание приобретает посредством вывода,— все это
суть посылки доказательного силлогизма. Результатом доказа¬
тельства является достоверность и открытие истины»15.
Но правильно ли рассматривать эти посылки как неприоб-
ретенные (непосредственные), самоочевидные, априорные осно¬
вания знания? Если иметь в виду не ставшее, а становящееся
человеческое знание, так сказать, исходный пункт, то возмож¬
но ли в принципе говорить о неприобретенном, бездоказатель¬
ном, самоочевидном знании? Когда речь идет не о становящем¬
ся, а о ставшем человеческом познании, нет ничего предосуди¬
тельного и крамольного в признании неприобретенного (непо¬
средственного) знания, ибо на определенных ступенях развития
это неприобретенное (непосредственное) знание как факт позна¬
ния действительно существует. Ряд положений, истин, аксиом и
т. д. на достигнутом уровне развития мышления осознаются нами
как истины «непосредственно очевидные», «самоочевидные». К
ним можно отнести аксиомы математики и фигуры умозаключе¬
ний, закрепленные в уме человека как непосредственно наличест¬
вующие факты сознания. Однако непосредственность знания даже
там, где она налицо, лишена безусловного значения, ибо рас¬
сматриваемое в целом познание есть движение и процесс, в ко¬
тором каждое звено обусловлено и опосредовано предшествую¬
щими ему звеньями. Поэтому мы считаем, что для знания в це¬
лом характерна не непосредственность, а именно опосредован-
ность 1в.
С этой точки зрения оцениваем мы и идеи Ибн Сины о не¬
122
приобретенное™ (непосредственности) чувственных, опытных и
заимствованных посылок. Они формируются под влиянием всего
прошлого опыта познающего субъекта — его практической дея¬
тельности, знаний, взглядов, интересов и эмоциональных отно¬
шений, что в принципе, как указано выше, признает сам Ибн
Сина. При таком подходе мало что остается от неприобретен-
ности чувственных, опытных и тем более заимствованных посы¬
лок. «Восприятие всякого предмета опосредовано всем прош¬
лым опытом индивида, хотя оно выступает как непосредственное,
вследствие того что воздействие прошлого опыта на восприятие
происходит редуцированно, 'непосредственно, часто подсозна¬
тельно. Но психологический анализ всегда выявил бы опосредо¬
ванный характер восприятия. Даже если редуцировать восприя¬
тие до простого ощущения, то и здесь невозможно было бы най¬
ти полную непосредственность созерцания. Любая разновид¬
ность человеческих ощущений имеет свою генетическую историю,
историю возникновения и становления в ходе онтогенетическо¬
го развития личности. Данное ощущение, имеющее место в дан¬
ной момент, есть, безусловно, непосредственное созерцание. Од¬
нако данный его уровень есть результат развития и связан с
понятием мышления»17, с практической жизнью человека.
К идее неприобретенного знания Ибн Си-на прежде всего
пришел под влиянием своего духовного учителя Аристотеля, ко¬
торый утверждал, что не может быть доказательства для всего.
Во «Второй аналитике» он, в частности, заявлял: «Мы же ут¬
верждаем, что не всякое знание доказывающее, а знание неопо¬
средованных [начал] недоказуемо. И очевидно, что это необхо¬
димо так, ибо если необходимо знать предшествующие [посыл¬
ки], т. е. те, из которых исходит доказательство,— останавли¬
ваются же когда-нибудь на чем-нибудь неопосредованном,— то
это неопосредованное необходимо недоказуемо»18. И в другом
сочинении: «На самом же деле для всего без исключения дока¬
зательства быть не может (ведь иначе приходилось бы идти в
бесконечность, так что и в этом случае доказательства не было
бы)»19. Аналогичные рассуждения мы находим и в «Топике»,
где истинные и первоначальные положения определяются как
«те, которые достоверны не через другие [положения], а через
самих себя. Ибо о началах знания не нужно спрашивать „по¬
чему?“, а каждое из этих начал само по себе должно быть досто¬
верным» 20.
Не меньшую роль в признании Ибн Синой недоказуемых на¬
чал знания наверняка сыграла математика, в фундаменте ко¬
торой лежит совокупность аксиом. Абсолютизируя эту ее осо¬
бенность, философ сделал вывод, что все человеческое знание
вырастает на базе самоочевидных, недоказуемых начал. Нако¬
нец, эта идея могла формироваться у Ибн Сины на базе его
же тезиса о «врожденности» некоторых человеческих знаний.
Что же такое приобретенное знание? Это знание о неизвест¬
ном и неизведанном. Оно приобретается с помощью определе¬
на
ния, описания, сравнения и доказательства, важнейшими фор¬
мами которого являются силлогизм, индукция и аналогия. Та¬
кое знание, особенно если оно рациональное, возникает на ос-
:нове уже существующих знаний.
Разъясняя данное положение, Ибн Сина писал: «До каж¬
дого понятия или суждения, получаемого посредством мысли,
мы должны знать нечто другое, дабы узнать [посредством] его
то, что еще не было познано. Пример по отношению к поня¬
тию: если мы не знаем, что такое человек, и кто-нибудь разъяс¬
нит и скажет, что „человек — говорящее животное“, то надо нам
сначала знать значение [слова] „говорящий“ и постичь его
смысл — лишь тогда мы узнаем значение понятия „человек“, ко¬
торого ранее не знали. Пример по отношению к суждению: если
мы не знаем, что мир сотворен, и кто-нибудь нам разъяснит и
скажет, что мир имеет форму, а все, что имеет форму, создано,
то мы в таком случае должны убедиться и понять, что мир
имеет форму, а вместе с тем согласиться и признать что все, что
имеет форму, сотворено. Следовательно, в этом случае мы по¬
знаем нечто, чего не знали о сотворении мира. Стало быть, все
чего мы не знаем и хотим познать, мы познаем при помощи тех
вещей, которые мы познали раньше, и все, что бы мы ни позна¬
ли, познается нами посредством познанного; но не всякое позна¬
ние [всегда] ведет нас к познанию непознанного, хотя всякому
непознанному соответствует нечто познанное, через которое мы
его [непознанное] можем познать.
Существует путь, которым необходимо пройти от непознан¬
ного к познанному, дабы познать его. Логика и является той
наукой, в которой раскрывается, как непознанное познается
через познанное, что является истиной, что ближе к истине, что
ложно и скольких видов бывает каждое из них»21.
Если иметь в виду ставшее, а не становящееся знание, то
возникновение новых идей, гипотез и теорий на базе предшест¬
вующих— действительно одна из важнейших внутренних законо¬
мерностей и особенностей логики развития познания. Подтверж¬
дением служит история развития науки и философии, история
появления, развития и смены научных теорий и философских
систем. Ведь без некоторого предварительного знания о пробле¬
ме нельзя ни сформулировать, ни поставить ее, дабы решить;
в истории науки нередки факты, когда на основе существующих
знаний сначала теоретически предсказывается, а затем только-
экспериментально доказывается наличие каких-либо объектов,,
процессов, явлений.
Закономерность возникновения новых знаний на базе пред¬
шествующих, познание неизвестного на основе известного и вы¬
ражена в концепции Ибн Сины. Но поскольку он началом вся¬
кого приобретенного знания считает неприобретенное, т. е. из¬
начально ясное самоочевидное, внеопытное, получается, будто
все человеческое знание в основе своей внеопытно, что затруд¬
няет понимание познания как отражения, так хорошо доказывае-
124
•мое им в учении о чувственном и рациональном познании.
В философии Ибн Сины с учением о неприобретенном и при¬
обретенном знании связано учение об интуиции. Если вдумать¬
ся в его рассуждения, то приходится констатировать, что поня¬
тие «интуиция» имеет у него двоякое значение: а) особая позна¬
вательная способность, б) высший вид рационального познания.
В первом значении интуиция — это непогрешимая способность
человеческого разума, которая нередко называется непогреши¬
мым, святым разумом. Она развивается на базе материального
разума и разума по навыку. Но разумная способность не у всех
достигает уровня интуитивной способности. Есть люди, у кото¬
рых последняя настолько выражена, что они в кратчайший срок:
переходят от первых неприобретенных умопостигаемых начал
(посылок) ко вторым приобретенным началам (суждениям) и
познают рассматриваемую проблему. В такой очень развитой
форме способность интуиции присуща пророкам и является од¬
ной из их главных черт. У других она обнаруживается в разной
степени — могут быть люди с весьма сильной интуицией и те,,
которые вообще не обладают этим даром. По Ибн Сине, интуи¬
ция относится к категории вещей, ‘которые различаются «как.
в отношении количества, так и в отношении качества: в отно¬
шении количества — потому, что некоторые люди обладают-
большим числом средних терминов, найденных ими благодаря
своей проницательности; в отношении качества — потому, что у
некоторых людей благодаря проницательности познавание за¬
нимает меньше времени, чем у других.
Поскольку эти различия неограниченны и всегда бывают раз¬
ной степени таким образом, что на низшей ступени оказываются
те, кто совершенно лишены проницательности, значит, и выс¬
шую ступень необходимо занимают люди, обладающие прони¬
цательностью во всех или большинстве вопросов, или же те,,
у кого благодаря проницательности познавание занимает наи¬
кратчайшее время.
Следовательно, среди людей может оказаться человек, чья:
душа имеет такую чистоту и так тесно связана с началами ра¬
зума, что он будет воспламеняться наитием от деятельного
разума, имеющего связь со всем. Таким образом, формы всего,,
что содержится в деятельном разуме, отображаются в душе это¬
го человека сразу или почти сразу, и он принимает их, опи¬
раясь не на установившиеся убеждения, а на определенную сис¬
тему, объемлющую все средние термины. А эта способность есть
определенный вид пророчества, даже высшая форма пророче¬
ской способности, и она более всего достойна названия непогре¬
шимой способности. Она высшая человеческая способность»22.
Как бы дополняя эти свои соображения, Ибн Сина в «Маб-
да’ва маад» («Исход и возврат») подчеркивал, что интуиция —
способность редкая и -мало встречающаяся, но тем не менее
ее существование не невозможно, а вполне допустимо. Она не
относится к категории явлений, отрицаемых мудрецами23. В «Да-
12S
ниш-наме» он будто бы конкретизирует свою мысль: «Возмож¬
но найти такого редкого человека, который если захочет, то
поймет без учителя все науки подряд с начала до конца... по¬
тому что он связан е действующим умом так хорошо, что ему
не надо думать, словно ему откуда-то подсказывают... Такой
человек должен быть источником учения для человечества... Мы
сами видели такого рода человека. Он изучил вещи мышлением
и трудом, но при наличии силы догадки он не нуждается во
многих трудах, и догадки его о многих вещах соответствовали
тому, что было написано в книгах. Таким образом, ему не надо
‘было читать много книг и трудиться над ними. Этот человек в
возрасте 18—19 лет усовершенствовался в науках: философии,
логике, физике, метафизике, геометрии, астрономии, музыке,
медицине и в прочих сложных науках до такой степени, что не
встречал себе подобных»24.
О существовании выраженной интуитивной способности у от¬
дельных людей писал и Бахманйар — ученик и современник Ибн
Сины. «С полным правом можно допустить наличие у того или
иного индивида прирожденного качества материального разума
как качества, близкого к разуму по свойству (т. е. по навыку.—
М. Д.), воспринимающему умопостигаемые предметы с помощью
интуиции и не нуждающемуся в долгом размышлении и обуче¬
нии. Мы видели одного, с кем дело обстоит именно так,— это
автор данных книг (т. е. книг, положенных в основу цитируемо¬
го сочинения Бахманйара.— М. Д.). Он освоил философские
науки, когда был в расцвете молодости, за кратчайший срок, не¬
смотря на то что наука в то время была несистематизированной.
Если бы науки были приведены в данную систему, постижение
их им в указанный -срок было бы чудом. В справедливости ска¬
занного ты можешь удостовериться по тем его произведениям,
которые он создавал в указанном возрасте в своей стране, там,
откуда он был родом»25. Безусловно, здесь речь идет о самом
Ибн Сине: из автобиографии и свидетельств современников мы
достоверно знаем, что он к 18—19 годам был достаточно зрелым
ученым. О том же говорит и его полемика со знаменитым Биру-
ни, состоявшаяся в 996—997 гг., т. е. тогда, когда ему было
лишь 17 лет. Но в приведенных суждениях, как справедливо за¬
метил А. В. Сагадеев, пером Ибн Сины и Бахманйара водили
не гордыня учителя и гордость ученика за учителя, а -необхо¬
димость подтвердить соответствие провозглашенной научной
идеи конкретным данным, объективным фактам.
Из сказанного, по всей вероятности, можно сделать следую¬
щие выводы:
1. Интуиция как познавательная сила разума, способная к
быстрейшему постижению исследуемой проблемы, действитель¬
ности, существует. Признание Ибн Синой интуитивной -способ¬
ности и интуитивного познания не противоречит современным
-философским и психологическим представлениям.
2. В качестве высшей познавательной способности интуи¬
126
ция — не какая-то мистическая, сверхъестественная, сверхче¬
ловеческая сила. Это человеческая способность, развивающаяся
на базе материального разума и разума по навыку.
3. Нет ничего 'мистического и в том, что высшие формы ин¬
туиции Ибн Сина приписывает пророкам, ибо пророки, по его
мнению,— те же земные люди, но с более истовой, сильной
душой и более обостренными, познавательными силами.
4. С научной точки зрения вполне приемлем тезис мыслите¬
ля о том, что способность интуиции развивается на основе раз¬
мышления и труда. Но эта вполне научная идея проводится им
робко, ненастойчиво, крайне непоследовательно.
Во втором своем значении, как сказано выше, интуиция
есть высшая форма рационального познания. В чем Ибн Сина
видит сущность этой формы? Ответом в известной мере могут
послужить определения интуитивного познания, данные в тру¬
дах мыслителя. В «Мабда’ ва маад», например, говорится: «Ин¬
туиция есть быстрое нахождение среднего термина силлогизма
без всякого учения»28. В «Указаниях и наставлениях» читаем:
«Интуиция есть внезапное отражение в разуме среднего терми¬
на силлогизма либо вследствие сильного желания и сильной
страсти без какого бы то ни было движения, либо без желания
и движения. При этом средний термин и то, что сходно с ним,,
необходимо отражается в разуме»27. Разберемся в этих опре¬
делениях, созвучных положению Аристотеля о том, что «сооб¬
разительность есть способность мгновенно найти средний тер¬
мин»28. В этих целях рассмотрим следующий силлогизм:
Всякая наука (М) имеет свой предмет исследования (Р)
Логика (S)—наука (М).
Логика (S) имеет свой предмет исследования (Р)
Как видим, средний термин (М) связывает меньший и боль¬
ший термины силлогизма, которые называются также крайни¬
ми и выполняют в умозаключении роль субъекта (S) и предика¬
та (Р). Отношение крайних терминов устанавливается через их.
отношение к среднему термину. Из большей посылки мы узна¬
ем отношение крайних терминов к среднему, мы можем уста¬
новить отношение между самими крайними терминами. Значит*
вывод из посылок возможен только потому, что средний термин,
выполняет роль связующего звена между крайними терминами
силлогизма. Он —как бы свидетельство истинности заключения
в качестве нового суждения. Это в логическом аспекте. В он¬
тологическом же плане средний термин выступает в качестве
аргумента (причины) бытия вещей и их взаимосвязей.
Именно так трактовал Ибн Сина этот вопрос в «Даниш-
наме»: «...все доказательства являются доказательствами „от
причины“, если под причиной разуметь причину достоверности
и утверждения, ибо средний термин во всех силлогизмах слу¬
жит причиной достоверности заключения. Но здесь мы имеем,
в виду не эту причину, а „причину“ вещи, относящуюся к ее
127
существованию, т. е. „причину“ того, почему она (вещь) сама
по себе такова, а вовсе не почему ты так сказал. Часто бывает
так, что выясняется, почему ты так сказал, .и мы узнаем, что
то, что ты сказал, существует, но не знаем, по какой причине
это так. Например, если кто-нибудь скажет, что в таком-то мес¬
те горит огонь, ты его спросишь: „Почему ты так сказал?“, на
это он ответит: „Потому, что там дым“. Этим он ответил на
вопрос, „Почему ты так сказал“, и установил, что там имеется
огонь, но не установил и не объяснил, почему там появился
огонь, и по какой причине. Итак, наличие дыма есть средний
термин, оно есть и причина наличия твоего знания о наличии
дыма, но не является причиной бытия, благодаря которой ты
можешь знать причину возникновения огня. Если же кто-ни¬
будь утверждает, что такая-то вещь там-то горит и ты спро¬
сишь: „Почему ты так сказал?“, и он ответит: „Потому, что там
есть огонь, ибо везде, где есть огонь, что-либо горит“, то здесь
мы имеем ответ и на вопрос о причине суждения, и о причине
бытия...
Условия причинного доказательства „лима“ (почему?) не со¬
ответствуют тому, что принято среди логиков, которые считают,
что средний термин всегда должен быть причиной большего
термина. Например, огонь в том примере, который мы приводи¬
ли, является причиной горения. Средний термин должен быть
причиной существования большего термина в меньшем термине,
хотя он не причина большего термина, а напротив, им обуслов¬
лен, тем не менее средний термин есть причина его существо¬
вания. Этот больший термин благодаря среднему становится в
меньшем причиной бытия. Например, если ты скажешь: „Чело¬
век— животное, каждое животное есть тело“. Хотя тело причи¬
на животности, а животность не является причиной тела, но жи¬
вотность причина того, что человек есть тело, ибо телесность
сначала присуща животности, а по причине животности при¬
суща человеку»29.
Итак, Ибн Сина потому определяет интуицию как познание
среднего термина силлогизма, что средний термин есть условие
выведения нового знания из данных посылок, есть аргумент
достоверности суждения и бытия самой вещи, о которой выно¬
сится суждение. Познание же, в том числе и интуитивное, по
Ибн Сине, есть достоверное понимание или суждение о причи¬
не бытия вещей, их свойств и отношений.
Но что означает в приведенных выше определениях интуи¬
тивного познания выражение «отражение в разуме среднего
термина силлогизма либо вследствие сильного желания и силь¬
ной страсти без какого бы то ни было движения, либо без же¬
лания и движения»? Дело в том, что когда философ анализи¬
рует вопрос о сущности дискурсивного, развернутого знания, он
доказывает, что оно есть обстоятельное размышление и «движе¬
ние души в понятиях для достижения среднего термина силло¬
гизма и того, что ему подобно, чтобы при их помощи познать
128
неизвестное. В большинстве случаев душа опирается на пред¬
ставления, дабы суметь обозреть то, что хранится во внутрен¬
них чувствах»30. В свете этою приведенное выше выражение мо¬
жет означать только одно: интуитивное познание есть непосред¬
ственное усмотрение истины без всякого анализа и синтеза, без
всякой 'комбинации понятий и суждений, приводящих к выве¬
дению новою знания из уже существующих.
То, что данное выражение имеет именно такой смысл, по¬
ясняется прямыми указаниями мыслителя в «Мабда* ва маад» —
интуитивное познание есть быстрое нахождение среднего тер¬
мина силлогизма без всякого обучения. Думается, Ибн Сина в
этом пункте своего учения об интуиции не прав: ни при каком,
даже очень сильном желании (а тем более без желания) нельзя
познать вещи и открыть истину непосредственно и быстро, если
этому не предшествует долгая, кропотливая работа ума. Пред¬
ставляется, что он близок к истине тогда, когда утверждает
и доказывает, что люди с сильной интуицией познают вещи раз¬
мышлением и трудом, но не утруждают себя трудом чрезмер¬
ным.
Именно так следует понимать, если отвлечься от их внешней
формы, слова самого Ибн Сины: «Всякий раз, когда я терялся
в решении какой-либо проблемы или не мог определить средний
термин в силлогизме, я ходил в мечеть и, совершая молитву,
взывал к творцу, пока он не открывал мне скрытого и не облег¬
чал трудного. К вечеру я возвращался домой, ставил перед
собой светильник и занимался чтением и писанием. А когда
одолевал меня сон или я ощущал слабость, то... выпивал кубон
вина, дабы вернулась ко мне моя сила. Затем я снова присту¬
пал к чтению. Когда же мною овладевала дремота, то мне воо¬
чию снились эти вопросы и сущность многих из них проясня¬
лась во сне»31.
И все же было бы неверно не заметить, что Ибн Сина пра¬
вильно угадал некоторые существенные черты интуитивного по¬
знания. Это — быстрота, свернутость и непосредственность (на
данном уровне) интуиции и ее логический характер. Его теория
есть теория интеллектуальной интуиции. Ее отличие от анало¬
гичных теорий других мыслителей, в частности Демокрита, Де¬
карта, Лейбница и Спинозы, состоит в том, что она есть теория
не непосредственного усмотрения истины разумом вообще, а не¬
посредственного усмотрения истины высшей интеллектуальной
способностью — интуицией. У Ибн Сины эта теория достаточно
-реалистична, но не лишена мистического налета. В его взгля¬
дах такой налет проявляется тогда, когда мыслитель пытается
доказать, что интуитивное познание (особенно у пророков) до¬
стигается при соединении человеческого разума с активным ра¬
зумом, в котором запечатлены образы всех сущих. Они в этом
случае будто бы сразу или почти сразу познаются. Тем не ме¬
нее он убежден, что интуитивное познание даже в форме мо¬
ментального или почти моментального отражения образов ак¬
9 Зак. 635
129
тивного разума в разуме человека есть логическое познание,
основанное на нахождении среднего термина силлогизма, т. е.
причин бытия и функционирования вещей, а не религиозное по¬
знание, базирующееся на откровении и слепой вере. Этим и
отличается теория Ибн Сины от интуитивистских теорий, в част¬
ности Мухаммада Газали и Шахабаддина Сухраварди, в ко¬
торых решающая роль отводится откровению и озарению.
На основе признания Ибн Синой неприобретенного и ин¬
туитивного знания было бы глубокой ошибкой думать, что он
допускал только выведение неизвестных идей из известных, толь¬
ко выведение неясных знаний из знаний изначально ясных и са¬
моочевидных, отрицая роль опыта в познании действительности.
Если это было бы так, то следовало бы сказать, что он крайне
ограничивал возможности человека и человеческие средства по¬
знания. Но сказать такое нельзя, ибо он достаточно высоко*
ценил роль наблюдения и опыта в познании действительности,,
сам вел тщательные наблюдения за явлениями природы и ста¬
вил опыты для выяснения истины.
В «Каноне врачебной науки» он прямо заявлял, что там, где
размышление не помогает раскрытию сути болезней, необхо¬
димо прибегнуть к наблюдению, сравнению и опытному изуче¬
нию вопроса32. Лишь этой теоретической и методологической
установкой можно объяснить неуемное пристрастие Ибн Сины
к наблюдению над явлениями природы (и их опытному изу¬
чению), над образованием долин и ущельев, превращением гли¬
ны в камень, метаморфозой погоды и осадков, лунным и сол¬
нечным затмением, радугой, изменением русла рек и образова¬
нием пустынь, различными физиологическими и возрастными
особенностями человеческого организма, возникновением раз¬
личных болезней и особенностей их течения и т. д. и т. п. О том,
что Ибн Сина ие был чужд опытного знания и не замыкался
в кругу теоретических спекуляций, свидетельствует и его фар¬
макопея, где он настойчиво проводил мысль об эксперименталь¬
ном изучении лекарственных препаратов, их тщательном апро¬
бировании сначала на животных, а затем на людях33. Не ре¬
зультатом ли такого опытного изучения лекарственных препа¬
ратов является заявление Князя философов о том, что лекарст¬
во, лечащее индуса, может убить славянина? Разве не о том:
же говорит его тезис о необходимости индивидуального назна¬
чения лекарств? А откуда узнал он о малоэффективное™ или
неэффективности старых (залежалых) лечебных средств, если
не из практики врачебного дела вообще, личного врачебного*
опыта, в частности? Разве поразительно точное, даже по мер¬
кам современной экспериментальной медицины, описание кли¬
ники сахарного диабета, разновидностей пульса, язвы желуд¬
ка, менингита, анатомии глаза и т. п. не доказывает, что все
это результаты тщательных наблюдений и опытного изучения?
Короче, признание Ибн Синой неприобретенного, приобретен¬
ного и интуитивного знания ни в коей мере не должно тракто-
130
шаться как отрицание им опытного знания. Все его естественно¬
научное наследие, особенно «Канон врачебной науки», свиде¬
тельствует, что в опыте и наблюдении он видел важные сред¬
ства открытия истины. На основе учения о неприобретенном,
приобретенном и интуитивном знании нельзя также опреде¬
лять главную тенденцию пносеологии философа как априоризм.
Ибо самоочевидность «ачал знания у Ибн Сины не абсолют¬
ная, а относительная: недоказываемые в пределах данной науки
и принимаемые как самоочевидные, аксиоматические, они до¬
казываются в другой, «высшей» науке. Кроме того, Ибн Сина
называет самоочевидными началам« знания и данные непосред¬
ственного опыта, которые ни в коей мере нельзя рассматри¬
вать как априорные в кантовском смысле. Наконец, априор¬
ные формы мысли у Канта — чистые понятия ума, не имеющие
в бытии никакого аналога. У Ибн Сины же понятия суть от¬
ражение в разуме общих свойств и отношений предметов.
Анализ основной проблематики учения Ибн Сины о рацио¬
нальном познании, его формах, видах и методах показывает,
что он не отрывает разум от чувств, рациональное познание
•от чувственного, не противопоставляет их друг другу. Признав
познавательную силу чувств, он в познании закономерностей
мира предпочтение отдает разуму. Поэтому следует сказать, что
тносеология Ибн Сины — это учение и о познавательной мощи
чувств, и о познавательной силе разума, единстве чувства и
разума, в котором ведущую роль играет разум.
1 Ибн Сина. Аш-шифа. Ат-табиийат. 6. Ан-нафс (Исцеление. Физика. 6.
Ю душе). Каир, 1395/1975, с. 162.
2 Там же, с. 198.
3 Ибн Сина. Избранные философские произведения. М., 1980, с. 90.
4 Там же, с. 232.
5 См.: Ибн Сина. Ан-наджат (Спасение). Каир, 1337/1918, с. 248.
6 Ибн Сина. Избранные философские произведения, с. 150.
7 Ибн Сина. Ал-илахийат (Метафизика), с. 79а (рукопись на араб. яз.).
8 Там же, с. 77 а, б.
9 Ибн Сина. Аш-шифа. Ал-мантик. 3. Ал-ибара (Исцеление. Логика. 3.
♦Об истолковании). Каир, 1390/1970, с. 4.
10 Ибн Сина. Избранные философские произведения, с. 232.
11 Ибн Сина. Исцеление. Логика. 3. Об истолковании, с. 32.
12 Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. T. I, Душ., 1980, с. 222.
13 Там же, с. 82, см. также с. 240—241.
14 Там же, с. 97.
16 Там же, с. 96.
16 См.: Ленин В. И. Философские тетради.— Полное собрание сочинений.
Т. 29, с. 164; Энгельс Ф. Диалектика природы.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочи¬
нения. 2-е изд. Т. 20, с. 581—582.
17 Налчаджян А. А. Некоторые психологические и философские пробле¬
мы интуитивного знания. М., 1972, с. 49.
18 Аристотель. Вторая аналитика.— Сочинения. Т. 2. М., 1978, с. 262.
19 Аристотель. Метафизика. Сочинения. T. 1. М., 1975, с. 126.
20 Аристотель. Гопика.— Сочинения. Т. 2, с. 349.
21 Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. T. I, с. 70.
22 Ибн Сина. Избранные философские произведения, с. 506—507.
9*
131
23 См.: Ибн Сына. Мабда’ва маад (Исход и возврат). Техран, 13321/1913-14,,
с. 133 (перс. яз.).
24 Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. T. 1, с. 201.
25 Цит. по: Сагадеев А. В. Ибн Сина. М., 1980, с. 151.
26 Ибн Сина. Исход и возврат, с. 113.
27 Ибн Сина. Ал-ишарат ва-т-танбихат маа шахр Насираддин ат-Туси.
(Указания и наставления с комментариями). Т. 2, Каир, I960, с. 369.
28 Аристотель. Вторая аналитика, с. 314.
29 Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. T. 1, с. 100—101.
30 Ибн Сина. Указания и наставления. Т. 2, с. 368.
31 Абу Али ибн Сина. Избранные произведения. T. 1, с. 58.
32 Более подробно см.: Диноршоев М. Философские основания «Канона
врачебной науки».— ИООН. 1979, № 1; Фролова Е. А. Между эмпирией и умо¬
зрением.— Ибн Сина и средневековая философия. Душ., 1981; она же. Пробле¬
ма метода в наследии Ибн Сины.— Вопросы философии. 1980, № 9.
33 См.: Ибн Сина. Канон врачебной науки. Кн. 2. Таш., 1982, с. 17—19.
А. А. Игнатенко
СОЦИУМ И РАЗУМ
(рационалистические течения в арабо-исламской
общественно-политической мысли средневековья)
Всякая интеллектуальная деятельность связана с разумом
(ratio) по определению. И исследователь, анализирующий кон¬
кретный материал, не свободен от субъективизма или иных оши¬
бок, например расширительного толкования рационализма при
рассмотрении, в сущности, иррационалистических течений мыс¬
ли, скажем, теологии, мистицизма, адепты и апологеты кото¬
рых к рациональному обоснованию своих взглядов не могли не
обращаться. Достаточно четко эту проблему ставили сами сред¬
невековые мыслители в арабо-исламском культурном круге,
делившие все теоретические дисциплины на рационалистические
(аклийя) и опиравшиеся на традицию, веру в унаследованную
истину (наклийя). Занимавшиеся науками первой группы (фи¬
лософия, логика, математика и т. п.) доверяли собственному
разуму, традиционалисты — чужому разуму — бога, пророка,
авторитета. Однако те же средневековые мыслители хорошо по¬
нимали и относительность подобного разделения, ибо некоторые
традиционалисты дали высокие образцы рационалистического
метода *.
В данной работе к рационалистическим течениям мы отно¬
сим только такие, представители которых открыто апеллирова¬
ли к разуму как к инструменту познания и руководящей силе
человеческого поведения и, кроме того, проводили этот принцип
на практике. Еще одна оговорка связана с конкретными фор¬
мами рационализма, ведь разум трактовался по-разному и об¬
ращался на осуществление различных целей. Наконец, предпоч¬
тительно, думается, показать реализацию каждой формы рацио¬
нализма в творчестве отдельных, достаточно крупных мысли¬
телей.
В арабо-исламской общественно-политической мысли средне¬
вековья позволительно вычленить три рационалистических тече¬
ния: умозрительный рационализм (выражен во взглядах на об¬
щество и политику фаласифа — продолжателей античных интел¬
лектуальных традиций); прагматический (нашел отражение в
особом жанре словесности — «поучениях владыкам»); реалис¬
тический (проявился в зачатках социологической рефлексии у
©А. А. Игнатенко, 1990
133
Ибн Халдуна и его последователей). Естественно, что членение
это довольно условно, и предпринятое нами исследование при¬
звано привлечь внимание специалистов к различиям внутри ра¬
ционалистического направления.
С умозрительным рационализмом, по нашему мнению, до¬
пустимо связать творчество Абу Бакра Ибн Баджи2, первого
действительно крупного представителя арабо-исламской фило¬
софии в Магрибе — на западе арабского мира, оказавшего серь¬
езное влияние на Ибн Туфейля, Ибн Рушда и других андалус¬
ских и североафриканских мыслителей, а также еврейских фи¬
лософов (например, Иехуду Ха-Леви). Несмотря на то что
творчеством Ибн Баджи занимался ряд серьезных ученых
(М. Асин Паласиос, Д. М. Данлоп, С. Пинес, Омар Фаррух),
говорить об авемпацеведении (Авемпаце — латинизированное
имя философа) как сложившейся дисциплине не приходится. По
оценке иорданского историка философии, который учел практи¬
чески все, что было опубликовано в СССР и арабских странах
об Ибн Бадже, взгляды этого мыслителя изучены совершенно
недостаточно3. Причин здесь несколько: отсутствие стойкой
традиции рассмотрения идей Ибн Баджи, ограниченность источ¬
ников, на которых основывали свои работы историки филосо¬
фии (подавляющая часть источников стала известна в послед¬
ние десятилетия, отдельные — совсем недавно), «поистине по¬
разительная насыщенность текстов» (А. Корбен) этого мысли¬
теля и соответственно трудность их восприятия (что понимал
и сам Ибн Баджа, и его современники, например Ибн Туфейль),
стремление их автора к самостоятельности (Абу Бакр заявлял
о своих отличиях и от Аристотеля, и от ал-Фараби), наконец,
незаконченность концепции, неразработанность отдельных ее
аспектов (смерть настигла философа неожиданно, считают, что
он был отравлен).
Однако скрупулезный анализ понятийного аппарата Ибн
Баджи позволяет увидеть тесную взаимосвязь и взаимозависи¬
мость элементов его концепции, определить место в ней воззре¬
ний на общество и политику (см. таблицу). По возможности
целостный подход к учению этого философа раскрывает спе¬
цифику умозрительного рационализма в трактовке общества как
части и проявления вселенского совершенства, в конструирова¬
нии идеального Града через навязывание человеческому объеди¬
нению априорно признаваемых идеальными и обязательными
для воспроизведения в обществе структур разумно познанной
(или почитаемой таковой) несоциальной действительности.
В этом плане концепция Ибн Баджи является типично фаль-
сафной.
Своего рода ключ к толкованию собственных идей дал сам
мыслитель: «Мы не можем понять начала наук, пока не рас¬
смотрим душу и не узнаем, что она такое. О гражданских же
мудростях (науке об обществе.— А. Я.) невозможно связно рас¬
суждать до познания того, что такое душа»4.
131
Таблица
Взаимная соотнесенность онтологических, психологических, гносеологических
и социально-политических категорий в философской системе Ибн Баджи
i I JSf
111
г* ^
£
II
4$|
i!&
*8
1|
*1
& ^
!
!§-
Г
§?§*■
im
<5 ^ sb
^1|
>* $
II
il
Й
£
I
сг
f?
w
?5:§
|Ц
>§ v§
- V»
<5
ü
I
fc $ îs
li§
i&8
* Ç
S ^ G
^
тттюштмяи
dnfnotDQDi/go
l
чС?4
■S
i
5» 4
F
H
‘I**
i|S
1#
^ §>1.
II
1$
4
i
is*
*s.
§
$ ^ §
§*;?i
*§§
5>
jrg|
•§ I I
S>|
î,
^ *o
Г
ni?
lit
ö 5 <ъ
Чз eg
ü8-§-
§s>§-
g-|s
<§*p$
1rs G 4
§J
et
c;
I
<ъ §
° *
1
1
<G G
$g
11 «
dk
5î |û
?!*■
"> Î3
*§
il
II
|t
§*
11
' G
§§
IHi
jT| s1
g S-^ i
Issu
S"?i
4 O« I
1%
!§•
8 ч
t> g4
in
§ft>
§1
”4
I
|!
nmfitf
кюхээлэдонэь
нрншодпж
UDH^VBWnUJODd
II
F
£
§
!
I
!
1
S>
il!
§•14
1||
"âl-
1Я1/ПЭ дПЫ09Н
-тивпдэни ndi
I
I
I
Опуская достаточно тривиальные для перипатетика мысли
о сущности и строении души, Деятельном разуме, приобретен¬
ном разуме, потенциальном и действительном, отметим те мо¬
менты, которые помогают усвоить социально-политические пред¬
ставления философа. Ибн Баджа использует и довольно об¬
стоятельно переосмысливает «понятие «сура» (самое распро-
станенное значение — «форма»), и оно выражает у него образ
(например, в сенсории, воображении или памяти), форму (она
совместно с материей составляет тело, но может существовать
самостоятельно), природу (у тел, не обладающих органами),
душу (у естественного тела, обладающего органами), или эн¬
телехию. Наконец, сура оказывается и движителем — «мухар-
рик» (причиной пространственных перемещений, как природа,
причиной движений живых существ, как душа, фактором пре¬
вращения из возможности в действительность, как энтелехия).
Это понятие распространяется на вою многообразную («много¬
форменную») действительность. Множественность форм сво¬
дится в иерархию. Философ обращает особое внимание на фор¬
мы как таковые, т. е. отрешенные от материи и воспринимае¬
мые силами души. Нетелесность их имеет своим источником
процесс восприятия и последующего абстрагирования (напри¬
мер, телесные, промежуточные, общие). Нетелесность может
быть и сущностной, как в случае с абсолютными духовными фор¬
мами, имеющими своим источником Деятельный разум (уни¬
версалии— куллийят). Правда, по поводу универсалий Ибн
Баджа колеблется: они могут быть и результатом абстрагирую¬
щей деятельности человеческого разума. Формы выступают дви¬
жителями применительно к человеческим силам («этажам» ду¬
ши) на соответствующих уровнях: телесные формы переводят
из потенции в актуальное состояние органы чувств, высшие —
другие силы, вплоть до разумной (разума), которая переводит¬
ся из возможности в действительность интеллигибельностями,
поступающими от Деятельного разума. Подобная постановка
вопроса уводит Ибн Баджу на путь абсолютизации форм (пре¬
вращения их в самостоятельные сущности) и рассмотрения их
в качестве внешней причины актуального бытия. «Внешность»
их источника обусловливает их интериоризацию. Каждая при¬
обретает или исходно имеет (у универсалий Деятельного разу¬
ма) свой локус. Но уравновешивающая логика средневекового
мыслителя толкает на то, чтобы дополнить интериоризацию эк-
стериоризацией, ибо абсолютизация форм уже произведена.
Здесь — важный момент концепции. Экстериоризация форм,
локализованных в силах человеческой души, осуществляется че¬
рез человеческую деятельность в виде «образов жизни» (сира),
или «городов». Скажем, телесные формы (результаты восприя¬
тия в органах чувств) экстериоризируются через производство
вещей, которые и создаются-то ради своих телесных форм (пи¬
ща, питье и т. д.). Тем самым реализуется «телесный город». То
же с другими образами жизни.
133
Ибн Баджа в своих сочинениях часто упоминает «четыре
города», противопоставляя их своему Совершенному Граду5.
Ливанский исследователь Маджид Фахри, опубликовавший не¬
давно ряд его трактатов, предпринял попытку истолковать сло¬
ва «четыре города» как буквальное воспроизведение соответ¬
ствующих представлений ал-Фараби6, что привело к ошибкам
при заполнении пробелов в рукописях, неверным, на наш взгляд,
интерпретациям некоторых важных сторон концепции андалус¬
ского философа. У него классификация и характеристика несо¬
вершенных городов основываются на различениях человеческих
действий, которые, в свою очередь, связаны с различиями упо¬
мянутых выше форм. Абстрактность этих характеристик не¬
сколько компенсируется его замечаниями исторического и со¬
циологического свойства.
Среди таких городов, или образов жизни: «телесный город»,
«город украшательства», «город воображения», «город памяти».
В первом действия его жителей направлены на создание исклю¬
чительно телесных форм. Пища, питье, платье, жилье — вот
цели, к достижению которых они стремятся. К удовлетворению
перечисленных необходимых потребностей могут быть добавле¬
ны и другие, скажем, «утонченность в блюдах и благовониях»,
охота как развлечение, игра в шахматы. Но люди все равно
остаются «чисто телесными», коль скоро их занимает только
наслаждение (илтизаз). О таких сказал поэт: «Ты уж сед,
а нравом дитя». Людей, полностью следующих такому образу
жизни, немного, но, замечает Ибн Баджа, «подобная природа
присуща в большей или меньшей степени многим»7. Обра¬
щаясь к истории арабо-исламских государств, он констатирует,
что так живут вырождающиеся отпрыски благородных родов
и они «у разных народов своими руками оподляют державу»8.
Во втором — городе украшательства действия людей ориен¬
тированы на духовные формы, содержащиеся в сенсории, сов¬
местном чувствилище (хисс муштарак). Те, кто приемлет этот
образ жизни, близки к населению телесного города, но отли¬
чаются более выраженным стремлением к духовному. Например,
в первом городе важна одежда как таковая, во втором же —
ее расцветка, ибо именно она «способствует закреплению ду¬
ховных форм в совместном чувствилище»9. Это менее порицае¬
мо, и некоторые при этом образе обнаруживают даже признак
благородства. Однако, замечает Ибн Баджа, «в большинстве
случаев на них прерывается держава»10, подразумевая под «дер¬
жавой» династию. «Подобное,— продолжает он,— часто наблю¬
дается в нынешнее время, когда написаны эти слова. В данной
стране (Андалусии.— А. И.) сие присуще удельным владыкам
(мулюк ат-тава’иф)»11, т. е. враждующим между собой прави¬
телям мелких арабских княжеств, которые образовались в на¬
чале XI в. в Испании после распада Омейядского халифата. Их
с оттенком презрения называют «украшателями» (мутаджам-
милун), отсюда и наименование города «таджжаммул».
137
Город воображения назван так потому, что действия его
жителей определяются воображением (тахайюл). Это может
быть некое переживание (инфи’ал), вызванное разными причи¬
нами, например грозным видом или поведением владык на прие¬
ме иностранных послов, когда они, стремясь произвести впечат¬
ление и даже запугать, обвешиваются оружием, надевают дос¬
пехи, окружают себя вооруженными мечами и пиками стражни¬
ками. Сюда относятся и поступки, связанные с желаниями про¬
будить чувство дружбы, симпатии, что достигается хорошим
обращением, доброжелательностью и т. п. Иногда удивление,
восторг порождаются мнимыми добродетелями (фада’ил маз-
нуна)—богатством, высокомерием, избытком усердия. Жилье,
одежда, украшение, если они призваны удивлять, становятся
предметом переживания, отражаясь в воображении в соответст¬
вующих духовных формах. Частично ценятся при этом образе
жизни «умственные добродетели» (фада’ил фихрийа)—красно¬
речие, запоминание пословиц и стихов, а также отдельные ре¬
месла. Это способствует приобретению «совершенства духовной
формы» человека 12.
Совершенство духовной формы, содержащейся в памяти
(зикр), достигается в «городе памяти». Многие люди предпочи¬
тают добиваться его, ибо полагают, что оно и есть счастье, осо¬
бенно если их действия сочетаются с действиями, свойственными
жителям предыдущих трех городов13. Чтобы в памяти сохрани¬
лась соответствующая духовная форма, создаются удивительные
и восхитительные вещи — например, монументы, книги и поэмы.
Арабы, отмечает Ибн Баджа, особенно ценили память о себе.
(Слово «зикр» в контексте многих средневековых произведений
означает «слава»). Поэт сказал: «Коль помнили о ком, тот
жизнь прожил вторую»14.
Четыре несовершенных города образуют своего рода иерар¬
хию— от самого низкого, телесного, до самого высокого, города
памяти. Они являются чистыми, или простыми (басита), своего
рода теоретическими концептами. И «в жизни* пожалуй, их най¬
ти трудно. Существующие же в реальности представляют собой
сложную «смесь» в разных пропорциях названных четырех. Эта
важная оговорка Ибн Баджи учитывает разнообразную и пест¬
рую действительность, что делает более красочной и приемлемой
его умозрительную и суховатую схему.
«Все известные и существующие >в VI столетии хиджры по
летосчислению арабов (XII в.— А. И.) города делают души
больными»,— отмечает он15. И дело даже не в том, что пред¬
ставления тех или иных групп людей о совершенстве или благе
различны: «Что-то в глазах одной группы может выглядеть со¬
вершенством, а другой — недостатком. Это ясно всякому, кто
знаком с разными законоустановлениями, взглядами и обычая¬
ми» 1в. Философа волнует то, что «больные душой не в состоя¬
нии вообще увидеть, что благо есть благо». Потому-то в своем
ослеплении они и устремляются за тем, что почитается совер¬
138
шенным в несовершенных городах. «Целей, которые преследуют
нынче жители существующих городов, как об этом свидетельст¬
вуют сообщения о них, две. Первая — это то, чем, по мнению
приверженцев каждого религиозного направления, можно уми¬
лостивить Всевышнего. Вторая охватывается понятием „благо¬
получие“... что достигается и внушением страха, и одеждами,
и экипажами, и украшениями. Сюда же относится и наслажде¬
ние»17. Бессмысленное благочестие и материальное благополу¬
чие как самоцель, согласно Ибн Бадже,— симптомы «болезни
души», поразившей современное ему общество. Антиподом и
призван быть идеальный Совершенный Град.
Почему он необходим? Ибн Баджа опирается на положение
о том, что человек по своей природе — существо гражданское,
общественное, политическое — «мадани» (от «мадина» — «город»;
на арабском означало то же, что полис у древних греков).
Объединение в городах является естественной потребностью —
с этой мыслью свыклись все просвещенные люди средневековья.
Многочисленны и разнообразны типы существующих несовер¬
шенных городов, еще больше конкретных «смесей» — отдельных
городских поселений. В самой их многочисленности — не говоря
уже о том, каковы они на деле,— свидетельство несовершенства,
«неестественности для души», по выражению Ибн Баджи. «Ес¬
тественным» может быть только объединение людей, в котором
воплощена единая и единственная Истина, т. е. подлинное по¬
нимание мира, человека, общества, ведь человек по своей при¬
роде— существо общественное и вне общества жить не может.
(Это лишний раз показывает неправоту тех исследователей, ко¬
торые пытаются истолковать концепцию Ибн Баджи как эго¬
центристскую.) Такое необходимое объединение и есть Совер¬
шенный Град. Он построен на принципах вечной и неизменной
Истины. Поэтому единый и единственный в своей сути Совер¬
шенный Град противостоит различным несовершенным городам.
(Заметим, что может быть несколько или много Совершенных
Градов, но все они едины в Истине.) Разъясняющей аналогией
здесь служит одно здоровье тела, противопоставленное разным
болезненным его состояниям 18.
Далее. Люди по силе и проницательности ума (басира, мн. ч.
баса’ир) неодинаковы, подобно тому как разнятся они силой
и остротой зрения. И одни видят Истину — Деятельный разум
как бы сквозь слой воды, другие — через слой воздуха,
а третьи — непосредственно. Непосредственное видение есть выс¬
шее счастье, доступное немногим. Но постижение Деятельного
разума и достижение счастья — «естественная цель» всех. Прий¬
ти же к ней возможно лишь в случае объединения в Граде, где
обитатели его будут совместно подниматься к истинному зна¬
нию и действию, соответствующему этому знанию, под водитель¬
ством тех, кому уже дано узреть Истину и добиться счастья 19.
Подтверждает это соображение критическое отношение Ибн
Баджи к суфизму, согласно которому «высочайшее счастье дос¬
139
тижимо без обучения, без всякого труда п заключается только
в том, чтобы ежемгновенно поминать Абсолют (бога.— А. Я.)»20.
Объектом критики здесь оказываются и иррационализм, и от¬
каз от труда в обществе, и индивидуализм. «Если даже подоб¬
ная цель осуществима, Град из этого возникнуть не может»21.
Значит, гарантами счастья людей выступают коллективизм, сов¬
местный труд, распространение знаний.
В Совершенном Граде царит любовь, жители его не пи¬
тают враждебности друг к другу, и «нет промеж них никакой
брани», а потому отсутствует институт судей, устанавливающих
справедливость (адл).
Поведение его обитателей разумно, и они не делают ниче¬
го такого, что способно причинить вред здоровью,— не объеда¬
ются, не пьют вина и т. д. Они укрепляют тело физическими
упражнениями. Неизбежны, конечно, какие-то травмы, вывихи,
но их лечат сами пострадавшие или любой житель. Естествен¬
но, что в Совершенном Граде нет врачей.
Взгляды его населения истинны. Ни одна ложная, обман¬
ная мысль не придет в голову его представителю, а действия
«абсолютно добродетельны». Оттого всякое мнение, не совпа¬
дающее с мнением жителей, ложно, а всякое «непривычное» дей¬
ствие ошибочно. Гомогенность, единодушие — результат практи¬
ческого следования единой и неизменной Истине22.
Нет нужды особо подчеркивать, что Совершенный Град —
это град земной. Он возникает как следствие человеческих дея¬
ний, направленных на благо Града как целого. «Всех челове¬
ческих деяний»,— настаивает Ибн Баджа23. Иначе говоря, Град
не надо представлять в виде поселения только тех, кто наслаж¬
дается интеллектуальным счастьем, постигнув Истину. Дело об¬
стоит вовсе не так: здесь жители, подобно жителям несовершен¬
ных городов, готовят пищу и строят жилье, шьют платье, укра¬
шают свой быт, воздвигают памятники; им не чужды искусства
и науки, не забывают они об отдыхе и развлечениях, т. е. кроме
собственного, чисто духовного, интеллектуального образа жизни
они повторяют образ жизни населения несовершенных городов.
Но есть серьезное отличие — задачи, которые решаются в по¬
следних, являются там конечными, а в Совершенном Граде
они — только предпосылки (тавти’а) для достижения счастья всех
его обитателей24. Этим он отличается и от случайного соче¬
тания пяти образов жизни (четырех несовершенных и одного со¬
вершенного), встречающегося в реальных городах25. Условия
для существования и жизнедеятельности Града должны созда¬
вать населяющие его пять групп жителей в соответствии с эти¬
ми образами жизни.
Совершенный Град создается по иерархическому принципу,
но не для того, чтобы низшие служили высшим, хотя, как пи¬
шет Ибн Баджа, это и может случиться акциденталъно. Струк¬
тура его отражает иерархию целей, среди которых одни являют¬
ся служебными, другие — ведущими относительно предыдущих
140
« служебными по отношению к другим, высшим. Все же они
в конечном счете служат главной цели — существованию и
функционированию Града26.
Люди, выполняя различные по степени важности и значе¬
нию общественно полезные функции, являются либо подчинен¬
ными, либо одновременно подчиненными и руководящими, либо,
наконец, только руководящими, т. е. в основе лежит не поли¬
тическая или экономическая, а скорее функциональная града¬
ция, представляющая собой не что иное, как одно из проявле¬
ний общественного разделения труда. Ведь каждый человек по
своей природе предрасположен к какой-то определенной профес¬
сии, определенному роду деятельности27. Поэтому структура на¬
селения Града обусловливается как целями или социальными
обязанностями отдельных групп, так и реализованными способ¬
ностями отдельных людей. Эти способности Ибн Баджа назы¬
вает «завершенностями» (тамамат), «достоинствами» (фада’ил)
н «совершенствами» (камалят).
Низшую группу жителей составляют те, кому присуще со¬
вершенство органов и хорошее здоровье. Эти люди, стремящиеся
к завершенности своей телесной формы28, неспособны управлять
собой и потому являются «рабами по природе»29. Еще ниже их
находится группа, «несовершеннее которой нет»30. Ее образуют
люди, заботящиеся лишь о форме внешних искусственных «ору¬
дий», к коим в данном случае относятся как инструменты, так
и одежды, украшения и тому подобное. Эти люди воображают,
что обладание такими предметами их возвеличивает, но стоит
лишить их того, чем они владеют, как окажется, что их вели¬
чие призрачно31.
Над двумя указанными группами помещаются жители, от¬
личающиеся «формальными добродетелями» (фада’ил шаклийа),
«состояниями, которые свойственны частным духовным фор¬
мам»32, скромностью, благородством, хитростью, ласковостью
и т. п., т. е. качествами, необходимыми человеку в различных
обстоятельствах общежития (они еще называются «душевными
добродетелями» — фада’ил нафсанийа). Представители этой
группы приблизились к совершенству, однако не достигли его:
их черты присущи и животным, например хитрость — лисе, дос¬
тоинство— льву, верность — собаке. Правда, такие черты при¬
сущи каждому животному данного вида — хитрость всем лисам,
достоинство всем львам и т. п., и они не могут менять свою
«формальную добродетель» (как правило, одну). Человек же в
разных ситуациях приноравливаясь к ним, проявляет гибкость
и использует ту или иную «душевную добродетель». Люди, обла¬
дающие ими, «хороши в обращении, благодаря чему и сущест¬
вует Град»33, но поскольку они не достигли совершенства, по¬
стольку являются «ведомыми» и «вообще труждающимися»34.
В Граде из них выбираются урафа’ — «старосты».
В следующую группу входят люди, характеризующиеся на¬
личием «умственных совершенств» (камалат фикрийа), или со¬
141
вершенств общих духовных форм, связанных с деятельностью»
разумной души, в частности истинностью м/нения и верностью»
совета. В этот разряд попадают и те, кто имеет «профессии»
(михан), т. е., по определению Ибн Баджи, такие занятия, в ко¬
торых процесс труда и его результаты зависят от человека, от
его рук, и он в любой момент может 'приостановить или уско¬
рить процесс (речь идет о работе сапожника, плотника и т. п.).
К «умственным совершенствам» принадлежат и так назы¬
ваемые способности (кива), т. е. занятия, результат которых за¬
висит от человека лишь частично, и сам процесс не поддается
ускорению или замедлению — скажем, землепашество. К числу
таких «способностей» Ибн Баджа относит медицину, командо¬
вание армиями, экономику (домоводство), риторику35.
Рассматриваемая группа распадается на две подгруппы. Пер¬
вая охватывает тех, кто владеет «практическими искусства¬
ми» (сина’ат амалийа) и тем самым служит людям — либо не¬
посредственно, как, например, писарь, либо опосредованно, как.
человек, изготовляющий сбрую, который сначала служит ло¬
шади, а через нее — ее хозяину36. Представители второй погруп-
пы обладают теоретическими умственными совершенствами —
мудростью (хикма, так, что известно, именовалась философия).
Мудрость предполагает истинное знание, которое не может
быть служебным, подчиненным, соответственно и носители его
не могут играть подчиненную роль. «Это знание вообще не пред¬
назначено для того, чтобы человек при любых обстоятельствах
посредством него служил чему-то каким бы то ни было обра¬
зом»,— категорично заявляет Ибн Баджа37. Ясно, что распо¬
лагающие таким знанием претендуют на руководство в Граде.
Глава последнего — философ ориентирует подданных, дабы
те своими действиями решали собственные задачи себе на бла¬
го, подобно тому как учитель возглавляет и направляет учени¬
ков. Он устанавливает обычай (сунна), соблюдая который, под¬
данные поступают должным образом в отличие от несовершен¬
ных градов, где верховенство означает служение главе, как,,
например, в отношениях между всадником и конюшими38.
Сравнение главы Града с учителем не случайно. Просвеще¬
ние, обучение должно занимать важное место в создании Града
и поддержании его жизнедеятельности. Ибн Баджа говорит об-
«осчастливливании» (инала ас-са'ада) жителей, что достигает¬
ся, в частности, разъяснением истинных идей с использованием
иносказаний и подражательных образов. Подобный подход ха¬
рактерен для всей плеяды философов, разрабатывавших со¬
циально-политическую проблематику,— от ал-Фараби до Ибн'
Рушда. Сами мудрецы способны достичь счастья в одиночку.
Однако изоляция их расценивается Ибн Баджей как противо¬
естественное состояние и допускается им в исключительных об¬
стоятельствах. Философам надлежит заниматься деятельностью,,
доступной только им,— превращать постигнутые ими духовные
формы наивысшего порядка в движитель других людей. Град.
142
становится в этом смысле результатом экстериоризации таких
форм через своего рода «передатчиков». Эти формы могут реа¬
лизоваться исключительно через философов. Последние и ста¬
новятся «ростками» (навабит) идеального общественного устрой¬
ства. Глава же созданного Совершенного Града — не человек,
отправляющий власть, ибо там она как таковая отсутствует.
Власть, которую Ибн Баджа называет «медициной человече¬
ских отношений», исчезает наряду с собственно медициной и
судопроизводством 39.
Утопичность «проекта» андалусского философа не требует
доказательств. Хочется лишь отметить, что корень этой утопич¬
ности— рационализм особого рода, охарактеризованный нами
как умозрительный. Предлагая конкретному социуму теоретиче¬
скую альтернативу, мыслитель отрывается от него; в концепции
-Совершенного Града отражений действительной жизни средне¬
вековья мало, да и оцениваются они не с позиции достигнуто¬
го людьми благополучия или безопасности, а под углом зре¬
ния — соответствия/несоответствия их Истине. Но реально поз¬
ванная истина (уместнее все-таки в этом случае писать ее со
строчной буквы) неизбежно ограничена исторически, не говоря
уж о том, что к обществу как к относительно самостоятельной
сущности соображения о строении и изменении космоса (так же
как о человеческом теле и душе) прямого отношения не имеют
(если только не считать, что все может быть моделью всего,
впрочем, тогда процесс познания блокируется именно призна¬
нием «модельности» любой части действительности относитель¬
но целого и любой иной части, ведь само познание теряет смысл:
достаточными оказываются уже имеющиеся сведения). Однако
мыслитель, ориентирующийся .на умозрительный рационализм,
вынужден отойти от реального общества :и реального человека
и конструировать Совершенный Град как некую проекцию на
социальную сферу тех структур, соотношений и движений, ко¬
торые, предполагается, познаны на определенном участке дей¬
ствительности и затем авторитарно признаны едиными для всех
ее областей (по принципу «Космос=Град=дом = человек=...»).
Если еще раз обратиться к приведенной ранее таблице, то ста¬
нет ясно, что социально-политическая концепция Ибн Баджи
есть результат трансформации представлений о душе, произве¬
денной в несколько этапов и в практическом отрыве от общест¬
венной реальности.
В этом Ибн Баджа неодинок. Остальные фаласифа шли по
тому же пути. Так, ал-Фараби в ряде своих произведений —
«Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Граж¬
данская политика», «О достижении счастья», «Трактат об орга¬
нах человеческого тела» и др.— проводит идею единства строе¬
ния человеческого тела, Града и космоса, которая становится
одной из главных идей его творчества и концепций следующих
за ним корифеев арабо-исламской философии. «Братья чистоты»
придерживались того же принципа, рассматривая человека как
143
микрокосм, увязывая политические трансформации с космиче¬
скими циклами. В «Метафизике» Ибн Рушда само единство
мира объясняется через единство идеально организованного со¬
циума: «С миром дело обстоит так же, как с Градом Добрых
Людей (Мадина ал-Ахйяр). Хотя в нем есть многие предводи¬
тельства, все они восходят к единому предводительству, устрем¬
ляясь к единой цели (букв, „делая единую цель имамом“)»40.
Аналогия— глубинная основа всех рассуждений арабо-ис¬
ламских философов. И потому «практическая философия», или
политика, в их интерпретации выступала своеобразной социоло¬
гией, по которой достижение счастья как цели человеческого
существования возможно исключительно при условии реализа¬
ции в социуме принципов космической гармонии. Подобными
идеальными общественными образованиями и становились Доб¬
родетельный Град (ал-Мадина ал-Фадила) ал-Фараби, Ду¬
ховный Град (ал-Мадина ар-Руханийа) «Братьев чистоты»,
Справедливый Град (ал-Мадина ал-Адила) Ибн Сины, Совер¬
шенный Град Ибн Баджи, Добродетельный Град Ибн Рушда.
И здесь сам собой напрашивается вопрос о гуманизме со¬
циально-политического теоретизирования в духе такого рацио¬
нализма. Если говорить о намерениях, то несомненна возвышен¬
ная и прекрасная цель фаласифа — «всеобщее счастье» (слова
Ибн Рушда). Но об идеях, воплотившихся в разных концепциях
Града, трудно сказать то же самое. Исследователь проблемы
счастья В. Татаркевич отметил один парадокс утопического созна¬
ния. «Когда в фантазиях о несуществующих райских странах лю¬
ди мечтали о лучшей жизни, они понимали под ней исключительно
счастливую жизнь. Когда же они составляли программы, как
организовать эту лучшую жизнь, счастье переставало быть глав¬
ной целью»41. Фаласифа исходят из уверенности, что счастье
достижимо, если хорошо спланировать, разумно направить
жизнь людей. Демон регламентации человеческой жизни посе¬
ляется в душе этих мыслителей, идущих по пути, проложенному
Платоном и Аристотелем. Постулируется необходимость едино¬
образного поведения жителей идеального Града. Уклад, априор¬
но признаваемый оптимальным среди возможных, рассматри¬
вается как повсеместно обязательный. Игнорируются индиви¬
дуальные порывы и стремления. Общество строится по прин¬
ципу пирамиды. Сословность подменяется новым неравенством,
порожденным различием интеллектуальных способностей. Оправ¬
дывается идеологический диктат, обосновывается духовная уни¬
фикация. Встает вопрос об использовании принуждения, чтобы
сделать человека счастливым. Все эти тенденции, противоре¬
чиво дополняющие гуманистические идеи многих утопистов, мы
находим и у представителей арабо-исламской средневековой
философии. Основой таких позиций служит в конечном счете
умозрительный рационализм .
Второе выделяемое нами течение, прагматический рациона¬
лизм, получило отражение в особом социально-политическом
144
жанре литературы — «поучениях владыкам»42. Речь идет о мно¬
гих памятниках, из которых к VIII в. относятся «Завет Арда-
шира», переложенная на арабский Ибн ал-Мукаффой книга
«Калила и Димна», его же «Трактат о приближенных», «Боль¬
шой адаб» и «Малый адаб»; к IX в.— «Тигр и Лис» Сахля Ибн
Харуна, «Завет Тахира Ибн-ал-Хусайна своему сыну Абдалла-
ху», «Книга политики, или Устроение предводительства» Юхан-
ны Ибн-ал-Батрика, известная также под названием «Тайна
тайн», «Греческие заветы» Ибн-ад-Дая, «Книга короны, или
Нравы владык» псевдо-Джахиза; к X в.— «Книга хараджа и
искусства секретарства» Кудамы Ибн Джаафара, «Книга счастья
и осчастливливания» ал-Амири ан-Нисабури; к XI в.— «Книга,
указания, или Адаб эмирата» ал-Муради, «Облегчение рассмот¬
рения и ускорение триумфа», «Поучение владыкам», «Законы
везирства и политика владычества» Абу-л-Хасана ал-Маварди;
к XII в.— «Чистейшего золота поучение владыкам» Абу Хамида
ал-Газали, «Светильник владык» ат-Тартуши, анонимный трак¬
тат «Лис и шакал»; к XIII в.— «О том, как древние управляли
державами» ал-Хасана ал-Аббаси, «Путь владыки в устроении
владений» Ибн-Аби-р-Раби, «Сокровище владык, или О том,
как себя вести» Ибн-ал-Джавзи; к XIV «в.— «Книга указания,,
или Адаб везирства» и «Макама о политике» Ибн-ал-Хатиба,.
«Жемчужина на пути, или Политика владык» Абу-Хамму;
к XV в.— «Слиток чистого золота, или Как владыкам подобает-
вести себя» Ибн-ал-Азрака ал-Гарнати.
Первой, объективно обусловленной причиной возникновения
жанра были потребности управления громадным неоднородным
государством, наличие множества административных проблем.
Поэтому предметом «поучений владыкам», причем предметом
осознаваемым в качестве такового, стали, по словам автора мо¬
нументального произведения, подводящего итог развитию жан¬
ра, «Чудеса на пути, или Природа владычества» — Ибн-ал-Аз¬
рака (1428—1491), «политические законы, которым следуют
все» либо попросту «рационалистическая политика» (сийаса ак-
лийа) 43. Проводимая «всеми владыками мира — как мусульма¬
нами, так и неверными», она имеет целью благо владыки и все¬
общую пользу 44. Со ссылкой на Абу Бакра ат-Тартуши (ум. в
1126 г.), еще одного автора популярного труда жанра «поуче¬
ний»— «Светильника владык», разъясняется, что более продол¬
жительна и крепка власть «султана-неверного, который соблю¬
дает принципы политики, и направленной на общее благо (ис-
тилахийя), чем власть верующего и в душе справедливого сул¬
тана, если он предал забвению богоуетановленную политику»45.
Иначе говоря, рационалистическая основа, всеобщая польза и
справедливость как цели правления — такова идеальная полити¬
ка, изображаемая по преимуществу в «/поучениях». Более того,
Ибн-ал-Азрак возвышает «устроение для общего блага» (тар-
тиб истилахи) до уровня «пророческой справедливости» (адл
набави)4б.
]0 Зак. 635
145>
В отличие от исламских законоведов, опиравшихся в первую
очередь, если не исключительно, на Коран и сунну, авторы
«поучений» призывали к извлечению пользы вообще из поли¬
тической истории, в том числе из истории немусульманских
народов. «Путь, на котором человек, едущий по нему, приобре¬
тает наибольшую пользу [в политике],— писал Ибн-Аби-р-Раби
в середине XIII в. в своей книге «Путь владыки в устроении
владений»,— заключается в том, чтобы глубоко поразмыслить
над обстоятельствами жизни людей, их делами и поступками —
и над теми, что наблюдаешь сам, и над теми, которые знаешь
по рассказам,— [затем] проанализировать их, отделить хоро¬
шее от плохого, полезное от вредного и после этого придержи¬
ваться благого, чтобы приобрести пользу, какую получили [те
люди], и уберечься от вреда» (курсив наш.— А. Я.)47. Приве¬
денный отрывок с полным основанием можно расценивать как
программу прагматического рационализма.
Рассмотрим, как проявлялся рационализм подобного рода,
ориентированный на использование разума ради достижения
практического результата в политической области. Здесь нема¬
лый интерес представляет своеобразная этическая теория, на ко¬
торую опирались многие авторы «поучений владыкам».
Почти во всех произведениях жанра есть разделы, посвя¬
щенные нравам (ахляк) правителя. И это не потому, что нравст¬
венные императивы ставились выше политики, просто мораль
виделась условием или даже частью успеха политики. Авторы
«поучений» выдвигали задачу нравственного совершенствования
властителей. А сама эта задача выступала как сугубо полити¬
ческая, ведь предпосылки успешной политики, т. е. целенап¬
равленного и результативного управления социумом, заключа¬
лись в умении владыки управлять собой и изменяться к лучшему
в -случае необходимости. Это требование обосновывается идеей
подражания подданных правителю, воспроизведения в их пове¬
дении его собственных поступков. (Думается, проблема глубже
и объяснение нужно искать не столько в обязательном подра¬
жании, сколько в укорененном в средневековом сознании пред¬
ставлении о своего рода перводвижителе, внешнем по отно¬
шению к предмету или существу, (приводимому в движение,
и передающего ему свои, несколько редуцированные свойства, но
это — тема особого разговора.) «Знайте,— говорилось в „Завете
Ардашира“,— что у каждого царя есть свита, а у каждого чело¬
века из его свиты—[своя] -свита, а у каждого человека из сви¬
ты свиты— [собственная] -свита, и так — у всех жителей царст¬
ва. И ежели царь верно направил свою свиту, то каждый че¬
ловек сделает то же -самое по отношению к своей свите, пока
все подданные не будут охвачены благочестием»48. Исключи¬
тельно популярно сравнение, приписывавшееся Платону и гла¬
сившее, что «владыка подобен озеру, из которого вытекают реки.
Сладкое -оно — и они сладки, соленое оно — и они солоны»,
приводят и Ибн Хинду в «Духовных максимах»49 и Ибн Фатик
146
в «Избранных максимах и лучших высказываниях»50, и ал-Ма-
варди в «Облегчении рассмотрения и ускорении триумфа»51 и:
многие другие средневековые авторы52.
Общественное благо можно осуществить только через по¬
средство изменения к лучшему «перводвижителя», «истока»,
того, кто стоит в центре расходящихся 'концентрическими кру¬
гами «свит», т. е. владыки. «Пусть и не думает какой-нибудь
царь улучшать подданных, пока не начал [это делать] с само¬
го себя»,—категорично утверждается в «Завете Ардашира»53.
«Повелевающий и властвующий,— наставляет читателя ал-Ма-
варди,— должен начинать с управления (сийаса) самим собой,,
чтобы воспитать более добродетельные нравы. А после, приру¬
чив себя, пусть управляет подданными и, исправившись сам,,
исправляет других»54. В противном случае, и это еще одна
аналогия в «поучениях», он уподобится человеку, который взял¬
ся выпрямлять тень от кривой палки. Таким образом, условием
успеха в политике является нравственное совершенствование*
(самосовершенствование) владык. Естественно, нужно знать, каю
это достигается.
Итак, практическая ориентированность «поучений» предпо¬
лагала поиски операциональной и результативной этической'
концепции. Она должна была характеризоваться не столько на¬
личием признаваемых правильными положений (о благе, добре*
и т. п.), сколько относительно адекватным описанием явлений:
(морали) и, главное, конкретными рекомендациями по поводу
их трансформации в желательном направлении ради улучшения
или «очищения» нравов. Подобный подход заставлял наиболее*
выдающихся авторов занимать реалистические позиции и обра¬
щаться к созданию достаточно специфической этики рациона¬
листического толка.
Внутренняя логика движения к рационализму в этике четка*
прослеживается, например, у знаменитого законоведа Абу-л-Ха-
сана ал-Маварди. Побуждаемый научной добросовестностью,,
он излагает известные ему и, по-видимому, распространенные
в его время представления об источниках человеческих нравов
и причинах их различий. Вот «на чем стоят люди верующие»:
«Всевышний Аллах поместил их (нравы.— А. И.) в души, вло¬
жил их [в нее] врожденными по воле Своей и такими, какие
Он определил, чтобы соответствовали обстоятельствам рабов
[Божьих]. И сделал он нравы различными, как различны внеш¬
ний вид и облик, чему есть причина, от воления [человеческого]
не зависящая»55. Ясна без комментариев низкая операциональ¬
ное^ этих объяснений, выводящих нравы из-под воздействия
человека.
Ал-Маварди излагает и точку зрения «некоторых знатоков
медицины». Те считают, что нравы обусловливаются темперамен¬
том, т. е. смесью жидкостей, или «начал», в теле. Гневливость,
например, следствие обилия желчи в организме (желчный че¬
ловек). От многокровности человек становится горячим, сме¬
10*
147'
лым, а то и наглым, нахальным. Кротость и терпеливость зави¬
сят от количества флегмы (флегматичный человек). Если все
телесные жидкости уравновешены, то и нравы человека умерен¬
ны и являются в этом случае добродетелями. Отступление от
меры в ту или иную сторону, недостаток или излишество приво¬
дят к превращению добродетелей в пороки. Эта концепция, при¬
надлежащая Галену, была широко распространена среди сред¬
невековых мыслителей, что свидетельствует о ее экспликатив-
ной ценности для них. Ее воспроизводят Яхйя Ибн Ади в своем
«Очищении нравов», Мискавайх в одноименной книге56. Несколь¬
ко видоизмененная, она просуществовала и до нашего времени
(учение о темпераментах).
Но эти представления, своего рода «гуморальная» этика, фа¬
талистичны не в меньшей степени, чем кратко охарактеризован¬
ная выше на основании описания ал-Маварди этика «людей
верующих». В такой интерпретации собственные нравы оказы¬
ваются от человека независимыми. Заданность и автономность
по отношению к разумному индивиду достаточно четко отра¬
жаются на их определении, которое мы находим у Галена в его
«Нравах» (имеется в виду средневековый перевод на арабский),
у Ибн Ади, Мискавайха и др. Речь идет о состоянии души,
заставляющем человека совершать действия «без размышления
и выбора» (бидун равийя ва ля ихтийяр) или «без мысли и
размышления» (мин гайр фикр ва ля равийя) 57. Ряд авторов
«поучений» некритически и в противоречии с содержанием своих
концепций восприняли такое определение нравов58.
Что касается самого ал-Маварди, то, продемонстрировав
взгляды других, он дает и собственную дефиницию: «Внутрен¬
ние свойства (гара’из)» души, которые «проявляемы испыта¬
нием (ихтибар, возможно »прочтение ихтийяр — «выбор», два
слова в арабской графике различаются одной единственной точ¬
кой) и подавляемы понуждением»59. Бросается в глаза, что это
определение, весьма общее («внутренние свойства») и мало объ¬
ясняющее происхождение нравов, противопоставлено галенов-
ской традиции, ставившей акцент на неосознанности поведения
человека. Ал-Маварди центр тяжести своей концепции перено¬
сит как раз на осознанность нравов, роли разума в их возник¬
новении и особенно изменении. Он значительно больше вни¬
мания уделяет разделению их на врожденные, данные от при¬
роды (ахляк аз-зат, ахлях ат-таб ал-гаризи, хулюк матбу')
и приобретенные (ахляк ат-та табб' ал-муктасаб) или просто
«произведенные» (масну) самим человеком60. Это разделение
принципиально важно для автора «Облегчения рассмотрения и
ускорения триумфа». Ведь если первые даны человеку от рож¬
дения (ал-Маварди не склонен уточнять, от бога или вследствие
сочетания смесей в организме), то вторые свидетельствуют о
том, что человек сам, собственным действием может задать себе
определенный набор нравов. Поэтому приобретенные, по мнению
мыслителя, более достохвальны.
148
И врожденные и приобретенные в равной -степени неотъем¬
лемы от человека. Их соотношение иллюстрируется по анало¬
гии с единством души и тела: действия души проявляются в
движениях тела, а тело не может двигаться без импульсов, иду¬
щих от души61. Правда, ал-Маварди не разъясняет, каким нра¬
вам соответствуют душа и тело. (Аналогия воспроизводится и
у испытавшего значительное его влияние Ибн-Аби-р-Раби62.)
Врожденные нравы, согласно ал-Маварди, отчасти добродетель¬
ны, отчасти же порочны, причем он склонен -считать человека от
рождения скорее порочным, чем добродетельным. Ведь говорит¬
ся же в Коране: «Воистину, душа велит злое», поэтому, ука¬
зывает ал-Маварди, «душа несправедливее врагов; она прика¬
зывает злое и тяготеет к страстям»63. Да и существование це¬
ликом добродетельного, без пороков человека для него, кажет¬
ся, вообще исключено. Добродетелен уже тот, у кого доброде¬
тели преобладают над пороками, которых он вовсе не лишен64.
(Здесь также допустимо увидеть пусть малое, но проявление
того реализма, которое вообще было присуще «поучениям вла¬
дыкам».) Сами добродетели представляют собой «похвальную
середину между двумя порицаемыми пороками»65. Смелость,
скажем, под таким углом зрения оказывается серединой между
безрассудством (избыток смелости) и трусостью (недостаток
смелости), щедрость — между расточительностью и жадностью.
Как известно, эта идея восходит к «Никомаховой этике» Арис¬
тотеля. Она пользовалась популярностью у средневековых мо¬
ралистов— Яхйи Ибн Ади, ал-Амири ан-Ниеабури, Ибн Хазма,
Мискавайха, ал-Газали, Ибн Аби-р-Раби.
Однако некоторые авторы «поучений», а часто одни и те
же, отказывались от троичного деления в пользу бинарного про¬
тивопоставления, более простого и также имевшего выход в
практику — через поощрение сознательного отказа от порока
ради его полной противоположности — добродетели, притом что
и тот и другая дефинировались достаточно четко и были лише¬
ны элемента диалектичности, присущего тройственному деле¬
нию, когда, скажем, смелость отличалась от трусости и безрас¬
судства не качественно, а количественно. Например, у ал-Ма¬
варди взаимно противопоставлены верность слову и вероломст¬
во, честность и лживость, гнев и умиротворенность (рида) 66.
Отмечает он и существование составных добродетелей, которые
образуются при соединении двух других. Так, соединение ума
и смелости дает стойкость67.
Но все рассуждения ал-Маварди о нравах и социально-зна¬
чимой роли добродетелей (особенно у владык) потеряли бы
смысл, если бы он игнорировал цель — преобразование социума
через нравственное совершенствование правителей, и средство
ее осуществления — разум. Возможность изменения — это, в сущ¬
ности, та посылка, из которой исходили все авторы «поучений»:
им была свойственна своего рода активная жизненная позиция.
«Нет вещи,— пишет ал-Маварди,— которая, если ею заняться,
149
не принесла бы пользы, даже будь она до этого вредоносной;
нет вещи, которая, если пустить ее на самотек, не принесла бы
вреда, даже будь она до этого полезной»68. Целиком порочного
человека можно перевоспитать, подобно тому как удается дрес¬
сировка дикого слона69. Такой подход настраивает оптимисти¬
чески относительно будущего состояния и владык и общества.
Разум (акл), по ал-Маварди,— «начало» добродетелей. Ведь,
из него они проистекают, он управляет ими70. Разум является
«устроителем добродетелей» (еще одна его характеристика) по¬
тому, что сдерживает и направляет человека, будучи своего рода
уздой (одно из значений слова «акл» — «узда»). В другом своем
«поучении», книге «Законы вазирства», ал-Маварди приводит
афоризм, построенный на игре слов, когда «акл» означает и
«разумный» и «держащий в узде»: «Разумный (акил) человек,
свой язык держит в узде (акил)»71. Разум выступает как оп¬
позиция страсти, и душа человека предстает полем битвы между
двумя противоположностями, первая из которых (разум) есть,
«духовное знание, ведущее к добру», а вторая (страсть) — «жи¬
вотный нрав, ведущий ко злу»72. Именж> под водительством ра¬
зума человек и может добиться нравственного совершенствова¬
ния (или самосовершенствования). Оно предполагает сознатель¬
ное отношение к собственным поступкам, непрерывность воз¬
действия, постепенность изменений, обращение к поучительным:
примерам, подбор соответствующих (благонравных) спутников
жизни, соотнесение поступков с реакцией окружающих и, самое
главное, господство разума над страстями. Это только некото¬
рые практические рекомендации, даваемые ал-Маварди73.
Нужно отметить, что разум оказывается источником блага
для социума: он — исток добродетелей. Добродетельность вла¬
дыки, руководствующегося разумом в целях нравственного са¬
мосовершенствования, имеет следствием добродетельность всех
людей. В результате — позитивное изменение общества. И если
логика ал-Маварди такова, то становится понятна исключитель¬
но важная линия в его рассуждениях, кажущаяся крайне стран¬
ной на первый взгляд. В своей книге «Адаб дольней жизни и
религии» он приводит афоризм: «Разум — корень религии» (ал-
акл асл ад-дин) 74. Творчески переосмысливая устоявшиеся пред¬
ставления, ал-Маварди понимал под религией всякую сумму со¬
циоорганизующих норм75. Обнаруживая такие нормы, действую¬
щие достаточно успешно, не только у мусульман или адептов
других «богоданных» религий (иудеев, христиан), но и у «не¬
верных», он дает парадоксальное определение религии, кото¬
рое охватывает и «веру» (иман) и «нечестивость» (куфр, букв,
«неверие»). Так, в «Облегчении рассмотрения и ускорении три¬
умфа» ал-Маварди заявляет, что «нечестивость — исповедание
ложного, вера — исповедание истинного, а то и другое суть ре¬
лигия, в которую веруют (дин му' такад)»76. При социооргани¬
зующей роли разума, выражающейся в совершенствовании нра¬
вов, он действительно является «корнем» религии в таком ее тол¬
150
ковании. Здесь особенно отчетливо выступает прагматический
рационализм: ал-Маварди готов примириться даже с «нечести¬
востью» (а это для исламского законоведа — грех непроститель¬
ный), лишь бы она способствовала поддержанию общественного
порядка в духе столь дорогого для него «согласия» (улфа) 77.
Ориентированность «поучений владыкам» на конкретные со¬
циальные, экономические, финансовые 'проблемы, их нацелен¬
ность на практические результаты способствовали тому, что в
произведениях этого жанра получали апробацию, а порой и
развитие относительно научные представления о разных сторо¬
нах жизни общества. Вовсе не случайно, что последнее крупное
сочинение подобного рода — «Чудеса на пути, или Природа вла¬
дычества» — принадлежало перу Ибн-ал-Азрака, последователя
Ибн Халдуна, и отразило идеи Учителя, бывшие вершиной со¬
циально-политической рефлексии эпохи.
Ал-Маварди стремился рационалистически объяснить наряду
с другими явлениями быструю и постоянно осуществлявшуюся
смену государственных образований на Востоке. И хотя задачу
эту он не решил (к ее решению подошел спустя три века Ибн
Халдун), его питавшаяся прагматическим рационализмом кон¬
цепция эволюции политических форм представляет несомненный
интерес. Держава, пишет ал-Маварди пока в русле сложившейся
традиции78, проходит в своем существовании три этапа. На пер¬
вом она «сурова нравом и крепка силой», и «люди спешат ей
подчиниться»; на втором, промежуточном,— «мягка» в обраще¬
нии с подданными, ведь укрепилось и упрочилось владычество
и наступил «покой» (да‘а), но на третьем этапе распространяется
неправедность-несправедливость (джавр), увеличивается сла¬
бость государства. Честность и вероломство — вот две нравст¬
венные вехи, первая и последняя, в развитии державы79. Древ¬
ние, отмечает ал-Маварди, уподобляли ее плоду, который внача¬
ле тверд и на ощупь и горек на вкус, а затем вызревает и
делается нежным и съедобным, чтобы в конце концов загнить80.
Варианты деградации государственных форм, выделение ко¬
торых опиралось на политическую реальность в средние века,
рассматриваются в рамках концепции «установления владыче¬
ства» (та’сис ал-мулк). Под этим ал-Маварди подразумевает не
возникновение государства как такового, а переход власти от
одного правителя к другому. В одном месте своего произведе¬
ния он именно так и говорит: интикал ал^мулк — «переход вла¬
дычества»81.
Смена власти совершается в разных формах. Первая — уста¬
новление владычества, т. е. новой державы на религиозной осно¬
ве (та’сис ад-дин). Такое бывает по трем причинам негативного
свойства.
1. Старым государством начинают править те, кто не являет¬
ся «людьми религии» (ахл ад-дин). Подданные внутренне про¬
тивятся им, подчиняются телом, но не сердцем и «раскрывают
врата» державы подобно вратам крепости тем, кто хочет взять
151
власть в свои руки, призывая к восстановлению религии и под¬
чинению «людям религии».
2. Правитель, принадлежа сам к «людям религии», вместе
с тем пренебрегает ею и ее установлениями, притесняет ее зна¬
токов (а'лям ад-дин), постепенно уклоняется от выполнения ре¬
лигиозных обязанностей из-за «ослабления веры» или «пленен-
ности удовольствиями». Население видит, что не пристало под¬
чиняться такому человеку, и его политика терпит крах.
3. Владыка осуществляет порицаемые нововведения (бид'а)
в религии, что приводит к тому же крушению державы.
Таким образом, если государство отходит от религии и при
этом отыскивается человек, который «стоит за веру, стремится
к удалению тех, кто ввел [порицаемые] новшества, и следует
установленному обычаю», то ему повинуются, за ним идут, рас¬
сматривая такое подчинение и повиновение как «обязанность
перед богом». Его положение представляется крепким, ибо не
он стремится к владычеству, а «владычество его ищет».
Вторая форма смены власти — свержение старой и установ¬
ление новой посредством силы (та’ сис ал-кувва) —может про¬
изойти вследствие ослабления державы по причине небрежения
государственными делами, а то и просто из-за неспособности
управлять ею. В этом случае будет создана «держава насилия»,
«принудительная держава» (мулк ал-кахр), которая при неспра¬
ведливом обращении с подданными сама обречена на уничтоже¬
ние, как и предшествующая.
Но возможно иное и значительно более любопытное разви¬
тие событий: установление новой власти силой для «отвращения
угнетения». Здесь, как можно предполагать, речь идет о свер¬
жении старой власти в результате восстания. Достигается это
при участии масс (касра ал-адад) в выступлении, храбрости и
самоотверженности восставших, передачи ими руководства чело¬
веку, обладающему или благородным происхождением, или ра¬
зумом и смелостью.
Коль скоро созданное в результате этого государство от¬
носится к подданным справедливо, оно является «державой
приобретенной законности» (мулк ат-тафвид) 82. Данный момент
хочется подчеркнуть особо — законна держава, образованная
революционными методами на месте старой, несправедливой.
Иными словами, основа законности — справедливость. В раз¬
витие своих представлений о принципах общественного согла¬
сия ал-Маварди высказывает еретическую мысль: «Держава
удержится на неверии (куфр), но не удержится на несправед¬
ливости»83. Как только новое государство начинает попирать
справедливость, чинить произвол и превращается в «государст¬
во принуждения» (давля тагаллюб), оно становится жертвой
«[собственной] несправедливости, его уничтожают [собственные]
притеснения», и оно исчезает, предварительно «погубив поддан¬
ных и разрушив страну»84. Здесь, как легко заметить, выделен
принцип круговорота: несправедливость приводить к восстанию*
152
а новая власть, с течением времени деградируя, вызывает но¬
вый взрыв (если еще не все подданные «погублены»), вследст¬
вие чего устанавливается новое государство.
Богатство как база установления новой державы (этот ва¬
риант осуществляется весьма редко) может иметь значение тог¬
да, когда старая ослаблена по каким-то причинам. Мысль о за¬
хвате власти возникает в подобном случае у человека богатого
и одновременно связанного с верхушкой теряющей силы держа¬
вы. Новая власть крайне нежизнеспособна, ибо, по словам
царя Соломона (Сулаймана Ибн Давуда), которые повторяет
ал-Маварди, «скор конец уповающего на богатство»85.
Третье течение рационализма—рационализм реалисти¬
ческий наиболее полно реализовался в творчестве Ибн Халдуна
(1332—1406) и его немногочисленных последователей. Пафос
его концепции в стремлении объяснить с рационалистических
позиций действительность во всех ее аспектах — природном, со¬
циальном, политическом, культурном и т. д.,—исходя из ее
внутренних взаимосвязей, постоянного движения и изменения,
ее внутренней противоречивости и неоднозначности.
На заключительных страницах своего фундаментального тру¬
да «Пролегомены», или «Введение», к «Книге поучительных при¬
меров и дивану подлежащего и сказуемого о днях арабов, пер¬
сов и берберов и их современников, обладавших властью вели¬
ких размеров»86 автор делает попытку уточнить содержание
понятия «рационализм» именно в применении к анализу общест¬
ва и его проблем. В главе, названной «О том, что ученые-тра¬
диционалисты (уляма’) дальше всех людей отстоят от политики
и разных ее направлений», в вину этим ученым ставится их
умозрительность: они оперируют «универсальными и общими
категориями, высказывают о них обобщающие суждения и иг¬
норируют частное, касающееся конкретной материи, отдельной
вещи, какого-то поколения, той или иной общины, такой-то груп¬
пы людей, а потом прикладывают это общее к существующему
вовне»87. Отсюда их оторванность от жизни, непонимание про¬
исходящего и неспособность к политике, занятие которой тре¬
бует знания реальности. Ученым-традиционалистам, требующим
невозможного — соответствия реальности положениям Корана
и сунны, противопоставляются люди, занимающиеся рациональ¬
ными науками (улюм аклийа), «истинность коих определяется
соответствием находящемуся вовне»88.
В трактовке социально-политических вопросов Ибн Халдун
расходился со сторонниками «традиционных (наклийа) наук»,
теми, кто в качестве обязательного принимал текст Священного
писания и был не более чем узким рационалистом, прибегавшим
к доводам разума для подтверждения «богоданных» положений,
при использовании некоторых методов, например экзегетики
(тафсир).
Но Ибн Халдун противсхпоставлял себя и рационалистическим
направлениям, рассмотренным выше. Он продемонстрировал в
153
рамках философии новый, оригинальный подход к проблемам
общества и государства, :в корне отличавшийся от установки
его предшественников по поводу идеального общественного
устройства. «Совсем иными» называет он свои идеи, сравнивая
их с концепциями Града89. Эта переориентация вызывает споры
историков арабо-исламской мысли — часть из них не включает
Ибн Халдуна в число философов, тем более что в «Пролего¬
менах» он достаточно отрицательно отозвался о философии и
ее представителях.
Думается, специфичность рационализма Ибн Халдуна при¬
менительно к социально-политическим проблемам обусловлена
следующими факторами. Нашествия кочевников на центры ци¬
вилизации Ближнего и Среднего Востока (Чингисхана и Хула-
гу в XIII в., Тамерлана в XIV — начале XV в.), постоянные
столкновения между бедуинами и горожанами, распад после
1227 г. могущественной империи Альмохадов в Магрибе, воз¬
никновение новых династических государств (Хафсидов в Иф-
рикии, Абдельвадидов в Центральном Магрибе, Маринидов на
юге Марокко), разорительные междоусобные и межплеменные
войны, реконкиста и конец исламского господства в Андалусии
(Гранадский эмират закончил свое существование в 1392 г.),
наконец, разрушительная для Египта и Сирии деятельность
государства Мамлюков (с 1250 г.)—все эти события, ката¬
строфические для арабо-исламской цивилизации90, были из¬
вестны Ибн Халдуну и как историку, автору многотомной
«Большой истории», и как непосредственному участнику (он
был и хаджибом, своего рода главой канцелярии у североафри¬
канского султана, и главным кадием маликитского толка в
Каире, и руководителем восставших племен, и посредником
между гранадским султаном и Педро Жестоким, и собеседни¬
ком Тамерлана при осаде им Дамаска в 1401 г.). Ум, образо¬
ванность, стремление уразуметь происходящее были субъектив¬
ными условиями возникновения «новой науки» Ибн Халдуна.
Большую роль сыграло самодвижение социально-политиче¬
ских идей в рамках фальсафы. Сквозь рывки вперед, отступле¬
ния, неясности довольно четко проступала тенденция поиска
наиболее адекватной формы реализации принципа структурного-
единства мира и его составляющих — движение в конструиро¬
вании идеального социума от метафизики, или илахийат (у ал-
Фараби), к эсхатологии (у «Чистых братьев»), к психологии и
частично метафизике (у Ибн Баджи), к метафизике и гносео¬
логии (у Ибн Рушда) 91. Для рационалиста Ибн Халдуна фи¬
лософские рационалистические науки включали логику, мета¬
физику, математику, физику. И поиск новых общефилософских
основоположений (мы бы сказали, «методологических принци¬
пов») социальной теории заключался, с одной стороны, в отка¬
зе от уже «опробованной» предшественниками метафизики, нео¬
перабельных для этих целей логики (в его представлении — уче¬
ния о категориях, риторики, поэтики и т. п.) и математики
154
’(арифметика, геометрия, астрономия и музыка), с другой — в об¬
ращении к физике, занимавшейся «природными движениями»92.
Эта установка, качественно новая, хотя и укорененная во
всем предшествующем развитии арабо-исламской мысли, осо¬
бенно философии, заставила Ибн Халдуна обратиться к рассмот¬
рению общественно-политических изменений как своего рода
«природных движений», имманентных обществу и объективно
обусловленных. Он начал разрабатывать «социальную физику».
Общество стало трактоваться как сложное самообразование,
претерпевающее внутренние трансформационные процессы, ко¬
торые исключают возможность любого эффективного вмеша¬
тельства в них человека. Для Ибн Халдуна утопия типа теории
Добродетельного града неприемлема, как и любая другая.
-«Природные движения общества таковы, каковы они есть, и из¬
менить их нельзя: «То, что природно,— незаменимо»93.
В «Пролегоменах» он выражает свое отношение и к «поуче¬
ниям владыкам» — перечисляет ряд произведений (которые, что
примечательно, объединяет в одну группу, подтверждая тем
самым наличие особого жанра или направления мысли): при¬
писывавшуюся Аристотелю «Книгу политики» («Тайну тайн»),
трактаты Ибн-ал-Мукаффы, сочинение ат-Тартуши «Светильник
владык». Ибн Халду.н отмечает, что в этих произведениях (на¬
пример, у Ибн-ал-Мукаффы) поднимаются многие вопросы, за¬
нимающие и его, похожа разбивка на главы в «Пролегоменах»
и в «Светильнике владык» и т. п. Но авторам названных и
прочих «поучений» ставится в вину бездоказательность их ут¬
верждений, злоупотребление риторикой, недостаточно глубокий
анализ поставленных вопросов, непомерное доверие к авторите¬
там (как мусульманским, так и немусульманским)94. Главное
же, пожалуй, заключается в том, что, 'выдвигая задачу разра¬
ботки «социальной физики», Ибн Халдун порывал и с умозри¬
тельным рационализмом философов при интерпретации общест¬
венно-политических вопросов, и с прагматическим рационализ¬
мом авторов «поучений», ибо и те и другие, по разным причи¬
нам делая различные практические выводы, считали, что об¬
щество может быть изменено.
Последовательно придерживаясь заявленного подхода к со¬
циально-политической проблематике, Ибн Халдун сумел создать
научную для его времени концепцию общества и государства,
которую можно резюмировать таким образом. Возникновение
человеческого общества объективно обусловлено необходи¬
мостью совместного добывания людьми средств к существова¬
нию, обеспечения собственной безопасности перед лицом доста¬
точно враждебной природы. Люди пребывают первоначально в
состоянии дикости (таваххуш), ибо связаны по своему проис¬
хождению с животным миром. В дальнейшем, преобразуя окру¬
жающий мир (умран), они становятся собственно людьми,
объединенными в сообщество (иджтима'). Оно в своем развитии
проходит два этапа: примитивности (бидава) и цивилизации (хи-
155
дара). Эта этапы отличаются один от другого характером до¬
бывания средств к существованию (примитивность ассоцииру¬
ется с земледелием, скотоводством, собирательством; цивилиза¬
ция в дополнение к ним — с ремеслами и торговлей). Отличает
их и характер потребления: в примитивном обществе потреб¬
ляется только необходимое, в цивилизованном — «приносящее
пользу» и «лишенное необходимости», вследствие того что люди
в результате разделения труда производят «превышающее необ¬
ходимое» (заид) 95.
Примитивность и цивилизация — два качественно разных эта¬
па развития человеческого общества. Порой они сосуществуют
в пределах одного региона или в относительной близости, как,
например, арабы-кочевники Аравийского п-ова и цивилизация
Двуречья. В связи с этим переход к цивилизации может осу¬
ществляться не в результате внутренней эволюции общества, а в
результате захвата избытка, возникшего в другом.
Ибн Халдун сравнительно поверхностно рассматривает пер¬
вый, диахронный вариант, уделяя основное внимание ситуации,
когда примитивность и цивилизация сосуществуют как локаль¬
ные феномены в рамках одного региона. Это служит причиной
конфликта из-за материальных благ, которыми обладает циви¬
лизация. Группировки, пребывавшие в состоянии примитивности,
имеют все шансы захватить блага цивилизации, поскольку их
члены являются кочевниками, т. е. гомогенной группой, кото¬
рая в военном отношении превосходит представителей цивили¬
зации, более слабых физически, а главное, разобщенных из-за
имущественного неравенства.
Движение общества от состояния примитивности к цивили¬
зации— одновременно и движение от отношений равенства и
первобытной демократии к отношениям господства и подчине¬
ния. Отношения, объединяющие людей на этапе примитивности,
автор «Пролегомен» определяет как «асабийя». Данное понятие
означает группу (синонимично племени, роду и т. п.), но так¬
же— связь между людьми, возникающую на основе кровного
родства. Это не «голос крови», сливающий их в одно племя или
род, напротив, слияние людей приводит к осознанию родства.
Объединение может принимать разные формы: «хилф» (союз
нескольких родов или племен), «истина*» (натурализация, т. е..
прием в род или племя чужаков); «рикк» (рабство, точнее, по¬
кровительство, которое распространяется на отдельных инород¬
цев), «вилая», или «вила» (покровительство, распространяемое
на целый род или племя). Иначе говоря, асабийя — это социаль¬
ная группа, возникающая на базе кровного родства, союза, по¬
кровительства и т. п. Она основана на равном распределении
материальных благ, т. е. «неделимого прожиточного миниму¬
ма»— неделимого, ибо он является минимумом. Управление
осуществляется старейшинами, власть которых опирается на
всеобщее уважение. Охрана лагеря или оборона возложена на
саму асабийю, вернее, на ее молодых и сильных членов.
156
Пользующиеся покровительством рабы и союзники теорети¬
чески составляют равноправную часть группы, но фактически
находятся в неравном положении по сравнению с членами ос¬
новной группы. Так, примкнувший к племени (мулсак) не мо¬
жет стать его вождем: руководство, как правило, передается по
наследству внутри «нисаб» — «благородных семейств». Речь, по
сути, идет об относительном равенстве. Автор «Пролегомен»
улавливает диалектическую связь между единством асабийи и
необходимостью управления группировкой. Само управление
(рияса) содержит зародыш неравенства, поскольку осуществле¬
ние руководства требует принуждения. Но вынужденное подчи¬
нение и возникновение явного неравенства возможно только в
случае, если группа образует некое единство, если еще сильны
«иллюзорные» узы родства, превращающие отношения «руко¬
водства—следования» в отношения «господства—подчинения».
Но почему относительное равенство, родство и руководство
превращаются в господство одних над другими? Ответ дает рас¬
смотрение категории «мулк», служащей антитезой асабийи. Ибн
Халдун употребляет это понятие в двойном значении — как
«власть-собственность» или «власть-владение». Недифферен-
цированность этих значений зиждется на взаимосвязи собствен¬
ности и власти.
Некоторые моменты концепции, изложенной в «Пролегоме¬
нах», объясняют возникновение мулка или отношений имущест¬
венного и потестарного неравенства между членами группы. Ибн
Халдун постоянно фиксирует взаимозависимость цивилизации и
«власти-владения», которые не существуют друг без друга.
Установление мулка-власти имеет следствием ‘возникновение
мулка — владения «земными благами», первоначально принад¬
лежавшими покоренной группировке. Иными словами, источник
мулка как власти-владения, по логике Ибн Халдуна,— не только
появление избыточного продукта, но и естественное стремление
людей к власти и обладанию «земными благами». История в
этом случае предстает как перераспределение материальных
средств — от группировок, у которых есть владение ими, к груп¬
пировкам, которые их лишены. Перераспределение отмечается
уже на стадии перехода от примитивности к цивилизации: вар¬
вары захватывают мулк, принадлежащий «цивилизованным лю¬
дям». Однако цивилизация продолжает существовать и разви¬
ваться в силу постоянного воспроизводства избыточного про¬
дукта. Поэтому мулк в качестве набора материальных благ не
является чем-то статичным и постоянно уменьшающимся из-за
перераспределения между новыми асабийями, а демонстрирует
тенденцию к постоянному росту, выражением чего и служит
сама цивилизация.
Понятие государство (давла) у Ибн Халдуна в значительной
степени синонимично мулку. Характеристика «власти-владе¬
ния» целиком приложима и к государству. Оно возникает при
существовании власти одних людей над другими, отличной от
167
«руководства», а также собственности на «земные блага», ко¬
торая обязательно связана с властью. Оно — результат транс¬
формации асабийи, генетически связано с ней. Асабийя обозна¬
чает этническую группу, скрепленную узами кровного родства.
Но поскольку государство, как правило, образуется вследствие
захвата асабийей мулка, принадлежащего какой-то общности,
то оно представляет собой, во всяком случае на начальном эта¬
пе, ксенократию — правление этнически чуждого элемента96.
Асабийя подчиняет территорию и распространяет на нее свою
власть — «сень государства», по Ибн Халдуну.
Сохраняя сложившуюся традицию, оно имеет династический
характер. Власть передается по наследству внутри представите¬
лей рода, выделившегося в период, когда общество было связано
отношениями примитивного равенства. Иными словами, отно¬
сительное равенство асабийи реализуется как неравенство, ко¬
торое становится абсолютным при переходе к мулку и госу¬
дарству. Такая метаморфоза совершается благодаря, во-первых,
наследованию старых (примитивно-демократических) структур
этнической общностью на новых этапах развития, в условиях
появления избыточного продукта и, во-вторых, закреплению
этих структур, получивших новое содержание, теми членами ста¬
рой асабийи, которые в них заинтересованы.
Таким образом, государство для Ибн Халдуна — это династи¬
ческая ксенократия. Уже в самом его характере заложена силь¬
ная аристократическая и абсолютистская тенденция. Будучи
первоначально отделенным от подданных этническим барьером,
оно постепенно изолируется и от той силы, которая позволила
ему возникнуть, т. е. от асабийи. Род или «дом», составлявший
ранее интегральную ее часть, отделяется от других членов.
На начальной стадии государством управляет асабийя, зах¬
ватившая территорию и находящиеся на ней материальные цен¬
ности. Часто Ибн Халдун называет такое государство «прос¬
тым», или «примитивным». В нем определенное время продол¬
жает господствовать примитивный демократизм, присущий аса-
бийе в прошлом. Однако в дальнейшем отношения между нею
и главой государства постепенно становятся антагонистически¬
ми из-за появления мулка. Вчерашние соратники вследствие пе¬
рехода в «мулковое» состояние превращаются в смертельных
врагов. Но так как государство «осуществляет власть посред¬
ством принуждения»97, глава его нуждается в силе, на которую
он мог бы опереться для ведения дел и подавления, даже фи¬
зического уничтожения членов своей асабийи. Стремление к
безопасности и укреплению мулка приводит к тому, что малик
(правитель, владыка) создает новую асабийю, основанную не
на родстве, а на материальных привилегиях. Эта новая, искус¬
ственная асабийя начинает пользоваться всеми привилегиями
старой. В итоге государство оказывается чуждым как инопле¬
менным подданным, так и соплеменникам, оно отрывается от
своей социальной базы. Развиваясь как нечто самостоятельное.
158
оно превращается в аппарат, главная функция которого — вос¬
производство собственного существования.
Отчуждение государства от своей основы означает, образно
говоря, подписание собственного смертного приговора, или акт
самоубийства. Для уяснения данного положения вернемся к аса-
бийе и ее связи с процессом образования государства. Мулк
возникает преимущественно в результате захвата, который,
в свою очередь, возможен только при наличии сильной асабийи.
После появления ксенократического государства асабийя необ¬
ходима для подавления иноплеменных подданных, т. е. нужна
ему минимум по трем причинам: для захвата, подавления и
обороны. Однако, как показано выше, оно может существовать
лишь при условии уничтожения старой асабийи, а это озна¬
чает и его самоуничтожение, ибо гибель последней, по выра¬
жению Ибн Халдуна,— «сигнал кризиса и симптом хронической
болезни». Государство начинает «лечить» «хроническую болезнь»
путем создания новой асабийи, включающей представителей эт¬
нических групп, чуждых и местному порабощенному населению,
и старой асабийе. Часть новой асабийи могут составить и при¬
мирившиеся со своим подчиненным и зависимым положением
члены старой, но процесс распада старых и установления новых
отношений становится необратимым. Даже при вхождении час¬
ти старой асабийи в новую государство неспособно преодолеть
кризис.
Перманентный кризис государства, который приводит его в
конечном счете к гибели, связан с экономикой. Ибн Халдун счи¬
тает, что ее развитие подчиняется определенным закономернос¬
тям. Государство же паразитирует на ней и эксплуатирует ее
в качестве «необходимой основы». Оно может существовать лишь
благодаря налоговому обложению. «Налоги и поборы образу¬
ют материю государства»98. Зачем же нужны деньги? Прежде
всего, они позволяют вчерашним завоевателям пользоваться
«земными благами». Одновременно асабийя заменяется наем¬
ным войском и наемными чиновниками, что приводит к необхо¬
димости выплаты им жалованья, которое поступает из эконо¬
мической сферы в форме налогов и поборов, образующих «ма¬
терию государства».
Такое положение неизбежно вызывает вмешательство госу¬
дарства в хозяйственную жизнь. Формы вмешательства могут
быть различны, но все они имеют целью повышение доходов
казны. Первая форма — введение новых видов налогов; вто¬
рая— прямое воздействие на конъюнктуру рынка, осуществле¬
ние косвенного и прямого контроля над торговлей. Ибн Хал¬
дун пишет по этому поводу: «Эмиры и правители, господствую¬
щие над странами... вмешиваются в [процесс] приобретения
изделий и товаров от их владельцев, прибывающих в эту мест¬
ность, и навязывают им цену, какую захотят, а затем продают
их подданным по цене, какую назначат»99. Третий вариант —
прямая экспроприация имущества зажиточных людей в пользу
159
власти. Все это приводит к разладу хозяйственной жизни и оз¬
начает гибель государства, ибо оно — «форма» общества, кото¬
рая не может существовать без «материи», т. е. без производи¬
тельной деятельности людей.
Гибнет не целиком государство, а его конкретная ксенокра-
тическая династия. Причины гибели различны; крайний случай
и, по-видимому, наиболее типичный — крах из-за разрушения
социальной основы. Возможны также захват государства (как
территории) новой асабийей (разумеется, это может произойти
только тогда, когда процесс разрушения экономической базы
еще не завершился и есть что захватывать), отделение провин¬
ций в связи с тем, что государство не в состоянии содержать
слишком большую новую асабийю. Так или иначе, оно в качест¬
ве династической -ксенократии обречено на гибель, подобно то¬
му как обречен на смерть человек.
В «Пролегоменах» Ибн Халдун высказывает мысль об опре¬
деленном «возрасте» государства, равном 120 годам. При этом
изменение последнего сравнивается с развитием отдельного че¬
ловека, который рождается, растет, крепнет, хиреет и умирает.
Примечательно, что эта метафизическая на первый взгляд идея
подтверждается на примере средневековых государств Востока.
Период правления большинства династий исламского мира в
VII — начале XVI в. в среднем совпадает с указанным Ибн Хал-
дуном 10°. По-видимому, он уловил нечто существенное, что поз¬
волило ему сформулировать своего рода динамико-статистиче¬
скую закономерность: ксенократическое династическое государ¬
ство в условиях средневекового Востока неизбежно приходит в
упадок, оказывая разрушительное воздействие на общество в
целом.
Мысли Ибн Халдуна о характере развития государства в его
эпоху — концепция, объясняющая некоторые причины стагнации
средневекового восточного общества. Идеи учителя воспринял
и попытался применить к анализу конкретного социально-поли¬
тического образования—средневекового Египта — наиболее .та¬
лантливый из его последователей Таки-д-Дин ал-Макризи101.
Богатое творческое наследие его заслуживает подробного изу¬
чения. Нас в данном случае интересует преимущественно одна
его книга — «Помощь правоверным в избавлении от печали»102,
в которой он, опираясь на реалистический рационализм Ибн
Халдуна, пытается выяснить причины голода, периодически пов¬
торявшиеся в стране.
Исходным пунктом для автора при объяснении причин этой
«печали» служат естественные (природные, климатические, гео¬
графические) условия, а именно: зависимость египетского сель¬
ского хозяйства от уровня воды в Ниле и его разливов. Ал-
Макризи объясняет чередование высоких и низких цен на зерно
данным природным фактором. Дороговизна и соответственно го¬
лод в разных странах «происходят в большинстве случаев от
небесных бедствий: понижения уровня воды в Ниле, отсутствия
160
осадков в Шаме (Сирии), Ираке и Хиджазе и т. д.; а то и
ворча посевов зерна — горячий самум его сжигает, ветры жаром
■его изнуряют, саранча его поедает»103.
Однако тут же он заявляет: «То, что постигло Египет, от¬
личается от указанного»104. Главные причины бедствий — поли¬
тические и социально-экономические: «плохое управление вож¬
дей и властвующих, отсутствие заботы об интересах Божьих ра¬
бов» 105. И в этом ал-Макризи следует за Ибн Халдуном, счи¬
тавшим, что современное ему ксенократическое и династическое
государство, изымавшее и непроизводительно расходовавшее из¬
быточный продукт, разрушает локальную цивилизацию вслед¬
ствие вмешательства в экономическую жизнь.
Вместе с тем улавливается и первое различие между под¬
ходами учителя и ученика. Для Ибн Халдуна в рамках его
универсалистской социологической теории история конкретных
государств подтверждала общую закономерность — возникнове¬
ние, расцвет и упадок, сопровождавшийся упадком локальной
цивилизации. Можно сказать, что он рассматривал этот про¬
цесс как естествоиспытатель, без эмоций. Для ал-Макризи ха¬
рактерно личное отношение. Его государство — это власть Мам¬
люков, которых он ненавидит, утверждая, что это «самые низ¬
кие, подлые и мерзкие люди, самые мелкие душонки, самые
«евежественные, далее всех отошедшие от веры, более похот¬
ливые, чем обезьяны, более вороватые, чем крысы, более хищ¬
ные, чем волки»106. «Из-за них, конечно же, разруха постигла
земли египетскую и сирийскую»107. Все рассуждения о разруши¬
тельной роли государства относятся по преимуществу к правле¬
нию Мамлюков — как Бахритов, так и Бурджитов; он имел воз¬
можность наблюдать тех и других. Ничего хорошего не прихо¬
дится ожидать, когда страной управляют подобные люди. Но,
будучи учеником Ибн Халдуна, рассматривавшего не субъектив¬
ные, а объективные факторы общественных изменений, ал-Мак¬
ризи системно и последовательно анализирует негативные ре¬
зультаты воздействия современного ему ксенократического ди¬
настического государства на экономическую жизнь.
При власти Мамлюков стало правилом получение различ¬
ных должностей и постов за взятку (рашва)108. «Первопричина
этой порчи — раздача за подкуп государственных должностей
и религиозных постов в таких сферах, как вазирство, судопро¬
изводство, наместничество в провинциях, учет и др. Все это
доступно только за большие деньги. В итоге любой невежда,
растлитель, притеснитель и обидчик получает столь высокие пос¬
ты и великие должности, на какие :и надеяться бы не мог. Он
одаривает кого-то из свиты султана и обещает ему деньги для
султана, за занятие, которое ему по душе»109.
Человек, занявший какой-то пост в аппарате, разумеется^
не может сразу предоставить нужную сумму. К тому же у него
есть и собственные расходы — на скакунов, платье, слуг и т. п.
Он должен также оказывать «традиционное гостеприимство».
II Зак. 635
16!
делать подношения (скакунами, рабынями и т. п.) эмирам или
приближенным султана, «если кто-то из них остановился у него,,
а он руководит делами в деревенской местности»110.
Для покрытия подобного рода расходов чиновник «начинает
без разбора изымать [разные] виды имущества, и его не вол¬
нует ни то, что кого-то пришлось из-за этого уничтожить, ни
пролитие крови, ни превращение свободных людей в рабов»111.
Не щадит он и ближайших подчиненных, «назначает налоги
своей свите и приспешникам», что приводит к еще большему
усилению грабежа, ибо «те тоже тянут руки к имуществу под¬
данных и вырывают его у них без всякой пощады»112.
Перед нами своего рода цепная реакция грабежа, осущест¬
вляемого административным аппаратом. В результате «дере¬
венские жители страдают от бесконечных поборов и разнообраз¬
ных притеснений, ухудшаются условия их жизни... и они поки¬
дают родные места. Уменьшаются сборы налогов в стране из-за
того, что мало возделывается земель, население терпит лишения,
и убегает от гнета правителей»11S.
Еще одна причина — непомерно завышенная плата за поль¬
зование землей. «Люди, ставшие эмирскими слугами,— пишет
ал-Макризи,— добиваются расположения эмиров, передавая им
деньги, которые собирают, пока не укрепятся. Они жаждут еще
большей приближенности к ним (эмирам.— А. //.), а нет к тому
более короткого пути, чем деньги. Они начали нарушать закон
о землях, входящих в феоды (икта* ат) эмиров: передали их в
аренду крестьянам и повысили размеры арендной платы. Более
солидными стали поступления от господ-эмиров. Ежегодное уве¬
личение сделалось правилом. И в настоящее время [арендная
плата за] один феддан в десять раз выше, чем раньше»114.
Стихийные бедствия и социальные беды, о которых пишет
Таки-д-Дин, имели следствием «вздорожание зерна. Рост цен на
основной сельскохозяйственный продукт привел к тому, что « уве¬
личились затраты на вспашку, посев, жатву и т. п. Усилилась
злоба наместников и сборщиков податей, увеличились поборы
на строительство дамб и т. п. ...Вследствие этого разрушилось
множество деревень, оказалась заброшенной большая часть зе¬
мель. Из-за смерти массы крестьян или их ухода с земли умень¬
шились [сборы] зерна и всего, что дает земля». В стране во¬
царились «запустение и разруха»115.
Самостоятельная и очень важная линия рассуждений ал-
Макризи касается денежного обращения вообще и особенна
выпуска медных монет. По его мнению, «только в золоте и се¬
ребре могут выражаться цены товаров и стоимость труда»116.
Это «естественно и соответствует шариату» 117.
Знаток в данном вопросе (он был мухтасибом), ал-Макризи
сообщает факты .из истории чеканки монет (серебряных дирхе¬
мов и золотых динаров) —от эпохи джахилийи до эпохи Абба-
сидов, точнее, до того момента, когда тюркская придворная
гвардия убила Мутаваккиля (861) 118. После этого «государства
162
погрязло в роскоши, изменились установления божьего закона
и веры. Они (группа людей, обладавших властью.— А. И.) вве¬
ли такие новшества, которые не дозволялись Аллахом»119. Сре¬
ди «нововведений» — подделка (гашш) золотых монет 12°.
Далее ал-Макризи останавливается на истории чеканки мо¬
нет и денежного обращения именно в Египте. Длительное вре¬
мя имели хождение монеты, чеканившиеся исключительно из
золота. Из серебра делали лишь украшения и посуду. Изредка
чеканились мелкие серебряные монеты для расходов по домаш¬
нему хозяйству. Однако при Айюбидах монеты из серебра по¬
лучили наибольшее распространение. «На них стали покупать
дорогостоящие товары, с ними соотносить цены товаров и стои¬
мость труда» 121.
В дальнейшем решающую роль в денежном обращении на¬
чинает играть медь. Ее еще при Айюбидах добавляли >в сереб¬
ряные дирхемы (до трети веса монеты), теперь же появились
медные монеты (филсы). На первых порах их чеканили изред¬
ка и в малых количествах, но во времена правления айюбидско-
го султана Камила (1218—1238) —уже регулярно. Отметим, что
ал-Макризи считает медные деньги чем-то «неестественным».
В его глазах они того же порядка, что и лепешки, которыми
расплачивались за мелкие товары в Багдаде, раковины в Верх¬
нем Египте, чернильные орехи и финики в Индии, куры в еги¬
петской деревне и, наконец, бумажные деньги в Китае122.
Примеру Камила последовали в дальнейшем другие султаны,
причем его один дирхем приравнивался к 48 филсам. Те могли
•разрубаться на четыре части, и каждая также приравнивалась
к филсу. Некоторые «государственные мужи» (арбаб ад-дав-
ла) начали чеканить медные монеты по своему усмотрению, при¬
давая филсу вес одного .мискала. Дирхем стали приравнивать
:к 24 филсам. Цены на товары вследствие этого выросли вдвое:
то, за что платили полдинара, теперь стоило динар 123.
При султане Адиле (1238—1240) «усилились несправедли¬
вости», говорит ал-Макризи и в качестве таковых указывает
♦«изъятие имущества, взятки [плату] за охрану» и... чеканку
филсов. Они были настолько легки, что в торговых сделках их
принимали не по счету, а на вес124. При султане-мамлюке Бар-
куке (1382—1389) в «стране франков» было закуплено большое
количество красной меди, и из нее в Каире и Александрии че¬
канились филсы, ставшие наиболее распространенной монетой.
Что касается дирхемов и динаров, то они постепенно исчезали
из обращения: их перестали чеканить, и зажиточные люди на¬
чали переплавлять их в украшения. После смерти Баркука име¬
ли хождение преимущественно медные филсы, на втором месте
по количеству шли золотые монеты, на третьем—серебряные
(в это время резко подскочила цена на серебро).
Количество медных денег в обращении резко возросло. Все
цены обозначались в филсах125. При этом отмечалось «расхож¬
дение [стоимости] монет»126. Один серебряный дирхем прирав¬
нивался к 5 дирхемам, выраженным в филсах, если исходить
из того, что 1 дирхем содержал в себе 24 филса. Более тогог
в разных местах Египта золото стоило по-прежнему: в Алек¬
сандрии за мискаль золота давали 300 дирхемов в филсахг
а в Каире— 150. «И постигла по этой причине людей беда, уно¬
сящая имущество, ухудшающая пропитание, затрудняющая по¬
лучение необходимого»127. В Каире цены на товары поднялись-
в 10 раз по сравнению с эпохой султана Адиля и в 5 раз по-
сравнению с эпохой Баркука.
Ал-Макризи описывает некое подобие инфляционного процес¬
са, вызванного тем, что медные деньги стали заменителем зо¬
лота. Он подкрепил положения социологической теории Ибн
Халдуна новым материалом — состоянием денежного обраще¬
ния, в которое, как и в другие области хозяйственной жизни*
вмешивалось с убийственными для экономики результатами го¬
сударство.
Рассмотрение разных течений рационалистической общест¬
венно-политической мысли показывает, что в средние века мно¬
гие арабо-исламские мыслители подходили к проблемам совре¬
менного им общества с относительно научных позиций. Умозри¬
тельно сконструированный социальный идеал (фальсафа); вы¬
яснение общественно-политических механизмов для разработки
принципов результативного управления (поучения владыкам);
объяснение глубинных причин общественного развития и де¬
градации локальных цивилизаций Востока (Ибн Халдун и его
школа) —пожалуй, трудно представить более всесторонний ана¬
лиз общества мыслителями той эпохи.
1 Ибн Халдун. Ал-Мукаддима (Пролегомены). Бейрут, 1979, с. 779.
2 Социально-политические взгляды Ибн Баджи рассматриваются на ос¬
нове анализа следующих его произведений:
Ибн Баджа. Китаб ан-Нафс (Книга о душе).— Маджалля ал-Маджма
ал-илми ал-араби. Дамаск, 1958, т. 33, вып. 2, 3, 4; 1959, т. 34, вып. 1, 2, 3, 4;
1960, т. 35, вып. 1; он же. Книга о душе. Пер. с некоторыми сокращениями:
А. В. Сагадеева.— Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и.
Среднего Востока IX—XIV вв. Сост. С. Н. Григорян и А. В. Сагадеев. М.„
1961; он же. Рисаля фи-л-кувва ан-нузу'ийа (Трактат о стремящейся силе).—
Раса’ил Фальсафийа ли-л-Кинди, ва-л-Фараби ва Ибн-Баджжа ва Ибн-Ади
(Философские трактаты ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Баджи и Ибн Ади). Бей¬
рут, 1983; он же. Тадбир ал-мутаваххид (Устроение жизни уединившегося).—
Ibn Bajjah (Avempace). Opera metaphisica. Ed. by Majid Fakhry. Beirut. 1968;
он же. Рисаля ал-вида' (Прощальное послание).— ihn Badjjiah. Opera me¬
taphisica; он же. Кавл ютлю Рисаля ал-вида* (Дополнение к Прощальному
посланию).— Ibn Bajjah. Opera metaphisica; он же. Фи-л-гая ал-инсанийа
(О человеческой цели).— Ibn Badjjah. Opera metaphisica.
3 См. статью Ахмада Мади в приложении к настоящему сборнику.
4 Ибн Баджа. Книга о душе. Дамаск, 1961, с. 29.
5 См., например: Устроение жизни уединившегося, с. 42, 43.
6 См.: Фахри Маджид. Введение к кн.: Ibn Badjjah. Opera metaphisica*
с. 32.
7 Ибн Баджа. Устроение жизни уединившегося, с. 63.
8 Там же, с. 62.
164
• Там же, с. 63.
10 Там же, с. 64.
L1 Там же.
12 Там же, с. 65.
13 См.: там же.
14 Там же, с. 66.
15 Ибн Баджа. Трактат о стремящейся силе, с. 159.
16 Там же, с. 158.
17 Ибн Баджа. Прощальное послание, с. 119.
18 Ибн Баджа. Устроение жизни уединившегося, с. 91.
19 См.: Ибн Баджа. Прощальное послание, с. 139.
20 Ибн Баджа. Устроение жизни уединившегося, с. 55.
п Там же.
22 Там же, с. 41—42.
23 Там же, с. 62.
24 См.: там же, с. 62.
25 См.: там же, с. 43.
26 См.: Ибн Баджа. О человеческой цели, с. 101.
27 См.: там же.
28 См.: Ибн Баджа. Устроение жизни уединившегося, с. 75.
29 См.: Ибн Баджа. Прощальное послание, с. 136, 140.
30 См.: там же, с. 136.
31 См.: там же, с. 133.
32 См.: Ибн Баджа. Устроение жизни уединившегося, с. 76.
33 Ибн Баджа. Прощальное послание, с. 136.
34 Там же.
35 Ибн Баджа. Устроение жизни уединившегося, с. 76.
36 См.: Ибн Баджа. Прощальное послание, с. 140.
37 Там же, с. 137.
38 См.: там же, с. 131—132.
39 См.: Ибн Баджа. Устроение жизни уединившегося, с. 43.
40 Ибн Рушд: Ma ба*д ат-таби* а (Метафизика).— Раса’ил Ибн Рушд
(Трактаты Ибн Рушда). Хайдарабад, [б. г.], с. 147.
41 Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. М., 1981, с. 258.
42 Подробнее см.: Игнатенко А. А. «Поучения владыкам» и проблематика
власти.— Социально-политические представления в исламе: история и совре¬
менность. М., 1987; он же. Проблемы развития арабо-мусульманской общест¬
венно-политической мысли средневековья (методологический аспект).— Мето¬
дологические проблемы изучения истории философии зарубежного Востока.
М., 1987, с. 170—175.
43 Ибп-алАзрак Абу-Абдаллах Мухаммад ал-Андалюси. Бада’и* ас-сульк
фи таба’и' ал-мулк (Чудеса на пути, или Природа владычества). T. 1. Тунис,
1977, с. 285.
44 См.: там же, с. 286.
45 Там же.
46 Там же.
47 Ибн-Аба-р-Раби Ахмад. Сулюк ал-малик фи тадбир ал-мамалик (Путь
владыки в устроении владений). Бейрут—Париж, 1978, с. ПО.
48 Ахд Ардашир (Завет Ардашира). Бейрут, 1967, с. 71.
49 Ибн Хинду. Ал-Калим ар-руханийя (Духовные максимы). Каир, 1900,
с. 17.
50 Ибн Фатик. Мухтар ал-хаким ва махасин ал-калим (Избранные мак¬
симы и лучшие высказывания). Мадрид, 1958, с. 135.
51 Ал-Маварди. Тасхил ан-назар ва та'джил аз-зафар (Облегчение рас¬
смотрения и ускорение триумфа). Бейрут, 1987, с. 135.
52 Си., например: Псевдо-Платон. Таквим ас-сийяса ал-мулюкийя (Исправ¬
ление владыческой политики).— Ифлятун фи-л-ислям (Платон в исламе).
Бейрут, 198Ю, с. 191.
53 См.: Завет Ардашира, с. 71.
54 См.: Ал-Маварди. Облегчение рассмотрения, с. 135; Ибн Фатик. Избран¬
ные максимы* с 140.
165
65 Ал-Маварди. Облегчение рассмотрения, с. 125.
56 См.: Мискавайх. Тахзиб ал-ахляк (Очищение нравов). Бейрут, 1966,
с. 193—194.
57 См.: Джалинус (Гален). Китаб ал-ахляк (Книга о нравах).— Ал-фаль-
сафа ва-л-улюм инд ал-араб (Философия и наука у арабов). Бейрут, 1981,
с. 190; Ибн Adu. Тахзиб ал-ахляк (Очищение нравов). Бейрут, 1978, с. 70;
Мискавайх. Очищение нравов, с. 31.
58 См., например: Ибн-Аби-р-Раби. Путь владыки в устроении владений,
с. 104—105.
59 Ал-Маварди. Облегчение рассмотрения, с. 101.
60 См.: там же, с. 101—105.
61 См.: там же, с. 105.
82 См.: Ибн-Аби-р-Раби. Путь владыки в устроении владений, с. 127.
63 Ал-Маварди. Облегчение рассмотрения, с. 136.
64 Там же, с. 102.
65 Там же, с. 111.
66 Там же, с. 179, 148, 151.
67 Там же, с. 113.
68 Там же, с. 104.
69 Там же, с. 127.
70 Там же, с. 107, 117.
71 Ал-Маварди. Каванин ал-визара (Законы везирства). Бейрут, 1979,
с. 125.
72 Ал-Маварди. Облегчение рассмотрения, с. 132.
73 Подробно см.: там же, с. 104, 118, 127—129.
74 Ал-Маварди. Адаб ад-дунйя ва-д-дин (Адаб дольней жизни и рели¬
гии). Бейрут, 1987, с. 17, 40.
75 Подробно см.: Игнатенко А. А. Общественно-политические взгляды
Абу-ль-Хасана аль-Маварди (новые направления исследования).— Народы
Азии и Африки. 1989, № 4.
76 Ал-Маварди. Облегчение рассмотрения, с. 226.
77 См.: Игнатенко А. А. Общественно-политические взгляды Абу-ль-Ха-
сана аль-Маварди.
78 Для этого жанра средневековой словесности типично сравнение этапов
изменения «державы» (давля, под которой понимается в первую очередь груп¬
па носителей власти) с трансформациями плода от твердости до загнивания.
См.: Ибн Фатик. Избранные максимы и лучшие высказывания, с. 172.
79 Ал-Маварди. Тасхил ан-назар ва та'джил аз-зафар (Облегчение рас¬
смотрения и ускорения триумфа). Рукопись. Народная библиотека г. Гота
(ГДР), восточный фонд, ед. хр. А-1872, с. 33а.
80 Там же.
81 Там же, с. 32а.
82 Там же, с. 32в. О категории тафвид у ал-Маварди см.: Laoust И.
La pensée et l’action politique d’Al-Mawardi. P., 1968.
83 Абу-ль-Хасан ал-Маварди. Облегчение рассмотрения и ускорение триум¬
фа. Рукопись, с. 40а.
84 Там же, с. 32в.
85 Там же, с. 33а.
86 Ибн Халдун. Ал-Мукаддима (Пролегомены). Бейрут, 1979.
87 Там же, с. 1045—1046.
88 Там же, с. 1046.
89 Там же, с. 540.
90 Интересным в смысле установления зависимости между социально-эко¬
номическими условиями и формами их отражения в творчестве мыслителей
представляется вопрос о том, какие периоды наиболее благоприятны для со¬
здания утопии — культурного расцвета или упадка? Факты из истории фаль-
сафа, насколько можно судить, свидетельствуют, что подъем общественной
жизни способствует конструированию идеальных моделей будущего, а спад —
наоборот. Здесь, наверно, необходимо уточнение: речь идет об особой уто¬
пии — философской. Что касается «народной», религиозной утопии, то она
166
в виде борьбы за «очищение веры» и восстановление исходной справедливо¬
сти возникала в исламском мире регулярно и полностью не исчезала.
91 Социально-политическая рефлексия в рамках фальсафы дала не все
возможные варианты форм реализации принципа структурного единства.
Часть их реализовывалась и, возможно, признавалась неоперабельной в около-
философских областях. Например, в «Тайне тайн» псевдо-Аристотеля мы об¬
наруживаем достаточно наивные попытки математического (в духе вульгар¬
ного пифагореизма) построения идеального государственного аппарата в опоре
на пятерку, десятку, четверку.
92 Ибн Халдун. Пролегомены, с. 889.
93 Там же, с. 520.
94 См.: там же, с. 65—66.
95 Там же, с. 211.
96 Ксенократический характер такого государства иллюстрируют примеры,
приведенные Ибн Халдуном,— арабские завоевания, начиная с VII в., Сирии,
Ирана и т. п. Но насколько можно судить, в представлении мыслителя всякое
государство является первоначально ксенократическим, ибо его образует оп¬
ределенная асабийя. Это положение распространяется на отношения не толь¬
ко между арабами и берберами на Севере Африки, но и внутри арабов
и внутри берберов. Ни те, ни другие не были этнической общностью — ни объ¬
ективно (из-за отсутствия соответствующих социально-экономических усло¬
вий), ни субъективно (разбросанные по Северу Африки кочевые племена
осознавали себя не арабами, а хилялитами, рияхитами и т. п., не берберами,
а туарегами, ауреба, санхаджа и т. п.).
97 Ибн Халдун. Пролегомены, с. 244.
98 Там же, с. 667.
99 Там же, с. 498—499.
100 См.: Босворт К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хроноло¬
гии и генеалогии. М., 1971.
101 Таки-д-Дин Ахмад Ибн-Али ал-Макризи родился в 1364 г. в Каире
и умер в 1442 г. Получил богословское и законоведческое образование, изучал
историю. После приезда Ибн Халдуна в Каир в 1382 г., в течение нескольких
лет учился у него. Преподавал в разных учебных заведениях в Каире и Да¬
маске, занимал пост кади (шариатского судьи) и мухтасиба (контролера мер
и весов). Он является автором примерно ста произведений, большая часть ко-
торных утрачена. Основные из известных его сочинений: «Китаб ас-сулюк ли
ма'рифа дувал ал-мулюк» («Путь познания держав владык»)—посвящен исто¬
рии Айюбидов и Мамлюков; «Ал-мава*из ва-л-и'тибар фи зикр ал-хитат ва-л-
асар» («Наставления и поучения, содержащие сведения об округах и памят¬
никах прошлого») —об истории и географии Египта и памятниках древних
культур на его территории; «Ал-баян ва-л-и'раб фи ман дахаля Миср ми*
наль-а'раб («Ясное описание арабов в Египте») —о выдающихся египтянах
арабского происхождения; «Китаб ал-авзан ва-л-акъял аш-шар'ийя («Книга
мер и весов, соответствующих шариату»); «Шузур ал-укуд фи зикр ан-ну-
куд» — о монетах и денежном обращении и др.
102 Ал-Макризи. Игаса ал-умма би кашф ал-гумма («Помощь правоверным
в избавлении от печали»). Хомс, 1956.
103 Там же, с. 41.
104 Там же.
105 Там же, с. 4.
106 Ал-Макризи. Наставления и поучения, содержащие сведения об ок¬
ругах и памятниках прошлого. Ч. 2. Булак (Каир), [б. г.], с. 214.
107 Там же.
108 Здесь мы сталкиваемся с проблемой интерпретации некоторых поня¬
тий, употребляемых ал-Макризи. Слово «рашва» в современном арабском
языке означает «взятка», «подкуп». Нельзя, однако, исключать и того, что
это слово в эпоху ал-Макризи стало термином и обозначало институт, зани¬
мавший сравнительно строго определенное место в системе тогдашних отно¬
шений. Под «рашва» мог бы тогда подразумеваться, скажем, «откуп», хотя
в ту эпоху в этом значении употреблялось слово «илтизам». Те же соображе¬
ния касаются и слова «бартыл», которое также допустимо перевести как «взят¬
167
ка». Но ему ал-Макризи придает смысл термина и определяет его как «деньги,
которые берутся [султаном] от наместников провинций, мухтасибов, кади,
сборщиков податей», указывая при этом что бартыл — «одна из главных при¬
чин разрухи» (Наставления и поучения. Ч. 1, с. 111). Возможно, в самом
разнобое понятий и их неопределенности проявлялась авторитарность госу¬
дарства Мамлюков, сопровождаемая внутренним беспорядком в аппарате па¬
разитического государства.
109 Ал-Макризи. Помощь правоверным, с. 43.
1110 Там же, с. 44.
1,11 Там же.
112 Там же.
Hö Там же, с. 45.
114 Там же, с. 46.
116 Там же, с. 47.
1,6 Там же.
117 Там же, с. 81.
118 См.: там же, с. 48—62.
1,19 Там же, с. 62.
120 См.: там же.
121 Там же, с. 66.
122 См.: там же, с. 68—70.
123 См.: там же, с. 70.
124 См.: там же, с. 71.
125 См.: там же, с. 72.
136 Там же.
127 Там же.
Е» А. Фролова
РАЦИОНАЛИЗМ И СТОИКО-СКЕПТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
В ФИЛОСОФИИ АБУ ХАЙАНА АТ-ТАУХИДИ
Деяньями этого мира разум мой сокрушен.
Омар Хайям.
Философия никогда не решает загадки мира.
Она их ищет.
В. И. Вернадский
В развитии рационализма известны периоды, когда связан¬
ные со слишком однозначным его пониманием надежды на то,
что разум, и только он, способен решить все проблемы, которые
мучают человека, открыть все истины, дать знание всех тайн,
рушатся и человек с болью начинает осознавать, что мир вовсе
не столь разумен, как представлялось, что интеллект ограничен
и не в состоянии проникнуть за какие-то пределы бытия, а под¬
час и просто ответить на многие жизненные вопросы. Пожалуй,
только в последние столетия рационализм обрел зрелость и,
осознав свою несомненную силу и в то же время ограничен¬
ность, неуниверсальность, стойко парирует натиски антиинтел¬
лектуализма, эмпиризма, антиоциентизма, сциентизма и пр.
В эпоху же становления этого философского направления, ко¬
торая для арабо-мусульманской философии начинается с кон¬
ца VIII в., оно еще в очень незначительной степени включает
скептическую саморефлексию, еще находит внутри себя новые
аргументы в защиту своей способности все объять.
На IX—X вв. приходится расцвет рационалистической мысли
на Арабском Востоке: она проникает и в религию, и в юрис¬
пруденцию, и в естественные науки, и ярко воплощается в фаль-
сафа, унаследовавшей от античности ее духовные достижения.
Тем не менее итогом двух веков ее интенсивного развития было
го, что рационализм начал обнаруживать -в себе изъяны. Аргу¬
ментами от знания вооружалась теология, поставляя в защиту
веры и религии доводы, не менее убедительные, чем доводы
фальсафа в пользу абсолютности философской истины, и к то¬
му же не опровергаемые посредством только логических построе¬
ний. Этажи таких построений росли, громоздились один на
другой, а истина в своей безусловности ускользала. От имени
разума говорили многие школы, течения, пытаясь в споре най-
© Е. А. Фролова, 1990
. 169
ти или утвердить истину. Каждый считал себя правым, и никто
(при строгой и честной оценке) не мог доказать свою правоту.
В идейных состязаниях очерчивались контуры истины, в них
же она и расплывалась, делалась релятивной. Нечто похожее
отмечалось и в естественных науках, где продолжали господст¬
вовать умозрительные концепции четырех элементов, наличия
или отсутствия пустоты и др., тогда как реальное развитие зна¬
ний, наблюдения, опыт начинали разрушать античную парадиг¬
му. Творчество Бируни, Джабира ибн Хайана и некоторых дру¬
гих ученых-естественников явилось попыткой перевода науки
на почву опыта как сознательно организованного способа добы¬
чи и проверки знания. Социально-политическую жизнь также
трудно было назвать разумной и соответствующей идеалу «ум-
мы», предложенному Мухаммадом. Если в первые столетия су¬
ществования ислама бурные и драматические события «оправ¬
дывались» великими целями распространения правоверия, то
уже III и IV века хиджры обнаружили, что общей для всех
«разумности» нет: она дробилась на школы, секты, ереси.
У каждого халифа, у каждого правителя, наместника была своя
«разумность».
Именно к этой эпохе и относится творчество арабского пи¬
сателя и мыслителя Абу Хайана Али ибн Мухаммада ибн ал-
Аббаса ат-Таухиди. Родился он, по подсчетам, опирающимся
на косвенные данные, между 922—932 гг., а умер, опять же
предположительно, в 1023 г. Где он родился, точно неизвестно.
Может быть, в Багдаде, а может быть, в Ширазе, Нишапуре
или Басите. Некоторые считают, что он был арабом, другие
же, как оставивший единственную его биографию Йакут ар-
Руми (ум. в 1229 г.),— персом, хотя и не знавшим фарси1. Но
возможно, Абу Хайан был мавали со смешанной кровью2. Уже
с этой неясности биографии, противоречивости сведений о нем
начинается характеристика его жизни, личности, творчества.
Ат-Таухиди прожил около ста лет, но уже при жизни был
забыт и «воскрешен» только в нашем столетии. Он умел доби¬
ваться дружеского расположения известных вазиров своего вре¬
мени— Ибн ал-Амида и ас-Сахиба ибн Аббада — и довольно
скоро расставался с ними. Лелеял мечту о глубокой и беско¬
рыстной дружбе, но нередко сам отталкивал близких людей, об¬
рекая себя на одиночество. Жаждал богатства и всю жизнь
бедствовал. Был великолепным популяризатором знаний, блес¬
тящим стилистом, за что именовался «вторым Джахизом», но
книги его читались мало. Бытовало даже поверье, что некоторые
из них приносят несчастье их владельцу. Иакут отметил в «Био¬
графиях литераторов»: «Я не видел, чтобы кто-нибудь из уче¬
ных написал о нем в книге или упомянул в речи, и это странно
и удивительно»3.
Проявившийся уже в XX в. интерес к ат-Таухиди был выз¬
ван на первых порах не столько им самим, сколько тем, что
дошедшие до нас сочинения его содержат много важных сведе¬
170
ний о культуре эпохи, о современниках писателя — о «Братьях
чистоты», ал-Джахизе, Ибн ал-Мутаззе и др. Привлекал яркий
язык этих сочинений. «Более простой и вместе с тем сильной и
темпераментной прозы никто не писал после него на арабском
языке»,— утверждает один из первых европейских ученых, за¬
нявшихся творчеством Абу Хайана, А^ам Мец4.
Публикация книг ат-Таухиди началась в 1883 г., когда бы¬
ли изданы его трактаты «О дружбе и друге» («Фи-с-садака ва-с-
садык») и «О науках» («Фи-л-улум») 5. В 1887 и 1888 гг. в Бом¬
бее вышло его сочинение «Извлечения» («Ал-Мукабасат»), а в
1929 г. оно было напечатано в Каире. В 1939, 1942 и 1943 гг.
А. Амин и А. аз-Зейн выпустили три тома «Книги услады и
развлечения» («Ал-Имта ва-л-муанаса»). В послевоенные годы
в Каире изданы «Божественные указания и духовные овевания»
(«Ал-Ишарат ал-илахийа ва-л-анфас ар-руханийа», 1950 г.),
«Вопросы и ответы» («Ал-Хавамил ва-ш-шавамил», изд. А. Амин
и С. А. Сакр, 1951 г.) и в Дамаске три трактата: «Сакифское
послание» («Рисала ас-сакифа») в, «О науке письма» («Фи илм
ал-китаба») и «О жизни» («Рисала ал-хайат», изд. И. ал-Кай-
лани, 1951 г.). В 1953 г. увидело свет «Сокровенное и явное»
(«Ал-Басаир ва-з-захаир», изд. А. Амин и С. А. Сакр, Каир)
и в 1963 г. «Пороки двух вазиров» («Масалиб ал-вазирайн»,
изд. И. ал-Кайлани, Дамаск).
Два последних десятилетия отмечены многочисленными пере¬
изданиями трудов ат-Таухиди. Укажем только на некоторые из
них, известные нам: «Извлечения» (изд. Мухаммад Тауфик
Хамин, Багдад, 1970), «О дружбе и друге» (изд. Али Мутаввали
Салах, Каир, 1972), «Божественные указания» (изд. В. ал-Кади,
Бейрут, 1973; изд. А. Бадави, Кувейт, 1981), «Книга услады и
развлечения» (изд. И. ал-Кайлани, Дамаск, 1978; Бейрут, 1984).
В этот же период в арабских странах появилось и несколько
книг, рассказывающих о жизни и творчестве Абу Хайана.
В 1978 г. в Париже, в Сорбонне, защищена диссертация Абд-ал-
Амира ал-Асма, посвященная анализу «Извлечений»; в 1980 г.
она вышла в Бейруте. Говоря о трудах самого ат-Таухиди,
надо отметить, что опубликованные составляют лишь половину
сохранившегося его наследия; работ же, посвященных этому
интереснейшему арабскому мыслителю прошлого, немного,
и совсем мало оценен он как философ7.
В X в. никто не считал Таухиди философом, да и он вряд
ли причислял себя к фаласифа. Иакут ар-Руми, живший двумя
столетиями позже, уже писал о нем как о «литераторе филосо¬
фов и философе литераторов», увидев в творчестве Абу Хайана
то, что выделяло его из ряда и тех и других. Иакут отвел ему
какое-то промежуточное место. И лишь нынешние потомки оце¬
нили своеобразие и величие этого писателя, подлинно философ¬
скую глубину его сочинений.
Впрочем, и сегодня мыслителям, которые рассуждали о
предопределении и свободе воли, о творце и творении, о боже¬
171
ственных атрибутах и т. п., нередко отказывают в принадлеж¬
ности к философии, хотя многие из них, как, например, мутази-
литы, ввели в качестве непременного условия для утверждения
правоты доказательство разумом, логическую строгость рассуж¬
дения, пересмотрели и «перекроили» все божественное учение,
сообразуясь с ratio. Так же отлучаются от философии мысли¬
тели-суфии, даже Ибн Араби. И конечно, вряд ли, с точки
зрения исследователей, придерживающихся подобного мнения,
можно отнести к когорте философов представителя «адаба» —
литературы, поучающей и развлекающей широкую публику.
Нам кажется справедливой точка зрения, согласно которой
в отдельные периоды общественного развития наиболее напря¬
женно и по-новому философские проблемы ставятся вне соб¬
ственно философии — в этике, юриспруденции, политике, науке,
литературе. Последняя сфера приобретает особое значение, по¬
скольку литератор имеет возможность не только поднимать и
обсуждать философские темы, интерпретируя разные жизненные
ситуации и давая тем самым новые повороты философскому
знанию, но и популяризировать эти темы, просвещать «массы».
Мыслитель-энциклопедист Таухиди «пытался сочетать филосо¬
фию с литературой, предлагая читателям народную мудрость,
которая была ему доступна», и вводя философию в народную
культуру8.
Потому, на наш взгляд, правильно делает переводчик «Кни¬
ги услады и развлечения» Д. В. Фролов, когда при характерис¬
тике Таухиди придает адабу большее значение, ссылаясь на
Ф. Габриели: «В IX в. возникла великая литература адаба,
включавшая в себя самые разнообразные знания, которая не
была чистой наукой, хотя частично соприкасалась с ней, трак¬
туя научные предметы, но концентрировала свое внимание на
человеке, его качествах и чувствах, окружающем его мире, на
материальной и духовной культуре»*. И в этом плане литера¬
тура выходила за рамки развлекательного или наставляющего
в простых нравственных истинах чтения. Она могла вести (и не¬
редко вела) к раздумью о «вечных» вопросах: о назначении
человека, смысле его существования, добре и зле, смерти и бес¬
смертии, грехе и благости, богатстве и бедности и пр. Это
были вопросы, широко обсуждавшиеся в свое «время стоиками
и несколько отошедшие на второй план в арабо-мусульманской
фальсафа. Устремленные к утверждению рационалистической
мысли, созданию разумно-упорядоченной и объясненной систе¬
мы знаний и миропорядка, ее представители меньше занима¬
лись трудно поддающимися строгому логическому толкованию
оттенками человеческого поведения, эмоций, состояния созна¬
ния. То была область раздумий суфиев, поэтов, литераторов.
Таухиди не был поэтом, но его ритмическая и чрезвычайно
тонкая и изысканная, по утверждению специалистов, проза
близка к поэзии. Подобно многим своим современникам, он был
причастен к суфизму, но вместе с тем отличался чутким и глубо¬
172
ким знанием разных наук и стремился к осмыслению «гумани¬
тарных» -вопросов, к их рационалистической интерпретации. Это
«была «пытливая философская личность, которая извлекает воп¬
росы из всего, что находится перед нею, будь то вопросы о
природе или обществе, языке, экономике, душе...»10. Именно
здесь проявились его философские пристрастия.
Творчество Таухиди приходится на эпоху культурного рас¬
цвета народов Ближнего и Среднего Востока. Ученик Абу Су-
лаймана ас-Сиджистани (ум. в 974 г.), современник Бируни,
Ибн Сины, Мискавейха, ал-Маарри и Ибн ар-Раванди, нахо¬
дившийся в близких отношениях с «Братьями чистоты», он смог
выразить сложный, богатый и неустановившийся, подвижный
дух -своего времени и быть «философом с философами, мутакал-
-лимом с мутакаллимами, филологом с филологами, суфием с
суфиями»11. Таухиди интересовался каламом, размышлял над
проблемами, обсуждавшимися мутакаллимами, передал нам в
•своих сочинениях их точки зрения по кардинальным вопросам
теологии, высказывая попутно и свое мнение по спорной теме.
Так, он выступил «судьей» в острой в те века дискуссии о бо¬
жественных атрибутах, о сущности Аллаха, о его познаваемос¬
ти или непознаваемости.
Абу Хайан воспроизводит беседу двух мужей, рассуждающих
об Аллахе. Один из них, опирающийся на высказывание ал-
Джавалики, говорил другому, стороннику Хишама: «„Опиши
мне твоего Господина, которому ты поклоняешься“. И тот ха¬
рактеризовал Его как того, у кого нет ни руки, ни какого-либо
•органа, ни какого-либо орудия, ни языка. И сказал сторонник
дл-Джавалики: „Обрадует тебя, если твой ребенок будет подоб¬
ным образом описан?“ Сказал тот: „Нет“. Сказал он: „Разве
не стыдно тебе, что ты описываешь своего Господина образом,
недопустимым для описания твоего ребенка?“ Сказал сторонник
Хишама: „Ты уже слышал, что я сказал. Опиши теперь ты мне
своего Господина“. И сказал тот: „Курчавятся волосы на самой
совершенной из фигур, он прекрасен ликом и станом“. И сказал
последователь Хишама: „Будешь ли ты рад, если у тебя будет
невольница, описанная подобным образом?“ Сказал тот: „Да“.
Сказал он: „Разве не обреешь ты свою рабыню, которую ты
любишь, для соития с ней, как с Ним?“» 12.
Человек нравственный, ат-Таухиди прежде всего возмуща¬
ется самим стилем спора, уровнем приводимых в нем доводов,
полагая, что при серьезном обсуждении вопросов веры такая
манера недопустима и религиозным людям не могут приходить
на ум подобные слова. Далее он, в свою очередь, рассказывает
следующую историю. Поспорили представители двух мазхабов
относительно божественных качеств и призвали бедуина, чтобы
он рассудил их. И когда каждый охарактеризовал ему Аллаха,
бедуин сказал, что один из них описал идола, а второй — ничто
(адам) и что оба придали Аллаху то, чего не знали13. «Аллах
таков, что его не может ни объять и познать разум, ни
173
постичь интуиция... Молчание здесь полезнее, чем высказыва¬
ние» 14.
Это мнение обосновывается доводами мутазилитов — Абу
Закария ае-Саймари, Али ибн Исы ар-Руммани (ум. в 994 г.),.
Абу Сулаймана ас-Сиджистани. Творец, согласно этим учите¬
лям Абу Хайана, не есть нечто, вещь; он не может быть опре¬
деляем и характеризуем. По Сиджистани, вещь, нечто — это су¬
щее (мавджуд), т. е. наличное, находимое, и оно непременно
предполагает находящего (ваджид). Но для Аллаха нет «на¬
ходящего», который был бы на ступень выше его и который
характеризовал бы его именами и качествами15. Спорящие о
его атрибутах демонстрируют два способа рассуждения. «[Одна]
группа говорит, что у Него нет качеств, подобных слуху, зна¬
нию, зрению, жизни, мощи. Однако вместе с отрицанием этих
качеств Он описывается как слышащий, зрящий, живой, могу¬
щественный, знающий. [Другая] группа говорит, что это имена
для описываемого через качества, которые суть знание, могу¬
щество, жизнь — ведь неизбежно обобщение их»16. Ат-Таухиди
склоняется к тому, что отрицание качеств одной группой ведет
в конечном счете к их утверждению, тогда как утверждение
качеств другой группой практически означает их отрицание.
В обоих случаях люди судят об Аллахе, не зная его. «Боже
мой,— восклицает Таухиди.— Ты выше всего, о чем я говорю..
Слово не исчерпывает Твою суть; описывая Тебя, ум (дамир)
не охватывает твоей глубины»17.
Бессмысленно рассуждать о постижении человеком бога, по¬
скольку человек сам — творение его. «Слово — оно было в Тебе,,
и оно от Тебя. У1м — он был создан Тобой, и он принадлежит
Тебе. Глупо описывать Тебя иначе, чем Ты сам описываешь
себя. Злонравно, когда я познаю Тебя, ведь Ты уже знаешь о
своей сути!»18. Наделяя Аллаха таким эпитетом, как «живой»-
(довольно распространенный понятийный эквивалент бога), на¬
до помнить, считал Таухиди, что данный образ не тождествен
•представлению о жизни, которое связано с образом человека,,
животного, с понятием чувства, движения, материи. Надо пом¬
нить, что так описываем божественную жизнь мы, «врёменные
(заманийун), привязанные к месту (маканийун)», «разделенные
тем, что было, и тем, что будет, достояние коих глупость и не¬
совершенство» 19.
Вазир Абдаллах ал-Арид, собеседник Абу Хайана в его
«Книге услады и развлечения»20, спросил его однажды, как он
понимает определение Аллаха: «Он первый и последний, явный
и скрытый». Абу Хайан ответил: «Указание на „первый“ есть
указание на то, с чего началось творение, формирование (тас-
вир), проявление и наделение бытием (таквин). Указание на
„.последний“ есть указание на изображение (масир) его как ре¬
зультата того, что в философии отводится созиданию (инша)
и исполнению (тасриф)»21. Таухиди склоняется к мнению, что*
Аллах выражает себя в форме времени и места только для тот
174
чтобы люди хотя бы приблизительно могли постичь его суть.
Но именно потому, что возможности человека здесь очень и
очень сомнительны, не лучше ли ему, «не имея надежного ко¬
рабля, настоящего оснащения и искусного кормчего, не зани¬
маться мореплаванием»22.
Для уяснения (Позиции Таухиди вообще и применительно к
религии в частности важно его отношение к вере. Он придер¬
живался развитого философского убеждения, что не может быть
знания бога, что рациональными способами допустимо обосно¬
вывать отдельные стороны ислама, но никак не его цент¬
ральный пункт — доктрину существования Аллаха. Попытки опе¬
реться на разум вели к созданию религиозной картины миро¬
устройства, лишь мнимо рационалистической. Уже у мутазили-
тов обнаружилось, что рационализация вероучения означает в
тенденции разрушение религии, утверждение «философского»
мировоззрения. Ат-Таухиди приводит несколько высказываний
Абу Сулаймана ас-Сиджистани, которые затрагивают непосред¬
ственно эту острую тему и которые, как явствует из текста,
близки и ему. «...Есть в Законе,— рассуждает Абу Сулайман,—
и то, что недоступно пытливому взору и непроницаемо для
него... Тут отпадает „почему?“, отменяется „как?“... уносятся
ветром „если“»23. «Философия,— размышляет он дальше,— берет
начало в разуме, который ограничен пределом, а вера берет
начало в откровении..»24. Но «разум силен настолько, насколько
он осознает то, что выше его»25. Принятие бога в силу этого
возможно лишь на пути веры, не претендующей на знание по¬
средством разума, на «илм». Потому нередко в те века глубоко
мыслящие люди связывали свои религиозные чувства с суфиз¬
мом. Потому же при обсуждении вопросов достоверности ре¬
лигиозной веры теологи прибегали к понятию «сердце». Так
считал и Таухиди. «Указание на Тебя посредством языка,— пи¬
сал он,— [означает] недостаточность и немощь, обращение к
Тебе сердцем [означает] достаточность и мощь»26.
Различение гносеологической роли знания и веры, неправо¬
мерности подмены веры знанием выражалось в отказе «хассы»
(интеллектуальной элиты) от соединения учения о единобо¬
жии (таухид) с доктриной возможности знания и описания Ал¬
лаха. Эта доктрина оставлялась примитивному уму «аммы»
(толпы), которая в своем религиозном рвении исходила из при¬
нятого обычаем, традицией способа рассуждения об Аллахе,
следовала этой традиции. Доктрина, по мнению Таухиди, лишь
имитировала концепцию истинного единобожия, была «таухи-
дом» только на словах27. Истинный же таухид — это не грубый
антропоморфизм, а фактически философское понимание «едино¬
го», абстрактного, свободного от качеств. И хотя Абу Хайан
высказывал подобные мысли прикровенно и будто бы порицал
тех, кто говорил об отсутствии в шариате чистого единобожия,
его считали еретиком. Как писал средневековый историк рели¬
гиозных сект в исламе Ибн ал-Джаузи, посвятивший одну из
175
своих книг ал-Халладжу, «безбожников в исламе три: Ибн ар-
Раванди, ат-Таухиди и Абу-л-Аля ал-Маарри. Самый опасный
из них для ислама Абу Хайан»28.
Неясно, почему Ибн ал-Джаузи выделяет здесь Таухиди2%
да и вряд ли стоит отдавать в этом предпочтение последнему.
Важнее то, что еретические настроения определенно прогляды¬
вали в его высказываниях. Он был мыслителем, сознательно
зафиксировавшим различие функций знания и веры, перевод,
религиозной веры в сферу иррационального, тяготеющего в
большей мере к мистике.
Еще одним результатом развития рационалистической мыс¬
ли, отраженным в позиции ;и трудах Абу Хайана, была разра¬
ботка «таухида» на языке философии, создание «своего рода
рациональной веры»30, которую как раз и проповедовали от¬
дельные «зиндики» и «дахрии», но которая, по нашему мнению,
была уже не верой, а завуалированным описанием философско¬
го миропонимания31.
Осторожность и даже скепсис Таухиди относительно утверж¬
дений разума, их истинности требует такой же осторожности и:
при характеристике его взглядов. Вряд ли можно назвать Тау¬
хиди убежденным рационалистом — слишком много сомнений
выражал он в этом плане. Но наверно, неправильно и игнори¬
ровать вовсе искренние попытки описать и защитить позитивные
возможности разума, поддержать усилия мутазилитов и фала-
оифа, стремившихся показать его познавательную значимость.
Творчество Абу Хайана демонстрирует понимание рационализ¬
ма, начавшего выявлять свою историческую ограниченность.
Мыслитель видел сильные стороны рационализма, его реальные
потенции, но не мог слепо принимать его в том виде, в каком
это направление было представлено в фальсафа. Критицизм и
скепсис разъедали его мысли, он жаждал освободиться от нихг
но безуспешно.
Точки зрения мутазилитов ат-Таухиди придерживался и в
вопросе о предопределении и свободе воли. Поскольку человек
посредством способности выбора достигает подобия Господи¬
на... он — господин, хотя и не является Господином»32. Коммен¬
тируя книгу своего современника Абу-л-Хасана ал-Амири, Абу-
Хайан писал: «Кто смотрел на события, существующие вещи,,
явления (савадир), свершения как на исходящие от Бога, тот
признал предопределение и освободил себя от разума, выбора,,
самостоятельного действия, свободы решения, ибо, несмотря на
то что они зависели от человека, источник их все же определял¬
ся мотивами, побуждениями и намерениями, которые относятся
к истинному Аллаху». «Тот же, кто смотрел на эти события,,
существующие вещи, выборы и желания глазами выполняющих^
приобретающих, действующих, связывал их (события и т. д.—
Е. Ф.) с ними... и видел, что никто не совершает ничего иначе
как сам (мин кибла нафсих)»33.
Поведение человека обусловливается двумя аспектами: внеш¬
176
ним и внутренним. Поскольку он подвержен воздействию извне,,
которое толкает его к поступку, этот поступок предопределен.
Но поскольку поступок совершает человек и деяние его зави¬
сит от него, поведение его свободно. Абу Хайана спросили:
чего больше в поступке, проявления души, проявлений самого
человека или реагирования на раздражение? Ответ был таков:
«Если смотреть на это как на принятие щедрости Аллаха, то
доля воздействия более очевидна, а если рассматривать исте¬
чение его щедрости на душу, то больше доля действия, ибо
Его щедрость, излитую на другого, чем Он, разделяет тот, на:
кого она излита»34.
О мнимости противоречия между предопределением и свобо¬
дой действия Таухиди говорит и в другом месте: «Я знаю, что*
необходимость опоясана свободой воли, а свобода воли скрыта
под необходимостью. И то и другое совершается по своим за¬
конам... Одно не изолировано от другого и то не превосходит*
это. Проницательный взор замечает в них обоих единый смысл....
Кто связывает выбор только с человеком, забыл о том, чем
опоясан выбор в плане необходимости. Так же тот, кто утверж¬
дает необходимость для человека, не замечает того, что необхо¬
димость опоясана свободой воли»35. Эти и подобные им рассуж¬
дения Таухиди о необходимости, предопределении и свободе
выбора наводят на мысль, что его в данном вопросе волнуют
иные проблемы, нежели мутазилитов предшествовавших веков,,
впервые заговоривших об ответственности человека за свои по¬
ступки. Если их устремления были направлены на ограничение
произвола Аллаха, на доказательство подчинения его действию
мировых законов, на обоснование тезиса свободной воли чело¬
века, то Абу Хайан, как и многие другие его современники
(фаласифа, некоторые мутазилиты), продолжая рационалис¬
тическую линию, меньше интересовался функциями Аллаха и
больше — людьми, их поведением, психикой. Мыслитель обра¬
щал особое внимание на мотивы поступков людей, их индиви¬
дуальные отличия, а также на то, что многое в поведении опре¬
деляется условиями жизни. Абу Хайан возвышает человека
прежде всего за его нравственные качества, ибо именно они
в его власти и создают своеобразие личности.
Принадлежащий к определенной среде и от рождения вклю¬
ченный в систему обычаев, законов (например, окрещенный в
первые дни жизни), человек не может оцениваться как грехов¬
ный или праведный только уже по одному этому. Здесь нет
ни его вины, ни его заслуги, которые появляются там и тогда,,
где я когда начинается его осознанное действие, которое на¬
правлено на достижение цели и сопряжено с усилиями, тру¬
дом36. Ссылаясь на религиозное учение, Абу Хайан писал: «Ал¬
лах сказал человеку: „Познай самого себя. Познаешь себя —
познаешь все вещи“. Нет ничего лаконичнее этих слов, и нет
ничего полнее и пространнее их по смыслу. Первое, что выте¬
кает из них,— презрение к тому, кто не ведает себя, не знает
12 Зак. 635
177
себя. Тот, кто не ведал себя, не ведал и остального, был далек
от его познания и являл собой скорее животное; более того,
видно, что он хуже, чем оно, и менее полноценен»37. Вместе
с тем немало страниц Таухиди посвятил описанию зависимости
человека от условий жизни, которые часто сводят на нет его
усилия, свидетельствуя, что не все в непосредственной его влас¬
ти, что он может быть беспомощным перед лицом внешних сил.
В трактате «О науках»—-небольшом сочинении — Таухиди
выразил свое мнение о различных видах знания и дисципли¬
нах (фикх, сунна, кияс, калам, грамматика, язык, логика, астро¬
номия, арифметика, геометрия, риторика, суфизм) и роли ло¬
гики и философии в обосновании их. Каждый из видов знания
(маарифа) имеет -свою специфику, которая не всегда видна
постороннему взгляду, в каждом могут содержаться и элемен¬
ты спекуляции, ложности, которые посторонний взгляд прини¬
мает за истину. «Тарикату наносился вред из-за того, что мно¬
гие претендовали на него. Если ты внимательно смотрел, ты
понял, что часть этих знаний у их носителей на деле не то,
что нужно»38. Исследователь жизни и творчества Абу Хайана
3. Ибрагим пишет: «Это высказывание убеждает нас, что ат-
Таухиди в своем трактате „О науках“ нападает на лжеученых
из числа тех, кого в эпоху, когда перемешалось худое и доброе,
фальшивое и подлинное, он считал людьми случайными по
отношению к подлинно научному учению»39.
Пропагандируя знания, добытые интеллектом и проверенные
жизненным опытом и логикой, связывая знания в систему взаи-
мопроверяемых частей, Таухиди зарекомендовал себя рациона¬
листом, просветителем, энциклопедистом. Но, пожалуй, ярче
всего и, пожалуй, как ни у кого из его современников, рациона¬
лизм Абу Хайана проявился в сфере нравственности, в стремле¬
нии объяснить психологические особенности поведения человека.
«Таухиди,— отмечал Закария Ибрагим,— который жил более
века и общался с представителями разных групп, приобрел об¬
ширный опыт в их делах, характерах и смог в своих трактатах,
своих сочинениях передать нам многие точные психологические
наблюдения и создать глубокие этические концепции»40.
3. Ибрагим полагал, что психологические эссе ат-Таухиди
«ставят его в один ряд с „философами человека“ или психоло¬
гами, интересующимися глубинными тайнами человеческой эк¬
зистенции... Мы не утверждаем, что Абу Хайан опередил Фрей¬
да, Адлера и Юнга в изучении бессознательного, психологиче¬
ских проблем, в открытии основ психоанализа. Мы хотим толь¬
ко сказать, что этот великий арабский мыслитель в процессе
наблюдения над человеком осознал многие значительные пси¬
хологические истины»41.
Ат-Таухиди занимал вопрос о том, как сочетаются высокие
моральные представления и реальные поступки людей, скажем,
порицание скупости и восхваление щедрости, с одной стороны,
и скупость и весьма умеренная щедрость — с другой42. Он спра¬
178
шивает Мискавайха о причинах расхождения между словами
людей и их делами, жажды запретного, дорогого, стремления
главенствовать, повелевать, страха, стыда. Он изучает психи¬
ческие отклонения, «болезни души», обнаруживает, что «здо¬
ровье и болезнь в чем-то идут от нрава»43. «Многое в характе¬
ре человека, скрытое от него, запертое от него, видно ему в
товарище, соседе, родственниках. И самое скрытое из этого он
постигает на примере своего товарища, своего соседа, собрата...
В большинстве случаев, когда знаток противопоставляет себя
невежде, беспечный — осторожному, смелый — трусливому, без¬
рассудный— зрелому, его в других раздражает то, с чем он
мирится в себе»44. Задается Таухиди и таким вопросом: «Поче¬
му убежденность в достоверности (йакын) не становится ни
стабильной, ни прочной, а сомнение устойчиво и прочно?»45.
По мнению Абу Хайана, разумность людей, так же как и их
безумие, относительны, разброс, диапазон, широта здесь вели¬
ки: «Безумный принадлежит к тому же роду, utп и оазумный;
в разумном есть то, что порицает он в безумном, в безумном
же, как известно, есть то, что в разумном изумляет»46. Желание
осмыслить «вечные», экзистенциальные проблемы соединяется
у Таухиди с пристальным интересом к индивиду, его своеобра¬
зию, отличию одного человека от другого, вместе составляю¬
щему гамму оттенков человеческих качеств47. Очевидно, на¬
блюдение таких особенностей и объяснение их происхождения
позволяло пытливому уму Абу Хайана постигать физические,,
психические и социальные их основания, т. е. их природу, и тем
самым более точно выявлять суть возможной общности разных
единичных вещей. При этом он выступал не бесстрастным ис¬
толкователем добродетелей и пороков, не их регистратором,
а человеком, глубоко лично переживающим величие и низость
людей, продолжая тем самым традицию стоиков.
Известный арабский историк философии Фахми Джадан
проделал скрупулезную работу по обобщению материала, убе¬
дительно демонстрирующую наличие в арабо-мусульманской фи¬
лософии идей, воспроизводящих концепции стоиков и созвучных
им. Стоицизм, по мнению этого исследователя, «влиял на логи¬
ку, философию, теологию и, возможно, фикх. Элементы логики
стоицизма заимствовались, чтобы заполнить пробелы в логике
Аристотеля... В физике некоторые тезисы стоиков исламские
мыслители сочли пригодными для объяснения некоторых аспек¬
тов реальности и для подтверждения отдельных теологических
тезисов. Наконец, мораль Портики, увенчанная метафизикой
Платона, точно соответствовала положению мусульманина в
мире и его фундаментальным духовным стремлениям»48.
Влияние стоиков, полагает Ф. Джадан, не избежали ал-Кин-
ди, ал-Фараби, Закария ар-Рази, Ибн Сина. Поэт IX в. Ибн
ал-Мутазз писал:
Что такое жизнь? Мгновенье!
Миг, украденный у смерти!49.
12*
179*
Современник Абу Хайана багдадский поэт аш-Шариф ар-
Рады напоминал:
Руки смерти ко всем подбираются, хватки и цепки.
Что такое мы, люди? Из глины кладбищенской слепки 50.
Поэзия ал-Маарри, другого знаменитого современника Таухи-
ди, насыщена подобными сюжетами. Вот некоторые строки из
его стихотворений:
Непререкаемы у смерти приговоры...
Пред смертью мы в долгу; в определенный час
Заимодавица всегда находит нас;
Мы — пища времени...
Смерти смерть равна...
Не томись в ожиданье, надежду оставь, земножитель...
Разумные созданья бессмертного творца
Идут путем страданья до смертного конца;
Одно мученье — жизнь, одно мученье — смерть...
...клянусь тебе, сладостна смерть после стольких мучений 51.
Среди философов, следовавших стоикам, были учитель ат-
Таухиди, уже упоминавшийся Абу Сулайман ас-Сиджистани,
друг и во многом единомышленник Абу Хайана, соавтор его
труда «Вопросы и ответы» видный философ Мискавайх (ум в
1030 г.). Ф. Джадан считает, что «Книга услады и развлече¬
ния» способствовала пропаганде взглядов стоиков и других гре¬
ческих философов на природу души52. Вслед за Сиджистани ат-
Таухиди размышляет над вопросами судьбы, рока, смерти и
бессмертия, счастья и несчастья, радости и страдания, богатст¬
ва и бедности. Его рассуждения заставляют вспомнить Хрисип-
па, Плутарха, Эпиктета.
Как-то, рассказывает Абу Хайан, Саймари попросил Абу
Сулаймана ас-Сиджистани объяснить ему тайну смерти, мысль
о которой внушает столько тревог, мешает наслаждаться жизнью
и обрести покой. Абу Сулайман ответил: «Душа именно потому
ищет возврата и надеется на него, что она непрестанно думает
о смерти. Возврат — это океан, откуда все начинается и где
все кончается. И поскольку нам трудно понять условия другой
жизни, сердце не перестает рефлектировать над этим... Смерть
есть не что иное, как разделение души и тела, благодаря ко¬
торому человек освобождается от телесных преград и мирской
тюрьмы... Это разделение — лишь простой переход из одного
места в другое»53.
Примерно таким же образом рассуждал и Мискавейх: «Страх
смерти превосходит любой страх... «и происходит он от полного
незнания природы смерти. Тот, кто страшится ее, обычно не
ведает, каким будет состояние его души после кончины, и по¬
лагает, что она так же уничтожается и разрушается, как и
тело»54.
Здесь 'приоткрывается если не философский, то экзистен¬
циальный фон концепции смертности и бессмертия, телесности
18 J
и бестелесности души, которой придерживались и Сиджистани,
и Мискавайх, и сам Таухиди. «Душа,— пишет он,— не есть тело,
поскольку она разлита во всех частях его, имеющего одну еди¬
ную душу; тело же не может проникнуть во всех части тела;
значит, душа бестелесна»55. (Некоторые аргументы, используе¬
мые Таухиди для доказательства тезиса о нематериальности
души, напоминают, как считает Ф. Джадан, идеи «Теологии
Аристотеля»5в.)
Бестелесность души — первое, что может -примирить со
смертью. Второе, что несколько успокаивает человека, это со¬
знание, что потусторонний мир недоступен нашему разумению,
а значит, по переживаниям и посюсторонним представлениям
нельзя судить о жизни будущей, посмертной.
Никто не ведает о моем возрасте,
Но уже возвестило обветшание
О скором отбытии. Куда мой отъезд?
Туда, где место души после ее выхода
Из ветхой обители и изношенной плоти 57.
Нет никого, уверен Абу Хайан, кто не желал бы знать, что
такое потусторонний мир, что будет после смерти. Однако во¬
рота в этот мир для знания закрыты, и никто не сорвет покры¬
вала с тайны58. «Знание (илм) —это море, и людей, -исчезающих
в нем, больше, чем овладевших им. Неизвестного в нем вдвое
больше, чем известного; предположений больше, чем достовер¬
ностей, и сокрытого больше, чем очевидного. И то, что вообра¬
жают о нем (мире), превосходит то, что доподлинно известно»59.
Чтобы решить загадку смерти, нужно постичь природу не толь¬
ко материи, тела, но и души, субстанцию духа. Здесь перед
Таухиди, как и перед Абу Сулайманом, встает неразрешимая
проблема. Если тело, его природа познаются посредством иной,
духовной субстанции, то для /познания души у человека нет дру-
го инструмента, кроме той же души, и это создает непреодоли¬
мое препятствие на пути постижения. «Он (человек.— Е. Ф.)
скрыт от самого себя самим собой80. Разум людей несоверше¬
нен: часто истинное принимает за ложное, а ложное за истин¬
ное, так что некоторые даже склонны не видеть разницы меж¬
ду истинным и ложным»81.
Относительность человеческого знания не позволяет челове¬
ку ни поверить в продолжение жизн-и после смерти, чего жаждет
душа, ни отбросить эту надежду, которую подтачивают доводы
разума. «Я смотрю на состояние души после смерти, основы¬
ваясь на предположении и воображении (занн ва таваххум).
Как немыслимо, чтобы человек знал свое состояние до рожде¬
ния, так немыслимо, чтобы он знал свое состояние после бы¬
тия (каунихи)»82. Таким образом, решение -вопроса о тайне
смерти неподвластно разуму, и потому он ‘попадает в разряд
вопросов веры, или, как говорит Таухиди, откровения. «Будь
181
разум самодостаточным, откровение было бы бесполезно и не
нужно»вз.
Идея ущербности разума, его ограниченности присутствует
у Абу Хайана всегда, независимо от того, какие сферы чело¬
веческой деятельности он рассматривает. И тем не менее он
остается рационалистом. Более того, именно обращая внимание
на изъяны в рационалистической системе своего времени, на ее
склонность к спекуляциям, умозрению, на ее интерес к дедук¬
тивным построениям, общему в противовес единичному, Таухи-
ди показывал дополнительные возможности рационализма, вы¬
ход на новые его уровни.
Когда речь идет о философии X—XI вв., надо иметь в виду, что
ее представляли не только и даже не столько корифеи того вре¬
мени— ал-Фараби, Бируни, Ибн Сина, но и другие представи¬
тели этого рода знания. Ат-Таухиди упоминает некоторых из
них, например, Абу-л-Хасана ал-Амири, Абу Бакра ал-Кауми-
си, Абу Бишра Матта, ал-Харири, Зайда ибн Рифаа, Абу Су-
лаймана ал-Макдиси и др. Именно эти «рядовые» мыслители
определяли в целом состояние философии, ее место в ряду дру¬
гих наук, ее роль, и именно с ними в первую очередь полеми¬
зировал Абу Хайан. Но решая эту конкретную задачу, он вы¬
полнял и более важную историко-культурную миссию критики
средневекового рационализма, выявления его слабостей и их
преодоления.
Как и немногих других выдающихся философов эпохи, кон¬
цепции которых были связаны с практической (социально-по¬
литической или естественнонаучной) сферой, а часто и прямо
нацелены на нее, Таухиди волновали реальные факты, интересо¬
вали единичные, уникальные явления, отклонения от нормы, от
общего. Именно они позволяли острее почувствовать проблему,
сложность ее содержания и точнее понять суть явления. Будучи
лингвистом, пытавшимся соединить языкознание с логикой, Абу
Хайан считал необходимым добиться скрупулезной точности
соотнесения понятия с его языковым эквивалентом. В отсутст¬
вии такой точности видит он причину многих заблуждений,
«Надлежит знать, что при определении (хадд) понятия объек¬
тивное должно восстановить свою сущность, освобожденную от
всякой примеси, очищенную от всякого изъяна при помощи
концепта (лафз), прилагающегося именно к ней, и выражения,
выработанного специально для ее обозначения. С того момен¬
та, как сущность установлена в душе и предстала перед интел¬
лектом, логика необходимым образом дает знание истины»64.
Литератор, лингвист и моралист, Таухиди пробивал путь
для научной мысли в направлении ее связанности с опытной
практикой, способствовал развитию стиля мышления, основан¬
ного на парадоксе, на выявлении многовариантности хода рас-
суждений, на тщательной проверке выводов через сопоставле¬
ние их с другими заключениями и с богатством разнообразных
наблюдений.
182
Реально Таухиди, вероятно, не смог преодолеть инерции
средневекового сознания. Мало кто, а вернее, никто из людей,
с которыми он соприкасался, не понял основного устремления его
мысли — показать тупики, в которые заводил ее самодовлею¬
щий рассудок, тем более что делал он это достаточно резко
(хотя и тонко) и нетрадиционно. Не совсем точно будет, на¬
пример, утверждать, что он настойчиво вводил в философское
сознание тему сомнения, ибо с IX в. она нередко присутство¬
вала в рассуждениях философов. У Абу Хайана сомнение при¬
обрело экзистенциально, а потому и гносеологически напряжен¬
ный характер. «Рассуждение безудержно, пока сознание не под¬
водится к абсурду, к чувству, так сказать, полного и непо¬
правимого разрыва между разумом и реальностью, знанием и
мистерией»,— так пишет об Абу Хайане исследователь его твор¬
чества Мохаммад Аркун85. Несколько позже мы постараемся
подтвердить правильность этого заключения высказываниями
самого Таухиди.
Концепция ограниченности интеллекта, понимание того, что
жизнь гораздо содержательнее нашего представления о ней и,
значит, разум должен быть менее самоуверенным, является кор¬
релятом установки Абу Хайана на терпимость к противопо¬
ложным мнениям, на допустимость иных точек зрения в подхо¬
де к истине. Нет окончательных решений, но есть бесчисленные
вопросы и бесконечные проблемы68. Нужно, чтобы соперничест¬
во мнений разбудило души людей, доверчиво воспринявших ка¬
кие-то утверждения и погрузившихся в покой уверенности,
и родило в них изумление, удивление. К такому представлению
о сути творческой интенции Абу Хайана приходит в результате
ее анализа 3. Ибрагим67.
Вероятно, эта открытость сознания у самого Таухиди и от¬
стаивание ее необходимости для знания в целом были причиной
его несогласия с философами, отрицавшими за поэзией право
на истину. В «Вопросах и ответах» в диалоге с Мискавайхом,
который отказывался принимать в расчет поэтов, Таухиди при¬
зывает их в свидетели68. Конечно, вопрос о соотношении поэзии
и аподейктического знания не прост, и, конечно, правы были
философы69, отвергавшие достоверность знания в поэзии, по¬
скольку функции ее иные — эстетические и нравственные. Вмес¬
те с тем не имеющие статуса научной истины, не составляющие
«илм» поэтические суждения неверно полностью отсекать от
знания, и не случайно стихотворное творчество некоторых поэ¬
тов70 служит и для нас источником, не только позволяющим
воссоздать картину жизни далекого прошлого, но и понять от¬
части его духовную атмосферу, его социальные, религиозные,
философские проблемы. Возможно, Абу Хайан, человек тонко
чувствующий, был задет пренебрежительным отношением эли¬
тарно настроенных фаласифа к попыткам подобных ему людей
выразить богатство и глубину идейной проблематики в литера¬
турной форме, доступной «массе». К тому же близость еготвор-
183
чества к «обыденности» при наличии проницательного ума по¬
могала видеть (если не понимать) значительно более широкий
круг вопросов, подмечать нюансы, отличающие живую жизнь
индивидиуальностей от скупой абстрактной схемы всеобщности,,
всеединства, универсальности.
Может быть, оттого что Таухиди не был профессиональным
философом, но остался на подступах к этому знанию, его ра¬
зум не успокоился, достигнув мудрости всепонимания и непре¬
станно разры'вался между стремлением все охватить и трезвым
скепсисом, его философские размышления особенно напряжен-
ны, его ответы на собственные вопросы не всегда однозначны.
Если сопоставить части «Вопросов и ответов», написанные
Таухиди и Мискавайхом, где вопросы задает Таухиди, а отве¬
чает на них Мискавайх, то сначала возникает впечатление о
наивности вопрошающего и серьезности отвечающего. Постепен¬
но, однако, приходишь к иному выводу. Именно вопросы обна¬
руживают остроту и живость человеческой мысли: они глубже
и тоньше, чем снисходительные подчас и зачастую «прописные»
объяснения умудренного опытом и знающего нужные ответы,
респектабельного авторитетного философа.
«Почему озабоченный человек, дух которого бьется над проб¬
лемой, теребит свою бороду, постукивает пальцами, переби¬
рает камушки? — спрашивает Абу Хайан71. «Почему обширному
зданию и грандиозному дворцу грозит разрушение, после того
как их покидают люди? А ты знаешь, что когда ими пользуются
обитатели, они ходят в них, прислоняются к стенам, царапают
их?»72. «Почему, когда слышишь повторение одних и тех же
речей, начинаешь испытывать отвращение?»73.
Что ответить на эти вопросы? А если попытаться увидеть в
них смысл и задуматься над ними, не приоткроют ли они ка¬
кие-то незамеченные ранее стороны психики, физических явле¬
ний? Вопросы Абу Хайана — не только литературный прием:
слишком индивидуальны, личны они. Они перестают быть просто
вопросами, а начинают выражать, как правильно заметил
3. Ибрагим, специфическую особенность философского склада
ума Таухиди — присущий ему «дух вопрошания». «У Абу Хайа¬
на была любознательность, желание исследовать, страсть к
познанию, что делало из него вопрошающего философа, кото¬
рый поражался всему и не принимал на веру ничего, удивлялся
тому, к чему люди привыкли, считая это обычным...»74. Он стре¬
мился «поразить» умы, превратив философствование в «вопро¬
шающий процесс», который направлен на постановку проблем
и пробуждение сомнений. «Вопрошающий дух», настаивает
3. Ибрагим (и мы согласны с ним), является духом гибким, он
ничего не принимает на веру и не замыкается в себе75.
Фундаментальную неуспокоенность, мятежность духа Таухи¬
ди отмечает и Мохаммад Аркун. Более того, этот исследова¬
тель впервые определил суть его творчества как «выражение
трагического чувства жизни»76. Он раскрывает смысл этого»
184
•определения: «Мятежник и послушный вельможа, человек чес¬
ти и клеветник, неистовый идеалист и материалист, завидую¬
щий успехам и благополучию других, неистребимый рациона¬
лист и ревностный верующий, надменный честолюбец и изгнан¬
ник из града людей, эрудит, влюбленный в знание, верящий
в пользу учения, и нигилист, готовый на уничтожение в огне
плодов своей писательской деятельности»77. И все это не пре¬
увеличение, все это так. Почти о том же пишет и 3. Ибрагим:
«Он постоянно разрывался между деятельностью и бездейст¬
вием, между мужественностью и слабостью, между силой и не¬
мощью, между мощью и старостью... он был личностью, кото¬
рая состоит из контрастов, различий парадоксов и постоянно
•стремится объединить противоположные полюса»78.
Опираясь на эти характеристики, попробуем раскрыть экзис¬
тенциальное содержание философского сознания Абу Хайана.
И исследователи и современники (да и сам он) признают
противоречивость его натуры, присущность многих, если не поч¬
ти всех, по крайней мере в сознании, пороков и добродетелей
общества и людей, стремление соединить несоединимое. Выхо¬
дец из бедной семьи — его отец был бродячим торговцем фини¬
ками («ат-таухид», от чего, как считают, и произошло его имя),—
он до конца жизни терпел лишения и умер в крайней нищете.
В его время такое положение литераторов, ученых и прочих
«интеллигентов» было обычным. Это даже считалось нормаль¬
ным: аскетизм позволял мыслителю быть независимым от
власть предержащих, от мнения «толпы», возводился в нравст¬
венный принцип.
Таухиди восставал против сложившейся социально-нравст¬
венной ситуации. Он хотел получать за свой труд подобающее
вознаграждение, которое, однако, не лишало бы его свободы.
Тяжелое материальное положение побуждало литераторов, уче¬
ных, философов служить при дворах вазиров, у крупных чинов¬
ников, где они надеялись получать жалованье. Таухиди тоже
пытался продавать свои мысли, свой талант, но прислужника
из него не получалось. Уже в молодые годы он вынужден был
покинуть багдадского вазира Абу Мухаммада ал-Хасана ибн
Мухаммада ал-Махлаби, поскольку последний не одобрял не¬
которые его взгляды. Абу Хайан отправился в Рей к просвещен¬
ному вазиру и известному поэту Абу Фадлу ибн ал-Амиду, при
дворе которого находились один из выдающихся поэтов эпохи
ал-Муттанабби и философ ал-Мискавайх. Но скупость Ибн ал-
Амида приводила Таухиди в ярость79 — они расстались. Так и
переходил он от двора к двору, пытаясь найти ценителя своих
знаний и талантов, ценителя в буквальном и переносном смыс¬
ле, но так и не нашел. Сиджистани (тоже умерший в страшной
нищете) наставлял своего ученика: «Даруя мудрость, все¬
вышний Аллах лишает средств к пропитанию, ибо знание и
деньги, как две жены, редко сойдутся и сговорятся; достаточно
у человека денег — алчна душа, достаточно у него знания —
185
душа разумна. То ;и другое — противные и враждебные друг
другу вещи»80. Но хотя Абу Хайан признавал мудрость утверж¬
дения древних, что знание и богатство 'несовместимы, он пы¬
тался совместить их: восставал против бедности, презирал и
стыдился ее, видя в ней рок, нависший над частью людей, ко¬
торых жалел и -которым сочувствовал. Унижаясь, домогаясь ма¬
териальных благ, Таухиди ненавидел тех, перед которыми уни¬
жался. Он любил жизнь: «она несет веселье и заботу, наслаж¬
дение и знание, ощущение и движение; без них жизнь неполна,
только они придают ей смысл»81.
С горечью и пониманием говорит Абу Хайан о трудной судь^
бе философов, которых лишения и нужда гонят из одного края
в другой. Абу Таммам ан-Найсабури за попытку «высказать
все, что было у него на уме... положения лишился, позором по¬
крылся и в доме затворился»82. Ал-Амири «скитается по свету,
дрожа за свою жизнь, поминутно ожидая смерти. То он ищет
убежища при дворе Ибн ал-Амида, то скрывается у военачаль¬
ника в Нишапуре, то заискивает перед чернью, сочиняя книги в
защиту ислама, и все тщетно: его неизменно обвиняют в без¬
божии...»83.
По словам 3. Ибрагима, Таухиди жил «в обществе, где гос¬
подствовала полная анархия, смуты. Он был свидетелем раз¬
ложения и упадка Бундов. Несомненно, влияние этой мрачной,
жестокой эпохи отразилось на его образе мышления и стиле
жизни»84. Абу Хайан болезненно воспринимал свою невписы-
ваемость в круг людей обеспеченных, в круг придворных лите¬
раторов, философов и ученых. «У меня странное положение,
необычное произношение, необычная вера, необычный нрав,
я радуюсь уединению, довольствуюсь одиночеством, привычен
к молчанию, неразлучен с трудностями, терпелив к страданиям,
отчаиваюсь от всего виденного»85. В другом месте он жалуется:
«Са'мый чужой из чужеземцев тот, кто стал чужим на своей
родине, и самый далекий из далеких тот, кто далек, находясь
вблизи»86. Таухиди понимал, что обычный удел неординарных
мыслителей — аскетизм и одиночество. И все же в нем жила
тяга к общению, к дружбе, желание иметь близких людей. Этой
теме, ознакомлению со всем тем, что писали по данному сюжету
древние, он посвятил специальное сочинение «О дружбе и
друге». Но в своих стремлениях Абу Хайан, судя по всему, был
максималистом, требовал от людей искренности, честности,
преданности, не обнаруживал этого за редким исключением и
впадал в отчаяние.
Закария Ибрагим считает ат-Таухиди «философом-пессимис-
том», «более близким к школе (мазхаб) отчаяния, чем к школе
надежды»87. С этим можно согласиться. Однако представляет¬
ся, что переживание его было глубже. Да, он был пессимистом,
сознавал все несовершенство жизни и ее мрачные стороны. Уже
отмечалось, что его волновала проблема смерти. Он старался
дать;-ей как феномену бытия свое объяснение и стоически при-
186
нять ее, принять судьбу. Поэтому его внимание привлекали
случаи нежелания людей смириться с участью, прибегавших к
самоубийству. Абу Хайан тщательно анализирует суть каждого
из подобных случаев. «Однажды мы видели шейха из ученых.
Его положение дурно, его пропитание скудно. Неприязнь людей
к нему усиливалась, знакомые питали к нему отвращение. Все
это обрушилось на него, и он, придя как-то в свое жилище,
подвесил к потолку веревку и удавился»88. Понимая причины,
приведшие к такому концу, Таухиди тем не менее осуждал по¬
ступок, причем не только с точки зрения шариата, но и разума.
«Ты видишь, что есть причина для самоубийства, когда челове¬
ка преследуют неудачи, когда он доведен до крайности и нахо¬
дится в ситуации, которой пытается противостоять по мере
своих возможностей... На что он надеется? К чему обращает
свой взор? Что встает перед ним и лишает его благоразумия?..
Что приводит к мысли о небытии, вырывает его из-под власти
разума и делает беспомощным перед превратностями судьбы?»89.
Таухиди констатирует, что к самоубийству склонны скорее юно¬
ши, нежели зрелые люди. «Почему,—спрашивает он,— лишают
себя жизни чаще юноши, чем старики?»90. И отвечает: «Любовь
человека к этому миру не сильна, пока он не привязался к нему,
не стал его почитать, трудиться в нем, видя при этом его прев¬
ратности»91.
Однажды в Багдаде Абу Хайан наблюдал, как некоего че¬
ловека стражник вел в тюрьму. Проходя мимо мастерской ци¬
рюльника, этот человек схватил бритву и тут же перерезал себе
горло. «Кто убил его?—спрашивает Абу Хайан.— Когда мы
говорим: он сам убил себя, то получается убийца — он же и
убитый... Если один из них был иным другого, то каким обра¬
зом они связаны, несмотря на разрыв? И если этот был тем, то
каким образом они разделились, несмотря на связанность?»92.
'Самоубийство — действие, вызванное несогласованностью, нрав¬
ственно-психической раздвоенностью. «Является ли этот выбор
сознательным или идет от испорченности натуры?»93. «Почему
смерть для испытавшего муки легка, хотя он знает, что вместе
с небытием не станет и жизни... а боль, пусть даже нестерпи¬
мая, означает драгоценную жизнь»94.
Рассуждения Таухиди, касающиеся смерти, показывают, что
он принимал ее как роковую неизбежность, пытался найти
идейные основания для утешения человека, испытывающего
страх, и осуждал попытки людей самолично решить напряжен¬
ный спор между жизнью с ее невыносимыми иногда тяготами
и смертью, избавляющей от них, но одновременно прерывающей
и жизнь. Возможно, эта проблема не раз вставала и перед
самим Таухиди, порождая интеллектуальные и душевные смя¬
тения и муки. «О моя Возлюбленная! Разве не видишь Ты рас¬
сеянность в моем сосредоточении? Разве не видишь Ты спазм,
когда я принимаю пищу? Неужели Ты не видишь, как блуждаю
я, идя по верному пути? Неужели не усматриваешь в моих при-
4187
чудах благоразумия?»95. И если весьма популярная в те вре¬
мена у поэтов тема смерти часто воспринимается как традицион¬
ный прием для передачи эмоционально окрашенных эстетиче¬
ских образов, то у Абу Хайана она выражает его действитель¬
ный душевный настрой, искреннее, терзавшее его сомнение.
Здесь снова напрашивается сопоставление Таухиди со стои¬
ками. И им и ему свойственно трагическое видение мира. Но
трагизм их, на наш взгляд, разного рода. Античные мыслители,,
как правило, принимали судьбу, ее неизбежность, подчинялись
во внешнем поведении обстоятельствам, оставляя для себя как
сферу жизни внутреннюю свободу интеллекта, который превра¬
щает эту сферу в истинную и единственную подлинность, не под¬
властную никому, кроме самого индивида9в.
Абу Хайан тоже сознает эту возможность решения всех во¬
просов. Но из-за своей ли натуры или в силу иного понимания
должного, справедливости и тому подобных вещей он постоянно
бунтует против обстоятельств, судьбы. И потому его трагиче¬
ское чувство — это не глубокая, спокойная, мудрая меланхолия,
а острая, терзающая мука, которая постоянно доводит его до
срывов. Он, как отмечает 3. Ибрагим, не мог выйти за рамки
своей культуры или отказаться от естественных потребностей,
не мог освободиться от социальных оков, более того, он оста¬
вался -простым человеком из плоти и крови97. Именно то, что
он не мог преодолеть свою «обыкновенность», стало, по наше¬
му мнению, причиной его бунтарского трагизма. Эта «обык¬
новенность» выталкивала его из стоического состояния и созна¬
ния. Он знал, что перед ним стена обстоятельств, необходимос¬
ти, неизбежности, и тем не менее не хотел их принимать, бился
об эту стену, яростно восставал против ее неодолимости.
Таухиди пытался примириться со своим уделом и в конце
жизни старался быть покорным. «Боже наш! — писал он в этог
период.— Как безучастны мы к Тебе, а Ты, наоборот, продол¬
жаешь творить благо за благом, осыпаешь нас дивными талан¬
тами и достоинствами, Ты ласкаешь наши сердца разными сло¬
вами, одаряешь нас чудесами своего царства и милостями»98.
Говоря о последнем сочинении Абу Хайана — «Божественные
указания», из которого был приведен отрывок, египетский ис¬
торик философии Абд ар-Рахман Бадави писал: «Книга тол¬
кует о душе, которая, после того как она устала от испытаний
жизни, постоянных страхов, покорно приняла веру. В ней го¬
речь отчаяния, в ней мучительный вопль разбитой надежды,
на которую один за другим обрушивались удары... в ней ощу¬
щение огромной пропасти, которая разверзлась в ткани бы¬
тия... в ней вкус пепла»99.
3. Ибрагим находит в этой книге влияние христианства,
Библии, особенно той ее части, которую составляют псалмы
Давида, воспевающие милость бога, его доброту, его благодея¬
ния. И действительно, если сравнить их с восхвалениями Алла¬
ха у Таухиди, то можно обнаружить не только общность со¬
188
держания, но и удивительное сходство стиля, интонации. При¬
ведем лишь некоторые, но очень типичные мольбы Давида:
«Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей!.. По¬
милуй меня и услышь молитву мою» (Псалтирь 4:2). «Прикло¬
ни ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною
твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня» (30:3).
«Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей
моих избавил меня» (33:5). «Я желаю исполнить волю Твою,.
Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (39:9) и т. д.
А вот отрывок из сочинения Таухиди: «Помыслы, исходя¬
щие от Тебя, непостижимы; страстное стремление к Тебе не ути¬
хает, забвение Тебя невозможно. Смилуйся над нами, страдаю¬
щими за Тебя (!); склонись к нам, смиренным перед Тобой;
будь милостив к нам, вручающим себя Тебе. Когда мы взываем
к Тебе, внемли нам; когда обращаемся к Тебе, обратись к:
нам» 10°.
Но и в этих взываниях Абу Хайана, свидетельствующих как
будто о его смирении, слышится не только смирение, но и не¬
избывная страсть, хотя и смягченная немощью, неспособностью
к громкому роптанию. И неудивительно, что в последний период,
своей жизни Абу Хайан совершает такой «экзистенциальный
акт», как сожжение собственных книг. Правда, придавать ему
слишком большое значение при характеристике личности Тау¬
хиди вряд ли правильно, ибо сделал это крайне утомленный
жизнью, истерзанный человек. И все же в арабской культуре
нет другой такой личности, которая совершила столь неразум¬
ный с точки зрения здравого смысла поступок, послав тем са¬
мым вызов жизни и судьбе.
Современники Таухиди, сообщает Иакут, нередко говорили,,
что он «ничтожный писака, всегда недовольный; порицание —
его занятие, клевета — его мастерская»101. Непонятый и не¬
признанный, Абу Хайан умер в безвестности, и никто не знает,,
когда именно (даты жизни его приблизительны). О нем надол¬
го забыли. Но в наши дни его неординарная, глубокая и бун¬
тарская мысль привлекает внимание многих прогрессивных
арабских философов и литераторов.
1 См.: Иакут ар-Руми. Муаджам аль-удаба (Биографии литераторов).
Ч. 15, Каир, 1938, с. 5. Возможно, именно данное обстоятельство нашло от¬
ражение в следующем размышлении ат-Таухиди: «Человек... привязан к ро¬
дине, где вырос и которую полюбил, но чуждается страны, которую не по¬
сещал и не знает. Хотя он и происходит из этой страны, но не запечатлелась
она у него в памяти». Абу Хайан ат-Таухиди. Диалоги (из «Книги услады
и развлечения»). Вступит, ст., пер. и коммент. Д. В. Фролова.— Восток—Запад.
Исследования, переводы и публикации. М., 1988, с. 57.
2 См.: Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди. Адиб ал-фаласифа ва файласуф-
ал-удаба (Абу Хайан ат-Таухиди. Литератор среди философов и философ сре¬
ди литераторов). Каир, 1974, с. 14.
3 Иакут ар-Руми. Биографии литераторов (цитату даем в переводе
Д. В. Фролова).
4 Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1973, с. 212.
18»
5 Изд. А. М. Шадияк. Константинополь. По мнению специалистов, издание
содержит много ошибок. Ср. новое издание в: Extrait du Bulletin d’Etudes
Orientales. T. 18. Beyrouth, 1963—1964, c. 242—297.
6 Ас-Сакифа — место, где сподвижники Мухаммада после его смерти да¬
ли присягу на верность Абу Бакру, направив послание об этом Абу Талыбу,
противнику Абу Бакра.
7 Из работ такого рода о нем можно назвать лишь ту же монографию
3. Ибрагима и обширную статью Мохаммада Аркуна (Arkoun М. L’humanisme
arabe au IVe/Xe siècle d’après le Kitab al-Hawamil wal-Sawamil.— Studia isla-
mica. P., 1961, t. 14, c. 73—108) и его же монографию (L’humanisme arabe au
IVe/Xe siècle. P., 1982).
8 Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 7, 94.
9 Цит. по: Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Гл. 6.—
Народы Азии и Африки. 1984, № 5.
10 Амин А. Предисловие к кн.: Абу Хайан ат-Таухиди. Ал-Хавамил ва-ш-
шавамил (Вопросы и ответы). Каир, 1951, с. «даль».
11 Там же, с. «ва».
12 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Т. 3. Каир, 1943,
с. 189.
10 Там же, с. 196.
14 Там же, с. 124.
15 Абу Хайан ат-Таухиди. Ал-Мукабасат (Извлечения). Каир, 1929,
с. 186—187.
16 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 278.
17 Абу Хайан ат-Таухиди. Ал-Ишарат ал-илахийа ва-л-анфас ар-руха-
иийа (Божественные указания и духовные овевания). Каир, 1950, с. 218.
18 Там же.
19 Абу Хайан ат-Таухиди. Рисала ал-хайат (О жизни). Дамаск, 1951,
с. 62—63.
20 А. Амин, подготовивший к изданию это сочинение, полагал, что Абдал¬
лах ал-Арид — это Абдаллах ал-Хусейн ибн Ахмад ибн Саадан, вазир буид-
ского правителя Симсам ад-Даула; высказываются и другие мнения.
21 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Т. 2. Каир, 1942,
с. 190.
22 Абу Хайан ат-Таухиди. О жизни, с. 62.
23 Абу Хайан ат-Таухиди. Диалоги. (Из «Книги услады и развлечения»).—
Восток—Запад, с. 71.
24 Там же, с. 78.
25 Там же, с. 73.
28 Абу Хайан ат-Таухиди. Божественные указания, с. 164.
27 См.: Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 365, 366.
28 Цит. по: Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 146.
29 Сам Ибн ал-Джаузи объясняет особую опасность Абу Хайана тем, что
он, в отличие от двух других, которые «кричали» (сараха), никогда не кри¬
чал, а «бормотал» (говорил неясно, намеками — маджмаджа). Можно пред¬
положить, что речь идет о том, что ал-Маарри и ар-Раванди слишком явно
и откровенно высказывали свои еретические взгляды и потому легко можно
было показать их враждебность «традиции», а при желании и исламу. Абу
Хайана же обвинить было труднее, он исподтишка подтачивал веру.
30 Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди.
Э1' Эти аспекты соотношения религии и философии рассмотрены А. В. Са-
гадеевым (Сагадеев А. В. Ибн-Сина. М., 1980; он же. Учение Ибн-Рушда о со¬
отношении философии, теологии и религии и его истоки в трудах аль-Фара-
би.— Аль-Фараби. Научное творчество. М., 1975.
32 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Т. 3, с. ИЗ.
33 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. T. 1, Каир, 1939,
с. 223.
34 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Т. 3, с. 120.
36 Абу Хайан ат-Таухиди. Ал-Басаир ва-з-захаир (Сокровенное и явное).
Каир, 1953, с. 159—160.
190
36 См.: Абу Хайан ат-Таухиди. Сокровенное и явное, с. 144; см.: он же.
Извлечения, с. 260.
37 Абу Хайан ат-Таухиди. Божественные указания, с. 394.
38 Цит. по: Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 92—93.
39 Там же, с. 93.
40 Там же, с. 176.
41 Там же, с. 177.
42 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 118.
43 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. T. 1, с. 153.
44 Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 141.
45 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 287.
48 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Т. 2, с. 204.
47 Это видение явлений также отличает Абу Хайана от философов.
Рационализм доктрины фаласифа направлен на «общее»; оно — исходное
начало, а фактически и цель анализа, поскольку конечным итогом их было
подведение единичного под общее, уподобление единичного общему.
46 Jadaane F. L’influence du stoïcisme sur la pensée musulmane. Beyrouth,.
1968, c. 343.
49 Из классической арабской поэзии. М., 1983, с. 175.
50 Там же, с. 215.
51 Там же, с. 225—232.
52 Jadaane F. L’influence du stoïcisme, c. 86.
53 Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 276. Ср.: «От вздоха первого
в день своего рождения / Душа торопится ко дню исчезновенья» (Абу-ль-Аля
аль-Маарри. Стихотворения. Пер. А. Тарковского. М., 1979, с. 95).
54 Мискавайх. Тазхид ал-ахлак (Умеренность нравов). Бейрут, 1966„
с. 209.
55 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. T. 1, с. 198. Ср.
у ал-Мутанабби: «Все изменит судьба, все изменят года. / Но души не коснут¬
ся они никогда» (Из классической арабской поэзии, с. 187).
56 Jadaane F. L’influence du stoïcisme, c. 86.
57 Цит. по: Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 202.
56 См.: Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 128.
59 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 25.
60 Это выражение можно перевести и как «скрыта для него душа ею же
самой» — «ва хуа махджуб ан-нафсихи би нафсихи» (Абу Хайан ат-Таухиди.
Книга услады и развлечения. Т. 3, с. 109).
61 См.: Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 137; см.: он же. Книга ус¬
лады и развлечения. Т. 3, с. 187.
62 Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 165.
63 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Т. 2, с. 10.
64 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 136.
65 Arkoun М. L’humanisme arabe, с. 79.
66 См.: Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. T. 1, с. 159.
67 См.: Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 257.
68 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 85.
69 См., например: Ибн Сина. Даниш-намэ. Сталинабад, 1957, с. 127.
70 Наиболее ярким примером поэзии такого рода является творчество1
Абу-л-Аля ал-Маарри.
71 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 275.
72 Там же, с. 260.
73 Там же, с. 314.
74 Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 105.
715 Там же, с. 152—153.
76 Arkoun М. L’humanisme arabe, с. 79.
77 Там же, с. 80.
78 Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 117—118.
79 Свои чувства и взгляды по этому поводу он выразил в «Пороках двух
вазиров» (см.: Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 110—112).
80 Цит. по: Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Т. 2,
с. 49.
191
ь1 Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 234.
82 Абу Хайан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения.— Восток—Запад,
с. 76.
83 Там же.
84 Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 7.
85 Цит. по: там же, с. 196.
86 Абу Хайан ат-Таухиди. Божественные указания, с. 81.
87 Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 195.
88 Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 219.
89 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 150—151.
90 Абу Хайан ат-Таухиди. Извлечения, с. 238.
91 Там же, с. 248.
92 Там же, с. 153.
93 Там же, с. 187.
94 Абу Хайан ат-Таухиди. Вопросы и ответы, с. 187.
95 Абу Хайан ат-Таухиди. Божественные указания, с. 104.
96 Единомышленник и друг Абу Хайана — Мискавайх изложил идеи стои¬
ков в следующем повествовании. Как-то принадлежавший философу (пред¬
полагается, Мусонию Руфу) раб обратился к одному из великих людей свое¬
го времени, кичившемуся богатством, и сказал: «Когда ты хвастаешь своим
конем, я знаю, что красота и изящество коня присущи именно ему, а не тебе;
когда ты хвастаешь своей одеждой, я знаю, что эти достоинства принадле¬
жат не тебе...» (цит. по: Jadaane Е. L’influence du stoïcisme, с. 233). Согласно
стоикам, которым следовали Мискавайх и Таухиди, надо различать вещи,
находящиеся вне нас, и вещи, зависящие от нас. Стремление к первым на¬
носит ущерб человеку. Вечное блаженство — в вещах, зависящих от нас и тем
самым неуничтожимых, являющихся божественным даром (с. 220).
97 См.: Ибрагим 3. Абу Хайан ат-Таухиди, с. 8.
98 Абу Хайан ат-Таухиди. Божественные указания, с. 289.
99 Бадави А. Адиб вуджудий фи-л-каран ар-рабиа ал-хиджри (Литератор-
экзистенциалист четвертого века хиджры).— Абу Хайан ат-Таухиди. Божест¬
венные указания. Предисл., с. «лам».
100 Абу Хайан ат-Таухиди. Божественные указания, с. 289.
101 Цит. по: Хуфи А. М. Абу Хайан ат-Таухиди. Ч. 1, Каир, 1957, с. 74.
М. Т. Степанянц
СУФИЗМ: ОППОНЕНТ
ИЛИ СОЮЗНИК РАЦИОНАЛИЗМА
Адекватное воспроизведение процесса духовной эволюции
мусульманского общества невозможно без выяснения объектив¬
ной роли исламского мистицизма в развитии методов познания
истины. Хотя термин «философия» в средние века закрепился
здесь за приверженцами главным образом перипатетизма (а так¬
же платонизма и неоплатонизма), становлению ее способство¬
вали в немалой степени религиозно-философские течения, к чис¬
лу которых наряду с мутазилизмом и исмаилизмом относится
суфизм. Как направление мистическое, он, естественно, высту¬
пал с позиций иррационализма. «...Произведения теософских су¬
фиев полны критики „рационалистов“ и умаляют значение ра¬
зума по сравнению с интуицией, что создает впечатление, будто
суфии архивраги философии» (курсив мой.— М. С.)1. Однако
оппозиция, возникшая внутри теологии, была направлена про¬
тив не столько рационализма философского, сколько богослов¬
ского.
При всем принципиальном различии рационализма и мисти¬
цизма их тем не менее объединяет единая цель — расширить
пределы человеческого знания. (Исключение, конечно, состав¬
ляют те разновидности указанных учений, которые замкнуты
на догму, независимо от того обретена ли она с помощью ratio
или получена с вероучением.) Отсюда, как это ни парадоксаль¬
но, может возникать ситуация, когда представители фальсафа
и суфизма ощущают себя «собратьями во истине». Именно так
называл великий Ибн Сина мусульманских мистиков. Примеча¬
тельна в этом смысле и встреча Ибн Араби (1164—1240) с Ибн
Рушдом (Аверроэсом) (1126—1198), свидетельство о которой
дошло до нас в изложении первого. Суфийское отношение к
проблеме познания у Ибн Араби целесообразно рассмотреть
именно в сопоставлении с эпистемологией представителя араб¬
ского перипатетизма в лице Ибн Рушда. Подобный выбор про¬
диктован лишь отчасти тем, что эти мыслители были современ¬
никами. Главное же в том, что их взгляды особенно репрезен¬
тативны: Аверроэс практически подвел итог развитию рациона¬
листических элементов в восточном перипатетизме, а Ибн Ара-
© М. Т. Степанянц, 1990
13 Зак. 635
193
би вошел в историю как Великий шейх, поскольку связанная с
его именем концепция «вахдат ал-вуджуд» (единство бытия)
из всех суфийских идей оказала наибольшее влияние на после¬
дующие поколения мистиков.
Ибн Рушд, бывший близким другом отца Ибн Араби, поже¬
лал познакомиться с юношей, о котором был много наслышан.
«Когда я вошел в дом,— вспоминает Ибн Араби,— философ
встал, чтобы поздороваться... Он обнял меня и воскликнул:
„Да!“ Увидев, что я понял его, он выразил удовлетворение. Я же,,
догадавшись о причине его удовлетворенности, произнес:
„Нет!“ Ибн Рушд отпрянул, изменился в лице и, кажется, за¬
сомневался в том, что думал обо мне. Затем он спросил: «Какое
решение нашел ты в результате мистического озарения и бо¬
жественного вдохновения? Совпадает ли оно с тем, что выте¬
кает из спекулятивного размышления?“ Я ответил: „Да и нет“»2.
Эти «да» и «нет» означали признание как общего, так и
различного между суфизмом и фальсафа. Противоположность
рационального подхода, присущего арабским аристотеликам,.
и мистического, характерного для суфиев, столь очевидна, что
мы сосредоточим внимание на менее явном, вернее, на том, что-
позволяет усматривать общность двух направлений. Почему
суфиев, несмотря на их праведность, фанатичное почитание Ал¬
лаха, считали еретиками, преследовали и даже предавали пуб¬
личной казни? Почему их нередко относят к разряду свободо¬
мыслящих? Почему мусульманский мистицизм привлекал вни¬
мание религиозных реформаторов XIX—XX вв., вдохновлял ро¬
мантическое направление в литературе? Думается, что ответы
на поставленные здесь вопросы заложены в зашифрованном
кратком «да» Великого шейха.
Антидогматизм, скепсис по отношению к знанию преподан¬
ному, а не обретенному в личном опыте, и логически вытекаю¬
щая из этого оппозиция официальному исламу — вот, видимо,,
то, что «роднит» суфизм с философским рационализмом. «Лич¬
ный опыт» суфиев и философов, конечно же, не идентичен. В од¬
ном случае речь идет о мистическом переживании, интуитив¬
ном прозрении, «ведении», в другом — об опыте, связанном с
размышлением, обобщением знаний, логическим доказательст¬
вом, выводами из эксперимента. Важно, однако, отметить, что
в обоих случаях наблюдалось стремление не полагаться слепо
на 'принятые положения (будь то вероучения или науки), а под¬
вергать их сомнению, проверять и, если надо, отвергать, утверж¬
дать собственное мнение, представление.
Личный опыт не означал отказа от преемственности как
таковой. Но она была избирательной; должна была «работать*
на ту познавательную установку, которой человек отдавал пред¬
почтение. Для суфиев значима была преемственность по линии
«тарика», т. е. школ, направлений, опиравшихся на определен¬
ный суфийский авторитет. Для философа ценность представля¬
ли «взгляды и суждения... согласующиеся с тем, что требуют*
194
условия доказательства... Если что-то в этих книгах,— говорил
Ибн Рушд, имея в виду книги „живших до нас народов“,—
соответствует истине — переймем это у них, порадуемся этому
и поблагодарим их за это; если же что-то оказывается не соот¬
ветствующим истине — укажем на это, предостережем от этого
и простим их»3.
Общим в гносеологической позиции суфизма и арабского
перипатетизма была убежденность в необходимости неустанно¬
го поиска истины, и это ставило их в оппозицию к официаль¬
ной идеологии, навязывавшей свои положения в качестве ко¬
нечных.
Цели, методы и пределы познания формулировались со¬
образно мировоззренческим принципам, в основе которых ле¬
жали представления о бытии, боге и человеке, о роли и месте
последнего во вселенной. Согласно «вахдат ал-вуджуд», концеп¬
ции, наиболее полно отражающей онтологические воззрения
Ибн Араби, «Бог — абсолютное бытие, не имеющее иного источ¬
ника, кроме самого себя... Абсолютное бытие без ограничения
и условий»4. (Ср. с высказыванием Ибн Рушда: «Сущее, кото¬
рое не возникло благодаря чему-то и не образовано из-за чего-
то. Этому сущему не предшествует время»5.)
Бог — высшая реальность, абсолютное совершенство, из ко¬
торого истекают, эманируют, но в котором «утоплены (заклю¬
чены.— М. С.) все существующие реальности»6. (Ибн Рушд в
комментарии к аристотелевской «Метафизике» писал, что
«формы не создаются в вещах вместе с самими этими вещами
в едином акте творения, как утверждают ашариты, и не при¬
вносятся в материю неким „дарителем форм“ в процессе веч¬
ного творения, как утверждает Ибн Сина, а имманентны извеч¬
ной первоматерии и лишь переходят в ней из потенциального
состояния в актуальное»7.) Исходя из этого, Ибн Араби осуж¬
дает тех, кто настаивает лишь на трансцендентности бога, ибо
полагает, что тем самым они «оскорбляют его и Его посланни¬
ков», ограничивая божественную реальность8.
Настаивая на трансцендентности бога, мусульманская тео¬
логия исключала какую-либо возможность постижения Абсолю¬
та: разъединенность бога и человека не оставляла для послед¬
него иного выхода, кроме принятия на веру коранического
«знания». Суфии же, хотя и полагали, что Истина-бог до конца
не постижима, допускали, однако, вероятность максимального
«приближения» к ней. (У Ибн Рушда: «Сущее постигается бла¬
годаря доказательству»9.)
Бог — скрытая от человека тайна, но все же он через име¬
на дает о себе знать. Коран упоминает 99 имен-атрибутов Ал¬
лаха. Ибн Араби считает, что они бесчисленны, поскольку мно¬
гообразие божественной манифестации безгранично: «Бог не
проявляется одним и тем же образом дважды»10.
Имена — «намеки» познающему, поскольку они как бы свя¬
зывают абсолютно необходимое с подлунным миром: «Божест¬
13*
195
венные имена есть не что иное, как Названный объект (Бог сам
•по себе)... Но имена влекут за собой материализацию соответ¬
ствующих реальностей; и эти реальности есть не что иное, как
мир»11. (У Ибн Рушда: «Что же касается того вида сущего,
которое занимает промежуточное положение между этими дву¬
мя крайностями, то это то, которое не возникло из чего-то и
которому не предшествовало время, но которое есть сущее бла¬
годаря чему-то, а именно благодаря некоему действователю»12.)
Если бы имена рассматривались исключительно как «божествен¬
ные реальности» (таковыми их обычно считали мусульманские
теологи), то они оставались бы недоступными для распознания
человеком и потому не могли бы приблизить его к постижению
Абсолютного Бытия 13.
Возможность понять «намеки» всевышнего определяет ис¬
ключительное место и роль человека в мироздании. Он, по сло¬
вам Ибн Араби, микрокосм (алам асгар): универсум (макро-
коом — алам акбар) без него подобен мертвому телу. В челове¬
ке интегрировано все сущее, он «объединяет в себе все сущ¬
ностные реальности (хакаик) мира»14. Сердце его — «вместили¬
ще» божественного, в нем сияет свет божий. Знаменитый хадис
«кудси» (так называемые священные хадисы, авторитет кото¬
рых признается суфиями) гласит: «Не небеса и не земля, а лишь
сердце Моего верного слуги содержит Меня». Сердце подобно
зеркалу, но чтобы можно было узреть в нем лик господний,
оно должно быть соответствующим образом «отполировано»
в процессе самосовершенствования и самопознания: знание че¬
ловеком себя, учитывая его положение в мире, дает одновре¬
менно знание бога и нас самих15.
Взгляд на человека как на микрокосм, признание его астро¬
лябией божественного неизмеримо поднимало его статус по
сравнению с тем, какой отводила индивиду исламская теология^
связывающая его исключительно с дольним миром. Именно по¬
тому, что человеку оказано «доверие» быть хранителем божест¬
венного 1в, он способен постигать Абсолют. «Невежество» его,
однако, состоит в том, что он «забыл» о своем предназначении:
и ищет Истину-клад повсюду, кроме как в самом себе.
В одной из притч «Маснави» — религиозно-философской поэ¬
мы Джалал ад-Дина Руми, самого яркого последователя Ибн
Араби, суфий, отправившийся с приятелем гулять в сад, вместо
того чтобы любоваться красотой природы, уединился. На вопрос
приятеля, почему он сидит с низко опущенной головой и не
обращает внимания на то, что вокруг, на «знаки божественного
милосердия», суфий ответил, что эти знаки лучше зрить в соб¬
ственном сердце17.
Суфийская установка на постижение Истины посредством
самопознания может показаться противоречащей постоянно по¬
вторяемым призывам мусульманских мистиков к забвению,
уничтожению личного «я». Противоречивости здесь тем не ме¬
нее нет, ибо имеется в виду забвение того «я», которое являет¬
196
ся феноменальным, во имя обнаружения истинного, сущност¬
ного «я».
Разрушил дом и выскользнул из стен,
Чтоб получить вселенную взамен.
В моей груди, внутри меня живет
Вся глубина и весь небесный свод 18.
«Смерть» феноменального «я» открывает путь к сущностно¬
му знанию, при котором отсутствует расчлененность на объект—
субъект и постигается истина «единства бытия».
Итак, человек способен познать Истину, ибо знает, где ее
искать. Но располагает ли он средствами, которыми «клад»
может быть найден? Суфии считают, что разум (ал-акл) играет
позитивную роль лишь в ограниченной области познания. За¬
ключения его выводятся на основании показаний органов
чувств, свидетельства которых чрезвычайно обманчивы. У Руми
есть притча о слоне, помещенном в темной комнате. Люди, же¬
лая понять, что за объект находится перед ними, ощупывали
его руками. Тронув хобот, один сказал, что это водосточная
труба, другой, потрогав ухо, сказал, что это большое опахало,
третий, наткнувшись на ноги, предположил, что это колонны,
четвертый, пощупав спину, пришел к выводу, что перед ним
большой трон. Притча завершается констатацией, что данные
наших органов чувств поверхностны, неистинны.
Ибн Араби обращает далее внимание на статичный харак¬
тер познавательной способности разума. Слово «акл», говорит
он, происходит от «икал» (путы, стреноживание). Следователь¬
но, разум «сводит объект к одному свойству, реальность же
отвергает такие ограничения»19. Последнюю великий шейх рас¬
сматривает как постоянное движение, изменение, сравнимое с
беспрестанным божественным «дыханием»: «В мире не сущест¬
вует покоя. Поистине, непрерывное сохраняется вечно, днем и
ночью»20. Важно при этом иметь в виду, что движение пони¬
мается Ибн Араби как неповторяемое изменение: «Бог прояв¬
ляет себя в каждом дыхании и не повторяет того, что уже было
проявлено... Каждое проявление влечет за собой новое творе¬
ние и устраняет прежнее»21.
Шейх признавал, что истоки его воззрений прослеживаются
и у мусульманских софистов — хисбания, и у теологов-ашари-
тов. Свое отличие от них он видел в том, что первые, утверж¬
дая абсолютность перемен, не разглядели за этим процессом
объединяющего начала — бога: совершенный же человек „обна¬
руживает разнообразие положений в одной и той же Сущности;
а вопреки вторым шейх считал подверженными изменениям не
только акциденции, но и мелкие частицы (джавахир) 22.
Наконец, убежденность в ограниченности познавательных
способностей разума возникла из невозможности доказательно¬
го объяснения многих, волнующих людей мировоззренческих
вопросов, из неясности ряда положений священного текста ис-
1Ô7
лама. То, что не поддавалось объяснению и словесному выра¬
жению, представлялось подвластным сердцу. (У Ибн Рушда:
«Необходимо, чтобы мы, исследуя сущее, опирались на рацио¬
нальное рассуждение», и еще: «Мы утверждаем со всей реши¬
тельностью: всякий раз, когда выводы доказательства приходят
в противоречие с буквальным смыслом вероучения, этот бук¬
вальный смысл допускает аллегорическое толкование»23.)
Сердце, а не разум мистики считали главным органом позна¬
ния, ибо он схватывает лишь то, что лежит на поверхности,
оно же проникает вглубь, в суть. «Познание есть постижение
сердцем,— утверждает Ибн Араби.— ...От природы сердца всег¬
да чисты, отполированы и ясны. Каждое сердце, в котором бо¬
жественное присутствие проявляет себя ...есть сердце очевид¬
ца. „То, что не подвластно разуму, доступно сердцу“. Не по¬
стижение (знание бога) силами разума, как может быть познано
что-либо другое, но постижение (знание бога) через Его вели¬
кодушие, благородство, духовную щедрость, как могут знать
гностики, люди вйдения, а не [постигающие] силами разума,
через рациональное рассуждение»24.
Призывая отказаться от трезвости дискурсивных рассужде¬
ний и впасть в «замешательство», суфии тем самым освобожда¬
ли человека от установок, навязываемых ему извне, они упо¬
вали на силу инстинкта, раскованного, бессознательного, сво¬
бодную стихию воображения. Поэты-суфии обычно изображали
мистика обезумевшим от любви Маджнуном. В одной притче
Джалал ад-Дина Руми халиф спрашивает Лейлу: «Действи¬
тельно ли ты та, из-за которой Маджнун потерял голову? Ты
ведь не красивее многих других девушек». На что Лейла отве¬
чает: «Молчи — ты не Маджнун! Если бы у тебя были его гла¬
за, ты увидел бы два мира (т. е. не только открытое, но и
скрытое.— М. С.). Ты в своем уме, а Маджнун потерял голову.
В любви быть в полном сознании — предательство. Чем больше
бодрствует человек (чем яснее его сознание.— М. С.), тем доль¬
ше он дремлет (т. е. бесчувствен в любви, далек от постижения
Истины.— М. С.)»25.
В представлении суфиев процесс познания сродни опьяне¬
нию, которое ведет к экстазу, безумству.
Чтоб охмелеть, не надо мне вина —
Я напоен сверканьем допьяна.
Любовь моя, я лишь тобою пьян,
Весь мир расплылся, спрятался в туман,
Я сам исчез, и только ты одна
Моим глазам, глядящим внутрь, видна.
Так, полный солнцем кубок пригубя,
Забыв себя, я нахожу тебя. •
Когда ж, опомнясь, вижу вновь черты
Земного мира — исчезаешь ты 26.
В этих стихах арабского поэта-мистика Ибн ал-Фарида ве-
ликолепно передана суть суфийского понимания познания: Ис-
196
тнгга раскрывается только в личном ощущении. Аутентичное
знание обретается сердцем, воссоздающим в воображении
объект любви — бога. Эта идея получила наиболее полное вы¬
ражение в творчестве Ибн Араби. Он усматривал основную
функцию воображения «в гипостазировании того, что не яв¬
ляется конкретным»27. Сновидения, откровение и творчество
(ибда)—области, включенные им в символическую деятель¬
ность воображения. Сны требуют интерпретации, т. е. толко¬
вания увиденных в них образов в истинном смысле. Шейх счи¬
тал, что лишь гностиков (арифун) бог одарил способностью
безошибочной расшифровки снов.
Еще уже круг тех, кто обладает пророческим воображением
для восприятия откровения28. Более широкая область функцио¬
нирования воображения — творческая деятельность человека.
Создавать способен каждый, кому доступно воображение (наи¬
более полно эта способность, по мнению Ибн Араби, проявляет¬
ся у архитекторов). Творчество предполагает умение «увидеть»
образ прежде, чем воплотить его в жизнь. Созданные в итоге
объекты могут и не быть абсолютной новацией, оригинальность
их—в необычном синтезе существующих форм и элементов.
Воображение создает не из ничего, а используя то, что дается
человеку в опыте: «Из чувств оно извлекает образы и в этих
образах выражает идеалы»29. Даже тогда, когда оно вызывает
образы, не имеющие соответствия в реальности (скажем, дву¬
крылая лошадь), эти образы состоят из реальных компонентов,
хотя и предстающих благодаря воображению в причудливой
комбинации.
По существу, согласно Ибн Араби, воображение служит ин¬
теллекту: выполняет посредническую роль, абстрагируя образы,
возникающие при чувственном восприятии, прежде чем пере¬
дать их разуму. И в этом смысле позиция Шейха сходна со
взглядами арабских перипатетиков. (Ал-Фараби: «Воображаю¬
щая сила посредствует между чувственной и мыслящей», она
«обслуживает» мыслящую силу. «Помимо сохранения и сочета¬
ния чувственных форм она имеет третью функцию: моделиро¬
вание»30.)
С помощью разума, интуиции, воображения человек прибли¬
жается к истине. В принципе его познавательные способности
неисчерпаемы, и он обязан постоянно их совершенствовать. Ина¬
че лишь формы откроются ему, суть же вещей останется скры¬
той. «Есть те, кто знает, а есть те, кто не знает. Так что бог
не хотел направлять всех»31. «Не знают» те, кто не доходит до
сути, останавливается на форме... в то время как человек тон¬
кого понимания — ныряльщик, ищущий перлы мудрости, знает,
как определить, по какой причине божественная истина обле¬
чена в форму; он оценивает „одежду“ и материю, из которой
она сделана и узнает все, что она прикрывает, достигая тем
самым мудрости, остающейся недоступной тем, кто не обладает
знанием такого порядка»32.
199
Деление людей на духовную элиту, которой доступно эзоте¬
рическое знание, и обыкновенных людей, чернь (амма, джум-
хур), характерно не только для суфизма. Возможность самого
деления предусмотрена уже исламским преданием, а потому иг¬
норирование его считается непозволительным. «Те, кто предла¬
гает знание неподготовленным, подобен тому, кто одевает оже¬
релье из драгоценных камней на свинью». В том же духе настав¬
лял праведный халиф Али: «Говори людям лишь то, что им
понятно, так чтобы они не приписывали ложного богу и его
пророку»33. Разумеется, в теологии эта установка диктовалась
стремлением оградить массы от вопросов спорных, недоказуемых,
а тем более противоречащих здравому смыслу, дабы не допус¬
тить сомнений в истинности вероучения и не посеять сектант¬
ское разноголосье.
Иными мотивами руководствовались мусульманские перипа¬
тетики: для них это был способ оградить философию от за¬
силья религии. Люди в зависимости от своих способностей к
«разумению», писал Ибн Рушд, делятся на три категории: ри¬
торов, составляющих широкую публику и относящихся к раз¬
ряду тех, «кто вовсе не способен к толкованию [священных
текстов]»; диалектиков, способных к диалектическому толкова¬
нию «по природе и навыку», и, наконец, аподейктиков. «Пос¬
ледний вид толкования не подлежит разглашению перед диа¬
лектиками, а тем более перед публикой... правильные толкова¬
ния нельзя излагать в книгах, предназначенных для публики»34.
Ибн Араби также делит людей на «мудрых» и «смертных».
По его утверждению, лица, доверяющие своему интеллекту,
становятся пророками и святыми, они сродни универсальному
Разуму, или Логосу. Обычному же человеку, стремящемуся
познать Истину, надлежит вступить на путь совершенствова¬
ния, предварительно избрав наставника, дабы следовать за ним
как за проводником.
Выбери наставника на дорогу, ибо без кего
Путешествие полно опасностей, ужасов н страхов.
В том пути, по которому путешествовали много раз,
Без вожатого ты сбиваешься с пути, а потому
не странствуй один
По пути, о котором у тебя вообще нет представления,
Нс следуй в одиночку, не пренебрегай наставником :f.
Влияние традиционного богословия, таким образом, подме¬
нялось влиянием института суфийского наставничества. Прак¬
тика орденов показывает, что шейхи становились неоспоримы¬
ми авторитетами, беспрекословное подчинение которым превра¬
щалось в норму поведения мюридов.
В то же время суфизм признавал существование людей,
обладающих «собственным факелом», т. е. тех, кто достиг со¬
вершенства, руководствуясь не предписанными нормами и стан¬
дартами, а самостоятельно избранными моделями. К данному
200
заключению побуждает, в частности, анализ суфийского поня¬
тия «хыдр».
В 18-й суре Корана хыдр фигурирует как юноша, наставляю¬
щий Моисея. Он предстает лицом более высоким, чем Моисей,
хотя миссия пророка состояла в передаче людям закона божье¬
го. «Сказал ему Муса (Моисей): «Последовать ли мне за тобой,
чтобы ты научил меня тому, что сообщено тебе о прямом пу¬
ти?» (18:65). На что юноша отвечает: «Ты не в состоянии бу¬
дешь со мной утерпеть. И как ты вытерпишь то, о чем не име¬
ешь знания?» (18:66, 67). Кто же этот таинственный юноша?
Коран не называет его имени. Хотя согласно одному из мусуль¬
манских преданий, хыдра считают потомком Ноя в пятом по¬
колении, хронологический подход к распознанию его личности
неуместен, иначе непонятно, как могла произойти его встреча
с Моисеем.
Определение того, кто есть хыдр, дело довольно сложное.
Во всяком случае оно оказалось затруднительным даже для
составителей столь авторитетного издания, как «Энциклопедия
ислама»36. Многоликость этого образа в мусульманской лите¬
ратуре приводит к тому, что один и тот же исследователь мо¬
жет называть его «пророком», «вестником», «вечным странни¬
ком», «чудесным старцем», «исполнителем желаний», «вечно
живым», «виночерпием» и т. д.37. Думаем, это объясняется тем,
что он — не определенное лицо, не некто, отличный от «ищущего
Истину», а его второе «я». В автобиографическом повествовании
Ибн Араби рассказывает, как однажды в юности, будучи уче¬
ником Абул Хасана ал-Уруани, он поспорил со своим наставни¬
ком, не соглашаясь с его доводами, касающимися вопроса, кого
пророк Мухаммад облагодетельствовал своим явлением. Ибн Ара¬
би ушел от учителя, так и не придя с ним к согласию. На улице
ему повстречался незнакомец, который неожиданно воскликнул:
«Верь своему учителю!» Ибн Араби решил вернуться, дабы
признать свою неправоту. Увидев его и поняв, зачем он пришел,
шейх сказал: «Неужели должен был явиться хыдр, чтобы ты
поверил словам учителя?»38. Впоследствии Ибн Араби еще
несколько раз «встречал» хыдра.
Речь, таким образом, идет о неком таинственном наставни¬
ке, который как бы направляет на истинный путь. «Он ведет
каждого ученика к его собственной теофании, свидетелем ко¬
торой является сам ученик, поскольку эта теофания соответст¬
вует его „внутреннему раю“, его собственному бытию, его веч¬
ной индивидуальности... которая, по словам Ибн Араби, есть
одно из божественных имен, заложенных в нем» (курсив мой.—
М. С.) 39. Хыдр предстает одним из десятков тысяч святых —
«вали» или даже одним из пророков. Но эзотерический смысл
этого образа иной: наставник — не потустороннее лицо, а истин¬
ное человеческое «я».
Кажется значимым тот факт, что хыдр — искаженное «ха-
дыра», что в переводе означает «быть зеленым». Это позволяет
201
некоторым комментаторам считать, что зеленый цвет служит
указанием на оепежесть и неувядаемость знания исходящего.^
от самого бога»40. Известно, что зеленый цвет — священный цвет
ислама, потому, наверно, в самом названии «некто зеленый*
подразумевается неразрывность связи с божественным: хыдр—
это божественная сущность каждого человека, его «внутренний
голос», чистый, не замутненный земными страстями.
Идея обретения знания путем самосовершенствования содер¬
жит в себе сильный гуманистический заряд. Человек обретает са¬
моценность, лучшее в нем рассматривается как -итог собствен¬
ных усилий, направленных на самоактуализацию41. Знание и
нравственное совершенство оказываются нераздельно связанны¬
ми. Мысль о том, что «каждый знает о Боге только то, что за¬
ключает из самого себя»42, весьма четко и емко выражает спе¬
цифику суфийской концепции знания, высвечивает принципиаль¬
ное отличие ее от мусульманской схоластики: безличной истине
противопоставляется истина личная, корпоративности — индиви¬
дуализм, традиционализму — антитрадиционализм, теологической
запрограммированности — спонтанность интуитивного озарения
и т. д. Даже тогда, когда позиция суфизма выглядит совпа¬
дающей с официальной богословской, более пристальный взгляд
позволяет обнаружить их нетождественность.
Верно, что суфии постоянно утверждали: «Бог непостижим!»*
и это было равнозначно признанию непостижимости Юстины.
Ал-Халладж, казненный за крамольное заявление «Ана ал-хахк»
(«Я есмь Истина-бог»), неустанно повторял: «Нет пути, кото¬
рый бы вел к Ней (истине.— AI. С.)», «нет доказательств Бе
установления», «разум не схватывает Ее» и т. д.41. Но если
агностицизм исламских теологов («Даровано вам знание только
немного»,— гласит Коран, 17:85) подразумевал бессмысленность
усилий, направленных на постижение Истины и необходимость
подчинения букве священных текстов, предписаний, диктуемых
официальным богословием, то суфизм содержал в себе нечто
иное. Признание непознаваемости Абсолюта означало бессмыс¬
ленность принятия на веру каких-либо догм, требовало постоян¬
ного поиска, утверждало тем самым бесконечность процесса
познания. «Тоска по скрытому знанию» объявлялась чувством*
достойным верующего: «Если он устремляет взгляд за завесу
скрытого на вершину красоты, чувствуя свою неспособность
познать суть великолепия, и его сердце стремится к нему в зове,
волнуется, трепещет перед ним, то такое беспокойное состояние
называется тоской. Это тоска по скрытому»44. Перед нами за¬
кодированная суфийская формула «постоянство в поиске исти¬
ны», смысл которой в утверждении беспредельности человече¬
ских дерзаний. (Все наши знания, прошлые, настоящие я буду¬
щие, говорил К. Э. Циолковский,— ничто по сравнению с тем*
что мы никогда не будем знать.)
Такая установка суфизма превращала его в потенциального
союзника философского рационализма. Философское знание хах
202
таковое им не отвергалось. «Могут сказать, что у философа
нет религии, но из этого не следует, что все, что им утверждает¬
ся, ложно»,— писал Ибн Араби45. Он высоко оценивал способ¬
ность и стремление к знанию, усматривая в нем существенный
фактор в развитии духа: «Ни одно наказание не будет более
суровым для духа, чем невежество: последнее есть полный са¬
мообман»46.
Вопрос, однако, в том, какой смысл вкладывается в понятие
«знание». Суфийское представление отличалось одновременно
от богословского и философского. Вновь подчеркнем: суфизм
скептически, если вообще не отрицательно, относился к зна¬
нию преподанному, авторитарному, каким оно было в официаль¬
ном исламе. Однако скепсис вызывало и знание фаласифа. Оно
казалось малозначимым и неполным не только по методу
достижения, но в большей степени и по своей целенаправлен¬
ности. Для суфия знание открывает связь человека с богом, оно
всегда единично, индивидуально, интериоризовано. Знание же,
которое ищет философ, «нацелено на выход в сферу общности,
общезначимости»47, оно обращено на постижение окружающего
мира.
В культуре средневекового мусульманского Востока суфизм
и фальсафа выступали как два полюса одного феномена — че¬
ловеческого познания. И это общее «поле» деятельности сбли¬
жало их, несмотря на удаленность, противостояние сфер функ¬
ционирования. Как разновидность мистицизма суфизм нес в
себе определенные позитивные тенденции. Не случайно к нему
обращались (великие поэты, реформаторы коранического вероуче¬
ния, романтики XX в. Эти тенденции способны были стимули¬
ровать не только воображение, но и мысль, способствуя ее углуб¬
лению. Тем не менее они оставались лишь тенденциями: чтобы
их реализовать, требовались противоположные онтологические
основания. И тогда можно было бы ожидать того, что произо¬
шло в европейской культуре, где одной из необходимых интел¬
лектуальных предпосылок научной революции XVI—XVII вв.
(происходившей в эпоху, гносеологическим, этическим и социаль¬
ным императивом которой выступал рациональный метод) 48
стал материалистически направленный пантеизм. Наиболее яр¬
ким примером, показывающим как натуралистический пантеизм
может работать на рационализм, служит философия Спинозы.
Из-за комплекса причин, связанных с социально-экономиче¬
скими, политическими и культурными особенностями мусуль¬
манского общества, позитивные тенденции в суфизме не полу¬
чили дальнейшего развития. Напротив, по мере укрепления ин¬
ституализированного мистицизма усиливались его негативные
аспекты. Дух свободомыслия вытеснило слепое подчинение ав¬
торитету шейхов орденов, самопознание обернулось уходом от
мира, «братья» философов стали их заклятыми врагами.
203
1 Rahman F. Islam. L., 1966, c. 145.
2 Sufi of Andalusia. The Ruh al-Quds and al-Durrat al-Fakhirah of Ibn
Arabi. Berkeley—Los Angeles, 1977, c. 23—24.
3 Ибн Рушд. Рассуждения, выносящие решения относительно связи меж¬
ду религией и философией.— Сагадеев А. В. Ибн-Рушд (Аверроес), М., 1973,
с. 175 (далее Ибн Рушд. Рассуждения).
4 Цит. по: Diyab А. N. Н. Dimensions of Man in Ibn Arabi’s Philosophy
(A Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Ph. D. Degree
in the Faculty of Oriental Studies. University of Cambridge. May, 1981), c. 53.
5 Ибн Рушд. Рассуждения, с. 183.
6 См.: Ибн Араби. Фусус ал-хикам. (Геммы мудрости). Бейрут, 1980,
с. 79.
7 Ибн Рушд. Рассуждения, с. 87.
8 Ибн Араби. Геммы мудрости, с. 63.
9 Ибн Рушд. Рассуждения, с. 183.
10 См.: Diyab А. N. Н. Dimensions of Man, с. 63. Признание бесконечного
числа атрибутов означает бесконечную сложность объекта и, значит, предпо¬
лагает неисчерпаемость тайны его: всегда остается нечто, еще не познанное
v(cm.: Кузнецов Б. Г. Разум и бытие. М., 1972, с. 143).
11 Цит. по: Diyab А. N. Н. Dimensions of Man, с. 56.
12 Ибн Рушд. Рассуждения, с. 183.
13 В целом онтологические воззрения Ибн Рушда и Ибн Араби Moryi
быть охарактеризованы как соответственно натуралистический и мистический
пантеизм (см.: Соколов В. В. Гносеологическая проблематика в философии
эпохи ранних буржуазных революций.— Философия эпохи ранних буржуаз
ных революций. М., 1983, с. 376—377; Сагадеев А. В. Ибн Рушд, с. 108)
14 Ибн Араби. Геммы мудрости, с. 50, 55.
15 Там же, с. 62, 69.
16 Сура 33, аят 72 гласит: «Мы предложили залог небесам, и земле,
и горам, но они отказались его понести и устрашились его; понес его чело¬
век...» (Коран, Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. М., 1963). Суфии тол¬
куют «залог» как доверие (см.: Discources of Rumi. N. Y., 1977, c. 26).
17 Rumi J. Mathnawi-i Mana. Vol. 1—8. L., 1925—1940 (далее Руми. Мас¬
нави). Кн. 4, стк. 4286—4289.
18 Ибн аль-Фарид. Арабская поэзия средних веков. М., 1975, с. 530.
19 Цит. по: Diyab А. N. H. Dimensions of Man, с. 122.
20 Там же, с. 91.
2,1 Ибн Араби. Геммы мудрости, с. 126.
22 См.: там же с. 125—126.
23 Ибн Рушд. Рассуждения, с. 172, 178.
24 Цит. по: Роузентал Ф. Торжество знания. М., 1978, с. 188—190.
25 Руми. Маснави. Кн. 1, стк. 407—409.
26 Ибн аль-Фарид. Арабская поэзия средних веков, с. 520—521.
27 Цит. по: Diyab А. N. Н. Dimensions of Man, с. 126.
28 См.: Ибн Араби. Геммы мудрости, с. 99—102.
29 Цит. по: Diyab А. N. Н. Dimensions of Man, с. 138.
30 Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города.—
Аль-Фараби. Философские трактаты. А.-А., 1970, с. 291—292.
31 Ибн Араби. Геммы мудрости, с. 82.
32 Там же, с. 106.
33 Роузентал Ф. Торжество знания, с. 94.
34 Ибн Рушд. Рассуждения, с. 196.
35 Руми. Маснави. Кн. 1, стк. 2943—2945.
36 Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden—London, 1971.
37 См.: Пригарина H. И. Поэтика творчества Мухаммада Икбала. М.,
1978, с. 39, 80, 82, 192.
38 См.: Corbin Н. Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi. Prin¬
ceton, 1969, c. 64.
39 Там же, с. 61.
40 См.: Комментарий Абдуллы Юсуф Али к данному им переводу Корана
204
<The Meaning of the Glorious Quran. Text, Transi, and Comment, by Abdullah
Yusuf Ali. Cairo—Beirut, [б. r.]).
41 Под самоактуализацией в психологии понимается «реализация потен¬
ций индивида, становление человека в полном смысле слова, его становление
тем, кем он может стать» (Maslow А. Н. Toward a Psychology of Being. N. Y.,
1968, с. 153). Понятие «самоактуализируюшиеся люди» подразумевает не лю¬
дей, «а идеальный предел, к которому они приближаются» (Леонтьев Д. А.
Развитие идеи самоктуализации в работах А. Маслоу.— Вопросы психологии.
1987, № 3, с. 151).
42 Ибн Араба. Геммы мудрости, с. 50.
43 Al-Hallaj. Kitab at-Tawasin. P., 1922, с. 891.
44 Ал-Гавали Абу Хамид. Воскрешение наук о вере. М., 1980, с. 251.
45 Цит. по: Diyab А. N. H. Dimensions of Man, с. 28.
46 Там же, с. 100.
47 Фролова Е. А. Проблема веры и знания в арабской философии. М,
1983, с. 95.
48 См.: Философия эпохи ранних буржуазных революций, с. 32.
А. В. Смирнов
ТРИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ
И ИММАНЕНТНОСТИ БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ
В ФИЛОСОФИИ ИБН АРАБИ
Философия Великого шейха Ибн Араби (1165—1240), чье
творчество с наибольшей полнотой (по признанию исследовав
телей) выражает суфийское миропонимание, может быть пред¬
ставлена своего рода многослойной конструкцией, некой систе¬
мой, состоящей из подсистем. Каждая из них относительно са¬
мостоятельна. Эта самостоятельность выражается в ее закон¬
ченности, т. е. в ее целостности: она содержит достаточный на¬
бор понятий, объединенных смысловыми связями. Иными сло¬
вами, она использует свой, отличный от иных подсистем, фило¬
софский язык. В рамках любой из подсистем можно наметить,
свою особую доминанту философствования и свои тенденции
развития мысли. Но отмеченная самостоятельность подсистем
философии Ибн Араби относительна, поскольку одна из них
играет в отношении прочих роль регулятора — она подавляет
возникающие в них «центробежные» тенденции мысли и поддер¬
живает лишь «центростремительные», чем и обеспечивается един¬
ство всей философской системы.
Достаточно полная разработка подсистемы показывает ее
внутреннюю противоречивость, а главное, ставит под сомнение'
само основание, принципиальную посылку средневекового фило¬
софствования— тезис об одновременной трансцендентности и им¬
манентности единой и совершенной божественной сущности по
отношению к миру временных ущербных сущностей. Последнее
обстоятельство представляется чрезвычайно важным, ибо если
внутреннюю противоречивость философской системы (так же
■как и научной теории) практически всегда можно устранить за
счет гипотез и постулатов ad hoc, то сомнение в самом осново¬
положении способа философствования, вытекающее из создан¬
ной на его базе системы, влечет за собой отказ либо от этой
системы (ведь указанное основоположение нельзя изменить ad
hoc), либо от старого способа философствования и принятие-
нового. Второе решение гораздо менее вероятно: способ фило¬
софствования более консервативен, чем его продукты — фило¬
софские системы. Поэтому возникающее сомнение в возможнос-
© А. В. Смирнов, 1990
206
ти обеспечить одновременность трансцендентности и имманент¬
ности божественной сущности миру при разработке исходной
подсистемы своей философии Ибн Араби относит на счет несо¬
вершенства самой философской подсистемы1, не ставя вопроса
о принципиальной неразрешимости проблемы трансцендент¬
ность-имманентность как таковой.
Стремясь решить эту проблему, он создает смежную под¬
систему, которая будет отличаться от первой исходным пунк¬
том, т. е. основной посылкой рассуждений. Исходный пункт вы¬
бирается таким образом, чтобы снять возникшие в результате
разработки первой подсистемы противоречия. Вторая подсисте¬
ма пользуется уже своим философским языком, отличным от
языка первой, и относительно нее фокус предлагаемых решений
оказывается как бы смещенным. Но и во второй подсистеме ис¬
тория повторяется: из нее с неизбежностью следуют выводы,
противоречащие основоположению.
Подобных подсистем в философии Ибн Араби можно выде¬
лить несколько; точное их число будет зависеть от точки зре¬
ния исследователя и способа вйдения сочинений Великого шей¬
ха, а точнее, способа прочтения его текстов. Представляется воз¬
можным отметить три таких подсистемы, которые для удобства
обозначения предлагается именовать философемами (понимая
под ними кратко изложенный логический контур соответствую¬
щей философской подсистемы) : философему, созданную на наи¬
более близком к использовавшемуся в европейской философской
традиции языке, который в данном случае можно назвать ра¬
ционалистическим2 (он содержит такие категории и термины,
как единое, множественное, причина, следствие, первоэлемент,
тело, пространство, время, движение и пр.); философему, язык
которой допустимо определить как художественный (его кате¬
гории— любовь, стремление, томление, страсть, нужда, красо¬
та и т. п.), но который описывает ту же реальность, что и ра¬
ционалистический язык онтологии и натурфилософии, а от¬
нюдь не только эстетическую сферу; наконец, философему, опи¬
рающуюся на язык «мистический» (категории: вкушение —
заук, состояние — хал, саморастворение — фана, пребывание —
бака, сердце, проявление, растерянность — хира и т. д.), язык,
который у Ибн Араби передает не только внутреннее состояние
адепта, но и приобретает сугубо философский статус.
Эти философемы не изолированы друг от друга (да и соз¬
дание абсолютно не связанных философских систем одним че¬
ловеком вряд ли возможно) : выделенные три языка допускают
взаимный перевод терминов и категорий, а значит, и взаимо¬
действие трех философем, что мы и видим в текстах Ибн Ара¬
би, где рассуждения, которые велись, скажем, на мистическом
языке, переходят в рассуждения на языке художественном,
а они — на языке рационалистическом, или наоборот. Часто те¬
зис, сформулированный на одном языке, подтверждается аргу¬
ментами, высказанными на другом. Отмечается взаимодействие
207
философем, взаимный перелив мыслей и значений между раз-
ными уровнями. Такая техника рассуждений может быть назва-
на техникой калейдоскопа: небольшой поворот, смещение цент¬
ра, фокуса мысли при переходе с одного языка на другой при¬
водит к тому, что те же элементы реальности дают новую, не¬
похожую на предыдущую картину мира.
Объем статьи не позволяет подробно изложить философе¬
мы, которые предполагается возможным выделить в философии
Ибн Араби. Мы ограничимся рамками проблемы, вынесенной
в заглавие данной работы, и попытаемся показать три различ¬
ных варианта ее решения. Выражаем надежду, что сужение
объема исследования будет в какой-то мере компенсировано
акцентированием внимания на логическом центре философем,
каковым, по нашему мнению, и является указанная проблема.
Изложение взглядов Ибн Араби на названную проблему бу¬
дет по необходимости реконструкцией, которая, надо надеяться не
перейдет в произвольное конструирование. Постоянным регуля¬
тором, критерием верности этой историко-философской рекон¬
струкции будут служить тексты Великого шейха. Мы исполь¬
зуем два основных его труда: «Мекканские откровения» и «Гем¬
мы мудрости»; в последние годы они были введены в активный
научный оборот в нашем историко-философском востоковедении
благодаря усилиям прежде всего М. Т. Степанянц и А. Д.Кныша..
Поскольку каждая философема и, значит, каждое из трех
решений обсуждаемой проблемы опирается у Ибн Араби на
особый способ познания, представляется нужным предпослать
их изложению краткую характеристику соответствующего спо¬
соба познания.
Сам Ибн Араби указывает на три вида познания, которые
различаются между собой способом осуществления (так ска¬
зать, технологией получения знания), инструментом (телесным
органом — орудием познания) и результатами (содержанием
полученного знания). Различаясь между собой, все три вида
познания имеют единый объект: окружающий мир, человека и
бога в их взаимосвязи. Такой характер объекта позволяет нам
отнести все три вида познания к философскому, а его единство-
дает объективное основание, критерий для их сравнения.
Рационально-логический метод:
от условий к решению
Инструментом рационально-логического вида познания слу¬
жит разум (акл), способом осуществления — логические построе¬
ния в виде силлогизмов или выводов следствия через аргумен¬
ты. Можно заключить, что Ибн Араби был неплохо знаком с
архистотелевской логикой: он описывает условия, необходимые
для построения правильного силлогизма3, показывает, что для
правильных логических умозаключений необходимо, чтобы це¬
почка аргументов и выводов была строго выстроена и не пре¬
208
рывалась ни в одном звене, сам неоднократно применяет ло¬
гические методы доказательства.
Логическое познание для Ибн Араби вовсе на лишено цен¬
ности, оно служит познанию мира4. «Отнюдь не все знание
философа (т. е. представителя арабского перипатетизма.—
А. С.) ложно, и в чем-то он может быть прав, особенно если
мы обнаружим, что и пророк (мир ему!) говорил о том же....
Если же ты скажешь, что философ живет без религии, то ведь
отсутствие у него религии не доказывает, что все его учение
ложно; это постигает началами разума всякий обладатель оно¬
го»5. «Начала разума» (аввал ал-акл)—это те интуитивно яс¬
ные и не подвергающиеся сомнению рациональные истины, о ко¬
торых впоследствии будет говорить Декарт.
Рациональное знание, согласно Ибн Араби, необходимо че¬
ловеческой душе, которая движет тело человека и управляет
им; оно составляет обязательный элемент знания души о мире®.
Ценность рационального знания (илм) даже аксиоматична:
«Несомненно, что знание вещи лучше неведения оной»7. Через
силлогизмы оно дает нам правильное знание о мире: позволяет
выяснить, например, что прошедший через цветное стекло свет
окрашен стеклом, сам же по себе бесцветен8; что Солнце во-
много раз больше Земли, хотя глазу представляется совсем не¬
большим 9; построив правильный силлогизм, выясняем, что бы¬
тие мира зиждется на причине10.
Проблемы вселенского бытия, астрономия, физика (опти¬
ка)— поистине, сфера приложения разума предельно широка.
Более того, Ибн Араби показывает, что и о боге можно гово¬
рить на языке разума. В 25-й главе «Гемм мудрости» он при¬
водит разговор библейского пророка Моисея с фараоном. На
вопрос фараона, желавшего поставить его в тупик, «что есть
Господь миров?», Моисей дал два ответа, второй из которых11
звучал так: «Господь Востока и Запада и того, что между ни¬
ми, если вы разумеете»12. Вот как Ибн Араби поясняет, что
эти слова можно считать рационалистическим определением
сущности бога: «Восток» означает явное, открытое взору (на
востоке восходит солнце, освещая мир), «Запад» — скрытое от
взора, неявленное чувствам (на западе садится солнце); «За¬
пад» и «Восток» очерчивают границы универсума, и «между
ними», т. е. сочетая их черты, и располагается мир. Иначе го¬
воря, бог — это господин мира-универсума, в котором одно по¬
стигается чувствами, а другое скрыто от них и познается разу¬
мом. Собственно, подобное определение можно действительно
считать задающим «исследовательскую программу» средневеко¬
вых рационалистов — познать бога через проведенный рацио¬
нальными методами анализ вселенной.
Далее Ибн Араби вкладывает в уста Моисея слова, факти¬
чески означающие признание им суверенности рационального
познания. Если люди идут по пути иного, нерационалистического
познания, они должны дать другой ответ. «Если же вы не та-
14 Зак. 635
209**
ковы, то я ответствовал вам во втором ответе: если вы — люди
разума... то Бог — в умозаключениях вашего разума. Так пред¬
стал Моисей в двух лицах...»13. Нет единственной истины, по¬
давляющей остальные: два лица, а не одно. Речь идет о таком
понимании правильности знания, которое означает допущение
его равноправного существования наряду с другими видами зна¬
ния о том же объекте (конечно, если правильно соблюдена
«технология» познания), а значит, равнодопустимости разных
путей познания. Выбор способа получения знания зависит от
человека — субъекта познания: «если вы — люди разума...»
Здесь мы встречаемся с герменевтической ситуацией «каков
вопрос — таков ответ»: задавая вопрос на языке разума, мы
получим ответ на языке разума, вопрос на другом языке повле¬
чет и ответ на другом языке. Могут быть заданы разные вопро¬
сы, а следовательно, даны разные ответы, и все они имеют пра¬
во на существование.
Но допустимость разных путей познания не свидетельствует,
конечно же, об их равнозначности. Разная «технология» по¬
знания определяет и разные его возможности, и разнокачест-
венность получаемого знания. Каковы же принципиальные, су¬
щественные особенности рационально-логического метода по¬
знания?
Как уже отмечалось, Ибн Араби понимал содержание этого
метода как строгое логическое рассуждение, опирающееся на
силлогизмы или «доказательства» (т. е. неэксплицированные
силлогизмы). Непременным условием построения такого рас¬
суждения является наличие исходного пункта — единичного по¬
стулата, атомарного положения, «точки» — и конечного пункта,
к которому рассуждение направляется, пункта, опять-таки по¬
нимаемого как единичное суждение, «точка». Таким образом,
путь рационалистического познания — это, по Ибн Араби, «пря¬
мая линия» между двумя пунктами, начальным и конечным:
«Для него (рационалиста.— А. С.) есть „от“, „к“ и то, что меж¬
ду ними»14.
Коль скоро рационально-логический метод применяется для
решения интересующей нас проблемы, то «исходным пунктом»
в цепочке логических умозаключений будет понятие абсолютно
совершенной вечной божественной сущности, а «пунктом конеч¬
ным»— категория временной несовершенной сущности, пребы¬
вающей в мире, либо наоборот. В результате такого, образно
говоря, логического движения от бога к миру или от мира
к богу должно быть достигнуто рационалистическое решение
проблемы: божественная сущность, трансцендентная миру,
должна оказаться в то же время имманентной ему, составляю¬
щей субстанциальную основу его бытия. Это значит, что мы
должны либо вывести существенные категории, описывающие
мир, из понятия трансцендентной божественной сущности, либо,
взяв за основу категорию временной сущности, бытийствующей
в мире, вывести бытие трансцендентной божественной сущности.
21Э
Ибн Араби пытается использовать обе указанные возмож¬
ности и приходит в итоге к выводу об их бесперспективности.
Проследим ход его мысли.
Наиболее краткая формулировка определения трансцендент¬
ной божественной сущности, которую Ибн Араби неоднократно
повторяет в несколько различающихся редакциях, выглядит
так: «Бог в своей Самосущности не нуждается в мирах»15.
«Отсутствие нуждаемости в мирах неотъемлемо от Самосущ¬
ности Бога»16, бог «неизбежно должен быть Самосущим, само¬
довлеющим в своем существованиии, не нуждающимся»17, на¬
конец: «Разве не видишь ты, что Божественная Самосущность...
свободна от нужды в мирах?»18.
Характеристика «не нуждающийся» была названа наиболее
краткой, ибо она как бы содержит в себе все три основных ат¬
рибута божественной сущности, которые определяют ее транс¬
цендентность. Бог абсолютно ни в чем не нуждается, потому
что он абсолютно совершенен, следовательно, един (любая из
частей множества обязательно ущербна для средневекового
мышления, уже в силу того, что допускает существование на¬
ряду с собой и других частей; такое понимание единства фак¬
тически синонимично единичности, уподоблению единице в нео-
пифагорейском смысле), т. е. единствен (два единых абсолютно-
совершенных объекта — противоречие в определении). Для Ибн
Араби аксиоматично утверждение, что «Он (бог.— А. С.) со¬
вершенен по своей Самосущности», причем это совершенство
именно абсолютное, ибо Великий шейх продолжает: «...а пото¬
му невозможно, чтоб превысил Он самосущность самосущ-
ностью же»19,— иными словами, совершенство божественной
сущности не приемлет увеличения. Столь же категоричен он в
утверждении единства-единичности бога: «Знай, что именуемый.
Богом единичен по Самосущности»20.
Отметим характерную особенность взгляда Ибн Араби на
понятие божественного совершенства. Представители предшест¬
вовавших философскому суфизму течений арабской философии
понимали совершенство божественной сущности либо в духе
«положительной теологии» — как абсолютный набор всех воз¬
можных атрибутов, либо в духе отрицательной теологии, ут¬
верждая, что оно выше всех и всяческих атрибутов. Так или
иначе, понятие совершенства было коррелятивным понятию бо¬
жественного атрибута. У Ибн Араби же божественные атрибу¬
ты пока вообще не упоминались, и понятие совершенства в от¬
меченном контексте предстает у него первичным, неопределен¬
ным и как бы интуитивно ясным (в картезианском смысле),
равно как и понятия единства и единственности. Такое понима¬
ние совершенства возможно потому, что Ибн Араби на данном
этапе рассуждений анализирует категорию трансцендентной бо¬
жественной сущности, не имея в виду (пока что) обязательность,
ее связи с множественным эмпирическим миром (ведь совмеще¬
ние трансцендентности божественной сущности и ее имманент¬
14*
211
ности миру и является искомым решением, а существование
его — проблемой, подлежащей решению). Выделение, обособле¬
ние важнейшей для средневекового философа категории бо¬
жественной сущности — крайне важный шаг в развитии самого
философского мышления, ибо позволяет Ибн Араби подверг¬
нуть эту основополагающую категорию полноценной философ¬
ской рефлексии.
Рефлексия — это обращение понятия самого на себя, в свои
собственные глубины смысла, позволяющее выяснить таящиеся
в нем возможности. Основной направляющей, по которой дви¬
жется рефлективный анализ понятия божественной сущности,
является для Ибн Араби вопрос: что может породить эта бо¬
жественная сущность как абсолютно единая, совершенная и
единственная (в отмеченном выше понимании этих категорий)?
Иными словами, если мы будем придерживаться такого стро¬
гого понимания божественной сущности, имеем ли мы право
говорить о реальной связи с ней и реальной зависимости от
нее нашего множественного мира, обладающего действитель¬
ным бытием? Может ли трансцендентная божественная сущ¬
ность быть в то же время имманентной миру?
Оказывается, что нет. Коль скоро множественное бытие
действительно, оно никак не может быть следствием бытия еди¬
ного, если строго и до конца проводить понятие единства, не
подменяя его негласно понятием множественности. Это дейст¬
вительное множественное бытие, будучи ущербным, не может
иметь действительной связи с абсолютно совершенной божест¬
венной сущностью, ибо она в такой связи не нуждается, а зна¬
чит, и не имеет ее. Ибн Араби выдвигает эти тезисы, возра¬
жая своим оппонентам (предшественникам или современни¬
кам)— философам Арабского Востока. Он пишет: «Единое во
всех отношениях порождает лишь единое. Существует ли тако¬
вое или нет — это, говоря по справедливости, еще надо обсу¬
дить. Разве не видишь ты, как ашариты утверждают, что Бог
дает существование лишь постольку, поскольку Он могущест¬
вен, а избирает (т. е. наделяет в данный момент времени бы¬
тием именно то, а не иное, бытийно-возможное.— А. С.) лишь
постольку, поскольку волящ, а дает определения — постольку,
поскольку знающ. Но быть волящим не есть то же, что быть
могущим. После сего их утверждение, что Он един во всех от¬
ношениях, не является верным. А как же иначе? Ведь они ут¬
верждают, что есть атрибуты помимо Самосущности, сущест¬
вующие благодаря Всевышнему. Так же — и рассуждающие о
связях и сопряженностях21. Ни у кого из них не получается
единства во всех отношениях»22.
Итак, все предшествовавшие попытки в истории арабской
философской мысли объяснить имманентность трансцендентной
божественной сущности приводили, по мнению Ибн Араби,
к нарушению строгого единства последней. Более подробно Ве¬
ликий шейх показывает это на примере перипатетиков. «Гово¬
212
рят, что из Первого Следствия, хотя оно и едино, происходит
множественность, ибо наличествуют в нем три стороны: при¬
чина его, само оно и возможность его бытия. Мы же говорим,
что сие привязывает вас к первой причине, т. е. ,к наличию в
нем сторон, само же оно едино. Так почему вы отвергаете,
что из него происходит только единое? Вы либо должны дер¬
жаться того, что множественное происходит от первой причины
(т. е. тройственности, возникающей при рассмотрении Первого
Следствия в связи с породившей его Причиной.— А. С.), либо
того, что из Первого Следствия (рассматриваемого как таковое,
строго единое.— А. С.) происходит единое. Вы же не говорите
ни того, ни другого»23.
Таким образом, единая трансцендентная божественная сущ¬
ность не может породить множественный мир, а значит, не мо¬
жет быть и имманентной ему. Но, по Ибн Араби, бытие мира
не является следствием и совершенства божественной сущнос¬
ти: «Утверждают за Ним самосущностное совершенство и са-
мосущностную ненуждаемость, но тогда Он не может быть ни¬
чему причиной, ибо будь Он причиной, Он бы зависел от след¬
ствия, Самосущность же [Бога] свободна от того, чтобы от
чего-либо зависеть»24. Единственность божественной сущности
также не позволяет говорить о существовании мира рядом с
богом 25. Как итог всех этих рассуждений можно рассматривать
следующий вывод, к которому приходит Великий шейх. С точ¬
ки зрения логического, рационального познания, опирающегося
на силлогизмы и аргументы, пишет он, «неверно, что между
творением и Богом есть что-либо общее с точки зрения Са-
мосущности»26.
В результате на пути «нисхождения» от бога к миру ре¬
шить поставленную проблему оказалось невозможным. Но и на
втором пути, от мира к богу, рационалиста подстерегают не
меньшие опасности. Предоставим слово самому Ибн Араби:
«Сколько ученых-теоретиков, притязающих на обладание здра¬
вым разумом, утверждали, что (Получили теоретическое знание
Самосущности, заблуждаясь в этом? Ведь мысль их то ут¬
верждает, то опровергает. Но утверждение идет от самого тео¬
ретика, ибо он говорит о Боге в соответствии с тем, как видит
все [Его] имена, будучи [са-м] знающим, способным, желаю¬
щим; опровержение же относится к небытию и отрицанию,
а отрицание не может быть самосущностным атрибутом... Так
сей мыслитель, колеблющийся между утверждением и опровер¬
жением, ничего не узнал о Боге»27. В самом деле, если пы¬
таться понять трансцендентную божественную сущность, иссле¬
дуя мир, вам неизбежно придется описывать эту сущность в
категориях возможного временного бытия, а необходимость,
вечность и трансцендентность бытия божественной сущности
останется недосягаемой.
Иначе говоря, трансцендентность и имманентность божест¬
венной сущности миру оказываются несовместимыми с позиции
213
рационально-логического метода познания. Но прежде чем при¬
знать поражение, Ибн Араби делает еще одну попытку найти
решение. До сих пор предполагалось, что мир обладает дейст¬
вительным бытием; не в этом ли причина неудач? Допустим,
что бытие мира — лишь мнимое бытие; попробуем совместить
трансцендентность и имманентность бога миру не объективно,,
а субъективно, в человеке — субъекте познания.
Представим, что «мир иллюзорен (мутаваххим) 28, у него
нет подлинного бытия... Иными словами, тебе видится, что он —
нечто самодовлеющее, нечто сверх и вне Бога, а это вместе
с тем не так»29.
Чтобы объяснить наличие иллюзорного бытия наряду с ис¬
тинным, вводится понятие «воображение-видимость» (хаял) 30,
которое, если анализировать его в терминах новоевропейской
философии, является одновременно и гносеологическим («вооб¬
ражение») и онтологическим («видимость», бытийный корре¬
лят «воображения»). Воображение равно присуще всем людям,,
а поэтому все они воспринимают мир видимости31. Этот мир
видимости и есть имманентное проявление божественной сущ¬
ности: он образован воплощением божественных атрибутов, ко¬
торые человек видит в силу своей способности воображения32.
На первый взгляд проблема решена, пусть и ценой нема¬
лых уступок: пришлось пожертвовать действительным бытием,
мира вещей. Но нельзя не заметить, что такое решение являет¬
ся половинчатым. Действительно, сфокусировав бытие мира на
субъекте, Ибн Араби сумел показать субъективистскую им-
манентность миру объективно трансцендентной ему божествен¬
ной сущности. Но ведь надо быть до конца логичным и поста¬
вить вопрос об онтологическом статусе субъекта, т. е. надо
признать либо истинность бытия человека, выведя ее из поня¬
тия божественной сущности (и тогда человек будет действи¬
тельной связкой между трансцендентностью и имманентностью
божественной сущности) —такой вывод невозможен,— либо
иллюзорность и его бытия как части мира — а тогда и основа¬
ние достигнутого решения окажется мнимым. Нерешенность и
нерешаемость этого вопроса в рационалистической философеме
означает невозможность достичь полного и удовлетворительно¬
го решения проблемы «трансцендентность-имманентность» ра¬
ционально-логическим методом. Может быть, другой способ по¬
знания окажется более эффективным?
Интуитивно-созерцательный метод:
от решения к условиям
Второй способ познания Ибн Араби обозначает словом «му-
шахада». В буквальном переводе оно означает «лицезрение»,
«наблюдение», «'свидетельствование». Этот перевод дает пред¬
ставление об основных единицах смысла, которые образуют
философское звучание термина: зрительное, образное видение
214
и личностная встреча с объектом познания. В итоге на фило¬
софском языке «мушахада» может означать «интуитивное со¬
зерцание» 33.
Первопосылкой осуществления интуитивного созерцания как
способа познания является принятие новой точки зрения на
мир, в соответствии с которой божественная сущность одновре¬
менно и транецендентна и имманентна. Интуитивное созерца¬
ние, таким образом, начинается с того, что было целью рацио¬
нально-логического способа познания. Нерасторжимое единст¬
во мира и божественной сущности при одновременной транс¬
цендентности последней — для него аксиома. Необходимо отме¬
тить, что данное единство не есть тождество; это — различен¬
ное единство мира и божественной сущности. В любой вещи и
в любом явлении интуитивное созерцание открывает внешнее
(захир) —ощущаемое и умопостигаемое, и внутреннее (ба-
тын)—«скрытый смысл» (маана) 34, недоступный ни разуму,
ни чувствам. Этот скрытый смысл образует первооснову бытия,
основание имманентности божественной сущности миру, он же
и объект интуитивного созерцания. «Увидеть» скрытый смысл —
значит непосредственно узреть бога в вещах, бога в мире.
К этому и призывает Ибн Араби:
На всякой форме есть Его печать,
Она Творенью Бога открывает,
Но для наших глаз Его явление
Упрямый разум аргументом отвергает.
Приемлет, коли ясен Он ему
Или в воображении; правы ж очи 35.
В процессе интуитивного созерцания субъект познания, со¬
храняя свою онтологическую обособленность от объекта позна¬
ния, в то же время сливается с ним, постигая его «своим
существом», фибрами души. Это возможно потому, что в че¬
ловеке— субъекте познания также присутствует «скрытый
смысл». Поскольку он един и неделим, становится возможным
единение с объектом познания по «внутренней сути», в то вре¬
мя как во «внешнем»36 сохраняется субъект-объектная разде-
ленность.
Интуитивное созерцание позволяет рассматривать обсуж¬
даемую в этой статье проблему как бы «с конца». Считая, что
решение уже найдено (одновременная имманентность и транс¬
цендентность божественной сущности миру — отправной посту¬
лат интуитивного созерцания), мы будем двигаться «обратным
ходом» к условиям задачи: в различенном единстве божествен¬
ной сущности и мира попытаемся вычленить каждую из этих
частей. Тогда мы увидим, какими должны быть начальные ус¬
ловия задачи, обеспечивающие решение нашей проблемы.
Знание, полученное через интуитивное созерцание, излага¬
ется на особом языке, отличном от рационалистического. По¬
скольку по сути своей оно представляет собой движение от це¬
215
лого к части, то этот язык можно было бы назвать «художест¬
венным»: в написанном на нем тексте постижение смысла части
происходит только после постижения смысла целого (как в лю¬
бом художественном произведении) в отличие от языка «точно¬
го» (скажем, науки), который выстраивает целое в виде конст¬
рукции частей, где целое не может быть понято, пока не по¬
няты части. На «художественном» языке и написана та фило¬
софема Ибн Араби, которая опирается на интуитивное созер¬
цание и которую мы называем эстетической философемой.
Художественный язык — язык целостных образов, имеющий
собственные закономерности и собственную внутреннюю логи¬
ку развития. Важнейший его закон — приоритет целого над.
частью: часть не является самодовлеющей единицей, ее «судь¬
ба» подчинена гармонии целого. Стремление к обеспечению та¬
кой гармонии и сбалансированности полностью определяет*
структуризацию целого (то, какие именно части мы выделяем
в целом и какие связи между ними устанавливаем).
Эстетическая философема у Ибн Араби — широкое образ¬
ное полотно мироздания, где каждому образу соответствует фи¬
лософская категория (что и делает философему собственно фи¬
лософским знанием, а не просто образным описанием). Из всех
«/картин» эстетической философемы мы выберем одну, в наи¬
большей степени отвечающую целям нашего исследования, и по¬
пытаемся проанализировать ее.
«Бог есть чистый свет, а невозможное есть чистая тьма.
Тьма никогда не становится светом, и свет никогда не стано¬
вится тьмой. Творение же — перешеек (барзах) меж светом и
тьмой, сам по себе не описываемый ни как тьма, ни как свет.
Оно — перешеек и посредник, определяемый с обеих своих сто¬
рон» 37.
Образ бога как чистого света отражает трансцендентность
божественной сущности, которая есть незамутненное совершен¬
ство, самый «светлый» образ. Но согласно постулату об одно¬
временной имманентности божественной сущности, с этим об¬
разом должен быть связан некий образ мира, светом не яв¬
ляющийся и в какой-то мере свету противоположный (мир-
ущербен и всегда несовершенен), и вместе с тем от света неотъ¬
емлемый, причем и божественный свет должен быть неотъем¬
лем от данного образа мира (эти два условия, выражающие
вкупе неразрывность образов бога и мира, и выражают имма¬
нентность божественной сущности миру). Противоположна
свету тьма, но принять ее образ как образ мира нельзя: он рас¬
ходится с требованием неотъемлемости от образа света 38. В то
же время создать контраст свету иначе как тьмой невозможно.
Потому приходится признать самодовлеющее и независимое от
света существование тьмы как «невозможного» (полной проти¬
воположности необходимо-сущему богу), того, что не бывает,,
небытия.
Данный вывод означает не что иное, как утверждение дуа-
216
.лизма света и тьмы (бытия божественной сущности и абсолют¬
ного небытия). Мы еще вернемся к этому принципиальному вы¬
воду39, а пока отметим, что признанный Ибн Араби дуализм
предстает и спасительным в разбираемой ситуации: теперь
появляется возможность создания удовлетворяющего всем ус¬
ловиям образа мира. Если есть свет и тьма как две абсолют¬
ные противоположности, то они должны быть разделены, иначе
они просто поглотят, уничтожат друг друга. Перегородка-пере¬
шеек между ними абсолютно необходима и совечна им. Этот
перешеек — «Творение» — оказывается неразрывно связанным
со светом и вместе с тем отличным от него — в силу столь же
неразрывной связанности с тьмой. Ни свет, ни тьма, и одно¬
временно и то и другое — не что иное, как «тень».
Образ тени, однако, предполагает два других обязательных
элемента: того, кто тень отбрасывает, и места, на которое тень
падает и тем самым проявляется. Чтобы получить их, Ибн Ара¬
би прибегает к интересному приему — к разведению образа и
соответствующей ему категории; образ и категория оказывают¬
ся вне друг друга, могут вступать друг с другом в различные
отношения вплоть до противопоставления. Такой прием исклю¬
чается логическим мышлением (А = А, образ есть категория,
и их нельзя противопоставить) и невозможен в рационалисти¬
ческой философеме; в эстетической же его применение, напро¬
тив, вполне оправданно. В нашем случае свет есть необходимое
бытие, т. е. бог. Ибн Араби отделяет образ света от понятия
«бог», и бог становится субъектом, на которого льется свет и
который поэтому может отбросить свою тень. Но куда? На ка¬
кое-то «место», где тень и появится; причем место тени частично
и есть сама тень, а тень есть частично свое место: с изменением
места меняется и тень, появляется же она только на «месте».
Образу тени соответствует категория бытийно-возможного,
имеющего актуальное бытие (это и есть «мир»), и она-то ста¬
новится у Ибн Араби «местом тени». Так мы опять получаем
суперпозицию образа и категории: «То, о чем говорится „кроме
Бога“, или то, что именуется миром, выступает по отношению
к Богу тем же, чем тень по отношению к человеку; он — тень
Бога. Тень же — воплощенная сопряженность бытия с миром,
ибо она, несомненно, наличествует в чувстве, но лишь тогда,
когда есть то, на чем эта тень появляется. Даже если ты пред¬
положишь небытие того, на чем появляется сия тень, то она
будет интеллигибельной, не существующей в чувстве, а будет
[находиться] потенциально в самосущности человека, с коим
тень сопряжена. Местом же появления сей тени Божьей, именуе¬
мой миром, служат воплощенные сущности бытийно-возмож¬
ного. На них простирается сия тень, и ты постигаешь ее по¬
стольку, поскольку бытие сей Самосущности простерлось на
нее»4Ü.
Здесь можно остановиться и подытожить сказанное. Приня¬
тый постулат — одновременная трансцендентность и имманент¬
217
ность божественной сущности миру — получил свое адекватное
образное выражение, но принципиальным следствием описан¬
ных рассуждений явился вывод о противостоящем необходимо¬
му бытию божественной сущности независимом начале — необ¬
ходимом абсолютном небытии. Да, говорит Ибн Араби, мы спо¬
собны решить поставленную проблему, но только тогда, когда
в условиях задачи фигурируют два независимых начала. Ины¬
ми словами, проблема разрешима только в дуалистической фи¬
лософии. Но Великий шейх не принимает дуализм в качестве
решения. Третья предпринятая им попытка совместить транс¬
цендентность и имманентность божественной сущности строит¬
ся на основе нового, мистического способа познания.
Мистический метод:
условия и решение тождественны
Этот способ познания исходит из существенно иной, нежели
рационально-логический или интуитивно-созерцательный, по¬
сылки— о нерасчленимом тождестве субъекта и объекта по¬
знания, «я» и «не-я» (в отличие от их разделенное™ и обособ¬
ленности в первом случае и их различенного единства во вто¬
ром). Достигая такого тождества, субъект познания перестает,,
собственно говоря, быть субъектом: субъект-объектная разде¬
ленное™ исчезает, познающий становится познаваемым, а вер¬
нее, исчезают и познающий и познаваемое, остается лишь еди¬
ное универсальное. Все, самотождественное и нечленимое. Эта
состояние называется состоянием «фана’», состоянием «гибели»,,
исчезновения субъективного «я».
Описывая процесс мистического познания, Ибн Араби ис¬
пользует образ водоворота (хира). Слово «хира» означает так¬
же «растерянность», и это, как пишет А. Аффифи, «растерян¬
ность особого рода, растерянность суфия, который видит Бога
во всем, который видит Единое множественным, а множествен¬
ное Единым... явное скрытым и скрытое явным, а также прочие
противоречивые вещи, но это не растерянность потерявшегося
или непонимающего человека»41. Надо думать, что растерян¬
ность охватывает лишь вступающего на путь мистического по¬
знания; затем, в самом процессе мистического познания, соглас¬
но описанию Ибн Араби, «растерянный обращается, совершает
круговое движение вокруг полюса и не удаляется от него»42.
Этот полюс — бог; смысл образа водоворота в том, что у кру¬
гового движения нет начала, вернее, нет какого-то одного, вы¬
деленного начала: начать можно с любой точки, с любой вещи
мира, но есть конец-полюс, центр водоворота бытия. Круги по¬
знания, слитого с бытием, бытия-познания, неизбежно ведут
к единому и единственному богу. Воронка водоворота вечно
всасывает воду, и центр-бог всасывает, вбирает в себя все бы¬
тие. Уже теперь, изнутри, из центра, мы видим, что путь наши
218
[не отличался от цели, где начали, там мы и закончили —в боге.
«Для совершающего круговое движение водоворота нет начала,
и направляет его „от“, а не конечная цель, и потому „к“ ведет
его»43. Такое возможно лишь тогда, когда «от» и «к» тождест¬
венны, когда цель неотличима от отправной точки, когда позна¬
ние— это не внешнее движение рационалиста вперед, по «вы¬
тянутому пути», а погружение в себя, в истинную свою сущ¬
ность, т. е. в бога.
Органом мистического познания служит сердце. Как почти
любой другой термин, используемый Ибн Араби, «сердце» че¬
рез лингвистические и смысловые ассоциативные связи при¬
обретает полифоническое звучание, в котором слышатся другие
философские категории. Первая ассоциативная цепочка начи¬
нается с сердца как физического органа: без него невозможна
жизнь. Сердце — это жизнь, символом жизни у Ибн Араби
является вода, и вода жизни образует тот водоворот бытия,
в который попадает «растерянный» (вступивший на путь мисти¬
ческого познания) суфий. Так водоворот бытия-познания отож¬
дествляется с сердцем, а значит — с самой жизнью человека,
эпицентром и одновременно исключительным содержанием ко¬
торой является бог.
Другая, уже лингвистическая, ассоциация основана на иг¬
ре двух однокоренных в арабском языке слов: «сердце» —
«калб» и «переменчивость» (в смысле неустойчивости, постоян¬
ной сменяемости)—«такаллуб». Эта ассоциация подсказывает,
что сердце способно вместить всю гамму переменчивых форм
бытия, постигая, что переменчивы и непостоянны именно эти
формы, неизменна и постоянна же стоящая за ними бытийст-
вующая сущность — бог, в котором формы, собственно, и воз¬
никают44. Этим сердце »принципиально отличается от разума
(акл), поскольку «акл» по-арабски означает также «связыва¬
ние». Разум связывает всякую форму ограниченным опреде¬
лением (определение — «хадд», букв, «граница»), фиксируя ее
как неизменную, и потому неспособен увидеть вечного перели¬
ва форм одной в другую, их вечного обновления, а значит, и их
несубстанциальности45.
Постигая вечную ежемгновенную изменчивость форм мира,
сердце постигает тем самым абсолютное единство бога и мира:
для него существует только единая вечная непрерывная суб¬
станция-бытие, жизнь, вода, поверхность которой всегда подер¬
нута рябью столь же вечно возникающих и пропадающих «ве¬
щей». Рябь на воде не есть нечто отличное от воды; она —
проявление жизни воды. Поэтому для сердца единство божест¬
венной сущности и мира — не расчлененное единство различаю¬
щихся частей, а, напротив, абсолютное тождество, в котором
целое неотличимо от части, а часть — от целого.
Однако такой поворот мысли ведет к принципиальной лере-
‘формулировке проблемы трансцендентности и имманентности
«божественной сущности миру. В мистической философеме бо¬
2№
жественная сущность уже не может быть ни трансцендентной
миру, ни имманентной ему, ибо она от него неотличима. Более
того, и божественная сущность, и тождественный ей мир неот¬
личимы от «сердца» познающего субъекта, который в акте мис¬
тического познания слился, отождествился с ними, перестав
быть субъектом46. В каком-то смысле это — решение проблемы,
ибо две противоположные характеристики божественной сущ¬
ности— трансцендентность и имманентность — слились и пере¬
стали быть противоположностями. Но это — пиррова победа, ее
плодами невозможно воспользоваться, так как исчезла и про¬
тивоположность божественной сущности и мира, вечного и вре¬
менного бытия, противоположность совершенства и несовершен¬
ства— исчезли все те категории, которыми привыкло опери¬
ровать средневековое философское мышление и без которых
оно невозможно.
* * *
Мы рассмотрели три принципиальных варианта решения
проблемы трансцендентности и имманентности божественной
сущности в отношении мира вещей. Первый вариант допустимо
обозначить как путь от части к целому, путь логического рас¬
суждения, в котором за «часть» может быть принята либо бо¬
жественная сущность, либо мир, а за «целое» — искомое реше¬
ние проблемы. Второй путь представляет собой движение от
целого к части. Мы предположили, что решение существует,
показали, каким оно должно быть (показали «целое»), а затем
проанализировали его, попытавшись увидеть «части» целого,
иными словами, увидеть, какими должны быть божественная
сущность и мир при условиях, когда трансцендентно-имманент¬
ная проблема решена. Наконец, третий вариант утверждает
тождественность частей и целого, тождественность абсолютную
и по всем направлениям: частей друг с другом, каждой из них
и обеих вместе с целым, когда трансцендентность и имманент¬
ность из противоположностей превращаются в нечто неразли¬
чимое и, более того, в реально не существующее отношение.
В первом случае проблема трансцендентности и имманентности
оказалась неразрешимой, во втором она потребовала принятия
дуализма; в третьем она просто теряет свое основание.
1 Это несовершенство, по мнению Ибн Араби, является, как мы увидим,
дальше, следствием несовершенства того способа познания, средствами ко¬
торого строилась данная подсистема.
2 Это название (как и два других) условно, и мотивы выбора сто ста¬
тут яснее по ходу изложения.
3 Ибн Араби. Геммы мудрости. Бейрут, 1980, с. 116—117 (араб. яз.).
4 Мы упоминаем об этом потому,. что существует определенны.! стерео¬
тип, приписывающий суфийской мысли огульный иррационализм. Более под¬
робно об отношении Ибн Араби к представителям чистого рационализма!
220
в арабской мысли см.: Степанянц М. Т. Проблема познания в суфизме.— Во¬
просы философии. 1988, № 4.
5 Ибн Арабы. Мекканские откровения. T. 1. Каир, 1859, с. 32 (араб. яз.).
с Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 198.
7 Там же, с. 206.
8 Там же, с. 103—104.
9 Там же, с. 102.
10 Там же, с. 116—117.
11 Первый ответ Ибн Араби относит к другому, нерационалистическому
виду познания, поэтому мы не будем здесь его касаться.
12 См.: Коран. Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. М., 1963, 25 : 27.
13 Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 208.
14 Там же, с. 73.
15 Там же, с. 217.
16 Там же, с. 119.
17 Там же, с. 53.
18 Там же, с. 144.
19 Ибн Арабы. Мекканские откровения, T. 1, с. 42.
20 Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 90.
21 Ибн Араби, по всей вероятности, имеет в виду арабских перипатетиков.
22 Ибн Арабы. Мекканские откровения. T. 1, с. 42.
23 Там же, с. 42.
24 Там же.
26 См.: Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 91.
26 Ибн Арабы. Мекканские откровения. T. 1, с. 41.
27 Там же, с. 41.
28 Мы переводим термин «мутаваххим» как «иллюзорный», но это не ил¬
люзия в современном смысле слова, т. е. не субъективный обман чувств. Ил¬
люзорность мира в данной философеме понимается как объективная, общая-,
и одинаковая для всех людей, кроме отдельных, способных увидеть за этой,
иллюзорностью истину. Именно так понимаемая иллюзорность сближается
с пониманием мира как майи в веданте.
29 Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 103.
30 В этом арабском термине оба значения, видимость и воображение, сли¬
ты воедино, поэтому мы предпочитаем переводить его именно таким образом.
31 Оговоримся, что эта фраза, звучащая в духе субъективного идеализма,,
сохраняет такую коннотацию только в европейском историко-философском
контексте, а у Ибн Араби гносеологический и онтологический, субъектный
и объектный аспекты категории «воображение-видимость еще не разведены
окончательно и выражаются одним термином.
32 Об этом см.: Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 51—54, 81, 104, 119, 125—
126, 144; он же. Мекканские откровения. T. 1, с. 41; Т. 4. Каир, 1859, с. 318.
33 Поскольку это — наше толкование данного термина, постольку во всех
случаях цитирования текстов Ибн Араби мы для перевода «мушахада» будем:
употреблять слово «свидетельствование» как более точный лексический экви¬
валент.
34 См., например: Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 212.
36 Там же, с. 88.
36 «Внешнее» и «внутреннее» не должны ассоциироваться с явлением и;
сущностью: здесь «внешнее» — сенсибельное и интеллигибельное, а «внутрен¬
нее» — непостижимая для разума имманентность божественной сущности миру.
37 Ибн Арабы. Мекканские откровения. Т. 3. Каир, 1859, с. 274.
38 Конечно, свет непознаваем как свет, пока не узнана тьма, и наоборот..
Но эта связь света и тьмы обязательна лишь в отношении нашего познания:
нельзя отрицать, что в бытии возможен только свет без тьмы.
39 Так как этот вывод действительно принципиален, надо отметить, чго-
в размышлениях Ибн Араби он не является эпизодом: в ином образе, исходя¬
щем из того же представления об одновременной трансцендентности и имма¬
нентности божественной сущности миру, введение независимого начала абсо¬
221
лютного небытия оказывается неизбежным (Мекканские откровения. Т. 4,
с. 275).
40 Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 101—102.
41 Аффыфы А. Комментарии к кн.: Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 40.
42 Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 73.
43 Там же.
44 В этой связи Ибн Араби пишет: «Определения сущего при всех их раз¬
личиях суть определения бытийно-возможных в смысле накладываемых ими
на бытийствующую сущность ограничений, а самоопределение бытийствующей
•сущности есть не что иное, как то, что она есть сущая» (Мекканские откро¬
вения. Т. 3, с. 227).
45 Об этом см.: Ибн Арабы. Геммы мудрости, с. 122.
46 Следствием таких рассуждений является то, что человек становится
единственным полюсом мироздания, единственно обладающим истинным бы¬
тием; но мы не касаемся этого вопроса, так как он выходит за рамки раз¬
бираемой темы.
К. А. Хромова
КОНЦЕПЦИЯ СИНТЕЗА НАУКИ И РЕЛИГИИ
СОВРЕМЕННОГО ИРАНСКОГО ФИЛОСОФА С. X. НАСРА
Средневековый рационализм, который решал вопросы ут¬
верждения мировоззрения, смыкавшегося с наукой и способст¬
вующего ее развитию, сохраняет свое значение и в наши дни.
Порой формы, в которых он теперь представлен, весьма свое¬
образны и парадоксальны—они отражают сложность комплек¬
са наслаивающихся друг на друга проблем, с которыми стал¬
кивается и которые должна решать современная исламская фи¬
лософия. Довольно часто ислам рассматривается ею в качест¬
ве непременного компонента культуры и сознания, и сейчас
вопрос в том, как включить эту религию в современную жизнь,
приспособить к новым историческим условиям, требованиям но¬
вой эпохи. Данное обстоятельство обусловливает актуальность
задачи реформирования ислама.
В то же время сегодня философия, наука, мораль, созна¬
ние, какими они предстают при знакомстве с западной культу¬
рой и ее проблемами, порождают чувство неудовлетворенности,,
тревоги и вызывают критическое отношение. Для религиозного
сознания эта критичность выражается в усилении религиозных
мотивов, религиозных аспектов и настроений, показываю¬
щих ориентацию на истинные жизненные ценности. Этим мож¬
но объяснить содержание отдельных концепций, которые пред¬
лагаются в качестве обоснования вариантов реформированного
ислама и в которых соединяется рационализм и иррациона¬
лизм, знание и вера, современность и традиция. Примером мо¬
жет служить учение современного иранского философа Сайида
Хусейна Насра \
На первый взгляд этого мыслителя трудно причислить к ре¬
форматорам ислама, поскольку в своих работах он решительно
отвергает саму возможность и необходимость каких-либо изме¬
нений и призывает ориентироваться на вечные и неизменные
мусульманские ценности. Тем не менее в данном случае мож¬
но говорить о модернизации ислама, но не прямой и не откры¬
той. Она не совершается путем заимствования западных цен¬
ностей и подстраивзния под них своей религии. Напротив, ис¬
пользуя чисто исламские понятия, С. X. Наср истолковывает
© К, А. Хромова, 1990
223
западные реалии, главным образом современную науку, в тра¬
диционном мусульманском духе. Он пытается ввести ее (а имен¬
но новейшее естествознание) в сферу пронизанной религиоз¬
ной традицией культуры так, чтобы наука при этом не утратила
своей «научности», рационализма и не вступила в открытый
конфликт с религиозными представлениями.
Концепция синтеза науки и религии С. X. Насра выросла
из попыток преодолеть объективно существующее противоре¬
чие в отношении к научному знанию того социального слоя,
идеологом которого он выступал — буржуазно-ориентированной
бюрократии, возглавляемой шахом Ирана. Эта противоречи¬
вость была следствием того, что архаичный политический ин¬
ститут, каким являлся монархический режим в Иране, взял на
себя задачу проведения современных буржуазных преобразо¬
ваний в экономике и социальной структуре страны. Этот режим
сознавал, что задачи экономического прогресса не могут быть
осуществлены без помощи знания как экспериментального, так
и теоретического, вместе с тем задача обоснования законности
монаршей власти диктовала необходимость апелляции к тради¬
ционным религиозным представлениям.
Основные положения концепции С. X. Насра сводятся к
следующему:
1. В наши дни духовная ситуация характеризуется «кризи¬
сом современного человека», причина возникновения которого
(кризиса) усматривается прежде всего в «неверном, безграмот¬
ном отношении к природе»2. Такое отношение ведет к «эколо¬
гическому кризису». В число его признаков включаются наряду
с разрушением красоты природы и расхищением природных бо¬
гатств также социальные бедствия — снижение жизненного уров¬
ня, угроза войны.
2. Экологический кризис вызван тем, что в науке господст¬
вует рационализм. Следует заметить, что в понимании С. X. Нас¬
ра данное понятие означает мировоззренческую установку,
главная особенность которой — отрицание существования транс¬
цендентного и божественного, или, иначе, секуляристское зна¬
ние о природе, «лишенное видения в ней бога»3.
3. Рационализм не принимает во внимание «священный ас¬
пект природы»4, т. е. ее зависимость от всевышнего, и на этом
основании полагает единственно законной и допустимой фор¬
мой познания природы естествознание. Такая установка опре¬
деляет стремление человека завоевывать природу и устанавли¬
вать -свое господство над ней.
4. Рационалистическая ориентация утвердила раскол науки
и религии, что, в свою очередь, стало основной причиной «кри¬
зиса отношений человека и природы»5, приведших к его духов¬
ному оскудению. Однако вина современной науки не столько
в рациональном способе познания, сколько в том, что знание
о природе более не считается средством религиозного спасения
человека, как было в средние века. Путь к преодолению кризи¬
224
са лежит через воссоединение науки и религии. Последнее воз¬
можно лишь при условии отказа от рационализма (в том его
понимании, какое было раскрыто в предыдущих пунктах) и воз¬
вращения к вйдению мира в соответствии с «традиционной пер¬
спективой ислама» и ее наиболее полным воплощением в
суфизме.
Способ философствования С. X. Насра отличается «ретро-
спективностью». Подобно тому как факих обращался к сунне
в поисках прецедента для решения возникшей перед ним проб'
лемы юридического характера, С. X. Наср апеллирует к ре¬
лигиозно-философскому наследию мусульманских народов в
поисках решений, которые по аналогии могли бы быть приме¬
нены к сегодняшним проблемам. То, что он в качестве осно¬
вания союза веры и знания выбрал именно суфизм, объясняет¬
ся, на наш взгляд, некоторыми особенностями этого учения. По¬
зиция мусульманской ортодоксии не должна была устраивать
иранского философа по той причине, что в истории исламской
мысли она скомпрометировала себя отрицательным отношением
к научной рациональности, нежеланием допустить самостоя¬
тельное существование какого-либо иного знания помимо ре¬
лигиозно-догматического. Суфизм же, с одной стороны, призна¬
ет необходимость и относительную самостоятельную рациональ¬
ного познания, с другой—считает его низшим, несовершенным
видом в сравнении с мистической интуицией.
Прежде чем перейти к рассмотрению философских основ
концепции синтеза науки и ислама, хочется отметить, что исход¬
ной посылкой для Насра служит общемусульманское представ¬
ление об исламе как «пути познания», выразившееся в знаме¬
нитом хадисе пророка: «Поиски знания есть религиозный долг
каждого мусульманина». Целью познавательных усилий чело¬
века является знание о боге, а процесс познания и знание объ¬
являются средством религиозного спасения. Однако концепция
синтеза опирается на тот вариант истолкования этой идеи, ко¬
торый был принят суфизмом и исмаилизмом. Согласно указан¬
ным идейным течениям, не только собственно религиозное зна¬
ние, но и знание об окружающем мире ведет человека к духов¬
ному совершенствованию6.
С. X. Наср старается строить свое учение на сочетании чис¬
то познавательного, исследовательского подхода к миру с жиз¬
несмысловыми, религиозно-нравственными поисками личности.
Иначе говоря, познание окружающей действительности ассоци¬
ируется ценностной ориентацией человека в ней. Взгляд под
таким углом зрения на проблему взаимоотношения современ¬
ной науки и ислама позволяет иранскому философу больше вни¬
мания уделить не гносеологическому аспекту проблемы, но цен¬
ностно-этическому. Критерием ценности знания становится не
«его достоверность, а степень важности того или иного его вида
для духовного совершенствования мусульманина, а в конечном
счете для его спасения. «Исламская наука сосредоточивает свои
15 Зак. 635
225-
усилия на достижении того знания, которое могло бы привести?
к духовному совершенству всех, кто ею занимается»7.
Критика С. X. Насром современной науки протекает в рус¬
ле критики ее со стороны западной идеалистической философии..
Сегодня, пишет он, наблюдается «весьма значительное смеще¬
ние акцентов от попыток ограничить в духе агностицизма воз¬
можности научного познания мира к попыткам дискредитиро¬
вать науки в социально-этическом плане»8.
При всем желании создать концепцию синтеза науки и ре¬
лигии на основе суфийского представления о знании как:
единстве истины и нравственности С. X. Наср не смог избежать
влияния присущего современной буржуазной философии про¬
тивопоставления научного способа мышления нравственному'
сознанию. Это противопоставление выразилось в поляризации
двух ее направлений: сциентистского и гуманитарно-антрополо¬
гического. Их общим мотивом в подходе к научному знанию
(который, как мы увидим, обнаруживается и у иранского фи¬
лософа) было то, что из этой сферы изгонялись нормативно¬
ценностные элементы, а нравственный поиск как собственно
человеческий способ существования выносился в иную область-
духа. Специфика научного знания усматривалась в его инстру¬
ментально-производительном характере. Разделение в современ¬
ной буржуазной философии научно-теоретического и нравствен¬
но-ценного расщепляет положенное в основу концепции С. Х.Нас-
ра (навеянное суфизмом) представление о знании как единстве*
истины и ценности. Это, как мы увидим позже, сказалось и
на способе построения его учения. Знание берется им то в
гносеологическом плане (отношение к отражаемой реальности),
то в функциональном (отношение к идеалам и потребностям
религиозно истолкованного субъекта). Нужно заметить, что саде
С. X. Наср эту разницу нигде не оговаривает, что, думается,
позволяет ему постоянно переходить из одного плана рассмот¬
рения науки и религии в другой, незаметно подменять один
другим. Он то сопоставляет их для решения вопроса об их
истинности, то переходит к вопросу об отношении их в качест¬
ве видов знания к духовному совершенствованию мусульмани¬
на. Как ни парадоксально, но именно эти постоянные переходы
из одной плоскости рассмотрения в другую дают возможность
иранскому философу, не отрицая истинности современной фор¬
мы научного знания, включить его в исламское мировоззрение*
путем отведения ему особого места в иерархии религиозно-гу¬
манитарных ценностей.
Каким же образом С. X. Наср онтологически обосновывает
существование науки и религии и возможность их синтеза? Уже
говорилось, что поиски знания с позиции ислама носят харак¬
тер религиозно-нравственного действия, непосредственно свя¬
занного с конечной целью бытия человека. Необходимость су¬
ществования научного и религиозного знания С. X. Наср поэтому-
выводит из «природы человека». В соответствии с суфийскими.
226 '
представлениями иранский философ изображает его чем-то
промежуточным между природным и сверхприродным порядка¬
ми реальности, «мостом между небом и землей»9. Это поло¬
жение человека в мире отражено в структуре его бытия: он со¬
четает в себе два онтологически противоположных порядка
реальности — абсолютной и относительной. Сущность человека
находится в трансцендентной реальности, в силу чего он носит
в себе элемент божественной природы, «теоморфен», однако по¬
скольку он вынужден жить в земном мире, постольку «отделен
от своего божественного источника». Из состояния «отпадения
от бога» человек стремится вернуться в состояние близости к
богу, что проявляется в «мистическом поиске вечного и абсо¬
лютного» 10. В исламе, указывает Наср, путь к богу лежит через
познание, конечная цель которого (она одновременно и наи¬
высшая)— возможная степень приближения к богу — достиже¬
ние Абсолютной истины, или Высшего знания. «Познание Абсо¬
лютного и жизнь в соответствии с волей неба являются конеч¬
ной целью и назначением человека в этом мире»11. Под Абсо¬
лютной истиной понимается «знание богом себя самого»12, «зна¬
ние божественной реальности»13, или, что то же самое, «Бо¬
жественная мудрость» 14, «священное знание, лежащее в сердце
каждого религиозного откровения»15.
Элементом теоморфизма, посредством которого только и воз¬
можно постижение этой Абсолютной истины, служит особое
познавательное качество человека, именуемое «интеллект», или
«интеллектуальная интуиция»16. Отождествление интеллекта и
интуиции требует дополнительных пояснений. Дело не только
в том, что, по мнению С. X. Насра, широко распространенное
представление об интеллекте как относящемся к сфере рацио¬
нального и отличающемся от интуиции — следствие неверного
понимания истинного смысла этого слова 17. Дело еще и в том,
что интуиция, по С. X. Насру,— «духовное видение», особого
рода «духовный опыт божественных трансцендентных реалий» 18,
качественно отличный от чувственного опыта и никаким обра¬
зом с ним не связанный19. Понятие «интеллектуальная интуи¬
ция» предполагает как «озарение сердца и ума человека», так
и обнаружение присутствия в душе знания, «мгновенного и не¬
посредственного по своей природе, которое вкушается и пере¬
живается человеком на опыте»20. Иранский философ упорно
подчеркивает, что интеллектуальным нужно считать именно
интуитивное познание, а не «анализирующую, дискурсивную
деятельность ума», как принято думать21. Ошибочна точка зре¬
ния, согласно которой «свойство духовного опыта быть интел¬
лектуальным и мудрым — результат деятельности человеческого
ума, размышляющего или рассуждающего по поводу содер¬
жания такого опыта. Духовный опыт на своем высшем уровне
сам по себе обладает интеллектуальной и мудрой природой»22.
Признание за человеком способности непосредственно пости¬
гать божественные истины нисколько не отменяет, полагает
15*
227
Наср, необходимости в существовании религии в виде священ¬
ного текста, догматики и обрядов. Выясняется, что, хотя интел¬
лект, или интеллектуальная интуиция, присущ «природе чело¬
века», на деле не все люди способны к непосредственному кон¬
такту с трансцендентным. Большинство обладает интуицией
потенциально, актуально же она свойственна только пророкам
и суфиям; однако, дабы и все остальные тоже могли стать при¬
частными к вечному и абсолютному, духовный опыт избранных
объективируется в форме откровения и принимается рядовыми
верующими на веру как авторитетные суждения. Кроме того,
сама актуализация интеллектуальной интуиции даже у тех, «кто
от рождения обладает способностью к духовному созерцанию
и призван искать священное знание»23, возможна только при
условии, что они исповедуют какую-либо религию и следуют
веем ее предписаниям24. «Хотя интеллект лежит внутри бытия
человека, последний слишком отдален от своей „вечной при¬
роды“, чтобы самому во всей полноте пользоваться этим даром.
Он нуждается в откровении, которое одно лишь может актуали¬
зировать интеллект и позволить ему правильно функциониро¬
вать» 25.
Таким образом, познавательное качество человека, называе¬
мое интеллектом, или интеллектуальной интуицией, оказывает¬
ся, по сути, неким инструментом религиозной веры, призванным
постигать исключительно потусторонние, запредельные истины,
причем успешно «работающим» только внутри религиозной тра¬
диции. Интуиция и откровение — единственное средство реали¬
зовать стремление индивида к «мистическому поиску вечного и
абсолютного», обусловленное его причастностью к трансцен-
денции.
Но наряду с этим у человека есть потребности, порожден¬
ные его пребыванием в эмпирическом мире; он не может их
удовлетворить без знания этого мира. Имеющиеся у него и
другие познавательные способности — разум и чувства, в от¬
личие от интеллекта предназначены для познания лишь посю¬
стороннего мира. Дуализм божественного и земного в индиви¬
де выражается в противопоставлении интеллектуальной интуи¬
ции остальным его познавательным способностям. Разграни¬
чивая веру как истину «не от мира сего» и разум, как знание
об окружающем мире, иранский философ старается доказать,
что в «сердце религии ислама» находится истина, лежащая за
пределами возможностей, и тем оградить веру от критики по¬
следнего. Откровение адресует себя тому, что является «эле¬
ментом теоморфизма в человеке»2*. И подлинный смысл рели¬
гиозных догматов и обрядез доступен не земному разуму,
а лишь интеллекту21.
Концепция человека С. X. Насра демонстрирует сочетание
двух противоположно направленных тенденций: резкое проти¬
вопоставление в человеке божественного и земного начал и
тенденция рассматривать эти начала в единой плоскости эмпи¬
228
рического, «зависимого» бытия. При этом используются основ¬
ные суфийские идеи, касающиеся единства мира и бога.
Согласно учению суфиев, мир представляет собой множест¬
во исходящих от бога и иерархически упорядоченных относи¬
тельно него уровней бытия, Бог проявляется в мире, отражаясь
подобно свету на всех этих уровнях как в зеркале. Человек
является микрокосмом, структура которого подобна структуре
мироздания — макрокосму. Здесь С. X. Наср главное внимание
сосредоточивает на утверждении, что в системе микрокосма
интеллект занимает место, аналогичное тому, которое бог за¬
нимает в макрокосме. «Свет интеллекта», отражаясь на «уров¬
не психики», который в контексте микрокосма выступает ана¬
логом «мира множественности» и «относительной реальности»,
порождает способность человека к познанию окружающего28.
Разум и чувства в свете сказанного — исходящие от интеллекта
и зависимые от него уровни человеческой реальности. Индивид
предстает иерархией познавательных способностей: интеллект,
разум, чувства.
Следуя суфизму, С. X. Наср опирается на идею трансцен¬
дентного единства веры и знания, а их расхождение толкует
таким образом. В земном эмпирическом мире вера существует
во внешней догматической форме, которой может противоречить
знание о действительности. Источником и разумного и верова-
тельного знания служит интеллект, в силу чего всякое знание
«имеет священный характер»29. Отсюда также вытекает, что
разумное познание окружающего мира должно рассматривать¬
ся как путь, ведущий к вере, а не уводящий от нее. Подобно
тому как постижение Высшей реальности является целью, к ко¬
торой стремится все относительное бытие, так и знание, со¬
держащееся в интеллекте, конечная цель всякого познания.
«Интеллект есть знание о сущности Субстанции и субстанция
знания», или иначе: «Знание об Источнике и Истоке суть ис¬
точник и исток всякого знания»30. Иными словами, религиозную
веру С. X. Наср выделяет в качестве наиболее существенного
и фундаментального свойства человека. Способность разума
объявляется им производной от веры и, значит, полностью от
нее зависящей. «Интеллект всегда остается принципом разума;
деятельность разума, если он здоров и нормален, должна быть
необходимым образом направлена к интеллекту»31.
Однако, подчинив разум мистифицированной интуиции,
С. X. Наср хочет отвести от себя обвинение в иррационализ¬
ме32 и соотносит это понятие лишь с инстинктом, с бессозна¬
тельным, т. е. с тем, что сам он определяет как низшее чувст¬
венное начало. В иррационализме усматривается стремление
подчинить высшее — разум низшему — чувству. По убеждению
философа, интеллектуальная интуиция стоит над всякой проти¬
воположностью иррационального и рационального33. Более
того, саму дискурсивную деятельность разума допустимо ха¬
рактеризовать -как интеллектуальную только из-за связи его с
£09
«духовным опытом», который и является, как говорилось, ин¬
теллектуальным в истинном смысле слова34. Само собой разу¬
меется, что от простого переименования мистического опыта в
интеллект и приложения к интуиции определения «интеллек¬
туальная» суть концепции С. X. Насра не меняется. Он утверж¬
дает приоритет веры над разумом.
Нетрудно заметить, что, с одной стороны, иранский фило¬
соф постулирует качественное отличие мистической интуиции —
метода сверхестественного познания — от разума, чья деятель¬
ность направлена на естественный природный мкр, с другой —
пытается представить постижение сверхъестественной истины
конечной целью познания окружающего мира. При решении
проблемы соотношения науки и религии он сталкивается с ха¬
рактерной для религиозного сознания антиномией и единствен¬
ную возможность разрешить ее, не сходя с позиций религии,
видит в суфизме. Сущность антиномии заключается в пробле¬
ме, как сделать истину откровения достоянием посюстороннего
мира, сохранив в то же время ее в качестве истины для этого
мира запредельной35. Эта антиномия выразилась в постоянном
колебании религиозно-ориентированной мысли между двумя
решениями вопроса обоснования религиозной веры и ее отно¬
шения к разуму. Первое сводится к абсолютному их противо¬
поставлению и утверждению веры вопреки разуму. Второе, не
отвергая в принципе научное знание, пытается примирить его
с верой, сделав приемлемым для религиозной концепции мира.
Каждое из решений не свободно от противоречий36.
Построенная в соответствии с мыслительной схемой суфизма
концепция С. X. Наора не примыкает ни к одной из перечислен¬
ных выше тенденций — ни к теологическому иррационализму,
ни к теологическому рационализму, ибо сама демонстрирует
противоречивое сочетание их обеих. Таким образом, иранский
философ не снимает антиномий религиозного сознания, а по¬
стоянно их воспроизводит: наличие в его концепции противопо¬
ложных тенденций делает ее саму внутренне противоречивой.
С указанной антиномией религиозного сознания иранский
философ сталкивается снова при рассмотрении вопросов, свя¬
занных с природой человеческого разума, смысла и конечной
цели познания индивидом эмпирической действительности. Как
уже отмечалось, познание сотворенного, зависимого мира воз¬
лагается на разум и чувства, т. е. на те свойства сознания, ко¬
торые остаются за вычетом из него сверхъестественного эле¬
мента. Среди всех познавательных способностей человека вы¬
деляется разум как непосредственное отражение интеллекта на
«плоскости сознания» ih его «заместитель» в земных делах.
Нужно сказать, что философский интерес С. X. Насра сосре¬
доточивается в основном на теме взаимоотношений человека
с природой. Выбор темы, на наш взгляд, объясняется в пер¬
вую очередь тем, что именно в области знания о природе рас¬
хождение между современной наукой и исламской религией
230
ощущается особенно остро и болезненно, а ^потому возмож¬
ность преодоления их конфликта в рамках этой темы (Представ¬
ляется наиболее заманчивой. Кроме того, естествознание яв¬
ляется наиболее близкой С. X. Насру наукой, ибо по образо¬
ванию он физик. В итоге проблема взаимоотношения науки и
религии у иранского философа приобретает вид проблемы вза¬
имоотношения современного естественнонаучного знания и сло¬
жившихся в мусульманской традиции представлений о мире
природы.
Конструирующим центром темы служит рассмотрение связи
между объективно существующей природой и познающим ее
человеческим разумом. Перед философом стоит задача пока¬
зать, какова должна быть природа разума, чтобы он в преде¬
лах познания эмпирического мира мог в то же время быть
средством приобщения к миру трансцендентному.
В исламской цивилизации, неоднократно подчеркивает Наср,
человек стремился к познанию действительности не из-за при¬
сущей ему любознательности, а лишь с практической целью —
удовлетворять основные потребности «традиционного» челове¬
ка 37. Поскольку речь шла и о потребностях утилитарно-практи¬
ческих, обусловленных его земной природой, и о потребности
постижения абсолютной реальности, определяемой его теомор-
физмом, постольку мусульманское средневековое общество до¬
пускало два типа знания о природе. Ее феномены можно было
изучать либо для вычленения в них таких свойств и качеств,
которые приносили бы пользу людям в их каждодневной дея¬
тельности, «удовлетворяли бы физические и социальные нужды
человека как земного существа»38, либо же для удовлетворения
его высших духовных потребностей, «дабы познать самого себя
через аналогию между микрокосмом и макрокосмом. А позна¬
вая себя, человек приходит к познанию бога, ибо сказал про¬
рок: „Тот, кто знает себя, знает своего Господа“»39.
Механизм познания описывается Насром достаточно тради¬
ционно— представление о природных вещах дают чувства в
виде чувственно-наглядных образов, последние подвергаются
затем переработке мышлением. Однако далее обнаруживаются
существенные особенности. Один и тот же равный себе эмпи¬
рический опыт разум претворяет в два абсолютно разных вида
знания в зависимости от того, удовлетворению каких потреб¬
ностей, духовных или земных, призвано служить полученное
знание. Если имелись в виду утилитарно-практические интере¬
сы, то природа представала миром неактивных объектов, про¬
тивостоящим человеку как субъекту деятельности, полем актив¬
ности человека, стремящегося переделать ее согласно своим же¬
ланиям40. Если же природный космос виделся теофанией, то
явления природы оказывались символами, складывающимися в
некую целостную картину, в образ, «икону» иной реальности,
невидимой и неземной41. В трактовке С. X. Насра разум обла¬
дает двумя возможностями интерпретировать данные чувствен¬
231
ного опыта, или двумя «видениями реальности». Эти видения
в работах иранского философа получили названия — фактуаль-
ная и символическая точки зрения42, натуралистическая и сим¬
волическая интерпретации фактов43.
Различение «способов видения природы» обусловило сущест¬
вование в исламской цивилизации двух качественно разных ти¬
пов наук о природе. Фактуальная, или натуралистическая, идея
легла в основу естественных наук о природе (того, что сегодня
называют естествознанием); символическое видение — в основу
наук, получивших у С. X. Насра наименование «космологиче¬
ски е науки о природе», или «традиционные космологии». Под
этим подразумеваются алхимия и астрология, принципы миро-
устроения в учениях суфиев, мусульманских перипатетиков, ис-
маилитов, пифагорейское учение о числах, а также картины
вселенной, общие для ряда религиозно-философских учений
средневековья44. В качестве наиболее яркого примера, демонст¬
рирующего разницу между «естественными» и «космологиче¬
скими» науками, часто приводятся химия и алхимия45. Обе
дисциплины46 имели дело с одной и той же предметной реаль¬
ностью— областью минералов, в них использовалась одинако¬
вая терминология, тем не менее они различались своими уста¬
новками47. Химик рассматривал минералы как существующие
сами по себе природные субстанции, его не интересовал «сим¬
волический аспект», он не изображал процесс трансформации
металлов в золото как трансформацию восходящей к богу
души. Суть алхимии, убеждает С. X. Наср, заключается вовсе
не в вере в возможность реального получения золота из небла¬
городных металлов, как это обычно принято считать48, а в
идее, что все явления природы — не просто факты сами по себе,
но символы реальности высшего порядка. Ее область — мир ми¬
нералов «как часть, охватываемая превосходящим ее сверхчув¬
ственным миром»49. В силу этого алхимия — космологическая
наука. Что касается химии и других естественных наук, то их
область — мир природы, независимо от его связи с реальностью
более высокого порядка, как если бы мир природных вещей был
самодостаточным и имел бы все причины в себе самом.
Естественные и космологические науки размежевываются не
только по цели изучения и способа видения природы, но и по
тому, что составляет «предметное содержание знания». Мета¬
физическое различие абсолютного и относительного лежит в
природе вещей50. Это значит, что самим вещам объективно при¬
сущи как материальные, физические свойства, так и «символи¬
ческий аспект». Те и другие качества принадлежат одной и той
же вещи, присутствуют в ней параллельно и независимо друг
от друга, ибо относятся к онтологически разным порядкам ре¬
альности. Так, дерево должно считаться символом иерархии
множества состояний бытия, пока на свете растут деревья. Рас¬
смотрение его в качестве символа ни в коей мере не отменяет
и не лишает ценности то знание о нем, которое содержат бо-
232
таника или физика. Изменения, происходящие с реальными де¬
ревьями, не могут изменить постоянный характер их символи¬
ческого значения, так же как последнее, в свою очередь, не
окажет влияния на вес или размер предмета. Другой пример —
солнце. Пока оно существует, око будет символом «Универсаль¬
ного интеллекта», а небо — символом трансцендентной реаль¬
ности и «трона Всевышнего»51. Нетрудно заметить, что в учении
С. X. Насра отражено типичное для религиозного сознания
приписывание предметам двойной функции: эмпирической и
сверхэмпирической.
Субъективный характер выдвинутого философом первона¬
чально тезиса, по которому размежевание наук о природе обус¬
ловлено исключительно деятельностью самого сознания, уравно¬
вешивается утверждением, что необходимость двух абсолютно'
противоположных «вйдений реальности» вызвана независимым
от сознания существованием свойств самих вещей. Разуму че¬
ловека, таким образом, присуща двойственность, дабы он мог
участвовать во всех порядках реальности52. Однако, согласна
другому утверждению С. X. Насра, обнаружить онтологически
несходные аспекты в явлениях природы способен лишь тот, кта
рассматривает ее в «перспективе ислама», иначе говоря, тот,,
кто предварительно уверовал в связь природных вещей с бо¬
гом и ищет в вещах выражения этой связи. Только сознанием
религиозно настроенного человека реальные предметы воспри¬
нимаются как обладающие двумя функциями: естественной эм¬
пирической и сверхъестественной, возвещающей запредельное
начало. Идея, что религиоано-символическое значение, припи¬
сываемое вещам, нужно трактовать как их объективные свой¬
ства, принимает у С. X. Насра характер догмы.
Поскольку естественные и космологические науки имеют*
дело с онтологически разными сторонами действительности, то
они оказываются качественно различными видами знания. Пер¬
вые исследуют «материальный аспект» реальности, которому
свойственны «множественность и изменчивость», поэтому они
по своей сути являются развивающимися, добывающими и на¬
капливающими все новые и новые данные о природе. Что ка¬
сается космологий, то они застыли в первоначальной форме,,
не подвержены изменениям, так как отражают вечный и по¬
стоянный аспект вещей. Настойчиво подчеркивая несоизмери¬
мость двух типов знания, иранский философ подводит к мысли,,
что лежащие в их основе «символическая» и «натуралистиче¬
ская» точки зрения, сопоставленные в плане гносеологическом,,
неверно оценивать как истинную и ложную. Каждая из этих
точек зрения вполне адекватно отражает свою область реаль¬
ности и в ее границах оказывается абсолютно истинной. Поэто¬
му С. X. Наср считает ошибочным распространенный ныне
взгляд на средневековые науки, например на астрологию и ал¬
химию, как на предшественниц современных наук, химии и
астрономии. Это не были попытки еще по детски незрелого
23S
ума найти фантастические объяснения явлений природы, кото¬
рые сегодня с развитием науки и техники должны быть отбро¬
шены как нелепые предрассудки53. Напротив, традиционные
космологии и сегодня могут мирно сосуществовать с -новейши¬
ми научными достижениями. Более того, в них есть потреб¬
ность как в ничем другим не заменяемом измерении человече¬
ского бытия. Идея параллельного существования двух типов
знания, научного и религиозного, имплицитно содержит допу¬
щение, что научная картина мира может и должна коренным
образом отличаться от религиозной. С. X. Наср считает невер¬
ным стремление многих мусульманских теологов модернизиро¬
вать исламское вероучение путем истолкования некоторых мест
Корана как предвосхищающих и подтверждающих открытия
современной науки. Он настаивает на недопустимости сравне¬
ния вечных и абсолютных истин Корана с положениями науки,
относящимися к изменчивому и преходящему54.
Желание развести естественные и космологические науки
как принципиально различные и потому несопоставимые виды
знания сочетается у Насра с противоположно направленным
стремлением объединить их в единую систему знания. С этой
целью анализ этих наук перемещается в другую плоскость по¬
средством переключения внимания с их отношения к предмет¬
ной реальности на их отношение к источнику и цели познания —
Абсолютной истине. Какое из видов знания, фактуальное или
символическое, вернее ведет к достижению абсолютного знания
и тем самым имеет большую ценность для духовного совершен¬
ствования мусульманина? Вспомним, что, по Насру, зна-ние ин¬
теллекта служит подлинным «источником и субстанцией всяко¬
го знания», в том числе и добываемого разумом, т. е. естест¬
венные и космологические науки предстают в качестве неодина¬
ковых в ценностном отношении ипостасей абсолютного знания.
Философ изображает их последовательными ступенями «лест¬
ницы познания», ведущей к Абсолютной истине,— натуралисти¬
ческое оказывается нижней ступенью этой лестницы, а симво¬
лическое— высшей. Правильно ориентироваться в действитель¬
ности— различать в ней факт и символ и то же в собственной
деятельности — устанавливать правильные ценностные отноше¬
ния между натуралистическим и символическим видениями ре¬
альности разум может благодаря наличию у него еще одной,
третьей, способности, -названной С. X. Насром «независимой
критической функцией разума», или «критическим свойством ра¬
зумной способности»55. Она есть выражение зависимости разу¬
ма от интеллекта и, стало быть, сверхъестественного происхож¬
дения. По сути, речь идет об изначально присущей разуму
религиозной ориентации.
Но всякий раз, как иранский мыслитель полагает религиоз¬
ность врожденным свойством человека, он сталкивается с необ¬
ходимостью дать объяснение причины и возможности появле¬
ния секуляризма и атеизма. Корни секуляризма, по его мнению,
234
лежат в онтологической отдаленности «индивида от его божест¬
венного источника56, в результате чего разумная способность
оказывается двойственной и несовершенной. Она в конечном
счете должна быть «инструментом постижения божественных
истин», но легко может впасть в заблуждение и тогда разумное
знание оказывается «завесой, скрывающей эти истины от чело¬
века»57. Во втором случае разум становится причиной того, что
эдндивид «восстает против бога и его религии откровения»58.
Секуляризм, в трактовке философа, представляется заблужде¬
нием разума, возникающим по причине того, что «ясное виде¬
ние» последнего замутняется чувственностью, которая охваты¬
вает не только ощущения, но и чувства, или «страсти души».
Она выступает таким измерением сознания, которое в наиболь¬
шей степени подвержено влиянию «мира множественности».
Попав под ее влияние и «забыв» о своей зависимости от ин¬
теллекта, разум теряет способность усматривать в природе сим¬
волы, начинает считать «натуралистическое видение» единст¬
венно возможным и правильным способом познания.
Абсолютизация натуралистического видения природы состав¬
ляет сущность рационализма, т. е. «мировоззрения, полагаю¬
щего разум человека (а не разум бога.— К. X.) единственным
инструментом получения знания и единственным критерием ис-
•тины»59. Его, предупреждает С. X. Наср, следует отли¬
чать от «почитания логики и разума»60, которое всегда было
свойственно мусульманам. В понимании иранского мыслителя
рационализм означает стремление считать разум совершенно
самостоятельным и независимым от религиозной веры. Это по¬
нятие здесь сближается с понятием «сциентизм»; имеется в ви¬
ду не столько познавательное отношение к действительности,
сколько ценностно-мировоззренческая ориентация.
Рассуждения Насра о рационализме призваны доказать, что
он не связан необходимым образом с научно-теоретическим
познанием, а предстает некой демонической силой, заставившей
науку служить «материальному» началу человека, вместо того
чтобы помогать его духовному совершенствованию, и способ¬
ной лишь разрушать природу, а не содействовать ее возвраще¬
нию к своему божественному источнику. Единственный выход
из создавшегося положения — отказ от рационализма (в пони¬
мании его Насром) и возвращение к рассмотрению науки в
«универсальной перспективе ислама». Освобожденная от ра¬
ционализма, она может быть интегрирована в «более общее
мировоззрение, метафизическое по своей природе»61, т. е. долж¬
на занять подобающее ей место в иерархии видов знания.
Разработка такой иерархической системы, согласно С. X.Нас¬
ру, обеспечит решение проблемы гармонического синтеза нау-
жи и ислама»82. В основе классификации видов знания — учение
об иерархии познавательных качеств человека и о двух «вйде-
ниях» разума, натуралистическом и символическом. Наука, фи¬
лософски и догматически оформленная религия включаются в
235
трехступенчатую конструкцию соответственно степени их цен¬
ности для духовного совершенствования мусульманина. Верх¬
нюю ступень занимает метафизика, самую нижнюю — совре¬
менное естествознание, или «конкретные науки о природе»,
промежуточный уровень отводится «традиционным космологи¬
ческим наукам».
Метафизика в концепции С. X. Насра— экспликация того
знания, которое добывается интеллектом, или интеллектуаль¬
ной интуицией, «воплощение Абсолютной истины в человече¬
ском уме»63. Метафизика объявляется целью и итогом, к кото¬
рому должно прийти всякое познание. По содержанию это
«высшая наука о Реальном, единственная наука, способная раз¬
личать абсолютное и относительное, реальное и феноменальное.
Лишь в свете этой науки человек способен выделять уровни
бытия и видеть каждую вещь на своем месте в общей схеме
бытия»64. Тождественная общим принципам «исламского ми¬
ровоззрения», она задает некую систему ценностных координат,
отталкиваясь от которых, мусульманин должен рассматривать
мир и все в нем происходящее. Эти принципы выступают одно*
временно и регулятивными принципами иерархии видов знания.
Естествознание рассматривает вещи в их собственных «ве¬
щественных» связях, не ищет причин изучаемых им явлений
вне материального мира, чем, с точки зрения С. X. Насра, объ¬
ясняется его «метафизическая ограниченность»; самые глубокие
основания бытия вещей открываются только тогда, когда пред¬
мет исследуется в его связи со сверхъестественным. Как бы
далеко ни проникала современная наука — «в глубины косми¬
ческого пространства или „сердце атома“ — всякое расширение
его (научного знания.— К. X.) есть лишь горизонтальное, не
выходящее из области материального и телесного»65. Современ¬
ное естествознание не дает и по своей природе не должно да¬
вать «знания священного», являющегося непременным усло¬
вием духовного совершенствования и религиозного спасения.
Если так, то на каком основании оно должно считаться
«ступенью» знания священного? Чтобы избежать противоречия
с выдвинутым им самим положением: «В традиционной циви¬
лизации каждая частная наука связана с религиозными прин¬
ципами этой цивилизации»66, С. X. Наср объявляет естество¬
знание превращенной и искаженной формой «знания священ¬
ного», или «метафизики», прибегая к образам суфизма. По¬
добно тому как объект естественных наук — земной мир пред¬
ставляется отраженным образом бога, так и современное ес¬
тествознание надлежит определять не более чем отражением
метафизики — знания о божественной реальности. На этом ос¬
новании результаты научно-теоретического познания могут ил¬
люстрировать истины религии. «Наука должна влиться в ме¬
тафизику, чтобы ее бесспорные факты снова получили духовное
значение»67. Это «влияние», синтез осуществляется через кос¬
мологические науки. Подробное рассмотрение их функции в.
236
концепции С. X. Насра необходимо предварить одним замеча¬
нием.
После знакомства с работами советских ученых, в которых
так или иначе затрагиваются философские взгляды С. X. Нас¬
ра, создается впечатление о нем как о мыслителе, стремящемся
противопоставить традиционную исламскую науку современной,
желающем развенчать и отвергнуть современное научное зна¬
ние, полностью заменив его традиционной наукой о природе68.
Такое мнение, нам кажется, могло сложиться из-за терминоло¬
гической нечеткости у самого С. X. Насра. Дело в том, что под
термином «традиционная мусульманская наука» подразуме¬
ваются то собственно средневековые учения о строении мира,
то космологические науки, то его система единого знания, ко¬
торая действительно противопоставляется рационализму совре¬
менной науки. Более внимательное изучение сочинений иран¬
ского философа дает возможность заметить другую его интен¬
цию— усмотреть в средневековых мусульманских науках о при¬
роде не альтернативу современного естествознания, а промежу¬
точное звено между ним и «восточной мудростью», или метафи¬
зикой, с целью нейтрализовать те мировоззренческие выводы,
к которым могут подвести достижения современной науки.
Здесь мы подошли к главному пункту классификации видов
знания у С. X. Насра. Космологические науки черпают содер¬
жание из того же чувственного опыта, что и науки о фактах,
но рассматривают этот чувственный опыт сквозь призму опыта
сверхчувственного. Космологии накладывают на данные чувств
сетку координат метафизики, в результате чего природные яв¬
ления, которые человек наблюдает в обыденном опыте, начи¬
нают играть роль религиозных символов. «Хотя современная
наука отвернулась от метафизического и символического со¬
держания вещей, ее открытия, если они соответствуют какому-
либо аспекту реальности, обладают символическим значением.
Соответствовать реальности в какой-либо степени — значит
быть символичным»69. Задача космологических наук — найти
это скрытое внутреннее значение и перевести научную теорию
с языка понятий на язык религиозных символов.
По отношению к естественнонаучным теориям Наср исполь¬
зует специфический метод толкования текста, та’авил, приме¬
няемый в суфизме и исмаилизме к тексту Корана. Согласно
суфиям, Коран помимо своего буквального значения имеет и
«внутреннее», скрытое от непосвященных и доступное лишь тем,
кто владеет методом аллегорического толкования. Метод этот
представляется С. X. Насру особенно действенным в тех слу¬
чаях, когда ислам сталкивается с научными мировоззренче¬
скими теориями, такими, как гелиоцентрическая теория Копер¬
ника или эволюционная теория Дарвина. В результате оказы¬
вается, что учение Коперника разрушает религиозную картину
мира только в том случае, когда, «давая новое видение физи¬
ческого мира», не сопровождает его «новым духовным виде¬
237
нием вещей»70. На деле же в гелиоцентрической теории скрыт-де
свой символический смысл: поместив источник света в центр,
она обозначила тем самым центральное положение Мирового
разума, чьим символом всегда было солнце. Раздвинув границы
космоса и открыв человеку всю ширь космического пространст¬
ва, она символически обозначила всеобъемлемость божествен¬
ного бытия и ничтожество человека перед ним71. Эволюционная
теория Дарвина в соответствующей трактовке — это искаженная
форма учения о нисхождении человека от его «небесного про¬
тотипа» к его телесному состоянию через промежуточные стадии.
В «метафизическом смысле» обезьяна символизирует то, чем
«человек никогда не был и никогда не будет», ведь он не яв¬
ляется исключительно «земным», телесным, он — «теоморфное
существо»72.
Попытки С. X. Насра найти место естественнонаучному зна¬
нию, узаконить его в мусульманской иерархии видов знания,
а также стремление указать на скрытый религиозный смысл
в естественнонаучных теориях (в контексте его работ) опре¬
деляются как «философская интерпретация достижений совре¬
менной науки»73. Иранский философ считает, что он нашел
удачный способ охватить современную науку «единым мусуль¬
манским мировоззрением». Но так ли гармонично соединение
науки и ислама под сенью «единого мусульманского мировоззре¬
ния»? Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что
«символическая» интерпретация имеет дело с готовым, экспе¬
риментально и рационально выверенным, систематически оформ¬
ленным знанием. В ислам включается готовый результат науч¬
но-теоретического исследования. Сам же процесс получения
нового знания и проверка его выпадают из поля «исламского
видения». Действительно, разве утверждение, что «современные
научные теории, если они соответствуют какому-либо аспекту
реальности, обладают символическим значением» не подразу¬
мевает лишь то, что вопрос о соответствии или несоответствия
реальности должен решаться где-то за рамками принципов ис¬
лама.
Мусульманский ученый, по мнению С. X. Насра, должен
осознавать, что реальность, с которой он имеет дело в научных
изысканиях, есть не вся реальность, а лишь «низший», мате¬
риальный аспект ее. Потому сделанные им выводы, явно расхо¬
дящиеся с религиозной точкой зрения, не могут выходить за
пределы естествознания и распространяться на понимание по¬
следних оснований бытия.
По сути, С. X. Наср оказывается сторонником секуляриза¬
ции науки. Согласно его концепции, современная наука, даже
находясь под контролем религии, получает в свое распоряжение
пусть очень узкую, ограниченную, но все же независимую об¬
ласть. Допущение ее самостоятельности и необходимости для
нее своего, отличного от религиозного критерия истины и, сле¬
довательно, иного способа «видения действительности» разру¬
238
шает логически стройную на первый взгляд «единую систему
мусульманской науки», покоящуюся на «едином мусульманском
мировоззрении». Учение С. X. Насра, как представляется, прос¬
то подводит теоретическую базу под широко распространенную
в ряде -стран Востока практику, когда ученый в стенах лабо¬
ратории или института придерживается научного мировоззрения,
а покинув их, сразу же превращается в истово верующего. Тем
самым иранский философ приходит к тому, с чего начал—
к дихотомии современной науки и религии. Ведь как раз глу¬
бокая неудовлетворенность ситуацией «раздвоенного сознания»
восточного ученого, когда столкнулись традиционное воспита¬
ние и современное образование, стала причиной многочислен¬
ных попыток создания концепций -синтеза науки и религии.
Вместо снятия противоречия между ними С. X. Наср просто
объясняет мусульманину, как ему следует жить в этих условиях,
если он желает оставаться правоверным мусульманином, как
должен восприниматься им факт существования науки и науч¬
ности и какой образ современной науки должен сложиться в
его сознании. Отношение к ней, которое пытается вызвать
иранский философ, в конце концов определяется утилитарным
подходом к науке современной иранской буржуазии, нуждаю¬
щейся в новейших достижениях, но желающей ограничить ее
сферой материального производства.
1 С. X. Наср — профессор философии и истории науки. Окончил физиче¬
ский факультет Массачусетского технологического института (США) в 1954 г.,
затем получил степень доктора наук в Гарвардском университете. В 1958 г.
вернулся в Иран, где впоследствии стал ректором Тегеранского университета.
Незадолго до революции 1979 г. С X. Наср был директором Иранской шах¬
ской Академии философии. В настоящее время живет в США, профессор От¬
деления исламских исследований университета Темпл в Филадельфии.
2 Nasr S. Н. Sufi Essays. L., 1872, с. 153.
3 Nasr S. H. The Encounter of Man and Nature. The Spiritual Crisi of Mo¬
dern Man. L., 1968, c. 20.
4 Там же, с. 24.
5 Там же, с. 20.
6 Об исмаилитской концепции знания см.: Бертельс А. Е. Насири Хосров.
и исмаилизм. М., 1959, с. 231—232, 234.
7 Nasr S. Н. Science and Civilization in Islam. Cambridge (Mass.), 1968,.
c. 39.
8 Гараджа В. И. Неотомизм. Разум. М., 1969, с. 34.
9 Nasr S. Н. Knowledge and the Sacred. N. Y., 1981, c. 160.
10 Nasr S. H. Sufi Essays, c. 27.
11 Nasr S. H. Knowledge and the Secred, c. 180.
12 Там же, c. 134, 147.
13 Там же, c. 4.
14 Masr S. H. Science and Civilization in Islam, c. 337.
15 Nasr S. H. Knowledge and the Sacred, c. 130.
16 Nasr S. H. Science and Civilization in Islam, c. 23—26; он же. Sufi Es¬
says, с. 54; он же. Conditions for Meaningful Comparative Philosophy.— Philo¬
sophy East and West. 1972, vol. 22, № 1, c. 54, 58, 60; он же. Knowledge and
the Sacred, с. 1, 130.
17 См. об этом: Nasr S. H. Science and Civilization in Islam, c. 24; он же.
Knowledge and the Sacred, c. 130—131.
239»
18 Nasr S. H. Conditions for Meaningful Comparative Philosophy, c. 54, 60;
он же. Knowledge and the Sacred, с. 130—132.
19 Nasr S. H. Sufi Essays, c. 46.
20 Nasr S. H. Knowledge and the Sacred, c. 130.
21 Nasr S. H. Science and Civilization in Islam, c. 24; он же. Knowledge
and the Sacred, c. 130—131.
22 Nasr S. H. Knowledge and the Sacred, c. 131.
23 Там же, с. 179.
24 См. об этом: Nasr S. Н. Ideals and Realities of Islam. L., 1966, c. 22;
он же. Knowledge and the Sacred, c. 148—149.
25 Nasr S. H. Knowledge and the Sacred, c. 148.
26 Nasr S. H. Ideals and Realities of Islam, c. 22.
27 Nasr S. H. Knowledge and the Sacred, c. 131—132, 149.
28 Nasr S. H. Sufi Essays, c. 54—55.
29 Nasr S. H. Knowledge and the Sacred, с. 1.
30 Там же, с. 131.
31 Nasr S. H. Science and Civilization in Islam, c. 26.
32 Nasr S. H. Sufi Essays, c. 44.
33 Nasr S. H. Science and Civilization and Islam, c. 26.
34 Там же, c. 24.
35 См. об этом: Гараджа В. И. Неотомизм. Разум. Наука. М., 1969,
с. 37—39.
36 Там же.
37 Nasr S. Н. Islamic Life and Thought, с. 125.
38 См. об этом: Nasr S. Н. Islamic Life and Thought, с. 84, 855; он же.
An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. HUP. Cambridge (Mass.),
1964, c. 2.
39 Nasr S. H. Islamic Life and Thought, c. 204.
40 Cm.: Nasr S. H. Science and Civilization in Islam, c. 24; он же. Islamic
Life and Thought, c. 98; он же. Knowledge and the Sacred, c. 161.
4: Cm.: Nasr S. И. Science and Civilization in Islam, c. 24; он же. Know¬
ledge and the Sacred, c. 192.
42 Nasr S. H. Islamic Life and Thought, c. 84.
43 Nasr S. H. The Encounter of Man and Nature, c. 54.
44 Термин «космологические науки» введен С. X. Насром в работе «Science
and Civilization in Islam». Этому термину он, по-видимому, отдавал предпоч¬
тение. Хотя, например, в «Sufi Essays» тот же тип науки назван им просто
«восточная наука».
45 Nasr S. Н. Science and Civilization in Islam, c. 245—246; он же. Islamic
Life and Thought, c. 120—122, 204—205; см. также: Nasr S. H. The Encounter
of Man and Nature, c. 126.
46 Под средневековой химией С. X. Наср понимает не столько развитую
науку, сколько начатки химических знаний, положившие начало современной
химии (см.: Nasr S. Н. Science and Civilization in Islam, c. 246).
47 Nasr S. H. Islamic Life and Thought, c. 120—122.
48 С. X. Наср признает, что подобные представления имели место, но счи¬
тает их частным, вульгаризированным вариантом алхимии (см.: Nasr S. Н.
Science and Civilization in Islam, c. 246).
49 Nasr S. H. Islamic Life and Thought,, c. 120.
50 Там же, с. 87.
51 Там же, с. 88; см. также: Nasr S. Н. The Encounter of Man and Nature,
c. 131—132; он же. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, c. 3.
52 Nasr S. H. Knowledge and the Sacred, c. 168.
b3 Nasr S. H. Islamic Life and Thought, c. 84.
54 Nasr S. H. Sufi Essays, c. 56.
55 Nasr S. H. The Encounter of Man and Nature, c. 23, 36, 68.
56 Nasr S. H. Islamic Life and Thought, c. 8.
57 Nasr S. H. Sufi Essays, c. 55.
58 Там же.
59 Там же, с. 53.
240
60 Там же, с. 52.
61 Nasr S. Я. The Encounter о! Man and Nature, с. 56.
62 Nasr S. H. Sufi Essays, с. 56.
63 Nasr S. H. Conditions for Meaningful Comparative Philosophy, c. 54.
64 Nasr S. H. The Encounter of Man and Nature, c. 81.
G5 Там же, с. 130.
66 Nasr S. H. Sufi Essays, с. 145.
G7 Nasr S. H. The Encounter of Man and Nature, c. 38.
68 См., например: Кирабаев Я. С. Ислам и философия.— Философская
и общественная мысль стран Азии и Африки. М., 1981; Алиева Б. А. Совре¬
менный ислам и наука. М., 1981.
69 Nasr S. Я. Sufi Essays, с. 98.
70 Nasr S. Я. The Encounter of Man and Nature, c. 66.
71 Там же, с. 67.
72 Nasr S. Я. Knowledge and the Sacred, c. 168—171.
73 Nasr S. H. The Encounter of Man and Nature, c. 117.
|6 Jax.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Ахмад ибн Мухаммад Ибн Арабшах
ПРИЯТНЫЙ ПЛОД ДЛЯ ХАЛИФОВ
И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОСТРОУМЦЕВ *
Беседа Ученого с Ифритом
Известный историк XV в. Ибн Арабшах родился в Дамаске. После за¬
хвата и разграбления города войсками Тамерлана (1400 г.) 12-летним маль¬
чиком он был увезен в Самарканд. Там он получил прекрасное по тем вре¬
менам, образование, занимаясь у ученых, которых согнал в свою столицу
завоеватель. После смерти Тамерлана (1405) в течение двух лет Ибн Арабшах
был секретарем одного из османских султанов, а в дальнейшем, живя в Да¬
маске и Каире, посвятил себя изучению истории. Умер он в Каире в 1450 г.
Славу ему принесло описание жизни и походов Тамерлана — «Аджа'иб ал-
макдур фи ахбар Таймур» («Странности предопределения, или О Тимуре
сообщения»).
Обратиться к публикуемому отрывку нас побуждает несколько причин.
Прежде всего для историков средневековой арабо-исламской философии не
может не представлять интерес текст, созданный сравнительно поздно —
в 1448 г., трактующий философские проблемы и демонстрирующий влияние ан¬
тичной философской традиции, особенно если принять во внимание крайнюю
недостаточность философских источников на арабском языке, относящихся
к позднему средневековью. Напомним, что последний крупный философ-пери¬
патетик Абу-л-Валид Ибн Рушд (Аверроэс) умер в 1198 г., великий мысли¬
тель— историк и социолог Абд ар-Рахман Ибн Халдун (1332—1406) не может
безоговорочно считаться продолжателем античной философской традиции.
Ученые вынуждены буквально по крупицам собирать материал для рекон¬
струкции историко-философского процесса в XIII, XIV, XV вв.
Далее, исключительно интересным кажется такое практически неисследо¬
ванное явление культурной жизни арабо-исламского средневековья, как сте¬
пень, масштабы и формы влияния фальсафы на обыденное сознание эпохи.
Рассмотрение же этого явления поможет понять, насколько философское ми¬
ровосприятие было укоренено в представлениях человека — не философа или
теолога, не астролога или врача, а простого человека — торговца, ремесленни¬
ка, крестьянина, воина, тех, кто был далек от философии, но опосредованно
воспринимал положения, подходы к действительности, присущие именно ей.
Какие-то решения поставленной проблемы позволят подступиться и к освеще¬
нию вопроса о влиянии философии на другие области духовной деятельно¬
сти. Ведь стереотипы обыденного сознания, окрашенные философски, а часто
в философии и берущие свое начало (например, вульгарный неоплатонизм
с его идеей градуализма), воздействовали на всех, кто был занят в сфере
духовного производства.
* Факифа ал-хуляфа’ ва муфакаха аз-зурафа’. Фрагмент. Пер., введ.
и коммент. А. А. Игнатенко. На русском языке публикуется впервые. Перевод
выполнен по рукописи, хранящейся в Ленинградском отделении Института
востоковедения АН СССР (шифр С 651).
©А. А. Игнатенко, 1990.
242
Здесь многое скрыто от современного исследователя, ибо в данном случае
речь идет преимущественно об устной традиции (назидательные повествова¬
ния, исторические и псевдоисторические анекдоты, максимы и афоризмы).
В известной мере допустимо, разумеется, опереться на «низовую» литерату¬
ру — зафиксированные назидания, наставления, поучения. Неоценимое значе¬
ние приобретают «поучения владыкам» — своего рода средневековые энцикло¬
педии, которые в популярной форме излагали самые разные вопросы — от
гигиенических правил до устройства мироздания**. Какая-то часть «поучений
владыкам» сознательно соотносилась с античной (древнегреческой и эллини¬
стической) философской и — шире — духовной традицией: «Книга политики,
или Устроения предводительства» псевдо-Аристотеля (известна также под на¬
званием «Тайна тайн»), «Греческие заветы» Ахмада Ибн ад-Дайа. Мысли
и идеи, приписываемые Платону, Аристотелю, другим древнегреческим фило¬
софам, можно найти практически в каждом произведении этого жанра. Про¬
сматривается влияние античной философской традиции и в назидательных
^сочинениях, обращенных к более широкому кругу,— в сборниках афоризмов:
«Редкие высказывания философов, мудрецов и древних учителей» Хунайна
Ибн Исхака, «Избранные максимы и лучшие высказывания» Ибн Фатика,
«Духовные изречения, или Греческие максимы» Абу-л-Фараджа Ибн Хинду,
бесчисленные «Платониады» (сборники высказываний, приписывавшихся
Платону).
Но даже в произведениях, на первый взгляд далеких от данной традиции,
отражались философские идеи. Так, практически в первом произведении жанра
«поучений» в арабо-исламской культуре — «Калиле и Димне» — сразу, бук¬
вально на первых страницах предисловия, предпосланного книге ее пере¬
водчиком, вернее, пересказчиком на арабский язык Ибн-ал-Мукаффой, опреде¬
ляется одна из задач этого произведения. «Ученые люди и философы всех на¬
родов стремились к тому, чтобы их слова были понятны и доходчивы для
.людей всех сословий, и использовали для этой цели разные уловки и всевоз¬
можные средства. Одной из таких уловок было то, что книга, о которой здесь
веду я речь, составлена в виде басен о животных и птицах, что умеют гово¬
рить, словно люди. Таким путем достигнуты две важные цели: философы
и мудрецы получили возможность изъясняться иносказаниями и с большей
^свободой высказывать свои воззрения, а книга стала не только поучительной,
но и забавной» ***. Впечатляющи образцы рассуждений, вкрапленные в текст
назидательного повествования: «Спеши совершать достойные дела и не мед¬
ли, помня о том, что тело твое подвержено соблазнам и наполнено кроме
полезных соков и смесей дурными и вредоносными — ведь в нем кипят и бо¬
рются слагающие его четыре элемента, равновесие которых составляет основу
человеческой жизни, хрупкой, словно скрепленное стержнем изваяние» **** *****.
;И пусть назидательная литература типа «поучений владыкам» сделала не так
много для распространения точного философского знания (сказывалась, на¬
дверное, ограниченность самих возможностей подобного рода литературы), до¬
стойна детального рассмотрения ее роль в распространении уважительного
отношения к самой фальсафа. Ведь процитированная выше «Калила и Дим-
на» — одна из самых популярных книг всех времен и народов!
Процесс взаимодействия в арабо-исламском мире философии с пластами
‘Обыденного сознания изучен крайне недостаточно. Но бесспорно, на каком-то
этапе авторитет философии стоял достаточно высоко, чтобы освящать произ¬
ведения даже совсем не философские. Трактат о военном искусстве, например,
** См.: Игнатенко А. А. Средневековые «поучения владыкам» и пробле¬
матика власти.— Социально-политические представления в исламе: История
•и современность. М., 1987; он же. Проблемы развития арабо-мусульманской
общественно-политической мысли средневековья (методологический аспект).—
^Методологические проблемы изучения истории философии зарубежного Вос¬
тока. М., 1987, с. 170—175.
*** Ибн аль-Мукаффа. Калила и Димна. Пер. с араб. Б. Я. Шидфар.
М., . 1986, с. 55.
***** Там же, с. 66.
16* 243
«Об обязанностях военачальника» приписывается Аристотелю и начинается
словами: «Изрек Аристотель, приступая к сей книге: Слава Богу за те боже¬
ственные знания, что он нам вручил, за наставленье на верный путь в зем¬
ных делах, за прекрасные законы философские, знаньем коих Он нас на¬
градил» *****.
Построен публикуемый фрагмент в форме диалога — вопросов Ифрита,
исламского варианта сатаны, и ответов Ученого. Беседующие касаются ряда
мировоззренческих проблем: строения мира, соотношения разума и традиции,
врожденного и пробретенного разума, этики рационалистического толка (ра¬
зум как направляющая сила нравов), допустимости для мусульманина занятий
астрологией, а также содержания таких понятий, как первоэлементы, человече¬
ская душа (даются разные интерпретации, в том числе малоизвестные, про¬
тивопоставляющие душу и дух), субстанция, акциденция и т. п.
Написан текст саджем — ритмизованной и рифмованной прозой, нередко
использовавшейся средневековыми арабоязычными авторами. Это создает ряд
трудностей при переводе на русский, ибо в произведении встречается ряд
лексем, появление которых обусловлено исключительно формальными сообра¬
жениями, скажем, наряду с джиннами, которые собрались на дискуссию с Уче¬
ным, Ибн Арабшах упоминает «реполовов» (хинн) и «нильских карпов»
(бинн), что вызвано только тем, что слова хинн и бинн рифмуются с джинн.
Поэтому, сохраняя максимальную точность при передаче философских и тео-
лого-законоведческих терминов, мы сочли возможным допустить некоторую
вольность в передаче формальных элементов.
Рифмы в садже являются «слабыми», или «неглубокими», охватывающи¬
ми, как правило, только последний харф (согласный звук с огласовкой).
Соответственно при переводе пришлось бы передавать подобные рифмы так¬
же «слабыми» русскими, что, по нашему мнению, заметно принизило бы текст.
Полностью отказавшись от рифмы, мы постарались сохранить ритм, придаю¬
щий отрывку, как нам кажется, достаточную торжественность. При коммен¬
тировании мы ограничились необходимым минимумом.
(86а) И стал Ифрит послания направлять и задавать воп¬
росы.
— Спросил он: Сколько есть частей у мира? И что такое
акциденция? Что тело? И бытие даровано ли миру? А если даг
един Даритель или множествен?
— Ответствовал имам-отшельник: Мир состоит из трех час¬
тей. Земля, вода, огонь и воздух, что именуются «стихии»,—
вот элементы части первой. Из них все состоящее непосто¬
янно и движется безостановочно, перемещаясь, изменяясь, ме¬
няя состояния, и в том его недуг.
Вторая — горние тела небес и светозарных звезд. Из дома1
в дом перемещаясь движением центробежным, они, как по¬
смотреть, и движутся и нет, подобно геммам в связке. Движе¬
ния их различны: подъем и спуск, падение и вознесение, губи¬
тельность и благо, смещение и постоянство, и жар великий и
его уход, и спуск до перигея и пребывание в апогее. Суждение
о них составить можно, в передвижениях тех тел найдя схож¬
дения и расхождения, склонения, тригоны2 и секстили3, проти¬
востояния и возвраты, медлительность и быстроту. И с ними. ********** Псевдо-Аристотель. Фи ваджибат ал-амир (Об обязанностях воена¬
чальника). Рукопись. Ватиканская апостолическая библиотека. Ед. хр. 52$
(Восточный фонд), с. 1а.
241
соотносят то, что происходит в дольнем мире, как частные дела,
так и события мировые, беду и счастье, потери и прибавку, доб¬
ро и зло, полезное и вредное, воздействие и восприятие воз¬
действий, немногое и многое, незнание меры и умеренность,
здоровье н недуг, недвижность и страдание, существование и
небытие. Есть те, кому -не ведом Путь, они все эти вещи свя¬
зывают с перемещением светил, и не иначе. Но это — из-за узос¬
ти ума и ограниченности понимания. (86а/86б) И уподобились
они невежде, что говорит: весна взрастила зелень.
Иные, не умея постигать, провозгласили, что все это — при¬
дать товарищей Аллаху и быть оно никак не может основою
событий. На звезд движения не полагаются они — ни в [смыс¬
ле] истинном, ни в переносном, и не считают это допустимым
[для правоверных].
Но истину постигшие ученые мужи и тот средь мудрецов-
законоведов, кто крепок в знаниях, события и звездные влия¬
ния возводят к мощи Бога — Того, кто милостив, всезнающ, все¬
могущ, активен, избирающ и сотворяет, что желает. А если же
они и соотносят все эти действия не с Обладающим величием,
то их тогда толкуют как орудия или причины, подобно хлебу
как причине насыщения, воде—для утоления жажды, огню —
для возгорания и причинения боли. А все — по предопределе¬
нию Богом тех вещей. И оттого что Он придал им свойства,
полезные и вредные, как свойство послаблять, что вложено в
скаммоний4, как благо приносящее, что в мумиё содержатся,
как опьянение — в вине, как возгорание в углях тлеющих, мы
видим, что сила роста возникает вслед за щедрыми дождями
и солнечным теплом. И вот уж прорастают, поднимаются, и в
рост идут, и крепнут [растения]. Сие чудесное мы наблюдаем,
коль Солнце в созвездии Овна весной находится. А если вдруг
окажется в созвездии Льва, то будет сожжено телесное. А если
перейдет в Весы, тогда изменится весной погода 5. И точно так
же если Солнце перешло в созвездие Козерога, то кажется: оно
достигло цели, нашло успокоение. Тогда теряет мощь погода,
и оттого слабеют силы большинства живущих. Конкретны эти
подтверждения, и ях никто не может отрицать.
То—свойства, в сущее внесенные Творцом; есть, что поль¬
зой обладают,— вкус, запах, цвет; и есть такие, что людям не
постигнуть, коль скоро не наставит их Создатель на путь позна¬
ния. Так установлен тот обычай Всесильного Дарителя, и все
решения и события вверяемы причинам. Порой отсутствует при¬
чина, виден результат, но это чтобы ясно было, что существует
Непреодолимый, кто устрояет всё. Из-за его могущества собы¬
тия происходят, подчиняясь повелению. И принуждаемы они,
как разум принуждается вином. А если бы не это, о злой, про¬
клятый, не отступился бы огонь от Авраама, не родила б Ма¬
рия Иисуса, а море поглотило бы сынов Израилевых с Мои¬
сеем*. А часто ведь случается такое: голодным остается тот,
кто ест, це утоляет жажду пьющий и мерзнет кто-то у огня.
243
Тела сии окружены той величайшей сферой, что с ними со¬
относится, как с каплей малой переполненное море, той, что
приемлет от него влияния и кружит от его кружения, и с ней
оно творит, что пожелает обоих их Творец, как сей Болеющий
распорядится, Создатель 1неба и земли, Объединитель тварей
в Судный день. По верху и по низу их ограничивают сферы.
Что же до третьей части мира, то в ней — интеллигенции и
души ангельские, благородством превосходящие небесные тела.
Интеллигенций место пребывания почти недостижимо, и «наи¬
высочайшим» именуется оно. Его субстанциям движение не при¬
суще, не свойствен и -покой. О них не скажешь, что они просты
или сложны. Они чудесны и достойны восхищения.
Об акциденции. Она есть то, чье самочинное существова¬
ние невозможно. Есть в мире акциденции — цвета, (...) 7, вкус,
звуки, запахи, а также предопределенность мира и его во-
ленья.
А тело — это то, что состоит из двух иль более субстан¬
ций. Зовется же субстанцией лишь самосущее.
О Том, кто миру бытие дарует. Един Он, и никто над Ним
не возвышается. И если бы у мира не было Творца, то как бы
он существовал? Случалось ли тебе увидеть изделие, чтобы при
этом не нашлось того, кем изготовлено оно? Иль потолок вы¬
сокий без зодчего? Осмелится ли отрицать Творца тот, кто не
пленен гордыней? Его не признают лишь души нечестивых
(87а/87б).
— Спросил Ифрит: В чем доказательство Творца существо¬
вания— разум и традиция8 его дают или есть ведущий и ведо¬
мый?
— Оказал Ученый: Разумные единогласны, и мудрецы еди¬
ны в мнении, что разум — довод бытия Творца9, самодержавен
он в обосновании, и следует за ним закон религиозный10. Он
есть и совершенное свидетельство существования Объекта, он
есть и довод независимый существования свойств. Они же —
свойства совершенства, все те, что лишь Объекту подобают:
Красота, Величье.
— Спросил Ифрит: Каков же аргумент Его единства?
— Сказал отшельник: И разум, и закон религиозный доста¬
точны для доказательства.
— Спросил Ифрит: Что можно ждать от мира, коему при¬
сущи возникновение и уничтожение?
— Сказал Ученый: Знание Начала, жизни, Возвращения11.
— Спросил Ифрит: Что более достойно, разум или тради¬
ция?
— Сказал Ученый: И разум и традиция суть Божьи доказа¬
тельства, и ими Он подчинил тех из рабов своих, кого невин¬
ными создал. Ведь Тот, кто к истинной религии направил нас
к вывел на путь прямой единобожия, Он нас предупредил, что
цель вступления в круг существования .есть постижение Его,
дающего нам/наше бытие. Ему мы поклоняемся. Сказал Он о
£46
себе: «Он к вещи обращается и говорит ей: Будь! И возникает
вещь». Для поклонения Богу созданы и джиннов сонм, и люди,
чтоб ведали, что выделено им для пропитания, что им поло¬
жено вкушать. И от того, к кому благоволит Всевышний, по¬
требовал Он исполнения своих наказов. А это, о злосчастней¬
ший отступник, и есть благоразумие, ведущее к Божественным
познаниям, к тому, что жизни придает порядок, что несет спа¬
сение в Месте возвращения. Нет доказательств ни у науки, ни
в определениях, чтоб помогали нам постичь, что есть Начало
и Возврат и то, что между ними в мире, где вменяемы поступ¬
ки 12. Лишь средства два здесь есть: и первое есть разум, нам
данный при рождении, а после укрепленный приобретением13,
второе — те истины традиции, что дошли до нас. К установле¬
нию знаний о Всевышнем и к доказательству существования
(87б/88а) Творца, Всесильного и Славного, традиция имеет
доступ, лишь следуя за разумом, а благородством награжденный
разум в сей области ведущий. Он довод Бога—окончательный
и полный, начало Его свидетельств ясных, неопровержимых. По¬
средством разума Он покорил рабов своих, достигших совер¬
шенства, и к избранным посланников своих направил. Ведь ра¬
зум допускает, что могут быть посланники направлены для
укрепления, ради разъяснения, дабы -пути известны стали. Что
до традиции, то не несет она того, что разуму противно, но
предлагает только то, что подтверждает разума суждения. Она
как полировщик, что зеркало его суждений полирует. Проис¬
ходящее и с разумом и с Богом установленным законом 14 тому
подобно, как Писание15 поддержку получает и от сунны и от
мнения, которое в согласии родилось16, и от вывода на осно¬
вании -сходства17. И если бы нашлось в традиции такое, что
разуму противно, то походило бы оно на ветвь, что вознамери¬
лась войной пойти против своих корней.
И тут, коль подоспела процессия Божественных наказов,
которые Пророк нам в Слове дал, пред ними разумы скло¬
няют головы, узду покорности приемлют, послушные приказам
и установлениям. Порой для разума суждения закона, установ¬
ленного Богом, подобны сигнальному огню, что на горе заж¬
жен. А иногда он неспособен усвоить мудрость этих положений.
Так, если есть установление, Божественным законом даннсе,
и разум то суждение постигает, то он его поддержит и усилит,
и станет следовать ему без отклонений. Но еслк к постижению
того суждения разум не нашел подхода, то возопит он, обра¬
щаясь к Богу со словом немощи, в надежде на подмогу. Одна¬
ко Он не даст отчета в том, что совершает. Власть разума бес¬
сильна во владениях того халифа, которого Божественным за¬
коном называем. Среди всего, к чему нет разуму подхода, что
враг твой 18 передал со слуха19, принеся Божественный закон,—
то, (88а/88б) каково есть Возвращение, и Начало, и уничто¬
жение, постигающей после бытия рабов Аллаха.
— Сказал Ифрит: Мне сообщи, о ...20, из чего же сотворен
247
сей человек, и что есть человечность, и что душа есть чело¬
вечья, едина та душа иль многа, и как она свое находит «где»
после разлуки с телом.
— Сказал Ученый: Был создан человек смешением тех эле¬
ментов четырех, что упомянуты уже: земли, воды, огня и воз¬
духа. Коли смешались с соблюдением меры и сочетались один
с другим, то образуют восемь смесей высшего порядка. А че¬
ловечность21 есть способность различать благое и дурное, 'боль¬
ное :: здорсссс, истину и ложь, красивое и .порченое, доброе и
злое, полезное и вредное. И сила, различающая эти вещи, ду¬
шой разумной именуема.
Она поделена на три раздела, о расходящийся с природой.
Один — природный дух, что в печени имеет свой источник, она
ж его из пищи извлекает; второй — животный дух, он пребы¬
вает в сердце, тела приводит он в движение, его источник —
в перемещении небесных сфер; а третий, дух душевный, он в
мозге расположен, и от него ума движения. Находит сила рос¬
та для себя питание в природном духе, а сила различения в
душевном духе получает то, что счастье ей приносит в этой
жизни и в другой и в двух местах ее оберегает от страданий.
Она черпает силу в телах небесных. И положение высшее ду¬
ши сей — мудрость, она же — высшая награда и величайшее из
благ. Сказал Всевышний: «Он дарует мудрость, кому поже¬
лает; а кому дарована мудрость, тому даровано обильное бла¬
го. Но вспоминают только обладатели разума» (2:272) 22. Судь¬
ба сих духов — перейти в Мир сокровенного”, чтоб получить
награду или наказание.
(88б/89а) И было сказано: В том истина души людской,
о дьявол-бунтовщик, что тонка она, духовна, разрежённа — дар
Господень. И к сердцу человека Божьим попеченьем привязана
она, в телесной оболочке находясь. Душе присуще постижение,
память, знание, укрепление. Благодаря душе язык речет, зрят
очи, внемлют уши, длани простираются и движутся стопы. Она
ведь с речью обращается, она и зрит и замечает. Она ведь на¬
казуема и награждаема, ответствует и ждет ответа. То имену¬
ют ее «сердцем», то «духом» нарекают, то назовут «душой», то
«разумом». Среди живых существ лишь сын Адама надел-ен
сим благородством — душой, хотя и прилагают к ним ко воем
название «душа» по правилам уподобления. Душа разумна, ра¬
зум — постижение.
Возникли также споры, и в замешательство пришли умы,
и мысли и догадки затерялись в дебрях. Как сотворил Гос¬
подь Всевышний душу? Как внедрена она в людское тело?
Никто не обладает знанием сего предмета, лишь те, кто чудеса
творит, кому дано узреть, что за Покровом.
И потому, что множество душе присуще свойств противопо¬
ложных, различны описания ее. Вплоть до того, что состоящей
из разрядов разных — разумной, страстной и гневливой — ее
считают. Вместилище, что занято разумной,—мозг. души же
248
страстной местопребывание — печень; души гневливой средото¬
чие— сердце. Какая из сестер над остальными воцарится, та
подчинит себе их состояния, свойства. И это, о злополучней¬
ший, подобный урагану, как с четырьмя стихиями. Коль изме¬
нилось сочетание, нарушена их мера — исправить дело трудно.
А превратился подчиненный элемент в главенствующий — не
сможет тот, кто пожелает, придать им вновь их равновесие,
и порча постигает тело, и разрушаются основы.
Иные говорят слова неясные — о духе и душе (89а/89б).
Они-де две противные друг другу вещи иль равносильные, что
не сойдутся, чтобы не разойтись немедля. Души природа, о про¬
клятый, на страдание обреченный, говорят, огнеподобна в сущ¬
ности своей, ведь такова ее стихия. К душе относят порицания
достойное — с пути прямого уводящие черты: невежество, гнев¬
ливость, вспыльчивость, шумливость, бесстыдство, наглость,
безрассудство, алчность, заносчивость, рассеянность, стесни¬
тельность, грубость, зависть, назойливость, злобность, стремление
все оспорить, жадность, скопидомство, трусость, леность, глу¬
пость, предательство, развращенность, неверность, заносчивость,
притворство, враждебность, склонность к спорам и иные пори¬
цаемые нравы, дурные качества, привычки скверные и сатанин¬
ские движения. Они считают: подобно это все огню, его горе¬
нию, жару, ярости и силе, и дыму с пламенем, уничтожению,
пожиранию всего, что встретит тот огонь, и гибели в муче¬
ниях, и порче всякой вещи, в него попавшей, стремлению к
возвышению, обладанию, чрезмерности. Что же касается при¬
роды духа, о низкий, то она — природа водная, а из воды все
возникает и растет. С ним связывают всякий благородный нрав,
неискаженную натуру. Он чист своей субстанцией, ибо вода
чего коснется, то очищается. Черты его суть знание, честность,
благоразумие, восполнение (?), упование, приятие, выносли¬
вость, терпение, смущение, стойкость, симпатия, задумчивость,
покойность, щедрость, солидность, склонность одаривать, удов¬
летворенность, достоинство, застенчивость, справедливость,
скромность, воздержанность, отсутствие пренебрежения, подат¬
ливость, легкость, скорость подчинения, мягкость, любвеобиль¬
ность, сострадание24, чистота, благородство, приятие нравов
достохвальных, искомых черт прелестных. И коль одно из
двух — душа ли, дух ли — усилилось, возобладало, другое при¬
влекло к себе, лишило силы, свою природу придало, себе на
пользу обратило. Нам неизвестен сатана, который жизнь ведет
людскую, ни человек, в ком нравы джиннов возобладают, ни
сатана, что принял образ человека, ни человек, чей образ — са¬
танинский25.
(89б/90а) Подобие души и духа — соотношение духа с те¬
лом, доступное догадливым, разумным. Ведь дух — из мира
светозарного, небесного, тончайшего и нежного, тело же — из
темного, земного, плотного. Один из них преобладает — к себе
влечет другого или отвергает. Сказал Всевышний: «О Иса!
249
|7 Зак. 635
Я упокою тебя, и вознесу тебя ко Мне, и очищу тебя от техг
•которые не веровали...» (3:48). «И вознесли Мы его на высокое
место» (19:58). «А если бы Мы пожелали, то возвысили бы
его имя. Но он приник к земле...» (7:175). Пророки — мир им! —
стали духами тела их. Тебе подобных, всех неверных души ста¬
ли призраками тьмы.
Еще, что душ четыре, говорят, о непокорный: влекущая ко¬
злу, она — душа тебе подобных, вероотступников неверных и
притеснителей; хулящая — душа мятежных; вдохновенная —
душа всех тех, кто бредит; умиротворенная — душа пророков и
живущих в вере.
Душа — едина — в этом истина, о отступившийся. Но оттого-
что проявляется она в одеждах разных свойств и много ей при¬
суще нравов, ее представили разнообразной, составной и пре¬
вратили свойства разные в субстанции различные. И говорится::
мол, душа сего из сатанинской стала после покаяния сопричаст¬
ной Милосердному, была душа такого-то высокомерной, а ста¬
ла низкой. Сказал Аллах: «Клянусь... и всякой душой, и тем,,
что ее устроило и внушило ей распущенность ее и богобоязнен¬
ность! Получил прибыль тот, кто ее очистил; понес убыток тот,,
кто ее утаил» (91:7—10).
— Ифрит сказал: Поведай мне, о знающий, как располо¬
жены в порядке элементы эти?
— Сказал Ученый: Зависит их соединение от легкости и
тонкости, тяжести и плотности. Ведь всякий элемент, который
тяжелее,— он пребывает ниже, чем тот, что легче. Так, элемент
земли, средь всех тяжелый самый, поэтому (90а/90б) он ниже*
всех. Над-ним — вода; воздушный элемент — над элементом вод¬
ным; над этими тремя — огонь, он их охватывает, окружает..
И каждый элемент объемлет те, что ниже. Вот истина, кото¬
рую постиг.
— Сказал Ифрит: Поведай мне о вещи, что ближе всех к:
тебе.
— Сказал Ученый: Всего к нам ближе тот предел, что на¬
шей жизни установлен.
— Спросил еще: А что вещей всех прочих удаленней?
— Сказал он: То, что мы не сделали и сделать не способны..
— Сказал: Поведай мне о том, что возвратить возможно.
— Ответствовал: Державу28 — пусть она исчезла, измени¬
лась, иною стала, возвратить ее возможно, восстановить доступ¬
но.
— Сказал: Так сообщи о том, что невосстановимо, что ра»
прошло, уж не воротишь.
— Оказал он: Юности пора, она не может возвратиться.
— Сказал: Поведай, чего никак нельзя приобрести, кол«
не будет Даритель к человеку расположен?
— Сказал: Врожденный разум — дар обильный.
— Сказал: Поведай и о том, что не удержит человек, не
свяжет.
250
— Сказал: не остановишь время уходящее, удачу, ежли
отреклась.
— Оказал: Поведай, о разумный, о шутке, что серьезности
полна.
— Сказал Ученый: В уста животных и предметов вложен¬
ные шутки — изречения, притчи.
— Сказал: О том поведай, что невозможно охватить, чью
сущность не дано познать.
— Сказал: Величие Всевышнего Творца и бытия Создате¬
ля— его любое знание не объемлет, оно непостижимо ни в по¬
знании, ни в воображении. И посему сказал Глава Посланни¬
ков и Господа Миров Любимец: «Хвала Тебе пусть будет бес¬
конечна, как безгранична Твоя собственная слава». И сказал
он также: «Всевышний, не познали мы Тебя истинным зна¬
нием». В этом — истинность речения Всевышнего: «Не оцени¬
ли они Аллаха должной ценой» (22:73).
Когда продлилась та беседа и спор дошел до этой точки,
настала ночь. Позором был покрыт Ифрит и воинство его.
-Собрание кончилось на этом, и сговорились они опять сойтись.
— Сказал Ученый: Устремимся к успеху, и утром лицом
к лицу вновь встретимся (906/91 а), чтоб достойно ответить низ¬
кому отродью сатанинскому.
Разошлись они, а Ифрита опасение терзало, унижение жгло,
как проникшая в тело стрела. Он найти себе места не мог,
обуяло его нетерпение, будоражили мысли, пытала тревога,
печаль угнетала, страх перед гибелью мучил.
Пока не встал рассвет, подобно истине грядущей,
И отступила ночи тьма, незнанию подобна.
Соединились те, кто накануне был, кто слышал спор вче¬
рашний. Здесь были люди, джинны и воинство Ифрита — ре¬
половы, карпы. И занял каждый свое место, и речь повел
Ифрит.
— Опять стал вопрошать он: Откуда берутся свойства дос-
тохвальные и качества благие, которые в беседе были упомя¬
нуты уже?
— И ответил взыскующий Истины, жаждущий точности:
Те черты — плод здорового разума, по прямому пути нас веду¬
щего27. И захочешь — не сможешь достойно ты разум воссла¬
вить. Ведь ему Бог вменяет, что должно в сей жизни творить,
н к нему обращается с речью. Чрез него награждается Богом
раб божий и наказуется28, чрез него восхваление или порица¬
ние. Он дается Всевышним и Им отнимается. Кто вверяется
•разуму, тот не заблудится, к цели придет. К полноте прибли¬
жается разум — добронравие ведет к всеохватности. Чем разум¬
ного мнение вернее, тем милее ему благородные нравы29.
— Ифрит спросил: Он род единый или множественный?
— Ответил шейх: Он двух родов, но суть его едина и для
всех бесспорна. О двух родах. Один — врожденный разум вы¬
251
сочайший. Ему вменяемо все должное. Начало бытию его дает
Всемилостивый Бог. Он возрастает постоянно, пока не станет
зрелым человек, и совершенства достигает с возрастом, при
возмужании. И тут перо суждений оставит след на нем, и он
»войдет в круг собеседников, что мыслят. Тогда с него спросить
возможно об исполнении разрешенного и воздержании от ве¬
щей запретных, а также наказать. А остальное (91 а/91 б) дости-
гается приобретением и опытом во всяком деле. И посему счи¬
тается, что старики полнее разумом, чем молодые30. Ведь го¬
ворится: Тот, чью остроту ума события притупили (?), и опыт
истрепал, поношенными сделал разума одежды (?), а век про¬
исходящим каждодневно вскормил жемчужину (ума?), а Бог
Всевышний вразумил предначертаниями своими и приговора¬
ми,—сей человек средь близких, как пророк в своем народе.
И говорят: Зерцало разума есть опыт. Сказал поэт:
Мы видим: разум — украшение им обладающих.
А полнота его от опыта приходит.
— Спросил Ифрит: В чем польза разума?
— Сказал Ученый: Польза в том, что он невежд выводит
на путь благоразумия, помогает в бедах, от злокозненных ло¬
вушек избавляет, спасает от разбрасывания в целях, поддерж¬
кой отвечает на призыв о помощи. А ежели о хитрости врагов
разбился твой корабль в морях коварств и козней, тебя -спа¬
сенным вынесет на берега благополучия; коли тебя настигнут
тяготы, нужда, обогатит сокровищами счастья и терпения.
— Спросил Ифрит: А кто же есть разумный и ученый, кто
именем таким достоин называться среди сынов Адамовых?
— Ученый отвечал: Разумен тот, кто стерпит нанесенную
обиду, кто укрощает гнев, кто, если одарен, благодарит, кто
терпит, если он лишен чего-то, кто если в состоянии, то про¬
щает, кто дольним миром пренебрег и об ином, о горнем мире
помышляет.
— Спросил Ифрит: В чем польза дольней жизни? Также:
В чем польза вожделения и страстного стремления к предметам
мира дольнего — присуще это тем, кто в дольнем мире пре¬
бывает?
— Сказал Ученый: Для существования мира и устроения
дел его наивернейше, для пребывания мира дольнего до сро¬
ка (91б/92а), что установлен точно его Создателем исконным,,
который создал мир неповторенным, но знал заране все о соб¬
ственном творении,— для этого всего необходимо, чтоб Слово
прозвучало без изъятия, исполнилось Его воление. И если бы
не устремление, не надежда, никчемен стал бы труд31. Они —
завеса, покрывающая взоры неученых, мешающая видеть тай¬
ны и сокрытые предметы. Поэтому не заняты умы заботой о
конце фатальном всех своих стремлений, не стали помнить то„
что неотъемлемо от мира. Надежда если бы исчезла, то не был
252
бы желанен труд, не стало бы порядка в жизни и не заботился
никто о сбережении имущества и пропитания и человек се¬
годняшний не мыслил бы о завтрашних делах и сделках, никто
не дал бы никому взаймы, не стал бы сеять зерна землепа¬
шец, садовник дерево сажать, строитель строить, усохшее не
стало бы зеленым. Тогда нарушен был бы весь порядок мира
и пресеклись дела сынов Адама32.
— Сказал Ифрит: Поведай мне о том, откуда человек воз¬
ник и какова субстанция его, а также ангела и джинна.
— Сказал Ученый: Об ангеле. Субстанция его есть чистый
разум, из коего он сотворен Владыкой неба и земли. И потому
имеют ангелы благословенные лишь свойства — подчинение
Владыке, покорности заветам Того, кто создал их, и исполне¬
ния любых Его велений. И все у них свое имеет место, и супро¬
тив Божественных наказов они не восстают, а исполняют по¬
веления Божьи. А корень джиннов, да и корень твой, о низкий
дьявол, в нравах, что достойны порицания, и в свойствах низ¬
ких. И посему от вас исходят только козни, беды, сатанинст¬
во и соблазны. И самый злополучный среди вас (...) 33. С доб¬
ром не водите вы дружбы. Злосчастны вы, презренны, нечисты
и скверны. И ангелам противоположны. А сущность человека
в том, что он чертами обладает и ангела и джинна. Чей разум
воцарился над страстями, кто (92а/92б) одарен чертами бла¬
городства, пред тем свет подчинения Богу рассеет мрак, что
душу окружает, и прояснятся полностью при поведении бла¬
гонравном душй существенные свойства, а имя той души дос¬
тойно будет пера писцов, что названы «благими»34. «Так нет
же! Ведь книга праведников, конечно, в илийине. А что тебе
даст знать, что такой илийин> Книга начертанная! Свидетель¬
ствуют про нее приближенные» (83:18—21). И если даже че¬
ловек тот телом пребывает среди себе подобных, то в великой
тайне он к миру ангельетва причислен, своим он стал в Свя¬
той Обители, ведь он с благой своей душой стал благородней
ангелов35. А тот, чья страсть над разумом возобладала и сердце
безразличием, как пеленой, покрылось, тот тонет в океане
страсти; вы овладели им, внушив ему те свойства, что достойны
порицания, и суждено ему несчастным быть. Ничто вам не
препятствует: он не радеет днем, проводит ночь в забавах. Лю¬
дей подобных сатана владыкой стал. В их памяти он уничтожил
напоминание о Всевышнем. То — войско сатаны, а кто за сата¬
ну стоит, тот слабосилен. Они ведь более низки, чем самые
порочные скоты, чем самые ничтожные каменья. Они ошиблись
в выборе прибежища и в Судный день воскликнут: «О если
бы я мог быть прахом!»
1 Байт — «дом», двенадцатая часть небесной сферы.
2 Т аслис — тригон, расстояние 120° между двумя звездами.
3 Тасдис — секстиль, расстояние 60° между двумя звездами.
4 Скаммоний (араб, сакамунийа) — растение с треугольными листья¬
263
ми, напоминающими листья полевого вьюнка, с белыми круглыми цветами.
Сок, выдавливаемый из корней, действует как слабительное. Скаммоний упо¬
минается во многих средневековых фармакопеях.
5 3 а м а н — здесь понятие, означающее общее состояние мира в конкрет¬
ный отрезок времени.
6 Речь идет о нарушении хода вещей, признаваемого естественным,— о вы¬
зволении богом Авраама живым и здоровым из раскаленной печи, в которую
тот был брошен по приказу Нимврода, о непорочном зачатии, об исходе из
плена египетского евреев, преодолевших расступившееся перед ними море, ко¬
торое поглотило преследовавших их воинов фараона. Подобное нарушение
естественной причинности Ученый объясняет проявлением божественного все¬
могущества. Важно отметить, что Ученый расходится с кораническом трак¬
товкой рождения Иисуса: ислам не признает непорочное зачатие.
7 Здесь, по-видимому, ошибка переписчика. В тексте стоит слово «ал-ак-
ван», т. е. «вселенные». Думается, это повторение ошибочного написания
предыдущего слова — «ал-алван» (цвета).
8 Здесь и далее речь идет и о двух понятиях — акл (разум) и накл (букв,
«передача», т. е. «традиция»). Эти два понятия в средневековой арабо-ислам¬
ской мысли часто противопоставлялись. Если отвлечься от различий в интер¬
претациях у разных философов, то разум в основном означал возможность
человека самостоятельно познавать окружающую действительность и нахо¬
дить адекватные формы целенаправленного действия. Традиция же представ¬
ляла собой зафиксированное в той или иной форме Слово, восходящее в ко¬
нечном счете к Аллаху и регламентировавшее представления и поступки ве¬
рующего мусульманина. В публикуемом тексте Ученый пытается снять про¬
тивоположность «разума» и «традиции» через сведёние их к одному источ¬
нику — Аллаху.
9 Ученым старается доказать, что само наличие у человека разума, трак¬
туемого как божественный дар, служит доказательством существования Ал¬
лаха.
10 Тут вместо «традиции» упоминается «божественное законоустановление»
(шар*), т. е установления, переданные Аллахом людям через своего пророка
и зафиксированные в Коране и хадисах.
11 Ma б да’ — «исход», «начало». Подразумевается возникновение живо¬
го и одухотворенного (обладающего душой) человека. Ma'ад — «возврат».
Подразумевается «возвращение» человеческой души в «горний мир», в ме¬
сто, которое тоже именуется ма'ад.
12 Алям ат-таклиф (букв, «мир вменения»)—мир существования
человека, в котором ему «божественным законоустановлением» вменены ка¬
кие-то поступки и запрещены другие. Его поведением в этом мире опреде¬
ляется воздаяние в мире ином.
1в В данном случае отзвук философской идеи врожденного и приобретен¬
ного разума человека.
14 Имеются в виду понятия «разум» (акл) и «богоустановленный закон»
(шар*).
15 Коран.
16 Иджма' —третий источник мусульманского права.
17 К и й я с, или суждение по аналогии, четвертый источник мусульман¬
ского права.
18 Пророк Мухаммад.
19 Сам' (букв, «слух») —синоним накл (традиция). Согласно мусульман¬
ским представлениям, божественное Слово (текст Корана) был передан про¬
року Мухаммаду в «устной форме» архангелом Гавриилом (Джабраилом).
20 Пропуск переписчиком, по-видимому, одного слова.
21 Адамийа — от Адам.
22 Коран. Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. М., 1963.
23 Алям ал-гайб — «мир сокровенного» или «мир недоступного» —
мир духовных сущностей, доступ в который получают только души правед¬
ников.
21 Читаем, «рифк» — «сострадание», в тексте «рифх».
25.1
25 Вероятно, подразумевается абсолютная противоположность сатаны,
имеющего «огненную» душу, человеку, обладающему «водным» духом.
26 Д а в л а — «держава»; слово имело еще одно значение — «переход ра¬
достных обстоятельств от одной группы людей к другой». Ср. афоризм «ад-
дунйа дувал» (ми. ч. от давла) —«дольний мир переменчив».
27 Примечательно, что в приложении к разуму употреблена формула, при¬
лагающаяся в Коране к Аллаху.
28 Отголосок философской идеи, согласно которой только разумная часть
человеческой души, или разум, может получить награду в форме бессмертия
или наказание в виде исчезновения души, чья разумная часть не достигла
совершенства.
29 Отзвук рационалистических концепций этики, выдвигавшихся по пре¬
имуществу продолжателями традиции фальсафа.
30 См. примеч. 16.
31 Читаем: «амал» — «труд»; в тексте, по-видимому, ошибка переписчика:
«илм» — «наука».
32 А м а л — «надежда». Излагается популярная в эпоху средневековья
мысль о том, что надежда — одна из основ социальной жизни. Высказана как
законоведами (например, ал-Маварди), так и философами (например, Ибн
Синой).
33 Пропуск переписчика.
34 Катибун кирам — «благие писцы». Так в Коране названы ангелы,
которые ведут учет добрых и злых деяний человека для использования этих
записей на Страшном суде.
35 Отзвук философского тезиса о возможности достижения бессмертия (ху-
люд), понимаемого как участие в вечных и неизменных истинах Деятельного
разума, еще при жизни человека.
Ахмад Мади
(Иорданский университет)
ИБН БАДЖА И СОВРЕМЕННОЕ
СОВЕТСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ*
Настоящее исследование предпринято с целью установить,
в какой мере советские специалисты интересуются воззрения¬
ми Ибн Баджи и как они относятся к его творчеству. Я обна¬
ружил, что советские ориенталисты ценят Ибн Баджу за его
рационализм, гуманизм и склонность к материализму. Выясни¬
лось также, что их подход к его учению не отличается коренным
образом от подхода арабских и западных востоковедов, и это
дает основание предположить, что советские исследователи, ру¬
ководствующиеся марксистско-ленинской теорией, делают вы¬
воды, сходные с их выводами.
Думаю, что арабским ученым полезно узнать, как наших
мыслителей воспринимают «другие» историки философии, ибо
такое ознакомление позволяет нам увидеть себя через них,
помогает понять самих себя. Нет ничего нового в том, что мы
обычно уделяем внимание и философам «других», переводя их
книги, посвящая им работы и излагая их учения студентам.
Однако мы не задумывались, проявляют ли к нам интерес
«другие». Наверно, этот факт — одно из свидетельств нашего
изумления «другим», не говоря уже о том, что он показывает
отсутствие заслуженного внимания к «своему».
Большинство арабских специалистов по исламской филосо¬
фии не знают работ востоковедов социалистических стран,
и прежде всего Советского Союза. Это незнание вызвано ря¬
дом причин, в том числе и тем, что лишь крайне незначитель¬
ное число арабских специалистов по философии учились в наз¬
ванных странах и владеют языками их народов. Примечатель¬
но, что эти люди не сообщают арабам, какое внимание спе¬
циалисты по философии из социалистических стран уделяют
нашим философам и как оценивают их. Я не претендую на то,
чтобы дать полную картину отражения философии нашего мыс¬
лителя в зеркале советского востоковедения, однако могу за¬
верить, что охватил большинство написанного о нем примерно
за истекшие сорок лет.
* Пер. с арабского.
© Ахмад Мади, 1990
© С. Ф. Хахалев, перевод, 1990
256
Возможно, первый возникающий у нас вопрос, когда речь
идет об Абу Бекре Мухаммаде бен Яхъя бен ас-Саиге (Ибн
Бадже), чем вызван интерес советских исследователей к этому
мыслителю? Прежде всего он определяется тем, что в СССР
придается огромное значение изучению «истории философии и
ее виднейших представителей. Здесь же нужно отметить, что
проводится различие между историей зарубежной философии1
и историей философии народов СССР2.
Анализ сочинений виднейших исламских философов должен
опосредованно порождать внимание к Ибн Бадже, который,
как считается, испытал влияние Абу Насра бен Мухаммада ал-
Фараби (870—950), а последнему посвящены работы разного
уровня...
С. Н. Григорян, долго работавший заведующим сектором
философии и социологии стран Востока Института фило¬
софии АН СССР, писал: «Стремясь содействовать установле¬
нию исторической правды о роли народов Ближнего и Среднего
Востока в развитии мировой философской и научной мысли,
советские специалисты в последнее время проделали значитель¬
ную работу по переводу и опубликованию памятников средне¬
вековой философии и науки Средней Азии, Ирана и Арабского
Востока»3. Несомненно, активность советских исследователей
в этом плане в дальнейшем заметно возросла, причем особое
значение они придают тем средневековым исламским филосо¬
фам, творчество которых полагают частью собственного насле¬
дия. Наряду со «своими» мыслителями центральное место они
отводят Ибн Рушду...
Можно сказать, что самая полная из изданных до сих пор
работ по исламской философии вообще и учению Ибн Баджи
в частности принадлежит С. Н. Григоряну4. Она восполнила
большой пробел в 60-е годы. Но наиболее значительным по глу¬
бине из изданного за последние 50 лет является исследование
В. В. Соколова5. В нем около 100 страниц автор посвятил
средневековой философии в ближневосточных странах и му¬
сульманской Испании, хотя должного внимания Ибн Бадже
не уделил.
Спрашивается, когда же советские историки философии на¬
чали изучать систему взглядов Ибн Баджи? Скорее всего впер¬
вые она была рассмотрена в первом томе «Истории филосо¬
фии»6. По моему мнению, эта работа была проделана
О. В. Трахтенбергом. Несомненно, лаконичность изложения фи¬
лософии Ибн Баджи обусловливалась числом страниц (с. 433—
450), выделенных арабской философии, тем более что очерк
охватывает период с появления ислама и до XIII в. Думаю, что
второе указание на Ибн Баджу появилось у Г. Ф. Александро¬
ва7. Вероятно, относительно всеобъемлющее описание «араб¬
ской философии» в 50-е годы дано в монографии О. В. Трах¬
тенберга 8. Однако автор учения Ибн Баджи почти не касается.
В 60-е годы вышла работа, в которой на весьма немногих стра¬
2Ö7
ницах, отведенных «философии в арабских странах», упоми¬
нается Ибн Баджа 9. Что касается другой работы, которая была
издана также в 60-е годы10, то в ней вообще об арабской фи¬
лософии не говорится, несмотря на то что автор прослеживает
историю философии от ее возникновения в странах древнего
Востока вплоть до начала «ленинского этапа» в развитии
марксистской мысли. Он ограничивается рассмотрением евро¬
пейской философии средневековья и эпохи Возрождения. Но в
«Философской энциклопедии» помещена статья об Ибн Бадже
С. Н. Григоряна и.
Здесь нужно подчеркнуть, что большинство словарей миро¬
воззренческого характера, выпущенных в разное время, вовсе
не называют Ибн Баджу. Это относится, например, к «Фило¬
софскому словарю» 12, содержащему статьи о некоторых ислам¬
ских философах, и «Логическому словарю»13, автор которого
посвятил несколько статей исламской философии. Обращает
внимание, что «Краткий научно-атеистический словарь»14 не
отвел место Ибн Бадже, притом что советские исследователи
единодушны во мнении, что Ибн Баджа обвинялся в ереси и
даже безбожии. Составители ограничились кратким рассмотре¬
нием взглядов Абу Али Ибн Сины (980—1037) и Абу Валида
Мухаммада бен Ахмада Ибн Рушда (1126—1197) в статье
«Атеизм и свободомыслие в феодальном средневековье» и Абу-
л-Аля ал-Маарри (973—1057), Ибн Оины, Абу Рейхана ал-
Бируни (973—1047) и Ибн Рушда в статье об исламе, кроме
того, Ибн Рушду была посвящена отдельная статья.
В 1969 г. в Москве началось издание «Антологии мировой
философии» в четырех томах. Вторая часть первого тома15
включает избранные произведения «средневековой исламской
философии», представленной Абу Юсефом Якубом ибн Исхаком
ал-Кинди (ок. 803—879), ал-Фараби, Ибн Синой, Абу Хамидом
Мухаммадом бен Мухаммадом ал-Газали (1059—1111) и Ибн
Рушдом. Примечательно, также то, что первая часть первого
тома 18 открывается исследованием В. В. Соколова, где он толь¬
ко затрагивает творчество исламских философов и совершенно
не упоминает Ибн Баджу. Как видим, в «Антологии» не при¬
водится ничего из сочинений Ибн Баджи. Вместе с тем ему от¬
дали должное, включив в книгу «Избранные произведения мыс¬
лителей стран Ближнего и Среднего Востока»17 слегка сокра¬
щенный перевод трактата «О душе». Этот перевод выполнил
А. В. Сагадеев — крупнейший специалист по исламской фило¬
софии, интересующийся также современной арабской филосо¬
фией. Обращает внимание сообщение С. Н. Григоряна, что ука¬
занный перевод был первым перезолом на один из европейских
языков. Хотя я не знаю, в какой степени справедливо данное
сообщение, стоит заметить, что он был осуществлен на следую¬
щий год после выхода книги Ибн Баджи в Дамаске. Остается
добавить, что в СССР пока еще не опубликовано всеобъемлю¬
щей работы об Ибн Бадже18.
258
Каковы же взгляды советских исследователей на творчест¬
во Ибн Баджи? Прежде всего я хочу повторить, что они вы¬
соко оценивают нашего философа. Несмотря на то что эта оцен¬
ка может быть неодинаковой у разных авторов, большинство
сходятся во мнении по многим аспектам. Некоторые из них
подчеркивают величие Ибн Баджи19. Так, С. Н. Григорян на¬
зывает его «великим арабским мыслителем»20, а И. Фильштин-
ский «великим философом»21. В дополнение к изложенному
скажем, что отдельные авторы называют его основоположником
или зачинателем философии в Магрибе. А. Богоутдинов в статье
«Арабская философия» говорит о нем как об «основоположни¬
ке западноарабской философии»22, а В. М. Соколов — как об
«основоположнике андалусского перипатетизма»23. Должен за¬
метить, что ряд арабских специалистов по исламской философии
разделяют эту точку зрения24.
Один из советских ученых, О. Трахтенберг, пишет, что Ибн
Баджа открывает «блестящую плеяду арабо-испанских фило¬
софов»25, другой, А. Сагадеев,— что Ибн Баджа возглавляет
«список андалусских перипатетиков»26. Г. Ф. Александров счи¬
тает, что наш мыслитель пользовался «большой известностью»
среди испано-арабских философов27. Согласно крупному спе¬
циалисту по исламской философии, Ибн Баджа «был первым из
арабо-испанских мыслителей, глубоко усвоивших и развивших
дальше философское наследие»28 народов, проживавших на
востоке халифата, который уже клонился к упадку, и других
народов Ближнего и Среднего Востока. Более того, он позна¬
комил с этим наследием просвещенные андалусские круги. Мы
видим, что с этим согласны некоторые арабские специалисты29.
Сочинения Ибн Баджи
А. В. Сагадеев указывает, что до нашего времени подавляю¬
щее большинство сочинений Ибн Баджи на родном языке в
полном объеме не сохранилось. С. Н. Григорян утверждает,
что сочинения философа были сожжены, хотя это утверждение
не подкрепляется доказательствами. Он пишет также, что тя¬
желые условия той эпохи не создавали благоприятных обстоя¬
тельств для свободного развития философской мысли. «Влияние
фанатичных ревнителей мусульманских догматов было столь
велико, что Ибн Баджа не рисковал открыто или до логическо¬
го конца выражать свои истинные убеждения»30. С. Н. Григо¬
рян подкрепляет свое суждение ссылкой на замечание Ибн
Туфейля в его повести «Хай ибн Якзан»31.
Важно отметить, что почти все советские исследователи, кон¬
статируя, что большинство сочинений Ибн Баджи на языке
оригинала полностью до нас не дошло, единодушны в том, что
круг его интересов был очень широк. Наряду с чисто философ¬
скими и логическими вопросами наш мыслитель занимался
проблемами естествознания, астрономии, математики, медици¬
17*
269
ны и музыки. В. В. Соколов подчеркивает, что научные заня¬
тия Ибн Баджи были связаны с медициной и математикой,
а С. Н. Григорян — что философ подверг критике ряд поло¬
жений учения Птолемея и астрономии32, подготовив почву для
критики их со стороны Ибн Туфейля и ал-Битруджи33.
С. Н. Григорян обращает внимание на интерес андалусского
мыслителя к музыке: «Трактат Ибн Баджи по музыке высоко
ценился на Западе, так же как трактат Фараби на Востоке»34.
Далее советский ученый говорит, что ранние теории музыки,
отражавшие мистические представления, подверглись критике
со стороны ряда философов и особенно Ибн Баджи, исходив¬
шего в своем учении о музыке из «опыта и наблюдения». Ос¬
тается сказать, что А. С. Сагадеев выделяет те произведения
Ибн Баджи, которые в его время были более всего известны,—
логические трактаты, «О душе», «О соединении человека с дея¬
тельным разумом», «Прощальное послание» и «Об устроении
жизни уединившегося»35.
Как подчеркивает Г. Ф. Александров, произведения «О ду¬
ше» и «Об устроении жизни уединившегося» получили широкое
распространение. Стоит заметить в этой связи, что «Об устрое¬
нии жизни уединившегося» советские исследователи ценят очень
высоко, больше чем остальные его сочинения36. Так, О. В. Трах¬
тенберг считает этот трактат наиболее значительным произве¬
дением37. С. Н. Григорян называет его «основным философским
сочинением Ибн Баджи»38. В. В. Соколов говорит, что сочине¬
ние «Об устроении жизни уединившегося» имело величайшее
значение для прогресса философского движения в Магрибе39,
более того, его можно отнести к особой разновидности социаль¬
но-философских последствий философского движения в арабо¬
язычных странах40. Кстати, по мнению В. В. Соколова, основ¬
ная идея данного сочинения заключается в противостоянии фи¬
лософского знания религиозному41. Еще определеннее высказы¬
вается один из советских авторов — на его взгляд, усиление ре¬
лигиозной реакции «благодаря трудам Ибн Баджи» не поме¬
шало возрастающему вниманию к философии42.
Кроме того, советские исследователи отмечают, что Ибн Бад¬
жа составил комментарии к естественнонаучным работам Арис¬
тотеля и что центральное место в этих комментариях занимают
«Физика», «О возникновении и уничтожении» и «Метеороло¬
гия».
Ересь и атеизм Ибн Баджи43
Все советские авторы, писавшие об Ибн Бадже, полагают,
что он был заключен в тюрьму по обвинению в ереси и без¬
божии, отравлен и умер в 1138 г. С. Н. Григоряна не поразило
такое обвинение, поскольку «учение об откровении он (Ибн
Баджа.— Пер.) называет ложным представлением о реальной
260
действительности»44. Потому-то «неудивительно, что философ
имено за эти идеи был обвинен в атеизме»45.
Свой вывод С. Н. Григорян подтверждает ссылкой на Омара
Фаруха4в.
Ибн Баджа и перипатетизм
Советские исследователи исламской философии считают, что
‘философию Аристотеля арабы ценили больше, чем любую
иную, хотя и не знали «первого учителя» в подлиннике. По
утверждению В. Чалояна, «аристотелизм в сочетании с элемен¬
тами неоплатонизма составил ведущее направление в арабской
философской мысли»47. Он имел важное значение для ислам¬
ской философии, поскольку привел к своего рода свободомыс¬
лию. Советские философы позитивно оценивают его, видимо,
потому, что он «на всех своих этапах был в той или иной сте¬
пени оппозиционным в отношении исламской ортодоксии»48.
К этому нужно добавить, что советские ученые проводят раз¬
личие между двумя течениями «арабского аристотелизм а»: за¬
падным и восточным. Более того, один из них считает, что имен¬
но восточный перипатетизм49 «лег в основу арабского перипа¬
тетизма на Западе»50; другой — что мусульманский Запад за¬
висел от Востока в своем научном и философском развитии51.
Однако то, что философия в Магрибе опиралась на философию
на Востоке, не нужно понимать как то, что первая не разви¬
валась. Она достигла больших высот, поскольку перипатетизм
получил дальнейшее развитие в сочинениях Ибн Баджи и дру¬
гих мыслителей52. Еще яснее выражается в связи с этим
С. Н. Григорян: «Передовые мыслители мусульманской Ис¬
пании усваивали и развивали дальше материалистические эле¬
менты, содержавшиеся в работах их предшественников — пред¬
ставителей „восточного перипатетизма“». Должен заметить,
что, по мнению С. Н. Григоряна, работы среднеазиатских фи¬
лософов и ученых — ал-Фараби, ал-Бируни, Абу Бакра ар-Рази
(865—925 или 934) и Ибн Сины — оказали самое большое
влияние на философов Магриба. По поводу непосредственного
воздействия Аристотеля на Ибн Баджу А. В. Сагадеев, напри¬
мер, пишет, что наш философ основал «свою метафизику, фи¬
зику и психологию на учении Аристотеля»53. По мнению
В. К. Чалояна, Ибн Баджа был «знаменит тем, что дал мате¬
риалистическую интерпретацию философии Аристотеля»54.
И С. Н. Григорян считает, что Ибн Баджей были «творчески
развиты»55 материалистические стороны учения Аристотеля56.
То, что советские исследователи классифицируют Ибн Баджу
как философа, имеющего склонность к материализму, подтверж¬
дается высказываниями многих из них. Привлекает внимание,
что Чалоян и Сагадеев ссылаются на книгу «О душе», чтобы
подтвердить приверженность Ибн Баджи материализму. Ве¬
роятно, только Г. Ф. Александров относит Ибн Баджу к фи-
лософам-идеалистам57.
261
Ибн Баджа и ал-Фараби58
Из сказанного явствует, что советские специалисты счита¬
ют философию Ибн Баджи продолжением и развитием учения
Аристотеля и перипатетизма Машрика. Вместе с тем они убеж¬
дены, что если говорить о влиянии, которое испытал Ибн Бад¬
жа, то здесь особое место принадлежит ал-Фараби. Это можно-
подтвердить, сославшись на высказывания С. Н. Григоряна и
А. В. Сагадеева, убежденных в том, что знакомство с рабо¬
тами ал-Фараби, великого среднеазиатского мыслителя, сыгра¬
ло огромную роль в становлении философских и социальных
взглядов Ибн Баджи59. Их мнение разделяет М. М. Хайрулла-
ев, крупнейший специалист по философии ал-Фараби; он пишет,,
что «идеи ал-Фараби оказали сильное влияние на развитие фи¬
лософской и социальной мысли Востока, и в частности на ми¬
ровоззрение Ибн Сины, Ибн Баджи, Ибн Рушда, Низами и Ибн
Хальдуна»60.
Надо сказать, что С. Н. Григорян выделяет сочинение «Об'
устроении жизни уединившегося» как свидетельство заметного
воздействия ал-Фараби на Ибн Баджу61. На его взгляд, упо¬
мянутая книга, которую комментировал еврейский философ
Моисей Нарбонский, демонстрирует большое влияние на Ибн
Баджу работ ал-Фараби. Говоря еще определеннее, С. Н. Гри¬
горян отмечает, что гуманистическая идея пронизывает трак¬
тат «Об устроении жизни уединившегося» «так же, как и за¬
мечательное произведение... „Взгляды жителей добродетельного
города“»62. Внимание исследователя привлекает то, что Э. Араб-
оглы в статье «Утопия» критикует буржуазных социологов, стоя¬
щих на позициях «европоцентризма», за то, что, по их мнению,,
утопия является продуктом «западной цивилизации», тогда как:
утопия ярко представлена «в социальной философии народов
Ближнего и Среднего Востока (ал-Фараби, Ибн Баджа, Ибн
Туфейль, Низами и др.)...»63. Другой ученый подчеркивает, что^
Ибн Баджа «провозглашает социальную утопию, путем к ко¬
торой служит моральное и интеллектуальное самосовершенст¬
вование индивидов»64. Он же приходит к заключению, что трак¬
тат «Об устроении жизни уединившегося» содержит описание^
утопического идеального государства65. У С. Н. Григоряна не
вызывает сомнения, что наш философ, «выступал за разумное,
общественное устройство»66.
Рационализм Ибн Баджи
Как уже говорилось, С. Н. Григорян, опираясь на О. Фа-
руха, выразил мысль, что рационализм Ибн Баджи имеет ма¬
териальную основу. Кроме того, ученый утверждал, что наш
философ «положил начало арабо-испанскому рационализму»67.
Это значит, что Ибн Баджа, будучи основоположником или за¬
чинателем магрибской философии, являлся также тем, кто за-
262
ложил краеугольный камень рационализма в Магрибе®8.
Несомненно, он весьма возвеличивал разум, отводя ему особое
место69. Этим, полагает С. Н. Григорян, объясняется внимание
нашего философа к проблемам психологии и логики.
Если советские исследователи сочинение «Об устроении
жизни уединившегося» выделяют в качестве важнейшего фило¬
софского произведения Ибн Баджи, то «Прощальное посла¬
ние»— как одно из свидетельств его рационализма70. С. Н. Гри¬
горян считает, что в этом трактате «выражена основная тен¬
денция философских исканий Ибн Баджи—стремление возве¬
личить человеческий разум и философское мышление»71. Ука¬
зывая на де Буура, автор добавляет, что Ибн Баджа выражает
тенденцию явно направленную на реабилитацию науки и фило¬
софского мышления, которые единственно могут привести к
познанию природы, реальной действительности и самого чело¬
века72. Чтобы еще более подчеркнуть рационализм Ибн Баджи,
С. Н. Григорян поясняет, что, согласно нашему философу,
чувств недостаточно для постижения сути бытия и раскрытия
тайн. Только разум способен познать сущность вещи, явления.
Другое произведение, которое называют советские исследо¬
ватели, чтобы продемонстрировать рационализм нашего фило¬
софа,— «Об устроении жизни уединившегося»73. А. Богоутдинов
считает, что здесь Ибн Баджа «утверждал значение разума и
доказывал, что духовное восхождение совершается не через
мистическое озарение, а путем интеллектуального совершенст¬
вования»74. Мысль, высказанная Богоутдиновым, была ранее
более детально изложена другим исследователем. Он пишет:
«„Руководство“ дает картину постепенного подъема души, ос¬
вобождающейся от инстинктивных и чувственных животных эле¬
ментов, до высшей ступени познания умопостигаемого мира.
Это восхождение совершается не через мистическое просветле¬
ние, а путем интеллектуального совершенствования при по¬
средстве научного знания»75. Примечательно, что С. Н. Гри¬
горян не считает Ибн Баджу проповедником отшельничества и
аскетизма: философ указывает путь, ino которому может идти
человек, желающий оградить себя от пороков общества и заб¬
луждений падших, руководствуясь «светом разума» и объеди¬
няясь с другими членами общества, стремившимися достичь
счастья в посюстороннем мире76. А. Сагадеев дает такое пояс¬
нение: индивид или даже несколько индивидов в рамках не¬
совершенного общества посредством интеллектуального и
нравственного самосовершенствования «могут обрести земное
счастье, слившись с универсальным деятельным разумом»77. Об¬
ращает внимание в этой связи, что советские ученые не выска¬
зываются определенно относительно Деятельного разума;
С. Н. Григорян, например, не однажды опускает упоминание о
нем.
В соответствии с признанием рационализма Ибн Баджи со¬
ветские исследователи философии считают, что он выступал про¬
263
тив ал-Газали78. По мнению В. В. Соколова, Ибн Баджа с по¬
зиций рационализма-аристотелизма отвергал религиозно-мис¬
тическое учение ал-Газали70. На той же позиции стоит
С. Н. Григорян, который подчеркивает, что наш философ «вы¬
ступал против религиозно-мистической философии Газали, в за¬
щиту науки и философии, утверждая, что высшее познание осу¬
ществляется разумом»80. Он же, выражая это более отчетли¬
во, утверждает, что психологическое учение и теория познания
Ибн Баджи81 направлены против мистического учения ал-Газа¬
ли, основанного на «слиянии с богом», так же как против тео¬
рии «воспоминания» Платона82. Остается отметить, что*
С. Н. Григорян не только положительно оценивает роль Ибн
Баджи, оппозиционно настроенного к мистицизму ал-Газали,
но и восхваляет его, потому что он после Ибн Туфейля и Ибн
Рушда выступал83 против «мусульманских догматов»84. Точку
зрения С. Н. Григоряна подкрепляет Б. Алиева, которая пишет,
что, по мнению Ибн Баджи, научные и религиозные истины про¬
тивоположны 85.
Влияние Ибн Баджи на других философов
Выше говорилось о влиянии на Ибн Баджу ряда философов,
особенно ал-Фараби. Возникает вопрос, оказал ли наш философ
влияние на других мыслителей. По утверждению советских ис¬
следователей, Ибн Баджа оказал прямо и косвенно влияние на
арабских, еврейских и европейских философов.
С. Н. Григорян называет его имя в числе имен арабских
философов, которые сохранили и передали европейским наро¬
дам философское наследие древнегреческой и древнеримской
цивилизации; он был также одним из тех, кто выдвинул «ряд
своих собственных прогрессивных идей, послуживших впослед¬
ствии знаменем, под которым передовые мыслители Европы ве¬
ли наступление на средневековую схоластику и религиозное
мракобесие»8в.
С. Н. Григорян особо отмечает влияние Ибн Баджи на Аль¬
берта Великого (ок. 1193—1280) и Фому Аквинского (ок. 1225—
1274) 87.
Как пример воздействия нашего философа на еврейскую
мысль Григорян упоминает Моисея Нарбонского88. Из араб¬
ских философов его влияние 'испытали Ибн Туфейль и Ибн
Рушд. Судя по всему, первый больше, чем любой иной фило¬
соф89. Один из исследователей считает Ибн Туфейля «продол¬
жателем линии Ибн Баджи»90, а двое других уточняют, что о»
был «продолжателем рационалистической линии Ибн Баджи»91.
А. В. Сагадеев подчеркивает, что гуманистическая тенденция,
которая прослеживается в работах Ибн Баджи, «получила
дальнейшее развитие в творчестве Абу-Бекра Мухаммеда Ибн
Туфейля»92. Что касается Ибн Рушда, то он был вторым араб¬
ским философом, находившимся под влиянием Ибн Баджи93.
264
По мнению С. Н. Григоряна, Ибн Баджа в числе других:
исламских философов подготовил условия для «учения велико¬
го арабского философа Ибн Рушда (XII в.)»94. Согласно
Б. Алиевой, Ибн Баджа и Ибн Туфейль оказали большое влия¬
ние на формирование взглядов Ибн Рушда95. А. О. Маковель¬
ский считает, что «понимание разума как всеобщего объектив¬
ного единого во всем человеческом роде и превходящего извне-
в душу отдельного человека получило название „аверроизма“,
но это учение еще раньше Аверроэса высказано у Ибн Баджи
(Авемпаса)»96. Мы не нашли ни одного советского философа,,
который назвал бы Ибн Рушда учеником Ибн Баджи97.
Из изложенного выше видно, в какой мере советские ис¬
следователи проявляют интерес к философии Ибн Баджи, как.
они его оценивают. Несомненно, что оценивают они его весьма
положительно. Говоря кратко, это объясняется тем, что ему
были свойственны рационализм мышления, гуманистическая
тенденция и склонность к материализму. Понимание этими ав¬
торами философии Ибн Баджи радикально не отличается от по¬
нимания арабских и западных исследователей. Можно сказать,,
что Омар Фарух и Мухаммад ал-Джабири наиболее близки к.
их толкованию учения Ибн Баджи. Нужно заметить в этой свя¬
зи, что некоторые советские ученые знакомы с работами Ома¬
ра Фаруха (например, «Ибн Баджа и магрибская философия»,.
«Влияние исламской философии на европейскую философию»)
и ссылаются на его оценки творчества Ибн Баджи.
Допустимо сказать, что советские ученые, руководствую¬
щиеся в своем подходе к философии Ибн Баджи идеями марк¬
сизма-ленинизма, делают выводы, не отличающиеся существен¬
но от выводов арабских и зарубежных исследователей. Чтобы
убедиться в этом, достаточно сравнить их высказывания с
высказываниями тех, кто был упомянут в примечаниях к дан¬
ному исследованию. Быть может, то, что советские ориента¬
листы в большой степени опирались на работы зарубежных и
некоторых арабских востоковедов, повлияло на их понимание
философии Ибн Баджи и привело к сходству между представ¬
лениями тех и других98. В немалой мере это влияние опреде¬
ляется тем, что, как правило, работы советских авторов вышли:
до публикации сочинений Ибн Баджи, которые были изданы
и изучены в дальнейшем. Даже трактат «Об устроении жизни
уединившегося» они знали лишь по комментариям еврейского
философа Моисея Нарбонского. Более того, трактат «О душе»,,
с которым советские авторы познакомились по материалам, по¬
мещенным в ряде номеров журнала Арабской академии наук
в Дамаске за 1958—(I960 гг., и который был переведен на рус¬
ский язык в 1961 г., не являлся основным источником иссле¬
дований, опубликованных позднее. Думается, настала необхо¬
димость подготовить советские и арабские работы об Ибн Бад¬
266
же; они должны быть выполнены на основе знания сочинений
нашего философа, изданных и изученных в последние годы. Это
значит, что требуется пересмотреть написанное об Ибн Бад¬
же до того. Верно, что Маджид Фахри и Маан Зияда пред¬
приняли издание и исследование некоторых его сочинений и
составили комментарии к ним, однако из этого не вытекает,
что нет необходимости подготовить всеобъемлющий труд о
нашем философе".
Надо также подчеркнуть, что все сказанное советскими уче¬
ными об Ибн Бадже отмечено лапидарностью, во многих слу¬
чаях даже чрезмерной лапидарностью. Нет нужды приводить
много примеров, чтобы подтвердить это, достаточно указать
лишь на некоторые. Примечательно, что темы, способной выз¬
вать интерес советских исследователей,— ересь и атеизм Ибн
Баджи — они касаются лишь очень кратко. Повторим, что со¬
ветские исследователи не были знакомы с теми сочинениями,
которые были изданы позднее и на которые они могли бы опе¬
реться, чтобы подкрепить свою точку зрения. Другой пример:
как подчеркивают советские авторы, Ибн Баджа материалисти¬
чески интепретировал Аристотеля в своих комментариях к его
книгам. Заявляя, что арабские философы уделяли особое вни¬
мание проблемам аристотелевской физики, поскольку обладали
развитыми математическими и физическими знаниями, они
утверждают также, что в прогрессивной линии арабской фило¬
софии постепенно возникали элементы победившего в конеч¬
ном счете перипатетизма. В начале же арабский «аристотелизм»
представлял собой сочетание аристотелизма, неоплатонизма и
различных восточных традиций. Советские исследователи при¬
ходят к выводу, что арабы выделяли в самой перипатетической
философии «ее материалистические элементы». Они доказывают,
это тем, что склонность арабов к изучению природы обуслови¬
ла восприятие ими именно материалистической стороны перипа¬
тетизма. И этот материалистический аспект привел их в конце
концов к более или менее явным атеистическим выводам.
Третий пример—влияние философии ал-Фараби на филосо¬
фию Ибн Баджи. Советские ученые лишь констатируют факт
этого влияния, но не показывают, в чем оно выражалось. Не¬
знание многих произведений Ибн Баджи не дало им возможнос¬
ти детально и определенно продемонстрировать это влияние.
И последнее. Знакомство с тем, какое внимание уделяют нам
«другие» и как оценивают наших философов, позволяет нам
взглянуть на свое «я» и изнутри и извне, что может содейст¬
вовать объективному подходу, дабы мы не преувеличивали
и не преуменьшали ценность нашего «я».
1 На философском факультете МГУ существует специальная кафедра, где
преподается эта дисциплина.
2 Отдельная кафедра на философском факультете МГУ.
3 Григорян С. Н. Прогрессивная философская мысль в странах Ближнего
266
и Среднего Востока в IX—XIV вв.— Введение к кн.: Избранные произведения
мыслителей стран Ближкего и Среднего Востока. М., 1961, с. 36.
4 Григорян С. И. Средневековая философия народов Ближнего и Сред¬
него Востока. М., 1966.
5 Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979.
6 История философии. T. 1. М., 1940. Том состоит из двух частей; вто¬
рая посвящена философии феодального общества, а ее третья глава — «араб¬
ской философии в средние века».
7 Александров Г. Ф. История западноевропейской философии. М.— Л.,.
1946. Следует отметить, что Министерство высшего образования СССР реко¬
мендовало эту книгу в качестве учебного пособия для студентов универси¬
тетов и гуманитарных факультетов вузов.
8 Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой,
философии. М., 1957.
9 Краткий очерк истории философии. М., 1969, с. 93—97. Позднее эту*
книгу перевел на арабский язык Тауфик Саллюм.
10 Макаров А. Д. Историко-философское введение к курсу марксистско-
ленинской философии. М., 1967.
11 Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1967.
12 Философский словарь. М., 1963.
13 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971.
14 Краткий научно-атеистический словарь. М., 1969.
15 Антология мировой философии. Т. 1,ч. 2, М., 1969, с. 709—764.
16 Антология мировой философии. Т. 1,ч. 1, М., 1969.
17 Григорян С. И. Прогрессивная философская мысль.
18 Маан Зияда считает, что философии Ибн Баджи «уделено совсем мало»
внимания» (Ибн Баджа. Шурухат ас-сима*ат-таби и (Чтения о природе).
Ред. и введ. Маана Зияды. Бейрут, 1978, с. 16). Он подчеркивает также «мало¬
численность исследований, посвященных философии и работам Ибн Баджи»-
(с. 10), более того, уверен, что знакомство с его философией «было и оста¬
ется ограниченным как на Востоке, так и на Западе». Ибн Баджа. Китаб тат-
бир ах-мутаваххид (Книга об устроении жизни уединившегося Ибн Баджи
Андалусского). Ред. и введ. Маана Зияды. [Б. м., б. г.] (далее Зияда М.
Об устроении). Думаю, что это его замечание особенно весомо, ибо он в
1972 г. получил докторскую степень за исследования философии Ибн Баджи
и продолжал изучение ее после того.
19 Согласен, что его величие определяется тем, что он, с одной стороны,,
был первым философом, открывшим путь для таких мыслителей, как Ибн
Туфейль, Ибн Рушд и Ибн Халдун, а с другой — первым философом, заявив¬
шим о себе после яростной атаки ал-Газали на философию и философов (Зия¬
да М. Об устроении, с. 7). Зияда добавляет, что подлинно свободный мысли¬
тель должен был обладать смелостью, чтобы заявить так, как это сделал Ибн
Баджа, выступивший в защиту философии и порицавшей Абу Хамида ал-Га-
зали. По словам Омара Фаруха, «Ибн Баджа, вне всякого сомнения, принад¬
лежит к тем великим людям, которые внесли вклад в культуру той эпохи и
стремились, чтобы рационалистическая философия поднялась на тот уровень*
которого она достигла. Фарух О. Ибн Баджа ва ал-фальсафа ал-магрибийа
(Ибн Баджа и магрибская философия). Бейрут, 1952, с. 31.
20 Григорян С. И. Средневековая философия, с. 262.
21 Фильштинский И. Арабская литература в средние века. М., 1978, с. 31.
Автор посвящает ряд страниц вопросу о «возникновении средневековой ара¬
бо-исламской философии».
22 Философская энциклопедия. T. 1. М., 1960, с. 86.
23 См.: Соколов В. В. Средневековая философия, с. 264.
24 Маджид Фахри подчеркивал единодушие исследователей духовной жиз¬
ни Андалусии в вопросе о том, что «Абу Бакр бен ас-Саит положил начало
этапу подлинного философского сочинительства в Андалусии». Расаил Ибн
Баджа ал-илахийа (Богословские трактаты Ибн Баджи). Ред. и предисл.
Маджида Фахри. Бейрут, 1968, с. 3 (далее Фахри М. Трактаты.) М. Зияда
считает Ибн Баджу «первым, кто по-настоящему занимался философией в Ан¬
далусии» (Зияда М. Об устроении, с. 8). Абдо аш-Шимали полагает, что за¬
267
слуга Ибн Баджи в развитии философии в Магрибе — это «заслуга осново¬
положника» — (Аш-Шимали А. Дирасат фи тарих ал-фальсафа ал-арабийа
ал-исламийа ва асар риджалиха (Очерки по истории арабо-исламской фило¬
софии и произведениям ее представителей). Бейрут, 1965, с. 616,— а Ханна
ал-Фахури и Халил ал-Джарр называют Ибн Баджу (первым распространи¬
телем философской науки в Андалусии» (Ал-Фахури X., Ал-Джарр X. Тарих
ал-фальсафа ал-арабийа (История арабской философии). Ч. 2. Бейрут, 1958,
с. 334—335). (Далее Ал-Фахури X. История). Ахмад Фуад ал-Ахвани полагает,
что его можно считать «первым подлинным философом в Испании» (El-Eh-
wani A. F. Islamic Philosophy. Cairo, 1975, c. 118). Вероятно, раньше всех это
мнение выразил Омар Фарух, который сказал: «Он, вне всякого сомнения,
открыл философскую науку в Андалусии» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 32).
В той же работе он высказывается еще определеннее: «После того как факел
исламской философии угас в Машрике, в Магрибе появились те, кто вновь
возжег его. Заслуга в этом в первую очередь принадлежит, несомненно, Ибн
Бадже. Он стал пионером движения ученых и мыслителей в Магрибе, и влия¬
ние его ощущалось в течение длительного времени» (с. 10).
25 История философии. T. 1, с. 445, см. также: Трахтенберг О. В. Очерки,
с. 26.
26 Сагадеев А. В. Ибн Рушд (Аверроэс). М., 1973, с. 33.
27 Александров Г. Ф. История западноевропейской философии, с. 118.
28 Григорян С. Н. Прогрессивная философская мысль, с. 289; он же.
•Средневековая философия, с. 256.
29 Для тех, кто занимается философией Ибн Баджи, не является секретом,
что Абу ал-Хусейн Али ал-Гарнаты (Гренадский), один из его учеников, ска¬
зал во введении к сборнику, в котором он объединил трактаты своего учите¬
ля,— Ибн Бадже первому принадлежит заслуга в том, что учение философов
Машрика созрело и дало свои подлинные плоды в Испании. Из современных
арабских исследователей этого мнения придерживаются Ханна ал-Фахури
и Халил ал-Джарр, считающие, что Ибн Баджа был «первым андалусским
мыслителем, который смог освоить философские произведения Арабского Вос¬
тока, получившие распространение в Испании со времени Хакима II» (Ал-
Фахури. История, с. 344), а также Камал ал-Йазиджи и Антуан Гаттас Ка¬
рам, указывающие, что Ибн Баджи «был первым из тех, кто в Магрибе
и Андалусии обратил внимание на философию мыслителей Машрика, воспри¬
нял ее, осветил ее проблемы, написал работы по ее главным темам и попы¬
тался сделать ее общим достоянием». Ал-Йазиджи К. a Fаттас Карам А.
А лай ал-фальсафа ал-арабийа (Выдающиеся представители арабской фило¬
софии). Бейрут, 1957, с. 775 (далее Ал-Йазиджи К. Выдающиеся представи¬
тели). Абдо аш-Шимали говорит, что Ибн Баджа — «первый андалусский
философ, который усвоил философию и науку Машрика, рассмотрел ее важ¬
нейшие проблемы и попытался распространить ее среди элиты» (Аш-Шима¬
ли А. Очерки, с. 609).
30 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 257.
31 В этой повести Ибн Туфейль сообщает, что большая часть имеющихся
сочинений Ибн Баджи «не закончена, недостает заключений» (Хай ибн Якзан
Ибн Сины, Ибн Туфейля и ас-Сахрурди. Под ред. Ахмада Амина. Каир,
1952, с. 62). «Стиль его высказываний по некоторым вопросам несовершенен,
и, будь у него достаточно времени, он, наверно, заменил бы их». Еще важ¬
нее замечание Ибн Туфейля, что мирские заботы настолько отвлекали Ибн
Баджу, что «он скончался до того, как появились его труды и распространи¬
лись тайны его мудрости». Надо сказать, что большинство арабских и ино¬
странных специалистов по исламской философии в той или иной степени, пол¬
ностью или частично разделяют точку зрения С. Н. Григоряна. Так, де Буур
пишет: «Те его книги, которые дошли до нас, достаточно убедительно сви¬
детельствуют, что он не любил ни свою эпоху, ни свою среду». Де Буур Т. Й.
Тарих ал-фальсифа фи ал-ислам (История философии в исламе). Каир, 1957,
с. 367. Нечеткость высказываемых Ибн Баджей взглядов Абдо аш-Шимали
объясняет тем, что это либо «небрежность, либо сделано намеренно, либо
является результатом того, что до нас его книги дошли в неполном объ¬
еме» (Аш-Шимали А. Очерки, с. 609). Мухаммад ал-Джабири считает, что
268
неясность трактата «Об устроении жизни уединившегося» — «черта, присущая
большинству богословских трактатов Ибн Баджи» — Ал-Джабири М. Нахну
ва турас.— Кира’ат муасира фи турасина ал-фальсафи (Мы и наследие.—
Современное прочтение нашего философского наследия). Бейрут, 1982,
с 258,— и почти все они нуждаются в нанесении «последних штрихов»; Ибн
Баджа полностью это сознавал.
По словам Тайсира Шейха ал-Арда, часть написанного Ибн Баджей на¬
столько туманна, что понять это можно, только приложив усилия: «Дело
в том, что есть ряд туманных текстов, которые читатель может понять толь¬
ко в том случае, если отнесется к ним особенно внимательно, будет их раз
за разом перечитывать и связывать с предшествовавшими и последующими
положениями и мыслями» (Шейх ал-Apd Т. Ибн Баджа. Бейрут, 1965, с. 148).
Согласно Анри Корбену и Омару Фаруху, написанное Ибн Баджей не было
завершено. Корбен говорит: «Что касается его важных философских со¬
чинений, то он не завершил их». Корбен А., а также Ас-Сеййид Хусейн Наср
и Осман Яхъя. Тарих ал-фальсафа ал-исламийа (История исламской фило¬
софии). Бейрут. 1966, с. 342 (далее Корбен А. История). Омар Фарух под¬
черкивает: «Ибн Баджа не завершил своего исследования. Вероятно, он на¬
чал книгу, а затем оставил ее, не закончив» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 38).
В другой работе О. Фарух приходит к выводу, что «большинство его книг
либо неполны, либо конспективны, либо сложны по структуре» (Фарух Омар.
История арабской мысли. Бейрут, 1962, с. 520). Наконец, Камаль ал-Иазиджи
и Антуан Гаттас Карам, утверждают, что взгляды Ибн Баджи изложены
«сложно, вразброс, а его философская система состоит из разрозненных ком¬
понентов» (Ал-Йазиджи К. Выдающиеся представители, с. 777).
32 А. Корбен пишет, что заслуга ознакомления с содержанием трактата
Ибн Баджи по астрономии принадлежит выдающемуся еврейскому философу
Маймониду. По поводу отношения нашего Философа к Птолемею А. Корбен
констатирует: «Он оказался в конфликте с концепциями Птолемея» (Кор¬
бен А. История, с. 342). Омар Фарух, ссылаясь на Сартона, считает, что Ибн
Баджа «был основателем нового направления в астрономии в Магрибе... вели¬
чайшим астрономом XII в. и написал трактат, посвященный исправлению
„Альмагеста“ Птолемея и его критике (Фарух О. Ибн Баджа, с. 28). Точку
зрения А. Корбена и О. Фаруха разделяет Мухаммад ал-Джабири, полагаю¬
щий, что Ибн Баджа был одним из первых критиков системы Птолемея
(Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 256).
33 А. Корбен указывает, что астрономические гипотезы Ибн Баджи «ока¬
зали влияние на Ибн Туфейля» (Корбен А. История, с. 343), а Омар Фарух —
что Абу Исхак Нур эд-Дин ал-Битруджи испытал влияние «астрономических
представлений Ибн Баджи» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 60).
34 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 256.
35 М. Зияда тоже подчеркивает, что «его (Ибн Баджи.— Пер.) ориги¬
нальное творческое мышление особенно проявляется в работе „Об устроении
жизни уединившегося“, „Прощальном послании“ и трактате „О соединении“»
(Зияда М. Об устроении, с. 10).
36 Арабские специалисты по исламской философии, как правило, едино¬
душны в оценке этого трактата. О. Фарух подчеркивает, что он, «несомненно,
считается наиболее значительным из написанного Ибн Баджей» (Фарух О.
Ибн Баджа, с. 3), а в другой работе указывает, что более всего философич¬
ным Ибн Баджа выступает в книге «Об устроении жизни уединившегося»
(Фарух О. История арабской мысли, с. 500). Ханна ал-Фахури и Халил ал-
Джарр тоже пишут, что этот трактат «считается наиболее оригинальным из
сочинений Ибн Баджи» (Ал-Фахури X. История, с. 346). По мнению Мухам¬
мада Галляба, «Об устроении жизни уединившегося» — «важнейшая из книг
Ибн Баджи и наиболее достойная изучения и анализа». Галляб М. Ал-фальса¬
фа ал-исламийа фи ал-Магриб (Исламская философия в Магрибе). Каир,
1948, с. 28. Абдо ал-Шимали называет это сочинение «наиболее значитель¬
ным и полезным из книг Ибн Баджи» (Аш-Шимали А. Очерки, с. 609). Как
сообщает Мухаммад ал-Джабири, Ибн Рушд видел в данном трактате со¬
вершенно новую философскую работу, подобной которой нет ни у ал-Фараби,
пи у Платона, ни у самого Аристотеля. Авторитет Ибн Рушда, вероятно, по¬
269
буждает ал-Джабири решительно заявить, что это сочинение приобретает
«особое значение как для изучения специально философии Ибн Баджи, так и
для изучения истории философии в Магрибе и Андалусии. С одной стороны,
оно аккумулирует важнейшие проблемы, над которыми работал наш фило¬
соф, а с другой — представляет собой первую в Андалусии философскую ра¬
боту, в которой отражено стремление создать всеобъемлющую теорию...».
(Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 258—259).
3,7 История философии. T. 1, с. 445.
38 Философская энциклопедия. Т. 2, с. 189.
39 См.: Соколов В. В. Средневековая философия, с. 264.
40 См.: там же, с. 264.
41 См.: там же, с. 264.
42 История философии. T. 1, с. 454.
43 Многие средневековые и современные авторы считают его еретиком
и атеистом. Ал-Фатх ибн Хакан писал, что он «был известен маниакальностью
и неверием», что «эмигрировал по предписанию и в силу закона... отвергал
мудрую книгу Аллаха и насмехался над словами всевышнего. Он не верит
ни во что, что с легкостью привело нас к Аллаху». Ал-Кифты также дает
сведения, что Ибн Баджа уклонялся от предписаний шариата. Заметим, что
одни авторы отвергают, а другие подтверждают это обвинение. Так, Лисан
ад-Дин Ибн ал-Хатыб говорит, что ал-Фатха ибн Хакана толкнула к пори¬
цанию зависть, а Ибн Абу Адыа утверждает, что Ибн Баджа «знал Коран
наизусть». По словам Маджида Фахри, подобные обвинения «известны: они
широко использовались простонародьем против философов» (Фахри М. Трак¬
таты, с. 14). М. Зияда же думает, что утверждения ал-Фатха «не все были не¬
состоятельны, поскольку Ибн Баджа отвергал многие традиционные религиоз¬
ные идеи» (Зияда М. Об устроении, с. 9). Согласно Омару Фаруху, научный
метод Ибн Баджи и его абсолютизированное мышление относились к числу
причин, по которым простонародье обвинило его в безбожии, а затем все это-
привело к его убийству» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 31). По мнению О’Лири,,
мыслитель полностью сознавал, что «чистая философия не может согласовы¬
ваться с учением об откровении», и «поистине удивительно, что Ибн Баджа,
жил в безопасности, несмотря на нападки враждебных ему богословов, поль¬
зуясь защитой эмиров династии Альморавидов». О'Лири Даси de. Ал-фикр*
ал-араби ва макануху фи ат-тарих (Арабская мысль и ее место в истории)..
Каир, 1961, с. 253.
Укажем в этой связи, что, как считают Омар Фарух и Мухаммад ал-
Джабири, Ибн Баджа проводил грань между философией и религией или.
между разумом и традицией. Он, пишет О. Фарух, был «первым, кто занялся
рационалистической наукой в отрыве от религии» (Фарух О. Ибн Баджар
с. 31); М. ал.-Джабири отмечает, что «отторжение калама в Андалусии осво¬
бодило философские произведения Ибн Баджи от проблемы согласования
традиции с разумом, религии с философией. Кроме того, отказ от «машрикской
разновидности» неоплатонизма освободил эти произведения от необходимости
поставить науку в сочетании с религией на службу философии и философию'
на службу религии (чем была занята философская школа в Машрике), дабы
наука снова, как это было у Аристотеля, стала фундаментом, на котором воз¬
водит свое здание философия» (Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 254).
Нужно сказать, что некоторые авторы не ограничиваются общими рас-
суждениями по поводу того, что Ибн Баджу обвиняли в ереси и атеизме.
Подробностей касается О. Фарух: «Ясно видно, что, по мнению Ибн Баджиг
бессмертие существует именно в этой земной жизни...» (Фарух О. Ибн Баджа,
с. 48). Ал-Джабири подчеркивает, что бессмертие у Ибн Баджи — «вневре¬
менное духовное бессмертие», и комментирует: «...таким образом, Ибн Баджа
спускает „бессмертие“ с неба на землю...» (Ал-Джабири М. Мы и наследие,,
с. 296). На той же точке зрения стоит М. Зияда: «Ибн Баджа не верил нм
в бессмертие души, ни в загробную жизнь индивидов» (Зияда М. Об устрое¬
нии, с. 26).
Некоторые арабские исследователи усматривают ересь в отношении фило¬
софа к пророчеству. Ал-Джабири, например, писал, что «Ибн Баджа совер¬
шенно замалчивал теорию пророчества ал-Фараби и не отвел ей места в своих.
270
философских произведениях» (Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 277). Маан
Зияда констатирует, что Ибн Баджа лишь изредка ссылается на пророков,
а даже когда ссылается, кажется, будто он намеренно делает так, чтобы
ссылка была неясной: «Ему не удается попытка скрыть свою уверенность
в превосходстве философии над пророчеством, особенно когда он оценивает
различие между носителями истинного мнения и теми, кому было ниспослано
откровение» (Зияда М. Об устроении, с. 29). И еще определеннее и детальнее:
«Если Ибн Баджа говорит о пророках только во множественном числе, то
это имеет особый смысл: пророка Мухаммада он не ставит в положение, воз¬
вышающее его над остальными пророками. Такая позиция, далекая от обще¬
принятой среди мусульман, а также мысль Ибн Баджи о превосходстве фи¬
лософии над пророчествами выводят его, с точки зрения исламских традицио¬
налистов и консерваторов, непосредственно из круга мусульман» (с. 30). Ибн
Баджа отрицает, что пророки играют «какую-то роль в Совершенном Граде,
или по крайней мере игнорирует эту роль» (с. 31). М. Зияда приходит к вы¬
воду, что подобные теории наряду с выступлением против ал-Газали в век
победы традиционалистов — достаточны, чтобы «обвинить нашего философа
в атеизме».
44 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 260.
45 Там же.
46 «Основа, на которой Ибн Баджа строит этот вид мышления, является
материалистической: разум познает самостоятельно, а не в результате некоего
спиритуалистического воздействия извне» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 36). Адел
ал-Ава подтверждает наличие материалистической основы, не называя ее.
Он также говорит, что, по мнению Ибн Баджи, разум «познает самостоятель¬
но, а не под спиритуалистическим воздействием, оказываемым на него извне...».
Ал-Ава А. Калам ва ал-фальсафа (Калам и философия). Дамаск, 1961, с. 143.
47 Чалоян В. К. Восток—Запад (преемственность в философии античного
и средневекового общества). М., 1968, с. 172.
48 История философии. T. 1, с. 439. См. также: Трахтенберг О. В. Очерки,
с. 56.
49 Некоторые арабские специалисты указывают на то, что философия на
Западе основывалась на восточной философии: «Поскольку научный поиск
в Машрике предшествовал таковому в Магрибе, то андалусцы обязаны своим
братьям из Машрика многими своими взглядами и теориями. Поэтому не было
ничего удивительного в том, что испанская философская школа следовала за
восточной, и мы видим, что Ибн Баджа и Ибн Туфейль, например, идут по
стопам ал-Фараби и Ибн Сины». Мадкур И. Фи ал-фальсафа ал-исламийа —
мин хадж ва татбикуху (Об исламской философии — метод и его приме¬
нение). Каир, 1968, с. 50. По мнению Абдо аш-Шимали, «книги философов
и врачей Востока, особенно сочинения ал-Фараби, Ибн Сины и ал-Газали,
появились в Магрибе, Ибн Баджа был знаком с ними и черпал из этого источ¬
ника» (Аш-Шимали А. Очерки, с. 607). Надо заметить, что Мухаммад ал-
Джабири придерживаетя иной точки зрения относительно влияния на фило¬
софию в Магрибе и Андалусии. Он говорит: «Среди историков исламской
философии и исследователей арабской культуры в целом широко распростра¬
нен взгляд на философию в Магрибе и Андалусии как на „естественное“ про¬
должение философии Машрика, и учения Ибн Баджи, Ибн Туфейля и Ибн
Рушда считают продолжением философии ал-Кинди, ал-Фараби и Ибн Сины,
воскрешением или повторением ее тем и проблематики. Такой взгляд должен
быть пересмотрен коренным образом» (Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 241).
На его взгляд, появление философии в Андалусии произошло в обстоятель¬
ствах, совершенно отличных от тех, при которых возникла философия в Маш¬
рике: «Это связано... с новым началом, даже с новым исходным моментом, ка¬
чественно иным по сравнению с исходным моментом философии в Машрике»
(с. 249). Очевидно, что мнение ал-Джабири не оригинально, его уже давно
высказал Мухаммад Галляб: «Во-первых, философия Магриба черпала, если
можно так выразиться, непосредственно из оригинальных греческих источ¬
ников; во-вторых, в понимании этого наследия и обращения к нему она
пользовалась средствами, отличными от тех, которыми пользовалась фило¬
софия Машрика* в-третьих, она была в целом ортодоксальной, т. е. более
271
верной подлинному Аристотелю и более приверженной его настоящим взгля¬
дам; в-четвертых, дело представляется таким образом, что она воспринимала,
продукцию Машрика, скорее критикуя ее, чем пользуясь ею» (Галляб М.
Исламская философия, с. 7).
50 Чалоян В. К. Восток—Запад, с. 191.
51 См.: Соколов В. В. Средневековая философия, с. 264.
52 См.: Краткий очерк истории философии, с. 96.
53 Сагадеев А. В. Ибн Рушд, с. 34.
54 Чалоян В. К. Восток—Запад, с. 191.
55 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 261.
56 Заметим, что вопрос о влиянии Аристотеля на философию Ибн Баджи
заслуживает дальнейшего изучения, тем более что многие исследователи при¬
знают, что он испытал это влияние. По Омару Фаруху, Ибн Баджа — «самый
близкий к Аристотелю из древних» (Фарух О. История, с. 499). Маджид.
Фахри говорит, что книга «Чтения о природе», состоящая из восьми книг
Аристотеля по физике, была настолько досконально проанализирована Ибн
Баджей, что его комментарии и дополнения являются наиболее достоверными
из дошедших до нас и «свидетельствуют о его способности глубоко прони¬
кать в категории Аристотеля: в этом его превзошел только Ибн Рушд» (Фах¬
ри М. Трактаты, с. 19). «Его многочисленные указания на различные книги
о животных показывают, насколько хорошо он был знаком с этой стороной
философии Аристотеля» (с. 22). Маджид Фахри приходит к выводу, что Ибн
Баджа прекрасно знал аристотелевское наследие, а сочинения Аристотеля —
один из источников его философии, особенно книги «Этика» и «Ощущение
и ощущаемое».
По мнению Тайсира Шейх ал-Арда, Ибн Барда пользуется чисто рациона¬
листическим методом, поскольку является аристотеликом. Он подчеркивает,
что философия Ибн Баджи «представляла магрибскую школу перипатетиков
и перипатетизм его ближе к философии Аристотеля, чем перипатетизм ал-Кин-
ди, ал-Фараби и Ибн Сины» (Шейх ал-Ард Т. Ибн Баджа, с. 6). Пожалуй,
из тех, кто занимается философией Ибн Баджи, определеннее всего на влия¬
ние Аристотеля указывает Мухаммад ал-Джабири, утверждающей, что ан¬
далусский мыслитель комментировал Аристотеля с помощью самого Аристо¬
теля, и даже обнаруживающий в некоторых его комментариях «то, что пре¬
восходит последнего». Суть дела в том, что ал-Джабири считает, что труды
Аристотеля являются «источником» сочинений Ибн Баджи: «Если мы пере¬
листаем тексты Ибн Баджи, то найдем, что они отражают основной элемент
Аристотеля в рамках источника, но не того Аристотеля, который был широко
известен в Машрике, Аристотеля онтологии и приписываемых ему текстов,
а подлинного, Аристотеля-ученого...» (Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 225).
По поводу вклада в решение тех философских вопросов, которые Аристотель
оставил нерешенными, Мухаммад аль-Джабири высказывается так: Ибн Бад¬
жа «идет особым путем, более отвечающим духу научного реализма, который
был свойствен Аристотелю и которым отличался наш философ (с. 257).
Маан Зияда придерживается иной точки зрения, полагая, что Ибн Баджа,
который на первый взгляд кажется философом-перипатетиком, в действитель¬
ности ближе «к Платону, чем к Аристотелю» (Зияда М. Об устроении, с. 32),
Выражая свою точку зрения еще более решительно, М. Зияда говорит, что
Ибн Баджа — один из крупнейших мусульманских мыслителей, создавший
философское учение из элементов платонизма и Аристотелева наследия, «он
комментирует и поясняет работы Аристотеля, следуя аристотелевскому мето¬
ду, однако дух его метода — дух платонизма, несмотря на внешний аристоте-
лизм» (с. 24—25). Нужно отметить, что мнение М. ал-Джабири совершенно
не совпадает с мнением М. Зияды. М. ал-Джабири считает, что среди источни¬
ков, с которыми связаны произведения Ибн Баджи, «мы встречаемся с Пла¬
тоном, но не как с „источником“, а как с носителем идеи, которая упоминается
для того, чтобы либо ознакомиться с ней, либо отвергнуть ее, либо ответить
на нее» (М. ал-Джабири. Мы и наследие, с. 255). Если позиции ал-Джабири
и Зияды в вопросе о влиянии Аристотеля и Платона на философию Ибн
Баджи заметно различаются, то Маджид Фахри не высказывает определен¬
ного суждения, а ограничивается утверждением, что богословские сочинения
272
Ибн Баджи показывают, «насколько хорошо он был знаком с наследием Ари¬
стотеля и Платона», и добавляет, что оба являются источниками философии
Ибн Баджи. Выделяя книги Аристотеля, он называет также книги Платона,
упоминает «Республику» и «Федон». Таким образом, мы видим, что араб¬
ские исследователи, относящиеся с особым вниманием к философии Ибн
Жаджи, придерживаются разных точек зрения касательно проблемы влияния
Платона и Аристотеля, что вызывает необходимость дальнейших исследова¬
ний и дискуссий.
57 См.: Александров Г. Ф. История западноевропейской философии, с. 486.
58 Почти все востоковеды, в том числе арабские, занимавшиеся фило¬
софией Ибн Баджи, считают, что он находился под сильным влиянием ал-
Фараби. Как пишет А. Корбен, последний оказал большое влияние на фило¬
софов Андалусии, особенно на Ибн Баджу, и объясняет это тем, что тот «го¬
тов был целиком воспринять идеи ал-Фараби из-за их соответствия...» (Кор-
•бен А. История исламской философии, с. 342). Де Буур утверждает, что Ибн
Баджа почти «полностью следует» ал-Фараби (Де Буур. История философии
в исламе, с. 367). В другом месте он говорит об этой зависимости однозначно:
«Работы Ибн Баджи по логике не слишком далеки от учения ал-Фараби,
и даже его взгляды на природу и метафизику в целом согласуются с тем,
к чему пришел „второй учитель“» (с. 369). О’Лири же просто констатирует,
что сделанное Ибн Баджей было «продолжением работы ал-Фараби» (О'Лири.
Арабская мысль, с. 251).
Переходя к арабам, мы обнаруживаем, что большинство исследователей
философии Ибн Баджи отмечают факт воздействия на него ал-Фараби. Омар
Фарух говорит, что Ибн Баджа «больше всех исламских философов похож
на ал-Фараби» (Фарух О. История арабской мысли, с. 499) или «ближайший
к ал-Фараби философ» (с. 38). Продолжая мысль де Бурра, он акцентирует
внимание на том, что логика Ибн Баджи мало расходится с логикой ал-Фара-
би, в метафизике он также идет по его стопам; более того, и в политике «сле¬
дует за ал-Фараби» (с. 52). Ханна ал-Фахури и Халил ал-Джарр полагают,
что «Ибн Баджа весьма близок к ал-Фараби и делает целью своей филосо¬
фии рационалистические политику и мораль» (Ал-Фахури X. История араб¬
ской философии, с. 347). После краткого рассмотрения некоторых взглядов
Ибн Баджи авторы приходят к заключению, что эти взгляды «связаны с воз¬
зрениями ал-Фараби» (с. 354). Вероятно, Абдо аш-Шимали повторяет ска¬
занное де Бууром и Омаром Фарухом, когда утверждает, что Ибн Баджа
в большинстве своих работ идет путем ал-Фараби, «а его учение почти не
расходится с учением „второго учителя“» (Аш-Шимали А. Очерки, с. 608).
Чтобы еще отчетливее осветить этот вопрос, обратимся к Маджиду Фах-
ри, который довольно подробно остановился на нем. Он полагает, что Ибн
Баджа, возвеличивая «второго учителя» и явно отойдя от линии Ибн Туфей-
ля и Ибн Рушда, «испытал влияние его как никого другого в политике,
этике, логике и теологии; этот философ — почти единственный из мыслителей
Востока, который неоднократно упоминается в сочинениях андалусского преем¬
ника». Фахри М. Асар ал-Фараби фи ал-фальсафа ал-андалусиа (Влияние
ал-Фараби на андалусскую философию). Багдад, 1975, с. 8—9. Маджид Фахри
говорит о существовании «решительного идейного подобия» между ними по
ряду важнейших проблем политики и теологии (с. 15). Кроме того, по сло¬
вам автора, при чтении богословских трактатов Ибн Баджи становится ясно,
что «философ Машрика, которого он избрал, чтобы следовать ему,— это Абу
Наср ал-Фараби» (Фахри М. Трактаты, с. 23). М. Фахри, не ограничиваясь
констатацией воздействия ал-Фараби на Ибн Баджу, выделяет книги, на ко¬
торые тот опирался: Ибн Баджа «создал свою политическую философию, осо¬
бенно в сочинении „Об устроении жизни уединившегося“, на основе „Граж¬
данской политики“, „Добродетельного города“ и „Афоризмов государственно¬
го деятеля“». Ученый называет также трактат «О разуме», считая, что это
•один из трудов, «которые Ибн Баджа упоминал или возводил на их основе
некоторые свои философские построения» (с. 23). О «Гражданской полити¬
ке» и трактате «О разуме» М. Фахри говорит как об одном из источников фи¬
лософии Ибн Баджи (с. 24).
Здесь необходимо добавить, что, по мнению Маана Зияды, источники фи-
Ц8 Зак. 635 272
лософии Ибн Баджи почти ограничиваются философией Платона, Аристотеля
и ал-Фараби (Зияда М. Об устроении, с. 17). Привлекает внимание, что Му¬
хаммад ал-Джабири, почти единственный среди иностранных и арабских спе¬
циалистов, занимающийся философией Ибн Баджи, считает, что ал-Фараби*
оказавший влияние на последнего,— это «не ал-Фараби, объединяющий двух
мудрецов», а ал-Фараби — «второй учитель» и комментатор Аристотеля. Что<
касается его как автора «Добродетельного города», то он упоминается в той
мере, в какой упоминается и Платон (Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 255).
Если мы глубже вникнем в это утверждение, то найдем, что оно согласуется
с точкой зрения, согласно которой источник Ибн Баджи — это Аристотель.
Я считаю, что толкование ал-Джабири философии Ибн Баджи ближе к интер¬
претации советскими исследователями, хотя оно не выходит за рамки общих
мест.
59 См.: Григорян С. Н. Прогрессивная философская мысль, с. 22, 289;
сн же. Средневековая философия, с. 260.
60 Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 30.
61 Некоторые специалисты по философии Ибн Баджи подчеркивают осо¬
бое значение «Уединившегося» в подкрепление мысли о влиянии на него ал-
Фараби. Упоминая трактат «Об устроении жизни уединившегося», А. Корбен
обнаруживает связь между Ибн Баджей и Абу ал-Баракатом ал-Багдади, не-
говоря уже об ал-Фараби; Омару Фаруху кажется, что восхищение Ибн Бад¬
жи философией ал-Фараби побудило написать «Об устроении жизни уединив¬
шегося». Более того, О. Фарух считает, что эта книга свидетельствует об
«истинной близости между ал-Фараби и Ибн Баджей» (Фарух О. Ибн Бад¬
жа, с. 39; он же. История арабской мысли, с. 499). Приведя суждение Маджи-
да Фахри по поводу того, что Ибн Баджа основывал свою политическую фи¬
лософию в трактате «Об устроении жизни уединившегося» на трех книгах
ал-Фараби, надо сказать и о его мнении, что данный трактат — и это сразу
же бросается в глаза — написан в «платоновско-фарабиевских рамках» (Фах¬
ри М. Трактаты, с. 32). Ахмад ал-Ахвани считает трактат «Об устроении
жизни уединившегося» своего рода утопией, аналогичной той, что создана
ал-Фараби (El-Ehwani A. F. Islamic Philosophy, с. 120). И наконец, Мухаммад
Галляб утверждает, что «уединившийся» Ибн Баджи очень напоминает Муд¬
реца ал-Фараби (Галляб М. Исламская философия, с. 40).
62 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 261.
63 Философская энциклопедия. Т. 5, с. 295.
64 История философии. T. 1, с. 445.
65 По словам М. Зияды, Ибн Баджа в известной мере был философом-
практиком и «из своего практического опыта и опыта других, подобных ему,,
знал, что этот „добродетельный город“ не что иное, как утопическая мечта»
(Зияда М. Об устроении, с. 20). Возникает вопрос, если Ибн Баджа был
философом-практиком, то что толкнуло его вести речь о своем утопическом,
городе? Думаю, одна из причин, побуждающих Ибн Баджу рисовать картину
общества будущего, состояла в том, что общество, в котором жил философ,
не отвечало его представлениям и желаниям. А утопизм выражался в отсут¬
ствии зрелых условий и подлинных сил для создания такого города, не гово¬
ря уже о том, что эти представления были представлениями одиночки.
66 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 260. Надлежит заметить,,
что ряд арабских исследователей комментирует это утверждение следующим
образом. Омар Фарух пишет, что магрибинцы конструировали «правильное
общество» на основе «естественных законов» и в нем должен был править
разум (Фарух О. Ибн Баджа, с. 22). Камал ал-Иазиджи и Антуан Гаттас
Карам подчеркивают, что город, который желателен для «уединившегося»,
находится не на небесах, это «земной город, где живут по законам, вырабо¬
танным Абсолютным разумом» (Ал-Иазиджи К. Выдающиеся представители,
с. 780). Маан Зияда решительно заявляет, что рационализм Ибн Баджи пре¬
восходит рационализм ал-Фараби: «Если ал-Фараби и установил главенство*
разума в сообществе людей „добродетельного города“, то он все же не пошел:
так далеко, как Ибн Баджа в восславлении и почитании разума» (Зияда М.
Об устроении, с. 27).
67 Философская энциклопедия. Т. 2, с. 189.
274
08 По мнению Омара Фаруха, Ибн Баджа является «лидером» рационали¬
стической философии в Магрибе и в исламском мире (Фарух О. Ибн Баджа,
с. 60; он же. История арабской мысли, с. 498—499). О. Фарух считает, что
подлинный след Ибн Баджа оставил в рационалистической философии, по¬
скольку он «открыл этот путь пришедшим после него» (Фарух О. Ибн Бад¬
жа, с. 60). Абдо аш-Шимали (Очерки, с. 615) высказывает то же мнение.
69 Многие специалисты по философии Ибн Баджи уверены, что разум
играет огромную роль в его философии. Так, Омар Фарух подчеркивает, что,
по утверждению Ибн Баджи, «правильное знание достигается разумом, аб¬
солютное знание достигается разумом, счастье приобретается разумом, мо¬
раль строится на основе разума» «и познаваемое разумом — истинно» (Фа¬
рух О. Ибн Баджа, с. 57, 46; он же. История арабской мысли, с. 511, 504).
Адел ал-Ава пишет, что правильное знание, по мысли Ибн Баджи, «приобре¬
тается разумом, а разум—это основа образа жизни и нравственности. При
помощи своего разума человек способен познавать все сущее от низшего до
высшего, от материи до Аллаха» (Ал-Ава А. Калам и философия, с. 142, 143).
Маджид Фахри убежден, что по Ибн Бадже, «сущность человека — это ра¬
зум...» (Фахри М. Трактаты, с. 25). Маан Зияда констатирует, что «разум
и разумность играют главную роль в философии Ибн Баджи» (Зияда М.
Об устроении, с. 23). Далее он комментирует: «Таким образом, счастье че¬
ловека зависит от разума и разумной системы, которой он придерживается.
Человеческое действие может быть человеческим только в том случае, если ос¬
новывается на разуме».
70 Ряд арабских исследователей философии Ибн Баджи видят значение
этого трактата в том, что в нем значительное место отводится разуму (Зия¬
да М. Об устроении, с. 23; Фахри М. Трактаты, с. 25).
71 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 258.
72 Наряду с де Бууром X. ал-Фахури и X. ал-Джарр подчеркивают, что
Ибн Бадже свойственна «рационалистическая тенденция, поддерживающая
науку и философию и делающая их единственным инструментом познания
природы, познания души и соединения с Деятельным разумом» (Ал-Фахипи У
История арабской философии, с. 346—347).
73 Мухаммад ал-Джабири говорит, что целью трактата «Об устроении
жизни уединившегося» является именно создание «системы» для «человека,
который живет и действует на основе своего разума и заботится о развитии
своего разума» (Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 280). Маан Зияда также
указывает, что значение этого трактата связано с огромной ролью разума и
разумности в философии Ибн Баджи. Абдо аш-Шимали подчеркивает, что
«Об устроении жизни уединившегося» содержит призыв к «укреплению ра-
-зума».
74 Философская энциклопедия, T. 1, с. 86.
75 История философии. T. 1, с. 445. Как утверждает Маджид Фахри, Ибн
Баджа, определяя природу людей, в том числе и индивида, считает, что че¬
ловек совершенствуется, переходя от растительного состояния до животного
состояния, а затем до человеческого и достигая при этом разумного видения:
«Это такое состояние, когда человек является человеком» (Фахри М. Тракта¬
ты, с. 25). По другому поводу Маджид Фахри замечает, что Ибн Баджа при¬
писывает «уединившемуся» чудесное свойство, которое дает ему возмож¬
ность постичь естественным разумом совокупность божественных знаний».
Фахри М. Ибн Рушд, файласуф кортоба (Ибн Рушд, кордовский философ).
Бейрут, 1960, с. 27.
76 Согласно Маану Зияде, система, которую создает «уединившийся», за¬
ключается в рационализме в нерациональном обществе. Это ведет к тому,
что «целью его является использование разума с тем, чтобы достичь по воз¬
можности лучшей жизни в плохих условиях» (Зияда М. Об устроении, с. 21).
77 Сагадеев А. В. Ибн Рушд, с. 34.
78 Некоторые специалисты по философии считают, что Ибн Бадже при¬
надлежит большая роль в критике ал-Газали: он вообще был главным про¬
тивником Газали в Магрибе. Камал ал-Иазиджи и Антуан Гаттас Карам
утверждают, что он «направил мысль Запада в русло, противоположное су¬
физму» (Ал-Йазиджи К. Выдающиеся представители, с. 776), считается «пер¬
18*
275
вым, выступившим против ал-Газали в Андалусии и Магрибе». По мысли
А. аш-Шимали, наш философ сочинил «Об устроении жизни уединившегося»
с целью выступить против метода ал-Газали, основывающегося на иррацио¬
нальных установках и интуиции. Несомненно, что в «Прощальном послании»
содержится упрек в адрес ал-Газали, потому что тот опирался в процессе
познания на «свет, который Аллах излучает в сердце», и говорится, что пра¬
вильный путь постижения Аллаха заключается в мышлении и философском
созерцании, а не в мистических состояниях и отказе от мышления. Ибн Баджа
не только критикует ал-Газали, но и порицает его за то, что он, по словам
де Буура, «обманывал себя и обманывал людей, когда в книге „Избавляющий
от заблужений“ писал, что в уединении человеку открывается мир разума
и он зрит божественные деяния и испытывает большое наслаждение» (Де Бу-
ур. История философии в исламе, с. 365). Наконец, Омар Фарух, основываясь,
как мне кажется, на высказываниях нашего философа, констатирует: Ибн
Баджа «считает, что все, к чему пришли мистики и вместе с ними ал-Газа¬
ли,— это предположения и иллюзии, а подобное убеждение сводит на нет
пользу учености — математики, естествознания, наук, логики и мудрости» (Фа¬
рух О. Ибн Баджа, с. 59).
79 См.: Соколов В. В. Средневековая философия, с. 264.
80 Философская энциклопедия. Т. 2, с. 189.
81 Согласно Мухаммаду Галлябу, Ибн Баджа «придал арабской фило¬
софии в Магрибе в сфере теории познания характер совершенно отличный
от того, который придал ей ал-Газали на Востоке» (Галяб М. Исламская фи¬
лософия, с. 36—37).
82 Вспомним здесь существенную разницу во взглядах ал-Джабири и Зия-
ды относительно влияния Платона на Ибн Баджу.
83 М. Зияда пишет: «Ибн Баджа отвергал компромисс между религиозной,
и философской поэзией, или между откровением и разумом, в вопросе о про¬
рочестве и загробной жизни потому, что хотел опираться только на логические
и непосредственные выводы при толковании и при использовании принятого
им рационалистического метода» (Зияда М. Об устроении, с. 30).
84 Григорян С. Н. Средневековая философия, с. 257.
85 См.: Алиева Б. Теория двойственной истины. М., 1972, с. 12.
86 Григорян С. Н. Прогрессивная философская мысль, с. 34.
87 Некоторые востоковеды и арабские исследователи философии Ибн Бад¬
жи подчеркивают влияние нашего философа на Альберта Великого и Фому
Аквинского. Так, О’Лири говорит о воздействии на Альберта Великого (О’Ли¬
ри. Арабская мысль, с. 252), так же, как и Корбен (Корбен А. История ислам¬
ской философии, с. 341). По словам Ахмада ал-Ахвани, Альберт Великий
ссылался на проблему «слияния с Деятельным разумом». Что касается Омара
Фаруха, то, на его взгляд, многие удивятся, «когда узнают, что Ибн Баджа
оказал влияние на крупных церковных философов — Альберта Великого и
Фому Аквинского» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 63). Хотя подтверждения не¬
посредственного влияния Ибн Баджи на этих двух философов кет, признано
его общее прямое и косвенное влияние на европейскую философию (с. 62).
Если на исламском Востоке влияние Ибн Баджи и его последователей не было
велико, то оно «было очень значительным на христианском Западе», утвер¬
ждает О. Фарух (с. 60). По мнению Ибрахима Мадкура, пишущие на латыни
знали Ибн Баджу; их внимание привлекал его трактат о слиянии (с Деятель¬
ным разумом.— Пер.), но до них не дошел трактат «Об устроении жизни уе¬
динившегося», несмотря на его оригинальность (Арабское наследие. Очерки.
Каир, 1971, с. И). Однако, как сообщает О’Лири, латиноязычные авторы ци¬
тировали «Уединившегося» (О’Лири. Арабская мысль, с. 251). Ка& бы то
ни было, влияние Ибн Баджи на европейскую философию несомненно, однако
оно скорее косвенное, через посредство Ибн Рушда.
88 О’Лири считает, что «еврейский писатель Моисей Нарбонский пользо¬
вался сочинением Ибн Баджи «Об устроении жизни уединившегося» (О’Лири.
Арабская мысль, с. 251).
89 Ряд исследователей философии Ибн Баджи подчеркивает его большое
влияние на Ибн Туфейля. Ахмад ал-Ахвани убежден, что он «проложил путь
своим великим преемникам Абу Бакру и Ибн Рушду» (El-Ehwani A. F. Islamic:
276
Philosophy, с. 118). По словам Омара Фаруха, «Ибн Туфейль восхищался
Ибн Баджей» (Фарух О. История, с. 515) и «завершил то, что хотел сделать
Ибн Баджа» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 21), поскольку, «бесспорно, был родст¬
вен Ибн Бадже (т. е. был его приверженцем) и наследовал его метод мыш¬
ления» (с. 60). Ибрахим Мадкур полагает, что Ибн Туфейль находился под
влиянием первого андалусского философа и «придерживался его метода»
(Мадкур И. Об исламской философии, с. 51). Абдо аш-Шимали пишет, что-
Ибн Туфейль «испытал большое влияние Ибн Баджи» (Аш-Шимали А. Очер¬
ки, с. 618), так как черпал из его «источника» и был в авангарде тех, кто
припал к нему. По мнению А. ал-Ава, Ибн Туфейль шел за Ибн Баджей в во¬
просе «о возможности человеческого разума достичь полного совершенства
при опоре лишь на собственное мышление» (Ал-Ава А. Калам и философия,
с. 146). Как считает О’Лири, учение Ибн Туфейля было «в целом аналогично
учению Ибн Баджи (О'Лири. Арабская мысль, с. 257). Укажем также, что,,
по утверждению Маана Зияды, «Ибн Туфейль извлек большую пользу из
учения Ибн Баджи и его критического чувства» (Зияда М. Чтения, с. 5).
Однако некоторые ученые обращают внимание и на моменты сходства,
и на моменты различия между Ибн Баджей и Ибн Туфейлем. Омар Фарух,
например, пишет, что роман «Хай ибн Якзан» есть в своей основе не что иное,,
как развитие идеи «Уединившегося» (Фарух О. Ибн Баджа, с. 60—61). Ибра¬
хим Мадкур находит в «Хай ибн Якзан» многие особенности «Уединивше¬
гося» (Мадкур И. Об исламской философии, с. 52). По мысли А. Корбена,.
«Хай ибн Якзан» дает нам представление об «уединившемся, каким его ви¬
дел Ибн Баджа» (Корбен А. История, с. 353). Необходимо повторить, что
другие специалисты акцентируют коренное отличие Ибн Туфейля от Ибн
Баджи. Маан Зияда утверждает, что первый приходит к выводам, разнящим¬
ся с позицией Ибн Баджи, ибо наряду с разумом прибегает к мистическому
методу и не уходит далеко от откровения. «В этом существенное различие
между „уединившимся“ Ибн Туфейля и „уединившимся“ его предшественника
Ибн Баджи» (Зияда М. Об устроении, с. 31). Ясно, что мнение, высказан¬
ное Мааном Зиядой, уже высказывалось другими исследователями. Так, ПО-
O’Лири, соответствие между учением Ибн Баджи и Ибн Туфейля не исклю¬
чает, что у второго «более явственно выражен мистический элемент» (О'Лири.
Арабская мысль, с. 257). По мнению Ханны ал-Фахури и Халила ал-Джарра,.
Ибн Туфейль в своем сочинении «Хай ибн Якзан» хотел «одновременно сле¬
довать учению рационализма и откровению» (Ал-Фахури X. История араб¬
ской философии, с. 361). Как пишет А. Корбен, несмотря на то что «Хай ибн
Якзан» дает представление об «уединившемся», «он не раскрывает этой идеи,
до конца» (Корбен А. История исламской философии, с. 353). Итак, хотя Ибн
Туфейль испытал большое влияние Ибн Баджи, он не был рационалистом
в той мере, как его предшественник. Исходя из этого, мы считаем, что Ибн
Баджа более прогрессивен и дал философии больше, чем его преемник.
90 История философии. T. 1, с. 445.
91 Трахтенберг О. В. Очерки, с. 63; Философская энциклопедия. T. 1,.
с. 86.
92 Сагадеев А. В. Ибн Рушд, с. 34.
93 Почти все арабские ученые, в том числе востоковеды, занимающиеся
философией Ибн Баджи, считают, что он в той или иной степени оказал влия¬
ние на Ибн Рушда. По мнению О’Лири, Ибн Рушд пользовался книгой Ибн
Баджи «Об устроении жизни уединившегося» (О'Лири. Арабская мысль,
с. 251). По утверждению Де Буура, Ибн Рушд, несмотря на то что он во
многом опровергал ал-Фараби и Ибн Баджу, «извлек из их сочинений боль¬
шую пользу» (Де Буур. История философии в исламе, с. 386). О пользе гово¬
рит и Маан Зияда: Ибн Р.ушд «привлекал комментарии Ибн Баджи к кни¬
гам Аристотеля и его критические творческие идеи» (Зияда М. Чтения, с. 6).
Если Зияда лишь останавливается на этом, то Мухаммад ал-Джабири идет
дальше, заявляя, что Ибн Баджа «был, возможно, единственным источником,,
к которому обращался Ибн Рушд для адекватного прочтения Аристотеля»
(Ал-Джабири М. Мы и наследие, с. 262). Согласно Тайсиру Шейх ал-Арду^
не будет преувеличением сказать о философии Ибн Баджи, что она «подго¬
товила исламский перипатетизм, который доведен до совершенства Ибн Руш-
277
дом» (Шейх ал-Ард Т. Ибн Баджа, с. 6). Из этого следует, что Ибн Рушд
стал перипатетиком в значительной степени благодаря Ибн Бадже.
Но другие исследователи творчества Ибн Баджи и Ибн Рушда иначе
трактуют связь между ними. Ханна ал-Фахури и Халил ал-Джарр склонны
думать, что Ибн Баджа «дал рационалистический метод» Ибн Рушду, круп¬
нейшему арабскому философу в Магрибе (Ал-Фахури X. История арабской
философии, с. 354). Той же точки зрения придерживается О. Фарух, который
говорит, что явно чувствует приверженность Ибн Баджи рационалистической
линии Аристотеля, и добавляет, что на Ибн Рушда оказала «огромное влия¬
ние» война против Хамида ал-Газали, которую впервые начал Ибн Баджа
(Фарух О. Ибн Баджа, с. 61). По мнению А. Корбена, Ибн Баджа оказал
недейственное влияние» на Ибн Рушда (Корбен А. История исламской филосо¬
фии, с. 341). Раскрывая свою мысль, А. Корбен подчеркивает, что «Ибн Баджа
благодаря своему влиянию на Ибн Рушда придал философии в Испании та¬
кой характер, что она стала развиваться в направлении, далеком от идей ал-
Газали» (с. 386). Названные ученые не ссылаются на то, что наряду с влия¬
нием Ибн Баджи было влияние и Ибн Туфейля, а Маджид Фахри утвержда¬
ет, что Ибн Рушд подражал в философии Ибн Бадже и Ибн Туфейлю (Фах¬
ри М. Ибн Рушд, с. 9).
94 Григорян С. Н. Прогрессивная философская мысль, с. 25.
95 Алиева Б. Теория двойственной истины, с. 12.
96 Маковельский А. О. История логики. М., 1967, с. 264. Нужно отме¬
тить, что де Буур придерживается того же взгляда. Он говорит, что теория,
согласно которой разум, или мыслящая часть души, един во всех разумных
и что вечен лишь человеческий разум в целом в слиянии с Деятельным разу¬
мом, «теория, в средние века проникшая в христианский мир как теория Авер¬
роэса, есть у Ибн Баджи» (Де Буур. История философии в исламе, с. 371).
97 Известно, что, по мнению Ибн Абу Асыбаа, Ибн Рушд был одним из
учеников Ибн Баджи. Ту же точку зрения разделяет Ахмад ал-Ахвани:
«Судья Абу ал-Валид Ибн Рушд был одним из его учеников». Талхиз хитаб
ан-нафс ли-аби ал-Валид Ибн Рушд ва арба' расаил (Краткое изложение кни¬
ги «О душе» и четыре трактата Абул Валида Ибн Рушда), Ред. Ахмада
ал-Ахвани. Каир, 1950, с. 11. Он повторяет то же на с. 49 этой работы. Однако
несомненно, что Ибн Рушд не был учеником Ибн Баджи, он лишь испытал
его влияние, не более.
98 Заметим, что они, например, упоминают Сертона, Мунка, де Буура
и Ренана, а также Омара Фаруха, Ханну ал-Фахури и Халиля ал-Джарра.
99 Один из авторов указывает, что Зейнаб Мухаммад Афифи Шакир
в женском колледже университета Айн Шаме защитила в 1976 г. магистерскую
диссертацию, которую этот автор относит к наиболее полным исследованиям
об Ибн Бадже, но она до сих пор не опубликована.
CONTENTS
Ye. A. Frolova. The Rationalism of Arab-Muslim Philosophy (in Place
of Introduction) 3
R. I. Sultanov. Comparative Analysis of Philosophic Patterns in Kalam
and Patristics 23
G. B. Shaimukhambetova. On Ontological and Gnoseological Foundations
of Oriental Peripatetic Rationalism (on the Example of al-Farabi) 6S
A. Kh. Kasymzhanov. The Problem of Intellect in Farabi’s Worldview . . 100
M. D. Dinorshoyev. Rationalist Trends in Ibn Sina’s Gnoseology ... 114
A. A. Ignatenko. Socium and Intellect (Rationalist Currents in Arab-Mus¬
lim Medieval Social and Political Phylosophy) 133
Ye. A. Frolova. Rationalism and Stoico-Sceptical Strands in the Philosop¬
hy of Abu Khayan at-Taukhidi 169
M. T. Stepanyants. Sufism: for or against Rationalism 193
A. V. Smirnov. Three Solutions to the Problem of Transcendence and Im¬
manence of Divinity in the Philosophy of Ibn Arabi 206
K. A. Khromova. The Concept of Science and Religion Synthesis by
Contemporary Iranian Philosopher S. Nasr 223-
SUPPLEMENTS
Ahmad Ibn Muhammad Ibi Arabshah. A Palatable Fruit for the Khalifs
and an Amusement for the Wits 242
Ahmad Madi. Ibn Baja and Centemporary Oriental Studies 25&
СОДЕРЖАНИЕ
Е. А. Фролова. Рационализм в арабо-мусульманской философии (вме¬
сто введения) 3
Р. И. Султанов. К истории становления теологического рационализма.
Сравнительный анализ мыслительных схем калама и патристики 23
Г. Б. Шаймухамбетова. К характеристике онтологических и гносеологи¬
ческих оснований рационализма восточных перипатетиков (на при¬
мере ал-Фараби) 63
А. X. Касымжанов. Проблема разума в мировоззрении ал-Фараби . . 100
М. Д. Диноршоев. Рационалистическая тенденция гносеологии ИбнСины 114
А. А. Игнатенко. Социум и разум (рационалистические течения в ара¬
бо-исламской общественно-политической мысли средневековья) 133
Е. А. Фролова. Рационализм и стоико-скептические мотивы в филосо¬
фии Абу Хайана ат-Таухиди 169
М. Т. Степанянц. Суфизм: оппонент или союзник рационализма . . . 193
А, В. Смирнов. Три решения проблемы трансцендентности и имманент¬
ности божественной сущности в философии Ибн Араби 206
К. А. Хромова. Концепция синтеза науки и религии современного иран¬
ского философа С. X. Насра 223
ПРИЛОЖЕНИЯ
Ахмад ибн Мухаммад Ибн Арабшах. Приятный плод для халифов и
развлечение для остроумцев 242
Ахмад Мади. Ибн Баджа и современное советское востоковедение . . 256
Contents 279
Научное издание
РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Ближний и Средний Восток
Редактор Л. Ш. Фридман. Младший редактор Л. В. Исаева. Художник С. Ю. Архан¬
гельский. Художественный редактор Б. Л. Резников. Технический редактор 3. С. Тепля¬
кова. Корректор .4. В. Шаноер
ИБ № 16213
Сдано в набор 29.09.89. Подписано к печати 28.02.90. Формат 60 X90Vie. Бумага типограф¬
ская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. п. л. 17,5. Уел. кр.-отт. 17,5.
Уч.-изд. л. 21,17. Тираж 5000 экз. Изд. № 6727. Заказ № 635. Цена 2 р. 60 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы. 103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
-3-я типография издательства «Наука». 107143, Москва Б-143, Открытое шоссе. 28 >