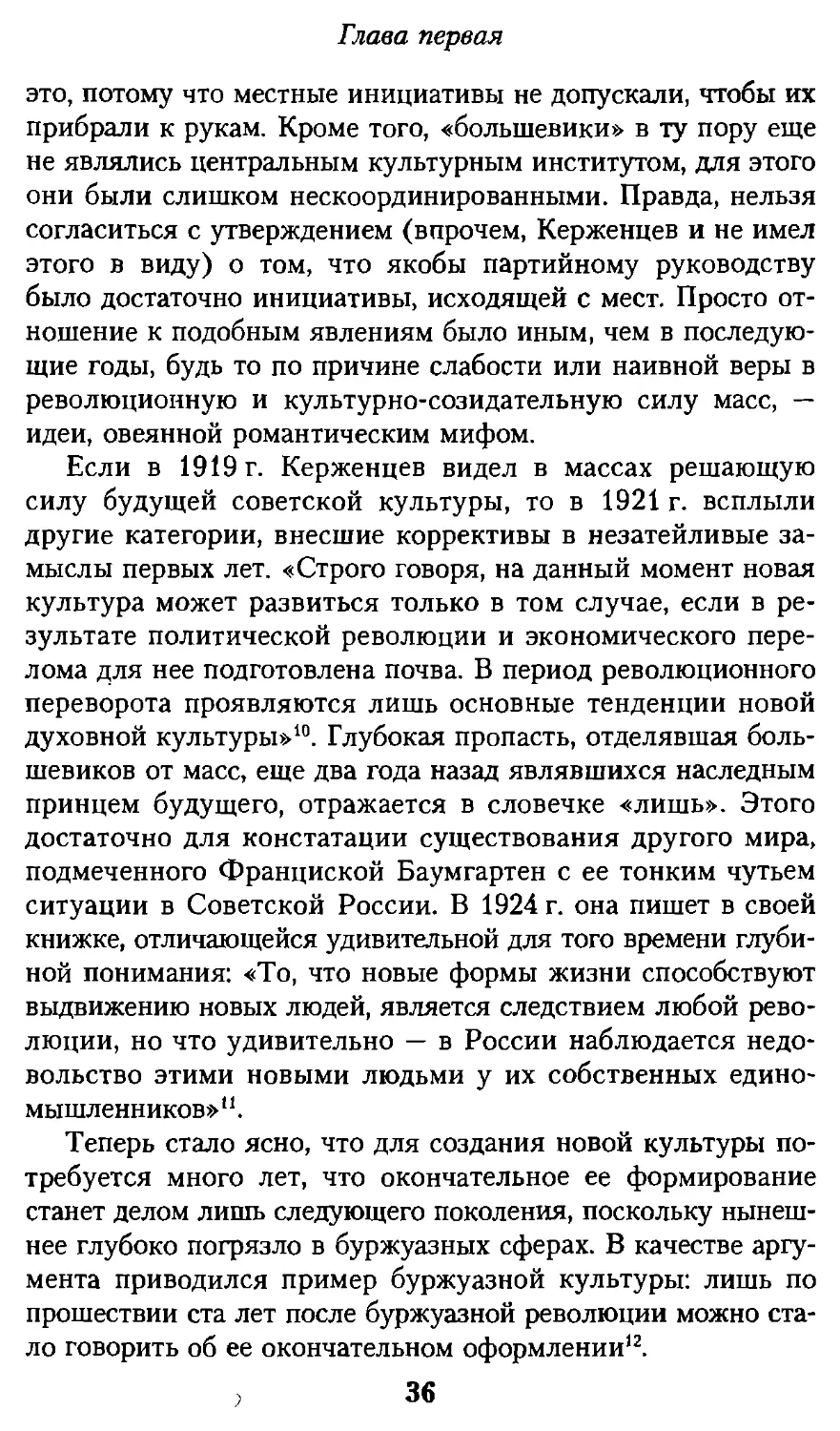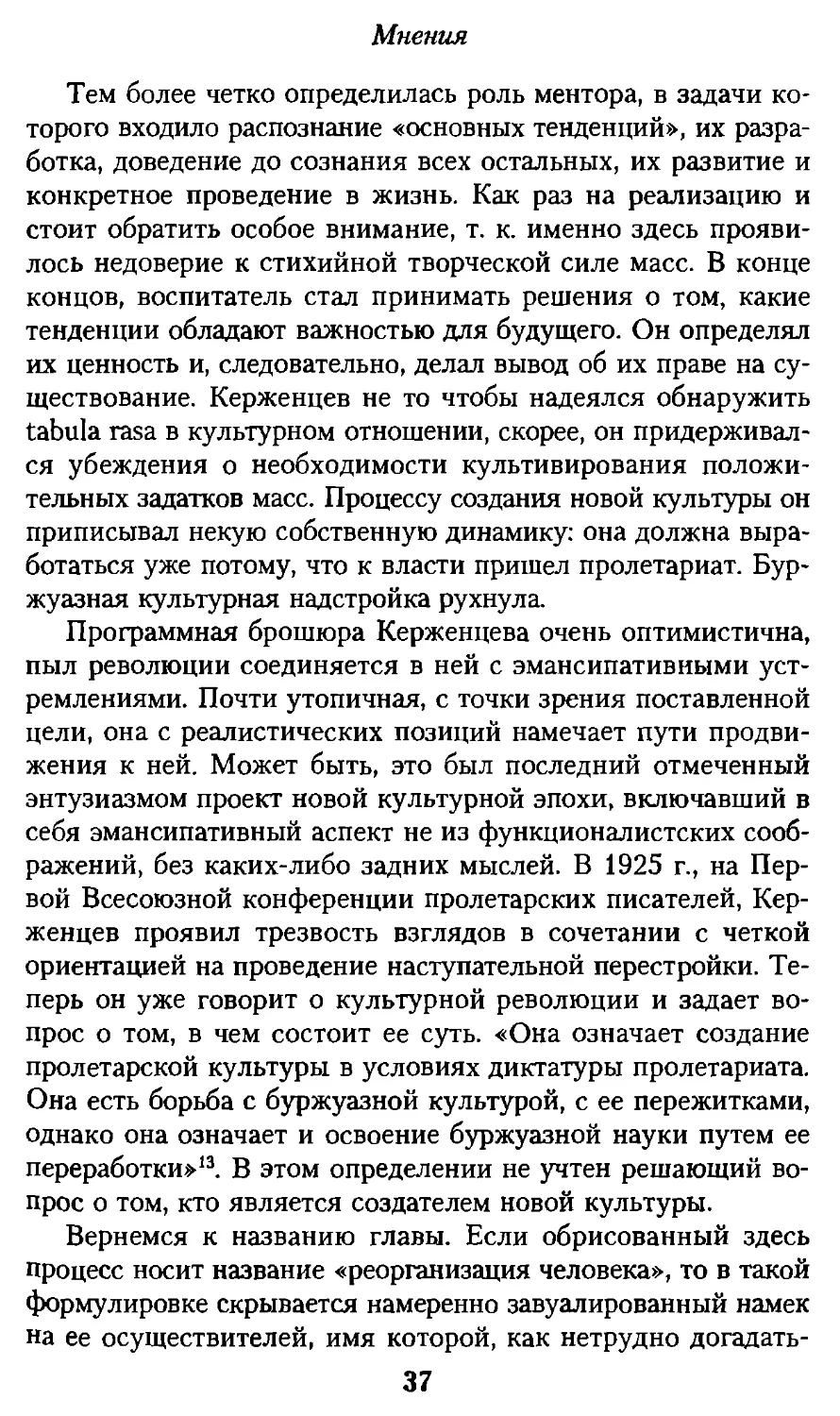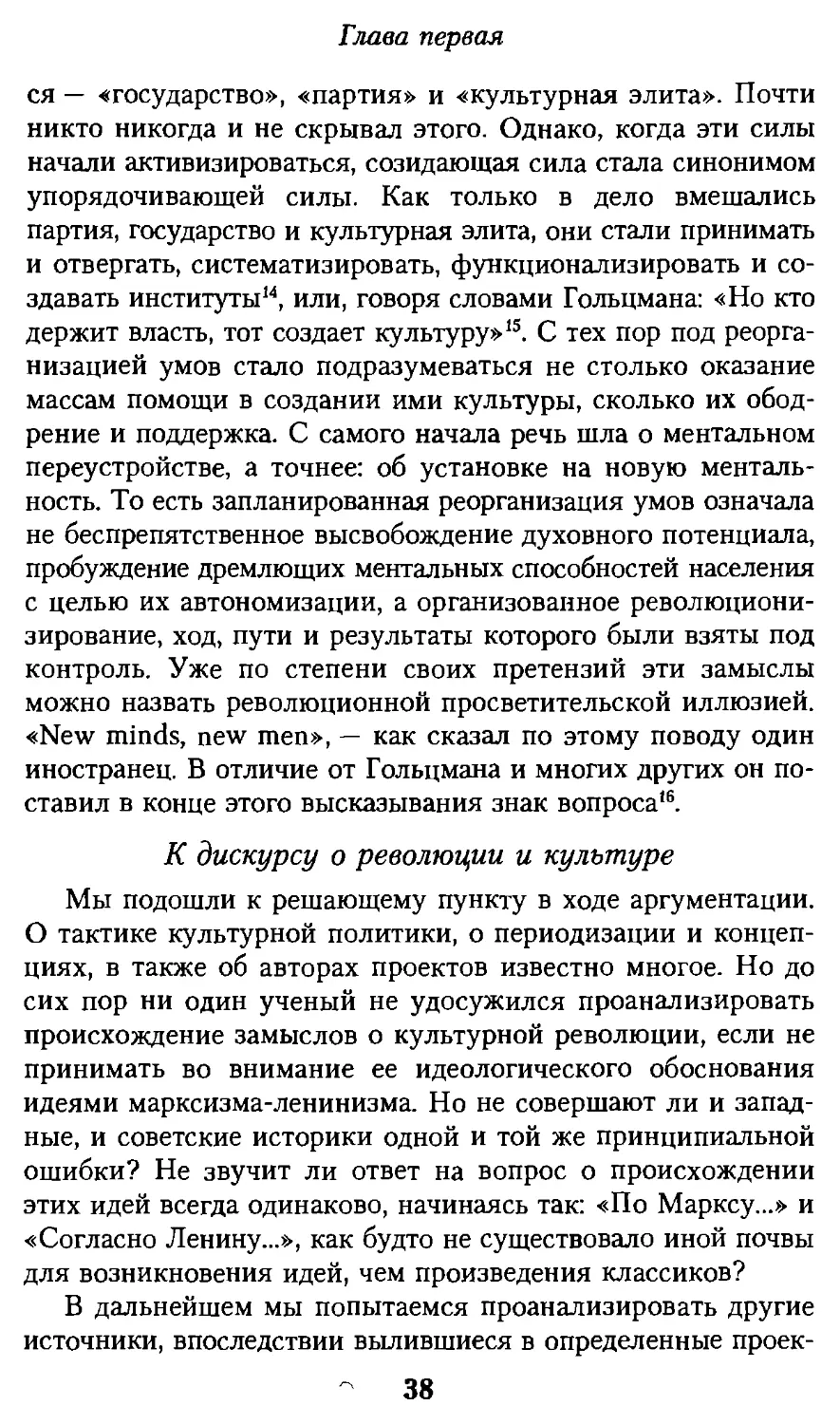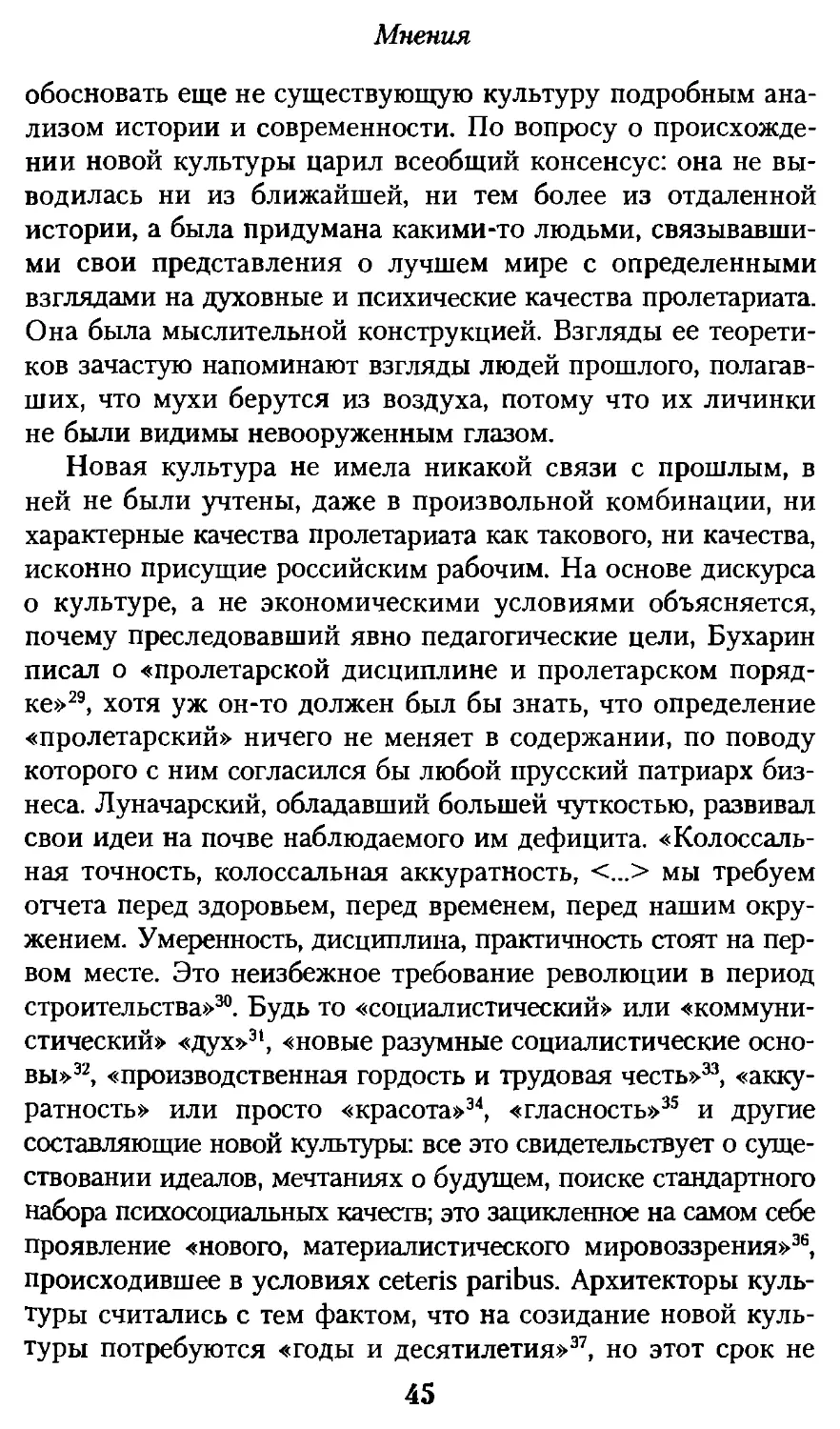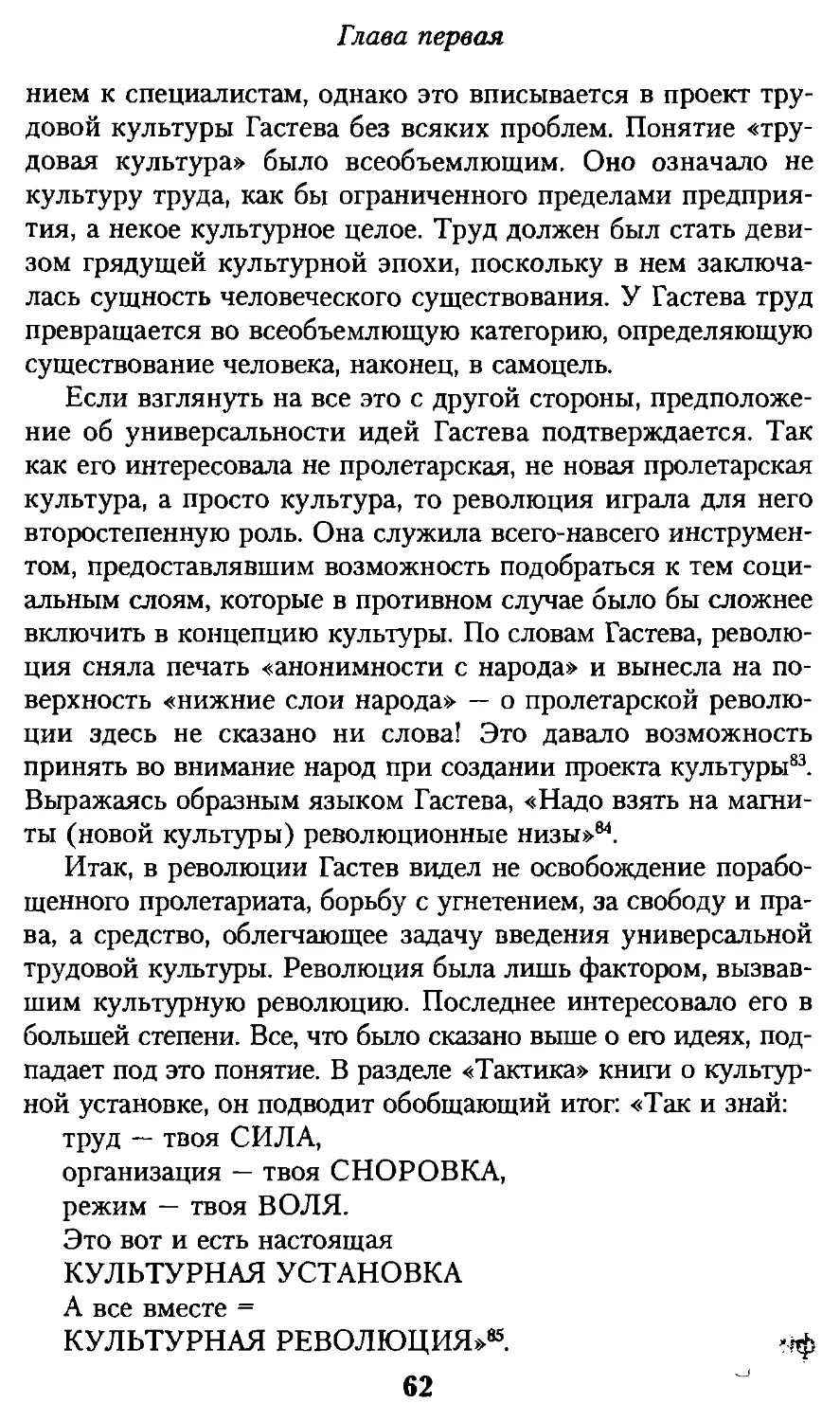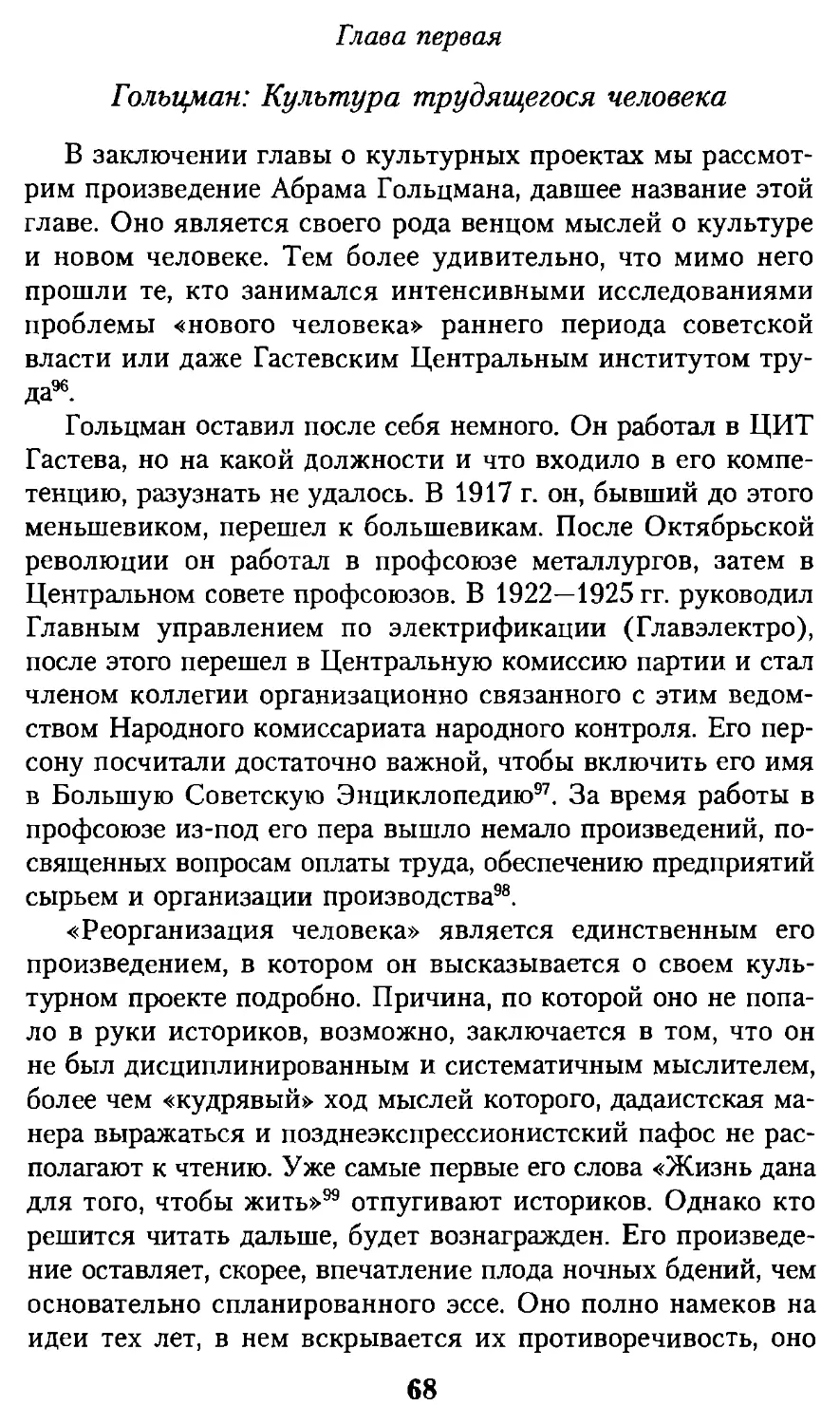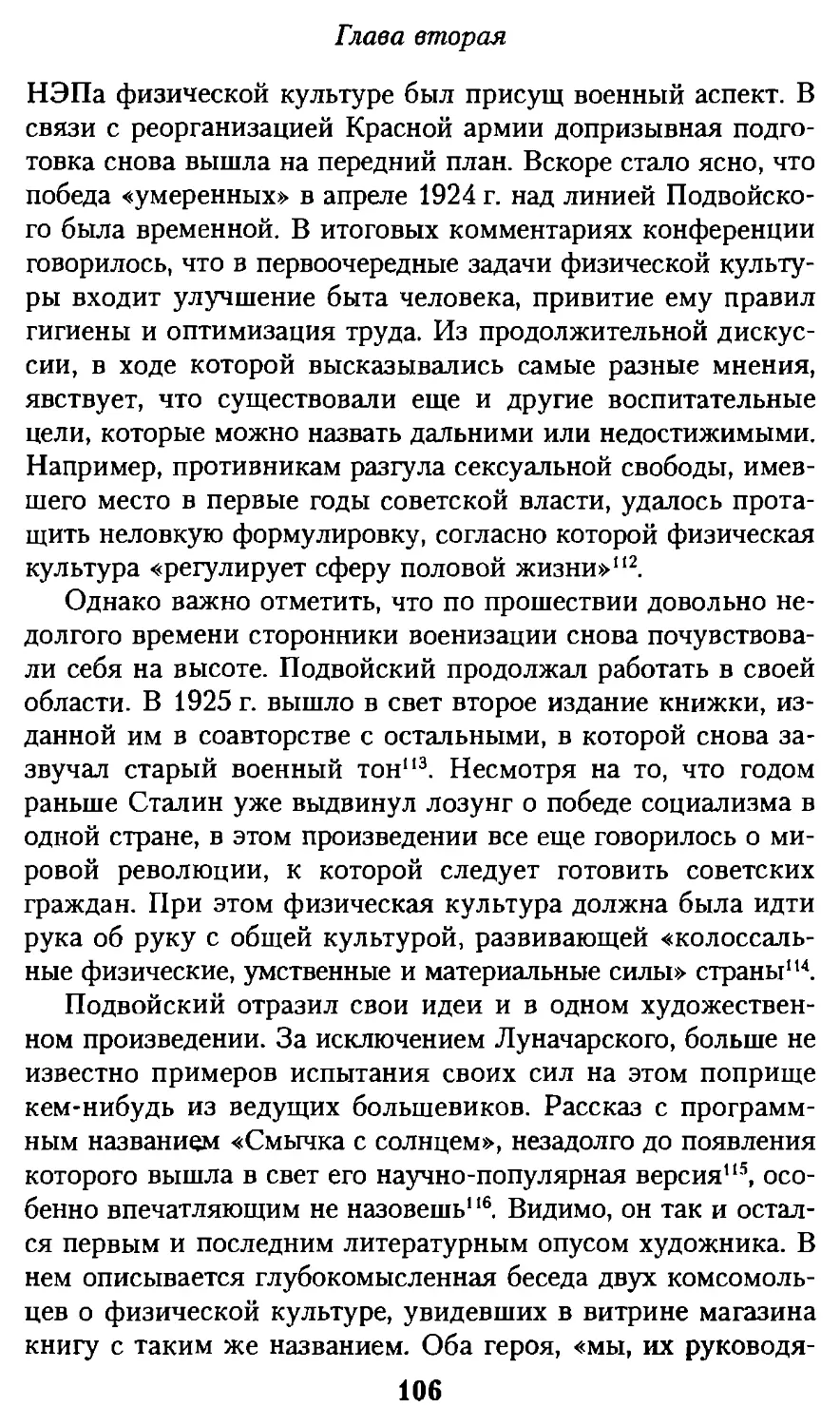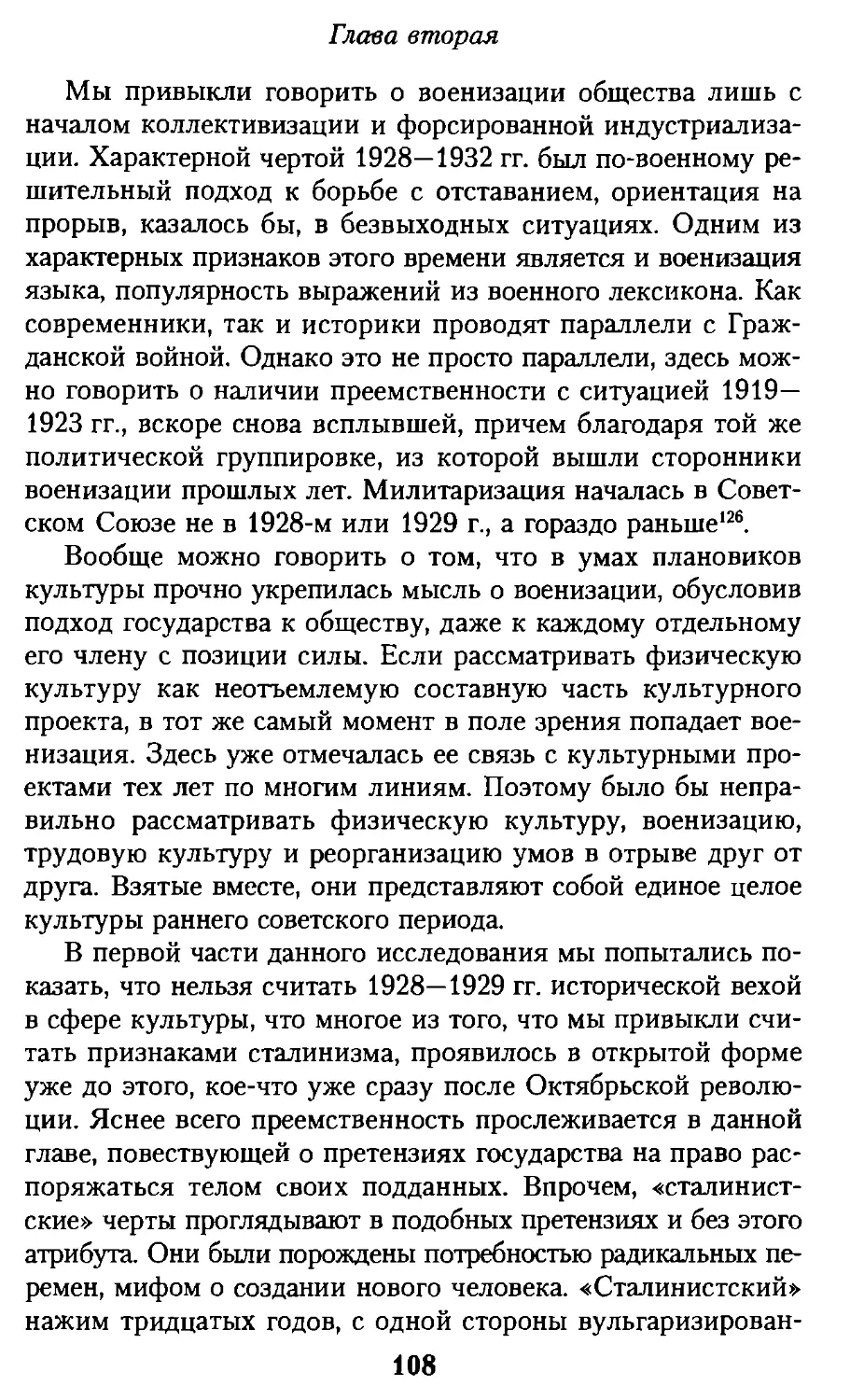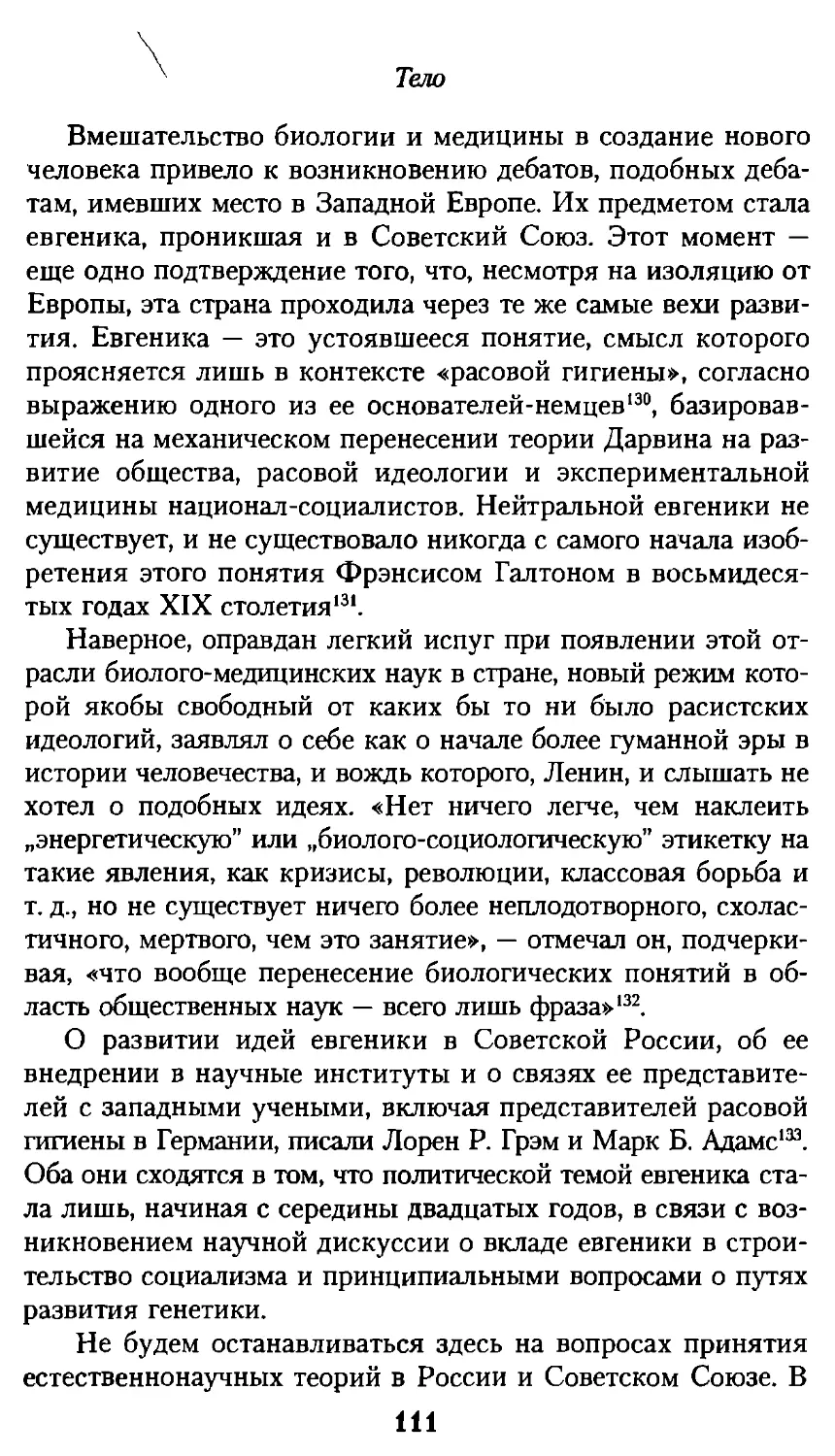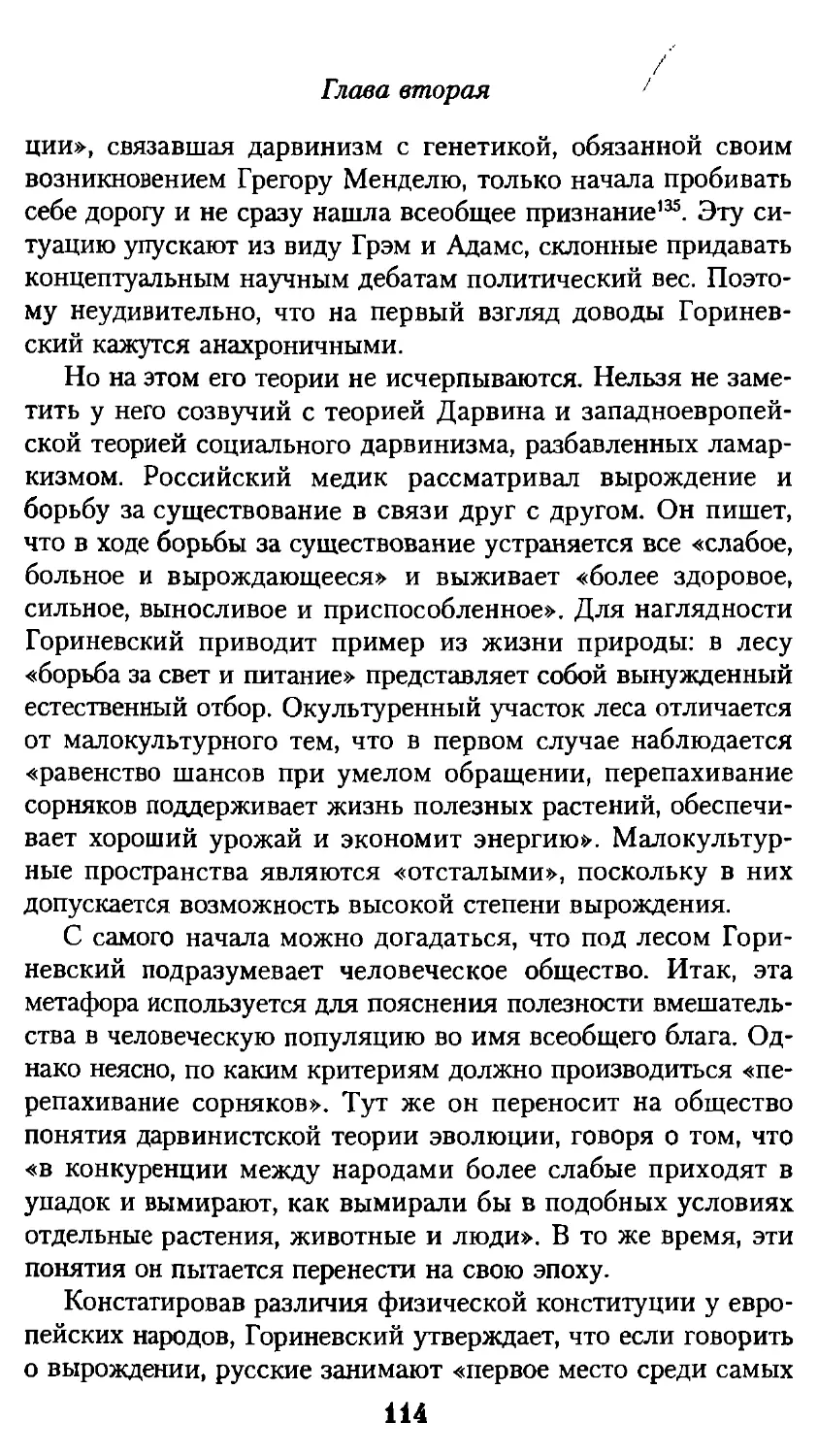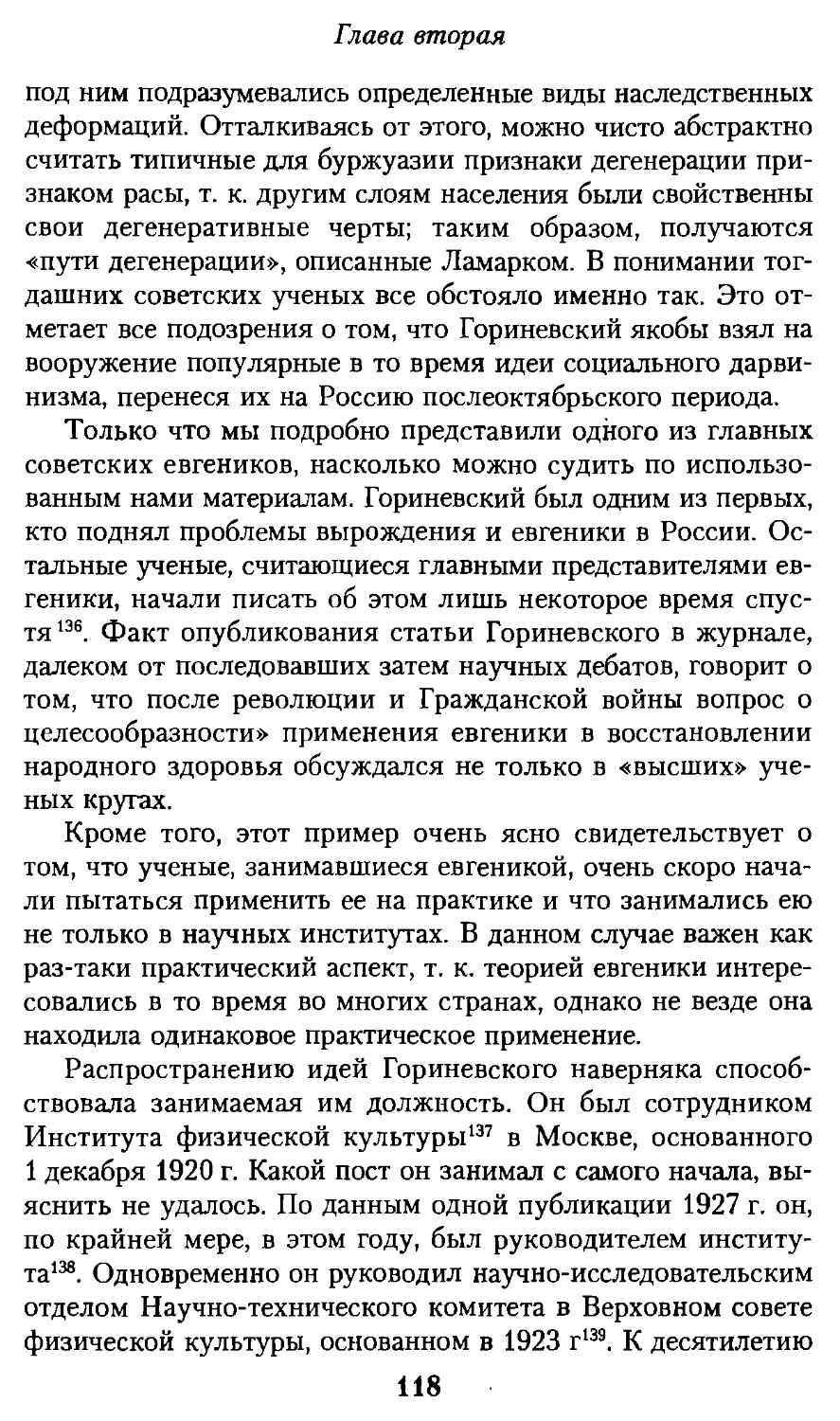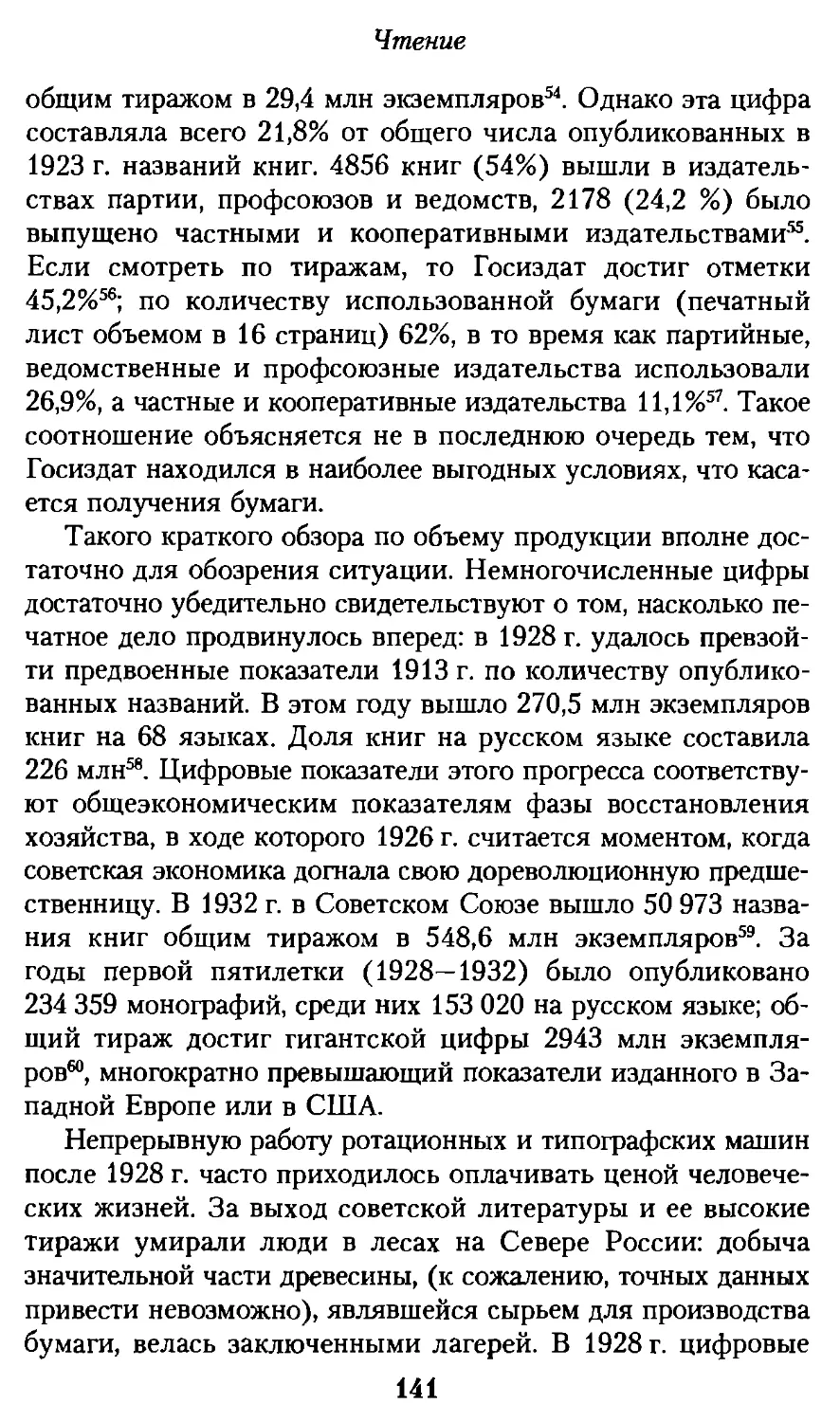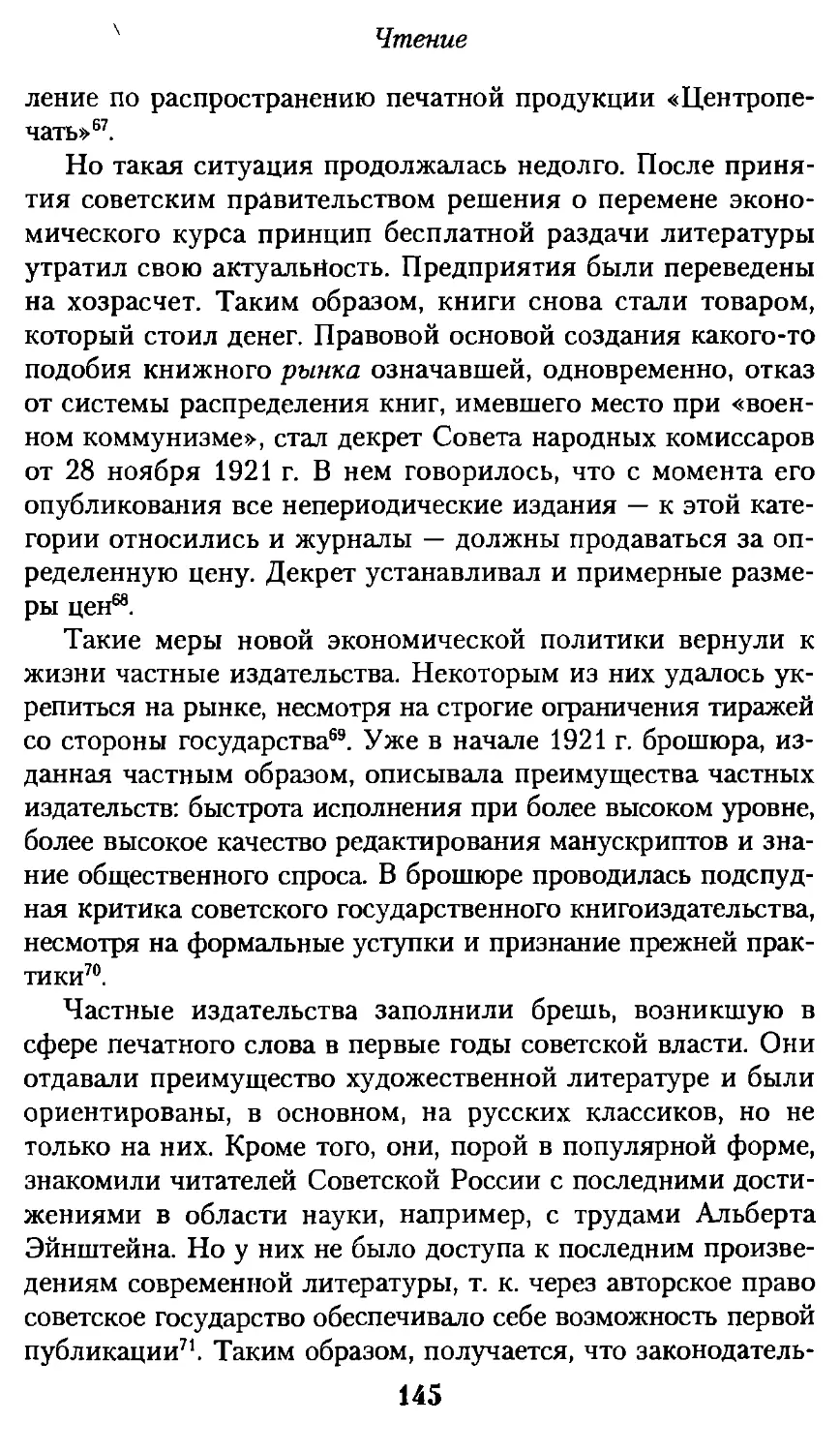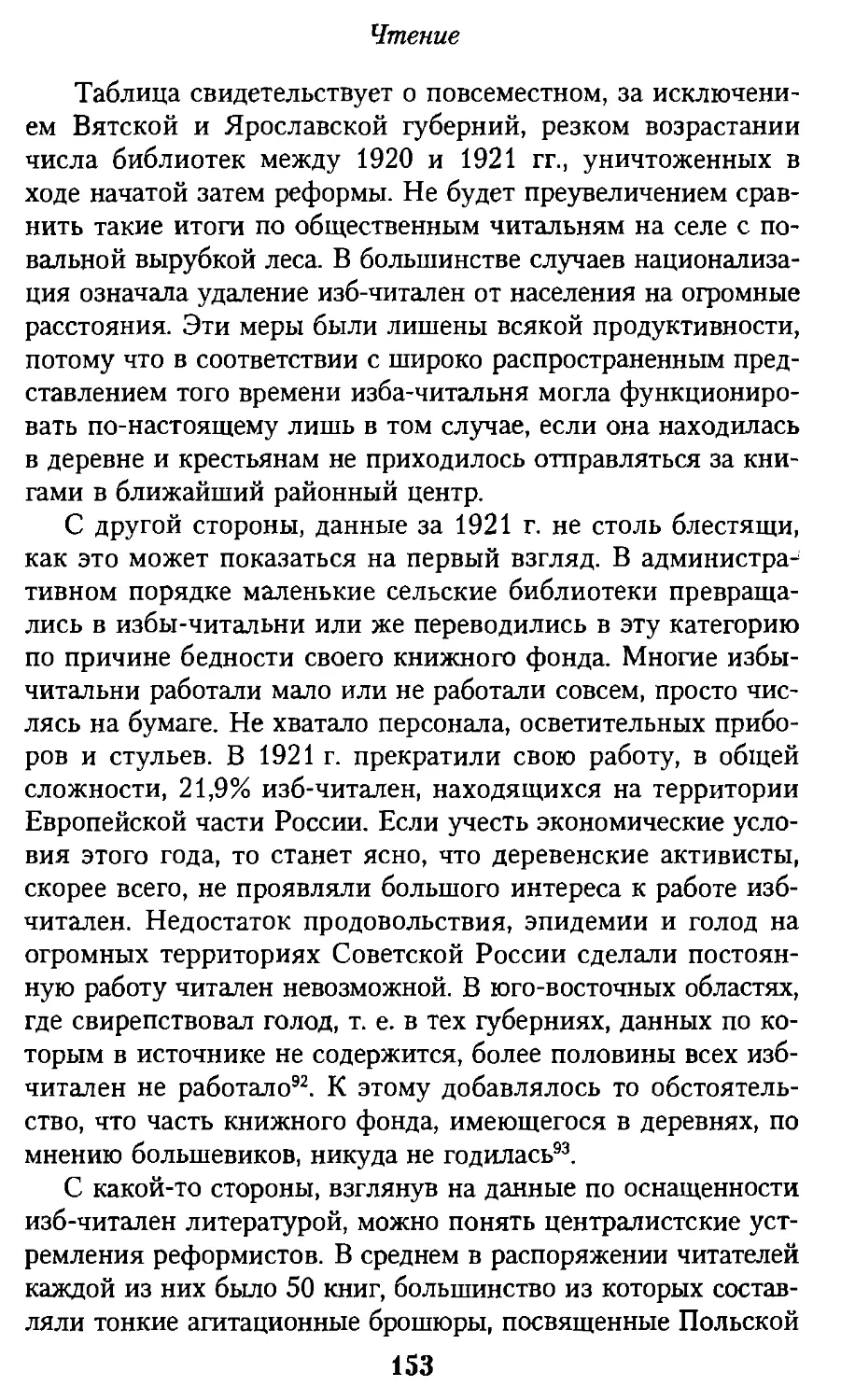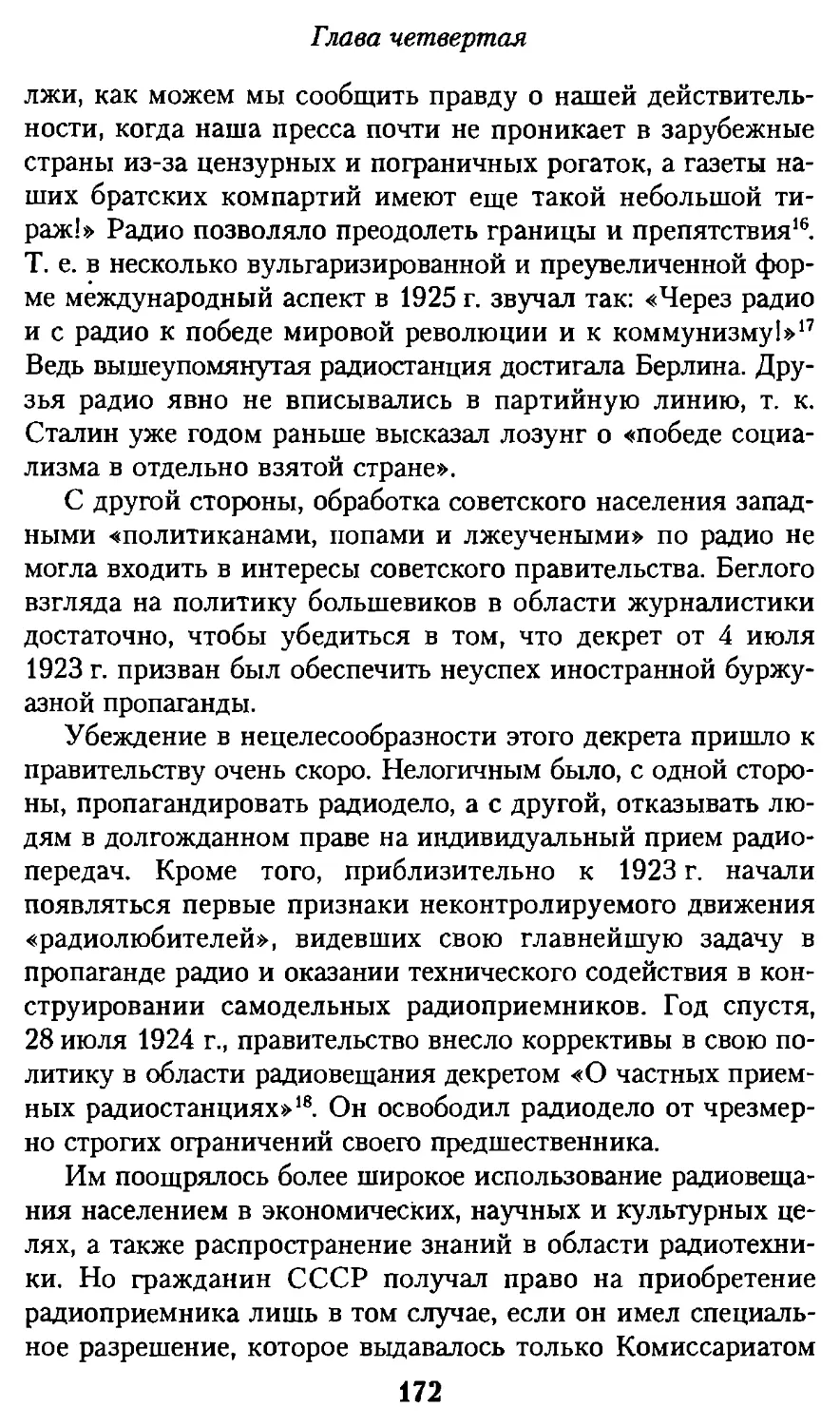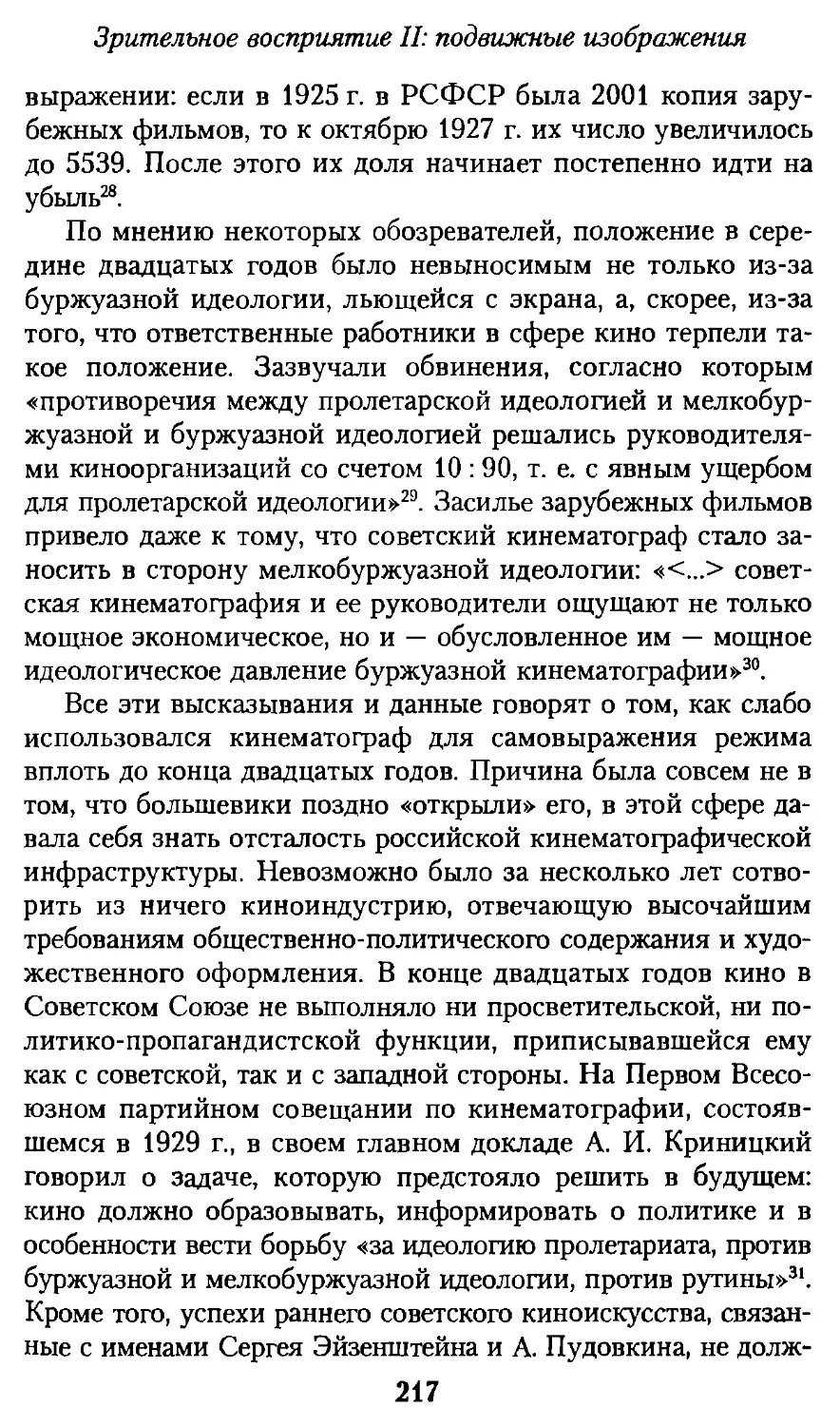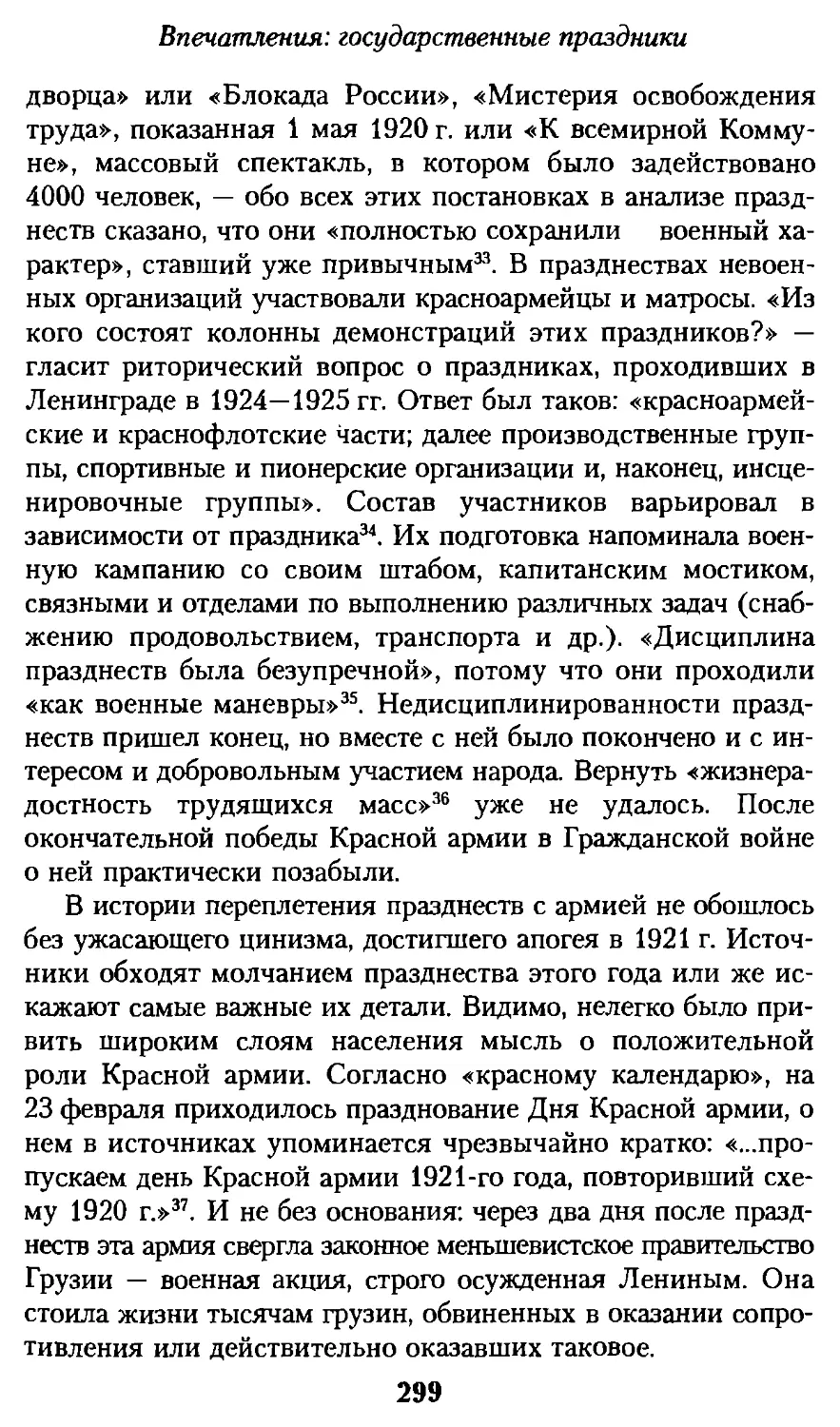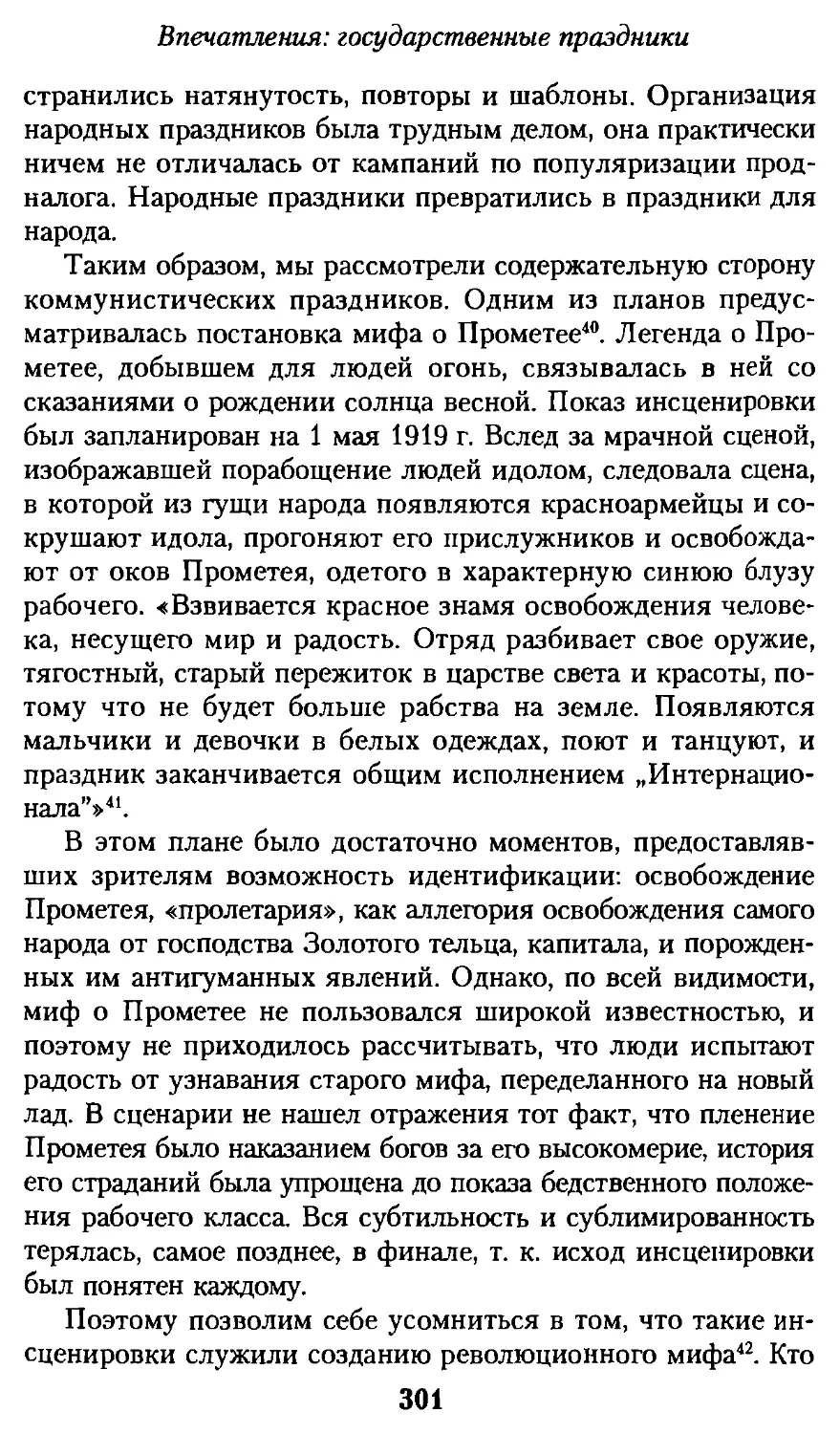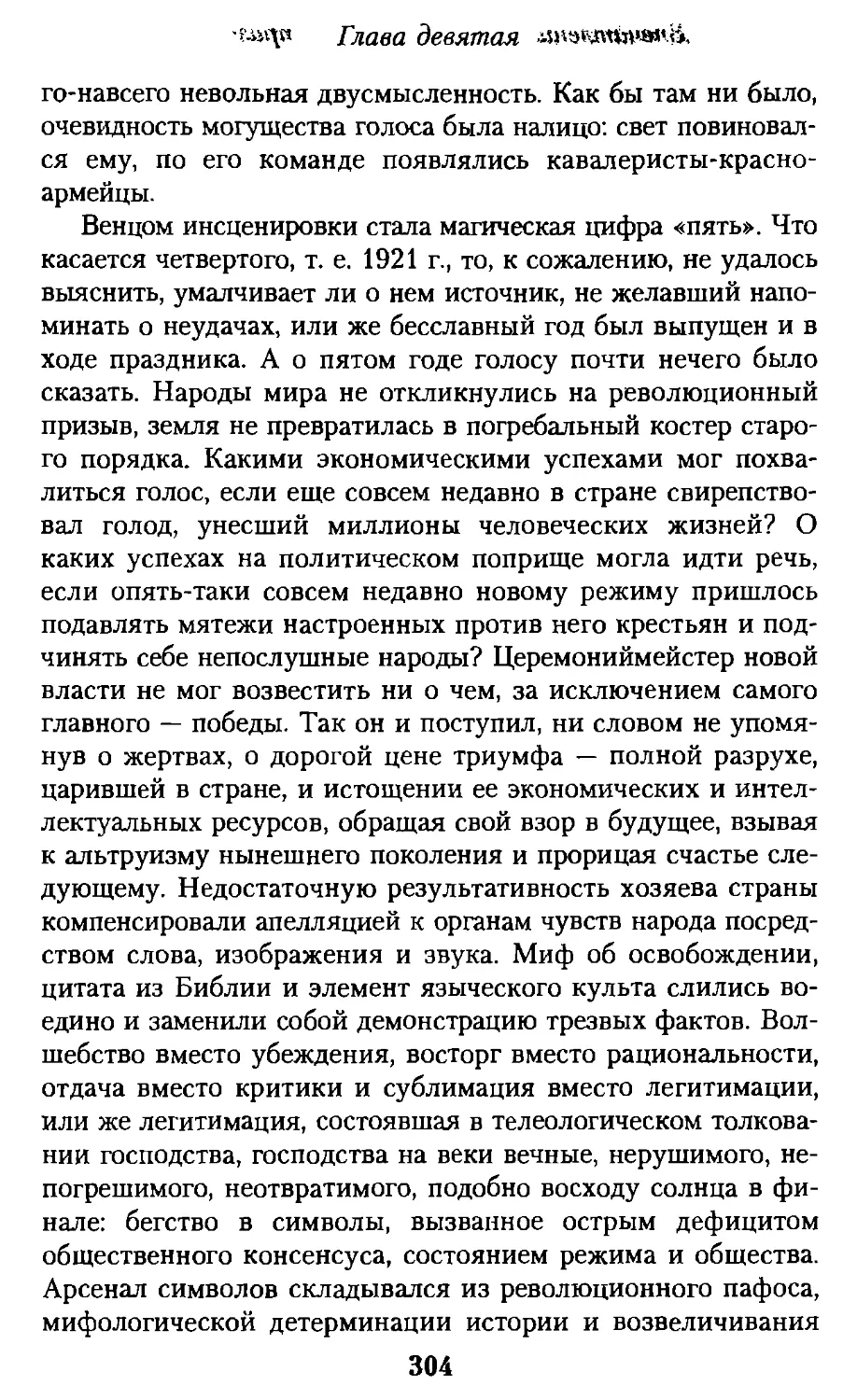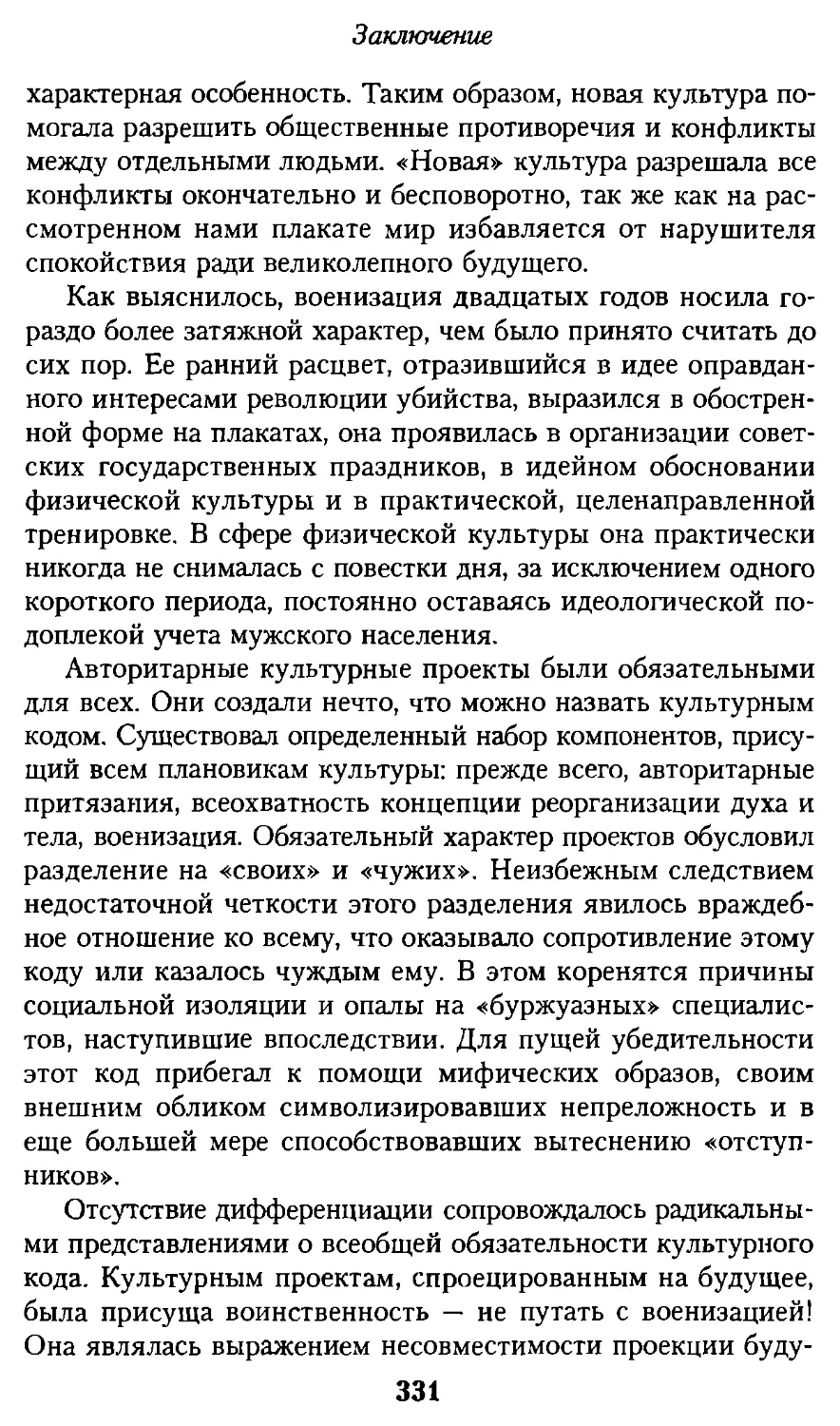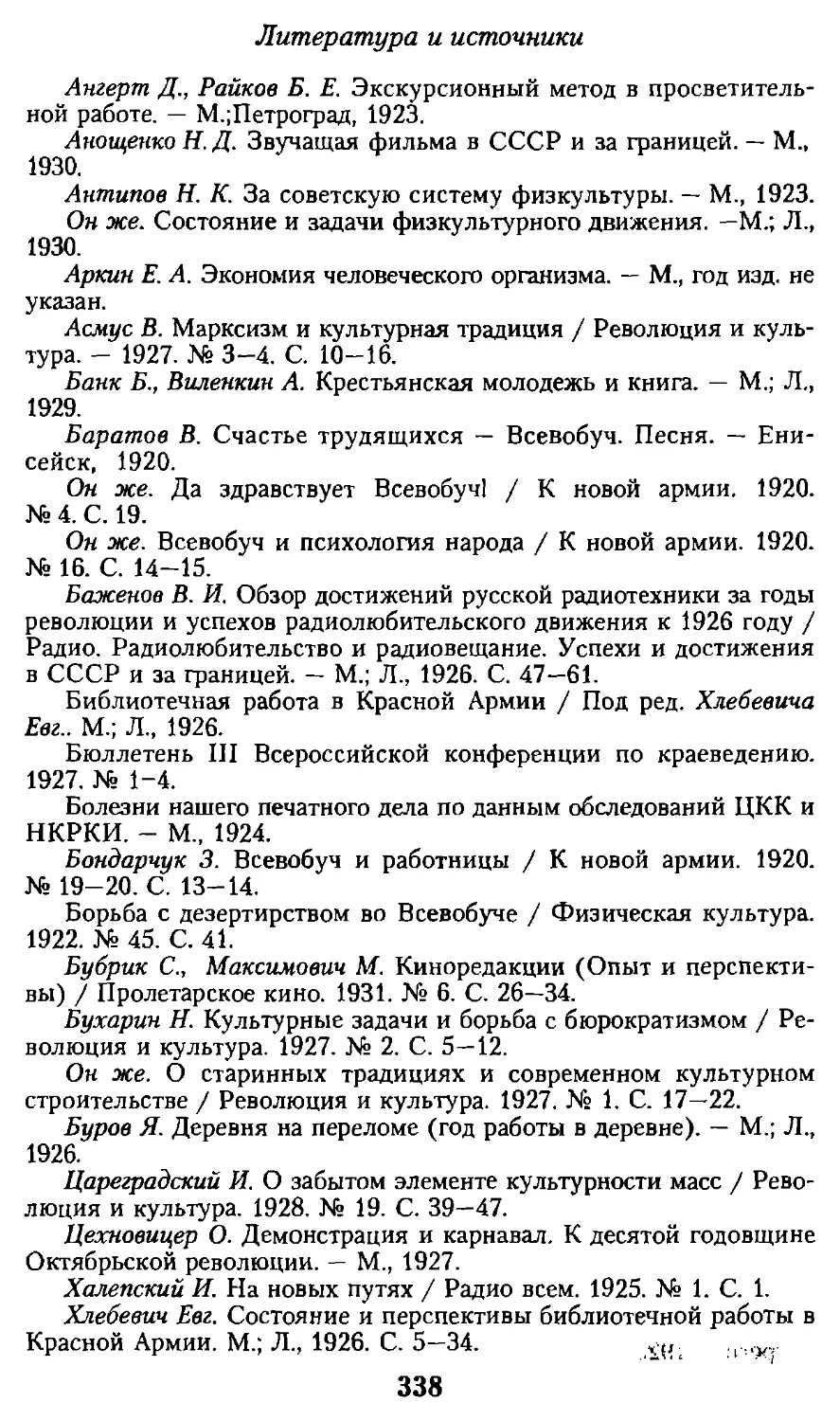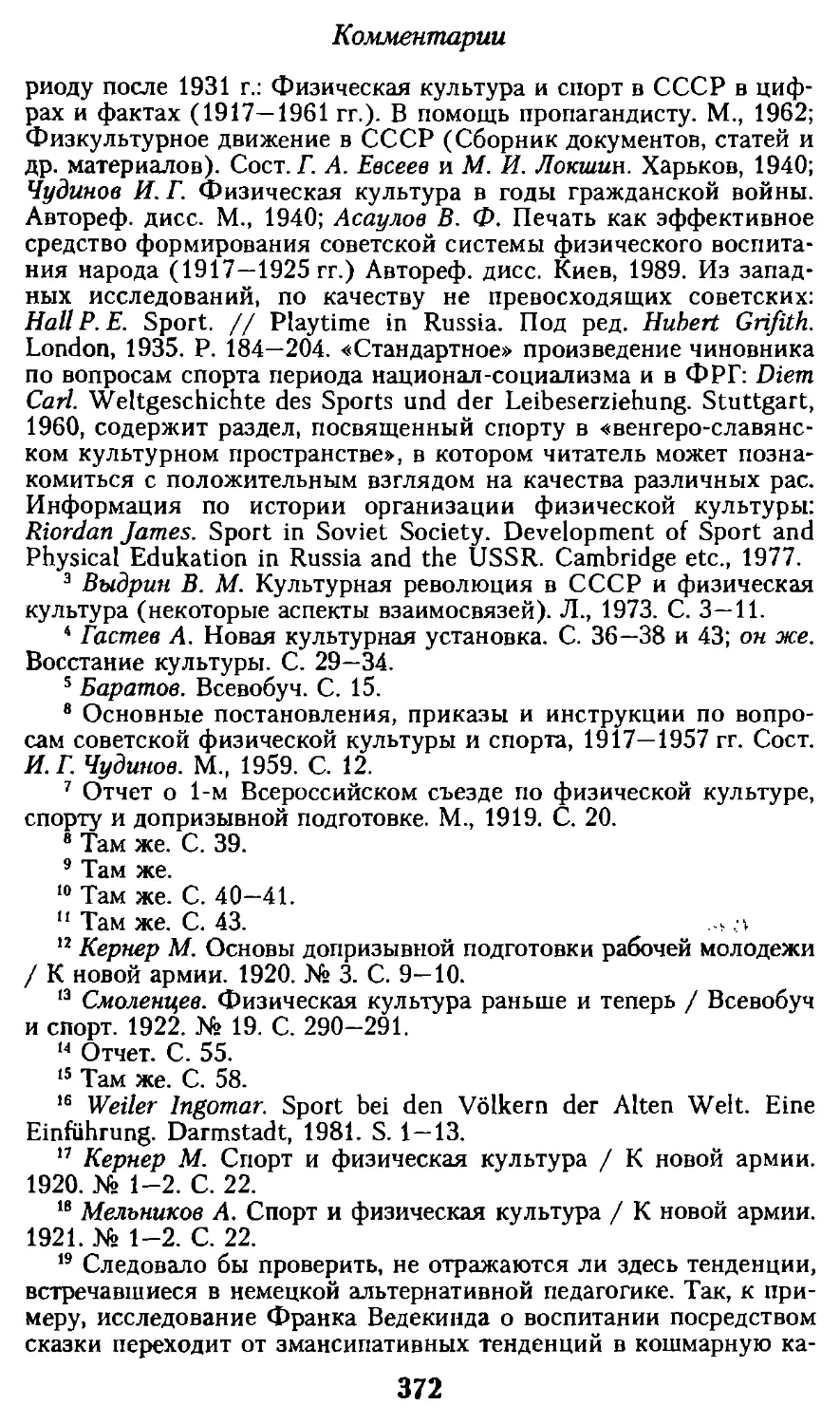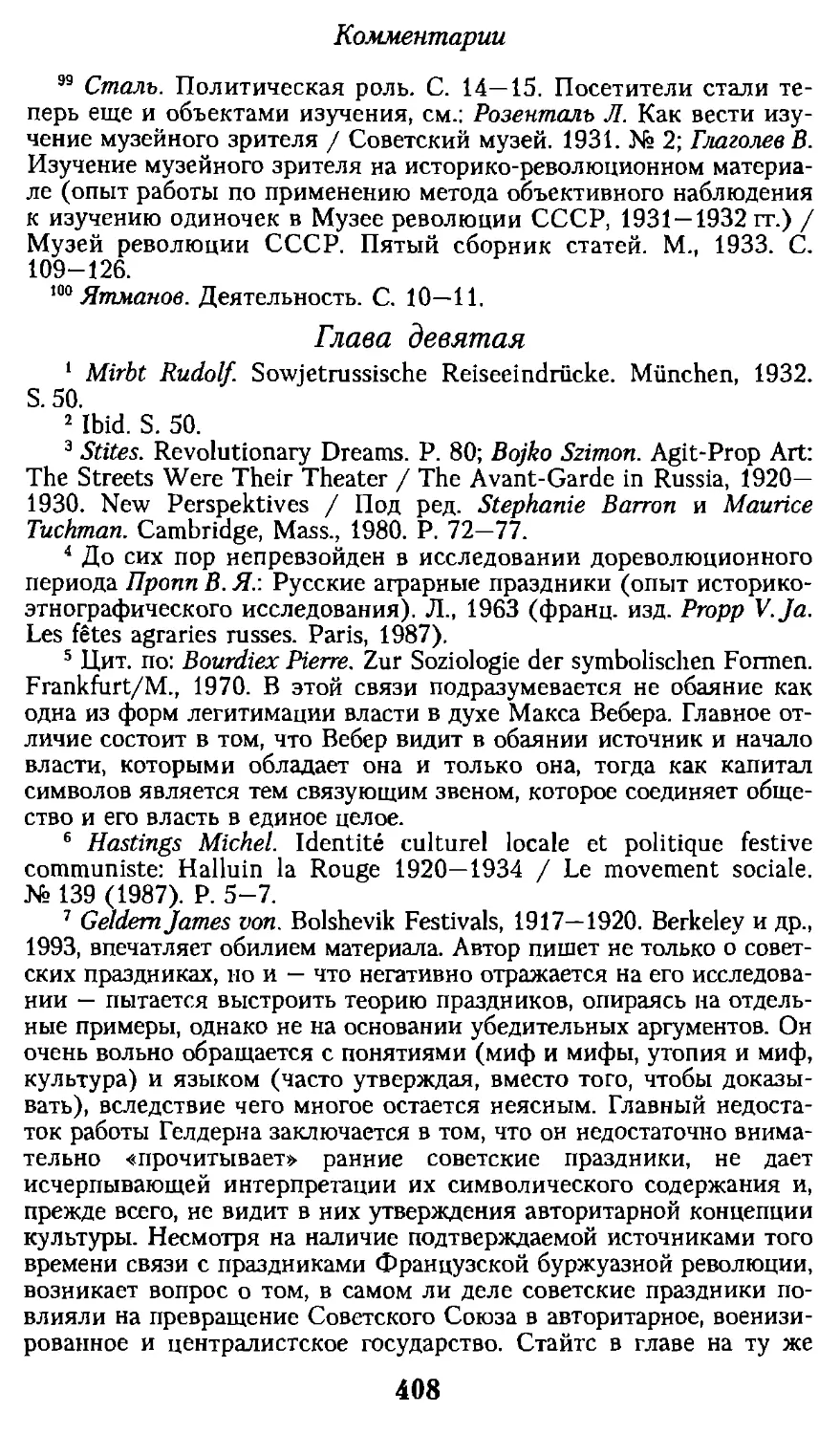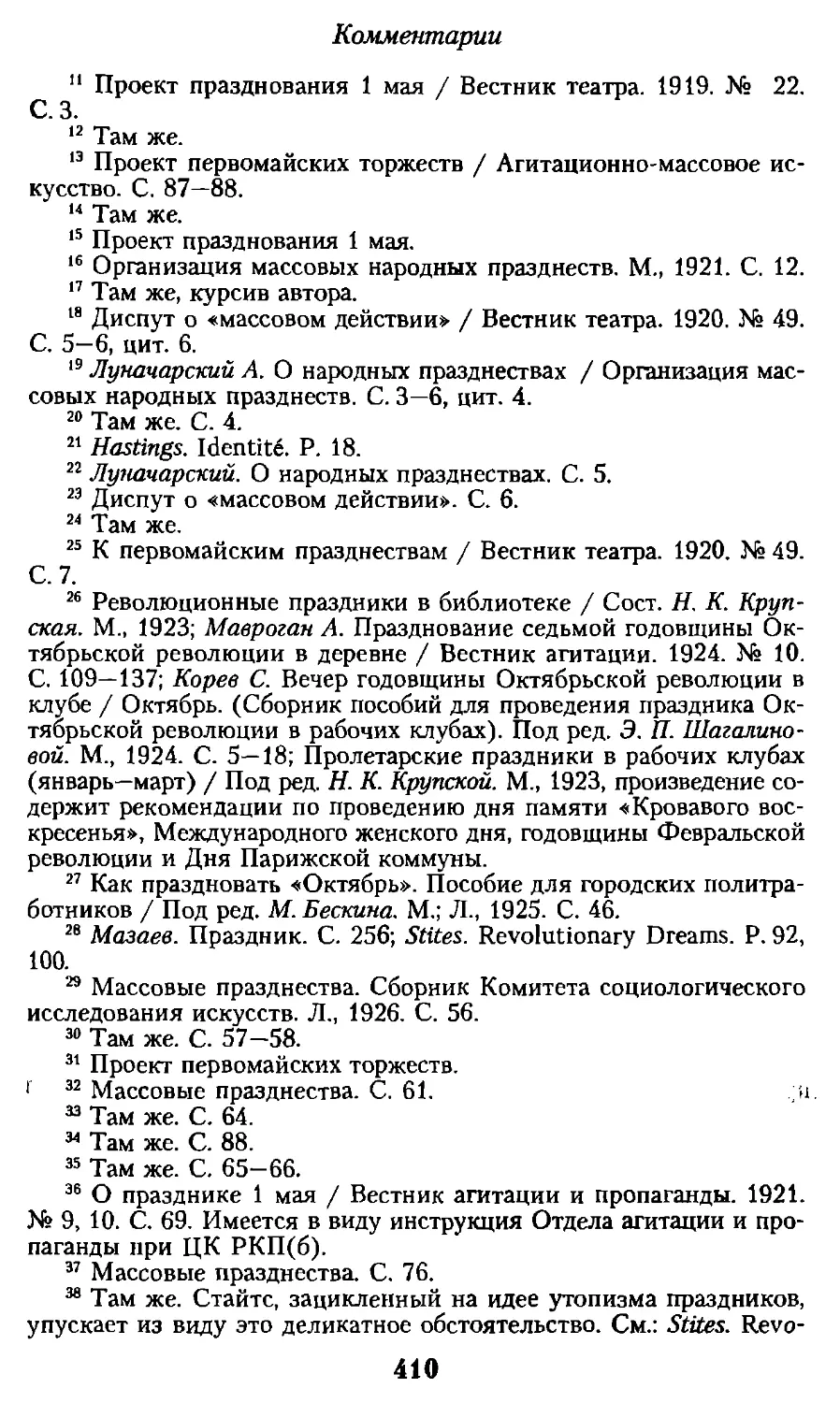Автор: Плаггенборг Ш.
Теги: история история культуры революция в россии
ISBN: 5-87516-190-6
Год: 2000
Текст
ш ш фан Плаегенборг
п ПГТТ’У.ГГТ
Л*. « дарит иршнтиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма
ЛлллмЛ Mr* мм JrrftHir
Штефан Плаггенборг
-я
и|к|у|лТь|т|у|р|а
•г п
Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма
Журнал • Нева
Санкт-Петербург
П37
Originaltitel:
Stefan Plaggenborg.
Revolutionskultur:
Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowietrussland zwischen Oktoberrevolution und Stalinsmus
Copyright 1996 by Boehlau-Verlag GmbH & Cie, Koln
П 37 Плаггенборг Шт.
Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / Пер. с нем. Ирины Карташевой. — СПб.: Журнал «Нева», 2000. — 416 с.
Предлагаемое вниманию читателя научное исследование профессора Марбургского университета Штефана Плаггенбор-га посвящено раннему периоду истории советского государства и касается, главным образом, не перемен, перевернувших экономику и политику страны, а насильственным переменам в мировоззрении, образе мышления и жизни людей. Обширный справочный аппарат, сопутствующий труду немецкого ученого, привлечет к нему внимание и вызовет интерес не только специалистов, но и широкого круга читателей.
ISBN 5-87516-190-6
© Boehlau-Verlag GmbH & Cie, 1996.
© Plaggenborg Stefan, 1996, 2000.
© Журнал «НЕВА», оформление,
,-jwsr
. -ЯСЫМ»d У -.'.«(HUA
-» W> Ol-‘W
j ЖЮИ Ш5иим%пм«' ИС. tfmohwq ohm ‘л->«№>• >»у?. MWN йрвюШ %rsbV?>
riV^Xi^’W, Ui< .r'.i'r, ;и ».ммэЬ
-MW
.1
ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
v>H5»R ИЛ-Я’..!
•u.wAonwv \i
frajsM-..л
•,TW.'.‘S V.
НЧ07. 31'
>ЮТ'
л ь.
‘.I ?ЛЯ мл!
•Л'/’'1п AiVlK)-
Данное исследование посвящено теме, наверное, не слишком увлекательной для сегодняшней России. В нем анализируется' ранний советский период и, кроме того, культура той эпохи— чтиво для ностальгиков. Публикация этой книги на русском языке связана с тем, что великая культурная трансформация послереволюционного времени все же оказала огромное влияние на жизнь современников и представляет собой тему не менее важную, чем перемены в сфере экономики и политики. В этой книге рассматриваются концепции, мировоззрения, представления о человеческом мышлении, формировании впечатлений, действиях и физическом состоянии, а также о презентации новой культуры. Найдут здесь ностальгики то, что им хочется или нет, — этот вопрос хотелось бы оставить открытым.
Русское издание отличается от оригинала в одном существенном пункте. Из издательских соображений пришлось отказаться от третьей части: «Культурные антагонизмы», посвященной проблемам секуляризации конверсии и религиозных меньшинств, а также конкурирующих форм политического атеизма. Автор счел необходимым разобрать прингщпиальный случай духовной реорганизации на примере коллизии религиозных традиций и мировоззрений с инсценированным государством атеизмом с тем, чтобы найти предпосылки культурно-исторического развития в социальной истории. Несмотря на то, что методологическая и концептуальная основа книги в данном издании подвергнута сокращению, обе переведенные
части являются самостоятельными. Однако для того, чтобы у читателя была возможность ознакомиться с основополагающей концепцией, введение не претерпело изменений за исключением немногочисленных сокращений.
Мне хотелось бы выразить свою признательность всем сотрудникам библиотек и архивов, облегчивших мою работу с августа 1991 по январь 1992 гг., благодаря любезной помощи которых состоялась эта книга.
Я глубоко признателен своим гостеприимным русским друзьям, принявшим меня в своем доме в те исторические недели. Им я хотел бы посвятить эту книгу.
Марбург, декабрь 1999 г.
Штефан Плаггенборг
,'Ь
ВВЕДЕНИЕ
Октябрьская революция ознаменовала собой начало новой эпохи. Победа большевиков означала приход к власти не просто какого-то активного меньшинства — это была политическая группировка, представлявшая самые радикальные позиции в российском и европейском социалистическом лагере. Революционеры заявляли о себе, как о строителях нового, прежде всего более совершенного мира. Они утверждали, что сделают его более справедливым, обеспечат всеобщее благосостояние и поведут людей из кровавых передряг Мировой войны в мирное, свободное и счастливое будущее. С прошлым они намеревались покончить так же решительно, как Ленин на том знаменитом плакате, где он очищает землю от «нечисти».
Так в России началась эра великих, беспримерных перемен1. Она положила начало коренным изменениям XX века. Новизна стала качеством особого рода: появились новая общественная элита, новый экономический порядок, был «обновлен» и марксизм, идеи которого перевернули с ног на голову, поскольку пролетарской революции не предшествовала капиталистическая фаза, были введены новые правила правописания, новый календарь, возникли новые учреждения. Началась перестройка почти всех сфер, хотя уже в самом начале стало ясно, что вместо экспериментального строительства новым представителям власти предстоит решать задачи по поддержанию элементарных условий жизни. Им пришлось заниматься не дележом материальных благ, а думать о снаб
жении людей хлебом. Справедливость вначале также предназначалась не для всех. С миром, не говоря уже о миролюбивой политике, тоже ничего пока не получалось. Однако в основе этой трансформации лежала всеобъемлющая концепция, т. к. в ней не осталось не учтенным ничто. Она касалась мира вещей, потому что от переустройства экономики, государства, общества, быта ожидалось достижение желаемых перемен. Концепция перемен затрагивала, в том числе, и людей, причем изменения здесь планировалось осуществлять не только посредством внешних факторов, но и путем применения «рукоприкладства» к их внутреннему миру и даже к телесной организации.
Это и есть отправной пункт данного исследования. Конечно, невозможно было одним разом изменить работу организаций, учреждений и инстанций в связи с иными целевыми установками. Но можно ли не учитывать существования одной стороны в истории метаний первых лет советской власти, от которой самым решительным образом зависел успех или неуспех начинаний? Могли ли революционеры быть уверены в успехе своей политики, понимая, что сколько бы они ни организовывали им постоянно приходилось сталкиваться с препятствиями, коль скоро дело касалось людей? Переделать какое-либо предприятие в социалистическое, даже национализировать все народное хозяйство было несравненно легче, чем «перестроить» людей в соответствии со своими целями. Например, в результате принятия декрета о национализации типографий перестали выходить «буржуазные» газеты, типографские прессы стали печатать исключительно то, что хотели революционеры. Однако слова всех декретов об образовании, касающиеся воздействия на людей, нельзя назвать иначе.
Темой данного исследования является культура раннего периода советской власти. Первая часть посвящена изложению представлений о человеке и попыткам его реорганизации с учетом того, что на культуру послереволюционного периода оказала влияние не только большевистская идеология, — существовало множество проектов, содержащих идеи о культуре будущего и о месте в ней человека. Кто занимался размышлениями на эту тему? Какое место отводи
лось культуре, и, прежде всего, человеку в проектах тех лет, посвященных его духовной, психической и — даже — физической организации? Оговоримся с самого начала: следующие главы посвящены не столько советским людях вообще, сколько тем, кто говорил и писал о них.
Имя Ленина упоминается в данном труде крайне редко, и не без основания. В написанных до сих пор научных исследованиях Ленин предстает этаким сверхчеловеком, принимавшим даже самые незначительные решения по всем сферам вплоть до мельчайших деталей, проявляя при этом такую дотошность, такое упорство, что все остальные кажутся рядом с ним тенью самих себя2. Здесь Ленин опускается намеренно, поскольку, в противном случае, это увело бы на традиционную, изъезженную дорогу. Вместо этого данная работа пытается вскрыть коллективный настрой большевиков и их сподвижников: как они подходили к решению проблемы, связанной с началом культурной революции лишь по прошествии некоторого времени после революции социальной?
Пытаясь придать реорганизации человека всеобъемлющий характер, они прибегали к помощи всех средств, бывших в их распоряжении. Этому посвящена вторая часть. Из многочисленных описаний известно, как большевики начали использовать инструменты воспитания населения. Среди народа распространялись газеты, пропагандистские материалы, повсюду вывешивались плакаты, было введено обязательное школьное образование, обучение было пронизано идеологией. Однако не так называемый «третий фронт» большевиков, т. е. система образования в обычном смысле слова, является главной темой данного исследования. По этому вопросу уже было написано немало работ. Одного описания мер, предпринятых режимом в области образования, недостаточно для углубленного проникновения в проблемы послереволюционной плановой культуры в целом. В связи с понятием культуры, разъяснение которого будет дано позже, возникает вопрос о том, как революционеры распространяли свои идеи среди населения, в частности, среди женщин, что было сложнее в силу еще более высокого уровня неграмотности среди них, чем среди мужчин. Ведь донести до народа свои идеи означало
для них, прежде всего, показать себя революционерами, олицетворением революции и новаторами. В этих целях использовались классические средства образования, но ими не исчерпывается репертуар средств самовыражения нового режима. Поэтому центральным вопросом в этой связи является вопрос об использовании и трансформации уже имевшихся средств информации и о соображениях, исходя из которых создавались новые. В этом нашли свое отражение не только воспитательные задачи, но также и то, что можно назвать символизацией и наглядной демонстрацией режима. С помощью подчиненных ему средств информации он заявляет о своем существовании на культурном уровне.
Таким образом, используемые средства выполняли двойную функцию: традиционная передача информации вообще, а также донесение ее до конкретных адресатов. Будучи средством самовыражения нового режима, они проливают свет на власть, стоящую за ними. Они являлись рупорами нового, инструментами построения новой культуры и одновременно ее важной составной частью. Поэтому не проглядывает ли в них, кроме традиционных функций, собственная культурная логика? Наряду с представлениями, планами, проектами, посвященными новой культуре и новому человеку, средства информации самого различного характера, использовавшиеся архитекторами культуры, отражали их дух. Если рассматривать средства информации как символ нового, то и их форма, и содержание позволяют сделать выводы о культурном проекте.
Такие рассуждения подводят к вопросу о масштабах и глубине культурных преобразований. Несколькими строками выше уже упоминалось о всеохватности преобразовательной концепции. Хотелось бы подчеркнуть слово «концепция», дабы не создавать впечатления ее полного успеха. В этой связи возникают вопросы о взгляде на мир, смысле жизни, убеждениях, мышлении, ценностях и поведении, предлагавшихся реципиентам новой культуры для ориентации в новой обстановке. В какой степени эти предложения претендовали на воплощение и признание? Существовала ли у масс возможность выбора или же плановики культуры играли роль
авторитарных перевоспитателей? Революционная, наступательная, синтетическая культура, схематически представлявшая собой альтернативу культуре традиционной, формировавшейся в течение долгих лет, не только образовывала, давала политическое руководство к действию, воспитывала в духе нового режима, но и была направлена на формирование коллективных воспоминаний. «Создать» новую культуру означало, одновременно, создать воспоминания. Не скрывается ли за этим попытки пересмотра прошлого или манипуляции им в целях подгонки воспоминаний каждого конкретного человека о прошедшей политической эпохе под заданные коллективные воспоминания? Что предпринимали новые представители власти для того, чтобы взять под контроль даже воспоминания?
Взятые в комплексе, «культурные проекты», показанный в них идеал человека, и самые разные сферы культурной практики создают неоднородный ансамбль, характеризующийся разнообразием самых разных представлений и замыслов. Но при всей многоплановости никогда нельзя упускать из виду комплексность революционной культуры, а также тот факт, что она была своего рода связующей нитью, соединявшей человека с существующим режимом. Такая история культуры представляет собой в то же время и историю отношений социальных групп, а, тем самым, и историю власти, даже если этот вопрос и не является центральным.
Взятая в таком разрезе, история революционной культуры дает, кроме того, возможность взглянуть на фрагмент истории российской интеллигенции, как мы увидим, не только революционной, хотя именно ее представители являются авторами большинства анализируемых здесь культурных проектов и представлений об идеале человека. О «своих» людях писали или размышляли вслух интеллигенты, считавшие себя агентами новых моделей культуры. Анализ их мыслей позволяет проникнуть в сущность отношений между интеллигенцией и народом, складывавшихся, — оговоримся заранее — как правило, не в пользу интеллигенции. Поэтому неразрывно связанный с концепцией всеобщей перестройки, не лежащий на поверхности, но возникающий постоянно вопрос о власти
и господстве встает в двояком смысле: вопрос господства интеллигенции над остальным населением и, в первой части книги, вопрос господства мужских представлений о женщине. В истории описываемой здесь культуры живет своеобразное противоречие, заключающееся в том, что самостоятельно мыслящая интеллигенция узурпирует культуру остальных и не допускает свободы в мышлении и жизни, присутствие которой является условием ее собственной творческой активности3.
Наконец, речь пойдет о фрагменте истории так называемого прогресса, якобы начинающего свое победоносное шествие со свершением революции и ради которого предпринимается великая трансформация. Он будет показан как источник вдохновения для фантазии плановиков культуры, правда, зачастую выливавшейся скорее в фантасмагорию, нежели в реально осуществимые проекты.
Вопрос о том, можно ли считать конец двадцатых годов исторической вехой, актуален, конечно же, не только для социальной истории, но и для истории революционной культуры. Можно ли заниматься исследованиями двадцатых годов, забывая, что на смену им пришел сталинский режим? Конечно же, нет, но данный труд видит свою первоочередную цель не в показе культурной «прелюдии» — говоря словами из названия книги Роджера Петибриджа4, — тех явлений, которые мы привыкли обозначать словом «сталинизм». В дальнейшем мы не станем выравнивать металлические опилки культурного развития магнитом грядущего сталинизма из опасений, что это может повлечь за собой искаженный взгляд на присущее источникам качество говорить самим за себя. «Сталинистских» проектов культуры не существовало, не являются исключением и те из них, авторство которых принадлежит бывшим царским чиновникам, перешедшим на службу к большевикам или просто оставшимся в должности. Мне хотелось бы показать планы культурного переустройства, появившиеся после Октябрьской революции, а также осветить культурную практику тех лет, в частности, те моменты, которые по каким-либо причинам не удалось воплотить в жизнь.
Но как быть с тем фактом, что на смену описываемому здесь периоду пришел сталинизм? Можно ли говорить о наличии между ними преемственности? Представляется необходимым соблюдать осторожность в аргументации, т. к., прежде чем говорить о сталинизме как логическом продолжении каждого документального источника, следует вначале вскрыть их собственную внутреннюю логику. Осторожность следует соблюдать и по совсем иной причине. Прежде чем говорить, какие черты источников являются сталинистскими, необходимо обрисовать культурное лицо сталинизма более четко, иначе нам угрожает опасность произвольной интерпретации постулатов преемственности, скорее затрудняющей понимание, нежели проясняющей картину. До сих пор ни одной работе не удалось удовлетворительным образом справиться с этой задачей. Данное исследование не может сделать этого уже потому, что оно не касается сталинизма, но в нем будет обращено внимание на возможные случаи преемственности в тех местах, где мы будем сталкиваться с явлениями, впоследствии проявившимися в более выраженной форме. Однако один вопрос выяснить необходимо: можно ли сказать, что признаки «сталинизма» проявились наиболее заметно в области культуры и по каким причинам?
Несмотря на приведенные методологические соображения, не теряет остроты вопрос о когерентности революционной культуры Советской России послеоктябрьского периода и сталинизма. Не было ли в первые послереволюционные годы явлений, о которых никто и не подозревал, что они станут идейной основой сталинизма, его подготовкой? Не существовало ли каких-либо мыслей, попыток оказания давления на людей, действие которых проявилось не сразу, а несколькими годами позже? Этот вопрос о взаимосвязях внутри советской революционной культуры, обладающий — ввиду только что приведенных методологических доводов, — чрезвычайной важностью, будет разобран в заключительной главе. Может быть, нам удастся в общих чертах показать то, что условно можно было бы озаглавить как «идейные предшественники и идейная подготовка сталинизма».
Мы исходим из того, что явление сталинизма требует объяснения и с культурной точки зрения. Тем более, что представляется необходимым отойти от принятой до сих пор дихотомической трактовки сталинизма, от разделения на элиту и народ. Может быть, пора подвергнуть явление сталинизма не только экономической и политической интерпретации, но и взглянуть на его концепцию? Тогда и в самом деле необходимо исследовать вопрос о его связи с революционной фазой, при этом с позиций обновленной истории культуры можно пересмотреть устоявшееся мнение о конце двадцатых годов как крупнейшей исторической вехе. Как известно, рассмотрение сталинизма в отрыве от революционного процесса, начавшегося в 1917 г., не проясняет картины. Но эти вопросы выходят уже далеко за скромные рамки последующих страниц, несмотря на их неразрывную связь с концепцией данного исследования.
В вышеизложенном уже намечена методологическая ориентация, которую невозможно описать понятиями социальной истории. Необходимо соблюдать осторожность, потому что при взгляде на период между революцией и Второй мировой войной сразу же бросаются в глаза две крупнейшие исторические вехи: переход от «военного коммунизма» к новой экономической политике в 1920—1921гг. и начало коллективизации сельского хозяйства и форсированной индустриализации в 1928—1929 гг. Почти во всех описаниях периода 1917—1941 гг. встречаются эти три четко отделенные друг от друга фазы. Такая периодизация социальной истории, по-видимому, абсолютна и не подлежит сомнению. И этот норматив утвердился настолько, что, читая исторические исследования, видишь как бы три совершенно разных государства и общества. Это говорит о том, что под влиянием последних работ, посвященных анализу социально-экономических аспектов социальной истории советского общества в отрыве друг от друга, сложился такой образ страны и общества, что человек, желающий познакомиться с историей этой страны, не может воспринять ее как единое целое.
Заметим, что приведенные соображения являются аргументом, направленным не против социальной истории, а ско
рее, против ее непредвиденного эффекта. В основе данной работы лежит уже завоевавшая признание историческая концепция, согласно которой — говоря упрощенно, — общественные структуры не обладают абсолютным значением, а люди не являются лишь марионетками в них. Социальная же история способствует возникновению именно такого представления, может быть, потому, что она занималась описанием общества и экономики, претендовавшего на звание общества, построенного на основах марксизма или же на учениях классиков, разработанных на его почве. Таким образом, с позиций марксизма и развитых на почве марксизма социологических основ как советские, так и западные историки занимались тщательным исследованием общественных структур, созданных на основе учений Маркса и Ленина, и, наверное, ни в каких работах по современной истории роль человека не умалялась до такой степени, как в работах по истории Советского Союза. Люди упоминаются в них лишь постольку поскольку, в лучшем случае как жертвы экономических экспериментов или политического террора. В остальном же за человека «отвечала» художественная литература. Таким образом, написание данной книги было вызвано дефицитом, наблюдающимся в исторической науке до сих пор. Особенно ярко он заметен на фоне многочисленных произведений, посвященных культуре и менталитетам периода Французской революции и более позднего времени. Про политическое и экономическое «лицо»5 постреволюционного периода Советской России на данный момент известно уже многое, но что касается его культурного «лица», то, по сравнению с двумя первыми, оно явно обделено вниманием.
Итак, здесь будет предпринята попытка показать идеал человека раннего советского периода, «антропологическое измерение»6 советской истории. Последующие главы посвящены сфере культуры, т. к. эта область обладает наиболее высоким исследовательским потенциалом, тогда как в сфере социальной истории известно пусть еще и не все, что необходимо для углубленного понимания эпохи, однако все же значительно больше, чем в области культуры и менталитетов.
Однако понятие культуры, на котором построена работа,
требует подробного разъяснения еще и потому, что здесь не разбираются классические темы культурной политики, такие как, например, насаждение грамотности, школьное образование, университеты, театр, литература и т. п.
С понятием культуры в широком плане мы сталкиваемся в двух областях. Кто занимался политологией, тот знает, что, начиная с пятидесятых годов нашего века, существует концепция «политической культуры», разработанная в США Габриэлем А. Алмондом, Сиднеем Верба и Лусианом В. Пай с точки зрения ее развития7. Прежде всего, благодаря критике британского социолога Брайана Бэрри эту концепцию, на протяжении долгого времени применимую лишь к демократическому стабильному обществу, постепенно удалось распространить на страны, находящиеся в состоянии резких перемен или только что их перенесшие8. О слабых местах этой концепции писали и другие критики9. Еще до этого Пай и Верба признали, что нельзя говорить о существовании единой политической культуры, следует различать политическую культуру элиты и масс, а также учитывать региональную специфику10. Этим они расширили возможности применения концепции к инсценированным переменам политической культуры в условиях переворота, революции и появления новых руководящих слоев. Вслед за ними Арчи Браун предпринял усилия по распространению концепции политической культуры на страны Восточной Европы и по изменению ее теоретических формулировок11. Его позицию можно назвать позицией субъективиста, постулирующего в качестве объекта исследования «субъективную перцепцию истории и политики, фундаментальные убеждения и ценности, центральные моменты идентификации и лояльности, политические знания и опыт»12. Он выделил четыре основных типа политической культуры13, оказавшихся неподходящими для интерпретации того самого динамичного пункта, о котором писал Бэрри: политической культуры системы, находящейся в условиях перемен.
О проблематичности концепции политической культуры в теоретическом отношении, а особенно с точки зрения ее применения в научных исследованиях пишет в своей блестящей
статье Мэри Мак-Оли14. На ее критику следует ориентироваться всем, кто строит свои историко-культурные исследования на основе категорий Брауна.
Мак-Оли поступает очень просто: она задает субъективистам точно сформулированные ключевые вопросы, опираясь, в основном, на работу Стефена Вайта, посвященную политической культуре Советского Союза15. Ее вывод: «Во всех случаях мы констатируем: ответы субъективистов являются неудовлетворительными»16. Мак-Оли смущает тот факт, что работать с концепцией политической культуры все еще чрезвычайно сложно по причине размытости ее категорий. Она подвергает субъективистский подход принципиальной критике. «Как можно идентифицировать субъективные убеждения, да еще к тому же являющиеся делом далекого прошлого?, — спрашивает она и констатирует: Прежде чем заниматься анализом и объяснением политической перцепции, следует вначале идентифицировать ее»17. Ее критика распространяется, в частности, на Вайта и его постулат преемственности, опираясь на который, невозможно говорить о том, что такое истинная традиция, а что лишь имеет какое-то сходство с прошлым.
Проблемы исследовательской концепции можно свести к принципиальному вопросу о выборе критериев релевантности, которые, в свою очередь, следовало бы вскрыть и обосновать18. Как на их отбор влияет дух времени, показывает игра-гипотеза Мак-Оли: «Если бы авторы союза Брауна-Грэя приступили к работе в 1950 г., или в тридцатых годах, или — в случае с Россией — в 1912 г., ими были бы составлены совсем иные каталоги политической культуры дореволюционного периода, чем в настоящее время»19. Между строк статьи Мак-Оли прочитывается упрек субъективистам в тривиальности: «Кто же станет отрицать, что в кризисные периоды (и не только тогда) люди занимаются поиском новых, старых, более „совершенных” путей организации общества, исходя при этом из своих убеждений, надежд и предположений. Мы обращаемся к своему и чужому культурному наследию, мы вынашиваем новые идеи, открываем заново старые, мы реагируем на несправедливое устройство общества, мы считаем,
что открыты все возможности, или же что ничего не меняется. Для того, чтобы сказать это, нет нужды в новой концепции политической культуры»20.
Собственно говоря, нет нужды и в старой концепции, ведь Мак-Оли смягчилась лишь в одном: она не стала выбрасывать на помойку бесполезных научных приемов всю концепцию целиком. Однако складывается такое впечатление, что в данном случае ею руководило, скорее всего, сочувствие. В самом деле, после ее критики британские теоретики постепенно смолкли.
Разбирая вопрос о принятии концепции политической культуры в Германии, к сходным результатам приходит Макс Каазе; правда, он выступает за ее сохранение в измененном виде21. Но он не приводит никаких доказательств в пользу возможностей и целесообразности применения этой концепции на практике. Говоря словами из названия его книги, гвоздь не виноват в том, что с него сваливается пудинг22.
В данной работе понятие политической культуры не встретится больше нигде. Являясь тупиком как в теоретическом, так и в методологическом отношении, оно до сих пор не принесло каких-либо новых результатов. Опыт показывает, что, применяя эту концепцию, авторы удаляются от проблемы, впадая в теоретизирование.
Однако, несмотря на крах брауновской концепции «политической культуры», его основные идеи не лишены привлекательности. В данном исследовании мы коснемся представлений о «введении» новой культуры, поговорим об ее перцепции, сопротивлении населения, политических ориентирах, ценностях, будет разобран вопрос о мобилизации, т. е. о воспоминаниях. Мы упомянули о справедливой критике субъективистского подхода. Постараемся избежать его. Нет нужды подчеркивать особо, что на культуру раннего советского периода наложила сильный отпечаток политика, что культуру вообще нельзя рассматривать в отрыве от политической сферы. Вместе с тем представляется необходимым указать на это, т. к., с другой стороны, с некоторых пор наблюдается определенная слепота в отношении политики среди представи
телей сравнительно молодого направления исторической антропологии, некоторые идеи которой также были использованы в написании данного исследования.
В общественных науках тоже произошла перемена перспективы; возник ряд мыслей, методологических вопросов, перекликающихся с идеями концепции политической культуры23. Вначале антропологические темы встретили интерес представителей французской исторической науки24. В исторической антропологии, методологические принципы которой нашли применение и в данной работе, отсутствует единое понятие культуры25, однако в ней существует что-то вроде течения, к которому можно причислить и данное исследование, когда речь в нем заходит о том, о чем молчали Маркс, Энгельс и Ленин. В качестве примера можно назвать главу о физической культуре. Кстати сказать, — это как бы еще одна горсть земли, брошенная в могилу концепции политической культуры, — часть представителей исторической антропологии являются сторонниками субъективистского подхода, близкого к подходу теоретиков политической культуры26.
Понятие культуры, на которое опирается данная работа, позаимствовано из этого ответвления исторической науки, поскольку оно рассматривает явления в культурном контексте во избежание экономического редукционизма. Глиффорд Гиртц придает культуре большой вес, предлагая понимать ее как «необходимое условие человеческого бытия» и видеть в ней «набор контрольных механизмов — планов, рецептов, правил, руководств к действию (то, что на языке информатиков называется „программой”) — для регламентации поведения»27. Он утверждает, что культура передается посредством символов, упорядочивающих жизнь человека28. Поэтому Гиртц видит в человеке артефакт культуры: «Наши идеи, ценности, действия, даже наши чувства, так же, как и сама наша нервная система, являются продуктами культуры— правда, сформированными на основе врожденных наклонностей и способностей, но, тем не менее, сформированными»29. Алексей Гастев, о котором пойдет речь в первой главе, согласился бы с Гиртцем по этому пункту и прибавил бы, что стоит только изменить культуру, и тогда мы получим новые че
ловеческие артефакты. Здесь удивляет, во-первых, то, что подобное мнение исходит от столь уважаемого предшественника современной антропологии, по праву называемого ее вдохновителем, и, во-вторых, что его преемники, ученики и применители его идей не замечают, что тем самым антропологическая теория льет воду на мельницу идеи об управляемости формами человеческого бытия посредством культуры. Наверное, излишне говорить что-либо еще о связи этой проблемы с темой данной книги.
Проникновение в культуру через изучение символов стало обычной формой научного исследования, в том числе и в исторической науке30. Являясь, так сказать, «цементом» общества или, по крайней мере, предоставляя возможности для. его создания, символы помогают понять суть культуры разных уровней изнутри. Здесь антропология также дала несколько важных импульсов для методики изучения ритуалов и символов общества. Как правило, для получения информации и передачи ее читателю применяется прием «плотного описания»31.
Не новую по сути мысль о разделении культуры на мир жизни и монумент высказала Алеида Ассман32. Ее идея состоит в том, что, в отличие от мира жизни, синонима быта, «культура как монумент конститутивно направлена на зрителя»33, и что монументализация способствует выработке знаков, обеспечивающих коммуникацию с потомками. Однако, нам представляется, такое качество монумента, как направленность на будущее, не является столь специфичным, чтобы этот вопрос не укладывался в рамки проблемы символа в культуре. Общественные празднества Ассман называет центральным пунктом, вокруг которого создаются монументы.
Большое значение для нашей темы имеет мысль об искусственных традициях. Эрик Хобсбом, сформулировавший это понятие34, говорит о наличии взаимосвязи, уже упомянутой выше. В создании искусственных традиций есть определенный смысл, но их существование зависит от степени их признания. И тем не менее, в этой связи возникают интересные вопросы об условиях и обстоятельствах возникновения, а также проявлении традиций, их передаче и распространении.
Тем самым понятие Хобсбома направлено непосредственно на главную составную часть культуры, уже названную выше: на создание коллективных воспоминаний. Британского историка занимала проблема «социальной функции прошлого»35 — тема, которая прозвучит и в этой работе. Что происходит, если «прошлое как функция настоящего», по словам Жака ле Гоффа36, отрицается и заменяется сконструированным прошлым, «урегулированными воспоминаниями»37?
В последующих главах речь пойдет, главным образом, о концепциях, замыслах, мировоззрениях, представлениях о человеческом мышлении, чувствах, поведении и физической конституции, а также об их конфронтации с действительностью тех лет. Выражаясь терминами современной историографической дискуссии, я смотрю «сверху», т. к. объектом моего исследования являются представления элиты: я пишу об образе мыслей новых представителей власти и их окружения, на основе которого они собирались создать то, что называлось «новой культурой», о проявлениях культуры на уровне символов, об ее внедрении (или о попытках внедрения), об ее конкретных проявлениях и, тем самым, о культурной практике. Это сложное явление под названием «культура» ни в коем случае нельзя понимать так, как оно якобы из технических соображений, понималось в исследованиях прошлых лет, а именно, в виде линейного процесса: замыслы, затем средства передачи этих замыслов и, наконец, попытка воплощения их в жизнь. Если согласиться с такой точкой зрения, культуру нужно понимать как процесс поступательного движения от идеи к ее (успешной или не увенчавшейся успехом) реализации.
Однако мы не согласны с таким пониманием культуры, и нам не хотелось бы, чтобы архитектоника книги вызвала такую интерпретацию. Здесь описывается явление, многогранное по своим формам, многоплановое по своему значению, переплетенное со многими другими и автономное одновременно. Что общего имела физическая культура с празднествами первых лет советской власти, что общего было у гастев-ской идеи психомоторной тренировки с плакатами времен Гражданской войны? Самые разные явления связаны своей
принадлежностью к одной и той же культуре. Поэтому я и не использую четкого определения культуры, не выстраиваю завершенной теории культуры.
Сторонникам чистой методологии моя книга придется не по нраву. Хоть она и обязана немаловажными импульсами вышеназванным теориям, однако, автор позволит себе — особенно по прочтении впечатляющей статьи Мак-Оли — прибегнуть к обычным методологическим приемам критической интерпретации источников и использованию принципа историзма. Это вызвано убеждением, что упрямое цепляние за методологические установки превращает объект исследования в раба методики. Историк не должен попадать в субъективистскую ловушку, о которой говорила Мак-Оли, т. к. в результате он рискует всего-навсего заполнить обратную сторону листа объективистского описания истории. Так что пусть в этом месте испуганно отвернутся от этой книги историки всех направлений: представители социальной истории потому, что у меня нет теории, под которую я стану подгонять действительность; историки быта, потому что я не описываю микроистории и не смотрю «снизу» историки этнографического направления, потому что я в недостаточной степени применяю «плотное описание» приверженцы историзма, потому что для них эта книга окажется бесполезной. Ни в одном месте мы не будем отдаляться от общества, в поле нашего зрения постоянно будет находиться весь исторический комплекс. Существование символов, передача дискурса не означает, что культуру следует искать в каких-то недосягаемых высотах.
Еще несколько слов по поводу уже написанных исследований. Критика социально-исторического подхода, предпринятая в начале и, без сомнения, указывающая на присущую ему дилемму, получилась довольно резкой в интересах общей ориентации читателей. Если же посмотреть на картину, рисуемую в дальнейшем, станет ясно, что во многом данная работа использует его. Это касается, в том числе литературы по так называемому «третьему фронту». Несмотря на различия в подходе и интересах, она в некоторых случаях служит базой данного исследования, без которого невозможно было бы
найти ответ на вопросы, поднимаемые в дальнейшем. В соответствующих главах, в которых мы попытаемся рассмотреть культурное развитие с интегративной точки зрения, мы будем использовать ее или же подвергать критике. Эта литература слишком многочисленна, чтобы можно было представить ее во вводной части. В соответствующих местах о ней будет сказано отдельно.
Есть два произведения, представляющие особую важность для нашей темы вследствие их подхода, поднимаемой ими проблематики и попытки комплексного взгляда на важные детали. Не случайно даты их выхода в свет отделяют друг от друга более шестидесяти лет — в этом нашли свое отражение интересы историографии. Книга Рене Фюлепа-Миллера «Дух и лицо большевизма» была опубликована в 1926 г.38, книга об «утопических замыслах и экспериментальных формах жизни» Ричарда Стайтса — в 1989 г.39
В своем объемном произведении венгерский homme de lettres пытается докопаться до культурного смысла большевизма, им очень верно подмечено, что это историческое движение не может быть исчерпано «политическими и экономическими категориями»40. Задолго до изобретения метода «плотного описания» Гиртцем он уже был применен Фюле-пом-Миллером. Он считал, что для описания «живого явления» не подходят «безличные теории» или «сухое перечисление фактов», что «лишь только с помощью непосредственного переживания можно достоверно описать людей, их поступки, слова и идеи». Как будто прочитав историков — представителей антропологического измерения, он пишет: «Под объективностью здесь понимается правдивость уже в самом подходе к созерцанию, непредвзятое личное впечатление, видение и слышание, не отмеченное партийными пристрастиями»41
В своем произведении Фюлеп-Миллер исследует важные, по его мнению, признаки культурного пространства под названием «большевизм»: человек как часть массы, идея его освобождения, театрализация быта, связь культуры и политики, революционизирование быта и утрата традиций. Однако при сей позитивности его намерений, в описании явно проглядывает тихий ужас перед культурной практикой послеоктябрьс
кого периода. В его книге ясно показаны диктаторские признаки большевизма как культурного явления, претерпеваемого русской душой, чувствующей себя комфортно лишь в коллективе. Ему не удалось раскрыть культурной логики большевизма, т. к. когда он описывает многочисленные уличные сцены, вместе с ним из-за угла выглядывает понятие гражданской свободы. И все же невозможно найти современника, «прислушивающегося» — это слово также позаимствовано из арсенала сегодняшних культурных дебатов — с большей интенсивностью, чем этот автор, на лбу которого написано слово «сострадание».
Ричард Стайтс во многом является преемником Фюлепа-Миллера42. Он пытается показать утопичность форм жизни и идей послереволюционного периода. Он указывает на то, с каким энтузиазмом, подъемом и жаждой жизни, невзирая на тяжелейшие условия тех лет, население Советской России взялось за трансформацию повседневного жизненного уклада. Заслуга Стайтса состоит в том, что он пролил исторический свет на несчетное количество безымянных людей. Со своей стороны, новое государство посредством кампаний, пропаганды и символических форм прилагало немало усилий для того, чтобы заявить о себе населению. В интерпретации Стайтса лаборатория утопий и экспериментальных форм жизни закрывается с приходом Сталина.
Эта история спонтанной, нерегламентированной сверху культуры вынуждает Стайтса принять утвердившуюся в социальной истории периодизацию, он ставит точку на конце двадцатых годов как вехе исторического развития. Этим он цементирует парадигму перехода к сталинизму, с которым посгреволюционная культура, по сути дела, не имела ничего общего. Однако с точки зрения «нижней» перспективы, такая трактовка выглядит правдоподобной.
На читателя, прочитавшего предшествующие главы с интересом, это действует, как холодный душ разочарования. Спрашивается, какой же ценностью обладает подход Стайтса для осмысления раннего советского периода? Его подход традиционен: пришел властитель и положил конец бурной пестроте жизни. Стайтс не говорит о том, в силу чего культу
ра приобретает способность оказывать влияние на историю на протяжении долгого времени. То, что выше мы назвали когерентностью революционной культуры, не представляет интереса для Стайтса — или, в лучшем случае, имя его коге
рентности— утопия, подвергнутая удушению.
В заключение хотелось бы представить две попытки интерпретации культуры раннего советского периода и ее развития, предпринятые не с точки зрения истории. Андрей Синявский, писатель, живущий в Париже, эмигрант, жертва государственных репрессий брежневской эпохи, попытался описать отличительные признаки советской цивилизации43. Вслед за русскими философами начала столетия Николаем Бердяевым и Дмитрием Мережковским, также избравшими эмиграцию, он развивает религиозно-мистический взгляд на советскую культуру и выработанный ею идеал человека. В качестве ключа он выбирает поэму Александра Блока «Двенадцать» с ее метафорой избавления. По мнению Синявского, коммунизм — это религия, его научность — фикция, одевающаяся в сакральные одеяния, а государство Сталина — «церковное государство». Прежде чем отметать такие взгляды, как несоответствующие исторической действительности, следует вспомнить, что и из уст историков приходилось слышать подобные высказывания. Роберт Такер, которого трудно заподозрить в склонности к мистике, также проводил аналогию между церковным государством и Советским Союзом эпохи сталинизма44. Независимо друг от друга Стайтс и Синявский отмечают утопичность Ленина. Кроме того, Синявский обращается к темам русской советской культуры, требующим исторической разработки. Говоря о насилии как об основном признаке советской цивилизации, о символах, создаваемых государством, об «иррациональной» стороне культуры, он затрагивает некоторые вопросы, на которые не мешало бы обратить внимание современным исследователям культуры. По причине отсутствия научного аппарата, в силу нечеткости, свойственной писателю, ценность эссе Синявского как исторического исследования невелика, однако, оно является плодотворным и полезным с точки зрения оригинального взгляда на ощуще-
Введение ние жизни и самооценку тогдашних мастеров цеха беллетристики.
В отличие от Синявского, Борис Гройс видит красную нить советской культуры сталинской поры в русском авангарде, особенно в его мыслях по поводу искусства45, т. е. в явлении, хронологически совпадающем с интересующим нас периодом. Гройс утверждает, что сталинизм является художественным проектом, основанным, в свою очередь, на проектах досталинской поры. В своем эссе он, на основе исторического контекста, пытается «выстроить образцовую концепцию для осмысления эволюции культуры сталинского периода. Другими словами, речь идет о своего рода культурной археологии, в отличие от археологии Фуко, описывающей не только сменяющие друг друга парадигмы, но и механизм их замены»46.
Гройс не останавливается на вопросе об идентичности искусства и культуры. По мнению автора, в век так называемого постмодернизма, к которому он, по-видимому, ощущает себя причастным, происходит слияние эстетики универсального проекта культуры с реальной культурой. Эстетика становится ведущей наукой. Только так можно понять стремление Гройса доказать, что почву для сталинизма подготовил авангард, выдвигавший требование «абсолютной политической власти, неразрывной составной части авангардистского художественного проекта» и пытавшийся убедить реально существующую политическую власть в том, что на деле она является художественным проектом все того же авангарда47. Если отвлечься от постмодернистского словотворчества Гройса, то идея его эссе состоит в следующем: различия между политиками и власть имущими, с одной стороны, и человеком искусства, с другой, исчезают, если за реализацию эстетического проекта берется политическая власть. Так случилось во времена Сталина, и Сталин является «художником-тираном», на которого пал выбор авангарда.
Безусловно, в рассуждениях Гройса присутствуют некоторые верные мысли, однако в целом его произведению присущ некий постмодернистский вывих, т. к. реальности в нем отводится второстепенная роль. Позволим себе усомниться в
правильности высказывания о том, что средство — это все, а реальность — ничто. С точки зрения истории, роль авангарда явно переоценена им. Гройс вроде бы прослеживает когерентность советской культуры от Октябрьской революции до сталинизма, однако конструирует ее на слишком узкой основе48.
Этот пример приведен для того, чтобы пояснить, какого рода теоретического и методологического подхода мы постарались избежать здесь. Прежде чем выстраивать теории, мы постараемся, в первую очередь, рассмотреть исторические явления.
Данное исследование рассматривает тему в двух частях. Глава 1 посвящена коллективным замыслам большевиков в области культуры. Затем мы перейдем к рассмотрению трудовой культуры, к универсалистским проектам нового человека в новой культурной среде, отличавшихся от более умеренных проектов радикализмом своих притязаний. Глава 2 посвящена вопросам физической культуры, т. к. культурные проекты ранней советской поры отнюдь не ограничивались трансформацией внутреннего мира человека. Здесь мы коснемся вопросов военизации, романтических идей о возвращении в лоно природы, а также проблемы «социалистической» евгеники.
Во второй части мы поговорим о символизации режима в двояком смысле, как отмечалось выше: о его самовыражении и одновременно о попытках воздействия на людей через их органы чувств. Здесь рассматриваются классические темы, такие, как периодика, книгоиздательство и общественные места для чтения: библиотеки и избы-читальни (глава 3), а также технические средства: радио (глава 4) и политический кинематограф (глава 6). Русскому советскому плакату посвящена отдельная глава (5), потому что, хотя по этому средству и имеются кое-какие исследования, пока еще никем не было предпринято обобщающего анализа его содержания на отдельном примере. В главах 7 и 8 пойдет речь о совершенно обойденной вниманием сфере действия политики и насаждения революционной культуры: экскурсиях и музеях первых лет советской власти, сфера, в которой ясно отразились противоречия и разногласия по поводу путей развития культуры
будущего. Здесь отражаются затронутые нами проблемы формирования режимом коллективных воспоминаний. Празднества первых лет советской власти рассматриваются как особый вид проявления и символизации режима (глава 9), т. к в них прочитывается символика нового и одновременно содержится ответ на вопрос о новой социалистической народной культуре.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 4
ГЛАВА ПЕРВАЯ ,д
МНЕНИЯ 1
У я
„ _ я
Да, вылечить человеческую голову — самая сложная задача.
За нее принимается новая культура.
Прежде всего человек. ’
Провозглашается лозунг: Реорганизация человека1. г
Зти торжественные строки из произведения Абрама Гольцмана, написанного в 1924 г., напрямую подводят к центральной проблеме раннего периода советской культуры: создание нового человека для послереволюционного советского общества, может быть, даже человека особого типа. Эти краткие и, при всей своей простоте, весомые слова обрисовывают проблему, т. к. эта культура стоит перед сложной дилеммой. Вначале она должна создать то, что является необходимым условием ее существования. В этом смысле она революционна. Новая культура стремится ни много ни мало, как к переустройству всего внутреннего мира человека. Таким образом, она попадает в мифический контекст нового начала истории человечества, сопровождающийся созданием (нового) человека. Вот вкратце описание первой части данного труда Она касается идей, планов, проектов, замыслов, связанных с новой культурой, и вопроса о том, какое место отводится в ней человеку.
Пока ограничимся сказанным, т. к. в конце этой главы произведение Гольцмана будет разобрано подробно. Еще одно. Эти короткие строки не оставляют сомнений: реорганизация — дело решенное. Но что касается способов ее осуще-
ствления, то они не ясны, и нет никакого указания на путь, по которому следует двигаться. Тождественна ли реорганизация человека культурной революции в принятом смысле этого слова? Но здесь уже начинается путаница с понятиями. Так что давайте внесем пока ясность по этому вопросу.
Революция и культура (1917—1932)
Название этого раздела позволяет по-разному скомпоновать основные понятия. Мы специально говорим о революции в культуре, дабы избежать употребления устоявшихся понятий, указывающих на иную проблематику. В дальнейшем речь пойдет о культурной революции, о революционной культуре и культуре революции, а также о революционной культурной политике. За каждым из этих понятий стоят разные перспективы и разная проблематика.
Когда речь заходит о культурной революции в Советском Союзе, взгляд обращается, как правило, к периоду первого пятилетнего плана. Ключевые слова гласят: отступление от расчета на дальнюю перспективу в сфере общего образования и переход к быстрому обучению в соответствии с потребностями промышленной политики и техническими потребностями, изменение отношения к «буржуазным» специалистам, начало которого было положено Шахтинским «делом» летом 1928 г., радикализация искусства и науки, необходимость которой подкреплялась аргументами классовой борьбы, социальная инженерия выдвиженцев из пролетариата, воспитание «красных» специалистов, короче говоря, культурная революция как классовая борьба, в соответствии с описанием и обозначением Шейлы Фитцпатрик2.
Однако все эти меры и процессы не совсем связаны с объектом данного исследования: концепциями организаторов переворота 1917 г. по созданию еще невиданного в истории человека или типа людей не путем наклеивания этикеток или использования реквизитов из ломбарда революции, а с помощью фундаментальной перестройки мышления, целью которой было изменение ментального склада и духовного багажа. Под реорганизацией эта культурная политика понимала революционизирование умов в последней инстанции. Слово
«революционизирование» является изобретением современника, отправившегося на поиски нового человека3.
Культурная революция конца двадцатых—начала тридцатых годов перед собой таких целей не ставила. Она являлась не первой попыткой изменения культурного ландшафта, однако оказалась наиболее чреватой последствиями. Так случилось не потому, что в результате культурной революции 1927—1932 гг. удалось изменить сущность людей, их ментального уклада до такой степени, что о прежних годах напоминала одна лишь морфология. Культурная революция в понимании Фитцпатрик означает замену персонала, а не трансформацию ментальных структур данной популяции. В самом деле, исследование Фитцпатрик представляет собой описание культурной революции как революции социальной, на сей раз коснувшейся таких традиционных сфер культуры, как школы, наука, техника, искусство в большей степени, чем преобразования, осуществленные после 1917 г., следствием чего стали перемены, произошедшие в культуре.
Но не будем заниматься здесь мелочными придирками к понятию культурной революции. В данном случае понятия, как, впрочем, и всегда, являются лишь вспомогательными средствами. В отношении периода с 1928 до начала тридцатых годов важно следующее: революционизирования умов не произошло. Но смена элиты на много лет наложила на духовную жизнь страны более заметный отпечаток, чем все попытки изменений, предпринятые до этого. Общественный слой, до сих пор фактически не принимавший участия в политической и культурной жизни страны, взобрался на самую верхушку социальной лестницы. Отчасти он пробился туда сам, отчасти ему помогла политика Сталина и его окружения. Они принесли с собой свои замыслы и представления о жизни, воззрения на политику, неясные, несформулированные, неотрефлектированные. Сущность культурной революции состояла в том, что, лишь занимая высокие позиции, эти люди могли воплотить в жизнь свои взгляды — если такое название вообще оправдано, принимая во внимание отсутствие оформленности у большинства из них. Невзирая на все усилия, прилагаемые системой для формирования мировоззре
ния, они включали их в процесс социальной инженерии, продвинувший их «наверх». Они пронесли свои взгляды в самые высокие сферы, где те и были легитимированы в качестве нового стиля элиты. Продвижение наверх новых социальных сил не опрокинуло основных структур системы, они выдержали натиск этой второй после 1917 г. социальной революции. Они сохранили как политическую, так и внешнюю стабильность. Но характер системы заметно изменился. Выдвиженцы 1928—1932 гг. не были политическими революционерами, из их рядов — как и следовало ожидать — вышли приспешники сталинизма. Революция происходила где-то в другом месте, а именно в сфере культуры, — наряду с экономической реорганизацией, возможно, единственная настоящая революция тех лет.
Каков же был один из ее результатов? Выработался определенный тип человека, впоследствии названный в одном из исследований типом среднего класса4. Зачастую к нему применялись такие оценочные понятия, как «обыватель», «мещанин», которые говорят лишь об его удаленности от пропагандировавшегося идеала советского человека: мало интересовавшийся политикой, ориентированный на материальные ценности, предпочитающий частные формы жизни коллективным5.
Не будем касаться причин таких тенденций. Главное — уяснить, что выдвижение новых социальных слоев и принципиальное изменение ментальной структуры — это не одно и то же, ведь нельзя же, описывая культурную революцию с социологической точки зрения, вдруг начать объяснять перемены изменениями менталитета или психики, если, конечно, не подвергать разбору ментальный уклад и не анализировать, насколько он изменяется благодаря продвижению человека наверх. Не станем мы заниматься и анализом бытия обывателя тридцатых годов: с помощью художественных средств литературные произведения могут сделать это более удачно, чем историческое исследование. В данном случае интерес представляет тот факт, что — как парадоксально это ни прозвучит — культурная революция является доказательством своего поражения. Культурная революция в истинном смысле
этого слова не состоялась. В дальнейшем речь пойдет о ней — о реорганизации человека.
Такая формулировка отсылает в уже знакомые сферы. Не было ли движение Пролеткульта, стремившееся к созданию проекта новой культуры в начальный период советской власти, атакой, направленной на старое мышление и нормы поведения?
В самом деле, попытки внедрения пролетарской культуры можно назвать культурной революцией скорее, чем то, что начало происходить после 1928 г.6 Но движение Пролеткульта было элитарным. Элитарным, поскольку единственным представителем и носителем новой культуры оно считало утвердившуюся государственную элиту-пролетариат, в то время как крестьянским массам пришлось принять его гегемонию в этой сфере. Пролеткульт попал под начало государственной культурной бюрократии до того, как он успел осуществить какие-либо глубокие перемены. К тому же движение Пролеткульта проходило на фоне дискуссии Ленина с Александром Богдановым7 и вопроса об автономии, как бы замутнявших чистоту программатиков Пролеткульта, т. к. это вынуждало их непрестанно думать о противнике.
Кроме того, официальная история Пролеткульта опять-таки подтверждает, что вехи социальной истории — дело прочно устоявшееся. Согласно Льву Крицману, Пролеткульт относится к явлениям «героического периода» первых лет. Его расцвет закончился с окончанием Гражданской войны и «военного коммунизма». Мы же постараемся избежать как раз таких поверхностных переплетений культуры и экономики, выделив для рассмотрения послереволюционную фазу 1917—1932 гг., что дает возможность взглянуть на более глубинные структуры.
Против взгляда на Пролеткульт как концепцию революционизирования умов можно привести следующие два аргумента: Пролеткульт был не единственным представителем радикальных позиций в области переустройства культуры. Разве революционизирование умов не было идеей, присущей всем большевикам? Не являлись ли определенные представления о новой культуре нитью, связывавшей пролеткультовцев с
остальными большевистскими и пролетарскими революционерами культуры? Сформулируем вопрос поточнее: так ли уж велики были расхождения во мнениях между пролет-культовцами и непролеткультовцами, как можно было бы предположить, исходя из разногласий между партийным руководством и активистами Пролеткульта? В ретроспективе «нейтрализация» элитарно-пролетарского Пролеткульта выглядит, скорее, как тактическая мера, предпринятая для успокоения населения.
Второй аргумент уже назван. Нельзя сказать, что после 1920 г. архитекторы культуры перестали лелеять замыслы о революционизировании умов. Описывая конец Пролеткульта в 1920 г., историки разбирают тактику большевиков в области культурной политики. Если отвлечься от привычной периодизации, это даст возможность проследить борьбу идей. Различные пролетарские программы продолжали появляться и после 1920 г. Правда, их авторы модифицировали свои взгляды, однако не распрощались со своими убеждениями периода 1917—1920 гг. окончательно. Взять хотя бы П. М. Керженцева, одного из самых видных представителей Пролеткульта. На его примере можно проследить изменение позиций по некоторым вопросам, вследствие чего проект революционной культуры приобрел иное качество, не перестав от этого быть менее революционным, а скорее даже наоборот. Не имея под собой организационной основы, идея культурной революции продолжала жить в виде идеи о реорганизации человека. Так, наверняка не было случайностью изложение краткого проекта в статье Керженцева «К новой культуре», опубликованной в 1921 г.8
Уже само название статьи указывает на перемену воззрений по сравнению с прошедшими годами: если во время Гражданской войны можно было говорить, по крайней мере, о зачатках новой культуры, то к ее концу их уже не наблюдалось. В статье «К новой культуре» сформулирована задача. Как до этого в поле зрения попал обделенный вниманием «третий фронт», так теперь встал вопрос о культурной революции, к которому на сей раз подошли без всяких иллюзий. Для выполнения воспитательной задачи требовалось соста
вить учебный план, сформулировать цели и распределить роли: режим выступал в качестве учителя, а массы посадили за парты. Это означает, что в 1921 г. в обостренной форме продолжилось то, что, собственно, можно назвать революционизированием умов. По сравнению с этим программа Пролеткульта была даже «отсталой», т. к. в ней намечалось всего-навсего превратить подавляемую до сих пор культуру в доминирующую. Концепция же революционизирования умов пошла дальше, и поэтому ее претензии были более революционными, — если в данном случае вообще уместно употребление сравнительной степени — чем программа Пролеткульта.
К концу Гражданской войны политики культуры стали догматичнее, вспомнили про Маркса и Энгельса и узрели не развитие, а возможности для развития и перемен. В этом состоит кардинальное отличие по сравнению с практикой прежних лет.
В 1919 г. в маленькой брошюре Керженцев, попутно защищая большевиков от упреков в варварском разрушении культуры, писал, что «вся политика рабоче-крестьянской власти» направлена на поддержку «самодеятельности самых широких кругов масс» и привлечение их «к активному строительству новой жизни». «Всякий самостоятельный почин в области культурного строительства всегда находил ответ и поддержку местных и центральных советских учреждений»9. Если бы это утверждение соответствовало истине, то процесс культурного развития советского общества пошел бы по совершенно иному пути. Здесь речь идет о массовой культуре, развивающейся сама по себе. Если верить Керженцеву, то в 1919 г. режим шел рука об руку с населением.
Но те несколько послереволюционных месяцев, в течение которых звучали подобные мысли, означали лишь короткий расцвет представлений о всесторонне развивающейся, децентрализованной, автономной культуре на местах. Это было время пока еще неустоявшейся государственной власти, подвижных фронтов Гражданской войны; в то время пока рано было говорить о наличии внутренней линии в культурной «политике» государства. Большевики предоставили свободу провинциям и метрополиям, отчасти им пришлось пойти на
это, потому что местные инициативы не допускали, чтобы их прибрали к рукам. Кроме того, «большевики» в ту пору еще не являлись центральным культурным институтом, для этого они были слишком нескоординированными. Правда, нельзя согласиться с утверждением (впрочем, Керженцев и не имел этого в виду) о том, что якобы партийному руководству было достаточно инициативы, исходящей с мест. Просто отношение к подобным явлениям было иным, чем в последующие годы, будь то по причине слабости или наивной веры в революционную и культурно-созидательную силу масс, — идеи, овеянной романтическим мифом.
Если в 1919 г. Керженцев видел в массах решающую силу будущей советской культуры, то в 1921 г. всплыли другие категории, внесшие коррективы в незатейливые замыслы первых лет. «Строго говоря, на данный момент новая культура может развиться только в том случае, если в результате политической революции и экономического перелома для нее подготовлена почва. В период революционного переворота проявляются лишь основные тенденции новой духовной культуры»10. Глубокая пропасть, отделявшая большевиков от масс, еще два года назад являвшихся наследным принцем будущего, отражается в словечке «лишь». Этого достаточно для констатации существования другого мира, подмеченного Франциской Баумгартен с ее тонким чутьем ситуации в Советской России. В 1924 г. она пишет в своей книжке, отличающейся удивительной для того времени глубиной понимания: «То, что новые формы жизни способствуют выдвижению новых людей, является следствием любой революции, но что удивительно — в России наблюдается недовольство этими новыми людьми у их собственных единомышленников» 11.
Теперь стало ясно, что для создания новой культуры потребуется много лет, что окончательное ее формирование станет делом лишь следующего поколения, поскольку нынешнее глубоко погрязло в буржуазных сферах. В качестве аргумента приводился пример буржуазной культуры: лишь по прошествии ста лет после буржуазной революции можно стало говорить об ее окончательном оформлении12.
Тем более четко определилась роль ментора, в задачи которого входило распознание «основных тенденций», их разработка, доведение до сознания всех остальных, их развитие и конкретное проведение в жизнь. Как раз на реализацию и стоит обратить особое внимание, т. к. именно здесь проявилось недоверие к стихийной творческой силе масс. В конце концов, воспитатель стал принимать решения о том, какие тенденции обладают важностью для будущего. Он определял их ценность и, следовательно, делал вывод об их праве на существование. Керженцев не то чтобы надеялся обнаружить tabula rasa в культурном отношении, скорее, он придерживался убеждения о необходимости культивирования положительных задатков масс. Процессу создания новой культуры он приписывал некую собственную динамику: она должна выработаться уже потому, что к власти пришел пролетариат. Буржуазная культурная надстройка рухнула.
Программная брошюра Керженцева очень оптимистична, пыл революции соединяется в ней с эмансипативиыми устремлениями. Почти утопичная, с точки зрения поставленной цели, она с реалистических позиций намечает пути продвижения к ней. Может быть, это был последний отмеченный энтузиазмом проект новой культурной эпохи, включавший в себя эмансипативный аспект не из функционалистских соображений, без каких-либо задних мыслей. В 1925 г., на Первой Всесоюзной конференции пролетарских писателей, Керженцев проявил трезвость взглядов в сочетании с четкой ориентацией на проведение наступательной перестройки. Теперь он уже говорит о культурной революции и задает вопрос о том, в чем состоит ее суть. «Она означает создание пролетарской культуры в условиях диктатуры пролетариата. Она есть борьба с буржуазной культурой, с ее пережитками, однако она означает и освоение буржуазной науки путем ее переработки»13. В этом определении не учтен решающий вопрос о том, кто является создателем новой культуры.
Вернемся к названию главы. Если обрисованный здесь процесс носит название «реорганизация человека», то в такой формулировке скрывается намеренно завуалированный намек на ее осуществителей, имя которой, как нетрудно догадать
ся — «государство», «партия» и «культурная элита». Почти никто никогда и не скрывал этого. Однако, когда эти силы начали активизироваться, созидающая сила стала синонимом упорядочивающей силы. Как только в дело вмешались партия, государство и культурная элита, они стали принимать и отвергать, систематизировать, функционализировать и создавать институты14, или, говоря словами Гольцмана: «Но кто держит власть, тот создает культуру»15. С тех пор под реорганизацией умов стало подразумеваться не столько оказание массам помощи в создании ими культуры, сколько их ободрение и поддержка. С самого начала речь шла о ментальном переустройстве, а точнее: об установке на новую ментальность. То есть запланированная реорганизация умов означала не беспрепятственное высвобождение духовного потенциала, пробуждение дремлющих ментальных способностей населения с целью их автономизации, а организованное революционизирование, ход, пути и результаты которого были взяты под контроль. Уже по степени своих претензий эти замыслы можно назвать революционной просветительской иллюзией. «New minds, new men», — как сказал по этому поводу один иностранец. В отличие от Гольцмана и многих других он поставил в конце этого высказывания знак вопроса16.
К дискурсу о революции и культуре
Мы подошли к решающему пункту в ходе аргументации. О тактике культурной политики, о периодизации и концепциях, в также об авторах проектов известно многое. Но до сих пор ни один ученый не удосужился проанализировать происхождение замыслов о культурной революции, если не принимать во внимание ее идеологического обоснования идеями марксизма-ленинизма. Но не совершают ли и западные, и советские историки одной и той же принципиальной ошибки? Не звучит ли ответ на вопрос о происхождении этих идей всегда одинаково, начинаясь так: «По Марксу...» и «Согласно Ленину...», как будто не существовало иной почвы для возникновения идей, чем произведения классиков?
В дальнейшем мы попытаемся проанализировать другие источники, впоследствии вылившиеся в определенные проек
ты. Мы сделаем шаг назад. Так как речь в культурной революции шла о переустройстве менталитета, необходимо проанализировать ментальные структуры ее распорядителей, поскольку они представляют интерес для нашей темы. Следует вскрыть их духовный склад, удерживая в центре внимания понятия «культура» и «революция». Концепция революционной культуры не исчерпывается — говоря грубо — описанием Пролеткульта, Наркомпроса и Главполитпросвета, необходимо выяснить вопрос о категориях. Поступить так следует потому, что в культурном проекте, направленном на организованное выполнение воспитательной задачи, отражается, в частности, ментальный склад теоретиков — архитекторов культуры. Анализом этого ментального склада мы и займемся.
Итак, мы будем говорить не о конкретных проявлениях новой культуры в различных сферах, а об ее обосновании. Обилие литературы того времени на тему «новая культура и новый человек», обнаруживает невероятное количество проектов и планов при отсутствии их обоснования. Видимо, авторам проектов трудно было представить себе, что люди могут каким-то образом повлиять на их разработку. Наверное, нужно было быть иностранцем, чтобы разглядеть иллюзионизм архитекторов культуры, как Э. Й. Диллон, написавший в 1929 г.: «Иногда я думаю, что большевики, сами того не замечая, продолжают находиться во враждебно настроенной к ним стране. Они симулируют существование некоторых желаемых вещей, действуя так, как будто их предположение соответствует действительности»17. Возникает следующий вопрос: как получилось, что людьми, от которых этого можно было ожидать меньше всего — марксистами или считающими себя таковыми — было написано такое количество литературы, никак не связанной с реальностью? «Надо уметь мечтать и бороться за мечту» — гласил лозунг 1927 г. «Настоящий революционер обязан уметь мечтать»18. Как же вышло, что революционеры уплыли в волшебную страну идей? Можно ли списать все это на утопию? В таком случае необходимо вскрыть причины такого утопизма и его цели. Что же касается архитекторов культуры,
то остается вопрос, почему они думали именно так, как они думали.
Итак, в данном разделе мы не станем делать вид, что для проникновения в духовный мир самозваной элиты достаточно одного описания содержания, мы попытаемся проникнуть в глубинные слои дискурса. Имеется в виду следующее: предметом нашего исследования будет воображаемая дискуссия большевиков и некоммунистов о новой культуре. Культура существовала не только на конкретном уровне, помимо этого она была дискуссионным полем, на котором скрещивали копья многие. Итак, здесь под дискурсом понимается беседа современников о новой культуре. Таким образом можно подойти к идеям того времени. Потому что новый порядок, который они собирались привить людям, являлся зеркальным отражением их собственной ментальной конфигурации. В таком качестве мы и будем рассматривать их идеи, а не как принципы или руководство к применению проекта будущего. Это значит, что мы не станем касаться степени воплощения замыслов, измерять баланс соотношения между планами и реальными возможностями, а посмотрим, что могут сообщить нам высказывания культурной элиты или учителей новой культуры о них самих. Здесь необходимо сделать еще одно методологическое замечание. В данном разделе мы попытаемся представить квинтэссенцию источников, использованных в написании работы. Мы синтезируем дискурс из большого количества разбросанных или фрагментарных представлений, цитаты приводятся здесь лишь для иллюстрации19.
На понятиях культуры и революции следует остановиться подробно не только потому, что в дискурсе того времени все вращается вокруг них, но и потому, что в их семантическое поле попадают такие противоположные понятия, как пролетариат и буржуазия, миролюбие и насилие, новое и старое, спонтанность и управление, просвещение и индоктринирова-ние, эмансипация и манипуляция.
Обратившись к источникам, довольно скоро можно сделать вывод, что о старом в них говорится очень мало, о ре-волюции не говорится почти совсем, зато очень много сказано о новой пролетарской культуре и новом человеке.
Революция была делом прошлого. Несмотря на инфляционные тенденции вследствие частого употребления этого слова современниками, а также его бесконечную эксплуатацию в лозунгах «революционной борьбы за социализм/коммунизм», после 1918 г. массы говорили о революции в прошедшем времени: «Революция победила». Наступила пора строительства. Для некоторых революция закончилась после того, как ее поместили в музей, расчленили на экспонаты и выставили на всеобщее обозрение. В Советской России это произошло впервые в 1919 г.
Что же думали современники, говорившие в категориях «после революции» о самой революции? Из использованных нами источников явствует, какое малое значение придавалось ей в то время в деле революционизирования умов. Многие вообще не упоминали о ней или не считали нужным видеть в ней основу всего последующего развития. Они предпочитали писать о будущем. Тем, кто вспоминал о ней, было сложно увязать ее со своими представлениями о будущем, в котором не было места прошлому. Она стала почти в тягость, почти стесняясь, ее время от времени упоминали в описаниях пролетарской культуры и нового человека.
Кто же вообще продолжал высказываться о революции в рамках интересующей нас темы? Бухарин, например, полагал, что революция опрокинула старые отношения между людьми, не создав взамен новых форм20. Из этого следует, что от нее самой не исходило никакого инновационного импульса, ее заслуга состояла разве что в расчистке территории. Однако Бухарин умалчивает о том, насколько ей удалось справиться с этой задачей. Другие говорили об «урагане войны и революции», разметавшем не только экономический строй, но и старые моральные и религиозные устои и, с другой стороны, пробудившем желание заняться «поиском новых путей»21. В. Асмус считал, что революция не положила конец процессу разрушения старых общественных отношений, напротив, в лучшем случае, он только начался. Было бы ошибкой полагать, писал он, что этот процесс прекратится автоматически под давлением новых производительных сил. Асмус стремился предотвратить механистический подход к проблеме базиса
и надстройки. «Люди сами делают свою историю» — писал он, возражая догматикам22. Это проясняет, почему Асмус не видел в революции того же объединяющего момента, что и Бухарин. Его высказывание означает, что не следует отказываться от всего дореволюционного. Саму революцию он считал промежуточной стадией с фильтрующим эффектом. Асмус говорил о ней, как о «творческом действии, реально сязывающем пролетариев со всей положительной культурной традицией прошлого, со всеми возможностями тенденциаль-но намечаемого будущего»23. Что касается расчистки исторического и культурного плато, то в этом пункте мнение Асмуса перекликается с мнениями многих других. Но мы не узнаем, насколько сознательно пролетариат подходит к отбору культурных традиций и каковы критерии этого отбора. Революционный акт рассматривается Асмусом, скорее, с позиций социального дарвинизма: выживает то, что оказывается наиболее приспособленным к существованию в новых условиях пролетарской культуры и наиболее адекватно реагирует на новую культурную среду.
Еще раньше Бухарина и Асмуса представителем подобной, однако содержащей некоторые примечательные нюансы, позиции был старый большевик, юрист и основатель психологической теории права Михаил Рейснер. В своей статье «Старое и новое», написанной им в 1922 г., он представляет свою версию революции24. По его словам, она обладает «чрезвычайно простой механикой», все происходит, как в паровом котле: если нет крана, образуется «...колоссальное давление. И взрыв»25. Здесь его устами говорит современный человек, поднаторевший в естествознании, просвещенный рационалист, оперирующий категориями причины и следствия; здесь и не пахнет идеями милленаризма и освобождения, столь часто звучавших в годы революции и Гражданской войны.
Далее Рейснер учит: «Сама революция ничего не создает. Она открывает выход и расчищает путь. Но то, что творит в ней — это скрытые классы, силы, накопленные до революции, та сдавленная в результате страшного порабощения энергия, которая несет в себе не только семена, но и полураскрытую почку, и росток, которому не дают возможности расти»26. То,
что вначале напоминало социальную физику, внезапно и без всяких переходов превращается в труд по политической ботанике. Очевидно, Рейснер не имел ясных представлений о революции, хотя он и пытается создать такое впечатление: «Теперь мы точно знаем, что такое революция»27. Вообще ему было трудно переложить революцию на наглядные законы физики.
Важно отметить, что революции не приписывалось чреватых последствиями культурных импульсов и в связи с этим ее роль оценивалась как второстепенная. С ней и не связывали никаких ожиданий в культурном отношении. В представлениях ведущих политиков в области культуры она была нейтральным фактом, обладавшим очистительной функцией, надрезом, «хирургической операцией»28, отделившей старое от нового, и не более того. Революция в роли скальпеля. Очень примечательно такое прохладное и безразличное отношение к событию, перевернувшему политические и социальные отношения.
Пока речь вращалась вокруг этих сфер у современников не было проблем с революцией. Ее результаты видели все, они были налицо. Что же касается внутреннего мира, образа мыслей, мировоззрения людей, то здесь определить ее значение было куда сложнее. Как уже отмечалось, большинство теоретиков и не задумывалось над этим. Их взгляд был устремлен вперед. Те же, кто по каким-либо причинам не хотел обходить эту тему, проявляли довольно мало фантазии. Что бросается в глаза, так это явный недостаток анализа, даже готовности заниматься революцией как культурным процессом и событием. Если о революции и упоминалось, то как о законе природы или антропоморфной абстракции со своими собственными законами, неподвластными влиянию человека. Авторы мало размышляли о взаимосвязи революции, революционеров и культуры. Зачастую революция ставилась на уровень метафизики, что не давало возможностей для ее анализа. Складывается такое впечатление, что автоматическое возвеличивание революции прекратилось; вопрос о нем больше не поднимался.
Не принимая во внимание не поясненную Асмусом фразу
о людях как творцах истории, можно задать вопрос: почему же теоретики культуры забыли про людей? Не таилось ли здесь опасности возникновения дальнейших «безлюдных» сфер наряду с революцией? Для этого следует посмотреть, каким авторы того времени видели будущее, в каких понятиях они описывали его и какое место отводилось в нем человеку. Если в концепции революционизирования умов говорилось о продолжении революции на другом уровне, как было показано в предыдущем разделе, то тут же присутствовала опасность абстракционистского подхода к вопросу о человеке. Следовало бы проанализировать, не являлись ли и новая культура, и человек нового типа искусственными конструкциями.
Писать о культуре, не говоря уже о том, чтобы составлять ее проекты, авторам и политикам того времени было куда сложнее, чем высказываться о революции и Гражданской войне. Но эта тема была жгучей и, казалось, занимала людей намного больше, чем анализ революции. Из этого можно сделать следующий вывод: в глазах плановиков культуры, ориентированных почти исключительно на будущее, революция не вписывалась в историю. Имеется в виду явно недостаточное историческое обоснование переворота отношений; революция 1917 г. крайне редко включалась в цепь исторических процессов. Взгляд был все время устремлен вперед. (Зставше-еся в прошлом не было забыто, но почему-то утратило свое значение. Возникает впечатление, что с революцией история прекратила свой бег. Сама революция создает впечатление безысторичности, т. к. авторы поместили ее в исторический вакуум. Будучи началом новой истории, она в то же время не относилась ни к старому миру, ни к новому. Выше говорилось о революции как о надрезе, отделившим старое от нового. Уточним: этот надрез находился вне времени. В лучшем случае революция указывала в будущее, и одновременно в прошлое. Конкретнее об этом будет сказано в главах, посвященных музеям и плакатам.
Если в истории не находилось места для революции, то можно ли ожидать связи с историей от проектов новой культуры? При всем своем своеобразии использованные нами источники сходятся в одном пункте: никто и не попытался
обосновать еще не существующую культуру подробным анализом истории и современности. По вопросу о происхождении новой культуры царил всеобщий консенсус: она не выводилась ни из ближайшей, ни тем более из отдаленной истории, а была придумана какими-то людьми, связывавшими свои представления о лучшем мире с определенными взглядами на духовные и психические качества пролетариата. Она была мыслительной конструкцией. Взгляды ее теоретиков зачастую напоминают взгляды людей прошлого, полагавших, что мухи берутся из воздуха, потому что их личинки не были видимы невооруженным глазом.
Новая культура не имела никакой связи с прошлым, в ней не были учтены, даже в произвольной комбинации, ни характерные качества пролетариата как такового, ни качества, исконно присущие российским рабочим. На основе дискурса о культуре, а не экономическими условиями объясняется, почему преследовавший явно педагогические цели, Бухарин писал о «пролетарской дисциплине и пролетарском порядке»29, хотя уж он-то должен был бы знать, что определение «пролетарский» ничего не меняет в содержании, по поводу которого с ним согласился бы любой прусский патриарх бизнеса. Луначарский, обладавший большей чуткостью, развивал свои идеи на почве наблюдаемого им дефицита. «Колоссальная точность, колоссальная аккуратность, <...> мы требуем отчета перед здоровьем, перед временем, перед нашим окружением. Умеренность, дисциплина, практичность стоят на первом месте. Это неизбежное требование революции в период строительства»30. Будь то «социалистический» или «коммунистический» «дух»31, «новые разумные социалистические основы»32, «производственная гордость и трудовая честь»33, «аккуратность» или просто «красота»34, «гласность»35 и другие составляющие новой культуры: все это свидетельствует о существовании идеалов, мечтаниях о будущем, поиске стандартного набора психосоциальных качеств; это зацикленное на самом себе проявление «нового, материалистического мировоззрения»36, происходившее в условиях ceteris paribus. Архитекторы культуры считались с тем фактом, что на созидание новой культуры потребуются «годы и десятилетия»37, но этот срок не
воспринимался ими как препятствие. Словно считая составление проекта новой культуры частью его реализации, они не учитывали, что в процессе ее становления условия могут измениться и потребовать внесения корректив. Еще меньше они думали о том, что на выполнение проекта могут оказать влияние люди. Высказывание Асмуса о том, что люди сами творят историю, так и осталось единственным. Несмотря на формальное признание созидательной силы масс, ее так и не учли в составлении проекта культуры, потому что и без того было ясно, к чему она приведет.
За примером обратимся снова к Бухарину. Его идеалом был трезвомыслящий, активный, энергичный человек, знающий цену времени и достигающий «максимальных эффектов» — «люди, твердыми ногами с литыми мускулами, идущие к раз поставленной цели»38. По словам Бухарина, этот идеал должен был воплотиться в жизнь, потому что пролетариат не мог больше жить и работать по-старому и, следовательно, это было неизбежностью. Из пролетариата должен сформироваться «смелый, работающий, культурный трудовой боец», — по мнению Бухарина, высшая ступень развития. «Рабочие, пролетарии могут выработать массы таких трудовых бойцов». Словно заклиная (может быть, и самого себя), он упрямо повторяет: «Они их вырабатывают. Они их выработают»39.
Не все думали так недиалектично, как Бухарин, который в нашем примере словно бы постарался подтвердить слова Ленина о том, что он никогда не понимал диалектики. В том же самом номере журнала «Революция и культура», в котором опубликована статья Бухарина, есть статья, в которой намного интенсивнее прослеживается связь нового с настоящим, а также с наследием дореволюционного времени. Но и ее автор пошел против заповеди Асмуса, т. к. он — как и большинство его коллег — придерживался следующих взглядов, которые он не обосновывает, не взвешивает, не проверяет их верности, а просто автоматически «выводит» из постулатов марксизма, заменяя недостаток продуманности эмфазой: «Мы, марксисты, превосходно знаем, что переворот в психологии, революция быта происходит не вследствие мо
ральных проповедей, а в результате изменения материальных условий. Участие широких масс трудящихся в строительстве жизни, в деле управления и развития социалистического хозяйства имеет решающее значение и для преобразования и перелома человеческой психики, для подъема сознательности и организованности масс, для культурного роста всего населения вообще»40.
В процитированных нами словах, производящих впечатление стандартного высказывания о культурной надстройке общества, содержится один важный пункт. В исключающей возражения суггестии того, что «мы, марксисты» знаем — хотя, по крайней мере, сам автор не знал, а просто послушно повторял услышанное им от других — постулируется некий якобы вечно действующий закон. Человек объявляется продуктом производственных отношений. В замыслах дизайнеров культуры не учитывалась ни самодеятельная сила «широких масс», ни их собственная воля к созиданию, ни их психическая конституция, ни возможное влияние этих факторов, можно сказать, что это была «переменная функции», обладавшая нулевой величиной.
Возникающий здесь и повторявшийся уже не раз вопрос гласит: в действительности ли человек играл второстепенную роль по отношению к культуре и ее содержанию, сведенного одним из современников к «атеизму, материализму и коммунизму»41 — формула, в трех основных словах очерчивающая контуры нового. С какой целью, спросим далее, писалась многочисленная литература по комплексу тем, связанных с «человеком нового типа»? Ведь, в конце концов, после революции существовало большое количество произведений, в которых описывается идеал нового человека и перечисляются его качества: любовь к коммунизму, готовность бороться за него, революционный дух, желание участвовать в переменах и активность, трудовая дисциплина, эрудиция и знания, технические способности и дух коллективизма.
Но во всех описаниях человека нового типа сразу бросается в глаза одно: не то, что авторы не знали, что его еще не существовало, а скорее, его абстрактность, оторванность от реальной жизни. Он является иллюстрацией новой культуры,
но не ею самой, потому что в конечном итоге все эти идеалы были творением элиты.
В культурном дискурсе тех лет на человека смотрели не как на предмет психологического переустройства, а с точки зрения объективизма, как на предмет и утверждение новой культуры. Для культуры человек был всего-навсего орудием, рупором или ее отражением. То есть для плановиков культуры человек был не индивидуумом, обладавшим телом и психикой, он был нужен лишь для выражения культуры. Эта культура являлась синтетической, представляя собой фиксацию идеального состояния в будущем. Она была застывшим конечным продуктом абстрактного конструирования образцов.
С многочисленными мелкими иллюзиями соседствовала еще одна более высокого порядка. В этом месте необходимо ненадолго вернуться назад. Мы выяснили, что культура означала продолжение революции другими средствами. Но одновременно изменилось качество этой революции умов, приобретя характер описания идеального состояния, отмеченного признаками утопизма. Это была не утопия «для людей»; люди, как и культура, были вырваны из истории, в ходе дискурса они приобрели вид безжизненных фигур, лишенных какого бы то ни было обоснования. Культурный дискурс проходил на абстрактном уровне, над головами людей, за которыми прежде признавалось право на самовыражение. Удивительно, до чего не по-марксистски обстояли дела в данной сфере у номинальных марксистов, говоривших «языками Маркса и Энгельса» (Вольф Бирманн).
Если искать объяснения такой ситуации, то во-первых, можно предположить, что авторы планов просто недостаточно основательно выучили свой урок марксизма. Они стали жертвой старой ошибки, считая, что описание лучшего мира уже наполовину обеспечивает достижение желаемого. Рисовать картины прекрасного будущего было очень популярным занятием после революции, о чем еще раз напоминает книга Ричарда Стайтса42. Многие имели определенные представления о нем, некоторые начинали действовать, не отрефлектировав свои мысли в письменной форме. Некоторые делали и то и другое, кто-то просто писал, ничего не предпринимая, в зави
симости от возможностей, таланта и темперамента. Можно ли было при таком положении дел ожидать, что плановики культуры откажутся от своих проектов в пользу анализа отношений прошлого и настоящего? Ведь куда как приятнее, да и проще, было вносить свой вклад в развитие новой культуры — невзирая ни на какие сложности — чем заниматься анализом собственного времени. Количество написанного о новой культуре и новом человеке говорит о том, какой чрезвычайной популярностью пользовалась эта тема, которую можно было обсуждать открыто, ничего при этом не опасаясь.
Однако для объяснения описанной ситуации недостаточно сослаться на поверхностное знание трудов Маркса и утопический дух времени, эру мечтателей (по словам Стайтса). Давайте снова вернемся к революции. В источниках обнаруживается одно своеобразное противоречие. Хотя в них больше и не упоминалось о самой революции, она оказала более стойкое влияние на мышление плановиков культуры, чем кажется при поверхностном знакомстве. Поясним это.
В понимании того времени революция означала, прежде всего, полное разрушение старого. Бухарин, Асмус и Рейснер придерживались взглядов, типичных для целого ряда остальных авторов. Асмус видел в марксизме «критическую и разрушительную силу», «самую революционную и разрушительную из всех теорий, когда-либо существовавших». «Марксизм — поскольку он обращен против капитализма — есть, прежде всего, оружие отрицания, оружие восстания, словом — великая разрушающая сила»43. От такой анархистской трактовки марксизма Асмус переходит к описанию очистительной силы революции. Но он подчеркивает аспект уничтожения, резкую остановку.
«<.„> один лишь факт свержения царизма и буржуазного^ правительства вызвал более крупные перемены в психике, а, следовательно, и в быте трудящихся, чем тысячи самых лучших программ и агитационных речей»44. Не только смену ценностей и власти, но и «духовное потрясение» означала революция для географа и этнографа Тан-Богораза, отправившегося в поисках нового в села поморов45. В произведении Е. А. Преображенского «О морали и классовых нормах» мы
сталкиваемся с еще одним вариантом: о революции не упоминается вообще, несмотря на факт ее свершения и вызванный ею всеобщий переворот. За разделом о «классовых нормах пролетариата до революции» следует глава «После завоевания власти», начинающаяся лаконичным предложением: «Пролетариат пришел к власти». И это — после заключительных строк предыдущей главы, посвященных проблеме классовой солидарности пролетариата!46 Здесь отражен типичный подход к революции современников. Он выражен в приведенной цитате в сжатом виде. Паровой котел революции, по выражению Рейснера, взрывается, и в тот же самый момент появляется новое. Такой образ революции направил мышление в определенное русло: утвердилась мысль о возможности одним разом разделаться со всеми нежелательными моментами. Подчеркиваю, речь идет не о том, должен ли, может ли являться и является ли переворот заслугой революции, а в том, что для современников «революция», по-видимому, превратилась в нормативную и стандартизирующую категорию. Ее содержанием было разрушение, ломка, ампутация, элиминирование, но не только как формы действия, но и как элементы когнитивной структуры. Отталкиваясь от этого, можно было пойти еще дальше и подумать не только о возможности резкой перемены обстоятельств. Тот, в чьем мышлении укоренился такой взгляд на революцию, уже находился по другую сторону линии раздела, совершив (для себя) свою революцию, у него не было нужды размышлять о прошлом.
Такой подход к категории революции означал формирование мышления чрезвычайно схематического характера, оперирующего антитезами. Это объясняется не только марксовой моделью классовой борьбы и революции, т. к. выше уже отмечалось, что если бы его произведения были изучены с должным вниманием, то и методы, и результаты выглядели совершенно по-другому. Здесь же мышление антитезами доходило буквально до крайности. Так как категория революции заняла прочное место в когнитивных структурах, она поставила заслоны на пути революционного мышления. Это наложило четкий отпечаток на направленность мышления.
Такое «революционное» мышление в категориях «до» и «после», а не «во время», «буржуазный» и «пролетарский», а не категориями культурного наследия: «прошедшее» и «на-стоящее/будущее», заметно сказалось на идеях о новой культуре и новом человеке. В очень редких случаях в дискурсе говорится об изменении и изменяемости духовной и психической конституции, речь шла об их замене. Вместо того, чтобы исследовать конституцию человека, планировщики культуры занялись ее конструированием, вместо того, чтобы предложить приемлемый путь для развития существующего, они прелюдицировали будущее. Старое заменялось новым.
Мы подошли к пункту, к которому время от времени будем возвращаться в ходе повествования: здесь мы обосновали противоречия в моделях развития когнитивными факторами. К этому добавляются другие аспекты, например, влияние самих людей на осуществление культурных проектов, просто игнорировавших их, или предлагавших другие решения, в результате чего культурный проект, направленный на осуществление изменений, сам претерпел изменения47.
Но прежде чем перейти к последующим главам, посвященным описанию культурной практики, необходимо разобрать еще один центральный аспект, без учета которого характер вышеизложенных соображений был бы незаконченным, если неискаженным. Выше было показано, что плановики культуры все время подходили к пунктам, которые должны были бы побудить их повернуться к прошлому, заняться анализом его влияния. Как отмечалось, большинство из них уходили от этой темы. Однако не все они сбрасывали старое (пока что будем называть его этим нейтральным словом) со счетов, — были среди плановиков культуры и такие, кто все же размышлял о нем.
Все тот же Преображенский, к которому мы обращались несколькими строками выше как к выразителю типичного взгляда на революцию, одним из первых начал говорить о существовании традиций, о том, что их нельзя считать пассивными и недооценивать возможности их влияния на будущее. Тот факт, что глубоко проникший в суть проблемы Преображенский всего три года спустя отошел от построения
новой культуры, говорит о прямо-таки магнетической притягательности понятия «революция».
Преображенский сформулировал проблему в краткой статье, отличавшейся открытостью, ясностью взгляда, осознанностью проблемы, и — как предпосылкой всего этого — реалистичностью48. Он пишет об отсталом сознании масс, о том, что «основы старой идеологии валяются кругом как отрепье и опутывают ноги рабочего класса», мешая ему продвигаться вперед, «старые взгляды и инстинкты» показывают свое безобразное лицо. Статью Преображенского можно считать еще одним подтверждением осознания огромной пропасти, отделявшей революционеров 1917—1918 гг. от большей части населения. Автор не строит иллюзий по поводу того, что лозунгом настоящего момента должно стать, в первую очередь, «долой», и лишь затем — «да здравствует». Влияние традиций столь сильно, что даже коммунистическая партия «на четыре пятых, если не на девять десятых» использует в проведении агитации и пропаганды методы, перенятые у буржуазного общества.
Эта статья, напечатанная в самом начале первого номера журнала «Вестник агитации и пропаганды» 1920 г. как программа, носит название «Наша работа». Плановики культуры, к которым присоединился Преображенский, либо не читали этой статьи, либо забыли о ней. Однако периодически эта проблематика всплывала на поверхность. Разве не писал Рейснер о семени, о полураскрытой почке, о ростке, которому отныне предоставлены возможности для свободного развития? Было бы ошибочным задавать сейчас вопрос о том, что такое «старое», как поступили Ричард Стайтс и Стефен Вайт, т. к. это приведет к неоправданно произвольному выбору критериев. Правильным, причем единственно правильным вопросом к дискурсу тех лет будет: что понимали под словом «старое» плановики культуры? На что они наклеивали этикетку с надписью «старое»? Что было нового в старом и старого в новом?
Осознание живости традиций отразилось в понятии, появившемся примерно в середине 20-х годов: быт. Его популярность свидетельствует о переориентации. Появление этого
понятия означало признание существования широкой культурной сферы, границы которой простирались от повседневной жизни до коммунистической этики, находившихся под влиянием дореволюционных традиций. Понятие «быт», а также применявшиеся наряду с ним понятия «образ жизни» и «жизненный уклад», употреблялись в то время для обозначения совокупности составных частей жизни, обладая в то же время оттенком традиционности, привычности, неподвижности. Небольшой частью авторов это понятие применялось вместо вышедшего из моды слова «культура». Однако не только они писали слово «быт» в значении «перестройка всей жизни»'19 большими буквами. Так поступало и большинство остальных, приписывавших этому понятию груз прошлого, ведь это слово помогло им найти выход из чересчур абстрактной и оторванной от жизни дискуссии, разгоревшейся вокруг культуры. Но они трактовали это понятие не слишком узко: понятие «быт» служило для обозначения всего традиционного. В этом слове постоянно присутствовал динамический момент, т. к., произнося его, одновременно с ним подразумевали и новый быт. Это означает отсутствие четких различий во мнениях двух лагерей относительно будущего развития.
Так понятие «быт» было открыто в середине двадцатых годов, его разработка достигла расцвета, продолжавшегося до тех пор, пока он не был вытеснен из дискуссии под влиянием индустриализации и коллективизации50. Если вспомнить о содержании и контексте дискурса о культуре, не покажется удивительным, что по прошествии некоторого времени последняя снова заняла его место. От дискурса прошлых лет тему быта отличали не только большая степень продуманности, аналитический, надреволюционный взгляд на вещи. Кроме этого, она была еще и более демократичной, поскольку здесь присутствовали люди. Появление темы быта было признанием бесплодности дебатов о культуре. «Здесь нужно сказать открыто, по-большевистски: до сих пор мы не создали почти ничего нового, и нам неясно, какой быт является нашим идеалом», — писал М. Н. Лядов в «Вопросах быта»51. Это понятие подтвердило наличие глубокой пропасти по идеологиче
ской, социальной сфере и по вопросам менталитета между плановиками культуры, режимом и большей частью населения. Быт нельзя «ни уничтожить, ни декретировать, быт нельзя спускать сверху»52. И, понимая всю сложность этой проблемы, нельзя было решить, «что хорошо, что плохо, с чем нужно бороться, а что должно расти и укрепляться»53. «Мы видим, как постепенно, в процессе развития, сама жизнь готовит человека к будущему»54. Такие выводы можно назвать сведением счетов с прежними нереалистичными представлениями о новой культуре.
В дискурсе о быте вопрос о традициях поднимался в разных формах. Он нашел свое отражение в ряде эмпирических трудов, представлявших собой серьезную попытку ознакомиться с жизненным укладом народа, прежде чем приступать к осуществлению перемен. Например, этнографические исследования тех лет являются чрезвычайно полезными источниками, позволяюшими реконструировать «советскую» жизнь первых послереволюционных лет55.
Наконец, появление вопроса о быте в дискуссии тех лет означало отход от схематизированной истории классов и возвращение к истории людей. Это означало, что прекратилось отрицание связи с прошлым, теоретики вспомнили о своих навыках общественного анализа, проявилась воля к восприятию конкретной ситуации, пришел конец попыткам (само)обмана по поводу возможности великих перемен, на смену революции пришла реформа, появилась ориентация на долговременный опыт, предполагавшая умеренный подход и исключавшая применение силы.
Сформировался лагерь, противостоявший теоретикам культуры, однако нельзя сделать никаких обобщений по поводу участников того и другого. Вопросами быта занимались люди таких разных характеров, как Троцкий и Луначарский, и многие другие, менее известные в то время, а сегодня забытые совсем. Появление проблемы быта не означает и внезапного прекращения дискурса о культуре. Он просто отошел на задний план, когда темой дня стал быт. Так, к дискурсу о быте переметнулись не все, некоторые остались на своих прежних позициях, борясь с теоретиками быта56.
Были ли это и в самом деле старые большевики, сказать невозможно. Различные явления общественной жизни двадцатых годов наслаиваются друг на друга, переплетаются друг с другом, образуя большой запутанный клубок. Это затрудняет выполнение поставленной нами задачи обрисовки дискурса.
Раскол проявился не только в противостоянии двух лагерей, но и внутри самого дискурса о быте. Теоретиков культуры связывало с теоретиками и исследователями быта одно: вопрос о необходимости внесения изменений в быт. Что касается невозможности его декретирования, то по этому пункту царило единогласие. Но что же планировалось предпринять для того, чтобы освободить построение нового от груза старого? Как раз это и стало источником разногласий внутри дискурса о быте, т. к. здесь вдруг появились те же самые проблемы, что и у проектов культуры. Теперь, по крайней мере, стало известно, какой в действительности была жизнь в городе и деревне, однако это не означало приближения к цели. Более того: после того как, наконец, была выяснена ситуация с жилищными условиями, гигиеной, досугом, индивидуальными бюджетами, праздниками, сексуальными отношениями, политической позицией и т. д., путь к цели показался бесконечным. Поэтому теоретики быта предоставили решать задачу формирования нового быта следующему поколению, на которое возлагались их надежды. В качестве пособия в помощь подрастающим коммунистам, призванного помочь им в освоении нового образа жизни, был выпущен сборник «Каким должен быть коммунист»57. Перво-наперво был изобретен лозунг «Борьба с мелочами», — недальновидная акция, в скором времени лишь усилившая ощущение неуверенности, т. к. «Во власти прошлого все еще продолжают находиться миллионы»58.
Это означало, что теоретиками быта был предпринят также важный мыслительный шаг, уже знакомый нам из описания проектов культуры. Внедрение нового быта, отложенное на будущее, пусть даже и всего на одно поколение, означало отказ от концепции трансформации быта в данный момент. Был сделан вывод о том, что быт следует формировать, а не
трансформировать. Для этого вначале должно было освободиться место — в отличие от теоретиков культуры, теоретики быта не вели речи о необходимости его расчистки, — нужно было подождать, пока проблема традиций решится биологическим путем, создав возможность для возникновения нового быта. Но — в отличие от плановиков культуры — не путем принятия проекта, а как результат долговременного развития социалистической экономики и самообразования масс под руководством коммунистической партии и самозваной культурной элиты59.
Несмотря на все отличия между лагерями дискурса, они — об этом важно помнить — были не так уж и строго отделены друг от друга. На этом дискурс о быте завершается. Вместо него на повестку дня дискуссии снова встал вопрос о культуре со всеми его слабыми местами, обусловленными, прежде всего, образом мышления, описанным в этой главе. Так замыкается круг революция—культура—быт—культурная революция.
В этом месте возникают дальнейшие вопросы, но воздержимся от ответа на них. В дело построения новой культуры стала вмешиваться власть, причем с большей настойчивостью, чем раньше. Можно ли расценить это как знак поражения «первой» культурной революции? Люди не приняли новую культуру самозваных дизайнеров. Поэтому она была декретирована. Значит, культурный авангард передал свой проект государству с целью обеспечения гарантии его осуществления, как считает Борис Гройс60? Новый этап дискурса представлял собой шаг назад в идейном смысле: мы упоминали о том новом качестве, которое приобрела культура. Она словно переходила от идеала к эмпирике (быт), а от него — к идолу, т. к. в конце концов надежды на создание новой культуры рассыпались в прах. Но вместо того, чтобы улетучиться, «новая культура» стала конкретизироваться.
Еще раз предоставим слово Керженцеву. После публикаций в 1919 г. и 1921г. в 1927 г. вышла в свет его программная брошюра под названием «Человек новой эпохи»61. В ней он твердо констатирует: «Новая эпоха неизбежно выработает нового человека. Пока его еще нет»62. Однако Керженцев по
лагал, что знает пути. Здесь и начинается конкретизация. С одной стороны, говорится о руководящей роли государства, т. к., по выражению Гольцмана, культуру создает тот, в чьих руках находится власть. Во-вторых, добавляется мотив борьбы. Керженцев считал, что человек нового типа должен не только обладать «системой взглядов», кроме этого, его отличительной чертой должна стать «борьба за коммунизм». Иллюзии улетучились, а вместе с ними и идеалы. «На смену экономической и культурной работе приходят суровые войны»63. Руководство «этой борьбой, борьбой за пролетарское мировоззрение», взял на себя журнал «Революция и культура», основанный в 1927 г.64. В третьих, представительницей новой культуры была названа небольшая группа населения. Керженцев находит среди части молодежи людей воинственного типа, относящихся к революции небезразлично. По словам другого автора, они представляли собой «человеческий материал нового рода»65. «Разумеется, только молодежь» была способна создать новую культуру66.
Все сказанное выше позволяет найти подход к анализу культурной революции в конце двадцатых годов. Представляется, что существует тесная связь между несостоявшейся реорганизацией умов, государством, культом юности и насилием. Этот вопрос пока ожидает своего исследования.
Трудовая культура
По прочтении предыдущих разделов может создаться впечатление, что дискурс о революции и культуре тех лет привел к унификации взглядов. Неужели не было никого, кто выпадал бы из описанных здесь рамок?
Ответ на этот вопрос гласит: с одной стороны, смысл и цель вышесказанного состоит в иллюстрации образа мышления того времени на основании представлений, на первый взгляд, запрятанных глубоко, однако присущих многим, в показе одного из фрагментов коллективного бессознательного. Не будем делать здесь искусственных обобщений, дабы не повторять ошибки, жертвой которой стали упомянутые во введении авторы, опиравшиеся на субъективистские постулаты преемственности.
Были в то время и «инакомыслящие». В качестве примера назовем Алексея Капитоновича Гастева и Абрама Зиновьеви-; ча Гольцмана.
В лице Гастева мы встречаемся, пожалуй, с самым известным сторонником радикального подхода к новой революционной культуре. Он является благодарным объектом для научных исследований. В Германии написаны две работы, посвященные подробному анализу его теории научной организации труда, разрабатывавшейся в Центральном институте труда (ЦИТ), а также региональных филиалах НОТ67. Гастев был — далеко не единственым68 — пропагандистом тэйлориз-ма в СССР, механизации человека, подчинения его машине, «машинизации» человека с целью повышения эффективности трудовых процессов: «Мы должны создать автоматы из нервов и мышц, которые мы превратим в естественные рабочие движения, и, одновременно, мы должны создать автоматы общего поведения субъекта»69. У Баумгартена и Татура Гастев показан самым радикальным выразителем желания большевиков связать невидимыми нитями производство, культуру и нового человека воедино. Они ставят Гастева на одну линию с большевиками и их представлениями об оптимизации производства, признавая, правда, что он обогнал всех остальных по смелости подхода к организации труда и человека.
Во многочисленных произведениях, часть которых была написана еще до революции, Гастев воспевает машину, повальную технизацию страны, пролетарий видится ему колесиком безотказно функционирующего механизма. Это дало повод Ричарду Стайтсу, которому рекомендовалось бы ознакомиться с работами Баумгартена и Татура, говорить о Гастеве, как об утописте70. В результате Гастев, его теория и ее применение показаны как один из вариантов широко распространенных утопий. Экспериментатор с собственной лабораторией, которую правительство предоставило ему как одному из своих людей для того, чтобы тот имел возможность доказать свою правоту и подтвердить целесообразность своих предложений по рационализации труда в России — всеобщее заветное желание. Таким образом, у Стайтса Гастев показан как одно из
воплощений духа времени, при всем своем разнообразии и многоликости отмеченном утопичностью71.
Чем же отличался Гастев от уже представленных здесь плановиков культуры? В то время, как остальные высказывали расплывчатые идеи о производственных отношениях и культурных переменах, Гастев подошел к делу со всей конкретностью, поставив на повестку дня понятия, обделенные вниманием остальными дизайнерами культуры: труд и культура труда. Его не интересовали различия способов производства. Гастев был инженером. Поэтому для него не представляло трудности распространить идеи архикапиталистического тэй-лоризма на социалистическое производство72.
Так что неудивительно, что человек такого склада не принимал дебаты о культуре своего времени. Преследуя за всеми своими проектами и мыслями идею новой культуры, он считал их слишком идеологизированными. «Очень сложно вывести в них современную экономическую базу, на основе которой строится новая культура, о которой теперь везде говорят. Не поставив вопрос о культуре конструктивно, не выводя ее из элементов статической и динамической реальности, царящей у нас теперь, мы рискуем сформировать чисто литературные тенденции, которые вскоре износятся, точно так же, как износился целый ряд лозунгов, выдвигавшихся в свое время с целью пропаганды производства. <...> Следует заниматься не только формулировкой формальных лозунгов, но и конкретизировать их»73.
Имелись ли у самого Гастева, столь критично отзывавшегося о культурных дебатах своего времени, ясные представления о том, какой должна быть новая культура? Может быть, прав Стайтс, утверждавший, что тот «раскрыл сущность новой пролетарской культуры?»7,1. И что имел в виду Стайтс: сущность пролетарской культуры или новой пролетарской культуры?
Трудно спорить с критикой Гастева: «Расхлябанность в быту — наше главное зло» и сделанным из этого выводом о необходимости создания рабочих нового типа, число которых пока что мало, но которые должны появиться в будущем. «Курс <...> на активных строителей жизни. Если их нет, их
надо родить»75. Как и прежде, в более ранних произведениях, его мысли вращаются вокруг человеческой деятельности. В нем все еще говорит инженер: «Если она (культура) не усвоит этот новый инженерный тон эпохи, если снизу доверху не будет поставлено воспитание всего народа, если не будет методически прививаться эта народная выправка, нас объедет горожанин Европы и Америки, горожанин далеко уже не так развитой и знающий, но ловко портативный и тренированный»76.
Позиция заключалась в «наблюдательности, изворотливости, воле, режиме, труде, организации»77. Гастев требовал «технической и социальной сноровки»78, являвшейся для него ядром новой культуры, для обозначения которого он выбрал слово «установка», семантическое поле которого охватывает одновременно монтаж какого-либо технического устройства и внутреннюю позицию человека по отношению к чему-либо. Игра с понятиями бывшего поэта, отдавшего предпочтение исследованию научной организации труда. «Итак, под именем культурных установок мы разумеем такого рода биологические и социальные качества, овладение которыми обеспечивают носителю этих качеств культурную и социальную победу»79. Он писал, что революционеры не перестают ожидать от нового человека оригинальности. Однако следует взять себе за правило требовать от человека «не оригинальности, но минимума автоматизма»80.
Приведенные цитаты являются единственными пассажами, в которых проскальзывает субтон классовой борьбы. В остальном читатель не найдет в произведениях Гастева и намека на это. Тем в большей степени данные цитаты отражают суть представлений о стилизации человека.
Лишь с учетом этого начинает становиться понятным, в чем заключалась суть Гастевского культурного проекта. Он не собирался создавать пролетарскую культуру. Его подход отличался универсальностью. В этом он опережал дизайнеров культуры своего времени. «Рабочий или работница, пробивавшие своими руками и станком трудовой кавардак, как ледокол северные льды. Строитель станции, работавший под смешки и хныканье кумушек. Огородник, вырастивший в эти
годы кукурузу в районе Москвы и помидоры в Вологодской губернии. „Спецы” — далеко не коммунисты, но полюбившие новую Россию и новое государство и отдающие себя безо всяких задних мыслей. Изобретатели, лаборанты, двигавшие науку с юношеской радостью. Учителя и учительницы, жившие в холодных сараях на корке хлеба, но создавшие армию нового юношества. Наконец, артисты театра и литературы, говорящие языком конструкций и напора. Они, эти люди, и есть настоящий комвзвод нашей страны»81. Для руководителя ЦИТ это были типажи переходного периода. Он ни словом не обмолвился об оказании предпочтения пролетариату в создании новой культуры.
Инженер Гастев, которого не волновали различия способов производства, работал над созданием человека нового, универсального типа. Мотив классовой борьбы проскальзывает у него лишь потому, что, согласно его же словам, пролетарская Советская Россия была первой страной, занявшейся разработкой абсолютно нового человека, хотя Запад немного опередил ее в этом82. О том, как мало марксистского было в аргументах Гастева, свидетельствует не только последняя цитата, в которой перечислена целая коллекция различных типов трудящихся при отсутствии ориентации на пролетариат, но еще и следующее: говоря о трудящихся, Гастев не имеет в виду социальную категорию, закрепляющую принадлежность к классу. Для Гастева не существовало пролетария, под трудящимся он подразумевает человека универсального, бесклассового типа, производителя.
По этой причине понятие трудовой культуры приобретает решающее значение. Было бы ошибочным предполагать, что в нем заложен тот же смысл, что и у большевиков. Напротив, здесь мы имеем дело почти с его противоположностью. Гастев писал обо всех тех, кто занимался созидательным трудом, работал, вне зависимости от того, подпадали эти люди под классическое определение пролетария или нет. Как иначе можно объяснить тот факт, что в ряды трудящихся он без всяких оговорок включал, в том числе «буржуазных» специалистов. Конечно, в этом можно усмотреть скидку на специфику периода, характеризовавшегося дружелюбным отноше
нием к специалистам, однако это вписывается в проект трудовой культуры Гастева без всяких проблем. Понятие «трудовая культура» было всеобъемлющим. Оно означало не культуру труда, как бы ограниченного пределами предприятия, а некое культурное целое. Труд должен был стать девизом грядущей культурной эпохи, поскольку в нем заключалась сущность человеческого существования. У Гастева труд превращается во всеобъемлющую категорию, определяющую существование человека, наконец, в самоцель.
Если взглянуть на все это с другой стороны, предположение об универсальности идей Гастева подтверждается. Так как его интересовала не пролетарская, не новая пролетарская культура, а просто культура, то революция играла для него второстепенную роль. Она служила всего-навсего инструментом, предоставлявшим возможность подобраться к тем социальным слоям, которые в противном случае было бы сложнее включить в концепцию культуры. По словам Гастева, революция сняла печать «анонимности с народа» и вынесла на поверхность «нижние слои народа» — о пролетарской революции здесь не сказано ни слова! Это давало возможность принять во внимание народ при создании проекта культуры83. Выражаясь образным языком Гастева, «Надо взять на магниты (новой культуры) революционные низы»84.
Итак, в революции Гастев видел не освобождение порабощенного пролетариата, борьбу с угнетением, за свободу и права, а средство, облегчающее задачу введения универсальной трудовой культуры. Революция была лишь фактором, вызвавшим культурную революцию. Последнее интересовало его в большей степени. Все, что было сказано выше о его идеях, подпадает под это понятие. В разделе «Тактика» книги о культурной установке, он подводит обобщающий итог: «Так и знай:
труд — твоя СИЛА,
организация — твоя СНОРОВКА, режим — твоя ВОЛЯ.
Это вот и есть настоящая
КУЛЬТУРНАЯ УСТАНОВКА
А все вместе =
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»85.
Тем самым Гастев не вписывается в образ мышления, проанализированный нами в предшествующих разделах. Он не был большевиком радикального толка. Его отличала не толь
ко острота и последовательность передачи духа времени. Дисциплины, организации труда и четкости требовали в то время и другие. По сути, Гастев не являлся ни большевиком, ни революционером в духе Ленина, ни кем-либо другим, на чьем революционном знамени стояли слова о классовой борьбе как о средстве. Но он питал склонность к революционному обществу большевиков. Это и привело его к ним, т. к. ими были созданы почти идеальные предпосылки для достижения преследуемой им цели: единая, централизованная, воспитательная, организованная культура, направленная на мобилизацию масс.
Общественная формация, по сути своей тяготеющая к дифференциации, противилась идеям Гастева. Социалистическая, пришедшая ей на смену, существенно облегчала реализацию его универсалистских замыслов. «Поэтому наша культура, очевидно, должна быть в то же время государственной культурой»86, /- постулировал он, т. к. «государственная культура» обладает самым общим и обязательным для всех характером. Разве не сказал Гольцман, произведение которого нам предстоит рассмотреть вскоре: «Культуру создает тот, кто обладает властью»? Если в прошлом разделе мы упомянули, что государство сочло нужным вмешаться в ход развития лишь после того, как реорганизация с треском провалилась, то Гастев с самого начала подчеркивал его огромную роль. Реализация его концепции, конкретизировавшейся до создания института, прямо-таки зависела от наличия сильной инстанции по управлению культурой.
Все это создавало огромный разрыв между Гастевым и его современниками, если он вообще когда-либо был близок им, в чем позволим себе усомниться. Не проявляя интереса к способам производства, капиталистическим, социалистическим, или каким-либо еще, он отрицал их специфическое влияние, абсолютизировал технизацию и автоматизацию и интересовался мыслительными, аффективными и психомоторными проявлениями человека в идеаль
ных условиях высокоразвитого производства. Гастев был нацелен на изменение человека, а не условий производства, постоянно повторяя, что новые трудовые процессы требуют новых людей, которых, видимо, предстояло создать вначале, поскольку не могут же они возникнуть сами собой под влиянием труда.
Еще одна существенная особенность Гастева состояла в том, что вопрос быта не создавал проблем для его проекта трудовой культуры. Будучи большим экстремистом, чем остальные дизайнеры культуры — его современники, он обладал иммунитетом к вопросу о влиянии на человека жизни; под «жизнью» подразумевались внешние факторы, не зависящие от человека, возможностей его тренировки, его производительности и успехов. Даже пролеткультовцы, обычно стоявшие во главе самых радикальных попыток реорганизации, не избежали участия в дискурсе тех лет. По их словам, в экономике все можно просчитать по весу, протяженности и содержанию с помощью арифметики. «Но рассчитать взгляды, мировоззрения, привычки, нормы и мораль в сфере культуры и образования — дело чрезвычайно сложное» — писал Ф. И. Калинин, член Пролеткульта87. «Сила бытовых форм жизни» и «выяснение их влияния на пролетариат» навели Калинина на мысль о том, что следовало бы «перейти к более тонким единицам измерения, с помощью которых можно учесть противоречия и неожиданные явления общественного бытия в его живой организции»88.
У Гастева не было предусмотрено неожиданных явлений, и силы быта и привычек для него не существовало. Он отзывался о России как о стране без традиций, что касается «способности трудиться»89. Как раз на это обстоятельство он и возлагал огромные надежды, при этом отнюдь не приветствуя полное отсутствие культуры труда. «Счастливое» обстоятельство отсутствия традиций он считал источником «неограниченных возможностей»90. Калинин, представитель Пролеткульта и один из выразителей представленного в предыдущем разделе образа мыслей, в ходе своих размышлений приходит к заключению о необходимости «сознательного овладения процессом общественного переустройства»91. Устремления Га
стева были точно такими же. Даже при наличии разной исходной базы мнения дизайнеров культуры всегда сходились по этому важному пункту.
Если до 1920 г. произведения Гастева пропитаны духом радикальных и бескомпромиссных перемен, то в более поздних его работах на первый план заметно выдвигается человек и в соотношении «машина—человек» наблюдается перестановка. Он уже меньше говорит об автоматизации человека и больше о культуре.
Таким образом, Гастев пересмотрел свое понятие культуры по чрезвычайно важному пункту, а именно — по вопросу о корнях и месте человека. В обоих своих основополагающих произведениях о культуре, опубликованных в 1923 г., он признает, что человек имеет собственный вес, признает его созидательную культурную силу, чего не было в его прежних произведениях. Теперь в центре его внимания находится человек, созидающий новую культуру с помощью набора своих интеллектуальных, психосоциальных и психофизиологических качеств.
Однако в то же время Гастев в принципе сохраняет верность своим прежним взглядам, так что можно говорить о появлении своеобразной схизмы в его аргументации. Возможно, это было тактическим отступлением, предпринятым им под влиянием критики его трудовой культуры, особенно по пункту условий эксплуатации трудящихся. Сейчас уже невозможно определить этого. Однако против такого предположения говорит тот факт, что Гастев не был человеком, который мог испугаться нападок и позволить сбить себя с пути. И его полная резких перемен биография, и его такие же резкие и, чистой воды, экстремистские произведения выдают в нем сурового и непоколебимого борца за свое дело, не церемонившегося со своими противниками: «Люди, которые возражают против автоматизации, это чудаки, с которыми надо разговаривать на эти темы как раз в тот момент, когда они с открытым ртом попадают под колеса трамваев»92. Все это опровергает предположение о тактических соображениях, и надо полагать, что Гастев работал над внесением корректив в свой культурный проект всерьез.
Так Гастев просто «изобрел» тип человека, подходящего для государственной трудовой культуры. Однако у него есть один недостаток. Он производит впечатление индивидуальности, даже невзирая на то, что подобными качествами должны были обладать и все остальные. По словам Гастева, путь к трудовой культуре лежал через «новые своеобразные робинзонады»93. Мир трудовой культуры Гастева можно выразить лишь с помощью оксюморона: его населяли нормированные индивидуумы, а не трудящиеся социалистического типа, более или менее оформившегося в умах большинства других большевиков.
Если Гастев и включил в свою программу коллективизм, то лишь для виду, т. к. коллективизм как качество нового человека не представлял ни малейшей ценности для Гастева. Он не являлся ни следствием трудовой культуры, ни ее условием. Производство может функционировать и без коллективистов, потому что «автоматы из нервов и мускулов» выполняют задания на сто процентов. Оптимально настроенный автомат не нуждается в духе коллективизма, этом понятии, содержание которого охватывает проблемы, возникающие в группах, и способы их решения. В этой связи примечательны приводимые Гастевым примеры людей нового типа: разведчик на войне, первопроходец, военный инженер, милиционер, пожарный, монтер, врач-ортопед, «действительно монтирующий человека и приобщающий его к движению»94.
Но перечисленные им профессии не во всех случаях являются примерами людей-автоматов, столь восхваляемых Гастевым. Он оставляет неразрешенным противоречие: как человек, во время работы функционирующий подобно машине, может в то же время обладать присущей разведчику способностью импровизировать.
И здесь, и в других местах Гастев явно не делает различий между представителями разного пола. Поэтому нельзя сказать точно, не была ли трудовая культура прерогативой мужчин. Если взглянуть на иллюстрации и рисунки из его произведений, то вопрос снимается, потому что женщин мы там не увидим. Гастев не пишет по поводу указанных им ка
честв, должны ли они развиваться всеми живыми существами одновременно вне зависимости от половой принадлежности. Отсутствие упоминания о женщинах уже говорит само за себя.
Но как решал Гастев проблему возможности возникновения какого-либо вида коллектива?
Если искать связующий фактор, аспект возникновения общества, представляющий собой нечто большее, чем набор нормированных индивидуумов, то в качестве такового можно представить себе обязательную «государственную культуру», по выражению Гастева. Все же ее наличие не приводит с неизбежностью к формированию общества, она обозначает, так сказать, границы культурного пространства людей стандартизированного типа. Этой проблеме посвящен небольшой отрывок. Речь в нем идет о проблеме «социального капитала». Гастев трактует это понятие так: «Необходимо выработать традиции создания особого социального капитала. Этот капитал не такой маневренный, не такой деловой, как другой капитал, не социальный. Социальный капитал в значительной степени будет соответствовать капиталу основному, а тот капитал, с каким вы можете поставить маневрирование — это, стало быть, капитал оборотный. Будет ли создана какая-нибудь огромная хозяйственная единица с миллионным капиталом, или будет создана маленькая ученическая касса, все равно, в ней должен быть обязательно обозначен так называемый социальный капитал»95.
Сбивчивые слова, и стиль не назовешь стилем инженера или Института труда. Каждое предложение, как удар молота, и так не только в приведенной цитате; может быть, это свидетельствует о трудностях, испытываемых Гастевым с социальными аспектами его трудовой культуры. Если взглянуть повнимательнее, то здесь не сказано ничего нового. Ведь под социальным капиталом подразумевается не что иное, как сумма качеств, которые Гастев собирался привить людям. Так Гастев попадает в замкнутый круг: социальный капитал состоит лишь из полного комплекта качеств. Об экономических последствиях замены реального капитала набором психофизических качеств трудящегося Гастев умалчивает.
Гольцман: Культура трудящегося человека
В заключении главы о культурных проектах мы рассмотрим произведение Абрама Гольцмана, давшее название этой главе. Оно является своего рода венцом мыслей о культуре и новом человеке. Тем более удивительно, что мимо него прошли те, кто занимался интенсивными исследованиями проблемы «нового человека» раннего периода советской власти или даже Гастевским Центральным институтом труда96.
Гольцман оставил после себя немного. Он работал в ЦИТ Гастева, но на какой должности и что входило в его компетенцию, разузнать не удалось. В 1917 г. он, бывший до этого меньшевиком, перешел к большевикам. После Октябрьской революции он работал в профсоюзе металлургов, затем в Центральном совете профсоюзов. В 1922—1925 гг. руководил Главным управлением по электрификации (Главэлектро), после этого перешел в Центральную комиссию партии и стал членом коллегии организационно связанного с этим ведомством Народного комиссариата народного контроля. Его персону посчитали достаточно важной, чтобы включить его имя в Большую Советскую Энциклопедию97. За время работы в профсоюзе из-под его пера вышло немало произведений, посвященных вопросам оплаты труда, обеспечению предприятий сырьем и организации производства98.
«Реорганизация человека» является единственным его произведением, в котором он высказывается о своем культурном проекте подробно. Причина, по которой оно не попало в руки историков, возможно, заключается в том, что он не был дисциплинированным и систематичным мыслителем, более чем «кудрявый» ход мыслей которого, дадаистская манера выражаться и позднеэкспрессионистский пафос не располагают к чтению. Уже самые первые его слова «Жизнь дана для того, чтобы жить»99 отпугивают историков. Однако кто решится читать дальше, будет вознагражден. Его произведение оставляет, скорее, впечатление плода ночных бдений, чем основательно спланированного эссе. Оно полно намеков на идеи тех лет, в нем вскрывается их противоречивость, оно
во многом опережает время. Давайте попытаемся расшифровать Гольцмана.
Отправным пунктом Гольцмана является уже приведенная здесь цитата, его «категорический императив, не требующий мудрых силлогизмов»100. Он пишет, что тысячелетиями человеческое мышление продуцировало «самые причудливые системы мысли» и «замки идей», постоянно стремясь вырваться из темноты и мистики, но, к сожалению, безуспешно. Поэтому в истории так часто звучало восклицание «жизнь для жизни!».
Выстраивая смелую цепочку «от Демокрита к Эпикуру, от Эпикура к Лукрецию, от Лукреция к Бэкону и французским просветителям», Гольцман постулирует очень земную и посюстороннюю форму бытия. От Гольцмана не укрылись дефициты мышления современности, которые он связывает с именами Канта, Гегеля и Беркли. Он замечает, что со временем человек приобретает все большее и большее значение, завоевав центральное место в размышлениях философов, однако — таково мнение автора — продолжает оставаться при этом животным. «Человек — это животное, живущее в обществе». Кроме того, Гольцман констатирует недостатки в мышлении и раздвоенность, наступившие у людей с началом буржуазного строя. Утрата симпатического отношения к природе разрывает человека на общественно важные функции, целостность, искомая в религии и близости к природе, кажется утраченной безвозвратно. Гольцман очень точно подметил эту утрату и сформулировал вытекающую отсюда проблему: «Человек — господин природы, но раб человека. <...> Он выиграл все, но потерял больше этого. Выиграв природу, он потерял самого себя».
В конце концов, Гольцман предлагал выход из этого плачевного положения, отрицания плоти, жизни для смерти, «этого апофеоза глупости и наглости». «Новый молодой класс» открывает новую страницу истории, писал он. Он говорит о «пролетарском ренессансе», означающем «ренессанс жизни». Эту идею земной, посюсторонней и при этом ориентированной не на материалистические ценности жизни Гольцман и называет новой культурой. Он предсказывал, что она «ушатами»
польется в жизнь, признавая, однако, что формирование «живого человека» потребует времени101. В великой реорганизации человека Гольцману виделась уникальная задача современности. Новую культуру он сравнивает с огромным вентилятором в тысячу лошадиных сил, — эта техническая метафора обусловлена, наверное, также утратой гармонии с природой — который выветрит старые идеи, все божеское, небесное, потустороннее, философское. «Культура плоти требует культуры идей. Ренессанс жизни строит кладбище мистики. Новая эпоха откроет новую трудовую культуру. Прежде всего человек. Провозглашаем лозунг: реорганизация человека».
Трудно сказать, под влиянием чего сложились такие воззрения, на основе которых был построен проект культуры, тем более, что сам Гольцман никаких источников не указывает. Только что упомянутую мысль об утрате целостности, явившейся результатом нарушения связи с природой, может быть, даже, бегства от природы, можно констатировать с начала буржуазной эпохи. К примеру, в немецкой литературе существуют произведения, из которых Гольцман мог бы почти слово в слово списать свою теорию. «Гиперион» Гельдерлина, «Весна» Бюхнера — темой этих произведений является отторжение человека от природы. Идеи Гольцмана о противоположности духовной культуры и культуры жизни можно обнаружить у Гейне, с той только разницей, что поэт облекает ее в другие понятия102. Эти свидетели эры раннего капитализма не единственные, кто интересовался «темами Гольцмана». Мысль об этом продолжала занимать умы вплоть до начала нашего века.
Допустим, что Гольцман попал под влияние так называемых буржуазных декадентов конца прошлого века и начала нынешнего, но как бы там ни было он помогает вникнуть в суть более поздней марксистской критики периода эры человеческого разума: Адорно, Хоркхеймера и Беньямина103. Однако эти предположения о всевозможных влияниях не доказаны. Вероятно, Гольцман обладал чрезвычайно тонким чутьем своей эпохи.
К тому же в его произведениях звучит явно мессианист-ский тон. Кому не лень, тот может поискать у Абрама Зиновьевича Гольцмана еще и иудейские влияния, но следует
учитывать, что это будет чистым домыслом, так же как являются домыслами и только что высказанные предположения. И все-таки в его произведениях совершенно явно проглядывает идея избавления от тысячелетних тягот бесплодных исканий в результате пролетарского ренессанса. Однако что же при этом имел в виду Гольцман на самом деле — идею классовой борьбы, или же речь идет об общечеловеческой проблеме, а новый класс просто открывает дорогу в светлое будущее? В труде Гольцмана мы не найдем прямого ответа на этот вопрос, но, как и в произведениях Гастева двадцатых годов, в нем проглядывают подобные мысли.
И все-таки, несмотря на уже сделанные нами намеки, спросим: что же за культуру имел в виду Гольцман?
Прежде чем ответить на этот вопрос, автор разбирает проблему, обойденную тем же Гастевым. Стойкость, долговечность и влияние старых отношений описывается Гольцманом прямо-таки в апокалипсическом ключе, он говорит о борьбе старого с новым как о последнем и решающем сражении, от исхода которого зависит будущее всего человечества. «Старый мир умирает в муках. Из него рождается новый. Творения тысячелетий, нагроможденные друг на друга, погибают. Новый Вавилон, по размаху своей творческой силы неизмеримо превосходящий смелейшие фантазии Востока, рушится. Культура, впитавшая в себя соки истории, еще юная, становится старой и дряхлеет. Внутренний червь грабежа и насилия съедает культуру цивилизованного человечества и приводит ее к гибели. Покуда старый мир не погиб, новый не может зародиться. Старый мир борется за свое существование. Зубами и когтями впивается он в жизнь техникой и наукой, богословием и философией, защищает он свои последние часы. Мертвый хватает живого. Но и старый мир не может погибнуть, покуда не народится новый. Новый мир должен быть могильщиком старого. Он появляется к жизни, когда его отец мертв»104.
Выход из апокалипсического обострения культурной борьбы виделся Гольцману в пришествии пролетариата, «вестнике грядущих эпох», по словам Владимира Маяковского, «домашнего поэта» революции (как назвал его Уолт Уитмен). С его
появлением приходит новая культура, которую Гольцман, как и директор его института Гастев, называл «трудовой культурой»105.
На поставленный им же самим вопрос о том, что такое новая культура, Гольцман отвечает: «Она не может быть продуктом ума. Массы не работают умом: они работают руками»106. «Их культура — это их руки». «Культура труда» — вот форма ее проявления. Правда, в любую эпоху можно говорить о существовании трудовой культуры, выработавшей свой тип культуры, свой тип культуры труда, но с появлением пролетариата возникает трудовая культура нового типа. «Для массы, которая работает руками, ее руки становятся культом. <...> Мышцы становятся господами мира и провозглашают культуру мышц, культуру работающего тела»107. В следующей главе, посвященной физической культуре, провозглашаемый здесь культ тела будет разобран более подробно. У нас снова будет возможность убедиться во взаимосвязанности культурных проектов.
Но пока коснемся одного важного аспекта Гольцмановско-го культурного плана. Сходство с Гастевым у него очевидно. Гольцман также смотрит на труд, как на решающий момент в жизни человека, подготавливающий для него культурное плато. Сложнее обстоит дело с классовой принадлежностью пролетарской трудовой культуры. Более интенсивно, чем Гастев, Гольцман подчеркивает своеобразие пролетарской трудовой культуры. Его доводы более близки к модели классовой борьбы, чем у Гастева. Однако также и у него ясно проглядывают универсалистские притязания. Созданная пролетариатом культура мышц является для Гольцмана реальным апогеем исторического развития. В данном случае констатацию своеобразия пролетарской культуры в конце его книги можно сравнить с теорией отмирания государства, разработанной Лениным в статье «Государство и революция». Но Гольцман довел свой проект до конца, и это важно. Расплывчатому описанию бесклассового государства в статье Ленина, следующего за периодом диктатуры пролетариата, соответствует неуточненное утверждение о бесклассовой и безначальной пролетарской культуре.
Видимо, Гольцман отдавал себе отчет в наличии этого дефицита, т. к. он высказывает некоторые соображения по поводу «перелома в культуре». Он считал, что все происходит довольно просто и зависит от самого человека. «Этот скачок от одной культуры труда к другой должен совершить человек, брошенный судьбой в завод. Он должен превзойти самого себя — и в короткий срок! В нем должна произойти ломка его культуры труда, уничтожение инерции старых навыков, инстинктов (или, может быть, правильнее сказать) рефлекторной ориентировки и хирургическая прививка нового трудового „бытия” Анаболизм трудовой культуры»108.
Следовательно, главную проблему культуры Гольцман связывал не с типом производственных отношений, а с внутренним миром человека. Рассуждая таким образом, он возвращается к поставленной им в самом начале задаче: реорганизации человека. Она, в свою очередь, представлялась ему скорее организационной проблемой, в подробности которой мы здесь вдаваться не будем. В сущности, на этом можно закончить описание воззрений Гольцмана. Что остается, так это решение поставленной задачи: «Нужна ли нам наука о производстве или о человеке? Из сказанного уже ясно, что — наука о человеке»109. Выходит, Гольцман был теоретиком антропологии, на которую он непосредственно указывает, ссылаясь на «Философию будущего» Людвига Фейербаха110?
Благодаря выводу о том, что люди должны взять свою судьбу в свои руки, об их влиянии на культуру посредством правильной культурной установки, пользуясь выражением Гастева, об усовершенствовании общества и своего собственного бытия, Гольцману удалось не зацепиться за подводный камень утопии, в которой можно было бы заподозрить его культурный проект. Он не откладывал новой трудовой культуры, отличавшейся, как и у Гастева, всеохватным единообразием, на будущее и не переносил ее на какой-нибудь далекий остров. Гольцман, так же как и Гастев, считал возникновение новой культуры процессом, который уже начался, т. к. новая культура, по словам Гольцмана, не придумывается, а делается руками, отличаясь тем самым от «культуры праздности» бур
жуазного века111. «Буржуазия требует Жюля Верна для взрослых. Чего не дает жизнь, должно быть выдумано. Но больше того, что она имеет, она дать не в состоянии. Самая блестящая выдумка не заменит примитивнейшей реальности»112.
Для пролетариата же реальность имеет решающее значение. Согласно представлениям Гольцмана о созидательной силе рабочих, источником которой является трудовая культура пролетариата, о реорганизации человека, о его центральном месте в культуре в качестве ее объекта и субъекта, пролетариат оказывает влияние на новую культуру. «Он механик культуры. Буржуа же лишь пассажир ее»113.
Высказывания Гольцмана по поводу конкретных проявлений новой культуры отличаются противоречивостью. Это связано с принципиальной дилеммой, присущей его аргументам. Так, он утверждает, что хотя после революции культура пролетариев, новая трудовая культура и вышла на передний план, но сам пролетарий пока еще не готов быть ее представителем. Новая трудовая культура возникла уже благодаря самому существованию пролетария, но он (пока) не созрел для нее. Гольцман передает ситуацию того времени образно: для него она ассоциируется с напряжением, которое испытывает человек, стоя перед закрытой дверью и зная, что она откроется, но когда — неизвестно. «Хотя дверь заперта, но вы предвосхищаете ее открытие. Вы уже живете при раскрытой двери, хотя она еще плотно закрыта»114.
-VV ;.ft’ \
„'•iC; -’Ч.Л
У.ЧъАКЧ*
ИаЩ'И* W
It
1.Ш
"S
ГЛАВА ВТОРАЯ
ТЕЛО
Бесплотная культура?
предыдущих разделах, посвященных культурным проектам, речь шла, прежде всего, о перемене воззрений. В этом смысле видевшаяся плановикам новая культура была представлена как продукт новых взглядов, ценностей и следующих из них нравственных качеств и норм поведения. При этом — как бы сам собой — сложился образ культуры, считавшейся делом исключительно ментальным. Да и к чему было думать о теле, если отличительными признаками нового человека были сознание и поведение? Разве физическая сторона не являлась совершенно безразличной, ввиду того, что качества человека как социалиста никоим образом не зависели от его физической конституции? Не случайно данное исследование обращается вначале к попыткам духовной реорганизации человека и лишь затем — к таковым на физическом уровне. Казалось, ни у кого не возникало сомнений по поводу того, что революционизирование человека должно начинаться с головы. Большинство авторов придерживалось мнения, что процесс революционизирования вообще должен касаться только внутреннего мира. Но, самое позднее, в разделе, посвященном культуре труда, проясняются масштабы новой культуры, выходящей далеко за пределы внутреннего переустройства и ставящей своей целью создание нового человека. Тело проглядывает в культурных проектах то здесь то там, однако их авторы не формулируют эту проблему. Поче
му они так поступают, сказать трудно, вообще надо отметить, что мысли по поводу новой культуры не отличаются особой упорядоченностью, — они отрывочны, неполны, и не соединены в продуманную концепцию. Нельзя упускать из виду и еще один аспект: их авторами были интеллигенты, которым наверняка была свойственна некоторая слепота в отношении этой темы. Добавим, что чем выше социальное положение человека, тем меньшую роль играет тело, как показала исследовательница женских тем Катрин Фуке на примере мужчин1.
Конечно же, такая позиция нашла своеобразное отражение в работах на темы культурной революции в Советской России, авторы которых никогда не смотрели на человеческое тело как на объект исторического исследования. Правда, в советской науке имели место исследования в области физической культуры, однако в них затрагивались, скорее, организационные вопросы. К тому же, вещи рассматривались в чересчур приятном свете: зачастую историки занимались лишь перечислением спортивных рекордов2.
Лишь один советский историк, В. М. Выдрин, нарушил эту традицию, совершенно справедливо сетуя на то, что культурная революция рассматривается в отрыве от физической культуры. В высказываниях Ленина по поводу культурной революции эта сфера не упоминается. О Луначарском известно, что он начал заниматься этой темой лишь в 1930 г.3, так что Выдрин нарушил неписаное правило советской истории, согласно которому нет и не может быть проблем, не сформулированных классиками.
Приведем несколько примеров, свидетельствующих о том, какую важную роль играло человеческое тело в выбранный нами период. Так, дебаты о сексуальный эмансипации женщины в первые годы советской власти являются свидетельством того, что, в частности, женское тело стало предметом широких дискуссий. Большое влияние оказали в этом смысле произведения Александры Коллонтай, нарушившей табу российского общества. Совместные формы проживания, menages a trois, семейное законодательство, бракоразводное право относятся к крупным темам тех лет, непосредственно
касавшихся, в том числе и деревенских жителей, и дававшие знать о себе так же заметно, как и бедствия с продовольствием и условия труда. В историко-бытовом смысле «тело» представляло собой одну из центральных категорий этих дебатов, несмотря на то, что само слово не всегда произноси
лось вслух.
В этой главе речь вначале пойдет о сферах, имеющих связь с размышлениями Гастева и Гольцмана. Наверное, уже стало ясно, что эти авторы ставили под сомнение трактовку культурной революции как процесса, затрагивающего только лишь внутренний мир человека. Стремясь создать трудящегося человека, они волей-неволей столкнулись со сферой физической реорганизации. Слова тренировка или тренаж были волшебными словами Гастева: «Прежде всего нам необходима элементарная физическая тренировка». Поэтому его институт занимался изучением движений, применяемых в рабочих процессах.
Однако сориентированные на исследование рабочих процессов, Гастев и Гольцман представляют лишь одно направление физической реорганизации человека. Они упоминаются здесь еще раз потому, что эти люди стояли посередине между сторонниками чисто внутреннего переустройства и теми, кто больше стремился к осуществлению чисто практических преобразований — как раз такое требование и выдвигал Гастев.
В дальнейшем мы будем говорить о физической культуре. Трудно не заметить это понятие в контексте реорганизации человека и культурных проектов, т. к. многие современники не только включали в них физическую культуру, но и придавали ей величайшее значение. Согласно их заявлениям, после победы Октября России требовалось «ясное мировоззрение, твердая воля, мускульная сила и методичность»4. Работе Наркомата народного просвещения среди населения была дана критическая оценка. «Необходима еще другая сторона: физическое воспитание, ибо коммунист должен преодолевать и чисто физические трудности»5.
В подтверждение того, что под этими словами подразумевались не просто физические упражнения, приведем постановление Центрального комитета Коммунистической партии
от 13 июля 1925 г.: «Физическую культуру необходимо рассматривать не только с точки зрения физического воспитания и оздоровления и как одну из сторон культурно-хозяйственной и военной подготовки молодежи (стрелковый спорт и проч.), но и как один из методов воспитания масс (поскольку физическая культура развивает волю, вырабатывает коллективные навыки, настойчивость, хладнокровие и другие ценные качества) и, вместе с тем, как средство сплочения широких рабочих и крестьянских масс вокруг тех или иных партийных, советских или профессиональных организаций, через которые рабоче-крестьянские массы вовлекаются в общественно-политическую жизнь»6.
Лишь с 1925 г. партийное руководство стало уделять физической культуре больше внимания. К этому времени уже отгремели главные бои на полях теоретических сражений. Деловой тон постановления никак не отражает горячих дебатов о выборе правильного пути. Однако источник позволяет сделать выводы о широте спектра воспитательных задач, которые предстояло решать в этой области. Физическая культура поднялась на один уровень с духовной реорганизацией, став неотъемлемой составной частью будущей пролетарской культуры.
В 1919 г. на Первом Всероссийском съезде по физической культуре, спорту и допризывной подготовке врач Е. П. Радин высказал мысль о неразрывной связи духа и тела. Радин, занимавший должность председателя Отдела школьной гигиены при Народном комиссариате здравоохранения, заметил, что, говоря о культуре человека, было бы ошибкой «отрывать жизнь мозга от жизни мускулов». Такое разделение искусственно, т. к. то и другое связано между собой, как умственная «просветительная работа, которая ведется в армии, дополняется просветительной работой физической культуры»7.
На этом Радин не остановился. Будучи врачом, он посчитал своим долгом указать на физическую сторону культуры особо. Сегодня следует «перейти дальше от прежней культуры, только умственной, от того, когда главная ценность человека определялась количеством знаний, которые у него в голове, а положение его в обществе — тем, насколько он этими
...4<v Тело nif'1
знаниями может пользоваться и быть полезным членом общества. От этого периода мы переходим к другому, когда ценность личности определяется уже и физическими достижениями»8. Радин предостерегал от оказания предпочтения той или иной стороне человеческой деятельности. Он утверждал, что если государство не проявит внимания к физической культуре, то результатом явится «атлетизм ума» в ущерб физическому развитию, обладающему не меньшей важностью. С другой стороны, необходимо контролировать физическое развитие, потому что в противном случае наступит обратный эффект: «только атлетизм мускулов, совершенное развитие мускулов в ущерб умственному»9.
Обрисованная здесь в общих чертах проблема волновала Радина и его слушателей до глубины души. Будучи энтузиастом физической культуры и ставя духовное и физическое развитие нового человека на одну и ту же ступень, Радин придавал телу все-таки более важное культурное значение. «Творцы будущей социалистической России» виделись ему в немногочисленных активистах физической культуры, имевшихся на тот момент в стране. По его мнению, от них зависело «возрождение России»: «Поэтому надо стремиться насаждать физическую культуру, как мы насаждаем культуру умственную. Когда физическая культура окрепнет, тогда окажется огромная область достижений, о которых мы и мечтать не могли»10.
К сожалению, Радин, стремившийся указать всему населению России путь к лучшей жизни, не уточнил, что именно он подразумевал под достижениями. Он нисколько не сомневался в формирующей силе физической культуры. С почти фанатической непреложностью Радин заявлял, что если физическая культура укоренится в общественной жизни, то в конце концов, «всестороннее развитие человека, о котором мечтали утописты, философы и ученые и которого никогда не существовало, и в достижение которого в жизни никто никогда не верил» станет реальностью. Он утверждал, что, дойдя до этой, последней стадии развития человека, совпадающей с коммунизмом, физическая культура займет ведущее место по отношению к остальным жизненным сферам. «Дос-17
тижения человека в области физической культуры — вот то, о чем мечтают все и чему действительно мы обязаны посвяА тить все наши силы»11.
В своем выступлении Радин наметил рамки будущей дискуссии, продолжавшейся и после съезда. Как мы увидим, не все участники съезда и не все из писавших и размышлявших о физической культуре разделяли взгляды врача. Однако подавляющее большинство столь же восторженно верило в формирующие возможности, скрытые в физической культуре. Часто можно встретить слова о «моральном совершенствовании и воспитании чувства социальности», достигаемых с помощью физической культуры12. Высокие воспитательные идеалы соединялись с пользой для государства13.
Особенно выделялись в этом отношении медики, хотя в источниках нет доказательства тому, что все представители этой профессии были приверженцами идеи сотворения по-социалистически всесторонне развитого человека посредством физической культуры. Но все же врачи были большими сторонниками физической культуры.
Взгляды, сходные с взглядами Радина, высказывал профессор Московского института физической культуры В. Е. Игнатьев. Применяя формулу своего коллеги, согласно которой человек представлял собой триединство тела, воли и духа, Игнатьев считал, что главная роль принадлежит телу. «Культура тела», по его мнению, закладывает основы второго этапа развития, «воспитания нашей воли, и, когда мы будем иметь крепкое тело и крепкую волю, со всеми теми атрибутами, которые являются как результат взаимодействия этих двух начал, мы достигнем того, что составит нашу высшую цель, что должно быть предметом нашего исключительного внимания — это мощный дух»14.
Игнатьев и Радин перевернули с ног на голову основополагающий принцип: широким жестом они опрокинули весь большевистский проект культуры, утверждая, что за дух следует браться в последнюю очередь. Что это был за «дух» — об этом четко и нейтрально высказался Игнатьев: «Культура тела, культура воли, мощный дух. Все это создаст человека решительного, доброго, способного противостоять всему, что
его окружает, готового защищать права справедливости и свободы»15. Конечно, этот идеал не противоречил партийному господству, но в общем напоминал, скорее, обычный «буржуазный» идеал самостоятельного, суверенного, и в то же время социального человека.
Вслед за буржуазными идеалами вспомнили древних греков. Сейчас уже нет сомнений в том, что в Европе имела место не историческая переработка, а скорее, просто эстетизация и идеализация традиций классицизма16. Нет ничего удивительного в том, что и в Советском Союзе подчеркивался пример древних17. Знаменитое высказывание о здоровом духе в здоровом теле почти что превратилось в приветствие активистов физической культуры первых послереволюционных лет, предшествовавших укреплению мысли о пролетарской физической культуре. Впоследствии это приветствие вышло из употребления, несмотря на отсутствие в нем каких бы то ни было противоречий пролетарскому принципу, однако оно было «дискредитировано» применением в буржуазном спортивном движении.
Что касается «буржуазных» идей физической культуры, то они не канули в небытие. Некоторые из них без всяких проблем вписались в «пролетарскую» физическую культуру, порой возводясь в ранг райского идеала. Так, например, перед спортивным объединением «Красный стадион» ставились задачи по развитию «тела и духа сыновей и дочерей изможденного пролетариата, как в Древней Греции». Это развитие должно было осуществляться на «Красном стадионе» посредством «рациональных и разносторонних гимнастических и спортивных упражнений». «Здесь, в прекраснейшем месте, ослабленный ребенок на солнце и свежем воздухе постепенно нальется новыми жизненными соками, выпрямит свой согбенный хребет, расправит грудную клетку, станет выполнять все с большей выдержкой, свободнее, с большей силой, более ловко, самостоятельно, энергично и терпеливо, укрепляя свое тело и мускулы для всевозможных видов коллективного труда, необходимого пролетарскому государству»18.
В источниках такой до странности отрешенный взгляд на физическую культуру — пусть и не всегда выраженный столь
ярко, как в данном случае — часто увязывается с государственными интересами. Видимо, как идеологи физической культуры ни упивались идиллическими мечтами о здоровом, цветущем теле, им не составляло труда моментально возвращаться к реальности, извлекая из, на первый взгляд, лишенного всяких утилитарных целей освобождения от физических недостатков пользу, в которой проскальзывают признаки авторитарности19.
В представлениях не было конца идиллии. Воспитываясь таким образом, мальчики и девочки «полюбят природу и всегда будут жизнерадостными»20. Можно ли говорить о случайности, если тот же самый автор все в той же статье о «Красном стадионе» описывает идеальный зоопарк, с той разницей, что на сей раз речь идет о животных? В нем интернационал животного мира встречается в самых благоприятных условиях, которые только можно вообразить себе «(свет, температура воздуха и воды, размер загонов, размер и форма скал и расщелин, соответствующие растения, мало мешающие сети и т. д.)». Искусственность условий не должна бросаться в глаза и «звери, рептилии и птицы будут чувствовать себя почти как на свободе»21.
В предыдущем разделе уже упоминалось об утраченной связи с природой. Здесь мы посмотрим на эту проблему с другой точки зрения. В первые годы советской власти физическая культура обладала еще одним уровнем содержания, выходящим за пределы взаимоотношений духа и тела. Подобно некоторым западноевропейским друзьям природы на переломе столетия, представители пролетарской физической культуры также искали восстановления утраченной гармонии с природой. В концепции присутствовала явная тяга к тривиальности. Пролетарский пафос не помог скрыть идеологического дефицита: «гений пролетарского творчества создаст такой сказочный, чарующий и изумительный по мощности и красоте мир, который пленит сердца и умы всех наших зарубежных товарищей». В заключение текст доходит до гротеска: «На смену словам „увидеть Неаполь и умереть" придут новые: „Я не хочу умирать. У богов нет „Красного стадиона”»22.
Конечно, можно было бы поместить подобные высказыва
ния в рубрику «анекдоты» и на этом успокоиться. Но, поступив так, мы убрали бы из описываемого времени один из составляющих его кирпичиков, что допустимо только при условии, если речь идет о причудах отдельного человека, не играющих никакой роли. Однако нельзя не заметить отразившегося в этих словах жизненного дефицита, болезненно ощущавшегося современниками. В книге Ричарда Стайтса, посвященной «революционным мечтам», в которой не рассматриваются проблемы физической культуры, показано, как после революции люди страдали от бессмысленности своего существования, пытаясь найти выход в экспериментальных формах жизни. Какими бы бессвязными и путаными ни были произведения Гольцмана, в них тоже прослеживается мысль об утрате целостности, не в последнюю очередь вызванной разрушением гармоничной связи человека с природой, несмотря на то, что он пытался найти и другие пути выхода из кризиса.
В раннюю фазу своего развития в Советской России физическая культура базировалась на тривиальной и недостаточно пролетарской основе. С 1921 г. на первый план все отчетливее стала выдвигаться идея «пролетарской» физической культуры, правда, не совсем отличавшаяся по содержанию от «буржуазного» идеала. Как-никак для иллюстрации своих замыслов пролетарии «Красного стадиона» прибегли к примеру древних греков. В тоже время, большинство идеологов физической культуры пыталось сформулировать специфику «пролетарской» или «социалистической» физической культуры. Ей и посвящено главное внимание в последующих разделах.
Тело, армия и культура
В Советской России физическая культура находилась в тесной связи с армией с самого начала23. Организациоными вопросами занимался Всевобуч (Всеобщее военное обучение) — военное ведомство, идея о создании которого прозвучала на чрезвычайном съезде Советов в марте 1918 г., учрежденное 22 апреля 1918 г. декретом Центрального исполнительного комитета24. В его задачи входила подготовка населения к военной службе, включая учет призывников, а также проведение
Глава вторая курсов среди гражданского населения по военной подготовке25.
В принципе декретом о Всевобуче была закреплена идея о физической подготовке в рамках допризывной службы. В декламаторском стиле документов первых месяцев советской власти Центральный исполнительный комитет не сразу говорит о деле, постановление предваряется обращением к миру: в нем говорится о том, что одной из самых главных задач социализма является освобождение человечества от милитаризма и прекращение варварской бойни между народами. Далее сказано, что шансов на солидарность всего человечества нет, т. к. России, находящейся во вражеском окружении, придется работать над созданием прочной оборонительной системы. Поэтому декретом устанавливались возрастные группы мужского населения, подлежащие военной и довоенной подготовке разных ступеней26. Однако, в общем этот документ нельзя считать обоснованием идеологии физической культуры в интересах молодого советского государства.
Организационная сторона дела интересует в данном случае в меньшей степени27, потому что мы рассматриваем физическую культуру, в первую очередь, как составную часть культурных проектов тех лет. В этой связи нам не раз придется возвращаться к материалам, касающимся Всевобуча как к основе. Из них явствует, что Всевобуч занимался не только вопросами обороны, вокруг этого ведомства сплотились идеологи советской физической культуры.
Впервые идея связи физической культуры с военным делом в советский период находит документальное отражение в 1919 г. На уже упомянутом съезде по физической культуре, спорту и военной подготовке увеличилось количество голосов, выступавших за их сближение. Неудивительно, что особенно горячими сторонниками этой идеи оказались представители военных учреждений. Троцкий говорил о «поддержании достаточного количества сил для защиты Социалистической Республики»28. И. Л. Дзевятловский, член Центрального исполнительного комитета и Главный комиссар Всероссийского главного штаба, придерживался традиционного взгляда: спорт укрепляет тело и душу. Он говорил, что в определенные мо-
менты необходимо тесное сотрудничество спорта и армии. Став благодаря занятиям спортом гражданином свободной республики, юноша должен быть готов защищать ее с оружием в руках29.
Такие высказывания немногим отличались от прежних «буржуазных» формулировок о связи спорта и военной службы. В них нет практически ничего нового, они лишь свидетельствуют об использовании расхожих аргументов в интересах Советской армии. Многие из них подразумевают физическое воспитание в узком смысле слова.
Более важно то, что из прошедшей мировой войны были извлечены уроки, вопросы боеспособности начали рассматриваться в связи с уровнем физической подготовки советских граждан. На съезде говорилось о том, что Мировая война показала: государства, уделявшие внимание спортивной подготовке, на поле битвы выглядели более достойно30. «Мировая война нам показала, что значит боец-спортсмен, воспитанный тем или иным государством и что может государство от него потребовать в нужную минуту»31. Высказывалось также, что в Советской России какое-либо учреждение (т. е. Всевобуч) должно выработать тип бойца, обладающего крепким телом и духом, сильной волей, привить ему «военную дисциплину, наступательность, способность штурмовать и завоевывать»32. Никого не смущало, что подобные доводы практически не отличались от военных принципов капиталистических государств, т. к. в обоих случаях на первом плане стояло право государства распоряжаться своими подданными в военном плане, а отнюдь не разница между общественными формациями.
Спрашивается, не эти ли взгляды легли в основу советской военной доктрины, приведшей к самым печальным последствиям: ставка на массу солдат, верных советскому государству, а не на военную технику, в которой видели вспомогательное средство капиталистических стран, использовавшееся с целью устранения проблемы идеологической ненадежности солдат33. Анахроничная идеяфикс о физически закаленной и психически непоколебимой массовой армии, получившая распространение после Первой мировой войны, впервые всплыла в
1919 г. в связи с дебатами о физической культуре и военной службе: «Подготовка человеческого материала в военном деле имеет, может быть, большее значение, чем подготовка боевых орудий и различного рода военного снаряжения»34. «Изобретателем» этой идеи принято считать Фрунзе, разработавшего ее лишь к концу Гражданской войны35.
Однако идеологами физической культуры стали не ораторы упомянутого съезда, а лица, состоящие в непосредственной близости к Всевобучу. Наиболее заметное место среди них занимал Н. И. Подвойский, председатель этого ведомства. Занимая эту должность с 1919 г., в 1920 г. он в своих выступлениях перед общественностью и в публикациях начал развивать идеи советской физической культуры, направленные на подготовку к службе в армии. Однако на упомянутом здесь съезде он не присутствовал.
В сущности, Подвойский и его соратники не высказали никаких новых идей об устройстве Красной армии; в этом вопросе они целиком и полностью поддерживали официальную линию милиционной армии. Но они сознавали значение физической культуры для поддержания обороноспособности советской страны. Как раз на эту тему и начали высказываться лица, по большому счету оригинальностью не отличавшиеся. Работающему с этими источниками историку приходится привыкать к неясностям содержания и расплывчатой форме его выражения. Часто идеи страдают отсутствием реалистичности, доходя до гротеска и абсурда. Наверное, сегодняшний читатель отмахнулся бы от них при виде их комичности и несущественности. Но здесь дело касается, прежде всего, «главного идеолога» допризывной подготовки в Советской России, позиции которого были упрочены, кроме того, занимаемой им должностью, причем на самом высоком уровне. По этой причине было бы неверным подходить к таким словам легкомысленно и отмахиваться от них, как от чего-то неважного. Бросается в глаза отличие приведенных выше цитат от привычной, современной терминологии, вульгаризмы, простота выражений, наивная вера в изменяемость человечества в несколько приемов и авторитарный нажим, уже прозвучавший в высказывании, в котором государственные интересы
ставятся превыше всего, вне зависимости от их идеологического фундамента. Приверженцы физического воспитания, осуществляемого военными организациями в гражданских сферах, были в то же время и сторонниками идеи повальной военизации общества.
Их замыслы не ограничивались организацией целенаправленного физического воспитания: «Превращение при помощи соответствующим образом подготовленного инструкторского состава, начиная от самого низшего и кончая самым высшим, всех трудящихся в военнообразно организованный народ мыслимо лишь тогда, когда это превращение будет осуществляться путем физического его развития, одновременно с выработкой коллективной воли, выявлением общественных инстинктов, закаливанием общественных сторон характера, воспитанием политического сознания и расширением умственного горизонта»36.
Ни здесь ни в других местах, ни у Подвойского, ни у кого-либо из его соратников не встречается никаких ссылок на разъяснение понятий. Например, можно лишь догадываться о том, что они понимали под общественными инстинктами, это никак не явствует из их высказываний. Но можно с уверенностью сказать, что идея образования в их понимании выходила за рамки телесного; давая определение личности советского человека, они делали более сильный акцент на сознательности и эмоциях по сравнению с проектами прошлых лет. В этой связи Подвойский говорил о «всестороннем воспитании», плоды которого должны были стать «второй натурой трудящегося»37. Цель такого воспитания виделась ему в «гармоничном развитии подготовленной в военном отношении, целостной и разносторонней личности»38. При этом центральная роль в выполнении воспитательной задачи отводилась армии, и, прежде всего, территориальным подразделениям милиционной армии39.
Для нашей темы представляет интерес идеал человека, проглядывающий в подобных высказываниях. Они подтверждают, насколько актуальной темой была утрата человеком его целостности. Подвойский отличался особенной масштабностью подхода, придавая этой проблеме всемирно-историческое
значение. Правда, он не указывает, по какой причине, однако для нас важно то, что целью самого главного сторонника военизации физической культуры было вернуть человеку утраченную целостность, положив конец его внутренней разорванности, дать ему возможность зажить в согласии с самим собой и с обществом. Подвойский надеялся, что военизация и военная подготовка помогут собрать разорванного человека воедино.
Этому соответствовала педагогическая установка, обрисовывающая идеал нового человека: «Освобождение воли от низменных личных интересов, достигаемое закалкой организма воспитанника, касается, в том числе и всех личных потребностей, как то: голод, холод и т. д., боль, опасность для жизни, страсти, вплоть до любви к семье». На базе такой «телесной и духовной закалки» человек развивает следующие качества: «мужество, предельное презрение к смерти, дисциплинированность, выносливость, инициативу, упорство»40. Сила, выдержка, сноровка, мужество, хладнокровие объявлялись необходимыми атрибутами нового человека41. В случае достижения этой цели новая Россия приобретала «армию культурных работников на поле боя, сильных телом и духом, бесстрашных в бою, способных мужественно и отважно постоять за свою свободу и права»42.
В умах сторонников военизированной физической культуры утвердилось представление о личности, лишенной собственной воли, закаленной посредством физических упражнений, безоговорочно послушной государству, управляемой извне, эффективной во всех отношениях. Видимо, именно под влиянием идеи о военизации физической культуры в Советской России оформились представления об идеальном человеке будущего, производящего впечатление объекта, всесторонне используемого государством в своих интересах, ставшего его исполнительным органом, почти что безвольной машиной, совершенно деградировавшего в умственном отношении под влиянием воспитательных мер государства. Один из почитателей Всевобуча даже воспел это направление в стихах43. Можно ли, принимая все это во внимание, говорить о случайности отказа от разделения общества на
классы и появления понятия «народ»? Оно стирало социальные различия, суггестировало равенство всех граждан Советской России и постулировало их принадлежность к единому целому. Кто же подразумевался под народом? Рабочие, все трудящиеся, все трудящиеся русской национальности за исключением евреев и других этнических меньшинств? Идеологи военизированной физической культуры не утруждают себя ответом на этот вопрос. Их устраивала, скорее, мифическая формула «народ», подразумевавшая нечто гомогенное, проскальзывавшая, в том числе и в недифференцированной формулировке «население» культурных проектов тех лет. В понятии «народ» этот взгляд обрел терминологическую этикетку.
Никто и не помышлял о том, что «народ» может не поддержать данного начинания. От него ожидалось, что, осознав опустошительные последствия минувшей войны, он приступит к занятиям физической культурой в силу присущего ему инстинкта самосохранения, как бы под влиянием внутренней потребности к устранению физических недостатков44. Использование этого инстинкта позволяло без особенных усилий направить физическую культуру в сторону военизации. Ожидалось, что такой поворот автоматически принесет пользу в военном и даже в патриотическом отношении. «Подготовленный к войне народ, сильный физически, выносливый, дисциплинированный, всегда менее рискует быть втянутым в войну, чем слабый и неподготовленный»45.
Такое соединение военизации и физической культуры привело к извращению просветительских замыслов, представителем которых был Наркомат просвещения во главе с Луначарским. В «автоматическом выполнении» приказов46. Подвойскому виделась высшая цель воспитания, лишенная каких бы то ни было эмансипативных устремлений.
Не случайно подобная позиция, уже не «просто» патриархальная, а крайне авторитарная, появилась в той сфере, где идея антиэмансипативного союза мужчин, армии, соединялась с идеей здорового тела. Ведь идеал спортсмена был близок к идеалу воина, вырабатывавшегося в то время в Советском Союзе. Идеал пышущего здоровьем, атлетического тела,
готового ко всему, (за исключением эротики, — для этого идеологическая подоплека государства была слишком сильна) с легкостью переходил в романтизацию физической стойкости, проявляемой в кризисных ситуациях. В армии же вырабатывалась как раз-таки способность жить и действовать на пределе физических сил, в ней поощрялась физическая закалка. (В главе о советских плакатах эпохи Гражданской войны подробно разбирается иконография показанного в героическом свете атлета-трудящегося.) Таким образом, Всевобуч во главе с Подвойским представляет собой течение, противоположное школе большевиков-просветителей.
Но вернемся к аспекту, уже неоднократно затронутому нами: чем объясняется сильный традиционализм взглядов, выражавшийся в обосновании применения физической культуры в ходе военной подготовки? О чем говорят подобные высказывания, впоследствии объявленные «буржуазными» — о дефиците теории, об отсутствии у марксистов-ленинистов интереса к физической культуре? Может быть, в этом можно усмотреть наличие преемственности с эпохой царизма?
На съезде 1919 г. собрались в основном активисты физической культуры дореволюционной поры. Один из участников съезда с гордостью указывает на свою более чем 35-летнюю практику47. Из протоколов явствует, что дореволюционные активисты проявляли готовность служить советской власти, если ее представители воздержатся от бессмысленных и обидных упреков в том, что «русские спортсмены были когда-то у кого-то на услугах»48. Имелись в виду раздававшиеся в то время упреки в адрес представителей дореволюционного спорта за прислуживание царскому режиму и его преступной военной политике, а затем — «белым»49. Многим из присутствующих от таких обвинений было «больно и горько». Невзирая ни на что, они предлагали советской власти свои услуги: «Нет, мы не буржуи, мы люди, которые работали для спорта, когда никто не работал, которые работают сейчас и которые будут работать, если не будут им препятствовать впредь, а если нам протянут руку, мы в ответ протянем две»50.
Можно истолковать эти слова как доказательство того,
что спортсмены были готовы пойти за любым режимом. Но, с другой стороны, из их выступлений на съезде следует, что они мыслили себя вне политики, они были спортсменами, занимавшимися своими физическими упражнениями. Живое участие бывших активистов спортивного движения в съезде, по-видимому, затормозило развитие «советской» идеологии физической культуры; как уже отмечалось выше, представители военного направления тоже использовали в своих выступлениях традиционные аргументы, не обязательно противоречившие аргументам «буржуазных» физкультурников. Идейное влияние представителей дореволюционного спортивного движения проявилось в сохранении идеалистических черт в обосновании физической культуры. Это не означает, что более радикальные теоретики физической культуры навязывали остальным не имевший прямой связи с физической культурой «военный уклон», исходя из традиционных представлений о пользе для человеческого тела.
На практике влияние примеров эпохи царизма проявилось сильнее. Самодержавие, хоть и поздно, но осознало пользу физического воспитания для военного облика страны, более того, осознало, что забота государства об организации досуга населения поможет изгнать бациллу революции. По аналогии с Петром I, но совсем в иных целях, в начале 1908 г. по инициативе военного министерства царем Николаем II были созданы молодежные «потешные полки». Под руководством офицеров, представителей военного министерства и духовенства они в игровой форме овладевали искусством боя51.
В период Первой мировой войны вспомнили и о спортивном движении, находившемся пока еще в начальной стадии (в 1912 г. Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх) и стали использовать его в военных целях. Под знаменем «мобилизации спорта» под руководством генерала Воейкова, в 1912 г. назначенного «главным наблюдателем за физическим развитием населения Российской империи», к осуществлению военной подготовки стали привлекаться спортивные клубы. Эти объединения, закрывшиеся в 1914 г., поскольку их члены были призваны на военную службу,
были восстановлены. В 1916 г. начала создаваться сеть мест, в которых призывники проходили физическую подготовку. За свои усилия частные клубы получали от государства финансовую поддержку.
Написанное в 1953 г. в Советском Союзе исследование спасло репутацию спортсменов, подмоченную большевиками после революции: в нем показано, что фактически спортсмены уклонялись от участия в проведении допризывной подготовки52. Эта оценка ясно говорит о том, что советское государство было сориентировано не на дореволюционные идеи физической культуры, а на попытку осуществления государственного контроля и использования «свободных» организаций в интересах государства. По этому пункту наблюдается большая преемственность, чем в идейном развитии дореволюционных идей и теорий.
В исследовании Ричарда Стайтса звучит упрек современников в адрес военизации общества, которую он опять-таки связывает лишь с именем Троцкого, якобы являвшейся вариантом авторитарной модели воспитания, знакомой по военной колонии Алексея Аракчеева, основанной в начале XIX века. Стайтс не приводит ясных доводов — как, впрочем, и всегда. Указывая на «некоторые различия»53 и на «сходство Троцкого с Аракчеевым»54 — Стайтс не дает ответа на вопрос, потому что не обосновывает, почему ему видится именно эта параллель, а не какая-нибудь еще, например, система военной подготовки Александра Суворова в эпоху царствования Екатерины II. Он подводит под свою гипотезу недостаточное обоснование. Для сравнения можно было бы взять и Ивана Грозного, ведь не запрещается же использовать его для исторических сравнений только потому, что у него уже есть исторический «близнец», т. е. Сталин.
Цель этой очевидной, но необходимой полемики состоит в следующем: с одной стороны, концепцию военизации нельзя рассматривать изолированно. Если сузить ее до одного лишь Троцкого, то она действительно принимает весьма прагматичный вид. Но нельзя говорить о военизации общества, упуская из виду Всевобуч и идеологию физической культуры. Лишь рассмотрение в историческом контексте по
зволяет дать ей верную оценку и определить ее место в истории. С другой стороны — это методологическое возражение — для анализа ранних концепций военизации вообще не требуется проводить никаких сравнений, особенно неверных55. И, наконец, замечания об усилиях, предпринятых в этом направлении в последние годы существования царизма, свидетельствуют о наличии у концепции военизации предшественников в ближайшем прошлом.
Трудовая культура и физическая культура
Связь физической культуры и военной подготовки отражает лишь одну сторону идеи физической конституции человека будущего. Так же отчетливо звучали мысли о наличии связи между работоспособностью человека и физической культурой.
Из источников следует, что в составе лагерей сторонников военной подготовки и теоретиков труда находились совершенно разные люди. Правда, иногда случалось, что представители того и иного крыла делали друг другу уступки по некоторым вопросам, однако в общем можно с точностью определить идейную принадлежность каждого отдельного автора. Не вызывает удивления, что встречались и такие, кто видел сходство между военной службой и трудом. Они помогут нам перекинуть мостик от одной группы к другой. Так, можно проверить, отличались ли принципы «лагеря труда» авторитарностью и антиэмансипативностью.
Подобно Гастеву и Институту труда, представители этого направления физической культуры считали необходимым обеспечить тесную связь тела с трудовыми процессами, порой говоря о ней, как о предпосылке построения коммунистического общества56. Физической культуре отводилась при этом роль подготовки тела к выполнению трудовых процессов57. В связи с этим появились идеи трудовой гимнастики и трудового спорта. Одновременно делался расчет на воспитательный эффект физической культуры: у человека, занимавшегося спортом, были лучше развиты гигиенические навыки. В спорте видели даже средство предотвращения эпидемий, туберкулеза, бронхитов и рахита, он помогал якобы даже от сифилиса58... л.
С 1923 г. стали высказываться более солидно обоснован-, ные мысли по поводу связи между трудом и физической культурой, оттеснившие на задний план идеи первых послереволюционных лет. До этого доминирование военной отрасли было настолько сильным, что из источников неясно, насколько глубоко и серьезно теоретики труда занимались вопросами физической культуры, или же теоретики физической культуры вопросами труда. Правда, мысль об этом присутствовала с самого начала дискуссии, однако пробить себе дорогу ей удалось сравнительно поздно. Подвойского, из уст которого тоже порой звучали высказывания об ориентации физической культуры на труд59, не назовешь ревнителем этого направления.
Попытка определить соотношение между трудом и физической культурой более четко не в последнюю очередь была направлена на марксистское обоснование физической культуры, потому что со временем стало ясно, что по многим пунктам пролетарская физическая культура была идентична буржуазной60. Ее теоретики чувствовали, что на одном постулате пролетарской физической культуры долго не продержишься61. Толчком к новым дебатам послужили «Тезисы» К. Мехоноши-на по физическому воспитанию трудящихся, опубликованные в журнале «Физическая кульутра»62. Этот орган и стал ристалищем дискуссии, продолжавшейся до и во время Первого Всесоюзного совещания советов физической культуры, состоявшегося в апреле 1924 г.63 Не случайно эти тезисы были опубликованы именно в 1923 г. Дело в том, что на 1922— 1923 гг. пришелся кризис военизированной концепции физической культуры. Так что мысли Мехоношина можно расценить как попытку подведения научной основы под физическую культуру линии Подвойского.
Он пишет, что «физическая культура человека» означает «совершенствование его натуры и увеличение его жизнедеятельности», однако видит ее цель в повышении производительности труда. Он пишет, что основы физической культуры будут заложены тогда, когда пролетариат осознает, что в его задачи входит забота о своем здоровье и физическом благополучии64. Не физическая культура для пролетариата, а фи
зическая культура пролетариата — такую формулу выводит один из комментаторов65. Из этого выводился ряд задач: общее физическое воспитание юношества, идущее рука об руку с воспитанием к труду; подготовка молодого человека к взрослой деятельности в различных сферах; коррекция вредных влияний производства на тело человека с целью предотвращения «отклонений (физических) функций». Включение физической культуры в систему общего образования и воспитания трудящихся говорит об ее высокой оценке. От нее ожидали подъема физических, умственных и психических сил66.
В интерпретации Мехоношина «жизнь» не была свободна от необходимости выполнения человеком функций, налагаемых на него извне. Физическая культура стала средством целенаправленного воспитания и воспитательной коррекции нарушений физического развития, вызванных производственной деятельностью. Примечательно, что Мехоношин говорил, в основном, о физическом воспитании, из которого вырастает физическая культура пролетариата. Он сознавал близость своих идей идеям Гастевского Центрального института труда, т. к. он придерживался мнения о том, что лишь гармонизация соотношения между физической культурой и трудом закладывают прочную базу научной организации труда. Он считал, что только тогда система советского воспитания будет стоять твердо на обеих ногах67.
Из вышесказанного можно сделать выводы об изменении установки теоретиков физической культуры: они отошли от идеи военизированной физической культуры, переключившись на решение задач, связанных с производством: без физической культуры нет организованного труда. Это укрепило в них сознание своей собственной необходимости.
Крылу сторонников сближения физической культуры и производства отнюдь не были чужды признаки ригидности, с проявлениями которых мы столкнулись в случае с институтом Гастева. Они оценивали роль труда очень высоко, отзываясь о нем, как о цементе общества и величине, определяющей жизнь каждого конкретного человека: «Экономика советской России — труд, и этот труд диктует, что задача наша — все
стороннее развитие личности для подготовки ее к труду», — высказал уже знакомый нам врач Радин68. С помощью гимнастики планировалось привить человеку автоматизм выполнения движений, связанных с выполнением производственных операций, а также естественных движений с тем, чтобы производство могло осуществляться «совершенно механически, автоматически, машинально, без всякого участия нашего мозга»69. В главе о трудовой культуре приводятся почти те же самые слова. Там же говорилось о «двигательных рефлексах», «живой машине» и быстроте выполнения трудовых операций. Теперь все это появляется и в области физической культуры: «Новая система физической культуры пролетариата — это система психофизиологического воспитания квалифицированного человека»70.
Подобные высказывания наводят на мысль о необходимости научного обоснования физической культуры. И в самом деле: все упражнения, нацеленные на повышение производительности труда, базируются на данных исследований по биологии, психоневрологии, антропологии, коммунистической педагогики «и других научных дисциплин». Индивидуализм и «рекордизм» были объявлены буржуазной манерой, противоречащей пролетарской физической культуре, определение которой давалось в новой концепции71.
Тем самым теоретики, выступавшие за связь физической культуры и труда, заняли важную позицию. Они отказались от былой идеи гармонии тела, духа и души в пользу подготовки человека к труду. Чем четче оформлялись мысли об автоматизации телесных отправлений, тем реже звучали отголоски прежней теории, которую уже до того заклеймили буржуазной. Подведение под физическую культуру научной базы как бы очистило пространство от всех идеалистических представлений о физической культуре. Можно также сказать, что благодаря появлению новой науки об организации человеческих движений были ликвидированы попытки первых лет, направленные на целостный подход к реорганизации человека. Ведь в проекте целостной реорганизации учитывался неподвластный науке компонент эмоциональной жизни человека, т. е. при всей своей идилличности, утопичности и авто
ритарности они оставляли бесконтрольной какую-то часть человеческого бытия, что отразилось в словах о просветлении и возвращении в лоно природы.
Совсем по-иному подошли к делу теоретики физической культуры, ориентированной на труд. Правда, идеалистический налет первых лет не исчез бесследно, от него осталась фраза о «гармоничном развитии», потому что отныне даже оно было поставлено на службу производству. Под гармоничным развитием человека Мехоношин понимал формирование органичного соотношения между жизнью и трудом, при котором работа не нарушает «нормального отправления жизненных функций»72. По замечанию одного из критиков «тезисов», о физической культуре для развлечения в них не упоминалось вообще73. Радин, как будто никогда и не говоривший ничего другого, объявил: «Ясно, что души и тела нет, а есть только психофизика»74. Если все было так просто, то проблема человека решалась очень легко. Теперь оставалось лишь овладеть психофизикой. «Как оно (психофизическое развитие) может идти по-марксистски правильно? Что сказал Маркс?»75. Судя по приведенной в источнике цитате, Маркс по этому поводу ничего особенного не говорил.
Можно ли на основании подобных высказываний говорить о тяге к авторитарным формам, характерным для линии Подвойского? Тогда мы получили бы треугольник, состоящий из сходных между собой идей: военизированная физическая культура, физическая культура, ориентированная на производство и научная организация труда Гастева. О связях между ними можно сказать только то, что самые радикальные проекты трудовой физической культуры были разработаны в последнюю фазу Гражданской войны или по ее окончании. «Теория» Гастева была разработана также лишь к концу или по окончании Гражданской войны. Между тремя этими позициями нет четко выраженной связи, однако думается, что здесь присутствовало тесное идейное родство. Можно предположить, что радикалы из лагеря Подвойского повлияли на столь же радикальных теоретиков научной организации труда и трудовой физической культуры. Таким образом, Гастев создал свою теорию не только под влиянием Гражданской вой-
ны, конструктивистского авангарда и Пролеткульта, он пребывал в определенном мыслительном пространстве, в котором находились и все остальные. Сходства в мировоззрении сблизили Гастева с другими названными здесь теоретиками, а также с командой Подвойского. Все они питали слабость к идее авторитарного, по их мнению целостного, всеохватного воспитания, в конечном итоге направленного на физическую и психическую дрессировку человека.
Этот экскурс в идеологию физической культуры был необходим для того, чтобы можно было правильно понять и классифицировать Гастева. Ни он, ни Гольцман, ни какой-либо другой представитель Центрального института труда не играли ведущей роли в физической культуре, ни оба этих теоретика, ни другие теоретики и практики не искали сближения с кругами представителей физической культуры. Согласно протоколам Первого Всесоюзного совещания советов физической культуры ЦИТ не отправил на нее ни одного своего представителя. Таким образом, сферы научной организации труда и физической культуры были поделены между совершенно разными людьми. Неизвестно, почему, невзирая на общность их задач, ситуация не изменилась. В науке Гастев всегда рассматривался как отдельное явление, в лучшем случае в связи со своим авангардистским прошлым76. Поскольку она концентрировалась на Гастеве, он превратился в некое исключительное явление. Но в союзе со своим соратником Гольцманом Гастев не кажется таким уж одиноким. Лишь анализ культурных проектов на фоне соотношения сил в рамках физической культуры, Гражданской войны и милитаризации позволяет определить историческое место Гастева.
Разумеется, это касается не только Гастева, но и всех радикальных теоретиков физической культуры, ориентированной на производство. После 1923 г. целевая ориентация трудовой физической культуры просматривается более четко, чем в 1919—1923 гг.
Ввиду взаимопроникновения и взаимного влияния идей того времени друг на друга, их хронологии и особенностей развития между представленными здесь явлениями культур
ной жизни обнаруживается более тесная связь, чем обычно принято считать. С методологической точки зрения невозможно провести четкую границу между теми, от кого исходил импульс, и теми, кто реагировал, принимал, развивал, — культурная сфера всегда представляет собой единое целое.
Это подтверждается на примере еще одной сферы, связанной с физической культурой. Под влиянием «дней физической культуры», проводившихся уже с 1920 г., в ходе которых организовывались показательные выступления гимнастов, акробатов, тяжелоатлетов, устраивались парады, другие спортивные представления, а также смотры допризывников77, прозвучало требование «театрализации физической культуры на основе ритма», с целью придания движениям человека «художественного (ритмичного)» характера78. С эстетизацией общественной жизни мы еще встретимся в разных главах этой работы, прежде всего, в главе, посвященной ранним советским празднествам. В «охвате» людей и отображении новой жизни переплетались самые разные уровни культурных проектов.
Гигиенисты: нарком Семашко
Наряду с авторитарными и претендующими на признание направлениями в области развития физической культуры существовало еще одно направление, из чего можно сделать вывод об идейном многообразии раннего советского периода. На третье место оно попало исключительно из соображений системности. Одним из главных и известных представителей этого направления, разительно отличавшегося от линии Подвойского и ставящего своей целью просвещение народа, был Народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко, врач по профессии.
В силу занимаемой им должности к нему ежедневно поступали данные о состоянии здоровья населения, далеко не блестящем, ослабленном войной, голодом и эпидемиями79. Так что неудивительно, что именно нарком здравоохранения играл одну из самых главных ролей в области физической культуры. Он неустанно пытался связать физическую культуру с вопросами гигиены, чистоты, здоровья. Доводы, приво
димые Семашко в пользу физической культуры, всегда отличались «редукционизмом» по сравнению с доводами всех остальных участников дебатов о задачах и назначении физической культуры: он был наименее тенденциозным из всех, наиболее конкретным и поэтому наименее идеологизирован-i ным80.
j Лучше всего позицию Семашко можно охарактеризовать, если сказать, что он смотрел на свою страну через западноевропейские очки. В бытность свою эмигрантом он жил в Швейцарии, стране, образцово-показательной с точки зрения медицины. По всей видимости, правило проветривать постельные принадлежности, соблюдавшееся каждое утро в любой деревне, произвело на него очень глубокое впечатление. В России ничего подобного не было. Ситуацию с гигиеной в своем отечестве он находил отталкивающей. Он говорит о «варварстве» населения России в области гигиены, несоблюдении элементарнейших правил, принятых во всей Европе81. «Безграмотность физической культуры» — гласил диагноз, поставленный врачом, вместе с Лениным в пломбированном вагоне вернувшимся в Россию, страну, в которой дела с народным здоровьем обстояли самым плачевным образом82.
Нарком писал, что ошибаются те, кто считает, что физическая культура поможет в короткий срок справиться с такой ситуацией, т. к. в России не существует физической культуры, в лучшем случае можно говорить о зачатках спорта. В царской России было очень мало спортсменов, да и те не являлись для Семашко воплощением идеала физической культуры. В своем выступлении на совещании советов физической культуры (в цитате не хватает жестикуляции оратора) он рисует следующую картину: «„Аполлоны красоты” <...>, люди вот с такими мускулами, с маленьким узким черепом, с громадными растопыренными усами и скотскими ногами»83. Иронизируя над подобными явлениями, Семашко называет их скотсменством.
Западная позиция проявляется и в том, что нарком следил за тем, что предпринималось в области физической культуры в капиталистических странах. Он прямо указывал на то, что на Западе, особенно в фашистской Италии, физическая куль
тура была поставлена очень высоко. По сравнению с ними Советская Россия находится пока еще в самом начале пути, отмечал он, понятие «физическая культура» слишком высоко для этой страны84, потому что оно означает культуру физической жизни человека в более широком смысле, чем это кажется на первый взгляд85. Под сочетанием «физическая культура» Семашко понимал «полную перестройку жизни на новой, рациональной, так называемой культурной основе»86. Правда, он не отличался последовательностью, т. к. в другом месте он отдает предпочтение более прагматичному определению физической культуры, называя ее «строительством здания коммунизма»87.
Однако в своих произведениях по физической культуре Семашко ограничивался вопросами гигиены, восстановления и сохранения народного здоровья именно потому, что не хотел пускаться в мечтания о лучшем мире, как случилось с многими из его коллег-медиков. Чуждый идеологии, он ставил производство на второе место88. Конечно, он не подвергал сомнению его первостепенное значение для советской экономики, однако считал физическую культуру необходимой предпосылкой формирования культуры труда. По его мнению, НОТ, научную организацию труда, можно было считать «чем-то вроде физической культуры»89. Однако параллельно с ней, писал он, предприятиям не мешало бы подумать о мерах медицинской профилактики. К ним он причислял и физическую культуру. Но думается, что и старый большевик Семашко, возвышавшийся над всеми теориями и над идеологией, был слегка заражен идеей целостного подхода. По его словам, тот, кто говорит о разделении души и тела, повторяет «поповские глупости». «В марксистском (материалистическом) понимании личность едина (монистична)»90.
Вообще народному комиссару были чужды подобные экскурсы в философию. Он смотрел на себя и свою роль в соответствии с занимаемой им должностью, принятой им с неохотой из нежелания заниматься неизбежной в этом случае бюрократической работой91. Поэтому, будучи практиком, Семашко и не создал такое множество программных произведений на тему физической культуры, как упоминавшиеся здесь
остальные. Но он заложил идейные основы концепций физической культуры92. Проявляя скромность в теории, он в силу занимаемой им должности пытался продвинуть самую разумную, по его мнению, линию: физическая культура в названных здесь целях, в лучшем случае — включенная в концепцию труда. Вскоре Семашко перешел на сторону умеренных^ противостоявших милитаристам.
Спор о направлениях
Оставим на время культурные проекты. Стоит бросить беглый взгляд на организационные перемены, являвшиеся отражением поворота, происшедшего в 1923 г.
Наличие самых разных концепций, часто отмеченных утопичностью, не могло не привести к возникновению споров между разными лагерями. Как выяснилось вскоре, слишком разными были представления, задачи и, прежде всего, ожидания, связываемые с физической культурой. Более умеренные, которых можно назвать так за их менее идеологизированную позицию, сознавали ограниченность своих практических возможностей. С одной стороны, в период Гражданской войны во всей системе физкультурных организаций доминировала военизация, с другой стороны, приказом руководителя Всевобуча, Подвойского, от 31 октября 1920 г. все спортивные объединения были подчинены армии93. Тем самым, невоенизированные активисты физической культуры были лишены даже технических возможностей для осуществления своей деятельности. Не изменило положения и создание надведомственного органа в 1920 г. Правда, в состав Высшего совета физической культуры вошли представители Комиссариатов народного просвещения и здравоохранения, однако его председателем был Подвойский, а в административном отношении Совет был связан с Главным управлением Подвойского под эгидой Всевобуча94.
В годы Гражданской войны не удалось преодолеть явного доминирования военизированного направления в спорте, отразившегося в словах «спортизация» и «военизация физической культуры» в пользу физического воспитания, ориентированного на производство. Но окончание войны и начало
восстановления экономики привело к перераспределению акцентов, при этом не обошлось без борьбы, несмотря на ясность, царившую в организационном отношении и победу сторонников военизации. Но за кулисами шла борьба за пальму первенства между «умеренными» во главе с Семашко, предъявлявшего правовые претензии, и Всевобучем, боровшимся за свою легитимацию в мирных условиях и не помышлявшего об уходе с завоеванных позиций.
Речь шла о руководстве физической культурой. Уже к началу 1922 г. начали поступать первые сигналы о необходимости пересмотра Всевобучем своих задач в соответствии с новыми условиями95. Ввиду пошатнувшегося положения Всевобуча на конференции членов этой организации было принято решение о перестройке работы9®. По всей видимости, немалая часть молодежи уклонялась от занятий в системе Всевобуча97. Общественные организации, прежде всего комсомол, были призваны к участию в организации физической культуры98, хотя формально союз молодежи привлекался к участию в мероприятиях по физическому воспитанию уже с 1920 г.99. Под влиянием всего этого монополия Всевобуча начала ослабевать.
К 1923 г. ситуация прояснилась: на передний план стала выдвигаться умеренная линия. У военного лагеря стало появляться все больше и больше проблем с легитимацией, обусловленных не только мирной политикой государства, направленной на строительство, но и кризисом его наступательных концепций. Если бросить взгляд на лагерь дизайнеров культуры, то мы увидим, что приблизительно на этот же момент пришлось начало дебатов о быте. В области физической культуры прослеживается сходное развитие.
Роль Подвойского в этот период неясна. В своих выступлениях он практически перестал говорить о военизации и полностью поддерживал курс на производственную ориентацию физической культуры, всегда оставляя себе при этом ходы для отступления’00. Однако, если бросить взгляд за кулисы, то становится ясно, что он находился в состоянии конфронтации с противниками. Он упрекал «умеренных», особенно Семашко, в неэффективности и вреде их модели физической
культуры, поскольку она якобы не приносила никакой пользы социалистическому сторительству101. Примерно в марте 1923 г. Подвойский в последний раз попытался подорвать доверие к Семашко и возглавляемому им комиссариату. Председатель Всевобуча приводил данные о катастрофическом состоянии здоровья пролетариата и обвинял Народный комиссариат здравоохранения в непринятии мер для его улучшения. Обращаясь непосредственно к партии как к высшей инстанции, Подвойский, видимо, надеялся получить поддержку своей пошатнувшейся политики, направленной против Семашко. Во всяком случае, он не напирал, как прежде, на военизацию, а подчеркивал важность восстановления работоспособности пролетария102.
Эти последние перепалки не смогли воспрепятствовать реорганизации физической культуры, начатой по распоряжению Президиума Центрального исполнительного комитета от 7 июля 1923 г. «О Верховном и местных советах физической культуры трудящихся РСФСР»103, в результате которой Всевобуч практически лишился своего влияния. Пост председателя Всевобуча вместо Подвойского занял К. Мехоношин, более умеренная голова, делавший ставку на интеграцию104. Председательство Центральным советом, а тем самым, и руководство физической культурой, перешло к Семашко. Верховный совет физической культуры при Главном управлении Всевобуча был упразднен. Новый орган находился в непосредственном подчинении Центрального исполнительного комитета105.
В результате с главных позиций были вытеснены радикалы, ио не радикализм. На основании источников можно сделать вывод о том, что расцвет сравнительно аполитичной, ориентированной на гигиену и здоровье физической культуры продолжался приблизительно всего два года, по прошествии которых сторонники военизации снова начали набирать силу. Как мы увидим, произошла перемена действующих лиц, но дух остался прежним.
На Первом Всесоюзном совещании советов физической культуры, состоявшемся 15—20 апреля в Москве, 304 делегата, среди которых было пять женщин106, стали свидетелями
спектакля, в ходе которого Подвойский, приглашенный в качестве гостя без права совещательного и решающего голоса, сам не знавший, почему он был избран в президиум, получил запоздалое возмездие за свою радикальную и гегемонистскую политику. Нападки были направлены на «бывшего монополиста в лице Всевобуча»’07. В великолепной речи Семашко подчеркнул правильность своего пути. Спесивым тоном Подвойский заявил о своей обиде’08, в ответ на что Семашко дал ему окончательный отпор: еще один пример личного соперничества среди ведущих большевиков. «Мне очень неприятно, товарищи, говорить о той жалобной речи, которую сделал товарищ Подвойский. Прежде всего, товарищ Подвойский, всегда весьма неприятно бывает слушать (для меня, по крайней мере, очень неприятно), как кто-нибудь хвалится, какой он исторически заслуженный человек. Хорошо, когда об этом говорят другие, а когда мы сами выходим и говорим — „Знайте, какие мы великие и исторические люди», — это нехорошо и неприятно»109. Намекая на далеко не блестящие умственные способности Подвойского, Семашко не постеснялся облить того презрением в присутствии всех делегатов: «Он открыл Америку, что Красная армия, комсомол и все пролетарские организации должны играть активную роль»”0.
Как и в случае всех остальных дискуссий тех лет внутри партийных и государственных институтов, здесь дело касалось различных концепций. Из протоколов совещания можно сделать выводы о том, как, какими средствами велась борьба за ту или иную линию. Они подчеркивают и поясняют, какие усилия прилагали сторонники разных замыслов, задач и идеологий для своей полной победы ценой личной капитуляции представителей иных направлений; подобная ситуация наблюдается во многих других случаях, начиная с 1923 г. Здесь четко отражается образец внутрипартийной борьбы между представителями разных лагерей середины двадцатых годов”’-
Результатом спора о направлениях было разделение физической культуры на военную и гражданскую отрасли. Но и такое разделение скорее искусственно, т. к. даже в годы
НЭПа физической культуре был присущ военный аспект. В связи с реорганизацией Красной армии допризывная подготовка снова вышла на передний план. Вскоре стало ясно, что победа «умеренных» в апреле 1924 г. над линией Подвойского была временной. В итоговых комментариях конференции говорилось, что в первоочередные задачи физической культуры входит улучшение быта человека, привитие ему правил гигиены и оптимизация труда. Из продолжительной дискуссии, в ходе которой высказывались самые разные мнения, явствует, что существовали еще и другие воспитательные цели, которые можно назвать дальними или недостижимыми. Например, противникам разгула сексуальной свободы, имевшего место в первые годы советской власти, удалось протащить неловкую формулировку, согласно которой физическая культура «регулирует сферу половой жизни»112.
Однако важно отметить, что по прошествии довольно недолгого времени сторонники военизации снова почувствовали себя на высоте. Подвойский продолжал работать в своей области. В 1925 г. вышло в свет второе издание книжки, изданной им в соавторстве с остальными, в которой снова зазвучал старый военный тон113. Несмотря на то, что годом раньше Сталин уже выдвинул лозунг о победе социализма в одной стране, в этом произведении все еще говорилось о мировой революции, к которой следует готовить советских граждан. При этом физическая культура должна была идти рука об руку с общей культурой, развивающей «колоссальные физические, умственные и материальные силы» страны1’4.
Подвойский отразил свои идеи и в одном художественном произведении. За исключением Луначарского, больше не известно примеров испытания своих сил на этом поприще кем-нибудь из ведущих большевиков. Рассказ с программным названием «Смычка с солнцем», незадолго до появления которого вышла в свет его научно-популярная версия”5, особенно впечатляющим не назовешь116. Видимо, он так и остался первым и последним литературным опусом художника. В нем описывается глубокомысленная беседа двух комсомольцев о физической культуре, увидевших в витрине магазина книгу с таким же названием. Оба героя, «мы, их руководя
щий слой», принимают решение приблизиться «к природе, а затем и к массе»117. Рассказ, в котором природа подана в ро-мантическо-мифическом ключе, завершается апофеозом: «Солнце, солнце! Лучший врач пролетариата!»,,в. Принимая во внимание убийственную серьезность этого произведения, едва ли можно усмотреть в нем сатиру на линию Семашко.
Мехоношин, в 1923—1924 гг. еще благосклонно одобрявший ориентацию физической культуры на производство, со временем стал преемником идей Подвойского, высказанных им в первые годы советской власти. Он снова начал подчеркивать военный аспект физической культуры. Техническая отсталость Советской армии должна компенсироваться хорошей подготовкой солдат, писал он в одном из своих произведений, опубликованном в 1926 г. в издательстве ОГПУ119. Как до этого Подвойский, Мехоношин склонен был видеть войну в романтическом свете, как испытание на прочность человека и государства120. Из этого он заключал, что физическое воспитание должно быть «целостным», превратиться в «гармоничную систему подготовки воина»121. Близость его концепции к прежним идеям использования человеческого тела в интересах государства отражается в словах о том, что «Мы тем самым, так сказать, постепенно организуем отправление психических функций в нужном нам направлении»122.
В другом месте вместе с ним военизации общества требуют и другие, причем о военизации сказано, что она якобы не имеет ничего общего с милитаризацией123. Примечательна его ссылка на пример Гражданской войны124. С сожалением он отмечает неудовлетворительность результатов проделанной до сих пор работы. По мнению Мехоношина, этот дефицит можно восполнить лишь в случае введения всеобщей воинской повинности, что будет способствовать воспитанию бойца нового типа и вне армии. «Задача заключается в том, чтобы во всю систему политико-просветительной работы, во всю систему революционного классового воспитания включить и элементы военного боевого воспитания и образования»125. Проблему отсутствия в концепции упоминания о труде авторы обходили легко: война ли, труд ли — и то и другое предъявляет к человеку одинаковые требования.
Мы привыкли говорить о военизации общества лишь с началом коллективизации и форсированной индустриализации. Характерной чертой 1928—1932 гг. был по-военному решительный подход к борьбе с отставанием, ориентация на прорыв, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Одним из характерных признаков этого времени является и военизация языка, популярность выражений из военного лексикона. Как современники, так и историки проводят параллели с Гражданской войной. Однако это не просто параллели, здесь можно говорить о наличии преемственности с ситуацией 1919— 1923 гг., вскоре снова всплывшей, причем благодаря той же политической группировке, из которой вышли сторонники военизации прошлых лет. Милитаризация началась в Советском Союзе не в 1928-м или 1929 г., а гораздо раньше126.
Вообще можно говорить о том, что в умах плановиков культуры прочно укрепилась мысль о военизации, обусловив подход государства к обществу, даже к каждому отдельному его члену с позиции силы. Если рассматривать физическую культуру как неотъемлемую составную часть культурного проекта, в тот же самый момент в поле зрения попадает военизация. Здесь уже отмечалась ее связь с культурными проектами тех лет по многим линиям. Поэтому было бы неправильно рассматривать физическую культуру, военизацию, трудовую культуру и реорганизацию умов в отрыве друг от друга. Взятые вместе, они представляют собой единое целое
культуры раннего советского периода.
В первой части данного исследования мы попытались показать, что нельзя считать 1928—1929 гг. исторической вехой в сфере культуры, что многое из того, что мы привыкли считать признаками сталинизма, проявилось в открытой форме уже до этого, кое-что уже сразу после Октябрьской революции. Яснее всего преемственность прослеживается в данной главе, повествующей о претензиях государства на право распоряжаться телом своих подданных. Впрочем, «сталинистские» черты проглядывают в подобных претензиях и без этого атрибута. Они были порождены потребностью радикальных перемен, мифом о создании нового человека. «Сталинистский» нажим тридцатых годов, с одной стороны вульгаризирован
ный за счет подогревания старых идей, с другой — отмеченный перестроечным пафосом не первой свежести, является как бы прямым продолжением этих гибельных идей. Но радикалы никогда не испытывали ни малейших сомнений в возможности располагать телом советских людей. Возможно, кому-то покажутся натянутыми возникающие в этой связи новые вопросы к этой, самой темной стороне советской истории. И все же: не повлияло ли на теоретическое обоснование и применение принудительного труда укоренившееся в государстве отношение к телу человека, как к предмету, самому по себе никакой ценностью не обладающему, облагораживаемому лишь коммунистическим воспитанием? Можно ли подходить к анализу повального террора в тридцатые и последующие годы с позиций истории человеческого тела? Только ли случайностью объясняется сходство между словами Мехоношина о дрессировке боевых собак и о дрессуре людей, направленной на превращение их в героев-воинов127?
Здесь мы вынуждены отказаться от ответов на эти вопросы. Но что мы постарались показать в этом экскурсе — так это то, что в области физической культуры наиболее четко проявился авторитарный, даже тоталитарный (т. к. в данной связи это слово уместно) характер сложившейся впоследствии системы, определивший весь дальнейший ход истории советского общества. С этой точки зрения ситуация, сложившаяся в Советском Союзе, действительно привела к формированию «физической культуры», о которой и не мечтал никто из ее ранних теоретиков и идеологов. Луначарский посчитал нужным вмешаться в тогда уже решенные споры о физической культуре с предостережением, призывая вспомнить о насущных задачах физической культуры пролетариата, состоявших, по его мнению, в организации массового движения по оздоровлению населения128. Однако эта его поддержка Семашко не принесла никаких результатов.
К началу тридцатых годов физическая культура была политизирована и интернационализирована в соответствии с духом классовой борьбы, от советских граждан стали требовать определенных результатов. Новая система, через которую обязан был пройти каждый молодой человек, называлась
ГТО (готов к труду и обороне). Физическая культура была сведена к спортивной и военной подготовке с упражнениями в чисто военных дисциплинах, таких как, например, метание гранаты, защита при газовой атаке и стрельба. Тем не менее, она по-прежнему называлась «физической культурой». То, чем прежде занимались теоретики, отныне определялось «сверху», подкрепляясь фразами, позаимствованными из прежних теорий; физическая культура все еще продолжала служить на благо «гигантской работы по созданию нового человека»129.
Вырождение и «социалистическая» евгеника
Оглядываясь на предыдущие разделы и многочисленные высказывания плановиков культуры, можно выделить идеи, красной нитью проходящие через все произведения по советской физической культуре. И в главе, посвященной умственной реорганизации человека, и, в особенности, в разделе о теле проскальзывают более или менее открыто высказанные сетования на неудовлетворительное положение дел. В умственной сфере выход состоял, говоря коротко, в образовании и воспитании, других средств решения проблемы не было. Что касается тела, то здесь выход виделся в физическом воспитании — но существовали еще и естественные науки, биология, и прежде всего, медицина. Еще раз напомним: многие теоретики физической культуры были врачами. Один из самых радикальных «перестройщиков», Радин, был медиком. Могло ли при тех условиях, в которых проходила разработка физической культуры в Советской России, не произойти объединения медиков с дизайнерами культуры? Не скрывалось ли в научном обосновании физической культуры намерение привести к возникновению попыток осуществления биологическо-медицинской реорганизации? Разве самые разные концепции, постоянное упоминание о недостатках в области физического развития, выраженная не только в сфере физической культуры вера в науку, не были направлены на дрессуру и «выведение» нового человека, легитимированные с культурной, политической и научной стороны?
Вмешательство биологии и медицины в создание нового человека привело к возникновению дебатов, подобных дебатам, имевших место в Западной Европе. Их предметом стала евгеника, проникшая и в Советский Союз. Этот момент — еще одно подтверждение того, что, несмотря на изоляцию от Европы, эта страна проходила через те же самые вехи развития. Евгеника — это устоявшееся понятие, смысл которого проясняется лишь в контексте «расовой гигиены», согласно выражению одного из ее основателей-немцев130, базировавшейся на механическом перенесении теории Дарвина на развитие общества, расовой идеологии и экспериментальной медицины национал-социалистов. Нейтральной евгеники не существует, и не существовало никогда с самого начала изобретения этого понятия Фрэнсисом Талтоном в восьмидесятых годах XIX столетия131.
Наверное, оправдан легкий испуг при появлении этой отрасли биолого-медицинских наук в стране, новый режим которой якобы свободный от каких бы то ни было расистских идеологий, заявлял о себе как о начале более гуманной эры в истории человечества, и вождь которого, Ленин, и слышать не хотел о подобных идеях. «Нет ничего легче, чем наклеить „энергетическую” или „биолого-социологическую” этикетку на такие явления, как кризисы, революции, классовая борьба и т. д., но не существует ничего более неплодотворного, схоластичного, мертвого, чем это занятие», — отмечал он, подчеркивая, «что вообще перенесение биологических понятий в область общественных наук — всего лишь фраза»132.
О развитии идей евгеники в Советской России, об ее внедрении в научные институты и о связях ее представителей с западными учеными, включая представителей расовой гигиены в Германии, писали Лорен Р. Грэм и Марк Б. Адамс133. Оба они сходятся в том, что политической темой евгеника стала лишь, начиная с середины двадцатых годов, в связи с возникновением научной дискуссии о вкладе евгеники в строительство социализма и принципиальными вопросами о путях развития генетики.
Не будем останавливаться здесь на вопросах принятия естественнонаучных теорий в России и Советском Союзе. В
/
этом разделе мы попытаемся всего-навсего выяснить, какая роль отводилась евгенике в переделке человеческого тела, в отличие от Грэма и Адамса, представителей истории науки, заинтересованных общими внутринаучными спорами и политизацией науки. Здесь речь пойдет о связи евгеники с физической культурой. При этом придется коснуться некоторых естественнонаучных проблем. Это обусловлено вопросом об употреблении понятия «евгеника». Для того, чтобы вычленить его из сети исторических связей, следует вначале рассмотреть его в теоретическом и временном контексте, в противном случае слишком велика опасность априорной оценки определенных взглядов с точки зрения исторического развития. Следует помнить о том, что понятие «евгеника» относится, в первую очередь, к сфере естественных наук, т. е. является термином из определенной области.
В идейном и организационном плане евгеника была связана с физической культурой. Однако заметим сразу, что об этих связях известно не много. В то же время нельзя сказать, что евгеника не оказала влияния на развитие концепций физической культуры. В данном вопросе нельзя отметать эту проблему как несущественную на основании недостаточного количества источников. Не является основанием и тот факт, что ни в одной стране в дискурсе о евгенике не участвовали широкие массы населения, что он всегда был достоянием небольшой группы.
В 1922 г. в журнале «Физическая культура» была опубликована статья с ничем не примечательным названием «Научные основы тренировки»134. Автор, В. Гориневский, был профессором медицины. Во вступлении к статье он касается не вопросов тренировки, а говорит совсем о другом, а именно о физическом вырождении и физической культуре.
Будучи ученым до мозга костей, Гориневский вначале поясняет, что он понимает под вырождением. По его словам, это разрушительный процесс, распространяющийся на ткани тела, его органы и даже на целый организм. Так, он пишет о случаях, в которых некоторые группы мышц, подвергаясь особенно сильной нагрузке, развиваются сильнее, в то время как остальные ослабляются. В таком случае нельзя говорить о
всестороннем развитии тела. «С эстетической точки зрения это отвратительно; такие отклонения от нормы называются параморфизмом. Отвратительным формам соответствуют отвратительные поступки, а во многих случаях также и сильные отклонения жизненных функций тела». Кроме того, Го-риневский называет деформации упадочными формами, влекущими за собой физический упадок.
По мнению автора, вырождение представляет опасность, если оно начинает принимать массовые масштабы: «Чем больше вырождающихся субъектов в данном обществе, тем мрачнее его судьба, потому что в этом случае обществу угрожает наследование аномальных форм и, тем самым, наследование аномальных функций». Гориневский утверждает, что и в истории, и в настоящем существует множество примеров «прогрессирующего вырождения». Он пишет, что массовое вырождение оказывает на психику народа такое же влияние, какое индивидуальная деформация оказывает на психику отдельного человека. Все это обусловливает неполноценность как в физическом, так и в психическом отношении.
Прежде чем перейти к евгенике, о которой говорит автор далее, необходимо взглянуть на эти высказывания повнимательнее, с научной точки зрения. Очевидно, Гориневский смешивает морфологическую деформацию у отдельного человека с вырождением целой популяции. Он поступает так без всяких вывихов в теорию лишь потому, что, как выясняется из данных отрывков, он был приверженцем ламаркизма. Двум этим разным явлениям он приписывает наследуемость. По Гориневскому, индивидуальная деформация передается по наследству. Если же сходные деформации морфологического характера наступают у многих лиц, то такое же количество индивидуальных деформаций передается следующему поколению. Однако, по нынешним сведениям науки, наследование приобретенных признаков исключено, а на смену теории французского естествоиспытателя Жана Батиста Ламарка начала XIX века пришли дарвинизм и генетика. Но в начале двадцатых годов этот вопрос был еще далеко не решен, в том числе и в Западной Европе тоже нельзя говорить об окончательной победе дарвинизма. «Синтетическая теория эволю-
ции», связавшая дарвинизм с генетикой, обязанной своим возникновением Грегору Менделю, только начала пробивать себе дорогу и не сразу нашла всеобщее признание135. Эту ситуацию упускают из виду Грэм и Адамс, склонные придавать концептуальным научным дебатам политический вес. Поэтому неудивительно, что на первый взгляд доводы Горинев-ский кажутся анахроничными.
Но на этом его теории не исчерпываются. Нельзя не заметить у него созвучий с теорией Дарвина и западноевропейской теорией социального дарвинизма, разбавленных ламаркизмом. Российский медик рассматривал вырождение и борьбу за существование в связи друг с другом. Он пишет, что в ходе борьбы за существование устраняется все «слабое, больное и вырождающееся» и выживает «более здоровое, сильное, выносливое и приспособленное». Для наглядности Гориневский приводит пример из жизни природы: в лесу «борьба за свет и питание» представляет собой вынужденный естественный отбор. Окультуренный участок леса отличается от малокультурного тем, что в первом случае наблюдается «равенство шансов при умелом обращении, перепахивание сорняков поддерживает жизнь полезных растений, обеспечивает хороший урожай и экономит энергию». Малокультурные пространства являются «отсталыми», поскольку в них допускается возможность высокой степени вырождения.
С самого начала можно догадаться, что под лесом Гориневский подразумевает человеческое общество. Итак, эта метафора используется для пояснения полезности вмешательства в человеческую популяцию во имя всеобщего блага. Однако неясно, по каким критериям должно производиться «перепахивание сорняков». Тут же он переносит на общество понятия дарвинистской теории эволюции, говоря о том, что «в конкуренции между народами более слабые приходят в упадок и вымирают, как вымирали бы в подобных условиях отдельные растения, животные и люди». В то же время, эти понятия он пытается перенести на свою эпоху.
Констатировав различия физической конституции у европейских народов, Гориневский утверждает, что если говорить о вырождении, русские занимают «первое место среди самых
злосчастных народов». Смертность, тем более детская смертность, превышает средние европейские показатели. Он пишет, что «дамоклов меч вырождения и вымирания» завис над русским народом еще до начала Первой мировой войны: «Вырождение проявляется в форме всевозможного параморфизма, наблюдающегося среди всех сословий и классов, а также выраженного в слабой активности и общем упадке сил». Война, эпидемии, голод ослабили народ еще больше, повлияв на «качественный состав населения». Его качество ухудшилось резко, «поскольку на войну ушли лучшие элементы всего народа: самые сильные, здоровые, лучшие работники всех сфер труда в возрасте от 18 до 50 лет. Самые высококвалифицированные как в физическом, так и в умственном отношении, рабочие погибли на войне. От них осталась какая-то часть, пополнившая ряды инвалидов. Баланс количественного соотношения полов резко изменился в пользу женщин. Велико число жертв войны — больных, увечных, инвалидов и всячески ослабленных».
Гориневский ясно говорит о последствиях упадка: в производственной сфере такие «нации» с большим количеством ослабленных работников не представляют серьезной конкуренции на «мировой арене труда».
Выше упоминалось о социальном дарвинизме, здесь необходимо сделать несколько замечаний. Слова Гориневского о борьбе общества за существование и выживании сильнейшего отмечены явной печатью социального дарвинизма. Однако кажется странным, что они не базируются на научном дарвинизме. Пример леса не подходит для выведения законов природы и общества, поскольку в нем речь идет не о естественном, а об измененном благодаря вмешательству человека пространстве. К тому же теория негативного отбора вследствие войны и эпидемий совершенно не созвучна с дарвинизмом — у Дарвина отбор весьма оптимистичен, поскольку предпочтение всегда отдается сильнейшему. Но Гориневский использует понятие «военный отбор», не имеющее никакого отношения к ламаркистской терминологии.
Как раз последний пример показывает, что Гориневский не понял дарвинизма и построенного на его основе социаль
ного дарвинизма. Он натягивает их на идеи ламаркизма, утверждая, что последствия войны: деформации, или, выражаясь его словами, вырождение, передаются следующему поколению. «Плохие семена дают плохие ростки и плохой урожай». В конце концов, неважно, каковы причины вырождения: будь оно обусловлено цивилизацией в случае буржуа и пролетариев, или войной и эпидемиями, важно отметить ошибочность утверждения Гориневского о наследовании приобретенных признаков.
К чему эти экскурсы в теорию? Они необходимы для того, чтобы понять, в каком контексте Гориневский рассматривал евгенику. Лишь уяснив, что он предпочитал выстраивать свои теории не на почве (социального) дарвинизма, а жонглировал набором ламаркистских терминов, можно понять, в чем состояла суть его подхода к евгенике, предотвратившего развитие ситуации, сложившейся в Германии в период национал-социализма.
Гориневский переходит к евгенике следующими словами: «Евгеника, пережившая колоссальный подъем после долгой, убийственной войны, понизившей общий уровень человеческой культуры, является наукой, необходимой в наше время. Она обладает средствами для возрождения упадочных рас».
Отодвинем пока вопрос рас на задний план и остановимся на функции евгеники. Дело в том, что здесь мрачные прогнозы Гориневского начинают просветляться. Все выглядит не таким уж и безнадежным. Он видит возможности улучшения народного здоровья по двум направлениям — с одной стороны, сохранились кое-какие «здоровые элементы»: «Это, прежде всего, молодежь, с удовольствием занимающаяся спортом, трудоспособная, и, судя по всему, способная учредить в нашем государстве физическую культуру, активно участвуя в ней словом и делом».
По словам Гориневского, с помощью одной только физической культуры невозможно добиться желаемого эффекта. Лишь связь физической культуры с евгеникой дает возможность сойти с дороги, ведущей к упадку. В сознание «культурных сил (народа) должна войти мысль о необходимости выращивания молодых ростков, являющихся результатом ре
волюционной идеи и природы, противостоящих всяческому упадку. Это возрождение». Гориневский настойчиво говорит о «великих евгенических задачах» как о содержании физической культуры.
Если отвлечься от пафоса, овевающего понятие евгеники у Гориневского, то останется четкий субстрат его мыслей. Ясно, что он связывал евгенику с коррекцией индивидуальных деформаций в духе Ламарка и манипулированным отбором по Дарвину или же в духе социального дарвинизма. Но насколько сильным, доминирующим было социально-дарвинистское начало у Гориневского? Выше уже отмечалось, что у социального дарвинизма Гориневский позаимствовал лишь терминологию, что привело к вербальному завуалированию ламаркизма. Высказывания, непосредственно касающиеся евгеники, выдержаны тоже скорее в духе ламаркизма, чем социального дарвинизма. В рамках своей основной теоретической позиции Гориневский вкладывает в понятие евгеники следующий смысл: в псевдодарвинистском примере с лесом автор предлагает людям вмешаться в развитие общества, т. к. он полагает, что такой путь даст возможность ликвидировать аномалии, порожденные экзогенными факторами. С точки зрения дарвинизма евгеника была бы ошибочным вариантом решения проблемы, для устранения которой якобы можно ограничиться одной лишь физической закалкой и созданием эргономичных условий труда. Следовательно, Гориневский смотрит на евгенику с точки зрения ламаркизма как на строго научную систему тренировки, помогающую остановить физический регресс, способствующую нормализации развития и оптимизирующую его, и, таким образом, препятствующую наследованию признаков вырождения. В Советском Союзе под евгеникой подразумевались профилактические меры, направленные на сохранение народного здоровья. Как раз здесь она и соприкасается со своей союзницей — физической культурой.
Против такой интерпретации можно возразить еще и то, что Гориневский использует понятие расы и утверждает, что конечной целью является «оздоровление расы». Но и в это понятие Гориневский вкладывал ламаркистский смысл, т. к.
под ним подразумевались определенные виды наследственных деформаций. Отталкиваясь от этого, можно чисто абстрактно считать типичные для буржуазии признаки дегенерации признаком расы, т. к. другим слоям населения были свойственны свои дегенеративные черты; таким образом, получаются «пути дегенерации», описанные Ламарком. В понимании тогдашних советских ученых все обстояло именно так. Это отметает все подозрения о том, что Гориневский якобы взял на вооружение популярные в то время идеи социального дарвинизма, перенеся их на Россию послеоктябрьского периода.
Только что мы подробно представили одного из главных советских евгеников, насколько можно судить по использованным нами материалам. Гориневский был одним из первых, кто поднял проблемы вырождения и евгеники в России. Остальные ученые, считающиеся главными представителями евгеники, начали писать об этом лишь некоторое время спустя136. Факт опубликования статьи Гориневского в журнале, далеком от последовавших затем научных дебатов, говорит о том, что после революции и Гражданской войны вопрос о целесообразности» применения евгеники в восстановлении народного здоровья обсуждался не только в «высших» ученых кругах.
Кроме того, этот пример очень ясно свидетельствует о том, что ученые, занимавшиеся евгеникой, очень скоро начали пытаться применить ее на практике и что занимались ею не только в научных институтах. В данном случае важен как раз-таки практический аспект, т. к. теорией евгеники интересовались в то время во многих странах, однако не везде она находила одинаковое практическое применение.
Распространению идей Гориневского наверняка способствовала занимаемая им должность. Он был сотрудником Института физической культуры137 в Москве, основанного 1 декабря 1920 г. Какой пост он занимал с самого начала, выяснить не удалось. По данным одной публикации 1927 г. он, по крайней мере, в этом году, был руководителем института138. Одновременно он руководил научно-исследовательским отделом Научно-технического комитета в Верховном совете физической культуры, основанном в 1923 г139. К десятилетию
развития советской физической культуры им был написан отчет о научном контроле140. На Первом Всесоюзном совещании советов физической культуры он выступил с докладом о физической культуре в дошкольном возрасте и научных основах тренировки141. Вопросами физической культуры он начал заниматься еще при царизме, впервые его имя прозвучало в 1913 г. в связи с публикацией брошюры о физическом воспитании142. Учитывая все это, было бы легкомысленным не принимать Гориневского во внимание. По всей очевидности, в двадцатые годы он обладал научным весом.
Мало того — он еще оказывал влияние и на других. Так, в «Тезисах» Мехоношина проблеме вырождения посвящен целый раздел, формулировки которого весьма и весьма близки к формулировкам Гориневского143. Однако Мехоношин не употребляет понятия «евгеника». В уже упомянутой здесь книге, вышедшей в 1926 г., он снова обращается к данной теме144. Семашко тоже разделял взгляды Гориневского, свидетельством чему являются его слова о том, что цели физической культуры созвучны общим задачам евгеники145. Врач Радин с большим энтузиазмом говорит о физической культуре, дифференцированной в соответствии с понятием расы по Ламарку, причем расами в его понимании являются крестьяне и пролетарии кавказских, якутских и любых других народностей. Он требовал «укрепления и совершенствования человеческой расы» с помощью евгеники. А поскольку конечная цель могла быть достигнута лишь с наступлением социализма, он искал средства для его ускорения. В деле превращения человека в общественно-полезное существо он возлагал большие надежды на успех «социально-евгенической установки» человека по аналогии с его «установкой» посредством физического воспитания — в том двойном смысле, с которым мы встретились у Гастева146.
Одна статья, опубликованная в журнале «Физическая культура», по некоторым пунктам пошла даже дальше Гориневского. Обращаясь к явлениям вырождения своей эпохи, М. Ромм говорил о вырождении «культурного человека», сетуя при этом, что неясно, какие виды упадка существуют и
где искать их причины147. Сравнивая «дикие и полудикие племена» со своими цивилизованными современниками, Ромм выражает уверенность в том, что близость к природе и естественные условия жизни благородных дикарей, «восхитительная морфология негра или полинезийца»148 и «изумительные формы женщин из диких племен»149 говорят о гармоничном физическом развитии, недостающем современникам. Дикари, жизнь которых еще не разрушена европейскими или американскими «носителями культуры», обладают силой, красотой и выносливостью.
Примечательно, что и Ромм использует в своей статье понятие расы. Опираясь на свое, также ламаркистское понимание эволюции, он говорит о том, что в ходе истории человечества разница между отдельными классами стала настолько ощутимой, как если бы речь шла о разных расах150. Каждой из этих «социальных» рас присущи свои признаки вырождения, Ромм называет такие признаки у крестьянства, пролетариата и интеллигенции. Воины же — единственные, у кого сохранилось тело благородных дикарей. Из этого Ромм делает вывод об очевидной пользе «военного искусства»151.
В этом месте следует упомянуть еще об одном важном аспекте. Читатель, сделавший из всего вышесказанного вывод о том, что в советской физической культуре не делалось различий между полами, будет прав. Это ни в коем случае не означает, что физическая культура отличалась интегративностью, подразумевая совместную тренировку лиц мужского и женского пола. Физическая культура была культурой мужчин.
Создается впечатление, что женщин не существовало вообще. Теоретики физической культуры практически не проявляли интереса к большей части населения России.
Гориневский даже называет количественный перевес женщин, обусловленный войной, чем-то вроде вырождения152. Он писал о «плохих семенах», дающих «плохие побеги», как будто бы размножение было вопросом исключительно мужской телесной конституции. Во всех проектах говорилось о «человеке» вообще, но под человеческой культурой подразумевалось не что иное, как культура мужчин. Из этого следует,
Ъ'^Тело ftlv
что всякого рода дрессура предназначалась для мужчин. Например, по иллюстрациям к отдельным главам в книгах Гастева сразу видно, что он не имел в виду женщин. Мир труда был уделом мужчин.
Можно предположить, что женщины не упоминаются в источниках потому, что физическую культуру с самого начала отличали военные черты. Однако как раз в этой сфере делались попытки работы с женщинами. В 1920 г. Подвойский потребовал привлечь к всеобщему военному обучению женщин, ссылаясь на равноправие полов153.
Затем были предприняты конкретные шаги, в частности, предусматривалось введение действительной военной службы для женщин154.
Помимо этого, о привлечении женщин к физической культуре речь шла только в связи с проблемой вырождения. Это отразилось прежде всего в том, что в Институте физической культуры начали проводиться специальные исследования женского организма155. На Всесоюзном совещании 1924 г. Вероникой Гориневской, курировавшей эту область, был прочитан доклад об «Особенностях женского организма с целью научного обоснования программы физических упражнений для женщин»156. В нем было объявлено о проведении исследований «о психофизиологических особенностях женского организма» в зависимости от возраста, расовой, географической, классовой и профессиональной принадлежности. Особое внимание уделялось проявлениям вырождения женского тела. По аналогии с мужчинами для облегчения выбора трудовых процессов проводилось разделение по различным морфологическим и функциональным категориям. В одной из своих публикаций, посвященной физической культуре работниц, Гориневская подчеркивает особо, что сравнительно плохое состояние здоровья женщин объясняется их двойной нагрузкой: и на работе, и дома. Она предлагает подумать о физкультурно-оздоровительных мерах не только для мужчин. В этой связи она оспаривает расхожее мнение о том, что женщины слабее мужчин, замечая, что те и другие просто обладают разными физическими преимуществами157.
На протяжении какого времени евгеника продолжала упоминаться в произведениях, посвященных вопросу физической культуры, сказать сложно, поскольку в своем выборе мы ограничились источниками, опубликованными до 1933 г. Например, в распоряжении Центрального исполнительного комитета «Об учреждении Всесоюзного совета физической культуры» от 1 апреля 1930 г. слово «евгеника» всплывает дважды. В связи с реорганизацией системы физической культуры в 1930—1932 гг. в этом источнике говорится о «громадном значении физической культуры в области социальной гигиены и евгеники»158. На основании этого правительствам всех союзных республик предлагается, в частности, внедрять физическую культуру в систему охраны здоровья как «социально-гигиенический и евгенический фактор»159. Это высказывание кажется тем более удивительным, что, по некоторым данным, в 1930 г. институты евгеники были упразднены из политических соображений160.
В заключение хотелось бы бросить еще один взгляд на определенные научные аспекты физической культуры и евгеники. Исследовательским центром был создан Институт физической культуры. Но, к сожалению, об этом учреждении и его работе не известно почти ничего. В отличие от Научно-учебного комитета Верховного совета физической культуры, по всей видимости, занимавшегося исключительно медицинским надзором и физическим воспитанием, разработкой различных предложений по всем видам спорта и обработкой данных медико-спортивных исследований161, в компетенцию названного института входили более значительные и крупные задачи. Он ориентировался на данные немецких медиков тех лет, что не должно означать, что ученые Советской России вынашивали точно такие же теоретические и практические идеи, что и их коллеги в Германии. Но это может служить подтверждением наличия интереса к биологическим теориям162. Конечно же, проводились и исследования по антропометрии, физиологии, психологии, а также определение «изменений в сенсорной сфере и органах чувств»163, направленные на приспособление людей к конкретной деятельности.
Несмотря на приведенные выше соображения, тема нашего исследования не позволяет заниматься историко-научными подоплеками советской русской медицины и биологии.
Суть «экспериментальных и теоретических работ В. В. Гориневского»164 должна стать темой отдельного исследования. Теория ламаркизма предлагала достаточно возможностей для незамедлительного осуществления реорганизации человека. Развитие ламаркистских взглядов в теориях Лысенко, с точки зрения советских ученых так гладко вписывавшихся в образ становления общества, воспрепятствовало развитию дарвинистской теории. На ламаркизм смотрели как на самый верный путь развития физической культуры. Ориентация на это направление в культурных проектах того периода на протяжении долгих лет продолжала оказывать чрезвычайно сильное влияние на советскую науку.
В России евгеника рассматривалась в связи с физической культурой. Ее цель заключалась в восстановлении здоровья людей, подорванного в период 1914—1921 гг„ а также во времена капиталистической эксплуатации, ослабившей население физически. В силу этого советская российская евгеника не представляла опасности по сравнению с немецкой. Однако за этим кроется огромная вера в науку, характерная для современности, целиком и полностью посвященной служению новому обществу.
Несомненно, такое положение вполне устраивало новый режим. Конечно, можно упрекнуть конкретных врачей и ученых, говоривших о социализме, в профессиональной слепоте. Ведь они не видели в своих утверждениях противоречия истории России последних лет, объявляя о вырождении пролетариата, класса, совершившего революцию и пришедшего к власти. О дефиците здоровья и гигиены говорили и другие, но представители евгеники как бы утверждали, что класс рабочих и крестьян деформирован настолько, что необходимо заняться его «ремонтом» с помощью евгеники как составной части физической культуры. Остальные из тех, кто говорил о катастрофическом состоянии народного здоровья, не заходили так далеко. Они не задавались вопросом о том, как таким
хилым существам удалось совершить революцию, победить в Гражданской войне и как уцелевшие инвалиды и сифилитики будут строить социализм.
Их интересовала работа по осуществлению культурного проекта в масштабах всего человечества.
,М<Н
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 'я
ЧТЕНИЕ Ч
Печатное слово
реди средств, применявшихся большевиками в целях образования и политического воспитания населения, первостепенная роль принадлежала печатному слову. Его использование преследовало двоякую цель: с одной стороны, революционеры-просветители возлагали на него большие надежды в связи с распространением среди всего народа начального образования, которое, по их мнению, до сих пор было для него недоступным; в то же время, наряду со все еще широко распространенным неумением читать и писать плачевным образом обстояли дела с политической грамотностью. На оба эти дефицита новаторы — строители нового общества смотрели, как на тяжкий груз прошлого, сбросить который можно было лишь ценой невероятного напряжения усилий со стороны режима в деле образования в сочетании с политической пропагандой и агитацией.
Наличие этих двух задач никогда не оспаривалось ни в советской, ни в западной историографии, они разбираются в многочисленных работах. В то время как с советской стороны постоянно подчеркивались небывалые успехи и заслуги в этом деле Ленина, особенно в области прессы, работы западных ученых были нацелены на анализ положения дел в советской прессе в связи с проблематикой тоталитаризма1. По этой причине на переднем плане стояли вопросы цензуры, распоряжения поступающей и выходящей информацией, ее
отбора, манипуляции, а также пропаганды и индоктринирова-ния. Такая постановка вопроса сохраняется вплоть до самой последней работы, посвященной вопросам советской прессы и политике в области прессы2. В целом этот раздел советской истории освещен удовлетворительно, и основные его вопросы выяснены.
Я не хочу и не могу подвергать сомнению результаты проделанных исследований. И все же их направленность, актуальная для того времени, а также выбор источников, привели к искажениям и значительному смещению акцентов. В ранних работах по «массовому индоктринированию» в Советском Союзе (так звучит эта тема в работе «Inkeles») это объясняется тем, что сама постановка вопроса создавала впечатление слишком уж хорошей отлаженности и беспроблемного функционирования аппарата пропаганды. Рассмотрение проблемы «от результата» заставляло поверить в то, что мы имеем дело с совершенствованием системы, продуманной до мельчайших деталей с самого начала. Кенез говорит о «мобилизации масс», — т. е. об иных политических намерениях, что отражается в употреблении более динамического понятия. По сравнению с более ранними работами Кенез больше подчеркивает образовательную и просветительскую функции публикаций нового режима и обращает внимание на некоторые центральные проблемы. Но и в этом исследовании прослеживается стиль более ранних работ, посвященных анализу тоталитаризма.
В этих исследованиях сделано немало существенных выводов, но тем не менее во многих случаях не достает хорошего глазомера для верной оценки ситуации с печатным словом в первые годы советской власти. Представляется, что манипуляция, индоктринирование, мобилизация и просвещение не отражают полной характеристики «печатного дела». Авторы того времени и последующих лет как западные, так и советские исследователи, с такой убежденностью выдвигали постулат о пробивной силе и эффективности советской литературы двадцатых годов, что он считается fait acompli. Несмотря на вынужденное признание некоторых недочетов, авторы су-мели-таки пронести в свои исследования пропагандистскую
уловку или самообман большевиков — пропаганду о том, что пропаганде удалось выполнить свою миссию.
Выводы, сделанные в первой части данной работы, заставляют взглянуть на вещи более широко, что ни в коем случае не означает умаления или пренебрежения результатами прежних исследований, а лишь предоставляет возможность использования дополнительного аспекта интерпретации. Для осуществления многогранной и всеобъемлющей реорганизации человека требовались многочисленные средства. Между выводами первой части и сферой печатного слова прослеживается непосредственная связь. Печатное слово не было изолированным явлением, оно являлось составной частью новой коммуникативной среды, которой будет посвящена эта и последующие главы. К тому же, как мы увидим позже, политика большевиков в этой области была вполне рациональной. В культурно-историческом плане суть большевистской политики в печатной сфере состояла в том, что, не будучи сориентированными на образование, просвещение, пропаганду и агитацию, публикации являлись самоцелью. Что здесь имеется в виду?
Напрасно мы будем искать в произведениях Ленина или ведущих большевиков ответ на вопрос, отдавали ли они себе отчет в том, что масса публикаций сама по себе уже является шагом на пути к намеченной переориентации и образованию; бесполезно также пытаться понять, существовали ли какие-либо причины, ввергнувшие победителей Октябрьской революции в некий публикационный бум. Необходимо помнить о следующей проблеме: когда большевики пришли к власти, они первоначально не распоряжались прессой и не имели влияния над ней через свои органы3. Можно ли отсюда сделать вывод о том, что после Октябрьского переворота большевистская пресса — а также монографии по политической тематике — могли внести лишь скромный вклад в завоевание революционерами власти, вклад, который невозможно определить в цифрах, но весомость которого по сравнению с ролью, сыгранной другими колоннами власти, скорее незначительна? Как уже было сказано, этот вопрос в источниках того времени не затрагивался. Но тем не менее, режим с не-
i виданным усердием занялся публикациями, количество которых, по всей видимости, было обратно пропорционально их эффективности как до, так и после революции; их пыл могли умерить лишь серьезнейшие проблемы с производством бумаги, печатью и распределением.
Проблемы эти были и в самом деле настолько колоссальны, что представляли серьезнейшие препятствия на пути питавших теплые отношения к слову большевиков.
Прежде чем касаться вопросов качества, обратимся к разбору этих проблем.
От дефицита к массовому выпуску литературы
В 1917 г. Россия пережила еще одну революцию — в области прессы. Правда, до войны, в эпоху царизма, уже существовало множество газет и журналов, нередко пользовавшихся большой популярностью, поскольку они представляли критический потенциал страны, однако левые политические силы обладали ограниченными возможностями для выражения своего мнения. Правда, после революции 1905 г. правительство ослабило цензуру, но это не означает, что социалистическая мысль стала публиковаться в России беспрепятственно. Самое позднее во время Первой мировой войны государство вновь натянуло удила. Перед Февральской революцией 1917 г. не было ни одной социалистической газеты, выходившей легально.
С количественной стороны положительное впечатление оставляют предвоенные годы. 1158 газет выходило в 1913 г. в Российской империи. Тираж самых крупных из них намного превышал 100 000 в день4. В год свершения революции невероятный подъем пережила социалистическая пресса всех направлений. В конце его этим политическим лагерем издавалось около 150 газет, не считая большевистских органов печати5. Большевистская «Правда» была первой социалистической газетой среди газет, начавших выпускаться после Февральской революции, и стала выходить с 5 марта тиражом около 100 000 экземпляров — более точные цифры не установлены — и раздавалась бесплатно6.
После победы большевиков социалистические органы пе
чати взяли верх над буржуазными. Наряду с газетой «Правда» и органом Центрального исполнительного комитета «Известия», являвшимися в какой-то мере традиционными, выходившими уже в предвоенные годы и в период после Февральской революции, появлялись новые издания, часть которых вскоре исчезала или появлялась под другими названиями. Совет народных комиссаров уже с 28 октября 1917 г. начал издавать «Газету рабочего и крестьянского правительства». С 1 января 1918 г. она стала выходить под названием «Газета временного рабочего и крестьянского правительства», может быть, потому, что задачей Учредительного собрания была выработка давно необходимых основ государственного устройства. Однако с роспуском собрания улетучилась и временность этого правительства. 28 февраля 1918 г. выпуск газеты был прекращен. С 18 января 1918 г. стала ежедневно выходить «Рабочая и крестьянская армия и флот», также при Совете народных комиссаров. «Гудок», орган профсоюза работников железнодорожного транспорта, стал выходить с 10 декабря 1917 г. два-три раза в неделю. В этой газете сотрудничали, в том числе литераторы и фельетонисты.
Судьба несоциалистической и — как стало ясно потом — небольшевистской прессы (по крайней мере, на правовом уровне) была решена в день Октябрьского переворота резолюцией Военного революционного комитета и Декретом о печати Совета народных комиссаров, принятом два дня спустя. Соответствующие органы были запрещены за распространение беспорядков и искажение фактов. Газеты могли быть допущены к выпуску лишь с одобрения Совета народных комиссаров, в составе которого доминировали большевики7. И пусть в декрете особо подчеркивался временный характер этих мер, однако принятие решения о том, когда положение нормализуется настолько, что можно будет снова объявить свободу слова (кстати, бывшую в период подпольной работы одним из главных требований большевиков), находилось в компетенции этого же органа8.
Таким образом большевикам удалось устранить печатные органы конкурирующих партий, даже в том случае, если они
появлялись под другими названиями. Эта тактика, вырабо* тайная еще при царизме и заключающаяся в применении ре’ дакциями различных хитростей, не оправдала себя в условиях советской власти. К примеру, «Воля народа», газета социальных революционеров, после выхода декрета увидела свет под шестью различными названиями, что, в конечном итоге, не смогло спасти ее от закрытия. В июле и августе 1918 г., после восстания социал-революционеров, когда большевики осознали невозможность сотрудничества с другими социалистическими партиями, с небольшевистской прессой было покончено окончательно.
Но репрессивная политика новых властителей в области прессы представляет собой только одну часть истории. Существовало еще одно обстоятельство, доставлявшее беспокойство коммунистам, имевшим опыт подпольной деятельности и знавшим принципы воздействия буржуазной прессы и поэтому высоко оценивающим печатное слово как средство пропаганды. Налаживание печатного дела в первые годы советской власти сопровождалось борьбой за недостающие ресурсы.
Согласно оценкам, на период Октябрьской революции большевистская пресса достигла тиража 600 000 экземпляров, включая все местные органы печати9. Вскоре за счет увеличения тиражей, а также появления новых газет, эта цифра превысила миллион экземпляров, продолжая, тем не менее, очень сильно отставать от того количества, которое, по мнению большевиков, было необходимо для того, чтобы хоть в сколько-нибудь удовлетворительной мере снабжать население прессой. Вообще большевистская печать стала набирать обороты лишь с середины 1918 г. Безусловно, тиражи «Правды» были высоки, однако нельзя забывать о том, что большинство коммунистических газет начало появляться как раз в то время, когда в результате закрытия небольшевистских органов печати в распоряжение большевиков перешли бумажные и типографские ресурсы10.
Если взглянуть на документальные источники по печатному слову, то бросится в глаза большое количество декретов, распоряжений, резолюций и инструкций, касающихся пробле
мы производства бумаги и — как было принято говорить в советский период — «типографской базы»11. Гонения на буржуазную и небольшевистскую прессу становятся понятными и в свете нехватки ресурсов. Политика в области прессы и присвоение средств производства шли рука об руку и рассматривать их нужно в связи друг с другом.
После прихода большевиков к власти перед ними встала проблема, с которой им до сих пор не приходилось сталкиваться. В годы подполья они вели постоянную журналистскую работу и издавали газеты, при этом проблема состояла не в том, где достать бумагу, а в том, как донести свою продукцию до читателей. Проблема состояла в распределении. После Октября 1917 г. положение коренным образом изменилось. От самого богатого журналистского опыта было мало толку, если не было бумаги для напечатания статей. А с распространением проблема обострилась настолько, что прежние трудности, возникавшие в связи с нелегальными условиями работы, казалась теперь пустяком.
Производство бумаги к концу Первой мировой войны и в год свершения революции хотя и не развалилось, но сократилось существенно. В 1913—1914 гг. в России было произведено, в общей сложности, 24 млн пудов бумаги, причем основная часть продукции приходилась на пограничные районы Российской империи. На территории будущего СССР производилось всего И млн пудов12. Одна лишь оккупация обширных территорий на западе страны немецкими войсками на втором году войны уже означала потерю 40% продукции. Только завоз древесной массы, целлюлозы, картона и бумаги из Финляндии спас государство от «катастрофы в области бумаги»13.
Катастрофа началась с приходом советской власти. Советскому правительству пришлось считаться не только с потерей производственных мощностей по причине изменения границ. Еще более чувствительным ударом было разрушение производственных предприятий на территории Советской России, во многих случаях происходившее в последние месяцы войны. Наконец, к этому добавилось еще и прекращение завоза бумаги и полуфабрикатов из Финляндии, бывшей составной
части Российской империи, самого крупного экспортера бумаги в страну14. В результате в 1918 г. производство бумаги сократилось до 4,7 млн пудов. Самой низкой точки оно достигло в 1921 г., опустившись до цифры чуть более 2 млн пудов15.
Такое сокращение производства повлекло за собой сильные ограничения в печатном деле. Декретом от 19 ноября 1918 г. о распределении бумаги для печатного производства Совет народных комиссаров постановил, что ввиду неудовлетворительного положения дел в области бумажного производства дефицитная газетная бумага с рулона будет использоваться лишь для выпуска определенной периодики Центрального исполнительного комитета и партии. Все остальные должны были использовать макулатуру. Декретом были установлены строгие ограничения тиража московских центральных газет. В советской литературе постоянно умалчивалось об этом. В декрете говорилось, что «Известия» должны были выходить ежедневно объемом 4 страницы, тиражом не более чем 400 000 экземпляров. Напомним, что речь шла об официальном правительственном органе. Тираж «Правды» не должен был превышать 150 000 экземпляров. Тираж остальных центральных органов был также фиксированным, с тем чтобы 120 000 пудов газетной бумаги, которыми ежемесячно располагала Советская Россия в 1918 г., были распределены по справедливости. Только на названные в декрете московские газеты приходилось 70 000 пудов16.
Кризис обострялся. Ровно через два года после отречения царя от престола, день в день, Совет народных комиссаров был вынужден принять очередной декрет по нормированию бумаги. В Петрограде, центре революции, запасы бумаги угрожали закончиться. 8 марта 1919 г. советское правительство открыто заявило о положении дел по бумажному вопросу и пояснило, что ликвидация газет необходима для того, чтобы поддержать жизнь хотя бы самых важных органов. Петроградскому Совету было предоставлено решить, какие две газеты он будет выпускать, при этом их общий тираж не должен был превышать 400 000 экземпляров при четырех страницах. Бумага, добытая за счет закрытия других газет,
около 12 000 пудов в месяц, предназначалась для повышения тиража центральных московских газет типа «Беднота» и «Коммунар», а также центральных органов Коммунистической партии. Для последних была установлена предельная цифра 800 000 экземпляров ежедневно17. Это разделение на партийные и непартийные газеты было искусственным, поскольку, например, «Беднота» официально числилась органом Центрального комитета Коммунистической партии России (большевиков)18. Положение оказалось настолько угрожающим, что нарушители декрета карались Ревтрибуналом.
Около семи месяцев спустя, 14 октября 1919 г. Совету народных комиссаров не оставалось ничего другого, как сократить количество выделяемой провинции бумаги на 30%. Эа мера коснулась и центральных органов некоторых комиссариатов. Количество выделяемой им бумаги сократилось наполовину. С возражениями против этой меры, не имевшими никакого веса, можно было в течение трех дней обратиться к «Малому Совету», вспомогательному органу Совета народных комиссаров19.
Увеличение ввоза бумаги в начале 20-х годов (с 420 000 пудов в 1920 г. до 1,6 млн пудов в 1921 г.) половина которой приходилась на газетную бумагу20, не могло удовлетворить потребности большевиков в полной мере. В отчете объединенной партийно-государственной контрольной комиссии было подсчитано, что ежемесячные потребности составляют 700 000 пудов бумаги21, цифра, во много раз превышающая количество, которое обеспечивалось производством внутри страны и импортными поставками. Один из циркуляров Госиздата до 27 августа 1920 г. начинался многозначительными словами: «Товарищи, положение с бумагой катастрофическое»22. Не должно было печататься ничего из того, что Губернские исполнительные комитеты признают «ненужным», особенно всякие объявления о митингах, лекциях, представлениях и других мероприятиях.
За 1922—1923 отчетный год главными бумагопроизводительными трестами (Центробумтрест, Ленинградский трест, Севзаплес) было выпущено, в общей сложности, 22 000 пудов газетной бумаги23. Этого было ничтожно мало. В отчете Цент
ральной контрольной комиссии (ЦКК) и Народного комиссариата рабочей и крестьянской инспекции (НКРКИ), (представлявшей собой что-то вроде государственного контроля), посвященном трудностям в бумажном секторе, говорилось об опасности «абсолютной зависимости от запада» в силу необходимости импортных поставок и выдвигалось требование скорейшей «эмансипации от запада»24. По-видимому, большевиков не устраивало то, что их идеи, направленные к российским рабочим и крестьянам, были напечатаны на западной бумаге.
Цифры убедительно показывают, что революция прессы после Октября не продвинулась далеко. Кроме того, они ясно говорят о том, в чем состояла политика большевиков в области прессы. Их основной задачей в этой сфере было обеспечение выхода самых главных центральных органов тиражом, даже и близко не стоящим к цифрам, необходимым для того, чтобы донести их хотя бы до городского пролетариата. Закрытие буржуазных газет и использование их типографских машин — «крах буржуазной прессы» — эвфемизм, использовавшийся для обозначения этого процесса в советской литературе25 — пришелся большевикам как нельзя кстати не только в политическом плане. Ликвидация небольшевистских социалистических газет помогла на короткое время смягчить проблемы, вызванные падением производства и импорта бумаги. Согласно цифрам, меры, предпринятые для его компенсации, оказались недостаточными. Абсолютно невозможно представить себе, что из любви к свободе изъявления мнения в таких условиях большевики стали бы делиться с другими партиями тем жалким количеством бумаги, которое находилось в их распоряжении.
Если итоги в области прессы были столь плачевны, то дела с книгопечатанием не могли обстоять лучше. Сравнение с дореволюционной Россией показывает, что в первые годы советской власти можно говорить о настоящем крахе в этом секторе. Согласно основополагающему советскому исследованию, в 1913 г. вышло в свет 34 006 названий книг. С этой цифрой Российская империя лишь немного отставала от Германии (35 078 названий), значительно опережая Великобри-
танйю (12 379), США (12230) и Францию (10 758)26. Так же, как и в остальных воюющих странах (за исключением США) за время Первой мировой войны количество опубликованных в России книг значительно сократилось. В 1917 г. их было еще 13 14427. Со ссылкой на ежегодную библиографию Книжной палаты в упомянутом исследовании говорится о «немногим более 3100 названиях» в 1918 г28. Достоверная современная статистика, указывая на неполный охват всех названий Книжной палатой, утверждает, что в том же году было выпущено 6052 названия. К 1922 г. количество выпускаемых книг достигло 9342 названий, снизившись перед этим до 3326 названий29.
Этот спад сопровождался снижением общего тиража, поэтому увеличение числа опубликованных названий не должно создавать впечатления, что советским книгопечатанием было выпущено большее количество книг при снижении количества названий. В 1918 г. было издано 77,7 млн экземпляров книг при 6052 названиях30. Согласно данным Книжной палаты, общий тираж составлял всего 49, 6 млн экземпляров31. Когда в 1920 г. количество опубликованных названий опустилось до самой низкой отметки — 3326, их общий тираж равнялся 33,9 млн экземпляров32. В 1923 г. общий тираж выпущенных книг и брошюр составил 64,5 млн экземпляров при 9000 названиях.
Цифры показывают: за годы Гражданской войны резко сократился ассортимент и объем опубликованной литературы. Средний тираж каждой книги в 1919 г. составлял немногим более 20 000, а в 1922 г. — 4000 экземпляров33. Кроме того, выпускаемые в то время книги были весьма тонкими, поскольку ввиду нехватки бумаги приходилось сокращать и количество печатных листов. Так что баланс по советскому книгопроизводству очень и очень далек от отрадного. Правда, спрос на книги в то время был не таким уж и большим, поэтому бумага и технические средства применялись преимущественно для выпуска пропагандистских материалов на отдельных листах, памфлетов, плакатов и тонких брошюрок. Тем, кто предпочитал художественную литературу, приходилось обращаться к книгам домашних или общественных библиотек
из довоенного времени. Но, как будет показано ниже, здесь также не обошлось без политического вмешательства.
Одной из причин такого резкого сокращения публикаций был дефицит бумаги. Сказанное выше о прессе относится и к книгопромышленности. Национализация всех запасов бумаги, проведенная советским правительством 27 мая 1919 г., и передача их вновь образованному Главному управлению государственными предприятиями бумажной промышленности (Главбум) не принесла улучшения34. Никоим образом не улучшило положения дел в бумажном секторе и создание центрального государственного издательства, — Госиздата, — решение о котором было принято семью днями ранее, 20 мая 1919 г. Нехватка бумаги составляла лишь часть проблем кни-гопроизводства. Наряду с этим имел место и дефицит типографского оборудования.
В 1920 г. в стране насчитывалось 2000 «полиграфических предприятий», размеры и производительность большинства из которых были низкими35. На первый взгляд эта цифра не очень сильно отличается от данных 1913 г., в котором существовало 2668 типографий, включая малые — до 16 рабочих36, размеры которых можно объяснить, видимо, соображениями экономии налогов37. Но и здесь цифры не говорят всей правды. Из 2000 предприятий многие в 1918—1922 гг. простаивали или же работали с минимальной загрузкой. Например, в Петрограде из 211 типографий функционировали лишь 50. Нехватка бумаги, неисправные машины, использование неквалифицированного персонала и политические настроения пожилых печатников, часто симпатизировавших меньшевикам — все эти проблемы вкупе обусловливали неудовлетворительное положение дел38.
К этому добавлялись еще и медленные темпы национализации типографской отрасли. В октябре 1920 г. 37% всех предприятий продолжали оставаться негосударственными. 18% издательств по-прежнему оставались в руках частных владельцев и 7% числились как кооперативные39.
В то же время кажется, что решение политиков о передаче средств производства в типографской сфере в ведение государства повлекло за собой лишь бюрократизацию и дезор
ганизацию, т. к. теперь заниматься кооперированием и согласованием своей деятельности были вынуждены разные ведомства. Цифровые данные о снабжении бумагой говорят о том, что его не удалось осуществить даже в самых важных областях. Сама национализация еще не означала решения проблем, — по крайней мере, в положении с бумагой, — несмотря на то, что результатом ее осуществления было приобретение государством монополии. Как-никак, в 1917 г. частным сектором выпускалось 80% всей в печатной продукции России40. Государственные типографии производили 11,2%. Так что национализации этой отрасли и подчинения предприятий Госиздату было недостаточно. Невозможно было произвести автоматическую замену частных предприятий, доля которых в общем производстве — в 1918 г. она еще составляла 58,4% — сократилась, на государственные даже при большом желании правительства
С введением новой экономической политики частные типографии были легализованы. Однако их деятельность подчинялась строгому контролю со стороны Госиздата. На получение бумаги от государства им рассчитывать не приходилось41.
Положение дел в области прессы и книгопечатания начало улучшаться лишь в 1923 г. Благодаря коренной перемене политического курса в 1921 г. и переходу режима от «военного коммунизма» к мирному интегративному государству постепенно удалось разрешить колоссальные проблемы в типографском деле.
Но не будем забывать: в течение первых пяти лет своего существования советской власти пришлось довольствоваться скромной долей того потенциала, который существовал в царской России довоенного времени. Она предпринимала всевозможные попытки для улучшения базы своего аппарата пропаганды, однако все ее старания ни к чему не привели. В свете цифр представления о невероятных масштабах большевистской пропаганды, мощным потоком наводнившей страну с самого первого дня Октябрьской революции, оказываются не более чем сказками. И советская, и западная литература склонна грубо переоценивать количество печатной продукции первых лет по абсолютно разным причинам.
И все же производственный баланс первых лет советской власти нельзя назвать целиком отрицательным. Существовала одна область, в которой немногочисленные средства применялись полностью. Делом чрезвычайной важности для большевиков было снабжение Красной армии пропагандистскими материалами в максимальном количестве, какое только могли позволить производственные мощности типографий. Гражданская война была не только войной на полях сражений, борьба велась, в том числе и у печатных станков. Цифры и в самом деле ошеломляющие. В 1919 г. Красная армия получила 23 млн экземпляров «литературы» — более точного определения в источнике нет. И это не считая агитационных материалов, т. е. листовок, воззваний, брошюр и т. д.42 На отдельных участках фронта, в отдельных армиях вскоре стали организовываться печатные отделы, выпускавшие пропагандистские материалы в том или ином количестве в зависимости от военной обстановки. К примеру, литературно-издательский отдел Западного фронта с октября 1919 г. по апрель 1921 г. выпустил 35 млн экземпляров агитационно-пропагандистской литературы на семи языках. Аналогичный отдел Первой конной армии, продвигавшейся с Северного Кавказа на Украину, за девять месяцев успел (с апреля по октябрь 1920 г.) издать 1 336 960 плакатов и объявлений, а также 21 000 брошюр, причем все это во время марша43.
Но эти цифры касаются исключительных ситуаций, связанных с более или менее отлаженным издательским делом постольку, поскольку большая часть продукции немедленно отправлялась во фронтовые области. Литература, печатавшаяся в военных подразделениях, оставалась в них или же распространялась среди местного населения. Одновременно эти данные говорят о том, до какой степени армия превратилась в организацию, поглощающую и исторгающую информацию.. Когда речь заходит о катастрофическом положении печатного дела в первые годы существования Советской России, то всегда необходимо помнить о том, что большевики выиграли борьбу с противником не только на полях сражений, но и у печатного станка.
Примерно в 1923 г. самая глубокая точка кризиса была
преодолена. Положение заметно улучшилось, но к этому времени еще не удалось решить всех проблем и устранить всех трудностей с недостающими ресурсами. Ситуация с прессой и книгопечатанием не наладилась, потому что большевики использовали каждую лишнюю тонну бумаги и производственные мощности для повышения объема печатного производства. Бумагоделательные заводы работали с предельной нагрузкой, типографские машины не успевали остыть. Правительство не использовало ни минуты передышки для выработки продуманного и взвешенного курса. Не существовало никакой «политики» в типографской области, если понимать под этим словом нечто большее, чем приоритет прессы.
В самом деле, после 1923 г. возникли «ножницы» между прессой и книгопечатанием. Это усилило тенденцию, наблюдавшуюся с момента прихода большевиков к власти. Примерно с 1923 г. увеличилось количество выпускаемой периодики. Каждая организация имела свой печатный орган на центральном или местном уровне. Партия, профсоюзы, комсомол, государственные учреждения имели свои издательства, занимавшиеся выпуском периодики и монографий. Тираж газет и журналов быстро увеличивался44.
В одном советском исследовании, отличающемся тенденцией к завышению цифровых данных, указывается, что в 1924 г. в стране выходило уже 1120 газет общим тиражом в 8,1 млн экземпляров45. В 1925 г. «Правда» выходила тиражом свыше полумиллиона экземпляров. Данные на начало 1929 г. сообщают об увеличении общего тиража выпускавшихся в Советском Союзе газет до более чем 12 млн экземпляров46. В 1932 г. насчитывалось 7536 газет при общем тираже в 35,5 млн экземпляров, включая нероссийские и неславянскике газеты. Помимо этого, количество журналов составляло 2144 с общим тиражом в 340,2 млн экземпляров47. Постепенная нормализация означала также, что большевики и государственные органы перестали находиться в прямой зависимости от листовок и объявлений для опубликования своих резолюций, декретов, законов и распоряжений48. Теперь в этом участвовали газеты.
Не вдаваясь в детали развития печатного дела в период
между 1923-им и примерно 1932 гг., из этих цифр можно четко увидеть, что большевикам удалось запустить механизм публикаций. Но основной акцент делался на количестве, т. к. высокие тиражи еще не дают гарантии того, что все экземпляры нашли свои читателей.
Известно, что из провинции часто поступали нарекания по поводу беспрерывного поступления газет из крупных городов — Москвы и Петрограда/Ленинграда. К примеру, по поручению подразделения «Пресса» при Центральном комитете партии летом 1923 г. Я. Шафир посетил Воронежскую губернию с целью изучения тамошней ситуации с прессой. Его выводы потрясают, особенно если учесть мнение эксперта о том, что их можно распространить на всю территорию Советской России. Так, он заявил, что «на данный момент в деревне нет ни абонентов, ни читателей»49. Кроме того, согласно его утверждению, подавляющее большинство жителей деревни не понимали политического языка эпохи. Например, слово «оккупация» одни интерпретировали как нечто вроде совместного приобретения товаров, другие как понятие, употребляющееся для обозначения откупа от служебных обязанностей. К слову «официально» предлагался целый ряд синонимов: хорошо, правильно, окончательно, определенно, открыто50. Похожие примеры приводит и Хельмут Алтрихтер в своем исследовании о крестьянстве51, так что не лишено почвы предположение о том, что газеты попадали в деревню не столь часто или с большим опозданием — что также подтверждается примерами52. Да и успех в деле политического образования был, видимо, небольшим, что подтверждается перекликающимися друг с другом сообщениями о незнании политического языка эпохи. С целью устранения этого изъяна в 1923 г. вышел в свет «Политический словарь» под редакцией Б. М. Ельцина, изданный в том же году повторно. Составленный на основе политической лексики основных ежедневных изданий Москвы и Петрограда, он предназначался для читателей газет постреволюционного периода53.
С 1923 г. несколько изменилась ситуация с книгами. Во-первых, увеличилось количество выпускаемых названий и выросли тиражи. В 1923 г. Госиздат выпустил 1963 названия
общим тиражом в 29,4 млн экземпляров54. Однако эта цифра составляла всего 21,8% от общего числа опубликованных в 1923 г. названий книг. 4856 книг (54%) вышли в издательствах партии, профсоюзов и ведомств, 2178 (24,2 %) было выпущено частными и кооперативными издательствами55. Если смотреть по тиражам, то Госиздат достиг отметки 45,2%56; по количеству использованной бумаги (печатный лист объемом в 16 страниц) 62%, в то время как партийные, ведомственные и профсоюзные издательства использовали 26,9%, а частные и кооперативные издательства 11,1%57. Такое соотношение объясняется не в последнюю очередь тем, что Госиздат находился в наиболее выгодных условиях, что касается получения бумаги.
Такого краткого обзора по объему продукции вполне достаточно для обозрения ситуации. Немногочисленные цифры достаточно убедительно свидетельствуют о том, насколько печатное дело продвинулось вперед: в 1928 г. удалось превзойти предвоенные показатели 1913 г. по количеству опубликованных названий. В этом году вышло 270,5 млн экземпляров книг на 68 языках. Доля книг на русском языке составила 226 млн58. Цифровые показатели этого прогресса соответствуют общеэкономическим показателям фазы восстановления хозяйства, в ходе которого 1926 г. считается моментом, когда советская экономика догнала свою дореволюционную предшественницу. В 1932 г. в Советском Союзе вышло 50 973 названия книг общим тиражом в 548,6 млн экземпляров59. За годы первой пятилетки (1928—1932) было опубликовано 234 359 монографий, среди них 153 020 на русском языке; общий тираж достиг гигантской цифры 2943 млн экземпляров60, многократно превышающий показатели изданного в Западной Европе или в США.
Непрерывную работу ротационных и типографских машин после 1928 г. часто приходилось оплачивать ценой человеческих жизней. За выход советской литературы и ее высокие тиражи умирали люди в лесах на Севере России: добыча значительной части древесины, (к сожалению, точных данных привести невозможно), являвшейся сырьем для производства бумаги, велась заключенными лагерей. В 1928 г. цифровые
показатели достигли довоенного уровня. С 1928 г. НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), в подчинении которого находилась часть лагерей, стал более активно применять труд заключенных на лесозаготовках. В этих целях было создано 19 колоний. В 1929—1930 гг. в ходе насильственно осуществляемой коллективизации в лагеря попали тысячи крестьян. ОГПУ, ведавшее своими собственными лагерями, использовало заключенных как дешевую рабочую силу для выполнения своих плановых норм по лесоповалу61. Точных данных по производительности и распределению древесины по отраслям экономики нет, но ввиду испытываемого режимом «бумажного голода» есть основания полагать, что известная доля принудительного труда составляла основу роста издательских показателей.
Это говорит о том, что большевикам удалось устранить первое из главных зол: бумагопроизводящая промышленность шагнула вперед настолько, что государство стало выпускать учебники, предназначавшиеся для кампаний по борьбе с неграмотностью, а также учебные пособия для школ разного типа, высших и средних специальных учебных заведений. Но большую часть монографической литературы составляли произведения политической пропаганды. Наверное, никогда не существовало более многоречивого режима, чем большевистский, если говорить о распространении основной политической линии или информации о деятельности и речей политиков первого и второго рангов. Многие публикации дублировались разными издательствами, из чего явствует, как плохо обстояли дела с координацией. С другой стороны, причина крылась в ведомственном и редакционном эгоизме.
Названные цифры показывают, какого рода литература, главным образом, попадала в руки читателей в двадцатые годы. Основную массу составляли брошюры, часто состоявшие всего из нескольких печатных листов, а порой и из од-ного-единственного. В годы первой пятилетки на каждую книгу по политической и экономической тематике приходилось в среднем 6,9 печатных листов. Говоря другими словами, 882,9 миллионов экземпляров насчитывали в среднем по 110 страниц. «Книги» по (коллективному) сельскому хо
зяйству состояли в среднем из 2,3 печатных листов (37 стр.), по культуре и просвещению из 5,7 (91 стр.)62. Это убедительно опровергает предположение о том, что общественные, политические, экономические и другие вопросы комплексного характера требовали более подробного разъяснения, чем это имело место в данном случае. Все более и более упрощавшаяся идеология не требовала объемных описаний. Но человек, знакомый с литературой тех лет, знает, какими длинными могут показаться 110 страниц. Главной характеристикой этой поры был однозначный перевес периодики, которой большевики отдавали предпочтение. С ее помощью можно было быстрее распространить нужную информацию, у нее были свои большевистские традиции, ее легче было распространить в народе, она обладала большей гибкостью, с точки зрения оформления и содержания, и ее с успехом можно было применять в проведении различных кампаний.
Распределение литературы по тематике дает следующую картину63: в двадцатые годы идеологическая литература составляла большую часть публикаций. Многое числилось под названием «общественные науки», куда входили социология, исторический материализм, политика, просвещение и т. д. Большинство «философской» литературы тоже можно назвать идеологизированной. Точно так же не приходится рассчитывать на то, что под словом «религия» подразумевались труды по толкованию Библии, а не антирелигиозная пропаганда.
Проблемы книжного рынка
Под словами о быстром продвижении вперед в двадцатые годы подразумевается количественный рост. Новая экономическая политика принесла большевикам новые проблемы, осложнившие положение на отныне существующем книжном рынке. Вопрос с журналистикой был улажен — как явствует из предыдущей части, — т. к. в этой сфере никто не мог составить большевикам серьезной конкуренции. Так что о соревновании можно было говорить, скорее, в книжном секторе. Но при этом нужно уяснить себе с самого начала, что
понятие «соревнование» в условиях НЭПа применимо лишь с большими ограничениями, потому что на частной основе государством разрешалось заниматься книгоиздательством и торговлей лишь в очень ограниченном масштабе. В любой момент оно могло отобрать разрешение.
Несмотря на подавляющее преобладание государственного сектора, несмотря на оказание ему льгот при выделении бумаги и технического оборудования, советское правительство создало ситуацию очень напряженной конкуренции с частными, а порой и кооперативными типографиями. Разумеется, свою роль в этом сыграли не только идеологические сомнения в правомерности частного владения, но и тот факт, что часть печатной продукции — пусть даже и небольшую — могли выпускать люди, которых теоретически можно было подозревать в том, что они станут использовать свою свободу против советской власти. В Советской России частные издатели и книготорговцы никогда не могли рассчитывать на что-либо серьезное.
Уже самые первые декреты о прессе и книгоиздательстве, а также конфискация типографий перекрыли пути частному сектору, которым еще в 1918 г. выпускалось 57,6 % от общего количества названий64. Еще до наложения официального государственного запрета на частную книготорговлю Московский городской Совет передал столичную книготорговлю в ведение одного из своих отделов. Вскоре его примеру последовал Петроградский Совет и Советы других крупных городов, причем местные власти ввели такие ограничения тиражей, что большинство предприятий было вынуждено закрыться65. Принятый Центром 26 ноября 1918 г. декрет о конфискации книг дал возможность государству перевести всю торговую и издательскую книжную продукцию в свою собственность. Последний удар по частному предпринимательству был нанесен 20 апреля 1920 г. декретом о национализации книг и остальной печатной продукции. Весь книжный фонд, до сих пор находившийся в частном, кооперативном, а затем в муниципальном владении, перешел в собственность государства66. В результате книготорговля практически прекратила свое существование. Ее место заняло государственнное управ
ление по распространению печатной продукции «Центропе-чать»67.
Но такая ситуация продолжалась недолго. После принятия советским правительством решения о перемене экономического курса принцип бесплатной раздачи литературы утратил свою актуальность. Предприятия были переведены на хозрасчет. Таким образом, книги снова стали товаром, который стоил денег. Правовой основой создания какого-то подобия книжного рынка означавшей, одновременно, отказ от системы распределения книг, имевшего место при «военном коммунизме», стал декрет Совета народных комиссаров от 28 ноября 1921 г. В нем говорилось, что с момента его опубликования все непериодические издания — к этой категории относились и журналы — должны продаваться за определенную цену. Декрет устанавливал и примерные размеры цен68.
Такие меры новой экономической политики вернули к жизни частные издательства. Некоторым из них удалось укрепиться на рынке, несмотря на строгие ограничения тиражей со стороны государства69. Уже в начале 1921 г. брошюра, изданная частным образом, описывала преимущества частных издательств: быстрота исполнения при более высоком уровне, более высокое качество редактирования манускриптов и знание общественного спроса. В брошюре проводилась подспудная критика советского государственного книгоиздательства, несмотря на формальные уступки и признание прежней практики70.
Частные издательства заполнили брешь, возникшую в сфере печатного слова в первые годы советской власти. Они отдавали преимущество художественной литературе и были ориентированы, в основном, на русских классиков, но не только на них. Кроме того, они, порой в популярной форме, знакомили читателей Советской России с последними достижениями в области науки, например, с трудами Альберта Эйнштейна. Но у них не было доступа к последним произведениям современной литературы, т. к. через авторское право советское государство обеспечивало себе возможность первой публикации71. Таким образом, получается, что законодатель
ство как бы предписывало им не публиковать литературу, подходящую к новым условиям общественной жизни. Следовательно, в своей издательской деятельности им приходилось заниматься переизданием других произведений, а за это их скоро начинали упрекать в том, что они не идут в ногу со временем и поэтому не вписываются в новые условия или даже — в антисоветском настрое72. Частные издательства, поставленные столь подлыми нападками в тупик, не имели возможности защитить себя от них.
Так что неудивительно, что их количество резко сократилось всего за несколько лет. В 1922 г. их было 223, в 1924 г. — 141, а год спустя лишь 11173. Объем опубликованной литературы, а также количество названий непрерывно сокращалось. По этой области мы располагаем крайне скупыми данными, однако можно сказать, что к концу 20-х годов частные издательства практически прекратили свое существование. Но в одной из последних советских работ содержится утверждение, что последнее частное издательство, «М. и С. Сабашниковы», прекратило свою работу лишь в 1934 г.74
Невзирая на политические и правовые притеснения, некоторые из издательств продолжали отстаивать свое политическое дело. Государство было очень хорошо осведомлено об их деятельности. При организационном Бюро Центрального комитета партии, возглавляемом Сталиным в силу занимаемой им должности Генерального секретаря, существовала «Комиссия по наблюдению за частным книжным рынком». На октябрь-ноябрь 1922 г. ею было зафиксировано семь «крупных частных издательств», среди них издательство со-циал-революционеров «Народ», «Наш путь» — левых социал-революционеров, а также «Русский книжник» и «Земля» вышеупомянутых братьев Сабашниковых75.
Эти имена связаны с коротким периодом мирной политики большевиков в начале НЭПа. Как известно, он продолжался недолго, и по политическим причинам существование этих издательств было лишь вопросом времени. Что касается частных издательств Петрограда, то комиссия по беллетристике мгновенно выяснила, что у них прослеживается «ярко
выраженное желание дискредитировать советскую власть»76. Из этой дилеммы частным издательствам так и не удалось выбраться. Уже самого факта существования комиссии вполне достаточно для доказательства того, что в партии действовали силы, использовавшие убийственный в политическом плане аргумент «антисоветской позиции» в своем стремлении осложнить или даже сделать невозможной жизнь мелкобуржуазных предприятий, с большим усердием занимающихся распространением буржуазных идей, каковыми они считали частные издательства.
Таким образом, для частных издательств НЭП был делом двояким. С одной стороны, они могли заниматься своей деятельностью с допущения и под присмотром государства, но экономическую ситуацию, в которой они оказались, благоприятной не назовешь. Трудности возникали не только при покупке бумаги. Издательства существовали на прибыль от продажи своей продукции, получить которую в тех условиях, в которых они находились, можно было лишь с очень большим трудом. Ситуация дефицита в стране далеко не благоприятствовала приобретению книг. На примере простого сравнения становится ясно, что означало приобретение одного элементарного учебника для крестьянина: до войны букварь «стоил» 10 фунтов зерна, а в 1922 г. — почти пуд. Комплект учебных материалов для сельскохозяйственных школ стоил прежде 6—7 рублей, а в 1922 г. 25—27 рублей77.
Если оставить в стороне проблему обесценивания денег при советской власти, то можно сказать, что в общем затраты такого рода осложнялись, скорее, не ценой товара, а тяжелейшим экономическим положением деревни в целом и каждого покупателя в отдельности. Правда, школьных учебников частные издательства не выпускали, но приведенный пример показывает, как трудно им было выстоять на книжном рынке. Конечно же, издательская стратегия частников состояла не в апеллировании к массам — это было заботой государственных издательств, — и даже не к интеллигенции в целом, а лишь к отдельным фрагментам этого слоя. В то время, когда литературный вкус определялся авангардом и Пролеткультом, а официальная политика в области искусства — классо
вой литературой, древние классики, западноевропейская литература разных эпох и русские писатели были не в моде. А та часть интеллигенции, о которой можно было бы говорить, как о потенциальных читателях частных издательств, либо находилась в эмиграции, либо почти не могла позволить себе приобретение книг.
С точки зрения цен государственные издательства обладали очевидными преимуществами. Это происходило не потому, что они производили с меньшими затратами — в своей работе Витязев совершенно оправданно подвергает сомнению эту посылку — а потому, что они получали финансовые инъекции от государства в целях оптимизации ценообразования. Для большевиков, заинтересованных в как можно более широком распространении своей литературы, цены и без того были тормозом, мешающим распространению коммунистического учения. Жалобы по поводу высоких цен на государственные публикации послышались очень скоро. Вследствие этого уже в конце 1922 г. государство дотировало цены на книги — 400 млн рублей в форме имевших в то время хождение червонцев. 270 млн рублей из этой суммы были выделены Госиздату, 100 млн — Главному отделу политического просвещения при Наркомате народного просвещения (Главполитпросвет), а остальные 30 миллионов — научным организациям, также подчинявшимся этому наркомату. В 1923—1924 гг. общая сумма дотаций составила уже 1250 золотых рублей78.
Эти и другие технические и экономические меры и в самом деле способствовали понижению цен на государственную печатную продукцию на 30—40%. Но неизвестно, повлияло ли это на расширение распространения продукции советской государственной печати. Судя по данным документальных материалов, никто не торопился покупать пропагандистские брошюры по доброй воле. На основании цен можно сделать вывод о популярности пропагандистских материалов. Если за приобретение одной брошюры толщиной около 35 страниц крестьянину нужно было выложить стоимость целого пуда зерна79, то весьма сомнительно, что он стал бы проявлять рвение в приобретении подобной литературы. Но этот вопрос мы разберем в разделе о библиотеках.
Избы-читальни, библиотеки и их посетители
Хотя пресса для большевиков однозначно являлась приоритетной сферой, это отнюдь не означает, что они не пытались приблизиться к массам через монографическую литературу. Но недостатки этого средства очевидны. Они уже были названы ранее. На фоне всего сказанного приведенные ниже слова одного из большевистских просветителей первых лет звучат по-иллюзионистски. Он говорил, что без книги невозможно образование вне обычных заведений, более того, что она есть «начало и конец внешкольного образования». Книга была олицетворением его просветительских устремлений, т. к. она должна была лечь в «основу современной культуры»80.
Разрыв между этим высказыванием и реальным положением дела в первые годы после Октябрьского переворота кажется громадным, особенно если учесть тот факт, что книга превратилась в оружие против инакомыслящих, как будет видно из главы, посвященной воинствующему атеизму. При этом ни в коем случае нельзя утверждать, что в результате политической социализации и опыта подпольной работы у большевиков сформировалось неприязненное отношение к книге по причине слабости, питаемой ими к быстродействующим средствам. Поэтому приведенная цитата является символичной не только для просветительски настроенного аутсайдера из числа новых распространителей знания. Она характеризует общую позицию виднейших большевиков. В последнюю очередь во враждебном отношении к книгам можно подозревать народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского, образованного гуманитария, литературного критика и литератора. Предоставим слово Ленину, игравшему в этой сфере второстепенную роль. Он придавал чрезвычайную важность использованию уже существующих книг и построению сети новых библиотек: «В этом маленьком деле отражается главная задача нашей революции»81.
Поэтому на первые декреты советской власти о книжных фондах страны надо смотреть, как на полностью соответствующие духу просветительства. Лозунгом 1918 г. было хранить, оберегать и предоставить доступ к ним всем гражданам Со
ветской республики, после того, как с 26 ноября различные книжные фонды перешли в подчинение комиссариата, возглавляемого Луначарским82. В глазах новаторов эта мера означала не столько репрессивную конфискацию, сколько акт, предпринятый государством-воспитателем и просветителем. То же самое можно сказать о декрете от 20 апреля 1920 г., в котором говорилось о национализации книжных запасов и о создании в будущем общей библиотечной сети63.
Таким образом, библиотеки попали в поле зрения с двух сторон. Во-первых, с методической точки зрения им принадлежала чрезвычайная важность в деле внешкольного, т. е. в том числе и политического образования масс. Во-вторых, в свете описанных условий книгопроизводства им отводилась важная функция, т. к. только они могли обеспечить распространение пропагандистских монографий, сотен брошюр и тонких книжиц. В третьих, библиотеки являлись центрами классической литературы, той литературы, которой в первые годы советской власти издавалось сравнительно мало. Описав неудовлетворительное положение с книгами, нельзя не бросить взгляд на эти учреждения. Несколько драматизируя, можно было бы сказать, что в этой сфере они являлись для большевиков спасательным якорем и по этой причине их роль следует осветить более полно. Удалось ли большевикам в годы всеобщего кризиса поддержать хотя бы стабильную работу библиотек?
Советская терминология проводит различия, к сожалению, не всегда строгие, между избами-читальнями в сельской местности с малым количеством книг и библиотеками, имевшимися как в городе, так и на селе.
На 1 октября 1921 г. на территории РСФСР насчитывалось 33 012 изб-читален, 13 250 библиотек и 5970 передвижных библиотек84. Год спустя итоги, подведенные, как и за прошлый год, Главполитпросветом, были совершенно иными: количество изб-читален составляло теперь примерно десятую долю от прошлогодней цифры (3400), библиотек осталось всего 5955, а количество передвижных библиотек сократилось до 145385. Эти цифры говорят о катастрофическом состоянии, наступившем в этой области за несколько лет и
уничтожившем не только подающие надежду начинания первых месяцев после Февральской революции, но и многое из того, что было достигнуто еще при царе.
В свете источников выясняется, что избы-читальни не были изобретениями большевиков. Они существовали уже до 1917 г. Согласно информации Е. Н. Медынского, тогдашнего эксперта по внешкольному образованию в Наркомате народного просвещения, первые избы-читальни возникли в 1915 г. в Уфимской губернии. Возможно, эти учреждения возникли благодаря стараниям тамошнего земского служащего П. Н. Григорьева, с именем которого мы еще встретимся в главе о музеях. По-видимому, в этом образцовом административном округе имелось несколько сотен таких изб86.
Судя по всему, именно крестьяне проявляли «горячий интерес» к организации библиотек. Они писали прошения в адрес комитета по распространению грамотности с просьбой о выделении средств на устройство народных библиотек. По сведениям Медынского, части крестьян пришлись по нраву громкие чтения; о том же самом пишет в своем исследовании Джеффри Брукс87.
Однако к моменту совершения Октябрьской революции в России насчитывалось немногим более 2000—2500 изб-читален, т. е. в среднем, по статистике, на 113,9 квадратных верст приходилась 1 изба-читальня. В азиатских и сибирских регионах дело обстояло гораздо хуже. Не представляется возможным точно определить тип губернии, в котором деревенские читальни нашли особо широкое распространение, т. к. среди губерний с высокими показателями встречались как малонаселенные с крупной территорией, так и густонаселенные губернии с малой площадью88.
Поначалу в советское время все складывалось удачно. Государству, объявившему своей целью просвещение и образование, было гораздо легче организовать учреждения для народного образования, чем его предшественнику. Более того, новый режим не замедлил превратить весь багаж знаний, имеющийся в наличии, в достояние всего народа, о чем говорят вышеназванные декреты. Поэтому национализация книжного фонда заложила основы советских библиотек.
В цифрах эта политика отражалась следующим образом. В период между 1920 и 1922 гг. количество имеющихся в библиотеках книг увеличилось в среднем с 1226 до 375589. Неполные данные за 1918—1920 гг. в любом случае означают прогресс по сравнению с 1917 г. Однако национализация книжного фонда являлась лишь одной стороной медали. Широкую сеть библиотек только предстояло создать. Для ответственного за это Наркомата народного просвещения это было нелегкой задачей, как явствует из опыта многочисленных организационных попыток, сделанных в начальной фазе90.
С этой стороны и следует взглянуть на инвентарные описи Главполитпросвета. Они содержат не только количественные данные по развитию общественных читален, но и отражают направления в развитии библиотек разного типа.
Насколько положительным было влияние первоначальной библиотечной политики и какие плачевные плоды принесла реформа библиотек в 1922 г., направленная на централизацию мелких и разбросанных читален и объединение их в более крупные библиотеки с большим количеством книг, показывают следующие цифры:
Количество читален по губерниям 1920—1923 гг.91
Губерния 1.11.1920 1.10.1921 1.10.1922 1.4.1923
Архангельская 244 742 180 136
Владимирская 16 412 78 139
Вологодская 106 1116 - 5 t
Вятская 2118 1890 18 60 1 ц
Екатеринбургская 264 667 184 184 /
Иваново- 7
Вознесенская 351 592 41 73
Калужская 822 1377 29 149
Курская 300 1519 69 ?
Орловская 603 1302 134 161 ц.
Петроградская,
без города 204 667 161 ?
Рязанская 430 1548 146 379
Тверская 460 1298 77 203
Ярославская 484 419 130 .:i
Таблица свидетельствует о повсеместном, за исключением Вятской и Ярославской губерний, резком возрастании числа библиотек между 1920 и 1921 гг., уничтоженных в ходе начатой затем реформы. Не будет преувеличением сравнить такие итоги по общественным читальням на селе с повальной вырубкой леса. В большинстве случаев национализация означала удаление изб-читален от населения на огромные расстояния. Эти меры были лишены всякой продуктивности, потому что в соответствии с широко распространенным представлением того времени изба-читальня могла функционировать по-настоящему лишь в том случае, если она находилась в деревне и крестьянам не приходилось отправляться за книгами в ближайший районный центр.
С другой стороны, данные за 1921 г. не столь блестящи, как это может показаться на первый взгляд. В администра^ тивном порядке маленькие сельские библиотеки превращались в избы-читальни или же переводились в эту категорию по причине бедности своего книжного фонда. Многие избы-читальни работали мало или не работали совсем, просто числясь на бумаге. Не хватало персонала, осветительных приборов и стульев. В 1921 г. прекратили свою работу, в общей сложности, 21,9% изб-читален, находящихся на территории Европейской части России. Если учесть экономические условия этого года, то станет ясно, что деревенские активисты, скорее всего, не проявляли большого интереса к работе изб-читален. Недостаток продовольствия, эпидемии и голод на огромных территориях Советской России сделали постоянную работу читален невозможной. В юго-восточных областях, где свирепствовал голод, т. е. в тех губерниях, данных по которым в источнике не содержится, более половины всех изб-читален не работало92. К этому добавлялось то обстоятельство, что часть книжного фонда, имеющегося в деревнях, по мнению большевиков, никуда не годилась93.
С какой-то стороны, взглянув на данные по оснащенности изб-читален литературой, можно понять централистские устремления реформистов. В среднем в распоряжении читателей каждой из них было 50 книг, большинство из которых составляли тонкие агитационные брошюры, посвященные Польской
войне и борьбе с белогвардейскими генералами Деникиным и Врангелем. Однако цифры эти сильно отличались друг от друга в разных губерниях и в разных избах-читальнях: в читальнях Архангельской губернии насчитывалось в среднем по 23 книги, во Владимирской — по 134. Правда, средняя цифра поднялась в 1921 г. до 158, причем лидерство с показателем в 388 книг принадлежало опять-таки Владимирской губернии, однако качественных изменений было мало. После объединения книжного фонда среднее количество книг в читальнях увеличилось до 25694.
В обоих выделяемых советской литературой типах библиотек — постоянных и передвижных — наблюдается сходная картина. С точки зрения статистического учета, трудность состояла в том, что не было точного определения передвижной библиотеки, поэтому нередко части книжного фонда, передаваемые из одной постоянной библиотеки в другую, регистрировались как передвижные библиотеки.
В отличие от изб-читален случаи закрытия библиотек во время Гражданской войны были не столь часты. В 1920 г. не работало 8,3% из них. Но и здесь прослеживаются сильные различия между индустриализованными центральными губерниями и регионами, в которых свирепствовал голод, в первую очередь, в Поволжье. Ситуация здесь напоминала ситуацию с избами-читальнями — не работало более 50% библиотек.
В этой сфере прослеживается четкая грань между городом и деревней. В 1923 г. две трети всех библиотек находились в городах. Еще в 1920 г. город и деревня были примерно в равном положении95. Так, в городах огромной Архангельской губернии на севере страны существовало 53 таких учреждения с 676 экземплярами книг в среднем по библиотеке, в то время как на селе было 227 библиотек с 459 экземплярами книг в каждой из них. Подобные цифровые соотношения можно наблюдать в большинстве остальных губерний. Исключением является город Москва. В ней находилось 64 библиотеки с книжным фондом в 2,8 млн книг, в Московской губернии было 238 библиотек, в которых насчитывалось 416 407 книг. , •
Таким образом, положительных итогов по библиотекам за период 1918—1922 гг. подвести нельзя. Наряду с катастрофическим положением в книгопроизводстве — а в немалой степени и в журналистике, — к началу мирного времени перед большевиками оказалась куча осколков, оставшихся от бывших общественных библиотек, причем эта ситуация была вызвана не внешними, а внутренними обстоятельствами. Это еще более усугубляет картину, обрисованную нами в предыдущих разделах. Весьма сомнительным представляется, что новому режиму без труда удавалось найти читателей для своих пропагандистских материалов в форме брошюр или книг. После отмены бесплатного распределения литературы практически никто больше не мог обременять свой скудный бюджет подобными приобретениями. Библиотеки, могущие служить запасными инструментами распространения идеологии режима, переживали абсолютный крах в форме централизации как раз к тому моменту, когда сила воздействия убеждений большевиков приобрела для них особое значение. Но их «рупоры» оказались никуда не годными. По всей вероятности, в данной ситуации политика компромисса была фатальной для новых властителей, не располагавших достаточными средствами для постоянной демонстрации населению страны социалистической альтернативы. Разве результаты «военного коммунизма», которые можно было видеть и чувствовать повсюду, не говорили против большевиков? Разве крестьянские восстания в Тамбовской и других губерниях и восстание матросов в центре революционной географии России, в Кронштадте близ Петрограда не говорили сами за себя? Образно выражаясь, символом советского режима была не газета, не книга, а штык. Конечно, большевики не стремились к таким результатам с самого начала, но получили их оттого, что у них было много оружия и слишком мало бумаги и типографской краски.
Новый режим перешел к НЭПу в крайне неблагоприятных условиях. Это и было причиной проведения статистической ревизии, организованной Главполитпросветом, результаты которого были разобраны выше. Правительству хотелось иметь точные данные о ситуации в стране. Так что не будет
преувеличением назвать 1923 г. точкой нового отсчета в бумагопроизводящей и типографской отраслях, а также в журналистике, книгопечатании и библиотечном деле.
Но за отсутствием одного важного аспекта описание было бы неполным. Как обстояли дела с персоналом библиотек?
Во всех перечисленных здесь мероприятиях Совет народных комиссаров проявлял единодушное согласие со своими союзниками по вопросу просвещения, занимавшимися этой проблемой еще в царские времена и нашедшими пристанище в Наркомпросе. Е. Н. Медынский, наверное, самый известный (по крайней мере, больше всех печатавшийся) специалист в области внешкольного образования периода 1913— 1925 гг., не уставал подчеркивать важность собирания книг и организации общедоступных библиотек, о чем говорилось и в декрете от 4 ноября 1920 г.96 П. Н. Григорьев, еще один бывший теоретик и методист по внешкольному образованию в дореволюционной России, также придавал большое значение библиотекам97. В 1910 г. он, будучи руководителем Отдела народного просвещения, жаловался земству Уфимской губернии, что «не финансовые и не внешние, независящие от нас обстоятельства» препятствуют налаживанию внешкольного образования, а отсутствие ведомства, систематически занимающегося этой проблемой. О библиотеках он говорил, что их организацией стали заниматься лишь с 1893 г., причем на основе недостаточной финансовой базы, большая часть которой состояла из суммы, завещанной на это предприятие каким-то покойным дворянином, т. е. оказавшейся под рукой благодаря случайности98.
Многим бывшим земским служащим в области просвещения советская власть предоставила шанс на осуществление их целей, хотя со стороны партии не раз высказывались сомнения по поводу этих «пережитков прошлого». А медынские и Григорьевы, в свою очередь, — с некоторыми из них нам еще предстоит встретиться в последующих главах — приветствовали возможности, созданные в условиях государства, прямо-таки по-энтузиастски ориентированного на просвещение. По мнению Григорьева, революция помогла подняться внешкольному образованию от «халтурного эксперимента» к своему
расцвету. Свое сотрудничество с большевиками бывший сотрудник земства объяснял в следующих словах: «Наблюдаемая теперь среди народных масс тяга к культуре, к образованию, к искусству, дает гарантию этого расцвета»99.
Рабочий персонал библиотек состоял большей частью из служащих, часто работавших на том же самом месте еще до 1917 г. Крах библиотечной системы означал для этих специалистов потерю работы. Вместо 20 000 государство рассчитывало оплачивать труд всего 4000 библиотекарей. Многие из них, особенно в деревнях, вынуждены были оставить место работы, т. к. они или перестали получать заработную плату от советской власти совсем или же она стала катастрофически низкой100. Известно, что за 1921—1922 гг. библиотекари Пензенской губернии вообще не получили зарплаты101. До 1924 г. партии, Наркомпросу и профсоюзам так и не удалось решить финансовый вопрос.
Жертвами этой недоговоренности стали библиотекари, вопрос о положении которых встал на повестку дня Съезда библиотечных работников, состоявшегося в июле 1924 г. в Москве102. Размер их зарплаты колебался от восьми до двенадцати рублей, составляя в лучшем случае 32—33 рубля, такой суммы не хватало ни на что, ее можно было считать разве что гарниром103. В 1923 г. библиотекарей посадили на «голодный паек», т. е. в феврале 1924 г. на выплату заработной платы 3863 работникам было выделено 38 106 рублей 80 копеек, в пересчете на человека это было около 10 рублей. Один библиотекарь описывает условия своей работы: «Низкая, холодная, темная, серая, грязная комната в 6—8 квадратных аршин, у стены два шкафа, в середине стойка, ящики с бесполезными книгами, шестую часть комнаты занимает печка, в углу — пять скамеек. <...> Шкафы почти пусты, книги до невозможности растрепанные, сидеть нельзя, читать нельзя, т. к. по вечерам нет света»104. Автор связывает высокую заболеваемость с ужасающими условиями труда. По сообщениям из Самары 30% персонала были хронически больными. В Москве из 68 обследованных библиотекарей 33,9% страдали туберкулезом, 21,4% — нервными заболеваниями105.
Выступление Троцкого на съезде, в котором он высказал
лишь свою моральную поддержку несчастным библиотекарям и назвал их «красноармейцами социалистической культуры», было для них слабым утешением. Конкретных предложений по улучшению ситуации, а тем более заявлений о повышении заработной платы в его выступлении не прозвучало106. Его выступление вообще следует рассматривать скорее в связи с его подрывной ролью в партийном руководстве и расценить как попытку приобрести сторонников, чем как искреннюю обеспокоенность политическими и социальными нуждами. В пользу этого говорит факт отдельной публикации его речи и ее патетическое название «Ленинизм и библиотечная работа».
Несмотря ни на что, съездом, проходившем, скорее, в подавленном настроении, были отмечены и признаки улучшения. Таблица, приведенная выше, свидетельствующая об оживлении работы изб-читален в 1923 г., подводит под это цифровую основу. К 1925 г. количество изб-читален выросло до 1100, после 1923 г. начался период бурного развития библиотек, завершившийся в 1929 г., когда в стране насчитывалось уже 20 894 библиотеки с книжным фондом 25,4 млн экземпляров. Еще в 1925 г. его объем составлял всего 14,4 млн экземпляров107.
Этот подъем объясняется, прежде всего, переходом к созданию сети библиотек. Примерно с 1924 г. все важнейшие объединения, прежде всего партийные и профсоюзные организации, а также более или менее зависимые от них рабочие клубы стали создавать свои библиотеки, оказывая им финансовую поддержку108. Если это и не устранило всех трудностей сразу, то все же шаг за шагом удалось создать широкую сеть библиотек. По крайней мере, перестали существовать непростительные дефициты книг в городах, на заводах и предприятиях. С тех пор библиотеки являются своего рода удачным примером организации большевиками образовательных учреждений, хотя нужно отметить одновременное ужесточение политического и идеологического контроля. Но после бедствий первых лет, связанных с централизацией, такой выход представлялся верным решением проблемы. В принципе эта система просуществовала долгое время, невзирая на попытки
партии в 1929 г. осуществить социалистический прорыв в этой сфере109.
Если новая власть была занята организацией журналистики, книгопечатания и библиотек, то что же происходило с читателем? Из всего сказанного нетрудно сделать вывод о существовании опасности расхождения добрых намерений просветителей с интересами населения. Возможно, широкие части населения не входили в библиотечные инфраструктуры, и политика в области публикаций осуществлялась без всякого учета интересов потенциальных читателей. Оба эти фактора дополняли друг друга и наносили тяжелый урон пропагандистским намерениям режима и его репутации как революционной власти.
На основании цифровых данных невозможно решить, с чем были связаны редкие посещения библиотек: с их плохой технической оснащенностью или с отсутствием в них интересных книг. Впрочем, в двадцатые годы были предприняты попытки проведения анкетных опросов читателей с целью изучения их интересов. Эти исследования, по их собственному признанию, не отличаются чистотой методики. Это были самые первые попытки изучения желаний публики, поэтому техническая сторона еще не была отработана, на ту же самую проблему жаловались и работники кино110.
Из исследования Джеффри Брукса, посвященного литературе, литературному вкусу масс и книжному рынку, нам известны подробности о последних десятилетиях царской империи111. Все то, что любили читать владеющие грамотой до 1917 г., как то: детективные романы, альманахи, религиозноназидательные произведения и рассказы с картинками, т. е. в большинстве своем «тривиальности», не могло печататься при советской власти ни в коем случае. Подобная литература была удалена из библиотек, самое позднее, в 1923 г.. Поэтому для читателей победа большевиков означала принципиальную перемену излюбленных тем. Говоря о читателе советского времени, нужно помнить о том, что суть коренного перелома состояла даже не в недостатке произведений «советской» литературы, а во внезапном вынужденном отказе массового читателя от своих традиционных привычек.
Что касается количества зарегистрированных в библиоте-;! ках читателей, зафиксированного Главполитпросветом на 1920 г., то оно, разумеется, колеблется в зависимости от региона и городской или сельской местности. В Москве в среднем на библиотеку приходилось 1925 читателей112, что превышало средние показатели по России.
В сельских регионах, а часто и в центральных индустриальных областях соответствующая цифра равнялась 150—200. В общем, неудивительно, что количество читателей городских библиотек было во много крат выше, чем в сельских113. В сельских библиотеках было зарегистрировано, в среднем, по 96 читателей, в городских — по 390114. Малое количество читателей сельских библиотек объясняется не только более высоким уровнем неграмотности на селе, но и меньшей степенью привлекательности сельских библиотек. «Книг там нет», — передернул один из участников съезда библиотекарей в 1924 г., выступая перед своими коллегами115.
В 1924 г. по данным из 62 губерний, в библиотеки было J записано 10—15% всех рабочих116, что не в последнюю очередь объяснялось массовыми кампаниями, проведением которых занимались партия и профсоюзы. Одной из форм закрепления рабочих за библиотеками стали различные общества любителей книг местного значения; далее, партийными и комсомольскими ячейками создавались отделы, сотрудничавшие с библиотеками и пропагандировавшие чтение книг и посещение библиотек117. Избы-читальни отныне должны были быть не просто помещениями для чтения, их стремились превратить в ячейки советской культуры. В середине двадцатых годов рамки внешкольного образования, осуществляемого в избах-читальнях, расширились, в них влились развлекательные элементы. Одним из самых ярких явлений, безусловно, была живая газета. Она являлась одной из форм политического театра. С помощью музыки и сатиры профессиональные актеры и артисты самодеятельности преподносили зрителям актуальные темы, например, такие как политическая эмиграция, дипломатическое признание Советского Союза118. Нельзя не упомянуть в этой связи и об обществе «Долой неграмотность», преследовавшем, в первую очередь,
цель, провозглашенную в самом его названии, и наряду с этим пропагандировавшее чтение книг и после — приобретение навыков чтения и письма119. К концу первой пятилетки в библиотеки было записано 15 млн человек. Это составляло около 10% всего населения120.
Если, пользуясь фрагментарными данными периода 1925 — 1931 гг., попытаться составить картину читательских интересов, то при всех их методических и репрезентативных недостатках выясняется, что в зависимости от социального происхождения и рода деятельности результаты будут различными. Оказывается, крестьяне ненавидели, игнорировали и часто не понимали пропагандистских материалов121. С другой стороны, им нравилась литература, повествующая о жизни героев революции. Брукс делает из этого вывод, о том, что здесь прослеживается преемственность с эпохой царизма, только с обратным знаком, т. к. данная тематика затрагивала эмоциональные струны, как это было с историями из житий святых до 1917 г.122 В особенности крестьян интересовала литература по сельскому хозяйству, — раздел, по которому государственные издательства выпускали недостаточное количество книг.
Естественно, в городах интересы читателей были другими. Здесь пользовалась спросом литература научная и искусствоведческая, и, прежде всего, техническая123. В библиотеках Красной армии чаще всего читались книги о прикладной науке, среди них, в основном, по сельскохозяйственной тематике124. Здесь наверняка можно усмотреть связь между литературными интересами крестьян и солдат, пришедших из крестьянской среды и не забывших о своем происхождении и профессии и таким образом готовивших себя к жизни после демобилизации. Антирелигиозная пропаганда занимала третье место, опережая политику и обществоведение125. История интересовала лишь немногих. Всего 9% взятых в библиотеках книг приходилось на эту сферу, в то время как книги по сельскому хозяйству составляли одну четверть.
Во всех слоях общества и во всех профессиональных группах появилась тяга к художественной литературе. Это убедительно подтверждается всеми опросами, обнаруживаю-
щими лишь незначительные различия. Однако в общем можно установить снижение интереса к литературе такого рода; причины этого неясны. Возможно, одна иэ причин заключалась в том, что библиотеки ликвидировали фонды художественной литературы, доставшиеся им в наследство от царских времен. Популярностью, в том числе и у городской молодежи на пороге коллективизации и индустриализации пользовались далеко не «советские» писатели, за исключением Горького. Джек Лондон возглавлял списки популярности, за ним шли Горький, Лев Толстой, Тургенев и Пушкин126. Результаты выяснения фаворитов не позволяют сделать выводов о любимом литературном герое молодых рабочих.
В начале этой главы говорилось о публикационном буме и о том, что большевистские публикации являлись самоцелью. Теперь, после описания положения дел в сфере печатного слова, наверное, стало ясно, что подразумевалось под этими словами. Не будем повторять здесь выводов, сделанных в отдельных разделах, т. к. многое мы уже выяснили. Давайте рассмотрим результаты в общем контексте.
Очевидно, что режим осуществлял публикации, не считаясь с запросами населения. О книгах это можно сказать даже в большей степени, чем о прессе, служившей средством информации. Но такое положение наступило довольно поздно, около 1924 г., тогда как ситуацию прежних лет можно описать следующим образом: вся страна без книг, деревня без газет. Когда, наконец, начался выпуск книг, в основном в виде брошюр, большая часть их сгнивала на полках книжных магазинов. При этом опросы читателей ясно говорили об их интересах, но власти так и не смогли научиться учитывать потребности населения ни в области книгопечатания, ни в производстве потребительских товаров. Интересы государства постоянно ставились во главу угла. Возникает впечатление, что в интересующий нас период советская власть публиковала больше для себя, нежели для народа. Она писала о самой себе и даже на это не хватало ни бумаги, ни техники. Она не сумела осуществить и такой цели, как выпуск книг для «идеальной библиотеки коммуниста»127.
Так какой же смысл был в постоянном увеличении тиражей литературы, никем не читаемой? Да не было в этом никакого смысла, ответит как экономист, так и незаинтересованный читатель. Смысл этот становится понятным лишь в том случае, если в этом процессе мы увидим отражение режима, направленного на самого себя. Публикации, осуществляемые во что бы то ни стало, означали присутствие, особенно в тех местах, в которых партийные и государственные институты, скорее, блистали своим отсутствием. Они представляли, замещали несуществующее на уровне институтов государство, его агентов и партию. Несколько брошюр, по крайней мере хотя бы газета, непременно отправлялись в те места, где не было партии и государства.
Брукс приходит к выводу, что трудности первых послеоктябрьских лет «возможно, повлияли на формирование авторитарных отношений между правителями и управляемыми»128. По прочтении данной главы можно было бы выбросить из этой цитаты слово «возможно». Все-таки представляется, что причина этих авторитарных отношений кроется не в самих трудностях, а в вынужденной необходимости с помощью печатного слова восполнить дефицит присутствия, репрезентативности, может быть, даже легитимности. Количество опубликованного материала свидетельствует о стабильности режима, — вот какой мыслью могли руководствоваться большевики. По-другому нельзя объяснить тот факт, что в самый хаотичный период первого пятилетнего плана режимом был инсценирован особенно массивный поток пропаганды, хотя каждый наверняка знал, что с помощью бумаги и типографской краски дезорганизации устранить не удастся.
Это не находится ни в каком противоречии с тем, что можно назвать просветительским порывом режима. В начале этой главы подчеркивалось, что речь идет о различных точках зрения. К примеру, учебники для общеобразовательных и специальных учебных заведений выпускались миллионными тиражами. Но существует еще одно измерение, обнаруживающееся при взгляде на колоссальные проблемы в печатном деле и одновременной констатации того факта, что большая часть скудных средств применялась большевиками для само
рекламы. Как раз в этом и состоял рационализм большевиков, о котором говорилось в начале, а не их иррациональность, как можно было бы предположить. Несмотря на то, что формированию показанного феномена способствовали дезорганизация и недостаточная скоординированность, описанные здесь бессмыслицы первоочередной важности всегда обладали для большевиков особым смыслом.
•;э vjhrWO
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ:
РАДИОВЕЩАНИЕ
Рупор революции
Радио — это современное средство вещания, преодолевающее пространство и время. <...> С его помощью могут обращаться к народу и ко всему миру государственный деятель из своего кабинета или зала заседаний, люди искусства, ученые, исследователи непосредственно с места своей работы; любые звуки могут быть переданы откуда угодно куда угодно. <...> Непревзойденная быстрота передачи и неограниченная сфера действия превратили радио в могучий фактор формирования общественного мнения»1.
Такими словами открывается в Большом словаре Гердера статья «радиовещание». В стиле этой статьи, не похожем на обычный сухой словарный стиль, прочитывается эйфория по поводу тогда еще молодого средства общественной информации. Наряду с его якобы неограниченными возможностями в этом отрывке упоминаются два взаимосвязанных ключевых понятия: «средство вещания» и «формирование» общественного мнения. Должно быть, автор статьи знает, о чем говорит, поскольку этот, десятый, том словаря был опубликован в 1935 г. Думается, было бы излишним упоминать о радиовещании как инструменте национал-социалистской пропаганды.
После Первой мировой войны, когда беспроволочная связь была введена в употребление в гражданских сферах,
развитие этой новой техники в государствах Западной Европы стало, как правило, форсироваться. Нельзя сказать, что радиовещание было взято на вооружение только авторитарными режимами, возникшими в двадцатых годах или позже. Например, в Англии в течение короткого времени была создана хорошо развитая радиосеть, а Италия в этом плане отставала. Уровень технического развития радиосети и радиус ее действия были слабыми также и в Германия периода Веймарской республики. Нельзя говорить о наличии прямой связи между авторитарным режимом и уровнем развития радиовещания. Развитие технологии зависело, скорее, от технических и финансовых возможностей страны.
В этих замечаниях намечены рамки, в пределах которых будет рассматриваться проблема радиовещания в Советском Союзе. Насколько верно высказывание Питера Кенеза о «государстве пропаганды» в отношении этого современного средства вещания? В это понятие, с которым у читателя — по крайней мере немецкого — ассоциируется государство национал-социалистов, входит не только использование традиционных «средств вещания», но и, прежде всего, использование новинок технического прогресса в интересах государственной идеологии, сопровождающееся наиболее полным охватом населения. Если попытаться определить, в чем состоит сущность государства пропаганды, то ее можно описать следующим образом: полный контроль над имеющимися средствами массовой информации плюс как можно более совершенная техника плюс широкое внедрение средств массовой информации в жизнь общества. Это мы и проверим на примере развития радиовещания в Советской России. Сформулированный по-другому, вопрос гласит: удалось ли советскому государству превратить радио в совершенный инструмент осуществления только что упомянутых целей и саморекламы?
Ответом на этот вопрос будет однозначное «нет». За период времени, прошедший с момента совершения революции до начала тридцатых годов, не удалось выполнить ни этой задачи в целом, ни ее отдельных аспектов. Уже в конце 1934 г. прозвучала уничтожающая критика в адрес радиовещания в СССР и политики в этой области, послужившая основани
ем для созыва VII съезда Советов2. Впоследствии, вместо того, чтобы стремиться к увеличению количества радиослушателей, советское государство стало делать ставку на помпезные, престижные проекты, вызывавшие интерес за рубежом.
Молодое советское государство унаследовало от бывшей Российской империи очень небольшое количество радиотехники. Хотя изобретатель радиоантенны, скончавшийся в 1905 г., А. С. Попов и был россиянином, а при царе в Кронштадте имелась специальная радиотехническая лаборатория, в ходе Первой мировой войны отчетливо проявилось отставание в развитии радиодела3. Радиовещание было военным делом, Попов был военным и Кронштадская лаборатория тоже была военной. В этом не было проблемы: по окончании Первой мировой войны новое правительство постепенно стало применять радио в мирных целях, подобно странам Западной Европы.
Собственно проблема состояла в том, что Советская Россия, как и Россия дореволюционная, зависела от западной техники и технологии. Накануне Октябрьской революции в России существовало 13 мелких фирм но производству радиоаппаратуры. В начале 1918 г. оставалось всего-навсего 3 полуразрушенных кустарных предприятия4. По сравнению с другими странами этого было ничтожно мало. В условиях блокады, которую советские историки не считали сдерживающим фактором в развитии радиовещания, стране пришлось своими силами решать все проблемы, связанные с сохранением и развитием этой технической отрасли. Поэтому в радиоделе, так же как и в других сферах, были привлечены к сотрудничеству специалисты дореволюционной поры. Положительную роль сыграло в этом «Российское общество радиоинженеров», учрежденное 31 марта 1918 г. в Петрограде 34 учеными и инженерами. В первое время оно насчитывало 250 членов из различных городов России5.
Октябрьская революция одним махом стерла все границы между использованием радио в военных и мирных целях. Радиоконтакты Ленина с фронтом не носили военного характера, это были обращения к солдатам. В тех частях, где име
лись радиоприемники, радисты вывешивали на стенах сообщения для общественности, кроме того, существовали специальные «окна радио». Лишь по предложению В. Н. Подбельского, Наркома почт и телеграфов, 19 июля 1918 г. все радиодело было централизовано декретом Совета народных комиссаров под началом Наркомата почт и телеграфов. За исключением специальных военных радиостанций, в его подчинение перешли все радиостанции, включая обслуживающий персонал. Соответствующие производственные предприятия перешли в подчинение Верховного Совета народного хозяйства (ВСНХ)6.
Некоторое оживление в радиоделе наступило лишь с окончанием Гражданской войны, после того, как были подхвачены крылатые слова Ленина о радио как о «газете без бумаги и расстояний», давшие толчок к новым действиям7. 26 января вождь революции написал в записке, адресованной Н. П. Горбунову, своему «госсекретарю» и председателю «Малого совета», организационному звену Совета народных комиссаров, что «этот Бонч-Бруевич — замечательный изобретатель. Дело гигантской важности»8. Ленину виделось, как сообщения из читаемых в Москве вслух газет слышали во всей России.
Озабоченность Ленина развитием радиовещания проявилась и тогда, когда произошел случай, грозивший затормозить быстрое продвижение дела вперед. Когда инженер Нижегородской радиолаборатории Шорин — мы встретимся с ним еще раз в главе, посвященной кино — был арестован местным отделом тайной полиции (ЧК) (он являлся «буржуазным» специалистом), Бонч-Бруевич, руководитель лаборатории, не замедлил обратиться к Ленину, освободившему его соратника9.
Симпатия Ленина к радио выразилась и в требовании, предъявленном им Политбюро, о выделении названной лаборатории 100 000 рублей золотом из золотого фонда в целях ускорения работ. В письме к Сталину от 19 мая 1922 г., из которого можно узнать, что думал Ленин о развитии радиотехники, недомогавший вождь революции проявлял трогательную обеспокоенность по поводу «английского изобретения в области радиотелеграфа, с помощью
которого можно передавать засекреченные (читай: зашифрованные) радиотелеграммы» и замечал, что, может быть, следует приобрести это изобретение для советских вооруженных сил10.
Объявленное главным делом, радиовещание стало развиваться быстрее. Безусловно, существенно повлияло на это окончание войны и снятие блокады. Сердце дела билось в Нижегородской радиолаборатории, где велась разработка и конструирование передающих и принимающих радиостанций и исследовались вопросы техники передач. Нельзя сказать со всей определенностью, была ли сильная заинтересованность Ленина в развитии дела повинна в возникновении порочной политики образцовых проектов, подвергнутых резкой критике в отчете от 1934 г., но весьма вероятно, что она повлияла на выбор направления и задач исследования. Кроме того, этой новой техникой советская власть стремилась произвести впечатление на заграницу, чем объясняется спортивный азарт, сопутствовавший установлению «мирового рекорда в расстоянии радиотелефонных передач»11.
В результате первых попыток, предпринятых в конце 1919 г., радиолаборатория смогла осуществлять передачи на длинных волнах — 2500 м с очень низкой мощностью в 29 Вт. Однако передачи можно было принимать в Москве, находящейся в 400 км от Нижнего Новгорода12. Уже к концу 1920 г. передающая мощность достигла 5 кВт. Эта радиостанция была перенесена в Москву, в Ходынский радиоцентр. Она работала на длине волны 2500 и 5000 м, позволявшей ей достигать Берлина. 3 июня 1921 г. в шести общественных местах москвичи впервые услышали голос из громкоговорителя: «Внимание! Внимание! Слушайте устную газету!»13. Установленная на Курском вокзале Москвы в августе 1922 г. передающая радиостанция в 12 кВт превышала по мощности все передающие радиостанции Германии, Франции и США вместе взятые, что не без гордости отмечается в одном из советских источников по истории радиовещания в СССР.
На первый взгляд, это можно отнести к одним из самых ранних примеров так называемой «тоннажной идеологии», что подразумевает направленность на одну только количе
ственную сторону, однако в этом присутствовала и своя техническая логика. Тогда как, к примеру, региональная радиостанция Нью-Йорка обходилась 1,5 кВт, для огромных пространств Советского Союза требовались более мощные передатчики. До тех пор, пока передающая радиостанция, задачей которой, по словам Ленина, было озвучивание самых отдаленных уголков страны, имелась лишь в Москве, повышение передающей мощности стояло на первом месте в списке технических приоритетов.
Разработка и производство радиоприемников не могли угнаться за такими темпами. Совет труда и обороны принял решение, к 1 марта 1922 г. установить в губернских и уездных центрах 280 принимающих радиостанций. Это означает, что в передающих радиостанциях, среди которых встречались и станции местного значения, недостатка не было, а вот принимающих станций не хватало. В целом по стране их имелось 316.
Первой попыткой урегулирования радиодела на законодательном уровне стал декрет Совета народных комиссаров от 4 июля 1923 г. «О радиостанциях специального назначения»14. В нем не проводилось различий между принимающими и передающими станциями, а говорилось о радиостанциях вообще, предназначенных и для приема, и для передачи. В декрете была сформулирована главная задача: «В целях развития радиосети Союза Советских Социалистических Республик Комиссариату почт и телеграфов предоставляется право давать разрешение на установление и использование государственными, профсоюзными и партийными организациями радиостанций для особых целей». Что относилось к этим особым целям, в декрете пояснялось функциональным разделением на торговые, промышленные, культурные, образовательные, научные, а также любительские радиостанции, последние предназначались «для развлечения или для изучения радиодела на любительском уровне». Наряду с техническими предписаниями в пятом пункте имелся раздел о возможности наложения на конкретную станцию «общегосударственных обязанностей».
Самое важное в этом декрете было то, о чем он умалчи
вал. Им вводился запрет на собственность, аренду или какие-либо другие формы использования принимающих или передающих станций частными лицами. Запрет на частные радиопередатчики наверняка был продиктован намерениями законодателей, не проводивших различия между приемниками и передатчиками. Но одновременный запрет на частные радиоприемники сказался на расширении радиосети негативным образом. В конце концов, эта мера шла вразрез с представлениями о всеобщей «радиофикации».
Страх перед буржуазным частным радио был не единственной причиной подобных формулировок и ограничений. Если верить А. М. Любовичу, в свое время занимавшему пост заместителя наркома почт и телеграфов, то содержание декрета определялось не только волей политиков. Не меньшую важность представлял тот факт, что в то время еще не был налажен массовый выпуск радиоприемников, поскольку имели место проблемы с техникой, промышленным производством и производством отдельных деталей. Имевшиеся в наличии аппараты распределялись, в первую очередь, по коллективам. В целях обеспечения этого в декрете отдавалось предпочтение вышеперечисленным организациям. Кроме того, по мнению Любовича, декрет попытался предотвратить приобретение заграничных радиоприемников и, тем самым, утечку ценной валюты15. Но, спрашивается, не были ли эти объективные обоснования выдуманы с целью драпировки политических намерений законодателей.
Возможно, существовала еще одна причина, вытекающая из логики политики большевиков в области средств информации, хотя документальных подтверждений этому нет. Ленин сразу же постиг всю ценность радиовещания для пролетарского интернационала. В воспоминаниях современника о беседе с вождем революции о радио в мае 1922 г. читаем следующее: «А в международном отношении?! (Тут Ильич характерно прищурил свой глаз.) Ведь мы тогда получим в руки неоценимое оружие для борьбы с нескончаемой кампанией клеветы, лжи и помоев, которыми нас обливает буржуазная пресса зарубежных стран, их политиканы, попы и лжеученые. <...> А как можем мы опровергать всю эту массу
лжи, как можем мы сообщить правду о нашей действительности, когда наша пресса почти не проникает в зарубежные страны из-за цензурных и пограничных рогаток, а газеты наших братских компартий имеют еще такой небольшой тираж!» Радио позволяло преодолеть границы и препятствия16. Т. е. в несколько вульгаризированной и преувеличенной форме международный аспект в 1925 г. звучал так: «Через радио и с радио к победе мировой революции и к коммунизму!»17 Ведь вышеупомянутая радиостанция достигала Берлина. Друзья радио явно не вписывались в партийную линию, т. к. Сталин уже годом раньше высказал лозунг о «победе социализма в отдельно взятой стране».
С другой стороны, обработка советского населения западными «политиканами, попами и лжеучеными» по радио не могла входить в интересы советского правительства. Беглого взгляда на политику большевиков в области журналистики достаточно, чтобы убедиться в том, что декрет от 4 июля 1923 г. призван был обеспечить неуспех иностранной буржуазной пропаганды.
Убеждение в нецелесообразности этого декрета пришло к правительству очень скоро. Нелогичным было, с одной стороны, пропагандировать радиодело, а с другой, отказывать людям в долгожданном праве на индивидуальный прием радиопередач. Кроме того, приблизительно к 1923 г. начали появляться первые признаки неконтролируемого движения «радиолюбителей», видевших свою главнейшую задачу в пропаганде радио и оказании технического содействия в конструировании самодельных радиоприемников. Год спустя, 28 июля 1924 г., правительство внесло коррективы в свою политику в области радиовещания декретом «О частных приемных радиостанциях»18. Он освободил радиодело от чрезмерно строгих ограничений своего предшественника.
Им поощрялось более широкое использование радиовещания населением в экономических, научных и культурных целях, а также распространение знаний в области радиотехники. Но гражданин СССР получал право на приобретение радиоприемника лишь в том случае, если он имел специальное разрешение, которое выдавалось только Комиссариатом
почт и телеграфов. Такой порядок обеспечивал возможность отказа в выдаче разрешения в отдельных случаях или — как сказано в приложении к декрету — возможность введения особой регламентации в отдельных регионах, т. е., к примеру, в пограничных областях. Кроме того, наркомат имел право осуществлять «контроль за деятельностью частных приемных радиостанций» и проводить технадзор. Агентам государственных учреждений должен был быть обеспечен свободный доступ к радиостанциям «без учинения препятствий со стороны собственников»19.
Инструкция, о наличии которой говорилось в декрете, уточняла регламент в отдельных пунктах, ничего не меняя в духе закона20. В принципе, всем гражданам Советского Союза разрешалось конструировать свои собственные радиоприемники, если ими было получено соответствующее разрешение от Наркомата почт и телеграфов. Радиолюбители должны были придерживаться указанной длины волны (1500 м), на нарушителей налагался штраф. В «Заявке на разрешение устройства частной принимающей станции»21 должны были указываться не только личные данные заявителя, но и — атавизм прошлогоднего декрета и доказательство его политической подоплеки — в каких целях он собирался использовать радиоприемник, а также то, какой радиоприемник предполагалось использовать — самодельный или покупной22. Иностранцам — в декрете о них, как о потенциальных обладателях радиоприемников, не было сказано ни слова — право пользования радиоприемником предоставлялось лишь с письменного разрешения политической полиции (ОГПУ).
Невзирая на возможность контроля и вмешательства со стороны государства и преувеличенных опасений по поводу радиопропаганды, шпионажа, саботажа и т. д. со стороны иностранцев, скрывавшихся за этим положением, декрет и прилагаемая к нему инструкция означали либерализацию действовавшего до сих пор права. Поощряя конструирование частных радиоприемников, правящий режим перестал прятать от граждан СССР иностранные радиостанции. Поэтому по прошествии недолгого времени в любом кружке радиолюбителей
можно было узнать, как и на какой волне лучше всего принимаются передачи из-за границы23.
Декрет облегчал ситуацию и в другом отношении. Вскоре появилась масса руководств по конструкции радиоприемников и литература по введению в радиотехнику, в основном это были переводы с западных языков, а некоторое время спустя появились и произведения советских граждан. Еще большую роль сыграло движение, организованное «Обществом друзей радио» как бы для компенсации недостатков радиопроизводства, взявшее в свои неумелые руки конструкцию радиоприемников и тем самым ускорившее их распространение. То, с чем не могла справиться слабая промышленность, компенсировалось общественной самопомощью.
После опубликования декрета перед радиоиндустрией, относящейся к тресту слабого тока, встали серьезные проблемы. Нужно было налаживать выпуск деталей для любительского радиоконструирования, индивидуальных радиоприемников и громкоговорителей для коллективного слушания радио в больших залах. Заместитель наркома почт и телеграфов видел выход только в кустарничестве, т. е. в вовлечении в производство непрофессиональных техников. И если количество радиоприемников в стране увеличилось, то только благодаря последним24. В октябре 1925 г. в стране было зарегистрировано около 25 000 радиоприемников, цифра, по поводу которой один комментатор сказал, что не правы скептики, говорящие о «друзьях радио без радио»25. Год спустя насчитывалось уже 83 000 радиоприемников, из которых около 15 000 находились в коллективном пользовании и 5000 — на селе26. К 1 февраля 1927 г. количество радиоприемников в СССР составляло 115 387.
С такими цифрами Советский Союз пока еще не стал страной радио, несмотря на то, что в текстах того времени подчеркивались небывалые, по мнению их авторов, успехи радиофикации. По сравнению с Западной Европой и США последняя цифра была низкой. На тот же самый период в США насчитывалось 6,5 млн радиоприемников, в Великобритании — 2 8 млн, в Германии — 1,46 млн и во Франции — 800 00027. Зато самая мощная передающая радиостан
ция Европы, не случайно названная «Коминтерн», была торжественно открыта в 1927 г. в подмосковном Шаболовске28. Общее количество передающих радиостанций в стране выросло очень быстро: с 10 в 1924 г. до 65 в 1928 г. Их можно было принимать на территории в 2,94 млн км29.
Декретом от 28 июля 1924 г. не удалось скрыть плачевного положения дел с радиовещанием в России. Главной проблемой, без сомнения, являлось количество радиоприемников, распределенных по территории страны неравномерно, 92% их находились в городах (данные на 1 февраля 1927 г.)30, с сильным отрывом лидировал Московский округ31. Уже в распоряжении Центрального комитета Коммунистической партии от 14 июля 1925 г. дальнейшее наращивание количества радиоприемников в Московском округе было объявлено нежелательным; рекомендовалось уделить больше внимания периферии32. Так что, если «радиополитики» намеревались воплотить в жизнь слова Ленина о «газете без бумаги», то неудивительно, что они помышляли о распространении радиоприемников в деревне, там им было самое место, поскольку уровень неграмотности на селе был самым высоким.
«Радио лицом к деревне»
«Будет крестьянин сознательным, если для шефа радиоприемник станет обязательным», — невольно скаламбурил в 1925 г. Н. Преображенский33. Постоянно готовые к новшествам и игнорирующие реальность политики от культуры выдвинули цель: установить радиоприемники «во всех уголках нашего Союза ССР».
В период действия лозунга «Лицом к деревне!» некоторые работники народного просвещения, политики и плановики культуры видели в радио орудие проведения эффективной работы с массами. Высказывалось мнение, что обычные средства пропаганды, лекции, дискуссии, утратили свою привлекательность для крестьян. Они приходили в избы-читальни редко или перестали приходить совсем. Будь в деревне радио, высказывался один из комментаторов в 1926 г. «работа (в избах-читальнях) развивалась бы вширь и вглубь34. Создается впечатление, что с помощью технической аппаратуры —
.ww Глава четвертая J14 радиоприемников — политики из области просвещения рассчитывали добиться политико-просветительного эффекта, которого не удалось достичь в ходе работы, проделанной до сих пор. Недочеты в области политико-агитационной, идеологической и политико-просветительской работы, зарегистрированные в период перехода от планирования культурной революции к изучению быта, должно было восполнить радиовещание, причем с технической его стороной связывались большие ожидания, чем с содержательной. Этого аспекта мы еще коснемся. «Радио лицом к деревне!» — с потрясающей образностью подытоживалось в одной из брошюр, посвященных описанию ожидаемого эффекта от применения этой техники35.
Эйфория по поводу нового средства информации привела к тому, что уже самому существованию новой техники приписывалось просвещающее воздействие. Это подтверждают и слова Н. К. Крупской, заявлявшей о «колоссальном влиянии» радиовещания — а также и кино — «на самые широкие массы»36. «Мы мало думаем о том, что от того, насколько широко мы сумеем радиофицировать и кинофицировать наш союз, — зависит то, насколько быстро мы успеем ци-вилизироваться, насколько глубоко проникнут в массы идеи коммунизма»37. Так как деревня жаждала знаний, так как ей открылось, что знание — это сила и так как советскому правительству хотелось использовать радиовещание на селе, на эту аппаратуру возлагались высокие надежды. «В стране, ориентированной на массы, радио необходимо как воздух»38.
До сих пор советские граждане жили, образно выражаясь, без воздуха. В таких высказываниях звучала музыка будущего, к которому подходили с позиции ожидания. Она перековывалась в лозунги типа: «Радио осуществляет смычку города и деревни», «Радио — рупор революции», «Радио — распространитель пролетарской культуры», «Авиация — глаз, радио — язык и уши», «Радио объединяет трудящихся»39.
Особенно привлекательной была идея объединения классов посредством радиотехники. В качестве примера можно взять обложку ежемесячного журнала. «Одесского губернского отделения радиообщества Украины, РОУ» под названием
«Радио»40. Сверху вниз она поделена на три равные части, на ней показана сцена из городской жизни с изображением таблички «Клуб», метро и нескольких человек. Главной деталью обложки является изображение завода с дымящимися трубами и радиоантенны на крыше в нижней части листа. В качестве символа деревни в верхней части изображения показан крестьянин у колодца, извилистая улочка и домик с надписью «изба-читальня». Над дорогой натянута проволочная антенна, связывающая две избы. Город и деревня связаны между собой красной молнией, диагональю проходящей по листу в направлении деревни. Название журнала сопровождается надписью «Радио — мост между городом и деревней».
«Город» служил для деревни ориентиром в культурном отношении, при этом радио отводилась важная функция посредника. Функция радио заключалась не только в передаче деревне информации политического и культурного характера и сводок погоды, на него смотрели, как на «мощное орудие в борьбе с вековыми предрассудками», которое «быстро и надежно продвигает наше отсталое сельское хозяйство вперед»41. На радио смотрели, как на инструмент цивилизации крестьянского уклада жизни, а также индустриализации сельского хозяйства.
Первые радиосеансы иногда становились сенсацией для деревенских жителей. Некоторые из них описаны радиокорреспондентами (радиокорами) в журнале «Друзей радио» под названием «Радио всем». Они дают представление о впечатлении, производившемся современной техникой на русскую деревню. Несомненно, описания отличаются тенденциозностью, т. к. все они принадлежат перу радиолюбителей. Но это не означает, что детали их приукрашены.
14 июня 1925 г. члены Галицкого уездного отделения «Общества друзей радио», взяв с собой радиоприемник, отправились в деревню Степаново. До деревни ехали 15 верст на лошадях. При этом им пришлось соблюдать особую осторожность, поскольку аппараты не были специально упакованы в расчете на транспортировку. Высокочувствительным катодным лампам могло хватить одного удара для выхода из строя. Запасных ламп не было. По дороге группе встречалась, в основном, мо
лодежь, спрашивавшая про «радило». Перед «Домом народа» их уже ожидала толпа людей, охваченных радостным волнением. Так как до начала передачи было еще 6 часов, постепенно в деревню стягивались жители близлежащих сел. Наконец радио заговорило: «Говорит Московская радиостанция имени Коминтерн». Радиокор описывает действие, произведенное этими словами: «В зале тишина, все время подходят новые и новые слушатели, стараясь не создавать шума в зале». Старики сидели совсем рядом с радиоприемником, прикладывая руку к уху. По радио передавалась «радиогазета», в которой, помимо всего прочего, сообщалось о принятии новых законов о семье, о тракторах, читались стихи, посвященные беспосадочному перелету Москва—Китай. После концерта выступал товарищ Катаяма с лекцией на японском языке. Крестьяне терпеливо слушали в ожидании русского перевода. По окончании передачи прозвучали громкие аплодисменты42.
В другом эпизоде жители одной из деревень Черниговской губернии встречали радио в двух верстах от своего селения. Они приняли его у радистов, отнесли под революционные песни в здание школы и стали ждать передачи из Харькова. Когда по радио заиграли «Интернационал», крестьяне поднялись со своих мест. По окончании передачи никому не хотелось уходить из зала. Тогда радист начал искать Лондонскую радиостанцию, нашел, и в украинской деревушке зазвучал голос Би-Би-Си. «Внимательно слушают селяне и английскую песню, несмотря на то, что слова им непонятны...»43
Товарищ Шуран из «Крестьянской газеты» — предыдущая история также связана с его именем — проводивший летом 1925 г. кампании по пропаганде радио в Черниговской, Полтавской и, частично, в Киевской губерниях, сообщает: «тот энтузиазм, тот подъем, тот интерес и то настроение, какое я видел своими глазами по окончании концертов, докладов, принятых по радио, у крестьян и, что особенно показательно, у стариков»44. По его описанию, они хоть и ругали новомодные штуки, но при словах «Внимание, внимание. Говорит Харьковская радиостанция» все смолкали, придвигаясь к громкоговорителю поближе.
Обычно подобные сеансы заканчивались принятием крес
тьянами резолюции о приобретении радиоприемника. Вот пример такой наивно-торжественной и, по-видимому, форсированной резолюции: «Мы, жители деревни, убеждены в том, что советская власть в действительности повернута лицом к нам, жителям деревни и посылает нам таких товарищей, которые по суше и по воде, невзирая ни на какие препятствия и неудобства, проводят в жизнь дорогой нам лозунг — смычку города и деревни, — несущий нам свет и культуру»45.
В целом отношение к радио было положительным. Проявлениям энтузиазма среди радиолюбителей, со временем ставших привычными, не было конца. «Поэт» М. Исаковский, в одном из своих стихотворений передал атмосферу, царившую в деревне46:
Но взметнулись, вспыхнули зарницы, — Чрез болота, пашни и кусты К деревням и селам из столицы Протянулись радиомосты.
И в углу прокуренном Нардома, Сбросив груз соломенной тоски, Вечером доклад из Совнаркома Слушали, столпившись, мужики.
Этот день никто не позабудет, Этот день деревню поднял ввысь, И впервые неохотно люди По своим избушкам разбрелись.
Однако не обходилось и без сопротивления. Нередко его без долгих церемоний клеймили как антисоветскую деятельность и саботаж, согласно источникам, вышедшим — как уже было сказано — из-под пера радиолюбителей. «Дьявольским фокусом» и «сатанинством» называли радиоприемники «кулаки-барыги»47. Попы выступали против, потому что антенны укреплялись на колокольнях церквей. С другой стороны, были случаи, когда радиоприемники устанавливались не в клубе, а в церкви48. «Кулаки и попы видели в радио пропагандиста большевистской идеи», как совершенно справедливо написано в одном из стандартных советских произведений по
истории радиовещания, но эта позиция названа позорной, т. к. указанные лица «проводили среди крестьян агитацию против радиофикации деревни»49.
Зачастую радистам недоставало такта, особенно в отношении верующих, и они опутывали проволочными радиоантеннами колокольни и купола церквей, невзирая на протесты других людей, — не обязательно церковных служащих50.
В источниках сообщается о триумфальном шествии радио? фикации, однако на фоне печальной действительности рос-ь сийской деревни успехи друзей радио выглядят скромнее. Если резолюция крестьян приносила плоды и в деревне появлялся радиоприемник, то привлекательность новизны быстро проходила, особенно, если техника начинала выходить из строя, если из громкоговорителей переставали звучать голоса и музыка, и радиоприемники, стоившие несколько сотен рублей, превращались в «громкомолчальные станции»51. Вначале население проявляло большой интерес к лекциям, вызывавшим «горячие дебаты», «но потом в радиоприемнике начинает раздаваться шорох и шипение, отпугивающее даже самого страстного радиолюбителя и через некоторое время радио замолкает совсем»52. Если же такая картина являлась следствием износа, то заменить отслужившие свой срок части было нечем. В некоторых деревнях просто не было средств на покупку новых батареек и аккумуляторов. А аккумуляторы требовали постоянного ухода. Они были слабыми, поскольку заводам пока еще не удалось справиться с техническими проблемами повышения их емкости53.
Наконец, в начале тридцатых годов были подвергнуты критике не только итоги радиофикации в деревне. В отчете VII съезду Советов, о котором упоминалось в начале, перечислялись все недостатки и промахи радиофикационной политики. Однако советское правительство проявляло серьезную заботу о радиофикациии страны, о чем свидетельствуют девять новых распоряжений Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета, принятые между 16 августа 1931 г. и 20 сентября 1934 г., а также планы по укрупнению передающих радиостанций54. Что касается технической базы радиовещания, то в отчете ей давалась отрица
тельная оценка. Хотя передающая мощность увеличилась на 24 кВт (общая мощность всех передающих станций равнялась 1560 кВт), что составляло 300%, и по номинальной мощности Советский Союз выходил на первое место в Европе, однако «по полезной мощности радиостанций мы заметно отстаем от стран Европы. Так, на один киловатт номинальной передающей мощности радиопередатчиков в СССР приходится 1490 радиоприемников, в то время как в Великобритании их насчитывается 13 900, в Дании — 17 500, в США — 8500, в Германии — 6735 и во Франции — 5915. Качество подавляющего большинства передатчиков Союза до 1934 г. находилось на чрезвычайно низком уровне»55. Причина низкого качества виделась составителям отчета в использовании устаревших и отслуживших свое радиопередатчиков поколения 1924— 1927 гг., а также не удовлетворяющей техническим требованиям аппаратуры периода 1928—1932 гг.56
Но дело было не только в передатчиках. Далее в отчете говорилось о технических недостатках микрофонов, усилителей и кабеля. Не хватало студий, что, в свою очередь, привело к перегрузке имевшихся. От этого качество передач страдало еще больше. Техническая связь между студией и передающей станцией была «еще одним слабым звеном в цепи радиопередач»57.
Техническое отставание от Западной Европы проявлялось не только в относительно малом количестве радиоприемников, но и в технике проведения передач. Количество станций, принимавших «через эфир», т. е. без проводов, составляло 27%, остальные станции «качали» свои программы от центральных трансляторов по проводам58.
Приведенных здесь итогов достаточно для того, чтобы понять, какая огромная дистанция отделяла радиовещание СССР от статуса «могучего фактора формирования общественного мнения»39.
Радиовещание на службе партии
Много времени прошло, прежде чем радио стало «рупором революции», «важнейшей составной частью повседневной жизни», прежде чем оно стало проникать повсюду, «подобно
волнам революции»60. Несмотря на то, что наряду с мерами по развитию техники было намечено осуществление организационных и содержательных изменений в работе радиовещания, в области радиопрограмм отмечались сильные недоработки. Лишь 2 марта 1925 г. было принято распоряжение Центрального комитета партии, касающееся «дела крайней важности и необходимости, применяемого в качестве орудия массовой агитации и пропаганды»61. Планировалось организовать выступления отдельных членов партии с рефератами и лекциями. При Центральном комитете была создана специальная комиссия по вопросам радиовещания.
В постановлении Центрального комитета от 17 июля 1925 г. говорилось о переходе всех органов радиопропаганды политико-просветительного характера под руководство и надзор Наркоматов народного просвещения отдельных союзных республик. В постановлении уточнялось, что контроль будет осуществляться через соответствующие Главлиты и Главре-перткомитеты, т. е. через органы цензуры62.
Начиная с 1925 г., радиопрограммы составлялись государственными учреждениями (радиосекция при Главполитросве-те Наркомата народного просвещения под председательством Н. К. Крупской), партийными органами (Отдел агитации и пропаганды, а также Радиокомитет, и тот и другой при Центральном комитете) и профсоюзами. Рабочими организациями в этих целях создавались специальные радиобюро, а в отдельных профсоюзах радиокомиссии. В Москве находилась радиостанция профсоюзов. Общество «Друзья радио» сотрудничало со всеми ними. С 1926 г. в организаторские и технические вопросы получил право вмешиваться еще и Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции63.
В области политического просвещения наряду с радиогазетами, вначале курировавшимися РОСТА, с 1926 г. все чаще стали включаться в программу лекции и рефераты по следующим темам: «Какие решения принял XIV съезд партии?», «Почему можно построить социализм в нашей стране?», «Ленинский план построения социализма». В целях экономической пропаганды радио впервые было использовано в апреле 1926 г., когда по нему выступил с лекцией Ф. Э. Дзержин
ский, занимавший пост Председателя Верховного Совета народного хозяйства. Также с 1926 г. стала передаваться по радио «Рабочая радиогазета» и «Крестьянская радиогазета», составлявшиеся Центральным комитетом партии. Профсоюзы занимались выпуском передачи «Рабочий полдень»64.
Информативный контроль партии над советским радиовещанием, осуществлявшийся ею с самого начала, был легализован распоряжением Центрального комитета от 10 января 1927 г. В нем говорилось: «Всем партийным комитетам, на территории которых находятся радиотелефонные станции, рекомендуется взять работу этих станций под свое непосредственное руководство и максимально использовать ее в агитационных и пропагандистских целях»65.
Как выясняется из дальнейшего текста распоряжения, это была не просто рекомендация. Для обеспечения партийного контроля «руководителем вещания» должен был стать ответственный партийный работник, отчитывающийся перед партийным комитетом о материалах передач. Чтобы этого контролера нельзя было обойти, партийный контроль распространили и на технические детали. Были разработаны меры для обеспечения «защиты микрофона», «чтобы любая радиопередача осуществлялась лишь с ведома и согласия ответственного руководителя». То есть партийный работник контролировал микрофон, предоставляя его лишь в том случае, если он был в курсе запланированной передачи и давал на нее свое согласие. Трудно даже вообразить себе систему контроля, отлаженную с большим совершенством.
Эти распоряжения закрепили полный доступ партии к делам радиовещания в правовом и организационном отношении. Было ли все это проделано с целью прекращения внутрипартийных склок в борьбе за доступ к средствам информации или для обезвреживания сталинской фракцией своих противников, из источников не ясно.
Отныне программы составлялись в духе актуальных кампаний. Будь то предвоенная фаза, в ходе которой массы по радио призывались к защите отечества, коллективизация или индустриализация страны — вопросами радиовещания ведало партийное руководство в форме ответственных за это орга
нов. Некоторые структурные изменения, предпринятые с целью повышения эффективности, не внесли в ситуацию никаких перемен. Радиовещание полностью находилось под влиянием партии, продолжая оставаться слабым инструментом рекламы режима, проведения политико-просветительной работы, самообразования и мобилизации масс66.
Л/‘Л 4Й;.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ I: СТАТИЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Всадник
Всадник с безудержной силой мчится на своего соперника. Шлем надвинут по самые брови, лицо выдает хладнокровную решительность. В нем нет ни злобы, ни ненависти, ни страха, ни отчаяния. В руках он крепко сжимает свое оружие, копье. Это хороший наездник, т. к. совершая ловкое движение — и наступая, и уклоняясь от удара противника, — он в то же время сдерживает бешеный бег своего коня. Его костюм состоит из простой боевой одежды. Навстречу ему скачет человек в традиционной офицерской униформе: эполеты, рукава с обшлагами, лампасы, высокие кожа-, ные сапоги, доходящие до колен. Головного убора на нем нет. Лицо его украшают типические короткие бакенбарды.
Эти две фигуры на плакате связывает копье первого всадника, с силой вонзаемое им в живот своего противника. Кусок металла или дерева на какую-то долю секунды соединил двух совершенно чужих людей в смертельной схватке. Раненый офицер выпустил из рук свое тоненькое копье, и с театральным видом прощается с миром: голова запрокинута назад, правая рука с оттопыренным мизинцем патетически поднята, одновременно его подбрасывает вверх движением, ось которого проходит через затылок и плечо к левой руке, тянущейся к ране или к сердцу. Так умирают лишь на сцене.
Плакат и в самом деле напоминает о ней. Сценой служит пустое поле боя, фон напоминает декорацию. Уже знакомые нам герои пьесы одни-одинешеньки в чистом поле. Никакой поддержки, никаких ободряющих возгласов, никого, кто мог бы поспешить к ним на помощь или отомстить за смертельно раненного. Перед нами разыгрывается кульминационный момент истории. Мы не знаем ни ее начала, ни подоплеки, но видим, что эти двое схватились не на жизнь, а на смерть, и трагический финал неизбежен, т. к. иного выхода, кроме как уничтожение противника, нет. Хотя у соперников есть и современное оружие, они его не используют, а бьются оружием, вышедшим из употребления. Это придает их поединку личный характер при всей безличности самих персонажей. Безличны они оттого, что их чертам недостает характерных признаков, в лицах невозможно разглядеть индивидуальных примет: у одного оно наполовину закрыто шлемом, другой показан в профиль. О личном же можно говорить на том основании, что убивает и умирает каждый «лично», пусть даже ни один из противников нам не знаком. На плакате показаны всего-навсего три характерных признака: красноармейская буденовка с красной звездой и красный вымпел на острие копья. Этих признаков недостаточно для идентификации. Две эти фигуры остаются безличными потому, что и применяемое ими оружие, и конфигурация схватки указывают на обобщенный характер того, что стоит за ней. Как рыцари на турнире, они борются не с противником лично, их победа не является самоцелью, они стремятся к ней ради чего-то более высокого.
Копье связывает противников друг с другом, и каждый из них связан, в то же время, с движением и пространством. Победитель чувствует за своей спиной мощь индустриального мира, его дымящиеся трубы и заводские корпуса, призрачные темные силуэты выглядят неприступными и непоколебимыми на фоне восходящего солнца, окутывающего промышленные здания и вышедшего из этой среды всадника ореолом бесконечной непреложности. Гармония природы с плодами человеческого труда придает этому пространству характер вечности и статичности. Это может прозвучать как парадокс: солнце
здесь восходит постоянно, т. к. оно стоит на месте. Это придает всаднику сил. Природа благоприятствует нашему победителю, бой этот неравный, поскольку его исход ясен с самого начала. Победитель движется по направлению из центра плаката, к которому стремится обреченный на поражение противник. Столкновение с противником не в силах сдержать напор победоносного всадника, он убивает первого как бы еп passant, для этого ему не требуется останавливаться. Конь и всадник, слитые воедино, в момент столкновения разделяются: всадник пронзает копьем противника, а конь продолжает свой неукротимый бег вперед — в направлении нижнего края плаката. Движение скакуна открывает пространство плаката вперед, а благодаря восходящему солнцу оно не замкнуто и сзади.
Это кардинально меняет характер изображения. До сих пор перед нами был человек, скачущий в глубь изображения, по всей видимости, захватчик, нападающий на защитника дымящихся заводских труб. Ничем хорошим для первого это не кончается. Пока что происходящее выглядело, как акт защиты, но в какой-то момент все меняется местами: захватчик погибает в тот момент, когда зритель бросает на плакат свой первый взгляд. Несмотря на всю непосредственность его гибели в ней есть что-то, являющееся достоянием прошлого, об этом говорит неудержимое движение вперед. История на плакате завершена, но действие на нем «продолжается». Оборона переходит в наступление. Оно выходит за рамки плаката, потому что, продолжая продвигаться вперед, победитель сразу же наткнется на очередного супостата — зрителя. Только что последний стал свидетелем логического финала поступка, с самого начала обреченного на неудачу, а теперь и сам он предоставлен судьбе, мчащейся ему навстречу с мощью урагана. Но эта судьба дает зрителю шанс, т. к. от копья всадника его отделяет надпись «Z drogi!» — «С дороги!», строчка текста, белая полоска между смертоносным оружием и внешним миром, заставляющая задуматься. К кому она обращена? Она не может служить предупреждением захватчику, он уже перешагнул за нее. Он пренебрег ею. Стало быть, она обращена к зрителю. Изображение и вправду начинает
говорить. В этот момент оно, собственно, и становится плакатом в силу своей обращенности к зрителю и только к нему. Если он сумел извлечь из увиденного урок, ему остается только одно: послушаться, капитулировать перед победоносным всадником. В противном случае его постигнет участь выскочки, дерзнувшего войти в плакат из небытия, перешагнуть белую линию капитуляции, на которой цветом красной звезды на буденовке, прикрепленного к копью вымпела и восходящего солнца написаны слова, которые и на офицера, бросающего вызов, и на зрителя должны производить действие, подобно действию слов «тепе, tecel, fares» на пире царя Валтасара. «С дороги!» обычно кричат только при продвижении вперед, обращаясь к стоящим на пути и мешающим людям. Эта надпись звучит как призыв звездоносного рыцаря, обращенный к каждому, кто пытается воспрепятствовать его бешеной скачке, сдержать активное начало. За такую попытку и поплатился всадник в синей одежде.
Была ли необходимость в изображении противника красноармейца? Разве призыв прозвучал бы менее настойчиво, если бы художник изобразил на плакате одного лишь звездоносного рыцаря, скачущего с копьем наперевес навстречу зрителю? Тогда изображение утратило бы весь свой драматизм. Увернуться с пути вооруженного всадника, мчащегося ему навстречу, может каждый. Это не произвело бы желаемого действия. Может быть, и можно было бы обойтись без противника, но именно благодаря ему происходящее на плакате приобретает столь драматичный оборот, нельзя видеть в нем просто бесплатное приложение. Его смерть необходима для накала ситуации: происходящее на картине всего лишь игра, но игра чрезвычайно серьезная. Только благодаря присутствию на плакате гибнущего офицера зритель постигает всю экзистенциальность призыва «С дороги!». В конце концов, всю игру затеяли ради него, и он понимает: игра, которую он увидел, закончилась, так и не успев начаться. Ему не остается ничего, кроме как срочно принять решение, потому что плакат без обиняков превращает в препятствие его самого. Его роль — роль зрителя — требует, чтобы он остановился. Иначе в следующее мгновение настанет его черед.
Властелин жизни и смерти, конечно, не спрыгнет с плаката, Однако есть лишь один способ избежать воздействия этого плаката, — не видеть его.
Герои и чудовища
Подвести под плакат фактический материал несложно. Мы имеем дело с цветной литографией. Автор неизвестен. Один экземпляр этого плаката находится в Париже, в Musee d’histoire contemporaine1. Плакат был создан в 1920 г. в период Русско-польской войны, о чем нетрудно догадаться по тексту на польском языке. Предположительно он возник на довольно позднем этапе войны, т. к. в нем прослеживается связь со словами Верховного главнокомандующего советских войск, Тухачевского, сказавшего перед Варшавой, что «мировая революция пойдет по трупу Польши»2. Красноармеец олицетворяет Красную армию и Россию, захватчик — традиционную в военном отношении Польшу. Копья в те времена продолжались находиться на вооружении Польской кавалерии.
Художник проявил себя настоящим мастером. Его манера использования знакового языка плаката отличается свободой, кроме того, придерживаясь требуемой от плакатов сжатости и лаконичности высказывания, ему удается использовать элементы, не типичные для этого жанра, а скорее, являющиеся принадлежностью «большого искусства»: пространство и движение. Он знает толк в своем деле, это видно по четко прорисованным лошадям, удачно пойманным движениям, темп бега коней и их внезапная остановка переданы с помощью облака пыли, клубящейся под копытами коней, а также с помощью развевающихся грив. Даже силуэт промышленного предприятия выглядит убедительно. Этот плакат является шедевром, оставленным без всякого внимания литературой, за исключением одной работы, да и в ней он тоже не оценен по достоинству: «Некоторые плакаты этого периода (русско-польской войны. — Прим, авт.) выходили на польском языке. В качестве примера приведем плакат «С дороги!», изображавший победоносное шествие Красной конницы по территории Польши, к новому краху мира и благосостояния»3. . н
Есть несколько причин, по которым мы рассматриваем этот плакат столь подробно. С одной стороны, мы постарались дать образец трактовки раннего советского плаката как исторического источника, надеемся, что он поможет в извлечении из плакатов информации исторического характера. Преимущество этого способа состоит в том, что он позволяет не утонуть в массе материала, пользуясь им, можно разработать проблематику отдельного экземпляра. Как мы уже видели и увидим в дальнейшем, с изображения можно снимать пласт за пластом, обнаруживая при этом все новые и новые уровни содержания. Только там, где характеристик данного плаката для проводимого в дальнейшем анализа будет недостаточно, мы будем прибегать к другим. Их будет немного, большинство из них потребуются нам лишь для дополнительной иллюстрации. Трудно найти другой плакат, повествующий об истории своей эпохи в столь сжатой форме.
С другой стороны, хотя по советскому плакату имеется целый ряд работ, ни в одной из них нет подробного анализа отдельного плаката. Либо в них сделан упор на вопросы методики интерпретации изображений и уделено слишком мало внимания историческому контексту раннего советского плаката4, либо же они предлагают — причем на довольно солидном уровне — обзор и углубленный исторический экскурс, видя в плакате всего-навсего милое приложение к истории, как явствует из приведенной цитаты, и отказывая ему, таким образом, в роли самостоятельного исторического источника5. Таким образом, плакат продолжает оставаться революционным нововведением в области эстетики. Трудно что-либо возразить на это, но в таком случае он попадает в сферу действия совсем другой науки, истории искусства, в которой также не найти попыток анализа советского плаката в исторической связи. Наконец, и западным, и советским исследованиям свойственен подход к плакату с точки зрения эстетики. К тому же, и те и другие проявляют единство мнений по поводу факта оказания этим средством воздействия на массы6.
Нет никаких сомнений в том, что в нашем случае мы имеем дело с плакатом. В пользу этого говорят его призыв
ный характер, а особенно использованные в нем изобразительные элементы. Все элементы изображения можно охватить одним взглядом: солнце, дымящиеся трубы, поединок, соперников, текст. Смысл текста, и призывающего, и угрожающего одновременно, понятен сразу же.
Итак, перед нами «классический» случай плаката, отвечающего художественным и политическим требованиям времени. «Плакат должен восприниматься мимоходом, он не должен держать речей, т. к. прохожие редко останавливаются перед плакатами, лозунг, призыв должны кричать навстречу людям»7. Плакат должен бросаться в глаза толпе в местах большого скопления людей: «На оживленных перекрестках, где расходятся в разных направлениях люди, лошади, машины, нет времени остановиться, замешкаться. <...> На ходу, на бегу, в безумной спешке, из конки или с подножки трамвая, из машины или зайдя за угол, человек слышит властный зов: «Стой! Это плакат»8. Текст должен быть «как крик»9, говорит о задаче этого жанра один из современников, как будто видя пример этому наяву. «Что-то происходит»10.
Дмитрий Моор, один из знаменитых плакатистов тех лет, сформулировал требования, предъявляемые к плакату. Это «конкретно-действенное, сознательно целенаправленное, боевое и агитационное искусство»11. Самое главное в плакате — его понятность, его язык должен быть общедоступным, особенно в условиях массовой безграмотности12, кратким и предельно выразительным13. Моор высказывается и о назначении плаката. Плакат должен «вселять веру в победу и волю к ее достижению»14. Другой современник, которому удалось довести понятие лаконизма, выдвинутое Моором на обсуждение, до крайности, так резюмирует свои взгляды по поводу эффективности плаката: «В композиции должны преобладать понятные, острые изображения, лишь иногда снабженные пояснительным текстом, лучше всего в легкозапоминаемой стихотворной форме — народной частушки»15.
Не будем вдаваться в подробности дискуссий современников и более поздних авторов о задачах и требованиях, предъявляемых к искусству плаката, на основании приведенных цитат — с которыми перекликаются многие другие —
можно заключить, что советский плакат должен был быть пристрастным, актуальным, будоражащим и страстным16. Он «говорит о главном: о жизни и смерти, борьбе и победе, насилии и свободе, хлебе и человечестве, настоящем и будущем»17. Так что наш пример как в формальном, так и в содержательном отношении является образцом революционного плаката. Среди произведений этого жанра найдется не так уж и много работ, с такой полнотой соответствующих эстетическим и политическим требованиям, предъявляемым к плакатам. Причем это не плоский программный плакат, изготовленный словно по рецепту. Проведенная интерпретация показывает, что он представляет собой нечто большее, чем просто бездумную репродукцию инструкции. В самом деле, в нем можно найти еще очень многое.
Этот краткий экскурс в искусство плаката был необходим, но в наши намерения не входит углубляться в него. Для нас важна интерпретация средства, энергично и широко применявшегося большевиками в первые годы их правления как средство пропаганды. По этой же причине не играют для нас особой роли эстетические вопросы стиля, линии и цвета. Точно так же мы не будем придерживаться существующих классификаций плакатов, т. к. в их основу положены формальные, хронологические, авторские или тематические критерии18. Для нашей тематики играют роль изображения героев, победителей, плоскости мифа и времени, упомянутые по ходу интерпретации плаката. Этим мы и займемся в дальнейшем19.
С типажом героя нашего плаката, красноармейцем, мы встречаемся в ряде плакатов. Буденовка с красной звездой является его отличительным признаком, встречающаяся порой шинель конической формы скорее, нетипична. Разумеется, этот тип плакатного героя появился лишь с началом Гражданской войны. Потребовалось некоторое время для того, чтобы он утвердился. Но по сравнению с часто встречающимися главными героями плакатов этот типаж так и не стал преобладающим. Можно утверждать, что лишь с 1920 г. красноармеец становится ключевой фигурой плаката.
Правда, изображения вооруженных бойцов с красной
Зрительное восприятие I: статичные изображения звездой на шапке встречались уже в 1919 г., но их костюм, функция и применяемый язык изобразительных средств были иными, чем в будущем у типажа красноармейца. Главными представителями этого типа можно считать «Вперед, на защиту Урала!» и «На защиту Петрограда!», оба плаката выполнены Александром Апситом. Красноармеец на них пока еще не был красногвардейцем, т. е. типическим героем, зто был просто рабочий, на его шапке изображался символ советской власти, красная звезда, которой в то время даже не уделялось особого внимания. Во втором случае защитник Петрограда является центральной фигурой, стоящей в одном ряду с крестьянином, матросом и остальными бойцами.
Эти ранние плакаты были в каком-то смысле «честнее» с исторической точки зрения, они обращались к зрителю в призывной форме и ставили красногвардейца в один ряд с симпатизирующими ему революционными силами. Социальный ансамбль, состоявший из рабочего, крестьянина, солдата и матроса являлся как номинальной, так и организационной опорой советской власти. Начиная с 1920 г., красноармеец на плакатах перестал изображаться в социальном окружении. Он автономизировался, превратившись в бойца-одиночку, символ20, хотя не совсем ясно, чего именно: революции, борьбы, большевиков, советской власти, Красной армии, прогресса, добра или человечества. Не будем торопиться с ответом на этот вопрос.
Боец-одиночка, красноармеец не всегда предстает перед нами в сценах боя. На некоторых плакатах он фигурирует в роли защитника21, в роли блистательного героя22. Но если уж он сражался с врагом, то так, что у последнего не оставалось и тени надежды.
Едва ли можно сказать, что пролетарий встречается на плакатах намного чаще, чем красноармеец. Предположение о том, что представители победившего класса изображались на советских плакатах чаще и в ином качестве, чем все остальные, не подтверждается. Типаж рабочего, выдержанный в лаконичном плакатном стиле, появляется также с 1920 г. Лишь теперь он «обретает» свои символы, употреблявшиеся и ранее, но до сих пор не означавшие однозначной принадлежно-
сти: отныне атрибутом рабочего становится молот, точно так же как буденовка с красной звездой — отличительным признаком красноармейца. Его предпочитают изображать в перспективном искажении в виде «богатыря-пролетариата»23.
Меньше всех на плакатах представлен класс, к союзу с которым стремилась советская власть. Крестьяне, т. е. типаж крестьянина появляется на плакатах чрезвычайно редко, а если и присутствует на них, то как идеологический гарнир. Слова о триумвирате пролетариат—солдаты—крестьянство как теме ранних советских плакатов сильно преувеличены. Правда, встречаются случаи совместного изображения рабочего и красноармейца, порой сливающихся в одну фигуру с реквизитами того и другого. В таких случаях на плакатах не видно и следа крестьянина. На других плакатах крестьянство, представленное в виде крепкой бородатой мужской фигуры с косой или серпом в руках, производит впечатление переводной картинки со стереотипных представлений городской интеллигенции о русском крестьянине.
На плакате Н. М. Кочергина «1-е мая 1920 года» это проявляется с особой ясностью. В центре показан пролетарий с молотом, изображенный между бородатым крестьянином с косой в руках и молодой крестьянкой с гордо выпяченной грудью и серпом в левой вытянутой руке на фоне солнца будущего. Распевая революционные песни, бегут вперед два проворных мальчишки, держащие в руках красное полотнище и книгу. Вокруг них массы. Приветствия от международного пролетариата. Все они с гордо поднятой головой шагают прочь от могилы прошлого с погребенной в ней короной, двуглавым орлом, раскрытым мешком денег и классической архитектурной колонной, увенчанной ионической капителью. Пройдет немного времени, и такие изображения станут стандартными клише искусства сталинской эпохи. В 1920 г. уже встречается ярко выраженный представитель этого направления.
Причины упущений, допущенных в отношении крестьянства, не называемых даже, в соответствии с Ленинской теорией, деревенской беднотой или, по крайней мере, середняками (что было бы чрезвычайно сложно отобразить на плакате),
следует, вне всяких сомнений, искать в идеологических позициях, социальном происхождении, и, прежде всего, в отношении художников к этому вопросу. Будучи городскими интеллигентами до мозга костей и художниками на службе пролетариата, в своем искусстве они были слепы к крестьянской революции. Крестьяне остались пасынками революционного искусства не только в области плаката.
Если с типажами красноармейца и пролетария мы впервые встречаемся лишь в 1920 г., т. е. с некоторым опозданием по отношению к идеологическим и политическим планам, то зто наверняка объясняется процессом развития искусства плаката. Вначале необходимо было найти изобразительные средства и язык, формы, наконец, вырастить самих художников, прежде чем был найден язык ранних советских плакатов, принесший им такую известность. Но здесь тоже требуется соблюдать осторожность — так же как и с плакатными изображениями — потому что часто встречаются случаи редукционистской стилизации плакатов тех лет. Например, если Моор впоследствии работал в подчеркнуто лаконичной манере, снискавшей ему знаменитость, и яснее всего проявившейся в плакате «Помоги»24, то он умалчивал о том, что в зто же самое время он изготовлял плакаты, напоминавшие по стилю работы Апсита, т. е. сам и грешил критикуемой им же апситовщиной25.
Таким образом, неправомерно было бы говорить о поступательном развитии плаката в сторону все более и более совершенного искусства. Шедевральные произведения этого жанра являлись, скорее, исключением, как это, впрочем, бывает с шедеврами всегда. Как и у Моора, друг с другом соседствовали всевозможные формы плаката: аллегорические, сатирические, «лаконистические». По перечню плакатов периода 1918—1921 гг., составленному Бутником-Сиверским26 и насчитывавшему 3694 плаката, тоже нельзя сказать, что шедевры редукционистской манеры, сформировавшейся к 1920 г., составляли большинство.
На основании всего сказанного встает вопрос о том, почему галерея «положительных» героев возникла довольно поздно, если с самого начала было ясно, кто были новые хозяе
ва страны, победители революции и ее отважные защитники. При просмотре плакатных каталогов возникает впечатление, что причины кроются не в недостатке политического сознания, духовной удаленности от революции, пролетариата или Коммунистической партии, а другие приоритеты. Общий анализ показывает, что значительно чаще изображались враги героев.
Это предположение подтверждается, если в интересах нашего исследования условно поделить плакаты, изготовленные между 1918 и 1921 гг., на две группы: антивражеские и триумфальные. К плакатам первого типа относятся все те, на которых главное внимание уделяется изображению врага, неважно, царь это, белый генерал, кулак, поп или польский захватчик. В разряд триумфальных входят плакаты, говорящие зрителю о победе над врагом, светлом будущем советской системы и живущих в ней людей, о достижениях революции. В количественном отношении преобладают плакаты первого типа. Красным никогда бы не удалось победить в Гражданской войне, будь у них столько врагов, сколько их было на плакатах.
Самое примечательное, что к концу войны количество изображений героев возрастает параллельно с фактическими поражениями врагов. 1920 г. знаменателен тем, что к этому времени критическая фаза для большевиков закончилась и соотношение сил изменилось в их пользу. По мере возрастания уверенности в победе меняются и плакаты: появляется все больше и больше изображений блистательных героев.
Ни в коем случае нельзя считать противников лишь декоративным и функциональным элементом изобразительного языка плаката. Так как они населяют большинство произведений этого жанра, стоит рассмотреть их поподробнее.
Вернемся к плакату «Z drogi». Противник наделен человеческими чертами, в его изображении нет ничего карикатурного. В этом состоит существенное отличие нашего примера от подавляющего большинства изображений врагов. В чем причина такого отступления от нормы плаката? В нашем примере ответ на этот вопрос вытекает из общей концепции работы. Искаженное, лишенное человеческих черт изображе
ние не смогло бы передать глубокого смысла обращенного к зрителю призыва. Только изобразив врага обычным человеком, таким, которые каждый день встречаются на улице, и поэтому как бы взятого из жизни, можно было побудить зрителя примерить на себя его судьбу и, тем самым, отреагировать на подпись под плакатом. Большинству из нас трудно идентифицировать себя с уродливым чудовищем.
И все же таких чудовищ, так же как и сцен их убийства, хватает с избытком. Франк Кемпфер пишет в своем исследовании о политических плакатах, что изображения врага ассоциируются с партией «со знаком минус», «поскольку в такой форме легче всего изобразить отрицательные действия, направленные против положительного идеала»27. Однако такая персонификация никогда не носит реалистического характера, она достигается использованием «изображения человека, искаженного до смешного или уродливого»28. Примечательно, что сначала враги изображались отнюдь не в самом ужасном виде. Первым плакатом такого рода является «Царь, поп и кулак» художника Пета, данными о котором мы не располагаем. На плакате показаны легко узнаваемый Николай II с короной набекрень и кривоглазый, поп с глазами навыкате и зубами вампира и безобидного вида кулак, изображенный в профиль. Никто из них не напоминает зверя, несмотря даже на своеобразные зубы священника.
К этой тройке врагов русской революции вскоре прибавилось еще несколько типажей, ставших неотъемлемой принадлежностью плакатов: буржуй-капиталист, белый генерал, и — с началом Польской войны в апреле 1920 г. — польский захватчик, помещик и классовый враг, польский пан.
В отличие от нашего первого примера все враги, вне зависимости от их цвета, изображались тучными и жирными до омерзения. Так, за миловидной маской Антанты скрывается заплывшее жиром, пучеглазое истинное лицо капитализма, уже обнажившего свои длинные зубы и готовящегося урвать лакомый кусочек29. На другом плакате русский крестьянин — один из весьма редких случаев одиночного акта представителя этого класса — со свирепым видом загоняет красный штык в живот бесформенной массы «зверя-капита
ла» с ярко выраженными негроидными и обезьяньими чертами лица30.
Такая стилизация превращает врага в опасного и озверевшего дегенерата. Это патологический, аномальный случай. Уже его облик — все зти носы пьяниц, бычьи затылки и жировые складки — свидетельствует о нездоровье. Комбинация такой неестественной и чудовищной внешности с поступками или поведением заставляют сделать вывод: человек такого вида не может пребывать в здравом рассудке. Тот же, у кого душевная болезнь достигла такой стадии, действует против общества здоровых людей. А кто хочет разрушить общество здоровых людей, тот сам подлежит уничтожению. Естественно предположить, что в отличие от своего врага положительный герой — пролетарий или красноармеец — всегда отличается здоровым лицом и телосложением. Поэтому постепенно изображения религиозных, политических и классовых врагов стали наделять чертами, имеющими отношение не к политической, а скорее, к биологической аргументации. Враг превратился в нечто большее, чем в «просто» противника, это был больной, выродок, язва на теле человечества. Того, кто так выглядел, можно было ликвидировать. Изгнание было самым легким наказанием, применявшимся к нему на плакатах.
Удивляет, как исследователи этой области могли не заметить таких тенденций в развитии расхваливаемого всеми раннего советского плаката. Лишь Франк Кемпфер обращает внимание на телесную деформацию, выходящую за рамки того, что, по его мнению, еще имеет право называться карикатурой31. Но он так углубляется в свои методические и типологические изыскания, что не поднимает проблему содержания плакатов раннего советского периода. На самом деле, звериные облики получают распространение не только в Советской России, но и во всей Европе32, причем не в одних только странах диктатуры, где присутствие образа врага можно объяснить с идеологической точки зрения. Но умаляет ли зто значимость характеристики, данной нами советским плакатам? Представляется, однако, что, скорее всего, советская пропаганда пользовалась изобразительными средствами Западной Европы, взявшей за основу своей духовной базы
Зрительное восприятие I: статичные изображения принципы социального дарвинизма. Изображение противника в виде зверя на плакатах — и не только на них — вошло в моду во времена Первой мировой войны и сохранялось по ее окончании, а российская сторона переняла эту зловещую и антигуманную манеру.
Правомерно ли после таких выводов видеть в советских плакатах «только» отражение ситуации, имевшей место во времена Гражданской войны или же подготовку насильственных «решений» сталинской эпохи? Насилие, творимое на плакатах, прямо-таки бросается в глаза. На них умирает множество людей. Один вопрос, ответ на который требует более четкой разработки, точной аргументации и анализа гораздо большего количества материала, чем мы можем позволить себе в рамках данного исследования, останется открытым: можно ли проследить внутреннюю связь между нечеловеческим обликом врагов на плакатах и ликвидацией врагов, действительно имевшей место впоследствии?
Интерпретация плакатов с культурно-исторической точки зрения
Вернемся к вопросам, поставленным в заключении интерпретации нашего плаката. Кого или что символизирует красноармеец? На первый взгляд, ответ на него ясен. Однако подробный анализ изображения говорит о том, что он борется не только за свою партию.
В данном случае просмотр большого количества плакатов усиливает впечатление от отдельного экземпляра. Пролетарий-боец, временно сложивший свои регалии, может быть не только солдатом, он может быть оборонителем и защитником класса. Теснейшая связь между красноармейцем и пролетарием в языке изобразительных средств плаката подтверждается многочисленными примерами, когда на одном и том же плакате мы видим и тот и другой персонаж, или когда красноармеец наделяется символами, присущими рабочему. На ранних плакатах Апсита он изображен в виде рабочего, которого жизнь заставила взять в руки винтовку.
На вопрос об объекте защиты возникают несколько вариантов ответа: города и области, вся страна как военный басти-
он33, заводы Советской России как социальные и идеологические крепости34, он сам как представитель класса и его будущее. Это еще одно подтверждение многоплановости нашего примера. Правда, в нем неясно, какая конкретно географическая местность имеется в виду, но коннотативная цепочка, выстраивающаяся из таких элементов, как красноармеец, заводы, солнце, приводит к выводу о том, что под всем этим подразумевается родина пролетария — Россия.
Не в последнюю очередь плакаты направлены на достижение эффекта солидарности. Вне зависимости от того, что изображено на плакате — заводы или географическая местность, важно, чтобы у зрителя возникало чувство: «Это наше». При всех интернационалистских интонациях плакатов первых лет при более внимательном рассмотрении в них прослеживается тенденция к созданию чего-то, что можно назвать «пролетарской родиной». Красноармеец-пролетарий одерживал победу не только как классовый борец, но и как россиянин. Этим объясняется доминирование национального компонента на большинстве плакатов периода Русско-польской войны. «Зверь-капитал» был явлением наднациональным, а пан — чудовищем из Польши. Он угрожал пролетариату как классовый враг. Он унижал пролетариат России и бросал ему вызов, опустошая его русскую родину, хотя в действительности-то дело касалось в основном украинских территорий. Среди ранних советских плакатов не было более кровавых и жестоких, чем те, что были созданы в месяцы польской кампании и одновременных боев с бароном Врангелем. Складывается впечатление, что национальный компонент, привнесенный польским паном, прямо-таки окрылил фантазию художников, т. к. 1920 г., по общему признанию, представляет собой вершину художественного развития этого
жанра.
Итак, красноармеец защищал пролетарскую родину. А как же насчет революции? Не перевешивала ли тема обороны отечества на плакатах тему защиты революции? Не затеняла ли необходимость противостояния превосходящим силам противника истинных мотивов, движущих защитниками красных лагерей, их революционного пыла? В самом деле,
сложно передать понятие «революция» с помощью визуальных средств. В силу его абстрактности необходима была конкретизация, персонификация, короче говоря, наглядность. Но в этом смысле ни красноармеец, ни пролетарий не были олицетворением ни революционного процесса, ни его поворотного значения.
Обратимся к нашему примеру еще раз. На заднем плане показана длинная череда заводских корпусов. Это отражение идеи промышленного государства, в масштабе почти что преувеличенном. Яркое солнце на плакате символизирует не только построение коммунистического общества, но и будущее вообще. Так что красноармеец предстает не столько защитником завоеваний революции, сколько ее вестником.
Здесь мы подходим к интерпретационной плоскости, до сих пор разработанной нами лишь частично: динамический момент плаката, состоящий в продолжении движения всадника за пределы изображения, можно истолковать так, что начав свой путь, устранив на всем скаку противника, красноармеец, не сдерживаемый более ничем, продолжает стремиться вперед. После слов, сказанных о фоне плаката — в прямом и переносном смысле — действия красноармейца приобретают еще и ореол мессианства. Если считать промышленные предприятия и солнце символом будущего, — изобразительный язык плаката позволяет сделать такое допущение, — то изображение красноармейца оправдано с точки зрения преимущественного права прогресса на дороге истории. Тогда его продвижение вперед имеет смысл не только в связи с тем, что зритель может представлять собой потенциального противника. Он выступает в роли предвестника лучшего, т. е. более передового и яркого будущего. Что же касается революции, то она не является необходимым условием его достижения, да и вообще происходящее на плакате не имеет к ней никакого отношения. Убийство противника ни в коем случае нельзя считать революционным актом.
Остается подытожить, что антивражеские плакаты не служили восхвалению революции. В них подчеркивается значение революционной борьбы для достижения мечты человечества — светлого будущего, с одной стороны, а с другой, это
будущее обретает на них определенную географическую локализацию с целью конкретизации и внушения мысли о необходимости и целесообразности такой защиты.
С революцией и ее прославлением мы встречаемся, скорее, на плакатах, условно названных нами триумфальными. Через год после Октябрьской революции, к ее первому юбилею, Апсит создал проект плаката «Год пролетарской диктатуры». В победоносной позе римских полководцев возвышаются на постаменте рабочий с винтовкой и молотом в правой руке и молодой крестьянин с косой и копьем, украшенным красным вымпелом. Постамент попирает символику прошлого: царскую корону, двуглавого орла, щит и цепи. Сквозь раму видны колонны народа. Молодая мать протягивает героям свое дитя для «благословения» — явное отражение архаичных ритуалов господства. Далеко позади над городом дымятся заводские трубы, восходит золотое солнце35.
Символика таких плакатов однозначна. За исключением немногих экземпляров на заднем плане всегда располагается восходящее солнце. На переднем плане чаще всего изображен громадных размеров, с точки зрения перспективы, «богатырь-пролетарий» или «богатырь-красноармеец»36.
Особой формой триумфальных плакатов являются выстроенные по схеме «прежде и теперь». Их логика еще проще и понятнее, чем у только что описанных триумфальных плакатов, зачастую создававшихся к праздникам. Все они просто дают понять, что мир стал лучше, веселее, образованнее и справедливее37.
Если борьба за будущее была одной из главных составных частей высказывания ранних советских плакатов, то в ней можно выделить две стороны: непосредственная близость этого светлого будущего и необходимость бороться за него. Но борьба имела смысл лишь в том случае, если будущее виднелось на горизонте. В передаче изобразительными средствами будущее обретало конкретные черты в редчайших случаях, чаще всего оно было грезой. Оно было целью, ради которой совершалось насилие и велись сражения. Оно означало прекращение классовых баталий и бата-
лйй вообще. Одновременно с этим оно было завершением истории.
Для триумфальных плакатов характерно то, что они не предусматривают никакого развития. Враги побеждены, мир принадлежит рабочим и крестьянам — правда, в меньшей степени — чек на будущее обналичен. На ранних советских плакатах нет намека на то, что после победы жизнь продолжается. Таким образом победа означала все, а повседневная жизнь по окончании триумфа — ничего.
Виктор Дени, еще одна знаменитость из числа художников-плакатистов, наглядно выразил мысль об окончании истории со свершением революции. На двух разных плакатах с одинаковым названием «Последний час» он отождествляет крах-старого мира с прекращением истории. Для представителей прошлого время истекло. Изображения последнего царя, Керенского, белых генералов Корнилова, Колчака, Юденича, Деникина, помещенные на циферблате часов вместо цифр, перечеркнуты: их время прошло. Невдалеке от двенадцати еще остались Врангель и польский пан. К ним неумолимо подбирается стрелка часов, увенчанная красной звездой. От нее удирают буржуи во фраках и цилиндрах38. В «усовершенствованном» варианте Дени выпустил многих персонажей. Остался только циферблат с цифрами, вместо двенадцати на часах изображено жирное лицо капиталиста в цилиндре. Механика истории сработает надежно, и нож коммунизма, большая стрелка часов, неизбежно вычеркнет эту рожу из хода времени, т. к. часы показывают уже без пяти двенадцать39.
Эта карикатура метафорично передает идею 1918—1921 гг. о конце времени, а, следовательно, и об окончании истории. Она не одинока, в первой главе нам уже встречались подобные высказывания. Таким образом укрепляется миф о революции как новом начале. Изобразительные средства, использованные в таких плакатах, говорят вполне ясным языком, поэтому непонятно, по какой причине некоторые исследователи советского плаката не согласны как раз с такой перспективой рассмотрения. «Однако для показа конкретного момента трасформационного процесса хорошо развитый язык изобра
зительных средств рабочего класса не нуждается в поиске многозначительных мифологических образов, с которыми связаны его эмансипативные ожидания» — пишет в своем исследовании Экарт Гиллен40. Может быть, в приниципе это высказывание и верно, только художники, которым искусство плаката обязано своим расцветом, не были пролетариями. Поэтому их работы едва ли можно использовать как доказательство верности этого тезиса.
Если что-то и вызывает удивление, так это утверждение, что «прямолинейная однозначность, ощущение пульса эпохи, непосредственность обращения, призывный характер оборотов, применение повелительного наклонения глагола, аргумен-тативность, эффективность наглядных средств доказательства и отказ от красивых слов», оказывается, неизбежно несли в себе «мистические пилюли избавления», которых не должно было быть в «пролетарском» плакате41. Среди плакатов есть и другие примеры, подтверждающие, как далеки были образы ранней советской эпохи от антимифологичной рациональности. В следующем разделе приводятся доказательства того, что этот миф привел к краху мифографии.
Производство и распространение
Нет нужды лишний раз подчеркивать, что в первое время плакаты были чрезвычайно важной составной частью советской пропаганды. Они применялись чаще, чем печатное слово. Несмотря на катастрофическую нехватку бумаги, краски и техники за неполные два года 453 учреждениям удалось выпустить несколько тысяч плакатов42. В фундаментальном каталоге Б. С. Бутника-Сиверского насчитывается 3694 названия, однако в нем перечислены далеко не все. Не указан там и плакат «Z drogi». В первое время большинство плакатов выпускалось издательством Всероссийского Центрального исполнительного комитета в Москве. Тираж некоторых особо важных произведений достигал 20—50 тысяч экземпляров, в некоторых случаях и более43 Только за 1920 г. лишь московскими центральными издательствами было выпущено 75 плакатов общим тиражом 3,2 млн экземпляров44.
-Ь( После основания в 1919 г. Госиздата и издательского отде
ла при Политическом управлении Красной армии, Литиздата выпуск плакатов перешел, главным образом, в их ведение, при этом военное издательство, по всей видимости, опережало государственное по цифровым показателям. Литиздатом руководил Вячеслав Полонский, в 1925 г. опубликовавший первое крупное исследование по тематике советского плаката45. В 1919—1920 гг. производство плакатов достигло такого размаха, что диву давались даже сами сотрудники «движения». Один из критиков писал о «плакатной лихорадке», Полонский называл этот процесс «плакатоманией»46.
В июне или июле 1918 г. появились два первых советских плаката: «Цена крови» и знаменитый «Царь, поп и кулак»47. Однако для организации производства потребовалось немало времени. Причин, задержавших появление советских плакатов примерно на год с момента свершения Октябрьской революции, могло быть несколько. Очень может быть, что на появление первых плакатов повлияли празднества, посвященные первой годовщине Октября, сопровождавшиеся пышным украшением улиц и площадей Москвы и Петрограда 4в. Сами художники тоже не сразу бросились заниматься произведениями этого жанра. Но именно от них исходила инициатива, именно их заслугой является столь высокая производительность, а также успех плакатных кампаний. Большинство плакатов, в партийности которых не приходится сомневаться ни на йоту, были произведениями беспартийных художников. «Да, взаимоотношения с партией могли бы быть и получше» — сетовали некоторые из них, не получая достаточной поддержки49. По-видимому, более тесные отношения с партией на организационном и институционном уровне установились лишь с 1920 г., в период расцвета советского плактата50.
Причину такой задержки, которой, как таковой, строго говоря, и не было, следует искать вне сферы искусства. Как явствует из главы о печатном слове, систематичную работу в этой сфере советское государство начало проводить тоже лишь примерно с середины 1918 г. Нет никакого основания полагать, что развитие производства плакатов, перед которым стояли те же сырьевые проблемы, что и перед прессой, могло пойти быстрее. Прошло восемь-девять месяцев, прежде чем
новая власть смогла заняться этой сферой всерьез.
О широте и глубине воздействия плакатов сказать сложно, несмотря на то, что все исследователи в один голос твердят о его невероятной силе51. Как можно измерить, сколько человек записалось добровольцами в Красную Армию под влиянием плаката Д. С. Моора «Ты записался добровольцем?», — спрашивает французский историк Франсуа-Ксавьер Кокэн52. «Плакаты этого времени (эпохи гражданской войны. — Прим, авт.) особенно дороги нам, красным партизанам. Никогда не забыть мне самого примечательного из всех них — «Ты записался добровольцем?», — читаем мы в протоколе выставки 1934 г.53 слова одного из посетителей, произнесенные за 50 лет до Кокэна. Однако они не дают ответа на поставленный вопрос.
Составить себе какое-то общее представление нелегко, т. к. плакаты выпускались не только центральными издательствами Москвы. Боевые армии, местные организации тоже занимались этим54. Кроме того, система распределения, так же, как и в литературной сфере, страдала чрезвычайным недостатком эффективности. Даже во время польско-русской войны около половины плакатов не доходило до цели, не говоря уже об опозданиях55. Поэтому нам ничего не удалось узнать о тираже и эффективности нашего плаката.
В следующей таблице представлено разделение 3126 плакатов, выпущенных 1918—1921 гг. по тематике56 :
Тема 1918 1919 1920 1921 ИТОГО
Политика 42 86 532 175 835
в % 32,8 23,4 30,5 19,1 26,7
Война 21 170 718 106 1015
в % 16,4 46,4 42,8 11,6 32,4
Экономика 43 34,5 58 15,8 313 18,3 458 50,2 872 27,9
Просвацзпе и культура 21 53 156 174 404
в % 16,4 14,4 9,2 19,1 13,0
Итого 127 367 1719 913 3126
в % 100 100 100 100 100
Как было сказано выше, в разгар Гражданской войны резко увеличилось количество военных плакатов. Этот рост сопровождался увеличением выпуска политических плакатов. После того, как все битвы были выиграны, политика перестала быть самым насущным вопросом. С переходом к новой экономической политике выпуск экономических плакатов приобрел такой размах, какого не знали даже военные плакаты. Производство плакатов на темы просвещения и культуры, достигшее вначале довольно высоких процентных показателей, сильно затормозилось — что вполне понятно — в военные годы, а затем снова набрало обороты.
В таблице четко прослеживается зависимость тематики выпускаемых плакатов от государственных интересов. Темы менялись в зависимости от потребностей. В конце Гражданской войны наблюдается не просто смещение акцентов, а принципиальный поворот.
По общему признанию 1921 г. был концом славного периода советского плаката. Насколько новаторскими они были вначале, настолько скучными и повторяющимися они стали теперь. Упадок проявился как в качественном, так и в количественном отношении. Полностью перейдя на обслуживание государственных или партийных кампаний по ликвидации неграмотности, по борьбе с алкоголизмом, за гигиену, за построение социализма, организацию профсоюзов и многое другое57, плакат перестал жить своей собственной жизнью, утратил остроту. Художникам сложно было трансформировать столь прозаичные темы в большие жесты плакатного искусства, поэтому им, в конце концов, дали правила работы, в особенности касательно показа оборотных сторон социализма
в выгодном свете58. К этому добавились условия новой экономической политики, уже описанные нами в главе о книгопечатании. К тому же самые лучшие и известные художники ушли из плакатного производства в другие сферы деятельности, посвятив себя, в основном, газетной карикатуре59 или киноплакатам60. В период НЭПа появляются и рекламные плакаты, причем в их оформлении художники руководствовались исследованием по психологии рекламы Теодора Кенига из г. Вюрцбурга, вышедшего в свет на русском языке в 1925 г.61 В самом деле, в 1921 г. советский плакат умер как художественное явление.
Выясняется, что, беря на мушку врагов советской власти, плакат мог достигать замечательных результатов. Сила этого жанра состояла в изображении антигероев, как бы в показывании на противника пальцем. Наряду с осложнениями, возникавшими с изображением революции, огромные затруднения вызывали, например, задачи по иллюстрации кампании обучения грамоте. Если триумфальные плакаты были «скучными», то теперь выяснилось, что это еще не предел. Попытка сохранения на плакатах военных элементов, когда от изображения белых перешли к изображению бандитов, уже не смогла спасти положения. Главная проблема состояла в том, что настоящих врагов больше не было.
Из всего сказанного явствует, что упадок плаката как средства пропаганды был продиктован не только внешними условиями, хотя бумажный дефицит 1921 г., безусловно, сыграл свою роль. Цифровых данных по этой области нет. Однако плакат споткнулся не столько о внешние факторы, сколько о свою форсированную героизацию. Как было описано выше, в течение короткого времени изображение врагов на плакатах претерпело резкое обострение вплоть до уподобления их зверям, что сопровождалось одновременным увеличением числа героических персонажей. Прославляя красноармейца и пролетария, а вместе с ним и весь рабочий класс, плакат как средство сам превратился в миф, окутанный ореолом славы. Само средство стало содержанием. Падения с такой высоты плакат пережить не смог. После 1921 г. в плакатном искусстве не появилось ничего нового.
В связи с этим государство и партия перестали проявлять интерес к этому средству. Лишь в 1931 г. Центральный комитет констатировал появление большого количества неправильных уклонов в искусстве плаката. Было решено, что отныне выпуском плакатов должно ведать лишь государственное художественное издательство62. После жалоб на политическую ненадежность плаката и художников партийное руководство надеялось с помощью этого шага взять под контроль эту сферу изобразительного искусства. Такие тенденции сопровождались попытками подстраивания всей сферы художественного производства под генеральную линию партии. Но что касается плакатов, то здесь они похоронили труп.
По этим причинам плакаты старше 1921 г. представляют собой не особенно привлекательную для нас группу источников. Большая их часть утратила свою многоплановость, они являются отражением очередных кампаний и информативны не более, чем партийные резолюции. Вальтер Беньямин, в 1927 г. приехавший Москву в поисках реального марксизма, нашел плакатное искусство, бывшее в свое время столь импозантным, пресным: «Сегодня пользуется спросом лишь банальная ясность. Большинство плакатов отталкивают человека с Запада»63. Не находили они признания и у советских людей64. Однако в плакате «Z drogi» отразился дух эпохи, и некоторым, наверное, казалось, что снова верхом на коне скачет дух мира65.
эднодмфп Я зив?виц«эое suiwiv iijii^V
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ II: ПОДВИЖНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Инфраструктура кинематографа
Если советскому гражданину наскучивали или надоедали доклады, лекции, собрания в клубе, мероприятия по политграмоте, вечерние курсы, профсоюзные собрания, он мог предаться другому времяпрепровождению: кино. «Все мы знаем, что „Великий немой” может говорить к сердцам и умам лучше, чем все ораторы и лекторы»1. Судя по всем данным источников, у советского народа оно пользовалось необыкновенной популярностью. Если в советской стране что-то действительно и было в новинку для большинства людей, так это невиданные до сих пор подвижные картинки.
По данным статистки, на 1929 г. в Советском Союзе насчитывалось свыше 200 млн кинозрителей, в то время как в США их было 50 млн. Германия со своими 6 млн находилась далеко позади2. Уже за шесть лет до этого — советский кинематограф находился в то время в процессе становления — один из самых активных политиков в области кино, Н. Лебедев, сообщает о 2 млн зрителей в день3. В свете источников эта цифра на 1923 г. выглядит безмерно преувеличенной. Даже включив в расчеты те 50 дней в году, в которые киносеансы не проводились, мы бы получили в 1923 г. свыше 600 млн кинозрителей. Стало быть, по таким подсчетам, каждый советский гражданин, включая грудных детей и
стариков, ходил в кино около пяти раз в год. В пересчете на Европейскую часть Союза ССР, — т. к. многие жители окраин в 1923 г. пока ни разу не посмотрели ни одного фильма — это равнялось бы 7,5 посещениям кинотеатра в год.
Кино было делом городским. Другими словами: если предположить, что информация Лебедева соответствует действительности, то в 1923 г. около 20 млн городских жителей (согласно данным переписи населения за 1926 г.) должны были посетить кино 30 раз в год. Учитывая слаборазвитую инфраструктуру кинематографа, которой мы еще коснемся в дальнейшем, эти цифры выглядят приукрашенными. Однако Лебедев приводит еще и результаты опроса кинозрителей от 1925 г., согласно данным которого — довольно неубедительным — 30% опрошенных ходили в кино один раз в неделю, 40% — один-два раза в месяц, 30% — не сообщили ничего. На вопрос о том, что они предпочитают — театр, кино или концерт — 55% отвечают в пользу кино4. Впрочем, учитывая, что опрос проводился среди кинозрителей, такая реакция не вызывает удивления.
Несмотря на завышенные, неважно по каким причинам данные, факт большой любви населения к кинематографу неоспорим. В 600 кинотеатрах северных краев в 1932 г. насчитывалось до 4 млн зрителей5, высокая цифра для сравнительно малонаселенной местности, доказывающая, по крайней мере, популярность кино.
Что же предлагалось вниманию советского зрителя? Этот вопрос подводит к двум проблемам присутствия советской кинопродукции на экране: насколько кинематографическая отрасль могла обеспечить потребности и какая продукция производилось ею для привлечения зрителей, для их перевоспитания, для презентации режима, его политики и ее успехов?
Проблема кинематографа состояла для большевиков в использовании в своих интересах российской индустрии кино — пусть даже пока и слаборазвитой. О масштабах ее отставания говорит тот факт, что к тому моменту, когда советской кинематографии только предстояло родиться, западноевропейская и американская кинематография уже могли
похвалиться первыми успехами. Тем не менее, первые шаги в этой, казалось бы, второстепенной области, были предприняты уже в декабре 1917 г. Не будем гадать, следует ли расценивать это как знак того, что большевики с самого начала осознавали возможности подвижных картин для применения их в идеологических целях — против этого говорит множество более поздних свидетельств — или же принятые меры должны означать стремление взять под контроль все сферы государственной и общественной жизни. Во всяком случае, всего через несколько недель после революции при Наркомате народного просвещения был создан подотдел по вопросам кинематографа. При городских советах Москвы и Петрограда существовали собственные кинокомиссии6.
Работа этих органов не была скоординирована, каждый из них занимался лишь своей сферой. Поэтому в марте 1918 г. посчитали нужным — конечно же, еще и в целях централизации — создать при Наркомате народного просвещения Всероссийский комитет по делам кино. Этот орган мыслился как замена формально независимого Скобелевского Просветительного комитета, владевшего и управлявшего несколькими кинотеатрами в Москве и Петрограде. Основанный в 1915 г., в частности, в целях пропаганды войны и самодержавия, фактически он был тесно связан с государством. Он носил имя царского генерала, памятник которому, находившийся перед зданием Московского городского Совета, был впоследствии убран большвевиками7. При Керенском комитет получил специальное задание по выпуску кинохроники в духе политики правительства. В первое время после Октябрьской революции это учреждение находилось под контролем меньшевиков и эсеров8. С появлением нового кинокомитета кинотеатры перешли в ведение наркомата. Тем самым кино как средство было отобрано у противника, но частные кинотеатры продолжали существовать. Лишь 27 августа 1919 г. вышел декрет Совета народных комиссаров о национализации фотокинопредприятий. Отныне они управлялись Всероссийским фотокиноотделом при Наркомате народного просвещения9. Уже в мае 1919 г. председатель Петроградского кинокомитета Д. М. Лещенко, взял все крупные кинотеатры
столицы под свой контроль. Это было якобы превентивной мерой, предпринятой с целью сохранения в городе технического оборудования, которому могла угрожать опасность «конфискации» со стороны Красной гвардии и подразделений Красной армии10.
Так или иначе, национализировать было мало что. Из того немногого, что уцелело в ходе войны и революции, многое было непригодным к употреблению. Помимо этого, требования, предъявляемые Гражданской войной к советскому кинопроизводству и его демонстрации, сделали бессмысленными кинозалы. Киносеансы устраивались на площадях, рядом с агитпоездами. Последние, в соответствии с распоряжением Ленина от 25 января 1920 г., должны были располагать кинолентами на производственные, сельскохозяйственные, антирелигиозные и научные темы. Поскольку в России подобных фильмов не было, вождь революции предусматривал приобрести их за рубежом через тогдашнего комиссара внешних дел Литвинова11.
Лишь в годы НЭПа большевики начали заниматься вопросами кино систематически. В 1922 г. при Наркомате народного просвещения возник Госпрокат, — Государственный трест кинопроката, а в Петрограде была образована кинопрокатная контора Севзапкино. С целью централизации кинематографа 19 декабря 1922 г. было основано Центральное фото-кинопредприятие (Госкино), в течение десятилетий занимавшееся организационными вопросами советской киноиндустрии. Эта централизованная мера была продиктована соображениями усовершенствования организации кинематографа и, сверх того, снижения затрат и более совершенной координации кинопроизводства и кинопроката.
Несмотря на это, параллелизм не прекратился полностью, т. к. наряду с Госкино существовало около пяти других организаций, к примеру, Пролеткино, совместный орган профсоюзов, промышленных предприятий и Политического управления Красной армии (ПУР). Пролеткино также занималось производством фильмов и их прокатом. Лишь в 1924 г. это зло было устранено. С тех пор монопольными правами проката пользовалось Госкино. Сфера деятельности этой организа
ции распространялась лишь на РСФСР. В остальных республиках существовали кинопрокатные конторы, являвшиеся собственностью данной республики.
Однако эти меры не означали перехода культурного сектора кино под полный государственный контроль. Тому было две причины. Во-первых, по окончании Гражданской войны сильно выросло количество частных кинотеатров — в 1922 г. они снова были разрешены, теперь они назывались «коммерческие кинотеатры». Только в Москве на 1922 г. насчитывалось, в общей сложности, 80 кинотеатров. В 1913 г. их было 67, в Петербурге — 134, во всей Российской империи с учетом Польши существовало 1412 кинотеатра12. Еще в начале 1922 г. их оставалось очень немного. Однако их число продолжало расти. Только московские кинотеатры обладали вместимостью в 150 000 зрительских мест13. Это значит, что в 1922 г. московские кинотеатры имели огромные кинозалы, в которых насчитывалось, в среднем по 1875 мест. Из 80 кинотеатров лишь 5 принадлежали Госкино, еще 15 — различным советским учреждениям, остальные кинотеатры были частными14.
Это вторая причина, по которой кино двадцатых годов нельзя назвать «советским». Конкуренция государственных и частных кинотеатров в условиях НЭПа, т. е. установки на коммерческую сторону дела, вначале обернулась убытками для государственных предприятий. Производство одного советского фильма обходилось, в среднем в 4,5 млн рублей, а его прокат в течение года приносил около 470 000 рублей прибыли. Если прибыль и достигалась, то «исключительно за счет проката зарубежных фильмов». На один миллион рублей убытка, по подсчетам одного комментатора, можно было закупить 50 фильмов зарубежного производства с достаточным количеством копий15. Другие данные подтверждают высказывание о рентабельности иностранного кино. По подсчетам Совкино, организации, с 1926 г. занявшей место Госкино, прокат фильмов советского производства принес в 1927 г. 11,8 млн рублей, прибыль от проката зарубежных фильмов составила 18,7 миллионов, т. е. на 7 млн рублей больше. Если учесть затраты на производство советских кинофиль
мов, то о прибыли в этой области говорить не приходится, в то время как от прибыли, полученной в результате проката зарубежных фильмов, нужно вычесть лишь их сравнительно низкую закупочную стоимость16.
Нерентабельность советского кинопроизводства, превратившая его в дотируемую сферу, не столь бы отчетливо бросалась в глаза, не принеси оно с собой одного чрезвычайно болезненного для кинофукционеров обстоятельства. Начальники кинотеатров ориентировались на зрительский спрос, т. е. показывали те фильмы, которые хотела смотреть публика. Другими словами: коммерческое кино было виновником того, что «на экранах царило засилье идеологически вредных, бессодержательных фильмов»17. В провинции выражались яснее: «Хлам не должен быть на наших экранах»18. Результатом коммерческого кино, по словам председателя Совкино, было «10% идеологии, 90% коммерции»19.
Такие замечания объяснялись одним примечательным обстоятельством: высокой степенью свободы кино в двадцатые годы. У коммерческих кинотеатров была еще возможность обойти и без того дырявую систему проката через собственные прокатные конторы20. Они не зависели от государственного кинопроизводства и проката в Госкино. Функционеров пугали не столько высокие затраты, сколько тот факт, что частные кинотеатры предлагали зрителям западную дрянь, пользовавшуюся немалой популярностью у советских зрителей, тогда как «социалистические» фильмы вызывали зевоту.
Было ясно, с точки зрения зрителей, западные фильмы были хитами. К примеру, за 1924 г. в Грозном было показано всего три фильма про советскую власть. Владельцы кинотеатров говорили, что на них ничего не заработаешь21. Требуя централизации кинематографа в 1923 г., уже упомянутый Лебедев не в последнюю очередь руководствовался этой причиной. «Советский экран и по сей день продолжает оставаться колонией американского и германского кинокапитала». Централизация призвана была помочь в деле обеспечения населения соответствующей кинопродукцией22.
В этом пункте толерантности по отношению к НЭПу пришел конец, и в свои права вступил государственный конт
роль. Не только из цитаты Лебедева явствует, в каком плачевном положении находились советские функционеры в области кинематографа и как велик был риск проиграть состязание с коммерческими кинотеатрами. Функционерам казалось, что революция в опасности, ее дух улетучился, а революционный пыл поостыл. Декларация «об объединении революционной кинематографии», принятая в начале 1924 г., называла вещи своими именами, говоря о «колоссальном значении кинематографии как мощного идеологического орудия борьбы за коммунистическую культуру»23, а также о том, что первое в мире социалистическое государство «пока что не использовало кинематограф как таковой в качестве орудия. На седьмом году революции революционного кино не существует». Но советское кино находилось в гораздо более худшем положении. Декларация считала очевидным, в Советском Союзе, «так же, как и в буржуазных странах Европы и Америки» кинематограф служит интересам правящего класса, уводя пролетариат от революции и затуманивая сознание народа. Под «правящими классами» подразумевались кулаки и спекулянты-нэпманы. «Экраны заполонены продукцией буржуазного Запада».
Это соответствовало действительности — но, помимо всего прочего, еще и потому, что советских фильмов было слишком мало. Проблемы начинались с сырья, так целлулоидную кинопленку приходилось целиком покупать за границей за дорогостоящую валюту24. Плохие успехи советской киноиндустрии не в последнюю очередь объяснялись этим обстоятельством. В 1922—1923 гг. было снято двенадцать кинофильмов, в 1924—1925 гг. — уже 77. В 1929 г. киноиндустрия не могла осилить больше 120 фильмов. Для сравнения — в 1913 г. в царской России было снято, в общей сложности, 115 художественных фильмов25. Запланированная цифра 150 недосягаема, говорилось на партийном собрании в 1929 г., обсуждавшем эту тему26. Для обеспечения круглогодичного производства фильмов необходимо было довести выпуск игровых и художественных фильмов минимум до 220. Поскольку в данных условиях это не представлялось возможным, недостаток должен была возмещаться импортом из-за границы27. В цифровом
выражении: если в 1925 г. в РСФСР была 2001 копия зарубежных фильмов, то к октябрю 1927 г. их число увеличилось до 5539. После этого их доля начинает постепенно идти на убыль28.
По мнению некоторых обозревателей, положение в середине двадцатых годов было невыносимым не только из-за буржуазной идеологии, льющейся с экрана, а, скорее, из-за того, что ответственные работники в сфере кино терпели такое положение. Зазвучали обвинения, согласно которым «противоречия между пролетарской идеологией и мелкобуржуазной и буржуазной идеологией решались руководителями киноорганизаций со счетом 10 :90, т. е. с явным ущербом для пролетарской идеологии»29. Засилье зарубежных фильмов привело даже к тому, что советский кинематограф стало заносить в сторону мелкобуржуазной идеологии: «<„.> советская кинематография и ее руководители ощущают не только мощное экономическое, но и — обусловленное им — мощное идеологическое давление буржуазной кинематографии»30.
Все эти высказывания и данные говорят о том, как слабо использовался кинематограф для самовыражения режима вплоть до конца двадцатых годов. Причина была совсем не в том, что большевики поздно «открыли» его, в этой сфере давала себя знать отсталость российской кинематографической инфраструктуры. Невозможно было за несколько лет сотворить из ничего киноиндустрию, отвечающую высочайшим требованиям общественно-политического содержания и художественного оформления. В конце двадцатых годов кино в Советском Союзе не выполняло ни просветительской, ни политико-пропагандистской функции, приписывавшейся ему как с советской, так и с западной стороны. На Первом Всесоюзном партийном совещании по кинематографии, состоявшемся в 1929 г., в своем главном докладе А. И. Криницкий говорил о задаче, которую предстояло решить в будущем: кино должно образовывать, информировать о политике и в особенности вести борьбу «за идеологию пролетариата, против буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, против рутины»31. Кроме того, успехи раннего советского киноискусства, связанные с именами Сергея Эйзенштейна и А. Пудовкина, не долж-
ни создавать ложного впечатления, что на экраны Советского Союза выходили одни лишь эстетические шедевры. В действительности картина в области кинематографии выглядела совсем иначе.
У кинофункционеров были основания для недовольства не только по поводу производства и проката. Что проку даже в самых лучших фильмах, если их негде показывать? Было бы большим преувеличением говорить о «киносети» раннего периода советской власти. Правда, после Гражданской войны стали появляться новые кинотеатры или восстанавливались старые, но повсеместное распространение кино было идеалом будущего. Например, на селе киносеансы были редкостью.
Цифровые данные по кинотеатрам очень сильно отличаются друг от друга. Согласно одним данным, в 1926 г. во всем Советском Союзе насчитывалось 7000 кинотеатров (имеются в виду постоянные киноучреждения, т. е. без учета передвижных киноустановок), из них 2300 располагались в городах. Для сравнения мы уже приводили цифру 1412 на 1913 г. В 1916 г. в стране имелось от 2000 до 4000 кинотеатров32. В одной фундаментальной советской работе высказывается мнение о том, что кинотеатры имелись во всех уездных городах, крупных поселках и рабочих поселках33. В то же время на селе — мнение другого источника — кинотеатров не было совсем. В одной лишь РСФСР в 50 уездных центрах их — 800, а также в 300 поселках городского типа и в 2000 крупных поселках сельского типа кинотеатров не было совсем34. Надо полагать, что в такие места время от времени приезжали кинопередвижки, количество которых установить не удалось. Однако в 3000 волостей не было даже их35.
К концу двадцатых годов кинофункционеры и работники кино не строили никаких иллюзий по поводу того, как далеко им еще было до воспитания советских людей посредством кино. Главные проблемы были хорошо известны им. Вот они: зависимость от зарубежной кинопродукции, низкий уровень развития советской киноиндустрии, неудовлетворительное качество сценариев, установка коммерческих кинотеатров — в соответствии с законами рынка — на фильмы, в первую
Зрительное восприятие II: подвижные изображения очередь, развлекательного, а не образовательного и воспита тельного характера; нехватка кинотеатров и кинопередвижек В неразрывной связи с этими проблемами следует рассмат ривать дискуссию, поднятую вокруг эстетики фильма, в ход< которой за свои эстетические установки были подвергнуть критике Эйзенштейн и Пудовкин, а также и многие другие3' Дебаты подобного содержания велись и вокруг театра, и во круг писателей.
В связи с празднованием десятой годовщины Октябрь ской революции известный художественный деятель Адриаь Пиотровский задал каверзный вопрос, можно ли эту дат; считать, одновременно, десятой годовщиной советского кино и сам давал на него ответ: «Честно говоря, на такой юбилеь наше кино пока не имеет права»37. Отчасти кризис советско го кино был создан искусственно. В конце двадцатых годо! зарубежных фильмов стало меньше, однако решение о пре кращении приобретения заграничной кинопродукции с 1929 г поставило советский кинематограф в весьма затруднительно< положение, причем выясняется, что многие «работникь кино» продолжали использовать этот «золотой фонд». Чем бы то ни было продиктовано: коммерческими соображения ми или просто нехваткой новых фильмов, но случалось, чтс в провинции и даже в Москве старые фильмы порой появля лись на экране под новыми названиями38. Такие действш нельзя расценивать как антисоветские, как это зачастую име ло место в то время, это был просто мелкий обман и жонглирование этикетками, возможно, порожденные недочетами политики в области кино и осуществляемые с целью привлечения зрителя.
Указанное решение не было актом проявления педагогической заботы. Вытеснение немых фильмов звуковыми помогло Советскому Союзу решить проблему сокращения количества приобретаемых за рубежом фильмов. Не имелс смысла приобретать звуковые фильмы, т. к. не было возможности показать их в их истинном качестве. Так в конце двадцатых годов советское кинодело вступило в очередной кризис. Если во времена немого кино и встречались советские фильмы высокого художественного уровня, то с появлением
звукового кино за короткое время Советский Союз был отброшен назад в развитии кинематографа. Однако говорить о крахе «процветающей культуры кино двадцатых годов», по выражению Дениз Янгблад, все же не приходится39.
Отставания в этой области не смогло преодолеть вторжение первых звуков нового кино в немоту советских кинозалов. На Первом Всесоюзном партсовещании по вопросам кинематографии, проходившем 15—21 марта 1928 г. о производстве звуковых фильмов в Советском Союзе не было сказано ни слова. Годом раньше в США состоялась премьера музыкального (звукового) фильма. В 1929 г. в Германии тоже появляются первые звуковые фильмы.
В Москве и Ленинграде давно существовали лаборатории, в течение многих лет работавшие над попытками озвучивания изображения40. В Советском Союзе считалось, что методическая сторона изобретений инженера А. Ф. Шорина и Катера мало чем отличалась от изобретений западных коллег, совсем ненадолго их опередивших. Но после 1931 г. приговор, вынесенный одним кинофункцинером, прозвучал более реалистично: «В сравнении с развитием звукого кино в Западной Европе и Северо-Американских Соединенных Штатах, наше звукое кино находится поистине в младенческом возрасте. Мы отстали, безбожно отстали по времени и по технической базе от завоеваний капиталистических стран в этой власти»41. Сохранение проектов обеих лабораторий в строгой тайне оказалось бесполезным, после того, как выяснилось, что Запад обогнал их. Но, хоть мировая общественность и не увидела триумфа советских изобретателей, важно было то, что Советский Союз разработал свою собственную технику, а, следовательно, не был вынужден приобретать западные изобретения.
Как на Западе, так и в СССР наблюдались признаки эйфории по поводу звукового кино, правда, больше у политиков и производителей, чем у зрителей, относившихся к новшеству с большей разборчивостью. Следует отметить, что если с изобретением звукового кино Запад опередил Советский Союз всего на полшага, то темпы дорогостоящей переделки немых кинотеатров в звуковые существенно отставали от западных.
Однако возможности нового кино окрылили его мастеров. В Советском Союзе сразу поняли, что будущее за ним. Немые фильмы предлагалось теперь убрать в чулан: «Мы предлагаем объявить немой фильм как орудие культурной работы на 100% „морально устаревшим” с момента введения звукового фильма»42. Эта несколько туманная формулировка показывает, что новая техника ассоциировалась с наступлением новой эпохи в строительстве социализма. Звуковой фильм был символом нового времени, причем он должен был быть не только современным с технической точки зрения, но и социалистическим по своему содержанию, в отличие от США и Западной Европы, где синхронизация означала всего-навсего успех техники. И если в 1931 г. 99% всех советских фильмов были немыми, то следовало как можно скорее изменить такое положение.
Иные видели «прекрасные пропагандистские возможности, заложенные в звуковом фильме», одновременно предостерегая от увлечения натуралистическими традициями, в направлении которых мог двинуться фильм сам по себе и благодаря некоторым советским режиссерам43. Однако подобные голоса слышались еле-еле. На первом плане явно стояли соображения максимального использования возможностей нового средства.
В бесстрастных цифрах положение выглядело следующим образом: первый звуковой кинотеатр был открыт в октябре 1929 г. в Ленинграде, городе, в котором находилась лаборатория Шорина. «Экспериментальный кинотеатр» на Невском проспекте с 250 местами был сравнительно маленьким. Но уже несколько недель спустя в Ленинграде открыл свои двери второй звуковой кинотеатр — «Гигант», в котором насчитывалось 1000 мест. Первый звуковой кинотеатр Москвы — «Художественный» — был открыт 6 марта 1930 г. на Арбате.
По сравнению с Западной Европой и Америкой результаты были жалкими. Но Советский Союз, опустившийся до уровня развивающейся в кинематографическом отношении страны, и не думал прекращать погони за ними. В качестве ориентира современники всегда выбирали самые прогрессивные страны — притязания, абсолютно не объяснимые с точки
зрения здравого смысла. Согласно данным торгового департамента Вашингтона, Советский Союз был абсолютно неконкурентоспособным. В 1931 г. в Европе было, в общей сложности, 28 454 кинотеатра, из них 5401 — звуковых, в США имелось 12 500 звуковых кинотеатров из 22 731. Даже в колониальной Африке насчитывалось 110 звуковых кинотеатров, а всего их было там 769. Данные департамента по Европе были таковы: в Германии — 5360 кинотеатров, из них — 930 звуковых, в Англии — 4500, из них — 2602 звуковых, во Франции — 3236, из них — 460 звуковых. Со своими тремя звуковыми кинотеатрами Советский Союз, зарегистрированный в графе «звуковые кинотеатры отсутствуют», стоял позади Испании и Италии.
Указанная в данных департамента цифра общего количества кинотеатров — 1800 — представляется заниженной44. Тем не менее, цифры говорят об отставании. Замечание искусствоведа Кохена: «В 1931 г. на экранах Советского Союза появились первые звуковые фильмы», в принципе, верно45. Только на советских экранах новые фильмы продолжали оставаться немыми.
С производством звуковых фильмов дела обстояли не лучше. Первая попытка проведения звукового киносеанса была предпринята в 1929 г. со второй частью фильма «Бабы рязанские»46. Программа производства звуковых фильмов на 1931 г. предусматривала выпуск 32 полнометражных фильмов и 27 кинохроник47. За первое полугодие 1931 г. было снято четыре художественно-массовых фильма и 27 немых фильмов, два звуковых фильма по линии Агитпропа и 18 немых полнометражных фильмов, а также 3 озвученных и 23 короткометражных немых агитки (агитмассовые фильмы)48. В то же время в Англии уже с 1930 г. не производилось ни одного немого фильма49, хотя это было связано еще и с промышленным кризисом, к концу которого количество кинозрителей в Западной Европе парадоксальным образом выросло до невероятных размеров50.
Не будем углубляться в историю советского кино, нас интересует вопрос, как режим предъявлял себя населению в политической области с помощью такого средства, как фильм51.
Для этого следует обратиться к художественным фильмам и кинолентам, которые в самом широком смысле слова можно причислить к категории просветительных и образовательных фильмов, таким как фильмы об аборте, о «механизме нормальных родов», о функциях мозга, происхождении жизни, выборе профессии, а также страноведческие ленты, посвященные различным регионам Советского Союза52.
Для нас на первом месте стоит «кинохроника» или, как ее еще называли, «кинопублицистика». Уже сам термин выдает ее близость к прессе, с которой у нее можно выявить много сходств, но и немало различий.
Политическое кино: кинохроника
Репрезентация режима не являлась главной задачей этого жанра с самого начала, он прошел долгий путь развития, т. к. предпочтение отдавалось традиционным средствам печати53. Приоритеты политики в области средств массовой информации и технические проблемы задержали широкое распространение кинохроники на экранах до 1931 г., хотя уже в 1927 г. один комментатор писал, что «кинохроника стала особым жанром нашего кинематографа»54.
Несмотря на утверждения одного из стандартных советских произведений по истории советского кино, что «с хроники начинается советское киноискусство»55, она не была изобретением большевиков. Уже в 1900 г. в «электротеатрах», как в то время в России называли кинотеатры, показывались короткие ленты об актуальных событиях под этим названием. Они были иностранного производства, в основном эти хроники выпускались самой крупной киностудией довоенного времени, французской фирмой братьев Пате, имевшей филиал в России. Реклама была многообещающей: «Журнал Пате видит и знает все». С 1908 г. на экранах замелькали первые фильмы русской кинохроники, произведенные фирмой А. Дранкова. Были у зарубежных журналов и другие конкуренты: киножурналы «Пегас», «Экспресс-журнал» и др., однако качество этой продукции было похуже56. В царской хронике, с 1907 г. время от времени появлявшейся на экранах, сообщалось о жизни императорской семьи57. Все же специа
лист по истории довоенного кино, Б. С. Лихачев, писал в 1927 г.: «Наряду с художественным фильмом процветала, конечно же, и кинохроника. Каждая киностудия выпускала ряд короткометражных фильмов о событиях дня»58.
После 1917 г. работа с кинохроникой возобновилась, но в чрезвычайно скромных масштабах. Вопреки громогласным утверждениям некоторых специалистов по истории кино раннего советского периода, в дни Октябрьской революции она не выпускалась, нельзя говорить и о ее расцвете во время Гражданской войны, хотя тогда в Москве уже начала издаваться Кинонеделя Дзиги Вертова. Она выходила с 1 июня 1918 г. по 20 мая 1919 г., всего за этот период было отснято 42 выпуска59. Все начиналось весьма скромно, один из хроникеров пишет: «В 21—23 гг. на Гнездниковском 7 была комната с надписью — „Бюро хроники” И было, примерно, так: Иоси-левич составлял план, он же посылал операторов и руководил съемками, он же, в основном, монтировал, редактировал, сдавал в прокат номера „Совкиножурналов”»60.
В Петрограде директор кинотеатра «Пикадилли» сам занимался съемками хроники. Если намечалось какое-то важное событие, ему звонили на работу. Он ехал домой, брал кинокамеру, снимал, резал — без всякого плана и подготовки. От упреков в спонтанности он обыкновенно отмахивался словами: «План составляется жизнью»61. Вследствие этой спонтанности, по словам более позднего комментария, его хроника была больше похожа на отдел сплетен62.
Шесть лет спустя бюро Иосилевича превратилось в особый трест под названием Союзкинохроника, в штате которого работали 15 операторов, выросло количество редакторов и монтажеров. В 1925—1927 гг., когда кинохроника начала превращаться в «самостоятельную отрасль кинематографии»63, участился ее выпуск: вместо одного киножурнала в месяц или и того реже, каждые пять дней выходил общий журнал, ряд специализированных тематических журналов, а также большое количество хроникальных фильмов различного метража. С 1925 г. в Ленинграде «Кино-Красная» наладила еженедельный выпуск киножурналов с передовицей и тематическими рубриками: политика, жизнь, фельетон, искусство,
спорт, наука64. В первом полугодии 1931 г. в СССР было выпущено 230 хроникальных лент, из них 14 звуковых65, однако за весь 1932 г. было изготовлено почему-то лишь 21066.
Правда, по сравнению с 1926 г. увеличилось их количество и поднялось качество, однако «хроника» еще не победила»67. Ее производство считалось делом второстепенным, соответственно скромными были и условия68. По прежнему «Иосилевич составляет план, сам руководит заказами операторов, сам редактирует и режет, сам занимается обучением новичков. Он сам ведет неравную борьбу за выход кинохроники на экраны» и т. д.69
Борец-одиночка на поприще средств информации, Иосилевич был одинок, прежде всего, потому что никто по-настоящему не был заинтересован в его работе. Лишь с началом тридцатых годов отношение к кинохронике изменилось, как явствует из вышеприведенных производственных показателей. Но до этого и профсоюзы, и партия, и пресса, и научные организации, да и вся общественность в целом, «в особенности кинематографическая», относились к кинохронике с безразличием, «часто и знать ничего не хотели о ее работе»70.
Как литература того времени, так и более поздние советские работы обходят стороной имя человека, считающегося новатором в области кинохроники. О Дзиге Вертове упоминается в источниках лишь вскользь, отсюда возникает ощущение, будто бы его заслуги в области киноэстетики были не столь значительными, и что кинохроника уже с начала двадцатых годов занимала прочное место в советской кинематографии. И будто бы издатель Кино-Правды (а также и Радио-Правды) занимался, скорее, проектами по эстетике кино, а не кинопублицистикой, и без того широко распространенной71.
В источниках почти ничего не сказано о том, по какой причине кинохроника пользовалась столь широкой нелюбовью. Однако причины этого очевидны: она выходила слишком редко для того, чтобы обладать какой-либо ценностью, т. к. газеты, с которыми она вела неравную борьбу, информировали о политической, экономической и культурной жизни страны оперативнее72. Выйдя, наконец, на экраны, хроника информировала о позавчерашних событиях. Позволим себе
усомниться в том, что она обладала какой-либо развлекательной ценностью. Однако высказывание одного французского автора идет вразрез со всеми материалами того времени. Он считал, что кинохроника «обладает бесконечными возможностями комбинации ненавистного и отдаляющегося прошлого с намечающимся будущим, каждый шаг приближения которого фиксируется кинохроникой с, так сказать, математической точностью»73.
Вообще восторженность кинохроникеров никак не вязалась с равнодушием зрителей. В 1923 г. автор одной из статей журнала «Горн», органа Пролеткульта, утверждал в духе попыток, осуществлявшихся в этой области до сих пор, что по сравнению с обычной газетой кинохроника обладает большим агитационным потенциалом — имея в виду конкретно «Кино-Правду», поскольку первая сообщает о событиях, в то время как вторая показывает их. Он высказывал мнение о том, что кинохроника обладает более совершенными возможностями тенденциозного подбора материалов и тенденциозного же монтажа, как будто бы нельзя было заниматься манипулированием через газету. Такой направленный подбор предлагалось осуществлять по следующим темам: «Красная армия, Красный морской и воздушный флот, массовые демонстрации во время пролетарских праздников, наша крупная промышленность, достижения техники, советский спорт и физкультура, детские дома, просветительная работа, короче говоря — молодость, здоровье, радость революционного строительства новой жизни»74.
Народ не хотел смотреть это. Энтузиазм французского автора и некоторых кинофункционеров того времени составляли исключение. По крайней мере, до 1931 г. общественность и организации не проявляли интереса к кинохронике, массы тоже не были дружны с ней. Проблемы выпуска этих фильмов на экран были связаны не только с отсутствием интереса к ним у прокатчиков или так называемых коммерческих кинотеатров (показывавших художественные фильмы), даже передовой отряд общественного движения, рабочий класс, был не в восторге от них. Кинотеатры политического фильма и политклубы часто выступали против показа хроник. В од-
Зрительное восприятие II: подвижные изображения ном из источников они названы «скучными, серыми, повторяющимися»75. После таких эпитетов, применить которые можно было бы, наверное, и к 230 кинохроникам первого полугодия 1931 г., в лучшем случае за вычетом 14 звуковых по причине их технической новизны, проблема «сбыта» еженедельных обзоров стала еще острее. Какой смысл имел выпуск никого не интересовавших многочисленных кинолент? Так «донесение хроники до зрителя» продолжало оставаться слабым местом, «самой отсталой частью» дела кинохроники76.
От жанра кинохроники режиму не было проку. Она не в состоянии была доносить до зрителя актуальную информацию или осуществлять непосредственную агитацию. И хотя Союзкинохронике удалось поднять свой статус, об Иосиле-виче и его кинопублицистах, кажется, позабыли. Эта отрасль не получала поддержки даже от ведущего журнала кинематографистов «Кино», напротив, он «преступным образом» саботировал попытки «привлечь внимание широкой пролетарской общественности к вопросам хроники»77.
За этой цитатой скрываются две проблемы: с одной стороны, в новом открытии кинохроники были заинтересованы «левые» кинофункционеры, намеревавшиеся усилить степень политизации и партийности кинематографа. Для этого требовались фильмы особого типа (т. е. хроника), «дающие широким зрительским массам необходимые знания, поднимающие классовое сознание и устраняющие проблемы взаимосвязи политической и культурной работы»78. Уже в 1928 г. наметились тенденции к более активному использованию фильма в интересах политики79. На партийном собрании, посвященном этим вопросам, коммунист Криницкий назвал кино «орудием организации масс для выполнения задач революционной борьбы пролетариата и социалистического строительства и средством агитации за актуальные лозунги партии»80. Это направление сопровождалось усилением борьбы «за идеологию пролетариата, против буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, против мещанства»81.
Во-вторых, с помощью хроники проводилась агитация против конкурирующей газеты «Кино». Создается впечатление, что трест Иосилевича был, помимо всего прочего, аре-
ной политических дебатов вокруг кино. Что думал по этому поводу сам Иосилевич, выяснить не удалось. С одной стороны, можно предполагать, что он был рад получить сильное прикрытие. С другой стороны, до сих пор он имел возможность беспрепятственно заниматься своей деятельностью, поэтому был ли он согласен с левыми представителями журнала «Пролетарское кино», сказать трудно.
В декабрьском издании журнала «Пролетарское кино» за 1931 г. К. Гаврюшин, а еще подробнее Н. Лебедев, определили идеологическое направление работы кинематографа, подкрепив свои идеи цитатами из выступлений на съездах партии, высказываниями членов Центрального комитета и Сталина. Смысл их требований можно передать в нескольких словах: партийность, близость к массам и классовая пролетарская позиция82. Для нашей темы наибольший интерес представляет вопрос о фактической или желательной связи с массами. Само собой разумеется, что все любители кинохроники ожидали от этого жанра достижения более тесной связи с населением, которая, в свою очередь, должна была помочь в обеспечении успехов дела через сеть кинокорреспондентов. Кроме того, к более активному участию в работе кино рекомендовалось привлекать комсомол63.
Главной проблемой было то, что практически никто не любил кинохронику. Примечателен ответ приверженцев хроники на такое положение. Из него следует, какой они представляли себе будущую структуру средств массовой информации Советского Союза. Им виделся спаянный вокруг средств информации коллектив, в котором каждый должен был быть задействован в социуме зрителей кинохронки. Как раз в этом «левые» кинопублицисты видели преимущества своего жанра. «Газету каждый читает индивидуально, когда ему хочется, для этого не нужно специальное оборудование, и аудитория какой-либо газеты ни в коем случае не представляет собой скопления людей в одном месте. Фильм можно „потреблять” лишь с помощью определенного, особо сложного и довольно дорогого аппарата, его волей-неволей приходится смотреть в коллективе, в физической аудитории, при условии некоего минимума зрителей»64. > . ,, ,
За этим высказыванием стоит представление о политике в области средств информации левых кинофункционеров журнала «Пролетарское кино»: зрительская аудитория, направленная на одну цель, на экран, советское общество как объединение многочисленных зрительских коллективов. Заметим, что речь идет не о всеобщем контроле посредством современной техники, а о неизбежном столкновении каждого человека с режимом через средства массовой информации, с его успехами, с символами его участия в жизни общества. Что же, значит, за этими словами сторонников хроники скрывалась отрицательная утопия тоталитарной системы индоктриниро-вания? Нет, они имели в виду отнюдь не какое-то индоктри-нирование. Несмотря на идеологическую направленность, в концепции 1931 г. продолжали сохранять актуальность и образовательная и «просветительная» функции85. «Выходя за пределы искусства, стремиться охватить все виды человеческого знания, зафиксировать и передать их рабочим массам с большей экономией и эффектом, нежели это может сделать книга»86. Но и эта просветительская подкладка не помешала авторам строить модель общества, поделенного на зрительские коллективы.
Представления В. Головачева можно, наверное, назвать самыми радикальными. Он говорил о новых задачах кино в области искусства и науки, а также о том, что оно может служить «фактором агитации в социальной, научно-технической и других областях и, одновременно, периодическим органом». «Наряду с газетой и журналом на бумаге появилась необходимость в организации газет и журналов на экране»87.
Зрительскую аудиторию теоретики кинохроники, как и в сфере книгопечатания, условно делили на отдельные группы, не исключая ее гомогенности. Это не мешало кинопублицистам учитывать специфику каждой группы. Так, Лебедев предлагал показывать публике «Общего экрана», т. е. зрителям любых кинотеатров, включая так называемые коммерческие, фильмы «по общим вопросам», вызывающие интерес всех категорий трудящихся. Им планировалось показывать «Союзкиножурнал», а также значительную часть фильмов об
отдельных кампаниях и различные эпизоды. В рабочих клубах хроника должна была стать не просто приложением к развлекательному кино, как это было в коммерческих кинотеатрах, а стать «органичной частью комплекса массовых мероприятий по какой-либо теме, в которые могла входить, например, лекция по данной теме». В колхозной аудитории с «низким политическим и общекультурным уровнем», кроме общетематической хроники, рекомендовалось показывать еще и специальные издания. Он предлагал подумать о красноармейцах, предлагая создать для них специальный «Киножурнал Красной Армии», о студентах, о молодежи и о детях. В то время как раз появилась детская хроника под названием «Пионерия»88. По сравнению с Головачевым Лебедева можно назвать более умеренным, в том смысле, что он не стремился к созданию специальных аудиторий для просмотра хроники, а ориентировался на уже сформировавшуюся, и, как известно, очень широкую публику. Создание «особых театров хроники» он допускал лишь в «крупнейших центрах»89. Гаврюшин, другой теоретик кинопублицистики, не видел проблемы в создании таких театров «во всех пролетарских центрах и новых районах». Кроме того, он рекомендовал «во всех кинотеатрах и клубах» осуществлять «показ кинохроники перед началом киносеанса с помощью специальных проекторов в фойе или в специально отведенной для этого части театра»90.
Хотелось бы несколько уточнить нарисованную нами картину гомогенного и в то же время поделенного на отдельные группы зрительского коллектива. Кинотеоретики отнюдь не вынашивали мыслей о монополии государства и партии на средства информации, их занимала идея широкой поддержки кинохроники — здесь четко прослеживается революционное наследие: мысль об участии масс — всеми группами населения в городе и на селе, при этом симпатии склонялись в сторону городского промышленного пролетариата91. Если бы от прилагательного «утопичный» можно было образовывать степени сравнения, то они пришлись бы здесь как нельзя кстати. Мало того, что у теоретиков кинопублицистики зародилась мысль о киногазете и ее массовых «читках» по ту сторону
технического горизонта, кроме того, они предлагали, чтобы население на местах начало снимать «свою» хронику. Так как проекторов и без того не хватало, то создание сети кинорабселькоров (рабочих и крестьянских кинокорреспондентов) было иллюзией. «Само собой разумеется, пока мы еще относительно далеки от того, чтобы в каждом колхозе иметь киноустановку для демонстрации картин, чтобы печатать достаточное количество копий для снабжения свежей хроникой даже существующих установок, и еще дальше от того, чтобы наделять каждого рабочего или колхозника, желающего быть кинорабселькором, съемочным аппаратом и пленкой для засъемки и посылки в Союзкинохронику „кинокорреспонденций”»92. Можно лишь догадываться, как на местах обращались с кинокамерами. Если через несколько месяцев после работы на селе и стационарные, и переносные проекторы выходили из строя, то, наверное, не только из-за нехватки пленки93.
Как ни крути, с точки зрения большинства кинофункционеров дела в советском кинематографе обстояли не лучшим образом: ни в техническом или содержательном плане, ни, тем более, в плане воспитания народа. Идея общесоветского зрительского коллектива потерпела крах «в первой инстанции» из-за недостатков советской киноиндустрии.
А что же зрители? Ведь кино удалось пробить себе дорогу потому, что оно предлагало зрителям чрезвычайно многогранное развлечение. Эту его сторону советские кинозрители ценили так же высоко, как и кинозрители других стран мира.
Зрители
Значительно легче писать о кинематографической структуре Советского Союза или о дебатах вокруг программатики и эстетики, чем о воздействии кинематографа на зрителей, об их отношении к нему, об их мнениях по поводу советского фильма вообще и по поводу отдельных фильмов или жанров. Материалов по этой теме мало, одни противоречат другим. Не все всегда так просто, как высказывание о том, что «русская публика любит исторические фильмы»94. ,,4,
Дефицит информации ощущали и советские кинофункционеры. Как раз во времена большого поворота кино в 1930—1931 гг. в сторону более интенсивного использования фильма в интересах политики и социалистического строительства некоторые из них не отказались бы от кое-каких цифр и данных о зрителях. «Организованного исследования об отношении и оценке зрителями производства хроники <...> не существует»93. Это означает, что к встречающимся порой спискам любимых фильмов нужно относиться осторожно. К примеру, исследование Ленинградской секции Ассоциации революционной кинематографии, проведенное в 1925 г., базировалось всего на 67 анкетах. При этом выясняется, что четырьмя самыми любимыми фильмами советских зрителей были «Красные дьяволята», «Дворец и крепость», «Борьба за ультиматум» и »Комбриг Иванов», т. е. тенденция примерно ясна. Но может быть, это касалось только Ленинграда, где проживало большое число бывших красноармейцев, которым импонировали «Красные дьяволята», приключенческий фильм о борьбе с Махно на Украине. Фильм «Дворец и крепость» мог полюбиться ленинградцам как напоминание о революционных традициях, с которыми город был тесно связан; на выбор могла повлиять географическая близость к правительству, ведшего «борьбу за ультиматум» перед заключением Брестского мира еще в Петрограде, до своего переезда в Москву. Наконец, многие ленинградцы могли узнать себя и свои проблемы в «Комбриге Иванове». Интересно сопоставить этот перечень с перечнем самых популярных зарубежных фильмов: «Женщина с миллионами», «Индийский памятник» и «Лукреция Борджиа». Один из вопросов анкеты гласил: «Что Вы предпочитаете: театр, кино, концерт, и почему?» Более 50% опрошенных ответили в пользу кино96.
Методически неграмотное проведение опроса и его результаты, никоим образом не повлиявшие на перемену политического курса в области кино, подвергались критике в Советском Союзе уже в то время97. Если кинотеатры предоставляли скидки членам профсоюзов и при опросе было выяснено, что 75% процентов зрителей записаны в профсою-
зы, то такой результат вообще ни о чем не говорит. А уж если от зрителей ожидали разделения кинопродукции по жанрам: комедия, драма и хроника, не дав им никаких предварительных объяснений, в то время, как не все посетители кино имели представление об этих понятиях, то изучение мнения и «статистики» такого рода и вовсе бесполезны. Но все же в 1931 г. в Советском Союзе были готовы признать непригодность старых методов и говорили о необходимости выработки новых научных подходов.
Что можно сказать о буднях советского кинопроката, об отношении зрителей к фильму? По этому непростому вопросу существуют лишь отрывочные данные. Самое подробное описание появилось в 1924 г.98 Оно базировалось на статьях о комплексе кино и зрителях, напечатанных в 114 провинциальных газетах, которые можно было приобрести в Москве с 15 по 31 июля 1924 г. Большинство статей были посвящены комментариям по поводу советских и зарубежных фильмов. Получившаяся в результате картина, естественно, не могла быть однородной.
Авторы проявляют единство мнений по поводу того, что кино обладало привлекательностью для населения. Его пропагандистский эффект выше, чем у обычных средств устной или печатной агитации, — говорилось в статье из Харькова, в подтверждение мнения, приводившегося выше: «Митинги и доклады — прекрасная вещь. Но за шесть лет революции интерес к ним несколько уменьшился. Дополнить арсенал нашего агитационного оружия последним достижением, кинематографией, более чем своевременно»99.
Бросается в глаза многочисленная критика в адрес зарубежных фильмов, что находится в противоречии с тенденцией к их особой популярности. Частенько звучал критический тенорок, утверждавший, что подобные фильмы не подходят рабочему классу, что это не его фильмы. Это касалось и «Вильгельма Телля», и «Тарзана». Один рецензент разразился даже криком «К черту тарзанщину!»100. Подвергался критике и ряд других западных фильмов. Нельзя забывать, что в большинстве своем рецензенты были членами партии, поэтому не могли не подводить идеологической подоплеки под
фильмы: «Тайна мадам Лебонар», «Любовь», «Мировой пожар», «Священный тигр», «Нищенка из Стамбула», «Лукреция Борджиа», «Ганзейский пират», «Брачная ночь в монастыре», «Вендетта», «Крах банка», «Мистер Икс», «Да или нет (Две женщины)», «Женщина без сердца», «Два миллиона», «Женщина с миллиардами» и др. Чаще всего в рецензиях звучали такие слова: хлам, отсутствие стиля, пусто, бессодержательно.
Были и положительные отзывы такого плана: замечательные технические решения, стоит посмотреть, даже при повторном просмотре открываешь для себя что-то новое, увлекательная интрига. Неуклюжие отзывы о фильмах часто встречаются во всякое время и в любой стране, вершиной такого ляпсуса было замечание в газете «Трудовой Батум»: «интересный взгляд на французский провинциальный город»101.
О советских фильмах нельзя сказать, что они обрели популярность с самого начала. Судя по данным газет, кинохроника в провинции почти не появлялась. С другой стороны, часто упоминается о фильме «Похороны Ленина», ходившем по стране в количестве 50 копий. Однако сообщается, что эта лента не всегда вызывала приличествующее случаю траурное настроение, бывало, что реакция на него была весьма и весьма непиетичной. Оказывается, крестьяне, в первый раз в жизни попавшие на киносеанс, не следили за ходом действия, «звонко хохоча над смешными движениями людей»102. Сообщается и о таком происшествии: смерть Ленина поставила под угрозу срыва уже объявленный киносеанс. Так как смотреть фильм было интереснее, чем устраивать траурный митинг, то решили произнести в клубе речь на смерть Ленина, а затем показать долгожданный фильм «Лукреция Борджиа»103.
Разумеется, нельзя обобщать эти примеры, но они примечательны в своем роде. К тому же нельзя забывать, что неграмотным крестьянам, может быть, и в самом деле требовалось больше времени, чтобы привыкнуть к быстро мелькающим кадрам, намного больше, чем тем же городским рабочим, обладавшим зрительским опытом104.
Как бы для равновесия приведем другой пример. В рабочем клубе Херсона показывали фильм «За власть Советов». Когда на экране появился Ленин, в зале наступила абсолютная тишина, «а затем общее движение вперед, чтобы лучше смотреться в черты любимого вождя. Появление то в. Троцкого приветсвовали громкими криками „ура” и долго несмол-каюшими аплодисментами»105. Описание это явно составлено членом партии. Но из него можно сделать вывод о том, какое действие мог производить фильм. Оба эти примера ясно говорят о глубине политической и культурной пропасти, разделявшей рабочих и крестьян. Конечно, для подтверждения этого вывода можно поискать более убедительные и подробные источники, но здесь он выявился в фокусе одного события.
Это показывает также, насколько сельская местность была отрезана от центров, крупных городов и их кино-«мира». При этом кино должно было играть на селе важную роль. Уже за семь лет до левых кинофункционеров, в связи с Ленинскими планами кинофикации, выдвигались безуспешные требования о присылке в провинцию большего количества киноаппаратов. Мы уже называли аспект, служивший для упомянутых выше функционеров перелома отправным: «Кино — это книга для неграмотных» и «Кино — это единственная книга, которую может читать даже неграмотный», хотя титры во время сеансов приходилось читать вслух сельскому учителю106.
То, что для горожан становилось все более и более привычным, для крестьян продолжало оставаться особенным и таинственным событием, встречавшимся возгласами: «Кино привезли! Кино привезли!», — писал в 1925 г. корреспондент Я. Буров о волнении жителей одной из подмосковных деревень. Сбежалась вся деревня107. Современному человеку трудно представить себе, что значило в то время кино для сельского населения: горожанина, более или менее привыкшего к технике, интересовало только действие, происходящее на экране. Но для крестьянина «эта странная машина, чудесным образом воспроизводящая точное подобие жизни, <...> имела самое большое значение. Он смотрит не только
на экран, но и на механизм аппарата»108. Это пробуждало наивное любопытство крестьян — дополнительный эффект кино — значение которого трудно переоценить. Киевский корреспондент, придерживающийся такого же мнения, был убежден, что кино обладает силой, не зависимой от репертуара, могущей поколебать «веру и в Бога, и в черта, и в чудесные деяния Христа». Только что процитированный Буров сообщает далее, что фильм о новом тракторе Фордсона и производительности сельского хозяйства Америки произвел на крестьян такое впечатление, что они решили приобрести трактор. Незадолго до этого они отказались от такого намерения110.
Влияние кино проявлялось не только в области сельского хозяйства. Показ советского фильма «Кровать и диван», с большим юмором изображающий menage a trois в городской рабочей квартире, не привел к укреплению смычки между рабочими и крестьянами. После его демонстрации в Иркутске были зарегистрированы случаи самоубийства. После киносеансов крестьяне подавали письменные заявления в местные Советы, высказывая следующие пожелания: «им хочется ездить верхом, летать на самолете, ездить в автомобиле, уметь фехтовать, стрелять, плавать, танцевать фокстрот, курить и носить костюмы, как в американских фильмах»110.
Анализ провинциальных журналов показал, что по поводу «культурного фильма», (жанр документального, научного и пропагандистского фильма в отличие от художественного) к которому относилась, в том числе и хроника, советский кинематограф не давал практически никаких комментариев. Очевидно, кинохроника не пользовалась популярностью. Она мешала получать удовольствие. С одной стороны, зрителю не хотелось, чтобы его пичкали пропагандой за его же собственные деньги, с другой, они были настроены на развлечение. А его давали им милые «Танцовщицы с Бродвея» и хорошенькая «Мисс Менд». Смотреть перед началом сеанса кинохронику о «рыболовстве в Астрахани» было скучно, это были будни, незрелищная тема, людям, пришедшим посмотреть фильм, не было до нее никакого дела111.
Однако же в целом в ходе первого пятилетнего плана от
ношение зрителей к хронике и короткометражному фильму изменилось. В рабочих клубах участились случаи показа таких фильмов, заканчивавшиеся дискуссиями. Все чаще хроника использовалась с целью информации о высокой производительности труда. Новой формой связи фильма с широкими массами населения стало шефство, а также социалистическое соревнование. Организуя съемки фильма о своем районе или отдельном предприятии, ловкие партсекретари из провинции надеялись приобрести известность.
Описанная ниже история сильно напоминает случай с триумфом Алексея Стаханова, происшедший несколько лет спустя и отразившийся на судьбе средств информации. Он решил проблему, связанную с невозможностью «планирования» фильмов, посвященных актуальным событиям112. В один прекрасный день в передвижной киноредакции появились председатели райкома партии и комсомола с тем, чтобы предложить ей социалистическое соревнование. Это был «один из первых примеров тесной связи киноредакции с партийными и общественными организациями»113. 4 марта 1932 г. был подписан договор между шахтой имени Рыкова и Союзкинохроникой в лице киноредактора Гурова. Кроме того, киноредактор Гуров заключил социалистический договор с тов. Васюковым. Одновременно он обязался снять первый фильм серии «Ударники угля» о его трудовом коллективе. Первая часть называлась «Хозрасчетная бригада тов. Васюкова — лучшая в шахте».
Обстоятельства этого события позволяют выделить несколько факторов: инициатива исходила от председателей местной партийной и комсомольской ячейки, что полностью соответствовало духу атмосферы 1932 г., так же как и тот факт, что местные «величины» хотели сделать себе имя на повышении производительности труда. Они говорят также о привлекательности фильма, т. к. вполне понятная гордость, вызванная приобретением известности за высокие трудовые показатели, подталкивала к новым достижениям. Инициатива исходила не от рабочих, принимавших непосредственное участие в выполнении плана. Как явствует из текста договора, вся эта затея не принесла им ничего, кроме славы.
Договор, имевший силу до 1 января 1933 г„ предусматривал: «1. Союзкинохроника в лице тов. Гурова с помощью кино обязуется показать всей шахте, как бригада Васюкова борется за промфинплан, а также с помощью фильма распространить социалистический опыт хозбригады тов. Васюкова. 2. Союзкинохроника обязуется закончить съемки фильма до 25 марта и уже в конце марта показать его в клубе „Артем” 3. Союзкинохроника обязуется смонтировать сюжет для Всесоюзного киножурнала по материалам фильма».
Партнеру Союзкинохроники, бригаде Васюкова, пришлось постараться для выполнения договора. Вместо запланированных 2016 вагонеток горняки приняли обязательство выдать на-гора 2516 вагонеток, т. е. 20 000 тонн сверх нормы, а также за весь 1932 г. выполнить производственный план не менее, чем на 120%. В договоре оговаривалось также хорошее качество. Кроме того, акция предусматривала проведение пропагандистской «массовой работы», особенно в жилых бараках рабочих, а опыт бригады должен был быть опубликован в газете «Подмосковная кочегарка».
С первого взгляда видно, насколько неравными были условия партнеров. Не будет преувеличением сказать, что рабочим пришлось как следует попотеть для выполнения обязательств, взятых ими на себя сверх нормы, тогда как киноредакция должна была выполнять всего-навсего то, что и без того было ее задачей: снимать фильм. Скорость требовалась от нее лишь при обработке отснятого материала. Но в конце марта миссия киногруппы закончилась, если не считать обязательства предоставить материал киножурналу, а рабочие продолжали надрываться.
Этот пример ясно иллюстрирует плачевное положение политического кино в начале тридцатых годов. Установки на привлечение масс к работе кинематографа так и не воплотились в жизнь. Так или иначе, конкретных высказываний по этому поводу никогда и не было. Лишь в период сталинизма политическое кино и «еженедельные обзоры» приобрели характер, сохраняемый ими на протяжении долгого времени. Они превратились в показ триумфального и героического построения социализма, а вклад в это дело народа интерпретировался, в первую очередь, как заслуга режима.
fr,
41-
Й‘
’Ф'
JF-
,K'>
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
ЭКСКУРСИИ
-#
Формирование мировоззрения посредством
<* наглядности
В предыдущих разделах главное внимание уделялось более или менее удачным попыткам воздействия новой системы на население с помощью вербальных и визуальных средств. Обычно описания политико-просветительной работы большевиков не идут дальше этого момента. Правда, упомянутое исследование Питера Кенеза, представляющее собой попытку описания мероприятий большевистского режима в комплексе, касается фильма, но не политического, (в отличие от настоящего исследования), а художественного, тогда как сферу радиовещания он не затрагивает совсем1.
Наряду со словом, изображением и звуком, или, говоря другими словами, визуальной и акустической подачей нового режима существовала еще одна область, в рамках которой велась воспитательная и просветительная работа. Речь идет об экскурсиях самого разного типа. Они добавляли к восприятию мира совершенно новое измерение, стремясь преодолеть пассивность участников в познавательном процессе. Смысл их состоял в активном познании мира, в наглядности как противоположности бумажной теории, в развитии у экскурсантов способности видеть, в развитии гибкости ума. Учитывая чрезвычайно малую степень подвижности совет-
ского общества, нельзя упускать из виду этот просветительный и воспитательный аспект. Горизонт житейского опыта среднего гражданина редко выходил за пределы деревни или уездного центра, простираясь самое большое до ближайшего крупного города, или же завода, на котором работали члены его семьи. За концепцией расширения границ восприятия стояла мысль об образовательной роли путешествий. Намеченная программа, насквозь пропитанная эмансипативными устремлениями и опиравшаяся на просветительские утопии, ориентировалась на положительный и оптимистичный идеал человека.
Эта, на первый взгляд второстепенная, сфера представляет интерес по двум причинам и отнюдь не является таковой с точки зрения темы идеала человека и культурной практики. С одной стороны, экскурсии соответствовали духу времени; о них говорили многие, причем не одни только практики, далекие от теории. С другой стороны, нельзя недооценивать сферу внешкольного образования по причине ее сравнительно малого объема, поскольку в ней мы сталкиваемся с идеями, представляющими интерес для исследования целой области. Дальнейшие строки касаются как раз такого аспекта, как идеал человека. ,
Экскурсии как инструмент ;
усовершенствования человека
Зачинателями экскурсионного дела, направленного на облагораживание человека, были отнюдь не большевики, все они еще до революции трудились на ниве просвещения. Теорией экскурсий занимались Н. П. Анциферов и И. М. Греве. Их поддерживал ряд практиков, среди которых по причине многочисленных публикаций можно особенно выделить Н. А. Гейнике.
«Быстрому развитию экскурсионного дела не могли воспрепятствовать ни эпидемии, ни разруха путей сообщения, ни замерзающие помещения. Даже НЭП, своими высокими проездными тарифами нанесший сильный удар экскурсированию, не смог приостановить его успехов. Это лучшее свидетельство жизненности его методов просвещения и воспита
ния, соответствие их духу обновляемой школы последних лет»2. С этого предложения начинается фундаментальный труд Анциферова. В нем высказывается твердая уверенность в успехе, обеспеченном хорошей просветительской работе.
Анциферов утверждал, что «экскурсионированию» нужно учиться. Смысл экскурсий состоит не в одних только образовательных поездках или осмотрах. Необходимо было воспитать в человеке способность видеть по-новому, сделать его более восприимчивым для новизны. Старый обычай осматривания достопримечательностей не имеет ничего общего с экскурсией, первое представляет собой туризм, начисто отвергавшийся Анциферовым. «Туризм и гидизм — злейшие враги экскурсионного дела»3. Турист не видит всей глубины, он просто собирает впечатления и с легкостью забывает их, поедая трюфели. Такая туристская психология встречается, как правило, у англичан, пишет Анциферов.
Экскурсия же означает труд. Радость при этом не исключается, но она возникает лишь после проделанной работы, т. е. в конце экскурсии. «Экскурсия требует готовности к определенной отдаче»4. Для того, чтобы достигнуть определенных результатов, экскурсант должен уметь вносить коррективы в свои представления, помнить о словах «Будем как дети!».
Эти высказывания неизбежно подводят к замечаниям о роли экскурсовода. Во время экскурсии ему отводится центральная роль, потому что, в конечном итоге, на нем лежит ответственность за успех предприятия, т. е. за изменение взгляда экскурсантов на вещи. Его главной заповедью должно стать искоренение каких бы то ни было тенденций туризма. Экскурсовод является «воспитателем вкусов и духовных интересов народа. В его руках находится могучее орудие — образование. При этих условиях роль руководителя экскурсии приобретает особо важное значение»5. Само собой разумеется, что экскурсовод должен пройти самую солидную подготовку. Но его задача заключается не в чтении лекций, с самого начала определяющих позицию экскурсанта и, тем самым, направляющих его наблюдение в определенное русло. Согласно Анциферову, он не является «цензором», а всего лишь выбирает объекты осмотра, определяет его порядок и
выбирает место, с которого будет осуществляться рассмотрение. Экскурсия должна проходить в молчании, и обмениваться впечатлениями и мнениями следует только по ее окончании6. Анциферов придерживался мнения, что описанный только что метод представляет собой тип экскурсии самого высокого уровня.
Все вышесказанное коренным образом отличает содержание экскурсии от пропагандистских и политико-просветительных мероприятий, привычных для советского гражданина. В отличие от остальных мероприятий, в которых он играл пассивную роль, экскурсия предполагает его активность. Но по словам Анциферова, это еще не самый главный отличительный признак. Он давал такое определение экскурсии: «...прогулка, ставящая своей задачей изучение определенной темы на конкретном материале, доступном созерцанию»7. Цель ее заключается в развитии аналитических способностей
экскурсанта.
Ключевое слово определения — прогулка, т. к. оно содержит важную характеристику экскурсии, ее моторный компонент. Искусство экскурсии состоит в «соединении анализа данного объекта с медленным движением, во время которого взгляд сохраняет изначальное направление»8. В качестве примера автор приводит осмотр Казанского собора в Петрограде, раскрывающего всю сложность, все богатство и мощь форм его колоннады, приходящих в движение по мере продвижения экскурсанта вперед.
Второй главный методист экскурсий, Греве, также придавал самое большое значение только что упомянутому пункту: «Методистами подчеркивается особая, коренная необходимость при экскурсировании чисто зрительного восприятия, прямого наблюдения объектов; но таково ведь требование наглядного принципа вообще, как по-французски говорится, I’enseignement par les yeux, — а он применяется не на одних экскурсиях. В последнее время еще больше выставляется на вид действование с помощью всестороннего упражнения моторного чувства. В материале, даваемом работою мускулов, видят сущность экскурсионного процесса познания, в изощрении моторности — венец экскурсионного метода»9. Греве ви
дит в этом расширение принципа наглядности посредством органов чувств человека, обозначая это опять же словами французов: «1’enseignement par les sens»*0.
В отличие от других форм познания, «душой» экскурсии является то, что она «ставит учащегося перед предметом изучения в его естественной обстановке, а не в положении, изолированном от окружающего, в котором он вырос, и, тем более, не в искусственном воспроизведении»11. Истинный смысл слова «экскурсия» выводит на «замечательно верный путь для открытия обозначаемой им истины», путь, который следует использовать как «источник знания»12.
В словах Гревса подчеркиваются вещи сами собой разумеющиеся. Но для него это обстоятельство имело большее значение. На этой основе он выстроил целую теорию воспитания: в ходе экскурсии человек поворачивается лицом к миру в «сложной динамике исследовательского вдохновения», вырастающей из индивидуального бытия, интуиции и творческого порыва. Это, в свою очередь, ведет к изменению хода мыслей и укреплению физических сил. Необходимость работы человека над собой была для Гревса аксиомой. Ее подтверждением он считал всю историю человечества с того момента, как оно стало оседлым. Человек всегда интересовался всем новым, что появлялось на его горизонте. «Инстинкт передвижения (общения) пробуждается в людях тем сильнее, чем громче доносятся к ним голоса из мира»13. Это подтверждается тем фактом, что жителей крупных центров намного сильнее тянет в другие страны, чем людей, живущих в тишине и покое.
Вкратце сущность взглядов методистов экскурсий, особенно Гревса, можно передать следующими словами14: они стремились вывести русского человека из его привычного окружения, из оцепенения, уводя его в жизнь подвижную, при этом человек, наивный и неопытный, должен был учиться видеть и познавать как новые, так и привычные для него вещи. Его мировоззрение менялось не под влиянием увиденного как такового, целью был сам путь. «Экскурсия — это школа жизни, жизни в природе, человеческой жизни»15. В движении, сопровождающемся одновременным наблюдением,
происходит процесс познания, превращающий человека наивного в удивляющегося, и, наконец, осознающего новизну окружающего мира, отражающего его в своем собственном жизненном пространстве и, таким образом, принимающего внутрь себя открытое им новое. «Экскурсионный метод предполагает необходимость вырваться из как бы само собой разумеющимся образом суженных условий» школы, работы или частной жизни. Экскурсия выводит на «широкую арену настоящей жизни. Экскурсия пробивает серьезную брешь в рутине и привычке»16.
Заброшенный во внешний мир, человек отныне находился в непрерывном процессе усвоения чуждого, но не в форме точной копии, а через «творческий порыв», дающий ему возможность отбирать и перерабатывать информацию. Выражаясь языком современной педагогики, экскурсия расширяла не только когнитивные способности человека, но и его способность переживать, приучая его видеть доброе и прекрасное: «Рядом с этим сердце начинает вибрировать возвышенными, светлыми и добрыми чувствами»17. Еще в >1925 г. Греве открыто заявлял, что экскурсия развивает личность, побуждая ее заняться поиском «истины и красоты», «раскрывает органы чувств, изощряют мысль и внимание»; благодаря им «разгорается воображение и исследующее познание», получаются «роскошные букеты психических цветов»*8.
В то время подобными формулировками оперировал один лишь Греве, т. к. никто не отваживался пойти так далеко вперед — или назад, с точки зрения советских концепций образования. Его мнение по поводу педагогического принципа наглядности, а также и главного отличительного признака экскурсии, движения, пусть даже и обозначаемого другими словами, находилось в согласии с официально принятыми взглядами, однако советская педагогика делала ставку на воспитание не индивидуальности, а коллективизма. В то время Греве был единственным человеком, в трудах которого нет и намека на классовый подход к вопросу образования и воспитания и идеи которого каждый честный коммунист просто обязан был назвать до мозга костей буржуазными, идеалист
скими и потому неправильными. Утопическая теория неисправимого идеалиста от образования Гревса, — с таким обозначением можно согласиться, учитывая его оптимизм по поводу осуществимости и эффективности своей концепции усовершенствования рода человеческого, — всеми своими целями была противоположна культурному дизайну большевиков, и, насколько нам известно, являлась единственной альтернативной теорией. А поскольку он подчеркивал еще и широкие возможности экскурсии в деле воспитания индивидуальности, его и вовсе можно назвать пережитком прошлого, по всей видимости, упустившего из виду, что советская педагогика преследовала совсем иные цели. Публиковать такие высказывания в 1925 г. мог лишь человек наивный, безусловно, не оппортунист; или агент-провокатор в целях борьбы с буржуазными педагогами; или кто-то, имеющий хорошие отношения с цензурой, или же тот, кому попался сонный цензор.
Год спустя вышел переработанный вариант книги Анциферова, изданной в 1923 г.19, ориентированной не на столь несовременные, провокационные принципы, как книга его соратника Гревса. Надо сказать, что Анциферова вообще отличала большая близость к практике. Автор не предпринял никаких существенных изменений. Только слово «прогулка» он заменил словом «путешествие»20. Он вновь подчеркивал значение «моторности» и важность выбора маршрута. Эту книгу нельзя назвать призывом к воспитанию индивидуальности, однако в ней не было и никакой пропагандистской мишуры в духе режима. Ее девизом была «коллективность», которую остальные авторы ставили во главу угла21.
Даже в этих немногих словах прослеживается параллель с дизайнерами культуры из большевистской среды. Пожалуй, представления о формировании опыта человека, его духовного мира и мировоззрения у Анциферова сформулированы даже более четко, чем расплывчатые идеи коммунистов, представленные в первой главе. Если несколькими строками выше мы и говорили о противоречии культурным планам большевиков, то имея в виду содержание и цели, а не присущее всем убеждение в необходимости усовершенствования
человека посредством образования. В этом пункте наблюдалось единство между культурными планами большевиков и мнениями теоретиков экскурсионного дела. Они кажутся детищами одного и того же духа.
Интересно, что наиболее четкие параллели прослеживаются у сторонников самой радикальной и фундаментальной реорганизации человека. Ведь наверняка не случайно Гастев начинает параграф 7 «Новой культурной установки», в котором перечислены основные качества культурного человека, словами о развитии наблюдательности. Настороженность, главную предпосылку наблюдательности, он называет необходимым свойством «того типа культурного человека, который нам нужен»22, пока еще находившегося на стадии неорганизованного наблюдения. Разве такие формулировки не были похожи на слова «буржуазных» теоретиков экскурсий? Разве не могла следующая фраза принадлежать перу Гревса: «Наблюдательность — это начальная школа анализа, начальная школа инициативы, начальная школа победы»23? Правда, последние слова подразумевают победу нового человека в духе Гастева, но за ними стояла убежденность в необходимости изменения поведения и духовного склада человека, в формировании людей нового типа, с которой мы встречаемся и у Гревса.
Хотя и Анциферов, и Греве были коммунистами лишь номинально, обеспечив себе таким образом возможность заниматься любимой работой в изменившихся политических условиях, можно говорить о наличии у них сходных с большевиками взглядов на формируемость человека. Сходство этот выражается в уверенности в неограниченной воспитуе-мости человека.
Какие выводы можно сделать из этого? О том, что теоретики экскурсионного дела стояли к большевикам ближе, чем они думали, что в их взглядах наблюдались лишь незначительные различия? Или что отсутствие разительных отличий в их взглядах на идеал человека объясняется одинаковым историко-духовным контекстом, одной и той же исторической платформой, поэтому и расхождения между теми и другими наблюдались лишь в целях и направлениях? Ответ
на эти вопросы мы постараемся дать в следующей главе, поставив их в более широкий контекст. А теперь обратимся вначале к практике экскурсий.
Практика экскурсий
Экскурсии в России не были изобретением большевиков. Отдельные случаи проведения экскурсий встречаются уже в девяностых годах XIX века, но о начале экскурсионной практики можно говорить лишь в первые годы двадцатого столетия. Естествознание преподавалось не только по книгам, учителя выходили с учениками на природу. С 1901 г. регулярные занятия по естествознанию проводились в конце первой ступени обычных школ, в двухлетних школах, иногда и в одногодичных, в церковноприходских школах, в мужских и женских епархиальных училищах, в торговых учебных заведениях при министерстве финансов, а также — после валоризации одного из отделов этого министерства в самостоятельное ведомство в 1905 г. — при министерстве торговли и мануфактур. Курсы естествознания преподавались специалистами, одним из них был Б. Е. Райков, в советское время игравший ведущую роль в деле экскурсий. Кроме него, на этом поприще трудились Я. И. Коновальский (скончавшийся в 1917 г.), А. Е. Петров, Д. К. Третьяков, С. П. Кравков, К. Д. де Шегрен, А. Ф. Кобылин и А. Ф. Чистов (скончавшийся в 1920 г.). Один из экскурсионных курсов, начавших проводиться с 1904 г. один раз год, проходил на базе Петербургского учебного округа, другой — в дальних краях: на Кавказе, в Киеве, Варшаве или в других местах. В экскурсиях Министерства торговли и мануфактур принимали участие и обычные школьные учителя, пример тому, что прогрессивные круги российского правительства не страдали ведомственными предрассудками. В экскурсионных поездках принимали участие от 100 до 120 человек24.
В Москве дело развивалось несколько медленнее. Но необходимо помнить о том, что революция 1905 г. обрубила возможности развития педагогической работы в области экскурсий. Однако едва обстановка успела нормализоваться, в 1907 и 1908 гг. по инициативе В. Н. Бобринского были обра
зованы два учреждения (Экскурсии по России при Российском обществе туристов и Экскурсионная комиссия при учебном отделе О. Р. Т. 3.), видевшие свои задачи в организации учебных поездок для учителей городских и сельских школ с целью ознакомления их со своей родиной. Оба учреждения связывало тесное сотрудничество.
Понятно, что вопрос педагогики экскурсий касался прежде всего, школ. Частные учебные заведения проявляли в этом отношении большую гибкость, чем государственные. Последние начали использовать экскурсии в учебной работе лишь примерно с 1910 г. В том же самом году в Московском учебном округе возникла «Особая экскурсионная комиссия». Но согласно источникам, распространения этот вид обучения не получил; по крайней мере, в гимназиях, т. к. директора этих учебных заведений лишь в 1916 г. собрались для обсуждения его целесообразности на основе имеющегося опыта25.
Это собрание явно было связано с реформами министра просвещения П. Н. Игнатьева, начатыми в 1916 г. В самом, деле, экскурсии нашли здесь одобрительную оценку. До сих пор они не были неотъемлемой частью школьных занятий, поэтому в соответствии с законом должны были проводиться во внеурочное время. Теперь картина изменилась и за экскурсией признали статус учебного метода.
Несмотря на то, что революция помешала осуществлению Игнатьевских реформ, и, тем самым, не дала возможности убедиться в их целесообразности или нецелесообразности, события 1917 г. не прервали начавшегося развития экскурсионного дела. Упомянутый нами Гейнике говорил о начале третьей фазы: после государственных и негосударственных школ пришел черед обратить взгляд на внешкольную сферу26. Сразу после Февральских событий в Петрограде был создан Внешкольный отдел Петроградского наробраза, ведавший вопросами школьных экскурсий и Петроградское отделение Главмузей, занимавшееся организацией экскурсий преимущественно для школ и публикацией работ по экскурсионному делу. Бросив взгляд на библиографию по выставкам, музеям, экскурсиям 1919 г., можно убедиться, что экскурсионные поездки были предметом серьезных размышлений о том, как
Познавательный процесс: экскурсии наиболее простым и наглядным образом приобщить народ к знаниям. Из 947 названий, вышедших в свет примерно с 1890 г., литература по экскурсиям составляет большую часть27.
В советское время экскурсионное дело возобновилось по окончании Гражданской войны. Правда, уже летом 1918 г. с одобрения Наркомата народного просвещения были проведены естественнонаучные экскурсии, встретившие самое благожелательное отношение со стороны руководителя ведомства Луначарского и его заместителя 3. Г. Гринберга, однако война воспрепятствовала осуществлению дальнейших попыток в этом направлении. Тем не менее, уже в 1918 г. увидел свет проект создания экскурсионных станций, осуществленный по окончании войны. Составленный В. Ф. Мольденгауэром проект был посвящен Петроградской области; им предусматривалась организация центрального бюро в Петрограде. Содержание его было направлено на естественнонаучную сферу, что подтверждается созданием Института природоведения, занимавшегося самым тесным сотрудничеством с экскурсионными станциями. Институт нашел пристанище в Павловске. В проекте определялись его задачи, состоявшие в распространении знаний о природе практическими методами, т. е. с помощью экскурсий. В уставе института предусматривалось создание «музеев местной природы», лабораторий, рабочих помещений, зверинца, пруда и библиотеки28.
Коллегия Наркомата народного просвещения, ялявшаяся в то время последней инстанцией ведомства, летом 1918 г. внезапно заявила о сомнениях по поводу персонала и затормозила подтверждение. Сомнения были вызваны академической направленностью института и составом его научных сотрудников. Так институт природоведения, задуманный для служения делу народного просвещения, стал делом политическим. Лишь включение в сферу его задач сельского хозяйства предоставило институту и экскурсионным станциям новый шанс. Причина возникших проблем кроется, по-видимому, в переходе руководства этими вопросами в руки И. Ф. Киммеля из отдела республиканского достояния при Наркомате народного просвещения. Киммель являлся, одно-
временно, председателем отдела сельскохозяйственного образования при названном Наркомате. Центральное бюро экскурсий, называвшееся теперь Экскурсионной секцией, отошло к отделу единой школы под председательством В. П. Менжинского, взявшего на себя руководство этой новой сферой29.
По окончании Гражданской войны экскурсионное движение стало набирать силы. 16—21 мая 1921 г. в Петрограде состоялась конференция по вопросам экскурсий. Место было выбрано, конечно, не случайно, ведь как-никак по этой области бывшая столица опережала все остальные регионы. 180 участников конференции, 23 из которых были москвичами, в первую очередь, навели порядок в деле экскурсий, разделив его на специальные секторы. Отныне существовало два типа экскурсий: природоведческие и гуманитарные. К последним относились экскурсии по искусству, литературе, этнологии, истории. Кроме того, участники конференции говорили о методах проведения экскурсий конкретного типа и учете возрастных и региональных особенностей в ходе учебных поездок30.
На этот год приходится расцвет экскурсионного дела. Началось создание экскурсионных станций. В течение короткого времени в окрестностях Петрограда их возникло свыше десятка. Уже 1 января 1920 г. была организована первая станция для проведения «гуманитарных» экскурсий31. Во второй половине 1921 г. к ней добавились еще семь станций; за весь 1921 г. было зарегистрировано 244 069 экскурсантов, из них 104 727 приняли участие в гуманитарных экскурсиях, 86 648 — в природоведческих, 52 694 — в технических32. Возникали экскурсионные кружки, организовывались краткосрочные курсы экскурсоводов при рабочих клубах различных заводов, высших и партийных школах33.
Велась работа и над научным обоснованием этой сферы образования. Это подтверждается фактом проведения упомянутой выше конференции в мае 1921 г. В Москве и Петрограде были созданы два исследовательских института, занимавшиеся всеми вопросами экскурсионного дела на научном уровне и работавшие над созданием новой науки: экскурсие-
ведения или, по предложению ученого профессора Ф. Ф. Зелинского, экдромологии34.
Но расцвет продолжался недолго. Наступление на экскурсионное дело началось не в форме закрытия институтов или повального сокращения кадров — атака на академическое направление летом 1918 г. была единственной в своем роде — а с принятием решения о новой экономической политике. Только что основанный журнал «Экскурсионное дело» выразил горькое сожаление по этому поводу. Не успел выйти его первый номер, в котором сообщалось об отрадном оживлении, наступившем в этой сфере, как тут же условия резко
ухудшились.
Особенно болезненно восприняли работники этой сферы отмену одной услуги, которой они очень гордились: обеспечение экскурсантов питанием и напитками в период всеобщего дефицита. В первом номере «Экскурсионного дела» один из авторов описывает конкретный пример Петергофской экскурсионной станции35. Летом 1920 г. ее сотрудникам пришлось кормить 3543 человека в течение целого дня. По прибытии каждый экскурсант получал чай с сахаром, сухари, хлеб, иногда яйца. После примерно трехчасовой экскурсии подавался обед из двух блюд и кофе или чай с карамелью или сахаром, так что участники экскурсии возвращались в город, утолив не только жажду знаний. Безусловно, трапеза была скудной, но сотрудники станции понимали, что и такая малость обладала большой привлекательностью для экскурсантов. На основании источников сложно сделать вывод об истинных мотивах участия в экскурсиях. Но если сравнить наш пример с ситуацией в рабочих клубах на тот момент, то мы увидим, что решающим фактором их посещения была не политическая или культурная работа, а, скорее, такие «второстепенные» факторы, как теплые помещения и горячее питание36. Есть основания полагать, что подобные соображения могли руководить и участниками экскурсий.
Привилегированное положение в снабжении экскурсионных станций продовольствием объяснялось тем, что о них заботилось государство, выделявшее этим учреждениям щедрые «интернатские пайки». С наступлением НЭПа эти постав
ки прекратились, экскурсионные станции были вынуждены перейти на хозрасчет. Для экскурсантов это имело следующие последствия: теперь они получали чай без сахара, полфунта хлеба и тарелку жидкого супа. Кроме того, за проезд по железной дороге и на трамвае отныне нужно было платить. Правда, все расходы брала на себя экскурсионная станция, но в конечном итоге они ложились на местные отделы народного образования, вскоре отказавшиеся от такой практики. В октябре 1921 г. начались первые сокращения персонала. Однако из числа руководящих работников нашлись 20 человек, заявивших о своей готовности продолжать работу на станциях в безвозмездном порядке. В общей сложности увольнениям подверглись 50% работников, в начале 1922 г. одна за другой были закрыты восемь из 15 экскурсионных станций в окрестностях Петрограда37.
Как ни странно, все эти обстоятельства не имели негативных последствий для экскурсионного дела. Это подтверждается не только словами Анциферова, процитированными нами в начале этой главы, цифры также свидетельствуют о подъеме, прерванном лишь на очень короткий момент. Реакция выражалась в «увеличении объема работы по сравнению с очень активным периодом прошлого года», как писалось в отраслевом журнале38. В 1922 г. одной лишь Центральной станцией гуманитарных экскурсий было проведено 1181 экскурсий для 35 430 участников39. Журнал объясняет такое движение вперед изменением структуры. Теперь экскурсионные секции относились не к отделам политпросвета губерний, а к отделам социального воспитания. Что скрывалось за этой мерой, может быть, возобновление привилегированного снабжения питанием, из источников не ясно.
Объем работ увеличился еще и потому, что теперь теоретики и практики экскурсий начали собираться для обсуждения специальных проблем. Так, 10—12 марта 1923 г. в Петрограде состоялась конференция, посвященная спорным вопросам, решения которой были закреплены в резолюции40. В ней приняли участие 735 человек, 638 из них были городскими жителями. 280 назвали себя гуманитариями, 287 — естествестника-ми, остальные о себе не сообщили41. Большинство участников
в прошлом, при царе, являлось студентами высших педагогических учебных заведений42. По методическим вопросам экскурсий различного типа было прочитано, в общей сложности, 20 лекций. Практически по всем отраслям деятельности были приняты резолюции. Рекомендовалось продолжать взаимовыгодное сотрудничество с краеведами; было принято решение о подготовке педагогов по школьным и внешкольным экскурсиям. Особенно настойчиво звучали требования по введению особых железнодорожных и трамвайных тарифов. Вошли в резолюцию и пункты об охране природы.
Продолжали осуществляться и научные публикации. После определения майской конференцией 1921 г. типов экскурсий постепенно начали появляться статьи и монографическая литература по экскурсиям различного типа. Руководством по экскурсиям «в культуру» стал библиографический справочник, изданный и прокомментированный Гревсом43. Обзор литературы только по краеведческим поездкам включал 166 монографий по общим вопросам и по конкретным целям (как то: Мурманск, Новгород, Урал, Крым, регион Алтая)44. Перечень изданной за советское время литературы с особым учетом интересов татарского национального меньшинства вышел в 1927 г. в Казани; основной упор в нем был сделан не на природоведческие, а на гуманитарные экскурсии45. В этой литературе большое внимание уделено методам, и в то же время она является богатым источником для изучения местной специфики. Она содержит богатый нетронутый материал для этнологических или исторических исследований. Ее тематика отличается разнообразием. Для данной работы не требовалось детального изучения этой литературы. Достаточно констатировать, что в ней представлены идеи по проведению экскурсий на торфяные болота, по физике, технике, а также по многим другим вопросам46.
Особенно широко представлена литература по так называемым гуманитарным экскурсиям. В этой сфере оставили свой след теоретики и методисты, о которых было сказано в начале главы. Если природо- и краеведческие экскурсии представляют интерес для нашей темы постольку, поскольку они воплощают в жизнь вышеназванные просветительские
идеалы, то экскурсии по темам культуры проникают еще и № другие сферы: интерпретацию истории и общественных отношений.
Центром тяжести экскурсионной деятельности было ознакомление не только жителей села, но и рабочих с городом как социальным и культурным пространством. Необходимо помнить о том, что в период НЭПа многие рабочие не утратили связи с селом, своим сознанием продолжая оставаться в деревне, так что знакомство недавних переселенцев с «экономическим и социальным бытом городов»47 представляется очень целесообразным. Анциферов и Греве с самого начала выступали за проведение подобных мероприятий48. У этой темы был и еще один аспект: город как сердце революционного движения и место, сязанное с событиями революции 1905 г., Февральской и Октябрьской революций 1917 г. Ни тот ни другой теоретик не упускали из виду этот аспект, но не он был для них главным. Они не занимались непосредственной историей партии.
Л* it 'б т <&
ь к, 9 3
(МШГгЛ м»1'Л <
* ,Ц(, !JH1£.
‘ .~.,HiiW. f.VX
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ВОСПОМИНАНИЯ: НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ
Историческое значение настоящего
В своем сочинении Греве подошел к выработке своей концепции с явно небольшевистских позиций. То же самое можно сказать и о его взглядах на прошлое. Он считал, что если кто-то хочет усовершенствовать человека, то он должен рассказать ему о его истории. Он придавал чрезвычайно большое значение экскурсиям по историческим темам. Вслед за Блезом Паскалем Греве говорил о том, что для того, чтобы найти самого себя, человек должен знать свою историю. На практике это означало цикл экскурсий по музеям и историческим местам. В качестве примера Греве называет Бородинскую битву 1812 г. и осаду Пскова войсками Стефана Батория в 1582 г. Такой выбор сделан автором не случайно, т. к. оба эти события можно считать поворотными пунктами интерпретации истории национального толка: как неудачные попытки покорения России чужеземными интервентами. Для «ознакомления» с историей предназначались экскурсии по историко-революционным темам от декабристов до Октябрьской революции1.
Наверняка не случаен тот факт, что экскурсий по революционному движению в России автор касается во вторую очередь, т. е. не считает их колесом истории. Его ссылка на Паскаля выдает в нем не самого горячего приверженца марксистского наследия, а скорее, человека, ищущего свои духовные корни в раннем периоде Просвещения, у скептика и ост-
рого критика предрассудков, феодальных структур и как светских, так и духовных авторитетов. Выбор этих двух военных событий в качестве кульминационных пунктов истории России характеризует его как человека патриотических взглядов. Как он предполагал использовать эти примеры в целях освобождающего знакомства людей с их собственной историей, нам неизвестно.
Однако следует помнить, что в секторе экскурсий собралась группа образованных людей, имевших возможность без помех пропагандировать свое альтернативное видение истории и демонстрировать его на практике. Они явно отдавали предпочтение истории, не омраченной тенью коммунизма и Коммунистической партии. Для таких практиков просвещения, как Греве, Анциферов и некоторых других, чьи имена мы называли, история человеческого общества не оборвалась с победой Октябрьской революции. Изменились все внешние признаки истории, но на человека они смотрели, как на сравнительно статичный фактор исторического развития. По крайней мере, они придерживались мнения, что в результате Октябрьских событий психосоциальные составляющие человека, его менталитет, не подверглись столь разительным изменениям, как политическое устройство. Поэтому они и не отказывались от прошлого, в отличие от многих большевиков, и пытались выводить настоящее из всей его целостности, а не плели лишь одну нить — нить революционного развития. К примеру, Анциферов предлагал сохранить в музеях все. Он сетовал на отсутствие музеев царских чиновников и дворянства. По этому поводу он с сожалением отзывался о закрытии в 1925 г. музея «Общество старого Петербурга», рассказывавшего о жизни купцов, организованного в 1923 г. в доме купца Ковригина2.
На деле познакомить людей с их историей стремились и те методисты экскурсий, которые опирались исключительно на революционное движение. Их взгляды часто основывались на убеждении, что вождение людей по историко-революционным местам обладает не только образовательным, но и воспитательным эффектом. То есть в принципе, их позиция не отличалась от позиции методистов царского времени. Они
тоже хотели воскресить для людей их историю, однако ту ее нить, которую их «буржуазные» коллеги отнюдь не считали главной3.
Ш. А. Якубовский, один из представителей революционно-исторического направления в экскурсионном деле, пошел еще дальше: он писал, что в экскурсиях по историко-революционным темам важны не только разъяснения, но и «моральная эмоция», представляющая собой «необходимое и ценное явление, сопутствующее революционной экскурсии и испытываемая, конечно же, лишь тогда, когда в достаточной степени становится ясным классовое содержание борьбы»4. Кроме того, воскрешая революционное прошлое, он стремился подчеркнуть роль революционера, группы и массы. «Только тогда революционная экскурсия может передать ту динамику и ту «действительность», которые лежали в основе революционных событий»5. Тем самым экскурсия приобретала не только образовательное, но и воспитательное качество. Якубовский признавал, что, правда, самому руководителю экскурсии не обязательно быть революционером, но от него ожидается, «чтобы он ощущал революцию и верил в ее светлую перспективу»6.
Эти высказывания говорят о том, что экскурсии представляли собой нечто большее, чем просто поездки, предпринимаемые с образовательной целью. Поэтому для нас не так существенно, сколько представителей каких социальных слоев куда съездили. Куда как более важным представляется вопрос о том, какое поле деятельности открывалось в них для политиков в области просвещения и плановиков культуры, связанных с коммунистической системой лишь постольку, поскольку они хотели продолжать заниматься своей работой, твердо убежденные в ее значимости. Нарком народного просвещения Луначарский предоставил этим «бывшим людям» — как их станут называть впоследствии — полную свободу в осуществлении их политико-просветительских амбиций, пусть даже в глубине своей и не соответствовавших линии партии. Как раз в таких деликатных областях, как преподавание истории, та свобода, с которой теоретики экскурсий из царской эпохи высказывали свои взгляды, является убедительным под-
w.cwjb! Глава восьмая ммхмкмЛ тверждением того, что в отдельных отраслях государственной жизни вообще нельзя говорить о господстве большевиков. Этот факт уже известен на примере некоторых специальных сфер, таких как управление экономикой или советские торговые организации7. Очевидно, так было и в одной из областей политико-просветительной работы, хотя уж, казалось бы, об этом большевикам следовало позаботиться своевременно и предотвратить возникновение островков, подобных описанному.
Наркомату просвещения, его руководителю, а в данном случае и заместителю Луначарского, Гринбергу делает честь, что они не стали напяливать идеологических шор и предоставили возможность свободно трудиться всем тем, кто видел свою цель в оптимизации народного образования. Плоды этой мудрой политики проявили себя в годы кризиса. Как иначе объяснить, почему специалисты по экскурсиям продолжали работу, несмотря на потерю своих оплачиваемых должностей в годы НЭПа? Объяснением этому наверняка будет не только идеализм, сквозящий в их высказываниях, но и лояльность их позиции по отношению к властям, встречавшим их деятельность благожелательно и даже оказывавшим им поддержку. Без сомнения, специалисты царского времени, а таких было большинство, видели в Наркомате просвещения институт поддержки и место, в котором они могли работать на благо просвещения.
С точки зрения этого аспекта, деликатный вопрос интерпретации исторического развития заслуживает особого внимания. В первой главе, в которой говорилось о революционизировании умов, мы кратко коснулись отрицания истории большевистскими плановиками культуры. Главная разница между теми и другими, несмотря на близость их политикопросветительных целей, состояла в том, что названные здесь авторы стремились интегрировать человека в его историю. Это отразилось на ходе их последующих размышлений. Проблема большевистских дизайнеров культуры состояла в том, что их первый, слишком далеко идущий проект, разбился о внешние условия. Волна отбросила их к проблемам быта. Теоретики экскурсий никогда и не думали упускать из виду об-
стоятельств реальной жизни. Их представления о человеке и его окружении отличались комплексностью, поэтому они и не стали жертвами иллюзорной идеи о том, что будто бы один-единственный проект может изменить человека и образ его мыслей, его мировоззрение и духовный мир. По сравнению с большевистскими плановиками культуры, они были гораздо большими реалистами, несмотря на идеалистические тенденции во взглядах на образование.
Это означает, что и исторические масштабы настоящего они стали осознавать раньше, чем большевики, т. к. раньше поняли, что настоящее не в последнюю очередь определяется прошлым. В этом пункте они опережали большевиков с их историко-материалистическими аргументами. Для практиков просвещения «революция» была не той же самой мыслительной категорией, что и для революционных преобразователей культуры. Если быть точным, то у них ее не было совсем. Здесь мы имеем дело с противоположностью концепции, описанной в первой главе, доказывающей, что «революционное» мышление встречалось у одних лишь преобразователей-радикалов. В деле преподавания истории это означало, что проблемами исторического значения настоящего они стали заниматься раньше и основательнее, чем большевики.
Анциферов и многие из его коллег смотрели на музеи, как на места ознакомления людей с историей. Для исследования поставленных здесь проблем нам предстоит бросить на эту сферу более пристальный взгляд.
Музеи тоже являются составной частью культурной практики. Руководствуясь принципом данной работы о первоочередной важности точки зрения современников и ее последующей исторической оценки, нам не обойтись без рассмотрения этой сферы народного просвещения. Некоторые деятели политики в области просвещения отдавали все свои силы делу организации музеев в стране. Борьба за правильность концепций была столь же суровой и непримиримой, как и в сфере образования и политики в области искусства. Духовно-политические масштабы музейного вопроса намечены последними строками предыдущей главы. Речь идет не только о различ
ных точках зрения на преподавание истории, а о подходе к просвещению вообще. История была предметом большой важности, но не меньшей важностью обладают естествознание, краеведение, география, — отрасли знания, упомянутые нами в главе об экскурсиях. «Музей должен стать центром внешкольной культурно-просветительной работы среди масс», сказал в 1927 г. один из участников Третьей Всероссийской конференции по краеведению8. На основании этой цитаты можно сделать вывод об ожиданиях и проблемах, а, может быть, и об упущениях музейной фракции Наркомата народного просвещения.
Культура в музеях и музейная культура
В сентябре 1918 г. сотрудник Румянцевского музея г. Москвы Н. И. Романов написал программную работу, в которой говорилось о роли музеев. Для него задачи музея не ограничивались выставлением экспонатов. Романов смотрел на музеи как на место нравственного возвышения человека под влиянием созерцания истории и быта прошлого. Он пишет о том, что в жизни имеют значение не только материальные ценности: жилище, хлеб, одежда, обувь, согревающие и защищающие тело. Нельзя думать лишь об удобствах и внешнем благополучии, писал он несколько месяцев спустя после того, как люди с лозунгом «хлеба и мира» сокрушили царизм, во время, весьма отдаленное от соблазнов земных удовольствий, когда сложно было достать даже самое необходимое. Романову виделось нечто возвышенное. Внутренние ценности, которых жаждет душа: «высшая радость, досуг и свет» облагораживают людей9. «Есть ведь множество предметов, которые тоже согревают и питают, но не тело, а душу человека, вызывают в нас восторг, любовь и сочувствие к другим людям, расширяют наши мысли, развивают интерес к знанию, дают чувство ясного покоя; отдыха, счастья. Наблюдение природы, истины науки, умная хорошая книга, красивая картина, древний храм, памятник замечательному человеку сближают и объединяют, как церковная молитва, всех людей в общих мыслях и чувствах, которые каждый человек и весь народ считает самыми святыми и заветными. Это высшее, святое,
заветное выражено в чувстве веры, в научных исканиях ума, в восхищении красотой, открывшейся взору. Эти мысли и чувства — маяки, светящие народам»10.
Даже если современному читателю сложно понять трогательный идеализм Романова, в приведенной цитате со всей очевидностью прослеживается миссионерская позиция. Его представления, порой граничащие с сентиментальным пафосом, не отличаются ясностью и зрелостью, однако они проникнуты основной идеей: через искусство, науку, созерцание и одухотворение человек становится лучше, и всему народу сообщается возвышенность прекрасных душ.
Миссионерство Романова, сквозящее в этой цитате, имело конкретную направленность. Он размышлял о человеке, но, в первую очередь, о «возрождении России» и ее народа. «Но Россия, наша Родина, должна быть спасена, должна снова сделаться свободной, должна возстатъ из бедствий и падения для новой, лучшей жизни»". Он мечтал о «возрождении России, воскресении ее счастья, благосостояния, ее силы и свободы»12. По его мнению, это было возможно лишь в том случае, если весь русский народ отважится начать все сначала.
Как раз эту цель и преследовал Романов в своем произведении. Он опасался всеобщей бездуховности, пустоты, невежества и нежелания изучать историю человеческого общества. Поэтому высокими и, одновременно, запутанными словами он призывал народ вспомнить свои традиции, свои исторические корни. Его книга была направлена на предотвращение опасности духовного обнищания и в то же время она была попыткой зажечь путеводные огни на пути людей, читай: русского народа к нематериальным потребностям.
Романов считал себя музейным сотрудником, в задачи которого входит просвещение народа: «Стремясь создать новую Россию, возстановить ея богатство и силу, мы должны, в особенности, позаботиться о том, чтобы спасти, собрать и сохранить эти высшия ценности духа, сокровища ума и знания, произведения искусства или ремесла, облагороженного красотой искусства. Необходимо помнить, что все эти духовные сокровища станут достоянием детей наших, которые должны быть образованнее, лучше и счастливее нас»13.
Мы не ошибемся, назвав автора этих строк человеком, не имевшим ничего общего с большевистским переворотом, оставшимся на своем посту, патриотичным музейным работником, который, может быть, никогда и не стал бы обращаться к общественности, не видя страшного духовного упадка Советской России, человеком, которым и не могла овладеть мания будущего уже в силу его профессии, короче, консерватором, хранителем в исконном значении этого слова. «Все эти памятники, церкви, картины, резные украшения или многоцветные вышивки, все это нам близкое, родное, что связывает нас с предками, с прошлым, с окружающими и со всеми вообще людьми в общих мыслях и чувствах»14.
В этих словах выражена еще одна мысль Романова. Смысл анализа и интерпретации настоящего, его связь с прошлым он видел не в воспитании индивидуальности, а в создании сообщества людей. Связь человека с историей, с культурой в материальной форме и в форме человеческого общества, вносит свой вклад в создание коллектива. Под коллективом он понимал не социальную единицу, а народ. Конечная и высшая задача местного музея виделась ему в том, чтобы «всегда напоминать и давать каждому чувствовать, что, будь он горожанин, ремесленник, рабочий или крестьянин, он прежде всего есть человек в высшем смысле слова»15.
Мысли о работе над прошлым, а также понятие народа симптоматичны для высказываний Романова. Они отразились и на его концепции музеев. Только музей может перекинуть мостик между прошлым и современностью. Романов придавал большое значение духовным переживаниям особого рода: «Как в храме все возносит наши мысли к Богу, так в музее собрание предметов, взаимно дополняющих друг друга, имеет свой определенный смысл, который постепенно выясняется видящими все эти предметы, сам собой или с помощью некоторых пояснений»16. Романов подчеркивал, что только музей, доступ в который открыт всем без исключения, может стать новой школой духа, у истоков которой стоят демократические идеи прошлого столетия. «Русский народ не получает никакого образования, (но) его душе нужен свет, и му
зеи способны дать знания и пробудить в душе каждого множество светлых мыслей и устремлений. <...> В музеях люди приближаются к вещам, рассматривают их, и эти непосредственные впечатления становятся основой их духовного развития»11. Музеи выполняют «задачу сохранения духа», поскольку их экспозиции носят продуманный характер и сообщают посетителю о наличии определенного смысла у его собственного бытия. Автор полностью ставит музей на службу народной педагогике, просвещения пока еще не проснувшихся масс, безвинно страдающих в духовной темноте.
На основании этого произведения можно отнести Романова к типу интеллигента, не принадлежавшего ни к какому конкретному политическому течению, не говоря уже о партии. По отношению к ценностям он выступает консерватором, не проявлявшим интереса к политической системе ни до, ни после 1917 года.
В этом смысле Романов остался верным себе, требуя создания музеев местного значения и отвергая идею централизации, т. к. он считал, что только такой музей способен познакомить людей с историей, жизнью и духовным наследием данной местности. Этот пункт был для Романова решающим. Его интересовала не какая-то абстрактная культура, знания и ценности, для него это были вещи конкретные, которые можно было предъявить лишь в контексте определенной местности во всей их противоречивости. То же самое касалось и истории, которую люди, проживающие в данном регионе, должны считать своей. Эта идея звучит современно, перекликаясь с девизом наших дней, гласящим «Копай там, где стоишь». В России слишком много регионов со своей собственной историей, Россия слишком разнообразна для того, чтобы можно было создавать центральные музеи такого рода — негативная, с точки зрения Романова, перспектива. Он писал, что нельзя показывать одинаково жизнь Москвы и какого-нибудь уезда Самарской губернии.
Наряду с произведениями местного искусства Романов предлагал включать в экспозиции музеев и свидетельства духовной жизни данной местности. Это могли быть следующие экспонаты: старые инструменты, военная форма, знаки разли-
чин, планы укреплений, исторические документы, монеты и медали, записи, описания исторических событий и памятников, описания практической деятельности земств, как то: прокладка дорог и возведение мостов, строительство больниц, домов народа а также организации сферы услуг и кооперативов18. Он считал, что стиль работы музеев ни в коем случае не должен отпугивать людей. Прежде главная задача музеев состояла в собирании различных предметов, что было выражением своего рода «охранительной психологии» и производило впечатление неприязненного отношения к публике. Требование Романова гласило: музей активный, живой, поддерживающий тесный контакт с населением и открытый для него. «Каждый музей является не только храмом науки, но и, в первую очередь, школой, доступной для всех, в которой никогда не прекращается работа на благо просвещения»19. Здесь люди начинают ценить науку и искусство, часто становящиеся жертвами духовной темноты, вносящие цивилизованность в «дикарские обычаи»20.
Мы цитируем Романова так подробно потому, что из его концепции музеев явствует, что в этой области речь шла не только об устройстве экспозиций и сборе потенциальных экспонатов. Ее ценность становится очевидной на фоне культурных планов большевиков. Его взгляды перекликаются с приводившимися в предыдущей главе мыслями теоретиков экскурсионного дела и по своим целевым установкам и тону близки к высказываниям Гревса. По сравнению с большевистской концепцией музеев, речь о которой еще будет впереди, у Романова налицо иногда преувеличенная, даже слепая или наивная вера в образовательную силу музеев; но между ними можно наблюдать и сходство, которого мы уже коснулись ранее. И коммунисты, и дореволюционные просветители не видели проблемы в том, чтобы усовершенствовать человека и вывести его из невежества. Но, пожалуй, эта единственная общая их черта. Романов ни в коем случае не был представителем теории tabula rasa, однако он несокрушимо верил в подверженность духовного мира человека и его мировоззрения влияниям.
Романов не был одинок в своих убеждениях. Большей из
вестностью по сравнению с ним пользовался И. Э. Грабарь, считавшийся в Советском Союзе одним из ведущих специалистов по истории искусства послереволюционного и довоенного времени, сам художник, всегда хорошо ориентировавшийся в политических требованиях эпохи. В 1919 г. мнения Грабаря во многом совпадали со взглядами Романова. Он также говорил о необходимости охраны и собирания культурного наследия страны в годы перелома, «потому что наше прошлое во многих отношениях является для нас путеводной звездой в дальнейшем сторительстве»21. В отличие от своего коллеги Грабарь с самого начала произвел сортировку: хорошее следует сохранить, а все плохое, что было в старой культуре, нужно отбросить, не объяснив читателю, по каким критериям он собирается производить отбор. В то время будущий дворец советского искусства (одна из его типичных туманных формулировок, допускавших различную интерпретацию, в зависимости от политических обстоятельств) пока еще стоял одной ногой в лагере Романова, однако Грабарь не разделял представлений последнего об обусловленности человеческого бытия средой и временем. Подход Грабаря к музейному делу с самого начала был не философским, а, скорее, прагматичным и конкретным22.
В труде Романова представлен самый полный перечень принципов устройства регионального музея, основанный на опыте заграничных музеев такого типа. В России тоже имелся некоторый опыт. Мысли Романова смогли найти воплощение, прежде всего, в краеведческих музеях, отдельные из которых возникли уже в ходе Гражданской войны, а по ее окончании стали особенно активно создаваться во всех частях Советской России. В 1927 г., после того как идея централизации победила и на первый план вышел «красный музей», организация региональных музеев все еще продолжала получать поддержку23. Причиной этому было не только то значение, которые имели местные музеи для конкретного региона, на заднем плане сквозила мысль об их просветительской роли, выраженная в произведении Романова. Региональный музей был пунктом, вокруг которого велись жаркие идеологические споры. Неудивительно, что именно среди краеведов
и их музейных экспертов находилось много противников узкой направленности музеев, которой требовали партийные круги.
Слова «Каждый музей должен быть зеркалом своей страны или своей местности», как эхо, вторят высказываниям Романова24. Местное искусство, исторические памятники быта должны были стать экспонатами, рассматриваемыми не только как предметы искусства, но и как объекты, имеющие историческое и социальное значение. С этим было связано отсутствие четкого понятия краеведческого музея, в связи с чем их деятельность не ограничивалась показом природных условий данной местности, ее экономики и населения, а распространялась и на историю, и на быт региона.
На 1927 г. ситуация по местным краеведческим музеям была такова: всего на территории Советского Союза их было 576, из них 456 располагались на территории РСФСР, 111 музеев находились в областях и губерниях, 227 — в уездных и окружных центрах, 118 — в волостях25. В 1917— 1921 гг. в РСФСР начали работу 148 музеев (90 музеев существовало до 1917 г.26). После 1926 г. их прирост замедлился: 37 музеев появилось с 1922 до 1924 г., 14 — в 1925 г. и 7 — в 1926 г. В начальный период советской власти многие музеи организовывались по инициативе населения27 при сотрудничестве представителей местной интеллигенции, занимавшихся краеведческой работой еще до революции и оказывавших помощь уже существующим музеям28. Но в состав краеведческих организаций, которых на 1 сентября 1927 г. на территории РСФСР было зарегистрировано 81429, входили не только образованные люди. Общая задача объединяла государственных служащих, профсоюзных работников, рабочих и крестьян, в некоторых случаях представителей молодого поколения30.
К примеру, в Воронежской губернии Музей археологии и краеведения был основан уже в 1894 г. Его развитием занимались, главным образом, член Московского археологического общества П. С. Уваров и Губернский комитет статистики в лице Н. И. Второва, Л. Б. Вайнберга и С. Е. Зверева31. Уже во время Гражданской войны они занялись обогащением му
зея экспонатами, выпустив декрет губернского Совета с требованием о предоставлении в распоряжение музея дубликата каждого документа. В это время палеонтолог С. М. Замятин стал свего рода spiritus rector музея, он занимался обучением «учеников», вскоре начавших публиковать свои собственные этнографические исследования. На Урале краеведение сделало первые шаги в 1871 г., с появлением Уральского общества любителей естествознания32. В 1914 г. им было создано уже 6 музеев, в 1920 г. — 16 и в 1928 г. — 44.
Однако эти цифры освещают лишь одну сторону музейного дела. Мы привели их для того, чтобы пояснить, что в первые годы советской власти без участия государства возник ряд музеев, задуманных как учреждения народного просвещения. Они говорят о научной деятельности, осуществляемой вне контроля со стороны государства, в сфере народного просвещения, считавшейся исконной прерогативой государства. Они показывают также, что среди непрофессионалов наблюдалась тяга к работе, направленной на поиск своей истории. Никто и не думал создавать музеи пролетарского искусства и быта.
В противовес к этим тенденциям сформировалась официальная сеть музеев Советской России и Советского Союза, в которую постепенно вошли названные учреждения, хотя не обошлось и без проявлений некоторого недовольства по поводу попыток проведения слишком сильной централизации и введения управления местными музеями сверху.
Вопрос о том, нужны ли музеи и если да, то в какой форме, волновал и большевиков. После Октябрьского переворота среди коммунистов царило редкое единодушие по отношению к вопросам такого рода. Усилия нового режима, направленные на сохранение в стране произведений искусства дореволюционного времени, не находятся в противоречии с этим. Однако большевиками руководила не идея создания музеев. В телеграмме от декабря 1917 г. Ленин постановлял хранить ценные предметы, конфискованные в одной из помещичьих усадеб, поскольку они являются «достоянием народа»33. Затем правительство выпустило два декрета, направленных на сохранение этих достояний внутри страны. О декретах от
ф« л1 Глава восьмая ии.ои'даЙ
19 сентября 1918 г. «О запрете вывоза и продажи предметов особого художественного и исторического значения за границу»34 и от 5 октября 1918 г. «О регистрации, оценке и сохранении предметов искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений»35 можно, в принципе, сказать то же самое. Можно сказать, что все эти меры были направлены на обеспечение гарантий сохранения искусства и культуры, на которые новый режим предъявлял претензии от имени народа. Этим и исчерпывались намерения новой власти. Речь шла об обеспечении гарантий безопасности имущественных ценностей, для чего пришлось прибегнуть даже к помощи местных органов тайной полиции, спасение же искусства как такового волновало правительство в меньшей мере. Счет обнаруживаемым ценным предметам велся на пуды, т. е. на вес, никого не интересовал их внешний вид, возраст или художественная ценность36. Ни в одном из двух текстов декретов нет ссылок на концепцию об устройстве музеев. Основой создания будущей сети музеев Советской России и Советского Союза их можно назвать с очень большой натяжкой, лишь постольку, поскольку впоследствии они предоставили музеям сохраненные вовремя экспонаты. Советская литература проводит связь между этими декретами и развитием музейного дела в дальнейшем, что представляется нам неприемлемым в такой форме. Еще меньше можно истолковать эти меры, к которым относится и конфискационная кампания 1922 г.37, как попытку большевиков вписаться в историческое развитие посредством присвоения стоявшей за конфискованными предметами истории.
Однако здесь можно говорить о связи другого рода. Уже 28 мая 1918 г. при Наркомате народного просвещения был образован Отдел по делам музеев и охране памятников, в задачи которого входила выработка общегосударственного плана создания музеев и популяризация музеев среди населения38. Но большевиков в его составе не было. В первые годы советской власти музейным делом ведали исключительно не-коммунисты, а люди, занимавшиеся этой работой еще до революции. Еще до 1918 г. у этих экспертов созрели концепции нового подхода к музейному делу в условиях, изменивших-
ся, как им казалось, к лучшему. Музей был для них местом, в котором они могли претворить в жизнь свои взгляды на просвещение и культуру.
С целью внесения предварительной ясности в музейное дело была созвана Первая Всероссийская конференция по делам музеев, проходившая 11—16 февраля 1919 в Петрограде, в Зимнем дворце. В ней приняли участие, в частности, Нарком просвещения Луначарский, а также художники (Н. Н. Пунин, С. В. Чехонин и др.), искусствоведы, например, уже знакомый нам И. Э. Грабарь, естествоиспытатели, например, зоолог Ф. Ю. Шмидт, географ и музеевед В. П. Семе-нов-Тян-Шанский, сын знаменитого географа П. П. Семенова-Тян-Шанского, искусствовед Н. Я. Марр, а также музейные эксперты, среди которых был и упомянутый выше Романов39. На конференции обсуждались главным образом три вопроса: степень научности музеев, и в связи с этим — кому должен быть открыт доступ в них и, наконец, о целесообразности централизации музеев.
Одна группа выступила против концепции создания музеев для народа. По ее мнению, эти учреждения должны были являться, в первую очередь, оплотом науки. Некоторые участники во главе с Пуниным, настойчиво сопротивлялись централизации музеев, выступая за создание и сохранение местных музеев. В конце концов победила точка зрения Грабаря и Шмидта. По их предложению в конце конференции был заключен компромисс между сторонниками научности музеев и приверженцами популяризации науки среди самых широких кругов посетителей. Суть компромисса заключалась в централизации музеев и переходе управления ими в руки специалистов, назначавшихся сверху. Грабарь предусматривал создание единой сети научных музеев согласно намеченному плану.
За исключением группы, требовавшей предоставить музеи только для научной работы, все остальные участники конференции были едины во мнениях по поводу просветительской роли этих учреждений. Луначарский подчеркнул это в своей вступительной и заключительной речи, назвав музеи «грандиозной памятной книгой истории»40. Поэтому главной их за
дачей являлось не столько сбор экспонатов, сколько ориентация на посетителей. По его словам, экспонаты «должны утолять жажду знаний и поддерживать стремление народных масс к культуре»41. Против этого принципа возразить было нечего, и он продолжал действовать в этой своей форме до конца двадцатых годов. Журнал «Музей», основанный в 1923 г., высказывался о просветительской работе как о важнейшей составной части деятельности музеев, призывая музейных сотрудников знакомить посетителей с некоторыми сложными научными проблемами в популярной форме. Журнал декларировал неразрывную связь просвещения и науки, усматривая в этом путь к демократизации науки42.
Однако вопрос централизации остался нерешенным. Ф. И. Шмит из Харькова, сам имевший большой опыт музейной работы, опубликовал ответ на книгу Романова. Он предлагал распределить музеи по отдельным, не зависимым друг от друга отраслям, оправдывая свою идею тем, что потребности научного работника в корне отличаются от потребностей обычного посетителя: вопросы, представляющие интерес для историка, не занимают широкую публику. Для желающих углублять свои знания, писал он, должны быть созданы специальные учебные музеи, а остальные могут прекрасно обойтись не столь систематичными, но обязательно привлекательными «общественными» музеями43. Кроме того, автор считал тесную связь музеев с государством высшим благом: он предлагал сосредоточить все музеи под крышей компетентного и сильного в административном плане ведомства, а также перевести их на полное финансирование государства. Регионализм он считал делом бессмысленным, приводя доводы в защиту своей позиции. «Представьте себе, — писал он, — что в где-нибудь в глухом уезде была любимая усадьба богатого помещика, влюбленного в искусство, да еще получившего от своих предков в наследство и картинную галерею, и фамильный фарфор, и мебель XVIII века и французскую библиотеку; представьте себе, что зто имущество каким-нибудь чудом — такие чудеса бывают! — уцелело, стало общественною собственностью, и местные просве
щенные люди устраивают волостной музей и туда помещают и картины, и фарфор, и мебель, и французские книжки. Но там никто ничего не понимает в них»44. Но, несмотря на свою идею о функциональном разделении музеев, Шмит не возражал против их просветительской функции.
Наркомат народного просвещения с самого начала взял музейное дело под свою опеку, но это нельзя расценивать как акт централизации. Уже в ноябре 1917 г. была образована Всероссийская коллегия по делам музеев и охраны памятников старины и искусства. В мае 1918 г. она стала самостоятельным отделом по делам музеев при названном наркомате45. В результате многочисленных переструктурирований Отдел по делам музеев попал под начало Главного отдела по делам научных и культурных учреждений Наркомата Народного просвещения (Главнаука), созданного в 1921 г.46 Ни эта перестройка, ни даже создание комиссии по делам провинциальных музеев, в состав которой вошел и Н. И. Романов, не привели к осуществлению централизации, по поводу чего в передовой статье первого номера журнала «Музей» заявлялось, что строительство музеев ведется без всякого плана и без всякой программы47. Даже в одной из фундаментальных работ, посвященных организации музеев в первые годы советской власти высказано мнение о том, что руководство музеями из центра осуществлялось только на бумаге и вся сеть музеев отличалась отсутствием какой-либо системы48.
При изучении источников создается впечатление, что государство в лице Наркомата просвещения и в самом деле было организационным центром музейного дела. Музеи считались мощным орудием народного просвещения и поэтому передача их под патронаж этого ведомства представлялась самым разумным решением. Но было бы ошибкой считать этот институт движущей силой развития всероссийской, не говоря уже о всесоюзной, музейной сети. Решение, принятое Петроградской конференцией, было проигнорировано наркоматом. Сейчас уже невозможно определить, чем это объяснялось: принципом или оказанием предпочтения региональному пути развития. Численное превосходство в этом отделе крае-
uwqoi? Глава восьмая мжю& ведов заставляет склониться, скорее, в сторону последнего предположения.
Как мы уже отметили, в состав отдела входили исключительно специалисты царского времени. Это означает, что большевики не могли влиять на политику молодой советской власти в области музейного строительства с ее просветительским содержанием и целями, и все их вмешательство ограничилось только помещением ее под ведомственную крышу. Очевидно, Луначарский не хотел мешать работе музейных экспертов. Подобно теоретикам экскурсионного дела, полностью контролировавшим свою сферу в составе того же ведомства, музейные работники обладали неприкосновенностью в своей области49. Видимо, Луначарский был вполне доволен их работой, о чем он заявлял в письме академику С. Ф. Ольденбургу, председательствующему на проходившей в те дни Петроградской губернской конференции по вопросам музеев: «Как Вы знаете, в моих отчетах ВЦИК и съезду Советов я обычно с гордостью напоминаю о невероятных, в моих глазах, результатах как в области сохранения, так и в области развития музейного дела, результатах, за которые мы непременно обязаны усердию и самоотдаче музейных работников»50. Приятная похвала, выраженная сердечными словами, переданная журналом «Музей» тем, кто ее заслуживал.
Более поздняя советская литература не разделяла столь лестного мнения по поводу успехов музейных работников. Темпы развития музеев сдерживались недостатком кадров, писали авторы впоследствии, т. к. «музейные эксперты старого поколения лишь постепенно, на протяжении долгого времени освобождались от груза прошлого»51. Новых специалистов еще предстояло воспитать, так что музейное дело продолжало находиться под влиянием «консервативного течения», видевшего свою цель в «сохранении традиций буржуазного музееведения»52. По мнению автора, переструктурирование музейного дела тормозилось незнанием марксистско-ленинской методологии53. План идеологической реорганизации музеев в сторону «большей близости режиму» в двадцатые годы осуществить не удалось, теория сохранила свои буржуазные черты в
самых существенных пунктах, т. к. ответственные за проведение реорганизации лица были приверженцами буржуазных концепций54.
Если не заострять внимания на том, что марксистско-ле-, минская методология вступила в свои права в отдельных научных дисциплинах не сразу после победы Октябрьской pe-w волюции, — как нам порой пытается внушить литература — ей пришлось пройти долгий путь развития, то остается выяснить, каким авторы представляли себе музей, в большей степени соответствовавший идеологии режима, чем все те музеи, которые крепко держали в своих руках «буржуазные» специалисты. Потому что, несмотря на оказание Наркоматом просвещения поддержки, хотя и пассивной, буржуазным специалистам, несмотря на то, что у административного руля музейного дела остались те же люди, постепенно возникла сеть «красных» музеев, которые со временем стали доминировать, пользуясь безоговорочной поддержкой определенных партийных кругов, сплотившихся вокруг Истпарта, — Отдела по вопросам истории партии при ЦК Коммунистической партии. Имеются в виду музеи истории революции, развивавшиеся параллельно со многими другими музеями более общей тематики, числившихся как краеведческие.
Ответная советская концепция
Последние предложения отсылают нас к началу данной главы, где говорилось о связи с историей послереволюционного проекта культуры и идеала человека. Мы отметили, что проекты местных музеев рассматривали человека как часть его экологического и социального окружения, так что, если отвлечься от всех риторических и национальных нагромождений и свести их к основной субстанции, то можно считать их концепцией, постулировавшей longue duree, в то время как представители революционного мышления как бы отрезали современного человека от истории. Итак, в центре внимания краеведов находился человек и местное общество, а не вопросы большой политики. Природа и среда были для них факторами, отражавшимися на жизни и устройстве общества, — и что важнее всего — эти сферы не разделялись, краеведы
видели в них единое целое, сочетание условий, среду, окружающую человека.
В первой главе речь, в частности, шла о том, что если режим сдает революцию в музей, он считает ее завершившейся. Следовательно, музеи революции выполняли важную функцию посредника между политикой и населением; с точки зрения нашей темы в них отражалась и самооценка нового режима.
Идея создания музея революции была высказана впервые в 1919 г. в Петрограде. Это неудивительно, поскольку там находились крупные архивы царской империи, этот город, резиденция самодержавия, был центром революционного движения, отсюда начали свой путь революции 1905 и 1917 гг., в нем или неподалеку от него находились «центральные царские бастилии»55: Петропавловская крепость и крепость Шлиссельбург.
В мае 1919 г. состоялась встреча Луначарского с писателем Максимом Горьким, революционеркой прошлых лет Верой Фигнер и др., целью которой являлось обсуждение вопроса о создании в Петрограде и Москве двух центральных музеев революции и ряда подчиненных им филиалов на местах56. В день празднования второй годовщины Октябрьской революции в бывшей столице музей начал свою работу.
Экскурс: О безысторичности монументальной пропаганды 1918 г.
Открытие нового музея представляло собой не первый, но качественно новый шаг на пути историзации революции. Что же предшествовало этому? Декрет «О памятниках республики», подписанный председателем Совета народных комиссаров, Лениным, а также народными комиссарами Луначарским и Сталиным, положил начало короткой фазе распространения монументальной пропаганды. Памятники царей и их прислужников планировалось снести и убрать в хранилища те из них, которые обладали исторической или художественной ценностью. Остальные намечалось пустить на переработку. Декретом предусматривалось уже к 1 мая
1918 г. убрать все основные памятники старого времени и установить «первые модели новых памятников» с тем, чтобы «представить их на суд масс». После этого начали устанавливаться скульптуры, бюсты, мемориальные доски, с изображениями корифеев революции или революционных событий57. На фасадах общественных зданий писались лозунги и цитаты революционеров. 30 июля 1918 г. Совет народных комиссаров утвердил список тех лиц, которым предстояло воздвигнуть памятники58, были убраны памятники царям Александру II и Александру III в Кремле и прилегающем к нему Александровском саду, а также памятник генералу Скобелеву на площади Московского горсовета. На обелиске, установленном в 1913 г. у Кремлевской стены в честь трехсотлетней годовщины воцарения династии Романовых, на месте царских имен выгравировали имена российских и западноевропейских революционеров: Маркса, Энгельса, Плеханова, Пестеля, Рылеева, Герцена, Халтурина, Спартака, Марата, Дантона, Люксембург, Либкнехта и др. Первый монумент был установлен на Триумфальной площади Москвы; когда 6 октября 1918 г. с него был снят покров, взорам народа предстал бюст писателя Радищева, отбывавшего ссылку в Сибири в 1790—1797 гг. 3 ноября 1918 г. в Советском Союзе увидели свет бюсты Робеспьера, украинского поэта и борца за свободу Т. Г. Шевченко, а также его русских коллег И. С. Никитина и А. В. Кольцова. В день празднования Первой годовщины Октябрьской революции на Площади революции (в то время еще называвшейся Театральной), напротив здания Московского горсовета, на месте памятника Скобелеву в Москве воскресли Карл Маркс и Фридрих Энгельс в виде обелиска с цитатой из текста первой Конституции Советской России, Генрих Гейне — на Страстном бульваре, в других местах — русский революционер Степан Халтурин, французский коммунист Жан Жоре, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Дантон, Байрон, Бакунин, Герцен и Огарев, предводитель крестьянского восстания 1606— 1607 гг. Болотников, Виктор Гюго и др.
Установление этих бюстов было встречено некоторыми москвичами с неодобрением. Они видели в этом политиче
ский акт. В ночь с 6 на 7 ноября 1918 г., три дня спустя после открытия, Робеспьер был взорван на воздух «белогвардейской гранатой»59, то же самое произошло с бюстом убитого в 1918 г. большевика Володарского. Не снискали памятники одобрения и с эстетической точки зрения. Памятники, изготовлявшиеся в спешке, были сделаны, большей частью, из гипса, т. е. из очень недолговечного материала. Кроме того, люди находили отталкивающими их формы, не понимая авангардистских экспериментов в стиле кубизма. Так что эти памятники простояли на улицах Москвы недолго и вскоре были отправлены в музей.
Монументальную пропаганду такого рода, исчезавшую, так же быстро, как она появлялась60, принято связывать со сверхсильным желанием Ленина легитимировать революцию61. Однако такую трактовку вряд ли можно назвать верной. Единственное, что связывало Спартака с Розой Люксембург, Гарибальди с Бабефом, Оуэна с мятежным крестьянином И. И. Болотниковым, Генриха Гейне с пролетарским революционером и «мучеником» русской революции 1905 г., Бауманом (на которого поэт из-за плебейского происхождения последнего наверняка смотрел бы с чувством презрения и великого опасения за судьбы искусства) так это то, что все они своими речами, книгами и действием заступались за слабых мира сего и вынашивали смелые идеи о светлом будущем. В один ряд с ними ставили себя большевики, ставил себя Ленин, питавший симпатии к монументальной пропаганде до тех пор, пока сам имел возможность видеть эти бюсты.
В общем-то речь здесь шла не столько об истории, сколько об идее, время от времени всплывающей в истории. Это была идея социальной обусловленности борьбы с господствующим классом. Очевидно, большевики ассоциировали эту идею со своей историей — только в этом случае можно говорить о верности формулировки об исторической легитимации. Этими монументами они стремились замаскировать отсутствие своей собственной истории с помощью сконструированной преемственности. Только постулат преемственности идеи обеспечивал им возможность ее великолепного исторического
завершения. В этом состояла историчность посыла, который большевики попытались выразить в монументальной пропаганде: идея, за которую шла борьба с незапамятных времен, за которую страдали и умирали люди, в России нашла свое выражение только в лице Коммунистической партии. Но по сути своей этот посыл был глубоко неисторичен, т. к. с его помощью большевики стремились внушить народу мысль о том, что достигнут конечный пункт, цель, идея стала реальностью. Произведения кубизма и конструктивизма вернулись в безысторичность. Они замолкли, т. к. с наступлением века воплощенных идей их словесный запас вскоре иссяк. С утратой процессуальности стало возможным заменять одни идеи другими, содержание их нивелировалось, Гейне, Спартак, — это были всего-навсего реквизиты, которыми можно было жонглировать, заменять один на другой, не нанося никакого вреда идее.
Против утверждения, что с помощью монументальной пропаганды большевики якобы стремились оправдать свое господство, говорит еще один пункт. Мог ли Ленин, «отец» монументальной пропаганды, согласиться с интерпретацией истории, в которой ни словом не упоминалось о массах, а революция подавалась — и то не всегда — лишь как дело рук великих мужей? Женщины при этом, как видно, не сыграли никакой роли; Роза Люксембург и Софья Перовская, совершившая покушение на царя в 1881 г. и впоследствии казненная, были единственными женщинами, — в знак признательности за свои муки? — удостоившиеся чести быть включенными в портретную галерею мятежных предков и революционеров. Едва ли можно заподозрить в этом вождя революции. Таким образом, монументальная пропаганда имела очень мало общего с историей.
Следовательно, вопрос о том, являлась ли монументальная пропаганда подходящим средством для демонстрации советскому народу намерений режима, требует более пристального рассмотрения. Позволим себе усомниться в том, что незнакомые или неузнаваемые благодаря авангардизму скульпторов лица, ни о чем не говорившие советскому народу имена могли способствовать популяризации режима. Этот аспект
Глава восьмая также говорит против «искаженных» художниками воплощений идеи.
Вернемся к музеям. Более серьезная, хотя и чрезвычайно рискованная попытка показа связи режима с прошлым, увенчалась большим успехом. Не случайно создание музеев революции началось после провала монументальной пропаганды, хотя собирание «революционных» предметов и письменных документов времен переворота было начато уже в 1918 г.62 В 1919 г. Петроградский музей революции получил свой первый устав. Отныне в его задачи входил сбор всевозможных материалов по истории революционного движения, обработка научных и литературных материалов, издательская деятельность и создание памятников по различным эпохам революционного движения63. Но такая направленность музея не означала, что в его научном совете сидели только испытанные революционеры. Консультантами Петроградского музея были, в частности, историк П. Е. Щеголев, уже упоминавшийся С. Ф. Ольденбург, член Академии наук с 1900 г., искусствовед Н. Я. Марр, член Академии наук с 1912 г., вступивший в партию лишь в 1930 г., одна из издателей «Красной летописи», член Отдела по вопросам истории партии при ЦК Коммунистической партии (Истпарт) П. Ф. Кудели, большевик со стажем Б. П. Поцерн и др. Есть основания полагать, что преподаватель истории советского государства М. Н. Покровский, с мая 1918 г. выполнявший функции заместителя наркома народного просвещения, и, наряду с этим, председателя Научно-музейной секции при Государственном ученом совете, не играл ведущей роли в этом совете, которую приписывают ему советские источники64. Многие из провинциальных музеев революции прибегали к помощи «буржуазных» профессоров и консультантов царского времени65.
Москва отставала от Петрограда по темпам создания историко-революционного музея. Лишь к X съезду партии в 1921 г. в Доме Советов там состоялась выставка, посвященная истории РКП(б). Она была организована сотрудниками Центрар-хива В. В. Максаковым и В. П. Викторовым. Выставка легла в основу проекта создания Музея революции, начавшего при-
нимать конкретные формы летом 1922 г. При Историческом музее была образована инициативная группа, в обязанности которой входила организация Музея красной Москвы. С согласия Отдела по делам музеев при Наркомате народного просвещения в 1923 г. музей переехал в здание бывшего Английского клуба на Тверской улице. Он начинал с шести помещений на втором этаже, т. к. дворец использовался и в других целях. В 1927 г. он занимал уже 30 помещений66. До июня 1924 г., в котором он перешел под управление Центрального исполнительного комитета СССР и был переименован в Музей революции СССР, он находился в тени Петроградского музея.
Существенную помощь в создании Центрального музея революции в Москве, в сборе материала и разработке линии исторического развития, оказали Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, члены которого Вера Фигнер, Ф. Я. Кон и др. находились в непосредственном сотрудничестве с ним, Общество старых большевиков, член которого С. И. Мицкевич с 1924 по 1934 гг. был директором музея, а также Общество историков-марксистов, основанное в 1925 г.67 С целью установления более тесной связи с народом Мицкевич предложил создать Всесоюзное общество друзей Музея революции (ВОДМР). Его устав был разработан уже в 1927 г., но свою работу общество начало лишь в 1931 г.68
Несмотря на наличие людских и научных ресурсов, дело создания музеев революции практически не двигалось с места. По сравнению с другими учреждениями они прозябали. Прежде всего, инициаторам создания историко-революционных музеев не удалось превратить их в отдельную отрасль советского музейного дела. Несмотря на постоянное увеличение объема потенциальных экспонатов — до 1926 г. Музеем революции СССР в Москве было собрано 24 000 предметов, Ленинградским музеем революции — около 22 000, Харьковским музеем — свыше 26 00069, эта отрасль продолжала оставаться на вторых ролях. Неудовлетворительная обработка материалов, плохое качество экспозиции, нехватка квалифицированного персонала привели к тому, что вплоть до второй
половины двадцатых годов музеям «альтернативной истории» коммунистов было не под силу тягаться с краеведческими музеями. В то время, как краеведческие музеи имелись во многих городах и селах, большевистская отрасль была представлена лишь в немногих городах; в 1923 г. в целом в стране насчитывалось 25 Музеев революции, обстановка в которых была столь же беспорядочной, что и в Московском музее70.
На основании имеющихся данных можно заключить, что перемены в Музеи революции пришли лишь с наступлением 1927 г. Предстояло празднование десятой годовщины Октябрьской революции, и к этой дате государство приурочило демонстрацию достигнутых за годы советской власти успехов, в которую входило и напоминание о том, как все начиналось71. Так, в январе специалисты по истории партии решили создать движение по сохранению предметов, имеющих отношение к революции. Инструкцией от 16 мая 1927 г. Центральный исполнительный комитет поддержал эту инициативу, исходившую, главным образом от Н. М. Дружинина. Это имело следствием значительное увеличение числа охраняемых государством предметов и объектов, связанных с историей революции72. Одновременно были предприняты шаги по фундаментальной перемене принципа оформления музейных экспозиций: на первый план вышел аспект классовой борьбы, оттеснив на задний план все остальное, «интересовавшее музей лишь в том случае, если оно имело непосредственное отношение к революционному движению», по словам одного из более поздних исследований, в результате музеи приобрели «более узкий революционный профиль»73. Привело ли это, в конце концов, к оказанию «большого эмоционального влияния на посетителей»74, судить трудно.
Выдвинувшись на передний план, марксисты-историки и музейные работники в том же самом году начали вмешиваться в деятельность краеведческих музеев, в которых уже с 1925 г. начали создаваться первые отделы истории революции. Это аргументировалось необычайной широтой краеведческой тематики, позволявшей включить в местные музеи
еще и отражение вопросов классовой борьбы. «Вопросы историко-революционные в жизни данного края являются не менее актуальными для местных музеев, чем изучение его природы, хозяйства и бытовых комплексов»75. В соответствии с этим на III Всероссийской конференции по краеведению, проходившей в 1927 г., было выдвинуто требование о добавлении к уже существовашим отделам (как правило, это были отделы естественной истории, культурно-исторические, общественно-экономические и художественные) отдела, посвященного истории революции76.
Один из глубоко укоренившихся принципов краеведческих музеев нарушался следующим требованием: если в каком-либо городе имелся и Музей истории революции и, краеведческий музей, тогда последним было необязательно создавать у себя особый отдел по истории революции. Это шло вразрез с принципом взаимосвязанности различных сторон жизни, которому придавало такое большое значение старое поколение музейных работников. Это требование разрывало жизнь, которую они стремились показать во всей ее целостности, на революцию и все остальное.
Целью новшества являлось «вызвать у массового посетителя отделов истории революции большой эмоциональный подъем революционного чувства и расширить его политический горизонт»77. В постановлении говорилось об общих принципах оформления новых отделов, об их содержательной стороне (классовая позиция, движущие силы революционного движения, диалектика развития революции), об экспонатах.
В этом наступлении на нереволюционную и «некоммунистическую» сферы народного образования присутствовала некоторая курьезность. Очевидно, никто не подумал о том, что далеко не каждый уезд, имевший свой Краеведческий музей, обладал историей революционного движения, в ходе которого имели место, например, хоть сколько-нибудь достойные упоминания крестьянские восстания. Создается впечатление, что требование по созданию историко-революционных отделов необходимо было выполнить любой ценой. В нем ни словом не упоминалось о том, как местным музеям решить
проблему отсутствия экспертов по истории революции, ведь в противном случае планируемые отделы должны были создаваться музейными сотрудниками, над которыми довлело царское прошлое.
Тенденцию в развитии музейного дела, проявившуюся к концу двадцатых годов, вкратце можно охарактеризовать так: по сравнению с музеями привычного типа, занимавшимися декларированной ими образовательной и просветительской деятельностью, пользовавшимися поддержкой Наркомата народного просвещения, стало постепенно набирать силу политическое течение. Оно находилось под патронажем не Наркомата народного просвещения, а Центрального комитета партии, т. е. высшего партийного института, т. к. Истпарт, Отдел по вопросам истории партии, состоял в непосредственном подчинении этого органа. Историко-революционным музеям пришлось столкнуться с серьезными организаторскими и содержательными проблемами. Можно было предвидеть, что при таких обстоятельствах административный исход борьбы решится в пользу Музеев истории революции. Так оно и случилось в 1927 г.
Этот год был поворотным не только в организационном плане. Десятая годовщина Октябрьской революции побудила большевиков подумать о своей истории, об истории победы. Юбилей подтолкнул к созданию истории режима, в которую волей-неволей пришлось включиться всем музеям. Кроме того, в музеи превратились почти все места, в которых Ленин провел более или менее продолжительное время78. В 1927 г., в год празднования годовщины Октябрьской революции, стало оказываться более ощутимое давление на музеи, являвшиеся резиденцией буржуазных ученых, одновременно с этим пробивала себе дорогу «официальная» версия истории. Этот процесс сопровождался и поддерживался развитием советской интерпретации истории в духе марксизма.
Со статьей в поддержку перемен организационного и содержательного характера в области музейного дела выступил эксперт с многолетним опытом работы Ф. Н. Петров79. В ней кратко анализировались главные недостатки советских музе
ев. Кроме художественного сектора, в данном случае второстепенного, он констатировал наличие дефицита, в первую очередь, в исторических отделах музеев. Даже экспозиция Центрального исторического музея в Москве оставляла желать лучшего по причине неудовлетворительного освещения революционного быта. Петров пришел к печальному выводу о том, что «ни один тип музеев не соответствует в полной мере требованиям социалистического строительства и культурной революции»80. Говоря его словами, музей должен быть «не кладбищем веков» и не чисто научно-исследовательским учреждением, он должен поставить перед собой новые задачи. Он должен заниматься практической научной работой, а не только теорией, отражая все сферы народного хозяйства, проводя широкую просветительско-педагогическую деятельность, а также поддерживая тесный контакт с трудящимися массами. Заканчивалась статья замечанием о том, что советским музеям предстоит в корне пересмотреть свою работу.
Отрицательные выводы Петрова не согласуются с прежней официальной оценкой работы музеев. Критика музейных работников представляется преувеличенной, достаточно вспомнить в этой связи письмо Луначарского. Это был лишь тактический ход, предпринятый в ходе наступления на музеи в том виде, в котором они работали до сих пор. Сторонники идеи создания историко-революционных музеев, отражающих пролетарский быт, перешли в решительное наступление.
Политика наркома народного просвещения, а точнее, его отдела, занимавшегося вопросами музеев, все больше и больше ориентировалась на поддержку «красных» музеев. В циркуляре от 23 мая 1928 г. говорилось о сборе и охране «вещественных реликвий революционной борьбы» как первоочередной задаче81. В нем указывалось также на то, что после десятилетнего юбилея Октябрьской революции ощущается замедленное продвижение вперед в исследовании истории революции. В том же году Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР сделали вывод о том, что недочеты в работе музеев объясня
ются, в первую очередь, плохой подготовкой музейных работников82. В связи с этим от музейных работников потребовали приложения больших усилий в построении нового социалистического общества. Бытовой аспект по-прежнему сохранял свое значение, только теперь музеям вменялся в обязанности показ нового быта, вносящего измененения в жизнь83.
Все эти циркуляры и распоряжения требовали ни много, ни мало, как основательной перестройки музейной работы в соответствии с новыми политическими планами. Отныне музеи планировалось привлекать к участию в актуальных пропагандистских кампаниях: они должны были организовывать выставки, в том числе передвижные, с целью документации и популяризации конкретных политических установок. Так, во время проведения принудительной коллективизации по стране ездили передвижные выставки, посвященные повышению урожайности84.
Таким образом, когда 1 декабря 1930 г. в Москве собрался Первый Всероссийский музейный съезд, продолжавший свою работу до 6 декабря, все точки над «Т» были давно уже расставлены. Неудивительно, что его решения полностью соответствовали новой политической линии. Новые музейные эксперты критиковали немарксистский дух музеев и буржуазный объективизм, требуя оформлять выставки в соответствии с принципами диалектического материализма85.
Кроме того, делегаты съезда приняли решение об издании нового журнала по музейному делу. Он начал выходить годом позже под названием «Советский музей». В программной передовой статье высказывалась надежда на то, что теперь развитие музеев, до сих пор являвшихся самым слабым звеном культурной революции, получит новые импульсы. В союзе с пролетариатом журнал собирался стать всесоюзным форумом музейного строительства. Новой эпохе музейного строительства в статье давалась такая характеристика: музей — это «не кунсткамера, не собрание редкостей, не кладбище монументов, не эстетская галерея, в конце концов, не закрытая коллекция, предназначенная для немногих. Для нас
Воспоминания: наглядная история музей является политико-просветительным комбинатом», по-научному информирующим трудящихся о природе, о человеческом обществе, об исторических формах классовой борьбы, о борьбе за победу социализма и о «великом строительстве социализма»86. «Советский музей должен способствовать развитию революционного понимания и подводить к революционному действию», для этого есть только один путь, путь «перестройки наших музеев на основе диалектического материализма»67.
Это было началом фазы, которую впоследствии историк Д. А. Равикович обвинит в произволе, бюрократизме и игнорировании прошлого88. Музеи использовались не только для проведения актуальных кампаний, они стали средоточием постоянной пропаганды режима и сталинистской политики. Народный комиссариат народного просвещения выпустил специальное распоряжение о создании музеев антирелигиозной пропаганды89, краеведческим музеям вменили в обязанность пропаганду последних достижений техники, экспозиции носили такие названия: «За коллективизацию», «Второй большевистский сев», «Пятилетка в действии» и т. п.90 Кроме того, началась фундаментальная реэкспозиция под лозунгом «Лицом к строительству социализма», не оставившая практически ничего от музеев в их былой форме91.
В январе 1932 г. появилась новая организация — Всесоюзное общество друзей музеев революции92. Оно ставило перед собой задачи укрепления «музейного фронта», проводя среди членов партии работу по разъяснению значения этих учреждений, приглашая их вступать в ряды общества, планируя вести борьбу с «правыми» и «левыми» уклонистами музейного дела и развернуть «большевизацию» музеев по всему фронту.
Результаты не заставили себя ждать. Экспозициям не удалось достигнуть марксистского качества, они лишь стремились к его достижению93, в работе музеев наблюдались «серьезные ошибки»94, в местных музеях и на местных собраниях музейных работников царило замешательство95, плоды разумной и деловой работы предшествующих лет были разрушены,
что затормозило развитие краеведческих музеев на несколько десятилетий96. Половина экспозиций тридцатых годов была посвящена социалистическому строительству97. В новые музеи потекли массы: почти 21 млн человек посетил советские музеи в 1935 г.98, это составляло 12,7% всего населения. Цифра, безусловно, высокая, однако отметим, что люди ходили в музеи неохотно и только группами99, тогда как в начале двадцатых годов они еще приходили в музеи по доброй воле, т. е. поодиночке100.
W; ; at;
ЛИ'
ф
.-.H
t-
«£
I'
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Народная культура по поручению правительства
Революционный режим может выражать себя разными способами, не обязательно спланированными, не обязательно всегда одинаково. Различные намерения, интересы, идеалы часто конкурируют между собой. Часто — это явствует из предыдущих глав — за всем этим стояли люди, не настроенные революционно, но тем не менее наложившие отпечаток на культурное лицо советской эпохи в России.
Неотъемлемой составной частью духа и лица новой эры, выражаясь словами Фюлепа-Миллера, являются советские праздники. Никто не оспаривает, что их можно считать формами самовыражения режима, это принимается как факт. Вести об этом дебаты было бы бессмысленно. Праздникам мы посвящаем вторую часть нашего исследования, т. к. к уже описанным формам в этой сфере добавляются несколько новых форм другого рода: режим занимался поиском своих ритуалов и символов. Праздники можно назвать высшей формой репрезентации, т. к. при их проведении соединяются в одно целое, в ансамбль разные уровни выражения: слово, изображение, движение, инсценировки. По этой причине советские праздники относятся к данной теме, одновременно
выходя за ее узкие рамки. Праздники не имели ничего или совсем мало общего с народным просвещением, в отличие от уже описанных нами явлений. Таким образом, говоря о праздниках, мы попадаем в сферу, на первый взгляд, чуждую политическому темпераменту большевиков в том виде, каким он проявил себя до сих пор. Тем не менее, подготовке праздников они отдавали много сил, не останавливаясь перед большими затратами.
Исследуя культуру празднеств, мы коснемся трех проблем: их эффективности как формы выражения; их интегративного воздействия; наличия внутренней логики, сделавшей их такими, какими они стали в тридцатые годы.
Как же получилось, что они стали напоминать «императорские парады», согласно характеристике, данной майским празднествам на Красной площади в 1931 г. гражданином Германии Рудольфом Мирбтом в его «Путевых заметках о Советской России»1? Не без известной доли симпатии к культу вождя сравнивает почитатель Гинденбурга, Рудольф Мирбт, со «стройностью прусских гвардейских полков» организованность марширующих мимо Мавзолея Ленина колонн политической полиции, кавалерии, артиллерийских батальонов, молодежных организаций, предводительствуемых человеком в военной форме, танков, грандиозной демонстрации трудящихся: «Одно слово Сталина — и массы отвечают бурным приветствием!»2. Можно ли — вслед за Стайтсом и Сцимоном Бойко — говорить о том, что такая смесь военного парада и рабочей демонстрации выросла на основе распространенной в России культуры религиозных процессий3?
Дело с внешним сходством этих явлений обстоит не так просто. Чрезвычайно сложно сравнивать советские празднества с русской традицией, слой за слоем, как при реставрации фрески, исследуя причины возникновения этого, на первый взгляд, простого ритуала. Не хватает фундамента, на который можно было бы при этом опереться, исследований по культуре русских праздников. Если, к примеру, по Франции эпохи новой истории, эпохи Французской буржуазной революции такие работы существуют, то по России
подобными исследованиями не занималась ни этнология, ни социология, ни история. И без того ясно, что бессмысленно было бы искать в России какое-то подобие столь популярного во Франции карнавала и шутовства, потому что в православной России не было традиции, сравнимой с карнавалами в Западной Европе. Но нам известно о многочисленных ритуальных формах быта и культуре религиозных процессий, существовавших в России до 1917 г. Мы не знаем ничего или почти ничего о формах выражения и их социальных функциях. Если в России — кстати, точно так же, как и в католической Восточной Европе: в Польше, Венгрии — не было западноевропейского карнавала, означает ли это одновременно и отсутствие его основного принципа — мира, перевернутого с ног на голову, или можно предполагать о существовании каких-то других форм выражения этого? Видимо, не будет невероятным предположить, что старое общество с его богатством ритуальных праздников, отмечавшихся на протяжении года, игравших важную роль в жизни села как rites de paasage, возможно, выработало свои формы, называвшиеся не как в Западной Европе — карнавал, однако связанные с его главным принципом. К сожалению, литература не может нам помочь в решении этой проблемы4.
Об отношении к праздникам руководства тоже не известно практически ничего. И здесь наблюдается катастрофический недостаток материала по сравнению с количеством работ по Западной Европе, особенно по Франции. О России можно сказать, что geste festive правительства, даже государства не изучены, так что к незнанию народных праздников добавляется еще и отсутствие информации о праздниках государственных. Прежние формы правления, основанные не на рациональной оформленности, в отличие от современных форм, для легитимации которых не требовалось согласия подданных или наличие договора с обществом, считавшиеся данными от Бога, создавали себе, даже вынуждены были создавать, свой капитал символов, требующийся для признания их господства со стороны народа5. Военные парады представляют собой не единственное средство, с помощью которого
uXsMhewx*? ^Глава девятая ймлыклЛ
такая власть производила впечатление на своих подданных и завоевывала их привязанность. В этом вопросе также не приходится ожидать помощи от литературы.
По раннему советскому периоду положение выглядит не столь безнадежно, несмотря на то, что русский советский Ал-луэн — не случайно такое название носит один из городов в северной Франции — еще требует изучения в виде исследования конкретного примера коммунистических празднеств и местной культуры на фоне религии6. Этнологи и антропологи изучают культурные перемены в примитивных социумах обширных просторов Сибири, вызванные приходом советской власти, несравненно более сложный анализ таких перемен в комплексном обществе еще предстоит. То же самое можно повторить и в отношении современного, пока единственного на данный момент исследования на тему «Большевистские праздники 1917—1920 гг.», уделяющего слишком мало внимания исторической стороне дела и поэтому упускающего из виду решающие факторы, о которых будет речь впереди7.
Первые послереволюционные праздники
С самого начала следует иметь в виду одно обстоятельство. Политические празднества, о которых пойдет речь, проводились почти исключительно в городах. В деревне не видывали мероприятий такого рода. Коммунистическая культура празднеств была урбанистской.
После победы Октябрьской революции было много праздников. Только в Петрограде между 7 октября 1918 г., революционным юбилеем и октябрем 1922 г. было отмечено в общей сложности 23 праздника, сопровождавшихся огромными затратами. Следующий список является лишь неполным перечнем мероприятий, проведенных в Петрограде за этот период:
7.11.1918: 1-я годовщина Октябрьской революции. Декоративное убранство города художниками-футуристами; Мистерия-буфф.
11.3.1919: Свержение самодержавия. Праздник Свержения самодержавия, организованный Красноармейской театрально-драматургической мастерской.
1.5.1919: 2-я советская маевка. Передвижные труппы и группы. «Петрушка» Луначарского.
7.11.1919: 2-я годовщина Октября. Праздничные спектакли в театрах.
«Красный год» в исполнении Красноармейской мастерской.
22.1.1920: Кровавое воскресенье. «Кровавое воскресенье» в Народном доме. (Красноармейская мастерская).
23.2.1920: 2-я годовщина Красной армии. «Меч мира» в цирке Чинизелли.
18.3.1920: Парижская коммуна. «Гибель коммуны» — красноармейский спектакль в оперном театре Нардома.
1.5.1920: 3-я советская маевка. «Мистерия освобожденного труда» у Фондовой биржи. Празднества в Летнем саду. Трамваи-театры. Разрушение ограды у Зимнего дворца. Посадка сада на Марсовом поле.
20.6.1920: Открытие острова Отдыха. Зрелище «Блокада России» в амфитеатре на Каменном острове.
19.7.1920: 2-й Конгресс III Интернационала. Зрелище «К мировой коммуне» у Фондовой биржи.
8.8.1920: Красносельский праздник. Массовое зрелище в Красносельских лагерях.
7.11.1920: 3-я годовщина Октября. «Взятие Зимнего дворца». «Коммунистические балы». Праздничные спектакли в театрах.
22.1.1921: Кровавое воскресенье. «Инсценировки» в рабочих клубах.
23.2.1921: День Красной армии. «Меч мира» в цирке Чинизелли.
9.4.1921: 50 летие Парижской коммуны. «Инценировки» в шести районах.
1.5.1921: 4-я маевка. «Инсценировки». Присяга Красной армии.
2.5.1921: День Парижской коммуны. Массовые зрелища на площади Восстания.
7.11.1921: 4-я годовщина Октября. «Инсценировки» в рабочих клубах. «Дума об Октябре» в Центральной студии Губполитпросвета. };
Н 22.1.1922: Кровавое воскресенье. «Три дня».
;;; 18.3.1922: День Парижской коммуны. «Инсценировки» в Центральной студии и рабочих клубах.
1.5.1922: 5-я маевка. «Инсценировка» во дворце Урицкого. 4 16.7.1922: Июльские дни. «Инсценировка» в рабочих клубах.
7.11.1922: 5-летие Советской власти. Праздник Конституции на площади Урицкого. Празднество «Победы» в Народном доме. Переименование заводов. Праздничные спектакли в театрах8.
Майский праздник 1918 г. был последним праздником, который трудящиеся могли отмечать почти свободно в привычной для них форме. Он так и остался единственным за весь советский период9. Уже в 1919 г. различные государственные органы взяли первомайский праздник в ежовые рукавицы. За это время изменилась и география столицы. Запланированные на 1 мая 1919 г. празднества не случайно были взяты под опеку сверху. Развитие монументальной пропаганды шло параллельно с первыми шагами коммунистической культуры праздников. Но если первая продержалась лишь короткое время, то для коммунистических праздников это было начало беспрепятственного победоносного марша.
Развитие русской советской культуры празднеств проходило не по какому-то намеченному плану. Скорее, здесь можно говорить о борьбе различных представлений по поводу форм выражения, содержания и символического жеста. Например, такой вопрос: быть ли первомайскому празднику одновременно праздником весны? В представлениях одних май был неразрывно связан с инсценировками и хоровым пением мальчиков и девочек в светлых одеждах, олицетворяющих «весенний расцвет творческих сил народа»10. Другие говорили, что 1 мая — это праздник Международной солидарности пролетариата и весеннего труда. Поэтому было решено придать этому дню «однозначно весенний колорит»: светлые краски в украшении улиц и площадей, цветы, гирлянды, цветы, приколотые на одежду, для «создания ощущения весеннего праздника»11. Уже во
Впечатления: государственные праздники время следующих первомайских празднеств от таких соображений не останется и следа. т
Изменилось пространство, изменилась география города. Теперь — по мнению плановиков культуры — народ воздавал почести представителям пролетариата от Спартака до Розы Люксембург, представителям науки и искусства, чьими именами назывались площади и чьи черепа, деформированные кубистами и футуристами, порой напоминали москвичам о том, что совсем недавно началась новая эра в истории человечества. Связь с монументальной пропагандой проявилась не только в первых попытках организации коммунистической культуры празднеств, но и в строительстве обелисков, баррикад и арок из картона12.
Колонны демонстрантов создавали новые пространства. Москва превратилась в центр мира, а Красная площадь — в его сердце, к которому стекались ряды трудящихся со всех концов города, символизируя своими костюмами, по словам источника, четыре части света13. Отсюда трудящиеся расходились на все четыре стороны, в частности, ко «II Интернационалу», кораблю, пришвартованному на берегу Мос-квы-реки, чтобы захватить его и, размахивая красными флагами, под звуки фанфар переименовать его в «III Интернационал». Закрытое пространство возбранялось, все должно было проходить под открытым небом.
Но как же обстояло дело с нашим центральным вопросом об участии масс и организованности? Говорится, что в 1918 г. городские массы отмечали свои праздники, это означает, что они принимали правительственный вариант празднества и действовали по своему желанию и усмотрению в пределах возможного. Майские празднества 1919 г. Секция народных празднеств при Московском Совете народных депутатов запланировала провести с вовлечением в организованные мероприятия самых широких масс рабочих, но вторую часть дня и ночь предоставить в свободное распоряжение творческой силы народа. Практически никакой организации в этой части программы не предусматривалось14.
Выбранный проект был победителем среди представлен-
Глава девятая s
ных на конкурс семнадцати. В программе, сочетавшей политический праздник с народным, стояли народные игрища с участием актеров, клоунов, жонглеров, танцоров, развлечения15. Народный театр, театральные представления народных фантазий, эпос, сказки, былины не были просто гарниром с легкой фольклорной окраской, подаваемым в придачу к веку политики, миниатюрной копией которого казался этот день. Они были необходимой прелюдией к официальной части праздника для горожан, после которой они могли веселиться сколько душе угодно. В еще большей мере эта часть означала осознание того, что у народа нельзя отобрать его праздник. Но что же из этого вышло?
Даже организованная часть праздника пошла не так, как ожидалось. Как сказано в обзорном подведении итогов год спустя, массы «пока еще очень недисциплинированны, не готовы к ритмичному, слаженному движению»16. Из этого были сделаны выводы на будущее. Пока не удалось решить основные вопросы, а именно: «как вдохновить многотысячную массу исполнителей, как преодолеть их скептицизм по отношению к празднику, как пробудить в них желание осуществления всех предусмотренных в плане намерений?»17 Ведь если следующие празднества будут столь же масштабными, то из-за подобных проблем они обречены на неудачу. «Поэтому за организацию массовых празднеств можно браться лишь через несколько десятилетий», прозвучало в ходе дебатов о назначении и организации празднеств. «Либо он (праздник) сократит масштабы традиционных шествий с плакатами и знаменами, либо станет примером хаотичного характера, не имеющим ничего общего с художественным заказом его инициаторов»18. И в 1921 г. Луначарский был вынужден признать, что «до тех пор, пока социальная жизнь не научит массы тому своеобразному инстинктивному соблюдению высшего порядка и ритма, вообще нельзя ожидать, что толпа сама по себе создаст что-либо, кроме радостного шума и пестрой беготни празднично одетых людей»19.
Такие высказывания встречаются не часто. Они ясно говорят о незрелости масс, не соответствовавших в этой новой системе высоким требованиям правящих кругов и ди-
зайнеров культуры. Своим недисциплинированным, читай спонтанным, поведением, они отказывались подчиняться распорядителям жизни даже в официальных ситуациях. Во всех этих высказываниях руководства сквозит опекунская нотка, т. е. можно предполагать, что народ смотрел на него, как на стража порядка и фактор, мешающий получать удовольствие от праздника. Редко случается найти слова, столь ясно свидетельствующие о пропасти, разделявшей интеллигенцию и народ. Эти слова показывают, в какой ничтожной степени даже такая «прекрасная душа», как Луначарский, был готов принять формы выражения культуры народа, главным образом, рабочих, увидеть в них неотъемлемую часть общей культуры и, тем самым, силу, способствующую их самоидентификации и социальной интеграции. Былой шум, крикливость праздника претила артистическим душам и эстетизму дизайнеров культуры, который они стремились навязать массам, т. к. эстетика мыслилась ими как противоположность спонтанности, означая организованность и порядок20. Творцы порядка и плановики не понимали, что «крик долгое время был единственным способом самовыражения народа», говоря меткими и патетичными словами Майкла Хастингса, сказанными им по поводу празднеств, проходивших в коммунистическом Аллуэне, городе в северной части Франции21.
Но если посмотреть на дело с этой точки зрения, то чем же, как не данью потребностям народа, были все эти клоуны, жонглеры, скоморохи, инсценировки произведений народной литературы, исполнение куплетов, «максимум радости», дозволенной, правда, лишь «во втором акте» празднеств22.
Следующий шаг не заставил себя ждать. Если пролетарии еще не созрели для настоящего пролетарского праздника, то нужно было показать им, каким он должен быть. Малодушием делу не поможешь, ожидать воцарения «высшего порядка и ритма» было бессмысленно, поскольку «революционное творчество не допускает колебаний и сомнений»23. Организация массовых празднеств — это революционный акт, их проведение требует смелости и отваги,
заявляли представители власти. Тот, кого отпугивают неудачи, не понял основного принципа, согласно которому «новые идеи проникают в сознание масс лишь революционным путем, благодаря энергии и натиску фанатиков этих идей»24. В организационном смысле это означало централизацию подготовки празднеств. С 1920 г. в программу подготовительного комитета стала входить реклама празднеств25.
Разделение празднеств на строго организованную и менее организованную часть не решило проблемы определения спонтанности и планировки, потому что, — как мы увидели, — проведению запланированных действий также мешала «недисциплинированность» участников. Заоргани-зованность празднества, или празднеств, если друг за другом отмечались несколько дат, как это было, например, с годовщиной Октябрьской революции, была столь же неизбежна, как и централизация подготовки и затверживание определенных форм выражения и движений26. Однако это повлекло за собой неудержимый спад «активности масс». «Массы должны почувствовать, что <...> победа Октября — это победа рабочих масс», говорилось в пособии «Как праздновать „Октябрь”», выпущенном в 1924 г.27 Трудно подобрать более подходящие слова для выражения того, что организуемые для народа праздники инсценировались «сверху».
Есть мнение, что в первые годы люди с охотой принимали участие даже в заорганизованных и инсценированных торжествах. Некоторые авторы утверждают, что несмотря на запрограмированность празднеств, их характер определялся, в том числе участием народа, так что здесь якобы можно говорить о синтезе новых форм, отражением которых являлись праздники28.
Этому утверждению противоречит фундаментальная работа по исследованию культуры празднеств раннего периода, написанная в 1926 г. с целью выработки коммунистической культуры праздников на базе имеющегося опыта. Она обращает внимание на ряд пунктов, которым до сих пор не уделялось совсем никакого, либо почти никакого внимания.
«Не случайно» уже в 1919 г. Красная армия стала центральным пунктом празднеств. Разумеется, войсковые части, привлекавшиеся к участию в празднествах, считались проводниками нового быта, к которому Комитет социологического изучения искусства, издатель сборника, причислял и празднества. «Военная организация и дисциплина с легкостью создавали впечатление массовости», — говорится в этой работе29.
Мобилизация армейских частей была не единственной формой их участия в праздниках. Если взглянуть на цикл праздников 1919—1920 гг., то мы заметим, что красноармейцы не просто привлекались к проведению многих из них, Красная армия принимала самое активное участие в работе по организации праздников.
Уже к празднованию годовщины свержения самодержавия в марте 1919 г. в Петрограде состоялась постановка народного игрища. В девяти эпизодах были представлены февральско-мартовские события 1917 г. Кульминацией спектакля был штурм стилизованного царского дворца. Костюмы и грим были только на актерах, игравших врагов: царя, полицейских, генералов. Массы солдат и рабочих играли самих себя, т. е. оставались в своей обычной одежде. Организатором этого спектакля был не какой-нибудь отдел при Наркомате просвещения, а Красноармейская театрально-драматургическая мастерская под руководством Н. Г. Виноградова30. Его проект празднования 1 мая 1919 г. в Москве также победил на конкурсе и был премирован31.
Красноармейская театрально-драматургическая мастерская разрабатывала планы и предоставляла персонал для инсценировок. В день памяти Кровавого воскресенья 1905 г. в 1920 г. снова была показана инсценировка этой мастерской, то же самое в День Красной армии, 23 февраля 1920 г. (что было, впрочем, вполне естественно). В этот день был показан полу-импровизированный спектакль с парадоксальным названием «Меч мира». В спектакле принимали участие красноармейцы Петроградского гарнизона. Ряд мотивов этого «диковинного зрелища сохранился и в последующих празднествах. Военный парад как органическая часть зрелища, инсценировка боя,
освящение знамени, символический дождь красных звезд встречаются и позднее»32.
Как нам кажется, стоит обратить внимание на то, что военизация была главной чертой празднеств в ранний период советской власти. Даже если вначале горожане и не были обречены только на пассивное созерцание или участие в строго определенной программе, имея какую-то возможность самовыражения, то в дальнейшем на лице праздников сказались солдатские спектакли, инсценировки военных событий, а, следовательно, военизация, в ходе которой особенно подчеркивались заслуги Красной армии. Ставя всех остальных участников в тень, подчеркивая свою собственную значимость, по крайней мере, в изображении революционных событий, Красная армия вырезала порядочный кусок из истории, какой ее помнили рабочие и революционно настроенное население столиц, или перекраивала ее на иной лад. Ведь наверняка каждому было известно, что Красная Армия не свергала ни царя, ни Керенского, потому что в то время ее, как сложившейся революционной военной структуры, просто не существовало. Следовательно, военные элементы празднеств были искажением истории революции.
Видимо, была необходимость в том, чтобы задним числом заявить о роли, сыгранной армией в революционной борьбе. Обстановка, царившая в то время в Советской России, предоставляла немало возможностей для подтверждения необходимости ее существования. 1919 г. был самым кризисным и угрожающим годом Гражданской войны, и лишь в конце его стало ясно, что Красной Армии удалось успешно отбить массированное наступление противника. Дисциплина, установленная железной рукой Троцкого, народного комиссара по военным делам, наверняка доказала всем, что без армии революция не имела шансов на победу ни в данный момент, ни в будущем. Таким образом, эта небольшая подтасовка фактов помогла легитимировать армию, а наряду с ней и сам режим.
Празднества 1919 г. состоялись при самом широком участии армии, не обошлось без нее и в постановке знаменитых массовых зрелищ 1920 г. Инсценировки «Взятие Зимнего
дворца» или «Блокада России», «Мистерия освобождения труда», показанная 1 мая 1920 г. или «К всемирной Коммуне», массовый спектакль, в котором было задействовано 4000 человек, — обо всех этих постановках в анализе празднеств сказано, что они «полностью сохранили военный характер», ставший уже привычным33. В празднествах невоенных организаций участвовали красноармейцы и матросы. «Из кого состоят колонны демонстраций этих праздников?» — гласит риторический вопрос о праздниках, проходивших в Ленинграде в 1924—1925 гг. Ответ был таков: «красноармейские и краснофлотские части; далее производственные группы, спортивные и пионерские организации и, наконец, инсце-нировочные группы». Состав участников варьировал в зависимости от праздника34. Их подготовка напоминала военную кампанию со своим штабом, капитанским мостиком, связными и отделами по выполнению различных задач (снабжению продовольствием, транспорта и др.). «Дисциплина празднеств была безупречной», потому что они проходили «как военные маневры»35. Недисциплинированности празднеств пришел конец, но вместе с ней было покончено и с интересом и добровольным участием народа. Вернуть «жизнерадостность трудящихся масс»36 уже не удалось. После окончательной победы Красной армии в Гражданской войне о ней практически позабыли.
В истории переплетения празднеств с армией не обошлось без ужасающего цинизма, достигшего апогея в 1921 г. Источники обходят молчанием празднества этого года или же искажают самые важные их детали. Видимо, нелегко было привить широким слоям населения мысль о положительной роли Красной армии. Согласно «красному календарю», на 23 февраля приходилось празднование Дня Красной армии, о нем в источниках упоминается чрезвычайно кратко: «...пропускаем день Красной армии 1921-го года, повторивший схему 1920 г.»37. И не без основания; через два дня после празднеств эта армия свергла законное меньшевистское правительство Грузии — военная акция, строго осужденная Лениным. Она стоила жизни тысячам грузин, обвиненных в оказании сопротивления или действительно оказавших таковое.
Примерно месяц спустя большевики увидели, что им угрожает опасность внутри страны. 18 марта 1921 г. частями Красной армии было потоплено в крови Кронштадтское восстание. Что может передать весь цинизм положения лучше, чем упоминание фактов: 18 марта с 1918 г. был днем памяти Парижской коммуны. В 1921 г. должно было отмечаться 50-летие ее кровавого разгрома. Показ инсценировки «О Коммуне», который должен был состояться в Петрограде в этот день, как нельзя лучше сочетавшейся с требованиями кронштадтских матросов, был перенесен на 9 апреля38. В ходе последовавшего за этими событиями Первомайского праздника присутствие военных стало еще заметнее. Впервые принятие торжественной присяги проходило открыто и в столь крупном масштабе39.
Если планами предшествующих лет еще предусматривалась возможность проведения неофициальных мероприятий, то теперь организаторы постепенно сократили их до минимума. Несмотря на кажущуюся импровизированность, танцевальные и музыкальные номера (последним придавалось особое значение для поднятия настроения участников), несмотря на мнимые уступки жизнерадостности (формы выражения которой с самого начала были установлены сверху: организаторы полагали, что для достижения эффекта достаточно на определенный час и строго ограниченное время назначить увеселительные мероприятия для народа, как если бы речь шла об электрической лампочке, которую можно включить и снова выключить), несмотря на спонтанность, о которой редко забывали напомнить, вскоре после революции торжества, организованные коммунистами, перестали быть праздниками революционного народа, праздниками рабочих. Очень скоро они превратились в чисто государственные мероприятия на службе идеологии, режима и его важнейшей опоры — армии. Запрограмированность начисто уничтожила последние остатки былой культуры празднеств. Если в программу празднеств и включались развлекательные и увеселительные мероприятия, то их постановка осуществлялась силами спортивных обществ. Вследствие этого в литературе, посвященной празднествам, постепенно распро
странились натянутость, повторы и шаблоны. Организация народных праздников была трудным делом, она практически ничем не отличалась от кампаний по популяризации продналога. Народные праздники превратились в праздники для народа.
Таким образом, мы рассмотрели содержательную сторону коммунистических праздников. Одним из планов предусматривалась постановка мифа о Прометее40. Легенда о Прометее, добывшем для людей огонь, связывалась в ней со сказаниями о рождении солнца весной. Показ инсценировки был запланирован на 1 мая 1919 г. Вслед за мрачной сценой, изображавшей порабощение людей идолом, следовала сцена, в которой из гущи народа появляются красноармейцы и сокрушают идола, прогоняют его прислужников и освобождают от оков Прометея, одетого в характерную синюю блузу рабочего. «Взвивается красное знамя освобождения человека, несущего мир и радость. Отряд разбивает свое оружие, тягостный, старый пережиток в царстве света и красоты, потому что не будет больше рабства на земле. Появляются мальчики и девочки в белых одеждах, поют и танцуют, и праздник заканчивается общим исполнением „Интернационала"»41.
В этом плане было достаточно моментов, предоставлявших зрителям возможность идентификации: освобождение Прометея, «пролетария», как аллегория освобождения самого народа от господства Золотого тельца, капитала, и порожденных им антигуманных явлений. Однако, по всей видимости, миф о Прометее не пользовался широкой известностью, и поэтому не приходилось рассчитывать, что люди испытают радость от узнавания старого мифа, переделанного на новый лад. В сценарии не нашел отражения тот факт, что пленение Прометея было наказанием богов за его высокомерие, история его страданий была упрощена до показа бедственного положения рабочего класса. Вся субтильность и сублимированность терялась, самое позднее, в финале, т. к. исход инсценировки был понятен каждому.
Поэтому позволим себе усомниться в том, что такие инсценировки служили созданию революционного мифа42. Кто
разбирался в мифологической подоплеке таких инсценировок, кто мог связать их с вековой мечтой человечества об освобождении от какого бы то ни было ига? Так что, если и можно говорить о мифологизации революции, то только как о процессе, осуществлявшемся образованными людьми для образованных же людей.
Такой случай использования античного сюжета был, скорее, исключением. Как правило, инсценировки массовых зрелищ осуществлялись на современном материале, или же — изредка — в них появлялись такие исторические знаменитости, как, например, Степан Разин в роли первого героя революционного движения, о чем впоследствии вели споры советские историки. Популярностью пользовались соломенные чучела, чаще всего изображавшие зарубежных политиков: Курзона, Вильсона, Ллойд-Джорджа, встречаются упоминания и об изображениях Керенского и белых генералов. Обычно они сжигались в конце инсценировки. Фабула хореографической постановки «Освобождение Востока» была понятна и неначитанному зрителю, отнюдь не трудно было понять значение вручения солдатам цветов и лент.
Пятая годовщина Октябрьской революции в 1922 г. ознаменовалась «окончательной победой новой системы празднеств»43. В этой инсценировке как бы сфокусировалось все, что уже было сказано о коммунистических празднествах, все их недостатки, в том числе даже и цинизм 1921 г. По программе в Петрограде должны были состояться сразу три праздника: «праздник Конституции» на площади, названной именем Урицкого, начальника политической полиции, убитого здесь в 1918 г., «праздник Победы» в оперном театре Нар-дома и церемонии переименования Петроградских заводов. Все инсценировки отличал более высокий уровень профессионализма и широкое применение технических средств.
Праздник Конституции проходил с применением прожекторов и кинопроекторов, проецировавших лозунги и важнейшие статьи Конституции на огромные экраны.
«Пушечный выстрел. Голос в рупор провозглашает: „В первый год нашей власти мы освободили землю от собствен
ников и заводы от подневольного труда. Да здравствуют свободные наши дети!” Взлетает одна ракета. По широкому проходу вдоль дворца проходит шествие Всевобуча со спортивными упражнениями. Голос в рупор: „Год второй. Мы призвали народы всего мира к восстанию. Мы сказали им: вместе зажжем революции всемирный костер». Взлетают две ракеты. По углам площади разгораются фейерверочные костры. „Год третий. Тогда враги окружили кольцом блокады республику нашу. Мы взяли в руки оружие и победили. Да здравствует Красная армия!” Три ракеты. Из темноты соседней улицы вырывается конница и с факелами в руках проскакивает мимо дворца. За ней ползут броневики и грохочет артиллерия. Праздник кончается пятью ракетами — „знак пятилетия” и призывом „Всемирной коммуны солнце взойдет”. Загораются и вертятся огромные бриллиантовые солнца. Общий фейерверк»44.
Этот праздник не был праздником масс. Живое участие народа было заменено использованием технических средств. Инсценировка шла как по маслу, все реквизиты были подготовлены, и не было нужды в активной поддержке зрителей, им отводилась пассивная роль. Голос, зачитывавший текст и в конце постановки заявивший о своей принадлежности какому-то рабочемыу, так и остался анонимным. Как в православном богослужении, в ходе которого маэстро церемоний скрыт за иконостасом, — по этому поводу и в самом деле существует однозначная цитата из арсенала церковных обычаев, — церемониймейстер коммунистического ритуала был этаким эфемерным явлением. Можно проследить параллели между заявлением о всемогуществе и предстоящей победе нового режима во всем мире с помощью акустических и визуальных средств и провозглашением десяти заповедей Ветхого Завета: пушечные выстрелы и удары грома потрясают толпу, подготавливая ее к тому, что ожидает впереди, в то время как современная аппаратура доводит до сведения всех присутствующих основы Конституции, подобно заповедям, записанным в каменных скрижалях Моисея. Слова голоса о «нашей власти» создавали ощущение идентичности управляющих и управляемых. Но возможно, за этим скрывалась все-
Глава девятая го-навсего невольная двусмысленность. Как бы там ни было, очевидность могущества голоса была налицо: свет повиновался ему, по его команде появлялись кавалеристы-красноармейцы.
Венцом инсценировки стала магическая цифра «пять». Что касается четвертого, т. е. 1921 г., то, к сожалению, не удалось выяснить, умалчивает ли о нем источник, не желавший напоминать о неудачах, или же бесславный год был выпущен и в ходе праздника. А о пятом годе голосу почти нечего было сказать. Народы мира не откликнулись на революционный призыв, земля не превратилась в погребальный костер старого порядка. Какими экономическими успехами мог похвалиться голос, если еще совсем недавно в стране свирепствовал голод, унесший миллионы человеческих жизней? О каких успехах на политическом поприще могла идти речь, если опять-таки совсем недавно новому режиму пришлось подавлять мятежи настроенных против него крестьян и подчинять себе непослушные народы? Церемониймейстер новой власти не мог возвестить ни о чем, за исключением самого главного — победы. Так он и поступил, ни словом не упомянув о жертвах, о дорогой цене триумфа — полной разрухе, царившей в стране, и истощении ее экономических и интеллектуальных ресурсов, обращая свой взор в будущее, взывая к альтруизму нынешнего поколения и прорицая счастье следующему. Недостаточную результативность хозяева страны компенсировали апелляцией к органам чувств народа посредством слова, изображения и звука. Миф об освобождении, цитата из Библии и элемент языческого культа слились воедино и заменили собой демонстрацию трезвых фактов. Волшебство вместо убеждения, восторг вместо рациональности, отдача вместо критики и сублимация вместо легитимации, или же легитимация, состоявшая в телеологическом толковании господства, господства на веки вечные, нерушимого, непогрешимого, неотвратимого, подобно восходу солнца в финале: бегство в символы, вызванное острым дефицитом общественного консенсуса, состоянием режима и общества. Арсенал символов складывался из революционного пафоса, мифологической детерминации истории и возвеличивания
настоящего. Это были узы, сплотившие советский мир.
Данная инсценировка представляла собой апофеоз празднеств раннего советского периода. Нужно ли подчеркивать, что это было всего лишь одно из многих лиц режима, с некоторыми из которых мы уже встречались выше? Оно также является обязательным экспонатом постреволюционной кунсткамеры. Нельзя сказать, что оно было типичным для всей России, т. к. в глубинке подобных инсценировок не осуществлялось. Разумеется, существовали и другие средства сплочения государства и общества: общественные организации и, прежде всего, партия. Арсенал символов должен был действовать на другом уровне.
Первые работы по исследованию празднеств в Советской России
В 1918 г. вышло в свет русское издание книги Жюльена Тьерсо, впервые опубликованной в Париже в 1908 г.45 По всей видимости, она произвела глубочайшее впечатление на российских читателей, поскольку в произведениях организаторов большевистских празднеств содержатся ссылки на эту книгу, она служила для них источником вдохновения. Из этой книги россияне узнали о деталях проведения революционных праздников во Франции.
Можно ли назвать случайностью тот факт, что множество важнейших деталей русских советских праздников было как бы списано с книги Тьерсо? В организации первомайского праздника 1919 г., например, явно прослеживаются черты сходства с французами46; другим источником, относящимся к следующему году, отвергалась ориентация на Французскую революцию с ее буржуазными праздниками, чуждыми пролетариату47.
В словах Луначарского, указывавшего на то, что революция рождает свои собственные народные праздники, говорившего вслед за Робеспьером о самовыражении масс, особо выделявшего «гениальные праздники» Давида, подчеркивавшего, что тот возродил элементы древнегреческой культуры народных празднеств, совершенно очевидно влияние Тьерсо. Одновременно он трезво констатировал, что «в этом отношении мы
проявляем меньше живости, у нас меньше творческого гения как в отношении организации, так и в смысле понимания масс, чем было у французов в конце XVIII века»48.
Это замечание, датированное 1921 г., проясняет и объясняет многое из того, о чем говорилось в предыдущем разделе. И снова оно звучит из уст Луначарского, может быть, и не стоявшего к массам ближе, но все же замечавшего бездну, отделявшую большевиков, а, стало быть, и его самого, коммуниста и интеллигента, от народа, тогда как остальные его соратники лишь отделывались словесными штампами о хороших взаимоотношениях.
Популярность книги Тьерсо среди организаторов празднеств в существенной степени подтолкнула их к изучению трудов ученых. До сих пор эта тема была представлена лишь одной работой, опубликованной в 1903 г. в издательстве «Искра» и посвященной празднику 1 мая, его истокам, истории рабочего движения в России49. По-видимому, первая работа, посвященная культуре празднеств и именовавшаяся социально-историческим исследованием, вышла в Ленинграде в 1926 г.50 В этом состояло ее принципиальное отличие от остальных, далеко не многочисленных исследований различных праздников в разных странах, носивших, скорее, описательный характер. Годы и даже десятилетия отделяют эту работу от того момента, когда к систематическому изучению различных аспектов культуры приступили некоторые научные дисциплины. Историческая наука присоединилась к ним в последнюю очередь.
Разумеется, намерение описать массовые праздники всей Западной Европы с первого захода и в один прием нельзя назвать иначе, как амбициозным. Оно сказалось на качестве работы негативно. Кроме того, она уже изначально страдала узостью перспективы, т. к. авторы ставили своей задачей изучение законов, «на основе которых праздник наиболее целенаправленно раскрывает самодеятельность масс и принимает ясные и впечатляющие формы»51. Это аргументировалось тем, что для того, чтобы создавать новое, необходимо знать прошлое. При этом созиданию придавалось самое большое значение. -<^.1 лй, и
В проблеме культуры празднеств авторов интересовали, прежде всего, такие вопросы, как участие «масс», формы их самовыражения, идеологическая подоплека и поведение руководства. В исследовании с разным качеством, в зависимости от предварительной проработки, описаны религиозные процессии Брюгге в XVI веке, «массовые инсценировки» спектаклей-мистерий, «праздник дураков», в ходе которого заметную роль играл осел и который известен в Европе как Festa stultorum, factuorum, follorum или festum baculi. (В одной известной шуточной песне есть такая строка: Orientis partibus adventavit asinus.) В голландских праздниках ранней эпохи Нового времени авторам виделось выражение нового класса и пример тесной взаимосвязи искусства с жизнью.
Праздники аристократов не являлись запретной темой. Придворные рыцарские турниры, пышная свадьба Франческо Медичи с венецианкой Бьянкой Капелло, церемония въезда короля в город интересовали авторов с точки зрения разнообразных ритуалов. Раздел, посвященный Западной Европе, завершается кратким обзором современных североамериканских праздников и пролетарских массовых инсценировок в Лейпциге и Галле.
Из всего этого материала советские плановики намеревались выковать конечную форму, направить самостийность масс в творческое русло с тем, чтобы усовершенствовать «синтетический характер» советского праздника. Правда, авторы работы 1926 г. не пошли очень далеко. На основе описания празднеств раннего советского периода им не удалось развить особую теорию социалистического праздника. Примечательно, однако, что ими было выбрано верное направление. Но последователей одного с ними уровня у авторов не оказалось, так что данное исследование представляет собой
своего рода одинокую кульминацию.
Более поздние работы, посвященные выработке теории советского массового праздника, являются свидетельством того, с какой быстротой эмпирический метод может вылиться в идеологизацию. В предисловии к книге Евгения Рюмина о массовых празднествах52 О. Бескин еще удивлял
ся отсутствию теоретических исследований по праздничной тематике, являющихся составной частью политического просвещения. Сам Рюмин постарался подвести под советские праздники своего рода антропологический фундамент, включив в книгу материалы о «массовых празднествах в истории человечества» в Древней Греции, Риме, описание некоторых французских праздников раннего периода Нового времени, праздников времен Французской революции. Не ясна позиция автора по основному вопросу: стоит ли использовать зарубежный опыт в проведении послереволюционных праздников. Его смущал факт использования итальянскими фашистами традиционных форм в пропагандистских целях. Он лишь отважился заметить, что, пожалуй, современным социалистическим празднествам наиболее близки праздники Французской революции и Парижской коммуны.
В конце концов Рюмин уходит в догматику, позабыв о своих рассуждениях по поводу западноевропейских праздников. Он дает рекомендации плановикам празднеств и высказывает мнение, что формы буржуазных праздников с их индивидуалистическим характером находятся в противоречии с веком массовости. Тем самым он легитимирует постепенно развившуюся форму послереволюционных празднеств в России.
Более влиятельной была работа Ореста Цехновицера о демонстрации и карнавале, по словам автора, преследовавшая своей целью обобщение советского и зарубежного опыта проведения празднеств53. Это произведение получило широкое распространение. О нем не преминули упомянуть в официальных рекомендациях по празднованию десятой годовщины Октября. Классический карнавал Цехновицер считал типичной «среднебуржуазной» формой. По его мнению, российский карнавал, с самых своих первых шагов носивший политический характер, не имеет практически ничего общего с европейским карнавалом, т. к. революционный дух пролетариата стремится к отображению злободневных событий.
Цехновицер разделял мнение Рюмина по поводу недостаточно активного участия масс в празднествах. Задачу дня он видел в повышении «праздничности» демонстраций и карна
валов. Но в качестве способа для достижения этого он предлагает повысить степень организованности, поскольку — говоря словами Цехновицера — по сравнению с 1919 и 1920 гг. сильно изменились жизненные условия, новый быт требовал нового способа выражения жизнерадостности; при этом он настаивает на обязательном привлечении к участию в празднествах широких масс54.
У Цехновицера имелись проблемы с понятиями. Уже само название его книги сужает понятие «массовый праздник» до значения «демонстрация и карнавал», собственно говоря, представляющие собой лишь отдельные виды такового. Цехновицер знал об отсутствии истинной карнавальной традиции в России. Поэтому он изобрел ее: он сообщает, что в 1772 г., после заключения Ништадтского мира, положившего конец Северной войне, Петр I повелел устроить шествие по образцу и подобию западноевропейских. Под этим подразумевалось помпезное триумфальное шествие царя, сопровождавшееся символическим изображением его военных успехов. Очевидно, выбор автора пал на это событие не совсем случайно. В ретроспективном рассмотрении оно обнаруживало черты сходства с коммунистическими празднествами, подкупившие Цехновицера. Кроме того, данный пример помог ему решить проблему с понятиями: выходило, что карнавал отличался от демонстрации лишь тем, что в его проведении использовались маски, костюмы и символы, т. е. он являлся чем-то вроде фантазийного варианта демонстрации.
Очевидно, что многообещающее начало, заключавшееся в формировании взгляда на праздник как на составную часть культуры масс, не получило развития. Извращенная интерпретация ранних форм празднеств, отмеченных наиболее активным участием масс и спонтанностью, как праздников «непобедимой пролетарской армии»55, раз и навсегда закрыла возможность непредвзятого подхода к формам самовыражения народа. В результате не было сформировано новых традиций, а также была утрачена преемственность со старыми. У плановиков празднеств стали отчетливо проявляться те же тенденции, что и у дизайнеров культуры, о которых говорилось в первой главе.
После подобного поворота в первых попытках анализа коммунистами форм самовыражения народа совершенно естественным представляется, что в дальнейшем в практике празднеств не обошлось без строгой муштры и централизма.
Десятая годовщина Октябрьской революции 1917 г.
Празднование 10-й годовщины Октябрьской революции и Советской власти пришлось на ноябрь 1927 г. Это событие занимает особое место среди всех праздников раннего советского периода. А это достаточно веское основание для более детального его рассмотрения. Скачок в 1927 г. оправдан и с методической точки зрения. Для изучения культуры коммунистических празднеств, а также выраженной в них культуры политики едва ли имеет смысл перечисление всех праздников, отмечавшихся в Советском Союзе после Октябрьского переворота. Описание каждого из них в хронологической последовательности не обещает никакой дополнительной информации, тогда как изучение конкретного примера может сказать о развитии коммунистической культуры празднеств и его результатах гораздо больше.
Ранее уже имели место публикации, посвященные различным праздникам. В двадцатые годы за короткое время накопилось множество литературы по праздничной тематике, поскольку постоянно отмечались различные юбилеи, по празднованию которых выходило большое количество практических рекомендаций. Так, в 1925 г. в программу празднеств были включены 100-летний юбилей восстания декабристов и двадцатая годовщина Первой русской революции 1905 г.
Что касается последнего события, то в его подготовку самым активным образом включились типографии. В библиотеке, посвященной революции 1905 г., насчитывалось 250 книг и брошюр. К услугам устроителей празднества были 24 000 страниц. Каждое издание выпускалось тиражом от 4 до 5 тысяч экземпляров, что означало выпуск в общей сложности более миллиона экземпляров книг, посвященных исключительно революции 1905 г. и ее двадцатой годовщине. Затраты на это предприятие составили около миллиона руб
лей. Как сказано в источнике, вполне естественно, что ни многочисленные организации, ни 140 миллионов рабочих и крестьян не в состоянии были выложить такую сумму. Поэтому более половины опубликованных книг осталось пылиться на полках книжных магазинов «в ожидании 25-го, а, может быть, и 50-го юбилея 1905 г.». При этом «значительная часть» литературы, посвященная 1905 г., не успела выйти к юбилейному 1925 г., она продолжала печататься вплоть до 1927 г.56
С качеством уже опубликованных произведений дела обстояли далеко не лучшим образом. Из 1277 печатных листов объемом 16 страниц каждый, издававшихся местными отделами Истпарта, лишь 277 предназначались «для масс», тогда как остальные 1000 печатных листов относились к «тяжелой» литературе; лишь 25%, согласно источнику, можно было считать серьезными научными исследованиями по истории местных партийных организаций и рабоче-крестьянского движения в 1905 г. По словам источника, 99% популярной литературы просто никуда не годилось57.
При подготовке к 10-му юбилею Октябрьской революции было решено избежать выпуска литературы в столь огромных масштабах, т. к. это угрожало непомерными затратами. Особой комиссии, находящейся в подчинении Центрального Истпарта и сформированной уже в 1926 г., было поручено составить план публикаций. Комиссией была запланирована публикация 5000 печатных листов, что более чем в три раза превышало количество литературы, выпущенной к юбилею 1925 г. Лишь с большим трудом удалось сократить эту цифру до 1200 печатных листов. Тем не менее, это означало увеличение объема производства печатной продукции в три-четыре раза. По оценкам источника, затраты на публикации должны были составить от трех до четырех миллионов рублей. Циркуляр ЦИК от 16 марта 1927 г. обращал внимание на настоятельную необходимость хозяйственного подхода к литературному вопросу58.
Если посмотреть на количество опубликованной, в конце концов, литературы к юбилею 1927 г., то создается впечатление, что попытка ограничения тиража разумными предела
ми и в самом деле увенчалась успехом. Тем не менее, в свет вышло чрезвычайно большое количество монографий, не отличавшихся особым разнообразием. Вдобавок к ним было опубликовано бесчисленное множество статей на ту же тему, никак не учтенных ни издательскими планами, ни сметами.
Централизация коснулась не только публикаций, но и всей подготовки праздника в целом. Празднование юбилея было объявлено делом государственной важности, и руководство его подготовкой было поручено комиссии, созданной при высшем органе государственной власти, Президиуме Центрального исполнительного комитета СССР. Накануне события эта комиссия выпустила три номера бюллетеня. В этом «Бюллетене Комиссии при Президиуме ЦИК Союза ССР по организации и проведению празднования 10-летия Октябрьской революции» публиковались все указы и циркуляры, сообщалось о ходе подготовки к торжествам на местах. Сама подготовка осуществлялась через государственные учреждения, в то время, как решения о содержательной стороне праздника принимала партия, а точнее, Отдел Истории партии при ЦК (Истпарт), при этом празднование юбилея в тех или иных городах или регионах предоставлялась на усмотрение местных партийных комитетов с учетом всех местных особенностей и истории Октябрьского переворота в данном городе или регионе.
В упомянутом циркуляре, адресованном исполнительным комитетам всех уровней и исходящем от высшей инстанции — ЦИК, — а не от подготовительной комиссии, перечислялись директивы к празднованию юбилея59: строжайшая экономия государственных денежных средств, финансирование празднеств из местного бюджета без каких бы то ни было дотаций из Центра, соблюдение экономии в выпуске литературы, обязательная отчетность перед ЦИК, а также осуществление строгого общественного контроля за ходом подготовки к празднованию.
Вопреки, а быть может, и вследствие регламентации сверху дело не продвигалось как следует. 28 апреля 1927 г. стали заметны первые признаки паники по поводу цейтнота,
Впечатления: государственные праздники поскольку «почти повсеместно» подготовка протекала неудовлетворительно60. Результаты обзора о ходе подготовки к празднествам, проведенного за три месяца до юбилея, показали, что не считая Москвы, Ленинграда и Харькова, в подавляющем большинстве случаев пока что лишь высказывалось желание принять участие в торжествах, организуемых кем-то другим или же самим организовать праздник в честь 10-ой годовщины советской власти. В августе 1927 г. подготовка к празднованию Октября находилась практически на начальной стадии, хотя Комиссия начала подготовку загодя6'.
Такое положение дел объясняется двумя причинами. Во-первых, не все получалось с мобилизацией местных организаций, так что, в конце концов, в дело пришлось включиться партии, пустившей в ход свои довольно хорошо отлаженные вертикальные каналы распространения директив. Криницкий, председатель Отдела агитации и пропаганды при Центральном комитете Коммунистической партии, потребовал от «Октябрьских комиссий», комсомольских и профсоюзных организаций и политико-просветительских комитетов на местах предоставления отчета о ходе идеологической и организационной подготовки к празднику местным партийным ячейкам к 10 сентября62.
Еще хуже обстояло дело с мобилизацией масс. Они хоть и не уклонялись от участия в подготовке, но и не проявляли к ней особого интереса по мере приближения красной даты. Обнаружилось, что в прошлые годы в Ленинграде участвовало в праздниках от 21,9% населения (Центральный район) до 35,7% (Выборгский район)63. На сей раз ожидалось существенное сокращение их числа. Поэтому устроители почти вынуждены были выдвинуть лозунг о «максимальном привлечении рабочих и крестьян» к участию в торжествах, подкрепив его соответствующей кампанией64.
Следствие этих упущений было типично советским: слабый резонанс среди населения в ответ на распоряжения, поступающие сверху, вызвал появление дополнительных распоряжений и директив и вызвал попытку осуществления
руководства и активизации низовых органов из центра65. Конкретный вывод, сделанный в главном теоретическом труде по организации празднеств на основании десятилетнего опыта, был прост и перекликался с традицией прошлых праздников: четкая военная организация. Высказывалось мнение о том, что структура должна быть централизованной, возглавляемой центральной комиссией, с подчиненными ей районными комиссиями, которым, в свою очередь, подчинялись «руководящие группы». За все вопросы, связанные с ходом празднеств, должны были отвечать коменданты участков, связные — обеспечивать связь между комендантами и колоннами, необходимо было уточнить пункты сбора и маршруты, скорость шествия должна была составлять 2,25 верст в час66.
Одно вытекало из другого: т. к. в течение первых десяти лет советской власти на местах не наблюдалось особенного желания участвовать в праздниках, а местные организации проявляли в этом отношении скорее инертность, чем энтузиазм, то содержательная сторона празднеств определялась сверху. Правда, до разработки мельчайших деталей дело не доходило, но основная тенденция и принципиально важные рекомендации были обязательны к соблюдению. Такая практика привела к удушению спонтанности и пресловутой творческой инициативы там, где они еще встречались. Неизбежным следствием этого стали повторы, скука и шаблоны, согласно вер-: ным выводам, сделанным Комиссией, объявившей войну по-! добному положению67.
Содержательная линия была обозначена. Были сформулированы задачи празднества: «прежде всего наглядно показать ход социалистического строительства», вместить «возможно полнее политическое содержание» и обеспечить «наиболее полное отражение итогов социалистического строительства как в местном масштабе, так по возможности и в общесоюзном»68. Предполагалось показать Октябрь 1917 г. в историческом ракурсе, особенно подчеркнув события Гражданской войны, «в особенности в тех местах, где они имели место»69. Авторы призывали устроителей празднеств обратить на все это особое внимание, тем более, что, по их словам, до сих пор возможно-
ста праздников не использовались «в интересах социалистического воспитания, образования и организации масс»70.
В целях «формирования творчества и активности масс в проведении празднования 10-й годовщины Октябрьской революции»71, Центральная комиссия приняла постановление о проведении политических массовых демонстраций, инсценировок революционных событий, народных шествий, сопровождающихся показом экономических, политических и культурных достижений, достижений в сфере быта, массовых шествий рабочих, а также агитпроцессий, т. е. форм, исключающих какие бы то ни было проявления индивидуализма: масса праздновала «активно, открыто, все как один человек»72. Для привлечения внимания к предстоящему событию планировалось начать проведение агитпроцессий уже за несколько дней до празднества. Их основной отличительной чертой должны были стать «творческие, работающие со словом, шумные формы, напоминающие военный фронт». На проведение всех праздничных мероприятий отводилось два дня73.
Для сельской местности были разработаны особые правила. Поскольку предполагалось, что здесь могут возникнуть особенно серьезные трудности с проведением празднества, то Комиссия с самого начала сделала ставку на централизованное руководство, местным организациям отводилась роль исполнителей. В состав сельских комиссий по организации празднеств должны были войта начальники местных армейских подразделений. К участию в шествиях планировалось привлечь только организации, т. е. членов профсоюза, курсантов Всевобуча, пионеров, делегаток женотделов партии и школьников. На комсомол возлагалось выполнение большей части практической организационной работы. Дабы не придавать «октябрьскому празднику» сугубо революционный колорит и связать его с жизнью села, решено было начать празднества уже в воскресенье, 30 октября (а не 7 ноября), с «Дня урожая»74.
Нетипичным для Советского Союза было сообщение Московской праздничной комиссии, опубликованное в третьем, сентябрьском номере «Бюллетеня», о завершении всех подготовительных работ и координации организационных
моментов с учреждениями и объединениями города. Художники занимались украшением города, главным образом, Красной площади и площади Свердлова перед зданием Большого театра. На это планировалось затратить 75 000 рублей. За несколько дней до празднества Комиссия сообщила о «чрезвычайно успешном» продвижении подготовки в городах и даже селах75, что, впрочем, звучит не очень убедительно.
Планировалось, что демонстранты, потоками вливавшиеся на Красную площадь, будут нести в своих колоннах кукол и маски, изображающие белых генералов: Деникина, Врангеля, Колчака и иностранных политиков: Чемберлена, Бриана, Муссолини, Ллойд-Джорджа и др. как символ враждебного внешнеполитического окружения Советского Союза, т. к., по мнению советского правительства, в 1927 г. ситуация обострилась вновь. Подобное шествие с фигурами называлось «карнавалом», который должен был отражать «основные моменты демонстрации, политические лозунги и условия труда каждой организации». Устроители праздника заготовили даже пример, говоривший о перспективе войны хотя и не прямо, но все же в несколько сгущенных красках. Химическая промышленность, занимавшаяся производством удобрений для сельского хозяйства, могла, в то же время, производить и «газы для нужд обороны». В день октябрьского шествия предлагалось отразить это следующим образом: сначала пронести пакеты с надписью «удобрения» и пояснительными текстами, делавшими особый упор на достижение смычки с деревней. А вслед за ними — огромные газовые баллоны, «на которых находится ироничная надпись, говорящая о том, что эта продукция тоже предназначена для смычки — только не с деревней, а с Чемберленом»76.
В первом разделе данной главы мы говорили об организованной клоунаде и играх, служивших заменой спонтанности. Празднества 1927 г. можно назвать убедительным подтверждением этого. На спортсменов, физкультурников возлагалась задача «оживления праздника, объединения масс» и увеселения остальных участников празднества с помощью игр, в проведении которых применялись, помимо всего прочего,
куски штукатурки с близлежащих домов, предназначавшиеся для разметки улицы. В ходе некоторых игр участники должны были прыгать на одной ноге77. Помимо этого, в обязанности физкультурников входила забота о соблюдении «четкости и организованности» шествий. Настоятельно рекомендовалось завершить развлекательную часть программы апофеозом — парадом физкультурников или построением «пирамиды»78.
Во всех районах города радио должно было обрушивать на головы людей лозунги и воззвания, однако для этого кое-где еще предстояло починить радиоприемники79.
Не стоит более задерживаться здесь на описании коммунистических празднеств. Празднование 10-й годовщины революции явилось успешным завершением курса на регламентацию, взятого с самого начала. Различные вариации празднеств, допускавшиеся до 1927 г., не вызвали принципиальных изменений в культуре их проведения.
Кроме того, проведенное исследование празднеств позволяет, в частности, сделать вывод о том, что неверно было бы говорить о превращении праздников раннего периода в пышные мероприятия по самовосхвалению режима, поскольку их характер уже с самого начала, самое позднее, с 1919 г., определялся всем комплексом составных элементов. Празднества не были формами выражения народа или пролетариата, отражения условий его труда и жизни. Пролетарских праздников не существовало, все было поднято на общегосударственный уровень. Ситуация с продовольствием, жильем, взаимоотношениями полов, условиями труда и производства, — сколько материала здесь можно было бы найти для всяческих праздничных шествий, проявления иронии и карнавальных шуток, — однако все это не представлялось достойным изображения. Вместо этого государство занималось конструированием выразительных форм, вырабатывало шаблоны, рамками которых ограничивались возможности выражения иронии и шутки, стремясь таким образом произвести впечатление единства правительства и народа. Ирония направлялась только на лиц, находившихся за пределами страны. Едва успевшие оформиться праздники были отобраны у народа и объявлены государственными мероприятия
ми. В этой связи на многое проливают свет слова Луначарского, посвященные празднованию 1 мая в 1918 г. После эйфоричных слов о художественном оформлении торжеств, о живости и пафосе, царивших в этот день, он писал: «Да, майский праздник был официальным. Государство праздновало этот день. Государственная власть проявлялась во многом. Но не опьянительна ли сама мысль о том, что государство, до сих бывшее самым страшным нашим врагом, теперь стало нашим и отмечает 1 Мая как свой самый большой праздник?»80. Нарком Просвещения говорит здесь о двух вещах. Выражаясь терминологией теории празднеств, мир, вывернутый наизнанку, стал реальностью: майский праздник, посвященный мировому пролетариату и до 1917 г. находившийся под запретом, получил поддержку государства. С этой точки зрения оправдано его празднование в государственных масштабах, т. к. произошедшие перемены были и вправду уникальными. Нигде в мире — как, наверное, думали оптимисты, — униженным и порабощенным не удалось взять власть в свои руки, причем, казалось бы, навсегда. Пролетарская революция перевернула все действовавшие до сих пор во всем мире правила с ног на голову. Но можно ли заподозрить Луначарского в мысли о том, что диктатура пролетариата была всего-навсего карнавальной шуткой? Этаким царством дураков, почему-то не возвратившимся к нормальному состоянию quo ante, карнавальным персонажем, продолжавшим свое существование и по его завершении?
Кроме того, государство, о котором говорил Луначарский, обреченное, по словам Ленина, на умирание после победы пролетарской революции, только на первый взгляд казалось государством пролетариата и интеллигентов типа Луначарского. Как мы помним из предыдущего повествования, по поводу празднеств существовало два противоположных мнения. Представления интеллигенции одержали верх над недостаточно четко выраженными взглядами народа без каких-либо серьезных столкновений. Поэтому было бы ошибочным видеть в централизации подготовки празднеств всего лишь попытку вовлечения в них масс, исключения возможности проведения неконтролируемых массовых акций, короче говоря, момент
налаживания социальной дисциплины и интеграции системы. Конечно, все эти моменты являлись неотъемлемым элементом советских праздников, но не ими одними определялся их характер. В такой же мере на формы проведения празднеств наложили отпечаток представления определенных большевистских кругов о репрезентации, государственной символике, связи с историей, формировании мифов и ритуалов. Празднества первых лет советской власти характеризуются не только контролем со стороны большевиков, но и иными политическими «образами», политическим «языком», отличным от языка «масс».
Проблема, во многом возникшая по причине этого противоречия, заключалась в повышении дисциплинированности масс, в привитии им подобающей манеры отмечания праздников, — такой, какой она виделась дизайнерам культуры, заставлявших массы плясать. В развитии этой сферы культуры и политики и других, описанных выше, можно наблюдать параллели и, что касается основных предпосылок этого развития, то искать их нужно не после поворотного 1928 г., а гораздо раньше. Возьмем в свидетели все того же Луначарского. За время пребывания в должности народный комиссар неоднократно писал о майских празднествах, в последний раз это было незадолго до его ухода в отставку в 1930 г.: «Наш праздник (1 мая 1930 г.) имеет характер боевого смотра, своего рода парада» он «глубоко серьезный праздник»81. Его серьезность состояла для Луначарского в том, что праздник информировал о силах врагов, собственных силах и победоносной тактике. Однако 1 мая был в то же время и радостным днем, днем достигнутых побед, помогавших в реализации поставленных целей82. «Весна повсюду!», — восклицал гуманитарий83, в то время, когда в стране полным ходом шла принудительная коллективизация и погибали или отправлялись в лагеря тысячи «кулаков». «Настало время последних сражений!»84. Тема борьбы и серьезности проходит у Луначарского лейтмотивом. «Я еще помню те майские праздники, когда мы собирались где-нибудь у костра на берегу реки, в лесу, в еще более укромных местах. Но теперь пролетариат нашей страны будет отмечать
свой праздник как диктатор этой страны. Со свободой, не виданной нигде в мире, миллионы людей выходят сейчас на улицы, на свои демонстрации и митинги. Свободное слово рабочего, произносимое вслух или напечатанное, слышно повсюду; по радио оно доходит до самой глубокой провинции, в самые отдаленные пустыни Востока и в снега Севера»85. Можно ли принимать эти слова всерьез? Не пародия ли это на стиль пятилетнего плана? Не сатира ли это? Впрочем, в данном случае нас интересует не загадочное и нетипичное для Луначарского произведение, а характер советских празднеств, нисколько не изменившийся в 1930 г.
Терминология, применяемая к западным празднествам, неприменима к советским. Их нельзя сравнить ни с карнавалами, ни с какими-либо другими формами выражения иронии и выворачивания обычного порядка наизнанку, разыгрывающимися в соответствии со своим собственным порядком, и отрицающими порядок существующий86. В Советском Союзе не было подобного аналога. В лучшем случае имели место натянутые пародии, которые, однако, никогда не были направлены против власть имущих, — отличительная черта карнавала. Напрасно мы будем искать случаи высмеивания большевиков в ходе советских празднеств — такого не было с самого начала. Случавшиеся порой проявления иронии по поводу, например, антирелигиозной пропаганды, исходили не от государства, а наоборот, имели однозначно антигосударственный характер.
С другой стороны, мы не найдем в источниках упоминания ни об одном случае препятствования властей проведению празднеств, если не считать таковым весь ход развития этого аспекта культуры. Ничего нельзя сказать и о барокизации празднеств, имевшей место, например, в XVIII веке в Западной Европе, против которой руководство выступало по совсем иным, не названным здесь причинам, так же как и против слишком резкой критики.
Но если празднества выродились в помпу, искусственность и шагистику, то не потому ли, что такова была воля государства, видевшего в этом определенный смысл? Не стояло ли за подобной формой тонкого расчета? Предыдущие главы показа
ли нам, с каких трезвых, просветительских, порой граничащих с аскетизмом позиций подходил режим к решению политических и культурных вопросов. Но это было лишь одной его стороной. В подходе к празднествам, а также к плакатам, все было по-другому. Они носили эмоциональный характер, в инсценировках, напичканных символикой, избавление пролетариата от рабства было столь же неизбежным апофеозом, что и «аминь» в церкви. Судя по всему, стратеги празднеств питали склонность к мифу. Их позиции соответствовал именно такой и никакой другой показ истории. На первый взгляд, они являлись прямой противоположностью НОТ, организации, возглавляемой Гастевым, занимавшейся теоретическим обоснованием научной организации труда. Однако как раз-таки эсхатологический и мифологический аспекты революционизирования жизненных условий не были чужды Гастеву и его соратникам. Подвойский, знакомый читателю как «теоретик» начальной военной подготовки (Всевобуч), выступает также и в роли теоретика и организатора празднеств. Можно ли считать случайностью, что именно этот «философ», видевший счастье бытия в неразрывной его связи с военизацией, отводил на подготовку революционных празднеств семь дней, как бы ассоциируя поэтапное приближение к великому событию с библейскими сроками сотворения мира87? В символическом содержании празднеств не было места рациональности, здесь исключалась разумность, которой обычно дышала каждая строчка Политпросвета.
Возможно, существовала и другая причина такого бегства в символы. От взгляда плановиков не укрылась пропасть между их собственными представлениями и поведением участников празднеств. Их реакцией на все возрастающий разрыв стала политика сильных образов, словно они надеялись, что символы магическим образом помогут сохранить несуществующую общность.
* 4$
• t<
Л
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование не случайно охватывает столь широкий круг вопросов. В нем рассматривались самые разные сферы культуры раннего советского периода. По каждой из них было сделано множество выводов. Не будем повторять их здесь. Вместо этого представляется целесообразным систематизировать важнейшие выводы и попытаться взглянуть вперед, в направлении сталинизма.
После 1917 г. о культуре в Советской России говорили многие. Один из выводов гласит, что единого, принятого в государственном порядке и точно рассчитанного культурного плана не существовало ни в мыслях, ни на практике. Культурный дискурс был значительно более многогранным, чем считалось в науке до сих пор, и он отнюдь не ограничивался вопросами образования и искусства. Он слагался из различных «группировок», часто не находившихся в непосредственном контакте друг с другом. Диалог возникал в самых редких случаях. Теоретик трудовой культуры не обменивался мнениями с представителем евгеники Гориневским, милитарист Подвойский — с Гольцманом, критиком современности, художники-плакатисты — с Радиным, представителем физической культуры, ни те ни другие — с Романовым, идеалом которого были гуманное устройство мира и автономия человека. Но, тем не менее, всех участников дискурса занимал один и тот же «предмет»: новая культура и новый человек. Как выясняется, членство в партии не означало автоматической принадлежности к определенной группировке. Сегментированность культурного дискурса предоставляла
относительную свободу выбора позиций, а также возможность рокировки. В дискурсе выделяются следующие группировки:
1. У большевиков наблюдается одна отличительная черта, присущая большинству процитированных авторов. В первой главе мы выяснили, как крепко засела в головах большинства коммунистов категория революции, чрезвычайно затруднявшая эволюционный подход. Их мировоззрение и мышление отличались дихотомичностью, релятивизация была чужда им. Это объясняется историческим опытом большевиков. В отличие от своих товарищей в Западной Европе, российские революционеры привыкли мыслить революционными категориями настолько, что их культурные проекты получались перекошенными. «Революция» как бы открывала возможность в одночасье создать новый мир с новой культурой, населенный новыми людьми, отрицавшим прошлое в пользу запрограммированного будущего. Эта культура не была ориентирована на людей. Она представляла собой дизайн, спущенный «сверху» без учета сопротивления «материала». Лишь с большим опозданием и скрепя сердце архитекторы этой первой группы осознали, что их проекты разбились о реальность.
2. Наряду с радикальными перестройщиками нашлись силы, отчасти среди членов коммунистической партии, сами называвшие себя «просветителями». Это не обязательно означает, что они были плохими революционерами, но, в отличие от только что упомянутой группы, они не собирались строить будущее на tabula rasa.
В этот круг входили не только члены партии. Среди медиков — теоретиков физической культуры — встречались «буржуазные» специалисты, желавшие служить народу с тем, чтобы улучшить условия его жизни и, тем самым, сам народ. Теоретики и методисты экскурсионного дела имели свои просветительские идеалы и планы, которые они намеревались воплотить в жизнь, несмотря на их несоответствие представлениям большевиков о новом человеке. В главе о музеях мы познакомились со взглядами тех, кто в своих культурных проектах считал необходимым интегрировать
людей, проживавших в определенной местности, в их историю и культуру. В отличие от большинства дизайнеров культуры, они учитывали в своих проектах «человеческий фактор».
Однако у большевиков-«просветителей» и их буржуазных коллег наблюдались значительные расхождения в мировоззрении. Нельзя забывать о том, что, несмотря на сходства содержательных моментов, особенности «просветительской» большевистской линии заключались не столько в единогласии с «буржуями», сколько в подходе к проблемам. Луначарский был, безусловно, марксистом, но его взглядам по всем сферам культуры зачастую было свойственно отсутствие идеологизированное™. Нарком Семашко подходил к физической культуре с позиции гигиены, что, скорее, сближало его с лагерем медиков и спортсменов, работавших еще при царизме, чем с товарищами по партии.
Если говорить о том, что объединяло представителей этого круга, следует назвать два пункта. Во-первых, в нем собрались практики новой культуры. От представителей первой группы их разительно отличали трезвость и практичность. Характерной чертой «буржуазных» практиков была активность, даже в самых неблагоприятных обстоятельствах, часто в малом, в то время как революционеры первого круга носились с идеями о великом культурном проекте, от которых они очнулись с большим опозданием, и так и не сумели отказаться от них. При составлении проектов будущего они позабыли о такой категории, как история, в то время как «просветители» признавали ее влияние на настоящее. Если плановики революционной культуры были представителями идеи безысторичности, то вторые мыслили категориями, в которых нашлось место историческому наследию.
Во-вторых, членов этой группы объединяла уверенность в изменяемости человека. Без сомнения, эта уверенность жила и в революционерах, однако с той большой разницей, что они думали, скорее, о замене когнитивных структур, чем о постепенных изменениях. У одних не было времени ждать, другие знали, что радикальные средства действуют контра-продуктивно.
3. В состав третьего круга вошли приверженцы идеи о новой культуре как преодолении разорванности человека и возвращении ему его утраченной целостности. Одним из ее вариантов была трудовая культура, теоретики которой намеревались осуществить свою цель посредством технизации жизни, предполагавшей освоение человеком самой современной техники и выработку автоматизма трудовых операций. Коммунист Гольцман писал об общеевропейском кризисе, суть которого заключалась в раздробленности человеческой жизни на отдельные сферы. Его заслуга состоит в общей критике современности. Разработанный им проект трудовой культуры, ориентированной на человека, был также направлен на поиск «новой» целостности человека. Особенно ярко проявились подобные мысли в области физической культуры. Старого большевика Подвойского, являвшегося членом партии уже со времен революции 1905 г., отличала от всех остальных идея о возвращении человека в доисторическое состояние гармонии с природой, одновременно являвшаяся моделью будущего. Такой идеал нового человека мало чем отличался от идеала «буржуазных» теоретиков. Сюда же можно отнести и мысли о советском обществе как о «зрительском коллективе».
Идея целостности являлась реакцией на ухудшение качества жизни, обусловленное современностью. Она означала не только критику буржуазного строя, вырвавшего человека из привычной жизненной ситуации, она представляла собой фундаментальную критику цивилизации. Таким образом, появление новых идей было обусловлено потребностью устранения острого дефицита. Новая культура предоставляла человеку пространство, в котором он находил свою raison d’etre в гармонии с природой и с самим собой. Однако необходимо подчеркнуть один важный нюанс. В большевистских проектах постоянно содержался функциональный аспект, будь то труд, военная служба или учет населения. Этого не было, по крайней мере, на словах, у некоммунистов.
4. Поиски утраченной целостности отсылают нас к одному из признаков культуры раннего советского периода, многократно упоминавшемуся в предыдущих главах: к мифу. Груп
па мифотворцев представляет собой четвертый круг культурного дискурса той поры. Опять-таки примечательно, как много было среди них большевиков. В главе о плакатах мы буквально увидели мифы воочию. В мифических плакатных образах, символизировавших завершение истории и начало новой истории человечества, интеллигенция в наглядной форме выразила свое миропонимание. Создавая язык символов, с которым мы столкнулись в главе об инсценированных праздниках, режим думал не о рациональности и убедительности, а о выразительности образов. Как раз этот пример показывает, какие усилия прилагались режимом для того, чтобы поместить свои высказывания вне исторического контекста, намного более широкого, чем тот, который был намечен монументальной пропагандой 1918 г.
В мифах выражается нечто неизменное, нерушимый первичный опыт. Они содержат образы, служащие не для объяснения конкретной ситуации, с их помощью подчеркивается ее чрезвычайная важность. Они многозначны, и это качество позволяет применять их в политических целях. Прежде всего, они легитимируют там, где не хватает легальности*. Как выяснилось, русские советские мифы создавались с целью разъяснения людям масштабности и смысла времени, разрушившего до основания старое, но пока не создавшего нового. Одновременно они помогали замаскировать пропасть, отделявшую режим от большей части населения.
Было бы ошибкой наклеивать на этот круг этикетку с надписью «миф вместо просвещения». В данном случае мифы не являлись выражением иррационализма, это были мифы о начале пути, о светлом будущем, об оправданном насилии и справедливой войне, они рисовали картину будущего в архетипических образах. Их создание осуществлялось планомерно и в педагогических целях. В поисках образов режим занялся научной проработкой западноевропейской — и не только западноевропейской — культуры празднеств. Мифы инсценировались для масс. По этой причине грань между настоящим и функциональным мифом в Советской России чрезвычайно тонка. И пусть даже мифы, вне всяких сомнений, указывают на один из аспектов интеллекта своих твор
цов, необходимо помнить о том, что они создавались по поручению правительства. Подобно волшебным заклинаниям, они легитимировали проект будущего, разработанный элитой, ведь это были образы, создававшиеся не народом, а для народа.
Этот вывод заставляет пересмотреть привычное мнение о большевиках как трезвых, прямо-таки лишенных эмоций архитекторах будущего, подходивших к своей задаче с рационалистских позиций. Но нельзя утверждать этого со всей однозначностью, ведь, в конце концов, мифы были инсценированными. С одной стороны, это говорит о том, что даже испытанные революционеры не смогли устоять против потенциальных возможностей языка образов. С другой стороны, инсценировка мифов, функционалистских, как и все мифы современности, означала точный расчет плановиков в применении языка образов, даже их рационалистский подход к самовыражению.
Остается вопрос идеологии. В данном исследовании марксизм-ленинизм блистает своим отсутствием, т. к. он не являлся главной опорой дизайнеров культуры, как, может быть, можно было бы предполагать, будучи непредвзятым наблюдателем. Удивляет не присутствие марксистско-ленинской терминологии — в конце концов, она являлась составной частью политического жаргона тех лет — а тот факт, в какой ничтожной степени культурные проекты и сам процесс их создания подкреплялись авторитетом классиков. Во многих случаях политический вокабуляр режима отсутствовал вообще. В области культуры проявился иммунитет духовного багажа многих революционеров против Маркса, Энгельса и Ленина.
Эти четыре круга дискурса удалось выделить на основе проанализированных материалов. Они свидетельствуют о том, что в создании послереволюционной культуры участвовали не только большевики. Кроме того, по всей видимости, нельзя говорить о существовании единого большевистского проекта культуры по причине большого количества вариантов.
Желание воспитать человека — это одно, мобилизация и достижение успеха — другое. В целях оказания воздействия
ла население большевики делали ставку на самую современную технику. Но это было трудноразрешимой задачей. Быстро и четко осознав возможности средств массовой информации, большевики превратили то, что сегодня мы бы назвали политикой в области средств массовой информации, в чистого рода техницизм. К примеру, сам факт применения радио был для них важнее, чем содержание его программы. Масса публикаций значила больше, чем ориентация на читателя. В деревню везли кино, что оправдывало себя в самых редких случаях. Что-то вроде неестественного чувства ответственности выработалось у режима, нацеленного на достижение наивысших результатов во всех сферах, но не умевшего достичь их вовремя. Одним глазом он постоянно косился на Западную Европу, выбирая ориентир, с которым не под силу было в то время тягаться технически отсталой России, потерявшей между 1917 и 1921 гг. огромную долю своей индустриальной и интеллектуальной субстанции. Однако для представителей власти большую важность представляло само наличие средств массовой информации, таким образом, довольно рано начало развиваться явление, названное впоследствии «тоннажной идеологией»: большое количество при низком качестве. Россия имела самый мощный в мире радиопередатчик, а радиоприемников в стране было ненамного больше, чем на африканском континенте.
В большинстве сфер режиму не удалось завоевать симпатии населения. После 1917 г. популярная литература была представлена лишь довоенными изданиями. После устранения дефицитов в издательской сфере на смену назидательной и тривиальной литературе для народа потоком хлынула политическая литература. Она интересовала совсем немногих. Лишь газеты и журналы могли похвалиться большим количеством читателей. Тот, кого интересовало, что происходит в стране, вынужден был довольствоваться периодическими изданиями коммунистов, официальная монографическая литература не представляла интереса. За редким исключением фильмы советского производства не пользовались популярностью у зрителей. «Еженедельные обзоры» — ядро политического кинематографа — были прямо-таки отталкивающими.
Несмотря на существование двух противоположных концептуальных моделей, трудно говорить об их успехе или неуспехе: было бы слишком рискованным заявлять, что усилия, предпринятые «буржуазными» практиками на ниве просвещения, увенчались большим успехом, чем усилия большевиков. Документального подтверждения этому нет.
Но можно сказать кое-что другое. Многое коммунисты скопировали и переняли у предосудительного и даже презиравшегося буржуазного строя как в России, так и за ее пределами. Зачастую режим достигал успехов за счет других, лишенных возможности воспользоваться результатами своего труда. Подъем, пережитый большевистской прессой, объясняется присвоением типографских машин, принадлежавших запрещенным газетам. Развитием радиовещания занимались «царские» инженеры. Художники-плакатисты ориентировались на примеры военной пропаганды Запада периода Первой мировой войны, а мифотворцы обращались к арсеналу символов, использовавшихся в ходе западноевропейских народных и государственных празднеств.
Известно о факте сотрудничества советской власти со специалистами прошлых лет при условии их лояльности. Даже в Красной армии служили бывшие царские офицеры, которым порой удавалось сделать карьеру. В рассмотренных здесь сферах роль «буржуазных» специалистов была чрезвычайно велика. Они влились в систему, открытое противостояние большевиков и специалистов — не более чем легенда. Такое случалось лишь в самых редких случаях. Это означает, что вследствие консенсуса, царившего между новыми представителями власти и широкими кругами даже нереволюционной интеллигенции, сотрудничество представлялось целесообразным, пока основные установки режима по поводу культурных перемен не расходились с представлениями буржуазных специалистов. Между разными кругами дискурса наблюдается идейная близость. Наверняка во многом это объясняется позицией — в этом месте просто необходимо упомянуть отдельного человека — Наркома народного просвещения Анатолия Луначарского. В то время как его товарищи по партии противопоставляли и разделяли, он в своем отделе
предоставил место тем, кто мог оказаться полезным послереволюционному обществу, не будучи большевиком.
За всеми попытками реорганизации и многочисленными элементами культурной практики стояла непоколебимая уверенность всех ее участников в эффективности воспитания, вернее, в эффективности воспитательных мер. Они не сомневались в возможности сотворения человека по своему образу и подобию или в соответствии со своими представлениями. Идея воспитания является главным признаком культурного проекта тех лет. Приведенные в данной работе примеры ясно показывают, с какой легкостью она, подкрепленная легковерностью энтузиастов прогресса на благо человека, трансформировалась в идею господства. Адресаты лучшего мира стали жертвами проекта, придуманного меньшинством.
Но в нем подразумевалось не просто воспитание. Как было сказано во введении, проектами предусматривалась тотальная трансформация не какой-то одной — пусть и крупной — составляющей человеческого бытия, а реорганизация conditio humana вообще, как бы создание conditio humana sovietica. В предыдущих главах это подтверждается на многих примерах. Суть запланированной реорганизации можно выразить коротко: многие культурные проекты характеризуются всеохватностью. Человеку в них не придавалось никакого значения, кроме как исполнителя определенных функций, указанных «сверху». Плановики культуры намеревались использовать его в конкретно оозначенных целях; эмансипатив-ный аспект был при этом утрачен или же «эмансипация» выливалась в такие формы, которые не оставляли человеку возможности выбора.
Идеалы нового человека и проекты новой культуры придумывались небольшим количеством людей для всей массы населения: революция «сверху». Их притязания носили авторитарный характер. В этой связи нельзя говорить о случайности нежелания радикальных дизайнеров культуры дифференцировать общество. Социальные различия, даже разделение на классы нивелировались в недифференцированном понятии «народ». Для них не играли никакой роли даже различия по половому признаку. Унификация вместо дифференциации —
характерная особенность. Таким образом, новая культура помогала разрешить общественные противоречия и конфликты между отдельными людьми. «Новая» культура разрешала все конфликты окончательно и бесповоротно, так же как на рассмотренном нами плакате мир избавляется от нарушителя спокойствия ради великолепного будущего.
Как выяснилось, военизация двадцатых годов носила гораздо более затяжной характер, чем было принято считать до сих пор. Ее ранний расцвет, отразившийся в идее оправданного интересами революции убийства, выразился в обостренной форме на плакатах, она проявилась в организации советских государственных праздников, в идейном обосновании физической культуры и в практической, целенаправленной тренировке. В сфере физической культуры она практически никогда не снималась с повестки дня, за исключением одного короткого периода, постоянно оставаясь идеологической подоплекой учета мужского населения.
Авторитарные культурные проекты были обязательными для всех. Они создали нечто, что можно назвать культурным кодом. Существовал определенный набор компонентов, присущий всем плановикам культуры: прежде всего, авторитарные притязания, всеохватность концепции реорганизации духа и тела, военизация. Обязательный характер проектов обусловил разделение на «своих» и «чужих». Неизбежным следствием недостаточной четкости этого разделения явилось враждебное отношение ко всему, что оказывало сопротивление этому коду или казалось чуждым ему. В этом коренятся причины социальной изоляции и опалы на «буржуазных» специалистов, наступившие впоследствии. Для пущей убедительности этот код прибегал к помощи мифических образов, своим внешним обликом символизировавших непреложность и в еще большей мере способствовавших вытеснению «отступников».
Отсутствие дифференциации сопровождалось радикальными представлениями о всеобщей обязательности культурного кода. Культурным проектам, спроецированным на будущее, была присуща воинственность — не путать с военизацией! Она являлась выражением несовместимости проекции буду
щего с реальностью того времени и, одновременно, чем-то вроде замены ритуала недостижимого2. Важно то, что к военным «решениям» тяготели как революционеры-интеллигенты, так и некоторые революционные слои. Ни те ни другие не желали иметь друг с другом ничего общего.
Можно ли найти общее между представленными здесь и подробно разобранными в предыдущих главах проявлениями и сталинизмом? На первый взгляд, нет ничего сложного в том, чтобы перенести эти культурные характеристики на другую эпоху. Так значит, правы Роджер Петибридж и Грэйм Гилл, утверждающие, что культурное «лицо» сталинизма проявилось уже в 1926 г.?
При более внимательном рассмотрении в этом тезисе обнаруживается одно противоречие. Даже если в указанном году лицо сталинизма и в самом деле оформилось уже достаточно четко, то его создателем не мог являться Сталин. Потому что, по мнению обоих авторов, о начале господства Сталина можно говорить, самое раннее, с 1928 г., в котором были приняты принципиальные решения о проведении форсированной индустриализации и коллективизации. Если в 1926 г. это лицо уже существовало, то его можно назвать, самое большее, предсталинистским, в противном случае нельзя называть эпоху 1928/29—1953 гг. сталинизмом. С особенной ясностью противоречие прослеживается в следующем: в 1926 г. вышла в свет вышеупомянутая книга Рене Фюлепа-Миллера. В ней несложно обнаружить явления, которые вполне могли бы иметь место при сталинизме: например, привитие коллективизма и авторитарные замашки государственной власти, притязавшей на право распоряжаться всеми аспектами жизни своих граждан. Но, разумеется, Фюлеп-Миллер не мог писать о сталинизме.
Приведенный пример говорит об ошибочности исторической конструкции, проводящей водораздел по 1926 г. Если не брать в качестве единственного признака нажим партийных институтов, и в самом деле усилившийся в этом году, то приходится отказаться от принятой периодизации. Не будем забывать сделанного в данном исследовании вывода об очевидности характерных признаков, ярко выраженных в Совет
ской России с самого начала. Если перенести всю их совокупность одновременно на тридцатые годы, то историки не замедлили бы усмотреть в них проявления сталинизма.
Принимая во внимание наличие очевидных, прежде всего отразившихся на ходе истории культурных факторов, обозначившихся уже с самых первых дней после Октябрьской революции, верность представления о «сталинизме в области культуры» представляется весьма сомнительной. Как вспомогательная понятийная конструкция данный термин не подходит для обозначения того, что наблюдается в период между 1917 и 1932 гг. «Сталинистские» методы реализации культурных проектов сформировались не в тридцатых годах, они проявились уже в двадцатых. «Сталинистское» мышление проглядывает в мыслительных конфигурациях кое-каких плановиков культуры. Посредством кинематографа функционеры попытались достичь всеобщего охвата населения страны. В ранних советских празднествах обнаруживаются приметы военизации в сочетании с эстетизированной физической культурой. Язык символов, продолжавшийся использоваться и впоследствии, оформился в течение первых пяти лет существования режима.
Поясним мысль о культурной взаимосвязи эпох путем простой замены этикеток. Можно ли применить понятие «сталинизм» к годам «военного коммунизма» или Гражданской войны? Если верно, что существенные культурные признаки сталинистской эпохи проявились уже в этот период, если прибавить к этому экономическую политику, направленную на построение социализма, развитие аппарата государственной власти вкупе с тайной полицией, репрессии по отношению к большим группам населения, бесконтрольное насилие, тот факт, что военные события Гражданской войны обусловили едва ли не более сильное подавление населения, чем «мирные» тридцатые годы, то нельзя ли считать эту фазу протосталинизмом по сути?
Итак, я предлагаю передвинуть «сталинизм» на несколько лет назад. Это представляется необходимым, если снять очки социальной истории, линзы которых настроены на экономическую веху конца двадцатых годов. Во избежание недоразу
мений отмечу, что я ни в коем случае не отрицаю, что в эти годы к уже существовавшим элементам добавились другие. Однако речь идет о взгляде на сталинизм с концептуальных позиций, позволяющем отойти от неудовлетворительных моделей интерпретации, оперирующих либо личностными, либо функциональными доводами. Это означает, что следует проследить идейную предысторию сталинизма. Авторитарный нажим на население, компактная, реорганизация человека во всех его проявлениях не являются изобретениями сталинизма. Можно даже сказать, что по сравнению с революционной культурой сталинизм тридцатых годов, отказавшийся от концепции реорганизации и перешедший к социальной инженерии, означал шаг назад.
По всем этим пунктам в годы сталинизма не возникло ничего нового с точки зрения концепции. Это еще больше говорит в пользу того, что в области культуры (в нашем понимании) «лицо» сталинизма проявилось не начиная с какого-то определенного момента. Оно существовало и раньше.
Чтобы не быть неправильно понятым во второй раз, подчеркну, что предпринятая мной попытка концептуальной интерпретации не согласуется с ранними и поздними работами по истории Советского Союза, постулирующими преемственность между Октябрьской революцией и сталинизмом. Я не ищу причину неделимости революционной культуры ни в идеологии, ни в специфике действий правителей-большевиков. Что касается неразрывной связи между фазами исторического развития, то здесь я согласен с авторами, но коль скоро дело касается преемственности, тут наши пути расходятся. Заметим, что в задачи этой книги не входит интерпретация сталинизма. Однако вопрос об идейных предшественниках и основах сталинизма встает все же более остро, чем предполагалось до сих пор.
В заключение хотелось бы сказать несколько слов еще об одной сфере. В отдельных главах книги, а также в данной заключительной ее части неоднократно упоминались важнейшие элементы культуры раннего советского периода: «просвещение», переустройство умственной организации человека, мифотворчество, кризис современного мира, создание
мифического лучшего мира, технизация средств массовой информации, технизация физической деятельности, внедрение науки в повседневную жизнь, евгеника. Этот перечень свидетельствует о многогранности культурных проектов и культурной практики в Советской России. Кроме того, он свидетельствует еще и о том, что Советская Россия, после Октябрьской революции ставшая для Европы парией (наряду с Германией), отнюдь не была отрезана от европейской традиции — по крайней мере, в то время. Трудно отделаться от ощущения, что в Советской России открыл свое лицо двуликий Янус современности. Конечно, современную историю России можно описывать по замечательному примеру Карла Шлегеля. Однако в современной истории Европы тоже есть своя оборотная сторона. Она заключается в проникновении науки в повседневную жизнь, колонизации различных сфер жизни (Хабермас), мобилизации человека в целях, определяемых небольшой кучкой людей или элитой, и не в последнюю очередь в наличии рационалистской, квазинаучной и всеохватной реорганизационной концепции.
Совершенно очевидно, что рассмотренные здесь «случаи» представляют собой реакцию и ответ на проблемы того времени, обсуждавшиеся и в остальной Европе. При этом вовсе не обязательно, что действующие лица, с которыми мы встретились в предшествующих главах, приняли участие в оформлении наступившего впоследствии сталинизма. Здесь была предпринята попытка показать, что в ходе обсуждения возможностей и развития концепций всеохватных преобразований была утрачена сдерживающая дистанция. Чрезвычайно сложно определить, какая «неполадка» обусловила игнорирование жизненных традиций архитекторами культуры. В первой главе было предложено несколько ответов на этот вопрос. Большую роль играло при этом представление о неограниченных возможностях, объясняющееся, по-видимому, представлением плановиков культуры о революции. Может быть, это было вызвано особенностями мышления современной эпохи. Тогда революционную культуру опять-таки можно обозначить как видоизмененный модернистский сталинизм.
Здесь мы можем только поставить вопрос о том, обнару-
живаются ли при этом пункты для сравнения исторического развития России с Западной Европой, в частности, с Германией. Историки могли бы заняться вопросом о связи отдельных компонентов развития Западной Европы после Первой мировой войны с точки зрения культуры, идей и менталите-тов. Разные страны шли к диктатуре сходным путем. Можно ли говорить о сходствах отправного пункта?
На одном из плакатов Виктора Дени 1920 г. из-под миловидной маски мира выглядывает жестокое лицо капиталиста. Художник недостаточно внимательно изучил свое время, иначе бы он, наверное, разглядел рожу диктатуры в своей собственной стране.
*
Н
Я
<т
Ч
.hi- ?v, •.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ •>,
1. Архивы
Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР, ныне ГАРФ): Ф. 814, Ф. 7576, Ф. 2307.
Центральный государственный архив РСФСР (ЦГА, ныне ЦГАРР); Ф. 2306.
2. Периодика
Большевик; Экскурсионное дело; Еженедельник Народного комиссариата просвещения РСФСР; Физическая культура; Горн; Искусство; История СССР; Известия ВЦИК; Известия Главполитпросвета; К свету!; К новой армии; Красная нива; Красная новь; Красный спорт; Красный пахарь; Молодая гвардия; Музей; Научный работник; Октябрь; Печать и революция; Первомайский субботник; Правда; Пролетарское кино; Путь молодежи; Радио всем; Радио для всех; Радио; Радиолюбитель; Революция и культура; Социологические исследования; Советский музей; Советское кино; Soviet Culture Review; Спортивная жизнь России; Спутник экскурсанта; Спутник коммуниста; Теория и практика физической культуры; Вестник театра; Вестник агитации и пропаганды; Вопросы истории; Всевобуч и спорт.
3. Источники
А. М. Громкоговорящая радиоустановка в деревне / Радио всем. 1925. № 1. С. 7.
Альтман В. Празднование Октября на улице / Рабочим клубам к десятилетию Октября. — М.; Л., 1927. С. 76—81.
Акалаев В. Стрелковый спорт. Его назначение и практические указания для его развития. — М.; Л., 1927.
Анциферов Н. П. Экскурсии по экономическому и социальному быту городов / Экскурсии в культуру. Методический сборник / Под ред. И. М. Гревса. — М., 1925. С. 35—55.
Он же. Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода. — 2 изд. —Л., 1926.
Он же. Теория и практика экскурсий по обществоведению. — Л, 1926.
Он же. О методах и типах историко-культурных экскурсий. Петроград, 1923.
Ангерт Д., Райков Б. Е. Экскурсионный метод в просветительной работе. — М.;Петроград, 1923.
Анощенко Н.Д. Звучащая фильма в СССР и за границей. — М„ 1930.
Антипов Н. К. За советскую систему физкультуры. — М., 1923.
Он же. Состояние и задачи физкультурного движения. —М.; Л., 1930.
Аркин Е. А. Экономия человеческого организма. — М., год изд. не указан.
Асмус В. Марксизм и культурная традиция / Революция и культура. - 1927. № 3—4. С. 10-16.
Банк Б., Виленкин А. Крестьянская молодежь и книга. — М.; Л., 1929.
Баратов В. Счастье трудящихся — Всевобуч. Песня. — Енисейск, 1920.
Он же. Да здравствует Всевобуч! / К новой армии. 1920. № 4. С. 19.
Он же. Всевобуч и психология народа / К новой армии. 1920. № 16. С. 14-15.
Баженов В. И. Обзор достижений русской радиотехники за годы революции и успехов радиолюбительского движения к 1926 году / Радио. Радиолюбительство и радиовещание. Успехи и достижения в СССР и за границей. — М.; Л., 1926. С. 47—61.
Библиотечная работа в Красной Армии / Под ред. Хлебевича Евг.. М.; Л„ 1926.
Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению. 1927. № 1-4.
Болезни нашего печатного дела по данным обследований ЦКК и НКРКИ. - М., 1924.
Бондарчук 3. Всевобуч и работницы / К новой армии. 1920. № 19-20. С. 13-14.
Борьба с дезертирством во Всевобуче / Физическая культура. 1922. № 45. С. 41.
Бубрик С., Максимович М. Киноредакции (Опыт и перспективы) / Пролетарское кино. 1931. № 6. С. 26—34.
Бухарин Н. Культурные задачи и борьба с бюрократизмом / Революция и культура. 1927. № 2. С. 5—12.
Он же. О старинных традициях и современном культурном строительстве / Революция и культура. 1927. № 1. С. 17—22.
Буров Я. Деревня на переломе (год работы в деревне). — М.; Л., 1926.
Цареградский И. О забытом элементе культурности масс / Революция и культура. 1928. № 19. С. 39—47.
Цехновицер О. Демонстрация и карнавал. К десятой годовщине Октябрьской революции. — М., 1927.
Халепский И. На новых путях / Радио всем. 1925. № 1. С. 1.
Хлебевич Евг. Состояние и перспективы библиотечной работы в Красной Армии. М.; Л., 1926. С. 5—34. 3
Цикл лекций-бесед и художественные иллюстрации по изучению ленинизма. — Вып. I. — М., 1924.
Циркуляр ЦИК СССР центральным, краевым, областным, губернским и окружным исполнительным комитетам / Бюллетень при Президиуме ЦИК Союза ССР по организации и проведению празднования 10-летия Октябрьской революции — 1927. № 1. С. 3—5.
Деборин А. Марксизм и культура / Революция и культура. 1927. № 1. С. 8-16.
Декларация инициативной группы Общества работников науки и техники для содействия социалистическому строительству СССР / Революция и культура. 1927. № 1. С. 101—102.
Декреты советской власти: В 5 т. — М., 1959.
День 20-го мая в Москве / К новой армии. 1920. № 6. С. 26—28.
Дерюгин К. М. Петергофская экскурсионная станция / Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 179—182.
Дмитриев В., Галин Б. На путях к новому быту. — М., 1927.
Доктуровский В. С. Экскурсия на торфное болото / Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 69—83.
Дракохруст Е. Опыт изучения музейного зрителя / Советские музеи. 1931. № 5. С. 31—40.
Дружинин Н. М. Классовая борьба как предмет экспозиции историко-революционного музея / Советский музей. 1931. № 1. С. 32—49.
Дубинский Д. Кино рабочей молодежи / Пролетарское кино. 1931. № 7. С. 25-28.
Дульский П. М. Роль музеев в охране памятников искусства, старины и народного быта / Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению — 1927. № 4. С. 113—114.
Две армии — две культуры / Революция и культура. 1928. № 2. С. 3-5.
Экскурсии в современность / Под ред. Кузнецова Н. А. и К. Б. Ползиковой-Рубец — Л. 1925.
Экскурсионная хроника / Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 107-112; № 2-3. С. 183-213; № 4-6. С. 251-287.
Экскурсионная литература / Под ред. Центрального бюро краеведения. Экскурсионное бюро. — Л., 1927.
Экскурсии по физике. Сборник статей / Под ред. Г. Л. Абкина. М., 1927.
Фельдман К. Проблемы тематического планирования агитпроп-фильмы / Пролетарское кино. 1931. № 7. С. 23—29.
Феноменов М. Я. Современная деревня. Опыт краеведческого обследования одной деревни: В 2 т. — Л.; М., 1925.
Фетисов М. Некоторые вопросы школьного быта / Революция и культура — 1928. № 5. С. 53—58.
Февральский А. Кино-Правда / Горн. 1923. № 8. С. 62—63.
Фильмы о комсомоле / Пролетарское кино. 1931. № 6. С. 20—21.
Физическая культура пролетариата в СССР / Под ред. Я. И. Подвойского, М. Г. Собецкого, Д. А. Крадмана — 2 изд. — Л., 1925. — 1 изд. — 1923.
Физкультурное движение в СССР. — М., 1925.
Физкультурное движение в СССР (Сборник документов, статей и других материалов) / Под ред. Г. А. Евсеева и И. М. Локшина. — Харьков, 1940.
Фридьева Н., Балика Д. Изучение читателя. Опыт методики. М.; Л. — 2 изд. — 1928.
Гальперина. Радио в глухом углу Черниговщины / Радио всем. 1925. № 2. С. 23.
Галкина Л. И., Покровский А. А. Опыт пропаганды книга в библиотеке. — М„ 1927.
Гастев А. Новая культурная установка. — М., 1923.
Он же. Восстание культуры. — Харьков, 1923.
Гаврюшин К. Как работает советская кинохроника / Пролетарское кино. — 1931. № 12. С. 30—38.
Гейнике Н. А. Культурно-исторические экскурсии. Основные вопросы методологии и методики культурно-исторических экскурсий / Культурно-исторические экскурсии (Москва, Московский музей, подмосковные). Под ред. Н. А. Гейнике. — М., 1923. С. 1—42.
Гейнике Н. А., Елагин Н. С., Зимин Н. П., Соловьев К. А. Книга краеведа. — М., 1927.
Геркан Л. Организация физической культуры с классовой точки зрения / Физическая культура. 1923. № 7—8. С. 10—12.
Глаголев В. Изучение музейного зрителя на историко-революционном материале (опыт работы по применению метода объективного наблюдения к изучению одиночек в Музее революции СССР 1931—1932 гг.) / Музей революции СССР. Пятый сборник статей. - М„ 1933. С. 109-126.
Гольцман А. 3. Дорогу инициативе рабочих. — М.; Л., 1929.
Он же. Коллективное снабжение. — М., 1921.
Он же. Массовое натуральное премирование. — М., 1921.
Он же. Организация труда. — М., 1925.
Он же. Регулирование и натурализация заработной платы. — М., 1918.
Он же. Режим экономии и строительство социализма. — М.; Л., 1926.
Он же. Реорганизация человека. — М., 1924.
Голдобин А. Кино на территории СССР (по материалам провинциальной прессы). — М., 1924.
Голос рабочего читателя. Современная советская художественная литература в свете массовой рабочей критики / Под ред. Г. Б-рылова, Н. Лебедева, В. Майберт, В. Сахарова. — Л., 1929.
Головачев В. Киногазета на пленке / Пролетарское кино. 1931. № 6. С. 22-25.
Гориневская В. Физическая культура работницы. — М., 1925.
Гориневский В. В. Культура тела. Двигательные средства физической культуры. — М., 1927.
Он же. Научные основы тренировки / Физическая культура. 1922. № 1. С. 4-7; № 2. С. 4-9.
Грабарь И. Э. Для чего надо охранять сокровища искусства и старины. — М., 1919.
Греве И. М. Монументальный город и исторические экскурсии / Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 21—34.
Он же. Библиографическая справка по экскурсиям в культуру / Экскурсии в культуру. Методический сборник / Под ред. его же. — М„ 1925. С. 189-204.
Он же. Природа экскурсионности и главные типы экскурсий в культуру / Экскурсии в культуру. Методический сборник / Под ред. его же. — М., 1925. С. 9—34.
Григорьев П. Н. Очерк деятельности Уфимскаго Земства по народному образованию. — Уфа, 1911.
Он же. План деятельности Уфимскаго Земства по народному образованию. — Уфа, 1911.
Он же. Революция в внешкольном образовании. — М., 1919.
Григоров Г., Шкотов Л. Старый и новый быт. — М.; Л., 1927.
Гусев С. О юбилейной литературе / Бюллетень Комиссии при Президиуме ЦИК Союза ССР по организации и проведению празднования 10-летия Октябрьской революции. 1927. № 1. С. 19— 22.
Инструкция по работе РКСМ в области допризывной подготовки / К новой армии. 1920. № 10—11. С. 21—23.
Инструкция для частных приемных радиостанций / Радио в деревне. - М„ 1925. С. 15-18.
Итоги деятельности советской власти в цифрах, 1917—1927. — М., 1928.
Издательское дело в первые годы советской власти (1917— 1922). Сб. докум. и матер. / Под ред. Е. А. Динерштейн и Т. П. Яворской. — М., 1972.
Яблонский А. Наследство / К новой армии. 1920. № 9. С. 7—9.
Яновский М. За нового человека (о борьбе молодежи за культуру). — Л., 1928.
Якубовский А. «9-е января». Опыт экскурсии на революционную тему. — Л., 1925.
Якубовский Г. А. Экскурсии на историко-революционные темы / Экскурсии в культуру. Методический сборник / Под ред. И. М. Гревса. - М„ 1925. С. 56-70.
Якушкин Е. За поворот производства лицом к производству / Пролетарское кино. 1931. № 3. С. 51—53.
Яницкий Н. Ф. Книжная статистика советской России, 1918— 1923. - М„ 1924.
Ярославский Ем. Чего партия требует от коммуниста. — М., 1935.
Он же. Мораль и быт пролетариата в переходный период. — Л., 1926.
Ятманов Г. Деятельность Петроградского отдела музеев по охране памятников искусства и старины и музейному строительству / Музей. 1923. № 1. С. 1-12.
Он же. Задачи «Музея» / Музей. 1923. № 1. С. I—IV.
Юбилейная выставка, посвященная 25-летию второго съезда РСДРП. Руководитель. — М., 1928.
К первомайским празднествам / Вестник театра. 1920. № 49. С. 7.
Кациграс А. Радио-полипросветработа в избе-читальне / Радио в деревню! Агитсборник. — М., 1926. С. 24—31.
Как праздновать Октябрь. Пособие для политпросветработников / Под ред. О. Н. Бескина. — М.; Л., 1925.
Каким должен быть коммунист. Старая и новая мораль. Сборник / Под ред. Ем. Ярославского. — М.; Л., 1925.
Кальпус Б. Физическая культура и Всевобуч, 1918—1923 / Физическая культура. 1923. № 5—6. С. 2—4.
Каменев С., Мехоношин К. Военная подготовка населения. — М.; Л., 1926.
Канатчиков С. На тему дня (страницы пролетарской идеологии). — Петроград, 1923.
Кениг Т. Реклама и плакат как орудия пропаганды. — Л., 1925.
Кернер М. Спорт и физическая культура / К новой армии. 1920. № 14-15. С. 8-9.
Он же. Основы допризывной подготовки рабочей молодежи / К новой армии 1920. № 3. С. 9—10.
Он же. Физическое воспитание рабочей молодежи / К новой армии 1920. № 1. С. 11-13.
Керженцев В. Библиотека коммуниста. Систематический указатель социалистической литературы. — М., 1919.
Он же. Человек новой культуры / Революция и культура. 1927. № 3-4. С. 17-20.
Он же. Газета. Ее организация и техника. — М., 1919.
Он же. Об ошибке тт. Троцкого, Воронского и др. // Октябрь. 1925. № 1 (5). С. 14-117.
Киршон В. На кино-фронте / Революция и культура. 1928. № 1. С. 42-48.
Клейнборт Л. М. Очерки рабочей журналистики (1873—1923 гг.). Петроград, 1924.
Он же. Русский читатель-рабочий. — Л., 1925.
Кнорре Е. Надо ли охранять все старое / Коммунальное хозяйство. 1925. № 23. С. 51-52.
Коленкин А., Зимин Н. Дальние экскурсии. Опыт массовой работы Центрального музейно-экскурсионного института и института методов внешкольной работы Наркомпроса. — М., 1927.
Колодная А. Что читает рабочая молодежь? / Революция и культура. 1928. № 8. С. 39-42.
Корее С. Основные моменты подготовки празднования / Рабочим клубам к десятилетию Октября. — М.; Л., 1927. С. 29—48.
Он же. Вечер годовщины Октябрьской революции в клубе / Октябрь (Сборник пособий для проведения праздника октябрьской годовщины в рабочих клубах) / Под ред. Э. П. Шагалинова. — 2 изд. — М., 1924. С. 5—18.
Король М. Для масс и через массы! / Пролетарское кино. 1931. № 3. С. 7-9.
Kocnop С. К итогам обсуждения вопросов кино / Революция и культура. 1928. № 6. С. 5—7.
Кощевич К. По поводу «верхних этажей» быта / Революция и культура 1928. № 14. С. 21—24.
Костенко Г. Итоги июньского пленума ЦК ВКП(б) и задачи музейной работы / Советский музей. 1931. № 4. С. 3—8.
Котев Б. О фонде фильмов Союзкино / Пролетарское кино. 1931. № 17-18. С. 52-56.
Краеведиые учреждения и их работа / Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению. 1927. № 2—3. С. 33—52.
Крупская Н. Радио в деревню! / Радио в деревню! Агитсбор-ник. — М., 1926. С. 3—4.
Крылов С. Вопросы кино / Революция и культура. 1927. №. 3— 4. С. 47-57.
Курелла А. Лицо культурного консерватизма / Революция и культура. 1928. № 14. С. 25—28.
Он же. О «верхних этажах» быта / Революция и культура. 1928. № 3-4. С. 22-24.
Лебедев Д. Голос миллионов. Голос обследования 16 000 писем рабочих корреспондентов. — М.; Л., 1928.
Лебедев Н. Партия и кино / Советское кино. 1934. № 11—12. С. 30-42.
Он же. За пролетарскую кинореспублику (к вопросу о методологии кинохроники) / Пролетарское кино. 1931. № 12. С. 20—29.
Левицев В. О допризывной подготовке в 1926—1927 гг. С пред., лозунгами, выписками из действ, законов и приказ, и указатель справочн. литературы. — М.; Л., 1927.
Левидова С. М. Экскурсия от Февраля к Октябрю. Таврический дворец и Смольный. — Л., 1926.
Лихачев Б. С. Кино в России (1896—1926). Материалы к истории русского кино. — М.; Л., 1927. Часть 1. 1896—1913.
Лисс Ю. Первые шаги звукового кино / Пролетарское кино. 1931. № 5-6. С. 8-11.
Листовки первых лет советской власти (25 октября (7 ноября) 1917-1925 гг.): В 2 т. - М„ 1967-1970.
Листовки Великого Октября: из собрания Центрального музея революции СССР. Каталог. — М., 1988.
Лядов М. Н. Вопросы быта. — М., 1925.
Любович А. Радио — рупор революции / Радио всем. 1925. №4-5. С. 67.
Он же. Отражение развития радиолюбительства в законодательстве Союза ССР / Радио. Радиолюбительство и радиовещание. Успехи и достижения в СССР и за границей. — М.; Л., 1926. С. 13—22.
Лобанов В. П. Обществоведческие экскурсии. — М., 1925.
Луначарский А. В. Мысли о спорте. — М., 1930.
Он же. О быте. — М.; Л., 1927.
Он же. О народных празднествах / Организация массовых народных празднеств. — М„ 1921. С. 2—6.
Он же. Первое мая 1930 года. — М.; Л., 1930.
Он же. Первый первомайский праздник после победы / Красная нива. 1926. № 18. С. 8.
М. С. С радио-передвижкой в деревню / Радио всем. 1925. № 4— 5. С. 70.
Массовое действо. Руководство к организации и проведению празднования десятилетия Октября и других революционных празднеств / Под ред. Н. И. Подвойского и А. П. Орлинского. — М.; Л., 1927.
Массовые празднества. Сборник Комитета социологического изучения искусств. — Л., 1926.
Массовый читатель и книга / Под ред. Н. Д. Рыбникова. — М., 1925.
Мавроган А. Празднование седьмой годовщины Октябрьской революции в деревне / Вестник агитации. 1924. № 10. С. 109—137.
Мехоношин К. Физическое воспитание и боевая подготовка Красной Армии. — М., 1924.
Он же. Физическое воспитание трудящихся. Тезисы / Физическая культура. 1923. № 3—4. С. 2—3.
Он же. Неотложная задача / Молодая гвардия. 1923. № 3(10). С. 226-229.
Медынский Е. Н. Энциклопедия внешкольного образования. Лекции, читанные на педагогических факультетах Уральского университета в 1920—1922 гг. и 2-го Московского университета в 1922— 1924 гг. - 2 изд. - М.; Л. 1925. Т. 2.
Он же. Громкая читальня. Методическое руководство. — М.; Петроград, 1925.
Он же. Как организовать и вести сельские просветительские общества и кружки. — Рязань, 1918.
Он же. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. — 2 изд. — М., 1919.
Он же. Внешкольное образование в РСФСР. Статистический обзор. — М., 1923.
Он же. Внешкольное образование в РСФСР. Статистический обзор. — 2 изд. — М., 1923.
Мельников А. Спорт и физическая культура / К новой армии. 1921. № 1-2. С. 22-23.
Мицкевич С. Музей революции Союза ССР / Музей революции Союза ССР. Сборник. — М., 1927. С. 5—13.
Mirbt Rudolf. Sowjetrussische Reiseeindriicke. — 2 изд. — Munchen, 1932.
Мясников А. Значение Всевобуча / К новой армии. 1920. № 1. С. 22.
Молянский И. И. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах. Экскурсионная секция и экскурсионные станции / Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 1—20.
Моор Д. С. Я — большевик. Сборник статей. — М., 1967.
Мордерер Я. Комсомол и кино / Пролетарское кино. 1931. № 7. С. 22-23.
Московский краевед. Вып. I—II. Изд. Обществом изучения Московской губернии. — М., 1927.
Мценский Г. Изображение «отрицательного момента» на плакате / Плакат и художественная репродукция. 1934. № 8. С. 1—9.
На борьбу с бюрократизмом / Под ред. А. 3. Гольцмана. — М., 1927.
На каждый день. Экскурсионный сборник в помощь учителю городской школы I ступени / Под ред. А. Я. Закс. — М., 1928.
Народные празднества / Вестник театра. 1919. № 34. С. 3—4.
Назаров М. И. Указатель книг по выставочному, музейному, экскурсионному делу и родиноведению. — М., 1919.
Назаров А. И. Октябрь и книга. Создание советских издательств и формирование массового читателя, 1917—1923. — М., 1968.
Новая программа допризывной подготовки / Всевобуч и спорт. 1922. № 22. С. 338-340.
Нужен решительный перелом / Пролетарское кино. 1932. № 4. С. 1-5.
О частных приемных радиостанциях / О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. — М., 1972. С. 507—508.
О коллективных лекциях. — М., 1926.
О музейном строительстве в РСФСР. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г. (В помощь работнику музея. Законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительству) / Под ред. А. Б. Гиленсон. — М., 1936. С. 7—8.
О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. — М., 1972.
О празднике 1 мая / Вестник агитации и пропаганды. 1921. № 9-10. С. 69-73.
О проведении реэкспозиции музеев. Циркуляр Народного комиссариата просвещения РСФСР от 17 января 1933 г. № 100 / В помощь работнику музея. Законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительству. Под ред. А. Б. Гиленсон. — М., 1936. С. 12-14.
О работе музеев по изучению, выявлению и пропаганде нового социалистического быта. Циркуляр Народного комиссариата просвещения № 50201/24 от 20.05.1930 г. (В помощь работнику музея. Законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительству) / Под ред. А. Б. Гиленсон. — М., 1936. С. 10—12.
О работе радиоклубов. — М., 1926.
О радиоагитации (О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов). — М., 1927. С. 509.
О радиостанциях специального назначения / О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. — М„ 1972. С. 505—506.
О руководстве радиовещанием / О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. - М„ 1972. С. 511.
О сущности политического воспитания при всеобщем обучении военому искусству трудящихся в переходный к милиционной системе период. Тезисы Н. Подвойского и Вл. Горина (Галкина) / К новой армии. 1920. № 1. С. 13—15.
О задаче «Советского музея / Советский музей. 1931. № 1. С. 3-6.
Об очередных задачах в области радиофикации Союза ССР / О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. — М., 1972. С. 512—515.
Охочинский В. Плакат. — Л., 1926.
Огнивцев Д. В. Пропаганда нового быта / Вестник просвещения. 1924. № 4-6. С. 37-42.
Организация массовых народных празднеств. — М., 1921.
Осипова Е. Н. Экскурсионно-методическая литература. Краткий библиографический указатель. — Казань, 1927.
Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам физической культуры и спорта, 1917—1957 гг. / Под ред. И. Г. Чудинова. — М., 1959.
Отчет о 1-м Всероссийском съезде по физической культуре, спорту и допризывной подготовке. — М., 1919.
Переплетчикова Л. С. Читающая молодежь города. Опыт исследования по материалам Московской областной библиотеки за 1928-1929 гг. - М.; Л., 1931.
Первый библиотечный съезд РСФСР. Материалы пленума и секций / Под ред. М. А. Смушковой. — М., 1925.
Первый библиотечный съезд РСФСР. Стенограммы. — М., 1925.
Петров А. А. Массовые экскурсии. — 1 изд. — М., 1924 — 2 изд. — 1925.
Петров Ф. Н. Задачи музейной работы в социалистическом строительстве / Научный работник. 1928. № 4. С. 8—16.
Письмо А. В. Луначарского на имя председателя Петроградской губернской музейной конференции академика С. Ф. Ольденбурга / Музей. 1 (1923). С. 60.
Плетнев В. Пролетарский быт. Старый и новый / Горн. 1923, № 9. С. 65-78.
[Подвойский Н. И.] Доклад начальника Главного управления Всевобуч, терркадров и коммунистических частей тов. Подвойского на совещании начальников полковых округов. — М., 1920.
Он же. К летней работе по массовому физическому оздоровлению и воспитанию рабочего класса на 1923 г. — М., 1923.
Он же. Какая физическая культура нужна пролетариату СССР и кем она должна создаваться. — М., 1923.
Он же. Прошлое, настоящее и будущее Всевобуча (Речь тов. Подвойского на совещании по организации Милиционной Красной Армии 13 октября 1920 г.) / К новой армии. 1920. № 16. С. 20-24.
Он же. Рабочий класс, солнце, чистый воздух и вода. — М., 1923.
Он же. Смычка с солнцем. — Л., 1925.
Он же. Всевобуч — Всетрудобуч. Вып. I. — Буйнакск, 1921.
Он же. Физическая культура пролетариата в СССР. — 2 изд. — Л., 1925.
Покровский А. А. Библиотечная работа. — М., 1919. — 3 изд. — М„ 1922.
Политический словарь. Краткое научно-популярное толкование слов / Под ред. Б. М. Ельцина. — М., 1923.
Полонский В: Русский революционный плакат. — М., 1925.
Поссе В. Трактор и лопата. С письмом к допризывникам Н. Подвойского. — М., 1922.
Правила для учета лиц, подлежащих допризывной подготовке. — М., 1920.
Преображенский Е. А. Наша работа / Вестник агитации и пропаганды. 1920. № 1. С. 2—3.
Он же. О морали и классовых нормах. — М.; Петроград, 1923.
Преображенский Н. Побольше внимания к мелочам / Радио всем. 1925. № 1. С. 5.
Приказы начальника Всеобщего военного обучения допризывной подготовки территориальных кадров и коммунистических частей РСФСР. - М., 1920.
Проект первомайских торжеств / Вестник театра. 1919. № 19. С. 5-6.
Проект празднования 1 мая / Вестник театра. 1919. № 22. С.З.
Proletarische Kulturrevolution in Sowjetruflland (1917—1921).
Dokumente des «Proletkult» / Под ред. Richard Lorenz. — Munchen, 1969.
Пролетарский праздник. — M., 1923.
Путеводитель по Музею революции / Под ред. С. Мицкевича. — 2 изд. - М„ 1927.
Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии / Под ред. Д. С. Ольхового. — М., 1929.
Радио для всех. Изд. Общества друзей радио. Вып. I. — Киев, 1925.
Радио-листок. Бесплатное приложение к журналу «Радио всем». 1927. № 4.
Радио на службу политпросветработы в деревне. — Л., 1932.
Радио в деревне. Информационное письмо Главполитпросвета №6. - М„ 1925.
Радио в рабочем клубе. — Л., 1927.
Радио в СССР. Отчет VII съезду советов. — М., 1934.
Рафаил М. За нового человека. — Л., 1928.
Райков Б. Е. Методика и техника ведения экскурсий. — М., 1924.
Он же. Вопросы экскурсионного дела по данным Петроградской конференции 10—12 марта 1923 г. — Петроград, 1923.
Он же, Краснуха Э. Б. Внешкольные экскурсии. — М., 1924.
Рейснер Л. Избранное. — М., 1965.
Рейснер М. Старое и новое / Красная новь. 1922. № 2(6). С. 276-285.
Революционные праздники в библиотеке / Под ред. Н. К. Крупской. - М„ 1923.
Резолюции Всероссийского съезда библиотечных работников. 1-7 июля 1924 г. - М„ 1924.
Резолюции III Всероссийской конференции по краеведению (11-14 декабря 1927 г.). - М„ 1928.
Рюмин Евг. Массовые празднества. — М.; Л., 1927.
Родин А. Ф. Деловая улица большого города. Производственнокраеведческий очерк Мясницкой улицы в Москве. — М., 1926.
Рольман. О работе Всевобуча в деревне / К новой армии. 1920. № 19-20. С. 12-13.
Романов Н. И. Местные музеи и как их устраивать. — М., 1919.
Романовская Н. В. Основные принципы построения историко-революционных отделов в краевых музеях / Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению. 1927. № 4. С. 114—117.
Она же. Введение / Что нужно узнать в общественно-исторических экскурсиях / Спутник экскурсанта. М., 1926. С. 5—15.
Она же. Историко-революционные экскурсии. Музей революции / Что нужно узнать в общественно-исторических экскурсиях. Спутник экскурсанта. М., 1926. С. 26—52.
Ромм М. О физической культуре трудящихся / Физическая культура. 1923. № 2. С. 19—26.
Розенталь Л. Как вести изучение музейного зрителя / Советский музей. 1931. № 2. С. 19—26.
Руководящая инструкция по организации всеобщего военного обучения и формирования резервных частей. — М., 1918. ,
III. О репертуаре кино / Вестник театра. 1920. № 57. С. 2—5. 1 Сахаров С. И. Законы о печати. — М., 1923.
Sackarov A. Mein Leben. — Miinchen; Zurich, 1990.
Шафир Я. Газета и деревня. — 2 изд. — М.; Л., 1924.
Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. Сборник документов и материалов. — М., 1973.
Семашко Н. А. Производительность труда и охрана народного здравия. — М., 1925.
Он же. Пути советской физкультуры. — М., 1926.
Он же. Культурная революция и оздоровление быта. — 2 изд. — М.; Л„ 1930.
Он же. Десять лет советской физкультуры / Теория и практика физической культуры. 1927. № 5. С. 5—9.
Он же. Советская власть и народное здоровье. — М., 1920.
Он же. Воспитание нового человека и задачи физической культуры / Революция и культура. 1928. № 11. С. 40—43.
Он же. О светлом и темном в рабочем быту. — М.; Л., 1928.
Он же. Физическая культура и здравоохранение в СССР / Он же. Избранные произведения. Под редакцией П. И. Калъю. — М., 1967. С. 264-267.
Семенова В. Кто кого (борьба старого и нового быта в деревне). - М., 1928.
Сфазлло Гр. Спорт и Всевобуч / К новой армии. 1920. № 1. С. 22-23.
Синкевич Мих. Мысли о физической культуре пролетариата / Физическая культура. 1923. № 5—6. С. 15—17. >му.;
Скородумов Л. Зритель и кино / Пролетарское кино. 1931. № 19-20. С. 49-61.
Смидович С. О культуре и быте. — М.; Л., 1930.
Смирнов Н. Из работ Отделения спорта Главного управления Всевобуч / Всевобуч и спорт. 1922. № 13. С. 194—196.
Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. — Харьков, 1919.
Смоленцев. Физическая культура раньше и теперь / Всевобуч и спорт. 1922. № 19. С. 290-291.
Собецкий М. Организация спорта и физической культуры в Со-вет-России / Всевобуч и спорт. 1922. № 22. С. 340—341; № 23. С. 357-358; № 24. С. 372-373; № 25. С. 387-388.
Соболев А. Всем организациям и всем активным деятелям и работникам по спорту и физической культуре / Всевобуч и спорт. 1922. № 16. С. 242-243.
Соколов И Сближение физкультуры и производства / Физическая культура. 1923. № 5—6. С. 12—15.
Сольц А. А. Коммунистическая этика (Каким должен быть коммунист) / Сборник под ред. Ем. Ярославского. — М.; Л., 1925. С. 84—98.
Сосновский Л. С. Дела и люди: Рассея. — М., 1924. Книга первая: Рассея. — М., 1924.
Состояние мировой кинопромышленности / Пролетарское кино. 1931. № 5-6. С. 72-74.
Советская кинематография на новом этапе / Советское кино. 1933. № 1. С. 1-5.
Спутник делегата 1-го библиотечного съезда 1—5 июля 1924 г. — М„ 1924.
Сталь Л. Политическая роль Музеев революции и Всесоюзное общество друзей Музеев революции / Музей революции СССР. Пятый сборник статей. — М., 1933. С. 10—17.
Станок. Сборник материалов живой газеты Ленинградского губ-просвета. — Л., 1926.
Стариков В. Физическая культура в 1922 году / Молодая гвардия. 1922. № 6-7. С. 297-306.
Он же. Всевобуч и спорт (текущий момент) / Физическая культура. 1922. № 1. С. 2—3.
Старый и новый быт / Под ред. В. Г. Тан-Богораза. — Л., 1924.
Статистика физического развития рабочего населения, (г. Москва и губерния) / Под ред. П. И. Куркина. — М., 1925.
Стефен А. О работе Всевобуча в деревне / К новой армии. 1920. № 7-8. С. 24-26.
Стенографический отчет 1-го Всесоюзного совещания советов физической культуры (15—20 апреля 1924 г.). — М., 1924.
Шутко К. И. Что такое «хроника»? / Культурфильма. Политико-просветительная фильма. — М., 1929. С. 194—216.
Он же. Что такое политико-просветительная фильма / Культурфильма. Политико-просветительная фильма. — М., 1929. С. 10—23.
Сытин П. Надо ли охранять все старое? / Коммунальное хозяйство. 1925. № 23. С. 47-51.
Сутырин В. О социалистической реконструкции кинематографии / Пролетарское кино. 1931. № 1. С. 6—17.
Табачников А. Шефство комсомола над кинопостановками / Пролетарское кино. 1931. № 7. С. 24.
Тьерсо Жюльен. Празднества и песни французской революции. — Петроград, 1918.
Тезисы доклада тов. Подвойского о совместной работе Всевобуча и отделов по работе в деревне РКП (большевиков), принятые на Всероссийском совещании ответственных организаторов деревни / К новой армии. 1920. № 7—8. С. 26.
Time of Troubles. The Daiary of lurii Vladimirovich Got’e / Под ред. Terence Emmons. — London, 1988.
Тюрина В. H. Основные этапы библиотечного строительства / Труды Московского государственного библиотечного института. Вып. 2. - М„ 1939. С. 52-96.
Торопов А. Крестьяне о писателях. Опыт, методика и образцы крестьянской критики современной художественной литературы. - М.; Л., 1930.
Троцкий Л. Ленинизм и библиотечная работа. — М., 1924.
Он же. Вопросы быта. — Л., 1924.
Тройницкий С. Н. Основы строительства гуманитарных музеев / Музей. 1923. № 1. С. 18-23.
Вайсфельд И. Комсомол в художественной кинематографии / Пролетарское кино. 1931. № 7. С. 11—19.
Васильковский Л. Для чего нужны естественно-исторические экскурсии / Спутник экскурсанта. 1926. № 8. С. 102—106.
Вепринский М. Живая газета. — М.; Л., 1927.
Верн В. Октябрьские дни в Москве. Опыт построения обществоведческой экскурсионной работы / Вестник просвещения. 1924. № 10. С. 74-79.
Верт В. К 25-летию деятельности Д. С. Моора. Плакаты Д. С. Моора в оценке массового зрителя / Плакат и художественная репродукция. 1934. № 9. С. 3—8.
Виноградов Н. Д. Воспоминание о монументальной пропаганде в Москве / Искусство. 1939. № 1. С. 32—49.
Витязев П. Частные издательства в Советской России. — Петроград, 1921.
Вопросы физической культуры / Под ред. Я. Б. Ейгер и И. С. Симонова. — Л., 1925.
Вопросы драматургии кино. Т. 1: Драматургия кино. Первый сборник сценариев / Под ред. П. А. Блихина, А. Е. Милькина, М. Я. Шнейдера. — М., 1934.
Всем край-, обл- и губоно и всем музеям государственной и местной сети, имеющим историко-революционные отделы. Об учете историко-революционых памятников. (№ 50/001 от 23.05.1928 г.) / Еженедельник Народного комиссариата просвещения РСФСР. 1928. № 23. С. 25-26.
Всем организациям РКСМ об организации и работе спортивных клубов / К новой армии. 1920. № 10—11. С. 24.
Всероссийский пролетарский спортивный стадион / К новой армии. 1920. № 14—15. С. 24—28.
Всевобуч и работа среди женщин. Тезисы Н. И. Подвойского и Г. Д. Закса / К новой армии. 1920. № 10—11. С. 10—11.
XV съезд ВКП(б) и вопросы культурного строительства / Революция и культура. 1927. № 3—4. С. 5—9.
3. А. Л. Сила Всевобуча / К новой армии. 1920. № 6. С. 21—23.
«За газету». Агит-сборник для деревни / Под ред. Ник. Масленникова. — М., 1924.
Закс Гр. Спорт на службе рабочего класса / К новой армии. 1920. № 10-11. С. 11-12.
Зосимов Г. Кинохроника на экране / Советское кино. 1933. № 8. С. 39-42.
4. Научные труды
Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. — М., 1970.
Он же. Geschichte des Bibliothekswesens der UdSSR. — Leipzig, 1985.
Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств / Под ред. В. П. Толстого. — М., 1984.
Agursky Mikhail. L’aspekt millentarist de la Revolution bolchevique / Cahiers du monde russe sovietique 29 (1988). S. 487—514.
Algermissen Konrad. Der Bolschewismus, die groflte weltanschauliche und ethische Gefahr der Menschheit. — Hannover, 1937.
Almond Gabriel A. Communism and Political Culture Theory / Comparative Politics 16 (1983). P. 127—138.
Он же. Comparative Political Systems / Journal of Politics. 18 (1956). P. 391-409.
Он же. The Intellectual History of the Civic Culture Concept / The Civic Culture Revisited / Под ред. Его же и Sidney Verba. — Toronto, 1980. P. 1—36.
Он же, Powell G„ Bingham Jr. Comparative Politics. A Developmental Approach. — Boston, Mass., 1966.
Он же, Verba Sidney. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. — Princeton; N.Y, 1963.
Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen / Под ред. Alf Ltidtke. — Frankfurt/M., 1989.
Altrichter Helmut. Die Bauern von Tver. Vom Leben auf dem rus-sischen Dorfe zwischen Revolution und Kollektivierung. — Miinchen, 1984.
Андреева M. С. Вопросы научно-просветительной деятельности музеев в журнале «Советский музей» в 30-е гг. Из истории охраны и использования культурного наследия в РСФСР. Сборник научных трудов. — М., 1987. С. 192—205.
Асаулов В. Ф. Печать как эффективное средство формирования советской системы физического воспитания народа (1917—1925 гг.) Автореф. дисс. канд. ист. наук. — Киев, 1989.
Бабурина Н. М. Русский плакат. Вторая половина XIX — начало XX века. — Л., 1988.
Bachtin Michail. Rabelais and his World. — Cambridge etc., 1968.
Barale Florence. Filmographie sovietique, 1917—1921 / Cahiers du monde russe sovietique. 17 (1976). P. 267—285.
Barry Brian. Sociologists, Economists and Democracy. — London, 1970.
Baumgarten Franziska. Arbeitswissenschaft und Psychotechnik in Rutland. — Munchen, 1924.
Белицкая E. Я. П. И. Куркин (Жизнь и деятельность). 1858— 1934. - Л., 1963.
Benjamin Walter. Geschichtsphilosophische Thesen / Illuminationen. Ausgewahlte Schriften. — Frankrart/M., 1961. S. 268—279.
Он же. Stadtebilder. — Frankfurt/M., 1963.
Berg-Schlosser Dirk. Politische Kultur. Eine neue Dimension politikwissenschaftlicher Analyse. — Munchen, 1972.
Beyme Klaus von. Die Oktoberrevolution und ihre Mythen in Ideologic und Kunst / Revolution und Mythos. S. 149—177.
Библиотечное дело в годы восстановлени народного хозяйства и борьбы за социалистическую индустриализацию страны (1921 — 1928). Библиографический указатель. Вып. 1—3. — М., 1976—1980.
Библиотечное дело в первые годы советской власти (1917— 1920). Библиографический указатель. — М., 1973.
Bojko Szimon. Agit-Prop Art. The Streets were their Theater / Avant-Garde in Russia, 1920—1930: New Perspectives / Под ред. Stephanie Barron, Maurice Tuchmann. — Cambridge, Mass., 1980. P. 72—77.
Bolshakoff S. Russian Nonconformity. — Philadelphia, 1949.
Braegger Carelpeter. Agitation als Kunst / Kunst und Propaganda: Sowjetiscne Plakate bis 1953. (Austellungskatalog). — Ziiricn, 1989. S. 20-53.
Братолюбов С. На заре советской кинематографии. Из истории киноорганизаций Петрограда—Ленинграда 1918—1925 гг. — Л., 1976.
Brooks Jeffrey. The Breakdown in Production and Distribution of Printed Material, 1917—1927 / Bolshevik Culture. Experiment and Order in the Russian Revolution. Под ред. Abbot Gleason, Peter Kenez, Richard Stites. — Bloomington; Indianapolis, 1985. P. 151—174.
Он же. Studies of the Reader in the 1920 s./ Russian History. 9 (1982). P. 187-202.
Он же. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861 — 1917. — Princeton, N.Y., 1985.
Brown Archie. Soviet Politics and Political Science. — London, 1974.
Бурлацкий Ф. M. Ленин, государство, политика. — M., 1970.
Он же, Галкин А. А. Социология, политика, международные отношения. — М., 1974.
Burton Pauli. Radio and Television. — London, 1974.
Бутник-Сиверский Б. С. Советский плакат эпохи гражданской войны 1918-1921. - М., 1960.
Buzek Anton. Die kommunistische Presse. — Frauenfeld, 1965.
Carter Huntly. The Soviet Cinema and the People: Their Social Unity / Playtime in Russia. Под ред. Hubert Griffith. — London, 1935. P. 95—118.
Хакимулина О. H. Партийное руководство организацией и деятельностью музеев в период построения социализма. На мате
риалах историко-революционных музеев северо-запада РСФСР. Автор, дисс. — Л., 1983.
The Civic Culture Revisited / Под ред. Gabriel A. Almond, Sidney Verba. — Toronto, 1980.
Cohen Louis Harris: The Cultural-Political Traditions and Developments of the Soviet Cinema 1917—1972. Ph. D. Univ, of Southern. — California; Los Angeles, 1973.
Constantine At., Fem A. Revolutionary Soviet Film Posters. — London, 1974.
Coquin Frangoise-Xavier. L’affiche revolutionaire sovietique (1918— 1921): mythes et realites / Revue des Etudes Slaves. 59 (1988). P. 719— 740.
Чудинов И. Г. Физическая культура в годы гражданской войны. Дисс. канд. пед. наук. — М., 1940.
Das Schwein des Hauptlings. Beitrage zur historischen Anthro-pologie / Под ред. Rebekka Habermas, Niels Atinkmar. — Berlin, 1992.
Дегтяева P. В. Роль Первого Всероссийского съезда в становлении историко-революционных музеев в СССР / Вестник Ленинградского университета. 1977. № 8. С. 141—144.
Демина Л. И. Журнал «Советский музей» как источник по истории музейного строительства / Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия в РСФСР. Сборник научных трудов. - М„ 1987. С. 174-191.
Der sowjetische Revolutionsfilm: Zwanziger und dreiBiger Jahre. Eine Dokumentation / Под ред. Hermann Herlinghaus и др. — Berlin (DDR), 1967.
Diem Carl. Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung. — Stuttgart, 1960.
Dillon E.J. Russia Today and Yesterday. — London; Toronto, 1929.
Dunham, Vera Sandomirsky. In Stalins Times. Middle Class Values in Soviet Fiction. — Cambridge etc., 1976.
Elkins David J., Simeon, Richard E. B. A Cause in Search of its Effects? / Comparative Politics. 11 (1979). P. 127—145.
Федоров-Давыдов А. А. Искусство советского плаката и политическая карикатура в советском изобразительном искусстве / 30 лет советского изобразительного искусства. — М., 1948. С. 149—182.
Ferry Luc, Renaut Alain. Antinumanistisches Denken. Gegen die franzosischen Meisterphilosophen. — Munchen; Wien, 1987.
Филатов А. О новых и старых обрядах. — М., 1967.
Финогенова Л. А. Развитие советской физической культуры и спорта в период построения фундамента социализма в СССР (1926—1932 годы). Автореф. дисс. канд. пед. наук. — М., 1966.
Fitzpatrick Sheila. Cultural Revolution as Class War / Cultural Revolution in Russia, 1928—1931 / Под ред. Sheila Fitzpatrick.— Bloomington; Indiana, 1978. P. 8—40.
Она же. The Cultural Front. Power and Cilture in Revolutionary Russia. — Ithaca; London, 1992.
Физическая культура и спорт в СССР в цифрах и фактах (1917—1961 гг.). В помощь пропагандисту. — М., 1962.
Fouquet Catherine. Fiihrt der Weg der Frauengeschichte uber die Geschichte des weiblichen Korpers?; Alain Corbin, Michelle Perrot и др. 1st eine weibliche Geschichtsschreibung moglich? / Под ред. Michelle Perrot. — Frankfurt/M., 1989. S. 47—62.
Fiildp-Miller Rent. Geist und Gesicht des Bolschewismus. Dar-stellung und Kritik des kulturellen Lebens in Sowjet-RuBland. — Zurich; Leipzig; Wien, 1926.
Гарданов В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы советской власти (1917—1920 гг.) / История музейного дела в СССР. Сборник статей. — М., 1957. С. 7-36.
Gafiner Hubertus, Gillen Eckhart. Zwischen Revolutionskunst und sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare. Kunst-debatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934. — Koln, 1979.
Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, Institutionen, Kurz-bioghraphien / Под ред. Use Jahn, Rolf Lather, Konrad Sanglaub. — 2-e изд. — Jena, 1985.
Gill Graeme. Stalinism. Houndmiolls, London, 1990.
Gillen Eckhart. Von der politischen Allegorie zum sowjetischen Mon-tageplakat / Kultur und Kulturrevolution in der Sowjetunion / Под ред. Eberhard Knodler-Bunte, Gemot Erler. — Kronberg/Ts., 1978. S. 57—80.
Goldmann Emma. My Desillusionment in Russia. — N.Y., 1970 (1-е изд. 1922).
Горбунов В. В. Ленин и Пролеткульт. — М., 1974. (изд. на нем. яз. W. Gorbunov. Lenin und Proletkult. Berlin (DDR), 1979.
Он же, Деметер Г. С. 70 лет советского спорта. — М., 1987.
Gorsen Peter, Knodler-Bunte Eberhard. Proletkult: В 2 т. — Stuttgart-Bad Cannstatt, 1974—1975.
Gorzka Gabriele. A. Bogdanov und der russische Proletkult: Theorie und Praxis einer sozialistischen Kulturrevolution. — Frankfurt/M., 1980.
Она же. Arbeiterkultur in der Sowjetunion. Industriearbeiter-Klubs 1917—1929. Ein Beitrag zur sowjetischen Kulturgeschichte. — Berlin, 1989.
Gosztony Peter. Die Rote Armee. Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkrafte seit 1917. — Wien etc., 1980.
Grille Dietrich. Lenins Rivale. Bogdanov und seine Philosophic. — Koln, 1966.
Groh Dieter. Anthropologische Dimensionen der Geschichte. — Frankfurt/M., 1992.
Grays Boris. Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetzivilisation. — Munchen; Wien, 1988.
Hall P. E. Sport (Playtime in Russia). / Под ред. Hubert Griffith. — London, 1935. P. 184—204.
Hanke Irma. Alltag und Politik. Zur politischen Kultur einer unpolitischen Gesellschaft. Eine Untersuchung zur erzahlenden Gegenwartsliteratur der DDR in den 70-er Jahren. — Opladen, 1987.
Harth Dietrich. Revolution und Mythos. Sieben Thesen zur Genesis und Geltung zweier Grundbegriffe historischen Denkens / Revolution
und Mythos / Под ред. Dietrich Harth,Jahn Assman. — Frankfurt/M., 1992. S. 9-38.
Hastings Michel. Identite culturelie locale et politique festive com-muniste: Halluin la Rouge 1920—1934 / Le mouvement sociale. 139 (1987). P. 7-25.
Haumann Heiko. Geschichte der Ostjuden. — Munchen, 1990.
Hegel G. IF. F. Weltgeist zwischen Jena und Berlin. Briefe / Под ред. Hartmut Zinser. — Frankfurt/M.; Berlin; Wien, 1982.
Heiz Andre Vladimir. Eins und eins, das sind drei. Etude liber ein Pla-kat von El Lissitzky aus dem Jahre 1929 / Kunst und Propaganda; Sowje-tische Plakate bis 1953. (Ausstellungskatalog). — Zurich, 1989. S. 6—19.
Hiepe Richard. Riese Proletariat und groBe Maschinerie. Revolutionare Bildvorstellungen in der Kunst des 19. Jahrhunderts / Kunst und Unterricht, 1973. S. 22—29.
Historische Anthropologie / Под ред. Hans Siissmuth. — Gottingen, 1984.
Hokheimer Max, Adorno Theodor W. Dialektik der Aufklarung. Philo-sophische Fragmente. — Frankfurt/M., 1969.
Hom Hannelore. Perestrojka und politische Kultur / Osteuropa. 40 (1990). S. 705-717.
Hutchinson John F. Politics and Public Health in Revolutionary Russia 1890—1918. — Baltimore and London, 1990.
Inkeles Alex. Public Opinion in Soviet Russia. A Study in Mass Persuasion. — Cambridge, Mass., 1951.
Ионова О. В. Музейное строительство в годы довоенных пятилеток (1928—1941 гг.) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 9. - М„ 1963. С. 84-118.
Она же. Создание сети краеведческих музеев РСФСР в первые десять лет советской власти / История музейного дела в СССР. Сборник статей. — М., 1957. С. 37—72.
История книги в СССР 1917—1921: В 3 т. — М., 1983.
Kampfer Frank. Das friihsowjetische Plakat als historische Quellengruppe. Ein Beitrag zur Erkenntnistheorie des politischen Bildes / Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. 25 (1978). S. 156-168.
Он же. «Der rote Keil». Das politische Plakat — Theorie und Geschichte. — Berlin (West), 1985.
Kalnins Bruno. Der sowjetische Propagandastaat. Das System und die Mittel der Massenbeeinfliissung in der Sowjetunion. — Stockholm, 1956.
Кампрас П. П., Закович H. M. Советская гражданская обрядность. — М., 1967.
Kappeler Andreas. Ruffland als Vielvolkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall. — Munchen, 1992.
Kenez Peter. Cinema and Soviet Society, 1917—1953. — Cambridge, 1992.
Он же. The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization 1917—1929. — Cambridge etc., 1985.
Kennedy Emmet. A Cultural History of the French Revolution. — New Haven; London, 1989.
Kim Anatolij. Eichhdrnchen. Roman. Пер. на нем. яз. Томас Решке. — Berlin (DDR), 1987.
Ким М. П. Великий Октябрь и культурная революция в СССР. - М„ 1967.
Кончин Е. Эмиссары восемнадцатого года. — М., 1981.
Кононов Ю. Ф., Хевролина В. М. Мемориальные музеи, посвященные деятелям науки и культуры СССР (1917—1956 гг.) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 5. — М., 1963. С. 119— 188.
Кравченко А. И. Методы социалистического управления (опыт 20-х годов) / Социологические исследования. 1986. № 3. С. 197—203.
Кулинко Н. Ф. История и организация физической культуры. — М„ 1982.
Кузнецов И. В., Фингерит Е. М. Газетный мир Советского Союза, 1917—1970 гг. Т. 1. Центральные газеты. — М., 1972; Т. 2. Республиканские, краевые, областные и окружные газеты. — М., 1976.
Кытманова С. И. О роли Истпарта в создании первых историко-революционных выставок и музеев / Музейное дело в СССР. М., 1982. С. 122-131.
Lask Berta. Kollektivdorf und Sowjetgut. Ein Reisetagebuch. — Berlin, 1931.
Lasky Nelvin J. Utopie und Revolution. Uber die Urspriinge einer Metapher oder Eine Geschichte des politischen Temperaments. — Reinbeck, 1989.
Лебедев H. Внимание: Кинематограф! О кино и киноведении. Статьи, исследования, выступления. — М., 1974.
Лейкина- Свирская В. П. Из истории Ленинградского музея революции / Очерки истории музейного дела в России. Вып. 3. — М., 1961. С. 55-78.
Lemke Christiane. Die politische Kultur sozialistischer Systeme in Osteuropa. Fragestellungen, theoretische und konzeptionelle Probleme der Forschung / Die politische Kultur Polens / Под ред. Gerd Meyer, Franciszek Ryszka. — Tubingen, 1989. S. 41—55.
Лоенавичюс Ю. С. Исследование бюджетов времени студентов в СССР (20-е — 60-е гг.) / Социологические исследования. 1975. № 3. С. 156-166.
Lewin Moshe. Popular Religion in Twentieth-Century in Russia / The Making of the Soviet System. Essays in the Social History of Interwar Russia. — London, 1985. P. 57—71.
Leyda Jay. Kino: A History of the Russian and Soviet Film. — Princeton, N.Y., 1960.
Li.jph.art Arend. The Structure of Inference / The Civic Culture Revisited. P. 37—56.
Lins Ulrich. Die gefahrliche Sprache. Die Verfolgung der Espe-rantisten unter Hitler und Stalin. — Gerlingen, 1988.
London Kurt. The Seven Soviet Arts. — London, 1937. Reprint. — Westpot; Conn, 1970.
Lyon Jaques. La Russie soviStique. — Paris, 1927. ч
Mackenzie A. J. Propaganda Boom. — London, 1938. Л1
Maier Robert. Die Stachanov-Bewegung 1935—38. Der Stacha-novismus als tragendes und verscharfendes Moment der Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft. — Stuttgart, 1990.
Maliy Lynn. Culture of the Future. The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. — Berkeley etc., 1990.
Малыхин H. Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в СССР. - М„ 1965.
Маринов А. А. В строю защитников Октября. — М., 1982.
Материалы к истории библиотечного дела в СССР (1917— 1959 гг.). Учебное пособие для студентов библиотечных институтов. — Л., 1960.
Maxwell Bertram W. Political Propaganda in Soviet Russia / Childs H. L. Propaganda and Dictatorship. A Collection of Papers. N.Y., 1972. P. 61-79.
Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. — М., 1978.
McAuly Mary. Political Culture and Communist Politics: One Step Forward, Two Steps Back / Political Culture and Political Change. P. 13-29.
Meissner Boris. Das Parteiprogramm der KPDSU, 1903—1961. — Koln, 1962.
Методические материалы к советской музейной энциклопедии. — М., 1989.
Милыитейн О. А. Физическая культура и спорт на службе охраны и укрепления здоровья советского народа в период строительства и победы социализма (1917—1937 гт.) / Очерки по истории физической культуры. — М., 1967. С. 5—39.
Мишурис А. Л., Кузнецов И. В. История партийно-советской печати. — 4-е изд. — М., 1968.
Монументальное искусство СССР / Под ред. В. П. Толстого и Б. А. Белана. — М., 1978.
Moussinac Leon. Le cinema sovietique. — Paris, 1928.
Музейное строительство на Украине в годы советской власти. Научно-воспоминательный библиографический указатель. — Киев, 1987.
Народное образование, наука и культура в СССР. Статистический сборник. — М., 1977.
Назаров А. И. Октябрь и книга. Создание советских издательств и формирование массового читателя, 1917—1923. — М., 1968.
Nipperdy Thomas. Die anthropologische Dimension der Gesell-schaftswissenschaft / Он же. Gesellschaft, Kultur, Theorie. — Gottingen, 1976. S. 33—58.
Новоселов H. П., Синицын С. Д., Харабуга Г. Д. История физической культуры народов СССР. — М., Часть 1. 1953.
Очерки истории советского кино. 1917—1934. Т. 1. — М., 1956.
Очерки истории советского радиовещания и телевидения. Учебное пособие. — М., Часть I: 1917—1941. 1972.
Очерки истории советской журналистики, 1917—1932 / Под ред. А. Г. Дементьева. — М., 1966.
Odom Wiliam. The Militarization of Soviet Society / Problems of Communism. 25 (1976). Вып. 5. C. 34—51.
Омельченко Ю. А. История музейного строительства на Украине 1917—1932 гг. (На материалах музеев исторического и краеведческого профиля). Автореф. дисс. — Киев 1972.
Pateman Carole. The Civic Culture: A Philosophic Critique / The Civic Culture Revisited. P. 57—102.
Печать СССР за 50 лет. Статистические очерки. — М., 1967.
Печать СССР в годы пятилеток. Статистические материалы. — М., 1971.
Pethibridge Rodger. One Step Backward, Two Steps Forward. Soviet Society and Politics in the New Economic Policy. — Oxford, 1990.
Он же. The Social Prelude to Stalinism. — London; Basingstoke, 1974.
Piltz Georg. RuBland wird rot: Satirische Plakate, 1918—1922. — Berlin (DDR), 1977.
Пинегина Л. А. Организация пролетарской культуры 1920-х годов: Культурное наследие / Вопросы истории. 1981. № 7. С. 84—94.
Она же. Советский рабочий класс и художественная культура, 1917-1932. - М„ 1984.
Пиотровский А. И. Театр, кино, жизнь. — Л., 1969.
Plaggenborg Stefan. Die Organisation des Sowjetstaates / Handbuch der Geschichte RuBlands, T. 3 / Под ред. Gottfried Schramm. — Stuttgart, 1983—1993. 1413—1525.
Он же. Staatsfinanzen und Industrialisierung in RuBland, 1881—1903. Die Bilanz der Steuerpolitik fur Fiskus, Bevolkerung und Wirtschaft / Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. 44 (1990). S. 123—336.
Он же. Stalins Aufstieg bis 1928—1929 / Sowjetunion im Zeichen des Stalinismus / Под ред. Antonio Peter и Robert Maier. — Koln, 1991. S. 45-62.
Ploetz Alfred. Grundlinien einer Rassenhygiene. — Berlin, 1895.
Political Culture and Communist Studies / Под ред. Archie Brown. Houndmills; London, 1984.
Political Culture and Political Change in Communist States / Под ред. Archie Brown и Jack Gray. — London, 1974.
Political Culture and Political Development / Под ред. Lucian Pye и Sidney Verba. — Princeton, N.Y., 1965.
Политические отношения: прогнозирование и планирование / Под ред. Д. А. Керимова. — М., 1979.
Полкова М. А. Из истории охраны и пропаганды культурного наследия в первые годы Советской власти / Музееведение. Из истории охраны и исследования культурного наследия РСФСР. Сборник научных трудов. — М., 1987. С. 11—24.
Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (опыт историко-этнографического исследования). — Л., 1963. (Франц, изд.: Propp Vladimir Ya. Les Fetes agraires russes. — Paris, 1987).
Простяков С. У истоков советского спорта / Спортивная жизнь России. 1980. № 2. С. 32-43.
Пучков О. И. Становление и развитие физической культуры
среднего Поволжья в первое десятилетие советской власти 1917— 1927 гг. Автореф. дисс. канд. ист. наук. — Куйбышев, 1983.
Pye Lucian W. Culture and Political Science: Problems in the Evaluation of the Concept of Political Culture / Schneider Louis, Bonjean Charles M. (Ред.): The Idea of Culture in the Social Sciences. — Cambridge, 1973. P. 65-76.
Radkley Oliver H. The Unknown Civil War in Russia. A Study of the Green Movement in the Tambov Region. — Standford; Cal., 1976.
Рафиенко E. H. Историко-революционные музеи и историческая наука в 1920-е гг./ Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия в РСФСР. Сборник научных трудов. — М„ 1987. С. 79-103.
Равикович Д. А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917—1967 гг.) / Труды научно-исследовательского института музееведения и охраны памятников истории и культуры. Вып. 22. - М., 1970. С. 3-127.
Он же. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства (1921—1925) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 6. - М., 1968. С. 97-144.
Размустова Т. О. Изучение истории края Воронежским музеем в первое десятилетие советской власти / Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия в РСФСР. Сборник научных трудов. — М., 1987. С. 138—154.
Read Christopher. Culture and Power in Revolutionary Russia. The Intelligetsia and the Transition from Tsarism to Communism. — Houndmills; London, 1990.
Рейнштейн Б. О. «Газета» без бумаги / Наука и жизнь, 1960. № 4. С. 42-43.
Revolution und Mythos / Под ред. Dietrich Harth и Jan Assman. — Frankfurt/M., 1992.
Riordan James. Sport in the Soviet Society: Development of Sport and Phisical Education in Russia and the USSR. — Cambridge etc., 1977.
Роговин В. 3. А. В. Луначарский о социалистическом образе жизни / Социологические исследования. 1975. № 4. С. 159—170.
Rogowski Ronald. A Rational Theory of Legitimacy. — Princeton, N.Y., 1976.
Романичева И. Г. Музейное дело. — Л., 1983.
Шарапов Ю. П. Из истории идеологической борьбы при переходе к НЭПу. Мелкобуржуазный революционаризм — опасность «слева», 1920-1923. - М, 1990.
Sarkisyanz Emmanuel. RuBland und der Messianismus des Orients. SendungsbewuBtsein und politischer Chiliasmus des Ostens. — Tubingen, 1955.
Саркизов-Серазини И. M. Основные пути развития советской науки о физическом воспитании за 40 лет / Основные пути развития советской науки о физическом воспитании. Материалы пленарного заседания НМС, посвященного 40-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. — М., 1958. С. 3—23.
Шерегин Ф. Э. Методический аппарат прикладной социологии 20-х годов. Проблемы репрезентативности исследований / Социологические исследования. 1978. № 1. С. 192—201.
Scherer John L., Jacobson Michail. The Collektivisation of Agriculture and the Soviet Prison Camp System / Europe Asia Studies. 45 (1993). P. 533-546.
Schroder Hans-Henning. Arbeiterschaft, Wirtschaftsfiihrung und Parteibiirokratie wahrend der Neuen Okonomischen Poliitik. Eine Sozialgeschichte der bolschewistischen Partei, 1920—1928. — Berlin, 1982 (=Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. T. 31).
Он же. Industrialisierung und Parteibiirokratie in der Sowjetunion. Ein sozialgeschichtlicher Versuch fiber die Anfangsphase des Stalinismus (1928—1934). — Berlin, 1988 (=Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. T. 41).
Sinjawskij Andrej. Der Traum vom neuen Menschen oder Die Sowjet -zivilisation. — Frankfurt/M., 1989.
Sochor Zenovia A. Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy. — Ithaca, 1988.
Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог: В 5 т. М„ 1961-1979.
Советский политический плакат / Под ред. Г. Демосфеновой, А. Нурок, Н. Шатыко. — М., 1962.
Sozialgeschichte und Kulturanthropologie / Под ред. Jilrgen Kocka. Geschichte und Gesellschaft. 10 (1984). Вып. 3.
Старовойтова 3. А. Роль партии в организации физкультурного движения в первые годы советской власти. — М., 1976.
Она же. Физкультурное движение в первые годы советской власти и роль Н. И. Подвойского в его развитии (1918—1925 гг.). Авто-реф. дисс. канд. пед. наук. — М., 1968.
Stites Richard. Festival and Revolution: The Role of Public Spectacle in Russia, 1917—1918 / Essays on Revolutionary Culture and Stalinism / Под pea.. John W. Strong. — Columbus; Onio, 1990. P. 9-28.
Он же. Iconoclastic Currents in the Russian Revolution: Destroying and Preserving the Past / Bolshevik Culture-Experiment and Order in the Russian Revoluiton. Под ред. Abbot Gleason, Peter Kenez. — Bloomington; Indianapolice, 1985. P. 1—24.
Он же. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. — N.Y.; Oxford, 1989.
Он же. The Origins of Soviet Ritual Style: Symbol and Festival in the Russian Revolution / Symbols of Power. The Esthetics of Political Legitimation in the Soviet Union and Eastern Europe. Под ред. Caes Arvidsson, Lars Erik Blomquist. — Stockholm, 1987. P. 23—42.
Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. — М., 1982.
Тагильцева Н. Н. Краеведческое движение и становление музейного дела на Урале (1924—1936 гг.) / Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия в РСФСР. Сборник научных трудов. — М., 1987. С. 155—173.
Tatur Melanie. «Wissenschaftliche Arbeitsorganisation». Arbeits-wissenschaften und Arbeitsorganisation in der Sowjetunion, 1921 — 1935. - Berlin, 1979.
Taylor A. A Medium for the Masses: Agitation in the Soviet Civil War / Soviet Studies. 22 (1971). P. 562—574.
Taylor Richard. The Politics of the Soviet Cinema, 1917—1929. — Cambridge etc., 1979.
The Invention of Tradition / Под ред. Eric Hobsbawm и Terence Ranger. — Cambridge etc., 1983.
The Politics of tne Developing Area / Под ред. Gabriel A. Almond и James S. Coleman. — Princeton, N.Y., 1970.
Tucker Robert C. Culture, Political Culture, and Communist Society / Political Science Quarterly. 88 (1973). P. 173—190.
Варфоломеева M. В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР (1928—1941 гг.). (На материалах РСФСР). Авто-реф. дисс. — М., 1971.
Verba Sidney. On Revisiting the Civic Culture: A Personal Postscript / The Civic Culture Revisited. P. 394—410.
Verbickij V. Les idees leninistes du progres historique et les musees / La Conference du Comite des Musees d’Archeologie et d’Historie, 9— 18. Septembre 1970. — Leningrad; Moscou. Rapports 7.
Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des vergessenen Alltags (16— 20. Jahrhundert). / Под ред. Richard van Dulmen и Norbert Schieaer. — Gotingen, 1986.
Vovelle Michel. La mentalite revolutionaire. Societe et mentalites sous la Revolution framjaise. — Paris, 1985.
Выдрин В. M. Культурная революция в СССР и физическая культура (некоторые аспекты взаимосвязей). — Л., 1973.
Weber Max. Wirtschaftsgeschichte. AbriB der universalen Wirt-schafts- und Sozialgeschichte. — 3 изд. —Berlin, 1958.
Weiler Ingomar. Der Sport bei den Volkern der Alten Welt. Eine Einfiihrung. — Darmstadt, 1981.
White Stephen. Political Culture in the Soviet Union. 1979.
Он же. The Bolshevik Poster. — New Haven; London, 1988.
Wiatr Jerzy J. The Civic Culture from a Marxist-Socialist Perspective / The Civic Culture Revisited. P. 103—123.
Youngblood Denise J. The Fate of Soviet Popular Cinema During the Stalin Revolution / The Russian Review. 50 (1991). P. 148—162.
Закс А. Б. Источники по истории музейного дела в СССР (1924—1934 гг.) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 6. - М„ 1968. С. 5-38.
Она же. Из истории Государственного музея революции СССР (1924—1934 гг.) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 9. - М„ 1963. С. 5-83.
Она же. Музей исторического профиля в 1917—1934 гг. / История СССР. 1962. № 5. С. 163-170.
Она же. Первая Всероссийская конференция по делам музеев. Февраль 1919 года. (По материалам отдела письменных источников Исторического музея) / Актуальные вопросы изучения фондов музея
по истории советского общества. — М., 1982 (Труды Государственного ордена Ленина Исторического музея. Вып. 55). С. 149—157.
Зенк Е. М. Научно-просветительная работа художественных музеев РСФСР в первые годы советской власти (1917—1923 гг.). Ав-тореф. дисс. — М., 1971.
Жуков Ю. Н. Роль права в охране культурно-исторического наследия в первый год советской власти / Советское государство и право. 1983. № И. С. 117-122.
Он же. Сохраненные революцией. Охрана памятников истории и культуры в Москве в 1917—1921 годах. — М., 1985.
КОММЕНТАРИИ
Введение
1 Парижскую коммуну, упоминаемую Лениным в произведении «Государство и революция», нельзя считать таким примером, т. к. после Октября 1917 г. она упоминалась в лучшем случае в «воскресной идеологии».
2 Из последних публикаций см.: Pethibridge Roger. One Step Backward, Two Steps Foward. Soviet Society and Politics in the New Economic Policcy. Oxford, 1990. Несмотря на довольно нетривиальный подход к теме — им проводится сравнение 1922 г. и 1926 г., не отмеченных яркими событиями, с целью выявления возможного скачка в развитии системы, он смотрит на них не с центральной перспективы, однако коль скоро речь заходит о концепции культуры, он возвращается к Ленину.
3 Эта мысль звучит в книге: Eisenstadt Schmuel N. Die Mitwirkung der Intellektuellen an der Konstruktion lebensweltlicher und trans-zendenter Ordnung. Die Kultur als Lebenswelt und Monument / Под ред. Aleida Assmann и Dietrich Harth. Frankfurt/M., 1991. S. 123—131.
4 Pethibridge Roger. The Social Prelude to Stalinism. London; Basingstoke, 1974. Он же. One Step. P. 5. Петибридж снова подчеркивает, что, давая книге такое название, он не имел в виду телеологической перспективы.
5 Это же слово, использованное в названии книги Рене Фюле-па-Миллера (см. ниже), употребляет Грэйм Гилл; Graem Gill. Stalinism. Houndmills, London, 1990.
6 Nipperdey Thomas. Die antropologische Dimension der Geschichtswissenschaft / Он же. Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gottingen, 1976. S. 33—58; Groh Dieter. Antropologische Dimensionen der Geschichte. Frankfurt/M., 1992.
7 Almond Gabriel A. Comparative Political Systems / Journal of Politics. 18 (1956). P. 391—409; The Politics of the Developing Area. Сост. Он же и James S. Coleman. Princeton, N.Y., 1970. P. 9—58; Он же, Verba Sidney. The Civic Culture. Political Attitudes and Democ-raty in Five Nations. Princeton, N.Y., 1963. P. 3—42; Он же, Powell G., Bingham Jr. Comparative Politics. A Development Apptoach. Boston, Mass., 1966. P. 50—72; Он же. The Intellectual History of the Civic Culture Concept / The Civic Culture Revisited. Ред. Он же и Sidney
Verba. Toronto, 1980. P. 1—36; Pye Lucian W. Culture and Political Sciense. Problems in the Evaluation of the Concept of Political Culture / The Idea of Culture in the Social Sciences. Под ред. Louis Schneider и Charles M. Bonjean. Cambridge, 1973. P. 65—76; Political Culture and Political Development. Ред. Он же и Sidney Verba. Princeton, N.Y., 1965, автор введения — Пай (См.: Там же. С. 3—26); автор заключительной главы Верба (См.: Там же. С. 512—560); в качестве примера одной из самых первых работ, написанных на эту тему в Германии см.: Berg-Schlosser Dirk. Politische Kultur. Eine neue Dimension politikwissenschaftlicher Analyse. Munchen, 1972.
8 Barry Brian. Sociologists, Economics and Democracy. London, 1970. P. 48-52.
9 Lijhpart Arend. The Structure of Inference / Almond, Verba. The Civic Culture Revisited. P. 37—56. Лийпарт, как и Бэрри, критикует, прежде всего, отсутствие четкого определения отношений между политической культурой и политической структурой, поскольку трудно сказать, что из них является причиной, а что следствием. Возражая Бэрри, Алмонд отстаивает свою позицию, считая взгляды Бэрри ошибочными. Он пишет, что политическая культура отражается на структуре и подвергается влиянию структуры. Almond. The Intellektual History. P. 29. Верба говорит о том, что невозможно определить, насколько взгляды населения влияют на принятие политических решений: Verba Sidney. On Revisiting the Civic Culture: A Personal Postscript / Almond, Verba. The Civic Culture Revisited. P. 394—410. Pateman Carole. A Philosophic Critique / Там же. С. 57—102, вначале указывает на ошибочную интерпретацию взаимосвязи «civic culture» (политической культуры) с социально-экономическим статусом. Она упрекает авторов в непригодности их метода для освещения взаимосвязи агрегированных убеждений и поведения отдельных индивидуумов с политической структурой, т. к. они умалчивают об основной проблеме: разделении общества на классы и по половому признаку. На бесчисленные методы «проверки» и проблемы убедительности указывает Руе (Culture). Разработкой применения концепции политической культуры в описательных и пояснительных целях занимались: Elkins David J., Simeon Richard E. B. A Cause in Search of its Effects? / Comparative Politics. 11 (1979). P. 127—145; Rogowski Ronald. A Rational Theory of Legitimacy. Princeton, N.Y., 1976. P. 4—17, высказывается о концепции политической культуры как о чем-то излишнем. Историками Восточной Европы был подмечен как раз момент разорванности стратификации государства и классового анализа, в результате чего политическая культура получилась как бы бесклассовой (См.: Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Социология, политика, международные отношения. М., 1974. С. 110—112; Бурлацкий Ф. М. Ленин, государство, политика. М., 1970. С. 55). Wiatr Jerzy J. (The Civic Culture from a Marxist-Sociological Perspective /Almond, Verba. The Civic Culture Revisited. P. 102—103) усматривает в ней «ориентацию на средний класс». Пример использования рецептивной истории в Восточной Европе встречается в статьях сборника: Политические отношения: прогнозирование и планирование. Под ред. Д. А. Керимова. М., 1979, особ. С. 125—133.
10 Pye. Introduction. P. 3—26; Verba. Conclusion. P. 512—560. Они пишут о том, что политическая культура складывается из «системы убеждений, приобретенных эмпирическим путем, выразительных символов и ценностей, помогающих определить ситуацию, в которой и происходит политическое событие. Это предполагает наличие субъективной ориентации в политике» (Там же. 5113. См. также: Almond, Powell. Comparative Politics).
11 Political Culture and Political Change in Communist States. Ред. Archie Brown, Jack Gray. London, 1974; Он же. Soviet Politics and Political Science. London, 1974, особ. гл. 4; Ред. Он же. Houndmills, London, 1984, эд. «Introduction». Р. 1—13 и «Conclusions». Р. 149—204.
12 Brown, Gray. Political Culture. P. 1.
13 Ibid. P. 8, 174—184. Вот они: 1) единая политическая культура; 2) доминантная политическая культура, сосуществующая с различными другими политическими культурами; 3) дихотомическая политическая культура; 4) фрагментированная политическая культура, в которой отсутствует доминирование общенациональной политической культуры над политической культурой племен, религиозных направлений, социальных или этнических группировок.
14 McAuly Mary. Political Culture and Communist Politics: One Step Forward, Two Steps Back / Brown. Political Culture. P. 13—39.
15 White Stephen. Political Culture and Soviet Politics. London, Basingstoke. 1979.
16 McAuly. Ibid. P. 15. *
17 McAuly. Ibid. P. 15.
18 McAuly. Ibid. P. 18.
19 McAuly. Ibid. P. 20.
20 McAuly. Ibid. P. 26.
21 Kaase Max. Sinn oder Unsinn des Konzepts «Politische Kultur» fur die Vergleichende Politikforschung, oder auch: Der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln / Wahlen und politisches System / Под ред. H. Klingemann. Opladen, 1983. S. 144—171.
22 За исключением некоторых остаточных явлений историческая концепция политической культуры канула в Лету. С ее итоговым обзором можно познакомиться Lemke Christiane: Die politische Kultur sozialistischer Systeme in Osteuropa. Fragestellungen, theoretische und konzeptionelle Probleme der Forschung / Die politische Kultur Polens. Под ред. Gerd Meyer, Franciszek Ryszka. Tubingen, 1989. S. 41— 45, зд. особ. прим. 1; Hanke Irma. Alltag und Politik. Zur politischen Kultur einer unpolitischen Gesellschaft. Eine Untersuchung zur erzahlenden Gegenwartsliteratur der DDR in den 70-er Jahren. Opladen, 1987. S. 7—20 (с указанием литературы); довольно оптимистичных взглядов по поводу применения концепции придерживается Нот Hannelore: Perestrojka und politische Kultur / Osteuropa. 40 (1990). H. 8. S. 705-717.
23 Предпринимая попытку дать новое определение, Браун настоятельно подчеркивает свою ориентацию на культурную антропологию: Brown. Political Culture. Р. 1—13, 149—205.
24 Erbe Michael. Historisch-anthropologische Fragestellung der Annales-Schule / Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte. Ред. Hans Siissmuth. Gottingen, 1984. S. 19—31.
25 Historische Anthropologie. Под ред. Hans Siissmuth. Gottingen, 1984; Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des vergessenen Alltags (16— 20. Jahrhundert). Под ред. Richard van Diilmen, Norbert Schindler. Frankfurt/M., 1984; Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen. Под ред. Alf Liidtke. Frankfurt/M., 1989; Ряд весьма важных произведений: Clifford Geertz, Peter Burke, Carlo Ginzburg, Marshall Sahlins, Victor Turner, Rhys lisaac / Das Schwein des Hauptlings. Beitrage zur historischen Anthropologie. Под ред. Rebekka Habermaas, Niels Minkmar. Berlin, 1992; Groh. Anthro-pologische Dimensionen. S. 117—181; Sozialgeschichte und Kultur-anthropologie. Под ред. Jurgen Kocka / Geschichte und Gesellschaft. 10 (1984). H. 3; см. также статьи из журнала «Historische Anthropologie. Kultu—Gesellschaft—Alltag»; о связи концепции политической культуры и культурной антропологии см.: Tucker Robert С. Culture, Political Culture, and Communist Society Quaterly. 88 (1973). P. 173—190.
26 См. введение Ребекки Хабермаас и Нильса Минкмара к книге: Habermaas, Minkmar. Das Schwein. S. 7—20. В нем не отражен плюрализм взглядов внутри этого направления.
27 Geertz Clifford. Kulturbegriff und Menschenbild / Das Schwein. S. 56—82, цит. 72 и 70.
28 Posner Roland. Kultur als Zeichensystem. Zur semiotischen Explikation kulturwissenschaftlichen Grundbegriffe / Assman, Harth. Kultur. S. 37—74, исходит из тех же самых предпосылок, особ. S. 57. Труд Познера представляет собой попытку не описания культуры, а анализа механизма ее передачи.
29 Geertz. Kulturbegriff. S. 77—78.
30 Из последних публикаций хотелось бы назвать краткий обзор Хабермаас, Минкмара, предпринятый ими во введении к «Das Schwein», а также: Burke Peter. Historiker. Anthropologen und Symbole / Там же. S. 21—41.
31 Geertz Clifford. Dichte Beschreibung. Beitrage zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt/M., 1983.
32 Assman Aleida. Kultur als Lebenswelt und Monument / Kultur als Lebenswelt. Ред. Ее же, Dietrich Harth. Frankfurt/M., 1991. S. 11—25.
33 Assman. Kultur. S. 14.
34 / The Invention of Traditions. Ред. Eric J. Hobsbawm, Terence Ranger. Cambridge etc., 1983. P. 1 — 14.
35 Hobsbawm Eric J. The Social Function of the Past: Some Questions / Past and Present. 55 (1972). P. 3—17.
36 Le Goff Jacques. Geschichte und Gedachtnis. Frankfurt/M.; New York, 1992. P. 36-38.
37 Kulenkampff Jens. Notiz fiber die Begriffe «Monument» und «Lebenswelt» / Assman, Harth. Kultur. S. 26—33, зд. S. 28.
38 Fiilop-Miller Rene. Geist und Gesicht des Bolschewismus. Darstellung und Kritik des kulturellen Lebens in Sowjet-RuBland. Ziirich; Leipzig; Wien, 1926.
39 Stites Richard. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in Russian Revolution. New York; Oxford, 1989.
40 Fiilop-Miller. Geist. I.
41 Fiilop-Miller. Geist. II.
42 Книга американского автора подробно анализируется мной. Stationen der sowjetischen Gesellschaft auf dem Weg in den Stalinismus / Archiv fiir Sozialgeschichte. 31 (1991). P. 606—617.
43 Sinjawskij Andrej. Der Traum vom neuen Menschen oder Die Sowjetzivilisation. Frankfurt/M., 1989.
44 Tucker. Culture. P. 181.
45 Groys Boris. Gesamtkunswerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. Munchen; Wien, 1988.
46 Ibid. P. 17.
47 Ibid. P. 32.
48 Гройс впадает в цинизм, описывая «Сталина как произведение искусства» — вследствие слепоты, обусловленной постмодернизмом? — не упоминая при этом о жертвах «произведения», словно сталинизм является, прежде всего, вопросом эстетики. По этому поводу см. критику постмодернистских философов: Ferry Luc, Renaut Alain. Antihumanistisches Denken. Gegen die franzosischen Meisterphilosophen. Munchen; Wien, 1987.
Глава первая
1 Гольцман А. Реорганизация человека. М., 1924. С. 6.
2 Fitzpatrik Sheila. Cultural Revolution as Class War / Cultural Revolution in Russia, 1928—1931. Bloomington; Ind., 1978. P. 8—40.
3 Яновский M. За нового человека (О борьбе моделей за культуру). Л., 1928. С. 6.
4 Dunham Vera Sandomisky. In Stalins Time. Middle Class Values in Soviet Fiction. Cambridge etc., 1976.
5 Gorzka. Arbeiterkultur. S. 332—340, 373—429; Maier. Stachanov-Bewegung. S. 130—160. Современную литературу см. в соответствующих местах.
6 Из всей многочисленной литературы по Пролеткульту: Proletarische Revolution in SowjetruBland (1917—1921). Dokumente des «Proletkult». Coct. Richard Lorenz. Munchen, 1969; Gorsen Peter, Knddler-Bunte Eberhard. Proletkult. 2 Bde. Stuttgart-Bad Cannstadt, 1974—1975; Maliy Lynn. Culture of the Future. The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley etc., 1990; Ким M. П. Великий Октябрь и культурная революция в СССР. М., 1967; Горбунов В. В. Ленин и Пролеткульт. М., 1974; Пинегина Л. А. Организации пролетарской культуры 1920-х годов: Культурное наследие / Вопросы истории. 1981. № 7. С. 84—94.
7 Sochor Zenovia A. Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy. Ithaca, 1988; Gorzka Gabriele. A. Bogdanov und der rus-sische Proletkult: Theorie und Praxis einer sozialistischen Kultur-revolution. Frankfurt/M., 1980; Grille Dietrich. Lenins Rivale. Bogdanov und seine Philosophie. Koln, 1966.
8 Керженцев П. M. К новой культуре. Петербург, 1921. ; •
9 Керженцев П. Культура и советская власть. М., 1919. С. 35.
10 Керженцев. К новой культуре. С. 6.
11 Baumgarten Franziska. Arbeitswissenschaft und Psychotechnik in RuBland. Munchen, 1924. S. 113.
12 Керженцев. К новой культуре. С. 6.
13 Керженцев П. Об ошибке тов. Троцкого, Воронского и др. / Октябрь. 1925. № 1 (5). С. 114-117, зд. С. 16.
14 Успехи, — здесь это слово употребляется без иронической нагрузки — сделанные на поприще сотворения новой культуры государством и партией в связи с появлением искусственных традиций» описаны в книге «The Invention of Traditions». P. 1—14.
15 Гольцман. Реорганизация. С. 7.
16 Woody Thomas. New Minds, New Men? The Emergence of the Soviet Citizen. N.Y., 1932, особ. C. 466—482.
17 Dillon E.J. Russia Today and Yesterday. London; Toronto, 1929. P. 310.
18 Дмитриев В., Галин Б. На путях к новому быту. М., 1978. С. 8-9.
19 Ссылки будут делаться только на цитаты. В противном слу-: чае это сильно увеличило бы объем примечаний, т. к. здесь используется большое количество источников, указанных в списке литературы.
20 Бухарин Н. Культурные задачи и борьба с бюрократизмом / Революция и культура. 1927. № 2. С. 5—12.
21 Канатчиков С. На тему дня (страницы пролетарской идеологии). Петроград, 1923. С. 61.
22 Асмус В. Марксизм и культурная традиция / Революция и культура. 1927. № 3—4. С. 10—16, зд. С. 13.
23 Там же. С. 14.
24 Рейснер М. Старое и новое / Красная новь. 1922. № 2 (6). С. 276-285.
25 Там же. С. 281.
26 Там же.
27 Там же.
28 Асмус. Марксизм. С. 14.
29 Бухарин Н. О старинных традициях и современном культурном строительстве / Революция и культура. 1927. № 1. С. 17—22, зд. С. 19. По поводу включения дисциплины в каталог ценностей сталинской «эры» см.: Ярославский Ем. Чего партия требует от коммуниста. М., 1935. С. 52—62.
30 Луначарский А. В. О быте. М.; Л., 1927. С. 44—45.
31 Бухарин Н. О старинных традициях. С. 19; Деборин А. Марксизм и культура / Революция и культура. 1927. № 1. С. 8—16, зд. С. 13.
32 XV съезд ВКП(б) и вопросы культурного строительства / Революция и культура. 1927. № 3—4. С. 8.
33 Бухарин. О старинных традициях. С. 21.
34 Григоров Г, Шкотов Л. Старый и новый быт. М.; Л., 1927. С. 109; а также Сольц А. А. Коммунистическая этика / Каким должен быть коммунист. Сборник под ред. Ем. Ярославского. М.; Л., 1925. С. 84—98.
35 Выступление в дискуссии ген. Тарханова / Каким должен быть коммунист. С. 28—29.
36 Канатчиков. На тему дня. С. 55.
37 Бухарин. Культурные задачи. С. 7. Я
38 Бухарин. О старинных традициях. С. 21.
39 Там же.
40 Деборин. Марксизм. С. 15. л
41 Там же. С. 14. /
42 Stites. Revolutionary Dreams. г;
43 Асмус. Марксизм. С. 11. Д
44 Григоров, Шкотов. Старый и новый быт. С. 67.
45 Тан-Богораз В. Г. Старый и новый быт / Старый и новый быт. Сост. Он же. Л., 1924. С. 12.
46 Преображенский Е. А. О морали и классовых нормах. М.; Петроград, 1923. С. 65—111.
47 Almond Gabriel A. Communism and Political Theory / Comparative Politics. 16 (1983). P. 127—138, зд. P. 137.
48 Преображенский E. Наша работа / Вестник агитации и пропаганды. 1920. № 2. С. 2—3. Дальнейшие цитаты взяты оттуда же.
49 Роговин В. 3. А. В. Луначарский о социалистическом образе жизни / Социологические исследования. 1975. № 4. С. 159—170. На свой риторический вопрос о том, что такое быт, Луначарский отвечал так: «Отнимем от всех сфер нашего бытия сферу государственной и экономической жизни. Вычтя две этих сферы, мы получим быт» (Луначарский А. В. О быте. С. 8); Ярославский Ем. Мораль и быт пролетариата в переходный период. Л., 1926; Троцкий Л. Вопросы быта. Л., 1924; Плетнев В. Пролетарский быт. Старый и новый / Горн. 1923. № 9. С. 65—78.; Лядов М. Н. Вопросы быта. М., 1925.
59 В середине двадцатых годов появляется масса литературы по теме быта: журнальные статьи и более или менее объемные монографии в высшей степени различного качества. В 1926 г. Луначарский начинает одну из своих лекций словами о том, что выбор данной темы вызван большим количеством заданных ему вопросов. Эта тема вызывала у людей интерес; см.: Луначарский. О быте. С. 3; Лебедев Д. Голос миллионов. Голос обследования 16 000 писем рабочих корреспондентов. М.; Л., 1928. При просмотре писем корреспондентов выясняется, что вопросы быта были самыми животрепещущими. Особенно корреспондентов занимали сферы с повышенным уровнем риска возникновения конфликтов: семья и родственные отношения. «Революция перевернула все бытовые отношения с ног на голову» (Там же. С. 36). Лебедев считает, что новый быт сформируется, когда рабочие постепенно разрешат все свои повседневные и бытовые конфликты.
51 Лядов. Вопросы. С. 4.
52 Григоров, Шкотов. Старый и новый быт. С. 12.
53 Фетисов М. Некоторые вопросы школьного быта / Революция и культура. 1928. № 5. С. 53—58, цит. 53.
54 Лядов. Вопросы. С. 20.
55 Буров Я. Деревня на переломе (год работы в деревне). М.; Л.,
1926; Феноменов М. Я. Современная деревня. Опыт краеведческого исследования) / Социологические исследования. 1978. № 1. С. 192—201; Bereloeitch Wladimir. L’ancien et le noveau. La vie du village russe pendant la NEP dans les monographies sovietque de 1’epoque / Caniers du monde russe et sovietique. 24 (1983). P. 369— 410; Леонавичюс Ю. С. Исследование бюджетов времени студентов в СССР (20-е—60-е гг.) / Социологические исследования. 1975. № 3. С. 156-166.
56 См., к примеру дискуссию, достаточно полемичную, разыгравшуюся между следующими авторами: Курелла А. О «верхних этажах» быта / Революция и культура. 1928. № 3—4. С. 22—24; Он же. Лицо культурного консерватизма / Революция и культура. 1928. № 14. С. 25—28; Косевич К. По поводу «верхних этажей» быта / Революция и культура. 1928. № 14. С. 21—24. По проблемам см.: Огнивцев Д. В. Массовая пропаганда нового быта / Вестник просвещения. 1924. № 4—6. С. 37—42; Семенова В. Кто кого (борьба старого и нового быта в деревне). М., 1928.
57 Каким должен быть коммунист. Старая и новая мораль. Сборник, под ред. Ем. Ярославского. М.; Л., 1925.
58 Григоров, Шкотов. Старый и новый быт. С. 12—13. Насколько перекликались мысли теоретиков культуры с мыслями теоретиков быта, подтверждает: Лядов. Вопросы. С. 24. Здесь, в частности, говорится: «Роль революционного авангарда состоит в том, чтобы сознательно предусматривать будущее и, подобно акушерке, ускорять его появление».
59 Рафаил М. За нового человека. Л., 1928. С. 33.
60 Grays. Gesamtkunstwerk. S. 7—82.
61 Керженцев П. Человек новой эпохи / Революция и культура. 1927. № 3-4. С. 17-20.
62 Там же. С. 17.
63 Там же. С. 18.
64 В соответствии с цитатой из редакционной заметки см.: Революция и культура. 1927. № 1. С. 6.
65 Яновский. За нового человека. С. 7.
66 Там же. С. 9. Всего три года спустя можно найти пример, подтверждающий это: Шмидович С. О культуре и быте. М.; Л., 1930.
67 Baumgarten. Arbeitswissenschaft; Tatur Melanie. «Wissen-schaftliche Arbeitsorganisation». Arbeitswissenschaften und Arbeits-organisation in der Sowjetunion, 1921—1935. Berlin, 1979; Кравченко А. И. Методы социального управления (опыт 20-х годов) / Социологические исследования. 1986. № 3. С. 197—203.
68 См. также: Кекчеев К. X. Живая машина (как надо работать). М., 1922; Он же. Как повысить производительность труда (психофизиологический очерк). Часть I: Освещение и рабочие движения. М., 1923. Кекчеев являлся сотрудником Гастевского ЦИТ.
69 Цит. по: Tatur. «Wissenschafftliche Arbeitsorganisation». S. 17.
70 Stites. Revolutionary Dreams. P. 145—155.
71 Бесспорно, у Гастева присутствуют некоторые утопичные моменты. Однако, если обратить внимание на выбор источников, то в
основном Стайтс опирается на произведения, опубликованные до 1919 г. Затем он прекращает читать Гастева, хотя после 1919 г. тот продолжал публиковать произведения, в которых он пересматривает свои прежние взгляды. Читая Стайтса, порой задаешься вопросом, не сваливает ли тот в одну кучу и оленей-жуков, и просто оленей.
72 Gastev А. К. Uber die Tendenzen der proletarischen Kultur / Proletarische Kulturrevolution. S. 57.
73 Гастев А. Новая культурная установка. M., 1923. С. 3.
74 Stites. Revolutionary Dreams. P. 152.
75 Гастев А. Восстание культуры. Харьков, 1923. С. 8.
76 Там же. С. 17.
77 Гастев. Новая культурная установка. С. 28.
78 Там же. С. 14. Гастев ничего не пишет о возможностях тренировки умственной деятельности. Позже на эту тему высказывался Залкинд А. Б. (Умственный труд. Гигиена и рационализация умственной деятельности. М.; Л., 1930). Он является автором книги о революции и ее влиянии на психику: Очерки культуры революционного времени. М., 1924.
79 Гастев. Новая культурная установка. С. 14. j
80 Гастев. Восстание. С. 31.
81 Там же. С. 8. .
82 Там же. С. 38. j
83 Гастев. Новая культурная установка. С. 7.
84 Гастев. Восстание. С. 37.
85 Гастев. Новая культурная установка. С. 39. Заглавные буквы в тексте использованы в соответствии с оригиналом.
88 Там же. С. 7.
87 Kaiinin F. I. Uber Ideologic / Gorsen, Knodler-Bunte. Proletkult. 2. 28.
88 Ibid.. S. 28-29.
89 Гастев. Восстание культуры. С. 29.
90 Там же.
91 Kalinin. Uber Ideologie. S. 29.
92 Гастев. Восстание культуры. С. 31.
93 Там же. С. 37.
94 Гастев. Новая культурная установка. С. 32.
95 Там же. С. 28.
96 См.: Tatur. «Wissenschaftliche Arbeitsorganisation». S. 52—63, Гольцман здесь упоминается в одном месте, в связи с попыткой заступиться за Гастева и его институт против нападок со стороны, предпринятой им в 1924 г. В книге Стайтса «Revolutionary Dreams* этот автор не упоминается.
97 Большая Советская Энциклопедия. М., 1930, Т. 17. Ст. 539.
98 Гольцман А. 3. Регулирование и натурализация заработной платы. М., 1918; Он же. Коллективное снабжение. М., 1921; Он же. Массовое натуральное премирование. М., 1921; Он же. Режим экономии и строительство социализма. М.; Л., 1929; Он же. Организация труда. М., 1925.
99 Гольцман. Реорганизация. С. 3.
100 Там же. ,иу 41.
101 В своем произведении «Организация труда» (С. 7) Гольцман вносит коррективы, говоря о краткости срока, предоставляемого историей.
102 Heine Heinrich. Geschichte der Religion und Philosophic in Deutschland / Samtliche Schriften. Под ред. Klaus Briegleb. T. 5. под ред. Karl Pombacher. Frankfurt/M. etc., 1981. S. 505—641.
103 Horkheimer Max, Adomo Theodor W. Dialektik der Aufklarung. Philosophische Fragmente. Frankfurt/M., 1969; Benjamin Walter. Geschichtsphilosophische Thesen / Illuminationen. Ausgewahlte Schriften. Frankfurt/M., 1961. S. 268—279.
104 Гольцман. Реорганизация. С. 7.
105 Всего один раз Гольцман и Гастев выступили в прессе вместе. В 252 номере газеты «Правда» от 7 ноября 1922 г., в рубрике «Курс на машину» опубликована статья Гольцмана «Будущее страны», в которой он высказывает непоколебимую уверенность в успехе электрификации. В том же номере опубликована статья Гастева «Тренаж», глава из упомянутого нами произведения 1923 г. издания.
106 Гольцман. Реорганизация. С. 8.
107 Там же. С. 12.
108 Там же. С. 17.
109 Там же. С. 18.
110 Вот цитата, приведенная Гольцманом; «Новая философия делает человека, включая природу, как базу человека, естественным, универсальным и высшим объектом философии, и, следовательно, антропологию, включая психологию — универсальной наукой» (Там же. С. 13).
111 Там же. С. 8.
112 Там же. С. 49.
113 Там же.
114 Там же.
Глава вторая
1 Fouqet Catherine. Fiihrt der Weg der Frauengeschichte fiber die Geschichte des weiblichen Korpers? / Alain Corbin, Arlette Farge, Michelle Perrot u. a. Geschlecht und Geschichte. 1st eine weibliche Geschichtsschreibung moglich? Под ред. Michelle Perrot. Frankfurt/M., 1989. S. 47-62.
2 Горбунов В. В., Деметер Г. С. 70 лет советского спорта. М., 1987; Столбов В. В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1982; Пучков О. И. Становление и развитие физической культуры Среднего Поволжья в первое десятилетие советской власти, 1917—1927 гг. Автореф. дисс. Куйбышев, 1983; Старовойтова 3. А. Физкультурное движение в первые годы советской власти и роль Н. И. Подвойского в его развитии (1918—1925 гг.). Автореф. дисс. М., 1968; Она же. Роль партии в организации физкультурного движения в первые годы советской власти. М., 1976; Финогенова Л. А. Развитие советской физической культуры и спорта в период построения фундамента социализма в СССР (1926—1932 гг.). Автореф. дисс. М., 1966; Главным образом по пе
риоду после 1931 г.: Физическая культура и спорт в СССР в цифрах и фактах (1917—1961 гг.)- В помощь пропагандисту. М., 1962; Физкультурное движение в СССР (Сборник документов, статей и др. материалов). Сост. Г. А. Евсеев и М. И. Локшин. Харьков, 1940; Чудинов И. Г. Физическая культура в годы гражданской войны. Автореф. дисс. М., 1940; Асаулов В. Ф. Печать как эффективное средство формирования советской системы физического воспитания народа (1917—1925 гг.) Автореф. дисс. Киев, 1989. Из западных исследований, по качеству не превосходящих советских: Hall Р. Е. Sport. // Playtime in Russia. Под ред. Hubert Grifith. London, 1935. P. 184—204. «Стандартное» произведение чиновника по вопросам спорта периода национал-социализма и в ФРГ: Diem Carl. Weltgeschichte des Sports und der Leibeserziehung. Stuttgart, 1960, содержит раздел, посвященный спорту в «венгеро-славянском культурном пространстве», в котором читатель может познакомиться с положительным взглядом на качества различных рас. Информация по истории организации физической культуры: Riordan James. Sport in Soviet Society. Development of Sport and Physical Edukation in Russia and the USSR. Cambridge etc., 1977.
3 Выдрин В. M. Культурная революция в СССР и физическая культура (некоторые аспекты взаимосвязей). Л., 1973. С. 3—11.
4 Гастев А. Новая культурная установка. С. 36—38 и 43; он же. Восстание культуры. С. 29—34.
5 Баратов. Всевобуч. С. 15.
8 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта, 1917—1957 гг. Сост. И. Г. Чудинов. М., 1959. С. 12.
7 Отчет о 1-м Всероссийском съезде по физической культуре, спорту и допризывной подготовке. М., 1919. С. 20.
8 Там же. С. 39.
9 Там же.
10 Там же. С. 40—41.
“ Там же. С. 43. - i
12 Кернер М. Основы допризывной подготовки рабочей молодежи / К новой армии. 1920. № 3. С. 9—10.
13 Смоленцев. Физическая культура раньше и теперь / Всевобуч и спорт. 1922. № 19. С. 290-291.
14 Отчет. С. 55.
15 Там же. С. 58.
16 Weiler Ingomar. Sport bei den Volkern der Alten Welt. Eine Einfiihrung. Darmstadt, 1981. S. 1—13.
17 Кернер M. Спорт и физическая культура / К новой армии. 1920. № 1-2. С. 22.
18 Мельников А. Спорт и физическая культура / К новой армии. 1921. № 1-2. С. 22.
19 Следовало бы проверить, не отражаются ли здесь тенденции, встречавшиеся в немецкой альтернативной педагогике. Так, к примеру, исследование Франка Ведекинда о воспитании посредством сказки переходит от змансипативных тенденций в кошмарную ка-
зарменность. (См.: Wedekind Frank. Mine-Haha oder fiber die korperliche Erziehung der jungen Madchen / Он же. Werke in drei Banden. Ред. Manfred Hahn. Berlin (DDR), 1969, Bd. 3. S. 86—135).
20 Мельников. Спорт. С. 22.
21 Там же. Принимая во внимание идеалистически-наивные представления о воспитании, неудивительно, что физической культуре приписываются воспитательные функции. В своем энтузиазме один из комментаторов зашел очень далеко. Он считал, что физическая культура способна «вырвать корень будущего древа спекуляции» у детей, торгующих на московском черном рынке, по его словам, будущего пополнения класса спекулянтов, и превратить «психологию и идеологию спекулянтов в товарищескую, боевую и коммунистическую» (Баратов. Всевобуч. С. 15).
22 Мельников. Спорт. С. 23. Стадион планировалось построить на Воробьевых (Ленинских) горах; Он же. Всероссийский стадион — памятник Октябрьской революции / К новой армии. 1920. № 17-18. С. 15-16.
23 В этой связи удивляет, что даже в соответствующих исследованиях по Красной армии между революцией и Второй мировой войной не наблюдается интереса к этому вопросу, хотя как раз в армии тело солдата представляло собой главный «предмет» и отправной пункт тренировки. Тем более, что в то время советская военная доктрина в большей степени, чем другие европейские армии делала ставку на массы солдат, а не на технику. Так что внедрение физической культуры в концепцию Красной армии представляется делом очевидным, т. к. она не ограничивалась военным дрилем. По вопросу концепций устройства Красной армии см.: Erikson John. The Soviet High Command. A Military-Political History 1918—1941. London, 1962. P. 45—532, 177—186; Gosztony Peter. Die Rote Armee. Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkrafte seit 1917. Wien etc., 1980. S. 107—113.
2 ,1 Основные постановления. С. 5—7; Старовойтова. Роль. С. 14—19; Мильштейн О. А. Физическая культура и спорт на службе охраны и укрепления здоровья советского народа в период строительства и победы социализма (1917—1937 гг.) / Очерки по истории физической культуры. М., 1967. С. 5—39.
25 Правила для учета лиц, подлежащих допризывной подготовке. М., 1920; Руководящая инструкция по организации всеобщего военного обучения и формированию резервных частей (из основного постановления о Всеобщем Военном Обучении). М., 1918.
26 Руководящая инструкция. Основные постановления. С. 5—7. В распоряжении Советов рабоче-крестьянской обороны от 24 сентября 1919 г. претерпели изменения некоторые детали, в принципе, расширившие компетенцию Всевобуча (Там же. С. 7—9).
27 См.: Подвойский Н. А. Прошлое, настоящее и будущее Всевобуча (Речь тов. Подвойского на совещании по организации Милиционной Красной армии 13 октября 1920 г.) / К новой армии. 1920. № 16. С. 20—24; Калъпус В. Физическая культура и Весвобуч (1918— 1923 гг.) / Физическая культура. 1923. № 5—6. С. 2—4; Собецкий М. Организация спорта и физической культуры в Совет-России / Все
вобуч и спорт 1922, № 22. С. 340-341; № 23. С. 357-358; № 24. С. 372—373; № 25. С. 387—388; Простяков С. У истоков советского спорта / Спортивная жизнь России. 1980. № 2. С. 32, посвящен, прежде всего, роли, сыгранной Подвойским в первые годы советского спортивного движения. По вопросам деятельности Всевобуча на селе см.: Стефен А. О работе Всевобуча в деревне / К новой армии. 1920. № 7—8. С. 24—26. Автор утверждает, что идея допризывной подготовки была понятна крестьянам, т. к. они сознавали преимущества сокращения сроков военной службы. Однако, по его словам, в политическом и идеологическом отношении пока не сделано ни одного шага вперед. Такой же точки зрения придерживается и Рольман. О работе Всевобуча в деревне / К новой армии. 1920. № 19—20. С. 12—13. Он особенно подчеркивает недостаток квалифицированного персонала и сотрудничества с остальными государственными ведомствами. Кроме того, он высказывает мнение, что без убеждения крестьян идея милиционной армии построена на песке.
28 Отчет. С. 8.
29 Там же. С. 10.
fj 30 Там же. С. 50.
9 31 Там же. С. 93.
32 Баратов. Всевобуч. С. 15.
33 3. Я. Л. Сила Всевобуча / К новой армии. 1920. № 6. С. 21 — 23; Две армии — две культуры / Революция и культура. 1928. № 2. С. 3—5; Eriksoon. High Command. Р. 117—186.
34 Сфаэлло Гр. Спорт и Всевобуч / К новой армии. 1920. № 1. С. 23.
35 Отчет. С. 51. Наш свидетель по фамилии Штифман, врач по профессии, был сотрудником Наркомата народного образования, работал в отделе единой школы и школьной реформы. Он видел перспективы для развития при соблюдении следующих условий: народное образование должно быть устроено таким образом, чтобы школа давала полноценное физическое воспитание, освобождая русских крестьян от присущей им инертности и развивая физическую силу у горожан, воспитывая у них выдержку и побуждая к движению под лучами солнца.
36 Доклад начальника Главного управления Всевобуч, терркад-ров и коммунистических частей тов. Подвойского на совещании начальников полковых округов. М., 1920. С. 5.
37 Там же.
38 О сущности политического воспитания при всеобщем обучении военному искусству трудящихся в переходный к милиционной системе период. Тезисы Н. Подвойского и Вл. Горина (Галкина) / К новой армии. 1920. № 1. С. 13.
39 Особую симпатию Подвойский проявлял к «отрядам особого назначения». По его словам, эти отряды способствовали укреплению коммунистического духа и превращению «всего трудящегося народа в коммунистический и военизированный народ, способный осуществить мировую революцию в силу своего духа». Спорт в таких подразделениях призван служить — как и вообще всякий
спорт — армейской службе, отдельные виды спорта — соответствующим родам войск, так, например, конный спорт — красной кавалерии, автомобильный спорт — связи, а авиационный спорт — разведке и воздушному флоту (См.: Доклад начальника. С. 10—14).
40 О сущности. С. 13.
41 ЦГАОР. Ф. 814. On. 1. Ед. хр. 1, 1.51; Баратов В. Всеобуч. С. 15.
42 Сфаэлло. Спорт. С. 23.
43 Баратов В. Счастье трудящихся — Всевобуч. Песня. Енисейск, 1920. Это стихотворный сборник, написанный в 1919 г. в Москве. В нем автор мечет громы и молнии против капитала, врагов советской республики, воспевая оборону и образовательную программу Всевобуча. Он же. Да здравствует Всевобуч / К новой армии. 1920. № 4. С. 19. Опубликованное здесь стихотворение заканчивается словами «Всевобуч и социализм, Всевобуч и Коммунизм — это одно и то же».
44 Сфаэлло. Спорт. С. 22—23.
45 Там же. С. 23.
46 О сущности. С. 13—14.
47 Отчет. С. 43—44.
48 Там же. С. 65.
49 В качестве примера см. статью, опубликованную годом позже: Яблонский А. Наследство / К новой армии. 1920. № 9. С. 7—9; СмоЧ ленцев. Физическая культура.
50 Отчет. С. 65. !>
51 Новоселов Н. П., Синицын С. Д., ХарабугаГ. Д. История физи-! ческой культуры народов СССР. М., 1953, Часть 1. С. 140—141. i
52 Там же. С. 154.
53 Stites. Revolutionary Dreams. Р. 50.
54 Ibid. Р. 51. Несомненную роль Троцкого в военизации подчеркивает генерал армии США Уильям Одом: Odom William. The Militarization of Soviet Society / Problems of Communism. 25 (1976). Heft 5. P. 34-51.
55 Нужно ли давать обоснованное опровержение необоснованного аргумента? Прямой ответ Стайтсу дает Кернер М. (Спорт и физическая культура / К новой армии. 1920. № 14—15. С. 8—9). Во многих других источниках, легших в основу данного исследования, ответ можно найти между строк.
58 Отчет. С. 14—15, 39.
57 Яблонский. Наследство. С. 9.
58 Закс Гр. Спорт на службе у рабочего класса / К новой армии. 1920. № 10-11. С. И.
59 Подвойский Н. Всевобуч — Всетрудобуч. Вып. I. Буйнакск, 1921; Поссе В. Трактор и лопата. С письмом к допризывникам Н. Подвойского. М., 1922. В этом письме Подвойский предлагает формировать из допризывников образовательные и производственные товарищества в целях содействия восстановлению промышленности.
60 Ромм М. О физической культуре трудящихся / Физическая культура. 1923. № 7—8. С. 4.
61 Геркан Л. Организация физической культуры с классовой точки зрения / Физическая культура. 1923. № 7—8. С. 10.
62 Мехоношин К. Физическое воспитание трудящихся / Физическая культура. 1923. № 3—4. С. 2—3.
63 Стенографический отчет 1-го Всесоюзного совещания советов физической культуры 15—20 апреля 1924 г. М., 1924.
64 Мехоношин. Физическое воспитание. С. 2.
65 Соколов И. Сближение физкультуры и производства / Физическая культура. 1923. № 5—6. С. 12.
66 Мехоношин К., Физическое воспитание. С. 2.
67 Стенографический отчет. С. 64.
68 Там же. С. 70.
69 Соколов. Сближение. С. 13.
70 Там же. С. 14.
71 Мехоношин. Физическое воспитание. С. 3.
72 Там же. С. 2.
73 Ромм. О физической культуре. С. 4.
74 Стенографический отчет. С. 70.
75 Там же.
76 См. примечания в соответствующей главе.
77 День 20-го мая в Москве / К новой армии. 1920. № 6. С. 26— 28; Риордан. Спорт. С. 101—105.
78 Соколов. Сближение. С. 13 и 15. Реакцией на перегибы этого автора была сатирическая и полемизирующая статья. Критик высказывал сомнение в целесообразности использования игр для приучения детей к нормам «правильного» поведения: в таком случае, замечал он, следует запретить игру в казаки-разбойники. Затем он говорит, что слишком упорная тренировка преувеличивает значение механизации движений. Если дети воспитываются в ритме ударов молота по наковальне, то вскоре они утрачивают способность шить. — Шимкевич М. Мысли о физической культуре пролетариата / Физическая культура. 1923. № 5—6. С. 15—17.
79 Куркин П. И. (ред.) Статистика физического развития рабочего населения (г. Москва и губерния). — М., 1925, с данными, в течение многих лет собиравшимися врачом Ф. Ф. Эрисманом: Белицкая Е. Я. П. И. Куркин (жизнь и деятельность) 1858—1934. Л., 1963; Саркизов-Серазини И. М. Основные пути развития советской науки о физическом воспитании. Материалы пленарного заседания НМС, посвященного 40-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. М., 1958. С. 3—23.
80 Семашко Н. А. Советская власть и народное здоровье. М., 1920; Семашко Н. А. Физическая культура и здравоохранение в СССР / Он же. Избранные произведения. Под ред. П. И. Калью. М., 1967. С. 264—267. Впервые статья была опубликована в журнале «Гигиена и санитария» (1927, № 1).
81 Стенографический отчет. С. 27. На отсутствие гигиенических навыков среди молодежи сетовал Кернер М. Л.: Физическое воспитание рабочей молодежи / К новой армии. 1920. № 1. С. 11—13.
82 Семашко Н. А. Пути советской физкультуры. М., 1926. С. 14.
м Стенографический отчет. С. 27.
84 Там же. С. 32—33, о конкретных задачах см. с. 58—62.
85 Семашко. Пути. С. 7—16.
86 Семашко Н. А. Культурная революция и оздоровление быта. М.; Л., 1930. С. 3. Первое издание книги было озаглавлено «О светлом и темном в рабочем быту». М.; Л., 1928.
87 Семашко. Пути. С. 18; То же самое определение он приводит в статье «Десять лет советской физкультуры» / Теория и практика физической культуры. 1927. № 5. С. 5—9.
88 Семашко Н. А. Производительность труда и охрана народного здравия. М., 1925.
89 Семашко. Пути. С. 24.
90 Семашко. Производительность. С. 17; Он же. Воспитание нового человека и задачи физической культуры / Революция и культура. 1928. № И. С. 40-43.
91 Hutchinson John F. Politics and Public Health in Revolutionary Russia, 1890—1918. Baltimore and London, 1990. P. 192.
92 Вопросы физической культуры. Под ред. Я. Б. Ейгера и И. С. Симонова. Л., 1925. С точки зрения «теории» представляет интерес статья Л. В. Геркан (Там же. С. 171—233), в которой, в основном, повторяются взгляды, которые можно причислить к умеренной линии развития физической культуры. Геркан выступает против рекордсменства, спортсменства и чемпионства, спортивных извращений, развивающих «самолюбие и индивидуалистические наклонности». Перечисляя виды спорта, он сортирует их по принципу их ценности для советской физической культуры. Плавание и езду на велосипеде он называет «примитивными видами продвижения вперед».
93 Приказы начальника Всеобщего военного обучения допризывной подготовки территориальных кадров и коммунистических коминструкторских частей РСФСР. М., 1920, стр. не пронумерованы, приказ №283/5.
94 Старовойтова. Роль. С. 24—28.
95 Новая программа допризывной подготовки / Всевобуч и спорт. 1922. № 22. С. 338-340.
96 Стариков В. Всевобуч и спорт (текущий момент) / Физическая культура. 1922. № 1. С. 2—3. Прежде всего планировалось ускорить спортизацию села (См.: Новая программа допризывной подготовки).
97 Борьба с децентризмом во Всевобуче / Физическая культура. 1922. № 4-5. С. 41.
98 Стариков В. Физическая культура в 1922 году / Молодая гвардия. 1922. № 6-7. С. 297-306.
99 Инструкция по работе РКСМ в области допризывной подготовки / К новой армии. 1920. № 10—11. С. 21—23; Всем организациям РКСМ об организации и работе спортивных клубов / Там же. С. 24.
109 Подвойский Н. К летней работе по массовому физическому оздоровлению и воспитанию рабочего класса на 1923 г. М., 1923. Произведение, ориентированное на линию Семашко: Подвойский Н. Какая физическая культура нужна пролетариату СССР и кем она должна создаваться. М., 1923. • -у
101 ЦГАОР. Ф. 7576. Оп. 28. Д. 10, 1.88-103.
102 ЦГАОР. Ф. 7576. Оп. 28. Д. 10, 1.108-126.
103 ЦГАОР. Ф. 7576. Оп. 28. Ед. хр. 7, 1.9.
104 Мехоношин К. Неотложная задача / Молодая гвардия. 1923. № 3 (10). С. 226-229.
,05 ЦГАОР. Ф. 7576. Оп. 28. Ед. хр. 7, 1.15.
106 Стенографический отчет. С. 169.
107 Там же. С. 41.
108 Там же. С. 54-58.
109 Там же. С. 58.
110 Там же.
111 По поводу механизмов, применявшихся в этих боях и роли, сыгранной в них Сталиным см.: Plaggenborg Stefan. Stalins Aufstieg zum Diktator bis 1928—1929 / Die Sowjetunion im Zeichen des Stalinis-mus. Под ред. Antonio Peter и Robert Maier. Koln, 1991. S. 45—62.
112 Стенографический отчет. С. 148.
113 Физическая культура пролетариата в СССР. Под ред. Н. И. Подвойского, М. Г. Собецкого, Д. А. Крадман. Л., 1925. Первое издание было опубликовано в 1923 г.
114 Там же. С. 27.
1,5 Подвойский Н. Рабочий класс, солнце, чистый воздух и вода. М„ 1923.
1,6 Подвойский Н. Смычка с солнцем. Л., 1925.
117 Там же. С. 13.
1,8 Там же. С. 14.
1,9 Мехоношин К. Физическое воспитание и боевая подготовка Красной Армии. М., 1924. С. 4—5.
129 Там же. С. 7.
121 Там же. С. 10.
122 Там же. С. 13.
123 Каменев С., Мехоношин К. Военная подготовка населения. М.; Л., 1926. С. 3. См. также: Левицев В. О допризывной подготовке в 1926—1927 гг. (М., 1927), где говорится, главным образом, о подготовке юношества.
124 Каменев, Механошин. Военная подготовка. С. 6.
125 Там же. С. 9.
126 См. также: Sacharow Andrej. Mein Leben. Munchen; Ziirich, 1990. C. 46-47.
127 Каменев, Мехоношин. Военная подготовка. С. 27—28. Тема военных менталитетов Советского Союза срочно требует исследования. Как раз это произведение свидетельствует об абсурдности представлений, царивших в этой области. Так, автор предлагает привлекать к военизации многочисленных «голубятников», используя их для создания подразделений связи. Кроме того, он подробно разбирает «собачий вопрос», приводя в пример западный опыт.
128 Луначарский А. В. Мысли о спорте. М., 1930.
129 Алкалаев В. Стрелковый спорт. Его назначение и практические указания для его развития. М.; Л., 1927; Антипов Н. К. Состояние и задачи физкультурного движения. М.; Л., 1930; Он же. За со
ветскую систему физкультуры. М., 1923, цит. 5. По ГТО см.: Миль-ВВпейн. Физическая культура. С. 30—35.
130 Ploetz Alfred. Grundlinien einer Rassenhygiene. Berlin, 1895.
131 Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien. Под ред. Use Jahn, Rolf Lather, Konrad Senglaub. Jena, 1985. S. 584.
132 Lenin. Werke. T. 14. Berlin (DDR), 1962. S. 332.
133 Graham Loren R. Science and Values: The Eugenics Moment in Germany and Russia in the 1920’s. / The American Historical Review. 82 (1977). 1133—1164; Adams Mark B. Eugenics as a Social Medcine in Revolutionary Russia. Prophets, Patrons, and the Dialectics of Disciplin-Building / Health and Siciety in Revolutionary Russia. Под ред. Susan Gross Solomon, John F. Hutchinson. Bloomington; Indianapolis, 1990. P. 200—223; Те же. Eugenics in Russia, 1900—1940 / The Wellborn Science. Eugenics in Germany, France, Brazil, and Russia. N.Y.; Oxford, 1990. P. 153—216 (по большому счету то же самое, что Eugenics as a Socal Medcine).
134 Гориневский В. Научные основы тренировки / Физическая культура. 1922. № 1. С. 4—7. Дальнейшие цитаты взяты оттуда же.
135 Geschichte der Biologie. S. 554—555, 564—565, 569—577.
136 Graham. Science.; Adams. Eugenics as a Social Medcine; Он же. Eugenics in Russia.
137 Основные постановления. С. 9.
138 Гориневский В. В. Культура тела. Двигательные средства физической культуры. М., 1927.
139 Милыитейн. Физическая культура. С. 18.
140 Гориневский В. В. Научный врачебно-педагогический контроль по физкультуре в его прошлом и настоящем / Теория и практика физической культуры. 1927. № 5. С. 30—34.
141 Стенографический отчет. С. 158—159 и 161—164.
142 Согласно указанию самого же Гориневского, брошюра называлась «Культура тела».
143 Мехоношин. Физическое воспитание. С. 2.
144 Там же. С. 7.
145 Стенографический отчет. С. 144.
146 Там же. С. 150.
147 Ромм М. О физической культуре трудящихся / Физическая культура. 1923. № 7—8. С. 4—10.
148 Там же. С. 5.
149 Там же. С. 6.
150 Там же. С. 7.
151 Ромм, в свою очередь, придерживался ламаркизма. Он утверждал, что нынешние формы человеческого тела обусловлены определенным способом применения важнейших органов на протяжении тысячелетий. «Биологический закон: функция (упражнение, деятельность) создает орган, нашел здесь свое совершенное применение». Попутно Ромм замечает, что физическая культура ждет своих историков, которые возьмут за основу своей деятельности «органичное соединение физической культуры и войны».
152 Гориневский. Научные основы тренировки. С. 5.
153 Всевобуч и работа среди женщин. Тезисы Н. И. Подвойского и Г. Д. Закса / К новой армии. 1920. № 10—11. С. 10—11.
154 Бондарчук 3. Всевобуч и работницы / К новой армии. 1920. № 19-20. С. 13-14.
155 Мильштейн. Физическая культура. С. 19.
156 Стенографический отчет. С. 159—161.
157 Гориневская В. Физическая культура работницы. М., 1925. Зд. особ, введение.
156 Основные направления. С. 19.
159 Там же. С. 20.
160 Graham. Science.; Adams. Eugenics as a Social Science; Он же. Eugenics in Russia; Beyrau Dietrich. Intelligenz und Dissens. Die russischen Bildungeschichten in der Sowjetunion 1917 bis 1985. Gottingen, 1993. S. 102-109.
161 Стенографический отчет. С. 151—153.
162 Там же. С. 99.
163 Там же. С. 158. Об этом говорит Гориневский. В том же институте В. В. Бунаком было предпринято исследование по методу проведения антропометрических обследований. Автор возглавлял рабочую группу по этой теме: Мильштейн. Физическая культура. 36.
164 Мильштейн. Физическая культура. С. 36.
Глава третья
1 Maxwell Bertram W. Political Propaganda in Soviet Russia / H. L. Childs (Ed.), Propaganda and Dictatorship. A Collection of Papers. N.Y., 1972 (репринтное издание Princeton, 1936). P. 61—79. О том, что Западу есть чему поучиться у советской, а еще больше — у национал-социалистской пропаганды, пишет: Mackenzie A. J. Propaganda Boom. London, 1938; Inkeles Alex. Public Opinion in Soviet Rurssia. A study in Mass Persuasion. Cambridge, 1951; Калнинс Бруно. История книги в СССР: В 3 т. / Под ред. Е. Л. Немировского и В. И. Харламова. М., 1983—1986; Buzek Anton. Die kommunistische Presse. Frauenfeld, 1965; Кузнецов И. В., Фингерит Е. М. Газетный мир Советского Союза 1917—1970 гг. Т. 1: Центральные газеты. М., 1972; Т. 2: Республиканские, краевые, областные и окружные газеты. М., 1976. По вопросам агитации во времена Гражданской войны см.: Taylor A. A Medium for the Masses: Agitation in the Soviet Civil War. Soviet Studies. 22 (1971). P 562—574.
2 Kenez. Birth.
3 На этот факт обращает внимание; Kenez. Birth. P. 29.
4 Kenez. Birth. P. 21.
5 Окороков А. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 1970. С. 40.
6 Кузнецов, Фингерит. Газетный мир. С. 15; Kenez. Birth. Р. 31. В прим. 44 он приводит н другие данные по тиражам.
7 Декреты советской власти. М., 1975. Т. 1. С. 24-25.
8 О дискуссии по этому поводу см.: Kenez. Birth. Р. 35-44.
9 Kenez. Birth. P. 35, с опорой на исследования российских историков.
10 Перечень газет см.: Кузнецов, Фингерит. Газетный мир. По редакциям и сотрудникам литературно-беллетристских газет и журналов см.: Очерки истории русской советской журналистики, 1917— 1932. М., 1966; Клейнборт Л. М. Очерки рабочей журналистики (1879—1923 гг.). Петроград; М., 1924. В этот период большевики начали издавать руководства о том, как «делать» газеты: Керченцев В. Газета. Ее организация и техника. М., 1919; «За газету». Агит-сбор-ник для деревни. Под ред. Ник. Масленникова. М., 1924.
11 Издательское дело в первые годы советской власти (1917—1922). Сборник документов и материалов. Под ред. Е. А. Динерштейн и Т. П. Яворская. М„ 1972; Brooks Jeffrey. The Breakdown in Produktion and Distribution of Printed Material, 1917—1927 / Bolshevik Culture. Experiment and Order in the Russian Revolution. Под ред. Abbot Glean-son, Peter Kenez, Richard Stites. Bloomington; Indianapolis, 1985. P. 151— 174.
12 Болезни нашего печатного дела по данным обследований ЦКК и НКРКИ. М„ 1924
13 Назаров А. И. Октябрь и книга. Создание советских издательств и формирование массового читателя, 1917—1923. М., 1968. С. 24.
14 Болезни. С. 38.
15 Там же. С. 38; Brooks. Breakdown. Р. 168.
16 Декреты советской власти. М., 1968. Т. 4. С. 555—557; Издательское дело. С. 26—28.
17 Декреты советской власти. Т. 4. С. 640—642.
18 Кузнецов, Фингерит. Газетный мир. С. 57—63.
19 Издательское дело. С. 62.
20 Болезни. С. 36—37.
21 Там же. С. 38. г
22 Издательское дело. С. 85. ,.t
23 Болезни. С. 45.
24 Там же. С. 46.
25 Из последних публикаций см.: История книги. Т. 1. С. 80; Окороков. Октябрь.
26 Назаров. Октябрь. С. 9 и 21. Наличие монополистических тенденций в российском книгоиздательстве подчеркивается в статьях сборника: Книжное дело в России во второй половине XIX — начале XX века (Сборник научных трудов. Вып. 4.) Л., 1989.
27 Назаров. Октябрь. С. 21.
28 Там же. С. 122.
29 Яницкий Н. Ф. Книжная статистика советской России, 1918— 1923. М., 1924. С. 5; см. различные данные: Brooks, Breakdown. Р. 166.
30 Яницкий Н. Ф. Книжная статистика. С. 5.
31 Тюрина В. Н. Основные этапы библиотечного строительства / Труды Московского государственного библиотечного института, Вып. 2. М., 1939. С. 52-96, зд. С. 89.
32 Работа Тюриной В. Н. часто берется за основу по этой теме в советской литературе. Ее данные, взятые из советской статистики, порой сильно отличаются от данных Яницкого, но не обнаруживают тенденции к завышению. На 1920 г. она говорит о 4498 названиях при общем тираже в 44,2 млн экземпляров (Там же. С. 89). Опять-таки иные данные приводят: Мишурис А. Л., Кузнецов И. В. История партийно-советской печати. М., (4 изд.), 1968. С. 54. Здесь положение выглядит гораздо лучше: 6500 названий в 1921 г. при общем тираже в 44,2 млн экземпляров. Соответствующие данные по 1922 г.: 11400 и 54,7 млн, по 1923 г.: 14800 и 139,9 млн экземпляров.
33 Яницкий. Книжная статистика, Диаграмма 5.
34 Декреты советской власти. Т. 5. С. 243—244; Издательское дело. С. 55.
35 Назаров. Октябрь. С. 171.
36 Там же. С. 25.
37 Plaggenborg Stefan. Staatsfinanzen und Industrialisierung in Rutland, 1881-1903. Die Bilanz der Steuerpolitik fur Fiskus, Bevol-kerung und Wirtschaft // Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. 44 (1990). S. 123-336, эд. S. 225-279.
38 См.: Стенографический отчет общего собрания печатников 23.05.1902 (место и год издания не указаны), 1920. На собрании выступали эсер Чернов и меньшевик Дан, встреченные бурными аплодисментами.
39 Назаров. Октябрь. С. 176. Данные о правовом статусе остальных предприятий отсутствуют.
40 Там же. С. 121 — 122. Следующие цифры взяты там же.
41 Издательское дело. С. 104. О более точной регламентации см.: Декрет Совета народных комиссаров «О частных издательствах» от 12 декабря 1921 / Там же. С. 112—113.
42 Хлебевич Евг. Состояние и перспективы библиотечной работы в Красной Армии / Библиотечная работа в Красной Армии. М.; Л., 1926. С. 8; История книги. Т. 2. С. 7—27.
43 Маринов А. А. В строю защитников Октября. М., 1982. С. 29— 32. Как явствует из исследования, не все армии отличались подобной продуктивностью в этой области. Некоторым удалось выпустить лишь 500 экземпляров.
44 Кузнецов, Фингерит. Газетный мир. Т. 1.
45 Мишурис, Кузнецов. История. С. 54.
46 Кепегю Birth. Р. 226.
47 Мишурис, Кузнецов. История. С. 62—63.
48 Листовки первых лет советской власти (25 окт. (7 ноября) 1917—1925): В 2-х т. М., 1967—19 70. Только центральными московскими органами было выпущено за этот период примерно 6000 таких листовок. К сожалению, ни в одном из томов не упоминается о тиражах.
49 Шафир Я. Газета и деревня. М.; Л., 1924. С. 5.
50 Там же. С. 71—73.
51 Altrichter. Bauern. S. 44.
52 Шафир. Газета. С. 94—97; Brooks. Breakdown. Р. 155 ссылает
ся на многочисленные жалобы читателей газеты «Беднота»; «За газету». Агитсборник для деревни. Под ред. Ник. Масленникова. М., 1924.
53 Политический словарь. Краткое научно-популярное толкование слов. Под ред. Б. М. Ельцина. М., 1923.
54 Назаров. Октябрь. С. 267.
55 Яницкий. Книжная статистика. Диаграмма 2.
56 Там же. Диаграмма 6; Шарапов Ю. П. Из истории идеологической борьбы при переходе к НЭПу. Мелкобуржуазный революци-онаризм — опасность «слева», 1920—1923. М., 1990. С. 122.
57 Яницкий. Книжная статистика. Диаграмма 7.
58 Назаров. Октябрь. С. 336; Печать СССР за 50 лет. Статистические очерки. М., 1967. С. 167—171.
59 Тюрина. Основные этапы. С. 89.
60 Печать СССР в годы пятилеток. М., 1971. С. 8.
61 Schroder Hans-Heninng. Industrialisiening und Parteibiirokratie in der Sowjetunion. Ein sozialistischer Versuch uber die Anfangsphase des Stalinismus (1928—1934). Berlin, 1988 =Forschungen zur osteuro-paischen Geschichte. Bd. 41). S. 208—209; SchererJohnL.,Jackobson Michael. The Collectivisation of Agriculture and the Soviet Prison Camp System / Europe Asia Studies. 45 (1993). P. 533—546, эд. P. 538.
62 Печать СССР в годы пятилеток. С. 20—21 и 28—29. По отдельным темам см.: Печать СССР за 50 лет.
63 Яницкий. Книжная статистика. С. 35; Brooks. Breakdown. Р. 168-169.
64 История книги. Т. 1. С. 72.
65 Издательское дело. С. 158—175; Малыхин Н-Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в СССР. М., 1965. С. 301—321.
66 Издательское дело. С. 72; История книги. Т. 2. С. 194—196.
67 По этому вопросу см.: История книги. Т. 2. С. 199—208.
68 Издательское дело. С. 109—110; Малыхин. Очерки. С. 329—342.
69 Они устанавливались Декретом Совнаркома от 12 декабря 1921 г. «О частных издательствах». Издательское дело. С. 112— 113.
79 Витязев П. Частные издательства в Советской России. Петроград, 1921.
71 Распоряжение литературно-издательского отдела Наркома народного просвещения от 3 января 1918 г. (Издательское дело. С. 16); Декрет Совета народных комиссаров от 26 ноября 1918 г. «О научных, литературных, музыкальных и художественных произведениях». В пункте первом Декрета говорится: «Всякое опубликованное и неопубликованное научное, литературное, музыкальное и художественное произведение, в чьих бы руках оно ни находилось, может распоряжением Народного Комиссариата народного просвещения быть объявлено собственностью Российской Советской Социалистической Федеративной Республики» (Там же. С. 30—31, цитата 30—31). Декрет Совета народных комиссаров от 29 июля 1919 г. «Об отмене права частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, находящихся на
хранении в библиотеках и музеях» (Там же. С. 58). Декрет Совета народных комиссаров от 10 октября 1919 г. «Об истечении договоров о переходе литературных и художественных произведений в полную собственность (издательств)» (Там же. С. 61—62). В этом Декрете, при всех его благих намерениях по ограждению авторов от эксплуатации их частными издательствами, обнаруживается двойное дно, т. к. условия, существовавшие в государственных издательствах отнюдь не были более выгодными.
72 Шарапов. Из истории. С. 127.
73 Kenez. Birth. Р. 240.
74 Шарапов. Из истории. С. 126.
75 Там же. С. 129-130.
76 Там же. С. 130.
77 Назаров. Октябрь. С. 361.
78 Назаров. Октябрь. С. 362; Цареградский И. О забытом элементе культурности масс / Революция и культура. 1928. № 19. С. 39-47.
79 Назаров. Октябрь. С. 361.
80 Покровский А. А. Библиотечная работа. М., 1919. С. 5—6.
81 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 38. М., 1963. С. 331—332; Библиотечное дело в первые годы советской власти (1917—1920). Библиографический указатель. М., 1973, включает 800 названий преимущественно времен Гражданской войны.
82 Издательское дело. С. 30.
83 Там же. С. 71—72; Материалы к истории библиотечного дела в СССР (1917—1959 гг.). Учебное пособие для студентов библиотечных институтов. Л., 1960. С. 31—50.
84 Медынский Е. Н. Внешкольное образование в РСФСР. Статистический обзор. М., 1923. С. 8.
85 Медынский Е. Н. Внешкольное образование в РСФСР. Статистический обзор по данным Центр. Стат, управления и Стат, отдела Наркомпроса. М., 1923. С. 12. Это второе издание произведения, упоминаемого в предыдущем примечании, названное автором переработанным и дополненным. В нем содержатся данные по 1923 г., отсутствующие в первом издании. В последующих цитатах содержатся ссылки на второе издание, где в этом есть необходимость. В остальных случаях имеется в виду первое издание.
88 Медынский. Внешкольное образование в РСФСР. С. 10—11. Как организовать и вести сельские просветительные общества и кружки. Рязань, 1918; Григорьев П. Н. Очерк деятельности Уфимска-го Губернскаго Земства по народному образованию. Уфа, 1911. Григорьев выступал, в частности, за активное участие органов местного самоуправления в деле внешкольного образования.
87 Медынский Е. Н. Громкая читальня. С. 11—18; Он же. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. М., 5 изд., 1919. С. 34—38; Brooks Jeffery. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861—1971. Princeton, N.Y., 1985.
88 Медынский. Внешкольное образование в РСФСР. С. 10—11.
89 Медынский. Внешкольное образование в РСФСР. 2 изд. С. 35.
90 История книги. Т. 2. С. 222—236.
91 Печатается по: Медынский. Внешкольное образование в РСФСР. С. 12; Внешкольное образование в РСФСР. 2 изд. С. 20.
92 Медынский. Внешкольное образование в РСФСР. С. 13.
93 Первый библиотечный съезд РСФСР. Материалы пленума и секций. Под ред. М. А. Смушкова. М., 1925. С. 19.
94 Медынский. Внешкольное образование в РСФСР. С. 15—17.
95 Первый библиотечный съезд. С. 13.
96 Медынский Е. Н. Энциклопедия внешкольного образования. Лекции, читанные на педагогических факультетах Уральского университета в 1920—1922 гг. и 2-го Московского университета в 1922— 1924 гг. Т. 2. М.; Л., 1925. С. 61—72; Он же. Громкая читальня. С. 7; Он же. Внешкольное образование, его значение, организация и техника. М., 5 изд., 1919. С. 18—19. Эта книга наряду с ее переработанными вариантами от 1923 г., а также с дополненным изданием 1925 г., вышедшая под указанными названиями, может считаться классикой по проблеме внешкольного образования в России. Впервые она вышла в 1913 г., второе издание было опубликовано в годы войны, в 1915 г., третье и четвертое — в 1918 г.
97 Григорьев П. Н. Революция во внешкольном образовании. М., 1919. С. 7 и 41.
98 Григорьев. Очерк. С. 103—115.
99 Григорьев. Революция. С. 10.
100 Первый библиотечный съезд. С. 34—35.
101 Там же. С. 121-122.
102 Съезд проходил в Москве с 1 по 7 июля 1924 г. В нем участвовало 806 делегатов, 366 из них приехали из Московской губернии. Большинству из них было от 25 до 40 лет. 124 делегата из 270 участников с решающим голосом были беспартийными, 50 были членами Коммунистической партии, 6 — кандидатами в члены партии и 8 — комсомольцами (Первый библиотечный съезд. С. 187—190). Резолюции съезда см.: Резолюция I Всероссийского съезда библиотечных работников. 1—7 июля 1924 г. М., 1924; Спутник делегата 1-го библиотечного съезда 1—5 июля 1924 г. М., 1924; Первый библиотечный съезд РСФСР (стенограммы). М., 1925.
103 Первый библиотечный съезд. С. 33—44.
104 Там же. С. 123.
105 Там же. С. 128.
106 Троцкий Л. Ленинизм и библиотечная работа. М., 1924, цитата 3.
107 Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. М., 1970. С. 265—301; Варфоломеева М. В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР (1928—1941 гг.) (На материалах РСФСР). Автореф. дисс. М., 1971. По данным (см.: «Народное образование, наука и культура в СССР». Статистический сборник. М., 1977. С. 320) количество «массовых библиотек» в 1927 г. составляло 27000. Источники статистики не указаны. В общем цифры этого сборника тендируют к завышению.
108 Gorzka. Arbeiterkultur. S. 53, 83, 127, 134, 156, 231, 304, 327, 464-465.
109 Абрамов. История. С. 302—360.
110 Массовый читатель и книга / Под ред. Н. Д. Рыбникова. М., 1925; Фридьева Н., Болика Д. Изучение читателя. Опыт методики. М.; Л., 1928. Оба этих произведения являются руководствами по изучению читателей. Цель исследований состоит в выяснении спроса читателей каждой конкретной библиотеки. Галкина Л. С. Читающая молодежь города. Опыт исследования по материалам Московской областной библиотеки за 1928—1929 г. М.; Л., 1931; Brooks Jeffery. Studies of the Reader in the 1920s. / Russian Histiory. 9 (1982). P. 187—202. По кинематографу см. соответствующую главу.
111 Brooks. When Russia.
112 Медынский. Внешкольное образование в РСФСР. С. 21.
113 Там же. С. 27.
114 Приведенные данные относятся к 1920 г. См.: Там же. С. 18—34.
115 Первый библиотечный съезд. С. 37.
116 Там же. С. 27.
117 Там же. С. 90-98.
118 Вепринский М. Живая газета. М.; Л., 1927; О коллективных лекциях. М., 1926; Станок. Сборник материалов живой газеты Ленинградского губпросвета. Л., 1926. «Станок» — это название группы, выступавшей как политический театр. Большей известностью пользовались «Гайка» и «Синяя блуза» (Цикл лекций-бесед и художественных иллюстраций по изучению ленинизма. Вып. I. М., 1924).
119 Kenez. Birth. Р. 145-166.
120 Варфоломеева. Роль. С. 9.
121 Торопов А. М. Крестьяне о писателях. Опыт, методика и образы крестьянской критики современной художественной литературы. М.; Л., 1930. Используя «литературную критику» крестьян, Торопов приходит к выводу о необходимости близости литературы к народу. Крестьяне требовали литературы, которая их «касается». Банк Б., Виленкин А. Крестьянская молодежь и книга. М.; Л., 1929. С. 210. Тенорком им вторит Первый библиотечный съезд. С. 15—26.
122 Brooks. Breakdown.
123 Переплетчикова. Читающая молодежь. С. 20—23; Голос рабочего читателя. Современная художественная литература в свете массовой рабочей критики / Сост. Г. Брылов, Н. Лебедев, Б. Май-берт, В. Сахаров. Л., 1929; Колодная А. Что читает рабочая молодежь? / Революция и культура. 1928. № 8. С. 39—42.
124 Хлебевич. Состояние. С. 13.
125 Хлебевич Е. И. Массовый читатель и антирелигиозная пропа--ганда. М.; Л., 1927. I
126 Переплетчикова. Читающая молодежь. С. 55. В опросе участвовали 360 читателей на селе в возрасте от 16 до 23 лет, в социальном отношении поделенные на бедняков и середняков. Опрос показал, что по популярности беллетристика слегка опережала научную литературу.
127 В книге: Керженцев В. Библиотека коммуниста. Систематический указатель социалистической литературы. 4 изд. М., 1919, приводится эта «идеальная библиотека» с названиями книг клас
сиков марксизма по политической экономии, по капитализму в странах Западной Европы и России, сельскому хозяйству, по вопросам социализма, истмату и т. д.
129 Brooks. Breakdown. Р. 165.
Глава четвертая
1 Большой словарь Herder. Т. 10. Freiburg, 1935. Ст. 425.
i 2 Радио в СССР. Отчет VII съезду советов. М., 1934.
3 Очерки истории советского радиовещания и телевидения. Учебное пособие. М„ 1972. Часть I: 1917—1941. С. 3—19. В дальнейшем используются материалы из этой же книги.
4 Кудрявцев С. Рождение радио. Л., 1935. С. 192.
5 Баженов В. И. Обзор достижений русской радиотехники за годы революции и успехов радиолюбительского движения к 1926 году / Радио. Радиолюбительство и радиовещание. Успехи и достижения в СССР и за границей. М.; Л., 1926. С. 47—61.
6 Декреты советской власти. Т. 3. М., 1964. С. 58—62; Очерки истории советского радиовещания. С. 20—61.
2 Ленин написал об этом в письме от 5 февраля 1920 г., адресованном руководителю исследовательской лаборатории в Нижнем Новгороде, М. А. Бонч-Бруевичу. Там же он говорит о «великом деле». О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. М., 1972. С. 502. По развитию радиодела после высказывания Ленина см. также: Burton Paulu. Radio and Television Broadcasting in Eastern Europe. Minneapolis, 1974. P. 29-55.
8 О партийной и советской печати. С. 503.
9 Очерки истории советской печати. С. 65.
19 Там же. С. 504-505.
11 Кудрявцев. Рождение радио. С. 194. Это высказывание принадлежит радиоинженеру А. М. Николаеву.
12 Очерки истории советского радиовещания. С. 62—102.
13 Там же. С. 81. Следующие цитаты взяты из того же источника.
14 О радиостанциях специального назначения / О партийной и советской печати. С. 505—506. Дальнейшие цитаты взяты оттуда же.
15 Любович А. М. Отражение развития радиолюбительства в законодательстве Союза ССР / Радио. Радиолюбители и и радиовещание. С. 13—22, зд. С. 14.
16 Рейнштейн Б. О «газете» без бумаги / Наука и жизнь. 1960. № 4. С. 42—43. В дословном тексте беседы, опубликованном 38 лет спустя в свободном изложении внимательный читатель сумеет разглядеть элементы стандартизированного языка КП.
17 Радио для всех. Вып. I. Киев, 1925. С. 2. Журнал издавался Киевским обществом друзей радио (ОДР).
18 О частных приемных радиостанциях / О партийной и советской печати. С. 507—508.
19 О партийной и советской печати. С. 508.
20 Инструкция для частных приемных радиостанций / Радио в деревне. М., 1925. С. 15—18.
21 Образец такого формуляра приводится в журнале «Радио в деревне». С. 19.
22 Различались следующие виды пользования: а) личное, в квартире; б) в научных целях; в) в культурных и просветительских целях; г) в коммерческих и «увеселительных» целях (в ресторанах, столовых, магазинах, кинотеатрах, театрах и т. д.).
23 Любович. Отражение. С. 17.
24 Там же. С. 16—18.
25 Халепский И. На новых путях / Радио всем. 1925. № 1. С. 1.
26 Очерки истории советского радиовещания. С. 105.
22 Радио-листок. Бесплатное приложение к журналу «Радио всем». 1927. № 4, номера стр. не указаны.
28 Там же. Со своей новой длиной волны эта радиостанция стала создавать помехи немецкой радиостанции Кенигсвустерхауэен, после чего россияне вернулись к прежней длине волны (1450 м).
29 Очерки истории советского радиовещания. С. 105.
30 Радио-листок. 1927. № 2, номера стр. не указаны. В распоряжении Совета народных комиссаров от 23 октября 1928 г. «Об очередных задачах в области радиофикации Союза ССР» приводится другая цифра, на 2 % ниже указанной (См: О партийной и советской печати. С. 512—515, эд. С. 512).
31 Любович. Отражение. С. 18. Из 23 000 советский станций только в Московском округе насчитывалось 18 000 (1925 г.).
32 О партийной и советской печати. С. 510.
33 Преображенский Н. Побольше внимания к мелочам / Радио всем. 1925. № 1. С. 5.
34 Кациграс А. Радио-политпросветработа в избе-читальне / Радио в деревню! Агитсборник. М., 1926. С. 24—31, цитата 24.
35 Радио в деревне. Информационное письмо Главполитпросвета. № 6. М„ 1925. С. 13.
36 Крупская Н. Радио в деревню! / Радио в деревню! С. 3—4.
37 Там же. С. 3. Ср. передачу, посвященную памяти Ф. Э. Дзержинского в 1926 г., записанную Сосновским Л. С. в книге «Дела и люди». Книга I. Рассея. М., 1924. С. 31—36.
38 Крупская. Радио. С. 4.
39 О работе радиоклубов. М., 1926. С. 2.
40 Радио. Ежемесячный журнал Одесского губернского отделения радио-общества Украины (РОУ). 1925. № 1.
41 Радио в деревне. Информационное письмо. С. 4.
42 А. М. Громкоговорящая установка в деревне / Радио всем. 1925. № 1. С. 7.
43 Гальперина. Радио в глухом углу Черниговщины / Радио всем. 1925. № 2. С. 23.
44 М. С. С радио-передвижкой в деревню / Радио всем. 1925. № 4, 5, 70.
45 Там же. С. 70.
46 Очерки истории советского радиовещания. С. 112.
47 Преображенский. Побольше внимания. С. 5; Очерки истории советского радиовещания.
48 Преображенский. Побольше внимания. С. 5.
49 Очерки истории советского радиовещания. С. 142.
50 См. сообщения с мест / Радио. 1925. № 3. С. 19.
51 Радио на службу политпросвету в деревне. Л., 1932. С. 4.
52 Там же. С. 5.
53 Радио в деревне. Информационное письмо. С. 6—7.
54 Распоряжения от 16 августа 1931 г., 17 февраля 1932 г., 31 января 1933 г., 9 марта 1933 г., 25 мая 1933 г., 27 ноября 1933 г., 24 марта 1934 г., 20 сентября 1934 г. Радио в СССР. С. 8—10. Там же приведен список передающих радиостанций, работавших на 1 декабря 1934 г., а также карта дальности их действия. С. 16—17.
55 Радио в СССР. С. 14.
56 Там же. С. 13—16.
57 Там же. С. 16.
58 Там же. С. 20.
59 См. прим. 1 этого раздела.
80 Любович А. Радио — рупор революции / Радио всем. 1925. № 4, 5. С. 67.
61 О радиоагитации / О партийной и советской печати. С. 509.
62 Радиоагитация / О партийной и советской печати. С. 509—510.
83 Очерки истории советского радиовещания. С. 106—108. По профсоюзным радиостанциям, в т. ч. на местном уровне, см.: Радио в рабочем клуое. Л., 1927, изданное Ленинградским губернским советом профсоюзов.
84 Очерки истории советского радиовещания. С. 123—125.
85 О руководстве радиовещанием / О партийной и советской печати. С. 511. Далее — там же.
88 Время передач распределялось следующим образом (см. таблицу):
Количество часов 1932 1934
I. Передачи художественного цикла
— музыка 4372 5103
— детские передачи 704 565
— литература 774 526
— передачи для военнослужащих 53 257
— для молодежи 4 156
— экспериментальные перепачи 34
— итого 5941 6607
II. Спорт 487 541
III. Политинформации, образовательные программы 3721 1615
IV. Разное 502 335
V Межпунаролные перепачи 827 1369
VI. Правительственная информация 93 274
(См.: Радио в СССР. С. 32). Если в двадцатые годы еше проводились эксперименты с радиомузыкой и специальной радиоакустикой, то в начале тридцатых годов, как явствует из таблицы, это направление умерло. Один иностранный наблюдатель заметил по этому поводу: «Radio is the ready-made medium of a Socialist Art. But not only do they not know how to exploit it; they actually make any attemts to develop a popular art with new accoustical aesthetics impossible. One of the oddies which impressed me particulary in my study of Soviet Art was the fact that the wireless was degraded to the level of a simple transmitting insrtument, instead of being made to accomplish the miracle which lies well within the compass of its endless artistic possibilities»; London Kurt. The Seven Sviet Arts. London, 1937, Reprint Westport, Conn. 1970. P. 305. — Музыку играли всякую. Спектр простирался от симфонии под названием «Поэма о комсомольцах-воинах» Книппера, «Арктической симфонии» Василенко (посвященной происшествию с ледоколом «Челюскин»), «Колхозной симфонии» Мясковского и симфонической поэмы «Ленин» Себалди-на до Бетховена, Листа, Чайковского, Берлиоза и «Валькирий» Вагнера. Хватало и легкой музыки и народных песен (Радио в СССР. С. 35—37. По остальной тематике см.: там же. С. 38—51).
Глава пятая
1 Использован в качестве цветной заставки: White Stephen. The Bolshevik Poster. New Haven; London, 1988, илл. 5.19.
2 Цит. no: Coquin Francouis-Xavier. L’affiche revolutionaire sovi6-tique (1918—1921): mythes et realities / Revue des Etudes Slaves. 59 (1987). S. 719-740, эд. S. 735.
3 White. Bolshevik Poster. P. 98.
4 За исключением некоторых попыток, в Германии изобразительные материалы в качестве исторических источников используются пока что в незначительной мере. Этот тем более удивительно, что французские историки давно уже используют изобразительные материалы как источники, находя самое широкое применение в исследований по истории развития менталитета (Kampfer Frank. Das friihsowjetische Plakat als historische Quellengruppe. Ein Beitrag zur Erkenntnistheorie des politischen Bildes / Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. 25 (1978). S. 156—168; Он же. «Der rote Keil». Das politische Plakat — Theorie und Geschichte. Berlin (West), 1985.
5 White. Bolshevik Poster; Советский политический плакат / Сост. Г. Демосфенов, А. Нурок, Н. Шантыко. М., 1962.
6 См. прим. 18.
7 Цит. по: Gaflner Hubertus, Gillen Fckart. Zwischen Revolu-tionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kom-mentare. Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934. Koln, 1979 S. 430.
8 Полонский В. Русский революционный плакат. М., 1925. С. 7.
9 Там же. С. 8.
10 Heiz Andre Vladimir. Eins und eins, das sind drei. Etude uber ein
Plakat von El Lissitzky aus dem Jahre 1929 / Kunst und Propaganda. Sowjetische Plakate bis 1953. (Ausstellungskatalog). Ziirich, 1989. S. 8.
11 Моор Д. Я — большевик. Сборник статей. М., 1967. С. 19. Речь идет о статье «Советский политический плакат» (1917—1933), впервые опубликованной в журнале «Искусство» (1933, № 4) при соавторстве Моора Д. и Р. С. Кауфмана.
12 Там же. С. 22.
13 Там же. С. 38.
14 Там же. С. 24.
15 Охочинский В. Плакат. Л., 1926. С. 82.
16 Gafiner, Gille. Kultur. S. 431; Kampfer. «Der rote Keil». S. 40— 158, 206, 215; Coquin. L affiche. P. 726; Bojko Szymon. Rot schlagt WeB. Die neue Grafik und das Design der Russischen Revolution. Miinchen, 1975. S. 41—49.
17 Полонский В. Плакат. С. 13—14.
18 С классификацией плакатов по формальным критериям мы встречаемся; Kampfer. Das friihsowjetische Plakat; Он же. «Der rote Keil». S. 60—75; по хронологии и авторам классифицирует плакаты White. Bolshevik Poster; Бутник-Сиверский Б. С. Советский плакат эпохи Гражданской войны 1918—1921. М., 1960. С. 3—128; 21 тему выделяет в своей классификации Полонский. Плакат. С. 121—187; 4 тематических группы перечислены: «Seht her, Genossen! Plakate aus der Sowjetunion». Hg. v. d. Rheinsch-Westfalischen Auslandgesellschaft. Dortmund, 1982. По непонятным причинам советские плакаты 1918—1921 гг. анализируются в главе «Дореволюционные плакаты».
19 Иллюстративный материал приводится: Piltz Georg. RuBland wird rot. Satirische Plakate, 1918—1922. Berlin (DDR), 1977; White. Bolshevik Poster; Бутник-Сиверский. Советский плакат; Kunst und Propaganda; Kampfer. «Der rote Keil»; Полонский. Плакат; Советский политический плакат. Представляет интерес сравнение с дореволюционными плакатами, см.: Бабурина Н. М. Русский плакат. Вторая половина XIX — начало XX века. Л., 1988.
20 Так, на плакатах Д. С. Моора «1-е мая, праздник труда» мы видим нечто среднее между красноармейцем и пролетарием, на плакате того же художника «Будь на страже!» перед нами огромная фигура красноармейца, сильно напоминающего чертами Троцкого, который стоит на карте России, держа в страхе милитаристскую Польшу и других капиталистических соседей от Финляндии до Румынии. Другие примеры см. ниже.
21 См. прим. 19.
22 Моор Д. С. «1-е мая, праздник труда». 1920.
23 Gillen Eckart. Von der politischen Allegorie zum sowjetischen Montageplakat / Kultur und Kulturrevolution. S. 57—80. Гиллен является одним из немногих, кто стремится использовать плакат как исторический источник. К сожалению, у него часто приходится сталкиваться с ошибочной интерпретацией и бездоказательными высказываниями по поводу «сознания масс», «небесного Иерусалима», социалистического образа жизни, небесах как «продолжении истории», особ. S. 67—68; Hiepe Richard. Riese Proletarier und GroBe
Maschinerie. Revolutionare Bildvorstellungen in der Kunst des 19. Jahrhunderts / Kunst und Unterricht. 1973. H. 19. S. 22—29.
24 Моор. Я— большевик. C. 22—24.
25 Это понятие Моор ввел, говоря о «киноплакатном кваэидра-матиэме» и «дешевой бытовой символике» в произведениях Апсита. Моор. С. 22. Ср. плакаты Моора «Октябрь 1917 — Октябрь 1920» и «1-е мая, праздник труда», и тот, и другой от 1920 г.
26 Бутник-Сиверский. Советский плакат. С. 137—530.
27 Kampfer. «Der rote Keil». S. 275.
28 Ibid. S. 206.
29 Дени В. «Антанта под маской мира». 1920.
30 Автор не указан. «Крестьянин! Иди на сборный пункт взять красный штык, чтобы вонзить его в брюхо мирового зверя-капитала!». 1920.
31 Kampfer. «Der rote Keil». S. 275—286, обычно описанные явления обозначаются приукрашенным понятием «сатира», см.: Советский политический плакат, особ. С. 26; Piltz. RuBland.
32 Примеры см.: Kampfer. «Der rote Keil», илл., 16, 32, 46, 52, 124, а также интерпретацию плаката В. Фридмана «Враг хочет захватить Москву, сердце Советской России. Враг должен быть уничтожен. Вперед, товарищи!». 1919 (Там же. С. 143).
33 Апсит А. «Вперед, на защиту Урала»; Он же. «Грудью на защиту Петрограда»; МоорД. С. «Враг у ворот! Он несет рабство, голод и смерть! Уничтожьте черных гадов! Все на защиту! Вперед!», 1919.
34 Моор Д. С. «Смерть мировому империализму». 1919; Он же «Ты записался добровольцем?», 1920.
35 Апсит А. «Год пролетарской диктатуры». 1918.
36 Симаков И. «Да здравствует солнце! Да скроется тьма!», 1921; Моор Д. С. «1-е мая — праздник труда»; Он же. «Товарищи. Винтовкой и молотом отпразднуем Красный Октябрь», 1920; Он же. «Слава победителю Красноармейцу!», 1920, пример «нелаконичнос-ти» Моора; Кочергин. «1-е мая 1920 года»; Он же «1 мая», 1921; Он же. «Да здравствует братство всех народов Кавказа!», 1921; Он же «Да здравствует III Интернационал!», 1920; ВХУТЕМАС, «Да здравствует Коммунистический Интернационал!», 1921; КогутН. «С Новым годом!», 1921; Неизв. художник. «Рабочие завоевали власть в России», 1920; Мельников Д. И. «Долой капитал, да здравствует диктатура пролетариата!», 1920; Фридман В. «Да здравствует Красная Армия!», 1920, на плакате использована тема Св. Георгия, он верхом на коне на фоне красной звезды парит над городом; на плакате Иванова С. И. «1-е мая. Да здравствует праздник трудящихся всех стран», 1920, изображена златовласая девушка в длинном прозрачном одеянии, парящая на фоне красного неба и осыпающая массы демонстрантов цветами; Неизв. автор. «Владыкой мира будет труд!», 1920.
37 Моор Д. С. «Прежде: Один с сошкой, семеро с ложкой. Теперь: Кто не работает, тот не ест», 1920; Он же. «Царские полки и Красная Армия», 1919; Он же. «Рождество», 1921; Он же. «Октябрь
1917 — Октябрь 1920», 1920; Романский Н. «Хлеб нам даст только Красная Армия!», 1919; Неизв. автор. «Четыре года», 1921; Саянский Л. «Прежде одни дворянчики в гимназиях учились — а ныне повсюду советские школы открылись!», 1920; Неизв. автор. «Бывало муж жену за волос таскает — а ныне ей вслух газету читает», 1920. Большинство не рассматриваемых здесь карикатур РОСТА строились на этом же принципе.
38 Дени В. «Последний час», 1920.
39 Там же. 1920.
40 Gillen. Allegorie. Р. 63.
Braegger Carlpeter. Agitation als Kunst. Cm.: Kunst und Propaganda (S. 29); Понятие «мистические пилюли избавления», цитируемое Бреггером, принадлежит Карлу Эйнштейну.
42 Бутник-Сиверский. Советский плакат. С. 19.
43 Coquin. L’affiche. Р. 727.
44 Назаров. Октябрь. С. 197.
45 Полонский. Плакат.
1 46 Земенков Б. Цит. по: White. Bolshevik Poster. Р. 111.
47 Бутник- Сиверский Б.С. Советский плакат, 19. В каталоге № 710 и 719; Советский политический плакат. С. 15.
48 См. главу о праздниках.
49 White. Bolshevik Poster. Р. 111.
50 Бутник-Сиверский. Советский плакат. С. 18.
51 Удачную подборку высказываний по этой теме см.: Coquin. L’affiche. Р. 732, 734.
52 Coquin.. L’affiche. Р. 735.
53 Верт В. К 25-летию творческой деятельности Д. С. Моора. Плакаты Д. С. Моора в оценке массового зрителя / Плакат и художественная репродукция. 1934. № 9. С. 4; одному юному пионеру больше всего понравились белые генералы, нанизанные на красные штыки (Там же. С. 4). Более поздние плакаты Моора не получают столь восторженной оценки. В особенности со стороны крестьян, не идентифицировавших себя с изображениями крестьян на плакатах во славу колхозов (Там же. С. 7).
54 Бутник-Сиверский. Советский плакат. С. 53—87.
55 Coquin. L’affiche. Р. 730.
58 Бутник-Сиверский. Советский плакат. С. 22.
57 Примеры см.: Kunst und Propaganda. S. 54—89.
58 Мценский Г. Изображение «отрицательного момента» на плакате / Плакат и художественная репродукция. 1934. № 8. С. 1—9.
59 White. Bolshevik Poster. Р. 125—128, называет три причины: уход художников, изменившиеся социально-экономические отношения и политическое давление; Федоров-Давыдов А. А. Искусство советского плаката и политическая карикатура в советском изобразительном искусстве / Тридцать лет советского изобразительного искусства. М., 1948. С. 149—182.
80 Constantine М., Fem A. Revolutionary Film Posters. London, 1974; Kunst und Propaganda. S. 54—89.
81 Кениг T. Реклама и плакат как орудия пропаганды. Л., 1925.
62 Текст постановления с комментариями современников смХ ..Gaflner, Gillen. Zwischen Revoiutionskunst. S. 434—435. .1
63 Walter Benjamin. Stadtebilder. Frankfurt/M., 1963. S. 23.
64 Верт. К 25-летию творческой деятельности.
65 По аналогии со знаменитым высказыванием Гегеля о душе мира, едущей верхом на коне. (Наполеон): Hegel G. W. F. Weitgeist zwischen Jena und Berlin. Briefe. Hg. v. Hartmut Zinser. Frankfurt/ M.; Berlin; Wien, 1982. S. 58.
Глава шестая
1Ш . О репертуаре кино / Вестник театра. 1920. № 57. С. 2.
2 Пути кино. Первое всесоюзное партийное совещание по кинематографии / Под ред. Д. С. Ольховой. — М., 1929, 18.
3 Лебедев Н. Внимание: Кинематограф! О кино и киноведении. Статьи, исследования, выступления. М., 1974. С. 50—51.
4 Там же. С. 57—59. По 1932 г. Уорд (Ward. In Place of Profit. P. 327) цитирует неуточненный советский источник. В нем сообщается о 46,5 статистических посетителя кино в год в городах и 16,2 — в деревне.
5 Культурное строительство на севере. С. 13.
6 Лебедев Н. Партия и кино / Советское кино. 1934. № 11 — 12. С. 30—42. В дальнейшем используются данные этого же источника.
7 См. главу 8.
8 Братолюбов С. На заре советской кинематографии. Из истории киноорганизации Петрограда—Ленинграда 1918—1925 годов. Л., 1976. С. 3—16 (Вступительное слово Н. Горницкойр, Kenez Peter. Cinema and Soviet Siciety, 1917—1953. Cambridge, 1992. P. 30—36.
9 Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. Сборник документов и материалов. М., 1973. С. 51; Очерки истории советского кино. Т. 1: 1917—1934. М., 1956; Лебедев Н. А. Очерк истории кино СССР. Немое кино. М., 1965. С. 101—108, текст декрета приводится на стр. 106—107; Taylor Richard. The Politics of the Soviet Cinema, 1917—1929. Cambridge etc., 1979; Cohen Louis Harris. The Cultural-Political Traditions and Developments of the Soviet Cinema 1917 to 1972. Ph. D. Univ, of South California; Los-Angeles, 1973; London Kurt. The Seven Soviet Arts. London, 1937 Reprint Westport; Conn., 1970. P. 269-296.
10 Братолюбов. На заре. C. 27.
11 Самое важное из всех искусств. С. 22.
12 Лебедев. Очерк. С. 13. По данным статистики общее количество кинотеатров в СССР в 1923—1924 гг. составляло 871, в 1924— 1925 гг.-1117, в 1925-1926 гг. - 1882, в 1926-1927 гг. - 2599 (См.: Итоги деятельности советской власти в цифрах 1917—1927. М., 1928. С. 91). Kenez. Cinema. Р. 11, по 1913 г. приводит цифру 1452 .
13 Лебедев. Внимание. С. 43.
14 Там же. С. 44.
15 Крылов С. Вопросы кино / Революция и культура. 1927. № 3, 4. С. 45-47, зд. С. 52.
16 Киршон В. На кино-фронте / Революция и культура. 1928. № 1.
С. 42—48, зд. С. 43. Во вступительном замечании Горницкая пишет о высокой цене на зарубежные фильмы. Один метр стоил якобы от одного до полутора золотых рублей (см.: Братолюбов. На заре. С. 13).
17 Крылов. Вопросы. С. 48, цитата из комментария Центрального комитета комсомола.
18 Голдобин А. Кино на территории СССР (по материалам провинциальной прессы). М., 1924. С. И.
19 Крылов. Вопросы. С. 50.
20 Лебедев. Партия и кино.
21 Голдобин. Кино. С. И.
22 Лебедев. Внимание. С. 52.
23 Правда. 27.02.1924 (цит. по: Лебедев. Внимание. С. 54—55). Следующая цитата взята там же.
24 Пути кино. С. 244—245.
25 Лихачев Б. С. Кино в России (1896—1926). Материалы к истории русского кино. Часть 1: 1896—1913. Л., 1927. С. 190—201, с указанием перечня фильмов.
26 Пути кино. С. 233—234.
27 Там же.. С. 45—46.
28 Крылов. Вопросы. С. 51, прим. 2.
29 Там же. С. 50.
30 Там же. С. 52.
31 Пути кино. С. 25—31, цитата 31.
32 Taylor. Politics. Р. 11.
33 Лебедев. Очерк. С. 13.
34 Пути кино. С. 41 и 237. Ср. другие данные: Kenez. Cinema. Р. 87, достоверные не более, чем данные из «Пути кино».
35 См.: Крылов. Вопросы. С. 51, прим., 1; Лебедев. Очерк. С. 268, где говорится о 3700 «постоянных» кинотеатрах в 1925 г. и о 22 000 — в 1930 г. Источники этих данных не указаны.
36 Якушкин Е. За поворот производства лицом к производству / Пролетарское кино. 1931. № 3. С. 51—53. Автор считает, что причины безалаберности и давления старых традиций коренятся не столько в работниках кино, сколько в кинопроизводстве. В нем были задействованы люди, не стоявшие на переднем крае кинофронта. Борьбу с «чуждой идеологией» в области кино вел Киршон (См.: На кинофронте. С. 42—48). Похожие взгляды высказывает Король М. (Для масс и через массы! / Пролетарское кино. 1931. № 3. С. 7—9). Король высказывает пожелание о более активном участии масс в производстве кино, особенно в написании сценариев, т. к. здесь в особенности ощущался дух старого кино. См. также протоколы и резолюции: «Пути кино». По вопросам эстетики см.: Покровский А. И. Театр, кино, жизнь. Л, 1969. С. 233-256.
37 Пиотровский. Театр. С. 219.
38 Котев Б. О фонде фильмов Союзкино / Пролетарское кино. 1931. № 17-18. С. 52-56.
39 Youngblood Denise J. The Fate of Soviet Popular Cinema during the Stalin Revolution / Russian Review. 50 (1991). P. 148—162, зд. P. 149.
40 Анощенко Н. Д. Звучащая фильма в СССР и за границей. М., 1930, зд. особ. С. 5—34.
41 Лисс Ю. Первые шаги звукового кино / Пролетарское кино. 1931. № 5, 6. С. 8—И, цитата 8.
42 Сутырин В. О социалистической реконструкции кинематографии / Пролетарское кино. 1931. № 1. С. 6—17, цитата 8. Последующие данные взяты оттуда же.
43 Пиотровский. Театр. С. 229—233, цитата 299 (записана в 1929 г.)
44 Состояние мировой кинопромышленности / Пролетарское кино. 1931. № 5, 6. С. 72-74.
45 Cohen. Traditions. S. 71.В этой главе, как и в остальных, Ко-хен опирается на данные почти одних только второстепенных советских источников.
46 Анощенко. Звучащая фильма. С. 60—65.
47 Лисс. Первые шаги. С. 8—9.
48 Котев. О фонде. С. 53.
49 См.: Состояние мировой кинопромышленности...
50 Filme. В словаре dtv-Brockhaus-Lexikon. Munchen, 1986. Т. 5. S. 298-303.
51 Ранние работы по советскому кинематографу — как и вообще большинство работ — не касаются этого вопроса совсем или в лучшем случае касаются лишь какого-то одного его края. Этот пробел попытался восполнить Кенез — Kenez. Cinema. Но несмотря на большое количество подробной информации в соответствующих главах этой книги не прослеживается нового взгляда на политику в области кинематографа или на фильм как средство пропаганды, представленного Кенезом уже в книге «Birth of the Propaganda State». Главное, в чем можно упрекнуть Кеиеза, так это в том, что он не исчерпывает до конца интерпретационных возможностей фильма как средства с его многоплановостью, не «прочитывает» его как источник, а видит в нем отражение того, о чем он уже говорил в «Birth...» как о модели политики большевиков в области средств массовой информации. По агитационным фильмам см.: Там же. С. 44—45. Кроме того, представляется, что слово «большевики» в применении к магам советского кино носит слишком безличный характер, Кенез не проводит различий между отдельными силами, проблемами, лицами. Фундаментальным произведением по советскому кинопроизводству является: Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. Т. 1—5. М„ 1961—1979 (Т.1: Немые фильмы. 1918—1935. М., 1961: Т. 2: Звуковые фильмы. 1930—1957. М., 1961); Der sowjetische Revolutionsfilm: zwanziger und dreifliger Jahre. Eine Dokumentation / Сост. Hermann Herlinghaus u. a. Berlin (DDR), 1967; Taylor. The Politics.
52 Dillon E.J. Russia Today and Yesterday. London; Toronto 1929. P. 171-173.
53 Шутко К. И. Что такое «хроника» / Культур-фильма. Политико-просветительная фильма. — М., 1929. С. 194—216, зд. С. 196— 197. Автор находится под сильным впечатлением от примера Аме
рики. Он различает «чистую хронику» («news-новости»), кинообзор или кинообозрение, а также тематическую хронику (Там же. С. 201-206).
54 Пиотровский. Театр. С. 227.
55 Очерки истории советского кино. Т. 1. С. 32.
56 Лебедев. Очерк. С. 8, 12, 15, 34—35.
57 Taylior. Politics. Р. 10.
58 Лихачев. Кино. С. 88—90.
59 Шутко. Что такое «хроника». С. 207—208; Очерки истории советского кино. Т. 1. С. 32—43. Представленное здесь описание триумфа ранних хроник не соответствует данным источников: Cohen. Traditions. S. 38—63.
60 Гаврюшин К. Как работает советская кинохроника / Пролетарское кино. 1931. № 2. С. 30—38, цит. 30; Лебедев. Очерк. С. 108—116, пишет о 1918—1921 it. как о новаторских и решающих.
61 Братолюбов. На заре. С. 56—66.
62 Там же. С. 66.
63 Гаврюшин. Как работает советская кинохроника. С. 30. Последующие данные взяты оттуда же.
64 Братолюбов. На заре. С. 66.
65 Котев. О фонде. С. 53.
66 Зосимов Г. Кинохроника на экране / Советское кино. 1933. № 8. С. 39-42.
67 Пиотровский. Театр. С. 224.
68 Лебедев. Внимание. С. 77.
69 Гаврюшин. Как работает советская кинохроника С. 30.
70 Там же.
71 Правда. 16 июля 1925 г. Прежде всего эта тема звучит в одном из разделов у Кохена: Kohen. Traditions. S. 46—69, где автор опирается исключительно на позднюю советскую второстепенную литературу. Leyda Jay. Kino: A History of the Russian and Soviet Film. Princeton, N.Y., 1960. P.. 161—162.
72 Братолюбов. На заре. C. 63—64.
73 Moussinac Leon. Le cinema sovietique. Paris, 1928. P. 29.
74 Февральский А. Кино-Правда / Горн. 1923. № 8. С. 62—63, цит. 63.
75 Гаврюшин. Как работает советская кинохроника. С. 31.
76 Там же. С. 37.
77 Там же. С. 30.
78 Шутко К. И. Что такое политико-просветительная фильма / Культурфильма. С. 10—32, зд. С. 31.
79 Косиор С. К итогам обсуждения вопросов кино / Революция и культура. 1928. № 6. С. 5—7. Косиор требовал более активного участия рабоче-крестьянских масс.
88 Пути кино. С. 25.
81 Там же. С. 31. По этому вопросу см. другие одноименные статьи этой книги. Н. К. Крупская тоже не удержалась от критики в адрес старого направления (Там же. С. 124—128); Советская кинематография на новом этапе / Советское кино. 1933. № 1. С. 1—5; Нужен
решительный перелом / Пролетарское кино. 1932. № 4. С. 1—5. Сборник «Вопросы драматургии кино». Т. 1: Драматургия кино. Первый сборник сценариев / Сост. П. А. Бляхин, А. Е. Милъкин, М. Я. Шнейдер. М., 1934 подтверждает, что в 1934 г. еще был возможен деловой подход к проблеме кино; см. также: Kenez. Cinema. Р. 101—118.
82 Гаврюшин. Как работает советская кинохроника. С. 30—38; Лебедев Н. За пролетарскую кинопублицистику (к вопросу о методологии кинохроники) / Пролетарское кино. 1931. № 12. С. 20—29. Не стоит перечислять здесь всех рационализаторских предложений. Лебедев пишет, прежде всего, о подготовке и презентации материалов, Гаврюшин уделяет больше внимания технической стороне, кадрам, редакции и проведению киносеансов. Зосимов говорит о большом значении актуальности, политической и идейной направленности фактов и быстрой подготовки (См.: Зосимов. Кинохроника. С. 40).
83 Вайсфельд И. Комсомол в художественной кинематографии / Пролетарское кино. 1931. № 7. С. 11 — 19; Фильмы о комсомоле/ Там же. С. 21—22; Мордерер Я. Комсомол и кино / Там же. С. 24; Дубинский Д. Кино рабочей молодежи / Там же. С. 25—28.
84 Лебедев. За пролетарскую кинопублицистику. С. 26.
85 Лебедев. Внимание. С. 70.
86 Головачев В. Киногазета на пленке / Пролетарское кино. 1931. № 6. С. 22—25, цитата 22. Автор считает, что его киногазета представляет собой нечто иное, чем кинохроника, но при ближайшем рассмотрении разница между ними незначительна. Поэтому мы относим ее к той же категории.
87 Там же. С. 22.
88 Лебедев. За пролетарскую кинопублицистику. С. 26—27.
89 Там же. С. 26.
90 Гаврюшин. Как работает советская кинохроника. С. 37.
91 Такое мнение высказывает и Тэйлор /См.: Taylor. Politics. Р. 152). Такой вывод неизбежен, если принять во внимание резолюции по вопросам кино; о том, что без участия населения осуществление контроля над кинематографом являлось лишь половиной дела, Тэйлор не говорит.
92 Лебедев. За пролетарскую кинопублицистику. С. 28. Этот пункт был для теоретиков центральным. Обычно они касаются проблем на своем пути лишь вкратце, уделяя больше внимания работе будущих корреспондентов и редакций на местах; Гаврюшин. Как работает советская кинохроника; Головачев. Киногазета. С. 24, предлагал создать двойную сеть корреспондентов. Первая должна была возникнуть среди «широких масс рабочих и колхозников», при каждом предприятии он предлагал создать «кинопочту» и «кинокружок» для установления и укрепления контактов со зрителями-абонентами. Эти круги должны были заниматься обучением ударников кино, которые затем могли принимать участие в выпусках киногазеты. Вторая сеть должна была охватывать и организовывать «хроникеров» и съемочные группы, работающие на местах. По работе киноредакций как уже существовавших, так и запланированных, см.: Бубрик С., Максимович Мих. Киноредакции (Опыт и перспективы) / Пролетарское
кино. 1931. № 6. С. 26—34. Опираясь на почву «партийности, конкретности, оперативности, действенности», автор разрабатывает содержательную и техническую стороны редакционной работы. Немногочисленные киноредакции на местах существовали в то время в основном в Донбасской и Кузнецкой областях.
93 Головачев. Киногазета. С. 24.
94 Moussinac. Le cinema. Р. 43. Хвалебную песнь советскому плановому хозяйству и кино поет Carter Huntly (The Soviet Cinema and the People: Theor Social Unity / Playtime in Russia. Под ред. Hubert Griffith. London, 1935. P. 95—118).
95 Гаврюшин. Как работает советская кинохроника. С. 31. С единственной попыткой анализа кинопублики задним числом мы встречаемся у Кенеза (Kenez. Birth. Р. 219—223). Но и у него публике посвящены всего несколько строк, в основном он пишет об общих проблемах кинематографа.
96 Результаты опроса на базе этой анкеты приводит Лебедев. (См.: Внимание: Кинематограф! С. 57—59).
97 Скородумов Л. Зритель и кино / Пролетарское кино. 1931. № 19—20. С. 49—61. Последующие данные взяты оттуда же.
98 Голдобин А. Кино на территории СССР (по материалам провинциальной прессы). М., 1924.
99 Там же. С. 8.
Там же. С. 30.
101 Там же. С. 30—35.
192 Скородумов. Зритель. С. 55. Это произошло в 1925 г.
103 Пути кино. С. 49.
104 Moussinac. Le cinema. Р. 47—48.
105 Голдобин. Кино. С. 59.
108 Там же. С. 72.
107 Буров Я. Деревня на переломе (год работы в деревне). М.; Л., 1926. С. 81-82.
108 Голдобин. Кино. С. 67.
109 Там же.; Буров. Деревня. С. 81—82.
110 Пути кино. С. 50.
Лебедев. Внимание. С. 72—73. О типажах солдата, крестьянина, буржуя и нэпмана, Ленина, детства в первых советских фильмах см.: Barale Florence. Groups et classes sociales en Russe sovUtique de 1917—1925 — travers les films de 1 epoque / Cahiers du monde russe et sovietique 17.(1976). P. 249—266; см.: Ее же. Filmographie sovietique, 1917—1921. Ibid. P. 267—285.
112 Фельдман К. Проблемы тематического планирования агит-пропфильма / Пролетарское кино. 1931. № 7. С. 23—29.
113 Бубрик, Максимович. Киноредакции. С. 33. Дальнейшие цитаты взяты оттуда же.
Глава седьмая
1 Kenez. Birth; Он же. Cinema.
2 Анциферов Н. О методах и типах историко-культурных экскурсий. Петроград, 1923. С. 3. . .>
3 Там же. С. 4.
4 Там же. С. 5. i
5 Там же. С. 9—10. -Л
6 Там же. С. 10.
7 Там же. С. 12. >
8 Там же. С. 15.
9 Греве И. М. Природа экскурсионное™ и главные типы экскурсий в культуру / Экскурсии в культуру. Методический сборник. Сост. Он же. М., 1925. С. 10.
10 Там же. С. 10.
11 Там же. С. 11.
12 Там же.
13 Там же. С. 14—15.
14 Райков Б. Е. Методика и техника ведения экскурсии. М., 1924; Он же, Краснуха Э. Б. Внешкольные экскурсии. М., 1924; Васильковский Л. Для чего нужны естественно-исторические экскурсии / Спутник экскурсанта. № 8. 1926. С. 102—106. О школьных экскурсиях подробнее всего: На каждый день. Экскурсионный сборник городской школы I ступени. Сост. А. Я. Закс. М., 1928.
15 Райков Б. Е. Вступительное слово / Вопросы экскурсионного дела по данным Петроградской конференции 10—12 марта 1923 г. Сост. Он же. Петроград, 1923. С. 95.
16 Вопросы экскурсионного дела. С. 95.
17 Греве. Природа. С. 20.
18 Там же. С. 21.
19 Анциферов Н. П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. Л., 1926.
20 Там же. С. 24.
21 Романовская Н. В. Введение / Что нужно узнать в общественноисторических экскурсиях. Спутник экскурсанта. М., 1926. С. 5—15.
22 Гастев. Новая культурная установка. С. 15.
23 Там же. С. 16.
24 Молянский И. И. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах. Экскурсионная секция и экскурсионные станции / Экскурсионное дело. № 1. 1921. С. 1—20.
25 Гейнике Н. А. Культурно-исторические экскурсии. Основные вопросы методологии и методики культурно-исторических экскурсий / Культурно-исторические экскурсии (Москва. Московский музей, Подмосковье) / Под ред. Н. А. Гейнике. М., 1923. С. 1—42.
26 Там же. С. 4. По вопросам изменения учебного плана второй ступени см.: Russian Schools and Unversties in the World War / Сост. Paul. N. Ignatiev (“Economic and Social History of the World War). New Haven, 1929. P. 111.
27 Назаров M. И. Указатель книг и статей по выставочному, музейному, экскурсионному делу и родиноведению. М., 1919.
28 Молянский. Опыт. С. 3—4.
29 Там же. С. 2—5.
30 Экскурсионная хроника / Экскурсионное дело. № 1. 1921. С. 107-112.
31 Молянский. Опыт. С. 6—13.
32 Экскурсионная хроника / Экскурсионное дело. № 1. 1921. С. 110.
а 33 Анциферов. О методах. С. 3; Он же. Теория. С. 6.
34 Анциферов. О методах. С. 3.
35 Дерюгин К. М. Петергофская экскурсионная станция / Экскурсионное дело. № 1. 1921. С. 94—106.
36 Gorzka. Arbeiterkultur. S. 131—147.
37 Экскурсионная хроника / Экскурсионное дело. № 2, 3. 1922. С. 183-213.
38 Экскурсионное дело. № 2, 3. 1922. С. 184.
39 Экскурсионная хроника / Экскурсионное дело. № 4—6. 1922. С. 251-287, зд. С. 255.
40 Ангерт Д. Н„ Райков Б. Е. Экскурсионный метод в просветительной работе. М.; Петроград, 1923. В этой работе кратко изложено содержание конференции; более подробный отчет о ней представлен в журнале «Вопросы экскурсионного дела».
41 Вопросы экскурсионного дела. С. 93—94.
42 Там же. С. 120.
43 Греве И. М. Библиографическая справка по экскурсиям в культуру / Экскурсии в культуру. С. 189—204.
44 Экскурсионная литература. Сост. Центральное бюро краеведения. Экскурсионное бюро. Л., 1927.
45 Осипова Е. Н. Экскурсионно-методическая литература. Краткий библиографический указатель. Казань, 1927.
46 Доктуровский В. С. Экскурсия на торфное болото / Экскурсионное дело. № 1. 1921. С. 69—83; Дмитриев В. В. О технических экскурсиях / Экскурсионное дело. № 1. 1921. С. 179—182.; Экскурсии по физике / Сб. статей. Сост. Г. Л. Абкин. М., 1927. В нем представлены, в частности, статьи по проведению экскурсий в сельскохозяйственную (Тимирязевскую) Академию, к резервуарам питьевой воды, по водопроводу и канализации, на механический завод, в авторемонтную мастерскую, в железнодорожное и локомотивное депо Белорусского вокзала Москвы, по освещению города, а также по трамвайной экскурсии по городу с комментариями; Лобанов В. П. Обществоведческие экскурсии. М., 1925 — экскурсия на обувную фабрику, в совхоз, на водяную мельницу, сыроваренный завод, в кооператив, на ткацкую фабрику, мясокомбинат, сельскохозяйственный базар, а также железнодорожные и речные экскурсии; Петров А. А. Массовые экскурсии. М., 1924 (2 изд. 1925); Массовые экскурсии являются, в некотором роде, предварительной ступенью поездок по сложным темам с меньшим количеством участников. Коленкин А., Зимин Н. Дальние экскурсии. Опыт массовой работы Центрального музейноэкскурсионного института и Института методов внешкольной работы Наркомпроса. М., 1927, содержит рекомендации по проведению экскурсий в отдаленные районы (Крым, Поволжье, Кавказ и т. д.); см. также соотв. библиографию в прим. 44—46.
47 Анциферов Н. Экскурсии по экономическому и социальному быту городов / Экскурсии в культуру. С. 33—55.
48 Там же. Греве И. М. Монументальный город и исторические экскурсии / Экскурсионное дело. № 1. 1921. С. 21—34; Анциферов. О методах. С. 22—25; Он же. Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода. Л., 1926; Экскурсии в современность / Сост. Кузнецов Н. А., Ползикова-Рубец К. Б. Л., 1925, содержит сочинения различных авторов, в частности, Анциферова, о проведении таких экскурсий по Ленинграду, как «наша улица», «большая улица нашего города», по рабочим кварталам, Ленинграду как научному центру, в общественную столовую и на трикотажную фабрику; Райков, Краснуха. Внешкольные экскурсии.
Глава восьмая
.1
'Греве. Природа. С. 29—31.
2 Анциферов. Теория. С. 82.
3 Верн В. Октябрьские дни в Москве (Опыт построения обществоведческой экскурсионной работы) / Вестник просвещения. № 10. 1924. С. 74—79, описание экскурсии в героический период молодой советской истории со скрытой в нем попыткой насаждения исторических идеалов, советской интерпретации новейшей истории; Романовская. Введение; Она же. Историко-революционные экскурсии. Музей революции / Что можно узнать. С. 26—52; Левидо-ва С. М. Экскурсия на тему от Февраля к Октябрю. Таврический дворец и Смольный. Л., 1926; Спутник экскурсанта. Известия Ленинградской Центральной экскурсионной базы № 5. 1926, показывает, что не остались без внимания и военные черты системы, так, например, сообщается об экскурсиях в Музей Военно-морского флота и Военно-химический музей; По революционной Москве (Историко-топографический справочник-путеводитель. М., 1926).
4 Якубовский Г. А. Экскурсии на историко-революционные темы / Экскурсии в культуру. С. 56—70, цит. 60. Какой-то его однофамилец (а может быть, и тот же самый автор) попытался воплотить теорию в практику: Якубовский А. «9-е января». Опыт экскурсии на революционную тему. Л., 1925.
5 Якубовский. Экскурсии. С.61.
6 Там же. С. 63.
7 Plaggenborg. Organisation. 1486—1492.
8 Гриневич К. Е. Бюллетень III Всероссийской конференции по-краеведению. 1927. № 4. С. 110.
9 Романов Н. И. Местные музеи и как их устраивать. М., 1919. С. 5.
10 Там же. С. 5—6.
11 Там же. С. 5. Курсив оригинала.
12 Там же. С. 109-110.
13 Там же. С. 6.
14 Там же. С. 7.
15 Там же. С. 17.
« 16 Там же. С. 9.
17 Там же. С. 10.
18 Там же. С. 13.
19 Там же. С. 42.
20 Там же. С. 52.
21 Грабарь И. Э. Для чего надо сохранять и собирать сокровища искусства и старины. М., 1919. С. 3. См. дебаты, возникшие по вопросу «Охранять или нет» (Известия ВЦИК. 1925. № 258); Сытин П. Надо ли охранять все старое? / Коммунистическое хозяйство. 1925. № 23. С. 47—51; Кнорре Э. Надо ли охранять все старое? / Там же. С. 51—52; Родин А. Ф. Деловая улица большого города. Производственно-краеведческий очерк Мясницкой улицы в Москве. М., 1926.
22 См. составленный им список потенциальных музейных эспо-натов. Грабарь. Для чего. С. 7—8.
23 Резолюции III Всероссийской конференции по краеведению (11 — 14 декабря 1927 г.). М., 1928. Московский краевед. Изд. Общество изучения Московской губернии. Вып. I—II. М., 1927. Главным редактором выпуска был известный этнограф М. Я. Феноменов.
24 Дульский 77. М. Роль музеев в охране памятников искусства, старины и народного быта / Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению. 1927. № 4. С. 113—114.
25 Краеведные учреждения и их работа / Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению. 1927. № 2, 3. С. 33—52. Последующие данные взяты оттуда же. См. также; Ионова О. В. Создание сети краеведческих музеев РСФСР в первые десять лет советской власти / История музейного дела в СССР. Сборник статей. М., 1957. С. 37—72. На 1 октября 1927 г. она приводит данные о существовании 288 краеведческих музеев на территории РСФСР. По организации музеев на Украине см.: Музейное строительство на Украине в годы советской власти. Научно-воспоминательный библиографический указатель. Киев, 1987; Омельченко Ю. А. История музейного строительства на Украине, 1917—1932 гг. (На материалах музеев исторического и краеведческого профиля). Автореф. дисс. Киев, 1972. Готовится к выходу новый труд по общим вопросам музейного дела в Советском Союзе в связи с другими вопросами. Обзор планирования см.: Методические материалы к советской музейной энциклопедии. М„ 1989. По поводу источников см.: Закс А. Б. Источники по истории музейного дела в СССР (1917—1941) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 6. М., 1968. С. 5—38.
28 До 1890 г. было организовано, в общей сложности, 34 музея, 21 — в период между 1891 и 1899 гг., 35 — в 1900—1916 гг. На нерусской территории до Октябрьской революции практически никаких начинаний в этом направлении не было. В пограничных областях между 1890 и 1899 гг. насчитывалось четыре музея, в 1917—1921 гг. к ним добавились еще десять. В последующие годы было зарегистрировано 14 новых музеев. Всего в России до революции насчитывалось 149 музеев (Романцева И. Г. Музейное дело. Л., 1983. С. 6).
27 Равикович Д. А. Организация музейного дела в годы восстановления народного хозяйства (1921—1925) / Очерки истории музейного дела. Вып. 6. С. 97—145, зд. С. 99.
28 Там же. С. 129.
29 Краеведные учреждения. С. 34 и 42. По данным от 486 организаций в них насчитывалось 27 495 сотрудников, в некоторых работало от И до 50 человек, в 15 из них было свыше 200 сотрудников (Там же. С. 34—35).
30 Гейнике Н. А., Елагин Н. С., Зимин Н. П., Соловьев К. А. Книга краеведа. М., 1927. С. 7.
31 Размустова Т. О. Изучение истории края Воронежским музеем в первое десятилетие советской власти / Музееведение. Из истории охраны и использования культурного наследия в РСФСР. Сборник научных трудов. М., 1987. С. 138—154.
32 Тагличева Н. Н. Краеведческое движение и становление музейного дела на Урале (1924—1936 гг.) / Музееведение. С. 155—173.
33 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 50. М., 1965. С. 17. Очень живо пишет о проведении собирательской кампании Кончин Е. Эмиссары восемнадцатого года. М., 1981.
34 Декреты советской власти. Т. 3. М., 1964. С. 352—353.
35 Там же. С. 399—401; Жуков Ю. Н. Роль права в охране культурно-исторического наследия в первые годы советской власти / Советское государство и право. 1983. № И. С. 117—122; Он же. Сохраненные революцией. Охрана памятников истории и культуры в Москве в 1917—1921 гг. М., 1985, особо подчеркивает роль Луначарского в сохранении памятников искусства и его уход с поста наркома Народного просвещения 3 (16) ноября 1917 г. в знак протеста по поводу обстрела Московского Кремля войсками красных и грозящей ему опасности разрушения. В тот же день Луначарский поменял свое решение и объявил войну «иконоборцам».
36 Гарданов В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы советской власти (1917—1920) / История музейного дела в СССР. Сборник статей. М., 1957. С. 7—36. К примеру, в доме дворянской семьи Юсуповых в Петрограде было обнаружено на 70 пудов различных предметов из серебра и на 33 фунта золотых предметов, у Шереметьевых — более чем на 7 пудов золотых предметов и на 44 пуда серебряных.
37 Имеется в иду конфискация ценных предметов церковного культа.
38 ОГА РСФСР. 2306. Соч. 28, 144, 1.1; Полякова М. А. Из истории охраны и пропаганды культурного наследия в первые годы советской власти / Музееведение. С. 11—24.
39 Закс А. Б. Первая Всероссийская конференция по делам музеев. Февраль 1919 г. (По материалам отдела письменных источников Исторического музея) / Актуальные вопросы изучения фондов музея по истории советского общества. М., 1982 (=Труды государственного ордена Ленина Исторического музея. Вып. 55). С. 149— 157. Историк и сотрудник Румянцевского музея Готье назвал эту конференцию «такой же ненужной, как и остальные мероприятия наших дней» (см.: Time of Troubles. The Dairy of lurii Vladimirovich Gotye / Сост. Terence Emmons. London, 1988. P. 244).
40 Цит. по: Закс. Первая Всероссийская конференция. С. 156.
41 Цит. по: Зенк Е. М. Научно-просветительная работа художественных музеев РСФСР в первые годы советской власти (1917— 1923 гг). Автор, дисс. М., 1971. С. 3.
42 Ятманов Г. Деятельность Петроградского отдела музеев по охране памятников искусства и старины и музейному строительству / Музей. № 1. 1923. С. 1—12; Тройницкий С.Н. Основы строительства гуманитарных музеев / Музей. № 1. 1923. С. 18—23; Романовская Н. В. Основные принципы построения историко-просветительных отделов в краевых музеях / Бюллетень III Всероссийской конференции по краеведению. 1927. № 4. С. 114—117; Кононов Ю. Ф., Чевролина В. М. Мемориальные музеи, посвященные деятелям науки и культуры СССР (1917—1956 гг.) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 5. М., 1963. С. 119—188.
43 Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. Харьков, 1919, зд. С. 39—43.
44 Там же. С. 74.
45 Равикович. Организация. С. 98.
46 См.: ЦГАОР 2307, 3, 54, 1.2. Организационное устройство в нашем случае дальнейшего интереса не представляет.
47 Ятманов Г. Задачи «Музея» / Музей. Ns 1 (1923), № 1. С. I— IV.
48 Равикович. Организация. С. 101 и 102.
49 Равикович Д. А. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917—1967 гг.) / Труды научно-исследовательского института Музееведения и охраны памятников истории и культуры. Вып. 22. М„ 1970. С. 3-127, зд. С. 14.
м Письмо Луначарского на имя председателя Петроградской губернской музейной конференции академика С. Ф. Ольденбурга / Музей. № 1. 1923. С. 60. Письмо датировано 26 июня 1923 г.
51 Ионова О. В. Музейное строительство в первые годы довоенных пятилеток (1928—1941 гг.) / Очерки истории музейного дела в СССР. Вып 9. М„ 1963. С. 84-118, зд. С. 85.
52 Там же. С. 85.
53 Там же. С. 90.
54 Равикович. Организация. С. 132; Закс А. Б. Музей исторического профиля в 1917—1934 гг. / История СССР. 1962. № 5. С. 163—170, зд. С. 165.
55 Мицкевич С. Музей революции Союза ССР / Музей революции Союза ССР. Сборник. М., 1927. С. 5—13, зд. С. 5.
56 Лейкина-Свирская В. П. Из истории Ленинградского музея революции / Очерки истории музейного дела в России. Вып. 3. М., 1961. С. 55—78; Хакимулина О. Н. Партийное руководство организацией и деятельностью музеев в период построения социализма. На материалах историко-революционных музеев северо-запада СССР. Автор, дисс. Л., 1983.
57 Виноградов Н. Д. Воспоминания о монументальной пропаганде в Москве / Искусство. 1939. № 1. С. 32—49.
58 Известия ВЦИК. № 163. 2 авг. 1918 г.
59 Равикович. Охрана. С. 32.
60 Монументальное искусство СССР. Сост. В. 77. Толстой и Б. А. Белан. М., 1978 датирует фактическое начало строительства мавзолея Ленина, 1924—1927 гг.
61 Stites. Revolutionary Dreams. Р. 90; Он же. Iconoclastic Currents in the Russian Revolution: Destroying and Perserving the Past / Bolshevik Culture. P. 1—24, зд. P. 11—16.
82 Рафиенко E. H. Историко-революционные музеи и историческая наука в 1920-е гг. / Музееведение. С. 79—103, зд. С. 83.
63 Лейкина -Свирская. Из истории. С. 59.
6 ,1 Рафиенко Е. Н. Историко-революционные музеи. С. 80—83.
65 Там же. С. 86—89.
68 Мицкевич. Музей революции; Путеводитель по музею революции. Сост. Он же. М., 1927, по вопросу работы в 20-х годах.
67 Рафиенко. Историко-революционные музеи. С. 96—97.
68 Закс А. Б. Из истории Государственного музея революции СССР (1924—1934 гг.) / Очерки музейного дела. Вып. 9. С. 5—83, зд. С. 10-14.
69 Рафиенко. Историко-революционные музеи. С. 84.
70 Там же; Лейкина-Свирская. Из истории; Закс (Из истории), говорит о наличии 39 музеев; Хакимулина. Партийное руководство. С. 11, говорит о существовании в двадцатых годах 50 музеев. С 1926 г. все они перешли в подчинение Истпарта.
71 С этой же целью была организована выставка к 25-й годовщине второго съезда РСДРП, Юбилейная выставка, посвященная 25-летию второго съезда РСДРП. Руководитель. М., 1928.
72 Равикович. Охрана. С. 49—52.
73 Закс. Из истории. С. 22.
7 ,1 Хакимулина. Партийное руководство. С. 12.
75 Романовская. Основные принципы. С. 114. Автор была сотрудницей Центрального музея революции в Москве.
76 Там же. С. 114.
77 Там же. С. 115.
78 Шульгина Н. И. Формирование и развитие комплекса ленинских музеев Ленинграда и Ленинградской области / Музееведение. С. 104-123.
79 Петров Ф. Н. Задачи музейной работы в социалистическом строительстве / Научный работник. 1928. № 4. С. 8—16.
80 Там же. С. 9.
81 Всем край-, обл- и губномузеям государственной и местной сети, имеющим историко-революционные отделы. Об учете историко-революционных памятников (№ 50/001 от 23.05.1928 г.) / Еженедельник Народного комиссариата просвещения РСФСР. 1928. № 23. С. 25—26.
82 О музейном строительстве в СССР. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 г. / В помощь работнику музея. Законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительству / Под ред. А. Б. Гиленсон. М., 1936. С. 7—8. Насколько политика начала сказываться на работе музеев уже в двадцатые годы, см.: Time of Troubles, напр. С. 401, 404, 406—407 и др.
83 Этот аспект подчеркивается еще раз в циркуляре Наркомата просвещения № 50201/24 от 20 мая 1930 г. О работе музеев по изучению, выявлению и пропаганде нового социалистического быта / В помощь работнику музея. С. 10—12.
84 Ионова. Музейное строительство. С. 87—88.
85 Там же. С. 90—91; Дегтяева Р. В. Роль Первого Всероссийского музейного съезда в становлении историко-революционных музеев в СССР // Вестник Ленинградского университета. 1977. №8. С. 141-144.
86 О задаче «Советского музея» / Советский музей. 1931. № 1. С. 3—6, цит. 5.
87 Там же. С. 5; Дружинин Н. М. Классовая борьба как предмет экспозиции историко-революционного музея. / Советский музей. 1931. № 1. С. 32-49.
88 Рабинович. Охрана. С. 68. Образец музейной концепции в полном соответствии с требованиями режима см.: Костенко Г. Итоги июньского пленума ЦК ВКП(б) и задачи музейной работы / Советский музей. 1931. № 4. С. 3—8; Verbickij V. Les idees leninistes du progres historique et les musees / Le Concil international des musees. La Conference du Comite des Musees d’ Archeologie et d’Histoir, 9—8 septembre 1970. Leningrad—Moscou. Rapports, 7, «свидетельствует» о гениальности Ленина, проявленной им в деле музейного строительства.
89 Постановление Коллегии Наркомпроса об антирелигиозном музейном строительстве от 13 ноября 1931 г. / Сборник постановлений по музейному строительству РСФСР, 1931 —1934 гг. М., 1934. С. 18—19; Метанев С. К вопросу об антирелигиозной пропаганде в Музее революции / Музей революции СССР. Пятый сборник статей. М., 1933. С. 39—47; Вороницкая М. Опыт антирелигиозной работы Биомузея им. К. А. Тимирязева. / Советский музей. 1931. № 1. С. 104—107, пишет о проведении антирелигиозной пропаганды с опорой на естественнонаучные объекты.
90 Андреева М. С. Вопросы научно-просветительной деятельности музеев в журнале «Советский музей» в 30-е гг. / Музееведение. С. 192-206.
91 О проведении реэкспозиции музеев. Циркуляр НКП (Народный комиссариат просвещения) РСФСР от 17 января 1933 г. № 100 / В помощь работнику музея. С. 12—14; Ионова. Музейное строительство. С. 92—93; Лейкина-Свирская. Из истории. С. 69—70.
92 Сталь Л. Политическая роль музеев революции и Всесоюзное общество друзей музеев революции / Музей революции СССР. Пятый сборник статей. М., 1933. С. 10—17.
93 Лейкина-Свирская. Из истории. С. 70.
94 Ионова. Музейное строительство. С. 95.
95 Демина Л. И. Журнал «Советский музей» как источник по истории музейного строительства / Музееведение. С. 174—191.
96 Тагличева. Краеведческое движение. С. 169—173.
97 Хакимулина. Партийное руководство. С. 15.
96 Андреева. Вопросы. С. 204. w
99 Сталь. Политическая роль. С. 14—15. Посетители стали теперь еще и объектами изучения, см.: Розенталь Л. Как вести изучение музейного зрителя / Советский музей. 1931. № 2; Глаголев В. Изучение музейного зрителя на историко-революционном материале (опыт работы по применению метода объективного наблюдения к изучению одиночек в Музее революции СССР, 1931 —1932 гг.) / Музей революции СССР. Пятый сборник статей. М., 1933. С. 109-126.
100 Ятманов. Деятельность. С. 10—11.
Глава девятая
1 Mirbt Rudolf. Sowjetrussische Reiseeindriicke. Munchen, 1932. S. 50.
2 Ibid. S. 50.
3 Stites. Revolutionary Dreams. P. 80; Bojko Szimon. Agit-Prop Art: The Streets Were Their Theater / The Avant-Garde in Russia, 1920— 1930. New Perspektives / Под ред. Stephanie Barron и Maurice Tuchman. Cambridge, Mass., 1980. P. 72—77.
4 До сих пор непревзойден в исследовании дореволюционного периода Пропп В. Я:. Русские аграрные праздники (опыт историкоэтнографического исследования). Л., 1963 (франц, изд. Propp V.Ja. Les fetes agraries russes. Paris, 1987).
5 Цит. no: Bourdiex Pierre. Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt/M., 1970. В этой связи подразумевается не обаяние как одна из форм легитимации власти в духе Макса Вебера. Главное отличие состоит в том, что Вебер видит в обаянии источник и начало власти, которыми обладает она и только она, тогда как капитал символов является тем связующим звеном, которое соединяет общество и его власть в единое целое.
6 Hastings Michel. Identity culture! locale et politique festive communiste: Halluin la Rouge 1920—1934 / Le movement sociale. № 139 (1987). P. 5-7.
7 Geldem James von. Bolshevik Festivals, 1917—1920. Berkeley и др., 1993, впечатляет обилием материала. Автор пишет не только о советских праздниках, но и — что негативно отражается на его исследовании — пытается выстроить теорию праздников, опираясь на отдельные примеры, однако не на основании убедительных аргументов. Он очень вольно обращается с понятиями (миф и мифы, утопия и миф, культура) и языком (часто утверждая, вместо того, чтобы доказывать), вследствие чего многое остается неясным. Главный недостаток работы Гелдерна заключается в том, что он недостаточно внимательно «прочитывает» ранние советские праздники, не дает исчерпывающей интерпретации их символического содержания и, прежде всего, не видит в них утверждения авторитарной концепции культуры. Несмотря на наличие подтверждаемой источниками того времени связи с праздниками Французской буржуазной революции, возникает вопрос о том, в самом ли деле советские праздники повлияли на превращение Советского Союза в авторитарное, военизированное и централистское государство. Стайтс в главе на ту же
тему «Праздники народа» пишет и о революционных праздниках в первые годы советской власти, и о «Красном календаре», н об описании Луначарским первомайского праздника 1918 г., и о создании символов нового режима, и о монументальной пропаганде, и о массовых инсценировках и о карнавале, т. е. обо всем понемногу. Но позволим себе усомниться в том, что все это можно считать одновременно культурой народа. Стайтс слишком некритично относится к источникам, принимая их за чистую монету и верит всему, что в них написано. Прежде всего ему недостает ясной интерпретации перечисленных пунктов, которая пришлась бы как нельзя кстати, учитывая, что он не проводит различий между инсценировками режима, спонтанной акцией и народной культурой, наверняка сознавая всю сложность проблемы. Политическому карнавалу как таковому он посвящает всего одну страницу, а недостаток субстанции он заменяет экскурсом в теорию. Описывая, как обстояло дело с политическими формами празднеств «в действительности», Стайтс довольствуется упоминанием советского структуралиста Михаила Бахтина и цитатами из его произведения на тему карнавала, являющегося, кстати, единственной теорией, используемой Стайтсом. Это приводит к тому, что он проходит мимо многих проблем: Stites. Revolutionary Dreams. Р. 79—100; Он же. Festival and Revolution: The Role of Public Spectacle in Russia, 1917—1918 / Essays on Revolutionary Culture and Stalinism. Сост. John IT. Strong. Columbus; Ohio, 1990. P. 9—28; Он же. The Origins of Soviet Ritual Style: Symbols of Power. The Esthetics of Political Legitimation in the Soviet Union and Eastern Europe / Сост. Claes Arvidsson и Lars Erik Blomquist. Stokholm, 1987. P. 23—42; Он же. Iconoclastic Currents; Gorzka. Arbeiterkultur. S. 341—345, подходит ближе к делу, говоря — с опорой на источники того времени — о «театрализации» политической жизни и, цитируя Фюлепа-Миллера, подчеркивает высокий уровень спонтанности первых лет. Однако в то время инсценировки давно уже имели политическую подоплеку. У Me Dowell Jennifer. Soviet Civil Ceremonies / Journal for the Scientific Study of Religion. 13 (1974). P. 265—279 встречается меньше аналитических моментов. Отрицательную оценку советским праздникам дает Sadomskaja Natalya (Soviet Antropology and Contemporary Rituals / Cahiers du monde russe et sovietique. 31 (1990). P. 245—253).
8 Массовые празднества. Сборник Комитета изучения искусств. Л., 1926. С. 84. На 1921 г. обнаруживаются несоответствия между приведенной схемой и текстом. См. комментарии, приведенные ниже.
9 См. описание: Луначарский А. Первый первомайский праздник после победы / Красная нива. 1926. № 18. С. 8; Мазаев А. И. Праздник как социально-художественное явление. М., 1978. С. 245—253; Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств / Сост. В. 77. Толстой. М., 1984. С. 44—56 (здесь тоже приводятся обе статьи Луначарского в сокращении); Geldem James von. Bolshevik Festivals. P. 86-93.
10 Проект революционных торжеств / Вестник театра. 1919. № 19. С. 5—6, цит. 6.
“ Проект празднования 1 мая / Вестник театра. 1919. № 22. С. 3.
12 Там же.
13 Проект первомайских торжеств / Агитационно-массовое искусство. С. 87-88.
14 Там же.
15 Проект празднования 1 мая.
16 Организация массовых народных празднеств. М., 1921. С. 12.
17 Там же, курсив автора.
18 Диспут о «массовом действии» / Вестник театра. 1920. № 49. С. 5—6, цит. 6.
19 Луначарский А. О народных празднествах / Организация массовых народных празднеств. С. 3—6, цит. 4.
20 Там же. С. 4.
21 Hastings. Identite. Р. 18.
22 Луначарский. О народных празднествах. С. 5.
23 Диспут о «массовом действии». С. 6.
24 Там же.
25 К первомайским празднествам / Вестник театра. 1920. № 49. С. 7.
26 Революционные праздники в библиотеке / Сост. Н. К. Крупская. М„ 1923; Мавроган А. Празднование седьмой годовщины Октябрьской революции в деревне / Вестник агитации. 1924. № 10. С. 109—137; Корее С. Вечер годовщины Октябрьской революции в клубе / Октябрь. (Сборник пособий для проведения праздника Октябрьской революции в рабочих клубах). Под ред. Э. П. Шагалино-вой. М., 1924. С. 5—18; Пролетарские праздники в рабочих клубах (январь—март) / Под ред. Н. К. Крупской. М., 1923, произведение содержит рекомендации по проведению дня памяти «Кровавого воскресенья», Международного женского дня, годовщины Февральской революции и Дня Парижской коммуны.
27 Как праздновать «Октябрь». Пособие для городских политработников / Под ред. М. Бескина. М.; Л., 1925. С. 46.
28 Мазаев. Праздник. С. 256; Stites. Revolutionary Dreams. Р. 92, 100.
29 Массовые празднества. Сборник Комитета социологического исследования искусств. Л., 1926. С. 56.
30 Там же. С. 57—58.
31 Проект первомайских торжеств. ‘5.
1 32 Массовые празднества. С. 61. .и.
1 33 Там же. С. 64.
I 34 Там же. С. 88.
35 Там же. С. 65—66.
36 О празднике 1 мая / Вестник агитации и пропаганды. 1921. № 9, 10. С. 69. Имеется в виду инструкция Отдела агитации и пропаганды при ЦК РКП(б).
37 Массовые празднества. С. 76.
38 Там же. Стайтс, зацикленный на идее утопизма праздников, упускает из виду это деликатное обстоятельство. См.: Stites. Revo
lutionary Dreams. P. 96. Присоединиться к его тенденциозным эйфоричным описаниям торжеств, в том числе и данного праздника, трудно не только по этой причине. Сходный тон прослеживается и у Гелдерна: Geldem James von. Bolshevik Festivals.
39 Массовые празднества. С. 77; Geldem James von. Bolshevik Festivals.
40 Описание празднеств и репертуар см.: Организация массовых народных празднеств. С. 24—27; Массовые празднества. С. 55—84; Проект первомайских торжеств; Проект празднования 1 мая; План празднеств 1 мая.
41 Организация массовых празднеств. С. 24—25. Кстати, этот нереализованный план очень органично вписался бы в опус Стайтса на тему революционной утопии и ее мифов. К сожалению, он ускользнул от внимания автора. До реализации дело не дошло, поскольку секция, отвечающая за постановку массовых зрелищ, решила, что данная тема «чужда пролетарским массам и совсем не отражает ни их собственной идеологии, ни тенденций. <...> Первый пролетарский праздник должен сохранять чистоту своих идей и быть свободным от какого бы то ни было налета чуждых ему культов, мифов, библейских или христианских обычаев, в том числе и буржуазных торжеств Великой Французской буржуазной революции». План празднества 1 мая. С. 5.
42 Это многократно утверждает Стайтс: Stites. Revolutinary Dreams. Р. 83—100; а также Гелдерн: Geldem James von. Bolshevik Festivals.
43 Массовые празднества. С. 79.
44 Там же. С. 80.
45 Тьерсо Жюльене. Празднества и песни Французской революции. Петроград, 1918.
46 Народные празднества / Вестник театра. 1919. № 34. С. 3—4.
47 План празднества 1-го мая. С. 5.
48 Луначарский. О народных празднествах. С. 3.
49 Пролетарский праздник. М., 1903.
50 Массовые празднества. Некоторым проблемам изучения праздников, отмечавшихся после Октябрьской революции, посвящена работа Извекова (Извеков Н. П. Приемы изучения массового праздника / Проблемы социологии искусства. Сборник Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926. С. 130—138).
51 Массовые празднества. С. 7.
52 Рюмин Е. Массовые празднества. М.; Л., 1927.
53 Цехновицер О. Демонстрация и карнавал. К десятой годовщине Октябрьской революции. М., 1927. С. 8.
54 Там же. С. 14.
55 Там же.
56 Гусев С. О юбилейной литературе / Бюллетень Комиссии при Президиуме ЦИК Союза ССР по организации и проведению празднования 10-летия Октябрьской революции. 1927. № 1. С. 19—20, цитата 20.
57 Там же. С. 20—22.
11 Проект празднования 1 мая / Вестник театра. 1919. № 22. С. 3.
12 Там же.
13 Проект первомайских торжеств / Агитационно-массовое искусство. С. 87—88.
14 Там же.
15 Проект празднования 1 мая.
16 Организация массовых народных празднеств. М., 1921. С. 12.
17 Там же, курсив автора.
18 Диспут о «массовом действии» / Вестник театра. 1920. № 49. С. 5—6, цит. 6.
19 Луначарский А. О народных празднествах / Организация массовых народных празднеств. С. 3—6, цит. 4.
20 Там же. С. 4.
21 Hastings. Identity. Р. 18.
22 Луначарский. О народных празднествах. С. 5.
23 Диспут о «массовом действии». С. 6.
24 Там же.
25 К первомайским празднествам / Вестник театра. 1920. № 49. С. 7.
26 Революционные праздники в библиотеке / Сост. Н. К. Крупская. М., 1923; Мавроган А. Празднование седьмой годовщины Октябрьской революции в деревне / Вестник агитации. 1924. № 10. С. 109—137; Корее С. Вечер годовщины Октябрьской революции в клубе / Октябрь. (Сборник пособий для проведения праздника Октябрьской революции в рабочих клубах). Под ред. Э. П. Шагалино-вой. М., 1924. С. 5—18; Пролетарские праздники в рабочих клубах (январь—март) / Под ред. Н. К. Крупской. М., 1923, произведение содержит рекомендации по проведению дня памяти «Кровавого воскресенья», Международного женского дня, годовщины Февральской революции и Дня Парижской коммуны.
27 Как праздновать «Октябрь». Пособие для городских политработников / Под ред. М. Бескина. М.; Л., 1925. С. 46.
28 Мазаев. Праздник. С. 256; Stites. Revolutionary Dreams. Р. 92, 100.
29 Массовые празднества. Сборник Комитета социологического исследования искусств. Л., 1926. С. 56.
30 Там же. С. 57—58.
31 Проект первомайских торжеств.
1 32 Массовые празднества. С. 61. ,;а.
33 Там же. С. 64.
34 Там же. С. 88.
35 Там же. С. 65—66.
36 О празднике 1 мая / Вестник агитации и пропаганды. 1921. № 9, 10. С. 69. Имеется в виду инструкция Отдела агитации и пропаганды при ЦК РКП(б).
37 Массовые празднества. С. 76.
38 Там же. Стайтс, зацикленный на идее утопизма праздников, упускает из виду это деликатное обстоятельство. См.: Stites. Revo
lutionary Dreams. P. 96. Присоединиться к его тенденциозным эйфоричным описаниям торжеств, в том числе и данного праздника, трудно не только по этой причине. Сходный тон прослеживается и у Гелдерна: Geldem James von. Bolshevik Festivals.
39 Массовые празднества. С. 77; Geldem James von. Bolshevik Festivals.
40 Описание празднеств и репертуар см.: Организация массовых народных празднеств. С. 24—27; Массовые празднества. С. 55—84; Проект первомайских торжеств; Проект празднования 1 мая; План празднеств 1 мая.
41 Организация массовых празднеств. С. 24—25. Кстати, этот нереализованный план очень органично вписался бы в опус Стайтса на тему революционной утопии и ее мифов. К сожалению, он ускользнул от внимания автора. До реализации дело не дошло, поскольку секция, отвечающая за постановку массовых зрелищ, решила, что данная тема «чужда пролетарским массам и совсем не отражает ни их собственной идеологии, ни тенденций. <...> Первый пролетарский праздник должен сохранять чистоту своих идей и быть свободным от какого бы то ни было налета чуждых ему культов, мифов, библейских или христианских обычаев, в том числе и буржуазных торжеств Великой Французской буржуазной революции». План празднества 1 мая. С. 5.
42 Это многократно утверждает Стайтс: Stites. Revolutinary Dreams. Р. 83—100; а также Гелдерн: Geldem James von. Bolshevik Festivals.
43 Массовые празднества. С. 79.
44 Там же. С. 80.
45 Тьерсо Жюльене. Празднества и песни Французской революции. Петроград, 1918.
46 Народные празднества / Вестник театра. 1919. № 34. С. 3—4.
47 План празднества 1-го мая. С. 5.
48 Луначарский. О народных празднествах. С. 3.
49 Пролетарский праздник. М., 1903.
50 Массовые празднества. Некоторым проблемам изучения праздников, отмечавшихся после Октябрьской революции, посвящена работа Извекова (Извеков Н. П. Приемы изучения массового праздника / Проблемы социологии искусства. Сборник Комитета социологического изучения искусств. Л., 1926. С. 130—138).
51 Массовые празднества. С. 7.
52 Рюмин Е. Массовые празднества. М.; Л., 1927.
53 Цехновицер О. Демонстрация и карнавал. К десятой годовщине Октябрьской революции. М., 1927. С. 8.
54 Там же. С. 14.
55 Там же.
56 Гусев С. О юбилейной литературе / Бюллетень Комиссии при Президиуме ЦИК Союза ССР по организации и проведению празднования 10-летия Октябрьской революции. 1927. № 1. С. 19—20, цитата 20.
57 Там же. С. 20—22.
58 Циркуляр ЦИК СССР центральным, краевым, областньп^ губернским и окружным исполнительным комитетам / Бюллетене Комиссии. № 1. С. 3—5. и
59 Там же.
60 Там же. С. 8.
61 Там же. № 2. С. 10-24. •=»
62 Там же. № 3. С. 23.
63 Цехновицер О. Демонстрация. С. 20. Об «уроках» истории в «Октябрьские дни» упоминалось в главе, посвященной музеям и экскурсиям. Тенденции большевистской интерпретации истории наметились в них уже в 1924 г. (См.: Верн В. Октябрьские дни в Москве / Опыт построения обществоведческой экскурсионной работы / Вестник просвещения. 1924. № 10. С. 74—79).
64 Бюллетень Комиссии. № 3. С. 24; Альтман Вл. Празднование Октября на улице / Рабочим клубам к десятилетию Октября. М.; Л., 1927. С. 76—81; Данилевский М. Улица и площадь в октябрьские дни. Сценарии массовых действий и методика их проведения. М.;Л„ 1927.
65 Бюллетень Комиссии. № 1. С. 7; № 2. С. 25—26, 30, 35—41; № 3. С. 6, 23—28; Масленников Н. Празднование Октября в клубе / Рабочим клубам С. 49—71; Материалы по празднованию 10-й годовщины Октября в рабочем клубе, красном уголке и библиотеке. Вып. I—И. М., 1927. Во 2-м томе подробно описаны детали оформления помещений, включая плакаты; Данилевский М. Праздники общественного быта. Торжественное заседание, Октябрины, годовщины. Организация, методика, практика. М.; Л., 1927. Данная книга вышла в издательстве «Долой неграмотность». Она посвящается, прежде всего, rites de passages (обычаям старины).
66 Цехновицер. Демонстрация. С. 15—32.
67 Бюллетень Комиссии. № 2. С. 25; № 3. С. 6. Дальнейшие цитаты взяты оттуда же.
68 Бюллетень Комиссии. № 2. С. 25—26; Корее С. Основные моменты подготовки празднования // Рабочим клубам. С. 31.
69 Бюллетень Комиссии. № 2. С. 28.
70 Массовое действо. Руководство к организации и проведению празднования 10-летая Октября и других революционных празднеств / Под ред. Н. И. Подвойского и А. П. Орлинского. М.; Л., 1927. С. 3.
71 Бюллетень Комиссии. № 3. С. 6.
72 Корее. Основные моменты. С. 44; Массовое действо. С. 4.
73 Бюллетень Комиссии. № 1. С. 8. № 3. С. 6—10, цит. 9; Корее. Основные моменты. С. 37—38 и 44.
74 Бюллетень Комиссии. № 2. С. 30—32; № 3. С. 11.
75 Бюллетень Комиссии. № 4. С. 8—12.
76 Альтман. Празднование. С. 84.
н 77 Там же. С. 97.
78 Цехновицер. Демонстрация. С. 76—78.
79 Бюллетень Комиссии. № 3. С. 20—23.
80 Lunatscharski A. Der erste Mai 1918 / Schlaglichter. Erlebnisse und Gestalten auf meinem Wege. Berlin (DDR), 1986. S. 194—198.
81 Луначарский А. В. 1 мая 1930 года. М.; JL, 19ЭД. С. 7,
82 Там же. С. 8. '** > -
83 Там же. С. 23.
84 Там же. С. 25.
85 Там же. С. 27—28.
86 Bachtin М. Rabelias and his World. Cambridge etc., 1968.
87 Массовое действо. Революционный праздник планировалось отмечать на седьмой день.
। Заключение
1 Краткий обзор сегодняшних дебатов о мифах см.: Harth Diet-rich. Revolution und Mythos. Sieben Thesen zur Genesis und Geltung zweier Grundbegriffe historischen Denkens / Revolution und Mythoa. Под ред. Harth Dietrich и Jan Assman. Frankfurt/M., 1992. S. 9—35. Конкретно по Советскому Союзу см.: Beyme Klaus von. Die Okto-berrevolution und ihre Mythen in Ideologic und Kunst. S. 149—177. К сожалению, из статьи неясно, можно говорить о существовании мифов или нет.
2 Эта мысль почерпнута у: Lasky Melville J. Utopie und Revolution. Ober die Urspriinge einer Metapher oder Eine Geschichte des politischen Temperaments. Reinbeck, 1989. S. 65—111.
•Vt
5ГЛ
88
№ Л
61.! •иь>сх«1-чГ! !»*«.
лйяигкто;-еле '<"№€
II’1
? . лотка?: ’»u w.<
•i ..............
!l I.
••HllSir e»-->b»rv6<> 3it .-•R.l
il l J
;V‘ . i
i8t ’ли > ил и
iiPNlM'l .18 I ?;.1 iHdT. 'I'M-. ..CT
'УК
<.8t ............, ...........
dO(
•лг э ; м
j.
I
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к русскому изданию...........................5
Введение.................................................7
Часть первая. Реорганизация человека
Глава первая. Мнения.....................................29
Революция и культура (1917—1932)......................30
К дискурсу о революции и культуре.....................38
Трудовая культура.....................................57
Гольцман: Культура трудящегося человека..............................................68
Глава вторая. Тело Бесплотная культура?...................................75
Тело, армия и культура................................83
Трудовая культура и физическая культура...............93
Гигиенисты: нарком Семашко............................99
Спор о направлениях...................................102
Вырождение и «социалистическая» евгеника..............110
Часть вторая. Организация восприятия
Глава третья. Чтение Печатное слово......................................125
От дефицита к массовому выпуску литературы..........128
Проблемы книжного рынка.............................143
Избы-читальни, библиотеки и их посетители...........149
Глава четвертая. Слуховое восприятие: радиовещание Рупор революции.....................................165
«Радио лицом к деревне».............................175
Радиовещание на службе партии.......................181
Глава пятая. Зрительное восприятие I: статичные изображения
Всадник.............................................185
Герои и чудовища....................................189
Интерпретация плакатов с культурно-исторической точки зрения........................................199
Производство и распространение......................204
Глава шестая. Зрительное восприятие II: подвижные изображения
Инфраструктура кинематографа........................210
Политическое кино: кинохроника......................223
Зрители.............................................231
Глава седьмая. Познавательный процесс: экскурсии
Формирование мировоззрения посредством наглядности.........................................239
Экскурсии как инструмент усовершенствования человека.........................240
Практика экскурсий..................................247
Глава восьмая. Воспоминания: наглядная история Историческое значение настоящего....................255
Культура в музеях и музейная культура...............260
Ответная советская концепция........................273
Экскурс: о безысторичности монументальной пропаганды 1918 г....................274
Глава девятая. Впечатления: государственные праздники
Народная культура по поручению правительства..................................... 287
Первые послереволюционные праздники..................290
Первые работы по исследованию празднеств в Советской России..................................305
Десятая годовщина Октябрьской революции 1917 г........................310
Заключение.............................................322
Литература и источники.................................337
Комментарии............................................362
iM”' ю нП.
.OOOi'.i'iO.r'' ногщтн&.шлне хл д ."•« я оисэнгщи! J -внгкк]о <пт,»-»Ч ЛТЭ uti'iti'l ..дХ* 88хОЭ гдмцоФ
VM>S .ЛйС 908 Жвфгг P'il'T .шгегоэфи L
нг-.'гимгопвнд Хл
НИ <./.усН»' ммф|л ,ч
it .sc.uit; к-6 ,iqv-