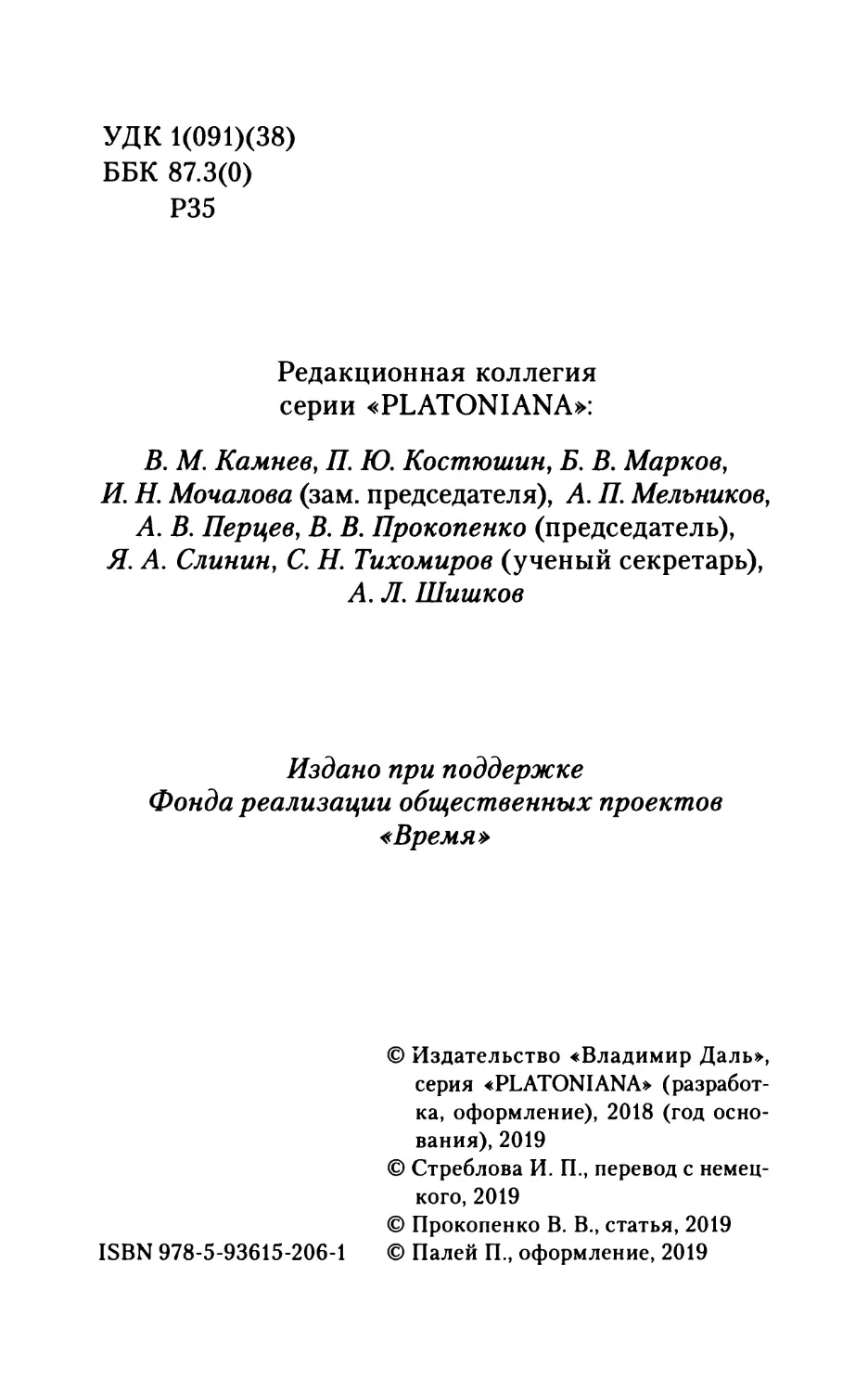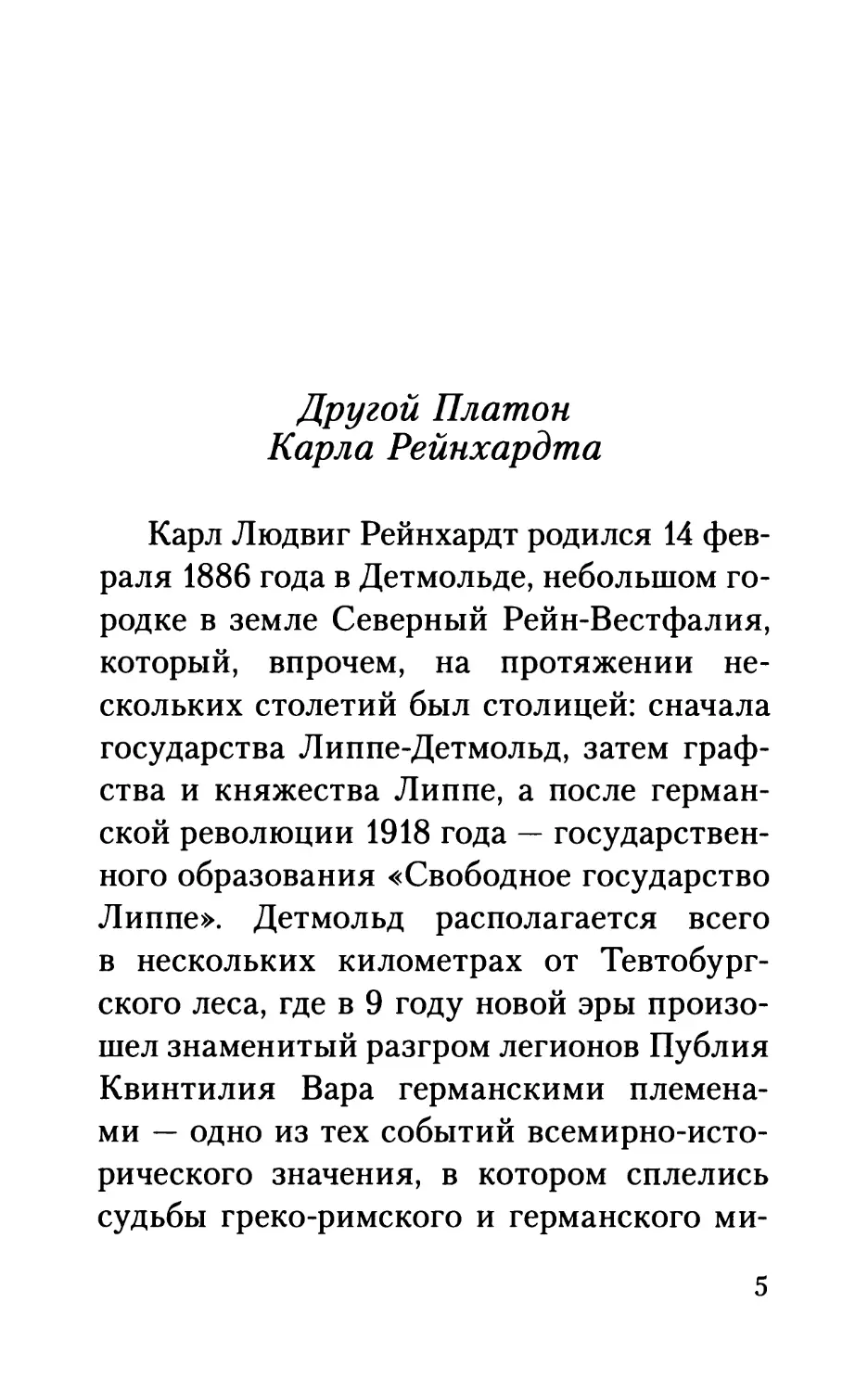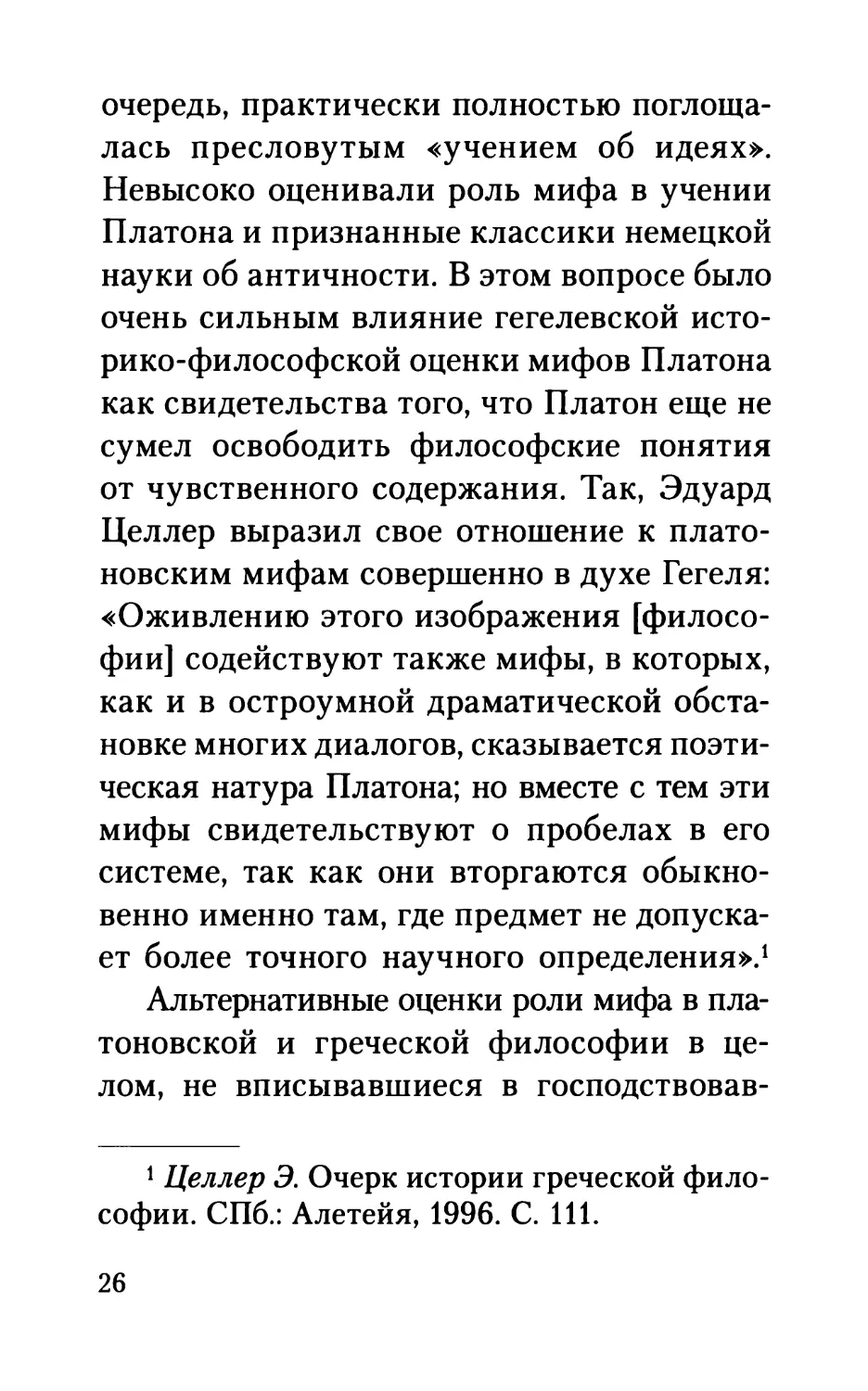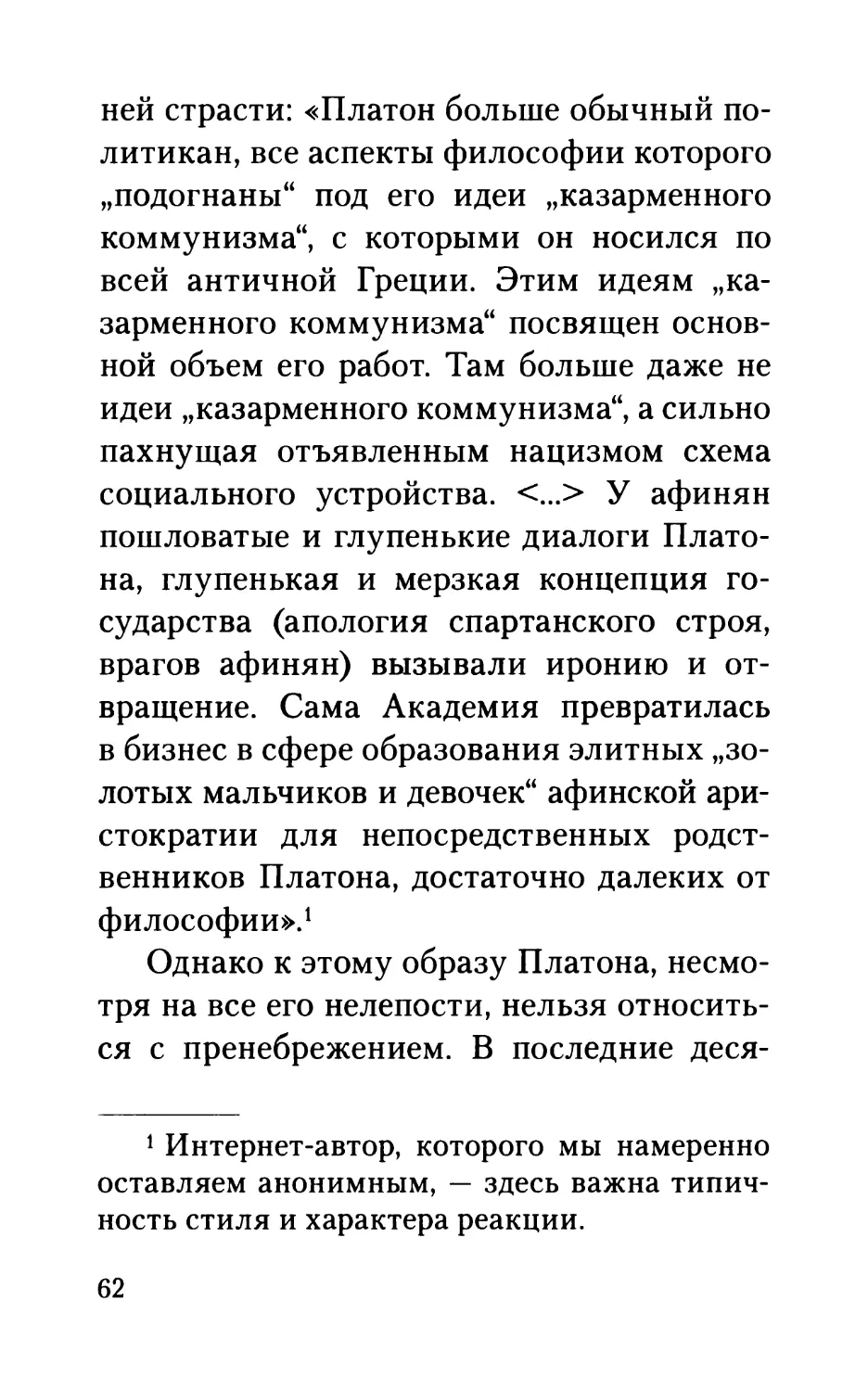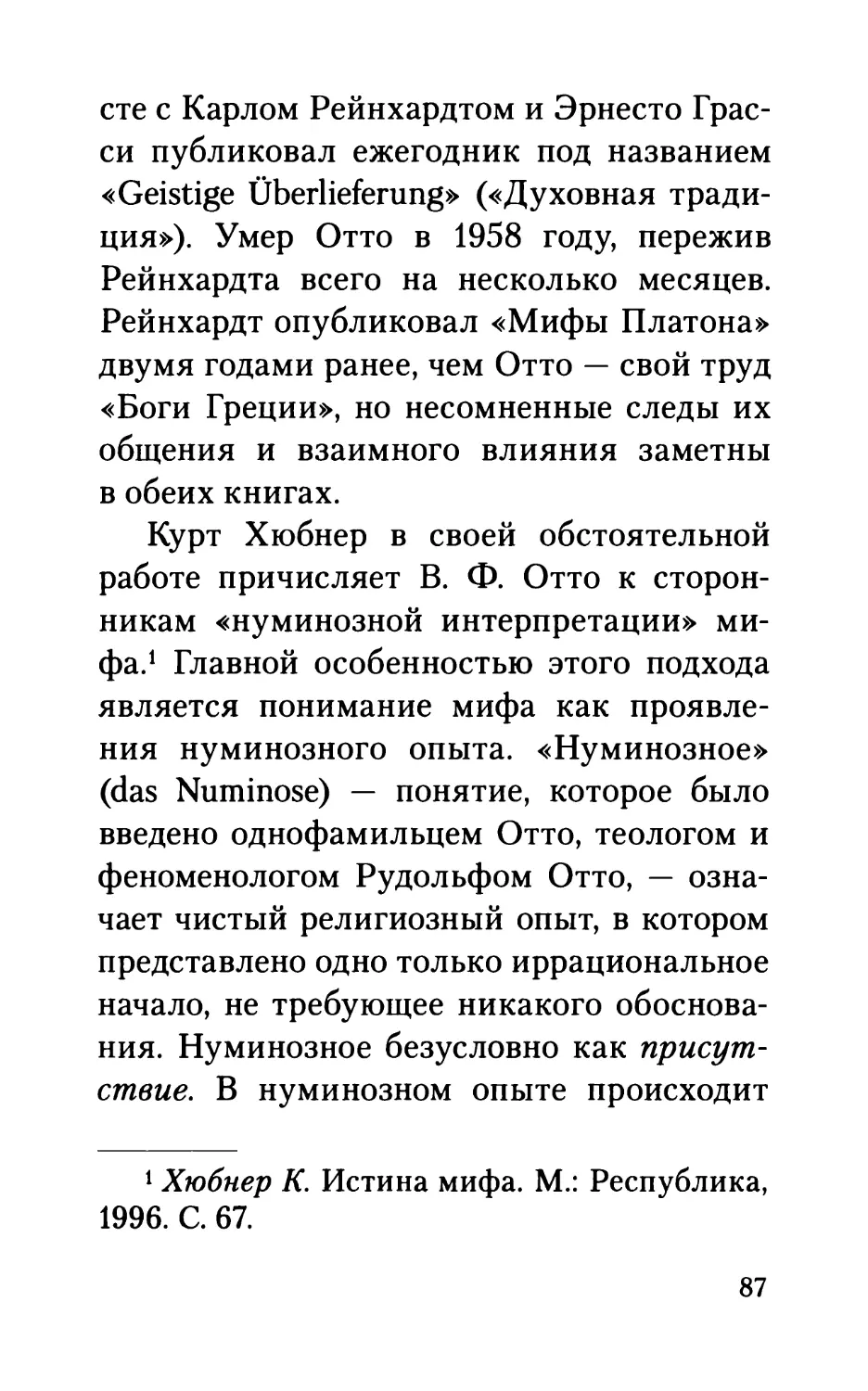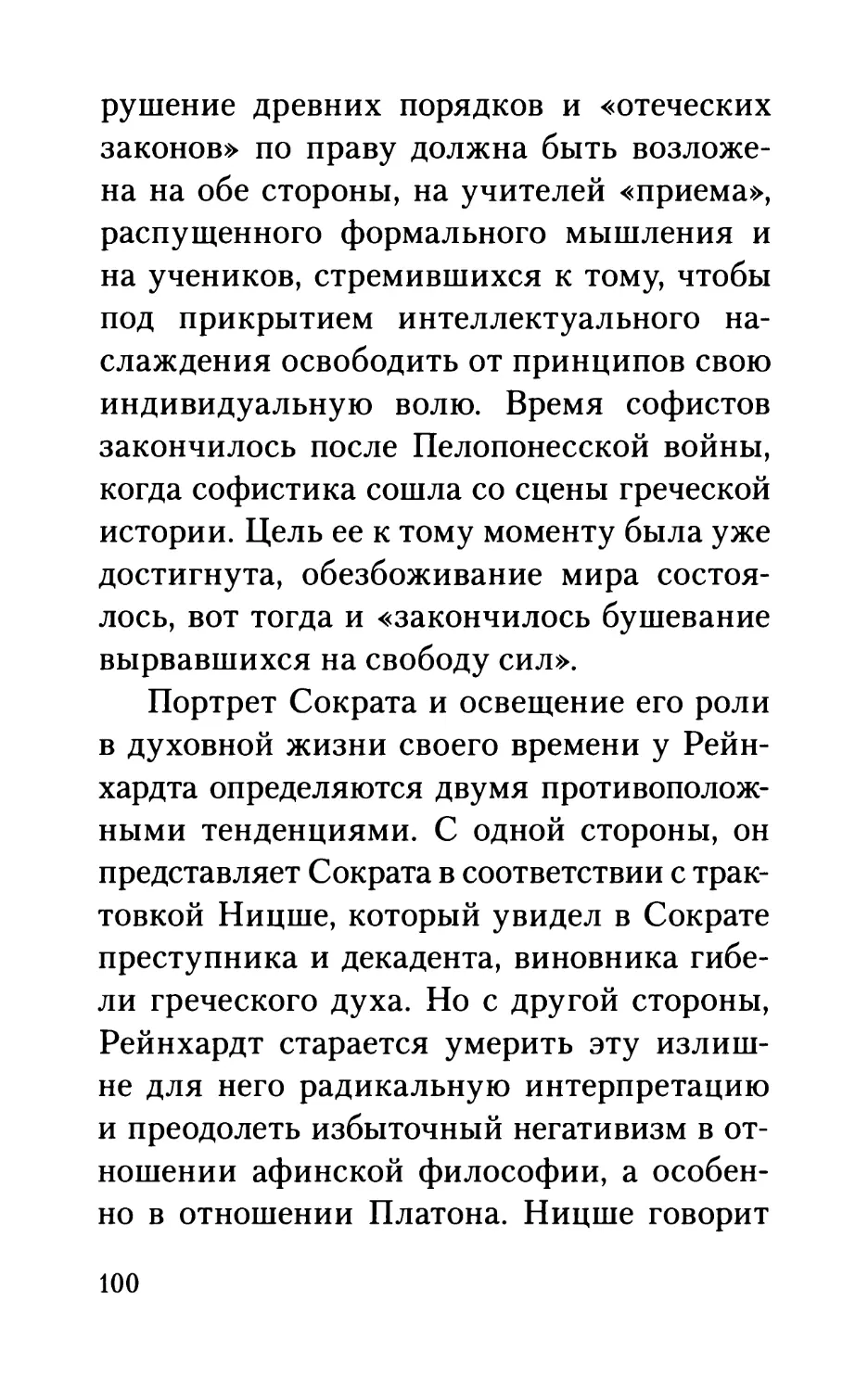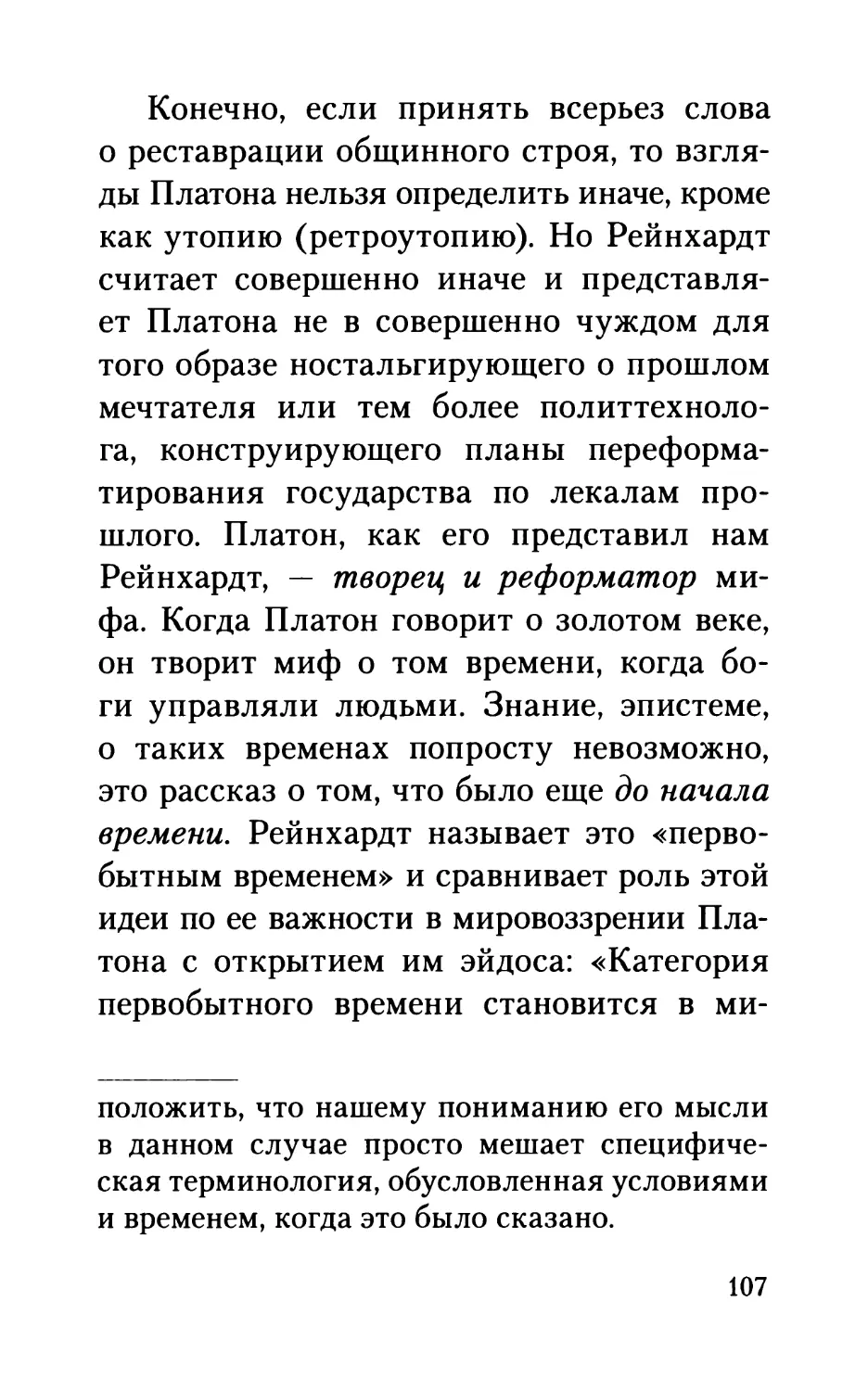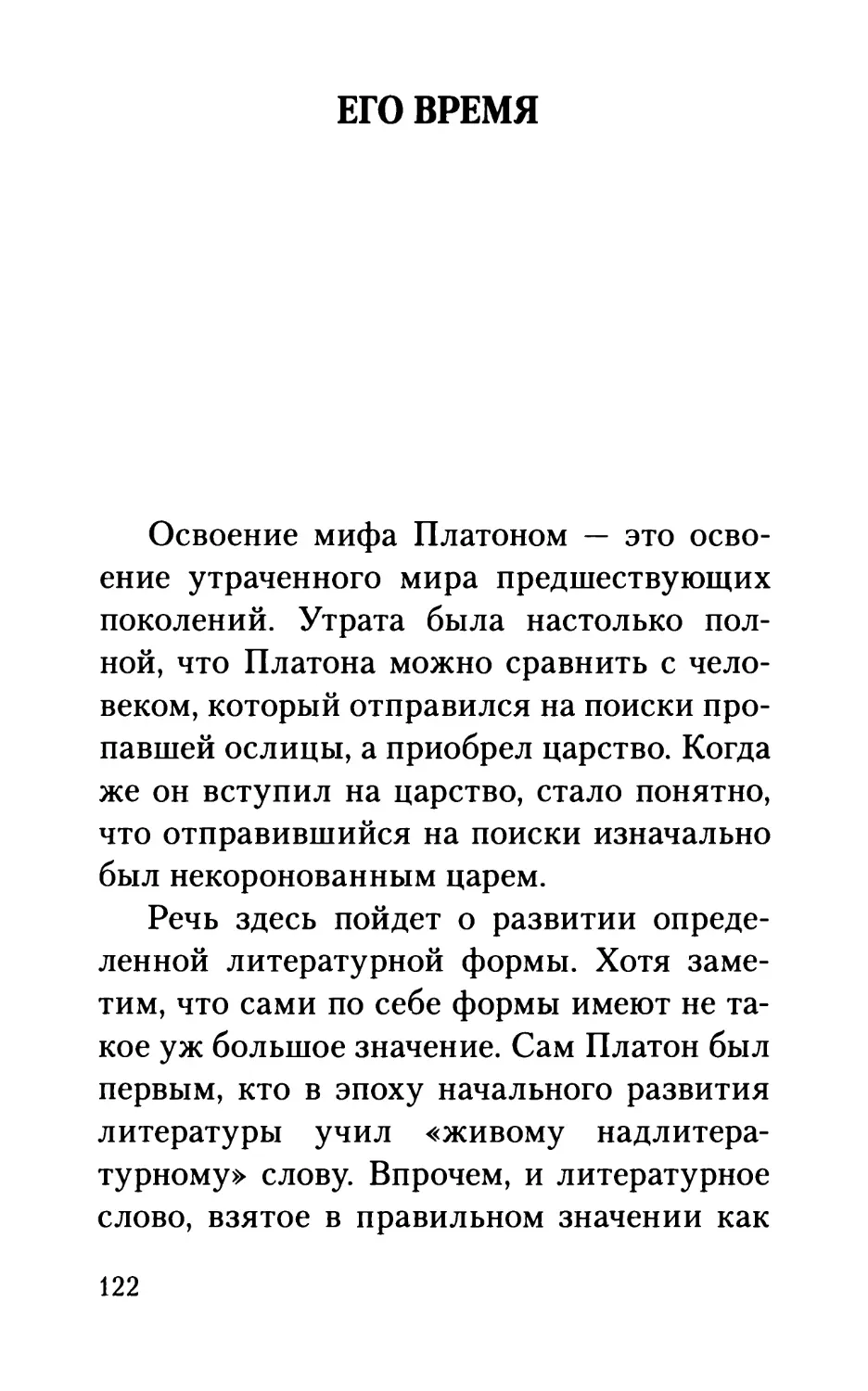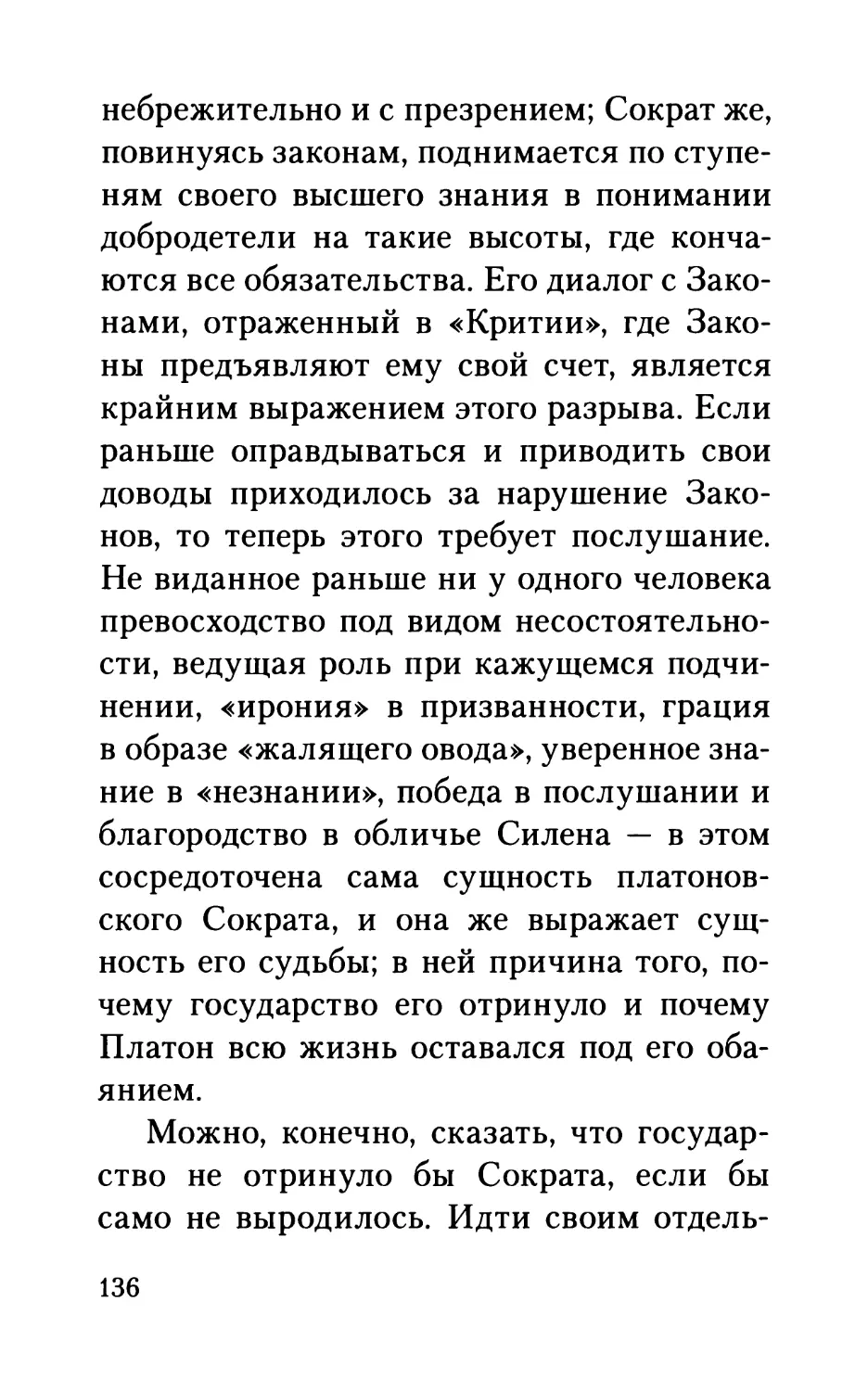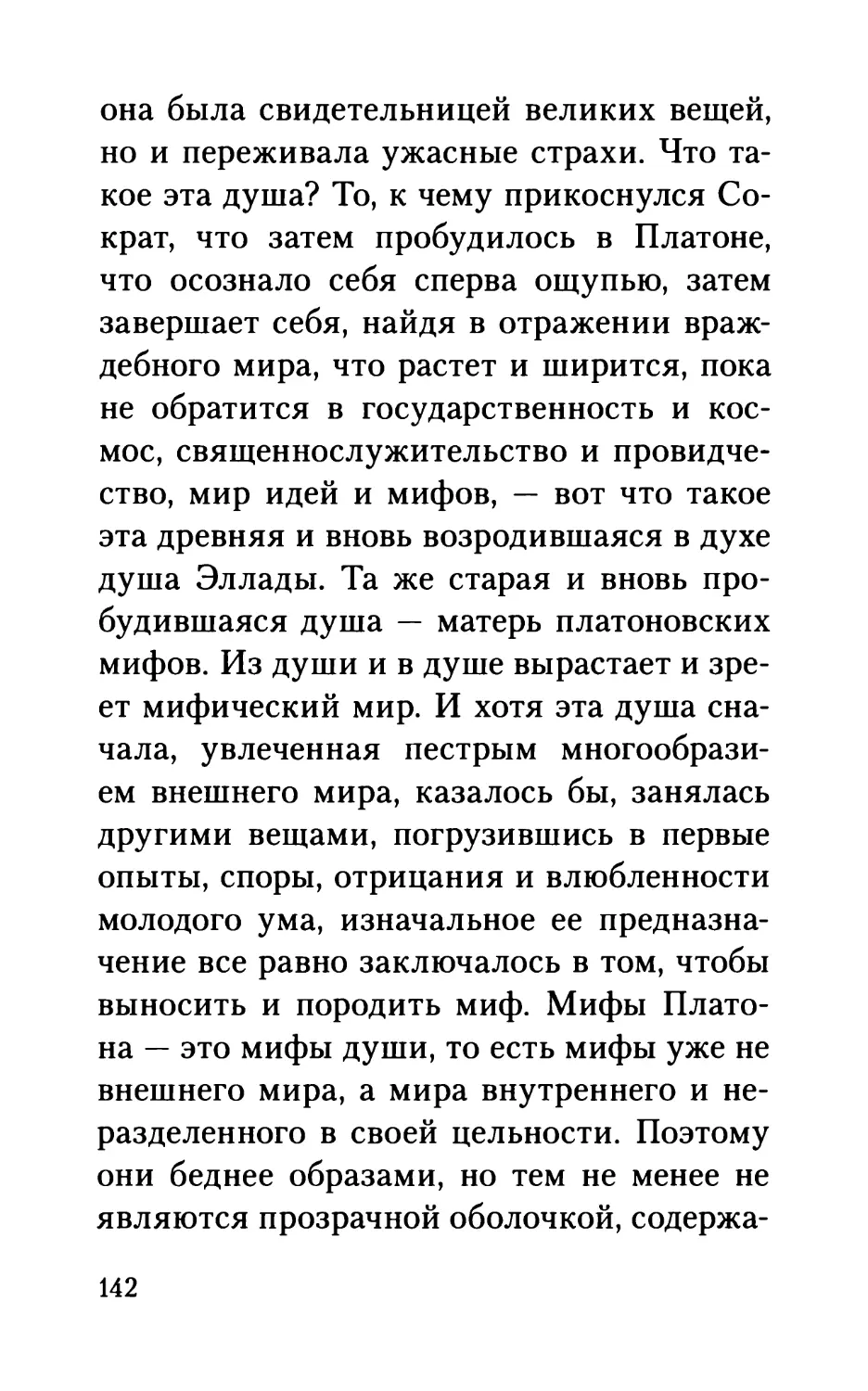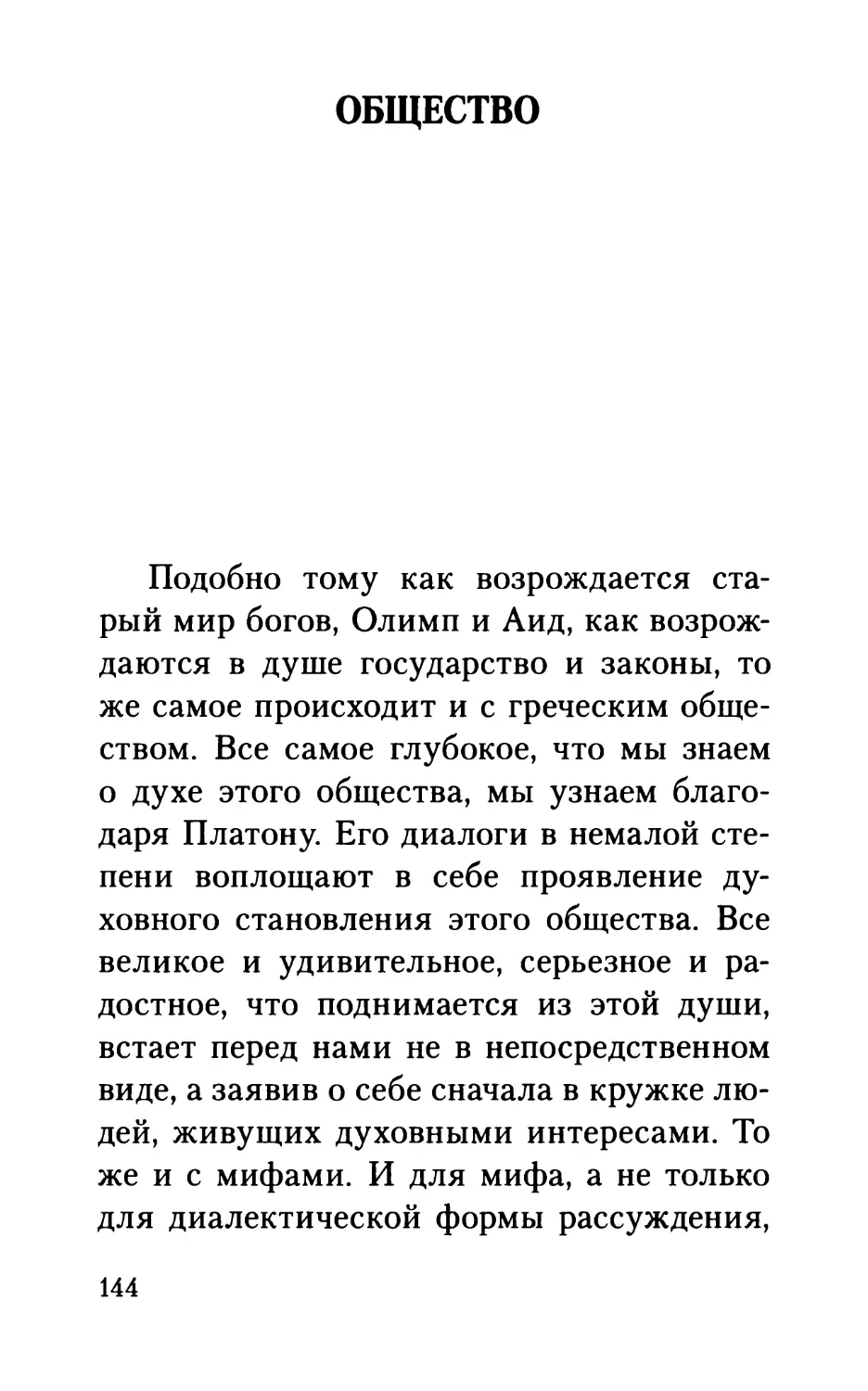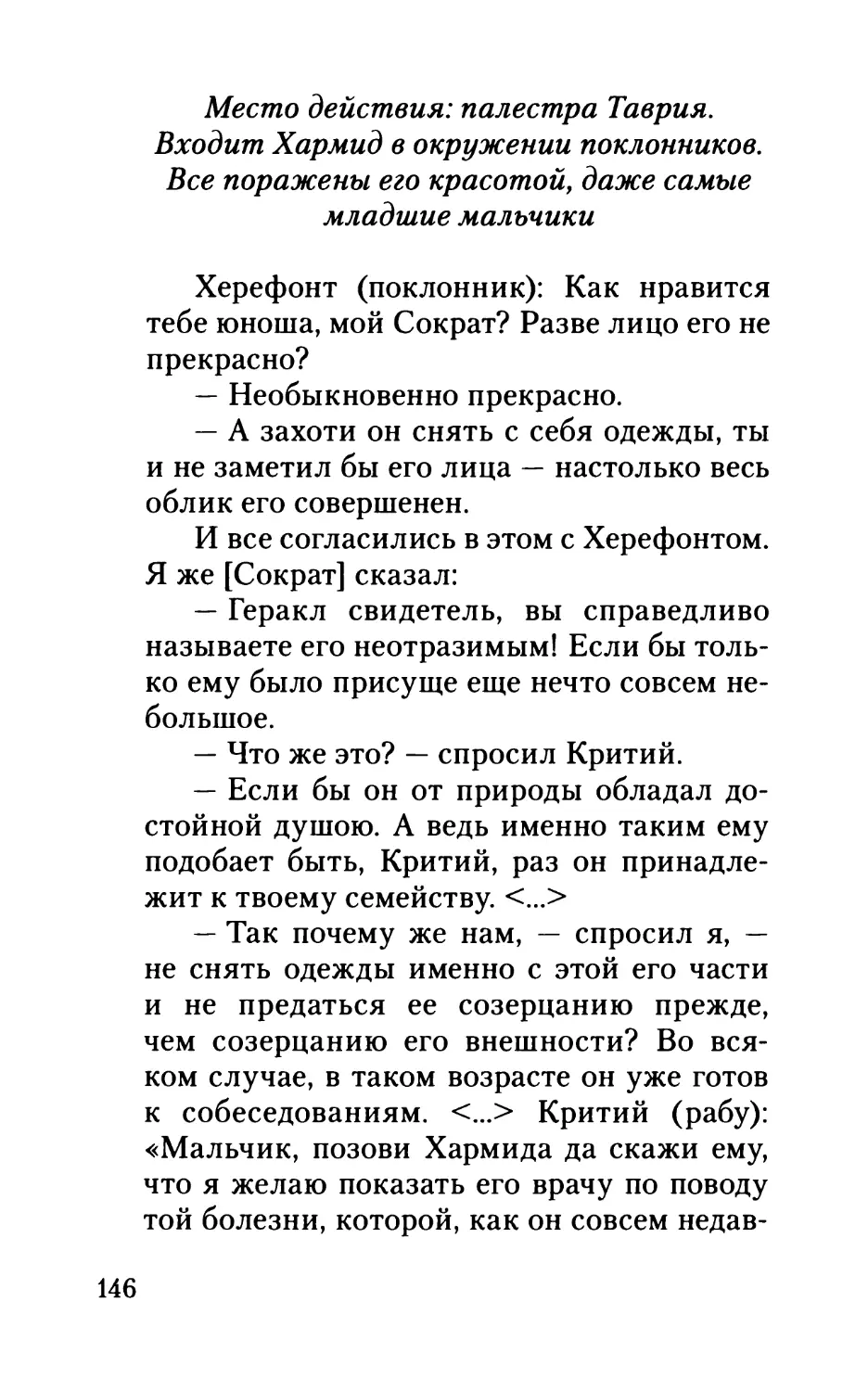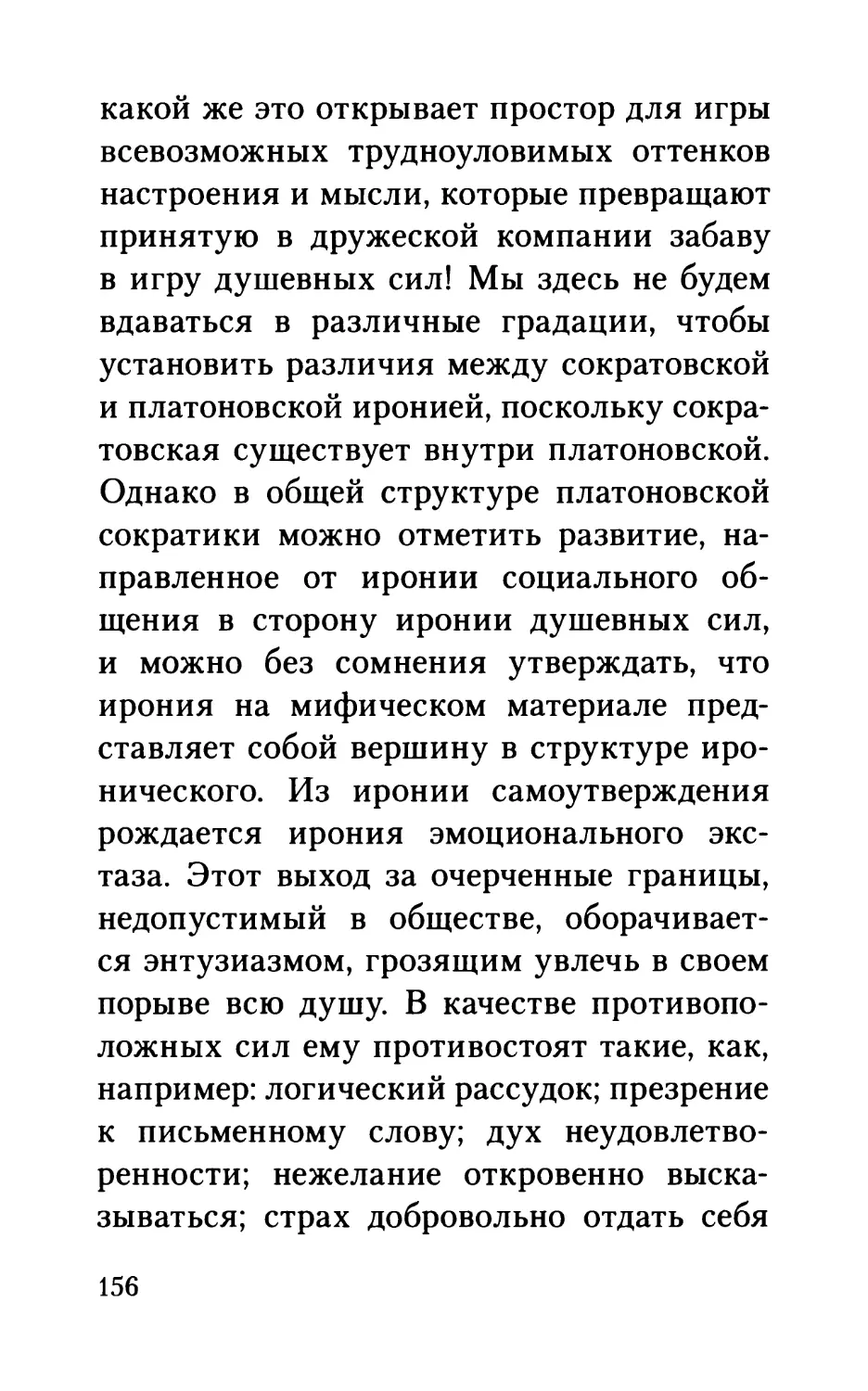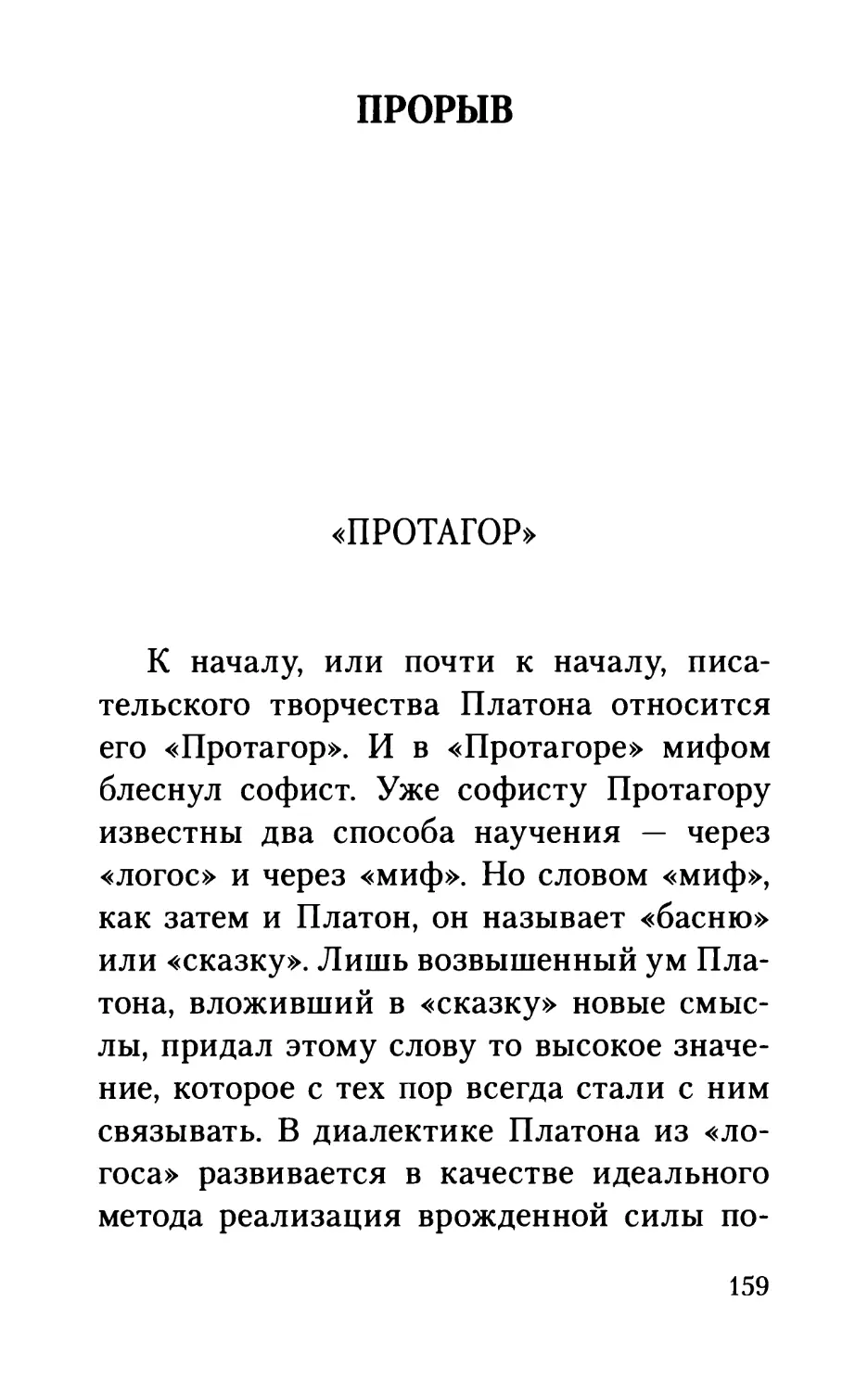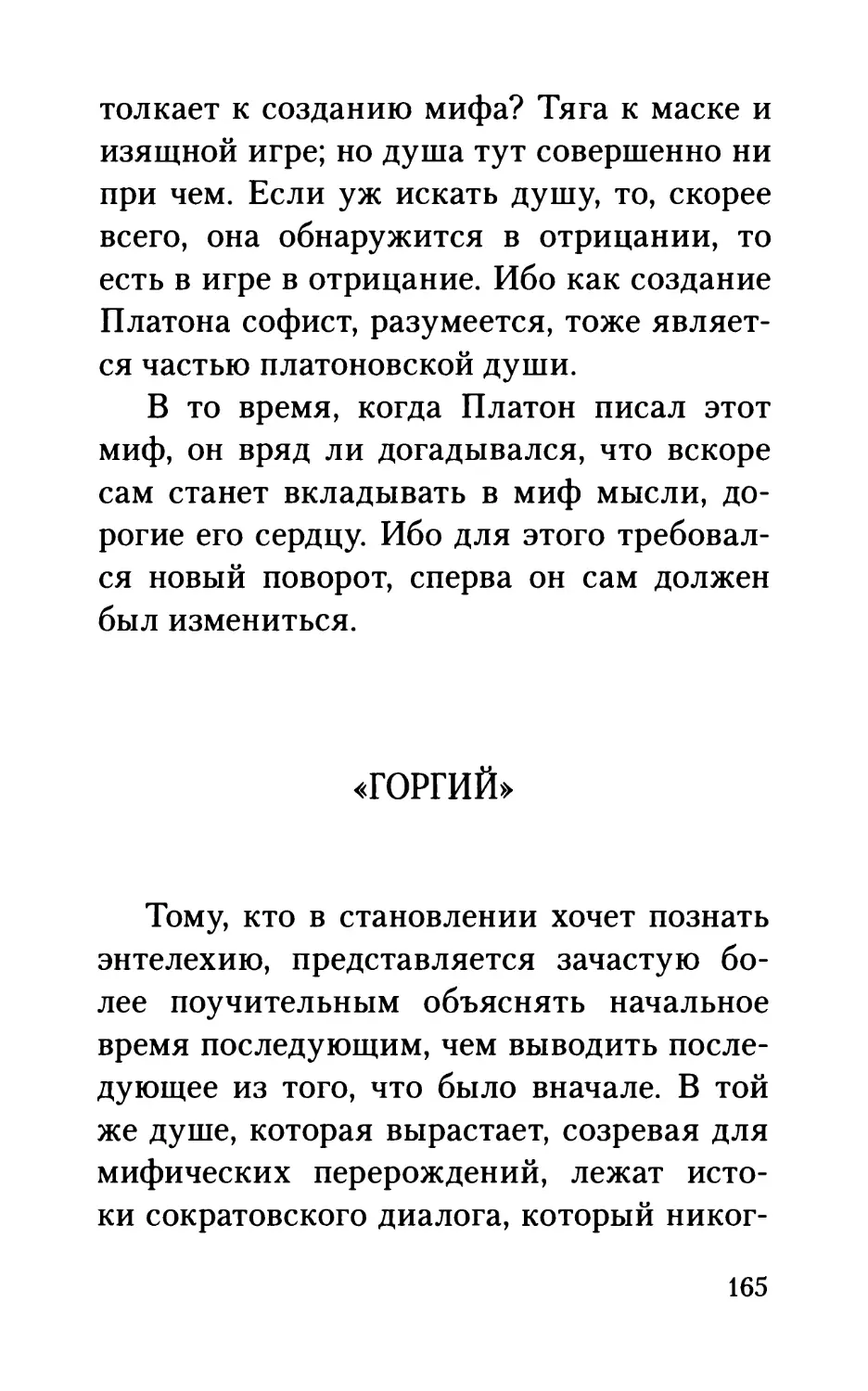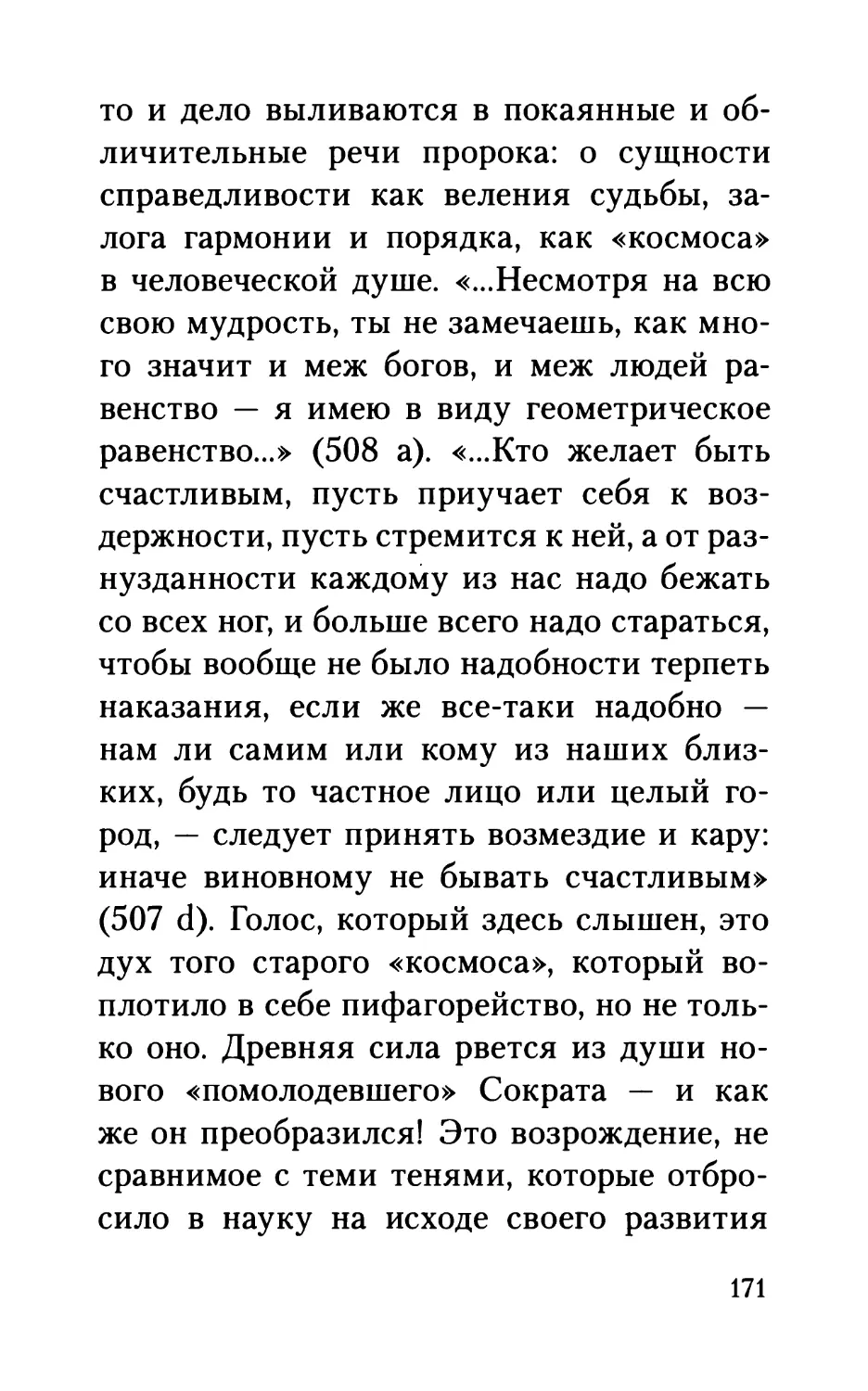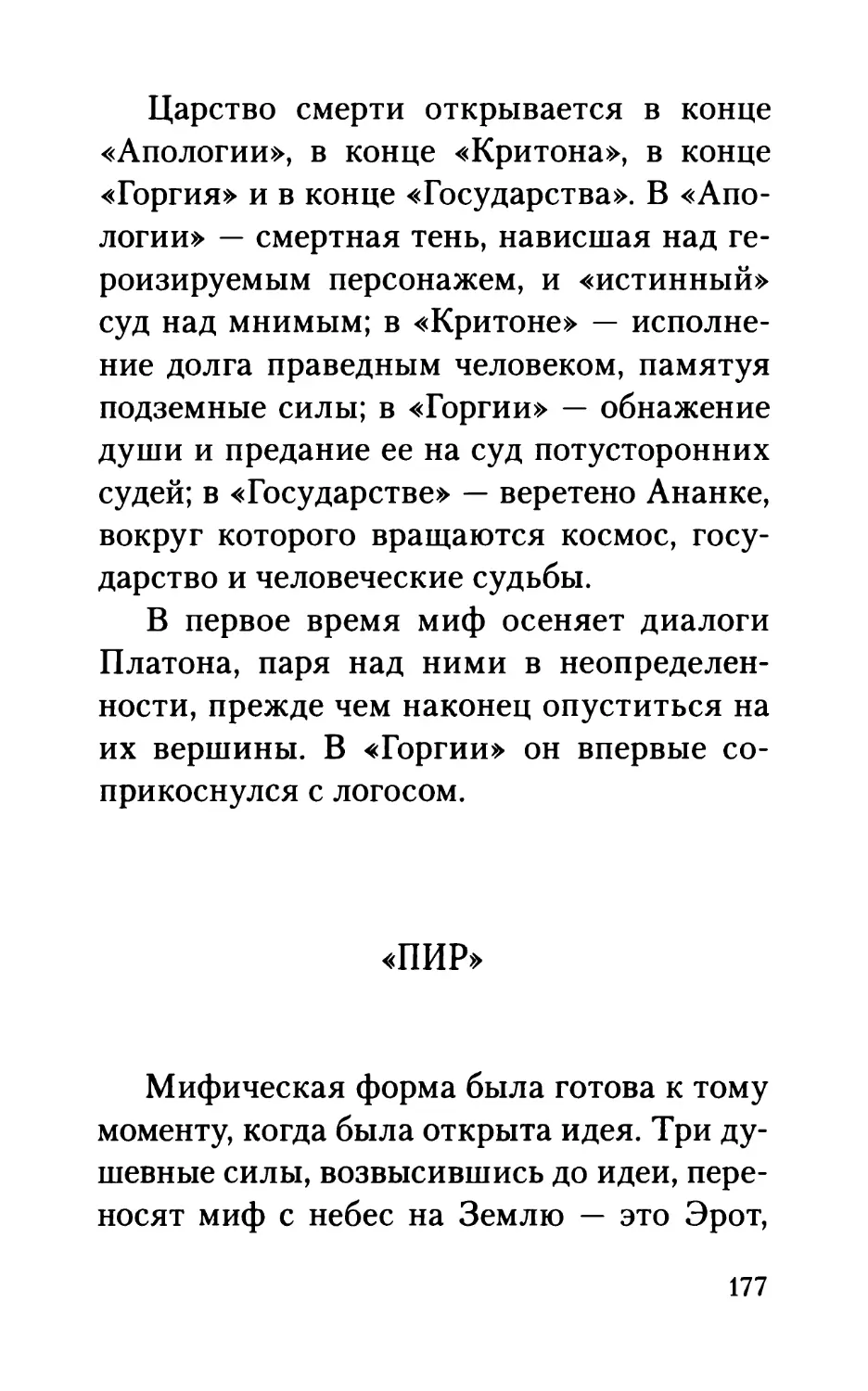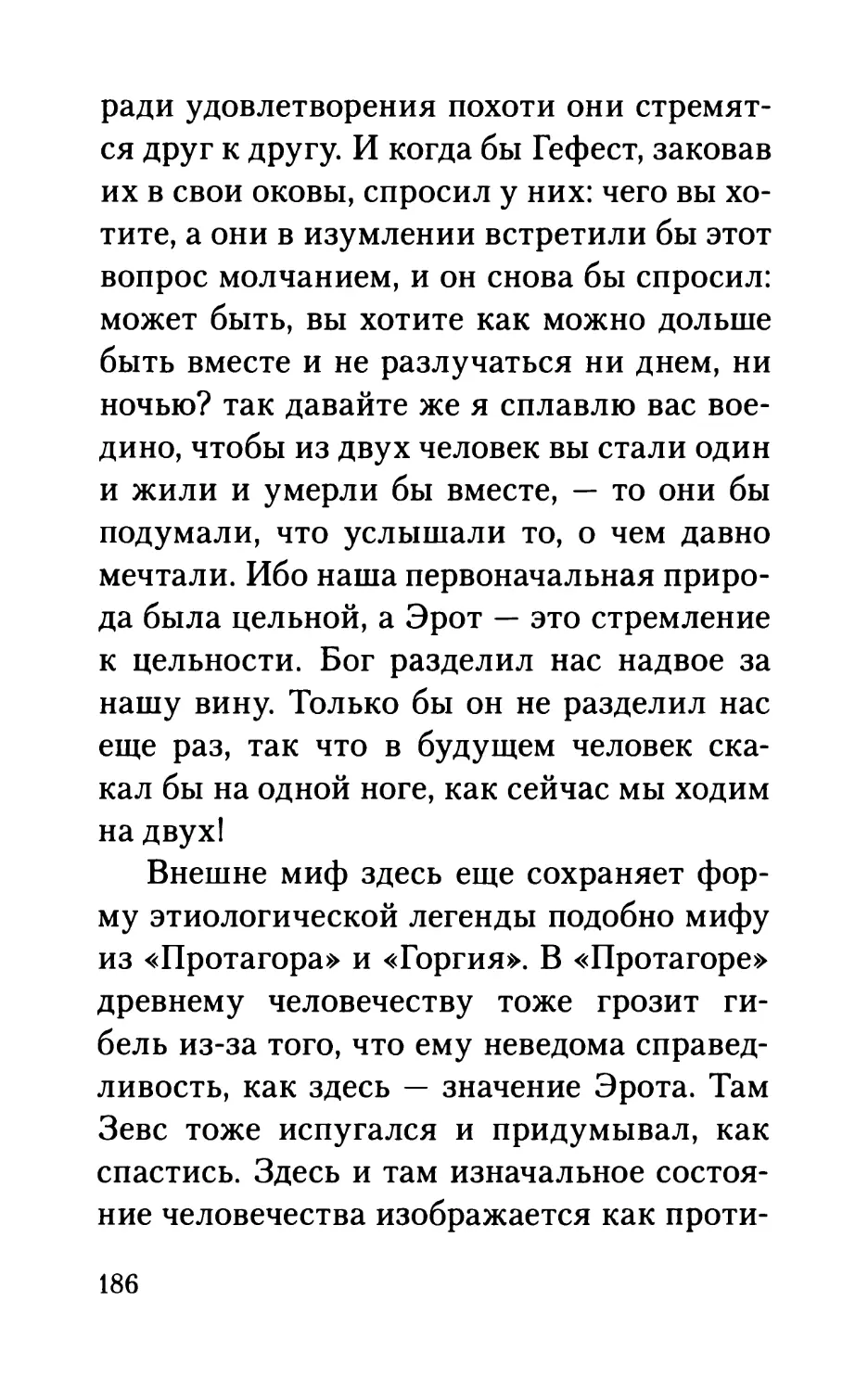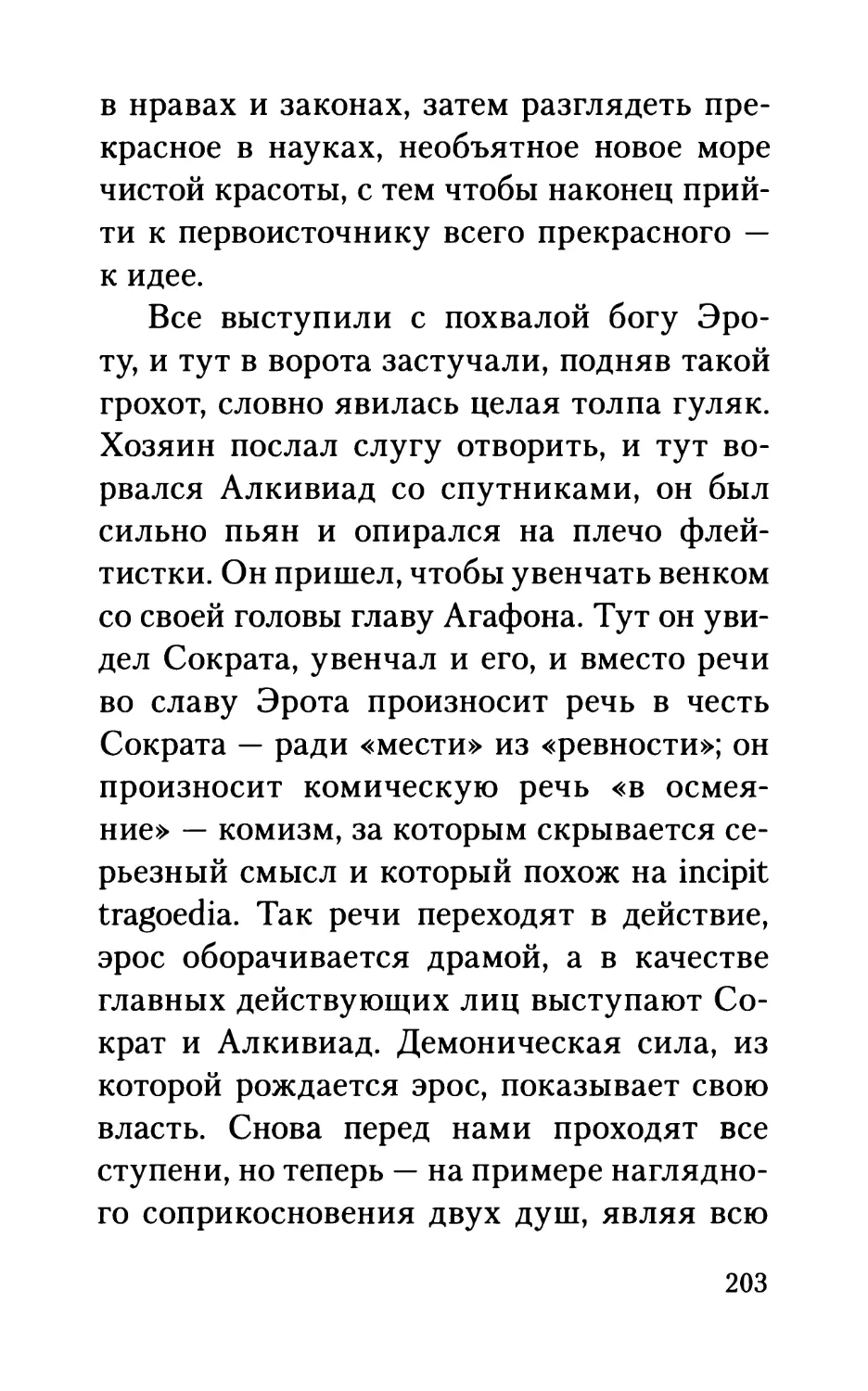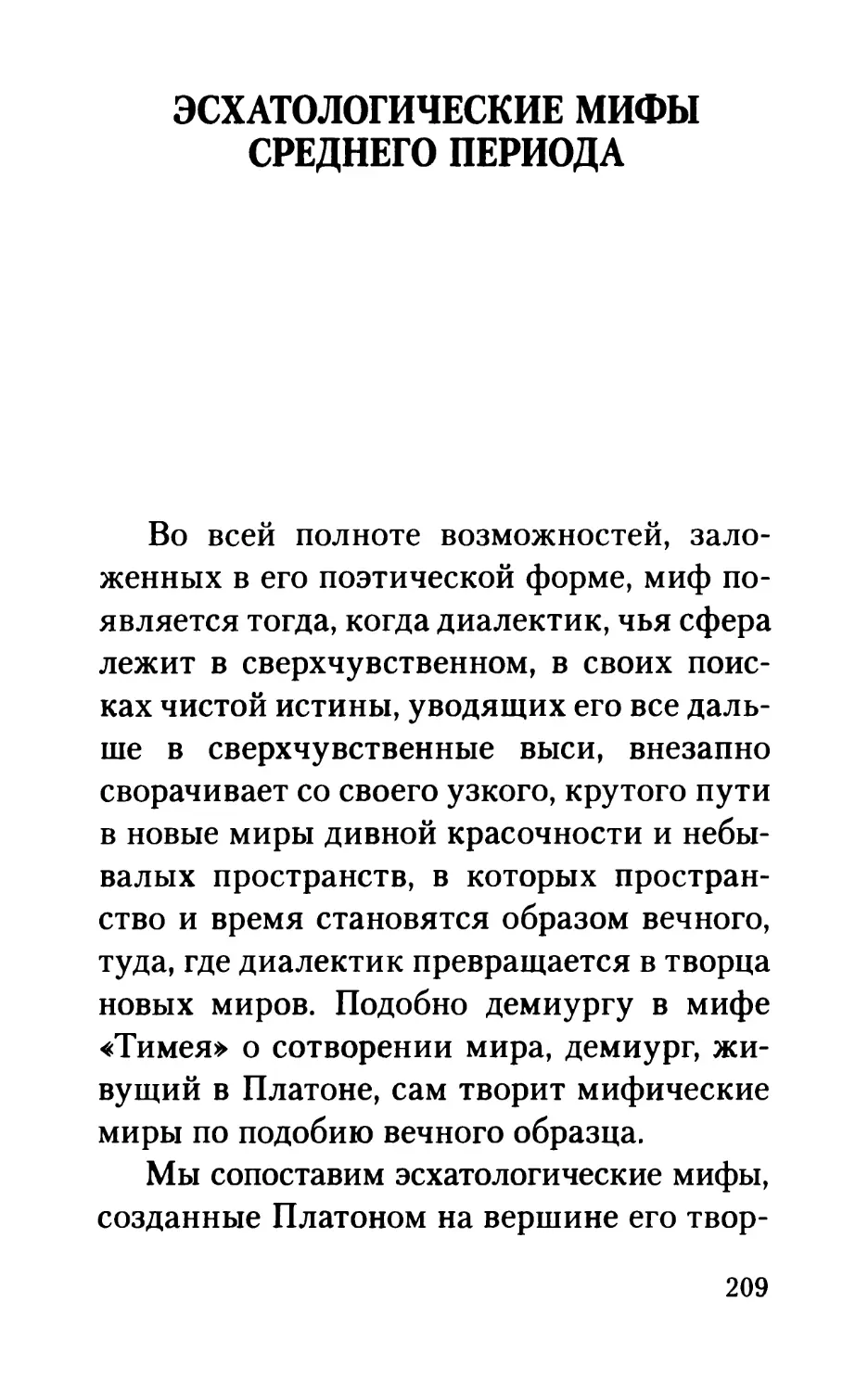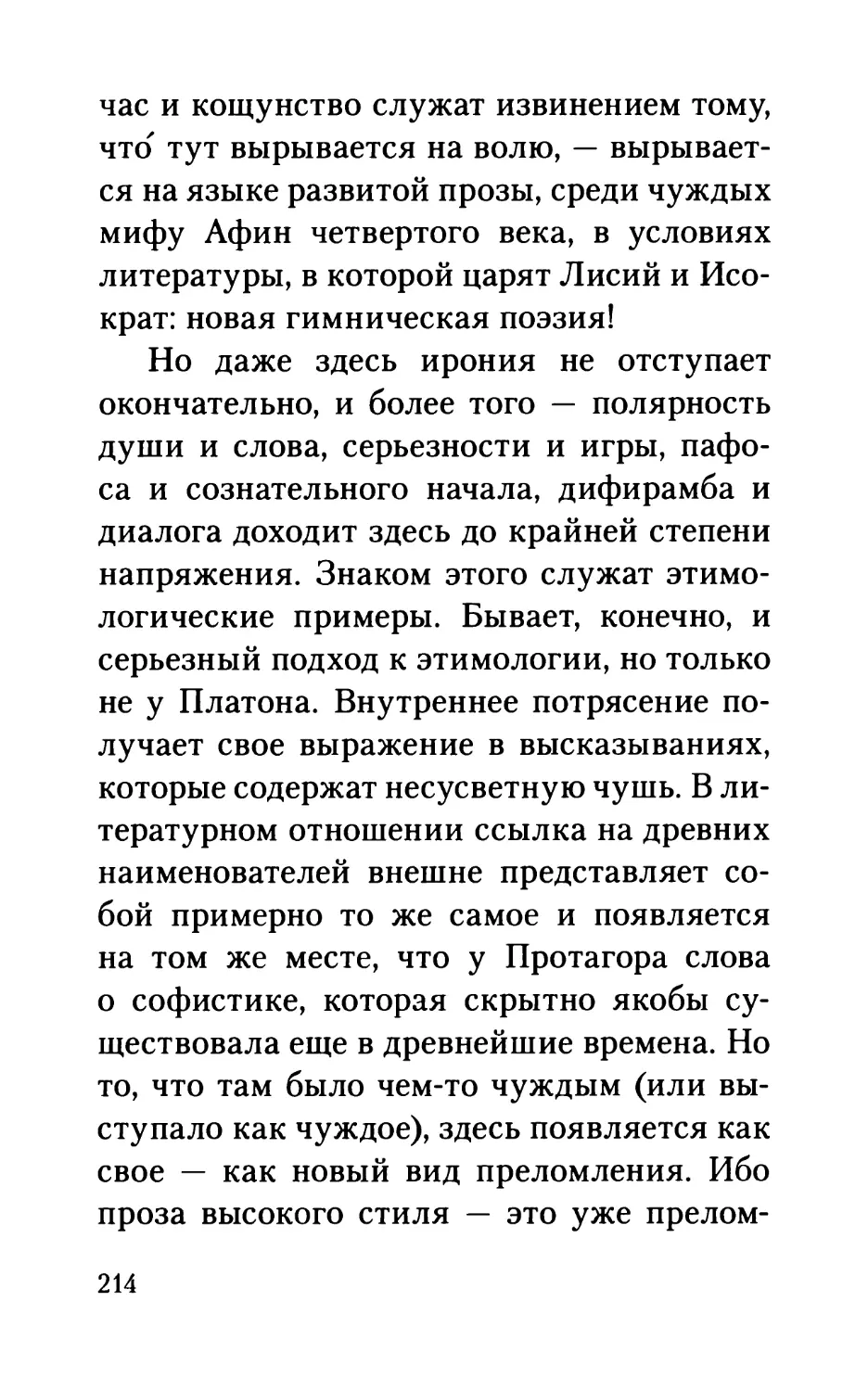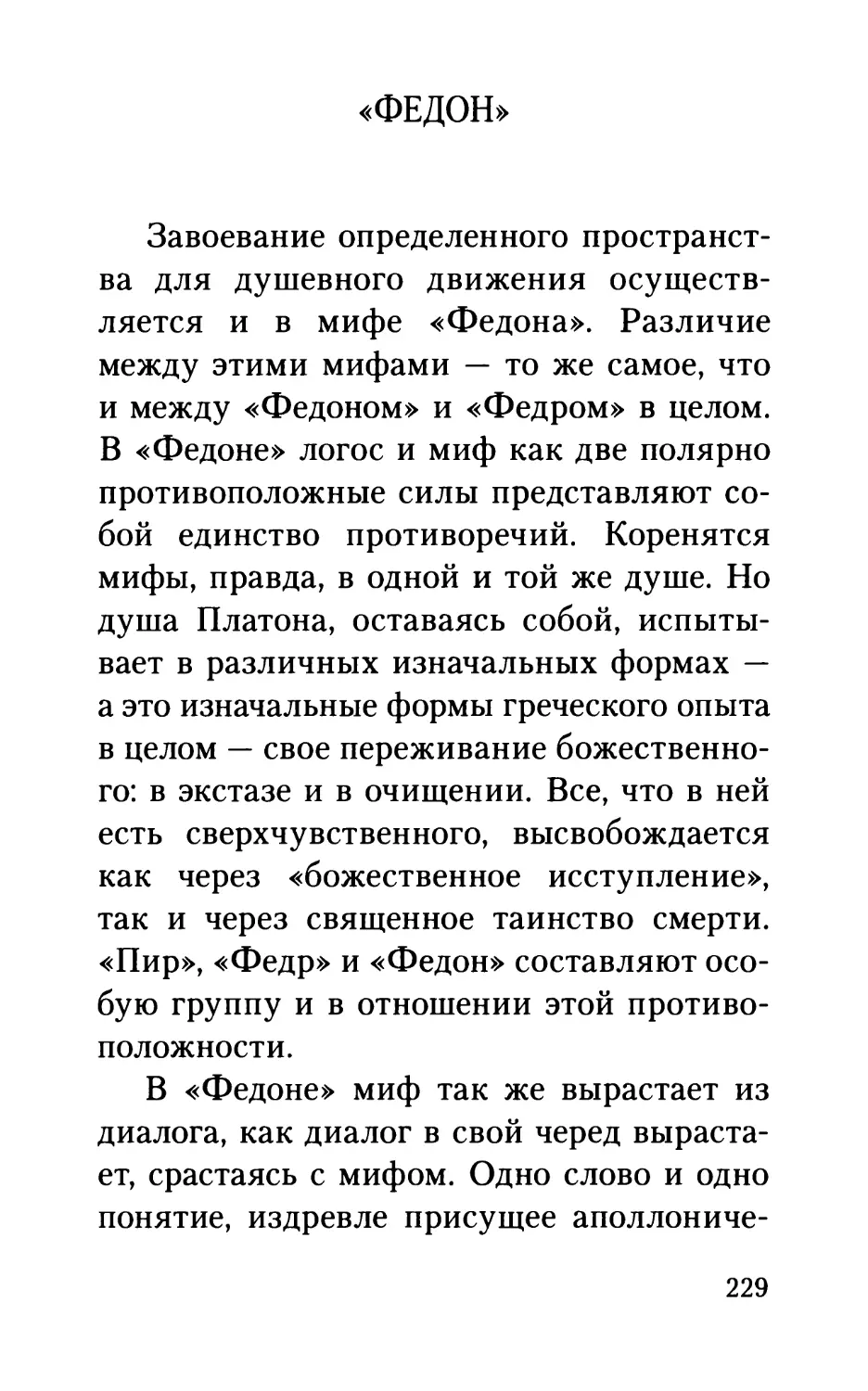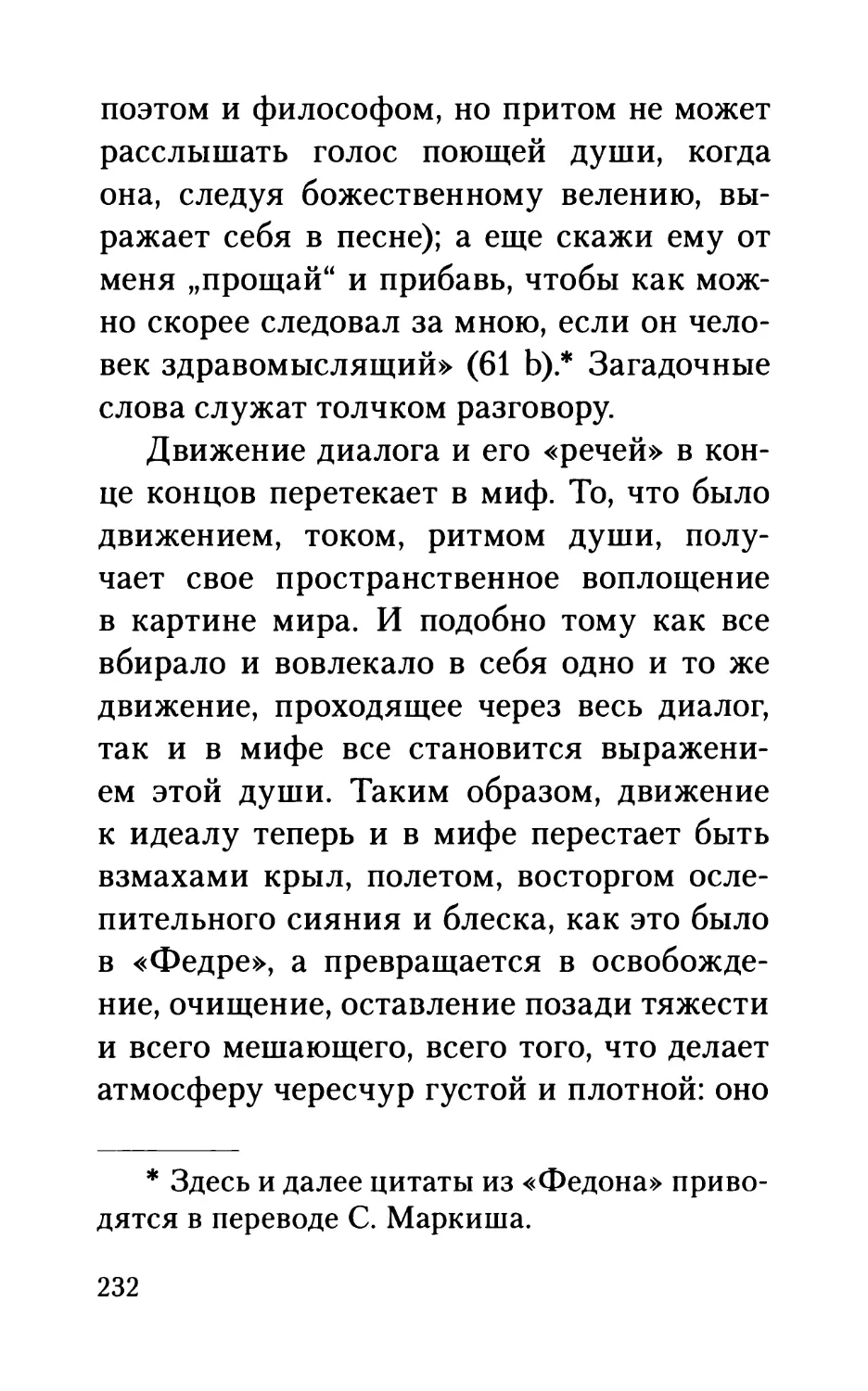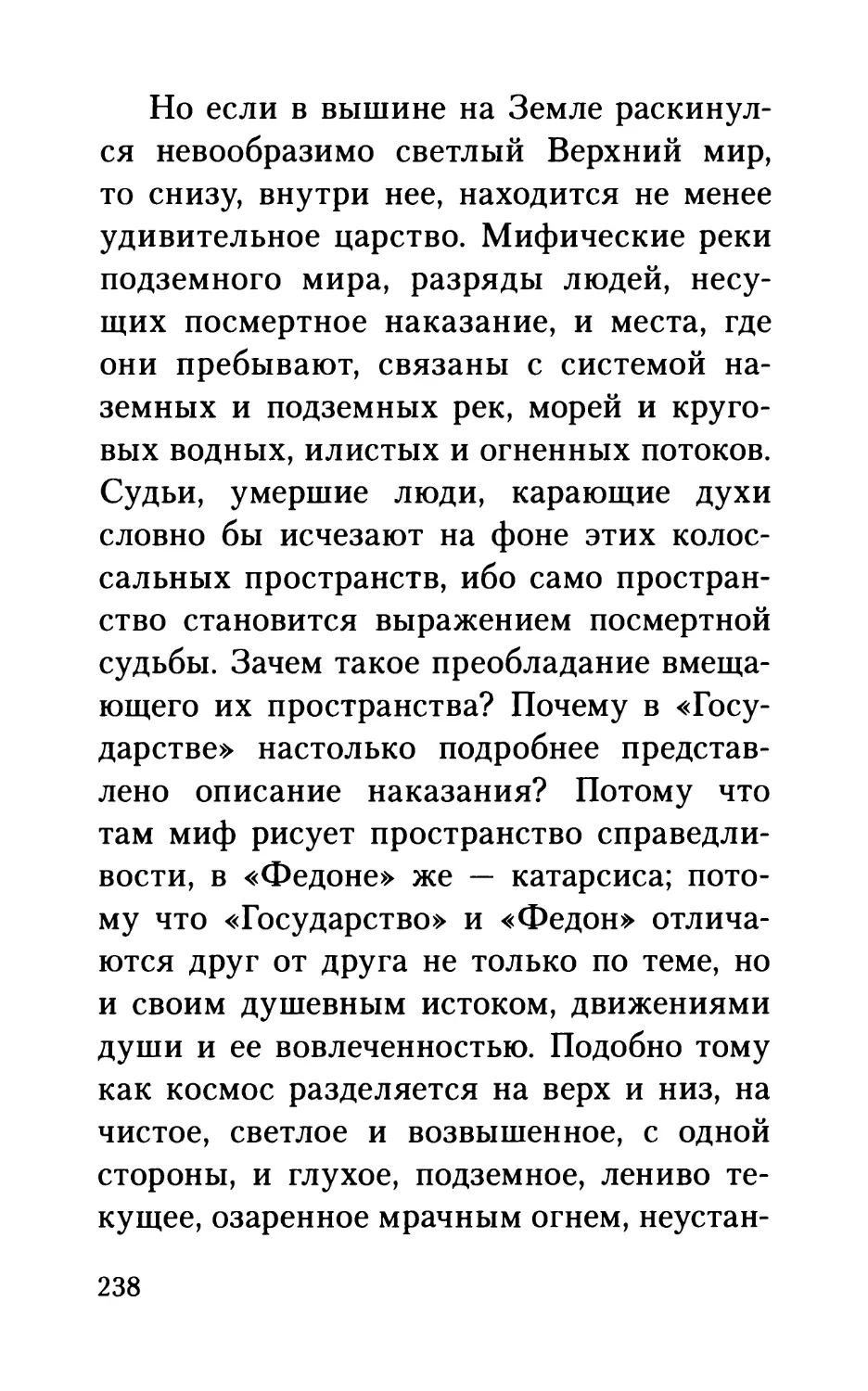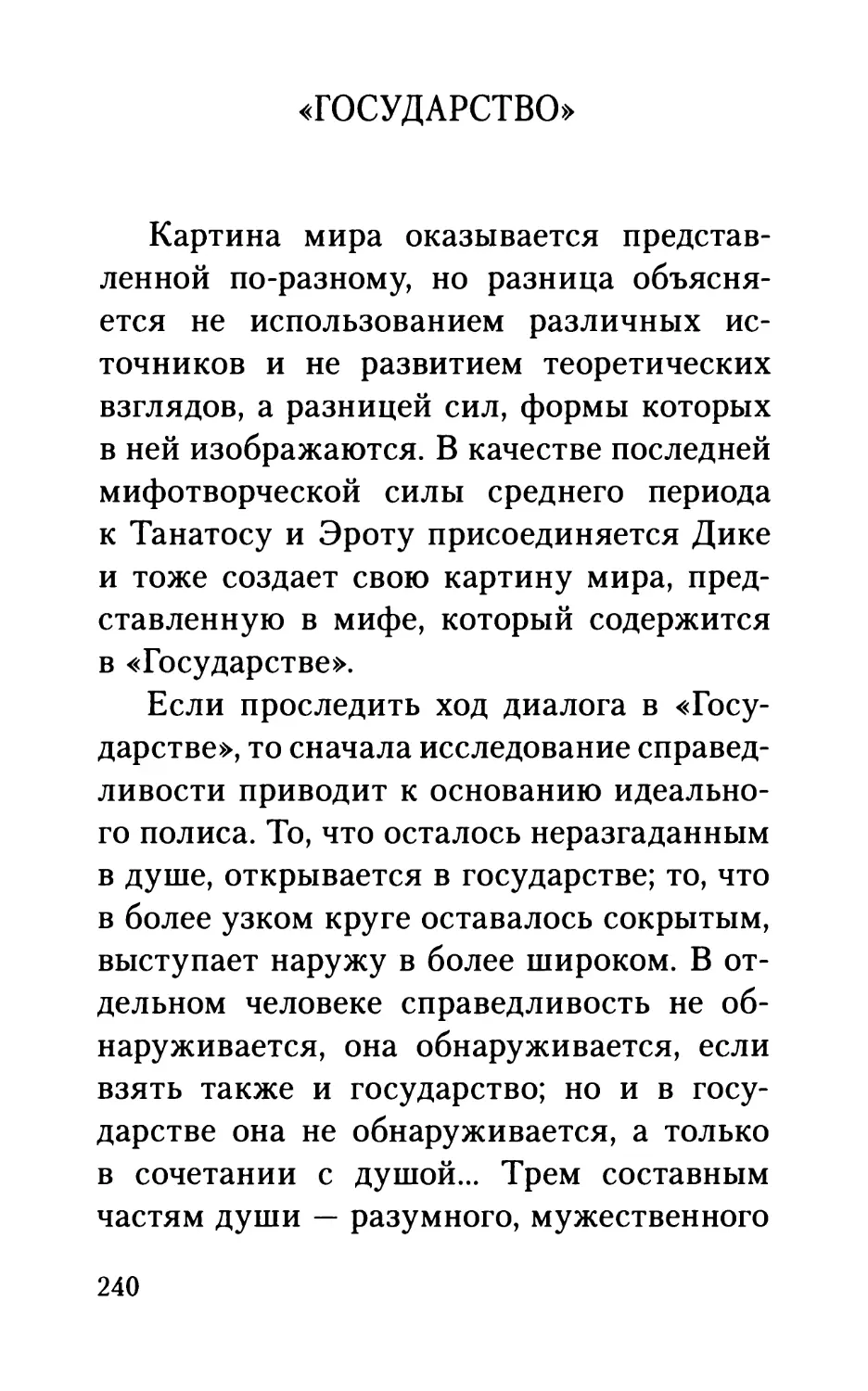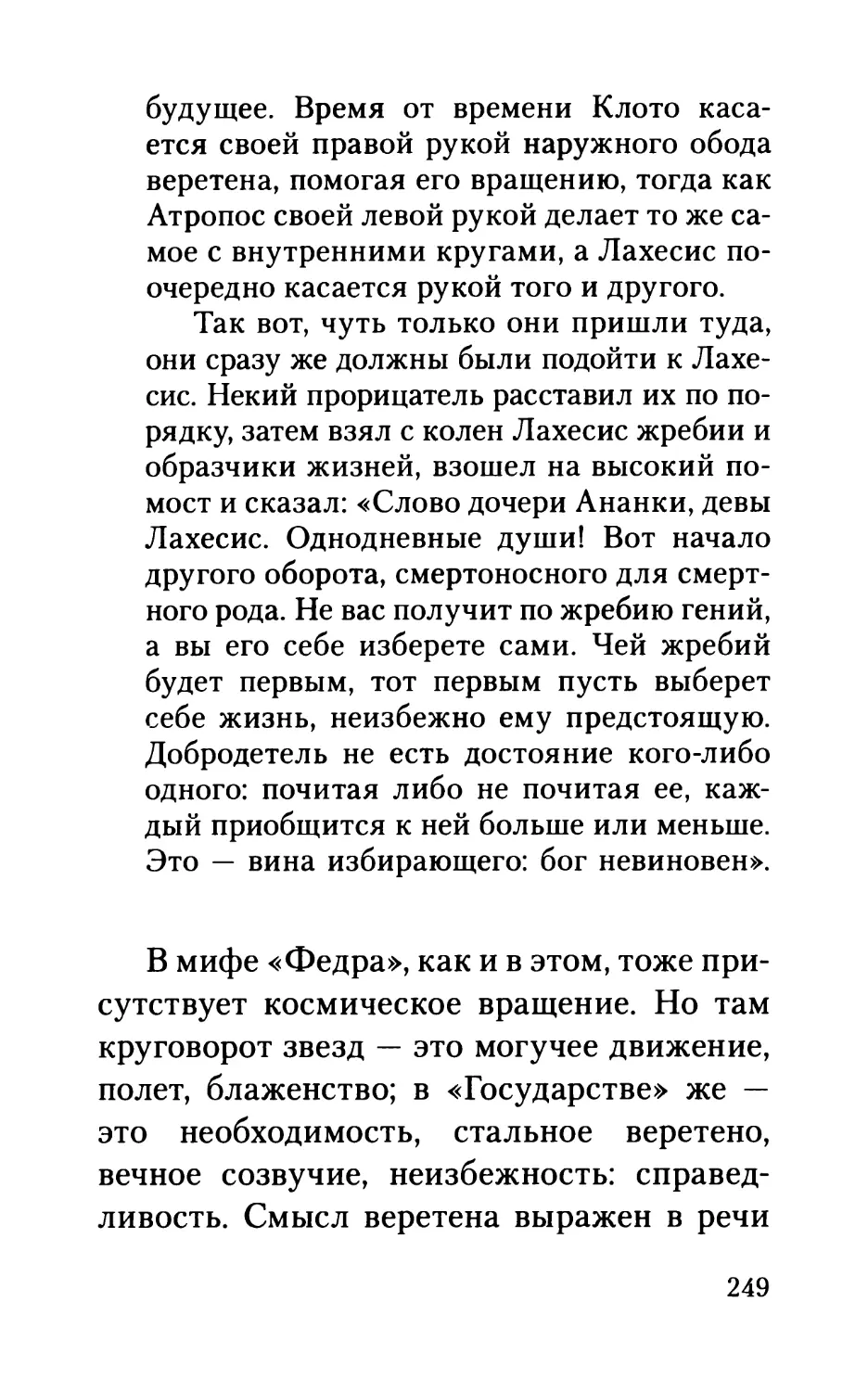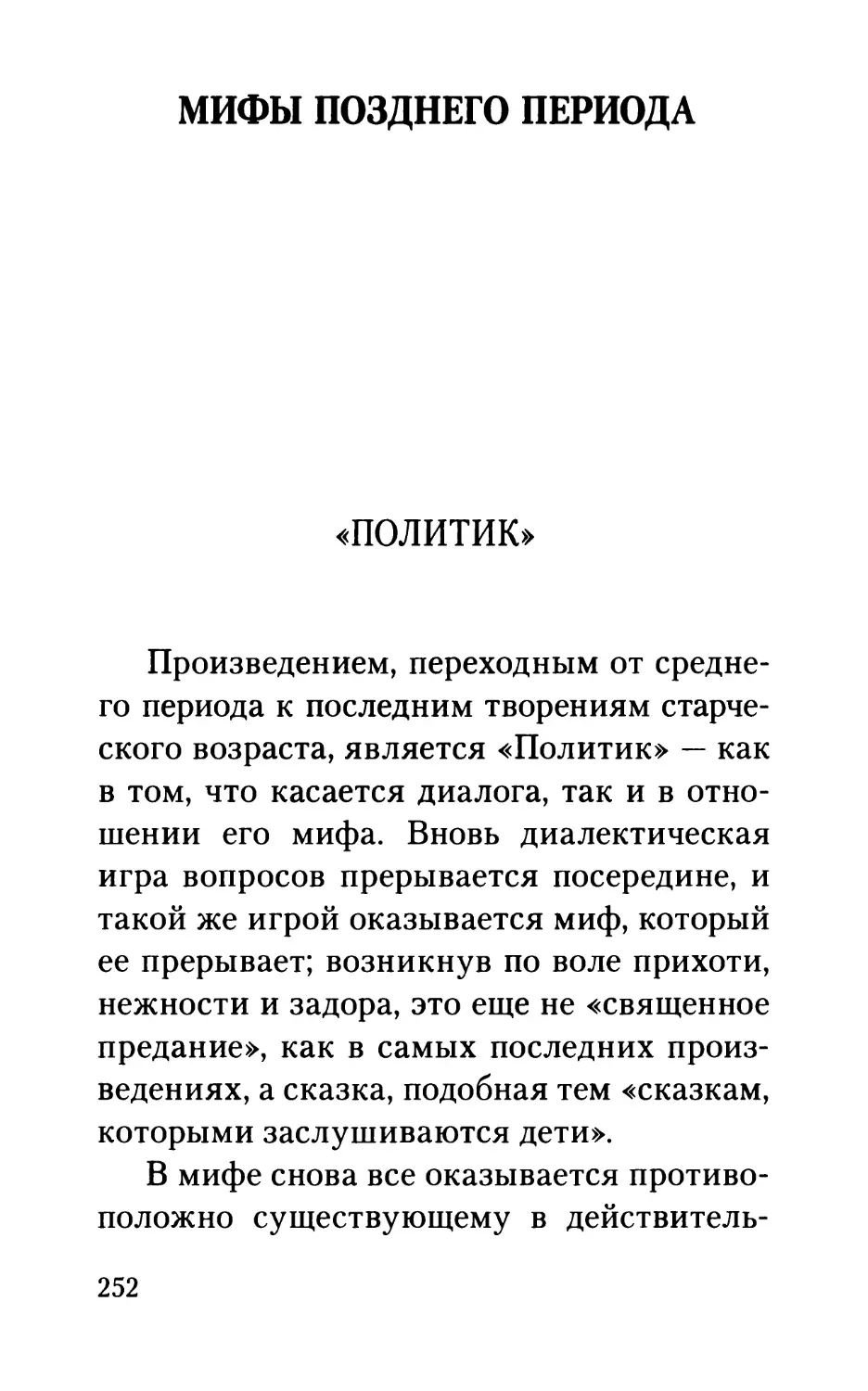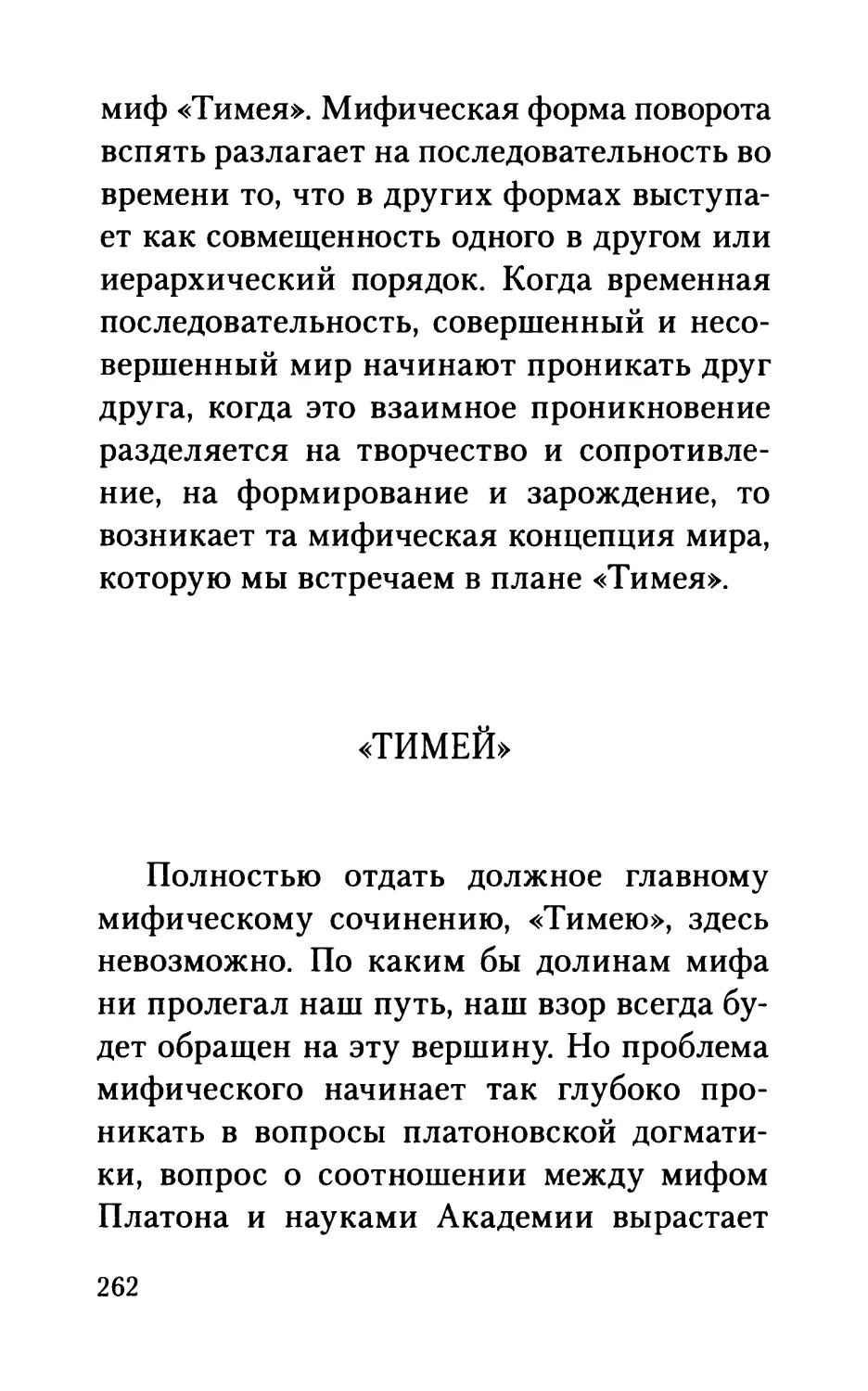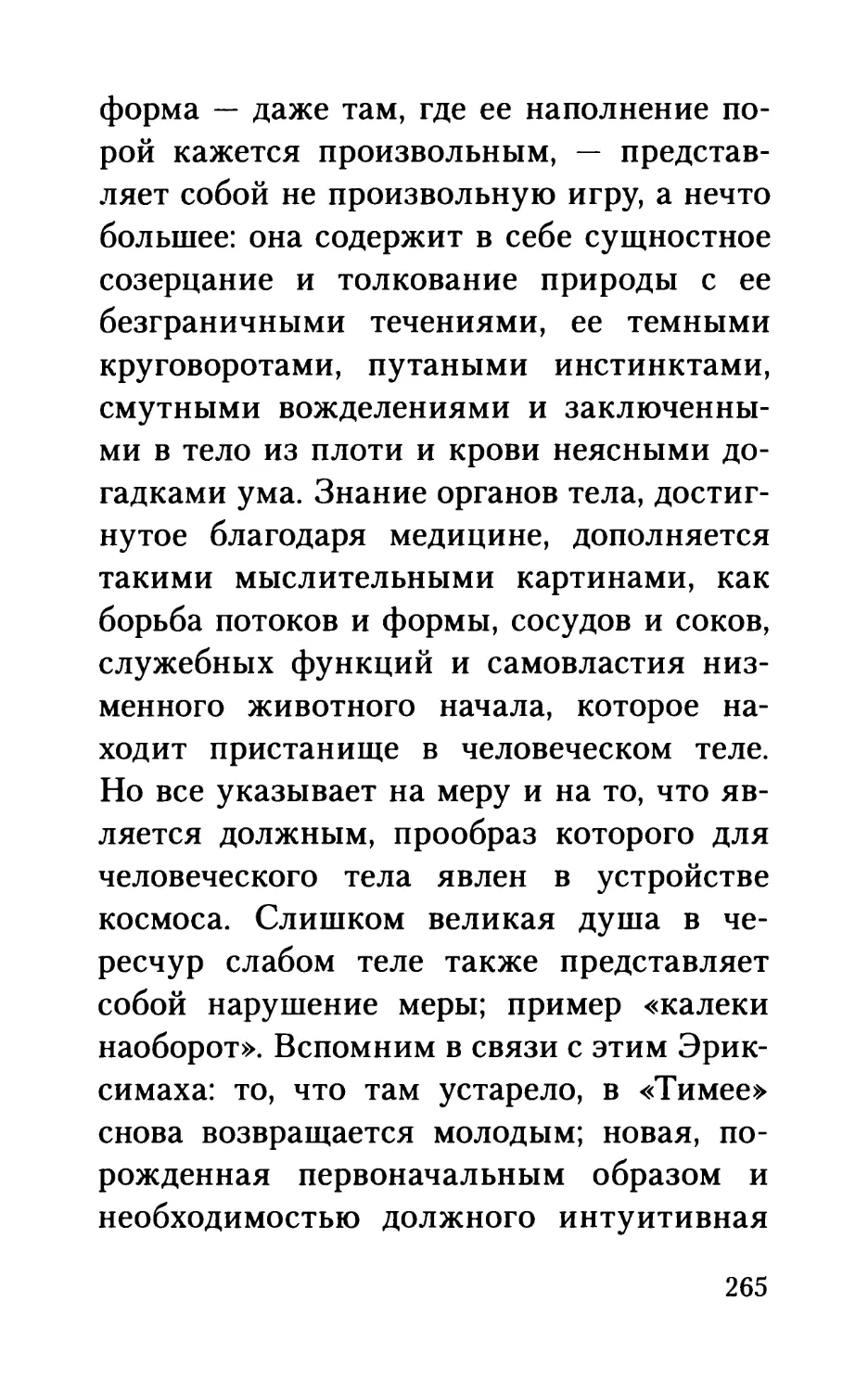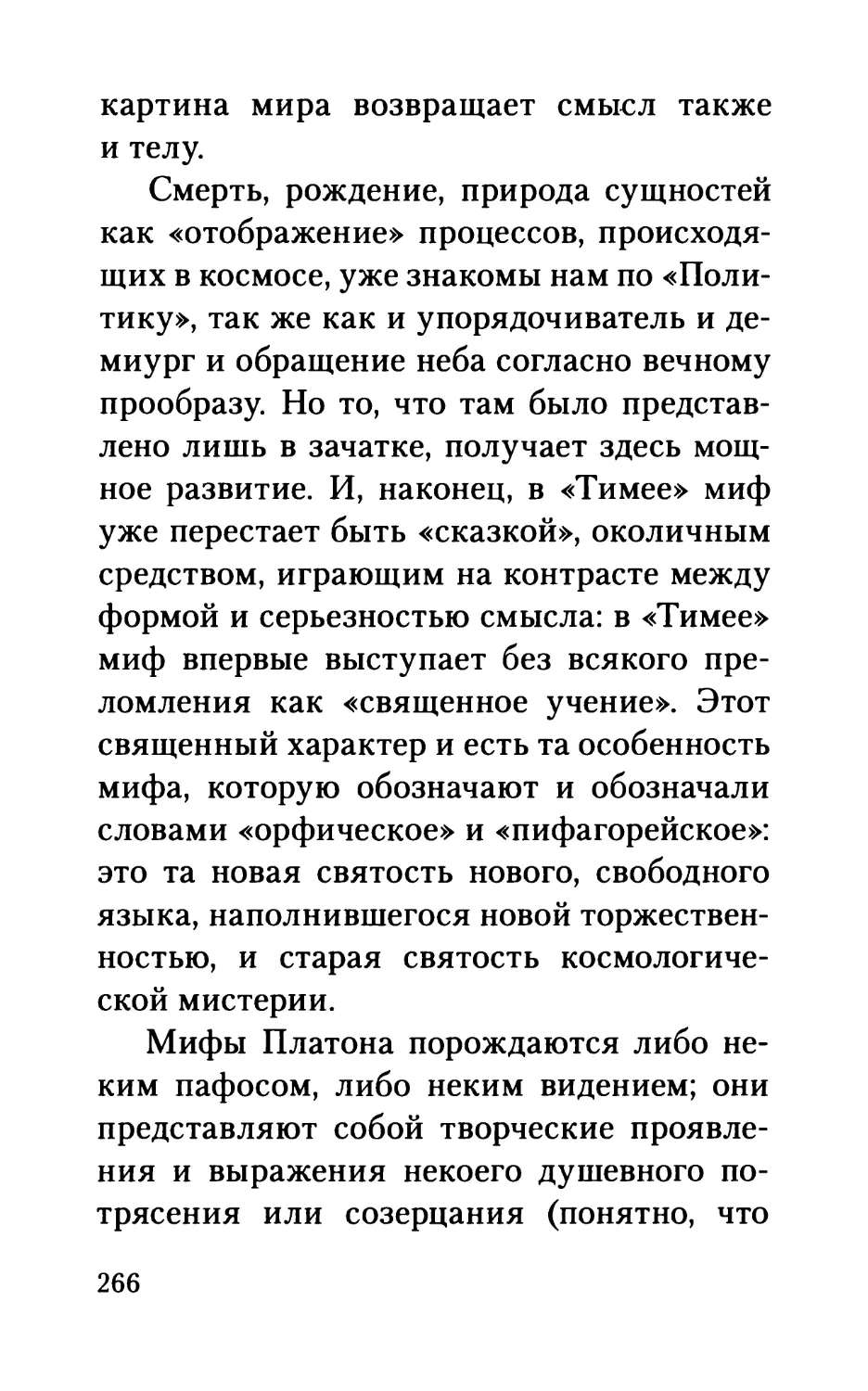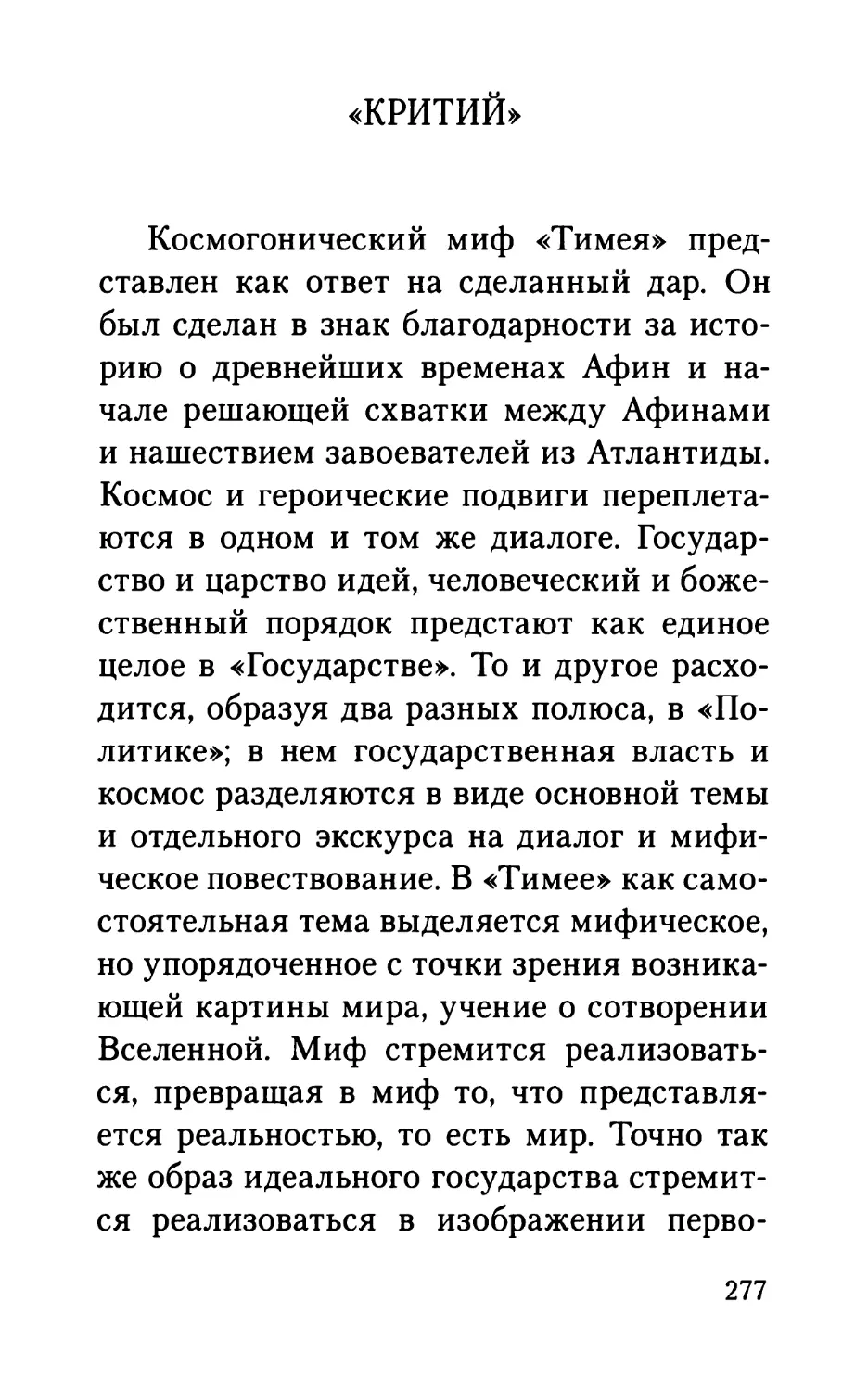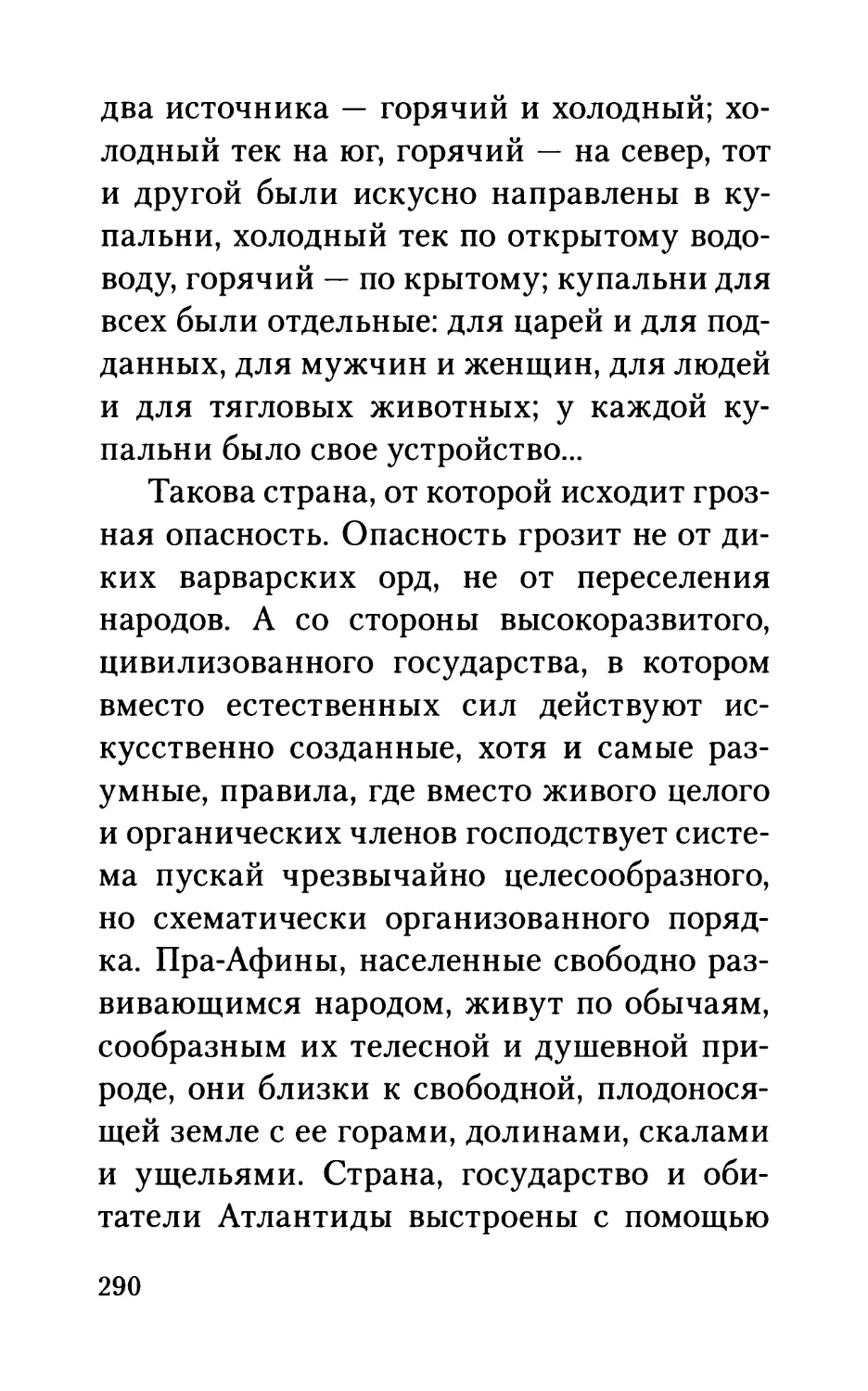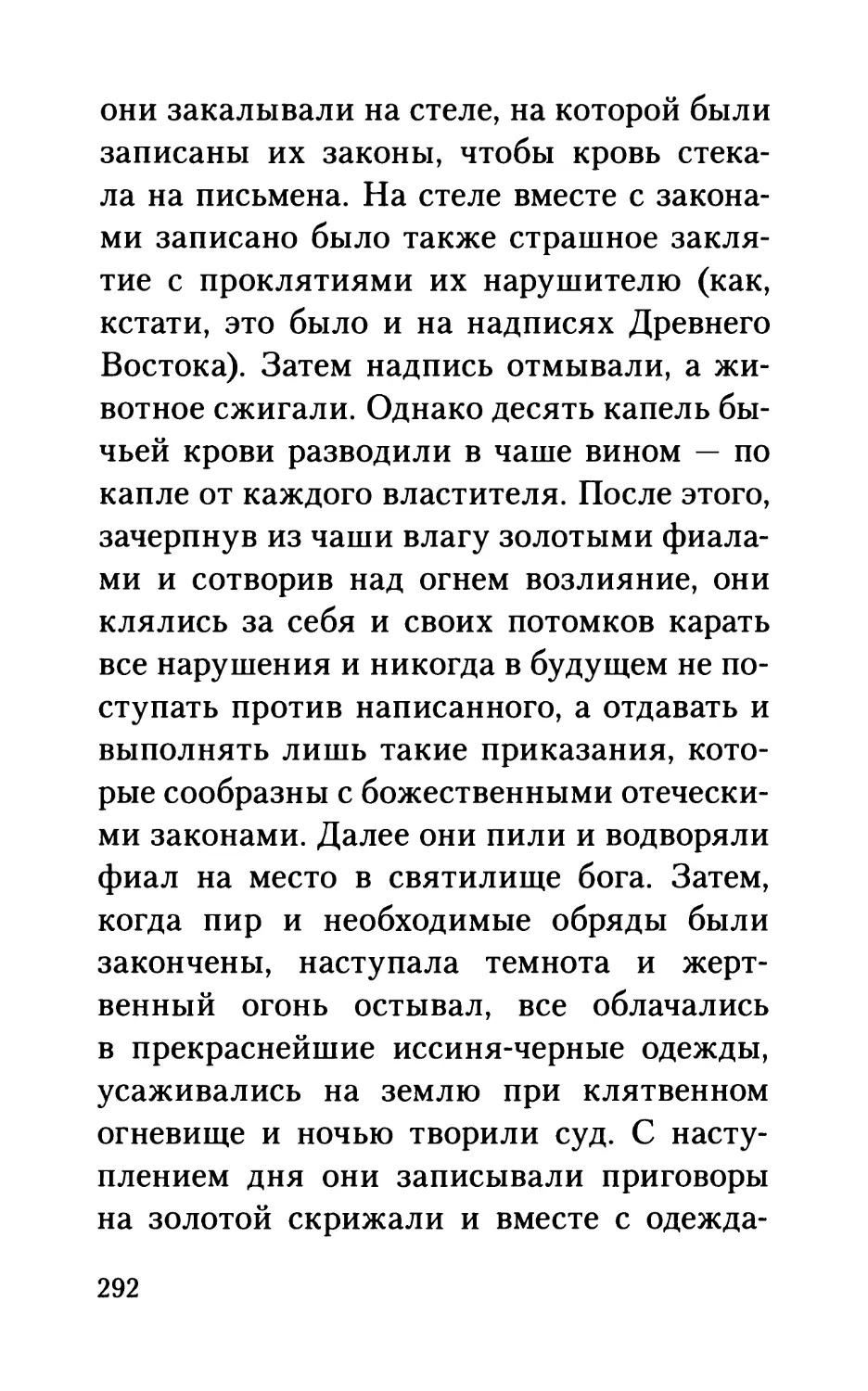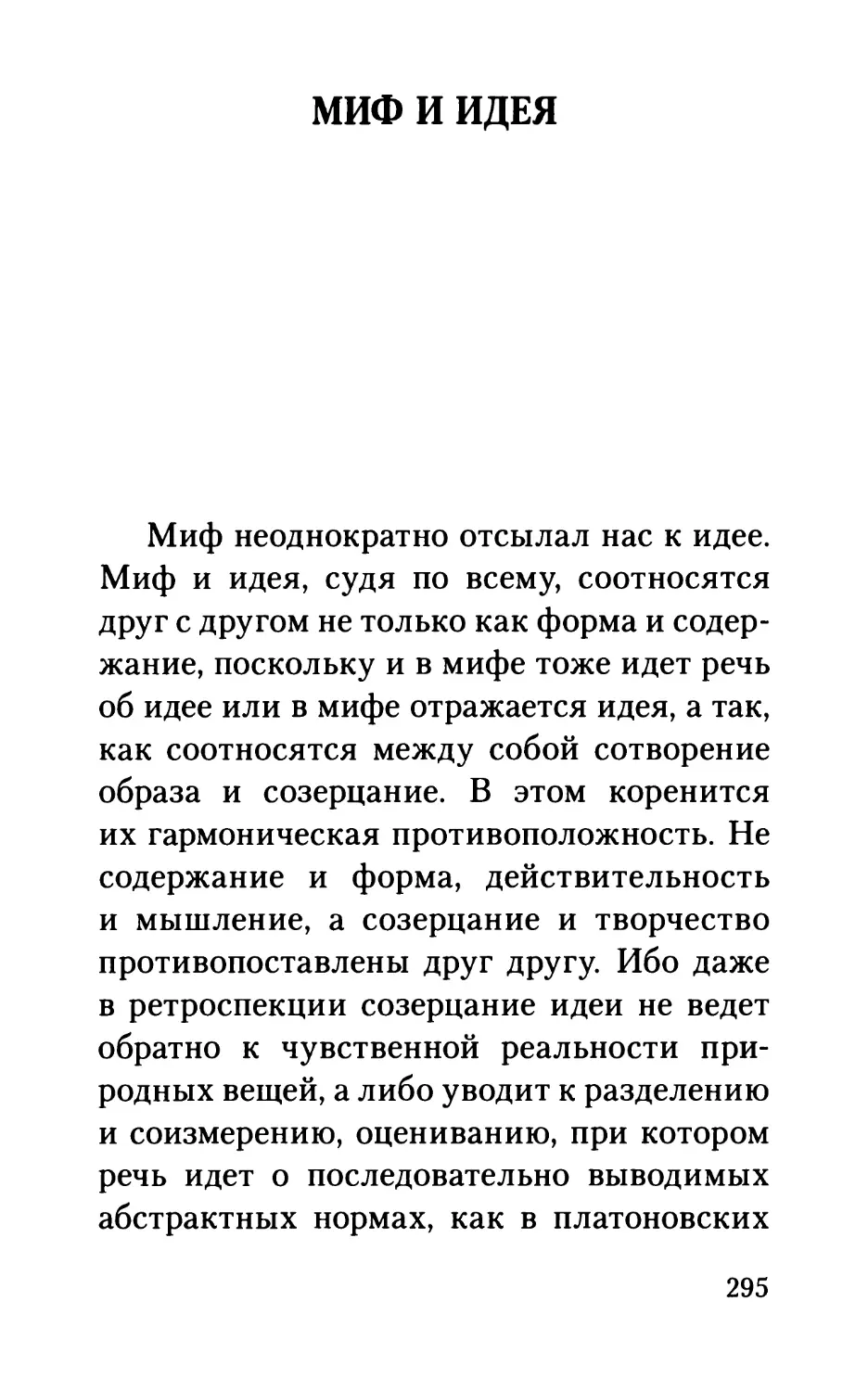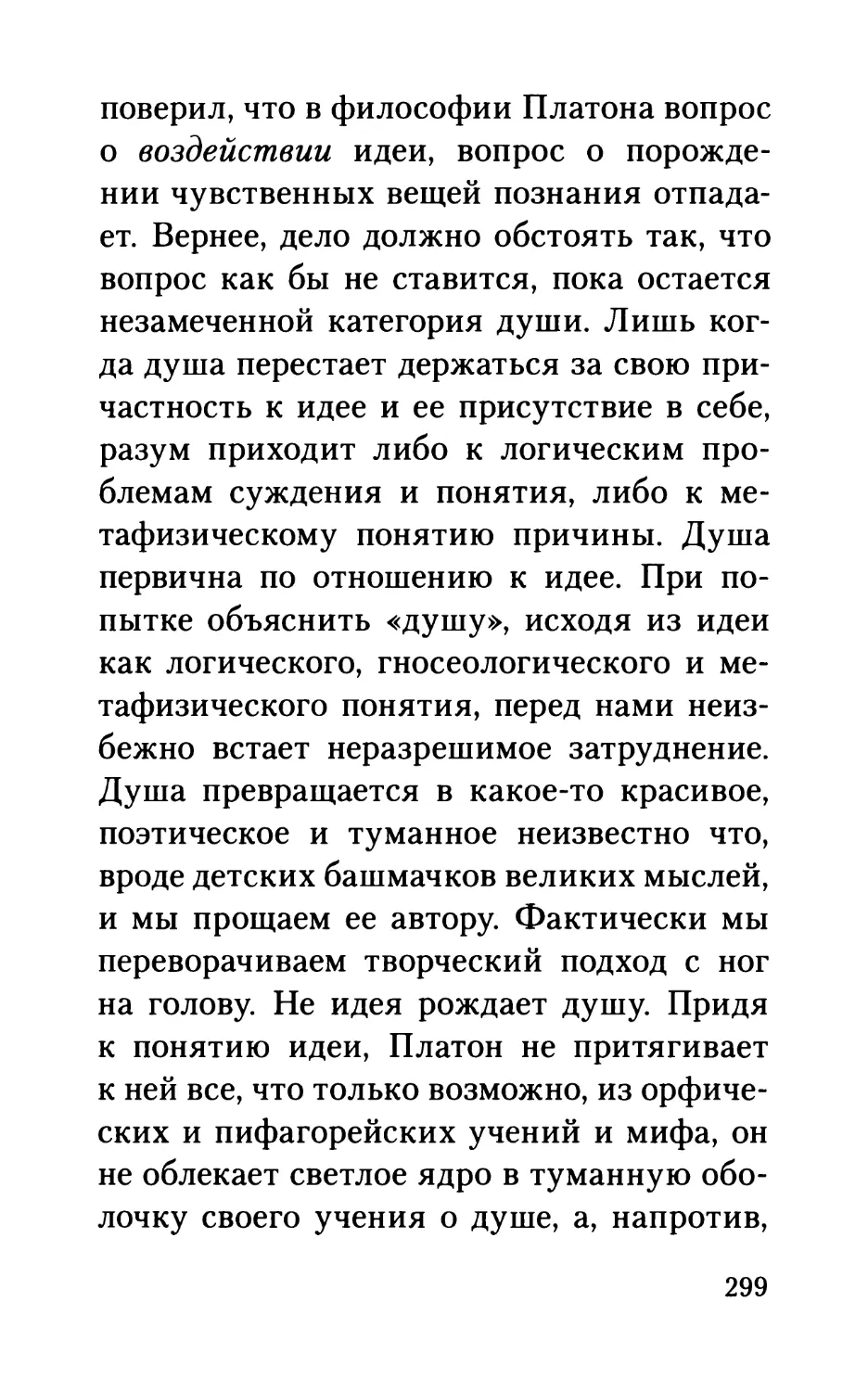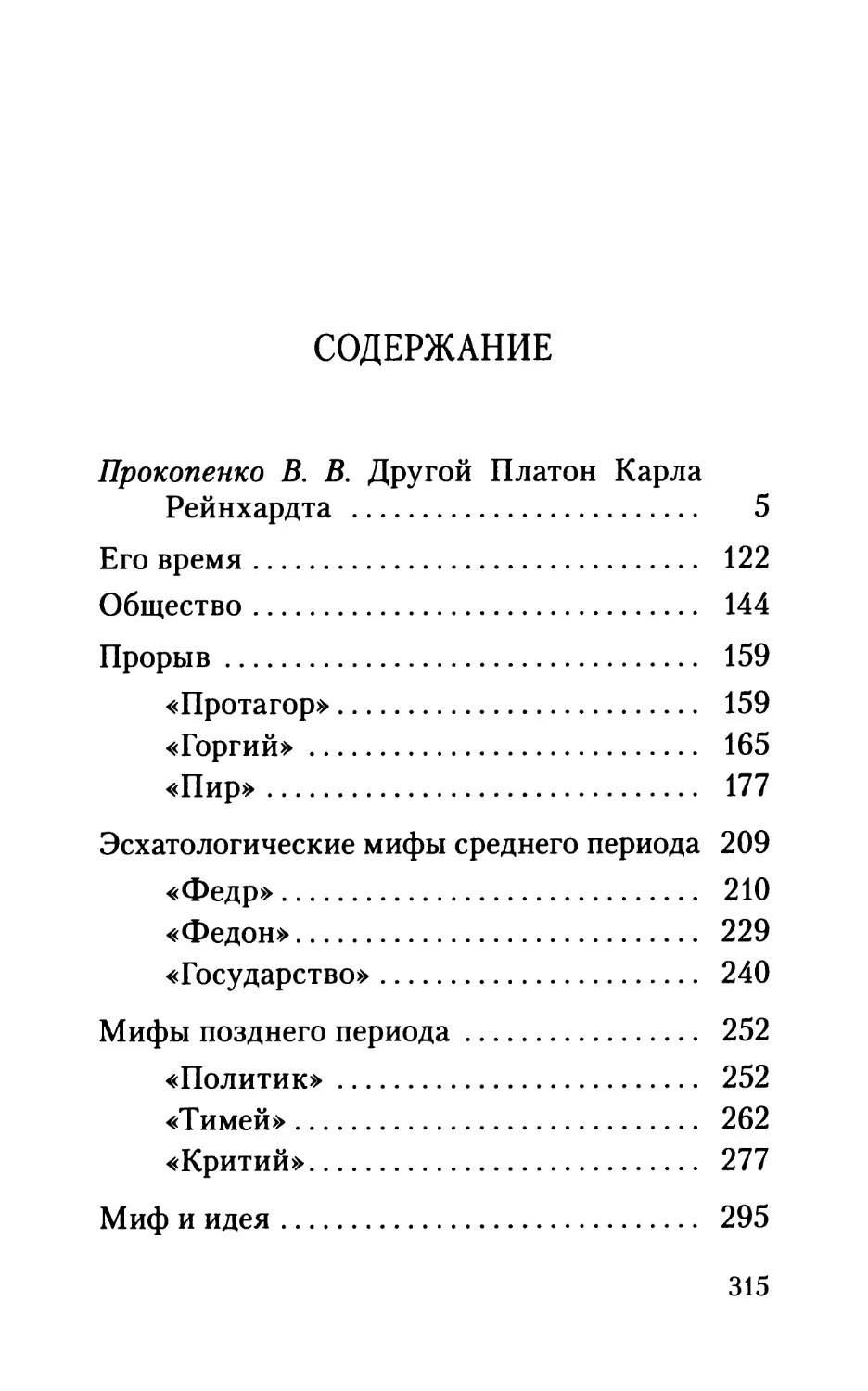Автор: Рейнхардт К.
Теги: философия психология всемирная история философии филология
ISBN: 978-5-93615-206-1
Год: 2019
Текст
PLATONIANA
KARL REINHARDT
PLATONS
MYTHEN
КАРЛ РЕИНХАРДТ
МИФЫ
ПЛАТОНА
Перевод с немецкого
И. П. Стребловой
Санкт-Петербург
«Владимир Даль»
2019
УДК 1(091)(38)
ББК 87.3(0)
Р35
Редакционная коллегия
серии «PLATONIANA»:
В. М. Камнев, П. Ю. Костюшин, Б. В. Марков,
И. Н. Мочалова (зам. председателя), А. И Мельников,
А. В. Перцев, В. В. Прокопенко (председатель),
Я. А. Слинин, С. Н. Тихомиров (ученый секретарь),
А. Л. Шишков
Издано при поддержке
Фонда реализации общественных проектов
«Время»
© Издательство «Владимир Даль»,
серия «PLATONIANA»
(разработка, оформление), 2018 (год
основания), 2019
© Стреблова И. П., перевод с
немецкого, 2019
© Прокопенко В. В., статья, 2019
ISBN 978-5-93615-206-1 © Палей П., оформление, 2019
Другой Платон
Карла Рейнхардта
Карл Людвиг Рейнхардт родился 14
февраля 1886 года в Детмольде, небольшом
городке в земле Северный Рейн-Вестфалия,
который, впрочем, на протяжении
нескольких столетий был столицей: сначала
государства Липпе-Детмольд, затем
графства и княжества Липпе, а после
германской революции 1918 года —
государственного образования «Свободное государство
Липпе». Детмольд располагается всего
в нескольких километрах от Тевтобург-
ского леса, где в 9 году новой эры
произошел знаменитый разгром легионов Публия
Квинтилия Вара германскими
племенами — одно из тех событий
всемирно-исторического значения, в котором сплелись
судьбы греко-римского и германского ми-
5
ров. Зримым напоминанием об этом
возвышается неподалеку от Детмольда
величественный памятник вождю германцев
Арминию, установленный в 1875 году.
Впрочем, видеть в этих историко-геогра-
фических обстоятельствах знаки
судьбы, намекавшей на будущее Карла Рейн-
хардта, выдающегося филолога-классика,
было бы, наверное, преувеличением,
особенно учитывая то, что семья Рейнхардт
вскоре после рождения сына покинула
Детмольд. И значительно более важным
обстоятельством в формировании
жизненных приоритетов и научных интересов
Рейнхардта стало влияние его отца. Карл
Пауль Фридрих Рейнхардт, известный
педагог и реформатор германской школы,
изучал филологию в Боннском
университете, где познакомился с Ницше. Затем,
приглашенный на должность директора
Лессинговской гимназии во
Франкфурте, он близко общался с выдающимися
филологами-классиками Германом Узене-
ром и Людвигом Дойбнером. Еще одним
другом семьи Рейнхардт был Пауль Дейс-
сен, выдающийся индолог и знаток
греческой философии, защитивший в Марбурге
6
диссертацию о Платоне.1 Дейссен был
выпускником Пфорты и соучеником Ницше,
которому он, как вспоминал впоследствии
Виламовиц, помогал с греческим языком и
математикой, а Ницше в свою очередь
передал ему свою любовь к Востоку. Образно
говоря, тень Ницше постоянно
присутствовала в семье Рейнхардт. Педагогические
идеи Рейнхардта-старшего, которые,
несомненно, несли на себе следы этого общения,
позднее оформились в проект «Frankfurter
Lehrplan», предполагавший глубокое
изучение древних языков. В рамках
проекта в 1897 году была открыта Гётевская
гимназия, которую возглавил Рейнхардт-
старший, ее же в 1904 году закончил Рейн-
хардт-младший. В 1905 году, пойдя по пути
1 Автор, кроме прочих, работы «Веданта
и Платон в свете Кантовой философии», еще
в 1911 году переведенной на русский язык
М. Сизовым и вышедшей в издательстве «Му-
сагет». В 1870 году Дейссен по рекомендации
Ницше в Женеве был принят учителем в
русскую дворянскую семью Каншиных, а потом
некоторое время жил и работал в Российской
империи (в имении князя Щербатова в
Тернах, Харьковской губернии).
7
своего отца, он поступает в Боннский
университет для изучения классической
филологии. Учителями Рейнхардта в Бонне
были член-корреспондент Петербургской
академии наук Антон Бюхелер (греческая
поэзия) и Август Бринкман, ученик и
преемник Германа Узенера в должности
ординарного профессора Боннского
университета (история искусств и археология).
После четырех семестров в Бонне Карл
Рейнхардт переводится в Берлинский
университет. Непосредственным поводом для
переезда в Берлин послужило назначение
Рейнхардта-старшего на высокую
должность в прусском министерстве культуры,
однако главным было то, что в Берлинском
университете преподавал Ульрих фон Ви-
ламовиц-Мёллендорф, также выпускник
Боннского университета, к тому времени —
филолог-классик мирового уровня, работы
которого стали одной из вершин науки об
античности XIX—XX веков. Под
руководством Виламовица Карл Рейнхардт пишет
на латыни диссертацию, посвященную
аллегорически-теологическому толкованию
Гомера («De Graecorum theologia»), которую
успешно защищает в 1910 году.
8
После государственного экзамена он
некоторое время работает в гимназии в Гросс-
Лихтерфельде, затем оправляется в
путешествие по восточному Средиземноморью — он
побывал в Греции, пересек Эгейское море и
посетил Малую Азию. В августе 1914 года
Рейнхардт получает хабилитацию в
Бонне (хабилитационная работа «Наблюдения
в первых трех книгах географа Страбона»)
со своим прежним наставником Бринк-
маном. В 1916 году он преподает
классическую филологию в Марбургском
университете в качестве экстраординарного
профессора. В этом же году выходит из
печати первая большая работа Рейнхард-
та, которая сразу сделала его знаменитым:
«Парменид и история греческой
философии». В этой книге (С. С. Неретина
назвала ее «завораживающей») творческая
индивидуальность Рейнхардта проявила
себя ярко и с вызовом. Книга написана
в манере, изощренно сплетающей строгий
академический стиль с выразительностью
и суггестивностью поэтической речи,
автор вовлекает читателя в драматическое
состязание, в котором сталкиваются два
персонажа — Парменид-мистик и Парме-
9
нид-логик. Учение Парменида о бытии,
которое ко времени выхода книги Рейнхардта
позитивистская наука об античности уже
привычно изображала в виде унылого ряда
школярских тезисов, последовательно
приписывающих бытию свойства единства,
покоя, завершенности, у Рейнхардта вновь
обретает свою исходную греческую
многомерность и истинную спекулятивность
любознательного греческого разума. Рейн-
хардт смело атакует традиционные
представления науки об античности — самой,
наверное, консервативной области
гуманитарного знания. Привычные методы
классической филологии кажутся Реинхардту
ограниченными, и он явно не очень
рассчитывает на то, чтобы истину учения
Парменида путем анализа и сравнения извлечь
из текста поэмы (который — невероятная и
редкая удача — относительно неплохо
сохранился). Рейнхардт отвергает
традиционные интерпретации, освященные двух-
тысячелетней историей чтения Парменида.
Он видит в Пармениде «мыслителя-поэта»
(Denker/Dichter), что резко меняет
привычное восприятие всей ранней греческой
философии как «фисиологии», заданное
ю
еще Аристотелем. Обращаясь к сравнению
взглядов Парменида и Гераклита Эфесско-
го, которого Рейнхардт вопреки традиции
считает младшим современником
Парменида, он предлагает рассматривать учение
Гераклита как своего рода ответ на вызов
Парменида. Ксенофана же он
рассматривает не как учителя Парменида, а просто
как популяризатора его учения. Рейнхардт
пишет с вызовом, он будто специально
раздражает и провоцирует ответную
реакцию со стороны коллег. Молодой ученый
вступает в полемику с самим Германом
Дильсом, предлагая собственный перевод
одного из мест у Ксенофана (В25) — и в
будущем Вальтер Кранц признает правоту
Рейнхардта, включив его вариант в
пятое издание «Фрагментов досократиков».
Жан Бофре пишет об эффекте, который
произвело появление книги Рейнхардта
«в таком охраняемом филологией
заповеднике, каким был мир досократиков»: «Во
Франции Дие был, кажется, обескуражен
интерпретацией Рейнхардта, которую он
в 1923 году, в коротком примечании к
своему изданию „Парменида" Платона,
отбрасывает как „слишком смелую". После этого
и
уже никто о ней ничего не будет говорить.
Причина такого национального
протекционизма была совсем простой и
заключалась, возможно, в том, что Реинхардта
нелегко читать. Благодаря этому он
обречен самое большее пополнять знаменитые
библиографии, которые иногда восхищают
наивных студентов, плененных мнимым
всеведением своих профессоров».1 Бофре,
конечно, преувеличивает — он сам позже
вспоминает о том, как высоко
Реинхардта оценил Хайдеггер, как впоследствии
к рейнхардтовской интерпретации Пар-
менида присоединились многие
исследователи античности. Карл Поппер в своей
книге о Пармениде называет
Реинхардта «гениальным» и говорит, что в высшей
степени восхищен им, несмотря на то что
с выводами его он чаще всего не
согласен. Попперу недостает у Реинхардта
научной сдержанности и объективности. По
мнению Поппера, Рейнхардт, выдвигая
сильные аргументы в поддержку своей
1 Жан Бофре. Диалог с Хайдеггером: В 4 кн. /
Пер. В. Ю. Быстрова. СПб.: Владимир Даль,
2007. Кн. 1: Греческая философия. С. 84.
12
позиции, не уделяет должного внимания
возможным контраргументам. Похожие
упреки Рейнхардт получал и при жизни,
начиная со старта своей научной карьеры.
Как мы заметили, к признанным в науке
авторитетам Рейнхардт относится без
всякого почтения. Он оспаривает не только
Дильса, но и своего учителя Виламовица,
причем уже не в частностях, а в
основополагающих подходах к пониманию
античной мысли. «Рядом с Виламовицем,
утрачивающим смысл, чтобы сохранить текст,
и с Дильсом, изменяющим текст, чтобы
спасти смысл, оригинальность Рейнхардта
выражается в том, что он требует от
филологии найти средства сохранить и текст,
и его смысл».1 Ж. Бофре, которому
принадлежат эти слова, говорит о некой
«третьей возможности», которую стремится
открыть Рейнхардт в поэме Парменида. Речь
идет о его стремлении понять учение
Парменида не в привычной двойственности
(путь истины против пути мнения), а
трояко — как учение об истине, заблуждении
и об истине заблуждения, И когда мы зна-
1 Там же. С. 90-91.
13
комимся с творческой биографией Карла
Рейнхардта, мы видим, что все его
дальнейшее творчество, о чем бы он ни писал, это
все тот же, заявленный им с самого
начала поиск новых возможностей понимания
древних.
Между тем академическая карьера
Рейнхардта развивается достаточно успешно:
в 1916—1917 годах он занимает
профессорскую должность в университете Грайфс-
вальда, в 1919-м — Гамбурга, а в 1922 году
он возвращается в город своего детства,
Франкфурт-на-Майне. Рейнхардта
неоднократно приглашали переехать в Гамбург,
но он всякий раз отказывался. Во
Франкфуртском университете Рейнхардт
находит прекрасную обстановку для научной
работы, у него складывается свой круг
профессионального и дружеского
общения, в который в разное время входят
знаменитый теолог и философ Пауль Тиллих,
дипломат и философ Курт Рицлер,
философ Ганс Липпс, историк Эрнст
Канторович, поэт Макс Коммерель, эллинист и
религиовед Отто. Рейнхардт публикует
ряд трудов, выдвинувших его в ряд
виднейших специалистов по античной куль-
14
туре и философии. Особенный резонанс
вызвали работы Рейнхардта о Посидонии
и Софокле.1 Автор вновь сумел удивить
своим нестандартным подходом к
использованию научного аппарата,
специфической стилистикой и, главное, отчетливым
скептицизмом в отношении устоявшихся
в классической филологии представлений
о предмете его исследований. После
выхода его книг о стоике Посидонии у
критиков появилось новое определение жанра,
в котором будто бы работал Рейнхардт:
«филология без доказательств», или
«интуитивная филология». Уже после смерти
Рейнхардта его ученик Уво Хёлыпер
постарался отвести эти обвинения,
подчеркивая, что семилетняя работа Рейнхардта
по исследованию источников о
Посидонии не нашла отражения в тексте издания
1921 года из-за редакторской ошибки, что
и привело к искаженному представлению
о методологии Рейнхардта, который в из-
1 Reinhardt К. 1) Poseidonios. München:
С. H. Beck, 1921. 475 S.; 2) Kosmos und
Sympathie: Neue Untersuchungen über Poseidonios.
München: С H. Beck, 1926. 418 S.; 3) Sophokles.
Frankfurt a. M.: Klostermann, 1933. 288 S.
15
дании 1926 года восстановил все ссылки
и примечания. Эти объяснения, однако, не
могут скрыть очевидной склонности
Рейнхардта к использованию идей культурной
морфологии, его стремления отстраниться
от текстологии и направить внимание на
внутренний образ мыслителя (das Gestalt),
которые и привели его к открытию
совершенно нового и неожиданного для
академической науки философа — Посидония,
в котором, как и ранее в Пармениде, Рейн-
хардт увидел значимое для нашего
понимания стоицизма религиозное
пантеистическое содержание. И что самое главное,
безошибочная точность реакции критиков
«интуитивной филологии» была блестяще
подтверждена в 1927 году книгой
Рейнхардта о мифах Платона.
Вскоре в Германии начинается череда
драматических событий, которые
коснулись и Рейнхардта: после того как нацисты
пришли к власти, началась
стремительная нацификация немецких
университетов, в рамках которой была проведена
кампания по устранению из
университетов профессоров не только «неарийского
происхождения», но и просто не вырази-
16
вших лояльности новой власти. Курт Риц-
лер был вынужден оставить университет
и спустя пять лет эмигрировал в США,
Эрнст Канторович отказался присягнуть
на верность новой власти, в итоге
лишился кафедры и был уволен, позже ему тоже
пришлось эмигрировать. Макс Коммерель,
выступивший в поддержку Рицлера, также
был уволен. Университетское сообщество
было потрясено и психологически
угнетено, по воспоминаниям очевидцев, не
только брутальностью власти, но и той
энтузиастической поддержкой, которую выказали
режиму толпы фанатично настроенного
студенчества. Инстинкт самосохранения
и моральная дезориентация подталкивали
многих интеллектуалов к тому, чтобы
присоединиться к тем, кто уже
солидаризовался с гитлеровским режимом. 11 ноября
1933 года появляется печально известное
«Заявление профессоров немецких
университетов и вузов о поддержке
Адольфа Гитлера и национал-социалистического
государства», в котором более чем 900
немецких ученых и преподавателей
провозгласили лозунг: «С Адольфом Гитлером за
честь, свободу и право народа Германии!»
17
Надо заметить, что в списке тех, кто
своей подписью поддержал этот лозунг,
много известных гуманитариев (8 филологов-
классиков, 18 философов, 46 историков),
в том числе Мартин Хайдеггер, Ганс-Георг
Гадамер, Отто Больнов, Арнольд Гелен. Из
ближайших коллег Рейнхардта заявление
подписал Фридрих Клингнер, специалист
в области латинской и греческой
литературы, с которым Рейнхардт работал
позднее в Лейпциге. Одумавшийся и
выразивший верность нацистской власти Макс
Коммерель был возвращен на должность
доцента германской филологии во
Франкфурте, в 1939 году он вступил в НСДАП и
с 1941 года до своей смерти в 1944 году был
профессором немецкой филологии в Мар-
бургском университете.
Карл Рейнхардт, человек академичный
и в общем-то далекий от политики,
решается на смелый поступок: 5 мая 1933 года
он пишет министру науки воспитания и
образования Пруссии Б. Руску письмо,
в котором заявляет о своем добровольном
отказе от должности профессора
Франкфуртского университета, ссылаясь на
невозможность в сложившихся условиях
18
работать, следуя принципам немецкой
гуманистической традиции. Отставка
принята не была, министерство настоятельно
рекомендовало Рейнхардту хорошо
обдумать последствия своего решения, и спустя
шесть недель он все-таки вернулся к
преподаванию. В своей автобиографической
статье 1955 года1 Рейнхардт объяснит мотивы,
которыми он руководствовался, и станет
ясно, что это было для него действительно
непростым решением: не признав
нацистский режим, он все же посчитал для себя
невозможной неизбежную в случае
отставки эмиграцию и решил разделить свою
судьбу с народом Германии, с близкими,
друзьями и учениками. В дальнейшем,
несмотря на постоянно грозившую ему
опасность со стороны властей рейха, Рейнхардт
продолжал упорно работать, созданные им
в эти годы произведения составили
сборник «Von Werken und Formen», вышедший
в 1948 году. Окончание войны и падение
гитлеровского режима Рейнхардт встре-
1 Reinhardt К. Akademisches aus zwei
Epochen. Wie ich klassischer Philologe wurde // Die
Neue Rundschau. 1955. LXVI. 37 S.
19
тил в Лейпциге, где он с 1942 по 1946 год
работал на историко-филологическом
отделении философского факультета по
приглашению ректора университета Гельмута
Берве, историка-антиковеда, убежденного
нациста и члена НСДАП с 1933 года,
который, однако, посчитал должным прикрыть
своим авторитетом главного фашистского
историка Греции от возможных репрессий
некоторых своих коллег, не столь
лояльных к Третьему рейху.
После возвращения во Франкфурт
Рейнхардт выпускает ряд
фундаментальных работ, которые получили широкий
отклик и были переведены на множество
языков. Он работает над традиционными для
классической филологии темами о Еври-
пиде и Гомере, пишет статью о Посидонии
в знаменитой энциклопедии Паули-Вис-
сова, но также много размышляет о
методах и целях изучения древности, о судьбе
науки об античности. Рейнхардт
становится академиком Прусской, Саксонской
и Британской академий наук (Баварская
академия наук приняла его в свои члены
еще в 1937 году), в 1952 году его
награждают орденом «За заслуги в науке и искус-
20
стве» (Pour le Mérite für Wissenschaften und
Künste), который он, как говорят, «принял
с благосклонным равнодушием истинного
мудреца».1 В 1957 году он пишет
последнюю свою работу, эссе о Еврипиде («Die
Sinneskrise bei Euripides»), представленное
в виде доклада международному
интеллектуальному клубу «Эранос», и вскоре, 9
января 1958 года, Карл Рейнхардт ушел из
жизни, так и не закончив книгу об
«Илиаде», над которой работал в свои последние
дни (позднее она была издана учеником
Рейнхардта Уво Хёльшером).
Книга «Мифы Платона» вышла из
печати в 1927 году в боннском издательстве
«Фридрих Коген», впоследствии
неоднократно переиздавалась (последний раз
в 2017 году), была переведена на ряд
европейских языков (французский,
итальянский, румынский) и до сих пор остается
непременным элементом всех платоновед-
ческих библиографий. Но обращает на себя
внимание то обстоятельство, что упомина-
1 Lasso de la Vega J. Karl Reinhardt y la filolo-
gia clâsica en el siglo XX (Cuadernos de la «Funda-
rion Pastor», 30). Madrid, 1983.
21
нием «Мифов Платона» в списке
литературы современные исследователи чаще всего
и ограничиваются. Особенно это касается
англо-американских платоноведов: даже
в тех случаях, когда речь идет о
специальном рассмотрении темы «Платон и миф»,
они проявляют необъяснимое
равнодушие к книге Рейнхардта. Возможно, это
связано с тем, что «Мифы Платона» так и
не были переведены на английский язык,
хотя само это обстоятельство тоже
выглядит несколько странно, учитывая мировую
известность Рейнхардта и высокие
оценки его книги (например, Гадамером). Так,
к примеру, в объемном коллективном
труде 2012 года «Платон и миф. Исследования
об использовании и статусе платоновских
мифов»1 только один автор цитирует эту
работу Рейнхардта — профессор из
Сорбонны Моник Диксо. Люк Бриссон, на
сегодня один из крупнейших специалистов по
Платону, в своей книге «Платон, мифотво-
1 Plato and Myth: Studies on the Use and
Status of Platonic Myths / Ed. by Catherine Col-
lobert, Pierre Destrée and Francisco J. Gonzalez.
Leiden: Brill. 476 p.
22
рец»1 ограничивается одной дежурной
библиографической ссылкой. Примерно так
же ведут себя и другие авторы, причем книга
Рейнхардта не удостаивается даже
упоминания в обзорах платоноведения XX века
(Е. Тигерстедт, X. А. Корлетт, Д. Пресс и др.)2
и энциклопедиях (например, в
библиографическом списке к статье «Мифы Платона»
в Стэнфордской энциклопедии
философии). В классической «Истории греческой
философии» У. Гатри «Мифы Платона» не
упоминаются ни разу даже в
библиографических списках, и в двух томах,
посвященных Платону, Гатри ни разу не
вспоминает о Рейнхардте, на которого до этого он
много раз ссылался при рассмотрении
учений Парменида, Гераклита и Эмпедокла.
1 Brisson L. Plato the Myth Maker / Transi.,
ed. and with an introduction by Gerard Naddaf.
Chicago: University of Chicago Press, 2000. 188 p.
2 Tigerstedt E. N. Interpreting Plato.
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1977. 157 p.; Corlett
AngelloJ. Interpreting Platon Dialogues. Las
Vegas: Parmenides Publishing, 2005. 146 p.; Plato's
Dialogues: New Studies and Interpretations / Ed.
by Gerald A. Press. Lanham: Rowman & Little-
field Publishers Inc., 1993. 277 p.
23
Чем вызвано такое отношение, неясно:
предположить, что книга Рейнхардта
попросту устарела, как это часто бывает с
научной литературой, нет никаких оснований,
ведь многие исследователи античности,
авторы старше Рейнхардта, и сегодня
воспринимаются как наши современники;
революционных открытий текстологического или
археологического характера в этой области
не случилось, методология исследований
изменилась, но вряд ли стала
кардинально иной и более совершенной. Безусловно,
в платоноведении последнего столетия
несколько раз серьезно менялась общая
направленность взгляда на учение Платона,
формировались и вступали в борьбу друг
с другом новые парадигмы платоновских
исследований: классическая
догматическая, ориентированная на вычитывание
философской системы Платона из текстов
его диалогов; тюбингенские и штрауссиан-
ские поиски истины платоновского учения
за пределами его сочинений в неком
неписаном учении; драматический подход,
предложивший исследовательскую стратегию,
сконцентрировавшуюся на анализе
платоновских нарративов. Но вся эта конкурен-
24
ция многообразных подходов не исключает
их взаимного признания, влияния и
обогащения. Почему же, в таком случае,
книга, которую издательство «Клостерманн»
представляет в 2017 году как «открывшую
новую главу в интерпретации Платона»,
оказалась фактически исключенной из
актуальных исследований Платона? Более
того, сам автор спустя годы также
дистанцировался от своей книги, заявив: «Это
эссе было обусловлено своим временем, и
в этом ничего изменить невозможно. В его
оправдание можно сказать, что в 1920 году,
когда оно было написано, скорее
платоновский миф представлялся обойденным
вниманием в пользу логоса, чем наоборот»
(перевод М. Маяцкого).1 С этим трудно
спорить: господствующее в первой
четверти XX века видение Платона определялось
преимущественно позитивистскими и
неокантианскими интерпретациями, которые
вовсе не считали платоновские мифы
чем-то существенным для понимания
философии Платона, последняя же, в свою
1 Reinhardt К. Vermächtnis der Antike.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1960. S. 219.
25
очередь, практически полностью
поглощалась пресловутым «учением об идеях».
Невысоко оценивали роль мифа в учении
Платона и признанные классики немецкой
науки об античности. В этом вопросе было
очень сильным влияние гегелевской
историко-философской оценки мифов Платона
как свидетельства того, что Платон еще не
сумел освободить философские понятия
от чувственного содержания. Так, Эдуард
Целлер выразил свое отношение к
платоновским мифам совершенно в духе Гегеля:
«Оживлению этого изображения
[философии] содействуют также мифы, в которых,
как и в остроумной драматической
обстановке многих диалогов, сказывается
поэтическая натура Платона; но вместе с тем эти
мифы свидетельствуют о пробелах в его
системе, так как они вторгаются
обыкновенно именно там, где предмет не
допускает более точного научного определения».1
Альтернативные оценки роли мифа в
платоновской и греческой философии в
целом, не вписывавшиеся в господствовав-
1 Целлер Э. Очерк истории греческой
философии. СПб.: Алетейя, 1996. С. 111.
26
шее представление о греческой философии
как борьбе логоса с мифом и философии
как о логосе, победившем в этой борьбе,
тогда можно было обнаружить
преимущественно за пределами академической
науки и университетских сообществ, там, где
сказывалось влияние Ницше,
Шопенгауэра, Шпенглера, философии жизни. И,
безусловно, мощным генератором идей такого
рода стал круг Стефана Георге —
сообщество, интригующая история которого
полна тайн и загадок, а роль его в культурной
жизни Германии и всей Европы до сих пор
остается неоцененной в полной мере, при
том что, по утверждению Р. Нортона,
автора самого обстоятельного из
немногочисленных исследований георгеанства,
«группа людей, которую Стефан Георге собрал
вокруг себя и которая формально стала
известной как „круг Стефана Георге",
представляет собой, возможно, самое важное
культурное явление в Германии в течение
первых трех десятилетий XX века».1
1 Нортон Р. Тайная Германия: Стефан
Георге и его круг / Пер. с англ. В. Ю. Быстрова.
СПб.: Наука, 2016. С. 6.
27
Принимая во внимание такую
высокую оценку, странным выглядит то, что
философская деятельность георгеанцев на
протяжении долгого времени оставалась
и остается своеобразным слепым пятном
в истории европейской культуры. В
круге Георге огромное значение придавалось
философии греков и особенно Платона, но
для академической науки труды
георгеанцев будто бы никогда и не существовали.
Это молчание, которое резко
контрастирует с вниманием к личности и
творчеству самого Стефана Георге,
признанного одним из крупнейших поэтов XX века,
имеет свое объяснение, которое обращает
нас к причинам не только научного, но и
политического характера. Политический
аспект здесь очевиден — идеология и
принципы организации Круга Георге (George-
Kreis) вызывают однозначные
ассоциации с Третьим рейхом: культ вождя (der
Führer), в котором воплощено торжество
иррационального творческого начала над
плоской обывательской рассудочностью,
тотальный контроль всех аспектов жизни
участников Круга, включая самые
интимные стороны, при том что фигура самого
28
Мастера окружена плотной завесой
молчания о его биографии и личной жизни, ведь
вождь — это не только индивидуальность,
но и мировое начало, от него исходит
импульс воли, страсти, воображения,
соединяющий учеников в единое целое,
подобное живому организму. Рациональное
начало здесь безоговорочно подчинено
мифологическому. И важнейшим из мифов,
культивировавшихся в Круге, был миф
о рождении его участников из духа Георге:
Р. Нортон тонко заметил, что Георге хотел
бы быть отцом и матерью для своих
последователей, более того, он хотел бы этого и
для себя. Желание, странное и
невыполнимое с точки зрения здравого смысла, но
не мифологического мировоззрения,
воплотилось в отношениях Георге-учителя
и его учеников. «Тайная Германия» Георге
замышлялась как государство
воспитания — и таким же (Erziehungsstaat) позднее
объявит себя и Третий рейх. Нацисты все
делали с опозданием, позже георгеанцев,
а за внешним сходством скрывались
принципиальные различия между георгеанским
Царством Духа и гитлеровской
диктатурой мелких лавочников. Но, к сожалению,
29
этого сходства оказалось достаточно для
того, чтобы в общественном мнении тень
нацистских преступлений
ретроспективно легла и на Круг. Обратим внимание на
одну символическую деталь: книги георге-
анской серии, выходившие в издательстве
Георга Бонди, помечались знаком
свастики, но ведь началось это задолго до того,
как свастика была утверждена Адольфом
Гитлером в качестве официального
символа Национал-социалистической
немецкой рабочей партии. Конечно, перед нами
явный анахронизм восприятия, но именно
такие детали послужили достаточным
основанием для того, чтобы после крушения
нацистского режима в рамках процедуры
денацификации Германии сделать табуи-
рованным в респектабельном научном
сообществе всякое публичное упоминание
о георгеанцах (некоторые из них,
следует все-таки признать, были
действительно отъявленными нацистами).1 Ученики
1 Попытки привязать самого Георге к
нацистскому режиму в качестве его
идеологического предшественника и союзника тоже
предпринимались, причем как со стороны са-
30
мих нацистов, так и их
противников-антифашистов. Георг Лукач пишет о «фашизации
буржуазной литературной теории»: «Эта
фашизация обнаруживается в развитии уже
знакомых нам фигур предвоенной эпохи (Стефан
Георге, Гундольф и Пауль Эрнст), которые
быстро перерабатывают свои теории в
направлении фашистского „активизма"» {Лукач Г.
Фашизм и теория литературы в Германии //
Против фашистского мракобесия и демагогии: Сб.
статей / Под ред. И. Дворкина и др. М.: Соцэк-
гиз, 1936. С. 308). На защиту Георге стали
многие известные деятели культуры, в том числе и
те, кому антидемократический этос Георге
совсем не был близок. Клаус Манн, сын
писателя Томаса Манна, еще в 1933 году выступил со
статьей «Молчание Стефана Георге», где
заявил, что, несмотря на «ухаживания» за ним со
стороны нацистской власти, Георге себя с ней
никогда не отождествлял: «Гитлер — и
Стефан Георге: два мира, которые никогда не
могут сойтись. Два рода Германии» {Mann К. Das
Schweigen Stefan Georges // Die Sammlung. 1933.
Jg. 1. S. 103). Несовместмость взглядов Георге
и нацистской идеологии косвенно признали
и сами власти рейха, когда 9 июля 1943
года правительственное пресс-бюро совместно
с Министерством пропаганды
распространило инструкцию для ведома и исполнения
всеми средствами массовой информации:
рассматривать Стефана Георге исключительно как
31
Георге выпустили ряд неординарных и
крайне вызывающих работ о Платоне,
которые бесцеремонно нарушали все
нормы историко-философского исследования,
общепринятые правила научного
дискурса, обычную стилистику изложения
и оформления, а самое главное,
содержали довольно странные, непонятные, дикие
идеи, не имеющие ничего общего с
привычной серьезной академической наукой.
Кроме того, сочинения георгеанцев часто
содержали грубые нападки на классиков
университетской науки об античности и
в целом на науку. И конечно, когда геор-
геанцы скомпрометировали себя
близостью к нацизму, не только кажущейся, но
иногда и вполне реальной (как у Курта
Хильдебрандта или Эдгара Залина,
«официального фашистского философа
античной истории»1), то это дало удобный повод
единичную личность, обусловленную своим
временем, а о круге его единомышленников и
сторонников не вспоминать ни единым
словом (!).
1 Лурье С. Я. О фашистской идеализации
режима древней Спарты // Вестник древней
истории. 1939. № 1(6). С. 98.
32
для того, чтобы сделать в академических
кругах какое-либо упоминание о довольно
объемной георгеанской платониане
неприличным. Сегодня разговор о георгеанском
Платоне, конечно, уже не является табуи-
рованным, но, как правило, за
исключением единичных работ1 и за пределами
специализированных изданий вроде «George
Jahrbuch» для него отводится особенное
место, огражденное знаковыми словами
«фашизм», «нацизм» и т. п.2 Несмотря ни
на что, георгеанский миф о Платоне
оказал сильное влияние на умы многих
влиятельных ученых, в первую очередь тех, кто
способствовал реформированию
немецкой науки об античности в 20—30-е годы:
В. Йегера, П. Фридлендера, В. Ф. Отто и
1 Brecht F. J. Platon und der George-Kreis.
Leipzig: Dieterich, 1929. 84 S.; Starke E.-E. Das
Plato-Bild des George-Kreises. Köln (Diss.), 1959.
241 S.; Boehringer R. Mein Bild von Stefan George.
München: Küpper (Bondi), 1951. 239 S.
2 Rebenich S. «May a Ray from Hellas Shine
upon Us»: Plato in the George-Circle // BrilPs
Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi
Germany / Ed. by H. Roche and K. N. Demetriou.
Leiden, 2017. P. 178-204.
33
К. Рейнхардта. Следы георгеанского
влияния легко увидеть у Г.-Г. Гадамера, Э. Фё-
гелина, Л. Штраусса и их
многочисленных учеников. Гадамер в ходе дискуссии
с Хильдебрандтом признавал, что личный
опыт его оппонента, испытавшего
воспитательное влияние Георге, позволил тому
вновь открыть многое из того, что когда-то
занимало центральное место в диалогах
Платона, а Лео Штраус в письме Эрику
Фёгелину в 1951 году написал: «Вы
совершенно правы: Георге понял Платона
больше, чем Виламовиц, Йегер и вся гильдия
[ученых]».1
Рейнхардтовское эссе «Мифы Платона»
сразу же и без сомнений было воспринято
как «георгеанская книга». Эта оценка
прозвучала уже в первых рецензиях и не
изменилась до самой смерти Рейнхардта,
сопровождаясь сожалениями о том, что эта
работа повредила репутации Карла Рейн-
1 Faith and Political Philosophy: The
Correspondence between Leo Strauss and Eric Voegelin,
1934-1964 / Ed. by P. Emberly and B. Cooper.
University Park, PA: Pennsylvania State
University Press, 1993. P. 90.
34
хардта как филолога.1 На вопрос о том,
насколько оправдана георгеанская
идентификация «Мифов Платона», могут дать
ответ не только содержание и стиль
книги, но и внешние обстоятельства,
сопровождавшие ее написание. Карл Рейнхардт,
как мы знаем, нацистом не был. А вот
со многими людьми из Круга Георге его
связывали довольно близкие отношения.
Курт Хильдебрандт2 был его родственни-
1 Rossi L. Ε. Karl Reinhardt fra umanesimo e
filologia // Annali della Scuola Normale Superiore
di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia. Serie III.
1975. Vol. 5. No. 4. P. 1343.
2 Видный георгеанец, по образованию врач-
психиатр, защитивший, однако, под
руководством Пауля Наторпа докторскую
диссертацию «Борьба Ницше с Сократом и Платоном»,
автор скандальных расистских книг «Норма и
вырождение человека» и «Норма и упадок
государства», глумливого эссе о Виламовице,
написанного в оскорбительном тоне, в 1933 году
опубликовал книгу «Платон. Борьба духа за
власть», которая утвердила автора в статусе
главного платоника Круга. В том же году
вступил в НСДАП. Активно участвовал в
национал-социалистских проектах по мобилизации
гуманитарных наук.
35
ком (в 1914 году он женился на сестре
Карла Рейнхардта Софии), с Куртом
Зингером1, которому и посвящена книга «Мифы
Платона», Рейнхардт сблизился во время
1 Еще один участник георгеанского
сообщества как минимум с 1912 года.
Политэконом и экономический журналист, занимался
теорией денег, автор нескольких работ о
Платоне, в частности крайне неакадемичной
книги «Платон, основатель», вышедшей в свет
практически одновременно с книгой
Рейнхардта в 1927 году. Высказывал в печати
одобрение итальянскому фашизму, неоднократно
демонстрировал взгляды, близкие к
национал-социалистической идеологии. В 1931 году
уехал в Японию, преподавал политэкономию
и социологию в Императорском
университете Токио, откуда был вынужден уволиться
в 1939 году из-за своего еврейского
происхождения, по той же причине возвращение в
Германию стало для Зингера невозможным.
Эмигрировал в Австралию, где вскоре был
интернирован как «недружественный иностранец»
(обычная практика, широко применявшаяся
к беженцам из рейха в странах
антигитлеровской коалиции), позднее преподавал в
Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, под
конец жизни вернулся на родину в образе уже
не пособника, а жертвы нацистского режима.
36
своей работы в Гамбурге и продолжал свое
общение с ним вплоть до отъезда
Зингера из Германии. Макс Коммерель, о
котором уже упоминалось, с 1924 по 1927 год
был личным секретарем Стефана Георге,
в ближний круг Георге входил и уже
известный нам коллега Рейнхардта по
работе во Франкфурте историк Эрнст
Канторович. Однако с самим Стефаном Георге
Рейнхардт близко знаком не был и,
похоже, ни разу с ним не встречался.1
Все эти связи и отношения Рейнхардта
с учениками Георге не позволяют, однако,
безоговорочно причислить его к георгеан-
скому сообществу, которое требовало от
своих членов выполнения целого ряда
требований, предъявляемых не только к
образу мыслей, но и к формам поведения,
1 Хотя уже в 50-х годах Курт Хильдебрандт
в своих воспоминаниях упоминал о случае,
относящемся к 1926 году, когда Рейнхардт
будто бы отправился в Берлин и хотел
встретиться с Георге, но того в это время не было
в Берлине. Впоследствии Рейнхардт не
повторял таких попыток, желая сохранить свою
независимость. Этот случай 1926 года Рейнхардт
отрицал.
37
а также к личным отношениям с Георге и
соратниками по Кругу. М. А. Маяцкий1
назвал Реинхардта «малым георгеанцем», и
основанием для этого послужила именно
рейнхардтовская книга о Платоне, в
других же отношениях, замечает Маяцкий,
причислять Реинхардта к георгеанцам (как
это делал, например, К. Хильдебрандт)
было бы безосновательно. Однако даже и
в одном этом случае Рейнхардт не был
стопроцентным георгеанцем: при написании
«Мифов Платона» Георге для него был
только одним из источников вдохновения,
может быть, на то время самым сильным,
но далеко не единственным. Двумя
другими были Ницше и Виламовиц, влияние
которых на Реинхардта было значительно
более долгим и глубоким, так что на их фоне
георгеанство Реинхардта выглядит всего
лишь эпизодом, попыткой решить новы-
1 Маяцкий М. Спор о Платоне. Круг Ште-
фана Георге и немецкий университет. М.: Изд.
дом Высшей школы экономики, 2012. 344 с.
Книга М. Маяцкого — первое в отечественной
литературе подробное и объективное
исследование георгеанской платонианы, фактически
открывшее эту тему нашему читателю.
38
ми средствами старые проблемы.
Главной такой проблемой был вопрос о целях
и методах освоения античности, и в этом
вопросе учителя Рейнхардта, как
известно, представляли две крайние
взаимоисключающие позиции. Их противостояние
началось, возможно, еще в период учебы
в Пфорте, где Ницше учился тремя
классами старше Виламовица, но публичным оно
стало в 1872 году, когда молодой аспирант
Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф
опубликовал памфлет «Филология будущего»,
в котором резкой и не всегда корректной
критике была подвергнута книга базель-
ского профессора Фридриха Ницше
«Рождение трагедии из духа музыки».1 Затем
последовала бурная полемика, в ходе
которой в защиту Ницше выступили Эрвин
Роде и Рихард Вагнер, которым Виламо-
виц ответил во втором очерке «Филологии
1 Под конец жизни Виламовиц в своих
воспоминаниях сожалел об этом своем
выступлении, говоря, что позволил увлечь себя на
неверный путь, опубликовав сочинение, в
котором было «много детского». Впрочем, что
касается сути полемики, то, как считает
Виламовиц, он был прав и тогда, в 1872 году.
39
будущего». Оппоненты выдвинули целый
ряд взаимных обвинений, касающихся
самых разных аспектов научной и
литературной работы, включая знание греческой
истории и литературы, интерпретаций
античной культуры в целом и отдельных
культурных явлений, язвительно
комментировали стиль и манеры своих
противников. «Мы никогда не думали, что в деле
„служения Музам" царят столь грубые
нравы и что „благосклонность Муз"
оставляет после себя такую необразованность,
какую не могли мы не заметить на
примере одного из обладателей тем самым
„единственно непреходящим"»,1 — пишет Вагнер
о Виламовице, который со своей стороны
не остается в долгу, говоря о «грубо-про-
фанной неотесанности» своих оппонентов.
Надо сказать, подобного рода
дискуссии (именно с таким накалом раздражения
и стремлением задеть личность
оппонента) не представляли в антиковедении того
1 Рихард Вагнер Фридриху Ницше,
ординарному профессору классической филологии
Базельского университета // Ницше Ф.
Рождение трагедии // Сост., общ. ред., коммент. и вступ.
ст. А. Россиуса. M.: Ad Marginem, 2001. С. 285.
40
времени ничего экстраординарного, более
того, они были предопределены самим
характером тогдашней университетской
науки, в которой полемика стала важной
формой развития научного знания.
Кроме того, как остроумно заметил Г. Мост,
«тщеславие и обидчивость —
профессиональные болезни профессуры», а
«склонность к самопожертвованию и подавлению
своих эмоций, которая обычно является
предпосылкой удачной научной карьеры,
с годами порождает латентную ярость,
которая разгорается, точно сухая труха, при
малейшем намеке на недостаточное
признание несомненных, по мнению самого
ученого, заслуг».1 Но в данном случае
дискуссия явно вышла за пределы обычных
внутринаучных споров, под ударом
оказалась наука об античности как таковая
в том виде, в котором она развивалась на
протяжении последнего столетия, вместе
со своей тщательно разработанной мето-
1 Most G. W. One Hundred Years of Fractious-
ness: Disciplining Polemics in
Nineteenth-Century German Classical Scholarship // Transactions
of the American Philological Association. 1997.
Vol. 127. P. 349 (пер. с англ. С. Си лаковой).
41
дологией, всем научным аппаратом
классической филологии, который позволял
говорить об Altertumswissenschaften как об
образцовом гуманитарном знании. За это
совершенство пришлось заплатить
высокую цену — наука об античности, все
больше замыкаясь в собственных пределах и
не допуская в свой предмет ничего из
современности, сама все больше становилась
чуждой современности. Ницше и его
сторонники дают классической филологии
оценку, которая в конце XIX века
выглядела излишне критичной и
преувеличенной: «Филология не оказывает сегодня
никакого влияния на общее состояние
немецкого образования; в то время как
богословский факультет поставляет пасторов и
консистории советников, юридический —
судей и адвокатов, медицинский —
врачей, филология поставляет нам все одних
филологов, которые полезны могут быть
лишь между собой».1 Но уже в начале
следующего столетия этот диагноз блестяще
подтвердился, когда сами классические
филологи вынуждены были признать ото-
1 Рихард Вагнер Фридриху Ницше... С. 282.
42
рванность своей науки от действительных
запросов общественной жизни. Сильное
впечатление произвела и знаменитая речь
кайзера Вильгельма в 1900 году на
прусской конференции о проблемах школы, где
прозвучали слова о формализме и
неэффективности классического образования,
о ненужном для государства излишнем
количестве переобразованных пролетариев,
о том, что «мы должны воспитывать
национальных молодых немцев, а не молодых
греков и римлян». Для германской науки
об античности это значило значительно
больше, чем простую констатацию
научного кризиса: ведь с самого своего начала,
в соответствии с идеями Винкельмана и
Гёте, классическая филология в Германии
рассматривалась не просто как
исследования античной литературы и философии,
а как важнейший инструмент Bildung,
воспитания нации на вечных и совершенных
образцах античной культуры.
Исчерпанность классической парадигмы,
кризис в науке об античности и возможность
таких путей ее обновления, которые не
стали бы для нее смертным приговором, —
вопросы, которые активно обсуждались гер-
43
майскими учеными в период между двумя
мировыми войнами, но для Рейнхардта они
приобрели особую остроту — его
разрывали противоречия между пристрастием
к Ницше (которое в конечном счете и
привело его к георгеанству) с одной стороны
и с другой — ученичеством у Виламовица,
который в первой четверти XX века
становится уже не просто живым классиком,
а, по выражению М. Л. Гаспарова, «богом
классической филологии». И выдвигая
свои собственные стратегии изучения и
понимания античности, Рейнхардт упорно
стремился к тому, чтобы критически
переосмыслить и как-то привести к синтезу эти
взаимоисключающие влияния. Арнальдо
Момильяно говорит об этом стремлении
как о главном мотиве и основной
исследовательской проблеме Рейнхардта: «Всю
свою жизнь Рейнхардт пытался
объединить лояльность к Виламовицу и к врагам
Виламовица, Ницше и Стефану Георге».1
1 Momigliano A. Premesse per una discussione
su Karl Reinhardt // Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia.
Serie III. 1975. Vol. 5. No. 4. P. 1310.
44
Следует заметить, что в похожей ситуации
оказались многие выходцы из школы
классической науки о древности — В. Йегер,
П. Фридлендер, В. Шадевальд (так же
как и Рейнхардт — ученики Виламовица),
В. Ф. Отто и др. Следствием этого стало
то, что когда в 20—30-х годах XX века эти
ученые добились определяющего влияния
на германскую науку об античности, в ней
развернулось ожесточенное
противоборство между сторонниками традиционного
историзма и нового гуманизма
(«классицизма», Klassizismus). Рейнхардт входил
в число сторонников второго направления,
хотя и здесь не со всеми был согласен: так,
он решительно выступил против «третьего
гуманизма» В. Йегера, несмотря на то что
их сближало очень многое, в том числе и
пережитый ими обоими опыт георгеанско-
го влияния.
В «Мифах Платона» соревнование
между классическим филологическим и
экзистенциально-гуманистическим взглядами
у Рейнхардта поначалу не бросается в
глаза, хотя при дальнейшем чтении
становится ясно, что без того чтобы увидеть в книге
столкновение этих противоборствующих
45
начал, противоположных взглядов на
Платона, античность, греческую философию
и всю вообще духовную жизнь греков,
понять книгу Рейнхардта невозможно.1
Впрочем, чтение «Мифов» и без этого
оказывается непростым занятием, серьезно
обескураживающим современного
читателя, привыкшего к совершенно другим
книгам о Платоне. В первую очередь это
является эффектом своеобразной стилистики
работы, которая местами больше похожа
на пафосную поэму, чем на ученый
трактат. Речь Рейнхардта изобилует словами и
выражениями весьма экспрессивной
окраски, философские понятия
сопровождаются неожиданными и яркими эпитетами,
аллегории и метафоры удивляют, хотя, как
всегда, ничего окончательно не объясняют:
«Озноб при жаре и жар от озноба
симптоматичны для лихорадящего времени. <...>
Без этой лихорадки софистика никогда не
стала бы тем, чем была. Как только она пе-
1 Можно считать, что окончательная
позиция Рейнхардта в вопросе о путях
исследования античности сформировалась позже,
к 1941 году, (доклад «Классическая
филология и классическое»).
46
рестала быть холодным сосудом,
вмещавшим в себя кипение жизни, ее миссии
настал конец». Или: «Все сильней и сильней
нужно сгибать растущее дерево, прежде
чем оно рванет, как пружина, назад; водоем
должен наполниться до краев, прежде чем
он прорвет плотины, — плотины стиля,
условностей, приятного красноречия и,
наконец, самую крепкую плотину —
собственную робость, чтобы показать, что накипело
в душе. Сначала должно быть произнесено
кощунство, чтобы мог зазвучать гимн».
Эти выдержки показывают, насколько
сильное влияние георгеанского стиля
испытывал Рейнхардт при написании своей
книги. Приведенные пассажи из «Мифов
Платона» не выглядели бы инородным
телом в текстах Ф. Вольтерса, Ф. Гундольфа
или Г. Фридемана (из книги «Платон, его
гештальт»: «Аколасия — вот что начертано
на знамени тех, кто распылен во
вселенной: подобно метеорам падают они,
вырванные из вечно-безмятежного вращения
вокруг светящегося, согревающего центра,
угасая в пустом и холодном эфирном
пространстве и вспыхивая лишь от трения со
свистом пронзаемых ими чужих атмосфер,
47
гонясь таким образом за всем, что им
чуждо, и всем, что для них привлекательно, но
при этом истирая собственное тело в
бестелесную пыль, которую в конце концов
не могут зажечь уже ни чужой свет, ни
трение чужого воздуха»1). Сходство в
стиле здесь очевидно так же, как очевидно и
существенное отличие «Мифов Платона»
от других работ Рейнхардта. Почему так
случилось, что Рейнхардт, ученик Виламо-
вица, большую часть жизни бывший хоть
и оригинальным, новаторским, но все-таки
академичным автором и типичным
немецким мандарином по мировоззрению и
манерам, вдруг заговорил таким языком?
В своем автобиографическом сочинении
Рейнхардт вкратце рассказывает о той
борьбе, колебаниях и трудностях, которые
он испытывал при определении своей
позиции в выборе между научным, истори-
ко-критическим и гуманистическим ми-
фопоэтическим взглядом на античность.2
1 Friedemann H. Platon seine Gestalt. Berlin:
Georg Bondi, 1931. S. 10 (пер. Д. Скляднева).
2 Reinhardt К. Akademisches aus zwei
Epochen // Vermächtnis der Antike. Gesammelte Es-
48
«Мифы Платона» отмечают время
наибольшего и самого радикального влияния
на Рейнхардта мифопоэтических
настроений, что выразилось и в языке книги.
Окончательное оформление теоретической
позиции Рейнхардта завершилось довольно
поздно — к 1941 году, когда во
франкфуртском докладе «Классическая филология и
классическое»1 он представил более
сбалансированный подход, чем в 1927 году,
но все-таки решительно осудил историзм
за то, что тот видит в «классическом»
всего лишь продукт определенной
исторической эпохи, ушедшей в прошлое, а не
вечную ценность, актуальную во все
времена.
Стандарт академических
исследований платоновской мифологии, заданный
в классических работах конца XIX—начала
XX века, таких как диссертация Луи
Кутюра «De Platonicis Mythis» или труд «Мифы
says zur Philosophie und Geschichtsschreibung.
Göttingen, 1960. S. 380-401.
1 «Классическое» (das Klassische) — слово
из лексикона Ницше, которое Виламовиц
ненавидел, считая его ненаучным.
49
Платона» Джона Стюарта,1 предполагал
подробную каталогизацию всех мифов,
традиционных и авторских,
встречающихся в диалогах Платона, и их тщательный
филологический и исторический анализ,
на основе которого делались выводы о
значении и роли мифа в философском и
литературном творчестве Платона. До сих пор
по этому плану строится большинство
работ, посвященных платоновской
мифологии, при этом особое внимание уделяется,
как правило, историко-филологической
стороне вопроса: этимологии греческого
μΰθος, особенностям употребления этого
понятия в различные периоды греческой
истории, высказываниям Платона о мифе,
которые должны показать на изменения
в его понимании мифа. Центральным
вопросом в таких исследованиях остается,
как правило, проблема с долгой
историей — соотношение μΰθος и λόγος в
творчестве Платона. Много говорится о
функциях мифа в творчестве Платона: для чего
Платон обращается к использованию ми-
1 Stuart J. A. The Myths of Plato. London: Mac-
Millan and Co., 1905. 532 p.
50
фов и какую роль они играют в
выражении его философских идей, причем
основные ответы сегодня уже хорошо известны:
миф будто бы используется Платоном для
лучшего образного представления его
теорий, которые могут быть познаны
посредством понятий и без этих иллюстраций,
для рассказа о том, что выходит за
пределы философии и превосходит
философское познание, — например, о судьбе душ
после смерти; наконец, миф используется
Платоном как правдоподобная речь о том,
что находится на уровне дофилософском
(доразумном).1
В последние десятилетия все более
очевидным становится стремление
ограничить исследование платоновского мифа
эпистемологическим измерением и
вопросом о роли, которую миф у Платона
играет в познании. Более того, смещение
магистрального направления в платоноведении
в сторону исследования платоновских нар-
1 Энрике Берти называет первый вид мифа
философским, второй — метафилософским,
третий — инфрафилософским: Berti Ε. Il Mito
nella Filosofia di Piatone // Enciclopedia
Multimediale délie Scienze filosofiche, Rai Educational.
51
ративов привело к тому, что сегодня
большинство работ, посвященных
рассмотрению темы «миф и Платон», представляют
миф и логос просто двумя формами нар-
ратива и соответственно сосредоточивают
свое внимание не на самих мифах
Платона, а на платоновском дискурсе, на языке,
которым Платон говорит о мифе.1
Естественно, такой подход требует
основательности и пространства
значительно большего, чем полторы сотни страниц
рейнхардтовской работы. Книга Рейн-
хардта так скромна по объему, что
возникает вопрос: действительно ли автор,
который до этого уже стал известен
благодаря серьезным и в полном соответствии
с представлениями классической науки
об античности, достаточно объемным
работам, всерьез рассчитывал на
полноту раскрытия темы мифа в философии
Платона? Рейнхардт отказывается от по-
1 Эту тенденцию заметили еще
рецензенты первого издания книги Л. Бриссона
«Платон, мифотворец»: Platon: les mots et les mythes
by L. Brisson. Review by: Christopher Gill //
The Journal of Hellenic Studies. 1984. Vol. 104.
P. 207.
52
мощи своих предшественников и
современников — в книге не только нет ни
одной ссылки на современные ему научные
исследования философии Платона, но и
о древних авторах в ней он практически
не вспоминает. Так, Аристотеля Рейнхардт
упоминает лишь однажды, в самом конце
и только в связи с вопросом о том, почему
Аристотель искаженно понял идеи
Платона. Единственный автор, голос которого
постоянно звучит в тексте, — это сам
Платон, хотя надо заметить, что и слова
Платона Рейнхардт часто воспроизводит, не
особенно заботясь о буквальной точности
цитирования.
Почему автор ведет себя именно так,
каковы его цели и что все это значит для
современного читателя — в конце концов, от
ответов на эти вопросы зависит решение:
нужна ли сегодня книга Рейнхардта и
способна ли она внести что-то новое в наше
видение Платона? Говоря о «нашем
видении», я имею в виду тот образ Платона,
который существует здесь и сейчас, не
только в отечественной науке об античности,
в платоноведении, но и в представлениях
не профессиональных философов, истори-
53
ков и филологов, а просто образованных
и заинтересованных читателей
философской и научной литературы.
Современный «русский Платон»
разнообразен, даже парадоксален, в нем
сосуществуют представления,
интерпретации, предрассудки, пришедшие к нам из
разных времен и источников, представляя
самые разные, иногда радикально
несовместимые взгляды. Нельзя не заметить, что
существует как минимум три
современных «русских Платона».1 Первый из них —
это тот образ Платона, который сложился
в профессиональном сообществе
специалистов по античной философии. В
последние годы в России наблюдается настолько
очевидное оживление профессионального
1 Когда А. Ф. Лосев говорит о
множественности образов Платона (так же трех:
трансцендентальном, феноменологическиом и
мифологически-символическом), он имеет в виду
прежде всего исторический аспект: «...то или
другое понимание платонизма связано с той или
другой эпохой» (Лосев А. Ф. Очерки античного
символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993.
С. 684), тогда как мы говорим скорее о
социологическом аспекте этого феномена.
54
интереса к исследованиям Платона, что
впору говорить о своеобразном
«платоновском ренессансе»: усилиями энтузиастов
создаются научные общества и
исследовательские центры, проводятся конференции
и открываются магистерские программы,
возникли и выходят специализированные
журналы, появились новые переводы
ряда платоновских диалогов («Федр», «Пар-
менид»). Исследовательской литературы
о Платоне издается все больше, причем
не только отечественной, но и
зарубежной. Характерно, что из научного оборота
медленно, но уверенно исчезают те
устоявшиеся представления о Платоне, которые
определяли его восприятие в прежней
отечественной историко-философской науке.
Постепенно, но почти полностью, вытеснен
традиционный образ Платона конца XIX—
начала XX века, времен В. С. Соловьева и
С. Н. Трубецкого, теряют сторонников
интерпретации Платона, идущие от русской
религиозной философии: понимание
Платона как «аттического Моисея»,
христианина до Христа, уверенность в непрерывной и
органической связи платонизма с русской
философией, ставшей новым историче-
55
ским этапом в жизни идей Платона и т. д.
При этом заметим, что все это не исчезает
полностью, а просто перемещается во
«второго» и «третьего» Платона, о которых
разговор впереди. Сегодня широкий доступ
к мировым исследованиям Платона и
платонизма, который благодаря современным
коммуникационным технологиям
получили отечественные философы и историки
философии, стал предпосылкой
стремительного движения отечественной науки
о Платоне к интеграции в мировое научное
сообщество. Российские философы
публикуют свои работы в Европе и США,
принимают участие во всемирных Платоновских
симпозиумах, а такие всемирно известные
исследователи Платона, как Люк Бриссон,
Джеральд Пресс, Томас Слезак, Томас
Робинсон, приезжают в Санкт-Петербург,
Москву и Новосибирск, читают лекции и
пишут статьи для российских изданий.
Все больше становится очевидным, что
после длительной изоляции отечественные
исследователи Платона заговорили с
западным платоноведением на одном языке,
и все то, чем занята современная западная
наука о Платоне, уже в большей или мень-
56
шей степени представлено в работах
отечественных авторов.
Впрочем, эта оптимистическая
картина отражает ситуацию в довольно узком
профессиональном кругу, где
формируется этот, условно говоря, «первый Платон»,
Платон современной мировой науки. Там
же этот образ и живет, тогда как за
пределами круга начинается другое,
значительно более широкое пространство, занятое
«вторым Платоном». Этот Платон, с
которого будто бы начинается традиция
объективного идеализма, творец теории идей
и автор социальной утопии, остался нам
в наследство от советских учебников по
философии и, казалось бы, должен уже
давно вместе с ними уйти в прошлое. Тем не
менее, косметически подправленный, этот
образ до сих пор остается своего рода
стандартной версией в популярной и учебной
литературе. С ним знаком каждый, кому
довелось прослушать обязательный курс
философии в университете, неважно в
каком — техническом, педагогическом,
медицинском; иногда этот Платон хозяйничает
и на философских факультетах. Конечно,
жизнеспособность этого гомункулюса име-
57
ет свои причины, и они не сводятся только
к инерции мышления рядового
университетского преподавателя, который
некритически воспроизводит штампы, когда-то
усвоенные им от своих учителей. Когда
в этом есть необходимость, любые штампы
пропадают без оглядки на консерватизм
их носителей, как это произошло,
например, с мифом о борьбе Платона, идеолога
реакции, с материализмом и демократией
посредством математики.1 А вот
пресловутый объективный идеализм Платона все
никак не исчезает не только из
популярных, но и из вполне академических работ,
несмотря на то что давно уже установлено
неоплатоническое, а не платоновское
происхождение этой концепции и что,
несмотря на то что Платон постоянно говорит об
идеях, никакого учения об идеях у него нет,
так что его, это идеалистическое учение,
приходится не вычитывать, а с большим
трудом впитывать з платоновские
диалоги. Точно так же обстоит дело и с пресло-
1 Баммель Г. О фашизации истории
философии в Германии // Против фашистского
мракобесия и демагогии: Сб. статей. С. 229.
58
вутой «социальной утопией» Платона,
которую упорно продолжают
представлять как политтехнологическии проект по
реформированию государства в
соответствии с тоталитаристской (не то
фашистской, не то коммунистической)
идеологией. Интерпретации эти не подтверждаются
ни текстами Платона, ни историческими
свидетельствами, но они широко
распространены, и причина этого лежит вне поля
ученых дискуссий. Дело в том, что именно
такое представление Платона оказывается
незаменимым в системе университетского
образования, ориентированного на
получение суммы знаний и выработку
компетенций. У «второго Платона» трудами его
творцов имеется собственная доктрина,
система истин, которые можно передать
студенту и проверить в дальнейшем,
насколько хорошо им это знание усвоено.
«Первый Платон», выражающий сегодня
по преимуществу антидогматический и
плюралистический взгляд на учение
Платона, для выполнения этой функции
совершенно не подходит.
«Третий Платон» представляет собой
комплекс представлений о Платоне и его
59
учении, распространенных в самом
широком публичном пространстве.
Исходной точкой этих представлений является
«второй Платон», но в отличие от «второго
Платона», который имеет все-таки какое-
то отдаленное отношение к
историческому Платону, этот образ конструируется по
большей части из вторичного, еще более
упрощенного и искаженного материала
учебников, университетских курсов и
разнообразных публичных лекций, с
добавлением причудливых продуктов не
сдерживаемого ничем воображения. По большому
счету, этот современный Πλάτων πάνδημος
мало чем отличается от образа Платона
у древних биографов, в сочинениях
которых он шествует по миру в образе сына
Аполлона, любимца всей Греции, равного
Гераклу, Пифагору, Александру, которого
сопровождают птицы, пчелы и другие
свидетели его божественного величия.
Разве что Спевсипп и Олимпиодор, изложив
умилительный рассказ о явлении
Аполлона матери Платона и о мудрых пчелах,
наполнивших рот младенца сотами и
сделавших его «медоречивым», не требовали,
чтобы Платона «знали даже гаишники»,
60
а политики, ученые и священники
обязательно сдавали платоновский минимум,
«Второй Платон» становится крестным
отцом «третьего Платона» именно
потому, что идеально соответствует
ожиданиям неискушенного читателя, который,
конечно, слышал о том, что вся западная
философия — это всего лишь ряд
примечаний к Платону, творцу самого
совершенного и глубокого учения, в котором
уже даны окончательные ответы на все
вопросы, занимающие человечество. И все
эти бесконечные опыты по анализу и
реконструкции Платоновской философии,
предпринимаемые любителями, далекими
от историко-философской науки,
вдохновляются надеждой на открытие
рецепта некой заветной Платоновской золотой
таблетки, сообщающей мудрость. И когда
оказывается, что открытие секрета
божественной мудрости, как это и должно было
случиться, не происходит, то возникает
разочарование и озлобленность, которые
порождают особый вид популярного
антиплатонизма. Он, конечно, выглядит грубее,
чем антиплатонизм Левинаса, Делёза или
тем более Ницше, зато в нем много искрен-
61
ней страсти: «Платон больше обычный
политикан, все аспекты философии которого
„подогнаны" под его идеи „казарменного
коммунизма", с которыми он носился по
всей античной Греции. Этим идеям
„казарменного коммунизма" посвящен
основной объем его работ. Там больше даже не
идеи „казарменного коммунизма", а сильно
пахнущая отъявленным нацизмом схема
социального устройства. <...> У афинян
пошловатые и глупенькие диалоги
Платона, глупенькая и мерзкая концепция
государства (апология спартанского строя,
врагов афинян) вызывали иронию и
отвращение. Сама Академия превратилась
в бизнес в сфере образования элитных
„золотых мальчиков и девочек" афинской
аристократии для непосредственных
родственников Платона, достаточно далеких от
философии».1
Однако к этому образу Платона,
несмотря на все его нелепости, нельзя
относиться с пренебрежением. В последние деся-
1 Интернет-автор, которого мы намеренно
оставляем анонимным, — здесь важна
типичность стиля и характера реакции.
62
тилетия произошло небывалое в истории
расширение возможностей превращения
частного мнения в публичную точку
зрения, что привело к фактическому
устранению границы, отделявшей когда-то
читателя от писателя. Понимание и признание
того, что этой границы фактически уже нет,
не позволяет больше игнорировать мнение
профанов, людей, которые судят о
Платоне понаслышке, без какой-либо серьезной
теоретической подготовки, знания древней
истории, владения элементарными
навыками чтения философских текстов и
понимания их. Эти люди получили наконец
право голоса и пользуются им настолько
уверенно и активно, что серьезные
научные исследования часто теряются в гуще
самодеятельного историко-философского
и философского творчества просто в силу
его подавляющего количественного
превосходства. Конечно, еще существуют
такие места, куда нельзя попасть без
преодоления каких-то квалификационных
барьеров, — например, на страницах
научных журналов. Но огороженное
пространство академической и университетской
гуманитарной науки неуклонно сужается,
63
эта тенденция отчетливо выражена,
неслучайна и носит общемировой характер.
Тенденция, ясно обозначившаяся в
последнее время, — попытаться вернуть
философию в публичное пространство и вновь
сделать ее открытой, доступной и
популярной за пределами университетов и
академий. Многие уже торжественно
объявили о «публичном повороте в философии»1
и с энтузиазмом приступили к чтению
публичных философских лекций и
курсов. Для тех, кто помнит историю о чтении
Платоном лекции «О Благе» за
пределами Академии, нет ничего удивительного
в том, что часто происходит в результате
этого выхода философии в публичное
пространство. Аристоксен и Симпликий со
1 Термин, впервые использованный Д. Бро-
ком и Р. Фулвиндером в 1987 году. Наиболее
известный и масштабный проект по
реализации публичной философии — Université
populaire de Caen, Народный университет,
открытый в 2002 году в г. Кане философом
Мишелем Онфре, который изложил свою фило-
софско-педагогическую программу в
«Манифесте народного университета». Лозунг,
выдвинутый Онфре: «Мыслить вне гетто!»
64
ссылкой на Аристотеля рассказывают, что
слушатели, ожидавшие узнать что-нибудь
полезное о благе как его представляет
толпа — богатстве, здоровье, силе, вместо этого
услышали рассуждения о математических
науках, числах, астрономии и геометрии,
наконец, о том, что Благо есть единое; по
словам Аристоксена, «речи эти показались
им парадоксальными, поэтому одни
отнеслись к ним с пренебрежением, другие
поносили Платона». Философ перед публикой
оказывается в ситуации, когда ему
приходится конкурировать с теми профанными
мнениями, которые уже прочно завладели
умами, учитывать настроения и желания
своих слушателей. И когда философ
теряет возможность ссылаться на неизвестные
широкой публике нормы академической
гуманитарной науки, апеллировать к
авторитету классиков, о которых никто не
слышал за пределами научного сообщества,
а самое главное — пользоваться своим
профессиональным жаргоном, то в этой
ситуации его «первый Платон» с легкостью
может превратиться сразу в «третьего».
Как это бывает, показывает хотя бы
пример с темой неписаного учения Платона,
65
которая в широком восприятии, благодаря
одному только слову «эзотерическое», уже
давно приобрела отчетливо сказочное
звучание.1 Об опасности, которую
подстерегает в себе стремление вывести философию
в публичное пространство, энтузиасты
поворота вспоминают не так часто —
похоже, что предупреждение Мишеля Он-
фре, собирающего в аудиториях своего
Народного университета сотни слушателей,
так и осталось неуслышанным, во всяком
случае, о нем редко говорят вслух (может
1 Например: «...современные платоноведы
по-прежнему считают актуальной
проблематику „неписаного" или устного учения (agrapha
dogmata) Платона и его соотношения с
„Платоновским корпусом". Мы осмелимся
допустить, что Corpus Hermeticum представлял
собой разрозненные записи учеников
Платоновской Академии, сохранившими agrapha
dogmata своего учителя. Фичино, не знавший
об ошибочной датировке Корпуса, приписал
герметические тексты самому Трисмегисту,
жившему задолго до Платона, но почему бы не
посчитать возможным, что тексты передавали
тайное знание самого Платона, но в пересказе
его учеников?» (еще один интернет-автор,
которого оставим анонимным).
66
быть, из-за своеобразной привычки Онфре
доводить любую свою мысль до скандала):
«Телевидение — это не Сорбонна, там не
будешь разглагольствовать два часа перед
публикой, которая сидит на лекции
преподавателя, читающего свои записки без
каких бы то ни было вопросов или
возражений со стороны студентов. Не будем
требовать у него того, чего оно никогда и
не обещало дать: оно является не
раболепным глашатаем Коллеж де Франс,
Университета или „Практической школы высших
исследований", а сверхсовременным
форумом. Очевидно то, что если это место не
является кафедрой ученых, оно не должно
быть и их отстойником: вывести
философию на улицу — это не значит выставить
ее на панель»} Для того чтобы быть
услышанным, не пренебречь своим призванием
просветителя и воспитателя, но и не
превратиться в рассказчика занимательных
историй, философу придется заговорить
на особом языке. На таком, о котором пи-
1 Онфре М. Несчастья (и величие)
философии (пер. с фр. Д. И. Кралечкина) // https://
censura.ru/articles/miseregrandeur.htm#_ednl
67
шет К. Рейнхардт в статье «Нить
Ариадны Ницше», когда замечает, что Ницше не
просто рассуждает, а, обращаясь к
неискушенным людям, играет с ними в «сатировы
игры», говорит на языке мифа, когда речь
идет о «вещах, которые по праву требуют
языка мифа».1 Современная наука не знает
таких вещей и не знает такого языка. Мы
много знаем о мифах, но сам этот мир
величественных мифов полностью исчез из
жизни цивилизованного общества.
Конечно, здесь речь не идет о мифе как
о пред-логичном знании, от которого наука
никогда не может избавиться, о чем
говорил Э. Кассирер в 1925 году во втором
томе «Философии символических форм»:
«Наука обретает свою собственную форму
лишь через выдавливание из себя всех
мифологических и метафизических
составляющих. И все же именно развитие учения
Конта показывает, что как раз те моменты
и мотивы, что, как предполагалось, были
преодолены в нем уже в начальной фазе,
1 Цит. по англ. переводу: Reinhardt К.
Nietzsche's Lament of Ariadne // Interpretation.
A Journal of Political Philosophy. 1977. Vol. 6.
Issue 3. P. 223.
68
сохранялись в живом и действенном виде.
Система Конта, начавшая с изгнания
всякой мифологичности в первобытные
времена, в донаучный период, сама достигает
завершения в мифологически-религиозной
надстройке»1 — или А. Ф. Лосев в 1930 году,
когда в «Диалектике мифа» говорил об
«индивидуалистической и
субъективистической мифологии, лежащей в основе
новоевропейской культуры и философии».2
Современный человек, говоря о
котором приходится все время иметь в виду
человека именно западного типа, —
человек нерелигиозный, и этот диагноз не
отменяется широкой распространенностью
внешних признаков религиозности,
которые еще ничего не говорят о
религиозности человека. М. Элиаде говорит о том, что
основным признаком homo religiosus
является вера в то, что абсолютная реальность
возвышается над миром, проявляет себя
в нем Божественным и Героическим тво-
1 Кассирер Э. Философия символических
форм. Т. 2. Мифологическое мышление. М.;
СПб.: Университетская книга, 2001. С. И.
2 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. СПб.:
Азбука, 2014. С. 46.
69
рением, история которого заключена в
мифах. И далее, о нерелигиозном типе
человека: «Легко заметить все то, что отделяет
этот способ существования
нерелигиозного человека. Основное отличие состоит
в том, что нерелигиозный человек
отрицает возвышенное, соглашается с
относительностью „реального"; случается даже,
что он сомневается в смысле
существования. И в великих культурах прошлого
тоже находились нерелигиозные люди.
<...> Но лишь в современных западных
обществах нерелигиозный человек вступил
в стадию полного расцвета. Современный
нерелигиозный человек принимает для
себя новую ситуацию существования: он
считает себя единственным субъектом и
объектом Истории и отрицает всякое
обращение ко Всевышнему. Иначе говоря, он
не признает никакой модели человечества,
выходящей за рамки того положения
человека, которое может быть выведено из
анализа различных исторических ситуаций».1
1 Элиаде М. Священное и мирское / Пер.
с φρ., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского.
М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 126.
70
В современной науке язык мифа заменил
язык здравого смысла, с восхваления
которого Декартом и начиналось когда-то
научное мышление Нового времени. Говорить
же языком здравого смысла о
божественном — либо опошлять и примитивизиро-
вать его, либо опять же создавать мифы,
но такие же пошлые и примитивные — не
те величественные мифы, которыми жили
древние, а те, которые Элиаде назвал
«ворохом магико-религиозных
представлений, искаженных до карикатурного
состояния, потому и плохо узнаваемых».1
Закономерно, что популярный образ
Платона не отличается глубиной, без
этого была бы невозможна его демократичная
распространенность, соблазняющая
завлекательность и доступность, тогда как наука
о древности требует владения
специальными методами обращения с прошлым
соответственно исторического,
филологического, философского образования. Но вместе
с упрощенностью у третьего Платона есть
качество, которое полностью отсутствует
у Платона из учебников и которое крайне
1 Там же. С. 128.
71
редко проявляет себя в академических
исследованиях. Это качество — жизненность,
ведь неквалифицированный читатель
обращается к Платону не для выяснения
особенностей его терминологии или
поиска следов Антисфена в платоновских
текстах, даже не для упражнений в
диалектике элейских диалогов, а в надежде найти
у Платона то, что изменит самого человека
и всю его жизнь сделает иной, истинной и
возвышенной.
А с какой целью обращаются сегодня
к Платону философы и историки
философии? Естественный и быстрый ответ: «для
того, чтобы понять Платона» совершенно
ничего не объясняет, поскольку
необходимость этого понимания сама легко
ставится под вопрос. Когда такой вопрос
задается вслух, он сразу же выдает в его авторе
профана. Сами же историки философии
подобными вопросами задаются нечасто,
они много говорят о том, как читать
Платона, однако значительно реже — зачем его
читать? Но уж если вопрос задан, от него
нелегко будет отмахнуться ссылкой на
любопытство, незаинтересованную любовь
к истине или на необходимость учиться
72
у истории, знать и понимать прошлое.
Обращение к Платону, как и к другим
греческим философам, к античности вообще,
философы часто объясняют ссылкой на то,
что именно античные философы создали
современную культуру, что это они
заложили фундамент западной цивилизации;
с работ Аристотеля ведет свой отсчет
история европейской науки, западного
рационализма в целом, а Сократ и Платон
напоминают нам о необходимости самопознания
и заботы о себе, учат нас техникам этого.
В итоге мы будто бы начинаем лучше
понимать, что происходит в современном мире,
а мудрость Платона засвидетельствована
тем, что он предугадал проблемы, ставшие
актуальными в XXI веке, и оставил нам
инструментарий для лучшего понимания
и разрешения этих проблем. Можно еще
назвать Академию первым европейским
университетом — и тогда окажется, что
опыт Платона незаменим для
совершенствования современного образования,
которое стоит на плечах античности. Таким
образом, Платона, как и других античных
философов, приближают к современности,
чтобы сделать его максимально понятным.
73
Эта позиция выражает взгляд на
древних как на наших современников, просто
оказавшихся в прошлом и еще не
прошедших путь к достижениям основанной ими
цивилизации. Конечно, такое видение не
исключает внимания к исторической
специфике античности, но историзм никогда не
согласится с тем, что между
древнегреческими мудрецами и современными
учеными существуют такие различия, которые
не могут быть преодолены никакими
научными методами. Греческая философия и
современная наука принадлежат к разным
мирам, которые в некоторых существенных
чертах не просто различны, но и вообще
несовместимы. Неверно было бы
абсолютизировать это различие, но игнорировать
его — значит закрыть себе путь к
пониманию древних.1 В этом взгляде нет ничего
1 Основоположник философии
традиционализма Ю. Эвола говорил о дуализме
цивилизаций, противостоящих друг другу не
в историческом, а метафизическом и
морфологическом измерении: «Таким образом, тот
факт, что цивилизации традиционного типа
обнаруживаются в прошлом, становится
просто случайностью: современный мир и тра-
74
принципиально нового — это та же самая
стратегия сокращения дистанции между
античностью и современным миром,
провозглашенная более чем сто лет назад Ви-
ламовицем и которой он придерживался
при написании своего двухтомника о
Платоне.1 Труд Виламовица, безусловно, стал
заметным явлением в науке об античности,
но стремление актуализировать Платона,
сделав его близким и понятным
современному человеку путем устранения из него
всего, что принципиально недоступно
современному взгляду, привело к тому, что
Платон попал в зависимость от
восприятия и уровня духовного развития читателя
начала XX века, уже готового к массовому
потреблению эрзац-культуры. Именно
поэтому оппоненты и критики Виламовица
оценили его Платона как обывательского
«Платона для домохозяек», в котором не
диционный мир могут быть рассмотрены как
два универсальных типа и две априорных
категории цивилизаций» (Эвола Ю.
Восстание против современного мира. М: Прометей,
2016. С. 12).
1 Wilamowitz-Moellendorff U. Platon. 2 Bd.
Berlin: Weidmann, 1919.
75
осталось ничего возвышенного,
мистического и по-настоящему эллинского. Эта
критика исходила в первую очередь от геор-
геанцев К. Хильдебрандта и Ф. Гундольфа,
но не только от них, многие в то время были
уверены в том, что существует не только та
античность, которая порождена кабинетной
наукой.1 Вячеслав Иванов (к слову, также
выходец из классической науки об
античности, ученик Теодора Моммзена) говорил
о самодовольстве современности, «которое
я не терплю, но которое встречаю (чтобы
привести один пример из тысячи
возможных) даже в писаниях такого убежденного,
страстного эллиниста, как Виламовиц,
самодовольство наше, претендующее видеть
в античной Греции героический авангард
нашей победоносной армии, и описывать
творчество эллинского гения так, будто оно
представляет собою своего рода
роскошный портик, служащий проходом к вы-
1 Одновременно Виламовиц попал под
критику с противоположной стороны, и сейчас
некоторые сторонники классической науки об
античности оценивают эту его работу не как
научный труд, а как своего рода
«исторический роман».
76
сочайшим достижениям нашей, на науке
основанной культуры».1 О существенной
особенности такого взгляда на античность
говорит еще одно замечание Вяч. Иванова:
в статье, посвященной наследию Виламо-
вица, он отмечает, что патриарх
классической филологии, автор фундаментальной
«Религии эллинов», вызывает у него
«сомнение в том, что он вообще был способен
к внутреннему постижению религиозного
феномена», и противопоставляет ему его
давнего оппонента Эрвина Роде: «...автор
„Психеи" показал на своем примере, как
соединяются у подлинного историка религии
(будь он сам агностиком) религиозное
сопереживание с объективными фактами».2
1 Иванов Вяч. Письмо к Александру Пелле-
грини о Docta Pietas // Вячеслав Иванов.
Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель: Foyer
Oriental Chrétien, 1979. T. 3. С. 455.
2 Иванов Вяч. Гуманизм и религия. О
религиозно-историческом наследии Виламовица /
Пер. с нем., коммент. и послесловие К. Лаппо-
Данилевского // Символ. Журнал
христианской культуры, основанный в 1979 году
Славянской библиотекой в Париже. № 53—54.
С. 197.
77
«Внутреннее постижение и религиозное
сопереживание» в современной
литературе не рассматриваются даже в качестве
гипотетических условий понимания
Платона. Платоноведение сделало свой
однозначный выбор в пользу такой науки,
которая не пользуется внутренним чувством
и экзистенциальным выбором. И для того
чтобы Платон стал не более чем
предметом критического анализа, его самого
следовало демифологизировать и
секуляризовать. Ко второй половине XX столетия
этот процесс завершился, и как результат
платоновская мистика оказалась
полностью вытесненной из мейнстрима плато-
новедения в область фантазмов
«третьего Платона». Общий с мировой наукой
язык, которым заговорило отечественное
платоноведение, имеет отчетливый
английский акцент и лучше всего подходит
именно для сциентистского представления
Платона. И хотя аналитическая традиция,
господствовавшая в западном платонове-
дении несколько десятилетий,
постепенно уступает свои позиции, новые
подходы, идущие ей на смену, также остаются
в рамках исключительно научного или
78
наукообразного представления Платона.
Когда-то такой однобокий рационализм
считался (во всяком случае, в России)
особенностью немецкой науки об
античности. В. Ф. Эрн презрительно назвал это
явление Platon-Forschung'oM,
«исследованием Платона», и сказал: немцы, пленившие
Платона в XIX веке, заставили его грудами
схоластического мусора и обнесли
подходы к нему бесчисленными рядами
интеллектуальных проволочных заграждений.
Поступив так, они утратили путь к
пониманию действительного духовного
величия Платона, которое невозможно увидеть
без эросного начала в познающей душе.
«Да, большинство Platon-Forscher'oB сами
являются насадителями и
распространителями интеллектуальной и духовной
наготы, искажающими Платона по
своему образу и подобию и приступающими
к творениям Платона с дерзкими
требованиями, чтобы они открывались не
любящим, т. е. тем, кто решительно презирает их
душу живую и их внутреннее существо».1
1 Эрн В. Ф. Верховное постижение Платона.
М.: Правда, 1991. С. 501.
79
Эти строки были написаны в то самое
время, когда Виламовиц заканчивал свой труд
о Платоне. Но, как мы говорили, в
Германии у классической парадигмы были
оппоненты и критики, существовал
альтернативный взгляд на Платона со
стороны тех, кто говорил об античности не на
языке Platon-Forscher'oB, а на языке
Ницше и Роде. После успешно проведенной
«денацификации» немецкой философии
эта альтернатива утратила свое влияние и
практически исчезла, а ее наследство,
занеся в архивы мысли прошлого века,
вычеркнули из пространства актуальной
философской жизни.
В сциентизме современного платонове-
дения кроется главная причина
игнорирования им книги Рейнхардта, в большой
степени чуждой и даже враждебной
нынешним Platonic Studies. Сегодня Рейн-
хардт раздражает своим напоминанием об
экзистенциальных смыслах и целях
постижения Платона, требованиях, которые
современному ученому могут показаться
странными и ненаучными (как об этом
пишет М. А. Маяцкий, «слишком
несвоевременно-наивной представляется задача
80
не просто изучать, но жить и переживать
Платона»1). Рейнхардт, говоря о науке, уже
на первой странице «Мифов Платона»
утверждает, что она мало на что способна,
кроме упорядочения собственных теорий.
Особенный вес этим словам придает то,
что они принадлежат успешному ученику
Виламовица, уже получившему к этому
времени признание в классической науке.
Рейнхардт словно повторяет эффектный
ход другого своего духовного
наставника, Ницше, который «дебютировал не как
„вагнерианец", „шопенгауэрианец" или уже
„ницшеанец"; тут хватало
„физиогномического такта" и „артистизма", чтобы, „на
отлично»" сыграв в „нашего", вернуть билет и
предпочесть участь самого „не-нашего"
человека планеты».2 Для Ницше этот выбор
стал окончательным, а вот Рейнхардт впо-
1 Маяцкий М. Спор о Платоне. Круг Ште-
фана Георге и немецкий университет. С. 12.
2 Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его
реквием по Западу // Шпенглер О. Закат
Европы. Очерки морфологии мировой истории.
1. Гештальт и действительность. М.: Мысль,
1998. С. 46.
81
следствии все же вернулся в научное
сообщество, и последующие его работы, хотя и
отмеченные настойчивым поиском
нетривиальных подходов к античности, в целом
оставались все же в рамках классической
науки, а замысел Рейнхардта выпустить
в 1936 году новое, переработанное и
дополненное, издание «Мифов Платона» так
и остался, что показательно,
нереализованным. Позиция Рейнхардта, как это уже
было замечено, всегда содержала в себе
некую двойственность: выступая против
своих учителей, филологов-классиков старой
школы, он никогда не мог полностью
принять и противоположную позицию Ницше
или Георге, всегда оставляя для себя
возможность обратного пути (как это было
и в его собственной жизни в 1933 году).
В «Мифах Платона» после решительного
заявления об отказе заниматься научным
анализом платоновских мифов Рейнхардт
указывает на то, что его действительно
занимает: внутренние силы человека и
возможности преобразования самого человека
и его жизненного мира. Может показаться,
что он полностью разделяет позицию
Георге и его учеников. Действительно, Стефан
82
Георге неоднократно говорил о том, что
вопросы познания его не занимают вовсе, что
невозможно понять Платона и
уподобиться ему посредством сухого анализа
платоновских сочинений. «Этот путь приведет
в лучшем случае к скелету, но не к живой
плоти и крови».1 И когда Рейнхардт
провозглашает: «Самое большее, на что
способен ученый, это как археолог раскапывать
царские останки», это звучит совершенно
по-георгеански. В Круге очень любили
цитировать эту фразу Рейнхардта, но,
кажется, никто не заметил, что здесь он говорит
о себе самом. Героический пафос и
романтизм авторской позиции Рейнхардта
резко снижается после его признания в том,
что пробудить эти внутренние силы он не
способен, а может только указать на них и
сказать, где они находятся, не более того.
Эта неуверенная и двойственная позиция
Рейнхардта хоть и выглядит не очень
эффектно, на самом деле сообщает его книге
качество, которое сегодня является ее
несомненным достоинством. Большинство
1 Нортон Р. Тайная Германия: Стефан
Георге и его круг. С. 451.
83
работ, принадлежавших к мифопоэтиче-
ской традиции
экзистенциально-духовного постижения Платона, было написано
в манере, настолько чуждой
интеллектуальному прочтению, что это способно
вызвать отчаяние даже у искушенного
читателя философских текстов. Напротив,
в книге Рейнхардта, который открыто
указывает на свою цель: не исследование,
а постижение Платона, это верховное
постижение представлено в виде, который
сохраняет принципиальную возможность
перевода на привычный для нас язык.
Поэтому вопросы, возникающие по прочтении
«Мифов Платона», оставляют надежду на
то, что поиск ответов приведет читателя не
только к недоумению, но в конце концов и
к пониманию.
Первый из этих вопросов касается
предмета рейнхардтовского труда: о каких,
собственно, мифах говорит в своей книге
Рейнхардт и что скрывается у него за
словами «миф Платона»? Совершенно
очевидно, что для Рейнхардта греческий миф не
сводится к наивному представлению о том,
что миф — это всего лишь фантастический
рассказ о богах и людях, продукт опреде-
84
ленного типа архаичного мировоззрения
и мышления, который в иносказательной
форме описывает силы природы или
социальные институты, вымысел, который,
несмотря на свою очевидную
неправдоподобность, принимается за правду благодаря
своей живой образности, — все это ко
времени появления книги Рейнхардта было
уже множество раз сказано и
проанализировано в науке. Литература, посвященная
интерпретациям мифа, к моменту
написания «Мифов Платона» количественно
уже давно превысила всякие мыслимые
объемы, хотя, конечно, Рейнхардт,
защитив диссертацию о греческой теологии,
должен был ориентироваться в ней
вполне свободно. Но все антропологические и
филологические теории мифа для
Рейнхардта в этой его книге не представляют
никакого интереса в первую очередь из-за
того, что они являются теориями,
направленными на рациональное познание и
объяснение мифа. Рейнхардт не занимается
отвлеченным исследованием мифа, он
относится к мифу как космосу, понять
который можно только изнутри, войдя в него
как в свой жизненный мир. Такое отноше-
85
ние к мифу сложилось у Рейнхардта под
безусловным влиянием Ницше, но оно,
несомненно, укрепилось и полностью
овладело Рейнхардтом в процессе его
общения с Отто. Вальтер Фридрих Отто, так
же как и многие в окружении Рейнхардта
учившийся в Бонне у Узенера и Бюхеле-
ра, сблизился с Рейнхардтом во время их
работы во Франкфуртском университете.
Рейнхардт нашел в Отто
единомышленника во множестве таких вопросов, в каких
он редко встречал понимание своих коллег.
Особенно это касается отношения к
греческой религии, с которой Отто
связывало настолько глубокое личное чувство,
что он, как говорили, переживал видения
греческих богов. Карл Кереньи назвал
Отто, своего учителя, единственным
исключением среди филологов, истинным
теологом мифологии. Несмотря на то что
Отто в 1934 году был вынужден покинуть
Франкфурт и переехать в Кенигсберг, их
дружба и сотрудничество с Рейнхардтом
продолжались до самой смерти. С 1933 по
1945 год Отто был членом, а с 1935 года
администратором «Научного комитета»
Архива Ницше. В 1939 и 1940 годах он вме-
86
сте с Карлом Рейнхардтом и Эрнесто Грас-
си публиковал ежегодник под названием
«Geistige Überlieferung» («Духовная
традиция»). Умер Отто в 1958 году, пережив
Рейнхардта всего на несколько месяцев.
Рейнхардт опубликовал «Мифы Платона»
двумя годами ранее, чем Отто — свой труд
«Боги Греции», но несомненные следы их
общения и взаимного влияния заметны
в обеих книгах.
Курт Хюбнер в своей обстоятельной
работе причисляет В. Ф. Отто к
сторонникам «нуминозной интерпретации»
мифа.1 Главной особенностью этого подхода
является понимание мифа как
проявления нуминозного опыта. «Нуминозное»
(das Numinose) — понятие, которое было
введено однофамильцем Отто, теологом и
феноменологом Рудольфом Отто, —
означает чистый религиозный опыт, в котором
представлено одно только иррациональное
начало, не требующее никакого
обоснования. Нуминозное безусловно как
присутствие. В нуминозном опыте происходит
1 Хюбнер К. Истина мифа. М.: Республика,
1996. С. 67.
87
встреча человека с реальностью высшего
порядка, ни в чем не сходную с
обыденным существованием, и в этой отличности
от него, непознаваемой:
«„Иррациональное" никак не есть „неведомое" или
„неизвестное". Будь это так, оно бы нас
просто не касалось, мы бы не могли сказать
о нем даже того, что оно „иррационально".
Оно „непостижимо", „неуловимо",
„неведомо" для рассудка. Но его можно испытать
чувством».1 При этом Хюбнер
причисляет к сторонникам нуминозной
интерпретации еще нескольких сильно
отличающихся друг от друга авторов: М. Элиаде,
Ю. Эволу, К. Кереньи (ученика В. Ф. Отто
и К.-Г. Юнга), Ж.-П. Вернана и даже
Виламовица. Хюбнера подтолкнула к этому
знаменитая фраза Виламовица «Die Gotter
sind da!» («Боги там есть!») в первом
томе «Религии эллинов», которой он хотел
сказать, что первым условием понимания
древнегреческих верований является не-
1 Отто Р. Священное. Об иррациональном
в идее божественного и его соотношении с
рациональным / Пер. с нем. А. М. Руткевич.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 209.
88
обходимость признать греческих богов
живыми и исходить из этого как
наличного факта. Позже В. Ф. Отто («Дионис.
Миф и культ») добавил, что более точно
это требование должно быть
сформулировано так: «Там присутствует миф».
Конечно, нумен слишком широкое понятие для
того, чтобы образовать однородную
традицию, но все те, кого Хюбнер отнес к нуми-
нозной традиции интерпретации,
согласны в том, что миф нельзя рассматривать
исключительно в рамках исторических,
антропологических представлений,
только как определенную форму познающего
мышления.
Ни Фридрих Отто, ни Карл Рейнхардт
не используют в своих работах сами
термины «нумен» и «нуминозное», но идея
того, что миф есть не продукт
воображения, не символ и не аллегория, что за ним
стоит реальность, причем реальность
высшего порядка, является важнейшей для их
понимания мифа. Отто говорит, что миф
сообщает о такой реальности и само это
сообщение становится реальностью. Миф
есть истинное слово, но это слово не
основано на доказательстве, оно — фактически
89
данное и потому не выведенное, а
раскрытое, и именно поэтому слово мифа
отличается от всех других высказываний. Это
слово находится по ту сторону истинного и
ложного, утверждений и отрицаний, веры
и сомнения, потому что само оно
относится к категории реального. Этот подход
предполагает нередуцируемость
мифологического к земному, равно как и наоборот:
мир мифа есть органическая целостность
сакрального и земного.
Поэтому нет ничего удивительного
в том, что Рейнхардт начинает свою
книгу о мифах Платона не с сочинений
Платона, а с взгляда на его мир, на греческий
мир V—IV веков до н. э. Этот период в
жизни Греции ознаменован множеством
потрясений — социальных, политических,
экономических. Рейнхардт говорит, что
самое важное обстоятельство, которое
определило смысл и значение всех
происходивших в это время событий, — крушение
греческой мифологии. Именно это
событие стало основой сразу трех
переворотов в греческом мире, радикально
изменивших искусство, религию и политику.
Рейнхардт не углубляется в историю и ни-
90
чего не говорит об олимпийской
революции, когда боги-олимпийцы победили и
вытеснили из мира древние хтонические
божества. Эта тема, так сильно
занимавшая его друга В. Ф. Отто, представляется
Рейнхардту вовсе не такой значительной:
когда пришли боги гомеровской эпохи,
характер мифов изменился, но сам мир
мифа остался жив, а вот времени Платона
поставлен окончательный диагноз:
«Греческая мифология умерла в годы юности
Платона. Возвышение разума над богами
и миром, искусства — над культом,
отдельной личности — над государством и
законами разрушило мир мифов». Выражение
«возвышение разума» вызывает
отчетливую ассоциацию с формулой Вильгельма
Нестле (отечественному читателю более
известной по названию книги Ф. X. Кес-
сиди) — «от мифа к логосу». Эта формула
выражает убеждение в том, что
разрушение мифологического сознания произошло
под напором становящегося
рационального мышления, сформировавшего
греческую науку и философию, в том, что этот
процесс закономерен и необходим как
выражение всеобщего закона интеллектуаль-
91
ного развития человечества.1 С середины
V века до н. э. эту силу «возвышающегося
разума» стали представлять софисты.
После реабилитации софистики в XIX веке,
когда появилась ее оценка как греческого
Просвещения, подкрепленная авторитетом
Г. В. Ф. Гегеля и Дж. Грота, общее
отношение к софистам стало меняться с прежнего
резко отрицательного на положительное,
от сдержанного признания их заслуг —
до восхищения этими «пышными, вели-
1 Которому в Греции будто бы
благоприятствовала врожденная склонность греческого
духа к рациональному началу: «Тот факт, что
сама мифология греков рассматривается
многими учеными как первобытный способ
объяснения явлений окружающего мира,
свидетельствует о том, что мифомышление греков
изначально (генетически) носило
„интеллектуальный" характер. И сам антропоморфизм (в
отличие от зооморфизма мифологии древних
египтян и других народов Древнего Востока)
религиозно-мифологических представлений
древних эллинов является свидетельством их
природной склонности к рациональному,
логическому мышлению» (Кессиди Ф. От мифа
к логосу: Становление греческой философии.
2-е изд., испр., доп. СПб.: Алетейя, 2003. С. 6).
92
колепными цветами богатого греческого
духа», «удалой юностью науки, ее майским
утром», их «молодеческим гарцеванием на
строгой арене философии» (А. И. Герцен).
Рейнхардт не разделяет этого одобрения,
так же как и не стремится к объективной
оценке софистики. Когда мы читаем
слова: «Софистика подразумевает вторжение
небольшой армии просвещенных и
искушенных голов, людей, утративших связь
с исконной почвой, профессиональных
учителей философии в среду молодого
поколения высших слоев гражданского
общества. Эта армия наступала широким
фронтом со слабым тыловым прикрытием
и шла двумя флангами — из
легковооруженных и тяжеловооруженных воинов», то
понимаем, что это нельзя назвать научной
оценкой, мы становимся свидетелями
рождения авторского мифа Рейнхардта. Миф
всегда содержит в себе преувеличение,
гиперболизацию какого-то одного
признака или стороны. Рейнхардт представляет
софистов олицетворением сил
разрушения, несущих угрозу для всего прочного
и устойчивого, для порядка и гармонии,
в них нельзя увидеть ничего положитель-
93
ного. Задача софистов, успешно ими
выполненная, заключалась в разрушении
мира древних мифов, в котором космос
был населен божественными существами,
полон смысла и порядка, благорасположен
к человеку. Но это разрушение не было
собственным и осмысленным
стремлением софистов. Высокомерные и агрессивные
в своих играх рассудка, софисты на самом
деле выступили всего лишь средством или
инструментом некой иной силы. Рейн-
хардт говорит о софистике, что «свое
влияние она черпает не из себя самой, а из того,
что, отделяясь от целого, прибегает к
средствам софистики, с тем чтобы
легитимировать себя в духовном плане». Орудием,
которое вложила в руки софистов эта сила
отделения от целого, стал разум, но не
божественный Nous или Logos первых
философов, которые все еще сохраняли
родственную связь с миром мифа, a episteme
и techne — осведомленность, ремесленная
ловкость, искушенность и сноровка.1
1 Именно так: empeiria (сноровка — пер.
С. П. Маркиша) называет Платон
софистическое искусство риторики в «Горгии» (462 с).
94
Говоря о софистах, историки всегда
испытывали и испытывают трудности в
определении степени их идейной общности (об
организационной речь не идет, софисты
были не союзниками, а конкурентами):
немногие имеющиеся источники
показывают такую пеструю картину взглядов
софистов, которую трудно назвать
программой, и некоторые исследователи в XX веке
предпочитают говорить о софистике не как
о школе, а как о «движении» или «мире»
(Дж. Керферд, У. К. Гатри), а некоторые
(Б. Кассен) отрицают саму правомерность
использования объединяющего понятия
«софистика». Но Рейнхардт в полном
соответствии с принятой им в этой книге
идеологией вовсе не заботится о том,
чтобы присматриваться к индивидуальным
различиям между софистами. Он находит
у софистов общий признак, который
верно указывает на природу софистики: «При
всем разнообразии отдельных искусств,
которыми занимаются софисты, они
единодушны в превознесении «технэ». Тех-
нэ в понимании софистов — это не наука
или философия и не искусство в смысле
artes liberales, а система приемов, которы-
95
ми пользуется разум, стремясь
усовершенствовать, создать или превзойти то, что
прежде почиталось как плод
естественного развития. Понимаемое в этом смысле,
технэ становится сутью всех человеческих
отношений». Поскольку сами софисты по
сути своей деятельности являются
инструментом разрушения прежнего
мироустройства, они преклоняются перед всем
тем, что эффективно и кратчайшим путем
ведет к достижению цели, тому, что спустя
два с половиной тысячелетия, в XX веке,
было названо инструментальным разумом.
Ровно через двадцать лет после выхода
книги Рейнхардта Макс Хоркхаймер
поставил диагноз современной
рациональности, практически дословно повторяющий
слова Рейнхардта о софистах:
«Основополагающие идеалы и понятия метафизики
рационализма были укоренены в понятии
общечеловеческого, понятии человечества,
и их формализация означает, что они
лишились своего человеческого содержания».1
1 Хоркхаймер М. Затмение разума. К
критике инструментального разума. М.: «Канон+»
РООИ «Реабилитация», 2011. С. 27.
96
Рейнхардт указывает на
содержательную пустоту софистики, которая не
занимается ни познанием природы, ни
установлением религиозных или
политических норм. В отношении морали
софистика, замечает он, «индифферентна в том
смысле, что она не создает и не
ниспровергает идеалы». Несмотря на это
равнодушие к нравственности, αρετή, софистика
самоуверенно, даже агрессивно,
вторгается в область воспитания. Направление
удара «второго фланга» наступающей
армии софистов было угадано правильно:
для того чтобы победить старый мир,
следовало вытеснить мифы из
воспитания, разрушить «все, что приуготовляло
и воспитывало для жизни, ведя свое
наступление и подавляя любое
сопротивление во имя особых прав могучего и
искушенного в учении ума». Говоря об особом
значении практики воспитания для
софистов, Рейнхардт оказывается полностью
солидарен с Вернером Йегером, который
также настаивал на том, что софистика
есть исключительно образовательный
феномен и софисты могут быть оценены по
достоинству только в рамках истории об-
97
разования. Но направление взгляда на
софистику у Рейнхардта радикально иное,
чем у его вечного соперника. Йегер,
говоря о софистике, все время подчеркивает ее
положительную роль в дальнейшем
развитии греческой мысли, педагогической
(«греческая система высшего образования,
в том виде, какой ее создали софисты,
сегодня господствует во всем
цивилизованном мире»1) и философской («с точки
зрения истории культуры софисты — столь
же необходимое явление, как и Сократ
с Платоном, — да и вообще последние без
первых немыслимы»2). Рейнхардт же,
который упрекал Йегера и других
сторонников «третьего гуманизма» в создании
концептуальных схем, мешающих видеть
античность в ее изначальном истинном
виде, старается избежать такого перспек-
тивизма и отнестись к софистам так, как
будто бы он увидел этих людей глазами их
современников.
1 Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного
грека / Пер. с нем. А. И. Любжина. М.:
Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001. С. 368.
2 Там же. С. 341.
98
Рейнхардт тонко замечает
двойственность и противоречивость софистики,
которая сопутствует ей повсюду: софисты
любят играть противоречиями и
парадоксами, «о каждом предмете ведется
„двоякий разговор",1 обо всем высказываются
суждения pro и contra, во всем есть свое
„так или иначе". Если бы обо всем велась
речь только с одной стороны, прием разума
не находил бы приложения. Созданы все
условия, чтобы открыть доступ
рассудочному приему. Но в тех же pro и contra
индивид усматривает свое право на свободу от
того и другого». Софистика не просто
вторгается в греческий мир как нечто внешнее
и чуждое ему. Софисты успешно
соблазняют этот мир «сомнениями, скептическими
высказываниями и положениями,
подаваемыми как несомненные». Эти опасные
игры привлекательны, и
«аристократическая натура с удовольствием предается
такой игре». Так что ответственность за раз-
1 Явная отсылка к одному из немногих
сохранившихся софистических текстов,
анонимному сочинению «Dialexeis»
(«Двойственные речи»).
99
рушение древних порядков и «отеческих
законов» по праву должна быть
возложена на обе стороны, на учителей «приема»,
распущенного формального мышления и
на учеников, стремившихся к тому, чтобы
под прикрытием интеллектуального
наслаждения освободить от принципов свою
индивидуальную волю. Время софистов
закончилось после Пелопонесской войны,
когда софистика сошла со сцены греческой
истории. Цель ее к тому моменту была уже
достигнута, обезбоживание мира
состоялось, вот тогда и «закончилось бушевание
вырвавшихся на свободу сил».
Портрет Сократа и освещение его роли
в духовной жизни своего времени у Рейн-
хардта определяются двумя
противоположными тенденциями. С одной стороны, он
представляет Сократа в соответствии с
трактовкой Ницше, который увидел в Сократе
преступника и декадента, виновника
гибели греческого духа. Но с другой стороны,
Рейнхардт старается умерить эту
излишне для него радикальную интерпретацию
и преодолеть избыточный негативизм в
отношении афинской философии, а
особенно в отношении Платона. Ницше говорит
100
о Платоне как о сообщнике Сократа: «Я
опознал Сократа и Платона как симптомы
упадка, как орудия греческого разложения,
как псевдогреков, как антигреков». А когда
Ницше уделяет ему отдельное внимание,
«идет вглубь» Платона, то констатирует:
«Я нахожу его настолько отклонившимся
от всех основных инстинктов эллинов,
настолько пропитанным моралью, настолько
воплощенным предхристианином <...> что
я скорее, чем какое-либо иное слово,
применил бы ко всему феномену Платона
суровое слово „высшее шарлатанство"...»1
Большую часть всего того, что Ницше приписал
Сократу, Рейнхардт, как мы уже заметили,
переадресовал софистам, с которыми, по
его мнению, Сократа многое и объединяет,
и разделяет. Сократ не был изобретателем
диалектики, так же как и не он первым
соблазнил диалектикой аристократическую
1 Ницше Ф. Полное собрание сочинений:
В 13 т. М.: Культурная революция, 2005. Т. 6:
Сумерки идолов. Антихрист. Ессе homo. Дио-
нисовы дифирамбы. Ницше contra Вагнер /
Пер. с нем. Ю. М. Антоновского, Я. Э. Голо-
совкера и др.; науч. ред. И. А. Эбаноидзе. 2009.
С. 21, 100.
101
молодежь, но именно он, как утверждает
Рейнхардт, возвысил веру софистов в технэ
и эпистему в качестве средства воспитания
до этической позиции. И если средства,
которыми пользуется Сократ, ничем не
отличаются от инструментов софистов, то
цели сократического искусства иные.
Софисты не противопоставляют этому миру
ничего определенного и устойчивого, они
похожи на детей, играющих с огнем,
тогда как Сократ сами эти игры рассудка
доводит до степени испытания, elenchos,
благодаря чему они становятся основой
прочной позиции индивида,
противопоставляющего себя всем авторитетам,
законам, государству, всем внешним
обязательствам.
Сократ приходит с идеей автономной
нравственности тогда, когда здоровое
государство уже деградировало (для прежнего
государства, замечает Рейнхардт, такая
позиция была бы не опасна), а новое,
выродившееся государство, с его
неправильными законами, опознало в Сократе своего
врага и постаралось отторгнуть его.
Личности и деятельности Сократа, так же как
и софистам, присуща определенная двой-
102
ственность — этот великий Силен выпал
из государства потому, что государство
выродилось, но, с другой стороны, разве
не Сократ был одним из виновников
этого вырождения? Рейнхардт видит путь,
который ведет от Сократа к Платону, и
этот путь не так прост — здесь надо забыть
античные басни о лебеденке и понять, что
от Сократа ведут два пути в
противоположные стороны. «На самом деле старое
государство раскололось, корни его, с
одной стороны, уходят в царство духа через
Сократа к Платону <...> с другой
стороны — в гражданское эпигонство на пути
от Алкивиада к патриотической
демократии аттического риторического века.
Какой из истоков более истинный и
действительный, останется нерешенным вопросом
в вечном споре между сторонниками идеи
и земными натурами».
Итак, Платон застал государство таким,
в котором древние мифы уже не имели
прежней власти, народная религия была
разрушена и от нее осталась только
потрепанная пустая религиозная оболочка,
в которой уже не было жизни. Следствием
деградации религии стало то, что мораль
юз
и политика также выродились, приняв
извращенную форму. Государство и законы
больше не опирались на прочный порядок
и гармонию космоса, человеческая
история перестала воплощать в себе историю
деяний бессмертных богов и героев.
Единственный человек в Афинах, выстроивший
свою жизнь на верности испытующему
разуму и в соответствии с божественным
призванием (Сократ в платоновской
«Апологии» говорит о том, что бог поставил его
в строй), оказался единственным
истинным политиком-гражданином в этом
государстве, за что и был убит.
Теперь для тех, кому «повезло родиться
с великой душой», скажет Платон в
«Государстве», остался небогатый выбор: быть
изгнанным или убитым, стараться жить
незаметно либо стать таким же
преступником, как и окружающие. В Седьмом
письме Платон рассказывает о том, как
некоторые его «родственники и хорошие
знакомые», придя к власти, пригласили юного
Платона принять участие в исправлении
государства и установлении
справедливости. Он же, горячо сочувствуя их
замыслам, все-таки отказался от этого предло-
104
жения и только «усиленно наблюдал за
ними». Решение, которое кажется
странным для юноши, само происхождение
которого предопределяло единственно
достойное для него будущее — участие в высшей
государственной политике и в управлении
государством. Но своим отказом
участвовать в политике Платон подтвердил свое
неверие в то, что этот погибающий от
своеволия, несдержанности и корыстолюбия
мир может быть спасен одними только
человеческими усилиями. Так и получилось:
«...за короткое время эти люди заставили
нас увидеть в прежнем государственном
строе золотой век».1
На эти слова не так часто обращают
внимание, когда приписывают Платону
наивную веру в реальное существование
в древности золотого века. Любой
государственный строй выглядит золотым веком,
но только по сравнению с порядками,
установленными в следующем по времени
государстве. Те, кто говорят о консерватизме
Платона, упускают из виду, что ко времени
Платона из старого мира уже не осталось
1 Ер. 324 с-е.
105
ничего, что стоило бы беречь и охранять,
жизнь покинула все институты
древности.1 Для того чтобы спасти будущее
греческого мира, его нужно было вернуть
в прошлое. Платона не следует считать
идеологом реставрации традиционного
общества в смысле буквального
восстановления древних социальных и политических
порядков: «...Платон настолько глубоко и
даже жестко тяготеет к
общинно-родовому строю, что оба его утопических
проекта (в «Государстве» и в «Законах») иначе и
нельзя характеризовать как проекты
полной реставрации именно общинно
родового строя».2
1 Разумеется, речь идет об исторических
исследованиях и об отношении
исторического Платона к проблематике своего
времени, не касаясь идеологических опусов вроде
книги Ричарда Кроссмана «Платон сегодня»
(Crossman R. Plato Today. London: Allen and Un-
win, 1937. 304 p.).
2 Лосев А. Ф. Платоновский объективный
идеализм и его трагическая судьба // Платон
и его эпоха. К 2400-летию со дня рождения.
М.: Наука, 1979. С. 29. Принимая во внимание
тот титанический труд, который был проделан
Лосевым по осмыслению мифа, можно пред-
106
Конечно, если принять всерьез слова
о реставрации общинного строя, то
взгляды Платона нельзя определить иначе, кроме
как утопию (ретроутопию). Но Рейнхардт
считает совершенно иначе и
представляет Платона не в совершенно чуждом для
того образе ностальгирующего о прошлом
мечтателя или тем более политтехноло-
га, конструирующего планы
переформатирования государства по лекалам
прошлого. Платон, как его представил нам
Рейнхардт, — творец и реформатор
мифа. Когда Платон говорит о золотом веке,
он творит миф о том времени, когда
боги управляли людьми. Знание, эпистеме,
о таких временах попросту невозможно,
это рассказ о том, что было еще до начала
времени. Рейнхардт называет это
«первобытным временем» и сравнивает роль этой
идеи по ее важности в мировоззрении
Платона с открытием им эйдоса: «Категория
первобытного времени становится в ми-
положить, что нашему пониманию его мысли
в данном случае просто мешает
специфическая терминология, обусловленная условиями
и временем, когда это было сказано.
107
фотворчестве Платона неотъемлемой
формой точно так же, как и категория
сверхчувственного и потустороннего вообще, то
есть как категория изначального». Миф об
Атлантиде тщательно рассмотрен в книге,
в том числе и со стороны возможных
реальных образцов, история которых могла
бы быть представлена в нем (подход,
которым с особой настойчивостью
пользовался В. Ф. Отто). Рейнхардт рассматривает
его как идеальную историю
греко-персидских войн и идеализацию древних Афин,
а Атлантиду — как идеализацию Древнего
Востока, но все это говорит о реальности
мифа, а не о реальной истории: «Почему
же государство Платона непременно
должно было когда-то существовать в
действительности? Не потому ли, что старец
продолжал плести нить своих мифов?»
Роль реформатора мифа была
предопределена Платону целым рядом
обстоятельств, внимательно и вполне в духе
классического исторического исследования
рассмотренных Рейнхардтом, который на
этих страницах часто заставляет читателя
вспомнить о том, что автор, несмотря ни на
что, все-таки остается учеником Виламо-
108
вица. Прежде чем говорить об отношении
Платона к мифу, Рейнхардт уделяет
внимание влияниям, обратившим философа
к мифу. Теоретические предпосылки
платоновской мифологии он находит в двух
направлениях мысли, софистическом и
сократическом. Но хотя Рейнхардт и
говорит, что Платон «вбирает» в себя оба
течения, он показывает, что это вбирание было
в большей мере отрицательным, не
усвоением, а преодолением. Ведь и софисты и
Сократ вместе несут ответственность за
крушение мифологического космоса,
после чего софистическое преклонение перед
техникой мышления, технэ и эпистемой
вместе с сократовским идеалом автономной
нравственности, основанным на знании
добродетели, завершили формирование
такой картины мира, которая представила
мир без смысла и порядка: «Небо и недра
земли, ранее населенные
могущественными богами, от которых исходило все, что
давало надежду, все высокое, все радости
и ужасы, все, что „питало душу", теперь
стояли холодные и опустелые...»
Обезбоживание мира привело
одновременно к невиданному ранее возвышению
109
человека, провозгласившего себя мерой
всех вещей. Но это возвышение содержит
в себе и скрытое унижение человечества:
если в прежнем мире человек жил по
законам, которые определялись
божественным порядком космоса, то теперь
человек утерял всякую основу и определяется
только количественно, как metron. Однако
добродетель не вещь, а качество души, и,
призывая к знанию добродетели, Сократ
призывает к самопознанию, знанию души.
И этот призыв звучит как «пронзительное
сознание, а не благостный дар богов»,
потому что, когда человек вырван из родного
для него мифологического мира, душа его
пуста. Все вопросы остаются у Сократа без
ответов, потому-то никогда, по сути, не
существовало ни сократовской философии,
ни сократовской школы. Суждение
«Платон был учеником Сократа» звучит
привычно, даже тривиально, однако
одновременно оно вынуждает задать вопрос о том,
чему мог Сократ, постоянно
признающийся в своем незнании, научить Платона.
Отвечая на этот не высказанный в книге
вопрос, Рейнхардт говорит о «личном
обаянии» Сократа, которое сочеталось у него
но
с софистическими средствами и приемами
спора, придавая софистическому технэ
совершенно иной характер и подчиняя его
другим целям. «Личное обаяние»
(persönlicher Bezauberung), конечно, не самое
сильное выражение для описания того
необъяснимого влияния, которое производил
Сократ на своих собеседников и которое
Платон, испытавший притягательность
личности Сократа, сравнивал с действием
морского ската, приводящего в оцепенение
всякого, кто к нему приблизится.1
Эротическая природа этого воздействия была
для Платона очевидной, об этом много раз
сказано в диалогах, причем несколько раз
Платон высказывается с редкой для него
прямотой и откровенностью, как,
например, в «Феаге», где Сократ заявляет о том,
что считает себя полным профаном во
всех науках, за исключением одной
только науки любви (μάθημα ερωτικός).
Эротизм Сократа объясняет внимание, с
которым Рейнхардт отнесся к платоновскому
«Пиру», проделав тщательный разбор и
целенаправленное комментирование диа-
1 Men. 80 b.
Ill
лога, и пришел к выводу, что рассуждения
участников диалога об Эроте
резюмируются в образе Сократа, возвышающегося
и приобретающего черты мифа. Сократ
теперь не просто ироник, «эйрон» (софисты
также широко пользовались иронией), он
воспринимается как воплощение бога
Эрота. В платоновском мифе о Сократе эти два
начала, ироническое и эротическое,
соединяются, и «Эйрон, исполненный неземного
света, освящает все таинствами Танатоса
и Эрота».
Миф о Сократе играет в истории
платоновской мифологии особую роль, он
сопровождает Платона во всем его
творчестве, исчезая только в «Законах». Это
на нем основывается новая мифология,
которая, в отличие от прежней, перестает
быть естественным образом вырастающей
мифологией космоса, а становится
мифологией души. Мифология души является
продуктом разумного и ответственного
творчества. Что же касается других
мифов Платона, в изобилии представленных
в его диалогах, то они всегда существуют
в определенном контексте для
достижения таких же определенных локальных це-
112
лей. В исследовании платоновских мифов
Рейнхардт придерживается
традиционного представления о хронологии
платоновского творчества и делит мифы Платона на
группы, соответствующие диалогам
раннего, среднего и позднего периода.
Первый период представлен мифами из
«Протагора» и «Горгия», которые излагают
в этих диалогах софисты. Уже Протагор,
отмечает Рейнхардт, знал различие между
мифом и логосом, но для софистики миф
ограничивается ролью назидательной
выдумки, притчи, недостоверной истории.
Миф софистов просто располагается
рядом с логосом, не вступая с ним в
противоречие, софисты относятся к мифу
снисходительно (как к пред-рассудку), но в целом
равнодушно. Рейнхардт показывает, в чем
состояла роль Платона как реформатора
софистического мифа: «Лишь
возвышенный ум Платона, вложивший в „сказку"
новые смыслы, придал этому слову то
высокое значение, которое с тех пор всегда
стали с ним связывать. В диалектике
Платона из „логоса" развивается в качестве
идеального метода реализация
врожденной силы познания; в качестве душевной
113
силы — диалог. С другой стороны, из мифа
как метода возникает в конце концов
форма „притчи", „отображения"
изначального образа в „подобии правды"; в качестве
душевной силы — разговор о вещах,
лежащих по ту сторону слова и
доказательства. Логос и миф, пребывавшие ранее
в состоянии мирного, незаметного
сосуществования, разделились и стали
притягиваться друг к другу, сопрягаясь в
мощном взаимном тяготении». По мере того
как развивается собственная философия
Платона, у него получают интенсивное
развитие оба начала, диалектика и миф.
В этом развитии миф вовсе не вытесняется
из философии, но, наоборот, усиливается
в диалогах среднего периода и
становится доминирующим в поздних диалогах
Платона.
В мифах среднего периода, в диалогах
«Федон», «Федр» и «Государство», Рейн-
хардт старается найти объяснение
повороту, случившемуся у Платона в
отношениях логоса и мифа, который и привел
к усилению мифа: «...когда диалектик, чья
сфера лежит в сверхчувственном, в своих
поисках чистой истины, уводящих его все
114
дальше в сверхчувственные выси,
внезапно сворачивает со своего узкого, крутого
пути в новые миры дивной красочности
и небывалых пространств <...> Подобно
демиургу в мифе „Тимея" о сотворении
мира, демиург, живущий в Платоне, сам
творит мифические миры по подобию
вечного образца». Диалектик становится ми-
фотворцем, но не по своему
произвольному желанию, а в силу необходимости: ему
жизненно важно представить душу как
вечную вневременную сущность, которая
была бы опорой для человеческой
экзистенции, такой же надежной, как когда-
то — божественный космос. И
эсхатологические мифы «Федона» и «Государства»,
а главное, миф о падении душ в «Федре»
приводят к тому, что «вечность души
связывается с вечностью космоса; в нее
неразрывно вошло величие мировой сущности».
В итоге, замечает Рейнхардт, после того
как произошло это возвращение души на
ее истинную родину, на небо, рядом с
бессмертными богами, становится ясно, что
смертное и бессмертное не противостоят
друг другу, а слиты в мерцающем единстве.
Вопрос о душе приводит к вопросу о спра-
115
ведливости, которая, в свою очередь, ведет
к государству и идее. Рейнхардт замечает
по этому поводу, что не имеет значения,
как рисовать круг: справа налево или
слева направо, — все равно миф вырастает из
целого. Но важно то, что после этого миф
должен у Платона занять главенствующее
место: чтобы «космически-первозданное»
и «душевно первозданное» слились в одно,
требуется миф, который мог бы
представить космос как мировую душу.
Мифы позднего периода, содержащиеся
в диалогах «Политик», «Тимей», «Критий»,
и выполняют эту роль, завершая и
оформляя в окончательном виде платоновскую
мифологию. Рейнхардт, конечно,
обращает внимание на то, что говорит в «Тимее»
о мифе как правдоподобной речи, к
которой обращаются для того, чтобы выразить
мир становления. Но если Эрнст Кассирер
увидел в этом «философское „спасение"
мифа, одновременно равнозначное его
философскому упразднению, которое
заключается теперь в том, что он понимается как
одна из форм и ступеней самого знания —
и притом как та, что с необходимостью
соответствует определенной предметной
116
области, являясь ее адекватным
выражением»,1 то для Рейнхардта главный смысл
позднего платоновского мифотворчества
состоит в другом. Он видит его в
формировании такого образа мироустройства,
в котором отношения мифа и логоса
выведены за пределы гносеологической
области в космологическую и в утверждении
идеи того, что сам космос есть не что иное,
как отображение (μιμήμα) мифа: «Если
самый миф является отображением или
уподоблением в притче и, будучи подобием,
по своему подобию формирует мир; если
также видимый мир — отображение,
которое тоже формируется как подобие мира
невидимого, то мир, поскольку он есть
отображение или подобие, родствен мифу,
который также является иносказательным
подобием».
Рейнхардт завершает свою книгу
заключением, названным «Миф и идея», которое,
однако, не подводит итоги, а скорее
указывает на перспективы. Вопросы,
связанные с соотношением мифа и логоса, идеи
1 Кассирер Э. Философия символических
форм. Т. 2. Мифологическое мышление. С. 15.
117
и вещи, природы и духа, формы и
содержания, мыслятся наукой в плоскости
причинно-следственных связей. За несколько
веков научное мышление привыкло к
максиме «знание есть знание причин», но
Рейнхардт утверждает, что в отношениях
мифа и идеи мы ничего не поймем, пока не
избавимся от каузальных отношений, что
сама потребность в каузальности мнима.
Каузальность отменяется в вопросе о
соотношении природы и духа, идеи и вещи,
мифа и космоса, и безнадежной попыткой
было бы пытаться найти объяснение мира
в области отвлеченных понятий. Но в этом
отказе есть и другая сторона, о которой
Рейнхардт говорит: «Перенесение
каузальности в сферу логики на деле приводит
к ее снятию. Однако снимается она в
сфере знания и познания, и тем пышнее она
разворачивается в сфере душевной, то есть
творческой. Так диалектика воистину
становится освободительницей мифа».
Диалектика находит свою верхнюю границу
там, где начинается миф, то есть,
собственно, в области души, где действуют другие
силы и обо всем говорится другим языком.
Эта душа, пишет Рейнхардт, — не психо-
118
логическое и не метафизическое понятие,
а сила, существующая «в творческом
пространстве и потому осознающая в мифе
сама себя. Тут появляются такие понятия,
как „пища", „источник", „изначальный
образ" и „отображение", а также „демиург",
„рождение", „полет", „божественное
безумие", „забывание", „припоминание"; душа
и сама принадлежит этому месту; язык
души — это миф».
Платон, изначально поставивший
перед собой задачу спасения обезбоженного
мира путем реформирования мифа и
возвращения мира к его истокам, должен был
пройти путь от иронии к диалектике и
потом — к мифу. Показать, как он прошел этот
путь, и было задачей Рейнхардта. Пройти
его до конца, раз и навсегда, невозможно:
пока душа жива, она движется,
«напряжение и движение в философской
проблеме совпадает с движением души». Платон
остается вечным напоминанием об этом
движении и об этой жизни, оттого и сам
он стал мифом. Мифы называют
«питающими воспоминаниями», и для этого
воспоминания нам так нужно вновь прочесть
Рейнхардта, так же как и услышать слова
119
другого мыслителя, нашего
современника и соотечественника: «Потому что
Платон не для того, чтобы так или по-другому
войти в нашу картину истории
философии, а для того, чтобы показать нам, где
наши картины, наши сны, и где то
упущенное, о чем сны» (В. В. Бибихин, «Чтение
философии»).
В. В, Прокопенко
Посвящается
Курту Зингеру
В предлагаемом эссе автор не
задается целью проанализировать подряд все
мифы Платона и не старается избегать
неравномерности в их рассмотрении. Причем
неравномерность не самое худшее, с чем
пришлось бы мириться. По правде говоря,
в Платоне еще многое остается непонятым.
Исчерпывающие толкования являются
исчерпывающими лишь в рамках
собственного содержания, а сколько еще в Платоне
остается непроясненного, об этом лучше
даже не спрашивать. Поводом для
данной публикации послужили приглашения
прочитать доклады, поступившие
несколько лет назад от Гамбургского общества
изящных искусств, и недавнее
предложение из Франкфурта, связанное со сходным
мероприятием.
30 марта 1926 г.
ЕГО ВРЕМЯ
Освоение мифа Платоном — это
освоение утраченного мира предшествующих
поколений. Утрата была настолько
полной, что Платона можно сравнить с
человеком, который отправился на поиски
пропавшей ослицы, а приобрел царство. Когда
же он вступил на царство, стало понятно,
что отправившийся на поиски изначально
был некоронованным царем.
Речь здесь пойдет о развитии
определенной литературной формы. Хотя
заметим, что сами по себе формы имеют не
такое уж большое значение. Сам Платон был
первым, кто в эпоху начального развития
литературы учил «живому надлитера-
турному» слову. Впрочем, и литературное
слово, взятое в правильном значении как
122
средство выражения смыслов и донесения
их до слушателей, может многое нам
открыть: оно может показать, до какой
степени мы еще не поняли Платона. Речь здесь
идет, или ей следовало бы идти, о
движущих силах. Мы в состоянии, пожалуй,
сказать, где их следует искать, возможно —
освободить их из-под завалов, но пробудить
их к жизни мы не можем. Самое большее,
на что способен ученый, это как археолог
раскапывать царские останки.
Греческая мифология умерла в годы
юности Платона. Возвышение разума над
богами и миром, искусства — над культом,
отдельной личности — над государством и
законами разрушило мир мифов. Все три
переворота — в искусстве, религии и
государстве — знаменуют собой одно и то же
глубокое внутреннее изменение, которое,
исходя из преобладающей роли разума,
принято называть софистикой или
просвещением, хотя это слово и не отражает
всей полноты совершившихся перемен.
Софистику считают эпохой
рационализма или разложения, соответственно
в философии Платона усматривают по-
123
явление новой этики, религии и мистики.
Такие термины представляют собой
рубрики, в которые укладывается как
Платон и софисты, так и многое другое. Что
же происходило?
Характер и значение того, что мы
называем софистикой, зависят от напряжения,
вызванного несоответствием между целью
и средствами, а также гетерогенности тех,
кто в этом движении выступал с одной
стороны в качестве учителей, а с другой —
в качестве учеников. Между теми и
другими действуют мощные силы притяжения и
отталкивания, они понимают друг друга,
но в то же время думают про себя
каждый свое. Софистика подразумевает
вторжение небольшой армии просвещенных
и искушенных голов, людей, утративших
связь с исконной почвой,
профессиональных учителей философии в среду
молодого поколения высших слоев гражданского
общества. Эта армия наступала широким
фронтом со слабым тыловым прикрытием
и шла двумя флангами из
легковооруженных и тяжеловооруженных воинов.
Первый вел бой на поле развлекательной
беседы, ставя себе на службу потребность
124
в знании и остроумии, чтобы словом и
мыслью выбивать противника с тех
позиций, которые он занимал на
публичной арене в состязаниях и играх. Другой
фланг атакует существующую практику —
все, что приуготовляло и воспитывало для
жизни; он ведет свое наступление и
подавляет любое сопротивление во имя особых
прав могучего и искушенного в учении
ума. Игра ведется самыми разными
средствами: тут и речи, и басни, и звучание
слов, притчи, толкования, аллегории... Но
самое излюбленное средство этой игры —
сомнения, скептические высказывания
и положения, подаваемые как
несомненные. Аристократическая натура с
удовольствием предается такой игре. А выбрано
было для игры это горючее вещество как
раз потому, что оно было опасно. Знание
у них служит средством воспитания, от
него ожидают всяческих благ, превознося
«технэ» или «эпистему». Софисты
единодушны в своей вере в неограниченные
возможности «технэ». При всем разнообразии
отдельных искусств, которыми
занимаются софисты, они единодушны в
превознесении «технэ». Технэ в понимании со-
125
фистов — это не наука или философия и
не искусство в смысле artes liberales, а
система приемов, которыми пользуется
разум, стремясь усовершенствовать, создать
или превзойти то, что прежде почиталось
как плод естественного развития.
Понимаемое в этом смысле, технэ становится
сутью всех человеческих отношений. Того
же происхождения была, например,
виртуозность Еврипида. Сознательный, сам
себя инсценирующий прием, которым
пользуется искусство, представляет собой
одно из проявлений того же соотношения
между регулирующими и творческими
силами, что и прием, который используется
для создания желаемого человека. Тот же
прием, которому, на взгляд софистов, они
подчинили все, что есть на свете живого,
находит свое зеркальное отражение в
картине прошлого. Тиран Критий под маской
Сизифа поучает со сцены: вначале была
война всех против всех, благодаря
установлению законов с откровенными
злодеяниями было покончено, но бороться со
скрытыми люди были бессильны; тогда
умный, сильный разумом человек
придумал веру в богов как средство устрашения
126
для злодеев, которые таят свои дела,
слова и мысли. Высокий ум, по словам Кри-
тия, сейчас по-прежнему, как и в древние
времена, способен подчинять себе
представления и тем самым оказывать
влияние на существующую действительность
(Протагор в «Теэтете» Платона, 167 с). Из
этого же понимания всякого творчества,
деятельности, научения как системы
определенных приемов вытекает праистория
софистики, которой в диалоге Платона
придерживается Протагор. Софистика,
говорит он, ведет свою историю из
глубокой древности. Она существовала всегда,
не было только ее названия. Скрытыми
софистами были Гомер, Гесиод, Симонид,
орфики; великим софистом в недавние
времена был знаменитый музыкант Ага-
фокл. Судя по его школе, он считался
отцом всех различений и практически
применимых категорий воспитательной
музыки. То же относится и к педотрибу
Геродику из Селимбрии, отцу лечебной
гимнастики, изобретателю сложной
системы приемов для достижения того, чего
нельзя достичь средствами одной только
природы. И если сам Платон в «Горгии»
127
сравнивает софистику с искусством
украшения (или косметики) и называет ее
подражательной по сравнению с истинным
искусством телесного развития —
гимнастикой, то тем самым он, желая
унизить ее, в то же время дает определение ее
сущности.
В отношении этики софистика
индифферентна в том смысле, что она не
создает и не ниспровергает идеалы. (Начатки
индивидуальной этики у Демокрита и
Антифона, по сути, не входят в программу
софистики). Воспитание — ее технэ в
вышеприведенном смысле; для воспитания
будущего δεινόινς или άρειη, крупного
государственного деятеля, убедительного
оратора или доброго гражданина comme il
faut — она прибегает к традиционным
методам или принимает новые. Она охотно
признает существующую мораль. А
между тем софистика будто бы ее подрывает?
Ответом на этот вопрос будет следующее:
засилье приема и рационализация всего
живого являются в свою очередь
симптомами развивающегося процесса.
Рационализация живого: таким предстает процесс
со стороны учителя и в теории; со сторо-
128
ны живого — тех, кого поучают, —
наблюдается то, что отдельные силы
сознательно и окончательно отторгаются от целого,
будь то государство или человек,
невзирая на то, представлены ли эти силы
жадностью или холодностью, расчетом или
страстью.
Все подготовлено для рассудочного
подхода и тех приемов, которыми
пользуется разум: о каждом предмете ведется
«двоякий разговор», обо всем
высказываются суждения pro и contra, во всем есть
свое «так или иначе». Если бы обо всем
велась речь только с одной стороны, прием
разума не находил бы приложения.
Созданы все условия, чтобы открыть доступ
рассудочному приему. Но в тех же pro и
contra индивид усматривает свое право на
свободу от того и другого. Примат
«природы» (инстинкта, страсти) над
«установлениями» (то есть от всего, что относится
к государству, обычаю, обязательствам)
проповедует в теории софист Антифон,
наслаждаясь игрой мысли, осуществляют
на практике наделенные демоном Критий
и Алкивиад.
129
На тот же догмат опирается в
софистике и то, что представляет собой игру или
выдает себя за философию. Прием
всесилен — он даже может доказать, что
существует только несуществующее.
Риторика и эристика представляют собой всего
лишь отдельные, хотя и наиболее яркие,
примеры применения этого общего
научного положения. Абсолютная истина
добровольно отказывается от власти не
потому, что она свергнута усилиями
размышляющего интеллекта, а потому, что
она несовместима со всевластием
такого понимания науки. И снова мы видим
в этой игре двустороннюю связь: то место,
которое у поучающих занимает технэ, то
есть верховенство вышедших на свободу
приемов и средств над всякой
объективной истиной, у их последователей
занимает суверенное право выдающейся и
гениальной натуры. Такое положение, как
протагоровское «человек есть мера всех
вещей», определяющее, что среди них
есть сущее, а что нет, подобно
двуликому Янусу обращено на две стороны. Хотя
Протагор и не ставил себе задачу
выпустить на волю тех духов, которых он вы-
130
звал к жизни, он все же упустил из вида,
что те приемы рассуждения, которыми он
пользуется, с точки зрения истины так же
сомнительны, как и с точки зрения
общепринятой морали сомнительна та
вседозволенность, на которую претендовали
ученики и гениальные натуры. Его
беспринципность распространялась на
область духа. А прислушивалась к нему под
прикрытием интеллектуального
наслаждения желавшая освободиться от
принципов воля. Такое теоретическое положение,
как право, — то, что полезно
сильнейшему, — в конечном счете также
представляет собой не что иное, как рационализацию
живого явления. Это положение
становится действенной силой, когда освобождает
страсти, формулируемые в нем как в
объективном высказывании. Когда такие
исконные противники, как дух и инстинкт,
вступают в союз, обоим это идет только
во вред. Озноб, переходящий в жар, жар,
переходящий в озноб: лихорадка
объединяет теорию и практику.
Озноб при жаре и жар от озноба
симптоматичны для лихорадящего времени.
131
Фукидид насильно втискивает свою душу
в безжалостно жесткие рамки
интеллекта, укладывает свою страсть в форму
объективности, отливает из своего огня
застывшие ораторские украшения и создает
из холодного соотношения сил,
признаваемого его разумом за единственно
действенное средство, памятник предельного
героизма и человеческого страдания. То,
что у Фукидида выражается в виде
внутреннего напряжения, у Еврипида
вырывается наружу. Он воспламеняется от
холода, рассчитывает и закипает, разжигает
свое вдохновение от торжества полезности
и, глядя на обезбоженный похолодавший
мир, отвечает на это кипением страстей
в своих драмах. Без этой лихорадки
софистика никогда не стала бы тем, чем была.
Как только она перестала быть
холодным сосудом, вмещавшим в себя кипение
жизни, ее миссии настал конец. Она
живет за счет чужих сил и процветает лишь
там, где силы, развивавшиеся раньше как
одно целое, начинают обращаться против
этой целости. Как жалки все эти
учителя мудрости по сравнению с тем, кто сам
преисполнен этими силами! Как слаба
132
декламация Антифона на тему природы
и права, номоса и физиса, как слабо даже
самое сильное из того, что когда-либо
произносилось устами софиста, — например,
знаменитое Homo mensis Протагора — по
сравнению с мелосским диалогом Фуки-
дида, по сравнению с «Троянками» Ев-
рипида или по сравнению с одним из тех
политических деятелей, у которых
сухая формула наполняется живой кровью,
как это было у Калликла в Платоновом
«Горгии».
После того как закончилось бушевание
вырвавшихся на свободу сил — в
политическом смысле Пелопонесская война, —
софистика сходит на нет. Свое влияние она
черпает не из себя самой, а из того, что,
отделяясь от целого, прибегает к средствам
софистики, с тем чтобы легитимировать
себя в духовном плане. Ее наследие,
перешедшее в последующие века, состоит,
кроме общих импульсов, из некоторого ряда
прикладных навыков, таких как
грамматика, поэтика, экономика,
мнемотехника... и прежде всего риторика. Прием,
выработанный разумом, когда ему перестали
подчиняться живая жизнь и духовное со-
133
держание, перекинулся на другие
области, которые более ему соответствовали, и
успешно там работал.
Вера софистов в технэ или эпистему
как средство воспитания желаемого
человека у Сократа возвышается до этического
постулата. Формула для решения этой
задачи включает в себя следующее: научае-
мость добродетели и непреднамеренность
всех проступков. Знание ведет к
добродетели лишь тогда, когда человеком
управляют только знание и разум, когда в нем
не остается ничего «неподотчетного», то
есть в чем он не отдавал бы себе отчета;
человеком должны управлять только
знание и разум, так как добродетель и есть
знание. Парадигмой истинного знания по-
прежнему остается технэ. Специальные
средства и приемы спора в основном те же
самые, что у софистов, только
применяются они в сочетании с личным обаянием,
зачаровывающим собеседника
непосредственно в момент диалога, при условии,
что они поставлены на службу новой
жизни и новым целям. Теперь они служат
свободному от всех внешних обязательств
134
идеалу автономного знания добродетели,
которое в жизни проявляется в ходе
непрестанного пытливого исследования
себя самого, получающего свое выражение
в признании собственного «ничегонезна-
ния», а их целью становятся недосягаемая
ни для каких других видов деятельности и
достижимая только путем истинного
знания абсолютная польза и добро. При этом
уже не имеет значения, насколько
именно помогают продвинуться эти средства и
хватит ли их, чтобы довести на этом пути
до конца, — достаточно того, что они
обнаруживают заносчивую самонадеянность
человека и тупиковость поставленных
целей; главным средством остается
неопровержимость постулата, воплощенного
в человеческой личности, проявляющаяся,
когда испытующая совесть повсюду
обнаруживает слабые места.
Согласно внутреннему закону
сократовского знания добродетели, это
приводит к окончательному разрыву с
государством и миром богов. Софисты не шли
дальше полемики и сомнения; великие
мастера «несомненных» утверждений были
в распре с законами, смотрели на них пре-
135
небрежительно и с презрением; Сократ же,
повинуясь законам, поднимается по
ступеням своего высшего знания в понимании
добродетели на такие высоты, где
кончаются все обязательства. Его диалог с
Законами, отраженный в «Критии», где
Законы предъявляют ему свой счет, является
крайним выражением этого разрыва. Если
раньше оправдываться и приводить свои
доводы приходилось за нарушение
Законов, то теперь этого требует послушание.
Не виданное раньше ни у одного человека
превосходство под видом
несостоятельности, ведущая роль при кажущемся
подчинении, «ирония» в призванности, грация
в образе «жалящего овода», уверенное
знание в «незнании», победа в послушании и
благородство в обличье Силена — в этом
сосредоточена сама сущность
платоновского Сократа, и она же выражает
сущность его судьбы; в ней причина того,
почему государство его отринуло и почему
Платон всю жизнь оставался под его
обаянием.
Можно, конечно, сказать, что
государство не отринуло бы Сократа, если бы
само не выродилось. Идти своим отдель-
136
ным путем, когда целое еще в силе,
означает оригинальничанье. Но что значил бы
Сократ, если бы он не шел своим особым
путем? Сократ — самостоятельный,
независимый закон в государстве, отличный
не только от принятых в это время и
извращенно применяемых государственных
законов, но и от самого рода этих законов:
закон на другой ступени. Его смерть de
facto перевернула все государство. Если
бы Сократ не выпал из государства,
Платону не пришлось бы строить свое
государство в сфере духа (Письмо 7, 325 b
и ел.). Поэтому можно сказать и так: если
бы Сократ не выпал из государства, то
государство бы не выродилось. Но
только ли государство выродилось? Не было
ли это выпытывание, настойчивые
попытки докопаться до знания, неустанное
прощупывание совести тоже
вырождением? На самом деле старое государство
раскололось, корни его, с одной
стороны, уходят в царство духа через Сократа
к Платону (Сократ — единственный
истинный носитель государства: «Горгий»,
521 d), с другой стороны — в
гражданское эпигонство на пути от Алкивиада
137
к патриотической демократии аттического
риторического века. Какой из истоков
более истинный и действительный,
останется нерешенным вопросом в вечном споре
между сторонниками идеи и земными
натурами.
Платон вбирает в себя оба течения —
софистику и сократику. Та и другая едины
в том, что отходят от государства, богов
и мифа. Сократовский идеал основанной
на знании добродетели с одной стороны и
софистический с его преклонением перед
технэ и человеческим можением — с
другой представляют собой признаки такого
обезбоживания, страшнее которого,
пожалуй, никогда с тех пор больше в мире
не повторялось. Небо и недра земли, ранее
населенные могущественными богами, от
которых исходило все, что давало
надежду, все высокое, все радости и ужасы, все,
что «питало душу», теперь стояли
холодные и опустелые; изначальный мир,
некогда громадный Теменос с целым лесом
статуй, изображавших прообразы и образцы,
которым мог следовать мир нынешний,
сравнялся с землей («И хотя то, что пред-
138
шествовало войне, а тем более, что
происходило еще раньше, установить точно не
было возможности в силу отдаленности от
нашего времени, но все же на основании
проверенных и оказавшихся
убедительными свидетельств я пришел к выводу,
что все эти исторические события
далекого прошлого не представляли ничего
значительного как в военном отношении, так
и в остальном», — так начинается
«Археология» Фукидида*) и даже космос,
некогда, как для Гераклита, — великий порядок,
от которого исходит весь порядок, по
которому живет человечество, лежит в
развалинах, и на его обломках торжествует
гносеологическая проблематика: вещи есть
то, чем они кажутся. Человек достиг того,
что сделался мерой всех вещей, — и тут
вдруг является новая мера, чьи
требования стоят выше всего существовавшего
прежде, но она наполнена такой
взрывной силой, что это делает ее
непримиримой, невыполнимой, она несет с собой
* Перевод Г. Стратановского. Здесь и далее
все примечания, кроме особо оговоренных
случаев, принадлежат переводчику.
139
пронзительное сознание, а не благостный
дар богов.
Вместе с сократовским учением о
добродетели-знании Платон перенимает у
софистов их понятие технэ или эпистемы.
Его ранние диалоги полны таких вещей,
как то, что добродетель есть знание,
технэ или эпистема. Везде, где он
доказывает или опровергает что-то, исходя из
искусств, он следует путем, проложенным
софистикой или сократикой. Но тем не
менее он с тех же позиций заново
завоевал такие области, как государство и миф.
Выходит, что его «знание» все же другое?
Сначала, правда, это различие кажется
незначительным, но оказывается, что оно
огромно: любое знание, хорошее и дурное,
проникает в душу. Оно пропитывает ее,
как лекарство или яд пропитывают тело.
«Так сам-то ты знаешь, что собираешься
делать, или тебе это неясно?» —
спрашивает платоновский Сократ молодого друга,
который горит желанием стать учеником
Протагора. — «Ты намерен предоставить
попечение о твоей душе софисту, как ты
говоришь; но, право, я бы очень удивился,
если бы ты знал, что такое софист. А раз
140
тебе это неизвестно, то ты не знаешь и того,
кому ты вверяешь свою душу и для чего —
для хорошего или дурного. <...> Не будет
ли наш софист чем-то вроде торговца или
разносчика тех припасов, которыми живет
душа? — Но чем же питается душа? —
Знаниями, разумеется. Только бы, друг мой, не
надул нас софист, восхваляя то, что
продает, как те купцы или разносчики, что
торгуют телесною пищей».* Что же такое эта
душа? Она что-то растущее, что должно
расти, что-то, чему свойственны свои
силы и добродетели, грозят свои опасности,
чему, подобно телу, требуется врач и
учитель гимнастики, а не торговец. Что такое
эта душа? Она не исчерпывается ни одной
наукой, никакими требованиями
добродетели, она не психологическое, не
теологическое и не метафизическое понятие: она
то, за что ведется борьба, ради чего вся эта
борьба разгорается. У нее есть своя судьба
в старости и свои нужды в юности, в ней
дремлют невообразимые сокровища, и ей
грозит опасность потерять себя; некогда
* Здесь и далее цитаты из «Протагора
приводятся в переводе Вл. Соловьева.
141
она была свидетельницей великих вещей,
но и переживала ужасные страхи. Что
такое эта душа? То, к чему прикоснулся
Сократ, что затем пробудилось в Платоне,
что осознало себя сперва ощупью, затем
завершает себя, найдя в отражении
враждебного мира, что растет и ширится, пока
не обратится в государственность и
космос, священнослужительство и
провидчество, мир идей и мифов, — вот что такое
эта древняя и вновь возродившаяся в духе
душа Эллады. Та же старая и вновь
пробудившаяся душа — матерь платоновских
мифов. Из души и в душе вырастает и
зреет мифический мир. И хотя эта душа
сначала, увлеченная пестрым
многообразием внешнего мира, казалось бы, занялась
другими вещами, погрузившись в первые
опыты, споры, отрицания и влюбленности
молодого ума, изначальное ее
предназначение все равно заключалось в том, чтобы
выносить и породить миф. Мифы
Платона — это мифы души, то есть мифы уже не
внешнего мира, а мира внутреннего и
неразделенного в своей цельности. Поэтому
они беднее образами, но тем не менее не
являются прозрачной оболочкой, содержа-
142
щей в себе учение о душе или теорию: их
источник — это сама душа и ее
самодвижение, ее самоформирование в глубинах
внутреннего мира, а цель, к которой они
устремлены, состоит в том, чтобы
пронизать своим внутренним миром обездушев-
ший внешний мир.
ОБЩЕСТВО
Подобно тому как возрождается
старый мир богов, Олимп и Аид, как
возрождаются в душе государство и законы, то
же самое происходит и с греческим
обществом. Все самое глубокое, что мы знаем
о духе этого общества, мы узнаем
благодаря Платону. Его диалоги в немалой
степени воплощают в себе проявление
духовного становления этого общества. Все
великое и удивительное, серьезное и
радостное, что поднимается из этой души,
встает перед нами не в непосредственном
виде, а заявив о себе сначала в кружке
людей, живущих духовными интересами. То
же и с мифами. И для мифа, а не только
для диалектической формы рассуждения,
144
это тоже несет с собой определенные
последствия.
Принадлежность Платона к
дружескому кругу делает его, писавшего свои
диалоги в четвертом веке, запоздалым
сыном пятого столетия. В нем живы
старорежимные традиции. Его нельзя понять,
не учитывая обычаи узкого круга
старинной аристократии. Свойственную этому
обществу грацию он делает частью своего
духовного мира, взяв туда и чувство
комического, а вместе с тем и неизбежную
потребность в иронии. Аристократизм
на его последней стадии представляет
как бы женское начало в его основе, в то
время как сократовское плебейство —
мужское.
Миф отчасти, по крайней мере на
начальной стадии своего возникновения,
являет собой одну из форм грациозной
игры, своего рода маскарадный костюм
Хариты, которая, скрываясь в его
облачении, принимает участие в дружеской
беседе, особенно когда душа Платона или
платоновский Сократ обращают свою речь
к прекрасному юноше. Например:
145
Место действия: палестра Таврия.
Входит Хармид в окружении поклонников.
Все поражены его красотой, даже самые
младшие мальчики
Херефонт (поклонник): Как нравится
тебе юноша, мой Сократ? Разве лицо его не
прекрасно?
— Необыкновенно прекрасно.
— А захоти он снять с себя одежды, ты
и не заметил бы его лица — настолько весь
облик его совершенен.
И все согласились в этом с Херефонтом.
Я же [Сократ] сказал:
— Геракл свидетель, вы справедливо
называете его неотразимым! Если бы
только ему было присуще еще нечто совсем
небольшое.
— Что же это? — спросил Критий.
— Если бы он от природы обладал
достойной душою. А ведь именно таким ему
подобает быть, Критий, раз он
принадлежит к твоему семейству. <...>
— Так почему же нам, — спросил я, —
не снять одежды именно с этой его части
и не предаться ее созерцанию прежде,
чем созерцанию его внешности? Во
всяком случае, в таком возрасте он уже готов
к собеседованиям. <...> Критий (рабу):
«Мальчик, позови Хармида да скажи ему,
что я желаю показать его врачу по поводу
той болезни, которой, как он совсем недав-
но говорил, он страдает». Мне же Критий
сказал:
— Давеча он мне говорил, что мучается
головной болью, когда поднимается ото сна
с зарею. Тебе ничего не стоит
притвориться, будто ты знаешь средство от головной
боли. <...> Хармид же, подойдя, сел между
Сократом и Критием. И уже с этого
мгновения, милый друг, мною овладело
смущение и разом исчезла та отвага, с которой я
намеревался так легко провести с ним
беседу. Когда после слов Крития, что я
знаток необходимого ему средства, он бросил
на меня невыразимый взгляд и сделал
движение как бы намереваясь обратиться ко
мне с вопросом, а все собравшиеся в
палестре обступили нас тесным кругом, —
тогда, благородный мой друг, я узрел то, что
скрывалось у него под верхней одеждой,
и меня охватил пламень: я был вне себя...
Вопрос о средстве, которое действует,
только если к нему добавить определенный
заговор; об исцелении части одновременно
с целым.
И я, почувствовав его одобрение,
воспрянул духом, и вскоре ко мне вернулась
моя отвага; я оживился и сказал:
— Итак, мой Хармид, подобным же
образом обстоит и с этим заговором.
Научился же я ему, когда находился там, при
войске, у некоего фракийского врача из
учеников Залмоксида: считается, что вра-
147
чи эти дают людям бессмертие. Так вот,
фракиец этот говорил, будто эллинские
врачи правильно передают то, что я тебе
сейчас поведал; но Залмоксид, сказал он,
наш царь, будучи богом, говорит: «Как не
следует пытаться лечить глаза отдельно
от головы и голову — отдельно от тела, так
не следует и лечить тело, не леча душу, и
у эллинских врачей именно тогда
бывают неудачи при лечении многих болезней,
когда они не признают необходимости
заботиться о целом, а между тем если целое
в плохом состоянии, то и часть не может
быть в порядке. Ибо, — говорит он, — все —
и хорошее и плохое — порождается в теле
и во всем человеке душою, и именно из нее
все проистекает, точно так же как в
глазах все проистекает от головы. Потому-то
и надо прежде всего и преимущественно
лечить душу, если хочешь, чтобы и голова
и все остальное тело хорошо себя
чувствовали. Лечить же душу, дорогой мой,
должно известными заклинаниями, последние
же представляют собой не что иное, как
верные речи (λόγοι): от этих речей в душе
укореняется рассудительность, а ее
укоренение и присутствие облегчает внедрение
здоровья и в области головы и в области
всего тела. Так он наставлял меня и
относительно лекарства и относительно
заговоров: мол, пусть никто не вздумает убеждать
тебя излечить ему голову с помощью этого
148
лекарства, если он прежде не даст тебе
подлечить с помощью заговора его душу. <...>
Я же послушаюсь его (ведь я поклялся ему,
так что мне необходимо повиноваться!), и
если ты пожелаешь, согласно
наставлениям чужеземца, сначала предоставить мне
душу, чтобы заговорить ее заговором
фракийца, то я присовокуплю к этому и
лекарство для головы; если же не пожелаешь, то
у меня нет средства помочь тебе, мой
милый Хармид.*
Так проявляет себя и преломляется
у Платона огромная доброта, любовь и
тонкость, его душа изливается в
поддразнивании, в добродушных шутках,
вымысле, баснях, мелочах, которые
необязательно бывают ироническими, однако легко
переходят в иронию и тогда на грани
между мифическим и вымышленным
вызывают то мерцающее и летучее впечатление,
которое придает таким местам совершенно
особенный общий настрой. Конечно, это
еще не миф, однако по форме это уже то же
самое, что и ссылка на учение Диотимы,
которая позднее появляется в «Пире». Не
случайно, что и там поучаемым, которого
* Перевод С. Шейнман-Топштейн.
149
Сократ таким окольным путем
посвящает в тайны Эрота, выступает прекрасный
Агафон.
— Я, — сказал Агафон, — не в силах
спорить с тобой, Сократ. Пусть будет по-
твоему.
— Нет, милый мой Агафон, ты не в
силах спорить с истиной, а спорить с
Сократом дело нехитрое.
Но теперь я оставлю тебя в покое. Я
попытаюсь передать вам речь об Эроте,
которую услыхал некогда от одной мантинеян-
ки, Диотимы, женщины очень сведущей и
в этом и во многом другом и добившейся
однажды для афинян во время
жертвоприношения перед чумой десятилетней
отсрочки этой болезни... <...> Я говорил ей
примерно то же, что мне сейчас Агафон:
Эрот — это великий бог, это любовь к
прекрасному. А она доказала мне теми же
доводами, какими я сейчас Агафону, что он,
вопреки моим утверждениям, совсем не
прекрасен и вовсе не благороден... («Пир»,
201 d-e) *
Таким образом, позднейшая форма
мифического облачения представлена уже
* Здесь и далее цитаты из «Пира»
приводятся в переводе С. Апта.
150
в сочинениях раннего периода, и вся
разница только в том, что здесь она лишь
вносит новый оттенок, в то время как
в поздних произведениях эта уже
существующая форма заполняется своим
собственным содержанием. Зачатки мифа
прорастают во многих местах, но только мы их
не замечаем, пока не увидим взрослое
растение.
Тот же общественный дух —
подразумевая не аттическое общество как таковое,
а то, как оно изображается Платоном в его
сочинениях, — задает тон как в отношении
связующей людей грации, так и
разделяющего их гелоиона. Гелоион — буквально:
смешное, комическое. Но речь здесь идет,
по сути, о социальном понятии, тогда как
наше немецкое слово заставляет думать
об индивидуальном свойстве. Так назовем
же его лучше гелоион. Гелоиона хотя и не
требуется избегать, однако следует
держать его в узде. Трагизм шутейного в том,
что оно мнит себя властвующим, на самом
же деле оно является подчиненным. Но не
менее опасно и противоположное:
чересчур поддаваться серьезности (άπουδαίυν),
151
позволив ей овладеть собой. Как
допустимые признаются две страсти: страсть
благородной эротики и страсть к политике.
Все прочее — изящная игра. Хороший тон
требует относиться к предметам духовного
плана — таким как искусство, философия
и наука — не иначе, как «полусерьезно,
полушутливо», особенно если у тебя есть
тайная склонность принимать их серьезно.
Поэтому у Платона архаическое, даже тон
старой прозы, получает из-за своего
слишком серьезного тона комическое звучание.
Людям, чуждым избранному кругу,
софистам — да чего доброго, пожалуй, и
Сократу — такое прощается. Но представитель
хорошего общества, охваченный
безраздельной серьезностью, не может вызывать
ничего, кроме сожаления.
Таким образом, Сократ во всех
отношениях оказывался в самом незавидном
положении: в качестве плебея среди
аристократов; с лицом Силена, притом
наделенный какой-то невозможной
серьезностью, а уж ухватки... Только представить
себе, что человек, задумавшись,
останавливается вдруг посреди улицы! Сократ
был бы просто невозможен в порядочном
152
обществе, не будь он великим ироником,
эйроном.
Что означает ирония? И как относится
сократовская ирония к той, которая
окрыляет мифы Платона? Вместо того чтобы
вести разговор о платоновском юморе,
будем лучше придерживаться греческих
понятий. С одной стороны, имеется гелоион
в сочетании с теми действиями, которые
его характеризуют как таковой
(например, σ^ώτειν и т. д.), с другой стороны —
эйронея. Есть риторическая, вульгарная,
злая ирония (по определению риторов:
«говорить не то, что думаешь»), наряду
с ней — общежительная, гуманная.
Только об этой у нас пойдет речь. Как правило,
мы противопоставляем ироническое тому,
что нужно воспринимать серьезно, то же
и у Платона. Однако серьезное содержит
в себе некое притязание: оно рассчитано
на то, чтобы подчинить себе наш дух.
Область возможного притязания может быть
различной и зависит от духовного уровня.
Поэтому люди с большими
притязаниями любят изображать из себя ироников.
Но истинный ироник, чтобы добиться
должного впечатления, рассчитывает на
153
себя такого, как есть, и действует своими
средствами или посредством других.
Причем посредством других это делается ради
того, чтобы оттолкнуть или привлечь,
поражая воображение чем-то неожиданным
или приятным и заманчивым, даже
воспитывая. Порой он стремится одновременно
к тому и другому. Ирония, среди прочего,
означает превосходство под видом
наигранного и выраженного мимикой
самоумаления. Умаление может выражаться как
в комическом, так и в трагическом ключе.
Превосходство всегда будет заключаться
в противоположности смысла.
Установление отношений превосходства может
выражаться как в превосходстве над другим
участником, так и в превосходстве надо
мной самим, а тем самым
распространяться на него косвенным образом или никак
его не затрагивать. А поскольку
превосходство подразумевает наличие некоего
форума либо в виде реально
присутствующего, либо только воображаемого
общества, или же форум будет представлен той
или иной из заинтересованных частей
моей души, или же общностью двух
собеседующих душ. Но предпосылкой иронии
154
служит всегда наличие более чем одного
душевных уровней. Превосходство надо
мной самим устанавливается, если,
например, я, умаляя себя, своим выражением
и мимикой снимаю это впечатление еще
большим умалением другого и тем самым
подчиняю его себе. Причем умаление,
которое я изображаю, может быть сплошной
кажимостью и т. д. Короче говоря, есть
ирония, направленная на себя, и ирония,
направленная на другого, а
соответствующая подача себя может совершаться как
непосредственным, так и косвенным
образом. Чаще всего одно незаметно переходит
в другое.
Но как есть развитие, исходящее от
тела к душе, и есть развитие от
государства, так существует и развитие, идущее
от общества к душе, от внешнего мира
к внутреннему. И если уже в обществе
ирония означает борьбу за превосходство,
в которой вместо пафоса, серьезности и
«харизмы», в общей атмосфере гелоиона
используется наигранная и выраженная
в мимике серьезность или, напротив,
вместо гелоиона — серьезная страсть,
окрашенная с помощью мимики в его тона, то
155
какой же это открывает простор для игры
всевозможных трудноуловимых оттенков
настроения и мысли, которые превращают
принятую в дружеской компании забаву
в игру душевных сил! Мы здесь не будем
вдаваться в различные градации, чтобы
установить различия между сократовской
и платоновской иронией, поскольку
сократовская существует внутри платоновской.
Однако в общей структуре платоновской
сократики можно отметить развитие,
направленное от иронии социального
общения в сторону иронии душевных сил,
и можно без сомнения утверждать, что
ирония на мифическом материале
представляет собой вершину в структуре
иронического. Из иронии самоутверждения
рождается ирония эмоционального
экстаза. Этот выход за очерченные границы,
недопустимый в обществе,
оборачивается энтузиазмом, грозящим увлечь в своем
порыве всю душу. В качестве
противоположных сил ему противостоят такие, как,
например: логический рассудок; презрение
к письменному слову; дух
неудовлетворенности; нежелание откровенно
высказываться; страх добровольно отдать себя
156
на милость противника; сознание
непостижимого; нежелание выходить за
рамки привычных границ; артистизм души.
«Одним словом, из сказанного должно
понять, что, когда кто-нибудь увидит что-то
написанное — будь то законы
законодателя или другие какие-то письмена, — если
он сам серьезный человек, он не сочтет все
это чем-то столь уж для себя важным, но
поймет, что самое для него важное лежит
где-то в прекраснейшей его части».*
Благодаря иронии душевные силы, казалось
бы, готовые в своем разладе взорвать весь
космос, выражают себя спокойно,
сдерживаемые рамками воспитанного поведения.
Однако и противоположные силы,
захваченные полетом души, отчасти, а порой и
не только отчасти, увлекаются им за
собой, как вихрем, который взметает на
воздух все без разбора — легкое и тяжелое.
Мы видим, как то миф прикидывается
логикой, то логика — мифом, демонстрируя
что-то на мифе, так что между тем и
другим границы становятся расплывчатыми.
С одной стороны — экстаз, с другой — игра
* Письмо 7, 344 с; перевод А. Егунова.
157
и гелоион, а посередине между ними —
ирония, и когда эти три составляющие
становятся основными силами диалога,
начинается развитие, уходящее в
беспредельные выси.
Искусный трагический поэт является
также и поэтом комическим, говорит
Сократ в конце «Пира».
ПРОРЫВ
«ПРОТАГОР»
К началу, или почти к началу,
писательского творчества Платона относится
его «Протагор». И в «Протагоре» мифом
блеснул софист. Уже софисту Протагору
известны два способа научения — через
«логос» и через «миф». Но словом «миф»,
как затем и Платон, он называет «басню»
или «сказку». Лишь возвышенный ум
Платона, вложивший в «сказку» новые
смыслы, придал этому слову то высокое
значение, которое с тех пор всегда стали с ним
связывать. В диалектике Платона из
«логоса» развивается в качестве идеального
метода реализация врожденной силы по-
159
знания; в качестве душевной силы —
диалог. С другой стороны, из мифа как метода
возникает в конце концов форма
«притчи», «отображения» изначального образа
в «подобии правды»; в качестве душевной
силы — разговор о вещах, лежащих по ту
сторону слова и доказательства. Логос
и миф, пребывавшие ранее в состоянии
мирного, незаметного сосуществования,
разделились и стали притягиваться друг
к другу, сопрягаясь в мощном взаимном
тяготении. Их противостояние
становится полярным, в самом Платоне эта
полярность все больше усиливается. Если
хронологически проследить по диалогам, как
меняется по мере развития Платона
соотношение логоса и мифа, то мы увидим, что
развитие мифического начала идет у него
в ногу с развитием диалектического метода
и даже начинает главенствовать.
Отдельные элементы мифа, вначале
представленные в виде случайных неосознанных
вкраплений, объединяются в мифологические
миры космического масштаба.
Для софиста Протагора существует
выбор между логосом и мифом, для него миф
еще означает некое облачение. Для Пла-
160
тона выбора уже не существует. И, однако
же, внешняя схема софистского мифа, его
литературная форма в известной степени
становится и формой Платона. Здесь
снова нечто внешнее переводится в душевный
план. Подобно тому как ирония
сначала обращается к тому, в чем видит что-то
неприемлемое, что подлежит отрицанию,
карикатурному высмеиванию, что она
желает преодолеть и преодолевает, прежде
чем достигнет собственного царства души,
точно так же Платон сначала
выставляет перед нами миф софиста, здесь он так
же использует внешнюю иронию, пока
душа не окрепнет настолько, чтобы
проламывать стены, чтобы наполнять
содержанием формы и тогда уже продолжить
игру, соревнуясь с чужими, враждебными
силами так, как того требуют
собственные взгляды и воля, пользуясь для этого
собственными силами. Оглядываясь назад,
мы, правда, заметим, что уже в мифе
софиста у Платона участвует собственная
тяга к мифу.
— ...Было некогда время, когда боги-то
были, а смертных родов еще не было.
Когда же и для них пришло предназначен-
161
ное время рождения, стали боги ваять их
в глубине Земли из смеси земли и огня,
добавив еще и того, что соединяется с огнем и
землею. Когда же вознамерились боги
вывести их на свет, то приказали Прометею
и Эпиметею украсить их и распределить
способности, подобающие каждому роду.
Эпиметей выпросил у Прометея
позволение самому заняться этим распределением.
«А когда распределю, сказал он, тогда ты
посмотришь». Уговорив его, он стал
распределять: при этом одним он дал силу без
быстроты, других же, более слабых, наделил
быстротою; одних он вооружил, другим
же, сделав их безоружными, измыслил
какое-нибудь иное средство во спасение: кого
из них он облек малым ростом, тем
уделил птичий полет или возможность жить
под землею, а кого сотворил рослыми, тех
тем самым и спас; и так, распределяя все
остальное, он всех уравнивал» (320 d—321)
(Следует описание различных средств
защиты у животных, выдержанное в модном
тогда стиле, подражающему басне) Но был
Эпиметей не очень-то мудр, и не заметил
он, что полностью израсходовал все
способности, а род человеческий еще ничем не
украсил, и стал он недоумевать, что теперь
делать. Пока он так недоумевал, приходит
Прометей, чтобы проверить
распределение, и видит, что все прочие животные
заботливо всем снабжены, человек же наг и
162
не обут, без ложа и без оружия, а уже
наступил предназначенный день, когда
следовало и человеку выйти на свет из Земли;
и вот в сомнении, какое бы найти средство
помочь человеку, крадет Прометей
премудрое искусство Гефеста и Афины вместе
с огнем, потому что без огня никто не мог
бы им владеть или пользоваться. В том и
состоит дар Прометея человеку. <...>
...Одного мастерства обработки, хоть оно и
хорошо помогало им в добывании пищи, было
мало для борьбы со зверями: ведь люди еще
не обладали искусством жить обществом,
часть которого составляет военное дело.
И вот они стали стремиться жить вместе
и строить города для своей безопасности.
Но чуть они собирались вместе, как сейчас
же начинали обижать друг друга, потому
что не было у них уменья жить сообща; и
снова приходилось им расселяться и
гибнуть. Тогда Зевс, испугавшись, как бы не
погиб весь наш род, посылает Гермеса
ввести среди людей стыд и правду, чтобы они
служили украшением городов и
дружественной связью.
Вот и спрашивает Гермес Зевса, каким
же образом дать людям правду и стыд.
«Так ли их распределить, как
распределены искусства? А распределены они вот как:
одного, владеющего искусством
врачевания, хватает на многих не сведущих в нем;
то же и со всеми прочими мастерами. Зна-
163
чит, правду и стыд мне таким же образом
установить среди людей или же уделить
их всем?» — «Всем, — сказал Зевс, — пусть
все будут к ним причастны; не бывать
государствам, если только немногие будут ими
владеть, как владеют обычно
искусствами. И закон положи от меня, чтобы
всякого, кто не может быть причастным
стыду и правде, убивать как язву общества»
(321 c-d, 322 b-c).
Смысл мифа таков: человек сам по
себе слаб; его выживанию и сохранению
его культуры способствуют две вещи: во-
первых, ремесла, они поддерживают его
физическое существование; во-вторых,
справедливость и государство как средство
поддержания более высокого, социального
существования. То и другое — вещи
различного рода, различной ступени, поэтому
и распределение их неодинаково.
Проблема, заключенная в этом мифе, вытекает из
свойственного софистам понятия технэ.
Форма, в которую она облечена,
прозрачна. Протагор мог бы объяснить то же самое
и с помощью логоса. Тогда мы вместо мифа
читали бы социологическое или
культурологическое рассуждение. Так что же
164
толкает к созданию мифа? Тяга к маске и
изящной игре; но душа тут совершенно ни
при чем. Если уж искать душу, то, скорее
всего, она обнаружится в отрицании, то
есть в игре в отрицание. Ибо как создание
Платона софист, разумеется, тоже
является частью платоновской души.
В то время, когда Платон писал этот
миф, он вряд ли догадывался, что вскоре
сам станет вкладывать в миф мысли,
дорогие его сердцу. Ибо для этого
требовался новый поворот, сперва он сам должен
был измениться.
«ГОРГИЙ»
Тому, кто в становлении хочет познать
энтелехию, представляется зачастую
более поучительным объяснять начальное
время последующим, чем выводить
последующее из того, что было вначале. В той
же душе, которая вырастает, созревая для
мифических перерождений, лежат
истоки сократовского диалога, который никог-
165
да не бывает простым отражением жизни.
Душа ищет себе противников: сперва во
внешнем, затем во внутреннем мире; что
бы ни занимало, ни пленяло и ни
соблазняло ее, будь то воспитание,
образование, искусство и какая бы то ни было еще
форма духовности, она со всеми вступает
в спор, на все яростно ополчается с тем,
чтобы затем присвоить себе все, что может
ей быть полезно, будь то знание или
словесные чары; тут она познает идеи,
питается их созерцанием, схватывает себя самое,
переносится в миф, строит из себя
государство и расширяется до космических
масштабов.
Борьба с внешними врагами,
отражение их атак, соратничество под знаменем
нового, божественного героя и
провозглашение его грядущего пришествия
неизбежно предшествуют созданию
собственного царства. Но вот уже разрозненные
стычки сменяются стройным
противостоянием, противостояние спорящих —
борьбой душевных сил, из «Апологии»
вырастает «Горгий», из состязания двух
речей — ведущееся на более высоком
уровне состязание двух душ, как это происхо-
166
дит в прологе «Протагора», который стоит
выше остального, а затем снова во второй
части «Горгия», которая уже предвещает
ту ступень, которая в первой части
«Государства» предваряет собой последующие.
Чем мощней противостоящая сила, тем
лучше, ведь вместе с собственной силой
растет и сила противника. И тут же
начинается борьба, подобная той, что ведет
любящий с силой, пытающейся похитить
его возлюбленную, или борьба двух
братьев, как между Зетом и Амфионом («Гор-
гий», 485 е). «...Если только ты
подтвердишь мнения, кои высказывает моя душа,
значит, это уже истинная правда. Я
полагаю, чтобы надежно испытать душу в том,
правильно она живет или нет, надо
непременно обладать знанием,
доброжелательством и прямотой, и ты обладаешь всеми
тремя» (486 е).* Подобно тому как в «Гор-
гии» вместе со сменой противников спор
поднимается на следующую ступень, так
же и в более обширном труде
«Государство» в ступенчатой системе агонов про-
* Здесь и далее цитаты из «Горгия»
приводятся в переводе С. Маркиша.
167
ступает цель этой смены и в становлении
проявляется энтелехия. Душа все более
занимает место пробного камня (486 d), по
которому проверяется качество. «А в том,
что касается тела? Ты, вероятно,
назовешь злом слабость, болезнь, безобразие и
прочее тому подобное? А ты допускаешь,
что и в душе может быть испорченность?
И зовешь ее несправедливостью,
невежеством, трусостью и прочими подобными
именами? Какая же из них [этих трех
вещей. — И. С] самая постыдная? Верно,
несправедливость и вообще испорченность
души? (477 b и ел.). «Что я понимаю под
красноречием, ты теперь слышал: это как
бы поварская сноровка не для тела, а для
души» (465 е). Что такое софистика? Она
для души то же, что для тела косметика
вместо гимнастики (464 Ь, 501 Ь).
Ощутив в себе живое дыхание души,
пробуждается от оцепенения и номос,
закон. И это также происходит сначала
в «Горгии», который и тут несет в себе в
зародыше то, что затем будет развито в
произведениях зрелого периода. «Стало быть,
слаженность и порядок делают дом
пригодным, а неслаженность — непригодным?
168
И судно — так же? И то же самое мы
скажем про наше тело? А про душу?» (504 а).
«Мне кажется, что имя телесному
порядку — „здравость" и что из него возникает
в теле здоровье и все прочие добрые
качества. <...> А порядок и слаженность в душе
надо называть „законностью" и „законом",
через них становятся люди
почтительны к законам и порядочны, а это и есть
справедливость и воздержность» (504 с).
В это же время душой овладевает «Эрос»
к философии, ревниво требуя слепого
подчинения, и это тоже, не дожидаясь, когда
тот сформируется в миф об Эроте. «Я
говорю это, принявши в расчет, что мы с
тобой ныне испытываем одно и то же — мы
оба влюблены, и каждый — в двоих сразу:
я — в Алкивиада, сына Клиния, и в
философию, ты — в афинский демос и в сына
Пирилампа» (481 d).
Та же душа движет в конечном счете
противниками в споре, добывая из
собственной энергии противоположную
силу, которая рьяно бросается в
аргументацию, то и дело разражаясь неожиданными
вспышками, чтобы затем, обратившись
на самою себя, представить себя в учении
169
о душе. Когда формируется эта сила,
возникает миф; когда она стремится уяснить
себе собственную природу, появляются —
если можно так выразиться —
умозрительные психологические и теологические
рассуждения. Ибо когда душа
погружается в спекулятивные рассуждения о душе
(а у Платона никогда без этого не
обходится), то умозрительные рассуждения о душе
сами становятся мифом души. Вопрос
о том, что конкретно следует расценивать
как теорию, а что как миф, решается не
тем, что Платон считал истиной, а лишь
тем, достаточны ли оказались эта форма
и эти средства для того, чтобы душа могла
выразить себя с их помощью или признать
в них свое отображение.
«Горгий», в котором новая душа
впервые проявила свою силу, стоит также на
пороге нового мифа. Понять же это можно
только из душевного движения диалога.
Поднимемся же на его высшую ступень!
В формулировки диалога вложена
страстность нового идеала; то, что на первый
взгляд кажется резюмирующим
обобщением, на самом деле представляет собой
одушевленность, вопросы диалектики
170
то и дело выливаются в покаянные и
обличительные речи пророка: о сущности
справедливости как веления судьбы,
залога гармонии и порядка, как «космоса»
в человеческой душе. «...Несмотря на всю
свою мудрость, ты не замечаешь, как
много значит и меж богов, и меж людей
равенство — я имею в виду геометрическое
равенство...» (508 а). «...Кто желает быть
счастливым, пусть приучает себя к
воздержности, пусть стремится к ней, а от
разнузданности каждому из нас надо бежать
со всех ног, и больше всего надо стараться,
чтобы вообще не было надобности терпеть
наказания, если же все-таки надобно —
нам ли самим или кому из наших
близких, будь то частное лицо или целый
город, — следует принять возмездие и кару:
иначе виновному не бывать счастливым»
(507 d). Голос, который здесь слышен, это
дух того старого «космоса», который
воплотило в себе пифагорейство, но не
только оно. Древняя сила рвется из души
нового «помолодевшего» Сократа — и как
же он преобразился! Это возрождение, не
сравнимое с теми тенями, которые
отбросило в науку на исходе своего развития
171
пифагорейство в лице Архита и Филолая;
в отличие от них оно представляет собой
первое душевное порождение древнего
полисного устройства, пифагорейства, ор-
фики и т. д. в целом, то есть принятое уже
не во внешнем укладе государства и рода,
культа и общины, а поселившееся в самой
душе, вытесненное и выброшенное за
рамки внешнего устройства и его символов,
при этом углубившееся, преображенное,
пробудившееся к новой жизни. Лишь это
возрождение старой души — первое,
чудовищно мучительное рождение во
внутреннем мире — дает возможность вместе с
душой развиться и новому мифу.
Этим же вытеснением объясняются
также старо-пифагорейские и орфические
мотивы переселения душ и
потустороннего мира в мифах Платона: выводя
требование чистоты и порядка, который они
должны блюсти в этом мире, из запредельности,
они, хотя и не создают тем самым
особенного внутреннего мира, все же создают
мир тайный, явленный в откровении,
законченный в силу своей внешней
организации. Для них реальны те представления,
которые у Платона становятся формами
172
самоформирования души. Так, Эмпедокл
в жреческом облачении, окруженный
верующими, сам является наглядным
воплощением своего учения о спасении,
одновременно объектом и субъектом культа.
Боги орфического учения занимают как
бы промежуточное место между древними
богами и богами Платона.
Конечно, «Горгий» — это лишь первый
прорыв и протест. Протестом в нем
остается и миф: свидетельство осужденного и
отверженного, обращенное к потустороннему
миру. Душа, обнаружившая, что она сама,
и только она, является носительницей
истинной нормы и идеи государства,
понявшая, что в существующем государстве для
нее нет места, увидевшая свое одиночество
в этом государстве, очутившись в
одиноком меньшинстве против большинства,
представленного обществом, — и эта душа
впервые вызывает из небытия
потустороннее царство правосудного порядка и
вечных законов. Пока еще нет царства
идей, отсюда этот тон горькой иронии:
старая сказка здесь так перегружена новой
мощью, что в своих выразительных
средствах она не может выступать иначе, как
173
вызов. Внутренний мир, хотя и
представляет собой одновременно мир
метафизический, еще не получил устоявшейся формы.
Но категория потустороннего (а у Платона
почти все мифическое является в каком-то
смысле потусторонним, нездешним) уже
обретена. Внешнее и внутреннее, «тело»
и «душа», «одеяние» и «нагота», сущее и
видимость являются определяющими
категориями мифа, и они же являются
определяющими категориями диалога.
Наружно миф, правда, еще носит черты
басни или поучительной легенды
этиологического характера, подобные тем, что
можно встретить и у софистов, которые
пользовались следующей схемой. Некогда,
во времена Крона или Прометея, все было
наоборот, Зевс же устроил все так, как это
есть теперь, и тому есть своя причина. То
есть внешняя форма еще та же, что была
в мифе Протагора. Душа еще не успела
проникнуть собой, как это случилось позднее,
самую форму мифа, фабула и fabula docet
еще расходятся между собой.
Тогда внемли, как говорится,
прекрасному преданию, которое ты, верно, сочтешь
сказкою, а я полагаю истиной, а потому и
174
рассказывать буду так, как рассказывают
про истинные события.
Гомер сообщает, что Зевс, Посейдон и
Плутон поделили власть, которую
приняли в наследство от отца. А при Кроне был
закон — он сохраняется у богов и до сего
дня, — чтобы тот из людей, кто проживет
жизнь в справедливости и благочестии,
удалялся после смерти на Острова
блаженных и там обитал, неизменно счастливый,
вдали от всех зол, а кто жил несправедливо
и безбожно, чтобы уходил в место кары и
возмездия, в темницу, которую называют
Тартаром. Во времена Крона и в начале
царствия Зевса суд вершили живые над
живыми, разбирая дело в тот самый день,
когда подсудимому предстояло
скончаться. Плохо выносились эти приговоры, и вот
Плутон и правители с Островов
блаженных пришли и пожаловались Зевсу, что и
в Тартар, и на их Острова являются люди,
которым там не место. А Зевс им отвечает:
«Я решительно это прекращу! Сейчас, —
говорит он, — приговоры выносят плохо,
но отчего? Оттого, что подсудимых судят
одетыми. Оттого, что их судят живыми.
Многие скверны душой, но одеты в
красивое тело, и благородство происхождения,
в богатство, и, когда открывается суд,
вокруг них толпятся многочисленные
свидетели, заверяя, что они жили в согласии
со справедливостью. Судей это приводит
175
в смущение, да вдобавок и они одеты —
душа их заслонена глазами, ушами и
вообще телом от головы до пят. Все это для них
помеха — и собственные одежды, и одежды
тех, кого они судят. Первым делом, —
продолжает Зевс, — люди не должны больше
знать дня своей смерти наперед, как
теперь. Это надо прекратить, и Прометею
уже сказано, чтобы он лишил их дара
предвидения. Затем надо, чтобы всех их судили
нагими, а для этого пусть их судят после
смерти. И судья пусть будет нагой, и
мертвый, и пусть одною лишь душою взирает
на душу — только на душу! — неожиданно
умершего, который разом лишился всех
родичей и оставил на земле все блестящее
свое убранство — лишь тогда суд будет
справедлив.
Я знал это раньше вашего и потому уже
назначил судьями собственных сыновей:
двоих от Азии — Миноса и Радаманта, и
одного от Европы — Эака. Когда они
умрут, то будут вершить суд на лугу, у
распутья, от которого уходят две дороги; одна
к Островам блаженных, другая — в
Тартар. Умерших из Азии будет судить Рада-
мант, из Европы — Эак, а Миносу я дам
почетное право быть третейским судьею,
когда те не смогут решить сами, и
приговор, каким путем следовать каждому из
умерших, будет безупречно справедливым
(523 а и ел.).
Царство смерти открывается в конце
«Апологии», в конце «Критона», в конце
«Горгия» и в конце «Государства». В
«Апологии» — смертная тень, нависшая над
героизируемым персонажем, и «истинный»
суд над мнимым; в «Критоне» —
исполнение долга праведным человеком, памятуя
подземные силы; в «Горгии» — обнажение
души и предание ее на суд потусторонних
судей; в «Государстве» — веретено Ананке,
вокруг которого вращаются космос,
государство и человеческие судьбы.
В первое время миф осеняет диалоги
Платона, паря над ними в
неопределенности, прежде чем наконец опуститься на
их вершины. В «Горгии» он впервые
соприкоснулся с логосом.
«ПИР»
Мифическая форма была готова к тому
моменту, когда была открыта идея. Три
душевные силы, возвысившись до идеи,
переносят миф с небес на Землю — это Эрот,
177
Танатос и Дике. От них блеск мифа
распространяется на все стороны, он озаряет
диалог и концентрируется в собственных
космических мирах. Образ Сократа
становится мифом в той мере, в какой его
освещает отблеск идеи. Его возвышение
завершается в «Федоне» и «Пире»:
Сократ, возвысившийся над смертью,
возвысившийся над жизнью во всей ее полноте,
человек, хотя бы отдаленно подобного
которому «не найдешь ни среди древних, ни
среди ныне живущих» (221 с), загадочный
в речах и в повадках, такой человечески
близкий и божественно далекий; Эйрон,
исполненный неземного света, освящает
все таинствами Танатоса и Эрота.
Из всех произведений среднего
периода отчетливее всего мифический характер
выражен в «Пире», в нем вообще почти не
заметно разделения на логос и миф. В
«Федоне» и «Государстве» их соотношение
менее прозрачно, но и тут миф выступает как
предпосылка логоса, а логос — как
предпосылка мифа. Новая истина Платона не
отправляется на поиски мифа, в эту
эпоху миф становится ее первичной формой.
Диалектика выступает в качестве ее иро-
178
нической подоплеки, так же как миф
становится иронической подоплекой
диалектики. Диалектика служит ее иронической
изнанкой, так же как мир иронически
проглядывает под диалектикой. Но миф
является формообразующим началом, тогда
как в качестве методического и формораз-
ругиающего начала выступает диалектика.
Поэтому и новая истина первоначально
появляется в форме мифа. Для
выражения, доказательства, применения,
отстаивания ее в другой форме ей сначала нужно
пробиться в мифе.
Поговорим о мифе «Пира», но не о
мифической стороне этого события и
празднества, а о том, что выступает в качестве
ученого рассуждения, — о мифическом
характере теоретической составляющей
семи речей об Эроте.
Первая речь, речь Федра, представляет
собой полнозвучный аккорд, но именно
поэтому она не выходит за рамки хвалебного,
торжественного тона изящных
застольных славословий. Подобно
торжественному сколиону она возносится к обители
героев. Следующие четыре речи выводят за
грань этого узкого круга, причем каждая
179
в своем направлении; однако они
построены так, что возникают две
контрастирующие одна с другой пары. Речь Федра
выглядит как пролог, за которым в ходе
агона следуют выступления двух
соревнующихся пар. Речь Сократа, шестая по
счету, выводит за рамки этого, более
широкого, круга; она, по сути дела, выходит за
пределы агона (на что указывается в
тексте 199 а-Ь).
Второй оратор, Павсаний, поклонник
Агафона, провозглашает старый
аристократический идеал, опирающийся на
теорию в духе софистики. В этом отношении
его речь можно сравнить с теорией Кал-
ликла в «Горгии». Между пошлым и
неразборчивым Эротом Пандемосом и Эротом
благородной мужской дружбы — Эротом
небесным проводится такое же
различение, как между «большинством» и
«благородными» людьми у Калликла. Решающим
является не «что», а «как», не присутствие
любви, а кто любит и как любит. В Элиде
и Беотии, где характеры грубые, а умы
немудрящие, не тратятся на долгие
«уговоры», которых требует возвышенный Эрот.
У ионийцев и варваров вследствие тира-
180
нии и чужеземного господства
благородный обычай мужского эроса не развился.
Обычаи устанавливают правители. Так,
справедливость, понимаемая как «номос»,
устанавливается, согласно Калликлу, в
зависимости от того, что считают полезным
правители; то же самое здесь разнообразие
обычаев или nomoi, связанных с эротикой.
Поэтому в Элиде и Беотии не стыдятся
любви к мальчикам; в Ионии же она,
напротив, считается совершенно
предосудительной. Одно происходит по вине тупости
законодателей, другое — от их
испорченности: своекорыстия правителей и
малодушия подданных. Тем возвышенней зато
нравы в Афинах. Но чтобы это понять,
здесь также требуется прояснить понятие
нравов. Понятие номоса становится
поводом для конструирования конфликта и
его разрешения по верховной воле
афинского законодателя. Строгий надзор над
мальчиками благородного происхождения,
принятые в семье понятия чести,
которым следует и молодежь, с одной стороны,
а с другой стороны, готовность
восхищаться проявлением великой страсти,
понимаемые вместе как «номос», то есть сознатель-
181
но принятое установление, казалось бы,
должны противоречить друг другу, если
бы воля законодателя не трактовалась
в том смысле, что допустимым считается
только эрос в его высшей и
благороднейшей форме. Кажущаяся противоречивость
в толковании понятий прекрасного и
безобразного в аттической эротике находит
свое разрешение в таком толковании, что,
дескать, аттический номос подразумевает
единственное в своем роде совпадение
таких вещей, как великая, не телесная, а
душевная страсть у любящего и потребность
в воспитании, познании и «любомудрии»,
потребность в «философии» у
возлюбленного. Таков смысл «небесного Эрота»,
сына Венеры Урании. Все, что ни есть
другое, вульгарно и принадлежит сфере Эрота
Пандемоса.
За социологическим подходом
следует физиологический, после аристократа
слово берет врач, то есть в понятиях того
времени — ученый. Ибо остатки того, что
в досократовские времена охватывало
силы космоса, в платоновское время как-
то еще сохранилось в медицине, которая
была весьма склонна к теоретизированию.
182
В Эриксимахе мы видим пример
добросовестного, уверенного в себе физиолога,
обратившегося к философии. Начав со своей
профессии, медицины, он пускается в
экскурс по всем царствам природы, всем
наукам; он охватывает макрокосмос и
микрокосмос, он стремится к полноте и повсюду
обнаруживает действие эроса как силы,
ведающей гармонией, согласием,
потребностью в сходном. Им движет некогда
великий дух. В результате обнаруживается:
то, что некогда означало высоту ума, стало
общим местом. Эти мысли по-прежнему
прекрасны, но мы чувствуем, что из них
уже ничего не следует, мы чувствуем, как
они растекаются. Да и как может наука,
столь методически исцеляющая от икоты,
даже великой икоты самого Аристофана,
как может такая наука не верить, что она
разбирается и в эросе?
Итак, номос и физис, законодатель и
природа, сказали свое слово, теперь настал
черед представителей искусства.
Комический и трагический поэты составляют
следующую пару. Однако и здесь единство
обоих и их противоположность следует
понимать также и в духовном смысле.
183
Аристофан начинает с откровения,
произносит hieros logos комического поэта.
В первоначальные времена Эрота не было,
человек был цельным, шаровидным и
могучим, у него было четыре руки, четыре
ноги и голова Януса. Он ходил на
четырех ногах, а когда бежал, то передвигался
колесом, перекатываясь на четырех ногах.
Вместо двух полов тогда было три:
мужской, женский и женско-мужеский; первый
происходил от Солнца, второй — от Земли,
третий — от Луны. (Это также значит, что
небо представляет собой мужское
космическое начало, Земля — женское, ибо Луна
считалась у пифагорейцев «небесной
Землей», а также: первый пол был высшим по
ценности, третий же занимал второе
место.) Но человек был мятежником. Память
о его бунтарстве сохранилась в сказании
об Эфиальте и Оте. Когда Зевс устал
терпеть буйство этих шаровидных созданий,
он решил разделить их на две половины;
он разрезал их пополам, как плоды перед
засолкой, и с помощью Аполлона сделал
так, чтобы их лица повернулись на
внутреннюю сторону, кожа стянулась вокруг
пупка, как стягивают мешок, а все осталь-
184
ное залечилось. И тогда каждая половина
с вожделением устремилась к другой
своей половине, существа мужского пола —
к своей мужской половине, существа
женского пола — к женской, а существа
женско-мужеского пола — к своей
противоположности. Они обнимались,
сплетались в страсти, желая срастись, забывали
трудиться и умирали от голода. Тогда Зевс
сжалился над ними и переместил их
срамные части вперед. Ибо прежде они
изливали семя в землю, как цикады. Теперь же
мужчины могли оплодотворять женщин,
утолять свою тоску друг по другу и
снова приниматься за работу. Так появился
Эрот, соединяющий нашу былую
целостность, целитель нашей половинчатой
натуры. Ибо мы — только половинки, каждый
из нас половина изначального мужчины,
или изначальной женщины, или единого
двуполого существа. Но лучшие из всех —
половинки древнего мужского существа.
Таких мало заботит деторождение, но из
них выходят самые лучшие
государственные мужи. Только они соединяются душой
на всю жизнь. Чего они хотят друг от
друга — загадка для них самих. Ведь не только
185
ради удовлетворения похоти они
стремятся друг к другу. И когда бы Гефест, заковав
их в свои оковы, спросил у них: чего вы
хотите, а они в изумлении встретили бы этот
вопрос молчанием, и он снова бы спросил:
может быть, вы хотите как можно дольше
быть вместе и не разлучаться ни днем, ни
ночью? так давайте же я сплавлю вас
воедино, чтобы из двух человек вы стали один
и жили и умерли бы вместе, — то они бы
подумали, что услышали то, о чем давно
мечтали. Ибо наша первоначальная
природа была цельной, а Эрот — это стремление
к цельности. Бог разделил нас надвое за
нашу вину. Только бы он не разделил нас
еще раз, так что в будущем человек
скакал бы на одной ноге, как сейчас мы ходим
на двух!
Внешне миф здесь еще сохраняет
форму этиологической легенды подобно мифу
из «Протагора» и «Горгия». В «Протагоре»
древнему человечеству тоже грозит
гибель из-за того, что ему неведома
справедливость, как здесь — значение Эрота. Там
Зевс тоже испугался и придумывал, как
спастись. Здесь и там изначальное
состояние человечества изображается как проти-
186
воположное существующему: если сейчас
человек в качестве любящего представляет
собой одну половинку, то некогда он был
цельным и т. д. То же самое и в «Горгии»:
если сейчас суд над душами вершится
после смерти, то некогда их судили при
жизни... Но если взглянуть на внутреннюю
форму, то какое произошло изменение!
Этот миф уже замахивается — и еще как
замахивается! — к броску, который пока
намеренно не попадает в цель — ведь это
же миф комического поэта, — однако это
бросок в ту самую цель, которую поразит
миф Диотимы. Уже в этом мифе Эрот
предстанет как воспоминание и потребность
вернуться к изначальному образу, как
испытывающий нужду и вожделеющий, но
испытывающий нужду в человеческой
цельности, а не в божественно прекрасном.
Здесь представлены существенные
черты, но еще отсутствует царство духовного.
Стремление к целостности здесь
предстает как тоска по изначальному состоянию
в телесном облике сказочных
шарообразных существ, а не как желание подняться
на высшую ступень и возвыситься к
духовному совершенству, представлены начало и
187
конец, но не путь от дела к духу, не
постепенное движение ввысь от земной красоты
к идее (205 с). Власть этого бога
сильнейшим образом привязана к телесному.
Откуда же тут взяться полету?
О никем не затронутой красоте
напоминает Агафон. Но какой красоте! Если
речь Аристофана была похожа на корень,
вернее, луковицу без цветка, то речь
Агафона сравнима с цветком без корней.
Агафон — любимец и герой дня,
восторженный украшатель, готовый украшать
любой ценой и бога, и слово, и себя самого.
Средство, которым он для этого
пользуется, — персонификация, систематическое
перенесение производимого впечатления
на предмет, иначе говоря: артистическое
искажение мифического видения. Но и
в производимом впечатлении он замечает
только то, что красит образ предмета.
Упоение красотой делает его слепым. Силы
прошлого, включая силы древней поэзии,
подвергаются отрицанию, все корни
обрываются, остается лишь оторванный от
корней, торжествующий в своем
формальном совершенстве жест виртуоза. Агафон
тоже выражает одну из судеб греческого
188
искусства — и не только словесного; это
заставляет нас вспомнить и изнеженность
вазовой росписи позднего стиля, с ее
пристрастием к Афродитам и Эротам,
белизной инкарната, изобилием позолоты... Сам
Агафон — своего рода миф.
«Эрот — самый красивый из всех богов.
Ибо, во-первых, он — самый молодой. Эрот
ненавидит старость и бежит ее. Старость
скора, но Эрот проворнее. Следовательно,
Эрот не старше Титанов, как утверждают
поэты, а самый молодой из богов. В
первоначальные времена царила Ананке; во
времена мира и дружбы царит среди богов
Эрот. — Эрот ходит и обитает в самой
мягкой на свете области — в душах и сердцах
богов и людей. Встретив суровый нрав, он
уходит прочь. Поэтому он самый молодой,
самый нежный и самый гибкий бог. —
Насилие не уживается с Эротом ни в жизни,
ни в поступках. Поэтому Эрот всегда
справедлив. Кого коснется Эрот — становится
поэтом: поэтому Эрот — поэт всех родов
поэзии... Короче, он податель всех благ,
всего прекрасного для богов и людей... Он
избавляет нас от отчужденности
(антипатии) и наполняет взаимным доверием
189
(симпатией), он призывает нас к
празднествам и становится нашим предводителем
в хороводах и на жертвоприношениях...
Вот моя речь; и да будет она жертвенным
даром в святилище этого бога». Когда
Агафон закончил, все присутствующие
одобрительно зашумели: он, дескать, говорил
достойно от себя и от бога.
То обстоятельство, что все выступают
в той последовательности, в какой они
располагаются за столом, а также
вспомогательный композиционный мотив икоты,
напавшей на Аристофана, которая
сначала помешала ему говорить после Пав-
сания, так что он уступил свою очередь
Эриксимаху, способствуют тому, что
продуманный порядок воспринимается как
случайный и в то же время не
случайный.
Понимание этого порядка несет в себе
определенное значение. Если я дважды
беру две противоположности, то хочу
получить целое. Когда Гераклит говорит:
«Война отец всех, царь всех, одних она
объявляет богами, других людьми, одних
творит рабами, других — свободными», —
он имеет в виду тотальный характер вся-
190
кого порядка. Точно так же Платон имеет
в виду тотальный характер всех
воздействий, всех форм, возможностей Эрота.
И действительно, кажется, будто этими
пятью речами тема исчерпана до конца.
Эйрон Сократ признается, что тут трудно
и почти невозможно что-либо добавить.
Таков состав сил на момент появления
сократовского послания и рождения
нового общества. Недостает только одной —
истины!
После пяти предшествующих бросков
шестой попадает в цель. Если бы не
шестая речь, которая в едином символе
объединила все, что в предшествующих пяти
было сказано об эротике, обнаружив
притом скрытые за этими умозрительными
рассуждениями невообразимые глубины,
то без нее, ставшей ключом и дверью к
неоткрытому еще святилищу души, основная
часть «Пира» так и осталась бы всего лишь
чередою шести речей, из которых шестая
случайно оказалась бы самой прекрасной.
Пять первых следует оценить как
негативные, поскольку каждая ступень в силу
своей ограниченности остается чем-то
негативным. Что же касается иронии, то где
191
же у Платона при взаимодействии
высокого и низкого, при раскрытии целого дело
обходилось без иронии? Где только
ирония не выступает у него одновременно как
формирующая и позитивная сила? Речь
Диотимы одерживает победу, то есть сами
гости, если бы их спросили, вынуждены
были бы признать: тот Эрот, о котором мы
хотели сказать, но не сумели выразить,
здесь он явлен! Однако такое признание
здесь не может иметь места, потому что по
условиям диалога, в котором идет борьба
с противоположной силой, такое
признание недопустимо. Переход на сторону
противника здесь был бы неуместен.
В пяти первых речах представлен свой
мир: с ним вступают в противостояние
в тот момент, когда Сократ возвещает свою
истину и возникает внутренний мир души.
Подобно тому как Платон был вынужден
выступать с позиций отрицания, так и
Сократ даже в блистательном свете «Пира»
тоже начинает с отрицания: «Видно,
заранее был уговор, что каждый из нас
должен лишь делать вид, что восхваляет
Эрота, а не восхвалять его в самом деле. <...>
Строить свою речь по такому способу я не
192
стану, потому что попросту не могу.
Правду, однако, если хотите, я с удовольствием
скажу вам на свой лад, но только не в лад
вашим речам, чтобы не показаться
смешным» (199 с—d).
И тут срабатывает пружина
диалектики. Новая правда начинается с
отрезвления. Разве эрос не относится к разряду
таких вещей, которые всегда направлены
на какой-то объект? Разве он его не
желает? И не нуждается ли он в том, чего
желает? Не любит ли он вечно того, чем не
обладает? Красоту, которой не обладает
сам? И т.д. Вырвавшийся из диалектики
миф повторяет все стадии рождения мифа
в душе Платона. Но уже в ходе
диалектического рассуждения разговор переводится
в другой план повествования. Вместо
Сократа и Агафона беседу уже ведут Сократ
и Диотима. Где мы находимся — между
небом и землей? Только что нам объясняли,
что между непримиримыми
противоположностями есть нечто среднее, так оно
есть между прекрасным и безобразным,
так между знанием и невежеством, так и
между смертным и божественным, и тут
вдруг мы без подготовки уже погружаемся
193
в учение о «демоническом»! Куда мы
попали? Незаметно для себя мы из царства
диалектики вступили в царство души, и
вот уже нас там встречает миф.
Теперь ведущая роль переходит к
жрице. Она вводит нас в таинства, но
сопровождает это бесцеремонными замечаниями,
обманными уловками. Миф — это полет,
он выбивает почву из-под ног. В таинствах
звучит ирония. Да и как еще прикажете
изложить серьезную мысль? «И все-таки...
все признают его великим богом. — Ты
имеешь в виду всех несведущих или также
и сведущих? — спросила она. — Всех
вообще. — Как же могут, Сократ, —
засмеялась она, — признавать его великим богом
те люди, которые и богом-то его не
считают? — Кто же это такие? — спросил я. —
Ты первый, — отвечала она, — я вторая»
(202 Ь-с).
Хотя душа формируется и не в
пространственном космосе, как это
происходит в «Федре», «Федоне» или
«Государстве», и здесь нет ни верха и низа, ни
подземного мира и Земли, то все же это —
Вселенная, где действуют могучие силы,
связанные между собой внутренней свя-
194
зью: боги, люди и демоны. Иррациональное
начало воспринимает себя как
демоническое. Демоническое пребывает
посередине между богом и человеком,
истолковывая и передавая богам молитвы и жертвы
людей, людям же — веления и воздаяния,
которые идут от богов. Только благодаря
его посредничеству то и другое
становится одним целым и во Вселенной
появляется связь. Всякие прорицания, искусство
жертвоприношения, все таинства и
чародейство становятся возможны благодаря
демоническому. Ибо бог не соприкасается
с людьми. Только тот, кто понимает толк
в демоническом, является «демоническим»
(великим, выдающимся) человеком,
познания во всех остальных искусствах делают
его всего лишь ремесленником.
Существует множество таких демонов, и один из
них — Эрот.
Что же представляет собой
демоническое? Если у Гомера слова «бог» и «дай-
мон» употребляются в отношении тех и
других существ без различия, из этого еще
не следует, что никакого различия не
существует; скорее, дело в том, что два рода
существ слились в одном понятии. Объем
195
значения обоих сравним с двумя взаимно
пересекающимися, но не совпадающими
друг с другом кругами. То же самое и
прилагательные «божественное» и
«демоническое». Даже у Гомера то и другое никогда
не подменяют друг друга. Первое всегда
означает божественное в смысле величия,
второе — в значении действующего;
первое — имеющее форму, второе —
бесформенное, не имеющее четких очертаний, во
всех их возможных оттенках и градациях
вплоть до низшей ступени,
представленной в обращении. Если настоящая
демонология появляется только в «Пире», то что-
то подобное, по-видимому, должно было
существовать хотя бы в зачаточном виде
и раньше, в доплатоновские времена, так
же как это обстоит с эсхатологическими
представлениями в орфике. Очевидно, что
существует особое, тайное знание
демонического, иначе Платон не мог бы его
истолковать и одушевить. Только обладающий
этим знанием может успешно проводить
жертвоприношения, заниматься
волшебством и т. д. Ибо знание духов дает власть
над этими духами. Так, ссылка на
подобное знание встречается в поэме Эмпедокла
196
в связи с проникновением магии в
объяснение природы. И не там ли уже
зародились предки позднейших духов стихий?
Подобным знанием обладает и Диотима,
благодаря которому она смогла отсрочить
наступление в Афинах чумы. Но только
у Платона магия становится мифом,
теория — выразительным средством, душа
рождает новую магию, и эта новая магия
ведет со старой свою игру.
Наряду с напряжением, царящим
между смертным и вечным, появляется еще и
другое: между радостным чувством
обладания и нуждой, изобилием (Rat) и
бедностью. В середине «Пира» и речи Диотимы
содержится легенда о рождении Эрота, по
своей литературной форме это такой же
«миф», как и поучительная история
софиста Продика о Геракле на перепутье. Но
какая же тут видна перемена! Здесь ушла
назидательность. Это еще один пример
того, как новая душа создает из
мифа-сказки собственный миф.
— Кто же его [Эрота. — И. С] отец и
мать?
— <...> Когда родилась Афродита, боги
собрались на пир, и в их числе был По-
197
рос, сын Метиды. Только они отобедали —
а еды у них было вдоволь, — как пришла
просить подаяния Пения и стала у дверей.
И вот Порос, охмелев от нектара — вина
тогда еще не было, — вышел в сад Зевса
и, отяжелевший, уснул. И тут Пения,
задумав в своей бедности родить ребенка
от Пороса, прилегла к нему и зачала
Эрота. Вот почему Эрот — спутник и слуга
Афродиты: ведь он был зачат на
празднике рождения этой богини; кроме того, он
по самой своей природе любит красивое:
ведь Афродита красавица. Поскольку же
он сын Пороса и Пении, дело с ним
обстоит так: прежде всего он всегда беден и
вопреки распространенному мнению совсем
не красив и не нежен, а груб, неопрятен, не
обут и бездомен; он валяется на голой
земле, под открытым небом, у дверей, на
улицах и, как истинный сын своей матери, из
нужды не выходит. Но с другой стороны,
он по-отцовски тянется к прекрасному и
совершенному, он храбр, смел и силен, он
искусный ловец, непрестанно строящий
козни, он жаждет разумности и достигает
ее, он всю жизнь занят философией, он
искусный чародей, колдун и софист. По
природе своей он ни бессмертен, ни смертен:
в один и тот же день он то живет и
расцветает, если дела его хороши, то умирает, но,
унаследовав природу отца, оживает опять.
Все, что он ни приобретает, идет прахом,
отчего Эрот никогда не бывает ни богат, ни
беден.
Он находится также посредине между
мудростью и невежеством, и вот почему.
Из богов никто не занимается философией
и не желает стать мудрым, поскольку боги
и так уже мудры... (203 Ь—204)
А как же тогда философы? Фокус в том,
что они — то, что стоит посредине, как,
например, в данном случае Эрот. Если нет
ничего прекраснее мудрости, если Эрот —
это любовь к прекрасному, то,
следовательно, Эрот должен быть философом и как
философ занимать место посредине между
мудрецами и глупцами.
Снова на сцену выступает диалектика,
чтобы продолжить игру с мифом
посредством понятий. Ибо главное еще впереди:
суть откровения начинается с
продвижения от свойств Эрота к его результатам:
рождению и зачатию. Снова берется вся
совокупность целой сферы: инстинкт и
дух, природа и человек, жизнь и искусства,
душа и государство, смертное и вечное. То,
что затрагивали Федон и Эриксимах, Пав-
саний, Агафон и Аристофан, было всего
лишь оболочкой, здесь же взята сердцеви-
199
на: Эрот как творческая сила, влияние
которой проникает повсюду. Но и это
нужно воспринимать скорее как изображение,
чем как теорию.
Эрот, как теперь выясняется, был вовсе
не любовью к прекрасному, а только
рождением и зачатием в прекрасном. Он тоже —
стремление к благу. А почему рождение?
Потому что только оно представляет то
вечное и бессмертное, которое выпадает
в удел смертному человеку. Ибо
беременны тело и душа человека, и, когда они
достигают зрелого возраста, природа требует
разрешения от бремени. Разрешиться же
она может только в прекрасном, не в
безобразном. И это дело божественное, ибо
зачатие и рождение суть проявления
бессмертного существа в смертном человеке.
Все живое рожает в муках, в томительном
желании. Рождение — это жертва и
самоотречение, жертва — взращивание
потомства. А все потому, что все смертные
стремятся к бессмертию, а это — обновление
и рождение. И как с телом, так и с душой.
Все мысли и труды, изобретения и поэзия,
все духовные стремления — это в то же
время вечные утраты и вечное отмирание.
200
Таким образом смертный человек может
быть причастен к бессмертию. Те, кто
вынашивает плод телесно, обращаются
больше к женщинам и так служат Эроту, чтобы
в детях достигнуть бессмертия, добиться
вечной памяти своему имени и
блаженства в вечности. Беременные же
духовно — ведь есть и такие, которые беременны
духовно в большей даже мере, чем
телесно, — беременны тем, что как раз душе и
подобает вынашивать. А что ей подобает
вынашивать? Разум и прочие
добродетели. Такого рода родители — все поэты, все
изобретатели, но самое прекрасное и
важное — это, конечно, умение управлять
государством и городами, и называется это
умение рассудительностью (Sophrosyne)
и справедливостью (Dikaiosyne). Кто
смолоду вынашивает духовные качества и
с наступлением возмужалости
испытывает страстное желание родить, тот тоже
везде ищет прекрасное, в котором он мог
бы разрешиться от бремени, ибо в
безобразном он ни за что не родит. Прекрасные
тела радуют его больше, чем безобразные,
но если он встретит в прекрасном теле
прекрасную и благородную душу, то радость
201
его будет так велика, что слова о
добродетели, о том, каким должен быть человек и
в чем призвание благородного человека,
сами льются у него из души, он стремится
воспитывать. Встретив такого человека, он
прикасается к прекрасному, и он родит то,
чем давно был беремен; о друге он думает
всегда, где бы тот ни был, далеко или
близко, он сообща с ним растит свое детище,
они гораздо ближе друг другу, чем муж и
жена, потому что их дети прекраснее и
бессмертнее.
Но последнее таинство приводит еще
выше. Кто хочет его достигнуть, должен,
правда, начать с красивого тела; он должен
безраздельно полюбить кого-то одного,
чтобы родить душой прекрасные мысли,
но он не должен на этом останавливаться,
а должен стремиться к единой сущности,
должен во всем прекрасном находить
красоту, — тогда он поймет, что красота души
выше красоты тела; он должен научиться
любить благородную душу и в не самой
цветущей оболочке и родить вместе с ней
мысли, которые делают юношей
благородными: поднимаясь со ступени на ступень,
он должен затем понять все прекрасное
202
в нравах и законах, затем разглядеть
прекрасное в науках, необъятное новое море
чистой красоты, с тем чтобы наконец
прийти к первоисточнику всего прекрасного —
к идее.
Все выступили с похвалой богу
Эроту, и тут в ворота застучали, подняв такой
грохот, словно явилась целая толпа гуляк.
Хозяин послал слугу отворить, и тут
ворвался Алкивиад со спутниками, он был
сильно пьян и опирался на плечо
флейтистки. Он пришел, чтобы увенчать венком
со своей головы главу Агафона. Тут он
увидел Сократа, увенчал и его, и вместо речи
во славу Эрота произносит речь в честь
Сократа — ради «мести» из «ревности»; он
произносит комическую речь «в
осмеяние» — комизм, за которым скрывается
серьезный смысл и который похож на incipit
tragoedia. Так речи переходят в действие,
эрос оборачивается драмой, а в качестве
главных действующих лиц выступают
Сократ и Алкивиад. Демоническая сила, из
которой рождается эрос, показывает свою
власть. Снова перед нами проходят все
ступени, но теперь — на примере
наглядного соприкосновения двух душ, являя всю
203
магию притяжения и отталкивания, когда
они находят, ищут, обретают друг друга, но
так и не могут удержать.
«Разве Сократ не похож на Силена, на
Марсия? Как завораживает меня его
флейта, как чарует его слово, как увлекают и
потрясают его речи, берущие за душу! Когда
я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо
сильнее, чем у беснующихся корибантов,
а из глаз моих от его речей льются слезы.
В такое состояние приводил меня этот
Марсий, хотя, даже слушая Перикла, я
ничего подобного не испытывал. Поэтому я
нарочно не слушаю его и пускаюсь от него,
как от сирен, наутек — послушай я его, моя
жизнь показалась бы мне напрасной. И все
равно я не мог бы ему противиться. Только
перед ним одним испытываю я то, чего уж
никто бы за мной не заподозрил, — чувство
стыда. Тогда я избегаю его, и порою мне
даже хочется, чтобы его вообще не стало
на свете... Вам кажется, что этот сатир
охотится за молодостью и красотой. Поверьте,
никто не знает его так, как я, только мне
известно, каков он в душе: он полон
высокомерия, презирает все, что ценят люди, —
красоту, молодость, почет, вся его охота за
204
этими целями — сплошная ирония. Как
у статуй силенов, внутри которых скрыты
золотые изваяния богов, так и в нем все
божественно и чудесно. Поняв это, я стал
преследовать его и хотел соблазнить,
думая им завладеть. Разговаривая с ним, я
стал отпускать своего воспитателя и часто
оставаться с ним наедине, приглашал его
на трапезы, охотился за ним, как
влюбленный за любимым...»
Здесь после речей об Эроте
заговорил сам Эрот, сын Изобилия и Бедности.
Но в то же время слышится и Эрот,
дающий отвагу, которого в начале своей речи
восхвалял Федр: как влюбленный
возлюбленного спасает в бою и ухаживает
за раненым, подобно Ахиллу и Патроклу
с берлинской вазы Сосия, — так
сражаются и спасают друг друга Сократ и Алкиви-
ад. Конец готов сомкнуться с началом. Но
Сократ еще выше Ахилла, он ни с кем не
сравним, только с Марсием и Силеном...
Речь Алкивиада остается последней.
Шутки над новым приступом ревности,
который охватил Алкивиада при виде
возлежащего рядом с Сократом
Агафона... Приход новой ватаги гостей... Нача-
205
ло попойки... Рассказчик только помнит,
что, проснувшись на рассвете, застал всех
спящими, и только Агафон, Сократ и
Аристофан были заняты беседой. Но из всего
сказанного он мог запомнить только одно:
Сократ доказывал, что истинный
трагический поэт одновременно является и
истинно комическим, и наоборот.
Любящий и возлюбленный поменялись
ролями. Алкивиад — с венком на голове,
пьяный, обуянный демоном опьянения,
казалось бы, украшенный дарами
изобилия, — здесь оказывается нуждающимся;
Сократ же — загадочный ловец
человеческих душ, преследователь и демонический
чародей, привораживающий к себе
молодежь, неугомонный спорщик — выступает
в качестве несокрушимой середины,
божественного дарителя, посвященного в
таинства Эрота. Но все же их Эрот остается
борьбою двух сил, которые вечно
притягивают и вечно отталкивают друг друга: с
одной стороны, демоническая сила жизни,
красота которой выражается в страстном
саморасточении; с другой стороны,
спасительная воздержность духа в ее строгой
красоте. Но только ли это строгость? Или
206
также и демонизм духа — сирена духа
против демонизма жизни? Но в Сократе есть
также переизбыток жизни: он сам
сосредоточил в себе последовательность всех
ступеней.
Если Агафон — миф, то Алкивиад и
тем более. Здесь мы также отдаем
предпочтение мифическому толкованию перед
психологическим. Алкивиад —
единственное, что здесь есть по существу равное
Сократу. Только они двое, единственные
«демонические», угадывают сущность
друг друга, одна сила распознает другую,
и вследствие этого понимания они теряют
друг друга. Более всего трогает в Алкиви-
аде не осознание того, что человек, желая
добра, творит зло — будь то в самом
глубоком или пошлом смысле, — сколько
взаимосвязанность расхождения и соединения,
трагизм несовместимости, свойственный
природе демона Эрота, которую мы
видим здесь в борьбе двух душ,
относящейся к легенде рождения так же, как сцены
битв на метопах к рождению божества на
фронтоне.
«Пир» — дионисийское празднество,
одновременно и комос, и ощущение тра-
207
гедии этого Эрота, сына Бедности и
Изобилия, который никогда не знает
довольства, никогда не получает утоления — ни
в земной красоте, ни в наивысшей, потому
что, как мы бы сказали, смертное с вечным
не совпадает, а как сказали бы греки —
потому что он остается вечным посредником
между богами и человеком.
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МИФЫ
СРЕДНЕГО ПЕРИОДА
Во всей полноте возможностей,
заложенных в его поэтической форме, миф
появляется тогда, когда диалектик, чья сфера
лежит в сверхчувственном, в своих
поисках чистой истины, уводящих его все
дальше в сверхчувственные выси, внезапно
сворачивает со своего узкого, крутого пути
в новые миры дивной красочности и
небывалых пространств, в которых
пространство и время становятся образом вечного,
туда, где диалектик превращается в творца
новых миров. Подобно демиургу в мифе
«Тимея» о сотворении мира, демиург,
живущий в Платоне, сам творит мифические
миры по подобию вечного образца.
Мы сопоставим эсхатологические мифы,
созданные Платоном на вершине его твор-
209
чества в средний период, содержащиеся
в «Федре», «Федоне» и в «Государстве»,
с тем чтобы проследить в них ту силу, под
влиянием которой сформировались мифы
каждого из этих произведений.
«ФЕДР»
Тот же ритм, который мы встречаем
в чередовании речей «Пира»,
повторяется в первой части «Федона», только здесь
он выражен резче, отрывистей.
Сталкивающиеся в нем силы жестче противостоят
друг другу. «Федр» во всех отношениях —
более позднее сочинение.
«Федр» тоже — сочинение,
прославляющее Эрота, однако как же различаются
эти мифы! Да и не только мифы: каждый
миф рождается из своего особенного
пафоса. Эрот «Пира» устремлен на зачатие
и рождение. Символ рождения занимал
в нем центральное место, заявлял о себе
в мифе Аристофана, венчал собой легенду
о рождении Эрота, служил истолковани-
210
ем и ключом ко всем царствам в таинствах
Диотимы. Если в «Пире» преобладал
образ зачатия, то в «Федре» его сменяет
образ крыла. Там его наполнял пафос
другого рода, здесь же настал другой час и царит
другой пафос, пафос «божественного
безумия», в полуденный час, в месте, где
обитают нимфы.
Но и миф «Федра» было бы трудно
понять, подступившись к нему без
подготовки. И какая же тут требуется подготовка,
чтобы это случилось! Какие ступени
мифического нужно было сначала пройти!
«Федр» также представляет собой
состязание ораторских пар, и «мифом»
называется та блестящая речь, в которой
Сократ одерживает победу над Лисием.
Вернее, самой речи придается такое
вступление и облачение, которые отодвигают
все это двуликое и двоякое в своей
игровой манере творение вынужденного и
добровольного соревнования на задний план
относительно того, что происходит на
переднем плане между обеими душами,
выстраивая это как пьесу в пьесе, или такую
борьбу, при которой борьба душ сама
присутствует в качестве зрителя. Облачение
211
(если употребить это слово) стилизует
последующее в духе составной части
эротической повести. Для сравнения:
В городе Феспиях,
в Беотии, жил юноша
по имени Нарцисс, он
был необычайно красив
собой, но не признавал
Эрота и любящих. И вот
все остальные
поклонники перестали его
домогаться, и один
только Аминий продолжал
его упрашивать. И
когда юноша снова ответил
отказом и прислал ему
меч, Аминий покончил
с собой этим мечом, моля
богов отомстить за него
(Конон в пересказе Фо-
тия).
Жил себе мальчик,
вернее, подросток,
красоты необычайной, и
в него были влюблены
очень многие. Один из
них был лукав:
влюбленный не меньше, чем
кто другой, он уверил
его в том, будто вовсе
и не влюблен. И как-то
раз, домогаясь своего, он
стал убеждать его в этом
самом, — будто
невлюбленному надо скорее
уступить, чем
влюбленному (Платон. «Федр»).*
И здесь миф — опять одна из форм
опосредованности, одна из Граций
платоновского Эрота. Вначале идет обращение
к Музам, как в стихотворном
произведении. Но ораторское искусство все набирает
энергию в стиле времени, психологический
* Здесь и далее цитаты из «Федра»
приводятся в переводе А. Егунова.
212
расчет нацелен на кощунственное
изображение Эрота, все дальше и дальше уводит
он от Муз в сторону заумных доводов, и
вот уже настрой любящих уподобляется
любви волков к овцам, несколько раз
учитель просит позволения окончить речь, но
юноша как завороженный внимает словам,
льющимся из обманчивых уст. Ирония —
тоже сила; и эта высшая сила извергает из
себя отрицание и «кощунство», прежде чем
высказаться самой. Все сильней и сильней
нужно сгибать растущее дерево, прежде
чем оно рванет, как пружина, назад;
водоем должен наполниться до краев, прежде
чем он прорвет плотины, — плотины
стиля, условностей, приятного красноречия и,
наконец, самую крепкую плотину —
собственную робость, чтобы показать, что
накипело в душе. Сначала должно быть
произнесено кощунство, чтобы мог зазвучать
гимн.
Подобно тому как хвала
хвалебного песнопения любит петь сама себя, так
здесь — «божественное безумие». Великие
вещи изрекаются только в таком безумии.
А божественное приходит само, ничто не
может его вызвать. Только полдневный
213
час и кощунство служат извинением тому,
что тут вырывается на волю, —
вырывается на языке развитой прозы, среди чуждых
мифу Афин четвертого века, в условиях
литературы, в которой царят Лисий и Исо-
крат: новая гимническая поэзия!
Но даже здесь ирония не отступает
окончательно, и более того — полярность
души и слова, серьезности и игры,
пафоса и сознательного начала, дифирамба и
диалога доходит здесь до крайней степени
напряжения. Знаком этого служат
этимологические примеры. Бывает, конечно, и
серьезный подход к этимологии, но только
не у Платона. Внутреннее потрясение
получает свое выражение в высказываниях,
которые содержат несусветную чушь. В
литературном отношении ссылка на древних
наименователей внешне представляет
собой примерно то же самое и появляется
на том же месте, что у Протагора слова
о софистике, которая скрытно якобы
существовала еще в древнейшие времена. Но
то, что там было чем-то чуждым (или
выступало как чуждое), здесь появляется как
свое — как новый вид преломления. Ибо
проза высокого стиля — это уже прелом-
214
ление. Неудивительно, что там, где она
появляется в первый раз, то есть там, где она
появляется как знак новой, мифической
силы, прорывающей рамки
господствующей в этот век аттической классической
прозы, она принимает форму борьбы,
сравнимую только с сопротивлением человека
тому богу, который заговорил его устами.
Ирония острого ума становится иронией
души: вместилищем «энтузиазма».
И если мы стали бы говорить о
Сивилле и других, кто с помощью божественного
дара прорицания множеством
предсказаний многих направил на верный путь, мы
бы потратили много слов на то, что
всякому ясно и так. Но вот на что стоит
сослаться: те из древних, кто устанавливал
значения слов, не считали неистовство
(mania) безобразием или позором — иначе
они не прозвали бы «маническим» (manice)
то прекраснейшее искусство, посредством
которого можно судить о будущем. Считая
его прекрасным, когда оно проявляется по
божественному определению, они его так
и прозвали, а наши современники, по
невежеству вставив букву «т», называют его
«мантическим» (mantice). А гадание о
будущем, когда люди, находящиеся в полном
рассудке, производят его по птицам и дру-
215
гим знамениям, в которых, словно нарочно,
заключаются для человеческого ума (oiesis)
и смысл (nous), и знания (historia),
древние назвали «ойоноистикой» (oionoistike),
а люди нового времени кратко называют
«ойонистикой» (oionistike), с омегой ради
пышности. Так вот, насколько прорицание
совершеннее и ценнее птицегадания — тут
и название лучше и само дело, — настолько
же, по свидетельству древних, неистовство,
которое у людей от бога, прекраснее
рассудительности, свойства человеческого.
За отсвечивающим переливчатыми
оттенками прологом следует, возможно, так
же неуловимо переливающееся, хотя и
окрашенное в более чистые тона —
доказательство бессмертия души: «Такому
доказательству наши искусники не поверят,
зато поверят люди мудрые». Уже здесь миф
устремляется к космосу; хотя он и не
останавливается на Вселенной как таковой, но
весь тон носит космический характер. Ибо
в том же тоне говорили со времен Анак-
симандра древние космисты о «начале»
(Arche) и «конце» (Teleute) вещей, о без-
начальности начала, о вечном движении,
о бессмертии бесконечного и о связи
становления и уничтожения. Многое перевод
216
не передает: отсутствие артикля, глагола
связки, предикативная форма
предложений и, наконец, форма доказательства
вообще — все это слишком мало отражено
в стиле перевода. Но в качестве примера
этого старинного тона могут служить
несколько строк Мелисса.
Всякая душа
бессмертна. Ведь вечно-
движущееся бессмертно.
А у того, что
сообщает движение другому
и приводится в
движение другим, это
движение прерывается, а
значит, прерывается и жизнь.
Только то, что движет
само себя, раз оно не
убывает, никогда не
перестает и двигаться и
служить источником и
началом движения для
всего остального, что
движется. Начало же не
имеет возникновения.
Из начала необходимо
возникает все
возникающее, а само оно ни из
чего не возникает. Если
бы начало возникло из
чего-либо, оно уже не
было бы началом. Так
как оно не имеет возник-
Вечно то, что было и
будет впредь. Ибо если
оно возникло, то значит,
до его возникновения
с необходимостью не
было ничего... Так как
оно не возникло, то оно
есть, было и будет
вечно и не имеет ни начала,
ни конца... Ибо если бы
оно возникло, то имело
бы начало: когда-то оно
начало бы возникать; и
имело бы конец, когда-
то оно окончило бы свое
становление. Но так как
оно никогда не
начиналось и не кончалось, и
всегда было и будет, то
оно не имеет ни начала,
ни конца. Ибо не
может быть вечным ничто,
что не есть вечное
бытие (= существование)...
Значит, оно вечно,
бесконечно, едино и цели-
217
новения, то, конечно, оно
и неуничтожимо. Если
бы погибло начало, оно
никогда не могло бы
возникнуть из чего-либо, да
и другое из него, так как
все должно возникать из
начала. Значит, начало
движения — это то, что
движет само себя. Оно
не может ни погибнуть,
ни возникнуть, иначе бы
все небо и вся Земля,
обрушившись,
остановились и уже неоткуда
было бы взяться тому, что,
придав им движение,
привело бы к их новому
возникновению (Платон.
«Федр». 180 с-е).
В доказательстве вечность души
связывается с вечностью космоса; в нее
неразрывно вошло величие мировой сущности.
А то, каким образом это соединение
выражается в душе в виде стремления ввысь,
может показать только «сравнение»: «О ее
[души. — И. С] бессмертии достаточно
этого. А об ее идее надо сказать вот что: какова
она — это всячески требует
божественного и пространного изложения, а чему она
подобна — это поддается и человеческому,
ком и полностью равно
себе. И не может ни
погибнуть, ни
увеличиться, ни измениться... Ибо
если бы оно изменилось,
то сущее не могло бы
быть равным себе,
существовавшее ранее
должно было бы погибнуть
и возникнуть не-сущее...
(Мелисс).
218
более сжатому; так мы и будем говорить».
Душа подобна единому целому из крылатой
парной упряжки и возничего. У богов кони
благородны, а у остальных они
смешанного происхождения. Этот возничий правит
упряжкой, а кони у него — один прекрасен,
благороден, а другой — плохих кровей.
Неизбежно, что править нами — дело тяжелое
и докучное. (Душевные и мифические
категории чистого и смешанного
повторяются в мифах «Политика», «Крития» и «Ти-
мея».) Разница же между божественным и
смертным существом такова: «Всякая душа
ведает всем неодушевленным,
распространяется же она по всему небу, принимая
порой разные образы. Будучи совершенной и
окрыленной, она парит в вышине и правит
миром, если же она теряет крылья, то
носится, пока не натолкнется на что-нибудь
твердое, — тогда она вселяется туда,
получив земное тело, которое благодаря ее силе
кажется движущимся само собой; а что
зовется живым существом, — все вместе, то
есть сопряжение души и тела, получило
прозвание смертного» (246 с).
Здесь как будто уже проглядывает
мировая душа «Тимея», но выражена она ина-
219
че: в падении и полете, парении и
бессилии... Кого не убеждает непосредственно
миф, кто не видит сразу — это и есть душа,
это ее взлеты и падения, тот волен по
своему разумению распоряжаться той теорией,
которую сумеет извлечь из мифа.
Затем следует история о ниспадении
душ с неба на Землю в качестве
объяснения тоски заключенной в теле души по
своим небесным истокам.
...Крылу от природы свойственна
способность подымать тяжелое в высоту, туда,
где обитает род богов. А изо всего, что
связано с телом, душа больше всего
приобщилась к божественному — божественное же
прекрасно, мудро, доблестно и так далее;
этим вскармливаются и выращиваются
крылья души, а от всего
противоположного — от безобразного, дурного — она чахнет
и гибнет.
Великий предводитель на небе, Зевс, на
крылатой колеснице едет первым, все
упорядочивая и обо всем заботясь. За ним
следует воинство богов и гениев, выстроенное
в одиннадцать рядов; одна только Гестия
не покидает дома богов, а из остальных все
главные боги, что входят в число
двенадцати, предводительствуют каждый
порученным ему строем.
220
В пределах неба есть много блаженных
зрелищ и путей, которыми движется
счастливый род богов; каждый из них
свершает свое, а [за ними] следует всегда тот, кто
хочет и может, — ведь зависть чужда
сонму богов.
Отправляясь на праздничный пир, они
поднимаются к вершине по краю
поднебесного свода, и уже там их колесницы, не
теряющие равновесия и хорошо
управляемые, легко совершают путь; зато остальные
двигаются с трудом, потому что конь,
причастный злу, всей тяжестью тянет к земле
и удручает своего возницу, если тот плохо
его вырастил. От этого душе приходится
мучиться и крайне напрягаться.
Души, называемые бессмертными,
когда достигнут вершины, выходят наружу и
останавливаются на небесном хребте; они
стоят, небесный свод несет их в круговом
движении, и они созерцают то, что за
пределами неба.
Занебесную область не воспел никто из
здешних поэтов, да никогда и не воспоет по
достоинству. Она же вот какова (ведь надо
наконец осмелиться сказать истину,
особенно когда говоришь об истине): эту
область занимает бесцветная, без очертаний,
неосязаемая сущность, подлинно
существующая, зримая лишь кормчему души —
уму; на нее-то и направлен истинный род
знания.
221
Мысль бога питается умом и чистым
знанием, как и мысль всякой души,
которая стремится воспринять надлежащее,
узрев [подлинное] бытие, хотя бы и
ненадолго, ценит его, питается созерцанием
истины и блаженствует, пока небесный
свод не перенесет ее по кругу опять на то
же место. При этом кругообороте она
созерцает самое справедливость, созерцает
рассудительность, созерцает знание — не
то знание, которому присуще
возникновение и которое как иное находится в ином,
называемом нами сейчас существующим,
но подлинное знание, содержащееся в
подлинном бытии. Насладившись созерцанием
всего того, что есть подлинное бытие, душа
снова спускается во внутреннюю область
неба и приходит домой. По ее возвращении
возничий ставит коней к яслям, задает им
амброзии и вдобавок поит нектаром.
Такова жизнь богов. Что же до
остальных душ, то у той, которая всего лучше
последовала богу и уподобилась ему, голова
возничего поднимается в занебесную
область и несется в круговом движении по
небесному своду; но ей не дают покоя кони, и
она с трудом созерцает бытие. Другая душа
то поднимается, то опускается — кони рвут
так сильно, что она одно видит, а другое
нет. Вслед за ними остальные души жадно
стремятся кверху, но это им не под силу,
и они носятся по кругу в глубине, топчут
друг друга, напирают, пытаясь опередить
одна другую. И вот возникает смятение,
борьба, от напряжения их бросает в пот.
Возничим с ними не справиться, многие
калечатся, у многих часто ломаются
крылья. Несмотря на крайние усилия, всем им
не достичь созерцания подлинного бытия,
и, отойдя, они довольствуются мнимым
пропитанием (246 d—248 b).
Миф о падении душ облачается
отныне в старое орфическое учение о
переселении душ. Каждые десять тысяч лет души
периодически возвращаются в место, из
которого они произошли, с тем чтобы
сызнова начать свое тысячелетнее странствие
в телах животных и людей. Но и в мифе
учение Платона не сводилось к простому
переселению душ. Главное — не
переселение, а падение и взлет, не иерархия
различных жизней в зависимости от религиозной
чистоты, а иерархия, определяемая силою
крыльев или силой тяжести. Игра с
крыльями проникает собой орфический мир
и удерживает миф во власти иронии, без
которой не может обходиться энтузиазм.
Платоновское и одновременно орфическое
«забывание», «Лета», — это также утрата
223
крыльев. Если душа не способна следовать
за шествием богов, она наполняется
забвением и злом, ее вес становится слишком
тяжел, и она, обескрылев, падает на землю:
так она в своем первом рождении в
телесном облике становится в меру того, что
увидела в надземном пространстве, либо
другом мудрости (философом) или Муз,
либо Эрота; оказавшись одной ступенью
ниже — справедливым королем,
полководцем или государственным деятелем; еще
ступенью ниже — политиком, экономом
или руководителем хозяйства; на
четвертой ступени — гимнастом, атлетом или
врачом; на пятой — провидцем или жрецом; на
шестой — поэтом или иным служителем
подражательных искусств; на седьмой —
ремесленником; на восьмой — софистом
или обманщиком народа; на девятой —
тираном. Крылья она вернет себе не ранее,
как через десять тысяч лет. Только
истинные философы и поклонники
философского Эрота не подчиняются этому
закону времени. После каждой земной жизни
душа попадает на суд; если она не пройдет
его, то попадает под землю; те, кто прошел,
возносятся, несомые богиней Дике, в опре-
224
деленное место на небе. При новом выборе
и распределении жизненного жребия душа
человека попадает то в звериное тело, то
опять из звериного в человеческую жизнь.
Но никогда не достается человеческий
облик тому, кто не видел раньше истину, так
как задача человека — это познание идеи:
«припоминание» того, что душа видела
в своем странствии с богами. Поэтому
истинно «крылатым» является лишь дух
философа: он постоянно, при всякой
возможности, гостит в воспоминании в
заоблачных высотах к досаде толпы, которая не
понимает, что он — посвященный в
мистические тайны и исполнен божества.
Орфический потусторонний мир уже
развертывается перед нами в великих
эсхатологических мифах, которыми
заканчивались «Федон» и «Государство», еще до
того, как Платон написал «Федра». Здесь
этот орфический мир превращается из
мира смерти в мир высшей жизни:
объемный и бессмертный образ энтузиазма.
Тем самым орфическое начало сразу же
выдвигается с конца в середину, об
эсхатологии в собственном смысле слова, в
сущности, уже не идет речи. Вырастание кры-
225
льев души, исполнившейся божественного
безумия, представляет собой прорастание
той первоначальной силы, которая была
ей некогда присуща, когда она пребывала
в хороводе богов. Представлению в мифе
этой изначальной категории служит образ
орфического потустороннего мира. В
сравнении с «Пиром» миф здесь гораздо живее,
богаче, его пространство расширено, и в то
же время он выглядит более запутанным,
сжатым и сдвинут в своих пропорциях: он
как бы достиг своей барочной формы.
Различалось три вида божественного
безумия: мантическое, или аполлониче-
ское, катартическое, или дионисийское,
и поэтическое, или мусическое. И вот
наконец находится объяснение и для
божественного безумия четвертого рода:
божественного безумия Эрота.
...Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю
красоту, припоминая при этом красоту
истинную, он окрыляется, а окрылившись,
стремится взлететь; но, еще не набрав сил,
он наподобие птенца глядит вверх,
пренебрегая тем, что внизу, — это и есть
причина его неистового состояния. Из всех
видов исступленности эта — наилучшая,
226
уже по самому своему происхождению,
как для обладающего ею, так и для того,
кто ее с ним разделяет. Причастный к
такому неистовству любитель прекрасного
называется влюбленным. <...> Между тем
человек, только что посвященный в
таинства, много созерцавший тогда все, что там
было, при виде божественного лица,
хорошо воспроизводящего [ту] красоту или
некую идею тела, сперва испытывает трепет,
на него находит какой-то страх, вроде как
было с ним и тогда; затем он смотрит на
него с благоговением, как на бога, и, если
бы не боялся прослыть совсем неистовым,
он стал бы совершать жертвоприношения
своему любимцу, словно кумиру или богу.
А стоит тому на него взглянуть, как он
сразу меняется, он как в лихорадке, его
бросает в пот и в необычный жар.
Восприняв глазами истечение красоты,
он согревается, а этим укрепляется
природа крыла: от тепла размягчается вокруг
ростка все, что ранее затвердело от
сухости и мешало росту; благодаря притоку
питания стержень перьев набухает, и они
начинают быстро расти от корня по всей
душе — ведь она вся была искони пернатой
(249 с, 251 а-Ь).
Образы, как нигде больше, теснятся,
наплывая волнами. Некоторые пытались
227
найти в них мнимые противоречия,
ссылаясь на повторение уже встречавшихся
ранее картин. Так, например, указывалось
на то, что образ возничего (логоса) и коней
души (желание и мужество) уже
встречались в «Государстве», находили нечто
подобное и в других местах, однако и здесь
речь идет скорее о развитии
мифического стиля, чем о заимствовании отдельных
мотивов. Это тот же стиль, который уже
в одном и том же предложении задвигает
образы один в другой и который в целом
вызывает это впечатление
переливчатого скольжения, кружения и незаметного
перехода одного в другое: от колесницы,
запряженной двумя конями, — к
божественному хороводу, от хоровода — к ме-
тампсихозу, от низвержения душ — к росту
крыл, от роста крыл — обратно к упряжке
души... В конечном счете это скольжение,
эта неопределенность полета, это падение
и вознесение ввысь, это сопротивление —
не что иное, как форма движения самого
божественного неистовства. Не миф
трактует учение о неистовстве, а неистовство
научает мифу.
228
«ФЕДОН»
Завоевание определенного
пространства для душевного движения
осуществляется и в мифе «Федона». Различие
между этими мифами — то же самое, что
и между «Федоном» и «Федром» в целом.
В «Федоне» логос и миф как две полярно
противоположные силы представляют
собой единство противоречий. Коренятся
мифы, правда, в одной и той же душе. Но
душа Платона, оставаясь собой,
испытывает в различных изначальных формах —
а это изначальные формы греческого опыта
в целом — свое переживание
божественного: в экстазе и в очищении. Все, что в ней
есть сверхчувственного, высвобождается
как через «божественное исступление»,
так и через священное таинство смерти.
«Пир», «Федр» и «Федон» составляют
особую группу и в отношении этой
противоположности.
В «Федоне» миф так же вырастает из
диалога, как диалог в свой черед
вырастает, срастаясь с мифом. Одно слово и одно
понятие, издревле присущее аполлониче-
229
ским ритуалам и орфическим таинствам,
просветленное и перенесенное у Платона
вместе с представлениями о
потустороннем мире в целом в высокую область
душевной жизни, показывает то, как мысль
и логические доказательства соединяются
с обретаемым душой знанием, как
сходятся пути души и логоса: это слово —
катарсис. Философия есть «очищение» души,
просветление, освобождение от пут
телесной оболочки, от всех мучительных
вожделений; близость к смерти, стремление
к смерти.
Платоновскую веру в потусторонний
мир нельзя смешивать с верой
христианской. Христианская вера, если отвлечься
от ее низших форм, представляет собой
перенесенное во времени и пространстве
на мир и вечность выражение чувства
божественной благодати и богоотверженно-
сти, близости к богу и удаленности от него.
Платоновская вера в потусторонний мир —
это вместилище и форма другого рода
сознания: сознания, вмещающего в себе
движения и стремления души подняться
ввысь от несовершенств и ограничений,
от непрестанного «почти что», «близко
230
к тому», но «все-таки не совсем», в
которых безнадежно увязла земная жизнь, как
в слишком густом воздухе, отнимающем
у вещей их краски, а у зрения остроту
видения. Смерть означает катарсис.
Безмятежность и полуденная ясность Сократа
перед предстоящей смертью, подобно
вечернему небу, смешивается с поздней,
глубокой ясностью платоновской мистерии
смерти. Из глубины душевного
потрясения Платона, как бы в последней
вспышке, словно умирающий лебедь, священная
птица Аполлона, поет свою песнь в
присущей ей простоте посвященная в таинства
и осененная героическим отблеском иного
мира душа того, кто все еще остается
учителем. Желанием убедить, победить путем
доказательств, силлогизмов, но еще более
силою близкого к смерти духа полно это
тихое, настойчивое движение, ток души
диалога; здесь нет ни отчужденности по
отношению к смерти, ни страха и его
преодоления, а только предчувствие
нарастающей легкости — стремление к катарсису.
Если прежде слова учителя поражали
неожиданностью, здесь они загадочны: «Так
все и объясни Евену (который мнит себя
231
поэтом и философом, но притом не может
расслышать голос поющей души, когда
она, следуя божественному велению,
выражает себя в песне); а еще скажи ему от
меня „прощай" и прибавь, чтобы как
можно скорее следовал за мною, если он
человек здравомыслящий» (61 Ь).* Загадочные
слова служат толчком разговору.
Движение диалога и его «речей» в
конце концов перетекает в миф. То, что было
движением, током, ритмом души,
получает свое пространственное воплощение
в картине мира. И подобно тому как все
вбирало и вовлекало в себя одно и то же
движение, проходящее через весь диалог,
так и в мифе все становится
выражением этой души. Таким образом, движение
к идеалу теперь и в мифе перестает быть
взмахами крыл, полетом, восторгом
ослепительного сияния и блеска, как это было
в «Федре», а превращается в
освобождение, очищение, оставление позади тяжести
и всего мешающего, всего того, что делает
атмосферу чересчур густой и плотной: оно
* Здесь и далее цитаты из «Федона»
приводятся в переводе С. Маркиша.
232
превращается в катарсис. Миф изображает
катарсис в форме космоса. И то играющее,
опосредованное, сказочное, не терпящее
серьезности, неопределенно-воздушное,
антипатетическое, что было свойственно
мифам Платона и что не покидает
рассказчика Сократа даже перед лицом смерти,
здесь превращается в легкость,
наступающую по мере ослабевания тяжести, о
которой говорится в мифе.
А на Земле... есть много удивительных
мест, и она совсем иная, чем думают те, кто
привык рассуждать о ее размерах и
свойствах. <...> ...Но доказать, что так
именно оно и есть, никакому Главку, пожалуй,
не под силу. Мне-то, во всяком случае, не
справиться, а самое главное... будь я даже
на это способен, мне теперь, верно, не
хватило бы и жизни на такой длинный
разговор. Каков, однако же, по моему
убеждению, вид Земли и каковы ее области, я
могу описать: тут никаких препятствий
нет. <...>
Во-первых, если Земля кругла и
находится посреди неба, она не нуждается ни
в воздухе, ни в иной какой-либо подобной
силе, которая удерживала бы ее от
падения, — для этого достаточно
однородности неба повсюду и собственного равнове-
233
сия Земли, ибо однородное, находящееся
в равновесии тело, помещенное среди
однородного вместилища, не может склониться
ни в ту, ни в другую строну, но останется
однородным и неподвижным. Это первое,
в чем я убедился. <...>
Далее, я уверился, что Земля очень
велика и что мы, обитающие от Фасиса до
Геракловых Столпов, занимаем лишь малую
ее частицу; мы теснимся вокруг нашего
моря, словно муравьи или лягушки вокруг
болота, и многие другие народы живут во
многих иных местах, сходных с нашими.
Да, ибо повсюду по Земле есть множество
впадин, различных по виду и по
величине, куда стеклись вода, туман и воздух.
Но сама Земля покоится чистая в чистом
небе со звездами — большинство
рассуждающих об этом обычно называют это небо
эфиром. Осадки с него стекают постоянно
во впадины Земли в виде тумана, воды и
воздуха.
А мы, обитающие в ее впадинах, об
этом и не догадываемся, но думаем,
будто живем на самой поверхности Земли,
все равно как если бы кто, обитая на дне
моря, воображал, будто живет на
поверхности, и, видя сквозь воду Солнце и
звезды, море считал бы небом. Из-за
медлительности своей и слабости он никогда бы
не достиг поверхности, никогда бы не
вынырнул и не поднял голову над водой, что-
234
бы увидеть, насколько чище и прекраснее
здесь, у нас, чем в его краях, и даже не
услыхал бы об этом ни от кого другого, кто
это видел.
В таком же точно положении находимся
и мы: мы живем в одной из земных впадин,
а думаем, будто находимся на поверхности,
и воздух зовем небом в уверенности, что
в этом небе движутся звезды. А все оттого,
что, по слабости своей и медлительности,
мы не можем достигнуть крайнего рубежа
воздуха. Но если бы кто-нибудь все-таки
добрался до края или же сделался
крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы
здесь, у нас, которые высовывают головы
из моря и видят этот наш мир, так же и
он, поднявши голову, увидел бы тамошний
мир. И если бы по природе своей он был
бы способен вынести это зрелище, он
узнал бы, что впервые видит истинное небо,
истинный свет и истинную Землю. А наша
Земля, и ее камни, и все наши местности
размыты и изъедены, точно морские
утесы, разъеденные солью. Ничто достойное
внимания в море не родится, ничто,
можно сказать, не достигает совершенства,
а где и есть земля — там лишь
растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и
грязь — одним словом, там нет
решительно ничего, что можно было бы сравнить
с красотами наших мест. И еще куда
больше отличается, видимо, тот мир от нашего!
235
Если только уместно сейчас
пересказывать миф, стоило бы послушать... каково
то, что находится на Земле, под самыми
небесами. <...>
...Рассказывают прежде всего, что та
Земля, если взглянуть на нее сверху,
похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков
кожи и пестро расписанный разными
цветами. Краски, которыми пользуются наши
живописцы, могут служить образчиками
этих цветов, но там вся Земля играет
такими красками, и даже куда более яркими
и чистыми. В одном месте она пурпурная
и дивно прекрасная, в другом золотистая,
в третьем белая — белее снега и алебастра;
и остальные цвета, из которых она
складывается, такие же, только там их больше
числом и они прекраснее всего, что мы
видим здесь. И даже самые ее впадины, хоть и
наполненные водою и воздухом, окрашены
по-своему и ярко блещут пестротою
красок, так что лик ее представляется единым,
целостным и вместе нескончаемо
разнообразным.
Вот какова она, и, подобные ей самой,
вырастают на ней деревья и цветы,
созревают плоды, и горы сложены по ее
подобию, и камни — они гладкие, прозрачные и
красивого цвета. Их обломки — это те
самые камешки, которые так ценим мы здесь:
наши сердолики, и яшмы, и смарагды, и все
прочие подобного рода.
236
А там любой камень такой или еще
лучше. Причиною этому то, что тамошние
камни чисты, неизъедены и неиспорче-
ны — в отличие от наших, которые
разъедает гниль и соль из осадков, стекающих
в наши впадины: они приносят уродства и
болезни камням и почве, животным и
растениям. ...И счастливы те, кому открыто
это зрелище.
Среди многих живых существ,
которые ее населяют, есть и люди: одни живут
в глубине суши, другие — по краю воздуха,
как мы селимся по берегу моря, третьи —
на островах, омываемых воздухом,
невдалеке от материка. Короче говоря, что для
нас и для нужд нашей жизни вода, море, то
для них воздух, а что для нас воздух, для
них — эфир. Зной и прохлада так у них
сочетаются, что эти люди никогда не
болеют и живут дольше нашего. И зрением, и
слухом, и разумом, и всем остальным они
отличаются от нас столько же,
насколько воздух отличен чистотою от воды или
эфир — от воздуха. Есть у них и храмы, и
священные рощи богов, и боги
действительно обитают в этих святилищах и
через знамения, вещания, видения общаются
с людьми. И люди видят Солнце, и Луну, и
звезды такими, каковы они на самом деле.
И спутник всего этого — полное
блаженство (108 с—111 с).
237
Но если в вышине на Земле
раскинулся невообразимо светлый Верхний мир,
то снизу, внутри нее, находится не менее
удивительное царство. Мифические реки
подземного мира, разряды людей,
несущих посмертное наказание, и места, где
они пребывают, связаны с системой
наземных и подземных рек, морей и
круговых водных, илистых и огненных потоков.
Судьи, умершие люди, карающие духи
словно бы исчезают на фоне этих
колоссальных пространств, ибо само
пространство становится выражением посмертной
судьбы. Зачем такое преобладание
вмещающего их пространства? Почему в
«Государстве» настолько подробнее
представлено описание наказания? Потому что
там миф рисует пространство
справедливости, в «Федоне» же — катарсиса;
потому что «Государство» и «Федон»
отличаются друг от друга не только по теме, но
и своим душевным истоком, движениями
души и ее вовлеченностью. Подобно тому
как космос разделяется на верх и низ, на
чистое, светлое и возвышенное, с одной
стороны, и глухое, подземное, лениво
текущее, озаренное мрачным огнем, неустан-
238
но катящее свои волны сквозь огромные
пространства — с другой, так разделяется
и человек с его заключенной в телесную
оболочку душой. Подобно тому как
очистившаяся душа дышит вольным эфиром,
так и неочистившаяся кружит в мрачных
круговоротах подземных рек: без ужаса
бездонных пропастей нет и небесного
блаженства. Силы, живущие в душе,
вырываются изнутри и создают своеобразное
подобие в мифе.
Сумрачными потоками катятся под
нами воды подземного мира, над нами —
светозарная высь, а здешний мир — мир
больной! «Критон, мы должны Асклепию
петуха». Загадочные слова исцелившегося
стоят в конце «Федона», так же как в
конце «Пира» содержится не менее
загадочное речение (так же непонятое
рассказчиком) — слова о трагическом и комическом
поэте в одном лице. «Это были его
последние слова». И не в последний раз случилось
так, что последние слова так и остались
непонятыми. Ницше, доверяя им, попытался,
исходя из них, решить проблему Сократа.
Решил ли он ее? Видимо, остался в плену
мифа.
239
«ГОСУДАРСТВО»
Картина мира оказывается
представленной по-разному, но разница
объясняется не использованием различных
источников и не развитием теоретических
взглядов, а разницей сил, формы которых
в ней изображаются. В качестве последней
мифотворческой силы среднего периода
к Танатосу и Эроту присоединяется Дике
и тоже создает свою картину мира,
представленную в мифе, который содержится
в «Государстве».
Если проследить ход диалога в
«Государстве», то сначала исследование
справедливости приводит к основанию
идеального полиса. То, что осталось неразгаданным
в душе, открывается в государстве; то, что
в более узком круге оставалось сокрытым,
выступает наружу в более широком. В
отдельном человеке справедливость не
обнаруживается, она обнаруживается, если
взять также и государство; но и в
государстве она не обнаруживается, а только
в сочетании с душой... Трем составным
частям души — разумного, мужественного
240
и вожделеющего — в государстве
соответствуют три сословия, которые благодаря
их четкому разделению и в то же время
органической взаимосвязанности образуют
государство: правители, стражи и
ремесленники. В стройных, формирующих
порядок гармонических отношениях между
ними познается на этой ступени
справедливость. Однако это сравнение, кроме
ближайшего, конструктивного смысла,
приобретает еще и символическое, мифическое
значение: государство не расчленяется, не
исследуется, оно сотворяется, как в «Ти-
мее» сотворяется космос. Сотворенное же
не только порождается в душе, но и
формируется как душа, которая в сотворенном
созидает сама себя. Подобно тому как
космос становится чем-то постигаемым и
доступным для формирующего воздействия
души лишь тогда, когда она в качестве
мировой души пронизывает его собой, так и
государство обретает действительность
в разуме, когда оно само становится
душой, то есть когда душа пронизывает его и
одушевляет, а душевные силы в свой черед
становятся образом государства.
Сравнение государства и души далеко выходит
241
за рамки первой конструкции: так,
например, на нем основаны вся воспитательная
часть, все учение об изменениях
государственного устройства. Только душа
связывает государство с идеей. Справедливость,
государство, душа и идея — эти четыре
формы попеременно выделяются из
общего целого, чтобы снова собраться в
единство. Не имеет значения, как рисовать
круг — справа налево или слева направо:
справедливость приводит в государство,
государство приводит к душе; или, если по
диагонали: справедливость ведет к душе,
душа — вверх к идее, идея — в государство.
И снова «миф» вырастает из всего
произведения в целом; как завершение целого
он — словно веретено необходимости,
вокруг которого концентрически кружится
единство этих четырех вещей.
Начало второй книги и конец
десятой — мощнейшее возражение против
существования высшей справедливости и
мощнейшая победа над этим
возражением — образуют краеугольные камни всего
целого. Весь ход диалога все неудержимее
устремляется к финалу (608 Ь), к
установлению справедливости в пространстве и
242
вечности. Победа Дике, ее воздаяния и
кары распространяются за пределы
земного мира в мир потусторонний. Душа вечна,
и несправедливость наносит душе вечный
вред. Проистекающая из бессмертия души
справедливость возвращается в земной
мир, хвалебная песнь возносится до тех
высот, где великое и серьезное содержание
начинает играть, обернувшись мифом,
чтобы уже в этой игре, в этом самоотрицании
явить себя во всем сиянии славы.
Ироническая достоверность мифа
выбирает на этот раз простонародный жанр
чудесного рассказа эсхатологического
содержания с точным указанием
собственного и родового имени свидетеля,
обстоятельств увиденного, времени и места,
которое он посетил в своих странствиях.
Я передам тебе не Алкиноево
повествование, а рассказ одного отважного
человека, Эра, сына Армения, родом из Памфи-
лии. Как-то он был убит на войне; когда
через десять дней стали подбирать тела уже
разложившихся мертвецов, его нашли еще
целым, привезли домой, и когда на
двенадцатый день приступили к погребению, то,
лежа уже на костре, он вдруг ожил, а
оживши, рассказал, что он там видел.
243
Он говорил, что его душа, чуть только
вышла из тела, отправилась вместе со
многими другими, и все они пришли к какому-
то божественному месту, где в земле были
две расселины, одна подле другой, а
напротив, наверху в небе, тоже две.
Посреди между ними восседали судьи. После
вынесения приговора они приказывали
справедливым людям идти по дороге
направо, вверх по небу, и привешивали им
спереди знак приговора, а
несправедливым — идти по дороге налево, вниз,
причем и эти имели — позади — обозначение
всех своих проступков. Когда дошла
очередь до Эра, судьи сказали, что он должен
стать для людей вестником всего, что здесь
видел, и велели ему все слушать и за всем
наблюдать.
Он видел там, как души после суда над
ними уходили по двум расселинам — неба
и земли, и по двум другим приходили: по
одной подымались с земли души, полные
грязи и пыли, а по другой спускались с неба
чистые души. И все, кто бы ни приходил,
казалось, вернулись из долгого странствия:
они с радостью располагались на лугу, как
это бывает при всенародных празднествах.
Они приветствовали друг друга, если кто
с кем был знаком, и расспрашивали
пришедших с земли, как там дела, а
спустившихся с неба — о том, что там у них. Они,
вспоминая, рассказывали друг другу —
одни со скорбью и слезами, сколько они
чего натерпелись и насмотрелись в
своем странствии под землей (а странствие
это тысячелетнее), а другие, те что с неба,
о блаженстве и о поразительном в своей
красоте зрелище.
<...> ...В его присутствии один
спрашивал там другого, куда же девался
великий Ардией. Этот Ардией был тираном
в каком-то из городков Памфилии еще за
тысячу лет до того. <...> Тот, кому был
задан этот вопрос, отвечал на него, по словам
Эра, так: «...Из разных ужасных зрелищ
видели мы и такое: когда после
многочисленных мук были мы уже недалеко от устья и
собирались войти, вдруг мы заметили Ар-
диея и еще некоторых — там были едва ли
не сплошь все тираны, а из простых людей
разве лишь величайшие преступники; они
уже думали было войти, но устье их не
принимало и издавало рев, чуть только кто из
этих злодеев, неисцелимых по своей
порочности или недостаточно еще наказанных,
делал попытку войти. Рядом стояли
наготове дикие люди с огненным обличьем.
Послушные этому реву, они схватили
некоторых и увели, а Ардиея и других
связали по рукам и ногам, накинули им петли на
шею, повалили наземь, содрали с них кожу
и поволокли по бездорожью, по
вонзающимся колючкам, причем всем встречным
объясняли, за что такая казнь, и говорили,
245
что сбросят этих преступников в Тартар.
Хотя мы и натерпелись уже множества
разных страхов, но всех их сильнее был тогда
страх, как бы не раздался этот рев, когда
кто-либо из них будет у устья; поэтому
величайшей радостью было для каждого из
нас, что рев этот умолкал, когда мы
входили» (615 Ь—616 а).*
Посмертный суд напоминает то, как это
было описано в «Горгии», только все
стало более пространственным и объемным,
наглядным и определенным, хотя в то же
время и более странным и
непостижимым. Простонародная, «памфилийская»
окраска также усиливает непостижимость.
И снова народное, «орфическое»
сочетается с элементами научной космологии. Ибо
странствие продолжается: того, что
познано тут, еще недостаточно, чтобы понять
действующий здесь закон. Место
действия становится еще громаднее, теперь это
уже космос, но космос, охваченный
лентой света, с торчащей наружу осью:
сферы планет, нанизанные одна на другую,
* Здесь и далее цитаты из «Государства»
приводятся в переводе А. Егунова.
246
насажены на веретено, и их вращение —
это уже работа Мойр.
Всем, кто провел на лугу семь дней, на
восьмой день надо было встать и
отправиться в путь, чтобы за четыре дня прийти
в такое место, откуда сверху виден луч
света, протянувшийся через все небо и землю,
словно столп, очень похожий на радугу,
только ярче и чище. (Если расшифровать
немифический субстрат этого образа, то,
очевидно, здесь подразумевается Млечный
Путь.) К нему они прибыли, совершив
однодневный переход, и там увидели,
посредине этого столпа света, свешивающиеся
с неба концы связей: ведь этот свет — узел
неба: как брус на кораблях, так он
скрепляет небесный свод. На концах этих связей
висит веретено Ананки, придающее всему
вращательное движение. У веретена ось
и крючок — из адаманта, а вал — из
адаманта в соединении с другими породами
(616 Ь-с).
Следует описание того, как внутри этой
вращающейся сферы, то есть в сфере
неподвижных звезд, вращаются
расположенные концентрическими кругами семь
других вращающихся колец меньшего
размера, то есть сферы планет. Такая точ-
247
ность кажется нам почти что чрезмерной.
От вещих видений мы ожидаем мелькания
яркого света, ходящего волнами тумана и
хаотического кишения, грек же, напротив,
скорее как раз противоположного: его
видения объемны, четки и предметны.
Относительно другого места Платона
упрекали даже в некотором педантизме. Но
описание гигантских ворот, разделяющих
у Парменида два мира познания, вполне
сопоставимо по обстоятельности с
описанием мирового веретена и его
сферического строения, и это не позволяет
усматривать здесь какое-либо серьезное отличие
в форме описания вещих видений.
Вращается же это веретено на коленях
Ананки. Сверху на каждом из кругов
веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе
с ними, каждая из них издает только один
звук, всегда той же высоты. Из всех
звуков — а их восемь — получается стройное
созвучие. Около Сирен на равном от них
расстоянии сидят, каждая на своем
престоле, другие три существа — это Мойры,
дочери Ананки: Лахесис, Клото и Атропос;
они — во всем белом, с венками на головах.
В лад с голосами Сирен Лахесис воспевает
прошлое, Клото — настоящее, Атропос —
248
будущее. Время от времени Клото
касается своей правой рукой наружного обода
веретена, помогая его вращению, тогда как
Атропос своей левой рукой делает то же
самое с внутренними кругами, а Лахесис
поочередно касается рукой того и другого.
Так вот, чуть только они пришли туда,
они сразу же должны были подойти к
Лахесис. Некий прорицатель расставил их по
порядку, затем взял с колен Лахесис жребии и
образчики жизней, взошел на высокий
помост и сказал: «Слово дочери Ананки, девы
Лахесис. Однодневные души! Вот начало
другого оборота, смертоносного для
смертного рода. Не вас получит по жребию гений,
а вы его себе изберете сами. Чей жребий
будет первым, тот первым пусть выберет
себе жизнь, неизбежно ему предстоящую.
Добродетель не есть достояние кого-либо
одного: почитая либо не почитая ее,
каждый приобщится к ней больше или меньше.
Это — вина избирающего: бог невиновен».
В мифе «Федра», как и в этом, тоже
присутствует космическое вращение. Но там
круговорот звезд — это могучее движение,
полет, блаженство; в «Государстве» же —
это необходимость, стальное веретено,
вечное созвучие, неизбежность:
справедливость. Смысл веретена выражен в речи
249
пророка, а мировое веретено становится
космическим образом этой пророческой
речи. Круговращение душ совершается
вокруг той же оси, что и круговращение
небесных сфер.
Подобно тому как в царстве смерти есть
нижний и верхний мир, противостоящие
друг другу, так подобное разделение
присутствует и в царстве Дике. Здесь такое
же противопоставление двух разных мест:
там — суд, здесь — выбор; там — ревущие
бездны, здесь — связующая полоса света;
там — Ардией и карающие духи, здесь —
Лахесис и пророк. Над наказующей,
воздающей, негирующеи справедливостью
возвышается объемлющая, движущая. Так
вопрос о сущности справедливости
приводит к государству, а от государства —
к душе. Из этой объемлющей
справедливости вытекает справедливость отдельного
человека: требование к каждому делать то,
что в его власти. Воздавать и соединять,
разделять и связывать, наказание и
объединение: вот та дихотомия, единство
которой выражает Дике. Так и Эриннии:
одновременно мстительницы — и милостивые,
уничтожающие и объединяющие. В этом
250
качестве Афина установила их культ в
своем городе: как сестрам Мойр (Эсхил,
Эвмениды 960). Возвращенная в душу эта
справедливость приводит к
восстановлению единства между жребием и выбором,
судьбой и свободой.
То, чему учит логос, явлено в мифе не
потому, что он представляет собой
притчу, отражение, аллегорию логоса, а потому,
что у них общий, единый первоначальный
источник. Замкнутое в себе
кругообразное движение, в котором по
концентрическим кругам вращаются душа, государство
и Дике, захватывает мировую ось в мифе,
который был сотворен Дике, подобно тому
как создателями мифов «Федра» и Федо-
на» были Танатос и Эрот.
МИФЫ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА
«ПОЛИТИК»
Произведением, переходным от
среднего периода к последним творениям
старческого возраста, является «Политик» — как
в том, что касается диалога, так и в
отношении его мифа. Вновь диалектическая
игра вопросов прерывается посередине, и
такой же игрой оказывается миф, который
ее прерывает; возникнув по воле прихоти,
нежности и задора, это еще не «священное
предание», как в самых последних
произведениях, а сказка, подобная тем «сказкам,
которыми заслушиваются дети».
В мифе снова все оказывается
противоположно существующему в действитель-
252
ности, и этим он больше всего напоминает
миф из «Федона». Подобно тому как там
Земля, на которой мы живем,
представляется нам расположенной выше моря, на
самом же деле оказывается темной и
затуманенной впадиной; подобно тому как
там истинная Земля начинается на таких
далеких высотах, какие нам и не снились;
подобно тому как там были сдвинуты верх
и низ — так здесь перевернута временная
последовательность. Как там
пространство земного мира в своем кажущемся
совершенстве снижается, представая
несовершенным по сравнению с высшей
чистотой, — так здесь перед нами встает
другой ход вещей, отличный от
существующего. Время, в которое мы живем, тоже
представляется чем-то низшим по
сравнению с высшей действительностью. Это
обратное, лучшее время мира, которое затем
сменилось единственно привычным нам
ходом вещей, было временем, когда сам
бог правил Вселенной. Вечно
неизменному не подобает поворачивать во времени
то туда, то сюда. Но и космосу не подобает,
чтобы сам бог вечно его вращал. Пока еще
существуют два бога, которые управляют
253
миром поочередно, поворачивая его
движение то в одно, то в противоположное
направление. Тут остается только одна
возможность: чтобы космос, ведомый богом,
то принимал в себя бессмертие и жизнь,
то, лишившись управления,
предоставленный самому себе, катился бы куда
попало. Это звучит удивительно, и, однако
же, наши предки тому свидетели. Древние
предания говорят о величайшей из всех
существующих перемен. Память о
повороте времен сохранилась в истории
знамения, ниспосланном Атрею, когда Солнце
вместо запада стало вставать на востоке.
О том, что так было, свидетельствует и то,
что рассказывают об обратном ходе вещей
во времена Крона...
И снова игровое истолкование мифа
повторяет иронически сказочную игру
прежних сочинений. То, что содержание здесь
настолько весомее, а игра с ним ведется
с такой легкостью — причем эта легкость не
обходится без определенной весомости, —
объясняется самой сущностью развития,
так как старик Платон гораздо глубже,
свободнее и чудеснее, и он теперь
гораздо богаче как внешним, так и скрытым
254
содержанием, чем это было у него в
молодости.
Однако таким же обломком старой
традиции является и предание о рождении
человека землею. В незапамятные времена,
когда ход вещей шел в обратном
направлении, люди так же вырастали из земли, как
теперь они уходят в землю после смерти.
Они начинали жизнь стариками, их седые
волосы постепенно темнели, а щеки
бородатых людей становились гладкими, тела
же — цветущими, с каждым днем они
делались все более упругими, нежными,
детскими, затем становились все меньше, пока
не уничтожались совершенно. Но и сама
жизнь, полная трудов при нынешнем ходе
вещей, тогда была совсем легкая. Сам бог
ведал тогда круговоротом времени, а духи,
как прилежные пастухи, заботились обо
всех существах, порученных их попечению.
Тогда каждый был самодостаточен, никто
никого не поедал, не было ни войн, ни
раздоров; бог сам пестовал людей и руководил
ими; он властвовал над людьми как их
повелитель, подобно тому как сейчас люди
в этом мире властвуют над другими
существами. Погода была благоприятная, чело-
255
век не имел одежды, ложем ему служила
трава, пищи было достаточно, не нужны
были ни государство, ни жена и дети, люди
беспамятно сами вырастали из земли.
Разве не лучше была жизнь тогда, в правление
Крона, чем нынешняя, при Зевсе? Одна
беда — сыны Крона пренебрегали тем,
чтобы тратить время на занятия философией,
и не задавали вопросов ни себе, ни другим
существам; так что ответ ясен сам собой.
Но если у них не было другой заботы, как
рассказывать друг другу сказки, вроде той,
что мы сейчас рассказываем о них, то и тут
ответ тоже ясен.
За этим следует болезненное,
хаотическое рождение несовершенного,
предоставленного самому себе времени. Форма
рассказа, начинающегося от изначальных
времен, стиль этиологической истории,
задуманной как поучение, объясняющее,
почему ход вещей таков, каков он есть
ныне, также связывает миф «Политика»
с мифом софиста из «Протагора». Общей
чертой является и вмешательство бога,
и высказанные в мифе опасения.
Однако в более раннем мифе Платон выражал
свои мысли в чужом, ином, пестром, нега-
256
тивном, в споре агона, ирония
распространялась на мысли противника, ее жест был
полемичен: насколько она тем самым
распространялась и на свое — это уже другой
вопрос. Здесь же все у Платона свое,
присущее ему самому. Насколько простирается
душа Платона, настолько и
распространяется его господство. А ирония здесь
такова, что он как бы поднимается над самим
собой.
Когда всему этому исполнился срок,
и должна была наступить перемена, и все
земнорожденное племя потерпело
уничтожение, после того как каждая душа
проделала назначенные ей порождения и все они
семенами упали на землю, кормчий
Вселенной, словно бы отпустив кормило,
отошел на свой наблюдательный пост, космос
же продолжал вращаться под воздействием
судьбы и врожденного ему вожделения.
Все местные боги, соправители
могущественнейшего божества, прознав о
случившемся, лишили части космоса своего
попечения. Космос же, повернувшись вспять и
пришедши в столкновение с самим собой,
увлекаемый противоположными
стремлениями начала и конца и сотрясаемый
мощным внутренним сотрясением, навлек
новую гибель на всевозможных животных.
257
Когда затем, по прошествии большого
времени, шум, замешательство и сотрясение
прекратились и наступило затишье,
космос вернулся к своему обычному
упорядоченному бегу, попечительствуя и
властвуя над всем тем, что в нем есть, и над
самим собою; при этом он по возможности
вспоминал наставления своего демиурга
и отца.
Вначале он соблюдал их строже,
позднее же — все небрежнее. Причиной тому
была телесность смешения, издревле
присущая ему от природы, ибо, прежде чем
прийти к нынешнему порядку, он был при-
частен великой неразберихе.
От своего устроителя он получил в удел
все прекрасное; что касается его прежнего
состояния, то сколько ни было в небе
тягостного и несправедливого, все это он и
в себя вобрал, и уделил живым существам.
Питая эти существа вместе с Кормчим,
он вносил в них немного дурного и много
добра.
Когда же космос отделился от
Кормчего, то в ближайшее время после этого
отделения он все совершал прекрасно, а по
истечении же времени и прихода забвения им
овладевает состояние древнего
беспорядка, так что в конце концов он вырождается,
в нем остается немного добра,
смешанного с многочисленными
противоположными свойствами, он подвергается опасности
258
собственного разрушения и гибели всего,
что в нем есть. Потому-то устроившее его
божество, видя такое нелегкое его
положение и беспокоясь о том, чтобы, волнуемый
смутой, он не разрушился и не
погрузился в беспредельную пучину неподобного,
вновь берет кормило и снова
направляет все больное и разрушенное по
прежнему свойственному ему круговороту: он
вновь устрояет космос, упорядочивает его
и делает бессмертным и непреходящим
(272 с-273 е) *
Миф «Политика» производит
впечатление такой игры, которая сама себя
уничтожает. Однако же она уничтожает другую
игру, игру диалектики, тем, что
приоткрывает своими средствами высшую
реальность — то первозданно-божественное
некоей высшей силы, действующей в
условиях космического, еще не связанного
социальными узами человечества, к
которому не способна прикоснуться диалектика.
«Трудно ведь, не пользуясь образцами,
пояснить что-либо важное. Ведь каждый из
нас, узнав что-то словно во сне, начисто за-
* Здесь и далее цитаты из «Политика»
приводятся в переводе С. Шейнман-Топштейн.
259
бывает это, когда снова оказывается будто
бы наяву» (277 d).
Мы здесь не берем на себя задачу
прослеживать «мотивы», которые лежат за
пределами творчества Платона. О
круговороте вещей говорится в учении
милетской школы, также там идет речь о
«бессмертии» и «вечной молодости», о смене
космических периодов (в первую очередь
эти мысли можно найти у Эмпедокла),
картина поворота вспять и
преобладания противоположных,
взаимодействующих сил, представление о потерянном рае
напоминают описания первозданного
состояния... Но все эти параллели все равно
привели бы нас назад к Платону.
Если мы спросим себя о том, какое
место и какую ступень занимает это
мифическое творение в сочинениях
самого Платона, то увидим мифические миры
движения, в которых поднимаются вверх
и падают души, «вспоминая» и «забывая»
на пути к тому, чтобы стать мировой
душой. «Воспоминание» отдельной души
расширилось до «воспоминания» «мира»,
предсуществование души превратилось
в своего рода предсуществование космо-
260
ca. Поворот неба и течение жизни,
связанные между собой созерцанием временной
направленности, образуют единство как
здесь, так и ранее в «Государстве», а
позднее в «Тимее». Если мировая душа
сообщает свою сущность всем другим
сущностям, как это происходит согласно учению,
выраженному в «Политике», то поворот
движения светил должен повлечь за собой
также и поворот всего течения жизни. Сам
по себе этот поворот представляет собой,
правда, привычную фантастическую
форму того же старого поворота всего
сущего, который мы видим в мифах «Протаго-
ра», «Горгия» и аристофановском мифе из
«Пира». Но здесь, где он появляется в
последний раз, за ним кроется такое
множество космологических категорий, что это
кажется слишком большой нагрузкой для
легкой игры: здесь и отношение между
миром и его творцом, образец и материя,
подражание и отклонение, тождество и
инакость, порядок и хаос,
долженствующее и сущее в целом или же, поскольку
в понимании Платона бытие находится
на стороне должного, — долженствущее и
несовершенное бытие: это уже вызревает
261
миф «Тимея». Мифическая форма поворота
вспять разлагает на последовательность во
времени то, что в других формах
выступает как совмещенность одного в другом или
иерархический порядок. Когда временная
последовательность, совершенный и
несовершенный мир начинают проникать друг
друга, когда это взаимное проникновение
разделяется на творчество и
сопротивление, на формирование и зарождение, то
возникает та мифическая концепция мира,
которую мы встречаем в плане «Тимея».
«ТИМЕЙ»
Полностью отдать должное главному
мифическому сочинению, «Тимею», здесь
невозможно. По каким бы долинам мифа
ни пролегал наш путь, наш взор всегда
будет обращен на эту вершину. Но проблема
мифического начинает так глубоко
проникать в вопросы платоновской
догматики, вопрос о соотношении между мифом
Платона и науками Академии вырастает
262
до таких масштабов, что наша попытка
разрешить ее в принятой здесь форме
кажется заведомо обреченной на неудачу.
Однако, чтобы найти переход к «Критик»
и к учению об идеях, необходимо сказать
следующее.
Если самый миф является
отображением или уподоблением в притче и, будучи
подобием, по своему подобию
формирует мир; если также видимый мир —
отображение, которое тоже формируется как
подобие мира невидимого, то мир,
поскольку он есть отображение или подобие,
родствен мифу, который также является
иносказательным подобием (28 Ь—с). Миф,
в свою очередь, устремлен в космос — не
только в «Тимее», но уже изначально. Но
там миф как бы преобладал, а космос ему
подчинялся; в «Тимее» дело обстоит
наоборот. Космос пронизывается
мифическим началом или, что то же самое,
становится «отображением», «мимемой». Миф,
напротив, развивается в уподобляющее, то
есть отображающее мироистолкование,
вернее, миросозидание. (Ибо «уподоблением»,
то есть образом, ευ$ών, «иносказательная
притча» становится только благодаря ри-
263
торике и грамматике, в метафизическом
понятии неоплатоников.) Система
возникает в виде постепенно нисходящих рядов
все более весомых, привязанных к
материальному «отображений» духовного
содержания. Отграничение мифа как чего-то
правдоподобного от истинного в конечном
счете проводится так же, как в «Федре» и
«Федоне». Познание стремится к истине;
сотворение образа в качестве
отображения — к правдоподобию. Но и демиурги-
ческое творчество обусловлено
определенной последовательностью. Там — прообраз,
здесь — ограничения, свойственные
материи; они определяют его направление и
очерчивают его границы. Возникает
дедуктивный по форме метод
«достоверности». Так форма иносказания повторяет
собой досократовский диакосмос. Вечное
и становящееся, тождественное и другое,
два противоположно направленных вида
движения небесных тел, макрокосмос —
микрокосмос, небо — череп: так в
нисходящем рядоположении в низшем постоянно
открывается образ высшего.
Но и рассматривая низшее, мы тоже
видим, что иносказательное уподобление как
264
форма — даже там, где ее наполнение
порой кажется произвольным, —
представляет собой не произвольную игру, а нечто
большее: она содержит в себе сущностное
созерцание и толкование природы с ее
безграничными течениями, ее темными
круговоротами, путаными инстинктами,
смутными вожделениями и
заключенными в тело из плоти и крови неясными
догадками ума. Знание органов тела,
достигнутое благодаря медицине, дополняется
такими мыслительными картинами, как
борьба потоков и формы, сосудов и соков,
служебных функций и самовластия
низменного животного начала, которое
находит пристанище в человеческом теле.
Но все указывает на меру и на то, что
является должным, прообраз которого для
человеческого тела явлен в устройстве
космоса. Слишком великая душа в
чересчур слабом теле также представляет
собой нарушение меры; пример «калеки
наоборот». Вспомним в связи с этим Эрик-
симаха: то, что там устарело, в «Тимее»
снова возвращается молодым; новая,
порожденная первоначальным образом и
необходимостью должного интуитивная
265
картина мира возвращает смысл также
и телу.
Смерть, рождение, природа сущностей
как «отображение» процессов,
происходящих в космосе, уже знакомы нам по
«Политику», так же как и упорядочиватель и
демиург и обращение неба согласно вечному
прообразу. Но то, что там было
представлено лишь в зачатке, получает здесь
мощное развитие. И, наконец, в «Тимее» миф
уже перестает быть «сказкой», околичным
средством, играющим на контрасте между
формой и серьезностью смысла: в «Тимее»
миф впервые выступает без всякого
преломления как «священное учение». Этот
священный характер и есть та особенность
мифа, которую обозначают и обозначали
словами «орфическое» и «пифагорейское»:
это та новая святость нового, свободного
языка, наполнившегося новой
торжественностью, и старая святость
космологической мистерии.
Мифы Платона порождаются либо
неким пафосом, либо неким видением; они
представляют собой творческие
проявления и выражения некоего душевного
потрясения или созерцания (понятно, что
266
это разделение производится по степени
преобладания того или другого). Идея
сотворения в «Тимее» является мифическим
выражением — иначе говоря, творческим
изменением перспективы — такого
видения жизни, при котором мир
представляется как необходимое стремление к духу
в условиях разной по степени способности
прийти к этой цели. Формой этой
необходимости здесь является образ. Поэтому
мир «Тимея» уже был бы мир мифический,
даже если бы в нем отсутствовал миф о
сотворении мира. Ибо в науке как таковой
нет места для образного толкования, она
его разрушает анализом. Посредником
между духом и материей является демиург,
то есть мастер, воплощающий образ.
Единство противоположностей, какое
представляют собой образ и наука и торжество
образа над миром, толкования — над
познанием: вот что составляет в «Тимее» если
не весь смысл мифа, то, по крайней мере,
один из его смыслов. Посредником между
разумом и материей выступает демиург, то
есть ваятель образов. Двойная точка
отсчета (одновременно от высочайших
категорий ума и от хаотической путаницы бес-
267
форменного) — с одной стороны, от «нус»,
с другой — от «Ананки» (четкая цезура
поставлена в 47 е) — в качестве мужского
начала и начала воспринимающего,
упорядочивающей силы и воспринимающего
пространства, и надежно охватывает
своим двойным подходом природу с помощью
доказательства «вероятности» того, что ее
сущность способна к восприятию образов.
Но образное означает мифическое.
Формует ли миф природу? Или природа формует
миф? Или же один демиург формует и то
и другое? Довольно того, что только
«образ» наполняет мир душой, жизнью,
созиданием и показывает бытие в его связи
с богом.
Но когда старая форма наполняется
новым содержанием, тут же и новая форма
космогонической мысли становится
понятна, если исходить из ее старого
смысла. Мифическая форма «Тимея» возникает
не потому, как это зачастую считали, что
к ней пришлось обратиться ради выхода
из затруднительного положения, так как
Платон якобы не нашел способа
подойти к своим космическим идеям, взяв за
основу науку. Подобно тому как миф сам
268
по себе уже является таким смешением и
взаимопроникновением мифической и
научной картины мира, в котором
невозможно оценить, какая из этих сторон
преобладает и где кончается одна и начинается
другая, — так и «Тимей» в целом как
произведение представляет собой космогонию
души, в которой воспринимающие и
упорядочивающие силы, образ и диалектика,
чувственное начало и мысль, смутное и
свет разума, текучее и форма
смешиваются и переплетаются друг с другом.
Демиург, занимающий срединное место между
бытием и становлением, между вечным и
временным, первообразом и
отображением как созерцающее и творящее начало,
представляет собой в качестве
созидающего единства всех противоположностей
одновременно космогоническое и мифого-
ническое движущее начало. Как мировая
душа «смешивается» из двух полярных
сущностей, как в ее смешении три
превращается в одно: тождественное, другое,
в смесь тождественного и другого, с тем
чтобы тотчас же распасться, «разрезаться»
и «разделиться» в гармонической
пропорции таинственного числа, — так и здесь,
269
по закону полярности образуется душа
как соединение противоположностей: силы
соединяющего смешения и силы
логического разделения; сила, способная через
многообразие преобразовываться в
соединение, сочетается в ней с силой
разделения, упорядочивания и преодоления
посредством числа и понятия. Те же парные
силы, которые упорядочивают и правят
отдельной душой, упорядочивают и
правят всем мирозданием. Противоположные
силы, из которых, согласно мифу, сотво-
ряется мир, пронизывая мир, вызывают
напряжение, которое создает
космогонический разряд. В досократовской форме
проблематики родоначальником этой
космогонии выступает «докса», или
иллюзорный мир, Парменида так же, как учение
Парменида о бытии является досокра-
товским родоначальником платоновской
теории идей.
Изначальными противоположностями
являются хаос и идея. В этом своем
качестве они сначала сотворяют миф или, что
то же самое, — космос. Бытие и
становление, ум и душа, душа и тело: восприятия
(психические данности материального)
270
и материальность, чувственное качество
и стихия; целое и часть, бессмертное и
смертность, совершенство и болезнь, душа
и орган, отсутствие органов и узы органов
(таковы предикации элеатов): ëv, μονογενές,
τέλεον, άγήρων, άνοσον 31 b, 33 b (напомним
только, что, дойдя до медицинских
разделов, нельзя упускать из вида положение
о совершенстве мировой души!): таким
образом, каждая дихотомия всегда объ-
емлется другой дихотомией, более узкое —
чем-то более широким. Более совершенное
объемлет собой менее совершенное,
подобно тому как фигура шара объемлет все
прочие фигуры (33 Ь). И как форма шара
соотносится с формой полиэдра, мировая
душа — со стихией, так соотносятся целое
и часть, частичное с целым.
Вмешательство стереометрии — одновременно
точки, линии, плоскости и геометрического
тела — полярно вносит в превращения
четырех первоначальных стихий ту же связь
между упорядочивающими и
стихийными силами, какая полярно присутствует
в протекании и превращении всякого
восприятия, каким бы оно ни было
запутанным (43 d—е), — то таинственное действу-
271
ющее число, согласно пропорции которого
делится мировая душа. Правда, четверка
этих определенных тел подчиняется той
же произвольной игре, которая в мифе
имеет такое же право на существование,
как определенные числа в качестве
соотношений, свойственных мировой душе. Но
число и чистая форма тел — это такая же
необходимая принадлежность космоса, как
и души. Ибо равное познается только
равным, а отдельная душа — это часть души
мировой. Математизация Демокритовой
атомистики, которая отмечается у
Платона, на самом деле означает возвращение
в сторону положения: форма есть разум.
Идеальные формы стихии рождаются
через посредство идеальных форм геометрии
и стереометрии.
Микрокосм тела становится в свой
черед отражением макрокосмоса. Дихотомия
первоначальных сил, из которой
возникает мироздание, порождает во все новых,
производных формах, вплоть до всех
ответвлений, различные органы. Спинной
и головной мозг — органы,
предназначенные для восприятия божественного
семени, — образуются, в отличие от остального
272
тела, не из самих стихий, а из чистейших
первоначальных составных частей стихий,
из равномерных изначальных
треугольников, на которые первоначально
разделилась противоположная духу
бесформенная материя пространства (73 а—Ь). Таким
образом, в душевном органе действует та
же чистейшая форма разделившегося
пространства, то есть, говоря в мифических
терминах, этот орган создан из материи,
которая состоит из той же чистейшей
формы, благодаря которой только и
происходит переход одной стихии в другую, их
соединение и разъединение. Костный мозг
становится тем «якорем», от которого
тянутся узы, привязывающие его к телу. Ибо
подобно тому как одушевляющее
предшествует одушевляемому, так и
вожделеющее предшествует вожделеющим органам
(ср. «Законы», 897). Сотворение
демиургом вносит одухотворенность в понимание
тела и Вселенной, исходя в своем
понимании тела из телесных
противоположностей: свободы и необходимости, цели и
потребностей. Непрерывное включение
одной противоположности в другую —
теперь уже при рассмотрении тела, костного
273
мозга и костей, души и органов, суставов
(как бы духовной составляющей,
подчиняющейся разуму) и плоти (как
материального) — выстраивается согласно
ценностной иерархии сил, иерархии целей: то,
от чего принято отделываться термином
«телеология».
Мифическая форма творения с ее
напряжением между созиданием и
познанием, демиургом и материей, душой и
необходимостью, мифом и наукой
представляет картину тех же
противоположностей, какую всем своим содержанием
дает и космогония. Внешняя и внутренняя
форма, содержание и творение составляют
единое целое. Миф сотворения дает
мифический, возможный только посредством
мифа, «образа», ответ на вопрос о смысле
космоса и тела. Поскольку космос и тело
суть вещи, свойства которых исследованы
наукой, то есть принадлежат царству ума,
наука и миф должны проникнуть друг
друга. Но миф должен одержать верх. Борьба
с отсутствием смысла, которая
пронизывает все учение Платона, в ходе которой то
и дело прорываются в признания
испытываемых затруднений и растерянности,
274
в борьбе с которыми создавалось учение
об идеях, выливается в могучую
апологию мироздания: «Если космос прекрасен,
а его демиург благ, ясно, что он взирал на
вечное; если же дело обстояло так, что и
выговорить-то запретно, значит, он взирал
на возникшее» (29 а).* Возможно ли
измерить, какие бездны скрываются за этим
«если»? Надмирный взлет «Федона»
превращается в творческое приятие мира во
всей первозданной красоте его высших
сфер, которое означает все большую
невозможность принять низшие. Здесь
срастается то, что в мифе «Политика»
распадалось на два времени существования
мира. Тут лучшее, на что только
способны стихии: тело, душа, небо, сам демиург.
Ибо нус оказывается в противостоянии
с Ананке. Путь от начала к концу, от
разума к материи, от простого к
многообразному ведет не наверх. Шесть направлений
движения живого существа оказываются
лишь слабой подмогой против седьмого —
кругообразного движения неба... И, одна-
* Здесь и далее цитаты из «Тимея»
приводятся в переводе С. Аверинцева.
275
ко же, только это движение вниз придает
смысл бессмыслице. Подняться над
хаосом помогает только несовершенное. Так,
дихотомия, по идее присущая идее, это то
же самое или почти то же самое, чего
достиг Гераклит благодаря единству
противоположностей: «прекраснейший космос
[был бы] как куча мусору, рассыпанного
наудачу».
Все, что представляет собой разум и
поток, порядок и дела, в конечном счете
устремляется к космосу. Так развивается
мифический образ мира, который явился
в «Тимее». Душа эсхатологических учений
становится мировой душой. Идея снова
приводит к миру. Неважно, как это
называется — оптимизм, пессимизм, покорность
судьбе или как угодно еще. Однако было
бы ошибкой перевернуть это в обратном
порядке и свести этот космос к явлению,
истолкованию, символу и знаку
сверхъестественных сил. Характерно, что во
времена поздней античности «Тимея» стали
воспринимать наоборот.
276
«КРИТИЙ»
Космогонический миф «Тимея»
представлен как ответ на сделанный дар. Он
был сделан в знак благодарности за
историю о древнейших временах Афин и
начале решающей схватки между Афинами
и нашествием завоевателей из Атлантиды.
Космос и героические подвиги
переплетаются в одном и том же диалоге.
Государство и царство идей, человеческий и
божественный порядок предстают как единое
целое в «Государстве». То и другое
расходится, образуя два разных полюса, в
«Политике»; в нем государственная власть и
космос разделяются в виде основной темы
и отдельного экскурса на диалог и
мифическое повествование. В «Тимее» как
самостоятельная тема выделяется мифическое,
но упорядоченное с точки зрения
возникающей картины мира, учение о сотворении
Вселенной. Миф стремится
реализоваться, превращая в миф то, что
представляется реальностью, то есть мир. Точно так
же образ идеального государства
стремится реализоваться в изображении перво-
277
начальных времен. В «Политике» миф и
логос на первый взгляд независимы друг
от друга, но составляют пару в полярном
противопоставлении благодаря тому, что
миф появляется как экскурс в логосе. То
же самое происходит и в «Тимее», где
космос и первоначальная история существуют
раздельно и в то же время в единстве друг
с другом, распределяясь как бы по двум
измерениям — времени и пространства.
Космос и древность — это два
направления, по которым в пределах
символического мира жизнь тела и жизнь государства
могут выглянуть за свои пределы и
взглянуть на себя сверху. Ибо как тело
нуждается в космосе, а космос — в демиурге, так
и государству необходимы
первоначальные и героические времена. Значение
прошлого в том, что оно позволяет наглядно
показать осуществимость великих
возможностей. Так, история Атлантиды — это
идеальная история Персидских войн, в
которой нуждалось государство Платона,
чтобы получить идеальное
осуществление в мифе. Больше не возникают мифы,
в которые претворяется отзывчивая душа
диалога и которые встают перед глазами
278
как самодостаточные картины. Если
прежние мифы, по существу, представляли
собой движение, то теперь они, по
существу, принимают просвечивающий
характер. Мифический свет пронизывает собою
весь мир.
Теперь категория первобытного
времени становится в мифотворчестве
Платона неотъемлемой формой точно так же,
как и категория сверхчувственного и
потустороннего вообще, то есть как
категория изначального. Сменяющим друг друга
эпохам мироздания, которые были
представлены в «Политике», в «Тимее»
соответствуют различные культурные
периоды. Их также отделяют одну от другой
космические перемены, небесные и земные
катастрофы, пожары и потопы, так что
память об ушедшей эпохе мироздания
сохраняется только в виде старинных,
искаженных последующим переосмыслением
легенд. Если в «Политике» в качестве
такой легенды толковался миф об Атрее, то
в «Тимее» это — легенда о Фаэтоне. Та и
другая совпадают в отношении той
функции, которую они играют в мифе. Как ни
различны их источники и мотивы, одним
279
словом, доплатоновская форма этих
мыслей, здесь речь идет о мифической форме
Платона. Космос и доисторические
времена снова обнаруживают необходимую
связь друг с другом в качестве двух
разных измерений. Если ныне переживаемое
миром время слишком замутнено,
слишком слабо и несовершенно, чтобы бог сам
правил сейчас кормилом, но его
собственное глухое и беспомощное течение
наличием смутных «воспоминаний» о лучших
временах подсказывает нам, что некогда
в незапамятные времена сам бог держал
кормило, — то в историческом измерении
теперешнему несовершенному
государственному устройству и правлению, в
особенности тому, что мы видим в настоящее
время в Афинах, соответствует надмирная,
первозданная гражданственность и
героические образцы, относящиеся к
канувшему в прошлое доисторическому времени.
Подобно тому как лучшим временем было
то, когда бог сам правил миром, так и для
Афин лучшим временем были древнейшие
времена, когда боги сами пестовали людей,
как пастухи стадо, но правили они не
бичом, а направляли людей, как кормилом
280
направляют корабль («Критий», 109).
Подобно тому как Земля, или то, что мы
считаем Землей, в отличие от настоящей
Земли, была больна и разъедена порчей, как
это описано в «Федоне», — так и нынешняя
земля Аттики по сравнению с красотой,
изобилием и плодородием древнейших
времен представляет собой жалкие
остатки, сравнимые со скелетом больного тела.
То же самое относится и к нынешней
политической жизни Афин по сравнению с
истинными Афинами «настоящего Тесея» и
«настоящего Эрехтея». Ведь когда-то же
должно было существовать и в самом деле
совершенство! Тоска по такой
действительности, желание увидеть ее своими
глазами лежит в основе создания мифа об
изначальных Афинах. Изначальные Афины
проглядывают в современных Афинах, и
как бы печально они не выглядели теперь,
все же в них запечатлелась смутная мечта
об этом прообразе. Образ Афин — это не
то, что сейчас называется Афинами, так
же как отсвет, мерцающий на воде, не то,
что самый свет. Не вправе ли мы сказать,
что созерцание идей — это не что иное, как
такое видение? И что без этого видения не
281
было бы идей и никогда не возникло бы это
учение об идеях? Подобно тому как идеи
всплывают в душе в виде «воспоминания»
из времен предшествующих
существований, пробуждаются в ходе
припоминания, так и среди древнейшей аристократии
Афин, к которой принадлежит сам Платон,
родовая память хранит чудесное и
неизгладимое воспоминание о государстве,
никогда не существовавшем в этом времени,
но неизгладимо запечатленном в
«воспоминании». «Затверженное в детстве куда
как хорошо держится в памяти» («Тимей»,
26 Ь). Почему же государство Платона
непременно должно было когда-то
существовать в действительности? Не потому ли,
что старец продолжал плести нить своих
мифов?
Однако память о Пра-Афинах
воскрешается не только ради них самих, они
должны вступить в борьбу с городом и
страной Атлантидой. Что значит тут эта
борьба? И что значит это странное
описание Атлантиды? Или мы ошибались?
И миф развеется как пустая игра? Миф —
это отображение. Если Атлантида — миф,
то что же тогда ее образец? Поиск в на-
282
стоящем для нас заказан: ведь и
нынешние Афины — полная и даже двойная
противоположность изначального
образца. Ибо в сопоставлении с образцом
нужно оценивать настоящее, чувственное, но
продемонстрировать образец можно
только в мифе. Настоящее — вместо которого
можно взять космос и т. д. — относится
к мифу, как естественный свет — к
спектру: тот и другой указывают на один и
тот же исконный источник света, но
искать спектр в природной среде —
напрасное дело.
Ранее уже указывалось, достаточно
обоснованно, на отдельные параллели
между Атлантидой и Древним Востоком,
в частности между Атлантидой и
Египтом. Другие моменты этому
противоречат, и миф к ним не сводится. Речь здесь
не о политическом устройстве, не об
исторических, культурно-исторических или
географических фактах, а о
противопоставлении двух первоначальных
образцов. Если отбросить сердцевину, функцию
первоначального образца, то останется то
же, что сохранилось в греческой
литературе: литературная форма, обитаемый мир,
283
населенный разными народами,
политический роман, утопия, пустая оболочка.
При желании можно рассматривать
Атлантиду как Древний Восток: но тогда уж
не в отдельных мотивах, а только в
смысле прообраза того, что мы наблюдаем на
Востоке.
Страна и народ — одно целое, то и
другое — это притча. Так же как в мифах «Фе-
дра» и «Политика» чистоте Земли,
совершенству мирового периода соответствует
состояние человеческого рода, то и
другое — взаимно обусловлены, поэтому
мировой период, природа и государства
составляют в «Критии» единство. Пра-Афины
орошались природными источниками,
в Атлантиде орошение производилось при
помощи системы искусных устройств.
Подобным же образом противопоставления
проходят через все описания обеих стран.
Попытаемся же проследить, как каждая
страна несет в себе выражение того или
иного духа.
Пра-Аттика — гористая страна с
широкими долинами, густыми лесами,
высокими деревьями — своего рода героический
пейзаж. Богатство, свежесть, неистощен-
284
ность природы отличают ее от нынешнего
состояния так же, как отличается древнее
население от теперешнего. Страна
орошалась небесной водой, которая в те времена
не стекала бесполезными потоками в море
по каменистым склонам. Тучная почва и
слой сохраняющей глины способствовали
тому, что во впадинах скапливались
родники и ручьи. Акрополь простирался до
Эридана и Илиса, он включал в себя Пикн
и Ликабет. Его нынешние
сократившиеся остатки стали такими вследствие
землетрясений и наводнений за три периода
до Девкалионова потопа. В те времена он
представлял собой большое, широко
раскинувшееся плато, и оно не было голым
и каменистым, а было покрыто толстым
слоем почвы. На склонах жили крестьяне
и ремесленники, в верхней части, вокруг
святилища Афины и Гефеста — стражи,
место, где они обитали, было огорожено
стеной, как сад. К югу от неогороженной
области располагались жилые помещения
и зимние трапезные, а также все, что
требовалось воинам в соответствии с их
положением; к золоту и серебру они не
прикасались; к северу располагались гимнасии,
285
сады и места для летнего пребывания.
Большой источник, от которого ныне
вокруг акрополя осталось несколько мелких
родников, щедро снабжал город хорошей
водой, которой хватало и зимой и летом.
Так страна и город становятся
отражением государственного устройства. Место
расположения воинов с его сисситиями и
гимнасиями, отделенное от крестьян и
ремесленников, одновременно служит
ареной и выражением их ненасильственно
огражденного от остальных сограждан,
возвышающегося над ними героического
коммунизма. И крестьяне там — истинные
землепашцы душой и телом, честные и
здоровые телом; они — как тот край, который
они возделывали: отличная земля,
обильное орошение и умеренный климат.
Так же соотносятся друг с другом
страна и народ Атлантиды. Атлантида была
одним из больших островов за
Гибралтаром, которые ныне погрузились в морскую
пучину. Некогда ее власть простиралась
на всю западную часть Африки до Тирре-
нии. И снова природа и люди составляют
единство, хотя и противоположное
аттическому.
286
Каждый год там собирают два
урожая — один природный, другой
искусственный, обеспеченный искусственным
орошением. Страна эта отличается
сказочным изобилием, богата золотом и всеми
металлами, слонами и всевозможными
полезными животными, плодами и овощами,
благовонной древесиной, благовониями и
пряностями: таков же и город в своем
величии, он славится своей торговлей, блеском
и гордым духом. Его святилища богаты
золотом, люди поражают своей красотой,
а государственное устройство отличается
величайшим порядком. Выражением этого
порядка служит правильное от природы и
искусно созданное человеческими руками
расположение города. План города
напоминает торжественный церемониал. Он
расположен на широкой, открытой к югу
равнине; кругом вздымаются горы,
крутыми обрывами заканчивающиеся у моря.
Форма равнины напоминает вытянутый
прямоугольник, широкой стороной
обращенный к морю. Естественная прямизна
границ еще усилена искусством и
техникой. Четыре искусственно прорытых
канала с четырех сторон принимают в себя сте-
287
кающие с гор воды и служат для орошения,
судоходства, плотогонного промысла.
Система более мелких каналов расчерчивает
всю равнину на правильные
прямоугольники полей. Если равнина представляет
собой прямоугольник, то город
изображает круг, и акрополь, святыня города,
являет собой маленький круг внутри большого.
Сам Посейдон устроил вокруг
укрепленного святилища для защиты своего рода три
круглых, словно проведенных по циркулю,
водных кольца, а между ними — три круга
земляных. В самых размерах уже заложена
определенная система. Внешнее водяное
кольцо имеет три стадия в ширину, такой
же ширины и расположенное за ним
земляное кольцо; следующие два внутренних
кольца воды и земли имеют ширину два
стадия, а самое узкое водяное кольцо —
один стадий. Пять стадиев в диаметре
составляет ширина острова с царским
дворцом. И снова искусство дополняет здесь
то, что сделано природой. Земляные
кольца связаны между собой мостами, водные
кольца — каналами, над которыми
возведены мосты. Вокруг каждого из трех
концентрических кругов построены стены со
288
сторожевыми башнями с ковровым узором
на стенах, сложенных из белого, черного и
красного камня. (То есть и тут
господствует своего рода противоположный порядок:
вместо архитектуры — узор.) Внешняя
крепостная стена покрыта медью, вторая —
оловом, стена вокруг акрополя — золотой
бронзой. (Ср. садовую стену вокруг
крепости Пра-Афин!) Вокруг внешней стены на
пятьдесят стадиев раскинулся город,
который доходит до моря. Срединный круг
отведен для копьеносцев и царей. По
знатности копьеносцы делятся на три класса и
соответственно их жилища и отведенные
для воинских упражнений места
расположены в трех разных кругах: самые верные
живут в крепости и составляют
ближайшее окружение царя. Такая же
трехступенчатая иерархия, какую мы видим у колец,
существует и для металлов, в которые
одето святилище замка. В гигантском храме
Посейдона стоит колоссальная золотая
статуя Посейдона на колеснице,
запряженной четырьмя крылатыми конями; вокруг
него — изображения свиты из ста нереид
на дельфинах. Внутри и снаружи —
бесчисленные статуи царей. В крепости било
289
два источника — горячий и холодный;
холодный тек на юг, горячий — на север, тот
и другой были искусно направлены в
купальни, холодный тек по открытому
водоводу, горячий — по крытому; купальни для
всех были отдельные: для царей и для
подданных, для мужчин и женщин, для людей
и для тягловых животных; у каждой
купальни было свое устройство...
Такова страна, от которой исходит
грозная опасность. Опасность грозит не от
диких варварских орд, не от переселения
народов. А со стороны высокоразвитого,
цивилизованного государства, в котором
вместо естественных сил действуют
искусственно созданные, хотя и самые
разумные, правила, где вместо живого целого
и органических членов господствует
система пускай чрезвычайно целесообразного,
но схематически организованного
порядка. Пра-Афины, населенные свободно
развивающимся народом, живут по обычаям,
сообразным их телесной и душевной
природе, они близки к свободной,
плодоносящей земле с ее горами, долинами, скалами
и ущельями. Страна, государство и
обитатели Атлантиды выстроены с помощью
290
линейки и циркуля. Глядя на Атлантиду,
так и хочется воскликнуть: ну прямо-таки
страна техники! ну прямо-таки люди
порядка!
Когда ее властители приступали к
тому, чтобы творить правосудие, они
старались одинаково отдать должное четному и
нечетному числу, и потому собирались то
на пятый, то на шестой год! То, что в Пра-
Афинах явлено как всепроницающая,
никогда не ослабевающая и не
исчезающая правда, выражающаяся в
гармонических отношениях между властителями
и подвластными им людьми, в
Атлантиде требует регулярного искусственного
возобновления в указанные сроки
согласно установленным правилам, для чего
используются тщательно соблюдаемые
таинственные ритуалы. Какая
систематичность даже в выборе жертвы! Подобно
тому как число правителей равно десяти
(десятичная система простирается на все
сферы жизни), они выпускают в
святилище Посейдона десять быков и, вознеся
богу молитву, приступают к ловле, но без
применения железа, а вооруженные только
палками и арканами. Пойманное животное
291
они закалывали на стеле, на которой были
записаны их законы, чтобы кровь
стекала на письмена. На стеле вместе с
законами записано было также страшное
заклятие с проклятиями их нарушителю (как,
кстати, это было и на надписях Древнего
Востока). Затем надпись отмывали, а
животное сжигали. Однако десять капель
бычьей крови разводили в чаше вином — по
капле от каждого властителя. После этого,
зачерпнув из чаши влагу золотыми
фиалами и сотворив над огнем возлияние, они
клялись за себя и своих потомков карать
все нарушения и никогда в будущем не
поступать против написанного, а отдавать и
выполнять лишь такие приказания,
которые сообразны с божественными
отеческими законами. Далее они пили и водворяли
фиал на место в святилище бога. Затем,
когда пир и необходимые обряды были
закончены, наступала темнота и
жертвенный огонь остывал, все облачались
в прекраснейшие иссиня-черные одежды,
усаживались на землю при клятвенном
огневище и ночью творили суд. С
наступлением дня они записывали приговоры
на золотой скрижали и вместе с одежда-
292
ми посвящали богу как памятное
приношение.
Итак, для того чтобы устанавливать
справедливость в стране, им требовалась
ночь, клятва, жертва, таинственность.
Какая разница по сравнению с древними
Афинами! Там жизнь — тут система; там
душа — тут буква закона; там героическое
начало — тут магия. В «Критии» впервые
представлена в мифическом отображении
противоположность двух типов культуры
и государства. Борьба, которая разгорится
между Атлантидой и Афинами, — это
извечная борьба. Ибо только взор,
обращенный на вечное, дает право на миф. И не
всегда требуется противостояние двух
наций, чтобы эта борьба разгорелась.
Но когда унаследованная от бога
доля ослабела, многократно растворяясь
в смертной примеси, и возобладал
человеческий нрав, тогда они оказались не в
состоянии долее выносить свое богатство и
утратили благопристойность. Для того, кто
умеет видеть, они являли собой постыдное
зрелище, ибо промотали самую
прекрасную из своих ценностей; но неспособным
усмотреть, в чем состоит истинно
счастливая жизнь, они казались прекраснее и
293
счастливее всего как раз тогда, когда в них
кипела безудержная жадность и сила.
И вот Зевс, бог богов, блюдущий
законы, хорошо умея усматривать то, о чем мы
говорили, помыслил о славном роде,
впавшем в столь жалкую развращенность, и
решил наложить на них кару, дабы он,
отрезвев от беды, научился благообразию.
Поэтому он созвал всех богов в славнейшую из
их обителей, утвержденную в средоточии
мира, из которой можно лицезреть все
причастное рождению, и обратился к
собравшимся со словами...*
* Перевод С. Аверинцева.
МИФ И ИДЕЯ
Миф неоднократно отсылал нас к идее.
Миф и идея, судя по всему, соотносятся
друг с другом не только как форма и
содержание, поскольку и в мифе тоже идет речь
об идее или в мифе отражается идея, а так,
как соотносятся между собой сотворение
образа и созерцание. В этом коренится
их гармоническая противоположность. Не
содержание и форма, действительность
и мышление, а созерцание и творчество
противопоставлены друг другу. Ибо даже
в ретроспекции созерцание идеи не ведет
обратно к чувственной реальности
природных вещей, а либо уводит к разделению
и соизмерению, оцениванию, при котором
речь идет о последовательно выводимых
абстрактных нормах, как в платоновских
295
точных науках, в диалектике,
математике, а позднее в политике и этике, либо,
как уже сказано, — к творчеству, где речь
идет о силах, сюжетах и образах, человеке
и душе, государстве и мире. Тот, кто
созерцает идеи, становится в ретроспекции
либо сравнительно сопоставляющим —
диалектиком, геометром, либо демиургом.
Но когда творчество не выливается в
фантазию, а созерцание — в реальность,
разделяясь как бы на два русла, и одно
вливается в другое, тогда проблемы, связанные
с отношениями между миром и
мышлением, отпадают, а тем самым
отпадают и проблемы теоретического объяснения
природы.
Таким образом, отпадает и вопрос
о роде единства и о
причинно-следственных связях между природой и духом.
Как это понимать? Добавим еще одно:
отсутствует вообще потребность в
каузальности. Вернее, вся каузальность тотчас
же уходит в область душевного. Причина
отхода не только от физической
каузальности, но и от метафизического
обоснования реального мира, то есть, как сказано
в «Федоне», попытка «прибегнуть к от-
296
влеченным понятиям и в них
рассматривать истину бытия» (99 е): к этому толкает
сущность того, что подразумевается под
«причиной». Причина ослепила бы душу,
которая захотела бы ее исследовать, как
солнце слепит глаза того, кто прямо на
него смотрит. Ибо истинная причина не
кости и сухожилия, а Сократ, его бытие
и его закон: откуда взять средства,
чтобы понять их путем исследования?
Признается причиной «присутствие» идеи
в чувственной вещи, ее «причастность»
к идее: как причина прекрасного,
великого, малого в том виде, в каком они
проявляются: это принимается в качестве
единственного «основания» («Федон», 101 d).
Вопрос же о том, в чем выражается эта
причастность, отметается. Перенесение
каузальности в сферу логики на деле
приводит к ее снятию. Однако снимается она
в сфере знания и познания, и тем
пышнее она разворачивается в сфере
душевной, то есть творческой. Так диалектика
воистину становится освободительницей
мифа.
Ибо душевная каузальность — это
нечто другое, чем научная. «Должно при-
297
знать, что из всего сущего стяжать ум
подобает одной лишь душе... Итак,
почитатель ума и знания должен рассматривать
прежде всего причины, которые связаны
с разумной природой, и лишь во вторую
очередь те, которые связаны с вещами,
движимыми извне и потому с
необходимостью движущими другие вещи». Так
гласит миф «Тимея» в оправдание самого
мифа (46 d). Ибо что есть
противоположность того, что движет другими вещами
и само движимо другим? Как учит «Фе-
дон» — это душа. Но душа не как
психологическое или метафизическое понятие, не
в четко обозначенных границах познания
и не в потустороннем мире в качестве того,
что составляет его предпосылку и
наполняет смыслом, а в творческом
пространстве, и потому осознающая в мифе сама
себя. Тут появляются такие понятия, как
«пища», «источник», «изначальный
образ» и «отображение», а также «демиург»,
«рождение», «полет», «божественное
безумие», «забывание», «припоминание»; душа
и сама принадлежит этому месту; язык
души — это миф. С тех пор как
существует платонизм, никто так и не понял или не
298
поверил, что в философии Платона вопрос
о воздействии идеи, вопрос о
порождении чувственных вещей познания
отпадает. Вернее, дело должно обстоять так, что
вопрос как бы не ставится, пока остается
незамеченной категория души. Лишь
когда душа перестает держаться за свою
причастность к идее и ее присутствие в себе,
разум приходит либо к логическим
проблемам суждения и понятия, либо к
метафизическому понятию причины. Душа
первична по отношению к идее. При
попытке объяснить «душу», исходя из идеи
как логического, гносеологического и
метафизического понятия, перед нами
неизбежно встает неразрешимое затруднение.
Душа превращается в какое-то красивое,
поэтическое и туманное неизвестно что,
вроде детских башмачков великих мыслей,
и мы прощаем ее автору. Фактически мы
переворачиваем творческий подход с ног
на голову. Не идея рождает душу. Придя
к понятию идеи, Платон не притягивает
к ней все, что только возможно, из
орфических и пифагорейских учений и мифа, он
не облекает светлое ядро в туманную
оболочку своего учения о душе, а, напротив,
299
сужает, проясняет, освещает и вычленяет
силы души при помощи учения об идее.
Нездешний мир идеи — это не
теологическое переосмысление и не установление
границ в духе Канта, а выражение
первоначального источника познания и
творчества из изначального единства: как
двойственное начало они принадлежат душе,
как единое — идее.*
Граница диалектики достигается
диалектикой в ходе восходящего развития
только в виде исключения. Как правило,
диалектика переходит в миф. Первое
происходит тогда, когда идея рассматривается
как сила и воздействие, но не через миф,
а на границе умопостигаемого путем на-
* Соотношение между идеей и творчеством
не изложено в виде учения. Теория и
творчество находятся в разных плоскостях. В
умопостигаемом искусство в качестве средства
изображения — это тень тени, подражание
подражанию; в мифе и в качестве силы она
есть рождение в эросе и божественное
безумие. Однако же «рождение» и «безумие» есть
действие идеи; в этом содержится мнимое, но
всего лишь мнимое, противоречие. — Примеч.
автора.
300
учения. Далее диалектика сама
воспаряет так, словно стремится перейти в миф;
чувствуется приближение к
запредельному миру. «...Солнце не есть зрение. Хотя
оно — причина зрения, но само зрение его
видит. <...> ...Ведь благо произвело его
подобным самому себе: чем будет благо
в умопостигаемой области по отношению
к уму и умопостигаемому, тем в
области зримого будет Солнце по отношению
к зрению и зрительно воспринимаемым
вещам. <...> Когда напрягаются, чтобы
разглядеть предметы, озаренные
сумеречным сиянием ночи, а не те, цвет которых
предстает в свете дня, зрение
притупляется, и человека можно принять чуть ли
не за слепого, как будто его глаза не в
порядке. <...> ...Так бывает и с душой: всякий
раз, когда она устремляется туда, где
сияют истина и бытие, она воспринимает их
и познает, а это показывает ее разумность.
<...> ...То, что придает познаваемым вещам
истинность, а человека наделяет
способностью познавать, это ты и считай
причиной блага — причиной знания и
познаваемости истины. Как ни прекрасно и то и
другое — познание и истина, но если идею
301
блага ты будешь считать чем-то еще более
прекрасным, ты будешь прав»
(«Государство», 508).
То, что бытие в себе и идея сама по
себе не обладают бытием, что они, для
того чтобы быть, нуждаются еще в
другой, нездешней силе, не выводится ни
из каких постулатов диалектики и ни из
чего, сравнимого с приматом чистого
разума (кантовский примат проводит
границу между двумя видами разума, которой
не знал Платон), а только из автономной
первообразной силы души.
«Прекраснейшее начало нашей души» созерцает
«самое совершенное в существующем»:
созерцание блага подобно взаимодействию
и связи между зрением и светом
первоисточника, между тем, что «солнцеподобно»
и самим Солнцем (532 с).
«Прекраснейшее начало души»: объяснение этого
можно найти в «Федоне»: ибо лучшая пища
для всего лучшего в душе растет на этой
пажити. А «самое совершенное в
существующем»? Благо, «к которому
стремится любая душа»? (505 е). Как говорится
в «Пире» — сила Эрота; как
представитель рода, которому пристало называть-
302
ся этим именем, Эрот — это «стремление
к благу». Потусторонний мир, в котором
царит идея добра, указывает на ту
первопричину, в которой душа и диалектика
едины.
Для сравнения может послужить
следующий пример перехода границы, до
которого поднимается диалектика в
метафизическом экскурсе «Софиста». Позицию,
противоположную Платону, здесь
представляет элеатский дуализм, который,
отрицая взаимовлияние идей, снимает
существование познания, души и жизни; он
говорит: «К становлению мы приобщаемся
телом с помощью ощущения, душою же
с помощью размышления
приобщаемся к подлинному бытию» (248 а).* На это
возражают, что быть причастным
означает действовать или претерпевать
благодаря некоей силе\ Не годится ограничивать
действие или претерпевание одним
становлением, отделяя его от
существования. Познавать или быть познаваемым —
это тоже действие и претерпевание.
Таким образом, бытие, познаваемое позна-
* Здесь и ниже перевод С. Ананьина.
303
нием, находится в движении: только
пребывание в покое не знает претерпевания.
Но тут внезапно интонация резко
меняется, а вместе с интонацией возникает и
новый поворот мысли, на мгновение
происходит выход за обычно соблюдаемые
границы: «И ради Зевса, дадим ли мы
себя легко убедить в том, что движение,
жизнь, душа и разум не причастны к
совершенному бытию и что бытие не живет
и не мыслит, но возвышенное и чистое, не
имея ума, стоит неподвижно в покое? <...>
Но должны ли мы утверждать, что оно
обладает умом, жизнью же нет? <...> Так
станем ли мы утверждать, что, имея ум,
жизнь и душу, бытие совсем
неподвижно, хотя и одушевлено?» (249 а) Единство
души: в первую очередь оно, а не
только единство познания, требует
преодоления застывшего дуализма, разделяющего
бытие и становление, тождественность и
инакость, который «познанием» убивает
«жизнь». Вырывающаяся из диалектики
душа, одушевленное жизнью бытие — это
в конечном счете то же самое, что
происходит, когда идея в мифе превращается
в «пищу души». И то же самое происхо-
304
дит в конечном счете, когда в «Тимее»
категории разума, идеи, тождественного и
другого, смешанные в сосуде мифической
космогонии, порождают мировую душу.
Душа, жизнь и движение: недаром эта
триада наводит на мысль о космосе; она кос-
мична в «Федре», в «Тимее» и в «Законах»
(895); ибо космически-первозданное и
душевно первозданное в последний период
творчества сливаются у Платона в одно.
«Тождественное» и «другое» также имеют
наряду с логическим еще и душевное, и
космическое значение. Высочайшие
формы связывания в разуме, нормы познания
превращаются в высшие силы, то есть они
становятся душой. Сила творчества и сила
познания в процессе своего действия
выступают раздельно: но это не мешает тому,
чтобы в качестве энергии одна переходила
в другую подобно тому, как миф переходит
в диалектику, а диалектика — в миф.
Отношение между идеей и мифом —
душевно, «иррационально»; отношение между
идеей и диалектикой — «рационально»,
но кажется более ясным для понимания
только по видимости. Идея — это единство
до раздвоения: полярность близко подби-
305
рается к ней. Сама она означает единство
противоположностей, так же как силы
души — это проявление полярности. Ту
задачу, которую в области логики должна
выполнять арифметика — «вынырнув из
области становящегося, постигать
сущности» (525 Ь), — в душевной сфере
выполняют «катарсис» и «божественное
безумие». «Очищение», которое все душевные
органы проходят благодаря особой
«науке» («Государство», 527 е), душа проходит
через «очищение» смертью. Достигнуть
высот за пределами того «восхождения»,
которое в «Государстве» совершает
диалектика (517 Ь), в «Федоне» помогают
«крылья души». То, что «с трудом едва»
достигается в «Государстве» в качестве
предельной точки этого подъема (517 d—с),
в «Федре» уподобляется борьбе, падению
и бессилию. То же «припоминание»,
которым в «Меноне» объясняется
априорность математических понятий,
представлено в эсхатологических мифах «Федра»
и «Государства», а также и в мифическом
прологе и интермедии самого «Менона»
как живущее в душе сознание ее перво-
306
начальных истоков. То же самое
«обращение» зрения от «чувственного» к
«сущему», от «нижнего» к «верхнему», от
«тьмы» к «свету», которое в «Государстве»
описывается как нечто достигаемое
благодаря «науке» (521 с, 524 с, 527 b и т. д.),
в «Федоне» предстает как результат всего
диалога, достигнутый не только
средствами диалектического доказательства, но
и силою души — как нечто достигаемое
благодаря мифу. То, что в других
случаях означает борьба и соотношение между
мышлением и реальностью, здесь
означает противостояние и соотношение между
душевным и логическим, мифом и
диалектикой; в сфере идеального — отношения
между идеей и душой и идеи с
логико-диалектической экспонентой. Как любое
число в зависимости от экспоненты означает
плоскость или тело, так и идея
представляет то единство познания, то прообраз и
источник. Единицей в этой двойке
остается тайна живого, то, что «не может быть
выражено в словах, как остальные науки;
только если кто постоянно занимается
этим делом и слил с ним всю свою жизнь,
307
у него внезапно, как свет, засиявший от
искры огня, возникнет в душе это
сознание и само себя там питает» (Письмо 7,
341 c-d).*
Итак, как же миф трактует идею?
Чувственные вещи указывают на чистые
формы. Но чистые формы в то же время
выступают в качестве нормы. Несовме-
щающееся, несовпадающее в отношениях
между чувственными вещами и нормами
познания, мнимым и истинным знанием,
отдельными добродетелями и идеей добра
и т. д. выражается в отставании,
недотягивании, не более чем причастности, ибо
быть причастным не значит обладать; или
же — в качестве «припоминания» в
стремлении вернуться обратно в высшую
область, от которой вещи получают питание.
Чистая форма всегда означает должное
или желаемое. Но это желаемое в душе
уже представляет собой шаг к мифу.
И чувственное явление, человек, мир и
все, что в нем есть, во всем в то же время
представляет собой несовершенство: как
несовершенством является отраженный
* Перевод С. Кондратьева.
308
отблеск по сравнению с источником света.
Но и несовершенство души, ее бессилие,
тоже есть первый шаг к мифу. Мы
познаем вещи только тогда, когда воспринимаем
присущую им направленность, интенцию,
их «причастность». И познаем лишь
постольку, поскольку природа вещи
пробуждает в нас тягу вернуться от того, что при-
частно, чтобы приблизиться к тому, чему
они причастны. Возвращаясь, мы
начинаем видеть двойным зрением. Один глаз
видит вещи черными и тяжелыми, какими
они являются, другой же наш глаз,
просветленный, воспринимает очерчивающий
их идеальный свет: незримое присутствие,
парусия идеи в вещи — третий шаг к мифу.
Зачатки мифа содержатся как в идее, так
и в познании и в предмете восприятия.
Но это отнюдь не значит, что самой идее
свойственно что-то мифическое: если бы
она была мифической, то миф перестал бы
быть мифом, символом: так же как если бы
она имела логический характер, то логика
перестала бы быть наукой. Идея — это то,
что отворяет и наполняет жизнью все, что
иначе оставалось бы мертвящим
кружением в порочном круге.
309
В продуктивном «долженствовании»
созерцание и творчество составляют
единство. Это долженствование носит не
только этический характер, этическая сторона
представляет здесь скорее частный
случай. Точно так же, как, с другой
стороны, «чистота» идеи и отсутствие в ней
чувственного начала представляет собой
не только логическую и не только
метафизическую чистоту, чисто логическое
представляет как бы также частный
случай такого долженствования; «катарон» —
«чистый» — слово того же корня, что
«катарсис»: объективному «чистому бытию»
в душевной сфере соответствует катарсис
как вызванное им воздействие. Идея блага,
к которому «стремится любая душа» и
которая самому бытию придает истинность
и умопостигаемость, снова выступает как
экспонента того же должного, которое
изначально задано каждой идеей как
условие какого бы то ни было «чистого бытия».
Как только это должное было
перечеркнуто, идеи Платона стали бесполезными и
ненужными. Если Аристотель «превратно
понял» идеи Платона — ибо сказать, что
он их не так понял, нельзя, — то причина
310
здесь в том, что это такая вещь, которая
у тебя либо есть, либо ее нет (Письмо 7).
Еще в те времена, когда ученик следовал
по стопам учителя, между ними уже были
расхождения по первому вопросу —
вопросу о бытии. Душа расщепляется, как
целое она уже не зависит от бытия. Теперь
этика отделяется как особая дисциплина.
Человек распадается на «практического»
и «теоретического» человека. Когда
должное отделяется от сущего, «теория» тут же
отделяется от всякого «целеполагания»,
превратившись в чистое, бескорыстное
созерцание. Удовольствие, которое ум
извлекает из собственной энергии. Формы
тем самым превращаются в ограничения
и определения; форма и содержание,
мышление и реальная действительность,
понятие и предмет отделяются и вместе с тем
замыкаются; гений формы, взору которого
форма растения раскрывается так же, как
форма суждения выстраивает свой мир.
Космос Аристотеля замыкается в своих
границах и выставляет за дверь идею
Платона. Иными словами: он приобретает
завершенную форму, уподобясь
Аристотелевой «теории».
311
«Если мы, покинув эту жизнь, могли
бы наслаждаться бессмертием на
Островах блаженных, для чего нам тогда
добродетели? Для чего нам храбрость там, где
не существует угроз? Справедливость там,
где уже нет желания чем-то завладеть?
Рассудительность — без вожделения?
Мудрость — без необходимости различать
добро и зло? Следовательно, мы были бы
счастливы уже одним созерцанием и
познанием природы: то есть тем, за что
признается блаженною жизнь богов». Так
пишет молодой Аристотель — Аристотель
времен диалогов, когда он еще
придерживался учения Платона об идеях —
однако надолго ли? Но достаточно сравнить
идеал аристотелевского познания с
созерцанием идей в «Федре»: там их
созерцание — это воспарение ввысь, достижение
цели, борьба и победа! У него же
созерцание — это энергия, которая (как
говорится в «Протрептике») вечно воспроизводит
себя собственными силами. Без
Аристотелевой «теории» невозможна ни
аристотелевская наука, ни аристотелевский метод.
Точно так же без созерцания изначального
источника, без «припоминания», без осоз-
312
нания «причастности», без неудержимого
стремления к первообразу не может быть
идеи в понимании Платона. Движение,
непрестанно происходящее в процессе
философского осмысления от чувственного
предмета к идеалу, от идеального образа
к чувственному предмету, это постоянно
повторяющийся путь то вверх, то вниз,
таково и движение платоновской души.
Только потому, что напряжение и
движение в философской проблеме совпадают
с движением души, диалектика способна
быть носителем мифа, а миф —
диалектики. Только потому это и возможно, что
то и другое развивается в одинаковых
ритмах.
Мифы — это питающие воспоминания,
«невероятные для умников, но
вызывающие доверие мудрецов». Если мы думаем,
что постигли всю премудрость, то мы
схожи с деревом, которое хочет быть только
кроной, без корней, сплошным настоящим
без прошлого, из которого происходит,
сплошной наукой без «припоминания».
Задача мифа — напомнить нам о наших
корнях; и все, что годится для такого на-
313
поминания, называется мифом или
служит ему заменой. Душа живет и умирает
вместе со своим прообразом, как вместе
с дриадой умирает дерево: миф — это дух
роста. Показать, как это относится к
Платону, и было нашей задачей. Но и сам
Платон тоже отображение первоначального
образа — мифа о сотворении мира: высшие
силы души сами совершили в нем свою
космогонию.
СОДЕРЖАНИЕ
Прокопенко В. В. Другой Платон Карла
Рейнхардта 5
Его время 122
Общество 144
Прорыв 159
«Протагор» 159
«Горгий» 165
«Пир» 177
Эсхатологические мифы среднего периода 209
«Федр» 210
«Федон» 229
«Государство» 240
Мифы позднего периода 252
«Политик» 252
«Тимей» 262
«Критий» 277
Миф и идея 295
315
Карл Рейнхардт
МИФЫ ПЛАТОНА
Утверждено к печати
Редколлегией серии «PLATONIANA»
Редактор издательства Т. Л. Ломакина
Художник П. Палей
Компьютерная верстка О. В. Новиковой
Подписано к печати 14.06.2019.
Формат 84 х 108 х/ъъ
Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.2.
Уч.-изд. л. 8.3. Тип. зак. № 1198.
Издательство «Владимир Даль»
196036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, 19
ООО «Аллегро»
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28