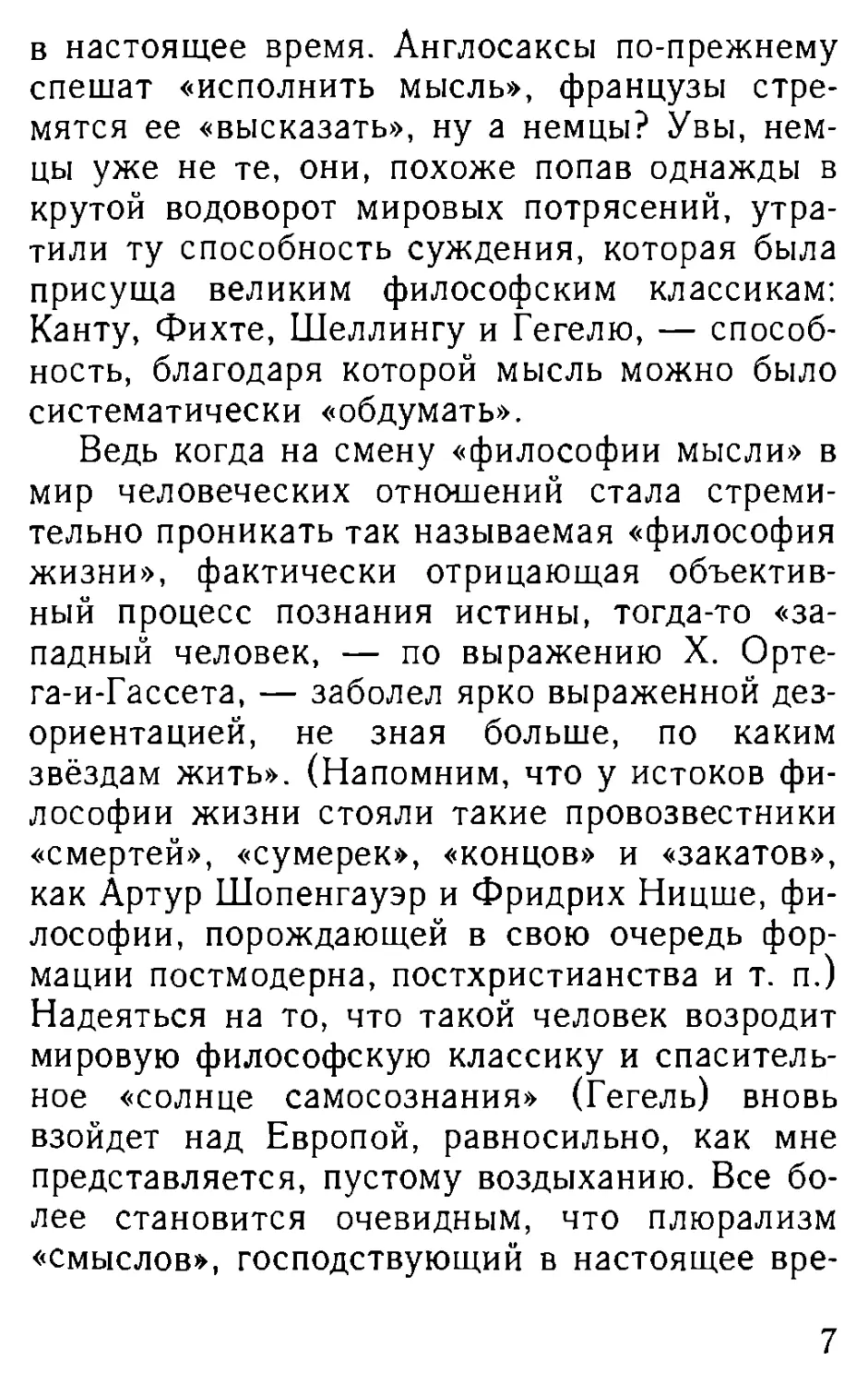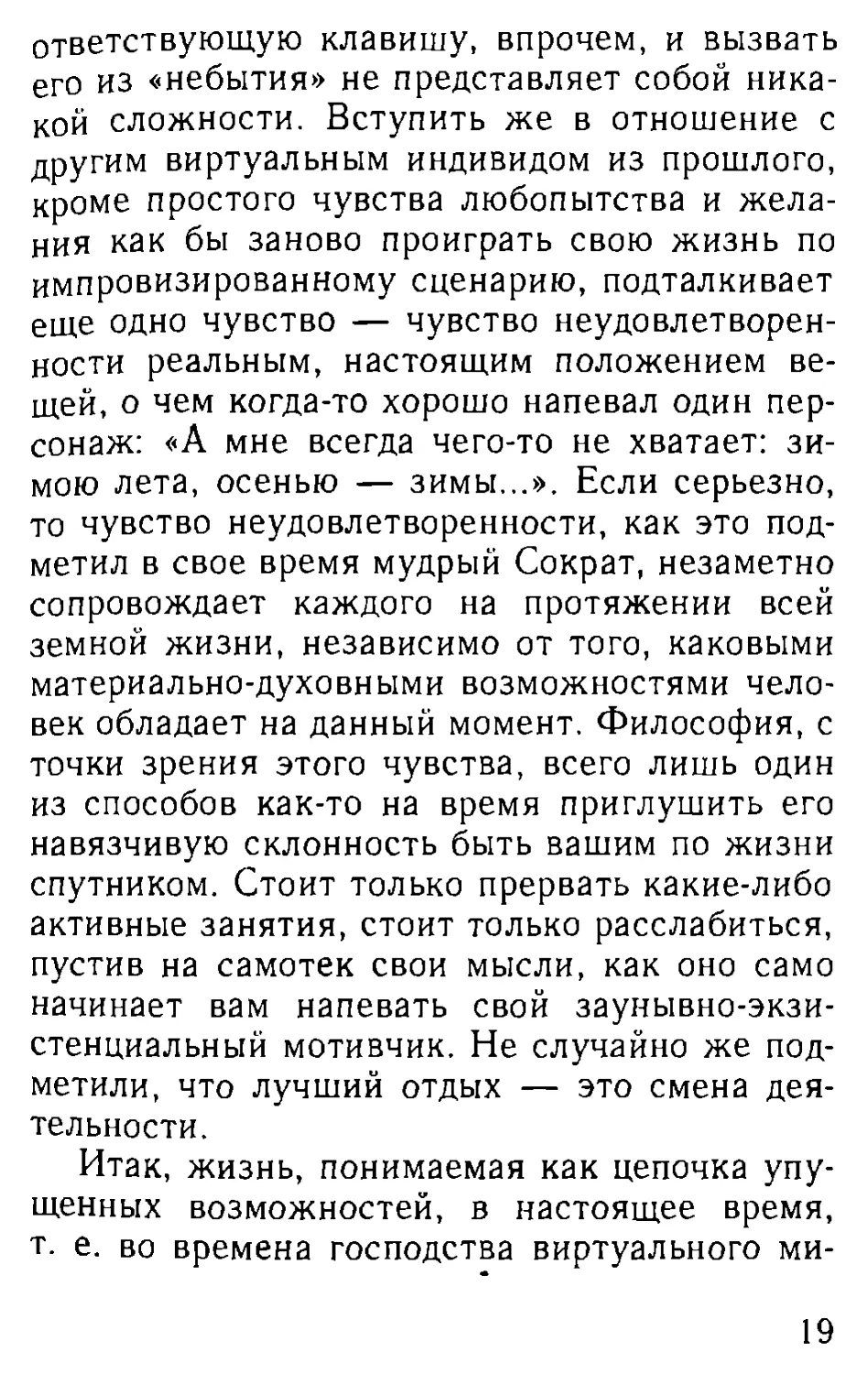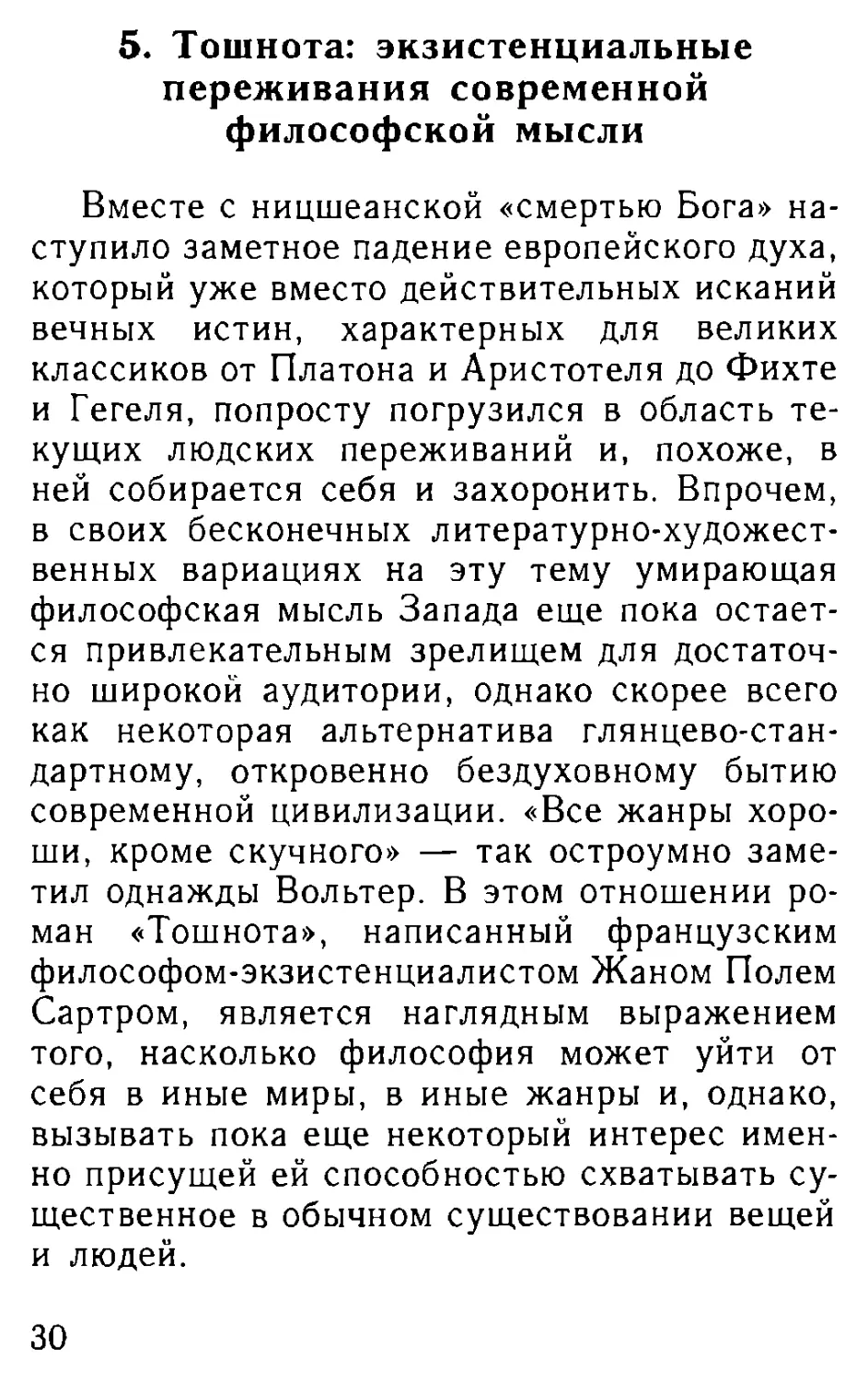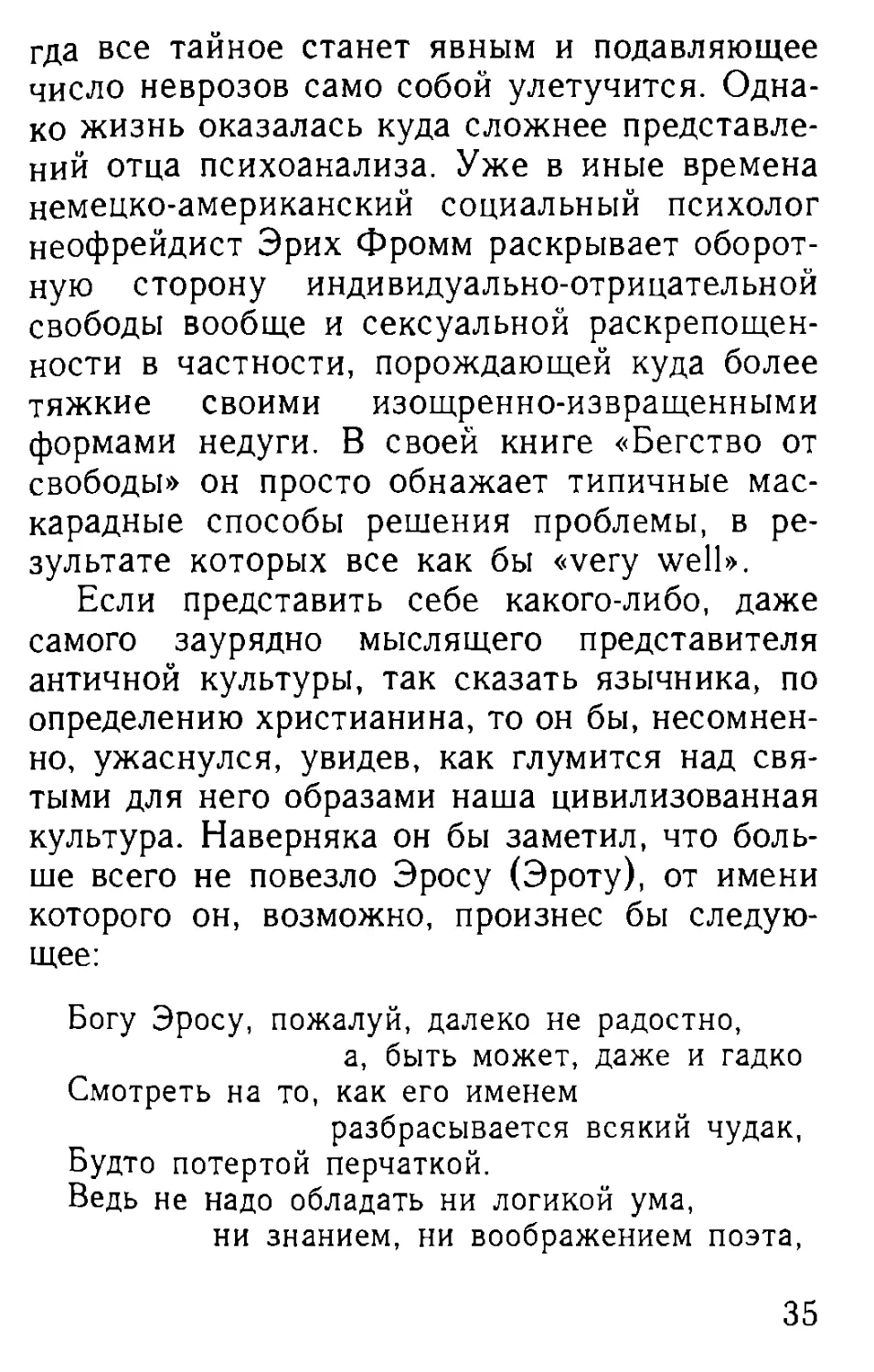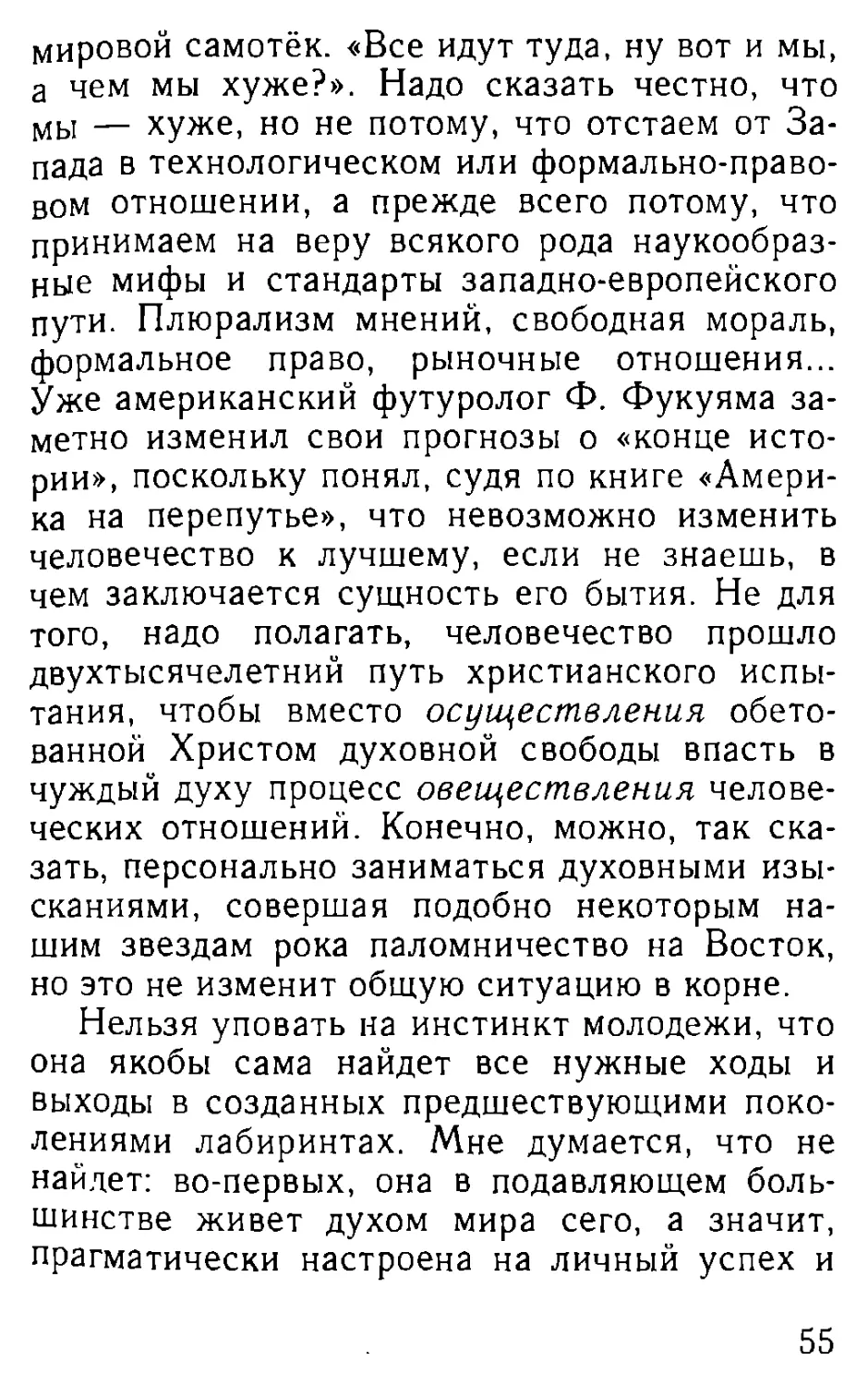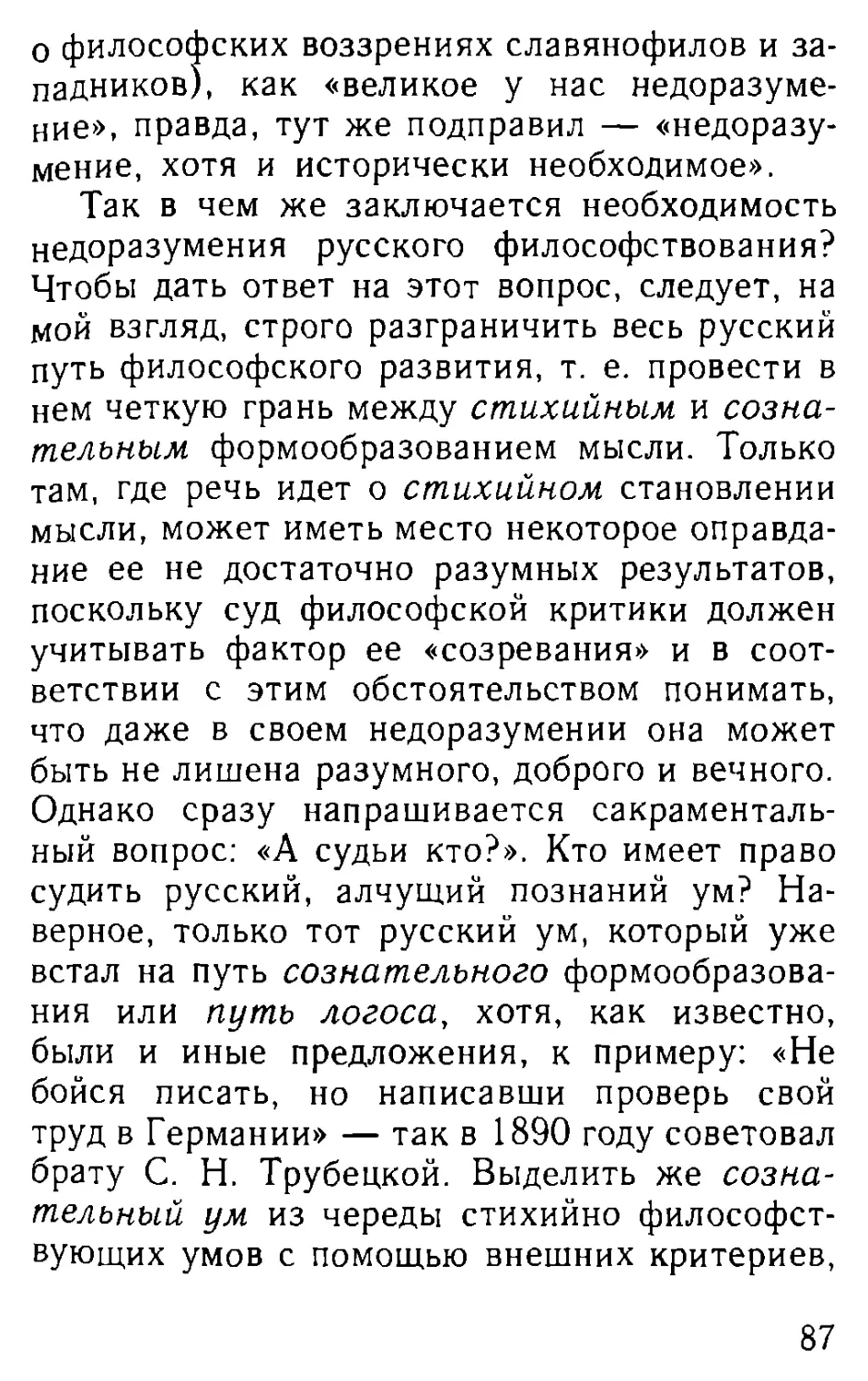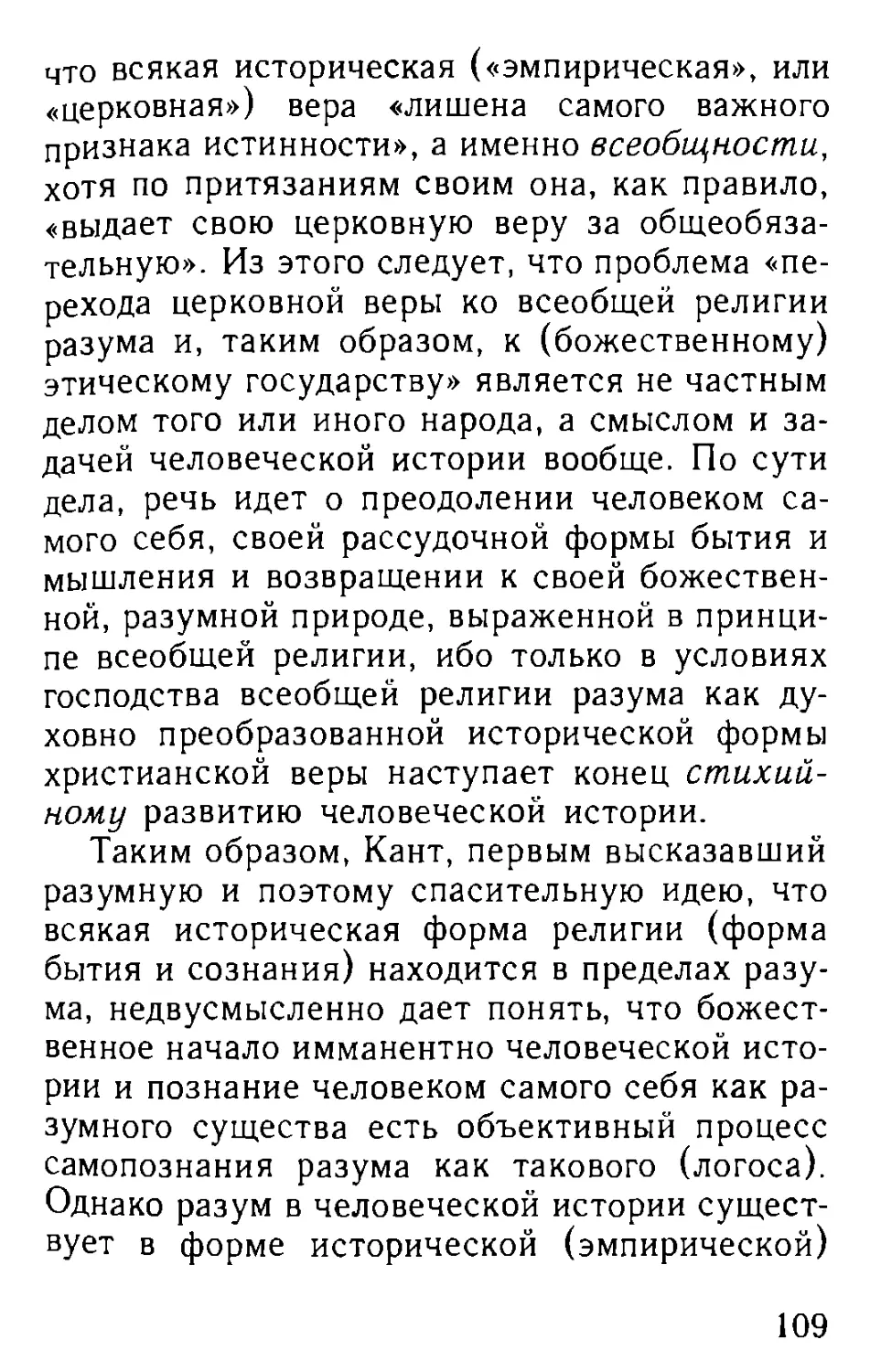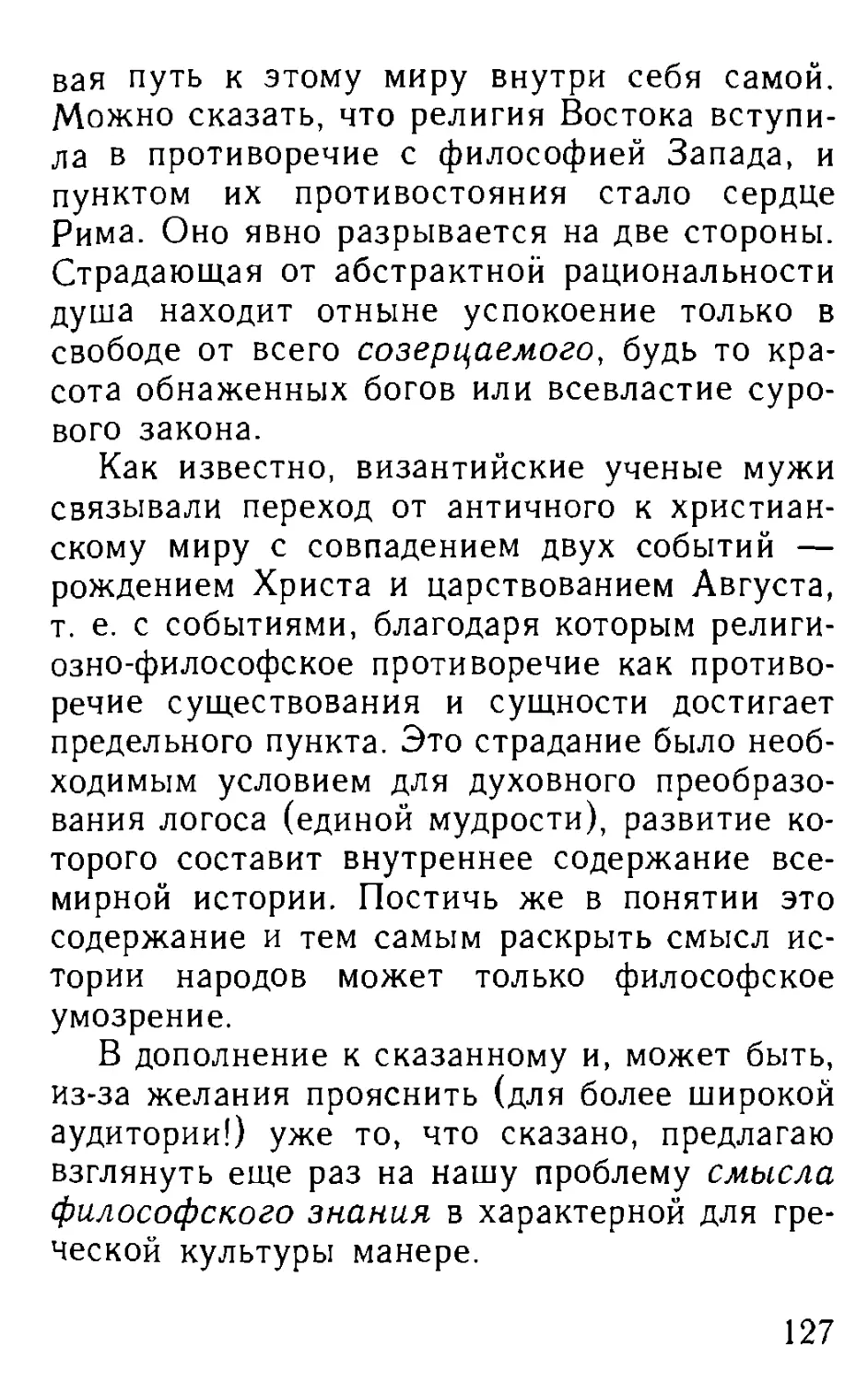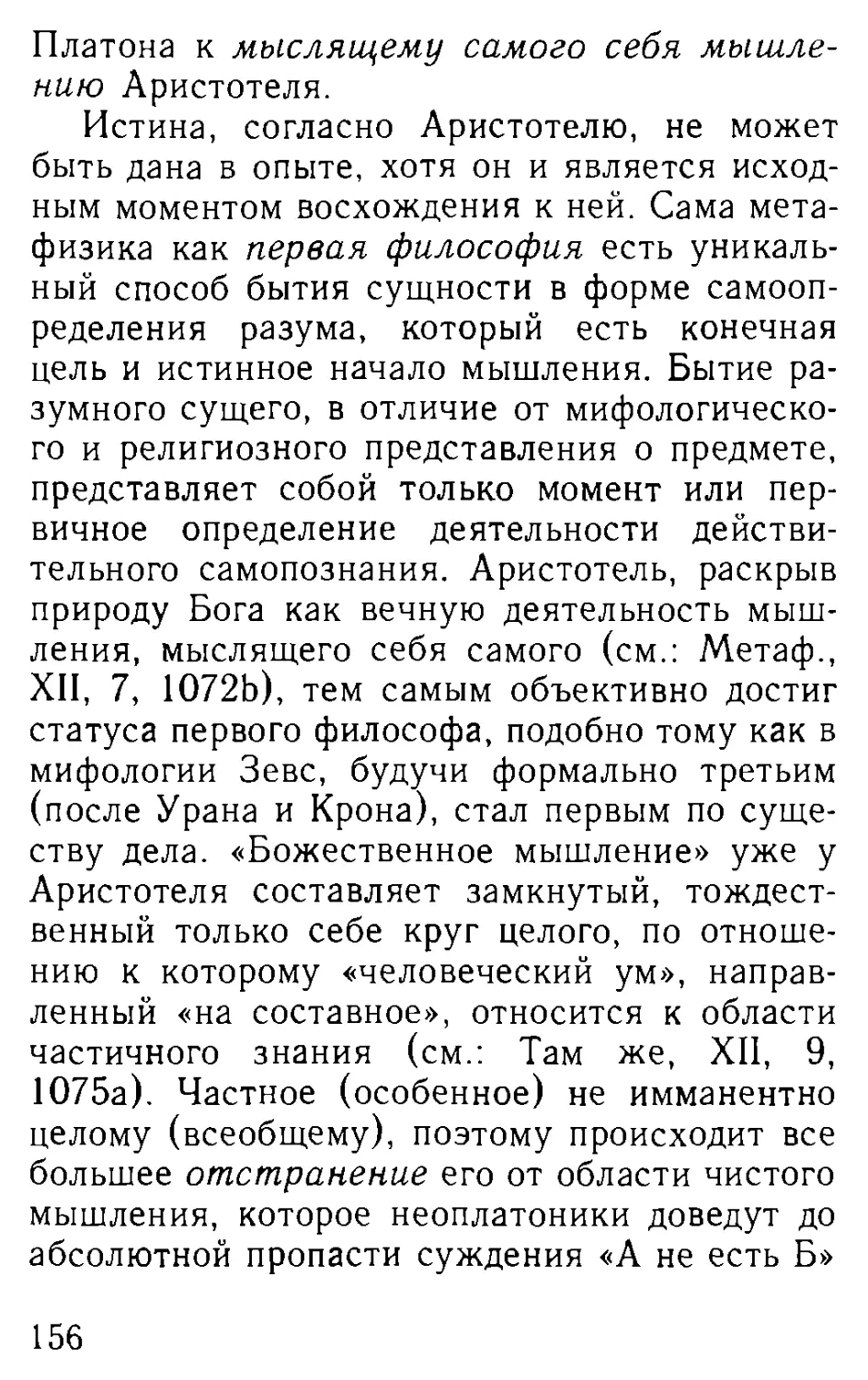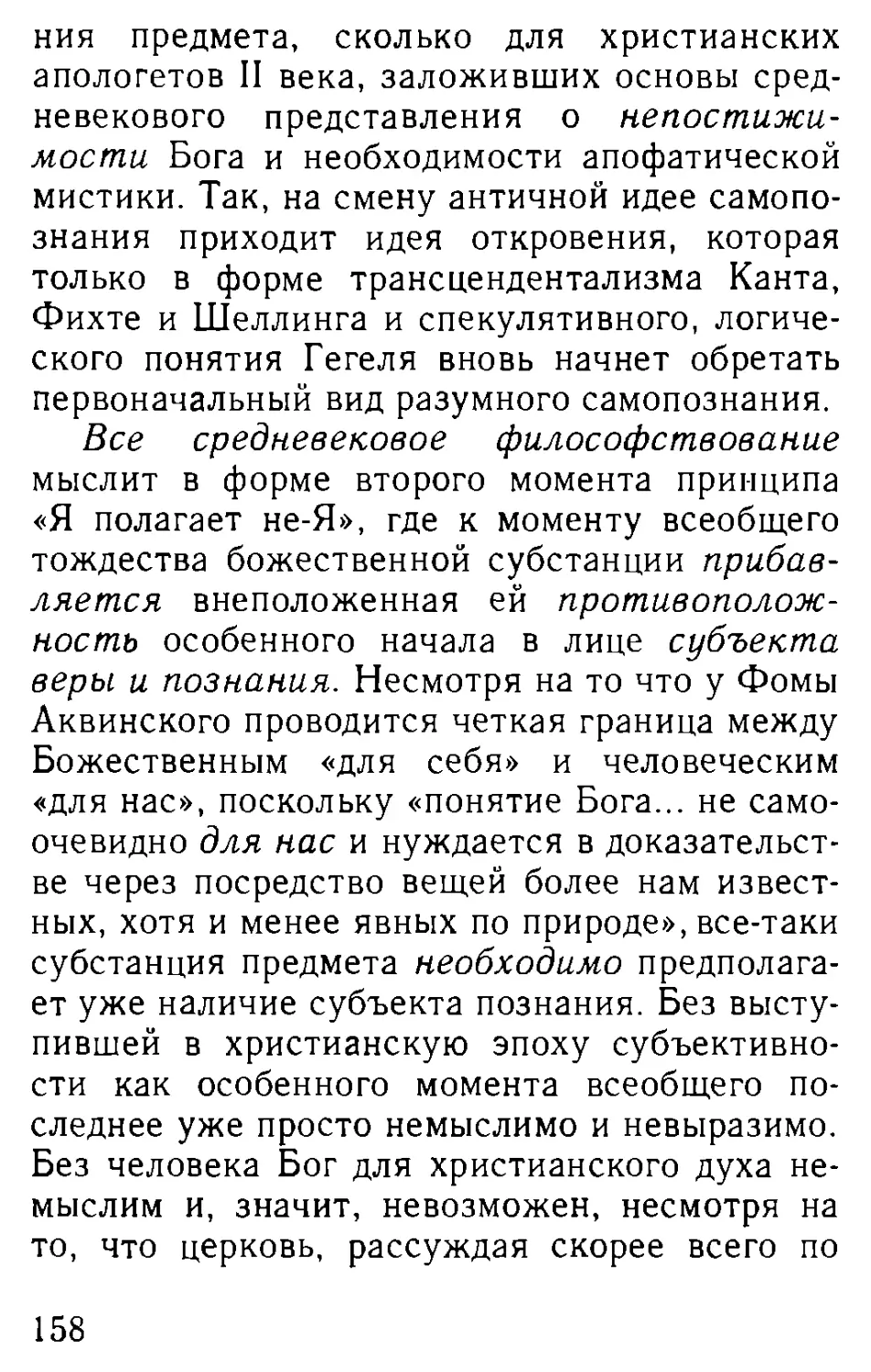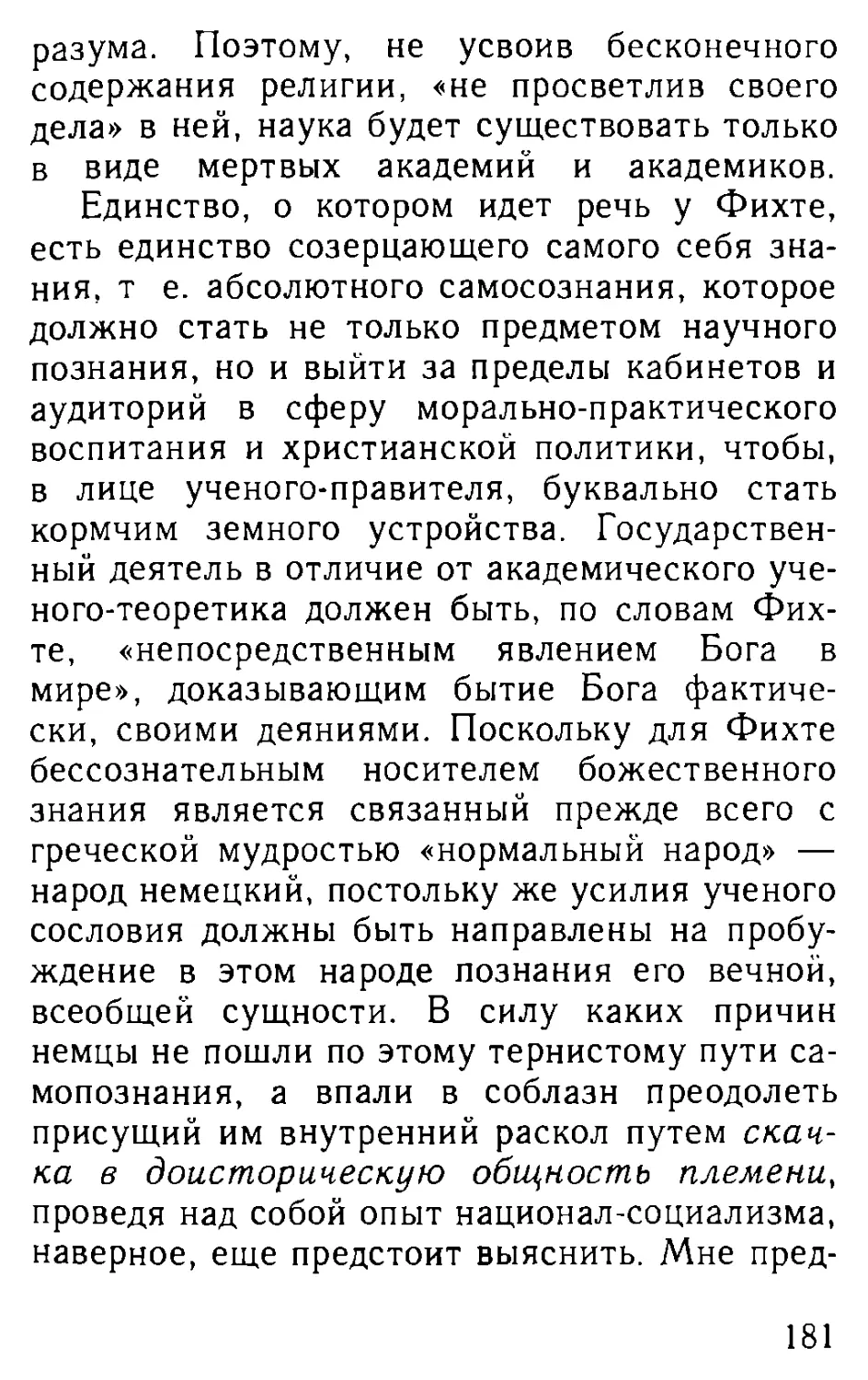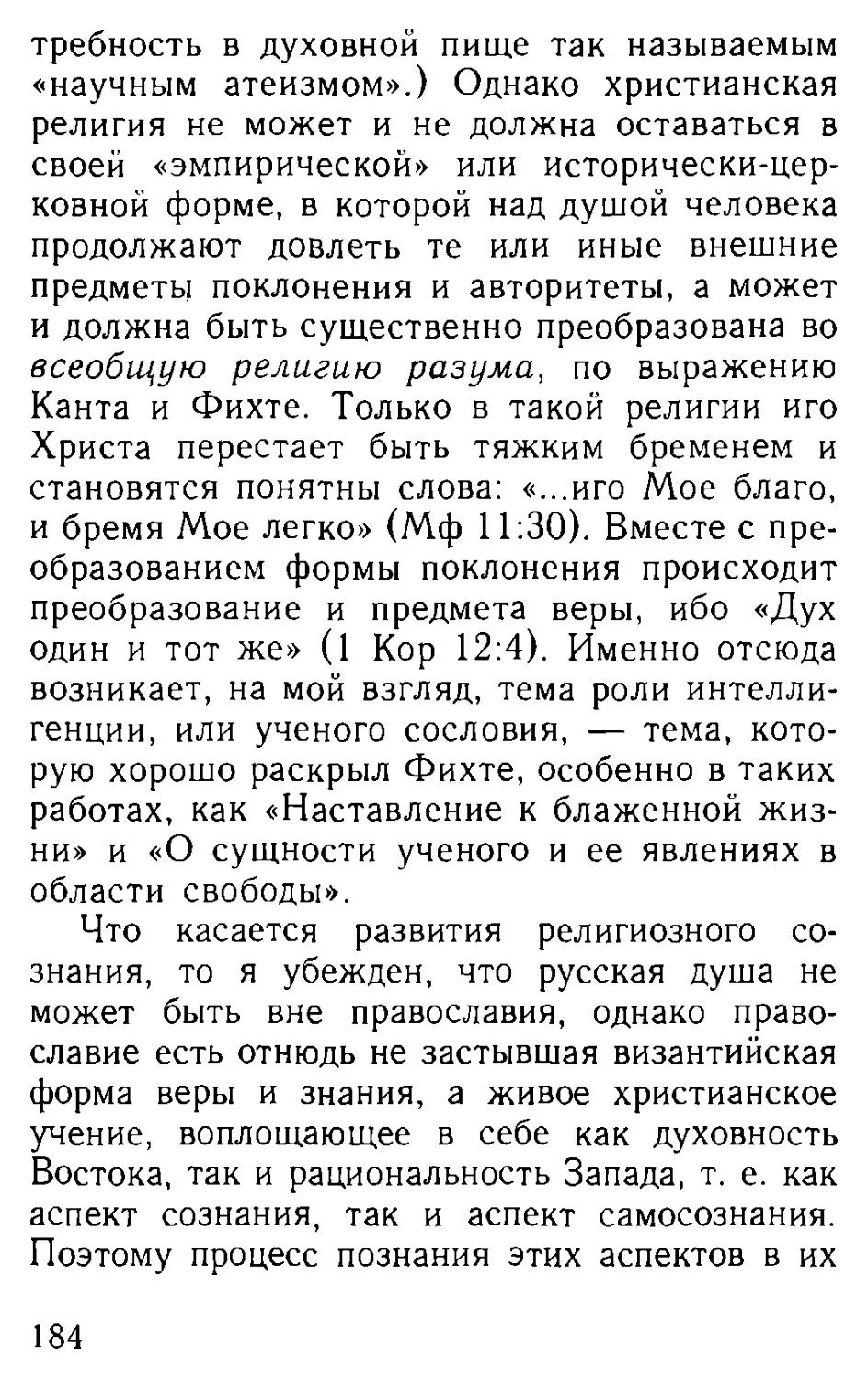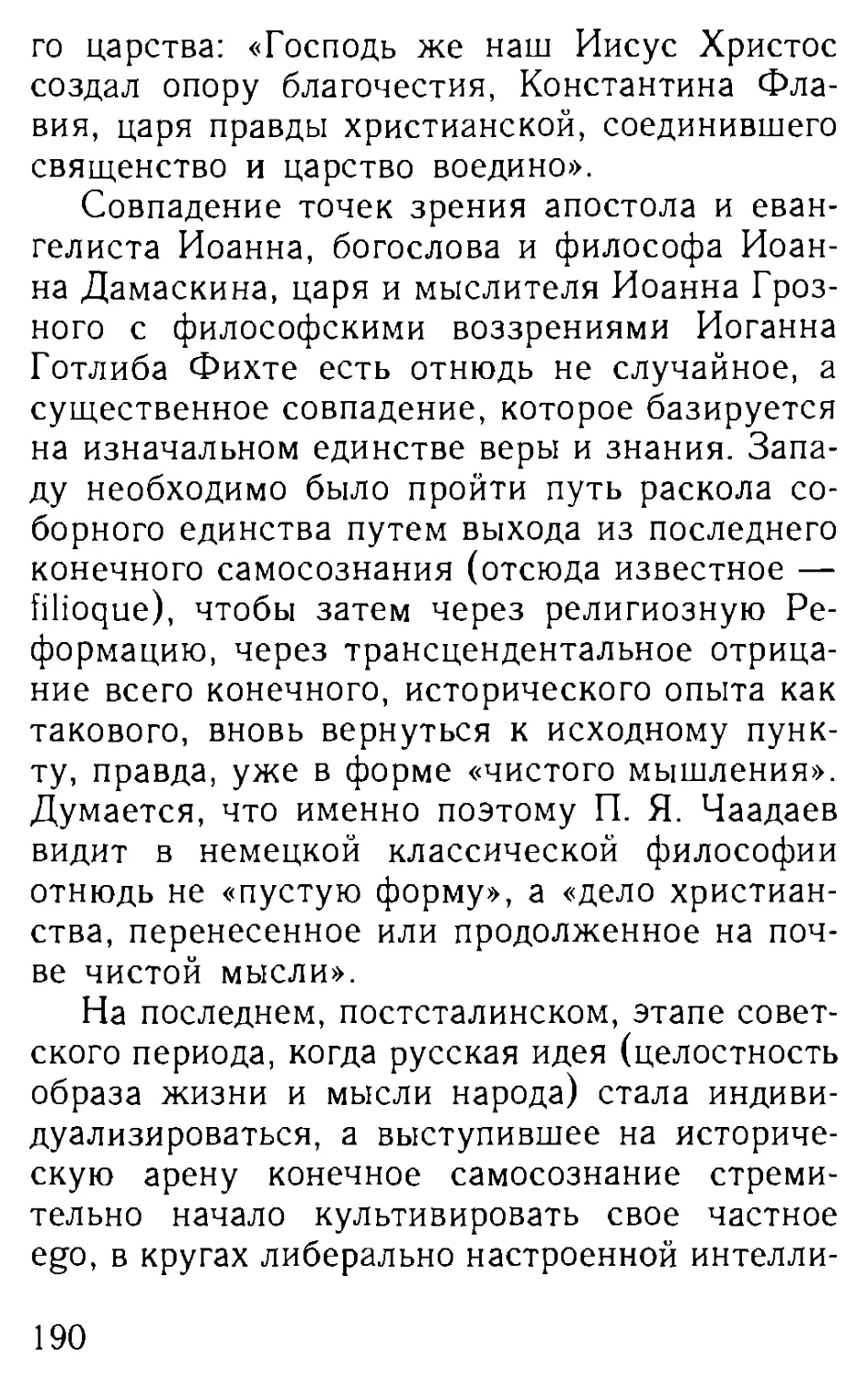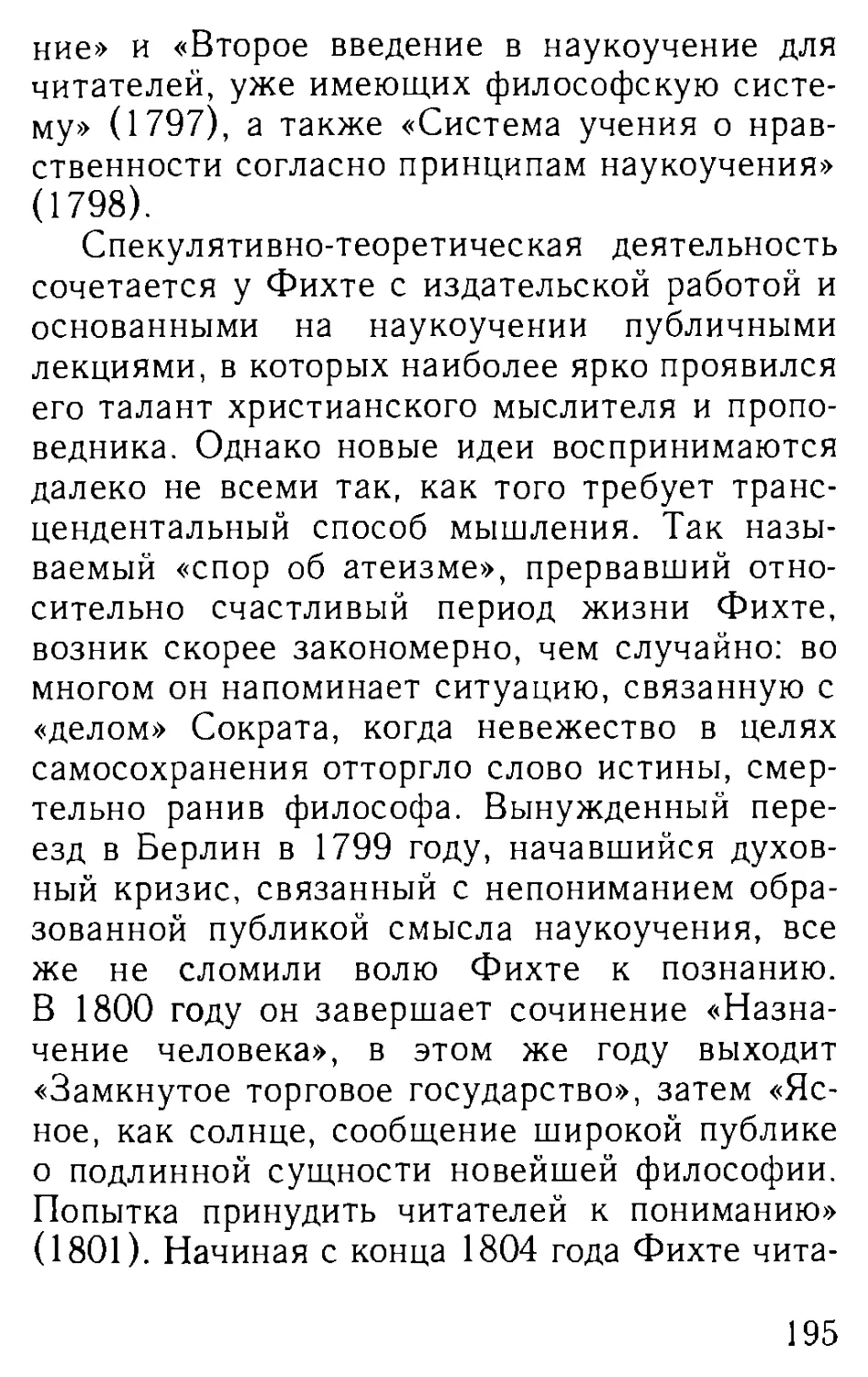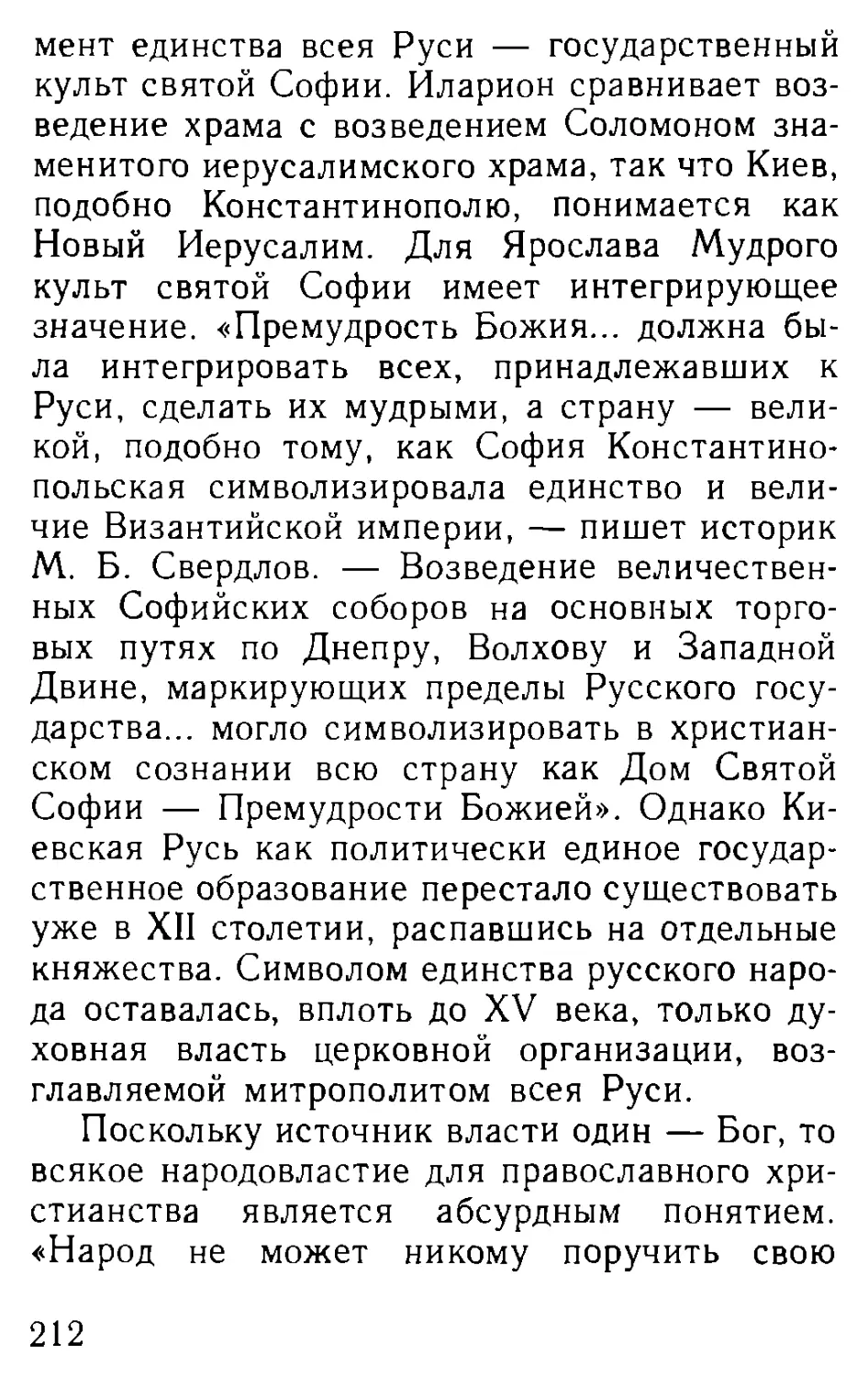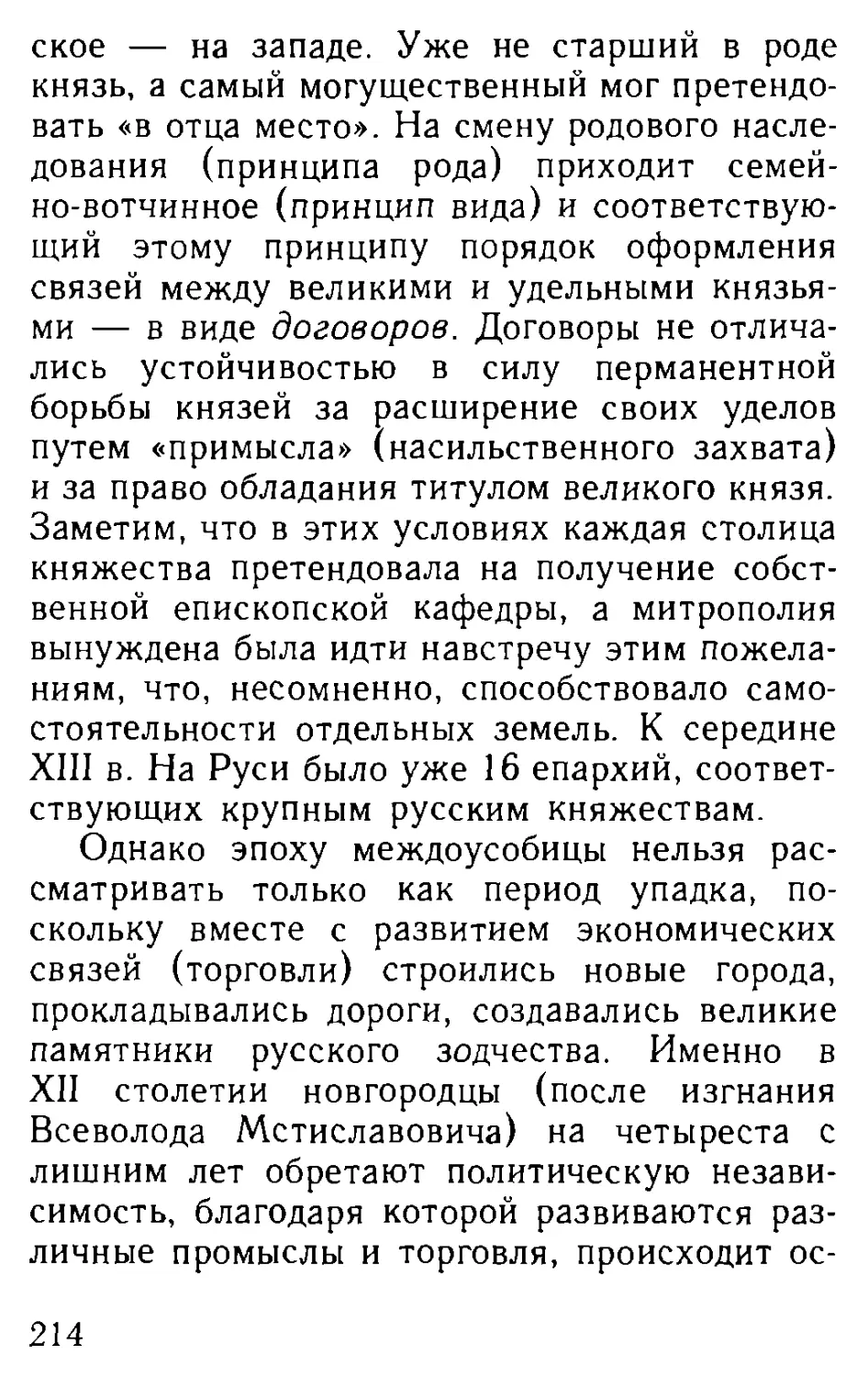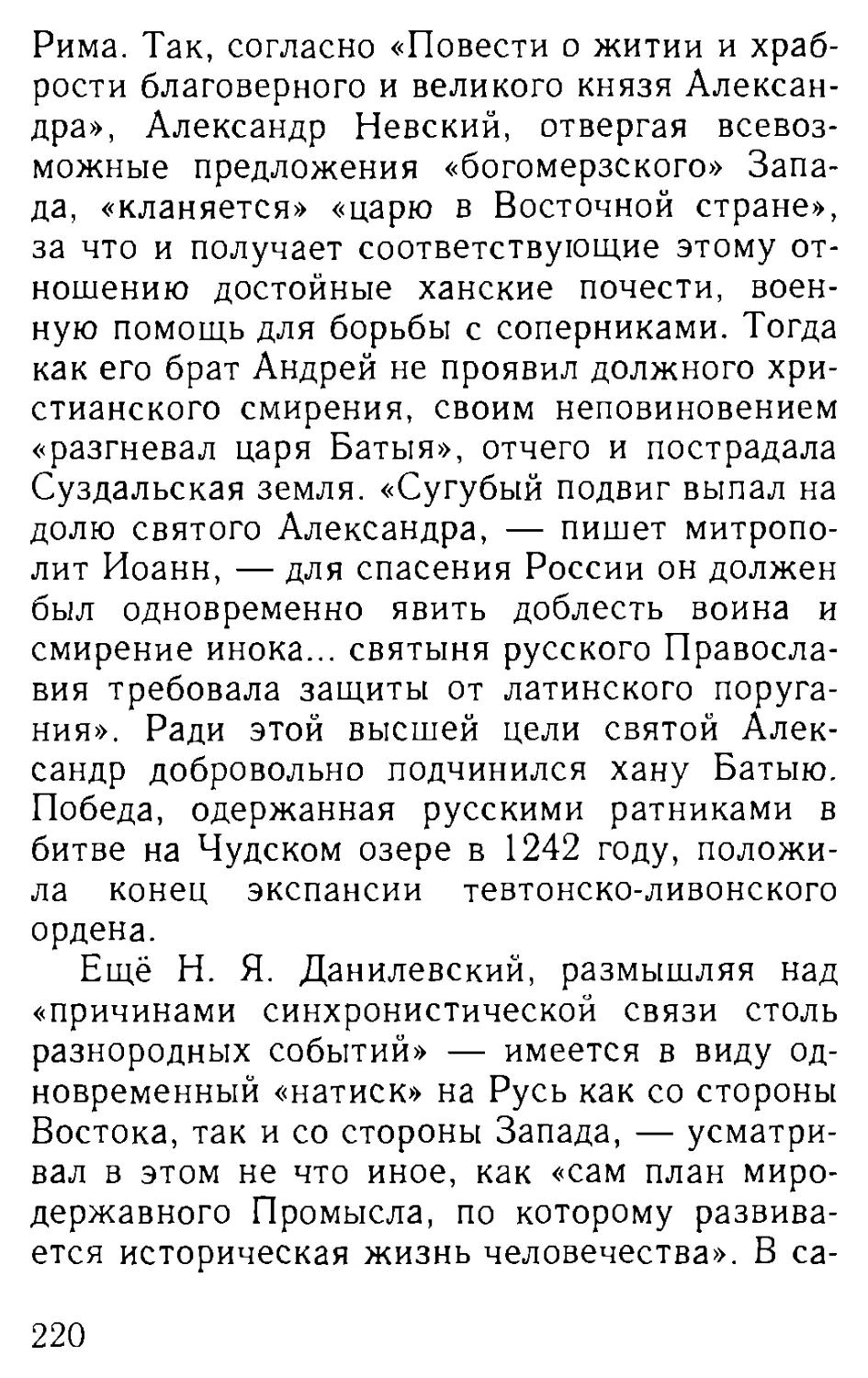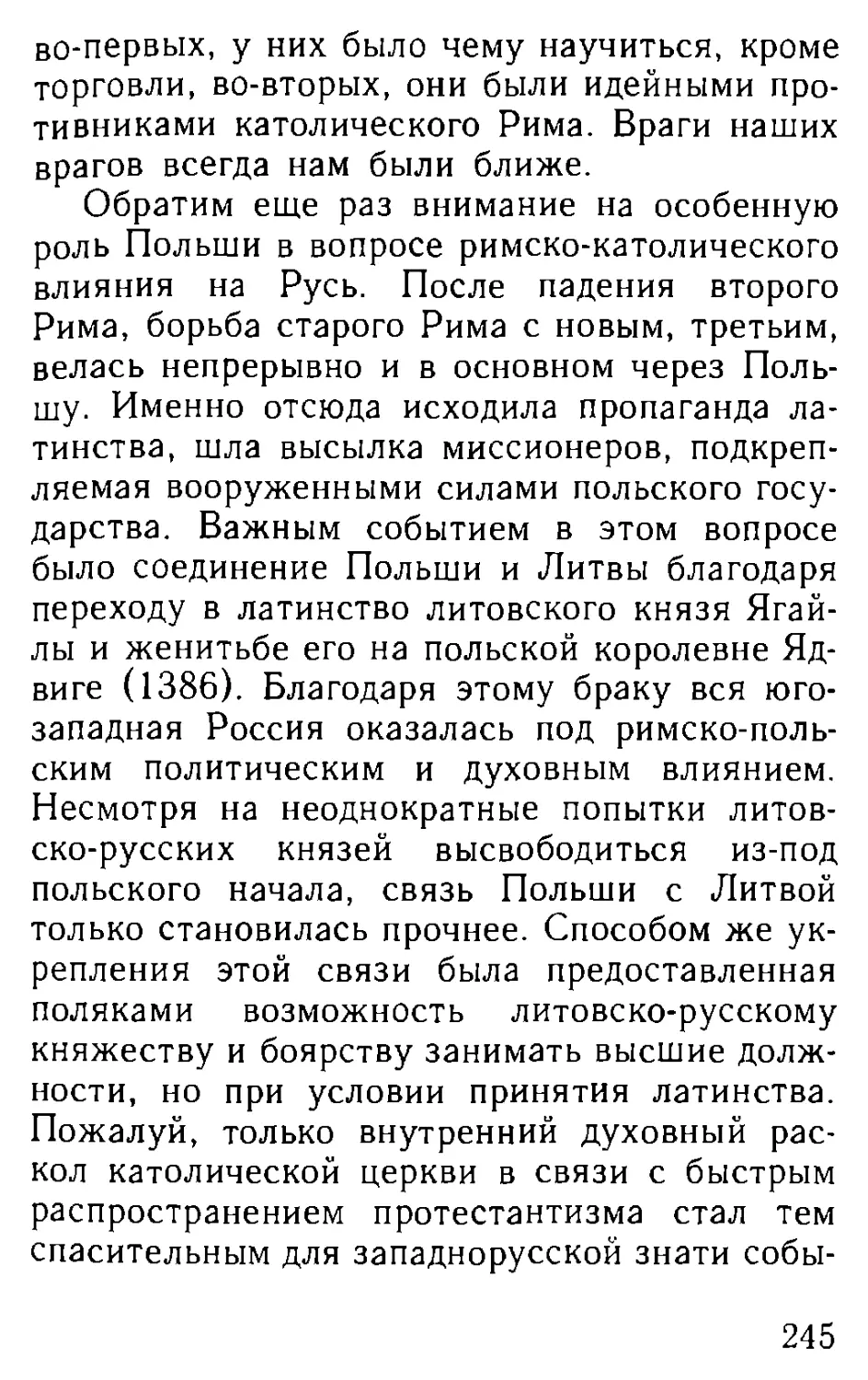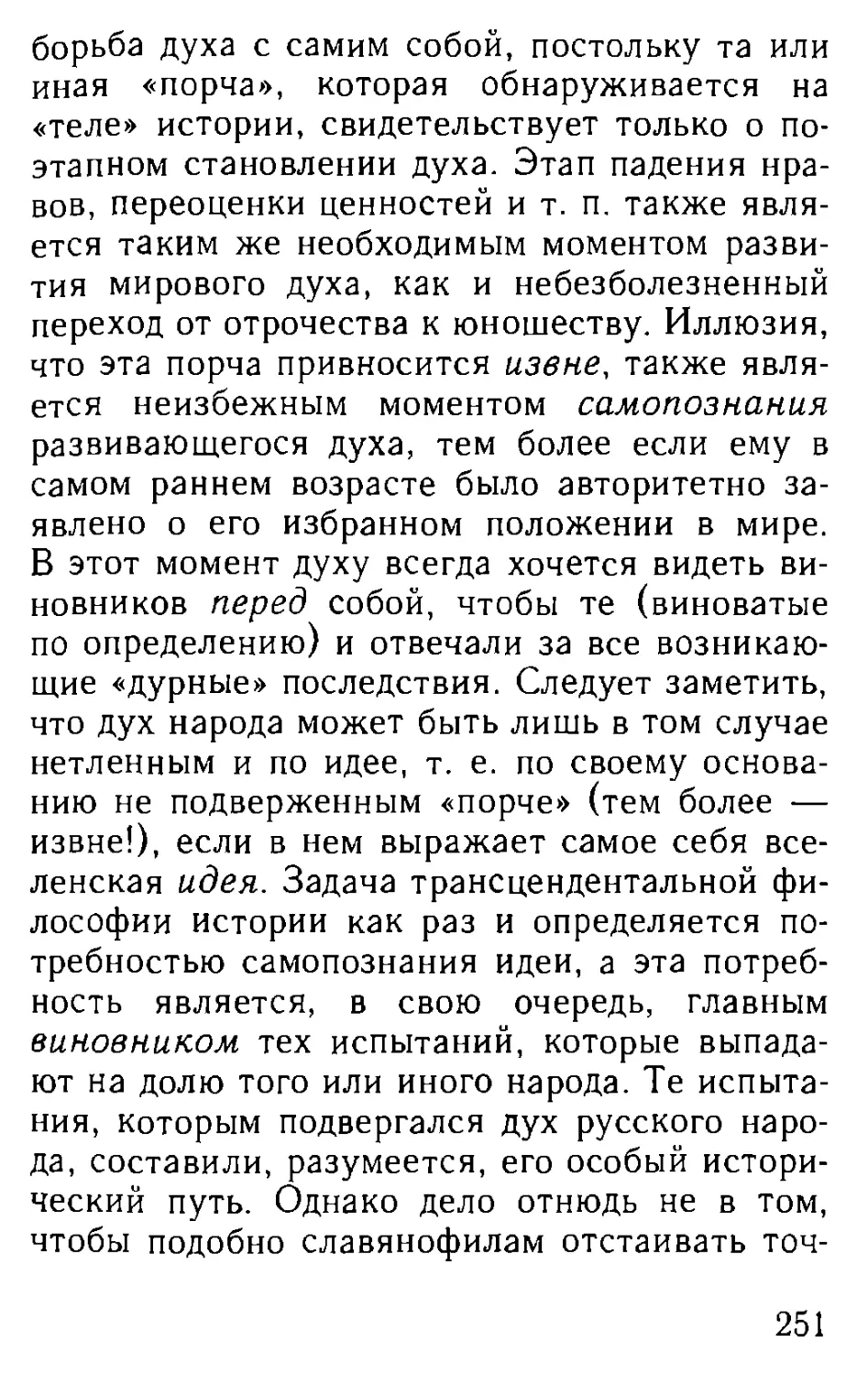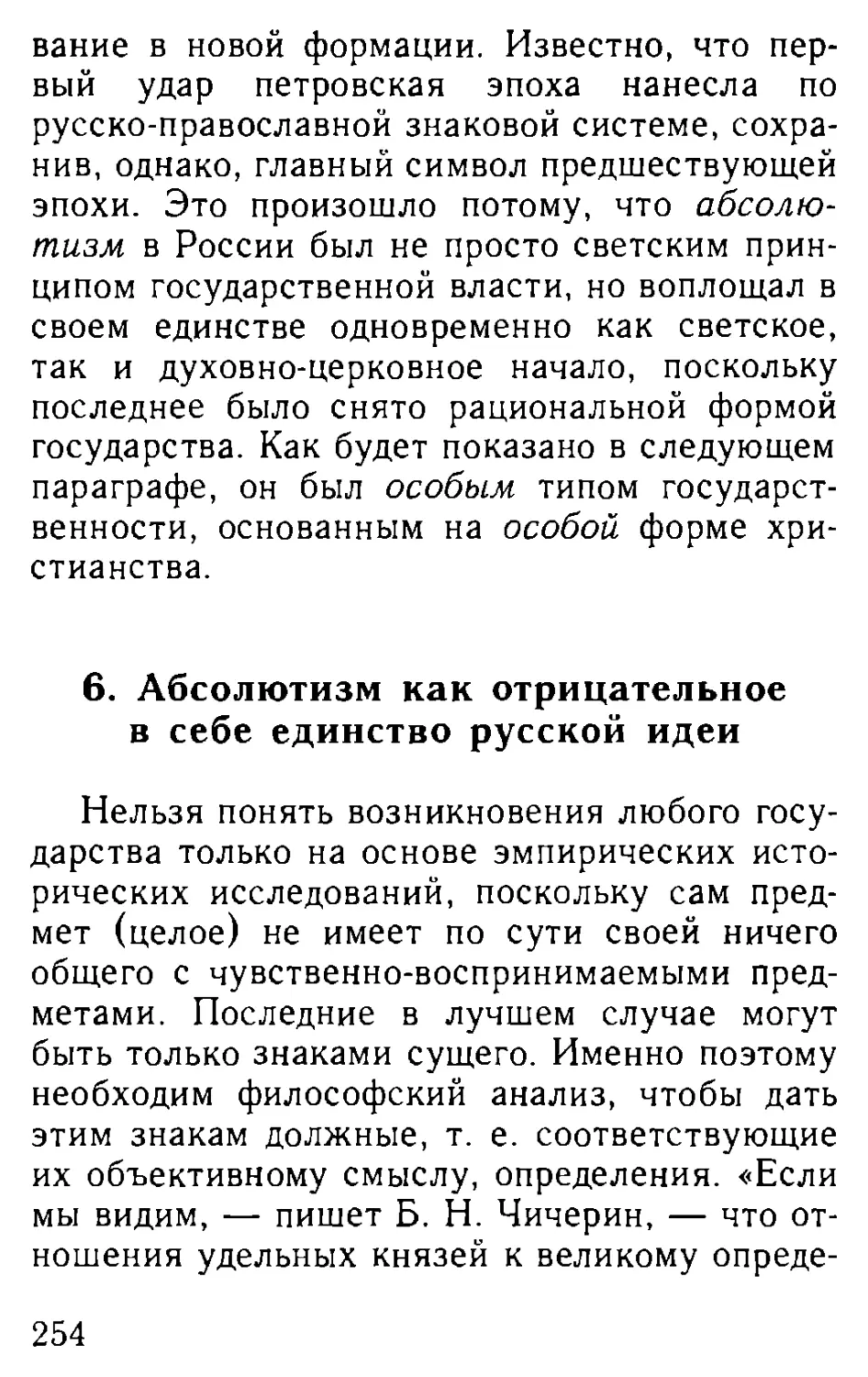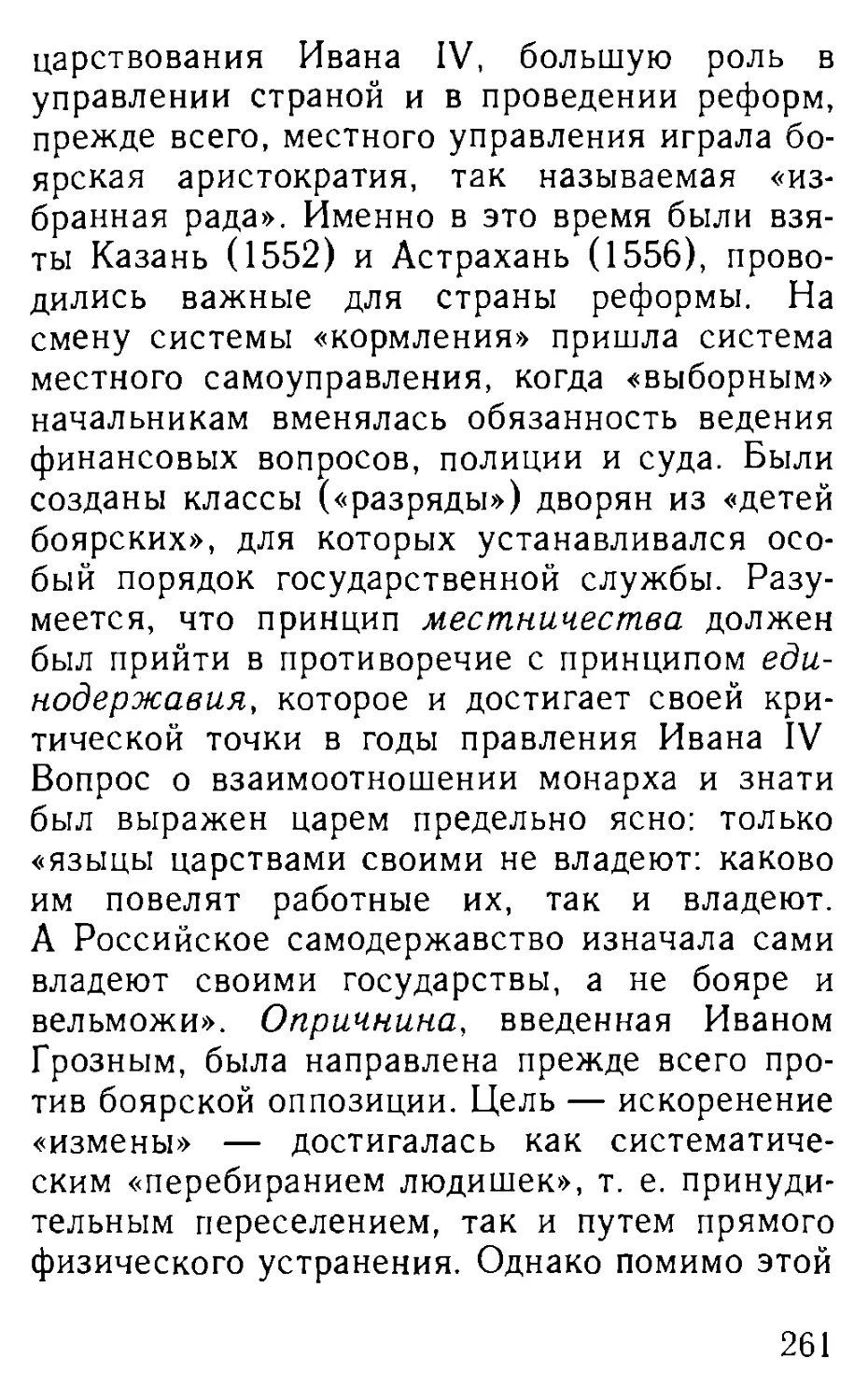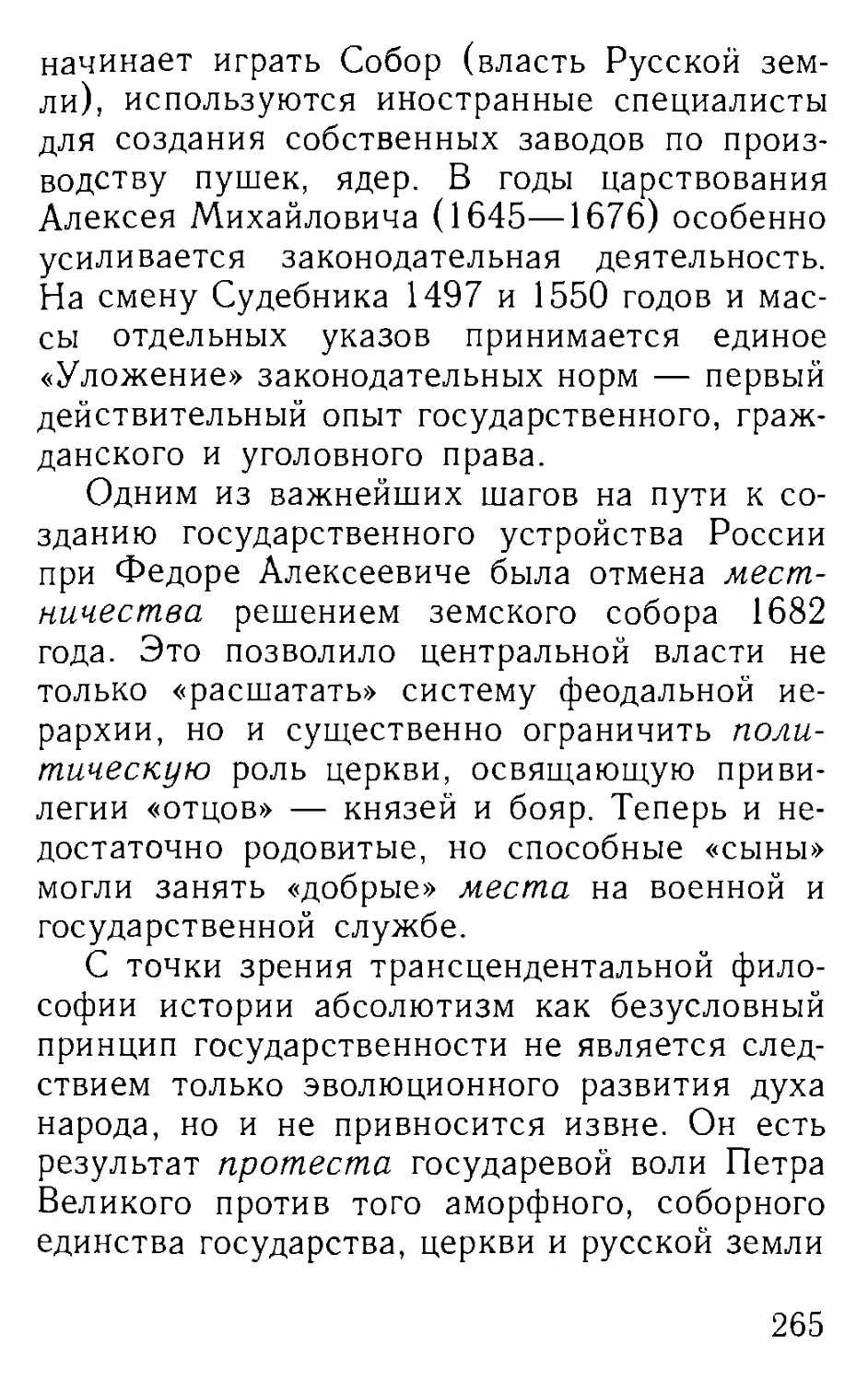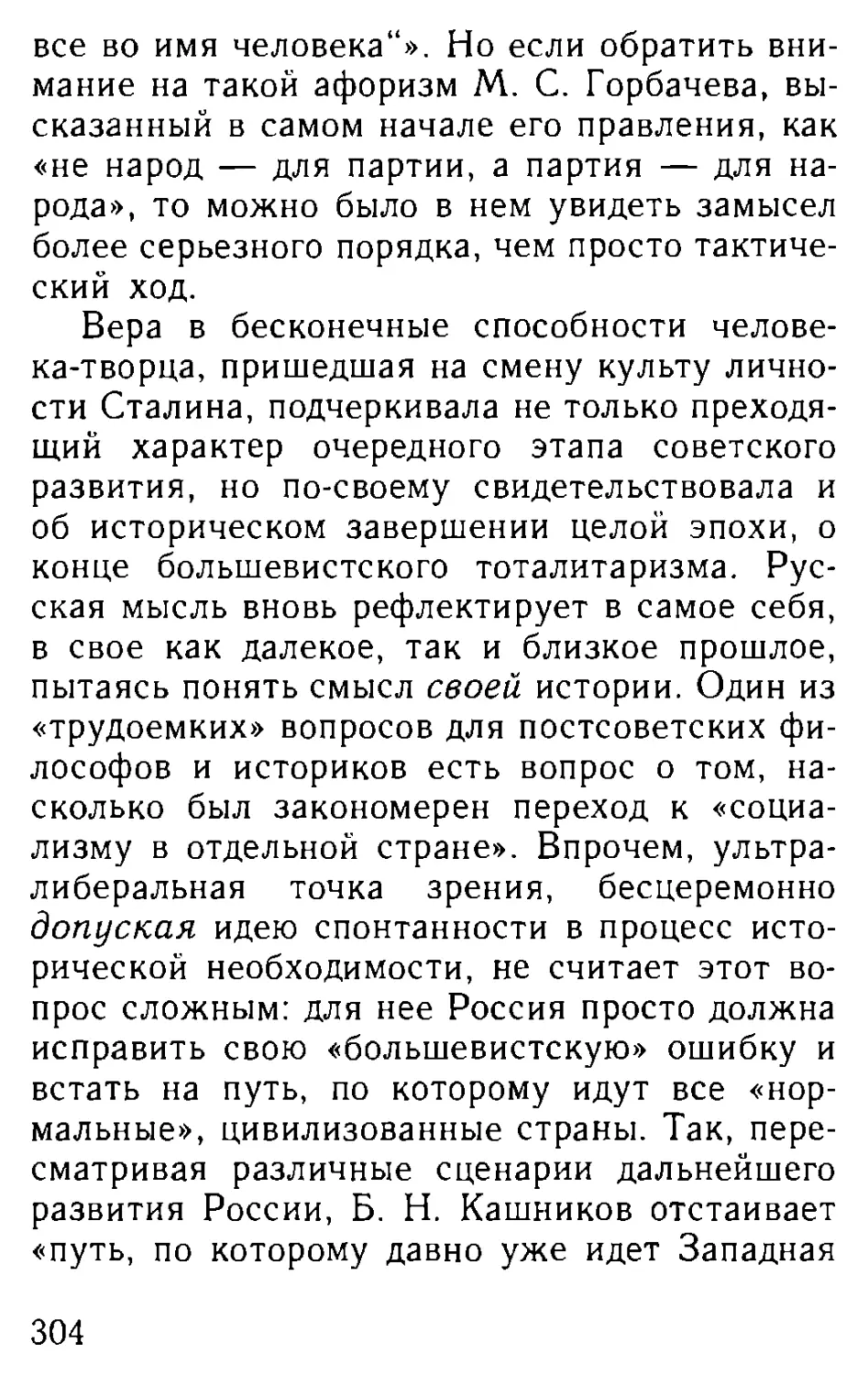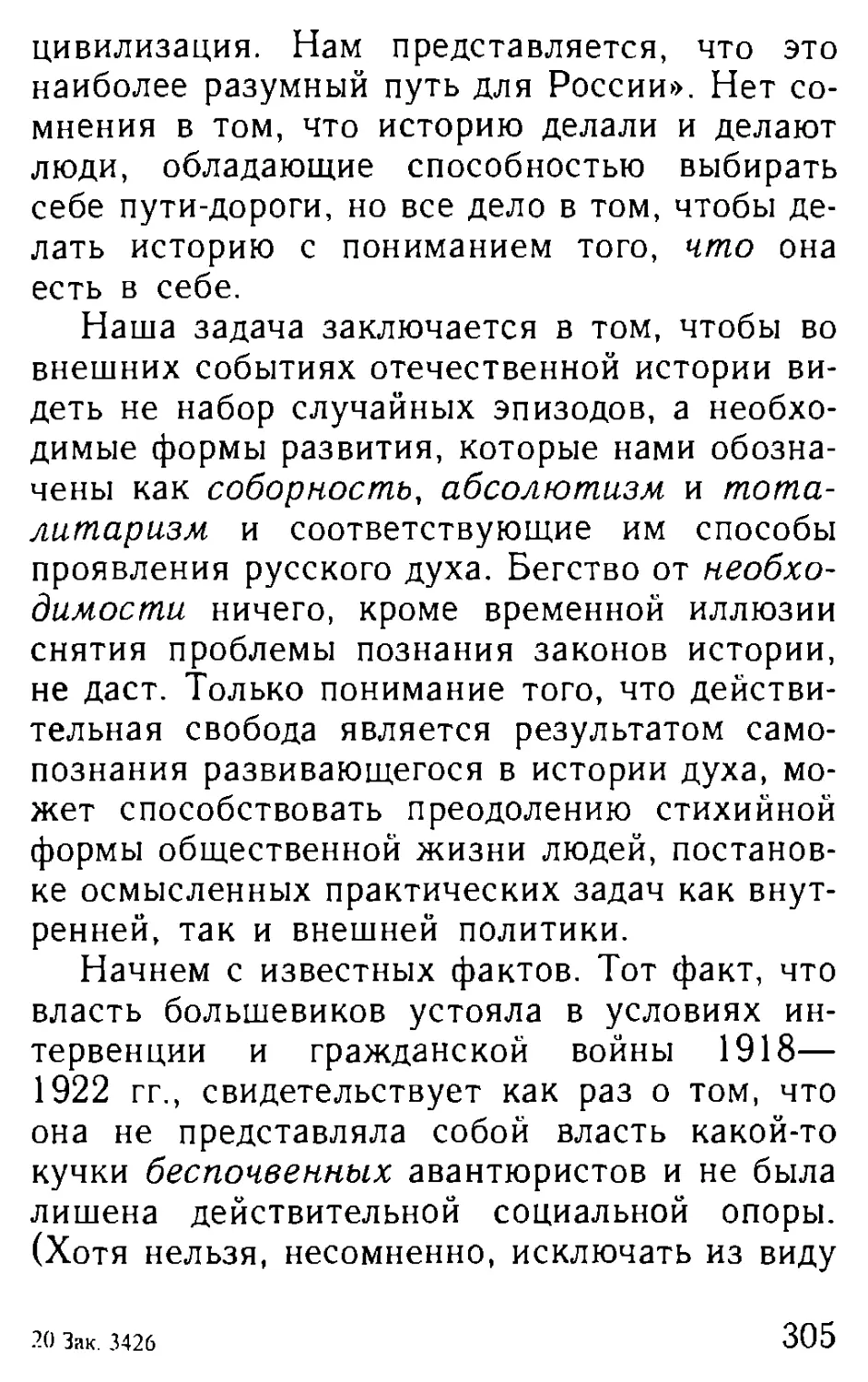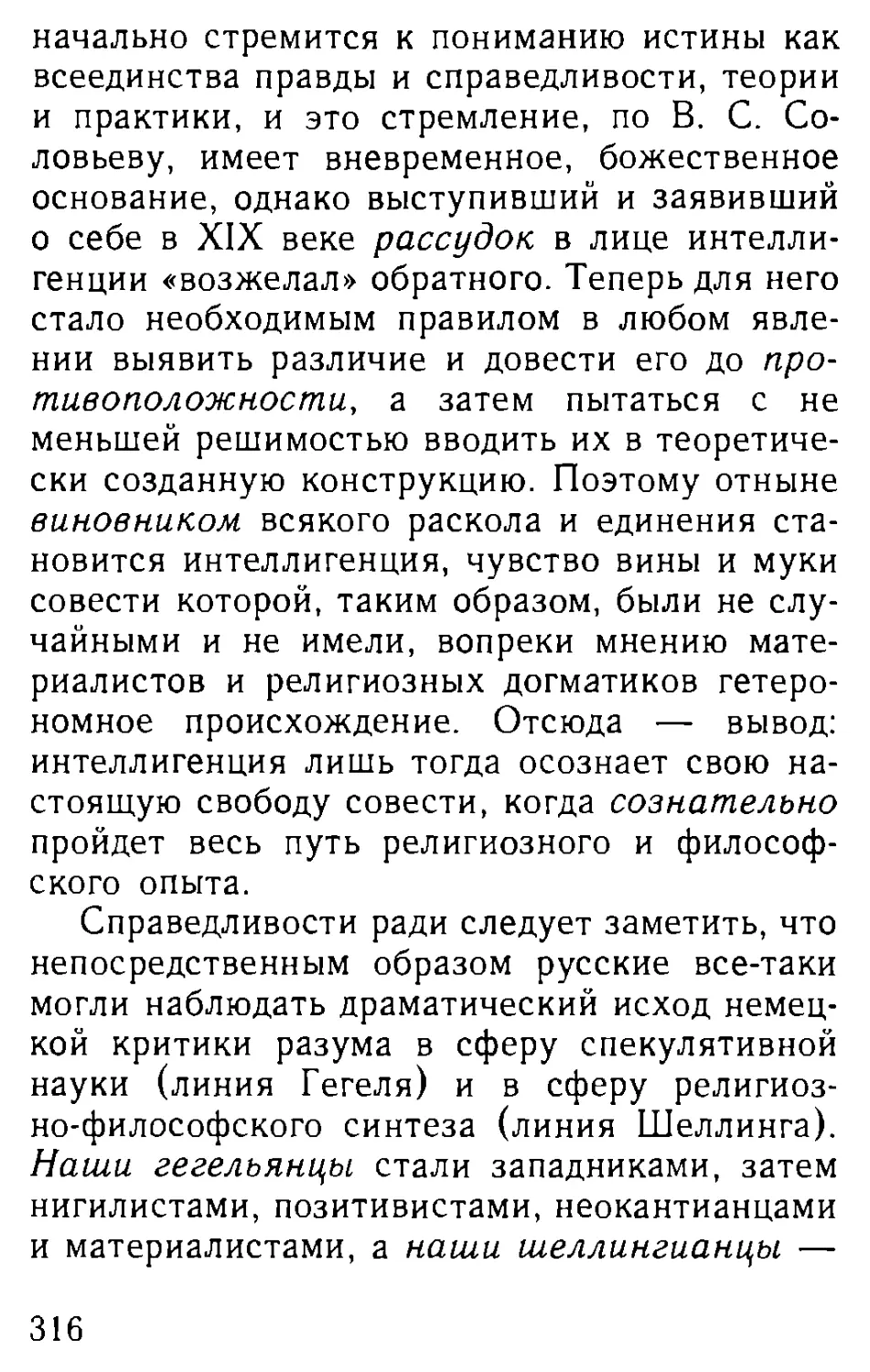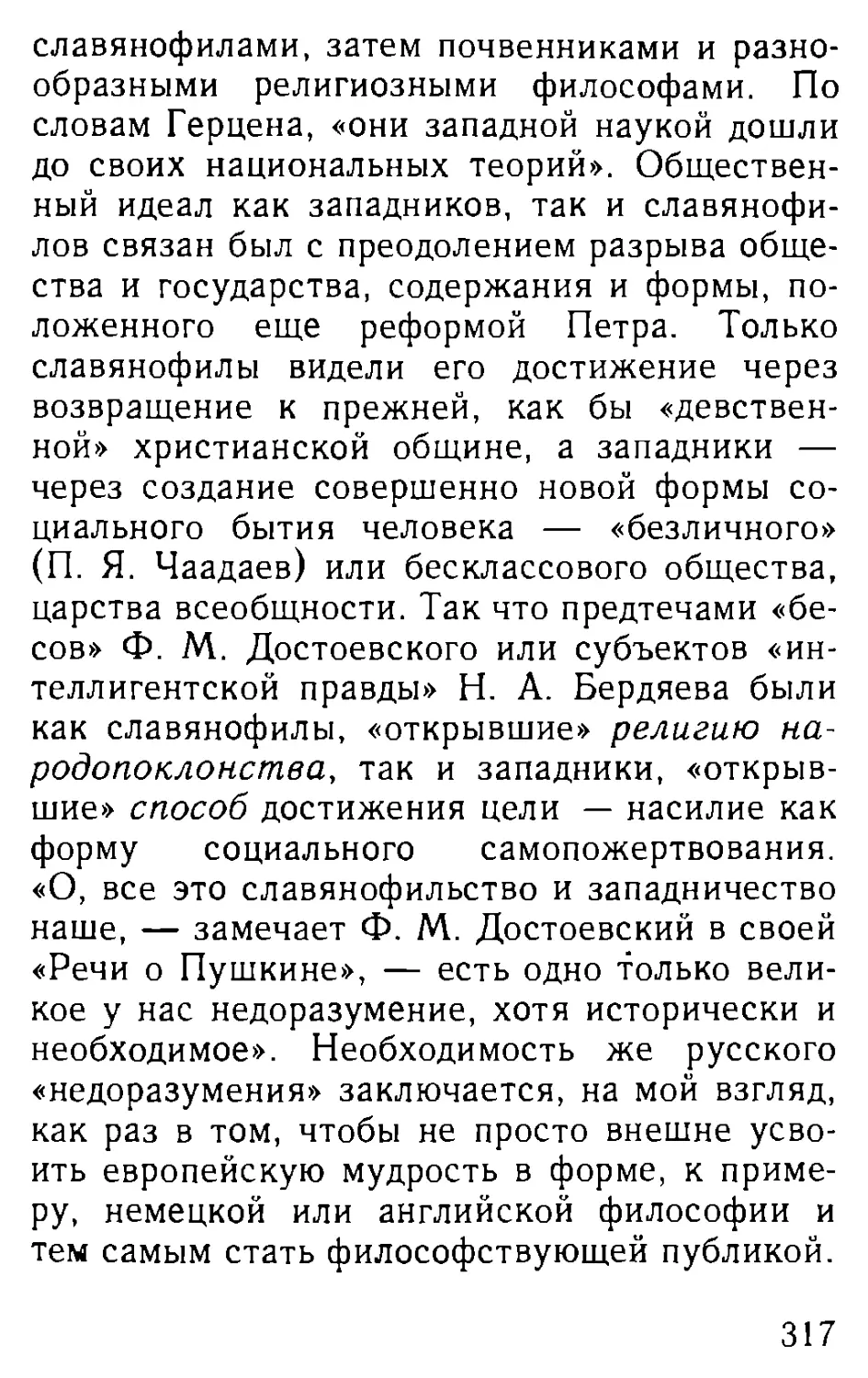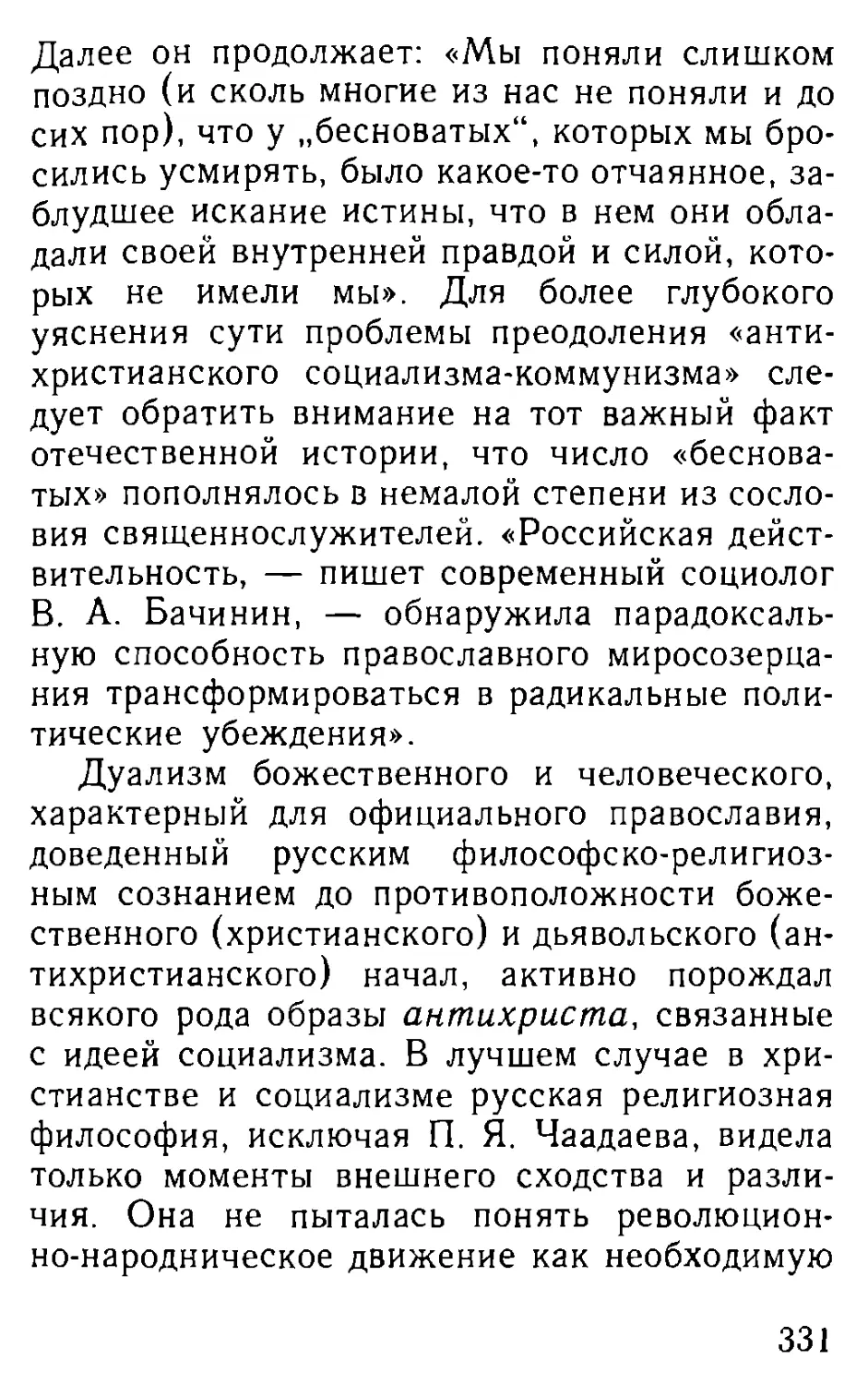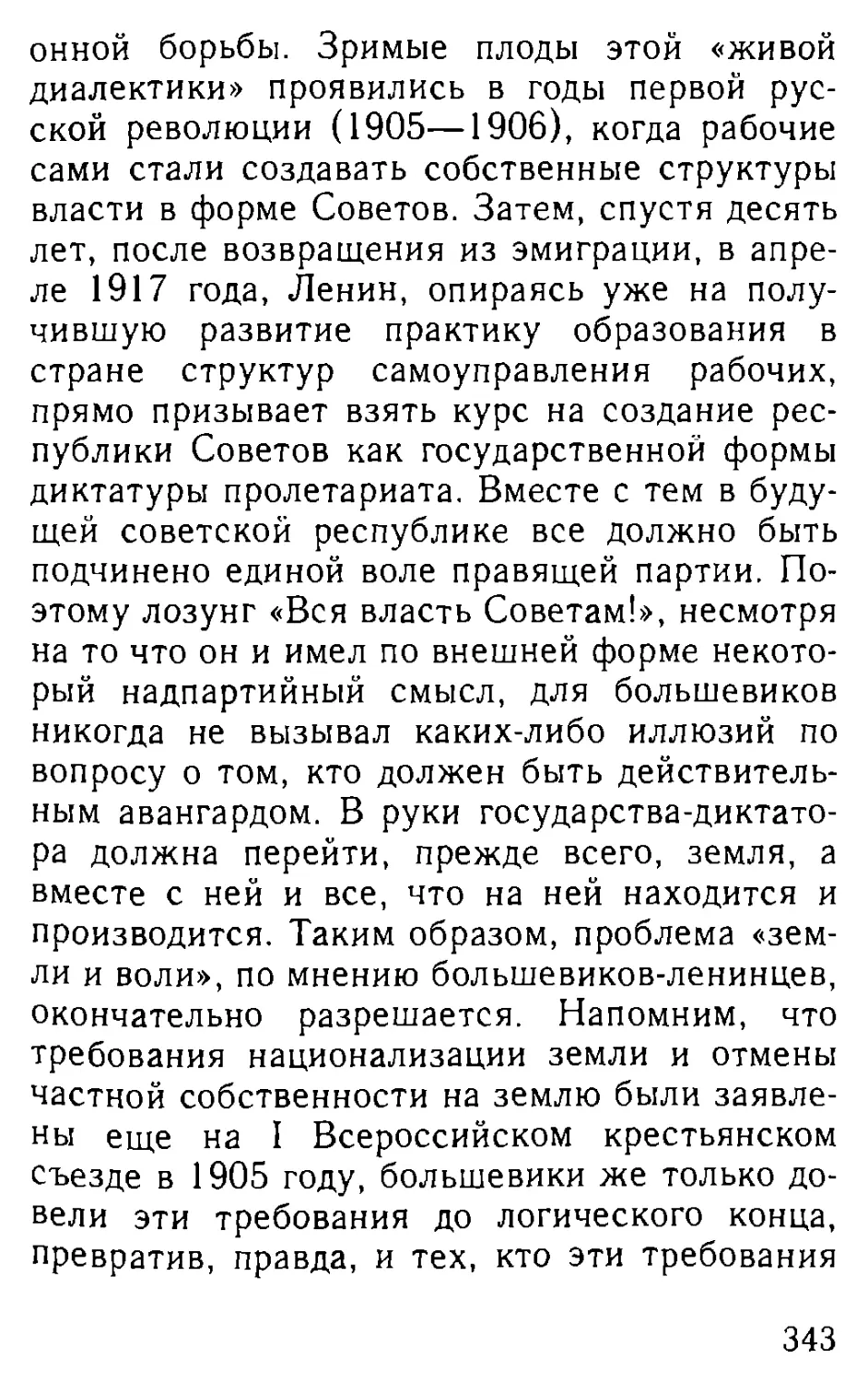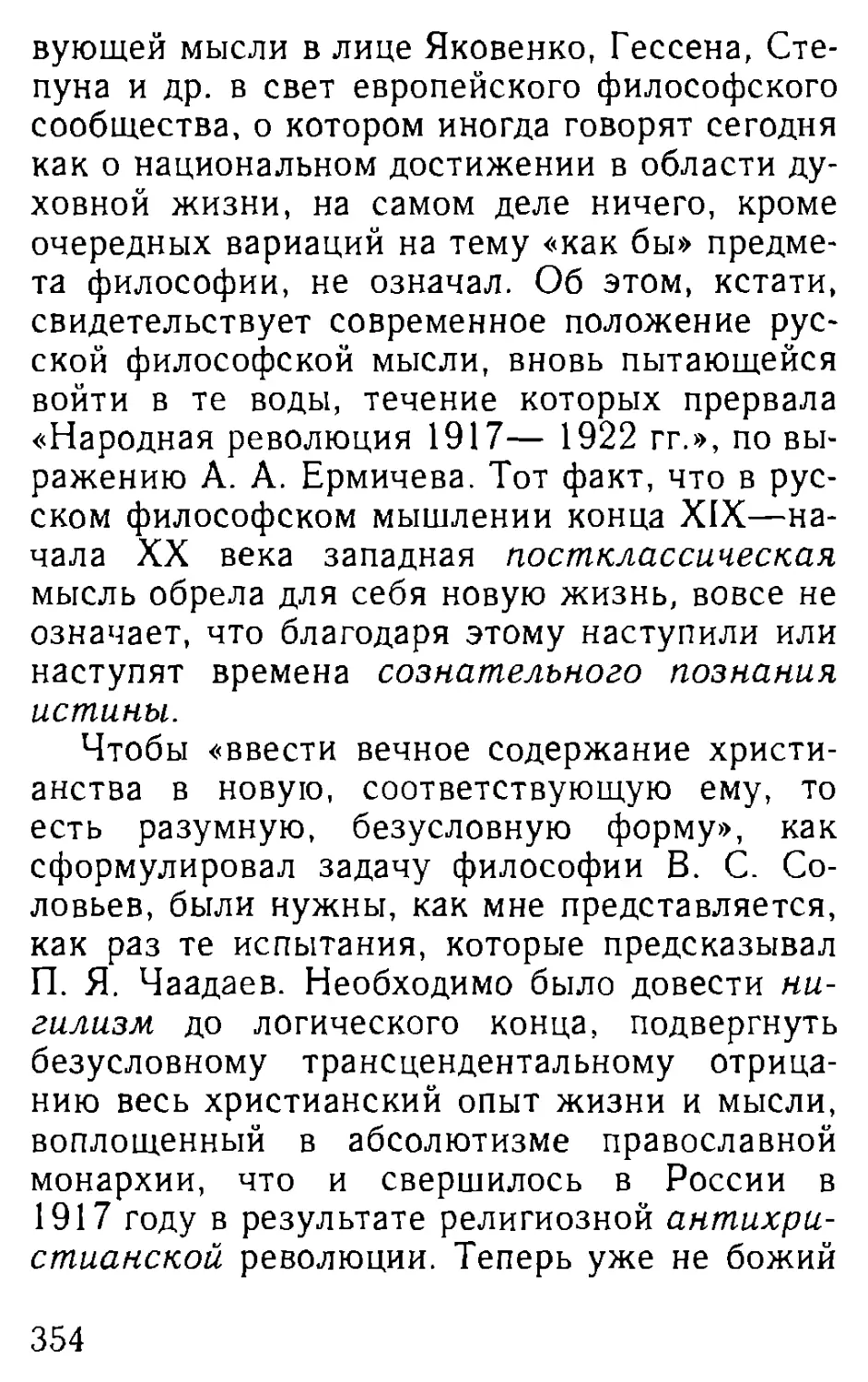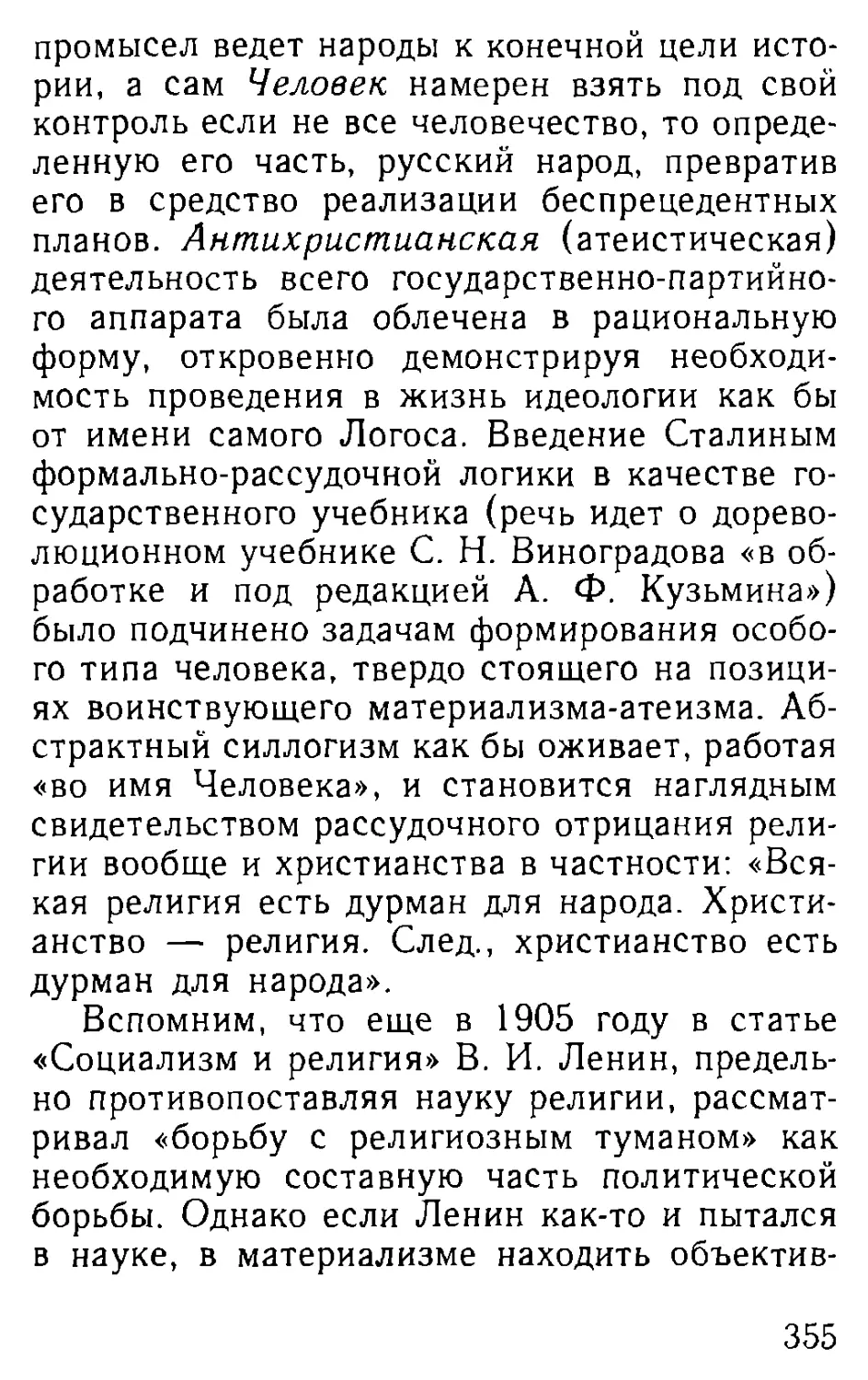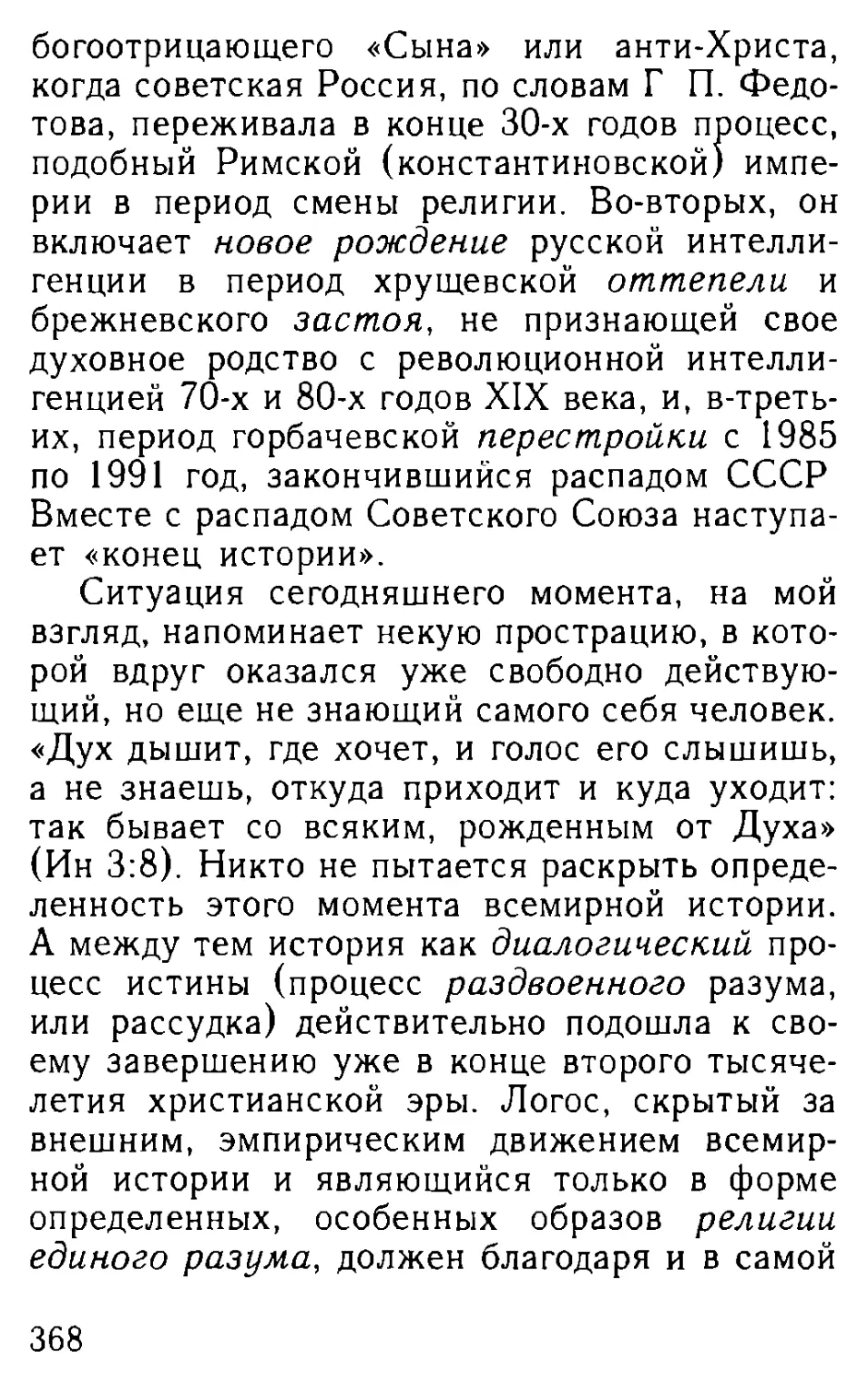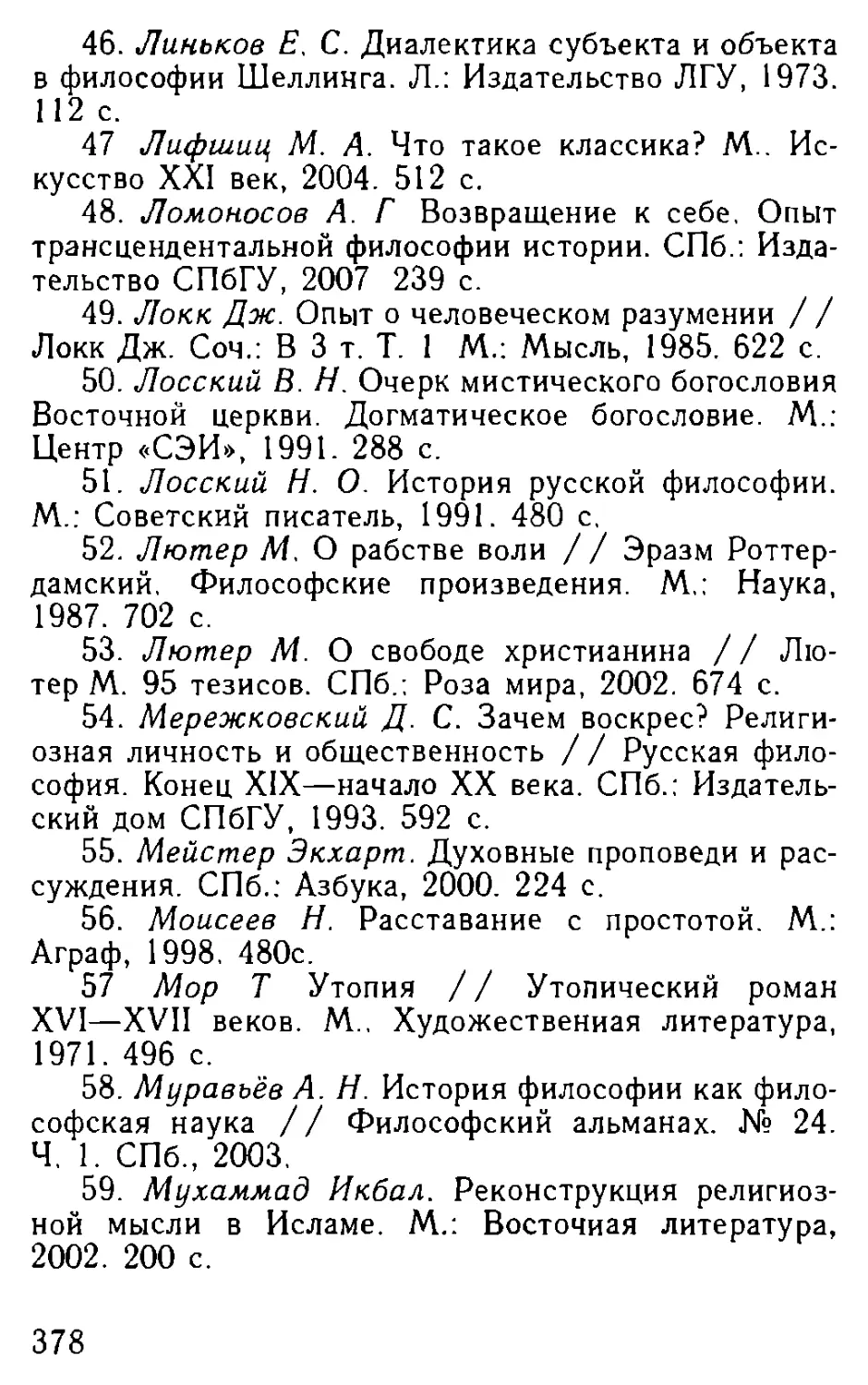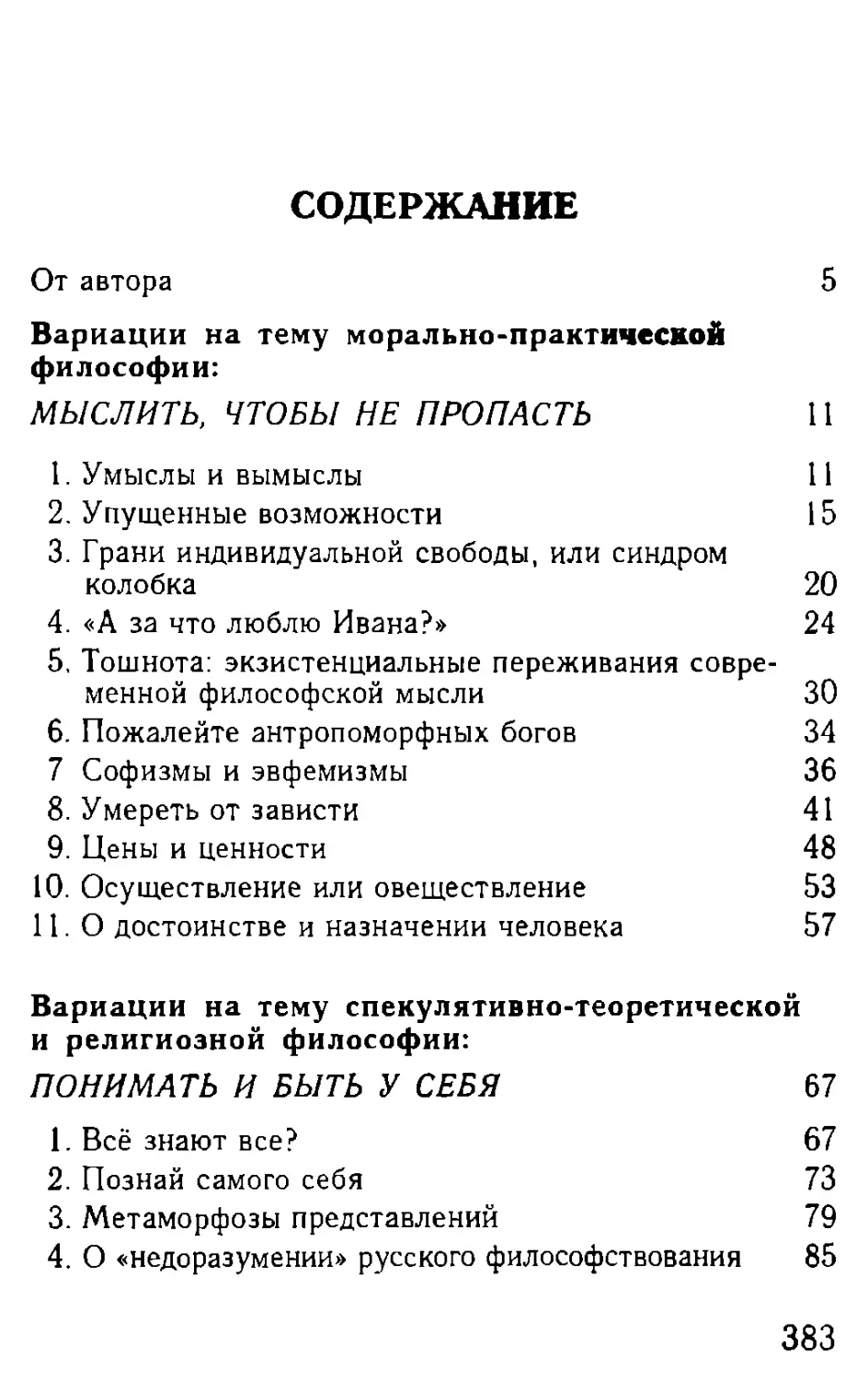Автор: Ломоносов А.Г.
Теги: философия психология социальная философия философская мысль самопознание философские вариации философская подпитка
ISBN: 978-5-93615-104-0
Год: 2010
Текст
Александр Геннадиевич Ломоносов
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ МЫСЛИ
Философские вариации
Утверждено к печати
Редколлегией серии «ПОЛЕ»
Редактор М. В. Орлова. Верстка С. Арефьева
Подписано к печати 07.10.10. Формат 70x100уъг.
Бумага офсетная. Гарнитура «Антиква». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15.6. Уч.-изд. л. 13.0. Тип. зак. № 3426
Издательство «Владимир Даль»
193036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, 19.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография „Наука"»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12
© Издательство «Владимир
Даль», 2010
© А. Г Ломоносов, 2010
ISBN 978-5-93615-104-0 ©П. Палей, оформление, 2010
*
ОТ АВТОРА
Наверное, никто не усомнится в том, что
личный опыт жизни дает человеку некоторое
основание для суждений как о самой жизни,
так и о том, что находится за ее видимыми
пределами, например о Боге, о справедливом
общественном строе, о бессмертии души, и
т. д. и т. п. Несомненным является также и то,
что накопление конкретных сведений, их
своеобразная сортировка и упаковка внутри
душевной лаборатории способствует
выработке определенной жизненной ориентации,
профессиональному и карьерному росту Однако
умение искусно жить в обществе себе
подобных, даже доведенное до совершенства
пчелиного улья, как превосходно об этом написал
Бернард Мандевиль в книге «Басня о пчелах»,
совершенно не достаточно для понимания
того, что обычно называют смыслом жизни,
для понимания назначения самого человека.
Кто из преуспевающих в тех или иных
областях не испытывал острого дефицита такого по-
5
нимания и кто не задавался смысловыми
вопросами, которые если и не находили себе
удовлетворительного ответа в данный момент,
однако бесконечно возвышали его над «суетой
сует». Более того, это искусство жить,
несмотря на то что оно включает в себя всякого
рода хитрости технической цивилизации и
безупречно обернуто в
глянцево-привлекательную материю, не обладает еще ни
разумным зрением, или, выражаясь языком
Спинозы и Фихте, интеллектуальной интуицией, ни
даром речи выражать существенное и
непреходящее в изменчивом мире, так как
последнее приходит с опытом принципиально иного
рода, с опытом мысли. А в этом случае без
серьезных философских занятий не обойтись.
Автор предлагаемой книги имеет простое
намерение дать неравнодушному к
человеческому самопознанию и судьбе нашего отечества
читателю своеобразную философическую
подпитку, которая, надеюсь, может послужить
добрым почином, или, говоря ученым языком,
пропедевтикой, к выходу на более
содержательные философские тексты, в которых такие
слова, как «трансцендентальное» и
«имманентное», не будут вызывать побочных
ассоциаций.
Петру Яковлевичу Чаадаеву, старшему
другу и учителю Пушкина, изучившему образ
мысли европейцев по существу, уже в начале
XIX века удалось выявить то, что не исчезло и
6
в настоящее время. Англосаксы по-прежнему
спешат «исполнить мысль», французы
стремятся ее «высказать», ну а немцы? Увы,
немцы уже не те, они, похоже попав однажды в
крутой водоворот мировых потрясений,
утратили ту способность суждения, которая была
присуща великим философским классикам:
Канту, Фихте, Шеллингу и Гегелю, —
способность, благодаря которой мысль можно было
систематически «обдумать».
Ведь когда на смену «философии мысли» в
мир человеческих отношений стала
стремительно проникать так называемая «философия
жизни», фактически отрицающая
объективный процесс познания истины, тогда-то
«западный человек, — по выражению X. Орте-
га-и-Гассета, — заболел ярко выраженной
дезориентацией, не зная больше, по каким
звёздам жить». (Напомним, что у истоков
философии жизни стояли такие провозвестники
«смертей», «сумерек», «концов» и «закатов»,
как Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше,
философии, порождающей в свою очередь
формации постмодерна, постхристианства и т. п.)
Надеяться на то, что такой человек возродит
мировую философскую классику и
спасительное «солнце самосознания» (Гегель) вновь
взойдет над Европой, равносильно, как мне
представляется, пустому воздыханию. Все
более становится очевидным, что плюрализм
«смыслов», господствующий в настоящее вре-
7
мя в сфере философского образования, не в
состоянии дать должный теоретический ответ
на вызовы нашего времени. Ведь стихийный,
бессознательный процесс развития мировой
истории человеческого рода действительно
подошел к своему пределу, и глобальный кризис
охватил ныне уже все сферы его жизни —
экономическую, социально-политическую и
духовную. Тем самым он чрезвычайно
обострил потребность именно в объективном
философском исследовании хода истории, в
понимании сути современной эпохи и исхода
исторического процесса вообще. Мое утверждение
о том, что всемирная история, несмотря на то
что в ней действуют сознательные субъекты,
носит стихийный характер, может вызвать у
многих «знатоков» недоумение, с которыми я
могу быть согласен только в одном — в том,
что никто, кроме человека, не разрешит
проблему преодоления стихийности развития
истории в целом. А для этого прежде всего
необходимо раскрыть ее внутреннее движение,
опираясь на философский способ познания.
Поэтому необходимость обращения к
классическому наследию, а более конкретно,
необходимость возрождения русско-германского
диалога на благодатной почве философской
классики есть весьма актуальная задача. В
современной России, несмотря на все
традиционные для нее беды и проблемы, есть
реальные предпосылки для того, чтобы собрать во-
8
едино разбросанные историей важные мысли
и вопреки большинству по-современному
философствующих субъектов, пытающихся
выискивать существенное в до-сознательном,
без-сознательном и под-сознательном, дать
солнцу мысли возможность освещать путь
человека к себе, к своей абсолютной сущности.
«Ходящий во тьме не знает, куда идет»
(Ин 12:35).
Постсоветский период русской истории
еще должен пройти определенный путь, чтобы
быть тщательно «обработанным» мыслью,
однако для классической философии
трансцендентального идеализма общая картина
сегодняшнего социально-политического
положения в принципе ясна — она соответствует
понятию «пустой свободы» (Фихте), когда под
флагом либерализма культивируется принцип
формального права, где господствует право
без правды, без истинного содержания, без
нравственности, а это, как известно, тот же
большевизм, только вывернутый наизнанку.
Спасти ситуацию, на мой взгляд, может
возрождение на русской почве всеобщего
самосознания как научного принципа, который
впервые был раскрыт Иоганном Готлибом Фихте,
только на таком основании национальное
единство станет действительным, а не
показным единством. Идея, с которой в свое время
сознательно выступил этот философ, заявив,
что «мы намерены посредством нового воспи-
9
тания образовать немцев к новой общности»,
есть идея, которая сегодня актуальна прежде
всего для нас, ибо у нас есть неистребимая
никакими бичами исторической судьбы
сокровенное желание стать единой нацией, «стать
настоящим русским... стать братом всех
людей, всечеловеком, если хотите»
(Достоевский). «Чистая нравственность», о которой
писал Фихте, известна нашему народу как
бескорыстная любовь к правде-справедливости,
однако необходимо, чтобы государственные
мужи проявили как минимум мудрость в
плане ограничения распоясанной ныне мнимой,
чужеродной свободы, мутные потоки которой,
хлынувшие со всех СМИ, явно препятствуют
всходам доброго семени национального
единства. Как максимум необходимо, если мы,
разумеется, хотим «образовывать человека в
человеке», а не создавать абстрактные
образовательные проекты, расщепляющие личность
набором заимствованных из опыта других
народов схем, в корне менять политику
национального образования, опираясь на развитое
классиками философии учение о человеке.
Время собирать мысли.
^J'V tf.'ar.
.)
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ МОРАЛЬНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ:
МЫСЛИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПАСТЬ
1. Умыслы и вымыслы
В романе Моэма «Бремя страстей
человеческих» есть интересные рассуждения о
человеке-личности, которые, несомненно, могут
послужить хорошим подспорьем для
понимания той духовной пропасти, к которой
подошла сегодня госпожа Цивилизация. Все-таки
чертовски поразительную картину
представляет время, в которое суждено было нам
родиться и жить: будто по невидимой команде в
эту адскую дыру влетают души наших
современников, чтобы, испытав ломку характеров,
становиться напористыми проводниками
антихристианской по сути своей пропаганды
гламурно-попсового образа жизни и мысли
(ГПОЖиМ). При этом свежеиспеченные
поклонники этого ГПОЖиМ ни в какую не
желают внимать простым доводам, объясняющим
опасность такой активности как для самих
себя, так и для тех, кому только предстоит
сделать свой жизненный выбор.
11
Итак, помимо внешних врагов, к числу
которых Моэм относил государство и
общественное мнение, у свободной личности есть,
оказывается, еще внутренний враг — это
наша совесть. Совесть есть враг, так как
сковывает наши помыслы, желания и действия.
Человек, согласно такой логике, свободен,
когда он бессовестен, когда он может
действовать абсолютно произвольно и чисто в
интересах своей персоны, или, проще говоря, когда
ему можно все, что хочется. Ясно здесь одно,
что совесть в этом случае отождествляется с
закомплексованностью, от которой, как от
икоты, просто хочется избавиться любыми
средствами. Для этого, оказывается,
необходимо сбросить с себя всяческие допотопные
представления о заповедях, о честности, об
истине и т. д. О способах, каким образом
сегодня предлагается выдавливать из себя эти
«рудименты», можно было бы поговорить
отдельно (А. С. Ахиезер, российский ученый,
похоже, знает немалое число рецептов избавления
от «угрызений совести», которые, по его
словам, «разъедают изнутри» наш не достаточно
свободный бизнес), а пока обратим внимание
на другую сторону свободы личности.
Поскольку внешний мир огражден частоколом
законов и правил, плюс ко всему в нем есть
масса условностей и всякого рода факторов,
например, культурного и социального
порядка, с которыми так или иначе приходится счи-
12
таться, постольку перед современной так
называемой продвинутой личностью
необходимо встает задача грамотно, т. е. юридически
корректно, овладеть искусством
маневрирования в этом мире препятствий. Если с
совестью, воспринимаемой как мой внутренний
враг, как-то можно справиться и даже с
помощью некоторых мифических вымыслов
попытаться оправдать свои корыстные помыслы,
то во внешнем мире человеческих отношений,
согласно логике продвинутой личности, лучше
действовать по строго продуманному
сценарию и всегда под маской благодушия. Первое,
чем следует овладеть, так это искусством
вовремя скрывать следы своих преступлений,
будь то обман своего родственника или
измена своему «другу», «возлюбленному» и т. д. и
т. п. (Понятно, что в условиях господства
современной массовой псевдокультуры, когда
плюрализм ценностей практически стирает
всякие грани между истинными и ложными
представлениями, в кавычки можно поставить
любые слова морально-этического или
эстетического значения.) При всем при том
современная культура, несмотря на свою
склонность воспринимать объекты в
розово-глянцевом виде, не лишена некоторой серьезности
мысли, однако по существу здесь речь может
идти прежде всего об
утилитарно-гедонистическом мировосприятии. Действительно,
когда все рассматривается с точки зрения
13
пользы и удовольствия или, попросту говоря,
кайфа, то человек человеку в лучшем случае
партнер, приятель или временный любовник.
Временный, поскольку все для этого сознания
протекает в метаморфозах времени, а вечные
ценности суть иллюзии, поэтому девиз «бери
от жизни все, что хочешь, и не сковывай себя
какими-либо религиозно-философскимч и
морально-этическими вопросами о смысле
жизни и прочей никчемностью» — самый что ни
на есть лучший девиз настроенного на успех
индивидуума. Бернард Мандевиль,
просветитель XVIII века, наверное, ужаснулся бы,
увидев, как обернулась выдвинутая им идея об
эгоизме как скрытой пружине нравственного
совершенствования личности и о пороках
частных лиц, которые, по его мнению, могут при
наличии разумных законов стать
добродетелью для общества. Дело в том, что
современное, т. е. ориентированное на ценности ГПО-
ЖиМ, общество уже едва-едва отличает порок
от добродетели, поэтому старается не
усложнять себя проблемами нравственного
характера: это, мол, дело выбора каждого индивида.
Культ свободного от всякой ответственности
частного права вполне закономерно
порождает новую, хот-я и лишенную христианской
гуманности и справедливости, логику и веру.
Согласно последним, в мире человеческих
отношений, оказывается, можно и должно
навести порядок (который, разумеется, служит
14
исключительно только принципу «ego», или
«для себя любимого»), примерно такой же,
как в библиотеке, поскольку люди — это те
же книжки, поэтому их следует умело
разложить по полочкам и извлекать оттуда по мере
того, как созреет та или иная нужда или
потребность. Потребность с точки зрения такой
модной науки, как маркетинг, — это более
изысканная грань индивида, нежели нужда,
поэтому для ее удовлетворения следует
находить особые подходы, в нашем случае —
подбирать «книжки» более высокой категории.
Высшим пилотажем будет являться такая
раскладка «книжек», когда они сами обретут
послушную привычку с желанием отдаваться
вам в строго отведенное для них время и в
соответствующем обстоятельствам месте.
Желательно, чтобы те, кому не следует вступать в
контакты с представителями других полок,
это хорошо раз и навсегда усвоили. Таким
образом, доведенное до совершенства искусство
манипулирования человеческим материалом
позволит вам извлекать максимум пользы и
удовольствия. Что и требовалось доказать.
2. Упущенные возможности
То, что социальное бытие человека
предполагает две самостоятельные линии жизни,
может быть понятно каждому рефлектирующему
15
сознанию, для чего достаточно прибегнуть к
самому элементарному самоанализу. Первая
линия — это та, в которой мы «варимся» в
повседневном нашем существовании,
выстраивая планы, выматывая себя на работе или,
быть может, пребывая в ленивом
простодушии, и т. д. Вторая же линия представляет
собой цепочку нереализованных или, иначе
говоря, упущенных возможностей, к которым
мы мысленно волей-неволей возвращаемся,
восстанавливая в памяти ход минувших
событий, хотя можем и забыть некоторые его
звенья на довольно долгое время, особенно если
с первой линией все обстоит достаточно
сносно. Речь идет, как становится ясно, о
виртуальной жизни, однако не существующей
только в физическом мире, так сказать de facto, но
которая часто дает о себе знать по всем
законам реального действия. Особенно эта жизнь
активизировалась в последнее время, в связи
с распространением нового вида человеческой
коммуникации, именуемой Интернетом.
Благодаря этому чудодейственному средству
человек все более абстрагируется не только от
внешней формы пространства, но и от живого
хода времени, сбрасывая с себя тем самым
груз общей истории вместе с присущими ей
проблемами культурно-назидательного
характера. Не отдавая себе отчета, наш
современник все более предпочитает реальному «миру
вещей» мир совершенно иного порядка — мир
16
сугубо своих и чужих представлений. Его
социальное бытие смещается в сторону
виртуального измерения, сквозь призму которого он
начинает заново оценивать свое прошлое и
настоящее. Дело в том, что в мире
представлений даже самый закомплексованный
интроверт может почувствовать себя буквально
творцом своей собственной жизни и судьбы,
поскольку, казалось бы, все здесь находится
под твоим непосредственным контролем.
Однако вспомним изречение самого
классического философа всех времен и народов — Георга
Вильгельма Фридриха Гегеля: «Человек есть
целый мир представлений, погруженных в
ночи Я». Так что вместе с Интернетом в мир
человеческих отношений незаметно
прокрадывается и «ночь», хотя понятно, что эта ночь не
лишена очертаний и красок. В качестве
очертаний здесь выступает многообразие
информации, а в качестве красок — многообразие
предлагаемых к контакту лиц-образов. Что
касается информации, то для любого
специалиста Интернет является превосходнейшей
кладовой, откуда можно в любое время извлечь
желаемый для дела материал. Однако речь
идет не о нем и не об информации в плане
познания, а о контактах. Тяга к контакту в
виртуальных условиях имеет особый привкус,
поскольку право выбора всегда остается за
тобой и, более того, ты можешь выставить
напоказ свои наиболее удачные на твой субъ-
2 Зак. 3426
17
ективный взгляд изображения и в этом
случае, забросив их в качестве приманки, опять
же находить для себя желаемых партнеров по
виртуальному общению. Однако контакты,
например, с одноклассниками или вообще с
теми, с кем ты когда-то был в близких связях
в прошлой, но реальной жизни, далеко не
просты по своим последствиям, поскольку они
затрагивают небезболезненную тему упущенных
возможностей. Отсюда и происходит
столкновение линий: виртуальное агрессивно
врезается в реальное и, наоборот, реальное
бесцеремонно нарушает принцип невмешательства,
вторгаясь на чужую территорию. Так,
восстанавливая отношения с бывшими знакомыми, с
которыми вы были когда-то связаны лично,
можно задеть за живое тех, с кем реально
приходится переживать житейские взлеты и
падения. Понятно, что «задеть» можно
по-разному, например элементарным равнодушием к
ближним, к семье, к отечеству, к миру в
целом, к Богу, наконец. Дело в том, что в
виртуальной жизни ты абсолютно атомистичен,
ты — вне каких-либо связей с реальным
миром, с Абсолютом, для тебя безусловным
выступает только реальность твоего
индивидуального ego и того, с кем ты вступаешь в
данный момент в контакт. Убрать контакти-
руемого, если он исчерпался в желаемом для
вас отношении, можно без проблем или, как
ныне говорится, — легко, нажав только на со-
18
ответствующую клавишу, впрочем, и вызвать
его из «небытия» не представляет собой
никакой сложности. Вступить же в отношение с
другим виртуальным индивидом из прошлого,
кроме простого чувства любопытства и
желания как бы заново проиграть свою жизнь по
импровизированному сценарию, подталкивает
еще одно чувство — чувство
неудовлетворенности реальным, настоящим положением
вещей, о чем когда-то хорошо напевал один
персонаж: «А мне всегда чего-то не хватает:
зимою лета, осенью — зимы...». Если серьезно,
то чувство неудовлетворенности, как это
подметил в свое время мудрый Сократ, незаметно
сопровождает каждого на протяжении всей
земной жизни, независимо от того, каковыми
материально-духовными возможностями
человек обладает на данный момент. Философия, с
точки зрения этого чувства, всего лишь один
из способов как-то на время приглушить его
навязчивую склонность быть вашим по жизни
спутником. Стоит только прервать какие-либо
активные занятия, стоит только расслабиться,
пустив на самотек свои мысли, как оно само
начинает вам напевать свой
заунывно-экзистенциальный мотивчик. Не случайно же
подметили, что лучший отдых — это смена
деятельности.
Итак, жизнь, понимаемая как цепочка
упущенных возможностей, в настоящее время,
т. е. во времена господства виртуального ми-
19
ропорядка, не является поводом для уныния.
Боле того, эта цепочка может быть вполне
золотой, так как предоставляет индивиду шансы
преобразовать упущенное житие в форму
плодоносящего контакта. Весь вопрос, правда, в
том, чтобы понять, а каковы эти плоды? По
видимости они, конечно, золотые, а по сути?
3. Грани индивидуальной свободы,
или синдром колобка
Человек — это отнюдь не пассивное
создание природы, а, как сказал однажды немецкий
философ Иммануил Кант, он есть субъект
автономного поведения. Только человек
способен принимать волевое решение,
руководствуясь при этом благими или какими-либо иными
намерениями, и стремиться к его
осуществлению. Однако в конечном пункте этого
движения, т. е. при самом воплощении мысли, все
может обернуться совсем
неожиданно-неприятным для этого человека исходом. Виноват,
конечно, будет не Кант, да, впрочем, и не его
многочисленные поклонники-кантианцы,
бесцеремонно редуцирующие
трансцендентальное к индивидуальному, всеобщее к
единичному, необходимое к случайному, -а всегда тот,
кто принимает здесь и сейчас определенное
волевое решение. Иначе говоря, то, что
дозволено субъекту как таковому, может быть недо-
20
пустимо для обычного смертного, поскольку в
опыте индивидуальной или общественной
жизни со свободой самоопределения все
обстоит гораздо сложнее, чем в эфире
спекулятивного знания. Конечно, по идее, каждый
должен руководствоваться высшим
моральным принципом, чтобы видеть в другом
человеке суверенную личность, а отнюдь не
комплекс полезных качеств, удовлетворяющих
выгоды, вожделенные страсти и т. п., но это
только «по идее». В живой же реальности, в
условиях столкновения амбиций, интересов и
всякого рода желаний массовое большинство
индивидов про идею, про чистый долг, как
правило, вспоминает только post factum,
особенно когда в своих действиях по отношению
к себе подобным оно задевает присущее этим
чувственно конкретным индивидам
достоинство. Со времен Льва Николаевича Толстого
прошло не так уж много времени, особенно
если учесть ту условно-гетерономную мораль,
которая все более тогда проникала в сознание
образованной и относительно обеспеченной в
материальном и правовом плане русской
публики. «Великолепно, если я поборол свою
земную страсть», — рассуждал один из
персонажей «Анны Карениной», что, кстати говоря, не
помешало ему тут же заявить в свое
оправдание и обратное: «...но если этого не
получилось, то я все-таки испытал блаженство». Вот
такая беспечная в своих проявлениях мораль
21
теперь уже в нашу эпоху — в эпоху так
называемого постмодерна — стала наиболее полно
выражать понятие индивидуальной свободы в
кругах куда шире, нежели в указанные
времена. Пусть в эти круги входят хотя и не так
образованные и материально обеспеченные
граждане, однако в плане готовности к
самооправданию они, пожалуй, превзойдут
любого, даже самого профессионального, софиста
прошлых времен. То, что свобода
предполагает риск, с этим, пожалуй, сегодня
согласятся многие, но то, что она сопряжена с
понятиями «ответственность» и «вина»,
поскольку я могу быть свободным тогда и
только тогда, когда я есть виновник своих
мыслей, слов и деяний, — с этими доводами
соглашаются почему-то только единицы. Тут
надо зреть в корень или, попросту говоря,
думать, а поскольку думу думают у нас
небольшое число сограждан, постольку в
отношении представления о свободе у
независимой ни от чего и ни от кого публики
срабатывает своеобразный синдром колобка или
эффект негативной свободы: ушел от
очередного ответа и можно дальше продолжать в
том же духе, пока не упрешься в
непреодолимое. Только в тот момент, когда опасность
оказаться неожиданно «проглоченным»
почувствуешь буквально своей шкурой,
наступает прозрение: с отрицанием всего и вся
шутки плохи.
22
Воля индивида на самом деле способна к
самоопределению, причем как в выборе
готовых вариантов решений, так и в плане
самостоятельного, так сказать, творческого само-
полагания. По большому счету она может
«подняться до небес и ангелов, — как писал
Джованни Пико делла Мирандола, — а может
опуститься до звериного состояния». Однако в
отличие от цитируемого здесь мыслителя
Ренессанса, воля нашего современника обладает
еще способностью и, что немаловажно,
правовой возможностью оправдывать свои
предпочтения. Ей мало быть свободной в своих
желаниях и действиях, ей необходимо находить
своим поступкам основание не только в себе
(как это делается «в себе» хорошо показал
Лев Толстой), но и в объективных правовых
уложениях. Если объективно в самом
обществе действует либерально-аморальный принцип
«разрешено все, что не запрещено законом»,
то тогда любая прихоть индивида может стать
для него неизмеримо выше веками
формировавшейся нравственности народа. Более того,
если современная культура свободных нравов
через СМИ и действующую систему
тестового образования демонстративно игнорирует
все, что имеет положительное отношение к
русской истории, к христианской традиции, то
о чем, казалось бы, здесь вообще можно
говорить. Конечно, можно зарыться в своем мире
представлений, впасть в уныние или, наобо-
23
рот, подобно вольтеровскому Панглосу наивно
питать надежды на перемены к лучшему, а
можно всерьез однажды понять, что все
сегодняшние фантасмагории в области
человеческих отношений в нашей стране есть не более
как «происки» преходящего момента истории.
Возможно, что с точки зрения испытания
человеческого духа на прочность, совсем не
случайного момента. А поскольку не только мы в
истории, но и она в нас, то именно за нами,
наверное, и выбор: либо мы как колобки
скатимся с истинного пути окончательно,
растворившись в различных модификациях рода
«человек», либо попытаемся наконец-то вместе
вдумчиво возделывать свою,
русско-российскую, почву, чтоб не пропасть поодиночке.
Благо, что она у нас пока есть.
4. «А за что люблю Ивана?»
То, что понятие «любовь» многим не
кажется однозначным, неудивительно, ведь уже
святой Максим Исповедник различает как
минимум пять уровней этого понятия. Между
высшей бескорыстной любовью «ради Христа» и
той самой что ни на есть земной — «из
сладострастия» есть, как он полагает, любовь «по
естеству», когда, к примеру, мать любит свое
чадо, и «из тщеславия», когда мы любим
восхваляющих нас, и просто — «из корыстолю-
24
бия». Однако с нашими желаниями любить и
быть любимыми дело обстоит еще сложнее.
Ведь, согласитесь, что можно желать, чтобы
тебя любили таким, какой ты есть по своей
натуре (причем в этом случае допустимо
ставить определенные условия или только слегка
подавать знак, напоминая о них), а можно
желать, чтобы тебя любили таким, каким ты
себя представляешь публике или, проще
говоря, кажешься. Что касается первого варианта,
то здесь часто невозможно понять то, что же
имеется в виду: то ли это набор некоторых
внешних признаков, как в той русской
песне — «А за что люблю Ивана? / / Что
головушка кудрява», то ли это особенности
характера, то ли еще что-то, известное только
«посвященным». С имиджем же проще, особенно
если в нем ты чувствуешь себя вполне
уверенно и комфортно, хотя выдержать его при
изменении жизненной декорации крайне не
просто, и тут могут быть разного рода казусы.
Всем известно, как красоту звезд
шоу-бизнеса умеют развенчивать папарацци,
зафиксировав их, к примеру, без макияжа или в
каком-нибудь не совсем удобном для объекта
ракурсе.
В любом случае любовь — это есть
отношение неравнодушных друг к другу людей, а
отношение, как говорят классики
философской науки, есть всегда противоречие.
Настоящая любовь есть настоящее противоречие,
25
в котором стороны, стремящиеся к обладанию
друг другом, буквально ослепляются в
страстном порыве и даже теряют самообладание.
«Ты прихоти полна и любишь власть, подобно
всем красавицам надменным. Ты знаешь, что
моя слепая страсть тебя считает даром
драгоценным», — писал Шекспир, а Пушкин
вторил ему: «Пред вами в муках замирать,
бледнеть и гаснуть — вот блаженство». Парадокс
в том, что обрести желаемое в чувстве любви
можно только через потерю своей единичной
самости, своей свободы, почему, к примеру,
Эпикур советовал избегать этого,
возмущающего индивидуальный дух, любовного
состояния. Для него, как известно, атараксия, или
невозмутимость духа, представляет собой
самое что ни на есть высшее наслаждение.
«О высший дар — бесценная свобода
покинула меня, и понял я: любовь — беда» — так
писал Петрарка, подчеркивая несовместимость
личной свободы и чувства любви. Однако если
любовь лишает покоя и свободы, то «значит
это кому-нибудь нужно?», как вопрошал
молодой поэт Владимир Маяковский. Прежде
всего это нужно самим любящим, которые в
потере своей односторонности приобретают
целостность, полноту бытия или у которых, во
всяком случае, впервые просыпается это
замечательное чувство — чувство полноты жизни
и непреодолимая потребность в том, чтобы
это чувство всегда было с ними.
26
Сознание, что жизнь только в любви
наполняется смыслом, является тем
внутренним духом-движителем, который
способствует творческому созиданию. Ведь знание как
любовь, о чем писал уже Платон, есть самое
продуктивное знание, поскольку оно,
одухотворенное любовью, становится
животворящим процессом, в котором познающий как бы
вступает в брак с предметом познания,
порождая своеобразное потомство в виде наук и
искусств.
Когда христиане говорят, что Бог есть
любовь, то тем самым они понятие любви
возводят в форму сакрального понимания, что,
несомненно, побуждает каждого верующего к
нравственному совершенствованию, а
последнее как раз и возможно через любовь «ради
Христа». Ведь все усилия и страдания Христа
направлены были на то, чтобы в каждом
человеке произошло пробуждение изначального,
бескорыстного, т. е. сверхчувственного,
состояния любви. Бог как истинная любовь
действительно пребывает в нас, среди нас и с
нами, однако лишь в нашей любви к Нему и
друг к другу эта любовь обладает силой,
способной справиться с внешними и внутренними
искушениями.
Человечество уже, пожалуй, испытало все
условные формы любви, о которых мы
говорили вначале, кроме той безусловной, ради
которой вся история человечества и развертывает-
27
ся. Кстати говоря, всемирную историю можно
смело рассматривать как историю любви, и в
этом случае она, несмотря на внешнюю
неразбериху и суматоху протекающих во времени и
пространстве событий, будет наполнена
глубочайшим смыслом и гармонией. То, что в
настоящее время преобладают такие формы, как
любовь из тщеславия, корыстолюбие и
сладострастие, которым Максим Исповедник
отводил самые последние в духовном смысле
места, не является случайной продукцией
христианской цивилизации, и здесь, пожалуй, нет
смысла выискивать инородные причины ради
оправдания божественной святости.
Теодицеей, или богооправданием, занимается, как
известно, особая группа лиц, именуемая
теологами. Более того, сам ход исторического
развития предполагает кризис христианства, или
религии всеобщей, вечно сущей любви. О нем,
как известно, было заявлено еще в 325 году на
Никейском соборе как о неизбежном и
завершающем этот исторический ход великом
испытании — страшном суде (напомним, что
кризис в переводе с древнегреческого как раз
и означает суд). Глобальный кризис есть
страшный суд, переживаемый сегодня
человечеством, он связан, говоря словами Платона и
Гегеля, с необходимостью саморазложения
единого во многом и ином, чтобы в конечном
итоге выступило истинно единое и неделимое
начало. Крепость же веры, однако, не должна
28
быть поколеблена тем, что на последнем этапе
великого исторического испытания особенные
формы любви вдруг проявляются в своей
откровенной красе — в экстазе свободного
отрыва от самой субстанции любви. Все это,
конечно, очень напоминает описанный
философом Кантом «извращенный конец всего
сущего», о возможности которого он писал в
трактате «Конец всего сущего» в 1794 году,
однако возможное не является фатальной
необходимостью действующего исторического
процесса. Дело в том, что так называемый
мировой декаданс вместе с присущими ему
эстетикой небытия и индивидуалистическим
пессимизмом по определению сам конечен и
смертен. Более того, в свой «черный квадрат»
он способен заключить только те ветви
любви, которые сами уже давным-давно отпали от
своего истока. «Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, и засохнет»
(Ин 15:6).
Однако, чтобы единая и одновременно
единственная любовь проявилась и
самоутвердилась в опыте человеческого бытия,
необходим уже сегодня акт доброй воли самих
христиан, тогда призыв «пребудьте в любви
Моей» (Ин 15:9), будучи принятым сердцем и
разумением, может стать тем
необходимейшим духовным импульсом, благодаря
которому и начнутся перемены к лучшему в мире
сем.
29
5. Тошнота: экзистенциальные
переживания современной
философской мысли
Вместе с ницшеанской «смертью Бога»
наступило заметное падение европейского духа,
который уже вместо действительных исканий
вечных истин, характерных для великих
классиков от Платона и Аристотеля до Фихте
и Гегеля, попросту погрузился в область
текущих людских переживаний и, похоже, в
ней собирается себя и захоронить. Впрочем,
в своих бесконечных
литературно-художественных вариациях на эту тему умирающая
философская мысль Запада еще пока
остается привлекательным зрелищем для
достаточно широкой аудитории, однако скорее всего
как некоторая альтернатива
глянцево-стандартному, откровенно бездуховному бытию
современной цивилизации. «Все жанры
хороши, кроме скучного» — так остроумно
заметил однажды Вольтер. В этом отношении
роман «Тошнота», написанный французским
философом-экзистенциалистом Жаном Полем
Сартром, является наглядным выражением
того, насколько философия может уйти от
себя в иные миры, в иные жанры и, однако,
вызывать пока еще некоторый интерес
именно присущей ей способностью схватывать
существенное в обычном существовании вещей
и людей.
30
По форме роман «Тошнота» представляет
собой дневник вымышленного писателя,
работающего над историческим романом, с
подробными описаниями как внешних событий, так и
тех переживаний, которые испытывает сам
автор дневника, некий Антуан Рокантене.
Однако главное в произведении нашего
экзистенциального писателя заключается не в форме
изложения, а в тех проблемах, которые его
волнуют как мыслителя и о которых он хотел
бы поделиться с мыслящими читателями.
Само название романа сразу заставляет
задуматься прежде всего о тех условиях и
условностях жизни, в которых находится каждый
из нас. Общество и быт, какими бы они ни
были обустроенными, свидетельствуют только
о существовании человека преимущественно в
мире вещей, но не дают и никогда не дадут
ответа на вопрос: зачем живет человек и в чем
смысл его существования? Только в конце
произведения у Антуана возникает надежда
создать такую книгу, которая будет
необычной, как бы сверхбытовой, чем-то
напоминающей сказку, «чтобы люди устыдились своего
существования». Только стыд как внутреннее
покаяние сможет хотя бы на миг вывести
человека из цепких объятий окружающей его
предметно-вещественной бессмыслицы и как-
то «примирить с самим собой».
Вообще-то говоря, по меркам русской
классической литературы XIX века страдания на-
31
шего героя могут показаться слишком
надуманными и беспочвенными. Тем более мы
видим, что у него все-таки имеются некоторые
способы «освобождения от приступов
меланхолии», к примеру вечернее пиво и «занятие
любовью» с хозяйкой «Приюта путейцев» или
общение с Самоучкой, придумавшим
оригинальный способ самообразования. Но несмотря на
то, что дневник наполнен всякого рода
наблюдениями за предметами, находящимися вне
автора, на самом деле внимательный читатель
погружается вместе с нашим героем в его
внутренний мир представлений и переживаний.
Однако даже здесь, во внутреннем мире, Ан-
туану не дают покоя мысли по поводу
существования внешних предметов. Часто его
выводит из себя сам факт контакта с ними,
порождающий ощущение потери свободы. Хотя в то
же время его не удовлетворяет и состояние
одиночества, которое подобно некоторой
окружности оказывает давление на центр нашего
Я, что и вызывает Тошноту. Но, опять же, не
все так безнадежно и безысходно: стоит только
зазвучать музыке и... Тошнота на время
исчезает, теперь «Я внутри музыки». Несмотря на
то что созданный Сартром персонаж много
чего успел повидать в своей непростой по
меркам обычных представлений жизни,
путешествуя по Европе, Северной Америке и Дальнему
Востоку, он, однако, считает, что жизнь
лишена реальных приключений и для него она всего
32
лишь смена декораций без начала и конца.
«Дни прибавляются друг к другу без всякого
смысла, бесконечно и однообразно». При всем
при этом наш Антуан, поскольку он хотя и
вымышленный, но все же писатель, продолжает
внимательно следить за этим потоком образов,
выделяя в нем некоторые небезынтересные для
экзистенционально переживающего жизнь
писателя детали. Вот он замечает, к примеру, как
«женщина кокетливо сплевывает косточки в
чайную ложку — словно кладет яйца» или,
гуляя вдоль моря, вдруг обнаруживает, как «в
массе толпы растворяется аристократизм,
остались просто люди, которые уже больше никак
не представительствовали». Однако опыт или
наблюдения за лишенными истинного бытия
событиями утомляют, часто вызывая всякого
рода видения. Порой бессмысленность
существования доводит автора дневника до крайней
точки отчаяния: «Уж не видимость ли Я, и
только?». Похоже, что последняя мысль
задевает его за живое, и спустя некоторое время
Антуан напрягает свою способность мыслить
так, что она сама говорит ему: «ты есть», «ты
вовсе не иллюзия». Однако и картезианское
«cogito ergo sum» его не устраивает в
принципе: «А зачем я мыслю?». Трудно быть
мыслящим человеком там, где «Бог умер», ничего не
радует, все как-то увядает. Даже деревья не
рвутся к небу, а, наоборот, как-то ёжатся, как
«усталый фаллос». Тошнота.
3 Зак 3426
33
6. Пожалейте
антропоморфных богов
В советские времена даже в книге «Мифы
Древней Греции» невозможно было узнать всю
правду о происхождении Афродиты — богини
любви и красоты, разве что упоминалось
очевидное: она возникла из морской пены. А вот
если у склонного к размышлениям читателя
возникал ненароком вопрос, касающийся более
подробных обстоятельств этого чудесного
явления, то ему ничего не оставалось, как только
обратиться к «Мифологической библиотеке»
Аполлодора, проживавшего, как известно, во
II веке до Р X. Понятно, что далеко не
каждому был доступен вход в эту библиотеку.
Перехлесты советской цензуры были порой
по-детски наивными и очевидными, поэтому о
них не будем говорить. А вот лучше обратим
внимание на положение тех же проблем в
наше, так сказать, «продвинутое» время, когда
все запреты практически сняты и торжествует
госпожа Вседозволенность. А что происходит
с богами? Проблемы, как это не странно,
часто решаются по видимости, а не по сути
своей, поэтому остаются, хотя принимают иные,
часто более причудливые формы, создавая
иллюзию, что их уже как бы нет и с богами все в
порядке. Ведь в свое время Зигмунд Фрейд,
как известно, наивно предполагал, что
достаточно произойти сексуальной революции, то-
34
гда все тайное станет явным и подавляющее
число неврозов само собой улетучится.
Однако жизнь оказалась куда сложнее
представлений отца психоанализа. Уже в иные времена
немецко-американский социальный психолог
неофрейдист Эрих Фромм раскрывает
оборотную сторону индивидуально-отрицательной
свободы вообще и сексуальной
раскрепощенности в частности, порождающей куда более
тяжкие своими изощренно-извращенными
формами недуги. В своей книге «Бегство от
свободы» он просто обнажает типичные
маскарадные способы решения проблемы, в
результате которых все как бы «very well».
Если представить себе какого-либо, даже
самого заурядно мыслящего представителя
античной культуры, так сказать язычника, по
определению христианина, то он бы,
несомненно, ужаснулся, увидев, как глумится над
святыми для него образами наша цивилизованная
культура. Наверняка он бы заметил, что
больше всего не повезло Эросу (Эроту), от имени
которого он, возможно, произнес бы
следующее:
Богу Эросу, пожалуй, далеко не радостно,
а, быть может, даже и гадко
Смотреть на то, как его именем
разбрасывается всякий чудак,
Будто потертой перчаткой.
Ведь не надо обладать ни логикой ума,
ни знанием, ни воображением поэта,
35
Чтобы эротичными обозначать части тела
Или еще какие-либо стороны желаемого
предмета.
А ведь у Эроса, изначально, имелись весьма
серьезные задачи и благородные цели,
О которых другие боги, при всех их
достоинствах, даже помыслить не смели.
Эти цели были гораздо глубже по смыслу,
чем простое продолжение рода,
Да и по масштабу — шире.
Цели, о которых говорил, к примеру,
Сократ в известном платоновском «Пире».
Призвание Эроса в том, чтобы смертным
глаза открывать
На прекрасные образы в мире вещей, давая
при этом понять,
Что они только отблеск божественных истин.
Ведь без помощи Эроса смертный, лишенный
духовной любви,
Подобен слепому с рожденья: глазами глазеет,
а видеть они не способны.
Только душа, окрыленная Эроса светом,
способна в себя углубиться
И вести восхожденье к прекрасному миру идей.
Вот что такое, о други, собой представляет
слово волшебное Эрос.
7. Софизмы и эвфемизмы
По словам древнегреческого доксографа
Диогена Лаэртского, Протагор «первый
заявил, что о всяком предмете можно сказать
36
двояко и противоположным образом», и тем
самым им положено было начало
софистике — особому роду искусства доказательства
достоверности определенных суждений.
Особенность же этого творчества заключается
прежде всего в умении вести спор, логически
манипулируя словами: «И Протагор, во пренье
словес необычно искусный...». Поскольку
софиста интересовало не столько содержание,
сколько особый способ ведения спора,
который Аристотель справедливо называл
«мнимым доказательством», а целью для него
являлась не столько истина, сколько практическая
выгода или победа, успех, постольку сами
слова «софист», «софизм», «софистика» стали
выражать прямо противоположные значения по
отношению к таким словам, как «мудрец»,
«логика», «диалектика». Отличается же
первый ряд слов и соответствующих им значений
от второго всего лишь незначительной,
казалось, добавкой «как бы», однако суть дела при
этом оборачивается в прямо
противоположную сторону, в сторону голой видимости.
Софист — это как бы мудрец, софизм — это как
бы логика и т. д. Парадокс в том, что
философствующая публика охотно продолжала и
продолжает причислять софистику к
философии, а софистов к философам, проявляя
особое расположение к их исходному принципу:
мнение человека есть мера истины. Здесь есть
о чем задуматься, ведь в таком случае выхо-
37
дит так, что количество философских
направлений может быть равно количеству имеющих
мнение индивидов. Сколько людей — столько
мнений, значит, и столько мировоззрений?!
Действительно, если каждый воспринимает
мир по-своему, в силу чего у него образуется
особое мнение, то дело, по мнению софистов,
сводится лишь к тому, чтобы суметь
обосновать свою точку зрения. Ну а если выводы в
глазах окружающих будут абсурдными и
противоречащими общепринятым
представлениям? Но зато, какой эффект! Конечно,
последователи софистов изобретали весьма забавные
экземпляры словесных ухищрений, к примеру:
а) софизм Евбулида: «Что ты не терял, то
имеешь; рога ты не терял, значит, у тебя рога» или
б) софизм Диогена: «Всё находится во власти
богов; мудрецы — друзья богов; но у друзей
всё общее; следовательно, всё на свете
принадлежит мудрецам». Однако когда говорят, что
софисты способствовали развитию культуры
мышления, то следует обратить внимание на
то, что «культурная» привычка обосновывать
свои изменчивые мнения любой ценой ведет к
примитивно изменчивому существованию
самого индивида, строго говоря, к мнимому
существованию. Нам всем знакомы ответы с
добавкой «как бы», которые уже, к сожалению,
не вызывают у многих не только чувства
протеста, но даже обыкновенного недоумения —
«как бы живу», «как бы люблю» и т. д.
38
Однако, как учит опыт истории,
софистическое искусство доказывать и опровергать
особенно становится востребованным в смутные
для сознания человека времена. Именно про
наше время писал X. Ортега-и-Гассет,
подчеркивая, что современный человек «заболел
ярко выраженной дезориентацией, не зная
больше, по каким звездам жить». В ситуации
кризиса христианских ценностей и господства
плюрализма мнений, когда эти ценности
размыты и истина вспоминается лишь в
сочетании с винными напитками или какими-либо
экзотическими блюдами, очень уместным
становится использование софизмов в
соотношении с определенной порцией эвфемизмов
(более мягких выражений, имеющих форму
условного в обществе приличия). Обернутая в
как бы логически стройную упаковку ложь, да
еще с примесью этикета, политкорректности и
прочей бутафории, может создать достаточно
правдивую иллюзию о добропорядочности, к
примеру, государственного деятеля или о
социально ориентированном политическом
курсе, который проводит правящая в данный
момент партия и пр. Не случайно, что в свое
время Ж. Ж. Руссо отмечал, что именно светское,
образованное общество пронизано самым
изощренным лицемерием. Если в древности
источником табуирования слов служили
суеверия и предрассудки, то, что же является
источником запретов на слова в цивилизован-
39
ном, да еще и демократическом обществе?
Естественная неприязнь грубых и неприличных
выражений, боязнь показать себя перед
публикой в непристойном виде или внутренний
страх перед правдой, перед справедливостью?
Тактика пришедших на мутной
демократической волне правящих кругов современной
России зачастую сводится к тому, чтобы
вовремя выставить на всеобщее обозрение свои
политические намерения и для пущей
убедительности снабдить их достаточно громоздким
количеством цифр, дабы «научно обосновать»
правильность принятых ходов. Если, к
примеру, умело и настойчиво говорить о
достоинствах национальных проектов, то недоступное
большинству жилье можно, оказывается,
смело выдавать за доступное, а некачественное
образование — за качественное и пр. При этом
власть явно извлекла уроки из прошлого, так
как уже никто не обещает, допустим, каждой
семье к определенному сроку квартиру или по
два автомобиля за ваучер. Современные
политики-софисты, продолжая выдавать желаемое
за действительное, стали внимательнее
следить за своей речью, как будто их специально
обучают воздержанию от неподобающих слов.
Например, вместо слов «воровство» и
«казнокрадство» применяется более мягкое, но
весьма неопределенное — «коррупционно
составляющая», вместо слова «нищие» —
«малообеспеченные», вместо явного «вранье» можно
40
услышать — «вы не вполне правы», и т. д.
Возрождение же старого лозунга «народ и партия
едины» на фоне социально-экономических
контрастов является яркой демонстрацией
углубляющегося кризиса сознания, когда отрыв слов
от реальности достигает уже своего предела:
чего стоит попытка выдавать
формально-юридическое равенство за
подлинно-фактическое единство нации. Однако право без правды
не менее опасно, чем правда без права, ибо
представляет собой все тот же до боли
знакомый чиновничий произвол.
«Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
(Мф 16:26).
8. Умереть от зависти
«Подобно тому как ржавчина губит железо,
так и зависть губит людей» — примерно так
утверждал Диоген, сидя в своей старой бочке.
Уж он-то понимал, насколько этот порок,
рожденный по его словам цивилизацией, опасен
для человека. «Жить нужно ближе к природе,
как можно проще, довольствоваться только
самым необходимым» — таковы были его
простые морально-практические пожелания,
адресованные особенно тем, кто запутал себя в
житейской суете сует в погоне за мнимыми
ценностями и удовольствиями. Однако
киники — последователи Диогена — были не на-
41
столько наивны, чтобы не понимать, что
нечто, однажды возникшее в виде человеческого
мира отношений, связей и зависимостей,
невозможно вновь обратить вспять. Поэтому
сами они не становились отшельниками, а,
наоборот, всячески предпочитали бороться с
«язвами» цивилизации как бы изнутри,
опираясь на вполне рациональные, правда
выраженные в резкой и циничной форме, доводы. С
помощью эпатирующих публику средств
киники-циники выражали свое неприятие к
общественным устоям, лишенным, по их
мнению, должной разумности. С разумом же
следует дружить, в противном случае у человека,
по их глубочайшему убеждению, не было
иного выбора, кроме «веревки на шею». Тем более
что разум получен людьми от природы, в
отличие от сугубо общественных даров —
богатства, знатности и пр. Однако то, что однажды
«получено» как способность суждения,
должно быть отточено в интеллектуальных
схватках, в постоянных упражнениях и доведено до
безупречной формы, ибо им приходилось
практически утверждать себя в мире сем, где
все доброе и прекрасное официально
преподносилось от имени «небожителей». Заметим,
что, всячески проявляя свою приверженность
к негативной свободе или «свободе от
чего-либо», наши герои-нигилисты не покидали той
системы отношений, в которую они метали
свои копья. Впрочем, сама система античного
мира к моменту выхода на ее сцену таких пер-
42
сонажей, как Антисфен Афинский
(легендарный основатель кинической философии, ок.
445—360 гг. до н. э.) и ранее упомянутый
Диоген Синопский (ок. 412—323 гг. до н. э.),
не могла уже существовать без своего
антитезиса. Для эпохи кризиса античного полиса то,
что естественно (а что может быть более
естественным, чем отрицающее все и вся
свободомыслие), то небезобразно. Система, таким
образом, себя воспроизводила через отрицание:
она утверждала строй, где наряду с социально
полезными вещами предлагались «служебные
тела» гетер и «говорящие орудия» рабов, и в
то же время устами киников и других школ
практической философии (скептиков, стоиков,
эпикурейцев) его же и отрицала, выступая
против плоской деперсонализации. «Разве ты
не замечаешь зла, — заметил как-то
Платон, — связанного в наше время с умением
рассуждать, — насколько оно
распространилось?». Зло рассудительности, таким образом
отрицающее то, что существует по писаному и
неписаному закону, само является
необходимым моментом существования человеческого
общества. Во всяком случае, пока человек не
достигнет действительно разумной стадии
развития своей сущности, до тех пор голоса
киников, отрицающих условности человеческого
миропорядка, будут будоражить
общественность. Однако вернемся и к зависти как
одному из извечных спутников общества, против
которого выступал Диоген. Зависть есть про-
43
дукт тех же самых отношений, в которые
всякий человек вплетен с момента выхода «из-
под опеки природы», по словам Канта, и
которые постоянно демонстрируют ему, кто он
есть в плане социального статуса или законом
установленного порядка. Поэтому чувство
досады, вызванное успехом какого-нибудь
«ближнего», как было уже замечено
древними, могло пробудить не только скрытое, но и
фактически нескрываемое неприятие.
Вспомним, к примеру, как просто прозвучал ответ
мудреца Фалеса на однажды заданный ему
вопрос «когда легче всего сносить
несчастье?» — «когда видишь, что врагам еще
хуже». Однако врагом зачастую становится
тот, кто по каким-то признакам оказался выше
средних показателей, кто благодаря
собственным усилиям или в силу счастливых
обстоятельств оказался в числе общественно
значимых персон. Бунт «низов» (метеки,
изгнанники, вольноотпущенники, рабы, свободная
беднота, неимущая интеллигенция,
женщины), от имени которых, как правило,
выступали киники, был и остается отчасти бунтом
чувства зависти. Разумеется, что само
противоречие сословно-классового порядка нельзя
выводить из этого чувства, оно гораздо
глубже по своему содержанию и относится к иной
теме. Однако душевные муки, вызванные
чувством зависти, могут служить достаточным
основанием для выхода отрицательной
энергии вовне; при ином же раскладе, т. е. когда
44
внешний объект, на котором можно было бы
«отыграться», отсутствует, они, как известно,
далеко не всегда разрешаются победой над
собой, оборачиваясь часто трагическими
развязками. Поскольку же вернуться к первозданной
природе невозможно в принципе, то киники
«освобождали» себя от общественной
зависимости, а вместе с этим и от зависти,
воображая себя «гражданами мира, без родины и
дома» (Диоген) или «гражданами темноты и
бедности» (Кратет). Хотя понятно, что такое
«освобождение» было постоянным
испытанием воли на несгибаемость, поскольку не
признаваемое публикой их внешнее
самоутверждение было слишком уязвимым. Так,
аскетические причуды философствующего Диогена,
вроде обнимания статуй зимой и зарывания
себя в горячий песок летом, при этом
непреклонное правдолюбие и едкое остроумие,
доходящее до откровенного презрения к
общепринятому положению вещей, не только
создавали почву для возникновения мудрых
легенд и многочисленных анекдотов, но и
порождали откровенных врагов.
Современное цивилизованное общество —
это общество разобщенных между собой
индивидов, однако которые, находясь в общем
забеге за личным успехом, объективно связаны
между собой целой сетью условностей
экономического, правового и морально-этического
порядка. Как это ни странно, но в нашем
технически продвинутом информационном мире,
45
в мире господства, казалось бы, условных и
относительных величин,
безусловно-первобытным и неизменным началом остается все
та же пульсирующая в самом человеке
зависть. Только теперь она выступает уже не
как нечто привходящее, что вызвано и
порождено было когда-то цивилизацией, а как что-то
такое изначальное и неизбежное, с чем
следует считаться как с некоей природной
данностью (из чего, впрочем, деятели маркетинга
или политтехнологи научились извлекать
определенную экономическую и политическую
пользу, умело манипулируя в своих целях
общественным сознанием, однако не об этом
сейчас речь). Итак, вызванная
превосходством и благополучием одного индивида по
отношению к другому, зависть продолжает
вызывать описанное еще Диогеном раздражение
и тем самым лишать человека покоя. У
всякого, кто ее по-настоящему испытывает, даже
если это так называемая белая зависть,
возникает вначале некоторое внутреннее
смятение, ощущение той самой «ржавчины»,
которое при определенном стечении обстоятельств
может у кого-то и пробудить положительный
импульс к самоочищению и
самосовершенствованию, но у другого может перерасти в
устойчивое чувство собственной
неполноценности и бездарности. Вспомним описанное
Пушкиным отчаяние Сальери, который, будучи
насквозь пораженный завистью, приходит к
совершенно безысходному выводу: «Все гово-
46
рят: нет правды на земле. Но правды нет — и
выше».
Резюмируем. Можно с большой степенью
достоверности говорить о
предрасположенности людей к зависимости от зависти, особенно
у тех, кто постоянно рефлектирует по поводу
чужих дел, чужой интимной или еще
какой-либо жизни, кто вечно озабочен тем, как
обстоят дела «у соседа», и т. д. — одним
словом, кто живет вне себя. Это экстатическое
состояние души Гегель назвал несчастным
сознанием, преодолеть которое по
определению невозможно с помощью изменения
внешних условий жизни. Внешних — да (Томас
Мор был великим мыслителем, но утопистом,
искренне полагавшим, что отсутствие у
сограждан частного имущества является
важнейшим условием, которое, наконец-то, позволит
грешным избавиться и от такой формы
зависимости, как зависть).
Хотя идея преобразования общества
сограждан в единую и неделимую духовную
общность, в которой индивидуальные различия
потеряют существенное значение и смысл
(а вместе с такой «потерей» само собой
исчезнет и почва для зависти!), не является, на наш
взгляд, случайной идеей, но она предполагает
тернистый путь познания истины и на этой
основе коренное преобразование
человеческого духа, о котором сказано в Евангелии. Об
этом стоит подумать.
47
9. Цены и ценности
То, что имеет рыночную цену (Marktpreis),
как полагал Иммануил Кант, может быть
заменено также и чем-то другим как эквивалентом.
Цена, следовательно, имеет только
относительную, условную и внешнюю ценность. Это слово
поэтому может быть применимо к сфере таких
отношений людей, в которых, во-первых, все
условно и относительно, во-вторых, все имеет
внешне-вещную, чувственно воспринимаемую
форму бытия и, в-третьих, удовлетворение
общих человеческих потребностей — в пище,
одежде, жилище — является необходимой
заботой каждого. Речь, таким образом, может
идти только о строго ограниченной сфере
человеческих отношений, а именно о
социально-экономических, и прежде всего
товарно-денежных, отношениях, где деньги по праву
выступают в качестве всеобщего эквивалента для
всей массы товаров и услуг Более того, товары
и услуги только в цене или денежной форме
обретают, как сказал бы К. Маркс,
соответствующую их стоимости, или затратам рабочего
времени, форму и степень социальной
значимости. Поскольку же деньги являются
выразителем ценности вещей и, так сказать,
определяющим основанием последних, постольку
неудивительно, что в глазах деятелей рынка они
становятся буквально богом вещей, ради
которого эти деятели и осуществляют свой бизнес.
48
Однако, по Канту, есть то, что выше всякой
цены и не допускает никакого эквивалента,
что имеет внутреннюю ценность (innern
Wert). Речь идет, прежде всего, о «вещах»
эстетического и морального порядка, иначе
говоря, о предметах, в которых и через которые
проявляет себя безусловное,
абсолютно-духовное начало. «Не продаётся вдохновенье,
но можно рукопись продать» — так
поэтически выразил мысль немецкого философа
русский поэт А. С. Пушкин, а для него, как
известно, тема «цены и ценности» была отнюдь
не безболезненной темой, поскольку
затрагивала одновременно и морально-этическую
сторону творческого процесса. Ведь писателю в
не меньшей степени, чем издателю, понятно,
что в мире условных величин, в мире
рыночной конъюнктуры не может быть
объективного критерия в вопросах денежной оценки
значимости созданного им произведения. Более
того, для него вопрос о цене рукописи не
является принципиальным, поскольку его
помыслы и живое воображение, воплощенные в
ней, выходят за рамки цены как таковой,
правда, пока этот вопрос не затронет самое что ни
на есть значимое и принципиальное, не
затронет чести и достоинства творческой
личности. Здесь уже ни о какой уступке не может
быть и речи.
Однако дух романтизма и
категорического императива, характерный для эпохи
«бурных гениев», вместе с развитием капиталисти-
1 Зак. 3426
49
ческих отношений стал заметно блекнуть,
уступая место иному духу — духу
меркантилизма и гипотетического императива, для
которого уже ценности духовной культуры не
имеют безусловного значения, поэтому они и
оказались в одном ряду с ценами. Вот как, к
примеру, в духе гипотетического императива
рассуждал американский просветитель и
государственный деятель Бенджамин Франклин:
«Честность полезна, так как она обеспечивает
хорошую репутацию; таковы и точность,
трудолюбие, бережливость, и именно по этой
причине они являются добродетелями».
В новейших условиях, когда на
исторической арене определяющую роль стал играть
англо-американский прагматизм, с присущим
ему культом количественно-рыночных
критериев, все стало еще проще: теперь рынок стал
мерой не только вещей, но и людей. Отныне
все можно покупать и продавать, причем на de
jure законных основаниях, поскольку степень
овеществления лиц достигла
соответствующего этим основаниям определения: лица
попросту «распылились», превратившись в
носителей полезных производственных и социальных
функций. Кто не согласен и пытается
сохранить свою духовную автономию — тот, в
лучшем случае, имеет право на высказывание
своего личного, отличного от общего и
правящего положения дел мнения.
Спустя порядка ста пятидесяти лет после
вышеуказанной эпохи свободного творчест-
50
ва, Питирим Сорокин, русский
философ-социолог, в работе «Кризис нашего времени»
ярко высветил феноменологию общего спада
духовной культуры западного мира, в котором
и в настоящий момент времени продолжает
происходить процесс своеобразного
вытеснения эстетических, этических и философ-
ско-научных ценностей
утилитарно-экономическими. Он сделал это отчасти на основе
своей концепции развития культуры, отчасти на
основе тщательного эмпирического анализа
самой действительности западных обществ, и
прежде всего США. Поскольку проблема,
затронутая русским социологом, особенно
актуальна для сегодняшней России, не лишне, мне
думается, напомнить о выделенных им
аспектах духовного кризиса, тем более что он
протекает на фоне внешнего процветания
западной цивилизации, на фоне
научно-технического прогресса, экономического роста и пр.
«Искусство, — пишет П. Сорокин, —
постепенно становится товаром, произведенным в
первую очередь для продажи... для
потребительства, развлечения и удовольствия, для
стимуляции усталых нервов и сексуального
возбуждения. Но ведь оно обслуживает
рынок, а потому не может игнорировать его
запросы. А поскольку большая часть этих
запросов вульгарна, то и искусство само не может
избежать вульгаризации. Вместо того чтобы
поднимать массы до собственного уровня, оно,
напротив, опускается до уровня толпы. В ре-
51
зультате божественные ценности искусства
умирают во мнении публики (курсив мой. —
А. Л.). Граница между истинным искусством и
чистым развлечением стирается: стандарты
истинного искусства исчезают и постепенно
заменяются фальшивыми критериями
псевдоискусства. Таковы первые признаки
разрушения искусства, художника и самого человека».
«В той же самой системе истин и ценностей
возникает доктрина релятивизма. Все
становится относительным — истина и ошибка,
этические и эстетические каноны и многое
другое. Наука и философия становятся
пропитанными утилитарными целями. Философия
становится неопределенной идеологией, всего
лишь обобщением, основанным на
заключениях утилитарных наук, или пустым
семантическим исследованием „логического синтаксиса
языка"». Заметим, что негативные тенденции
в сфере духовной культуры, выявленные
П. Сорокиным и многими другими
мыслителями (например, о «нетрансцендентности»
современного искусства писал X. Ортега-и-Гас-
сет, подчеркивая отсутствие в нем глубокого
философского и религиозного основания), в
начале третьего тысячелетия оборачиваются
уже полной культурной катастрофой. По
словам В. Н. Поруса, «речь не о том, что некие
ценности разрушены или отброшены. Речь о
„вырождении" ценностей как таковых, об
отказе от самого понятия культуры как того,
что образуется духовными универсалиями».
52
(О превращении современной культуры в одну
из сфер капиталистического бизнеса с
глубоким пониманием и болью в сердце писал и
д. А. Зиновьев в книге «Запад».)
Впрочем, на Западе творческая мысль пока
не полностью «заморожена», так как можно
еще обнаружить серьезные размышления на
данную тему, к примеру, у Ж. Маритена
(«Ответственность художника»), X. Ортега-и-Гас-
сета («Дегуманизация искусства»), В. Вейдле
(«Умирание искусства»), Г Марселя («К
трагической мудрости и за ее пределы») и других
представителей философии культуры и
литературы. Это вселяет пусть слабую, но все же
надежду на возрождение духа
категорического императива и вместе с ним безусловных
ценностей.
10. Осуществление
или овеществление
Современное постсоветское общество
довольно-таки щедро предоставляет своим юным
согражданам, у которых только начинается
пробуждаться чувство независимости и
самостоятельности, подборку всякого рода
предметов-фетишей, чтобы как можно скорее
воспрепятствовать естественному процессу
становления их самосознания. Это, прежде всего,
ослепляющий взоры денежный фетиш,
поскольку товарно-денежные отношения (Т—
53
Д—Т) проникают у нас вполне легально
практически во все сферы, и даже в такие весьма
отдаленные от экономической жизни, как
морально-интимные. Лозунг «всё — на
продажу!» уже никого не раздражает. Это и
раздуваемая СМИ любовь к телу, поскольку
озабоченность проблемой телесного здоровья,
омоложения, изменения форм лица, груди и
пр. давно уже перешла резонные границы.
Деньги — это сила, определяющая научный
прогресс, а тот в свою очередь питает наше
тело по последнему слову техники. Технику
можно также выделить в особую
фетишистскую категорию, поскольку она наполняется
интеллектом, благодаря чему ей приписывают
совсем не свойственные материальным
предметам качества. Короче говоря, деньги, тело и
техника все более очеловечиваются, а лица,
культивирующие эти и подобного рода вещи,
все более овеществляются. Жан Жак Руссо во
многом оказался прав в том, что пущенная на
самотек мировая цивилизация ничего, кроме
извращения нравов и порождения все новых,
более изощренных способов духовного
рабства, человеку дать не сможет. Сложность
ситуации заключается в том, что взятый нашим
политическим руководством стратегический
курс на притирку к Западу (ВТО, система
образования и т. д.) как раз направлен на то,
чтобы сознательно ввести Россию и вместе с
ней проживающие здесь народы с присущими
им культурными особенностями в этот общий
54
мировой самотёк. «Все идут туда, ну вот и мы,
а чем мы хуже?». Надо сказать честно, что
мы — хуже, но не потому, что отстаем от
Запада в технологическом или
формально-правовом отношении, а прежде всего потому, что
принимаем на веру всякого рода
наукообразные мифы и стандарты западно-европейского
пути. Плюрализм мнений, свободная мораль,
формальное право, рыночные отношения...
Уже американский футуролог Ф. Фукуяма
заметно изменил свои прогнозы о «конце
истории», поскольку понял, судя по книге
«Америка на перепутье», что невозможно изменить
человечество к лучшему, если не знаешь, в
чем заключается сущность его бытия. Не для
того, надо полагать, человечество прошло
двухтысячелетний путь христианского
испытания, чтобы вместо осуществления
обетованной Христом духовной свободы впасть в
чуждый духу процесс овеществления
человеческих отношений. Конечно, можно, так
сказать, персонально заниматься духовными
изысканиями, совершая подобно некоторым
нашим звездам рока паломничество на Восток,
но это не изменит общую ситуацию в корне.
Нельзя уповать на инстинкт молодежи, что
она якобы сама найдет все нужные ходы и
выходы в созданных предшествующими
поколениями лабиринтах. Мне думается, что не
найлет: во-первых, она в подавляющем
большинстве живет духом мира сего, а значит,
прагматически настроена на личный успех и
55
решение выгодных для себя проектов,
контрактов и пр., что само по себе замечательно;
во-вторых, она имеет дело не просто с миром
вещей, а вещей особого рода — фетишами, от
которых просто так не абстрагируешься;
в-третьих, она завязана на конечные цели и
определенный набор правил и средств их
достижения, и т. д. и т. п. А для выхода из тупика
всемирного масштаба необходимо, чтобы и
масштаб мышления был принципиально иным.
Этим масштабом на сегодня, как мне
представляется, обладает совсем небольшая часть
той самой пресловутой русской
интеллигенции, которую как бы не порицали за те или
иные прегрешения, которыми она наполняла
отечественную историю, однако никто, кроме
нее, не в состоянии различить
действительный ход исторического процесса от мнимого
его разворота. Дело в том, что еще на волне
горбачевской перестройки в кругах
либерально настроенных политиков возникла иллюзия,
что Россия, дабы преодолеть вековую
отсталость и нарождающуюся войну всех против
всех, должна двигаться по известному евро-
сценарию, написанному в свое время Дж. Лок-
ком. К тому же СССР в 1948 году подписал
«Всеобщую декларацию прав человека». Нет
сомнения, что представления о верховенстве
закона и разделении властей, об
неотчуждаемых правах граждан были и остаются
важнейшими предпосылками для развития свободной
личности. Более того, надо отдать должное
56
мыслителю, который впервые, пусть на
формально-рассудочном уровне, временно
разрешил проблему сочетания
противоположностей, а именно индивидуальной свободы и
порядка, положив в основание этого сочетания
идею общественного договора. Однако, как
свидетельствует мировой кризис,
общественный договор уже не выступает в качестве
действительного основания жизни народов,
поскольку формальный принцип достаточного
основания, конкретизацией которого он
является, себя исчерпал как исторически, так и
логически. Актуальным становится такое
понимание сущности основания, о котором сказано
в Евангелии. Ведь сравнивая себя с
краеугольным камнем, Христос, жертвуя собой,
заложил в основание человеческой истории
вневременное, а потому нетленное знание,
оставляя за нами абсолютное право на его познание
и осуществление. «И познаете истину, и
истина сделает вас свободными» (Ин 8:32).
11. О достоинстве
и назначении человека
На фоне немеркнущей популярности
философских воззрений Фридриха Ницше
воззрения другого немецкого философа — Иоганна
Готлиба Фихте совсем не известны широкой
общественности, и не потому, что он менее
талантлив как мыслитель, а только потому, что
57
является представителем классической
философской мысли и христианской культуры в
целом. Массовая же культура в лице своих
многочисленных потребителей ни христианской
религии в ее существенном понимании, ни
тем более философской классики не признает,
потому что такого рода феномены требуют
проявления усилий, некоторого внутреннего
напряжения, одним словом, духовной работы
над собой. Парадокс в том, что и
произведения Ницше, по большому счету, также далеки
от простоты восприятия, однако они известны
широкой аудитории, во всяком случае, по
различным афоризмам, фрагментам произведений
и по многочисленным исследовательским
начинаниям, посвященным его творчеству.
Почему именно ницшеанские изречения
приобрели не свойственную философии
распространенность? Прежде всего, как мне
представляется, своим крайне бунтарским духом,
отрицающим практически все наследие
мировой классики, во-вторых, относительно
доступной формой изложения, наполненной
поэтическими ритмами и рифмами,
фантастическими сюжетами и даже целыми легендами и,
главное, своей безудержной, иррациональной
по сути энергией самоутверждения жизни или
«воли к власти». Кто еще из писателей
обладал столь ярко выраженной потребностью
извергать из себя «сверхчеловеческие»
откровения, отрицающие существование духа,
разума, истины? Все это поэтому оказалось
58
удобоваримым продуктом, востребованным
особенно нашей, современной эпохой «общего
измельчания духа», по словам самого же
Ницше. Впрочем, речь пойдет не о падении уровня
духовного воспроизводства человечества и
особой роли Ницше, способствовавшего этому
падению. Нас в данной заметке интересует
больше, так сказать, идейная сторона его
творчества, нежели необычность способа
письма, чтобы, во-первых, показать ту
невидимую нить, которая связывала двух немецких
мыслителей и, во-вторых, чтобы, не
задерживаясь на известных измышлениях одного,
попытаться понять вместе с читателем
неизвестные по сей день размышления другого.
Идея человека, преодолевающего
конечность, смертность и восходящего к своей
бесконечной и нетленной сущности, возникла
задолго до вероучения Христа, кстати говоря
откровенно отрицаемого Ницше. Однако у
такого христианского мыслителя, как Фихте,
эта идея особенно получает наиболее
развитую в научном смысле форму. Что касается
автора книги «Так говорил Заратустра»,
Ницше, то и у него причудливым образом эта идея
находит себе пристанище, однако форма этой
идеи получает уже далеко не адекватный
науке вид. Более того, сам термин «высший
человек», который Ницше использовал в
вышеназванном произведении наряду со
«сверхчеловеком», Фихте применял уже задолго до
«Заратустры», можно сказать, «по ту сторону»
59
девятнадцатого столетия. Впервые мы
встречаем это слово в работе «О достоинстве
человека» (1795). Пафос этого совсем небольшого
произведения заключается в уверенности
классика трансцендентального идеализма в
безграничных возможностях
«практически-деятельной способности» человеческого
духа, потому что всякий, кто способен
произнести «я есмь», по словам Фихте, есть образ
«высшего человека», поэтому обладает
присущим последнему достоинством. Само
христианство, по Фихте, основано на абсолютном
принципе самосознания или, иначе говоря, на
вечном и конкретном тождестве
божественного и человеческого начала, однако эта
«небесная» сущность в ходе развития всемирной
истории как процесса самопознания мирового
духа подверглась отчуждению от земного
существования человека. Поэтому в качестве
главной морально-практической задачи
ученого сословия Фихте видит то, чтобы
содействовать «целостному образованию человека»,
т. е. не оттолкнуть его от света знания как
никчемный материал, а, наоборот, помочь
человеку в вопросе восхождения к своей
первооснове, к высшему, подлинному бытию, т. е. к
себе самому. «Философствуем из нужды ради
спасения» — как когда-то написал он в письме
к Фридриху-Генриху Якоби. Что же касается
Фридриха Ницше, то у него, несмотря на эпа-
тажно-циничную и подчеркнуто негативную
форму выражения, высказывается та же по
60
сути мысль, что «человек есть нечто, что
должно превзойти», однако согласно его
учению не сам человек преодолевает свою
ограниченность, — он, по Ницше, по определению
ничтожен и обречен оставаться в абстрактной
середине между животным и
сверхчеловеком, — а Некто, однако не просто как более
могущественный представитель человеческого
рода, а принципиально иной, не ведающий
табу Субъект, чья миссия заключается в том,
чтобы сменить человека как отработанный
ресурс истории. Почему так должно произойти?
Ответ у Ницше имеется, правда не
требующий никакого логического основания: так
говорил Заратустра. Однако уже в книге «По ту
сторону добра и зла» можно встретить прямо
противоположные, даже, можно сказать,
положительные, суждения, высказанные в адрес
классической философской мысли, в
частности гегелевской. Более того, здесь мы найдем
и весьма поучительные для современного
ученого сообщества авторские признания, что
именно «духовная убогость самих новейших
философов радикальнейшим образом
подорвало уважение к философии и раскрыла ворота
к плебейскому инстинкту» (так, наверное,
неожиданно для самого себя Ницше
расправляется со своим учителем — Артуром
Шопенгауэром). На самом деле абсолютизированный
Ницше принцип «воли к власти», по
отношению к которому всё — и даже сам процесс
познания — выступает лишь средством, или
61
«орудием власти», только по видимости
разрешает сугубо человеческие проблемы. Даже
понятие Бога он сужает до неузнаваемости,
пытаясь его все же сохранить, однако только в
одном отношении — в качестве «известной
точки в развитии воли к власти». Итак, чтобы
наш дух окончательно не окаменел от всякого
экстравагантно-случайного чтива («еще одно
столетие читателей и дух сам будет
смердеть» — таков был прогноз Ницше),
постараемся же не терять творческую связь с
вечностью, воплощенную, однако, только в
классике, поскольку классика — это настоящее в
настоящем.
В 1800 году Фихте завершает свое
сочинение «Назначение человека», в котором
стремится показать, что всякий человек способен
преодолеть муки сомнений и стихийных
поисков истины и стать тем, чем он, по сути дела,
является — настоящим творцом своей жизни
и своей судьбы. Названия трех книг,
входящих в состав данного сочинения, —
«Сомнение», «Знание» и «Вера» — выражают
содержание трех этапов становления человеческого
духа, которые можно было бы обозначить как
догматический, критический и
трансцендентальный.
Первый этап связан с представлением о
естественном происхождении духа, согласно
которому, даже став в определенный момент
своей жизни «для себя самого», человек
продолжает рассматривать себя «как звено в этой
62
цепи строгой естественной необходимости».
Более того, он разрабатывает целые
концепции, в которых рационально, в соответствии с
законом причинности, объясняет себе и
подобным себе существам свою «зависимость от
природы как целого». Природа — субстанция,
а человек — акциденция, «в этом высшем и
совершеннейшем ее творении она созерцает
и познает себя; она в нем как бы удваивается
и из простого бытия становится соединением
бытия и сознания». Однако такой ход вещей
может удовлетворить только догматика, для
которого понятия «свобода» и
«самоопределение» не более чем иллюзия. Сомнение в такой
«предустановленной гармонии», во-первых,
порождает первостепенной важности вопрос:
свободен ли я и самостоятелен, или я сам по
себе ничто, а существую как проявление
внешней, потусторонней силы? Во-вторых,
побуждает человека сделать единственно верное
решение, ведущее его по пути спасения, по
пути любви или «непосредственного
самосознания», даже если этот путь противоречит
уверенному в своей правоте рассудочному
знанию.
Второй этап связан с диалектикой
сознания, подверженного воздействию со стороны
внешнего мира вещей, и самосознания,
которое постоянно ищет только в себе точку
опоры. Для популярности Фихте облек эту
диалектику в форму виртуального диалога.
Сознание по мере своего развития само раз-
63
дваивается на непосредственное, чувственное
и опосредованное, рассудочное сознание.
Последнее как раз и порождает представление о
предмете как субстрате многообразных
качеств, а самосознание подвергает сомнению,
отрицанию всякую предметность, объясняя
логику происхождения сознания предмета как
«выведенного посредством закона основания».
Одно дело — непосредственность ощущения,
а другое — это представление о предмете,
который «ты примышляешь к твоему
непосредственно сознаваемому ощущению».
Знание как синтез противоположных
определений сознания само является результатом
априорной связующей деятельности, без
которой невозможна никакая форма сознания.
Только она и выступает в качестве
необходимого условия всякого сознания, «так как я
сознаю вещи в тот же самый неделимый
момент, как сознаю самого себя». Самосознание
есть постоянное «возвращение знания в себе
самом», которое впервые проявляется в опыте
индивидуального духа как двойное отрицание:
во-первых, непосредственности чувственно
воспринимаемого сознания и, во-вторых,
опосредованное™ рассудочно-аналитического его
действия. Вместе с тем непосредственное
тождество самосознания — Я=Я — есть
совсем иная форма непосредственности, в
которой в скрытом виде заключено все
многообразие, поэтому и «закон основания, посредством
которого можно заключать о вещах, находит-
64
ся ведь в нас самих». Отсюда следует
убийственный аргумент против догматического
мышления: «Вещь в себе есть мысль,
исключительно мысль, но такая, которую никто не должен
мыслить». Однако, расшатав всю наличную
опору знания как систему необходимых
представлений и достигнув, казалось бы,
желаемой цели, критическое мышление само
испытывает закономерный кризис, оно ищет
спасения... «Чего же ты еще ищешь, тоскующее
сердце?».
Третий этап связан с осознанием в себе
«стремления к безусловной, независимой
самодеятельности» и особой «способности и
влечения выйти за пределы нашего естественного
воззрения», за пределы положительного
знания. Эту способность Фихте называет верой.
Знание, не имеющее в себе самом основания,
истинной достоверности, благодаря вере
должно уступить место безусловному
началу — конкретному тождеству сознания и
самосознания, «царству свободы и разума».
Выйти за пределы «естественного воззрения»
означает возвращение к себе, так как наши
представления в лучшем случае суть только
образы разума, за которые как за истинную
реальность это воззрение держится, «чтобы
наслаждаться ею». Однако бремя закона
разума, действующего в своем опыте, в своей
человеческой истории, может быть легким
только для тех, для кого разум есть истинное
благо. «Не разум существует ради бытия, но
5 Зак 3426
65
бытие ради разума. Бытие, которое само по
себе не удовлетворяет разума и не разрешает
всех его вопросов, никоим образом не может
быть истинным бытием». Разум в себе
содержит цель и смысл жизни человека, для
которого «жизнь в вере» означает разумное
восхождение к своей первооснове.
«Сверхчувственный мир отнюдь не будущий мир, это мир
настоящий», войти в который может и должен
человек, через новое, духовное рождение.
«Поистине мы должны, согласно образам
священного учения, сперва умереть для мира и
вновь родиться, чтобы мочь войти в Царствие
Божие».
И если философия Ницше утверждает, что
«жизнь полнее там, где она менее всего
сознательна», поскольку, по логике его учения,
простому человеку ничего не остается, как тупо
подчиняться более сильным индивидам и тем
самым «сопутствовать росту власти», то
философское воззрение Фихте, наоборот, видит
высшее назначение каждого человека в
деятельности преобразования своей жизни через
развитие собственной свободы духа.
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ
СПЕКУЛЯТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
И РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ:
ПОНИМАТЬ И БЫТЬ У СЕБЯ
1. Всё знают все?
Подобно старинному дамскому шлейфу
вместе со старением человеческой истории
тянется представление о том, что все знать
невозможно, ну разве что только в
совокупности своей людям под силу объять свое
бытие со всех сторон. Во всяком случае, всегда
есть те, кто настроены пессимистически по
отношению к знатокам-одиночкам и
оптимистически по отношению к некоему
коллективному разуму, искренне веруя в
истинность формулы — «всё знают все». Особенно
такая уверенность заявляет о себе в наш
постиндустриальный век, когда в потоке
текущих сведений сваливаются без какого-либо
разбора в одну кучу как знание, так и
всевозможные представления и мнения, а сама эта
«свалка» именуется ныне информацией.
«Скачать информацию», стало быть, означает
извлечение из нее определенной порции
эклектического «добра».
67
Для остроты восприятия проблемы
попробуем представить себе виртуальный диалог
нашего категорически уверенного в
истинности формулы «всё знают все» с неким
знатоком-философом, имеющим принципиально иной
взгляд на этот вопрос. Первый будет выражать
точку зрения здравого смысла, а второй —
науки. Последнему вдвойне не просто,
поскольку, во-первых, ему придется говорить на языке
обычного представления о таких необычных по
своей сути вещах, как знание, и, во-вторых, ему
нужно постараться выделить саму эту «вещь»
как абсолютно не сводимую ни к мнениям, ни к
потоку информации вообще.
Здравый смысл
Частицу бытия познать дано
Премудрому Платону иль Ньютону,
А всё познать не суждено,
Поскольку по закону —
«Всё знают все». Пора и вам понять.
Наука
Я в принципе здесь с вами не согласен,
Поскольку все во власти мнений или мнимых
знаний,
И как ты не устраивай симпозиумов
иль собраний,
А «что есть всё?» — вопрос не станет ясен.
68
Здравый смысл
Однако «всё», ведь это синтез всяких знаний,
Чего уж там мудрить по поводу исканий
Вечных истин. Берешь одно, другое и слагаешь,
А в результате сумму знаний получаешь.
Наука
Вот это куча! Боже, нет сомненья,
Когда б лишил меня ты разумения,
Я б согласился съесть сей винегрет
Из всякой мишуры. Какой вам дать ответ?
Пока не знаю, впрочем, есть, к примеру,
Интернет.
В нем бесконечное число различной
информации,
Но только для того, кто знает — не секрет,
Где зерна правды, где шелуха фальшивых
комбинаций.
Здравый смысл
Согласен, что знаток скорей уразумеет
Всё то, чем человечество богато,
Однако только частью он сумеет
Распорядиться, причем не важно, подло
или свято.
Наука
Ну что ж, уже теплее в той лишь части,
Что знают знатоки, а не профаны.
А что есть знание? И как к нему причастен
69
Субъект познания — вот задача, к которой
Нам уже не подойти...
Невозможность подойти к вопросу «что
есть знание?» обнаруживается не только в
нашем диалоге, но в диалоге вообще как способе
дискурсивного восхождения от незнания к
знанию, это связано с тем, что сам предмет
требует, чтобы субъект познания поднялся на
принципиально новый уровень — уровень
всеобщего, или трансцендентального,
самосознания. Только на этом уровне впервые
содержание и форма знания станут действительно
единым, целостным основанием любой
научной дисциплины. Для сознания же или точки
зрения так называемого здравого смысла
(рассудка) этот уровень трансцендентен или,
иначе говоря, запределен, поэтому всегда будет
до конца не понятна проблема знания. Всегда
будет невидимым образом присутствовать
тень Понтия Пилата с его неизменным
вопросом «Что есть истина?», вопросом, который, в
свою очередь, не может не вызывать у
публики негативного отношения к серьезным
философским изысканиям. Дело в том, что
рассудочное сознание, в лучшем случае, имеет дело
с особенным знанием, но не со знанием как
таковым: целое и изначально сущее для него
есть условное понятие или, куда страшнее,
фикция. Этим и объясняется его неприязнь не
только в отношении философского знания, но
70
и в отношении всего эстетически, морально и
религиозно возвышенного. Особенные формы
знания как части целого могут быть
представлены опытными науками, безупречность
которых для здравомыслящего сознания
объясняется, прежде всего, тем, что они построены по
законам математики и формальной логики.
Однако то, что безупречно для рассудка, на
самом деле не является таковым для разума.
Это доказал уже Декарт — математик, физик
и философ в одном лице. Только тождество
самосознания, по Декарту постигаемое
«естественным светом разума», является истоком
всякого особенного знания, в том числе и
физико-математического. Все числовое
содержание, как ранее об этом писал Николай из
Кузы, заключено в рамках абсолютного
минимума и абсолютного максимума, т. е. в рамках
философского понятия абсолютного
тождества, которым формальная логика и математика
пользуются как своим, скорее всего не
отдавая этому отчета. Кроме того, математика
конструирует свои объекты, опираясь на
созерцание пространства и времени, и имеет, таким
образом, «средства внешнего изображения»,
по выражению Шеллинга. Кстати говоря,
именно поэтому она более понятна
рассудочному сознанию, т. е. по школьному
образованному большинству. Философия же только
одна в своем роде наука, которая является
делом самого разумного познания, а не делом
71
того или иного индивида, поэтому для нее
целое никак не фикция, а то, благодаря чему все
здание научных дисциплин и держится. Что
же касается законов формально-логического
порядка, то согласно трансцендентальному
учению о знании, разработанному Иоганном
Готлибом Фихте, только чистый дух
самосознания сам порождает себя в форме первых
основоположений всякого особенного знания,
из которых рассудок затем абстрагирует
только всеобщие формы связи, именуемые
законами логики, почему они и получают у Фихте
меткое название — «искусственный продукт
человеческого духа». К примеру, так
называемые законы противоречия и достаточного
основания, обосновывающие аналитические и
синтетические операции рассудка, выводятся
из второго и третьего основоположения его
учения, а логический закон тождества,
признававшийся с античных времен самым
достоверным положением логики и условием
возможности познания вообще, выводится или,
как говорит ученый, дедуцируется из первого
основоположения «Я=Я». Так что тема
знания, если в нее погрузиться целиком, совсем
не проста, как она лихо представляется
здравому смыслу. Все-таки, надо полагать, не
напрасно человечество потратило усилия в деле
самопознания, чтобы нетленное в себе самом
ЗНАНИЕ сбросить однажды в мутный поток
информации и растворить его в нем.
72
2. Познай самого себя
Обычно процесс самопознания соотносится
с желаниями тех или иных индивидов узнать
присущие им психологические особенности с
помощью тестов. Благо, что существует
множество разработанных современными
психологами классификаций характера человека,
которыми можно успешно воспользоваться в
этих целях. Можно, к примеру, измерить
«толщину» защитных психологических
барьеров (степень чувствительности) по методу
психолога Эрнста Хартмана или выяснить,
насколько хорошо вы умеете слушать
собеседника по методике Стивена Бэнка, и т. д. Однако
проблема самопознания совершенно не
сдвинулась бы с места, если бы все дело сводилось
к психологическим особенностям человека и
не затрагивало его существенного бытия.
Вспомним, что один из первых мудрецов
человечества, Фалес, на вопрос «что труднее
всего?» ответил определенно — «познать самого
себя», а несколько позже Сократ возводит
уже это положение в основной принцип
философии. Следуя логике философа — «мы
непременно должны знать равное само по себе еще
до того, как увидим равные предметы», —
можно сказать, что только знание того, что
есть наша вечная сущность, позволит нам
знать все иное, в том числе и смысл нашего
сиюминутного существования. Однако как
73
свидетельствует человеческая история, для
большинства ученых логика Сократа не
являлась путеводной звездой познания истины, а
скорее всего, наоборот, вместе с
возникновением отдельных научных дисциплин вся
познавательная мощь человечества набросилась
как раз на иное, на познание внешнего мира
вещей. Внешний предмет в своем
многообразном облике отныне противопоставляется
человеку вместе с присущими последнему
способностями чувствовать, анализировать,
классифицировать и т. д., как будто именно
предметный мир, к примеру движение
небесных тел, обладает высшим содержанием
познания и существует сам по себе.
Поразительно не то, что человек совершил грехопадение,
сорвав некий плод с мифического древа
познания, и тем самым отпал однажды от своей
божественной основы, а то, что он сам, породив
науки, теперь устами ученых мужей начинает
уверять самого себя в существовании
безусловных сущностей-законов, существующих по
ту сторону сознания человека и
определяющих последнее. Что касается философии, то
впервые, начиная с Парменида, была
проведена абсолютная граница между божественным
знанием и человеческим мнением, граница,
которую хорошо понимал Сократ,
стремящийся вместе с тем ее преодолеть через
диалектику. Его знаменитое «знаю, что ничего не
знаю» является как раз началом этого преодо-
74
ления, поскольку знание того, что мнение не
есть знание, является особой формой
последнего, которая не относится ни к одной из
сторон, но в то же время содержит в себе то и
другое. Для Сократа истинная сущность
человека пребывает в его бессмертной душе,
поэтому самопознание и есть тот путь, по
которому следует идти. Однако решить
проблему восхождения истины к себе самой
окажется не под силу Античности, для этого
понадобится целая эпоха христианского
самоотвержения. Вот почему Платон и
Аристотель раскрывают определенность сущности
человека как единства противоположного, но
в отрыве от земного существования самого
человека. Так «божественное мышление» у
Аристотеля составляет замкнутый,
тождественный только себе круг целого, по
отношению к которому «человеческий ум»,
направленный «на составное», не обладает высшим
знанием или метафизикой, поэтому он
относится в лучшем случае к области
вторичных форм знания. Частное (особенное) не
имманентно целому (всеобщему), поэтому
происходит все большее его отстранение из
области чистого и в то же время
конкретного в себе самом мышления, благодаря чему
в недрах античной культуры происходит
рождение из духа этого мышления совершенно
нового, уже лишенного антропоморфных черт
божества.
75
Античность обычно пытаются представить
в форме космоцентризма, но это верно только
для исходного, полисного этапа ее
самопознания. Поскольку в итоге своего духовного
развития она приходит к прямо
противоположному заключению — к постижению единства и
центра мира в потусторонней субстанции, в
Боге как вечной мыслящей самое себя
деятельности, постольку необходимо происходит
упразднение ее как самостоятельной единицы.
Ее уже нет с точки зрения высшего единства
бытия и мышления, постигнутого
философским разумом. Отсюда и проистекает
фатальная необходимость кризиса всего
дохристианского мира. Таким образом, работа,
проделанная великими мыслителями мира сего, была
крайне важной предпосылкой для пришедшего
на смену философскому созерцанию вечной
сущности человека христианского
представления о триединстве Бога.
Отныне отчуждение сущности человека от
его существования станет самой болезненной
темой раздвоения личности, темой, глубину
которой со всей болью разрыва чувствовали
ранние христиане. «Христе мой, тяжко мне
дышать и жить! Нет меры, нет конца
томлению! В разладе с целым миром и самим собой,
и образ Божий меркнет в унижении» — так
передавал свое состояние скорби и разлада
один из первых отцов церкви Григорий Нази-
анзин. Теперь на долгие и долгие годы в каче-
76
стве примиряющей силы божественной
сущности и человеческого существования будет
не знание, не разум, а вера, да и то в форме
церковных догматов и культов. Церковь в
качестве материально-духовного образования
выступила посредницей, благодаря которой
всякий смертный мог искупить свои грехи, а
всякий ученый муж мог покаяться в
неизбежных в процессе познания еретических
отклонениях. Так, привлеченный к суду
инквизиции, итальянский ученый Галилео Галилей
вынужден был «отречься» от своих «коперни-
канских заблуждений», дабы не оказаться в
ситуации сожженного на костре Джордано
Бруно. Однако идея воскресшего из небытия
Богочеловека вселяла надежду христианам на
непосредственное единение божественного и
человеческого, о чем и возвестил голос
великого религиозного реформатора — Мартина
Лютера, как раз в то время, когда
посредническая функция церкви откровенно стала
проявлять себя отнюдь не на богоугодном поприще,
а в продаже индульгенций и в предоставлении
других платных услуг по отпущению грехов.
Только в чистой вере, достигаемой в
мистическом акте нового духовного рождения,
христианин может находиться у себя в полном
единстве со своей божественной сущностью,
только такая вера является способом его
личного спасения. Всемирно-историческое
значение лютеранской реформации, таким образом,
77
состояло в том, что она являла собой начало
духовного развития человека, т. е. того
внутреннего самодвижения, в ходе которого
предмет веры становился активно
действующим голосом совести верующего. Иначе
говоря, в реформированном христианстве
происходит реальное возрождение диалектики как
способа осуществления истины, ее движения
от незнания к знанию, от несправедливости к
правде через покаяние. Отсюда и возникает в
человеческой истории совершенно новое
отношение к мирской жизни, мощный порыв к
преобразованию всего и вся как в практической,
так и в теоретической деятельности.
Сознание, что Бог с тобой, что он есть деятельность
самой веры, явилось как раз тем сознанием,
которое, можно сказать, породило
принципиально новую философию — философию
тождества сущности и существования, благодаря
чему принцип «познай самого себя» обретает
новое дыхание. Начинание Сократа, как
известно, продолжит философия Нового
времени, а затем эстафету подхватит немецкая
классическая философия. Последняя, как
известно, досконально разобрала
сформулированные Иммануилом Кантом проблемы —
«Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и
«На что я могу надеяться?» и, можно сказать,
вплотную подошла к пониманию сущности
исходного вопроса: «Что такое человек?». Не
исключено, что дать воистину совершенный от-
78
вет на этот вопрос сможет русская
философия, активно взявшаяся за эту проблему,
однако если она разрешит, наконец, сугубо
свои окаянные вопросы — «кто виноват?» и
«что делать?».
3. Метаморфозы представлений
Философское представление о том, что
человек вообще живет в мире представлений,
совокупность которых обычно называют
культурой, нашему, питающемуся Интернетом
современнику уже не кажется чем-то
неправдоподобным. Хотя ему, разумеется, вовсе не
приходит в голову мысль доказывать или
опровергать очевидное, что человек, к
примеру, — это есть «часть природы» или «часть
общества» или еще нечто такое, частичное,
отчего и причастное к чему-нибудь более
фундаментальному, целостному. Ему, похоже,
стали уже совсем не интересными
традиционные классификации людей по какому-либо
внешнему, например возрастному, признаку:
детство, отрочество, юность и т. д., — все это
перестало быть важным для нашего
современника. И он тем более не станет придавать
значение этому временному определению по
отношению к своим музыкальным или
политическим кумирам, которым уже давно «за
тридцать», ни всем тем, кто, так или иначе, разде-
79
ляет с ним его образ мыслей-представлений.
А последнее только и важно.
Человек действительно живет в мире
представлений, изменение которого зависит как от
внешних по отношению к данному индивиду
факторов (социальных, культурных,
психологических), так и от него самого, поскольку
мир, о котором здесь идет речь, есть его
собственный мир намерений, ценностей, одним
словом, представлений. Первая сторона,
несмотря на то, что в ней подчеркивается момент
определения формы сознания содержанием
предмета-вещи, вызывающий, как сказал бы
Фихте, чувство необходимости, предполагает
все-таки и определенный способ восприятия
вещей. А способ, каким сознание образует ту
или иную точку зрения, в которой для него
представлен предмет восприятия, зависит уже
от самого субъекта познания. Именно
последнему принадлежат такие формы познания
предмета, как пространство и время, в лоно
которых субъект вначале помещает
созерцаемый материал, чтобы затем, «переварив» его в
своем мыслительном «чреве», обратить в
определенные представления. Кант определил эти
формы как априорные, так как они изначально
выступают в качестве субъективных условий
или форм всякого восприятия и познания
вообще. Как известно, к субъективным
условиям познания Кант относил не только
пространство и время, но понятия и категории
80
рассудка, а также идеи разума, так что
конкретный способ восприятия вещей зависит,
несомненно, от степени развития в целом того
или иного индивидуального сознания, т. е. от
степени развития формы представления.
Впрочем, даже достаточно развитый способ
восприятия, присущий тому или иному
индивиду, совсем не защищен от обстоятельств
или факторов восприятия.
Ортега-иТассет в философском очерке
«Немного феноменологии» показывает, как
одна и та же реальность (агония человека),
рассматриваемая с разных точек зрения,
буквально расщепляется на множество отличных
друг от друга реальностей, после чего
становится совершенно невозможным определение
одной из возникших реальностей в качестве
подлинной. Они все суть истинны с точки
зрения определенного восприятия.
Ортега-иТассет предлагает сопоставить различные между
собой реальности по одному признаку,
который он обозначил как «духовная дистанция».
Так, для убитой горем жены умирающего
человека эта дистанция практически сведена к
минимуму. Ослепленная скорбью женщина
как бы «растворена» в этой ситуации и
поэтому не в состоянии видеть событие в качестве
созерцаемого объекта. Она и событие суть
нечто нераздельное. Врач же, присутствующий
при этой сцене, отстоит уже настолько от
непосредственного переживания, что для него
6 3.1К. 3426
81
созерцаемый объект возникает как некоторое
внешнее не-Я и становится уже предметом
профессионального, рассудочного анализа.
Еще более отдаленным от
бескорыстно-интимного переживания находится репортер, хотя
перед ним и стоит профессиональная задача в
своем рассказе как-то передать атмосферу
общего волнения. И наконец, в лице художника,
подчеркивает Ортега-и-Гассет, «мы имеем
максимальную удаленность от события и
минимальное участие в нем чувств».
Бесстрастно наблюдающий эту сцену художник
свободен от переживания, он — «бесчеловечен» в
своем творческом процессе объективации
реальности, в превращении «живой» картины в
предмет чистого созерцания. Отсюда, с точки
зрения Ортега-и-Гассета, как раз и начинается
дегуманизация современного искусства,
когда привычные представления о красоте
изображаемого предмета, будь то в музыке или в
литературе и т. д., испытывают
беспрецедентные метаморфозы. Художник отныне заточает
нас в темный, непонятный нам мир своих
субъективных представлений, при этом еще
испытывая некоторую эстетическую радость
«триумфа над человеческим». Впрочем, к
числу форм проявления дегуманизации
современного искусства философ относит не только то,
что «живая» реальность уже «не выступает в
качестве субстанции эстетического
предмета», так как художник всецело погружается в
82
самого себя, в «сторону субъективного
ландшафта», но и его особое нежелание
подстраивать свою творческую потенцию под
традиционные представления о прекрасном. Откуда
вдруг появилось у современного художника
это особое нежелание или, лучше сказать,
желание бегства от всего классического и
традиционного, философ Ортега-и-Гассет, правда,
не говорит, хотя и обращает внимание на
«подозрительную симпатию к искусству, более
отдаленному во времени и пространстве, —
к искусству первобытному и варварской
экзотике». Творческий бунт, бурно
обнаруживающий себя в начале XX столетия, против
«серьезности» классического искусства, против
всякой обремененности человечностью,
религиозностью и пр. порождает у него новые
представления и задачи, чтобы публика
смотрела на искусство как на некую игру, как на
новый тип развлечения. «Символом
искусства, — замечает Ортега, — вновь становится
волшебная флейта Пана, которая заставляет
козлят плясать на опушке леса». Никакой
тебе метафизики, духовного переживания,
достоевщины... одно только чувство
котируется отныне — это спортивно-праздничное
чувство жизни. Парадокс в том, что как раз в
то время, когда выходит «Закат Европы»
О. Шпенглера, под знаком современного
искусства пробуждается новое, можно сказать,
«восходящее солнце Запада», гимн которому
83
исполняют совершенно иные музыканты.
В виде духа юношеского задора и
первобытно-джазовой разнузданности с присущим
этому духу культом тела и технической
импровизации Европа возвращается в свое
исторически «невинное» состояние: вступает в эпоху
тотальной инфантильности (ребячества). Тем
самым «извращенный конец всего сущего», о
котором предсказывал в свое время Кант,
похоже, неминуемо пытается охватить все
народы мира.
Фрагменты современной поэзии: «Одно
дуновенье в чаще весенней расскажет тебе о
роде людском, о зле и добре вернее и больше,
чем все мудрецы на земле»; «Отбрось же
науки искусства, закрой эти затхлые книги,
выйди же в мир, с сердцем в груди, готовым
внимать и принять»; «Прощай Платон и Гегель,
закрывается ваша лавочка, довольно с нас
философов-королей»... Проблема современного
искусства, которую видит Ортега-иТассет,
заключается в том, чтобы оно, с одной стороны,
смогло найти дорогу, на которой оно «не стало
бы искусством дегуманизирующим», и, с
другой стороны, «не повторяло бы вконец
заезженных путей».
Попробуем подойти к решению этой
проблемы. Во-первых, бесчеловечность или
бессердечность художника в глазах публики
может быть и мнимой бесчеловечностью.
Художник, если это настоящий художник, в своем
84
стремлении увидеть абсолютное и вечное в
относительном и временном, подобно
религиозному деятелю или философу, пытается
перевести свое, субъективное отношение к
изображаемому предмету в форму безусловного,
духовного созерцания, чтобы в своем
произведении буквально воскресить это смертное.
Он подобен иконописцу, а его
произведение — исповеди. Его не затуманенное
мифологическими фантазиями творчество
предполагает личный опыт развития в себе самом
той самой формы представления, благодаря
которой он постепенно «выдавливает» из
самого себя влияние идолов, препятствующих
видеть мир таким, каков он есть в себе самом.
Мир одухотворяется им настолько, что
начинает отвечать ему взаимностью. Мало иметь
дар, нужна еще «духовная жажда» самому
беспрестанно карабкаться по каменистому
пути познания истины и подниматься «до
звезд и ангелов», до своей духовной
субстанции, чтобы видеть прекрасное как таковое.
4. О «недоразумении»
русского философствования
Вначале вспомним остроумное вопрошание
П. Я. Чаадаева о том, зачем нужна мысль в
разных странах: «Во Франции на что нужна
мысль? — чтоб ее высказать. — В Англии? —
85
чтоб привести ее в исполнение. — В
Германии? — чтоб ее обдумать. — А у нас? — Ни
на что! — и знаете ли почему?». Ответ
отсутствует, вероятно, потому, что мы сами
должны додуматься, зачем нам нужна мысль.
Дело в том, что русская философская
мысль начиная где-то с 40-х годов XIX века
связывает себя с двумя основными
источниками и двумя соответственно составными
частями — греко-византийским, в основном
религиозным, и германским, преимущественно
философским, источниками. Она, таким образом,
дуалистична по происхождению и по
самоопределению (самозванию), что находит свое
выражение в сочетании ее
противоположностей — рационального и сверхрационального,
в стремлении создать «целостную
философскую систему, которая, — с точки зрения
С. Л. Франка, — всегда есть (независимо от
того или иного содержания своих идей)
религиозная философия (так, атеизм есть тоже
своеобразная, хотя и только отрицательная,
религиозная философия)». Однако как
показал опыт развития русского
философствования, одного стремления создать систему
философского знания недостаточно без
тщательного «немецкого» обдумывания, без того,
чтобы сознательно и систематично вести
работу мысли над собой. Ф. М. Достоевский в
своем «Дневнике писателя» поэтому и
определил такого рода стремление (а речь шла у него
86
о философских воззрениях славянофилов и
западников), как «великое у нас
недоразумение», правда, тут же подправил —
«недоразумение, хотя и исторически необходимое».
Так в чем же заключается необходимость
недоразумения русского философствования?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, следует, на
мой взгляд, строго разграничить весь русский
путь философского развития, т. е. провести в
нем четкую грань между стихийным и
сознательным формообразованием мысли. Только
там, где речь идет о стихийном становлении
мысли, может иметь место некоторое
оправдание ее не достаточно разумных результатов,
поскольку суд философской критики должен
учитывать фактор ее «созревания» и в
соответствии с этим обстоятельством понимать,
что даже в своем недоразумении она может
быть не лишена разумного, доброго и вечного.
Однако сразу напрашивается
сакраментальный вопрос: «А судьи кто?». Кто имеет право
судить русский, алчущий познаний ум?
Наверное, только тот русский ум, который уже
встал на путь сознательного
формообразования или путь логоса, хотя, как известно,
были и иные предложения, к примеру: «Не
бойся писать, но написавши проверь свой
труд в Германии» — так в 1890 году советовал
брату С. Н. Трубецкой. Выделить же
сознательный ум из череды стихийно
философствующих умов с помощью внешних критериев,
87
таких как, например, наличие ученой степени,
наград, премий и пр., невозможно,
философскому сообществу здесь может быть
предоставлено только одно — ясное понимание
сути проблемы ну а там, как говорится, будь что
будет.
Дело в том, что предмет философии сам
диктует свои условия постепенного
восхождения к себе, о чем метафорически сказано еще
Эмпедоклом: «Не от начала все открыли боги
людям, но постепенно, ища, люди приходят к
лучшему». Понимание этого проникает в
русское сознание существенным образом, когда
оно «признает разум как объективное
всемирное начало... которое в себе заключает свое
оправдание: мы не можем понять, каким
образом разум возникает сам собою из чьего-
либо, чуждого разума (курсив мой. —
А. Л.)». Причем у С. Н. Трубецкого, чьи слова
были только что приведены, речь идет не о
потустороннем разуме, а о «реальности, которую
мы сознаем в глубине нашего духа», у которой
есть имя, известное как философскому, так и
религиозному сознанию христианина, — это
Логос. Именно к этой «реальности» вплотную
подошла русская мысль к началу XX
столетия, именно вокруг этого имени и
развернулась настоящая битва выдающихся русских
умов. (Значительным явлением уже нашего
времени стал выпуск издательством РХГА в
2006 г. книги «В. Ф. Эрн: PRO ET CONTRA»,
88
где, в частности, под рубрикой «Борьба за
Логос» представлены статьи В. Ф. Эрна,
С. И. Гессена, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка,
Б. В. Яковенко, А. М. Деборина, В. В.
Розанова, С. Н. Булгакова.) Поскольку упомянутое
имя есть выражение абсолютной идеи
христианства, постигаемой, как сказал бы Платон,
только умозрительно, постольку «битва» из
внешнего персонифицированного
отношения слов о сущем стремится перейти во
внутреннее отношение (противоречие) слова
сущего. А это невидимое стремление идеи к
себе самой не могло произойти в нашем
Отечестве без того апокалипсического сдвига,
необходимость которого так остро осознавал
«сумасшедший» П. Я. Чаадаев: «Люди увидят,
что человек не имеет в этом мире иного
назначения, как эта работа уничтожения своего
личного бытия и замены его бытием вполне
социальным и безличным». Вспомним, что
противоречие русской философской мысли
доходит в начале XX века до явного раскола,
выраженного в противоположных позициях
«Логоса» (философский журнал, ставший, по
выражению Б. В. Яковенко, «центром
неозападнического движения в России») и «Пути»
(религиозно-философское издательство,
ставшее центром неославянства). Представители
«Логоса» (Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко и др.)
кладут во главу угла «знание современной
техники мышления», а «путейцы» (В. Ф. Эрн,
89
H. A. Бердяев, С. H. Булгаков) отстаивают
религиозное философствование в стихийной
форме мышления. Знание в его отвлеченном
от вечного истока статусе совершенно
бесплодно и не в состоянии «прийти к Богу»
(аргумент Н. А. Бердяева), но и религиозная
философия из-за неопределенности своей мысли
есть не более чем самоуверенное
«донкихотство» (аргумент Б. В. Яковенко). Что делать?
В итоге обе стороны оказываются в 1922 году
на «философском пароходе», поскольку
царство безбожного «самостоянья человека»
(Пушкин) необходимо отрицало какое-либо
особенное, порождающее всякого рода
отклонения мышление. В условиях безличного бытия
советской системы и мышление стало
практически безличным. Только в конце XX века
благодаря самоотверженным усилиям таких
философских подвижников, как А. А. Ерми-
чев, а также изменившимся внешним
условиям жизни началось долгожданное
возвращение русской философской мысли на свою
историческую родину. Однако вместе с мыслями
вернулись и проблемы, почему сейчас главное
не наступить вновь на те же самые грабли.
Основная проблема русской мысли
заключается, на мой взгляд, в том, чтобы
преодолеть свой дуализм, свести в одну точку свое
«двуглавие» — религиозность по содержанию
и философичность по форме, но не путем
уничтожения одной из сторон (такой опыт
90
уже пройден в советский период), а путем
развития особенного религиозно-философского
способа мысли до всеобщего, в котором
необходимость недоразумения преобразовалась
бы в свободу разумного самопознания.
Способ же этого преобразования не является
тайной за семью печатями, так как многовековой
опыт мировой философии открыт, и, может
быть, для нас в первую очередь. Ведь когда на
смену «философии мысли» в мир
человеческих отношений стала стремительно
проникать «философия жизни», фактически
отрицающая объективный процесс познания
истины, тогда-то «западный человек, — по
выражению X. Ортега-и-Гассета, — заболел
ярко выраженной дезориентацией, не зная
больше, по каким звездам жить». Надеяться
на то, что этот человек возродит мировую
философскую классику и спасительное
«солнце самосознания» (Гегель) вновь взойдет над
Abendlandes, равносильно, как мне
представляется, пустому воздыханию.
Поскольку русская мысль всерьез
задумалась над замыслом Творца о России, то ей,
чтобы быть продуктивной, предстоит развить
прежде всего самое себя, пройдя все этапы
философской зрелости. Петр I двинул Россию
в ученье к народам Запада, чтобы усвоить их
науку и культуру, но сам процесс усвоения
готового знания должен стать процессом
творческого преобразования русского ума-разума,
91
который, сознательно проходя необходимые
этапы самообразования, начнет, наконец,
мыслить в духе великих классиков — от Пар-
менида и Гераклита до Фихте и Гегеля
включительно. Только так русскому духу, в чем не
сомневался Ф. М. Достоевский, удастся стать
полноценным «рудокопом науки» (слова
А. С. Хомякова). Создание же собственной
философии на собственной духовной почве в
отрыве от объективного процесса
философского формообразования, лишено смысла, как в
теоретическом, так и в практическом
отношении. У Н. А. Бердяева есть верное замечание
о противниках христианства, «которые не
осознают в достаточной степени свою
зависимость от христианского источника». Это же
замечание можно отнести к некоторым
представителям отечественной мысли по
отношению к мировой классической философии.
Русская мысль не через бегство от последней
выйдет из состояния недоразумения, а только
через понимание ее сокровенного смысла.
Мировому духу, как об этом
свидетельствует сам исторический ход человеческого бытия,
необходимо было положить не только
первоначальное соборное единство веры и знания,
но и путем выхода из него конечного
самосознания (отсюда известное «филиокве»)
положить нечто противоположное исходному
единству — иную, римско-католическую форму
христианства, чтобы затем через религиозную
92
Реформацию, через трансцендентальное
отрицание всего конечного, исторического опыта как
такового, вновь вернуться к исходному пункту,
правда, уже в форме чистого мышления. Запад
вернулся к Востоку, но только в форме
классической немецкой философской мысли, почему
она нас и не оставляет в покое византийского
исихазма, а, наоборот, как бы подталкивает к
преобразованию состояния нашей особенной
самобытности сознания в статус всеобщего
самосознания. Думается, что именно поэтому в
немецкой классической философии П. Я. Чаадаев
видит отнюдь не «пустую форму», а «дело
христианства, перенесенное или продолженное на
почве чистой мысли».
Итак, несмотря на то, что большинство
по-современному философствующих
субъектов пытается выискивать существенное в
до-сознательном, без-сознательном и
под-сознательном, все-таки начинается постепенное
возрождение классической философии
безусловного единства сознания и самосознания.
И это возрождение начинается в России —
стране, наиболее подготовленной к духовным
исканиям и творчеству. Русская
интеллигенция, совершая духовное паломничество в мир
идей, испытывала, да и продолжает
испытывать, не только бескорыстное теоретическое
стремление постичь вечные истины, но и
вполне прагматическое желание осуществить
свою идею нации, но уже разумно понятую, в
93
вечном плане, а значит, и во времени и
пространстве.
P. S. Что же касается границы между
стихийным и сознательным формообразованием
русской философской мысли, о которой шла
речь в самом начале, то она впервые ясно и
отчетливо проявилась только на
завершающем этапе советской эпохи безличного бытия
и мышления». (О необходимости этой эпохи в
жизни русской христианской идеи мною
написано в книге «Возвращение к себе. Опыт
трансцендентальной философии истории».
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.) Выпущенная
Ленинградским университетом в 1973 году книга
Е. С. Линькова «Диалектика субъекта и
объекта в философии Шеллинга» стала началом
исхода русской мысли в открытый (для всех!)
космос спекулятивного мышления.
5. Древнегреческая философия
как предпосылка христианства
По легенде термин «философия» впервые
начинает применять Пифагор, по-видимому
считая, что только Бог обладает мудростью,
именуемой Софией, а человек в своем
любомудрии может лишь приближаться к этому
высшему таинству жизни и знания. Поэтому
вовсе не случайно, что и в христианском веро-
94
учении Бог, представляющийся религиозному
сознанию как «истинная премудрость», по
выражению Иоанна Дамаскина, станет
предметом духовного поклонения. Однако самая
сложная задача для христиан заключалась в
том, чтобы соединить в духе то, что
несоединимо было в условиях античной культуры —
любовь как постепенное восхождение к
божественной премудрости, т. е. всем сердцем,
всею душою и всем разумением, как об этом
сказано в Евангелии (см.: Мф 22:37), и саму
эту божественную субстанцию. Причем речь
идет не только о теоретическом решении
этого вопроса (теоретически божественная
природа была раскрыта уже Аристотелем как
вечное мышление мышления, хотя еще только в
общем виде) и не только о практическом
способе приближении того или иного смертного к
своему истинному источнику спасения,
например, через очищение сердца или уничижение
плоти, а о земном воплощении единства
любви и мудрости — об обетованном Христом
Царстве Истины.
То, что первые христиане в целях
самоутверждения себя в вере часто пытались
откреститься от заслуг философии как совсем, по
их представлениям, бессмысленного и отнюдь
не богоугодного дела, отдавая скорее свои
предпочтения учениям иудейских пророков,
вовсе ни о чем существенном не говорит. «Что
общего между философом и христианином?
95
Между учеником Греции и учеником Неба?
Между искателем истины и искателем вечной
жизни?» — задавался вопросами один из
самых ярких апологетов христианства Тертулли-
ан. Действительно, общего ничего нет, но есть
принципиально иное — христианское
самосознание, в котором весь результат античного
философствования преобразован
«обновлением ума» (см.: Рим 12:2) так, что даже законы
формальной логики Аристотеля потеряли
прежний авторитет. Ведь невозможно понять
на основе здравого рассудка и закона
тождества, чтобы конечное включало в себя
бесконечное, а бесконечное, наоборот, заключало бы в
себе свою противоположность — «В тот день
узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне,
и Я в вас» (Ин 14:20).
«Сказать „я есмь", — как замечает русский
религиозный философ Д. С. Мережковский, —
значит сказать я есмь во Христе, в Абсолютной
личности. Тогда все человеческие личности
суть дроби Единицы Христа». Однако отсюда
вовсе не следует необходимость впадать в
крайность, утверждая, что античная
философия в деле познания истины себя исчерпала
или, куда хуже, вредна и пр. «Путь к истине
один, — писал еще во II веке Климент
Александрийский, — но разные питают его потоки,
соединяясь в реку, текущую в вечность».
Тот путь Логоса, который прошла
греческая душа, является необходимой предпосыл-
96
кой христианства, об этом говорит как
минимум следующее: во-первых, древнегреческая
философия изначально дышит в соответствии
с понятием логоса, поэтому она понятна и
предсказуема в своем движении; во-вторых,
она разумно постигает то, что существует
само по себе и что неподвластно
разрушительной силе времени, поэтому она всегда
актуальна и современна; в-третьих, она наполнена
поэзией, поэтому ее динамику можно
выразить в характерной для ее культуры манере.
Первым философам истина в форме стихий
представлялась,
Будто стихия является первоначалом.
Так, у Фалеса вода — всякой жизни источник,
Воздух Анаксимена сменяет лишь качества,
формы...
Всё из единого корня и к нему неизбежно
восходит,
Даже могучие боги Закону природы подвластны.
К новым вершинам познания ум Пифагора
проникнул,
Сбросив метафоры ношу, в числе усмотрел он
архэ (первоначало).
Но классиком мысли античной считать
Парменида пристало,
Поскольку впервые мышление (Логоса)
раскрыло свое бытие.
Мнимое знание чувств поистине не существует.
Так и движения нет (Зенон), как нет и Олимпа
богов (Ксенофан).
7 Зак. 3426
97
Но вот с появлением софистов, в которых
сомнение бурлило,
Критерием истины сущей становится сам
человек.
Он меру вещам полагает, он судит и отвергает
Привычные формы сознания, присущие
смертным.
Средь них мы Сократа встречаем, которому нет
в споре равных,
Но спор для него только способ, к законам
познания ведущий.
Ведь мудрый не тот, кто слова рассыпает,
о мыслях совсем не заботясь,
А тот, кто в беседе разумной способствует
истины родам.
Сократову мысль, что все зло от незнания,
воспринял Платон благородный,
Но зло преходяще, как страсти порывы -
Нет места ему в вечном мире идей и законов.
Все дело лишь в том, чтобы кормчим земного
устройства стал разум единый.
Конечно, разум в понимании Платона, а
также и Аристотеля есть еще совершенно не
тот разум, о котором говорят христиане, хотя
он и не лишен любящего, сердечного в себе
момента, однако выраженная великими
мыслителями идея разумной организации
человеческого общежития является в нашу эпоху
всеобщего кризиса — кризиса всей
исторической формы культуры — особенно
актуальной.
98
6. «Запад есть Запад,
Восток есть Восток»?
Христианская эпоха человеческой истории
начинается благодаря отрицанию всего
условного и преходящего. Для нее уже не
имеет существенного значения ни Восток с его
индусами, китайцами, египтянами, иудеями и
персами, ни Запад с его эллинами и
римлянами. Все многообразие культур преобразовано
в простое единство исторически
выступившего Духа истины (см.: Ин 14:16, 17; 16:7).
Константин Великий (285—337) заложил
основу второго Рима не столько фактом
переноса столицы в Константинополь в 330 году,
сколько фактом утверждения христианской
идеи в «мире сем» в форме непосредственного
единства церкви и государства, в форме
духовной империи. Юлиан, известный как
Юлиан Отступник, уже ничего не смог сделать в
плане возврата к язычеству, к прежней эпохе,
его гибель в бою с персами в 363 году во
многом символична: как гибель всех
греко-римских представлений о вечности. Византийское
христианство восприняло империю как земное
воплощение Царствия Небесного, поэтому не
случайно, что в послании Юстиниану ученый
дьякон Агапит характеризует ее как
«дражайшее на свете сокровище».
Поскольку же Дух истины выступает лишь
исторически, т. е. шаг за шагом, во времени,
99
постольку на определенной фазе этого
процесса вновь происходит его раздвоение — теперь
уже на мусульманский Восток и католиче-
ско-протестантский Запад. Из
первоначального единства духа с самим собой,
воплощенного во втором Риме (Византии), в силу
определенных причин возникли принципиально
противоположные по отношению друг к другу
два разных мира. Попытаемся понять
внутреннюю логику этого возникновения, тогда,
несомненно, будут понятны и причины.
Итак, логика исторического развития
человеческого рода есть логика, стихийно
действующего всемирного духа-логоса, который как
бы распинает самого себя в форме двух
диаметрально противоположных сторон Света
подобно двум сторонам креста, каждая из
которых затем начинает жить и мыслить в
согласии со своим принципом. Однако поскольку
византийское православие погружается в
особый, мистический тип жизни и познания —
исихазм — и тем самым как бы консервирует
первоначальное «симфоническое» состояние
сознания и самосознания, выраженное
формулой — «Отец во Мне и Я в Нём» (Ин 10:38),
то «Восток» как антитеза христианскому
«Западу» проявляется в образе мусульманской
религии. Вот почему Сын Человеческий в
мусульманской религии почитается лишь как
пророк, как учитель, т. е. в определении
только «сын Марйам».
100
Ислам, таким образом, отрицает не только
Богочеловека, но и собственно христианскую
концепцию Святой Троицы: Аллах —
единственный повелитель, Мухаммед ■—■ человек и
пророк, а человек — просто раб (см.. Коран
2:21, 182; 4:115, 116, 169; 25:1, 39:18, 19,
71). Происходит своеобразное очищение
предмета веры: «Он — Аллах — един, Аллах,
вечный; Не родил и не рожден, И не был Ему
равным ни один!» (Коран 112: 2—4).
Своеобразие разумности ислама определяется еще
тем, что тот, абсолютизируя божественное в
богочеловеческом отношении, лишает тем
самым какой-либо реальной автономии
человека. Поэтому даже человек, возглавляющий
правительство исламского государства, не
может и не должен, согласно своему
«восточному» определению, выражать свою волю.
Его воля как воля «богобоязненного»
мусульманина целиком подчинена предмету веры и
определена им. «Исламское
правительство, — заявлял еще относительно недавно
аятолла Хомейни, — это правительство,
выражающее божественную волю. Отличие
исламского правительства от правительства
конституционного заключается в том, что
последнее представляет людей или монарха,
которые издают законы и осуществляют
законодательную власть, в то время как истинная
власть принадлежит Богу». Единственным
источником законодательства исламская дог-
101
матика признает только божественную волю.
Для ортодоксального ислама показательным
является тот факт, что, к примеру,
Саудовская Аравия как духовный центр
мусульманства, где шариат является основой
государственного законодательства, не подписала
Декларацию прав человека, поскольку эта
декларация является результатом
человеческого согласия и носит светский характер.
Вместе с тем на Востоке устанавливается
культ знания, которым обладает Аллах или
высшее Сознание, ведь «Аллах есть истина»
(Коран 22:6; 24:25). Чтобы преодолеть
невежество и неверие, мусульманин без
каких-либо посредников обращается прямо к Богу:
«Господи мой! Умножь мое знание!», «Чему
следуют те, которые призывают помимо
Аллаха сотоварищей? Они следуют только за
мнением; они только предполагают» (Коран
10:67). Именно жажда истинного знания у
мусульман способствовала сохранению
наследия античной науки, что, несомненно,
способствовало европейскому Возрождению
наук. «Нам не стоит стыдиться обретения
истины, откуда бы она ни исходила», — писал
«философ арабов», инициатор перевода
произведений Аристотеля Аль-Кинди. Поскольку
Бог «объемлет всякую вещь знанием» (Коран
20:98), то и жизнь общины верующих должна
строиться по принципу неизменного
божественного знания, ибо только «вечное дает
102
точки опоры в мире постоянных перемен»
(Мухаммад Икбал). Отсюда и проистекает
характерное для мусульманского мира
неприятие принципов западной демократии,
основанной на меняющемся человеческом
мнении.
Запад же в лице католицизма, а затем и
протестантизма возводит в степень
безусловного начала субъективный, человеческий
момент, в нем пробуждается отрицательность,
присущая духу, особенно раннего
христианства, поэтому он динамичен и историчен.
Однако именно в этом живом противоречии богоче-
ловеческого духа, выраженного, прежде всего,
в соперничестве духовной и светской власти и
происходит действительное рождение
индивидуальной свободы совести и мысли.
После реформаторской деятельности папы
Григория VII (подготовка крестовых походов,
разделение церквей, заявление на
верховенство власти духовенства и т. д.) в XVI веке — в
бурную эпоху лютеранской Реформации —
начинается «второе христианское завоевание
мира» и вместе с тем окончательное
обмирщение церкви. Вера имеет чисто духовное
происхождение, но когда она начинает утверждать
себя на мирском поприще, не достигнув при
этом совершенства и полноты, то неизбежно,
как правильно в свое время заметил Ф.
Ницше, происходит «обмеление духа». Однако это
уже другая тема.
103
Итак, результатом этих
всемирно-исторических событий стало «расщепление»
единого разума на два диаметрально
противоположных аспекта («полушария»). Идея
Востока — «всё (человечество) в Боге, всё во имя
Бога», а идея Запада — «всё (Бог) в
человеке, всё во имя человека». Однако на Западе
Бог не умирает, как бы это кому-либо не
представлялось, а его жизнь — вместе с ним
и жизнь всего «западного» общества —
протекает в аспекте, т. е. в особенном своем
«царстве» — в аспекте самосознания. В то
же время на Востоке логос осуществляет
себя в ином «царстве», в аспекте сознания; в
этом смысле мусульманский Восток, подобно
протестантскому Западу, выступает как
своеобразная, тождественная только себе
квинтэссенция своего полюса. Отсюда —
известная формула Р Киплинга: «Запад есть Запад,
Восток есть Восток». Что же касается
Византии, то она изначально содержала в себе
идею Святой Софии Божественной
Премудрости или «симфоническую» идею единства
противоположных моментов, хотя и в
зачаточном виде. Весь «Запад» и весь «Восток» в
свернутом виде, или потенциально,
пребывали в этом исходном пункте, в своей Софии.
Эта целомудренная или вселенская по сути
своей идея получает свое развитие в лоне
русской культуры как русская идея. Однако
это уже другая тема.
104
7. Историческая форма христианства
и проблема ее исхода
Как это не печально, но современная
западная цивилизация все больше начинает
соответствовать понятию постхристианского
общества, прежде всего, теми присущими ей
признаками, по которым рассудок определяет
данный предмет так, а не иначе. Несмотря на
видимое господство христианской культуры,
проявляющееся, как правило, в
использовании соответствующих символов
многочисленными религиозными образованиями, в
массовой или так называемой светской культуре
откровенно уже культивируются совсем не те
идеалы и призывы, с которыми однажды
Христос явился народу. Ведь невозможно отнести
религиозно-синкретическую смесь, в которой
евангелические слова о Сущем мирно
уживаются с эзотерическими, оккультно-мистиче-
скими и откровенно демоническими голосами,
к области духовного поклонения Богу и
познания Истины. В чем же тогда был смысл
явления Христа, а тем более Его Воскресения,
если процесс обожения человека вдруг
остановился и замер, если не сказать умер? Более
того, провозглашенная христианством
свобода, особенно после Великой французской
революции, обернулась явным отрывом
государства от своей религиозной основы и
созданием формально-правовых условий для выхода
105
на историческую сцену всякой «стильной»
чертовщины. «Все разрешено, что не
запрещено», а под этот либеральный ритм внешнего
законопослушания прорывается наружу
практически все, что когда-то было подвергнуто
отрицанию христианством как неистинное и
чуждое человеческому духу.
Для России, поскольку она пока еще не
полностью поглощена современными
иноземными образцами, пока она в глубине своей
души не совсем еще утратила Христову веру и
размышляет, подобно витязю на перепутье,
идти ли ей по проторенной Западом
«постхристианской» дороге в неопределенное будущее
или выбираться все-таки своей колеей, этот
вопрос особенно непростой. Каким образом, в
свое время задавался вопросом Н. Я.
Данилевский, государство может быть свободным от
религии, свободным от Христа, и отвечал:
«Конечно, не иначе как перестав быть
христианским». Однако если мировая история,
включая и советско-российский опыт, не в
состоянии дать ответ на вопрос «каким образом
государство сможет вновь стать христианским?»,
то, на мой взгляд, остается только один путь к
решению данной проблемы — постичь ее
философски, опираясь, конечно, на
классическую, одухотворенную познанием истины
мысль. Проблему духовного порядка можно
решить только духовным способом. (Впрочем,
совсем неудивительно, что вопрос о государ-
106
стве как державе народного духа
большинством либерал-демократов вое-принимается
архаичным: это потому, что государство для них
всего лишь удобное средство для защиты
частных интересов, для решения личных проблем
и пр.) Дело в том, что немецкий
классический идеализм, несмотря на время жизни его
представителей, подошел к пониманию наших
проблем гораздо ближе, чем какие-либо
по-современному мыслящие концепции, и в
определенной мере даже к их теоретическому
решению. Нам просто следует воспользоваться его
пониманием сути дела, как необходимой
предпосылкой для дальнейшего исследования
данной темы, для чего важн() заново прочесть,
казалось бы, ушедшие в небытие истории
знакомые тексты по философии истории и
философии религии.
Кантовский трактат «Религия в пределах
только разума» (1793) обычно не
рассматривается в качестве работы, относящейся к
области философии истории, так: как время выхода
в свет этой работы практически совпадает со
временем появления более подходящей для
такой рубрики статьи «К вечному миру» (1795).
Последняя, как известно, является во многом
продолжением и некоторцм уточнением
вышедшей ранее работы «Идея всеобщей
истории во всемирно-гражданском плане» (1784),
в которой на первый план выходит «проблема
человеческого рода» — достижение всеобще-
107
го гражданского общества и связанная с ней
проблема формирования «союза государств».
Но поскольку народы как моральные единицы
не существуют вне религиозной веры —
мораль, по Канту, «неизбежно ведет к
религии», — постольку исследование такого
вопроса, как религиозная вера, становится
необходимым аспектом философии истории. Более
того, проблема преодоления исторической
формы христианства, поставленная Кантом
в трактате «Религия в пределах только
разума», прямо указывает в качестве главной
социально-этической задачи человечества
задачу сознательного воплощения принципа
«всеобщей религии разума». В этой работе, явно
рассчитанной на более глубокое понимание
всемирной истории, речь уже не идет об
интеграции человечества на основе принципов
формального права. Более того, идее договора
Кант противопоставляет идею всеобщей воли
«миродержца, который всех невидимым
образом соединяет под общим началом в
государство». Ближайшие причины, которые
препятствуют продвижению к этой цели, суть
различия в языках и эмпирических (особенных)
формах религии. Но величайшая проблема
человеческого рода в целом — это проблема
«различия веры разума и исторической веры».
Несмотря на то, что Кантом не раскрывается
необходимость различия особенных форм
религии, им все-таки определенно указывается,
108
что всякая историческая («эмпирическая», или
«церковная») вера «лишена самого важного
признака истинности», а именно всеобщности,
хотя по притязаниям своим она, как правило,
«выдает свою церковную веру за
общеобязательную». Из этого следует, что проблема
«перехода церковной веры ко всеобщей религии
разума и, таким образом, к (божественному)
этическому государству» является не частным
делом того или иного народа, а смыслом и
задачей человеческой истории вообще. По сути
дела, речь идет о преодолении человеком
самого себя, своей рассудочной формы бытия и
мышления и возвращении к своей
божественной, разумной природе, выраженной в
принципе всеобщей религии, ибо только в условиях
господства всеобщей религии разума как
духовно преобразованной исторической формы
христианской веры наступает конец
стихийному развитию человеческой истории.
Таким образом, Кант, первым высказавший
разумную и поэтому спасительную идею, что
всякая историческая форма религии (форма
бытия и сознания) находится в пределах
разума, недвусмысленно дает понять, что
божественное начало имманентно человеческой
истории и познание человеком самого себя как
разумного существа есть объективный процесс
самопознания разума как такового (логоса).
Однако разум в человеческой истории
существует в форме исторической (эмпирической)
109
религии и в соответствующей ей
исторической форме государства. Поэтому
необходимость преодоления этой формы есть не
столько вопрос дискурсивного рассуждения о тех
или иных достоинствах и недостатках
восточного или западного христианства, сколько
вопрос разумного самопознания. Только в
деятельности трансцендентального
(сверхопытного) самопознания разум впервые раскрывает
самого себя так, как он есть по истине, т. е.
без «знамений и чудес» (см.. Ин 4:48), и
полагает для себя «закон свободы» (см.: Иак 1:25)
как закон всеобщей религии.
Проблема преодоления исторической
формы христианства, а точнее говоря, проблема
ее исхода, поставленная Кантом в трактате
«Религия в пределах только разума», особенно
актуальна для настоящего времени, когда
заметно обострились вопросы человеческих
отношений, в которых, как мне представляется,
религиозный фактор все более становится
определяющим. Поэтому вера в лице
исторических деятелей должна знать себя не только во
внешних различиях «церковных вер», но и s
том разумном единстве, в котором она уже
перестает быть внешним по отношению к
человеку откровением.
Серьезный шаг на пути к пониманию
поставленных Кантом проблем сделал его
ученик — Иоганн Готлиб Фихте, согласно
которому христианство в форме протестантизма
110
еще не достигло степени разумности. В работе
«Основные черты современной эпохи» Фихте
пишет, что ближайшей причиной,
препятствующей продвижению человека к этой цели,
является господство мнимой свободы или
свободы мнения, порожденное историческим
христианством, а поэтому чреватое даже
«уничтожением отличительной черты
человечества — разума». Знание в отличие от
мнения не есть внешним образом осознанное
бытие Бога, но есть само это бытие как
объективный процесс Его самопознания, в который
человек может войти, но с полным сознанием
сути дела. «Бытие Бога и знание — одно».
«Познать это, в смирении примириться с этим
и быть блаженным в сознании этой нашей
тождественности с божественной силой, —
доступно всем людям; осмыслить в ясном
понятии общее, абсолютное и вечно неизменное в
этом руководительстве — задача философа».
Разумное с точки зрения трансцендентального
знания не является акциденцией индивида,
как это подчеркивал до Фихте Якоби, а,
наоборот, индивид есть всего лишь акциденция
разумной субстанции. Причем для блага
самого познания божественной истины
необходимо, чтобы указанная акциденция вовсе
перестала проявлять свою самобытность —
«индивидуальность должна непрерывно умирать»,
как об этом писал Фихте. Можно вспомнить
слова Христа, обращенные к ученикам о необ-
111
ходимости того, чтобы Он ушел, только в этом
случае дух истины выступит в мировой
истории как ее безусловное содержание.
После того как Аристотель довел до предела
формально логический способ мышления,
проведя чуть ли не демаркационную линию между
безусловным, замкнутым в себе божественным
мышлением и обусловленным «составными»
предметами опытного познания человеческим
мышлением, истинно всеобщему предмету
ничего уже не оставалось, как пройти сквозь тернии
христианского испытания. Преодолеть же
вышеназванный разрыв единой сущности и стать
действительно знающим самого себя
первоначалом невозможно, не будучи таковым по своему
понятию, ибо стать может только то, что есть
«от века». Значит, всеобщее самосознание даже
в своем раздвоении на бесконечный предмет
сознания и конечную форму самосознания не
переставало быть в себе самим собой. Когда бо-
гочеловеческий дух в лице Иисуса Христа
возвестил о себе («Я и Отец — одно»), то
выступившее в особенной форме религиозного
представления первоначало стало стихийно
утверждать самое себя во всемирной истории
христианства, пока, наконец, не достигло
сознательно-разумной формы, выраженной в науко-
учении. В этой форме впервые преодолевается
разрыв между бесконечным содержанием
сознания и конечной формой самосознания, или
между сущностью и существованием, поэтому спо-
112
собом познания предмета философии
становится уже не внешнее откровение божественной
сущности, а сам процесс образования знания
предполагает восхождение от чувственно
воспринятого путем мышления к его
сверхчувственному основанию.
Таким образом, «религия разума» или
религия духовного единства Бога и человека через
посредство философского познания истории
человеческого рода придет на смену «религии
рассудка» (выражения Фихте) только как
исторической формы христианства, что и
явится истинным пришествием Бога. Последнее
выступит уже не в форме внешнего
откровения, а в форме знающего самого себя знания,
в котором христианская любовь «всем
сердцем и всею душою» будет преобразована в
форму разумной любви. Только в такой
религии иго Христа перестает быть тяжким
бременем и становятся понятны слова: «иго Мое
благо, и бремя Мое легко» (Мф 11:30), а
вопрос «каким образом государство сможет
вновь стать христианским?» найдет,
несомненно, свое разрешение.
8. Общественное призвание науки
Уже к концу XIX столетия вместе с
разделением труда в сфере духовной деятельности
возникает устойчивое представление, что наука
8 Зак. 3426
113
все более только расщепляется, превращаясь в
некий конгломерат самостоятельных
дисциплин, а ученые, в свою очередь, становятся
только узкими специалистами, знатоками
своего дела. Более того, чтобы соответствовать
«требованиям дня» и не впадать в иллюзии,
которые необходимо возникают, когда
интеллект выходит за рамки своей специальности,
каждому ученому-специалисту, по мнению
известного социолога Макса Вебера, следует
честно служить только своему «демону»
(именно так он образно называл
определенную научную специальность). К этому
позитивистскому представлению отныне и начинает
сводиться призвание ученого. Хотя, заметим,
что во времена классической немецкой
философии, представленной, к примеру, работами
И. Г Фихте и Ф. В. Й. Шеллинга («Несколько
лекций о назначении ученого», «О сущности
ученого и ее явлениях в области свободы», а
также «О методе университетского
образования»), проводилась мысль, что
ученому-специалисту необходимо усвоить не только
особенный учебный предмет, но и обладать
знанием всеобщего научного основания. Только
благодаря познанию единства особенного и
всеобщего, относительного и абсолютного
специалист, по мнению классиков, объективно
становится достойным звания ученого.
Спустя совсем немного лет, прошедших с
того времени, когда Макс Вебер выступил в
114
Мюнхенском университете с докладом «Наука
как призвание и профессия» (1918), наряду с
продолжением процесса дифференциации
научного знания заметным становится и
обратный ход в его развитии. Для нашего века
научно-технической революции характерны уже
интеграционные тенденции в этой области,
что, однако, не меняет сути дела, отмеченного
социологом, ибо на стыках различных
специальных знаний возникают только особенные
виды научных дисциплин, особенные
«демоны». Вместе с тем процесс формообразования
научных идей и их материализации
продолжает носить стихийный характер, что не может
не вызывать тревогу у неравнодушной к
социально-этическим и экологическим
последствиям такого процесса мировой общественности.
Если еще совсем недавно науку
рассматривали только в качестве ведущего звена в
системе наука—техника—производство, то уже
сегодня ученые говорят о науке как о
фундаментальном, определяющем основании всей
жизнедеятельности человека, всей системы
его социально-экономических отношений (не
случайно, что эпоху НТР иначе называют
эпохой постиндустриального или
информационного общества). Тем более актуальным
становится понимание науки, но не как конгломерата
различных научных дисциплин, а как единого
в себе самом свободного духовного
производства, лежащего в основе материального,
115
ибо обработка вещества природы
определяется способом обработки, в основе которого
лежит определенная научная идея. Речь идет о
том, чтобы вернуться к разработанному
немецкой классической философией понятию
науки как целостному началу, как принципу
деятельного познания, образующему
основоположения для всех возможных эмпирических
наук. Первым же препятствием на пути к
такому пониманию предмета является
господствующий в ученой среде
утилитарно-позитивистский подход к познанию вообще и
познанию природы научного знания в частности,
когда призвание науки сводят к различным
способам мышления, к рабочим инструментам
и навыкам обращения с ними — одним
словом, к средству овладения жизнью.
С точки зрения трансцендентальной
философии призвание научного знания вытекает не
из внешних условий, даже если последние
заданы всей совокупностью общественных
потребностей, а из понятия безусловного
самосознания, так как из многообразия условий
невозможно вывести то, что как целое
объективно выступает в качестве определяющего
основания. Впервые такое понятие
теоретически было раскрыто немецким философом
Иоганном Готлибом Фихте. Строго говоря, сама
философия в его лице достигает степени
научного знания своего предмета, благодаря чему
она перестает уже быть отвлеченной от обще-
116
го опытного процесса познания метафизикой,
а становится наукой, полагающей основание
для всех эмпирических наук, — наукоуче-
нием. Ее основное призвание заключается в
самом трансцендентальном принципе
деятельного познания, т. е. в том, чтобы знать истину
в себе и для себя сомой и быть истиной всех
особенных научных образований. Таким
образом, философия впервые за две с половиной
тысячи лет в форме абсолютного Я приходит к
своему первоначальному понятию, разработку
которого начали еще Платон и Аристотель.
«Царство наук, — как подчеркивал
Шеллинг, — представляет собой не демократию,
но аристократию в благороднейшем смысле
слова».
Первые лекции о своей философии,
получившей название наукоучения, Фихте
читает в 1774 году в Цюрихе; в этом же году в
Веймаре было издано сочинение «О понятии
наукоучения, или так называемой
философии».
В этом, по сути, своем первом
самостоятельном произведении Фихте исходит из
критической философии Канта, согласно которой
всякое знание предполагает первоначальное
синтетическое единство самосознания.
Последнее, по Канту, «сопровождает» всякое
представление. Оно есть в каждом
созерцании и в каждом абстрактной мысли, и оно
связывает противоположности чувственного
117
и сверхчувственного порядка, образуя через
посредство такого синтетического действия
всякое знание. Знание есть результат
деятельности трансцендентального субъекта.
Вспомним, что указанные противоположности как
моменты тождества всеобщего самосознания
стихийно выступили в истории философии
еще задолго до Канта как «esse est percipi»
(существовать, значит быть воспринимаемым)
Джорджа Беркли и «cogito ergo sum» (я
мыслю, следовательно, существую) Рене Декарта.
Однако знание самого безусловного, знание-
образующего принципа, по Канту,
невозможно, так как предмет философского познания
выходит за пределами опыта. С этим
заключением своего знаменитого предшественника
Фихте не согласен принципиально, понимая,
что развитие выдвинутой Кантом
трансцендентальной точки зрения возможно только
через раскрытие определенности основания
опыта или абсолютного Я. К такой доселе
неведомой задаче Фихте приступает в полной
уверенности, что его понимание сути
философского предмета станет вполне ясным
ученому сословию.
Философия как наука имеет предмет,
который, в отличие от предмета частной науки, не
дан ей как некая вещь, а впервые выступает
только в форме направленной на самое себя
деятельности философского познания как
«необходимый способ действия интеллигенции».
118
Интеллигенцией Фихте называет чистый
разум, или дух как таковой, выступающий
всеобщей сущностью всякого индивидуального
человеческого духа, всякого конечного
самосознания. Ведь когда мы произносим слово
«я», то мы тем самым не только выделяем себя
из числа себе подобных по принципу «я есть
особенный субъект, существующий среди
себе равных», но и бессознательно
свидетельствуем о едином, безусловном начале, о Я как
таковом, которое только для философа
впервые и стало предметом научного
рассмотрения.
Чистый дух самосознания, как известно из
«Наукоучения», сам порождает себя в форме
трех основоположений, а философ только
наблюдает за этим «духовным деланием».
Однако здесь остановимся и опять вернемся к
Канту, утверждающему, что мы познаем то, что
сами творим. Внесем уточнение, что речь идет
о всеобщем творящем начале, которое у Канта
называется трансцендентальным единством
апперцепции. Оно является не только
пассивным условием всякого эмпирического знания,
но и творцом всякого знания, так как
полагает необходимую связь, является
формообразующим началом. Случайную же связь
полагает любое конечное самосознание, почему
ему и приходится расплачиваться за
последствия своего «формотворчества». Необходимая
связь противоположного есть категория рас-
119
судка. То, что категории у Канта
сгруппированы по тройственному принципу: реальность,
отрицание и ограничение, — это также не
случайно, так как сам процесс познания
«начинается с чувств, переходит затем к рассудку
и заканчивается в разуме» (Кант), т. е.
предполагает три основные ступени. Последняя
категория, по Канту, содержит в себе все
особенное. Однако разум — это не только
результат эмпирического познания или результат
диалектического становления, но и истинное
начало самопознания, в котором понятие
разума раскрывает свою определенность, но уже
не в опыте, не вне себя, а в себе самом.
Поэтому Кант подчеркивает, что разум имеет
дело с идеями, а не с вещами.
Заслуга Канта, как считает Фихте, в том,
что «он отвел мышление от познания внешних
вещей и направил его на себя, на
самопознание». Фихте развивает эту мысль,
подчеркивая, что разум как предмет философского
познания есть непрерывная деятельность само-
полагания. То, что Фихте ограничил эту
деятельность тремя основоположениями
(Я полагает Я; Я полагает не-Я; Я полагает
взаимно ограничивающие друг друга Я и
не-Я), говорит о границах, не внешних по
отношению к разуму, а внутри самого разума,
самой философии, которая поэтому должна
быть завершенным в принципе знанием.
Интеллигенция раскрывает свои всеобщие оп-
120
ределения так, что начало совпадает, с
результатом деятельности, тем самым всякое
человеческое знание по своим первым
основоположениям становится известным
философии. Эмпирические науки, таким образом,
возможны не потому, что они обладают своим,
особенным содержанием, а возможны и
необходимо существуют лишь благодаря
определяющему основанию всякого возможного
опыта, поэтому они, как справедливо
подчеркивает Фихте, «есть только части одного и того же
наукоучения».
Общий вывод: философия как наука должна
выступить основанием разумности частных
наук, спасающим человечество от их слепого
натиска на природу и мир человеческих
отношений, именуемого научно-техническим
прогрессом. Можно даже вслед за Платоном
прибегнуть к образу возничего, обуздывающего
«демонов» эмпирических наук, чтобы
использовать их энергию для движения в истинном
направлении. В этом, как мне представляется, и
заключается общественное призвание науки.
9. О смысле и практической пользе
философского знания
Похоже, страстным было желание
античного человека приоткрыть завесу над
непосредственно данным, чтобы найти нечто, благода-
121
ря чему можно было бы объяснить устройство
мира, а вместе с этим и понять свое земное
предназначение. Поэтому ни ранние формы
верования — анимизм, фетишизм, тотемизм,
магия и пр., ни мифологический образ мысли и
непосредственно связанный с ним образ жизни
не в состоянии были удовлетворить его
пытливый ум. Конечно, человек продолжал питать
почтение к богам, наивно предполагая, что
только они обладают полнотой мудрости и
спасительным светом истины, пока однажды не
понял, что люди сами создают себе предметы
поклонения по своему образу и подобию,
приписав им желаемое — бессмертие. Тем более
что богов много и они различны, а мудрость —
одна и неизменна, о чем впервые стало
известно первому из семи мудрецов — Фалесу.
Многая речь на устах — еще не залог
разуменья.
Мудрость единую знай, единого блага ищи.
Поскольку же предмет философского
знания — логос или единая мудрость —
благодаря активным усилиям античных мыслителей
становится достоянием широкого круга
граждан греческих полисов, постольку это
обстоятельство не могло не повлиять на их, казалось
бы, непоколебимый от века мир.
С того исторического момента, когда
греческая философия обнаруживает принципиаль-
122
ное различие между мнением и знанием,
между мнимым и мыслимым бытием, возникает
проблема преодоления этого различия.
Способом решения этой проблемы выступает
диалектика как искусство вести диалог, в ходе
которого тот, кто обладает этим искусством,
способствует радикальной переработке
имеющегося у собеседника материала
представлений и тем самым его восхождению от
незнания к знанию, от многообразия чувственного
бытия к бытию «божественному, чистому и
единообразному», по выражению Платона.
Божественное бытие разумно, поскольку в нем
содержание мышления есть его чистая форма,
которая уже не находится вне
философствующего индивида, а, наоборот, разумеет себя в
духе философа. Поэтому отныне
философ-мудрец, подобно египетскому жрецу, возносится
над миром человеческого опыта, а основанием
этого вознесения выступают априорные
истины-идеи, которыми он обладает: «Мы
непременно должны знать равное само по себе еще
до того, как увидим равные предметы»
(Сократ).
В отличие от жрецов философы не
устраивают, за редчайшими исключениями, из
открытия высшей сущности никакой тайны, не
мистифицируют философский способ
познания. Их уверенность в истине заключается в
том, что логика есть присущая человеку
способность разуметь разумное и вечное. Только
123
внимая логосу, можно, по Гераклиту, познать
истинное единство бытия и небытия, закон
вечного течения временного. Поскольку уже у
Сократа речь идет о философском познании
как необходимом процессе очищения души,
благодаря чему она получает возможность
«перейти в род богов», постольку
теоретическая проблема философского восхождения к
истине становится одновременно и
морально-практической проблемой преодоления
невежества как источника человеческих
заблуждений, порождающих зло. Впрочем, казнь
Сократа есть отнюдь не случайное проявление
невежества в мировой истории, она
представляет собой закономерную реакцию
мифологического представления на философскую
иронию. Мысль в форме иронии разума лишает
истинности самое, казалось бы, сокровенное,
превращая почитаемые гражданами древние
сказания о богах и героях в иносказания, в
аллегорические и фантастические образы. Даже
поэты, например Еврипид, называют их уже
не иначе, как «выдумками людей» и «нелепой
брехней». Когда простые вопросы философа
становятся причиной неслыханных доселе
метаморфоз, в результате чего быль вдруг
превращается в пыль, в небылицу, вопрос о
спасении нравов становится уже вопросом
политическим.
Вместе с выходом философии на
историческую арену начинается болезненный процесс
124
ломки устоявшегося образа жизни. «Разве ты
не замечаешь зла, — пишет Платон в седьмой
книге «Государства», — связанного в наше
время с умением рассуждать, — насколько
оно распространилось?». Вместе с тем «зло»
рассудительности, по Платону, есть
необходимая сила, позволяющая «преодолеть самого
себя», т. е. «обуздать в себе худшую часть
души», чтобы восторжествовала идея
разумной справедливости — как в человеке, так и в
государстве.
Философский огонь логоса, выступив из
стихии мифологических представлений,
начинает буквально сжигать свои
естественные предпосылки, рассматривать только
себя в качестве истинного начала всего
существующего. Отныне оно (и, прежде всего,
человеческий мир) должно быть пронизано
логическими определениями, благодаря
которым всякое единичное перестает быть
чем-то неделимым и как бы
самостоятельным и либо становится образом своего
вечного первообраза, идеи, либо изгоняется за
пределы разумного. Эпоха предрассудка
завершена. Только в разумном государстве
царствует божественное бессмертие, в
котором душа человека обретает достойное
своему образу положение. К примеру, воином,
стоящим на страже законов государства,
становится только тот, кто обладает
достаточно развитым рассудком и волею. Таким
125
образом, античная философия приходит к
выводу, что спасение человеческой души
становится возможным и необходимым
делом, но состоит оно отнюдь не в бегстве от
цивилизации, как предлагали, например,
киники, а, наоборот, в ее приобщении к своей
субстанции — к посюстороннему, но в то же
время сверхчувственному, идеальному
царству разума. Теоретически разработанный
греческой мыслью рациональный способ
спасения души получает свое практическое
воплощение в римском мире, где мы
наблюдаем буквально триумфальное шествие логоса.
Своеобразие этого воплощения заключается
в том, что культ «закона-бесстрастия»
(Аристотель) все более наполняется
религиозно-мистическим содержанием, а сила закона
персонифицируется и обожествляется в
лице императора как одушевленного
закона. Этому, несомненно, способствует
восточное влияние, которое проникает в
культуру Рима, составляя со временем
существенный элемент его универсального
государственного порядка.
Однако именно душа Востока была не
удовлетворена той формулой спасения,
которую ей предложил рациональный мир Запада,
поскольку она все позитивное воспринимала
по-прежнему — как «тварное», лишенное в
себе истинного содержания, отчего и искала
спасения в ином мире. И находила, раскры-
126
вая путь к этому миру внутри себя самой.
Можно сказать, что религия Востока
вступила в противоречие с философией Запада, и
пунктом их противостояния стало сердце
Рима. Оно явно разрывается на две стороны.
Страдающая от абстрактной рациональности
душа находит отныне успокоение только в
свободе от всего созерцаемого, будь то
красота обнаженных богов или всевластие
сурового закона.
Как известно, византийские ученые мужи
связывали переход от античного к
христианскому миру с совпадением двух событий —
рождением Христа и царствованием Августа,
т. е. с событиями, благодаря которым
религиозно-философское противоречие как
противоречие существования и сущности достигает
предельного пункта. Это страдание было
необходимым условием для духовного
преобразования логоса (единой мудрости), развитие
которого составит внутреннее содержание
всемирной истории. Постичь же в понятии это
содержание и тем самым раскрыть смысл
истории народов может только философское
умозрение.
В дополнение к сказанному и, может быть,
из-за желания прояснить (для более широкой
аудитории!) уже то, что сказано, предлагаю
взглянуть еще раз на нашу проблему смысла
философского знания в характерной для
греческой культуры манере.
127
Чтобы понять философии смысл и значение
для рода людского,
Следует мыслью войти в то, что жизнью обычно
зовется.
Жизнью не в смысле животных инстинктов
и всякой растительной жизни —
Жизнью стремлений разумных существ, —
в этом смысле.
Высшим предметом стремления мысли является
Логос —
Тот, что в себе неразрывен и мудростью дышит.
Внемли Ему! И услышишь биение пульса
истинной жизни.
Только она даст ответ на вопрос изначальный.
Логоса жизнь протекает в процессе познания.
Сам же процесс не находится вне человека.
Будто река он течет без конца и начала,
Люди приходят, уходят, а Он остается...
Вот почему называется истинной жизнью
То, что нетленно и вечно в себе пребывает.
Логос — творец бытия и познания сути,
Строго Он шествует к истине двух этих граней.
Всякий же может внести свою лепту и все же —
Истинным быть может только разумный
мыслитель.
В духе философа Логос себя разумеет.
Это имеет для рода людского особую
ценность —
Ведь философствуя, Логос питает всех хлебом
духовным,
128
Хлебом спасительным, вечным —
божественным хлебом.
Что же касается принципа полезности, то,
даже не раскрывая для себя всех задач
практической философии (этики), следует, на мой
взгляд, обратить внимание на вполне
актуальную для нашего времени позицию стоиков,
которая способствует решению главной задачи —
воспитать в себе дух разумной свободы. Для
этого можно предложить предполагаемому
читателю, к примеру, виртуальный диалог
больного с врачом-философом о том, как избавиться от
какой-либо внешней зависимости —
алкогольной, табачной, наркотической и т. п. Опять же,
в характерной для греческой культуры манере.
Пациент
Ныне пришел рассказать про зеленого змия,
Что не дает мне покоя ни днем и ни ночью.
Просто не знаю: куда мне бежать и откуда
Силу извлечь, чтоб свободы глотком
насладиться?
Врач
Ты не спеши растворять себя в мутной зеленой
стихии
И не вопи о преградах как будто бы
неодолимых.
Лучше послушай совет мой логически стройный
9 Зак 3426
129
И поспеши исполнять все мои наставления.
Знай! Что недуг излечим при одном лишь
условии
(пациент лезет за деньгами?!).
Речь не идет о лекарстве каком-либо внешнем.
Только в себе обнаружь ты надежды дыхание,
Веруй в себя! И боги тебя не покинут
Шаг к исцелению, первый, стремись сделать
четко,
Без колебаний таких, типа «так мол и так мол».
Ты человече — ив том нет сомнению места.
Мыслью своей уничтожь в себе хилую
тленность!
Если шагнешь ты из мрака нужды в мир
свободы,
Не прибегая к каким-либо внешним опорам,
То разлетятся оковы телесных недугов,
Змия зеленого след не останется даже.
10. Трансцендентальная философия
и христианская религия
В «Письмах об учении Спинозы» немецким
философом Фридрихом-Генрихом Якоби был
поставлен вопрос: «Человек обладает разумом
или разум обладает человеком?». Согласно
Якоби, возможны два варианта ответа: либо
разум есть орудие, которым человек, наряду с
другими средствами, пользуется для
достижения своих целей, либо человек является
формой, которую сам разум принимает в процессе
130
своего формообразования. Этот вопрос лишь
кажется простым, однако по сути своей он
есть основной вопрос христианской
онтологии и антропологии, правильный ответ на
который станет для нас ключом к пониманию
смысла философии вообще и
трансцендентальной философии в особенности.
Люди в пределах своих обычных
представлений уверены в истинности первого варианта
ответа, поскольку за него говорят очевидные
показания их собственного опыта и авторитет
ученых, мнение которых знакомо всем по
школьным учебникам. Ученые же
специалисты в различных областях эмпирических наук,
отвечая на этот вопрос, тоже не выходят за
рамки наблюдения, предполагая скорее
существование иных форм разумных существ
(инопланетян или еще кого-нибудь в этом роде),
чем возможность иного ответа, ибо
предполагать по аналогии всегда проще, чем полагать
согласно самой логике вещей.
В противоположность обычным
представлениям и эмпирическим наукам христианская
религия и трансцендентальная философия
твердо стоят на признании единого разумного
начала всякого, в том числе человеческого,
бытия — начала, именуемого Логосом.
Принцип деятельного познания, или
идеал-реализма, открытый Иоганном Готлибом Фихте,
является принципом объективно действующего
разума, который с необходимостью обнаружи-
131
вает себя на всех этапах своего
формообразования в природе и человеческой истории.
Благодаря своему открытию Фихте рассматривает
историю человечества в целом не как стихию
столкновений различных народов, по
непонятным причинам то внезапно возникающих на
исторической сцене, то не менее внезапно
исчезающих с нее, а как явление этой единой
сущности — действующего по своим
необходимым законам разумного начала. В
мировой истории, переполненной человеческими
страстями и драматическими событиями, он
видит абсолютно бесстрастный ход
реализации божественной идеи (справедливости ради
заметим, что заслуга философского
рассмотрения природы, благодаря которому в ее
материи, правда в бессознательной форме,
обнаруживается тот же принцип идеал-реализма, что
и в чистом мышлении, принадлежит
последователю Фихте Фридриху Вильгельму Йозефу
Шеллингу).
Познание царствующей в природе и
истории необходимости возвышает человека над
ней, поскольку религия и философия как
высшие способы самопознания разума как
такового облагораживают всякое разумное
существо, причастное этому процессу. Вот
почему все усилия и, можно сказать, страдания
великого мыслителя были направлены на
достижение каждым человеком своего духовного,
спасительного основания. Почему он и рас-
132
сматривает философию как высший способ
христианского спасения. «Философствуем, —
пишет он еще в 1795 году Якоби, — из нужды
ради спасения».
В христианской религии Бог есть Логос,
который проявляет себя в мировой истории
не только внешним способом, воплощаясь
в образе феноменального,
чувственно-сверхчувственного существа, впервые заявившего о
единой духовной природе Бога и человека, но
и в форме ноуменального существа,
внутренним способом — способом чистого мышления
или духа истины. Второе воплощение не
ограничивается фактом явления абсолютного
начала, поскольку идея христианского спасения
в опыте человеческой истории достигает
такой формы своего развития, которая
предполагает уже совершенно иной способ бытия и
познания — трансцендентальный.
В форме трансцендентального знания сама
многовековая история религиозного и
философского познания истины заявляет о себе в
первом лице как абсолютное Я, что позволило
Фихте утверждать об истинной религии
Христа, в которой впервые преодолевается
разрыв веры и знания; в свою очередь философия
перестает быть философией в форме любви
или стремления к мудрости, а отныне сама
полагает себя как действующее, определяющее
основание всякого учения, поэтому
становится наукоучением. Можно сказать, что в этой
133
всеобщей форме разума христианское
вероучение, благодаря усилиям деятелей религии
и философии, выступило уже в неразрывном
единстве непосредственности веры и
опосредованное™ логического понятия. Во всяком
случае, вера на правах созерцания прочно
вошла в сферу разумения, порвав со
средневековым представлением об отсутствии единого
краеугольного камня религии и философии.
Таким образом, между первым и вторым
способом богоявления (первым — в форме
чувственного созерцания, а вторым — в форме
интеллектуального) лежит целая история
восхождения человека к своему духовному
первоначалу, процесс обожения. Первое во-
площние Бога-логоса, несмотря на то, что оно,
казалось бы, преодолело границу между
вечным разумом и той формой, которую разум
принимает в своем явлении в виде
созерцаемого образа Иисуса Христа, было крайне
противоречивым. Причем это было первое
действительное противоречие Сущего, или
существенное противоречие, которое
непосредственно, в своем чувственно
воспринимаемом облике выступило как всеобщее в
единичном или единичное во всеобщем. Иначе
говоря, разум, принявший форму человека, в
своем эмпирическом бытии, которое в
дохристианскую эпоху античная мудрость
по-своему справедливо именовала небытием, так
как опыт для нее не обладал существенными
134
определениями разума, теперь в опыте как
бы прозрел самого себя, положив
необходимую форму самопознания. Момент
тождества противоположностей абсолютного
предмета сознания и конечного самосознания
выступил в опыте, прежде всего в
морально-практическом аспекте как духовная жизнь
разума. А поскольку разум полагает хотя и
необходимую, но определенную форму своего
бытия, то сам же испытывает несогласие с
самим собой, что и вынуждает его к
преодолению положенного, чтобы в конечном счете
обрести соответствующую своей природе
безусловную форму единства бытия и познания.
Поэтому совпадение явления и того, что
собственно явилось сознанию однажды в
человеческом мире, не могло не иметь трагического
исхода. Трагичность в том, что вместо
духовного противоречия единого произошло
столкновение разума в его абстрактной форме
тождества закона, царствовавшего в рим-
ско-иудейском мире и конкретного в себе
самом духа Христа Спасителя. Однако смерть
не властна над истинной жизнью духа,
поскольку только в духовной жизни явившегося
Бога-логоса и заключается весь замысел и
смысл всякой иной жизни и мировой истории
в особенности. Вместе со смертью плоти
созерцающего разума заканчивается эпоха
царства закона, разделявшего два мира — мир
мнения и знания, мир рабов и господ, людей и
135
богов. На смену закону, отрицающему
противоречие, приходит вера (см.: Гал 3:23),
которая уже в иной форме, с точки зрения
формальных законов рассудка — абсурдной, в
форме познающего истину мнения или
ортодоксии, будет сама продвигаться по
направлению к высшей цели познания — к знающему
самого себя знанию. Сущность христианской
религии, выраженная в акте тождества
самосознания — «Я и Отец — одно» (Ин 10:30),
перемещается в сферу представления как
истину предшествующей эпохи созерцания, во
внутренний опыт. В опыте представления
формула «А не есть Б», характерная для
предшествующей эпохи, преобразуется в формулу
«А есть не Б», т. е. человек уже не
противостоит Богу как потустороннему законодателю
и творцу, а сам «есть» непосредственно свое
иное, сверхчувственное, опираясь, правда, не
на знание, а на веру в спасительную силу
Христа Богочеловека. Поскольку
первоначально вера давала только уверенность каждому
христианину в том, что духовное,
божественное присутствие есть в каждом, но не давала,
да и не могла дать, ответа на вопрос «что есть
Бог?», то необходимо образуется разрыв в
форме сознания о потустороннем предмете и
посюстороннем верующем в Бога
самосознании. Самое прискорбное, что эти стороны —
вне меня сущий предмет веры, с одной
стороны, и сама моя вера, как и моя рефлексия, —
136
с другой, — начиная, быть может, со времен
христианских апологетов II века были лишены
единой разумной основы, так как Бог в
представлениях ранних богословов, а затем и
отцов церкви выступал основанием всего
сущего, но оставался абсолютно
трансцендентным по отношению к последнему. Ни
апофатическое («чрез отрицание всего»), ни
тем более катафатическое (опирающееся на
доводы рассудка) познание не приближало
человека к истине божественного
существования. История христианства, таким образом,
предстает в форме движения ослепшего
созерцания (имеется в виду выражение Канта:
«Созерцания без понятий слепы»), поскольку
Бог откровения выведен за пределы всякого
понятия, всякого мышления вообще. Вера
противопоставляется рассудку, уделом
которого становится мир внешнего и внутреннего
опыта. Вместе с рассудочным, дискурсивным
мышлением, несмотря на заметное обращение
к Платону и Аристотелю, средневековыми
философами-богословами на долгие годы была
отброшена даже сама попытка мыслящего
созерцания сути предмета. Разумное
мышление эллинов было недосягаемым даже для
таких величин Средневековья, как Августин
Блаженный и Фома Аквинский, однако свято
место пусто не бывает: на смену
философскому умозрению пришло (особенно в
православной Византии) богословское «умозрение в
137
красках». Выступление Иоанна Дамаскина
против иконоборчества было выражением
защиты истины Христа как раз в той ее
чувственно-сверхчувственной форме, которую она
имеет в доступном верующему сознанию
образе богочеловека. Эта защита истины
продолжается на протяжении всей христианской
истории. К примеру, в прениях царя Ивана
Васильевича Грозного с пастором общины
чешских братьев Яном Рокитой достаточно
убедительно объясняется смысл православного
отношения к иконе: «И на первое место ставим
не поклонение материи иконы, а образу,
запечатленному в ней». По-моему, правильно
сказано: какова форма сознания, таково должно
быть и содержание, или образному мышлению
должно соответствовать и познание в образах,
«в красках». Иначе говоря, Бог в своем
откровении имеет доступную христианскому
сознанию форму, так как это именно та форма,
которую Он однажды принял. Однако чистый
образ православной веры как исходный
момент движения религиозного самосознания в
сфере представления не доступен земному
эстетическому чувству, поскольку природа
его сверхчувственна как по форме, так и по
содержанию. Икона — это образ духа,
который, будучи вынесенный вовне духа, имеет,
так сказать, зримую плоть и все равно по сути
своей остается абсолютно бесплотным,
духовным изображением. Именно поэтому оно со-
138
вершенно не понятно античному
рассудочному сознанию, для которого антиподом мысли
является вещь или предмет чувственного
восприятия, а не вещь-представление (икона).
«Для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»
(1 Кор 1:23). В том факте, что христианское
поклонение «Богу в духе и истине» в
народном сознании имело форму культа святых и
святынь, следует, на мой взгляд, усматривать
не только общие закономерности развития
религиозного сознания, для которого вера и не
могла существовать в начальный период без
«знамений и чудес» (см.: Ин 4:48). В этом
способе поклонения следует видеть отмеченную
Е. Н. Трубецким конечную цель
христианства — не абстрактное царство Божие, в
котором человеку не нашлось бы должного места,
а «обоженное человечество». Конкретность
определения «человек есть образ Божий»
состоит в том, что земная жизнь христианина
воплощает в себе одновременно и момент
жизни небесной, а его путь восхождения к
духовному первоистоку является путем
постоянного самоотвержения (Мф 16:24). А
поскольку даже воскресший из небытия Христос
только указал на возможность познания истины
в понятиях единого логоса, не раскрыв при
этом самого способа познания, то возникшая
двойственность сознания верующего
породила несоединимое: с одной стороны, как оно
себе представляет, история предполагает про-
139
мысел Божий, который имеет развязку в виде
второго пришествия Христа, а с другой
стороны, неисповедимость Его путей с
необходимостью приводит к пессимистическим выводам о
заброшенности, богооставленности человека.
В царстве представления, несмотря на то
что это есть царство христианской религии
откровения, Бога как действительно знающего
самого себя разумно сущего существа,
однако, нет. То, что здесь есть, так это как бы
исходящее от Него, но не непосредственно,' а
через церковь и особое, так сказать,
сакральное сословие священнослужителей слово
сущего. Последнее, будучи опосредовано цер-
ковно-богословской связкой, закономерно
теряет свою силу, меркнет и становится
словом о сущем. Вместе с тем властвующая воля
этого царства выступает здесь отнюдь не от
своего имени, т. е. не от имени конечного,
исторически возникшего лица, а от имени
потусторонней высшей силы, поэтому
уверенно вершит свой суд над подданными, как
будто сама является высшей судебной
инстанцией как таковой. Поскольку деятельность
«мирского» человека-образа объявляется как
бы по определению самого разумно сущего —
профанической, то всякая попытка с его
стороны выйти за установленную «свыше»
определенность или, проще говоря, границу в
образе жизни и мысли чревата самыми
осязаемыми последствиями. Для простых христиан
140
вся история человеческих отношений есть
сплошной суд внешних сил (церковь,
государственная бюрократия во главе с царем, силы
правопорядка и т. п.), под игом которых
истинный суд — суд совести, суд внутренней
свободы еще не скоро заявит о себе.
Необходимо время, чтобы человек смог сознательно
преодолеть порожденное историей
отчуждение собственной самости. Однако, несмотря
на весь фетишизм общественных отношений,
даже закрепощенный дух не перестает
проявлять присущую ему деятельность
самопознания.
Христианская эра — это эра только
становления открытого Фихте принципа
идеал-реализма или трансцендентального
знания, когда логос, действующий в своей
истории, несмотря на то что он представляет не
себя в своем чистом, разумном виде, а свое
иное, рассудочное, раздвоенное в себе самом
отношение идеального и реального, все-таки
имеет четко определенную направленность
или цель. Он стремится стать тем, чем он
является в себе — абсолютно свободным,
знающим самого себя разумом. Поскольку
сознание людей не находится в ведомости
знающей свою цель разумной воли, а в
ведомости рассудка, постольку необходимой
формой рассудочного сознания будет религия, а
не наука, вера, а не знание. Историческое
развитие человечества выступает поэтому
141
как развитие религиозной формы
самосознания, а развитие религии — всеобщей
формы исторического бытия разума (формы
жизни и мысли, объективного и субъективного
существования человечества) — как некая
мистерия или богоборческая драма.
В то же время следует учесть, что
история человеческого общества есть особенная,
антропоморфная форма бытия разума,
которую он полагает, выходя, по словам Канта,
«из под опеки природы в состояние
свободы». Поэтому для того, чтобы выйти «из под
опеки» своей исторической формы, разуму
необходимо преодолеть абсолютно все
«превратности» своей человеческой формации.
Первым сознательным шагом к этому
преодолению является
спекулятивно-теоретическое снятие антропоморфизма через научное
самопознание, которое уже действительно
начало осуществляться в
трансцендентальной философии. Вторым — практическое
преобразование всей системы образования
или обустройство жизни человеческого
общества по образу самого разума. Этому
предприятию у Фихте в работе «Основные
черты современной эпохи» посвящена целая
эпоха. Речь у него идет об эпохе
сознательного, действительно разумного искусства,
которая наступает тогда, когда духовно
преобразованное человечество уже ведает, что
и из чего оно творит.
142
По-моему, человечество уже вполне
созрело для того, чтобы закончить стихийный,
бессознательный этап своего исторического пути
и чтобы, наконец, начать Новый Исход уже
сознательного своего саморазвития.
Итак, трансцендентальный способ
познания, впервые разработанный Фихте, в отличие
от позитивистско-научного или
традиционно-метафизического, которые догматически
исходят из внешне данного основания,
исходит только из собственного, безусловного
основания, или из абсолютного Я. Поэтому все
многообразие явлений и сущностей он сводит
к всеобщему способу деятельности и
познания, который шаг за шагом реально
осуществляет (проявляет) себя во всемирной истории.
Об этом, правда, в форме представления уже
было известно христианской религии, почему
ее смело можно именовать предтечей
трансцендентальной точки зрения. Заметим, что
последняя сама по себе, т. е. в отрыве от
содержания христианства, ничего не значит (так и
оставаясь никчемной, подобно любой
философской конструкции, игнорирующей это
содержание), поскольку призвание философии
заключается в том, чтобы выразить ту же
самую от века сущую идею спасения, но уже в
форме мышления. Иначе говоря,
трансцендентальная философия только очищает
бесконечное разумное содержание религии от
«примеси представлений», по выражению Фихте, и
143
переводит его в более соответствующую
этому содержанию бесконечную форму — в
форму мыслящего себя самого мышления, в
форму спекулятивной науки. При этом было бы
совершенно неверным полагать
существование наряду друг с другом двух форм
самопознания разума. Они есть, но не наряду, ибо
их порядок определен идеей логоса или
логической идеей, а Логос — один. Поэтому
трансцендентальную философию следует
понимать как истинную религию, или религию
в ее истине. Ведь сама заповедь Христа
говорит о необходимости возвышения в любви к
Богу «разумением твоим» (Мф 22:37) путем
самоотвержения (см.: Мф 16:24). Понятно,
что не все, что называется философией,
является богоугодным делом, однако если
правильно понимать мысль апостола Иакова,
утверждавшего, что «вера без дел мертва»
(Иак 2:26), то в философии, достигшей формы
абсолютного самосознания, следует видеть
уже не просто богоугодное занятие,
допустимое в качестве некоего приложения к
сакральным символам религии, а дело самого Бога,
или начало Его истинного, окончательного
пришествия и самоутверждения в мире сем.
«Но кто вникнет в закон совершенный, закон
свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем
дела, блажен будет в своем действовании»
(Иак 1:25).
144
11. Превосходная степень,
или как стать разумным
Желание показать себя выше в глазах тех,
кому ты так или иначе известен, есть вполне
нормальная амбиция, если конечно последняя
не переходит допустимые грани и не
принимает в силу этого перехода трагикомические
формы самозванства по типу «есть амбиции,
но нет амуниции». Причем независимо ни от
конкретной мотивации, которой может
руководствоваться тот или иной индивид, ни от
определенности социально-исторических
условий, ни от степени уже достигнутого
общественного статуса и т. д. это желание имеет
весьма существенную основу своего
происхождения. Более того, эта основа, именуемая
разумом, является самым главным виновником
всего человеческого вообще, а не только
каких-либо претензий, амбиций и пр. Однако,
заметим, что аристотелевское определение
человека как политического животного,
наделенного разумом, лишь отчасти соответствует
действительному положению дел, так как
разумным в строгом смысле этого слова тот или
иной индивид может вовсе и не быть, будучи
политическим деятелем — достаточно иметь
добротный рассудок, способный
анализировать, классифицировать и т. д. Чтобы стать
разумным на деле, человеку необходимо
буквально превзойти самого себя, раскрыть в
Юзак. .1426
145
себе то, что совершенно скрыто в
повседневной жизни большинства людей.
«Ни от начала всё открыли боги людям —
справедливо утверждал древнегреческий
мудрец Эмпедокл, — но постепенно, ища, люди
приходят к лучшему». Однако если бы не
было разумного основания или, говоря языком
христианской веры, божественной благодати,
то никакие волевые потуги не привели бы к
изменению человека «к лучшему», к его
духовному преобразованию. Речь идет не только
об образе мысли как теоретическом аспекте
бытия человека, но и об образе жизни, т. е.
практическом аспекте. Какие же необходимо
пройти этапы зрелости, чтобы превзойти
самого себя и стать действительно разумным
существом?
Если мы усвоили точку зрения
трансцендентального идеализма Якоби—Фихте о том,
что разум как таковой не является
принадлежностью конкретного индивида, его
акциденцией, а существует сам по себе, что его
жизнь в человеческой истории есть
постоянный процесс духовного формирования, то нам
станет понятным вопрос, в чем состоит суть
разумного образования человеческой
личности. Сам Фихте далеко не сразу пришел к
пониманию того, что достичь всеобщей формы
разума и быть в ней свободным субъектом
своей деятельности человек сможет отнюдь не
способом некоего скачка или, как он иначе
146
выразился, способом абсолютной абстракции.
В более поздний период своего творчества,
примерно с 1805 года, когда в Берлине он
начинает читать лекции по философии истории
и философии религии, вопрос о становлении
разумного бытия у него получает уже
принципиально иную форму, а именно форму
постепенного формообразования.
В лекциях под общим названием
«Наставление к блаженной жизни» Фихте выделяет
пять ступеней восхождения человека к своему
истинному, разумному воззрению, объясняя
это тем, что эти ступени и соответствующие
им воззрения «извечно присутствуют в
единстве божественного существования как
необходимые определения единого сознания».
Итак, первая ступень и соответствующее
воззрение на мир базируются на доверии
«внешним чувствам». Однако, как замечает
философ, даже при простом восприятии
предметов мы не перестаем их мыслить, т. е.
невозможно видеть, слышать и осязать
абсолютно бессознательно, в противном случае
воспринимаемое никогда не станет предметом.
Мышление даже в самом низшем своем
проявлении не перестает быть мышлением — оно
действует и одновременно осознает свое
действие, т. е. подводит, говоря словами Канта,
многообразие ощущений под единство
понятия. Однако если бы познающее внешний мир
рассудочное мышление только «связывало»
147
противоположное, не изменяя при этом
исходного момента познания — чувственности, и
перемещало бы содержимое опыта из
неопределенной сферы бытия в определенную сферу
знания, как это имеет место у Канта, то
человеку не пришлось бы, к примеру, испытывать
чувство угрызения совести. Он так и остался
бы на первой ступени своего девственного,
первобытного состояния, не имея в себе
потребности познания добра и зла. Впрочем,
пронизывающая нашего современника
инфантильность, т. е. детско-подростковая
беспечность и связанная с этим состоянием
уверенность, что все в этом мире и так, как бы само
собой идет успешно и без проблем, говорит о
серьезнейшей деградации культуры в целом.
Слова Христа о том, что человек через
духовное преобразование должен достичь чистоты
помыслов, подобно невинной чистоте,
присущей детству, в наше время обернулись в
бездумную, внешнюю телесно-сексуальную
раскованность. Действительно, если априорное,
или мыслительно-духовное, есть только некая
функция головного мозга, чувственности и
т. п., а не есть сущее само по себе начало, то
тогда о каких эстетических и этических
ценностях может идти речь? Понятно, что в
случае господства первого воззрения в жизни
целого государства ценностью может обладать
только вот этот чувственно воспринимаемый
единичный человек со всеми его изменчивыми
148
потребностями и склонностями, а его право на
последние станет во главу угла всей системы
государственной политики образования.
Неудивительно, что благодаря господству такого
воззрения с исторической сцены сходит все
то, что когда-то возвышало человека.
Остается только спрос, предложение, социальный
успех, технический прогресс и прочие
возбуждающие нервы взрослых детей вещи. «Коль
скоро государство покровительствует тому,
чтобы обыденный рассудок был судьей над
идеями, — как в свое время и предупреждал
Шеллинг, — то этот рассудок скоро
поднимется и над государством».
Фихте в отличие от Канта через понятие
двойного ряда, или двойного отрицания,
присущего мышлению как таковому, не оставляет
уже исходный пункт опытного познания в
неизменном виде. Ничто не обладает
прочностью перед мыслительной деятельностью,
только последняя есть единственное начало
всему сущему. Обыденный же образ мысли,
по Фихте, полагает внешнее чувство «первым
и непосредственным пробным камнем
истины», для него то, что видят, осязают, то и
существует. Известно, как негативно немецкий
философ относился к эмпиризму англичан
(и в особенности к одному из
родоначальников эмпиризма Дж. Локку), однако
исключительно потому, что такой способ познания
теоретически оправдывал этот некритический
149
взгляд на вещи, принимая чувственное за
исходный, безусловный момент познания
вообще. «Esse est percipi» (существовать — значит
быть воспринимаемым), как выразил эту
точку зрения несколько позже другой английский
философ Дж. Беркли. Если все же развивать
дальше это воззрение, то сознание «я мыслю»
оказывается обусловленным, зависимым от
внешнего чувства и связанного с ним
представления. Однако именно на таком
представлении покоится жизнь так называемой
здравомыслящей части человечества, их обыденное
воззрение или мнение, по Фихте, «еще не
перенесло свое местопребывание в мышление».
Для второго воззрения характерно
представление о законе как определяющем
основании всего существующего, т. е. чувственно
воспринимаемого и представляемого. Теперь
уже не вещи, а постигнутый сознанием закон
или существенное отношение вещей,
выраженное, к примеру, в математической
формуле, является источником и причиной внешних
чувств, а вместе с ними и наших
представлений о мире. Человек как часть природы,
несомненно, подчиняется законам последней, хотя
по способу подчинения он принципиально
отличается от других живых существ,
руководствующихся исключительно инстинктом.
Более того, его законопослушание есть в
принципе особый порядок вещей, в котором
благодаря познанию законов природы могут
150
происходить метаморфозы, когда сила этих
законов по воле человека начинает служить его
целесообразной деятельности. В этом суть
пафоса французских философов-материалистов,
утверждавших, что свобода достигается через
сознательное подчинение законам. Однако
даже законы, по которым протекает жизнь
общества, будь то социально-экономические,
юридические или этические законы и правила,
для рассматриваемого нами воззрения
выступают как некий внешний по отношению к
гражданам самостоятельно существующий
порядок, в рамках которого эти граждане
осуществляют свои частные решения и выборы.
Учитывая сказанное, заметим, что человек,
признающий закон в качестве
объективно-внешней силы, закономерно испытывает
внутреннюю неудовлетворенность, так как его
индивидуальная свобода мысли, его
многочисленные потребности, его самостоянье,
наконец, по выражению А. С. Пушкина, зачастую
не уживаются мирно с таким положением дел.
Строго говоря, вместе со вторым воззрением
возникает и раздвоение сознания, его борьба с
собой, так как сознание свободы вступает в
противоречие с сознанием внешней
необходимости, закономерности. Гегель справедливо
называл такое сознание несчастным. Вовсе не
случайно, что мы впадаем то в крайность
волюнтаризма, рассуждая по принципу «что
хочу, то ворочу», то в противоположную край-
151
ность фатализма — «чему быть, того не
миновать». Тут, несомненно, нужна отдушина. То,
что у Зигмунда Фрейда в качестве такой
отдушины мы встречаем процесс сублимации,
когда замешанные на вожделениях наши
небезгрешные помыслы предлагается перевести в
сферу, к примеру, творческих вымыслов или в
какую-либо социально-культурную форму
активности, — это вовсе не случайным образом
предложенный способ решения проблемы
раздвоенности человеческого духа. Сам Фрейд с
точки зрения трансцендентальной философии,
несмотря на его общепризнанные и
действительно значимые для
практически-экспериментальной психологии заслуги, по способу
мышления находился где-то между второй и
третьей ступенью общего развития духа. То,
что он советует каждому в целях преодоления
внутреннего конфликта самостоятельно
вырабатывать определенные способы разумного
самоопределения или, иначе говоря,
практические принципы, как раз и говорит о его
внутреннем намерении возвыситься над
раздвоенностью второго воззрения. Наше сознание
должно контролировать бессознательные
мотивы, а это возможно только в случае
духовного образования, совершаемого самим
индивидом.
Третья ступень и соответствующее ей
воззрение рассматривает мир человеческих
отношений с позиции «высшей моральности»,
152
поэтому закон третьей точки зрения не есть
лишь «упорядочивающий», а есть, как пишет
Фихте, «творящий» закон. Подлинное для
него есть «святое, благое и прекрасное», а
форма закона лишь средство достижения
этого возвышенного бытия. Благодаря
моральности или самоопределению и
самоотверженности конечного духа в мир «пришла религия,
и в особенности христианская религия».
Обратим внимание на то, как сказано апостолом
Павлом: «Итак закон был для нас детоводи-
телем ко Христу, дабы нам оправдаться
верою» (Гал 3:24). Однако «святое, благое и
прекрасное» не является нашим собственным
порождением, оно, по Фихте, является
внутренней, божественной сущностью, к чему мы
непременно становимся причастными через
наше проявление доброй воли. Третье
воззрение, таким образом, есть действительный шаг
на пути к примирению духа с самим собой
благодаря его стремлению к идеалу. Однако
здесь речь может идти только о негативном
способе решения проблемы, поскольку
беззаветное стремление к высшей, «не от мира
сего» цели ведет к упразднению всего
противоположного — как сознания
индивидуальной свободы, так и противостоящего ему
сознания необходимости. Забегая вперед,
заметим, что истинная свобода не находится вне
необходимости, а включает ее в себя,
поскольку она и есть законотворческая, необходимая
153
в себе и для себя деятельность духа как
такового.
Четвертое воззрение есть чисто
религиозное, признающее жизнь Бога в нас самих,
согласно Фихте. Хотя форма этого воззрения
еще не на столько совершенна, чтобы не
скрывать от нас существо божественного
предмета, однако тот, кто предается ему всецело,
находит его уже не вне себя, а «в своей груди».
Религия — не просто набожные мечтания, она
есть «внутренний дух, проницающий,
животворящий и погружающий в себя всю нашу
мысль и деятельность». Для блаженной
жизни, отмечает философ, достаточно иметь и
религиозную точку зрения на мир, благодаря
которой даже простой смертный в любви к
своему делу усматривает «волю Бога в нас и для
нас», и тем самым его дух преодолевает
смертность здесь и сейчас. Блаженство приходит
к такому человеку вместе с животворящим
духом религии, пронизывающим все его
существо.
И наконец, пятое и последнее воззрение
на мир есть научная точка зрения. Наука,
исходя из религиозной веры, преобразует ее «в
созерцание (Schauen)», т. е. в
непосредственное знание того, что Бог есть в нас и мы в
нем. В отличие от религии, сущее бытие Бога
для науки только исходный пункт познания
его сущности. Важным моментом в вопросе
отношения науки и религии является то, что
154
философия как наука возможна только через
усвоение и преобразование содержания
религии, а не путем абстрактного отстранения от
последней и иллюзорного сознания
самодостаточности, поскольку она завершает единую
цепь самопознания. Более того, дух познания
должен в самой религии вначале возвыситься
до религии разума, прежде чем войти в
царство науки разума. Убеждение Фихте в том, что
философия в наукоучении достигла, наконец,
знающего самого себя знания, подойдя, таким
образом, к завершению, а в принципе даже
завершилась, ибо ее конец совпал с началом,
заслуживает особого внимания. Во всяком
случае, после Фихте и благодаря его усилиям
историю философии можно впервые
рассматривать именно научным способом, т. е. в
соответствии с открытыми в наукоучении
законами разума.
Вся античная философия, с этой точки
зрения, мыслит истину в форме первого
момента принципа спекулятивной системы
«Я полагает Я» — в форме тождества
мыслящего и мыслимого, не случайно игнорируя
опыт с присущим ему рассудочным,
диалогическим мышлением как нечто лишенное в
себе всеобщей, логической формы познания.
Вместе с тем, рассматривая античную
философию, мы обнаруживаем внутри ее как тетиче-
ской формы разума движение от бытия Пар-
менида к становлению Гераклита, от идеи
155
Платона к мыслящему самого себя
мышлению Аристотеля.
Истина, согласно Аристотелю, не может
быть дана в опыте, хотя он и является
исходным моментом восхождения к ней. Сама
метафизика как первая философия есть
уникальный способ бытия сущности в форме
самоопределения разума, который есть конечная
цель и истинное начало мышления. Бытие
разумного сущего, в отличие от
мифологического и религиозного представления о предмете,
представляет собой только момент или
первичное определение деятельности
действительного самопознания. Аристотель, раскрыв
природу Бога как вечную деятельность
мышления, мыслящего себя самого (см.: Метаф.,
XII, 7, 1072b), тем самым объективно достиг
статуса первого философа, подобно тому как в
мифологии Зевс, будучи формально третьим
(после Урана и Крона), стал первым по
существу дела. «Божественное мышление» уже у
Аристотеля составляет замкнутый,
тождественный только себе круг целого, по
отношению к которому «человеческий ум»,
направленный «на составное», относится к области
частичного знания (см.: Там же, XII, 9,
1075а). Частное (особенное) не имманентно
целому (всеобщему), поэтому происходит все
большее отстранение его от области чистого
мышления, которое неоплатоники доведут до
абсолютной пропасти суждения «А не есть Б»
156
и тем самым окончательно разрушат единый
космос. Истина перейдет из сферы
философского созерцания в ведомство религии,
способной, однако, восстановить утраченное
единство только в форме представления.
Античную философию обычно в целом
характеризуют как космоцентризм, но это
верно только для исходного, полисного этапа ее
самопознания, поскольку в своем итоге
древняя классическая мысль приходит к прямо
противоположному заключению — к
постижению единства и центра мира в
потусторонней субстанции. Тем самым она упраздняет
себя как самостоятельную единицу, как
прекрасную индивидуальность. Чтобы
восторжествовала абсолютная форма разума,
индивидуальность, согласно Фихте, непременно
должна умирать. Ее уже нет с точки зрения
высшего единства бытия и мышления,
постигнутого философским разумом. Отсюда
проистекает фатальная необходимость
кризиса полиса и всей эпохи эллинизма. Как
известно, идею первоначала вслед за Платоном
и Аристотелем пытались осмыслить
неоплатоники и гностики, которые, по словам
Р В. Светлова, совершают переход «от
трансцендентности Бога чувственному Космосу к
трансцендентности его человеческому
знанию». Однако тем самым они объективно
подготавливают почву не столько для
дальнейшего развития философского способа позна-
157
ния предмета, сколько для христианских
апологетов II века, заложивших основы
средневекового представления о
непостижимости Бога и необходимости апофатической
мистики. Так, на смену античной идее
самопознания приходит идея откровения, которая
только в форме трансцендентализма Канта,
Фихте и Шеллинга и спекулятивного,
логического понятия Гегеля вновь начнет обретать
первоначальный вид разумного самопознания.
Все средневековое философствование
мыслит в форме второго момента принципа
«Я полагает не-Я», где к моменту всеобщего
тождества божественной субстанции
прибавляется внеположенная ей
противоположность особенного начала в лице субъекта
веры и познания. Несмотря на то что у Фомы
Аквинского проводится четкая граница между
Божественным «для себя» и человеческим
«для нас», поскольку «понятие Бога... не
самоочевидно для нас и нуждается в
доказательстве через посредство вещей более нам
известных, хотя и менее явных по природе», все-таки
субстанция предмета необходимо
предполагает уже наличие субъекта познания. Без
выступившей в христианскую эпоху
субъективности как особенного момента всеобщего
последнее уже просто немыслимо и невыразимо.
Без человека Бог для христианского духа
немыслим и, значит, невозможен, несмотря на
то, что церковь, рассуждая скорее всего по
158
ветхозаветному способу, настаивает на
существовании трансцендентного Творца, по
отношению к которому все люди, однозначно, суть
Его тварные создания. От этого и возникла
иллюзия, что творящий может творить без
того, благодаря чему он является творцом.
Иначе говоря, в средневековом мышлении
выступила противоположность между
всеобщим, безусловным предметом познания и
особенным, обусловленным способом
мышления. Только Бог, по словам Фомы Аквинского,
как предмет априорного познания, т. е.
фактически самопознания есть абсолютное
«согласие с самим собой», есть «свое же
собственное мышление и бытие», а вот в сфере опыта
как богочеловеческой жизни и познания,
напротив, проявилось различие,
противоположность мышления и бытия. Несмотря на то что
в апофатическом богословии Бог как предмет
религиозного сознания выступает по
отношению к последнему в качестве безусловно
противостоящего начала, как нечто бесконечно
далекое и недосягаемое по отношению к
нашей познавательной деятельности
(способности), сама деятельность субъекта познания в
себе уже отнюдь не ничтожна. Дух западного
Средневековья, рассматриваемый со стороны
рассудочного сознания, есть различающий,
дискурсивный дух, пытающийся найти фило-
софско-теологические предикаты всем
предметам религиозных представлений, чтобы под-
159
вести их под общий «аршин» или «сумму» и
тем самым теоретически восстановить
утраченное единство духа, исходящего от Отца и
Сына. Поскольку поиск рациональных
определений как формально-логический процесс
протекал вне живого содержания религиозной
веры, в стенах автономных университетов,
превращенных, по Гердеру, в
интеллектуальную «арену рыцарских поединков», то он с
необходимостью порождал схоластику и
мистику как реакцию на отрыв логической формы от
содержания. Однако, несмотря на отмеченные
«издержки роста» рациональной формы
мысли, последняя только в этом «отрыве» могла
получить должное образование, стать
необходимым и всеобщим образом истины, пройдя
универсальный, а потому и уникальный в
своем роде способ инициации. Пролить «свет
различающего рассудка», по выражению Николая
Кузанского, на то, что уже есть в Откровении,
стать интеллектуальной опорой истин веры —
такова основная задача мышления в
католицизме. Именно в рамках католицизма как
«западной части единой вселенской
христианской церкви», по выражению С. Н. Булгакова,
возрождается и развивается метафизика,
объективную тенденцию которой отмечает
президент католического университета И. Лобковиц
как «движение от субстанции к рефлексии», к
«само себя знающему знанию». Становление
этого духа не оставляет неизменным Свет
160
Востока как первообраза Святого Духа,
который все более погружается в «закат» Запада,
чтобы быть ближе к невидимому Богу, как
уже отмечалось, «разумением твоим» (см.:
Мф 22:37). Для последнего существенным
является иной свет — свет, исходящий от
«солнца самосознания», по выражению Гегеля.
В эпоху Возрождения и Нового времени
при сохранении господства второго момента
всеобщего принципа выделившееся
субъективное как особенное начинает заявлять о
своих правах. Отсюда и берет свое начало
борьба за свободу совести — свободу мысли,
слова и деятельности. Церковь объективно
нуждалась в преобразовании своего
представления о сущем и формах его проявления, отчего
она его, как известно, и получила благодаря
усилиям Лютера, Цвингли, Кальвина, а также
других деятелей Реформации. Субъект веры в
себе самом раскрывает источник веры в Бога,
а субъект познания в себе самом
обнаруживает первоначальный принцип тождества или
всеобщности знания. Этот принцип
проявляется как на уровне чувственного восприятия
(«esse est percipi» Дж. Беркли), так и на
уровне человеческого мышления («cogito ergo
sum» Р Декарта). Опыт в целом, который
античностью в философском плане как не
обладающий единством логоса не принимался в
расчет, а средневековыми мыслителями
только допускался как некоторое вспомогатель-
11 Зак. 3426
161
ное средство для укрепления веры в
потусторонний мир, отныне сам стал буквально
глаголать истину и отрицать трансцендентного
Бога как свое определяющее основание. Из
этого кричащего противоречия и рождается
третий момент принципа — момент
трансцендентального, синтетического знания,
объединяющего в себе тождество Я и
противоположность не-Я, т. е. имманентное и
трансцендентное, априорное и апостериорное. Немецкая
классическая философия в лице Канта,
Фихте и Шеллинга мыслит в форме третьего
момента принципа. Знание, по Канту,
предполагает первоначальный синтез и само есть
синтез противоположного — созерцания и
понятия. Трансцендентальное единство
самосознания «сопровождает» всякое
представление. Оно есть в каждом созерцании и в
каждой абстрактной мысли; оно связывает
указанные противоположности, образуя, таким
образом, знания. Однако знание самого
безусловного, образующего знания единства, по
Канту, невозможно, так как предмет
философского познания (предмет первой философии,
как сказал бы Аристотель) переходит границу
возможности познания. Его, по Канту, можно
только мыслить, но знать — не дано. С этим
заключением своего предшественника Фихте
не согласен принципиально, понимая, что
развитие выдвинутой Кантом
трансцендентальной точки зрения возможно только через рас-
162
крытие определенности основания опыта, или
абсолютного Я. К такой доселе неведомой
задаче Фихте приступает в полной уверенности,
что его понимание сути философского
предмета станет вполне ясным ученому сословию.
Фихте начинает с анализа опыта, где он
раскрывает диалектику сознания, его раздвоение
на противоположные моменты: вещь с одной
стороны, а интеллект — с другой.
Противоречие бытия и мышления выступило, таким
образом, прежде всего в сфере
субъективности, в сфере представляющего сознания, хотя
потребовалось немало усилий на его
осознание и разрешение. Проблема заключалась в
том, что, раскрыв противоречие
представления как диалектику реального и идеального,
сознания и самосознания, Фихте все-таки
допускал существование основополагающего
интеллектуального созерцания без понятия,
называя его тем не менее чистым мышлением,
безусловным деланием, абсолютным Я и т. п.
Однако справедливости ради заметим, что Я у
Фихте действительно абсолютно как по
форме, так и по содержанию, хотя только в од-
ном-единственном отношении — в отношении
к опыту, к рассудочному мышлению. Об
истинном мышлении как конкретном в себе
самом процессе познания более существенно и
подробно будет писать Гегель, но прежде чем
браться за него, мы должны усвоить точку
зрения трансцендентального идеализма и че-
163
рез нее подойти к пониманию вечной идеи
христианства.
Если рассматривать трансцендентальную
философию в контексте христианского
периода истории самопознания духа, то можно
сказать, что немецким народом был сделан
серьезнейший шаг на пути преодоления внешней
формы откровения не только на уровне
«души и сердца», но и на уровне «разумения».
Наукоучение Фихте с этой точки зрения есть
философски выраженное Слово Божие,
триединая природа которого проявилась
одноактно, т. е. вне времени и пространства, но
вместе с тем в логической последовательности.
Логос в своем движении через философское
познание является тем, что он есть по сути
своей понятием самого себя, а философский
идеализм, в свою очередь, выступает
адекватным способом его самореализации.
Философия есть мыслящее себя всеобщее мышление
человека и вместе с тем есть живое движение
духа Логоса. Можно сказать, что немецкая
классическая философия, и прежде всего
трансцендентальная философия Фихте,
возникла из необходимой и объективной
потребности самого христианства освободиться,
очиститься от оков природного и превращенного,
окончательно снять с себя «окаменелость»,
как сказал бы Шеллинг, погружаясь в самое
себя. Дух должен еще возникнуть для себя и
утвердить себя в своем отношении к естеству
164
природы, ко всему конечному вообще, стать
продуктом только своей деятельности,
раскрывая свою определенность в науке как
таковой. Человек же только в стремлении
«реализовать эту науку в себе» становится уже
сознательно на путь овладения разумностью, а
это, как известно, есть действительно
достойная понятия человека цель его свободной
воли.
Итак, наши субъективные притязания
стать выше других, во-первых, вовсе не
являются проявлением слепой «воли к власти»,
как это утверждает ницшеанская философия
жизни, и, во-вторых, они могут стать тем
необходимым импульсом к действительному
восхождению к своей разумной сущности.
12. О задачах ученого сословия
Известно, что высокая оценка социальной
роли ученых немецкими
философами-классиками — Кантом, Фихте, Шеллингом и
Гегелем — была внутренне связана с особой
формой реформированного христианства,
поскольку лютеранство с присущим ему
принципом свободы вероисповедования
создало необходимую предпосылку философии.
Последняя, впитав этот дух свободы, стала все
увереннее брать на себя и
морально-воспитательную роль. К примеру, в работе Иоганна
165
Готлиба Фихте «О назначении ученого»
(1794) речь идет об ученом сословии как
обладающем в своем идеале высшим моральным
назначением быть учителем и воспитателем
общества в целом. В лекциях
философов-классиков звучит пафос религиозной проповеди,
поскольку наука и представляющее ее
сословие ученых открывают человечеству «свет
истины» (Гегель), благодаря которому
происходит облагораживание человеческого рода. По
Шеллингу, «философия подготовила в себе
возрождение эзотерического христианства,
как и возвещение абсолютного Евангелия».
Заметим, что общее духовное падение
западной культуры как раз и начинается вместе с
выходом на историческую сцену
разнообразных неклассических форм философствования.
Так что возрождение философской классики
есть, безусловно, актуальнейшая проблема.
Понятно, что не всякий человек — ученый,
но всякий ученый есть человек, поэтому и
начнем рассматривать вышеобозначенную
тему ученого сословия с проблемы становления
человека ученым. Для Фихте человек как
«эмпирическое самосознание» не есть
тождественное с самим собой разумное существо,
ибо это самосознание находится в отношении
с сознанием, подверженным воздействию со
стороны внешних факторов, а потому оно
противоречиво и не свободно.
Трансцендентальная философия как способ спасения от проти-
166
воречия конечного духа сразу вносит мощный
заряд оптимизма, доказывая, что твердое
моральное основание человек может и должен
находить в себе самом, поскольку разум
полагает форму моральной свободы для всех
сознающих самих себя существ. Напомним, что
основоположение учения о нравственности
имеет вид безусловного требования разума —
«поступай так, чтобы максиму твоей воли ты
мог бы мыслить как вечный закон для себя»,
поэтому, несмотря на то, что эмпирическое
«я» не есть чистое, тождественное себе
самосознание, оно может и должно себя мыслить
таковым и в практическом стремлении к
идеалу преодолевать земные трудности. Средством
для этой цели служит культура, благодаря
которой весь чувственно-материальный мир
человека должен постепенно приводиться к
максимально большему согласию с его
необходимыми практическими понятиями. Таков
общий замысел практического разума.
Общество как «отношение разумных
существ друг к другу» есть разум в своем
явлении, в своем многообразии, поэтому
стремление индивидов к совершенству есть
одновременно стремление общества к разумному
общежитию, к свободному равенству всех.
Однако это стремление не может происходить
стихийно, для его реализации необходима
мощь науки, сила знания. Наука как отрасль
духовной жизни общества получает свое раз-
167
витие благодаря деятельности ученых как
представителей особого сословия. Только
ученый как живущий в духе и истине, подобно
одушевленному нравственному закону,
обладает моральным правом быть учителем и
воспитателем человеческого рода. Фихте
подчеркивает единство деятельности ученого с
христианским призванием, поэтому позволяет
себе сравнивать этот вид человеческой
деятельности с подвижничеством апостолов.
Более того, в его понимании ученый есть тот,
для кого представление о неисповедимости
путей Господа является всего лишь
историческим преданием. В идеале, по Фихте, кормчим
земного устройства должен стать, как и у
Платона, единый разум в лице ученого
сословия. Правда, в отличие от греческого
мыслителя, Фихте изображает жизнь общества в его
динамике, поэтому бесконечным в себе и для
себя выступает сам процесс общественного
совершенствования. Настоящий ученый
должен не только любить истину всем сердцем,
подобно Руссо, но, во избежание тех
заблуждений, к которым пришла «благородная душа»
этого мыслителя, он должен непрестанно
развивать разумную форму познания истины,
благодаря которой происходит
культивирование чувственности и тем самым
облагораживание всего человека.
В 1805 году в лекциях под общим
названием «О сущности ученого и ее явлении в облас-
168
ти свободы» Фихте возвращается к теме
назначения ученого сословия, заметно углубляя
ее содержание. Напомним, что в лекциях
1794 года эта тема раскрывалась
преимущественно под углом морально-практического
закона, в качестве сознательного исполнителя
которого, по его мнению, и выступает это
сословие. Сама наука рассматривалась Фихте в это
время как отрасль общественного развития,
поэтому и напрашивался вывод о том, что
ученый имеет высшее моральное назначение
быть учителем и воспитателем общества в
целом.
Лекции 1805 года представляют собой во
многом иное, наполненное более глубоким,
спекулятивным содержанием философское
понимание сущности ученого и вытекающих
из него представлений о задачах и
назначении последнего. Ученый выступает уже не в
качестве одушевленного морального закона,
а рассматривается как историограф
божественной идеи, в духе которого она себя
мыслит и познает, следовательно, его
назначение не ограничивается общественными
задачами. Напомним, что Фихте, испытав
духовный кризис в конце 90-х годов XVIII века,
сознательно возрождает платоновское
понятие божественной идеи. В отличие от
«Опыта критики всякого откровения» (1792), в
котором утверждалось, что «всякая вера в Бога
есть вера в моральный закон», а также в от-
169
личие от вызвавшей известный «спор об
атеизме» статьи «Об основании нашей веры в
божественное мироправление» (1798), где
Бог отождествлялся с моральным
миропорядком, в более поздних работах речь идет уже о
самостоятельной, познающей самое себя
божественной идее. Заметим, что в упомянутой
статье Фихте категорически отрицает
«понятие Бога как особой субстанции», однако,
устранив субстанцию, противостоящую
субъекту познания, он неосознанно
обожествляет, абсолютизирует последнего. Одно дело,
когда конечное самосознание возводит себя
во всеобщее, безусловное Я и подчиняется
ему как своему субстанциальному закону
(«высшему человеку»), и совсем другое —
когда всеобщее выступает уже не как результат
абсолютной абстракции, а само, имея свой
собственный исторический опыт, через
диалектику сознания и самосознания приходит к
осмыслению своей вечной сущности. Человек
как субъект автономного поведения должен
понять одновременно свою вечную природу,
т. е. самого себя как развивающуюся идею
свободы, и это понимание может прийти
только через самоотверженную деятельность
ученого. Таким образом, становление
ученого сопряжено с развитием таких моральных
качеств, как добросовестность и честность, с
осознанием святости того дела, которому
учащийся или «становящийся ученый» готов
170
посвятить свою жизнь, поэтому он должен
способствовать тому, чтобы божественная
идея могла «выступить и овладеть миром».
Ученое образование достигает своей цели,
когда жизнь ученого становится
одновременно жизнью «непрестанно творящей и в
основании обновляющей мир божественной идеи
в мире». Эта жизнь, по Фихте, «имеет
двоякую форму»: форму руководства «делами
людей» и форму «познания божественной идеи».
Правитель, представляющий ученое
сословие, должен быть образован так, чтобы
«понимать свое дело как понятие Бога о
человечестве» и смотреть на него «не как на некую
любезную услугу, которую он оказывает
миру, а как на абсолютный долг и повинную
обязанность свою». В христианском
государстве деятельность первого государственного
лица, по Фихте, «есть самое
непосредственное явление Бога в мире». Призвание второго
вида ученых заключается в развитии
познания божественной идеи и необходимости
«передавать его из поколения в поколение в
этом постоянно обновляющемся и
просветляющемся виде». Ученый-писатель или
академический учитель, представляющие этот вид,
различаются в способах выражения идеи:
«устному учителю», к примеру, поскольку он
находится в живом контакте с учащимися,
необходимо и «художественное дарование
ученого».
171
13. Актуальность философии
самосознания: от диалога к монологу
Философские конференции, симпозиумы и
семинары, одним словом, диалоги, хотя и
имеют форму более или менее случайных
общественных мероприятий, по сути дела не
случайны, если предметом, интересующим общество
философствующих индивидов, выступает
идея. Она играет определяющую роль в опыте
философского мышления, о чем писал уже
Платон: «Мы непременно должны знать
равное само по себе еще до того, как увидим
равные предметы» (Федон, 75а). Как видно из
приведенного фрагмента платоновского
диалога, идея отнюдь не находится по ту сторону
человеческого сознания и не просто
«сопровождает» его в эмпирическом исследовании, как
выразился Кант. Она не настолько
самодостаточна, чтобы пребывать в покое
потусторонней вечности, а есть тот самый нетленный
логос, дух познания, который, проявляясь, в
частности, в форме теоретических семинаров,
прокладывает себе дорогу к истинному
самоутверждению. Если следовать логике
трансцендентального идеализма Фихте, задача
состоит в том, чтобы осознанно преобразовать
форму философского диалога так, чтобы она
действительно стала необходимой формой
абсолютной идеи и тем самым — формой
спасения, поскольку в результате такого пре-
172
образования она перестает быть формой
отвлеченного теоретического дискурса. Иными
словами, диалог должен превратиться в
монолог, взаимопонимание в понимание, а
общество философствующих индивидов — в
подлинно философскую общность (Gesellschaft — в
Gemeinschaft, как сказал бы Фердинанд
Теннис, автор книги «Общность и общество»).
Если, по Фихте, в основе многообразия
наших представлений и суждений лежит
«единое всеобщее и необходимое мышление», то к
этому берегу, казалось бы, и следует грести.
Однако в связи с этим возникает вопрос:
каким образом простой смертный, находящийся
в постоянной диалектике сознания и
самосознания, «в разладе с целым миром и самим
собой», по словам Григория Назианзина, может
достичь этой цели и тем самым стать единым,
целостным человеком? Каким образом Я из
вне-себя-бытия, из экстатического
состояния, по выражению Шеллинга, может
вернуться к своему истинному бытию, к Я как
таковому? Способом «скачка», путем
трансцендентальной абстракции или, к примеру, по
платоновскому «Не геометр, да не войдет»?
Согласно Фихте, если рассматривать его
творческую деятельность в целом, т. е. в единстве
спекулятивно-теоретического,
морально-практического и историософско-религиозного
аспектов, путь восхождения к чистому
мышлению, к мышлению «без примеси представле-
173
ний», т. е. к действующей в себе самой
разумной субстанции, предполагает
одновременное развитие религиозного сознания и
философского способа мышления. «Не
просветлив своего дела в свете религии» в
царство всеобщего понимания войти просто
невозможно, будь ты хоть трижды кантианцем или
гегельянцем. Учение Христа в
преобразованном виде, в форме религии разума, является
необходимой предпосылкой, предтечей науки
разума, поскольку раскрытие содержания
науки в форме понятия предполагает уже то,
что содержит в себе развитое религиозное
представление о единстве Бога и человека,
хотя и в неадекватной абсолютному
содержанию форме. Христианская заслуга Фихте
состоит в том, что граница, на которую вышла
религия в форме абсолютной достоверности
принципа самосознания, стихийно
выношенного ею в опыте всемирной истории, есть
одновременно граница науки, так как «обе
последние точки зрения — как научная, так и
религиозная — всецело являются воззритель-
ными и созерцательными (betrachtend und
beschauend)». Для Фихте пределом для
нефилософского сознания является вера как
результат становления этого сознания (не
случайно его «Назначение человека» состоит из
трех частей: «Сомнение», «Знание» и «Вера»).
Ограниченность же фихтевского
трансцендентального идеализма заключается в том, что,
174
абсолютизировав тетическую форму разума,
форму тождества веры и знания, форму
созерцания, он так и не стал развитым в себе самом
наукоучением, лишь схематично представив
на всеобщий суд триединую форму науки.
«И не сообразуйтесь с веком сим, —
обращался к римлянам Павел, — но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия» (Рим 12:2). Как
видно из этого обращения, в недрах
христианского вероучения зарождается
соответствующий духу этого учения способ мышления,
который получит свое развитие в
философствующей теологии Фомы Аквинского и
Николая Кузанского, в метафизике Рене Декарта и
Готфрида Вильгельма Лейбница, в
критической философии Иммануила Канта и особенно
в наукоучении Иоганна Готлиба Фихте.
Именно Фихте впервые уже в конце XVIII столетия
осознает необходимость перехода к
сознательному формообразованию философской
мысли. Он отчетливо понимает, что только
через преобразование всей системы
философского образования на основе
трансцендентального разума или «необходимого способа
деятельности интеллигенции» возможно
соответствующее обустройство всей жизни
человеческого общества. Поэтому он и
рассматривает философию как высший способ
христианского спасения: «Мы начали философствовать
из гордости и через это утратили нашу невин-
175
ность, — пишет он в августе 1795 года
Фридриху-Генриху Якоби, — мы увидели
собственную наготу и с тех пор философствуем из
нужды ради спасения».
Поскольку христианин по своей идее
является сознательным «споспешником истине»,
постольку ему же и предстоит развивать и
реализовывать эту идею, ибо только таким
образом он и сможет «оправдать себя в духе».
Обратим внимание на слова апостола Павла:
«Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе»
(1 Тим 3:16). Однако для того, чтобы Бог мог
достичь этого результата, известного как
теодицея, христианам, по словам того же
апостола, необходимо вникать «в себя и в учение»,
заниматься «сим постоянно» (см.: 1 Тим 4:16).
Это означает, что им следует духовно
пережить весь необходимый опыт вероучения
Христа не только «всем сердцем» и «всею душою»,
но и «разумением» (см.: Мф 22:37), чтобы
действительно воссоединиться со Спасителем
в форме абсолютного самосознания. Однако
просвещенная Европа, отвергнув всяческие
авторитеты, в том числе авторитет разума,
уже в конце XVIII—начале XIX в., по словам
Фихте, переживала закономерную болезнь —
полное равнодушие к разумному познанию, к
истине. В частности, Германия, заразившись
английским эмпиризмом и скептицизмом,
оказалась не способна понять суть учения своего
великого представителя, Канта, о чем посто-
176
янно сетует Фихте. Этому учению, по его
словам, не удалось «в корне изменить образ
мыслей его века», и в этом смысле коперниканско-
го переворота не произошло, хотя причина
надвигающегося духовного кризиса лежала,
конечно, гораздо глубже. Обмеление
европейского духа Фихте объясняет тем, что
Реформация, начатая Лютером, остановилась на
середине пути и сама породила новую форму
дуализма между бесконечным предметом
религиозного сознания и конечной формой
самосознания, между Богом и человеком в самом
человеке, абсолютизировав букву Нового
Завета. Примирение или усыновление (от
немецкого глагола versöhnen) произошло в форме
синтеза — обновленного, так сказать,
союзного договора между Богом и человеком. Дух же
Евангелия выражен, по словам Фихте, только в
учении Иоанна, который безусловно отрицает
форму договора вообще, поскольку идея
спасения лежит в принципиально ином измерении.
Она состоит не в толковании тех или иных
суждений апостолов, а в понимании
первоначального, духовного единства божественного и
человеческого начала, которое не нуждается
ни в каком объяснении, ни даже в новом
завете-договоре. Для «чистого христианина», по
выражению Фихте, это знание является
безусловно достоверным, так как не опосредовано
формально-теоретическим способом
доказательства. Однако оно не является и результа-
! 2 Зак. 3426
177
том мистического откровения, ибо базируется
на своем собственном основании — на
интеллектуальной интуиции, отчего и не вызывает
сомнения. В религии Христа нет места ариан-
скому принципу подобосущия, поскольку она
есть религия абсолютного единства
самосознания, в котором преодолены как момент
противоположности, так и момент тождества
сознания и самосознания: Я и Бог — одно.
Абсолютное единство самосознания в себе
конкретно, хотя и выступило в «Наукоучении»
в абстрактной форме самоопределения Я.
Христос есть духовный посредник, в личности
которого Бог стал человеком, а человек оббжил-
ся, т. е. «заново» или «свыше» родился.
Заметим, что у немцев и англичан в переводе
Евангелия от Иоанна подчеркивается
активность верующего в общем деле
христианского спасения: «Если кто не родится заново, не
может увидеть Царствия Божия» («Es sei
denn, dass jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen»), у нас
же вместо «заново» переводится «свыше»
(см.: Ин 3:3). В чем тут скрытый смысл?
История все обновляющейся западной
цивилизации должна дойти, вероятно, до того
критического предела, когда активность ее
самоутверждения по отношению к природе и к
восточному миру войдет в противоречие с
всеобщей целью христианства. А этот
глобальный кризис и послужит своеобразным импуль-
178
сом для выхода на мировую сцену народа
«свыше».
Сущее как таковое или единое в
христианскую эпоху перестает быть
абстрактно-всеобщим первоначалом, противостоящим миру
единичного и конечного, благодаря чему и
всякое единичное, сознающее себя
самоопределяющимся в себе началом, становится уже
не просто частью космоса, а нечто
неизмеримо большим. Здесь будет, пожалуй, уместно
привести слова Гегеля: «В „я" в конечном,
снимающим себя в качестве конечного, Бог
возвращается к себе, и есть Бог только в
качестве такого возвращения. Без мира Бог не
есть Бог». Отсюда проистекает двойственная
задача, стоящая перед трансцендентальным
философом: во-первых, через популярную
форму изложения сути наукоучения, или,
проще говоря, через проповедь его основных
положений и вытекающих из них
морально-практических выводов, содействовать тому, чтобы
широкая христианская публика очистилась от
всякой «примеси ложных представлений» и
пришла к должному пониманию
первоначального единства Бога и человека в форме
абсолютного Я, и, во-вторых, развивать в форме
спекулятивной науки это понимание. Как
первая, так и вторая сторона этого богоугодного
дела возлагается Фихте на особое, так
называемое ученое сословие, которое должно
обладать одним предварительным качеством —
179
честностью, аналогом христианской
святости и самоотверженности. Это качество, по
Фихте, является принципиально важным, ибо
только честный ученый, обладающий
непреклонностью христианского характера,
способен преодолеть земное притяжение,
основанное на власти денег, роскоши, тщеславия и
других фетишей. Кроме того, развитое
религиозное сознание есть необходимое условие,
очищающее путь к науке.
Для Фихте призыв Христа «отвергнись
себя» во спасение души (см.: Мф 16:24)
выступает настолько определяющим принципом,
что приводится им практически во всех
произведениях. Так, об индивидуальности, которая
«должна непрерывно умирать» в целях
достижения всеобщей формы разума, он пишет во
втором введении в наукоучение.
Произведения морально-практического характера также
пронизаны идеей самопожертвования:
«Поистине мы должны, согласно образам
священного учения, сперва умереть для мира и вновь
родиться, чтобы мочь войти в царствие Бо-
жие». Наконец, в работах по философии
истории и философии религии Фихте раскрывает
идею познания как процесс, в котором она
проходит определенные ступени восхождения
к блаженству самосозерцания. В науке как
высшей ступени, ступени «чистого
мышления», сама вера превращается в форму
созерцания — в форму абсолютной достоверности
180
разума. Поэтому, не усвоив бесконечного
содержания религии, «не просветлив своего
дела» в ней, наука будет существовать только
в виде мертвых академий и академиков.
Единство, о котором идет речь у Фихте,
есть единство созерцающего самого себя
знания, т е. абсолютного самосознания, которое
должно стать не только предметом научного
познания, но и выйти за пределы кабинетов и
аудиторий в сферу морально-практического
воспитания и христианской политики, чтобы,
в лице ученого-правителя, буквально стать
кормчим земного устройства.
Государственный деятель в отличие от академического
ученого-теоретика должен быть, по словам
Фихте, «непосредственным явлением Бога в
мире», доказывающим бытие Бога
фактически, своими деяниями. Поскольку для Фихте
бессознательным носителем божественного
знания является связанный прежде всего с
греческой мудростью «нормальный народ» —
народ немецкий, постольку же усилия ученого
сословия должны быть направлены на
пробуждение в этом народе познания его вечной,
всеобщей сущности. В силу каких причин
немцы не пошли по этому тернистому пути
самопознания, а впали в соблазн преодолеть
присущий им внутренний раскол путем
скачка в доисторическую общность племени,
проведя над собой опыт национал-социализма,
наверное, еще предстоит выяснить. Мне пред-
181
ставляется, что одним из глубинных
источников такого грехопадения была лютеровская
трактовка заповеди и молитвы Христа (см.:
Мф 22:37; Лк 11:2—4), которая оказала
роковое влияние на формирование менталитета
народа. Вместо разумной формы любви к
божественной истине или, как трактовал этот
момент Григорий Нисский, «высшей природы,
умной и творческой силы» Лютер предложил
немцам всего лишь душевное чувство
(«Gemut»), а вместо духовного хлеба —
обыкновенный телесный хлеб («tagliches Brot»).
Душевно-плотское начало, о необходимости
которого писал апостол Павел (1 Кор
2:14—15; 3:3), не было преодолено в ходе
Реформации, отчего вместе с новыми
религиозными авторитетами (Лютером, Кальвином,
Цвингли и др.) в конечном счете возобладало
обмирщение духовной жизни. В том, что
корабль Софии Премудрости Божией покинул
германский берег, как в свое время —
греко-римский, пожалуй, сомневаться не
приходится. Зримым свидетельством этого является
тот факт, что могила Канта, родоначальника
немецкой классической философии, по
иронии мирового духа оказалась за пределами
Германии. Всечеловеческое начало, по
выражению Ф. М. Достоевского, проявилось в
ином народе, который по внешним признакам
практически не укладывается ни в какие
общие нормативы, поэтому — с точки зрения за-
182
падного просвещения — есть, скорее всего,
«ненормальный» народ.
Для П. Я. Чаадаева, Ф. М. Достоевского и
Л. Н. Толстого было несомненным то, что
доскональное изучение Библии, которым
особенно бравируют протестанты, вовсе не
приближает народ к христианскому делу, к истине.
Более того, по справедливому замечанию
Достоевского, подлинное религиозное знание не
может быть результатом внешнего усвоения
текста Св. Писания, если этого знания
изначально нет в сердце народа, в его
сокровенном намерении. Писатель считает, что
русский народ искони обладает «сердечным
знанием Христа», которое в силу своей
непосредственности является еще
«бессознательным знанием». Поэтому он предчувствовал,
что такое знание вместе с несущим его в себе
народом-богоносцем должно пройти не только
через горнило отрицательной деятельности
рассудочного сознания, через раскол, через
нигилизм и атеизм, но и через преодоление
атеизма, через отрицание отрицания этого
знания. Конечно, эта высшая форма
отрицания, воплощающая в себе указанную в
заповеди Христа третью, разумно-положительную,
ступень, любви человека к Богу, в форме
науки разума может быть доступна далеко не
всем; народу же она доступна только в форме
религии. (Вспомним, как еще недавно
советское руководство стремилось заменить по-
183
требность в духовной пище так называемым
«научным атеизмом».) Однако христианская
религия не может и не должна оставаться в
своей «эмпирической» или
исторически-церковной форме, в которой над душой человека
продолжают довлеть те или иные внешние
предметы поклонения и авторитеты, а может
и должна быть существенно преобразована во
всеобщую религию разума, по выражению
Канта и Фихте. Только в такой религии иго
Христа перестает быть тяжким бременем и
становятся понятны слова: «...иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (Мф 11:30). Вместе с
преобразованием формы поклонения происходит
преобразование и предмета веры, ибо «Дух
один и тот же» (1 Кор 12:4). Именно отсюда
возникает, на мой взгляд, тема роли
интеллигенции, или ученого сословия, — тема,
которую хорошо раскрыл Фихте, особенно в таких
работах, как «Наставление к блаженной
жизни» и «О сущности ученого и ее явлениях в
области свободы».
Что касается развития религиозного
сознания, то я убежден, что русская душа не
может быть вне православия, однако
православие есть отнюдь не застывшая византийская
форма веры и знания, а живое христианское
учение, воплощающее в себе как духовность
Востока, так и рациональность Запада, т. е. как
аспект сознания, так и аспект самосознания.
Поэтому процесс познания этих аспектов в их
184
необходимости, в их существенном понятии
есть путь действительного образования
национального духа и, следовательно, его
самоопределения и спасения: «И познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин 8:32).
Первым и наиболее важным условием
решения этой глобальной задачи является, на
мой взгляд, преодоление широко
распространенного ложного представления о западном
(католицизм и протестантизм) и восточном
(ислам) путях религии как лишенных в себе
момента истинного содержания, как какой-то
ереси. Говоря словами Достоевского,
сказанными им в адрес славянофилов и западников,
можно было бы заметить, что все это — и
католически-протестантский Запад, и
мусульманский Восток — «недоразумение, но
недоразумение необходимое». Поэтому познание
истины на русской почве предполагает
познание ее в необходимых формах самополагания,
чтобы «недоразумения», обнаруживающиеся в
ходе истории, перестали будоражить наши
умы представлениями о многообразии
исторических судеб, путей и т. п. «Высшее, конечно
же, — писал Шеллинг, — заключается в том,
чтобы постигать Бога и поклоняться ему в
духе, но для того, чтобы это совершилось и в
истине, как того требует Христос,
необходимо, чтобы тот, кого мы чтим, был
действительным Богом, явленным в делах, а не каким-то
абстрактным идолом».
185
Противоречие являющегося разума, о
котором писали классики трансцендентальной
философии, к началу третьего тысячелетия
достигло своего предельного напряжения и в
силу этого явного обнаружения в
противоречии цивилизации и природы, с одной стороны,
Запада и Востока — с другой. Поскольку для
России указанное противоречие отнюдь не
является внешним, постольку судьба ее «двугла-
вия» очевидна: либо она его разрешает и тем
самым спасает себя и мир в целом, либо...
На мой взгляд, именно в силу этого
противоречия перед русской философской мыслью в ее
ближайшей перспективе стоит серьезнейшая
научно-практическая задача, которая
заключается в том, чтобы не только ответить на
поставленный Фихте вопрос: «Как может раздвоиться
и начать борьбу с собой единый разум?», но и
наметить пути преодоления его раздвоения.
Порочность проводимой ныне в России
политической линии прежде всего заключается
в том, что власть, сознательно или нет, путем
фальсификации отечественной истории
(особенно ее советского, «богоборческого»
периода) пытается вогнать народ в прежнюю,
бессознательную форму единства знания,
возбуждая его чувства наращиванием
государственной мощи и деформируя его сознание с
помощью средств массовой информации, а
также бюрократически проводимой реформы
образования. Но поскольку вернуть народ к
186
исключительно сердечному знанию Христа
так же невозможно, как невозможно
редуцировать к чувственному восприятию суждение
«Жучка есть собака», постольку ему
предлагается эрзац-знание, которое состоит в
бессмысленном представлении о не имеющем в себе
Бога мирском единстве: «Бог трансценден-
тен». Получается якобы два рода единства:
одно — земное, а другое — небесное, между
собой никак не связанные. Возрождение
лозунга «Народ и партия едины!» на фоне
социально-экономических контрастов является
яркой демонстрацией углубляющегося
политического кризиса, поскольку в этом случае
никакого, в том числе и земного, единства
нет, а есть лишь попытка выдать
формально-юридическое равенство за
подлинно-фактическое единство. Иоанн IV
Грозный сказал бы, что в России в начале третьего
тысячелетия от Рождества Христова победила
манихейская точка зрения его оппонента —
Андрея Курбского. Для Иоанна Васильевича
единство есть понятие, положенное
божественной волей и осуществляющее себя в
реальности, причем прежде всего — в форме
государственной деятельности. Во всяком случае,
государство для него не является «сферой
услуг» боярам-олигархам, дарующей остальным
подданным лишь некоторый достаток хлеба и
зрелищ. Взгляд на деятельность правителя у
Иоанна IV Грозного по существу совпадает со
187
взглядом на этот предмет Иоганна Готлиба
Фихте. «Тот, кто берется руководить и
упорядочивать свою эпоху и ее порядки, — писал
Фихте, — должен стать выше их, не только
исторически знать их, будучи пленником
этого знания, но вполне понимать их и постигать
в понятии». Правитель, по Фихте, «понимает
свое дело как понятие Бога о человечестве».
Целью такой «вертикали власти» не сама
власть, а воплощение блаженной жизни или
идея справедливости, что подчеркивал еще
Аристотель. Замечательно, что впервые
политику русского царя Иоанна Грозного как
политику воистину христианского
государственного деятеля раскрыл наш современник —
митрополит Иоанн, подробно написав об этом в
книге «Русская симфония».
Прежде чем привести собственные
политические суждения Иоанна Васильевича, скажем
несколько слов о логике развития русского
религиозного сознания конца XV—начала XVI в.,
которая в силу ряда причин временно
прервалась. Бог есть истина, существующая в
православной вере, а если вера проникает в жизнь
народа, то Бог уже перестает быть
трансцендентным, запредельным Богом, и становится
совестью нации. «Русь не потому святая, что
живут в ней сплошные праведники, — писал
митрополит Иоанн, — а потому, что
стремление к святости, к сердечной чистоте и
духовному совершенству составляет главное содержа-
188
ние и оправдание ее существования». Такое
стремление может, правда, иметь вид
стремления к трансцендентному, но на самом деле оно
существует «ради истины, которая пребывает в
нас». Иными словами, истина в нас стремится
раскрыть самоё себя. Вот в чем состоит
разгадка «загадочной русской души» или, точнее
говоря, русского духа. Народ живет
божественной жизнью — жизнью по совести, по единому
неписаному закону, хотя, быть может, и не
ведает об этом, отчего Ф М. Достоевский
называет такое сознание народа
«бессознательным», «сердечным знанием Христа». Кстати,
именно в это время значение слова «совесть»,
как отмечают филологи, впервые отделяется от
значения слова «сознание» и
противопоставляется ему. Поэтому христианский долг
служения земному царю воспринимается русским
человеком как безусловный долг, тождественный
религиозному долгу служения Царю
небесному: «Аще земному царю правдою служаши и
бояши е, тако научишися небесного Царя боя-
тися», — поучает «Домострой». «Везде
господня держава, и в сей и в будущей жизни»!» —
развивает эту мысль Иоанн IV Русский
царь — защитник добродетели и «споспешник
истине»: «Хочешь не бояться власти? Делай
добро», «грех ведь не тогда опасен, когда его
совершают, а когда, совершив его, не приносят
покаяния и выдают нарушение закона за
законный поступок». Царь против разделения едино-
189
го царства: «Господь же наш Иисус Христос
создал опору благочестия, Константина
Флавия, царя правды христианской, соединившего
священство и царство воедино».
Совпадение точек зрения апостола и
евангелиста Иоанна, богослова и философа
Иоанна Дамаскина, царя и мыслителя Иоанна
Грозного с философскими воззрениями Иоганна
Готлиба Фихте есть отнюдь не случайное, а
существенное совпадение, которое базируется
на изначальном единстве веры и знания.
Западу необходимо было пройти путь раскола
соборного единства путем выхода из последнего
конечного самосознания (отсюда известное —
filioque), чтобы затем через религиозную
Реформацию, через трансцендентальное
отрицание всего конечного, исторического опыта как
такового, вновь вернуться к исходному
пункту, правда, уже в форме «чистого мышления».
Думается, что именно поэтому П. Я. Чаадаев
видит в немецкой классической философии
отнюдь не «пустую форму», а «дело
христианства, перенесенное или продолженное на
почве чистой мысли».
На последнем, постсталинском, этапе
советского периода, когда русская идея (целостность
образа жизни и мысли народа) стала
индивидуализироваться, а выступившее на
историческую арену конечное самосознание
стремительно начало культивировать свое частное
ego, в кругах либерально настроенной интелли-
190
генции возникла иллюзия, что Россия, дабы
преодолеть вековую отсталость и
нарождающуюся войну всех против всех, должна
двигаться по известному западному сценарию — в
соответствии с подписанной СССР «Всеобщей
декларацией прав человека». Однако форма
социального контракта не может быть
основанием жизни духа народа, который не признает
никаких пределов, который в себе стремится
не к свободе выбора из заранее предложенных
вариантов, а к бесконечной автономной воле.
«Правовой нигилизм», о преодолении которого
часто говорит ныне действующая власть,
непреодолим без понимания природы русской души,
образом которой, по Гоголю, является никем не
обузданная мистическая Птица-тройка. Для
такой души «любить, так любить» означает любовь
без какого-либо условия, абсолютно свехчувст-
венную любовь, доходящую до самой смерти.
Так бескорыстно, быть может, только Бог в
вечности любит свой человеческий образ. Только
такая безусловная любовь, а отнюдь не
партикулярная воля, как представляют себе
многочисленные кантианцы и другие борцы за
эксклюзивные особенности индивидов, может породить
всеобщий закон свободы — конституцию
этического государства. «Мы не законодатели
человеческого духа», — писал Фихте,
подчеркивая тем самым, что всеобщее, безусловное
есть продукт только себя самого, а отнюдь не
конечного, аналитико-синтетического мышления.
191
Надо сказать, что современная жизнь
Старого света есть воплощение царства рассудка, где
каждому особенному народу, будь-то немцы,
французы или англичане, предписано самим
ходом истории свое особенное призвание, свой
закон. Поэтому способом решения проблемы
связи этих народов является договор, в котором
каждая сторона остается в себе особенным
моментом отношения, или диалога, на время
скрепленная только внешней формой
юридического закона. Однако смутное сознание,
присущее нашему народу, что основанием жизни
духа может быть только безусловное, единое и
неделимое, неизмеримое никакой внешней
мерой начало, крайне нуждается в прояснении.
Для этого как раз и необходима четко
функционирующая научная система образования,
которая должна стать образом или, строже
говоря, понятием разумного. В этом отношении
неоценимую помощь может оказать нам учение
Иоганна Готлиба Фихте, в котором
определяющим является «образование целостного
человека, начиная с его ранней юности».
Специализация как необходимая для
функционирования общественного организма
профессиональная деятельность индивидов не должна
разрушать духовную почву первоначального единства
рода, или того монолога-понимания царя,
представляющего Бога-Отца и народа,
представляющего Бога-Сына, к которому через систему
образования все разрозненное должно вернуть-
192
ся как в свое истинное царство бытия и
мышления.
Актуальность философского идеализма
Фихте на русской почве не вызывает
сомнений, ибо идея духовной свободы, которую
Фихте развивал и проповедовал, есть сама по
себе христианская идея познания и спасения.
Поэтому, несмотря на разделяющее нас
время, Фихте — наш современник и, более того,
несмотря на свои немецкие корни, по духу
своего стремления к идеалу он — наш
соотечественник.
* * *
Иоганн Готлиб Фихте родился 19 мая
1762 года в семье ремесленника и мелкого
торговца в селении Рамменау в Оберлаузице
(Саксония), что недалеко от Дрездена. Уже в
раннем детстве в нем проявились качества,
важные для становления философа, — любовь
к красоте духовной жизни, самоуважение,
незаурядная память, склонность к
созерцательности. Вдохновение, с которым однажды
восьмилетний мальчик смог передать содержание
церковной проповеди, побудило одного
помещика, барона фон Мильтица, оказать ему
помощь в получении образования. В 1774 году,
после окончания городской школы в Мейсене,
он поступает в находившуюся в ранге гимна-
13 Зак. 3426
193
зии школу Пфорта, в 1780 году — на
теологический факультет Йенского университета,
позднее переходит в Лейпцигский
университет. Однако, не имея к этому времени никакой
материальной поддержки, вынужден был
добывать средства на обучение частными уроками.
В 1788 году Фихте получает место домашнего
учителя в Цюрихе, где произошло его
знакомство с будущей женой Иоганной Ран. Через два
года, уже в Лейпциге, подготавливая одного
студента к экзамену по философии Канта, он,
попав под ее влияние, переживает духовный
переворот. Отныне его жизненный путь уже
неотъемлем от философии, которая, в свою
очередь, в учении Фихте начинает обретать более
глубокое понимание своего предмета.
Хотя первая крупная работа — «Критика
всякого откровения» — была написана в
1772 году, как самостоятельный философ
Фихте выступает только в 1794 году, когда в
Цюрихе впервые начинает читать лекции по
разрабатываемому им наукоучению. В этом
же году в Веймаре он издает работу «О
понятии наукоучения, или так называемой
философии» и занимает в Иене предложенную ему по
ходатайству Гёте кафедру философии.
В период работы в Йене им были написаны
«О назначении ученого» (1794), «Основа
общего наукоучения» (1794—1795), «Основы
естественного права согласно принципам
наукоучения» (1796), «Первое введение в наукоуче-
194
ние» и «Второе введение в наукоучение для
читателей, уже имеющих философскую
систему» (1797), а также «Система учения о
нравственности согласно принципам наукоучения»
(1798).
Спекулятивно-теоретическая деятельность
сочетается у Фихте с издательской работой и
основанными на наукоучении публичными
лекциями, в которых наиболее ярко проявился
его талант христианского мыслителя и
проповедника. Однако новые идеи воспринимаются
далеко не всеми так, как того требует
трансцендентальный способ мышления. Так
называемый «спор об атеизме», прервавший
относительно счастливый период жизни Фихте,
возник скорее закономерно, чем случайно: во
многом он напоминает ситуацию, связанную с
«делом» Сократа, когда невежество в целях
самосохранения отторгло слово истины,
смертельно ранив философа. Вынужденный
переезд в Берлин в 1799 году, начавшийся
духовный кризис, связанный с непониманием
образованной публикой смысла наукоучения, все
же не сломили волю Фихте к познанию.
В 1800 году он завершает сочинение
«Назначение человека», в этом же году выходит
«Замкнутое торговое государство», затем
«Ясное, как солнце, сообщение широкой публике
о подлинной сущности новейшей философии.
Попытка принудить читателей к пониманию»
(1801). Начиная с конца 1804 года Фихте чита-
195
ет лекции по вопросам философии истории и
философии религии, которые выходят в свет в
1806 году под названиями «Основные черты
современной эпохи» и «Наставление к
блаженной жизни, или Учение о религии». Кроме
того, Фихте продолжает развивать тему о
назначении ученого в работе «О сущности
ученого и ее явлениях в области свободы» (1805).
Когда же Пруссия, вступив в войну с
Францией, оказалась оккупированной, то философ,
проявляя в высшей степени бесстрашие и
патриотизм, обращается к согражданам с «Речами
к немецкой нации» (1807), в которых
призывает к духовной и политической независимости.
В 1808 году Фихте избран членом
Баварской Академии наук, в 1810 году становится
деканом философского факультета
Берлинского университета, а затем — ректором этого
университета. Несмотря на тяжелое
физическое состояние, он продолжает интенсивно
работать. В этот период им написаны «Науко-
учение в его общих чертах» (1810), «Факты
сознания» (1810), «Пять лекций о назначении
ученого» (1811), «Система учения о праве»
(1812), «Система учения о нравственности»
(1812), «О понятии справедливой войны»
(1813), «Вступительные лекции к наукоуче-
нию» (1813), он несколько раз по-новому
излагает наукоучение. Однако творческая жизнь
мыслителя внезапно прерывается: он,
заразившись тифом, умирает 29 января 1814 года.
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ
РУССКОЙ ИСТОРИОСОФИИ:
ВОЗЛЮБИ ЕЕ РАЗУМЕНИЕМ
ТВОИМ
1. Русская идея
как историческая быль
Перед тем как приступить к философскому
анализу русской истории или к попытке ее
умозрения, бросим взгляд на государственные
символы современной России, поскольку они
выражают исторический смысл или замысел
нашего народа. Три символа современной
России определенным образом свидетельствуют о
трех этапах ее исторического опыта и
соответственно о трех формах ее триединства
(тотальности). Герб символизирует Святую Русь,
флаг свидетельствует о деятельности Петра
Великого и в определенной степени
символизирует императорскую Россию, а гимн
напоминает о советской России. Внешняя,
знаковая демонстрация преемственности отнюдь не
отрицает тот внутренне необходимый ход
развития отечественной истории, раскрытие
которого поможет нам глубже понять не только
197
самих себя, но и одновременно, согласно
утверждению В. С. Соловьева, «проникнуть в
истинный смысл христианства». Ведь
христианская идея как сущая в себе форма
всемирной истории реализует себя только через
жизнедеятельность определенных народов, в силу
чего тот или иной народ и становится
всемирно-историческим, а его национальная идея не
замыкается только в себе, ибо в своем
историческом опыте он выражает движение
мирового, вселенского духа. Не мы выбираем Бога, а
Бог выбирает нас. Эта мысль принадлежит
В. С. Соловьеву, для которого, как мне
представляется, Россия была родиной не только в
естественно-историческом, но, прежде всего,
в софийном, сакральном смысле. Как
философ-реалист, он полагает, что русская идея
существует «от века» в мышлении Бога, как
«аспект христианской идеи». Поскольку идея
христианская — это есть идея являющегося
Бога-истины, то и русская идея,
соответственно этому положению, есть не только
отвлеченное метафизическое понятие, но и
историческая быль, которая проявляется во всемирной
истории. Правда, подчеркивая, что русская
идея является «аспектом идеи христианской»,
В. С. Соловьев вместе с тем не развивает эту
мысль до понятия особенного момента
всеобщего, — момента, воплощающего в себе
первоначальное единство определений Бога и
человека. Поэтому его конструкция всемирной
198
теократии является утопической. Невозможно
непосредственно синтезировать все
необходимые формы христианства или свести их к
одной (к примеру, католической), как
невозможно заставить лететь стрелу через внешнее
соединение ее моментов движения. Однако
вселенское воссоединение человечества, о
котором писал русский философ, несмотря на то
что разобщение народов действительно носит
сущностный характер, все-таки не может быть
не осуществлено, поскольку основанием всего
исторического процесса является единое само
себя полагающееся разумное начало. Истина
с точки зрения трансцендентальной
философии есть путь, содержащий в себе идею
первоначального единства (точку отсчета
всеобщей истории), который с необходимостью
вернется к ней, пройдя всю полноту опыта, но
уже в чистой религии разумного духа.
«Поздний» В. С. Соловьев размышляет о такой
религии как разумно преобразованной
христианской религии, или «религии Святого Духа», но
поскольку в разумной религии нет различия
между Отцом и Сыном, Богом и человеком,
постольку термин «теократия» как
выражающий власть представляющего запредельного
Бога духовенства здесь неприемлем.
Вопрос, который мы попытаемся раскрыть
в этом небольшом исследовании, есть вопрос
о том, какую собственно ступень развития
мирового духа выражает русский народ, какова
199
его персональная ответственность в этом
всемирно-историческом, т. е. действительно
общем для человечества, деле. Если нам удастся
за внешним фасадом истории нашего
отечества выявить и раскрыть логику движения
мирового духа или вселенской идеи, это позволит,
быть может, нам ответить не только на
извечные русские вопросы «кто виноват?» и «что
делать?», но и подойти к разрешению той
проблемы вселенского воссоединения, которую
B. С. Соловьев попытался философски
разрешить в конце XIX столетия.
Предварительно обратим внимание и на
диалектический характер становления
русской идеи как процесса отрицания формы
тотальности. Русская душа в своем становлении
как бы сбрасывает с себя поочередно
исторически преходящие формы своего бытия, чтобы
достичь действительно совершенной формы
вселенского единства — всеединства. Ее не
устраивает никакой предоставленный
историей наряд («наряд», как отмечает историк
C. М. Соловьев, это термин, каким
выражались наши предки для обозначения
государственного порядка), поэтому в самом
поэтапном становлении и проявляется неоднократно
ее «страсть к разрушению», ее дух отрицания.
Как мы увидим, исходным пунктом
самостоятельной отечественной истории является акт
негативной свободы — акт, в котором
одновременно выразит самое себя как националь-
200
ное, так и вселенское богочеловеческое
начало.
Для философии истории вопрос об
исходном пункте истории Отечества совсем не
прост, поскольку в слове «исход» или
«начало» выражена идея, во-первых, конца того,
что имеет начало, и, во-вторых, идея
осознанного, самостоятельного акта, совершаемого
народом, в котором его воля должна
выступить как необходимая, всеобщая воля. Только
в этом случае можно говорить о народе как
историческом субъекте, без которого
всемирная история просто немыслима и логически
невыразима. Поэтому, на мой взгляд, нельзя
согласиться с В. С. Соловьевым (а вместе с
ним и со многими другими мыслителями,
начиная, быть может, с автора «Слова о Законе
и Благодати») в том, что действительной
точкой отсчета истории русского народа является
принятие христианства. Ясно, что без
духовного единства народа еще нет, но вплоть до
XV века это единство было еще только
внешним, условным. «Единство веры, —
справедливо замечает А. С. Хомяков, анализируя как
раз этот период русской истории, — не
связывало людей <...> грубость России, когда она
приняла христианство, не позволила ей
проникнуть в сокровенную глубину этого святого
учения». Поэтому Киевско-Новгородскую
Русь, несмотря на то что она уже содержала в
себе в зачаточном виде идею христианского
201
спасения, приняв крещение, следует, на наш
взгляд, считать только необходимой
предпосылкой самостоятельного развития нашего
народа, его предысторией. Однако следует
заметить, что и одного постепенного
«проникновения в сокровенную глубину»
христианства недостаточно, поскольку духовное, или
благодать, никогда не приходит извне; его
невозможно зафиксировать на каких-либо
скрижалях и передать народу как некую вещь.
Русь должна была сама проявить акт
негативной свободы, заявить о себе в первом лице и
положить начало новому, безусловному для
себя бытию в вере, ибо последняя только
в этом случае может стать народной,
воплотиться.
К событиям, которые способствовали
становлению самостоятельной жизни
православной Руси, несомненно, относится отказ князя
Андрея Боголюбского от Киевского стола в
пользу Владимира-на-Клязьме, благодаря
которому именно Владимиро-Суздальская Русь
начиная со второй половины XII века
превращается в крупнейшее государственное и
духовное образование. Напомним, что согласно
«Сказанию о чудесах иконы Владимирской
Божьей матери» уход Андрея Боголюбского
был не просто его личным желанием
нарушить устоявшийся порядок вещей, а имел и
сокровенно-сакральную подоплеку, в основе
которой было «желание» самой иконы поки-
202
нуть свое прежнее местопребывание в Вышго-
роде под Киевом. Однако если Андрею Бого-
любскому и не удалось основать во Владимире
вторую метрополию, то сама попытка
создания нового русского религиозного и
политического центра не была напрасной. В конце
следующего века (1299) митрополит Максим, «не
терпя насилия татарского», переселяется уже
вместе со всем клиросом из разоренного
монголами Киева во Владимир, а его преемник
митрополит всея Руси Петр практически
переносит церковную столицу из Владимира в
Москву (1326). Отныне здесь, во Владимиро-Суз-
дальской, а затем Московской земле,
формируется русский национальный характер,
который в годы монгольского нашествия
только закалится, пройдя своеобразный процесс
духовной инициации. Только окрепнув идейно
при внуке Ивана Калиты, Дмитрии Донском,
православная Русь впервые открыто
выступила против монголо-татарских войск (1380).
Однако главное событие, определившее ход
национальной истории, произошло в XV
столетии, когда дух народа в лице своих
государственно-церковных деятелей, в частности в
лице великого князя Василия II Темного и
русского духовенства, сознательно
отказывается признавать так называемую
Флорентийскую унию, т. е. соглашение на объединение
католической и православной церквей,
принятое на соборе во Флоренции в июле 1439 года.
203
Напомним, что византийский император
Иоанн Палеолог и большая часть греческого
духовенства согласились на унию, надеясь
получить помощь от католического Рима (к
примеру, византийский церковный деятель
Виссарион Никейский считал религиозную унию с
католиками не только необходимым условием
для совместной борьбы с турками, но и
важнейшим событием в плане духовного единения
христиан. Однако после провала этого
мероприятия он эмигрирует в Италию, где,
перейдя в католичество, получает сан кардинала, а
после падения Константинополя в 1453 году
пытается даже организовать крестовый поход
на Восток). Также, как известно, акт об унии
был подписан и русским митрополитом
Исидором, греком по национальности. Исидор,
вернувшись в Москву, передал великому князю
Василию II Васильевичу послание папы
Евгения IV с пожеланием поддержать решение
собора. Однако решительный отказ русской
церкви и светской власти признать унию не
только лишил возможности папство
подчинить православную Русь своему влиянию, но
вывел ее на совершенно иной уровень в плане
взаимоотношения с Константинополем.
Великий князь назвал Исидора «латынским злым
прелестником» и приказал заточить его в
монастырь, однако тот ухитрился бежать, «из-
шел бездверием», возможно — в Литву.
Поскольку православие было предано, Москва
204
утвердила митрополитом своего, русского
епископа Иону. По сути дела, Русь с этого
момента обретает фактическую свободу от Второго
Рима, принимая в то же время от него
духовную эстафету после событий 1453 года.
Обретение независимости от Византии было
весьма важным условием для становления
суверенного русского государства, о чем
недвусмысленно свидетельствует выпущенная еще
в XIX в. «История русской церкви»: «Русские
митрополиты и избирались и посвящались в
Греции самим патриархом с согласия
императора и, разумеется, из греков. В России они
поэтому были люди чужие и по
происхождению, и по языку, и по национальным
симпатиям и не возбуждали к себе особенного
доверия ни в князьях, ни в народе. Нужно при
этом иметь в виду и ту дурную репутацию,
какой греки исстари пользовались на Руси и
которая выразилась в заметке летописца: „Суть
бо греци льстиви и до сего дне"».
Вместе с обретением свободы духа и «тело»
России окончательно сбрасывает с себя
внешнее иго «неверного» Востока в 1480 году, хотя
фактически дань Орде перестал уже платить
упомянутый нами Василий Темный, так что
церковь и светская власть, т. е. государство,
выступают практически одновременно, в
своем действительно духовном единстве. Вот эти
события и положили начало действительно
самостоятельной истории России. Интересно,
205
что, когда наш современник Э. Ю. Соловьев,
анализировавший происходящие события
конца XX столетия в России, которые
способствовали становлению ее правового суверенитета,
особенно подчеркивал, что «правовая идея
выстрадана Россией в мытарствах последнего
пятидесятилетия», хотелось внести
единственную поправку в эти замечательные слова, ка-
саемые фактора времени, в течение которого
Россией была выстрадана правовая идея, а
точнее говоря — идея справедливости
(имеется в виду, что право само по себе, без правды
и справедливости, — ничто): не пятьдесят, а
пятьсот лет. Примерно пятьсот лет отделяет
Россию, провозгласившую в июне 1990 года
суверенитет, а в августе 1991 фактически
подтвердившую статус свободного государства,
от того исходного пункта, когда она начинала
свою собственную, независимую ни от Рима,
ни от Константинополя и ни от Золотой Орды
историю как историю борьбы за воплощение
этой идеи.
При формальном рассмотрении
взаимоотношений восточно-православного и
западно-католического мира можно, вероятно,
видеть в русском протесте только акт
произвола, сознательного неповиновения двум
христианским центрам — Византии и Риму,
даже некий своеобразный вариант
грехопадения. К примеру, критика Чаадаевым
отечественной истории в основном направлена про-
206
тив одностороннего, ортодоксального визан-
тизма, благодаря которому Россия, по мысли
автора «Философических писем», была
оторвана от «великой мировой работы». Но в
этом же акте проявилось и нечто неизмеримо
большее, а именно осознание русским
народом того, что Русь призвана «стоять в истине
Христовой» и служить оплотом православия
как правоверного христианства во всем мире.
История человечества все-таки только по
видимости выступает как нечто произвольное,
поэтому задача философии истории
заключается в том, чтобы за внешним ходом событий
увидеть ключевые моменты, в которых
выражено необходимое движение единого разума
(логоса). Совсем не случайно, что именно в
это время под знаком «Москва — Третий
Рим» проявляется русская идея как
мессианская по своему характеру. Проявиться может
то, что есть от века. «Политическая миссия
Третьего Рима, — размышляет об этом
событии известный историк А. Тойнби, — никогда
не сводилась к тому, чтобы спасать или
реформировать Второй Рим. Она виделась в том,
чтобы заменить его... Следствием идеи
„Москва — Третий Рим" стало устойчивое и
сознательное убеждение русских в том, что Россия
призвана быть последним оплотом, цитаделью
православия». Заметим, что представление о
Руси как наследнице православной Византии
и о московском великом князе как опоре ис-
207
тинного христианства становится
одновременно убеждением русского народа как раз в
связи с безусловным неприятием навязываемой
Римом унии, с недоверием к
«грекам-сребролюбцам». Русь полагает свое безусловное
бытие через отрицание, через четкое «нет» и тем
самым отечественная история получает
буквально новое рождение.
В 1492 году митрополит Зосим объявляет
Ивана III «новым царем Константином нового
града Константинополя — Москвы и всея
Руси», а уже через 15—20 лет известный
инок псковского Елеазарова монастыря
развивает эту мысль до целой богословской
концепции. Согласно взглядам старца Филофея, Рим
и Константинополь, по причине отхода от
истинного христианства, перестали быть
центрами христианского мира, на смену им приходит
новый духовный центр — Русское царство.
«Единая ныне соборная апостольская церковь
восточная, — писал он великому князю
Василию III, — ярче солнца во всем поднебесье
светится, и один только православный и
великий русский князь во всем поднебесье, как
Ной в ковчеге, спасшийся от потопа,
управляет и направляет Христову церковь и
утверждает православную веру». Истоки идеи
богоизбранности Руси и о ее высочайшем
предназначении утверждать православную веру, о
котором высказался Филофей, можно,
несомненно, найти во взглядах Илариона, Феодо-
208
сия Киево-Печерского («Слово о вере
христианской и латинской»), Владимира Мономаха,
Сергия Радонежского и многих других
религиозных и государственных деятелей, однако
только в конце XV и начале XVI столетия эта
идея, будучи созвучной устремлениям
московских царей создать великую единую державу,
начинает осуществляться не только как
узконациональная, но и как вселенская,
христианская идея.
Полное воплощение идея «Москва —
Третий Рим» получила в акте торжественного
венчания на царство в январе 1547 года
великого князя Ивана IV Васильевича. Помимо
того, что новый титул ставил русского царя на
уровень монголо-татарских ханов и главы
Священной Римской империи (этим титулом в те
времена величали только их), важнейшим
моментом в этом событии, несомненно, был факт
получения символов централизованного
государства из рук главы русской церкви.
Митрополит Макарий этим актом венчания на
царство 16-летнего великого князя подчеркивал
особое положение церкви в государстве как
духовной основы самодержавной власти.
Макарий вознес молитву о даровании царю
«ужаса для строптивых», «милости для
послушных» и любви к церкви. Самодержавие
является Богоутвержденной формой
существования русского народа как православного, а
русская церковь начинает служить не только
M Зак 3426
209
небесному, идеальному Царю как таковому,
но и его земному, реальному образу. Монарх,
как это подчеркивал еще игумен Волоцкого
монастыря Иосиф Санин, находится в
принципиально ином отношении к Богу, нежели его
подданные. В своих посланиях к государю
Василию III он разъяснял: «Царь... естеством
подобен есть всем человеком, а властию же
подобен есть вышняму Богу». Поэтому церковь
не должна оставаться в состоянии некоторого
совершенно независимого института духовной
власти, главная ее «социальная» обязанность
как раз и заключается в том, чтобы всякий
христианин исполнял свой долг по отношению
к «земному царю» с верою в сердце.
«Преподобный Иосиф Волоцкий, — пишет
митрополит Иоанн, — был ревностным сторонником
идеи общественного служения церкви. Самую
монашескую жизнь он рассматривал лишь как
одно из послушаний в общем всенародном
религиозном служении».
2. О законности власти
Улуса Джучи (Орды)
Вопрос о власти христианство
рассматривает как важнейший аспект сознания
христианина, который должен видеть за имеющим
место неравенством людей в общественном
бытии Богом установленный порядок или, вы-
210
ражаясь философски, всеобщее (разумное) в
его особенной форме. «Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не
от Бога <...> И потому надобно повиноваться
не только из страха наказания, но и по
совести» (Рим 13:1—5). Для Русской Православной
церкви с самого ее возникновения важным
моментом в вопросе о власти было стремление
показать необходимость единовластия на
Руси, поэтому используется уподобление
Владимира Святославовича Константину Великому,
что подчеркивает в то же время
преемственность христианской деятельности киевского
князя. Так, вслед за митрополитом Иларионом
автор «Памяти и похвалы», монах Иаков
Мниха, восхваляет деятельность Владимира: «Бла-
женый же князь Володимер, внук Олжин,
который храмы идольскыа разруши и всю землю
Русскую и грады честными церквами украси».
Несмотря на апостольскую миссию
Владимира Святославовича как крестителя Руси,
церковь довольно долгое время не причисляла его
к лику святых (Владимир был канонизирован
примерно в середине XIII века), хотя он уже
при жизни изображался на сребрениках с
нимбом как символом святости власти.
Рассуждая о преемнике Владимира — Ярославе,
Иларион прямо указывает на божественное
происхождение княжеской власти на Руси.
Вместе со строительством в Киеве собора
Святой Софии закладывается духовный фунда-
211
мент единства всея Руси — государственный
культ святой Софии. Иларион сравнивает
возведение храма с возведением Соломоном
знаменитого иерусалимского храма, так что Киев,
подобно Константинополю, понимается как
Новый Иерусалим. Для Ярослава Мудрого
культ святой Софии имеет интегрирующее
значение. «Премудрость Божия... должна
была интегрировать всех, принадлежавших к
Руси, сделать их мудрыми, а страну —
великой, подобно тому, как София
Константинопольская символизировала единство и
величие Византийской империи, — пишет историк
М. Б. Свердлов. — Возведение
величественных Софийских соборов на основных
торговых путях по Днепру, Волхову и Западной
Двине, маркирующих пределы Русского
государства... могло символизировать в
христианском сознании всю страну как Дом Святой
Софии — Премудрости Божией». Однако
Киевская Русь как политически единое
государственное образование перестало существовать
уже в XII столетии, распавшись на отдельные
княжества. Символом единства русского
народа оставалась, вплоть до XV века, только
духовная власть церковной организации,
возглавляемой митрополитом всея Руси.
Поскольку источник власти один — Бог, то
всякое народовластие для православного
христианства является абсурдным понятием.
«Народ не может никому поручить свою
212
„власть", — пишет митрополит Иоанн, — ибо
у него этой власти просто нет». Единый
Божественный источник власти, согласно
православному воззрению, предполагает только
одну истинную форму государственного
воплощения, а именно самодержавие. Однако
власть самодержца не является высшей
самоцелью, а в идеале должна быть своеобразной
«оградой церковной» и всячески
содействовать спасению душ подданных. Как
религиозный долг рассматривает княжение в своем
«Поучении» Владимир Мономах, подчеркивая,
что князь, а впоследствии — царь лишь
распорядитель власти, данной Богом, несущий
высочайшую ответственность перед Ним за
судьбу христианства.
Как известно, процессу становления
централизованной, самодержавной власти на
Руси непосредственно предшествует процесс
распада принципа родового наследования
через отрицание удельными князьями
первоначального единства рода Рюриковичей.
Напомним, что после смерти Ярослава (1054) его
сыновья, а затем внуки разделили между собой
землю предков на ряд более мелких земель.
В итоге к середине XII века Русь разделилась
на полтора десятка самостоятельных
княжеств, из которых первенство оставалось за
Киевом, но к концу XII столетия по краям
стали заметно выдвигаться такие княжества, как
Суздальское — на востоке и Галицко-Волын-
213
ское — на западе. Уже не старший в роде
князь, а самый могущественный мог
претендовать «в отца место». На смену родового
наследования (принципа рода) приходит семей-
но-вотчинное (принцип вида) и
соответствующий этому принципу порядок оформления
связей между великими и удельными
князьями — в виде договоров. Договоры не
отличались устойчивостью в силу перманентной
борьбы князей за расширение своих уделов
путем «примысла» (насильственного захвата)
и за право обладания титулом великого князя.
Заметим, что в этих условиях каждая столица
княжества претендовала на получение
собственной епископской кафедры, а митрополия
вынуждена была идти навстречу этим
пожеланиям, что, несомненно, способствовало
самостоятельности отдельных земель. К середине
XIII в. На Руси было уже 16 епархий,
соответствующих крупным русским княжествам.
Однако эпоху междоусобицы нельзя
рассматривать только как период упадка,
поскольку вместе с развитием экономических
связей (торговли) строились новые города,
прокладывались дороги, создавались великие
памятники русского зодчества. Именно в
XII столетии новгородцы (после изгнания
Всеволода Мстиславовича) на четыреста с
лишним лет обретают политическую
независимость, благодаря которой развиваются
различные промыслы и торговля, происходит ос-
214
воение огромной по масштабам того времени
территории. По словам историка Г В.
Вернадского, быстрый подъем Новгорода
объясняется именно тем, что он был не только окном в
Европу для восточной торговли, но и окном на
Восток для самой Европы. Попытки же
прекратить междоусобные войны, когда, к
примеру, в 1097 и 1100 годы по инициативе
Владимира Мономаха созывались съезды князей,
оборачивались новыми распрями и
формированием новых городов-претендентов на звание
общерусской столицы, особенно после
нашествия Батыя на Русь (1237—1238) и
образования Золотой Орды (1243). Так, потомки
Всеволода Большое Гнездо образовали княжеские
линии с центрами в Твери, Суздале, Ростове
и Москве, но отношения между удельными
князьями практически никогда не оставались
устойчивыми и мирными. Как мы видим,
борьба за великое княжение между тверскими
и московскими князьями, начавшаяся с
1304 года, уже опирается не на право
старшинства, а на собственную мощь, которая,
обратим внимание, обретает «легитимность»
уже не в себе, а вне кровных отношений, за
пределами древней Руси — в Орде.
Междоусобица продолжается до тех пор, пока ярлык
на великое княжение не получил в 1328 году
Иван Калита. После этого, по словам
летописца, «бысть оттоле тишина велика по всей
Русской земле на сорок лет и престаше татарове
215
воевати Русскую землю». Порядок,
установленный Московским великим князем, привлек
на службу не только простых людей, но и
знатных бояр, которые за доброе служение
получали от него земельные наделы. В Москву
стали переселяться выходцы из Литвы и
даже татаро-монголы, принявшие христианство,
среди последних, к примеру, был
родоначальник фамилии Годуновых мурза Чет. Однако
важнейшей политической заслугой Ивана
Калиты было привлечение в Москву
митрополита «всея Руси» (подробнее о становлении
Москвы как общерусского культового центра и
церковной столицы будет сказано немного
позже).
С точки зрения философского анализа
становления русской идеи «Орда» была не просто
географическим и политическим понятием, а
своеобразным воплощением «запредельного»
царства, в котором разрешались проблемы
опыта борьбы русского духа с самим собой
(борьбы «сродников»). Следует заметить, что
Улус Джучи, или Золотая Орда, по принципу
своего административного построения имел
отнюдь не монгольский корень. Монголы, как
известно, в начальный период своих
завоеваний не имели ни письменности, ни
административных институтов, необходимых для
управления земледельческими государствами.
В этом отношении они обязаны чиновникам
покоренных государств, и прежде всего ки-
216
тайским. «Первым из таких чиновников, —
пишет С. А. Нефедов, — был уйгур Тога
Тун-а, который учил детей Чингисхана и
первых монгольских чиновников уйгурскому
языку». Известно, что после взятия Пекина Чин-
гис принял на свою службу Елюй Чуцая,
одного из сановников Цзинской империи, который
заявил монгольскому императору буквально
следующее: «Хотя мы империю получили,
сидя на лошади, но управлять ею, сидя на
лошади, невозможно». Орда играла, как мне
представляется, необходимую роль «зако-
на-детоводителя» и была внешней,
абстрактной формой отрицания кровных родовых
отношений до того момента, пока вера не
проникла в эти отношения и не преобразовала их в
форму духовно-национальных. Сам факт
крещения Руси долгое время оставался еще
только фактом исторического бытия («преданья
старины глубокой»), некоторым внешним
знаком причастности народа к общему
христианскому делу, но не самим ясно осознаваемым
русской душою смыслом бытия. Думается, что
отнюдь не только в целях самосохранения
русская церковь в рассматриваемый нами период
проповедовала принцип непротивления
насилию, определяя ордынское нашествие как
«божий батог» за людские грехи (об этом
свидетельствуют такие, к примеру, памятники, как
«Слово Серапиона Владимирского» и
агиографические произведения). «Не послушали мы
217
Евангелия, — обращался к христианам
епископ Серапион Владимирский, — не
послушали апостола, не послушали пророков, не
послушали светил великих... Не раскаялись мы,
пока не пришел народ безжалостный по
Божьему изволению... Испытав сие, братья,
убоимся наказания этого страшного и припадем ко
Господу своему с исповеданием, да не
навлечем на себя еще больший гнев Господень».
«Се же бысть за грехи наши... Господь силу от
нас отья, а недоумение и грозу, и страх, и
трепет вложи в нас за грехи наша» — такими
словами, как правило, и заканчивались
летописания. Более того, проповедь смирения и
покорности, а также миссионерская
активность русского духовенства усиливается
особенно тогда, когда в Золотую Орду проникает
религия, в основе которой лежит принцип
безусловного единства сознания — ислам.
В XIII веке, при хане Берке, принявшем
мусульманскую веру, русским духовенством
основывается епархия в самой столице
Орды, в Сарае. Здесь русские митрополиты
(с 1267 года) и князья как фактически
подданные золотоардынского стола получают
ханские ярлыки на право осуществлять духовные
и светские функции на территории
покоренной Руси. В 1243 году владимирский князь
Ярослав Всеволодович первым из русских
князей отправляется в Сарай, чтобы получить
ярлык на великое княжение. «Кто будет ху-
218
лить веру русских, — записано в ярлыке, —
или ругаться над нею, тот ничем не
извинится, а умрет злою смертию». Однако ханские
ярлыки не только предоставляли
определенные гарантии духовенству, но и обязывали их
проводить своеобразную «пропаганду» курса
вассальной зависимости русских князей на
основании «старейшинства» Орды, молиться за
хана «всем чином поповским», «чтобы во
упокой Бога молили и молитву воздавали».
«Пусть, — писал в своем указе хан Менгу-Те-
мир, — беспечально молятся за него и его
племя». Известно, что после назначения
константинопольским патриархом Петра
митрополитом «всея Руси», последний отправляется
в Орду и получает ханский ярлык, в котором,
в частности, было сказано: «А как ты во
Владимире сядешь, то будешь Богу молиться за
нас и за потомков наших». H. М. Карамзин,
рассуждая «о состоянии России от нашествия
татар», полагал, что «одним из достопамятных
следствий татарского господства над Россиею
было еще возвышение нашего духовенства,
размножение монахов и церковных имений.
Политика ханов, утесняя народ и князей,
покровительствовала церковь и ее служителей;
изъявляла особенное к ним благоволение».
В то же время русская церковь должна
была и не забывать про византийские
интересы — следить, чтобы князья не поддавались
на всякого рода «соблазны» католического
219
Рима. Так, согласно «Повести о житии и
храбрости благоверного и великого князя
Александра», Александр Невский, отвергая
всевозможные предложения «богомерзского»
Запада, «кланяется» «царю в Восточной стране»,
за что и получает соответствующие этому
отношению достойные ханские почести,
военную помощь для борьбы с соперниками. Тогда
как его брат Андрей не проявил должного
христианского смирения, своим неповиновением
«разгневал царя Батыя», отчего и пострадала
Суздальская земля. «Сугубый подвиг выпал на
долю святого Александра, — пишет
митрополит Иоанн, — для спасения России он должен
был одновременно явить доблесть воина и
смирение инока... святыня русского
Православия требовала защиты от латинского
поругания». Ради этой высшей цели святой
Александр добровольно подчинился хану Батыю.
Победа, одержанная русскими ратниками в
битве на Чудском озере в 1242 году,
положила конец экспансии тевтонско-ливонского
ордена.
Ещё Н. Я. Данилевский, размышляя над
«причинами синхронистической связи столь
разнородных событий» — имеется в виду
одновременный «натиск» на Русь как со стороны
Востока, так и со стороны Запада, —
усматривал в этом не что иное, как «сам план миро-
державного Промысла, по которому
развивается историческая жизнь человечества». В са-
220
мом деле, начиная с 1204 года (год взятия
Константинополя и основания на месте
православной Византии латинской империи)
начинается усиливаться католическая агрессия
против православной Руси. Известно, что
попытка подчинить своему влиянию князя
Романа Галицкого через различные обольщения
полностью провалилась в 1204 году, как и
тщетными оказались призывы ко всем
русским священникам римского папы
Иннокентия III (1207 год). «Теперь греческая империя
и церковь почти вся покорилась, — писал
Иннокентий III, — и униженно приемлет
повеления. Ужели не будет несообразным, если
часть не станет сообразовываться со своим
целым и не последует ему?». Однако никакие
«рациональные» доводы не в состоянии были
сломить веру русского духа в святость
православия, в этом вопросе не может быть
никакого компромисса и тем более повиновения
иному вероисповеданию.
Следует заметить, что для формирования
такого христианского образа мысли и жизни
всего русского народа, а не только
духовенства татаро-монгольский период уничижения,
смирения и покаяния был крайне необходим:
только пройдя такие суровые испытания,
русская душа обрела силу через прозрение
религиозной истины. «Несчастья внешние, —
раскрывает историософский смысл «татарского
нашествия» митрополит Иоанн, — должны
221
были послужить к обильному преуспеянию
внутреннему».
Признавая определенную роль
татаро-монгольского ига как абстрактной формы
отрицания исторически отживших связей, благодаря
которой происходило усвоение русским духом
«восточной» формы единства всего народа,
нельзя, на мой взгляд, согласиться как с
некоторыми категорическими утверждениями
H. М. Карамзина по вопросу татарского
влияния на ход русской истории, так и с его
будущими «единомышленниками». Москва, считает
автор «Истории государства Российского»,
«обязана своим величием ханам». В новых
условиях (начало 20-х годов XX столетия) эту
точку зрения по-своему развивают евразийцы,
рассматривая монгольскую феодальную
империю в качестве действительного
предшественника России как евразийского государства.
Киевская Русь, в отличие от Золотой Орды, с
точки зрения Ник. Трубецкого, совсем не
воплощала в себе евразийскую идею, занимала
лишь двадцатую часть современной
территории России. По словам Г. В. Вернадского,
«после падения Византии и укрепления
Москвы, русские цари, а затем всероссийские
императоры продолжают дело золотоордынских
ханов».
Напомним, что после того, как митрополит
русской церкви Феогност окончательно
утвердился в Москве в XIV веке, для Руси, вплоть
222
до времен Петра I, уже не возникает вопроса
о центре церковной и политической власти.
Став духовно-политическим и вместе с тем
национальным центром, Москва обретала
величие, прежде всего, православной верой и
своими делами. «Именно превращение
Москвы в центр русского православия, — пишет
митрополит Иоанн, — определило ее судьбу,
до того ничем не отличавшуюся от судьбы
других русских городов». При внуке Ивана
Калиты, Дмитрии Донском, Московская Русь,
получившая христианское благословение от
Сергия Радонежского на брань, впервые
открыто выступила против монголо-татарских
войск под предводительством темника Мамая
(1380 год). Русские люди увидели в лице
московского князя заступника не только своего
удела, но именно всей православной Руси.
После этого никакие усобицы и никакие
внешние натиски (как с Запада, так и с Востока) не
в состоянии были сдержать
центростремительные силы, созидающие единое,
самостоятельно развивающееся русское царство.
Надежда русских князей, которую они выражали в
своих завещаниях, что Бог освободит Русь от
Орды, стала сбываться.
Что касается вопроса о событиях
1380 года, то здесь, на мой взгляд, следует
избегать две крайности: с одной стороны, нельзя
усматривать в Куликовской битве акт
открытого выступления против законной власти Зо-
223
лотой Орды — законной в рамках
представлений того времени о законности как Божьем
промысле — и, с другой стороны, не следует
умалять значение этого события для
общерусского дела. Напомним, что в 1380 году
законным ханом в Золотой Орде считался Тохтамыш
(на Руси он уже был провозглашен царем).
Мамай же не мог быть признаваемым на Руси
ханом по определению (в его жилах не текла
кровь потомков Чингисхана), хотя фактически,
будучи женатым на дочери хана Бердибека, и
был некоторое время правителем в Золотой
Орде. Разбив Мамая, Дмитрий Донской,
согласно Симеоновской и Рогожской летописям,
отправил послов «со многими дарами к царю
Тохтамышу». Тохтамыш же сжег Москву вовсе
не по тому, что Дмитрий Донской разбил
Мамая (последний был окончательно разбит Тох-
тамышем на Калке и изгнан за пределы Орды),
а, согласно летописи, по доносу суздальских
князей. Последние вместе с Олегом Рязанским
(союзником Мамая) оказали определенное
содействие Тохтамышу в его расправе над
Москвой. Даже в 1396 году, после того как
Тамерлан разорил Орду, все равно в договоре
московского и тверского князей о совместной
защите своих земель от набегов продолжает
подчеркиваться законность власти ордынского
хана-царя, от которого зависит судьба русских
княжеств, их потомства, «А что есмя воевал со
царем, а положит на нас царь виноу, и тобе,
224
брате, в том нам не дати ничего, ни твоим
детям, ни твоим внучатом...».
Итак, представлению о том, что хан Орды
является законным царем всей честной Руси,
суждено было пройти этапы глубочайшего
осмысления. Ведь если Батый и был послан
Богом за грехи неверия, то, следовательно,
только христианское смирение и безграничная
верность Богу, постепенно осознаваемые русским
народом, могли стать для него тем прочным
духовным основанием и силой, позволившими
избавиться от внешней зависимости, от чуждого
христианству ига золотоордынских ханов.
Народ уже не только в лице своих православных
царей «принимает» законную власть от ханов,
но, добровольно взяв крест свой, или истинное
иго Христа, «ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф 11:30), становится действительно
историческим народом-богоносцем.
«Драгоценный талант смирения, приобретенный народом
во время татарского ига, — пишет митрополит
Иоанн, — впоследствии лег краеугольным
камнем в величественное здание Русского
Православного царства».
3. Трудно быть богоносцем
Во всемирной истории эллины и римляне
как античные народы являются только перво-
носителями христианской идеи. Их задача —
15 Зак. 3426
225
передать духовную эстафету новым народам,
сформировавшимся уже в духе Христа и
несущим его крест как свой. Такими народами
выступают германские и славянские народы.
Первые выражают идею восхождения
человека к Богу (идею стяжания), вторые — идею
нисхождения Бога к человеку (идею
благодати). Поэтому у германцев главным
христианским праздником считается Рождество, а у
славян — Пасха. «От добровольного
соединения Греции и Севера родилась Русь, —
поясняет А. С. Хомяков, — от насильственного
соединения Рима с Севером родились
западные царства. Греция и Рим отжили. Русь одна
наследница Греции; у Рима много было
наследников». Известно, что сами славяне
называли себя словенами, т. е. людьми,
способными владеть понятной речью, словом-логосом, а
после создания солунскими братьями
Кириллом и Мефодием славянской письменности и
перевода на «варварский» язык Св. Писания
славянам уже на деле пришлось доказать, что
их самоназвание не является случайным.
Однако следует заметить, что в
первоначальный, так сказать подготовительный, период
(для русских — в период Киевско-Новгород-
ской Руси) христианская идея, или Божие
Слово, начинает проникать в жизнь
славянских народов и проявляться в ней не столько
вербально, в виде сознательного усвоения
вечного содержания Св. Писания и богослов-
226
ского размышления, сколько в особенных,
непосредственно созерцаемых образах, и прежде
всего в образе святой Софии. Сакральный
смысл этого образа, представляющего собой
вечную Премудрость Божию, но не
абстрактно, а в человеческом облике, как считает
Е. Н. Трубецкой, заключается в том, чтобы
выразить конечный «замысел Божий о мире»
как о царстве «обоженного человечества».
Важным моментом является само
изображение Софии как символа божественной
реальности и в то же время как символа
человечности. «Уже самый факт повсеместного
построения храмов святой Софии в Древней
Руси тотчас по обращении ее из язычества
свидетельствует о том, что мы имеем здесь
центральное религиозное представление,
которое для русского религиозного сознания
представляет совершенно исключительную
ценность», — указывает Е. Н. Трубецкой.
Несомненно, что большую роль в плане
осознания религиозного призвания русского
народа сыграли сложившиеся примерно в XV веке
религиозно-поэтические сказания о бегстве
святых и святынь из Рима и Византии в
Московскую Русь, в частности сказания о
«путешествии» Св. Антония и о Тихвинской иконе
Божьей Матери. В этих сказаниях
христианская идея находит широкий отклик в душах
простого народа и тем самым становится
реально сущей основой его духовно-националь-
227
ного единства. По словам митрополита
Иоанна, к ранним формам религиозного
самовыражения русского духа следует отнести былины
(«старинушки») о «святорусских богатырях» и
духовные стихи. Если в былинах отражается
осмысление русским народом православной
идеи державности, то в духовной поэзии,
скорее всего, постижение религиозных
вопросов, главным из которых является вопрос о
спасении души. «Спасение души, — пишет
митрополит Иоанн, — смысл жизни
человеческой. Этой главной цели подчиняется, в
идеале, вся народная жизнь. Русь не потому
„святая" что живут на ней сплошные праведники,
а потому, что стремление к святости, к
сердечной чистоте и духовному совершенству
составляет главное содержание и оправдание ее
существования. Это ощущение всенародного
религиозного служения столь сильно, что
понятие „Святая Русь" приобретает в русских
духовных стихах вселенское, космическое
звучание. Святая Русь есть место —
понимаемое не узко географически, но духовно, — где
совершается таинство домостроительства
человеческого спасения. Такова ее промысли-
тельная роль, и народ русский есть
народ-богоносец в той мере, в которой он
соответствует этому высокому призванию».
В том факте, что христианское поклонение
«Богу в духе и истине» в русском народном
сознании имело форму культа святых и свя-
228
тынъ, следует, на мой взгляд, усматривать не
только общие закономерности развития
религиозного сознания, для которого вера и не
могла существовать в начальный период «без
знамений и чудес». В этом способе
поклонения следует видеть отмеченную Е. Н.
Трубецким конечную цель христианства, уже
изначально воспринятую русской душой — не
абстрактное царство Божие, в котором человеку
не нашлось бы должного места, а «обоженное
человечество». Необходимой предпосылкой
самостоятельного движения русского духа к
этой цели, т е. к своей истине, является
созданный религиозными и государственными
деятелями общерусский культовый центр,
благодаря которому и начинается движение
вселенской идеи в существенном плане — в
форме соборности, абсолютизма и
тоталитаризма. «Рим» приходит на Русь задолго до
1453 года. Поскольку этот момент
формирования вышеуказанного духовного центра
практически не раскрыт русской историософией
как судьбоносный момент отечественной
истории, остановимся на нем.
Важнейшим событием и этапом
становления Москвы как духовного центра
православного мира и политической столицы России
было получение в 1339 году духовной санкции
от Константинополя на общерусскую
канонизацию Петра, митрополита «всея Руси».
Решение Византийского патриарха было обязатель-
229
ным не только для всей русской церкви,
поскольку последняя была составной частью
Константинопольского патриархата, но и для
всех удельных и великих князей. Поскольку
сам митрополит Петр незадолго до своей
смерти в 1326 году наказал, чтобы его
похороны совершились не во Владимире, а в
строящемся в Москве Успенском соборе, постольку
он «своими мощами... и освятил столицу
соперника тверских князей» (М. П.
Покровский), заложив фундамент московского
культового пантеона. С инициативой канонизаци-
онных мероприятий выступили новый глава
русской церкви Феогност и великий князь
Иван Данилович, которые подготовили как
соответствующий этой цели реестр «чудотворе-
ний», так и сам акт канонизации Петра.
Москва, таким образом, задолго до известного
послания Филофея, реально «превращается в
общерусский культовый центр» — в город
святого Петра. Еще не став стольным
городом великого княжества, Москва уже
сделалась общерусским духовным центром, куда и
была перенесена митрополия. После смерти
митрополита Петра все остальные
митрополиты сделали Москву своим постоянным местом
пребывания. Напомним, что на Руси уже
имелись культовые пантеоны, но они имели
характер местных, ограниченных границами
княжеств святынь. У каждого князя
фактически были свои объекты поклонения, свои свя-
230
тыни. Следует заметить, что после
канонизации митрополита «всея Руси» общерусский
пантеон пополняется уже не именами великих
и удельных князей, а прежде всего известных
религиозных деятелей того времени, таких
как митрополит Алексий, Сергий
Радонежский и Кирилл Белозерский, воплощавших в
себе идею духовного единства всего народа.
Только благодаря духовному единству народ
поднимается над своим «кровным» способом
существования и становится нацией.
Опираясь на исторические исследования, в
частности на монографию А. С. Хорошева
«Политическая история русской канонизации (XI—
XVI вв.)», можно сказать, что становление
русского самодержавия было бы
невозможным без централизации культов. Петр, как
свидетельствует отечественная история, —
это не просто имя, а первый камень, на основе
которого предстоит строиться России.
Напомним, что в Соборной уставной
грамоте, узаконившей патриаршество на Руси в
1589 году, утверждалась и высказанная ранее
идея Москвы как Третьего Рима: что «ветхий
Рим пал от ереси», что «новый Рим»,
Константинополь, находится в порабощении
агарянами, поэтому Третий Рим есть Москва. «Это
осознание себя третьим Римом последних
времен, — раскрывает смысл этого
исторического события митрополит Иоанн, — через два
года было подтверждено собором православ-
231
ных патриархов и таким образом утвердилось
в качестве канонически закрепленного
воззрения Вселенской Православной Церкви».
Русская идея, таким образом, осознается как
вселенская идея.
В связи с этим хотелось бы сделать одно
замечание в адрес русского религиозного
философа С. Н. Булгакова, затронувшего очень
важную проблему соотношения светского и
духовного моментов жизни единого народа.
Несмотря на то что историософские проблемы
рассматриваются русским мыслителем
«исходя из предпосылок мистического реализма»,
им отвергается внутренняя связь между
православной религией и самодержавием, а
значит, между святым и светским Петром, как
будто деятельность Петра Великого протекала
вне христианского контекста и не вытекала из
него. Мой замысел, наоборот, состоит в том,
чтобы при дальнейшем рассмотрении истории
России попытаться раскрыть эту мистическую
связь. Более того, в качестве замыкающего
«звена» этой невидимой линии русской
истории, как мне представляется, выступает еще
один, третий Петр — отечественный
мыслитель и пророк Петр Яковлевич Чаадаев.
С трансцендентальной точки зрения
феноменология русского духа представляет собой
мистический персонифицированный переход
христианской идеи внутри самой себя от
непосредственной формы единства {соборности) к
232
отрицательному в себе единству
(абсолютизму), а затем к предсказанному П. Я.
Чаадаевым их «апокалиптическому синтезу» в форме
советского тоталитаризма. Таким образом,
история нашего Отечества предстает как
единое и в тоже время внутри себя делимое
единство, каждый этап которого становится
возможен только через неимоверное напряжение
всех сил народа. Трудно быть богоносцем.
4. Соборность,
или русская симфония
Вера в совершенство формы богооткровен-
ных истин, принятых Русью от Византии,
стала определяющим фактором российской
истории, ее идеей. Совершенная форма требует не
столько дальнейшего развития истины,
сколько сохранения ее в неприкосновенном виде.
Только русское православие, благодаря его
самоизоляции, своеобразному выпадению из
истории, по мнению славянофилов, сохранило в
себе соборный дух — «сочетание единства и
свободы, опирающееся на любовь к Богу»
(А. С. Хомяков). И. В. Киреевский возводил
даже в достоинство факт «неисторичности
русского существования», рассматривая его
«как особый тип христианской аскезы». Более
того, если рассматривать Россию с точки
зрения вечных истин христианского откровения,
233
то критика Хомяковым автора
«Философических писем» получает вид логического
обоснования: «Ибо сущность религии есть
неизменный во веки дух света, проникающий все
формы земные. Следовательно, мы не отстали в
этом отношении от других просвещенных
народов». Защитники национальной
самобытности видели в русской «неисторичности»
«животворный источник», питающий «верующий
разум» (И. В. Киреевский) и призывали своих
оппонентов к «слиянию с жизнью русской
земли» (А. С. Хомяков). Заметим, что в
отличие от А. С. Хомякова П. Я. Чаадаев дает
исключительно отрицательную оценку
«религиозному обособлению», подчеркивая
безразличие русского православия к «великой мировой
работе».
П. Я. Чаадаев и В. С. Соловьев критикуют
духовную изоляцию Московского государства,
но не раскрывают ее историческую
необходимость. Дело в том, что самоутверждение
русской идеи, или духа народа, вплоть до
эпохи Петра Великого происходит не через
«презрение к миру» вообще, а, прежде всего, к
миру рационального сознания Запада,
расщепляющего целостное знание «Я есмь истина».
Православная соборность и есть
категорическое утверждение этой целостности, т. е.
непосредственного единства предмета веры и
самой веры верующих. Вспомним, что весь
пафос воззваний духовных деятелей, обращен-
234
ный к московским князьям, и заключался
прежде всего в том, чтобы «утверждать
православную веру» в «мире сем». Но поскольку
истина не ограничивается верой в совершенство
формы богооткровенных истин, принятых
Русью от Византии, и вытекающей отсюда
необходимостью сохранения ее в
неприкосновенном виде (речь идет о Символе веры,
составленного «по внушению Духа Святого отцами
первого и второго вселенских соборов»), а
есть путь восхождения на Голгофу, постольку
неизбежен внутренний раскол русской идеи.
Становление религиозного самосознания есть
процесс отвержения всего первоначально
данного, затронувший обе стороны русской
идеи — внутреннюю жизнь в духе (церковь) и
ее наличное бытие (государство). Строго
говоря, истинное должно стать результатом
деятельности духа и только духа.
Противоречие между светской и духовной
властью не прекращалось на всем этапе
образования Московского централизованного
государства. Особенно отношение обострилось
после падения Новгорода в 1478 году, когда
великим князем Иваном III не только были
отобраны земли у местного боярства, но и
произошло значительное урезание владений
новгородской церкви. Напомним, что только
новгородскому собору Св. Софии
принадлежало более 2500 сел. Поэтому совсем не
случайно, что в действиях Ивана III многие церков-
235
ные иерархи усматривали происки
антихриста. В этих действиях, конечно, можно еще
усматривать те же мотивы, которые
свойственны были его предкам, или думы о «примыс-
лах», но в то же время, как справедливо
констатирует С. Ф. Платонов, вместе с
насильственным объединением северной Руси
«совершалось превращение московского
удельного князя в государя самодержца всей
Руси».
Сбросив остатки внешней зависимости
светской и духовной власти от ордынского
хана (1480 год), великий князь постепенно
сам начинает внедрять «восточный» принцип
безусловного подчинения единой воле всех и
вся не только в среду служилых князей,
которые фактически превращались в бояр
московского князя, но и в среду духовенства. Между
Иваном III и главой русской церкви
митрополитом Георгием происходят столкновения, в
частности, по поводу управления Кирилло-Бе-
лозерским монастырем, маршрута крестного
хода при освящении Успенского собора и т. п.
Русская церковь после событий XV века,
оставаясь фактически независимой организацией
по отношению к Византии, теперь в
конкретном опыте взаимодействия с крепнувшей
властью великого московского князя вынуждена
была определить для себя степень своей
самостоятельности. Это оказалось не просто,
поскольку объективно речь шла о том, чтобы ре-
236
шить фундаментальный вопрос бытия русской
идеи: кто фактически станет субъектом
принципа единства народа — церковь или
государство? Справедливости ради заметим, что
упомянутый «восточный» принцип на деле
является принципом самого христианства, но лишь
в его православной форме, где, согласно
Символу веры, существует только одно, единое и
неделимое основание всего сущего — воля
Бога-Отца. «И по причине Отца, то есть, по
причине бытия Отца существует Сын и
Дух», — утверждает Иоанн Дамаскин. Не
случайно титулом Отца Отечества станет
именоваться глава государства Российского, о чем
более подробно будет еще сказано.
Предметами разногласий были и
«общетеоретические» вопросы, стимулирующие как
активность христиан внутри самой церкви, так и
выходящие за ее пределы различные
еретические выступления. Внутри церкви, как
известно, образовывались различные «партии»: Нил
Сорский (1433—1508) осуждал «стяжания»
богатств церковью, а Иосиф Санин (1439—
1515) считал, что «все стяжания церковна —
божья суть стяжания». По словам Г П.
Федотова, в Ниле Сорском «обрело свой голос
безмолвное пустынножительство Русского
Севера», дополнительным импульсом чему и
послужило столкновение разных взглядов.
«Противоположность между заволжскими
„нестяжателями" и „осифлянами", — анали-
237
зирует этот вопрос Г. П. Федотов, —
поистине огромна, как в самом направлении
духовной жизни, так и в социальных выводах. Одни
исходят из любви, другие из страха — страха
Божия... Духовная жизнь „заволжцев"
протекает в отрешенном созерцании и умной
молитве, осифляне любят обрядовое благочестие
и уставную молитву. Заволжцы защищают
духовную свободу и заступаются за гонимых
еретиков, осифляне предают их на казнь.
Нестяжатели предпочитают трудовую бедность
имения и даже милостыне, осифляне ищут
богатства ради социально организованной
благотворительности... Наконец, первые дорожат
независимостью от светской власти,
последние работают над укреплением
самодержавия». Поскольку иосифляне развивали идею
«божественного происхождения»
государственной власти и отстаивали необходимость
беспощадной борьбы с инакомыслием
(распространение ересей, прежде всего «жидовствую-
щих», подрывало основы православия и тем
самым государственные основы), то именно
они нашли в конечном счете поддержку со
стороны московского князя. Следует, однако,
заметить, что в самом начале спора светскую
власть привлекала позиция «нестяжателей»,
опираясь на которую можно было бы провести
церковную секуляризацию в масштабе всего
Московского царства. В свою очередь,
великокняжеская власть, получив идейное обоснова-
238
ние своей политико-экономической линии,
предоставила церкви относительную
независимость.
5. Антитеза русского сознания
и «латинизация» Руси
Главной антитезой мыслящего сознания
русского средневекового человека было
противопоставление внешнего и внутреннего,
видимого и действительного. Если нестяжатели,
разделяя точку зрения византийского исихаз-
ма, вслед за Григорием Синаитом (ум. в
1346 году) и Григорием Паламой (1296—
1359) останавливались на безусловной
противоположности божественного и человеческого
начала — отсюда и проистекает их
отрицательное отношение к материальному миру, то
иосифляне, наоборот, пытались рационально
преодолеть пропасть противоположности
между бытием Бога и мира. Своим учением о
божественном происхождении царской власти
они не отрицали тезис «не в силе Бог, но в
правде», а раскрывали его, подчеркивая, что
сила власти государевой должна воплощать
в себе и божественную правду. В трактате
«Просветитель» Иосиф Волоцкий стремится
осмыслить вопрос об уподоблении Христу
в аспекте практической целесообразности.
Логика развития русской мысли, как мне
239
представляется, такова: Бог существует в
вере, а если вера проникает в язык (под
словом «язык» понималась не только «речь», но
и жизнь определенного народа), то Бог уже
перестает быть трансцендентным,
«ветхозаветным» Богом, а становится совестью нации,
ее всеобщим самосознанием. Христианский
долг служения «земному царю»
воспринимается русским человеком как безусловный,
тождественный религиозному долгу служения
«небесному Царю». «Царя бойся и служи ему
верою, — поучает «Домострой», — и всегда
о нем Бога моли. Аще земному царю правдою
служиши и боишися е, тако научишися
небесного Царя боятися». Более определенно по
опросу о единстве Бога и человека в понятии
«царская власть» высказался в ответном
письме кн. Андрею Курбскому Иоанн IV'
«Угрожаешь мне судом Христовым на том свете:
а разве в сем мире нет власти Божией? Вот
ересь манихейская! Вы думаете, что Господь
царствует только на небесах, диавол во аде,
на земле же властвуют люди: нет, нет! Везде
Господня держава, и в сей и в будущей
жизни!». Такого рода суждения русского царя
дают основание определять его самосознание
как теократическое, о чем уже высказывался
С. Н. Булгаков в своих парижских лекциях
по христианской социологии: «Самосознание
Иоанна IV еще более теократично, чем
самосознание иудейских царей, на которых он
240
ссылается, ибо последние имели над собой суд
пророков».
«Домострой» как памятник русской
культуры XVI века как раз и свидетельствует о
развитии духа русского народа, о его новом
рождении. Эта книга является символической
вехой становления национального
самосознания, основанного на единстве веры и языка,
божественного и человеческого начала.
В «Домострое» «совесть» как выражающее это
единство понятие «переходит» в свое
подлинное бытие — из сферы сознания (нравов) оно
возвышается в сферу самосознания,
моральности. Известно, что до XVI века термин
«совесть» имел значение, равносильное термину
«сознание» — тоже калька, но не с
греческого, как «совесть», а с латинского языка.
Ежедневная деятельность русского человека
наполняется сакральным смыслом, его
религиозное служение проявляется не только в
предписанном церковью образе жизни, но и в
осознаваемой обязанности в отношении к
семье, к отечеству и к царю. Об этом времени
пишет В. О. Ключевский: «Язык и вера
надолго остались той чертой, за которой нельзя
было допустить никакого иноземного влияния,
чтобы не стала на земле смута». Поэтому
когда это Богом данное бытие — единство веры
и языка — было подвергнуто воздействию со
стороны человека, хотя и облаченного
духовной властью патриарха Никона, начался рели-
16 Зак 3426
241
гиозный раскол. Протест протопопа Аввакума
был направлен как раз против «суемудрия»
реформ патриарха, ибо «никонианская вера и
устав не по Бозе, но по человеку». В двойном
«и» при написании «Иисус» староверы
усматривали знак антихриста, распинающего
единого Господа, поскольку при произношении
имени «Господь Иисус» слухом воспринимаются
как бы два лица — разделенные и в тоже
время внешним образом скрепленные
добавленной буквой «и». В связи с церковной
реформой в Московском царстве на несколько лет
установилось и своеобразное политическое
двоевластие — «великого государя» Никона
(этот титул он присвоил себе в 1653 году) и
царя Алексея Михайловича. Никон
исповедовал принцип «священство выше земного
царства» и пытался подчинить государство
церкви, обосновывая свои претензии
следующим образом: «Солнце нам показа власть
архиерейскую, месяц же показа власть
царскую, ибо солнце вящи светит во дни, яко
архиерей душам... Яко же месяц емлет свет от
солнца... такожда и царь поемлет посвящение,
помазание и венчание от архиерея».
Непосредственное единство церкви и государства
подверглось раздвоению, что и
свидетельствовало как раз о непрочности почвы
соборности и возникшей острой потребности в
коренном преобразовании всей жизни русского
общества.
242
Новый виток русского спора, так же как и
во времена иосифлян и нестяжателей, не
протекал в стороне от земных проблем. Однако
теперь он касался уже проблемы
исторической правоты. Старина для Аввакума
священна, ее нельзя подвергать сомнению и
изменению, тем более «извне». «Наши книги
правят, — восклицает он, — с новых греческих
книг, которые печатают у... латын, в Риме и в
Виницеи, или кто хочет где». Напротив,
приближенный к царю оппонент протопопа,
выпускник Киево-Могилянской академии
Симеон Полоцкий, выражал «иноземные»,
просветительские взгляды по вопросам политики,
истории, роли церкви и т. п. Так в своем
богословском трактате «Жезл правления» (1667)
он одновременно выступает как против
необоснованных претензий патриарха Никона,
так и против вождей раскола. Идеи
«всемирного умопросвячения» (В. Н. Татищев),
развиваемые в дальнейшем Стефаном Яворским
(1658—1722) и Феофаном Прокоповичем
(1681 —1736), объективно способствовали
преобразованию Московского царства в
новую форму единства государства и церкви —
в форму абсолютизма.
«Латинизация» Руси, против которой
выступают русские традиционалисты,
фактически начинается с Брестской унии 1596 года,
когда произошло объединение
западно-русской православной церкви на Украине и в Бе-
243
лоруссии с Римско-католической церковью.
Напомним, что православная церковь
согласно условиям этой унии сохранила за собой
лишь внешнюю, обрядовую сторону, приняв
католическую догматику и признав Папу
Римского главой всех христиан. В период событий
смуты в Московском государстве влияние
католической Польши на православную Москву
не ограничивалось только политической
сферой, что было ясно пастырям русской церкви
во главе с патриархом Гермогеном. Поэтому
призыв «стать на защиту веры и отечества» не
только объединил различные народы и
сословия, собрав воедино силы всей Русской земли,
но окончательно достиг желаемой цели,
прежде всего, тем, что по взятии Москвы 22
октября 1612 года народ сам избирает своего царя.
Известно, что одним из первых постановлений
Собора, состоявшегося в январе—феврале
1613 года, было решение «не выбирать царя
из иностранцев». Однако слабое развитие
национальной торговли и промышленности в
Московском государстве XVII века
объективно определяло политику Михаила
Федоровича, а вслед за ним и Алексея Михайловича, на
создание благоприятных условий для
иноземцев, прежде всего протестантов. (Уже при
Михаиле Федоровиче в Москве проживало
около 1000 протестантских семейств.)
Отношение русских людей к протестантам было
особенно гостеприимным по двум причинам:
244
во-первых, у них было чему научиться, кроме
торговли, во-вторых, они были идейными
противниками католического Рима. Враги наших
врагов всегда нам были ближе.
Обратим еще раз внимание на особенную
роль Польши в вопросе римско-католического
влияния на Русь. После падения второго
Рима, борьба старого Рима с новым, третьим,
велась непрерывно и в основном через
Польшу. Именно отсюда исходила пропаганда
латинства, шла высылка миссионеров,
подкрепляемая вооруженными силами польского
государства. Важным событием в этом вопросе
было соединение Польши и Литвы благодаря
переходу в латинство литовского князя Ягай-
лы и женитьбе его на польской королевне
Ядвиге (1386). Благодаря этому браку вся юго-
западная Россия оказалась под римско-поль-
ским политическим и духовным влиянием.
Несмотря на неоднократные попытки
литовско-русских князей высвободиться из-под
польского начала, связь Польши с Литвой
только становилась прочнее. Способом же
укрепления этой связи была предоставленная
поляками возможность литовско-русскому
княжеству и боярству занимать высшие
должности, но при условии принятия латинства.
Пожалуй, только внутренний духовный
раскол католической церкви в связи с быстрым
распространением протестантизма стал тем
спасительным для западнорусской знати собы-
245
тием, благодаря которому прямое давление
латинства в Литве явно ослабевало. Однако
после заключения Люблинской унии в 1569 году
часть западно-русских областей, включая
Подлесье, Волынь и Киев, были как бы в порядке
вещей включены в состав Польского
государства. Известно, что противник Ивана Грозного
польский король Стефан Баторий усиленно
покровительствовал иезуитам, воевавшим на
его территории сразу с двумя главными
соперниками — с протестантами и особенно с
православными. Так, иезуит Петр Скарга в
1577 году издает книгу «О единстве церкви
Божией и о греческом от сего единства
отступлении», где недвусмысленно говорит о
необходимости упразднения славянского языка в
богослужении, ибо «никто с помощью
славянского языка ученым быть не может». Тем
временем среди высшего западнорусского
духовенства активизируются сторонники унии —
союза православия и католицизма, к концу
1594 года они обратились к королю Сигизмун-
ду с готовностью признать папскую власть над
собой. В 1596 году в Бресте церковная уния
была организационно оформлена. С этого
времени, несмотря на противодействие
латинскому влиянию со стороны казачества и части
духовенства, происходила дальнейшая
латинизация униатской церкви.
К 1654 году, когда к России
присоединилась Украина, первые русские западники
246
практически уже усвоили не только способ
схоластической мысли, но и особую мудрость
западного мира. Уже в начале XVII века Киев
вновь становится центром просвещения, по
всей очевидности не только западной, но и
восточной Руси. Считая себя наследниками
греко-римской образованности, ученые
киевского братства, Киево-Могилянской коллегии,
действовавшей с 1632 по 1694 год, всячески
подчеркивали практическую значимость
изучения философии, языков и прочих знаний.
Известно, что сама коллегия (впоследствии —
академия) была в определенной степени
скопирована киевским митрополитом Петром
Могилой с иезуитского образца. Он же еще в
1640 году предложил Михаилу Федоровичу
учредить ее аналог в самой Москве. В
Московское государство киевская образованность
входит довольно самоуверенно, особенно в
годы царствования Алексея Михайловича. По
его просьбе в столицу приезжают многие
известные ученые-монахи (такие как Арсений
Сатановский и Епифаний Славинецкий),
прежде всего, с целью принять участие в
исправлении богослужебных книг. В 1650 году
вокруг царя собрался знаменитый кружок
«ревнителей благочестия», возглавляемый
царским духовником Стефаном Вонифатье-
вым. Уже в 1653 году появился исправленный
вариант Псалтыри. Киевское влияние заметно
возросло в годы царствования сына Алексея
247
Михайловича — Федора (1676—1682). Федор
Алексеевич, воспитанный Симеоном
Полоцким, уже сам владел польским и латинским
языками, поэтому учреждение духовного
училища и появление проекта
Славяно-греко-латинской академии были закономерными
событиями того времени. Открытие Славяно-
греко-латинской академии, как известно,
состоялось в Москве уже после смерти царя
Федора — в 1687 году.
Нет сомнения в том, что эта первая волна
просветительской идеологии, пришедшая на
Русь через Украину и Польшу, стимулировала
русскую мысль, заставляя ее пересматривать
свое отношение к другим культурам и к своей
собственной истории. История,
рассматриваемая глазами европейски образованного
русского человека, перестает быть священной и
превращается в один из объектов
исследующей мир мысли.
Здесь уместно еще раз обратить внимание
на вопрос о «латинизации» Руси с учетом
отношения к проводимым реформам широких
слоев русской общественности, которые
оценивали всю культурную политику
государства, т. е. прежде всего царя и патриарха, как
еретическую и антихристианскую по своей
сути. «Кто по латыни научится, тот с правого
пути совратится» — такого рода суждения
были характерными для того времени,
поскольку представление о том, что Москва яв-
248
ляется единственным православным
государством, сохраняющим чистоту веры, было
несомненным для абсолютного большинства. Вся
юго-западная русская образованность
воспринималась как «латинская» (что было
тождественно понятию «еретическая»), а греческая
сравнивалась с пересохшим источником. Так,
один из активных противников исправления
русских обрядов по греко-римским образцам
протопоп Неронов замечает патриарху
Никону: «А мы прежде всего у тебя слышали, что
многажды ты говорил нам: гречане де, да и
малые россияне потеряли веру и крепости
добрых нравов у них нет». Грекам доставалось не
меньше, чем малороссам, и по той же
причине — как отступникам от православия.
Неприязненное отношение к ним выражает даже
такой образованный человек, как монах
Арсений Суханов: «И папа не глава церкви и греки
не источник, а если и были источником, то
ныне он пересох». «Вы и сами, — продолжает
он, обращаясь к грекам, — страдаете от
жажды, как же вам напоять весь свет из своего
источника?». (Известно, что Суханов был на
Афоне с целью изучения греческих обрядов и
сравнения их с русскими и что греки
определили московские обряды как еретические, а
богослужебные книги даже сожгли как не
соответствующие православным образцам). Поэтому
тогда, когда малороссийские ученые и
греческие монахи были поставлены во главе рефор-
249
маторской работы, реакция русского духа
молниеносно переросла в открытый протест.
Заслуживает внимания, на мой взгляд,
попытка А. Тойнби раскрыть психологию
русской души, русского религиозного чувства,
воспринявшего высочайшую ответственность
за судьбу христианской идеи. «Чувство того,
что греки предали свое православие и за это
были наказаны Богом, сильно отразилось на
далекой русской церкви, где антипапские
настроения были очень сильны. Русским
казалось, что если греки были отвергнуты Богом
за Флорентийскую унию, мыслившуюся как
замену православию, то сами они получили
политическую независимость за преданность
церкви. Русский народ оказался последним
оплотом православной веры. Таким образом,
он унаследовал права и обязанности Римской
империи».
Однако для философии истории важным
является не столько вопрос об отношении
народа к проводимой «сверху» реформаторской
работе, сколько вопрос о возможности
изменения национальной истории под влиянием
внешних факторов. Что собственно можно
воспринять извне так, чтобы началась «порча»
духа народа? Этот вопрос вынуждает нас
выйти за рамки конкретно-исторического
исследования и взглянуть на него с
трансцендентальной точки зрения. Поскольку с этой точки
зрения вся история человеческого рода есть
250
борьба духа с самим собой, постольку та или
иная «порча», которая обнаруживается на
«теле» истории, свидетельствует только о
поэтапном становлении духа. Этап падения
нравов, переоценки ценностей и т. п. также
является таким же необходимым моментом
развития мирового духа, как и небезболезненный
переход от отрочества к юношеству. Иллюзия,
что эта порча привносится извне, также
является неизбежным моментом самопознания
развивающегося духа, тем более если ему в
самом раннем возрасте было авторитетно
заявлено о его избранном положении в мире.
В этот момент духу всегда хочется видеть
виновников перед собой, чтобы те (виноватые
по определению) и отвечали за все
возникающие «дурные» последствия. Следует заметить,
что дух народа может быть лишь в том случае
нетленным и по идее, т. е. по своему
основанию не подверженным «порче» (тем более —
извне!), если в нем выражает самое себя
вселенская идея. Задача трансцендентальной
философии истории как раз и определяется
потребностью самопознания идеи, а эта
потребность является, в свою очередь, главным
виновником тех испытаний, которые
выпадают на долю того или иного народа. Те
испытания, которым подвергался дух русского
народа, составили, разумеется, его особый
исторический путь. Однако дело отнюдь не в том,
чтобы подобно славянофилам отстаивать точ-
251
ку зрения особенности своего народа или,
уподобляясь западникам, «растворять» эту
особенность в абстрактной всеобщности
«безличного бытия», по выражению П. Я.
Чаадаева. Суть дела в том, чтобы знать: является ли
наш путь путем истины, путем Христа или
нет?
Поскольку Русская Православная церковь,
несмотря на реформы, породившие
религиозный раскол, твердо останавливается на
позиции преемницы Византии и в положении
противостояния западным формам
христианства, постольку русская идея продолжает
развиваться прежде всего в политической
форме. Эта светская форма как особенная,
наличная форма деятельности духа народа не
существует в готовом виде вне и наряду с его
субстанциальным бытием, а творчески
«прорывается» из недр Святой Руси как антитеза
ее самодостаточному, замкнутому в себе
началу — непосредственному единству сознания и
самосознания, языка и веры. «Латинизация»
Руси не породила внутренние изменения духа
народа, но, несомненно, ускорила процесс
собственной секуляризации (а точнее,
формализации его жизни) — процесс развития в
ней и из нее самой рациональной формы
суждения.
Таким образом, вместе с религиозным
расколом в России произошло более глубокое
изменение — выделение формы конечного са-
252
мосознания из соборного единства веры и
языка сразу в двух лицах — в лице главы
церкви и главы государства, каждое из
которых претендовало на роль безусловной
(самодержавной), господствующей в условиях
земной жизни воли. «Богоизбранная сия и бого-
мудрая двоица!», «два великих дара» — уже
такое толкование получает «симфония
властей» в изданном в 1655 году Служебнике по
благословению «великого государя,
святейшего Никона, патриарха Московского и всея
Руси». Именно искоренение самостоятельного
начала в жизни Церкви через упразднение
патриаршего престола было непосредственной
целью составленного сподвижником Петра,
Феофаном Прокоповичем, «Регламента».
Русский государственный ум задолго до кантов-
ского определения религии как сущей только
в пределах разума практически определяет ее
местоположение. «Когда увидит народ, —
говорится в «Регламенте», — что церковное
управление монаршим указом и сенатским
приговором установлено есть, то и паче
пребудет в кротости своей, и весьма отложит
надежду иметь помощь к бунтам своим от чина
духовного».
Символ эпохи соборности — двуглавый
орел — проявил себя в самой жизни русского
духа в конце рассматриваемой нами эпохи
настолько ярко и настолько буквально, что,
возможно, именно это и продлило его существо-
253
вание в новой формации. Известно, что
первый удар петровская эпоха нанесла по
русско-православной знаковой системе,
сохранив, однако, главный символ предшествующей
эпохи. Это произошло потому, что
абсолютизм в России был не просто светским
принципом государственной власти, но воплощал в
своем единстве одновременно как светское,
так и духовно-церковное начало, поскольку
последнее было снято рациональной формой
государства. Как будет показано в следующем
параграфе, он был особым типом
государственности, основанным на особой форме
христианства.
6. Абсолютизм как отрицательное
в себе единство русской идеи
Нельзя понять возникновения любого
государства только на основе эмпирических
исторических исследований, поскольку сам
предмет (целое) не имеет по сути своей ничего
общего с чувственно-воспринимаемыми
предметами. Последние в лучшем случае могут
быть только знаками сущего. Именно поэтому
необходим философский анализ, чтобы дать
этим знакам должные, т. е. соответствующие
их объективному смыслу, определения. «Если
мы видим, — пишет Б. Н. Чичерин, — что
отношения удельных князей к великому опреде-
254
ляются договорами, то мы уже из этого
обстоятельства вправе заключить, что великий
князь не государь, а удельные князья не
подданные. Это свободные лица, соединенные
довольно шаткою родственной связью и
вступающие в добровольные взаимные
обязательства». Строго говоря, Московская Русь как
государственное образование является только
переходным этапом к действительной
государственности, «где подданный подчиняется
верховной власти не на основании договора... а
на основании постоянных государственных
законов», — заключает он.
Возникает вопрос: как происходит этот
переход к государственности? Какова логика
этого перехода? Ответ на этот вопрос (или
вопросы) позволит нам прояснить более
глубокий уровень движения духа и раскрыть
проблему смены формы тотальности русской
идеи.
Принцип primus inter pares (первый среди
равных) в годы царствования Ивана IV был
доведен до крайнего предела и тем самым
логически исчерпан. Быть первым среди равных
или себе подобных — совсем не значит быть
первым как таковым, т. е. бесподобным, или
определяющим все и вся самодержцем.
«Потомки старой русской династии,
„княжата" — объясняет ситуацию, складывающуюся
во времена правления Ивана IV, историк
С Ф. Платонов, — превратившись в служи-
255
лых бояр своего сородича московского царя,
требовали себе участия во власти, а царь
мнил их за простых подданных, которых у
него „не одно сто", и потому отрицал все их
притязания». Это отношение, на наш взгляд,
показывает, как институт великих и удельных
князей, основанный на «частном праве»
(Б. Н. Чичерин), вместе с династией
Рюриковичей сходит с исторической сцены, уступая
место новой «благородной фамилии»
(П. Я. Чаадаев) и новому государственному
принципу — абсолютизму. Принцип
абсолютизма выражает собой новую логически
необходимую форму связи (единую, но уже не
соборную и тем более не «договорную»),
которая не допускает существование каких-либо
иных форм наряду с собой. Поэтому не
случайно, что в империи Петра Великого церковь
определяется до некоей духовной коллегии —
становится особым министерством по
нравственному попечению граждан.
Исследуя эмпирический материал самой
отечественной истории, можно вкратце
проследить, как подготавливался переход к
принципиально новой форме бытия русской идеи,
хотя, следует заметить, что сам переход как
смену формы развития исследуемого предмета
в историческом опыте обнаружить будет,
конечно, невозможно. «Историку, — замечает
известный историк А. А. Зимин, — легче
рассказать о том, как все происходило, чем по-
256
нять, почему так произошло. Это тем более
сложно, когда размышляешь о переходных
эпохах, когда победившие правители
„переписывали историю" изображая Ричарда III или
Дмитрия Шемяку воплощением зла, а
Генриха VII или Василия II и их наследников
ангелами во плоти». Примечательно, что А. А.
Зимин как глубоко мыслящий историк сам и
подчеркивает значение исторического
исследования как необходимую предпосылку к
тому, «чтобы задуматься о причинах
происшедшего становления единого Русского
государства».
Процесс превращения московского
удельного князя в государя всея Руси или
становление Московского централизованного
государства можно видеть, во-первых, по
изменению формы завещания (эта работа была
блестяще проделана Б. Н. Чичериным в его
научном исследовании «Духовные и
договорные грамоты великих и удельных князей»).
К примеру, Дмитрий Донской завещает
старшему сыну только треть всего имущества,
Василий II Темный — половину, а Иван III
практически уже все оставляет Василию
(старшему сыну), обделяя младших не только в
хозяйственном смысле, но и в политическом:
последние уже не обладают державным
правом, становятся только служебными
князьями. Во-вторых, происходят ограничения и
упразднения всякого рода «вольностей», начи-
17 Зак. 3426
257
ная от «удельно-вечевого уклада» (Н. И.
Костомаров) и заканчивая борьбой с
«отступничеством от православия» ряда русских земель.
Вспомним, что поводом похода на Новгород
был переход боярской «партии» во главе с
семьей Борецких под покровительство
литовского князя. Согласно летописи,
сравнивающей поход «князя велики» с походом Дмитрия
Донского на Мамая, Москва шла на Новгород
«не яко на христиан, но яко на иноязычник и
на отступник православья». Таким образом,
борьбе за объединение русских земель была
придана идейная форма борьбы за чистоту
веры. После победы над Новгородом
митрополит Филипп торжественно встретил великого
князя, с этим событием было связано решение
о строительстве Успенского собора в
Московском кремле. В-третьих, вместе со
становлением самодержавия, как уже отмечалось,
происходит централизация культов: на смену
местным культовым центрам Новгорода, Твери,
Ярославля, Пскова, Ростова и других городов
пришел единый общегосударственный
пантеон русских святых. Процесс «вживления»
местных, а зачастую сепаратистских культов в
единое национальное тело Руси был,
разумеется, не безболезненным процессом. Москва
выступала как преемница Киевской Руси и
Владимиро-Суздальской земли, поэтому в
состав общегосударственного русского пантеона
вошли культы Ольги и Владимира, Бориса и
258
Глеба, Феодосия и Антония Печерских, с
одной стороны, а также культы Леонтия, Исайи,
Игнатия и Авраамия — с другой. Однако
кроме упомянутых подвижников, Москва была
представлена именами, значение которых к
XV—XVI векам четко определилось как
имеющее отношение не только к Московскому
пантеону, но и как общенациональное. Речь
идет, прежде всего, о митрополитах «всея
Руси» Петре и Алексее, а также о Сергии
Радонежском.
Итак, к началу XVI в. русские земли были
объединены московской великокняжеской
властью в одно государство. В 1463 году
прекратило существование Ярославское
княжество, в 1474 году — Ростовское, в 1478 году
была упразднена Новгородская республика.
В 1485 году присоединена Тверь, в 1503 году в
состав Русского государства вошли земли по
течению Десны, принадлежавшие ранее
Литве. В 1510 году Москве был подчинен Псков,
в 1514 году — Смоленск, в 1520 году —
Рязань.
Только Москва, как столица всей Руси,
имела отныне право проводить
самостоятельную политику внутри страны и вне ее
пределов. Независимость страны и ее финансовое
укрепление опирается на введенную еще
монголами систему налогообложения. В период
правления Ивана III устанавливаются связи с
Западом (чему не в малой степени способство-
259
вал его брак с Софьей Палеолог),
расширяется практика пожалования служилым
(государственным) людям поместий. В отличие от
вотчины эти земли оставались государственной
собственностью и давались во временное
пользование на период службы, в основном
военной. Согласно принятому Судебнику
(1497) крестьяне практически становились
крепостными, имея право смены помещика
только один раз в году при условии уплаты
своеобразной компенсации землевладельцу —
«пожилого». Совершенствуется центральное
управление, когда общегосударственными
вопросами ведает «казна», а новыми землями —
«дворцы», создается институт наместников —
поставленных на места (уезды) правителей и
пр. Иван III именует уже себя Великим
князем всея Руси. При Василии III было
упразднено вече в Пскове и, таким образом,
происходит окончательное подчинение уделов
единому центру, устанавливается и оформляется
система служебных отношений боярских
фамилий — местничество. Принцип
соответствия места степени родовитости (благородства)
отцов был своеобразным шагом «вперед»,
поскольку именно он и становится главным
препятствием на пути воплощения принципа
единодержавия, так как наиболее «родовитые»
князья и бояре отстаивали себе особое право
участия в управлении всей страной. В
шестидесятые годы XVI века, т. е. в «молодые» годы
260
царствования Ивана IV, большую роль в
управлении страной и в проведении реформ,
прежде всего, местного управления играла
боярская аристократия, так называемая
«избранная рада». Именно в это время были
взяты Казань (1552) и Астрахань (1556),
проводились важные для страны реформы. На
смену системы «кормления» пришла система
местного самоуправления, когда «выборным»
начальникам вменялась обязанность ведения
финансовых вопросов, полиции и суда. Были
созданы классы («разряды») дворян из «детей
боярских», для которых устанавливался
особый порядок государственной службы.
Разумеется, что принцип местничества должен
был прийти в противоречие с принципом
единодержавия, которое и достигает своей
критической точки в годы правления Ивана IV
Вопрос о взаимоотношении монарха и знати
был выражен царем предельно ясно: только
«языцы царствами своими не владеют: каково
им повелят работные их, так и владеют.
А Российское самодержавство изначала сами
владеют своими государствы, а не бояре и
вельможи». Опричнина, введенная Иваном
Грозным, была направлена прежде всего
против боярской оппозиции. Цель — искоренение
«измены» — достигалась как
систематическим «перебиранием людишек», т. е.
принудительным переселением, так и путем прямого
физического устранения. Однако помимо этой
261
«внешней» цели, преследовалась, согласно
историософии митрополита Иоанна, более
глубокая цель — привести Россию к такому
пониманию царской власти, как власти, только
одним Богом данной. Способом утверждения
такого понимания власти и стала опричнина,
поэтому опричники, обрядившись в
монашескую одежду, как рыцари веры искореняли
измену в Московском царстве. Процессу
осознания государева замысла и утверждения
всенародного христианского единства в вере
способствовали, несомненно, созываемые
(начиная с 1547 года) земские соборы. По мере
осмысления, прежде всего, правящим классом
России своего религиозного долга опричнина
была отменена. «Непререкаемым
свидетельством единства народа и царя, их сознательного
сослужения в деле соборного и державного
строительства православной России стало
венчание Феодора Иоанновича, состоявшееся
31 мая 1584 года после сорокадневных
заупокойных молитв об усопшем самодержце», — в
этом усматривает главный итог царствования
Иоанна IV митрополит Иоанн.
Становление Московского
централизованного государства продолжалось в годы
царствования Бориса Годунова фактически уже с
1588 года и не прервалось даже в годы смуты.
Важной вехой в этом процессе было
учреждение патриаршества: величию
государственному должно было соответствовать и величие
262
церковное. Идея, согласно которой Москва
единственно сохранила чистоту православия и
поэтому призвана заменить некогда ушедшую
в небытие Византию, как бы само собой,
постепенно подготавливала сознание русских
людей к тому, что для освящения царской
власти должна быть образована на вполне
законных основаниях независимая от
константинопольского патриарха русская церковь.
Введение патриаршества (1588) стало важнейшим
событием не только в духовной жизни Руси,
но и в плане международного признания
России (известно, что на православном востоке и
католическом западе Ивана Грозного
отказывались признавать полноправным царем,
прежде всего потому, что он получил венчание на
царство не из рук первосвященника, а от
митрополита). Таким образом, первым русским
патриархом стал Иов, происходивший из
посадских людей, а первым русским царем,
коронованным по всем общепринятым
международным правилам, стал Борис Годунов (1598),
в недолгие годы правления которого Русь
значительно расширила свои рубежи, прежде
всего благодаря ликвидации Сибирского
ханства. При нем строятся мощные крепости,
соборы, открываются типографии, завершено
строительство порта в Архангельске, впервые
отправляются дворяне на учебу за границу и
т. д. и т. п. В предельно критический момент,
наступивший после смерти Годунова, в годы
263
смуты, когда под угрозой оказалось само
существование последнего православного
царства, главную роль сыграла Русская
Православная церковь во главе с патриархом Гермоге-
ном. Как известно, призыв духовенства был
подхвачен земщиной и в начале 1611 года
стали образовываться ополчения под
предводительством Прокопия Ляпунова, затем —
Минина и Пожарского. События, связанные с
освобождением Москвы от захватчиков,
созывом Земского собора в 1613 году,
завершились избранием на царство Михаила
Романова.
Продолжение реформ местного управления
при первом Романове (Михаил Федорович
правил с 1613 по 1645 год) определялась
необходимостью устранения злоупотреблений
местной администрации, во главе которой
стояли «избранные» во время смуты воеводы,
которые, будучи без должного контроля,
зачастую чинили жестокий произвол на местах,
о чем свидетельствуют многочисленные
челобитные. Правительство, во-первых, пытается
упорядочить службу на основе прежней,
поместной системы, во-вторых, еще более
закрепляет крестьян. При Михаиле Федоровиче
происходят перемены и в общегосударственных
делах: на смену дворянским ополчениям
вводятся регулярные войска, устроенные по
западному образцу (в начале 1640-х годов), все
большее значение в центральном управлении
264
начинает играть Собор (власть Русской
земли), используются иностранные специалисты
для создания собственных заводов по
производству пушек, ядер. В годы царствования
Алексея Михайловича (1645—1676) особенно
усиливается законодательная деятельность.
На смену Судебника 1497 и 1550 годов и
массы отдельных указов принимается единое
«Уложение» законодательных норм — первый
действительный опыт государственного,
гражданского и уголовного права.
Одним из важнейших шагов на пути к
созданию государственного устройства России
при Федоре Алексеевиче была отмена
местничества решением земского собора 1682
года. Это позволило центральной власти не
только «расшатать» систему феодальной
иерархии, но и существенно ограничить
политическую роль церкви, освящающую
привилегии «отцов» — князей и бояр. Теперь и
недостаточно родовитые, но способные «сыны»
могли занять «добрые» места на военной и
государственной службе.
С точки зрения трансцендентальной
философии истории абсолютизм как безусловный
принцип государственности не является
следствием только эволюционного развития духа
народа, но и не привносится извне. Он есть
результат протеста государевой воли Петра
Великого против того аморфного, соборного
единства государства, церкви и русской земли
265
в целом, которое приводило, как было
показано, не только к религиозному расколу и цер-
ковно-государственному конфликту, но и к
сугубо социальному противоречию.
Известно, что в конце правления царя
Алексея Михайловича казаки во главе со
Степаном Разиным и земщина (крестьяне, часть
горожан, инородцы) выступили в русской
истории отнюдь не столько в роли «голытьбы» с
целью «зипунов доставать», сколько в
качестве социального слоя — антагониста высших
классов, с призывом «за царя против бояр».
Так что в решительном шаге
царя-реформатора видна, прежде всего, попытка одним
ударом разрубить узел накопившихся проблем.
Здесь вновь имеет место характерный для
русского духа акт отрицания и нового
самооткровения, прерывающий процесс постепенного
становления прежних форм его жизни.
Русский дух всегда начинает заново, как бы с
совершенно чистого листа, отрицая все
написанное, пройденное другими.
Для прояснения характера перехода от
одной формы тотальности русской идеи к другой
позволим себе воспользоваться образным
представлением, заимствованным из сферы
художественного творчества. Дело в том, что
в этой сфере духовного самопознания по сути
бродит та же закваска, что и в сфере
стихийного становления русского государства. Так,
русское поэтическое слово, к примеру, чтобы
266
подчеркнуть свою безусловность, использует
прием двойного отрицания. «Нет, я не Байрон,
я другой» (Лермонтов); «Нет, я не дорожу
мятежным наслаждением» (Пушкин). Мы
увидим далее, что этот способ утверждения
путем двойного отрицания или отвержения
«сработает» и при переходе к последней
исторической форме бытия русской идеи — к
форме тоталитаризма.
Реформаторская деятельность Петра
Великого, по словам С. М. Соловьева, «вводит
Россию в возраст, когда начинает действовать
мысль», вследствие чего она решительно
избавляется от прежней, основанной на
православно-русской традиции знаковой системы
и демонстрирует новую — немецкую.
Петербург как «самый отвлеченный и самый
умышленный город», этот «иностранец своего
отечества» (выражения Ф. М. Достоевского и
Н. В. Гоголя) стал символом новой России, ее
изреченным словом, имперской столицей.
Новая Россия, Россия Петра Великого, отрицает
традицию исихазма и стремится к диалогу с
католическо-протестантским Западом, но не
ради религиозной истины (истиной она
«владеет», превратив церковь в составную часть
государства), а ради «усвоения науки и
культуры», как понимал В. С. Соловьев. При этом
наука рассматривается сугубо под углом им-
перско-практического подхода — как
универсальный способ овладения механизмом евро-
267
пейской цивилизации, одним словом, ради
извлечения практической пользы во благо всего
отечества. Принцип полезности становится
определяющим принципом государственной
политики, принципом национального
самоутверждения в «мире сем». Святая Русь
становится светской Россией. Неоспоримым
итогом деяний Петра I в сфере науки и
образования стало создание в Санкт-Петербурге
общенационального научного центра —
Академии наук, при которой затем будут созданы
университет и гимназия.
Условной точкой отсчета в этом
превращении можно считать декабрь 1699 года, когда
Петр издает указ о перемене календаря и о
непременном праздновании 1 января.
Символичным в этом указе было то, что в канун
торжества нового, восемнадцатого столетия
произошло известное «брадобритие», а также
переодевание дворянства и городского
сословия в новые, «немецкие» одежды. Отныне
только крестьянство и «рядовое» духовенство
как в своем сознании, так и во внешнем
облике продолжали жить в прежнем времени или,
точнее говоря, вне исторического времени.
Они остались в роли хранителей прежних
знаков православного благочестия, на что как на
положительный фактор русского духа
обратили внимание славянофилы и их
последователи. Москва как город святого Петра отходит
теперь на второй план, чтобы уступить место
268
явно претендующему на статус имперской
столицы мира Санкт-Петербургу, в котором
русская идея третьего Рима приобретает
вторую, наднациональную жизнь. Можно
сказать, что с момента появления новой столицы
(с 1712 года Санкт-Петербург — столица
России, с 1721 года — столица империи)
единство национального и вселенского, особенного и
всеобщего, проявившееся в образе
Московской Руси, перешло в свою
противоположность. Теперь Москва станет своеобразным
полюсом, в котором будет концентрироваться
национальное начало, а Санкт-Петербург
станет выразителем начала универсального,
формального, как бы «онемеченного». В Москве
мы имеем свое вечно прошлое и
консервативное, в Санкт-Петербурге — свое вечно
будущее, либерально-прогрессивное. Панславизм с
одной стороны и имперская идея — с другой
возникают так же необходимо, как и
сформулированный графом С. С. Уваровым трех-
составной принцип русского общежития:
«Православие, Самодержавие, Народность».
Только государственники, проповедники
имперской идеологии (от M. Н. Каткова до
евразийцев, а по мнению митрополита Иоанна —
даже до национал-большевиков) на первый
план выдвигали самодержавие, хотя и
«освобожденное» от православия, а панслависты —
Н. Я. Данилевский, Р. А. Фадеев и др. —
абсолютизировали народно-национальное нача-
269
ло. С трансцендентальной точки зрения
«скачок» от святого к светскому, от соборности
к абсолютизму, когда уже практическая
целесообразность в лице государственного
образования выступает в качестве судящего,
определяющего основания всего образа жизни и
мысли подданых, отнюдь не ограничивается
рамками узконационального события, а
является проявлением христианского способа
овладения мира. Высшая цель этой
целесообразности, как ее понимал и сформулировал
первый русский царь Иоанн Грозный, есть
установление державы Господа в мире сем.
Следует заметить, что после того, как 22
октября 1721 года Петр I получает от Сената
титул императора, далеко не все страны Запада
положительно воспринимают это событие. К
примеру, Англия и Австрия стали его
признавать значительно позже, с 1742 года, а
Франция — с 1745 года. По представлению
католического Запада этот титул имеет право носить
только одно лицо, император Священной
Римской империи, для которого городом Святого
Петра мог быть только один град — Рим.
Однако весь казус в том, что выступивший
безусловный принцип государственности,
олицетворением которого стал Санкт-Петербург,
не на словах, а на деле оторвался от своей
почвы исторического опыта, от исконной
православной традиции «добрых дел», носителем
которой является народ или община. Все по-
270
лучилось в духе «протестантской»,
трансцендентальной логики, для которой, по словам
Фихте, «основание, согласно самому понятию
об основании, находится вне обоснованного».
Дело в том, что метод трансцендентального
идеализма является имманентным предмету,
т. е. полагающему себя духу как таковому,
методом, а такой предмет, как «русский дух», не
является каким-либо исключением, наоборот,
благодаря своему вселенскому призванию он
только и становится умопостигаемым.
«Государство, — объясняет принципиально иную
ситуацию, сложившуюся после Петра I в
истории Руси Г Флоровский, — утверждает себя
самое как единственно безусловный и
всеобъемлющий источник всех полномочий и
всякого законодательства, и всякой деятельности и
творчества... У церкви не остается и не
оставляется самостоятельного и независимого
круга дел, — ибо государство все дела считает
своими». Теперь сенат как «высшее судилище
даёт указы во все государство», контролируя
и определяя всякое содержание.
«В сущности, все было принесено в жертву
государству», — считает и Данилевский, хотя
тут же и подчеркивает: «...как оно и
необходимо было по потребностям времени...
преобразование, утвердив политическое могущество
России, спасло главное условие народной
жизни — политическую самостоятельность
государства».
271
Следует заметить, что из всех
христианских стран только в православной империи
был возможен действительный абсолютизм.
На Западе «сам факт церковно-государствен-
ного дуализма, — разъясняет Г П. Федотов в
статье «Рождение свободы», — ограничивал
власть государства, создавал сферу личной
свободы». Существовать же в условиях
действительного абсолютизма как определенной
формы тотальности — значит быть формально
определенным (иметь ранг или чин) и в силу
такого положения вещей объективно служить
государственному «левиафану» как высшей
инстанции. Это же касается и совести:
всеобщий суд государства (формы форм) не
допускает какой-либо самодеятельности даже в
отношении души к Богу, мысли к истине (не
случайно, что народное самосознание видело
свое утешение в Богородице или в святых-
угодниках).
Отцовскую мысль, что «без чина же всякая
вещь не утвердится и не укрепится», Петр I
усиливает своей деятельной энергией,
реально подчиняя Русь как самобытную «вещь»
исторической необходимости или логосу
истории. Более того, он и самого себя как этого
индивида воспринимает только в качестве
определенного, преходящего момента
необходимой, всемирно-исторической цепи. Для
Петра I государство Российское есть
конкретно-историческая форма всеобщей необходи-
272
мости. Чтобы эта «цепь» не оборвалась,
абсолютно все должны быть готовы к
самопожертвованию. Так, в обращении к войскам перед
Полтавской битвой 27 июня 1709 года, когда
судьба отечества, можно сказать, находилась
в руках тех, кто был вместе с царем на поле
брани, Петр призывает: «Не должны вы
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за
государство, Петру врученное». «Со времени
Петра, — замечает Н. Я. Данилевский, —
весь народ был запряжен в государственное
тягло: дворянство непосредственно, а
прочие сословия посредственно: купечество по
фискальному характеру, приданному
промышленности, крестьянство же закрепощением
его государству или дворянству». Сложность
проблемы, как мне представляется, как раз
и заключается в рассмотрении того
единства русского духа, подмеченного автором
«России и Европы», в котором он
одновременно находится как в непосредственной,
так и в опосредованной к самому себе форме
бытия.
Русская идея, по сути дела, получает
второе дыхание в новой форме — в форме
всевластия «одушевленного» государства-закона, по
отношению к которому все граждане
находятся в совершенно новом порядке подчинения.
Те же, кто не имеет определенного чина,
объективно находятся вне отношения.
Славянофилы, исследуя отечественную историю, спра-
18 3ак. .1426
273
ведливо обратили внимание именно на
нарушение первым российским императором
равновесия исторических сил, поскольку весь
государственный, «служилый» слой настолько
отделился от народа, что, по словам К. С.
Аксакова, «образовалось иго государства над
землей». «Именно с Петра, — справедливо
замечает Г Флоровский, — начинается великий
и подлинный русский раскол». Вот почему
абсолютизм, как мне представляется, следует
понимать как отрицательное в себе единство
русской идеи.
Резюмируя, можно сказать, что сама
историческая необходимость на данном ее этапе
не может быть иной, поскольку в ней
осуществляется (развертывается) рассудочная
форма единого разума (логоса), пришедшая в
полное противоречие с самой собой. Закон
(всеобщее) оказался вне народа, а народ или
земля-община (общее) — вне закона.
Первичное (общее начало) стало вторичным,
определяемым и действительно подданным (под
Данным) элементом по отношению к своему и в
то же время отчужденному от него
всеобщему, определяющему основанию. Закон,
превратив крестьян в экономические категории
или абстрактные «ревизские души»,
облагаемые податью, фактически игнорирует их
христианскую причастность логосу. Уравняв их с
холопами («задворными людьми»), он
поставил крестьян (христиан) в личную зависи-
274
мость от помещика. Подобно тому как в
духовной жизни крестьянин находился в
отношении к Христу через посредство церкви и
«своего» священника, так теперь в светской
жизни он относится к антихристову по его
представлениям государству через «своего»
землевладельца. На самом деле, реальная
практика была предельно циничной: теперь
крестьян можно было покупать и продавать
даже в розницу и без земли, разрывая
нравственные (общинные и семейные) узы. Разрыв
крестьянского сословия с централизованным
государственным «существом» усиливается
вместе с гонениями раскольников, души
которых оценивались «одушевленным законом»
значительно выше, но только в одном
отношении: староверы обязаны были платить
двойную подать. Утилитарно-прагматическая
мораль абсолютистского государства поставила
себя выше «домостроевских» представлений о
добре и зле. Можно даже сказать, что отныне
она находится по ту сторону этих
представлений, требуя в то же время материально
выраженного «поклонения». Эта мораль сама,
задолго до рождения Льва Николаевича
Толстого, породила свое отрицание —
толстовство. Русь православная как бы
законсервировалась в своем прежнем облике
патриархально-православного коммунизма, чтобы
однажды (в момент второго пришествия
Христа) сбросить с себя коррозию петровско-им-
275
лераторского времени, а вместе с ним второе
иго — иго «антихристова» Запада. Помимо
морально-религиозной стороны дела,
государственные тяготы («рубли да полтины»)
вынуждали крестьян совершать отчаянные
поступки — буквально отрываться от своей почвы и
уходить в казаки или за пределы России.
Поэтому в глазах народа новая эпоха
абсолютизма в целом была окрашена в самые мрачные
тона. «Итогом всему, — размышляет
митрополит Иоанн, — явился процесс расщепления
единого соборного тела народа на две
неравные части, каждая из которых... начинала
жить собственной замкнутой жизнью».
В условиях фактического раздвоения
русского общества и понятие «подданный»
следует рассматривать двояко. Во-первых,
подданным является всякий представитель общества,
находящийся в системе государственной
иерархии (лестница служебных должностей
была выражена в знаменитой «Табели о
рангах» 1722 года); во-вторых, подданным
является «подданный» подданного. Напомним, что
при Петре I правом владеть и распоряжаться
по своему произволу крепостными людьми
стали обладать не только дворяне, но и
заводчики с фабрикантами; благодаря этому праву
городскому сословию были созданы заметные
привилегии. Крепостной же на деле не
обладал никакой самостоятельностью и
фактически рассматривался всего лишь в качестве ре-
276
сурса-вещи. Однако как в первом, так и во
втором случае воля подданного в условиях
абсолютизма не свободна по определению; ее
разумность и совестливость не являются
необходимыми и допускаются только по милости
государевой, в определенных этой милостью
пределах. Именно это обстоятельство, по
В. С. Соловьеву, продолжало сковывать дух
народа даже после великой «милости»
Александра II. «Тело России свободно, — пишет
автор «Русской идеи», — но национальный
дух все еще ждет своего 19-го февраля».
Можно показать, как в условиях русского
абсолютизма происходило «дарование» вольностей
определенным слоям общества, хотя проблема
свободы национального духа от таких «добрых
дел» не приближалась к своему разрешению.
7. Проблема свободы
национального духа
При Петре I родовитость как основание для
продвижения по лестнице служебных чинов
уступает новому принципу — личной
выслуге, что способствовало превращению дворян в
государственных служащих (речь идет о
бессрочной службе, независимо от различия на
гражданскую и военную службу).
Представители городского сословия («регулярные»
граждане: банкиры, купцы, доктора, а также тор-
277
говцы и ремесленники, объединенные в цехи)
были избавлены от рекрутской повинности,
получили право владеть крепостными людьми,
если были фабрикантами, а так же право
самоуправления. При императрицах Анне и
Елизавете дворяне облегчили свою
государственную службу и даже достигли сословных
привилегий (указами 1746, 1754 и 1758 годов
только дворяне могли иметь крепостных
крестьян и «недвижимые имения»). При Петре III
дворяне получают право «продолжать службу
по своей воле, сколько и где пожелают».
(В феврале 1762 года был издан манифест
«О даровании вольности и свободы всему
российскому дворянству».) Наконец, при
Екатерине II дворянство стало целым, социально
организованным сословием, которое само через
своих представителей управляло не только на
местах (уездах и губерниях), но и занимало
ключевые места в высших государственных
учреждениях. Согласно положениям
«Жалованной грамоты дворянству» 1785 года
дворянин получает исключительные права в плане
личной свободы, к примеру, он становится
свободен от податей и телесных наказаний
(наказания — только по суду), право на
участие в выборах на дворянские должности
и пр.
Однако все вышеперечисленные «права» в
условиях православного абсолютизма носили
только условный характер, о чем неоспоримо
278
свидетельствовали два факта: неограниченная
власть монарха и крепостное право. «В России
велик только тот, с кем я говорю, и только
пока я с ним говорю» — такая откровенность
Павла I при самодержавии не являлась чем-то
невозможным и недопустимым. Что касается
второго факта, то самые искренние намерения
искоренить это зло, исходящие как со
стороны власть предержащих, так и со стороны
русских просветителей, не в состоянии были
разрешить этот «затянувшийся» вопрос без
подрыва самого принципа абсолютизма.
Известно, что автору сочинения «О крепостном
состоянии в России» А. Я. Поленову, который
отстаивал «естественное» право русского
крестьянина «пользоваться правами
человечества», Вольное экономическое общество в
1776 году вручило даже вторую премию, но
опубликовано это произведение было только
спустя сто лет в журнале «Русский архив»
внуком просветителя. Заметим, что вторая
половина XVIII века было временем широкого
развития вольномыслия среди крестьян в
форме сектантства, которое во многом совпадало
по содержанию со старообрядчеством,
особенно беспоповцами. Неудивительно, что
последние оказались в числе активных сторонников
Емельяна Пугачева во время крестьянской
войны 1773—1775 гг.
Следует отдать должное Павлу I в том
отношении, что им первым сделан шаг в плане
279
ограничения власти дворян-помещиков над
своими «подданными»: законом 1797 года
были установлены пределы крестьянского
труда (только три дня барщины в неделю) и
запрещена практика продажи крестьян без
земли. Продолжая эту тенденцию, император
Александр I в 1803 году издает закон о
вольных хлебопашцах, а Николай I утверждает
закон об обязанных крестьянах, согласно
которому крестьяне могли фактически получить
личную свободу от помещика, но оставались
«обязанными» нести повинность, работая на
землях, принадлежащих только этому
помещику.
Даже сам факт отмены крепостного права в
1861 году не стал фактом освобождения
русского духа, поскольку право не выражается
только в писаных законах, но, прежде всего, в
«неписаном» сознании свободы. Основная
масса крестьянского населения не
удовлетворена была решением земельного вопроса, ее
ненависть к привилегированному сословию
оставалась заряженной миной для грядущего
социального взрыва. Согласно Б. Н.
Чичерину, русское дворянство, несмотря на все его
исторически обусловленные «минусы»,
являлось «единственным сословием в России,
которое имеет какое-нибудь сознание своих
прав», поэтому необходимо, в целях
дальнейшего развития реформ, государству опираться
на него как на единственное «политическое
280
сословие». «Если мы не хотим идти путем
демократического цезаризма, — ставит условие
мыслитель, — нам остается только примкнуть
к знамени конституционной монархии». Весь
вопрос в том, а была ли в православной
России действительная возможность для такого
пути? Каким образом может быть
преобразован принцип абсолютизма «сверху» так, чтобы
монархия оставалась быть православной, а
православие — монархическим? Забегая
вперед, заметим, что впервые невозможность
мирного реформирования русского
абсолютизма (даже после октябрьского манифеста
1905 г.), не затрагивающего форму
христианского вероисповедания, определил Д. С.
Мережковский.
Поскольку мы вновь вплотную подошли к
проблеме отношения религии и государства,
постольку здесь следует подробнее
остановиться на ней. Во-первых, потому, что ее
серьезнейшим образом разрабатывали философы,
начиная, пожалуй, с Августина Блаженного,
как важнейшую предпосылку для понимания
всемирной истории, и, во-вторых, в целях
выяснения вопроса об историческом значении
особого типа русского государства,
построенного на принципах православного
христианства. Заслугой немецкой классической
философии, особенно Гегеля, было выдвижение и
обоснование тезиса, что государство как идея
имеет своим источником только один источ-
281
ник — религию. «Поэтому природа
государства и его конституции таковы же, —
резюмирует Гегель, — как и природа религии;
государство действительно произошло из религии, и
притом так, что афинское или римское
государство было возможно лишь при
специфической форме языческой религии этих народов,
так же как католическому государству
свойственны иной дух и иная конституция, чем
протестантскому». Хотя автором «Лекций по
философии истории» и не рассматривалось
происхождение православного государства (что
касается «славянской нации» вообще, то, по
Гегелю, «она до сих пор не выступала как
самостоятельный момент в ряду обнаружений
разума в мире»), для нас важной является
трактуемая им сама идея философии истории,
что мировой разум развивается в форме
религии, определения которой становятся
определениями и государства. Гегель справедливо
считает совершенной нелепостью (Torheit),
встречающейся, заметим, не только в его
времена, но и по сей день, стремление
«государственных» деятелей вводить конституции,
лишенные национально-религиозного корня.
Поэтому вопреки отрицанию С. Н. Булгаковым
имманентной связи между религией и
государством, православием и самодержавием и
вопреки гегелевскому взгляду на «славянскую
нацию» как неисторическую по способу
организации государственной жизни, постараемся
282
все-таки увидеть в самой русской истории
формирование особого типа
государственности, основанного на особой форме
христианства.
Справедливости ради следует показать и
иной взгляд Гегеля на «славянскую нацию»,
особенно обратить внимание на его видение
России как государства, цель которого еще
только начинает проявляться во всемирной
истории. «Россия же, — пишет Гегель в
письме, адресованному Борису фон Икскюлю, —
уже теперь, может быть, сильнейшая держава
среди всех прочих, в лоне своем скрывает
небывалые возможности развития своей
интенсивной природы».
8. Православный принцип
империи двуглавого орла
«Империя двуглавого орла» (В. С.
Соловьев) воплощала в себе православный,
первоначально принятый на соборах в Никее и
Константинополе принцип «исхождения Св. Духа
только от Отца» и, можно сказать строже, она
являлась воплощением этого мистического
начала, его объективацией, без внутреннего
ограничения в сторону Сына (народа). Именно
это обстоятельство сдерживало
самодержцев-реформаторов, начиная с Екатерины II,
сделать ожидаемый либералами шаг от абсо-
283
лютизма к конституционно-правовому строю.
У них, как помазанников Божиих, не было на
этот шаг санкции «свыше». Так что петров-
ско-императорская Россия была только по
видимости светским государством. «Богоут-
вержденной формой существования
православного народа, — раскрывает суть вопроса
митрополит Иоанн, — является
самодержавие. Царь — Помазанник Божий. Он не
ограничен в своей самодержавной власти ничем,
кроме выполнения обязанностей общего всем
служения. Евангелие есть „конституция"
самодержавия. Православный царь —
олицетворение богоизбранности и богоносности всего
народа, его молитвенный председатель и
ангел-хранитель».
«В силу своего исторического призвания,
как воспитатель, совершивший свое дело,
самодержавие само ведет народ к
самоуправлению» — таков, к примеру, способ разрешения
конституционного вопроса в России согласно
представлениям Б. Н. Чичерина. Однако
русское самодержавие, поскольку оно
неотделимо от понятия православного, признает
истинным правом не право личности как таковой, а
только право одного лица — «Отца
Отечества» — как не имеющего никакого отношения
к действующим, позитивным правовым
нормам. Этот титул, принятый Петром I в
1721 году вместе с титулом императора,
символизировал фактически всю полноту свет-
284
ской и духовной власти в лице монарха,
подобно тому, как только Богу Отцу присуще
исключительное «право» — быть безусловной
причиной всего сущего.
Одним из тех немногих русских
мыслителей, которые поняли «истинный смысл
царизма», был Д. С. Мережковский, осознавший,
что «самодержавие и православие были двумя
частями религиозного целого», что между
ними есть невидимая, но мистическая связь,
познание которой лежит за пределами
внешней формы. Таким образом, для понимания
особенности православного типа государства
следует вникнуть в само Православие, в его
сердцевину — в учение о Святой Троице.
Согласно «Точному изложению
Православной веры» Иоанна Домаскина, «рождение
Сына от Отца и исхождение Святого Духа
происходят одновременно», сам же Бог
Отец — «безвиновен... так как бытие имеет от
Самого Себя». Единство всего сущего в
православном вероучении признается не в самом
сущем, а в абсолютно-запредельном бытии
Бога Отца, которое, согласно логике
греческих и русских богословов-исихастов, даже
нельзя отнести к понятию сущего. «Согласно
их учению, — объясняет этот вопрос
А. Ф. Замалеев, — если Бог есть естество, то
все другое не есть естество, и наоборот, если
все сущее есть естество, то Бог не естество.
И Бог не есть сущее, если все другое сущее.
285
А если он сущее, то все другое не есть сущее.
Следовательно, сущность Бога никак не
выражается в знании тварного бытия, и человеку
остается только верить в его бесконечное
благо». Известно, что VII Вселенский собор, на
определения которого ссылается
православное богословие и каноническое право,
однозначно запретил изображение Бога Отца в
образе человека, «именно потому, что Отец не
воплощался».
Исходя из сказанного, нельзя согласиться с
В. С. Соловьевым в том, что «в лице Петра
Великого Россия решительно обличила и
отвергла византийское искажение христианской
идеи», скорее, наоборот, в деле
государственного строительства все вышло в соответствии
с православно-византийским пониманием
христианства. Обожествление первых лиц
государства в России, выразившееся в
соответствующих наименованиях — «Отец Отечества»,
«Великий» (Петр I), «Благословенный»
(Александр I), «Освободитель» (Александр II),
«Миротворец» (Александр III), — только
подчеркивало «очевидную ориентацию» на отцов
церкви: цари уравниваются в духовном плане
с Иоанном Златоустом, Василием Великим,
Григорием Богословом.
Если Бог существует сам по себе,
абсолютно вне духа своего народа, то и народ ничего
не потеряет, если откажется от такого
«безвиновного» Бога. Русской душе недостаточно
286
простого церковного смирения и вознесения
молитв неведомому Богу, она хочет, и в этом
состоит ее непреоборимая страсть, чтобы Он
дал отчет о страданиях невинных душ, «отверг
себя» как противостоящее всеобщее. То же
самое имеется в виду и в отношении
государства и подданных. Для русского анархизма
разрыв народа с внешним по отношению к
нему государством есть безусловное благо и
ближайшая задача революционеров эпохи
«царя-освободителя». Так это видит, к примеру,
П. А. Кропоткин: «пойти в народ», чтобы
«распространять идеи свободы и революции».
Противоположная анархизму точка зрения, хотя и
не выражавшая официальный взгляд на
рассматриваемый предмет, развивается
российскими либералами. «Правительство,
разобщенное с землей, бессильно. Земля,
разобщенная с правительством, бесплодна. От
прочной связи зависит вся будущность
Русского государства». Нет сомнения, что эти
положения Б. Н. Чичерина выражают его самые
искренние намерения теоретически
обосновать проект «нового царствования», но они
имеют, как мне представляется, несмотря на
всю свою лаконичность и афористичность,
предельно общий вид. В этой мысли
отражена, на мой взгляд, не только
социально-политическая позиция русского либерализма, но
ясно и отчетливо выражен рассудочный
способ мышления, совершенно абстрагирующий-
287
ся от специфической формы христианской
религии, воплощенной в
конкретно-исторической, государственной жизни русского
народа. В качестве связующего звена между
отмеченными полюсами, по Б. Н. Чичерину,
должно выступить преобразованное в
«политическое сословие» дворянство.
«Земля» не бесплодна постольку,
поскольку она вместе со своим «народом-богоносцем»
(Ф. М. Достоевский), олицетворяет собой
имманентного Бога и имманентное, присущее
только ей, царство Божие, которое
проповедовал Иисус Христос и его русский апостол —
Л. Н. Толстой. Для последнего Христос есть
сама жизнь истины и «единый свет, горящий в
душе» человека. «Свет, зажженный в душе
человека, есть благо и жизнь, и свет этот не
может быть тьмою, потому что есть, истинно
есть для человека только этот единый свет,
горящий в душе его». Л. Н. Толстой, выступая
против «Православно-догматического
богословия» митрополита Макария (1816—1882),
фактически проводит границу между
официальным, государственным православием,
которое берет свое начало с никоновских реформ,
и вечно живым (следовательно,
развивающимся) вероучением Христа, которое живет в
сознании простого русского человека. «Спросите
у мужика, у бабы, что есть Троица? Из десяти
едва ли ответит один. И нельзя сказать, чтобы
это происходило от невежества. А спросите: в
288
чем учение Христа? Всякий ответит».
Народный христоцентризм был той «почвой»,
которая воплощала в себе как религиозную, так
и социальную правду-справедливость, поэтому
в России и возникает такое, характерное
только для русской интеллигенции, явление, как
народничество. Вера в народ, который
содержит в себе истинное начало, становится
смыслом всей жизни и деятельности
революционеров-народников. Эта народная вера не
признавала положенные «Отцом Отечества»
различия между сословиями и рангами,
вызывала отвращение к жестокосердию богатых и
к неправде их власти, была главным мотивом
их борьбы за социальную справедливость.
«И отцом себе не называйте никого на земле,
ибо один у вас Отец, Который на небесах»
(Мф 23:9).
Заметим, что в отличие от представлений
Б. Н. Чичерина, размышления известного
историка и правоведа К. Д. Кавелина по вопросу
о роли дворянства в эпоху «нового
летосчисления» не оставляли каких-либо надежд на
преобразование его (дворянства), к примеру, в
«политическое сословие». Буквально сразу
после появления Манифеста 1861 года К. Д.
Кавелин замечает по поводу дворянства, что
«ему не выдержать нового порядка дел, новых
условий хозяйственного быта... Большинство
дворянства вынуждено будет поневоле
продать свои имения и, расплатившись с долгами,
19 Зак. 3426
289
остаться ни при чем». Предсказания историка
оказались предельно точными, поскольку
освобождение крестьян привело к таким
социально-экономическим переменам, на которые
вовсе и не рассчитывали реформаторы.
Большинство дворян быстро разорялось, их
имения переходили в собственность мещан,
купцов и промышленников. Родовитость стала
стремительно терять свойственную прежней
России значимость. Новая мораль — мораль
отрицания всего и вся, ставшая
определяющей для нового поколения, не хотела уже
признавать ничего, что не являлось бы очевидным
и полезным результатом самой деятельности.
«Что можно разбить, — утверждал Д.
Писарев, — то и нужно разбивать; что выдержит
удар, то годится». Активизация
экономической, политической и научной жизни,
пришедшая на смену относительно размеренной
жизни общества, порождала новые потребности и
новые противоречия. Радикальные
революционные идеи, проникая в Россию и облекаясь в
морально-религиозную форму, стимулировали
мысль о необходимости завершения реформ в
целях ликвидации социальной
несправедливости. Для этого необходимо сбросить всякие
формы заблуждения путем просвещения и
«раскачать» все еще дремлющий народ.
Если постараться охватить одним взглядом
отечественную историю с 1870 по 1917 год, то
станет понятным, что народническое движе-
290
ние было реальным, практическим ответом на
вопросы, поднятые в споре между
толстовским «правовым, государственным и
патриотическим нигилизмом*, по характеристике
И. А. Ильина, и государственным («силовым»)
православием. В новых условиях, после
событий 1917 года, Иван Ильин продолжает этот
спор в своем фундаментальном исследовании
«О сопротивлении злу насилием», вышедшем
в эмиграции в 1925 году. Эта книга сразу
вызвала острую полемику. В числе противников
И. А. Ильина оказались 3. Н. Гиппиус,
М. Горький, Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун,
В. В. Зеньковский, а его взгляды разделяли
П. Б. Струве, И. С. Шмелев, Н. О. Лосский,
Н. С. Арсеньев и др.
В этой полемике, на мой взгляд, важным
моментом является постепенное осознание
русской интеллигенцией того, что толстовское
«непротивление злу насилием» сыграло в
русской истории не меньшую роль, чем, к
примеру, социально-политическое учение К.
Маркса. Именно оно выразило внутреннее,
мистическое противоречие русского духа —
противоречие между законом православной
монархии, с одной стороны, и совестью
простого народа — с другой. Вера народа
полностью совпала с миросозерцанием графа Льва
Николаевича Толстого, прежде всего, в том,
что истина Христа — одна, и она — на
стороне простых людей, страдающих от безмерной
291
диктатуры закона православного
самодержавия как морально, так и физически. За
ненасильственной формой протеста скрывалась
мощная сила правды, осуждающей лежащий
во зле мир: «Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры» (Мф 23:23). Религиозный раскол
XVII века, казалось затронувший только
внешнюю, обрядовую сторону жизни русского
духа, только во второй половине XIX века
проявился как раскол самой христианской идеи в
православной форме ее развития. Сама жизнь
требовала теперь пересмотра или нового
постижения ранее принятых церковью
принципов православия.
Так что русская идея в силу своей
«восточной» формы единства, когда при разложении
дворянского сословия после реформы
1861 года самодержавие было вынуждено
опираться непосредственно на превратившуюся в
замкнутую систему бюрократию и силовые
структуры государства, была обречена
испытать не только предсказанный Б. Н.
Чичериным «демократический цезаризм», но и нечто
более радикальное. А именно, отвергнув
односторонность византийско-православного
принципа, явно «уничижающего» право Сына как
второго лица единой Троицы, она совершила
переворот внутри самой себя, чтобы тотально
установить в «мире сем» новый, прямо
противоположный порядок идей и вещей, в котором
дух правды-справедливости исходит только
292
от Сына — народа. Filioque по-русски. Отсюда
и «выскакивает» та бесовская ярость, с
которой в ходе переворота разрушается ветхая
религия Бога Отца и молниеносно утверждается
новая вера, новый культ. «Впереди — Исус
Христос» — так заканчивает А. Блок поэму
«Двенадцать». Русь вновь блокирована, но
иначе, чем прежде: теперь государство станет
неотделимым от общества органом светской и
святой — советской власти и, пронизывая
общество собой, будет играть роль не только
внешнего, но и внутреннего пастора
(совести-цензора).
Не прошло и ста лет после публикации
первого из «Философических писем» П. А.
Чаадаева, как «великий апокалиптический
синтез», о необходимости которого он писал, был
реально осуществлен, правда, не в масштабах
всего христианского человечества, а в
отдельно взятой стране, в России.
По многим в глаза бросающимся признакам
это был беспрецедентный шаг назад, в
патриархально-первобытное прошлое. «Жутко
представить себе сейчас, до чего беспощадно
распорядилась история с намечавшимся в России
ренессансом духовной культуры, —
воспоминает С. К. Маковский, один из участников
первых религиозно-философских собраний
1901 —1902 годов, — прошло каких-нибудь
десять лет после манифеста 1905 года, и
большевизм все традиционное вырвал с корнем,
293
русская религиозная идея была загнана в
подполье». Однако, помня жесткие в своей
правоте слова Гегеля о том, что всемирная история
не представляет собой арену счастья,
постараемся выявить тот необходимый (крестный)
путь, по которому шла Россия независимо от
тех оценок и суждений, которые попутно, в
сердцах, «выбрасывались» на поверхность ее
истории. Впрочем, есть и немалое число
суждений, в которых откровенно и вполне
сознательно ставится вопрос об «ошибочности»
пути России, во всяком случае, если речь идет
об отдельных ее эпохах.
9. Советский тоталитаризм
как апокалиптический синтез
Вся история христианства представляла
собой одновременно поиск, или опыт, познания
истины и ее реализацию в системе
человеческих отношений, основанной на
провозглашенных Христом принципах свободы и равенства.
Поскольку человек по своей божественной
природе не является рабом, то и земная жизнь
должна исключать такую крайнюю форму
несвободы и неравенства, как рабство. Однако,
поскольку сам путь, или опыт, познания и
жизни далеко не соответствовал этому идеалу,
царству Богочеловека, постольку проблема власти
294
рассматривалась христианским вероучением,
начиная с проповедей апостолов Петра и Павла,
как идеологическая проблема. Христианин
должен осознавать реальное, земное устройство с
присущими ему неравенством и несвободой как
необходимую, Богом утвержденную форму
человеческого общежития, смиренно нести свой
крест, повиноваться высшим властям «не
только из страха наказания, но и по совести»
(Рим 13:5), помня, что «любовь есть исполнение
закона» (Рим 13:10). Такова есть воля Божия
(1 Пет 2:15).
Для религиозного сознания принципы
равенства и свободы имеют в качестве своего
первоначала единое основание — безусловное
единство Бога и человека (Богочеловека
Христа). Однако, поскольку это основание
воспринималось религиозным сознанием как
нечто существующее само по себе, но по ту
сторону реального опыта, не от «мира сего»,
всегда возникало сомнение в том, насколько
земной опыт христианской жизни
соответствует своему небесному идеалу, насколько он
действительно необходим, чтобы смиренно
повиноваться властям. Отсюда и возникали
всевозможные, неортодоксальные воззрения
на проблему земного устройства жизни
христианских народов. Одним из них был
социализм — наукообразная форма учения о
справедливом бесклассовом общественном
устройстве, представляющем собой опыт ра-
295
ционального синтеза двух миров —
посюстороннего и потустороннего, реального и
идеального, действительного и представляемого.
Он зародился на почве западной
христианской культуры в период ее кризиса, т. е. в
самом начале Реформации, постепенного роста
авторитета научного знания. Выступившая
из-под опеки церкви мысль теперь пытается
сама найти, а, точнее говоря, создать
соответствующий себе образ земной жизни, имеющий
подобие града Божьего. Поскольку в качестве
исходного материала для нее выступает
христианское вероучение с присущими ему
идеями свободы и равенства, то и проект
идеального общежития конструируется социалистами в
форме конкретизации этих идей, но
очищенных от сугубо церковных представлений.
Вспомним, что основателями так называемого
утопического социализма были
христиане-католики — Томас Мор (1478—1535) и Томмазо
Кампанелла (1568—1639), впервые
высказавшие идею идеального общежития христиан.
В этих учениях мы видим, прежде всего,
попытку не только теоретического
воспроизведения образа жизни раннехристианских общин,
но и идейную позицию самих авторов по
вопросу о причинах социальной
несправедливости и необходимости их устранения. «Я
твердо убежден в том, что распределение средств
равномерным и справедливым способом и
благополучие в ходе людских дел возможны толь-
296
ко с совершенным уничтожением частной
собственности», — пишет Т. Мор. Логика
католиков-социалистов сводится к тому, чтобы
прежде всего изменить «дела», образ жизни
людей, в то время как протестанты выступили
с призывом личностного покаяния или
изменения самого образа суждения.
Идея гражданского (бюргерского)
общества, возникшая сравнительно позже, в период
социальных революций в Нидерландах и
Англии, также воплощает в себе идеи равенства и
свободы, но в опосредованном формальным
законом виде. Поскольку субъектом закона
становится государство, выражавшее частные,
прежде всего экономические, интересы, то
противоречие, возникшее на этой почве,
будет, как известно, и дальше стимулировать
мысль к поиску справедливого решения
социального вопроса. «Великой и главной целью
объединения людей в государстве и передачи
ими себя под власть правительства, — писал
основоположник теории гражданского
общества Джон Локк, — является сохранение их
собственности». Если государство есть не
цель сама по себе, не образ Царства Божьего,
а только необходимое средство реализации
права частной собственности, то оно
превращается в свою противоположность: вместо
воплощения идеи справедливости, всеобщности
оно становится особенным институтом
общества, подчиненным экономической целесооб-
297
разности. Расцвет возникшего под влиянием
Р. Оуэна христианского социализма в Англии
как раз совпадает с эпохой наиболее
активного развития капитализма и, в частности, с
таким широким движением, как чартизм, что во
многом помогло снять социальную
напряженность и найти устойчивый, цивилизованный
вариант христианского общежития в форме
демократического капитализма.
Демократический капитализм нашел наиболее
оптимальный способ решения
социально-экономического вопроса для христианского Запада в форме
баланса, равенства сил труда и капитала, не
устранив при этом свободу или личный
интерес как фактор социального саморазвития.
«Стена законов», которой, по выражению
Ф. Энгельса окружила себя политическая
власть олигархии, была разобрана народной
оппозицией без социального переворота.
В России потребность в идее
преобразования социальной жизни на коммунистических
началах в среде образованной части общества
возникает значительно позже и в силу ряда
как общих с Западом, так и особых,
характерных только для нее, причин. Однако когда в
первой половине XIX столетия социализм как
учение проникает в Россию, он практически
сразу становится альтернативой
традиционной форме поклонения «потустороннему»
сущему, превращаясь даже в атеистическую
форму мировоззрения.
298
Русская социально-критическая мысль
пересматривает вначале свое отношение к
официальной «вере Отцов», она желает
поклоняться идеально-должному, но в то же время
реально-сущему, «небу на земле», по словам
П. Я. Чаадаева. Поэтому она или «уходит» в
масонство, или обращается за ответами к
католицизму, или сама начинает создавать
новые социальные проекты. Уже для Чаадаева
христианская религия не должна
существовать в форме только отвлеченного мироотри-
цания и бессмысленного послушания — она
должна находить себе земное приложение как
действующая идея свободы и равенства.
Эту мысль в новых условиях станет развивать
группа Д. С. Мережковского, выразив ее в
форме «нового религиозного сознания».
Православно-византийская форма христианства,
по Чаадаеву, не только не ищет пути решения
социального вопроса, но, более того, имеет
причастность к беспрецедентному
закрепощению крестьян на Руси. «Вы знаете и то, —
пишет он во втором письме, — что, по
признанию даже самых упорных скептиков,
уничтожением крепостничества в Европе мы
обязаны христианству. Более того, известно,
что первые случаи освобождения были
религиозными актами и совершались перед
алтарем и что в большинстве отпускных грамот мы
встречаем выражение: pro redemptione
animae — ради искупления души. Наконец,
299
известно, что духовенство показало везде
пример, освобождая собственных крепостных, и
что римские первосвященники первые
вызвали уничтожение рабства в области,
подчиненной их духовному управлению. Почему же
христианство не имело таких же последствий
у нас? Почему, наоборот, русский народ
подвергся рабству лишь после того, как он стал
христианским, а именно в царствование
Годунова и Шуйского? Пусть православная
церковь объяснит это явление». «Не должен ли
раздаться в мире новый голос, связанный с
ходом истории», — ставит он проблему
духовного и в то же время социального
преобразования в восьмом, последнем философическом
письме.
В своем радикализме русский
Петр-мыслитель хочет идти дальше Лютера, понимая, что
христианство не ограничивается только
«речью спасителя», собранной его учениками в
книгу. Для него ясно, что ошибаются те, кто
хочет найти все существенное содержание
христианства на страницах Св. Писания.
Главное, что сказал Христос, в понимании
П. Я. Чаадаева, так это то, «что после него
явятся люди, которые так вникнут в
созерцание и изучение его совершенств, которые так
будут преисполнены его учением и примером
его жизни, что нравственно они составят с
ним одно целое, что эти люди, следуя друг за
другом из поколения в поколение, будут пере-
300
давать из рук в руки всю его мысль, все его
существо». Этим людям присущ дух
самоотвержения. В отличие от авторов сборника
«Вехи» (Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,
П. Б. Струве, С. Л. Франка и др.) для
П. Я. Чаадаева и Д. С. Мережковского
подвижничество и героизм представителей
этого духа вовсе не являются каким-то
отдаленным, извращенным подобием христианского
подвижничества и героизма, а напротив,
выражением самого его существа, его истины,
жизни и пути. Христианство как раз и пришло в
упадок в силу своего ухода от мира.
Поскольку изменить образ социальной
жизни через реформацию Русской
Православной церкви оказывается практически
невозможным в силу «спаянности» церкви с
государством, а поэтому ее отчужденности от духа
народа, постольку в России возникает
неформальное течение мысли в виде особых
способов решения социального вопроса. Следует,
однако, заметить, что как западники, так и
славянофилы, получив импульс от
европейских источников, находят зачатки
справедливого общественного устройства в самой жизни
простого народа. «Мы русским социализмом
называем тот социализм, — писал А. И.
Герцен в начале 1867 года, — который идет от
земли и крестьянского быта, от фактического
надела и существующего передела полей, от
общинного владенья и общинного управле-
301
ния, — и идет вместе с работничьей артелью
навстречу той экономической
справедливости, к которой стремится социализм вообще».
«Герцен, Чернышевский, Плеханов и
блестящая плеяда революционеров 70-х годов»,
по словам автора книги «Что делать?»
(Ленина) — это представители одного течения, или
«ордена» (выражение Г П. Федотова), хотя и
имеющие некоторые различия, обусловленные
историческими факторами. Новое
религиозное сознание, таким образом, берет свое
начало у П. Я. Чаадаева как вдохновителя
«плеяды» русской революционной интеллигенции, а
после революции 1905 года оно, обогащенное
опытом борьбы, приобретает более четкую
форму представления. «То, что я думал и
особенно пережил в революционные годы
1905—1906, — вспоминает позднее Д. С.
Мережковский в своей автобиографии, — имело
решающее значение для внутреннего развития
моих размышлений. Я вдруг понял, что можно
было выйти к новому представлению о
христианстве одновременным отрицанием двух
принципов: православия и самодержавия».
«Историческое христианство» себя исчерпало,
необходима новая форма религии и
одновременно революции необходима «религиозная
революция», целью которой является
разрушение самодержавия и православия.
С момента установления советской власти
в России социализм становится государствен-
302
ной идеологией. Вся его «наука» призвана к
тому, чтобы воспитать новый тип человека,
бесконечно преданного своему
общественному идеалу — коммунизму, путь к которому,
сроки и темпы определяет воля
свято-светского государства-общины в лице его
авангарда — партии большевиков. «Святость»
партии, по определению, не допускала никакой
критики как в адрес самой партии, так и в
адрес созданного ее основателем
фундаментального принципа советской справедливости:
«Справедливо все то, что служит делу
построения коммунизма». Только в период так
называемого «развитого» или «реального»
социализма (времена Л. И. Брежнева)
коммунизм как «безбожная» религия бесклассового
общества уходит на второй план, уступая
место более «зримой» религии человека труда,
а затем и просто человека. Впервые, начиная
с принятия новой Конституции СССР (1977),
вместо «диктатуры пролетариата» стали
говорить об «общенародном государстве», тем
самым советская идеология подчеркнула
исторический факт, что революция, спустя 60 лет,
стала подходить к своему завершению.
Вспомним, что одно из многочисленных
определений социализма, характерных для так
называемого периода перестройки, практически
уже утратило классовую напряженность и
вещало: «Социализм есть общество, на знамени
которого написано „все для блага человека,
303
все во имя человека"». Но если обратить
внимание на такой афоризм М. С. Горбачева,
высказанный в самом начале его правления, как
«не народ — для партии, а партия — для
народа», то можно было в нем увидеть замысел
более серьезного порядка, чем просто
тактический ход.
Вера в бесконечные способности
человека-творца, пришедшая на смену культу
личности Сталина, подчеркивала не только
преходящий характер очередного этапа советского
развития, но по-своему свидетельствовала и
об историческом завершении целой эпохи, о
конце большевистского тоталитаризма.
Русская мысль вновь рефлектирует в самое себя,
в свое как далекое, так и близкое прошлое,
пытаясь понять смысл своей истории. Один из
«трудоемких» вопросов для постсоветских
философов и историков есть вопрос о том,
насколько был закономерен переход к
«социализму в отдельной стране». Впрочем,
ультралиберальная точка зрения, бесцеремонно
допуская идею спонтанности в процесс
исторической необходимости, не считает этот
вопрос сложным: для нее Россия просто должна
исправить свою «большевистскую» ошибку и
встать на путь, по которому идут все
«нормальные», цивилизованные страны. Так,
пересматривая различные сценарии дальнейшего
развития России, Б. Н. Кашников отстаивает
«путь, по которому давно уже идет Западная
304
цивилизация. Нам представляется, что это
наиболее разумный путь для России». Нет
сомнения в том, что историю делали и делают
люди, обладающие способностью выбирать
себе пути-дороги, но все дело в том, чтобы
делать историю с пониманием того, что она
есть в себе.
Наша задача заключается в том, чтобы во
внешних событиях отечественной истории
видеть не набор случайных эпизодов, а
необходимые формы развития, которые нами
обозначены как соборность, абсолютизм и
тоталитаризм и соответствующие им способы
проявления русского духа. Бегство от
необходимости ничего, кроме временной иллюзии
снятия проблемы познания законов истории,
не даст. Только понимание того, что
действительная свобода является результатом
самопознания развивающегося в истории духа,
может способствовать преодолению стихийной
формы общественной жизни людей,
постановке осмысленных практических задач как
внутренней, так и внешней политики.
Начнем с известных фактов. Тот факт, что
власть большевиков устояла в условиях
интервенции и гражданской войны 1918—
1922 гг., свидетельствует как раз о том, что
она не представляла собой власть какой-то
кучки беспочвенных авантюристов и не была
лишена действительной социальной опоры.
(Хотя нельзя, несомненно, исключать из виду
20 Зак. 3426
305
и то безрассудное стремление решать судьбу
России, характерное для вернувшейся из
эмиграции после февральской революции
известной «кучки» революционеров —
Троцкого, Менжинского, Володарского, Бухарина,
Чудновского и др.) «Как случилось, —
задается вопросом С. Л. Франк, — что крестьянский
народ посодействовал коммунистическому
господству? Как произошло, что народ,
который Достоевский... справедливо называл
„народом-богоносцем" вдруг поменял свое
мировоззрение и вместо своих святых и
Богом данного царя избрал своими вождями и
властителями западноевропейских
социалистов?». Как видно из текста, Франком не
отрицается активное участие народа в
большевистской революции, хотя сам коммунизм как
идея (в этом пункте он принципиально
расходится с Н. А. Бердяевым), по его убеждению,
«фактически не имеет никаких
национально-исторических корней в русской народной
жизни и в русском миропонимании. Он
импортирован с Запада». Поразительно, как
могут расходиться взгляды на один и тот же
предмет — русскую историю в контексте
всемирной истории — представителей одной
линии в русской философии. Наш взгляд в
вопросе об исторических корнях советского,
коммунистического общества, по сути,
совпадает с точкой зрения Н. А. Бердяева как
автора известного философско-исторического ис-
306
следования «Истоки и смысл русского
коммунизма». Несомненно, заслуживает внимание
уже то, что в своем, в определенной степени
итоговом произведении мыслитель
рассматривает историю России отнюдь не в ее пестрой,
многообразной случайности. Именно только
раскрытие предмета в его необходимом
развитии может считаться философским
раскрытием.
«Советское общество, — как
рассматривает проблему закономерности русской истории
О. Л. Шахназаров, — это итог 250-летнего
противоборства, начавшегося в XVII в.
расколом русского православия на староверие и
Русскую Православную Церковь и
завершившегося победой старообрядцев... хлынувших в
ВКП(б) с 1917 г.». Сама ленинская теория и
практика «построения социализма в
отдельной стране» вполне «вписывалась» в
старообрядческую веру в «Москву — Третий Рим»,
так что свержение антихриста для староверов
начинается в 1917 году. Хотя, наверное, не
только староверы испытывали ненависть к
империи Романовых и были опьянены
религиозным пафосом коренной ломки старого строя.
П. А. Кропоткин, к примеру, вообще не
относился к числу религиозно «опьяненных»
сторонников большевистской политики
«социализации производства и торговли», но ему как
ученому в области социальных «переворотов»
было очевидно, что тенденция народной сти-
307
хии с большим преимуществом является
центростремительной и «работает» на укрепление
новой власти. «Что касается возможности в
России государственного переворота, —
пишет он в 1919—1920 годах в статье
«Современное положение в России», — то нужно
помнить, что радикальная революция,
несмотря на голод, развал промышленности и все
остальное, пользуется огромной поддержкой.
Конечно, у нее есть много противников среди
крестьян, и их число постоянно возрастало
из-за войны, развязанной советскими
теоретиками против более или менее зажиточных
крестьян. Но она имеет и достаточное количество
сторонников среди тех, кто надеется получить
дополнительные земельные наделы, а они
составляют большинство сельского населения.
Среди фабричных рабочих,
железнодорожников и шахтеров, которые раньше полностью
были на стороне большевиков, также растет
недовольство в связи с падением
производства, непостоянной занятостью, ростом цен и
общим развалом промышленности. Но,
несмотря на все это, рабочие и часть
крестьянства чувствуют, что власть находится в руках
партии, которая хочет превратить трудящихся
в уважаемый класс общества, и это есть шаг в
сторону демократии и равенства».
Заслуживают серьезного внимания, на мой взгляд,
размышления еще одного свидетеля
революционных событий, который, несмотря на высылку
308
из «большевистской» России, не сжигает себя
в злобе к большевикам, а, как и подобает
ученому, объективно раскрывает характер
революции и гражданской войны. Л. П. Карсавин,
анализируя ход русской истории, начиная с
событий февраля 1917 года, приведших к
крушению царского режима и деградации
государственных институтов, именно в политике
большевиков усматривает те необходимые с
точки зрения философии истории действия.
«Если признать, что русский народ
подчинился большевикам только за страх, — пишет
Л. П. Карсавин, — надо будет признать не
русским народом погибших в гражданской
войне и защите России красноармейцев...
Тогда не принадлежат к русскому народу ни
крестьяне, предпочитавшие большевиков
„царским генералам" ни чиновники, среди
которых далеко не все работают из под палки, ни
большинство рабочих... ни те, которые,
отрицая в принципе власть большевиков, все же
считают ее лучшею, чем власть иностранная
или реставрационная». Там же: «По существу
своему политика большевиков была если не
лучшим, то, во всяком случае, достаточным и,
при данных условиях, может быть
единственно пригодным средством для сохранения
русской государственности и культуры». Далее
философ специально останавливается на
извечном русском вопросе «кто виноват?» и
если и судит большевиков, то с точки зрения
309
исторической необходимости. «Большевики
были беспощадны и бессмысленно жестоки,
но, может быть, только благодаря им не
произошло поголовного истребления культурных
слоев русского общества; может быть, они
скорее ослабили, чем усилили порыв стихии,
обоснованием и оправданием ненависти ввели
ее в некоторое русло... Ведь уже сама идея
„революционной законности" не что иное, как
самоограничение ненависти... Возможно ли
было в стране с бегущей по всем дорогам
армией, с разрушающимся транспортом, в
стране, раздираемой гражданской войною, спасти
города от абсолютного голода иначе, как
реквизируя и распределяя, грабя банки,
магазины, рынки, прекращая свободную торговлю?»
Единственно, на что хотелось бы обратить
еще раз внимание в русской революции
1917 года, это то, что «огромная поддержка»,
оказанная широкими массами большевикам,
не объясняется только экономическими
факторами. Она, как, впрочем, и идея свободного,
самоуправляющего общества, которое
проповедовали анархисты, не лишена более
глубоких, духовных корней. В этом аспекте
исследования историка О. Л. Шахназарова
заслуживают самого серьезного внимания, ибо
позволяют увидеть в многообразии
сплетенных между собой политических событий
основополагающие исторические тенденции: «Два
идеологических течения стали развиваться
310
расходящимися курсами. Одно было
продолжением идеи „богоизбранного народа" и
„Москвы — Третьего Рима" Второе —
„богоизбранного царя" и „Москвы — ученицы
Запада" В 1667 г верх одержала идея
„богоизбранного царя" и „Москвы — ученицы
Запада", в 1917 г. — „богоизбранного народа" и
„Москвы — Третьего Рима"». Примерно за
десять лет до Октябрьской революции
Д. С. Мережковский предсказывал, что
русская революция будет религиозной
революцией, поскольку в России,чтобы покончить с
абсолютизмом, нужно порвать с церковью,
которая с ним связана. Именно образ русского, не
затронутого никоновской реформой Христа
мы находим в поэме «Двенадцать» А. Блока,
отчего имя «Иисус» и написано им с
одной «и».
В свое время и Мих. Лифшиц писал,
опираясь на факты, о религиозно-психологической
подкладке Октябрьской революции, об
ожиданиях Спасителя. Народные массы, впервые
втянутые в круговорот реальной политики, по
сути дела, и не могли воспринимать крушение
«царства антихриста» иначе, как Божью кару.
Вместе с тем их религиозное сознание было
захвачено не только духом отрицания всего и
вся, но и грандиозным размахом мечты о
всеобщем братстве, о воплощении
правды-справедливости: «Стойте же товарищи, —
приводит Мих. Лифшиц выдержку из обращения
311
председателя чрезвычайного совещания
делегатов от сел Нижегородской губернии, —
дружно и смело, держите крепче и выше
трудовое Красное знамя, которое скоро
взовьется над всем миром, и тогда на всем земном
шаре настанет тот земной рай, который
проповедовал Христос». Религиозно-романтическая
чрезмерность, мечта о выходе в вечное
счастье человека, о невозможном пронизывают
всю «красную» публицистику первых лет
советской власти. Так в рядовом,
провинциальном журнале «Железный путь», где начинает
свой творческий путь писатель Андрей
Платонов (1918), выражена целая программа
мирового переустройства: «Мы потому еще
„Железный путь", что путь к социализму, путь к
земному царству устлан терниями жестче
железа. Мы — „Железный путь" к счастью и
свободе всего мира, всего человечества».
Для того чтобы лучше разобраться с
вопросом, каким образом русская идея «сменяет»
такой, казалось бы, весьма прочный «наряд»,
как императорская форма, остановимся на той
силе, которая необходимым образом
возникает в условиях абсолютизма и в конечном
счете сводит его с исторической сцены. При этом
мы увидим, что новый социальный порядок
(социализм), ради которого происходила
бескомпромиссная борьба с царизмом, сам
отторгнет эту силу как исторически
исчерпавшую свое значение. Идеалисты нужны только
312
в процессе борьбы за должное
существование, за идею-идеал, но в случае ее
материализации они становятся в буквальном смысле
лишними людьми. Поэтому столетняя
история русской революционной интеллигенции
заканчивается в конце 30-х годов XX века, в
эпоху культа личности Сталина, гибелью
своих последних представителей.
Мораль этой истории не в том, чтобы
прекратить борьбу за воплощение идеала, а в том,
чтобы сама цель не была оторвана от процесса
полагания, а акт отвержения или
самоотвержения носил бы не физический, а духовный
характер.
Абсолютизм, породивший раздвоение
русского общества, порождает и особую форму
связи двух миров — особый, невидимый по
своей сути медиум — русскую
интеллигенцию. Последняя представляет собой нечто
неопределенное и противоречивое с точки
зрения рассудка: ни земля-неволя, ни
государство-воля, а в то же время — и то и другое.
Одним словом — «земля и воля». Ее
рождение стало возможным и необходимым
благодаря событию, выходящему за рамки
национальной жизни только по внешней форме. Речь
идет об Отечественной войне 1812 года как
историческом моменте единения всей нации,
когда русская идея, вдруг осознав самое себя
как нечто, тождественное только себе,
рефлектирует теперь в себя и полагает совершен-
313
но новую форму своего бытия — форму
субъективного представления. Именно
чувственно-сверхчувственное бытие русской
интеллигенции и определяет ее стремление к
истинному понятию, пониманию сути бытия
как такового, ее почти поголовное
паломничество в Германию, где это понятие уже
выступило как предмет философии.
Конечно, нет вины русской интеллигенции
в том, что она, жадно набросившись на
результат мировой истории философии,
пыталась непосредственным образом раскрыть для
себя его содержание. Но поскольку последнее
недоступно одному лишь страстному желанию
обладать им, то и воспринимался этот
результат как пустая, лишенная любви и веры форма
мышления. Именно по этой причине И. В.
Киреевский хотел «самый источник разумения,
самый способ мышления возвысить до
сочувственного согласия с верою». Первый опыт
русской критики разума, таким образом,
неумолимо порождал устойчивое вплоть до
последнего времени представление о
неполноценности разума. Разум как таковой не имеет
в себе источника жизни и истины.
«Деятельность разума, — продолжает «развивать» этот
взгляд В. С. Соловьев, — есть только
отрицание случайности», поскольку он «живет и
питается только материалом, который он
получает из опыта и веры». Его особенность состоит
в «наполнении формы» внешним, в том числе
314
и религиозным, содержанием (Б. Н. Чичерин),
он «не может обойтись без трансцендентных
допущений» (Л. М. Лопатин) и т. п. Так что
справедливыми были известные замечания
поэта о невозможности понять Россию, но
именно такого рода «умом», от которого горе не
только в области познания жизни, но и в
самой жизни. В лучшем случае результат
мировой философии представлялся как некий
универсальный метод познания и преобразования
«ужасной действительности», как «алгебра
революции» (А. И. Герцен). Б. В. Яковенко в
своем заключении к «Истории русской
философии» справедливо характеризует русскую
мысль как находящуюся только в процессе
стихийного становления, поэтому она
«чрезвычайно многообразна» по своей тематике и в
то же время лишена «объединяющей идеи».
Ее раздвоенность на «западничество и восточ-
ничество», «идеализм и материализм»,
«индивидуализм и фатализм» и т. д. и т. п. только
фактически подтверждает указанную им
степень развитости национального
философствования. Однако критика русского способа
познания, на мой взгляд, должна увидеть в этом
«бабьем» (выражение Н. А. Бердяева,
высказанное в адрес В. В. Розанова) стремлении
национального духа теоретически объять и
разъять нечто такое необъятное, что на самом
деле является присущим этому стремлению и
практически. Русская православная душа из-
315
начально стремится к пониманию истины как
всеединства правды и справедливости, теории
и практики, и это стремление, по В. С.
Соловьеву, имеет вневременное, божественное
основание, однако выступивший и заявивший
о себе в XIX веке рассудок в лице
интеллигенции «возжелал» обратного. Теперь для него
стало необходимым правилом в любом
явлении выявить различие и довести его до
противоположности, а затем пытаться с не
меньшей решимостью вводить их в
теоретически созданную конструкцию. Поэтому отныне
виновником всякого раскола и единения
становится интеллигенция, чувство вины и муки
совести которой, таким образом, были не
случайными и не имели, вопреки мнению
материалистов и религиозных догматиков
гетерономное происхождение. Отсюда — вывод:
интеллигенция лишь тогда осознает свою
настоящую свободу совести, когда сознательно
пройдет весь путь религиозного и
философского опыта.
Справедливости ради следует заметить, что
непосредственным образом русские все-таки
могли наблюдать драматический исход
немецкой критики разума в сферу спекулятивной
науки (линия Гегеля) и в сферу
религиозно-философского синтеза (линия Шеллинга).
Наши гегельянцы стали западниками, затем
нигилистами, позитивистами, неокантианцами
и материалистами, а наши шеллингианцы —
316
славянофилами, затем почвенниками и
разнообразными религиозными философами. По
словам Герцена, «они западной наукой дошли
до своих национальных теорий».
Общественный идеал как западников, так и
славянофилов связан был с преодолением разрыва
общества и государства, содержания и формы,
положенного еще реформой Петра. Только
славянофилы видели его достижение через
возвращение к прежней, как бы
«девственной» христианской общине, а западники —
через создание совершенно новой формы
социального бытия человека — «безличного»
(П. Я. Чаадаев) или бесклассового общества,
царства всеобщности. Так что предтечами
«бесов» Ф. М. Достоевского или субъектов
«интеллигентской правды» Н. А. Бердяева были
как славянофилы, «открывшие» религию на-
родопоклонства, так и западники,
«открывшие» способ достижения цели — насилие как
форму социального самопожертвования.
«О, все это славянофильство и западничество
наше, — замечает Ф. М. Достоевский в своей
«Речи о Пушкине», — есть одно только
великое у нас недоразумение, хотя исторически и
необходимое». Необходимость же русского
«недоразумения» заключается, на мой взгляд,
как раз в том, чтобы не просто внешне
усвоить европейскую мудрость в форме, к
примеру, немецкой или английской философии и
тем самым стать философствующей публикой.
317
Все гораздо серьезнее: необходимо как бы
заново «переварить» в себе весь тернистый путь
становления философии наукой разума или
словом сущего, начиная с самого его истока,
чтобы стать действительно мыслящей
интеллигенцией. «Нельзя же предположить
смешную мысль, — продолжает Ф. М.
Достоевский, — что природа одарила нас лишь
одними литературными способностями. Все
остальное есть вопрос истории,
обстоятельств, условий, времени».
Обратим внимание на то, что активность
русской интеллигенции проявляется как раз в
то время, когда философская мысль Германии
развилась до степени знающей самое себя
истины или системы наук. Но, поскольку этот
объективный образовательный процесс на
Западе не вышел за пределы университетов, а
строже говоря, за пределы мышления Гегеля,
несмотря на сравнительно большое число его
учеников, стал закономерен трагический
исход, причем не только немецкой классической
философии, но всей культуры западного мира.
«Произошла, вскоре после смерти Гегеля,
беспримерная философская катастрофа, —
отмечает С. Н. Булгаков, — полный разрыв
философских традиций, как будто мы
возвращаемся к веку „просвещения" (Aufklarung) и
французскому материализму XVIII века». То,
что наступили времена декаданса веры и
мысли, «обмеления европейского духа» (Ницше),
318
времена «сумерек» и «смертей», «закатов» и
«концов», находит свое объяснение как раз в
конечности христианской эпохи и
необходимости перехода к разумному оформлению
бытия и мышления человека. Философский
смысл «второго пришествия Бога» означает,
что само это «пришествие» будет
осуществлено не в той же первоначальной,
чувственно-воспринимаемой форме, как это
представляет себе экзальтированное религиозное
сознание, а в форме умудренного опытом своей
человеческой истории истинного духа. Однако
для решения этой, по сути сверхчеловеческой,
сверхрассудочной, задачи вначале требуется
появление на исторической сцене такого духа
отрицания, для которого не существовало бы
смысла жизни ни в прошлом, ни в настоящем
и которому поэтому нечего было бы здесь
терять. Смысл для него возникает только в
практической борьбе за идею нового, основанного
на безусловной истине, мира. И такой «дух
самоотвержения», говоря словами П. Я.
Чаадаева, появляется, но только не в Европе и не в
Азии, а в России. Н. А. Бердяев, обвиняя
русскую революционную интеллигенцию в
отрицании философской истины и в то же время
страстном стремлении реализовать свою
«интеллигентскую правду», прав только во внеис-
торическом плане. Однако объективный ход
истории, по П. Я. Чаадаеву, как мы видели,
имел имманентную потребность в появлении
319
новых людей, готовых привести человечество
на Голгофу «уничтожения своего личного
бытия», к тотальному единству всех в конце
истории. Революционный радикализм В.
Белинского, выраженный в формуле
«социальность или смерть», достигает предела в конце
70-х годов XIX века и принимает уже
безальтернативную форму конечной цели.
Вместо прежней, страстной веры праотцов
в чистоту православия и не менее страстной
веры отцов в действенную силу философского
понятия, начиная с 70-годов XIX века в
русском сознании проявилась совершенно иная
форма религиозности — в виде фанатической
преданности русской революционной
интеллигенции («сынов» и «внуков») идеалам свободы
и равенства. Будучи по своей сути
христианскими, эти идеалы были, во-первых,
рационально «очищенными» от церковного
благочестия и, во-вторых, обращены на земное
воплощение. Отсюда — мораль утилитаризма.
С этими идеалами как с новым евангелием
они и отправлялись в народ. Это и было
действительно новое религиозное сознание,
возникшее на почве отрицания
«государственного» православия, о котором эстетствующие
декаденты Серебряного века только
размышляли. Последние, воплотив в поэтическую
форму бесконечное религиозное содержание,
тем самым и утратили присущий религии дух
отрицания. Характерно, что, к примеру,
320
H. A. Бердяев, в поздний период своей
творческой жизни, переосмысливает вопрос о
«религиозном ренессансе» начала XX столетия в
России и подчеркивает, что «для этого не
было достаточно сильной религиозной воли,
преображающей жизнь, и не было участия в
движении более широких народных слоев».
Заметим, что под флагом обновления
христианства в русской культуре выступили (не без
влияния Ницше!) совсем нехристианские лики
языческих богов. «Ныне, — пишет Н. К. Бо-
нецкая, — после опубликования множества
мемуарных, дневниковых и эпистолярных
источников, а также выхода в свет достаточно
глубоких исследований проблемы связи
русского символизма с оккультизмом, не
остается сомнения в том, что ивановская „башня"
на Таврической была отнюдь не секулярным
литературным салоном, каким она
представлялась филологам в недавнем прошлом, но
неоязыческой общиной — со своим
богословием... с обрядами-радениями и общением с
„посвященными" учителями».
Живое же религиозное чувство, алчущее
истинного предмета поклонения, не может
быть удовлетворено в условиях неравенства
и несвободы. Оно видит спасение в
свободном равенстве людей, независимом от
половых, сословных и прочих различий. Оно
объективно стремится к тому, к чему, с
трансцендентальной точки зрения, устремлен весь ход
21 Зак. 3<126
321
мировой философской мысли — к свободному
тождеству (равенству) самосознания, в
котором дух поклоняется только самому себе. Все
религиозные и позитивистские представления
о справедливости имеют в качестве своего
основания эту свободную деятельность разума
(логоса), но только философия как способ
всеобщего самопознания способна понять его
высшую земную цель, его волю к власти.
Призыв к демократической молодежи
«идти в народ» впервые был высказан первым
поколением русской интеллигенции
(«отцами») — А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.
Герцен, реагируя на закрытие Петербургского
университета осенью 1861 года по причине
студенческих волнений, призывал
студенчество: «В народ! К народу! — вот ваше место,
изгнанники науки». «Молодежь скажет
народу, — продолжал на страницах «Колокола»
вслед за своим соратником Н. П. Огарев, —
что она приносит ему в помощь все средства,
которые дала ей наука, и не пощадит для него
ни трудов, ни жизни». Однако произведением,
которое проникло в сердца и повлияло на
жизнь целого поколения молодых
разночинцев, следует считать «Исторические письма»
П. Л. Лаврова, в которых выражена
нравственная и гражданская обязанность
«критически мыслящей личности» отдать свой долг
народу: «Нужно не только слово, но и дело.
Нужны энергические, фанатические люди,
322
рискующие всем и готовые жертвовать всем».
Помимо П. Л. Лаврова, идеологами
«движения в народ» в 70-е годы XIX века были
анархист М. А. Бакунин и его антипод П. Н.
Ткачев, сторонник захвата власти
революционным меньшинством и использования
механизма государства для решения социальных
вопросов.
Движение в народ, начавшись в
Петербурге, Москве и Киеве, стало быстро
распространяться на провинцию. Вначале это движение
было в основном «книжным», преследовало
цель распространения брошюр и
прокламаций, но постепенно контакты стали более
длительными, поскольку народники пытались
вживаться в иные для себя условия —
становились сельскими писарями, фельдшерами,
учителями, мастеровыми, коробейниками,
нанимались на полевые работы и т. п. О
масштабах движения можно судить по записке
министра юстиции графа Палена, который
замечает, что к концу 1874 года «тайные и
противозаконные сообщества» «успевают
покрыть как бы сетью революционных кружков
и отдельных агентов большую половину
России. Дознаниями раскрыта пропаганда в 37
губерниях».
Как известно, царское правительство
далеко не сразу перешло к репрессиям, начав
постепенно ограничивать ранее дарованные
свободы, особенно в области печати и образова-
323
ния. Хотя в 1872 году, к примеру, цензурой
был разрешен русский перевод «Капитала»
К. Маркса, сделанный народником Г А.
Лопатиным. Своеобразной точкой отсчета можно
считать 1873 год, когда начинается процесс
над С. Г Нечаевым, создавшим в 1869 году
подпольную организацию «Народная
расправа».
В конце 1875 г. начала складываться
централизованная революционная организация,
известная как «Земля и воля». Устав ее был
впервые выработан в 1876 году, а в
измененном уставе 1878 года уже в первом параграфе
четко заявлялось, что целью организации
является «осуществление народного восстания в
возможно ближайшем будущем». Землеволь-
цы считали, что путь насильственного
переворота является единственным средством для
реализации требования «земли» и «воли».
Поскольку методы народнической пропаганды не
давали желаемых результатов, то ставка была
сделана ими на переход к новым методам
борьбы. Точкой такого «перехода» можно
считать известное событие, произошедшее 24
января 1878 года, — выстрел В. Засулич в
петербургского градоначальника Трепова.
Революционные кружки постепенно втягивались в
террор (С. Кравчинский закалывает шефа
жандармов Мезенцова, через некоторое время
совершается покушение на другого шефа
жандармского корпуса — Дрентельма и т. д.).
324
Впоследствии эта террористическая
деятельность получила моральное и «научное»
обоснование в работах Н. К. Михайловского и
Н. А. Морозова (будущего почетного
академика АН СССР). Весьма характерно, что
Михайловский определял террористов как «истинно
религиозных людей без всякой теологической
примеси». Оправдание террор находил
постольку, поскольку, по мнению идеологов,
иного способа решения аграрного вопроса в
условиях «безземельной» воли крестьян,
дарованной властями, просто уже не было. Отсюда
такая безусловная уверенность Н. К.
Михайловского (а затем и его последователей —
эсеров) в том, что «русский народ грудью станет
только за такую волю, которая гарантирует
ему землю». В статье «Значение политических
убийств» Н. А. Морозов обосновывает «акты
мести» как «единственное средство
самозащиты при настоящих условиях и один из
лучших агитационных приемов». «Политическое
убийство, — пишет он, — это осуществление
революции в настоящем». В дальнейшем
право на политическое убийство получило и
«философское» обоснование. «Мы боремся за
жизнь, — утверждал кантианец В. М. Зензи-
нов, — за право на нее для всех людей*.
Террористический акт есть акт, прямо
противоположный самоубийству, — это, наоборот,
утверждение жизни, высочайшее проявление ее
закона».
325
Обратим внимание, что пафосом
преобразования действительности были охвачены
представители, пожалуй, всех философских
направлений, а тем самым они объективно
создавали ту необходимую субъективную
предпосылку к грядущим переменам.
Убеждение в том, что «настоящее состояние
человечества, — писал В. С. Соловьев, — не таково,
каким оно быть должно, значит для меня, что
оно должно быть изменено, преобразовано.
Пришло время не бегать от мира, а идти в
мир, чтобы преобразовать его».
Террористическая «работа» вызвала острые
разногласия, которые привели в 1879 году к
расколу организации «Земля и воля» на
«Народную волю» и «Черный передел» (для
отечественной истории роль «Черного передела»
как связующего звена между народничеством
и русским марксизмом является весьма
значимой). Убийством императора Александра II
(1881) народническое движение зримо
доказало многим революционерам, что свержение
системы абсолютизма требует иных средств и
более долгой, самоотверженной работы как
над собой (прежде всего в плане философ-
ско-экономического образования), так и в
массах. Белинский, Чернышевский,
Михайловский и другие идеологи народничества
перестают быть авторитетами для многих из тех,
кто ранее увлекался материализмом и
позитивизмом, в том числе и для таких известных
326
русских мыслителей, как Сергей и Евгений
Трубецкие, Василий Розанов, Николай Лос-
ский, Дмитрий Мережковский и Лев Шестов.
Многие представители нового поколения
русской интеллигенции увидели в марксизме
совершенно новый взгляд на человека как
социально-историческое существо, способное
закончить историю своей несвободы и
неравенства. Всемирная история представляется
Марксом как динамический процесс
общественных отношений. В своем развитии она
«движется» не извне, а изнутри — от
несовершенных к более совершенным формам
жизни, через преодоление своих
противоречий. Следовательно, познание законов
истории, их субъективная реализация и есть
настоящая свобода. Поэтому совершенно
закономерным было то, что эстафету от
народников принимает социал-демократическое
движение, для которого характерным было
более ясное понимание того, что свобода народу
не привносится извне. Следует обратить
внимание на то, что появление марксизма в
России воспринималось, к примеру, Н. А.
Бердяевым, Г В. Флоровским и Г П. Федотовым в
качестве своеобразного импульса даже для
развития русского богословия и
философствования. «Русский духовный ренессанс имел
несколько истоков, одним из которых был
русский марксизм 90-х годов прошлого века, —
пишет Н. А. Бердяев, — в нем пробудились
327
умственные и культурные интересы, чуждые
старой русской интеллигенции. И, прежде
всего, это обнаружилось в сфере философии».
Флоровский воспоминает: «Марксизм в 90-е
годы был пережит у нас как мировоззрение,
как философская система. Тогдашний спор
„марксистов" и „народников" был
столкновением двух философских теорий, двух
мировоззренческих стилей. Это было восстание новой
метафизики против засилья морализма...
Марксизм же был практически возвращением
к онтологии, к действительности, к „бытию"
В самом историческом детерминизме
сказывался тот же реалистический сдвиг. Возникал
вопрос о свободе и необходимости в
общественном процессе, и это неизбежно уводило в
метафизику. И можно сказать, что именно
марксизм повлиял на поворот религиозных
исканий у нас в сторону Православия
(замечание Г П. Федотова)».
Однако, как мне представляется, марксизм
в истории России имеет значение не столько в
том, что он стимулировал работу
теоретической мысли, сколько в том, что под его
знаменем практически аккумулировалась энергия и
опыт предшествующей революционной
интеллигенции. Именно они способствовали его це-
леполагающему продвижению. Поэтому
русский марксизм только по формальным
признакам был нерелигиозным: по сути дела, он был
одержимым целью «черного передела» отрица-
328
тельным, «злым» духом. Иначе говоря,
марксизм в России, особенно в его
большевистском виде, был новой формой того же
нигилистического движения, появление которого
предсказывал П. Я. Чаадаев и о котором с
пониманием сути дела писал П. Б. Струве и
говорила группа Д. С. Мережковского. «Более
того, — замечает П. Б. Струве, — самый
марксизм в своем широком общественном
выражении, в русской социал-демократии,
оказался лишь особой перелицовкой старого
народничества». Следует заметить, что
большевизм как способ мысли и действия зародился
задолго до Октября. О «красном
литературно-критическом терроре» пишет, в частности,
В. Н. Ильин, отмечая факт открытого
неприятия миросозерцания Л. Н. Толстого.
Единственным журналом, в котором мог печататься
этот великий писатель, был журнал
M. Н. Каткова «Русский вестник». Вход же во
все другие журналы был закрыт «нигилистами
народниками», «предтечами большевиков».
Для Мережковского, Гиппиус и Философова
революционная «нехристианская»
интеллигенция (правда, кроме большевиков!) гораздо
ближе к Христу, чем
государственно-официальная форма христианства. Ни Ф. М.
Достоевский, ни В. С. Соловьев, ни С. Н. Булгаков
не видели в этом социальном
(народовольческом, социал-революционном и
социал-демократическом) движении действительно духов-
329
ного начала, усматривая в нем только
антихристианские, антидуховные мотивы. Отсюда
и вытекали крайности в определениях: от
абсолютного противопоставления христианства
и социализма до абсолютного тождества. «Не
в коммунизме, не в механических формах
заключается социализм народа русского: он
верит, что спасется лишь в конце концов
всесветным единением во имя Христово. Вот наш
русский социализм!» — писал Ф. М.
Достоевский. К числу тех, кто жестко проводил
границу между социализмом и христианством,
обнажая присущие последним противоположные
определения, относится так же и Василий
Розанов. Для него «разница — в корне вещей»,
поэтому невозможны попытки соединить
«реальное» социализма и «сверхреальное»
христианства. Несовместимость христианства и
социализма для русской религиозной
философии в целом и для С. Н. Булгакова в
особенности заключалась в том, что «в социализме
совершенно упраздняется человеческая
личность», однако она преодолевается, если
социализм не лишен «религиозной основы».
После Октябрьской революции и ужасов
гражданской войны становилось все более
очевидным, что «антихристианский
социализм-коммунизм есть явление религиозное, и
только религиозным подъемом христианской
веры возможна над ним победа», — писал в
1923 году барон А. В. Меллер-Закомельский.
330
Далее он продолжает: «Мы поняли слишком
поздно (и сколь многие из нас не поняли и до
сих пор), что у „бесноватых", которых мы
бросились усмирять, было какое-то отчаянное,
заблудшее искание истины, что в нем они
обладали своей внутренней правдой и силой,
которых не имели мы». Для более глубокого
уяснения сути проблемы преодоления
«антихристианского социализма-коммунизма»
следует обратить внимание на тот важный факт
отечественной истории, что число
«бесноватых» пополнялось в немалой степени из
сословия священнослужителей. «Российская
действительность, — пишет современный социолог
В. А. Бачинин, — обнаружила
парадоксальную способность православного
миросозерцания трансформироваться в радикальные
политические убеждения».
Дуализм божественного и человеческого,
характерный для официального православия,
доведенный русским
философско-религиозным сознанием до противоположности
божественного (христианского) и дьявольского
(антихристианского) начал, активно порождал
всякого рода образы антихриста, связанные
с идеей социализма. В лучшем случае в
христианстве и социализме русская религиозная
философия, исключая П. Я. Чаадаева, видела
только моменты внешнего сходства и
различия. Она не пыталась понять
революционно-народническое движение как необходимую
331
отрицательную форму самой христианской
идеи, хотя предчувствие социальной
катастрофы высказывались и Ф. М. Достоевским, и
В. С. Соловьевым, и особенно русским
символизмом. Им удалось увидеть в нигилизме и
атеизме русского социализма не только
отрицание церковного, трансцендентного Бога,
но и стремление утвердить царство
имманентного, «нашего» Бога (человекобога).
То, что на практике эта деятельность
русского духа обернулась гибелью видимого
христианского мира со всеми присущими ему
ценностями путем тотально властвующего
атеизма (атеизм, по С. Л. Франку, «есть тоже
своеобразная, хотя и только отрицательная,
религиозная философия»), для многих
деятелей культуры не было полной
неожиданностью и личной трагедией (по крайней мере, в
первые годы советской власти). Известно, что
провозвестники «нового религиозного
сознания» (Мережковский, Гиппиус, Философов)
разорвали все отношения со своими бывшими
единомышленниками и друзьями — А.
Блоком, В. Брюсовым, Вяч. Ивановым и А.
Белым, считая, что большевизм есть еще более
худшее «царство антихриста», с которым
необходимо бороться, используя любые методы,
включая и иностранную интервенцию. В
своих «Петербургских дневниках» 3. Гиппиус
дает ясно понять, почему она «взрывает
мосты» между собой и своими бывшими друзья-
332
ми, которые, с ее точки зрения, оказались не
на должном уровне как раз в те «времена,
когда нельзя быть безответственным, когда
всякий обязан быть человеком».
Подлинный смысл революции 1917 года
стал понятен религиозному сознанию гораздо
позже, как бы со стороны. «Революция, —
пишет о ней современный христианский
мыслитель Т Альтицер, — это пришествие
Антихриста, но апокалиптический Антихрист
неотделим от Христа, и поэтому верующие в
апокалипсис всегда ожидали пришествия
Антихриста. С точки зрения апокалиптической
веры Христос не отсутствует во время царства
Антихриста, а, наоборот, присутствует в
сломленном и страдающем человечестве, которое
ожидает воскресения в грубой
действительности плоти... И если русский апокалипсис —
это воплощенный ад, то это еще не значит,
что он не воплощает и христианский рай,
христианского Христа. И если мы действительно
можем знать нигилистического Христа, то мы
можем знать и апокалиптического Христа,
ибо апокалиптический Христос воплощает
собой конец мира как абсолютное
искупительное событие». Философский же смысл
большевизма, как мне представляется, еще только
предстоит раскрыть, хотя первый опыт именно
философского взгляда на этот предмет уже
имеется. В книге О. Сумина «Гегель как
судьба России» «коммунистические муки» рас-
333
сматриваются как необходимый этап перехода
от эпохи христианской религии к эпохе
«утверждения философского разума».
10. Религия позитивной эсхатологии
Вернемся к вопросу о содержании русского
религиозного сознания, выступившего в
форме революционно-народнического движения.
Спецификой этого нового религиозного
сознания было, во-первых, то, что оно являлось
социально ориентированным сознанием, жило
жизнью «вне себя», по выражению М. О. Гер-
шензона, помыслами социального
радикализма. Оно постоянно находилось в состоянии
безусловного отрицания существующего
строя со всеми присущими ему ценностями и
«надстройками», включая Священный
Правительствующий Синод. Так что термин
«нигилист», пущенный в оборот публицистом
M. Н. Катковым и писателем И. С.
Тургеневым, наиболее точно подчеркивал эту сторону
сознания «критически мыслящих личностей».
Вторая же сторона этого сознания как бы
отвечала на вопрос «что делать?» и выражала
готовность поколения «детей» к
самопожертвованию ради конечной цели — блага народа.
Так, С. Перовская и А. И. Желябов как
организаторы убийства Александра II многими
расценены были как люди, которые «несут
334
крест, ибо они верят в справедливость своего
дела». Число сочувствующих
революционерам, по подсчетам современных историков
и социологов, было чрезвычайно много. Это
была масштабная социальная среда, мнение
которой было важной составляющей
общественного мнения.
В целом религию русской интеллигенции,
независимо от партийно-политической
направленности ее представителей, включая
большевиков, можно определить, на мой взгляд, как
религию позитивной эсхатологии. Именно
христианская уверенность в том, что все
страдания человечества должны быть закончены в
конце его истории, а этот конец не находится
по ту сторону живой деятельности
революционной интеллигенции, была тем
«духом-движителем», в котором она черпала силы и
бесстрашие. Д. С. Мережковский совершенно
правильно рассматривает народническое
движение как религиозное движение. «Без
действий вера мертва, и каждый истинный
христианин должен сражаться за истину так же, как
за права тех, кто слаб и угнетен, и если
необходимо, то и пострадать за них», — пишет он
в статье «Религиозное народничество»,
практически воспроизводя речь А. И. Желябова.
В «Записках революционера» П. А.
Кропоткин, вспоминая о своем участии в кружке
Чайковского, подробно описывает образ одной
из «нигилисток». «Перовская была „народни-
335
цей" до глубины души и в то же время
революционеркой и бойцом чистейшего закала...
За исключением двух-трех, все женщины
нашего кружка сумели бы взглянуть смерти
бесстрашно в глаза и умереть, как умерла
Перовская». Поразительно, что мистицизм В. С.
Соловьева уносил его за пределы России, в то
время как София в образе таких русских
женщин находилась, быть может, как раз здесь, в
России, и сама готова была идти на Голгофу
ради торжества истины.
Истина для русской интеллигенции
70—80-х годов XIX века не добывается в
процессе теоретического познания.
Революционная интеллигенция была бездоказательно
уверена в том, что истина сама себя явит тогда,
когда будет сброшено иго абсолютизма.
В «Программе Исполнительного комитета»,
напечатанной в январе 1880 года в третьем
номере «Народной воли», подчеркивалось, что
народники-социалисты усматривали в
народном сознании и во многих обычаях зачатки
социализма. Отсюда и проистекала их вера, что
достаточно только сбросить с народа оковы
ненавистной власти, как «в нашей русской
жизни будут признаны и поддержаны многие
чисто социалистические принципы». Именно
одержимостью и уверенностью в своей
правоте, идущей порой вразрез с традиционными
христианскими представлениями о
милосердии, терпимости и т. д. русская интеллиген-
336
ция иногда напоминала антихристианский
орден. Такой ее и изобразил Ф. М.
Достоевский в «Бесах», хотя справедливости ради
следует обратить внимание, по крайней мере, на
три момента. Во-первых, на то, что в «Бесах»
речь идет о революционной организации,
которую сами народники, в частности
представители кружка Чайковского, воспринимали
как «иезуитскую», искажающую сущность
революционного дела. «Программа Нечаева, —
вспоминает А. И. Корнилова-Мороз, —
иезуитская система его организации, слепое
подчинение членов кружка какому-то неведомому
центру... все это нам, как „критически
мыслящим личностям", отрицающим всякие
авторитеты, было крайне антипатично». Во-вторых,
следует учитывать политические воззрения
самого Ф. М. Достоевского. «Достоевский со
своим монархизмом, — замечает Мих. Лиф-
шиц, — есть крайнее выражение недостатков
(но и горячей ненависти)
буржуазно-демократической ступени русского освободительного
движения, ступени разночинства». В-третьих,
следует обратить внимание на те же самые
явления, увиденные глазами другого писателя,
непосредственно участвовавшего в
народническом движении, Степняка-Кравчинского,
который в книге «Подпольная Россия», впервые
вышедшей в Милане в 1882 году, изображает
русскую интеллигенцию в совсем иных тонах.
Интеллигенция, в его изображении, порвав
22 Зак. 3426
337
связь с православной церковью, оставалась в
своем образе жизни и мысли всецело
религиозным духом, отрицающим только погрязший
во зле мир. Степняк-Кравчинский пишет:
«Точно какой-то могучий клик, исходивший
неизвестно откуда, пронесся по стране,
призывая всех, в ком была живая душа, на
великое дело спасения родины и человечества. И
все, в ком была живая душа, отзывались и
шли на этот клик, исполненные тоски и
негодования на свою прошлую жизнь, и, оставляя
родной кров, богатство, почести, семью,
отдавались движению с тем восторженным
энтузиазмом, с той горячей верой, которая не знает
препятствий, не меряет жертв и для которой
страдания и гибель являются самым жгучим,
непреодолимым стимулом к деятельности».
Впрочем «монархизм» Достоевского, на мой
взгляд, был, скорее всего, умозрительным,
отвлеченным, поскольку сам он просто не мог
находиться в равнодушном отношении к
антимонархическим настроениям и тенденциям.
О двойственном отношении Достоевского к
революционному движению, о его осуждении
и где-то даже внутреннем сочувствии
последнему писал, в частности, А. С. Суворин.
Заметим, что среди писателей, которые
стремились не только отобразить российскую
драму 60—70-х годов XIX столетия, но
пытавшихся раскрыть причины, порождающие
соответствующих духу времени героев, был и
338
Л. H. Толстой. Прежде всего им была
выявлена основная проблема российской жизни как
проблема духовного порядка, которую
поэтому невозможно разрешить какими-либо
политико-экономическими способами. Именно
неразрешимость способом внешних
преобразований проблемы отношения государственной
власти и христианского представления о
справедливости последней или, кратко говоря,
проблемы отношения закона и совести
побуждала новое поколение русской
интеллигенции к радикальному отрицанию
существующего порядка вещей. Так, в рассказе «Божеское
и человеческое» (1904) речь идет не просто о
трагической судьбе молодого революционера,
взглянувшего вдруг на себя глазами
уверовавшего во Христа подвижника, а, по сути дела, о
необходимости существенного
преобразования самой христианской религии. Смысл
такого преобразования Толстым был
сформулирован еще в дневниковой записи от 4 марта
1855 года (т. е. за пятьдесят лет до написания
рассказа!): «Вчера разговор о божественном и
вере навел меня на великую, громадную
мысль, осуществлению которой я чувствую
себя способным посвятить жизнь. Мысль
эта — основание новой религии,
соответствующей развитию человечества, религии
Христа, но очищенной от веры и таинственности,
религии практической, не обещающей
блаженства на небе, но дающей блаженства на
339
земле». То, что христианская идея как идея
практическая невидимым образом
вдохновляла юные сердца на самоотверженную борьбу с
царизмом, направляя их таким, а не иным
способом на реализацию правды Евангелия, для
мыслителя было несомненным фактом жизни.
Необходимо только вникнуть в суть этой
правды и понять ее нетленное и внутри каждого
христианина находящееся содержание. А
главное — необходимо искать путь, чтобы это
божеское содержание нас самих стало ядром
всей системы народного образования. Только
в этом случае можно всерьез говорить о Бого-
воплощении как конечной и всеобщей цели
человеческой истории. Таков, на мой взгляд,
смысл философии Толстого в целом и
рассказа «Божеское и человеческое» в частности.
Резюмируя, можно сделать следующие
выводы. Русский революционный нигилизм,
представляющий собой двойное
отрицание — самоотвержение конечного
самосознания и отвержение противостоящего ему
предмета сознания в виде абсолютизма
(«Отречемся от старого мира» — стихи, легшие в основу
партийного гимна большевиков, сочинены
П. Л. Лавровым в 1875 году), вылился в итоге
в суровый опыт отрицания потустороннего и
утверждения посюстороннего абсолюта в
форме тоталитарного царства. «Ибо Бога не
существует, — предупреждал Шеллинг, —
если мы будем брать бытие в том смысле, в
340
каком существует объективный мир;
существуй Бог, в ничто обратились бы мы с вами».
Именно «в ничто» и происходило «обращение»
субъективного, человеческого начала в
условиях отрицательного (ни святого и ни
светского, а советского) апокалиптического
синтеза — заключение этого начала в
рассудочное определение «отражения объективной
реальности». Человек как разумная воля не
обладает реальностью, он — «тень». Для
«выдающегося диалектика» и «лучшего ленинца
нашей эпохи» (так о Сталине писали
«воинствующие материалисты» уже в самом начале
тридцатых годов) искоренение всякого
вольномыслия и его носителей — остатков русской
интеллигенции — было делом наиважнейшим,
ибо между вождем победившего народа и
самим народом не должно быть никакой
свободной прослойки. «Страсть к разрушению», по
убеждению М. А. Бакунина, изначально
присущая людям, теперь поставлена на
рациональную основу — идеологию
марксизма-ленинизма, которая вплоть до тысячелетней
даты крещения Руси будет доказывать
русской душе, что души нет. Предчувствия
Н. К. Михайловского, высказанные им еще в
70-х годах в письмах П. Л. Лаврову, что
революция при низком уровне политического
сознания народа может привести его в еще
более тяжкую форму угнетения, оказались
пророческими. «Русское народное восстание
341
может выставить гениального
честолюбца-цезаря, полубога, перед которым покорно
склонит голову несчастная родина».
В русском социализме как осуществленном
апокалиптическом синтезе безусловного и
обусловленного можно выделить ряд этапов,
которые непосредственно связаны с именами
первых лиц государства.
Первый — ленинский этап, когда два
антипода — Бакунин и Маркс, русская страсть и
немецкая рациональность, практика и
теория — нашли свое воплощение в одном лице,
в лице Ленина. Предсказанный еще П. Я.
Чаадаевым социальный проект начинает
осуществляться во многом благодаря его усилиям:
«Люди увидят, что человек не имеет в этом
мире иного назначения, как эта работа
уничтожения своего личного бытия и замены его
бытием вполне социальным и безличным», для
этого «мы должны еще пройти через...
великое испытание... которое на всей земной
поверхности ощущалось бы как грандиозная
физическая катастрофа».
Для Ленина всегда была важна не просто
та или иная доктрина, а живая диалектика
перехода теории в практику, слова в дело и
наоборот. Так, начиная с 1900 года, когда он в
Мюнхене вместе со своими соратниками
приступает к изданию газеты «Искра»,
российский рабочий класс начинает методически
последовательно обучаться практике революци-
342
онной борьбы. Зримые плоды этой «живой
диалектики» проявились в годы первой
русской революции (1905—1906), когда рабочие
сами стали создавать собственные структуры
власти в форме Советов. Затем, спустя десять
лет, после возвращения из эмиграции, в
апреле 1917 года, Ленин, опираясь уже на
получившую развитие практику образования в
стране структур самоуправления рабочих,
прямо призывает взять курс на создание
республики Советов как государственной формы
диктатуры пролетариата. Вместе с тем в
будущей советской республике все должно быть
подчинено единой воле правящей партии.
Поэтому лозунг «Вся власть Советам!», несмотря
на то что он и имел по внешней форме
некоторый надпартийный смысл, для большевиков
никогда не вызывал каких-либо иллюзий по
вопросу о том, кто должен быть
действительным авангардом. В руки
государства-диктатора должна перейти, прежде всего, земля, а
вместе с ней и все, что на ней находится и
производится. Таким образом, проблема
«земли и воли», по мнению большевиков-ленинцев,
окончательно разрешается. Напомним, что
требования национализации земли и отмены
частной собственности на землю были
заявлены еще на I Всероссийском крестьянском
съезде в 1905 году, большевики же только
довели эти требования до логического конца,
превратив, правда, и тех, кто эти требования
343
выдвигал — само крестьянство — в фактор
(«винтик») сельскохозяйственного
производства.
Государство Советов фактически, особенно
в годы гражданской войны, становится
единственным работодателем и потребителем, а
всеобщая трудовая повинность, введенная в
1920 году, становится нормой нового строя.
К 1922 году власть Советов распространилась
практически на всю территорию бывшей
Российской империи, за исключением ее
западной части — Финляндии, Польши и
Прибалтики. В декабре этого же года формально
независимые национальные советские
республики были фактически слиты в единое
интернациональное государство — СССР. Нет
больше ни великороссов, ни малороссов, ни...
Здесь вновь уместно, на мой взгляд, еще раз
обратиться к размышлению Л. П. Карсавина о
силе русской национальной идеи, стихийно
стремящейся к великодержавию. «Не народ
навязывает свою волю большевикам, и не
большевики навязывают ему свою. Но
народная воля индивидуализируется и в
большевиках; в них осуществляются некоторые
особенно существенные ее мотивы: жажда
социального переустройства и даже социальной
правды, инстинкты государственности и вели-
кодержавия».
Смерть Ленина была во многом
символической именно в христианском смысле: она была
344
подобна «смерти» того зерна, благодаря
которому в истории России начинается
принципиально новая эпоха. Совсем евангелически
воспринимается большевиками окончание его
«земного» пути: «То, что было смертного в
Ленине, умерло, но дело и заветы его пребудут
вечно». Они убеждены в том, что «Ленин был
и будет даже после своей физической смерти
вождем нового человечества, глашатаем,
пророком, творцом нового мира». Новая
народная интеллигенция, взращенная в условиях
революционной мистерии, воспринимала
Ленина как «единственного человека в мире», с
«истинно человеческим сердцем» и в то же
время обладающего «сверхчеловеческой
волей, направляющей жизнь к определенным,
раз поставленным целям». «Ленин, — писал
А. Платонов в 1920 году, — задолго уловил
сам дух еще молчавшей трудовой земли и
вынес в свет общего сознания то, чего все
хотят, что всем нужно, без чего жизнь не
пойдет дальше и что нужно сделать теперь же —
осуществление справедливости, правды и
счастья, и пути к ним — через Советскую
власть к коммунизму». В этих строках, на
мой взгляд, выражена сокровенная вера
самого автора сочинения «Ленин», которая
определила его понимание сущности человека
(«Слышные шаги») — «Человек есть тот, кем
он хочет быть, а не тот, кто живет у всех на
глазах».
345
Похороны этого вождя революции
выразились, прежде всего, доверием народа к
проводимым большевиками социально-культурным
преобразованиям. Именно с этого момента партия
РКП(б) стала быстро увеличивать свои ряды,
пополняясь сотнями тысяч новых членов.
Второй — сталинский этап. При всех
неоспоримых отрицательных сторонах,
присущих политическому режиму этого периода,
когда, по словам Троцкого, был возрожден
«фетишизм власти в таких формах, о которых
не смела мечтать абсолютная монархия»,
Россия обрела реальную политическую
независимость и экономическую мощь
индустриального хозяйства. Уже в первые годы правления
Сталина, в годы его противостояния Троцкому
(особенно начиная с 1927 года), когда был
взят курс на построение социализма в
отдельно взятой стране, проблема «мировой
революции» все более отходит на второй план. Не
только руководство страны, но и рядовые
коммунисты, и простые рабочие ясно понимали,
что способ выживания революции может быть
только один — создание сильной
индустриальной страны. Новый
социально-политический строй дал возможность простому народу,
ради которого русская революционная
интеллигенция шла на самопожертвования,
получить доступ к общему образованию, к миру
техники, искусства и науки. Как бы не была
закрытой страна, но за ходом ее развития
внимательно следили многие ее соотечественни-
346
ки, находящиеся за рубежом. «Россия, —
писал в конце 30-х годов Г П. Федотов, —
несомненно, возрождается материально,
технически, культурно... В удушенную
рационализмом, технически ориентированную душу
вторгаются влияния и образы иного мира,
полнозвучного и всечеловечного, со всем
богатством этических и даже религиозных
эмоций. Этот мир уже не под запретом. (Имеется
в виду, прежде всего, русская литература. —
А. Л.) Вечное заглядывает в глаза, через
прошлое стучится в настоящее. Советский
звереныш становится человеком». Далеко не один
только страх быть расстрелянным или
отправленным в ГУЛАГ являлся «двигателем»
свершений тех лет. Прежде всего источником
реального достижения социализма был тот
душевный подъем широких масс и реальный
энтузиазм молодежи, искренне верившей, что
ее самоотверженный труд служит
благородным целям воплощения идеалов
справедливости. «Мы разносчики новой веры, красоте
задающей железный тон», — писал В. В.
Маяковский в своем стихотворении «Мы идем»,
обращаясь к «двадцатилетним» еще в первые
годы советской власти, но оно продолжало
звучать и находить отклик и в более поздние
периоды. Благодаря образованию новое
поколение переставало воспринимать себя как
нечто существующее вне исторического поля,
вне своей национальной культуры. Даже
трагедия вероломного нападения фашистской
347
Германии на СССР не вызвала тотальной
паники, а, наоборот, только обострило чувство
патриотизма, что, несомненно, оказало
воздействие на официальную пропаганду,
заставив ее оторваться от абстрактных догм
марксизма и учесть эти настроения. Война вновь
стала называться Отечественной войной.
Советский Союз выступает уже не столько
центром мирового коммунистического
интернационализма, сколько наследником Российской
империи. Теперь всячески подчеркивалась
преемственность русской истории. В качестве
характерных в этом смысле политических
актов обращают на себя внимание, например,
введение в 1943 году погон, подобных погонам
царской армии, и восстановление
патриаршества. Напомним, что еще в 1942 году в
«Правде» Сталин называется (тогда еще
митрополитом) Сергием «богоизбранным вождем».
В 1943 году распускается Коминтерн, а в
декабре этого же года на смену
«Интернационалу» приходит новый советский гимн, где Русь,
как известно, выступает в форме
определяющего звена СССР, сплачивающего входящие в
союз народы. Новая идеология страны отныне
представляла собой своеобразный синтез
идей, который позволяет нам в Сталине
видеть как приверженца марксизма-ленинизма
(а следовательно, интернационализма), так
и великодержавного национал-большевика.
«При беспристрастном (не
«прокоммунистическом», но и не «антикоммунистическом») ос-
348
мыслении жизни СССР, — замечает В. В. Ко-
жинов, — который образовался уже во время
НЭПа, в конце 1922 года (и был разрушен в
конце 1991-го), нельзя не прийти к выводу,
что жизнь — при всех ее тяжелейших и даже
жесточайших противоречиях — являла собой
продолжение исторической жизни России, и,
скажем, великая Победа 1945 года была
победой той же страны, того же народа, который
победил в 1812 году».
Однако в условиях тотального «мы» или
«безличного бытия» у «русского разума» уже
не было выбора — он вынужден был,
пересмотрев свое «соловьевско-бердяевское»
представление о себе, искать истину и жизнь
теперь уже не вне себя, не «в опыте и вере», а
только в себе самом. Именно на этом
мучительном пути наступит, как покажет время,
прозрение истины. В условиях абсолютного
бесправия и несвободы личности вместе с
мучениками совести русская христианская
идея уходит в свое настоящее подполье — в
катакомбы духа, чтобы здесь заново обрести и
окончательно упрочить веру в
справедливость, осознать неотчуждаемость права как
такового и необходимость его защиты.
Самым адским испытанием русского духа был,
конечно, лагерный опыт, опыт ГУЛАГа.
«Лагерный опыт, — считает Э. Ю. Соловьев, —
знал случаи высочайшего подвижничества
(в христианском значении этого слова). В
обстановке крайнего насилия вынашивалось со-
349
знание неустранимой внутренней свободы».
Именно сознание абсолютной внутренней
свободы духа и породило затем правозащитное
движение в СССР, отстаивающее «правовую
свободу» «совершенно беззаветно и
жертвенно, — так, как если бы юридические нормы
составляли единое целое с надвременными
требованиями морали или с религиозными
заветами».
Справедливость не является классовым
или партийным понятием, она не
принадлежит никому, даже народу, а существует сама
по себе как форма бытия разума как
такового, но прийти к такому пониманию
справедливости может опять-таки только разум,
преодолевший историческое испытание. Поскольку
весь опыт человеческой жизни и вся
библейская мудрость по своей сути находятся в
разуме (логосе), то только он должен быть
единственным объектом и субъектом веры и знания.
Разум есть конечная инстанция всего пути
русской интеллигенции, которая в своем
отрицании всего и вся достигла предела. В своей
внутренней эмиграции она, наконец, пришла к
себе, отчего эта конечная инстанция
оказалась на деле бесконечной в себе самой.
Сознание бесконечной внутренней свободы или той
негативности, в которой человек вместе с тем
находится у себя, понимая, что никто его
здесь не захватит ни словом, ни делом,
становится необходимым условием для явления в
России разумного познания истины.
350
Почему дело обстоит именно так? Потому,
что чисто эволюционным, дискурсивным
путем невозможно рождение разумного
(божественного) начала в человеке. В Германии
нужно было потрясение, известное как
Реформация, а в России — революция, которую не
следует сводить только к социальному
перевороту. Вспомним, что противоречие русской
философской мысли доходит в начале XX века
до явного раскола, выраженного в
противоположных позициях «Логоса» (философский
журнал, ставший, по выражению Б. В. Яко-
венко, «центром неозападнического движения
в России») и «Пути»
(религиозно-философское издательство, ставшее центром
неославянства). Представители «Логоса» (Ф. А. Сте-
пун, Б. В. Яковенко и др.) кладут во главу
угла «знание современной техники
мышления», а «путейцы» (В. Ф. Эрн, Н. А. Бердяев,
С. Н. Булгаков) отстаивают религиозное
философствование в стихийной форме
мышления. Знание в его отвлеченном от вечного
истока статусе совершенно бесплодно и не
в состоянии «прийти к Богу» (аргумент
Н. А. Бердяева), но и религиозная философия
из-за неопределенности своей мысли есть не
более чем самоуверенное «донкихотство»
(аргумент Б. В. Яковенко). Что делать?
В итоге обе стороны оказываются в
1922 году на «философском пароходе»,
поскольку царство анти-Христа, т. е. царство
христианской идеи в конечном пункте третьей
351
эпохи российской истории, в состоянии
богоподобного «самостоянья человека», по словам
А. С. Пушкина, безусловно отрицает
какое-либо личностное мышление. В условиях
безличного бытия и мышление должно стать
безличным, должно торжествовать единомыслие.
Дух един.
Если мысленно вернуться к тому
духовному состоянию, в котором находилась Россия в
конце XIX—начале XX века, то следует
признать, что, несмотря на некоторое
религиозно-философское возрождение, на преодоление
символизмом реализма и натурализма в
искусстве, национальный дух все-таки
находился в крайне тяжелом состоянии, о чем
свидетельствуют прежде всего события 1904—
1905 годов. Многие представители русской
интеллигенции не находят уже опору ни в
церкви, поскольку она в религии видит только
загробный идеал, ни в государстве, поскольку
оно разрывается между «необходимостью»
изоляционизма Победоносцева и
«необходимостью» модернизма Витте, ни в обществе,
поскольку в нем не обнаруживается ничего
центростремительного и конструктивного.
Понимание того, что «историческое христианство»
уже отжило свой век, ведет их к «Третьему
Завету», к «Евангелию Святого Духа», к
«новому религиозному сознанию», которое
призвано дать полноту жизни. Начинается
интенсивный поиск синтетических форм духа и
плоти, искусства и религии и т. д., однако
352
многообразие философских и религиозных
форм того времени, существующих в виде
сообществ, собраний, философских и
религиозных сборников и т. д., не в состоянии были
породить всеобщую, действительно свободную
форму мышления и бытия. Всеобщая форма
разума или форма мышления и бытия не
зависит от того или иного выбора конечного
философствующего самосознания, она не может
быть предметом «приобретения» у
«европейцев» и не сводима к «технике мышления»
(Ф. Степун) или «форме умственной работы»
(А. А. Ермичев). Сознательное бытие
разумной формы возникает не иначе, как в
результате «трансцендентальной абстракции», т. е.
смерти конечного самосознания и
противостоящего ему бесконечного предмета
сознания (иначе говоря, отрицания всего опытного
или априорно-апостериорного способа
познания).
Впервые это великое событие свершилось в
сфере философского познания в германском
мире (линия Канта, Фихте, Шеллинга и
Гегеля), но поскольку «почвой» для сознательной
философии разума здесь выступал (и
выступает поныне) протестантизм как «земное»
самоутверждение формы конечного
самосознания, то вышеуказанная линия философского
разума вместе с физической смертью ее
представителей оборвалась, оставив после себя
только имитацию в виде неокантианства,
неофихтеанства и т. п. Выход русской философст-
2J Злк. 1426
353
вующей мысли в лице Яковенко, Гессена, Сте-
пуна и др. в свет европейского философского
сообщества, о котором иногда говорят сегодня
как о национальном достижении в области
духовной жизни, на самом деле ничего, кроме
очередных вариаций на тему «как бы»
предмета философии, не означал. Об этом, кстати,
свидетельствует современное положение
русской философской мысли, вновь пытающейся
войти в те воды, течение которых прервала
«Народная революция 1917— 1922 гг.», по
выражению А. А. Ермичева. Тот факт, что в
русском философском мышлении конца
XIX—начала XX века западная постклассическая
мысль обрела для себя новую жизнь, вовсе не
означает, что благодаря этому наступили или
наступят времена сознательного познания
истины.
Чтобы «ввести вечное содержание
христианства в новую, соответствующую ему, то
есть разумную, безусловную форму», как
сформулировал задачу философии В. С.
Соловьев, были нужны, как мне представляется,
как раз те испытания, которые предсказывал
П. Я. Чаадаев. Необходимо было довести
нигилизм до логического конца, подвергнуть
безусловному трансцендентальному
отрицанию весь христианский опыт жизни и мысли,
воплощенный в абсолютизме православной
монархии, что и свершилось в России в
1917 году в результате религиозной
антихристианской революции. Теперь уже не божий
354
промысел ведет народы к конечной цели
истории, а сам Человек намерен взять под свой
контроль если не все человечество, то
определенную его часть, русский народ, превратив
его в средство реализации беспрецедентных
планов. Антихристианская (атеистическая)
деятельность всего
государственно-партийного аппарата была облечена в рациональную
форму, откровенно демонстрируя
необходимость проведения в жизнь идеологии как бы
от имени самого Логоса. Введение Сталиным
формально-рассудочной логики в качестве
государственного учебника (речь идет о
дореволюционном учебнике С. Н. Виноградова «в
обработке и под редакцией А. Ф. Кузьмина»)
было подчинено задачам формирования
особого типа человека, твердо стоящего на
позициях воинствующего материализма-атеизма.
Абстрактный силлогизм как бы оживает, работая
«во имя Человека», и становится наглядным
свидетельством рассудочного отрицания
религии вообще и христианства в частности:
«Всякая религия есть дурман для народа.
Христианство — религия. След., христианство есть
дурман для народа».
Вспомним, что еще в 1905 году в статье
«Социализм и религия» В. И. Ленин,
предельно противопоставляя науку религии,
рассматривал «борьбу с религиозным туманом» как
необходимую составную часть политической
борьбы. Однако если Ленин как-то и пытался
в науке, в материализме находить объектив-
355
ные основания для своих оценок и политиче-,
ских действий, то Сталин выстраивал логику'
своей борьбы, на мой взгляд, только уже в
идеологических целях «опираясь» на
материалистические основания, «раскрытые»
классиками марксизма. В качестве безусловного
начала теоретической и практической
деятельности у него выступает только одно начало —
«Мы должны заранее установить понятия,
которыми мы оперируем». Его «мы» — это и
есть то безусловное, определяющее основание
всякого суждения и всякого силлогизма,
которое, по его замечанию, «является врагом
всякого догматизма».
В упорном стремлении советского
руководства стереть все грани бытия по принципу
«нет Бога — значит, нет и человека» (имеется
в виду божий человек, или христианин) и
завершить всю христианскую эпоху бытием
безбожного человека следует видеть не только
признак произвола и мракобесия. С точки
зрения трансцендентальной философии истории
в этом «своевольном» натиске реализуется то
закономерное или, по выражению Августина,
«допущенное зло», о котором религиозное
представление говорит как о временном
торжестве Антихриста в конце истории.
Дело в том, что, поскольку мышление
христианской идеи рассудочно, в рамках
христианской парадигмы возможно утверждение
только формально-правового,
«секуляризованного» государства. Это подтверждает весь анг-
356
ло-германский опыт государственного
строительства. Истинное же правовое государство
есть царство разумной идеи или логоса, закон
которого является одновременно законом всего
универсума. В форме государства человек
преодолевает свою конечность, достигает
истинного единства реального и идеального, но не в
форме государства, отделенного от религии и
от Бога, а в форме «божественного, этического
государства», по определению И. Канта.
Только в этом случае право как таковое перестает
быть внеположенным по отношению к
человеку писаным законом. Вспомним, что протест
Л. Н. Толстого направлен вовсе не против
права вообще, но против его исторической формы,
демонстрирующей свою гетерономную
природу; против релятивизма правовых норм,
внешним образом принуждающих душу к
послушанию. Вот почему он и выдвигает идею замены
законов заповедью христианской любви
(«Царство Божие внутри вас», «В чем моя вера?»),
усматривая в этом обетованную христианам
форму божественного общежития.
Однако необходимо, чтобы форма
государства, о которой идет речь, была формой
бесконечного в себе разума, снявшего в себе самом
всякую конечность. Первым, негативным
опытом такого снятия (мы не говорим здесь о
моральной стороне этого вопроса) была форма
русского тоталитаризма как абсолютного
отрицания всех исторических форм становления
христианского духа. Иначе говоря, в лице рус-
357
ского тоталитаризма отрицательный характер
христианства достигает предельного пункта
(пункта тотального самоотрицания) и тем
самым реализует присущее христианству
представление о конце истории. Религия
позитивной эсхатологии, получившая в период
абсолютизма развитие в лоне
расколовшегося внутри самого себя православия,
продемонстрировала свое отрицательное отношение к
прошлому как в политико-экономической, так
поэтико-символической форме: «Клячу
истории загоним!».
«Появление в России нового типа
тоталитаризма, — небезосновательно, на мой взгляд,
утверждает Томас Альтицер, — это событие,
имеющее мировое историческое значение»,
которое «может оказаться главным и
исходным событием, ведущим историю к концу...
Бывший семинарист осуществил свое
священное призвание, для него революция в одной
стране стала прологом к мировому
апокалипсису». И действительно, царство анти-Христа
представляло собой попытку выхода за
пределы истории, однако вопреки своим конечным
целям именно оно «породило» невиданную
доселе бесконечную форму свободы — цель
саму по себе, снимающую крайние
определения необходимости и свободы, объективности
и субъективности, эссенции сознания и
экзистенции самосознания.
«Право есть внешняя свобода человека,
определяемая общим законом», — писал
358
Б. H. Чичерин, выражая типичное для всей
философской мысли России (вплоть для
настоящего времени) представление о праве,
которому противостоят законы нравственного
порядка, «обращенные только к совести».
Этот дуализм законов впервые
преодолевается русским духом, который в экстремальных
условиях тотального отрицания свободы не
сломился, а, наоборот, впервые оказался у
себя, в царстве истинного православия.
Царство анти-Христа оказалось только по
видимости прочным и нерушимым, поскольку
представляло собой только рассудочный
(апокалиптический) синтез противоположных
определений идеального и реального, мышления
и бытия, воплощенный в форме Советского
Союза. Саморазложение этого квазиединства
было неизбежно, как и конец любого
государственного образования, не имеющего статуса
первоначального, истинного единства.
Третий этап русского тоталитаризма
связан с целым рядом имен от Н. С. Хрущева до
М. С. Горбачева. Несмотря на то что саркофаг
с телом Сталина поместили в Мавзолее, этот
факт уже не смог предотвратить
необходимость перехода к новой «нелагерной»
политике и экономике. Вместе с принятием
Программы построения коммунизма, где, как известно,
подробно изображался мир материального
изобилия, в общественном сознании
произошла реабилитация самой идеи богатства.
Всеобщее счастье представлялось как вполне ося-
359
заемая, сытая и социально защищенная жизнь
трудящихся масс. Однако вместе с
возрождением или, правильно было бы сказать,
воскрешением русской интеллигенции дух
свободного критического мировосприятия
начинает исподволь развиваться во всех сферах
общества. Происходит индивидуализация
русской идеи; конечное самосознание
начинает все более высвобождаться из
социально-коллективных связей — прежде всего
через осознание значимости своего
внутреннего бытия и противопоставления его
внешнему, официальному миру. В диссидентском
движении 60-х годов возрождается
свойственное русской интеллигенции XIX века
нонконформистское поведение, непримиримость ко
всем видам социальной несправедливости.
Этот новый образ мысли и действия стал
оформляться в правозащитное движение,
возглавляемое такими деятелями, как
А. И. Солженицын и А. Д. Сахаров (имя
А. И. Солженицына в новейшей истории
России дважды выступило как имя, выражающее
собой сам дух русского протеста — первый
раз в 1962 году, когда была опубликована
повесть «Один день Ивана Денисовича», а
второй — в 1989 году, когда началась
публикация «Архипелага ГУЛАГ»). Диссиденты и
правозащитники требовали, прежде всего,
соблюдения в стране Всеобщей декларации
прав человека (известно, что текст этого
международного документа, принятого ООН в
360
■к-
1948 году, в СССР не был известен широкой
общественности).
В этой принципиально новой атмосфере в
стране вновь обнаружилась высшая
потребность человеческого духа — потребность
философского самопознания. Сам факт выхода в
свет пятитомной «Философской
энциклопедии» в период с 1960 по 1970 год,
совпадающий с целой эпохой в отечественной
культуре, эпохой «шестидесятников», был
символическим событием, смысл которого становится
уже понятным для его участников: дух
свободы должен обрести свою истину в философии.
Из внутренней эмиграции, вынуждавшей их
писать «в стол», выходят многие мыслители
старшего поколения, к примеру А. Ф. Лосев,
М. А. Лившиц, Б. М. Кедров, возвращаются
из среднеазиатской ссылки В. С. Библер и
М. Г Ярошевский. Несмотря на видимое
господство марксистско-ленинской идеологии,
русская мысль, пройдя испытания
сталинизмом, выходит в этот период на качественно
новый уровень понимания классической
философии. Благодаря этому внешняя форма
отношения философской мысли к своей идее,
выступившая в российской истории у П. Я.
Чаадаева и В. С. Соловьева как историософская
проблема, начала трансформироваться во
внутреннее отношение (противоречие)
мышления и бытия. Проблема единства сознания и
самосознания, т. е. природы мышления и его
логики, выраженная как проблема реального и
361
идеального, сущего и должного, стала одной
из основных проблем для А. А. Зиновьева,
Э. В. Ильенкова, Г С. Батищева, Л. К. Нау-
менко, Э. Ю. Соловьева и др. В связи с этим
была осознана необходимость усвоения всей
классической философии, особенно
представителей классического немецкого идеализма.
Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель
рассматриваются не только как некоторые
самостоятельные единицы, своеобразные «рудокопы
науки», по выражению Хомякова, но и как
мыслители, трудами которых объективно
завершается ее история. Тем самым в русском
любомудрии начинает преодолеваться
характер стихийности и внешнего заимствования,
происходит сдвиг в сторону сознательного
формообразования философской мысли.
Значительным шагом в этом магистральном
направлении развития философии стала
выпущенная Ленинградским университетом в
1973 году книга Е. С. Линькова «Диалектика
субъекта и объекта в философии Шеллинга».
Однако наряду с сознательным познанием
единого предмета философии, продолжающим
линию классической философской мысли,
внутри официального советского марксизма
стала набирать силу неклассическая
тенденция, реализующая себя в широком диапазоне
установок современной западной мысли — от
неокантианства и экзистенциализма до
герменевтики и культурно-философской
антропологии. Именно эта тенденция беспринципно-аг-
362
рессивного плюрализма мнений в условиях
распада идеологических основ советского
строя и в настоящее время определяет
изменения, происходящие в русской культуре,
особенно в системе образования. Русская идея в
конце XX столетия по причине «развития
индивидуальности» и плюрализма мнений, как
заявляет, например, В. И. Мильдон,
практически перестает существовать. Согласно логике
такого рода «свидетелей» русской идеи,
славяне должны превратиться в этнографический
материал и быть ассимилированы
англосаксонской цивилизацией.
В противовес этой тенденции, в России
множится число попыток создания
«собственной философии на собственной духовной
почве». Еще в семидесятые годы автором
московских самиздатовских журналов Геннадием
Шимановым ставился вопрос о
«религиозно-национальном возрождении России».
Особое внимание, на мой взгляд, заслуживают его
историософские размышления, не
перечеркивающие огульно целые пласты отечественной
истории: «Советская власть, — писал он, —
это не только безбожие и величайшая в мире
гроза, это также и некая тайна и орудие
Божьего Промысла... Процесс возвращения
русского духа в себя, процесс возвращения русского
сознания уже начался, и остановить его ничто
не сможет». Попыток философски приоткрыть
эту тайну было не так и много. Поэтому
заслуживает внимание исследование доктора
363
философских наук В. Г Сидорова, который в
самом идеологическом содержании советского
периода выявляет черты
религиозно-теософских положений: «Это — вера в ближайшее
пришествие коммунизма, величие и
значимость исторических задач, возложенных
историей на советский народ и его вождя —
КПСС, харизматического лидера всего
общества, обязательность нравственных норм для
строительства коммунизма и т. д.».
Однако этот процесс происходит отнюдь не
без простого повторения пройденного. В нем
воспроизводятся старые мотивы русской
религиозно-философской мысли с характерным для
нее представлением о Боге как источнике, но
не субъекте мирового исторического
развития. Согласно этой логике развивается только
сотворенный мир, в котором Бог по сути своей
отсутствует. Однако если начало (Бог-Отец)
всегда трансцендентно по отношению к
своему результату, то истинное возвращение
духа к себе невозможно по определению. Если
христианство как религия откровения в
философском понимании остается не до конца
откровенной религией, т. е. не до конца
понимаемой, то либо религия не соответствует
своему понятию, либо русская религиозная
философия, поскольку она не стремится к
преодолению сокрытия истины, не есть истинное
любомудрие. Религия в форме исторического
вероучения с точки зрения
трансцендентальной философии является преходящим момен-
364
том истины, поэтому не может служить в
качестве некоторого неоспоримого материала
для философской мысли. К такому
пониманию, по-моему, вплотную подошел Л. П.
Карсавин, для которого «погибание земной
Христианской Церкви» является закономерным
итогом «истории человечества», «раз умер
И. Христос».
Две эти тенденции в постсоветском
философском мире по сути дела являются лишь
новыми редакциями «западнической» и
«славянофильской» позиций (позиций «Логоса» и
«Пути»). В силу своей односторонности они
популярны и нередко доводятся современной
историософской и общественно-политической
литературой до крайностей —
ультралиберализма и национал-патриотизма.
11. Актуальность всеобщей цели
Русскую линию развития вселенской идеи
нельзя отнести ни к восточному, ни к
западному аспекту. Россия не есть ни Восток, ни
Запад человеческого мира именно потому, что
содержит в себе оба исторических полюса
сразу, причем в форме напряженного и
идущего к своему разрешению противоречия. Этим
способом она заключает в себе целый мир.
Поэтому русская идея включает в себя
момент тождества или реальности, момент
различия, доходящего до своей противоположно-
365
сти, и момент синтеза, синтетического
единства. И мы видели, как в своем эмпирическом
проявлении русская идея полагала и
сбрасывала с себя исторически преходящие формы
своего бытия, соответствующие трем
моментам своего духовного становления:
соборность, абсолютизм и тоталитаризм.
Причем последняя форма как отрицающая все
предыдущие является не только конечной
фазой русской идеи, но и конечной фазой
христианской идеи как таковой — концом
бессознательного исторического развития
человечества. Русский путь лишь по видимости
является только некоторым особенным
аспектом развития христианской идеи, как об этом
писал В. Соловьев. Поэтому он и оказывается
предельно напряженным и драматическим.
Если использовать религиозную форму
представления, то можно кратко описать ход
русской истории следующим образом:
Соборность как форма непосредственного
единства жизни русского духа имеет,
во-первых, свою предысторию — Киевско-Новгород-
скую Русь, которая в зачаточном виде
содержит в себе «симфоническую» идею Святой
Софии Божественной Премудрости. Весь
«Запад» и весь «Восток» в свернутом виде, или
потенциально, пребывают в этом исходном
пункте российской истории, в своей Софии.
Эта целомудренная, или вселенская по сути
своей, идея развивается в лоне русской
культуры как русская идея. Второй эпохой собор-
366
ной истории Руси является эпоха
монгольского нашествия — период усвоения русскими
«восточного» принципа единства.
Завершается соборность становлением Московского
централизованного государства, вплоть до
начала правления Петра Великого.
Абсолютизм как форма отрицательного
единства русской идеи включает, во-первых,
становление Российской империи как
особого типа абсолютистского государства,
отделенного от «земли» (народа) формой закона.
Петр Великий, пусть это не покажется
странным для современных западников, положил в
основание государства именно восточный
теократический принцип, возведя должность
главы государства в ранг «Отца Отечества». За
внешним фасадом по-европейски отстроенной
имперской столицы просматриваются совсем
иные очертания — очертания обезличивающих
человека египетских пирамид, в тени которых
покоятся многочисленные петербургские
сфинксы. Вторую эпоху абсолютизма
знаменует связанное с именем П. Я. Чаадаева
возникновение русской интеллигенции,
противопоставившей «религии Отца», воплощенной в
царстве православного самодержавия, «религию
Сына», носителем которой был народ.
Завершает абсолютизм период религиозной
революции и гражданской войны с 1917 по 1922 год.
Тоталитаризм как осуществленный
апокалиптический синтез включает, во-первых,
становление Советского Союза как царства
367
богоотрицающего «Сына» или анти-Христа,
когда советская Россия, по словам Г П.
Федотова, переживала в конце 30-х годов процесс,
подобный Римской (константиновской)
империи в период смены религии. Во-вторых, он
включает новое рождение русской
интеллигенции в период хрущевской оттепели и
брежневского застоя, не признающей свое
духовное родство с революционной
интеллигенцией 70-х и 80-х годов XIX века, и,
в-третьих, период горбачевской перестройки с 1985
по 1991 год, закончившийся распадом СССР
Вместе с распадом Советского Союза
наступает «конец истории».
Ситуация сегодняшнего момента, на мой
взгляд, напоминает некую прострацию, в
которой вдруг оказался уже свободно
действующий, но еще не знающий самого себя человек.
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь,
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит:
так бывает со всяким, рожденным от Духа»
(Ин 3:8). Никто не пытается раскрыть
определенность этого момента всемирной истории.
А между тем история как диалогический
процесс истины (процесс раздвоенного разума,
или рассудка) действительно подошла к
своему завершению уже в конце второго
тысячелетия христианской эры. Логос, скрытый за
внешним, эмпирическим движением
всемирной истории и являющийся только в форме
определенных, особенных образов религии
единого разума, должен благодаря и в самой
368
деятельности человека явить себя уже в
чистой форме «всеобщей религии разума»,
выражаясь словами Канта и Фихте, и на основании
достигнутой, наконец, разумной свободы
начать свой открыто логический процесс.
Однако этого не происходит по причине незнания
человеком своей безусловной сущности, ибо
он пока только слышит голос духа, но не
знает, откуда он.
Новая постсоветская Россия скорее
демонстрирует шествие назад, чем вперед, пытается
двигаться от тоталитаризма в сторону
абсолютизма и соборности, примеривая в то же
время некритически заимствованные в западном
мире формы конституционного наряда и
загоняя жизнь россиян в стихию рыночных
отношений. Вновь форма
государственно-бюрократического царства вместе с Русской
Православной церковью отделяется от содержания
реальной жизни своих граждан. Откровенные
призывы к созданию государства,
«вооруженного лозунгом священной войны во имя
справедливости», «государства как ипостаси
Святой Руси» и т. п., на мой взгляд, ни к чему,
кроме очередной смуты, привести не смогут,
хотя эти призывы не лишены смысла в том
плане, что необходима новая
патриотическая идеология, опирающаяся на знание всей
истории страны (эту мысль справедливо
высказывал В. В. Кожинов), что государство не
может быть «светски нейтральным» и т. п.
Каким образом, в свое время задавался вопросом
2-1 Зак. 3426
369
H. Я. Данилевский, государство может быть
свободным от религии, свободным от Христа,
и отвечал: «Конечно, не иначе как перестав
быть христианским».
Когда крайности сходятся в какой-либо
точке, то возникает вполне готовая ситуация
для серьезного анализа взглядов
философов-теоретиков на одну и ту же проблему.
В данном случае речь идет об обустройстве
России либо в форме самобытного
христианского мира, либо как страны,
интегрированной в европейское сообщество. Современных
теоретических оппонентов может объединять
как позиция отрицания, так и позиция
положительного отношения к определенным
формам отечественной истории. Однако есть и
такие воззрения, которые видят путь
современной России не только в отрицании
коммунистического прошлого, но в особом
«переходе с коммунистического на
историческое преемство» через «восстановление
монархии»: «Возрожденная Императорская
Россия, — пишет А. Зубов, — встанет в ряд
современных монархических демократических
Европейских наций, подобных
Великобритании, Нидерландам, Норвегии или Испании».
Однако что касается русского государства,
то сегодня оно должно по логике вещей
воплощать в себе всеобщую религию разума,
поскольку все особенные формы православия —
религия непосредственного, симфонического
единства «Отца и Сына» {соборность), рели-
370
гия «Отца без Сына» (абсолютизм) и религия
«Сына без Отца» (тоталитаризм) — уже
пройдены. Всеобщая религия разума есть
преобразованное христианство или, по словам
Е. Н. Трубецкого, «обоженное человечество»,
для которого истинный предмет веры и знания
уже не выступает как нечто противоположное
объективному ходу всемирной истории, как
нечто вторичное, всего лишь как средство, а,
наоборот, выступает как законная самоцель
всего сущего. Бог как Дух истины становится
Богом человека или Богочеловеком в
диалогическом процессе своей истории и заканчивает
свой диалог, чтобы как бы в молчании начать
процесс вечного самосозерцания. Всеобщая
религия разума, или религия самой истины,
не отрицает религию Христа (в этом
принципиальное отличие трансцендентальной точки
зрения от религиозно-философских воззрений
Д. С. Мережковского), а является тем же
самым, но преобразованным вероучением —
действующим в себе и через познание самого
себя логосом. Таким образом, вся история
человечества есть не что иное, как глобальный
процесс перехода от религии закона к религии
знающего себя духа, но через путь
христианского опыта, через диалогический процесс
формообразования.
В свое время, когда Вера «пришла» на
смену Закону, мало кто понимал, что
человечество пребывает уже «не под руководством де-
товодителя» (Гал 3:25), что оно «одно во Хри-
371
сте Иисусе» (Гал 3:28). Настоящее понимание
этого пришло гораздо позже, когда сама вера
стала понимающим самое себя понятием,
когда «дело христианства, перенесенное и
продолженное на почве чистой мысли», по
выражению П. Я. Чаадаева, стало делом
философского мышления. Вот почему русскому духу
необходимо пройти через горнило
классической философской мысли, чтобы сознательно
принять духовную эстафету от немцев и
понять то, что он содержит в себе. Содержит же
он в себе все добытое всемирной историей
содержание в его существенных определениях,
однако понять это абсолютное богатство
может только философски развитый ум.
Осознание необходимости реформы
российской системы образования должно, на мой
взгляд, подняться на тот уровень, когда станет
понятно, с чего эту реформу необходимо
начинать, а не кому подражать и какую систему
образования пытаться извне встраивать в
российскую жизнь. «Что же нам, русским, делать
в настоящую минуту? — справедливо
задавался вопросом Л. Н. Толстой. — Сговориться ли
всем и взять за основание английский,
французский, немецкий или североамериканский
взгляд на образование и какой-нибудь из их
методов? Или, углубившись в философию и
психологию, открыть, что вообще нужно для
развития души человека и для приготовления
из молодых поколений наилучших людей, по
нашим понятиям?».
372
Эту же мысль развивает Б. В. Яковенко,
полагающий что «мы должны признать, что
философия, бывшая раньше греческой, в
настоящее время преимущественно немецкая.
А потому, лишь усвоив это наследство,
сможем и мы уверенно пойти дальше». Важно,
однако, заметить, что сам процесс усвоения
философского наследия объективно приводит к
изменению не только содержания сознания
познающего, но и формы его самосознания.
Только в этом случае можно говорить о
действительном усвоении и дальнейшем развитии
философского познания как такового. Что же
касается точки зрения Л. Н. Толстого по
данному вопросу, то его представление о
духовном совершенствовании человека
предполагает безусловное сохранение «первобытной
формы», ибо «нарушает первобытную форму
только насилие».
Итак, без содержательного преобразования
самого ядра всей системы образования —
профессионального философского образования —
не может быть и речи о создании прочного
фундамента государственной жизни России и
ее обустройства. Беспредметному плюрализму
должен быть положен разумный предел. Во
всяком случае, в государственных
университетах предмет классической философии по
праву должен стать первым предметом
творческого познания. Проблема сознательного
формообразования русской философской мысли —
это, по большому счету, не только проблема
373
возрождения и развития мировой
классической философской мысли в ее отвлеченной от
жизни форме, но проблема национального
самоопределения и спасения.
До сих пор мировая история развивается в
форме слепой необходимости или
бессознательного процесса истины. «Ходящий во тьме
не знает, куда идет» (Ин 12:35). Конец ее в
христианском смысле означает возвращение
идеи (логоса) к себе, к своему истинному
началу, когда в роли ведущего должна уже
выступить не «некая темная сила» (Ницше), а
всеобщая, знающая себя воля,
устанавливающая закон истины и свободы в основание
суверенных государств.
Православие есть отнюдь не застывшая
византийская форма веры и знания, а
христианское вероучение, выражающее самое себя в
исторических формах соборности,
абсолютизма и тоталитаризма и в соответствии с
понятиями (категориями) своей логики,
воплощающей в себе как духовность Востока, так и
рациональность Запада. Поэтому процесс
философского познания этих существенных
определений есть в тоже время не только
особенная форма самосознания духа русского
народа, но и выражение «чистой последней цели
истории» (Гегель), актуальность которой для
современного человечества с точки зрения
классической трансцендентальной философии
не вызывает какого-либо сомнения. С нами
вера и разум.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абеляр П. Теология «Высшего Блага» //
Абеляр П. Теологические трактаты, М.: Канон+РООИ
«Реабилитация», 1995. С. 263—403.
2. Аквинский Фома, Сумма теологии. Часть I.
Вопросы 1—43. М.; Киев: Издательства «Эльга»;
«Ника-Центр»; «Элькор-МК»; «Экслибрис», 2002. 560 с.
3. Аристотель. Метафизика / Пер. с древнегреч.
А. В. Кубицкого. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
608 с.
4. Арсланов В. Г Постмодернизм и русский
«третий путь»: tertium datur российской культуры
XX века. М.. Культурная революция, 2007 656 с.
5. Бердяев И. А. Смысл истории. М.: Мысль,
1990. 176 с.
6. Блаженный Августин. О граде Божием. М..
Харвест; ACT, 2000. 1296 с.
7 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. М.:
Русская книга, 1992. 528 с.
8. Василий Великий, Святитель. Слова
подвижнические. М.. Московское Подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, 2001. 56 с.
9. Вебер М. Протестантская этика и дух
капитализма // ВеберМ. Избранные произведения / Пер.
с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова.
М.: Прогресс, 1990. 808 с.
10. Виндельбанд В. К столетнему юбилею Канта
// Фауст и Заратустра: Сб. ст. СПб.:
Азбука-классика, 2001. 320 с.
11. Виндельбанд В. История философии, СПб.:
Ника-центр, Вист-С, 1997 548 с,
12. Гайдар Е. Т Долгое время: Россия в мире
(Очерки экономической истории). М.. Дело, 2005,
656 с.
13. Гегель Г В. Ф. Лекции по истории
философии. Книга первая. СПб.: Наука, 1999. 347 с; Книга
375
вторая. СПб.: Наука, 1999. 421 с; Книга третья.
СПб.. Наука, 2001. 577 с.
14. Гегель, Г В. Ф. Лекции по философии
истории / Пер. А. М. Водена. СПб.. Наука, 2000. 477 с.
15. Гегель Г В. Ф. Феноменология духа / Пер.
Г Г. Шпета. СПб.: Наука, 1992. 444 с.
16. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Пер.
Б. Г Столпнера. М,: Мир книги. Литература, 1990. 464 с.
17 Гердер И Г Идеи к философии истории
человечества. М.: Наука, 1977 704 с.
18. Гинее В. Н. Блестящая плеяда //
Революционеры 1870-х годов. Л.. Лениздат, 1986. 440 с.
19. Гуссерль Э. Картезианские размышления.
СПб.. Наука, 1998. 320 с.
20. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.:
Книга, 1991. 574 с.
21 Дамаскин Иоанн, преподобный. Точное
изложение православной веры. М.: Даръ, 2002. 416 с.
22. Декарт Р Сочинения. Т 1. М.: Мысль, 1989.
654 с.
23. Достоевский Ф. М. Полное собрание
сочинений. Т. 27 Л.: Наука, 1984.
24. Ермичев А. А. Основные слагаемые русской
истории философии // Русская философия: Новые
исследования и материалы. СПб.. Летний сад.
Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
С. 26—38.
25. Жильсон Э. Избранное. Т. 1. Томизм.
Введение в философию св. Фомы Аквинского. СПб.:
Университетская книга, 1999. 496 с.
26. Замалеев А. Ф. Семестровый курс по истории
русской философии // Русская философия: Новые
исследования и материалы. СПб.. Летний сад.
Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
С. 105—158.
27 Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная
война в России XV в. М.: Мысль, 1991. 288 с.
376
28. Зиновьев А. А. Запад. М.: Эксмо, 2003. 512 с.
29. Златоуст Иоанн, Святитель. Против
иудеев. М.. Лодья, 2000.
30. Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М.:
Политиздат, 1984. 320 с.
31. Ильин В. Н. Миросозерцание графа Льва
Николаевича Толстого. СПб.: Издательство РХГИ, 2000.
480 с.
32. Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о
конкретности Бога и человека. СПб.: Наука, 1994. 544 с.
33. Иоанн, митрополит. Русская симфония.
СПб.. Царское дело, 2001 496 с.
34. Кант И. Критика чистого разума // Кант И.
Соч.: В 6 т. Т 3. М.: Мысль, 1964. 799 с.
35. Кант И. Религия в пределах только разума //
Кант И. Трактаты и письма. М.. Наука, 1980. 712 с.
36. Карсавин Л. П. Философия истории. СПб.:
Комплект, 1993. 352 с.
37 Карамзин H M. История государства
Российского. М.: ACT; АСТ-Москва; Хранитель, 2008.
38. Киреевский И. В. Полное собрание
сочинений. Т. 1. М.. Путь, 1911.
39. Ключевский В. О. Очерки и речи. М.:
Типография П. П. Рябушинского, 1913. 514 с.
40. Кожинов В. В. О русском национальном
сознании. М.. Эксмо; Алгоритм, 2004. 416 с.
41. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории.
Автобиография. М.: Наука, 1980. 488 с.
42. Кропоткин П. А. Великая Французская
революция 1789—1793. М.. Наука, 1979. 340 с.
43. Кузанский Н. Сочинения. Т. 1. М.: Мысль,
1979. 488 с.
44. Левандовский А. А. Время Грановского. У
истоков формирования русской интеллигенции. М,.
Молодая гвардия, 1990. 302 с.
45. Лекции Т. Н. Грановского по истории позднего
средневековья. М.: Наука, 1971. 214 с.
377
46. Линьков Е, С. Диалектика субъекта и объекта
в философии Шеллинга. Л.: Издательство ЛГУ, 1973.
112 с.
47 Лифшиц М. А. Что такое классика? М..
Искусство XXI век, 2004. 512 с.
48. Ломоносов А. Г Возвращение к себе. Опыт
трансцендентальной философии истории. СПб.:
Издательство СПбГУ, 2007 239 с.
49. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении / /
Локк Дж. Соч.: В 3 т. Т. 1 М.: Мысль, 1985. 622 с.
50. Лосский В. H. Очерк мистического богословия
Восточной церкви. Догматическое богословие. М.:
Центр «СЭИ», 1991. 288 с.
51. Лосский Н. О. История русской философии.
М.: Советский писатель, 1991. 480 с,
52. Лютер М. О рабстве воли // Эразм
Роттердамский. Философские произведения. М.: Наука,
1987. 702 с.
53. Лютер М. О свободе христианина //
Лютер М. 95 тезисов. СПб.: Роза мира, 2002. 674 с.
54. Мережковский Д. С. Зачем воскрес?
Религиозная личность и общественность // Русская
философия. Конец XIX—начало XX века. СПб.:
Издательский дом СПбГУ, 1993. 592 с.
55. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и
рассуждения. СПб.: Азбука, 2000. 224 с.
56. Моисеев Н. Расставание с простотой. М.:
Аграф, 1998. 480с.
57 Мор Т Утопия // Утопический роман
XVI—XVII веков. М.. Художественная литература,
1971. 496 с.
58. Муравьёв А. Н. История философии как
философская наука // Философский альманах. № 24.
Ч. 1. СПб., 2003.
59. Мухаммад Икбал. Реконструкция
религиозной мысли в Исламе. М.: Восточная литература,
2002. 200 с.
378
60. Мюллер Д. Т Христианская догматика.
Сент-Луис: Фонд «Лютеранское наследие», 1998. 766 с.
61. Нефедов С. А. О китайском культурном
влиянии в Золотой Орде / / Россия и Общества Востока:
динамика социального развития, политические
отношения, межкультуриые коммуникации. Уфа: Ги-
лем, 2005.
62. Ницше Ф. Сочинения. Т. 1, М.: Мысль, 1990.
832 с.
63. Оршега-и-Гассеш X. Что такое философия?
М.: Наука, 1991. 408 с.
64. Панченко А. М. О русской истории и
культуре. СПб.: Азбука, 2000. 464 с.
65. Платон. Государство // Платон. Собр. соч.:
В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. 654 с.
66. Платонов С. Ф. Полный курс лекций по
русской истории. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 576 с.
67. Поппер К. Открытое общество и его враги.
Т. 2. М.: Культурная инициатива, 1992. 528 с.
68. Покровский M. Н. Избранные произведения.
М.: Мысль, 1966—1967
69. Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским
митрополитам. Петроград, 1916.
70. Рассел Б. История Западной философии.
Книги 1—2. Новосибирск: Миф, 1994. 512 с.
71 Рахман X. У Краткая история ислама. М.:
УММА, 2003. 416 с.
72. Самосознание европейской культуры XX века:
мыслители и писатели Запада о месте культуры в
современном обществе / Сост. Р. А. Гальцева. М..
Политиздат, 1991. 366 с.
73. Сартр Ж. П. Бытие и Ничто. Опыт
феноменологической онтологии / Пер. В. Колядко. М.:
Республика, 2000. 640 с.
74. Светлов Р В. Античный неоплатонизм и
александрийская экзегетика. СПб.: Издательство
СПбГУ, 1996. 233 с.
379
75. Свердлов M. Б. Домонгольская Русь. СПб.:
Академический проект, 2003. 736 с.
76. Соколов И И. О Византизме в церковно-исто-
рическом отношении. СПб.: Издательство Олега
Абышко, 2003. 272 с.
77 Соколов В. В. Средневековая философия. М.:
Высшая школа, 1979. 448 с.
78. Соловьев В. С. Собрание сочинений. СПб., 1912.
79. Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. М.:
Политиздат, 1991. 432 с.
80. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.
М.: Издательство политической литературы, 1992.
544 с.
81. Спиноза Б. Этика. М.: ACT; Харвест, 2001. 336 с.
82. Степун Ф. Россия накануне 1914 года //
Вопросы философии. 1992. № 9. С. 85—120.
83. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.:
Айрис-Пресс, 2002. 640 с.
84. Трёльч Э. Историзм и его проблемы:
Логическая проблема философии истории. М.. Юрист, 1994.
720 с.
85. Трубецкой Е. Н. Избранное. М.: Канон, 1995.
480 с.
86. Утченко С. Л. Политические учения Древнего
Рима. М.: Наука, 1977 256 с.
87 Федотов Г П Россия и свобода / /
Мыслители русского зарубежья. Бердяев. Федотов. СПб.:
Наука, 1992. 464 с.
88. Фихте И. Г Второе введение в наукоуче-
ние // Фихте И. Г Сочинения. СПб.: Наука, 2008.
С. 97—149.
89. Фихте И. Г Наставление к блаженной
жизни // Фихте И. Г Сочинения. СПб.: Наука, 2008.
С. 597—734.
90. Фихте И. Г. Основа общего наукоучения //
Фихте И. Г Соч.. В 2 т. Т. 1. СПб.: МИФРИЛ, 1993.
С. 65—338.
380
91. Фихте И. Г. Основные черты современной
эпохи // Фихте И. Г Соч.: В 2 т. Т. 2. СПб.: МИФ-
РИЛ, 1993. С. 359—618.
92. Флоровский Г В., протоирей. Пути русского
богословия. Вильнюс, 1991. 600 с.
93. Франк С. J1. Русское мировоззрение. СПб.:
Наука, 1996. 740 с.
94. Фромм Э. Бегство от свободы. М.. Прогресс,
1990. 272 с.
95. Фуку яма Ф. Конец истории? // Вопросы
философии. 1990. № 3. С. 134—147
96. Хайек Ф. Дорога к рабству. М.. Новое
издательство, 2005. 264 с.
97 Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука,
2002. 452 с.
98. Халленслебен Б. Кто субъект истории? / /
Общественные науки и современность. 1996. № 2.
С. 30—33.
99. Хегглунд Б. История теологии. СПб.: Светоч,
2001. 372 с.
100. Хомяков А. С. Сочинения. Т. 1. М.: Медиум,
1994. 592 с.
101 Хорошев А. С. Политическая история
русской канонизации (XI—XVI). М.: Издательство МГУ,
1986. 208 с.
102. Хоружий С. С. Неопатристический синтез и
русская философия // Вопросы философии. 1994.
№ 5. С. 75—88.
103. Чаадаев П. Я. Сочинения. Т. 1. М.. Наука,
1991. 768 с.
104. Чичерин Б. Н. Философия права. СПб..
Наука, 1998. 656 с.
105. Чичерин Б. Н. Наука и религия. М.:
Республика, 1999. 495 с.
106. Шахназаров О. Л. Советское общество
1917—1953 гг.: Аномалия или закономерность? //
Вопросы философии. 2004. № 10. С. 33—46.
381
107 Шеллинг Ф В. Й Система мировых эпох.
Томск: Водолей, 1999. 320 с.
108. Шеллинг Ф В. Й. Система
трансцендентального идеализма. Л.. ОГИЗ, СОЦЭКГИЗ, 1936. 480 с.
109. Шеллинг Ф. В. И. Философия откровения.
Т. 2. СПб.: Наука, 2002. 480 с.
110. Шеррер Ю. Об одной теологии
революции // Ступени. 1992. № 1. С. 67—74.
111 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки
морфологии мировой истории Т. 1. Новосибирск: ВО
«Наука», 1993. 572 с.
112. Яковенко Б. В. История русской философии.
М.: Республика, 2003. 512 с.
113. Ясперс К. Всемирная история философии.
Введение. СПб.: Наука, 2000. 272 с.
114. Hegel G. W F Vorlesungen über die
Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main:
F Meiner Verlag, 1986.
115. Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Leipzig:
Reclam, 1967 998 p.
116. Kant I. Kritik der praktischen Vernunft.
Hamburg: Felix Meiner, 2003. 277 p.
117 Fichte J. G. Die Wissenschaftslehre.
Stuttgart-Bad Cannstatt: F Frommann Verlag (Günther
Holzboog), 1969. P. 93—499.
118. Fichte J. G. Das Sistem der Sittenlehre.
Hamburg, 1963.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора 5
Вариации на тему морально-практической
философии:
МЫСЛИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПАСТЬ 11
1. Умыслы и вымыслы 11
2. Упущенные возможности 15
3. Грани индивидуальной свободы, или синдром
колобка 20
4. «А за что люблю Ивана?» 24
5. Тошнота: экзистенциальные переживания
современной философской мысли 30
6. Пожалейте антропоморфных богов 34
7 Софизмы и эвфемизмы 36
8. Умереть от зависти 41
9. Цены и ценности 48
10. Осуществление или овеществление 53
11.0 достоинстве и назначении человека 57
Вариации на тему спекулятивно-теоретической
и религиозной философии:
ПОНИМАТЬ И БЫТЬ У СЕБЯ 67
1. Всё знают все? 67
2. Познай самого себя 73
3. Метаморфозы представлений 79
4. О «недоразумении» русского философствования 85
383
5. Древнегреческая философия как предпосылка
христианства 94
6. «Запад есть Запад, Восток есть Восток»? 99
7 Историческая форма христианства и проблема
ее исхода 105
8. Общественное призвание науки 113
9. О смысле и практической пользе философского
знания 121
10. Трансцендентальная философия и христианская
религия 130
11 Превосходная степень, или как стать разумным 145
12. О задачах ученого сословия 165
13. Актуальность философии самосознания: от
диалога к монологу 172
Вариации на тему русской историософии:
ВОЗЛЮБИ ЕЕ РАЗУМЕНИЕМ ТВОИМ 197
1. Русская идея как историческая быль 197
2. О законности власти Улуса Джучи (Орды) 210
3. Трудно быть богоносцем 225
4. Соборность, или русская симфония 233
5. Антитеза русского сознания и «латинизация»
Руси 239
6. Абсолютизм как отрицательное в себе единство
русской идеи 254
7 Проблема свободы национального духа 277
8. Православный принцип империи двуглавого
орла 283
9. Советский тоталитаризм как апокалиптический
синтез 294
10. Религия позитивной эсхатологии 334
11 Актуальность всеобщей цели 365
Список литературы 375