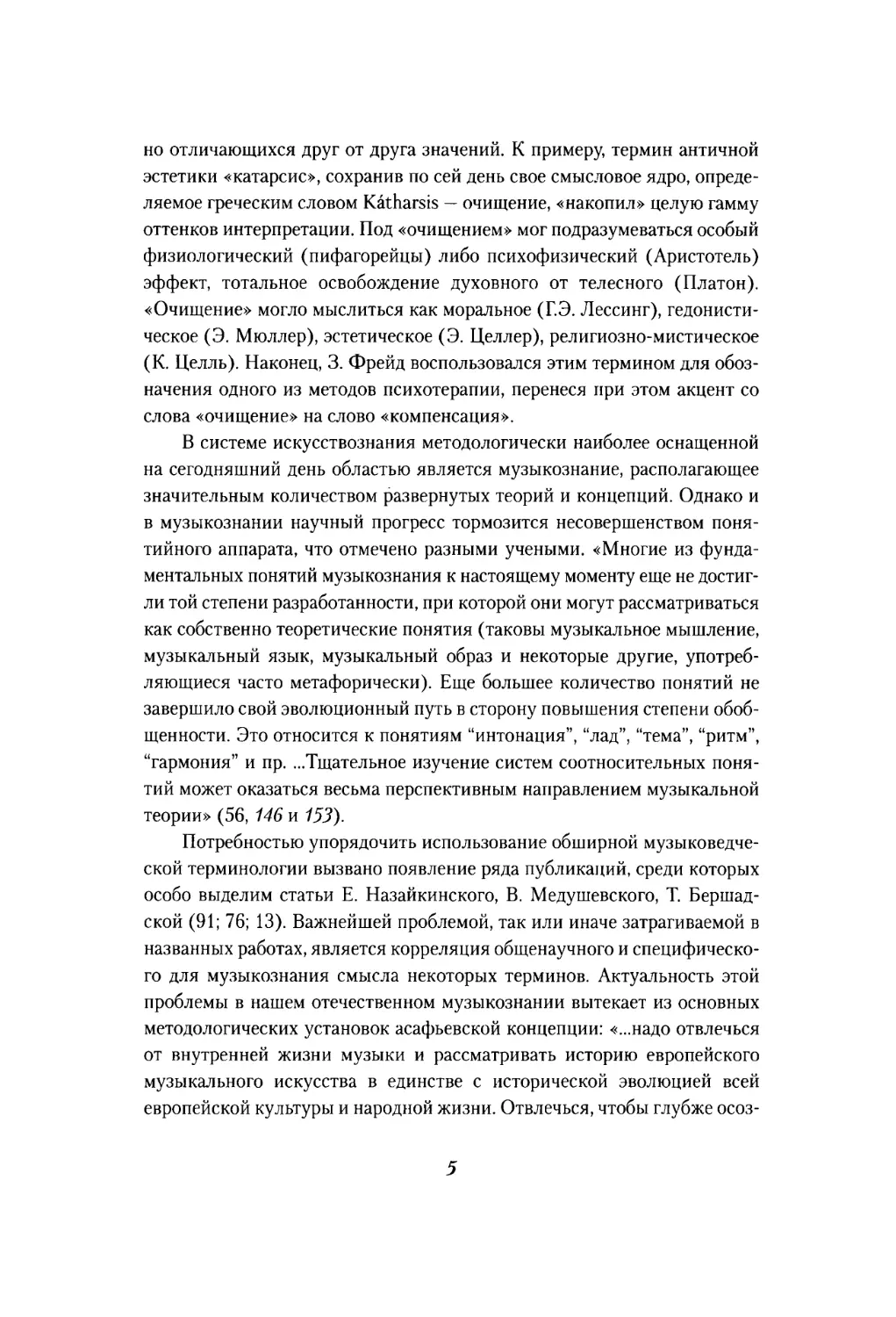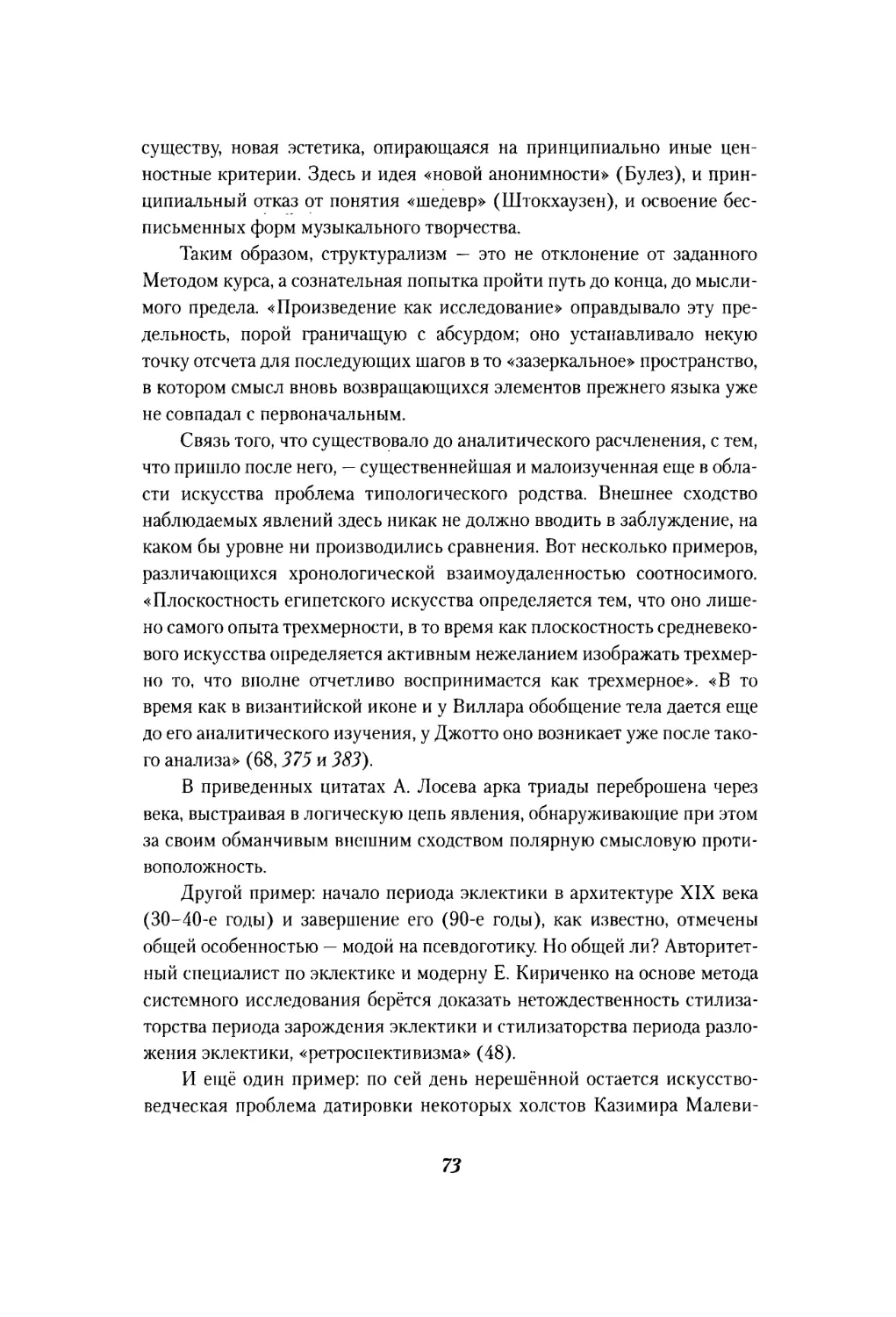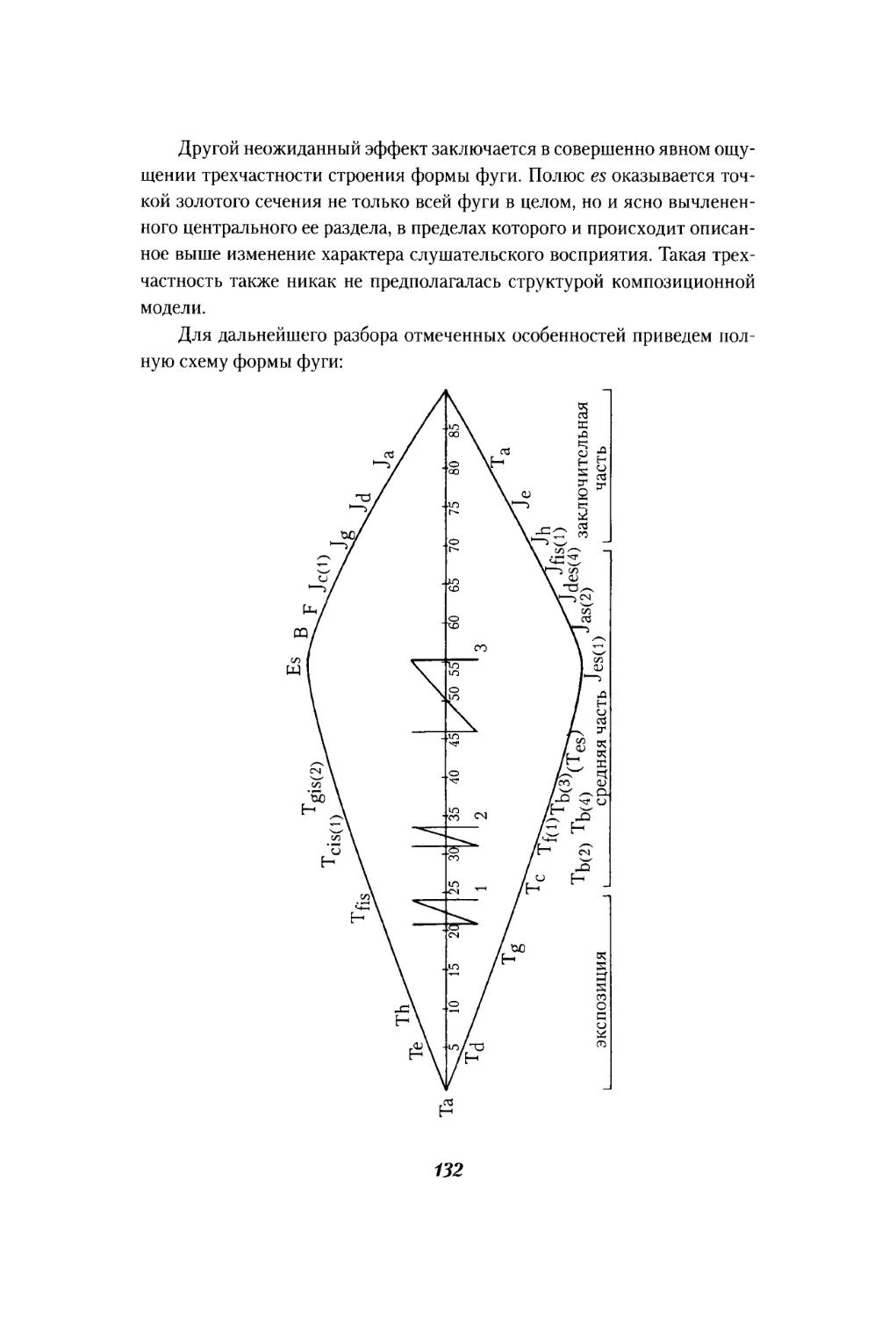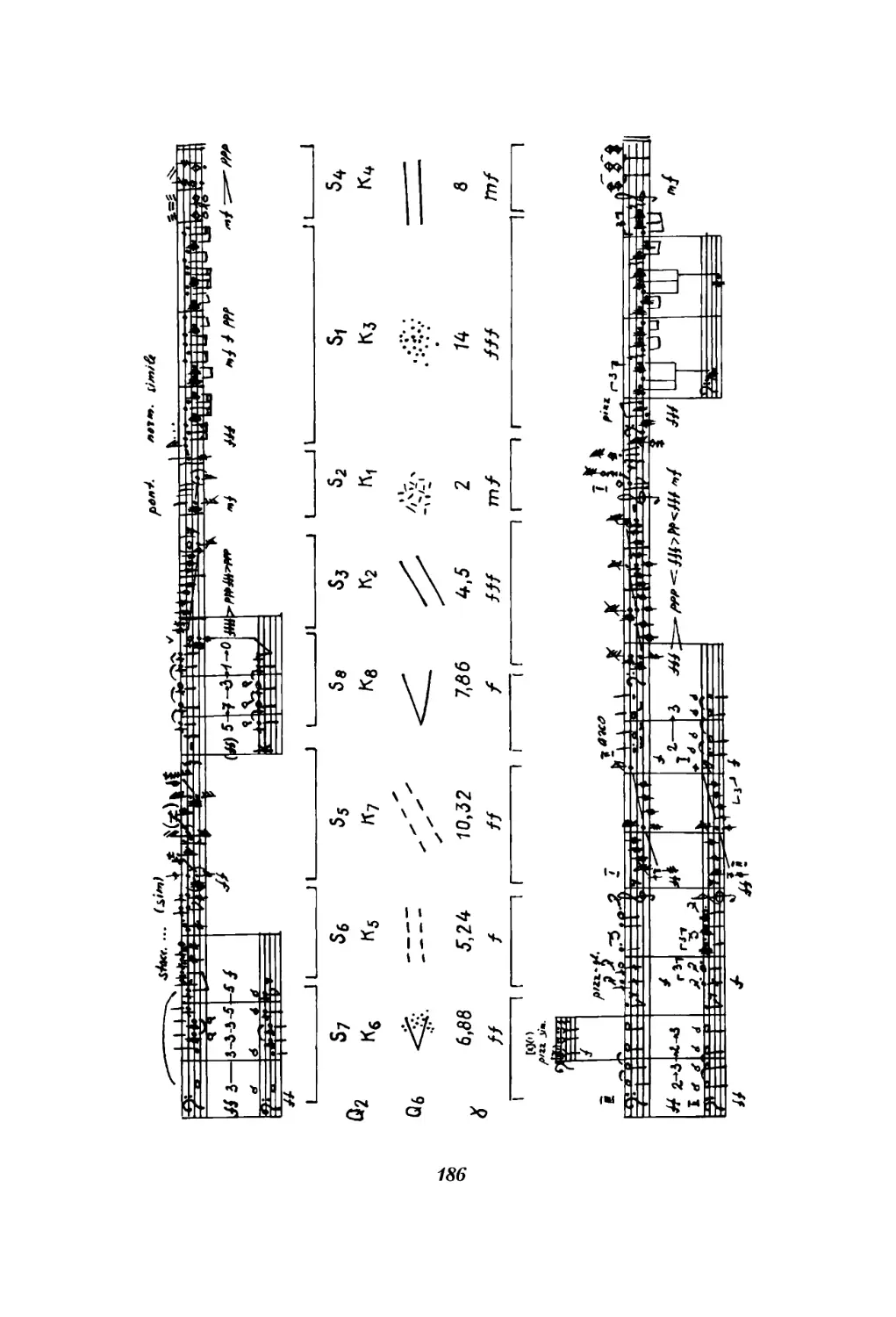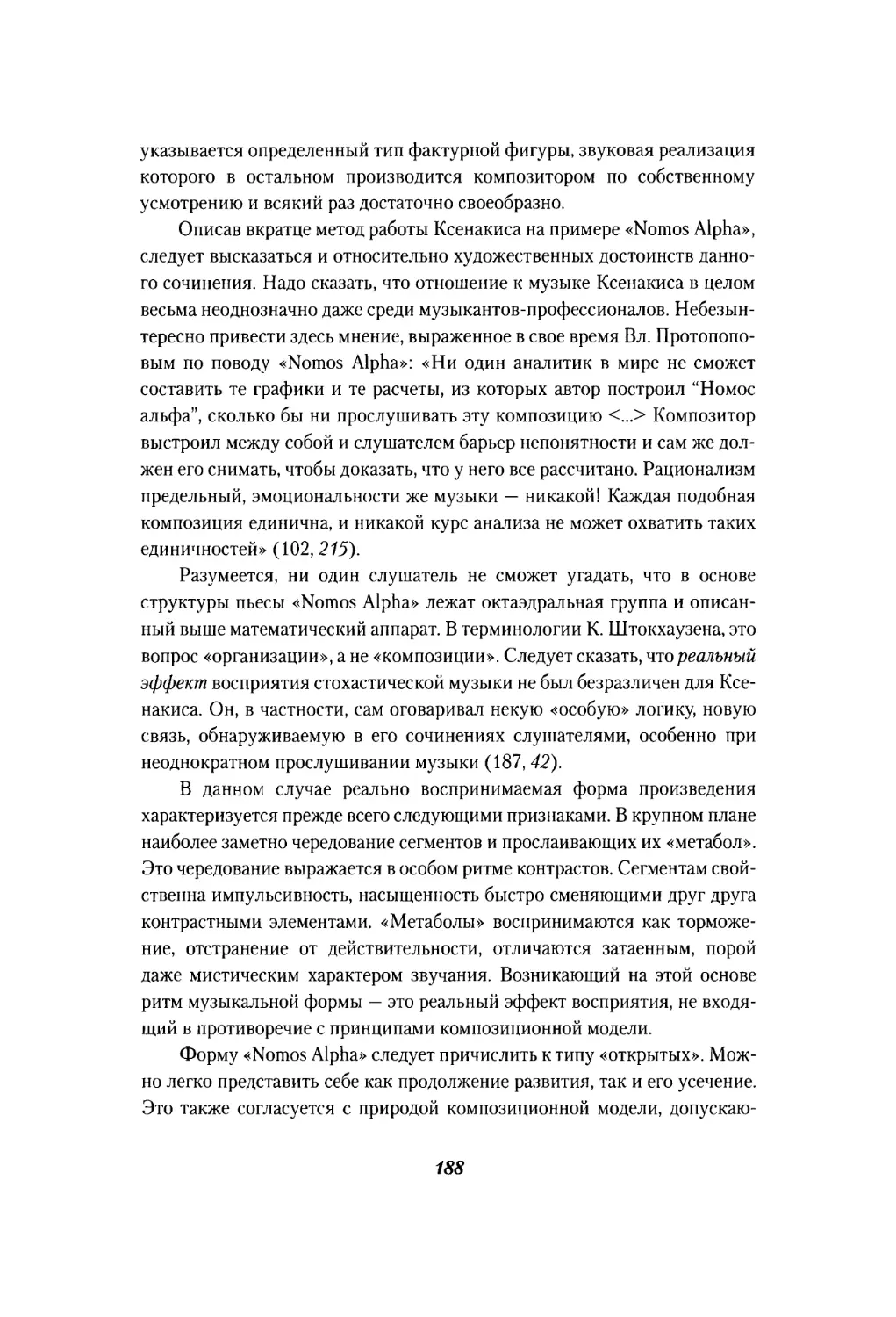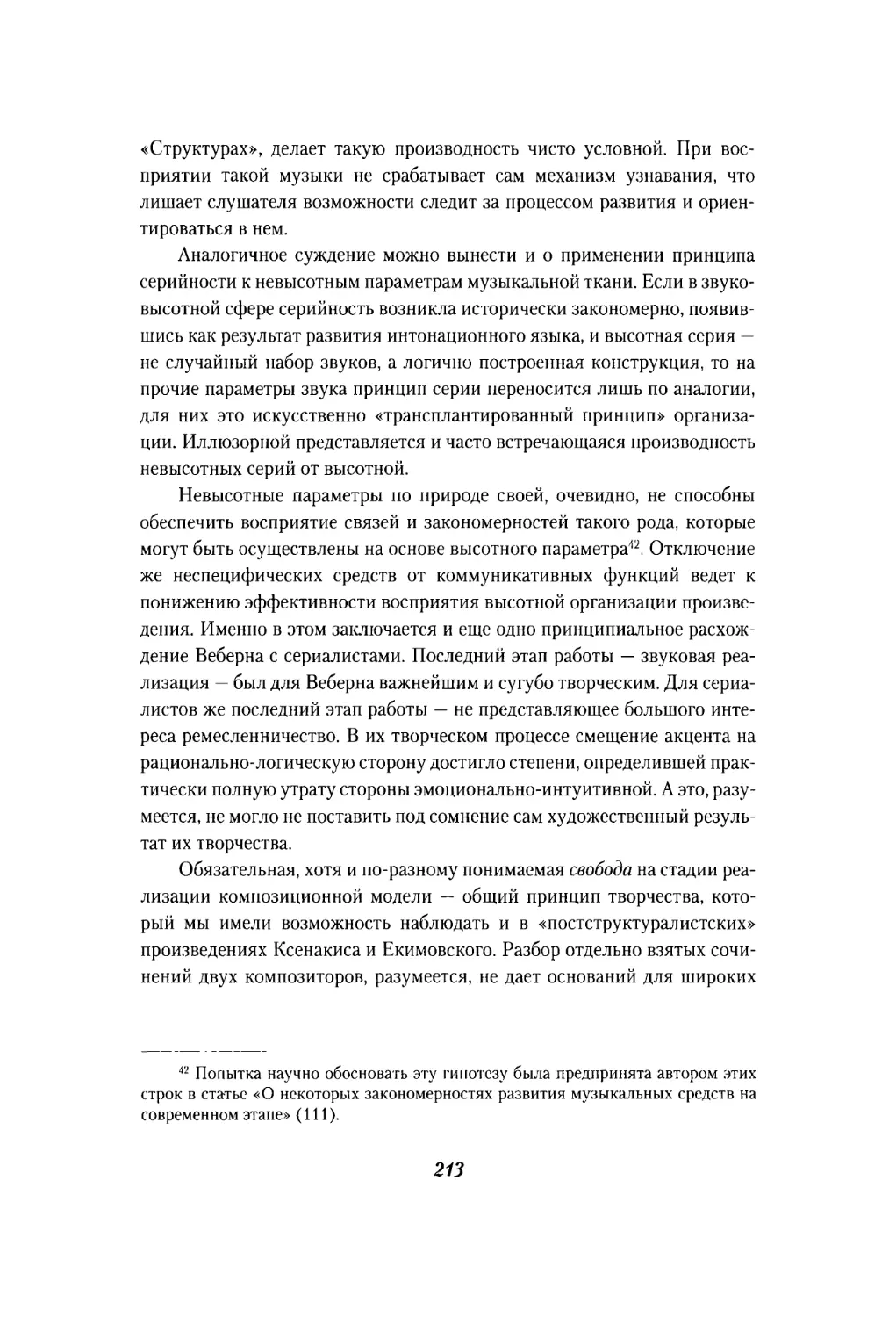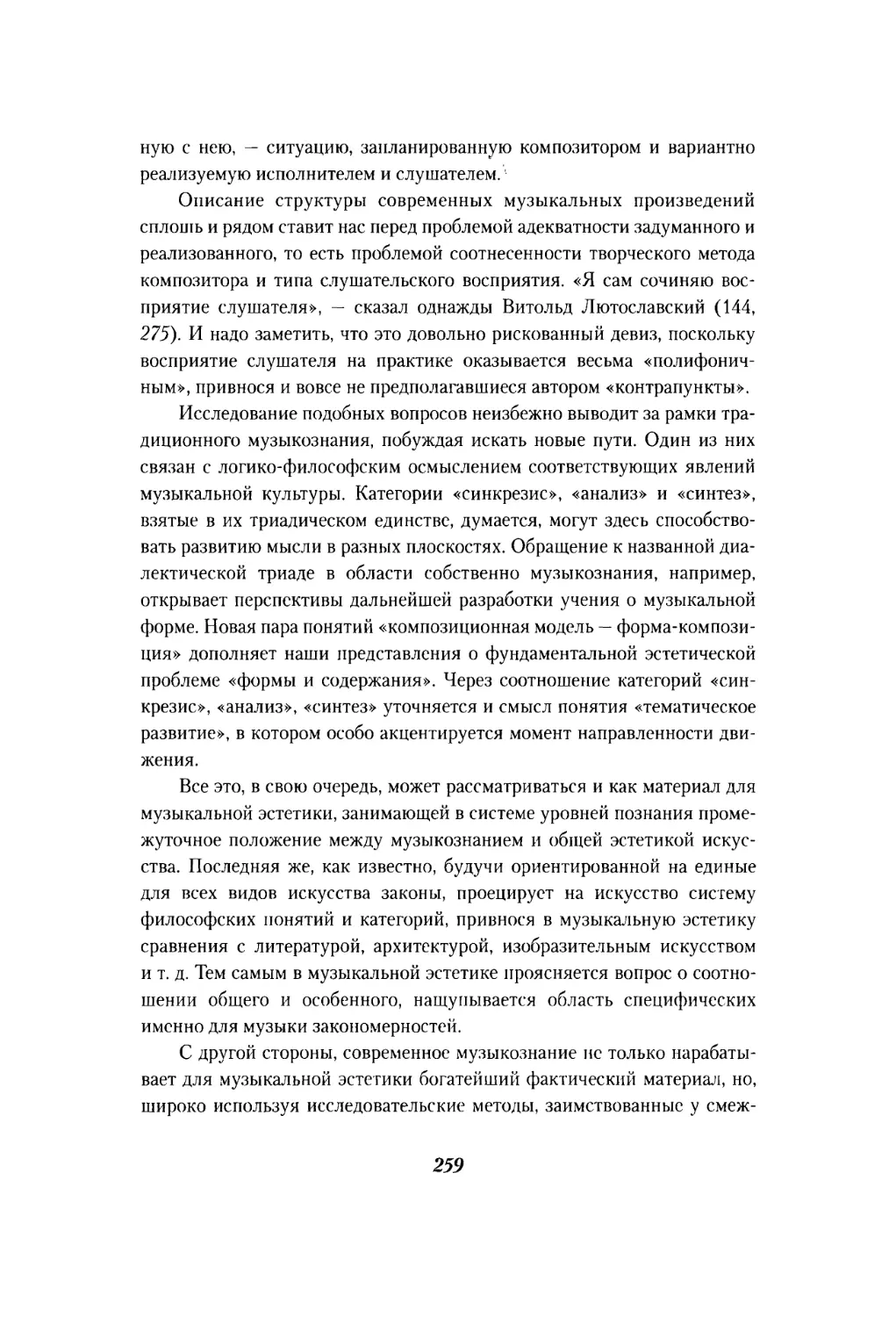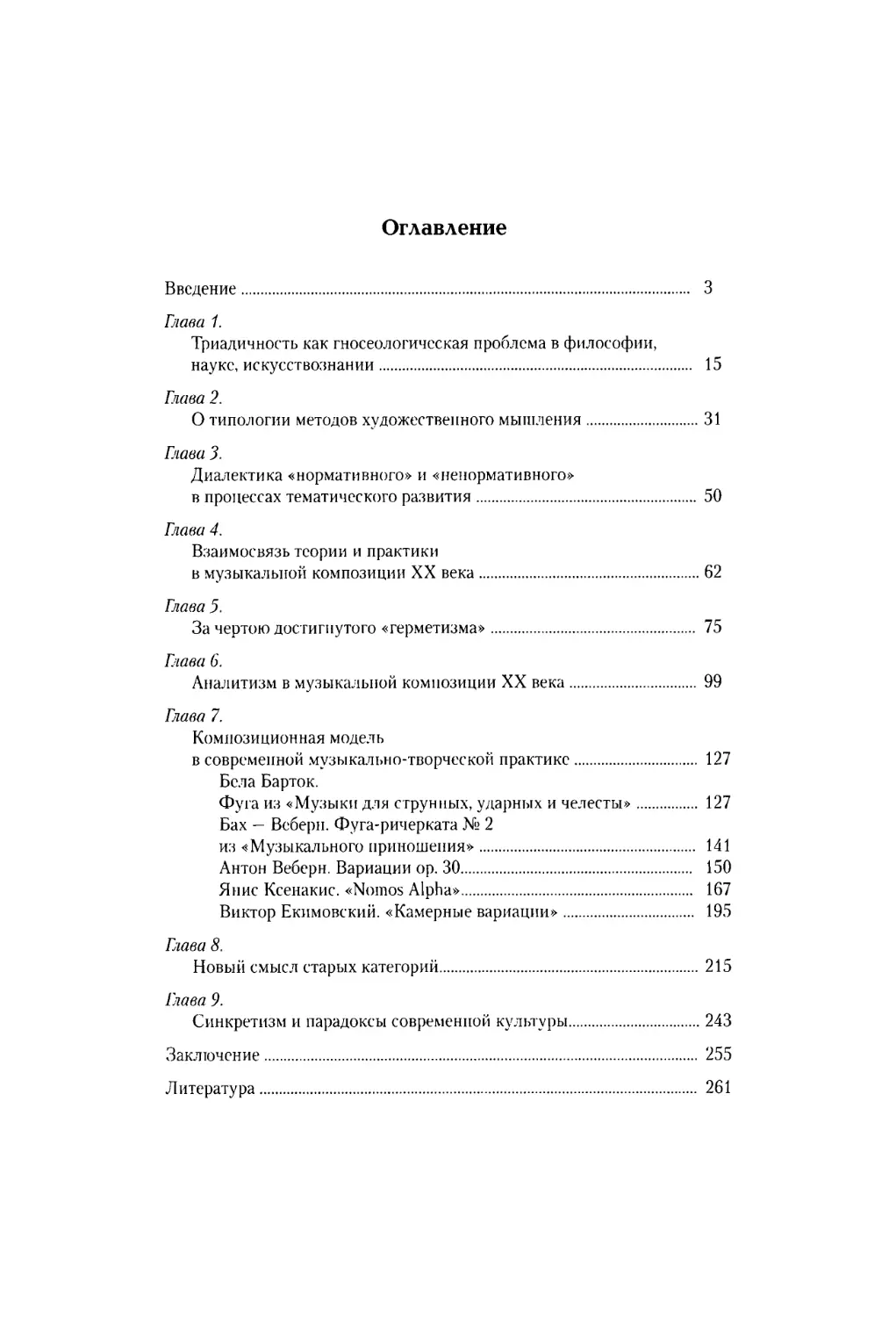Автор: Соколов А.С.
Теги: музыка музыкальная композиция искусствоведение издательство композитор
Год: 2007
Текст
о
А. СОКОЛОВ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ
XX ВЕКА
ДИАЛЕКТИКА
ТВОРЧЕСТВА
А. Соколов
Музыкальная
композиция XX века:
диалектика творчества
Исследование
(Издание второе)
Москва
Издательский Дом «Композитор
2007
ББК 85.31
С-59
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Кафедра теории музыки
С-59 Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика
творчества. Исследование. — М.: Издательский Дом
«Композитор», 2007. — 272 с.
4905000000-092
082(02)-07
Без объявл.
ISBN 5-85285-857-9
© Соколов Александр Сергеевич, 2007
© Издательский Дом «Композитор», 2007
Введение
Нынешнее поколение уже перевернуло колбу часов, которыми чело-
вечество отмеряет отрезки своей истории, уже переступило порог нового
века и нового тысячелетия. В такой исторический момент вполне законо-
мерен пристальный взгляд назад, естественны и попытки по-новому
осмыслить и соотнести меж собой события, уже вписанные в хронику
прошлого.! Однако культурно-исторический опыт удерживает нас от
поспешности в обобщениях. Лишь в первом приближении мы пока
можем судить о явлениях, еще не отдалившихся на достаточную времен-
ную дистанцию, а потому с неизбежностью воспринимаемых субъектив-
но и фрагментарно. Важнее сейчас то, что, фиксируя свои представления
о завершившемся столетии, мы тем самым создаем последние его доку-
менты, которые потомками будут рассматриваться как прямые свиде-
тельства мироощущения людей рубежа XX-XXI веков. И собственный
интерес к соответствующим свидетельствам, дошедшим из предыдущих
веков, обязывает стремиться к особой точности и полноте суждений.
Рубеж веков вновь привел в движение чаши весов, реагирующих на
изменения общечеловеческих представлений о культуре в целом. Век,
дотоле привычно именуемый «технократическим», ознаменовался «под
занавес» решительным смещением центра тяжести в сторону гуманитар-
ного знания. Симптомы этого знаменательного поворота, правда, обра-
щали на себя внимание еще и в годы безусловного приоритета точных
наук. «Модели и понятия, выработанные в гуманитарных науках, начи-
нают приобретать всё большую привлекательность в глазах естествои-
спытателей и кибернетиков», — читаем мы в издании, достаточно пока-
зательном для 60-х годов (109, 104). Однако именно к последним деся-
тилетиям XX века перемены в отношении к гуманитарной сфере, к худо-
жественной культуре стали отчетливо проявляться уже и на уровне мас-
сового сознания.
3
Искусство XX века — как воплощение безграничности человеческой
мысли и духа, как отражение мозаики мира, переживающего потрясение
казавшихся незыблемыми основ, — дает обильную пищу для размышле-
ний. Отношение человека к искусству, как и его отношение к миру в
целом, неизбежно получает определенную социокультурную ориента-
цию, оказываясь при этом в зависимости от сциентистских и антисциен-
тистских тенденций. Искусствознание, понимаемое и как наука об искус-
стве, и как искусство судить об искусстве, — занимает в иерархии уров-
ней познания особое место. В соответствии с принципом восхождения от
конкретного к абстрактному искусствознание обычно рассматривают в
одном ряду с науками, отводя более высокие уровни общей теории
систем и философии. В то же время объектами, которые изучает искус-
ствознание, являются сложно организованные системы. Недаром в клас-
сификации систем К. Боулдинга, построенной в соответствии с иерархи-
ей сложности их организации, искусство отнесено к предпоследнему,
восьмому, уровню, выше которого автор находит возможным поместить
лишь «трансцендентальные системы», то есть «не поддающиеся анализу
абсолюты и неизбежные непостижимости» (18, 114-120).
Естественно поэтому, что острейшей проблемой искусствознания
остается общенаучная проблема адекватности предмета и метода иссле-
дования. Усилия многих специалистов направлены сейчас на разработку
более совершенного понятийного аппарата искусствознания. Понятие
же, как подчеркивал Гегель, есть то, что «живет в самих вещах... понять
предмет означает, следовательно, осознать его понятие» (29, 274). Но
именно здесь развитие искусствознания наталкивается на трудности,
невольно заставляющие вспомнить притчу о «вавилонской башне». Про-
блема синонимии и омонимии терминов в искусствоведческих работах
подчас оказывается поистине роковым обстоятельством, препятствую-
щим взаимопониманию ученых и консолидации их научных усилий.
«...Имеются такие определения, — предупреждает Б. Мейлах, — которые
при всей видимости их однозначности в нашей теории литературы и
искусства приобретают в контексте тех или иных исследований различ-
ный смысл или смысловые оттенки» (79,224).
С одной стороны, научный аппарат все более загромождается новы-
ми и новыми терминами, призванными зафиксировать различные оттен-
ки понимания явлений действительности. С другой же стороны, термины
с многовековой историей неизбежно обрастают множеством существен-
4
но отличающихся друг от друга значений. К примеру, термин античной
эстетики «катарсис», сохранив по сей день свое смысловое ядро, опреде-
ляемое греческим словом Katharsis — очищение, «накопил» целую гамму
оттенков интерпретации. Под «очищением» мог подразумеваться особый
физиологический (пифагорейцы) либо психофизический (Аристотель)
эффект, тотальное освобождение духовного от телесного (Платон).
«Очищение» могло мыслиться как моральное (Г.Э. Лессинг), гедонисти-
ческое (Э. Мюллер), эстетическое (Э. Целлер), религиозно-мистическое
(К. Целль). Наконец, 3. Фрейд воспользовался этим термином для обоз-
начения одного из методов психотерапии, перенеся при этом акцент со
слова «очищение» на слово «компенсация».
В системе искусствознания методологически наиболее оснащенной
на сегодняшний день областью является музыкознание, располагающее
значительным количеством развернутых теорий и концепций. Однако и
в музыкознании научный прогресс тормозится несовершенством поня-
тийного аппарата, что отмечено разными учеными. «Многие из фунда-
ментальных понятий музыкознания к настоящему моменту еще не достиг-
ли той степени разработанности, при которой они могут рассматриваться
как собственно теоретические понятия (таковы музыкальное мышление,
музыкальный язык, музыкальный образ и некоторые другие, употреб-
ляющиеся часто метафорически). Еще большее количество понятий не
завершило свой эволюционный путь в сторону повышения степени обоб-
щенности. Это относится к понятиям “интонация”, “лад”, “тема”, “ритм”,
“гармония” и пр. ...Тщательное изучение систем соотносительных поня-
тий может оказаться весьма перспективным направлением музыкальной
теории» (56, 146 и 153).
Потребностью упорядочить использование обширной музыковедче-
ской терминологии вызвано появление ряда публикаций, среди которых
особо выделим статьи Е. Назайкинского, В. Медушевского, Т. Бершад-
ской (91; 76; 13). Важнейшей проблемой, так или иначе затрагиваемой в
названных работах, является корреляция общенаучного и специфическо-
го для музыкознания смысла некоторых терминов. Актуальность этой
проблемы в нашем отечественном музыкознании вытекает из основных
методологических установок асафьевской концепции: «...надо отвлечься
от внутренней жизни музыки и рассматривать историю европейского
музыкального искусства в единстве с исторической эволюцией всей
европейской культуры и народной жизни. Отвлечься, чтобы глубже осоз-
5
нать и объективнее охватить жизнь музыки над ней, за ней и вокруг нее»
(10,300).
Таким образом, включение в музыковедческий лексикон понятий и
терминов из смежных областей знания — явление глубоко закономерное.
Оно предопределено самим характером вопросов, которые ставит перед
собой современная наука. Глубоко закономерна и нарастающая потреб-
ность обращения в музыковедческих работах к философским катего-
риям, то есть потребность выхода на такой уровень абстракции, который
позволил бы с новых научных позиций системно представить даже самые
трудносоотносимые феномены музыкального искусства1.
Необходимо подчеркнуть, что и здесь речь идет об общекультурных
процессах, характеризующих XX столетие. Именно практика художе-
ственной жизни направила искусствознание в «отвлеченные» области
философской проблематики. Концептуализм как особая интеллектуаль-
ная настройка на созидание и восприятие художественного произведе-
ния проявлялся в искусстве XX века в самых различных вариантах.
В основе его, безусловно, лежат глубинные процессы эволюции обще-
ственного сознания. Поразительные открытия в естествознании, постро-
ившие новую картину мироздания, перевернувшие прежние представле-
ния о человеке и его связях с окружающим миром, подобно сильному
магнитному полю ориентировали движение творческой мысли в искус-
стве и философии. Сближение этих сфер общественного сознания в
XX столетии столь очевидно, что порой позволяет отмечать даже случаи
их фактического слияния, например, говорить о восприятии философии
как художественной литературы и художественной литературы как
философии1 2. Еще в первой четверти века представители аналитического
кубизма утверждали, что картина есть что-то вроде философского сочи-
нения, изложенного на полотне посредством красок. И в дальнейшем
едва ли не каждое крупное направление в модернистском искусстве
1 «Новый подход, — пишет Б. Пружинин (103, 10), — не может быть реализо-
ван в целостной теоретической системе посредством понятий старой теории. В
этом случае решающую роль в синтезе теорий приобретают философские катего-
рии. Разумеется, философские категории являются основой любой познаватель-
ной деятельности, но в момент перехода от одной теории к другой их роль особен-
но велика».
2 Явление это, безусловно, глубоко подготовлено предыдущими этапами
развития культуры. См. об этом: 97.
6
XX века позаботилось о собственном философском фундаменте, избрав
себе того или иного «апостола мысли». Абстрактное искусство обычно
ищет обоснования в феноменологии Гуссерля и в логическом позитивиз-
ме Рассела. Сюрреализм апеллирует к психоанализу Фрейда и интуити-
визму Бергсона. Минимализм 60-70-х годов подчеркивает свое родство с
современным лингвистическим и социологическим структурализмом
Маклюэна и Фуко. «Концептуальное искусство» 60-х годов, в котором
произошло уже полное отождествление произведения с «концепцией», и
замысел, выраженный словесно, стал экспонироваться вместо живопис-
ного полотна, опирается на теорию логического позитивизма Витген-
штейна и Айера.
Многочисленные точки прямого соприкосновения искусства и
философии, разумеется, обнаруживаются на различных этапах истории
культуры. И все же именно в искусстве XX века — в том числе и в искус-
стве музыкальном — эта связь обрела некое новое качество, что не могло,
в свою очередь, не повлиять и на развитие искусствознания. Подтвержде-
ние тому мы находим в научных работах самого разного типа. В зарубеж-
ных этномузыковедческих теориях, например, налицо связь с основными
направлениями философии XX века: неопозитивизмом, неофрейдизмом,
метафизическим прагматизмом, иррационализмом (см. об этом: 42,
97-104). Нельзя обойти вниманием и существование в западном искус-
ствознании особого жанра исследований под названием «философия
музыки». По определению американского эстетика Гордона Эпперсона,
«философия музыки является всесторонним учением о природе музыки,
включающим последовательное объяснение ее значения и выяснение ее
отношения к миру человеческого мышления» (70, 5). Фактически же в
зарубежных работах, имеющих соответствующее название, обычно пред-
лагаются разные варианты учений о музыкальном языке, о психологии
композиторского творчества и слушательского восприятия и т. д.
Поскольку при этом, как правило, используются методы исследования из
области семиотики, кибернетики, теории информации, а также подчерки-
вается связь с определенными философскими концепциями, то появля-
ется основание говорить и о различных направлениях «философии музы-
ки»: феноменологическом, неопозитивистском, прагматическом и др.
Достаточно свободная трактовка термина «философия музыки»,
позволяющая порой использовать его «для обозначения буржуазных тео-
рий музыки, имеющих философскую ориентацию», или подразумевать
7
под ним определенный «уровень музыкальной эстетики» (70, 5), ведет,
конечно, к лишней путанице. И поэтому следует обратить особое внима-
ние на саму основу научного подхода, объединяющую в этом русле раз-
личных исследователей. Она связана, как представляется, именно с
общностью характера мыслительного процесса, воплощаемого как в
вещественном материале искусства, так и в выстраиваемых на основании
этого искусства умозаключениях. Эту общность можно, в частности,
ощутить в следующих высказываниях Карла Дальхауза: «Правило, на
котором строится Новая музыка, может быть сведено к простой формуле:
музыка как “формирование звукового материала в категории” должна
быть качественно новой и не в одном лишь хронологическом смысле сле-
довать эстетической и исторической подлинности»; «...несомненный
смысл концепции Т. Адорно, всегда включающего или предполагающего
“формирование категорий”, — мыслительный музыкальный процесс,
объективированный в форму звукового феномена» (161,5).
Музыка как «формирование звукового материала в категории»;
«формирование категорий» как мыслительный музыкальный процесс —
в этих встречных определениях, думается, высвечивается особая связь
практики и теории современного искусства. Рассмотрению этой связи
как актуальной проблемы художественного мышления будет специально
посвящена одна из глав книги.
Вопрос о проникновении философских понятий и категорий в аппа-
рат конкретных наук невероятно сложен. Попытки начисто отрицать
закономерность и целесообразность этой тенденции сегодня уже не
убеждают3. Напротив — мышление ученого с неизбежностью выходит на
уровень философских категорий в процессе систематизации данных,
почерпнутых из эмпирического опыта4. В этом заключается не только
залог прогресса науки, но и предпосылка для развития самой системы
философских категорий, отнюдь не остающейся исторически неизмен-
ной. Как подчеркнул Гастон Башляр, «смысл философской эволюции
3 Суждения такого рода, тем не менее, приходится порой слышать и из весьма
авторитетных уст: «О вещах, невыразимых в узконаучных терминах, вообще следу-
ет молчать. Философы-метафизики прошлого — это “неудавшиеся музыканты”»
(27,97).
4 «Мыслить и означает, собственно, устанавливать между понятиями катего-
риальную связь, раскрывать их категориальное значение» (9, 53).
8
научных понятии настолько очевиден, что едва ли можно сомневаться,
что именно научное знание упорядочивает наше мышление, что наука
организует саму философию. Именно научная мысль задает принцип и
для классификации философских систем, и для изучения прогресса разу-
ма» (11,376).
Утверждая это, французский ученый, однако, тут же оговорился, что
«использование философии в областях, далеких от ее духовных истоков, —
операция тонкая и часто вводящая в заблуждение» (там же, 160). В этом
отношении искусствознание в большей мере, чем точные науки, опирает-
ся на естественную связь предмета своего изучения с философией. Это
прямое «духовное родство» отмечается в ряде искусствоведческих работ
(43; 145; 188). Однако же именно мнимая легкость манипуляций с фило-
софскими понятиями и категориями может обернуться для искусствове-
дов вульгаризацией и тривиальным переводом на язык философии зако-
номерностей, выявленных в узкоспециальных изысканиях. И хорошим
предостерегающим напутствием в этом отношении может послужить
язвительная реплика К. Маркса, обращенная к некоторым ученым его
времени: «...для мышления же необходимы логические категории, а эти
категории они (естествоиспытатели. — А.С.) некритически заимствуют
либо из обыденного общего сознания так называемых образованных
людей, над которыми господствуют остатки давно умерших филосо-
фских систем, либо из крох прослушанных в обязательном порядке уни-
верситетских курсов по философии (которые представляют собой не
только отрывочные взгляды, но и мешанину из воззрений людей, принад-
лежащих к самым различным и по большей части к самым скверным
школам), либо из некритического и несистематического чтения всякого
рода философских произведений» (72,524).
В свете всего вышеизложенного уточню теперь свои собственные
намерения. На последних страницах книги «Музыка как предмет логи-
ки» А.Ф. Лосевым сказано: «Соединить конкретную жизненность музы-
кального выражения с четкой абстрактной мыслью было моим един-
ственным заданием в этом исследовании» (66,214). Заманчивая эта цель
будет определять предпринятые здесь попытки найти ракурс рассмотре-
ния конкретных явлений музыкального искусства, открывающий новые
грани их внутренней сущности.
Предметом исследования, как явствует из названия книги, избрана
музыкальная композиция — одно из фундаментальных понятий музыко-
9
знания, требующее уточняющих комментариев. «Музыкальная компози-
ция» — многозначное по смыслу понятие. Под ним, например, может
подразумеваться архитектоника музыкального произведения («форма-
композиция»). Такое понимание нацеливает на проблемы классифика-
ции, то есть на установление критериев сходства и различия и на
выстраивание некоторой шкалы значений, располагаемой между услов-
ными «полюсами». Этими «полюсами», в частности, может быть, с одной
стороны, система общепринятых эталонов композиции, и с другой — пол-
ное отсутствие типизированных признаков композиции, воспринимае-
мое... как особый род композиции5.
«Музыкальной композицией» может быть названа и сама сочинен-
ная композитором музыка. Такое «нейтральное» определение иногда
обретает особый смысл, будучи вынесенным на титульный лист произве-
дения, и свидетельствуя о сознательном уклонении автора от использо-
вания традиционных жанровых терминов. Появление в XX веке множе-
ства музыкальных опусов с названиями «Композиция №...», «Музыка
для...» позволяет и здесь заметить, что подчеркнутое отсутствие типизи-
рованных признаков жанра постепенно превратилось в новый устойчи-
вый жанровый признак!
Под «музыкальной композицией» нередко также подразумевается и
особый тип культуры, противопоставляемый культуре импровизации.
Речь идет, таким образом, о взаимосвязях музыкально-речевого и музы-
кально-языкового канонов, письменной и устной традиций. Этот ракурс
также высвечивает философско-культурологические проблемы, связан-
ные с историей музыкального искусства, фиксирует внимание на точках
пересечения названных типов культуры.
И наконец, под «музыкальной композицией» принято подразумевать
еще и сам процесс творческой работы сочинителя музыки. В этом значе-
нии «музыкальная композиция» — искусство компонирования художе-
ственного текста — стала объектом исследования сравнительно молодой
научной дисциплины — психологии творчества. В центре внимания при
5 Сошлемся на замечание одного из видных специалистов в области компара-
тивистики А. Димы: «...отсутствие композиции, столь характерное для современно-
го “нового” романа, есть, по сути дела, форма утверждения некой композиции, а
именно: нарочитого беспорядка как средства отражения определенных жизненных
концепций...» (37, 116).
10
этом оказываются различные методы работы композитора, соотношение
рациональной и интуитивной сторон в творческом процессе.
Из перечисленного видно, что содержание понятия «музыкальная
композиция» сложно переплетено с целым рядом других понятий, слу-
жащих для постижения сущности музыки. Однако это переплетение не
следует воспринимать лишь как досадный терминологический «диском-
форт», ибо здесь порой проявляется особый, ускользающе тонкий смысл,
подобный специально обыгрываемому в следующей формулировке Мау-
рисио Кагеля: «Композиция — это интерпретация некоего акустического
представления (или акустического процесса). Интерпретация — это ком-
позиция акустического процесса. Акустический процесс — это интерпре-
тация композиционных представлений <...> Метод композиции — это
декомпозиция. Композитор по совместительству — интерпретатор неко-
торых представлений» (163,49-50).
Поистине, как говорил Ренан, есть слова, которые следует оберегать
даже тогда, когда мы убеждены, что в них содержатся ошибки!
Хронологической конкретизацией предмета изучения является при-
нятое в книге ограничение рамками XX века. Этот выбор оправдан не
только высказанными уже соображениями о предоставленном нашему
поколению праве на «подведение черты», но и спецификой музыкальной
композиции именно XX века, свидетельствующей об актуальности фило-
софского ракурса рассмотрения некоторых ее особенностей6.
Соотнесение магистральных тенденций в развитии музыкального
искусства XX века — увлекательная, хотя и сложная задача. Тенденции эти
возникали, развивались, достигали апогея и отступали отнюдь не хаотич-
но. В художественной культуре столетия проявлялась особая цикличность
эволюционных процессов, происходило и активное «перекрестное опыле-
ние» разных видов искусств. Учение о музыкальной композиции в XX веке
трансформировалось в соответствии с изменением содержания важней-
ших категорий. В частности, новый нравственный оттенок звучания таких
понятий, как прогресс, перспектива и ретроспектива, открывшийся обще-
6 Небезынтересно упомянуть здесь классификацию Богдана Почся, построен-
ную хоть и на весьма свободных, но все же не лишенных основания аналогиях.
Польский исследователь выделяет три типа форм европейской музыки: 1) гео-
мстрико-пространствснный (XVIII—XIX вв.), 2) биологический (XIX-XX вв.),
3) физико-психологический и философский (XX в.) (173, 14).
11
ству в связи с коллизиями в социальной, экологической и других сферах,
безусловно повлиял и на современные представления о сущности и целях
искусства. Потому и взгляд на музыкальную композицию XX века, если он
претендует на проникновение в глубинную ее суть, не должен быть лишь
взглядом узкоспециальным, — он с неизбежностью устремится во внемузы-
кальные области, в том числе и в область философских категорий^
Непосредственным объектом настоящего исследования являются
различные виды текстов, относящихся к музыкальной культуре XX века.
Это прежде всего тексты музыкальных произведений, то есть некоторые
упорядоченные множества элементов семиотической природы, опреде-
ляющих специфику данного произведения и предполагающих стабиль-
ность их воспроизведения при помощи того или иного метода фиксации.
XX век в этом отношении открыл перед исследователями музыки новые
возможности: наряду с традиционным нотным (графическим) текстом в
распоряжении исследователей находится теперь и акустический текст,
представляющий непосредственный результат деятельности музыканта-
исполнителя, который может быть зафиксирован на магнитной ленте,
грампластинке или компакт-диске. Показательно, что в быту оба вида
текста часто именуются одним словом — «запись» (нотная, магнитная,
цифровая). Современная композиторская практика ввела в обиход и
некоторые другие, специфические, виды текстов музыкального произве-
дения, к которым нам тоже предстоит обратиться.
Объектом нашего внимания будут также различные вербальные тек-
сты, роль которых в музыкальной культуре XX века весьма существенна.
Это разного рода художественные манифесты, авторские анализы музы-
кальных произведений. Естественно, что значительное внимание будет
уделено и музыковедческим теориям, так или иначе соприкасающимся с
интересующей нас областью.
Поместив в фокус своего внимания именно тексты, то есть объек-
тивно существующие результаты творчества композитора, мы тем самым
избираем и соответствующий ракурс рассмотрения интересующих нас
явлений. А. Лосев считал весьма принципиальным разграничение иссле-
дований процесса творчества и его результата. Он связывал с этим раз-
ные задачи и разный предмет исследования в психологии творчества,
ориентированной на процесс художественного мышления, и в диалекти-
ке творчества, базирующейся на продукте, который получается в резуль-
тате творческого процесса.
12
В соответствии с этой позицией в название книги было введено не
слишком распространенное понятие «диалектика творчества». В то же вре-
мя представляется чрезвычайно плодотворным исследовательский под-
ход, реализующий один из важнейших принципов, выдвинутых Л. Вы-
готским: конструировать процесс творчества на основе изучения струк-
туры произведения7.
Реконструкция творческого процесса композитора как одна из задач
анализа художественного текста — это путь естественного сближения
диалектики творчества и психологии творчества. Приоритетное положе-
ние какой-либо из названных дисциплин определяется использованием
соответствующего научного аппарата, «задающего тон» обсуждению кон-
кретных явлений музыкального искусства.
Таким образом, с обращением к проблемам диалектики творчества
связан и выбор инструмента познания — системы философских понятий
и категорий. Ключевыми категориями, рассматриваемыми в области
музыкальной композиции, в данной работе предстанут члены фундамен-
тальной диалектической триады: синкрезис — анализ — синтез. Посколь-
ку каждая из названных категорий уже давно «принята» музыкознанием
и имеет в нем собственное поле интерпретаций, следует пояснить необхо-
димость нового и специального обращения к этой проблеме.
Прежде всего стоит отметить различную степень распространенно-
сти данных категорий в музыковедческих работах, что выражается как в
частоте, так и в характере их употребления. В первую очередь здесь дол-
жен быть назван «синтез». В контексте музыковедческих работ далеко не
всегда подтверждается категориальный статус8 этого слова: нередко оно
попадает в ряд определений частного характера (когда, например, гово-
рят о синтетичности репризы или коды в музыкальной форме) или обре-
тает характер метафоры. Значительно более узкое значение обычно при-
дается в музыкознании слову «анализ», преимущественно относимому к
области педагогики и к специализированным историко-теоретическим
7 Значение этого принципа подчеркивает в Предисловии к книге Выготского
известный советский психолог А. Леонтьев:«Исследование “анатомии” художе-
ственного произведения открывает многоплановость адекватной ему деятельно-
сти» (28, 9).
8 Различие категориального и некатегориального значения номинативно
одних и тех же философских понятий специально исследуется В. Черновым (141).
13
описаниям музыкальных произведений. «Синкрезис» — наиболее редко
употребляемая в музыковедческих работах категория, как правило, тре-
бующая попутных разъяснений ее смысла.
Таким образом, на сегодняшний день практически неосвещенным
является вопрос о значении для музыковедения категорий «синкрезис»,
«анализ» и «синтез» в их нерасторжимом единстве, то есть как диалекти-
ческой триады, хотя именно эта гносеологическая проблема теснейшим
образом связана с исследованием механизмов мышления. «Вопрос о том,
какое выражение получают в музыкальном мышлении процессы абстра-
гирования и логические операции, — пишет М. Арановский, — чрезвы-
чайно сложен и совершенно не изучен. Ясно, однако, что без его решения
трудно продвигаться в исследовании музыкального мышления. Думает-
ся, возможности для сопоставления музыкального и абстрактно-логиче-
ского мышления имеются. В музыке находят свое выражение такие
интеллектуальные операции, как анализ и синтез (на важную роль синте-
за и анализа для понимания природы музыкального мышления указал в
свое время еще Г. Риман), сравнение, классификация и др., что особенно
хорошо видно на примере техники так называемого мотивно-разработоч-
ного развития» (4, 131).
Пытаясь в посильной мере восполнить этот пробел, мы имеем воз-
можность опереться на некоторые современные философские концеп-
ции, в рамках которых «классические» категории продолжают свою
жизнь, обогащаясь при этом существенно новым содержанием. Ревизия
прежних представлений под напором обнаруживаемых фактов — закон
познания, проявляющийся на всяком его уровне. В частности, и «в любом
философском понятии могут, по-видимому, быть такие смысловые слои,
которые способны актуализироваться лишь в последующие эпохи: с этим
связана возможность концептуального “возврата” к “старым”, “классиче-
ским” понятиям в новых познавательных ситуациях» (1, 274).
Именно такая познавательная ситуация и возникла в современном
музыкальном искусстве, изучение которого естественно приводит к кор-
рективам некоторых устоявшихся представлений.
Основной текст данной работы нс предваряется специальным обзо-
ром литературы, находящейся в поле зрения автора. Ссылки на конкрет-
ные источники и оценка выраженной в них научной позиции будут
даваться по мере надобности на последующих страницах книги.
Глава 1
Триадичность
как гносеологическая проблема
в философии, науке, искусствознании
Проблема, рассмотрению которой посвящена настоящая глава, имеет
чрезвычайно важное значение для наших последующих наблюдений над
конкретными реалиями музыкального искусства и для правильного пони-
мания степени всеобщности обнаруживаемых при этом закономерностей.
Историческая изменчивость смысла понятий и категорий, уже отмечав-
шаяся во Введении, непосредственно связана с попытками их классифи-
кации. Еще в античной философии категории могли рассматриваться и
вполне самостоятельно (Аристотель), и в составе полярных пар (пифаго-
рейцы), и в триадическом делении (Прокл). В трансцендентальной логи-
ке Канта триадическое деление категорий было противопоставлено дихо-
томическому делению, принятому в формальной логике. Исходя из утвер-
ждения о синтетической природе знания, Кант выделил четыре группы
суждений, каждая из которых представляет триаду, образуемую двумя
противоположными категориями и третьей, которая «возникает всегда из
соединения второй и первой категорий того же класса» (47, 178):
1) по количеству — общее, частное, единичное;
2) по качеству — утвердительные, отрицательные, бесконечные;
3) по отношению — категорические, гипотетические, разделительные;
4) по модальности (степени истинности) — проблематические (до-
пускающие возможность), ассерторические (констатирующие),
аподиктические (достоверные).
В послекантовской философии идея триадичности получает даль-
нейшее развитие. Особое значение придается ей Гегелем, в представле-
нии которого лишь совокупность трех категорий способна дать истину,
знание конкретного. Именно Гегелем был введен и сам термин «триада»,
выражающий трехступенчатость всякого процесса развития, в том числе
и развития понятия. Философия Гегеля раскрывает содержание различ-
15
ных триад (качество — количество — мера, единичное — особенное —
общее), но наиболее разработанной и повлиявшей на последующее
развитие философской мысли оказалась триада «тезис — антитезис —
синтез». Фундаментальное значение именно этой триады подчеркива-
лось и марксистской философией: «Сосуществование двух взаимопроти-
воречащих сторон, их борьба и слияние в новую категорию составляют
сущность диалектического движения» (71, 136).
Движение от формулирования антиномии к ее разрешению в диалек-
тическом синтезе было, таким образом, признано общей гносеологиче-
ской закономерностью. Соответственно, был обнаружен и обоснован и
универсальный диалектический принцип развития категориальных
систем. Этот вопрос специально освещается в статье В. Обухова, который,
в частности, пишет: «Категории-одиночки по мере развития науки образу-
ют полярные пары <...> К соотносительным категориям по мере углубле-
ния диалектики их связи прибавляются синтезирующие (так, категория
“система” вошла в философский обиход после всестороннего исследова-
ния диалектики связи элементов и структуры). Таким образом, в развитии
категорий и их связи четко проявляется действие отрицания» (94, 70).
Исходя из гегелевского утверждения, что именно трехчленное деле-
ние категорий образует наименьшую целостную группу, В.Обухов про-
слеживает процесс образования триад на основе наиболее разработанных
философских категорий. К таковым на сегодняшний день относятся сле-
дующие группы категорий диалектики:
качество — количество — мера,
изменчивость — устойчивость — движение,
тождество — противоположность — противоречие,
элементы — структура — система,
единичное — общее — особенное,
эмпирия — умозрение — теория,
цель — средство — результат.
Признавая известную условность данной классификации, В. Обу-
хов, однако, подчеркивает: «Практика развития философии свидетель-
ствует о том, что деление категорий только на полярные пары является
недостаточным, переход к триадичному делению намного углубляет
наше знание об отражаемом данными категориями аспекте, делает его
более истинным» (94, 72). Некоторые категории, по мнению автора, нахо-
дятся сейчас на стадии перехода от полярного строения к триадичности.
16
К таковым он, в частности, относит категории «необходимость — случай-
ность», «форма — содержание».
В нашу задачу не входит подробное обсуждение научных доводов,
приводимых В. Обуховым, и полемика с ним. Ограничимся лишь уточне-
нием, что движение к триаде — и в самой философии, и на уровне кон-
кретных наук — не обязательно подчинено классической логике соотно-
шений тезиса, антитезиса и синтеза. Гастон Башляр в уже упомянутой
выше книге противопоставляет гегелевскому типу триады иные, также
принятые в науке. Весьма интересны приводимые им в этой связи
выдержки из разных источников. В частности, цитируемый Башляром
К. Бялобжецкий считает, что диалектика современной науки «явно отли-
чается от философской диалектики, так как она не является априорной
конструкцией и рассказывает о пути, по которому идет дух в познании
природы. Философская диалектика, гегелевская, например, развертыва-
ется методом противопоставления тезиса антитезису и их слияния в
высшем понятии синтеза. В физике объединенные понятия не противо-
речат друг другу, как у Гегеля; тезис и антитезис находятся здесь, скорее,
в отношении дополнительности... Существует некоторое сходство между
конструкцией физических понятий и синтетическим методом Октава
Амелена, у которого антитезис не является отрицанием тезиса: оба поня-
тия, соединяющиеся в синтезе (амеленовском), противопоставляются, но
не являются противоречащими <...> Физик в силу самого метода должен
придерживаться строгих ограничений и не может идти так далеко и
поспешно, как философ» (11,273).
Г. Башляр комментирует также и неаристотелевскую позицию По-
летта Феврие, настаивающего, исходя из положений квантовой механи-
ки, на необходимости введения нового логического значения, помимо зна-
чений «истинно» и «ложно». Предпосылками к построению этой трех-
значной логики явились, как свидетельствует Г. Башляр, «принцип Гей-
зенберга (родившийся из размышлений об условиях физического экспе-
римента) и уравнение Шредингера (вначале представлявшееся только
формальным математическим приемом)» (там же, 264).
История вопроса о трехзначной логике, как известно, восходит к
средневековью. Еще Уильям Оккам (1281-1350) допускал, помимо двух
значений истинности («истинно» и «ложно»), третье значение — «нео-
пределенно». Однако заслуга разработки первой целостной системы
трехзначной логики принадлежит польскому философу Яну Лукасевичу,
17
опубликовавшему в 1921 году свой замечательный труд по многозначной
логике. Понятия «истинно» и «ложно» были дополнены Лукасевичем
третьим понятием — «возможно». Известны и другие варианты трехзнач-
ной логики. В изложении Д.А. Богвара. например, фигурируют понятия
«истина» «ложь», «бессмыслица». С. Клипки определяет третье значение
истинности выражениями: «не определено», «не существенно», «неиз-
вестно, истинно или ложно».
Отмечая области сложного пересечения принципов полярности и
триадичности в современной философии, следует особо выделить про-
блему рационального и иррационального, столь существенную и для изу-
чения механизмов художественного творчества. За противопоставлени-
ем этих категорий стоит традиционная для европейской культуры кон-
цепция «двух логосов»: логоса дискурсивности — понятийного мышле-
ния, опирающегося на закрепленность значений элементов языка, и лого-
са континуальности — интуитивного, «надлогического» мышления. Диф-
фузия этих сфер, ставшая особенно заметной в современной культуре,
стимулирует поиск адекватных научных определений. Примером здесь
может служить термин «рефлективное мышление» — дискретное упра-
вление континуальным потоком мысли (92, 11).
Исследования проблемы рационального также закономерно приво-
дят ученых и философов к выстраиванию категориальных триад. В моно-
графии Н. Автономовой, в частности, мы находим следующие триадиче-
ские цепочки переосмысления отдельных параметров:
рациональное — иррациональное — (искомое) новое рациональное;
субъективное всеобщее — субъективное индивидуальное — вне-
су бъективное;
тождество субъекта и объекта — редукция объекта к субъекту —
редукция субъекта к объекту;
рефлексивное сознание — дорефлексивное сознание — бессознатель-
ное;
тождественность форм мысли и форм языка — распадение этого тож-
дества — поиск нового тождества на уровне расширенного пони-
мания сознания и языка, на уровне взаимодействия «доязыко-
вого» языка с бессознательным (1, 51).
Поскольку основные моменты в переосмысливании соотношения
рационального и иррационального видятся Н. Автономовой в триадиче-
ском единстве (периферийность иррационального — заострение ирра-
18
ционального — рационализация иррационального), то, соответственно,
появляется возможность выделить три исторических этапа в развитии
философской мысли:
1) классический рационализм XVII-XIX вв.: периферийное положе-
ние иррационального;
2) иррационализм рубежа XIX-XX вв. и первой половины XX в.:
иррациональное занимает независимые позиции;
3) новые тенденции второй половины XX в.: рационализация ирра-
ционального (там же, 50).
Подобное же действие принципа триады Н. Автономова усматрива-
ет и в соотношении понятий «рациональное — эмпирическое». В связи
с этим она также отмечает три исторических периода:
1) рационализм XVII-XIX вв.: эмпирическое как подчиненный
элемент мыслительной системы;
2) неопозитивизм: очищение эмпирического от вненаучных фак-
торов;
3) постпозитивизм: «ре-рационализация» прежнего эмпиризма.
Тенденция перехода от полярности к триадичности характеризует и
современные работы по психологии. И здесь эта тенденция оказалась
связана с преодолением «классического» подхода к анализу человече-
ской психики, выраженного двучленными формулами типа «стимул —
реакция», «психическое — физическое», «сознание — бессознательное»
и т. п. В ходе научных исследований была выявлена возможность не толь-
ко антагонизма, но и синергизма (сотрудничества) между сознанием и
бессознательным. Тем самым, можно сказать, было открыто некое новое
измерение психической реальности. Трудно переоценить здесь научный
вклад Зигмунда Фрейда, предложившего и обосновавшего трехчленную
систему: бессознательное — предсознание — сознание. Плодотворная
идея триады была творчески развита и школой академика Д. Узнадзе.
Исследуя систему отношений «психика — деятельность — личность», пси-
холог сформулировал новую триаду: установка — сознание — бессозна-
тельное психическое. При этом «установка» понимается здесь как до-соз-
нательное, а «бессознательное психическое» как пост- или надсознатель-
ное. В этой триаде, отмечает А. Шерозия, кроется «парадокс причины,
порождаемой следствием, то есть зависимости того, что должно быть пер-
вым во времени и по рангу, от того, что является вторым и во времени и
по рангу» (146,50).
19
В категории «установка» была одновременно найдена и опосредую-
щая связь между элементами двучленной системы «стимул — реакция»,
причем — важно подчеркнуть — и здесь связь нелинейного характера.
«Как психологические категории, если брать их сами по себе, — пишет
А. Шерозия, — ни установка из деятельности, ни деятельность из уста-
новки не выводятся; как таковые они только обуславливают друг друга в
общей для них сфере их отношений...» (там же, 57).
Но вернемся к философским категориям, поставленным во главу
угла в настоящей работе. Представление их как триады, как диалектиче-
ской «формулы мышления» уже прочно укоренилось в философии. Раз-
двоение единого и познание его противоречивых частей не только в
отдельности, но и в их взаимопроникновении, синтезе Ленин называл
магистральным методом познания. Однако логический путь к формиро-
ванию этой триады также пролегал через осмысление дихотомических
отношений, и это явственно видно во многих философских трудах. По
уровню разработанности категории «анализ» и «синтез» всё еще значи-
тельно опережают категорию «синкрезис». При изучении механизмов
мышления они долгое время привлекались философами фактически как
парные категории. Так, в построении своей трансцендентальной логики
И. Кант исходил из деления суждений на два вида: аналитические и син-
тетические. Эта традиция сохраняет актуальность и впоследствии. При-
ведем несколько подтверждающих это цитат.
«Мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их
элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в
единство, без анализа нет синтеза».
Ф. Энгельс
«Обычно говорят, что есть два способа познания: аналитический и син-
тетический. В этом и спорить нельзя, что Анализ и синтез не все равно, и что
и то, и другое суть способы познания; но, нам кажется, несправедливо при-
нять их за отдельные способы познания: это поведет к ужаснейшим ошиб-
кам. Ни синтез, ни анализ не могут довести до истины, ибо они суть две
части, два момента одного полного познания».
А. Герцен
«Сколь ни противоположными кажутся методы аналитическая и синте-
тическая по исходным их точкам и направлениям, но нельзя представить
себе никакой системы, в развитии которой не участвовала бы та и другая
метода, равно как нельзя представить, чтобы одна из них могла совершить
свое поприще без помощи другой».
В.Карпов
20
Синкретизм как третий тип мышления остается малоизученным фи-
лософским вопросом. Однако повышенный интерес к нему в наши дни оп-
ределяется многими особенностями развития культуры. Он, в частности,
непосредственно связан с областью межкультурных взаимодействий, с
изучением проблем «Восток — Запад», «архаика — современность» и др.
Известно, что утверждение «анализа» и «синтеза» в статусе философ-
ских категорий происходило в тесной связи с функционированием их
как понятий, отвечающих потребностям конкретных наук — математики,
химии, медицины и т. д. Нечто подобное происходит сейчас с «синкрези-
сом». Как философская категория он находится в подвижной фазе уточ-
нения своего смысла, что прямо связано с содержанием исследований,
производимых в конкретных, в том числе и гуманитарных, науках. Есть
основания надеяться, что в этом вопросе и музыковедческие изыскания
способны дополнить важными штрихами общую гносеологическую кар-
тину мира.
Следует особо остановиться еще на одной традиции представления
триады «синкрезис — анализ — синтез», которую можно условно назвать
«гегелевской». Это традиция линейности, выражающаяся в рассмотре-
нии причинно-следственных связей элементов названной триады. Обра-
тимся к хрестоматийным определениям интересующих нас категорий.
Синкрезис, синкретизм (греч. synkretismos — соединение):
а) слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное,
неразвитое состояние чего-либо; например, нерасчлененность философской
науки античного мира, в которой мировоззрение, физика, биология и другие
отрасли знания существовали в единстве, слитно;
б) сочетание разнородных, несовместимых, противоречивых суждений,
высказываний, взглядов, которые, согласно логике и повседневному опыту,
вместе истинными быть не могут.
Анализ (греч. analysis — разложение, расчленение, разбор) — логический
прием, метод иследования, состоящий в том, что изучаемый предмет
мысленно или практически расчленяется на составные элементы (признаки,
свойства, отношения), каждый из которых затем исследуется в отдельности
как часть расчлененного целого, для того чтобы выделенные в ходе анализа
элементы соединить с помощью другого логического приема — синтеза — в
целое, обогащенное новыми знаниями.
Синтез (греч. synthesis — соединение, составление, сочетание) — мыслен-
ное соединение частей предмета, расчлененного в процессе анализа, устано-
вление взаимодействия и связей частей, познание этого предмета как едино-
го целого.
21
Присутствие в этих определениях слов «первоначальное», «затем»,
«для того чтобы» свидетельствует о родстве с «необратимостью» триады
«тезис — антитезис — синтез» и соответствует взгляду на процесс
мышления как на логически сопрягающий в себе акт непосредственного
наблюдения, последующее расчленение в сознании и итоговый синтез
некоего целостного представления. Философские формулы типа «от
живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике» кон-
кретизируют этот подход.
На триаду «синкрезис — анализ — синтез», таким образом, перено-
сится «риторический» принцип гегелевской триады, и между ними воз-
никает соотношение, которое можно попытаться условно передать сле-
дующей схемой:
синкрезис -
АНАЛИЗ
- СИНТЕЗ
ТЕЗИС - АНТИТЕЗИС
- СИНТЕЗ
«Периферийное» положение «синкрезиса» в этой схеме соответству-
ет, в частности, тому, что мы наблюдаем, обращаясь к любым «классиче-
ским» текстам, будь то текст художественного произведения или текст
описания этого произведения. В классической системе мышления «син-
крезис» как логический этап вынесен за скобки текста, который предпо-
лагает изначальную упорядоченность, экспозицию смысловых элемен-
тов. Размежевание «тезиса» и «антитезиса» — мыслительный акт, пред-
ставленный здесь внешнему наблюдателю не результативно, а как некая
исходная данность. Известные законы классицистской драмы, система
функций классической музыкальной формы могут служить тому нагляд-
ным подтверждением.
Преодоление «классикоцентризма» в искусствознании и вовлечение
в орбиту исследований нового материала, принадлежащего к иным куль-
турным традициям, повлекло за собой и пересмотр некоторых прежних
научных представлений. Это заметно, в частности, и в отношении к три-
аде «синкрезис — анализ — синтез». Думается, перспектива дальнейшего
углубления в этот вопрос связана с исследованием феноменов, свиде-
тельствующих о нелинейности связей между членами данной триады.
Прибегая к столь же условной, как и предыдущая, схеме, можно обозна-
чить эти связи следующим образом:
22
АНАЛИЗ
СИНКРЕЗИС -<_____СИНТЕЗ
Глядя на эту схему, можно заметить, что, во-первых, здесь высвечива-
ется еще одна грань, вуалировавшаяся при прежнем, «линейнем», пред-
ставлении, а именно: «синкрезис — синтез». В соотношении этих катего-
рий обнаруживаются некоторые парадоксы, заслуживающие особого вни-
мания. К их рассмотрению на конкретных явлениях из области музыкаль-
ного искусства мы обратимся в одной из последующих глав. Во-вторых,
возникает и еще одна область парадоксов, которые можно отнести к упоми-
навшимся уже парадоксам «причины, порождаемой следствием». Необхо-
димо пристальнее присмотреться ко всем соседствующим углам нашего
треугольника, задумавшись над такими выражениями, как «анализ через
синтез» и «синкрезис через синтез». Основания для такой неожиданной
постановки вопроса также дает материал современного искусства.
Отметив зависимость развития системы философских категорий от
уровня мышления, характеризующего конкретные науки, пора теперь
обратить взор к искусствознанию, оценив и его вклад в этой области.
Понятийный аппарат искусствознания представляет собой иерархиче-
скую систему, в которой действуют все уже называвшиеся выше законо-
мерности. Некоторые понятия, используемые в искусствознании, при-
ближаются к философскому уровню обобщения отражаемых явлений,
иные — отвечают конкретным потребностям искусства как ремесла.
Проблема дихотомии и трихотомии весьма актуальна и для искусство-
ведческого лексикона, так как сложные взаимосвязи антиномии и триады
прослеживаются на разных этапах эволюции художественной культуры,
воплощаются в искусстве средневековья, барокко, классицизма, романтиз-
ма. Антиномия и триада отражают основы мировоззрения и этико-нрав-
ственные представления человека (религиозный догмат троичности, анти-
номии греха и возмездия, чувства и долга и т. п.). Они формулируются как
общеэстетические категории (этос — пафос — логос, драма — лирика —
эпос) и выражают специфику отдельных областей искусства (поэзия —
проза, диатоника — хроматика, песенность — симфонизм — концертность).
Многообразно воплощается в искусстве и переход от полярности к
триадичности. Привычная сегодня триада «композитор — исполнитель —
23
слушатель», как известно, явилась итогом поэтапной дифференциации
соответствующих функций: от синкретизма древних форм музицирова-
ния к обособлению музицирующего и внимающего и, наконец, к узкой
профессионализации сочинителя и исполнителя-интерпретатора худо-
жественного текста. Или вспомним характерную антиномию карнаваль-
ной культуры: маски комедии дель арте. Арлекин и Пьеро — два поляр-
ных темперамента — вновь оживают в художественном мире Шумана в
образах Флорестана и Эвзебия. Но теперь с ними неразлучен иронично-
мудрый маэстро Раро. И это уже не просто «третий темперамент»: это
третий тип мышления, воплощение осваиваемой романтизмом поэтики
стороннего, объективированного взгляда. Шумановская триада в этом
отношении — характерное явление новой художественной эпохи, имею-
щее в ней немало параллелей:
И здесь у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
А. Пушкин
Выстраиванием самостоятельной системы понятий и категорий
сопровождалось и осмысление процессуальной стороны музыкального
искусства. В русле аристотелевской традиции («целое есть то, что имеет
начало, середину и конец»; см. 7, 6'2), прежде всего, складывались и раз-
вивались теоретические представления о классических принципах музы-
кального формообразования. К сегодняшнему дню эти представления
достигли весьма высокой степени разработанности. В нашем отечествен-
ном музыкознании признанным фундаментом связанных с этой обла-
стью теоретических исследований является концепция Б. Асафьева.
Описанная Асафьевым триада I - М - Т (initio — импульс, motus —
развитие, terminus — завершение) аксиоматически утвердилась в статусе
системы всеобщих функций развития. «Асафьевская триада функций
развития стала крупным и принципиальным завоеванием теоретической
мысли, ей присуща высокая степень обобщенности (всё многообразие
процессов музыкального развития сводится лишь к трём основным
функциям), и в этом её главная привлекательность» (58,5).
В непосредственной связи с асафьевскими идеями появились впо-
следствии, дополняя друг друга, различные музыковедческие теории.
В. Способиным были описаны три, соответствующих триаде I - М - Т,
24
типа изложения музыкальной ткани и предложен свой вариант класси-
фикации функций музыкальной формы. Различные достоинства «функ-
ционального» подхода к анализу музыки были продемонстрированы в
работах Л. Мазеля, В. Медушевского, Вл. Протопопова, В. Цуккермана,
Ю. Тюлина. Крупный вклад в эту область внес В. Бобровский, разрабо-
тавший целый комплекс взаимосвязанных теорий, находящихся в русле
асафьевской концепции. Триада всеобщих функций развития I - М - Т
была положена В. Бобровским в основу собственной классификации,
включающей «общие логические», «общие композиционные» и «спе-
циальные композиционные» функции. Рассматривая их соотношение в
музыке «развитого гомофонно-гармонического стиля в условиях центра-
лизованного тонального и тематического мышления» (17,11), В. Бобров-
ский сформулировал ряд важных положений теории подобия уровней и
этапов музыкальной формы, теории переменности функций музыкаль-
ной формы, теории ритма музыкальной формы. Впоследствии эти теории
были органично дополнены автором теорией совмещения композицион-
ных и драматургических функций.
Следует подчеркнуть, что в самой основе научного подхода, отличаю-
щего работы В. Бобровского, явственно наблюдаемы нераспутанные еще
«узлы» дихотомических и трихотомических представлений. Сошлемся на
один из основополагающих для В. Бобровского постулатов: «Музыкаль-
ная форма — это многоуровневая иерархическая система, элементы кото-
рой обладают двумя (курсив мой. — А.С.) неразрывно связанными между
собой сторонами — функциональной и структурной» (17, 13). В. Бобров-
ский стремится учитывать общенаучный смысл понятий «функция» и
«структура», делая в этой связи в своих книгах соответствующие ссылки.
Однако названные понятия в современной науке также «переросли» пар-
ность своего сосуществования и стали представляться как элементы три-
ады. В работах же В. Бобровского очевидна попытка исходить из тради-
ционного дихотомического представления функции и структуры1, что
порой приводит к не слишком удачным определениям чутко улавливае- 1
1 Свидетельством тому может служить, например, указание на прямую связь
парности понятий «функция — структура» и «двуплановости существующей клас-
сификации гомофонных музыкальных форм: период, простые и сложные формы —
первая группа форм; вариации, рондо, соната, цикл — вторая группа» (15, 11).
25
мой музыковедом зоны их пересечения2. Понятие «структура» в трактов-
ке В. Бобровского то приближается к смыслу отсутствующего в его лекси-
коне научного понятия «субстанция», будучи относимым к материально-
вещественной стороне музыки как звукового феномена, то соприкасается
со значением, вкладываемым ныне в понятие «система»3.
Переходность позиции, занятой В. Бобровским, вполне закономер-
на^ Традиционный аппарат музыковедческого анализа опирается на
длинный ряд парных понятий, одни из которых являются общеупотреби-
мыми, а другие имеют «персональную» принадлежность. К числу первых
можно отнести понятия «устой — пеустой», «предыкт — икт», «диатони-
ка — хроматика», «ядро — развертывание»; к числу вторых — понятия
«твердое — рыхлое» (fest — locker) А. Шёнберга, «внутреннее — внешнее»
Р. Рети и т. п. Рассмотрение каждой из этих пар может быть связано с аль-
тернативой триадичности, усматриваемой в той же самой области.
Вопрос о полярности и триадичности был раскрыт В. Бобровским
наиболее полно в связи с исследованием проблемы музыкальной драма-
тургии. Им подробно описан триадный (трехэлементный) вид драматур-
гии в отношении к различным эпохам и индивидуальным композитор-
ским стилям. Тонко проанализированы, в частности, бетховенская триа-
да («действие — противодействие — преодоление»), скрябинская триада
(«от высшей утонченности через полетность к высшей грандиозности»),
триада Шостаковича («созерцание — действие — осмысление»). При
этом триадная драматургия признана В. Бобровским одним из возмож-
ных видов драматургии и поставлена в один ряд с драматургией парной.
В. Бобровский обосновывает это тем, что «существует закономерность,
обусловленная психологией восприятия: многоэлементность в любой
сфере стремится к внутренней группировке, создающей двух- или трех-
элементное образование более высокого порядка» (17, 64).
2 «Структурные закономерности в своем действии на уровне композицион-
ных функций приобретают также функциональное значение. Поэтому их следует
называть структурными функциями. Функции же в собственном смысле слова
нужно называть в таком случае смысловыми функциями» (15, 21).
3 Данное противоречие учитывается и снимается В. Медушевским. Развивая
идею В. Бобровского о совмещении драматургических и композиционных функ-
ций, В. Медушевский вводит новые парные понятия «развернутая» и «редуциро-
ванная» форма, рассматривая их при этом в трех аспектах: по материалу, функциям
и в структурном отношении (77, 180).
26
Закономерностям музыкальной драматургии, как доказывает В. Боб-
ровский, соответствуют закономерности музыкальной композиции,
среди которых также есть возможность выделить двухкомпонентный и
трехкомпонентный ритм.
Красной нитью проблема триадичности проходит в работах Е. На-
зайкинского. «Категориальные триады, — подчеркивает ученый, — есте-
ственно рождаются в самой практике музыки, в ее создании, исполнении,
восприятии и осознании. Исследование триадности как метода, хорошо
отвечающего природе музыкального произведения, должно составить,
по-видимому, специальную задачу» (90, 300). Естественность триадных
систем в музыке, по мнению Е. Назайкинского, определяется, с одной
стороны, способом ее существования во времени и пространстве. Под-
тверждая актуальность аристотелевского представления о фазах развер-
тывания произведения, Е. Назайкинский в целом разделяет и общеприз-
нанный взгляд на концепцию Асафьева как на универсальную основу
процессуальное™ в музыке4. Пространственная трехмерность конкретно
звучащего произведения также упоминается при этом как определяющая
ракурс его теоретического осмысления. С другой же стороны, эта есте-
ственность зиждется на факторе субъективности, антропоцентричности
искусства. Централизация многих шкал (темповой, громкостной, звуко-
высотной и т. д.) осуществляется по принципу триады, диктуемому
известными психофизическими закономерностями.
Пересечение дихотомических и трихотомических представлений о
музыке Е. Назайкинский связывает с существованием двух подходов к ее
изучению — языкового и речевого. «Первый, ориентируясь на исследова-
ние музыкального языка, системы музыкальных художественных
средств, выделяет в материале всякого рода парные сочленения, прово-
дит принцип дихотомии, поляризации. Второй, ставящий задачу анализа
не художественных средств, а самого произведения, гораздо чаще обра-
щается к всякого рода триадам» (там же, 300).
4 «Триада “иницио — мотус — тсрминус” представляет собой предельно обоб-
щенную модель “временного пространства”, которое в музыке развертывается как
отграниченный от бесконечности мир художественных событий. Начало — середи-
на — конец — это самые общие, нейтральные, не касающиеся специфики искусства
понятия» (там же, 279).
27
Следуя «асафьевским курсом», Е. Назайкинский обнаруживает
закономерности, существенно дополняющие традиционный взгляд на
музыкальную композицию. В частности, исследователь подчеркивает
психологический аспект трехфазности композиции, связанный с такими
стадиями перцептивного акта, как вхождение, развертывание и переклю-
чение5. Заметим, что этого вопроса касался и В. Бобровский, однако в его
представлении и вступительная, и экспозиционная функции музыкаль-
ной формы однозначно относились к первому члену асафьевской триа-
ды — импульсу. Е. Назайкинский же, анализируя различные виды всту-
пительных разделов музыкальной формы, устанавливает, что в некото-
рых случаях «вхождение отнюдь не становится асафьевским импульсом
иницио, а развертывание не заменяется развитием. Усиливается лишь
переключение, преобразующееся в терминус» (90, 146).
Это наблюдение следует признать весьма существенным и в отноше-
нии к определенным видам современной музыкальной композиции, не
ориентированной на риторические прототипы. К данному вопросу нам
еще предстоит в дальнейшем вернуться.
Творческим развитием асафьевских идей является и ряд предложен-
ных Е. Назайкинским гипотез о связи триады I - М - Тс другими триа-
дами. «Триада I - М -Т, как и триада “этос — пафос — логос”, координи-
руется с системой трех масштабно-временных уровней — фонического,
синтаксического и композиционного» (там же, 284). Утверждая это, Е.
Назайкинский преодолевает известное предубеждение о «нерядополож-
ности» различных триад, фигурирующих в музыкознании: выражающей
стороны художественного содержания (характеристическое, эмоцио-
нальное, логическое), фиксирующей фазы развертывания звукового про-
цесса (начало, середина, конец) и разграничивающей три разномасштаб-
ных «потока времени» (звуковой, интонационный и тематический). Свя-
зующим звеном всех триад является трехсторонность восприятия музы-
ки, проявляющаяся на всех ее масштабных уровнях. «Каждому уровню,
— пишет Е. Назайкинский (89,27), — соответствует своя триадная систе-
ма ее проявлений». Если расположить их параллельно одну за другой,
получится следующая схема:
5 В психологии им соответствует триада понятий «вхождение, пребывание,
выход из деятельности».
28
Комментируя эту схему, ученый раскрывает на уровне обобщенной
модели музыкального процесса глубокую взаимосвязанность всех рас-
сматриваемых сторон.
Следует остановиться здесь и еще на одном важном моменте. Опира-
ясь на теоретические представления, изложенные в работах других музы-
коведов, Е. Назайкинский в некоторых случаях логически «достраивает»
их в соответствии со всё той же закономерностью перерастания полярно-
сти в триадичность. В частности, введенные В. Бобровским понятия
«форма как данность» и «форма как принцип» предлагается дополнить
до триады следующим образом. Усматривая в значении понятия «форма
как принцип» частную идеальную модель композиции, зафиксирован-
ную в музыкальном языке, в теоретических представлениях о музыкаль-
ной форме, Е. Назайкинский считает логичным сделать еще один шаг, «в
результате чего вся совокупность сложившихся типовых форм окажется
комплексом конкретных “данностей”, объединяемых еще более общим
“принципом” — тем, что мы и предлагаем назвать общей идеальной ком-
позиционной моделью музыкального произведения» (90, 8).
Разработанная В. Медушевским систематика коммуникативных и
семантических функций музыкальной формы также рассматривается
Е. Назайкинским как основание для триады: коммуникативные — семан-
тические — тектонические функции (там же, 103-105).
Триада «синкрезис — анализ — синтез» не стала в трудах Е. Назай-
кинского объектом специального изучения, хотя обращение к ней есте-
ственно возникает по разным поводам. Через понятия «анализ» и «син-
тез» автор даже уточняет жанр одной из своих книг: «...читателю пред-
лагается описание, противоположное обычному анализу. Оно будет,
скорее, синтезом, направленным к конкретному произведению» (там
же, 10). В своем лекционном курсе по анализу музыкальных произведе-
ний на теоретико-композиторском факультете Московской консервато-
рии Е. Назайкинский указывал различные сферы проявления данной
триады:
29
а) композиционный процесс — движение от синкретизма замысла,
через его анализ, к целому в процессе сочинения музыки;
б) педагогический процесс на трех его возрастных стадиях — ориен-
тация на синкретизм детского сознания, анализ как принцип педа-
гогики в училищную пору, синтез знаний как задача вузовского
образования;
в) критическая деятельность — восприятие художественного произ-
ведения как синкретического целого, его разбор (анализ) и описа-
ние (синтез).
Таким образом, триада «синкрезис — анализ — синтез» как универ-
сальный гносеологический принцип, как механизм проявления стадиаль-
ности в мыслительном процессе имеет и к музыкознанию прямое и весь-
ма существенное отношение. Эта триада справедливо рассматривается
И. Котляревским как основа исторической эволюции понятийного аппа-
рата самого музыкознания, представляющей «движение из недр общего
для многих сфер человеческого сознания понятийного аппарата, что
обусловлено их нахождением в синкретическом единстве, через вычлене-
ние специфически “музыкальных” понятий к последнему этапу, на кото-
ром происходит привлечение в музыкознании понятий, общих для мно-
гих научных отраслей знания. Только на этом этапе, — пишет И. Котля-
ревский, — использование всеобщих понятий, вплоть до философских
категорий, не означает уже отсутствия или неразработанности своей тер-
минологии или, тем более, отказа от нее, а связано со стремлением к син-
тезу знания, с пониманием органичной взаимосвязанности всех форм
человеческой деятельности и отраслей познания» (56, 147).
Попытка приблизиться к такому синтезу знания, соотнести нако-
пленный искусствоведением опыт с некоторыми общенаучными и обще-
философскими представлениями и будет предпринята в последующих
главах данного исследования.
Глава 2
О типологии методов
художественного мышления
«Мы можем исследовать музыкальное произведение в целом и в его
деталях, изучать его строение, восхищаться его красотой, но генезис его
останется для нас тайной» (172, 7).
В этой изящной капитуляции исследователя перед воистину вели-
кой тайной художественного творчества мы привычно не усматриваем
ничего зазорного. Не всегда мы рискуем пересечь черту, за которой все,
нами изреченное, так легко становится ложным или хотя бы явно несоиз-
меримым с существом осмысляемого. Мы начинаем стесняться несовер-
шенства научной части музыковедческого языка, ретируясь при помощи
более или менее удачных метафор, позволяющих уж если не постичь, то
хотя бы вызвать в воображении завораживающую бездну, именуемую
вдохновением художника.
Искусство неисчерпаемо, и в этом смысле генезис музыкального
произведения всегда будет манить нас все новыми своими тайнами. Тем
не менее «музыковедческий агностицизм», провозглашенный Ноттебо-
мом, сегодня уже не убеждает, несмотря на то что осознание чрезвычай-
ной сложности проблемы за последние десятилетия существенно углуби-
лось1. Как говорил А. Эйнштейн, «то, что увидит исследователь в матери-
1 Все более утверждающая себя ныне точка зрения может быть продемонстри-
рована цитатой из статьи М. Тараканова: «Нельзя сказать, что творческий процесс
в музыке есть нечто в принципе непознаваемое, что мы стоим перед глухой стеной,
непроницаемой завесой, за которой находится святая святых, куда открыт вход
лишь немногим посвященным, т. е. самим творцам интонируемых звукообразов.
Но ясно и другое — слишком многое в творческом процессе, осуществляемом ком-
позитором, ускользает от исследователя, слишком многое ему приходится строить
на песке, используя данные, строгая достоверность которых часто не поддается
проверке, — слишком велика тут роль догадок, произвольных допущений, доказа-
тельств по аналогии» (119, 127).
31
але фактов, зависит от теории, которой он руководствуется». Наука дела-
ет шаг вперед, правильно ставя новый вопрос и пробуя новый исследова-
тельский метод. Современное искусствознание не является в этом отно-
шении исключением. Художественное творчество именно в последние
десятилетия стало объектом искусствоведческих исследований нового
типа. Возникла и активно развивается новая научная дисциплина —
психология художественного творчества. Ее краткая, но насыщенная
история представляет значительный интерес.
Развиваясь первоначально на основе субъективно-идеалистических
представлений, сводя исследование творческого акта к различным моди-
фикациям биографического метода (то есть рассматривая произведение
как прямое отражение личности и жизни художника), психология твор-
чества оказалась далее вовлеченной в орбиту идей фрейдизма, связываю-
щего творческий замысел с факторами подсознания и биологическими
инстинктами. Признание процессов художественного творчества детер-
минированными, в свою очередь, повлекло за собой поиски новых соот-
ветствующих им методов исследования. Постоянный и широкий интерес
к проблеме художественного творчества способствовал быстрому накоп-
лению фактов и стимулировал попытки их обобщения2.
Истинно же новым шагом явилось установление связи между психо-
логией творчества и диалектико-материалистической теорией отраже-
ния. Опровержение теории непознаваемости творческого акта стало в 30-е
годы задачей прежде всего литературоведческих работ (34; 143; 74). Да и
в дальнейшем психология художественного творчества также разрабаты-
валась преимущественно на материале литературы3. Примером глубоко и
разносторонне проведенного исследования такого рода может служить
монография М. Арнаудова (8).
Методологической основой для многих исследований этого времени
стал системный подход, позволяющий не терять из виду целостную кар-
тину процессов художественного творчества при специальном углубле-
2 Так, уже с 1907 по 1923 год в Харькове было выпущено 8 томов сборника
«Вопросы теории и психологии творчества».
3 Известный литературовед Б. Мейлах высказывает, однако, мнение, не впол-
не мной разделяемое, что психология творчества как наука и как самостоятельная
дисциплина развита мало, «за исключением консерваторий» (79, 6).
32
нии в одну из его сторон4. Важной задачей, в частности, было признано
установление типологических особенностей творческих процессов,
исследуемых в определенной иерархии уровней:
а) исследование процесса создания отдельного произведения;
б) исследование процесса создания всех произведений данным ав-
тором;
в) сравнительный анализ процессов творчества разных художников.
Исследования в области психологии творчества непосредственно
стимулировали развитие других, пересекающихся с нею дисциплин,
например текстологии, эвристики. Третий из вышеназванных типов
исследований, непосредственно выходящий на уровень культурологиче-
ской проблематики, оказался важной частью самостоятельной дисципли-
ны — компаративистики.
Характеризуя объективную основу исследований механизмов худо-
жественного творчества, следует особо выделить два рода анализируемо-
го материала. Первый представлен, если так можно выразиться, плодами
заинтересованного самонаблюдения художников-творцов. Причем имен-
но в XX веке стремление художников вникнуть в природу собственного
творческого процесса, проследить и осмыслить его основные этапы про-
явилось особо.
Помимо массы интереснейших, но отдельных, несистематических
наблюдений, мы располагаем и особо ценными материалами, представ-
ляющими результат длительного и направленного самопознания, сравне-
ния и обобщения. Примеров тому можно привести немало.
В 1927 году Андре Жид выпустил в свет «Дневник фальшивомонет-
чиков», в котором поставил задачу — подробно проследить внутреннюю
и внешнюю историю создания своего романа «Фальшивомонетчики».
Годом раньше появилась известная публикация Вл. Маяковского «Как
делать стихи» (73, 193-239). Существенно иначе, в сравнении с Маяков-
ским, представляет механизм творчества поэта А. Твардовский в своей
статье «Как был написан “Василий Теркин”» (122,324-350).
4 В области музыкознания здесь следует выделить книгу А. Мухи. Системный
подход признан данным автором принципиально важным условием изучения
музыкально-творческого процесса (88,35).
33
Примеры систематического самоанализа можно найти в обширном
теоретическом наследии С. Эйзенштейна. Процесс творчества киноре-
жиссера интересно проанализирован также в книге А. Михалкова-Конча-
ловского (82). Множество интереснейших суждений о собственном твор-
ческом процессе оставили композиторы — Чайковский, Стравинский,
Метнер, Онеггер и многие другие.
Наконец, весьма интересны и полезны для искусствоведов и некото-
рые работы, посвященные анализу процессов научного творчества.
Сошлемся на увлекательную книгу французского математика Ж. Адама-
ра (2). На основе обобщения собственного опыта, анализа соответствую-
щих наблюдений ряда крупнейших ученых и специально проведенного
анкетирования автор делает попытку выявления и описания алгоритма
научного творчества, изучения его механизмов.
Второй род анализируемого материала представляют некоторые осо-
бые виды художественных текстов — черновики, эскизы, предваритель-
ные планы, варианты, редакции. Этот материал в еще более полной мере
может быть признан объективной основой исследований творческого
процесса. Если в словесных высказываниях художника все же неминуе-
мо присутствует определенная доля условности5, то такого рода текст —
это уже документ, материально зафиксированная стадия творческого
процесса.
На сегодняшний день текстология располагает значительным арсе-
налом исследовательских методов, решает такие важные задачи, как рас-
шифровка древних рукописей, реконструкция утраченного текста, уста-
новление подлинности произведения и т. п.
Как уже отмечалось, текстологические исследования тесно смыка-
ются с исследованиями по психологии творчества.
В области музыки серьезные исследования эскизного материала
стали появляться позже соответствующих исследований в других видах
искусства. Причина, по-видимому, в том, что в музыке эскизный матери-
ал, как правило, не выносится на суд слушателя, в то время как эскизы и
фрагменты произведений изобразительного искусства, литературы
3 Эту мысль заостренно выразил А. Лосев: «Редкий художник понимает в пол-
ном смысле то, что он творит. И часто другие понимают в этом больше, чем он сам,
творец» (64, 67).
34
давно признаны как имеющие самостоятельную эстетическую цен-
ность6. Однако теперь и в области музыкознания появляется все больше
интересных работ текстологического характера. Достаточно указать на
известные исследования М. Иванова-Борецкого, Н. Фишмана, А. Кли-
мовицкого, Е. Вязковой и П. Миса, посвященные анализу бетховенских
рукописей.
Имеется и интересный опыт досочинения на основе сохранившихся
черновиков и фрагментов незавершенных музыкальных произведений7.
В сфере столь сокровенного и индивидуального, каковой является
творческий процесс, вопрос типологии представляется особенно слож-
ным. «Творческий процесс художника» — это историко-стилевая катего-
рия, содержание которой отражает многообразные пласты всей культуры
в целом. Типом культуры непосредственно определяется роль художника
в общественной жизни, его, так сказать, социальные полномочия, усло-
вия его творчества. В рамках одной культуры художник почитается как
мастер, ремесленник, носитель цеховой традиции; в рамках другой —
может быть провозглашен мессией, гением, приобщенным к высшим
духовным сферам.
Психология художественного творчества пытается конкретизиро-
вать многообразные и все еще достаточно расплывчатые представления
о художественном методе. Однако и это оказывается весьма непростой
задачей. Как известно, уже у древних греков Понятие «метод» (medosos)
использовалось в разных значениях. По Платону — это «путь познания»,
по Плутарху — «прием». Представления метода, с одной стороны, как
определенной формы практического освоения действительности, с дру-
гой же — как способа теоретического ее познания, осмысления — стали
в дальнейшем интересовать философов именно в их нерасторжимой
совокупности и диалектической соподчиненности.
«Своими генетическими корнями метод восходит к практической
деятельности. Приемы практической деятельности человека с самого
6 Укажем в качестве примера на пользующуюся большим успехом у публики
выставку эскизов, фрагментов и вариантов картины А. Иванова «Явление Христа
народу».
7 Сошлемся, например, па завершение А. Немтиным «Предварительного дей-
ства» Скрябина, В. Блоком — Сопаты для виолончели соло Прокофьева, Л. Бути-
ром — Симфонии Es-dur Шуберта.
35
начала должны были подчиняться объективной логике тех вещей, с
которыми он имел дело, т. е. сообразоваться с их свойствами и отноше-
ниями. Способы практических действий постепенно “пересаживались” в
голову и превращались в методы познания, мышления. Теперь уже,
прежде чем приступить к делу, человек мог мысленно представить и
результат этого дела и способ или средства достижения этого результа-
та» (127, 60).
Применение философского понятия «метод» в области художе-
ственного творчества вызвало желание еще более дифференцированно
представить несомый им смысл. М. Каган, например, предлагает разли-
чать следующие значения термина «метод» именно как термина эстети-
ки: «Во-первых, определенный способ познания действительности; во-
вторых, способ ценностной интерпретации жизни; в-третьих, способ пре-
ображения жизненной данности в образную ткань искусства (способ
художественного моделирования и конструирования); в-четвертых, спо-
соб построения системы образных знаков, в которых закрепляется и пере-
дается художественная информация» (46, 12).
В последующем изложении нам неоднократно придется уточнять
смысл, вкладываемый разными авторами в понятие «метод». Поэтому
отметим здесь два аспекта, которым, в соответствии с предметом на-
стоящего исследования, будет уделено наибольшее внимание:
а) метод как отражение художественного мышления композитора,
его индивидуальных творческих установок, понимания им художествен-
ной задачи;
б) метод как способ самоорганизации в процессе творчества, как
определение совокупности конкретных приемов и условий, соблюдае-
мых композитором при реализации художественной идеи.
Эти два момента — отвлеченно представляемую интеллектуальную
позицию художника и доступные прямому наблюдению стороны его реме-
сла — исследователь обязан рассматривать и оценивать в их диалектиче-
ском единстве, чтобы избежать искажений и упрощений в оценке самих
результатов творчества, в оценке конкретных произведений искусства.
К эпохе античности восходит, как уже отмечалось, традиция парного
рассмотрения методов мышления. От древнегреческих терминов aistheti-
kos (чувственный, схватываемый чувствами) и neotikos (мыслимый, по-
знаваемый интеллектом) можно проследить долгий путь к современным
философским и эстетическим концепциям. О двух типах мышления и,
36
соответственно, двух типах мыслителей рассуждает Кьеркегор, противо-
поставляя абстрактному и объективному конкретное и субъективное.
Логическое и дологическое мышление исследуется Леви-Брюлем. Вер-
бальные и невербальные формы мышления разделяет Арнхейм. К наз-
ванной традиции следует отнести категории «аполлоническое — диони-
сийское», «классическое — аклассическое», «эйдос — логос», вспомнив
при этом противостояние гармоников и каноников, Рамо и Руссо. С нею
связаны и разного рода частные определения, отличающие, например,
эстетические платформы двух экспрессионистских групп («Синий всад-
ник» и «Мост»), и широкоохватные обобщения, вроде противопоставле-
ния Франции и Германии:
Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений;
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений.
Александр Блок
Меткие наблюдения над искусством, накапливаясь, становились
своеобразными «системами координат», позволяющими установить ряд
важных закономерностей. В этой связи делались и различные попытки
построить типологию методов художественного творчества. Принципом,
положенным в основу такой типологии, могло быть, например, отноше-
ние художника к традиции: «Композиторы бывают двух типов: одни
работают в рамках сложившейся системы музыкального языка, разви-
вая ее вглубь и вширь, другие же ее отметают вовсе и создают новую»
(6, 141).
Методологическим фундаментом для многих искусствоведческих
исследований, посвященных механизмам художественного творчества,
стала современная семиотическая концепция двух типов культур — кано-
нической и неканонической. Под «каноном» здесь подразумевается опре-
деленный тип мировоззрения, восходящий к универсальным принципам
упорядоченности и проявляющий себя в разных сферах бытия8.
8 Интересной попыткой конкретизировать эту концепцию па материале музы-
кального искусства является диссертация А. Ивашкина «Канон в музыке как эсте-
тический принцип». По определению автора, «канон как мировоззренческая катего-
рия — это преобладание всеобщего, внеличностного и устойчивого над ипдивиду-
37
В основу типологии художественных методов могут быть положены
и наблюдения над самим творческим процессом художника, подмечен-
ные секреты его ремесла. Например, в вышеупомянутой книге М. Арнау-
дова к одному типу художников относятся такие, у которых «замысел
созревает медленно и систематически, так что окончательное фиксирова-
ние проходит с большой скоростью»; к другому же типу причислены
художники, у которых «процесс создания идет ускоренным темпом еще с
начального момента, без длительного обдумывания исполнения, так что
ничего совсем уверенного и установленного не появляется на свет» (8,
496). Для сравнения приведем цитату из статьи В. Брюсова: «Есть два
метода творческой работы писателя. Некоторые сначала долго обдумыва-
ют свое будущее произведение, пишут его, так сказать, “в голове”, переде-
лывая, поправляя мысленно, может быть, десятки раз каждое выражение;
на бумаге они записывают только уже готовые строки, которые впослед-
ствии, конечно, могут быть еще раз изменены. Так писал, например, Лер-
монтов. Другие, и таких меньшинство, берутся за перо при первом про-
блеске поэтической мысли; они творят “на бумаге”, отмечая, записывая
каждый поворот, каждый изгиб своей творческой мысли, весь процесс
создания запечатлевается у таких писателей в рукописи; рукопись отра-
жает не только техническую работу над стилем, но и всю психологию
поэта в моменты творчества. Так писал Пушкин» (19, 465-466).
Из этого ясно, что и обращение к рукописным материалам компози-
тора еще далеко не гарантирует существенного углубления наших пред-
ставлений о характере его творческого процесса. Эта возможность отно-
сится только к художникам, по выражению Е. Вязковой, «записывающим
свой творческий процесс». Примером такого рода может служить руко-
писное наследие С. Прокофьева. По свидетельству В. Блока, «метод твор-
ческой работы Прокофьева может быть охарактеризован как метод мак-
симальной фиксации творческого процесса в музыке. Это и развернутый
эскизный процесс (со строго продуманной дифференциацией и структу-
рой эскизов), и фиксация целостных вариантов произведений, и <...>
альным и изменчивым» (45, 2). Художественный канон (канон в более узком смы-
сле слова) — проявление такого типа мировоззрения в сфере человеческой культу-
ры и творчества, конструктивный принцип художественного мышления, основан-
ный на выведении всего целого из единой, заранее заданной предпосылки или
системы условий, которая становится как бы символом, «гарантией целостности».
38
побочные аспекты фиксации — замечания композитора, содержащиеся в
эскизах, и его столь же конкретные высказывания, выдержанные в той
или иной форме» (14,21).
Можно сослаться и на рукописи М. Регера, А. Лядова, Р. Леденёва,
обнаруживающие предельную близость первоначальных записей и окон-
чательно оформленного текста сочинения.
Уровень теоретических обобщений, устанавливаемый при система-
тизации наблюдений, почерпнутых в эмпирическом опыте, определяется,
по терминологии Томаса Куна, парадигмой^, характерной для данного
этапа развития науки. Бывает, однако, что материал, накопленный в од-
ной области знания, получает неожиданное освещение благодаря смене
парадигмы, происшедшей в другой области. Такая ситуация возникла, в
частности, в XX столетии, когда материал искусства стал объектом пси-
хологических и даже психиатрических исследований9 10 11.
Проникновению ученых в тайны бессознательного способствовал
богатейший опыт искусства. Известно и обратное влияние идей психо-
анализа на творчество многих художников XX века. Повлияли эти идеи
и на развитие искусствознания, где с большим вниманием были воспри-
няты достижения современной науки о Человеке11.
Следует особо подчеркнуть методологическую значимость для
искусствоведения современных исследований деятельности мозга, в
частности, механизмов право- и левополушарного мышления. В обшир-
ной научной литературе, посвященной этой проблеме, называются важ-
9 «Под парадигмами, — пишет Т. Куи, — я подразумеваю признанные всеми
научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель
постановки проблем и их решений научному сообществу» (57, 11).
10 «Творчество как невроз» — характерный пример тезиса, определившего
целое направление научных исследований.
11 Встречные интересы ученых хорошо демонстрирует второй том собрания
докладов Международного симпозиума по проблемам бессознательного (Тбилиси,
1978 г.). С одной стороны, психологи, врачи обращаются к материалу искусства,
углубляя свои представления о механизмах мышления, о жизнедеятельности чело-
веческого организма. С другой — искусствоведы сверяют свои наблюдения с дан-
ными научного эксперимента. О двух подходах к построению концепции художе-
ственного творчества — творчеству «по наитию» и алгоритмизации творческого
процесса — пишет П. Симонов (107, 518). О двух аналогичных формах подсозна-
тельного музыкального мышления — эвристической и алгоритмической — идет
речь и в статье М. Арановского (6).
39
нейшие функции полушарий мозга. Указывается связь функций левого
полушария с абстрактным мышлением, речью, аналитическим освоением
действительности и, соответственно, связь правого полушария с чув-
ственным восприятием, с синкретическим представлением явлений
окружающего мира.
Эти положения легли в основу оригинальной «нейростилевой гипо-
тезы» В. Медушевского, исследовавшего определенную закономерность
в смене эстетических установок, характеризующих различные периоды
истории культуры. В. Медушевский видит эту закономерность в
цикличности колебаний доминантности лево- и правополушарного
мышления, предлагая интересные стилистические характеристики
музыки барокко, классицизма, романтизма. Принципиальной новизной
здесь отличается не сама постановка вопроса12, а ее научное обоснова-
ние. Это же можно сказать и о выводах В. Медушевского, касающихся
природы музыкального слуха. Еще Б. Тепловым (123) были описаны два
вида восприятия музыкального звука — «гармонический» (основанный
на аналитически дифференцированном слышании) и «тембровый»
(основанный на синкретически нерасчлененном слышании). Эту же
идею впоследствии развивали и другие исследователи (см., например,
39). С учетом новейших данных нейроссмиотики В. Медушевский под-
ходит к проблемам музыкального языка13, музыкальной формы. В связи
с последней исследователь считает целесообразным ввести уточняющие
понятия «аналитическая форма» и «интонационная форма», подробно
раскрывая их взаимосвязь14. С этих же позиций В. Медушевский рассма-
тривает и некоторые более частные вопросы музыкального формообра-
зования15.
12 В свое время В. Днепров уже предлагал разделение художественных стилей
на аналитические и синтетические (38), однако эта идея не получила у него доста-
точного развития.
13 «В ходе исторического развития музыка углубляла аналитическую диффе-
ренцированность своего языка. Но одновременно росла и крепла се синкретиче-
ская организация» (77, 21).
14 «Аналитическая форма подчинена интонационной и служит ей — подобно то-
му, как левое полушарие служит правому при контакте человека с музыкой» (77, 17).
15 «Вариантным развитием управляет не столько разум, сколько чувство.
Вариационность аналитична» (77, 169).
40
Множественность антиномий, согласно уже известной нам логике
познания, должна была и в данной области неминуемо сомкнуться с три-
адическим делением понятий. В только что процитированной характери-
стике музыкальной формы, к примеру, нетрудно обнаружить триаду
«синкрезис — анализ — синтез». Триадичность как принцип связи типов
мышления в разных вариантах представлена в научной литературе. Опи-
сание трех типов мышления — понятийного, образного и предметного —
дается О. Тихомировым (124). Особенности мыслительных процессов,
соответствующих трем фазам экзистенциального цикла художественного
произведения — проектной, объектной и перцептной, — обсуждает
Э. Гершкович (30). Три типа художественного мышления лежат и в осно-
ве классификации, предложенной Б. Мейлахом:
а) Художественно-аналитический, предполагающий единство «идеи»
и «образа», аналитического и конкретно-чувственного элементов
творчества. Этот тип Б. Мейлах демонстрирует на примере писа-
телей-реалистов.
б) Субъективно-экспрессивный, при котором чувственная и эмо-
циональная окраска изображения преобладает над относительно
слабой аналитической тенденцией. Примером тому, по мнению
Б. Мейлаха, могут служить художники-романтики.
в) Рационалистический, характеризующийся перевесом «идеи» над
«образом» и свойственный классицизму (79, 16).
Очень важной в этой связи представляется мысль, высказанная Иго-
рем Стравинским по поводу его «Весны священной»:
«Мной в “Весне священной” не управляла никакая система. Когда я
думаю о других интересных композиторах нашего времени — Берге, син-
тетичном в лучшем смысле этого слова, Веберне, аналитичном, Шёнбер-
ге, склонном одинаково к синтезу и к анализу, — настолько их музыка
кажется теоретичнее, чем “Весна”, — то знаю, что фундаментом для них
была великая традиция, тогда как “Весне священной” предшествует
очень непродолжительная и более непосредственная традиция. Моим
помощником был только слух. Я слышал и записывал то, что слышал.
Я — сосуд, через который прошла “Весна”» (183,247-148).
В этом «самоопределении от противного» многое вызывает вопросы,
несмотря на свойственную Стравинскому решительность в определе-
ниях. Понятия «анализ» и «синтез» использованы здесь как заведомо
ясные по смыслу, однако именно в связи с названной совокупностью
41
имен они вовсе не кажутся таковыми. Что же именно могло здесь иметь-
ся в виду? Подсказка обнаруживается в ссылке на «великую традицию»,
заставляющей вспомнить о принципах мышления, красной нитью про-
слеживаемых в истории начиная с античности16. Здесь ощущается рас-
пространенный взгляд на эволюцию европейской культуры как на линию
нарастающего рационализма, имевшую, разумеется, свои пики и времен-
ные спады, но в целом неуклонно поднимавшуюся вплоть до XX века17.
Значение этой линии многократно отмечалось и в сфере художественной
культуры18.
Стравинский, как видим, вынес себя за скобки «великой традиции»,
причислив к ней при этом всю «нововенскую троицу». Но в каком же зна-
чении тогда употребил он понятия «анализ» и «синтез», призванные раз-
граничить Шёнберга, Берга и Веберна? Попробуем поискать параллели в
том самом Времени, порождением которого явились «Весна священная»
и «Лунный Пьеро».
Термины «анализ» и «синтез» понадобились в начале века для раз-
межевания двух направлений кубизма в живописи. Одним из этих напра-
влений был «аналитический кубизм» (1907-1912 годы), художествен-
ный метод которого отражен в следующих словах Пикассо: «Моя карти-
на — итог ряда разрушений. Я создаю картину и потом разрушаю ее. Но в
конечном счете ничто не утрачивается бесследно: красный цвет, удален-
ный мною с одного места, появляется где-нибудь в другом» (99,21).
Заметим, что метод представлен здесь как определение совокупно-
сти художественных приемов, как самоорганизация в процессе работы
над полотном. Подобный же метод был наглядно продемонстрирован
16 Сократ и Платон впервые в истории европейской мысли поставили цель
логически определить понятия, подлежащие теоретическому осмыслению. «Час
истории пробил, и наступила эпоха смысла, сознания, разума» (65, 52).
17 Как пишет Н. Автономова, «в XX веке иррациональное, становясь самостоя-
тельным умонастроением, теснит рациональное, становится соизмеримым с рацио-
нальным. Иррациональное вследствие этого оказывается уже не запредельным или
периферийным элементом общего мыслительного пространства, но подчас едва ли
нс сердцевиной, в которой тщетно ищется рациональный смысл» (1,26).
28 В связи с литературой барокко, в частности, велась речь об «аналитическом
подходе» (113, 37-38), о «риторическом рационализме» (83, 115). Идея рациона-
лизации в музыке была выдвинута немецким социологом Максом Вебером и под-
держана Теодором Адорно: «Вне всякого сомнения, история музыки — это прогрес-
сирующая рационализация» (157, 18).
42
Питом Мондрианом в серии рисунков 1910-1911 годов, на которых дере-
во через ряд метаморфоз постепенно превращалось в геометрическую
конструкцию. Реалистический набросок с натуры был исходной точкой
работы и для Умберто Боччони. Сохранившиеся эскизы его известной
картины «Динамизм велосипедиста» (1913 г., Милан, собрание Дж. Мат-
тиоли) фиксируют поэтапное разложение живописного образа на состав-
ные части в соответствии с «динамической» концепцией футуризма.
Последнюю фазу «аналитического кубизма» называют еще иногда
«кубизмом представления»: «В 1910 году дом, изображенный на полотне,
уже не образ определенного дома, “увиденного глазами обыкновенного
человека в прямой проекции”. Дом сначала “анализируется” и затем
выкладывается снова из различных аспектов одновременно, различных
“форм представления”» (60, 104).
Логическим звеном на этом пути к абстракционизму был «синтети-
ческий кубизм». Один из основоположников его, Хуан Грис, говорил: «Не
картина оказывается соответствующей моему предмету, а предмет моей
картине... Математика делания картины ведет меня к физике изображе-
ния... Абстракция для меня — точка управления, реальный факт — конеч-
ный пункт» (175, 130). «Синтетический кубизм» уже не ищет точки
опоры в наблюдаемом вещественном мире. «Это род живописи новых
ансамблей посредством элементов, заимствованных не из видимой реаль-
ности, но целиком созданных художником и наделенных им могуще-
ственной реальностью» (162,31).
Если же говорить о методе как о системе воззрений художника, как
об избранном им «пути познания», то можно, пожалуй, провести парал-
лели между только что выделенным в области изобразительного искус-
ства и отмеченным Стравинским в искусстве музыкальном.
Именно с аналитическим проникновением в сущность бытия связан
метод А. Веберна. Создатель «лирической геометрии», как известно,
находился под большим влиянием естественнонаучных трудов Гёте19,
взгляд которого на природу был поразительным предвосхищением докт-
рин грядущего века. Приведем одно из характерных веберповских сужде-
ний: «...подобно тому как естествоиспытатель стремится найти законо-
19 См. многочисленные ссылки на Гёте в литературном наследии А. Веберна
(24, 13-16, 18, 20, 44, 57, 62, 75, 77, 92, 117, 119).
43
мерности, лежащие в основе природы, так и мы должны стремиться
найти законы, по которым творит природа, выступающая в особой форме
человека. А отсюда, в сущности, следует, что вещи, о которых трактует
искусство вообще, с которыми оно имеет дело, не являются чем-то “эсте-
тическим”, что речь здесь идет о законах природы, что всякий разговор о
музыке может вестись только в этом смысле» (24, 14).
И не перекликается ли в чем-то девиз Веберна — «Одно и то же — в
тысяче вариантов» — с афоризмом Поля Сезанна — «Вся природа может
быть сведена к цилиндру, шару и конусу»!? Этому близок и смысл
известной фразы Велимира Хлебникова, представлявшего искусство в
виде треугольника из трех точек: мир, художник, число.
За поисками закона композиции, отражающего универсальный
закон природы, действительно, встает великая традиция, истоки которой
сам Веберн указывал и в наследии первой венской школы, и в строгой
нидерландской полифонии.
Итак, возникает возможность говорить об аналитичности как об
усмотрении разнообразия в единстве и, соответственно, о синтетичности
как о единстве в разнообразии. Именно такой смысл вкладывает В. Дне-
пров в понятия «аналитический стиль» и «синтетический стиль»20:
«В первом случае фантазия художника открывает возможность разнооб-
разить и варьировать единое. Во втором — сближать, сплачивать, сливать
воедино разнородное» (38, 124).
«Типичный аналитический стиль» В. Днепров видит в музыке Шён-
берга. Но, думается, Стравинский здесь более точен и проницателен.
Изобретенный Шёнбергом «Метод» лишь в теоретическом отношении
представлял целостную и замкнутую систему, в композиторской же прак-
тике Шёнберга универсальным и замкнутым он отнюдь не являлся. И ин-
тересно, что если синтетичность Берга Стравинский упоминает «в луч-
шем смысле этого слова»21, то в оценках Шёнберга он зачастую оказыва-
ется довольно скептичен. По поводу «Камерной симфонии» Шёнберга
Стравинский, например, заметил: «Временами это сочинение звучит для
20 То, что речь идет о стиле, а не о методе, в данном случае не меняет существа
вопроса. В. Днепров пользуется термином «стиль» в широком его значении.
21 Это особенно существенно с учетом того, что эмоциональный климат Берга
Стравинский считал себе органически чуждым, отказывая методу Берга и в истори-
ческой перспективе: «Он находится в заключительной фазе эволюции» (116, 104).
44
меня как совместное творение Вагнера, Малера, Брамса и Штрауса, как
будто один из этих композиторов написал верхний голос, другой — бас
ит. д.» (116, 109)22.
Но что же за творческий метод избрал для себя сам Стравинский?
Что за «непродолжительная и непосредственная традиция» направляла
автора «Весны священной»? Частичный ответ на эти вопросы дал сам
Стравинский в небольшой журнальной заметке под названием «Что я
хотел выразить в “Весне священной”». Очень образно передана компози-
тором художественная идея сочинения: «В “Весне священной” я хотел
выразить светлое воскресение природы, которая возрождается к новой
жизни: воскресение полное, стихийное, воскресение зачатия всемирного.
В прелюдии, перед поднятием занавеса, я даю оркестру выразить тот
страх, который живет в каждой чуткой душе, при соприкосновении с за-
таенными силами, с силами, которые могут расти и развиваться до беско-
нечности. Тонкий звук флейты один может выразить эту затаенную силу,
которая впоследствии разрастается во всем оркестре. Это ощущение
тусклое, неясное, но могучее, родящееся в час обновления всех форм при-
роды, это смута, великая, глубокая, всемирного расцвета. В своей инстру-
ментовке, в игре мелодий я хотел выразить это чувство» (117,489-491).
Такой поэтический замысел неминуемо должен был увести компози-
тора далеко от проторенных дорог. И сам Стравинский отмечает жанро-
вую новизну «Весны священной», подчеркивая при этом значение имен-
но той стороны, которая в дальнейшей сценической судьбе этого сочине-
ния отошла на второй план, а именно — стороны хореографической.
Называя Нижинского своим «идеальным пластическим сотрудником»,
Стравинский подтверждает, что беспрецедентность многих сценических
решений премьерной постановки продиктована характером музыки23. В
факсимильном издании эскизов «Весны священной» мы находим мпого-
22 Заметим попутно, что сходные критические замечания в адрес Шёнберга
высказывал и Пьер Булез: «...начиная с открытия серии — открытия, в связи с кото-
рым мы не должны забывать, чем мы ему (Шёнбергу. — А.С.) обязаны, — у него
было, по-видимому, несоответствие между названной техникой и академической
дисциплиной, служившей ему порукой» (54, 167).
23 «В этом балете, — если только балетом его можно назвать, — властвует не па,
а жест. И жест длительный, не меняющийся, и жест не одиночный, а массовый,
умноженный» (26, 141).
45
численные авторские пометки, касающиеся путей хореографического
воспроизведения ритма.
Эскизы «Весны священной» позволяют представить и некоторые
особенности творческого процесса Стравинского, так непохожего на пла-
номерную, последовательную работу над партитурой его учителя —
Н.А. Римского-Корсакова. Вначале Стравинский набрасывал отдельные
такты, часто не выписывая всех нот, а лишь наметив ритмическую схему.
Поиски ритмического рисунка обычно являлись для него первой стадией
работы: «Задолго до рождения идеи я начинаю работать над ритмиче-
ским соединением интервалов. Такое исследование возможностей всегда
производится за роялем. Только после того, как мелодические или гармо-
нические взаимоотношения установлены, я перехожу к композиции,
представляющей собой дальнейшее расширение и организацию материа-
ла» (116, 224).
Поиски материала за роялем постоянно сопровождались мысленной
«проекцией» на оркестр. Уже рядом с первыми набросками ритма Стра-
винский часто обозначал состав привлекаемых инструментов, причем в
большинстве случаев изначально намеченный вариант инструментовки
впоследствии существенно не менялся. А вот «дальнейшее расширение и
организация материала», о которых говорил Стравинский, не всегда
определялись сразу же вслед за формированием музыкальной идеи. Так,
например, самая первая запись в эскизах «Весны», по свидетельству
Роберта Крафта (184, 7), могла первоначально предназначаться для лю-
бой части балета:
Материал из «Вешних хороводов», сперва намечавшийся Стравин-
ским для центрального эпизода хоровода, в итоге был положен в основу
46
развернутой динамической формы, более отвечающей характеру хорово-
да, с его «втягиванием в круг» все новых групп инструментов:
2.
И. Стравинский. «Весна священная»
Два этапа работы над текстом, о которых говорил Стравинский,
имеют, как видим, в корне различную природу На первом этапе Стравин-
ский в поисках музыкального материала «отпускал на волю» свое вооб-
ражение: «Я начинаю поиски этого материала, иногда играя старых
мастеров, чтобы сдвинуться с места, иногда прямо принимаясь импрови-
зировать ритмические единства на основе условной последовательности
нот (которая может стать и окончательной)» (116,225). В дальнейшем он
сам же устанавливал для себя жесткие рамки, твердо соблюдаемые «пра-
вила игры»: «Искусство комбинирования и есть композиция» (там же).
Слова Стравинского лишь на первый взгляд могут показаться повто-
ряющими уже и до него известные истины21. Фактически же еще в рус-
ском периоде творчества ему удалось не только предвосхитить, но найти
и воплотить методы композиции, ставшие «знамением» музыки XX века.
Уникальность «Весны священной» заключается помимо всего прочего в
органичном союзе того, чему в музыкальной культуре второй половины
столетия суждено поляризоваться и даже агрессивно противостоять друг
другу.
Речь здесь идет не о внешних отличиях, а о принципиально разной
направленности самого процесса мышления. Значимость этой антитезы
особо подчеркивает Альфред Шнитке. В одном случае, как пишет Шнит-
ке, «сочинение начинается с индивидуального музыкального образа
24 Можно привести здесь внешне сходное высказывание А. Глазунова: «Твор-
чество состоит из двух отделов: первый есть непосредственное творчество — сила
созидательная... второй же подчас, так сказать, черная математическая работа. То и
другое должно быть в тесном единении, и это и есть вдохновение в целом произве-
дении» (32, 459).
47
(мотива, темы, гармонической последовательности), который затем от-
правляется в путь по пространству и времени музыкального мира, вовсе
не будучи обязан измерить все возможные расстояния и воплотиться во
всех вероятностях. Музыкальные события воспринимаются как проявле-
ние естественных, стихийных сил во всей динамике столкновения зако-
номерного и случайного. Композитор в процессе сочинения внутренне
идентифицируется с рожденными звуковыми образами, проводя их через
звуковой мир; он принимает решения в конкретных случаях, руковод-
ствуясь данной ситуацией и общим планом, но никак не совокупностью
статистически возможных вариантов. Детерминизм формы в целом
допускает частный индетерминизм конкретных музыкальных обстоя-
тельств.
В условиях структурализма работа начинается с измерения музы-
кального пространства в границах и возможностях, определенных его
структурным законом (например, серией или математической прогресси-
ей), а затем оно уже населяется музыкальными образами, жизнь которых
находится в астрологической зависимости от математически рассчитан-
ной структуры целого. Композитор в процессе сочинения внутренне не
идентифицируется со звуковыми образами; реализуя их, он уточняет и
конкретизирует заранее предопределенные варианты, выбранные из ста-
тистической совокупности вероятностей. Исходным пунктом в реализа-
ции сочинения становится статистический обзор музыкального материа-
ла, из которого строится искусственное музыкальное пространство, а
скорее — здание» (148, 19).
Заметим, что такая поляризация в дальнейшем проявилась и в твор-
честве самого Стравинского, высказывания которого в последние годы
жизни явно смыкаются с идеями структурализма. Неоднозначен в этом
отношении и А. Шёнберг, что дает основание не только противопоста-
влять его Стравинскому, но и находить между ними точки соприкоснове-
ния в совсем иной плоскости25.
ъ В частности, Дональд Митчелл, отмечая, что «Весна священная» Стравин-
ского «переступила грань бессознательного и глубоко погружена в него», называет
и «Ожидание» Шёнберга «совершенным примером союза таланта и бессознатель-
ного чувства». «Действительно, — резюмирует Митчелл, — вместе с определенны-
ми произведениями Шёнберга «Весна» представляет исследование бессознатель-
ного» (171, 44).
48
Каким же термином можно определить то, чем автор «Весны свя-
щенной» противопоставил себя аналитизму и синтетизму нововенцев?
Досадно, право, что такой вопрос не был в свое время задан Стравинско-
му Робертом Крафтом! Конечно, не рискнем утверждать, что композитор
в своем ответе употребил бы термин «синкрезис», но, как представляет-
ся, речь здесь идет именно об одном из проявлений синкретизма как
«записи мышления». Этот метод творчества, предполагающий особую
психологическую установку, в последнее время привлек к себе большое
внимание исследователей. Немало рассуждали об этом и сами творцы
искусства. Вспомним ссылки Василия Кандинского на бессознательное,
на голос «внутреннего диктата». Попытки выразить действительное дви-
жение мысли, запись мышления, совершаемая вне всякого контроля со
стороны разума, лежат и в основе концепции сюрреализма. Немало инте-
ресных проявлений синкретизма такого рода находим мы в современной
музыке. Сочинение во время исполнения — принцип, положенный Пье-
ром Булезом в основу метода, получившего название «work in progress».
Воспоминания о том далеком прошлом, когда звуки вербального и музы-
кального языков существовали в синкретическом единстве, навели Луча-
но Берио на мысль о создании музыкального произведения под названи-
ем «Visage», представляющего развертывающийся перед слушателем
процесс рождения некоего несуществующего в природе «языка». Приме-
ры такого рода разнообразны и многочисленны и нам еще предстоит вер-
нуться к ним в последней главе.
Не следует, однако, думать, что триада «синкрезис — анализ — син-
тез» при разговоре о разных типах мышления олицетворяет собой водо-
раздел между радикально отличными друг от друга явлениями музы-
кальной культуры. Эти категории тесно взаимосвязаны и внутри каждо-
го из них. Мы убедимся в этом, выбрав для рассмотрения одну из кар-
динальных для музыкознания проблем — проблему тематического
развития.
Глава 3
Диалектика
«нормативного» и «ненормативного»
в процессах тематического развития
...Первая неожиданность: мы не обнаружим определения термина
«тематическое развитие», равно как и терминов «тематизм», «тематиче-
ская организация», заглянув в Музыкальную энциклопедию, хотя все
они фигурируют в помещенной там статье «Тема» (86, 287). В этом
можно усмотреть свидетельство недостаточной разработанности теории
музыкального тематизма. В то же время термины эти являются широко-
употребимыми и лежащими в основе некоторых составных понятий:
вариационное, вариантное, разработочное развитие; песенный, танце-
вальный, инструментальный, полифонический тематизм.
Не найдем мы определений тематического развития и в работах В. Боб-
ровского, много занимавшегося этой проблемой в русле избранного им
«функционального» подхода. В. Бобровский исходил из более общего по-
нятия «музыкальное развитие», предлагая два варианта его истолкования:
«В широком смысле под музыкальным развитием понимается все, что про-
исходит в пределах музыкального произведения и имеет значение той или
иной фазы всеобщего развития. В тесном же смысле термин “развитие”
отделяет фазы собственно развития от повторности и контраста» (15,33).
Указывая основные виды «собственно развития» (вариантный, про-
должающий и разработочный), автор, казалось бы, тем самым отожде-
ствил его с тематическим развитием, однако из предложенной им же
более дробной классификации видов развития не выводится единый кри-
терий, который мог бы быть положен в основу строгого теоретического
определения. Сравнив описанное В. Бобровским «разработочное разви-
тие» (традиционное «развитие после темы») с «тематически концентри-
рованным развертыванием» (которое по аналогии следовало бы назвать
«развитием вместо темы»), можно оценить трудности обобщения их
сути в одной четкой и лаконичной формулировке.
50
Неясности с тематическим развитием связаны и с проблемой соотне-
сения «классических» функций музыкальной формы с типами изложе-
ния музыкальной ткани. «Серединным» нередко называют тип изложе-
ния, наблюдаемый не только в центральных и связующих разделах
формы, но и во вступлениях, где уже само это название не может не вызы-
вать сомнений. Попытки устранить это очевидное противоречие вывели
музыковедов в непосредственно интересующую нас область: к определе-
нию типа изложения помимо понятий «устойчиво — неустойчиво», было
привлечено понятие направленности процесса развития.
Р. Лаул, отмечая сходство внешних проявлений функции развития и
вступительной функции, видит их существенное различие в том, что
«неустойчивость функции развития направлена к распаду тематического
монолита, в сторону его “анализа”, в то время как неустойчивость вступи-
тельной функции направлена в обратную сторону — к становлению тема-
тического комплекса, к “синтезу”. Развитие отталкивается от темы, всту-
пление же к ней идет» (58, 7). Исследуя направленность процессов тема-
тического развития, М. Гнесин различал два типа композиций: диффе-
ренцирующий и интегрирующий (33). Эта идея подхвачена и развита
В. Медушевским.
Рассматриваемый В. Медушевским особый тип тематической орга-
низации, «вся соль которого заключалась в выращивании огромного
целого из минимальных мотивных образований» (76, 194-195), пред-
ставляет для нас значительный интерес. Он специфичен для музыки
XX века, хотя становление принципа, положенного в его основу, можно
проследить, обратившись и к более ранним периодам истории музыки.
В свете привычных «классических» представлений о форме этот прин-
цип воспринимается как некая «аномалия»: тема музыкального произ-
ведения перестает быть его импульсом, исходным тезисом и становится
итоговым резюме, конечной точкой развития. Показательны совпаде-
ния в описаниях такого рода явлений разными исследователями:
А. Милка, анализируя Чакону И.С. Баха, пишет о своеобразных «ва-
риациях наоборот» (80, 158)} М. Арановский в связи с первой частью
Четвертой симфонии Б. Чайковского также пишет о «классической
форме наоборот» (5, 67).
Используя при описаниях подобных «аномалий» традиционный
терминологический аппарат, исследователи наталкивались на парадоксы
и логические противоречия: «По каким принципам следует классифици-
51
ровать виды тематизма? Одним из критериев мог бы быть учет роли про-
цессов развития: темы либо заготавливаются и заранее обрабатываются,
либо отождествляются с тематическим развитием (курсив мой. — Л.С),
отталкивающимся от начального микроимпульса. Второй тип, тема-про-
цесс в узком смысле, весьма редок <...> поэтому не может быть равнопра-
вен с первым» (139, 203).
Сопоставляя конкретные примеры, объединяемые общим призна-
ком — помещением структурно оформленной темы в завершающую фазу
процесса развития, — мы можем порой почувствовать разную природу
внешне сходных меж собой явлений. Укажем две различные по сути
ситуации.
Заведомо известная слушателю музыкальная тема не экспонируется
в начале произведения, но появляется в самом его конце. Примером
может служить джазовая импровизация, в которой музыкант иногда
сразу же приступает к «развитию», обоснованно рассчитывая, что иску-
шенный в джазе слушатель и без подсказки догадается, какая из популяр-
ных мелодий положена в основу импровизации. Аплодисменты, вспыхи-
вающие в зале после первых же тактов музицирования, являются знаком,
подтверждающим ясность для публики намерений музыканта.
Родственная коммуникативная ситуация определяет и особенности
процесса формообразования в... баховских хоральных кантатах! Харак-
терным их признаком является Schlichter-horal — тема, данная в конце
сочинения как итог длительного и предваряющего ее появление варьиро-
вания. Экспонирование канонизированной темы протестантского хорала
не требуется в начале кантаты именно в силу ее подразумеваемой обще-
известности. Появление же темы хорала в простейшем аккордовом изло-
жении в последней части кантаты не просто является знаком окончания,
но и несет важную этическую функцию: в конце церемонии богослуже-
ния прихожане присоединяют свои голоса к звучанию профессионально-
го церковного хора, символически приобщаясь тем самым к царству
небесному.
Принцип поэтапного структурирования заведомо известной темы
использовал в своих сочинениях Чарлз Айвз. Темы возрожденческих ду-
ховных гимнов нередко появляются в его сонатах и симфониях, посте-
пенно складываясь из конгломерата отдельных их интонационных обо-
ротов.
52
Следует заметить, что «неклассический» принцип обращенного
тематического развития не исключает сохранения внешних признаков
классической музыкальной формы. Пример такого рода мы находим в
первой части Второй симфонии Бориса Чайковского, драматургический
замысел которой связан с закономерным появлением в репризе сонатной
формы четырех цитат из известных классических произведений. Три
цитируемые композитором темы интонационно готовятся на протяже-
нии всего предшествующего развития, еще одна естественным образом
вытекает из интонационного развития в связующем фрагменте, поме-
щенном между цитатами. Идея постепенного собирания разбросанных в
партитуре кратких интонаций в структурно оформленную тему подска-
зана слушателю еще в заключений экспозиции, способствуя его ориента-
ции в последующих событиях. В итоге, как пишет М. Арановский, «фор-
ма оказывается как бы перевернутой: она начинается с того, к чему дол-
жна была прийти, по крайней мере, к разработке, — с мотивных ячеек, с
мелких дискретно организованных структур, а приходит к тому, с чего
должна была начаться, — к целостным темам. Чужое оказывается исто-
ком своего, а свое — порождением чужого. Но сложная диалектичность
этого замысла в том, что чужое не является полностью чужим, оно пред-
стает как неотъемлемая и важнейшая часть духовного мира художника,
как высшая ценность, бережно им охраняемая...» (5, 67).
Что же является общей логической основой всех перечисленных
примеров, относящихся, как видим, к различным пластам музыкальной
культуры? Напомним схему, предложенную в предыдущей главе для
удобства сопоставления двух триад: «синкрезис — анализ — синтез» и
«тезис — антитезис — синтез». Там отмечено, выражаясь условно, выне-
сение «синкрезиса» за скобки текста художественного произведения. По
аналогии и здесь можно говорить о вынесении за скобки текста первого
логического этапа уже иной триады — тезиса. Несомненно, что конкрет-
ная музыкальная тема как феномен, априорно присутствующий в созна-
нии слушателя, оказывает существенное воздействие на восприятие того
процесса развития, с которого начинается звучание музыки. Тезис,
таким образом, как бы подразумевается. Но вот гегелевская ли возника-
ет тут триада? Об «антитезисе» говорить, пожалуй, не приходится, ибо
логика движения к теме не есть логика движения от противного. Это
именно анализ (подразумеваемого целого, то есть цитируемой в итоге
53
темы) и синтез («овеществление» целостного идеального образа, доселе
извлекавшегося слушателем из своей памяти). Стоит еще раз вспомнить
здесь уточнения Г. Башляра о негегелевских типах триад, известных
науке. Рассматриваемый нами принцип композиции как логическая
структура в чем-то родствен, как представляется, амеленовскому движе-
нию к синтезу.
Иная ситуация связана с музыкальными произведениями, в которых
выращиваемая тема представляет своего рода «неологизм»1, когда слуша-
тель не знает заранее, какова же конечная цель предначертанного ему
композитором пути. «Тезис» не вынесен за скобки, он отсутствует в
принципе. Понятию «развитие» возвращен его оттесненный учением о
риторике смысл: движение от элементарного к сложному, от аморфности
к структурности, от эмбриона к жизнеспособному организму.
Мотивировка выбора художественных средств нередко обретает при
этом тот самый философский оттенок, о котором уже приходилось ранее
упоминать. Процессы, постигаемые человеком в живой природе, стано-
вятся моделью развития и в музыке. Не случайны поэтому те свободные
ассоциации, что встречаются в описаниях соответствующих явлений
музыкального искусства: «Б. Тищенко... продемонстрировал новый тип
музыкально-драматургического мышления, когда композитор словно
искусственно моделирует естественную спонтанную импровизацион-
ность (в духе народного музицирования), благодаря чему вместо тради-
ционного, заданного изначально тематического материала и формы-ком-
позиции как постройки по авторскому “инженерному проекту” возника-
ет “стихийный” процесс, подобный биологическому росту живого орга-
низма из первичной клетки» (139, 161).
Импровизация, понимаемая как «чисто интуитивное самоопределе-
ние в хаосе впечатлений и эмоций» (105,46), может, таким образом, стать
моделью для композиции, образуя сложное пересечение областей созна-
1 Право на употребление подобной метафоры дают наблюдения над совре-
менной композиторской практикой. В частности, Маурисио Кагсль в сочинении
«Анаграммы» воспользовался методом «аналитической трансляции» (термин
автора) для выведения «новых» слов из имеющихся звуков. Обыгрывание в музы-
ке абсурдистских диалогов из несуществующих слов характерно и для других
композиторов, заинтересованно отнесшихся к идеям и достижениям структурной
лингвистики.
54
тельного и бессознательного. Моделью тематического развития в музыке
может стать и сам процесс мышления, непредсказуемого движения
мысли: «...музыка, — пишет В. Медушевский, — способна модельно вое- ,
производить непроизвольно развертывающийся процесс спонтанного /
мышления, не ориентированного на необходимость его выражения в упо-
рядоченном виде (как в случае повествовательной драматургии), — так
возникает медитативная драматургия, наиболее ярко представленная в
симфоническом творчестве Шостаковича» (76, 202). Мы возвращаемся
здесь к вопросу о «записи мышления» как методе творчества, связанном
с особой психологической установкой на создание и восприятие художе-
ственного произведения. Этот интереснейший и чрезвычайно сложный
вопрос, конечно, может быть рассмотрен с разных точек зрения, и в дан-
ном случае в связи с феноменам обращенного тематического развития
выделяется лишь одна из его сторон, а именно — характер мыслительно-
го процесса, фиксируемого средствами музыкального языка. Нас интере-
суют процессы, имеющие четко выраженную направленность к итогово-
му формулированию некой искомой истины. Поясним сказанное на
музыкальных примерах.
п Третий фортепианный концерт Родиона Щедрина имеет подзаголо-
вок, сразу же настраивающий слушателя на ожидание неординарного
композиционного решения: «Вариации и тема». Тема концерта и в самом
деле возникает в результате длительного процесса накопления ее интона-
ций, подспудно происходящего в условиях жесткого столкновения раз-
ных драматургических сфер. Эти интонации постепенно складываются
во все более крупные по масштабу хоральные эпизоды, контрастирую-
щие окружающему материалу и подготавливающие появление итоговой
темы как закономерного логического обобщения. Развитие, таким обра-
зом, расчленяется на ряд этапов, представляющих устремление к очеред-
ной кульминации, неожиданно прерываемой отстраненно звучащим
хоралом.
Завершающая концерт Тема подчеркнуто неэкспозиционна: такая
тема не может быть положена в основу нового круга развития, это не
тезис, а резюме, не эпиграф, а эпилог (если не эпитафия!). Тема отделена
от предшествующих вариаций основательной цезурой и сама распадает-
ся на обособленные цезурами строфы, каждая из которых начинается с
вершины-источника и, как глубокий вздох, истаивает в никнущих секун-
довых интонациях.
55
3. Тема Р- Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром № 3
56
57
Смысл такой концовки определяется драматургической идеей сочи-
нения, которую М. Тараканов образно охарактеризовал как «поиск утра-
ченной Гармонии». Обреченная ирреальность этой Гармонии вытекает и
из самого характера Темы, исполняемой оставшимся наедине с собой
солистом, и из событий, непосредственно предшествующих ее появле-
нию. Сам Р. Щедрин так объясняет смысл этого момента: «Последняя
вариация несет определенное слуховое противоречие — несмотря на дис-
сонантность звучания, тема предстает перед слушателем уже без измене-
ний. Но она, подобно вазе, словно раскололась на множество мелких
кусочков, которые солист затем “склеивает” воедино» (цит. по: 121,214).
В связи с особой семантикой Темы, завершающей концерт, уместно
вспомнить одно из музыковедческих определений, в котором развитие
представлено как. «цепь преобразований-вариантов по отношению к
теме-инварианту» (22, 179). Это определение, как можно заметить, полу-
чает несколько, неожиданное звучание применительно к рассмотренному
нами примеру. Поскольку инвариант как психологическое понятие есть
следствие, вытекающее из цепи вариантов в процессе их восприятия, то
инверсию каузальных отношений «темы» и «тематического развития»
можно признать не «обращенным», а вполне естественным принципом!
Но тут же следует и добавить, что если «тема-инвариант» — идеальное
понятие, субъективный образ, остающийся в сознании после прослуши-
вания музыки, то здесь мы наблюдали, действительно, особый случай:
«тема-инвариант» как бы «подсказана» композитором слушателю, реали-
зована непосредственно в тексте произведения. Рискнем предположить,
что сольное «резюме» после заключительной оркестровой вариации в
сознании чуткого слушателя могло бы в принципе прозвучать и ирреаль-
но, как внутренний «отзвук», подтверждающий ощущение свершившего-
ся интонационного накопления, находящегося на грани рождения нового
качества.
Еще одна важная грань вопроса о «записи мышления» связана с уча-
стием в творческом процессе сознания. Здесь мы сталкиваемся с трудно-
стью, преодолевать которую в дальнейшем придется неоднократно, а
именно — с внешним сходством явлений, имеющих сущностное разли-
чие. Обстоятельство это не раз отмечалось и самими композиторами.
Цтирад Когоутск в своей известной книге, ссылаясь на мнение
Я. Ксенакиса, пишет, что «получить результаты, напоминающие о додека-
фонии Шёнберга и сериальной технике, можно не только путем детерми-
58
низма, но также и обратным методом, то есть за счет создания индетерми-
нированной музыки, основанной на закономерностях вычисления веро-
ятности» (52, 256). Альфред Шнитке, сравнивая методы творческой
работы разных композиторов, отмечает: «Внешне сходные 60-строчные
партитуры Лигети и Пендерецкого созданы совершенно противополож-
ными способами: для одного первым представлением о будущем музыки
является ее полифоническая ткань, тембровое же воплощение — произ-
водный фактор; для другого же сочинение начинается с тембрового
плана, реализуемого при помощи многоголосия» (147). Обращенное
тематическое развитие тут тоже можно рассматривать двояко: как «век-
тор» процесса слушательского восприятия музыки и как »вектор» про-
цесса сочинения этой музыки композитором. И далеко не всегда эти
«векторы» совпадают.
Сочинение «от конца к началу» — достаточно распространенный в
искусстве метод. Вспомним цветаевское: «Весь стих — ради последней
строки. Которая приходит первой». Этот метод особенно часто применя-
ется при создании так называемых «симультанных» форм, завершающих-
ся сведением воедино в качественно новое целое уже использованных
ранее элементов текста. Примером может служить литературная форма
«венок сонетов», в которой в первую очередь сочиняется именно заключи-
тельный, «синтетический», сонет. Интересным образцом воплощения
подобной формы в музыке конца XX столетия можно назвать концерт для
фортепиано с оркестром «Венок сонетов» В. Магдалица (1991 г.)
Прослушивание музыки и даже тщательный ее анализ по нотам не
всегда дают возможность с уверенностью указать «направление движе-
ния композиторского пера». Сошлемся на два показательных в этом
отношении примера.
Части Пятой симфонии Бориса Тищенко, посвященной памяти
Д.Д. Шостаковича, имеют собственные подзаголовки: Прелюдия, Посвя-
щение, Соната, Интерлюдия и Рондо. Мемориальный характер сочине-
ния объясняет присутствие в нем целого комплекса средств, вызываю-
щих эффект незримого присутствия великого мастера: это использова-
ние характерных для Шостаковича методов тематического развития и
фактурных приемов, типичных «шостаковических» звукорядов и, разу-
меется, монограммы DEsCH — общеизвестной «риторической фигуры»
музыки XX века. Именно с ней связана весьма интересная особенность
данного сочинения.
59
Различные варианты изложения монограммы DEsCH и отдельные
составляющие ее интонации пронизывают всю ткань симфонии, однако
наибольшее значение получают в 1-й, 3-й и 5-й частях. Причем в 1-й
части симфонии монограмма предстает как итог развития, в 3-й части она
является его источником, в 5-й же возникает как реминисценция. Разви-
тие в 1-й части устремлено к кульминации в самых ее последних тактах,
где монограмма DEsCH императивно провозглашается в партии тубы,
становясь своего рода «эпиграфом» ко 2-й части. Афористичность темы-
монограммы определяет особенности ведущего к ее утверждению пути.
На сей раз это не поэтапное структурирование темы или «собирание» ее,
а отражение психологического механизма «углубления следов». То нео-
жиданно возникая как продолжение развернутой мелодической линии,
то вплетаясь в исполняемые в быстром темпе фигуративные пассажи,
монограмма поначалу не акцентирует на себе внимание слушателя, но
подспудно западает при этом в его память. Логику движения к итоговому
декламированию DEsCH в 1-й части можно уподобить эффекту постепен-
ного выхода на авансцену главного действующего лица в сцене с участи-
ем нескольких персонажей.
Слушатель, уловивший в этой композиции логику и направление
тематического развития, очевидно, предполагает, что следует по тому
же пути, что проделал, работая над партитурой, и сам автор. Однако
есть интересное свидетельство обратного: «Прелюдия мелодически
предвосхищает Посвящение, оказываясь в точном смысле прелюдией к
нему. Но между ними существует и “обратная связь”. Дело в том, что
фрагмент начала из Посвящения был напечатан в сборнике “Д. Шоста-
кович” в разделе “Музыкальные приношения”. Теперь он стал частью
системы тематических связей симфонии, будучи органически введен в
ее целое» (110, 53).
Таким образом, материал в его откристаллизованном виде был
зафиксирован композитором раньше, чем процесс движения к нему!
За этим конкретным фактом кроется один из логических парадоксов, к
обсуждению которого мы будем еще неоднократно возвращаться по раз-
ным поводам. Синкрезис как «запись мышления», как мы убедились,
может быть и имитируемым процессом, наподобие того как импровиза-
ционость в музыке является не чем иным, как изображением подлинного
процесса импровизации.^Движение композиторской мысли «от конца к
началу» основано на аналитических операциях, то есть на сознательном
60
сопоставлении каждого предпринимаемого шага с уже вполне ясно пред-
ставляемым «финишем».
^Построение же симультанной формы с отказом от такого аналитиче-
ского метода — значительно более редко выполняемая художественная
задача. Интересно привести в связи с этим высказывание Альфреда
Шнитке по поводу процесса его работы над партитурой балета «Пер
Гюнт»: «Когда мы с Джоном Ноймайером обсуждали план будущего
балета “Пер Гюнт”, то пришли к выводу, что в пьесе Ибсена есть одна
странность: успокоение в конце, встреча с Сольвейг — все это очень крат-
ко. После огромной пьесы — несколько строк, которые не в состоянии
уравновесить предыдущего: ведь Пер Гюнт шел к этому всю жизнь. Здесь
нужно какое-то огромное Адажио. Оно должно быть объяснением всего:
жизни Пер Гюнта, этого нагромождения нелепостей, совершенно не-
объяснимых поступков; ведь Пер Гюнт — странный персонаж, ключа не
имеющий, быть может, еще более странный, чем Фауст. Я подумал:
наверное сначала надо сочинить Адажио, вложив в него ростки всех тем,
а потом развить их по поводу предыдущих событий. Но тут же решил, что
делать этого не буду... Я должен пройти весь этот путь, прожить его.
Можно примерно представить себе, каким будет произведение, но нельзя
заранее сочинить его — ничего не получится”» (44, 19).
«Пройти весь этот путь, прожить его» — вот синкретический по
своей природе метод сочинения, перекликающийся с найденным Стра-
винским в «Весне священной» и получивший разнообразные преломле-
ния в музыке последней четверти XX века. Более основательное знаком-
ство с ним предстоит нам в одной из следующих глав.
В ходе рассуждений постепенно вышла на первый план проблема,
которую теперь предстоит рассмотреть отдельно под определенным
углом зрения. Это проблема рационального и интуитивного, являющаяся
своеобразной «системой координат», вольно или невольно подразуме-
ваемой при обращении к любому конкретному вопросу, связанному с
творчеством. Сфокусируем эту проблему на область, имеющую для нас
особое значение, а именно — на взаимосвязь теории и практики в музы-
кальной композиции.
Глава 4
Взаимосвязь теории и практики
в музыкальной композиции XX века
Взгляд на теорию как на нечто вторичное, отражающее практику, яв-
ляется на сей день традиционным и широко распространенным. «Какую
роль в сочинении музыки играет теория?» — спросил Игоря Стравинско-
го Роберт Крафт. «Ретроспективную (Hindsight). Практически ника-
кой, — последовал ответ. — Есть сочинения, из которых она извлечена.
Или, если это не совсем верно, она существует как побочный продукт, бес-
сильный создавать или даже оправдывать созданное. Тем не менее, музы-
кальное творчество включает в себя интуицию “теории”» (116,220).
Парировав поначалу заданный вопрос, Стравинский, как видим, тут
же почувствовал необходимость уточнений, внося которые в итоге нео-
жиданно пришел к частичному отрицанию им же изначально сказанного.
Впрочем, так ли уж неожиданно? Вопрос о роли теории в сочинении
музыки, конечно же, был задан Крафтом неспроста. Именно в музыкаль-
ной культуре XX века стало очень заметно смещение акцента с констати-
рующей функции теории на регламентирующую. Причем речь здесь идет
не о упрощенном представлении теории как «кодекса школьных правил»
— в таком смысле, конечно, не приходится говорить о реальном ее влия-
нии на творческую практику, — а о явлении совершенно особого рода.
Давно замечено, что в рубежные периоды истории искусства новые
взгляды на творчество могут предстать в виде достаточно четко сформу-
лированной теории (программы), опережая события художественной
практики. В частности, в XX веке важнейшим феноменом художествен-
ной культуры становится теория-манифест — особый текст, концентри-
рованно воплощающий пафос новой ориентации в творчестве и совме-
щающий критику унаследованных традиций с декларацией новых идей.
На исторически переломном этапе теория такого типа может достигать
концептуальной целостности, выстраивая картину художественного
мира, еще не овеществленную в материале искусства.
62
Художественный манифест — это не только документ, свод теорети-
ческих доктрин нового течения в искусстве. Манифест — это и самостоя-
тельный жанр, это и произведение искусства, рассчитанное на соответ-
ствующее его восприятие. Пожалуй, можно даже сказать, что основной и
важнейшей частью наследия, оставленного итальянскими футуристами
начала XX века, сегодня представляются именно их манифесты, оказав-
шие большое воздействие на развитие искусства в целом и, по существу,
заложившие основы концептуализма — одного из важнейших течений
искусства уже второй половины столетия. Итальянские манифесты груп-
пы Марипетти, равно как и отвечающие им по духу проект-утопия «Сво-
бодная музыка» Николая Кульбина, манифесты Матюшина, Лурье,
Вышнеградского и др. свидетельствуют о явном нарушении привычной
субординации теории и практики в искусстве. На фоне таких манифестов
отдельные произведения искусства стали рассматриваться как иллюстра-
ция изначально сформулированного принципа, парадоксально смещая
традиционные представления о соотношении в культуре понятий «текст»
и «контекст»1.
Можно привести немало примеров сознательного следования имен-
но по такому пути. Особый смысл, вкладываемый при этом автором в
собственное произведение, может быть условно передан выражениями:
произведение как экзерсис и произведение как исследование. В первом слу-
чае речь идет о своеобразной «пробе пера в осваиваемой технике». Ком-
позитор ставит перед собой, казалось бы, чисто техническую задачу, но
решает ее в русле определенной художественной идеи, как бы проверяя
их на взаимное соответствие. Примером опуса такого рода может слу-
жить цикл Виктора Екимовского «Двенадцать апостолов» (1969), имею-
щий характерный подзаголовок: «Школа додекафонии». Каждая пьеса
этого цикла помимо названия («Тотем», «Двое», «Движение», «Контра-
сты», «Грация», «Хороводы» и т. п.) имеет своеобразный post scriptum,
представляющий цитату из «Лекций по двенадцатитоновому контра-
пункту» Э. Кршенека. Части цикла чередуются по принципу постепенно-
1 «Отныне, как правило, манифесты предпосылаются художественной прак-
тике, так как художественное творчество предполагается полностью регламенти-
ровать согласно ранее сконструированным более или менее абстрактным приемам
и генеральным предписаниям, сделанным главными идеологами» (98, 120).
63
го усложнения сериинои техники: от простейших соединении рядов к
развитой композиции, включающей сложные формы работы с серией.
Во втором же случае композитор пытается идти непроторенной
дорогой, «пробуя в материале» собственные логические выкладки,
касающиеся структурной организации музыки. Творчество рассматрива-
ется им как практический эксперимент в исследовании. Именно так, в
частности, определил свою задачу французский композитор, ученик
Мессиана, Ф.Б. Маш (169, 5-11). Закончив Сорбонну как филолог и
лингвист, Маш увлекся проблемой фонологии в современных и древних
языках, пытаясь одновременно найти соответствующий подход и к языку
музыкальному. В своих музыкальных произведениях Маш стремится
утвердить собственное видение проблемы в противовес иным научным
взглядам на семиотическую природу музыки.
В музыке, таким образом, возникла качественно новая ситуация, в
которой можно выделить несколько аспектов. Во-первых, стремление
композиторов логически аргументировать, представить понятийно свои
творческие поиски привело к распространению теоретических систем
инструктивного назначения. Такие системы, разработанные самими ком-
позиторами и призванные выразить суть используемого метода сочине-
ния2, могут быть обращены к отдельным сторонам музыкального языка
(звуковысотная организация — Шёнберг, Хауэр, Рославец; ритмическая
организация — Виеру, Блахер, Мессиан) либо распространяться на все
его стороны одновременно («тотальный сериализм», «стохастическая
система композиции»).
Во-вторых, специфическим феноменом музыкальной культуры XX ве-
ка, в особенности второй его половины, стал «авторский анализ» —
подробное описание композитором своего собственного сочинения.
Необходимо сразу же подчеркнуть принципиальные особенности такого
описания. Это не обычный анализ post factum. «Авторский анализ» созда-
2 Пока не будем углубляться в разночтения, возникающие при употреблении
разными авторами понятий «метод» и «система». Этот вопрос на материале разных
видов искусства рассматривается в уже упоминавшейся книге Д. Митчелла, кото-
рый, в частности, пишет: «Несмотря на то что Пикассо и Брак отрицали наличие в
кубизме системы, очевидно, что в действительности это был метод, частично
подразумевавший язык (разницей в понятиях системы и метода мы обязаны Шён-
бергу)» (171, 85).
64
ется композитором параллельно с сочинением музыки и либо так и оста-
ется в его архиве в виде своеобразной «дневниковой записи», либо редак-
торски оформляется впоследствии в целях публикации. «Авторский ана-
лиз», таким образом, это текст самого музыкального произведения, суще-
ствующий наряду с другими видами текста — нотного, графического.
Следует отметить и характер описания музыки в «авторском анали-
зе». Как правило, это комментарий, относящийся к структурной стороне
сочинения, это как бы «раскрытые карты» ремесла, позволяющие в
известных пределах проследить ход мыслей композитора. Таким обра-
зом, для музыковеда «авторский анализ» — это интереснейший предмет
анализа, подлежащий рассмотрению в сопоставлении с другими видами
текста и, разумеется, с непосредственным слуховым впечатлением от
музыки.
«Авторский анализ» — весьма характерный атрибут структурализма
как метода мышления, в нем можно видеть и одно из проявлений сциен-
тизма в сфере художественного творчества. Вспомнив приводившуюся
выше сравнительную характеристику методов творческого мышления,
данную А. Шнитке, можно сказать, что одной из функций «авторского
анализа» является описание того поля структурных возможностей, кото-
рые находятся перед мысленным взором композитора, и тех принципов
отбора музыкально-языковых средств, которые он сам для себя опреде-
ляет в процессе сочинения..
Мнение о том, что «авторский анализ» ориентирован преимуще-
ственно на форму-композицию произведения, в принципе верно, но под-
лежит обязательному уточнению., В научном лексиконе различных авто-
ров мы встречаем важную пару понятий: «организация» и «композиция».
При различных оттенках смысла, вкладываемых в эти понятия, все же
обнаруживается некая константа, позволяющая судить о степени значи-
мости и универсальности данной дефиниции.
Очевидно, одним из первых специально поставил этот вопрос на
материале изобразительного искусства В.А. Фаворский. В лекциях по
теории композиции, записанных в 20-е годы, им сделана попытка выве-
сти определения понятий «конструкция» и «композиция» на основе
учета пространственно-временных отношений. Фрагментарность сохра-
нившихся записей позволяет уловить лишь основную идею Фаворского,
исходный тезис которого гласит: «Конструкция и композиция полярны и
имеют своими пределами: первая — отвлеченное представление формы,
65
вторая — зрительное впечатление». Как считает Фаворский, «конструк-
ция в изображении есть организация воспринимающего движения в
целостную систему, причем движение осознается как движение. А компо-
зиция есть изображение в собственном смысле, то есть приведение вос-
принимающего движения или времени к зрительному образу, причем
движение и время осознаются как единовременность» (125,205-206).
Конструкция (организация), таким образом, связывается у Фавор-
ского с аналитической разверткой, с «осознанием движения как движе-
ния» и с «отвлеченным представлением формы», опирающимся на опера-
ции абстрагирования. Композиция, напротив, является результатом
симультанного синтеза, связывается с целостным художественным обра-
зом, в котором «движение и время осознаются как единовременность».
Понятия «композиция» и «организация» подчеркнуто разделены в
суждениях композиторов, отдавших дань структурализму. «...Легко
обнаружить, — пишет Пьер Булез, — что композиция и организация
(структура) — совершенно разные вещи, и, смешивая эти два понятия
<...> можно стать жертвой маниакальной бессодержательности» (20,
292). «Организация» и «композиция» мыслятся как самостоятельные
творческие задачи, решаемые автором на разных этапах работы над музы-
кальным произведением. Как пишет Карлхайнц Штокхаузен, «организа-
цию нельзя путать с композицией. Необходимо понимать, где прекратит-
ся организация и начнется сочинение» (181,1, 75)3.
«Авторский анализ» как раз способствует этому правильному пони-
манию, дает ключ к анализу музыкального произведения как художе-
ственно осмысленного целого. Этот существенный момент был в свое
время отмечен Арнольдом Шёнбергом, предостерегавшим от неверной
трактовки смысла серийных анализов. В их выполнении Шёнберг видел
необходимое предварительное условие для того, чтобы приступить к ана-
лизу, который «подчеркивает музыкальную идею и показывает ее выра-
жение и разработку» (179, 553).
3 Отмстим попутно, что уже сама лексика предлагаемых Штокхаузеном опре-
делений красноречиво свидетельствует о сущностных различиях обсуждаемых
понятий: музыкальная композиция — «упорядочение звуков по унифицированно-
му принципу» (181, II, 26); музыкальная структура (организация) — «сумма коли-
чественных трансформаций», «Комбинированный эффект слияний всех компо-
нентов, аналогичный векторным величинам в многомерных полях» (181, II, 91).
66
Особая ценность «авторского анализа» заключается в том, что зача-
стую по нотному тексту произведения пет практической возможности ясно
представить продуманную автором структуру — «организацию». Она,
подобно грунту на живописном полотне, закрывается положенным поверх
красочным слоем — «композицией». «Авторский анализ», выявляя систе-
му заданных значений элементов текста, может в таких случаях способ-
ствовать формированию правильной установки на восприятие музыки.
С этим, однако, связан уже третий аспект рассматриваемой нами си-
туации, а именно — проблема адекватности слушательского восприятия,
равно как и музыковедческого анализа, самому типу музыкального произ-
ведения. Проявляя готовность обсуждать во всех подробностях принципы
«организации» своих произведений, авторы, как правило, не склонны к
откровениям по поводу «композиции». Получив импульс для размышле-
ний, ценитель искусства (зритель, слушатель) приглашается к активному
сотворчеству. Все остальное зависит от его тезауруса, способности воспри-
нимать смысл, вложенный в произведение автором. В этом вопросе смыка-
ются позиции авангарда и первой, и второй половины XX века4.
Проблема адекватности восприятия современной музыки рассма-
тривается во многих теоретических работах. В первую очередь назовем
здесь публикации Теодора Адорно, в которых развивается идея противо-
поставления «регрессивного» и «структурного» слушания. Эта идея,
изложенная Адорно еще в 30-е годы (158), вновь привлекла к себе внима-
ние несколько десятилетий спустя5 в связи с поисками послевоенного
авангарда. Структурное слышание, то есть умение «доводить музыку до
теоретического понятия», выдвигается композиторами как требование
определенного уровня подготовленности слушателя. В связи с этим
Адорно предлагает своеобразную классификацию типов слушательского
восприятия, в которой можно выделить следующие пять классов:
1. Слушатель-эксперт.
2. Хороший слушатель.
1 Напомним в связи с этим одно из высказываний Павла Филонова: «Пусть
картина говорит за себя и действует на интеллект зрителя, заставляя его, напряга-
ясь, понять написанное без всякого суфлера, шептуна со стороны» (95, 108).
5 См. 165,227-230] 177. Исследованиями в области музыкального восприятия
целенаправленно занимался Милтон Бэббит, также настаивавший на структурной
«специализации» слушателя.
67
3. Образованный слушатель.
4. Эмоциональный слушатель.
5. Поглотитель развлекательной музыки.
Под «экспертом» подразумевается условный тип современного слу-
шателя, разбирающегося в языке музыки и способного воспринимать
музыку структурно, то есть осознавать в ней смысловую связь (Sinnzu-
sammenhang) моментов прошлого, настоящего и будущего. Конечной
целью «структурного слышания» является «конкретная музыкальная
логика: слушатель понимает то, что воспринимает в логических связях —
в связях причинных, хотя и не в буквальном смысле слова» (81,229).
Комментируя точку зрения Адорно, Ал. Михайлов пишет: «С утра-
той непосредственности творчества большее значение приобрели рацио-
нальные принципы творчества. По мере того как каждое отдельное про-
изведение принимало все более индивидуальный вид и параллельно с
этим выдвигалось значение закономерностей на таком индивидуальном
уровне, и для слушания эти закономерности стали более релевантными.
Во всяком случае, в любой современной музыке знание принципов при
слушании — не такое уж внеположное музыке обстоятельство, чтобы не
надо было учитывать его отсутствия и присутствия» (81, 246).
Эффект восприятия музыки, таким образом, справедливо ставится в
прямую зависимость от характера слушательской установки. При этом
под «знанием принципов» можно подразумевать как более общие пред-
ставления, касающиеся, к примеру, сущности «открытых форм», совре-
менных видов тематизма и фактуры и т. п., так и информированность
слушателя о логической основе и специфических особенностях структу-
ры конкретного музыкального произведения.
«Слушатель-эксперт» в представлении Адорно — это, разумеется,
лишь некий идеальный тип, «камертон» настройки на правильное вос-
приятие музыки определенного рода. В реальности же композиторы, как
правило, не занимают в этом вопросе максималистских позиций. «Если
неискушенное ухо нс всегда в состоянии следить за движением ряда, —
говорил Антон Веберн, — то это не беда: в тональной музыке взаимосвязь
тоже в большинстве случаев ощущалась подсознательно» (24, 78).
Наряду с аналитическим типом восприятия музыки в различных
источниках описываются и иные, связанные с диаметрально противопо-
ложными психологическими установками. Проблема правильного слу-
шания затрагивается, например, Эрхардом Каркошкой, свидетельствую-
68
щим о рождении нового типа восприятия в сфере электронной музыки.
Таковым Каркошка полагает вслушивание в микромир звука, приводя в
подкрепление своей точки зрения высказывание К. Штокхаузена: «...мы
научились буквально слышать по-новому. По сравнению с прошлым нам
определенно нужен звуковой микроскоп...» (164, 14)с\
Штокхаузен, действительно, очень часто возвращается в своих тео-
ретических публикациях к проблеме адекватного слышания музыки в
связи с предложенными им концепциями «момент-формы», «групповой
композиции» и др. Примечательно, что слушательское восприятие он
неизменно признает сферой доминирования иррационального, независи-
мо от резко менявшихся в разные периоды жизни взглядов на соотноше-
ние рационального и иррационального в собственном творчестве6 7.
...Однако какой же механизм культуры движет всеми этими разроз-
ненными, казалось бы, и противоречащими порой друг другу фактами,
идеями, концепциями? И каким механизмом, с другой стороны, определя-
ются те удивительные параллели, совпадения, которые обращают на себя
внимание в разных видах искусства — музыке, живописи, архитектуре,
художественной литературе? Поиски логической основы в эволюцион-
ных процессах искусства вновь приведут нас к диалектической триаде.
Из множества конкретных наблюдений, накапливаемых искусство-
знанием, постепенно складывалась общая картина эволюции художе-
ственной культуры; казавшиеся поначалу случайными хронологические
совпадения в своей совокупности обнажали идеи, «витавшие в воздухе»
и отраженные в материале различных видов искусства. С самого начала
века заявили о себе многочисленные художественные течения, объеди-
няющие на определенной эстетической платформе служителей разных
муз. Активные и разнонаправленные поиски на стыке разных искусств
рождали удивительные «произведения-исследования», являющие собой
6 Вряд ли, впрочем, этот тип восприятия обязан своему рождению именно
электронной музыке. Скорее он связан с проблемой сонорности, проявившейся в
музыке задолго до изобретения радиолампы и транзистора.
7 «Почему мы принимаем без сомнения мысль о том, что в произведении каж-
дый отдельный звук и процесс надо сознавать?» (181,1, 45); «Когда вообще слуша-
ешь, не существует правильного слушания, а каждый называет вещь такой, какой
она ему представляется истинной. Относительность момента приходит каждому
слушателю индивидуально и еще противоположно» (181,1, 196).
69
пример сложного переплетения теории и практики. Достаточно вспом-
нить циклы живописных полотен Микалоюса Чюрлёниса («Соната
Солнца», «Соната Моря», «Соната Звезд»), «Импровизации» и «Компо-
зиции» Василия Кандинского, а также приведенные им в трактате «О
духовном в искусстве» цитаты из «Учения о гармонии» А. Шёнберга.
Такие параллели, разумеется, не могли не заинтересовать искусство-
ведов. В частности, одна из глав книги Д. Митчелла («Пересечения с
экспрессионизмом») содержит развернутую сравнительную характери-
стику творчества Шёнберга и Кандинского.
«Если Кандинский первым написал абстрактную композицию, Шён-
берг первым исследовал подобные возможности для музыки», — считает
Митчелл (171,143). Применяя к «Импровизациям» Кандинского термин
«абстрактный экспрессионизм», Митчелл прежде всего указывает на
точки соприкосновения с Шёнбергом в области бессознательного8, но
подчеркивает при этом и другую параллель. «Интересно, — пишет он, —
что Кандинский в более поздние годы пытался рационализировать свою
абстрактную живопись в “тотальную эстетику”, создавать грамматику
живописи, и что более ранние его композиции <...> разрабатывали геомет-
рический словарь, за который ухватились его подражатели» (171, 143).
Метод Шёнберга обсуждается Митчеллом и в других сравнениях.
Неоднократно вспоминает он определение, открывающее книгу Ле Кор-
бюзье: «Стандартизация: достичь статуса закона, открыть принцип, спо-
собный служить правилом». Проводя параллели между «Модулером»
Корбюзье и «Методом» Шёнберга, Митчелл отмечает сильнейшее воз-
действие их на творческую практику многих деятелей искусства XX века.
Особенно подробно Митчелл обсуждает связи «Метода» Шёнберга и
кубизма Пикассо. Здесь сравнения делаются и на уровне отдельных про-
изведений. Для этого избраны появившиеся почти одновременно (1907)
«Авиньонские красавицы» Пикассо и Второй струнный квартет Шёнбер-
га. Оба эти произведения представляют переломные моменты в эволюции
художественного языка. Полистилистика названного полотна Пикассо
более чем наглядно демонстрирует совершающуюся на глазах «модуля-
цию» к кубизму. В свою очередь, и Второй квартет, как выразился Эрвин
8 Сам Кандинский, напоминает Митчелл, находил в своих «Импровизациях»
спонтанные выражения свойства внутреннего характера или отражение «внутрен-
ней природы».
70
Стэйн, «есть поворотный пункт в композициях Шёнберга. Он заглянул за
границы тональности, управляемой основным тоном» (171, 86).
Увлеченный сравнениями Митчелл порой излишне прямолинеен в
своих обобщениях. Он, например, практически отождествляет такие
понятия, как «тональность» и «перспектива», «тема» и «предмет»9. Наи-
более существенными представляются наблюдения Митчелла, касаю-
щиеся универсальных механизмов эволюции искусства. Он справедливо
пишет об изменениях в самом характере мышления, признавая логически
закономерной попытку художников манифестировать новые «принципы,
способные служить правилом».
Прослеживая творческий путь Пикассо и Шёнберга, Митчелл видит
«параллель» в основном в том, что «и кубизм, и Метод нуждались в герме-
тическом периоде, когда были опубликованы правила игры» (171, 88).
«Язык нового стиля, — пишет он, — должен был увериться в своем праве
на жизнь: прежде чем стать свободным, он должен быть строгим, ведь пра-
вило не может быть сразу продемонстрировано исключениями» (там же).
Особенно примечательно, что Митчелл не представляет период герме-
тизма как абсолютизацию метода, более того — он видит в ней результат
искажения сути последнего. Противопоставляя Пикассо и Шёнберга их
наиболее догматично настроенным апологетам, Митчелл дает негативную
оценку абстракционизму и тотальному сериализму: «Нам известно, что аб-
страктное искусство значительно отклоняется от принципов кубизма. Та-
ким же путем, мне кажется, поствебернианское Новое может скорее быть
рассмотрено как извращение, чем как продолжение Метода» (171,90).
Здесь Митчелл касается проблемы, которую хочется особо выде-
лить: проблемы интригующих «компромиссов» позднего Шёнберга и
позднего Пикассо, внешне выражающихся в возврате к тональности и
фигуративности. Чем мотивирован этот шаг? И что он означает — воз-
вращение на круги своя или качественно новый этап эволюции Метода?
Митчелл без сомнений отстаивает последнее. За герметическим перио-
9 «...Провести параллель между кубизмом и Новой архитектурой, с одной сто-
роны, и Методом Шёнберга — с другой — значит очертить контур подлинной иден-
тичности моделей между искусствами в данный период. Параллель между дости-
жениями кубизма и серийной техники еще более точна, чем я мог предположить.
Например, разве вызывает сомнение, что отказ от тональности в музыке равен
отказу от перспективы в живописи?» (171, 76).
71
дом, по его убеждению, неизбежно наступает период синтеза, ассимиля-
ции Метода в новых условиях, которые лишь внешне могут показаться
повторением пройденного. «...Шёнберг в своей позднейшей серийной
музыке вновь вернулся к тональности. Это не было возвратом к функ-
циональной тональности, — даже и примирением тональности с серийно-
стью, но было возвращением к некоторым тональным чертам внутри
серийной организации. Тональность допускалась фактически на серий-
ных условиях» (171, 125).
Механизм триады, как видим, обнаружил себя и здесь. Можно
явственно представить три фазы эволюции:
а) «синкретическая», или фаза негации, отпочкования от старой
системы. Отказ от прежних эталонов и эмпирическое нащупывание ново-
го зачастую создают внешнее впечатление непоследовательности в выбо-
ре художественных средств.
б) «аналитическая» — герметический период в развитии нового
метода. Теория активно проявляет свои регламентирующие функции, что
связано с формулированием принципов творчества и созданием соб-
ственной грамматики.
в) «синтетическая», или фаза ассимиляции сформированного мето-
да с иными. Вновь возможно впечатление внешней непоследовательно-
сти, компромиссов. Однако именно здесь и раскрываются истинные воз-
можности метода.
Полный цикл такой триады именно в XX веке стал хронологически
сопоставим с продолжительностью чело_веческой жизни, проявляясь и в
рамках творчества одного художника. Целое поколение композиторов
пережило в 50-60-с годы фазу «аналитизма» и унификации языка, после
чего обратилось в поиски разных продолжений и отрицаний освоенного.
Но прав ли Митчелл, полагая поствебернианский структурализм «извра-
щением» Метода? Думается, это слово здесь не подходит. Структурализм
— не извращение Метода, а переход в результате абсолютизации послед-
него в новое качество — в Систему, то есть свершение того, от чего в соб-
ственном творчестве отказался Шёнберг, отказался именно как худож-
ник, а не как «исследователь»10. Система же в данном случае есть, по
10 «У меня не Система, а лишь Метод, означающий модус применения верно
вычлененной формулы» (171, 18).
72
существу, новая эстетика, опирающаяся на принципиально иные цен-
ностные критерии. Здесь и идея «новой анонимности» (Булез), и прин-
ципиальный отказ от понятия «шедевр» (Штокхаузен), и освоение бес-
письменных форм музыкального творчества.
Таким образом, структурализм — это не отклонение от заданного
Методом курса, а сознательная попытка пройти путь до конца, до мысли-
мого предела. «Произведение как исследование» оправдывало эту пре-
дельность, порой граничащую с абсурдом; оно устанавливало некую
точку отсчета для последующих шагов в то «зазеркальное» пространство,
в котором смысл вновь возвращающихся элементов прежнего языка уже
не совпадал с первоначальным.
Связь того, что существовало до аналитического расчленения, с тем,
что пришло после него, — существеннейшая и малоизученная еще в обла-
сти искусства проблема типологического родства. Внешнее сходство
наблюдаемых явлений здесь никак не должно вводить в заблуждение, на
каком бы уровне ни производились сравнения. Вот несколько примеров,
различающихся хронологической взаимоудаленностью соотносимого.
«Плоскостность египетского искусства определяется тем, что оно лише-
но самого опыта трехмерности, в то время как плоскостность средневеко-
вого искусства определяется активным нежеланием изображать трехмер-
но то, что вполне отчетливо воспринимается как трехмерное». «В то
время как в византийской иконе и у Виллара обобщение тела дается еще
до его аналитического изучения, у Джотто оно возникает уже после тако-
го анализа» (68,375 и 383).
В приведенных цитатах А. Лосева арка триады переброшена через
века, выстраивая в логическую цепь явления, обнаруживающие при этом
за своим обманчивым внешним сходством полярную смысловую проти-
воположность.
Другой пример: начало периода эклектики в архитектуре XIX века
(30-40-е годы) и завершение его (90-е годы), как известно, отмечены
общей особенностью — модой на псевдоготику. Но общей ли? Авторитет-
ный специалист по эклектике и модерну Е. Кириченко на основе метода
системного исследования берётся доказать нетождественность стилиза-
торства периода зарождения эклектики и стилизаторства периода разло-
жения эклектики, «ретроспективизма» (48).
И ещё один пример: по сей день нерешённой остается искусство-
ведческая проблема датировки некоторых холстов Казимира Малеви-
73
ча11. Известна внешняя причина появления картин-двойников: Малевич
захотел восполнить утрату части своего художественного наследия. Но
вся суть в том, что к этому моменту Малевичем уже была создана и реа-
лизована в творческой практике концепция супрематизма, уже остался за
плечами герметический период всесторонне теоретически обоснованного
беспредметного письма, конечно же, не прошедший для художника бес-
следно. В столь незначительных временных масштабах точная датировка
холста на основе его спектрального анализа невозможна. А вопрос разли-
чий стиля, метода здесь оказывается ускользающе тонким и лишь порож-
дает споры.
В области музыкального искусства, в частности современного, про-
блема соотнесения этих «до» и «после» также оказывается чрезвычайно
важной и сложной для изучения. Остановимся на некоторых феноменах,
ключ к пониманию которых, думается, следует искать именно в данной
области.
11 «Плотник»: 1908-1910 или после 1927 года; «Жницы»: 1909-1910 или
после 1927 года; «Дачник»: 1910-1912 или после 1927 года.
Глава 5
За чертою достигнутого «герметизма»
С первым таким феноменом мы сталкиваемся, вникая в творчество
композиторов, прошедших в свое время через горнило структурализма и
продолживших свой путь, казалось бы, забыв и думать о былых «грехах
молодости». А такова была, как уже отмечалось, судьба целого поколе-
ния, привлекшего к себе внимание в 50-60-е годы не только музыкой, но
и парадоксально прозвучавшим словом о ней. И вот наступают 70-е годы.
В мировой музыкальной культуре это не только приход нового молодого
поколения, нарекшего себя «антиавангардом» и изначально предавшего
анафеме заблуждения сериализма. Реакция на реакцию, пожалуй, наибо-
лее интересно проявилась в эту пору именно у тех композиторов, кто,
выражаясь фигурально, обонял горький запах дыма собственноручно
построенных, а теперь и собственноручно подожженных за спиной
мостов, у тех, кто переживал происходящие перемены как отречение.
И не оказывается ли вопрос: так есть ли всё же следы супрематизма
в поздних «реконструкциях» Малевича? — сродни тем вопросам, кото-
рые возникают при слушании определенной музыки? И не является ли
поворот, совершенный в последние годы жизни Шёнбергом, упреждени-
ем грядущих событий в эволюции всей музыкальной культуры?
Итак, вначале о «следах». Это интересный вопрос, область гипотез и
предположений, касающихся намерений композитора, соотношения про-
думанного и случайного в его творческом процессе. Можно поставить
этот вопрос, например, в связи с техникой серийной додекафонии — той
самой герметической формы представления Метода, основные принципы
которой изложены весьма четко. Многие композиторы, освоившие на
практике эту технику, свидетельствовали о постепенно появлявшемся у
них интуитивном «чувстве ряда». Расчет и жесткий контроль за порядком
чередования тонов со временем становились все менее необходимы. «Я
слышу случайное повторение ноты в другом голосе и воспринимаю это как
диссонанс», — говорил Николай Каретников (из беседы с автором этих
75
строк). Можно поставить вопрос и шире: «...Далеко не всегда сочинение
по статистической методике сопровождается составлением графических
схем и выкладок — подобно принципу неповторяемости, принципу ато-
нальности, принципу аметричности и другим рационалистическим прие-
мам западноевропейского “авангарда”, идея шкалы ушла в подсознание
(курсив мой. — А.С.) и оттуда управляет работой композитора» (148,22).
«Шкала, ушедшая в подсознание» — воспользуемся этим метким
выражением Альфреда Шнитке для определения того феномена, о кото-
ром ведем здесь речь. Имеет смысл продемонстрировать этот феномен на
конкретных музыкальных примерах.
Обратимся к Concerto grosso № 1 Альфреда Шнитке. Это сочинение
относится к 1976-1977 годам, то есть к тому времени, когда каждая новая
премьера Шнитке становилась крупным событием культурной жизни,
когда были уже созданы Первая симфония, «Гимны», Квинтет, Реквием
и был публично оглашен композитором его знаменитый «манифест»
полистилистики (152). Во всем этом музыкальному миру как бы явился
новый, «истинный», Шнитке. Сочинения же первой половины 60-х го-
дов, связанные с пытливым штудированием додекафонии, незаметно
отошли в тень, лишь изредка исполняясь «для полноты картины» на
авторских вечерах.
Первый Concerto grosso с полным правом можно отнести к верши-
нам творчества композитора. Это сочинение, по-особому затрагивающее
самые острые проблемы современности. «Публицистичности» Первой
симфонии (выражение М. Арановского) здесь противопоставлена глубо-
кая философичность, погружение в раздумья о судьбе Культуры, о вза-
имоотношениях Стиля и Времени.ГНостальгия по Стилю, воплощающе-
му гармоничное мироощущение, Стилю устойчивому и цельному — это
идея, завладевшая Шнитке и направляющая его мысль не только в соб-
ственном творчестве, но и в восприятии музыки других композиторов. В
статье, посвященной Стравинскому, он пишет: «И тут нам становится
понятным весь косвенный трагизм музыки Стравинского — трагизм, про-
истекающий из принципиальной невозможности повторить сегодня
классическую форму, не впадая при этом в абсурд» (151, 402). А вот
мысль, относящаяся к Симфонии Лучано Берио: «Как невозможно вер-
нуть этим прекрасным воспоминаниям реальную жизненность, так
невозможно и восстановить разрушенную потрясениями идеологических
демистификации и изъеденную скептической рефлексией тотального
76
скептицизма живую музыкальную форму (если иметь в виду именно
форму, а не конструкцию)» (154).
«Коррозия культуры, переживаемая как трагедия» — так можно
определить драматургическую фабулу Concerto grosso. Все музыкальные
темы проходят здесь свой путь разрушения — от структурности к
деструктурности, от первого впечатления возвышенности к банальности
или обезличенности. Прием снижения используется многократно и на
разных уровнях формы.
Полистилистика как художественная система проявляет себя здесь
в параллельном развитии трех интонационных сфер: «высокая лирика
XX века» с ее экспрессивными «веберновскими» септимами и нонами,
темы «в духе барокко» с преобладанием терцово-секстовых интонаций,
сфера банальной и даже вульгарной музыки.
Вполне естественно предположить, что первая сфера — своего рода
«портрет современной музыки» — дает композитору прямой повод при-
менить технику, освоению которой он отдал в свое время столько сил.
Однако, как свидетельствовал сам Шнитке, «додекафонии и серийности
тут нет, хотя и присутствует тема додекафонного характера» (из беседы с
автором этих строк). Конечно же, интересно найти эту самую тему и
выяснить — какими средствами достигнут ее «додекафонный характер».
Речь идет о второй части, имеющей название «Токката». После
открывающей Concerto grosso Прелюдии, воспринимаемой как сосредо-
точенно-отрешённая медитация, Токката врывается летящим барочным
концертированием, мгновено смывающим всю горечь хроматизмов пред-
ыдущей части. Увы, иллюзия обретения гармонического идеала рассеива-
ется быстро: барочная тема тут же «забалтывается», множась в многого-
лосных канонах и перерождаясь в некое хаотическое «броуновское дви-
жение»:
77
V-noI
Solo
78
79
И это лишь один из этапов «снижения». Среди последующих нам
встретится и эпизод с «додекафонной темой» (см. партитуру от цифры 14).
Эпизод этот имеет четкую внутреннюю структуру. В крупном плане
здесь выделяются три раздела, цикличность процессов внутри которых
отвечает уже названному драматургическому принципу всего сочинения.
Изложение солистами нового тематического материала троекратно теря-
ется в «наплыве» токкатной темы, обрываемой, в свою очередь, импера-
тивной репликой оркестра. Нарочитая подчеркнутость повтора вуалиру-
ет важные изменения, происходящие внутри разделов. Сосредоточим на
них свое внимание:
80
В соответствии с барочным принципом единовременного контраста
здесь предстают три контрапунктирующих тематических пласта. В пар-
тии первой солирующей скрипки излагается двенадцатитоновая тема,
положительный этический смысл которой подчеркнут начинающей ее
монограммой ВАСН. Двенадцатитоновый ряд лежит и в основе темы,
порученной второй солирующей скрипке, однако здесь это деиндивидуа-
81
лизированный ряд — хроматическая гамма1. Наконец, в партии чембало
также нетрудно обнаружить три группы по четыре неповторяющихся
звука. Поскольку мотив ВАСН сам основан на полутоновом хроматиче-
ском звукоряде, у композитора возникает возможность обыгрывать в
дальнейшем зону неопределенности между интонационно нейтральной
гаммой и интонационно наполненной темой.
Контрастирование перечисленных пластов определяется также и их
ритмической характерностью. «Нововенский» ритмический рисунок
верхнего голоса противопоставлен игриво вальсирующему контрапунк-
ту нижнего, поддержанному шарманочным аккомпанементом в партии
чембало.
Обратим внимание и еще на одну особенность. В партии первой
скрипки мотив ВАСН сперва транспонируется, а затем незаметно «спол-
зает» в завершение по хроматической гамме. В этом и заключено изна-
чально то самое зерно «снижения», которому предстоит вскоре прорасти.
Проследим дальнейший путь этого тематического комплекса.
Попытка солистов выстроить канон в инверсии на теме ВАСН (2 такта
перед цифрой 15) резко обрывается ударом оркестрового кластера.
В начале второго раздела эпизода возникает интересная метаморфоза:
в партии первой скрипки на мотив ВАСН ложится чужой вальсовый
ритм, а прежний ритмический рисунок неожиданно «заключает союз» с
хроматической гаммой в контрапунктирующей партии второй скрипки.
На все это наброшена сетка нового аккомпанемента в духе чардаша
(у чембало). Подчеркнем, что двенадцатитоновость при этом по-прежне-
му строго выдержана в каждом из пластов (см. пример 56 на с. 83).
Новая попытка солистов противостоять наплыву темы токкаты
интересна тем, что в их каноне мотив ВАСН и хроматическая гамма пере-
ставлены местами, а в совокупности всех пластов фактуры четко выра-
жен принцип сегментной додекафонии: два проведения серии (V-no I и
V-по II) в последних своих четырех звуках пересекаются по принципу
«моста» в партии другого инструмента — Cembalo (7 тактов перед
цифрой 16).
1 Напомним, что серии в виде хроматической гаммы именно по этой причине
избегаются в додекафонии: «...серия не должна быть тождественна хроматической
гамме, квартовому или квинтовому кругу» (52, 124),
82
83
Третий раздел эпизода вносит новые изменения. Обе скрипки начи-
нают с вариантов мотива ВАСН (у V-no 1 — ротация ракохода, у V-no II —
ротация основного вида) и в итоге приходят к хроматическим гаммам.
В аккомпанементе чембало — опять новый, нарочито простенький рит-
84
мический рисунок: ll: J Л J J J J J J -II . Далее вновь следует «на-
плыв» темы токкаты и останавливающий ее канон, в котором за отрезка-
ми хроматической гаммы у обеих скрипок звучит мотив ВАСН (в различ-
ных транспозициях):
85
86
Во всех рассмотренных фрагментах нотного текста признаки додека-
фонии совершенно очевидны. Однако из арсенала додекафонии исполь-
зованы именно те её приемы, которые позволяют композитору обойтись
без предварительного абстрактного «проектирования». Выработанное
композитором «чувство ряда» позволяет ему здесь не заниматься отдель-
но вопросами «организации».
Заглянем, однако, в партитуру вновь и рассмотрим фрагмент, отме-
ченный цифрой 18. Отсюда начинается последнее генеральное фактур-
ное крещендо, в котором последовательно наслаиваются друг на друга
все темы Токкаты, что приводит к зоне хаоса, своего рода «вавилонского
столпотворения», торжества сил разрушения:
87
Перед нами еще одно производное соединение уже знакомых элемен-
тов. Но как заметны на сей раз изменения! В экзальтированных тремоло
скрипок уже окончательно победила хроматическая гамма. Стоит обра-
тить особое внимание и на партию чембало: в колких стаккато септим и
нон, на первый взгляд, нет никакой иной закономерности, кроме неповто-
рения звуков. Но каждый такт здесь звучит по-особому, и, вслушиваясь, а
также и вглядываясь в нотный текст, мы кое-что начинаем замечать.
Во-первых, уже в первой «восьмерке» звуков ясно показаны две
«вебернгруппы» — пятая и первая2:
7-1^ цЯ. »а Г» -ч
В каждом из последующих тактов можно обнаружить ту или иную
форму их пересечения. Во-вторых, в каждом такте по-разному предста-
влено и соотношение восходящих и нисходящих полутоновых интона-
ций. Поместив восходящий полутон в кружок, а нисходящий в квадрат,
можно наглядно представить это следующей схемой:
1-й такт
2-й такт
3-й такт
4-й такт
Заштрихованные элементы показывают в данной схеме первую, а не-
заштрихованные — пятую «вебернгруппы».
- По классификации, предложенной В. Холоповой (137).
88
Можно обратить внимание и на другие детали. Вариантность соот-
ношения первых двух тактов выражается еще и в заключении нисходя-
щей хроматической гаммой переставляемых местами восходящего и нис-
ходящего полутонов. Третий такт выделяется графически: использован
другой ритм, отсутствует гармонический интервал посреди такта. Имен-
но тут вдруг угадываются очертания транспонированного мотива ВАСН
в следующем порядке его звуков:
4-3 - 1 - 2 - (ВАСН)
12 3<_4
Можно подивиться и секретам последнего такта: визуально он весь
прочитывается как свернутая в спираль хроматическая гамма, весьма
напоминая прием изложения серии, использованный Веберном в первой
части Вариаций ор. 27:
8. Серия А- Веберн. Вариации ор. 27
Но возможен и другой «угол зрения»: на верхней строчке звуки скла-
дываются в хроматическую гамму, а на нижней — в знакомый уже вари-
ант ВАСН (4-3 - 1-2).
Всех этих наблюдений, впрочем, уже вполне достаточно для следую-
щего вывода: речь идет именно о спонтанно возникшей структурности.
Композитор не следует здесь заранее выстроенному серийному плану: он
пишет свободно, но незримой путеводной нитью при этом служит та са-
мая «ушедшая в подсознание шкала», которую он некогда выработал в
себе штудиями целенаправленной и контролируемой сознанием работы.
Для Шнитке язык додекафонии в Concerto grosso — это тоже язык Про-
шлого, хотя и совсем недавнего. Разрушение уготовано и ему, поэтому в
89
легко обнаруживаемой непоследовательности использования приемов
серийной техники здесь заключена последовательность воплощения дра-
матургического замысла, — рассмотренный эпизод логично встраивается
в общую цепь событий.
Обсуждая идею «шкалы, ушедшей в подсознание», можно приво-
дить примеры, освещающие ее с разных сторон. Над проблемой «спон-
танной структурности» интересно поразмыслить в связи с «Эскизами»
Романа Леденёва. Хотя композитором отрицается намеренное использо-
вание серийного метода в этом камерно-инструментальном цикле, неко-
торые входящие в него пьесы не оставляют сомнений в присутствии
признаков серийной организации.
В 5-й пьесе, в частности, развитие основано на постепенном собира-
нии из отдельных сегментов двенадцатитонового ряда, что в итоге приво-
дит к десятиголосному канону с использованием этого ряда в обращении,
ракоходе обращения и в увеличении. 6-я пьеса начинается мерцающими
тембровыми бликами бесконечно варьируемого мотива ges - es - f
(прием Klangfarbenmelodie). С появлением на этом фоне мелодии соли-
рующих духовых сразу же устанавливается четкая звуковысотная комп-
лементарность пластов фактуры (см. пример 9 на с. 91-92):
Соло Фон
a d е h g des b as c ges es f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Серийная «подоплека» этого обстоятельства подтверждается в
заключительных тактах (14-19), где обе горизонтальные линии выстраи-
ваются в аккордовую вертикаль. Обнаружив в пьесе вдобавок ко всему
еще и четыре проведения ритмического ряда, внутренне организованно-
го по принципу ротации3, и впрямь можно усомниться в заверениях ком-
позитора. Однако любезно предоставленная Романом Леденёвым воз-
можность познакомиться с его черновиками позволила удостовериться в
3 Приводим его схему:
J.JJ. J.J.J JJ.J. J.JJ
32 3 332 233 322
I II III IV
Нарушение точности ротации в последней группе не случайно. Благодаря ей
каждое последующее проведение ритмического ряда смещается на одну восьмую
вперед относительно тактовой черты (дополнительный фактор вариантности,
выражающийся в тембровой и акцентной игре с мотивом).
90
91
том, что никакого предварительного выписывания серии, исследования
возможностей различных форм ее изложения не производилось. Черно-
вики Р. Леденёва вообще отличаются значительной близостью первона-
чальных записей окончательному варианту текста («лермонтовский»
метод, если вспомнить классификацию В. Брюсова!).
Очень интересен по-своему еще один пример — «Мандала» для 9-ти
инструментов Виктора Екимовского (1983). Название сочинения связа-
но с одним из многозначных символов буддийской мифологии. Не слу-
чайно поэтому на первом плане здесь находится ритмическая сторона.
Написанию нотного текста предшествовал сложный математический
расчет ритма на нескольких масштабных уровнях. Вступление каждой из
четырех групп инструментов отмечено новым ритмом, рассчитанным
таким образом, чтобы в конце концов партии всех инструментов слились
в единый ритмический рисунок.
Свой метод Екимовский, однако, определяет так: «Строгое сериаль-
ное конструирование плюс... абсолютный иррационализм». Дело в том,
что на заключительной стадии работы композитор снял все цифры и
записал нотный текст, так сказать, «по наитию» — без всякого метра,
полагаясь на то, что «шкала», явившаяся результатом кропотливого
предварительного расчета, будет как бы исподволь направлять в нужное
русло отпущенную на волю фантазию.
В связи с этим музыкальным примером мы уже перешли от «следов»
явных к «следам» скрытым — к проблеме еще более сложной, возника-
ющей порой при восприятии и изучении музыки. Поговорим вновь о «до»
и «после», сопоставив меж собой некоторые феномены музыкального
искусства, хронологически окружающие герметический период ортодок-
сальной додекафонии.
Одна из двух опубликованных в СССР статей авторитетного знато-
ка творчества нововенцев Ф.М. Гершковича носит примечательное назва-
ние: «Тональные истоки Шёнберговой додекафонии» (31). В ней автор
доказывает закономерность перехода от тональности к додекафонии,
выдвигая при этом важный тезис об отражении процессом развития
музыки процесса развития слуха4. Вводя понятие «тональной додекафо-
4 «Процесс постепенного освоения созвучий питает собой процесс образова-
ния и развития звуковых систем» (31,349).
93
нии», Гершкович указывает три стадии ее развития — того хронологиче-
ского отрезка пройденного музыкой пути, в конце которого «тоника
стала пустым местом».
Вызревание додекафонии в недрах тональной системы, как известно,
подчеркивалось и самим Шёнбергом. Но если сосуществование родовых
признаков тональности и додекафонии во многих музыкальных произве-
дениях первой четверти века можно рассматривать как форму синкрети-
ческого единства, то что сказать не о «тональных истоках», а о «тональ-
ном устье» Шёнберговой додекафонии, то есть о том новом витке спира-
ли, на котором совмещение разнородных признаков происходило уже
под эгидой оставшейся позади ортодоксальной додекафонии?
Очень важную мысль высказал по этому поводу Теодор Адорно:
«Что такое “двенадцатитоновая техника”? Это безжалостные оковы,
удерживающие в повиновении силы, которые рвутся наружу, которые
стремятся сломать целое. Напрасный труд — пользоваться двенадцатито-
новой техникой, если нет этих противонаправленных энергий: напрас-
ный труд — организовывать материал, который ничуть не противится
такой организации. Вот приговор бессчетным додекафонным сочине-
ниям наших дней: в них относительно простые музыкальные моменты
приведены в относительно простую музыкальную связь, — ради этого не
было нужды прибегать к серийной технике» (3,281).
Подчеркнем, что ощущение «сопротивления материала» — очень
важная грань восприятия серийной музыки. И возникает оно чаще всего
благодаря соприкосновению Метода с чем-то заведомо иным по природе,
например — с тональностью5. «Возвращение к некоторым тональным
чертам внутри серийной организации», при котором «тональность допу-
скалась практически на серийных условиях» (Митчелл), — это часть
более общей проблемы постмодернизма второй половины века, заслужи-
вающей отдельного исследования. Для удобства дальнейших упомина-
ний назовем ее, вслед за П. Мещаниновым, проблемой «диатоники по ту
сторону хроматики».
5 Стоит привести здесь меткое замечание Леонарда Бернстайна: «Не может
быть простым совпадением тот факт, что после полувека радикальных экспери-
ментов лучшие и самые любимые произведения атональной, двенадцатитоновой
или серийной музыки — это те произведения, которые, несмотря ни на что, сохра-
нили тональный фон, те работы, которые богаче в своих тональных проявлениях»
(12,372).
94
За внешними «компромиссами» и «отречениями» 70-х годов посте-
пенно вырисовывался новый модус структурализма, сделавшего еще
один свой шаг в довольно неожиданном направлении. Ханс Вернер
Хенце написал в ту пору: «Говорят, что я повернулся к тональным сред-
ствам и предал додекафонию. На самом деле тональный аккорд теперь
(после додекафонии!) может обрести иное значение. Он дает чувство
освобождения, почти удовольствия...» (174, 45).
Ошибочное отождествление понятий «ссриализм» и «структура-
лизм» привело в свое время к тому, что с последним слишком уж поспе-
шили распроститься, настраиваясь на новую волну в музыкальном
искусстве. Однако «реставрация» прежних принципов оказалась сопря-
жена не столько с узнаванием забытого, сколько с познаванием еще неиз-
веданного.
Новое восприятие диатоники связано и с новым представлением о
хроматике. Как отмечает Ю. Холопов, «на очередном этапе эволюции
музыкальной системы полутоновая гамма предстает как “новая диатони-
ка”, дробимая новохроматическими “полутонами”. Очередным “диссо-
нансом” новой музыки становится микрохроматика» (131).
На этом пути возникает и феномен quasi-диатоники — «диатоники
по ту сторону хроматики»: при перенесении в другое пространство знако-
мая звуковысотная структура «расстраивается» на исчезающе малый
интервал, ее ткань как бы становится мнимой. Эта гипотеза доказывает-
ся П. Мещаниновым, по мнению которого в современной музыке назрела
необходимость создания «хорошо темперированной сонорности» —
сонорности, которая из фактора декоративного становится фактором
конструктивным. Всеобщая основа механизма эволюции — движение от
простого к сложному, а от него к новому простому — определяет обраще-
ние к звуку, который вмещает в себя все, звуку не данному извне, а струк-
турированному в соответствии с художественным замыслом. Дальней-
шее расширение музыкального пространства П. Мещанинов связывает с
переходом к 108-ступенной темперации, возможной при использовании
современных синтезаторов6. В этой системе «белые одежды» диатоники
обнаруживают свою ультрахроматическую «подкладку»: и тон, и интер-
6 Концепция П. Мещанинова была представлена им в цикле лекций, прочи-
танных в рамках семинара «Акустические среды» в Московской консерватории.
95
вал, и аккорд оказываются элементами, упорядоченными по новому
принципу, прежняя же ладотональная функция становится лишь привно-
симым благодаря слушательскому опыту посторонним фоном.
Таким образом, проблема адекватного прочитывания художествен-
ных текстов — это сложная семиотическая проблема. Она с особой
настоятельностью требует выхода на метаязыковый уровень мышления,
предполагая панорамное видение широкого культурного контекста, в
который вписывается отдельное музыкальное произведение. Связь знака
и значения приобретает здесь свою специфику, очертить которую
имеется возможность лишь в самой тезисной форме.
Структурализм как принцип мышления, распространившись на
новые области, стал представлять своего рода «двойное дно» в хорошо
известных по первому впечатлению явлениях. «Период тотального
сериализма скоро кончился, но идея шкалы, прогрессии чисел, отражаю-
щей последовательное изменение качества, была перенесена из области
дискретных, градуированных явлений (темперированная 12-ступенная
гамма, пирамида длительностей, относительно точно фиксированная
динамика от ррррр до fffff, темп, тактовая сетка) в область явлений, до
тех пор не доступных количественному измерению (тембр, форма, тема-
тизм; более того — выразительные характеры, музыкальные образы, игра
стилей, ассоциативный спектр музыки)» (148, 18).
Приведем в этой связи несколько конкретных примеров. В 70-е годы
привлекает к себе внимание новая концепция «мультиформальной музы-
ки» Карлхайнца Штокхаузена, творчески реализованная им в таких
сочинениях, как «Indri», «Sirius». Интересно, однако, что при этом Шток-
хаузен вернулся к идеям, заложенным в его же раннем сочинении «For-
mula» (1951). Сериальные принципы оказались теперь выведенными на
уровень ментального мышления.
В статье, посвященной Дьёрдю Лигети, Шнитке пишет: «Аналитиче-
ски освоив “строгий стиль” сериализма 50-х годов, Лигети-композитор
отверг его как технику догматическую. Однако вся его собственная тех-
ника косвенно связана с сериализмом» (149, 14). Эту связь Шнитке
видит в распространении «эстетики избегания» на динамический про-
филь музыкального произведения и на область образных ассоциаций, а
также в строжайшей фактурной дисциплине, при которой «ритм, тембр,
динамика структурно упорядочены, как в произведениях сериалистов,
однако не на основе серии (трактуемой кабалистически как “формула
96
жизни”), а на основе рациональной методики, служащей максимально
ясному воплощению основной поэтической идеи». Напряженность и
динамику музыки Лигети составляет, как пишет Шнитке, «парадоксаль-
ное взаимодействие двух полярных сущностей — ирреально утонченной
поэтики и четкой до схематизма конструктивной логики» (149, 14).
Стоит упомянуть в этой связи и известную проблему стиля поздне-
го Стравинского. Немаловажно, что Стравинский заговорил о перспекти-
ве серийности, когда пик популярности Метода был позади7. Не про-
являя склонности к герметической форме Метода, Стравинский в соб-
ственном творчестве обратился к нему лишь тогда, когда тот уже отошел
к прошлому и превратился для композитора в одну из «шахматных
фигур», пригодных для разыгрывания хитроумных комбинаций. Творец
великих парадоксов и в этом своем «компромиссе» оказался идущим
против течения. Он утверждал о своей способности «слышать серийную
музыку тонально», даже если речь идет о таких сочинениях, как Симфо-
ния ор. 21 Веберна8. Комментируя собственный метод работы, Стравин-
ский говорил: «Интервалы в моих сериях тяготеют к тональности; я сочи-
няю вертикально, и это значит, по меньшей мере в одном смысле, что я
сочиняю тонально <...> Я устанавливаю слухом определенные возмож-
ности, а затем делаю выбор. Этим выбором в серийной композиции я
могу управлять точно так же, как в любой тональной контрапунктиче-
ской форме. Я слышу гармонически, разумеется, и сочиняю тем же путем,
что и всегда» (116,242).
Парадокс здесь в том, что речь идет не об элементах тональности на
условиях серийности, а о методе серийности в тональных условиях.
И поскольку сам принцип серии исторически сформировался как логи-
ческое завершение пути разрушения тональности, отвечая потребности
заново организовать так называемую «атональность»9, тоГсерийность на
тональной основе можно представить как искусственный синтез элемен-
тов, имеющих разное происхождение.
7 «...Те младшие коллеги, которые считают “серийность” неприличным сло-
вом, объявляя, что они уже исчерпали все ее возможности и ушли далеко вперед,
мне думается, сильно ошибаются» (116, 244).
8 «...Гармонически я слышу теперь всю первую часть Симфонии Веберна
тонально (не только знаменитое место в до миноре), а мелодически, я думаю, каж-
дый слышит ее теперь более тонально, чем двадцать лет тому назад» (116, 252).
9 «Задача сцементировать атональность выпала на долю ряда — серии» (52,107).
97
Для сравнения приведем пример, демонстрирующий иной подход.
Во второй части цикла «Пять историй о господине Кёйнере» (1966) Эди-
сон Денисов, кроме основной серии, вводит еще «серию минорных трез-
вучий», некоторым образом мистифицируя слушателя: трезвучия в своей
совокупности выстраивают вместо ожидаемых ладотональных связей
специфическую форму модальности. В отличие от Стравинского, Дени-
сов сочиняет не тонально, а серийно (в цикле используется и тотально-
сериальная техника), распространяя принцип серийности на различные
параметры музыкальной ткани. В данном случае элементами серии ста-
новятся не отдельные тоны, а трезвучия, неизбежно влекущие за собой
шлейф тональных ассоциаций10.
Явления современной музыкальной культуры, рассмотренные под
избранным углом зрения, позволяют сделать вывод о том, какую именно
проблему они представляют. С одной стороны, это проблема психологи-
ческая, ибо восприятие художественных текстов находится в зависимо-
сти от рельефно-фоновых отношений, от настройки на ту или иную
шкалу. С другой — это проблема семиотическая, так как характер объеди-
нения элементов музыкального языка (синкретический или синтетиче-
ский) определяется восприятием этих элементов как знаков, репрезенти-
рующих ту или иную художественную систему.
В любом случае эффект воздействия произведения, адекватность его
восприятия связаны с актуальностью аналитических представлений.
Порой отсутствие какого-либо признака в художественном тексте может
восприниматься как «минус-прием» (Ю. Лотман), кардинально меняя
смысл всего высказывания. В этом отношении и «Новая простота» (Neue
Einfachkeit, New Simlicity) в музыке 70-х годов есть не что иное, как дока-
зательство от подразумеваемого «противного». «Противное» же — в про-
никающем всюду структурализме 50-х годов, в недавно пройденном пике
аналитического мышления. И прежде чем пытаться вникнуть в вопрос о
коренном различии внешне сходных явлений, совершенно необходимо
отдельно поставить вопрос об аналитизме в музыкальной композиции
XX века, рассмотрев различные формы его проявления, его истоки и
последующие реминисценции.
10 Серийность в условиях диатоники определяется Ю. Холоповым термином
«гептатоника».
Глава 6
Аналитизм
в музыкальной композиции XX века
В названии этой главы фигурирует понятие, не имеющее еще четких
словарных определении, но уже достаточно укоренившееся в искусство-
ведческом лексиконе. Поэтому целесообразно начать с уточнения смы-
сла, вкладываемого в понятие «аналитизм».
В общенаучном плане под аналитизмом подразумевается способ
мышления, основанный на доминантности функций левого полушария
головного мозга. В художественном творчестве это может означать сбли-
жение процесса создания произведения с постижением логики уже соз-
данного произведения. Признание структуры произведения его само-
ценной стороной задает определенную психологическую установку как в
самом процессе композиторского творчества, так и в процессе слуша-
тельского восприятия. Приведем здесь интересную мысль А. Лосева:
«Структура предмета есть не больше как его план, его скелет, его кар-
кас. Однако <...> необходимо сказать, что скелет тоже может быть худо-
жественным произведением, как и его структурная система, как и его без-
душный каркас. Искусствоведы, например, для иллюстрации простран-
ственного ритма в рублевской “Троице” чертят на бумаге только общие
контуры трех ангелов, — в этой системе отношений кривых, действитель-
но, вполне ощутимо выявляется пространственная ритмика произведе-
ния. Но, взятая сама по себе, эта ритмика представляет собой совершен-
но особое художественное произведение, а вовсе не есть анализ рублев-
ской “Троицы”» (67, 8-9)
Заметим, что в особой мере сказанное относится к уже обсуждавше-
муся выше феномену «авторского анализа». Представляя «авторский
анализ» как вариант текста музыкального произведения, мы тем самым
признаем его объектом эстетического восприятия и, соответственно,
вовлекаем его в область определенных оценочных суждений. С этим, в
свою очередь, связан еще один смысловой оттенок понятия: «аналитизм
99
как магия числа».)Речь здесь идет о важных особенностях пути развития
западноевропейской художественной культуры, на различных этапах
которого уже неоднократно возникали ситуации, достаточно сходные с
нынешней.
Музыка не случайно входила в средневековый квадривиум, сосед-
ствуя с арифметикой, геометрией и астрономией. Художественное твор-
чество по уровню упорядоченности мыслительных операций находилось
в ту историческую эпоху в полном соответствии с творчеством научным.
Это же, впрочем, можно сказать и об эпохе Возрождения, вспомнив хотя
бы «Четыре книги о человеческих пропорциях» Дюрера или «проектив-
ную геометрию» Альберти и Леонардо1.
Связанная с такого рода аналитизмом особая сфера поэтики, поэтики
на пересечении научного и художественного творчества, свойственна и
искусству наших дней. Сциентизм как явление современной художе-
ственной культуры, продолжая традицию, уходящую корнями далеко в
прошлое, несет на себе и печать XX века. Идеи, привнесенные в искусство
из различных областей современной науки, как уже отмечалось, часто
обладают скрытым философским, мировоззренческим подтекстом^.
Аналитизм проявляется также и в особой самоорганизации художни-
ка в творческом процессе, в сознательном структурировании им этого про-
цесса и четком определении последовательности решаемых задач. В раз-
личных описаниях метода композиции как «алгоритма» творческого про-
цесса эта последовательность, стадиальность бывает подчас представлена
подчеркнуто схематично. В каком-то смысле, правда, схематичность ока- 1 2
1 В связи с названными памятниками художественной культуры А. Лосев да-
же употребил выражение «измерительный спорт», усматривая в них не только выс-
шую точку развития учения о пропорциях, но и определенную самоцель (68,395).
2 Характерно в этом смысле следующее высказывание Эдисона Денисова:
«Музыка — это искусство логического мышления, и композиционные идеи имеют
много общего с идеями современной математики. В моих сочинениях нет прямых
связей с математикой, связи эти, вероятно, более сложны и влияют на образ
мышления в целом. В математике меня интересуют не конкретные вопросы, а ее
философские аспекты» (129, 19). Университетское образование Денисова, закон-
чившего физико-математический факультет, в этой связи тоже не выглядит случай-
ностью. Многие известные современные композиторы наряду с консерваторским
получили также высшее техническое, математическое, философское образование.
Достаточно вспомнить Я. Ксенакиса, Б. Шеффера, М. Бэббита, Х.Г. Хельмса,
И. Фрича, X. Отте.
100
зывается тут неизбежной, поскольку само понятие «стадия» примени-
тельно к творческому процессу условно: не существует необратимого
порядка, а зачастую и ясной отчлененности мыслительных актов, приво-
дящих художника к созданию произведения искусства.
Тем не менее введение этого понятия целесообразно при изучении
структуры творческого процесса. В специальных работах по психологии
творчества и в искусствоведческих работах разного профиля можно
встретить различные описания стадий творческого процесса. Среди этих
описаний выделяются три группы:
I. Описания субъективно-ассоциативного плана, нередко облечен-
ные в метафорическую форму. Примером может служить схема
процесса научного творчества, предложенная Гансом Селье (авто-
ром учения о стрессе и общем адаптационном синдроме) и вклю-
чающая семь следующих этапов:
1. Любовь или желание (заинтересованность, энтузиазм).
2. Оплодотворение (знанием конкретных фактов).
3. Беременность.
4. Болезненные предродовые схватки.
5. Роды.
6. Осмотр и освидетельствование.
7. Жизнь.
II. Описания узкопрофессионального толка, актуальные для данно-
го вида искусства или для данного творческого метода.
В уже упоминавшейся выше книге А. Михалков-Кончаловский пи-
шет, например, о пяти рождениях фильма: сценарий — поиски решения —
реализация — монтаж — встреча со зрителем (82,213).
В. Лебл в книге «Электронная музыка» выделяет следующие фазы
композиционного процесса:
1. Выбор и классификация звуковых объектов.
2. Обработка, преобразование и монтаж объекта, создание сплош-
ной музыкальной ленты из отдельных компонентов.
3. Смешение всех этих компонентов в окончательном виде компо-
зиции (166, 11).
III. Описания, призванные представить в обобщенной научной
форме модель творческого процесса. В 20-е годы авторы многих
работ склонялись к выделению в творческом процессе четырех
важнейших этапов:
101
1. Подготовка.
2. Инкубация.
3. Озарение (инсайт).
4. Проверка.
Эта точка зрения в принципе остается в силе и сегодня, получая раз-
личные необходимые уточнения. В этой связи представляется целесооб-
разным рассмотреть с несколько большей степенью подробности класси-
фикацию этапов творческого процесса композитора, предложенную
М. Арановским.
В структуре механизмов творческого процесса М. Арановский выде-
ляет следующие этапы:
1. Внемузыкальный содержательный стимул.
2. Включение системы музыкального интеллекта и его порождаю-
щих систем.
3. Образование эвристической модели.
4. Реализация эвристической модели.
Первый пункт, думается, не требует особой расшифровки. Второй
пункт можно пояснить, процитировав авторское определение музыкаль-
ного интеллекта: «Музыкальный интеллект — специфическая система
мыслительных способностей человека, предназначенная для осуществле-
ния психологической творческой деятельности (“музыкального мышле-
ния”)» (4, 129).
Здесь следует также подразумевать владение музыкальным языком,
знание ряда «музыкальных грамматик».
Особый интерес для нас представляет третий пункт. Процитируем
свободное определение введенного М. Арановским понятия «эвристиче-
ской модели»: «Соединение внемузыкального содержания и “граммати-
ческих” представлений о целом вызывает к жизни качественно новое
психическое образование, которое и руководит процессом создания цело-
го. Этому образованию давались разные наименования: “идея” (Бетхо-
вен), “план” (Глинка), “проект” (Чайковский), “творческая концепция”
(Белинский). Это то, что должно стать музыкальным произведением,
превратиться в него, породить его. Это его модель, но уже не стереотип,
а нечто совершенно уникальное, ведущее к появлению единственного
в своем роде варианта соединения звукоэлементов. Эта модель, таким
образом, открывает нечто принципиально новое, несуществующее ранее, и
поэтому может быть названа эвристической» (4, 138).
102
На этом определении надлежит остановиться, проанализировав со-
держащиеся в нем положения. Эвристическая модель представлена здесь
как «психическое образование», то есть как некое идеальное отражение
будущего произведения. Не случайно и перекрещивание смыслов в поня-
тиях «эврика» и «инсайт».
Правда, на страницах этой же работы автор оговаривает вполне воз-
можное фактическое слияние двух последних стадий творческого про-
цесса. Проясняющая эвристическая модель может «непосредственно
переходить в создание материала, т. е. в стадию реализации» (4, 139). Но
это именно слияние двух логически самостоятельных этапов. Эвристиче-
ская модель как «усмотрение целого сразу» еще не выражена в звуковом
материале — она ему генетически предшествует.
Здесь мы, однако, должны поставить вопрос, существенный для
дальнейшего рассуждения: существуют ли дозвуковые формы материали-
зации эвристической модели? Если в практике композиторского творче-
ства обнаружится материализованная проекция эвристической модели,
предшествующая обращению композитора к звуковому материалу, то мы,
тем самым, получим возможность исследовать эвристическую модель нс
только косвенно, опираясь на словесные высказывания композиторов, но
и непосредственно — как особый род художественного текста.
Следует подчеркнуть значение употребленного слова «проекция».
Данный «дозвуковой» текст (если он существует) не является эквива-
лентом эвристической модели (как не является им и позднее создава-
емый нотный текст). Эвристическая модель, будучи «соединением вне-
музыкального содержания и грамматического представления о целом»,
являет собой единство архитектонической и интонационной сторон —
прообраз художественного единства аналогичных сторон будущего про-
изведения. Точнее — здесь это еще не архитектоника и интонация в пол-
ном смысле, — это их предтеча, реализуемая уже на следующей стадии
творческого процесса. Гипотетически предлагаемая дозвуковая материа-
лизация эвристической модели, по-видимому, может оказаться проекци-
ей именно архитектонической стороны, допускающей отвлеченное,
«алгебраическое» представление.
Оставив временно этот вопрос в стороне, укажем еще одну суще-
ственную деталь в определении эвристической модели. Как пишет
М. Арановский, эта модель «уже не стереотип, а нечто совершенно уни-
кальное, ведущее к появлению единственного в своем роде варианта со-
103
единения звукоэлементов». Речь идет, по существу, о том, что в эвристи-
ческой модели уже схвачена основа «формы как данности» (по термино-
логии В. Бобровского) будущего произведения. Подтверждение такому
пониманию находим в одном из последующих абзацев статьи: «...эври-
стическая модель опирается на прочную “грамматическую конструк-
цию” типовой музыкальной формы» (то есть, по Бобровскому, «формы
как принципа»).
Не ставя в целом под сомнение справедливость такой точки зрения,
зададимся и здесь следующим вопросом: чем определяется степень соот-
ветствия эвристической модели композиционной структуре созданного
на ее основе сочинения? Всегда ли, образно говоря, эвристическая
модель уподобляется арматуре здания, скрытой основным строительным
материалом и декоративной отделкой, но единой с ними во всех основ-
ных конфигурациях, или она может уподобляться и фундаменту, также
скрытому от глаз, но заложенному по своим собственным правилам и,
будучи рассматриваемым отдельно, не дающему достаточного предста-
вления об архитектуре всего строения в целом?
Наблюдения над творческой практикой ряда современных компози-
торов позволяют обнаружить интересную деталь, которая, пожалуй,
может быть признана достаточно характерной для музыкальной культу-
ры XX века в целом. Заключается она в том, что; иногда один из этапов
работы композитора выражается в построении подробного предвари-
тельного плана, своего рода архитектонического эскиза всего сочинения^
Следует сразу подчеркнуть, что речь идет не об обычных набросках
материала будущего сочинения, которое может создаваться в любом
последовании своих фрагментов, и даже не о предварительной «прикид-
ке» найденного тематического материала на схему избранной композито-
ром формы. Речь идет о создании под рациональным контролем мысли
целостной и абстрактной схемы, логической развертки заранее предста-
вляемого процесса развития. *,
Раскрыть суть этого явления посредством аналогий с другими вида-
ми искусства довольно трудно. В какой-то степени здесь могут быть упо-
требленыГсравнения со сценарием в кино, сюжетом в литературе, эскизом
композиции (намечающим перспективу и расстановку фигур) в живопи-
си. Однако всё здесь перечисленное является схемой, данной приблизи-
тельно в том же материале, что и само произведение. В музыке же мы
имеем в виду качественно иное явление.
104
Именно в силу абстрактности своего выражения описанный выше
план сам по себе не несет почти никакой информации о характере произ-
ведения, его жанре, типе содержащихся в нем контрастов и т. п. Перед
нами «формула», понятная одному композитору Это нужная ему для
дальнейшей работы со звуковым материалом проекция интуитивно схва-
ченного целого — эвристической модели, точнее — одной лишь ее архи-
тектонической стороны.
Описанная закономерность творческого процесса комментировалась
с разных позиций. Приведем цитату из романа Томаса Манна «Доктор
Фаустус»: «Любопытная вещь... получается что-то вроде сочинения
музыки до ее сочинения. Материал нужно распределить и организовать
до начала настоящей работы; спрашивается, какая же работа, собственно,
настоящая?».
Этот риторический вопрос, вложенный в уста литературного героя,
высвечивает важную сторону шёнберговского Метода3, наводя на философ-
ские размышления о сущности творчества. Но не только о Шёнберге здесь
может идти речь. По словам Д. Лигети, например, творческий процесс для
композитора «начинается с постижения внутренним слухом будущего
произведения не как отвлеченно-конструктивного целого, а как конкрет-
ного музыкального феномена. Далее следуют этапы письменной фикса-
ции: сначала с помощью рисунков, эскизов, схем; затем — средствами
вполне традиционной нотации. В это время многое в исходном замысле
меняется, но сама идея остается неприкосновенной» (61, 132).
Отвечая на вопрос Р. Крафта об отношении к технике Klangfarben-
melodie, И. Стравинский сказал: «Недавно, изучая одну до нелепости
трудную партитуру — фактически это был лишь план замысла, возникший
не в ходе сочинения, а до него (курсив мой. — А.С.), — я вспомнил русский
роговой оркестр времен моего детства... Я не вижу разницы между идея-
ми этого рогового оркестра и некоторых Klangfarben — партитур, извест-
ных мне» (116,242).
Как видим, если Лигети говорит о предварительном структурирова-
нии как о явлении вполне естественном, то в словах Стравинского пря-
3 Именно Шёнберг, как известно, был прототипом главного героя романа
«Доктор Фаустус». Создавая образ композитора Левсркюна, Томас Манн неодно-
кратно пользовался профессиональными консультациями Т. Адорно.
105
мо-таки сквозит нескрываемое раздражение. Цель приведенных цитат —
показать, что проблема действительно существует и оценивается нео-
днозначно. Для удобства дальнейшего обсуждения этой проблемы стоит
подобрать термин, отвечающий характеру исследуемого феномена. За
основу можно взять все тот же термин «модель», уточнив, в каком имен-
но значении предстоит его использовать.
Напомним, что под «моделью» может подразумеваться, с одной сто-
роны, копия с некоторого оригинала, с другой же — сам оригинал, обра-
зец для копирования4. Есть, однако, и третий смысловой оттенок: модель
как «пробный шар», как прообраз задуманного, но еще не овеществлен-
ного объекта. В соответствии с этим условимся понимать «модель» как
результат предварительного проектирования, конструирования некоего
объекта, предшествующий его созданию, что называется, «в натуральную
величину». Сошлемся на свободную аналогию: строительству самолета
нового типа всегда предшествует создание его модели, предназначенной
для различных испытаний, подтверждающих правильность конструктор-
ских расчетов.
Заранее выстраиваемую композитором модель структуры музыкаль-
ного произведения, относящуюся к высшему масштабному уровню —
уровню формы-композиции, — мы будем называть композиционной мо-
делью ./Композиционная модель — это феномен, отразивший происшед-
шее в современной музыкальной культуре и вряд ли требующее доказа-
тельств смещение интереса в сторону техники письма, музыкального
языка как системы средств и приемов, в сторону формы/Но такое смеще-
ние уже неоднократно имело место в музыкальной истории, отмечая важ-
нейшие ее периоды.
Это и хоровая полифония строгого стиля с ее почитанием рацио-
нального момента в художественном творчестве, культивированием
сложнейших и немыслимых без предварительного расчета полифониче-
ских структур. Это и «музыкальные шифры» эпохи Ars nova, загадочные
названия некоторых сочинений того времени, интригующие слушателей
и являющие им ключ к искусно замаскированной архитектонической
4 Из этих значений, в частности, исходит А. Лосев, представляя художествен-
ный канон как модель художественного произведения: «Художественный канон
удивительным образом совмещает в себе обе эти разновидности понимания моде-
ли» (67, 13).
106
логике5. Это, наконец, вокально-стиховые формы Возрождения, в которых
структура музыки создавалась как прямое отражение структуры (семанти-
ческой и синтактической) взятого композитором поэтического текста.
Обращение современных композиторов к умолкнувшему было
языку этих эпох, возрождение на новой почве элементов техники старин-
ной полифонии, принципов изоритмического мотета, гокета и т. п. свиде-
тельствует об известной близости творческих установок столь удаленных
друг от друга культур.‘В самом общем плане родство можно вывести из
принадлежности всех названных явлений к культуре произведения, то
есть к особой системе художественного мышления, отличающейся своим
механизмом как композиторского творчества, так и слушательского вос-
приятия6. Одной из основ этого механизма является аналитический под-
ход к произведению.
Как отмечает Л. Софронова, «в эпоху барокко, как и в средние века,
как и в XVIII веке аналитический подход художника к своему произведе-
нию был непременным условием творчества» (113, 37). Речь в данной
цитате идет не о музыке, но она не менее справедлива по отношению и к
этому виду искусства. Столь же возможно отнесение к сфере музыки и
следующего утверждения литературоведа: «Читатель должен был вла-
деть художественным языком своей эпохи и, следовательно, основами
литературоведческого анализа. В противном случае восприятие и оценка
литературы читателями была бы невозможной».
Широкое использование поэтами барокко всевозможных морфоло-
гических «шифров», таких, как коррелятивные стихи, палиндромы, про-
теические, змеевидные, анафорические, эпиформические стихи, сочине-
ние ими различных лексических ребусов, — всё это опять же отзывается
в литературе XX века.
Аналитический принцип музыкального восприятия как род слуша-
тельской установки, заранее предполагаемой композитором, в свою оче-
редь, заключается в совокупности двух следующих мыслительных опера-
ций: узнавания знакомого, ранее усвоенного как норма языка; познава-
ния нового, то есть обнаружения и осмысления речевого «неологизма».
5 Вспомним хотя бы знаменитые: «Мой конец — мое начало», «Кто возвысил-
ся — да будет унижен», «Читай но-еврсйски».
6 Данная проблема глубоко и всесторонне проанализирована в книге
Е. Назайкинского «Логика музыкальной композиции» (90).
107
Совокупность этих двух сторон носит исторически подвижный ха-
рактер — акцентироваться может любая из них. В этом смысле вряд ли
верно утверждение И. Стравинского, что «публика всегда предпочитала
узнавание познаванию» (116,288). Принцип inventio (изобретения) был,
в частности, важнейшим для искусства барокко7. Причем если в музыке
барокко данный принцип более относится к культуре импровизации, то в
иные исторические периоды он не менее важен и в отношении культуры
композиции.
Таковым периодом, в частности, является и XX век. Еще Н. Римский-
Корсаков, быть может, излишне категорично утверждал: «Чем выше
искусство, тем дальше оно от импровизации» (93, 162). В этих словах,
разумеется, не следует усматривать нигилистического сокрушения ценно-
стей, принадлежащих иной культурной традиции, или отрицания импро-
визации просто как полета творческой фантазии. В них можно обнару-
жить проявления подхода, весьма характерного для художников нарож-
дающейся формации. Творчество не мыслится ими более как необъясни-
мый логически процесс спонтанного самовыражения, а импровизация
понимается как раскрепощенность на основе четко продуманного плана8.
Конкретные формы проявления аналитического подхода в совре-
менной музыке будут рассматриваться нами в дальнейшем. Пока же
выясним, какие предвестники композиционных моделей, то есть задан-
ных извне или предварительно построенных незвуковых структур, опре-
деляющих архитектонику сочиняемой музыки, встречались в более или
менее далеком прошлом.
Выше было упомянуто об особой роли литературного текста в
вокальных жанрах эпохи Возрождения. Семантическая и синтаксическая
структура сонета, например, почти во всех деталях воспроизводилась
композитором при сочинении мадригала. Конечно, в какой-то мере
такую функцию сохраняет литературный текст в любой вокальной музы-
7 Следует оговорить многозначность термина «инвенция» в эпоху барокко, о
чем, в частности, пишет М. Лобанова в статье «Гармоническое инверторство эпохи
барокко» (62).
8 Приведем показательную в этом смысле цитату, принадлежащую известно-
му шведскому режиссеру Ингмару Бергману: «Только когда все тщательно подго-
товлено, когда все отработано, тогда можно начинать импровизировать» (цит. по:
105,53).
108
ке, однако в приведенном примере важна именно степень воздействия
структуры текста на композиционный процесс, а также важен и сам
характер этого процесса.
Как подтверждение тому приведем пример уже из современной
эпохи, где явно нашел отражение подобный подход.
«Кантату “Семеро их” для хора и большого оркестра я решил напи-
сать в три этапа. Первый: работая без фортепиано, сделать общий скелет,
то есть обдумать всю декламацию, наметить взрывы и падения, устано-
вить, как какое место будет выражено, записать обрывки мелодий, инто-
наций, аккомпанементов, звучаний в оркестре. Это было расплывчато в
сочинении без текста, но в данном случае наличие текста позволяло
распределить все содержание по тактам, притом настолько точно, что оно
являлось окончательным. Второй этап: детальная работа над музыкой у
рояля по установленному скелету — скелет обрастает мясом. Третий этап
опять без фортепиано: инструментовка» (101, 193).
Данная цитата весьма ясно показывает особую (и осознанную ком-
позитором) роль текста в определении архитектонических и иных приз-
наков создаваемого сочинения.
Мы коснулись, таким образом, вопроса о внемузыкальных прототи-
пах музыкальной формы. Это отдельный и чрезвычайно важный вопрос9.
Следует отдавать себе отчет в том, что явления, называемые здесь компо-
зиционными моделями музыки XX века, лишь косвенно подготовлены
всем тем, что обычно подразумевается под прототипами музыкальной
формы.
Обратимся, например, к риторической диспозиции как прототипу
классической сонатной формы. Безусловно, риторическую диспозицию
можно назвать незвуковой моделью, заимствованной из другой, немузы-
кальной, сферы и представляющей развернутую логическую схему музы-
кального развития, что соответствует значению самого слова «диспози-
ция». Однако это не просто композиционная схема. В единичном акте
творчества ориентация на риторическую диспозицию прежде всего озна-
чает настройку на особый род высказывания, на определенный тип конт-
растов и характер развития. Иначе говоря, риторическая диспозиция
9 Ему, в частности, специально посвящена содержательная статья В. Холопо-
вой «О прототипах функций музыкальной формы» (138).
109
предстает прежде всего как протофабула (термин В. Медушевского) про-
изведения. И лишь в процессе последующей работы, параллельно с
нахождением тематического материала риторическая диспозиция стано-
вится предкомпозицисй — схемой, располагающей этот материал в логи-
ческом порядке. Акцент, таким образом, плавно смещается из сферы
семантики в сферу синтактики.
Появление композиционных моделей в творческой практике компо-
зиторов XX века связано как с явлениями, имевшими прецедент в пред-
шествующей истории музыки, так и с некоторыми специфическими для
нашего времени факторами. В числе первых назовем характерное для
композиторов XX века уклонение от каких бы то ни было эталонов фор-
мы-композиции, нежелание задерживаться даже на собственной удачной
находке в области музыкальной структуры. Наиболее обнаженно эта тен-
денция представлена у композиторов, заведомо склонных к эксперимен-
таторству, однако можно сказать, что в той или иной мере она заметна у
абсолютного большинства современных авторов.
Следствием этого оказывается проблема логической организации
произведения. Избегая проторенных путей, композитор вынужден зара-
нее специально обдумывать структурную основу своего сочинения, забо-
титься о ее эффективном донесении до слушателя. В соответствии с этим
и композиционные модели современных произведений всегда претенду-
ют на неповторимость и максимальную оригинальность, в чем также
принципиально отличаются от своих предшественников типа риториче-
ской диспозиции.
Далеко не ново также характерное для нашего времени и весьма свя-
занное с вопросом о композиционных моделях возрастание роли
абстрактно-логического мышления в творческой практике, проникнове-
ние в нее элементов математического метода; Это факт, давно признан-
ный самими композиторами. Процитируем Стравинского:
«Я вовсе не утверждаю, что композиторы мыслят уравнениями или
таблицами, или что такие вещи способны лучше символизировать музы-
ку. Но способ композиторского мышления — способ, которым я мыслю, —
мне кажется, не очень отличается от математического» (116,228).
Следует также предварительно обрисовать и ряд более специфич-
ных для современной музыки факторов, определяющих особенности
композиционных моделей. Прежде всего это разные формы проявления
кардинальных проблем слушательского восприятия, возникших как
110
следствие негативного отношения к прежнему, традиционному, музы-
кальному языку: проблемы ориентации слушателя в форме при потере
очевидности основных функций изложения, развития и заключения;
проблемы перемещения логического стержня композиции в те области,
где слушатель не привык его обнаруживать; проблемы степени диффе-
ренцированности элементов музыкальной структуры, приближающейся
к естественным порогам слухового восприятия или превышающей его
пропускную способность. Вопрос «Как слушать современную музыку?»,
не случайно ставший названием отдельной работы Т. Адорно, является
чрезвычайно важным и в связи с задачей, поставленной в настоящем
исследовании.
Еще раз необходимо здесь подчеркнуть и действие на музыку других~]
форм общественного сознания. В XX веке особенно заметным стало отра-
жение в художественном творчестве некоторых естественнонаучных
идей, взятых в философском аспекте. В музыке, особенно инструмен- ,
тальной, такого рода идеи предстают в более скрытом виде, чем в литера-
туре или изобразительном искусстве, однако их значение и здесь весьма (
велико.
Это, например, идея всеобщего подобия в биологическом мире, так ,
увлекавшая А. Веберна и так повлиявшая практически на его творче-
ский метод, а в дальнейшем унаследованная композиторами-структура-
листами 50-х годов; идея единства пространства и времени, получившая
любопытную интерпретацию в музыкальных сочинениях и теоретиче-
ских эссе К. Штокхаузена; некоторые аспекты теории вероятности, алгеб-
ры Буля, «цепей Маркова», постоянно находящиеся в основе творчества .
Я. Ксенакиса.
Именно композиционная модель часто оказывается объективным
свидетельством того, что произведение действительно создавалось под
воздействием той или иной естественнонаучной идеи. В окончательном же
варианте текста эта связь по разным причинам нередко уходит «за кадр».
Что же конкретно представляет из себя композиционная модель?
Отмеченная выше установка на оригинальность и неповторимость ком-
позиционных моделей не мешает выделить среди них несколько основ-
ных типов. Общим для всех них является то, что объектом фиксации, как
правило, оказывается звуковысотная структура произведения.
Это немаловажный момент, поскольку композиционная модель, как
мы помним, создается на стадии предварительного охвата произведения
111
«единым взором», когда звуковой материал уже ощущается композито-
ром интонационно, то есть как комплекс всех сторон звучания. Возложе-
ние логической организации на звуковысотность, можно сказать, свой-
ственно музыкальному искусству в целом и имеет под собой глубокие и
разнородные основания10. Композиционная модель лишь обнажила эту
закономерность.
Типологию композиционных моделей можно вывести по способу их
фиксации:
1. Модели, представляющие план, в принципе близкий обычной
схеме формы-композиции, однако, в силу подчеркнутой ориги-
нальности музыкальной структуры, лишенный типовых символов
(главная партия, разработка и т. п.) и основанный на условных
обозначениях, принятых композитором, и на его некоторых
дополнительных словесных пояснениях.
2. Модели «иконического» типа, представляющие собой некоторую
визуально воспринимаемую графическую структуру (чертеж),
свободно проецируемую в последующей стадии творчества на зву-
ковую материю.
3. Математические модели, основанные на символике соответствую-
щего аппарата (матрица, таблица и т. п.) и способные определять
связь в принципе всех компонентов и сторон произведения.
Названные типы композиционных моделей отличаются друг от друга
прежде всего по мере абстрактности своего выражения. Одни кажутся
более «простыми» и понятными, другие способны вызвать недоумение.
Тем не менее это явления одного порядка, это выражение одной аналити-
ческой тенденции в разных внешних формах ее воплощения.
Приведенная выше типология представляет композиционную
модель как текст музыкального произведения, то есть как материаль-
ный знаковый объект. Это дает возможность выделить и рассматривать
такую пару понятий, как «композиционная модель — нотный текст»
музыкального произведения. Но может быть предложена для рассмотре-
ния и другая пара — «композиционная модель — форма-композиция», —
в связи с которой речь будет идти уже не о материальных, а об идеаль-
ных понятиях.
10 Этот вопрос специально анализировался автором этих строк в работе «О
роли звукового материала в системе музыкальных средств» (112).
112
В развитии учения о музыкальной форме отражались меняющиеся
представления о фундаментальной проблеме «формы и содержания».
Уходя от имевшей место в прошлом вульгарной трактовки данных эстети-
ческих категорий, музыковеды делали попытки подобрать в своей области
новые, более точные, определения. Остановимся на некоторых научных
положениях, выдвинутых В. Медушевским (77). Исходя из тезиса, что
музыкальная форма образована синтезом аналитического и интонацион-
но-синкретического мышления, исследователь предлагает ввести соответ-
ственно два понятия: «аналитическая форма» и «интонационная форма».
Не ставя перед собой задачу подробного освещения сути концепции
Медушевского, подчеркнем отдельные особо важные для нас моменты:
1. Введенные понятия Медушевский разъясняет путем соотнесения
их с понятиями традиционными для музыкознания:
Драматургия — проявление интонационной формы на высшем ее
масштабном уровне.
Композиция — обнаружение аналитической формы на этом же
уровне.
2. Поскольку аналитический принцип в музыке связан с высотой и
ритмом, дискретная высота и ритм являются основой аналитиче-
ской формы. Синкретический же принцип связан со слитным
использованием всех свойств звукового материала. Интонацион-
ная форма поэтому представляется единой по существу, ее основ-
ными категориями являются «интонация» и «фабула».
3. Аналитическая форма подчинена интонационной и служит ей —
подобно тому как левое полушарие головного мозга служит пра-
вому при контакте человека с музыкой. Человек мыслит музыку
при посредстве целостного мозга, но в этом гармоничном сотруд-
ничестве доминирует правое полушарие, а значит — образное,
чувственное, синкретическое мышление.
4. В творческом процессе композитора интонационная форма пред-
стает сперва как потенциальная предоснова музыки (первая фаза
создаваемого произведения — предощущение главной интонации).
Это первое состояние интонационной формы описывается Меду-
шевским в понятиях «протоинтонация», «протофабула». Счастли-
во найденная протоинтонация рождает свою неповторимую прото-
интонационную логику, которая конкретизируется и развертыва-
ется далее с помощью механизмов аналитической формы.
113
Таким образом, сочинение темы — это прояснение протоинтонации
при вживлении в нее аналитической формы11. Неосознаваемая структура
протоинтонации воздействует на выбор вариантов аналитической формы.
С этой точки зрепия о композиционной модели можно было бы
добавить следующее: поскольку данный феномен связан с акцентирова-
нием аналитического типа, в соответствующих случаях возрастает мне-
монически-ориентирующая функция аналитической формы. Поиск
последней уже сам по себе становится важным этапом работы компози-
тора, и подобно тому как фабуле сочинения логически предшествует про-
тофабула, аналитической форме, обнаруживающей себя в композиции,
может также предшествовать протокомпозиция, или, иначе говоря, ком-
позиционная модель. Причем, будучи связанной с левополушарным
мышлением, композиционная модель, естественно, представляет каче-
ственно иное явление, чем протофабула, и может быть зафиксирована
как абстрактно-логическое выражение.
Разумеется, сделанное добавление носит гипотетический характер и
даже может вызвать упрек в некоторой неточности, однако оно демон-
стрирует существующую связь между исследуемым нами феноменом и
представляющими большой интерес исканиями в современном музыко-
знании.
Понятием «аналитизм» удобно воспользоваться и для уточнения воп-
роса об иерархическом строении музыкального произведения, предста-
вляемого, с одной стороны, как материальный продукт творчества компо-
зитора, с другой же — как идеальный продукт художественного восприя-
тия слушателя.
Текст музыкального произведения несет в себе следы сознательной
деятельности композитора прежде всего в закономерностях компози-
ционного ранга, то есть в строении и соотношении достаточно крупных
своих сегментов. Поэтому в целом можно согласиться с утверждением
М. Арановского, что чем ниже структурный уровень музыкального
языка, «чем меньше составляющие его модели структурных единиц, тем
в большей зависимости находится он от бессознательного, интуитивного.
И наоборот: чем выше уровень и чем крупнее структурные модели, тем
больше роль сознательного фактора» (4, 134).
11 Это положение напоминает один из тезисов М. Арановского: «На опреде-
ленном этапе творчества форма начинает структурировать содержание» (4, 136).
114
Композиционная модель в данном соотношении является очевид-
ным свидетельством осуществляемого предварительного конструирова-
ния формы-композиции произведения. Но следует задать себе и такой
вопрос: бывает ли в практике композиторского творчества сходным обра-
зом заранее определена логика связи элементов синтаксического и фони-
ческого уровней музыки, то есть можно ли говорить также о «синтакси-
ческих моделях» и «фонических моделях»?
На этот вопрос есть возможность ответить утвердительно, сослав-
шись на соответствующие примеры. Ниже приводится композиционная
модель первой из «Структур-1» для двух фортепиано П. Булеза12, вполне
наглядно демонстрирующая общий архитектонический план сочинения.
Логической основой композиции является комплементарное соотноше-
ние партий первого и второго фортепиано, между которыми распределя-
ется заранее отработанный комплекс высотных, ритмических, динамиче-
ских и артикуляционных серий:
Часть А Часть Б
Piano I Сумма транспозиций Р серии «в» по les* Сумма пермутаций RI серии «д» но Rih серии «в» Серия «и» в форме а) Серия «а» в форме 0 Сумма транспозиций RI серии «в» по Rig Сумма пермутаций I серии «д» по Rh серии «в» Серия «и» в форме с) Серия «а» в форме б)
Piano II Сумма транспозиций I серии «в» по Pes Сумма пермутаций R серии «д» по Rg Серия «и» в форме Ь) Серия «а» в форме а Сумма транспозиций R серии «в» по Rh Сумма пермутаций Р серии «д» по Rig Серия «и» в форме d) Серия «а» в форме у
* То есть первые тоны этих транспозиций образуют «сверхсерию», соот-
ветствующую les.
12 Подробный разбор этого сочинения содержится в статье Д. Лигети (168). Ма-
териал этой статьи частично приводится также в книге Ц. Когоутека (52, 162-175).
В дальнейшем изложении будут включены некоторые схемы из названных источ-
ников без специальных оговорок.
115
Однако прежде чем приступать к воплощению этой композицион-
ной модели в виде нотного текста, Булез создает еще одну модель — син-
таксическую, представляющую уже более детальную схему, временную
развертку всей музыкальной ткани произведения. Эта схема фиксирует
пульс фактурных сгущений и разрежений, масштабные соотношения
структур синтаксического уровня. В ней указаны также все темповые
сдвиги, отмечены цезуры между разделами (см. схему на с. 118-119).
Именно эта синтаксическая модель и может уже, по существу, счи-
таться вариантом текста произведения. Сравнение ее с окончательным
нотным текстом показывает, что на заключительном этапе своей работы
Булез занимался фактически простым переводом данной схемы на язык
традиционной нотации. Новым качеством нотного текста являются лишь
выставленные в нем обозначения тактового размера, значение которых
чисто условно. Данные обозначения, адресованные исполнителям, при-
званы лишь облегчить последним взаимную координацию.
В качестве иллюстрации приведем начальный фрагмент нотного
текста, соответствующий первой секции синтаксической модели (часть
А, раздел I):
Piano I
Piano II
П. Булез. «Структуры». I а
116
Следующий пример демонстрирует, как композитором сочиняется
уже само звучание, причем сочиняется по тому же принципу, что и все
произведение в целом, — через построение предварительной модели
(«фонической»). Эта модель также имеет сугубо абстрактный характер,
фиксируется в виде графика или схемы и в дальнейшем «проверяется» на
соответствие предполагаемому автором результату и при необходимости
корректируется.
Отрывок из партитуры Я. Ксенакиса «Питопракта» и соответствую-
щая ему фоническая модель показывают, что предварительный расчет
определил густоту и пространственные координаты «звуковой полосы»
(термин автора), быстроту и траекторию движения ее частиц (звучаний
отдельных инструментов). График, проецирующий эти данные на звуко-
вую шкалу струнной группы симфонического оркестра, был впослед-
ствии переведен в обычную партитурную запись (см. схемы и пример на
с. 120-122).
Внимательное сопоставление фонической модели и нотного текста
позволяет заметить, что написание последнего не было для Ксенакиса
автоматической работой. В ряде инструментальных партий им сделаны
некоторые исправления, разумеется, не рассчитанные на специальное
привлечение к себе слушательского внимания, но, по-видимому, введен-
ные после прослушивания варианта музыки, в точности воплотившего
структуру фонической модели и в художественном отношении не вполне
удовлетворившего автора.
117
Часть A c
Раздел I Ila lib He
Tres тос!ёгё Мос1ёгё presque vif
Piano I P,; RIi2; ffff; C\ © P7;RItl;mf © P3; RI9; mf; > й 8 sfz A @[U P10; Rliokfffi. © ш P12; RI3; rtf; норм.
Piano II ® tu I!; R5; quasi p; норм. ® I2;R8;ppp;i I3; R«; ppp; 5 корм. 11 ® 3 I4; R4; quasi f ; . ® l12l I5; R3; quasi f ;
Piano I I Часть В M n
Раздел VI VII VIII IX
Lent Modern presque vif Тгёз шос!ёгё Моёёгё presque vif
® 6 RI5;Il2;ppp; О ® 1 Ri«;iii;pp; > ® I12 RI4;Il0 ;pppp; ® ® RI6;I9;mp; ®0 f; » RI2 j I7 j mf j /ТЛ CT> ^>1 I A L_J cn A> ©6 • * in C£> (—t » 2 I *— ►—4 1 pt: pt;
Piano II kJG 0G © g; in 00 Рм Ph p? £ © 2 RioiP^pppp;? ® Ш R9;Pe;f; ? R8; Рц;тр;(О| ® И R7;P2;ppp;^ ® и RfiiPsiPPP; > ® 1 R5 ; P12;mp; >
118
I
III IVa IVb V
Lent Мо<1ёгё presque vif Tr£s mod6r6
(5) P9; RI6 ; quasi p P2; Rif; quasi p ® C Pn; RI7; fff; hoj 8 3 0 рм. (n) |11 P6; RI2; fff; - ©□ P4;RI8;mf; > ®и P8;RI4;mf; — ® Ш P5; Rl5; ffff; >
®[nj I6;Re;®; ® Ш ® b I8; Rj; quasi f; ( 2_ ® И I9; R7; quasi f; sfz A ЕРЕ**0! О ex О ex ( CM) СХ(см) CX Z* Ч-X ex O' ex er — О cm О — СЧ
X XI
Lent Tr£s шос!ёгё
®0 RI10;I4;mp; V ©□ RI3;I3; pppp; V ®Ш RI7;I2; pp; > ®LlI RIiJi; ppp ;
R4; P10; f; норм. ® 5 R2; P3; pppp; норм. R7;P7;pp; > ®L1I
119
Результатом окончательного «ретуширования» несомненно, являют-
ся и динамические отношения в партитуре. «Мнимая полидинамика»,
предписывающая всем скрипкам и альтам играть fff, виолончелям — /,
а контрабасам — mf, объясняется стремлением как раз уравнять их звуч-
ность (при способе звукоизвлечения pizz. виолончели и контрабасы в
силу своих акустических особенностей отличаются значительно больши-
ми динамическими возможностями, чем скрипки и альты).
Итак, констатируем, что родственные понятия «композиционная»,
«синтаксическая», «фоническая» модель отвечают теоретическим пред-
ставлениям о трех соответствующих структурных уровнях организации
музыкального произведения. Предварительное конструирование (моде-
120
лирование) единиц текста, вплоть до отдельного звука или звукового
комплекса, наводит на размышление об адекватности восприятия слож-
ноорганизованных фонических и синтаксических структур.
С одной стороны, здесь можно заметить, что само понятие «слож-
ность для восприятия» является исторически подвижным. Можно утвер-
ждать, что ухо современного слушателя приучено к гораздо более диффе-
ренцированному слышанию, чем ухо слушателя прошлого времени.
Постепенно приобретаемый каждым отдельным слушателем музыкаль-
ный опыт также расширяет его способности оценить связи, составляю-
щие сущность структурной организации произведения. По утверждению
121
122
Т. Пасто, «восприятия, обычно не достигающие порога сознания, могут
быть подняты до уровня сознания путем тренировки или путем повыше-
ния чувствительности к данному виду переживаний» (96, 171).
У затронутого вопроса есть, однако, и другая сторона. В некоторых
случаях композитор в процессе своей предварительной работы модели-
рует структуру музыкальной ткани в характеристиках, заведомо превы-
шающих возможности аналитического восприятия. Рассчитанная компо-
зитором структура, иначе говоря, может обладать параметрами, выходя-
щими за пределы пороговых характеристик слухового восприятия и пре-
вышающими его пропускную способность.
Например, фоническая модель, представляющая дискретную струк-
туру, будучи акустически реализованной на синтезаторе, может воспри-
ниматься как тембр (недискретно). Синтаксическая модель, сама по себе
безупречно логичная с математической точки зрения, воплотившись в
сериальном сочинении, становится недоступной для адекватного воспри-
ятия: в слушательской оценке модели не фиксируется как воспринимае-
мая логика организации музыкальной ткани.
Условия, при которых дискретно организованный звуковой сигнал
может восприниматься ухом недискретно, были в свое время подробно
исследованы Б. Тепловым (123). Применительно к музыке этот вопрос
интересовал Теплова как ключ к объяснению двух типов восприятия
созвучий: «гармонического» (основанного на аналитическом выделении
компонентов целого) и «тембрового» (синкретически нерасчлененного).
Граница между гармоническим и тембровым восприятием подвижна и
зависит от многих факторов. В современной музыке момент пересечения
такой границы нередко предстает как своеобразная иллюстрация закона
; перехода количества в новое качество. Фактором музыкального развития
оказывается неуловимо осуществляемая модуляция от гармонического
комплекса к сонорному, от тона к шуму, и обратно.
Сравнение фонической, синтаксической и композиционной моделей
позволяет заключить, что их роль в конечном итоге, то есть в слушатель-
ском идеальном представлении о структуре воспринятого произведения,
существенно различна. Фоническая модель в своем реализованном виде
в большинстве случаев не достигает уровня слушательского сознания,
однако это не дает оснований говорить о ее «невоспринимаемости».
Изменения в фонической модели будут тут же отмечены слушателем как
изменение качества звучания. Принцип Klangfarbenmelodie в электрон-
123
ной музыке представляет именно цепь количественных изменений в фо-
нической модели, воспринимаемых слушателем как непрерывное тем-
бровое (качественное) обновление.
Восприятие логики синтаксической модели, положенной в основу
организации музыкальной ткани, как уже отмечалось, во многом зависит
от тренированности слушателя и от направленности его восприятия.
Синтаксическая модель вполне может обеспечить аналитическое вос-
приятие структуры музыкальной ткани (что и предполагается в отноше-
нии «слушателя-эксперта»), но она может и оставить эту структуру на
уровне бессознательного восприятия. Например, в додекафонных сочи-
нениях нередко встречаются места, в которых присутствие серии, данной
в особо сложных, зашифрованных формах изложения, ощущается лишь
интуитивно.
И наконец, композиционная модель по своему предназначению дол-
жна стать фундаментом формы-композиции, ее реально ощущаемой (хо-
тя и не обязательно во всех деталях) основой. Соотношение понятий
«композиционная модель» и «форма-композиция» способно предстать в
разных вариантах. Как правило, на стадии реализации этой модели ком-
позиторы избегают существенных отклонений от заданных ею значений.
Тем не менее в одних случаях форма-композиция почти отождествляется
в своей логической основе с композиционной моделью, а в других значи-
тельно с нею расходится. Можно, таким образом, описать две следующие
типичные ситуации.
1. Композитор стремится донести до слушателя основную структур-
ную идею, заключенную в композиционной модели. С этой целью
он прибегает к средствам, имеющим соответствующую коммуни-
кативную направленность, акцентирующим особо существенные
элементы структуры, подчеркивающим наиболее ее важные грани
и т. п.
Весьма условно эту ситуацию можно выразить в виде такой фор-
мулы: композиционная модель + коммуникативная структура =
форма-композиция.
2. Композиционная модель соблюдается как принятое условие пись-
ма, однако уходит в «подтекст» и перекрывается формой-компози-
цией, имеющей самостоятельную логическую основу. Вспоминает-
ся известная в музыкальной теории «форма второго плана», одна-
ко в данном случае форма-композиция хотя и производна от ком-
124
позиционной модели (и в этом смысле относится ко второму пла-
ну) — в реальном восприятии музыки, безусловно, главенствует13.
Ясно представляя всю сложность и многоаспектность проблемы,
вынесенной в название этой главы, я, разумеется, не имею намерения све-
сти ее к одному лишь феномену композиционной модели. Однако
последний, безусловно, можно расценивать как квинтэссенцию анали-
тизма, проявляющегося в области современной музыкальной компози-
ции. Рассматривая этот феномен, мы получаем возможность объективно
судить о методе композитора, оценивать соотношение сознательного и
бессознательного в творческом процессе.
Уже в самом понятии «композиция», можно сказать, засвидетель-
ствован приоритет логоса: ведь компонирование — это процесс структу-
рирования текста, в основе своей выведенный на уровень сознания.
С этой точки зрения «синтаксис» — область преимущественного дей-
ствия грамматических моделей, ранее усвоенных как языковая норма и
не требующих поэтому специальной фиксации на них сознания. Фониче-
ский же уровень музыки — исконная область интуитивного. Это основ-
ное поле деятельности исполнителя, манипулирующего звуком, исходя
из «непосредственности» своих эмоциональных ощущений.
Все эти обобщения, однако, справедливы лишь по отношению к
«классическому» искусству. И именно в музыке XX века мы наблюдаем
явные отступления от привычного. В связи с синтаксисом, в частности,
приходится говорить о грамматической системе порождения для каждо-
го текста или группы текстов одного автора. Язык не задан заранее как
система, в рамках которой создается (компонируется) новый художе-
ственный текст, но сам всякий раз выстраивается заново14.
13 Можно указать примеры, где композиционная модель столь тщательно
замаскирована в тексте, что слушатель даже не подозревает о ее существовании.
Сошлемся на Фортепианный квартет В. Екимовского. Додекафонная основа пред-
варительно рассчитанной структуры воплощена здесь абсолютно последовательно,
но при этом характер музыки и ее архитектоника весьма далеки от привычных слу-
шательских представлений о додекафонии.
14 Вот характерное в данном отношении признание, сделанное Д. Лигети: «Я
позволю себе сказать: мне не интересно делать то, что уже было. Если поставлен
новый эксперимент и получен результат, то не стоит повторять этот эксперимент.
Иначе мы уподобимся школьнику, который дома проделывает школьные химиче-
ские опыты, а это просто ремесленничество» (63, 154).
125
История музыки демонстрирует определенную преемственность и в
отношении к звуку как к таковому Звук как природная данность сменил-
ся «окультуренным» звуком как предметом ремесла, а затем предстал и
как продукт «второй природы» — сочиненный звук. В этом смысле в
одном ряду оказываются такие понятия, как оркестровка, регистровка
(органная), электронный синтез звука15. Объединяющий их признак —
проникновение композиторского сознания в микромир звука, «управле-
ние сонорностью» в соответствии с художественным замыслом.
Предлагая понятия «композиционная», «синтаксическая» и «фони-
ческая» модель, мы конкретизируем задачу музыковедческого исследо-
вания проблемы аналитизма, рассматривая ее на трех масштабных уров-
нях организации музыки. Мы получаем, таким образом, возможность
оценить аналитизм и как набирающую силу тенденцию, и как пик вопло-
щения определенного принципа мышления, и как последующую «инер-
цию восприятия», на сохраняющемся фоне которой заявляют о себе уже
иные принципы.
Целесообразность привлечения в аппарат музыкознания названных
понятий будет подтверждена серией аналитических этюдов, предложен-
ных в следующей главе.
15 Несомненно, что электронный синтез звука зиждется на аналитических
операциях. Это не только эмпирически производимый по критериям художествен-
ности отбор звукового материала, но и исследование этого материала в процессе
его поиска. «Анализ через синтез» (выражение А. Володина), осуществляемый
посредством электронного синтезатора, — сфера интересов нс только ученого. Он
имеет большое практическое значение и для композитора: из отдельных находок и
наблюдений постепенно формируется новый арсенал музыкально-языковых
средств электронной музыки.
Глава 7
Композиционная модель
в современной музыкально-творческой практике
Музыкальные произведения, рассматриваемые в данной главе, объе-
диняет их прямая или косвенная связь с Методом. В точном ли следова-
нии ему, в неожиданном ли его преломлении или даже в сознательной
попытке его отрицать проявляются разные стороны аналитизма, обсуж-
дать которые представляется удобным при помощи понятия «компози-
ционная модель».
«Мы идем в одном направлении!» — с удивлением воскликнул
Веберн, познакомившись с партитурой фуги из «Музыки для струнных,
ударных и челесты» Бартока. Действительно, очень интересна эта парал-
лель, свидетельствующая об объективно складывающейся в XX веке ори-
ентации композиторского творчества. После достаточно подробного рас-
смотрения названного сочинения Бартока мы обратимся и к самому
Веберну, дабы узреть Метод в наиболее строгой форме его воплощения.
Музыкальный структурализм, как известно, проявил себя и в альтер-
нативных Методу формах, одна из которых, рассматриваемая на примере
творчества Ксенакиса, связана с тенденцией математизации творческого
процесса композитора. Другая же форма представлена здесь сочинением
В. Екимовского, демонстрирующим возможности сознательно произво-
димой «трансплантации» модели из одного вида искусства в другой —
идеи, весьма активно развиваемой современным искусством.
Бела Барток.
Фуга из «Музыки для струнных, ударных и челесты»
Стиль Бартока являет собой удивительный сплав неподдельной поч-
венности языка, живой искренней интонации — с предельно рациональ-
ным, «структуралистским» в лучшем смысле этого слова мышлением.
Отшлифованность композиционной структуры поражает на всех уров-
127
нях организации музыки Бартока. Несомненно, что это свойство — ре-
зультат направленной и сознательной работы композитора.
На примере выбранного сочинения можно продемонстрировать пер-
вый из вышеприведенных типов композиционных моделей. Данная ком-
позиционная модель сравнительно легко обнаруживает себя в процессе
обычного анализа нотного текста. Необыкновенная стройность модели и
последовательность ее воплощения решительно во всех деталях не оста-
вляют сомнения в том, что это и есть тот самый архитектонический план,
продуманный и зафиксированный композитором еще до обращения к
полной нотной записи сочинения.
В том, что подобный метод творческой работы действительно был
присущ Бартоку, можно убедиться, обратившись к другим крупным его
сочинениям. К. Мейсон, например, анализируя Четвертый квартет, выска-
зал предположение, что «Барток на одной из самых ранних стадий возник-
новения замысла произведения (курсив мой. — Л.С.) задумал тотально сим-
метричную тональную структуру, основанную на отношении тритона и
октавы» (142,30).
Симметрия, положенная в основу формы и ладотональной организа-
ции, — важнейший принцип в музыке Бартока. Этот принцип может быть
воплощен в самых различных вариантах. Мы находим его и в основе ком-
позиции анализируемой фуги.
Вопрос о форме данного сочинения заслуживает специального рас-
смотрения. «Фуга» означает здесь прежде всего технику письма (произ-
ведение «пишется фугой»), в силу ряда причин возымевшую совершенно
особый выразительный смысл. Форма же целого есть нечто, проистекаю-
щее из принципов фуги и принципа тотальной симметрии, но даже и в
основе своей не сводимое единственно к ним. Причем форма эта чрезвы-
чайно явственна для восприятия слушателя, оставляет ощущение
необыкновенной цельности и завершенности процесса развития. Пожа-
луй, это именно тот случай, когда «эмоция формы» (Выготский) выдви-
гается в общем художественном впечатлении на первый план.
Исходя из этого, изложим свои наблюдения в следующем порядке:
вначале будет описана композиционная модель произведения, затем —
проведен обычный, «традиционный», анализ его формы, после чего будут
сопоставлены все замеченные закономерности и выявлено как соответ-
ствие, так и расхождение между композиционной моделью и формой-
композицией.
128
Итак, в основе композиционной модели, как уже отмечалось, лежит
столь существенная для Бартока идея тотальной симметрии. При этом
характерный принцип фуги — поочередное проведение темы различны-
ми голосами — выражен также вполне последовательно, хотя и необычно.
Сразу же за начальным проведением темы от звука а все последую-
щие проведения выстраиваются в два квинтовых ряда, удаляющихся от а
в разные стороны. Одновременно достигнув отстоящего на тритон звука
es, эти ряды, продолжая свое движение, замыкают квинтовый круг и
вновь возвращаются к исходному а:
Звук es естественно выделяется как ось симметрии уже благодаря
одновременности его достижения в обоих рядах, представляя собой
единственный «унисон» в их взаимном движении (помимо начала и
конца фуги).
Несколько менее очевидным (в силу энгармонической подмены зву-
ков) является эффект возвратного движения от es к исходному центру а.
Однако Барток усиливает его, прибегая к дополнительному средству:
после достижения es тема фуги излагается в инверсии, — идея «зеркала»,
таким образом, как бы подсказана слушателю1.
Как видим, данная композиционная модель определяет в первую
очередь особенности ладогармонической структуры произведения. Она
1 Забегая вперед, заметим, что этот прием при слуховом восприятии музыки
действительно оказывается чрезвычайно эффективным, вызывая впечатление на-
чавшегося движения вспять. Любопытно, что, преследуя аналогичную цель, П. Хин-
демит в фуге in F из «Ludus tonalis» воспользовался, казалось бы, еще более ради-
кальным средством — введением точного ракохода, причем не только темы, но и все-
го сопровождавшего ее материала. Художественный эффект, однако, оказался куда
менее убедительным: хорошо видимое в потном тексте едва угадывается на слух.
129
выдвигает на первый план тритон а - es, представленный в виде системы
полюсов музыкального развития. Помимо этих полюсов ни один высот-
ный уровень проведения темы не имеет преимущественного положения
перед другим. Таким образом, композиционная модель фактически
исключает саму возможность экспозиционного показа и рспризного воз-
вращения главной тональности, выявления классических ладофункцио-
нальных отношений. А тем самым она, естественно, определяет и ряд осо-
бенностей формы всего сочинения.
Симметричная структура композиционной модели определяет и сам
характер процессуальное™, вырастающей на ее основе музыкальной
формы, подчиненной логике замкнутой волны нарастания и спада.
Таким образом, условный «профиль» формы, который можно преду-
гадать, исходя только лишь из особенностей композиционной модели, по
своим очертаниям должен был бы представлять некий равнобедренный
треугольник:
Однако, как мы помним, вторым краеугольным камнем формы здесь
является принцип фуги, также заранее принятый композитором как ком-
плекс достаточно жестких условий письма. И этот принцип не во всем
согласуется с принципом тотальной симметрии.
Если левая часть «треугольника» (фаза нарастания) отвечает есте-
ственному свойству фугированных форм — постепенному фактурному
уплотнению как следствию поэтапного подключения новых голосов, то
правая его часть (фаза спада) нс может осуществляться обратным прие-
мом выключения голосов, не свойственным фуге. Осуществление спада
потребует качественно иных средств выражения экстенсивного процесса.
Уже в этом заключена неизбежность внесения асимметрии при реализа-
ции композиционной модели.
Анализ формы фуги начнем с попытки словесно выразить некото-
рые стороны производимого ею художественного впечатления. Пожалуй,
наиболее поражает при прослушивании этой музыки сочетание «корот-
кого дыхания* в самой теме фуги и кажущегося бесконечным и бесцезур-
130
ным «континуума» в развитии всей музыкальной ткани в целом. Одно
парадоксально не противоречит другому.
Ощущение формы фуги — это ощущение движения, постепенно за-
хватывающего всё большее пространство, ощущение уплотняющейся
звуковой материи, напряжения, нарастающего до критической точки,
после которой все эти процессы обращаются вспять.
Названные особенности, можно сказать, были «запрограммированы»
в структуре композиционной модели. Но есть и принципиальное отступ-
ление музыки от этой «Программы». Кульминационная точка развития не
является здесь вершиной равнобедренного треугольника — она представ-
ляет тщательно выверенную точку золотого сечения всей формы фуги:
Такого смещения центра идеально симметричная композиционная
модель не предполагала. Разумеется, нет нужды обосновывать привнесе-
ние Бартоком пропорции золотого сечения в форму фуги. Интересно,
какими именно средствами была им деформирована в нужном направле-
нии композиционная модель.
Важно отметить, что характер восприятия архитектонического кар-
каса, заключающегося в установлении порядка проведенной темы, не
остается на протяжении всей фуги неизменным. Будучи подчеркнуто
очевидным в начальной части фуги, этот каркас как бы «уходит под воду»
по мере приближения к кульминации и вновь «всплывает» при после-
дующем удалении от нее.
В центральной части фуги уже простое прослеживание квинтовых
рядов, столь очевидных в начале, становится возможным только при
тщательном визуальном анализе текста. Постепенно теряясь по воле
автора из вида, композиционная модель фактически продолжает реали-
зоваться со всей последовательностью, что рождает у слушателя тревож-
ное ощущение потери контроля над событиями, с железной неотвратимо-
стью стремящимися к своей кульминации. Достижению полюса es пред-
шествует ощущение все более убыстряющегося пульса движения и с уси-
лием преодолеваемого последнего барьера.
131
Другой неожиданный эффект заключается в совершенно явном ощу-
щении трехчастности строения формы фуги. Полюс es оказывается точ-
кой золотого сечения не только всей фуги в целом, но и ясно вычленен-
ного центрального ее раздела, в пределах которого и происходит описан-
ное выше изменение характера слушательского восприятия. Такая трех-
частность также никак не предполагалась структурой композиционной
модели.
Для дальнейшего разбора отмеченных особенностей приведем пол-
ную схему формы фуги:
132
Структура всей формы в целом самым непосредственным образом
связана со структурой темы фуги. Упомянутое «короткое дыхание» вну-
три темы выражается в ясной расчлененности ее на четыре сегмента:
11. Б. Барток. «Музыка для струнных, ударных и челесты»
1 2
Эти сегменты очень близки интонационно, в силу чего тема отлича-
ется цельностью экспрессивной характеристики, вызывает у слушателя
впечатление тревоги, внутренней напряженности. Обращает на себя вни-
мание присутствие в теме оборотов, близких ВАСН и DEsCH, связанных,
как известно, в слушательском представлении с вполне определенной
семантикой.
В то же время эти сегменты наделены и своими собственными оттен-
ками выразительности, напоминают речевые интонации. Интонационная
характерность сегментов помимо мелодической стороны в немалой сте-
пени обеспечивается также и стороной ритмической (достаточно срав-
нить два последних сегмента темы, в звуко-высотно-интервальном отно-
шении совершенно аналогичных, но явно не тождественных интонацион-
но, благодаря различной их ритмизации).
Интересно, что во внутренней структуре темы, как в зародыше,
отражена главная структурная идея всей фуги: во втором сегменте опор-
ными мелодическими звуками являются всё те же а и es, причем es ока-
зывается обращенной точкой золотого сечения внутри всей темы как по
количеству использованных в ней звуков, так и по собственно временно-
му параметру.
Особая роль второго сегмента темы недвусмысленно подтверждена
и в самом конце фуги, где он дан в качестве последнего резюме, концен-
трированно выражая лежащую в основе фуги идею симметрии, заклю-
ченной между двумя звуковысотными полюсами:
133
Расчлененность темы на сегменты теснейшим образом связана с осо-
бенностями формообразования в фуге. Во-первых, именно это качество
темы помогает ей повсюду оставаться «рельефом» в слушательском вос-
приятии. Сопровождающие тему голоса в интонационном плане макси-
мально к ней приближены2. Этим достигается отмеченное выше ощуще-
ние монолитности, континуальности всего звукового потока. Сопровож-
дающие голоса вследствие подчеркнутой их бесцезурности неизменно ос-
таются в роли «фона» и тем самым выдвигают на первый план, делают осо-
бенно заметным «короткое дыхание» главного голоса, излагающего тему.
Сегментация темы интересно использована Бартоком для «управле-
ния скоростью» звукового потока, регулирования его внутренней динами-
ки. При приближении к кульминации ощущение ускоряющегося пульса
развития достигается оригинальным приемом, отличным от обычного для
фуги сжатия темы до начального ее ядра. Этот прием можно назвать выра-
жением принципа репрезентативности: каждый из четырех сегментов
наделяется правом замещать тему, появляясь вместо нее на соответствую-
щем и определенном композиционной моделью высотном уровне.
Введением этого приема (такт 34) отмечено начало средней фазы
развития, принаком которой, как уже отмечалось, является качественно
иной характер восприятия. При сохраняющемся ощущении инерции
прежнего движения, получившего лишь заметное ускорение, слежение за
темой становится уже весьма затруднительным.
Характер дальнейшего развития можно, пожалуй, условно назвать
«агогикой формы»; думается, здесь вполне уместна аналогия с типичны-
ми приемами выделения кульминации собственно агогическими сред-
ствами. Длительный подход к кульминации, сопровождающийся посте-
2 Вариантная основа всего тематического развития в фуге продемонстрирова-
на в статье М. Тараканова «Вариантное развитие в “Музыке для струнных, удар-
ных и челесты” Б. Бартока» (118).
134
пенным темповым accelerando, в самой последней своей фазе обычно
бывает отмечен внезапным введением глубокого ritardando: вал нараста-
ния как бы из последних сил преодолевает барьер кульминации.
Сходное ощущение возникает и в данном случае. После нескольких ша-
гов по квинтовым рядам, сделанных в ускоренном темпе, последний шаг к
кульминационному es занимает целых 18 тактов. Резко «осаженный»
темп движения3 вызывает необыкновенно напряженное чувство ожида-
ния, усиливает значимость достигаемого в данный момент полюса es.
На данном участке формы действуют также и другие средства нагне-
тания — как традиционные, так и оригинальные. К первым можно отне-
сти приемы фактурного развития. У слушателя возникает ощущение
прямо-таки физически осязаемой «пружины», с невероятной силой сжи-
маемой неуклонно поднимающимися по хроматике фразами басового
голоса и «зацепившимся» за многократно повторяемую интонацию верх-
ним голосом (такты 45-53). Экстатически обостренной становится и
интонационная сторона во всех голосах фактуры. Большую роль берут на
себя очевидные для слуха средства оркестровки (тремоло тарелки и
литавр) и громкостной динамики (общее crescendo).
Оригинальным же средством нагнетания можно посчитать своеоб-
разный «подъем» к кульминации, заключающийся в том, что уровень es
фактически оказывается почти завоеванным еще в 38-м такте. В нижнем
голосе вполне ясно прослушивается вся тема на уровне es, которая, пов-
торяя каждый свой сегмент, как бы с усилием пытается оторваться от
удерживающегося ее органного пункта Ь:
3 Уточним, что здесь имеется в виду темп продвижения по квинтовым рядам,
а не темп в обычном значении этого слова как музыкального термина.
135
Следом за нижним голосом попытку утвердить тему на уровне es
предпринимает и верхний голос (такт 45). Этот последний «штурм» и
приводит наконец к генеральной кульминации в 56-м такте, отмеченной
рождением нового качества — появлением темы в инверсии.
Достигнувшая своей вершины волна быстро откатывается обратно.
Это проявляется в новом ускоренном движении по квинтовым рядам.
В нижнем голосе уровни es, as и des представлены соответственно пер-
вым, вторым и четвертым сегментами темы. В верхнем же голосе сжатие
и вовсе достигает своего предела: квинтовый ряд на участке es - b - f дан
в обнаженном виде, — тема репрезентирована одним нервно пульсирую-
щим звуком:
Три следующих шага по квинтовым рядам делаются уже во все более
замедляющемся темпе. Стреттное проведение сегментов темы сменяется
стреттами тем в их полном виде. Заключительное смыкание рядов в
полюсе а происходит в тихой коде (такт 78). Оба варианта темы — пря-
мой и обращенный — одновременно звучат на фоне призрачных тремоло
струнных и в мягкой «подсветке» струящихся пассажей впервые исполь-
зованной челесты. Зеркальные блики темы завершают круг, растворяясь
в последнем а.
Проведенный анализ выявил моменты как соответствия, так и рас-
хождения между композиционной моделью и формой-композицией про-
136
изведения. Композиционной моделью оказалась определена прежде
всего направленность процессов формообразования, ее дуалистическая
основа: два полюса, два квинтовых ряда, две формы изложения темы, два
антифонно противопоставленных исполнительских состава.
В полной мере реализованной оказалась и заложенная в компози-
ционной модели идея замкнутой волны. Принцип динамической волны в
форме фуги может быть признан одним из важнейших. Структурой ком-
позиционной модели определены особенности огранизации музыкаль-
ной ткани. Отказавшись от возможности использования традиционных
ладогармонических средств, Барток взамен нашел здесь способ организа-
ции, весьма близкий к серийному. В описанном выше принципе репре-
зентативности нетрудно усмотреть прямое сходство с сегментной додека-
фонией. Родство с серийным методом заключается и в принципиальной
неизменности интервальной структуры темы.
Среди сторон, не вытекающих непосредственно из композиционной
модели, следует в первую очередь назвать ритм музыкальной формы,
выраженный в меняющейся интенсивности процессов развития. «Цент-
ровка» формы в пропорциях золотого сечения также есть качество, не
предопределенное особенностями композиционной модели.
Своеобразие формы проанализированного сочинения определено,
как уже отмечалось, пересечением логики композиционной модели и
логики фуги. Именно с последней связана четко выявленная трехчаст-
ность строения формы. Основные предпосылки для возникновения трех-
частности вполне традиционны для фуги. Это: 1) ясная отчлененность
экспозиционного раздела, в котором выполнено важное правило полифо-
нии — каждый вступающий с темой голос является крайним по регистро-
вому положению; 2) использование интермедийного материала для
выделения важных граней формы; 3) применение новых приемов разви-
тия (стретты, дробление темы) в среднем разделе формы.
Трехчастность в форме-композиции подчеркнута и некоторыми
дополнительными средствами. Следует отметить темповый сдвиг от
?= 116-120 до ? = 120-126 в зоне достижения кульминации. Немало-
важное формообразующее значение имеют и некоторые детали инстру-
ментовки (введение литавр в такте 34, литавр и тарелки в тактах 51-56,
челесты в такте 78).
Сравнительный анализ композиционной модели и формы-компози-
ции данного сочинения позволяет достаточно ясно увидеть следы движе-
137
ния творческой мысли композитора. Обобщенной художественной идеей,
импульсом творческого процесса явился для Бартока интуитивно пред-
чувствуемый звуковой поток, «континуум», представляющий особый
род полифонии с «внешностью фуги». На стадии сознательного структу-
рирования эта идея породила строго логичную композиционную модель.
И наконец, работа над текстом привела к рождению конкретного
феномена, сочинения, обладающего высокой внутренней гармонией и в
полной мере представляющего собой художественное открытие.
Особенно же интересным для нас этот пример является и потому, что
в его композиции наряду с чертами несомненно оригинальными вполне
очевидны и черты типические. Здесь хорошо видно приближение компо-
зитора к творческой системе, получающей в XX веке особое художе-
ственное значение и широкое распространение, — системе, суть которой
удачно передал А. Шнитке, характеризуя творческий метод И. Стравин-
ского: «Стравинский впервые достиг той смысловой конкретности тех-
ники, которая приводила к точному решению поставленной задачи.
Отныне для каждого произведения устанавливаются свои “правила ком-
позиции”, обусловленные не отвлеченной интеллектуальной дисципли-
ной школы, а конкретной образной необходимостью» (151,227).
Барток остался на рубеже этой системы, но тем самым и особенно
ясно высветил эстетические мотивы ее утверждения, связь ее с традици-
ей классико-романтического искусства.
Родство с серийным методом было подчеркнуто при анализе фуги
Бартока не случайно. Именно с развитием додекафонии как качественно
новой системы музыкальной организации тесно связано утверждение в
композиторской практике метода работы, в котором построению компо-
зиционной модели придается большое и принципиальное значение.
Следует, разумеется, иметь в виду, как это подчеркивал еще сам
Шёнберг, что додекафония лишь намечает некоторые основы музыкаль-
ной организации, предоставляя композитору широкий выбор конкрет-
ных приемов развития материала. Додекафония также может быть
использована и лишь как один из принципов структурной организации
произведения, входя во взаимодействие с иными принципами, свой-
ственными классической музыке, фольклору и т. п.
Нам, однако, более целесообразно в первую очередь исследовать
закономерности творческого процесса, обнаруживающие себя в сфере
строгой, ортодоксальной додекафонии, что в дальнейшем позволит более
138
четко представлять их значение и в иных — стилистически неоднородных —
явлениях.
Основной смысл утверждения додекафонии, как известно, заключа-
ется в попытке противопоставить базирующейся на «эстетике избегания
или эмансипации от всех действовавших до сих пор музыкальных зако-
нов» (52, 104) свободной атональности систему, основанную на позитив-
ном и в то же время качественно новом принципе.
Под серийной техникой стала прежде всего подразумеваться особо-
го рода звуковысотная организация произведения. Причем серия, пред-
ставляющая собой в общепринятом смысле «ряд звуков, из которого
путем его повторения выводится вся высотная ткань произведения» (52,
107), по сути своей есть не что иное, как заранее придуманная модель, на
основе которой композитор в дальнейшем строит всю музыкальную
ткань произведения.
Приведем здесь примечательное суждение Л. Дьячковой: «...серия
лишь предкомпозиционный ряд звуков и вне контекста не выявляет осо-
бенностей интонационного материала» (40, 71). Эта справедливая в
принципе мысль, думается, требует некоторого уточнения. Серию не
вполне верно именовать предкомпозиционным рядом произведения,
поскольку ее организующая роль относится к синтаксическому уровню
музыки. Серия — это, скорее, «предтема», «предгармония», «предфакту-
ра» произведения. «Предкомпозицией» же является построенный авто-
ром детальный план серийных преобразований. Именно его с достаточ-
ным основанием можно назвать композиционной моделью додекафон-
ного сочинения.
Построению такого плана предшествует тщательное изучение воз-
можностей серии, сравнение ее различных форм, проверка эффектов пер-
мутации, интерполяции, ротации и т. п. Этот важнейший и самостоятель-
ный этап работы и даст композитору тот материал (Vorform), на который
будет опираться вся архитектоника сочинения.
В додекафонной музыке мы обнаруживаем композиционные моде-
ли, представляющие собой точную запись всей звуковысотной структуры
произведения без фиксации любых других его сторон. Соответственно и
анализ додекафонного сочинения также распадается на два этапа: установ-
ление серийного порядка звуков и собственно анализ формы-компози-
ции. Таким образом, если при анализе композиционной модели объектом
рассмотрения оказывается только звуковысотная структура произведе-
139
ния, то при анализе формы-композиции ставится вопрос о связи этой
структуры со всем комплексом невысотных музыкальных средств.
Весьма существенным является и вопрос о значении классических
композиционных схем в рамках серийной музыки. Известно, что компо-
зиторы Нововенской школы отнюдь не считали классические формы
исчерпавшими себя. В произведениях Шёнберга, Берга, Веберна бывают
отчетливо выражены признаки таких форм, как простые и сложные двух-,
трехчастные, вариации, рондо, сонатная форма и т. п.
Налицо, однако, коренное переосмысление самой сути этих класси-
ческих форм, в «жилах» которых течет теперь совсем иная, неклассиче-
ская, «кровь». Существо явления следует и здесь искать на перекрестке
традиции и беспрецедентности.
Хорошим примером для демонстрации названных и прочих законо-
мерностей может послужить, в принципе, любое серийное сочинение
Веберна. У этого композитора чрезвычайно явственно выражена по-
стоянная нацеленность сознания на художественную форму4. У Веберна,
по выражению Г. Эймерта, «не чувство облекается в форму, а форма
порождает чувство» (177,39).
Большой интерес представляет сам характер творческого процесса
Веберна. В нем отчетливо видны следующие этапы:
1. Интонационное предощущение материала5.
2. Сочинение серии и подготовка материала (Vbrformung)6.
3. Компоновка материала при работе за роялем7.
4. Полная звуковая реализация (инструментовка).
4 Проблема структурной организации музыки — по существу, единственная
тема веберновских «Лекций по эстетике» (24).
5 Сам Веберн в письме к Бергу так выразил существо этого начального этапа,
творчества: «...Скажи, как ты сочиняешь? У меня дело обстоит так: я до тех пор
ношу в себе какое-нибудь переживание, пока оно не становится музыкой — музы-
кой, совершенно определенным образом связанной с этим переживанием. Иногда
вплоть до деталей. Причем переживание становится музыкой не один раз» (24,87).
6 В частности, из примечаний Польнауэра узнаем, что «в последней записной
книжке Веберна на с. 35 под датой 26.1.1944 значится: Концерт. 1ч. — соната; 2 ч.—
адажио; 3 ч. — рондо. К этой заметке примыкают наброски, занимающие целую
страницу и содержащие ряд, сто обращение, структурные таблицы и тематические
прообразы» (24, 126).
7 Свидетельство об этом — в публикации 180, 405.
140
В этой последовательности действий лишь на первый взгляд нет ни-
чего необычного. Нужно ясно представлять, что скрывается за двумя по-
следними этапами работы Веберна. Не странно ли, например, уже то об-
стоятельство, что композитор, создающий оркестровую музыку, в прин-
ципе не переводимую в клавирное переложение, сочиняет ее за роялем?
Что в таком случае представляет для него понятие «инструментовка»?
Чтобы подойти к ответу на эти вопросы, обратимся сперва к сочине-
нию, стоящему особняком в наследии Веберна и представляющему свое-
образный ключ к его творческому методу.
Бах — Веберн.
Фуга-ричерката № 2 из «Музыкального приношения»
В 1935 году Веберн осуществил переложение для оркестра баховско-
го шестиголосного Ричеркара из «Музыкального приношения». Впро-
чем, слово «переложение» весьма мало подходит к данному случаю.
Веберн поставил перед собой, казалось бы, парадоксальную задачу: не
изменив ни ноты в баховском оригинале, выразить в этой музыке суще-
ство своего собственного мышления. Данное сочинение, написанное в
один год с кантатой «Das Augenlicht», является как бы результатом осмы-
сления возможностей уже вполне определившейся и использованной
Веберном в ряде сочинений техники сегментной додекафонии. Музыка,
которую мы слушаем, — это имено Бах — Веберн, это диалог двух эпох,
двух художественных систем.
Собственно говоря, идея такого рода не столь уж одинока в контек-
сте художественной культуры XX века. Вспомним хотя бы следующие
слова Пабло Пикассо: «Что такое, в сущности, художник? — Коллекцио-
нер, который собирает для себя коллекцию, сам рисуя картины, понра-
вившиеся ему у других. С этого именно начинаю и я, а потом получается
нечто новое» (99,28).
Обращение Веберна именно к данному сочинению Баха далеко не
случайно. «Музыкальное приношение» и «Искусство фуги» — известные
своей загадочностью явления последнего периода баховского творчества.
Их зашифрованность, выраженная и буквально — как, например, способ
записи некоторых канонов с пометкой «Quaerendo invenietis»8, и косвен-
8 «Ищите и обрящете» (лат.).
141
но — как уклонение от определения точного исполнительского состава,
от темповых и динамических указаний, — провоцируют интерпретатора
этих сочинений на активное проявление творческой инициативы9.
Известно также, что Веберн усматривал в творчестве Баха прямые
параллели с собственым методом композиции:
«“Искусство фуги” Иоганна Себастьяна Баха строится на одной-
единственной теме. Чем еще может быть сочинение, как не ответом на
вопрос: что я могу сделать с этими немногими звуками? Это всегда что-
то другое и вместе с тем всегда то же самое. Бах хотел показать, что все
можно извлечь из одной-единственной мысли. В практике в деталях две-
надцатитоновая музыка представляет собой что-то иное, но в целом в ее
основе лежит та же логика. По сути своей “Искусство фуги” — это то же
самое, что пишем мы в двенадцатитоновой системе. У Баха есть семь то-
нов старой гаммы, а здесь основой является хроматическая гамма. На
этой основе и творит теперь композитор» (24, 80).
Условно говоря, Веберн в данном случае воспользовался баховским
текстом как готовой, заданной извне «композиционной моделью» (точно
зафиксированной высотной, а также и ритмической структурой) и как
готовой формой-композицией, то есть сразу же перешел к «четвертому
этапу» своей обычной работы10.
Конечно, в данном случае присутствие двух основных, а не одной
только звуковысотной, сторон баховского текста уже само по себе обеспе-
чивает сохранение ряда важнейших признаков именно баховского стиля.
Однако в распоряжении Веберна оказывается целый комплекс неспеци-
фических музыкальных средств (оркестровка, динамика, агогика, арти-
куляция), позволяющий ему создать своего рода встречный поток, внося-
щий очевидные коррективы в восприятие интонационной наполненно-
сти и логики формообразования Фуги-ричеркаты. Выделим и рассмот-
рим поочередно оба этих вопроса.
9 Хотя рукопись «Музыкального приношения» целиком не сохранилась, авто-
граф входящего в нее шестиголосного Ричеркара до нас дошел.
10 Для большей четкости сравнений условимся баховский оригинальный
текст называть в дальнейшем Ричеркаром, а текст веберновского переложения —
Фугой-ричеркатой. Целесообразно также унифицировать и нумерацию тактов,
ориентируясь по веберновскому варианту с тактовым размером 2/2.
142
Под иной интонационной наполненностью баховского текста следует
понимать очевидное для слуха обнажение и рельефное противопостав-
ление кратких мотивов в каждом полифоническом голосе. В этом смеще-
нии слушательского внимания на уровень микроинтонаций уже заклю-
чается характернейшая особенность веберновского стиля. (В Предисло-
вии к Шести багателям [ 1913] Шёнберг подчеркнул эту особенность поэ-
тической фразой: «Здесь каждый вздох — как роман...».) Веберн вносит в
Фугу-ричеркату иной пульс фактурных событий, вызывает у слушателя
постоянно ощущаемый эффект присутствия большего количества
«участников обсуждения».
Это хорошо чувствуется уже при первом проведении темы, которая
излагается как бы не от одного лица, а сразу становится предметом свое-
образного диалога.
Как здесь, так и в последующих проведениях это достигается ясным
расчленением темы на семь сегментов. Первый из них — ядро темы, ряд
последующих — интонация малой секунды в различных ритмических
вариантах и восходящая квартовая интонация:
15.
И. С. Бах —А. Веберн
Такая сегментация темы имеет в Фуге-ричеркате постоянный харак-
тер и обеспечивается соответствующим использованием различных не-
специфических средств. Средством оркестровки оказывается здесь сле-
дующая неизменная схема тембровых переключений:
IJ JU JUdlJ JU JUJJJIJ.JJJIJ л
а Ь с b " b с
Чередование конкретных тембров строго подчиняется этой схеме, но
нигде в точности не повторяется. Постоянным тембровым приемом во
всех проведениях темы является пиццикато арфы на десятом звуке, что
можно расценивать как интонационный акцент, отмечающий точку золо-
того сечения в теме.
143
Аналогичная схема определяет и использование приемов динамики:
и JIJ JIJjJU JU JIJ J J J и J J JU JI
Постоянный характер имеет и разделение темы на сегменты сред-
ствами артикуляции:
и jij jij' j Ju jTj j jTJ 17j i
Аналогично теме сегментируется и другой полифонический матери-
ал — противосложения и интермедии. Закономерность в действии неспе-
цифических средств заключается в том, что они в данном случае выявля-
ют не голосоведение как совокупность самостоятельных мелодических
линий, а переключение функций внутри каждого из голосов (переход от
темы к противосложению, разделы интермедий и т. п.).
Расчленение на микроинтонации подчеркивает производность мате-
риала интермедий от темы. Отсюда и хорошо ощущаемое повышение
уровня разработанности в сравнении с обычным полифоническим раз-
вертыванием у Баха.
Слежение за голосоведением, таким образом, становится своего рода
иллюзией, результатом непроизвольных слушательских воспоминаний о
собственно баховском тексте. Здесь же важнейшей координатой факту-
ры, «рассекающей» баховское голосоведение, становится веберновская
«диагональ» — глубинная диспозиция звукоэлементов.
Коммуникативная функция неспецифических средств, таким обра-
зом, связана прежде всего с выявлением именно этой глубинной коорди-
наты11.
11 В начальном разделе Фуги-ричсркаты, однако, Веберном использованы и
некоторые приемы, имеющие традиционную коммуникативную направленность:
первое проведение темы целиком поручено медным инструментам, второе — цели-
ком деревянным, третье — медным и деревянным совместно. В этом можно усмо-
треть естественную для экспозиционных разделов формы экономию средств изло-
жения и большую в сравнении с дальнейшим целостность представления материала.
144
Естественный для полифонических форм ритм «сгущений» и «раз-
режений» предстал в условиях данного музыкального языка не столько в
привычном ощущении градаций фактурной плотности, сколько в ощу-
щении постоянно меняющегося «количества событий на единицу време-
ни». Это ритм смен различных психологических микроустановок, подчи-
няющийся вполне определенной логике, суть которой в особой напра-
вленности развития к концу формы.
Именно в заключительной части Фуги-ричеркаты Веберн впервые
реализует крупный план баховского развертывания, отказываясь от
микросегментации материала и используя почти классический тип поли-
мелодической фактуры. Для него это, по существу, — цитата стиля, где
Бах представлен не только как «автор композиционной модели», но как
автор самой музыки, неожиданно получивший в свое распоряжение все
средства симфонического оркестра нашего времени. Последовательная
подготовка такой стилистической модуляции и есть «ток новой крови в
прежних жилах».
Однако этот интонационный процесс уже непосредственно связан и
с особенностями формообразования в анализируемом сочинении. Бахов-
ское обозначение «Ричеркар» позволяет искать объяснение некоторых
необычных деталей формы в известных традициях указанного жанра. В
частности, в ричеркаре нередко используется заимствованный из других
сочинений тематический материал, ему свойственна подчеркнутая ори-
гинальность композиции. Для ричеркара особенно существенным явля-
ется принцип прорастания, в нем часто бывает заметна тенденция к
постепенной активизации контрапунктирующих голосов, выходящих
порой на уровень ведущих (наиболее ярко это проявляется в многотем-
ных ричеркарах).
Все это мы находим и в данном сочинении. Особенно следует под-
черкнуть использование наряду с обычными интермедиями-связками
интермедий, представляющих разработку основного тематического мате-
риала либо привносящих в развитие новые интонационные элементы.
Именно в интермедиях и происходит постепенное изменение пульса
фактурных событий, подготавливается переход от веберновской пуанти-
листики к баховскому развертыванию.
Результатом этой подготовки является последнее проведение темы —
это финальное Maestoso, напоминающее монументальные баховские tutti
из «Высокой мессы» или «Рождественской оратории». Завершая произ-
145
ведение по принципу перемены в послед-
ний раз, Веберн полностью отказывается
от сегментации темы неспецифическими
средствами.
В связи с произведенной Веберном
трансформацией интонационного процес-
са интересно рассмотреть вопрос и о его
интерпретации композиционной струк-
туры баховского Ричеркара.
Наиболее определенными особенно-
стями формы Ричеркара следует при-
знать четкую обособленность экспози-
ционного раздела (парное вступление
первых 4-х голосов и расчленение ин-
термедиями-связками вступлений край-
них 5-го и 6-го голосов) и невыражен-
ность репризной функции разделом, ком-
позиционно сопоставимым с другими
(последнее проведение темы в главной
тональности носит кодовый характер).
Уже в этом нетрудно увидеть пред-
посылку к двухчастности в строении
всего Ричеркара. Однако граница между
частями представлена у Баха достаточно
своеобразно. Сразу же за экспозицией
следует раздел, неоднозначный по своей
композиционной функции: «сдвоенная
интермедия» (И-3 + И-4). То, что это не
одна, а именно две разные интермедии,
несомненно. Суть третьей интермедии в
обычном доведении экспозиционной
части фуги до каденции в тональности
доминанты (Es-dur). Четвертая же
интермедия — свидетельство родства с
многотемным ричеркаром. Она сама
выглядит как экспозиция на новую тему,
импровизационно перетекая вскоре в
О)
со
со
OJ
со
OJ
ю
CD
OJ
ID
CD
CO
CO
IO
O)
OJ
ID
OJ
Ol КИ1 [7ЭЖ Э1Н 4
ь w —1
6 КИ1 70Ж 01H 1
} КИ' rawc Э1Н 4
f □
i _ КИ1 /ЭЖ Э1Н 4
$ —I
( ) ки‘ /эж Э1Н 4
h -1
( ; ки Z9JAIC эти: И
Ef°
1 7 КИ1 7ЭЖ Э1Ш 4
I ; ки! 7ЭЖ Э1Н 4
Ep
ки 7ЭГМС [Э1Н 4
о -1 J 1
ки‘ 70Ж I [эти 4
1 i 00 t -4
t 1 и I- -1 1- -i i
£
Щ
£
OjO
О
E
OjO
О
£
о
£
о
£
о
Е
146
более свободную экспозицию и подводя к проведению главной темы, на-
чало которой дано в основной тональности на уровне V ступени, а конец
оказывается каденционно завершенным в тональности доминанты —
g-moll.
Поскольку и третья интермедия также завершилась в тональности
доминанты (Es-dur), возникает вопрос: где следует считать начавшейся
вторую часть формы? Решить его помогают следующие аргументы:
1. Настоящий разработочный раздел, в пределах которого тема про-
водится в побочных тональностях f-moll, As-dur и h-moll, начина-
ется лишь с пятой интермедии.
2. Имеется очень существенная арка между сдвоенными интерме-
диями И-3 + И-4 и соответствующими им И-8 + И-9. Конкретные
моменты сходства: похожие приемы развития — «намек» на стрет-
тное проведение основной темы в тактах 89 и 165, характерное
подведение к теме, которая в обоих случаях начинается на уровне
V ступени c-moll, заканчиваясь в g-moll: сходная каденционная
отчлененность.
3. Каденция ъ g-moll (103 такт) делит Ричеркар точно пополам.
Таким образом, предпочтительней кажется деление Ричеркара на две
равные части (102,5 + 102,5), где первая часть включает в себя экспозицию
с двумя интермедиями и дополнительным проведением темы (такт 95).
Суть веберновской трактовки формы имеет две основные стороны.
Первая заключается в уже описанном противопоставлении материала сег-
ментированного и данного «крупным планом». Таким образом, в частно-
сти, подчеркнут контраст между третьей интермедией, в которой пластичное
развертывание с опорой па линеарность голосоведения выражено «круп-
ным планом» действия неспецифических средств, и четвертой интермеди-
ей, собственная тематическая весомость которой находится в соответствии
с вновь примененной здесь техникой сегментирования материала.
Вследствие этого в Фуге-ричеркате обнажается противопоставление
разделов тематически концентрированных и разделов, основанных на
развертывании линеарно-кантиленного либо моторного характера.
Вторая сторона заключается в веберновском отношении к граням
формы, представленным гармоническими каденциями. При помощи
«третьего измерения» музыкальной фактуры, используя глубинную
координату, Веберн добивается тонких градаций весомости, казалось бы,
вполне стандартных гармонических цезур. Примером может служить
147
окончание первой же интермедии, где происходит интересная метамор-
фоза с обычным прерванным оборотом.
Средствами оркестровки Веберн достигает эффекта «повисшей в
воздухе», неразрешенной доминанты. Звук g тает у литавр, уходя в ничто,
а звук as (VI ступень) появляется в «ином измерении», в иной функции
у виолончелей. Элементы одного каденционного оборота оказались раз-
веденными в музыкальном пространстве.
С использованием литавр связано своеобразие многих каденцион-
ных оборотов в Фуге-ричеркате. Каденция после второй интермедии —
пример осуществления литаврами особой выразительной задачи. Тремо-
лируя на звуке g, литавры звучат тревожно, напряженно. В баховском
оригинале значение этой педальной ноты скрадывается присутствием
более низких звуков. Веберн же рельефно выделяет ее на фоне прочих
кратких интонаций.
Важная цезура в такте 103 подчеркнута литаврами тоже достаточно
своеобразно: они как бы подхватывают свое «угасшее» тремоло на доми-
нанте (такты 97-98), доводя его до логического завершения — автентиче-
ской каденции.
Более всего проясняет веберновский взгляд на форму Ричеркара
каденция в Es-dur (такт 78). Несомненно, это самая глубокая цезура вну-
три Фуги-ричеркаты. Всемерно подчеркнув ее оркестровкой, Веберн
прибегнул здесь и к агогическим средствам (molto ritenuto, а также един-
ственная в форме, помимо конца сочинения, фермата), наделенным в его
собственных сочинениях, как известно, особыми формообразующими
функциями.
Именно здесь, а не в 103 такте, видит Веберн границу между двумя
основными частями Фуги-ричеркаты, и в этом нетрудно убедиться. Пока-
зательно, в частности, что во второй сдвоенной интермедии (И-8 + И-9)
Веберн «оставляет без внимания» аналогичную, казалось бы, каденцию в
As-dur. Литавры здесь вовсе отсутствуют (такты 164—165). Обращает на
себя внимание и такая деталь: лишь дважды в изложении темы принима-
ют участие струнные инструменты. Эти два проведения являются заклю-
чительными в первой и второй частях Фуги-ричеркаты (такты 9, 197).
Веберн, конечно же, размышлял над формой баховского Ричеркара и
выразил свое о ней представление находящимися в его распоряжении
средствами. Веберновская трактовка формы определялась, возможно,
следующими конструктивными соображениями:
148
1. При расчленении формы подобным образом в каждой части ока-
зывается по шесть проведений темы.
2. Масштабные пропорции между частями являются весьма точным
выражением пропорции золотого сечения:
78 T 127 Т
(38%)(62%)
..------------------------
205 'Г
(100%)
3. Имеет место некоторое подобие в порядке проведений темы в
обеих частях. Равномерно вступающие первые четыре голоса
отделены от двух последующих:
4. Не исключено, что и сам тональный план второй части тоже мог
«понравиться» конструктивистски мыслящему Веберну:
JR_____________
Es_____g_______,As___________b______g(
P R
Завершая этот краткий анализ Фуги-ричеркаты, следует еще раз
напомнить, что перед нами оригинальный композиторский экзерсис,
художественный эксперимент, раскрывающий возможности найденной
Веберном техники письма.
Конечно же, в значительной мере условно представление баховского
текста как композиционной модели Фуги-ричеркаты. Однако некоторые
основания для этого все же имеются. Баховский текст явился для Вебер-
на системой жестко заданных условий письма. Он предстал как звуковы-
сотная (а в данном случае — и ритмическая) структура, реализуемая
Веберном посредством использования по собственному усмотрению
всего комплекса неспецифических средств.
Проведенный анализ показал большую действенность этого комп-
лекса. Мы убедились, что композитор может очень многое изменить и
скорректировать на стадии работы со звуковым материалом, формально
149
нисколько не отходя от предварительно намеченной композиционной
модели. Поэтому и анализ музыкального произведения никак не может
быть подменен анализом композиционной модели в отрыве от всех
остальных сторон художественного целого.
Антон Веберн. Вариации ор. 30
Посмотрим теперь, как проявляется интересующая нас связь в на-
стоящем серийном сочинении Веберна, остановив свой выбор на Вариа-
циях ор. 30 (1936), поскольку это произведение весьма типично для по-
следнего периода творчества композитора. Мы находим здесь отточенную
технику письма и характерный для Веберна комплекс выразительных
средств. Немаловажно и то обстоятельство, что именно Вариации ор. 30
Веберн считал своим особенно удавшимся сочинением. В эпистолярном
наследии композитора имеются относящиеся к Вариациям ор. 30 ком-
ментарии, представляющие существенный интерес.
Уже само название произведения — «Вариации» — требует некото-
рого разъяснения. По существу, вся серийная музыка Веберна предста-
вляет род вариационной формы, что определяется используемым в ней
методом развития (изложение серии и ряд ее вариационных преобразо-
ваний). Уместно привести здесь выдержку из письма к поэтессе Хильде-
гард Йоне, где именно на примере Вариаций ор. 30 Веберн разъясняет
свое понимание вариациониости:
«Даны шесть тонов в виде построения (Gestalt)12, которое определяет-
ся последовательностью этих тонов и ритмов, и все последующие <...> есть
все то же построение, повторяющееся снова и снова!!! Правда, оно испыты-
вает непрерывные “метаморфозы” (в музыке этот процесс называется
“варьированием”), — но это опять и опять то же самое <...> Из этого
построения сперва складывается “тема”, а потом следуют шесть вариаций
на эту тему. Но сама тема, как я уже сказал, представляет собой только ва-
риации (метаморфозы этого первого построения). Как единство тема, в
свою очередь, является отправным пунктом для новых вариаций» (24,117).
Итак, вариации есть, во-первых, проявление важнейшего для Вебер-
на принципа «метаморфоз» исходного построения на нескольких мас-
12 Т. е. первая половина серии, анализ которой будет дан в настоящей работе
ниже. — А. С.
150
штабных уровнях формы. Однако название «Вариации» мы встречаем в
музыке Веберна лишь трижды: в ор. 21 (вторая часть Симфонии), в ор. 27
(для фортепиано) и в ор. 30. Очевидно, что в этих случаях термин «вариа-
ции» заключает в себе для Веберна и нечто большее — приближение к
классическому типу композиционной структуры, характеризующемуся
рядом известных признаков.
В частности, вариационный цикл из Симфонии ор. 21 внешне выгля-
дит достаточно традиционно. Отдельные вариации представляют
довольно крупные (в масштабе музыки Веберна), фактурно противопо-
ставленные разделы формы. Имеет место начальное экспонирование
темы (серии) в виде мелодии с аккомпанементом — случай, для Веберна
весьма не характерный:
151
В Вариациях op. 30 последнего, впрочем, уже нет. Серия вообще не
появляется в этом сочинении изложенной полностью без сегментного
рассечения и замысловатого фактурного переплетения с другими своими
вариантами-метаморфозами. Поэтому при слуховом восприятии эти
Вариации гораздо меньше напоминают знакомую логику вариационной
формы. Ощущается какая-то иная, более сложная, логика.
И это действительно так. В Вариациях ор. 30 воплощена еще одна, не
объявленная в заглавии композиционная идея. Веберн, по его собствен-
ному признанию13, ориентировался здесь на структуру формы классиче-
ского адажио. Это обстоятельство существенно проясняет дополнитель-
ные функции разделов вариационной формы:
«тема» 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 1 вар.
Вступление Г.П. С.П. П.П. Г.П. С.П. Кода
Такова была композиционная задача, которую поставил перед собой
Веберн. И нужно сказать, что возникшая в результате форма, действи-
тельно, воспринимается адекватно этому замыслу. Ясно ощущаются экс-
позиционная функция 1-й вариации (Г.П.), характерное partitio во 2-й ва-
риации (С.П.), типичный контраст сонатных сфер, вносимый 3-й вариа-
цией (П.П.). Заметно и некоторое новое качество, отличающее заключи-
тельную 6-ю вариацию (Коду). Несколько проблематичной является
лишь репризная функция 4-й вариации (Г.П.), что, впрочем, оговорено
самим Веберном, считавшим ее данной «в разработочном виде» (24,115).
Таким образом, перед нами вполне классическая по внешним призна-
кам форма. Такова ли она и по существу? Обратим в связи с этим вопро-
сом особое внимание на следующую цитату из письма Веберна: «С фор-
мальной точки зрения эта тема с ее шестью вариациями в конечном счете
образует конструкцию, аналогичную адажио; по оно таково только по
форме, а по характеру, по содержанию сочинение отнюдь таковым не явля-
ется <...> Хотя я назвал свою вещь “Вариациями”, эти вариации все же сли-
ваются в некое новое единство (в смысле какой-то иной формы). Столько-
то метаморфоз исходного построения дают “тему”. Тема как новое един-
ство, в свою очередь, претерпевает столько-то метаморфоз; эти метаморфо-
зы, опять-таки сливаясь в новое единство, дают форму целого. Приблизи-
тельно так выглядит конструкция сочинения в целом» (24, 117-118).
13 См. его письмо Вилли Райху от 3.05.1941 г. (24, 115).
152
Круг замкнулся! Конечной целью оказалась исходная посылка. Клас-
сическая композиционная схема, как и в Фуге-ричеркате, оказалась для
Веберна внешней «кристаллической» формой, вбирающей в себя непре-
рывный и вездесущий, сугубо веберновский процесс развития.
Попытаемся теперь поэтапно проследить, как именно шел Веберн к
воплощению в звуковом материале своей художественной идеи.
Самостоятельным этапом работы Веберна, как мы уже знаем, явля-
лась подготовка Vorform — своего рода комплекса синтаксических моде-
лей для будущего сочинения. Этот этап начинался с момента интуитив-
ного нахождения серии (ряда) и представлял собой тщательное изучение
ее возможностей и необходимую ее отшлифовку14.
Строение серии здесь весьма типично для Веберна. Первые четыре
звука являются интонационным ядром серии, и все последующие звуки
можно рассмотреть как комбинацию вариантов данного ядра:
У этой серии есть и другие важные особенности: ее основной вид (Р)
тождествен IR, а I тождественна R. Особое же значение для дальнейшего
развития имеет членение на три сегмента (субсерии):
а ь с
Сегменты а и с представляют вторую из пяти всбериовских хромати-
ческих групп: а Ь производен от третьей группы. Поскольку сегмент с
является вариантом а (его IR), главным импульсом для развития стано-
вится сопоставление сегментов а и Ь15.
н «У нас — у Шёнберга, Берга и у меня — ряд в большинстве случаев рождал-
ся как удачная находка, являвшаяся в связи с неким интуитивным представлени-
ем о произведении в целом и потом тщательно обдумывавшаяся, — совсем как мы
это видим в формировании тем в черновых тетрадях Бетховена. Если хотите: вдох-
новение» (24, 79).
15 На это указывал и сам Веберн (24, 116).
153
Указанные особенности строения серии определяют и основные
приемы изложения материала, входящие в Vorform. Это «мосты» в двух
своих основных вариантах:
а) «эллиптический мост», то есть соединение в одном голосе или
вертикальном комплексе конца и начала двух форм серии:
а в с = а в с
б) «двойной мост» — пересечение на сегменте b двух (иногда трех —
«тройной мост») одновременно звучащих форм серии:
Сегменты а и b определяют также два варианта интервальной струк-
туры используемых в Вариациях аккордов:
19. / ч ь
А а (с) b
Таким минимумом приемов изложения и ограничивается Веберн на
стадии Vorformung16. Дальнейшая работа производится им уже за роялем.
Эта следующая стадия творческого процесса имеет две взаимно противо-
положные стороны. В одной из них отражен вдохновенный поиск худож-
ника, полет его фантазии, в другой — скрупулезное соблюдение рамок
ранее отобранного материала.
Сам Веберн не находит в параллельном существовании этих двух
сторон своей работы никакого противоречия. «Только теперь, — говорит
он, — стало возможным сочинять соответственно своей вольной фанта-
зии, не будучи связанным ничем, кроме ряда. Это звучит парадоксально:
лишь с этими неимоверно тесными оковами стала возможной полная
свобода!» (24, 81).
16 Заметим, что в иных случаях Vorform бывает представлен более разнообраз-
но. В Вариациях ор. 21, например, используется и перекрестная интерполяция.
154
Действительно, в следовании Vorform Веберн не допускает ни малей-
шего компромисса. При этом именно на данном этапе работы он «лепит»
индивидуальную основу сочинения, то есть определяет музыкальную
ткань всех разделов формы, их взаимное расположение и масштабное
соотношение. Именно теперь в форме задается ритм чередования кон-
трастных рисунков, определяются ее основные грани.
Результатом данного этапа работы является текст, зафиксировав-
ший важнейшие признаки будущего сочинения. Однако это текст имен-
но будущего сочинения. Впереди еще один, не менее ответственный, этап
творческой работы — инструментовка.
О том, что такое инструментовка для Веберна, мы уже имеем доста-
точное представление после анализа Фуги-ричеркаты. На этом послед-
нем этапе творчества Веберн оперирует комплексом неспецифических
средств, наполняя свое сочинение «жизненным током». Именно теперь
протоинтонация окончательно становится собственно интонацией, а
логика формы обретает конкретность, дополняясь в то же время некото-
рыми новыми существенными деталями.
В использовании Веберном комплекса неспецифических средств
целесообразно, таким образом, выделить две стороны. Первая связана с
проблемой интонационного содержания музыки. Как уже отмечалось,
Веберн жестко ограничил себя в отношении звуковысотно-интервальной
основы интонации. В Вариациях ор. 30 всё в конечном итоге сводится к
комбинированию двух интервалов: малой секунды и малой терции. В
этом заключается особенность стиля, которую Веберн сознательно куль-
тивировал и даже выразил в виде своеобразного девиза: «Всё то же — в
тысяче вариантов!». Разнообразие вариантов определяется именно
оттенками взаимодействия неспецифических средств.
Выразительность таких средств, как тембр, динамика, агогика, арти-
куляция, становится особенно заметной на уровне отдельных мотивов,
определяя конкретно-образную характеристику последних: «вздох»,
«вопрос», «выкрик», «стон» и т. п. Направленностью восприятия на
фонический уровень музыки, на выразительность отдельных интона-
ционных оборотов, таким образом, объясняется заметное отсутствие в
музыке Веберна длительных crescendo или diminuendo, accelerando или
ritardando; с этим связана и интенсивная переменность функций голосов
фактуры, осуществляемая тембровыми переключениями. Основными
приемами у Веберна становятся филирование или «раздувание» отдель-
/55
ных звуков, sf, «звучащие паузы», особые способы звукоизвлечения на
разных инструментах (флажолеты, frullato, pizz., sul tasto и т. п.).
Соответственно меняется и выразительность построений синтаксиче-
ского ранга. Уже давно отмечено, например, своеобразие ритмического
развития в музыке Веберна. Анализируя II часть Струнного квартета ор. 28
Веберна, К. Штокхаузен пишет об изменчивости темброво-громкостной
нагрузки на один звук в условиях равных длительностей. В. Холопова в
числе основных черт ритмики Веберна называет сочетание относитель-
ной регулярности в соотношении длительностей с нерегулярностью в их
конкретном звуковом наполнении (135,284 и 286).
Благодаря участию неспецифических средств, таким образом, возни-
кает особый род ритмики, близкий «акцентному», но значительно более
гибкий, ибо «конкретное звуковое наполнение» у Веберна имеет множе-
ство градаций.
Вторая из выделенных выше строк связана с проблемой коммуника-
тивности формы в музыке Веберна. Известно, что Веберн заботился о
донесении своих идей до слушателя, стремился к «понятности», «пости-
жимости» (FaBlichkeit) структурной организации своей музыки. Эта за-
дача во многом, решалась им именно на заключительном этапе творческо-
го процесса.
В анализируемом сочинении неспецифические средства не ограни-
чиваются механическим расчленением серии на сегменты, но осущест-
вляют определенного рода сквозное развитие, имеющее четкую напра-
вленность. Коммуникативная функция этих средств может рассматри-
ваться как своеобразная «настройка» слуха, помогающая слушателю
решить поставленную перед ним задачу: ощутить логику серийной орга-
низации. Направленность действия неспецифических средств заключа-
ются в том, что в начале цикла они облегчают восприятие конструкции,
выраженной специфическими средствами, а затем и сами принимают
участие в ее усложнении.
В соответствии с представленным выше замыслом Веберна, началь-
ный раздел сочинения совмещает экспозиционную и вступительную
функции. Здесь продемонстрированы основные приемы изложения
материала, широко используемые в последующих вариациях. Это: сег-
ментное изложение серии в горизонтальной и вертикальной проекциях
(с показом двух основных структур аккорда), канонический принцип
изложения различных рядов.
156
Неспецифические средства (особенно тембр) подчеркивают здесь
рельефность сопоставления сегментов серии. Предпочтение отдается
чистым тембрам, унисоны и аккорды располагаются в пределах одной
оркестровой группы. Каждый сегмент поручается новому тембру Пока-
зано и тембровое дробление самих сегментов без разрыва во времени
(контактная связь): такты 8-11, 13-14.
Первая вариация (она же — главная партия формы Адажио) носит
экспозиционный характер, что ясно выражается в ее фактурном облике.
Отметим вполне классическое сочетание аккордового и мелодического
пластов, мышление оркестровыми группами с взаимными передачами
музыкального материала. Мелодический голос поручается сольным тем-
брам. Сопровождающий его гармонический пласт поочередно излагается
струнной, деревянной или ударно-колористической группой.
Вся вариация делится на фазы развития, подчеркнутые агогически-
ми приемами (сменами темпа и расстановкой цезур), а также тембровы-
ми сопоставлениями. Продолжительность фаз развития постепенно
сокращается, что вызывает ощущение ускоряющегося пульса (И +8 + 8
+ 4 + 4). Наряду с уже встречавшимися приемами изложения в этой
вариации появляются и все виды «мостов» (такты 27-31, 35-38, 44-45,
48-50). Эпизодически возникает и более мелкое, чем прежде, тембровое
дробление самих сегментов серии (такты 35-37).
Две последующие вариации, соответствующие связующей и побоч-
ной партиям, являются «метаморфозами» главной партии: аккордовая
связующая партия целиком основана на вертикально расположенных
сегментах серии; линеарная побочная — целиком на контрапунктирова-
нии сегментов серии, изложенных горизонтально.
К этому моменту слух уже достаточно прочно усвоил все варианты
изложения сегментов серии, и неспецифические средства (прежде всего
тембр) начинают принимать участие в усложнении конструктивной сто-
роны произведения. Помимо прежних приемов появляется, в частности,
разбивка сегментов серии на разные тембры с разрывом во времени
(дистантная связь) — такты 74-75, 75-78, 82-83 и т. д. Однако и здесь
соблюдена постепенность: слушатель четырежды приучается к дробле-
нию сегментов по системе 1 + 3 при участии тембра струнного и деревян-
ного духового инструментов, и лишь затем даются другие сочетания тем-
бров. Одновременно с этим («для напоминания») продолжают появлять-
ся сегменты серии, целиком излагаемые одним тембром.
157
Следует обратить внимание на использование Веберном динамики.
Здесь ее функции в определенном смысле противоположны функциям
тембра: если тембр членит сегменты, то динамика их объединяет, — каж-
дый сегмент выдержан в одном динамическом оттенке. Добавим, что
весьма коммуникативна и сама фактура третьей вариации: при интенсив-
ной и равномерной занятости всех групп оркестра в любой момент време-
ни звучит совместно не более двух инструментов.
В четвертой вариации тембр продолжает активно участвовать в «мас-
кировке» сегментов серии. Более насыщенная полифония, тесное пере-
плетение различных сегментов представляет определенную сложность
для восприятия, которая отчасти компенсируется замедлением темпа,
преобладанием оттенков р и рр{1. Как и раньше, продолжают появляться в
чистых тембрах различные варианты сегментов серии. Возрастает плот-
ность фактуры (до четырех одновременно звучащих тембров).
Небольшая по размеру пятая вариация построена на чередовании
линеарных и аккордовых участков развития. Обращает на себя внимание
почти полное выключение инструментов медной группы, которая прибе-
регается для наиболее, пожалуй, яркого кульминационного момента во
всем цикле — начала шестой вариации.
«Микрохорал» меди в тактах 146-147, действительно, производит
особое впечатление. Выразительность аккордов подчеркнута динамикой:
звук как бы разгорается и затем затухает. Однако необычность этих
аккордов все же в другом. Это своего рода структурная «перемена в
последний раз», возможно, предусмотренная Веберном еще на стадии
Vbrformung. Здесь впервые в цикле аккорд не представляет собой сверну-
тый в вертикаль сегмент серии. В едином ритме одновременно звучат
начальные интонации четырех серийных рядов (три транспозиции ос-
новного вида и одна инверсия). Поскольку серия излагается в горизон-
тальной плоскости, впервые возникают аккорды совершенно иной интер-
17 Можно обратить внимание на определенную закономерность: наиболее
сложные в структурном отношении разделы формы у Веберна, как правило, изла-
гаются при низком уровне громкости. По-видимому, Веберн интуитивно учитывал
известную психофизиологическую закономерность: низкий уровень воздействия
звукового раздражителя активизирует работу слухового аппарата, способствует
более направленному и дифференцированному слышанию.
158
вальной структуры, воспринимаемые на слух как «чужие», несерийные,
едва ли не тональные элементы:
В финальной вариации использованы и все прежние приемы разви-
тия, причем заметно некоторое упрощение изложения к концу.
Итак, дополнения, вносимые Веберном в нотный текст на последнем
этапе творческого процесса, «притягивают» внимание слушателя преи-
мущественно к элементам фонического и синтаксического уровней
музыки. Подключаемые Веберном неспецифические средства выполня-
ют при этом важные выразительные и коммуникативные функции. Оста-
лось уточнить — что представляет собой для Веберна феномен компози-
ционной модели и в какой мере применение этого понятия к его творче-
ству должно быть признано условным.
Думается, о композиционной модели целесообразно говорить в
связи со вторым и третьим этапами творческого процесса Веберна. Vor-
form — это еще не композиционная модель, поскольку на втором этапе
творчества еще не возникает детального плана расстановки приготовлен-
ного материала. Vorform — это арсенал синтаксических моделей, еще не
выстроенный в композиционный порядок.
Текст же, созданный на следующем этапе творчества, это уже не ком-
позиционная модель. Он никак не может быть назван абстрактным пла-
159
ном композиции, ибо дает вполне конкретное представление об основ-
ных особенностях сочиняемой музыки.
Однако несмотря на эту фактическую «неуловимость» композици-
онной модели в творческом процессе Веберна, в нем, как представляется,
уже вполне отчетливо проявился тот новый подход, метод рациональной
самоорганизации, который почувствовали, оценили и переняли многие
композиторы второй половины XX века.
Мышление позднего Веберна в самой основе своей отлично от
мышления художников классико-романтического типа. За очевидным
порой внешним сходством музыки Веберна с классическими прототипа-
ми скрывается глубокое внутреннее различие. Это относится и к суще-
ству выработанной Веберном серийной системы18, и к самому процессу
его творческого труда.
Веберн по праву считается основоположником музыкального струк-
турализма. На долю его прямых последователей в 50-е годы выпало лишь
доведение до абсолюта основных принципов серийной композиции.
Фактически это выразилось в двух следующих моментах: а) введении в
композиторский арсенал дополнительных приемов работы с серией;
б) перенесении принципа серийной организации на прочие (невысот-
ные) параметры музыкальной ткани.
И то, и другое нельзя признать принципиальным новшеством. Уже
сам Веберн сделал шаг в сторону от ортодоксальной додекафонии, сме-
стив акцент с формально еще сохраненного двенадцатитонового ряда на
короткие сегменты-субсерии и периодически прибегая к приемам изло-
жения рядов, фактически устраняющим основополагающий для додека-
фонии принцип неповторяемости звуков.
Такая система серийной техники (Ц. Когоутек называет ее постдоде-
кафонной) была впоследствии лишь дополнена различными вариантами
пермутации и ротации звуков серии и использованием так называемых
микросерий (групп из небольшого числа тонов, функционирующих как
серии) и сверхсерий (Uberreihe, своеобразного аналога акростиха, читае-
18 Как справедливо писал В. Бобровский, «серия в додекафопной системе не
может быть уподоблена ни “полюсу”, ни центральному элементу, ни тонике. Она
организует звуковысотную ткань на основе иного принципа, не связанного с прин-
ципом централизации» (17,316).
160
мого по начальным или иным, однозначным по порядковому номеру зву-
кам соответственно подобранных транспозиций серии).
Организация же всех звуковых параметров по единому принципу
также является идеей, практически реализованной Веберном. В его
музыке именно таким универсальным принципом была зеркальная сим-
метрия. В приведенном выше примере из ор. 21 высотно-интервальная
симметричность серии, лежащей в основе как мелодии, так и сопровож-
дения, подчеркнута симметричностью ритма, тембровых переключений,
динамических перемен и артикуляции.
После этого оставалось лишь провозгласить в качестве всеобщего
принципа организации серийность как таковую, что и стало отличитель-
ной чертой сериальной (или тотально серийной) системы. По аналогии с
высотной серией композиторы стали строить серии длительностей, уров-
ней громкости, тембров, приемов артикуляции, регистров, темпов, града-
ций плотности, тактовых группировок. Один из способов выведения
такой аналогии тоже был впрямую подсказан Веберном. Цикл своих лек-
ций, прочитанных в 1932 году, Веберн завершил старым латинским изре-
чением-палиндромом «Sator Arepo tenet opera rotas»19, представленным в
виде «магического квадрата»:
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Так композитор выразил суть собственной техники, основанной на
использовании симметричных серий, сохраняющих свою интонацион-
ную характерность в любой из четырех форм изложения (Р, I, R, IR).
Серия проанализированного выше 30-го опуса может быть, в частности,
представлена в виде следующего квадрата:
19 Известны различные переводы этого изречения:
«Сеятель Арено (имя собственное) трудится, не покладая рук»,
«Сеятель Арепо держит трудом колесо (фортуны)»,
«Сеятель Арепо держит в деле колеса»,
«Сеятель Арепо умеряет трудом превратности судьбы».
161
а b des c h d es fis f e g as
b h d cis c es e g fis f gis a
des d f e es fis g b a gis h c
с cis e OS d f fis a gis g b h
h c es d cis e f as g fis a b
d es ges f e g as h b a c des
es e g fis f as a c h b des d
fis g b a gis h c es d cis e f
f ges a as g b h d cis c es e
e f as g fis a b des c h d es
g as h b a c des e es d f fis
as a c h b des d f e es fis g
Пронумеровав звуки серии, можно получить транспозиционную
таблицу для выведения из звуковысотной серии других, невысотных,
серий, что, в частности, и сделал Пьер Булез при сочинении «Структур».
Основой всего в названном произведении стала построенная Булезом
двенадцатитоновая серия:
Исходя из основного вида и инверсии этой серии, Булез составил две
транспозиционные таблицы, предназначенные для выведения всех по-
следующих форм серии (см. с. 163).
Главное значение этих таблиц состоит в определении производности
серий невысотных параметров от основной высотной серии. Различные
ритмические формы серии длительностей (серии «д») образуются в ре-
зультате чтения горизонтальных или вертикальных строк таблицы с под-
162
э а es d a as g fls /> cis c b f h /a
р es □ 2 3 4 5 8 9 10 11 © Rh
р d 8 El 4 5 El 11 1 (5) 12 3 © 10
р а 3 4 Ш 8 9 10 5 © © 12 11
р as 4 5 [2] El 9 12 3 6 © © 10 7
р сх g 5 El 8 9 }12| 10 4 © 7 2 © 1
р 11 9 12 10 El © 3 1 8 4
Ре 1 10 3 4 © 0 2 8 12: 6 El c
Р cis 8 5 6 © 7 2 |12| 10 4 m 3
Р c 9 12 © © 7 1 8 10 El El 2 4
Р b 10 3 © 2 8 12 4 □ И 9 6
Р f 11 © 12 10 © 4 6 Ш 2 9 El 8
Р h o 10 11 7 1 © El 3 4 6 8 E]
а> Р 3 es e a b h У c /d f fls gls cis g , b
es Ш 7 3 10 12 El ® 11 6 4 8 © Rig
I e 7 О 10 12 E] 8 1 ® 5 3 © 4
I a 3 10 11 6 4 12 5 8
I b 10 12 □ 0 6 5 3 9 © © 4 2
I I h 12 El 11 6 El 4 10 © 2 7 © 1
c El 8 6 6 4 m © 2 1 11 10 ©
I d 1 4 3 10 © El 7 11 5 9 [б]
I f 11 12 9 © 2 7 El 4 10 m 3
I fls 6 5 (5) © 2 1 11 4 [3] 0 7 10
I gis 4 3 © © 7 11 5 10 [1^ EJ 6 9
I cis 8 © 5 4 ® 10 9 Ш 7 6 [Tai 11
I g © 4 8 2 1 3 10 9 11 fig}
b 2 у/
163
становкой соответствующих по порядковому номеру длительностей
«хроматического ряда»:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Для пояснения данного принципа приводим расшифровку началь-
ной секции «Структур» (см. пример № 10 на с. 116-117).
В партии I фортепиано излагается основной вид высотной серии от
звука es (Pes), ритмически организованный серийным рядом длительно-
стей, соответствующих по таблице «Б» ряду Rih.
В партии II фортепиано соответственно излагается инверсия высот-
ной серии от es (les) в совокупности с ритмической серией, читаемой по
таблице «А» как Rg.
Различные формы серии ступеней интенсивности (серии «и») выво-
дятся по таблицам уже иным способом. Они читаются по диагональным
строкам цифрами, взятыми в кружок и подставляемыми к соответствую-
щему «хроматическому ряду»:
PPPP PPP РР Р quasi р mp mf quasi f f ff fff ffff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Таким образом, получаются четыре формы серии интенсивностей:
а) 12 ffff 7 mf 7 mf 11 fff 11 fff 5 quasi p 5 quasi p 11 fff 11 fff 7 mf 7 mf 12 ffff
Ь) 5 2 2 8 8 12 12 8 8 2 2 5
quasi р ppp PPP quasi f quasi f ffff ffff quasi f quasi f PPP ppp quasi p
с) 2 3 1 6 9 7 7 9 6 1 3 2
PPP PP PPPP mp f mf mf f mp PPPP PP PPP
d) 7 3 1 9 6 2 2 6 9 1 3 7
mf PP PPPP f mp PPP PPP mp f PPPP PP mf
Из сравнения c двенадцатиступенным «хроматическим рядом»
интенсивностей видно, что в этих формах серии вообще отсутствуют две
ступени интенсивности: 4 — ри 10- ff. Учтя это, Булез строит послед-
нюю из невысотных серий — артикуляционную (серию «а»), всего из
десяти произвольно взятых приемов артикуляции:
164
12356789 И
> > . норм. ▼ sfz >т Т
12
Их пермутаций в таблицах читаются по диагонали цифрами, взяты-
ми в квадрат, в результате чего получаются также четыре следующие
серийные формы:
а) 5 5 И
норм. норм.
р) 12 12 8
sfz
у) 6 6 2
3 12 11 3 12 8 1 81
sfz > sfz >
А А
3 5 8 3 5 11 1 11 1
порм. sfz • норм. “ > • >
2 6 6 9 1 5 5 1 9
> > > норм. норм. >
8) 6 1 12 12 1
6 9 9 7 7 9 9
Следующая стадия работы композитора — построение компози-
ционной модели. Отобранный материал комбинируется, выстраивается в
логическом порядке. Основной принцип комбинирования заключается в
комплементарном соотношении партий I и II фортепиано: если в одной
партии изложена форма серии, читаемая по таблице «А», то в другой
соответственно избирается форма серии, читаемая по таблице «Б». В
результате композиционная модель оформляется Булезом в виде уже
приводившейся ранее авторской схемы.
Именно с сериализмом связано не просто реальное обособление в
творческом процессе стадии работы над композиционной моделью, но и
выделение данной стадии в качестве безусловно важнейшей.
Композиционная модель в сериальной музыке представляет собой
абсолютно абстрактную схему предельно детерминированного процесса
преобразований некоторой исходной структуры. При этом композицион-
ная модель фактически может здесь рассматриваться уже и как вариант
текста произведения, поскольку от собственно текста, адресованного
исполнителям, она отличается лишь примененной в пей системой симво-
лов. Внесение каких бы то ни было качественных изменений на послед-
нем этапе композиторской работы практически исключается.
165
Однако при фактической тождественности композиционной модели
и нотного текста произведения «обратный перевод», т. е. возможность
достаточно точно представить и проанализировать композиционную
модель, располагая лишь нотным текстом, практически сводится к нулю.
Как признают сами композиторы, такая расшифровка конструктивного
замысла не всегда оказывается доступной даже для ЭВМ. Отсюда и оби-
лие авторских анализов в зарубежной литературе о серийной музыке,
раскрывающих сугубо технологические стороны организации отдельных
произведений.
Музыкальный сериализм в 50-е годы предстал в виде мощной волны,
захлестнувшей страны как Западной, так и Восточной Европы, а также
проникшей и на Американский континент. С этим связаны имена таких
известных композиторов, как П. Булез, Л. Ноио, К. Штокхаузен, Д. Лиге-
ти, Э. Кршенек, М. Бэббит и др. Интерес к сериальной системе компози-
ции проявили и некоторые отечественные композиторы. Показателен,
однако, и столь же массовый отход композиторов от этой системы в даль-
нейшие годы, резкая критика ее рядом бывших приверженцев20. Установ-
ка на интонационную «стерильность», лишенную каких бы то ни было
художественно-жанровых ассоциаций, на исключительную аналитич-
ность отношения к форме, не обеспечила сериальной музыке слушатель-
ского признания21.
Явственно продемонстрировав опасность стилевой нивелировки и
выхолащивания этической ценности искусства, сериализм явился и свое-
образным катализатором процесса развития музыкального искусства: он
породил многообразные «обратные реакции», выразившиеся в бурном
20 Сошлемся на высказывание П. Булеза: «Сочинения этого периода также
чрезвычайно негибки во всех своих аспектах; элементы в “магических квадратах”,
которые композитор в его магических исканиях пытается забыть, яростно сопро-
тивляются произвольно установленным, чуждым им схемам; они начинают мстить;
сочинение теряет организацию; оно плохо звучит...» (159, 25).
21 По мнению X. Штукеншмидта, «“сериальная техника” <...> является скорее
спекулятивной, чем прагматической. Она не учитывает акустические условия,
слуховую практику, и поэтому часто вынуждена расплачиваться тем, что ее резуль-
таты недоступны слуху <...> Комбинирование многих сериальных процедур
выдвигает чрезмерные требования к слуховому восприятию, что приводит к психо-
визуализму, этой странной эстетике, которую развил Расл Эткинз, не считающий
слух решающим фактором для понимания музыки» (52, 181).
166
развитии национальных школ славянских стран, в формировании так
называемой «новой фольклорной волны», системы музыкальной поли-
стилистики и т. п. Интересно, что «обратные реакции» имели место и
непосредственно в сфере музыкального структурализма. С примерами
такого рода имеет смысл теперь познакомиться поближе.
Янис Ксенакис. «Nomos Alpha».
Фигура Ксенакиса в ряду современных западноевропейских компо-
зиторов может быть одновременно признана и уникальной, и типичной.
Уникальность заключается прежде всего в необыкновенном сочета-
нии полученного Ксенакисом еще в юности традиционного музыкально-
го образования22 с опытом, приобретенным им впоследствии в классе
музыкальной эстетики О. Мессиана, и с высшим техническим образова-
нием, профессией архитектора, также представляющей неотъемлемую
сторону творческой личности Ксенакиса23.
Именно научный склад ума Ксенакиса определил его подход к музы-
кальному творчеству как к специфическому роду интеллектуальной дея-
тельности. «Создавать музыку, — писал Ксенакис, — значит выражать
человеческий интеллект звучащими средствами» (188, 211). В центре
внимания композитора неизменно находится логическая сторона музы-
ки. Эта позиция, однако, характерна для всего музыкального структура-
лизма в целом.
Взгляды Ксенакиса на музыкальное творчество представляют собой
достаточно развернутую концепцию24, основы которой изложены им в
книге «Musiques formelles». Она цитируется ниже по английскому изда-
нию (187). Ксенакис в своем творчестве ориентируется не на специфиче-
ские закономерности исторически эволюционирующего музыкального
языка, а на универсальные закономерности, подпочвенно управляющие
решительно всеми процессами, происходящими в природе. К последним
Ксенакис относит, в соответствии с духом своего времени, вероятностные
(стохастические) закономерности, единые во всех сферах бытия и чело-
22 Ксенакис учился у A. Kyi «Дурова, друга А.К. Глазунова, с детства проявляя
живой интерес к греческой народной музыке.
23 Ксенакис был в свое время учеником и сотрудником знаменитого француз-
ского архитектора Ле Корбюзье.
21 Ее краткий обзор содержится в статье Ю. Кона (53).
167
веческой деятельности. Конкретные закономерности музыкального язы-
ка соответственно рассматриваются Ксенакисом как частный случай об-
щих вероятностных законов.
Стремясь выявить наиболее общие законы музыкального искусства,
Ксенакис осуществляет «перевод» традиционной музыкальной терминоло-
гии на абстрактно-логический язык (например, «интервалы — бипарные
отношения высоты, заданные на множестве звуков и характеризующиеся
рефлексивностью, транзитивностью и антисимметричностью» и т. п.). Как
пишет Ксенакис, «отрицание, эквивалентность, импликация и квантифи-
кация являются элементарными отношениями, исходя из которых можно
построить всю современную науку. Музыка также может быть определена
как организация звуков на основе этих операций и элементарных отноше-
ний» (187, 16). Всякое звучание (акустический объект) может быть пред-
ставлено как четырехмерный вектор, характеризующийся следующими
переменными и независимыми величинами: тембр, высота, интенсив-
ность, длительность. Совокупность этих параметров, рассматриваемая
относительно оси лексикографического времени, и является основой для
«изготовления» (по выражению Ксенакиса) музыкального произведения.
Таким образом, Ксенакис приходит к тотальной математизации
всего творческого процесса композитора, что также, как уже отмечалось,
представляет характерную тенденцию в музыке второй половины XX ве-
ка. Аналитический подход к музыке и к самому процессу ее создания
хорошо виден из принадлежащего Ксенакису описания основных этапов
творчества:
1. Начальный замысел (интуиция, предварительные или оконча-
тельные исходные данные).
2. Определение акустических реалий и их символики, связанной с огра-
ничением допустимых средств (звуки музыкальных инструментов,
электронные звуки, шумы, совокупности свойств акустических
элементов, прерывистые или континуальные структуры и т. п.).
3. Макрокомпозиция — определение преобразований, которым дан-
ные акустические реалии должны подвергаться в процессе сочи-
нения (выбор логического каркаса, то есть основных алгебраиче-
ских операций и установление связей между акустическими реа-
лиями и их значениями, указанными в пункте 2, и расположение
этих реалий в определенном порядке в лексикографическом вре-
мени, в последовательности или одновременности).
168
4. Микрокомпозиция — выбор и детальная фиксация функциональ-
ных или стохастических связей элементов пункта 2.
5. Последовательное программирование пунктов 3 и 4 (схема и
модель произведения во всей ее полноте).
6. Осуществление расчетов, исследование различных модификаций
программ, выводимых из исходной.
7. Получение окончательного результата программирования в опре-
деленной символической форме (запись музыки при помощи тра-
диционной нотации, числовых выражений, диаграмм или других
средств фиксации).
8. Акустическая реализация программы (непосредственное орке-
стровое исполнение, манипулирование с магнитофонной лентой,
электронное конструирование акустических элементов и их тран-
сформации (187,33-34).
Из данной схемы (порядок пунктов которой Ксенакис не считает
абсолютно строгим) видно, что композиционная модель — весьма слож-
ная структура, создание которой распадается на ряд логически самостоя-
тельных этапов. Исходя из особенностей применяемого на этих этапах
математического аппарата, сам автор предлагает следующую классифи-
кацию типов своей музыки:
"ТАБЛИЦА СВЯЗИ"
169
Соответственно названы и главы книги Ксенакиса: [I] «Свободная
стохастическая музыка»; [II] «Марковская стохастическая музыка» [III]
«Музыкальная стратегия»; [IV] «Свободная стохастическая музыка с
применением компьютера»; [V] «Символическая музыка»25.
При слуховом восприятии, однако, заметно отличаются от других
лишь сочинения Ксенакиса, написанные с применением аппарата теории
игр. Это подтверждает и сам автор, вводя специальное понятие «гетеро-
номная музыка», фиксирующее традицию, уходящую своими корнями в
народную музыку. Речь идет о представлении антифонного начала в
музыке как игры в прямом смысле слова, как своего рода соревнования,
выражающего определенный «внешний конфликт» (187, 139).
Предварительная разработка правил этой игры, заключение опреде-
ленной «договоренности» между исполнителями становится логической
основой произведения и одновременно достаточно четкой установкой на
его восприятие слушателями26.
Следует особенно подчеркнуть, что Ксенакис не придает большого
значения мотивам выбора того или иного исходного закона. Не случайно
в первом пункте его описания творческого процесса упомянуто слово
«интуиция». Начальный закон (формула) может быть в принципе
любым27. Его выбор никак не определяется и какими-либо свойствами
используемого в произведении звукового материала (напротив, он пред-
шествует их уточнению).
Для Ксенакиса более важна производность, развитие, вытекающее из
исходной аксиомы: «Моя работа состоит в распространении формулы.
Представьте, что мы могли бы создать перечень всех музыкальных воз-
можностей. Факт сочетания их тем или иным способом был бы всегда
чем-то более значительным, чем сам перечень или законы, которые можно
было бы к нему применить. Формула <...> — это только кирпич, которым
я в свое время воспользовался для постройки некоего храма» (53, 132).
25 «Лишняя», в сравнении со схемой, глава (IV) возникла в связи с отдельным
рассмотрением вопроса о программировании сочинений на ЭВМ.
26 В книге Ксенакиса подробно излагаются «правила игры» для его сочинений
— «Дуэли» и «Стратегия». Заметим, что сходные идеи были осуществлены К. Шток-
хаузеном в сочинениях «Каррэ» и «Группы для 3-х оркестров».
27 В сочинении «Питопракта» (буквально — «действие вероятностей»),
например, в основу расчета движения звуковой материи положен максвелловский
закон распределения частиц в газах.
170
У нас нет возможности более детально остановиться на описании
типов композиционных моделей в музыке Ксенакиса и анализе принци-
пов, по которым они построены. Такая задача отчасти ставится в упомя-
нутой статье Ю. Кона, но лишь в связи с одними только теоретическими
работами Ксенакиса. Мы же попытаемся рассмотреть наиболее важные
стороны творческого метода композитора на основе анализа его музыки.
В Предисловии к своей книге Ксенакис сообщает, что в 1954 году он
создал музыку, основанную на принципе индетерминизма, которую двумя
годами позже назвал «стохастической»28. Следует учесть, что это было
время наибольшей популярности идей сериализма, равно как и время
постепенного осознания внутренних противоречий данной системы.
Сам Ксенакис указывает, что его приход к стохастической музыке
имел две предпосылки. Первая заключалась в сознательной попытке
выйти из тупика сериальной музыки. Эта предпосылка детально разъяс-
нена Ксенакисом в статье «Кризис сериальной музыки». Основу сериа-
лизма Ксенакис связывает со строго детерминистским пониманием при-
чинности. Жестко предопределенному порядку появления звукоэлемен-
тов в сериальной музыке Ксенакис противопоставляет «вероятностную
причинность» связей звукоэлементов в собственной музыке. Его оппози-
ция сериализму изначально носит логико-философский характер.
Попутно Ксенакис отмечает и другие недостатки сериальной системы
(иллюзорность организации, ограниченность двенадцатиступенной зву-
ковысотной шкалой и т. п.). Его критика, таким образом, не выходит из
сферы обычных критериев, свойственных структурализму.
Вторая же предпосылка, по словам Ксенакиса, заключалась в явле-
ниях природы вроде звука дождя или Града, падающего на твердую
поверхность, звука цикад в летнем поле, гомона толпы из сотен тысяч
людей и т. п. «Эти звуковые явления, — пишет Ксенакис, — сделаны из
тысяч изолированных звуков; это множество звуков, воспринимаемых в
целом, дает качественно новое звуковое явление» (187,8-9). Суть второй
предпосылки, как видим, совсем иная. Система Ксенакиса предстает
здесь как результат поисков новой музыкальной выразительности, новой
28 В книге Ц. Когоутка, однако, первым стохастическим сочинением Ксенаки-
са считается композиция St/Ю — 1,080252, написанная в 1962 г.
171
звуковой материи, соответствующей интуитивным «предслышаниям»
композитора.
В ряде своих сочинений Ксенакис рассматривает звуковой материал
как непрерывный континуум высотных, временных, громкостных и тем-
бровых характеристик. В таких случаях реально воспринимаемой фони-
ческой единицей становится не отдельный звук (то есть звук, имеющий
один источник), а «звуковое облако», «поле», «полоса» (термины Я. Ксе-
накиса), особым образом организованные и недискретно воспринимае-
мые множества звуков. Подобные множества звуков обладают ярко
выраженной характерностью и способностью неуловимо менять свою
окраску в любом направлении и в любой степени.
Оперируя таким материалом, композитор уже не мыслит традицион-
ными категориями гармонии, контрапункта и т. п., а ищет свои сугубо
индивидуальные методы его организации. Иначе можно сказать, что ком-
позитором сочиняется само звучание, причем сочиняется по тому же
принципу, что и все произведение в целом, — через построение предвари-
тельной модели — «фонической». Эта модель также имеет сугубо
абстрактный характер, фиксируется в виде графика или схемы и в даль-
нейшем «проверяется» на соответствие предполагаемому автором
результату и при необходимости корректируется.
Выше уже приводился пример фонической модели из сочинения
Ксенакиса «Питопракта». Не менее интересен и другой пример: в 1953 го-
ду Ксенакисом написано сочинение под названием «Метастазис», кото-
рое сам автор считает переходным от классической музыки к новой
системе композиции. Основным видом звуковой материи здесь является
«объемное глиссандирование» струнных инструментов, некий звуковой
континуум, специфика которого заключается в постоянных мутациях
пространственно-энергетических характеристик. По этому поводу сам
Ксенакис писал следующее: «Если глиссандо имеют определенную про-
тяженность и достаточно переплетены, мы получаем акустическое про-
странство непрерывной эволюции. Зарисовав глиссандо как прямые
линии, можно получить поверхность соответствующей конфигурации»
(187, 10). Таким образом, метод работы композитора и здесь представлен
как графическое воплощение предварительно рассчитанных математиче-
ских функций и последующая проекция этого графика на оркестровую
партитуру. Зафиксированные результаты этих этапов работы внешне
выглядят следующим образом:
172
174
Чрезвычайно любопытна и весьма показательна для Ксенакиса даль-
нейшая судьба данного сочинения. Идея «перевода» математической
структуры из одной материальной субстанции в другую, идея связи визу-
альных и слуховых представлений натолкнула Ксенакиса на мысль о
проведении поистине уникального эксперимента. В 1956 году он делает
проект павильона фирмы «Филлипс» для Всемирной выставки в Брюс-
селе, в основу которого берет расчеты и графики «Метастазиса». Вторая
профессия архитектора позволила Ксенакису сделать реальностью
известную метафору «архитектура — это застывшая музыка»:
Первый проект павильона
175
Нас, однако, прежде всего будут интересовать связи формы-компо-
зиции музыкального произведения с предваряющей ее создание компо-
зиционной моделью. В этом отношении творчество Ксенакиса также
дает интересный материал для исследования. Обсуждая данный вопрос,
стоит проанализировать с возможной степенью подробности хотя бы
одно из его сочинений. С этой целью обратимся к произведению под на-
званием «Nomos Alpha», написанному в 1965 году и впервые исполнен-
ному в 1966 году29.
«Nomos Alpha» — сочинение для виолончели соло. Нотный текст,
опубликованный в 1967 году издательством «Boosey and Hawkes», снаб-
жен кратким авторским предисловием. Из него, в частности, следует, что
Ксенакис представляет свое сочинение как «дань уважения бессмертно-
му наследию Аристоксена — музыканта, философа, математика и основа-
теля теории музыки», Э. Галуа, «математику и основателю теории групп»,
и Ф. Клейну — «его достойному преемнику».
По поводу названия пьесы Ксенакис указывает, что прямой смысл
слова «Nomos» — правило или закон. Здесь же кратко упоминается, что в
основе структуры сочинения лежит математическая теория трансформа-
ции групп, которую Ксенакис полагает непосредственно связанной с
«аксиоматической теорией универсальной структуры музыки».
Более определенное представление о структуре и способе создания
данного произведения можно получить из книги «Musiques formelles»,
где этому вопросу специально посвящен довольно большой раздел (187,
219-241). Опуская по необходимости многие детали, попытаемся выде-
лить главное в методе Ксенакиса. Как уже отмечалось, в основе произве-
дения лежит математическая теория групп. Исходной посылкой для Ксе-
накиса послужил известный в математике эффект вращения куба (окта-
эдра), суть которого заключается в том, что эта геометрическая фигура с
пронумерованными вершинами, вращаемая в разных плоскостях (см.
29 Выбор на этом сочинении Ксенакиса был остановлен по двум причинам. Во-
первых, в данном случае есть возможность сопоставить нотный текст, звукозапись
и авторский комментарий произведения, что позволяет надеяться на достаточную
объективность выводов проделанного анализа. Во-вторых, представляется, что этот
анализ дает определенное основание судить о достоинствах и недостатках не толь-
ко данного сочинения Ксенакиса, но и самого его творческого метода.
176
177
схему на с. 177), позволяет получить ряд производных числовых после-
довательностей:
I 12345678 G 32417685 05 68572413
А 21436587 G2 42138657 Об 65782134
В 34127856 L 13425786 07 87564312
С 43218765 L2 14235867 Об 75863142
D 23146758 Q, 78653421 Оэ 58761432
D2 31247568 02 76583214 Qio 57681324
Е 24316875 Оз 86754231 Qu 85674123
Е2 41328576 Од 67852341 012 56871243
Используя определенную математическую символику, эти числовые
последовательности можно, в свою очередь, подвергнуть ряду логиче-
ских преобразований. Далее за определенными математическими симво-
лами закрепляются соответствующие и также предварительно отобран-
ные элементы музыкального языка. Эти элементы суть различные ком-
бинации звуковых параметров (длительности, интенсивности, высоты,
тембровой характеристики).
Жестко ограничив себя возможностями солирующего струнного
инструмента, Ксенакис постарался в то же время максимально использо-
вать эти возможности. При слуховом восприятии музыки прежде всего
обращаешь внимание на ряд необычных звуковых эффектов, достигае-
мых оригинальными приемами звукоизвлечения. В нотном тексте такие
приемы обозначены специально введенными (и разъясненными Ксена-
кисом в Предисловии) символами. Знаки Р или <5 , например, предпи-
сывают очень короткие и быстрые глиссандо вверх и вниз. ЗнакиQ или
0 предписывают едва заметное повышение или понижение звука; при-
чем исполнитель должен контролировать величину такого микроинтер-
вала по числу возникающих (при участии второго звука, извлекаемого на
соседней струне) в секунду биений, это число обозначено в тексте соот-
ветствующей цифрой:
22. Я. Ксенакис. Nomos Alpha
178
s
4)
Q
3 —
б б
^7
б
С обилием тонких звуковысотных градаций в нотном тексте (в осно-
ве его лежит четвертитоновая звукорядная система) связано авторское
указание исполнителю постоянно играть без вибрато.
На основе названных и им подобных приемов звукоизвлечения Ксе-
накис получает восемь индивидуализированных форм музыкальной тка-
ни (в дальнейшем условимся называть их «фактурными фигурами»)30.
Для их обозначения в схеме (композиционной модели) сочинения Ксе-
накис пользуется следующими символами и словесными разъяснениями:
неупорядоченное облако звуковых точек;
сравнительно упорядоченное восходящее или нисходящее
облако звуковых точек;
—““ сравнительно упорядоченное облако звуковых точек, не вос-
ходящее и не нисходящее;
неупорядоченное поле тянущихся звуков;
сравнительно упорядоченное восходящее или нисходящее
поле тянущихся звуков;
- сравнительно упорядоченное поле тянущихся звуков, не
восходящее и не нисходящее;
прием «звуковысотной интерференции», представленный
выше (см. нотный пример № 22);
тот же прием, но сопровождаемый прочими отдельными
звуками, исполняемыми пиццикато.
30 Восьмерка — основополагающее число в структуре данного произведения,
указывающее на производность всех его сторон от октаэдральной группы.
179
Предварительный отбор материала касается также динамических
оттенков и длительности звуков. За основу берутся следующие динами-
ческие оттенки: mf, /, ff fff.
Длительности при предварительных расчетах структуры выражают-
ся в секундах, образуя ряд от 1,0 сек. до 22,5 сек. В окончательном тексте
произведения длительности выражены обычными средствами ритмиче-
ской нотации.
Подстановка элементов музыкального языка в абстрактно-логиче-
скую схему будущего сочинения и дает композиционную модель. Эта
подстановка имеет свои особенности в отношении к каждой из сторон
музыкального языка. Наиболее просто и однозначно закреплены за соот-
ветствующими символами оттенки громкостной динамики:
KI = mf
™=fff
K3=fff
К4 = mf
К5=/
К6=//
К7=//
К8=/
Буквой «К» в совокупности с соответствующей цифрой также от 1
до 8 в схемах Ксенакиса обозначается еще и длительность звуков. Одна-
ко здесь, в соответствии с характером математических операций, воз-
можны уже три варианта значений, обозначаемые Ксенакисом литерами
а,р,у:
а ₽ У
К1 = 2,0 К1 = 1,0 К1 = 2,0
К2 = 4,5 К2 = 2,25 К2 = 4,5
КЗ = 11,25 КЗ = 22,5 КЗ = 14,0
К4 = 5,0 К4 = 10,0 К 4 = 8,0
К5 = 3,93 К5 = 2,83 К5 = 5,24
Кб = 5,15 Кб = 3,72 Кб = 6,88
К7 = 6,88 К7 = 7,98 К7 = 10,32
К8 = 5,24 К8 = 6,08 К8 = 7,86
Сходным образом обстоит дело и с восемью описанными выше фак-
турными фигурами. Обозначаемые в схемах буквой «S», они также обра-
зуют три варианта значений (см. схему на с. 182).
Располагая этими таблицами значений, можно уже в общих чертах
ориентироваться в композиционной модели, имеющей у Ксенакиса сле-
дующий вид:
180
*0 ^=?>j(: £ 45'S <**'*. II 'V <?>4 Oo <. <0-4^ C?^|| 5^ co 4‘. CM
§8 ''S CO ^.;>. v co rV: <O ЗЦ <0^11 £
8. 43 ^^4 »> CO* 2^'( 03 S4 OJ • СЧ V OJ Й4 u> >
<Л *c«. §4 ?> ff Sh °5‘^^' £> o?^ «> °o ^ 4 §
c5^4 M V CQ :': <O s> go Ц <0^ «5-^ 4^
«S'?# 4 V SvX CO ^ V. « > CO «V £j Ч' «0 =<^ £
*r^|j Sf^ co <o **? :: '“S v? s< H 'О^Й Six °5 ’*'$? § x
«o-^i; 5 Л(1,5) ш UZ5) % co \| §4 CO <s<£ § ‘O'^C Vs- V ii"'^ >J >y v <l <o cS Or $ $ Z XV 'PW ? »$ <>f){sn S- 4
3*4
<5 >1;
*5^4
a s>>
c*5^.
II £x
*с"Ч. ? ч
•Л an 4 g&
<**N ач
181
Среди главных ее признаков, определяющих форму произведения,
подчеркнем следующее. Наиболее крупные структурные сегменты
(выделенные в схеме двойной чертой) — это области действия одного из
трех значений параметров звукового материала (а, р или у).
Каждый из шести таких сегментов сам состоит из трех секций (в
схеме выделенных горизонтальной чертой), имеющих соответствующий
индекс. Например, первый сегмент состоит из секций:
D . Q12 . Q4
d ’ Q3 ’ Q7
Такой индекс представляет собой отношение двух числовых после-
довательностей из группы вращений октаэдра (их полный перечень при-
водился в схеме на с. 177). В каждом таком отношении верхний ряд чисел
определяет порядок появления отобранных фактурных фигур, а нижний —
порядок появления отобранных динамических оттенков и показателей
длительности. Ниже этих рядов в каждой секции дается их расшифровка
(точнее — перевод в условные символы музыкального языка):
Q12 s5 s6 $8 $7 S, $2 s4 S3
Оз К8 /\ 1 \ Кб К7 К5 К4 к2 К3 к.
6,08 3,72 7,98 2,83 10,0 2,25 22,5 1,0
f // ff / 77?/ fff fff 772/
182
Характеризуя данную композиционную модель, отметим, что, с од-
ной стороны, она обладает определенной информационной избыточно-
стью, то есть ее можно было бы представить и в более лаконичном виде,
с сохранением всех зафиксированных в ней признаков формы-компози-
ции. С другой же стороны, сравнение с нотным текстом показывает и
существенную неполноту данного варианта композиционной модели
(Ксенакис делает необходимые дополнения в дальнейшем изложении
своего анализа). Исходя из этого, удобней сразу же предложить вариант
композиционной модели, более компактный и более соответствующий
окончательному нотному тексту произведения:
1 А =75 Л (13, 17) 1 Q12 Q13 °4 о7 Л(11, и)
2 J = 84 Ф: Лоз, 11) °8 Oil °2 А =75 ЛОЗ, 17)
3 J =62 Л(11, 5) о7 «5 °4 °7 J =75 Л(5, 13)
4 г Л(5, 7) «3 °11 Л (11,17)
5 J = 84 ф :: Л (7, 5) «7 °5 °2 Об Л<7, 11)
6 i =62 Л(5, 11) О о 00 jo J =75 Л(5, 1)
В такой схеме нет расхождений с описаниями Ксенакиса, однако в
ней более наглядно выступают некоторые особенности, весьма сущест-
венные для непосредственного слухового восприятия музыки.
183
Во-первых, мы сразу можем убедиться, что каждый сегмент компози-
ционной модели фактически делится не на три, а на четыре секции. При-
чем эта дополнительная четвертая секция, являющаяся в каждом сегмен-
те заключительной, обозначается Ксенакисом особым образом: L 11, 11;
L 13,17; L 5, 13; L 11, 17; L 7, И; L 5, 1.
Весьма отличаются эти секции от прочих и в нотном тексте сочине-
ния. В них, в частности, нет деления на восемь элементов, представляю-
щих комбинации отобранных форм звукового материала.
Действительно, предназначение и способ математического выведе-
ния этих секций являются иными, в силу чего Ксенакис и не включил их
в приведенный выше вариант композиционной модели. Данные секции —
своего рода «соединительная ткань» в структуре произведения, связую-
щие мосты от одного сегмента к другому. Применительно к ним Ксенакис
пользуется понятием «метабола».
Во-вторых, сразу обращает на себя внимание система повторов (бо-
лее или менее буквальных), образующая арочные связи между соответ-
ствующими секциями формы сочинения. Приведем сравнительную
таблицу таких арочных связей, позволяющую сделать некоторые инте-
ресные наблюдения (см. таблицу на с. 185).
Абсолютное тождество заданных характеристик мы обнаруживаем
между заключительными секциями 2-го и 5-го сегментов:
&
при общей системе значений у. Значительное сходство находим и в двух
других парах заключительных секций — 1-го и 3-го:
Р Q4 и а 0-4
Q? Q?
а также 4-го и 6-го сегментов:
В О'11 и а О'11
Q71 Qi
Эти связи, как можно заметить, в совокупности образуют симмет-
ричную структуру:
184
2 S8K7 S6K5 S5K7 S8K8 S3K2 S2K1 S,K3 S.K, 4 4
6,88 5,24 10,32 7,86 4,5 2,0 14,0 8,0
У — 'Л' .
°6
5 6,88 5,24 10, 32 7,86 4,5 2,0 14,0 8,0
у °2 — iLA'
7 «6
1 S6K8 S7K7 S3K5 S5K6 S2K4 S3K3 S4K1 S,K2
6,08 7,98 2,83 3,72 10,00 22,5 1 ,0 2,25
сГ сГ <50. — z'1'' 5’-v » » 1 t I 1 1 I i i
3 5,24 6,88 3,93 5,15 5,0 11,25 2,0 4,5
Q4 — —
-
v7»'
4 S8K7 S5K8 S6K6 S7K5 S4K3 S1K4 S2x2 S3K1
7,98 6,08 3,72 2,83 22,5 10,0 2,25 1,0
0 Q11 -/ - I1 — —
6 6,88 5,24 5,15 3,93 11,25 5,0 4,5 2,0
АО ' i <s^ , . ♦ ♦ — —
2 S7K8 s5K5 S8K6 S6K7 S3K4 S1K1 S4K2 S2K3
7,86 5,24 6,88 10,32 8,0 2,0 4,5 14,0
О ю -*• Q0 —— ‘ —
6 5,24 3,93 5,15 6,88 5,0 2,0 4,5 11,25
R О о — 00 ’А 1 — —
Помимо названных, в композиционной модели присутствует еще
одна арочная связь вторых секций 2-го и 6-го сегментов:
Как видно в схеме, эта связь определяется гораздо меньшим сход-
ством внутреннего строения секций.
Обратившись к нотному тексту произведения, мы, однако, обнару-
жим, что буквального подобия музыкального материала нет даже в абсо-
лютно тождественных по композиционной модели секциях. Это хорошо
видно здесь:
185
186
Для удобства сравнения сведены вместе секции из 2-го и 5-го сег-
ментов нотного текста. В обоих случаях Ксенакис следует композицион-
ной модели в том, что касается порядка появления восьми элементов и их
масштабного соответствия. Однако каждый элемент в отдельности наде-
лен своими индивидуальными особенностями. Композитор верен фак-
турной идее, им же заранее сформулированной, но остается свободным в
выборе вариантов ее реализации.
Точность временных характеристик, в композиционной модели
достигающая сотых долей секунды, при перенесении их в нотный текст,
разумеется, оказывается весьма относительной. Возможности тради-
ционной нотации и исполнительская агогика делают здесь «погрешно-
сти» неизбежными. Однако можно предположить, что Ксенакис не счи-
тает это существенным компромиссом. Он и сам проявляет себя как
«исполнитель» композиционной модели, порой достаточно свободно ее
интерпретирующий. Это видно, например, по динамическим обозначе-
ниям в нотах данного сочинения. Если в 5-м сегменте уровень динамики
почти во всем соответствует предписаниям композиционной модели
(лишь в пятом элементе дополнительно введены интенсивные crescendo
и diminuendo), то во 2-м сегменте «незапрограммированные» динамиче-
ские оттенки встречаются чаще (5-й, 7-й, 8-й элементы), хотя и, опять-та-
ки, как дополнение к «законному» уровню громкости.
Звуковая материализация фактурных фигур дает Ксенакису еще
больший простор для фантазии. Весьма обобщенный характер их пред-
варительного описания позволяет осуществить в сочинении ряд сквоз-
ных линий, основанных на вариационном преобразовании данных
фигур, четко узнаваемых благодаря своей интонационной специфич-
ности.
В данном произведении, таким образом, заранее построенная мо-
дель — это именно предкомпозиция. Она определяет прежде всего струк-
туру целого сочинения, характер дистантных и контактных связей его
сегментов и секций. Однако и синтаксический уровень музыкальной ор-
ганизации также «управляется» этой же моделью. Ею определены внут-
реннее строение отдельных секций, характер и ритм контрастов, вопло-
щаемых составляющими каждую секцию восемью элементами. На фони-
ческом же уровне модель лишь частично диктует композитору свои усло-
вия. Ею задается временная и динамическая характеристика каждого
элемента секции (соблюдаемая, как мы видели, относительно строго) и
187
указывается определенный тип фактурной фигуры, звуковая реализация
которого в остальном производится композитором по собственному
усмотрению и всякий раз достаточно своеобразно.
Описав вкратце метод работы Ксенакиса на примере «Nomos Alpha»,
следует высказаться и относительно художественных достоинств данно-
го сочинения. Надо сказать, что отношение к музыке Ксенакиса в целом
весьма неоднозначно даже среди музыкантов-профессионалов. Небезын-
тересно привести здесь мнение, выраженное в свое время Вл. Протопопо-
вым по поводу «Nomos Alpha»: «Ни один аналитик в мире не сможет
составить те графики и те расчеты, из которых автор построил “Номос
альфа”, сколько бы ни прослушивать эту композицию <...> Композитор
выстроил между собой и слушателем барьер непонятности и сам же дол-
жен его снимать, чтобы доказать, что у него все рассчитано. Рационализм
предельный, эмоциональности же музыки — никакой! Каждая подобная
композиция единична, и никакой курс анализа не может охватить таких
единичностей» (102,215).
Разумеется, ни один слушатель не сможет угадать, что в основе
структуры пьесы «Nomos Alpha» лежат октаэдральная группа и описан-
ный выше математический аппарат. В терминологии К. Штокхаузена, это
вопрос «организации», а не «композиции». Следует сказать, что реальный
эффект восприятия стохастической музыки не был безразличен для Ксе-
накиса. Он, в частности, сам оговаривал некую «особую» логику, новую
связь, обнаруживаемую в его сочинениях слушателями, особенно при
неоднократном прослушивании музыки (187, 42).
В данном случае реально воспринимаемая форма произведения
характеризуется прежде всего следующими признаками. В крупном плане
наиболее заметно чередование сегментов и прослаивающих их «метабол».
Это чередование выражается в особом ритме контрастов. Сегментам свой-
ственна импульсивность, насыщенность быстро сменяющими друг друга
контрастными элементами. «Метаболы» воспринимаются как торможе-
ние, отстранение от действительности, отличаются затаенным, порой
даже мистическим характером звучания. Возникающий на этой основе
ритм музыкальной формы — это реальный эффект восприятия, не входя-
щий в противоречие с принципами композиционной модели.
Форму «Nomos Alpha» следует причислить к типу «открытых». Мож-
но легко представить себе как продолжение развития, так и его усечение.
Это также согласуется с природой композиционной модели, допускаю-
188
щей ограничение любым объемом преобразований исходной числовой
последовательности.
Однако «знак окончания» в произведении присутствует. Это послед-
няя «метабола» — L (5,1), являющая собой известный принцип «переме-
ны в последний раз», поражающая «сверхъестественным» звучанием,
немыслимым на солирующей виолончели (полихронные восходящие и
нисходящие линии, не совпадающие по штриху)31.
В более мелком плане следует отметить фактическую условность
членения сегментов на секции. Цезуры между секциями в принципе не
отличаются от внутрисекционных цезур, вследствие чего развитие в сег-
ментах воспринимается как единый поток, в котором лишь ощущается
периодичность и вариационность повторений отдельных элементов.
Актуальность отмеченных выше арочных связей между секциями
при слуховом восприятии должна быть признана относительной, эти
связи с трудом осознаются даже при специально направленном слуша-
нии. Однако ясно чувствуется единая основа всего развития в целом,
некая «логическая непротиворечивость» композиции.
Мы не можем согласиться с утверждением Вл. Протопопова об аэмо-
циональности музыки «Nomos Alpha». Любой фрагмент сочинения впе-
чатляет разнообразием интонаций: виолончель «ворчит», «удивленно
присвистывает», «бросается в атаку», «замирает в оцепенении» и т. д. Но
впечатляют именно отдельно взятые фрагменты! В интонационном
развитии явно не хватает крупного плана, событийности, стоящей рангом
выше и отвечающей масштабу формы сочинения. Поэтому музыка спо-
собна утомить слушателя, первоначально обнадежив его насыщенностью
событий на синтаксическом уровне формы и не поддержав его ожиданий
на уровне композиционном.
Следует, наконец, принять во внимание и то, что в данном сочинении
по понятным причинам отсутствуют самые типичные для Ксенакиса и
более экспрессивные для слуха формы звуковой материи, основанные на
многозвучных комплексах. Возможности виолончели, конечно, несоиз-
31 При исполнении этого заключения на практике используется магнитофон-
ная запись. (Позднее таким же приемом воспользовался А. Шнитке в заключении
своей Прелюдии памяти Шостаковича для скрипки соло, однако наделил его
гораздо более глубоким художественным смыслом.)
189
меримы с обычно используемыми Ксенакисом большими инструмен-
тальными составами.
Некоторой неудовлетворенностью Ксенакиса художественным
результатом своей работы, по-видимому, можно отчасти объяснить его
решение создать на основе той же, в сущности, но более широко развитой
композиционной модели оркестровый вариант сочинения под названием
«Nomos Gamma» (1966-67). По крайней мере, в аналитическом описании
«Nomos Gamma» Ксенакис акцентирует прежде всего фонические осо-
бенности музыки, останавливаясь не только на деталях примененного
математического аппарата, но и на определении своих чисто художе-
ственных задач.
Большое значение Ксенакис придает возникновению у слушателя
определенных предметных ассоциаций вроде «шума падающего на землю
града» или «шелеста соснового бора». Он, в частности, пишет: «Слуша-
тель-каждый индивидуально — может ощутить себя вознесенным на
вершину горы посреди атакующего его со всех сторон шторма или на
хрупком паруснике, затерявшимся в море, или во вселенной, распростер-
шейся вокруг маленьких звуковых звезд, сжимающихся в туманности
или обособляющихся» (187, 237).
Достижение подобных эффектов, позволяющих говорить о прибли-
жении к возможностям электронной музыки, Ксенакис связывает с осо-
бым использованием обычного симфонического оркестра, подробно опи-
сывая необходимые условия исполнения. Особенно существенным приз-
нается принцип пространственного рассредоточения в аудитории 98-ми
музыкантов, который Ксенакис определяет как «оркестр среди публики и
публика среди оркестра» (187, 236). Значительно расширяет Ксенакис и
тембровую палитру оркестра, дополнительно снабжая каждого музыканта
тремя ударно-колористическими инструментами (маракас, сирена т. п.).
Как указывает Ксенакис, такое использование оркестра позволяет
обратиться к радикально новой кинетической концепции музыки32.
32 Идеи кинетической (пространственной) музыки в эти же годы развивали и
другие композиторы. В частности, в 1970 году на Всемирной выставке в Осаке был
построен особый сферический концертный зал, где многократно исполнялось спе-
циально написанное для этого сочинение К. Штокхаузена «Спираль».
190
Итак, подытожим свои основные впечатления о творческом процес-
се и методе Ксенакиса. Безусловно, перед нами значительное явление в
современной музыкальной культуре, достойное внимательного изучения,
несмотря на свою очевидную противоречивость. При всей непривычно-
сти, а порой и «экстравагантности» музыкального языка Ксенакиса,
нельзя не отметить ряд важных моментов, четко отделяющих этого ком-
позитора от толпы сочинителей, по существу не имеющих никакого отно-
шения к музыке.
Ксенакис не замыкается в игре «чистыми формами», придавая боль-
шое значение эмоционально-художественному воздействию на слушате-
ля, пробуждению в нем ярких образно-поэтических ассоциаций. Рацио-
нальная направленность творчества Ксенакиса не перерастает в догмати-
ческое следование абстрактной схеме, не означает принесения в жертву
интуитивной стороны процесса сочинения. Композиционная модель у
Ксенакиса ие тождественна нотному тексту, как это было в сериальной
музыке. Вносимые при написании нотного текста коррективы свидетель-
ствуют о внимании автора к результатам слушательского восприятия, о
поисках тонких оттенков выразительности. В связи с Ксенакисом, пожа-
луй, уместно вспомнить высказывание Р. Рети о Шёнберге: «Он был
слишком большим музыкантом, чтобы принимать сторону теории в ее
столкновениях с музыкальной интуицией» (104, 43).
При этом не стоит закрывать глаза и на сомнительные стороны
музыки Ксенакиса. Всегда ли легко ответить, например, на вопрос об
этическом воздействии, о нравственных проблемах искусства Ксенаки-
са? Музыка Ксенакиса, безусловно, впечатляет, но не случайно, желая
как-то выразить свое о ней впечатление, мы, как правило, ищем нужные
слова не в сфере духовного. Именно соотнося теоретическую и практи-
ческую стороны творческой деятельности Ксенакиса, можно явственно
увидеть принципиальную неполноту его концепции. Ксенакис созна-
тельно уходит от отражения средствами музыкального языка тех сторон
окружающего мира, которые связаны с субъективным началом. Его
интересует отстраненное, надличностное совершенство природы, а не
нюансы видения этой природы человеком. Изменчивость развивающе-
гося по своим непреложным законам внешнего мира заслоняет для него
неуловимость оттенков внутреннего мира человека, находящую выраже-
ние в тонких эмоциональных реакциях, сложных психологических
состояниях.
191
Интонационная сфера музыки Ксенакиса, как правило, далека от
интонационности человеческой речи, что уже само по себе определяет
границу распространения художественных замыслов композитора и
характер эмоционального воздействия музыки на слушателя.
Но в этом отказе можно видеть и последовательность позиции Ксе-
накиса, объективную оценку им возможностей собственного метода.
«Определить — значит ограничить», — метко сказано Оскаром Уайльдом.
Ксенакис обоснованно оставляет в стороне именно ту сферу, примени-
тельно к которой его метод вряд ли оказался бы художественно опра-
вданным. Принципиально не сходя с позиций аналитизма как одного из
типов мышления, Ксенакис «ставит чистый эксперимент», избегая зону
синкретического мышления, зону господства не поддающейся строгой
формализации художественной интуиции.
Поэтому, характеризуя творчество Ксенакиса в целом, по-видимому,
целесообразно дифференцировать свою оценку, отдельно ставя вопрос об
историческом и о собственно художественном значении наследия этого
композитора. По-видимому, прежде всего именно в историческом плане
творчество Ксенакиса можно рассматривать как логически необходимый
этап в развитии современной музыки. Подчеркнуто экспериментальный
по характеру метод Ксенакиса дал интересный результат, чрезвычайно
важный для развития музыкальной практики и теории.
Если в западноевропейской музыке XX века композиционную
модель можно считать специфическим атрибутом достаточно распро-
страненного «алгоритма творчества» композиторов, и была показана,
хотя бы и пунктирно, основная тенденция развития соответствующего
типа композиторского мышления, то в отечественной музыке роль рас-
смотренных выше закономерностей представляется значительно более
скромной! Отечественная музыка унаследовала основные традиции клас-
сической русской культуры, в соответствии с которыми проблемы худо-
жественной формы осмысливались русскими художниками прежде всего
как пути к наиболее полному выражению жизненной правды и значи-
тельно реже рассматривались отвлеченно, а тем более признавались аль-
фой и омегой искусства в целом, что, как известно, являлось одной из
аксиом западной эстетики^
В то же время русская культура еще с петровских времен находилась
в теснейшем контакте с культурой Запада и, можно сказать, именно через
192
соприкосновение с последней достигла столь высокой степени самосо-
знания и самоопределения в контексте мировой культуры в целом. Разу-
меется, развитие западноевропейской музыки не могло не интересовать
отечественных композиторов. И крупные художественные достижения
лучших зарубежных мастеров, и распространение оригинальных эстети-
ческих концепций стимулировали композиторов «испробовать себя» в
некоторых новых, необычных сферах творчества.
«Волна эксперимента» оказалась представленной поколением ком-
позиторов, заметно выдвинувшимся в 50-70-е годы. Следует подчерк-
нуть, что хотя 50-е годы в западноевропейской музыке и были периодом
самого широкого распространения идей структурализма, в отечествен-
ной музыке сразу определился свой, далекий от простого копирования,
путь освоения новой композиторской техники. Теперь уже можно заклю-
чить, что, вопреки высказывавшимся не раз опасениям, на почве отече-
ственного музыкального искусства действительно прижились лишь
некоторые новые элементы музыкального языка, но никак не общая
идейно-эстетическая направленность западного авангарда. И если, по
словам Т. Адорно, западноевропейская музыка после нововенцев «стано-
вится все более абстрактной, одновременно предельно детерминирован-
ной и хаотической» (81, 203), то в лучших образцах отечественной музы-
ки новые средства выразительности оказались поставленными на службу
истинно художественному замыслу, лишь расширив возможности компо-
зитора, но не подчинив себе его творческую инициативу.
Новая интерпретация приемов, заимствованных у западноевропей-
ского музыкального структурализма, свойственна многим отечествен-
ным композиторам. Можно, в частности, сослаться на неожиданное соче-
тание отчетливо выраженной национальной характерности с додекафон-
ной организацией материала в таких сочинениях, как «Плачи» Э. Дени-
сова, «Шесть картин» А. Бабаджаняна, Третья соната для фортепиано
Б. Тищенко и др. Такие примеры еще с одной стороны подтверждают, что
возможности новых средств композиторской техники наиболее раскры-
ваются именно в тех случаях, когда автору удается органично включить
эти средства в отшлифованную временем систему музыкального языка.
Сознательный акцент на вопросах структурной организации музы-
кального произведения у отечественных композиторов проявлялся в раз-
ных формах. Приведем характерное высказывание Софии Губайдулиной:
«Структура должна быть найдена из звукового феномена, исходя из
самого материала данного сочинения. Новое отношение к звуку основано
на внутреннем строении самого звучания. Исходя из свойств звука,
можно найти и структуру сочинения» (114, 4).
Идеи такого рода, как известно, широко распространены в западном
послевоенном авангарде. Задача привести в соответствие структуру ком-
позиции целого ставилась, например, в пьесе X. Аймерта «Glockenspiel»,
в электронных опусах Б. Хамбрэуса. Поиски в этом направлении, однако,
не противоречат и принципам, определившимся в русле классического
искусства — как западного, так и русского. Интересно, что С.И. Танеевым
была высказана весьма близкая по существу мысль: «Форма всякого про-
изведения тесно связана с материалом, из которого она строится. Смотря
по тому, из дерева или камня вы будете строить дом, форма этого дома
будет разная, хотя каждый материал заключает in potentia бесконечное
число форм, но он в то же время полагает необходимые границы этим
формам» (106, 74).
Танеев, конечно, подразумевал здесь тематический материал, но
дальнейшее развитие музыкального языка естественно подвело к распро-
странению этой мысли и на звуковой материал, на сам тип звучания как
на первоэлемент формы произведения.
Пиком аналитизма в отечественной музыке следует считать первую
половину 60-х годов. В частности, в творческом пути Альфреда Шнитке
выделяется сравнительно недолгий (1963-1964) период, который услов-
но может быть назван «рационалистическим». Именно в произведениях,
относящихся к этим годам33, Шнитке обратился к методу сочинения, свя-
занному с феноменом композиционной модели.
Найденный в этот период метод работы Шнитке продолжает исполь-
зовать и в последующие годы. Композиционная модель, однако, все более
скрывается у него под тканью нотного текста, лишь в отдельных сочине-
ниях оставаясь доступной аналитической расшифровке. Отношение к
композиционной модели как к каркасу будущего сочинения, отсутствие
догматизма в следовании ей на завершающей стадии работы всегда были
свойственны Шнитке. По свидетельству В. Холоповой, «иногда, после
33 1-я соната для скрипки и ф-п. (1963), Прелюдия и фуга для ф-п. (1963),
Музыка для ф-п. и камерного оркестра в 3-х частях (1964), Музыка для камерного
оркестра в 4-х частях (1964).
194
того как произведение им было вчерне написано по продуманному пред-
композиционному проекту, Шнитке брал в руки ноты и еще раз тщатель-
но прослушивал сочинение внутренним слухом. И если что-то в записи
противоречило слуховому ощущению, он вносил поправки в почти гото-
вый текст...» (133,266).
. Отказ от жестких канонов сериализма в музыке 60-70-х годов
можно представить и как возврат от идеи «Системы» к идее «Метода»,
как поворот к индивидуализированным композициям с оттенком того
или иного «нео». В таких композициях новое лицо структурализма пред-
стает подчас как загадка искусно положенного «грима»: достаточно оче-
видное «портретное сходство» служит зацепкой для мысли, развиваемой
далее в совсем неожиданной плоскости.
Виктор Екимовский. «Камерные вариации».
Предлагаемый ниже анализ произведения Виктора Екимовского
«Камерные вариации» призван продемонстрировать оригинальный твор-
ческий метод автора, найденный и реализованный им при осуществле-
нии столь же оригинальной и четко осознанной художественной задачи.
Анализ этого сочинения возвращает нас к одному из предложенных
ранее тезисов. Речь, напомним, идет о возможном в определенных слу-
чаях представлении литературного текста как композиционной модели
музыкального произведения. Вполне очевидно, что о такой функции
литературного текста имеет смысл говорить лишь по отношению к музы-
кальным произведениям, в окончательной авторской редакции которых
литературный текст полностью отсутствует. Таким образом, вокальная
музыка, в которой литературный текст есть реально вычленимый компо-
нент художественного сочинения в целом, здесь рассматриваться не
может. Но помимо этого следует оставить в стороне и обширный пласт
инструментальной программной музыки, для которой литературный
текст также может являться более или менее детально выявленной кан-
вой образного развития, основой драматургии и определяющим момен-
том в главных особенностях композиции.
Какие же случаи тогда имеются в виду? Как представляется, доста-
точное основание говорить о литературном тексте как о композиционной
модели музыки дают лишь весьма редкие в композиторской практике
попытки «буквального перевода» литературного текста на язык инстру-
ментальной музыки.
195
Одним из примеров подобного рода может служить сочинение П. Хин-
демита «Иродиада», созданное в 1944 году на основе поэмы Ст. Маллар-
ме. Описание композиторского метода, использованного в данном сочи-
нении, заимствуем из монографии о выдающемся немецком композито-
ре: «“Иродиада” — это попытка соединить поэтическое слово и музыку
в единое целое, совершенно исключив при этом то выразительное сред-
ство, которое могло бы естественным образом создать синтетическую
форму, а именно — пение. Основание для такого ограничения следует
искать в самой цели композиции: она написана как танцевальное произ-
ведение для сцены <...> Мелодические линии, которые обычно поруча-
ются поющим голосам, здесь переданы инструментам оркестра. Такого
рода “оркестровая речитация” следует тексту буквально, так что сама
декламация французской стихотворной речи передается мелодически-
ми линиями и каденциями. Такой подход освобождает композитора
от ограничений, диктуемых человеческим голосом, но сохраняет черты
выразительной декламации и дает возможность наделить невокальные
мелодические линии постоянно меняющимися тембровыми красками,
сохранить полный диапазон звуков от самого нижнего у контрабаса
до самого высокого у флейты <...> Таким образом, “оркестровые речи-
тации” — это перевод стихотворной речи на язык музыкальных инстру-
ментов, осуществленный как бы “слово в слово”, во всех деталях. Музы-
ка “Иродиады” связана словом, но в то же время и свободна от него.
Она возникла “из духа поэзии”, но осталась “абсолютной музыкой”»
(59, 109-110).
Судить о художественной оправданности подобного метода сочине-
ния следует, разумеется, лишь с учетом того, насколько его использова-
ние инспирировано самим литературным первоисточником. Показатель-
но, в частности, что Хиндемит в Предисловии к нотному изданию «Иро-
диады» специально подчеркивал этот момент: «Столь разнообразная
музыкальная декламация, которой все же недостает человеческой непо-
средственности пения, но которая может пользоваться блестящей и хруп-
кой искусственностью инструментального звучания, не является ли она
именно тем выразительным средством, которое более всего соответству-
ет великолепному, нервно-напряженному, хрупкому и искусственному
произведению Малларме?».
Обратимся теперь к сочинению В. Екимовского. «Камерные вариа-
ции» (Композиция для 15 или 13-ти исполнителей), написанные в 1974 го-
196
ду34, можно рассматривать как своеобразный «перевод» на язык инстру-
ментальной музыки известного чеховского рассказа «Спать хочется».
Зарождение у композитора столь необычного замысла было определено
его читательским (так хорошо всем знакомым) художественным потрясе-
нием, бесконечно растущим при каждом новом возвращении к рассказу
«Спать хочется» — этому маленькому шедевру чеховской прозы.
Приступая к анализу «Камерных вариаций», целесообразно заранее
поставить перед собой несколько основных вопросов:
1. Важнейшие особенности драматургии и художественных средств в
чеховском рассказе.
2. Этапы творческой работы Екимовского.
3. Оценка художественного результата, достигнутого композитором.
Рассказ «Спать хочется», следует заметить, уникален уже тем, что
высочайший его трагизм достигнут при полном исключении средств
художественного воздействия, традиционных для времени его создания
(рассказ написан в 1888 году). Скорее здесь можно говорить о своеобраз-
ных «антиприемах». В рассказе, например, почти отсутствуют портрет-
ные характеристики (что столь необычно и для самого Чехова): «Девоч-
ка лет тринадцати» — это все, что сообщается читателю о внешнем облике
героини — Варьки. Намеренно «обезличены» хозяева Варьки. Их ребенок
в рассказе фигурирует, можно сказать, как вещь, как одна из Варькиных
непосильных обуз.
Явно избегается Чеховым сентиментальная интонация. Отметим
характерную деталь: в рассказе есть эпизод кормления хозяйкой грудно-
го ребенка, но при этом нет и намека на «святую тему материнства», каза-
лось бы, способную еще больше усугубить трагизм развязки в финале.
Чехов решительно избегает какого бы то ни было эмоционального
надрыва в своем повествовании, отказываясь от экспрессионистски обо-
стренных средств при описании чувств и поступков людей.
В чем же заключается художественное открытие в этом рассказе?
Каковы художественные средства, использованные Чеховым, и что ле-
жит в основе их организации?
34 Существует грамзапись этого сочинения, выпущенная фирмой «Мелодия»
в 1981 г. (Выходные данные диска: СТО - 15747-8.)
197
Существенной особенностью рассказа «Спать хочется» представляет-
ся то, что действие развивается здесь как бы сразу в двух временах и двух
состояниях, грань между которыми постепенно стирается и становится
условной. Настоящее и прошлое — переплетение этих двух временных
понятий издавна известно как основа основ художественной литературы.
Но здесь это переплетение показано автором совершенно особенно:
сквозь призму двух состояний, двух форм жизни человека. Изможден-
ный мозг Варьки постоянно балансирует на грани сна и бодрствования, в
нем хаотически переплетаются отрывки прошлого и настоящего, напол-
зают друг на друга сновидение и реальность.
В краткие мгновения забвения, неглубокого погружения в сон перед
Варькой встают картины ее прошлой убогой жизни: смерть отца, скита-
ния с матерью в поисках заработка... Безрадостная реальность тут же
напоминает о себе то плачем ребенка, то пинком или грубым окриком
хозяев. Многократные переходы от сна к яви, от прошлого к настоящему,
и наоборот — это и есть канва драматургии рассказа. Чехов чрезвычайно
тонко и психологически точно передает Варькино состояние. Вот харак-
терные примеры описания пробуждений Варьки:
«Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затыл-
ку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза
и видит перед собой хозяина-сапожника.
— Ты что же это, паршивая ? — говорит он, — Дите плачет, а ты спишь ?».
Так прерывается сон, из которого читатель успевает узнать о Варьки-
ном сиротстве. Из следующего, тоже внезапно прерывающегося сна по
одной лишь фразе читателю становится ясно, как оказалась Варька на
службе у сапожника.
«Обе они спешат в город наниматься.
— Подайте милостынки Христа ради! — просит мать у встречных. —
Явите божескую милость, господа милосердные!
— Подай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос. —
Подай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. —
Спишь, подлая?»
Погружение в сон, напротив, происходит всякий раз одинаково: рас-
плывается перед Варькиным взором зеленое пятно мигающей лампадки,
колеблются тени на стене, навевая на Варьку туманные грезы. Да и сон
каждый раз начинается одинаково: перед Варькой грязное шоссе, люди с
котомками.
198
Эти повторяющиеся образы — чрезвычайно важные смысловые эле-
менты художественного текста. Уже не раз отмечалось, что «с точки зре-
ния литературных норм в произведениях Чехова много загадочного,
странного, такого, что оставляет впечатление каких-то зашифрованных,
повторяющихся символов» (128, 174).
Весьма необычна и сама драматургия произведения. Экспозиция
дана здесь в двух чередующихся планах: реальность настоящего (при
отмеченном отсутствии портретных характеристик детально и зримо
описана обстановка хозяйского дома) и ирреальность прошлого (из пута-
ницы Варькиных сновидений нам становятся известны главные события
ее жизни).
Завязкой конфликта можно считать первое пробуждение Варьки от
подзатыльника, отвешенного хозяином. С этого момента попеременное
чередование сна и яви становится в рассказе средством нагнетания вну-
треннего напряжения.
Особенно интересен с точки зрения драматургии центральный раз-
дел рассказа. Утро, день, вечер — художественное время, переживаемое
читателем, как бы ускоряет свой бег. Меняются строй, ритм чеховской
речи. Один за другим сыплются на Варьку все новые приказы:
«— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть
селедку!».
Но поразительно то, что эта внешняя активизация действия с точки
зрения драматургии оказывается не средством достижения кульминации —
развязки, а, напротив — отодвиганием, отстранением ее.
«Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада.
Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положе-
нии. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее
одеревеневшее лицо и как проясняются мысли».
Днем Варьку страшит лишь монотонная работа, во время которой на
нее, как бы подкравшись, тяжело наваливается сон. И когда вновь насту-
пает ночь, уже сама статичность этой «репризы ситуации» (то же зеленое
пятно, те же тени, то же начало сна) воспринимается читателем как невоз-
можное, невыносимое перенапряжение. Близость развязки очевидна.
Сама же развязка, на первый взгляд, представляет традиционный
для жанра рассказа прием «парадоксального окончания». Буквально вре-
заются в сознание страшные своей внезапностью слова: «Убить ребенка,
а потом спать, спать, спать...». Однако уникальность художественного
199
решения этой развязки, пожалуй, определяется опять же «антиприемом».
Ведь «сцены убийства» в рассказе нет! Она сжата до двух слов в самой
последней фразе:
«Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что
ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...».
Пронзительность концовки в том, что развязка, по существу, вынесе-
на автором за черту текста. Потрясенный читатель сам домысливает гря-
дущее пробуждение Варьки. Вся «реприза» рассказа целиком выдержана
в том строе речи, который всякий раз передавал состояние сна, наважде-
ния, означал ирреальность происходящего. Это важно и потому, что
поступок Варьки не может быть, по существу, воспринят как убийство, —
она действует как сомнамбула, окончательно теряя чувство реального.
Итак, кульминация без применения ожидаемых средств; развязка,
понимаемая как фактическое преддверие истинной развязки. Сколь
неклассична, в самом деле, драматургия этого удивительного рассказа!
Обратимся теперь к черновикам композитора, позволяющим про-
следить этапы реализации его художественного замысла. Екимовский
самым детальным образом проанализировал драматургию чеховского
рассказа, о чем свидетельствует построенная им схема (см. с. 201).
В этой схеме отражены уже отмечавшиеся выше особенности драма-
тургии: наличие экспозиции и репризы35, троекратный повтор начала сна,
троекратное наложение сна или действительности.
Особо выделены в схеме сквозные линии развития, основанные на
неоднократном появлении образов-символов (лейтмотивов). Екимов-
ский указывает три такие линии.
Первая линия связана с наваждением сна, с описанием Варькиного
состояния. Уже само название рассказа — «Спать хочется» — оказывает-
ся своего рода гипнотизирующим внушением, которое многократно воз-
35 В нашем представлении, повторим, наряду с экспозицией «реального
настоящего», совпадающей с экспозицией, обозначенной Екимовским, имеет место
и рассредоточенная экспозиция «ирреального прошлого» (1-й и 2-й сны Варьки).
То есть в первом эпизоде, думается, правильней говорить о совмещении драматур-
гических функций экспозиции и завязки. «Реприза» же, судя по всему, начинается
раньше, чем она обозначена в схеме: не с возникновения у Варьки мысли об убий-
стве, а с возвращения знакомой ситуации (ночь, Варька с ребенком, зеленая лам-
падка, тот же навязчивый сон).
200
ЭКСПОЗИЦИЯ ПЕРВЫЙ эпизод
201
1-е НАЛОЖЕНИЕ СНА
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
2-е НАЛОЖЕНИЕ СНА
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
вращается в тексте в различных вариантах: «А Варьке хочется спать»;
«А спать нельзя»; «Спать, спать!»; «А спать хочется по-прежнему». В схе-
ме особо отмечены неоднократные «наплывы» сонного состояния Варь-
ки в течение дня, что образует арку, связывающую центральный эпизод с
крайними разделами рассказа.
Вторая линия определена появлением цветосимвола — зеленого пятна
лампадки, отбрасывающего на стены причудливые тени. Описания зеленого
пятна неизменно предшествуют началу каждого Варькиного сна, являясь,
таким образом, и заметным средством структурного членения в рассказе.
И наконец, третья линия — это, можно сказать, музыкальный эле-
мент, заложенный в самом рассказе. Варька напевает свою нехитрую
колыбельную «баю-баюшки-баю», которой, с одной стороны, невольно
погружает себя в сон, с другой же — старается, борясь с одолевающим ее
сном, поддерживать, как помечает в схеме Екимовский, «постоянную
связь с действительностью».
«Баю-бай» — лейтмотив, появляющийся многократно (он отсутству-
ет лишь во втором эпизоде и в финале рассказа). Однако, в отличие от
лейтмотива «зеленого пятна», лейтмотив колыбельной присутствует не
только на важных структурных гранях текста, но и внутри его различных
разделов, становясь своего рода фоновым, изобразительным элементом,
дорисовывающим обстановку ночи.
На основе этой драматургической схемы рассказа Екимовский и
пробует представить драматургическую канву своего будущего сочине-
ния. В первоначальном варианте она обретает у него следующий схема-
тический вид:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ
КУЛЬМИНАЦИЯ ( "ТИХАЯ")
202
Логическая основа такого решения достаточно ясна. Три наложения
сна и действительности рассматриваются как три образующие линию
постепенного нарастания кульминации. После третьей, генеральной,
кульминации, соответствующей моменту убийства, имеется краткий
спад. Следует обратить внимание на пометку «тихая кульминация» в
схеме Екимовского. Видимо, с этого уточнения и начались сомнения
автора в художественной оправданности подобного решения36.
В самом деле: в чеховском рассказе отнюдь не так прямолинейно
совершается подготовка психологической кульминации. Вряд ли можно
почувствовать, что второй сон и второе пробуждение даны на более высо-
ком эмоциональном уровне, чем первые. И уж, конечно, воздействие ранее
упомянутого «антиприема» в концовке рассказа отнюдь не может расце-
ниваться как спад. Эта развязка остро переживается читателем уже и как
завязка трагедии, оставленной Чеховым за последней строкой текста.
Каким явилось окончательное драматургическое решение Екимов-
ского, мы узнаем, обратившись к звукозаписи и нотному тексту «Камер-
ных вариаций». Пока же продолжим знакомство с черновыми записями
композитора, следя за дальнейшим движением его творческой мысли.
Следующим этапом работы Екимовского было, условно говоря,
написание «либретто». Посредством ряда произведенных в чеховском
тексте купюр он попытался сделать своего рода «концентрат», сохраняю-
щий все основные драматургические «узлы» рассказа и общий строй
авторской речи. Наряду с такими купюрами Екимовский использует
также другое, можно сказать, противоположное, средство. Он сознатель-
но усиливает роль сквозных линий, дополнительно вводя в некоторых
местах названные выше чеховские «лейтмотивы».
Так, например, лейтмотив колыбельной («баю-баюшки-баю»)
появляется помимо мест, определенных самим Чеховым, еще трижды: в
начале второго сна, перед наступлением утра и в самом конце повество-
вания. Лейтмотив сна появляется в виде монотонно повторяющихся слов
«спать, спать, спать» и в тех местах текста, где у Чехова такого повтора
нет, а просто говорится о Варькином состоянии («А Варьке хочется
спать», «А спать хочется по-прежнему»).
36 Забегая вперед, заметим, что окончательный итог работы композитора
имеет весьма мало общего с этим первоначальным замыслом.
203
Точности ради следует отметить еще два (несколько иного рода)
«вторжения» в чеховский текст. Крупная купюра в середине рассказа
(опущено описание подробностей смерти Варькиного отца) вызвала
затруднения при соединении окружающих этот эпизод фрагментов тек-
ста. В результате появилась «посторонняя», на первый взгляд, фраза:
«Доктор с четверть часа возится с Ефимом, потом уходит, и опять слы-
шится “бу-бу-бу...”».
На самом же деле и здесь нет ни одного «взятого со стороны» слова.
Переходная фраза представляет монтаж слов, реально присутствующих в
чеховском тексте:
«Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом под-
нимается и говорит:
— Я ничего не могу поделать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе
операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко
поздно, в больнице уже все спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слы-
шишь?
— Батюшка, да на чем же он поедет? — говорит Пелагея. — У нас нет
лошади.
— Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.
Доктор у ходит, свеча тухнет, и опять слышится “бу-бу-бу”
В эпизоде трудового дня Екимовский сохраняет почти исключитель-
но прямую речь, то есть хозяйские приказы, обращенные к Варьке. При-
чем два из них взаимно переставлены местами в сравнении с оригиналом.
По всей вероятности, Екимовский руководствовался здесь своим ощуще-
нием ритма литературного текста, предельно подчеркивая его сжатие,
импульсивность (изменение ритма, строя речи в данном эпизоде чехов-
ского рассказа уже было выше отмечено).
Именно интонационно-ритмическое прочтение чеховского текста и
стало с этого момента для Екимовского главным направляющим факто-
ром. Следующий этап композиторской работы — своего рода «подстроч-
ный перевод» подготовленного литературного «либретто» на язык музы-
ки. Нотный текст, создаваемый теперь Екимовским «подряд» и сразу в
виде партитуры, лишь в деталях отличается от окончательной редакции
произведения. Это свидетельствует о существовании четкой установки,
направляющей в нужное русло фантазию композитора.
Такая установка проявляется в двух моментах. Черновик-подстроч-
ник дает весьма ясное представление о том, что было принято Екимов-
204
ским за основу синтаксического членения музыки. Эта основа — обосо-
бление каждого отдельного слова в литературном тексте, особое его инто-
нирование средствами музыкального языка, включающими самые тон-
кие нюансы звукоизвлечения, ритмики, мелодики. Интонирование слова
определяется его смыслом, контекстом, в котором оно появляется. Поэ-
тому одинаковые слова могут иметь в различных фрагментах текста нео-
динаковое музыкальное «отражение». Особое же значение имеют слова-
лейтмотивы («Варька», «Спать», «Баю-баюшки»), за которыми закре-
пляются постоянные интонации.
Такой подход сразу же определил главные особенности музыкаль-
ной ткани произведения: микротематизм (в нотном тексте отсутствуют
даже минимально протяженные мелодические линии) и пуантилистику
(изолированность мотивов достигается их разъединением в оркестровом
пространстве, партитура складывается из кратких реплик различных
инструментов). Выбор исполнительского состава был тем самым факти-
чески предрешен: Екимовский остановился на типичном для Веберна
представительстве всех семейств оркестра «в лице» одного инструмента
(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, ударно-колори-
стические инструменты, арфа, скрипка, альт, виолончель, контрабас).
Поэтому вполне оправдано авторское посвящение, вынесенное на
титульный лист партитуры (которое на первый взгляд может показаться
и несколько претенциозным): «Антону Чехову и Антону Веберну».
Второй из вышеупомянутых моментов заключается в интонацион-
но-ритмическом прочтении литературного текста уже на другом его мас-
штабном уровне. Екимовский стремится средствами музыкального
языка передать пластическую линию чеховской речи, ее темпоритм, эмо-
циональные нарастания и спады. Тщательный предварительный анализ
драматургии рассказа позволяет ему теперь всецело полагаться на свою
художественную интуицию, следуя за ариадниной нитью приготовлен-
ного «либретто».
Поскольку черновики композитора не обнаруживают каких-либо
дополнительно заданных условий письма (например, серийной организа-
ции музыкальной ткани), литературное «либретто», действительно,
можно считать своеобразной композиционной моделью «Камерных
вариаций». Определяя в основных очертаниях архитектонику произведе-
ния, логику чередования тематических элементов, различного рода ароч-
ные связи, это «либретто» оставляет композитору достаточно большой
205
простор для фантазии. Композитор как бы представляет себя художе-
ственным чтецом-интерпретатором, выбирающим свой интонационный
строй, свои смысловые акценты, свой план ускорений и замедлений речи.
Одновременно он как бы выступает в роли звукорежиссера литературной
радиокомпозиции, дополнительно создавая своеобразные эффекты тек-
стовых наложений, перестановок, пространственных перекличек.
Как иллюстрацию метода Екимовского приводим начальные такты
«Камерных вариаций» с подписанным по черновику литературным тек-
стом37 (см. пример на с. 207-208).
Представленная здесь фактура и в самом деле весьма напоминает
Веберна своей прозрачной хрупкостью, тонкой звукописью, прихотливой
ритмикой. В первом же такте появляются сквозные интонации сочине-
ния — терция и нона, подвергаемые впоследствии бесконечному тембро-
вому и ритмическому варьированию. И хотя направленность этого инто-
национного процесса, как мы знаем, определяется развитием скрытого
сюжета, драматургической схемой рассказа, эмоциональное впечатление,
получаемое при прослушивании «Камерных вариаций», позволяет гово-
рить и о вполне самостоятельных, имманентных сторонах драматургии
этого музыкального сочинения.
Основные особенности литературного прототипа действительно
отражены в музыке Екимовского. Заметно выделяется по характеру цен-
тральный эпизод, который при этом умело не сделан композитором куль-
минацией. В этом эпизоде (цифра 50) нет результативности, он вторгает-
ся внезапно, временно выводит из состояния оцепенения, но затем вновь
поддается этому гнетущему состоянию.
Не в полной мере является кульминацией и эмоциональный всплеск
в самом конце сочинения (убийство), «остывающий звук» после которо-
го также не назовешь спадом.
Задуманная невыявленность драматургических функций позволяет
отнести «Камерные вариации» к роду медитативной музыки, воплощаю-
щей идею потока, непрестанной эволюции, — музыки, в которой, по выра-
жению Ю.Н. Холопова, уже не форма может быть представлена как про-
37 Буквального совпадения с черновиком здесь нет, поскольку на завершаю-
щей стадии работы Екимовский вносил в текст небольшие уточнения (главным
образом — в оркестровку и ритмику).
206
23.
В. Екимовский. Камерные вариации
FL
нь.
KI.
Fag.
Тг.
Нот
Pos.
Harfe
Violine
Br.
V-c.
K-b.
J = 40 p
tcha - iet
ka
mece
lv -biel
liet
aHos
3
vuch-ka
j = 40
vka - to
en la cual
ГО1
die
nifia
207
se oye
208
цесс, а сам процесс может рассматриваться как форма. Это особенно
относится ко всей первой части «Камерных вариаций», где значительно
менее, чем это можно было ожидать, отражены «наложения сна и дей-
ствительности» (см. ранее приведенные авторские схемы) и вместо чет-
кого ритма контрастно сопоставляемых разделов ощущается длительное
и неравномерное нарастание интонационной напряженности38.
Завуалированность драматургических функций всегда влечет за
собой проблему определения функций композиционных. Форма «Камер-
ных вариаций» разомкнута, как бы лишена начала и конца (вспомним
чеховский совет сочинителям рассказов отбрасывать в готовом тексте
начало и конец!). Музыкальная ткань децентрализована по всем своим
координатам. Деление на такты чисто условно, призвано облегчить
исполнителям ансамблевую координацию. Ритмика представляет здесь
бесконечное разнообразие ритмических рисунков, часть которых в сово-
купности со звуковысотной интонацией образует повторяющиеся лейт-
мотивы.
Звуковысотная организация пьесы может быть определена как сво-
бодная атональность. Тоникальность отдельных звуков и звукосочетаний
не выявлена. Множественность интонационных оборотов (хотя и при
преобладании терцово-секундовых звукосочетаний) не позволяет с
достаточным основанием отдать предпочтение какому-либо одному цен-
тральному элементу ситемы.
«Диагональ» фактуры характеризуется отказом от мышления сба-
лансированными группами инструментов. Тембровое варьирование
основано на возможности любых сочетаний инструментов в любых дина-
мических, регистровых, пространственно-акустических соотношениях.
Тембр является здесь важнейшим выразительным средством. И хотя о
тембровой персонификации говорить, быть может, и не стоит, продуман-
ность многих оркестровых эффектов очевидна39.
38 В известной мере эта особенность определяется исполнительской трактов-
кой. Музыканты, по-видимому, не имели точного представления о словах, стоящих
за каждым отдельным мотивом. В противном случае исполнение соответствующих
фрагментов текста, возможно, стало бы более рельефным.
39 Укажем на связь звучания челесты с образами сонных наваждений, ксило-
фона — с резкими окриками хозяев; отметим впервые примененный и связанный
со словами «задушив его» удар тарелки в самом конце пьесы.
209
Не находя в «Камерных вариациях» классических композиционных
функций, мы в то же время можем указать основные структурные грани
сочинения. Перед нами трехчастная композиция с сильно сжатой и транс-
формированной репризой:
А | В -+ А1
Заметим, что начало центрального раздела (цифра 50) точно совпа-
дает с важной драматургической гранью рассказа (наступление утра), но
зато реприза ситуации, ясно выраженная в литературном тексте (в нотах
ее началу соответствует 55-й такт), несколько опережает репризу музы-
кальную, которая вводится постепенным «наплывом», без подчеркнутой
цезуры.
Обсуждение деталей строения первой части или особенностей
репризного раздела формы, характера и причин заключенного в нем вне-
запного поворота вновь вернет нас к разговору о драматургии. И это весь-
ма симптоматично, ибо «Камерные вариации» относятся именно к тако-
му роду современной музыки, в котором планы формы и драматургии
являются фактически неразделимыми даже посредством теоретической
абстракции.
В заключение подведем некоторые итоги наблюдениям, а также
постараемся выразить свое мнение о художественном результате, достиг-
нутом композитором. Разумеется, «Камерные вариации» — сочинение
сугубо экспериментальное. Причем, в отличие от Хиндемита, осуще-
ствившего сходный замысел в балетном жанре, Екимовский ставит здесь
более «чистый» эксперимент, отказываясь от зрительного ряда и уповая
исключительно на возможности инструментальной музыки. Представля-
ется, что этот эксперимент наводит на интересные размышления о соот-
ношении литературного текста и музыки.
В сфере «программной» музыки обычно разграничивают произведе-
ния, обобщенно передающие содержание литературного первоисточника,
и произведения, детально отражающие его сюжет. В этом смысле «Ка-
мерные вариации» — явление необычное. По методу создания — это
музыкальное произведение, буквально следующее за литературным тек-
стом. По производимому же художественному впечатлению — это произ-
ведение весьма обобщенного характера, лишенное иллюстративности.
Язык «Камерных вариаций» не изобразителен, а выразителен. И хотя
некоторые обычные атрибуты «программной» музыки здесь присутству-
ют (есть определенные «аффектные» слова, получающие соответствую-
210
щее музыкальное воплощение; ощущается интонационное своеобразие
повествовательной речи «от автора» и прямой речи), все же ясно, что
текст играет здесь и другую особую роль. Абсолютно бескомпромиссное
следование за текстом40 имело для Екимовского смысл и как способ
рационального самоограничения в выборе средств, как гарантия соблю-
дения единого интонационного строя, свойственного именно данному
произведению41.
И наконец, последнее замечание. Весь анализ был построен на срав-
нении литературного и музыкального текстов и направлен на выявление
в них общих закономерностей. Однако установка на детальное сопостав-
ление художественных текстов «Камерных вариаций» и рассказа «Спать
хочется» при непосредственном слушательском восприятии музыки
представляется совершенно излишней. Попытка «проследить сюжет» не
только окажется безуспешной, но и помешает эмоциональному пережи-
ванию этой музыки.
Отнесение «Камерных вариаций» к медитативному роду музыки
означает и признание необходимости соответствующей слушательской
настройки. В данном случае это должна быть настройка не на сюжет, а на
«сверхтему» чеховского рассказа. «Камерные вариации» предлагаются
слушателю не как пересказ Чехова, а как воспоминание о Чехове, как
мысленное возвращение к испытанному когда-то потрясению от его зна-
менитого рассказа. И если сам рассказ — собственно трагедия человече-
ской жизни, представленная писателем предельно обнаженно и зримо, то
«Камерные вариации», пожалуй, можно назвать раздумьем об этой траге-
дии, раздумьем о добре и зле, об очищающей силе истинного искусства.
40 Композитор, по его собственному признанию, не позволил себе отходить от
текста даже в тех случаях, когда поиски соответствующего музыкального решения
подолгу не давали желаемого результата.
41 По существу, ведь и предварительное установление серийного порядка зву-
ков в додекафониом сочинении также обеспечивает композитору такое интона-
ционное единство. Возможны и другие способы самоограничения. Например,
тематическое развитие в Третьей симфонии А. Шнитке основано на комбинирова-
нии более 30-ти монограмм немецких композиторов. Смысл их введения связан с
посвящением сочинения юбилею оркестра «Гсвандхауз», однако композитор
отнюдь не рассчитывает на расшифровку слушателем всех использованных моно-
грамм. Их совокупность рассматривается им как отобранный по определенному
принципу интонационный арсенал, на основе которого строится индивидуальная
художественная форма произведения.
211
Достаточно подробное рассмотрение феномена композиционной
модели несколько проясняет содержание понятия «аналитизм» приме-
нительно к музыкальному искусству. Композиционная модель — своего
рода «квинтэссенция» аналитизма как метода мышления. Для исследова-
теля она особо важна как реально вычленимое и наблюдаемое звено твор-
ческого процесса композитора. Изучение феномена композиционной
модели позволяет существенно углубиться в проблемы художественного
метода, стиля, традиции и т. д.
На конкретных музыкальных примерах уточняется и характер соот-
ношения понятий «аналитизм» и «структурализм». Если первое предста-
вляется более универсальным, то второе, по-видимому, можно связывать
с определенными явлениями культуры именно XX века. Рассматривая
структурализм как специфическую форму аналитизма XX века, особо
подчеркнем момент перехода в новое качество: перехода от метода к
системе — к «герметической» фазе эволюционного процесса художе-
ственного мышления. Этот момент и есть апогей структурализма, отме-
ченный предельной абсолютизацией принципов, представленных ранее
как набирающая силу тенденция.
Последние шаги от метода к системе, равно как и дальнейшие пер-
вые шаги от системы к обновленному методу, превратно представляемые
порой как движение вспять, — это проблема, заслуживающая отдельного
исследования.
Парадоксы сериализма как «герметической» системы чрезвычайно
интересны и в ретроспективном, и в перспективном ракурсе рассмотре-
ния. Коснемся здесь лишь одного из них: парадокс «обратного эффекта»
— пожалуй, самая неожиданная находка сериализма. Предельный детер-
минизм и тотальная взаимосвязь все элементов оборачиваются... ощуще-
нием хаоса. Ни на миг не прекращающееся развитие исходной структуры
воспринимается как статика. Именно в сравнении с Веберном, тонким
художником сумевшим сохранять равновесие на грани «органической» и
«не органической» музыкальной природы, становится очевидным тупик,
в который зашли его наиболее прямолинейные последователи.
Тотальная производность в музыкальной ткани Веберна прежде
всего основана на сохранении семантической характерности интонаций
серии. Серия сочинялась так, чтобы во всех ее производных формах
легко узнавалась неизменная интонационная основа. В сериальной же
музыке метод пермутаций, подобный примененному в булезовских
212
«Структурах», делает такую производность чисто условной. При вос-
приятии такой музыки не срабатывает сам механизм узнавания, что
лишает слушателя возможности следит за процессом развития и ориен-
тироваться в нем.
Аналогичное суждение можно вынести и о применении принципа
серийности к невысотным параметрам музыкальной ткани. Если в звуко-
высотной сфере серийность возникла исторически закономерно, появив-
шись как результат развития интонационного языка, и высотная серия —
не случайный набор звуков, а логично построенная конструкция, то на
прочие параметры звука принцип серии переносится лишь по аналогии,
для них это искусственно «трансплантированный принцип» организа-
ции. Иллюзорной представляется и часто встречающаяся производность
невысотных серий от высотной.
Невысотные параметры но природе своей, очевидно, не способны
обеспечить восприятие связей и закономерностей такого рода, которые
могут быть осуществлены на основе высотного параметра42. Отключение
же неспецифических средств от коммуникативных функций ведет к
понижению эффективности восприятия высотной организации произве-
дения. Именно в этом заключается и еще одно принципиальное расхож-
дение Веберна с сериалистами. Последний этап работы — звуковая реа-
лизация — был для Веберна важнейшим и сугубо творческим. Для сериа-
листов же последний этап работы — не представляющее большого инте-
реса ремесленничество. В их творческом процессе смещение акцента на
рационально-логическую сторону достигло степени, определившей прак-
тически полную утрату стороны эмоционально-интуитивной. А это, разу-
меется, не могло не поставить под сомнение сам художественный резуль-
тат их творчества.
Обязательная, хотя и по-разному понимаемая свобода на стадии реа-
лизации композиционной модели — общий принцип творчества, кото-
рый мы имели возможность наблюдать и в «постструктуралистских»
произведениях Ксенакиса и Екимовского. Разбор отдельно взятых сочи-
нений двух композиторов, разумеется, не дает оснований для широких
42 Попытка научно обосновать эту гипотезу была предпринята автором этих
строк в статье «О некоторых закономерностях развития музыкальных средств на
современном этапе» (111).
213
обобщений, касающихся соотношения путей современной западной и
отечественной музыки. Однако наши наблюдения в обоих случаях можно
признать достаточно симптоматичными и позволяющими почувствовать
различия духовной ориентации композиторов, имеющих явную точку
пересечения именно в плоскости структуралистских воззрений на про-
цесс творчества.
...Итак, выбор музыкальных произведений, описанных в данной
главе, предполагал возможность использования философской категории
«анализ» как ключевой при обращении к явлениям художественной
практики. Рассматривая на конкретных примерах «аналитизм» как тип
художественного мышления, мы имели возможность не только уяснить
его специфические признаки, но и обнаружить те пограничные области, в
которых данный тип мышления входит в соприкосновение и сложное
взаимодействие с другими типами. Для научного комментирования тако-
го соприкосновения целесообразно подключение также и категорий
«синкрезис», «синтез».
Уже наметив в предыдущих главах некоторые общелогические зако-
номерности соотношения этих категорий, продолжим теперь знакомство
с ними, опираясь на конкретные явления современного музыкального
искусства. В центре нашего внимания окажутся при этом некоторые тен-
денции, которыми отмечен самый последний, непосредственно наблюда-
емый нами отрезок музыкальной истории.
Глава 8
Новый смысл старых категорий
Судить о явлениях, свойственных музыкальной культуре наших
дней, следует с особой осторожностью в выводах. Здесь пока более умест-
на предварительная систематизация наблюдений, еще разрозненных и
противоречивых. Последняя четверть XX века отмечена впечатляющей
множественностью устремлений в области композиторского творчества.
Как звено общего эволюционно процесса она демонстрирует отход от
аналитизма, достигшего перед этим своего апогея, решительный отказ от
установки на герметичность творческого метода.
Актуальная проблема музыки конца XX столетия — это «антиаван-
гард» как реакция на реакцию, как период смещенных представлений о
давно устоявшемся. Термин этот употребляется здесь в узком смысле,
соответствующем столь же узкому смыслу термина «авангард». Подразу-
мевая под последним направление в профессиональной музыке 50-х —
первой половине 60-х годов, ознаменовавшее собой пик аналитизма в
художественном мышлении, мы, соответственно, связываем антиаван-
гард 70-80-х годов с ориентацией на иные типы мышления, некоторые
аспекты соотношения которых нам и предстоит теперь рассмотреть.
Думается, нет необходимости углубляться при этом в содержание
всех многочисленных терминов, применяемых в современных искусство-
ведческих работах: неоромантизм, неоэкспрессионизм неоавангардизм,
неомодернизм, поставангардизм, постмодернизм, трансавангард, «новая
простота», «новобрукнеровская волна» и т. п. Значение этих терминов
весьма расплывчато. Даже становясь общепринятыми, они подчас лишь
подчеркивают разницу толкований и подходов, предлагаемых исследова-
телями искусства.
Достаточно будет здесь и одного примера. Огромный пласт искус-
ствоведческой литературы посвящен проблеме постмодернизма, специ-
фика которого видится в «радикально новых конвенциях языка искус-
ства, созданных писателями, композиторами, художниками, стремивши-
215
мися порвать с модернизмом» (160, 9). На этом, однако, относительная
общность представлений о постмодернизме исчерпывается и далее
обнаруживается цепь самых противоречивых суждений. Весьма неопре-
деленно выглядит в разных источниках уже сама хронология явления.
Время утверждения принципов постмодернизма относят к 40-м, 50-м,
60-м, 70-м и даже 80-м годам. Существенно здесь прежде всего то, какой
именно вид искусства берется за основу Будучи впервые употребленным
в литературоведении, термин «постмодернизм» в дальнейшем оказался
спроецирован на живопись, архитектуру и музыку, заметно теряя при
этом свою смысловую четкость и временную определенность1. Но и по
отношению к какому-либо одному виду искусства нет единства мнений.
Если, к примеру, И. Стоянова делает акцент на постмодернистских тен-
денциях в музыке 80-х годов, связывая их с «концом эпохи манифестов»
и «упадком догматических систем и коллективных движений» (182,104),
то К. Батлер употребляет термин «постмодернизм» применительно к
сериальной школе 50-60-х годов, то есть занимает, на первый взгляд,
прямо противоположную позицию.
Не добавляют ясности и расхождения в определениях самого поня-
тия «модернизм» в современном искусстве, то есть того, что, собственно,
подлежит отрицанию с новых позиций. Ряд авторов и вовсе сомневается
в возможности провести черту между модернизмом и постмодернизмом
(160, 216). Вопрос этот действительно очень сложен, и рассмотрение его
в разных аспектах в конечном счете выливается в «вечную» дискуссию о
методе в общефилософском либо узкотехнологическом смысле этого
слова. Не избежать этого, впрочем, и нам, поэтому стоит изначально
определить здесь границы своих интересов.
Прежде всего, будем исходить из того, что в центре нашего внимания
по-прежнему остается триада «синкрезис — анализ — синтез». И после
достаточно обстоятельного обсуждения проблемы аналитизма в музыке
XX века, речь, естественно, должна теперь пойти о синтезе — следующем
логически предопределенном этапе эволюции. Отмечая наступление
этого этапа в различных областях современной культуры, Г. Башляр
пишет: «Время бессвязных и мимолетных гипотез прошло, как и время
1 Проблеме постмодернистских параллелей между разными видами искусства
посвящен специальный выпуск журнала «Critical inquiry» за 1980 г.
216
изолированных и курьезных экспериментов. Отныне гипотеза — это син-
тез» (И, Я).
Соответственно, и в музыкальном искусстве после всех «предель-
ных» проявлений аналитизма поворот к синтезу также был неизбежным.
Синтез стали декларировать как главный принцип творчества, противо-
поставляемый герметизму метода, столь оберегаемому в недавнем прош-
лом. «Современный композитор обречен на синтез», — пишет М. Тарака-
нов (120, 19), и надо сказать, что это несколько патетическое выражение
музыковеда вполне согласуется с размышлениями самих композиторов.
Сошлемся на Кшиштофа Пендерецкого: «Сегодня мы вступаем в период
великого синтеза, нового fin de siecle. Переоценивается все, что создано в
нашем столетии. Я верю, что шанс выжить имеет музыка, написанная в
естественной манере, синтезирующая все, что произошло за несколько
последних десятилетий» (41, 120).
Каким же конкретно может предстать в современной музыке синтез —
целенаправленное соединение в одном художественном тексте элемен-
тов, ранее существовавших относительно автономно? Прежде всего,
отметим и в наши дни сохраняющуюся актуальность традиционных
представлений о синтезе — жанровом, стилевом, языковом. Так, напри-
мер, появление поп-музыки в Америке связывают с синтезом трех само-
стоятельных течений: Тин-Пэн-Элли, ритм-энд-блюз и кантри-энд-ве-
стерн. Открыв эру рок-н-ролла, эти непосредственные его предшествен-
ники тут же оказались оттеснены на периферию массовой музыкальной
культуры. Можно вспомнить здесь же «фьюжн» (от англ, fusion — сплав,
слияние) — синтез элементов джаза, рока, фольклора, симфонической и
камерной музыки. Сознательные попытки свести воедино принципы
письменной композиции и бесписьменной импровизации предпринима-
ются и так называемым «Третьим течением» (Third Stream). В этом тер-
мине, появившемся в конце 50-х годов, выражена идея синтеза академи-
ческой музыки с джазом, осуществляемого с двух сторон: надежды возла-
гаются на непосредственное сотрудничество академических и джазовых
музыкантов.
В таком же традиционном смысле можно говорить о синтезе и при-
менительно к языку академической ветви современной музыки. Нам уже
приходилось упоминать о различных смешанных техниках с участием
серийности в музыке 70-х и последующих годов. «После экспериментов
со строгой сериальностью во всем мире наблюдается “диффузия мето-
217
да”» (179, 6). Эта диффузия, следует подчеркнуть, не только возникает
стихийно, но и сознательно культивируется, манифестируется как важ-
ный принцип творчества. К. Штокхаузен, выстроив подробную класси-
фикацию из 27 видов композиторской техники, комментирует их воз-
можные сочетания, подчеркивая особую важность некоторых. В статье
«Изобретение и открытие» он называет, в частности, истинным открыти-
ем «Ритмические этюды» Оливье Мессиана (1949), в которых предста-
влен синтез серийной техники с модальной ритмической техникой, а
также дана оригинальная интерпретация григорианской нотации.
В разных видах синтеза техник постепенно проявились особенности
различных национальных композиторских школ. Болгарский компози-
тор и музыковед Божидар Спасов отмечает, в частности, что для Польши
больше характерен синтез «алеаторика + сонористика + сериализм», для
Венгрии — «свободная атональность + модальность», для Болгарии —
«тональность + модальность» и т. д. (114).
В современной музыке синтез бывает подчас представлен в особых,
специфических формах. Прижилось в ней даже такое инородное, каза-
лось бы, понятие, как «электронный синтез» — конструирование звука на
электронном синтезаторе. Корни этого явления, впрочем, вполне тради-
ционны. Уже отмечалось, что в определенном смысле понятие «электрон-
ный синтез звука» можно считать рядоположным понятием «оркестров-
ка» или «регистровка» (органная) — во всех случаях здесь имеется в виду
выстраивание некоего макротембра («микстуры») из соответствующих
ингредиентов2.
Можно говорить о проявлении синтеза в нотации, то есть о создании
композитором такого текста (материального знакового объекта), элемен-
тами которого являются репрезентанты различных систем графической
фиксации музыки. Партитура сочинения Дитера Шнебеля «Глоссарий», в
частности, может быть приведена как пример синтеза разных культурных
традиций: здесь соседствуют готические буквы словесного текста, элемен-
ты невменной и мензуральной нотации, нотации XVII века и современной
«авангардной» нотации. Идея диалога культур, развиваемая современным
искусством, подчеркнута таким образом с особой наглядностью.
2 Тезис «оркестр как синтезатор» интересно развит в диссертации В. Клопова (51).
218
Огромное разнообразие явлений современной музыки, возникающее
перед нашим взором при размышлениях о категории «синтез», побуждает
теперь ввести еще одно дополнительное самоограничение. Таковым ста-
нет основной предмет настоящего исследования — музыкальная компози-
ция, отдельные стороны которой уже были рассмотрены в предыдущих
главах.
Одной из существенных особенностей музыкального постмодерниз-
ма его теоретики считают качественно изменившееся соотношение струк-
турных уровней произведения. Если аналитизм 50-х годов делает акцент
на технике письма, под которой подразумевалась прежде всего логика
выстраивания связного целого, то есть пафос творчества заключался в
поисках новой концепции формы-композиции, то постмодернизм, по
выражению И. Стояновой, создает ощущение «засасывающего погруже-
ния в самую глубь звуковой материи» (182, 95) Первоосновой формооб-
разования становится «синтетический звуковой объект» — воспринимае-
мая слухом звуковая материя, являющаяся непосредственным продуктом
деятельности композитора. «Синтетический звуковой объект» мыслится
как свернутый процесс, пространственно-временная реализация которо-
го и может быть представлена как форма произведения. Главное, таким
образом, заключено в производности формы от характеристик синтези-
рованного звукового материала.
На первый взгляд, в этом вроде бы и нет ничего необычного: как не
вспомнить известный принцип классической музыки — «тип темы воз-
действует на тип формы»! Но все дело в том, что должно пониматься в
данном случае под темой и какое именно воздействие ее на форму целого
предусмотрено композитором.
Здесь, пожалуй, стоит обратиться к весьма интересному конкретно-
му примеру — сочинению Пьера Булеза под названием «Repons», впер-
вые исполненному в Донауэшингене в 1981 году3. В последующие годы
композитор представил свой замысел еще в трех версиях, «дописывая»
ранее созданное и находя при этом все новые метаморфозы исходного
материала. Если «Repons-I» имеет длительность звучания 19'30”, то
«Repons-П» (1982) — 32'15”, «Repons-Ш» (1985) — 45', «Repons-IV»
(1989) — около полутора часов.
3 В дальнейшем изложении будем опираться на авторский анализ «Rcpons»,
опубликованный в русском переводе (20).
219
Работа, выполненная Булезом по заказу Юго-Западного радио Гер-
мании, представляет собой реализацию самых смелых его идей, выно-
шенных за годы работы в IRCAM4. Помыслы композитора направлены
на органичное объединение «живого» исполнения музыки с «машин-
ным» синтезированным звуком, то есть на выстраивание принципиально
новой триады «композитор — компьютер — исполнитель». В распоряже-
нии Булеза оказался мощный (200 млн. операций в секунду) компьютер
четвертого поколения Катрикс-4х, используемый в IRCAM для анализа
и синтеза звуков, а также для их трансформации. С его помощью и с
помощью специального электронного устройства Матрикс-32, служаще-
го своего рода «контролером движения звуковых сигналов», композитор
сумел разрешить ряд непреодолимых ранее технических трудностей.
«Repons» написан для шести солирующих инструментов, камерного
оркестра и процессоров, предназначенных для цифровой обработки сиг-
налов в реальном времени. Именно благодаря этому последнему обстоя-
тельству здесь был сделан кардинальный шаг вперед в сравнении с преж-
ней электронной музыкой, вынужденно звучавшей исключительно в маг-
нитной записи.
Новая возможность направляемого композитором непосредственно-
го диалога музыканта-исполнителя и компьютера отражена в названии
сочинения. «Repons», как разъясняет автор — это средневековое фран-
цузское название особой разновидности антифонной хоровой музыки, в
которой солисту всегда «отвечает» хор. Термин подходит в качестве наз-
вания современной композиции, поскольку он предполагает «вопросы» и
«ответы» на самых различных музыкальных уровнях (20, 9).
«Диалоги», наполняющие данное сочинение, многообразны: они
разворачиваются между солистами, между солистами и ансамблем,
между натуральным (инструментальным) и искусственным (компьютер-
ным) звучанием. Из старинной антифонной музыки Булезом заимство-
ваны два принципа: смещение звука в пространстве и его умножение
(ответ множества голосов одиночному голосу). Эти принципы обретают
здесь универсальный характер. Булез пишет, что «смещение» можно
представить и в более общем виде — как сдвиг в любом измерении, харак-
4 IRCAM — парижский Институт акустико-музыкальных исследований и
координаций.
220
теризующем музыкальный звук. «Умножение» же звуков тоже по-особо-
му может быть реализовано с помощью компьютера: последний, получая
одну ноту или аккорд, в соответствии с введенной в него программой соз-
дает множество нот или аккордов, связанных с оригиналом.
Авторский комментарий касается преимущественно технической
стороны обеспечения производности всех элементов структуры (разъяс-
няются принципы использования компьютера; задачи, поставленные
перед музыкантами-исполнителями и т. д.). Но что же за исходный мате-
риал позволил Булезу выстраивать поэтапно столь грандиозную компо-
зицию? Как свидетельствует автор, «значительная часть этого музыкаль-
ного текста может быть представлена как последовательность модифика-
ций аккордов, основанных на сдвиге звуков вверх и вниз на различные
интервалы» (20, 11). Гармонический материал в «Repons» может быть
сведен к пяти арпеджированным аккордам-тембрам, интервальная струк-
тура которых сродни спектру сложного звука. Эти аккорды звучат уже в
первом такте произведения.
В приводимой ниже схеме Булез разъясняет принципы производно-
сти музыкального материала:
«Иерархия арпеджо, подобная той, что встречается в композиции “Repons”,
изображена в координатах времени и высоты тона. Поскольку в широком
смысле арпеджо можно понимать как смещение во времени и по высоте
любых музыкальных структур (не только звуков аккорда), три арпеджиро-
ванных трезвучия (прямоугольники темного цвета), сыгранные одно за дру-
гим и в различных диапазонах, могут также рассматриваться как составляю-
щие “арпеджо”. По той же причине “разнесение” во времени и в диапазоне
221
частот трех построенных компьютером копий (светлые прямоугольники)
каждого из трезвучий также можно назвать арпеджо. При исполнении ком-
позиции “Repons” пять солистов играют семизвучные арпеджо, которые
копируются, сдвигаются в диапазоне частот и вновь проигрываются 14 раз».
Различные трансформации исходного материала обрисовывают
«модуляционное поле», простирающееся от дискретно воспринимаемых
«блок-аккордов» до недискретных для слуха соноров. Предусмотренное
композитором взаимодействие музыкантов-исполнителей и электронной
техники рождает совершенно особые, трудно передаваемые словами
эффекты. Воспользуемся авторской характеристикой одного из фрагмен-
тов сочинения: «Наконец вступают солисты. Каждый из них играет в
унисон с другими короткое арпеджо — последовательные звуки аккорда,
начиная с самого низкого. Усиливающие друг друга арпеджо “гуляют” по
всему залу в течение примерно восьми секунд, пока звуки практически не
затихнут. В это время в первый раз “вступают” Катрикс-4х и Матрикс-32:
они “улавливают” звуки арпеджио и передают их последовательно на
акустические системы.
Внимание слушателей, таким образом, переключается от центра зала
к его периферии, где располагаются солисты и акустические системы.
Публика слышит звуки солирующих инструментов, путешествующие по
залу, но не в состоянии различить пути, по которым те движутся. В целом
благодаря этому эффекту ярко проявляется антифонная связь между
центральной группой и солистами: слушатели имеют возможность “ощу-
тить” пространство, отделяющее ансамбль от солистов, а солистов друг от
друга. Можно сказать, что этот прием пространственно организует звук»
(20, 10-11).
Заимствовав пример, представляющий новое слово в технике компо-
зиции, мы, тем не менее, встретились с явлением, глубоко подготовлен-
ным предыдущим развитием музыки. То, что сознательно делает Булез
посредством новейшей электронной аппаратуры, во многом является
продолжением интуитивных находок сонористики 60-70-х годов. При-
чем общность видится здесь именно в синтезе как принципе обращения
со звуковым материалом.
Ц. Когоутек не случайно считает сонористику (или, как он ее называ-
ет, «музыку тембров») неизбежной реакцией на «тенденции, которые бы-
ли доведены до крайности сериальной техникой, структурализмом и, на-
конец, тотальной организацией всего музыкального процесса» (52, 236).
222
Аналитизм как принцип выстраивания и восприятия музыкальной ком-
позиции был решительно отвергнут сонористикой. Радикально пересмот-
рена сама концепция развития в музыкальном произведении. Отринута и
«эстетика избежания»: в сферу музыкально-выразительных средств
допускаются все виды звукового материала5. Звук как таковой — в центре
внимания: он исследуется, он сочиняется, он становится исчерпываю-
щим источником развития. В этом, однако, обнаруживается и скрытая
связь сонористики со структурализмом 50-х годов: ведь именно послед-
ний впервые сделал микромир звука областью сознательных манипуля-
ций композитора6.
Можно сказать, что сонористика представляет тут «отраженную
волну»: сериализм пришел к разложению звука на отдельные параметры
(анализу), стремясь подчинить и звук универсальному принципу серий-
ной организации; сонористика же исходит из эмпирического комбиниро-
вания звуковых параметров (синтеза) в поисках материала с большим
художественно-выразительным потенциалом.
В этой связи интересно обсудить такую характерную для сонористи-
ки форму синтезированного звукового материала, как кластер. В истори-
ческом плане кластер — это результат давно начавшегося функционально-
го сближения гармонии и тембра, их неразрывный синтез, причем — син-
тез под эгидой тембра. Кластер — это нелинейный эффект, созданный из
линейных компонентов. В этом смысле он представляет большой интерес
для музыкальной акустики. Наконец, кластер — это пример внесения
структурности второго порядка в фонический материал, это пример «кон-
струирования звука» по законам, устанавливаемым композитором.
Типичный кластер может служить примером использования в музы-
ке звуковысотной структуры, представляющей собой невоспринимаемое
5 К примеру, в сочинении Пендерецкого «Флуоресценции», помимо всей
палитры симфонического оркестра, включающего 37 (!) ударно-колористических
инструментов, использован шелест пергамента, звук пишущей машинки, сирены,
электрического звонка, свистка; автором предписано также распиливание на сцене
кусочков дерева и металла.
6 «Принципиальное значение имеет то, что композитору открывается возмож-
ность внести принципы структуры в отношения самых простых элементов, всех
слышимых синусоидальных тонов, для того чтобы сочинять различные формы
одновременных комбинаций таких тонов и включать их в процесс организации»
(181, I, 50).
223
множество звуков, то есть множество, специальным образом организуе-
мое композитором, но принципиально не анализируемое слухом7.
С физической точки зрения, кластер — это некоторая заполненная
полоса частот. Ширина полосы и плотность ее заполнения могут быть
различны. Условными полюсами здесь являются, с одной стороны, орке-
стровый или хоровой унисон («микрокластер» — зона, звучащая в одно-
временности), с другой — «белый шум» («макрокластер» — весь диапо-
зон воспринимаемых ухом частот, данный в одновременности).
В музыкальной практике звуковые явления, называемые кластера-
ми, располагаются между заполненным интервалом в один тон и некото-
рыми видами «цветного шума» (частично отфильтрованными широкими
полосами частот). Плотность кластера определяется величиной интерва-
лов, разделяющих соседние составляющие его звуки. Встречаются цело-
тоновые, полутоновые, 3/4 - и 1/4-тоновые кластеры. Кластер может быть
составлен из нескольких частных полос различной плотности заполне-
ния. Возможны также разрывы внутри частного ряда.
Между кластером и гармоническим комплексом существует много
промежуточных явлений. Одно может незаметно переходить в другое.
Чаще встречается переход от дискретного восприятия множества звуков
к их недискретному восприятию, модуляция от тона к шуму! Укажем на
типичный для современной музыки прием «собирания кластера», заклю-
чающийся в появлении исходящего тона с определенной высотой, от
которого затем в обе стороны (вверх и вниз), подобно кругам на поверх-
ности воды, начинает расходиться, разрастаться спектр кластера. В ре-
зультате этого разрастания усиливается шумовой характер звучания.
Такой прием, по существу, является комплексной прогрессией — зву-
ковысотно-регистровой, динамической, плотностной. Сам процесс пере-
хода от тона к шуму воспринимается как недискретно протекающий, что
обеспечивается незаметным подключением новых инструментов или их
плавным глиссандированием при расширении кластерного спектра. Воз-
можен и обратный ход такого процесса — постепенное свертывание,
истаивание кластера, «диминуэндо фактуры», приводящее к одному тону.
Собирание кластера может происходить и иным образом, с намерен-
ной фиксацией слушательского внимания на добавляемых тонах. Эти
7 По Теплову — характер восприятия кластера тембровый, а не гармониче-
ский.
224
тоны могут складываться в серию, то есть можно говорить о кластере как
о результате некоторого мелодико-тематического развития.
Естественно возникающие в кластере переходные процессы иногда
специально усиливаются композиторами. Кластер может быть составлен
не из статичных звуковых точек, а из тонов с плавно меняющейся высо-
той (вибрато и глиссандо разной интенсивности). Внутреннее движение
в кластере может широко варьироваться по степени активности.
В современной музыке часто можно встретить явления, строго гово-
ря, не являющиеся кластерами, но фактически весьма им близкие, также
представляющие собой недискретно воспринимые акустически дискрет-
ные структуры.
Сонорный характер восприятия может быть следствием перенасы-
щения фактуры, намеренного превышения пропускной способности вос-
приятия. В этом смысле разновидностью кластера может в ряде случаев
считаться «сверхмногоголосие» — один из характерных видов фактуры в
современной музыке. Такой кластерный эффект часто возникает в музы-
ке действительно как результат постепенного уплотнения полифониче-
ской фактуры, на определенном этапе приводящего к недифференциро-
ванно воспринимаемому пласту. В кластер может обратиться и гармони-
ческий комплекс, аккорд при большом количестве входящих в него (и
относительно равномерно распределенных по вертикальной оси) тонов.
Таким образом, кластеры обладают многообразными оттенками
выразительности, а также, незаметно меняя их внутри себя, осуществля-
ют функцию музыкального развития, движения. Различные кластеры
могут сопоставляться в музыкальном произведении в одновременном
или поочередном звучании, взаимодействовать с другими элементами
фактуры, входить в состав сложных, смешанных типов фактуры.
' Сделаем теперь некоторые предварительные обобщения на основа-
нии вышеизложенного:
1. Смещение акцента на фонический уровень музыкальной органи-
зации, независимо от наличия или отсутствия в распоряжении
композитора электронной аппаратуры, становится отчетливо
выраженной тенденцией в музыке 60-80-х годов.
2. Самостоятельным и важнейшим этапом творческого процесса
композитора становится синтез индивидуализированного звуко-
вого материала, на основе которого впоследствии выстраивается
форма музыкального произведения. Такого рода «тембротема-
225
тизм» является закономерным итогом историческом эволюции
музыкального языка.
3. Сонорность как качественная характеристика музыкальной ткани
предполагает недифференцированный характер слухового вос-
приятия. Сонор, иначе говоря — это синкретически нерасчлени-
мое для слуха целое. В то же время сонор — это результат созна-
тельно произведенного композитором синтеза, легко обнаружи-
ваемого при визуальном изучении партитуры. Различие между
видимым и слышимым, часто обсуждаемое как проблема воспри-
ятия современной музыки, предстает, таким образом, и как
область тех самых парадоксов, о которых уже упоминалось в пред-
шествующих главах. В этом смысле синкрезис (сонор как воспри-
нимаемый слушателями акустический феномен) оказывается
здесь как бы «следствием» синтеза (сонора как акустического
феномена, созданного композитором). А поскольку исходной
моделью сонора является «природный» тембр — синкретическое
единство множества составляющих, — то и о категории «анализ»
также уместно вспомнить в этой ситуации. Для композитора ана-
лиз естественного тембра — путь к его искусственному воспроиз-
ведению8, а затем и к «сочинению» звука — то есть синтезу.
В связи с этим следует отметить, что в электронной музыке сотруд-
ничество композитора и инженера — не просто техническая необходи-
мость, но и свидетельство параллелизма интересов в области художе-
ственного и научного творчества. Электронный синтез звука — это не
только метод сочинения музыки, но и плодотворный научный метод, в
связи с чем, например, французский IRCAM осуществляет обширную
программу акустических, психологических и прочих исследований.
Каковы же принципы компонирования целого, соответствующие
особым свойствам синтезированного (сонорного) звукового материала?
Остаются ли эти принципы в основе своей прежними, «классическими»,
или представляют собой нечто совершенно иное? По этому вопросу нет
к Можно попутно сослаться на наблюдение В. Цуккермана, писавшего, что
«характерное качество, присущее тембру инструмента или их группы, может быть
“имитировано” определенным сочетанием фонических средств, находящихся вне
оркестровых тембров» (140, № 3, 48).
226
единого мнения. Ц. Когоутек, например, дает «музыке тембров» весьма
приблизительное определение. «...В общих чертах ее можно охарактери-
зовать довольно просто как драматургию (монтаж, миксаж) контраст-
ных, различными способами (алеаторно, сериально, ладово, пуантилист-
ски и т. д.) созданных звукокрасочных пластов» (52, 250). Понять значе-
ние примененного здесь термина «драматургия», мало помогают слова,
заключенные в скобки. Остается неясным, насколько же актуальны здесь
драматургические и композиционные функции, знакомые нам по класси-
ческим формам.
В. Федоров, характеризуя сонорные сочинения К. Пендерецкого,
считает чрезвычайно важным «сохранение в музыке композитора многих
сложившихся веками логических принципов мышления» (126, 318).
Основой формообразования названы при этом принципы контраста и
постепенного преобразования («эволюции» — в терминологии самого
Пендерецкого). Функции фактурно-тембровых блоков, по мнению музы-
коведа, «аналогичны смысловому значению основных тем в тональной
музыке» (там же, 310). «В результате, — пишет В. Федоров, — становится
возможным определение формы как совокупности, надежной согласо-
ванности и органической спаянности всех функционирующих элемен-
тов. Подобное понимание формы практически в равной мере приложимо
к любой разновидности звуковых структур: тональной, додекафонной
или сонорной» (там же). \ '
Анализируя сочинения польского композитора, В. Федоров стре-
мится подтвердить свои тезисы. В «Трене памяти Хиросимы» он, в част-
ности, указывает на признаки концентричности, на наличие зеркальной
репризы и даже отмечает отдаленное сходство с сонатной формой.
Иной точки зрения придерживается в этом вопросе Ю. Холопов.
«“Сонорная музыка” <...> сама по себе никак не связана с классическими
формами, — пишет он, — но всегда является свободной фантазией, сочи-
няемой автором композиции “формой в воздухе”» (131, 267). «Содержа-
ние музыки и даже сама ее интонация подчас новы настолько, что преж-
ние формы, выросшие на основе совершенно иного интонационного
материала, были бы чисто внешним расположением материала, чистой
схемой, а не формой (курсив мой. — А.С). Показателен “Трен” Пендерец-
кого: по внешним очертаниям он может быть понят как сонатная форма,
но содержание его столь чуждо классической тональной интонационно-
сти, что форма как сонатная совершенно не воспринимается» (131,284).
227
Вывод Ю. Холопова в итоге таков: «Именно потому, что никакие
классические формы не имеют отношения к интонационной сущности
новых форм, они не противоречат друг другу, а, следовательно, могут и
свободно соединяться вместе» (131,285).
В этом пересечении мнений зафиксирована ситуация, которую
можно рассматривать в разных аспектах. Один из них — эволюционный.
\ Принципиальная нерядоположность классических и «новых» форм и —
как следствие! — возможность их свободного соединения в одном худо-
жественном тексте — парадоксальный момент в позиции Ю. Холопова.
По крайней мере, вся предшествующая история музыки не дает нам
подобных примеров. Впрочем, выделенное в вышеприведенной цитате
выражение «схемой, а не в формой» наводит на мысль, что в данном слу-
чае речь идет не столько о качественно разных формах, сколько о разных
трактовках самой категории «форма».
Родовые признаки классической формы в сонорной композиции —
это, действительно, явление качественно новое, но имеющее все же пред-
посылки в прошлом; С понятием «классическая форма» обычно связыва-
ют представление о чрезвычайно сложной и дифференцированной систе-
ме функций, проявляющихся на различных масштабных уровнях органи-
зации музыки. Фундамент классической формы — органичное единство
синтаксиса и композиции, соответствие системы музыкальных «грамма-
тик» (ладотональной, ритмической, фактурной) крупному плану разви-
тия, архитектонике целого9. _
Кризис классической системы формообразования проявился в нару-
шении этого единства, причем поначалу именно синтаксис стал претерпе-
вать существенные изменения, коснувшиеся важнейших механизмов вос-
приятия музыки — слухового сопряжения устоя и неустоя, способности
предслышания (экстраполяции) последующих этапов развития. Компо-
зиционные же нормы некоторое время еще сохранялись неизменными.
Верность принципам классической формы, как известно, постоянно
подчеркивал А. Шёнберг, осуществляя при этом истинную революцию в
области звуковысотной организации музыки. Но хотя «классический»
ритм формы в его сочинениях действительно ощутим и может быть пред-
9 Это соответствие, в частности, лежит в основе разработанной В. Бобровским
теории подобия уровней и этапов музыкальной формы.
228
ставлен в введенных композитором понятиях fest (твердо) — locker
(рыхло), происходит это прежде всего благодаря сохраняющимся в его
музыке сторонам «прежнего» синтаксиса: хороню знакомым типам фак-
туры, четкой тактометрической системе. Основные же новации, связан-
ные с изобретением додекафонного метода, — фактор, действующий все
более вопреки этой установке. И особенно очевидно это становится у
Веберна — композитора, придерживающегося тех же, по существу, взгля-
дов, что и Шёнберг, но значительно дальше продвинувшегося в поисках
альтернативы отвергнутым грамматическим нормам.
В тонко выполненном анализе веберновских Вариаций ор. 27 Э. Де-
нисов исходит из утверждения об актуальности функций классической
формы, проявляющихся здесь в новых условиях. Он постоянно указыва-
ет на экспозиционность и разработочность в изложении материала и
даже употребляет термины «тональность», «тематизм», подчеркивая,
правда, необходимость кавычек. При этом, характеризуя музыкальную
ткань данного сочинения, Э, Денисов отмечает в ней кульминации реги-
стровой и структурной расчлененности. «Здесь, — пишет он, например, о
третьей вариации, — потенциальные пуантилистические возможности,
намеченные во второй вариации, доведены до кульминации; фактура ста-
новится уже почти штокхаузеновской» (36,185). Симптоматичны и срав-
нения, сделанные Э. Денисовым в связи со второй вариацией: «По суще-
ству, уже в этой вариации А. Веберн применяет технику групп, развитую
во второй половине нашего века К. Штокхаузеном, П. Булезом и особен-
но А. Пуссером» (36, 197).
Оказавшись на самом пороге сериализма, тотального воплощения
принципа серийной организации, Веберн открыл ту самую дверь в новое
измерение звуковой материи, в которую вошел, двигаясь по его стопам,
авангард 50-х. Веберновская пуантилистика, можно сказать, уже близка к
окончательному разрыву со старым синтаксисом10.
10 Пишем «близка», поскольку, как справедливо отмечают В. и Ю. Холоповы,
«вебсрновский пуантилтизм не абсолютен. В определенной мере он продолжает
оставаться фактурным явлением по отношению к смысловым дельностям высот-
ной структуры более высокого порядка — мотивным образованиям. В этом его
связь с традиционной концепцией и отличие от “настоящего” пуантилизма Шток-
хаузена и других авангардистов 50-60-х годов» (132, 267).
229
Подчеркнем здесь и еще один момент. Отмечая кульминации струк-
турной расчлененности у Веберна, Э.Денисов очень точно подбирает
нужное слово: речь идет именно о кульминациях — тех отдельных эпизо-
дах в процессе развития, синтаксическая структура которых уже не имеет
генетического родства с системой функций классической формы. Это
действительно новый синтаксис, предполагающий, соответственно, и
новую композицию.
Композиция же у Веберна по инерции все еще остается ориентиро-
ванной на классические эталоны. И степень актуальности для слуха этих
ориентиров оказывается в прямой зависимости от выраженности «роди-
мых пятен» старого синтаксиса. Если, к примеру, признаки формы Ада-
жио в ор. 30 обеспечивались прежде всего четким фактурным контрасти-
рованием главной и побочной партий, то сонатная форма в первой части
Симфонии ор. 21 воспринимается куда более проблематично, что не в
последнюю очередь связано с ее выдержанной от начала до конца пуан-
тилистичностью.
В тотально сериальных сочинениях 50-60-х годов классические
формы уже окончательно вынесены за скобки достигшей герметизма
системы. Однако принцип негации, «эстетика избегания» в их абсолют-
ных проявлениях воцарились ненадолго. Маятник эволюции устремился
в противоположную сторону, и... вот уже очередная встреча старого с
новым обретает совсем иной смысл: лишь теперь, после этапа «автоном-
ного» существования, это действительно синтез в строгом значении этого
термина.
- Классическая форма в сонорной музыке — это проблема, которую
интересно рассматривать и в другом аспекте — семиотическом. Схема
«классической» формы, лишенная корневой системы «классического»
же синтаксиса, воспринимается в новом контексте как специфический
знак, прочтение которого зависит от ряда различных обстоятельств.
Связь знака и значения — фундаментальный вопрос семиотики — приоб-
ретает здесь, таким образом, особую роль. t
Нам уже приходилось отмечать, что развитие идей структурализма
привело в конечном итоге к «трансплантации» принципа серийности в
самые различные сферы музыкального языка. «Сочиняется лишь дина-
мическая структура музыкального произведения, материал же может
быть любым» (148, 7). Иными словами, может возникнуть ситуация, при
которой хорошо узнаваемые традиционные синтаксические структуры
230
взаимодействуют меж собой на принципиально новой композиционной
основе, обретая тем самым и совершенно особый смысл.
Но существует, как мы только что убедились, и оборотная сторона
медали: «традиционные» принципы композиции могут облекаться в
принципиально новую материальную тканы, Классическая композицион-
ная схема при этом также воспринимается в ином освещении. Эффект
«двойного дна» такой классической формы мы имели возможность
наблюдать уже в Фуге-ричеркате А. Веберна, где именно на синтаксиче-
ском уровне была выстроена абсолютно последовательная «контрсисте-
ма» функций, репрезентирующая сегментную додекафонию и сериализм.
• Классическая форма как система функций тоже может быть репре-
зентирована в синтетическом целом лишь отдельными своими гранями.
И эти грани (композиционные функции) соответственно видятся через
призму той «инородной» фонетико-синтаксической организации, которая
присуща данному произведению. В таком наблюдаемом «преломлении
лучей» обнаруживаются свои устойчивые закономерности. В соответст-
вии с традициями музыкознания проблема семантики знака может быть
представлена здесь через соотношение драматургических и композицион-
ных функций. Эволюция музыкального языка, как показал В. Бобров-
ский, связана с «приоритетом» драматургии перед композицией. Компо-
зиционные функции утверждаются в языке как обобщение и логическое
упорядочение множества индивидуальных решений. Эти функции посте-
пенно складываются в целостную систему, характеризующую определен-
ный исторический этап развития музыкального искусства и вновь расша-
тываемую впоследствии под напором новых художественных идей11.
Знаки композиции автонимны: они информируют о композиционных
отношениях, то есть фактически — о себе же. Знаки драматургии всегда
сохраняют свою исходную иконичность — они есть результат типизации
оттенков выразительности, конкретных образных ассоциаций.
Один и тот же прием изложения материала может по-разному оце-
ниваться с этих двух позиций, играя в данной художественной системе ту
или иную роль. Приведем в качестве примера полифонический канон.
Синонимичность терминов «канон» и «фуга» в старой теории свидетель-
11 Причиной разрушения «эталонных» композиционных схем является, по
словам В. Бобровского, «избыток выразительности».
231
ствует о предпосылках возникновения этого приема имитационного про-
ведения темы (fuga — «бег»). Фигура фуги в ренессансной музыке обыч-
но предстает перед нами в виде фрагмента сочинения, выполненного в
канонической технике, чем подчеркивается появление соответствующего
аффектного слова в тексте. Канон здесь — прямая музыкальная ассоци-
ация с четко очерченной внемузыкальной сферой образности.
Позднее, в музыке Высокого барокко канон теряет свою «иллюстра-
тивность» и мыслится уже достаточно абстрактно, хотя моменты скрытой
музыкальной символики по-прежнему бывают связаны с ним. В музыке
эпохи классицизма и романтизма, где канон обычно используется не как
прием экспонирования, а как прием развития материала, также продолжа-
ют акцентироваться его композиционные «полномочия». Много нового
внес и XX век. У позднего Веберна канон стал универсальным принципом
изложения музыкальной ткани, но при этом... перестал восприниматься
на слух как форма имитационной полифонии. Канон для этого компози-
тора — способ письма, используемый на стадии Vorformung, способ само-
организации в процессе компонирования текста. Лишь тщательный визу-
альный анализ веберновских партитур позволяет установить все характе-
ристики канона как полифонической формы; знакомого же ощущения
имитационности при этом не возникает — слух ориентирован на «диаго-
наль» фактуры, то есть на то, что выстраивается «поверх» канона.
Проблема нетождественности видимого и слышимого, уже упоми-
навшаяся в связи с сонорной музыкой, также имеет самое прямое отно-
шение к канону. Сверхмногоголосие — один из путей получения сонорно-
го эффекта. Канон становится для композитора способом управления
сонорностью, то есть целиком относится к категории письма. Вырази-
тельный эффект применения такой канонической техники чрезвычайно
далек от традиционных представлений о полифонии — он связан с новы-
ми измерениями звуковой материи, особым ощущением музыкального
пространства и времени.
Одно из самых известных сонорных произведений Дьёрдя Лигети —
«Lontano», основано на точно рассчитанном многоголосном каноне (про-
стом или двойном). Эффект, проводимый этой микрополифонией, пре-
красно выразил словами Альфред Шнитке: «Слушателя обволакивает
тончайшая звуковая паутина, в которой далекими призраками проступа-
ют знакомые тени романтической музыки. Иногда они проясняются и
фокусируются в ослепительные лучи, предвещающие явления чуда, — но
232
в последний момент золотой нимб гаснет и все затягивается мглой. Вот
эта мгла сгущается, вот уже видны резкие мрачные контуры — но и тьма
так же неустойчива, как свет. Все зыбко, многозначно и неуловимо. Как в
Платоновой пещере мы видим лишь отблески высшей реальности, не в
силах постичь ее саму. Как во сне мы слышим лишь отзвуки огромного
звукового мира, но, проснувшись, не можем его вспомнить» (149, 12).
Канон — прием, которым, кстати сказать, часто пользуется и сам Шнит-
ке. В одном из эпизодов Concerto grosso № 1 мы отмечали особую функцию
канона, служащего «мостом» между дифференцированно воспринимаемой
полифонической тканью и сонорно-нерасчлененным сверхмногоголосием.
Сходную функцию выполняет канон и в Третьей симфонии Шнитке —
через него совершаются «плавные модуляции» от полифонически изло-
женной темы к обертоновой гармонии — суммарному спектру, «макро-
тембру», образуемому множеством тесно переплетенных голосов12.
Но в трактовке канона у Шнитке есть и совсем другая ипостась:
нередко он наделяется особой семантикой, выступая как иконический
знак, воплощающий столь излюбленную в искусстве XX века идею «зер-
кала». В том же Concerto grosso каноническая техника не случайно
выдержана от начала и до конца. Две солирующие скрипки — это «диалог
с самим собой», это пытливое вглядывание человека в «зеркало» его
души, совести, веры.
Интересно, что в авторской редакции этого сочинения, сделанной в
1988 году, темброво сливающиеся солирующие скрипки заменены флей-
той и гобоем. И канон-диалог сразу же стал иным: в нем усилилась идея
alter ego, возникло аффектное противостояние голосов, интонирующих
один и тот же тематический материал13.
Краткий экскурс в историю канона понадобился для того, чтобы
подойти к рассмотрению некоторых конкретных вопросов, актуальных для
современного искусства. Почему возникает — как бы «вдруг» — совершен-
но новая семантика давно известного приема? Каким образом знак худо-
жественного текста при сохранении основных субстанциональных призна-
12 Проблеме обертоновой гармонии специально посвящены две статьи В. Хо-
лоповой (136; 134).
13 Быть может, на этой поздней редакции лежит отблеск кантаты «Осуждение
доктора Фаустуса», в которой поразительные каноны контральто и контртенора
выражают идею alter ego в роковом, мистическом освещении.
233
ков переходит из разряда иконических в разряд условных, и наоборот? Что
именно стоит за понятием «синтез», когда мы с его помощью пытаемся оха-
рактеризовать взаимодействие таких перерожденных знаков художествен-
ного текста? Все это вопросы семиотического плана, тесно связанные с
предметом данного исследования — музыкальной композицией.
Классическая система композиционных функций, как известно,
обеспечивает возникновение ритма музыкальной формы, основанного на
логически взаимосвязанном, многоуровневом чередовании процессов
интеграции и дезинтеграции. Такие «классические» приемы, как ритми-
ческое диминуирование, мотивное вычленение, прогрессирующее мас-
штабно-тематическое дробление и т. д. — закрепились в музыкальном
языке именно как автонимные знаки композиции. В новых же, некласси-
ческих, формах процессы структурной интеграции и дезинтеграции
нередко сознательно выводятся композитором на первый план восприя-
тия, а приемы, их воплощающие, получают неожиданную семантическую
нагрузку. В этом также можно усмотреть «возвратный ход маятника»:
композиционные отношения как бы заново обретают драматургический
модус, особый выразительный смысл.
Сошлемся на некоторые примеры. Интересную форму единства дра-
матургии и композиции представляют сочинения Софии Губайдулиной
начала 70-х годов. Авторские анализы таких сочинений, как Первый
струнный квартет (1971), «Конкорданца» (1971), «Музыка для клавеси-
на и ударных» (1971), «Ступени» (1972), как обычно, нацелены на
раскрытие конструктивного замысла. Но речь идет не просто о конструк-
ции, а о конструкции-символе, о новой семантике приема.
Структуру своего струнного квартета С. Губайдулина графически
представляет в виде следующей схемы:
«Все четыре инструмента, — поясняет автор, — вступают в разные
взаимоотношения друг с другом. Основная идея состоит в постепенной
дезинтеграции, отчуждении друг от друга. В структурном плане это
выявляется в идее расширения <...> Квартет представляет собой ряд
вариаций — варьирование пауз, длины звуков, взаимоотношений функ-
ций и т. д. “Тема” квартета начинается со звука gis у всех инструментов с
увеличением и суживанием вибрато. “Тема” заканчивается глиссандо:
234
gliss.
Уже здесь присутствует основная идея сочинения — дезинтеграция
инструментов» (из авторского комментария к сочинению).
Идея дезинтеграции многогранно представлена в данном сочинении,
она обыгрывается даже сценически: в заключительной вариации испол-
нители расходятся по углам сцены, демонстрируя безуспешность попы-
ток совместного музицирования (играют при этом одновременно, но в
разных темпах). «Все должны закончить по-разному, — указывает ав-
тор. — При каждом новом исполнении конец будет различным»14.
Скрытая символика заключена в названии пьесы «Конкорданца»
(«согласие»). Как свидетельствует автор, «важнейшим принципом орга-
низации является структурная идея, выражающаяся во временном согла-
сии или разногласии элементов музыкального языка. Определяющее
начало в структурной идее согласия и несогласия — стремление выйти из
координированной игры».
«Музыка для клавесина и ударных» Губайдулиной содержит две раз-
нонаправленные части. В основе произведения, — сошлемся и здесь на
авторский комментарий, — идея плотности звучания: «Первая часть — от
широких плотных звучаний к узким в верхнем регистре. Самая послед-
няя ступень нелинейного спектра — человеческий голос, произносящий
слова missa и eratum с определенной артикуляцией. Вторая часть — от
среднего регистра к плотным звучаниям <...> Во второй части уплотне-
ния звука и его снижение имеют не линейное, а волнообразное развитие».
Для сравнения упомянем о применении принципа «перекрестной
композиции» в Концерте для духовых Николая Каретникова, написан-
ном в форме рондо, рефрены которого представляют собой конструктив-
ную линию, а эпизоды — деструктивную. «Жизнь есть сопротивление
энтропии, и в музыке это можно довести до логического конца» — так
14 Уместно вспомнить в связи с этим, как прямо противоположная идея была
воплощена в «Антифонах» для струнного квартета Сергея Слонимского. Это сочи-
нение представляет собой путь, в буквальном смысле слова пройденный исполни-
телями от пространственной разобщенности (на обычном месте вначале находится
один виолончелист, остальные музыканты играют за сценой) к пространственному
«консонансу» — традиционному расположению квартета.
235
определял композитор основную идею данного сочинения (из беседы с
автором этих строк).
В сходном плане представлял конструктивно-выразительную идею
некоторых своих сочинений и Эдисон Денисов. По поводу «Оды» для
кларнета, фортепиано и ударных (1968) он, в частности, писал: «Сочине-
ние в целом построено на взаимодействии конструктивного и деструктив-
ного начал. С одной стороны, серия, лежащая в основе сочинения, стре-
мится к распадению на составные элементы, освобождению их от серий-
ных связей и постепенному превращению этих элементов в образования,
уже не связанные с серией, противостоящие ей и ведущие к разрушению
серийной логики и к возникновению алеаторического участка — кульми-
нации деструктивных тенденций <...> С другой стороны <...> существует
непрерывное стремление к выявлению интонационно выразительных
участков серии и к мелодизированию этих участков. Интонации постепен-
но складываются во фразы, что окончательно реализуется в последнем
разделе, где вся информация сосредоточивается в одной мелодической пло-
скости. Заключительное соло кларнета — не только итог развития музы-
кальных событий, но и окончательная реализация противоположных,
конструктивных тенденций, противостоящих деструктивности» (35).
За всей этой «технологией» скрыт драматургический подтекст: сочи-
нение посвящено памяти Че Гевары и является своего рода психологиче-
ским портретом легендарного человека. Скрещивающиеся «векторы»
структурной организации — глубинный слой целого комплекса средств,
направленных на создание образа исполненной противоречий, мятущей-
ся личности.
Новый принцип слияния драматургии и композиции неоднократно
отмечался исследователями современной музыки. Но что это за слияние?
Что в итоге пришло на смену стройной дифференцированной системе
функций классической формы? Чем, наконец, нов этот принцип?
Представляется необходимым указать здесь фактор, без учета кото-
рого, думается, все эти вопросы не могут быть правильно поняты. Этот
фактор, быть может, и несколько неожиданный, — особый модус воспри-
ятия, связанный с оставленным позади (но вовсе не забытым!) пиком
аналитизма; Сериальная система, принципиально блокировав ассоци-
ативный план восприятия, дала исключительную по сути своей возмож-
ность ощутить «в материале» абстрактность композиционных приемов,
создала ту стерильную чистоту лабораторного эксперимента, на фоне
236
которой волей-неволей воспринимается теперь уже новый исторический
этап семантизации этих композиционных приемов. В музыке впервые
так обнаженно предстало «напряжение» текста, подчеркнутое Ю. Лотма-
ном в искусстве поэзии15, а грань между абстрактным и конкретным стала
еще более ускользающей.
Знак как абстрактный символ или знак как чувственно-конкретный
образ? На практике этот вопрос порой оказывается весьма не прост.
Сериализм как «герметичная» система, например, вовсе не оставляет
места для иконических знаков. И не случайно критика сочинений,
выполненных в строго сериальной технике, обычно сопровождается
такими определениями, как «обезличенность», «бездуховность», «хао-
тичность» и т. д. Но как только «герметизм» системы нарушается, эти же
самые характеристики могут получить совершенно иной смысл «минус-
приема»: а что если художественная задача именно такова? Если именно
сериальная техника оказывается в общем контексте точно соответствую-
щей задуманному образу?
Не будем голословны и сошлемся на конкретные примеры. Один из
эпизодов Первой симфонии А. Шнитке (такты 63-75) передает образ Все-
ленского Хаоса — грозной, неудержимой силы, противостоящей Челове-
ку16. И строгая сериальная техника, использованная здесь композитором,
оказывается безошибочно найденным художественным средством.
Парадоксальное, казалось бы, соседство сериальное™ и фольклора в
известном сочинении Э. Денисова «Плачи» также тесно связано с основ-
ной идеей автора: раскрыть философский аспект древнего обряда, пред-
ставляющего самый сгусток человеческих переживаний. Двуплановость
драматургии заключается в том, что мы видим художественного героя то
непосредственным участником обряда, полностью погруженным в его
эмоциональный строй, то сторонним наблюдателем, предавшимся раз-
думьям о великом таинстве ухода человека из жизни, философствующим
15 «Напряжение между условной природой знаков в языке и иконической в поэ-
зии — одно из основных структурных противоречий поэтического текста» (69, 114).
16 Восприятие мира как отчужденного от человека, недоступного сознанию, а
потому «разорванного и фрагментарного» вообще свойственно постмодернистско-
му искусству. Ряд исследователей использует в связи с этим понятие «нонселек-
ция», означающее совокупность приемов, направленных на преднамеренное созда-
ние эффекта хаоса, деструктивности текста.
237
на вечную тему бренности бытия. Композиционный ритм сочинения
непосредственно отражает эти смены позиции, художественно обосновы-
вая неоднократные переходы от тонко переданной манеры народного
интонирования к аскетизму и отрешенности сериальных конструкций.
Другое сочинение Э. Денисова — «Пять историй о господине Кёйне-
ре» — интересный пример обращения к сериальности как к средству
выражения иронии литературного текста Бертольта Брехта. Третья часть
этого цикла, под названием «Форма и материал», представляет аллегори-
ческую притчу, рассказанную г. Кёйнером: «Господин К. увидел картину,
в которой предметам была придана очень странная форма. Он сказал:
“Некоторые художники смотрят на мир как философы. В заботах о
форме теряется сущность предмета. Однажды я работал у садовника. Он
вручил мне садовые ножницы и велел постричь лавровое дерево. Дерево
стояло в кадке и выдавалось напрокат по праздникам. Поэтому оно дол-
жно было иметь форму шара. Мне это долго не удавалось. Все время
получалось так, что я срезал слишком много то на одной, то на другой
стороне. Когда наконец получился шар, он был слишком маленьким.
Садовник огорченно сказал: Хорошо, это — шар, но где же лавр?”».
Гротеск музыкального решения заключается здесь в том, что скрупу-
лезно высчитанная сериальная структура представлена композитором
как олицетворение формалистики и выхолощенпости смысла.
Разумеется, семантическая многоуровневость функционирования
художественного знака — примета отнюдь не только современной нам
музыки. Достаточно вспомнить, сколь многообразна символика сакраль-
ных чисел у Баха, — с нею связаны и легко наблюдаемые фактурные
признаки, и «потайные», с трудом обнаруживаемые отношения элемен-
тов формы-композиции. Именно число оказывается подчас поворотным
пунктом в ту или иную сторону: к рационально-аналитическому либо
чувственно-ассоциативному восприятию, к «культуре разума» или
«культуре сердца». Пользуясь внешне идентичными приемами, компози-
торы могут подразумевать разный «способ слушания» музыки.
В основе структуры многих современных музыкальных произведе-
ний, например, нередко находится «ряд Фибоначчи»17. Известный издрев-
17 То есть ряд, каждый член которого представляет число, равное сумме двух
предыдущих: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д.
238
ле как математическое выражение пропорции золотого сечения, этот ряд
обнаружил себя перед учеными XX века в самых различных, неведомых
ранее областях — от структуры молекулы ДНК до строения Космоса.
Тайна универсальности ряда Фибоначчи увлекла и композиторов, искав-
ших с его помощью собственный метод сочинения музыки.
Некоторые произведения Леонида Грабовского, к примеру, объеди-
нены использованием оригинальной темпоритмической техники, осно-
ванной на математически высчитанной шкале «множеств ритмических
фигур» (термин автора)18. Кажущаяся остинатность музыки Грабовского
на самом деле таит в себе бесконечное разнообразие и непрерывность
смен ритмических рисунков, Причем этот строго организованный про-
цесс аналитически принципиально неуловим. Комментируя «Concerto
Misterioso» (1977), композитор выразился следующим образом: «В осно-
ве здесь ряд Фибоначчи, но эта справка для теоретиков, — для слушания
это не имеет никакого значения»19.
Более точно было бы, пожалуй, сказать, что это не имеет значения
для слушательского сознания и относится, если воспользоваться уже
известной нам терминологией, к области организации, а не композиции.
Адресат такой музыки — не адориовский «слушатель-эксперт», а совсем
иной слушатель, к уточнению позиции которого мы еще вернемся.
Многократно обращалась в своем творчестве к ряду Фибоначчи и
София Губайдулина20. В масштабе крупных построений это «консонирую-
щий ряд времени», — считает композитор. Будучи реально ощутим, ряд
Фибоначчи должен обеспечивать правильный режим восприятия музыки,
далекой от классических композиционных эталонов. Чрезвычайно инте-
ресна идея, воплощенная в Симфонии Губайдулиной. Концентрированное
воздействие ритма, основанного на пропорциях ряда Фибоначчи, должно,
по убеждению автора, создать эффект его реального(!) прослушивания в
момент акустической паузы — беззвучной «каденции дирижера».
18 Назовем здесь «Три гомеоморфии для ф-но соло» и «Четвертую гомеомор-
фию для небольшого оркестра», «На память Элизе» для ф-и. соло, «Concerto
Misterioso».
19 Из выступления Грабовского на конференции по ритму в Доме композито-
ра (Москва, 6 мая 1989 г.).
20 Ряд Фибоначчи является структурной основой таких ее сочинений, как
«Perception», «Сад радости и печали», «В начале был ритм», Струнный квартет № 3,
«Офферториум» (скрипичный концерт), Симфония.
239
Обнаружение «новой» иконичности у знака, прежде представлявше-
гося абстрактным символом, — это тоже прямое следствие провоцируе-
мой композитором смены психологической установки слушателя. При-
мером может служить распространенная в современной музыке техника
квантитативных рядов (прогрессий).
«Общим местом» в сочинениях разных авторов стал и так называ-
емый «булезовский ряд» — хроматическая шкала длительностей, исполь-
зованная французским композитором в его знаменитых «Структурах».
Точности ради стоит отметить, что данный принцип организации был
еще до Булеза предложен его учителем Оливье Мессианом в сочинении
1949 года «Лады длительностей и интенсивностей» (один из «Четырех
ритмических этюдов»). Структурной вариацией на эту пьесу Мессиана
можно назвать «Перекрестную игру» К. Штокхаузена. По модели «буле-
зовского ряда» сочинялись также уже упоминавшаяся 3-я часть из «Пяти
историй о господине Кейнере» Э. Денисова, «Музыка для камерного
оркестра» и «Pianissimo» А. Шнитке.
Во всех перечисленных случаях «булезовский ряд» использован для
выведения из основной (высотной) серии производных числовых рядов.
Будучи скрыто представленным в тексте, он относится к уровню органи-
зации музыкального произведения, то есть не осознается слушателем.
В этом его принципиальное отличие от связанных с уровнем композиции
прогрессий — квантитативных рядов, воспринимаемых на слух как
постепенное нарастание или убывание определенного качества звучаний.
Прогрессия, выраженная в звуковом материале, мыслится уже не как
абстрактный числовой ряд, а как знак, способный вызвать вполне кон-
кретные внемузыкальные ассоциации и в этом смысле являющийся зна-
ком иконическим.
В одном из поздних сочинений И. Стравинского, театрализованном
представлении «Потоп», серия формируется по принципу аддиции — с
каждым ее повторением добавляются новые звуки. Такая прогрессия, по
замыслу композитора должна символизировать землю, заливаемую водой.
Аддиция в сочетании с ее антиподом — логогрифом — композицион-
ный прием, положенный в основу и наделенный многозначительной сим-
воликой в скрипичном концерте С. Губайдулиной. Ключом к этой симво-
лике является название сочинения: «Offertorium». Главный персонаж
произведения — многократно цитируемая тема из баховского «Музы-
кального приношения». Идея жертвоприношения выражается в том, что
240
при каждом проведении этой темы последовательно отсекаются крайние
ее звуки21. Как бы тая на глазах, тема-символ «приносится в жертву»,
чтобы, исчезнув, затем возродиться вновь. «Второе пришествие», однако,
остается почти незамеченным, поскольку аддиция темы осуществляется
в ракоходном изложении.
Впечатляет своей изобразительностью и прогрессия, положенная в
основу картины «Затмение» из балета Б. Тищенко «Ярославна». Вся кар-
тина в музыкальном отношении представляет собой постепенное разра-
стание полутонового кластера, опускающегося из вершины-источника
подобно черной тени, заволакивающей землю. Тонкий, отрешенно-злове-
щий звук органа, ширясь и усиливаясь, перерождается в конце картины в
неудержимый, всеподавляющий грохот. На данном примере продемон-
стрируем, сколь сложный комплекс точно рассчитанных средств исполь-
зуется порой композитором для создания «элементарного», не расчлени-
мого ухом сонорного эффекта.
Регистрово-динамическая прогрессия у органа — это лишь канва
процесса, главное же осуществляется в постепенно добавляемых в зоне
кластера оркестровых голосах. Всю картину пронизывает ритм оцепене-
лого движения, по инерции продолжающегося после внезапно прервав-
шейся картины «Начало похода»:
J J 1ГЛШ I
Вначале это чисто хореографический ритм, затем же на его основе в
завоеванном диапазоне органного кластера рождается мелодическая
попевка, напоминающая стон-причитание. Затаенная сила этой попевки
21 Усечение темы с конца — вполне привычный для нас пример развития,
однако усечение ее с начала — явление весьма необычное. Его моделью, очевидно,
является поэтический логогриф типа:
Атоге
More
Ore
Re
Sis mihi amicus!
Любовью
Нравом
Молитвой
Делом
Будь мне другом!
По принципу логогрифа завершается и одна из частей «Музыки для камерно-
го ансамбля и ударных» С. Губайдулиной, где таким способом достигнут эффект
«истаивающего каданса пьесы» (выражение Ю. Холопова).
241
сказывается в противоречии низкого уровня динамики (рр) и напряжен-
ного тембра кларнета-пикколо. Вторя ей, поочередно вступают два обыч-
ных кларнета, каждый на полтона ниже предыдущего. С этого начинает-
ся крупная часть сцены, построенная по одному принципу: с каждым пов-
торением ритмоформулы, расширяя регистровый диапазон, подключа-
ются новые инструменты, причем способ подключения не остается неиз-
менным. Если кларнеты сразу «застывали», каждый на своем высотном
уровне, то гобои, флейты, трубы и валторны, исполнив свое первое звено,
сами потом опускаются на полутон ниже, освобождая место для включе-
ния нового инструмента на том же самом высотном уровне.
Кларнеты со временем также уходят с «поверхности» кластера, осво-
бождая место более пронзительным флейтам. Последними на мелодико-
ритмическом остинато вступают тяжелая медь и ударные. Причем пульс
подключения здесь ускоряется вдвое (цифры 122-123). В этот момент
достигается динамический максимум — почти полный состав оркестра на
ff и подключившийся второй орган.
Далее начинается качественно новая фаза развития. Напряжение
продолжает расти, но приобретает уже иной характер. Логику дальней-
шего музыкального развития можно определить как «изживание темы»,
выражающееся в постепенном отслоении оркестровых голосов от остина-
то, также начавшемся сверху вниз и представляющем собой поочередный
переход инструментов на свободно-алеаторические партии. Момент
этого перехода композитор стремится сделать заметным, сопровождая
его всякий раз динамическим указанием///.
Одновременно с этим «по следам» первого устремляется новый кла-
стер у струнных инструментов, уже не связанный с мелодико-ритмиче-
ским остинато.
Все это приводит к постепенному размыванию и ритмического кар-
каса, который в конце концов остается у одних ударных. Так исподволь
утверждается новое качество звучания. Нарастающая «суматоха» в груп-
пе деревянных духовых, глиссандо у медных, струнных и арф способ-
ствуют созданию эффекта всеобщих стенаний.
Внезапный обрыв этой кульминации (цифра 126) — начало заклю-
чительного раздела картины, где постепенно затихает, выравнивается,
как судорожно бившееся сердце, ритмическое движение ударных и низ-
ких струнных, прерываемое «вздохами» флейты-пикколо и флажолетов
скрипок.
Глава 9
Синкретизм и парадоксы
современной культуры
Установка на синтез — именно та из магистральных тенденций в
музыкальном искусстве нашего времени, с которой связана скрытая пре-
емственность антиавангарда и авангарда. Девиз Пьера Булеза — поднять
технику на уровень идеи — достаточно ясно показывает «следы» анали-
тизма в новой синтетичности. Добавим к этому, что «традиционный аван-
гард»1 причастен к позднейшим синтезам уже тем, что является одной из
точек отсчета в новой системе измерений.
Есть, однако, в современной музыкальной культуре и иная маги-
стральная тенденция, которая представляется еще более активной нега-
цией по отношению к недавнему прошлому. Эта тенденция связана с ори-
ентацией на синкретический тип мышления. Но что именно подразуме-
вается под синкретизмом сегодня?
Ответ на этот вопрос выводит к проблеме, не случайно вынесенной в
название предыдущей главы. Синкретизм в современной музыкальной
культуре может быть представлен в совершенно разных аспектах. Есть
основания, например, говорить об «естественном» и «искусственном» син-
кретизме. Первый определяется естественным характером деятельности,
связанной с определенной психологической установкой. Так, уже упоми-
нался синкретизм как основа метода педагогики, в особенности на началь-
1 Столь парадоксальный термин в последнее время вошел в обиход, закрепив-
шись за структурализмом 50-х годов. В частности, Дьердь Лигети так говорит о
своем фортепианном концерте (1985-1988): «Этим концертом я заявляю свое эсте-
тическое кредо: независимость как от критериев традиционного авангарда, так и от
современного постмодернизма. Музыкальные иллюзии, которые кажутся мне осо-
бенно важными, образуют основу моей эстетической позиции. Я предпочитаю
музыкальные формы, которые менее заняты процессом, а сосредоточены на объек-
те: музыка — это застывшее время, предмет в воображаемом пространстве, создава-
емом с помощью музыки» (85, 137).
243
ной стадии обучения музыки. Суггестивные приемы педагогики особенно
эффективны при воспитании музыканта-исполнителя, так как и в цело-
стном представлении художественного образа, и в отдельных «частностях»
(овладении, например, гибкими нюансами агогики) более существенно не
отвлеченно-рациональное, а конкретно-ассоциативное мышление.
В прежнем, естественном, значении этого слова синкретичен фоль-
клор, однако именно резко меняющиеся условия его бытования делают
эту традицию угасающей. Сегодня синкретизм фольклора — это реликт,
остаточное явление древней культуры.
I «Искусственный» синкретизм — имитируемое благодаря акту твор-
чества состояние. Это ориентация на модель, принадлежащую иной куль-
туре (такой моделью для профессиональной музыки может быть и тот же
фольклор)^
j Важнейшей моделью для искусства XX века стал синкретизм мифа.
Современное «мифотворчество» — интереснейшая проблема культуры,
получающая освещение с различных сторон. «Мифотворчество может
быть результатом бессознательной имитации и осознанной реконструк-
ции», — пишет Е. Автономова. Внутренняя антиномия явления сформу-
лирована философом следующим образом: «Апелляция к первобытной
синкретичности мифа как к подлинному единству нерасчлененного на
отдельные отсеки сознания или же конструирование подобных “синкре-
тизмов” на материале современного сознания» (1, 179-180).
Вторая часть данной антиномии разъясняет нам логический пара-
докс «синкрезис через синтез». Синкретизм как характеристика типа
слушательского восприятия может обеспечиваться сознательно осущест-
вляемым композитором синтезом — это «конструируемый синкретизм»..
И подтверждением этому является тот факт, чтоГмедитативный характер
слушания музыки был «обнаружен» и осмыслен на самом гребне анали-
тизма, — именно таков был эффект восприятия тотально структуриро-
ванной музыкальной ткани.\
Проблема «погружения в состояние», обеспечения адекватной
психологической установки возникает и при обращении к подлинному
мифу, синкретизм которого неизбежно оценивается современным чело-
веком через призму его «аналитически раздробленного сознания».
Попыткой вырваться из этого замкнутого круга является известный
тезис С. Аверинцева: «Языком научного описания мифа должен быть...
сам миф». За этим стоит еще одно представление о синкретизме — сип-
244
кретизме как «записи мышления», выходе за пределы рационального в
области континуального, внепонятийного мышления. Эта идея, подхва-
ченная современным искусством, оказалась особенно актуальна именно в
музыке, язык которой по природе своей наиболее «трансцендентен»2.
В современном искусстве, таким образом, возникает некий «новый
синкретизм», представленный явлениями, не вписывающимися в тради-
ционную систему понятий и категорий. Мы в частности, уже обнаружи-
ли некоторые зоны пересечения смысла категорий «синкрезис» и «син-
тез», обсуждая феномен сонорности. Недискретный (синкретический)
характер слухового восприятия дискретно организуемого (синтезируе-
мого) звукового объекта — одна из граней проблемы адекватности сочи-
ненного и услышанного. Проблема эта имеет и другие грани, в частности
уже затрагивающуюся перед этим — семиотическую.
«Техникой, поднятой антиавангардом на уровень идеи» можно наз-
вать полистилистику. Однако смысловая расплывчатость термина «поли-
стилистика» доходит до диаметрально противоположных его истолкова-
ний. «Красивое слово “полистилистика” для меня ничего не значит.
По-моему, это синоним слова “эклектика”», — говорил Эдисон Денисов
(129, 19). Как бы возражая коллеге, Альфред Шнитке излагал собствен-
ную точку зрения: «Полистилистику часто понимают как некое механи-
ческое взаимодействие разных способов выражения, приемов речи, твор-
ческих манер, и т. д. Мне кажется, далеко не всегда это так. Часто в твор-
честве композитора происходит взаимодействие некоего центрального,
основополагающего, личностно окрашенного стилевого начала — и, так
сказать, периферийных стилевых веяний, отблесков и отголосков вне-
шнего мира. Сплав одного с другим, внешнего с внутренним (конечно,
четкой разграничительной линии между ними провести нельзя) и обра-
зует ту сложную субстанцию, которую слишком легко иной раз именуют
полистилистикой.
Сам термин, мне кажется, не отражает всех тонкостей процесса сочи-
нения музыки. Поясню: в этом poly надо уметь различать главное и вто-
ростепенное; оно, это самое poly, бывает обычно определенным образом
сформировано и организовано, отнюдь не представляя собой случайного,
хаотичного переплетения неких чужеродных стилевых линий» (154).
2 Напомним определение музыкального языка у М. Арановского как «незна-
ковой семиотической системы».
245
Трудность соотнесения представленных здесь позиций связана с
полисемантичностью понятий, которыми приходится при этом пользо-
ваться. Техника полистилистики — это целая шкала приемов, имеющих
различный «радиус действия», разные семиотические функции: цитата,
аллюзия,-адаптация, коллаж. Разграничивая два вида полистилистики —
«симбиотическую» и «коллажную», — К. Штокхаузен подчеркивает тем
самым различия в характере связи элементов текста. Иногда налицо
именно сплав разностильных элементов, и тогда есть возможность гово-
рить об их синтезе. Иногда взаимодействие этих элементов осуществля-
ется более «дистанционно», и в таких случаях действительно может быть
оправдано заимствование из биологического лексикона — «симбиоз».
Наконец, подчеркнутая «несовместимость» элементов, парадоксальность
коллажных наложений возвращает нам старый термин «эклектика». Воз-
вращает, впрочем, опять же в новом смысле — замеченном многими, но
еще не «отстоявшемся» в четких определениях.
«...Но есть ли у нас собственный танцевальный стиль? Нет. А если
есть, то эклектический. А может быть, эклектика и стала стилем? И не
только в танце, в культуре вообще» (23). Размышления выдающегося
танцовщика и балетмейстера В. Васильева симптоматичны для нашего
времени. Прежнее негативное представление об эклектике как механиче-
ском заимствовании отдельных элементов на основе произвольного
выбора уступило поискам особой системности в этом явлении.
«Не беспринципность, а глубокое убеждение в необходимости выби-
рать “стиль” сооружения в соответствии с конкретным заданием приво-
дит к многостилью эклектики», — пишет Е. Кириченко (48, 21) об архи-
тектурном направлении 1830-1890-х годов. И в таком понимании тер-
мин «эклектика» выходит на уровень общеэстетических категорий,
подобно терминам «ренессанс» или «классицизм». Выяснение же того,
что здесь суть «глубокое убеждение», стало одним из активно обсужда-
емых вопросов современного искусствоведения3.
Следует отметить параллели в исторически меняющемся понимании
«эклектики» как эстетической категории и «эклектики» как категории
логико-философской. Последняя изначально тоже имела подчеркнуто
3 В зарубежной литературе для обозначения архитектурного стиля середины —
второй половины XIX века термину «эклектика», во избежание привычных нега-
тивных оценочных моментов, предпочтен более нейтральный термин «историзм».
246
негативный смысл и при этом представлялась синонимом категории
«синкретизм». «В философии синкретизмом называют одну из разновид-
ностей эклектизма», — написано в Логическом словаре-справочнике
Н. Кондакова. И в подтверждение сего тут же приведена хлесткая цитата
К. Маркса: «Гегель хочет средневековой сословной системы, но в совре-
менном значении законодательной власти, и он хочет современной зако-
нодательной власти, включенной, однако, в средневековую сословную
систему! Это — синкретизм наихудшего сорта» (55, 542).
В новейших работах проявился значительно более тонкий подход,
«реабилитирующий» эклектику как системное понятие и одновременно
разводящий ее с синкретизмом. Обсуждая антиномию необходимости и
невозможности построения синтеза мировоззрения, Н. Автономова пи-
шет: «Попыткам синтеза противостоят обоснования принципиальной
“мозаичности” как Status quo, при котором эклектичные (представляю-
щие собой конгломерат разрозненных элементов) или же синкретичные
(отмеченные определенной, хотя и неосуществимой тенденцией к синте-
зу) мыслительные образования санкционируются как нечто неизбежное
и непреодолимое, вполне соответствующее реальному бытию мысли,
реальным формам существования позднебуржуазного сознания» (1,
157-158). Интересно, что и Е. Кириченко противопоставляет термины
«эклектика» и «синкретизм», рассматривая конкретные вопросы разви-
тия архитектурного стиля (49, 49).
Семиотическая грань проблемы эклектики в период постмодерниз-
ма связана с представлением художественного текста как «двойного
кода», рассчитанного одновременно на различные уровни восприятия.
Определяющим фактором для актуализации того или иного уровня
является тезаурус реципиента (слушателя, читателя, зрителя). Распро-
странение полистилистики одновременно и в элитарной, и в массовой
культуре подтверждает этот тезис. Поп-арт, рок-музыка, видеоклип кон-
цептуально представляют собой эклектику как слепок с действительно-
сти, как модель мира разорванных связей и хаоса.
Внешне сходные приемы элитарного искусства ведут за собой гораз-
до дальше: здесь важна роль интертекстуальных связей, знаковых функ-
ций, актуальных для самого искусства. Одно из ключевых понятий пост-
модернизма — «авторитет текста». Оно означает уровень насыщенности
данного текста аллюзиями на другие художественные произведения,
репрезентирующие определенную культурную традицию. Это уже не
247
прямое отражение его в сложной системе зеркал, коими являются памят-
ники художественной культуры, знание которых ценителями искусства
заведомо предполагается. В этом смысле постмодернизм, при всей кажу-
щейся общедоступности языковых средств, ориентирован прежде всего
на хорошо подготовленную «университетскую» аудиторию.
Как пример адекватного прочтения полистилистическбго, семанти-
чески многослойного текста приведем фрагмент выполненного Альфре-
дом Шнитке анализа третьей части Симфонии Л. Берио: «Не довольству-
ясь интонационным родством, Берио охватывает разностильный музы-
кальный материал менее уловимыми связями. Комментирующие репли-
ки вокального ансамбля уже в самом начале скерцо предвещают тонкую
сеть намеков, аллюзий, косвенных ассоциаций, объединяющую как будто
несвязные образы в музыкально-поэтическую картину современного
мира, раздираемого потрясениями. Мнимоиронические вопросительные
реплики “deuxieme symphonie”, “quatrieme symphonic”, “premiere partie”,
“deuxieme paitie”, “quatrieme partie”, “troisieme partie” сразу говорят слу-
шателю: “Обратите внимание на текст, как бы абсурден он ни был, в нем
тоже есть формальные связи с музыкой, но и это не все — наверняка вы
почувствуете ассоциативно-выразительные связи между стилистически
чуждыми слоями музыки”.
При такой постановке проблемы формального единства интона-
ционные связи становятся внешним фактором; помимо них действуют
более глубинные связи между элементами, которые тоже заслуживают
рассмотрения именно как тематические связи. Ведь тематическую функ-
цию здесь выполняет не только экспозиционный, слышимый “надвод-
ный” пласт музыкального материала, но и неэкспозиционный, подразу-
меваемый “подводный” груз ассоциаций, аналогий, косвенных соответ-
ствий. Так, между малеровским скерцо и цитатой из “Воццека”, кроме
уже отмеченного совпадения хроматических интонаций, есть и внешне
ироническая литературная связь. “Horen Sie? Ja, dort! — Jesus! Das war ein
Ton!” — это восклицания Капитана и Доктора, слышащих, как тонет Воц-
цек; и тут же вспоминается, что малеровское скерцо построено на мело-
дии песни из “Волшебного рога мальчика” о проповеди Антония Падуан-
ского рыбам. Но под этой внешней литературной связью затаилась и дру-
гая — в обоих случаях, и в скерцо Малера, и в сцене из “Воццека” (как и
в объединяющей все это Симфонии Берио), воссоздано ощущение зыб-
кости, ненадежности уходящей из-под ног почвы» (154).
248
Полистилистика, как можно заключить из всего вышеизложенного,
предлагает такой режим восприятия, такой способ слушания музыки, в
основе которого лежат все те же аналитические мыслительные операции.
Но, по сравнению с сериализмом, сознание переключено здесь в иную
плоскость: от улавливания абстрактных отношений между звуковыми
конструкциями — к извлечению из ранее накопленного художественного
опыта и осмыслению в новом контексте конкретных музыкальных зна-
ков. Текст произведения, пожалуй, можно сравнивать здесь с адресной
записной книжкой, листая которую человек невольно пробуждает в себе
цепь ассоциаций, воспоминаний, эмоций. Разгадывание установленных
композитором принципов отбора материала и мотивировки его комбини-
рования в данном тексте — основа художественной оценки слушателем
полистилистического музыкального произведения.
Итак, категориальная связь «эклектики» и «синкрезиса» предстала
перед нами в основном как вопрос этимологии, как небезынтересная
историческая справка. По-настоящему же актуальной проблемой катего-
рия «синкрезис» оборачивается при мысленном перенесении к тому
полюсу современной музыкальной культуры, на котором анализ текста
попросту невозможен по причине... отсутствия самого текста. С кризисом
письменной культуры и возникновением (возрождением на новой осно-
ве) различных форм бесписьменной культуры связана сегодня проблема
синкретизма особого рода. Если прежде мы имели возможность говорить
о синкретизме как о «записи мышления», то в данном случае не годится
уже и само слово «запись»! Перестают работать все «базовые» понятия
музыкознания: произведение, композиция, нотный текст, исполнитель-
скаяинтерпретация. Что же тогда пришло взамен?
Начнем с некоторых внешних признаков явления. Общеизвестный
интерес современных художников к внеевропейским культурам и архаи-
ке — это, разумеется, далеко не первый полет творческой мысли сквозь
Пространство и Время. Но на этот раз не экзотика, не обогащение пали-
тры языковых средств влекут ее столь далеко за пределы мест естествен-
ного обитания. Заветная цель — «новое измерение» в процессе мышле-
ния, новое видение мира и новое место в нем.
Данная тенденция свойственна современной культуре в самом
широком ее понимании. Она обрела особую социальную значимость, став
основой идеологии определенных сообществ. Говорят, например, о
249
«третьем сознании Америки» — сообществе на основе рок-музыки, бро-
сившем вызов современной западной культуре — культуре слова. Еще
один вызов, но уже с другой стороны — призыв к молчанию как способу
познания человеком внешнего и внутреннего мира. «Культура молча-
ния», техника медитации — прямого подключения к континуальному
мышлению без обращения к языковым средствам — это, конечно, не
«открытие» конца XX века. Речь идет здесь прежде всего о проникнове-
нии издавна культивировавшихся «элитарных» идей на уровень массово-
го сознания.
Живой интерес к философам «антигегелевской» ориентации и их
попыткам выстроить целостную систему иррационализма, сделать про-
блему невыразимого одной из центральных, — стал основой концептуа-
лизма в современном искусстве. Возникло естественное сближение
искусства и философии, позволяющее вспомнить об их изначальном син-
кретическом единстве. Уже у С. Кьеркегора и в продолжившем его уче-
ние экзистенциализме «появляются новый философский язык и стиль,
призванные выразить мысли философа косвенным путем, фрагментарно,
афористично и лирично» (84, 92). Проблема дологического сознания,
«осознания без знания», поднятая экзистенциализмом, вошла в сопри-
косновение с проблемой надлогического сознания — центральной для
дзэн-буддизма. С «европейской точки зрения» последний нередко рас-
сматривается как разновидность психолитического самогипноза4: «Мож-
но думать, — пишет В. Налимов, — что мистический опыт — это просто то
состояние сознания, которое достигается, когда удается снять органи-
зующую роль логического сознания с его языковой дискретизацией,
осмысливанием в непротиворечивых построениях и упорядочиванием
воспринимаемого в причинно-следственных и пространственно-времен-
ных категориях» (92,30).
Феномен освобожденного от ratio мышления исследуется и современ-
ной психологией, причем нередко и здесь — с привлечением материала искус-
ства. В этой связи понятия «сверхсознание» и «надсознание» представля-
ются как отражающие специфику начальных этапов всякого творчества5.
Психолитический — освобождающий сознание.
5 «Неосознаваемое™ творческой интуиции есть защита от преждевременного
вмешательства сознания, от давления ранее накопленного опыта». — считает
П. Симонов (108, 131).
250
Образное мышление как дологическое, то есть онтогенетически бо-
лее ранее, чем имеющее уже социальную окраску логическое мышление,
особенно хорошо развито у ребенка. Но оно, как некое «глубинное созна-
ние», остается одним из уровней психического отражения и у взрослого
человека, уже обремененного всем комплексом рационально-аналитиче-
ских «фильтров» восприятия действительности. Искусство, погружая
человека в особый транс, состояние ирреальности, отключенности от
обыденного, как раз и создает необходимые условия для «высвобожде-
ния духа».
Рассматривая этот феномен как проявление доминантности правого
полушария мозга, ученые столкнулись с проблемой языка его научного
описания. Правое полушарие в данном случае как бы становится объек-
том изучения для левого полушария, но основной «инструмент» послед-
него — вербальный язык — оказывается здесь, увы, «прокрустовым
ложем» для мысли, пытающейся проникнуть в самое мысль. И потому
закономерны агностицистские нотки в замечании В. Налимова: «Пробле-
ма непрерывности, будучи поставленной во всей своей глубине, по-види-
мому, должна быть отнесена к числу проблем, запрещенных для обсужде-
ния. Нельзя превратить в понятия объектного языка категории нашего
мышления — у нас нет языка для их обсуждения, нет необходимой для
этого семантики» (92, 50).
Но известная заповедь Л. Витгенштейна — «о чем невозможно гово-
рить, о том следует молчать», — естественно, не исчерпывает проблему
Новое направление поисков оказалось связано с созданием особых вне-
языковых средств самовыражения. Многими умами завладела, в частно-
сти, концепция ноосферы, выдвинутая В. Вернадским6. Представляя ноо-
сферу как новый пласт реальности, как качественно новое состояние био-
сферы, возникшее под влиянием научной мысли и человеческого труда,
Вернадский тем самым вплотную подошел к формулированию идеи о
коллективном бессознательном человечества — идеи, под разными угла-
6 Приоритет введения самого термина «ноосфера» (от греч. «ноос» — разум и
«сфера» в смысле оболочки Земли) Вернадский признает за другим ученым: «При-
няв установленную мною биохимическую основу биосферы за исходное, француз-
ский математик и философ-бергсонианец Е. Ле Руа в своих лекциях в Коллеж де
Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие “ноосфера” как современной стадии, геоло-
гически переживаемой биосферой» (25, 184).
251
ми зрения высвеченной учеными и философами («архетип коллективно-
го бессознательного» — К. Юнг, «космическое бессознательное» — Суд-
зуки, «космическое сознание» — Э. Фромм, «коллективное представле-
ние» — Э. Дюргейм и Л. Леви-Брюль и т. д.).
Возможность «подключения» человека к ноосфере — прямого обра-
щения к континуальным потокам сознания — определяется индивиду-
альной способностью отрешиться от стереотипов дискретного мышле-
ния. «Является ли человек творцом континуального мышления или толь-
ко приемником тех потоков, которые протекают где-то вне его? Если
справедливо второе предположение, то все усилия человека, направлен-
ные на воспроизведение этих потоков — медитации, прием психоделиче-
ских (открывающих сознание. — А.С.) средств, участие в мистериях или,
наконец, умение задавать самому себе вопросы на языке дискретных
представлений и ждать на них ответа, — все это только различные спо-
собы настраиваться на прием» (92, 67).
Выделенная часть процитированного рассуждения В. Налимова
содержит особенно существенную для нас мысль. Именно этим самым
«умением» определяется.возможность совмещения непрерывности и дис-
кретности в творческом процессе такого рода, который, например, подра-
зумевается КарлхайнцехМ Штокхаузеном под термином «интуитивная
музыка». Разъясняя свое понимание существа «интуитивной музыки»,
Штокхаузен говорит: «Интуиция есть надрациональное <...> Интуитив-
ное в тесном смысле — как я употребляю и понимаю его — внечеловече-
ская область, которая воздействует на нас благодаря колебаниям и
постоянно нас бомбардирует. Эти колебания формируются очень точно и
побуждают нас к определенным действиям. Если войти в определенное
состояние, когда ни о чем не размышляют, тогда становишься приемни-
ком такого рода сверхличных колебаний. И если особенно упражняться в
такого рода действиях, то можно из этого сделать музыку. Однако это
может осуществить только совершенно определенная категория музыкан-
тов. Большинство так действовать не может, это очень трудно для них»7.
Медитативность как парадоксальное порождение аналитизма связа-
на с особой асимметрией внутри триады «композитор — исполнитель —
7 Из интервью, данного К. Штокхаузеном голландским музыкантам в 1973 г.
(181 IV, 503).
252
слушатель». Медитация — искомое состояние как для исполнителя, так и
для слушателя «интуитивной музыки». Сам же композитор при этом
«един в двух лицах», ибо это именно он умеет задавать вопросы в дис-
кретных понятиях и ждать на них ответа.
Не просто «медитация», а техника медитирования; не просто «услов-
ный текст», а строго выверенная система стимулов, вызывающих у музы-
кантов-исполнителей и слушателей определенное состояние. Не случай-
но Штокхаузен протестует против напрашивающихся, казалось бы, срав-
нений его метода с дадаизмом и сюрреализмом. Ведь главный принцип
«интуитивной музыки» — синтез противоположностей: «фантазии и
интеллекта, европоцентристского квадрата и азиатской иррационально-
сти» (181, III, 98).
Композитор как «передатчик» трансцендентальных идей, как свя-
зующее звено между континуумом Космоса и сознанием индивида может
избрать разные пути осуществления контакта. В двух сочинениях, отно-
сящихся к 1968 году8, Штокхаузен, следуя единой в основе своей идее,
избегает самоповторения в выборе художественных средств. Структур-
ная организация одного из этих сочинений — «Stimmung» — может рас-
сматриваться как модификация сериальной. Различные ее элементы
выведены из числовых отношений обертонового ряда:
В - f- b - d1 - as1 - с2
2 3 4 5 7 9
Строго выдержанное внутреннее единство материала (на протяже-
нии 70-ти минут исполнения ни разу не появляются звуки «чужого»
спектра) сочетается с алеаторической свободой его комбинирования.
Особое значение Штокхаузен придает психологической установке, объе-
диняющей шесть исполнителей-вокалистов медитирующих в затемнен-
ном помещении вокруг зажженной свечи. Атмосфера во многом создает-
ся и особым вербальным текстом. Его функция — не информативная и не
мнемоническая: текст лишь провоцирует сознание на «алогическое
отстранение», подобное вызываемому коанами — лаконичными высказы-
ваниями-парадоксами в философии дзэн.
8 Этот год, запомнившийся глобальными социальными потрясениями в запад-
ном мире, был критическим и в личной жизни К. Штокхаузена, находившегося на
грани самоубийства. Это, безусловно, сказалось на религиозно-мистических взгля-
дах композитора и на его творческих устремлениях.
253
Если звуковая атмосфера «Stimmung» связана с благозвучием чисто-
го акустического строя и неизбежно возникающими при этом тональны-
ми ассоциациями, то в другом сочинении под названием «Из семи дней»
композитор вновь по-авангардному абстрактен. Но и это — опыт «неза-
писанной музыки». Перед исполнителями лишь словесный текст,
настраивающий их на нужную волну медитирования:
Оставь все, мы были на неправильном пути.
Начни с себя самого:
Ты — музыкант.
Ты можешь превратить в звуки все колебания мира.
Если ты твердо веришь в это и отныне больше не
сомневаешься в этом, начинай с простейших упражнений.
Стань совершенно спокойным, пока не перестанешь
думать, желать, чувствовать...9
Предметом обсуждения в таких случаях должен быть уже не музы-
кальный текст (его не существует!), а коллективный творческий акт, дей-
ство, достигающее или не достигающее в силу ряда обстоятельств поста-
вленной цели — духовного слияния с «универсумом». Концепция «инту-
итивной музыки» устраняет практически все привычные категории,
относимые к музыке, вплоть до самой категории «искусство». Она пре-
тендует на синкретическую целостность мировосприятия, но сталкивает-
ся с необходимостью искусственно стимулировать эту целостность.
9 Фрагмент текста одной из частей цикла процитирован в переводе С. Савенко.
Заключение
Резюмируя все вышеизложенное, вновь оттолкнемся от формули-
ровки темы исследования. Очерчивая, казалось бы, вполне определен-
ный круг вопросов, прямо указывая предмет и ракурс рассмотрения, она,
как выяснилось, отправила нас в долгий путь с большим количеством
перекрестков, неожиданных.поворотов и запутанных лабиринтов. И мы,
отнюдь не исчерпав все возможности продвигаться в избранном напра-
влении, зачастую лишь отмечали ту или иную идею, тот или иной тезис,
достойные отдельного и пристального изучения.
Это естественно, поскольку через призму принятых за основу фило-
софских категорий нам пришлось рассматривать, по существу, всю совре-
менную музыкальную культуру — отражение окружающего нас мира,
исполненного противоречий и парадоксов. В фокус настоящего исследо-
вания попала и самая разнообразная музыка, и многие так или иначе свя-
занные с нею внемузыкальные сферы.
Центральной проблемой, обусловившей часто встречающиеся на
страницах этой книги экскурсы в область философии, психологии, семи-
отики и т. д., явилась проблема мышления, которая приобрела в последнее
время особую актуальность. Одна из глав поэтому специально посвяще-
на вопросу типологии методов художественного мышления — основопо-
лагающему для психологии художественного творчества. Представляется
более целесообразным оперировать именно таким понятием общеэстети-
ческого ранга, а не распространенным понятием «музыкальное мышле-
ние»1, специфику которого на сей день нельзя признать достаточно четко
установленной. Не отказываясь от последнего полностью, мы
1 Разные оттенки в интерпретации понятия «музыкальное мышление» пред-
ставлены в сборнике «Проблемы музыкального мышления» (100).
255
предпочитаем использовать его в метафорическом ключе, допуская при
этом и возможность дальнейших его дефиниций2.
Одна из исходных посылок, определивших направленность данного
исследования, связана, как уже отмечалось, с существенными противоре-
чиями, характеризующими научный аппарат музыкознания. При этом
задачей отнюдь не являлась еще одна попытка «инвентаризации» много-
численных терминов, понятий и категорий. Не было стремления устра-
нять имеющиеся здесь разночтения путем какого-либо рода новой кон-
венции. Ограничив круг своих интересов проблемами музыкальной ком-
позиции, мы прежде всего проследили тенденцию дифференциации смы-
словых оттенков этого понятия, проявляющуюся в таких парных проти-
вопоставлениях, как «композиция — драматургия», «композиция — им-
провизация», «композиция — организация». Обобщив накопленный
музыкознанием опыт, мы обратили внимание на малоисследованные
области композиторского творчества. Пытаясь восполнить этот пробел,
мы ввели и теоретически обосновали в 6-й главе понятие: фоническая,
синтаксическая, композиционная модель. Практическая целесообраз-
ность использования в музыкознании этих понятий продемонстрирована
в серии аналитических этюдов, составивших 7-ю главу.
Центральное положение данных двух глав в данном исследовании
мотивировано особыми обстоятельствами, которые стоит еще раз под-
черкнуть: Расценивая XX век как некий критический предел в движении
по пути, избранному европейской цивилизацией со времен античности,
как достигнутый пик, с вершины которого изумленному взору откры-
лась панорама иной «части света», мы тем самым обнаруживаем точку
отсчета, объективно присутствующую в сознании современного челове-
ка. Речь идет о тех глубинных, генетически предопределенных механиз-
мах мышления, рассмотрение которых на любом конкретном материале
невозможно без постановки вопросов общефилософского характера., И
наше обращение к диалектической триаде «синкрезис — анализ — син-
тез» связано именно с попыткой приблизиться к пониманию внутренней
2 «Можно исследовать ладогармоническое, метроритмическое, фактурно-тем-
бровое мышление как определенные порождающие подсистемы, действие которых
отражено в художественной структуре данного музыкального произведения», —
отмечал В. Бобровский (16, 16).
256
сущности и взаимосвязи тех явлений, которые на поверхности могут
показаться произвольно и непредсказуемо сложившейся мозаикой.
Широко трактуемый аналитизм выдвигается в настоящей работе как
ключевое понятие, с которым неразрывно связаны важнейшие и разнона-
правленные процессы, наблюдаемые в современной художественной
культуре. С этой стороны — хотелось непредубежденно подойти и к неко-
торым образцам музыкального творчества, связанным с так называемы-
ми «структуралистскими» тенденциями. Соотнося понятия «структура-
лизм» и «аналитизм», мы отметили, что последний как тип мышления
равным образом сохраняет свою актуальность и будучи утверждаемым
(при стремлении к синтезу), и будучи отрицаемым (при ориентации на
синкрезис). Он оказывается своего рода связующим звеном между этими
полярными категориями, определяя тем самым сложность их фактиче-
ского размежевания. Запутанность ситуации, неоднократно отмечав-
шаяся здесь при комментировании взглядов различных ученых, — это
объективно сложившаяся к настоящему моменту гносеологическая про-
блема. К примеру, и в соседстве двух цитируемых ниже фраз из книги
П. Стоянова можно усматривать нечто большее, нежели простую редак-
ционную погрешность: «В музыке XVIII века встречаются сложные син-
тетические явления. Синкретизм музыкального мышления нередко объе-
диняет в единую композиционную структуру разнообразные и одновре-
менно глубоко родственные элементы» (115, 225}.
Между синкрезисом и синтезом действительно существует некое
условное «модуляционное поле», в силу чего, например, правополушар-
ное мышление в научной литературе попеременно характеризуется то
как синкретическое, то как синтетическое. Рассмотренный в книге фено-
мен искусственно синтезируемого синкрезиса («синкрезис через син-
тез») представляет данную проблему одновременно «изнутри» и «из-
вне»: как проблему эволюции музыкального языка и как общелогиче-
скую проблему мышления.^Такому «перекрестному» рассмотрению в
книге были подвергнуты и некоторые другие феномены музыкального
искусства — «обращенное тематическое развитие», «диатоника по ту сто-
рону хроматики» и т. д.
Сущностное различие внешне подобного — вопрос, который также
неоднократно вставал перед автором данного исследования. С ним, в
частности, связано оживленно обсуждаемое в последнее время сближе-
ние элитарной и массовой музыкальных культур. Легко наблюдаемая
257
диффузия языковых средств, однако, не устраняет коренных отличий
между названными областями. Выделяя психологический и семиотиче-
ский аспекты функционирования знаков музыкального языка, мы под-
черкивали и здесь особую роль аналитических мыслительных операций в
композиторском творчестве и в слушательском восприятии.
«Погоду делают горы», — гласит поговорка. И «порывы ветра», доно-
сящиеся с «ледников» пика аналитизма, именуемого «авангард 50-х», в
существенной мере определяют семантику языковых средств последую-
щего «антиавангарда». Эта гипотеза представлена в работе как один из
примеров сложной, завуалированной подчас взаимосвязи разных типов
художественного мышления. Подтверждая свою универсальность, триада
«синкрезис — анализ — синтез» оказывается и формулой исторического
развития музыкального языка. Закономерность движения «маятника эво-
люции» к фазе герметизма Метода с последующим его «возвратным»
ходом рассмотрена в работе на различных примерах, с привлечением суж-
дений по этому вопросу других исследователей. Здесь же можно увидеть
и еще одну грань соприкосновения элитарного и массового: выход систе-
мы на уровень массового сознания неизбежно сопровождается отказом от
герметизма и коррекцией смысловой соподчиненности ее элементов.
В современном музыкальном мире слушатель порой напоминает
пассажира, вздремнувшего перед конечной остановкой и не замечающего
при пробуждении, что движение продолжается уже в противоположном
направлении. По-прежнему созерцая за окном знакомый пейзаж, он
лишь смутно ощущает какую-то «неестественность» происходящего.
Фигурально представив подобным образом характер восприятия музы-
ки, относимой к «новой простоте», подчеркнем своеобразие и другой
ситуации, в которой оказывается слушатель «интуитивной» музыки.
Здесь уже буквально все становится проблемой: и отсутствие традицион-
но понимаемого текста музыкального произведения, и необходимость
войти в особый режим «некритического слушания», отрешившись от
всего накопленного ранее художественного опыта.
Если аналитизм авангарда, даже в самых предельных формах своего
проявления, сохранял иод ногами у слушателя знакомую почву — ratio, —
то синкретизм антиавангарда («синкретизм по ту сторону аналитизма»)
буквально выбивает эту почву у него из-под ног, устанавливая в корне
иные и непривычные принципы мышления. Исследовать такую музыку
означает прежде всего вникнуть в коммуникативную ситуацию, связан-
258
ную с нею, — ситуацию, запланированную композитором и вариантно
реализуемую исполнителем и слушателем.
Описание структуры современных музыкальных произведений
сплошь и рядом ставит нас перед проблемой адекватности задуманного и
реализованного, то есть проблемой соотнесенности творческого метода
композитора и типа слушательского восприятия. «Я сам сочиняю вос-
приятие слушателя», — сказал однажды Витольд Лютославский (144,
275). И надо заметить, что это довольно рискованный девиз, поскольку
восприятие слушателя на практике оказывается весьма «полифонич-
ным», привнося и вовсе не предполагавшиеся автором «контрапункты».
Исследование подобных вопросов неизбежно выводит за рамки тра-
диционного музыкознания, побуждая искать новые пути. Один из них
связан с логико-философским осмыслением соответствующих явлений
музыкальной культуры. Категории «синкрезис», «анализ» и «синтез»,
взятые в их триадическом единстве, думается, могут здесь способство-
вать развитию мысли в разных плоскостях. Обращение к названной диа-
лектической триаде в области собственно музыкознания, например,
открывает перспективы дальнейшей разработки учения о музыкальной
форме. Новая пара понятий «композиционная модель — форма-компози-
ция» дополняет наши представления о фундаментальной эстетической
проблеме «формы и содержания». Через соотношение категорий «син-
крезис», «анализ», «синтез» уточняется и смысл понятия «тематическое
развитие», в котором особо акцентируется момент направленности дви-
жения.
Все это, в свою очередь, может рассматриваться и как материал для
музыкальной эстетики, занимающей в системе уровней познания проме-
жуточное положение между музыкознанием и общей эстетикой искус-
ства. Последняя же, как известно, будучи ориентированной на единые
для всех видов искусства законы, проецирует на искусство систему
философских понятий и категорий, привнося в музыкальную эстетику
сравнения с литературой, архитектурой, изобразительным искусством
и т. д. Тем самым в музыкальной эстетике проясняется вопрос о соотно-
шении общего и особенного, нащупывается область специфических
именно для музыки закономерностей.
С другой стороны, современное музыкознание нс только нарабаты-
вает для музыкальной эстетики богатейший фактический материал, но,
широко используя исследовательские методы, заимствованные у смеж-
259
ных наук, само активно вторгается в сферу эстетической проблематики,
ставя и решая на должном уровне вопрос музыкального искусства как
формы общественного сознания. «На пороге» музыкальной эстетики
оказывается и такая новая дисциплина, как психология композиторского
творчества. Несомненно, что выводы уже довольно многочисленных
работ по психологии творчества в области литературоведения лишь
частично переносимы на музыкальное искусство. Пересечение значений
литературного и бытового вербального языков определяет специфику
любых литературоведческих работ. Музыкальный язык обнажает здесь
особые проблемы. Он, в частности, дает основание видеть в музыке ключ
ко всем другим искусствам3.
Поэтому утверждение психологии композиторского творчества в
правах самостоятельной дисциплины будет способствовать развитию
музыкальной эстетики. Подспорьем в решении этой задачи послужит
имеющая уже достаточно богатую историю и накопившая немалый мате-
риал психология слушательского восприятия. Предвидение слушатель-
ской реакции, управление процессом слушательского восприятия музы-
ки представляет, как говорилось, важнейшие стороны творческого про-
цесса композитора.
Уже само перечисление областей, в которых ракурс предпринятого
исследования оказывается актуальным, отвечающим общей культуроло-
гической ориентации современного искусствознания, свидетельствует о
целесообразности и перспективности дальнейших шагов в избранном
направлении. Мало-помалу мы приучаемся именовать XX век «прошлым
веком», и все наши наблюдения и обобщения, касающиеся его музыкаль-
ной культуры, тоже начинают осознаваться как взгляд в Прошлое. Уст-
ремляясь вдаль, этот взгляд способен охватить уже более широкую исто-
рическую панораму, подтверждая или опровергая наши субъективные
суждения о происходящем вокруг.
3 Такая точка зрения, как известно, была весьма распространенной в музы-
кальной эстетике XIX века. «Я рассматриваю это искусство, — писал о музыке
X. Клейст, — как корень или, если воспользоваться научным термином, как алге-
браическую формулу всех остальных искусств» (87, 41).
Литература
1. Автономова Н. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988.
2. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математи-
ки. М„ 1970.
3. Адорно Т. Как устаревает новая музыка // Современное буржуазное искусство.
Критика и размышления. М., 1975. С. 276-288.
4. Арановский М. Опыт построения модели творческого процесса композитора //
Методические проблемы современного искусствознания. Л., 1975. С. 127-141.
5. Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской
музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. Л., 1979.
6. Арановский М. Сознательное и бессознательное в творческом процессе композитора
(к постановке проблемы) // Вопросы музыкального стиля. Л., 1978. С. 140-156.
7. Аристотель. Об искусстве поэзии. М.( 1957.
8. Арнаудов М. Психология литературного творчества. Пер. с болг. М., 1970.
9. Арсеньев А., Библер В., Кедров Б. Анализ развивающегося понятия. М., 1967.
10. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л. — М., 1971.
11. Башляр Г. Новый рационализм / Пер. с франц. М., 1987.
12. Бернстайн Л. Открытое письмо // Современное буржуазное искусство. Критика
и размышления. М., 1975. С. 365-372.
13. Бершадская Т. О понятиях, терминах, определениях современной теории музыки //
Критика и музыкознание. Л., 1987. Вып. 3. С. 97-113.
14. Блок В. Метод творческой работы С. Прокофьева. М., 1979.
15. Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. М., 1970.
16. Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. М., 1989.
Вып. 1.
17. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.
18. Боулдинг К. Общая теория систем — скелет науки // Исследования по общей тео-
рии систем. М., 1969. С. 114-120.
19. Брюсов В. Почему должно изучать Пушкина? // Брюсов В. Избранные сочинения.
В 2-х тт. М., 1955. Т. 2. С. 464-466.
20. Булез П. Современные поиски // Современное буржуазное искусство. Критика и
размышления. М., 1975. С. 291-295.
261
21. Булез IL, Герчо Э. Компьютеры и музыка // В мире науки. 1986. № 6. С. 6-13.
22. Валькова В. К вопросу о понятии «музыкальная тема» // Музыкальное искусство
и паука. М., 1978. Вып. 3. С. 168-190.
23. Васильев В. Пока живет критическая мысль // Правда. 1988. 18 марта.
24. Веберн А. Лекции о музыке. Письма / Пер. с нем. М., 1975.
25. Вернадский В. Начало и вечность жизни. М., 1989.
26. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. М., 1967.
27. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958.
28. Выготский Л. Психология искусства. М., 1968.
29. Гегель Г. Сочинения. В 12-ти тт. М. — Л., 1929. Т. 1.
30 Гершкович 3. Онтологические аспекты произведения искусства // Творческий
процесс и художественное восприятие. Л., 1978. С. 44-65.
31. Гершкович Ф. Тональные истоки Шёнберговой додекафонии // Ученые записки
Тартуского университета. Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6.
С. 344-379.
32. Глазунов А. Письма, статьи, воспоминания. М„ 1958.
33. Гнесин М. Начальный курс практической композиции. М., 1962.
34. Гудзий Н. Как работал Л. Толстой. М., 1936.
35. Денисов Э. «Ода» для кларнета, фортепиано и ударных. Авторский анализ // Соко-
лов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М„ 2004. С. 150-161.
36. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники.
М., 1986.
37. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. М., 1977.
38. Днепров В. О музыкальных эмоциях. Эстетические размышления // Кризис бур-
жуазной культуры и музыка. М., 1972. Вып. 1. С. 99-174.
39. Дувирак Д. Тембро-динамические аспекты музыкального мышления: взаимодей-
ствие творчества и восприятия. Дис... канд. искусствоведения. Киев, 1987.
40. Дьячкова Л. Додекафония и вопросы гармонического анализа // Современная
музыка в теоретических курсах вуза / Труды ГМ ПИ им. Гнесиных. М., 1981.
Вып. 51. С. 68-89.
41. Зейфас Н. Осень «Варшавской осени» // Советская музыка. 1988. № 2. С. 119-131.
42. Земцовский И. Вульгарный социологизм в этномузыкознании // Советская музы-
ка. 1986. № 6. С. 97-104.
43. Зобов Р., Мостепаненко А. О некоторых проблемах взаимосвязей философии
искусства // Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978.
С. 9-31.
44. Ивашкин А. Альфред Шнитке. Штрихи к творческому портрету // Музыкальная
жизнь. 1988. № 5. С. 19-21.
45. Ивашкин А. Канон в музыке как эстетический принцип. Автореферат дис... канд.
искусствоведения. М., 1978.
46. Каган М. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971.
262
М. Кант И. Сочинения. В 6-ти тт. М, 1964. Т. 3.
48. Кириченко Е. Москва на рубеже столетий. М., 1977.
49. Кириченко Е. О закономерностях развития архитектуры (опыт системного анали-
за эклетики и модерна) // Архитектура СССР. 1973. № 12. С. 42-50.
50. Кчимовицкий А. О творческом процессе Бетховена. Л., 1979.
51. Клопов В. Акустические закономерности сочетаний тембров в оркестровке клас-
сической традиции. Автореферат дис... канд. искусствоведения. Л., 1988.
52. КогоутекЦ. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
53. Кон Ю. О теоретической концепции Янниса Ксенакиса // Кризис буржуазной
культуры и музыка. М., 1976. Вып. 3. С. 106-134.
54. Кон Ю. Пьер Булез как теоретик. (Взгляды композитора в 1950-60-е гг.) // Кри-
зис буржуазной культуры и музыка. М., 1983. Вып. 4. С. 162-196.
55. Кондаков Н. Логический словарь-справочник. М., 1975.
56. Котляревский И. Музыкально-теоретические системы европейского искусство-
знания. Киев, 1983.
57. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
58. Лаул Р. Логические функции мотива в процессе формообразования. Автореферат
дис... д-ра искусствоведения. Л., 1989.
59. Левая Г, Леонтьева О. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество. М., 1974.
60. Лившиц М., Рейнгардт Л. Кубизм // Модернизм. Анализ и критика основных
направлений. М., 1980. С. 58-114.
61. Лшети Д. В поисках синтеза музыки и драмы (по страницам зарубежной печати) //
Советская музыка. 1975. № 3. С. 131-132.
62. Лобанова М. Гармоническое инвенторство эпохи барокко // История гармониче-
ских стилей зарубежной музыки до классического периода / Труды ГМПИ
им. Гнесиных. М., 1987. Вып. 92. С. 102-119.
63. Лобанова М. Дьёрдь Лигети: эстетические взгляды и творческая практика 60-70-х гг.
(критика и размышления) // Теория и практика современной буржуазной
культуры: проблемы критики / Сборник научных трудов ГМПИ им. Гнесиных.
М., 1987. Вып. 94. С. 140-172.
64. Лосев А. Диалектика творческого акта (краткий очерк) // Контекст. М., 1982.
С. 48-78.
65. Лосев А. История античной эстетики. В 6-ти тт. Т. 2: Софисты. Сократ. Платон.
М., 1969.
66. Лосев А. Музыка как предмет логики. М., 1927.
67. Лосев А. О понятии художественного канона // Проблема канона в древнем и
средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.
68. Лосев А. Художественные каноны как проблема стиля // Вопросы эстетики. М.,
1964. Вып. 6. С. 351-399.
69. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
70. Лукьянов В. Критика основных направлений современной буржуазной филосо-
фии музыки. Л., 1978.
263
71. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 30-ти тт. М., 1955. Т. 4.
72. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 30-ти тт. М., 1961. Т. 20.
73. Маяковский В. Собрание сочинений. В 6-ти тт. М., 1951. Т 6.
74. Медведев П. В лаборатории писателя. М., 1971.
75. Медушевский В. Миграции терминов и системность науки // Психология процес-
сов художественного творчества. Л., 1980. С. 237-241.
76. Медушевский В. О музыкальных универсалиях // С.С. Скребков. Статьи и воспо-
минания. М., 1979. С. 176-212.
77. Медушевский В. Интонационная форма музыки. М., 1993.
78. Мейлах Б. О подходах к упорядочению литературоведческой и искусствоведче-
ской терминологии // Психология процессов художественного творчества. Л.,
1980. С. 220-229.
79. Мейлах Б. Психология художественного творчества. Предмет и пути исследова-
ния // Психология процессов художественного творчества. Л., 1980. С. 5-23.
80. Милка А. Об одном аспекте динамического развития в Чаконе из ре-минорной
Партиты И.С. Баха для скрипки соло // Научно-методические записки Ново-
сибирской государственной консерватории. Новосибирск, 1970. Вып. 5.
С. 146-158.
81. Михайлов А. Концепция произведения искусства у Т.В. Адорно // О современной
буржуазной эстетике / Сборник статей. М., 1972. Вып. 3. С. 156-259.
82. Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М., 1977.
83. Морозов А. Проблемы европейского барокко // Вопросы литературы. 1968. № 12.
С. 111-126.
84. Мудрагей Н. Рациональное и иррациональное. М., 1985.
85. Музыкальная культура сегодня. Фестиваль в ФРГ, сентябрь 1989 — июнь 1990 г.
Мюнхен, 1989.
86. Музыкальная энциклопедия. В 6-ти тт. М., 1981. Т. 5.
87. Музыкальная эстетика Германии XIX века. В 2-х тт. М., 1981. Т. 1.
88. Муха А. Процесс композиторского творчества. Киев, 1979.
89. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М., 1988.
90. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
91. Назайкинский Е. Понятия и термины теории музыки // Методологические про-
блемы музыкознания. М., 1987. С. 151-177.
92. Налимов В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. Тбилиси,
1978.
93. НА. Римский-Корсаков. Исследования, материалы, письма. В 2-х тт. М., 1953. Т. 1.
94. Обухов В. О структуре категорий материалистической диалектики // Проблемы
научного познания. Ученые записки кафедр общественных наук вузов Ленин-
града. Философия. Л., 1978. Вып. 18. С. 65-76.
95. Павел Николаевич Филонов. Каталог выставки. Л., 1988.
264
96. Пастпо Т. Заметки о пространственном опыте в искусстве // Семиотика и искус-
ствометрия. М., 1972. С. 164-172.
97. Перцов П. Философские течения русской поэзии. СПб., 1899.
98. Петрочук О. Футуризм // Модернизм. Анализ и критика основных направлений.
М., 1980. С. 115-135.
99. Пикассо П. Сборник статей о творчестве. М., 1957.
100. Проблемы музыкального мышления. М., 1974.
101. Прокофьев С. Автобиография // С.С. Прокофьев. Материалы, документы, вос-
поминания. 2-е изд. М., 1961. С. 13-196.
102. Протопопов Вл. Метод анализа современной музыки // Музыкальная культура
народов. Традиции и современность (материалы VII Международного музы-
кального конгресса). М., 1973. С. 210-217.
103. Пружинин Б. Проблема целостности теории. Автореферат дис... канд. филос.
наук. М., 1972.
104. Реши Р. Тональность в современной музыке. Л., 1968.
105. Рунин Б. О психологии импровизации // Психология процессов художествен-
ного творчества. Л., 1980. С. 45-57.
106. Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. М.,
1925.
107. Симонов П. Категории сознания, подсознания и сверхсознания в творческой
системе К.С. Станиславского // Бессознательное: природа, функции, методы
исследования. В 4-х тт. Тбилиси, 1978. Т. 2. С. 518-528.
108. Симонов П. О двух разновидностях неосознаваемого психологического: под- и
сверхсознание // Бессознательное: природа, функции, методы исследования.
В 4-х тт. Тбилиси, 1978. Т. 4. С. 149-159.
109. Системные исследования. Ежегодник. М., 1969.
110. Смирное В. Развивая традиции конфликтного симфонизма // Современные
проблемы советской музыки. Л., 1983. С. 52-62.
111. Соколов А. О некоторых закономерностях развития музыкальных средств на
современном этапе // Музыкальное искусство. Общие вопросы теории и эсте-
тики музыки. Проблемы национальных культур. Ташкент, 1982. С. 114-134.
112. Соколов А. О роли звукового материала в системе музыкальных средств. Авторе-
ферат дис... канд. искусствоведения. М., 1980.
113. Софронова Л. Об анализе литературного произведения эпохи барокко // Совет-
ское славяноведение. 1975. № 5. С. 36-46.
114. Спасов Б. Систематика методов сочинения в творчестве композиторов социали-
стических стран. Дипломная работа. Московская государственная консервато-
рия. М., 1975.
115. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. М., 1985.
116. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.
117. Стравинский И. Что я хотел выразить в «Весне священной» // Музыка. 1913.
№ 141. С. 489-491.
265
118. Тараканов М. Вариантное развитие в «Музыке для струнных, ударных и челе-
сты» Б. Бартока // Бела Барток. Сб. статей. М., 1977. С. 51-71.
119. Тараканов М. Замысел композитора и пути его воплощения // Психология про-
цессов художественного творчества. Л., 1980. С. 127-138.
120. Тараканов М. Симфония: заветы, состояния, перспективы // Советская музыка.
1987. № 1.С. 13-19.
121. Тараканов М. Творчество Р. Щедрина. М., 1980.
122. Твардовский А. О литературе. М., 1973.
123. Теплое Б. Психология музыкальных способностей. М. — Л., 1947.
124. Тихомиров О. Структура мыслительной деятельности человека (опыт теоретиче-
ского и экспериментального исследования). М., 1969.
125. Фаворский В. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988.
126. Федоров В. Инструментальные сочинения К. Пендерецкого начала 60-х годов //
Проблемы музыки XX века. Горький, 1977. С. 292-319.
127. Философская энциклопедия. В 5-ти тт. М., 1960-70.
128. Фортунатов Н. Ритм художественной прозы // Ритм, пространство, время в
литературе и искусстве. Л., 1974. С. 173-186.
129. Холопов Ю. В поисках новой красоты. Творчество Эдисона Денисова: музыка и
идеи // Музыка в СССР. 1988. Январь — март. С. 19-21.
130. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. М., 2003.
131. Холопов Ю. Гармонический анализ (в трех частях). Ч. 3 (в печати).
132. Холопов Ю., Холопова В. Антон Веберн. М., 1984.
133. Холопова В. Альфред Шнитке // Композиторы Российской Федерации. М., 1982.
Вып. 2. С. 254 - 287.
134. Холопова В. Вновь об обертоновой гармонии (из истории вопроса) // Советская
музыка. 1974. № 5. С. 93-98.
135. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века. М., 1971.
136. Холопова В. «Обертоновая» гармония начала XX века // Советская музыка.
1971. № 10. С. 126-131.
137. Холопова В. Об одном принципе хроматики в музыке XX века // Проблемы
музыкальной науки. М., 1973. Вып. 2. С. 331-344.
138. Холопова В. О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы музы-
кальной науки. М., 1979. Вып. 4. С. 4-22.
139. Холопова В. Типы новаторства в музыкальном языке русских и советских ком-
позиторов среднего поколения // Проблемы традиций и новаторства в совре-
менной музыке. М., 1982. С. 158-204.
140. Цуккерман В. Тембр и фактура // Советская музыка. 1969. № 3. С. 45-52; № 5.
С. 97-103.
141. Чернов В. Значение всеобщих понятий в структуре философского мышления.
Автореферат дис... д-ра филос. наук. Минск, 1969.
142. Чигарева Е. Проблемы музыкального языка Б. Бартока в некоторых работах
зарубежных музыковедов // Бела Барток. Сб. статей. М., 1977. С. 5-35.
266
143. Чулков Г. Как работал Достоевский. М., 1939.
144. Шалтупер Ю. О стиле Лютославского 60-х годов // Проблемы музыкальной
науки. М., 1975. Вып. 3. С. 238-279.
145. Шахназарова Н. О взаимосвязях музыки и философии // Творческий процесс и
художественное восприятие. Л., 1978. С. 257-262.
146. Шерозия А. Психоанализ и теория неосознаваемой психологической установки:
итоги и перспективы // Бессознательное: природа, функции, методы исследо-
вания. В 4-х тт. Тбилиси, 1978. Т. 1.С. 37-64.
147. Шнитке A. Klangfarbenmelodie — мелодия тембров (рукопись).
148. Шнитке А. Новое в методике сочинения — статистический метод // Альфреду
Шнитке посвящается. Из собраний «Шнитке-центра». Вып. 2. М., 2001. С. 148.
149. Шнитке А. Оркестровая микрополифопия Лигети //Альфреду Шнитке
посвящается. Из собраний «Шнитке-центра». Вып. 2. М„ 2001. С. 149.
150. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений
Стравинского // Музыка и современность. М., 1967. Вып. 5. С. 209-261.
151. Шиитке А. Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского //
И. Ф. Стравинский. Статьи и материалы. М., 1973. С. 383-434.
152. Шнитке А. Полистилистические тенденции современной музыки // Музыка в
СССР. 1988. Апрель — июль. С. 22-24.
153. Шнитке А. Реальность, которую ждал всю жизнь (интервью Ю. Макеевой и
Г. Цыпина) // Советская музыка. 1988. № 10. С. 17-28.
154. Шнитке А. Третья часть Симфонии Л. Берио. Стилистический контрапункт.
Тематическое и формальное единство в условиях полистилистики. Расширение
понятия тематизма (рукопись).
155. Шохман Г. Эдгар Варез — апостол музыкального радикализма // Советская
музыка. 1988. № И. С. 114-124.
156. Adorno Th. Einleitung in die Musiksoziologie. Zwolfteoretische Vorlesungen.
Rowohlt, 1968.
157. Adorno Th. Klangfiguren. Frankfurt / M„ 1959.
158. Adorno Th. Uber den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Horens.
Z. Sozialforsch. Jg. VII. H. 3. — Paris, 1938.
159. Boulez P. Boulez On Music Today. Cambridge (Mass.), 1971.
160. Buttler Chr. After the Wake: an Essay on the Contemporary Avant-garde. Oxford,
1980.
161. Dahlhaus C. Einleitung. Deutche Musikrat. Zeitgendssischc Musik in dor Bundesrc-
publik Deutchland, 1970-80. EMI Electrola GmbH, 1983 [№ 10].
162. Gleizes A. La peinture et ses lois devait sortir du cubisme. Paris, 1927.
163. Kagel M. Tam-tam, Monologues et Dialogues stir la musique. Paris, 1983.
164. Karkoschka E. Aspekte der Gruppcnimprovisation // Melos. 1971. № 1. S. 11-14.
165. Korbusicky V. Zur empirisch-soziologischen Musikforschung // Beitrage zur
Musikwissenschaft. 1966. Bd. VIII. Hit 3/4. S. 215-240.
267
166. Lebl V. Elektronicka hudba. Praha, 1966.
167. Lethen H. Modernism Cut in Half: The Exclusion of the Avant-garde and the Debate
on Postmodernism // Approaching postmodernism: Papers pres, at a workshop on
postmodernism, 24-25 Sept, 1984, University of Utrecht / Ed. by F. D. Bertens.
Amsterdam; Philadelphia, 1986. P. 233-238.
168. Ligeti G. Pierre Boules // Die Reihe. Wien, 1958. Bd. IV. S. 38-63.
169. Mache F.-B. Doswiadczenia i perspektywy // Res fact. 1965. № 3. S. 5-11.
170. Mache F.-B. Muzyka a jzyk // Res facta. 1968. № 2. S. 58-62.
171. Mitchell D. The Language of Modern Music. London, 1966.
172. Nottebohm G. Zwei Skizzenbiicher Beethovens aus den Jahren 1801 bis 1803. Leipzig,
1924.
173. Pociej B. Problem formy w muzyce // Forum musicum. 1973. № 14. P. 2-24.
174. Quaderni di settembre musicale, 1979.
175. Read H. Icon and Idea. Cambridge, 1955.
176. Die Reihe. Information uber serielle Musik. Anton Webern. Wien, 1955.
177. RohringK. Strukturelles Horen // Melos. 1971. № 5. S. 180-187.
178. RuferJ. Was ist Zwolftonmusik? // Neue Zeitschrift far Musik. Mainz, 1957, № 10.
S. 552-553.
179. Salzman E. Twentieth Century Music: an Introduction. Englewood cliffs, 1967.
180. Searle H. Conversations with Webern // The Musical Times, 1940. October.
181. Stockhausen K. Texte. Bd. I-IV. Koln, 1963-1978.
182. Stojanova J. Gli Anni ’80 // Europa 50-80: Biennale. Settore Musica: 42 Festival
internationale di musica contemporanea. Venezia, 1985. P. 93-107.
183. Stravinsky I. Expositions and Developments. London, 1962.
184. Stravinsky I. The Rite of Spring. Sketches 1911-13. London, 1959.
185. Suleiman S. Naming and difference: Reflexions on «modernism versus postmoder-
nism» in literature // Approaching postmodernism: Papers pres, at a workshop on
postmodernism, 24-25, Sept., 1984, University of Utrecht / Ed. by F.D. Bertens.
Amsterdam, Philadelphia, 1986. P. 255-270.
186. Xenakis J. Elements sur le procedes probabilites (stochastiques) de composition musi-
cale // Panorama de 1’art musicale contemporain / Par C. Samuel. Paris, 1962.
P. 416-425.
187. Xenakis J. Formalized Music. Thought and mathematics in composition. Blooming-
ton — London, 1971.
188. Xenakis J. Vers une philosophic de la musique // Res facta. 1968. № 2. P. 41-57.
Оглавление
Введение..................................................... 3
Глава 1.
Триадичность как гносеологическая проблема в философии,
науке, искусствознании.................................... 15
Глава 2.
О типологии методов художественного мышления...............31
Глава 3.
Диалектика «нормативного» и «ненормативного»
в процессах тематического развития........................ 50
Глава 4.
Взаимосвязь теории и практики
в музыкальной композиции XX века...........................62
Глава 5.
За чертою достигнутого «герметизма»....................... 75
Глава 6.
Аналитизм в музыкальной композиции XX века.................99
Глава 7.
Композиционная модель
в современной музыкально-творческой практике............. 127
Бела Барток.
Фуга из «Музыки для струнных, ударных и челесты»....... 127
Бах — Веберн. Фуга-ричерката № 2
из «Музыкального приношения».......................... 141
Антон Веберн. Вариации ор. 30.......................... 150
Янис Ксенакис. «Nomos Alpha»........................... 167
Виктор Екимовский. «Камерные вариации»................. 195
Глава 8.
Новый смысл старых категорий..............................215
Гчава 9.
Синкретизм и парадоксы современной культуры...............243
Заключение................................................... 255
Литература................................................... 261
Научное издание
Александр Сергеевич Соколов
Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества
Исследование
Редактор Э. Плотица
Художник М. Цветкова
Компьютерная верстка Е. Вороновой
Лицензия № 009.196 ЛК № 000315
Н/К
Форм. 6vm. 70x100 l/i6 • Печ. л. 17,0.
Уч.-изд. л. 18,7. Изд. № 11203.
Тираж 500 экз. Цена договорная
Издательский Дом "Композитор"
127006, Москва, Садовая-Триумфальная ул., 12/14.
119034, Москва, М. Левшинский пер., д. 7, стр 2.
Отпечатано в типографии ООО “ИПФ “Гарт”.