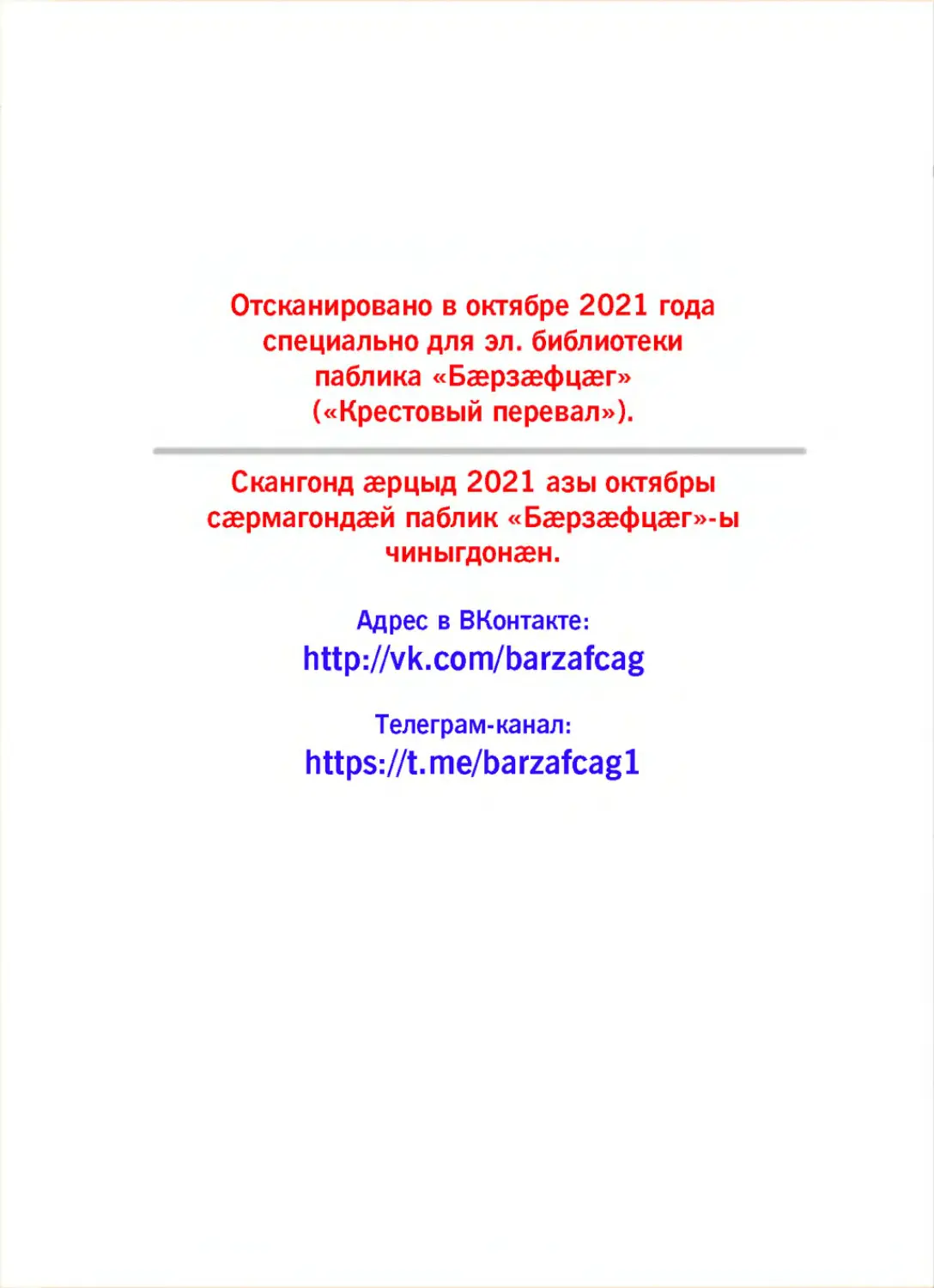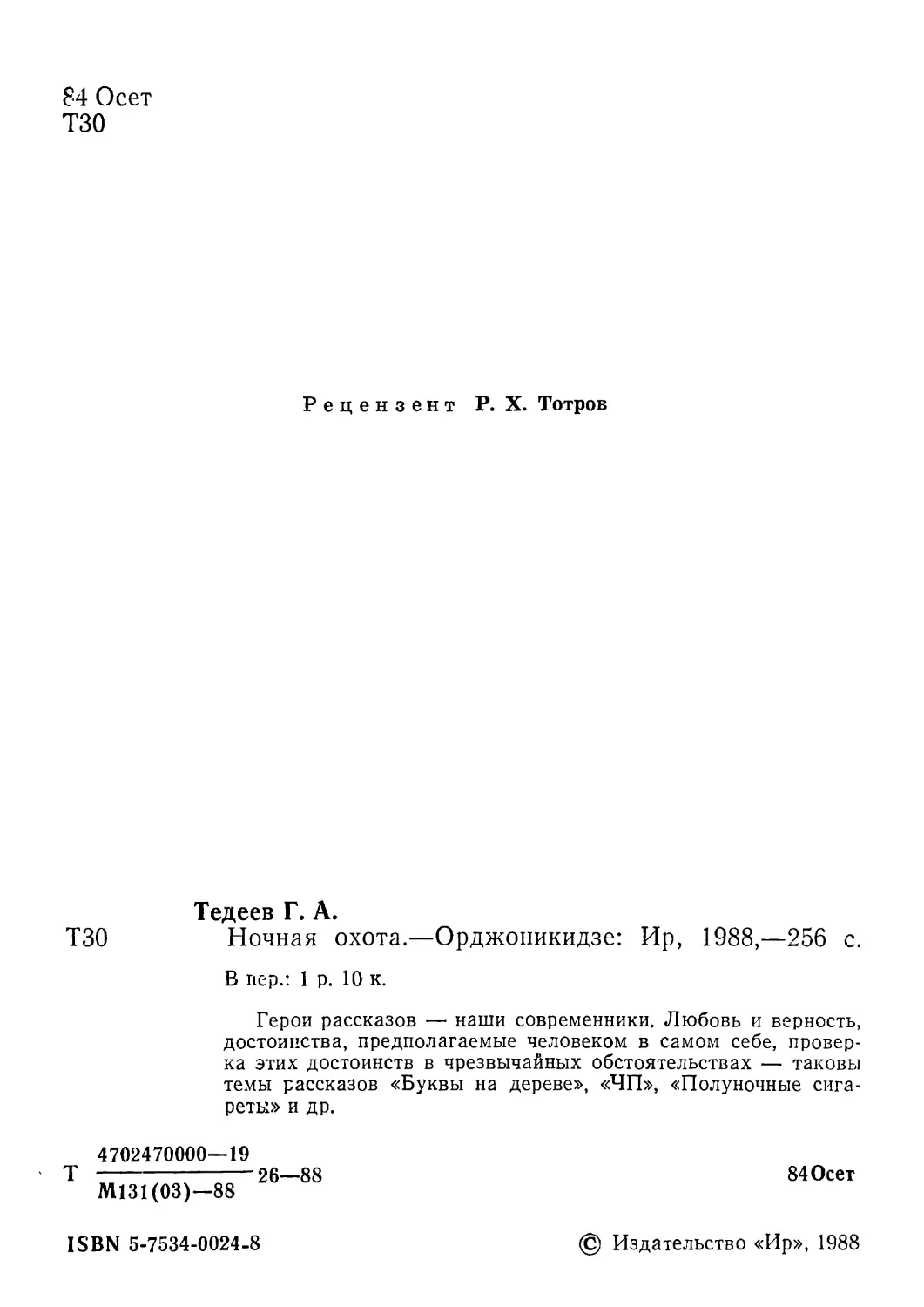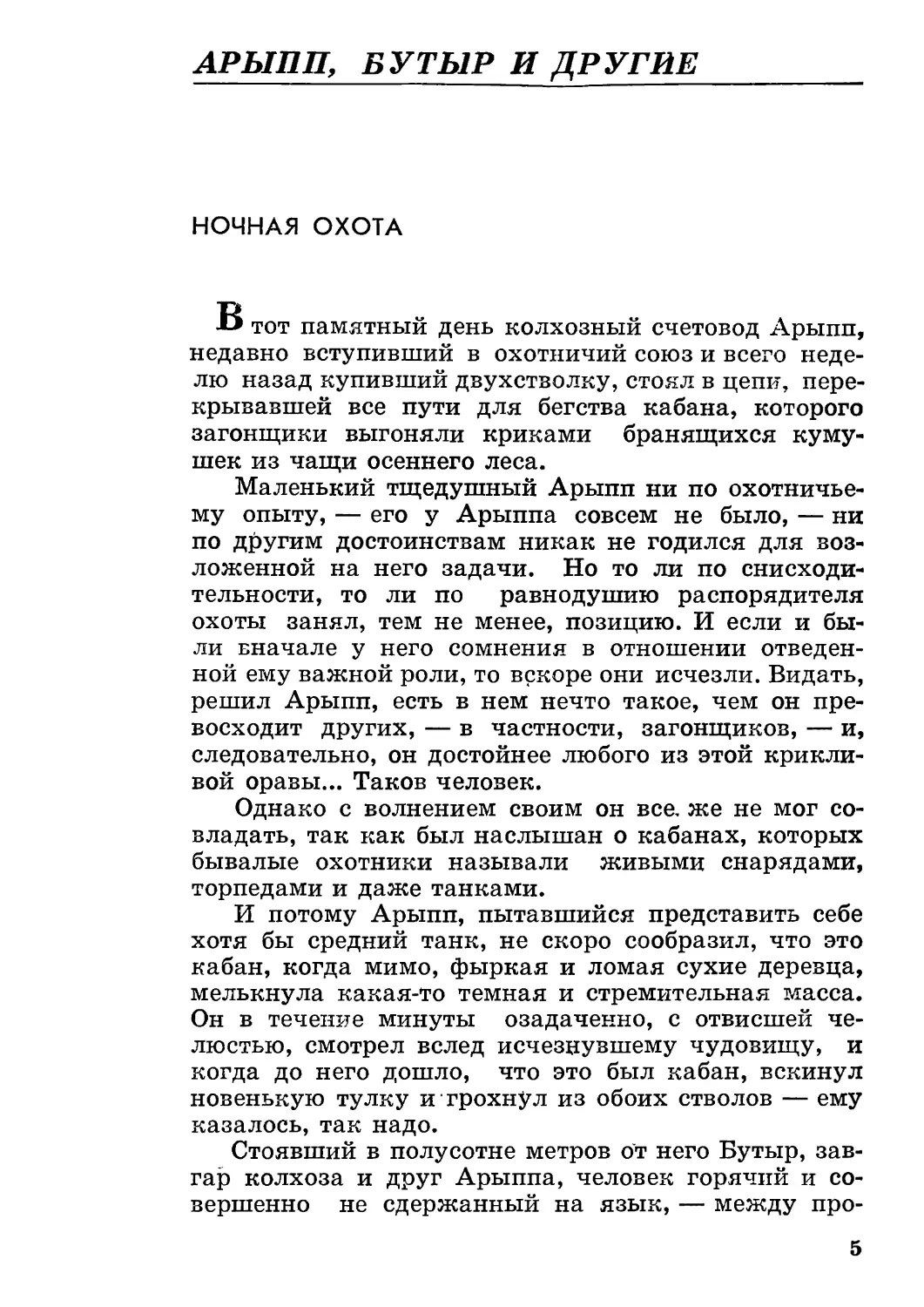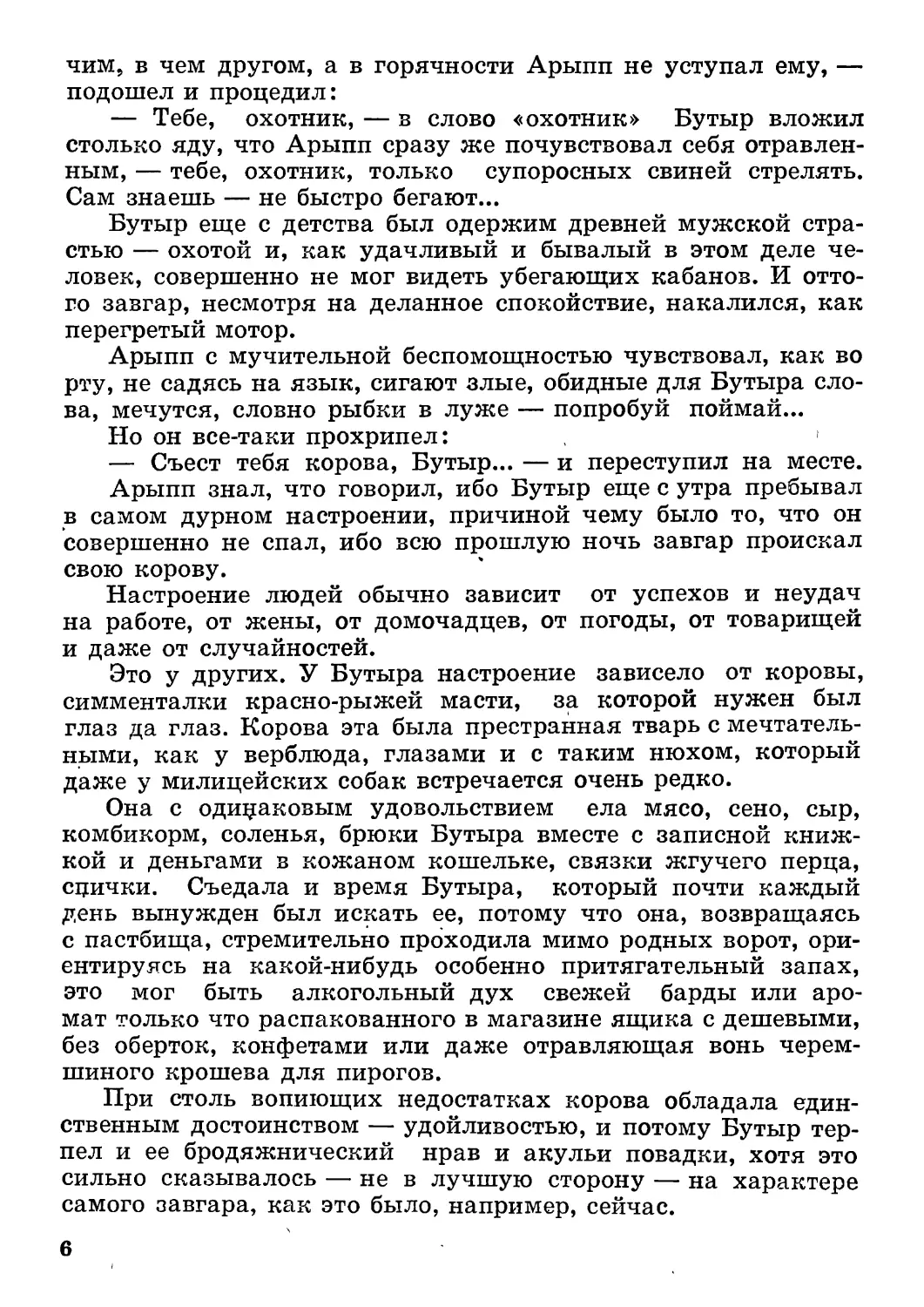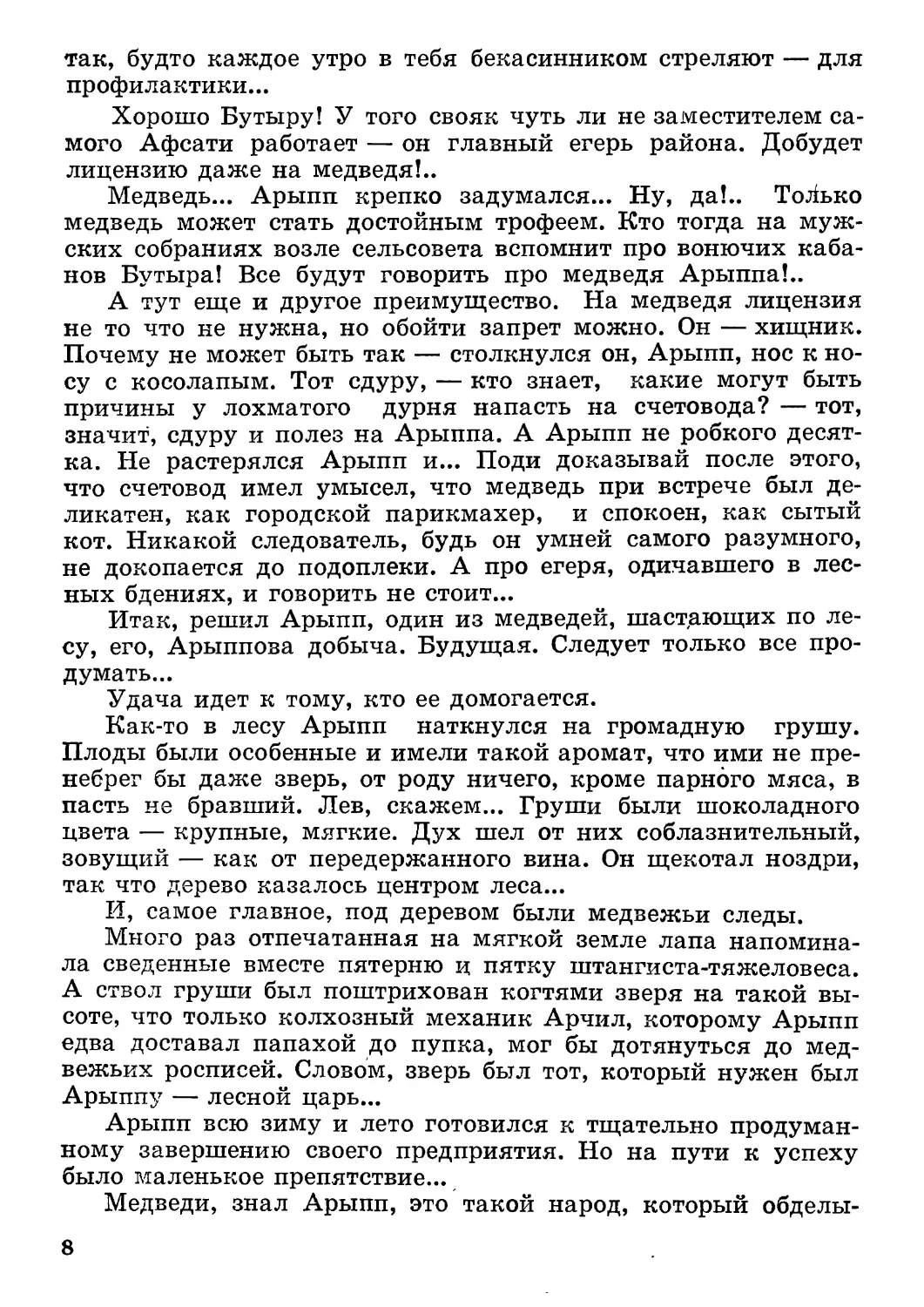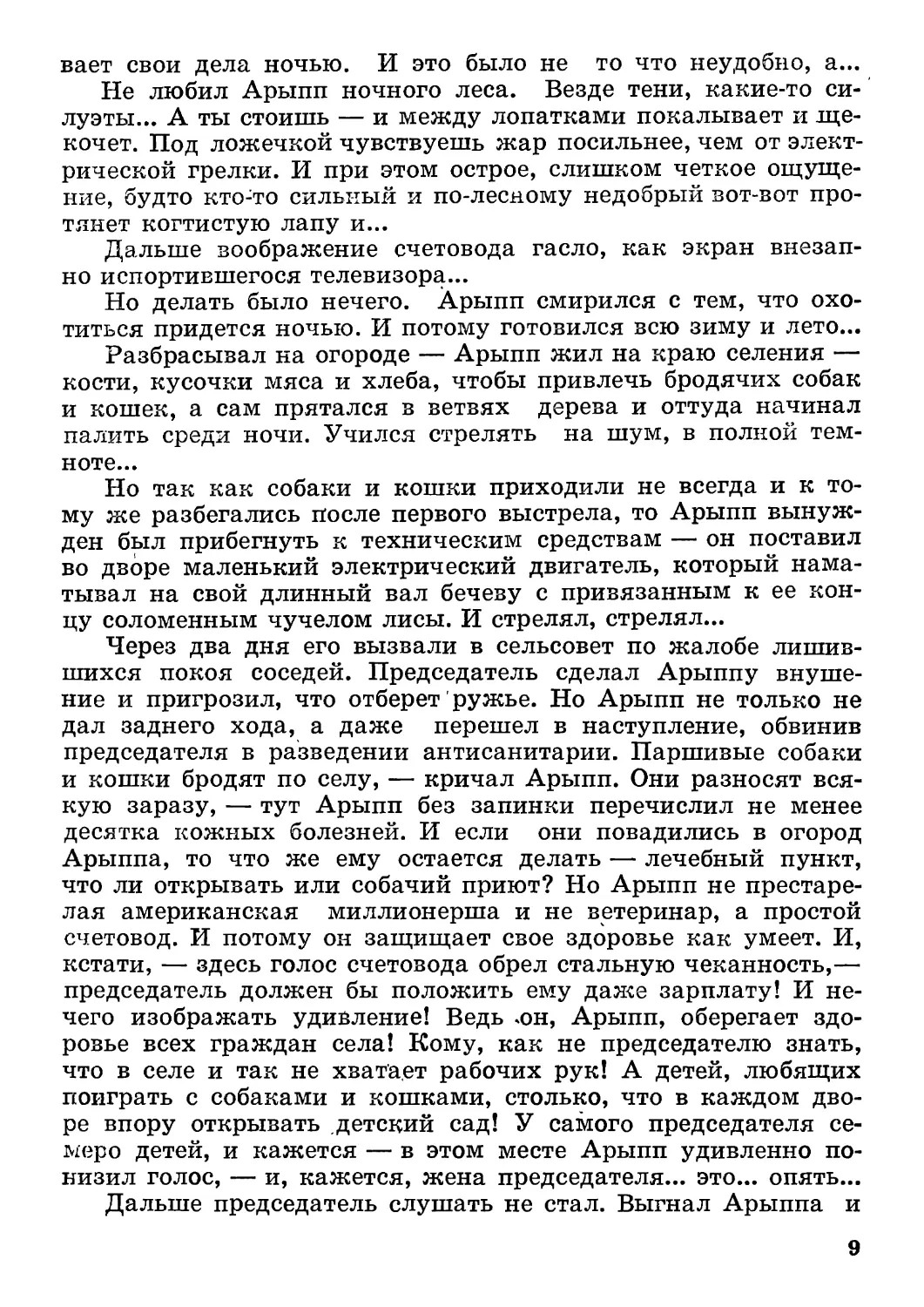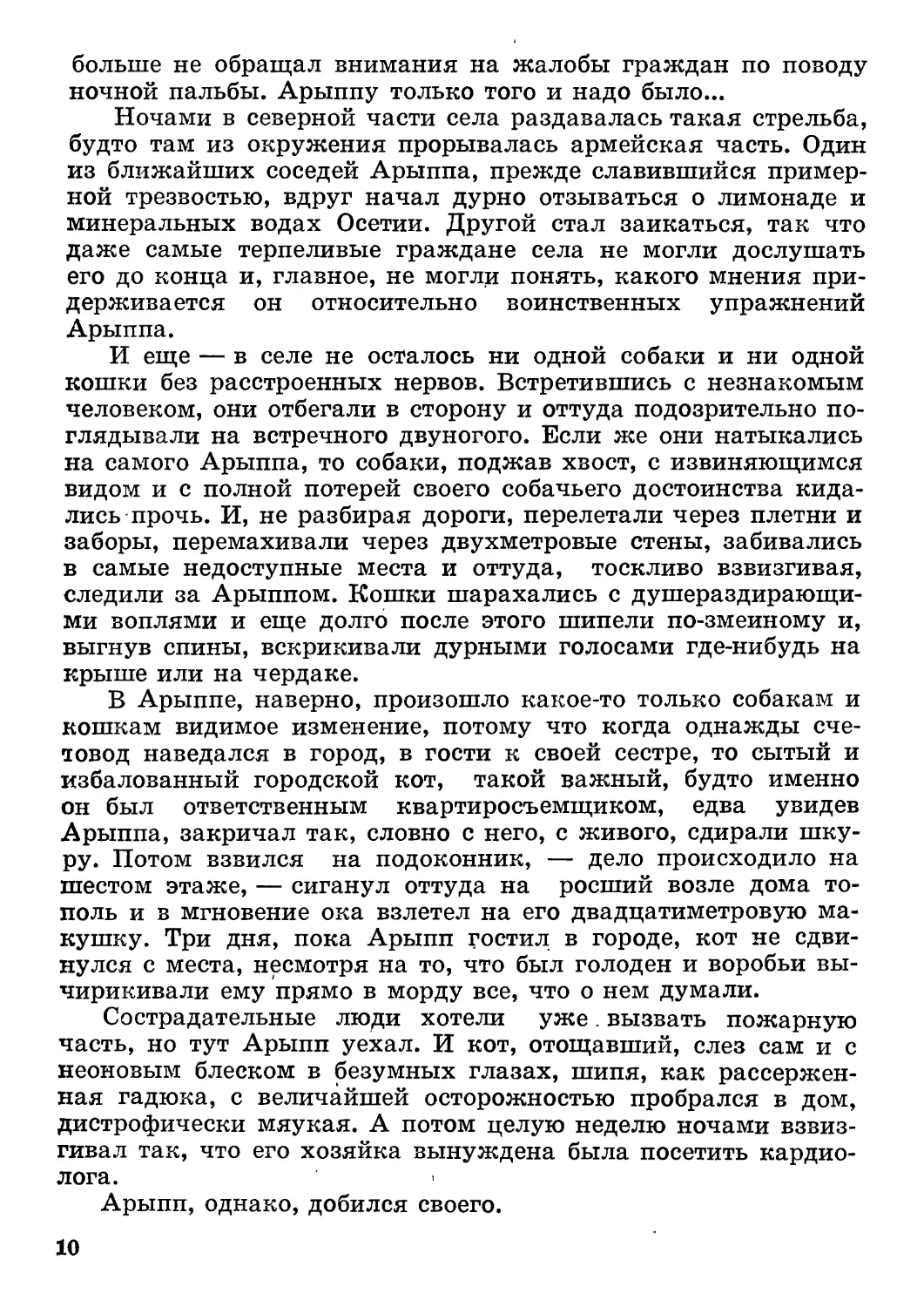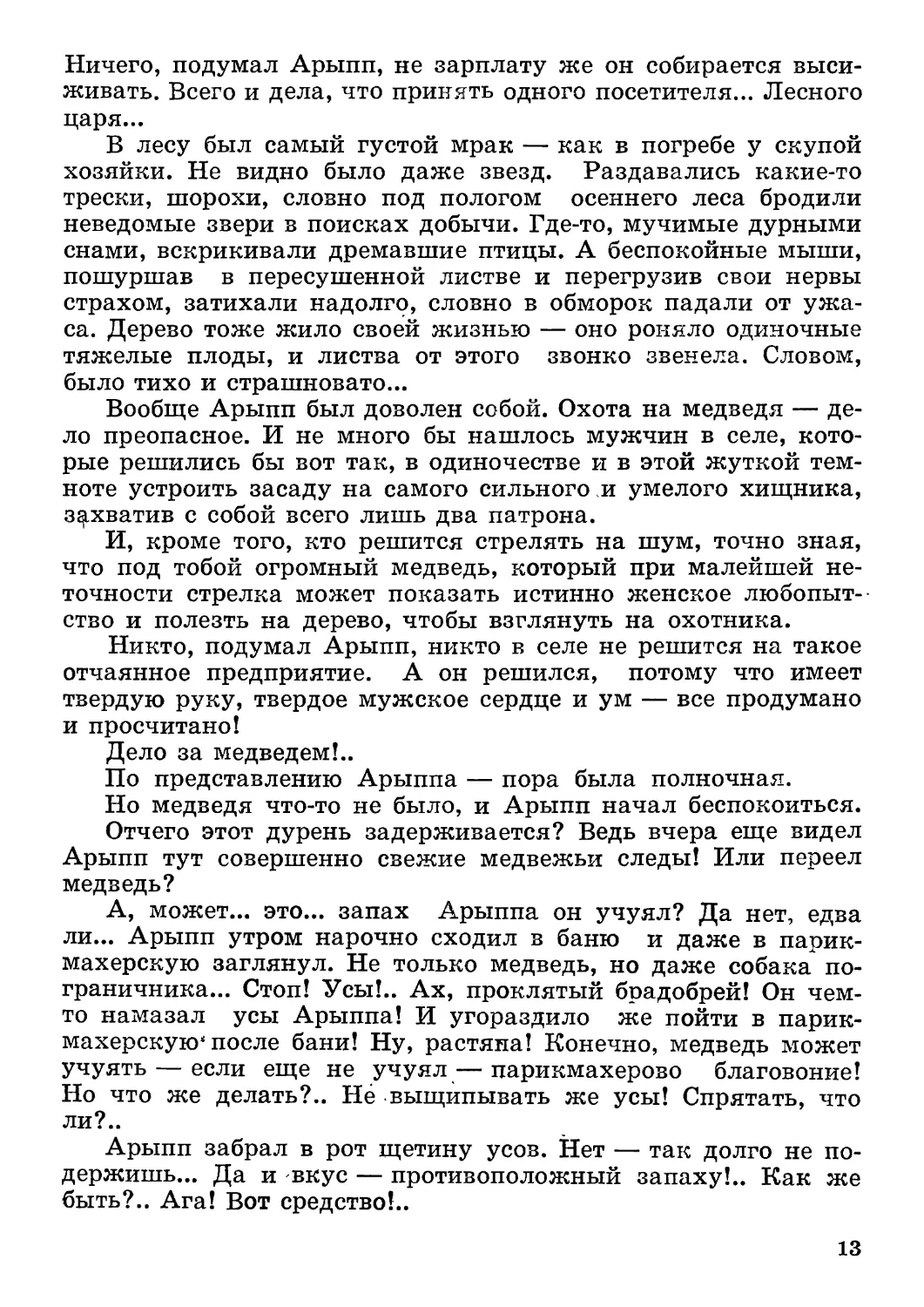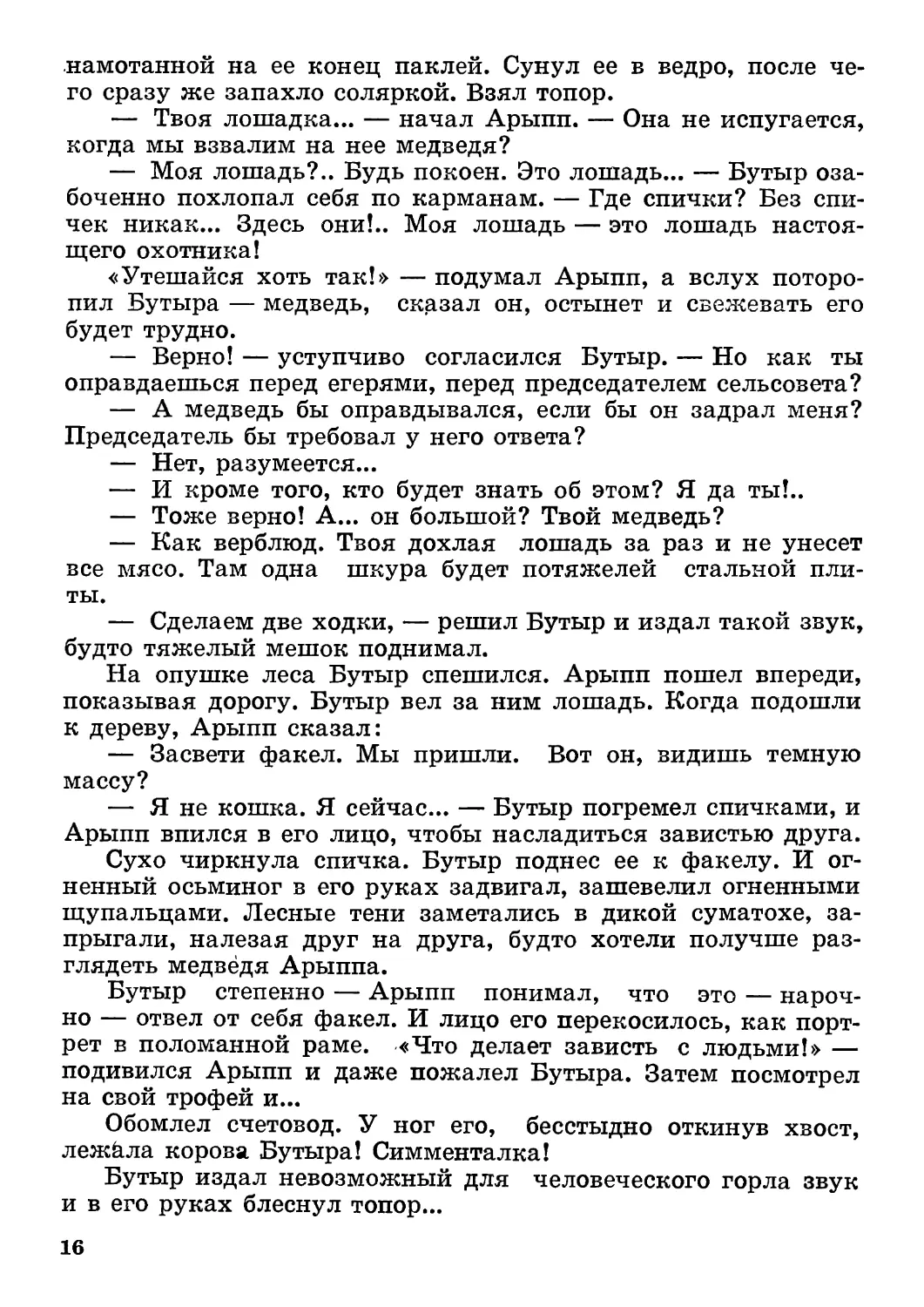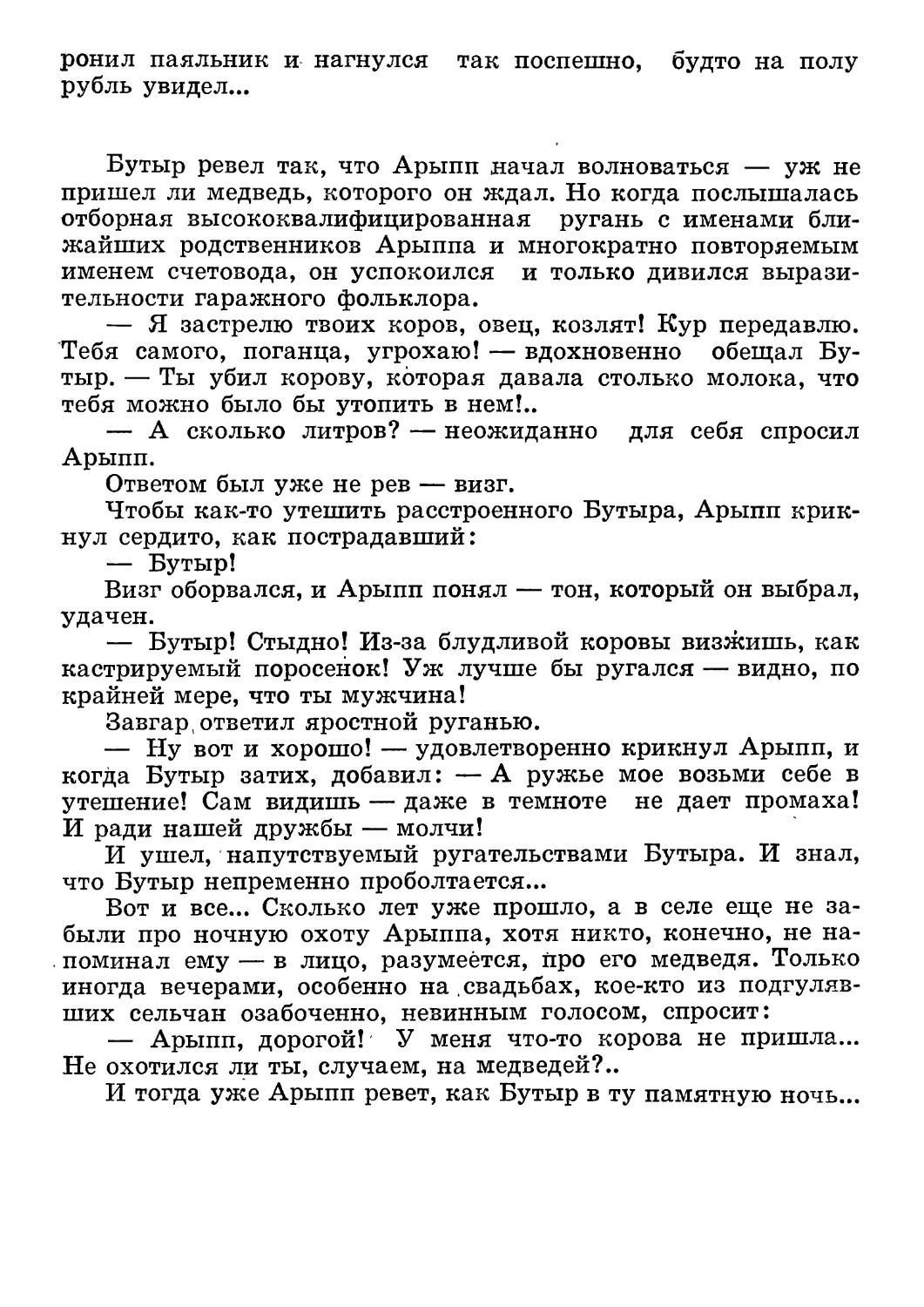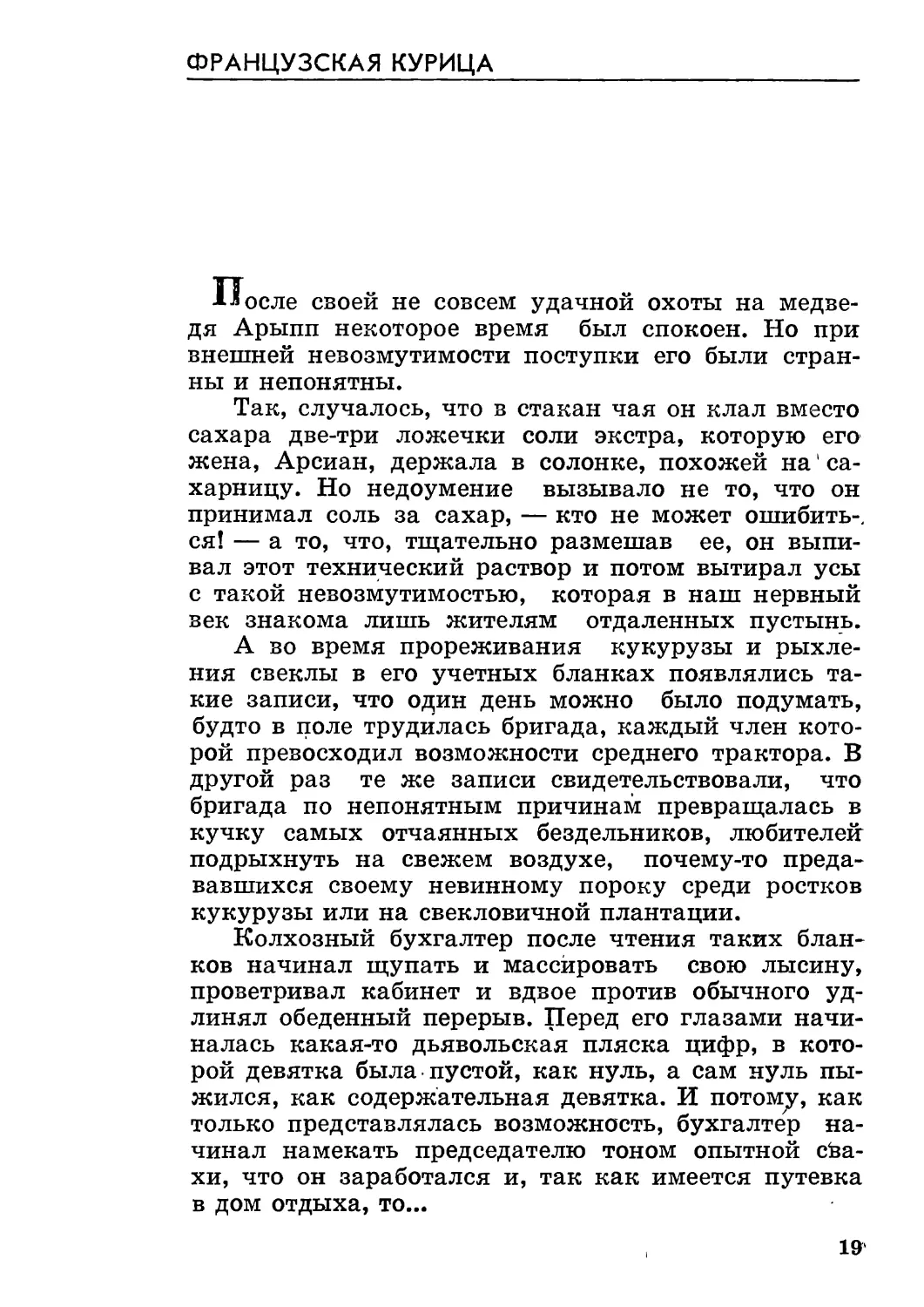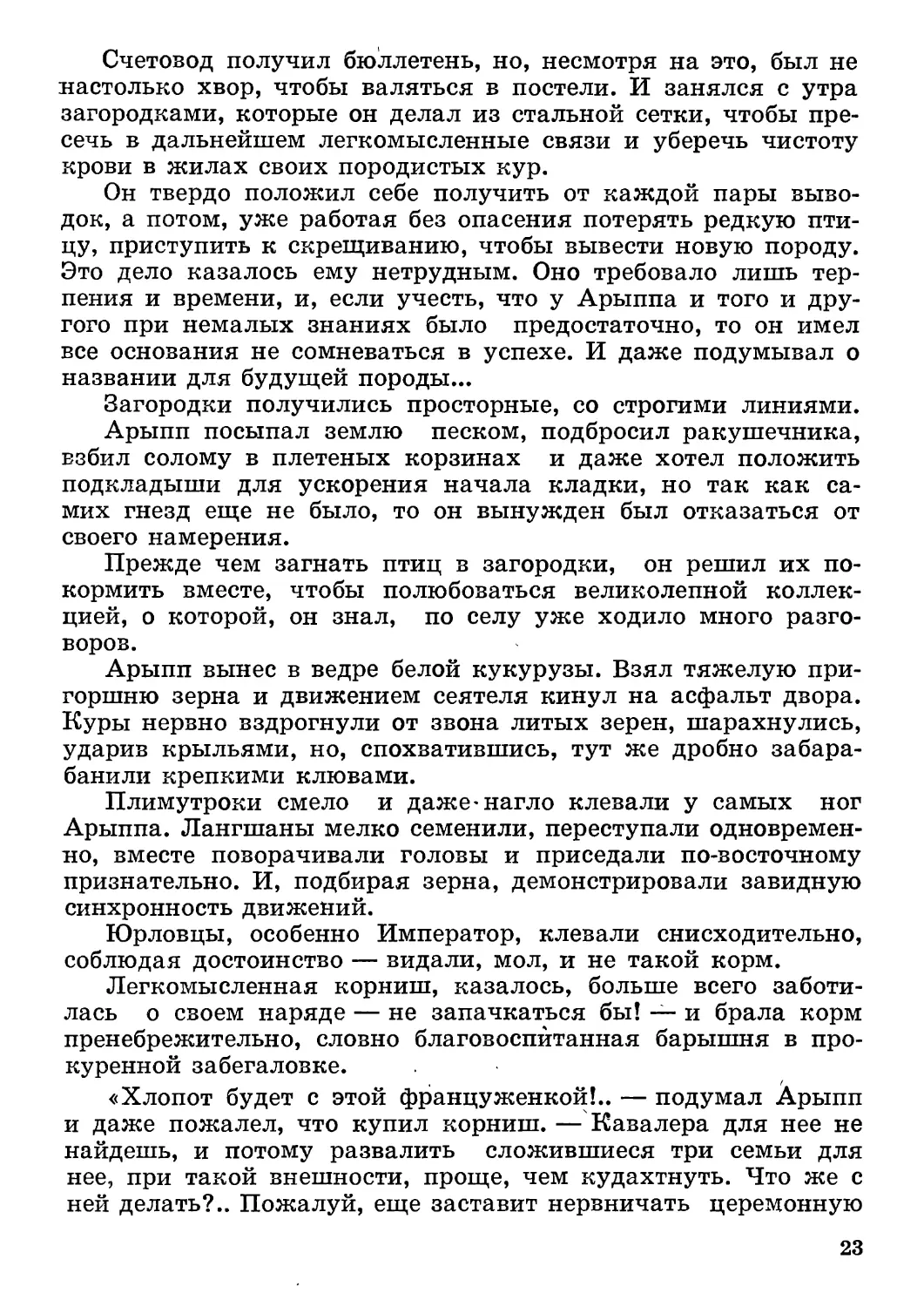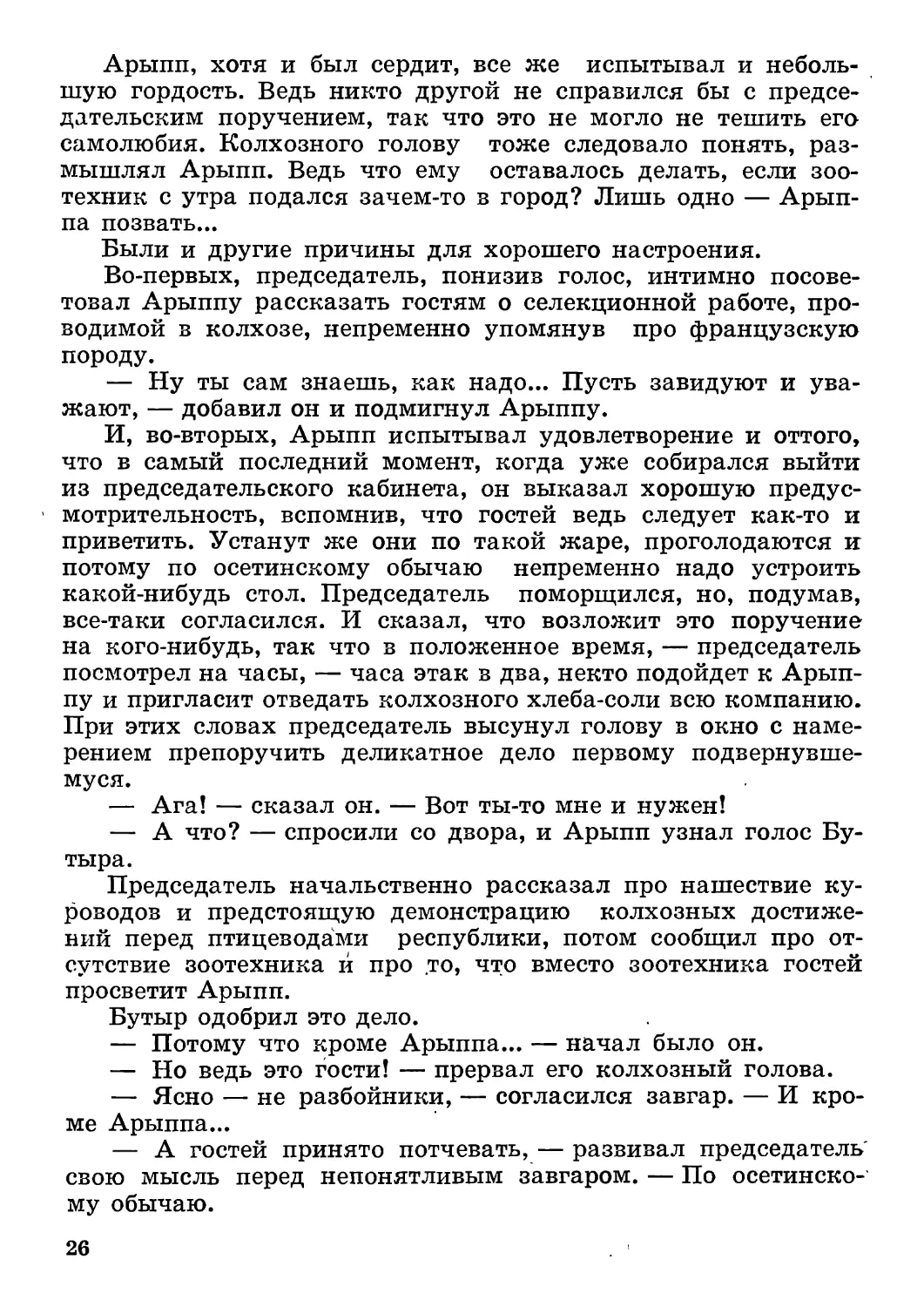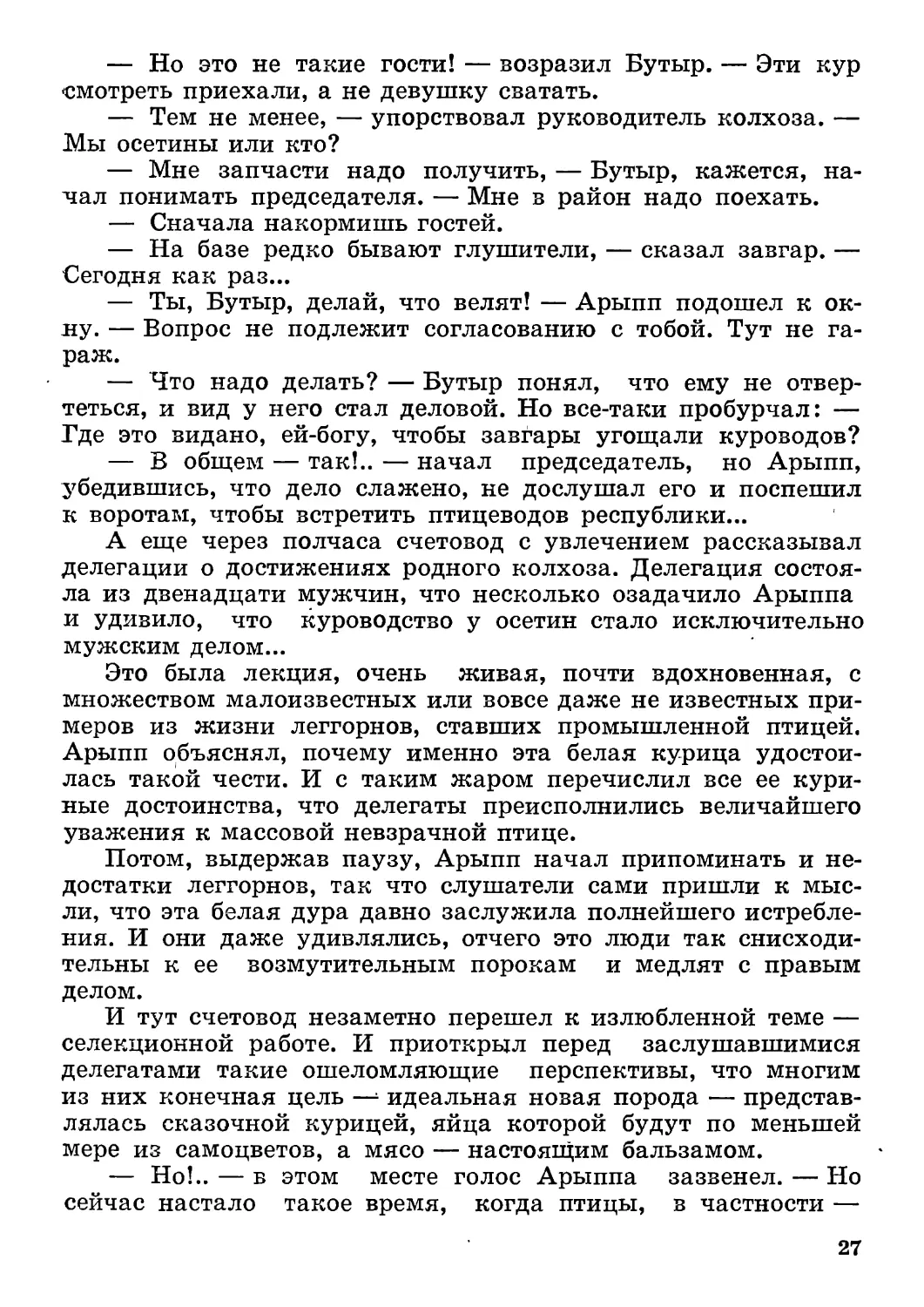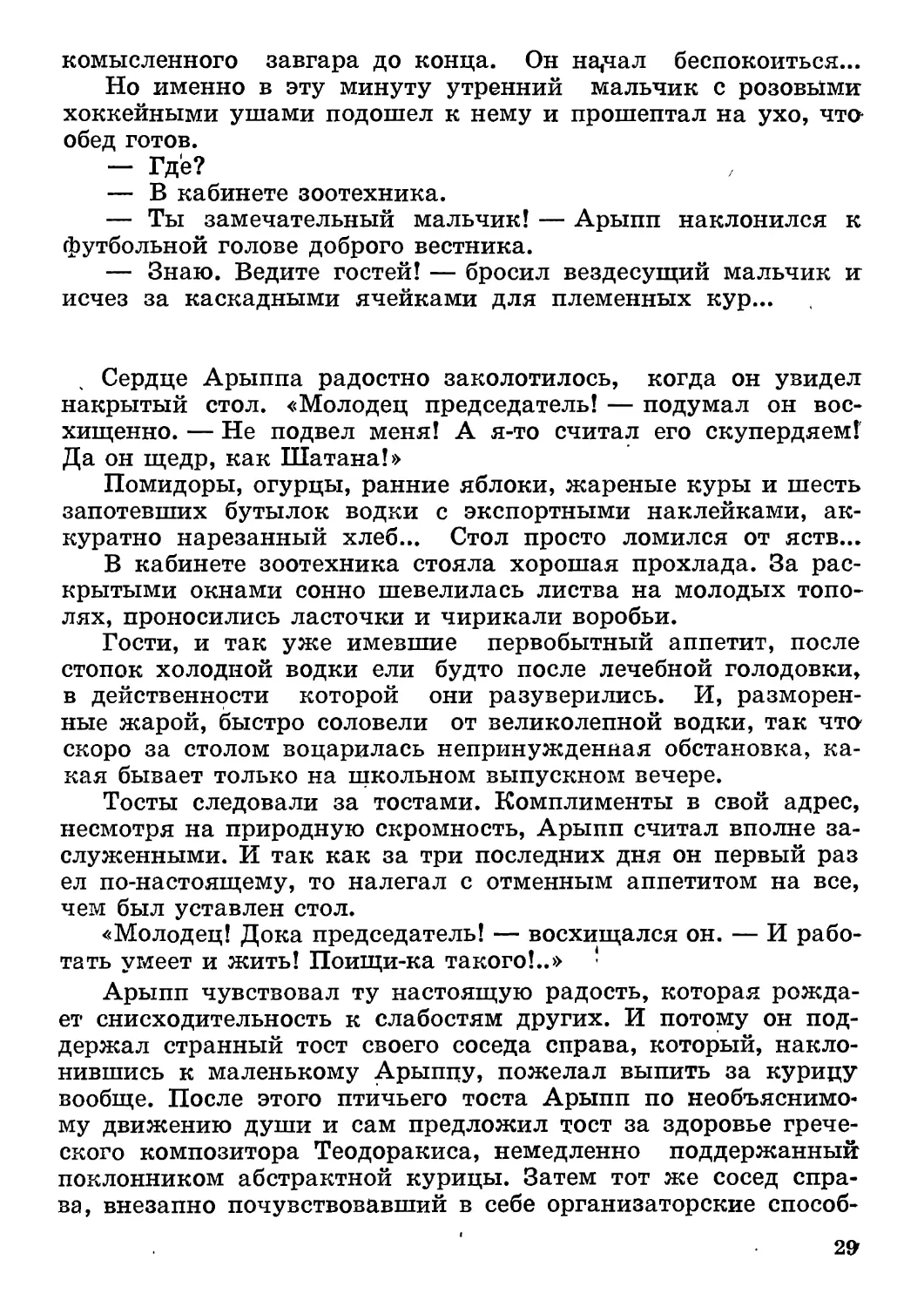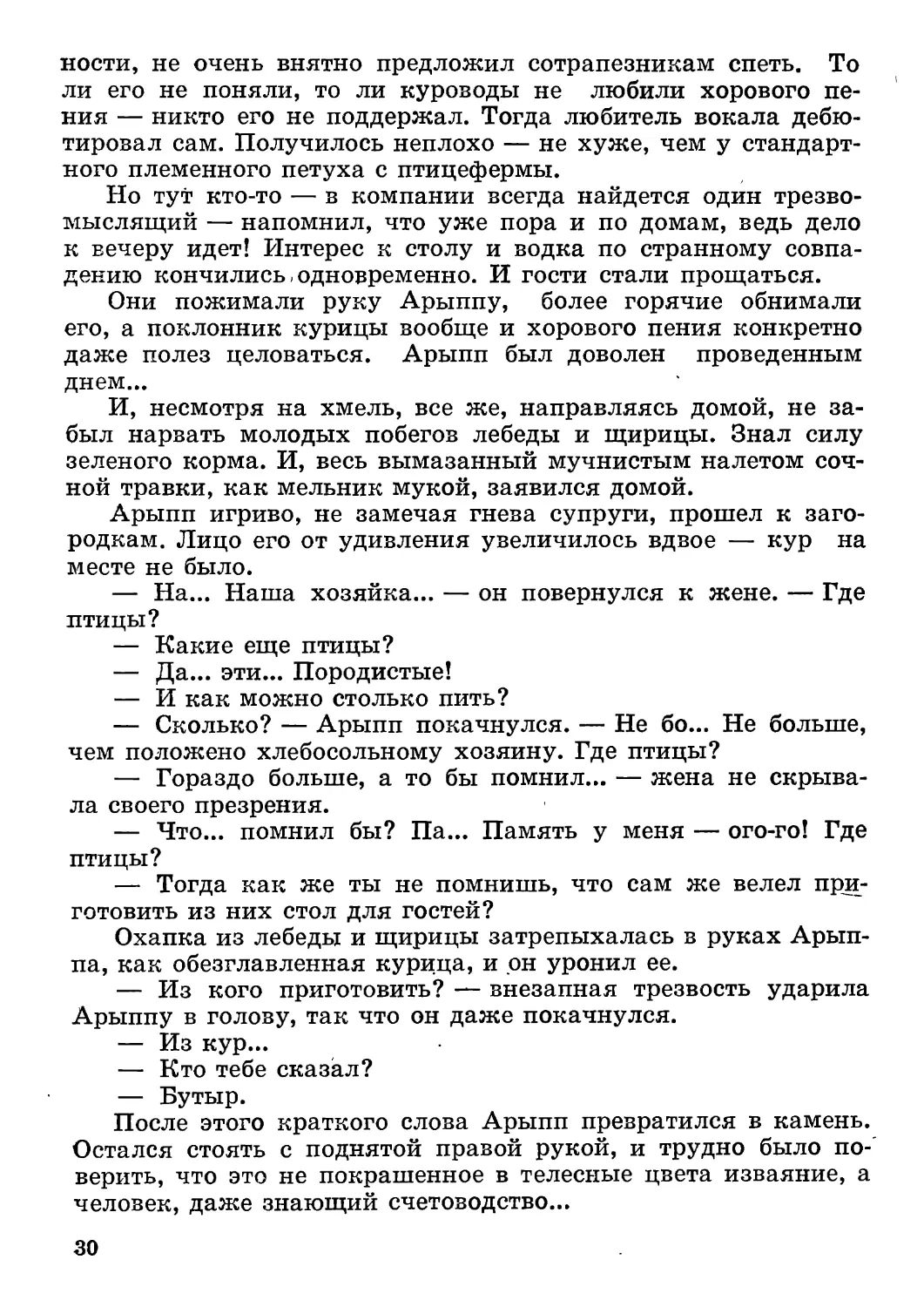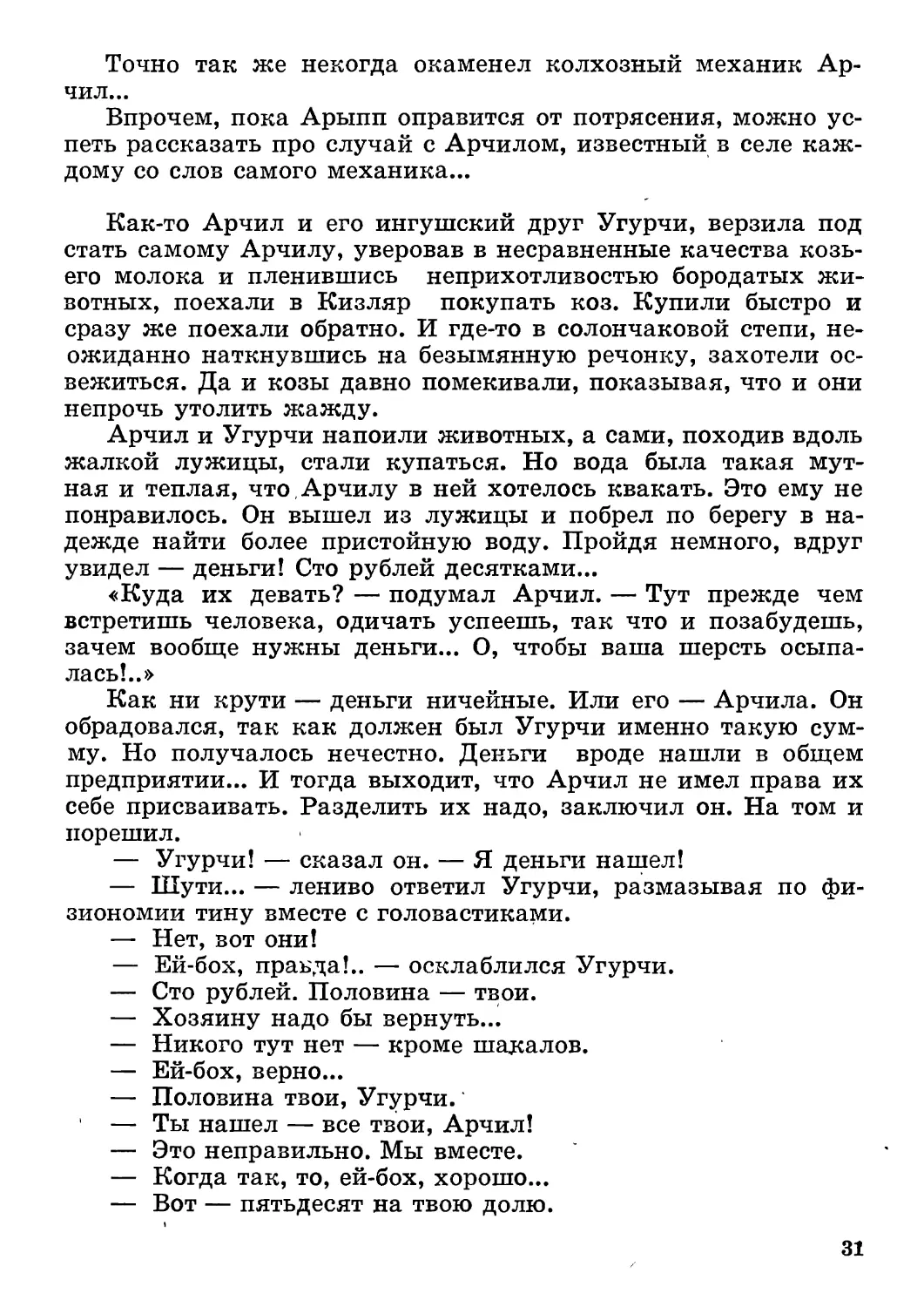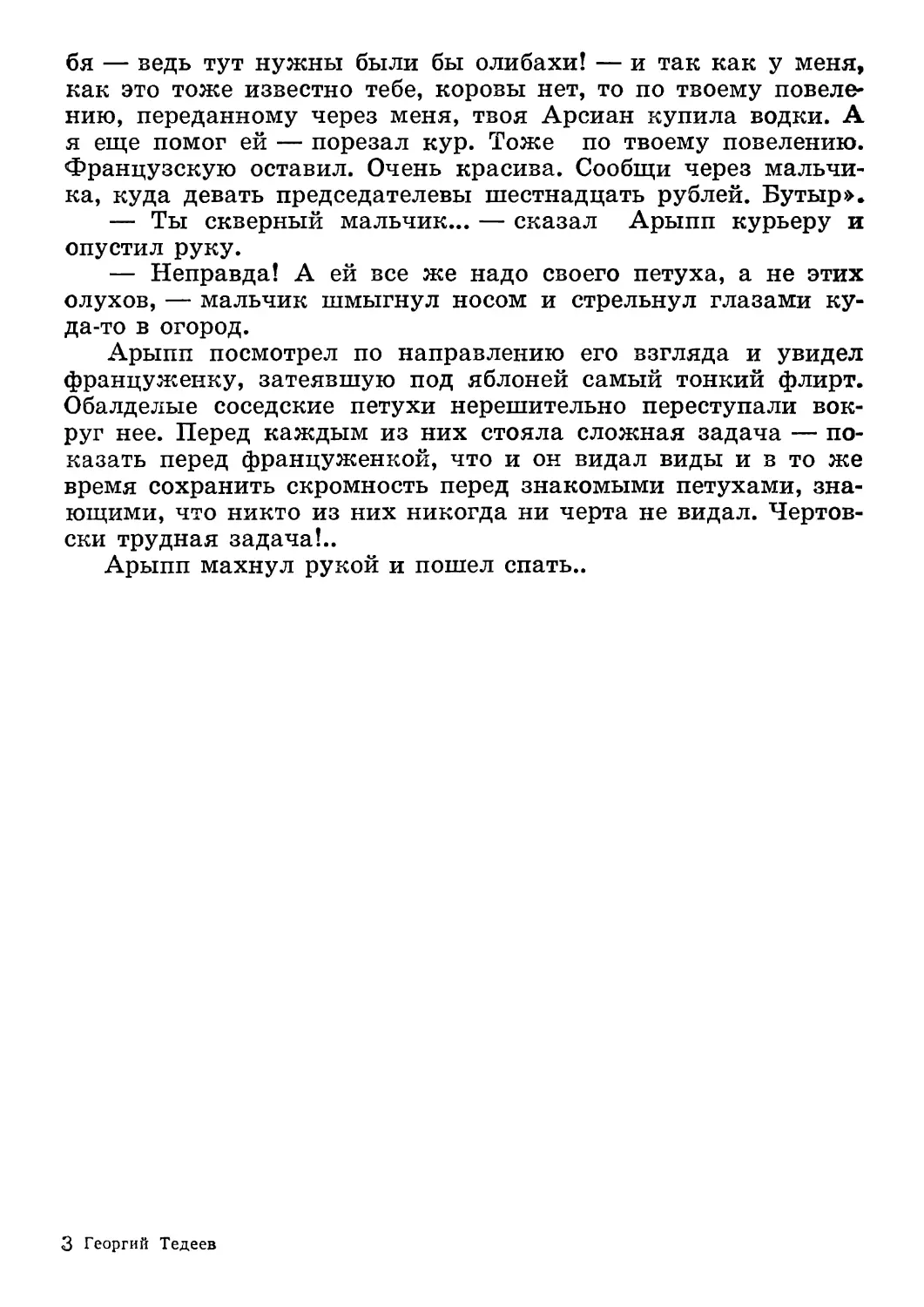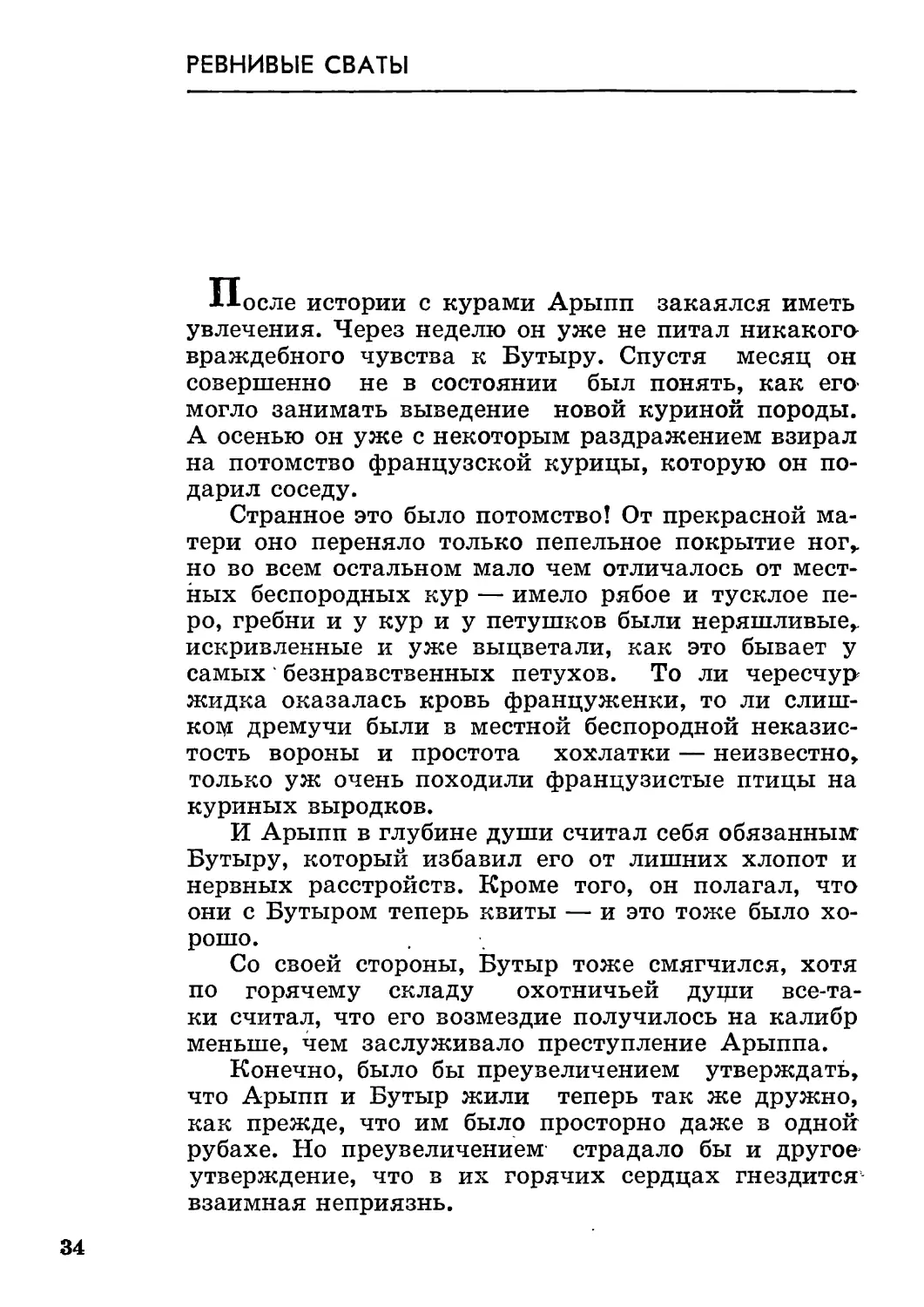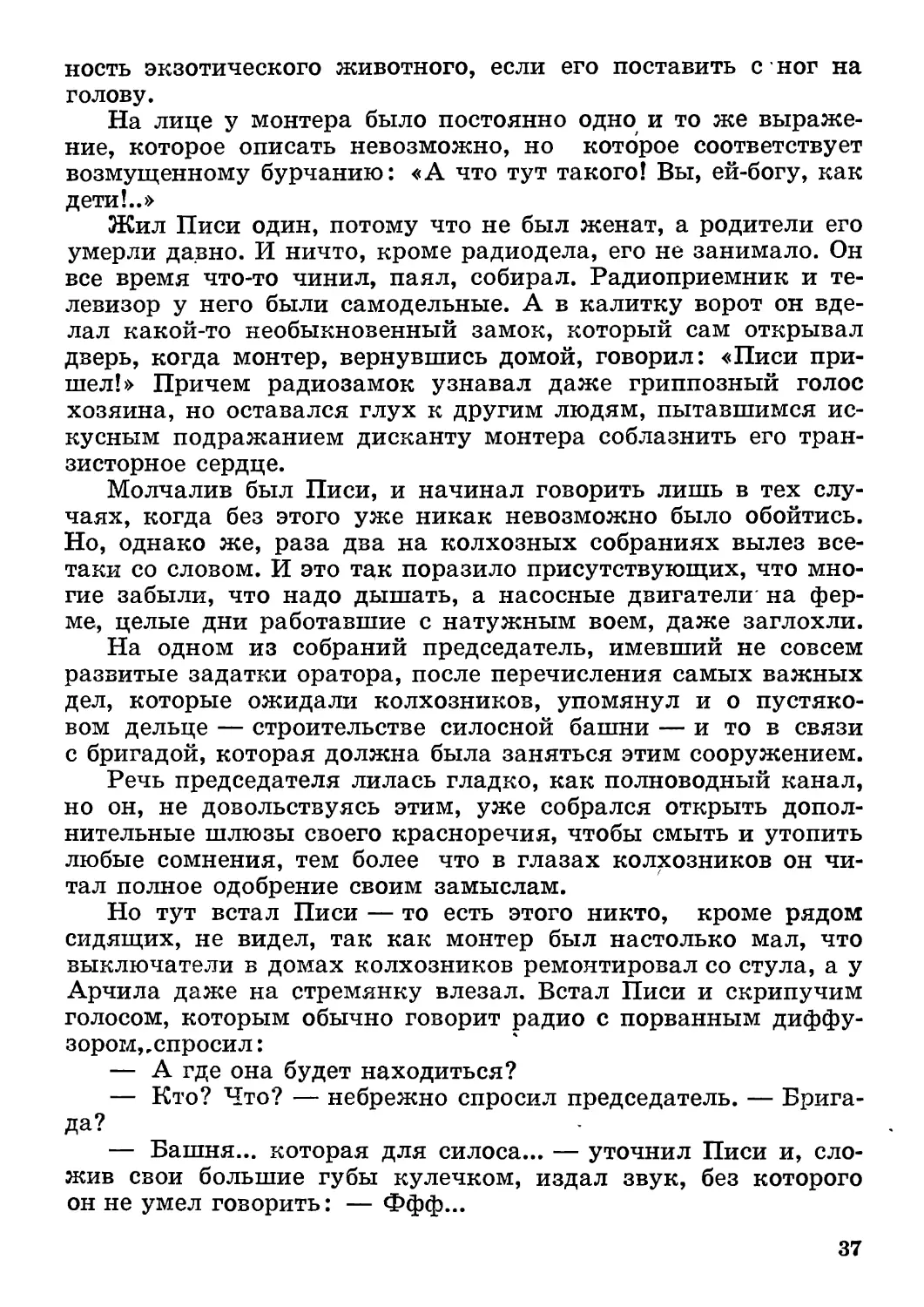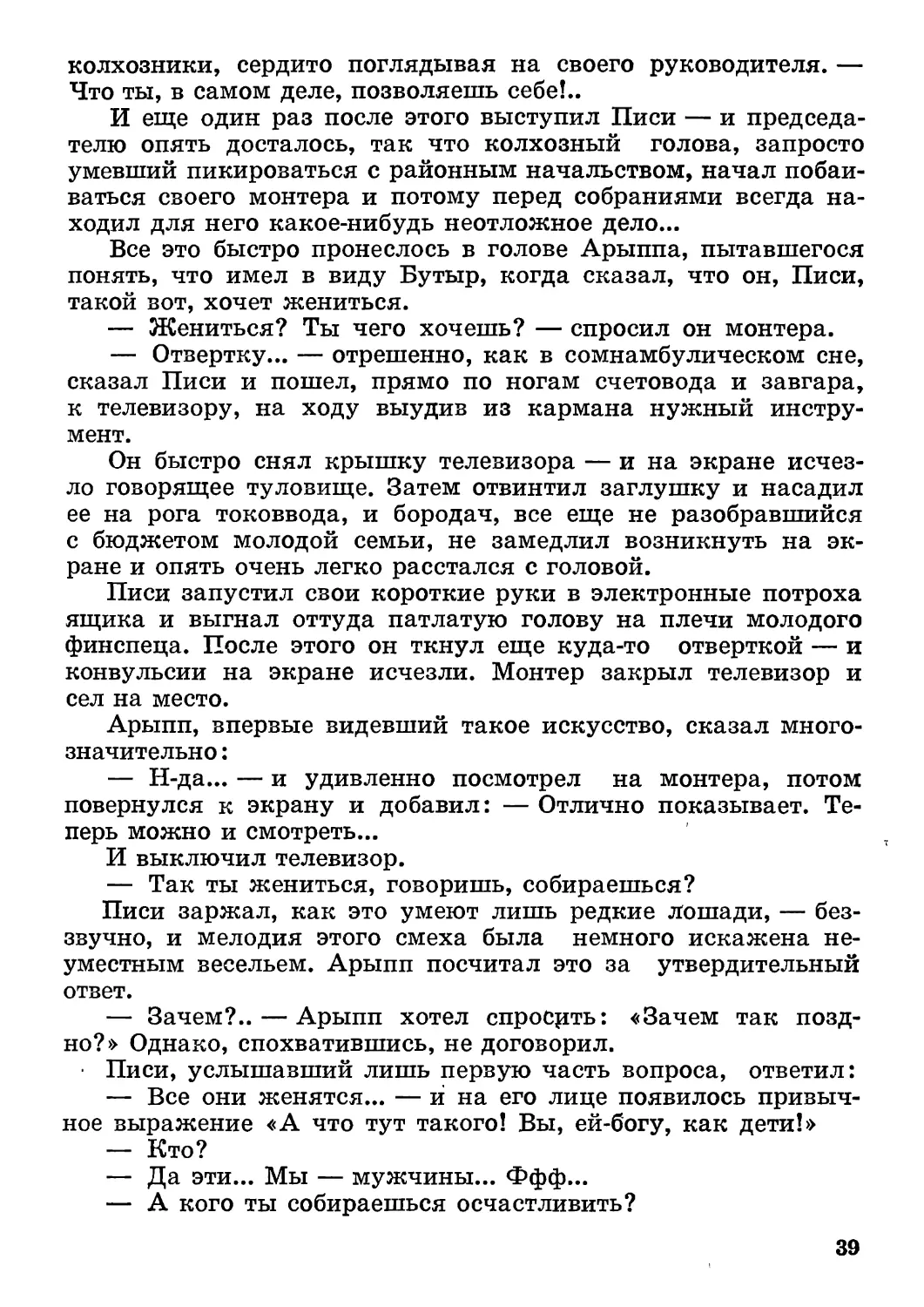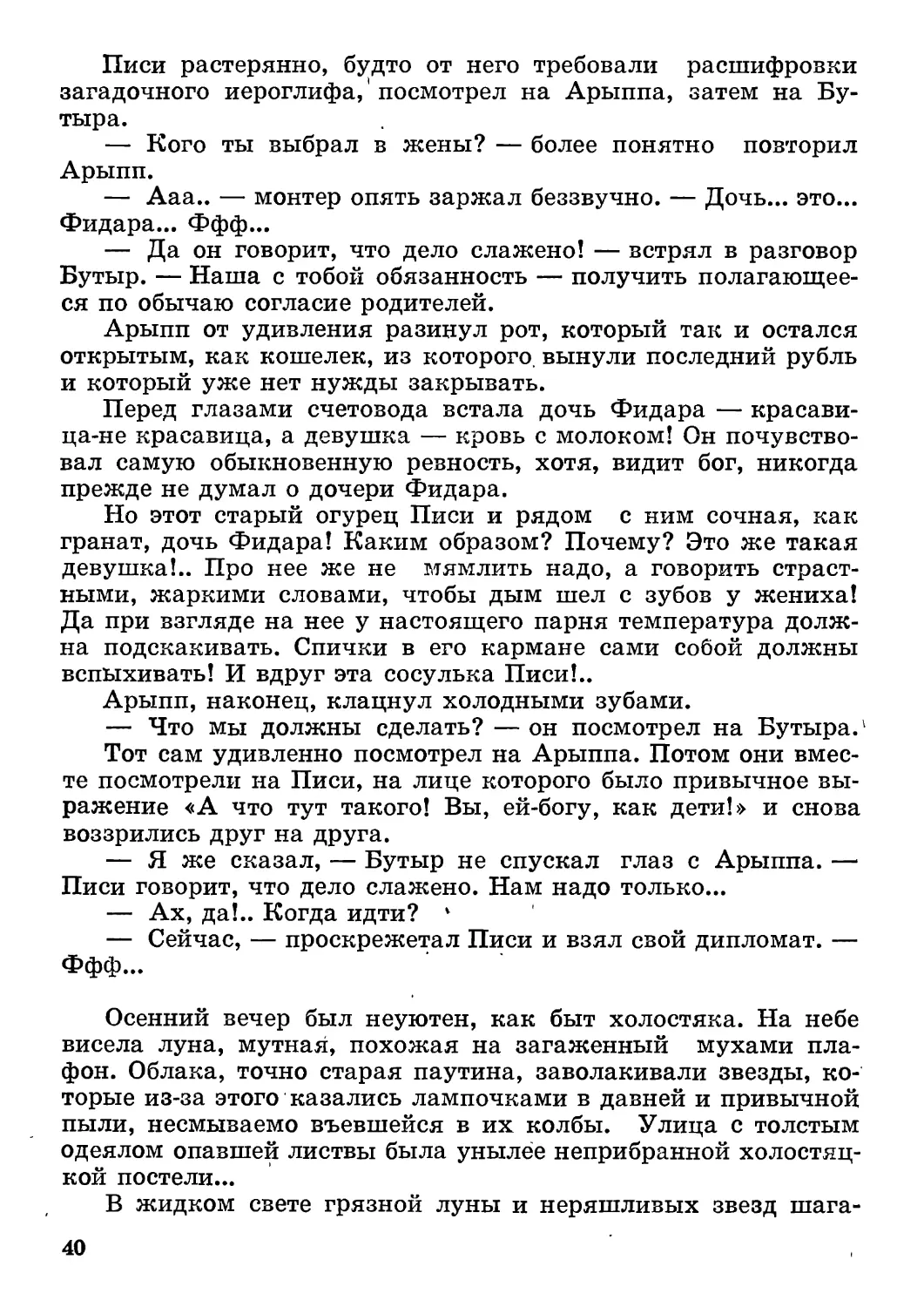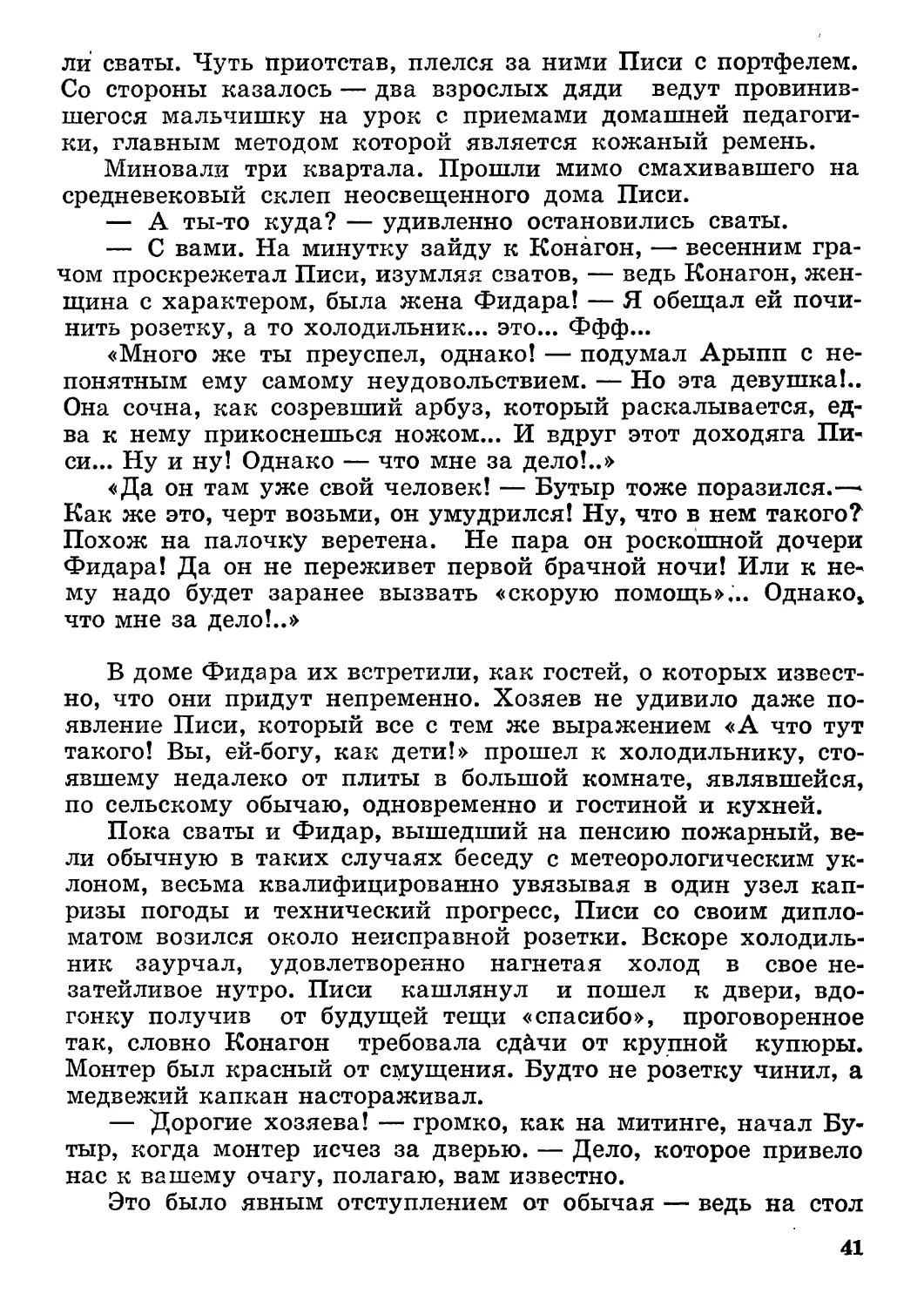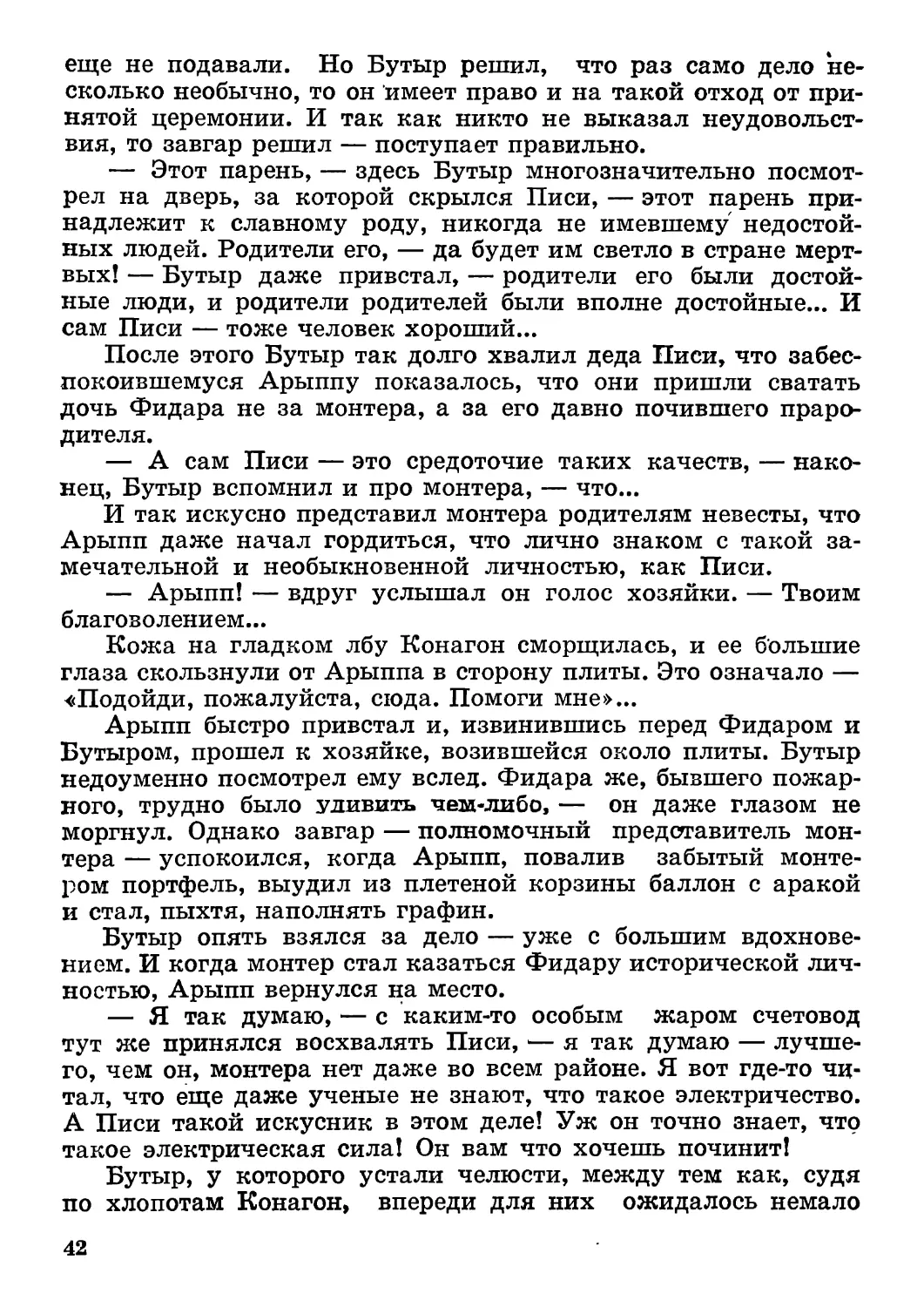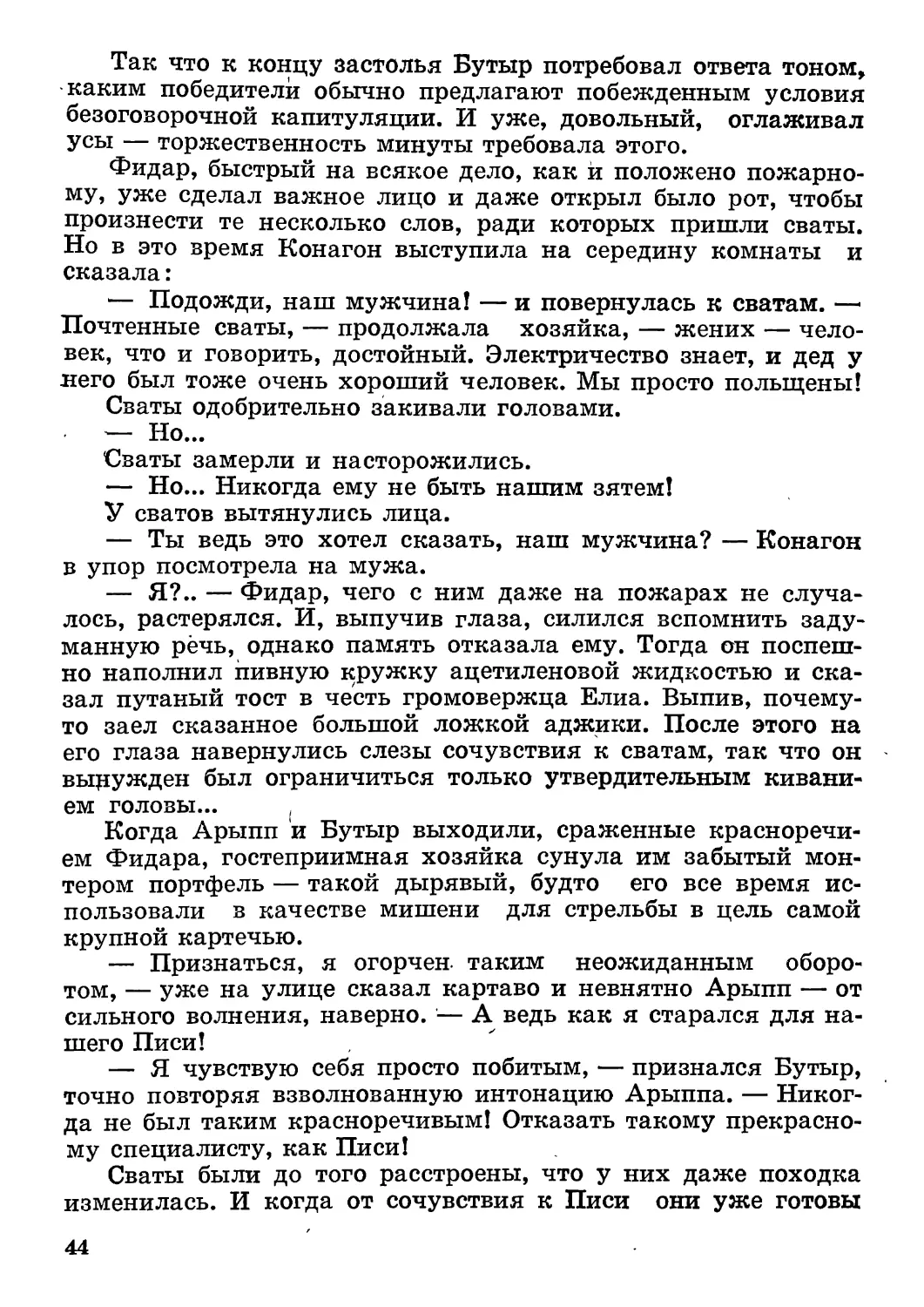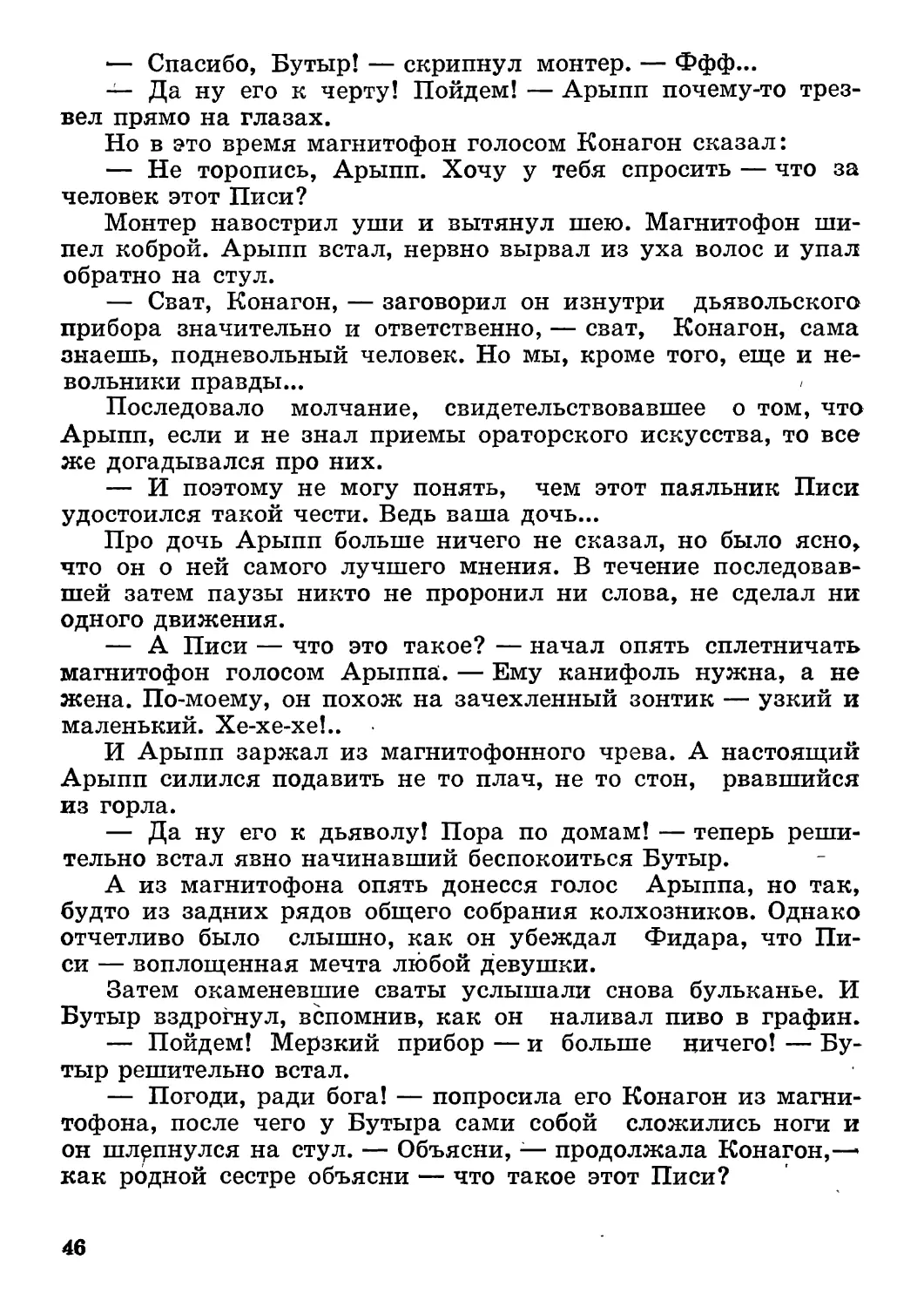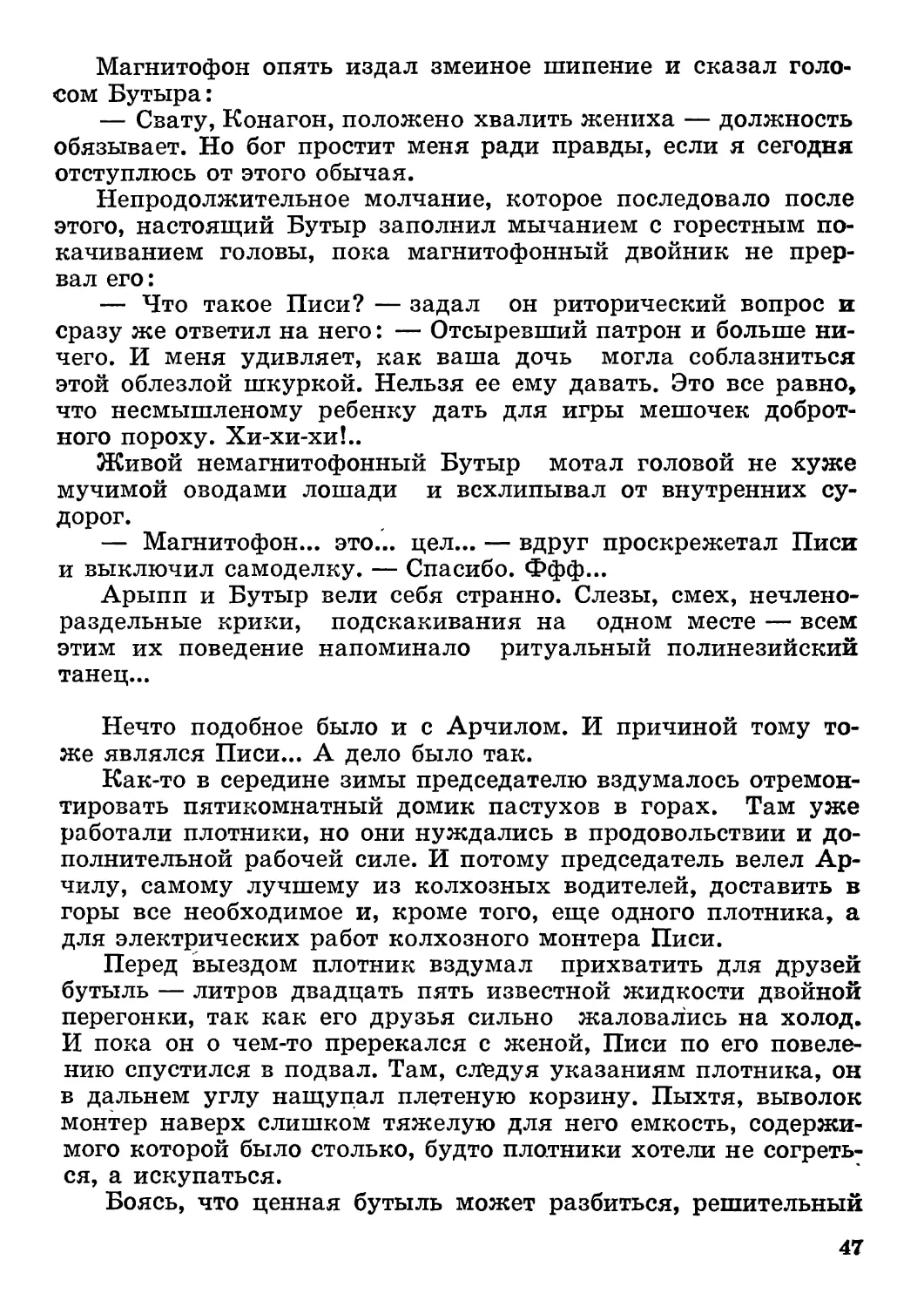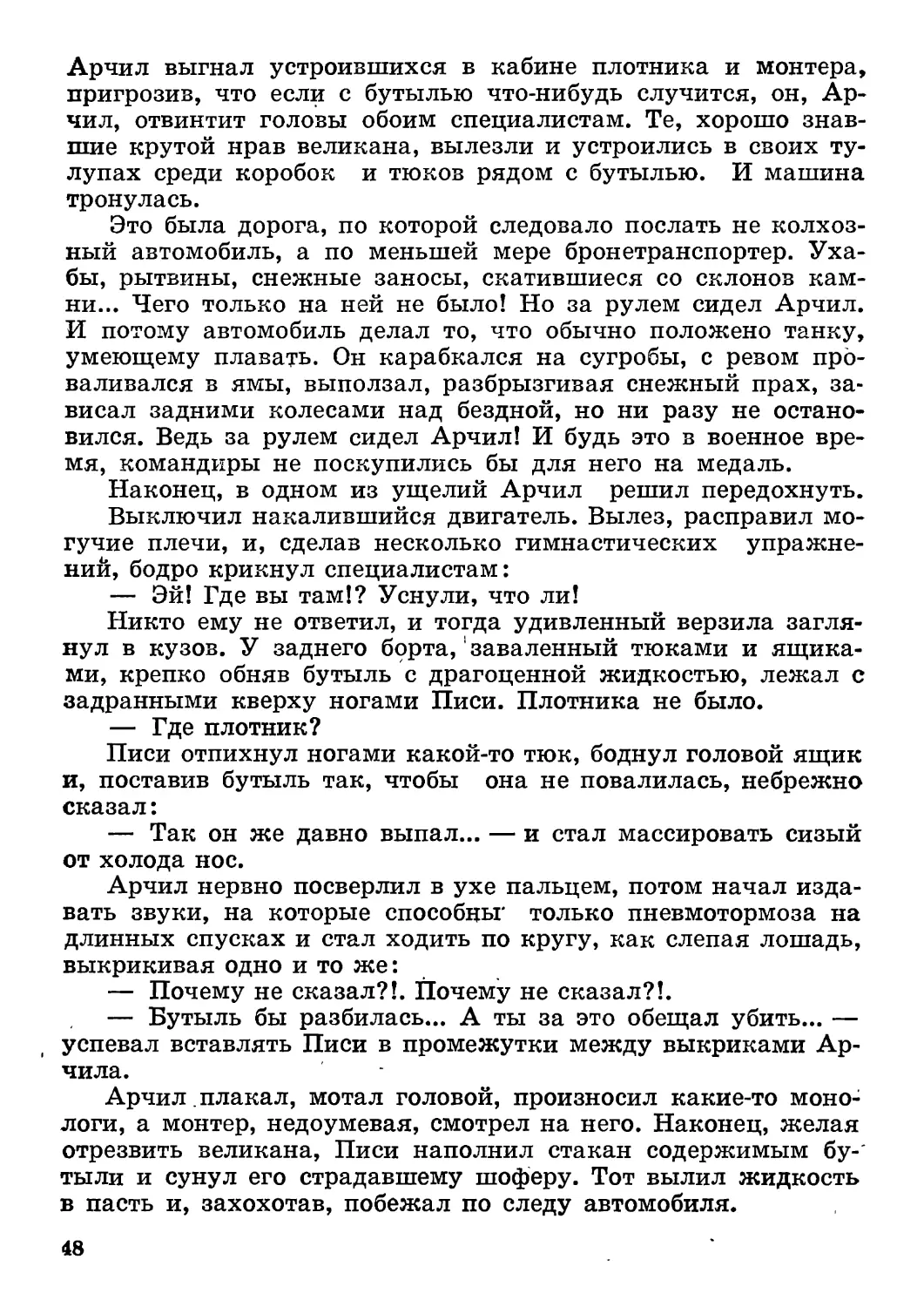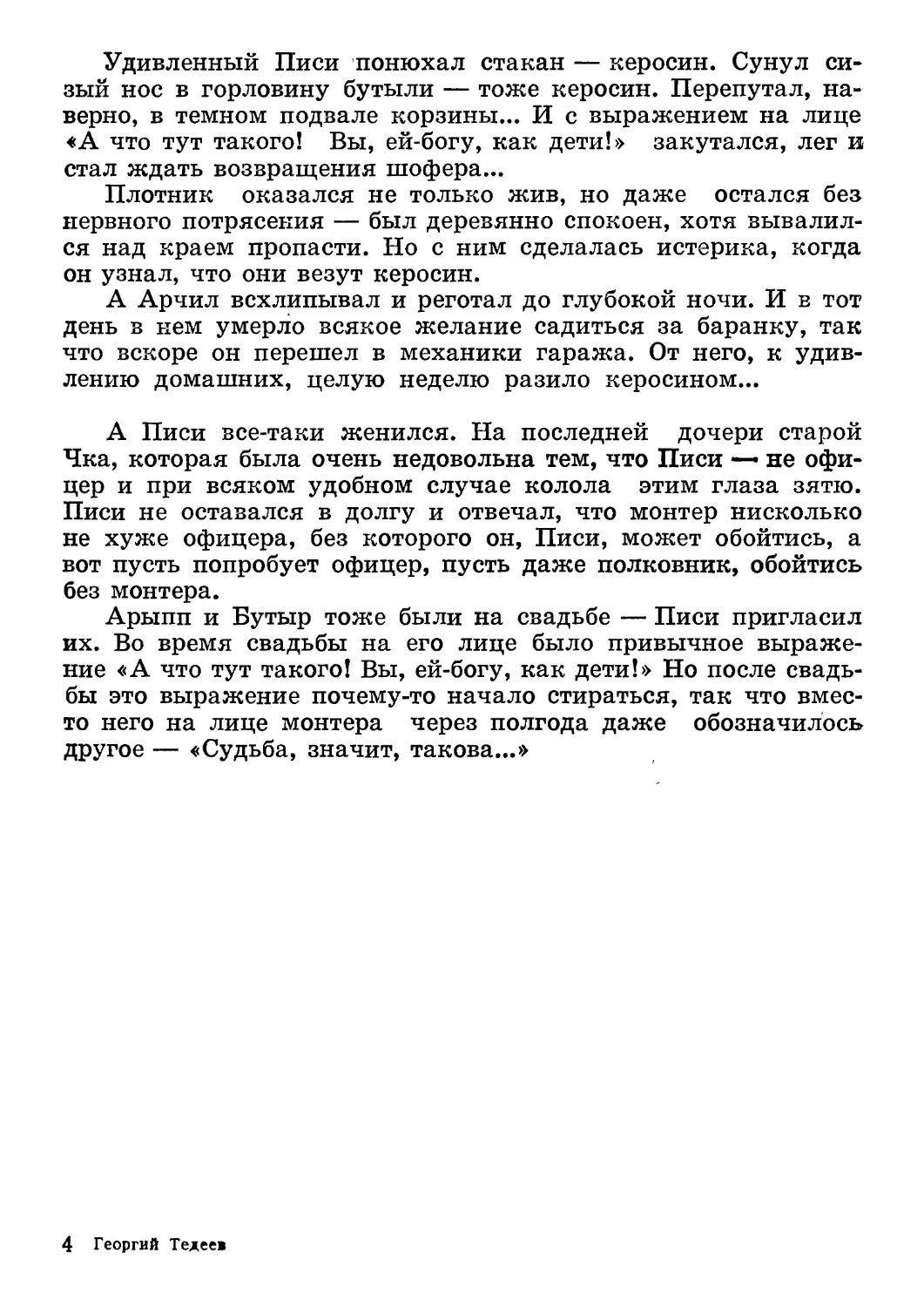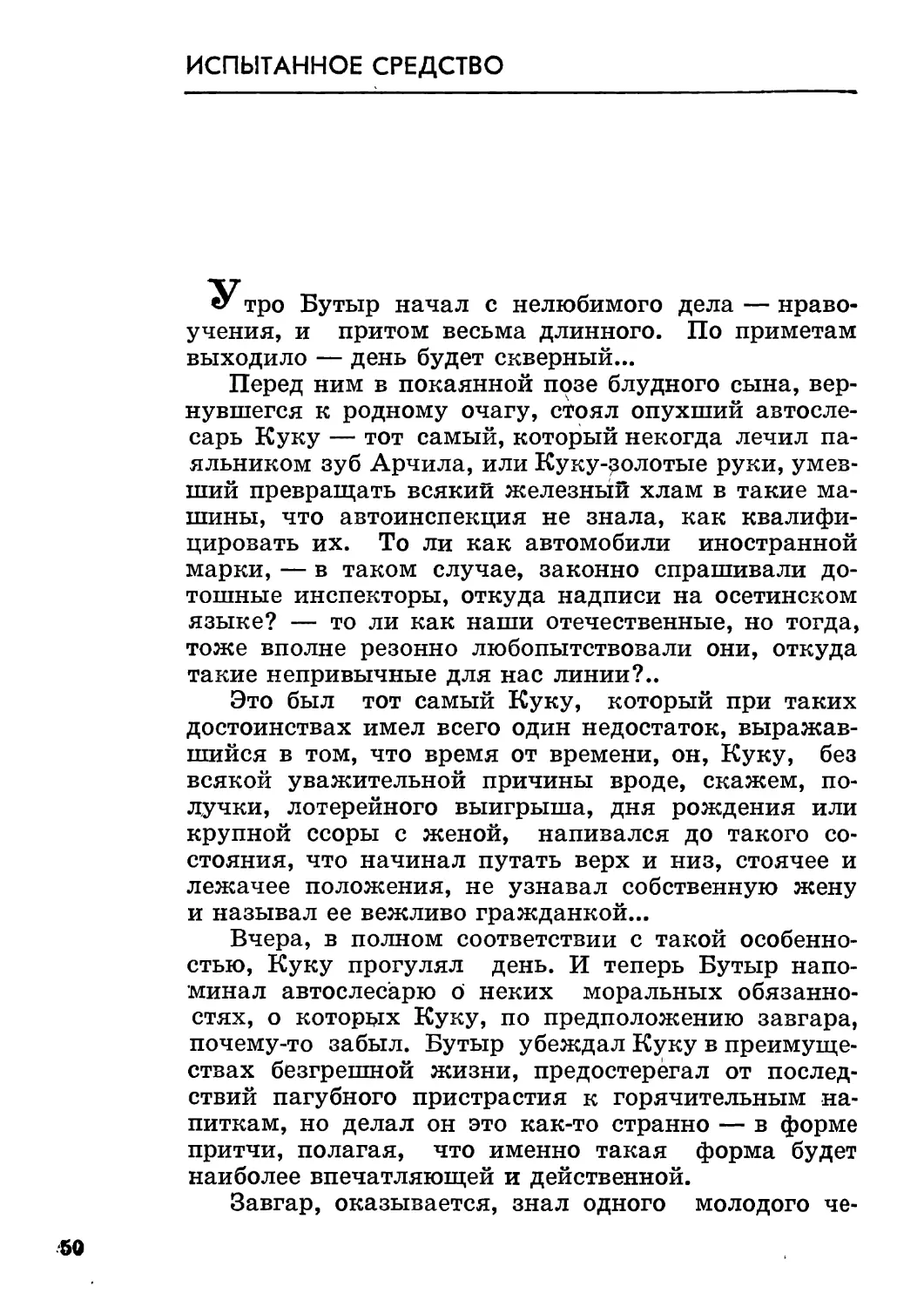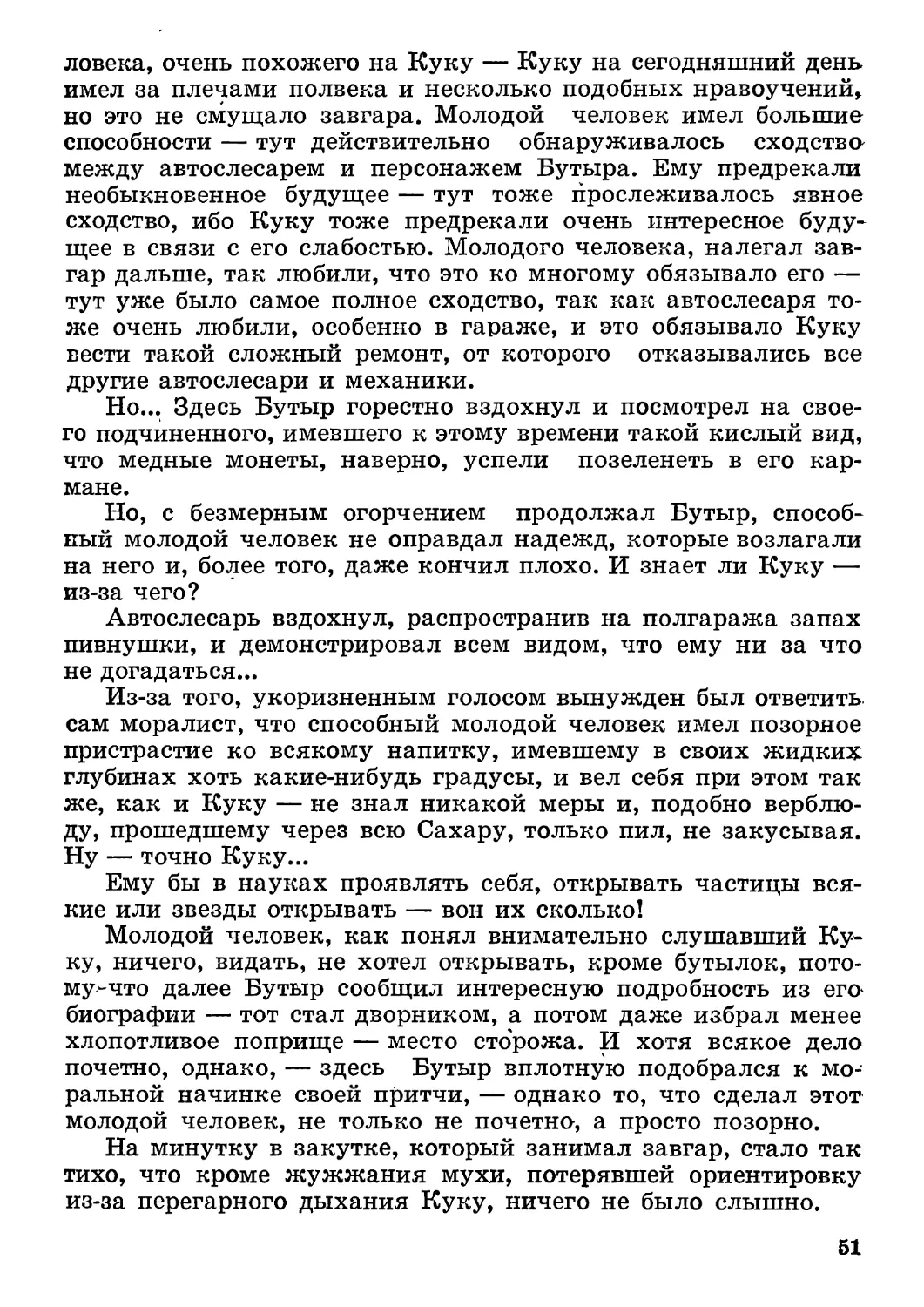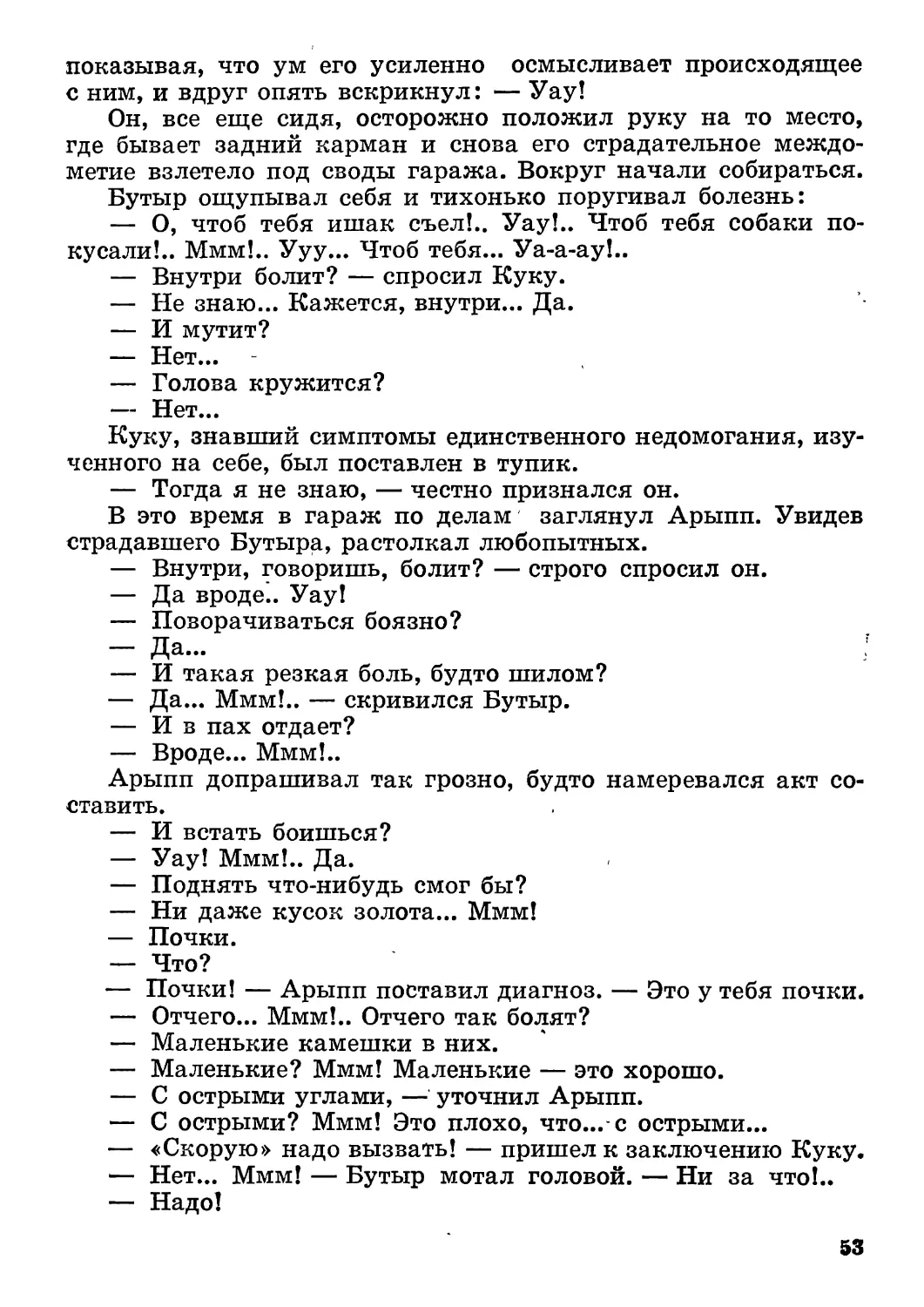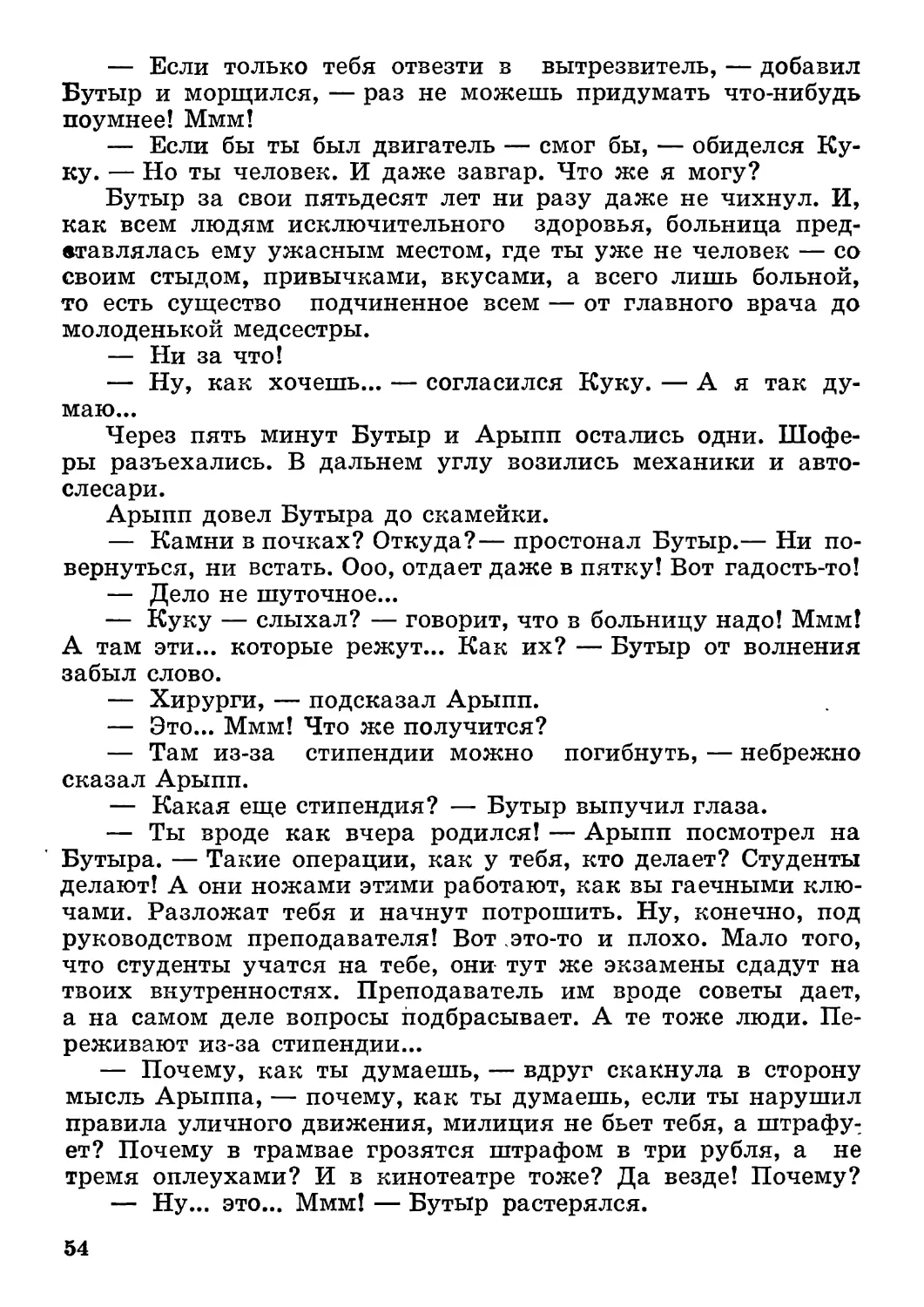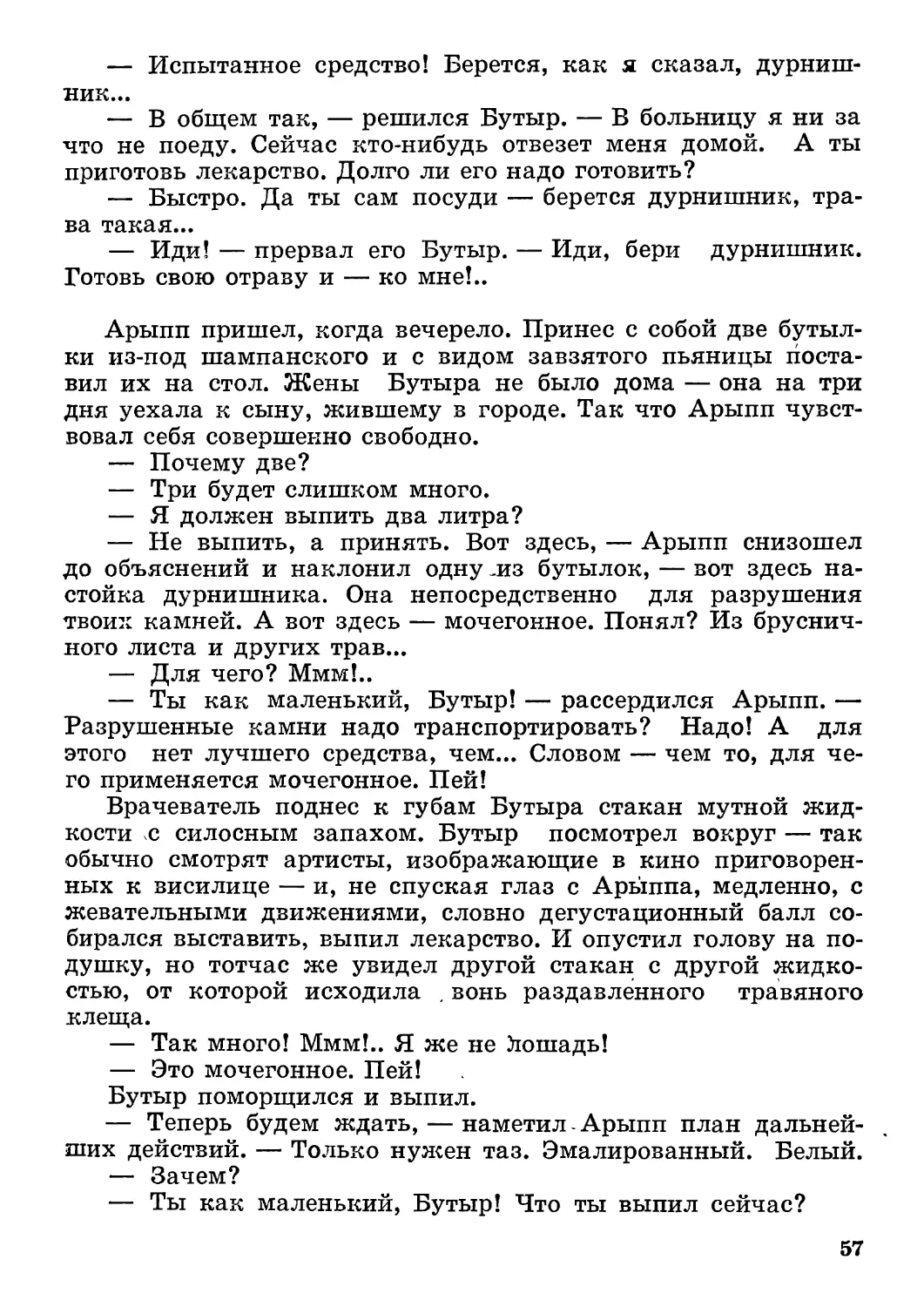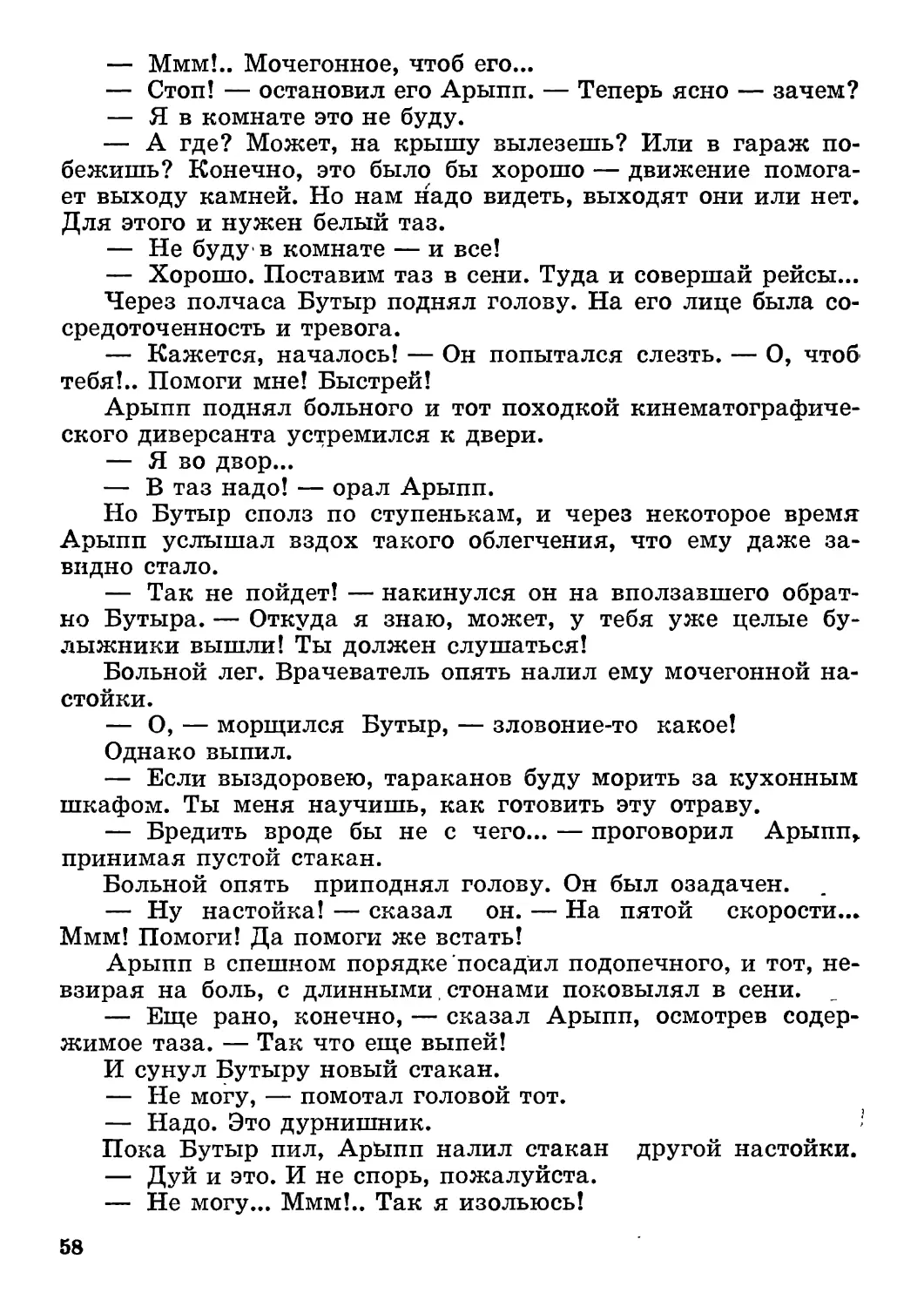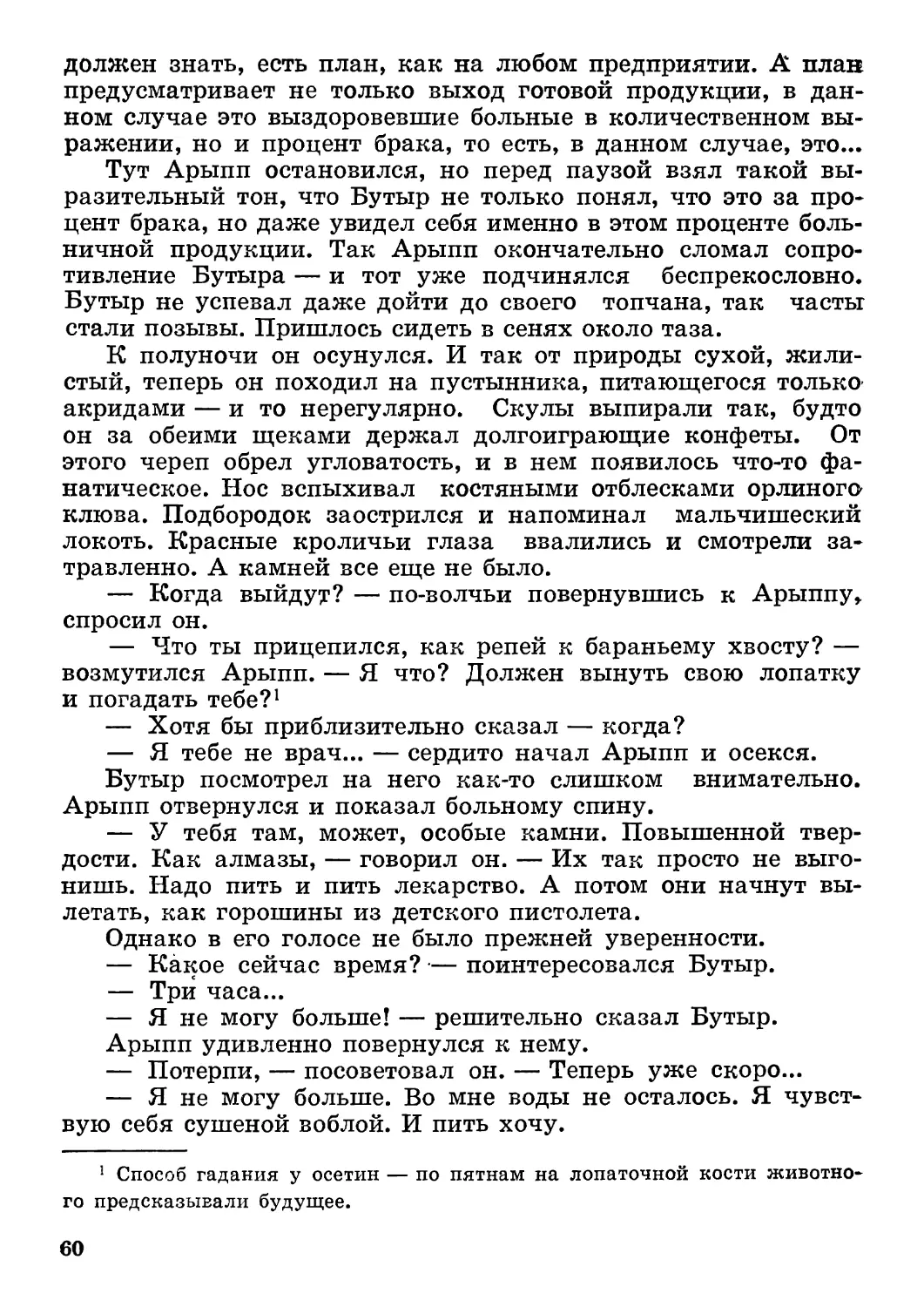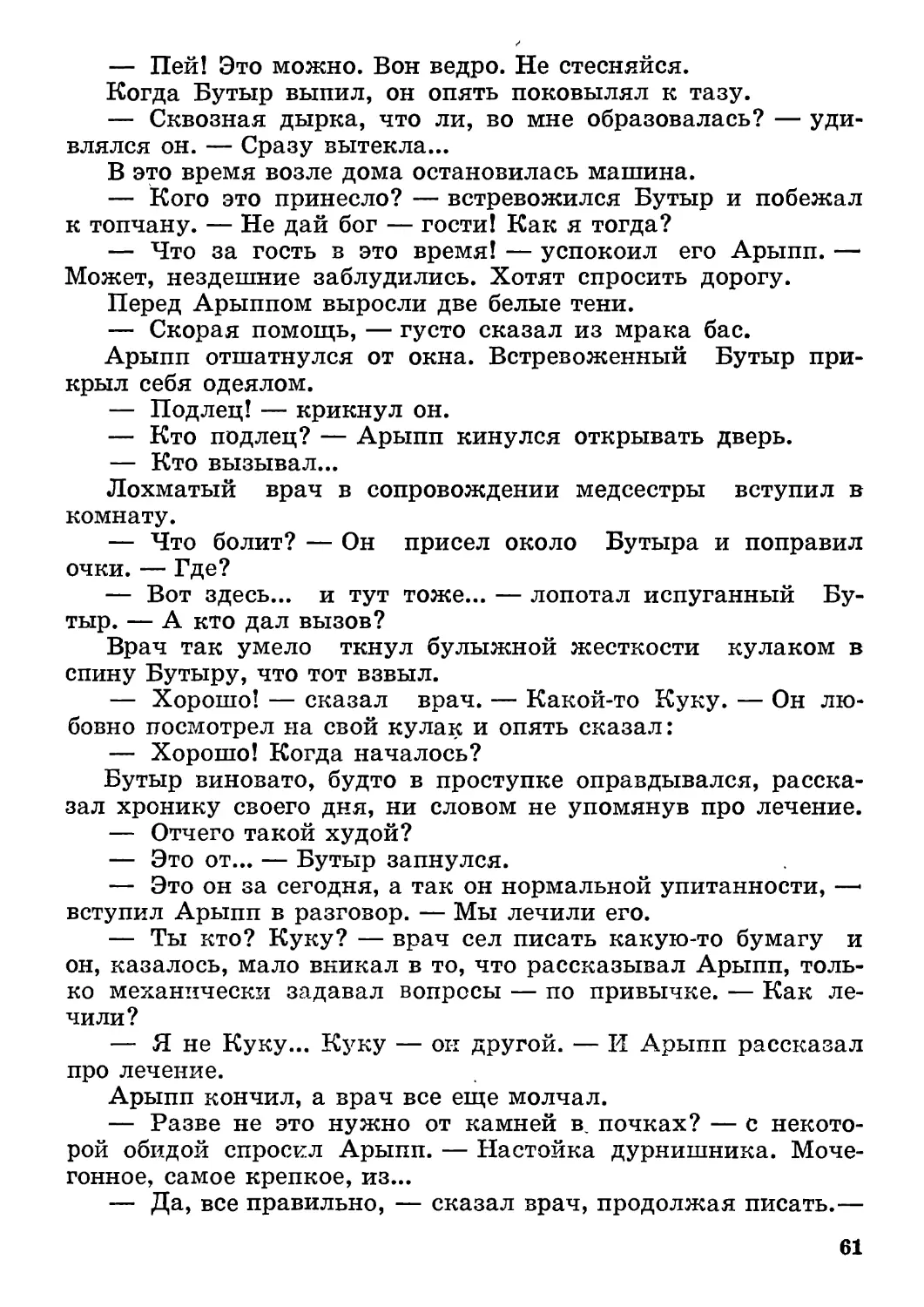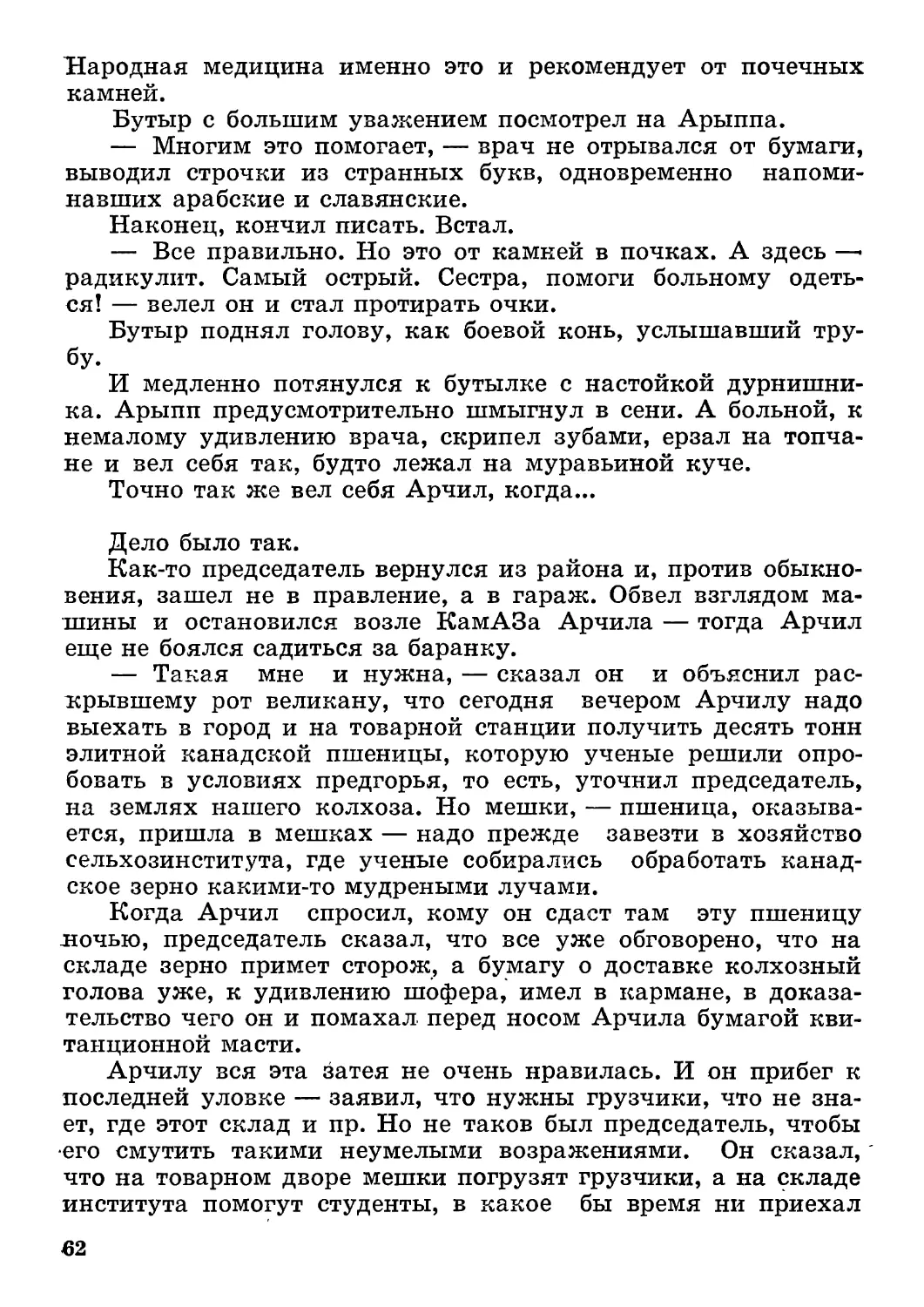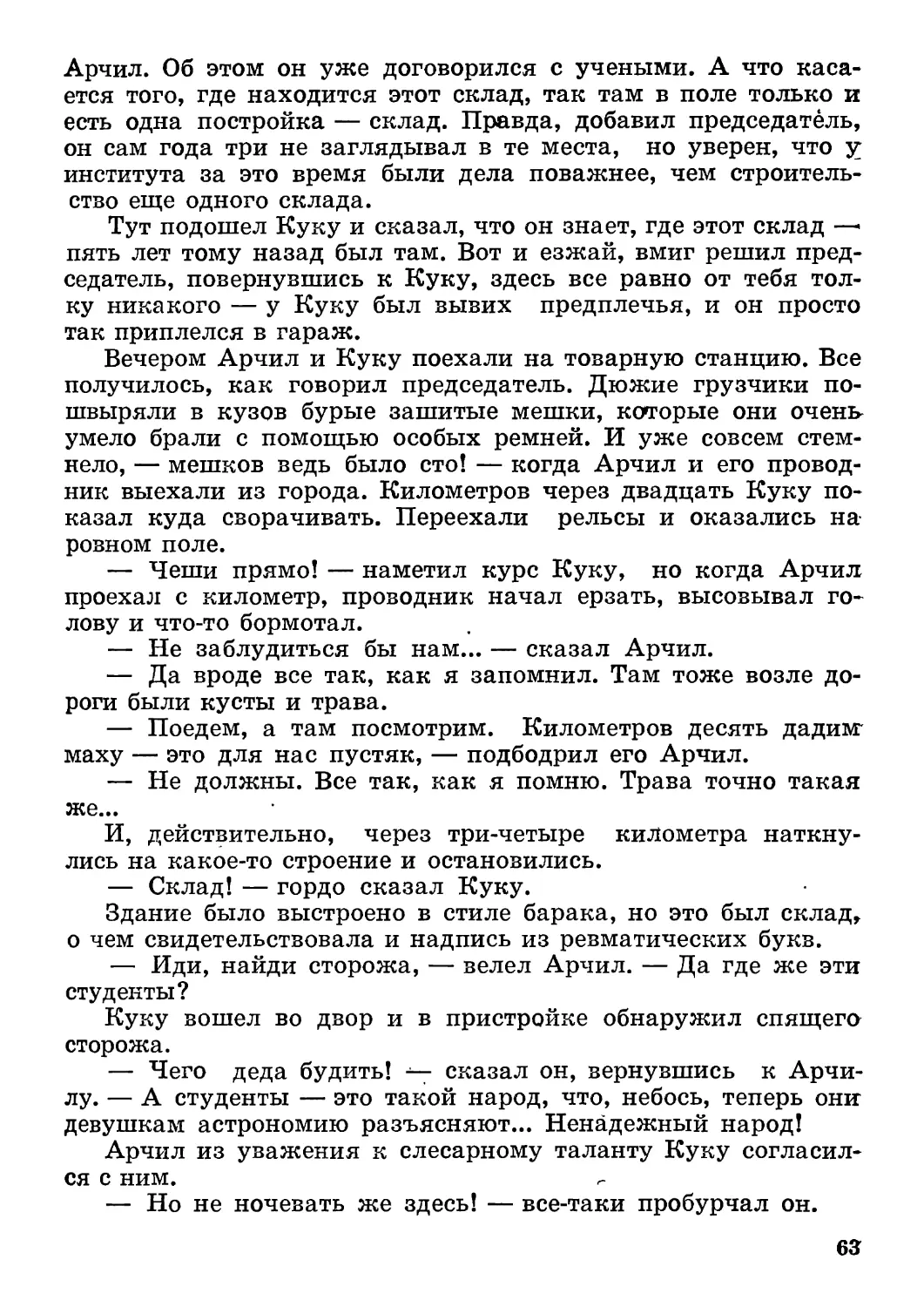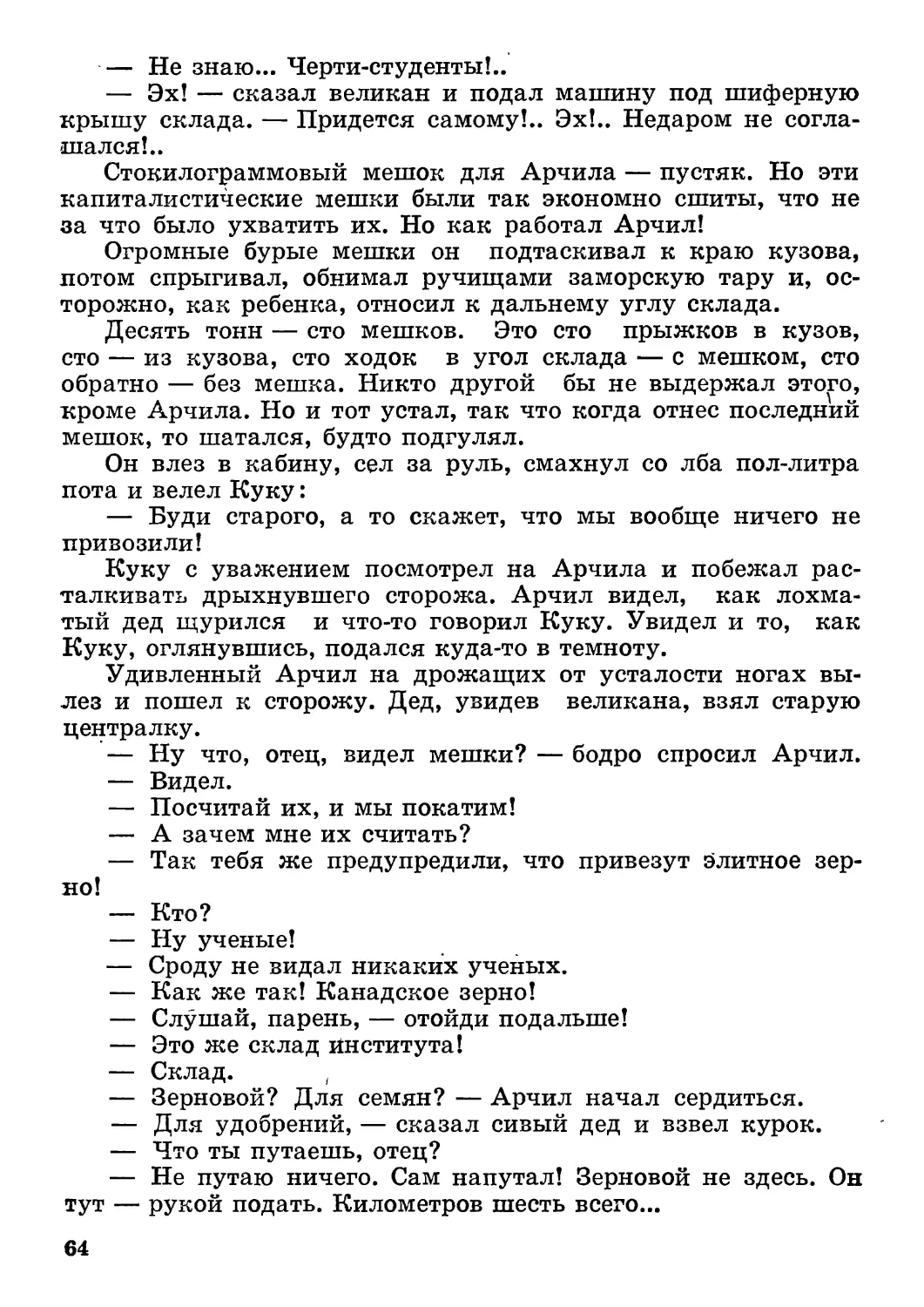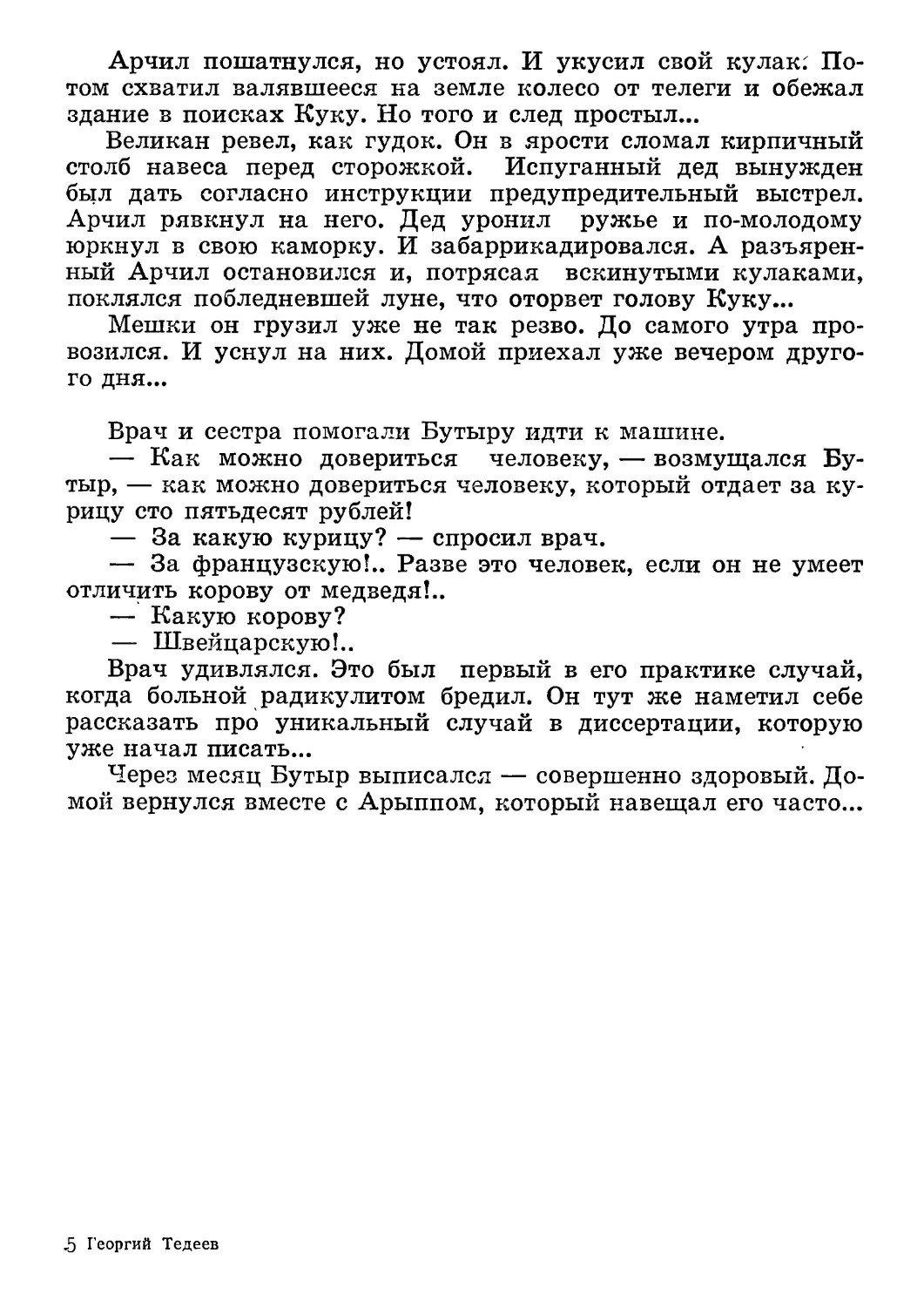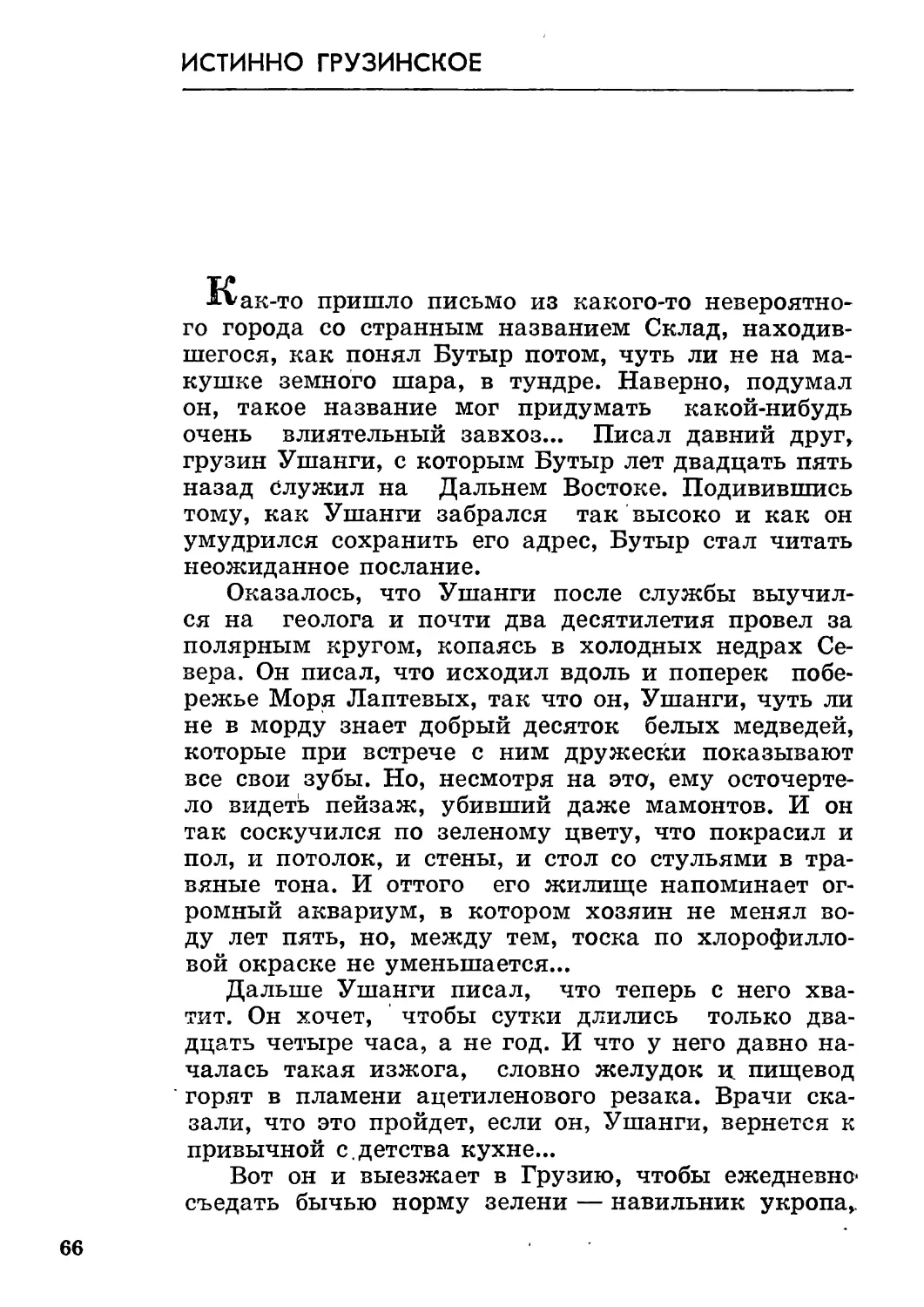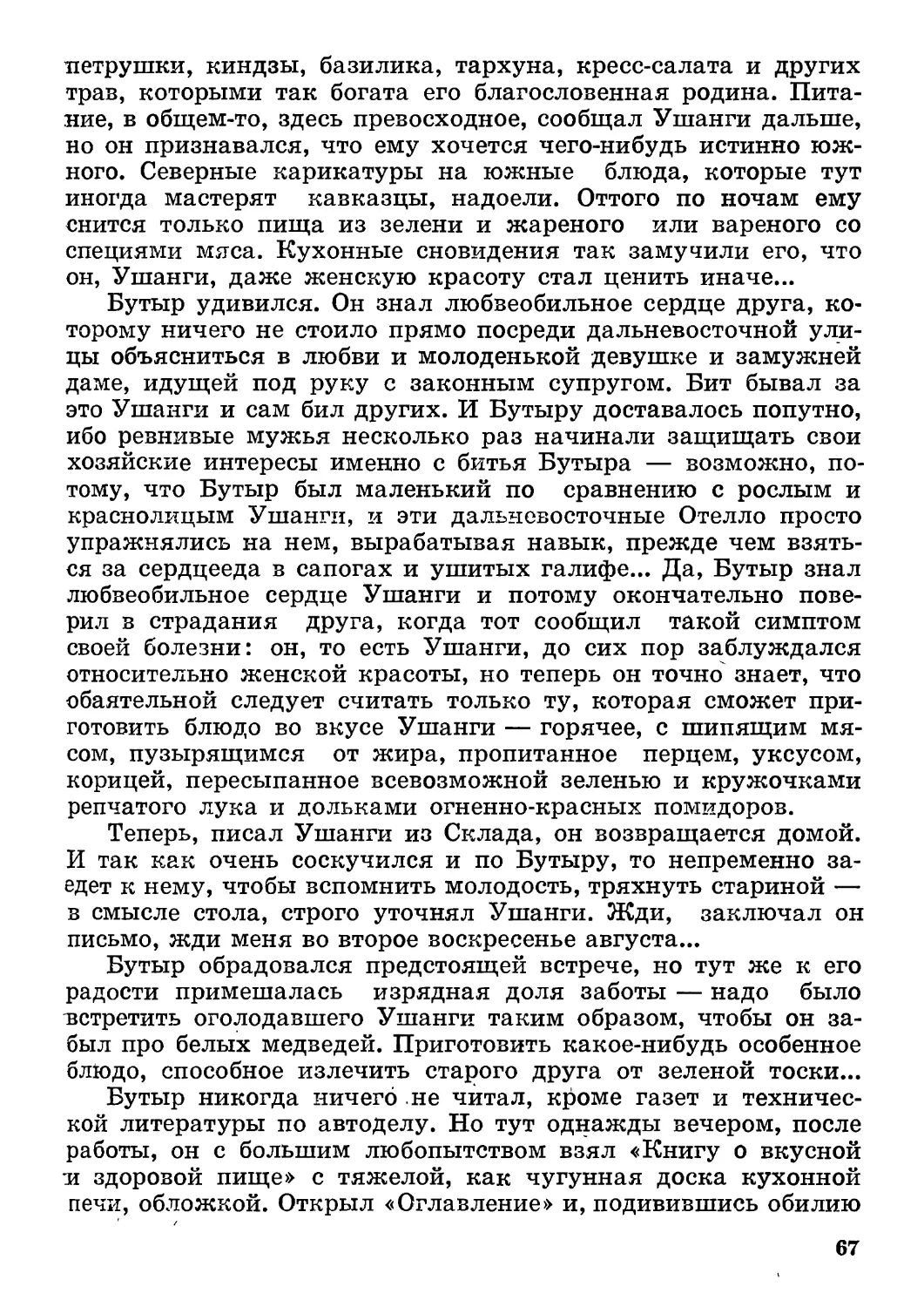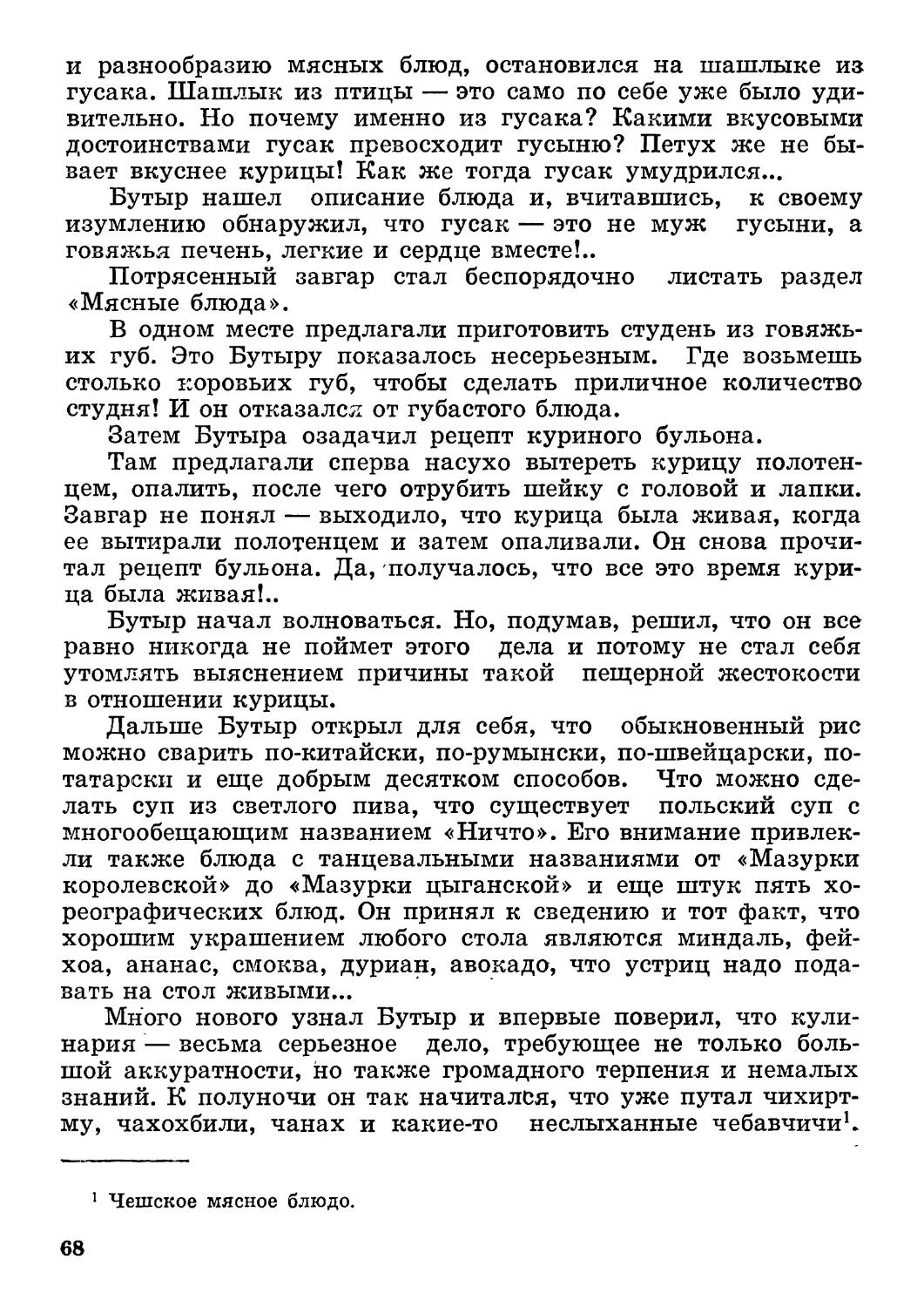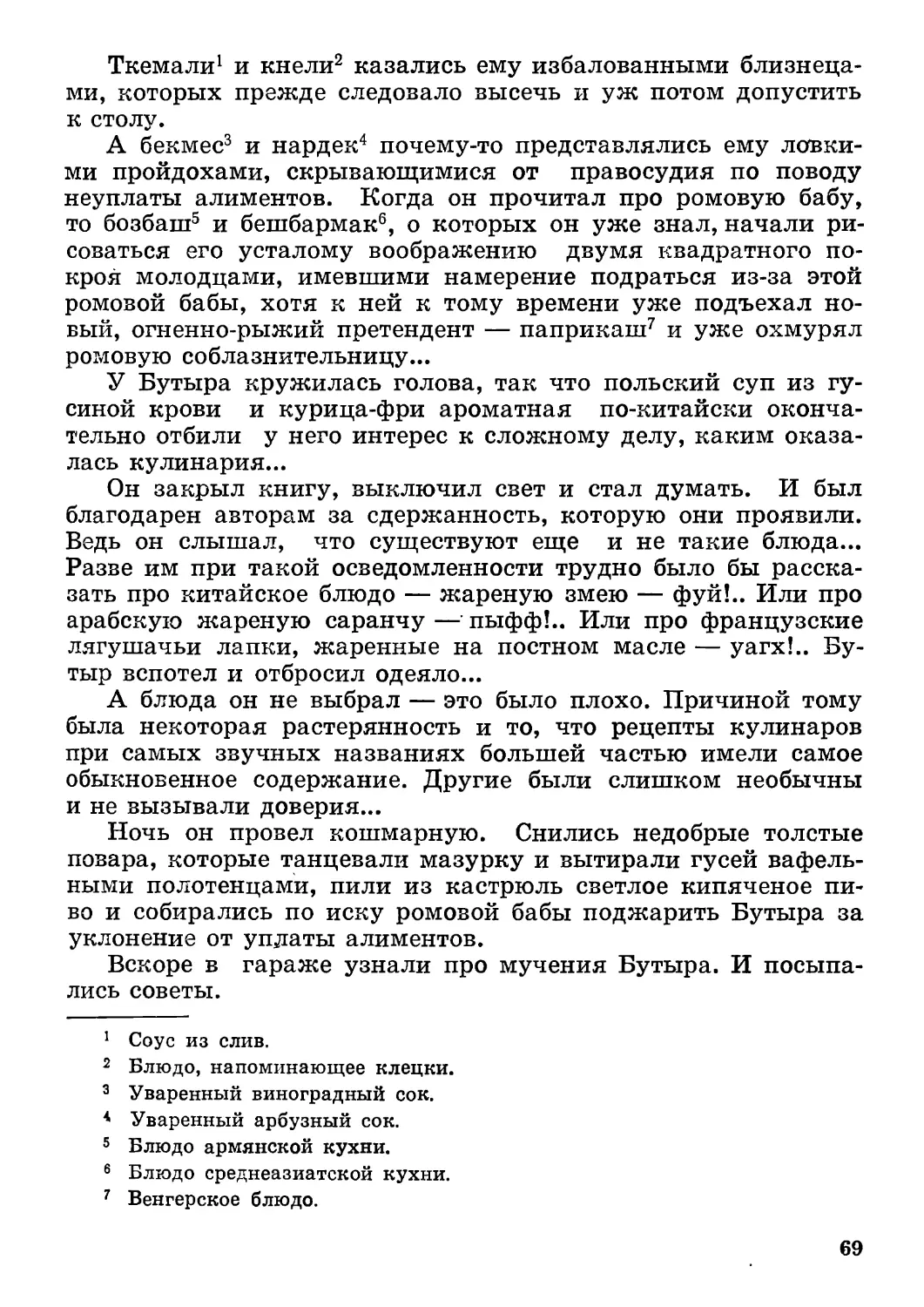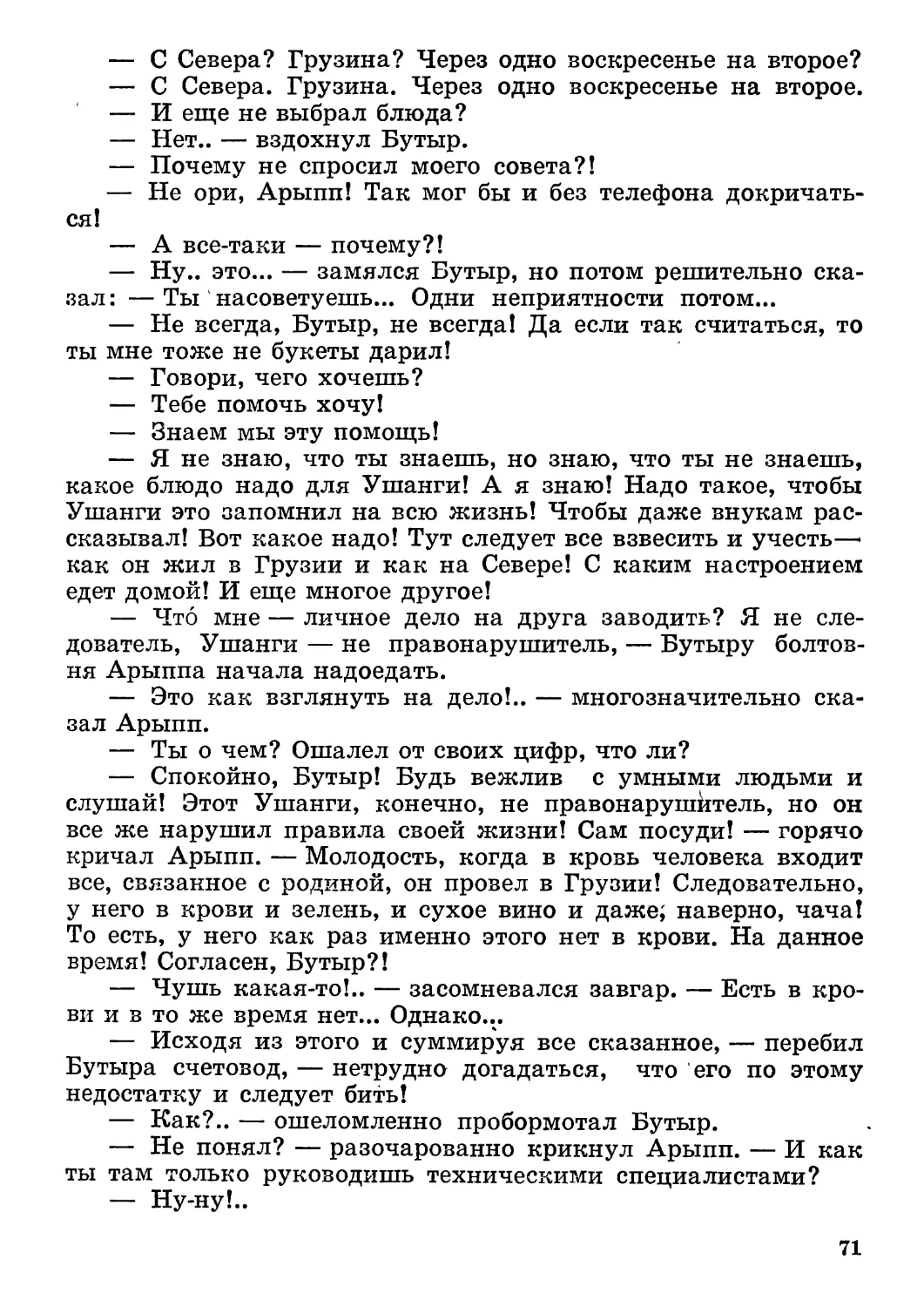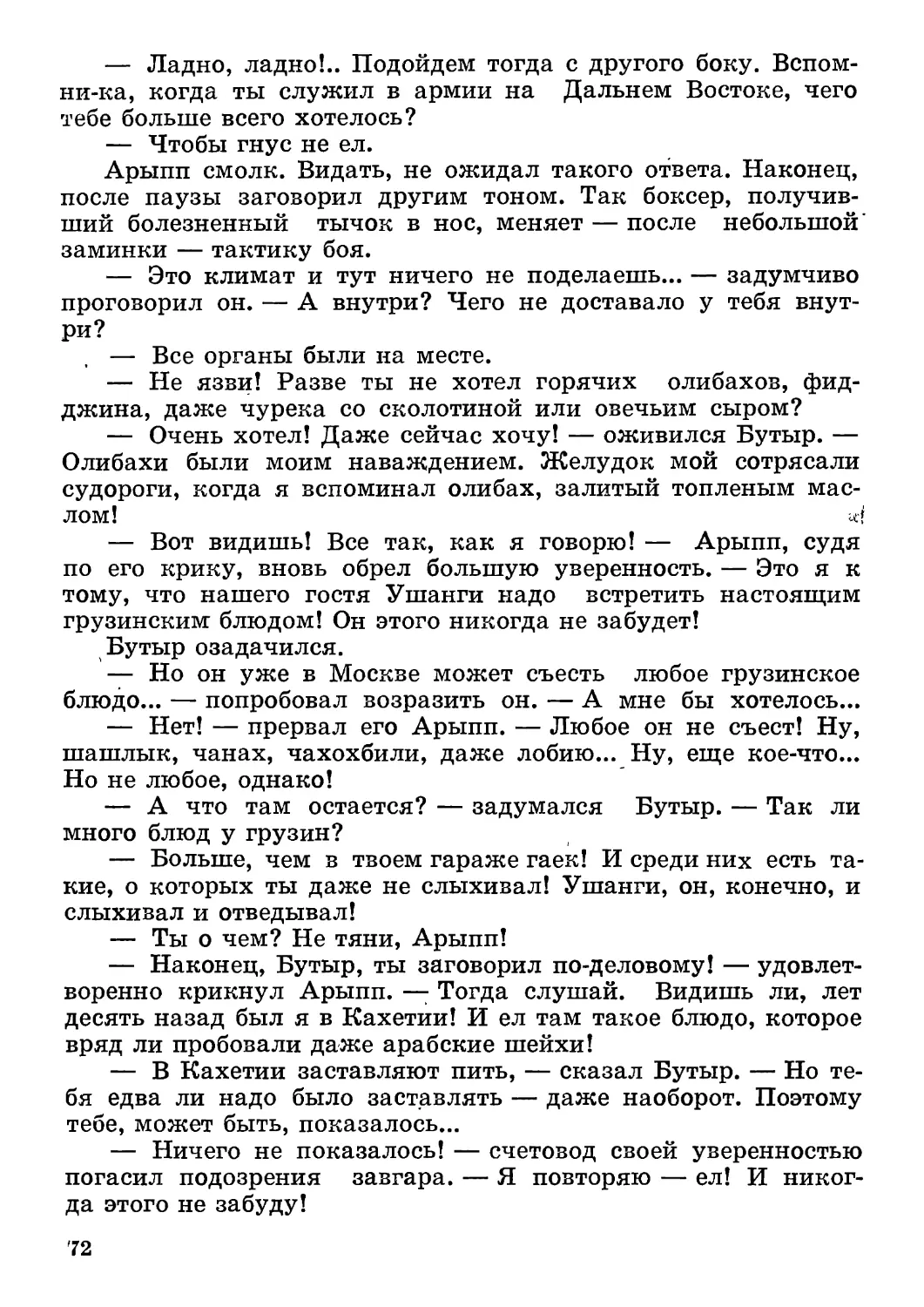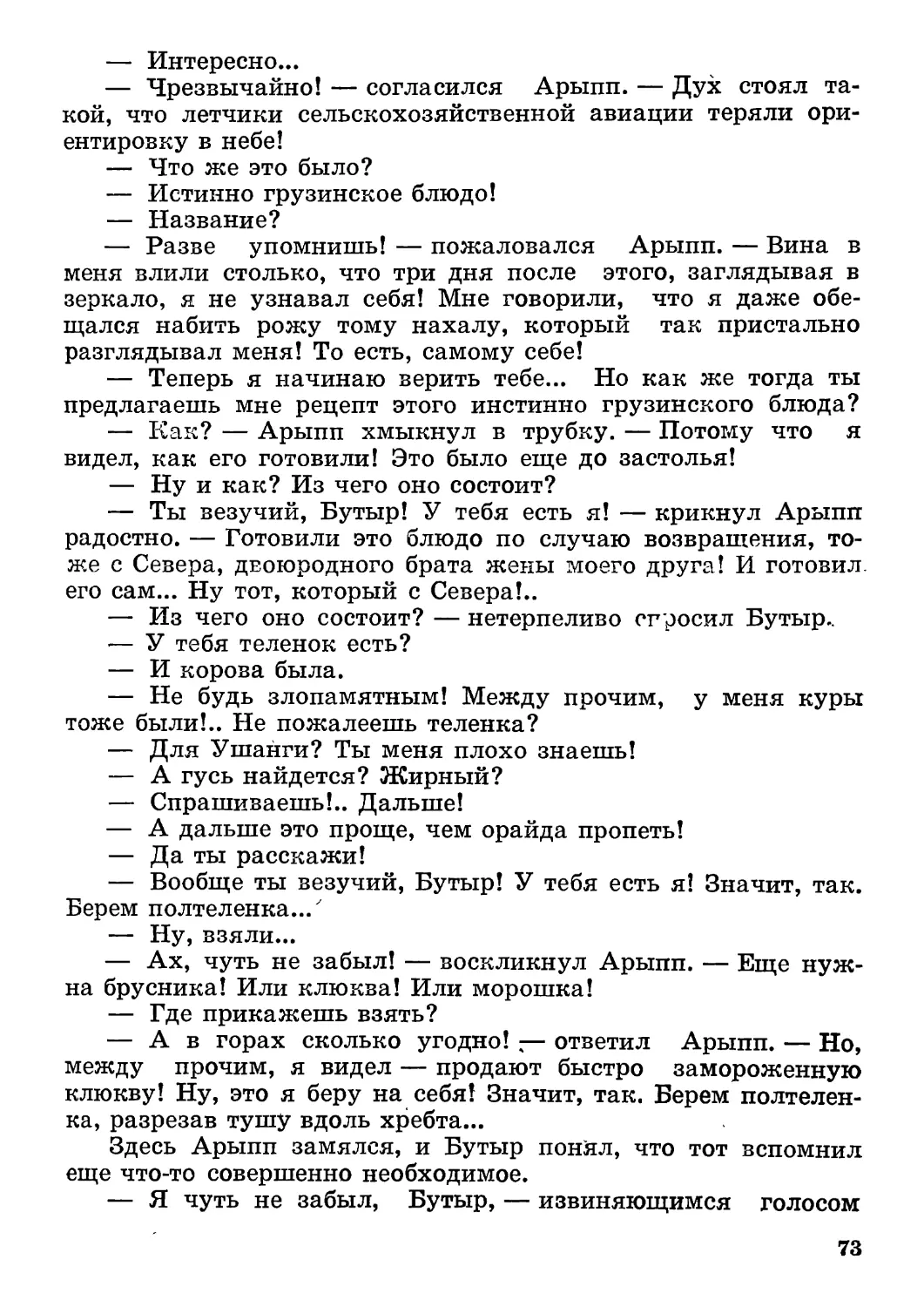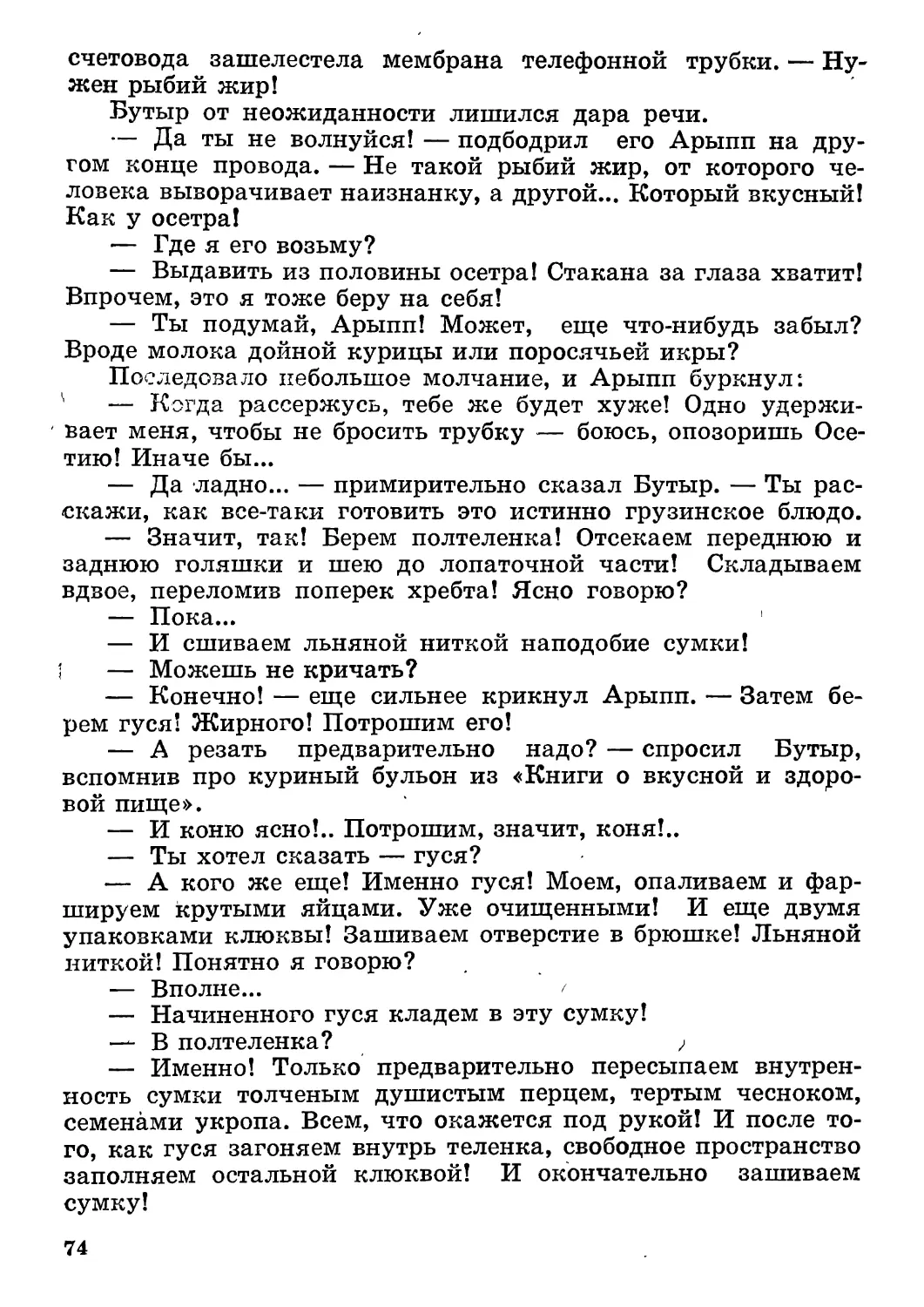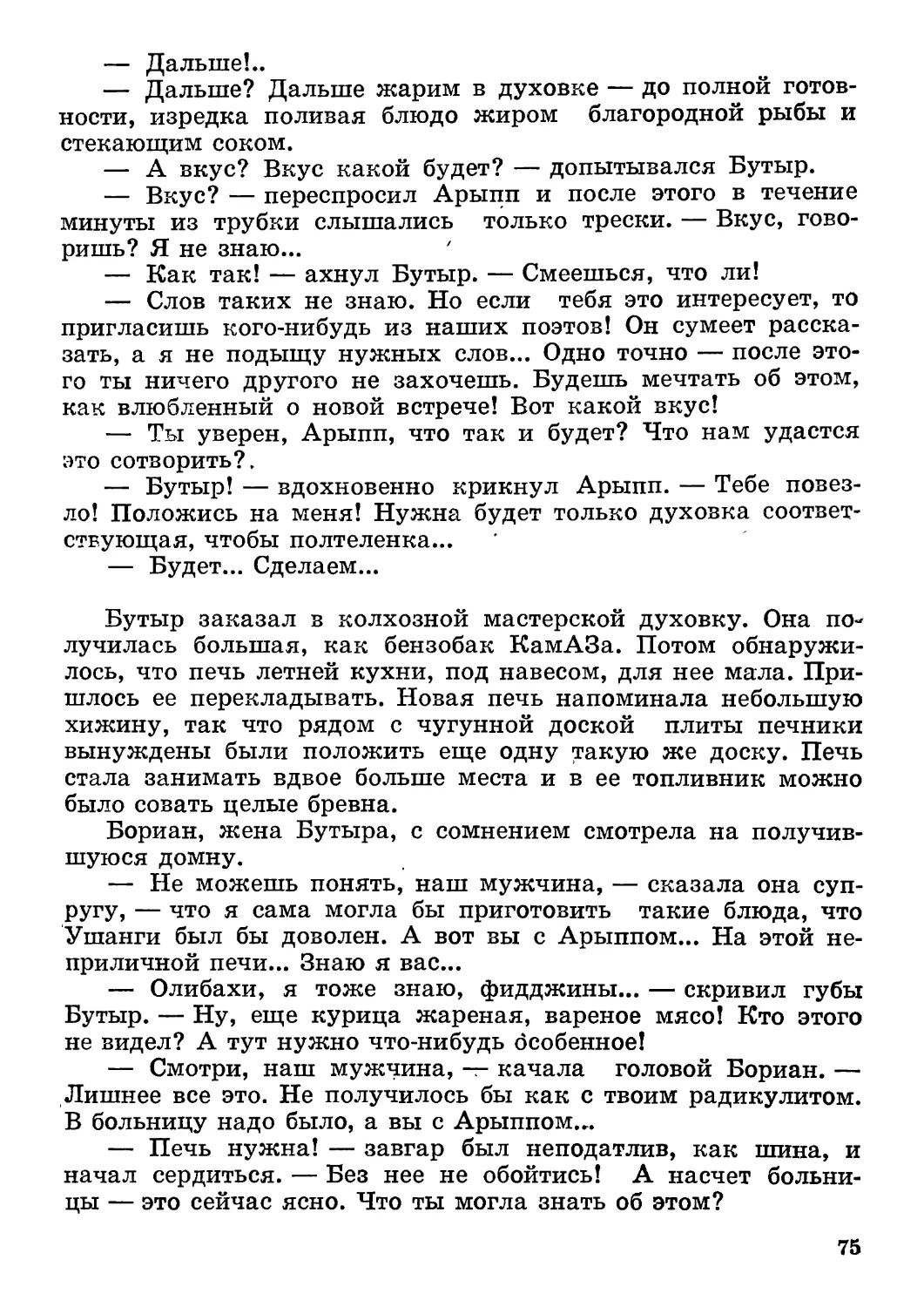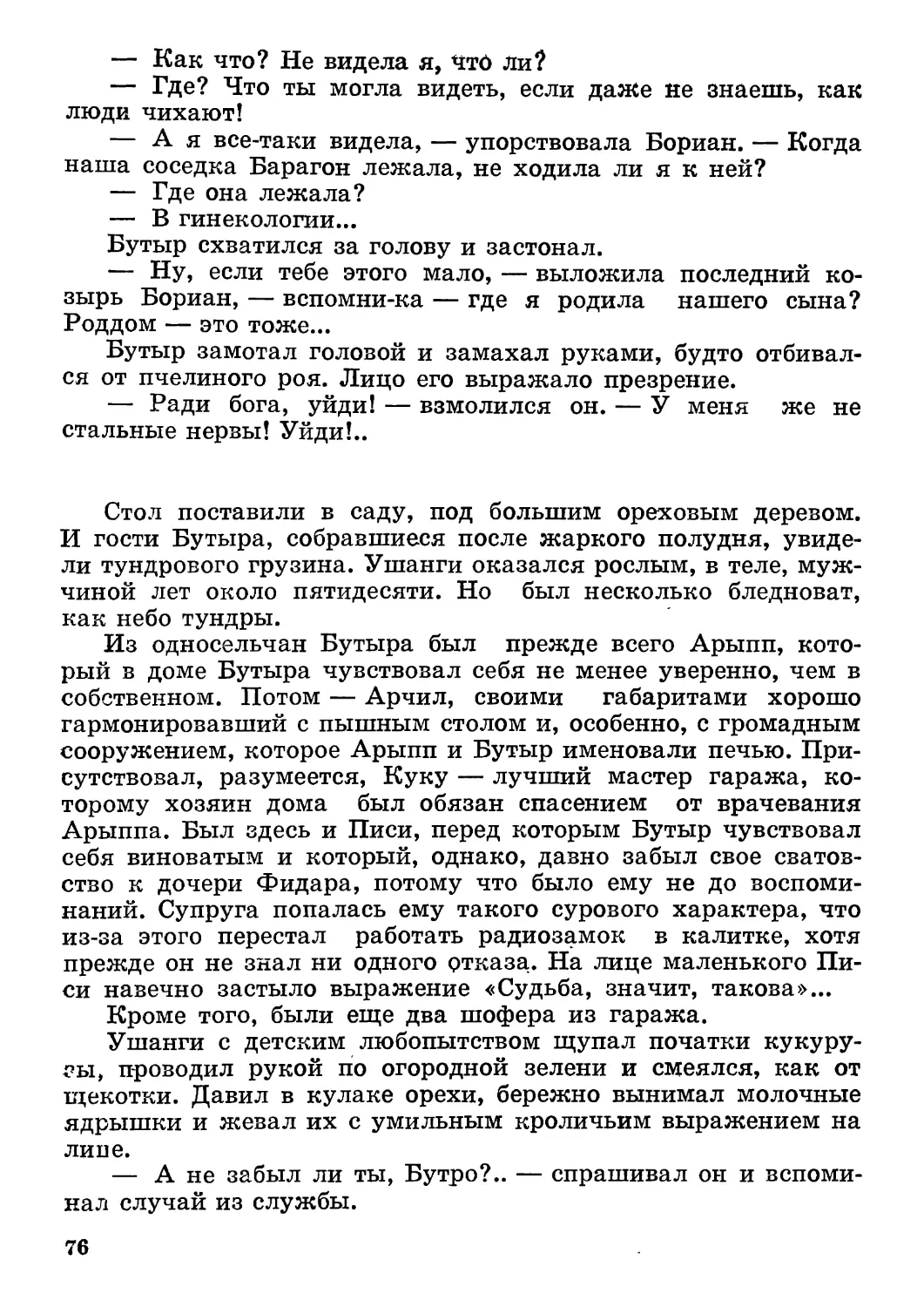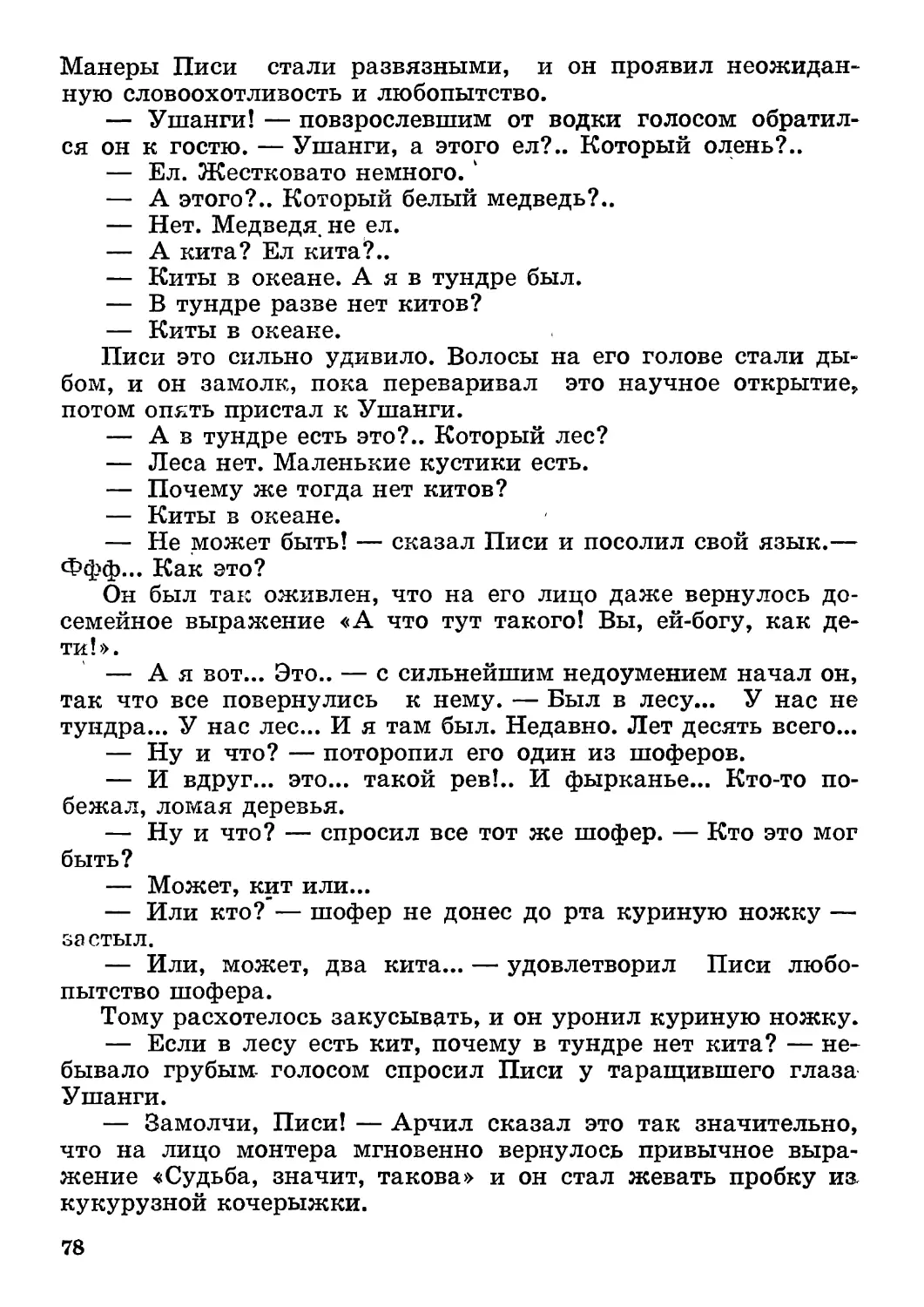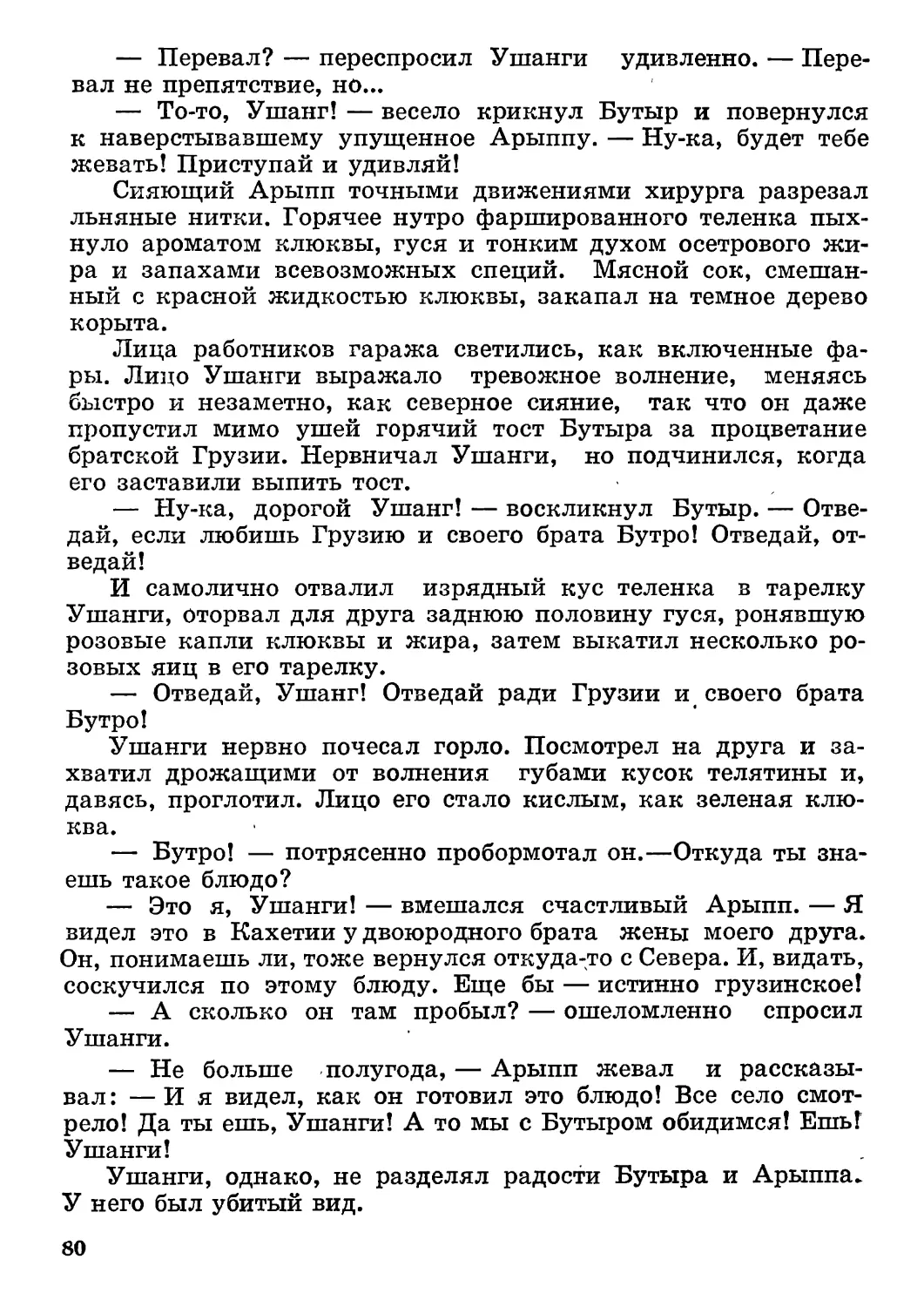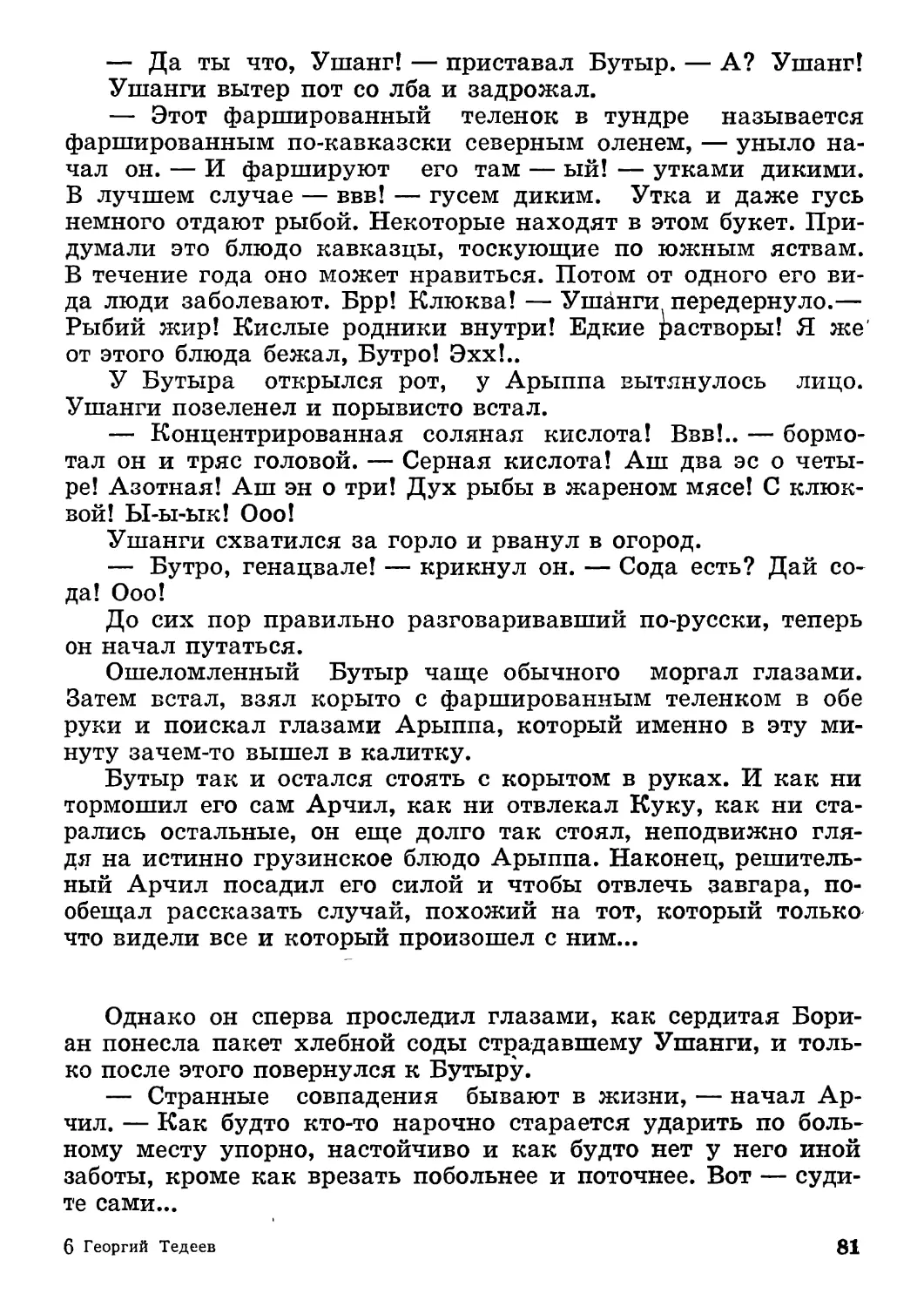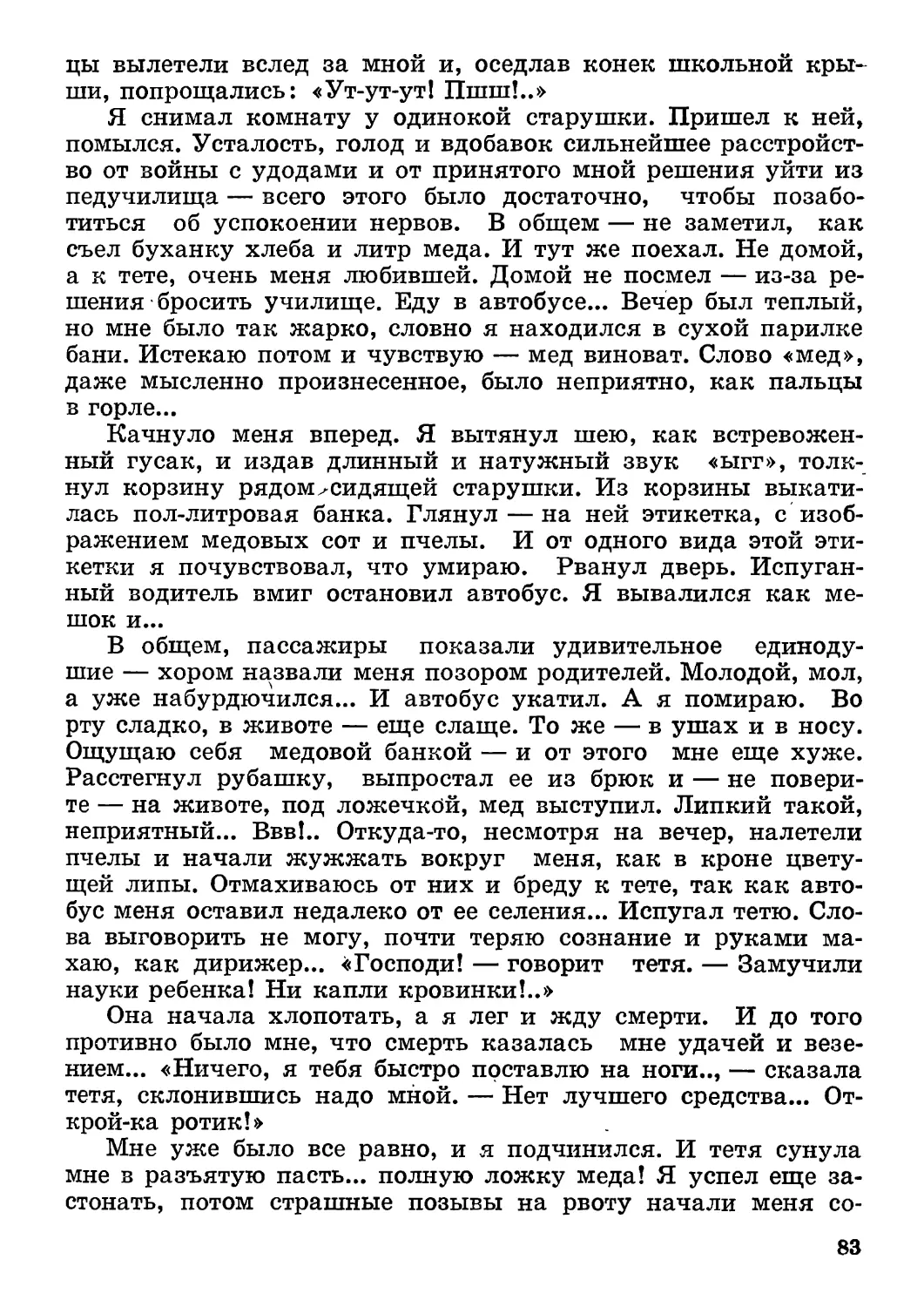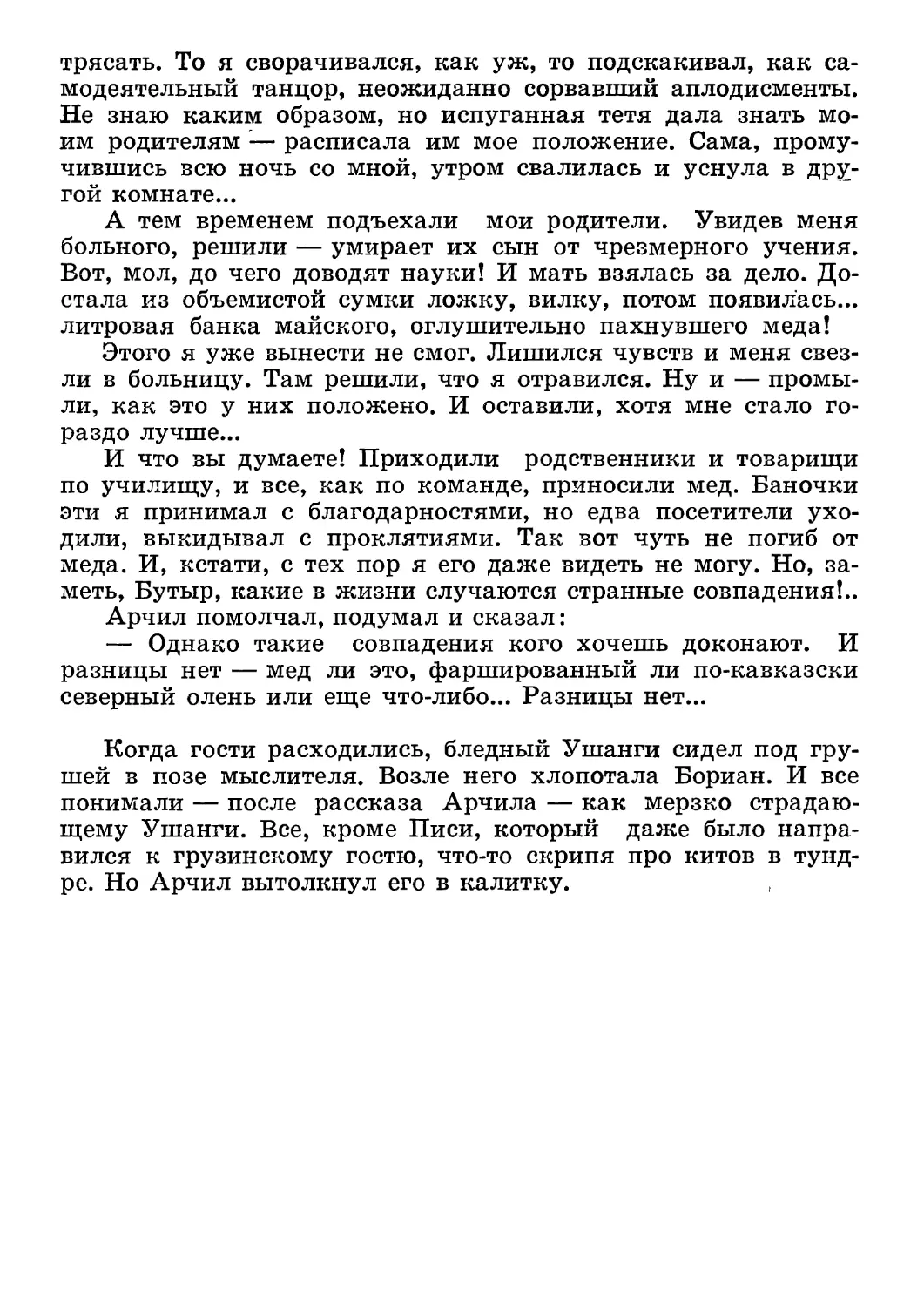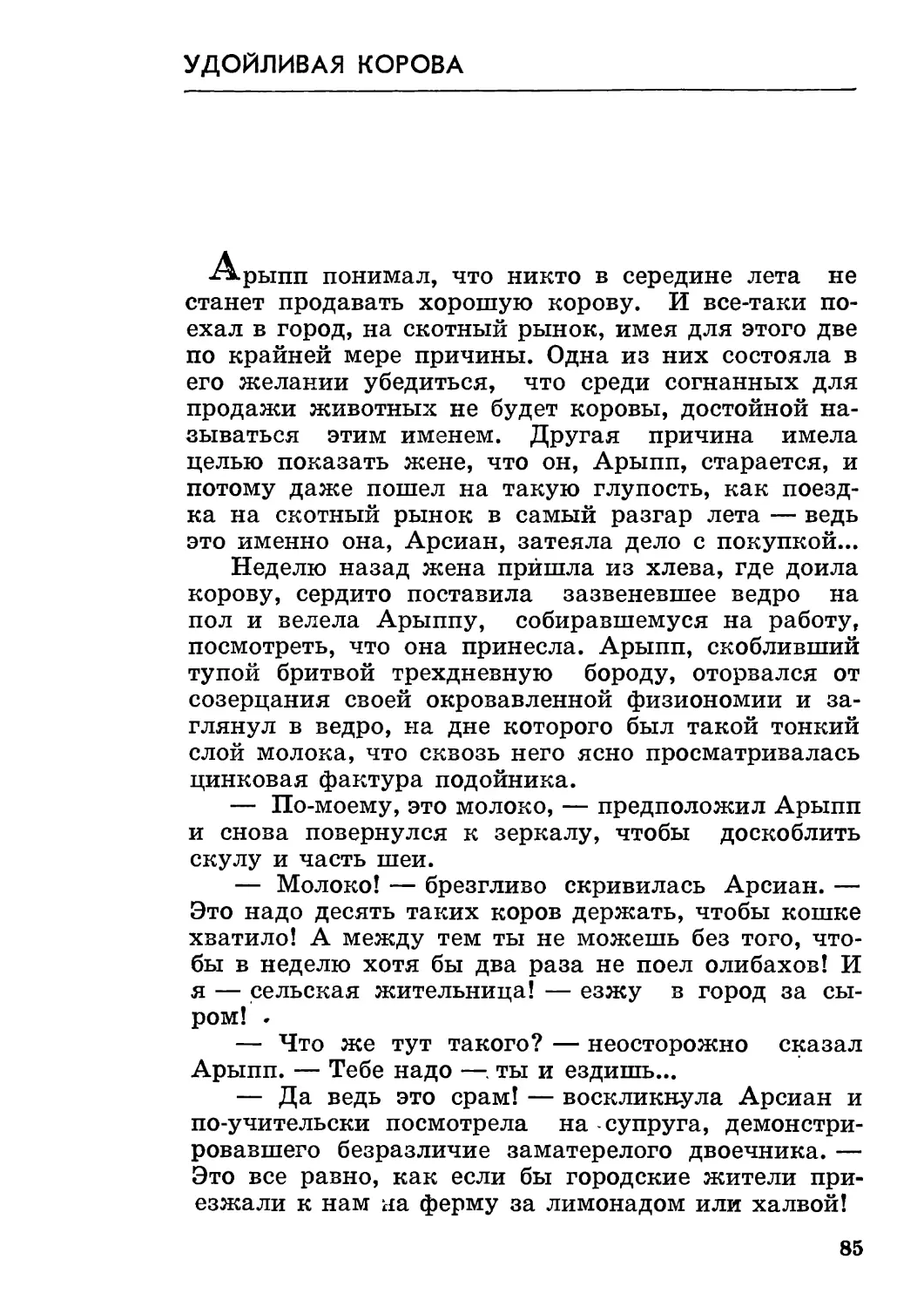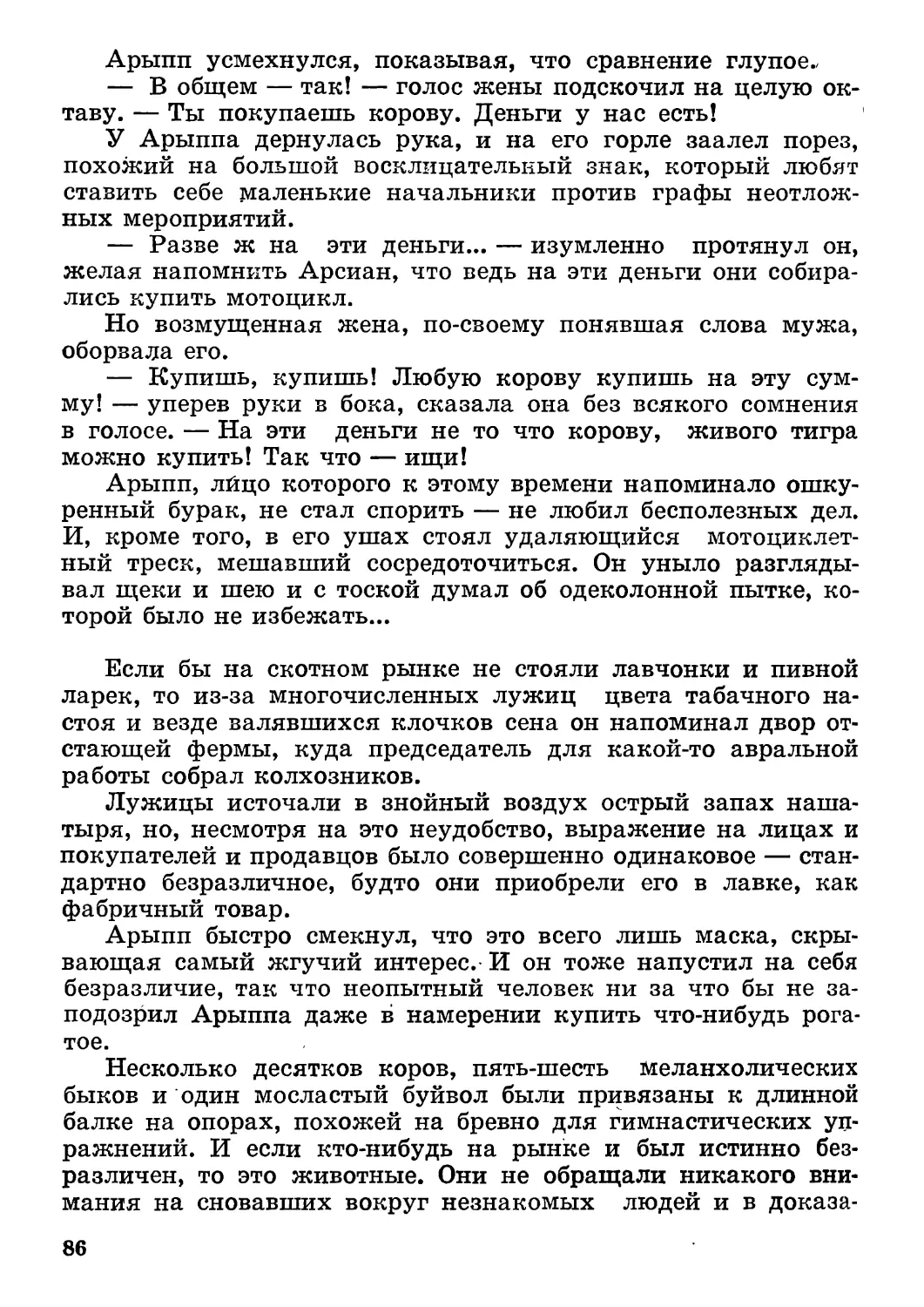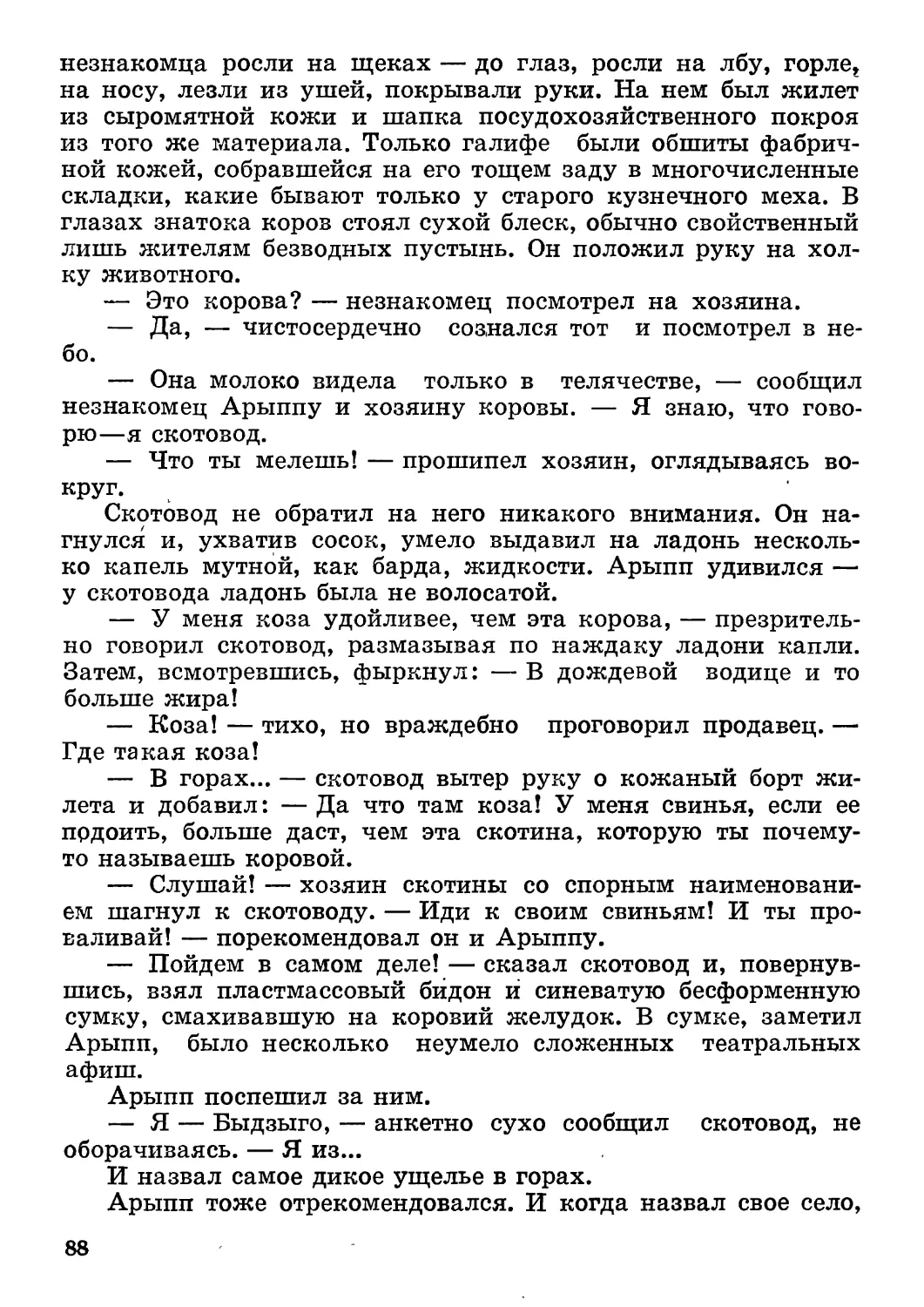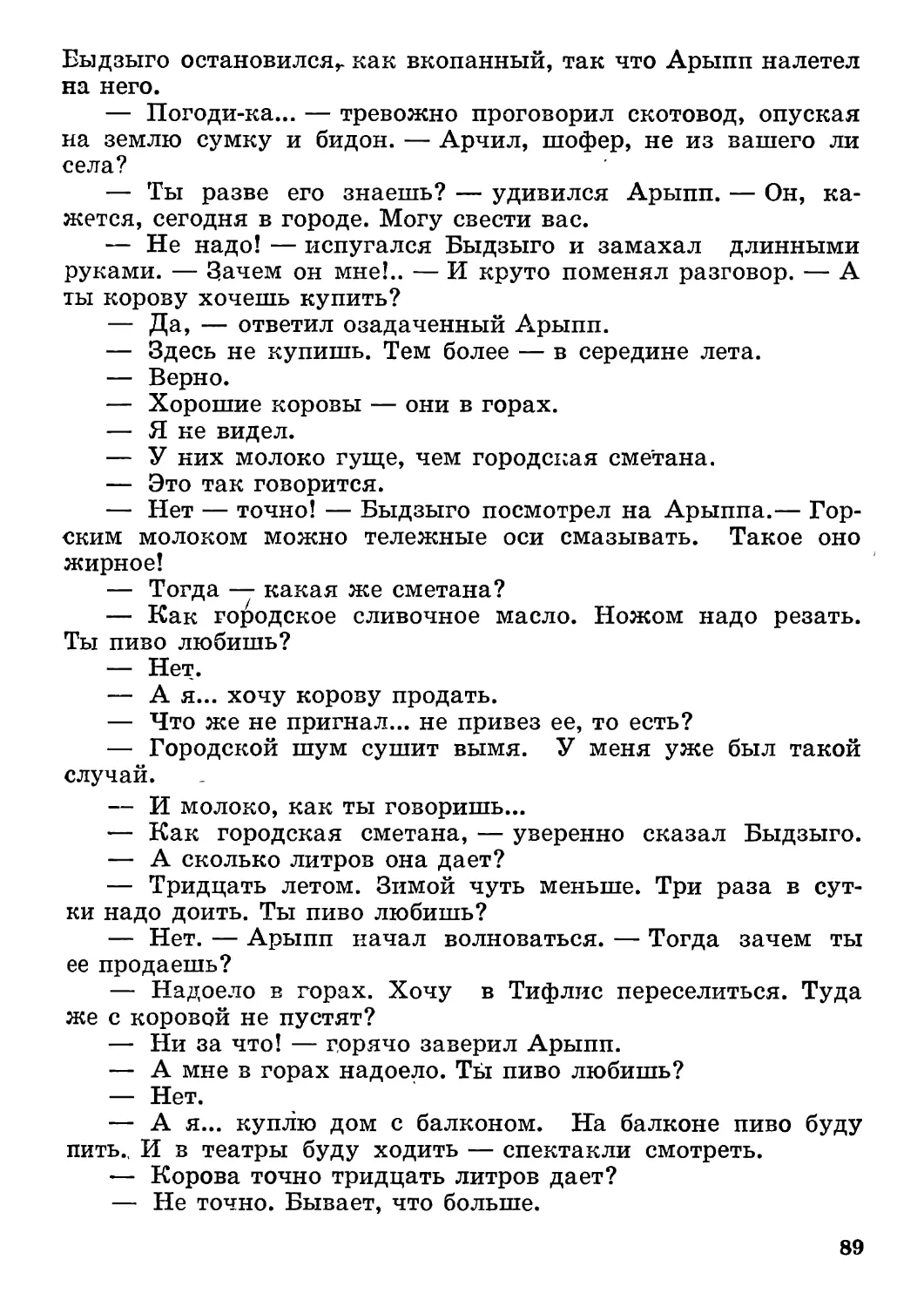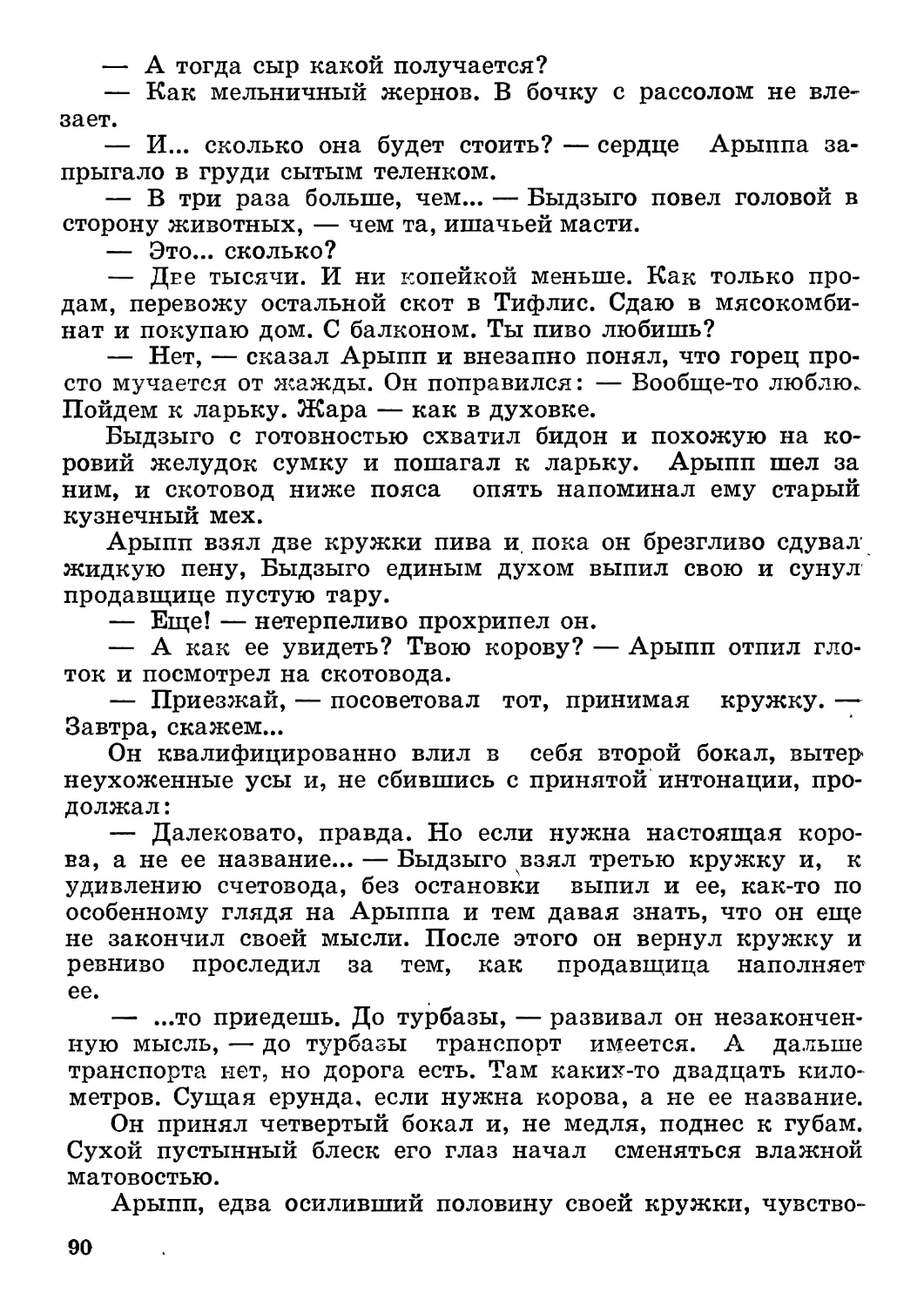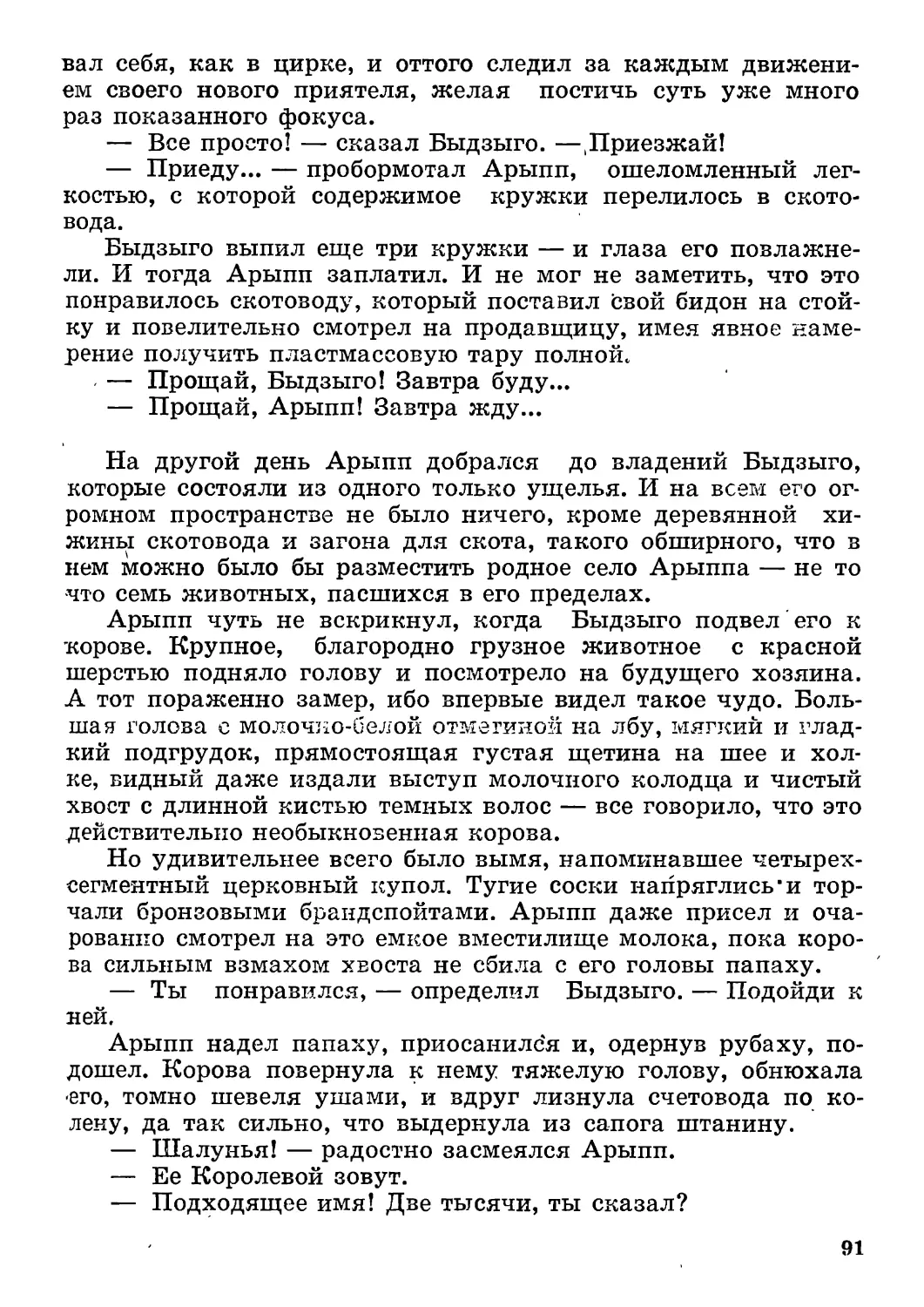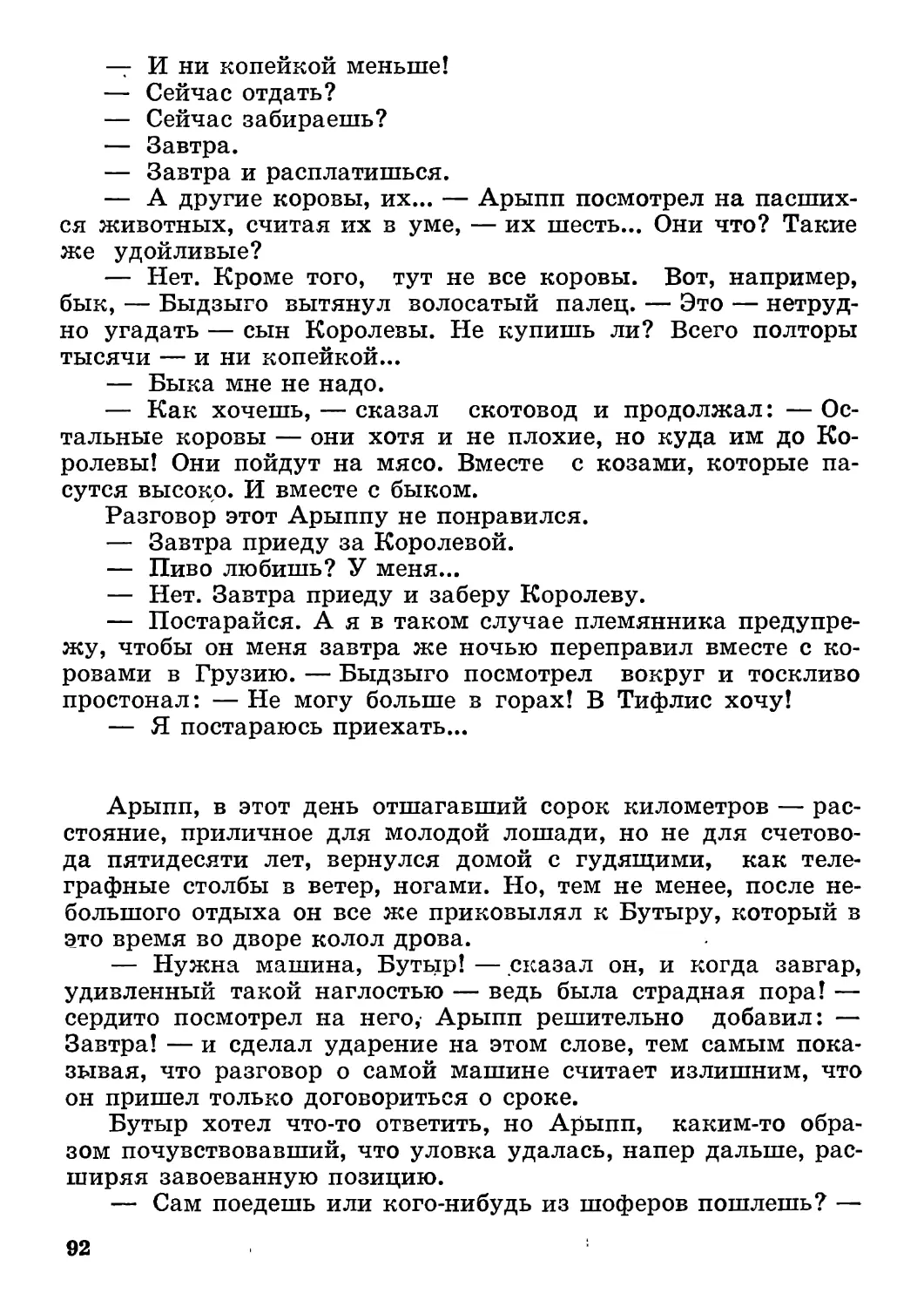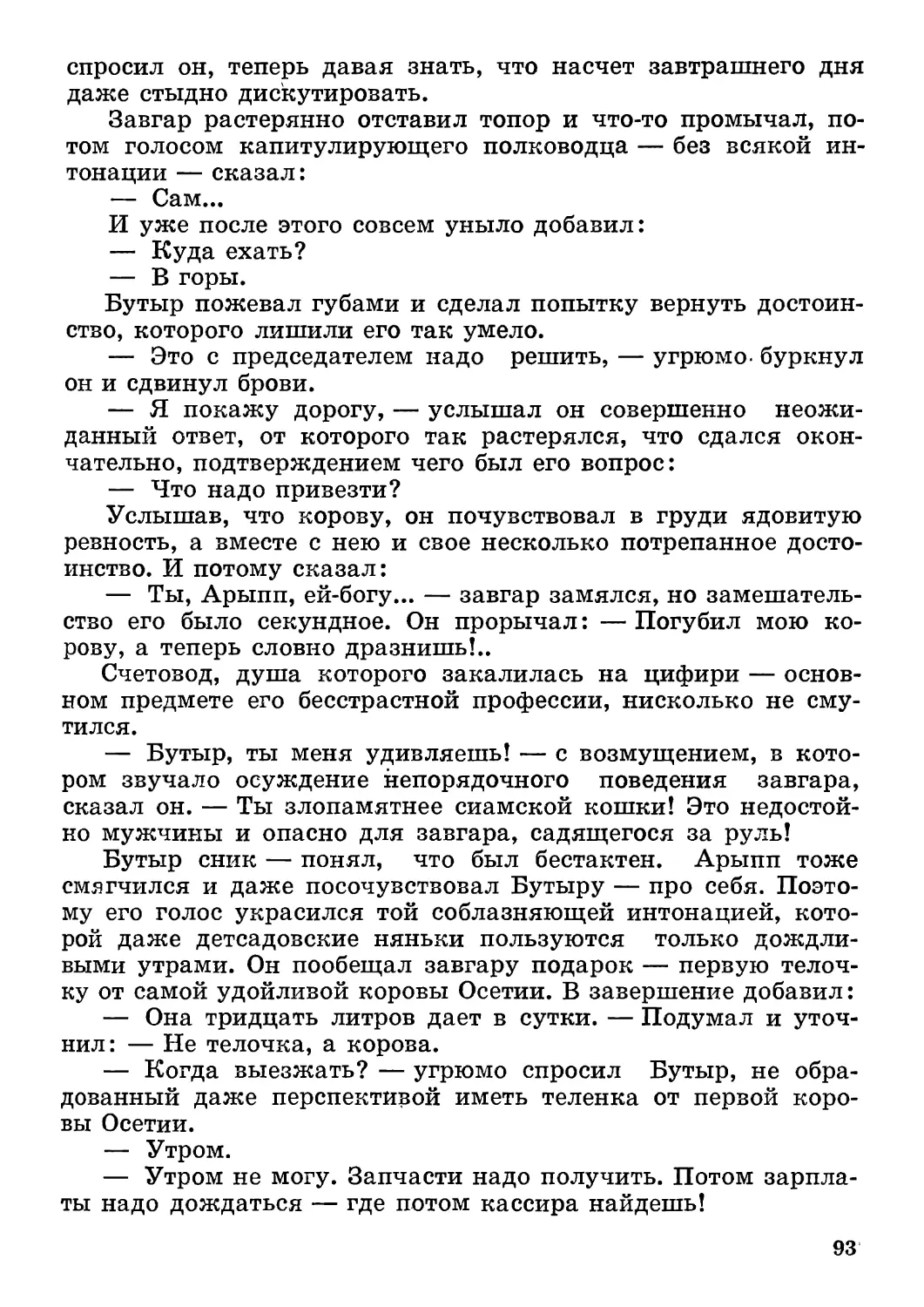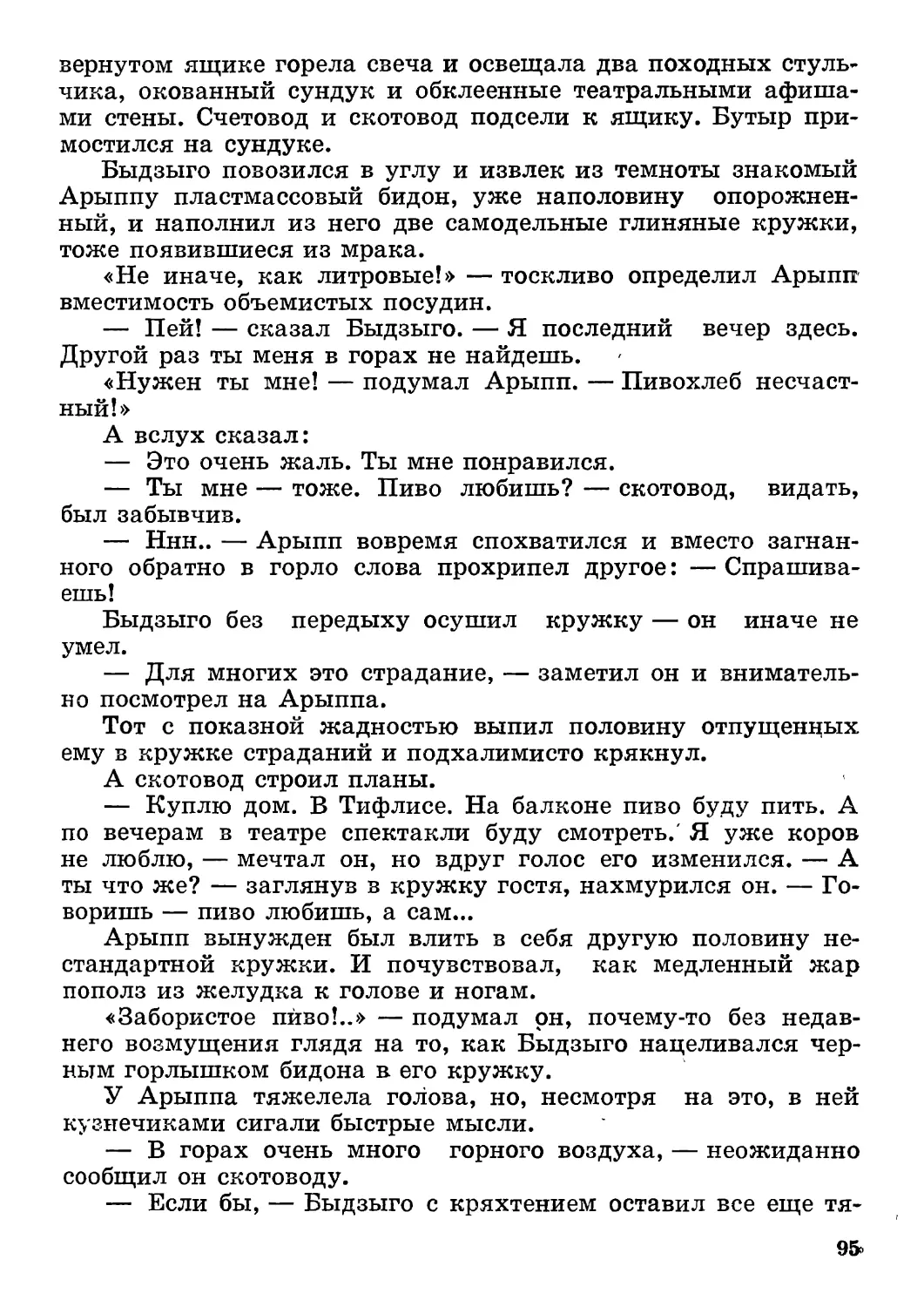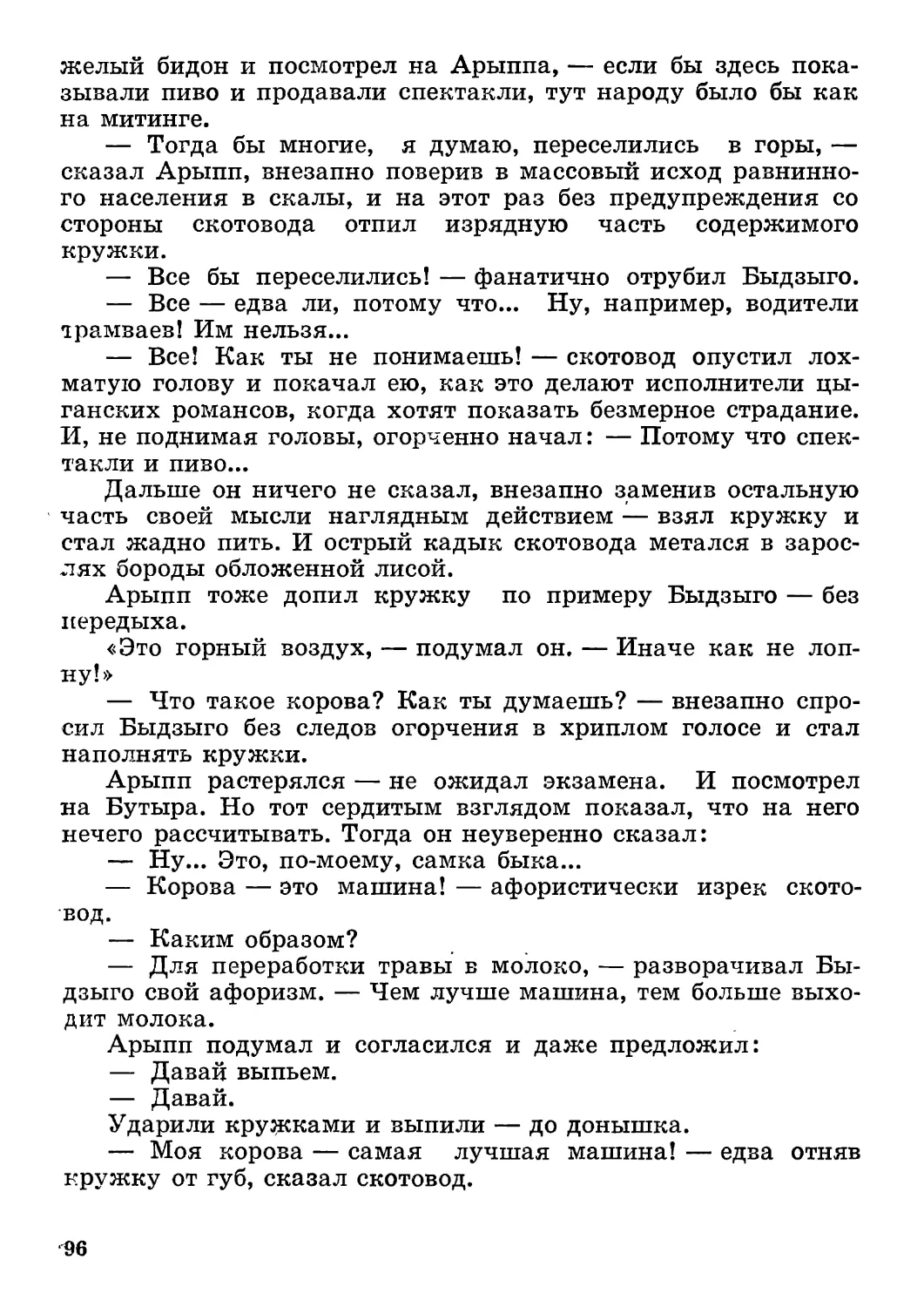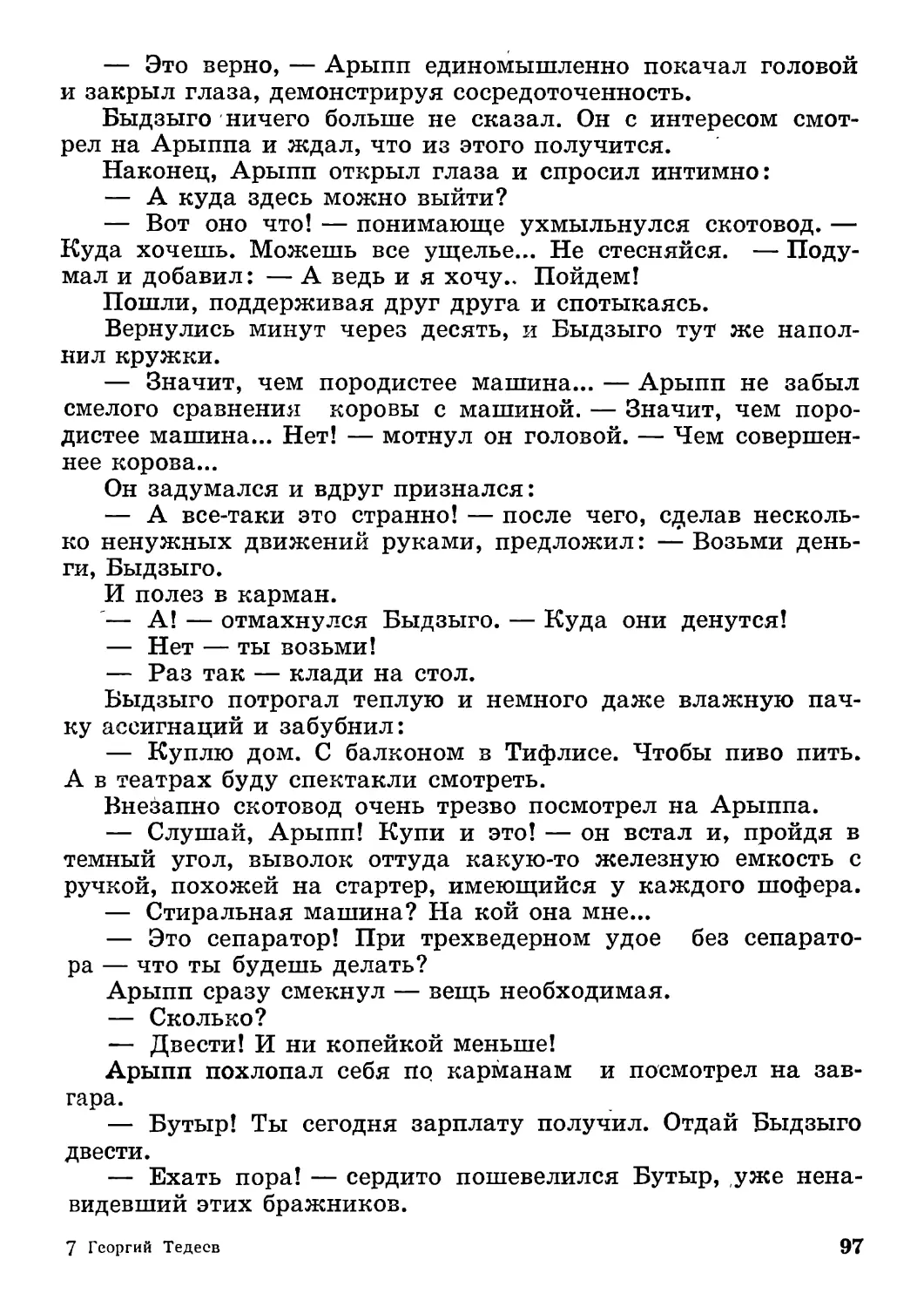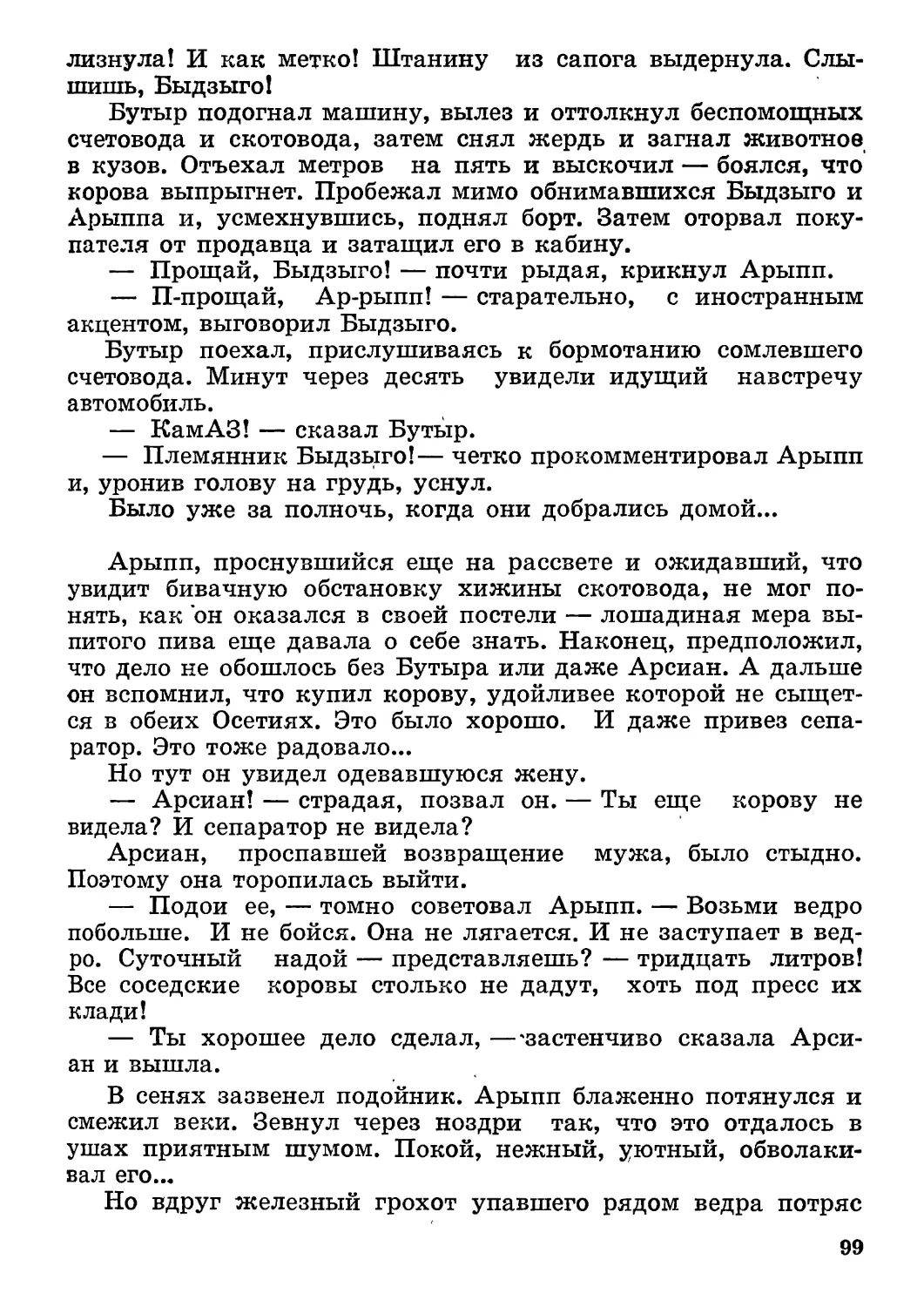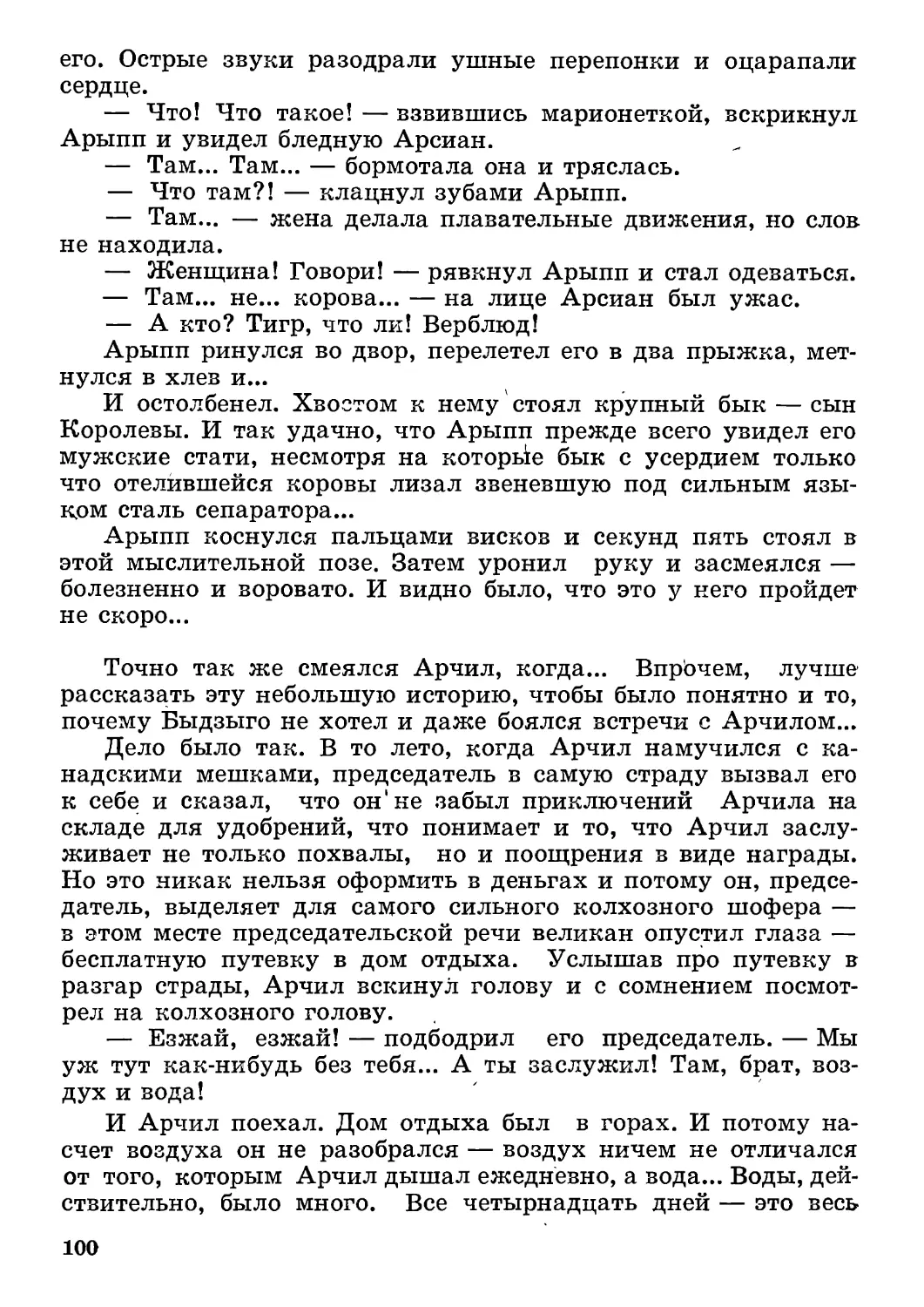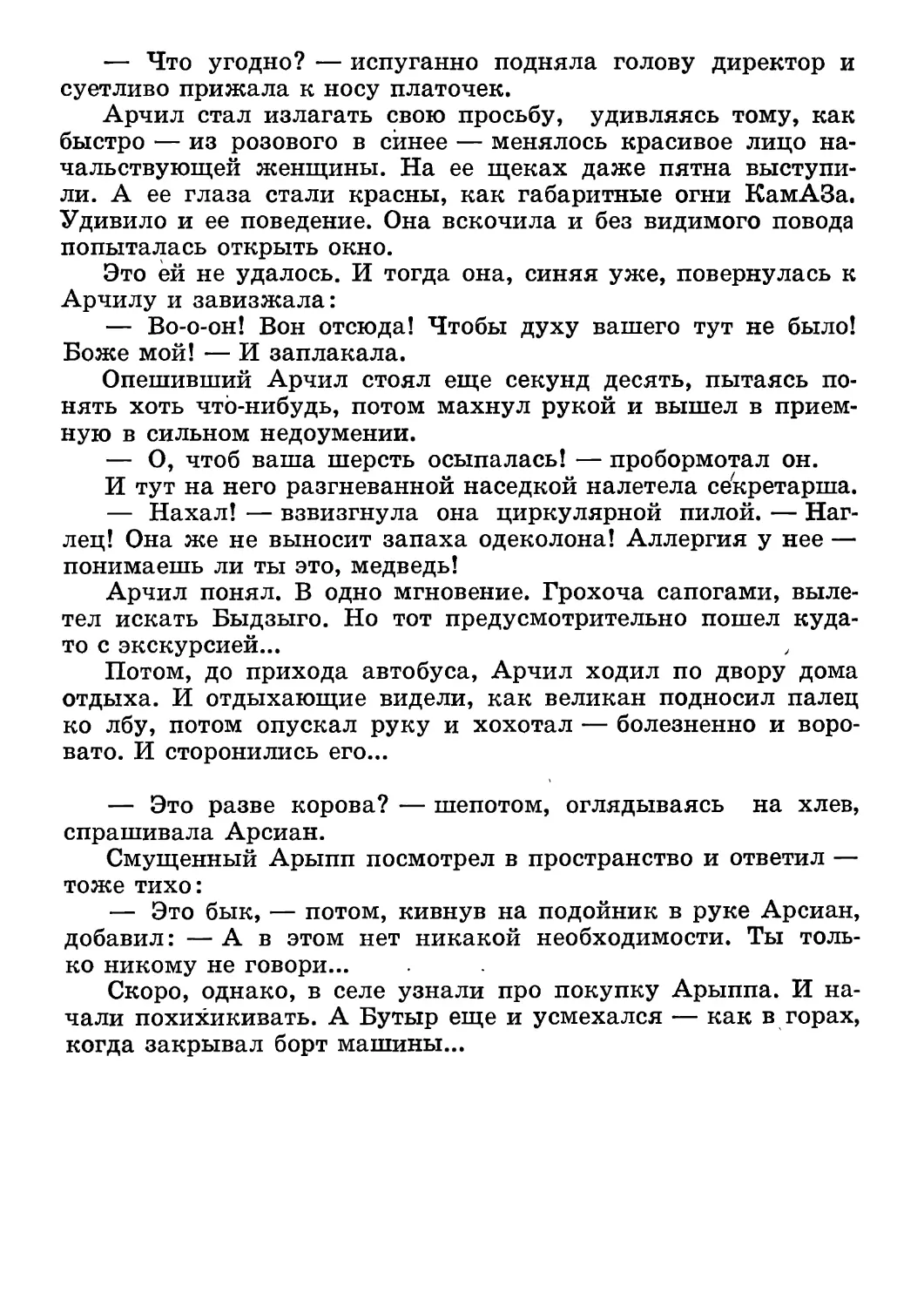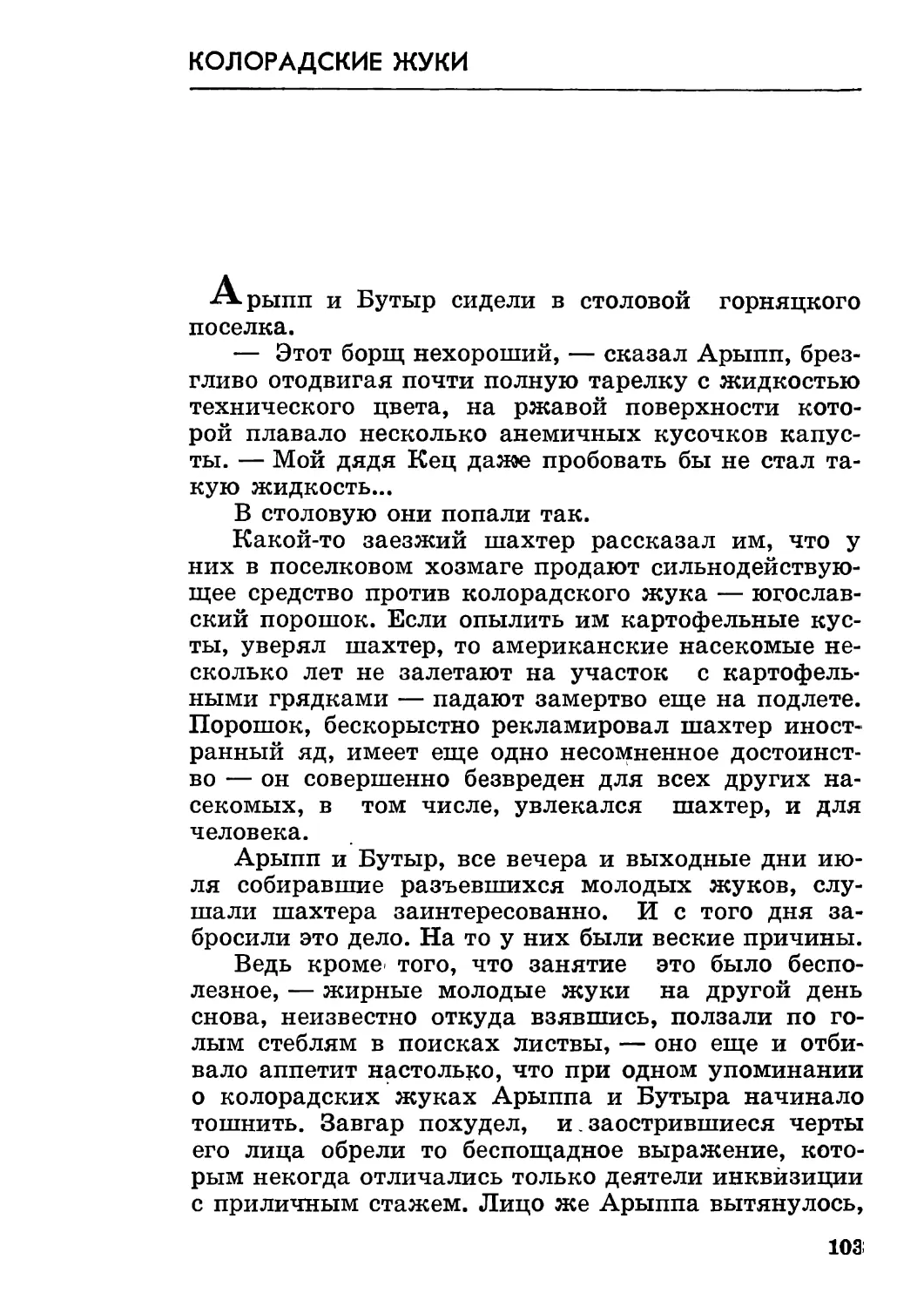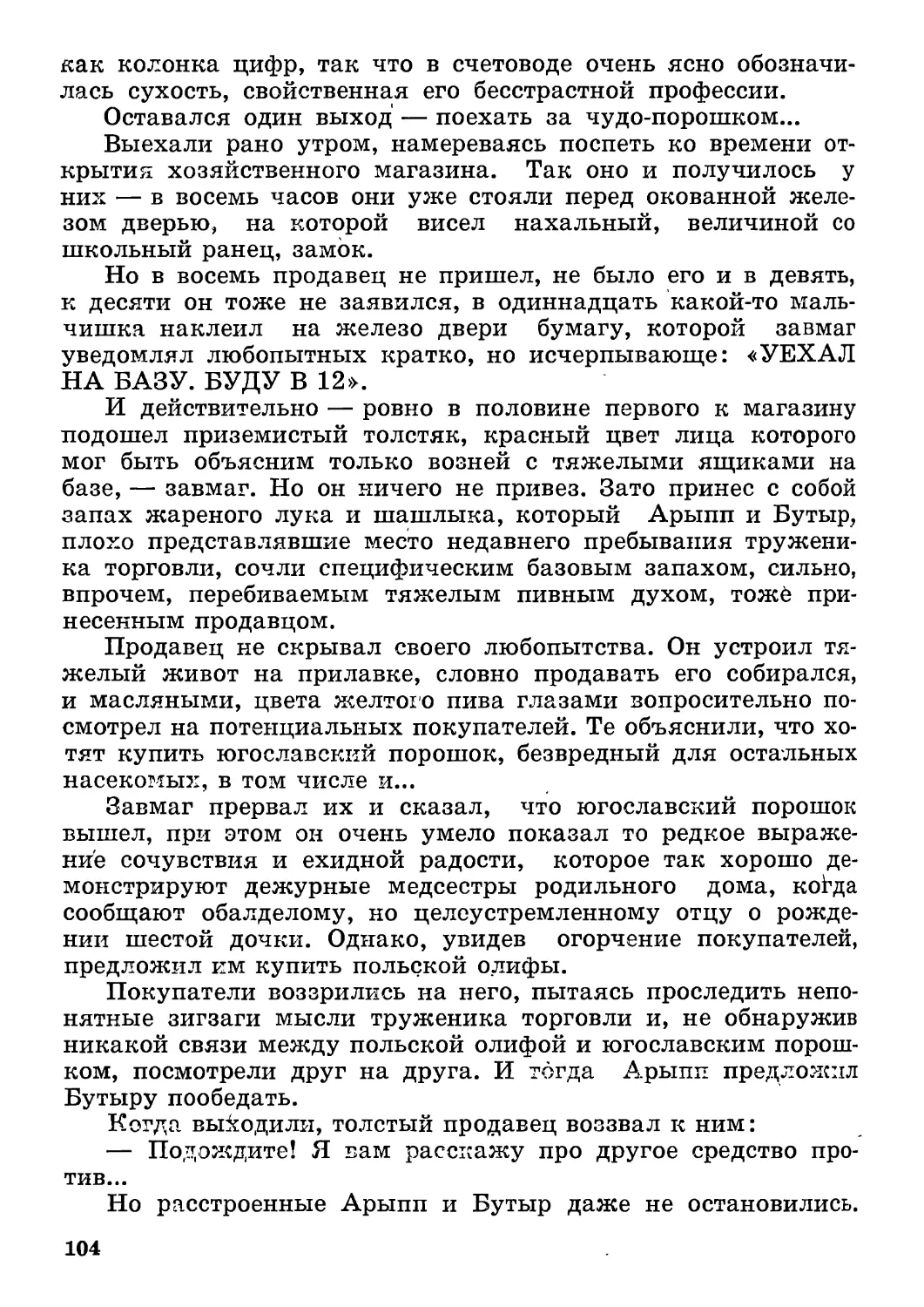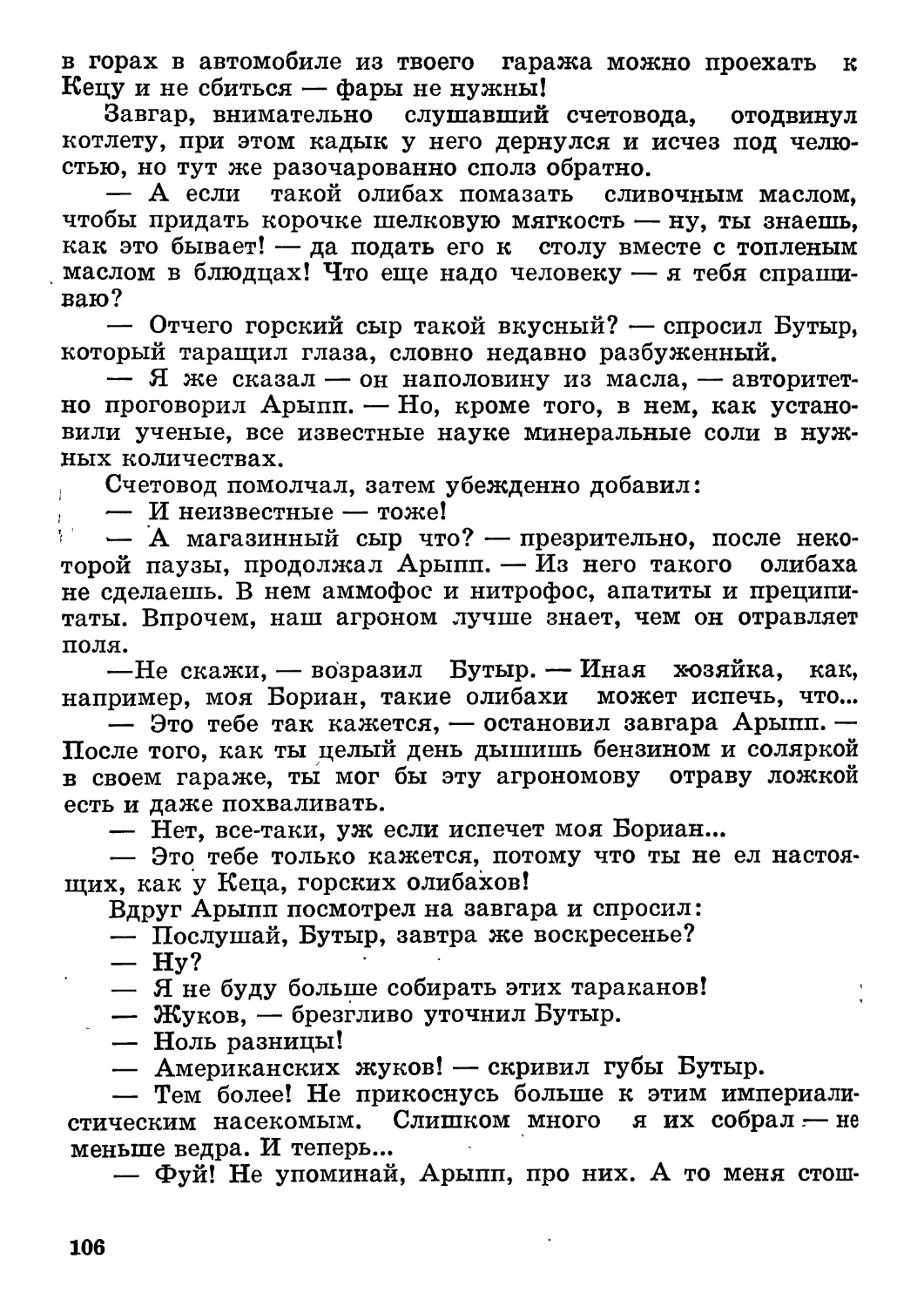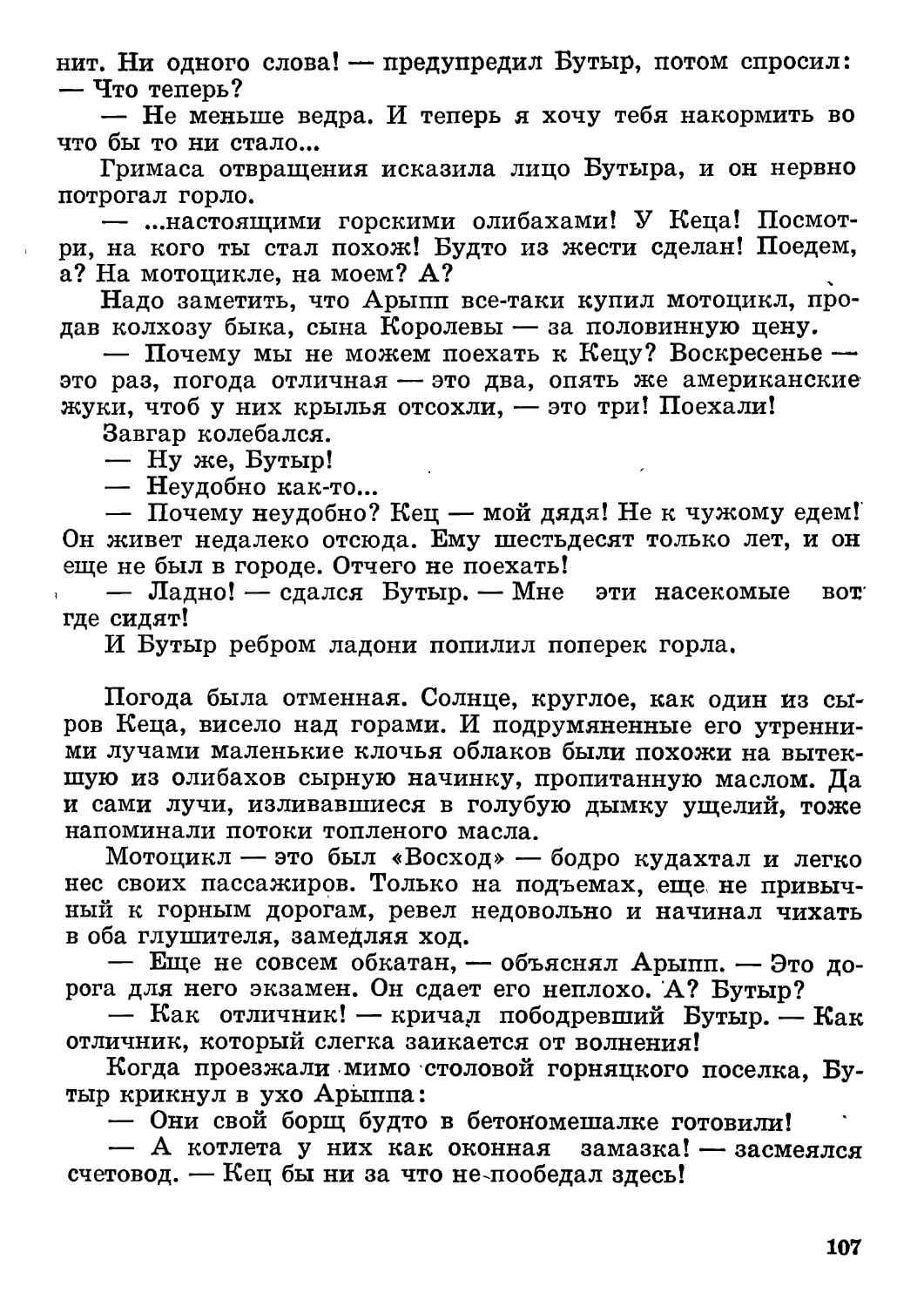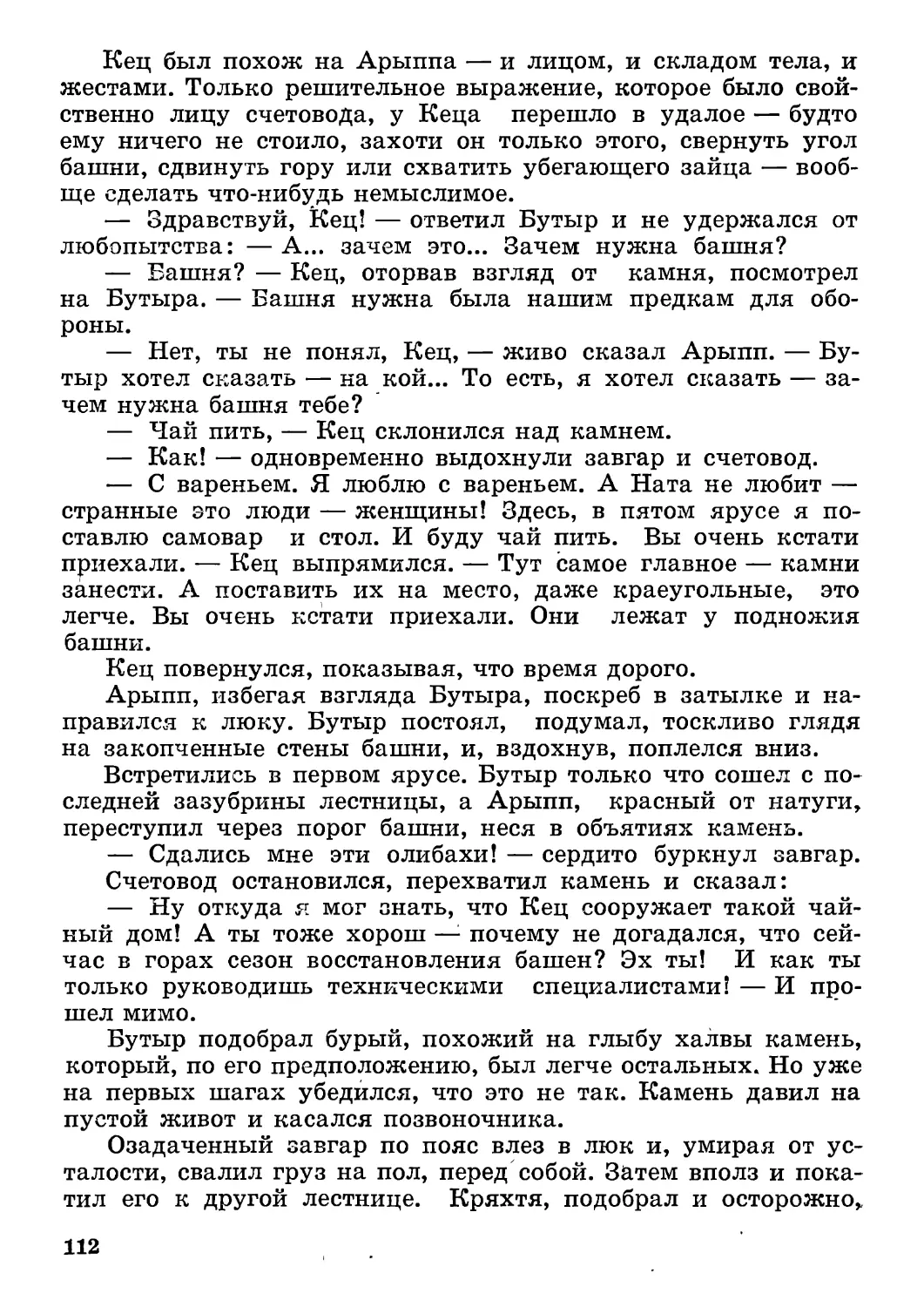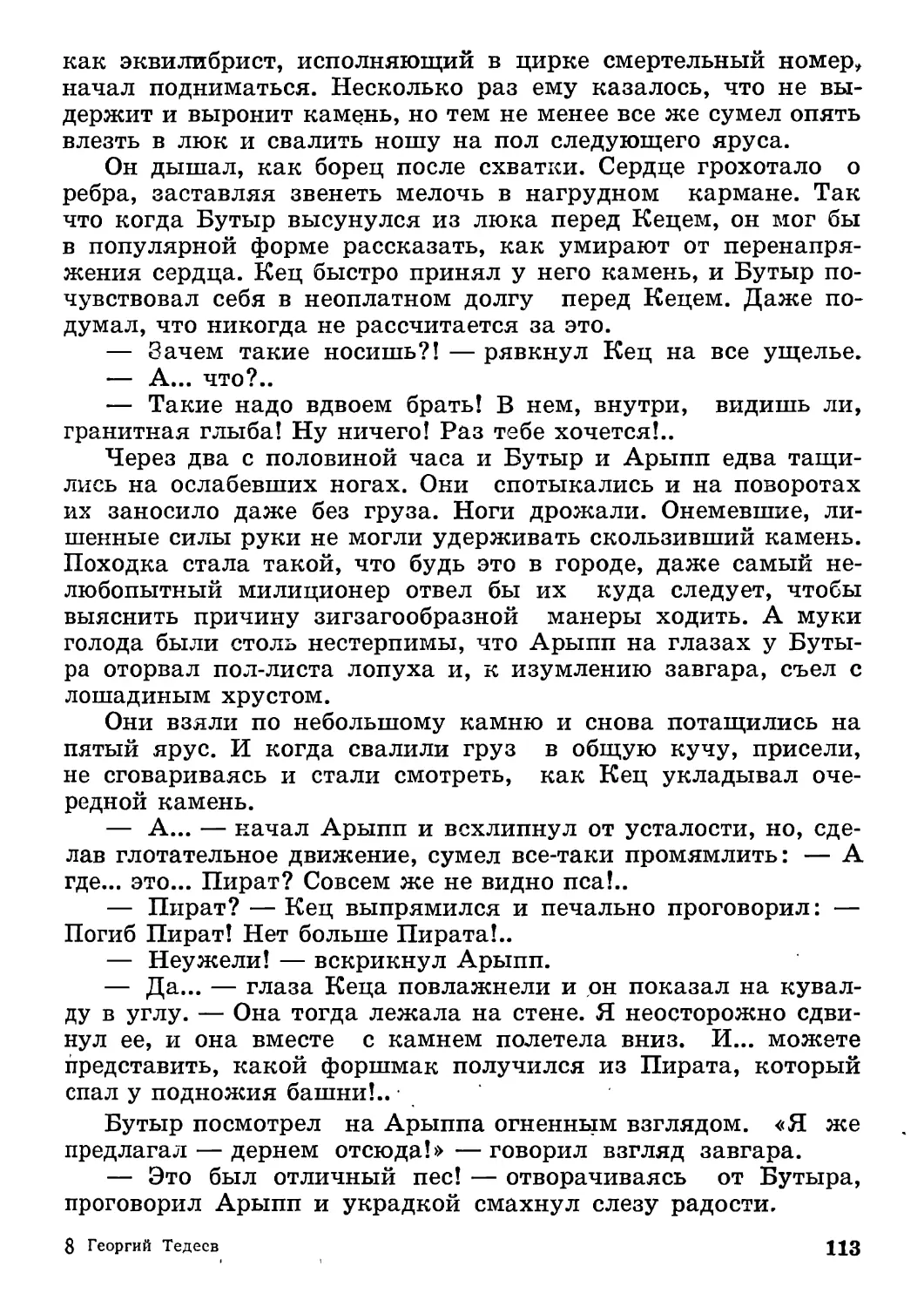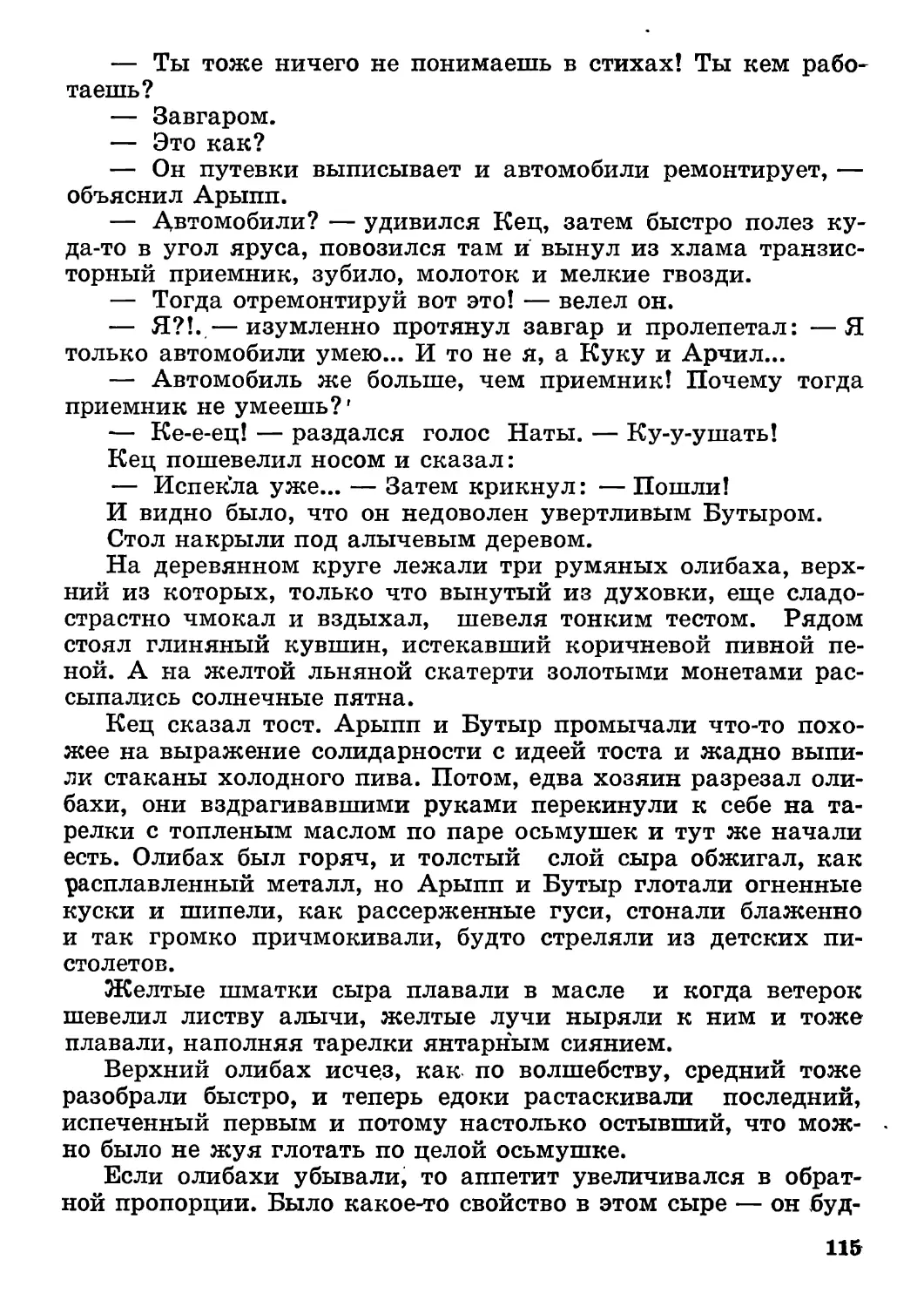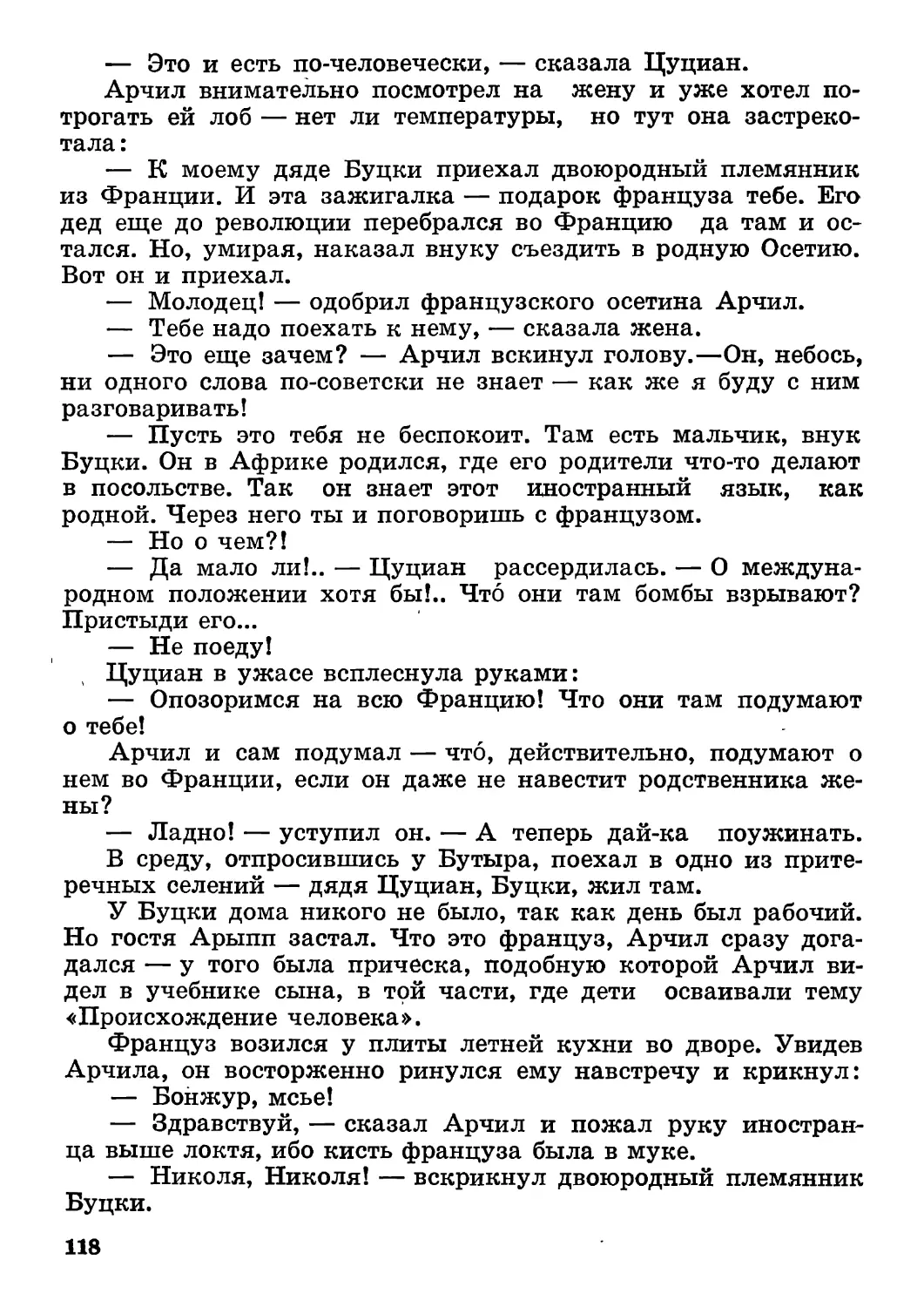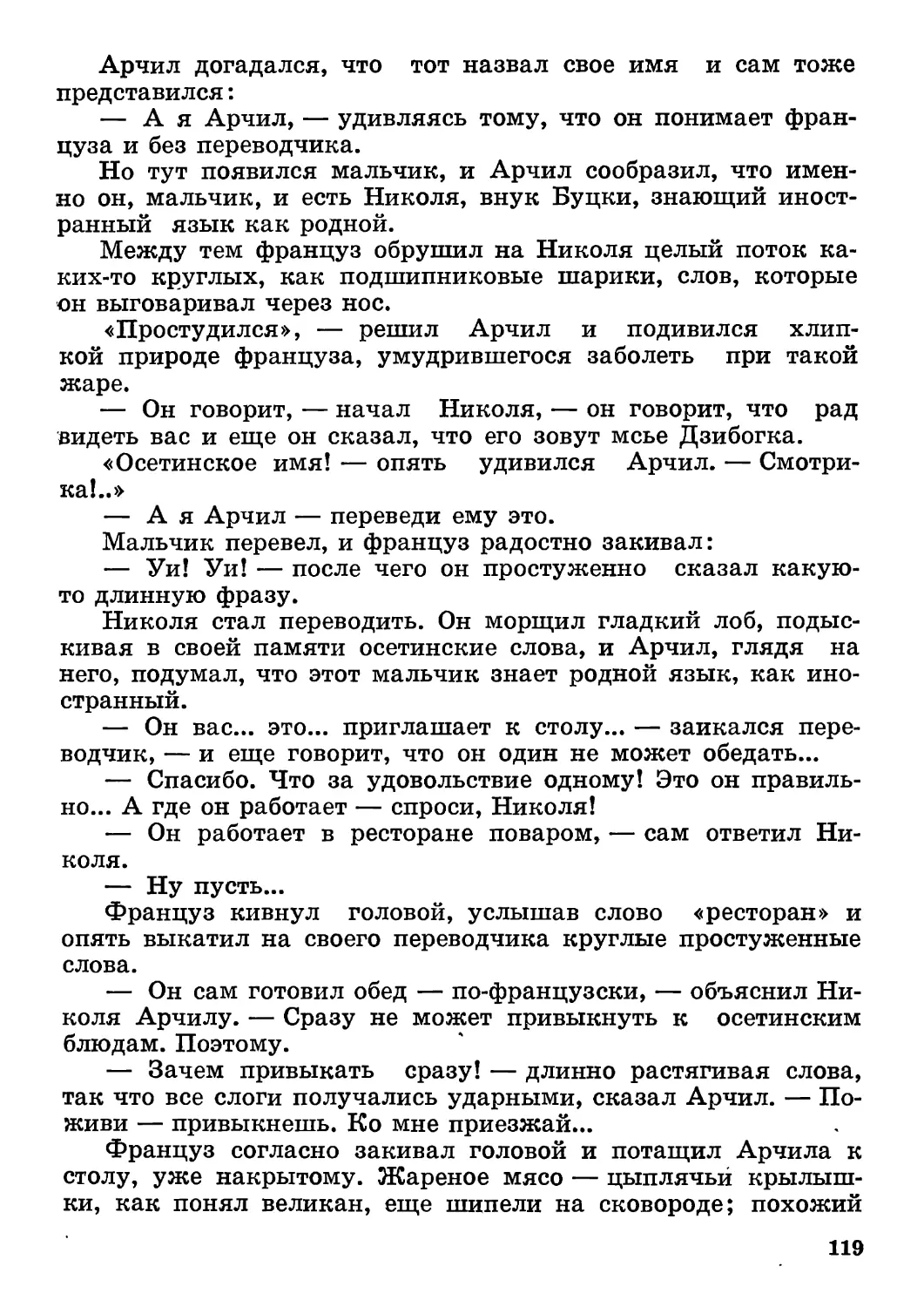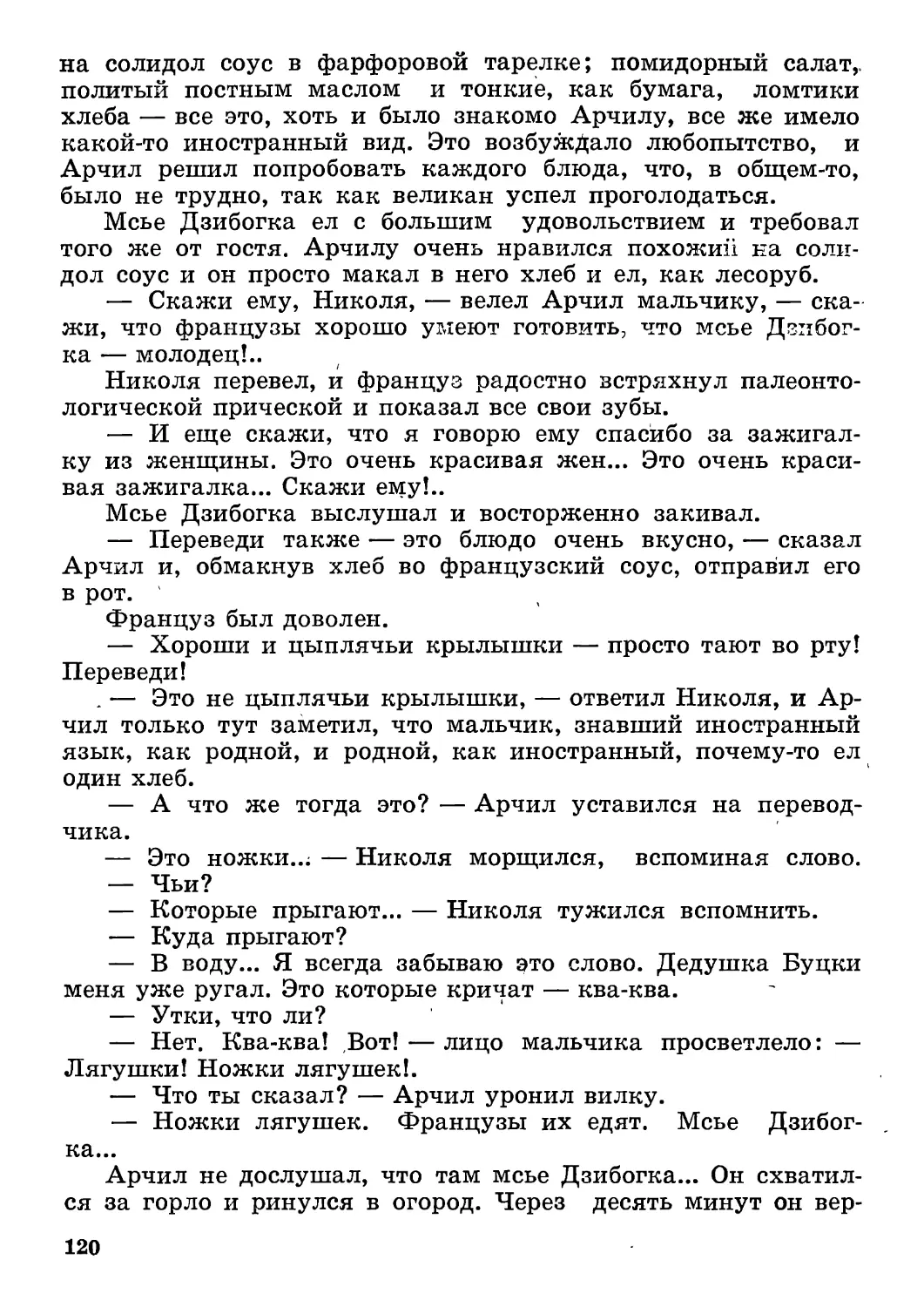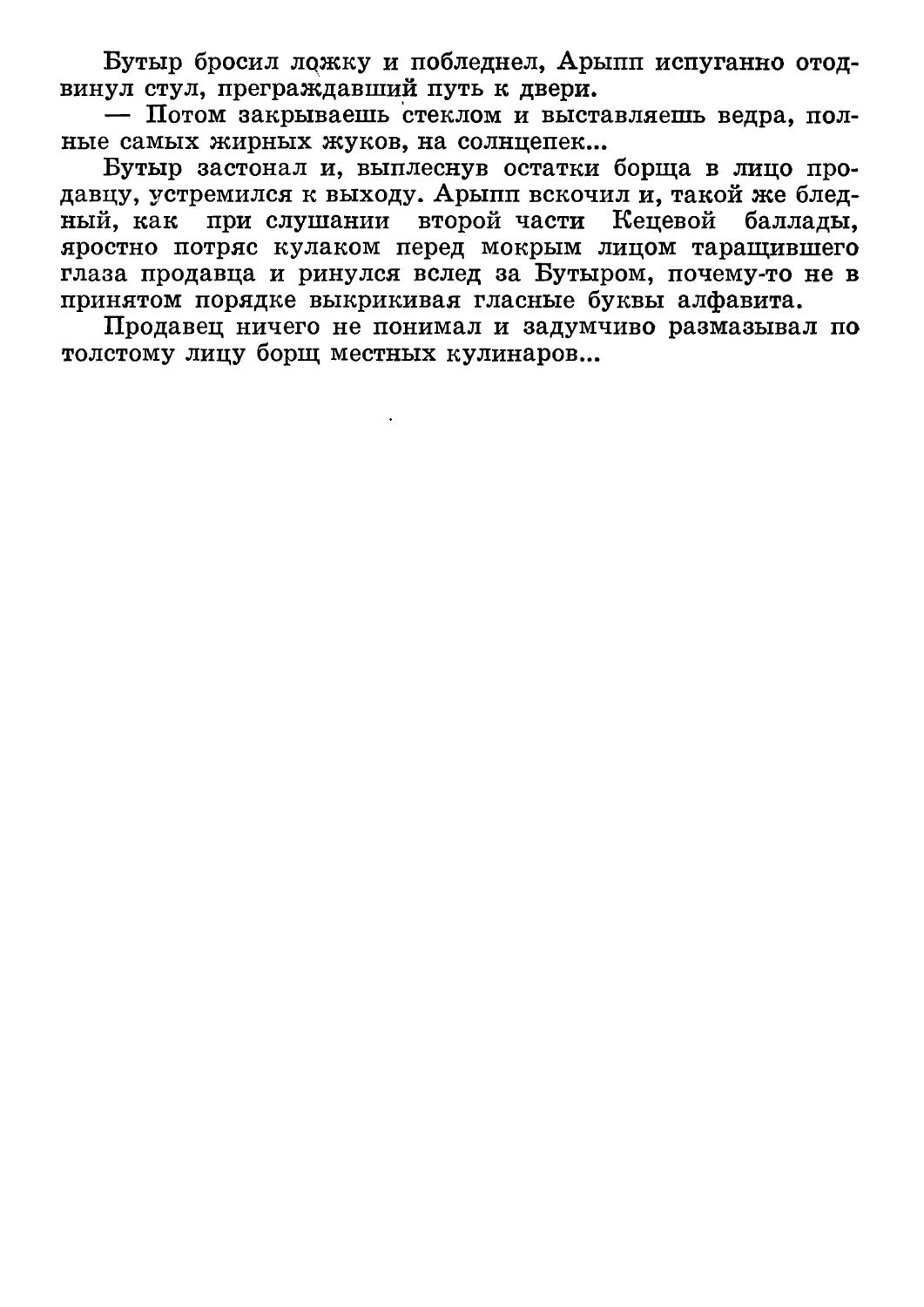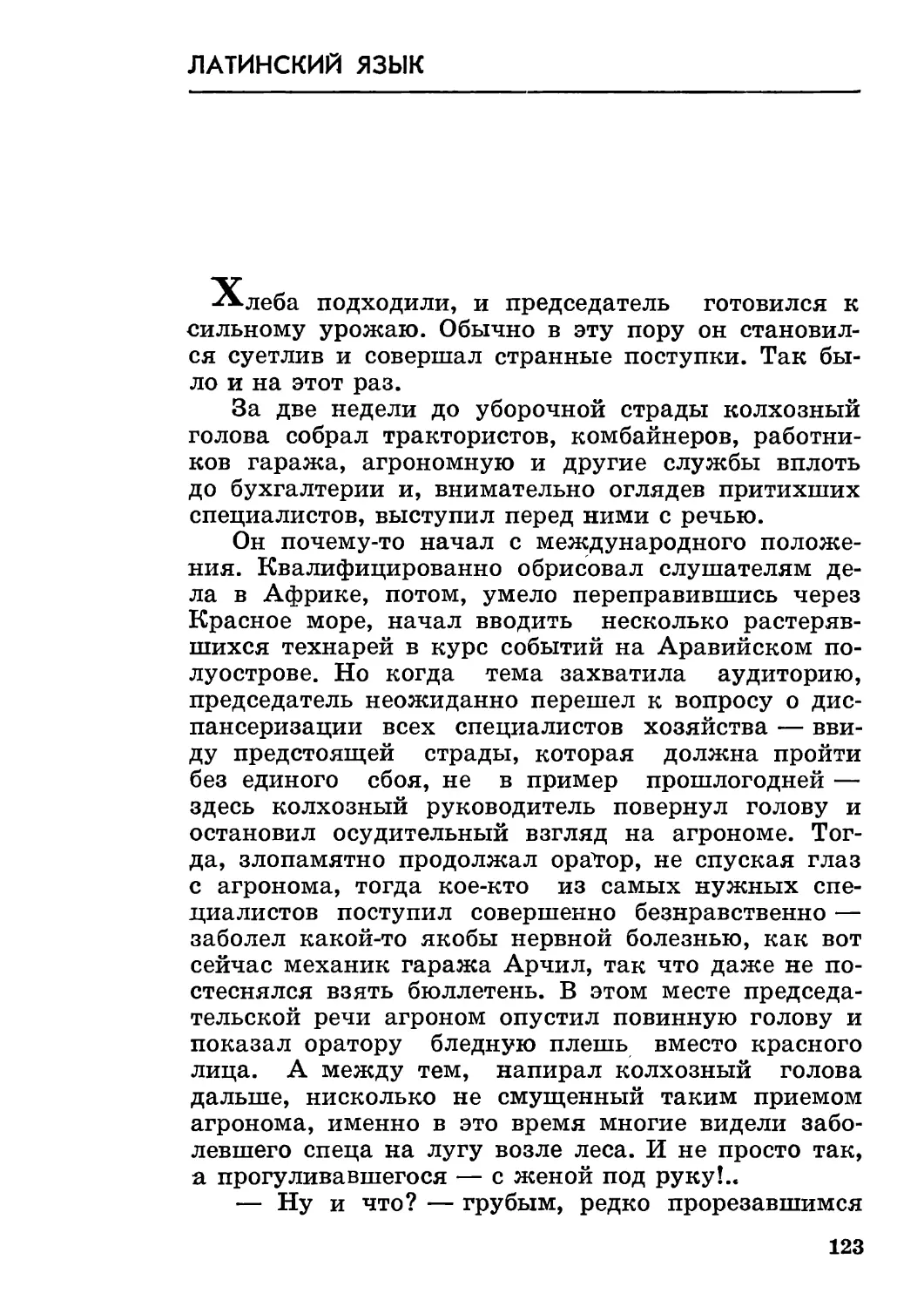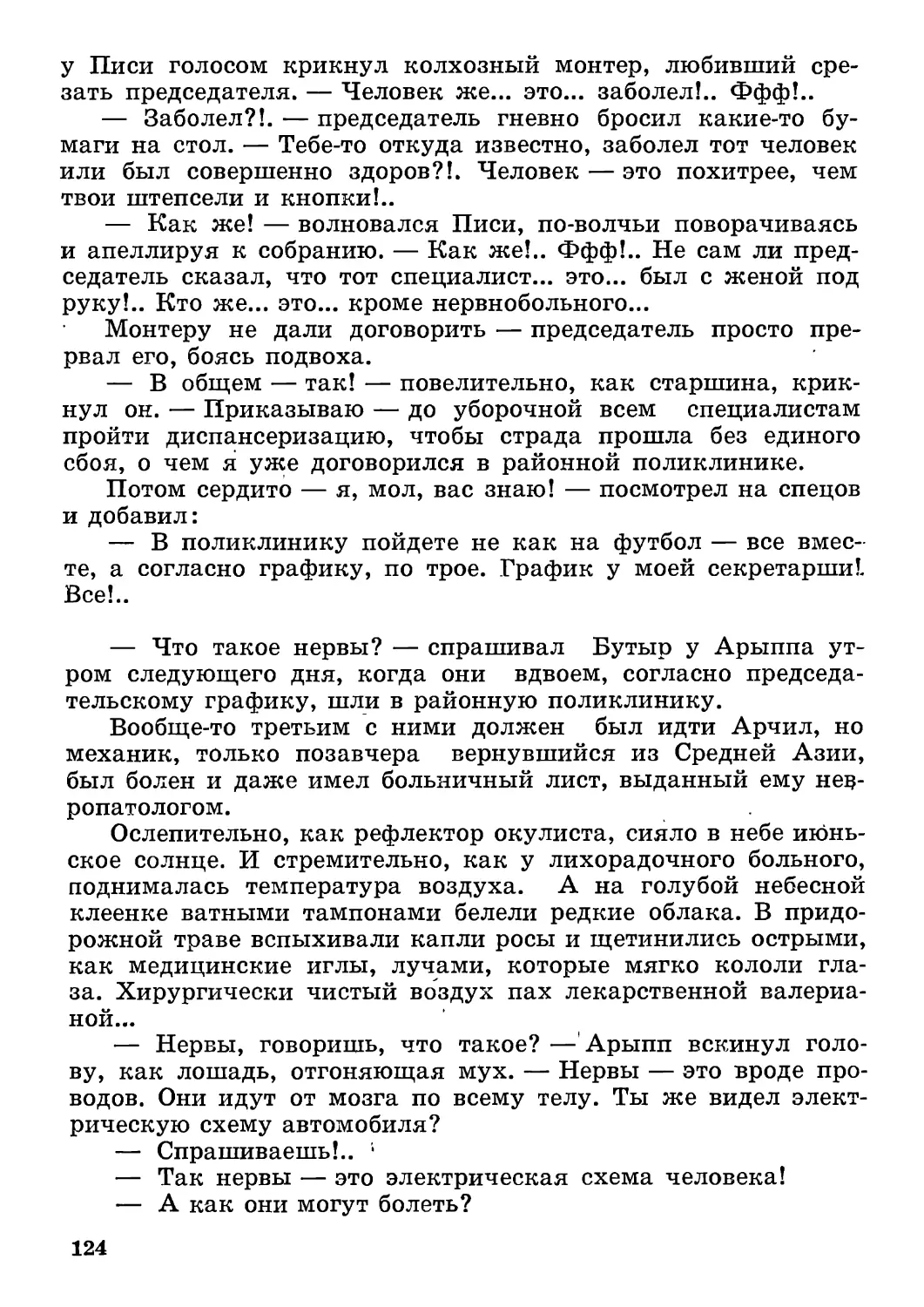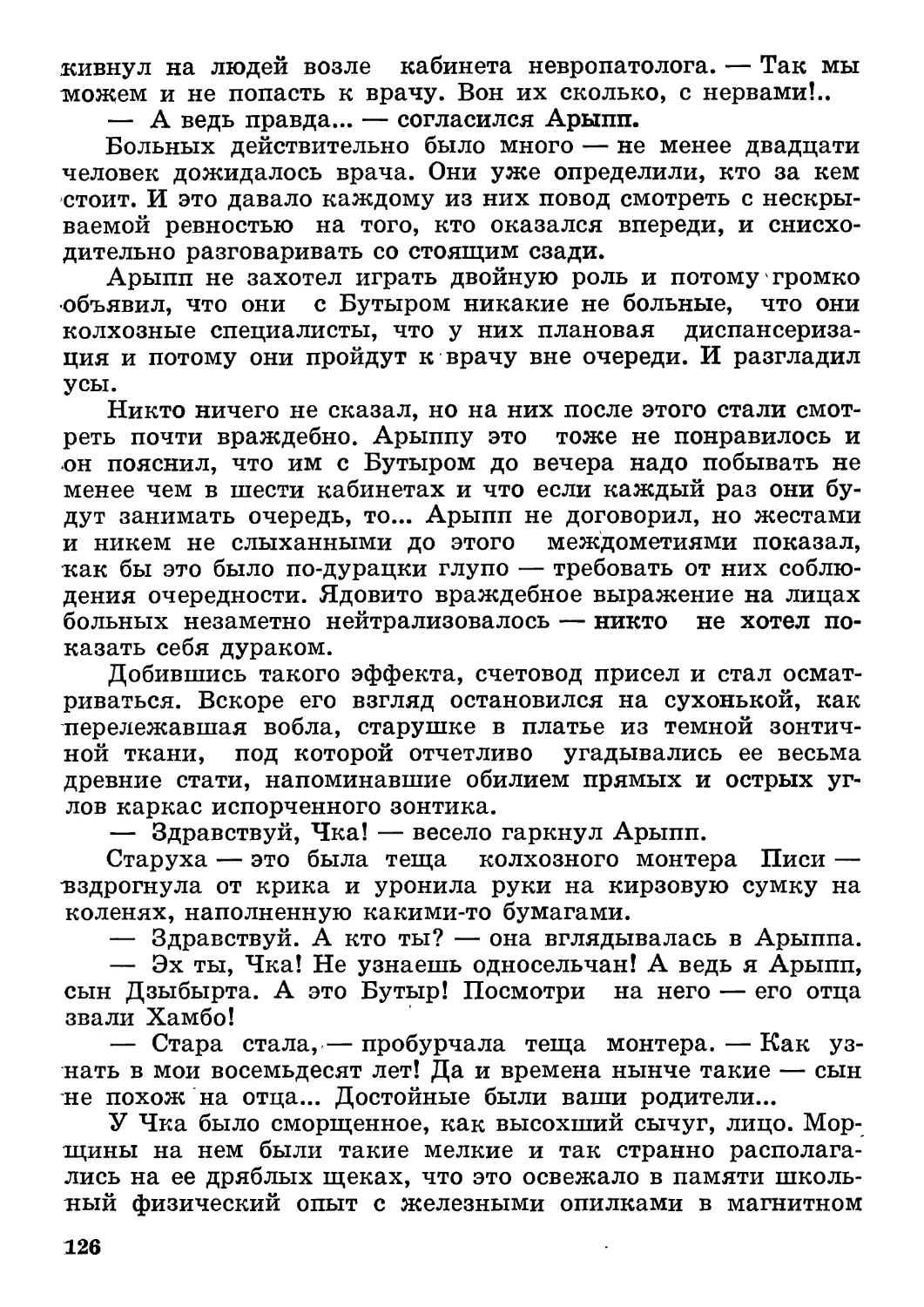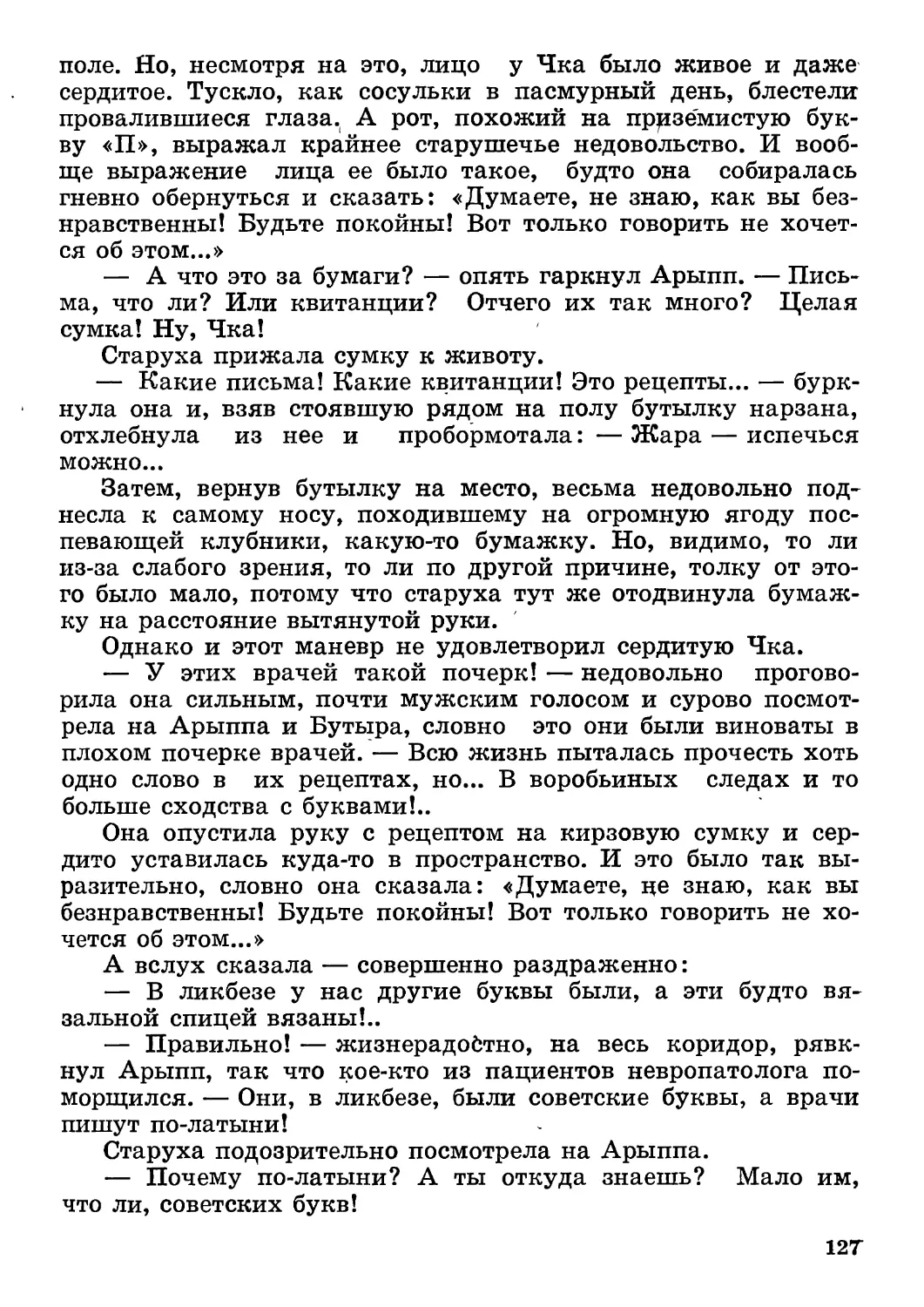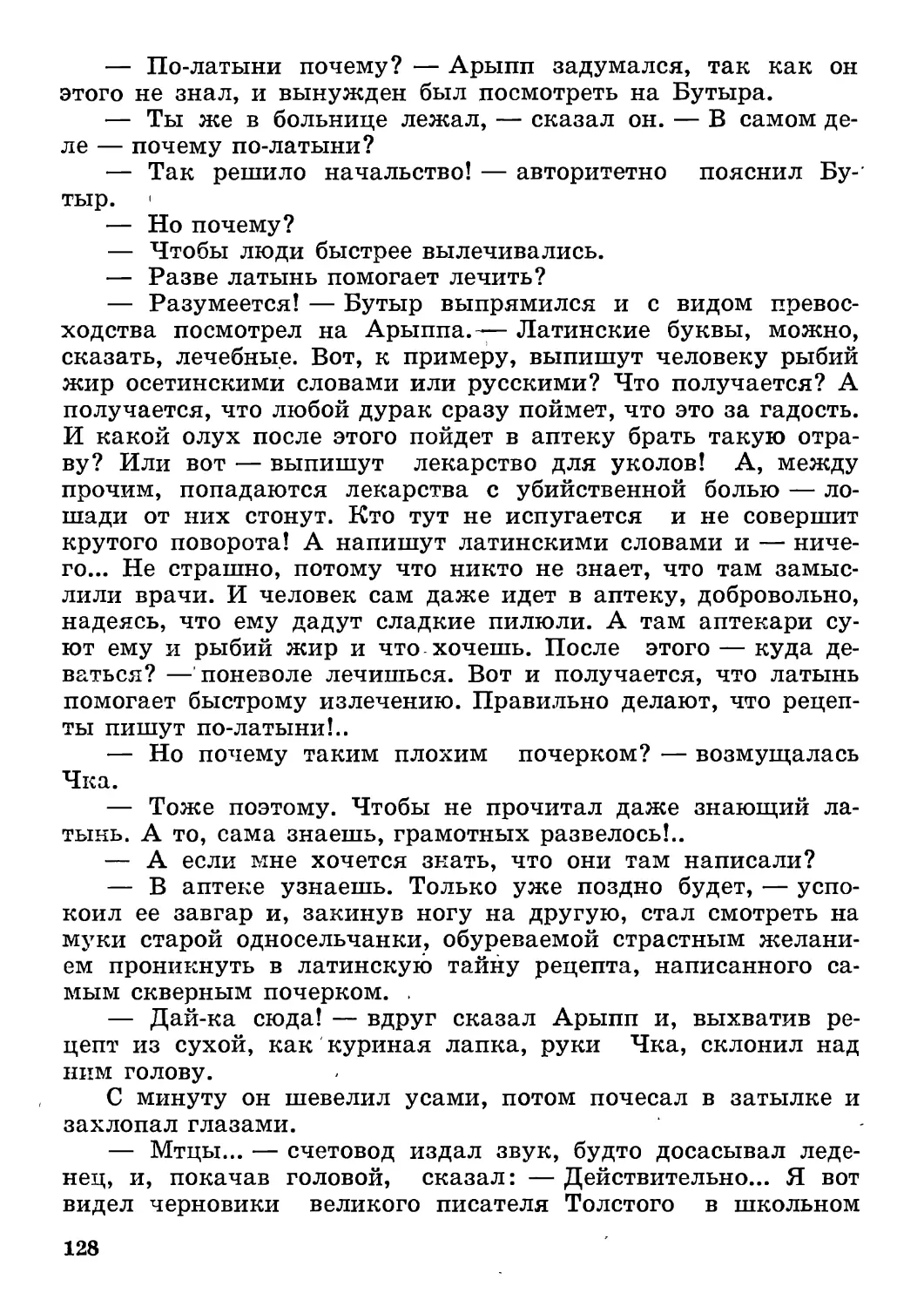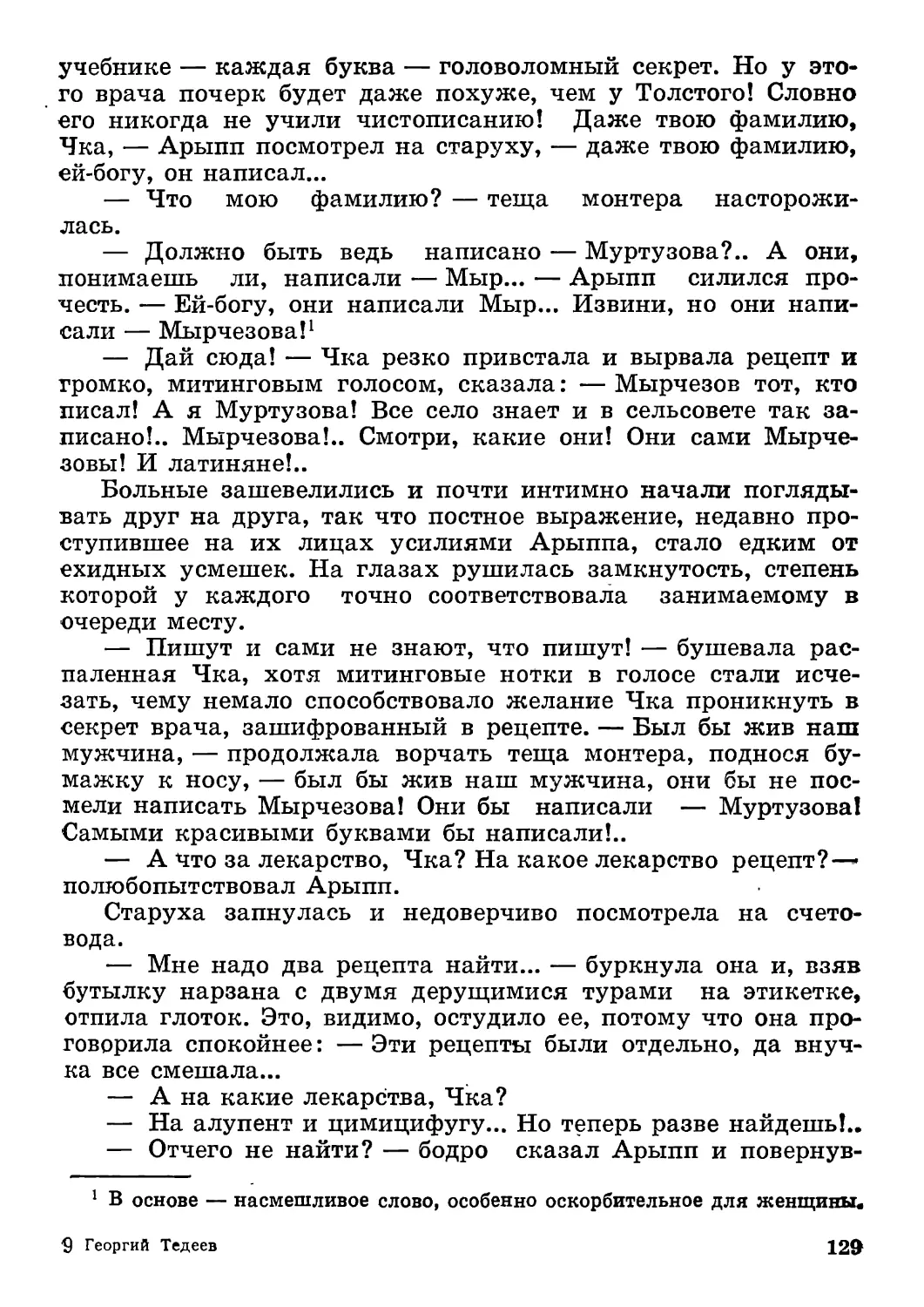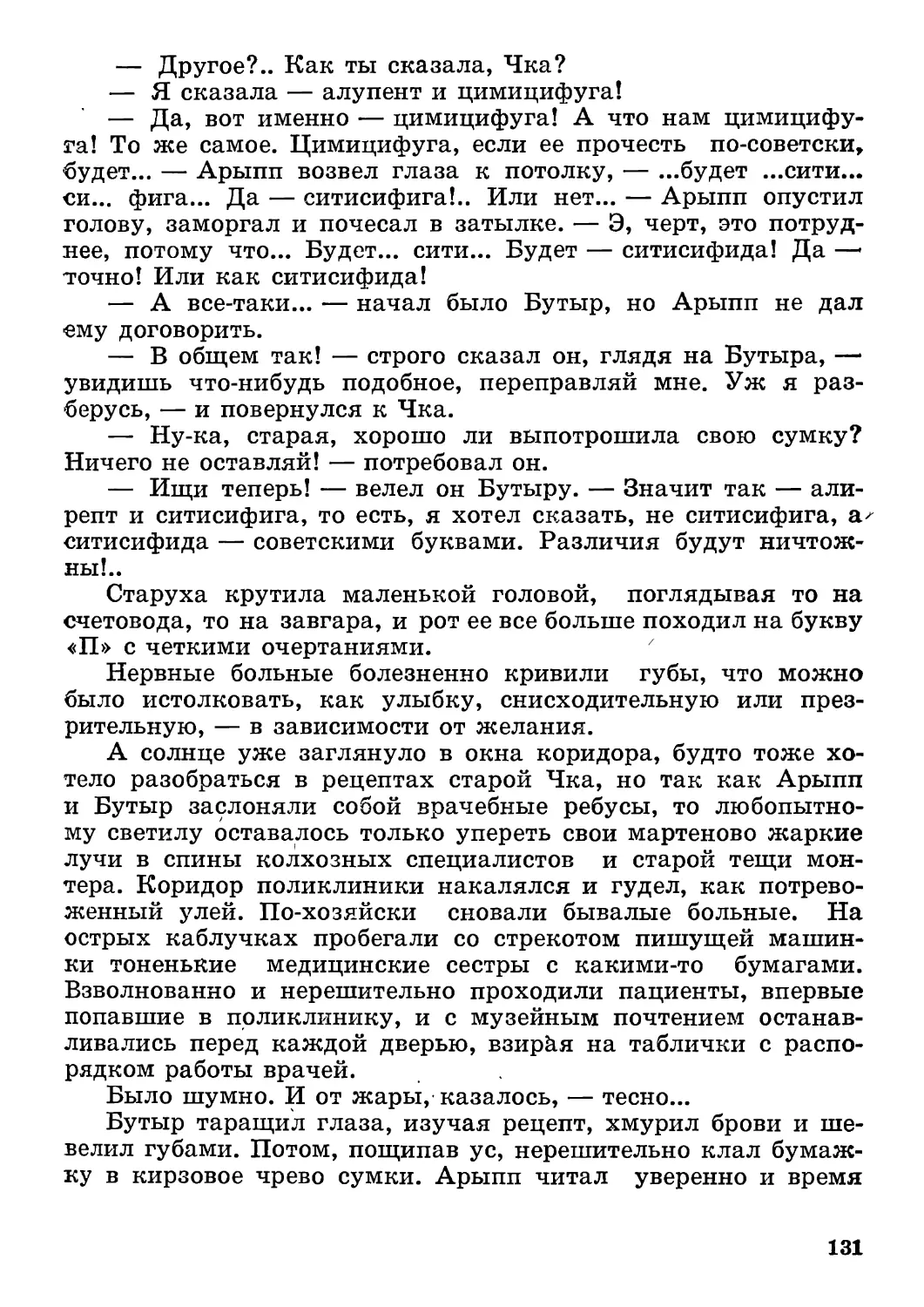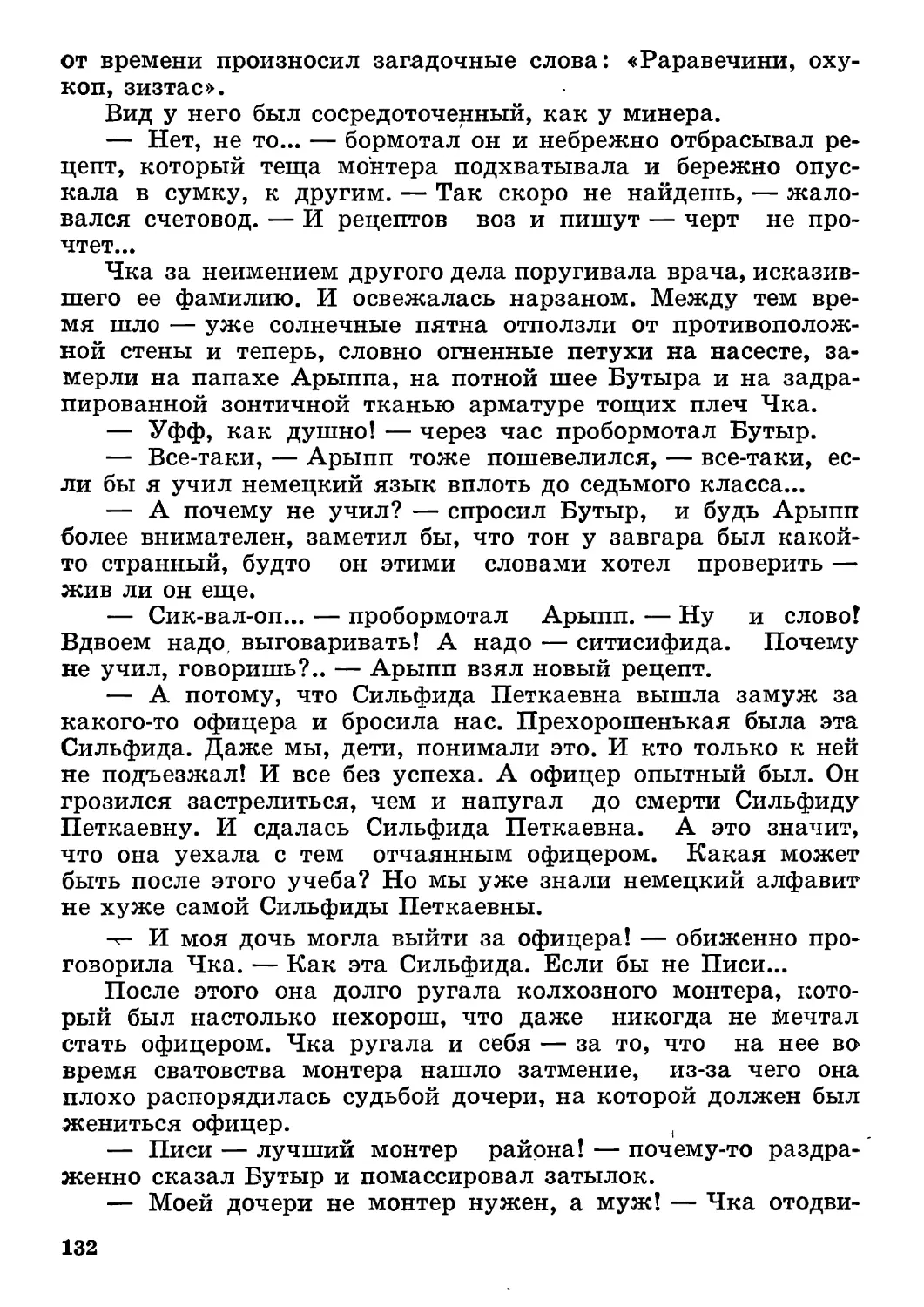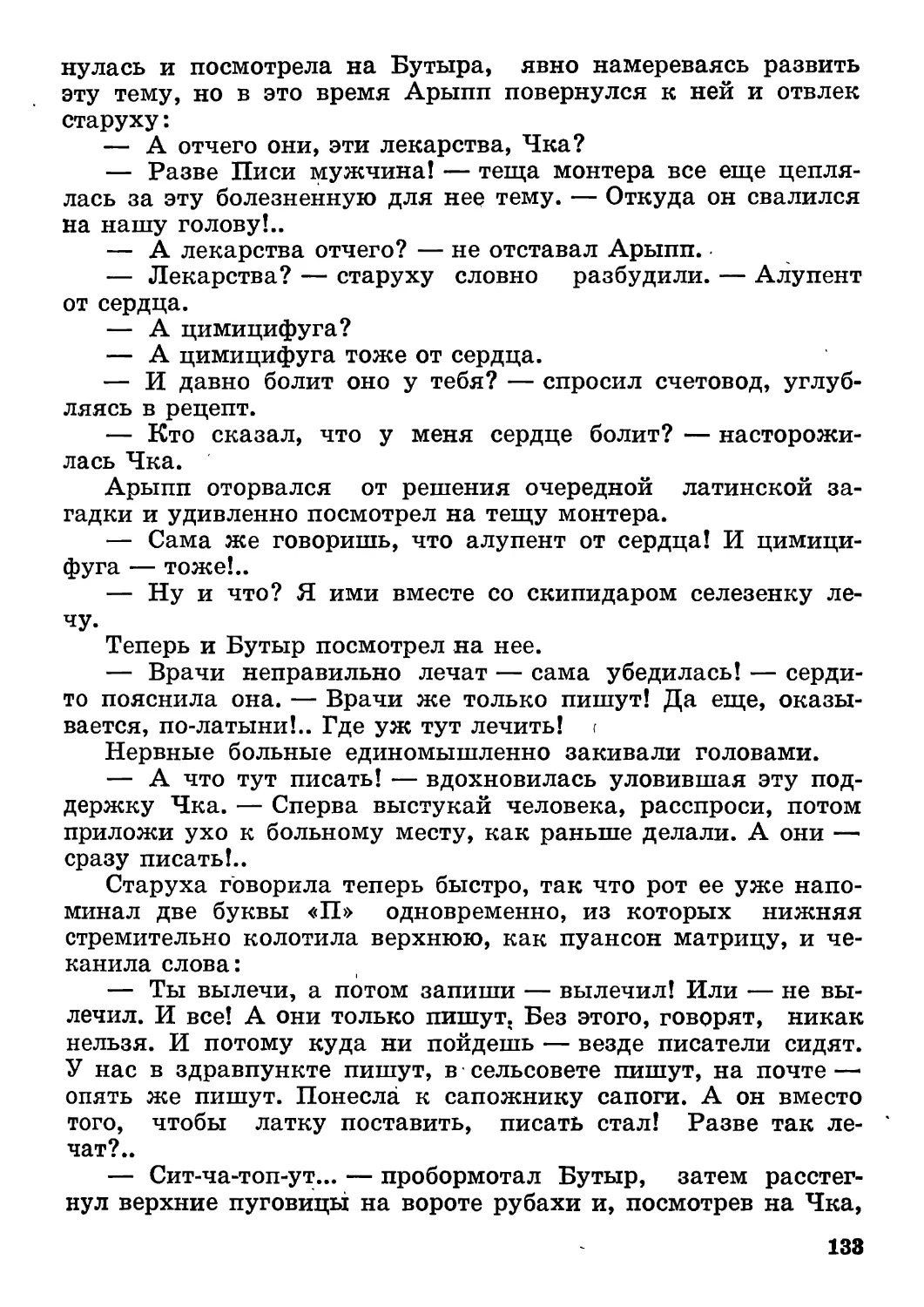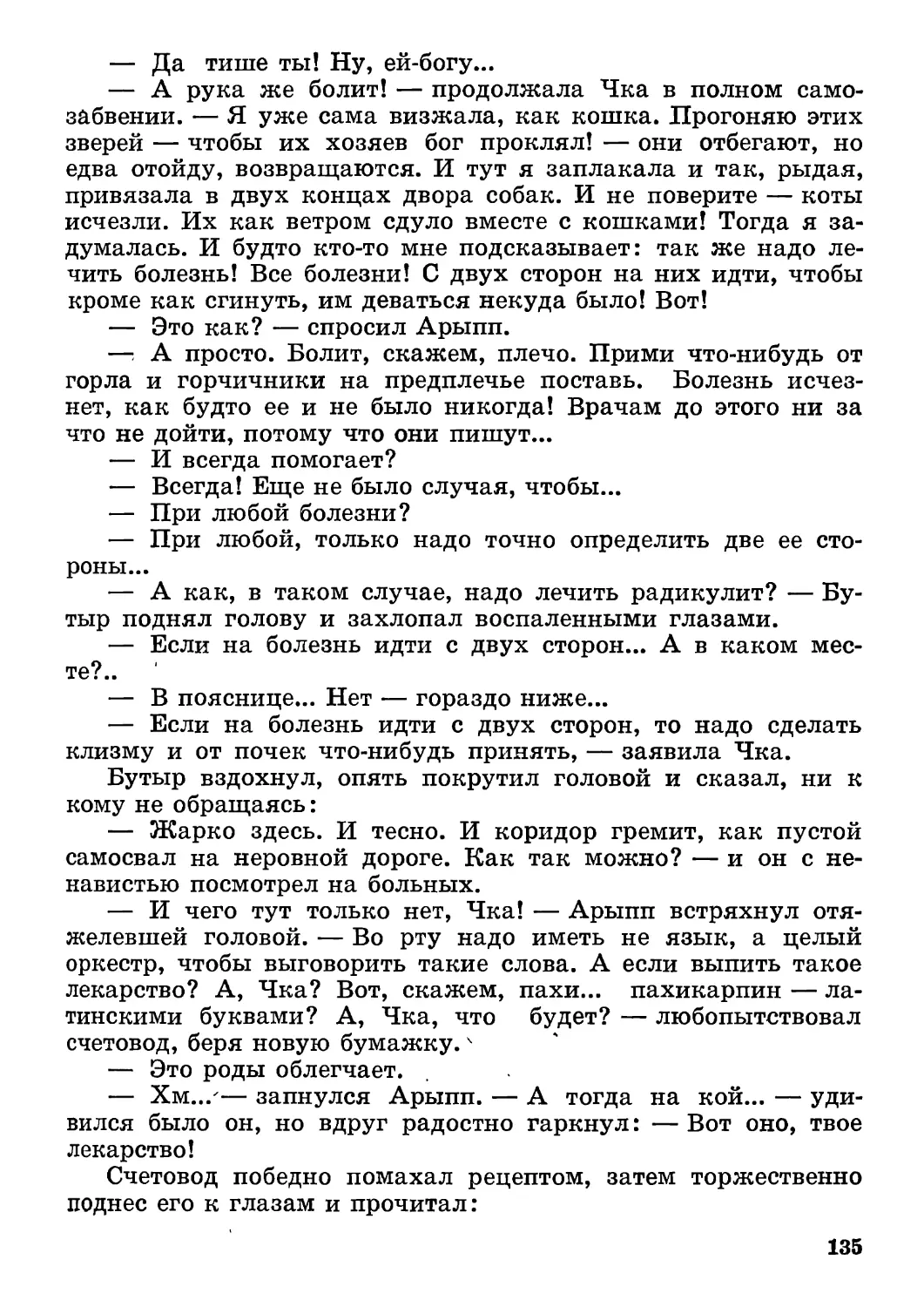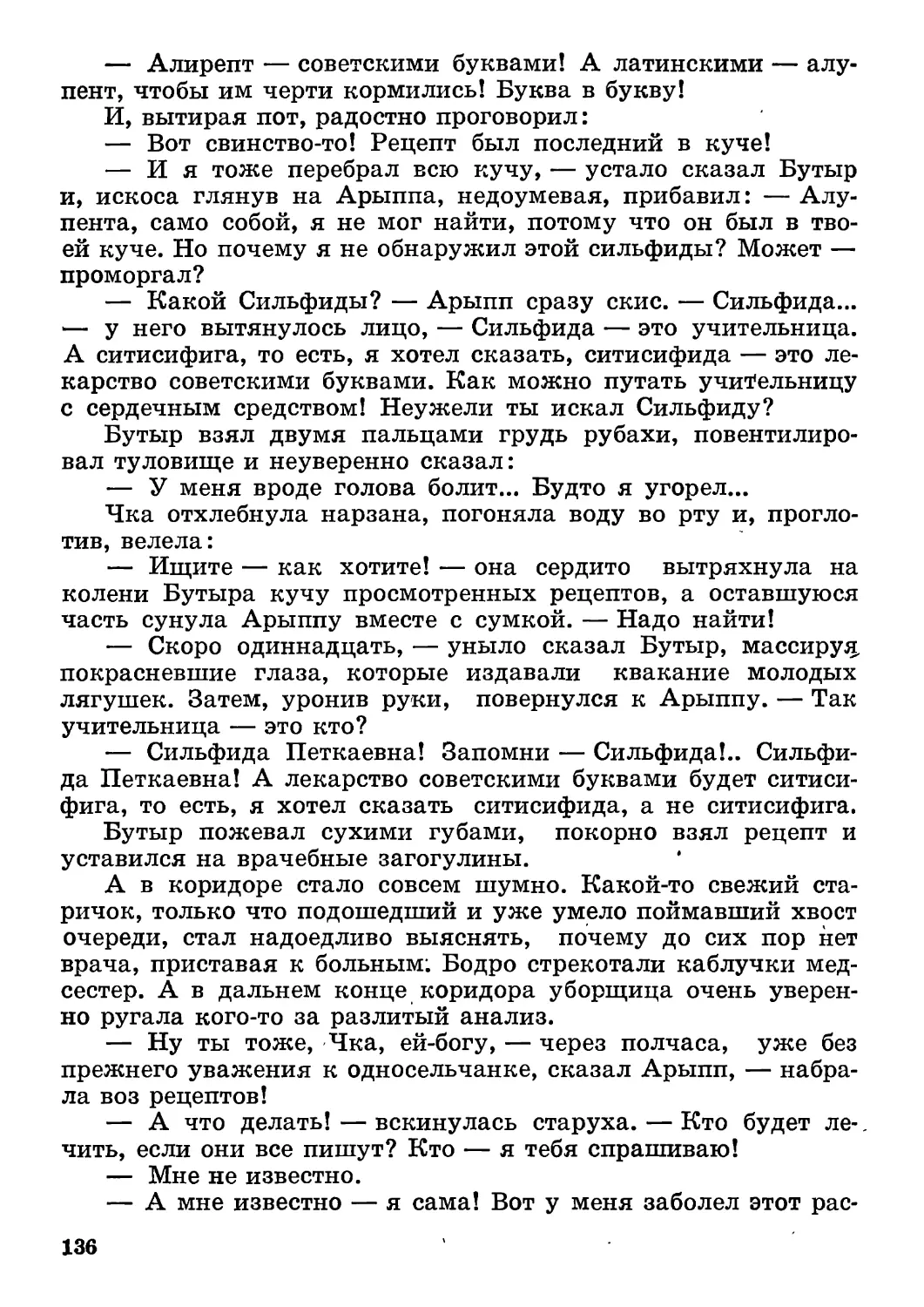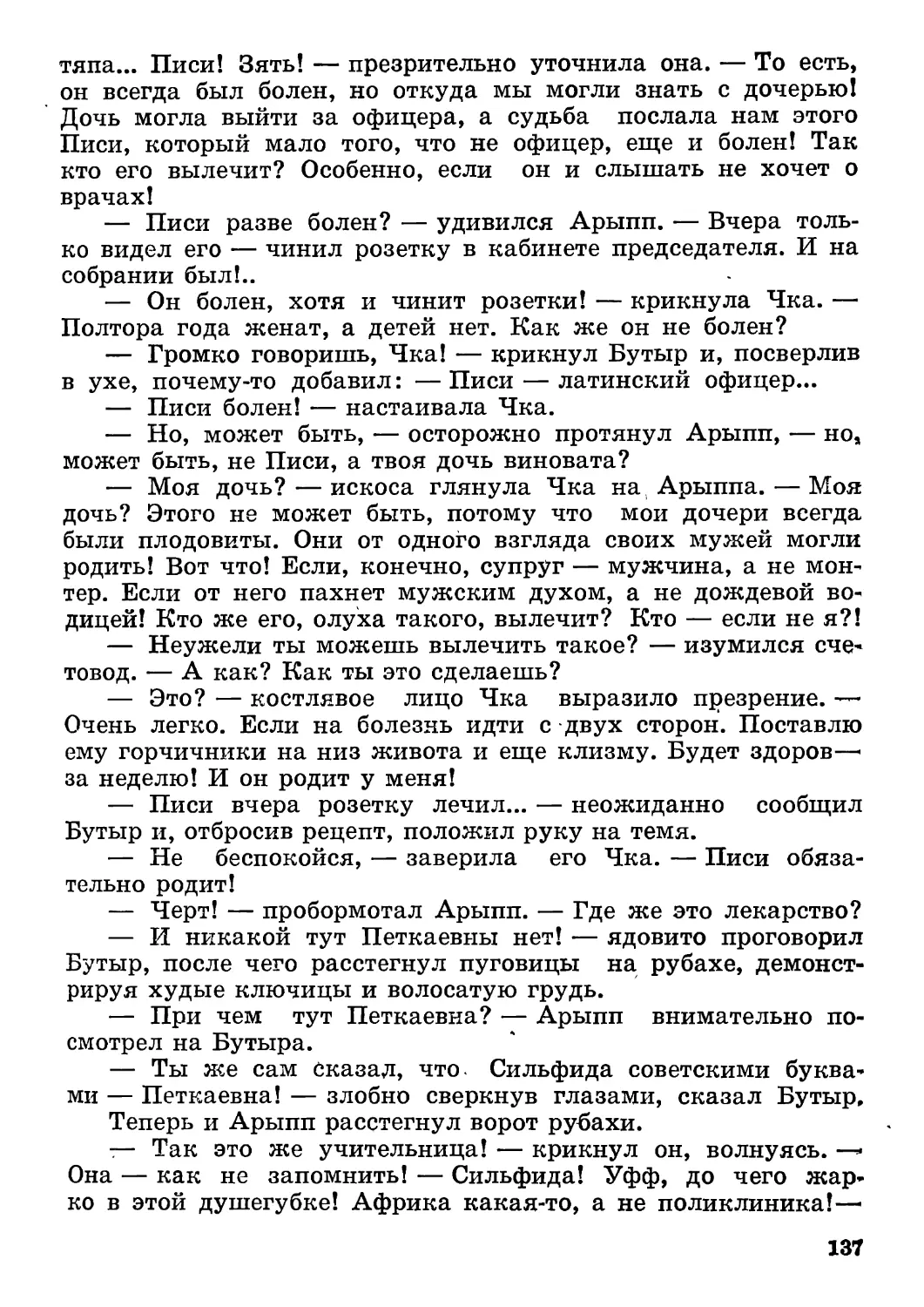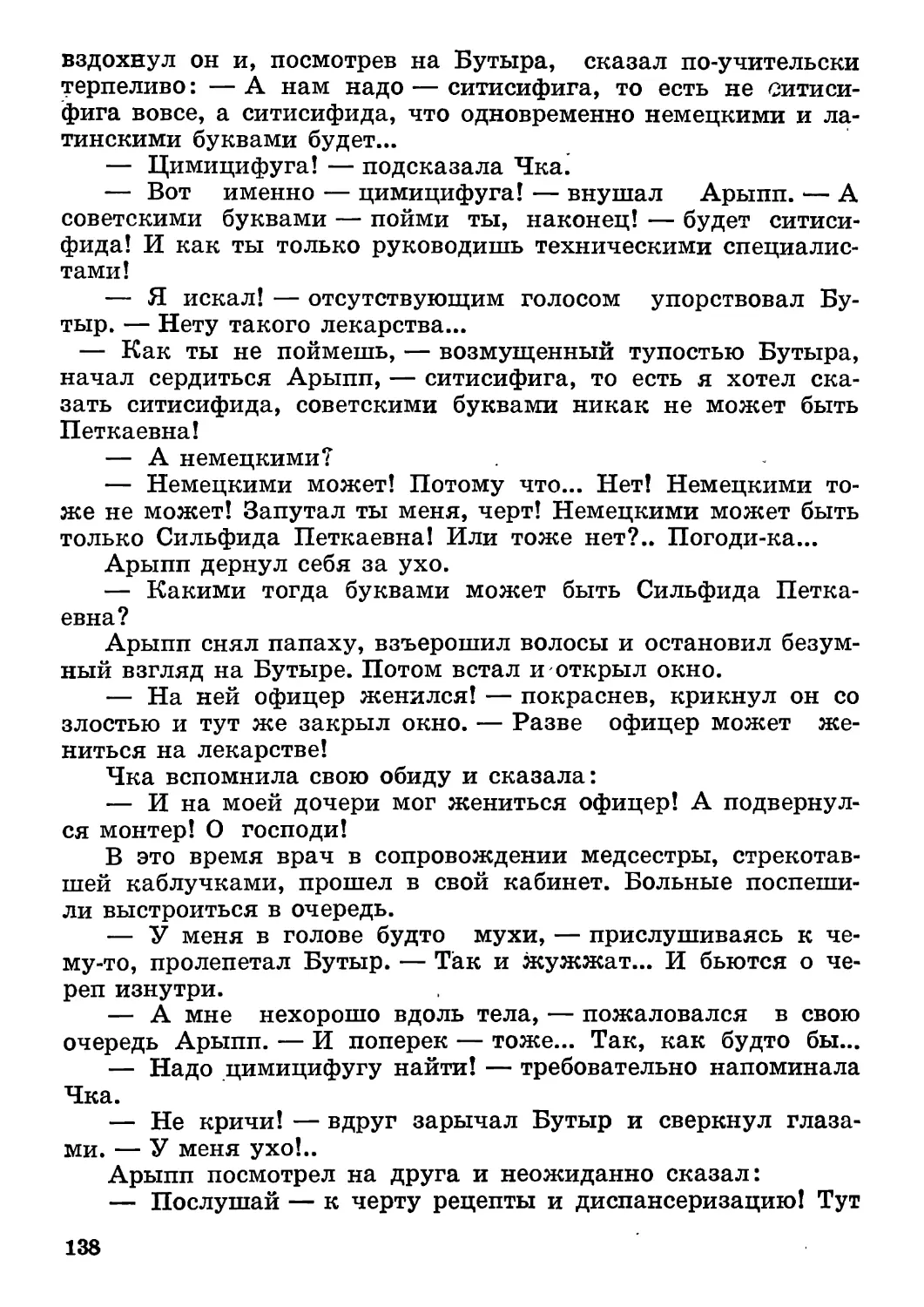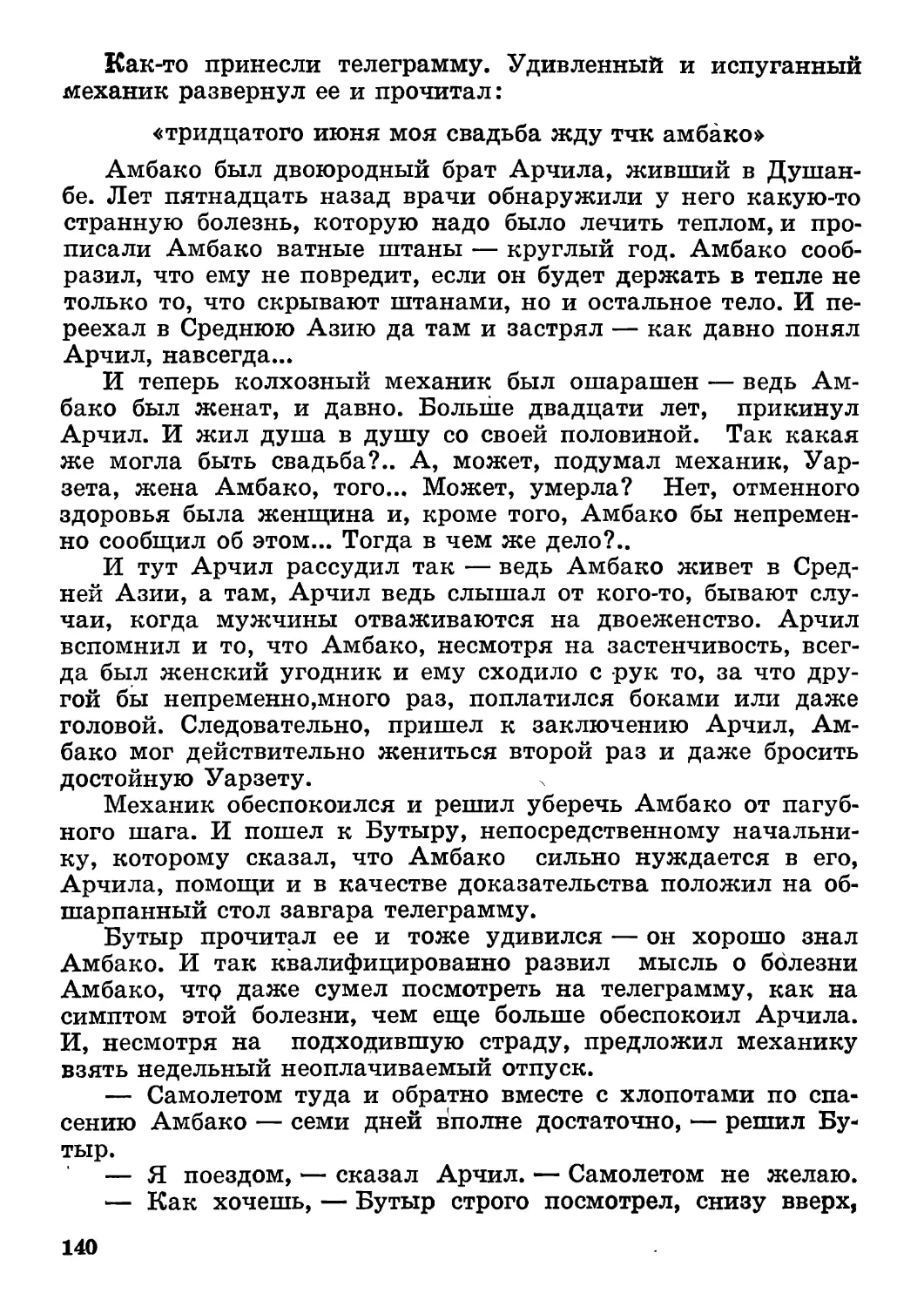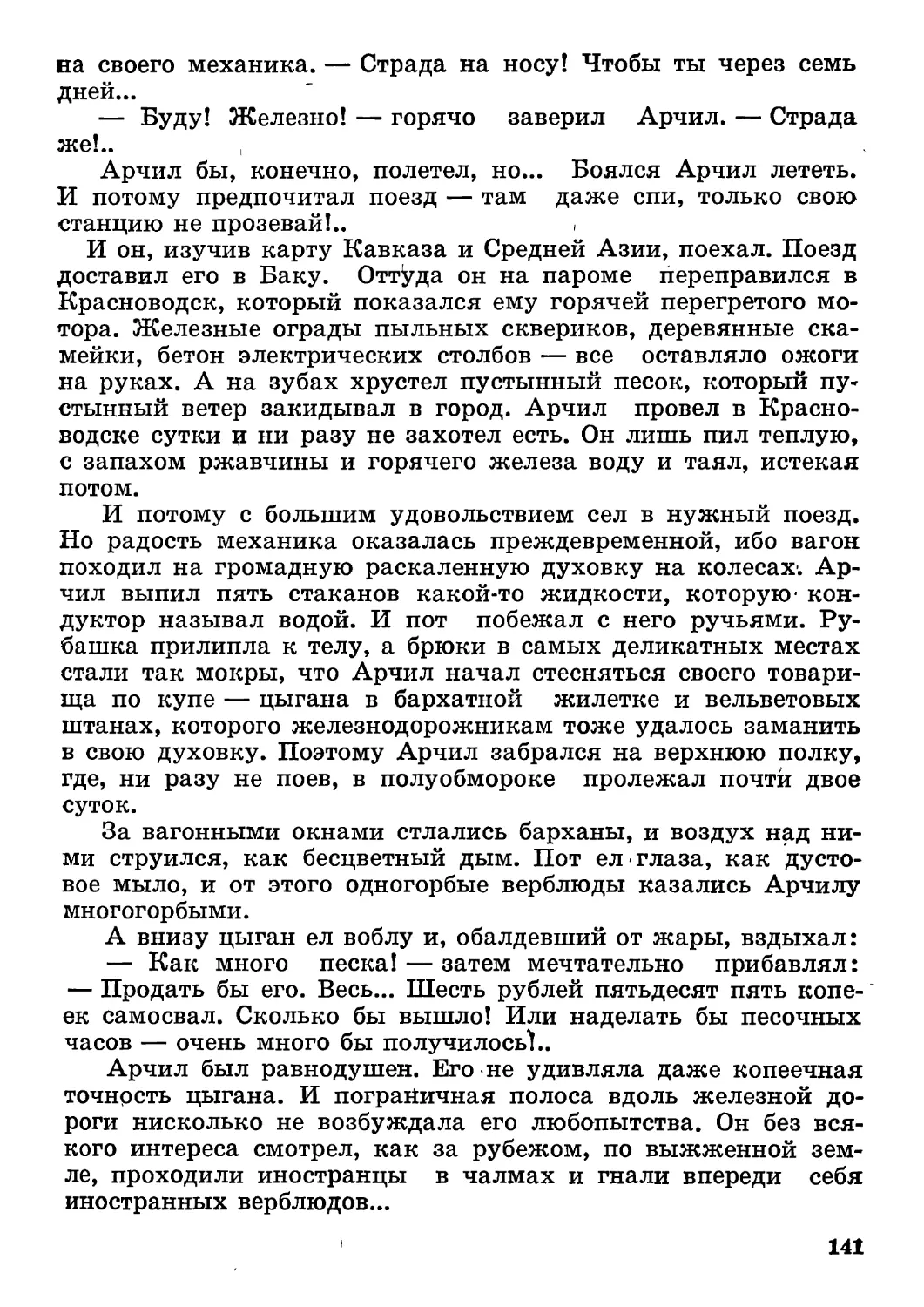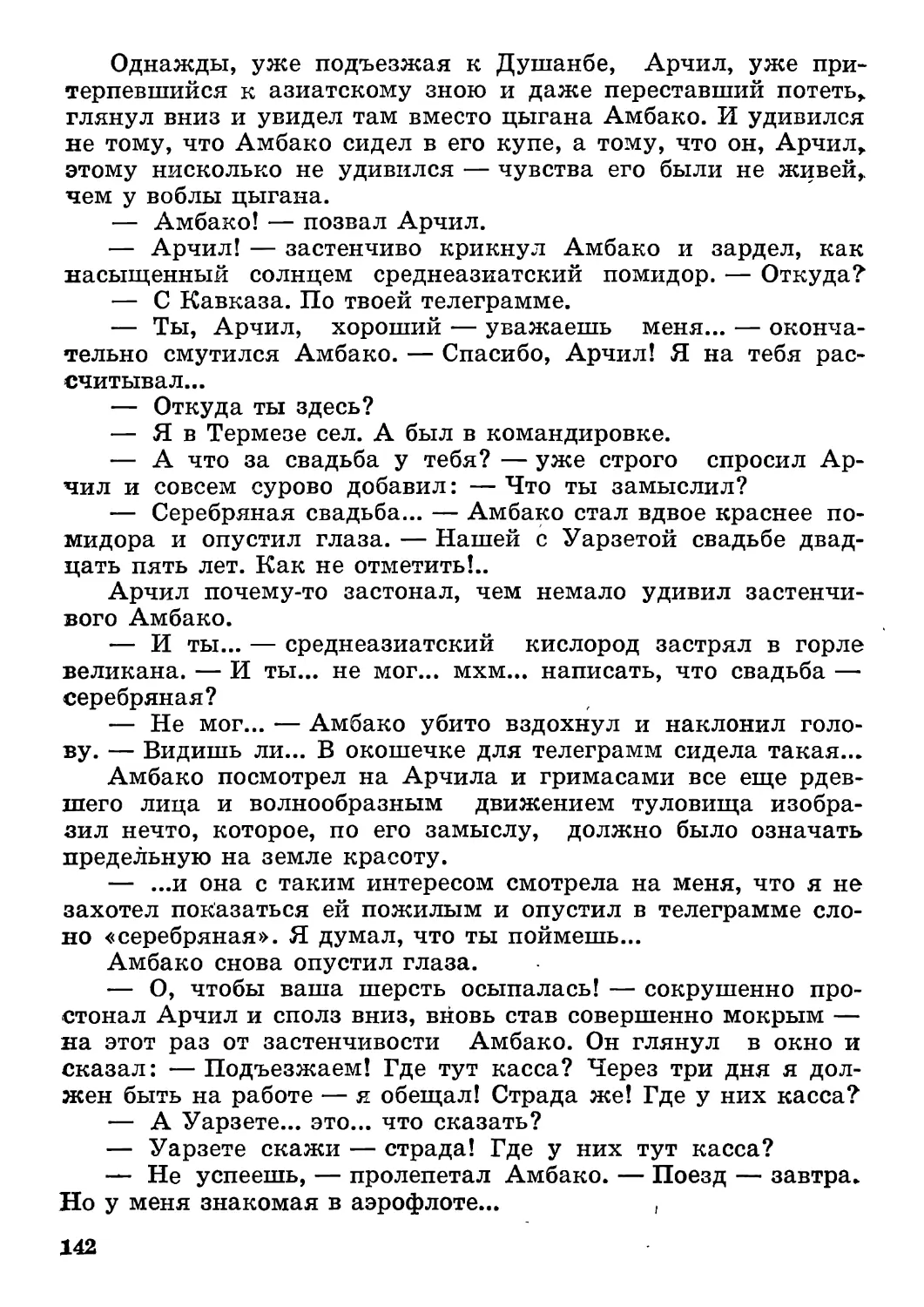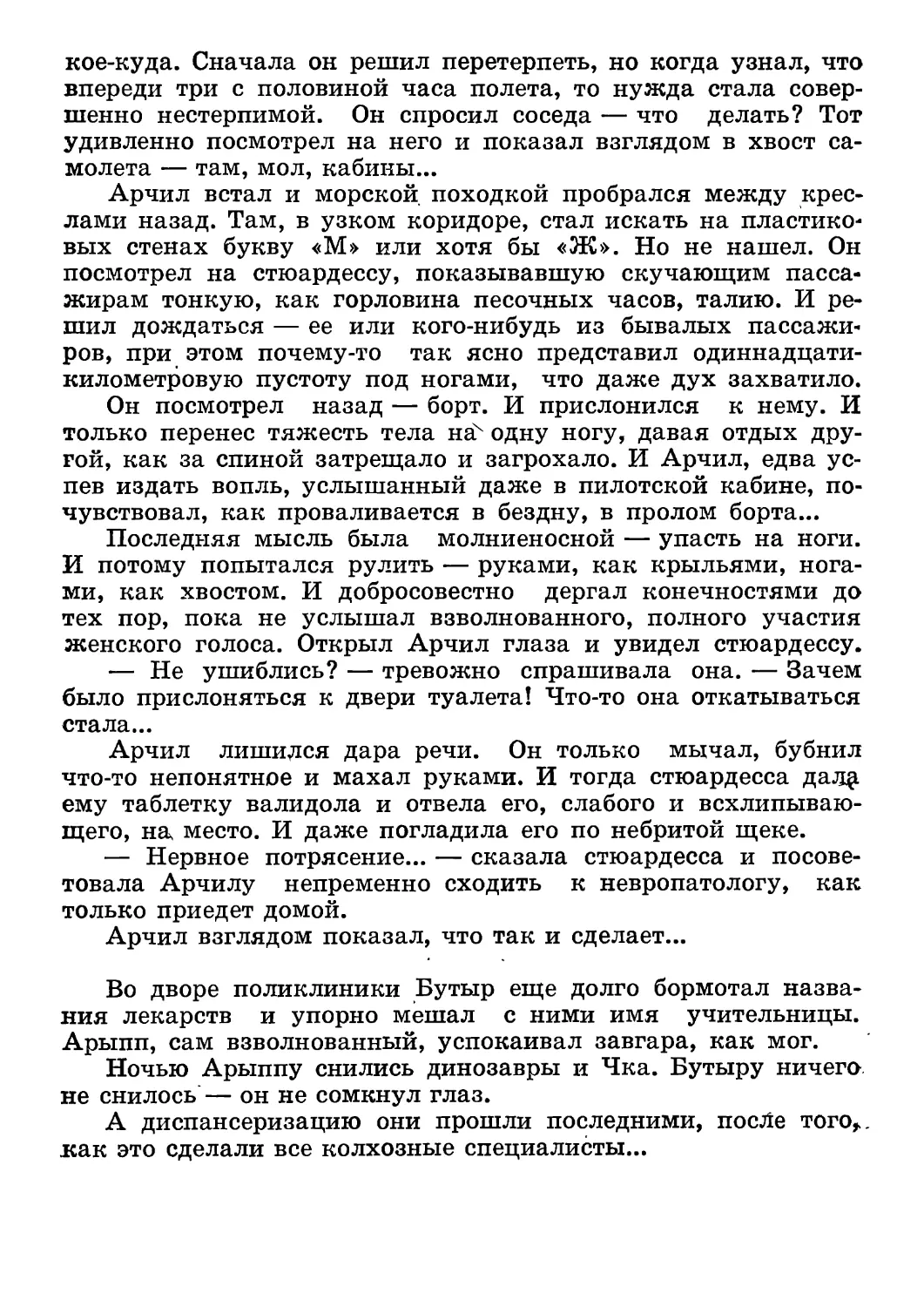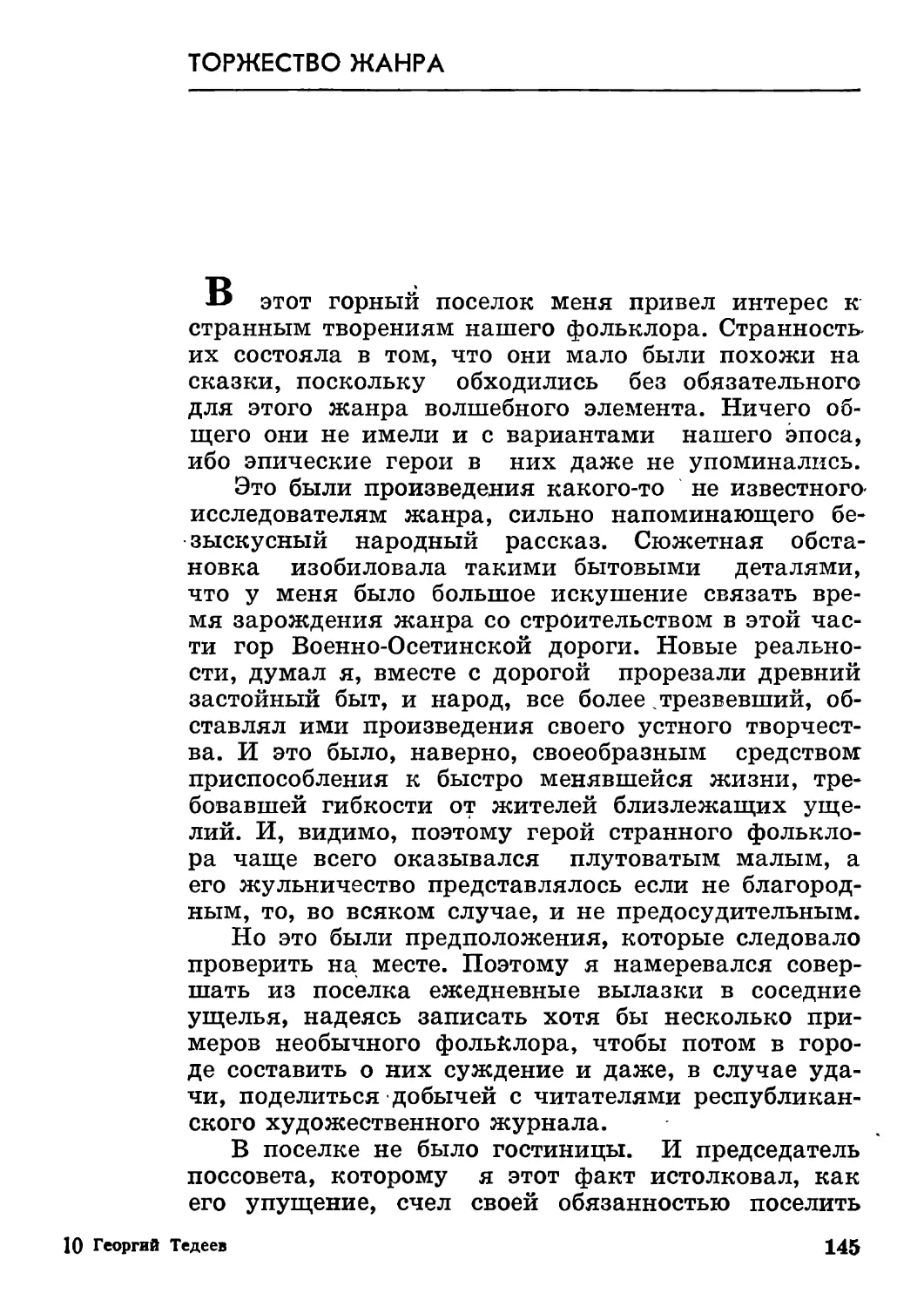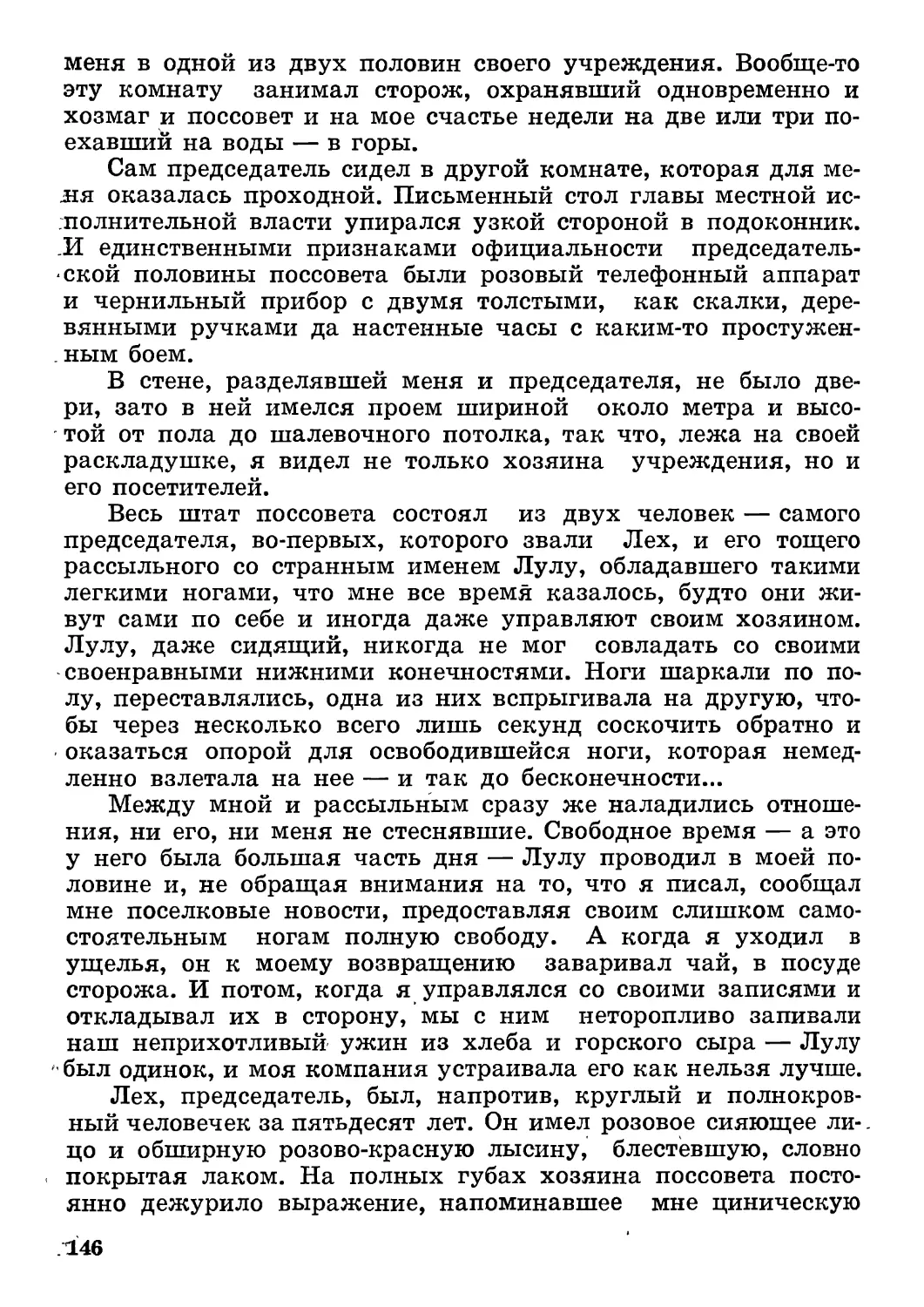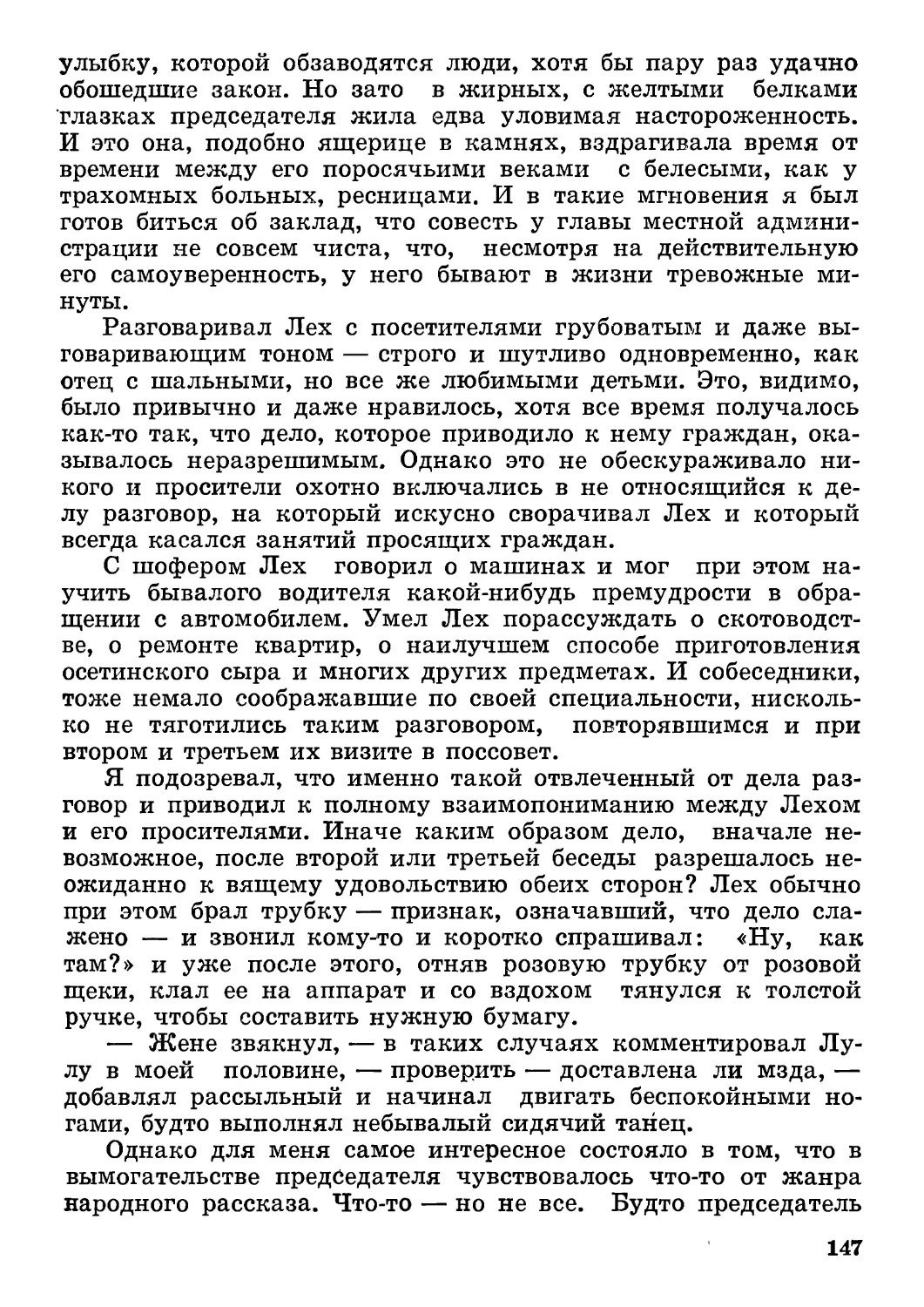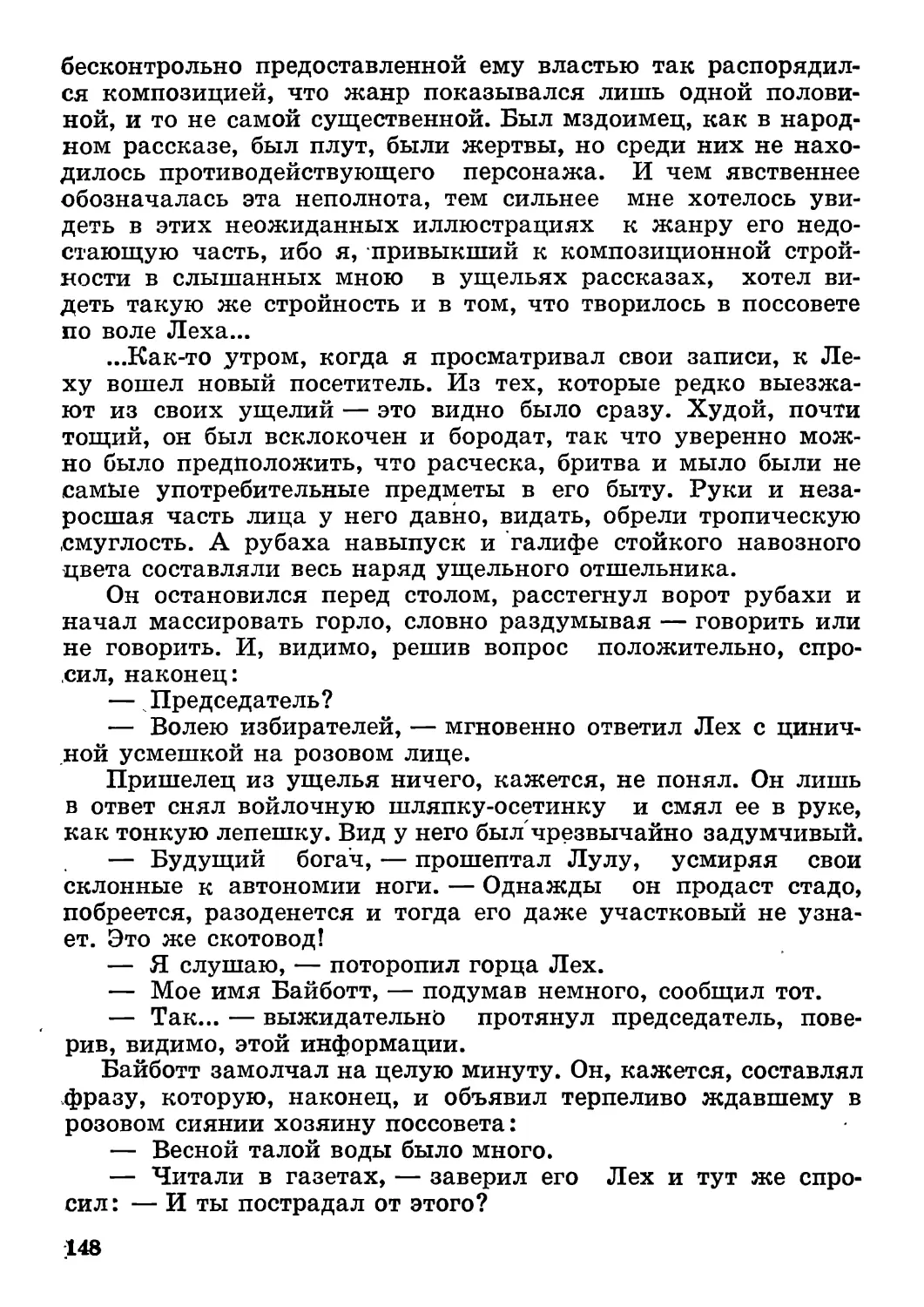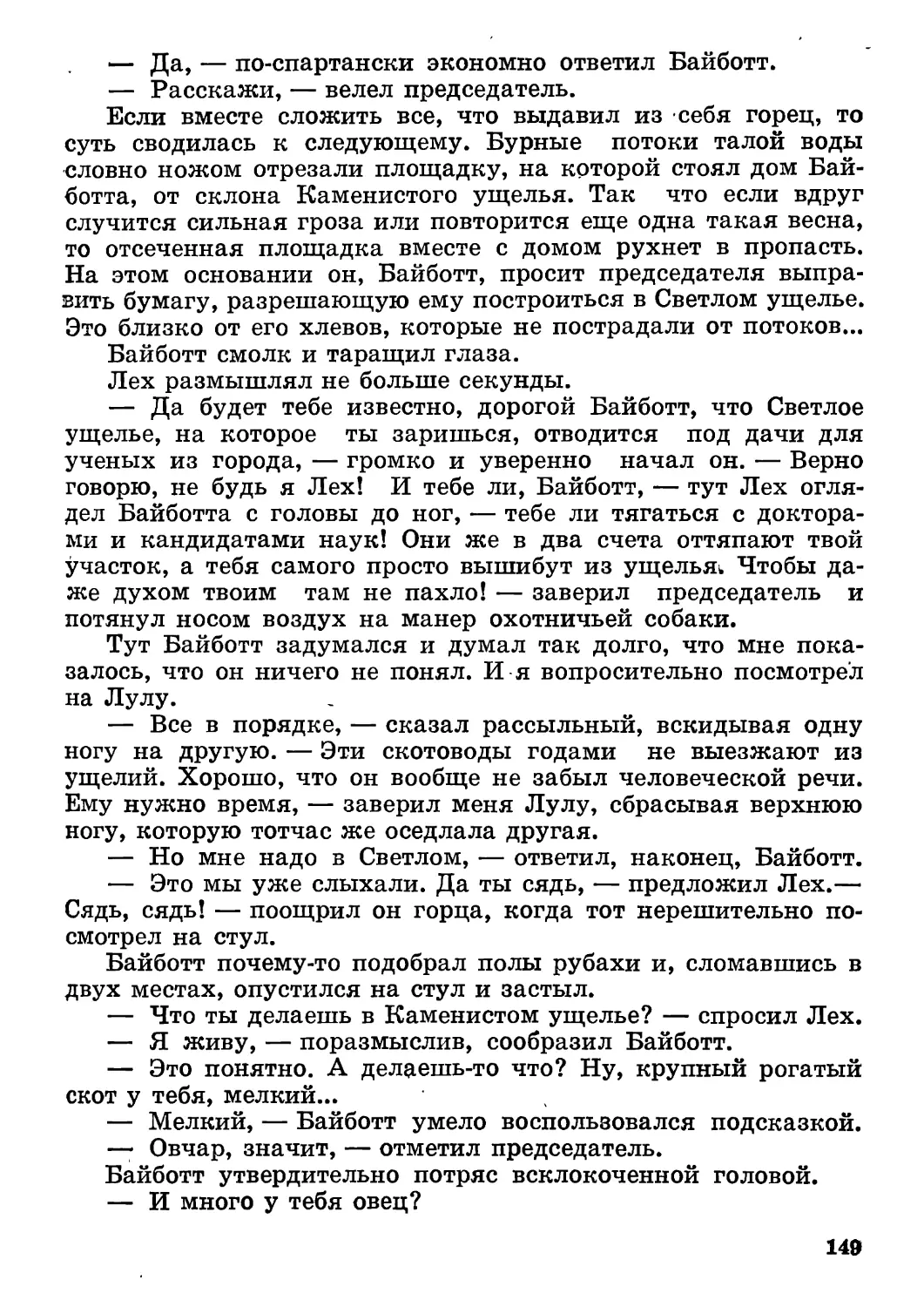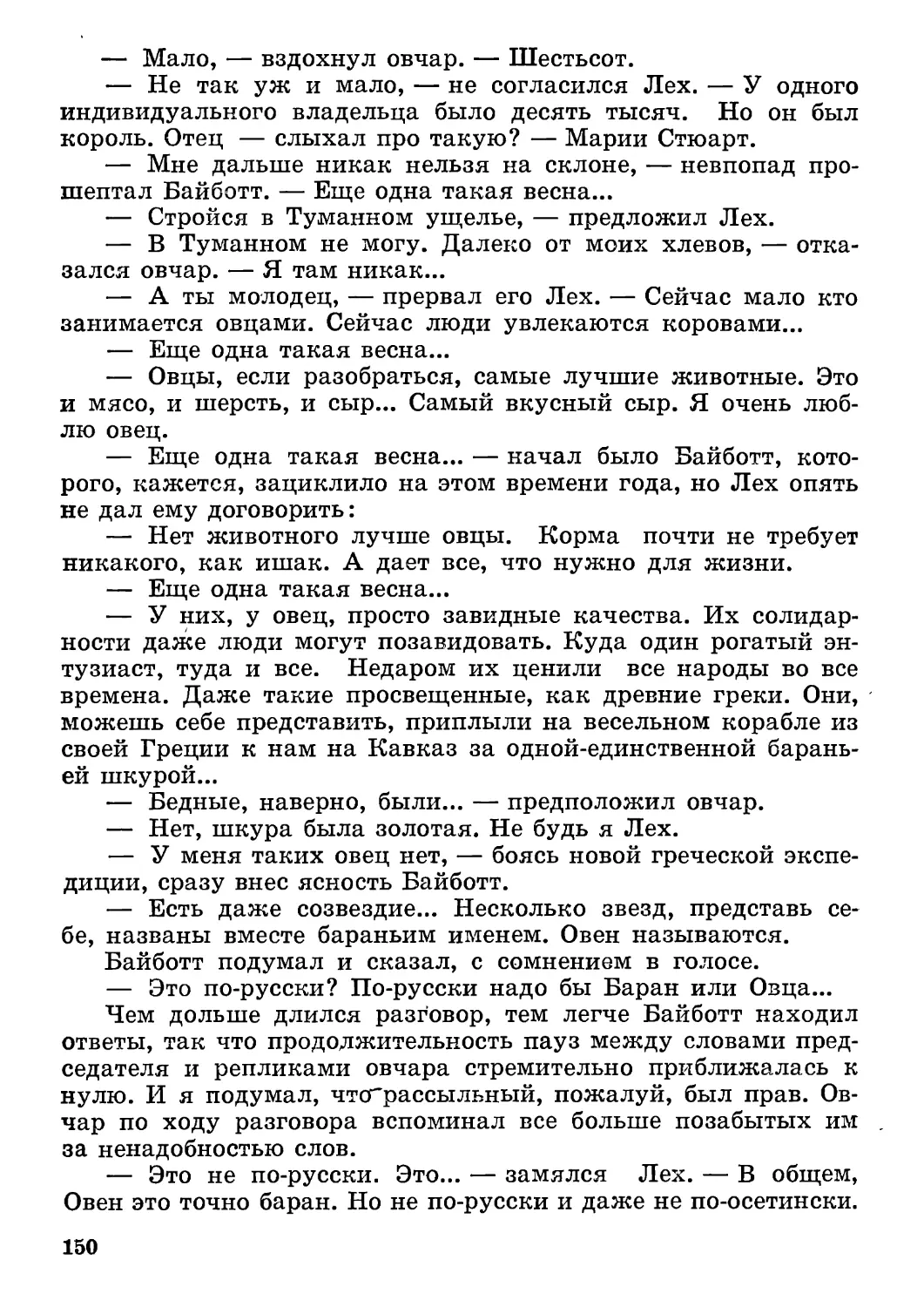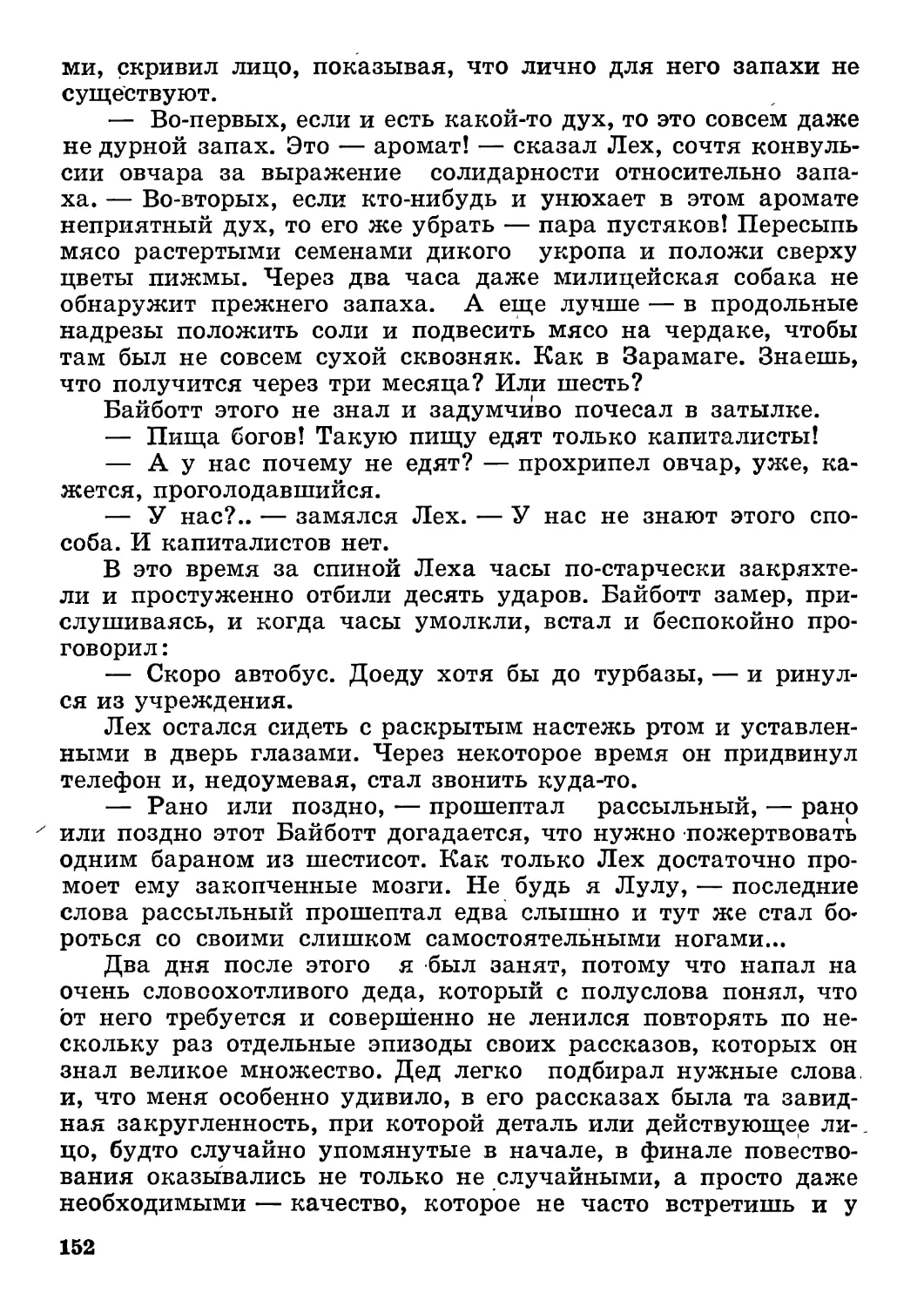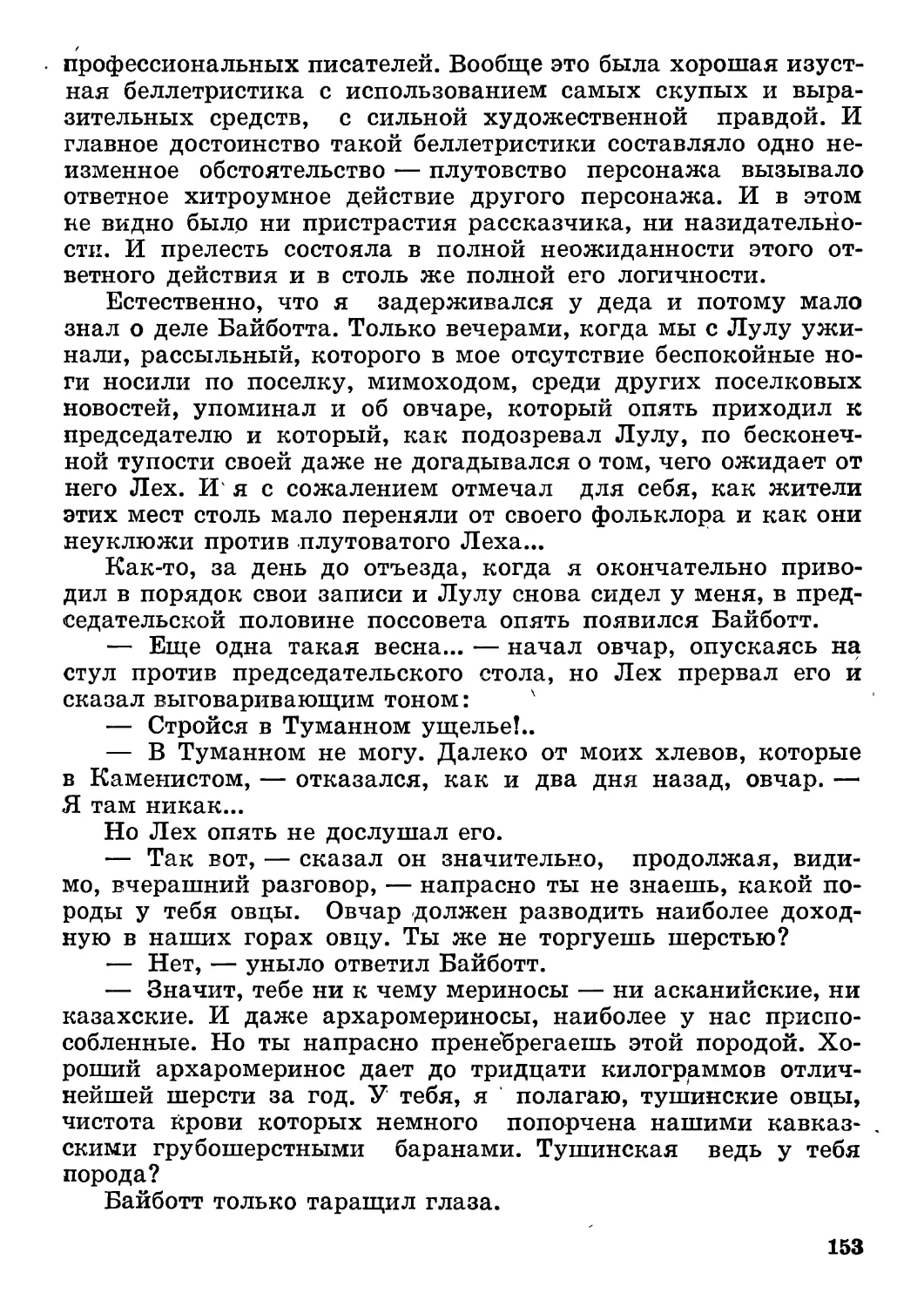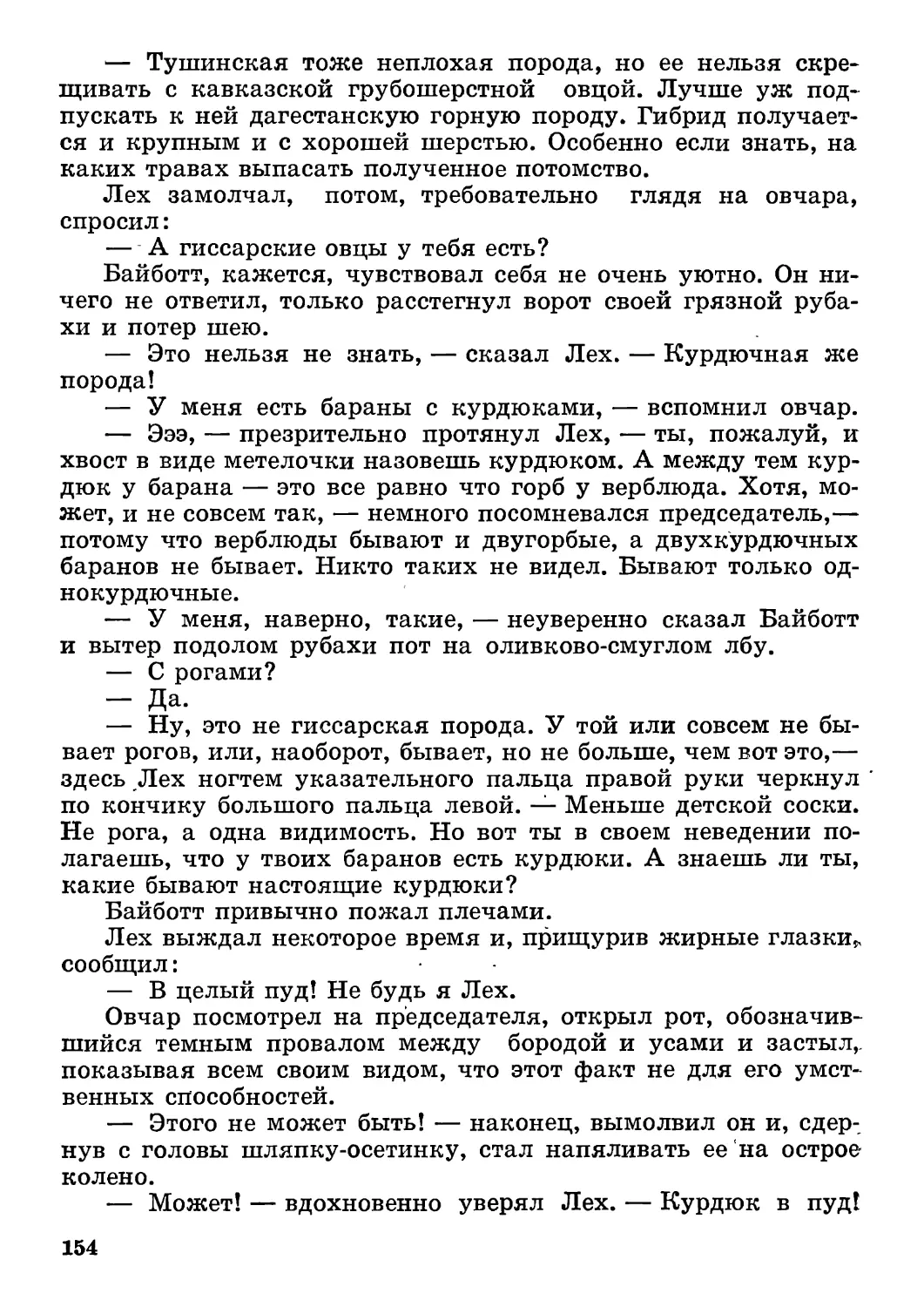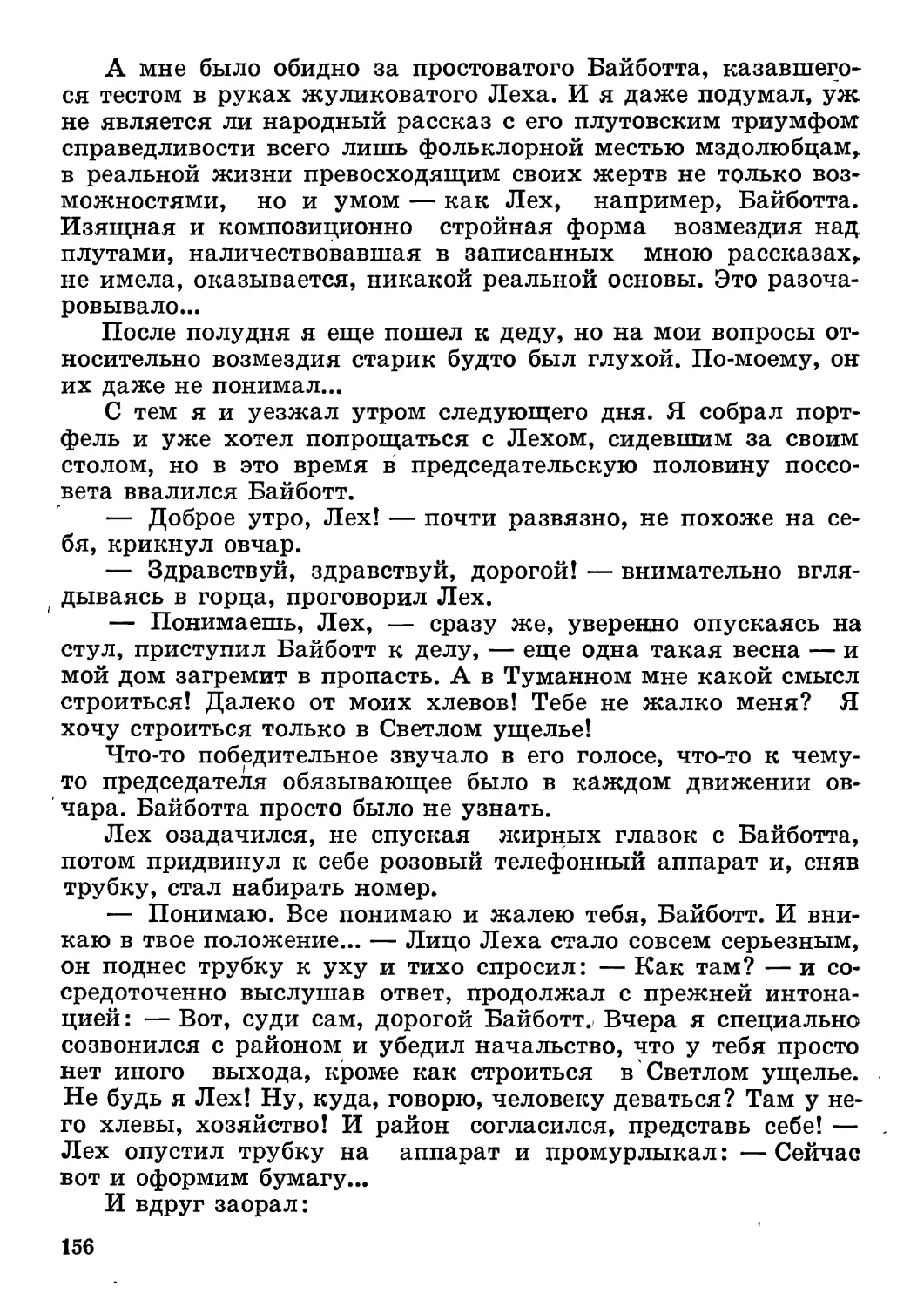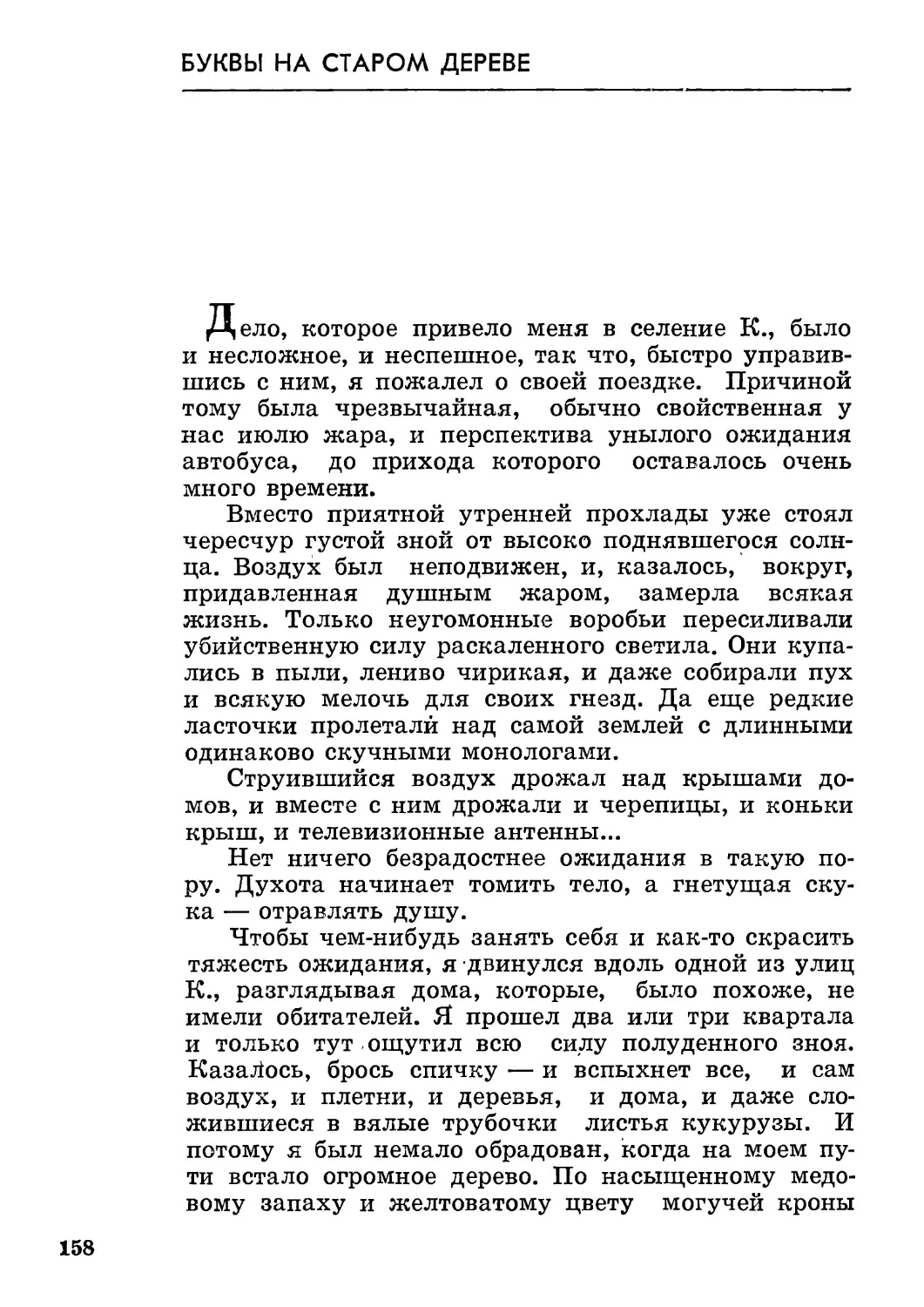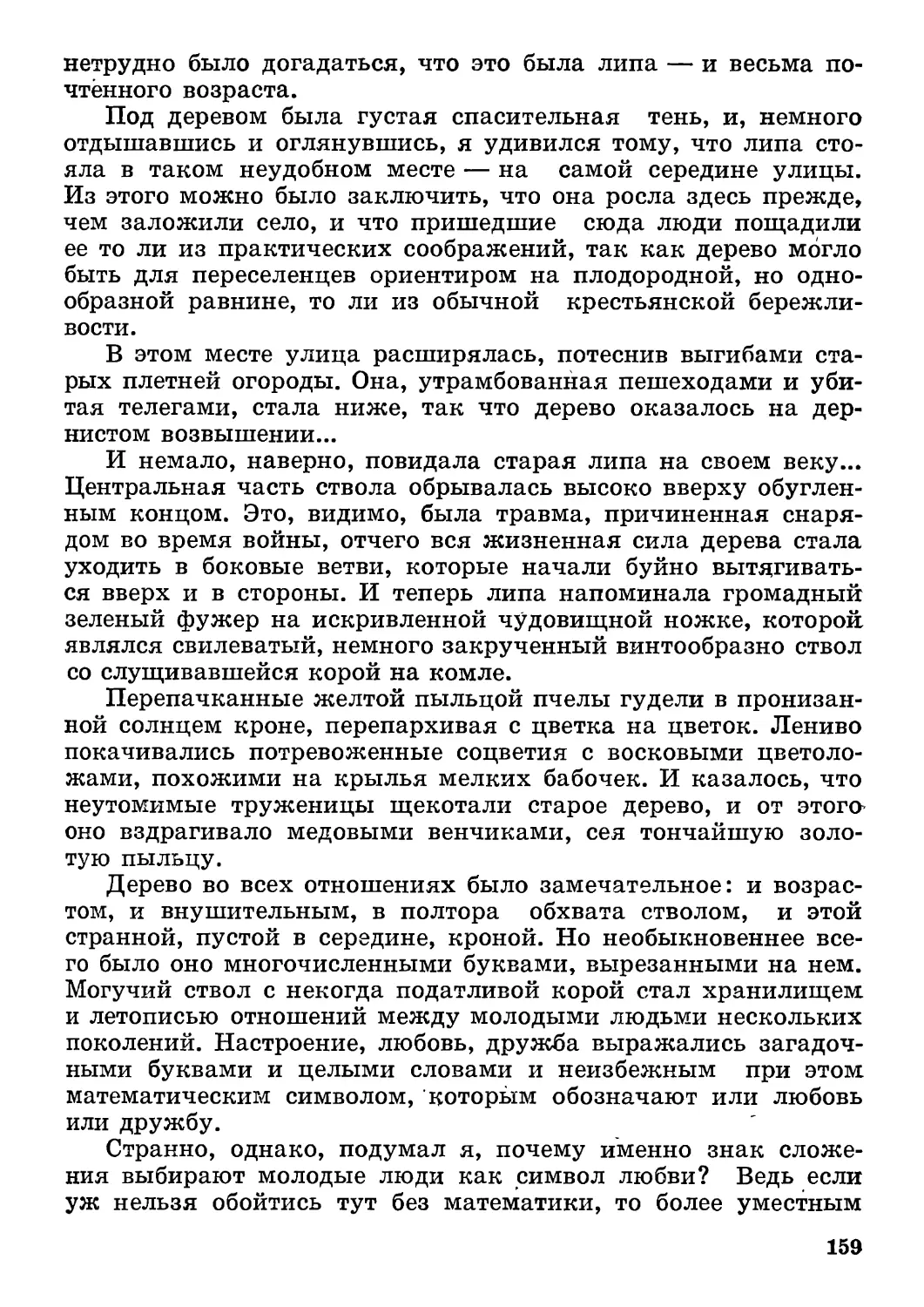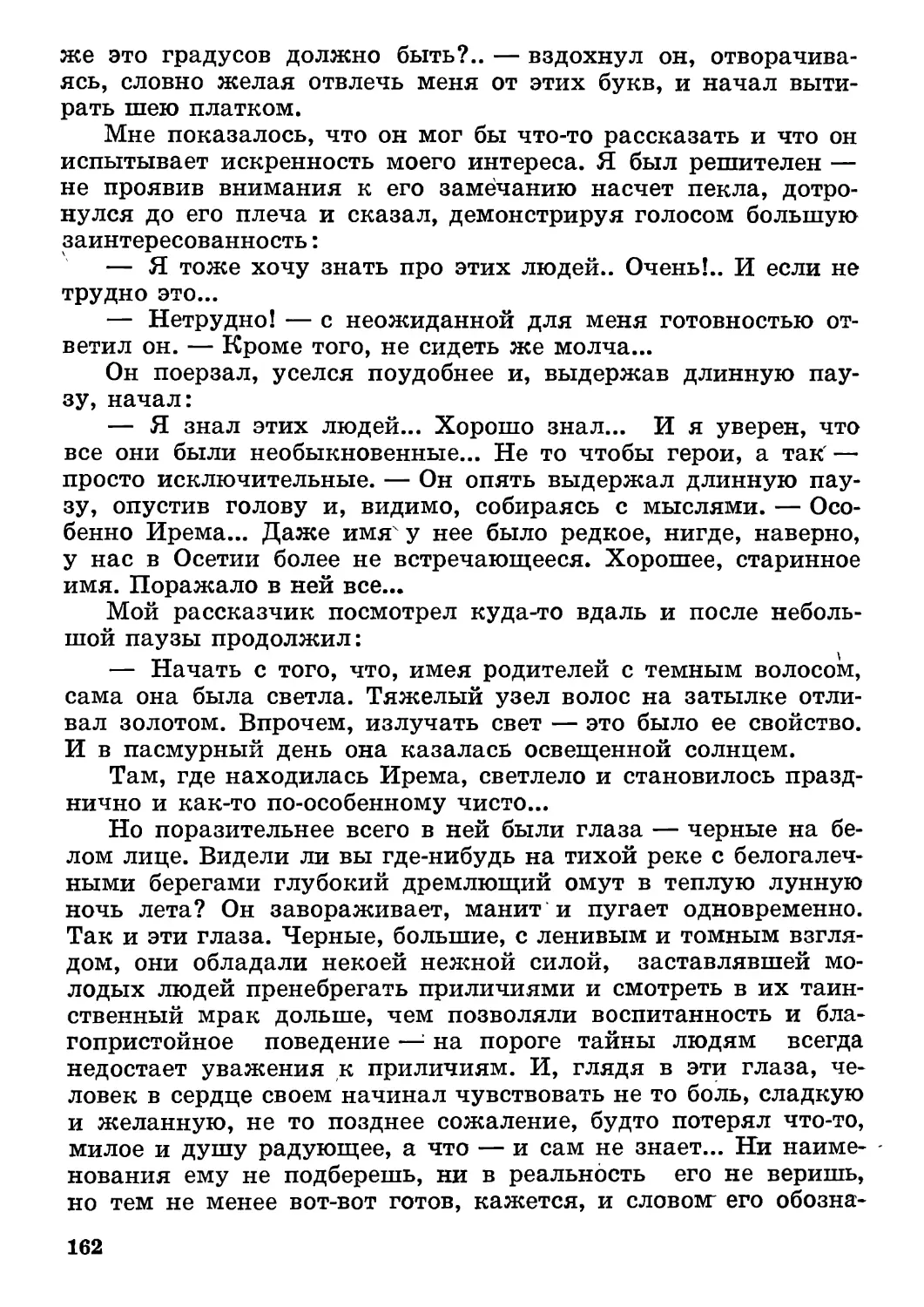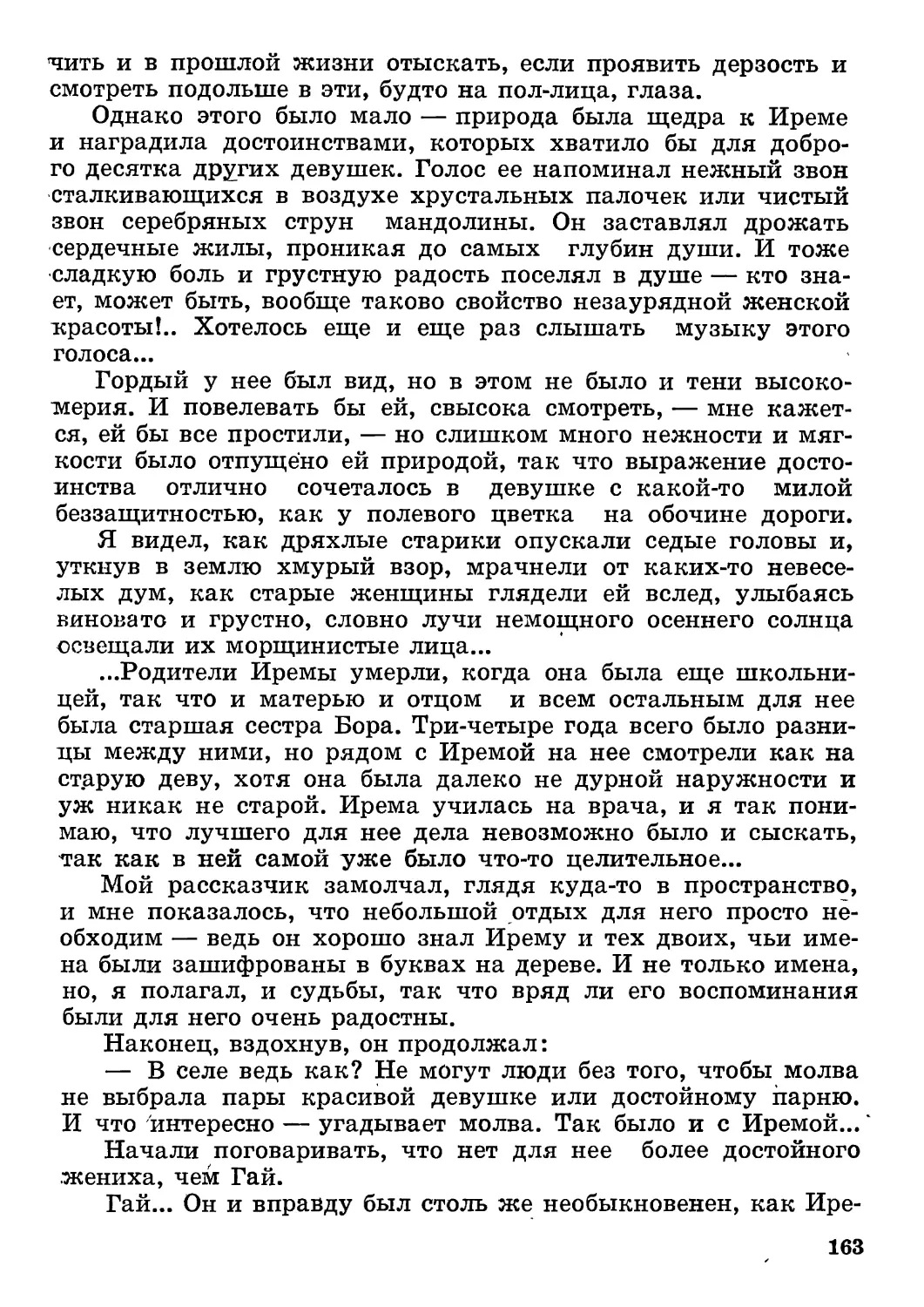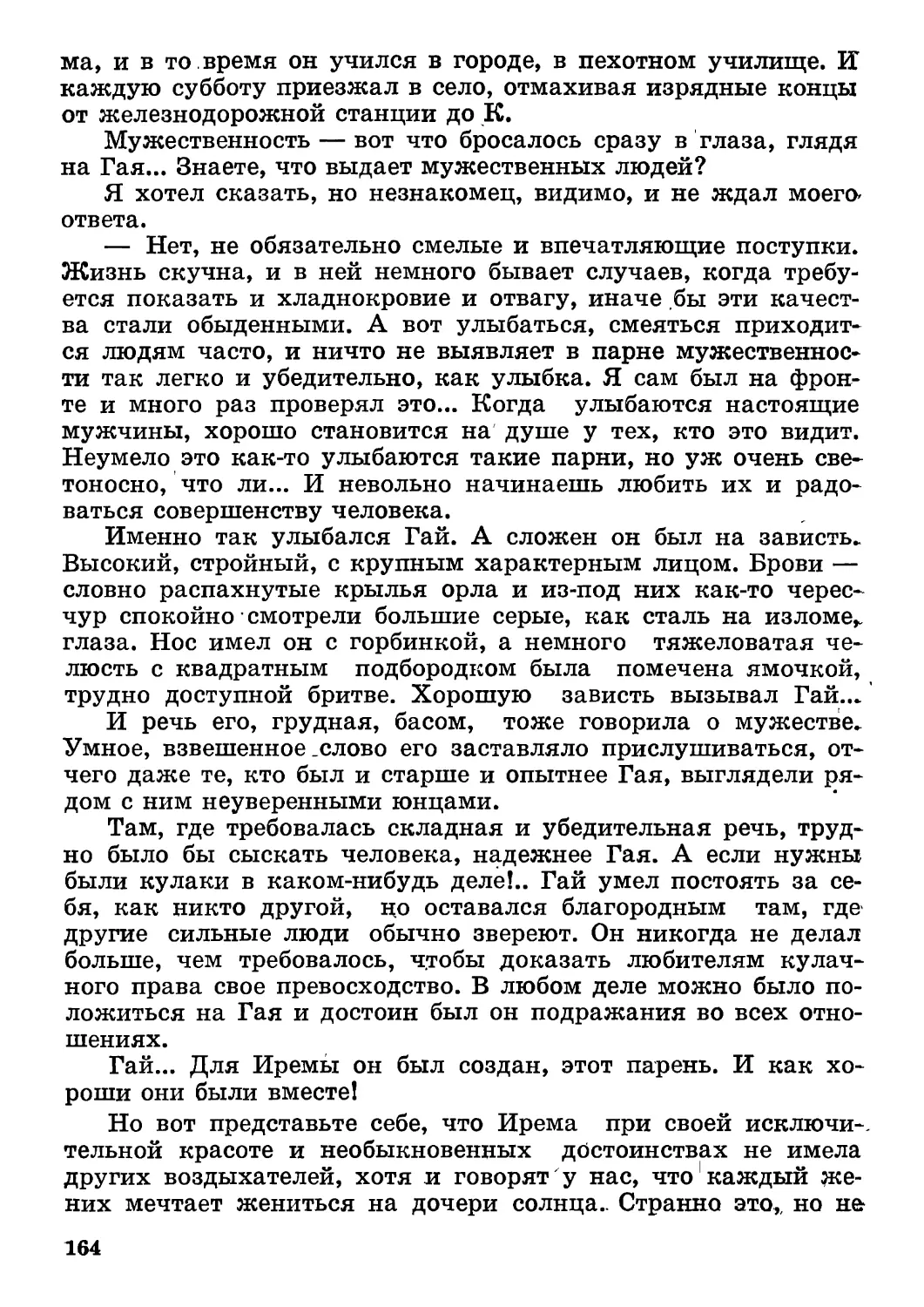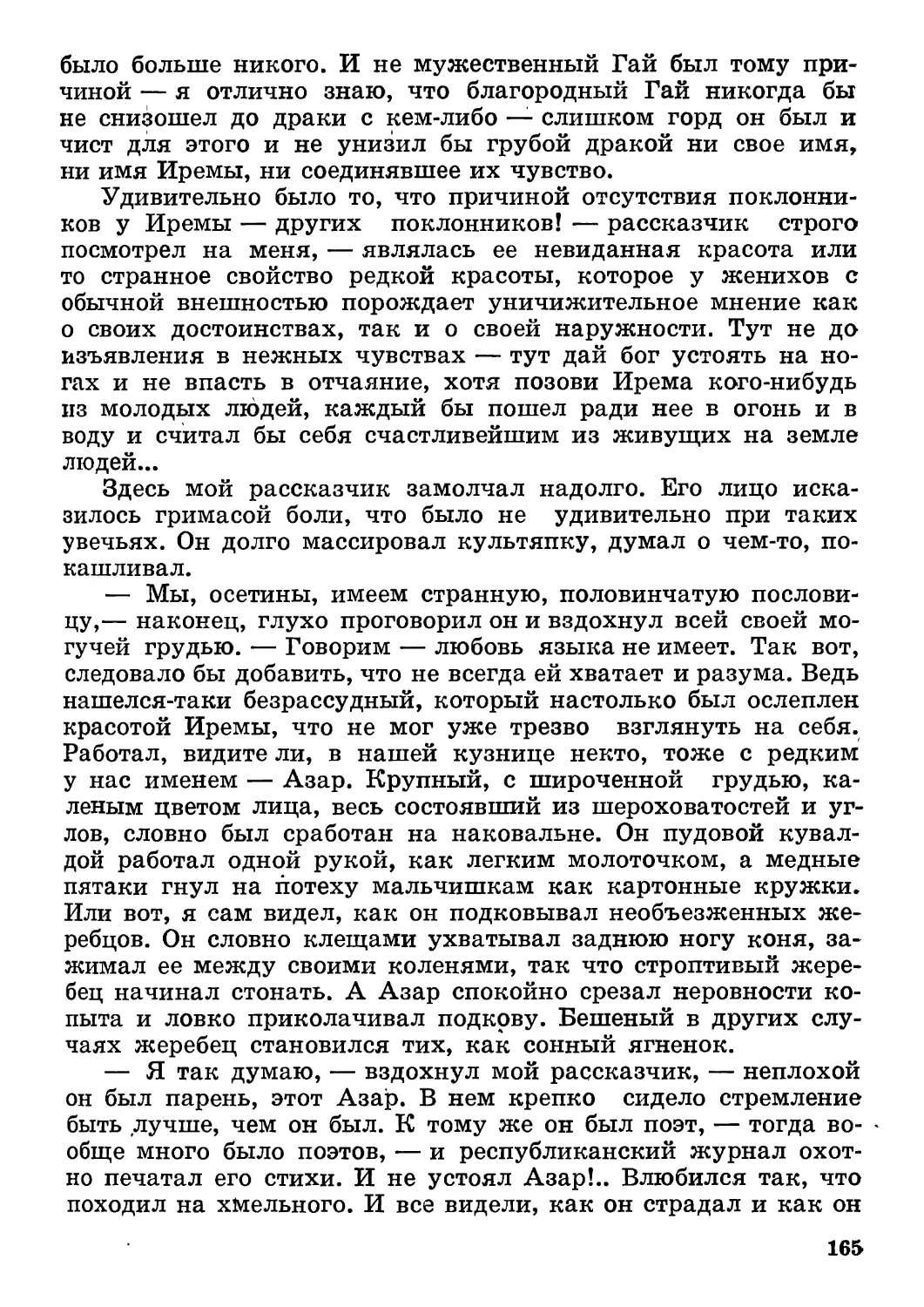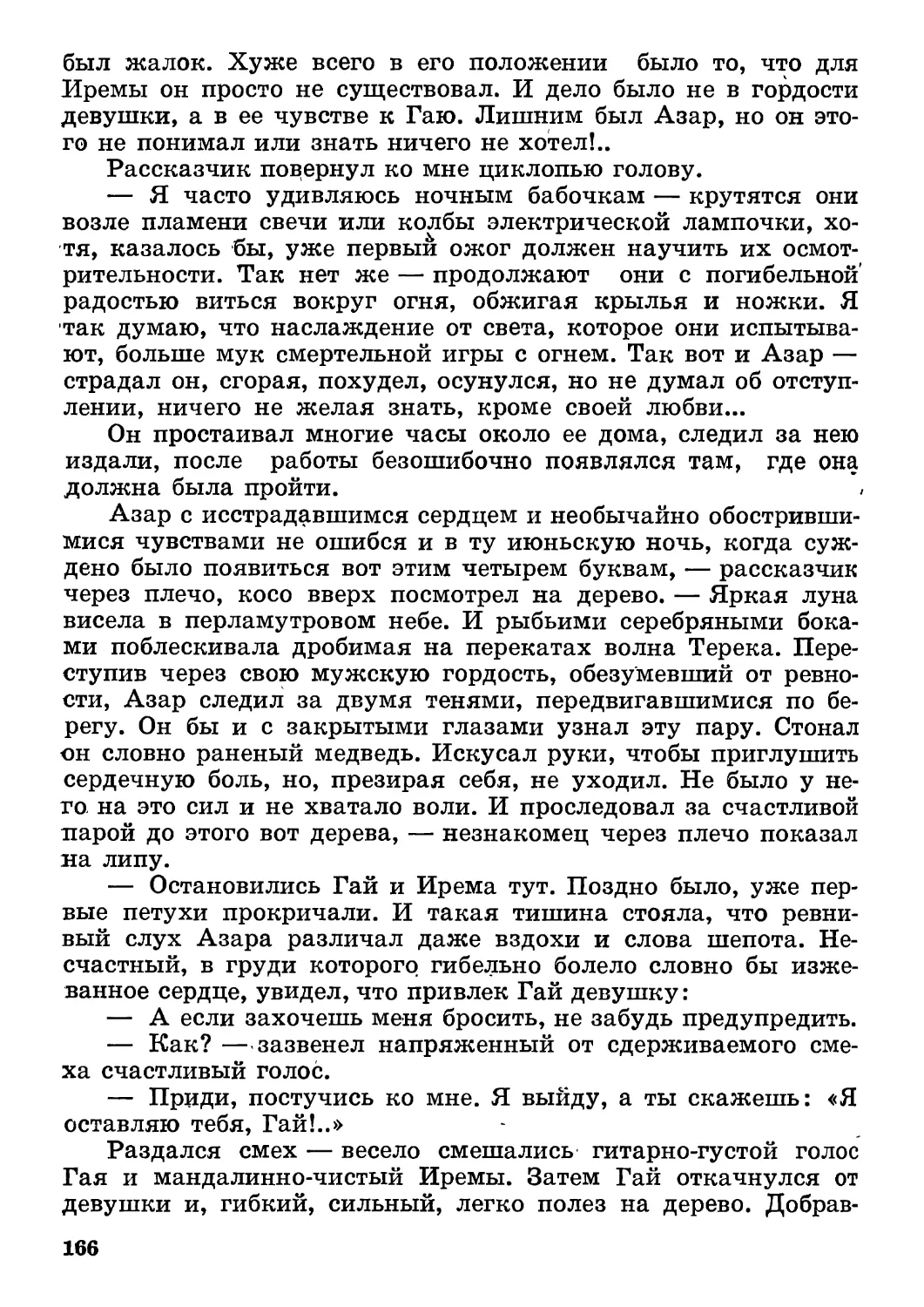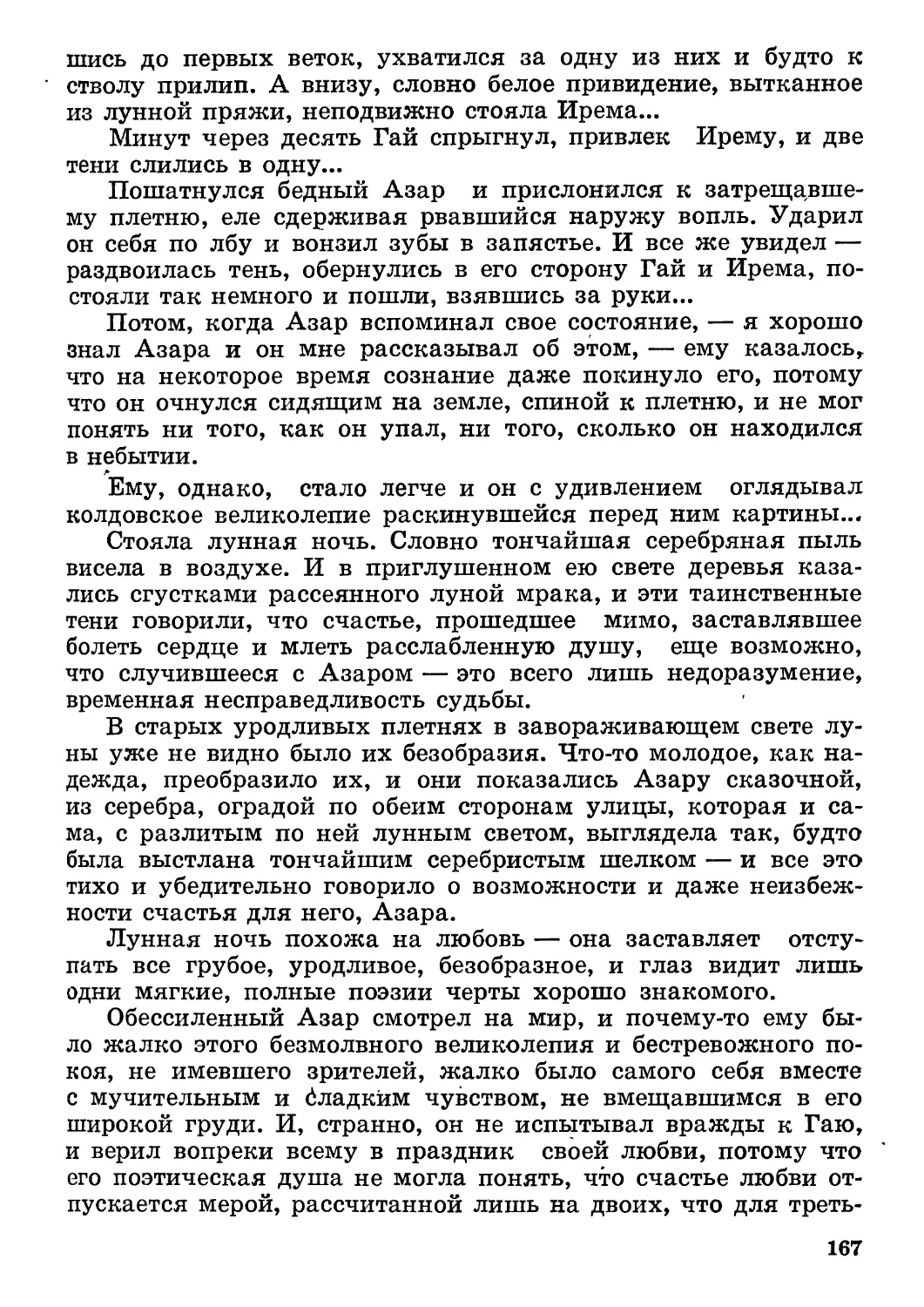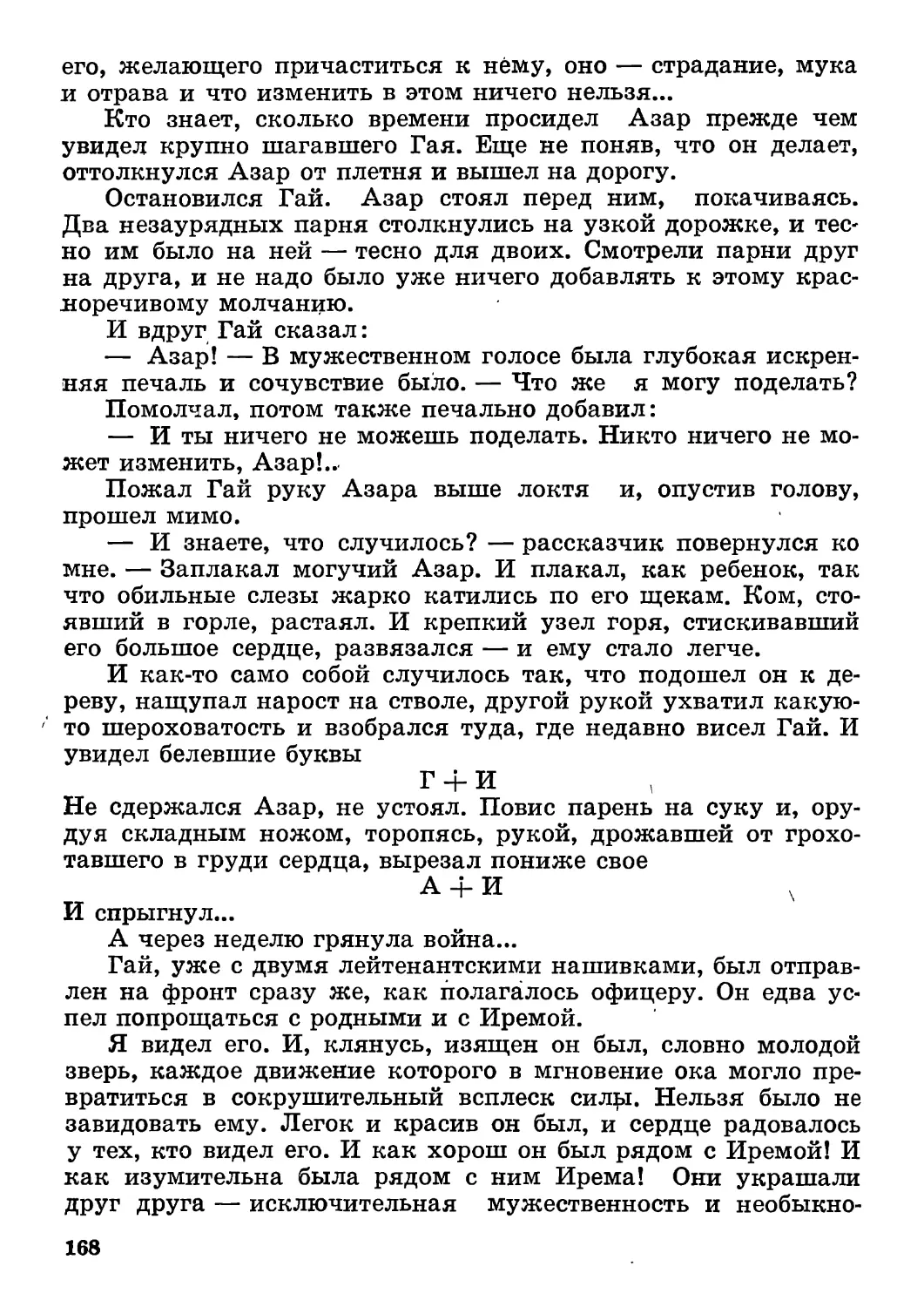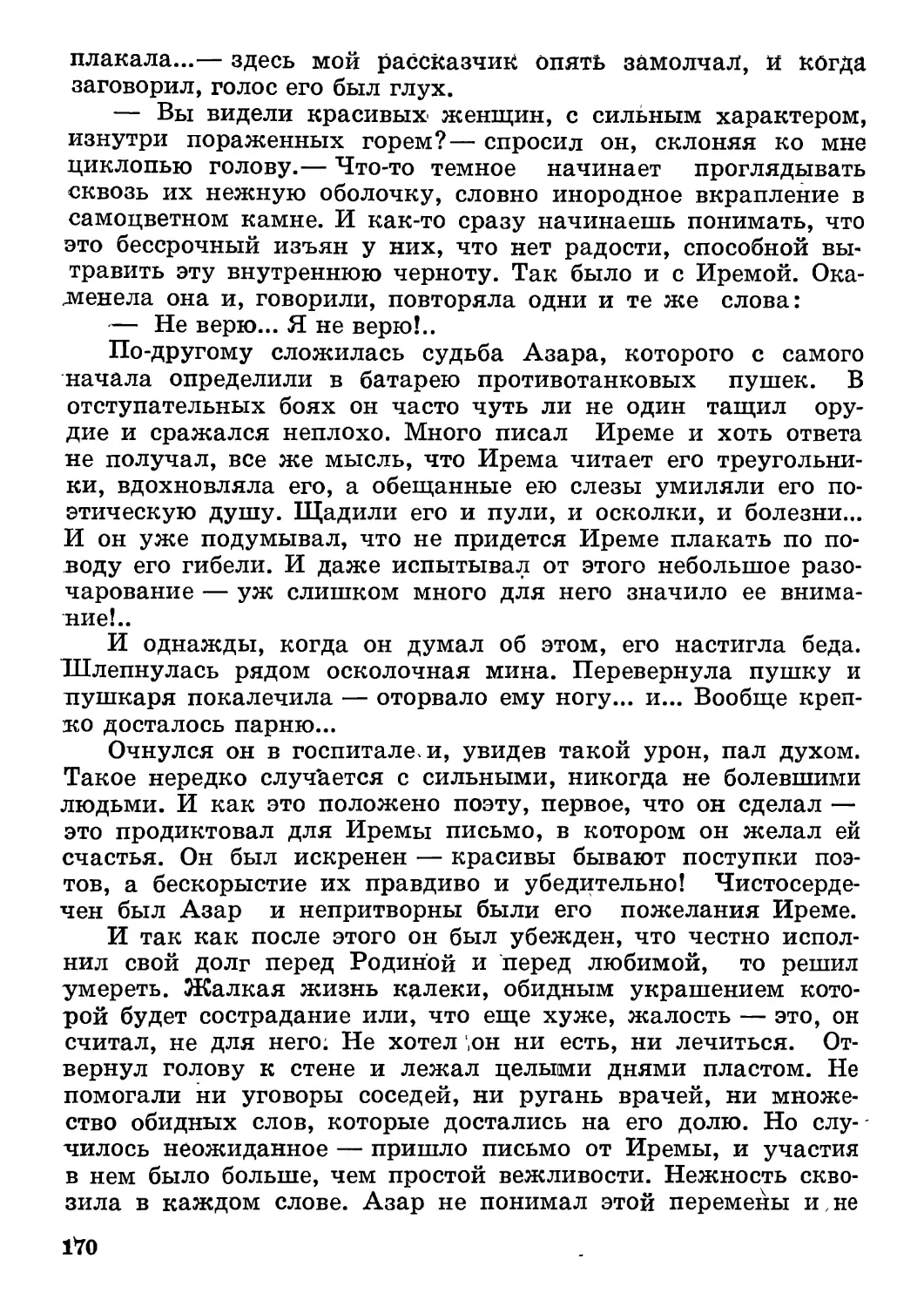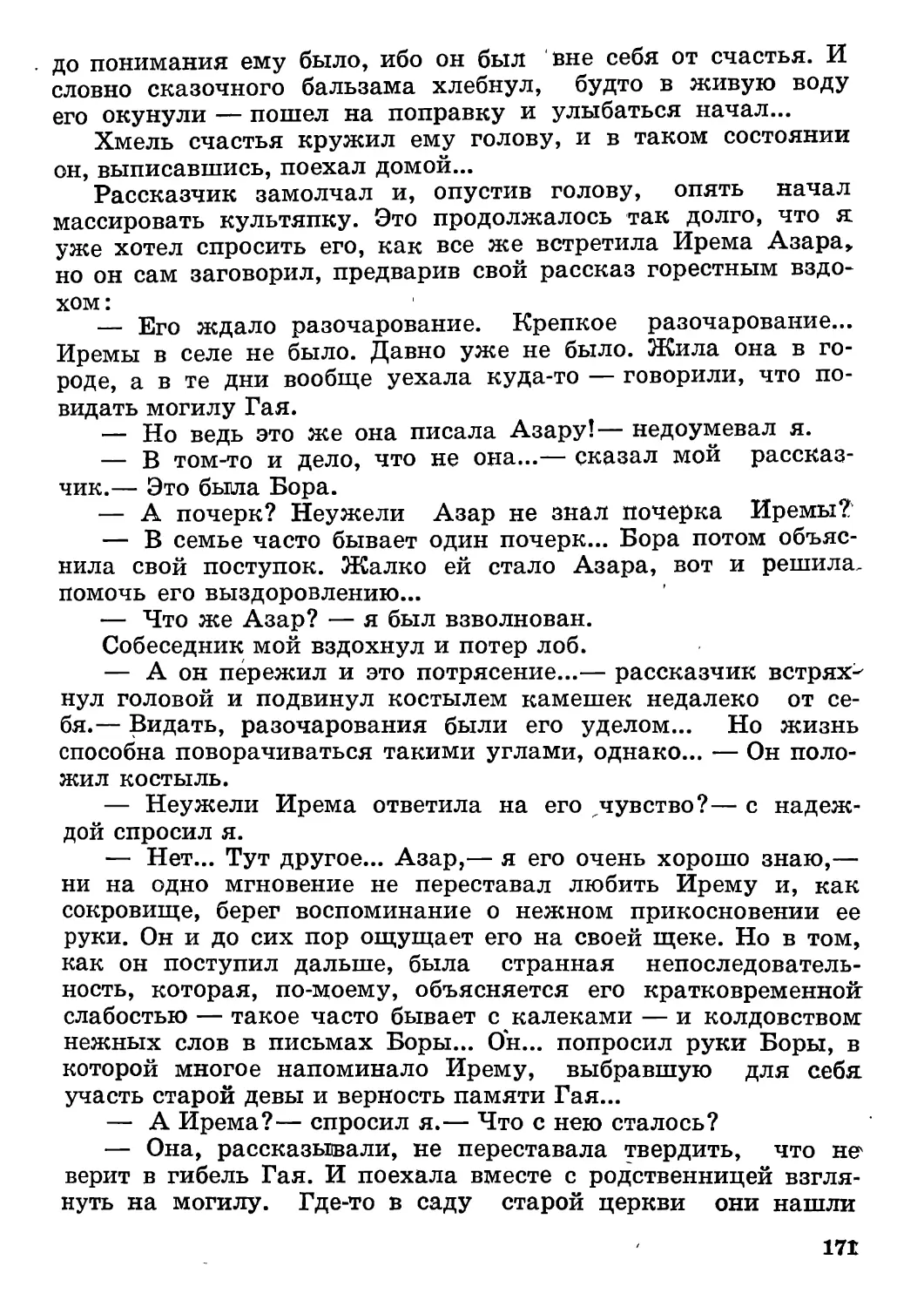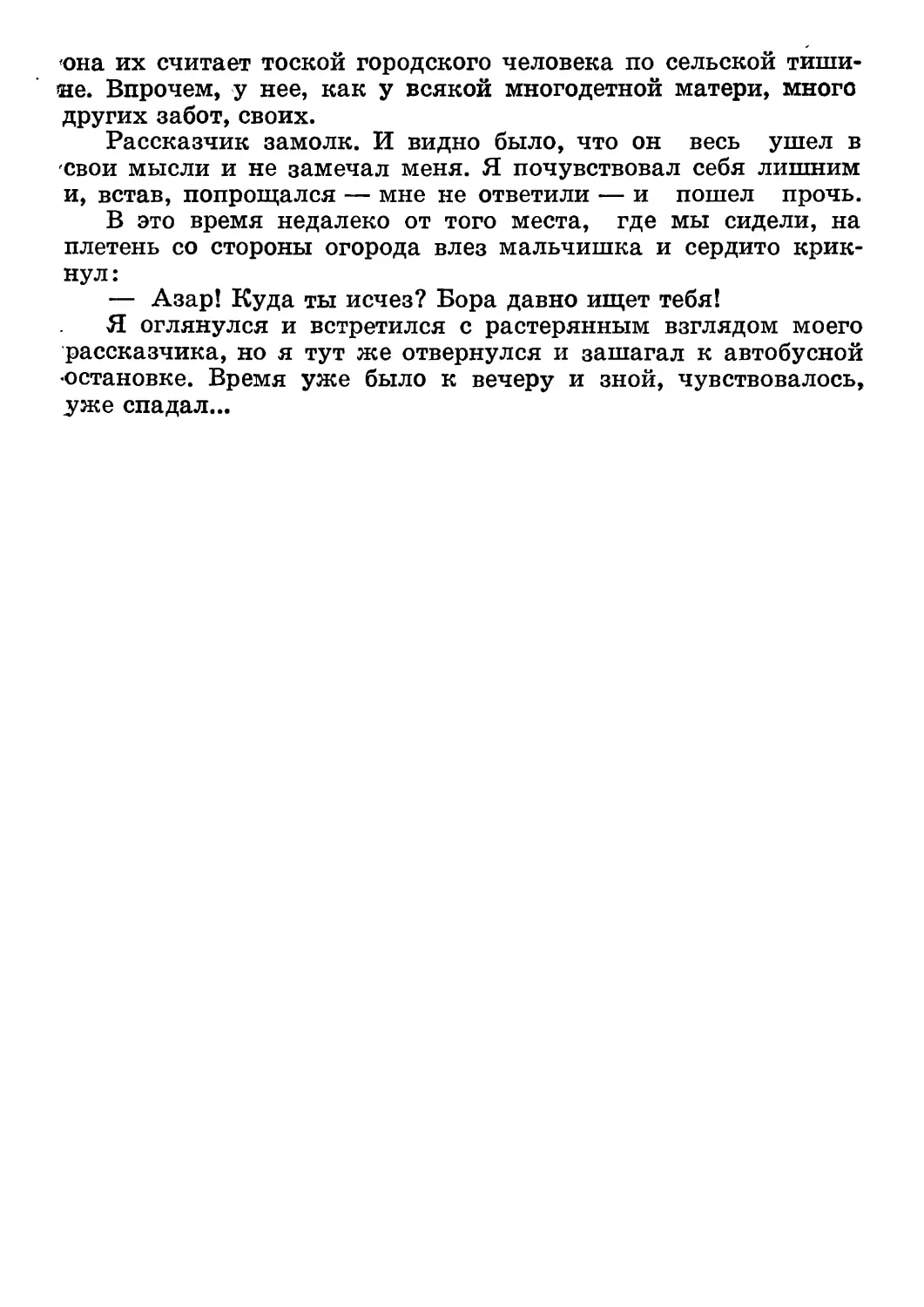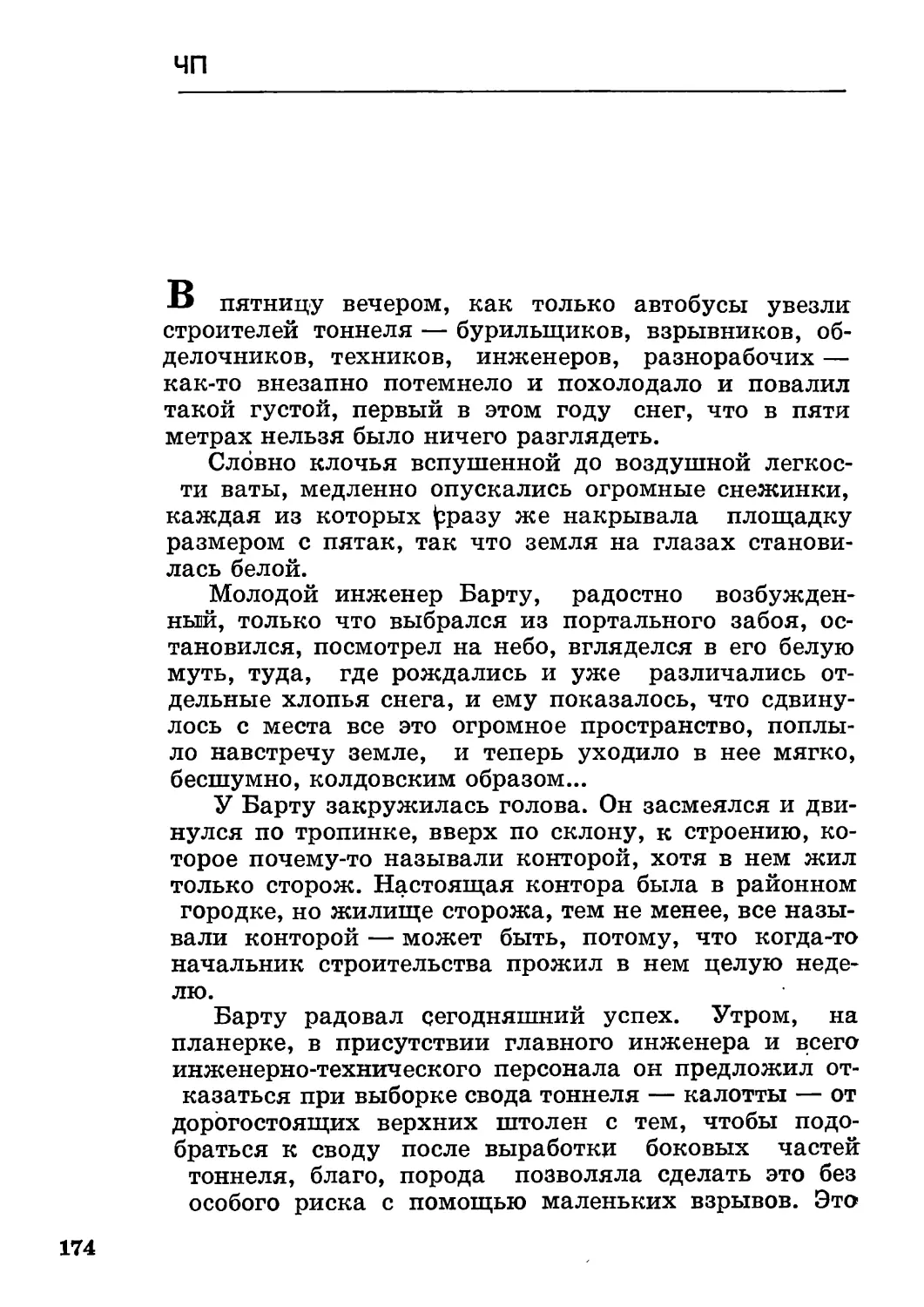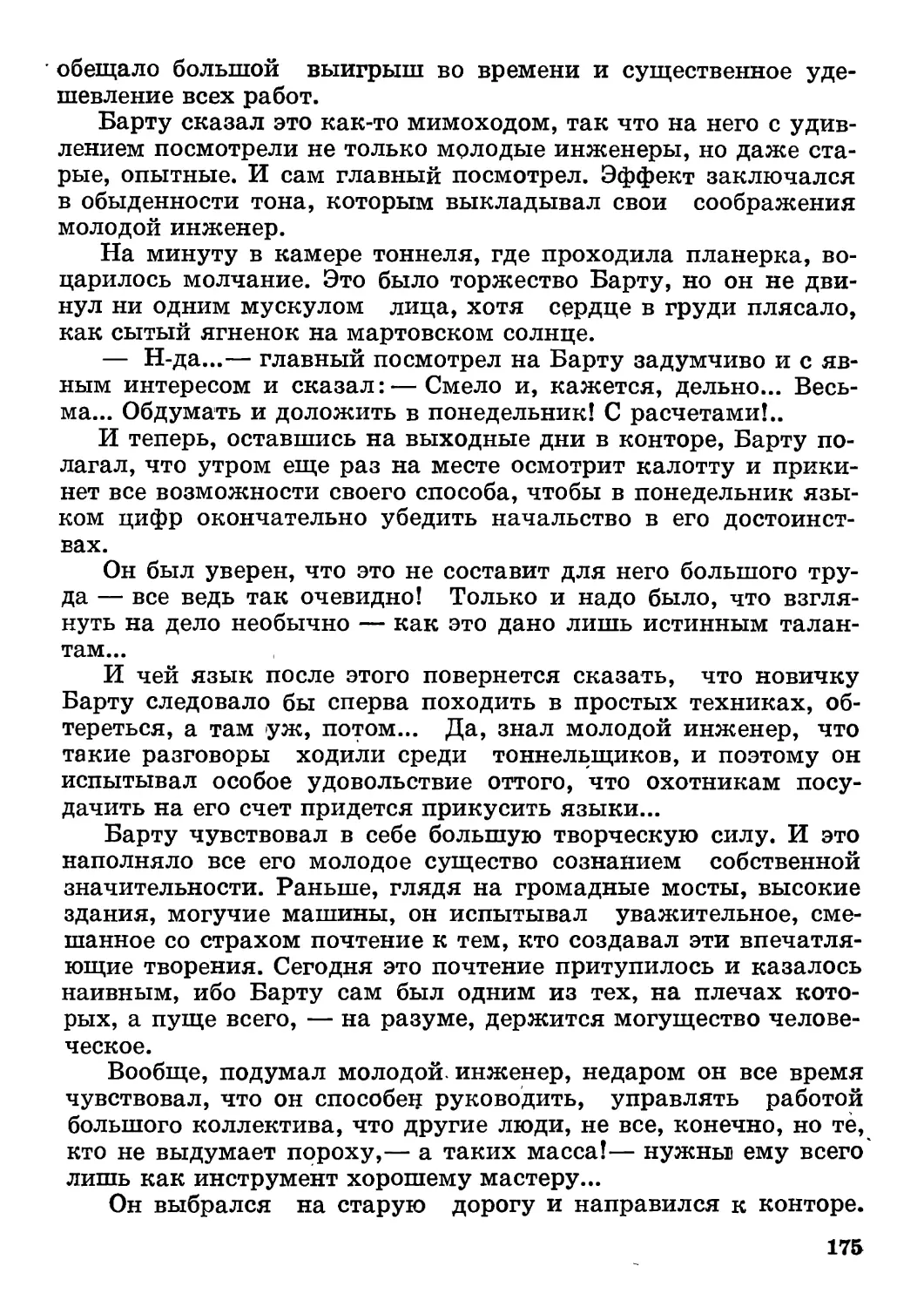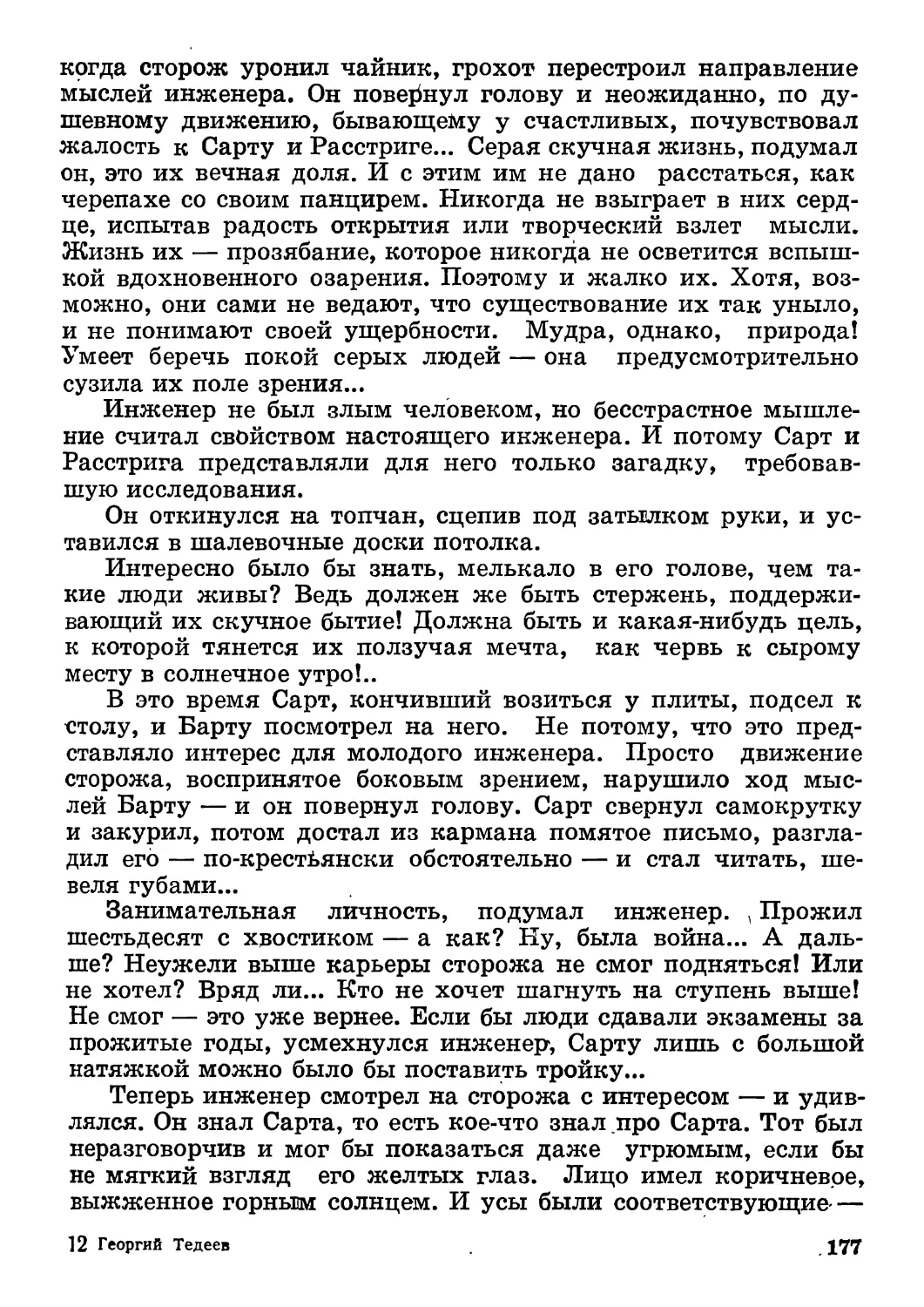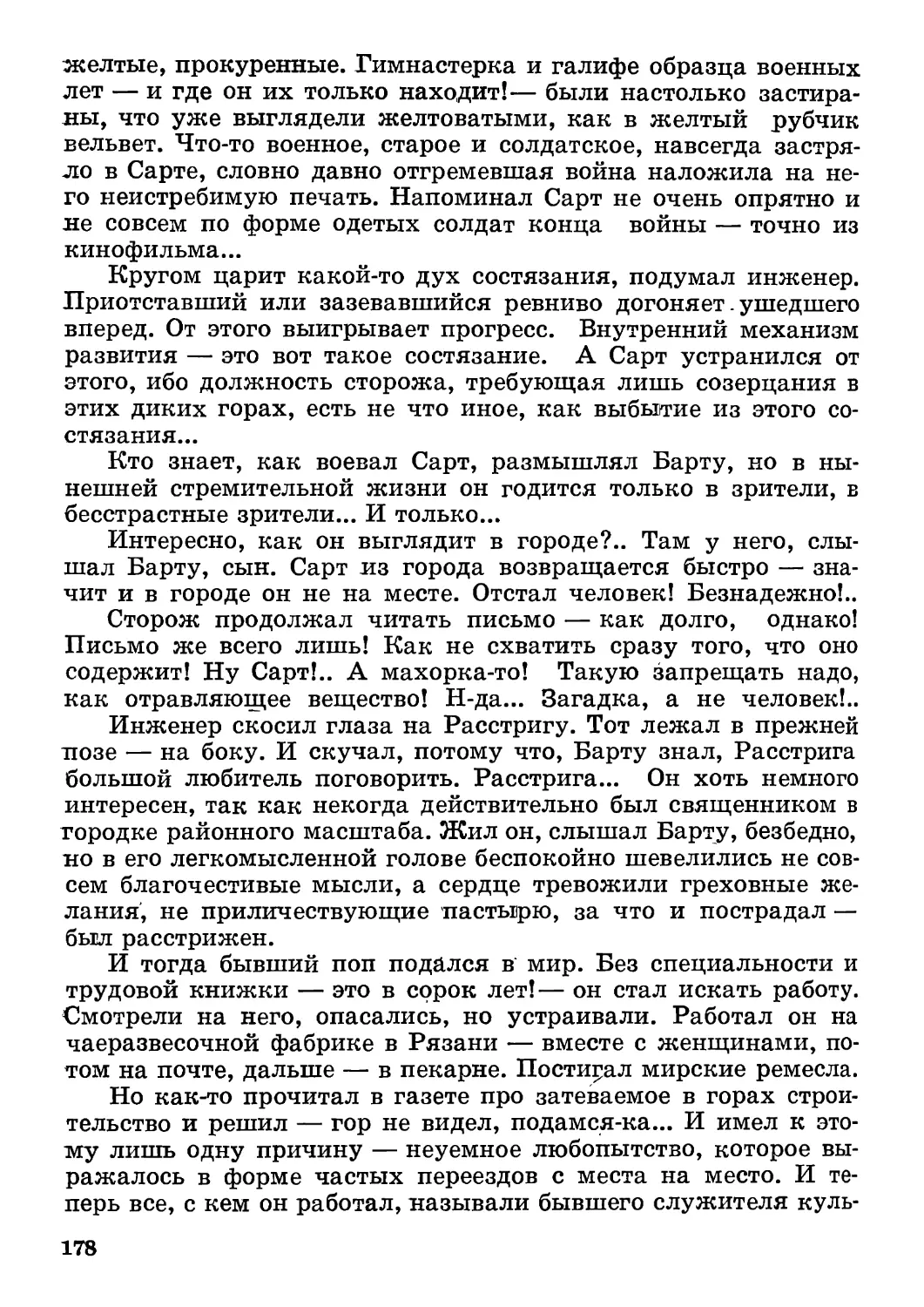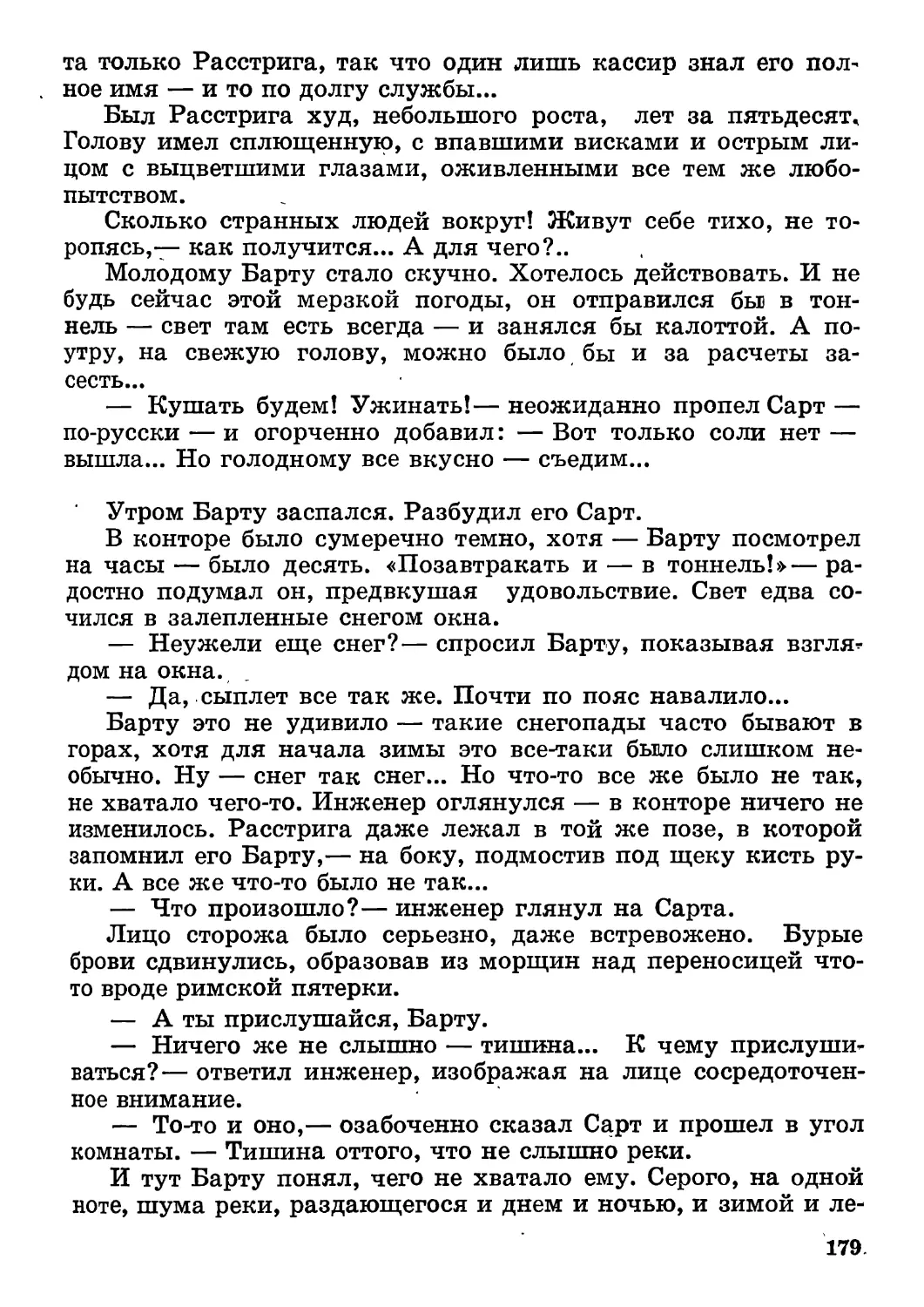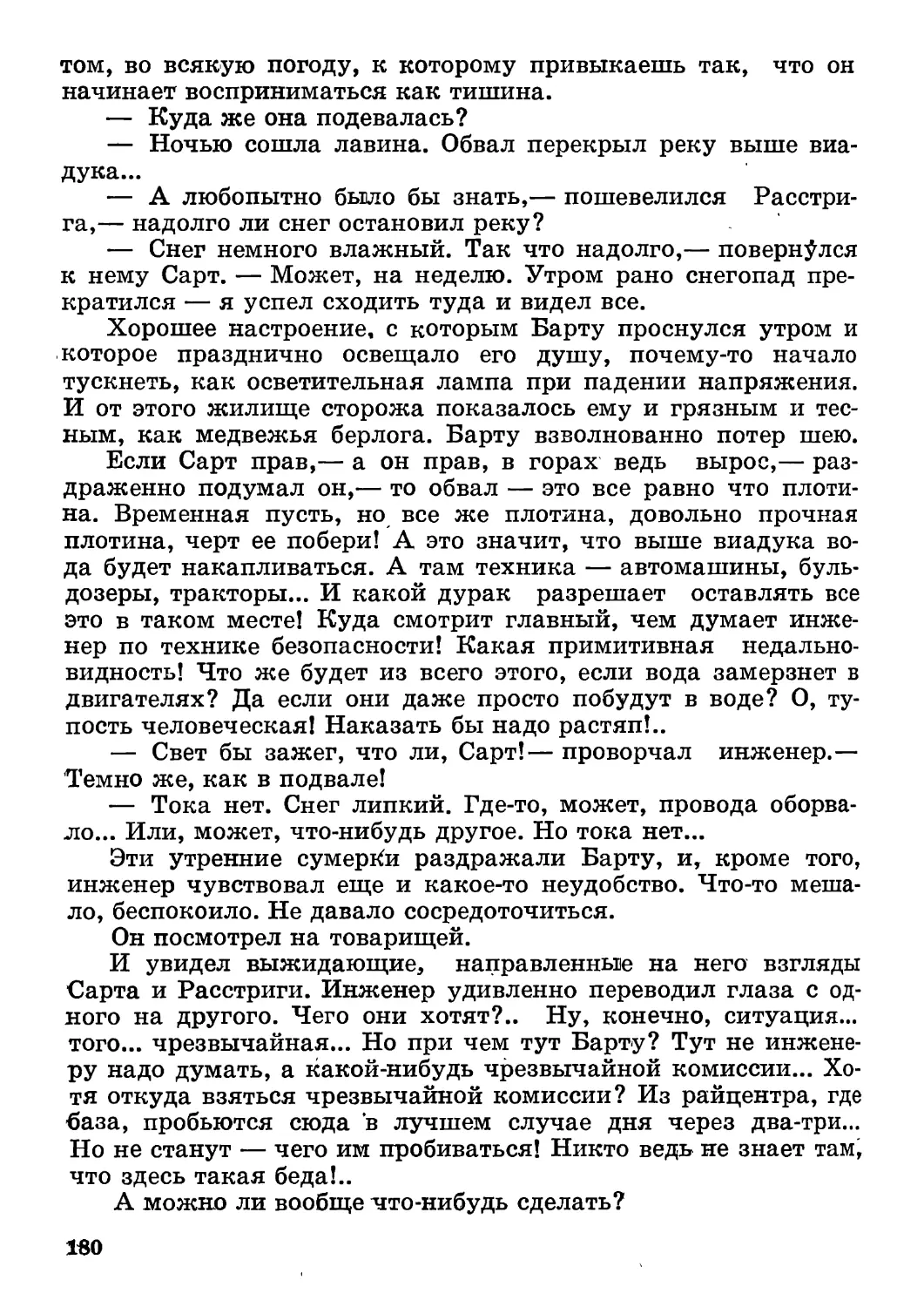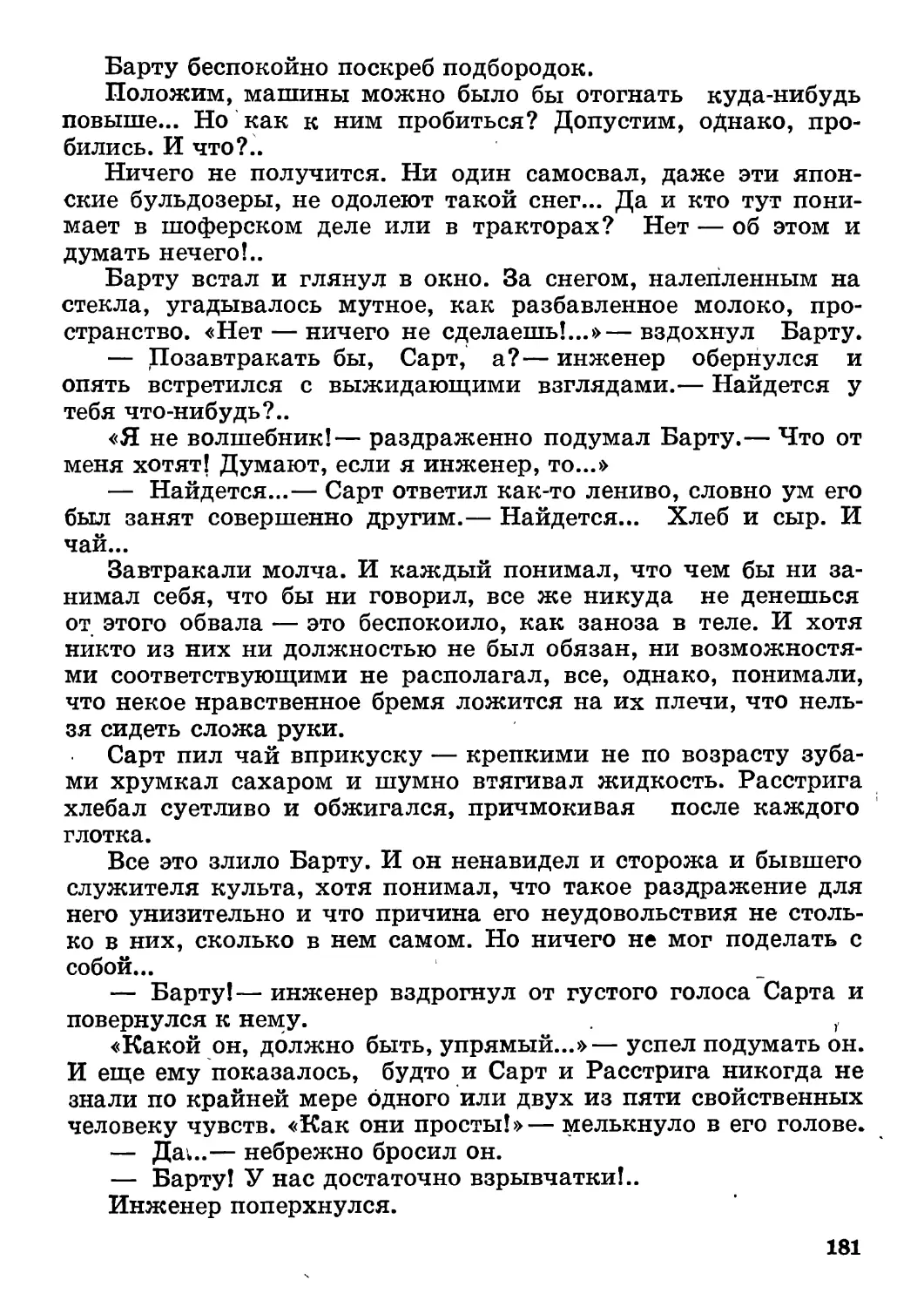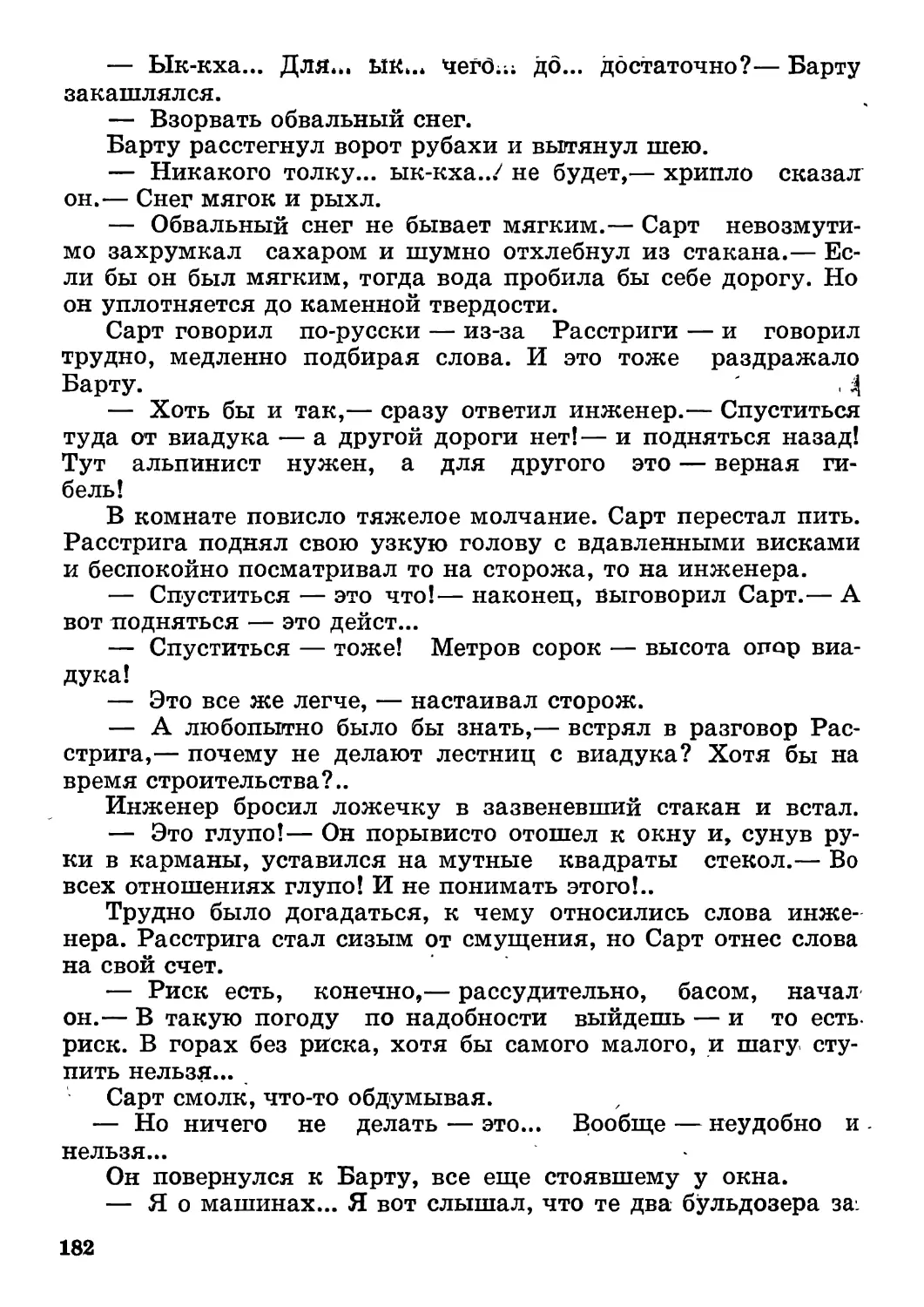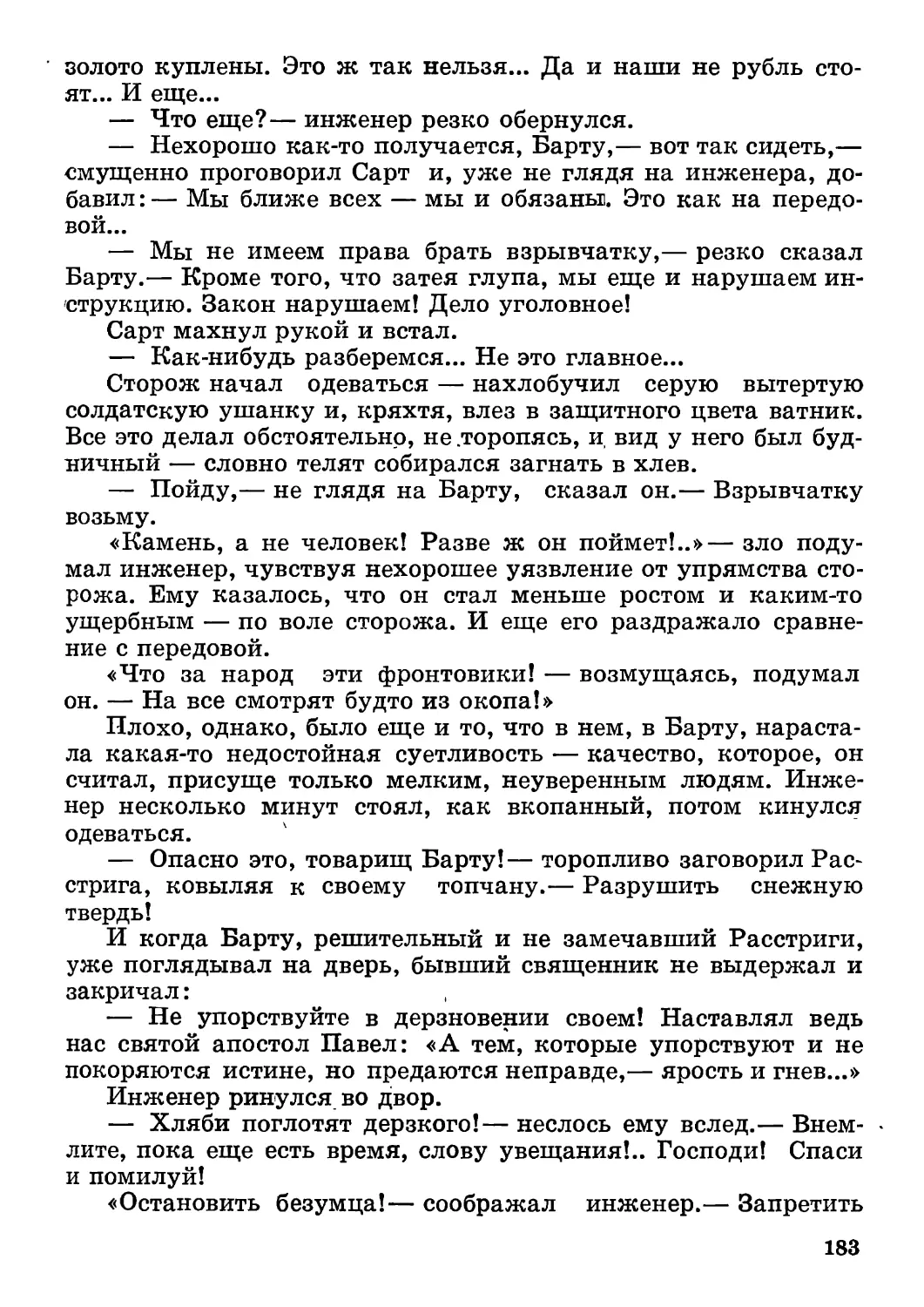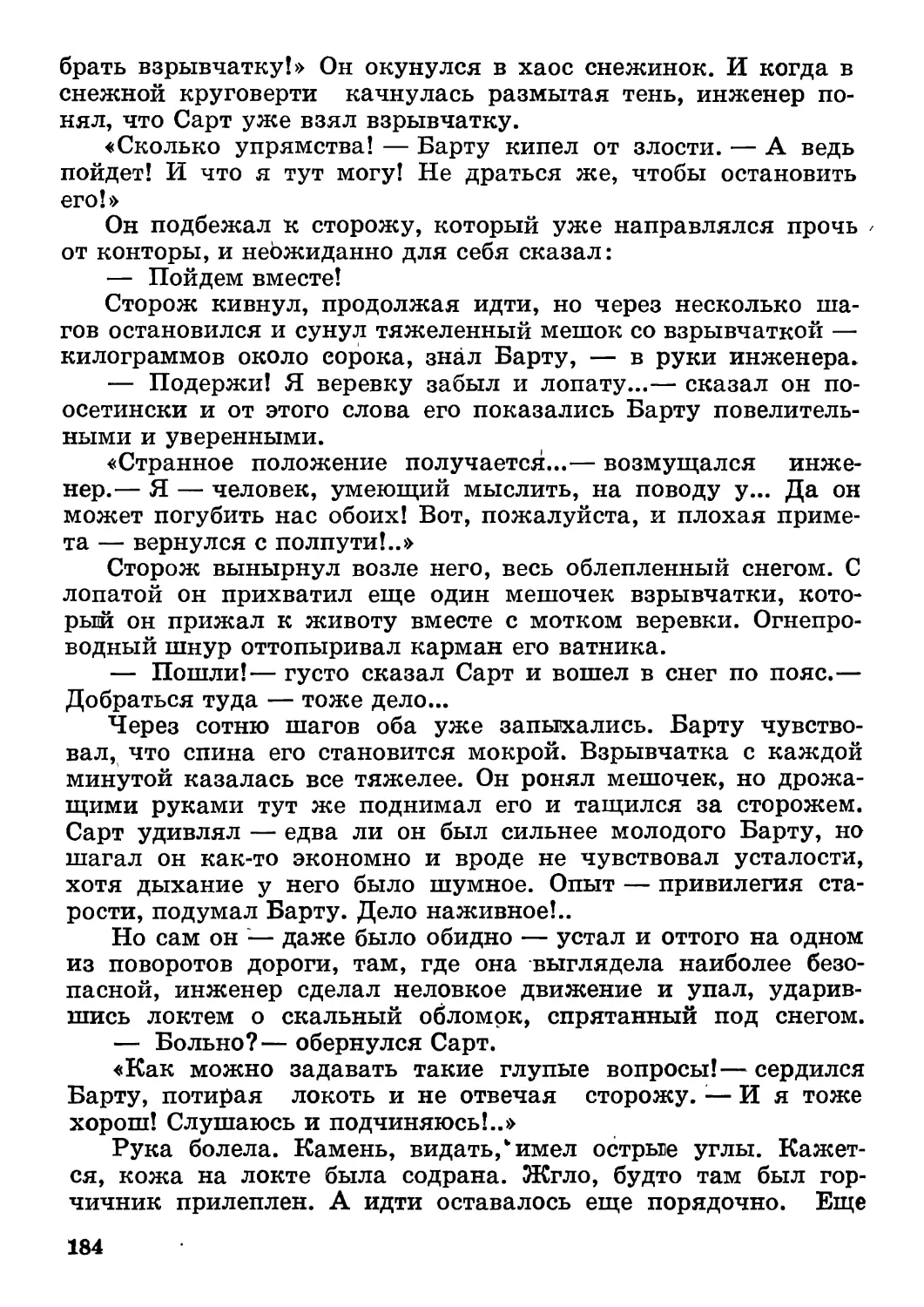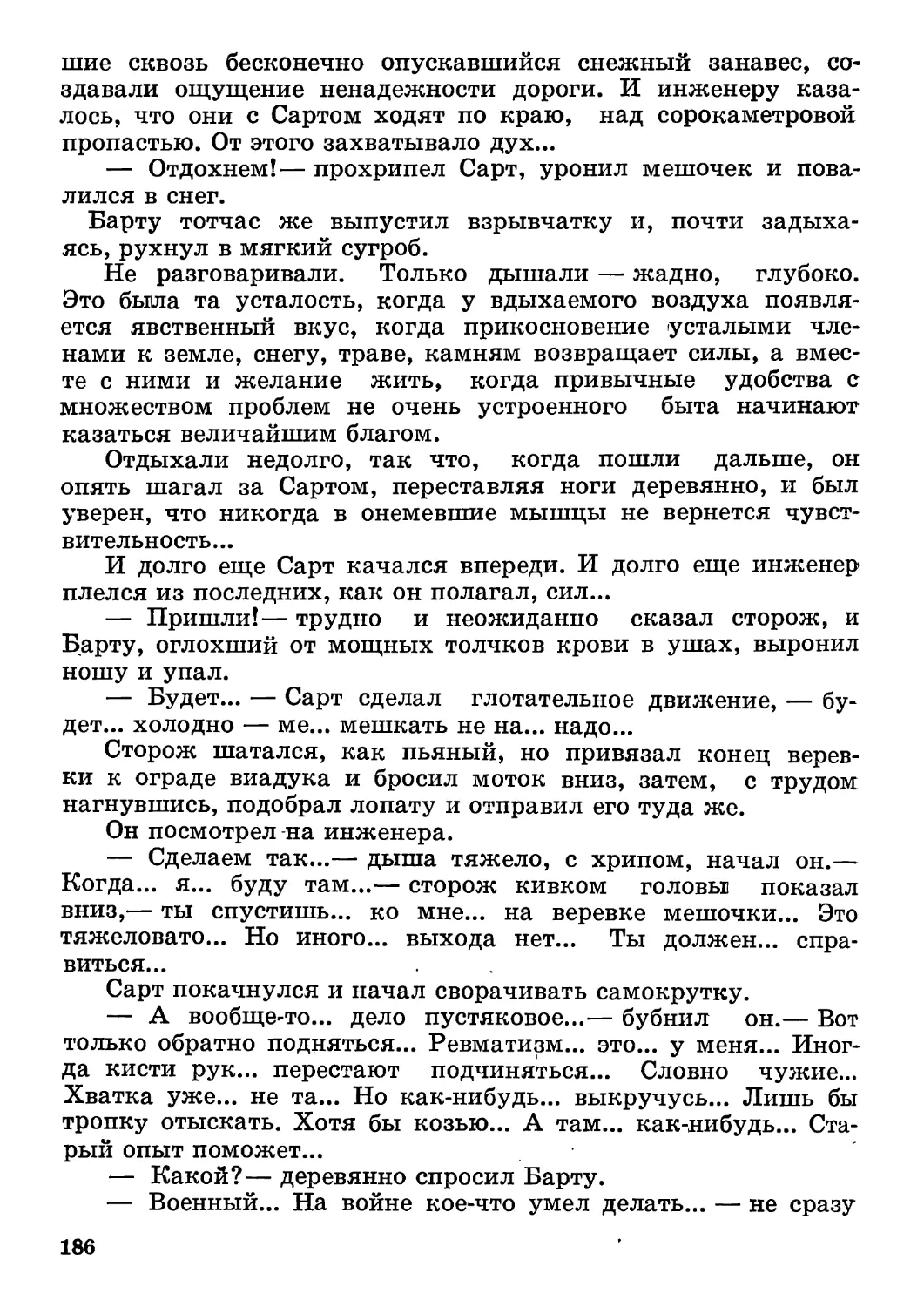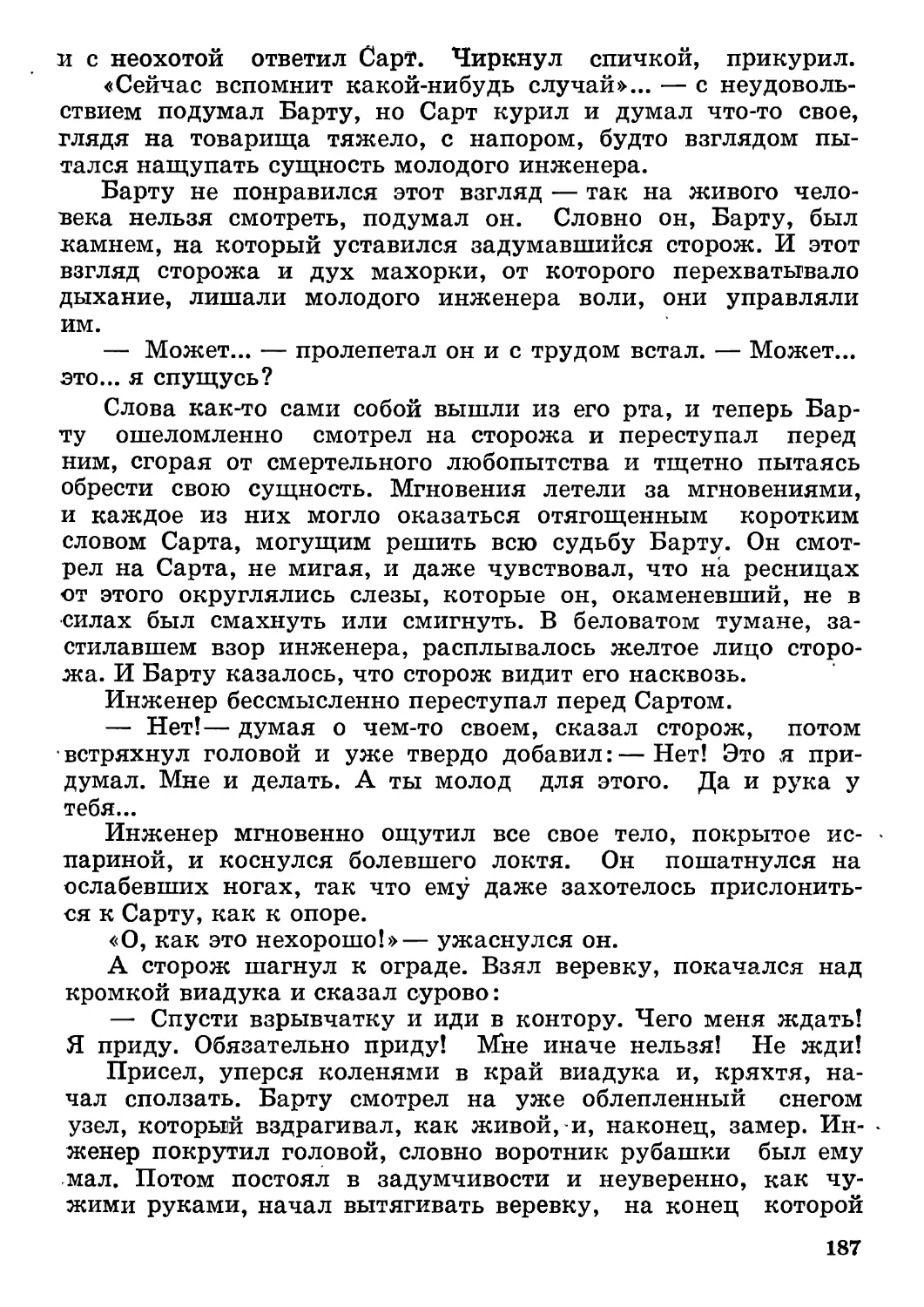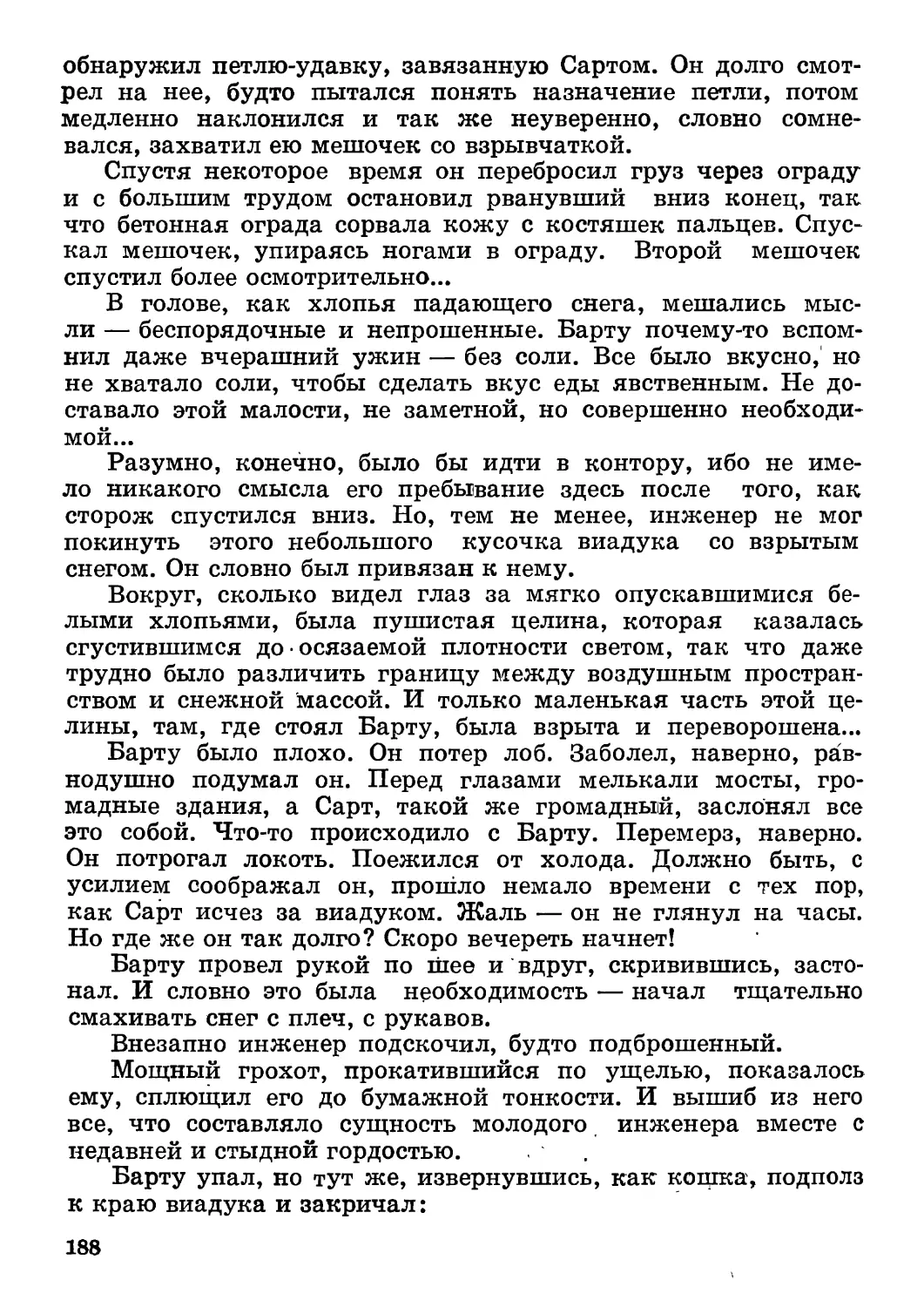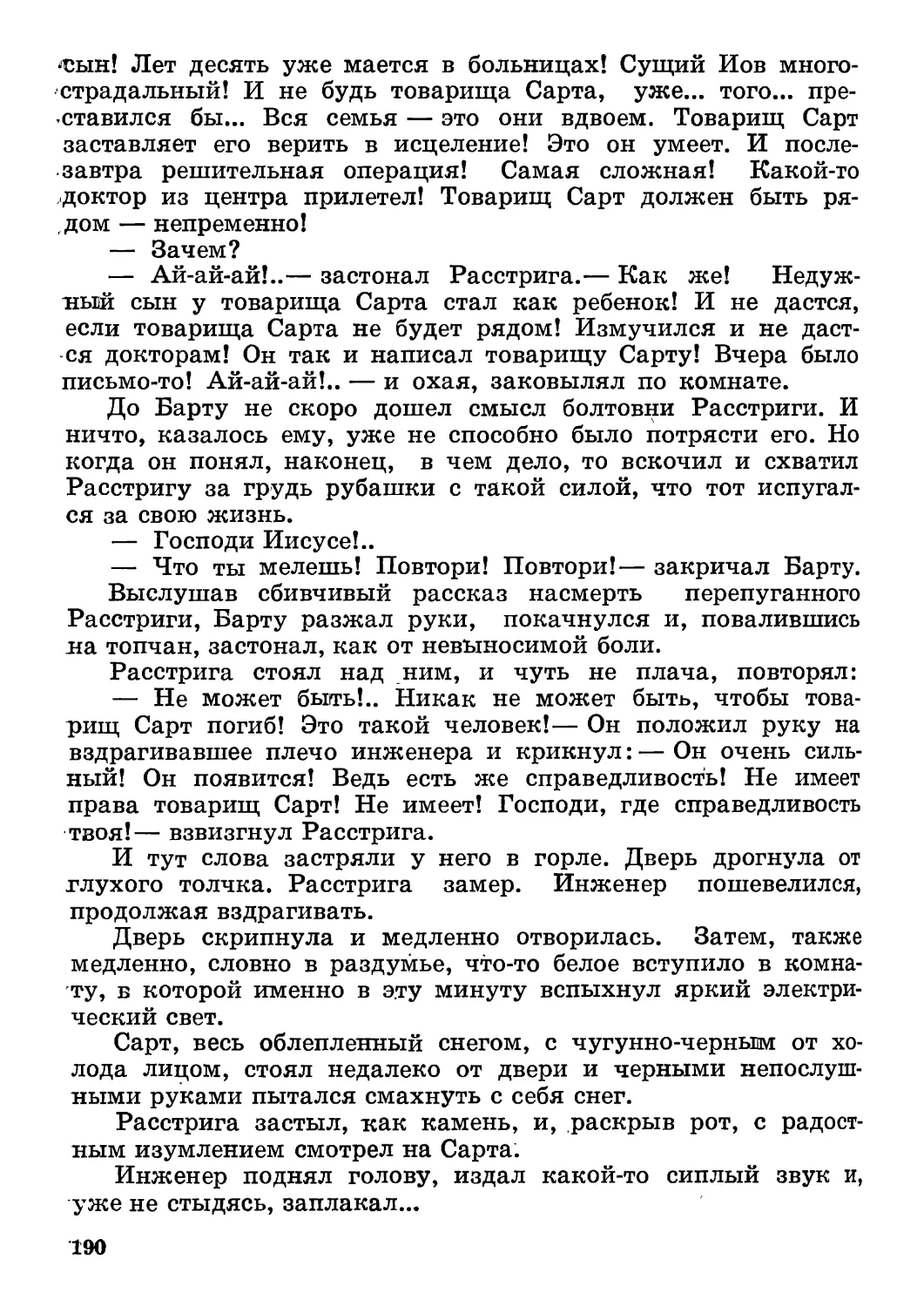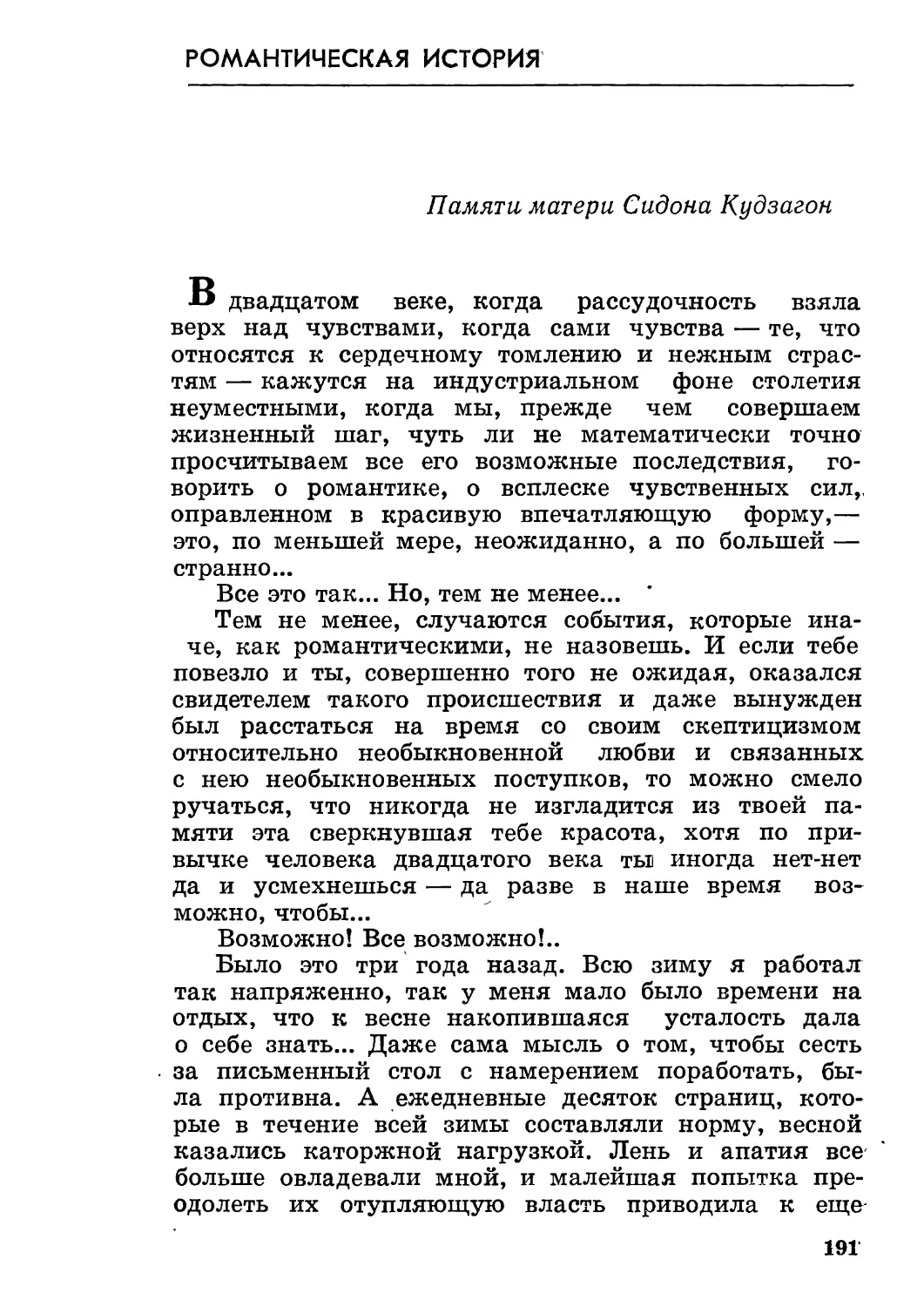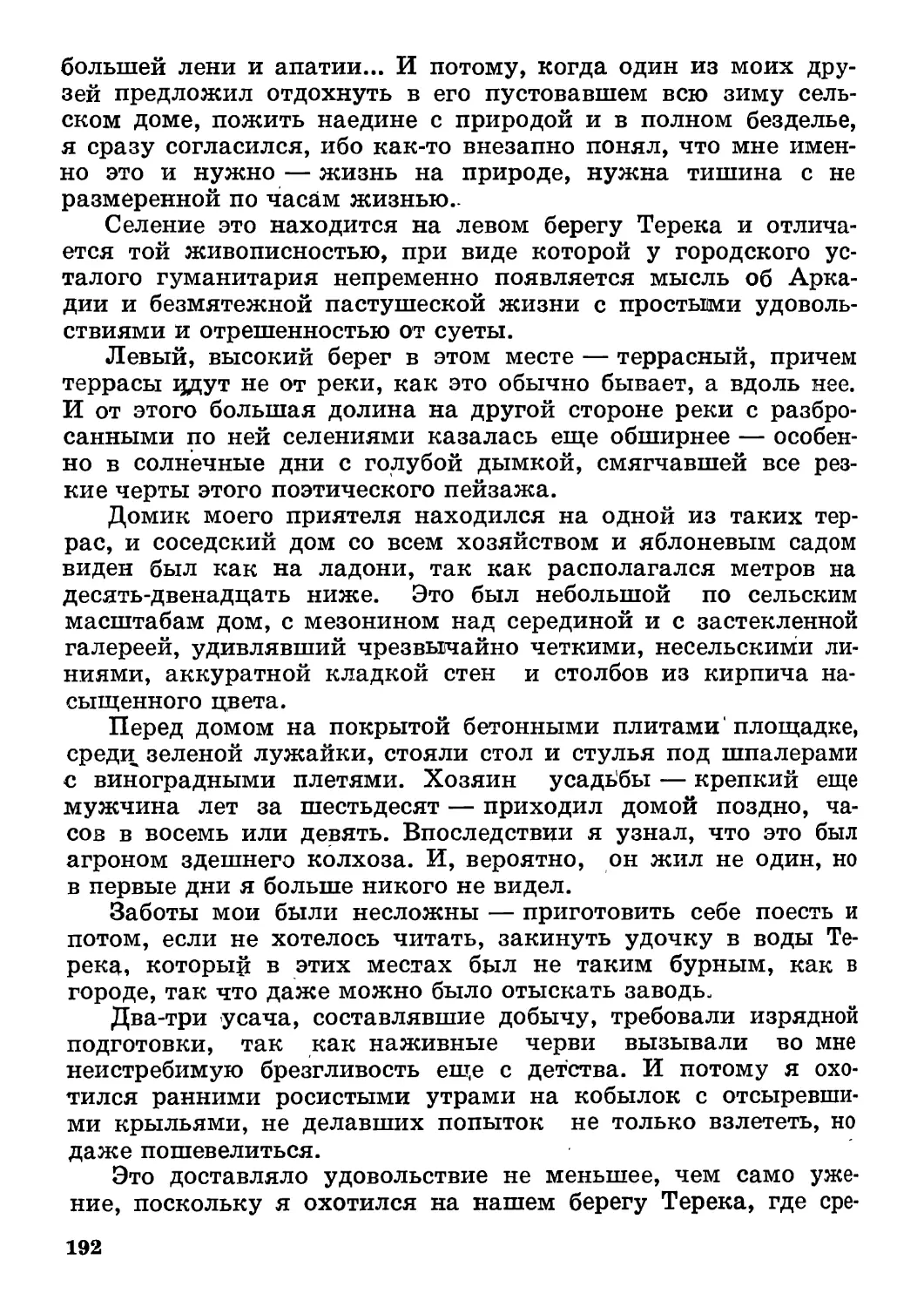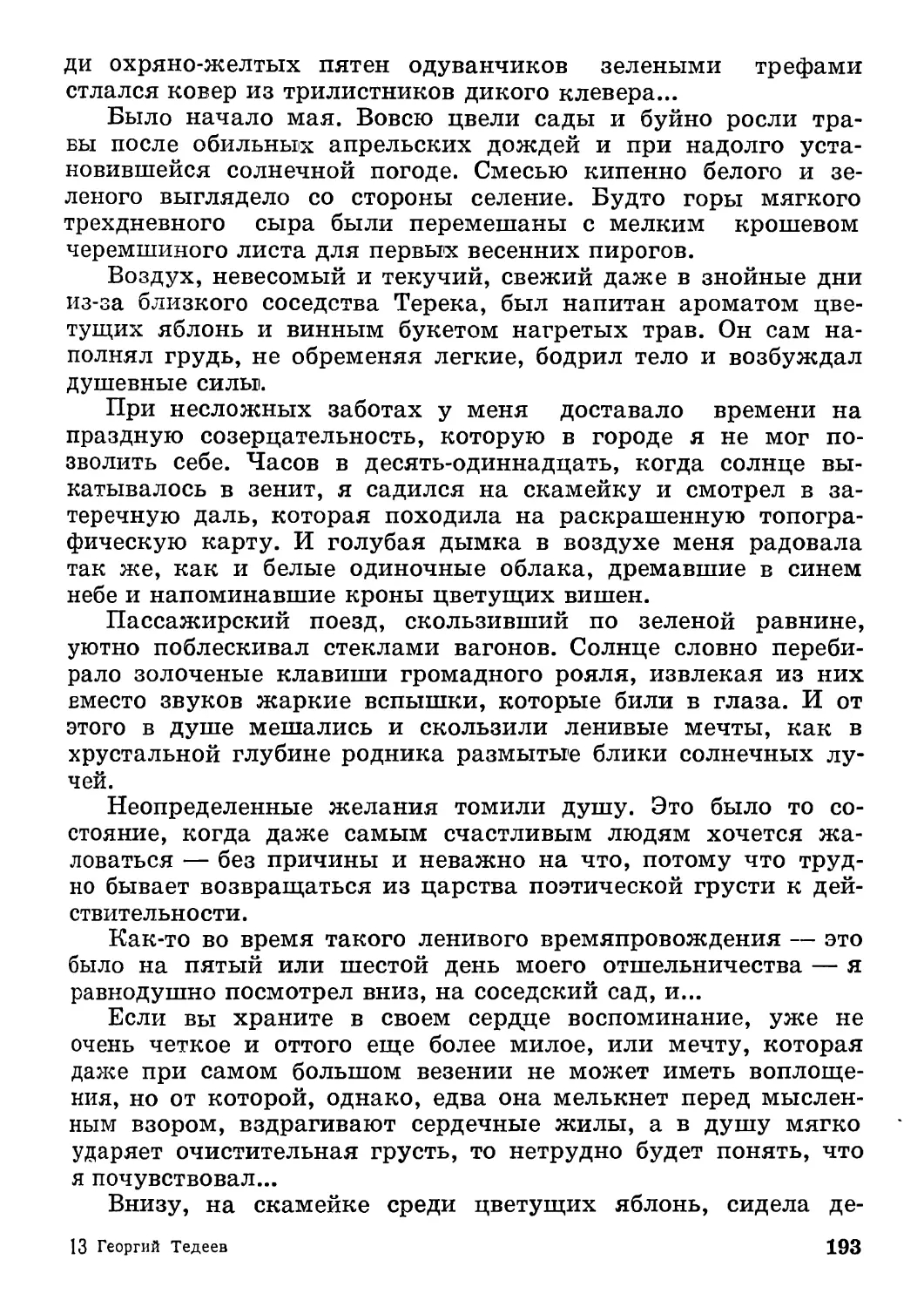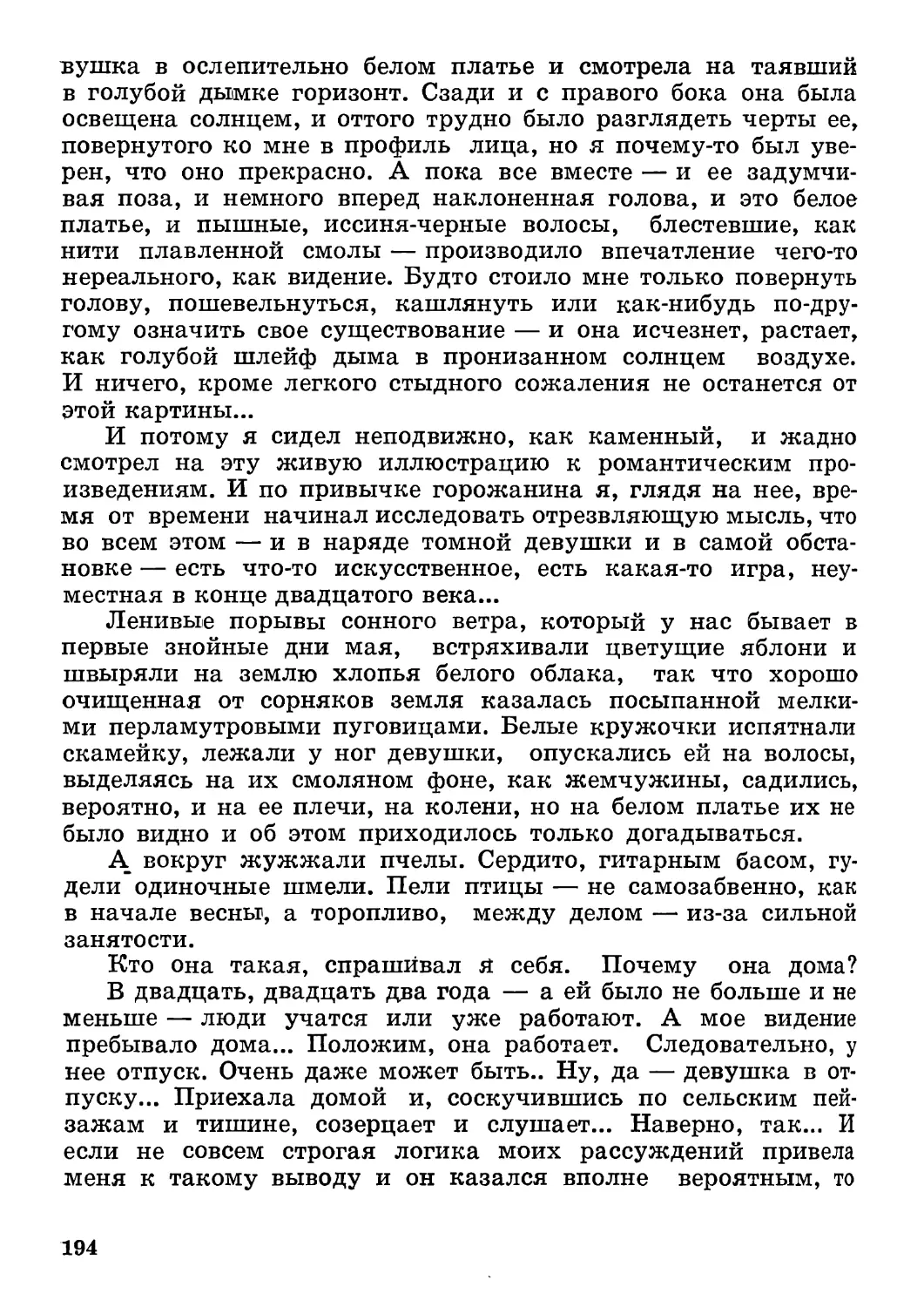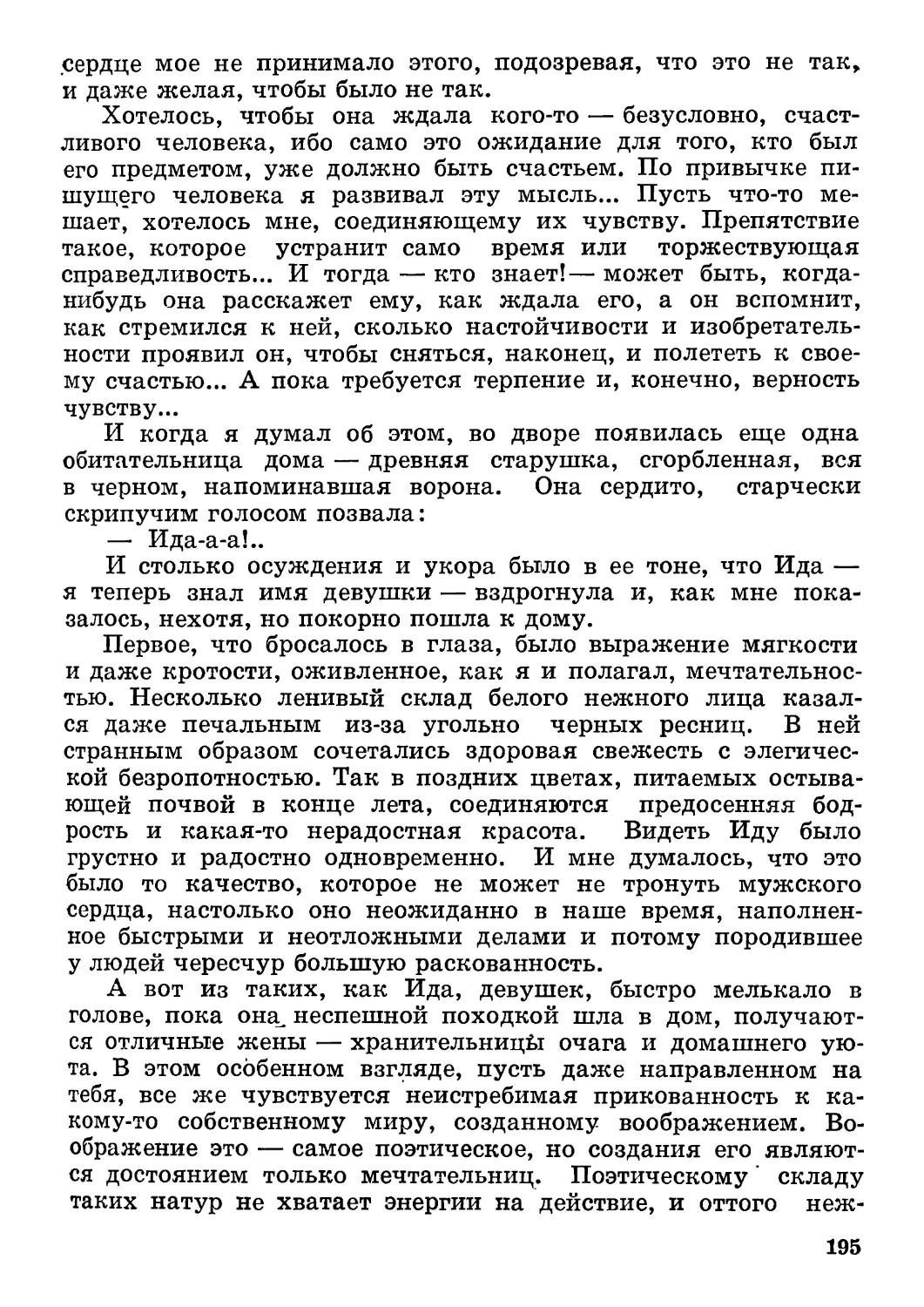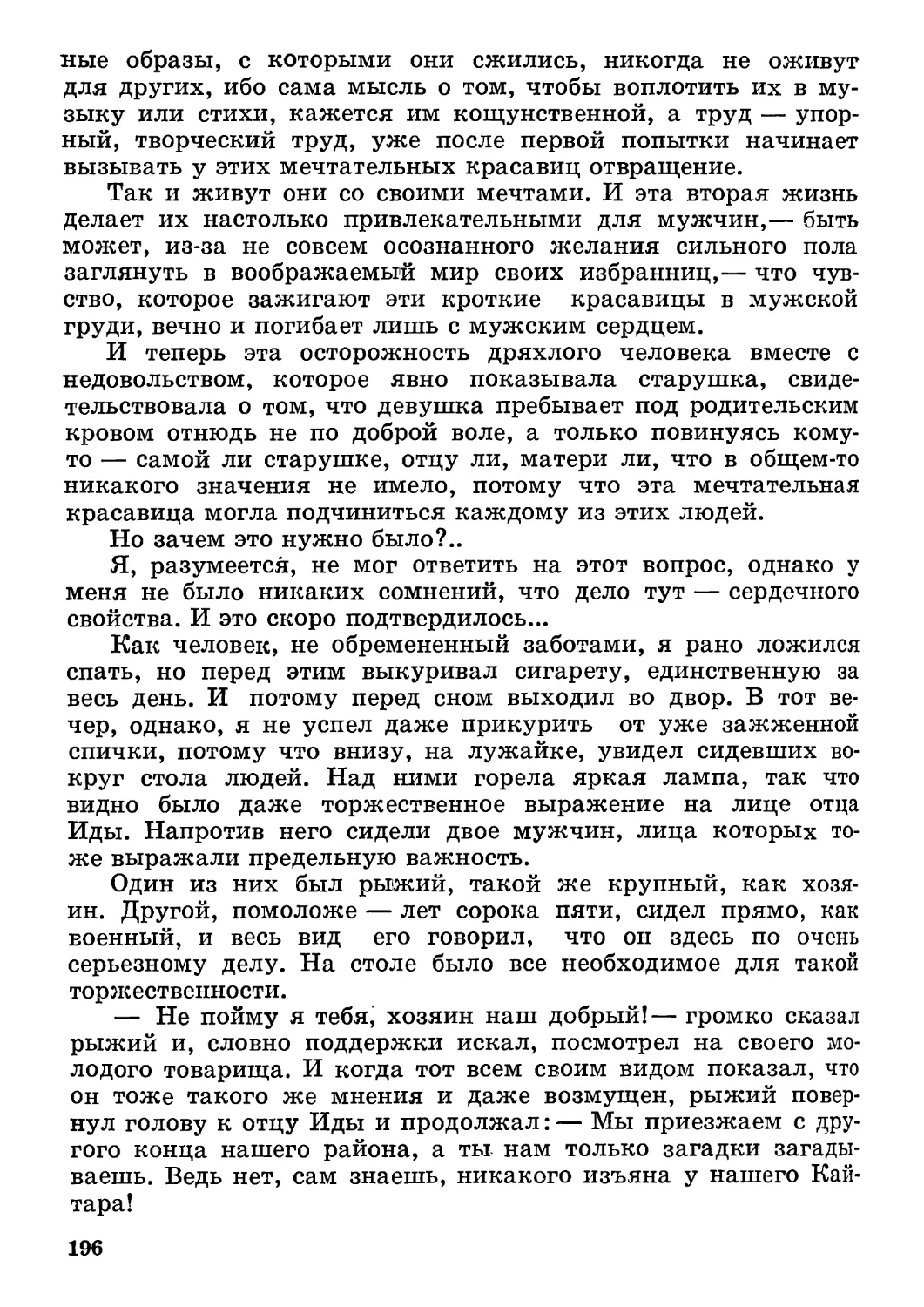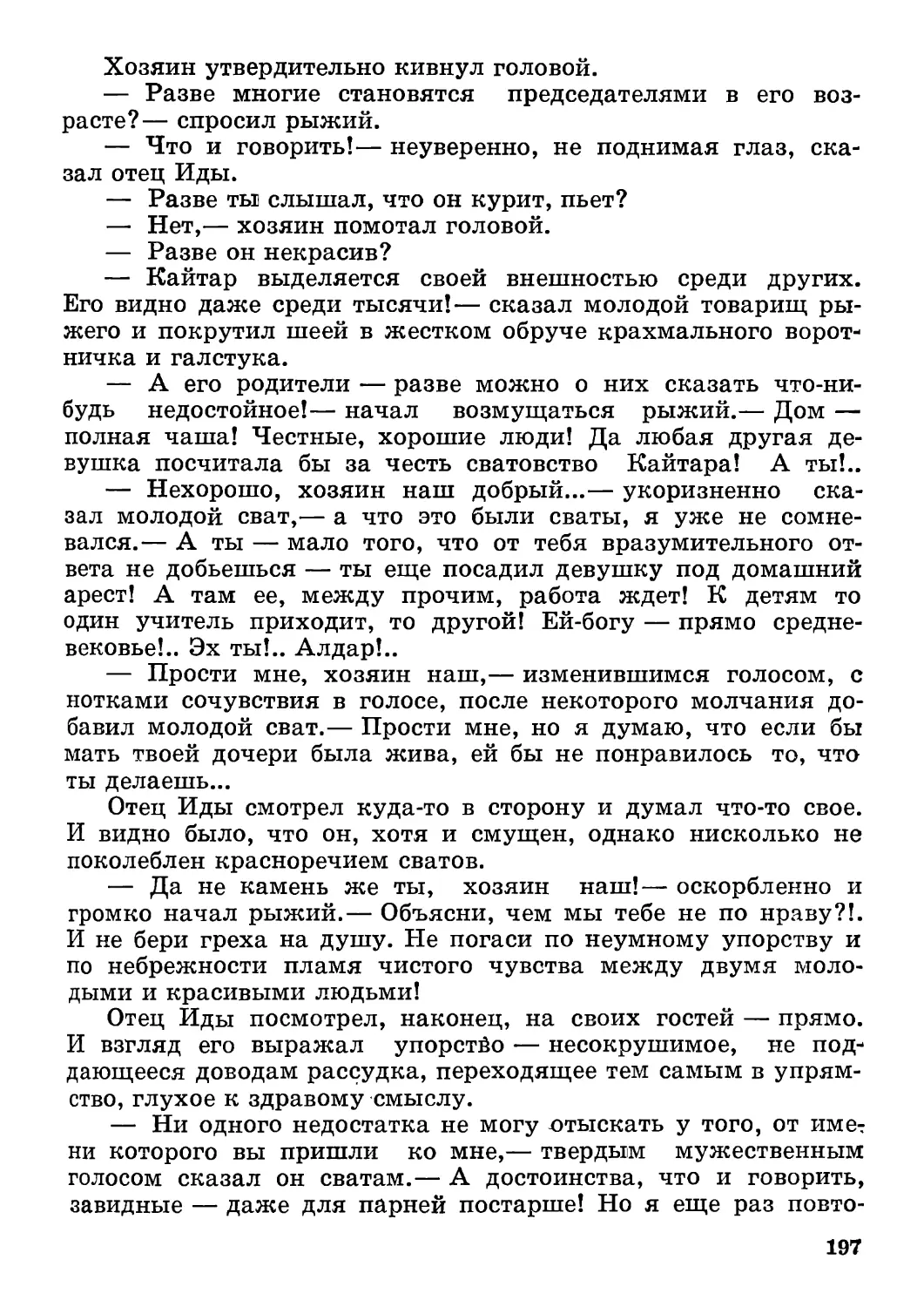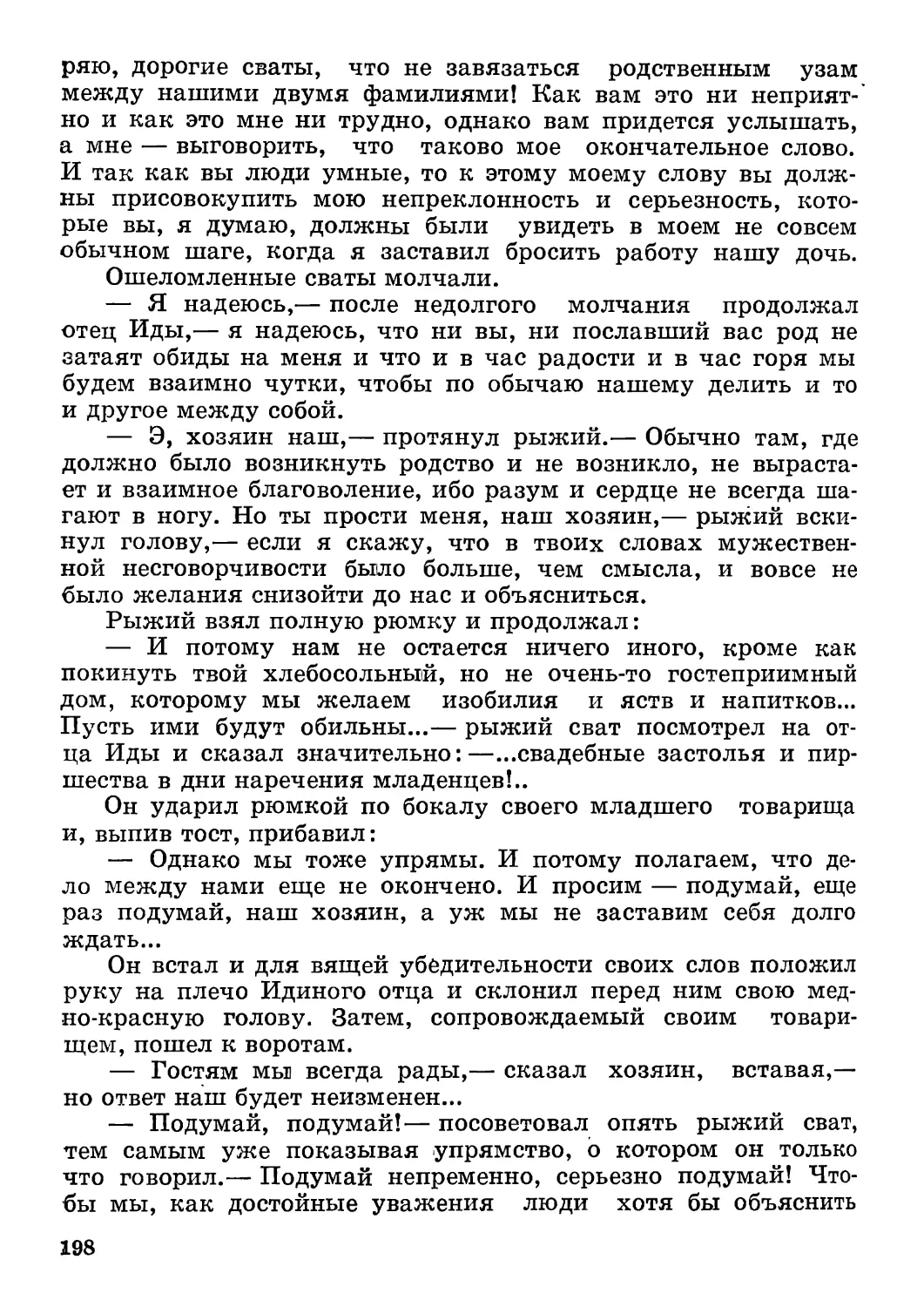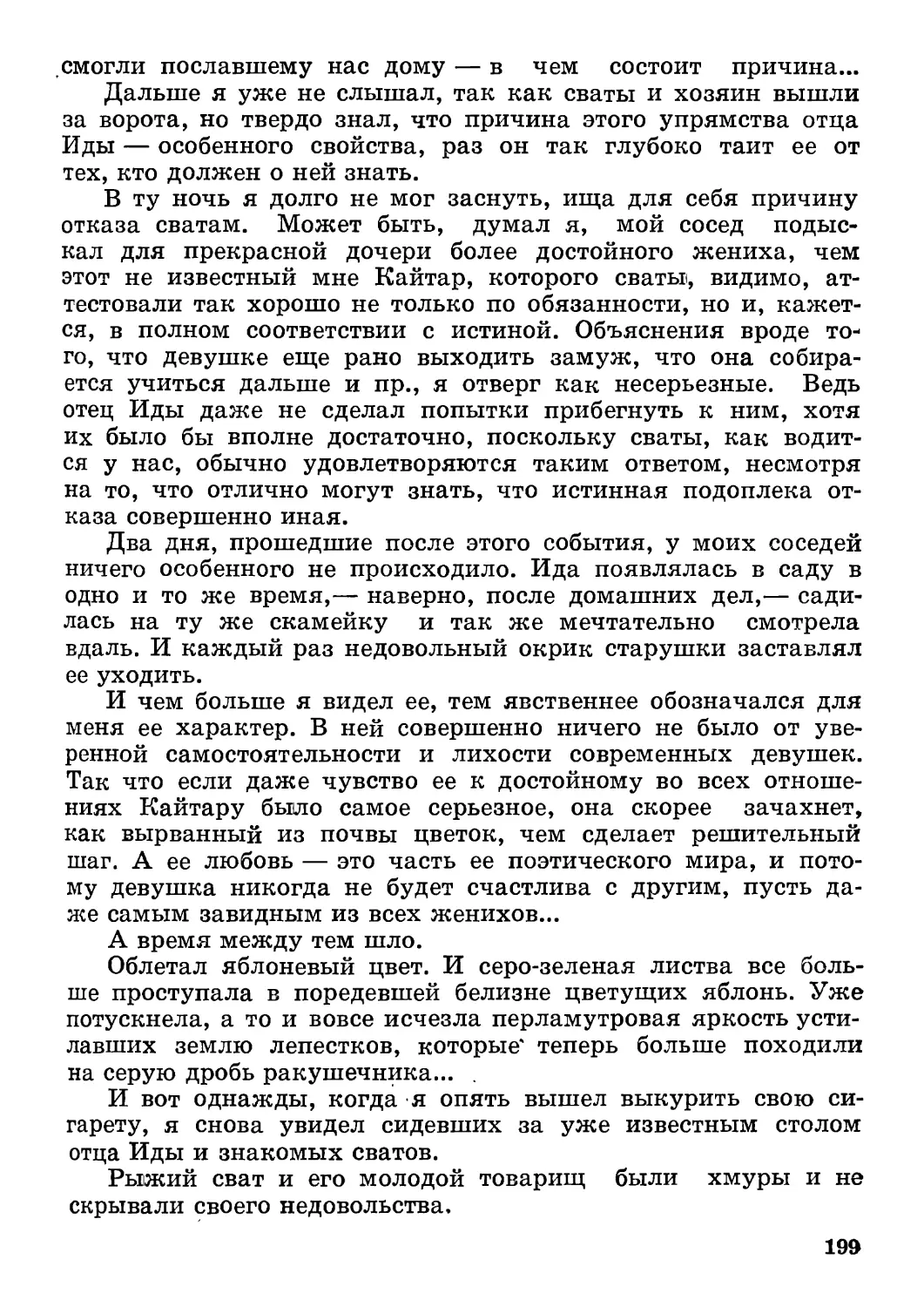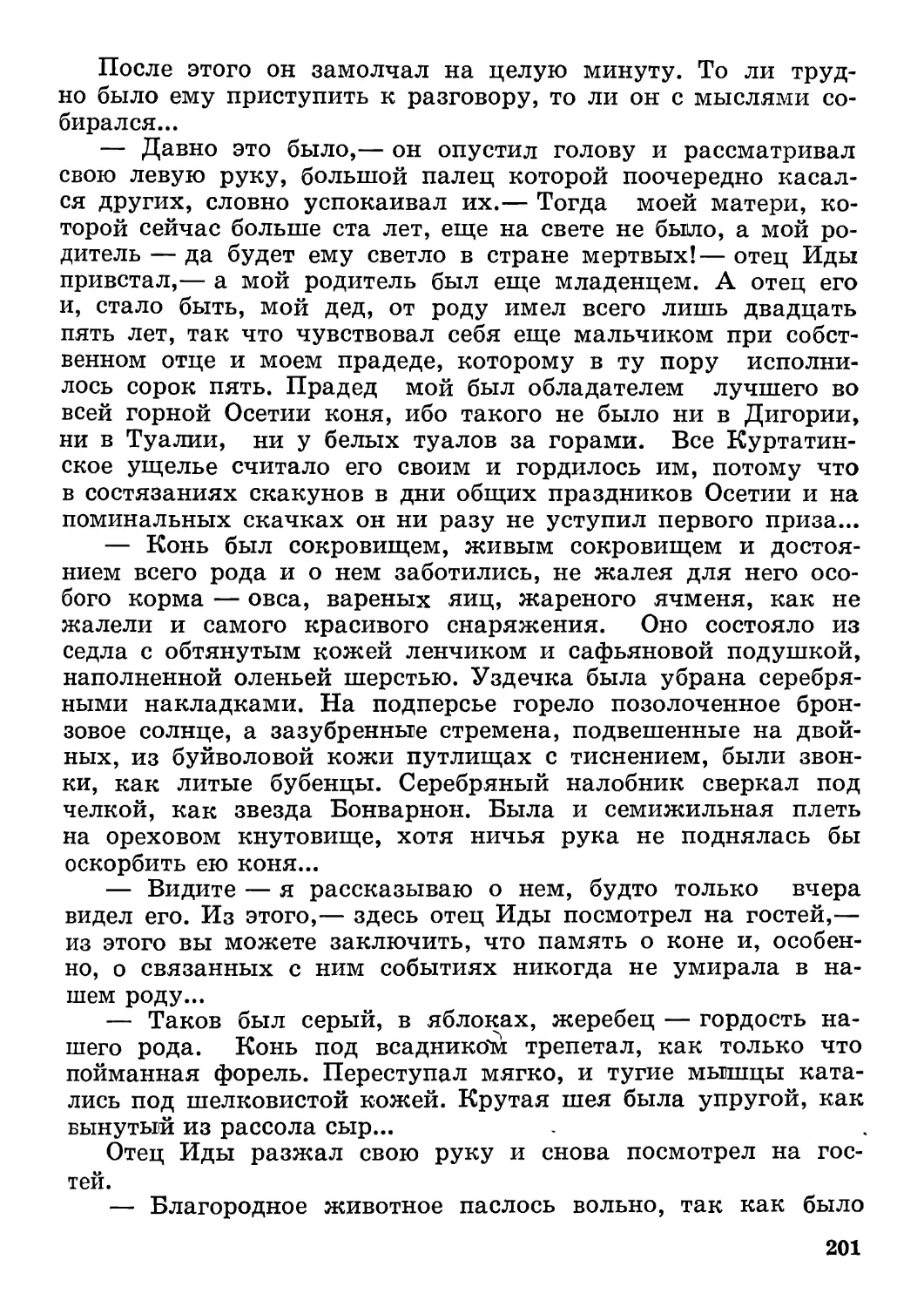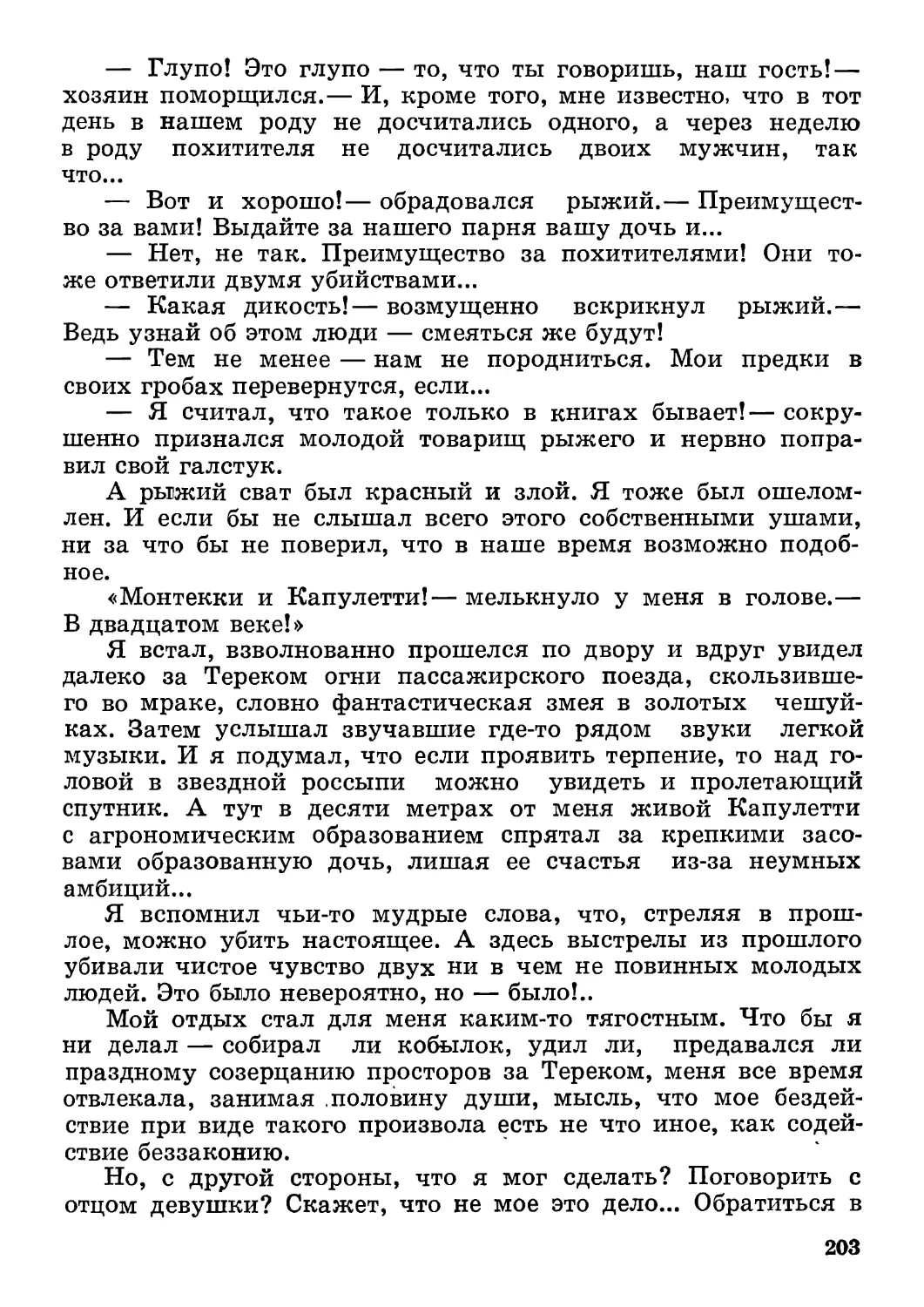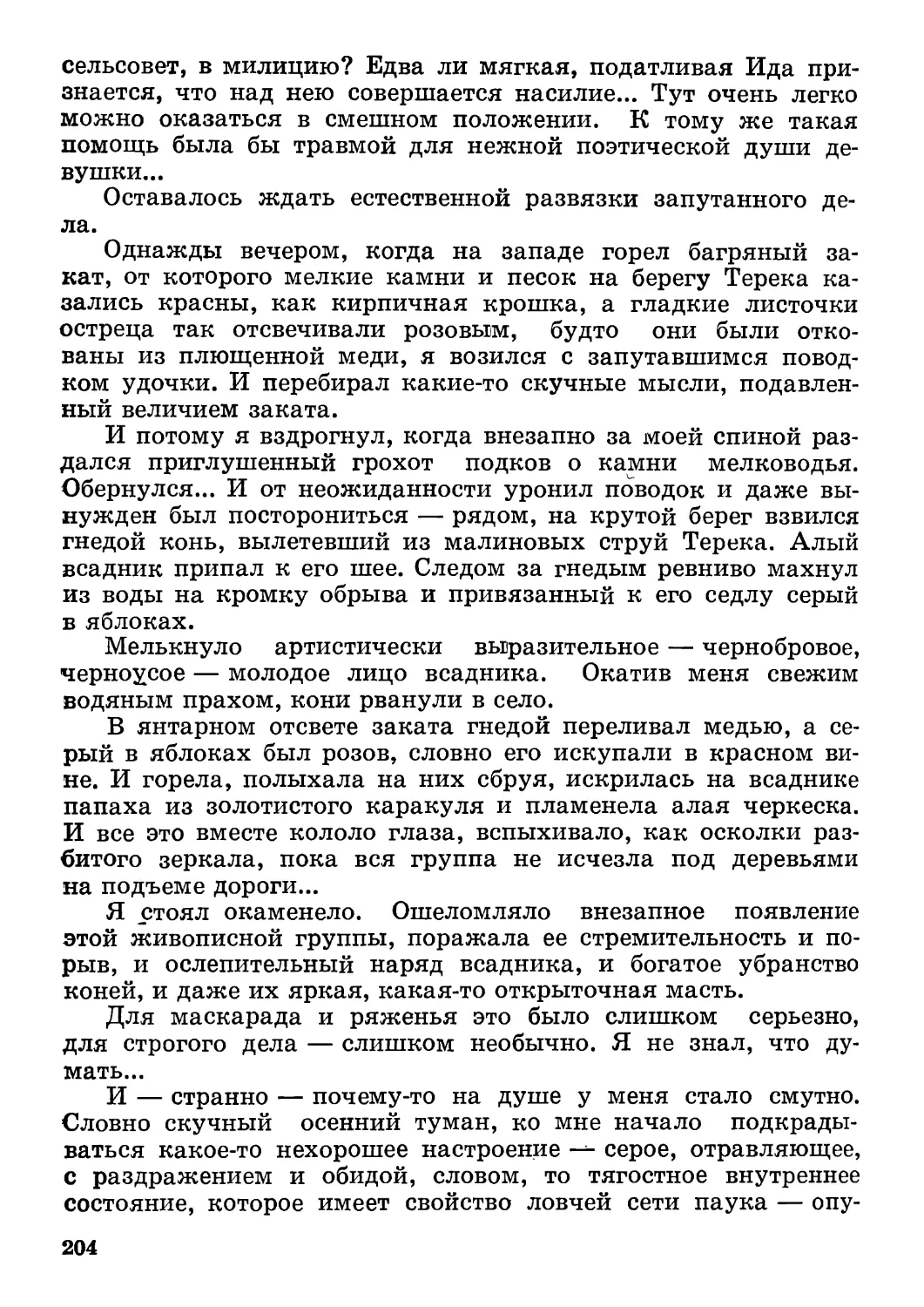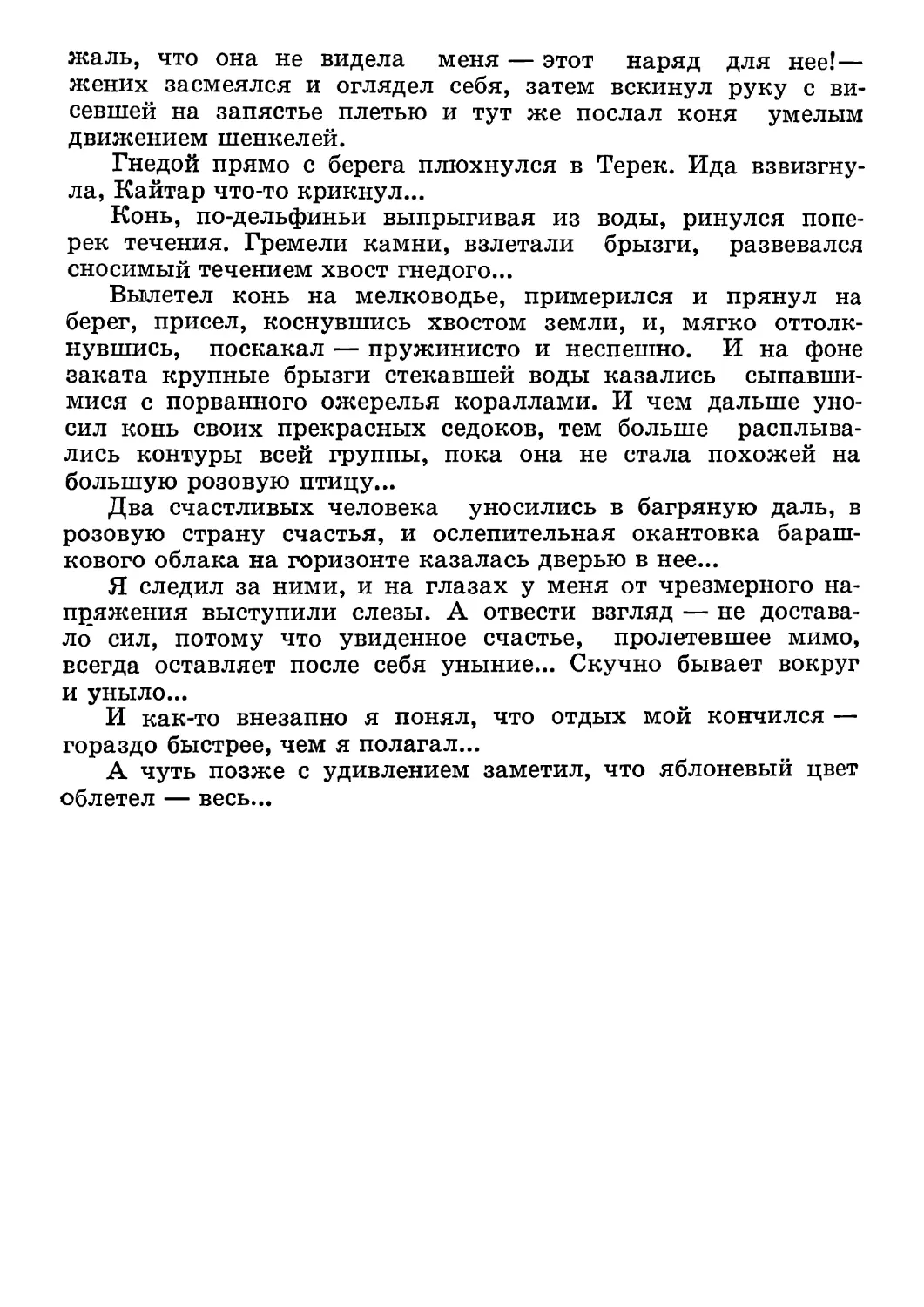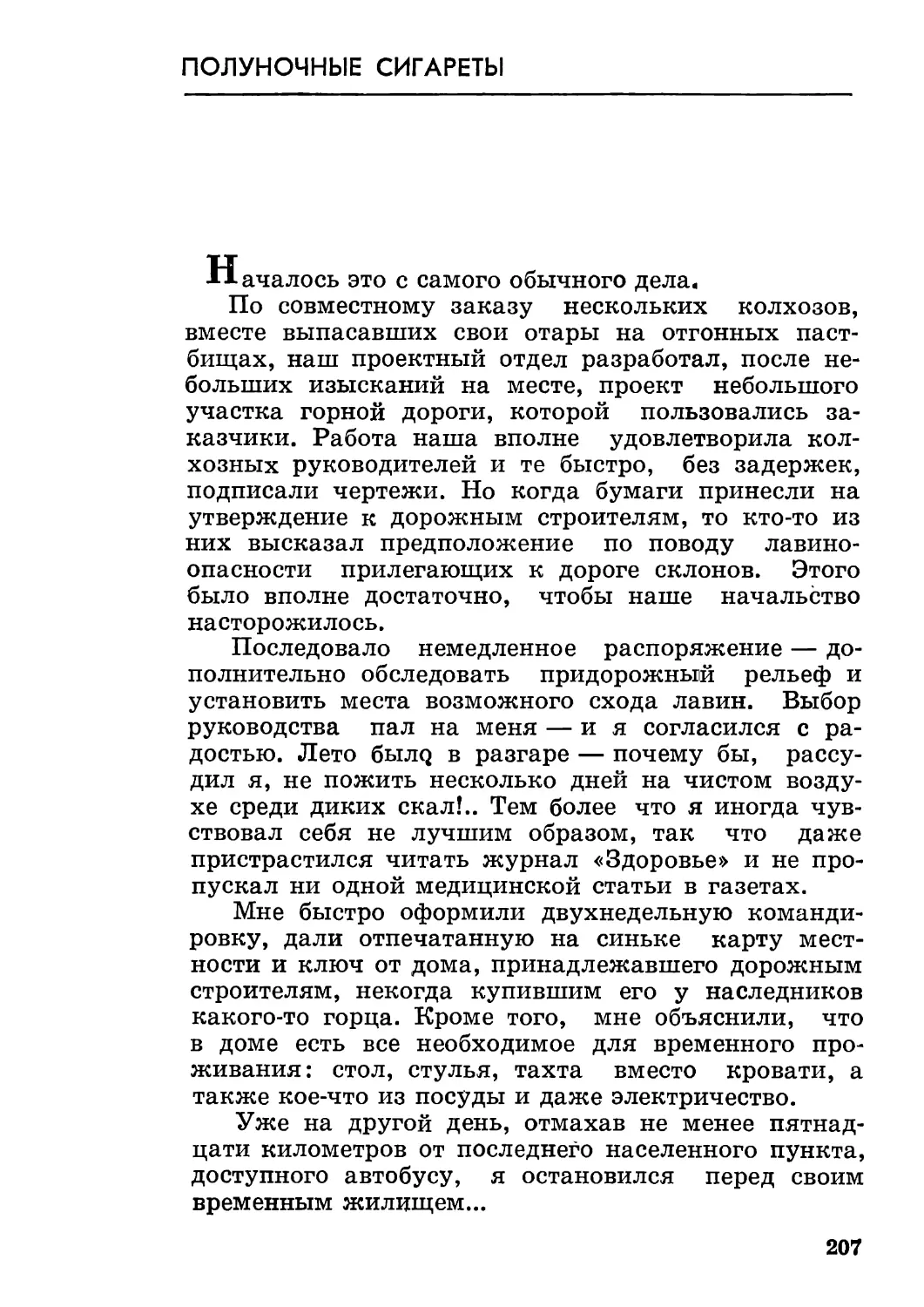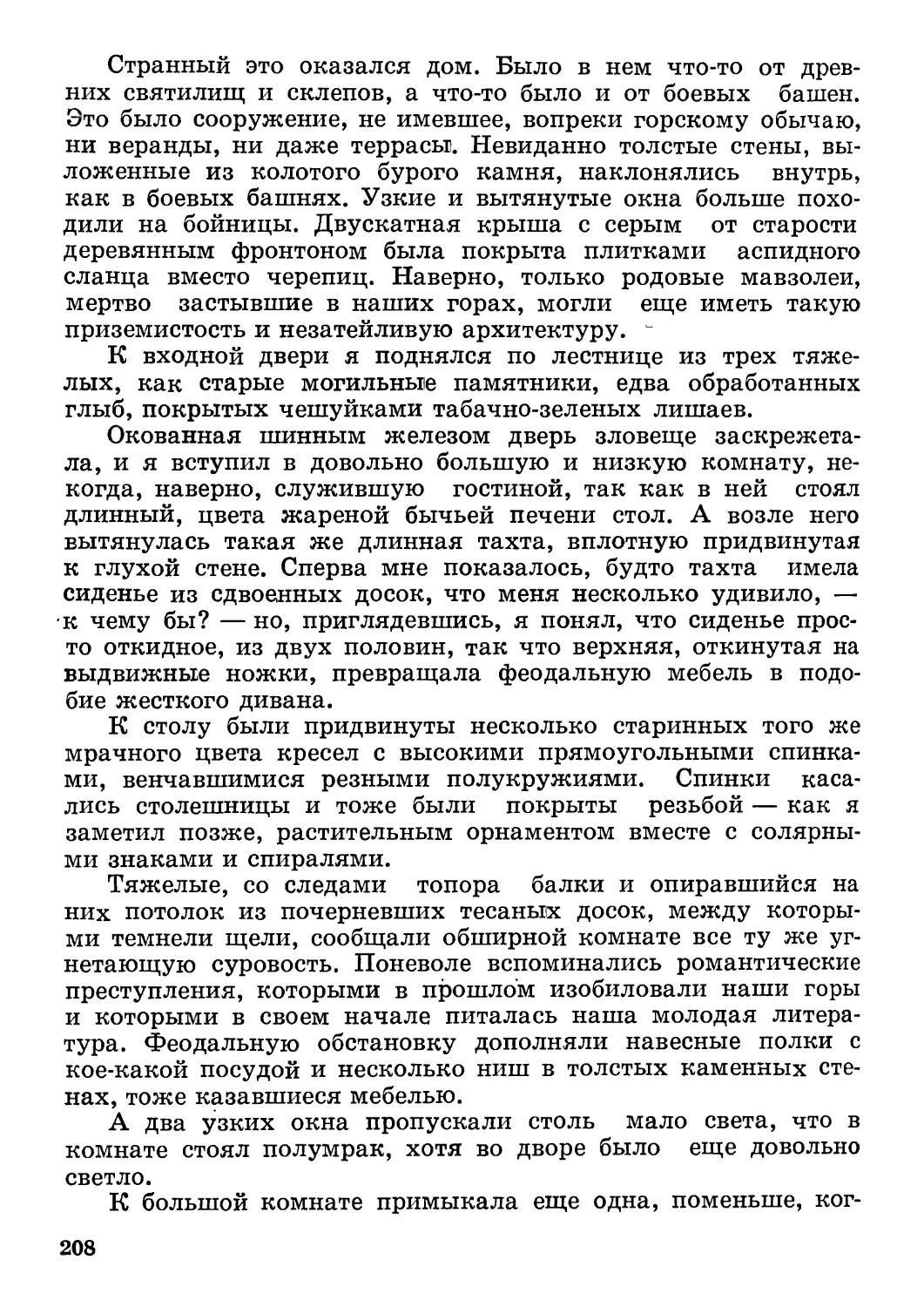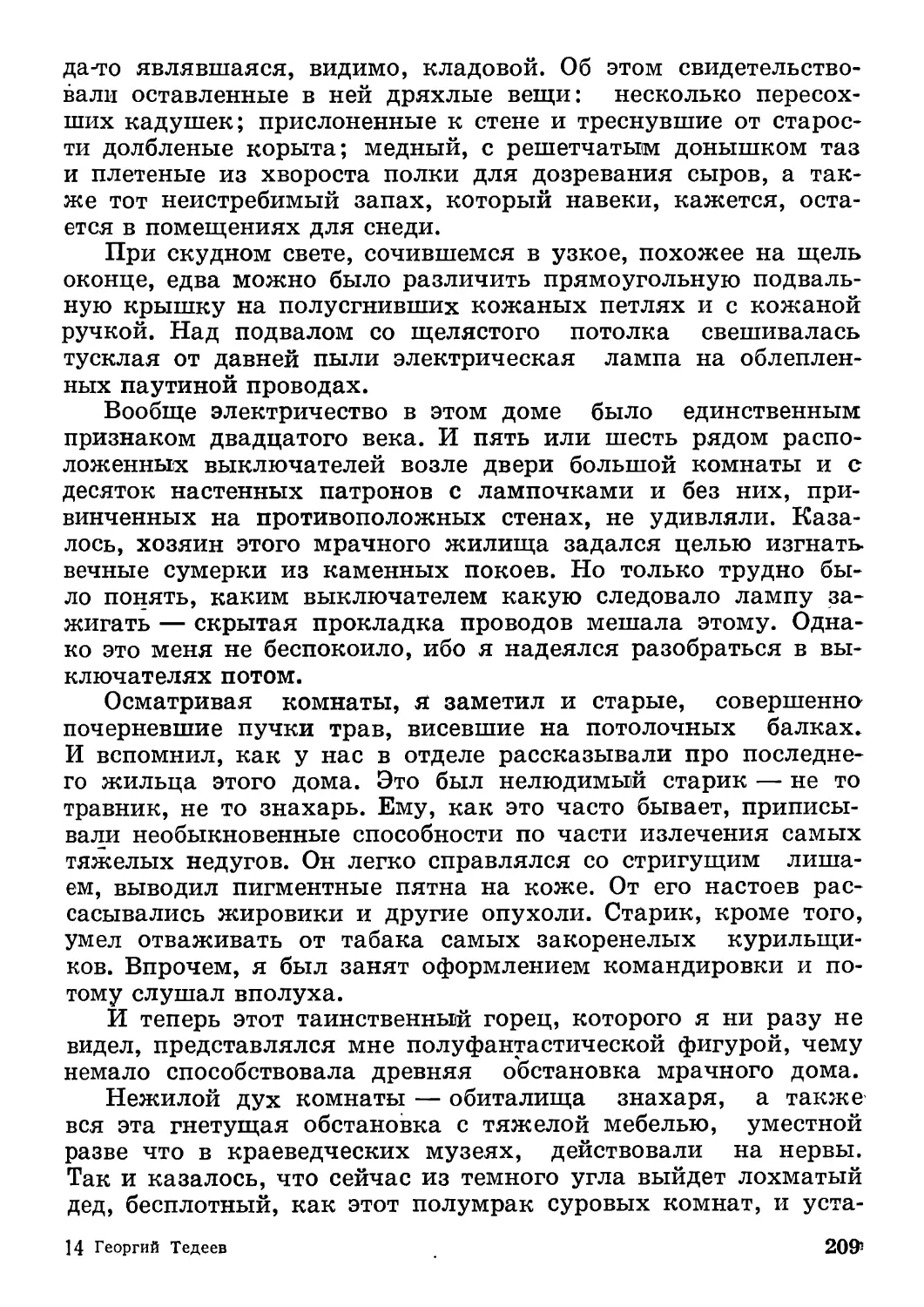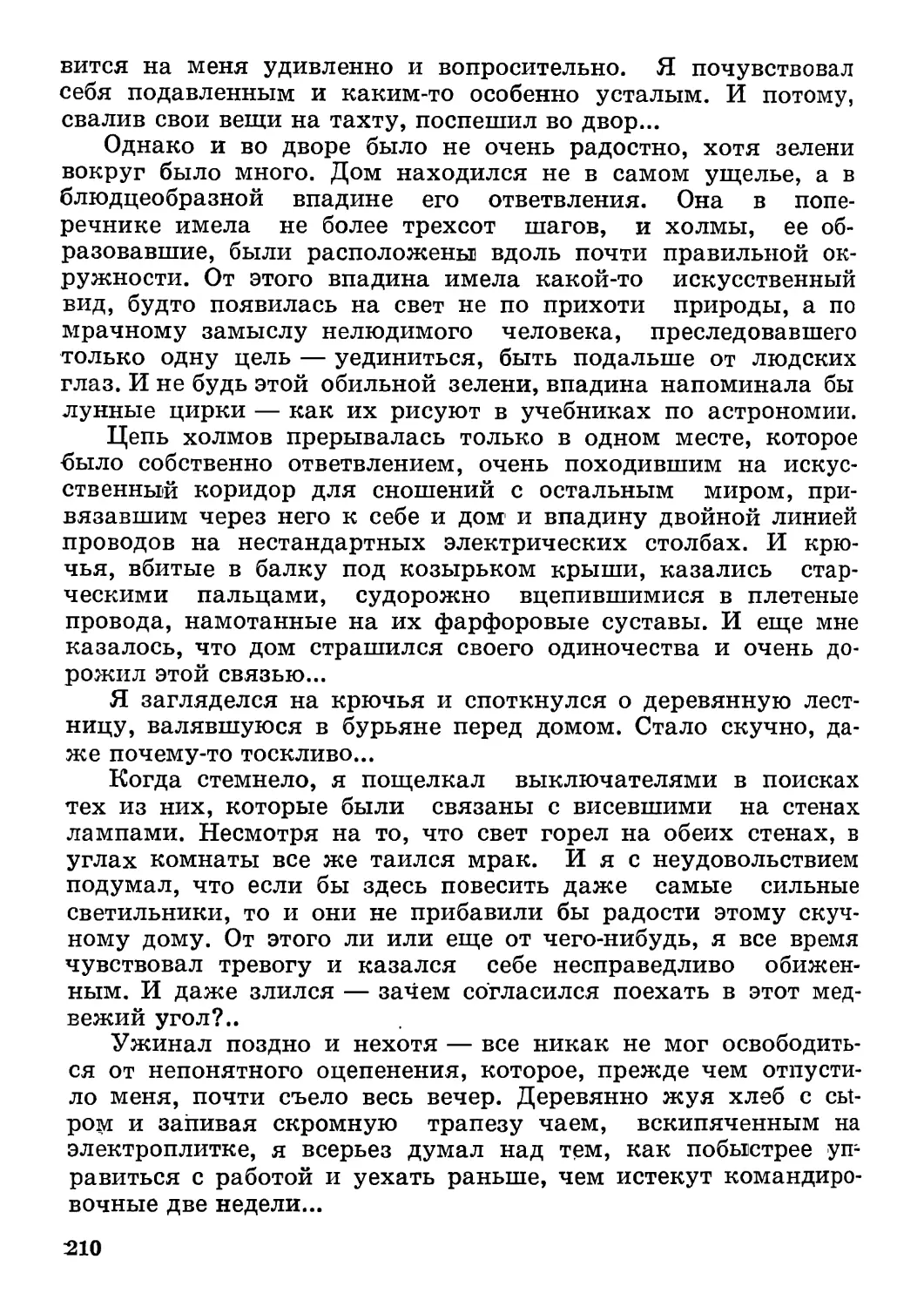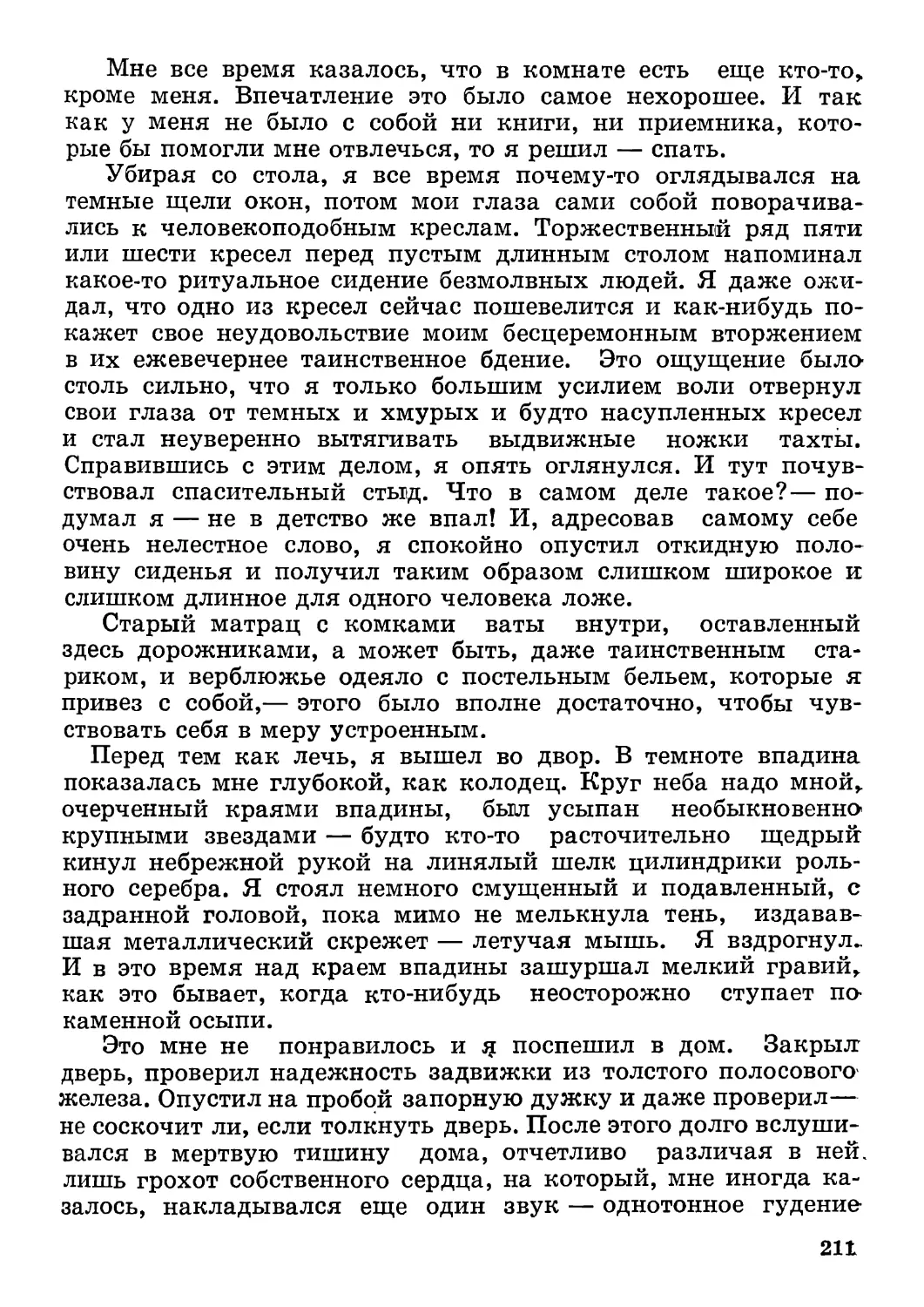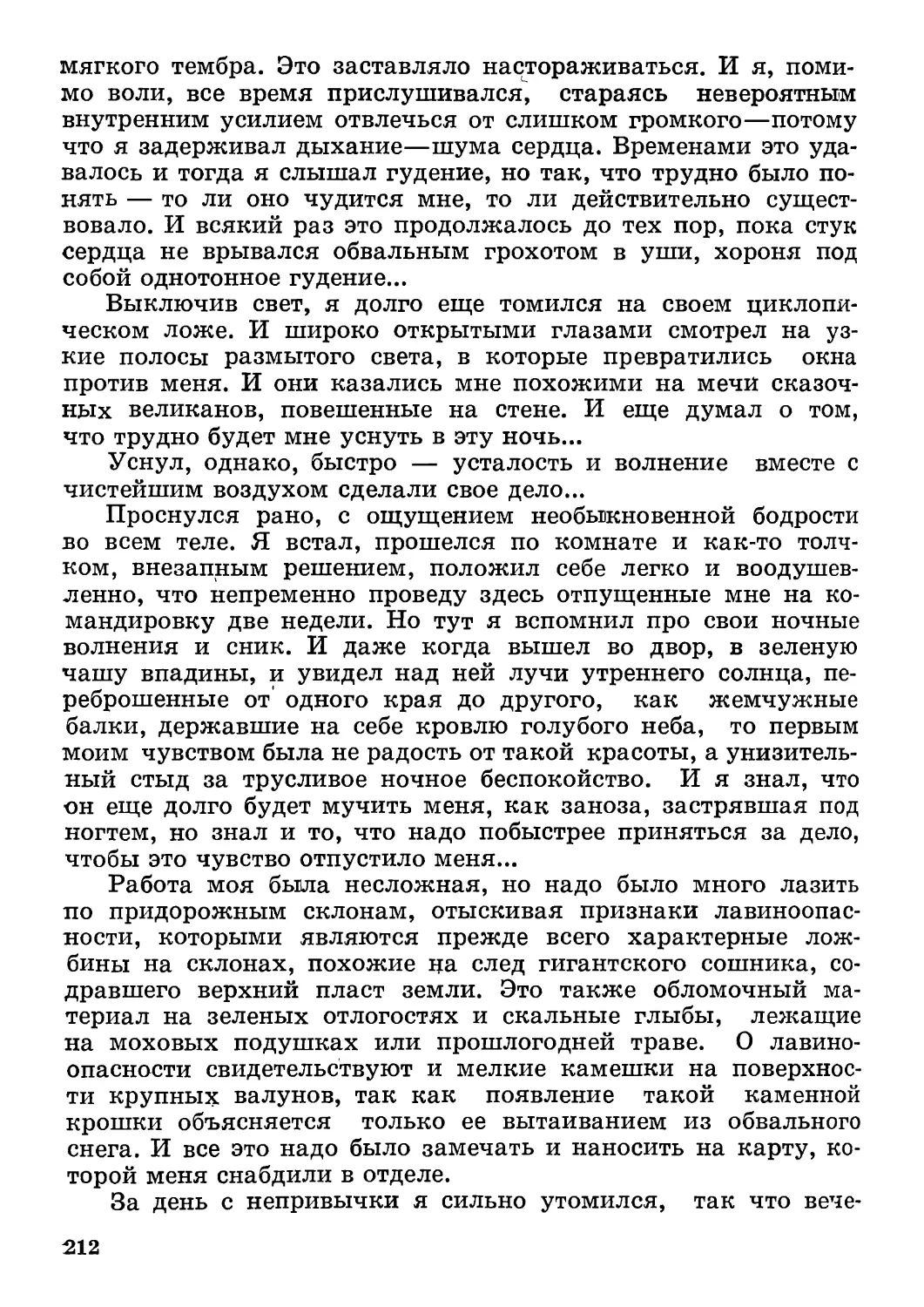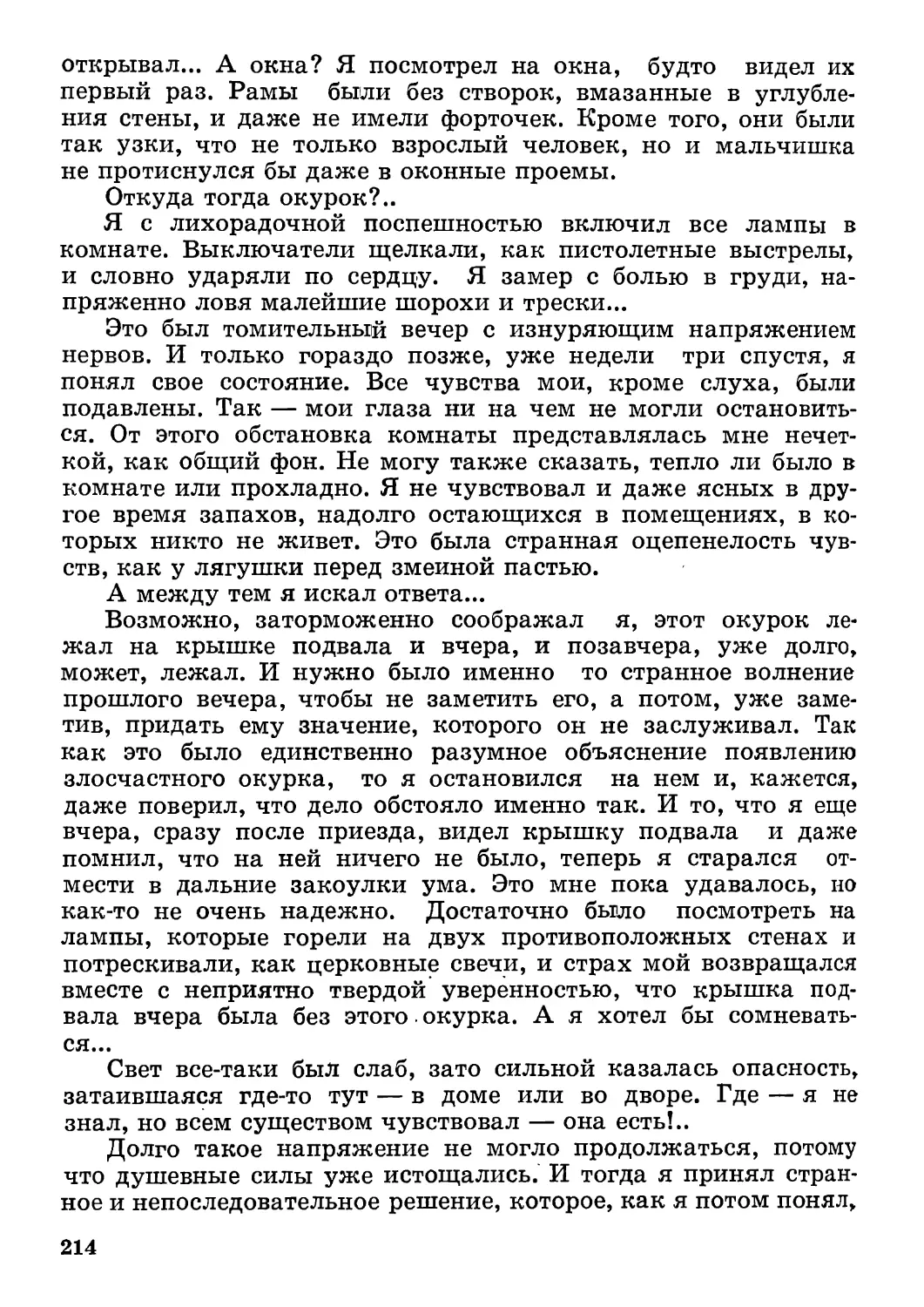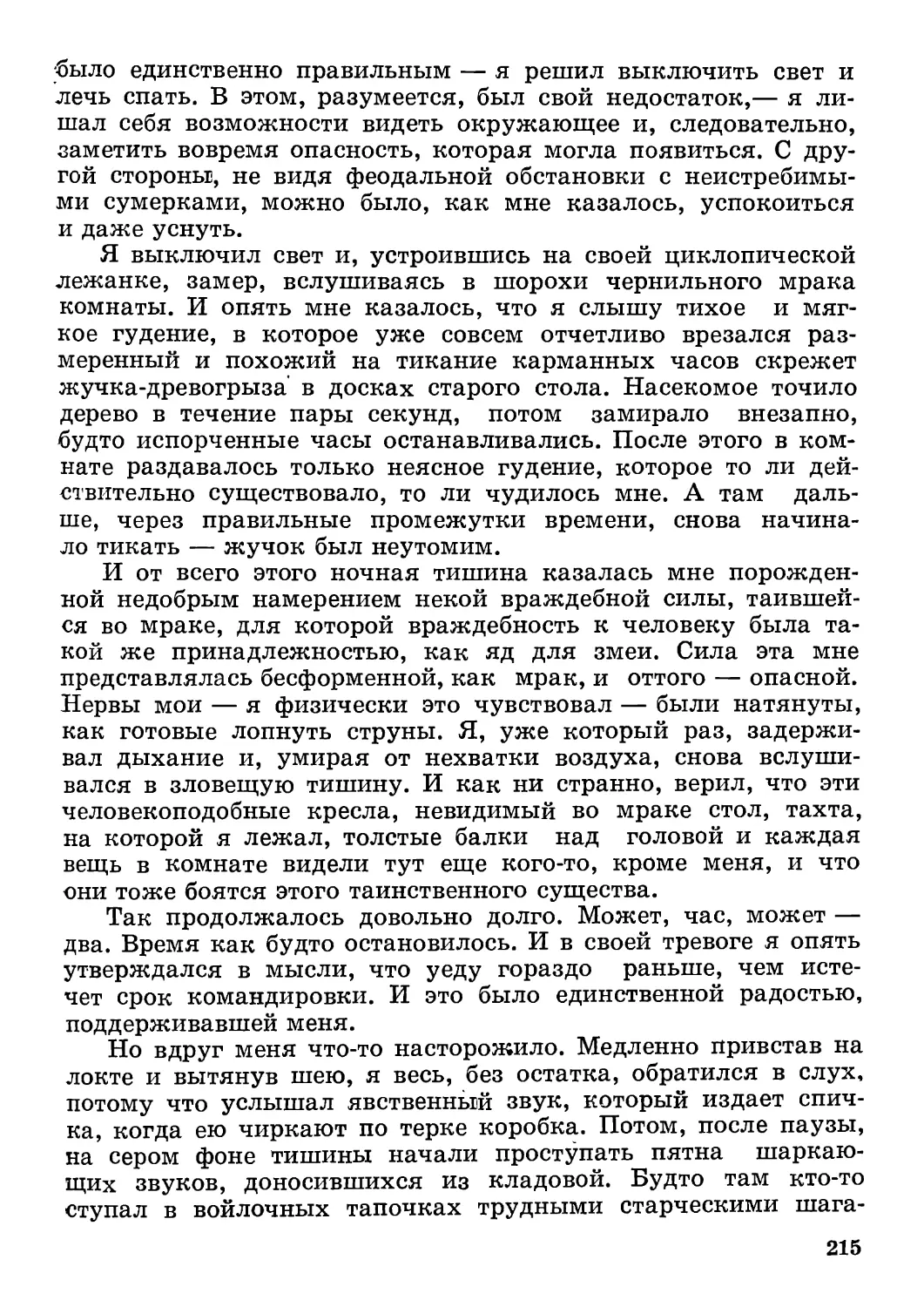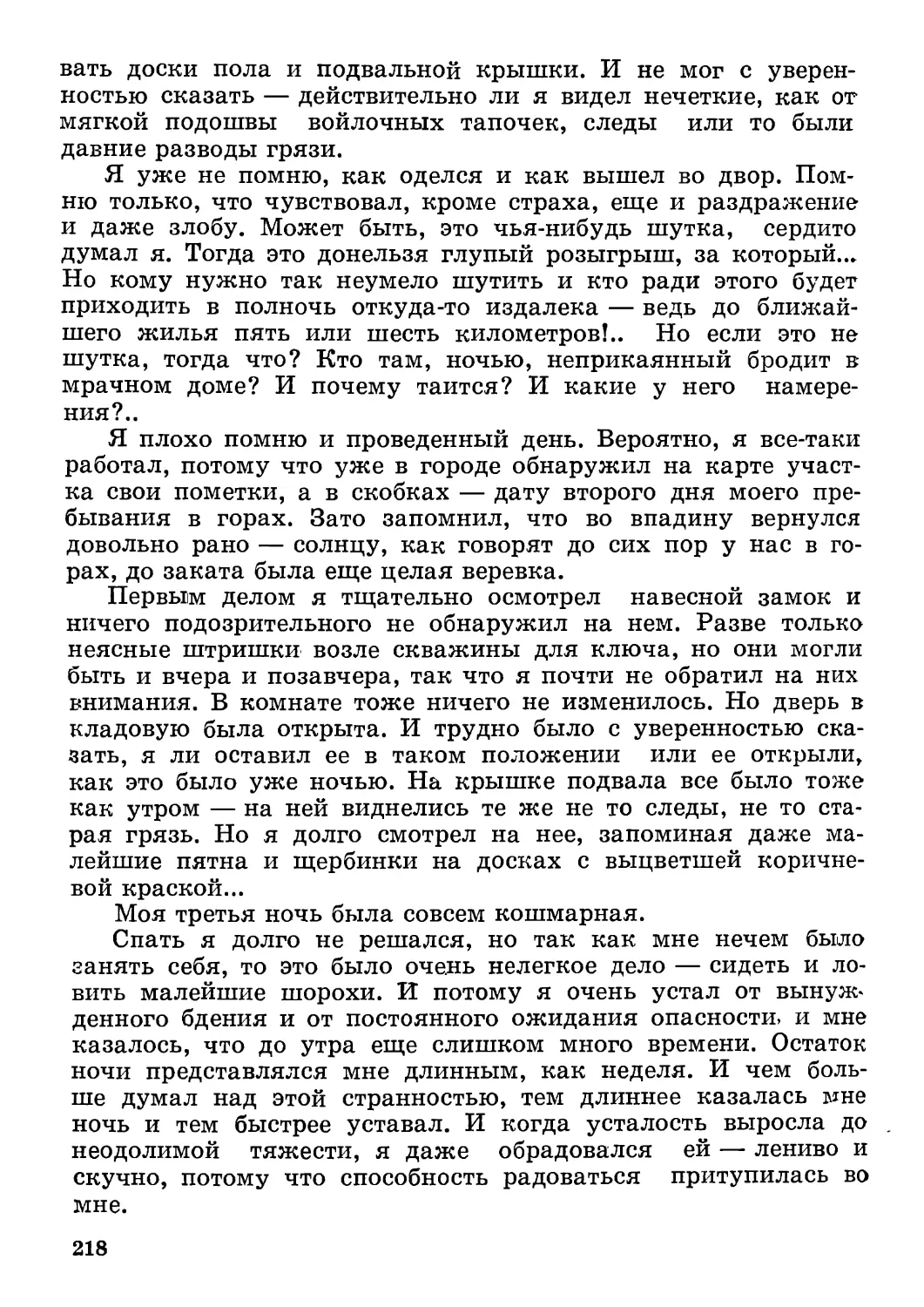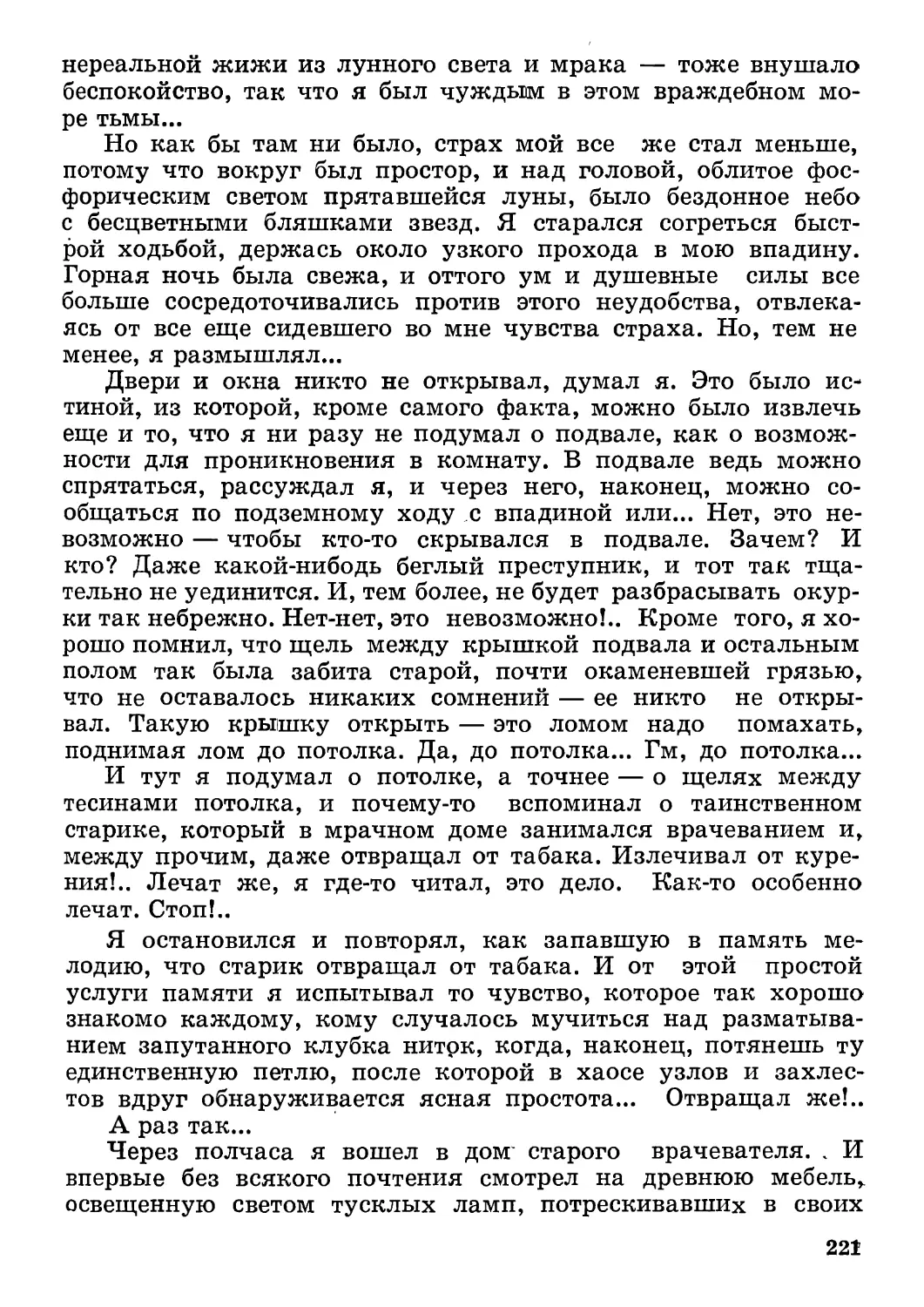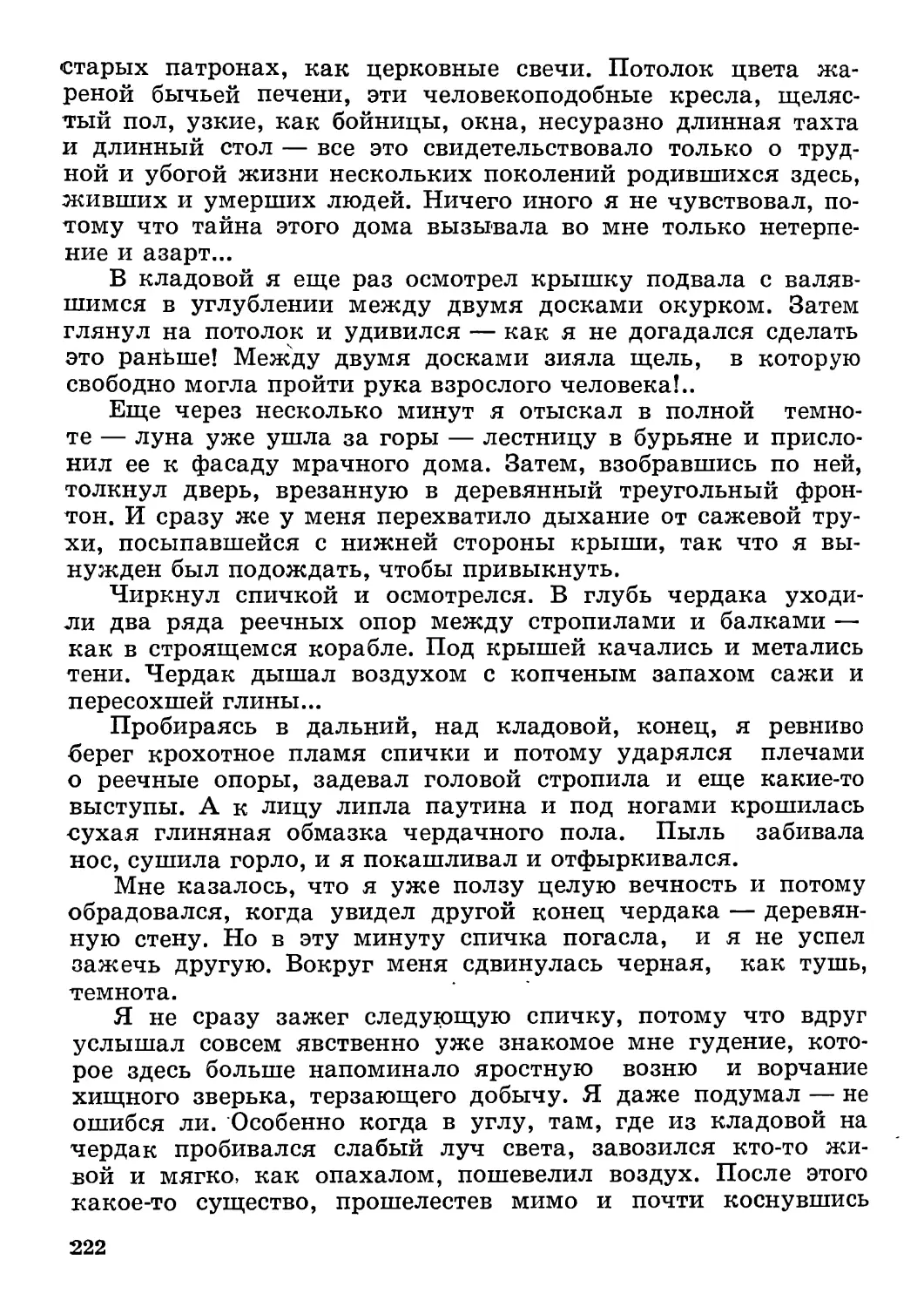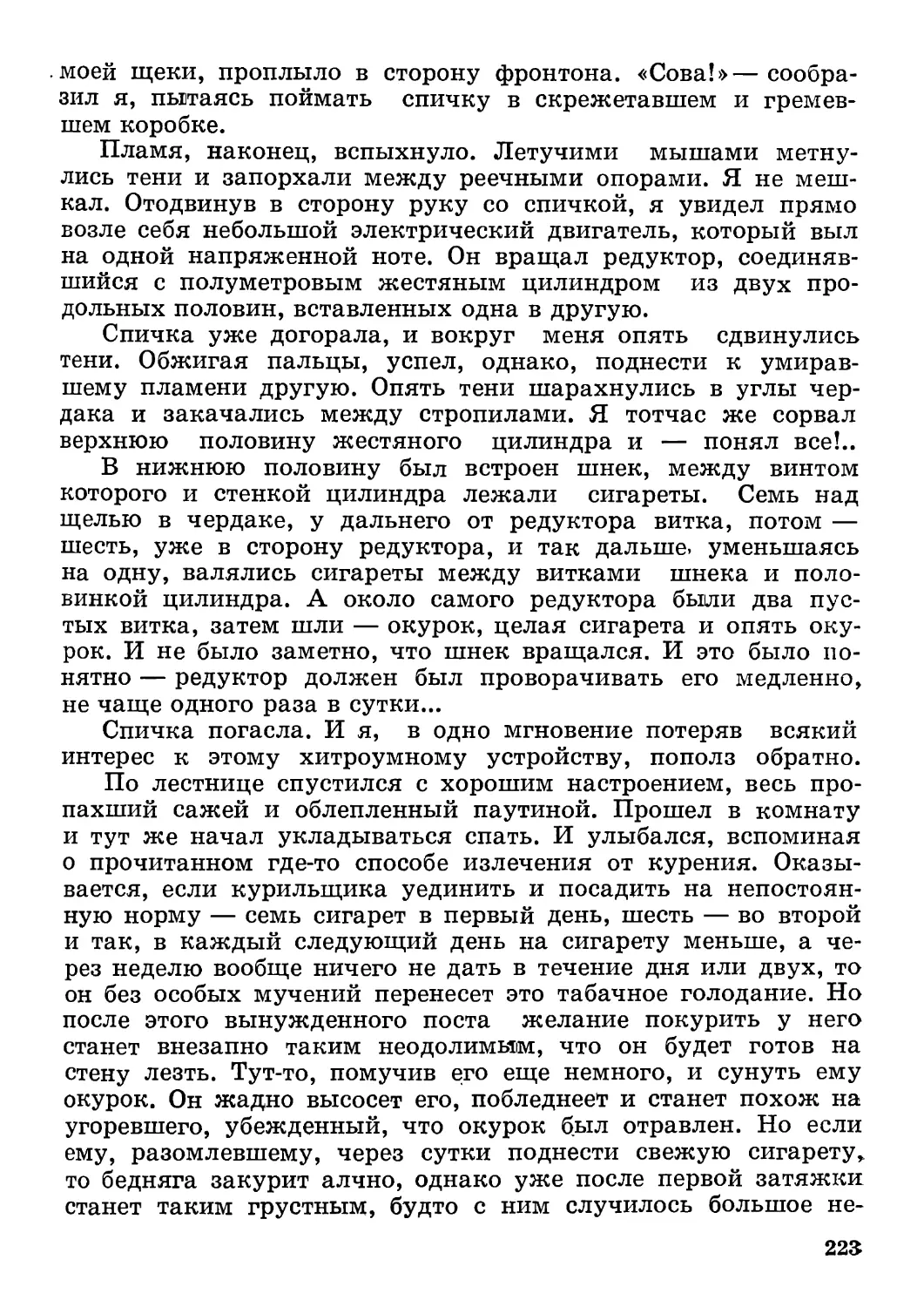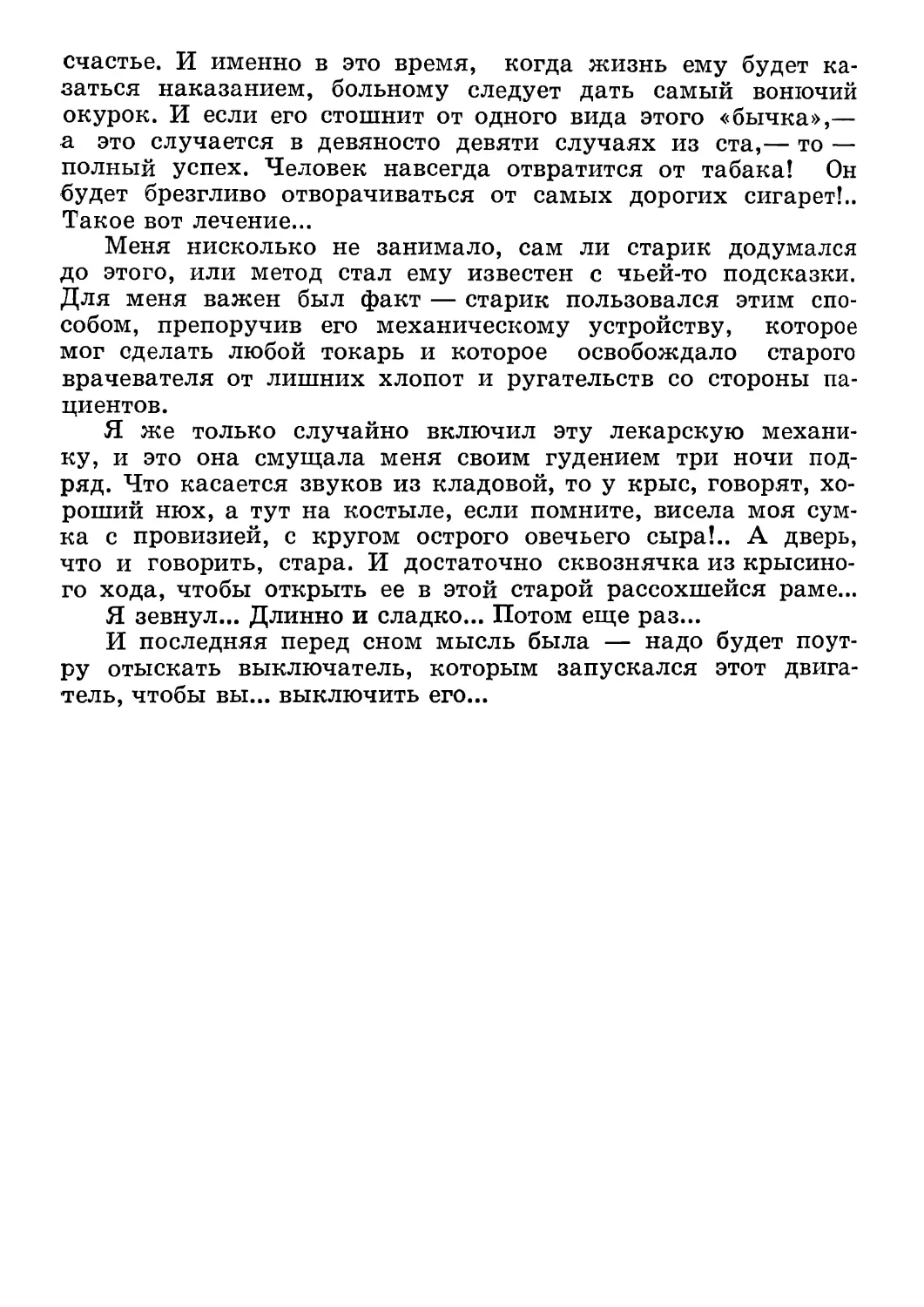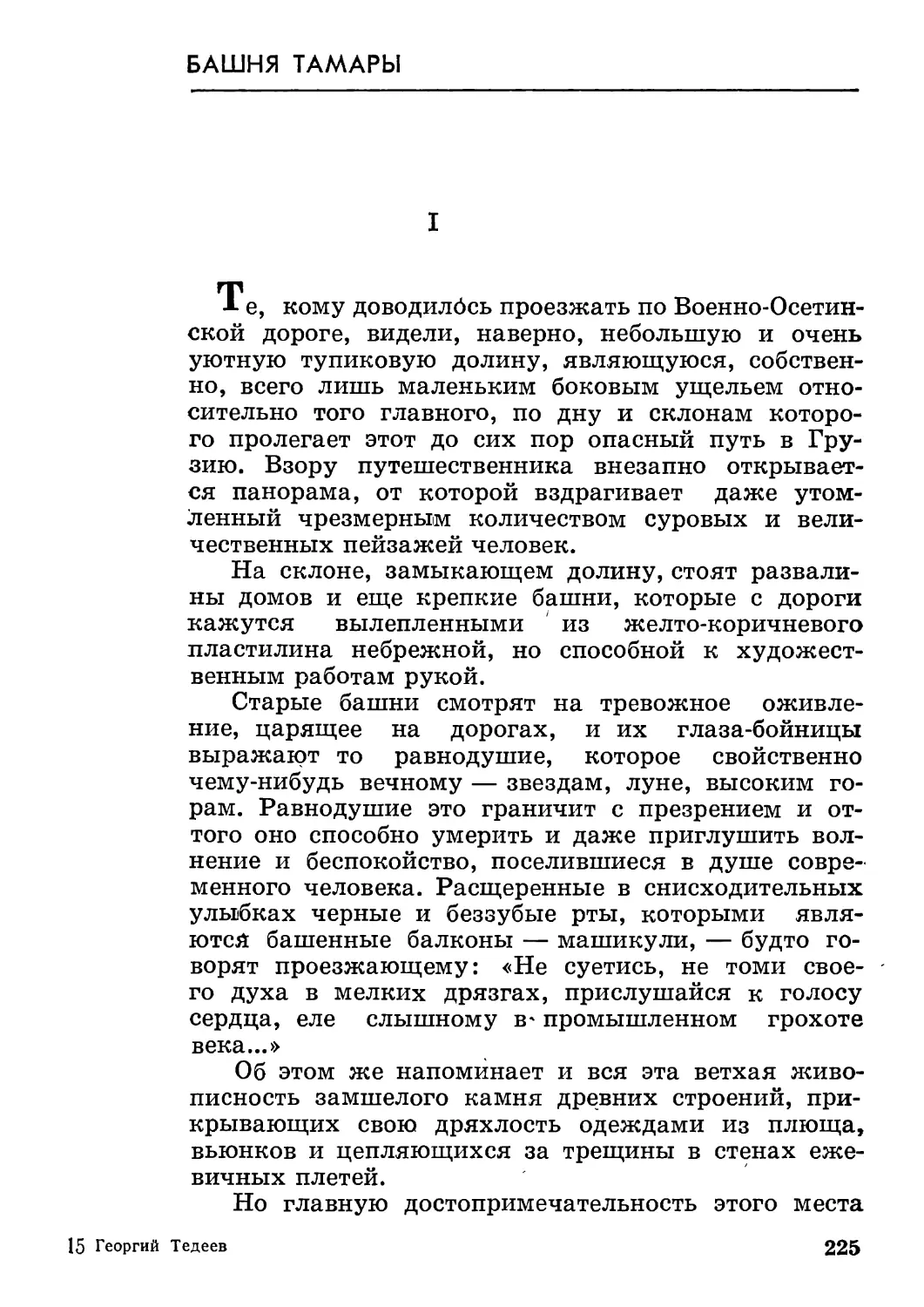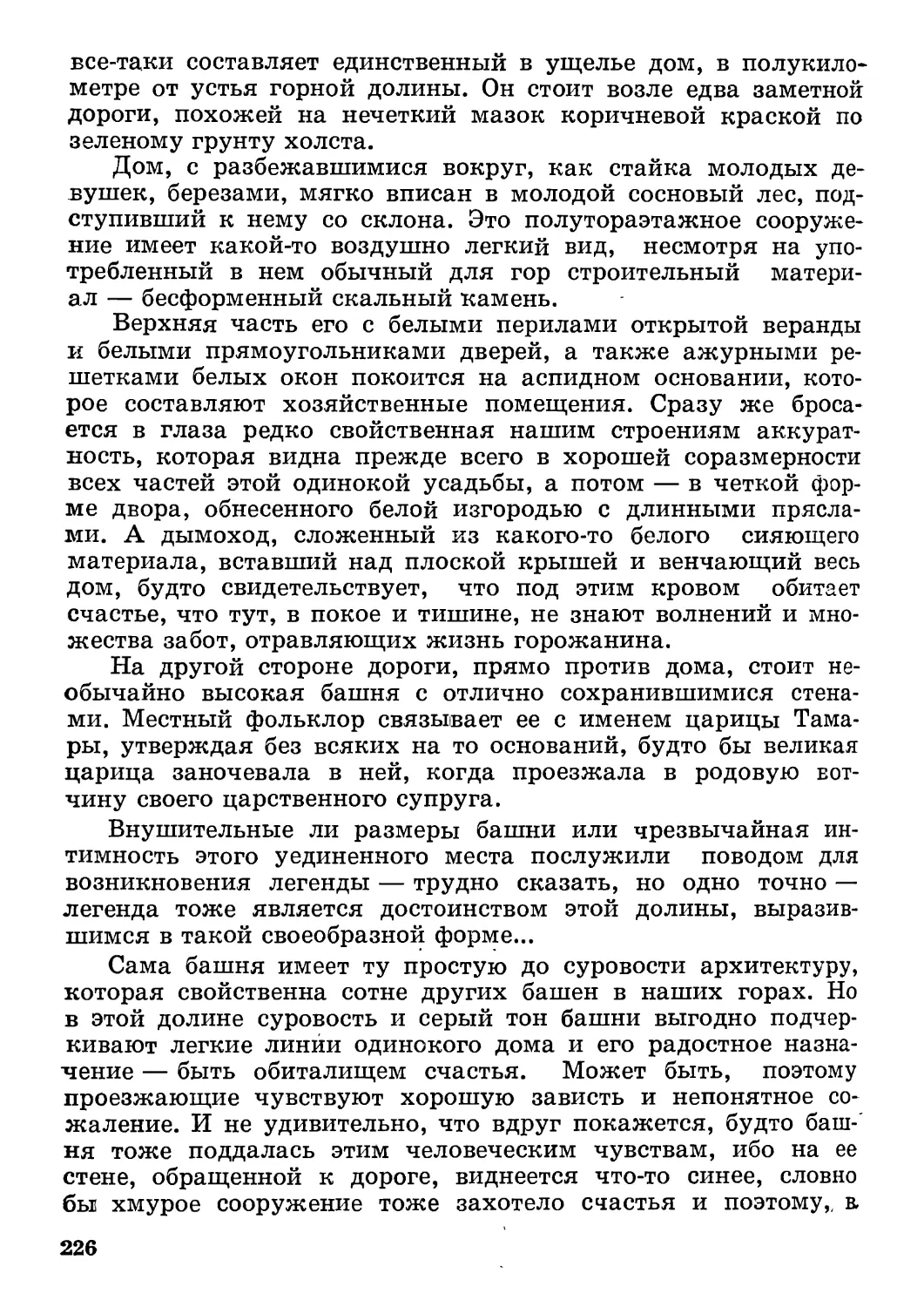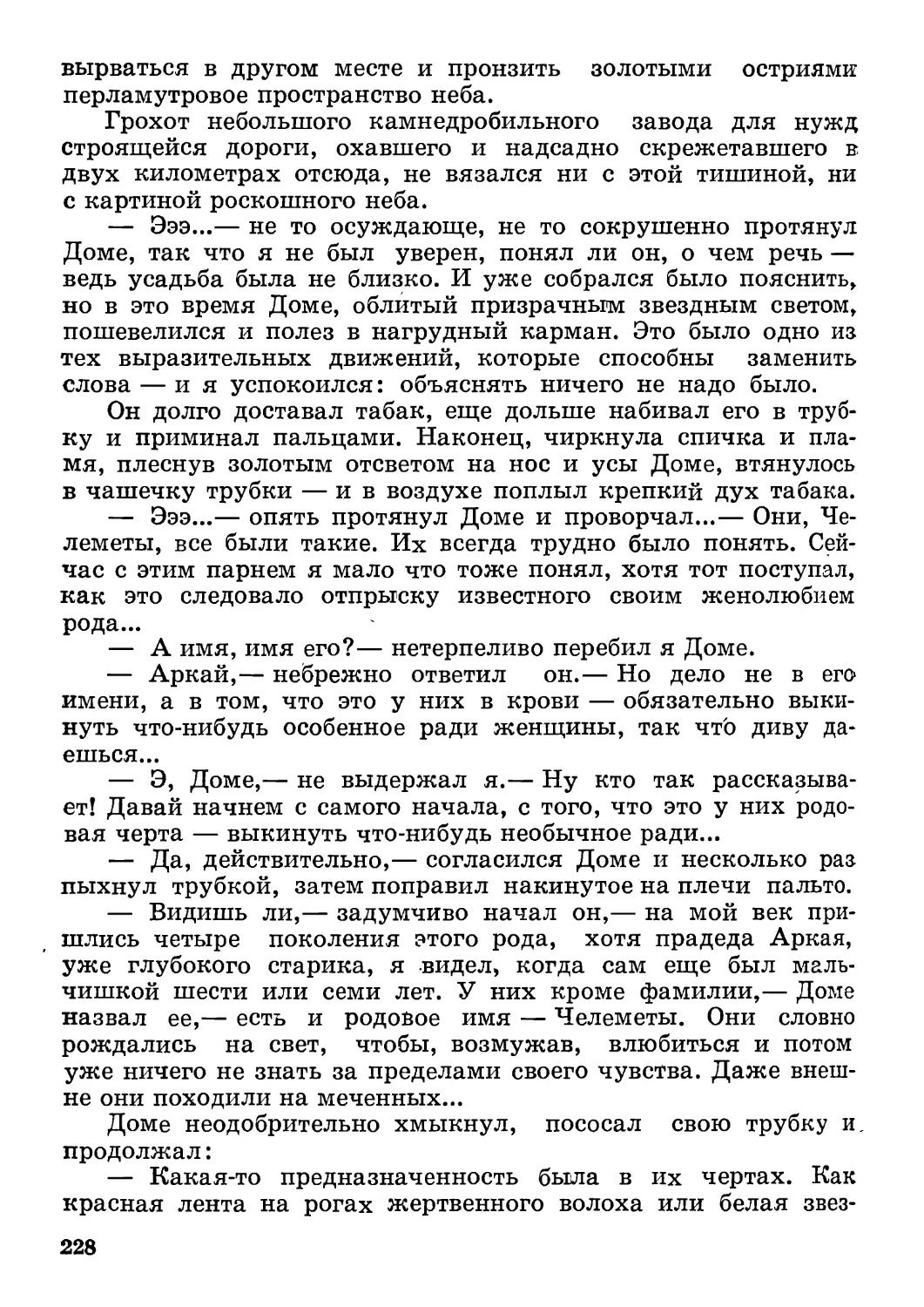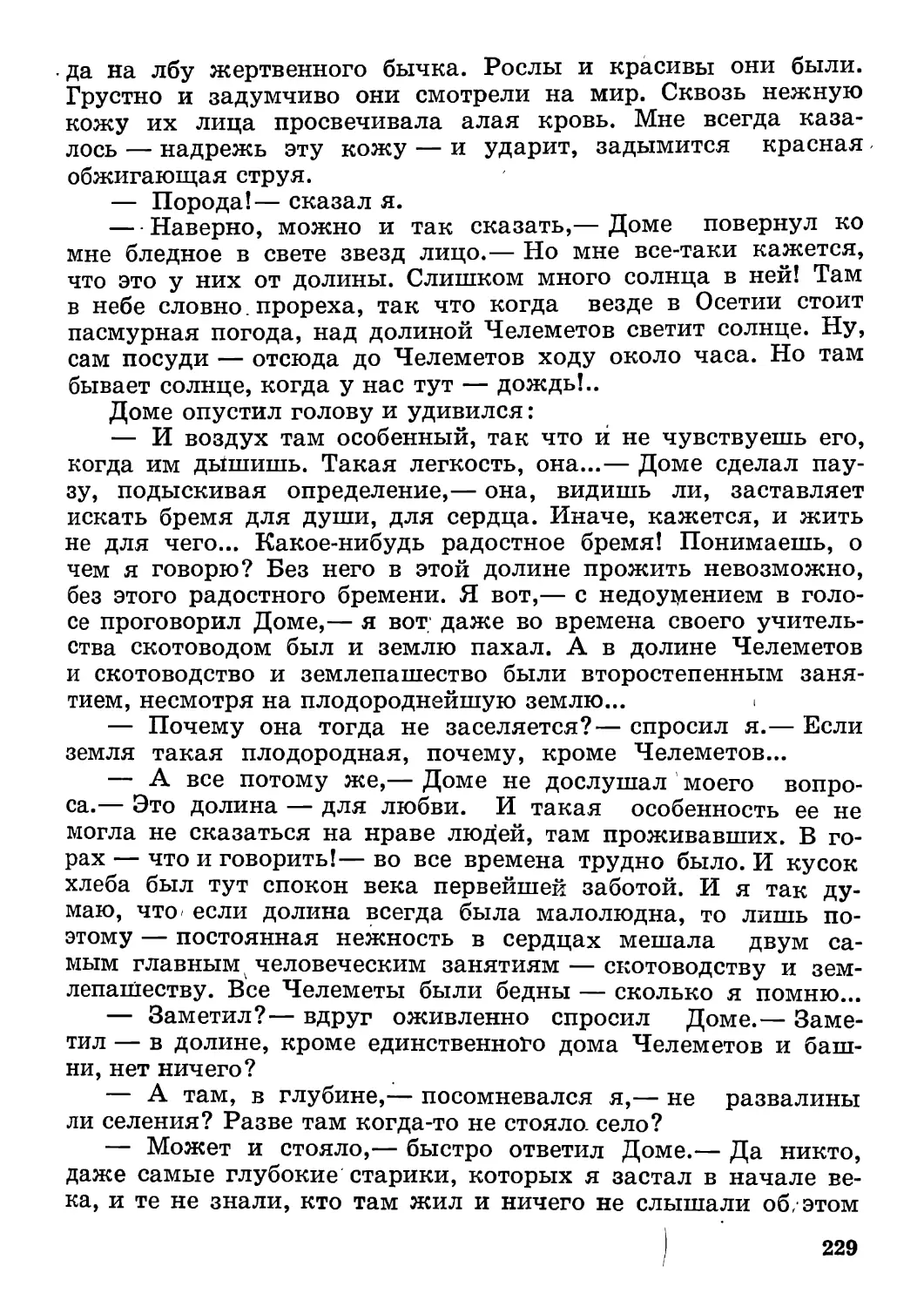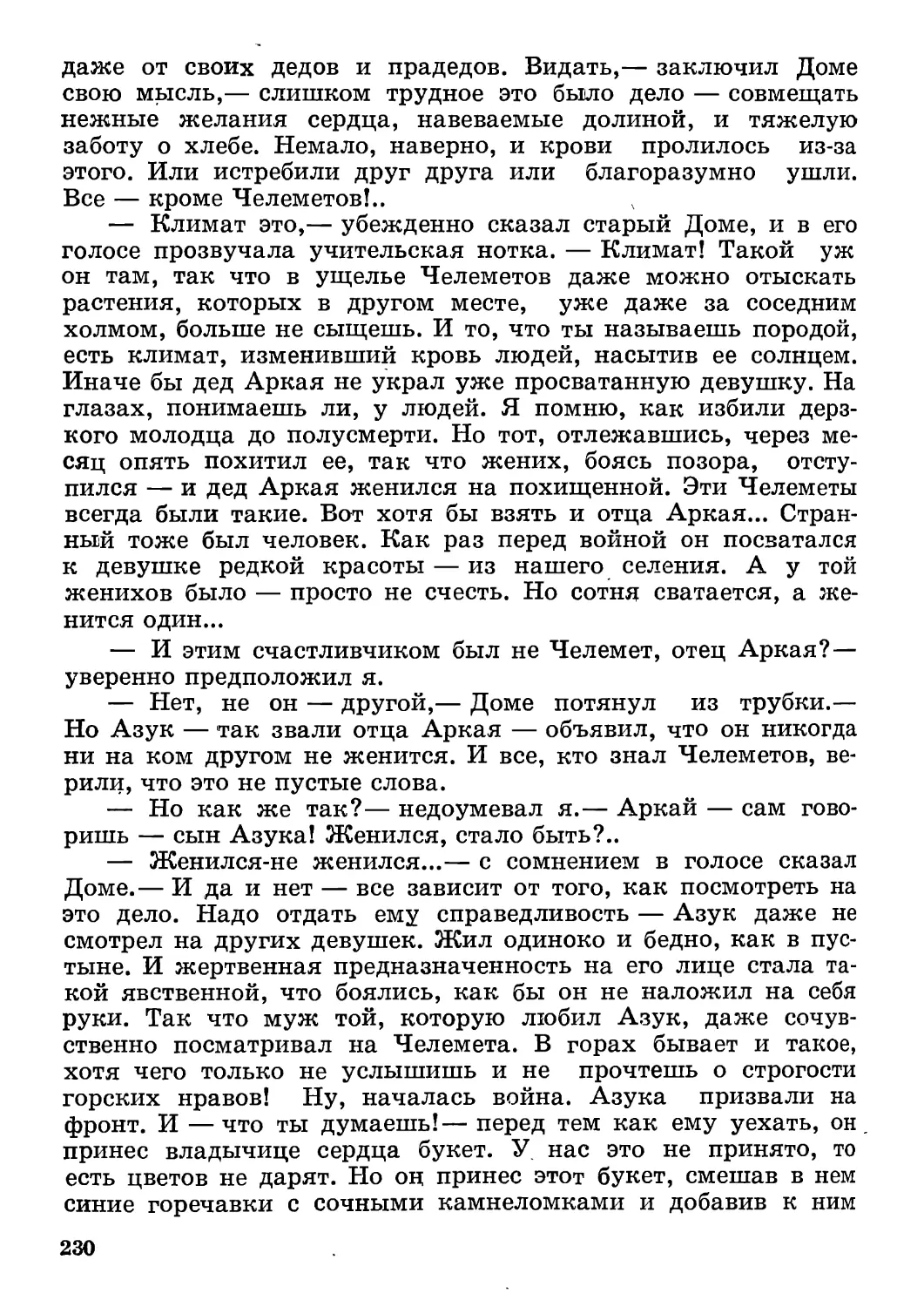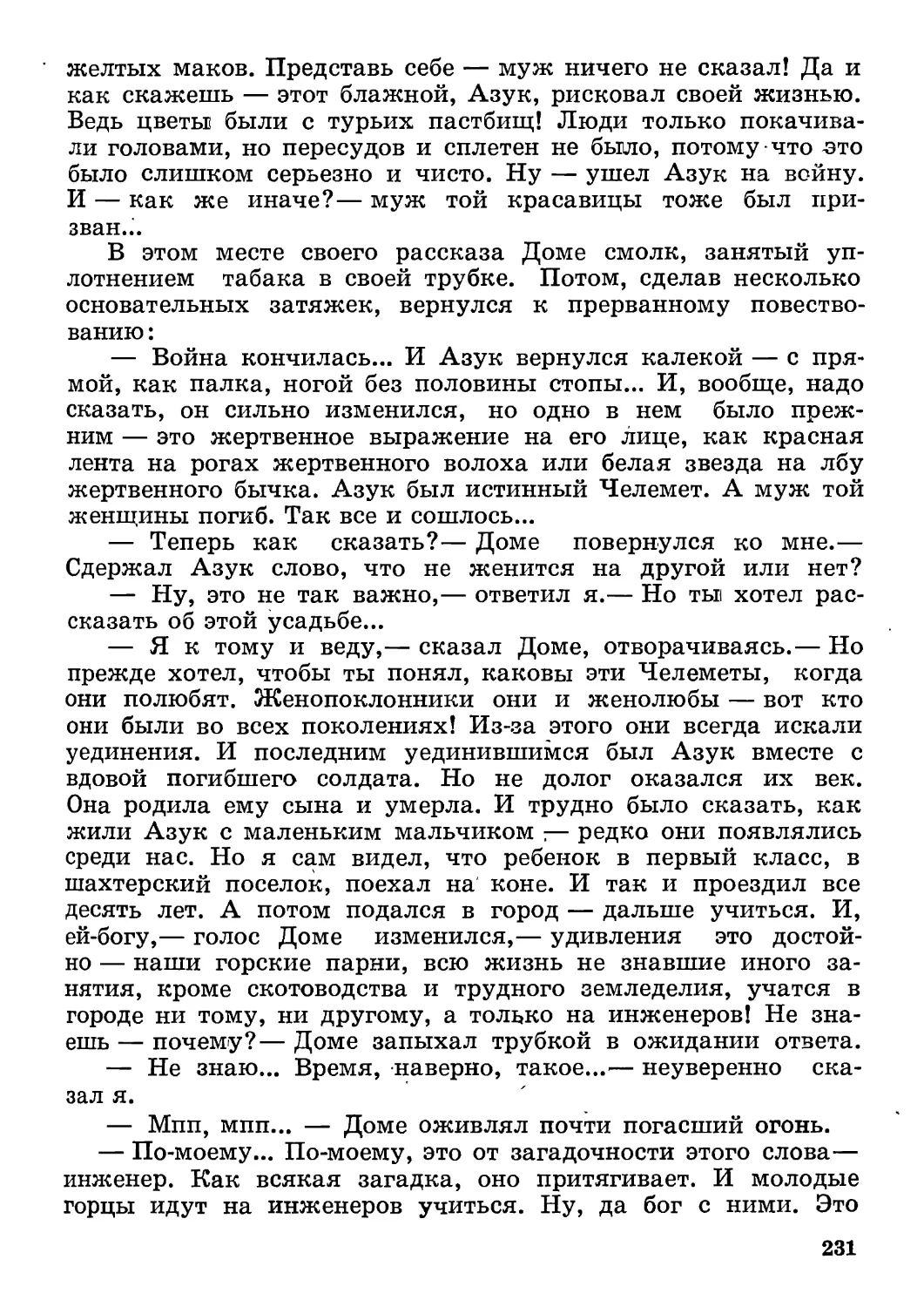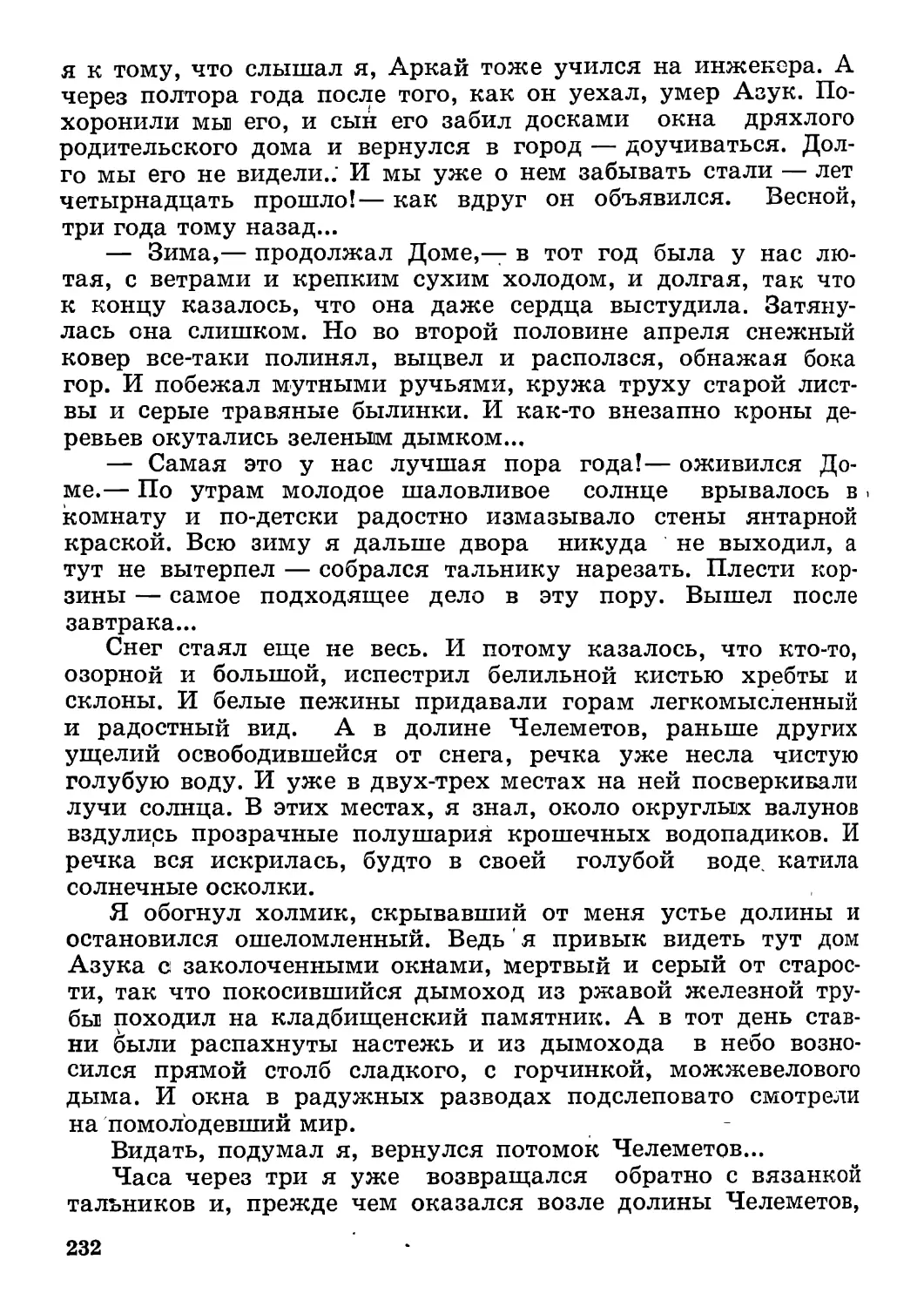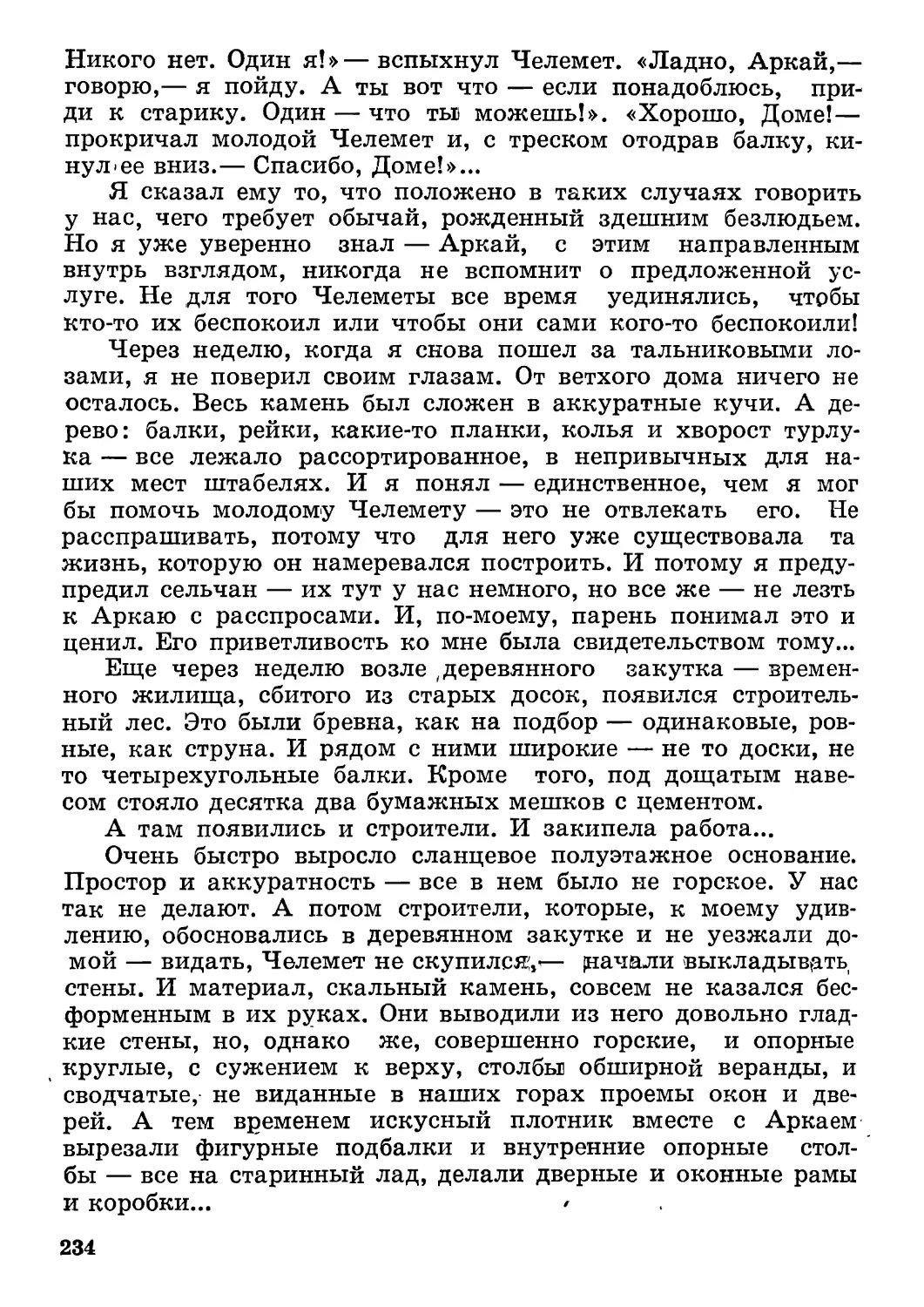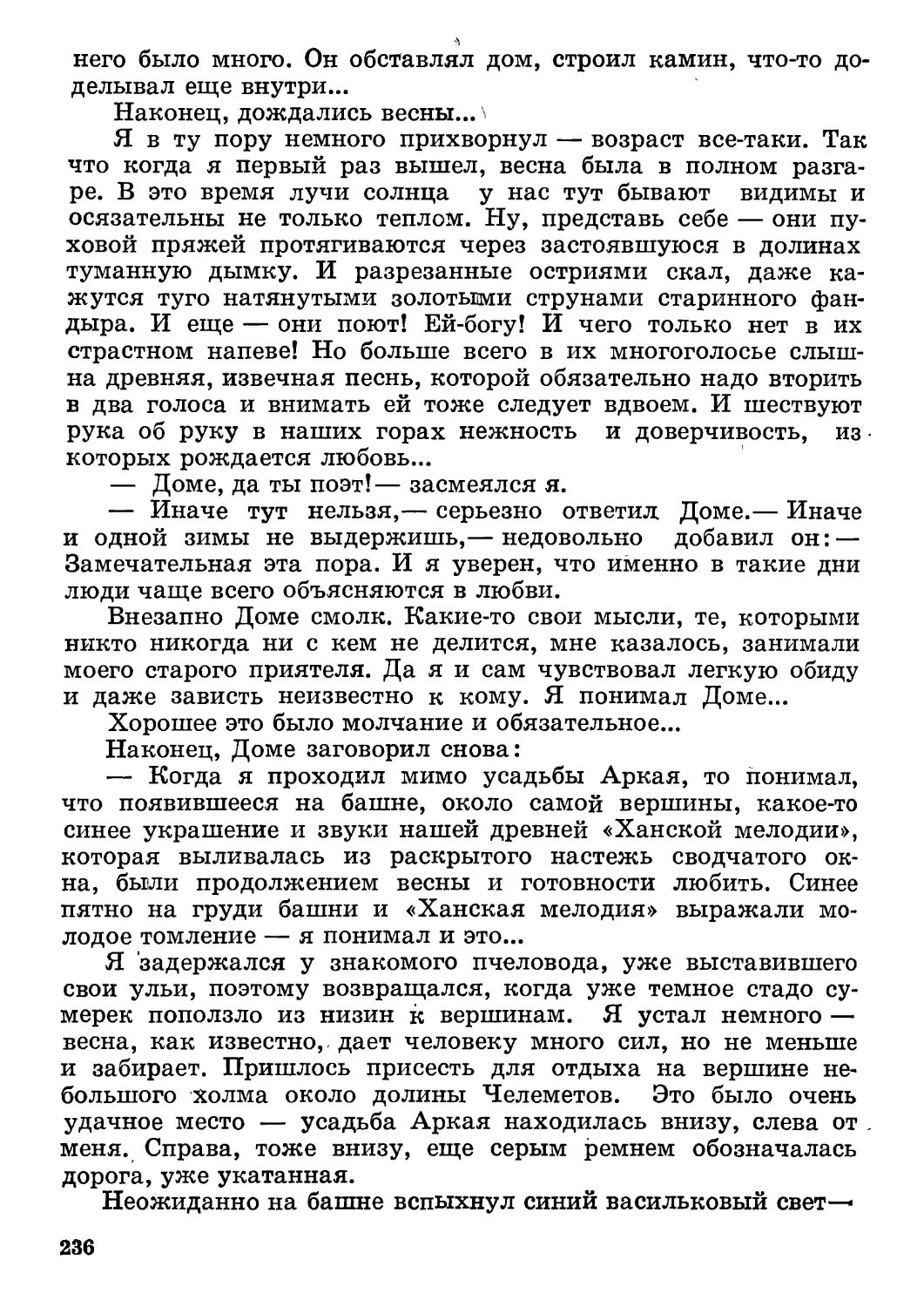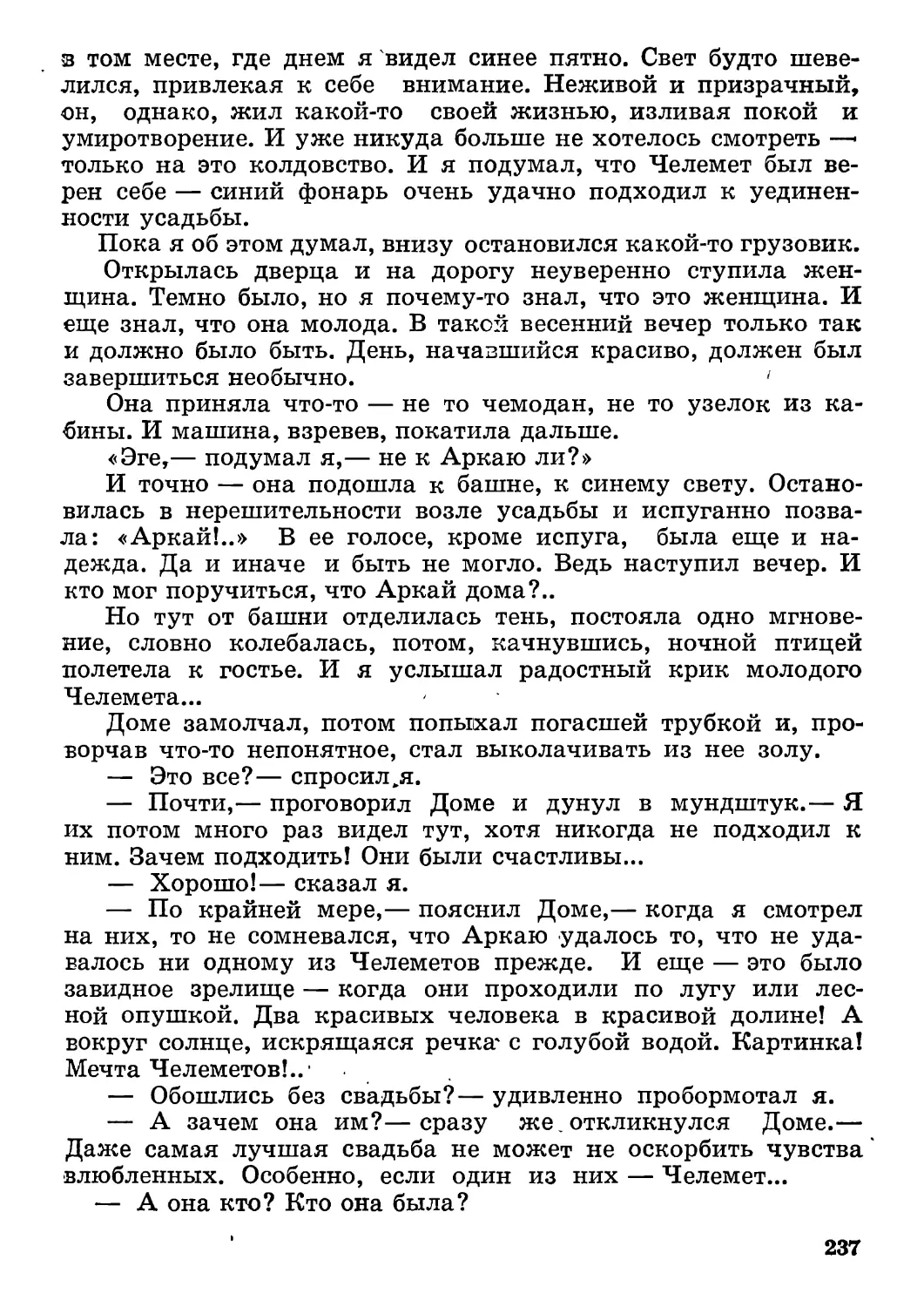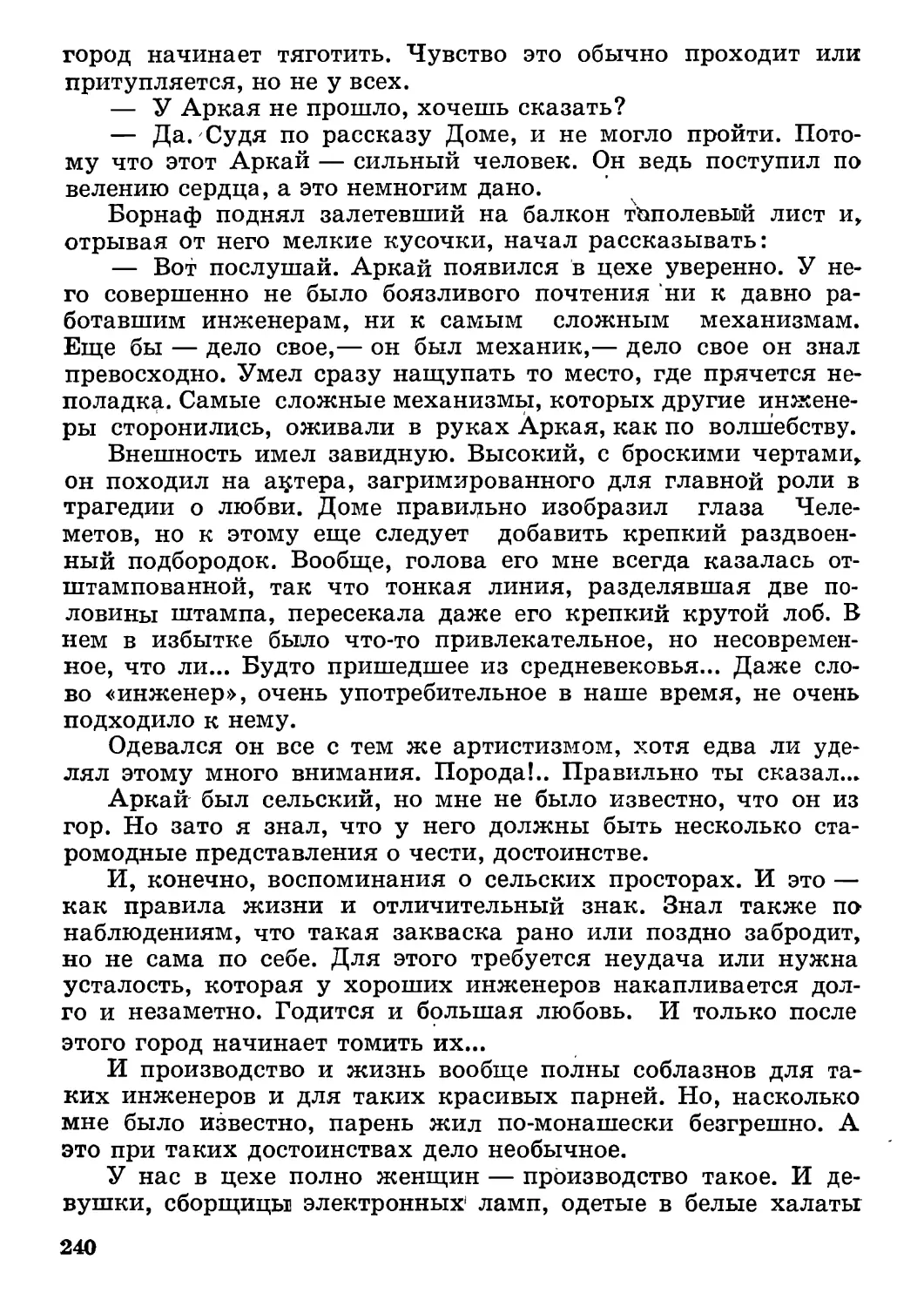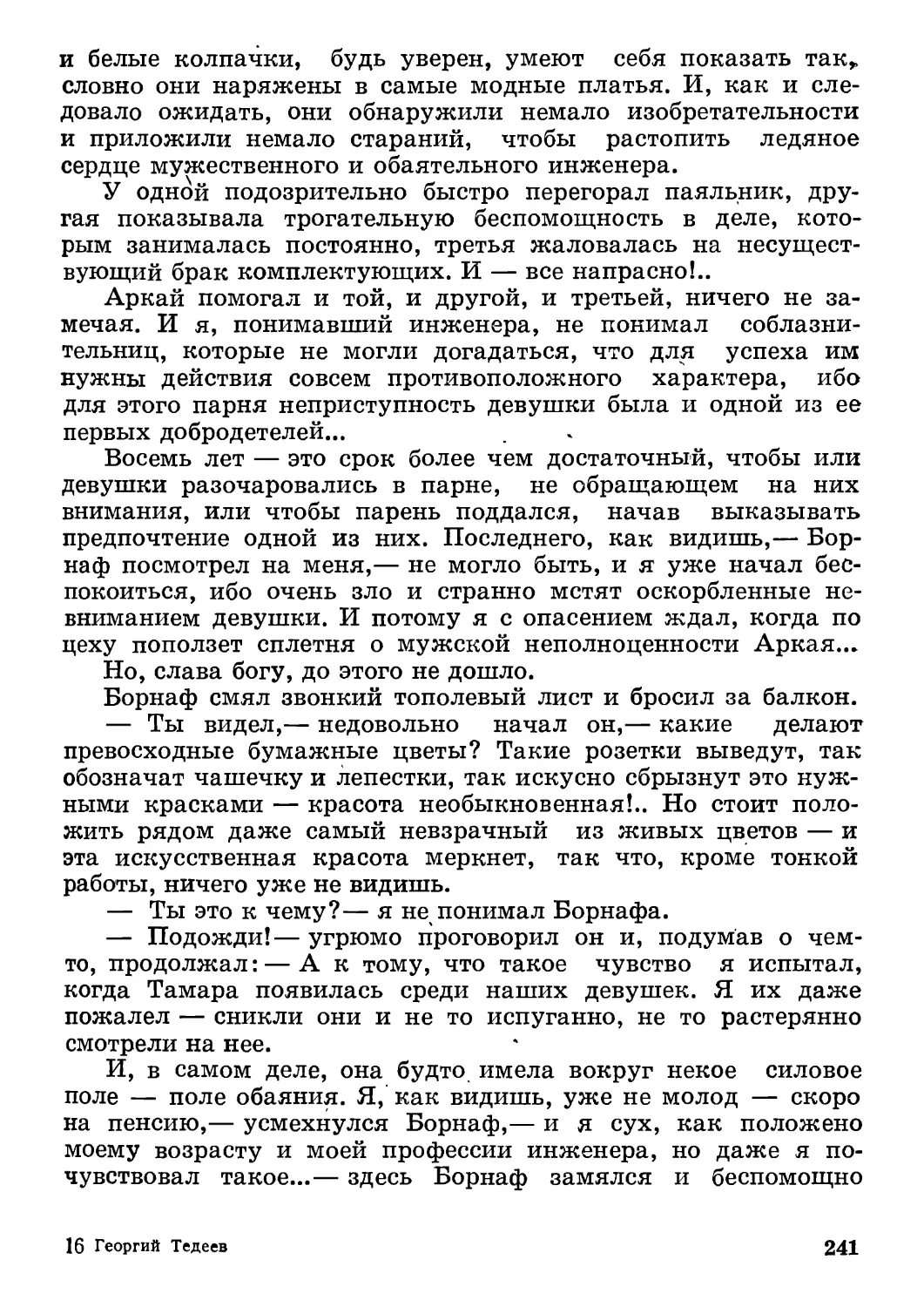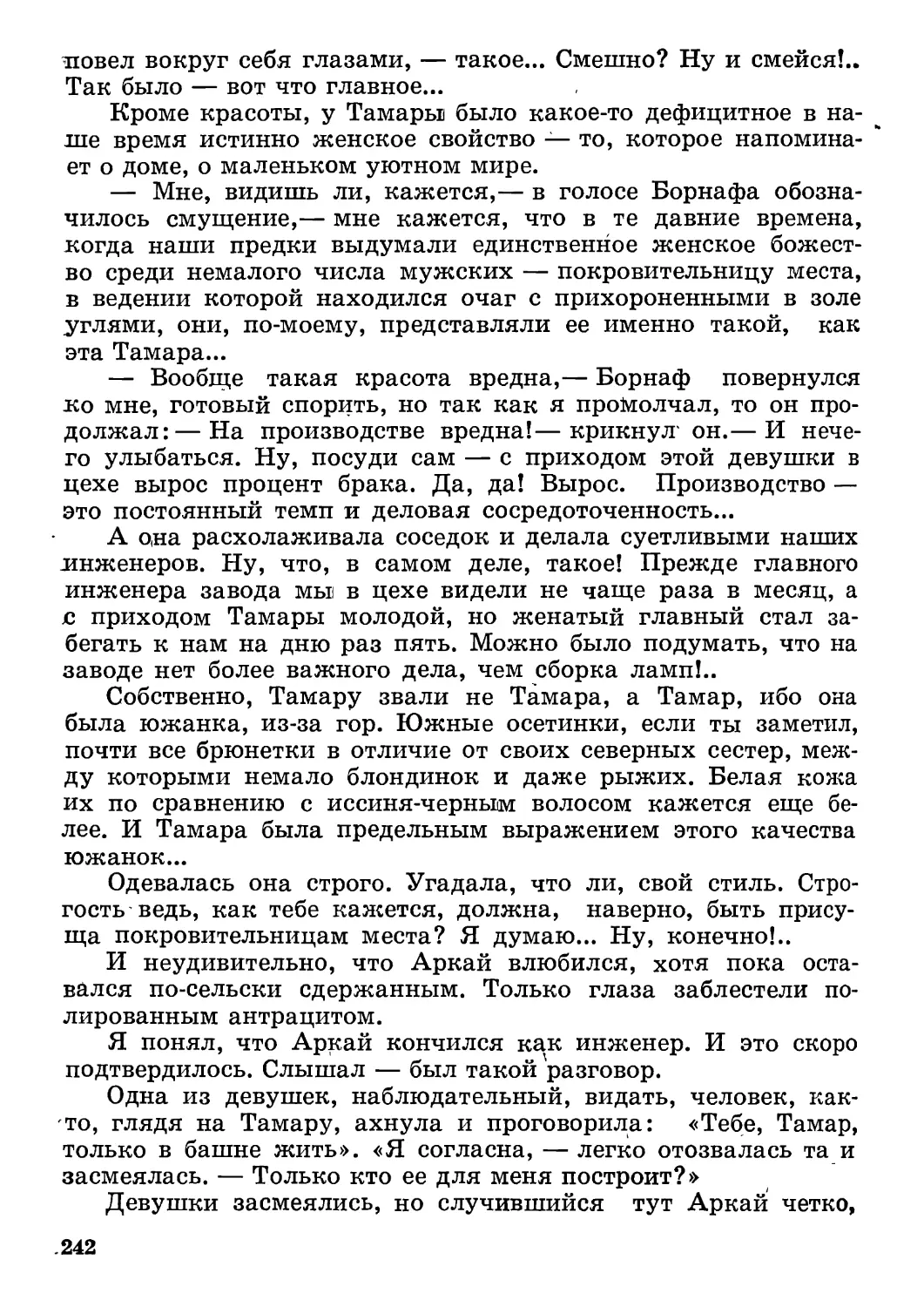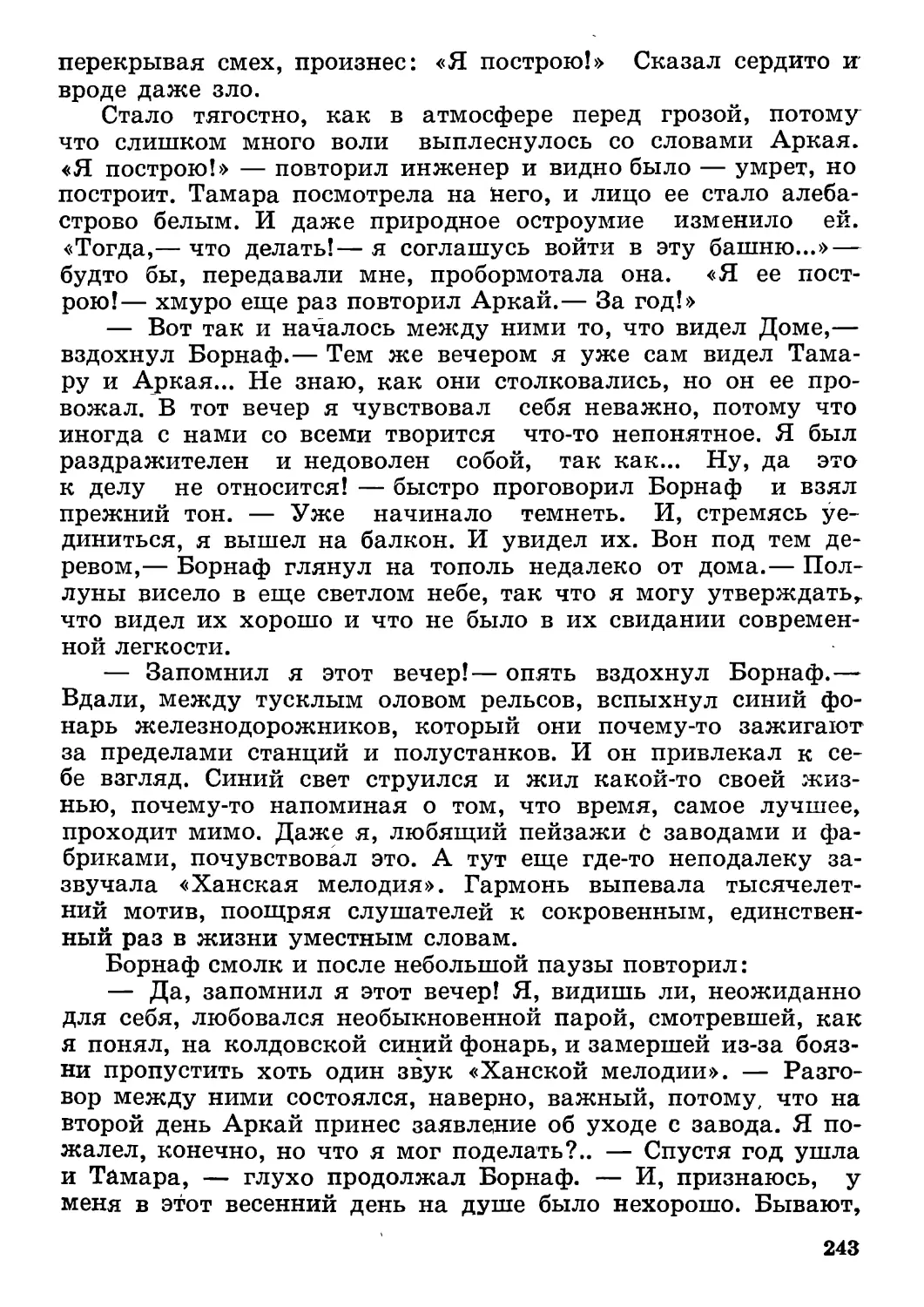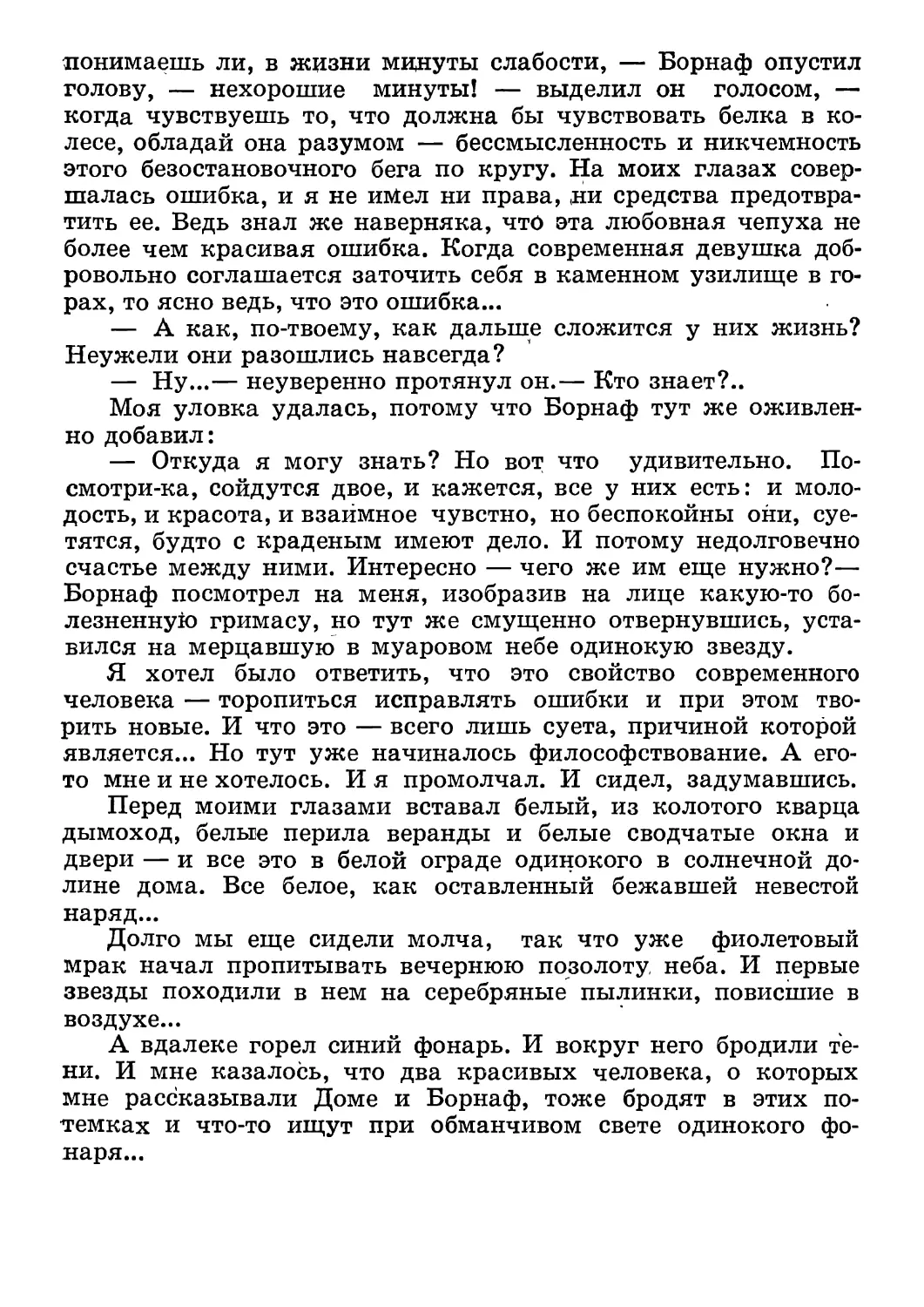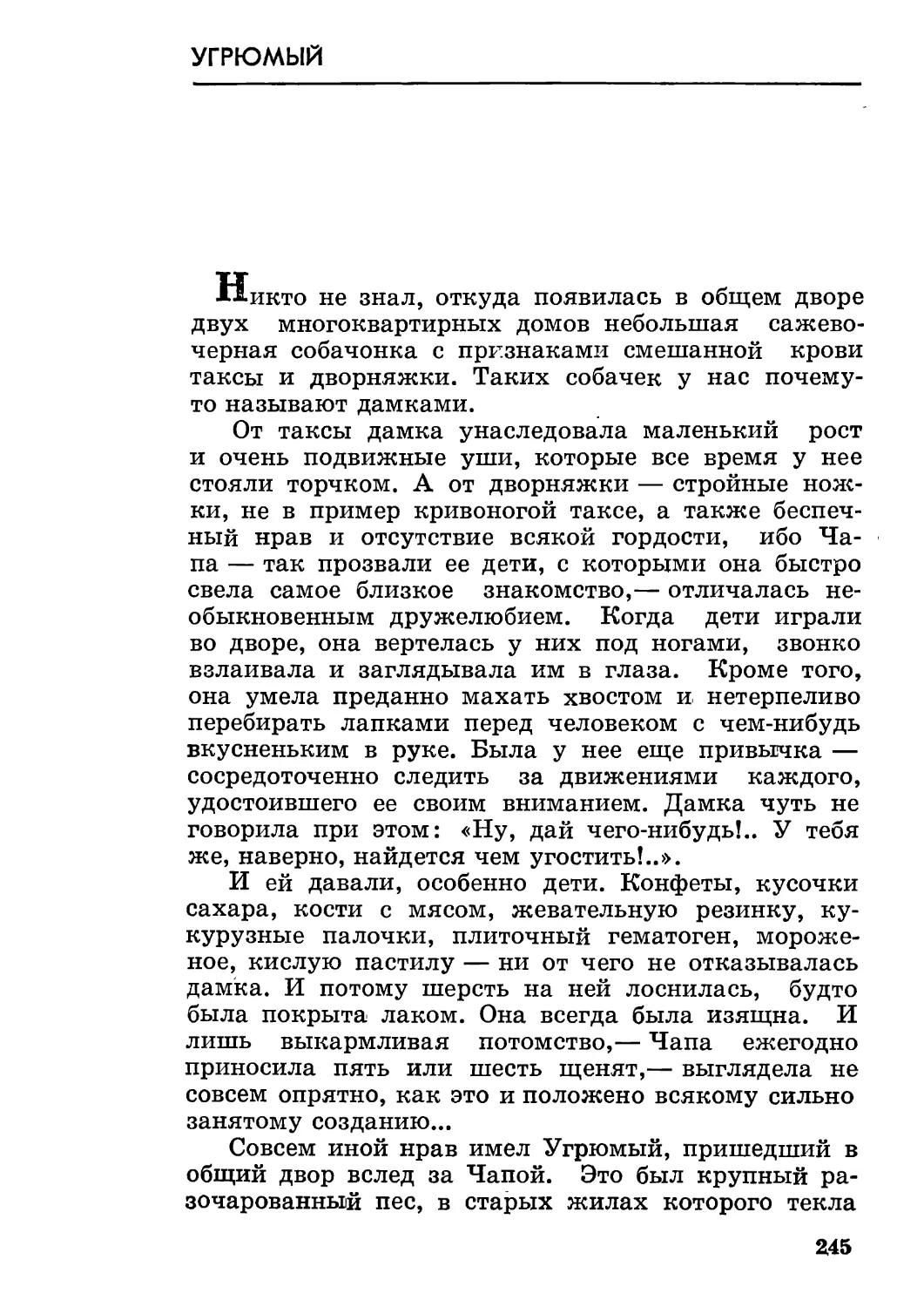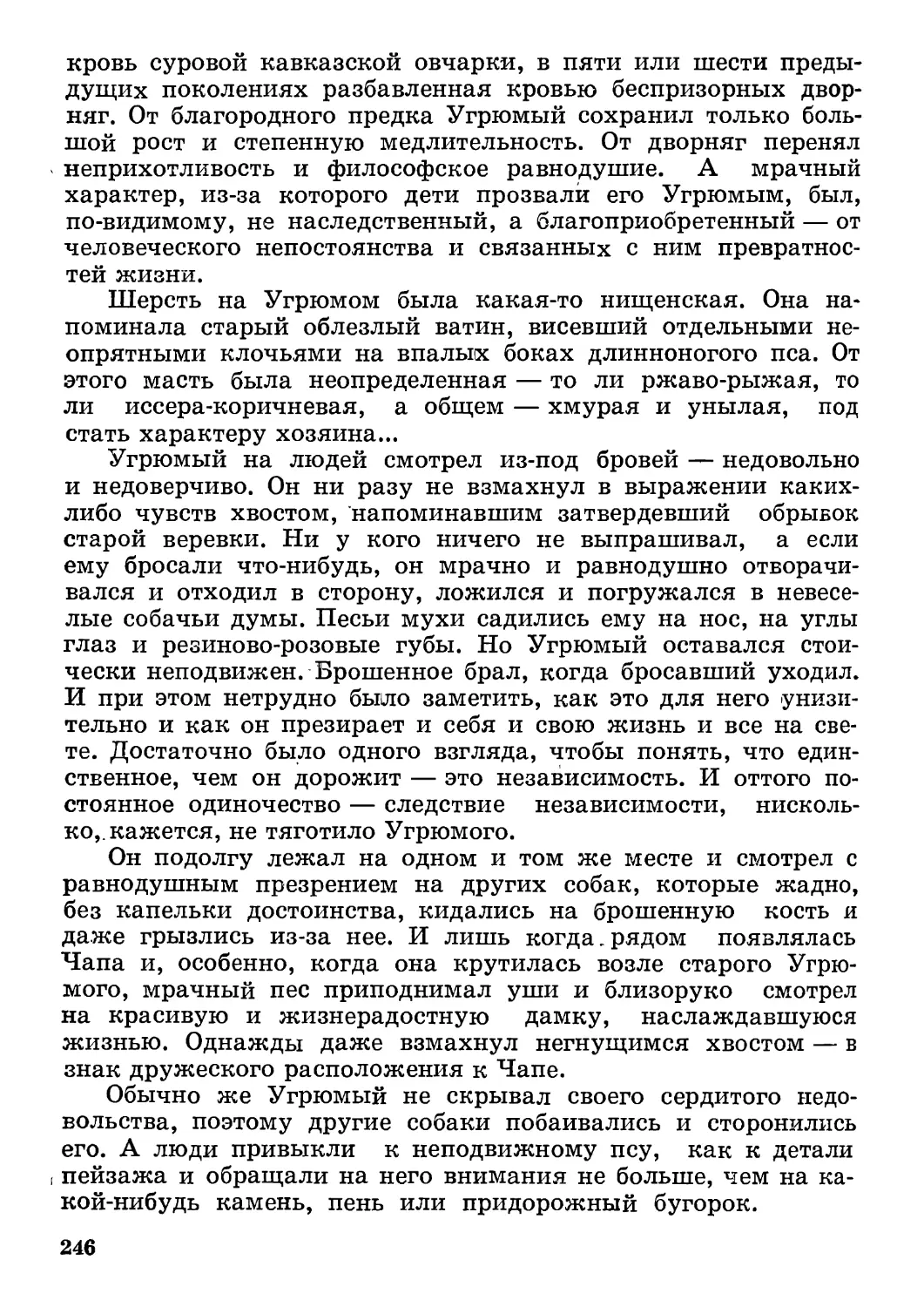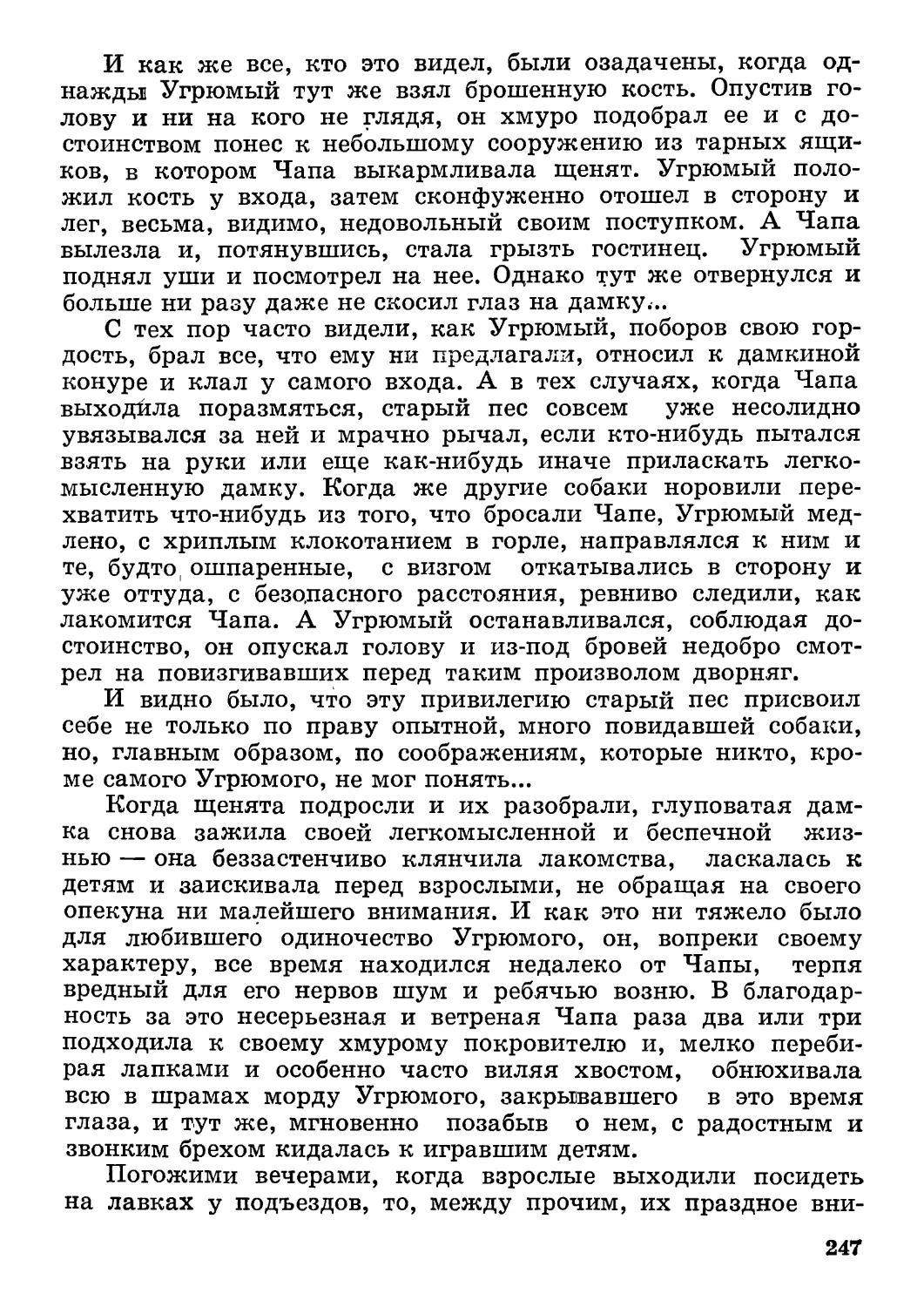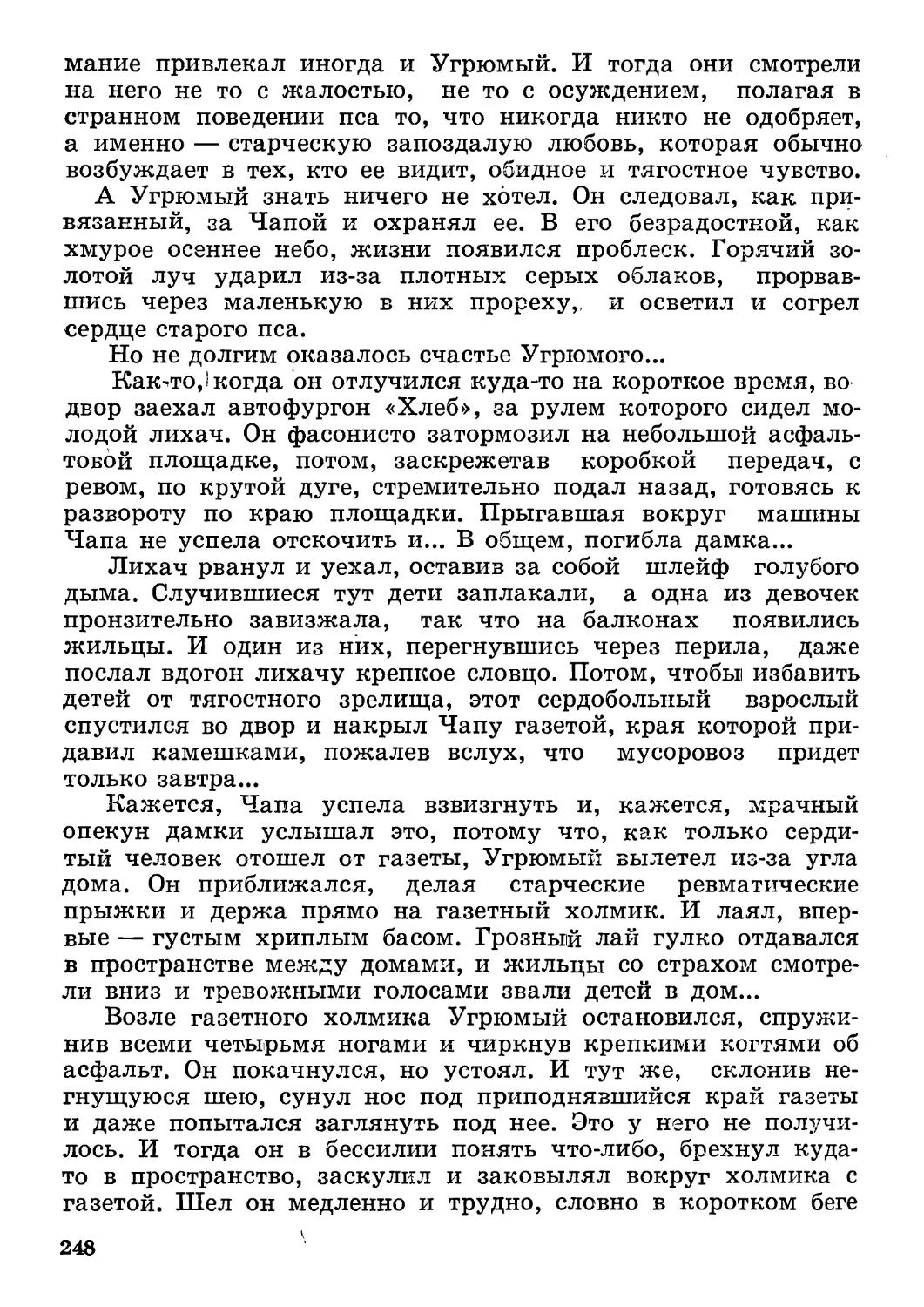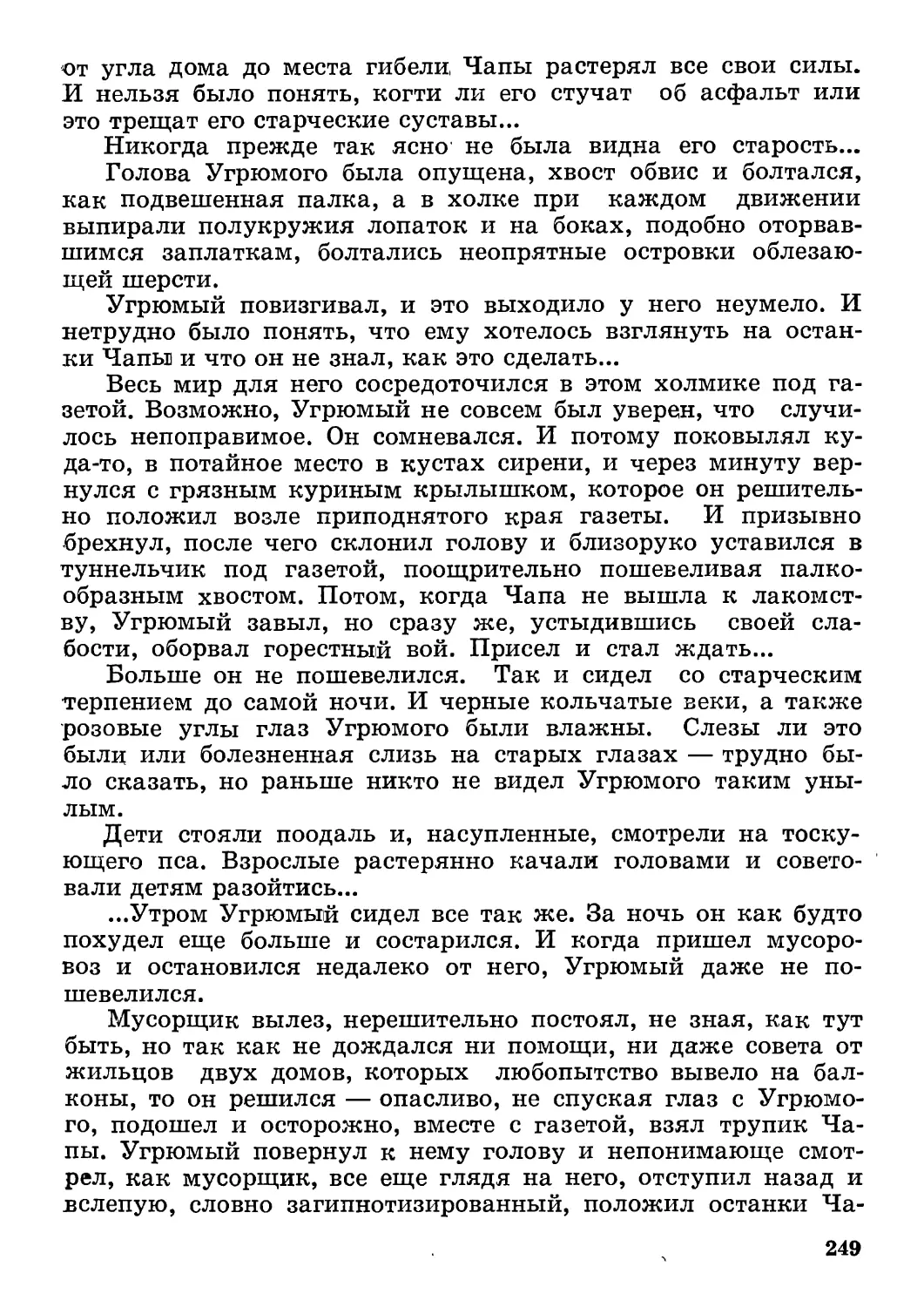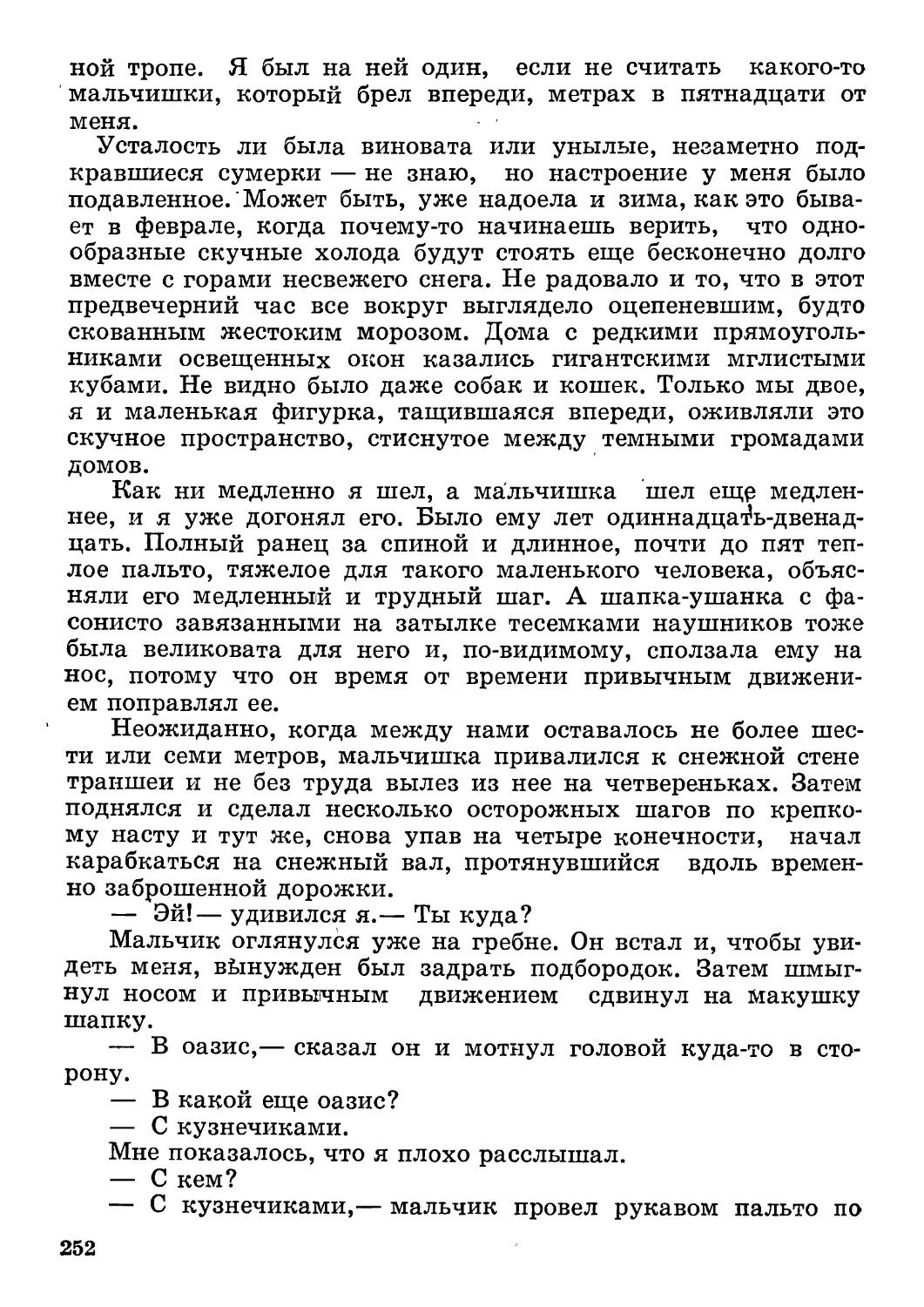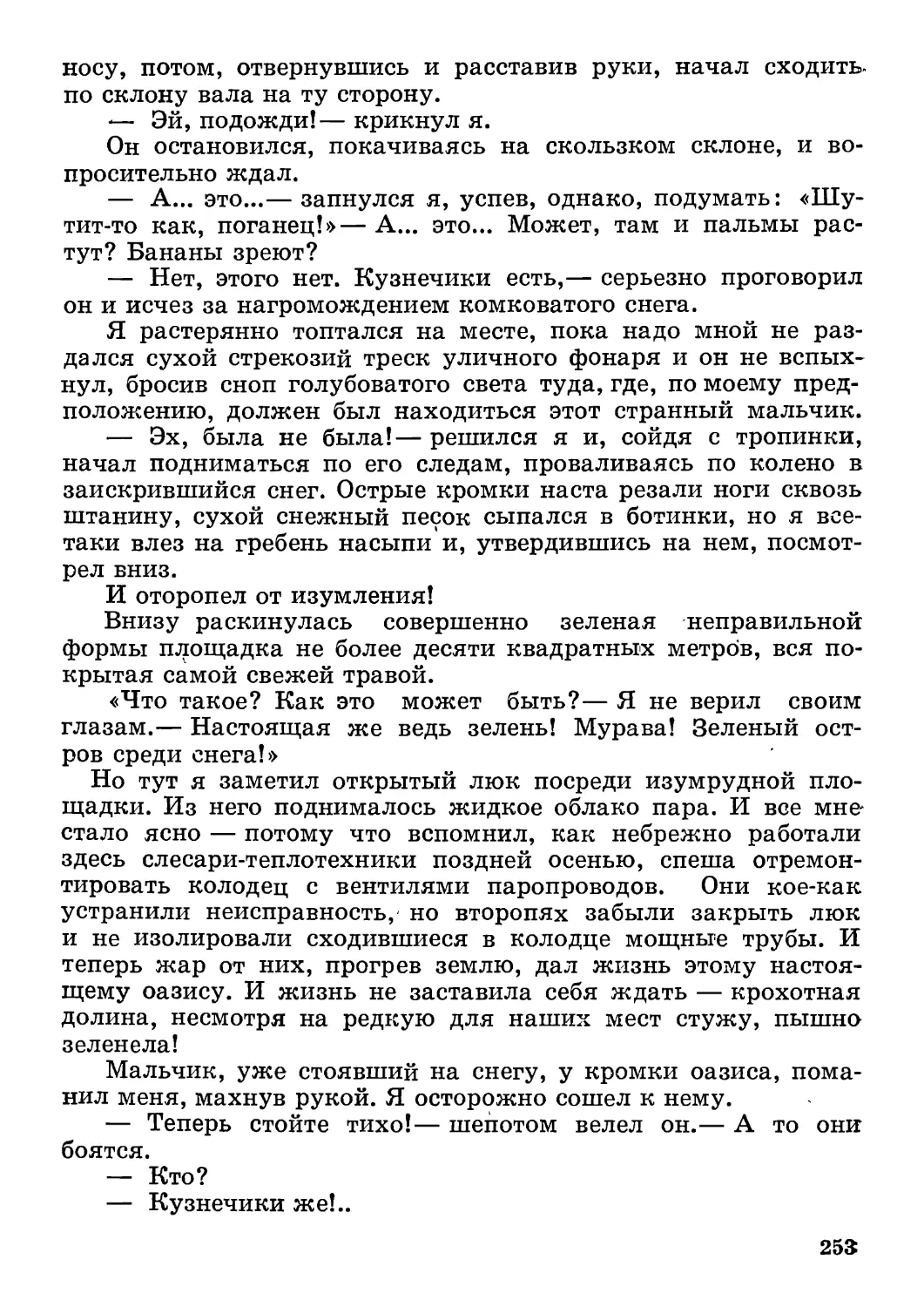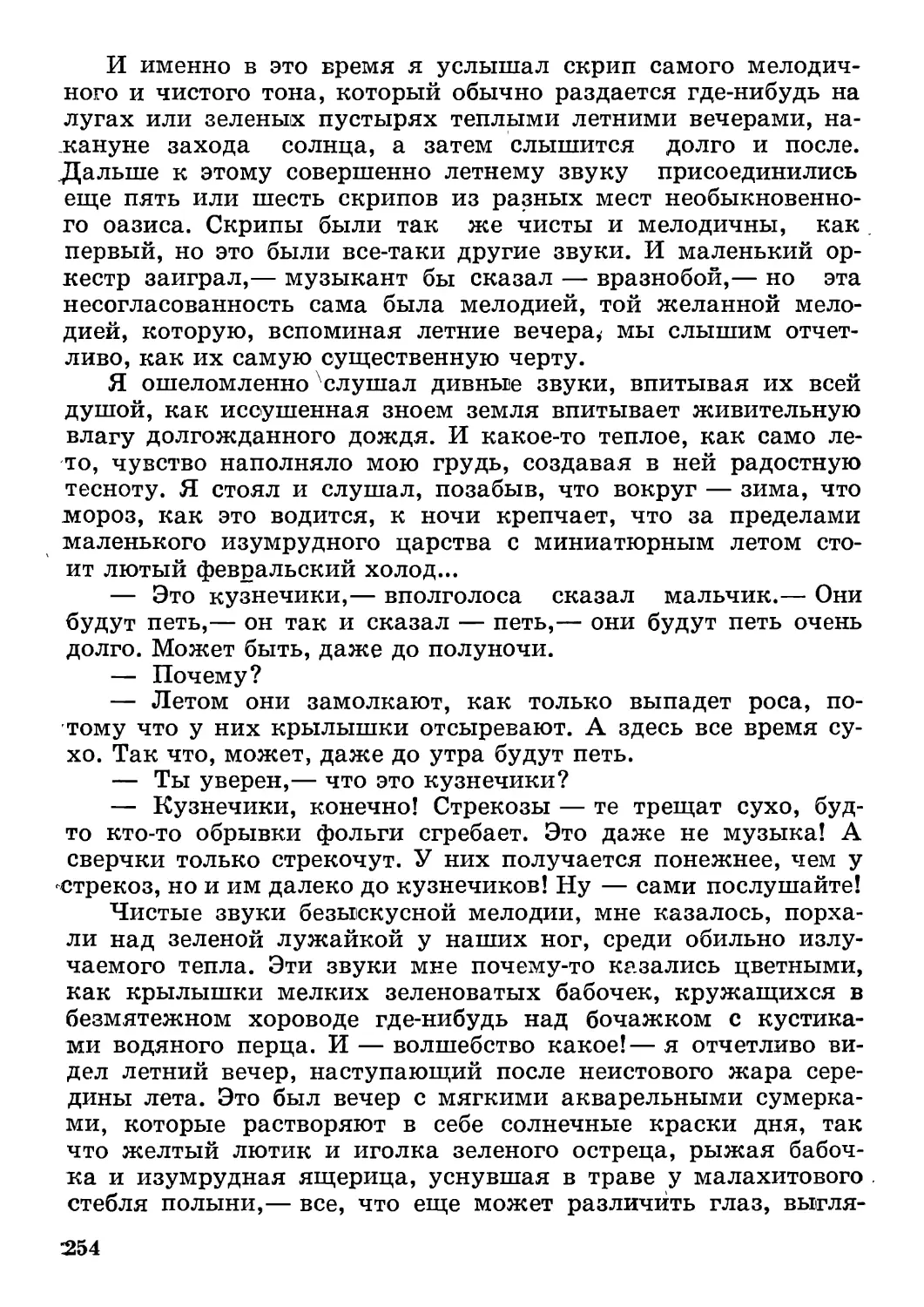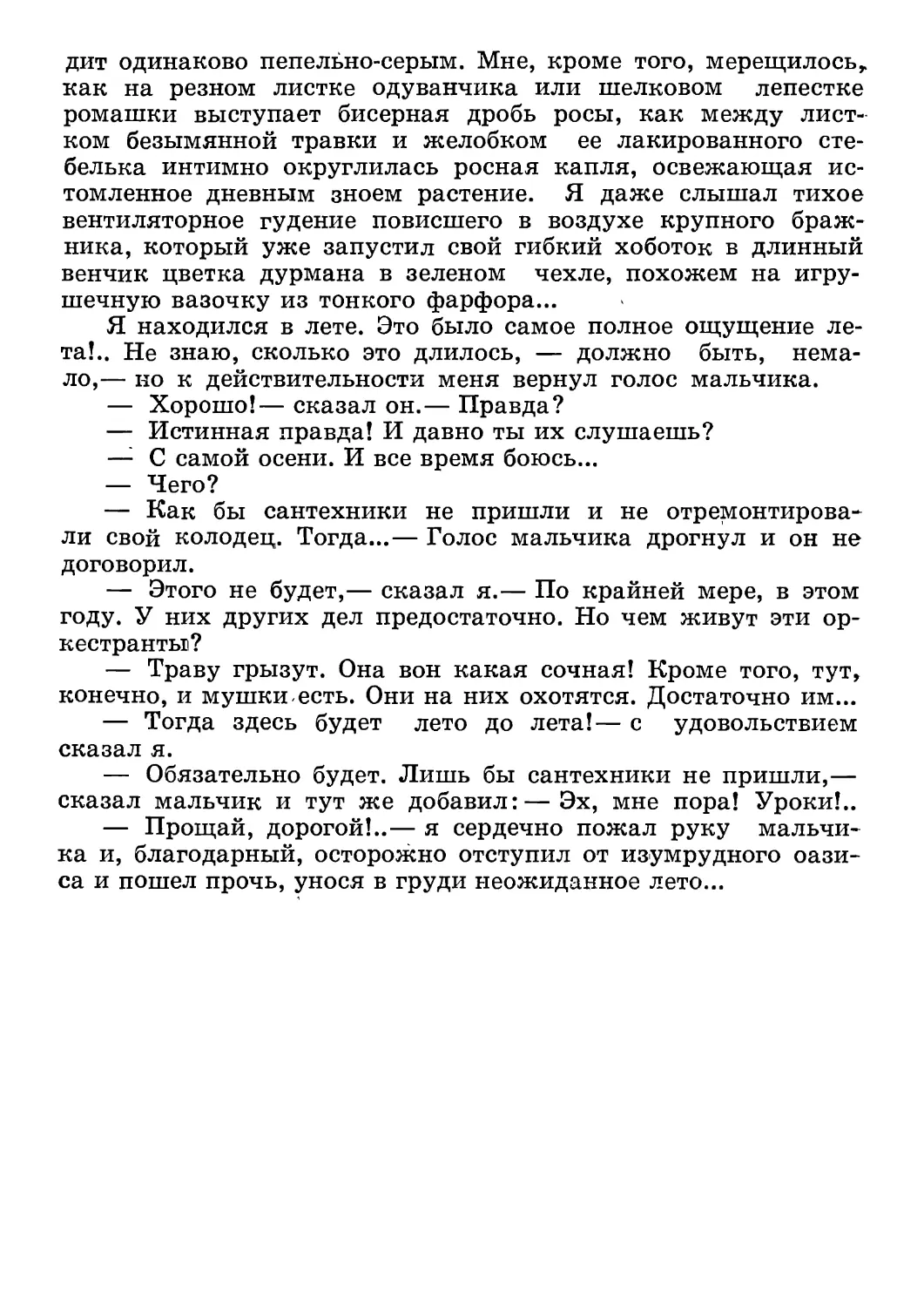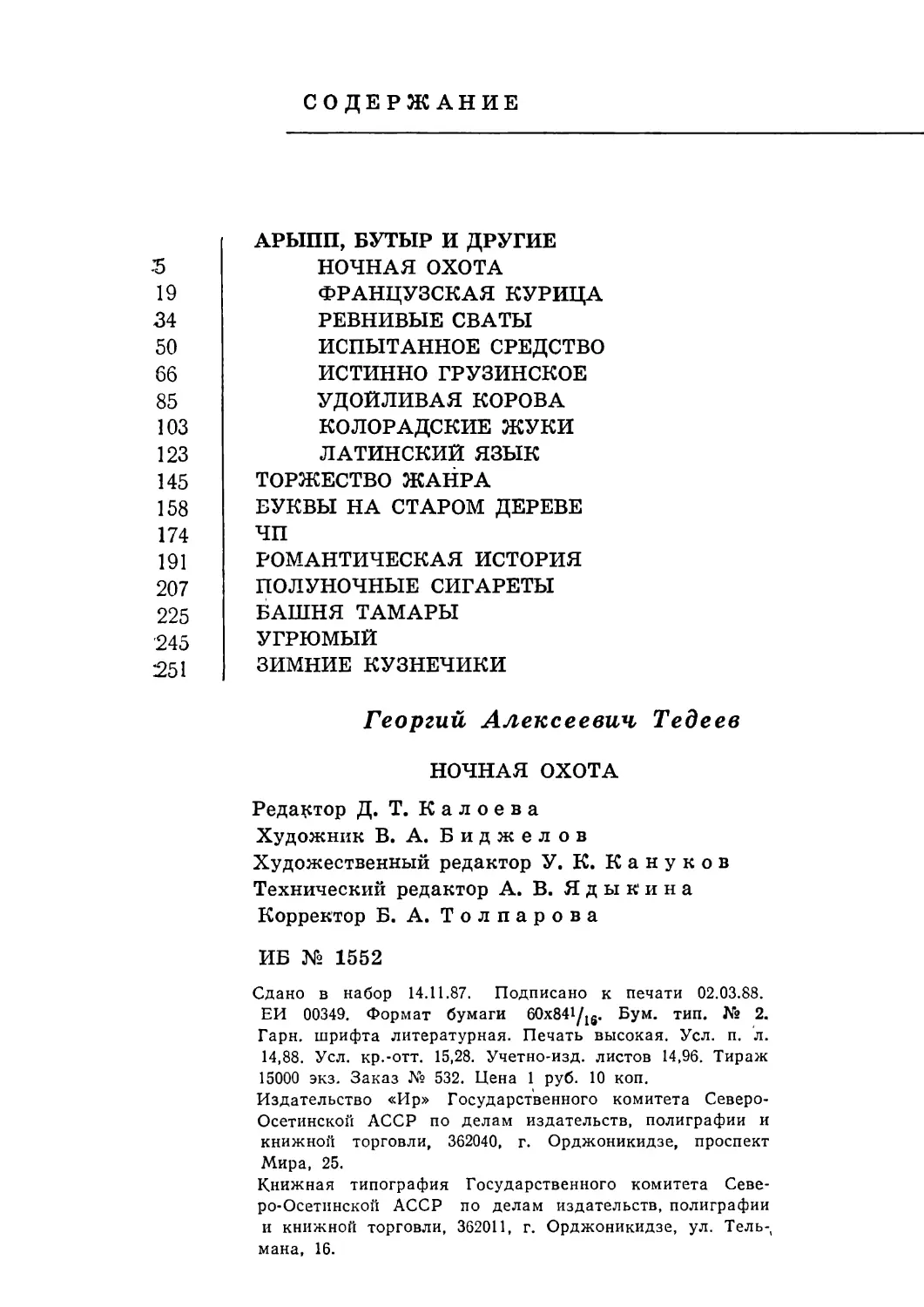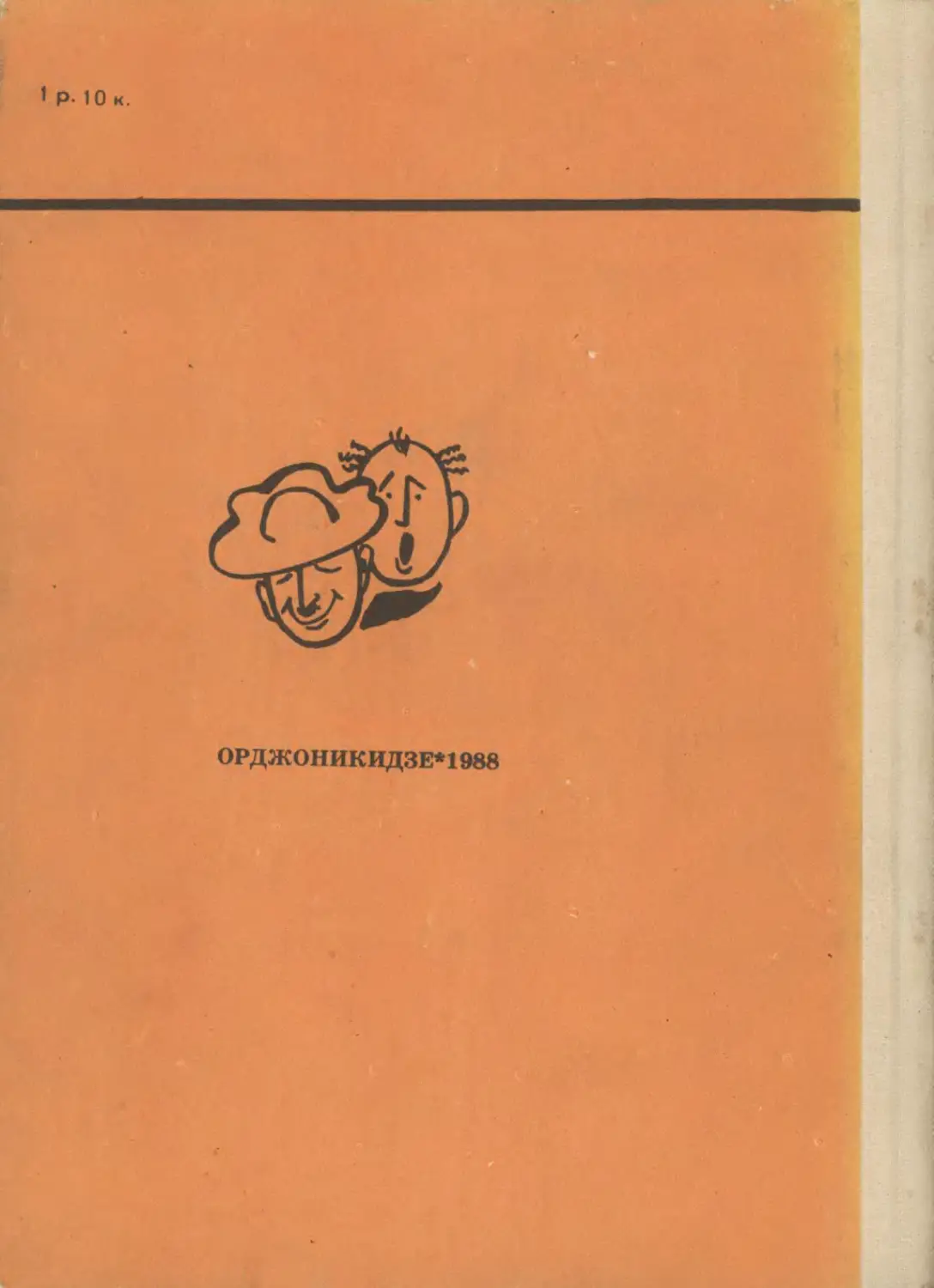Автор: Тедеев Г.А
Теги: художественная литература переводная литература осетинская литература крестовый перевал издательство ир
Год: 1988
Текст
'МР«
тамай 'вдш
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИР» * ОРДЖОНИКИДЗЕ, 1988
84 Осет
ТЗО
Рецензент Р. X. Тотров
Тедеев Г. А.
ТЗО Ночная охота.—Орджоникидзе: Ир, 1988,-256 с.
В пер.: 1 р. 10 к.
Герои рассказов — наши современники. Любовь и верность,
достоинства, предполагаемые человеком в самом себе,
проверка этих достоинств в чрезвычайных обстоятельствах — таковы
темы рассказов «Буквы на дереве», «ЧП», «Полуночные
сигареты» и др.
4702470000—19
Т 26—88 84 Осет
МШ(ОЗ)—88
15ВЫ 5-7534-0024-8 © Издательство «Ир», 1988
АРЫПП, БУТЫР И ДРУГИЕ
НОЧНАЯ ОХОТА
-О тот памятный день колхозный счетовод Арыпп,
недавно вступивший в охотничий союз и всего
неделю назад купивший двухстволку, стоял в цепи,
перекрывавшей все пути для бегства кабана, которого
загонщики выгоняли криками бранящихся
кумушек из чащи осеннего леса.
Маленький тщедушный Арыпп ни по
охотничьему опыту, — его у Арыппа совсем не было, — ни
по другим достоинствам никак не годился для
возложенной на него задачи. Но то ли по
снисходительности, то ли по равнодушию распорядителя
охоты занял, тем не менее, позицию. И если и
были Бначале у него сомнения в отношении
отведенной ему важной роли, то вскоре они исчезли. Видать,
решил Арыпп, есть в нем нечто такое, чем он
превосходит других, — в частности, загонщиков, — и,
следовательно, он достойнее любого из этой
крикливой оравы... Таков человек.
Однако с волнением своим он все, же не мог
совладать, так как был наслышан о кабанах, которых
бывалые охотники называли живыми снарядами,
торпедами и даже танками.
И потому Арыпп, пытавшийся представить себе
хотя бы средний танк, не скоро сообразил, что это
кабан, когда мимо, фыркая и ломая сухие деревца,
мелькнула какая-то темная и стремительная масса.
Он в течение минуты озадаченно, с отвисшей
челюстью, смотрел вслед исчезнувшему чудовищу, и
когда до него дошло, что это был кабан, вскинул
новенькую тулку и грохнул из обоих стволов — ему
казалось, так надо.
Стоявший в полусотне метров от него Бутыр, зав-
гар колхоза и друг Арыппа, человек горячий и
совершенно не сдержанный на язык, — между про-
5
чим, в чем другом, а в горячности Арыпп не уступал ему, —
подошел и процедил:
— Тебе, охотник, — в слово «охотник» Бутыр вложил
столько яду, что Арыпп сразу же почувствовал себя
отравленным, — тебе, охотник, только супоросных свиней стрелять.
Сам знаешь — не быстро бегают...
Бутыр еще с детства был одержим древней мужской
страстью — охотой и, как удачливый и бывалый в этом деле
человек, совершенно не мог видеть убегающих кабанов. И
оттого завгар, несмотря на деланное спокойствие, накалился, как
перегретый мотор.
Арыпп с мучительной беспомощностью чувствовал, как во
рту, не садясь на язык, сигают злые, обидные для Бутыра
слова, мечутся, словно рыбки в луже — попробуй поймай...
Но он все-таки прохрипел:
— Съест тебя корова, Бутыр... — и переступил на месте.
Арыпп знал, что говорил, ибо Бутыр еще с утра пребывал
в самом дурном настроении, причиной чему было то, что он
совершенно не спал, ибо всю прошлую ночь завгар проискал
свою корову.
Настроение людей обычно зависит от успехов и неудач
на работе, от жены, от домочадцев, от погоды, от товарищей
и даже от случайностей.
Это у других. У Бутыра настроение зависело от коровы,
симменталки красно-рыжей масти, за которой нужен был
глаз да глаз. Корова эта была престранная тварь с
мечтательными, как у верблюда, глазами и с таким нюхом, который
даже у милицейских собак встречается очень редко.
Она с одинаковым удовольствием ела мясо, сено, сыр,
комбикорм, соленья, брюки Бутыра вместе с записной
книжкой и деньгами в кожаном кошельке, связки жгучего перца,
сцички. Съедала и время Бутыра, который почти каждый
день вынужден был искать ее, потому что она, возвращаясь
с пастбища, стремительно проходила мимо родных ворот,
ориентируясь на какой-нибудь особенно притягательный запах,
это мог быть алкогольный дух свежей барды или
аромат только что распакованного в магазине ящика с дешевыми,
без оберток, конфетами или даже отравляющая вонь черем-
шиного крошева для пирогов.
При столь вопиющих недостатках корова обладала
единственным достоинством — удойливостью, и потому Бутыр
терпел и ее бродяжнический нрав и акульи повадки, хотя это
сильно сказывалось — не в лучшую сторону — на характере
самого завгара, как это было, например, сейчас.
6
Завгар не спускал со счетовода дезинфицирующего
взгляда и с равнодушием, которое обычно свойственно очень
старым лошадям, поучал:
— Никогда не торопись... — Бутыр зевнул. — Следующий
раз почеши в затылке и — есть у тебя зубочистка? —
поковыряйся в пасти, потом приставь оба ствола к брюху зверя и
стреляй, прежде чем он почувствует щекотку... Да благоволит
к тебе Афсати!..
Вскинув ружье на плечо, Бутыр пошел к товарищам —
посплетничать, конечно...
У Арыппа, ставшего багровым, жесткие усы так
встопорщились, что ими можно было бы драить кирзовые сапоги. Но
он так и не сумел поймать во рту ни одного достаточно
ядовитого слова. Только и смог, что пробормотать:
— Ну, посмотрим!..
С того дня зависть к удачливому охотнику Бутыру
угнездилась в сердце Арыппа, положившего себе отомстить
обидчику — не словом, а делом...
Зависть завелась в нем так основательно, как личинка
овода под кожей мерина. И свербела, чесалась столь
непреодолимо, что Арыппа не узнавали. Прежде всегда рассеянное
лицо счетовода теперь имело то сосредоточенное выражение,
которое бывает только у людей, чистящих картошку. И уже
трудно было узнать в этом человеке с направленным внутрь
взглядом всем известного в предгорном селении Арыппа.
Ходить стал поспешно, как ученик, на подходе к школе
услышавший звонок. Прежде болтливый, теперь превратился
в человека, что называется, с каменным ртом. И все оттого,
что мыслительные способности его были заняты одним —
изысканием способа, которым он мог бы усмирить тайный
зуд зависти и обиды.
А когда он раза два побывал на вечернем, после работы,
ныхасе мужчин возле сельского Совета, где уважительно
говорили об охотничьем искусстве Бутыра, ему уже совсем
нестерпимо захотелось отличиться — убить хотя бы косулю.
Еще лучше волка, — правда, подумал он, где его найдешь? —
ведь сейчас даже дети и те раньше видят тигра, чем волка.
Отлично было бы завалить тура. Но тур — не заяц и не
дикий голубь. На него — запрет. И прежде чем выколотишь
лицензию, истреплешь нервы так, что руки дрожать начнут.
Тогда и лицензия ни к чему...
А за браконьерство... Ммм... Лучше не пробовать...
Районное начальство сразу же навскидку влепит самый
крупнокалиберный штраф. После этого целый год будешь выглядеть
7
так, будто каждое утро в тебя бекасинником стреляют — для
профилактики...
Хорошо Бутыру! У того свояк чуть ли не заместителем
самого Афсати работает — он главный егерь района. Добудет
лицензию даже на медведя!..
Медведь... Арыпп крепко задумался... Ну, да!.. Только
медведь может стать достойным трофеем. Кто тогда на
мужских собраниях возле сельсовета вспомнит про вонючих
кабанов Бутыра! Все будут говорить про медведя Арыппа!..
А тут еще и другое преимущество. На медведя лицензия
не то что не нужна, но обойти запрет можно. Он — хищник.
Почему не может быть так — столкнулся он, Арыпп, нос к
носу с косолапым. Тот сдуру, — кто знает, какие могут быть
причины у лохматого дурня напасть на счетовода? — тот,
значит, сдуру и полез на Арыппа. А Арыпп не робкого
десятка. Не растерялся Арыпп и... Поди доказывай после этого,
что счетовод имел умысел, что медведь при встрече был
деликатен, как городской парикмахер, и спокоен, как сытый
кот. Никакой следователь, будь он умней самого разумного,
не докопается до подоплеки. А про егеря, одичавшего в
лесных бдениях, и говорить не стоит...
Итак, решил Арыпп, один из медведей, шастающих по
лесу, его, Арыппова добыча. Будущая. Следует только все
продумать...
Удача идет к тому, кто ее домогается.
Как-то в лесу Арыпп наткнулся на громадную грушу.
Плоды были особенные и имели такой аромат, что ими не
пренебрег бы даже зверь, от роду ничего, кроме парного мяса, в
пасть не бравший. Лев, скажем... Груши были шоколадного
цвета — крупные, мягкие. Дух шел от них соблазнительный,
зовущий — как от передержанного вина. Он щекотал ноздри,
так что дерево казалось центром леса...
И, самое главное, под деревом были медвежьи следы.
Много раз отпечатанная на мягкой земле лапа
напоминала сведенные вместе пятерню и; пятку штангиста-тяжеловеса.
А ствол груши был поштрихован когтями зверя на такой
высоте, что только колхозный механик Арчил, которому Арыпп
едва доставал папахой до пупка, мог бы дотянуться до
медвежьих росписей. Словом, зверь был тот, который нужен был
Арыппу — лесной царь...
Арыпп всю зиму и лето готовился к тщательно
продуманному завершению своего предприятия. Но на пути к успеху
было маленькое препятствие...
Медведи, знал Арыпп, это такой народ, который обделы-
8
вает свои дела ночью. И это было не то что неудобно, а...
Не любил Арыпп ночного леса. Везде тени, какие-то
силуэты... А ты стоишь — и между лопатками покалывает и
щекочет. Под ложечкой чувствуешь жар посильнее, чем от
электрической грелки. И при этом острое, слишком четкое
ощущение, будто кто-то сильный и по-лесному недобрый вот-вот
протянет когтистую лапу и...
Дальше воображение счетовода гасло, как экран
внезапно испортившегося телевизора...
Но делать было нечего. Арыпп смирился с тем, что
охотиться придется ночью. И потому готовился всю зиму и лето...
Разбрасывал на огороде — Арыпп жил на краю селения —
кости, кусочки мяса и хлеба, чтобы привлечь бродячих собак
и кошек, а сам прятался в ветвях дерева и оттуда начинал
палить среди ночи. Учился стрелять на шум, в полной
темноте...
Но так как собаки и кошки приходили не всегда и к
тому же разбегались после первого выстрела, то Арыпп
вынужден был прибегнуть к техническим средствам — он поставил
во дворе маленький электрический двигатель, который
наматывал на свой длинный вал бечеву с привязанным к ее
концу соломенным чучелом лисы. И стрелял, стрелял...
Через два дня его вызвали в сельсовет по жалобе
лишившихся покоя соседей. Председатель сделал Арыппу
внушение и пригрозил, что отберет ружье. Но Арыпп не только не
дал заднего хода, а даже перешел в наступление, обвинив
председателя в разведении антисанитарии. Паршивые собаки
и кошки бродят по селу, — кричал Арыпп. Они разносят
всякую заразу, — тут Арыпп без запинки перечислил не менее
десятка кожных болезней. И если они повадились в огород
Арыппа, то что же ему остается делать — лечебный пункт,
что ли открывать или собачий приют? Но Арыпп не
престарелая американская миллионерша и не ветеринар, а простой
счетовод. И потому он защищает свое здоровье как умеет. И,
кстати, — здесь голос счетовода обрел стальную чеканность,—
председатель должен бы положить ему даже зарплату! И
нечего изображать удивление! Ведь .он, Арыпп, оберегает
здоровье всех граждан села! Кому, как не председателю знать,
что в селе и так не хватает рабочих рук! А детей, любящих
поиграть с собаками и кошками, столько, что в каждом
дворе впору открывать детский сад! У самого председателя
семеро детей, и кажется — в этом месте Арыпп удивленно
понизил голос, — и, кажется, жена председателя... это... опять...
Дальше председатель слушать не стал. Выгнал Арыппа и
9
больше не обращал внимания на жалобы граждан по поводу
ночной пальбы. Арыппу только того и надо было...
Ночами в северной части села раздавалась такая стрельба,
будто там из окружения прорывалась армейская часть. Один
из ближайших соседей Арыппа, прежде славившийся
примерной трезвостью, вдруг начал дурно отзываться о лимонаде и
минеральных водах Осетии. Другой стал заикаться, так что
даже самые терпеливые граждане села не могли дослушать
его до конца и, главное, не могли понять, какого мнения
придерживается он относительно воинственных упражнений
Арыппа.
И еще — в селе не осталось ни одной собаки и ни одной
кошки без расстроенных нервов. Встретившись с незнакомым
человеком, они отбегали в сторону и оттуда подозрительно
поглядывали на встречного двуногого. Если же они натыкались
на самого Арыппа, то собаки, поджав хвост, с извиняющимся
видом и с полной потерей своего собачьего достоинства
кидались прочь. И, не разбирая дороги, перелетали через плетни и
заборы, перемахивали через двухметровые стены, забивались
в самые недоступные места и оттуда, тоскливо взвизгивая,
следили за Арыппом. Кошки шарахались с
душераздирающими воплями и еще долго после этого шипели по-змеиному и,
выгнув спины, вскрикивали дурными голосами где-нибудь на
крыше или на чердаке.
В Арыппе, наверно, произошло какое-то только собакам и
кошкам видимое изменение, потому что когда однажды
счетовод наведался в город, в гости к своей сестре, то сытый и
избалованный городской кот, такой важный, будто именно
он был ответственным квартиросъемщиком, едва увидев
Арыппа, закричал так, словно с него, с живого, сдирали
шкуру. Потом взвился на подоконник, — дело происходило на
шестом этаже, — сиганул оттуда на росший возле дома
тополь и в мгновение ока взлетел на его двадцатиметровую
макушку. Три дня, пока Арыпп гостил в городе, кот не
сдвинулся с места, несмотря на то, что был голоден и воробьи вы-
чирикивали ему прямо в морду все, что о нем думали.
Сострадательные люди хотели уже. вызвать пожарную
часть, но тут Арыпп уехал. И кот, отощавший, слез сам и с
неоновым блеском в безумных глазах, шипя, как
рассерженная гадюка, с величайшей осторожностью пробрался в дом,
дистрофически мяукая. А потом целую неделю ночами
взвизгивал так, что его хозяйка вынуждена была посетить
кардиолога.
Арыпп, однако, добился своего.
10
Без промаха, на едва слышный шорох, бил не только
собак в кромешном мраке, но даже крыс, так что к завершению
его бравых утех в селе сильно, поубавилось беспризорной
живности...
И вот настал его час.
Пегая, как цыганская лошадь, осень звенела во дворе
словно удилами, сухим ломким бурьяном и похожими на
обрезки старой жести опавшими листьями. Рукой дряхлого
консервативного живописца накладывала на склоны лесистых
ущелий вперемешку багрянца, золота, пустила киноварной
красноты между полутонами, пометила обширные бордовые
участки разводами ржавого цвета. И так высинила небо, что
низкое осеннее солнце казалось золотым шаром,
подвешенным в купоросном пространстве.
Бурые поля казались покрытыми медвежьей шкурой.
А над селом стоял дух созревших яблок. Переспевшие
сливы лопались и на их сизых боках медово желтели разрывы.
И где-то в звонкой кукурузе молодые петушки застенчиво,
как самодеятельные вокалисты, пробовали свои голоса.
Хриплое пение их, тем не менее, очень напоминало Арыппу тех
певцов, которые чистоту голоса считают пороком.
На удивление обильно уродило дерево Арыппа.
Крупные, чуть поменьше куриного яйца, коричневые
груши тесно усеяли землю. Но облетевшие, без единого листка
ветки все еще гнулись под тяжестью плодов, так что
стоявшему внизу наблюдателю купорос неба казался испятнанным
крупными шоколадными точками...
Арыпп взял двухстволку, торжественно отодвинул рычаг
ключа и решительно дунул в откинувшиеся стволы. Затем
вложил в патронник два тяжелых патрона — он знал, что
больше ему не понадобится — и, лихо щелкнув затвором,
закрыл ружье.
— Я, возможно, вернусь очень поздно — ночью, —
сурово сказал он Арсиан, своей жене. — Ты же не вздумай
кудахтать, если я задержусь...
— Куда? Куда ты? — встрепенулась Арсиан, давно не
видавшая, чтобы Арыпп выходил с ружьем куда-нибудь
дальше огорода.
— Женщина! — процедил счетовод, глядя на свою
половину исподлобья, повелительно. — Твое дело там! — Арыпп
небрежно, одним лишь взглядом, показал в сторону кухни и
вышел...
До леса было километра три. И так как Арыпп жил на
краю селения и уже наступали сумерки, то он очень надеялся,
11
что никто ему не встретится. Не хотелось отвечать на
вопросы — куда, зачем так поздно, а ружье для чего и пр. Ему
повезло — селение будто вымерло. Куда-то подевались даже
дети, обычно играющие за околицей...
Начало было удачное — так, как хотел Арыпп. И он верил,
что все предприятие тоже будет удачным...
Арыпп легко нашел свою грушу, несмотря на кромешную
темень. Запах созревших плодов был настолько силен, что не
было надобности в любом другом ориентире.
Груши лопались, квакая, под ногами Арыппа. И пахли —
ночь, что ли, виновата была — и позабористей и
поделикатней, чем передержанное вино. Дух стоял такой, как если бы
ушлые деятели торговли в' неизвестных целях объединили
парфюмерный магазин и винный подвал.
Арыпп умышленно топтал груши, шагая вокруг дерева.
Медведь, если он не заболел какой-нибудь человеческой
болезнью, лишившей его нюха, думал Арыпп, должен был
обязательно пожаловать. У Арыппа на этот счет не было
никаких сомнений. Так что все зависело от его хладнокровия и
искусства.
А попасть в темноте, стреляя на шум громаднейшего из
медведей, для Арыппа было не труднее, чем отыскать во
мраке свой собственный нос.
Когда Арыпп натоптал так много груш, что аромат их
должен был проникнуть даже в шахты в соседнем ущелье, он
взобрался на дерево. Дело это оказалось нелегким. Колючие
отростки царапали лицо и шею. При слишком резком
движении на землю сыпалсй град тяжелых, как жаканы, плодов, и в
лесу раздавался такой грохот, будто где-то за кустами
пионерское звено обучалось игре на барабане.
С какой стороны пожалует медведь?
Медведю в поле делать нечего, размышлял Арыпп, — не
пахал, не сеял. А в селе какие у него дела? В магазин не
ходит, в сельсовет его не вызывали. Ясно — припрется из
глубины леса.
А раз так, то и позицию следует выбрать
соответствующую — за дтволом, чтобы ствол был между зверем и Арыппом.
Это и маскировка и, в случае нужды, ружье можно будет
опереть на сук, хотя это излишняя предосторожность при
артистическом искусстве стрельбы Арыппа.
После недолгой и остброжной возни охотник устроился
на пружинящей развилине. Сидел удобно, как председатель
сельсовета в кресле. Только вот опоры не было для спины.
Ничего, подумал Арыпп, не зарплату же он собирается
высиживать. Всего и дела, что принять одного посетителя... Лесного
царя...
В лесу был самый густой мрак — как в погребе у скупой
хозяйки. Не видно было даже звезд. Раздавались какие-то
трески, шорохи, словно под пологом осеннего леса бродили
неведомые звери в поисках добычи. Где-то, мучимые дурными
снами, вскрикивали дремавшие птицы. А беспокойные мыши,
пошуршав в пересушенной листве и перегрузив свои нервы
страхом, затихали надолго, словно в обморок падали от
ужаса. Дерево тоже жило своей жизнью — оно роняло одиночные
тяжелые плоды, и листва от этого звонко звенела. Словом,
было тихо и страшновато...
Вообще Арыпп был доволен собой. Охота на медведя —
дело преопасное. И не много бы нашлось мужчин в селе,
которые решились бы вот так, в одиночестве и в этой жуткой
темноте устроить засаду на самого сильного л умелого хищника,
захватив с собой всего лишь два патрона.
И, кроме того, кто решится стрелять на шум, точно зная,
что под тобой огромный медведь, который при малейшей
неточности стрелка может показать истинно женское
любопытство и полезть на дерево, чтобы взглянуть на охотника.
Никто, подумал Арыпп, никто в селе не решится на такое
отчаянное предприятие. А он решился, потому что имеет
твердую руку, твердое мужское сердце и ум — все продумано
и просчитано!
Дело за медведем!..
По представлению Арыппа — пора была полночная.
Но медведя что-то не было, и Арыпп начал беспокоиться.
Отчего этот дурень задерживается? Ведь вчера еще видел
Арыпп тут совершенно свежие медвежьи следы! Или переел
медведь?
А, может... это... запах Арыппа он учуял? Да нет, едва
ли... Арыпп утром нарочно сходил в баню и даже в
парикмахерскую заглянул. Не только медведь, но даже собака
пограничника... Стоп! Усы!.. Ах, проклятый брадобрей! Он чем-
то намазал усы Арыппа! И угораздило же пойти в
парикмахерскую* после бани! Ну, растяпа! Конечно, медведь может
учуять — если еще не учуял — парикмахерово благовоние!
Но что же делать?.. Не выщипывать же усы! Спрятать, что
ли?..
Арыпп забрал в рот щетину усов. Нет — так долго не
подержишь... Да и вкус — противоположный запаху!.. Как же
быть?.. Ага! Вот средство!..
13
Арыпп осторожно сорвал грушу и, раздавив ее,
получившимся повидлом намазал усы. Уж это перешибет
парикмахерский дух!
И когда с удовлетворением подумал о своей
сообразительности, вздрогнул — услышал тяжелые, степенные шаги...
Медведь!
В животе у Арыппа стало холоднее, чем в морозильнике
холодильника.
Сердце задергалось подобно пойманному петуху. А язык
в одно мгновение стал шероховатым, будто высохшая на
солнце жаба. Что-то тяжелое, как мешочек дроби, подкатило к
горлу, и мороз в животе от этого сменился грелочным жаром.
Арыпп вздохнул осторожно и глубоко и чудовищным
напряжением воли подавил нервные судороги. Стало легко.
Сплоховал немного, подумал Арыпп. Зверь подбирался не
из глубины леса, а со стороны села. Ну, бродяга! Значит, в
поле шастал, в кукурузу наведывался! Но не на того напал...
Ведь ничего не стоило, чуть-чуть повернувшись, угостить
хитреца двумя жаканами вместо груш.
Арыппу казалось, что он даже чует тяжелый звериный
дух, исходивший от медведя.
Медведь остановился — осторожный!..
Шумный выдрх — известный медвежий прием при
исследовании окрестностей '— и опять послышалась тяжелая
поступь. Трещали, ломались сучья под его ногами. И зверь
снова останавливался,, задерживал дыхание, прислушивался
после очередного шумного выдоха и опять делал несколько
шагов.
Наконец — зверь под деревом. Зазвенела листва,
зашуршала. То медведь губами подбирал груши. Послышалось
смачное свиное чавканье...
Арыпп начал поворачивать корпус. Осмотрительно, даже
дыхание задерживал. Ну вот — достаточно. Теперь унять
волнение и сориентироваться по чавканью зверя. Хорошо
все-таки поупражнялся Арыпп! Ему казалось, что он видит
медведя, как если бы тот был ярко освещен — вот он нагнулся,
могучие лопатки выпирают под лоснящейся шкурой. Вот он
подобрал грушу и жует, подняв голову. На морде глупое
удовлетворение. Как у человека, обнаружившего, что на его
лотерейный билет выпал пылесос, который он только вчера купил
на последние деньги...
Арыпп довернул ствол и, почувствовав движение нервных
токов на голове — признак мгновения, сулившего
несомненный успех, — нажал на оба спусковых крючка. Пушечный
14
грохот, пушечная отдача — заряды были!.. Выпустив ружье
и перевернувшись, Арыпп свалился на землю.
• Упал удачно — по-кошачьи мягко и на ноги. Громовый
взрев раненого зверя заставил Арыппа взвиться и снарядом
влететь в чащу. Ветки хлестали его по лицу, рвали одежду,
сдирали, будто цаждаком, кожу с шеи, со щек. Смертный рев
издыхающего медведя звучал для Арыппа самой сладкой
музыкой, и душа Арыппа пела торжественный гимн, который
знаком только победителям. Медвежий царь был повержен!..
На опушке леса Арыпп остановился — перевести дыхание
и обдумать, как быть дальше. Он дышал, как скаковой
жеребец на финише, но перебирал свои возможности по
доставке трофея домой.
За год зависть так изощрила его ум, что понадобилось не
более пяти минут, чтобы придумать самый наилучший выход,
исполненный коварства и обещавший, кроме этого,
несомненную выгоду. Тем самым Арыпп добивался двух целей —
наиприятнейшим образом удовлетворял давно мучивший его зуд
зависти и без особых хлопот доставлял тушу медведя к себе
во двор.
Арыпп решил позвать Бутыра на помощь — у того была
лошадь.
Через полчаса он нетерпеливо грохотал в ворота Бутыра.
И когда сонный Бутыр замаячил в конусе света, Арыпп
самым вежливым голосом объявил, что это именно он, Арыпп,
обеспокоил Бутыра, потому что больше не на кого
положиться в том деле, которое...
— Да не будет у тебя бога, Арыпп! — прервал его, зевая,
Бутыр. — Тревожишь после вторых петухов! Ну что там у
тебя стряслось?..
Бутыр застонал от нового зевка.
— Помочь мне надо, Бутыр. Я медведя убил, — буднично
выложил Арыпп свой козырь.
С Бутыра в одно мгновение слетели остатки сна. Но
прошло не менее пяти минут, прежде чем окаменевший от
изумления Бутыр догадался захлопнуть отвисшую челюсть.
— Ме... Ме... Медведя, говоришь? Ты?! — прохрипел он.—
Где такие медведи?
— Я... Что тут такого? — скромно ответил Арыпп, будто
каждый день убивал медведей. — Помоги мне, ради бога. У
тебя — лошадь.
— Подожди... Я сейчас... Я штаны...
Одетый Бутыр появился быстро. Вывел лошадь, кинул
Арыппу веревку. Из-под застрехи достал короткую палку с
15
намотанной на ее конец паклей. Сунул ее в ведро, после
чего сразу же запахло соляркой. Взял топор.
— Твоя лошадка... — начал Арыпп. — Она не испугается,
когда мы взвалим на нее медведя?
— Моя лошадь?.. Будь покоен. Это лошадь... — Бутыр
озабоченно похлопал себя по карманам. — Где спички? Без
спичек никак... Здесь они!.. Моя лошадь — это лошадь
настоящего охотника!
«Утешайся хоть так!» — подумал Арыпп, а вслух
поторопил Бутыра — медведь, сказал он, остынет и свежевать его
будет трудно.
— Верно! — уступчиво согласился Бутыр. — Но как ты
оправдаешься перед егерями, перед председателем сельсовета?
— А медведь бы оправдывался, если бы он задрал меня?
Председатель бы требовал у него ответа?
— Нет, разумеется...
— И кроме того, кто будет знать об этом? Я да ты!..
— Тоже верно! А... он большой? Твой медведь?
— Как верблюд. Твоя дохлая лошадь за раз и не унесет
все мясо. Там одна шкура будет потяжелей стальной
плиты.
— Сделаем две ходки, — решил Бутыр и издал такой звук,
будто тяжелый мешок поднимал.
На опушке леса Бутыр спешился. Арыпп пошел впереди,
показывая дорогу. Бутыр вел за ним лошадь. Когда подошли
к дереву, Арыпп сказал:
— Засвети факел. Мы пришли. Вот он, видишь темную
массу?
— Я не кошка. Я сейчас... — Бутыр погремел спичками, и
Арыпп впился в его лицо, чтобы насладиться завистью друга.
Сухо чиркнула спичка. Бутыр поднес ее к факелу. И
огненный осьминог в его руках задвигал, зашевелил огненными
щупальцами. Лесные тени заметались в дикой суматохе,
запрыгали, налезая друг на друга, будто хотели получше
разглядеть медведя Арыппа.
Бутыр степенно — Арыпп понимал, что это —
нарочно — отвел от себя факел. И лицо его перекосилось, как
портрет в поломанной раме. «Что делает зависть с людьми!» —
подивился Арыпп и даже пожалел Бутыра. Затем посмотрел
на свой трофей и...
Обомлел счетовод. У ног его, бесстыдно откинув хвост,
лежала корова Бутыра! Симменталка!
Бутыр издал невозможный для человеческого горла звук
и в его руках блеснул топор...
16
Арыпп потом не мог вспомнить, как он оказался в чаще.
Помнил только, что пришел в себя от вопля пострашней
того, который издал однажды Арчил, когда... Но лучше
рассказать...
Дело было так. Однажды счетоводческие обязанности
занесли Арыппа в колхозный гараж, во владения Бутыра. Был
обеденный перерыв, и в гараже были лишь два человека.
Автослесарь Куку, золотые руки, стоял и любовался
добродушно урчавшим двигателем, который — уже железный
лом — он по своему обыкновению вернул к жизни. Да из
угла в угол, держась за щеку, шагал огромный, как статуя
шахтера в Мизуре, механик Арчил. И вид у него был такой,
будто он запамятовал что-то чрезвычайно важное и теперь
тужился вспомнить.
— Что с тобой? — поинтересовался Арыпп.
Арчил похожим на болт пальцем показал — зубы, мол,
болят.
— Шел бы к врачу... — равнодушно посоветовал Куку.
— Врач в городе... У него жена рожает... — промямлил
Арчил так, будто рот был полон тяжелых гаек и посмотрел
красными от бессонницы глазами на Куку.
— Прогреть надо — мигом снимет боль, — сказал Куку,
собирая свои инструменты.
— Пробовал, — страдальчески гугнил Арчил. — Горячим
чаем, молоком. Даже аракой. Ммм... — скривился великан и
всхлипнул.
— Скажешь тоже — аракой! — презрительно сказал Куку
и воткнул паяльник в розетку. — Надо знать — чем и как.
Сейчас вылечу. Ну-ка, покажи! Покажи, покажи!
Куку был искуснейший автослесарь гаража, и Арчил
сильно уважал его, и оттого без колебаний показал пасть чуть
поменьше раскрытой дамской сумочки.
— Сейчас... — Куку углядел черный зуб, похожий на
клавишу пишущей машинки. — Застынь, потерпи! Дело
минутное. Благодарить потом будешь.
И приложил жало паяльника к клыку Арчила. Секунд
двадцать Арчил был спокоен, как поросенок, которому
почесывают животик. Только глаза его увеличивались,
приближаясь в своих размерах к линзе будильника. Потом он исторг
такой вопль, что добродушно урчавший двигатель заглох. А
врачеватель, увидев над собой пудовый кулак пациента, вы-
2 Георгий Тедеев
1Т
ронил паяльник и нагнулся так поспешно, будто на полу
рубль увидел...
Бутыр ревел так, что Арыпп начал волноваться — уж не
пришел ли медведь, которого он ждал. Но когда послышалась
отборная высококвалифицированная ругань с именами
ближайших родственников Арыппа и многократно повторяемым
именем счетовода, он успокоился и только дивился
выразительности гаражного фольклора.
— Я застрелю твоих коров, овец, козлят! Кур передавлю.
Тебя самого, поганца, угрохаю! — вдохновенно обещал
Бутыр. — Ты убил корову, которая давала столько молока, что
тебя можно было бы утопить в нем!..
— А сколько литров? — неожиданно для себя спросил
Арыпп.
Ответом был уже не рев — визг.
Чтобы как-то утешить расстроенного Бутыра, Арыпп
крикнул сердито, как пострадавший:
— Бутыр!
Визг оборвался, и Арыпп понял — тон, который он выбрал,
удачен.
— Бутыр! Стыдно! Из-за блудливой коровы визжишь, как
кастрируемый поросенок! Уж лучше бы ругался — видно, по
крайней мере, что ты мужчина!
Завгар, ответил яростной руганью.
— Ну вот и хорошо! — удовлетворенно крикнул Арыпп, и
когда Бутыр затих, добавил: — А ружье мое возьми себе в
утешение! Сам видишь — даже в темноте не дает промаха!
И ради нашей дружбы — молчи!
И ушел, напутствуемый ругательствами Бутыра. И знал,
что Бутыр непременно проболтается...
Вот и все... Сколько лет уже прошло, а в селе еще не
забыли про ночную охоту Арыппа, хотя никто, конечно, не на-
. поминал ему — в лицо, разумеется, про его медведя. Только
иногда вечерами, особенно на .свадьбах, кое-кто из
подгулявших сельчан озабоченно, невинным голосом, спросит:
— Арыпп, дорогой! У меня что-то корова не пришла...
Не охотился ли ты, случаем, на медведей?..
И тогда уже Арыпп ревет, как Бутыр в ту памятную ночь...
ФРАНЦУЗСКАЯ КУРИЦА
1-я осле своей не совсем удачной охоты на
медведя Арыпп некоторое время был спокоен. Но при
внешней невозмутимости поступки его были
странны и непонятны.
Так, случалось, что в стакан чая он клал вместо
сахара две-три ложечки соли экстра, которую его
жена, Арсиан, держала в солонке, похожей на'
сахарницу. Но недоумение вызывало не то, что он
принимал соль за сахар, — кто не может ошибить-.
ся! — а то, что, тщательно размешав ее, он
выпивал этот технический раствор и потом вытирал усы
с такой невозмутимостью, которая в наш нервный
век знакома лишь жителям отдаленных пустынь.
А во время прореживания кукурузы и
рыхления свеклы в его учетных бланках появлялись
такие записи, что один день можно было подумать,
будто в поле трудилась бригада, каждый член
которой превосходил возможности среднего трактора. В
другой раз те же записи свидетельствовали, что
бригада по непонятным причинам превращалась в
кучку самых отчаянных бездельников, любителей
подрыхнуть на свежем воздухе, почему-то
предававшихся своему невинному пороку среди ростков
кукурузы или на свекловичной плантации.
Колхозный бухгалтер после чтения таких
бланков начинал щупать и массировать свою лысину,
проветривал кабинет и вдвое против обычного
удлинял обеденный перерыв. Перед его глазами
начиналась какая-то дьявольская пляска цифр, в
которой девятка была пустой, как нуль, а сам нуль
пыжился, как содержательная девятка. И потому, как
только представлялась возможность, бухгалтер
начинал намекать председателю тоном опытной с1ва-
хи, что он заработался и, так как имеется путевка
в дом отдыха, то...
Ш
Но бывалый председатель на ходу бросал одно лишь
слово— «страда!» Оно действовало на бухгалтера эффективнее
всего Черного моря, так что он успокаивался и собственноручно
приводил данные Арыппа в соответствие с человеческими
возможностями и нравственностью односельчан.
И неизвестно, сколько бы это длилось, если бы не
случайная поездка Арыппа в соседнее селение, в котором у него
было пустяковое дельце к родственнику — минут на тридцать,
но где он, однако, задержался и на ночь.
Утром обеспокоенная Арсиан, так и не сомкнувшая глаз,
увидела своего мужа. Тот вернулся с сияющим ярче уличного
фонаря лицом и принес с собой курицу.
— Французская... — сказал он, выпуская иностранную
птицу.
Блаженная улыбка морщила его маленькое лицо, а усы
шевелились, напоминая двух мышей, вместе нашедших
кусок сахара.
— Таких нигде нет, — пояснил он. — Ни в нашей
республике, ни в соседних. И даже кудахчет по-заграничному. Вот
увидишь...
После перечисления таких достоинств он подумал и
сообщил еще одно — цену, всего лишь рублей на тридцать
превышавшую ту, по которой идут кладеные бараны к праздникам.
Курица — это была, как объяснил Арыпп, корниш —
обладала редкой и какой-то... некуриной красотой. Длинные ноги
почти до пальцев были покрыты мелким пепельным пером
так, что она казалась одетой в модные, вызывающего фасона
брюки. Хвост она имела такой белый, что глаза сами
поворачивались к ней.
Остальной покров корниш состоял из чередующихся
перламутровых и нежно серых перьев. На голове возвышался
сивый, в жемчужных пятнах, хохолок, казавшийся делом рук
первоклассного дамского парикмахера, а впереди него, как
диадема, кокетливо алел розовидный гребень. И вдобавок
кончик клюва был алого цвета, будто она только что клевала
губную помаду.
Все это выглядело легкомысленно, но так эффектно, что
во двор Арыппа уже заглядывали беспородные соседские
петухи. Они вытягивали шеи, поворачивали головы и,
бессильные понять что-либо, не то ахали по-петушьи, не то стонали
длинно и страстно.
— Сколько стоит, говоришь? — полюбопытствовала
Арсиан — ей показалось, что она плохо расслышала первый раз.
Арыпп небрежно повторил цену, после чего Арсиан вдруг
20
захотелось вспомнить, в каком из ящиков комода находятся
таблетки валидола...
Потом, через неделю, Арыпп, исчезнувший на субботу и
воскресенье из дому, принес еще пару сажево-черных кур,
которые, как он объяснил, были китайские — лангшаны.
Куры имели до того черное перо, словно их только что
искупали в отменной китайской туши. Глаза их напоминали
янтарные бусины, наклеенные на черный бархат. Ноги у них
были желты, как тропическая лихорадка.
Петух щеголял алым, почти игрушечным гребнем и
церемонно прохаживался вокруг своей изящной подруги. Время
от времени пара приседала, будто извинялась за столь
неожиданное вторжение.
Арыпп назвал цену, и, когда охнувшая супруга без сил
присела на ступеньку террасы, заявил, что отныне в его
дворе больше не прокудахтнет ни одна беспородная курица. И
он недобро посмотрел на разномастных кур, которые в эту
минуту казались результатом предосудительной связи между
вороной и глупой рябой хохлаткой.
Между тем огорчительное потомство куриных
мезальянсов обалдело взирало на прекрасную китайскую пару и
француженку и всем своим видом выказывало возмущение, как
это свойственно всякой добропорядочности при виде очень
смелых нарядов.
Затем появилась еще одна пара — громадные петух и
курица с мягким серым пером, почти пухом, ласкавшим глаз,
Они казались опрысканными мраморной краской
приглушенных тонов. Голову петуха украшал полыхающий тугой
гребень с такими ровными зубцами, что он больше смахивал на
королевскую корону, чем на петушиную принадлежность.
Но самым главным достоинством важного петуха все-таки
был голос — низкий, церковно густой бас. И не только после
его внушительного пения, но даже от его будничного «ко-ко-
ко», которое он умел произносить с многочисленными
интонациями, в соседних дворах надолго замолкали беспородные.
— Юрловские голосистые... — снисходительно объяснил
Арыпп супруге, которой настолько осточертела курятина и
приличные только на конных аукционах цены, что ее уже
тошнило от одного вида породистых кур.
— Император, настоящий Император! — восхищался
Арыпп юрловским петухом.
Жена внимательно посмотрела на мужа — она перестала
понимать его. И что бы тот ни делал, Арсиан, хоть и не
перечила Арыппу, тем не менее внутренне не одобряла этого ув-
21
лечения курами. И еще — не узнавала она своего супруга-
Если раньше он спешил на вечерние собрания мужчин возле-
сельсовета или смотрел спортивные передачи по телевизору,
то теперь он не делал ни того, ни другого.
Арыпп ночи напролет читал книги и журналы по
птицеводству, что-то выписывал из них, с кем-то переписывался.
В его речи начали мелькать слова, которые во всем селе мог
понять лишь один зоотехник. Впрочем, в вопросах,
касающихся разведения кур, Арыпп переплюнул бы даже самого
зоотехника.
Запоминал он и знал изрядно.
И уже в правлении, и на мужских собраниях возле
сельсовета, где по старой памяти Арыпп изредка появлялся, он
умело сворачивал разговор на своих кур. Называл породы, из
которых, к его огорчению, слушатели запомнили только одну
корниш, да и ту именовали просто — француженка...
Последним приобретением Арыппа были плимутроки, —
американская пара, — полосатые, как зебры, ставшие ему в
цену хорошего телка.
Как только они были выпущены во дворе,
петух-плимутрок тут же с американской бесцеремонностью затеял флирт
с француженкой, отнюдь, однако, не обделяя вниманием и
остальных дам. По-отечественному прямолинейный Император
даже клюнул его в темя, что, впрочем, нисколько не
охладило пылкого сердца американца.
Император пока ограничился этой мерой, но в видах
поддержания достоинства и в воспитательных целях поскреб
шпорой опущенное до земли крыло и так внушительно
проговорил свое «ко-ко-ко», что соседский беспородный, именно
в эту минуту затеявший кукареканье, поперхнулся на
середине своего сольного номера и вынужден был, мгновенно
растеряв достоинство, закудахтать, как старая солидная курица...
Утро выдалось яркое, солнечное. В голубом небе
беспорядочно, будто куриные перья после лисьей пирушки, были
раскиданы рябые облака. Солнце полыхало гневным петушьим
оком. И шлейф прозрачного облака, наползавшего на него,
казался полупрозрачной плевой, которой петух в минуты
задумчивости прикрывает свое строгое око. /
Арыпп болел и потому находился дома. Простудился
после недавней грозы. В теле сидела сковывающая тяжесть.
Аппетит пропал. Арыпп был вял, как человек, по оплошности
съевший несвежую пищу и еще не догадывающийся, что
отравился. л^}1
22
Счетовод получил бюллетень, но, несмотря на это, был не
настолько хвор, чтобы валяться в постели. И занялся с утра
загородками, которые он делал из стальной сетки, чтобы
пресечь в дальнейшем легкомысленные связи и уберечь чистоту
крови в жилах своих породистых кур.
Он твердо положил себе получить от каждой пары
выводок, а потом, уже работая без опасения потерять редкую
птицу, приступить к скрещиванию, чтобы вывести новую породу.
Это дело казалось ему нетрудным. Оно требовало лишь
терпения и времени, и, если учесть, что у Арыппа и того и
другого при немалых знаниях было предостаточно, то он имел
все основания не сомневаться в успехе. И даже подумывал о
названии для будущей породы...
Загородки получились просторные, со строгими линиями.
Арыпп посыпал землю песком, подбросил ракушечника,
взбил солому в плетеных корзинах и даже хотел положить
подкладыши для ускорения начала кладки, но так как
самих гнезд еще не было, то он вынужден был отказаться от
своего намерения.
Прежде чем загнать птиц в загородки, он решил их
покормить вместе, чтобы полюбоваться великолепной
коллекцией, о которой, он знал, по селу уже ходило много
разговоров.
Арыпп вынес в ведре белой кукурузы. Взял тяжелую
пригоршню зерна и движением сеятеля кинул на асфальт двора.
Куры нервно вздрогнули от звона литых зерен, шарахнулись,
ударив крыльями, но, спохватившись, тут же дробно
забарабанили крепкими клювами.
Плимутроки смело и даже-нагло клевали у самых ног
Арыппа. Лангшаны мелко семенили, переступали
одновременно, вместе поворачивали головы и приседали по-восточному
признательно. И, подбирая зерна, демонстрировали завидную
синхронность движений.
Юрловцы, особенно Император, клевали снисходительно,
соблюдая достоинство — видали, мол, и не такой корм.
Легкомысленная корниш, казалось, больше всего
заботилась о своем наряде — не запачкаться бы! — и брала корм
пренебрежительно, словно благовоспитанная барышня в
прокуренной забегаловке.
«Хлопот будет с этой француженкой!.. — подумал Арыпп
и даже пожалел, что купил корниш. — Кавалера для нее не
найдешь, и потому развалить сложившиеся три семьи для
нее, при такой внешности, проще, чем кудахтнуть. Что же с
ней делать?.. Пожалуй, еще заставит нервничать церемонную
23
лангшан и даже, хоть и более непринужденных, но все же
степенных плимутрок и юрловку. А это может отразиться на
величине яйца и жизнеспособности зародыша... Да, хлопотная
попалась француженка!..»
Арыпп бросил еще пригоршню. Все четыре курицы, а с
ними и петух-лангшан, как более нервные, опять
шарахнулись. Американский петух даже не сдвинулся с места.
Император тоже. Только по привычке проговорил укоризненно:
«Ко-ко-ко»...
«Ну ничего... — решил Арыпп. — Подождем созревания
выводков, а там приметим какое-нибудь отклонение,
приближенное к корниш, и подсадим к ней в будущем году такого
молодца, что... Хотя, может, она уже и старовата будет для
него... Вряд ли, однако... При такой внешности ей любой
петух охотно позволит клюнуть свое сердце. Получится, в
общем, даже неплохо. Может, новая порода даже обозначится
быстрее...»
Вдруг корниш без всякого на то основания испуганно вску-
дахтнула и бросилась бежать, опустив грудку до самой
земли и задрав белоснежный хвост. Пока другие петухи,
ошеломленные, пытались понять этот поступок, поклектывая и
раздувая зо0ы, бывалый Император бросился за ней. Он
приспустил свои перламутровые крылья и, руля ими, длинными
шагами, изобличавшими в нем решительность и опыт, уже
достигал кокетливую корниш. Однако произошел конфуз.
Француженка сделала резкую, неожиданную скидку — и грузный
Император, не привычный к такому коварству, вынужден был
по инерции пробежать еще метра три, пока его медленный
ум постигал сущность постуйка обольстительной корниш. В
этом случае конфузятся даже серые беспородные петухи.
Смутился и юрловец. Он остановился и, вскинув голову с йо-
лыхавшим гребнем, начал топтаться на одном месте,
пытаясь поддержать суровым «ко-ко-ко» достоинство и показывая
всем видом, что это была лишь разминочная пробежка и
больше ничего.
— А еще Император! —укоризненно сказал Арыпп. — А
ведешь себя!.. Балда ты после этого!..
— Арыпп! — хлестнул с улицы мальчишеский голос.
— Ну? т— куровод повернул голову.
За медленно отходившей калиткой открывался мальчик
со стриженой головой, очень напоминавшей футбольный мяч
с приклеенными к нему хоккейными шайбами розового
цвета — вместо ушей.
— Смелей, почтенный! — подбодрил его Арыпп.
24
Но мальчик не нуждался в поощрении. Он вступил во
двор и коротко, будто из рогатки выстрелил, сказал:
— Торопитесь!
— Куда? — Арыпп вытаращил глаза.
— Председатель зовет.
— Я же болен!
— Я не врач. А куры что? Крашеные?
— Зачем я ему? — Арыпп пошевелил усами.
— Не спрашивал. А разве ж ей не надо?
— Кому?
— Ей... — мальчик стрельнул глазами в корниш. — Разве
ей петуха не надо?
— Надо. А тебе что нужно?
— Мне — ничего. А ей петуха надо.
— Не твое дело.
— Одной что за жизнь! Идите к председателю. С петухом
все же легче.
— Исчезни... — Арыпп потерял нить мыслей, глаза его
стали туманными и он неуверенно добавил: —Рано учишь.
Сквернавец!..
— Я не учу... Но, по-моему, она французская. И поэтому
не сможет без петуха.
Мальчик еще раз посмотрел на кур, потом зыркнул на
Арыппа, покачал стриженой головой и нырнул вместе с
уникальными ушами в раскрытую пасть калитки...
Арыпп потер лоб и долго не мог вспомнить, что он
собирался делать.
«Даже поболеть не дадут!.. — в его голове, наконец,
оформилась сердитая мысль. И медленно, словно сомневаясь,
^правильно ли он поступает, начал загонять кур в одну
загородку. — Совсем совесть потеряли!.. Ведь знают отлично, что
болен! Тоже мне председатель! Скоро прикурить захочет и за
Арыппом посылать будет, чтобы тот спичку ему зажег... Ну,
нравы!..»
Через полчаса ошеломленный Арыпп топтался во дворе
правления — точь-в-точь, как Император после разминочной
пробежки — и поджидал нагрянувшую без предупреждения
сборную делегацию птицеводов соседних хозяйств,
приехавших перенимать передовой опыт. За отсутствием зоотехника
председатель возложил на Арыппа ответственное поручение —
просветить специалистов, ибо был наслышан про его редкие
знания в куроводстве.
25
Арыпп, хотя и был сердит, все же испытывал и
небольшую гордость. Ведь никто другой не справился бы с
председательским поручением, так что это не могло не тешить его
самолюбия. Колхозного голову тоже следовало понять,
размышлял Арыпп. Ведь что ему оставалось делать, если
зоотехник с утра подался зачем-то в город? Лишь одно — Арып-
па позвать...
Были и другие причины для хорошего настроения.
Во-первых, председатель, понизив голос, интимно
посоветовал Арыппу рассказать гостям о селекционной работе,
проводимой в колхозе, непременно упомянув про французскую
породу.
— Ну ты сам знаешь, как надо... Пусть завидуют и
уважают, — добавил он и подмигнул Арыппу.
И, во-вторых, Арыпп испытывал удовлетворение и оттого,
что в самый последний момент, когда уже собирался выйти
из председательского кабинета, он выказал хорошую
предусмотрительность, вспомнив, что гостей ведь следует как-то и
приветить. Устанут же они по такой жаре, проголодаются и
потому по осетинскому обычаю непременно надо устроить
какой-нибудь стол. Председатель поморщился, но, подумав,
все-таки согласился. И сказал, что возложит это поручение
на кого-нибудь, так что в положенное время, — председатель
посмотрел на часы, — часа этак в два, некто подойдет к
Арыппу и пригласит отведать колхозного хлеба-соли всю компанию.
При этих словах председатель высунул голову в окно с
намерением препоручить деликатное дело первому
подвернувшемуся.
— Ага! — сказал он. — Вот ты-то мне и нужен!
— А что? — спросили со двора, и Арыпп узнал голос Бу-
тыра.
Председатель начальственно рассказал про нашествие
куроводов и предстоящую демонстрацию колхозных
достижений перед птицеводами республики, потом сообщил про
отсутствие зоотехника и про то, что вместо зоотехника гостей
просветит Арыпп.
Бутыр одобрил это дело.
— Потому что кроме Арыппа... — начал было он.
— Но ведь это гости! — прервал его колхозный голова.
— Ясно — не разбойники, — согласился завгар. — И
кроме Арыппа...
— А гостей принято потчевать, — развивал председатель
свою мысль перед непонятливым завгаром. — По
осетинскому обычаю.
26
— Но это не такие гости! — возразил Бутыр. — Эти кур
-смотреть приехали, а не девушку сватать.
— Тем не менее, — упорствовал руководитель колхоза. —
Мы осетины или кто?
— Мне запчасти надо получить, — Бутыр, кажется,
начал понимать председателя. — Мне в район надо поехать.
— Сначала накормишь гостей.
— На базе редко бывают глушители, — сказал завгар. —
Сегодня как раз...
— Ты, Бутыр, делай, что велят! — Арыпп подошел к
окну. — Вопрос не подлежит согласованию с тобой. Тут не
гараж.
— Что надо делать? — Бутыр понял, что ему не
отвертеться, и вид у него стал деловой. Но все-таки пробурчал: —
Где это видано, ей-богу, чтобы завгары угощали куроводов?
— В общем — так!.. — начал председатель, но Арыпп,
убедившись, что дело слажено, не дослушал его и поспешил
к воротам, чтобы встретить птицеводов республики...
А еще через полчаса счетовод с увлечением рассказывал
делегации о достижениях родного колхоза. Делегация
состояла из двенадцати мужчин, что несколько озадачило Арыппа
и удивило, что куроводство у осетин стало исключительно
мужским делом...
Это была лекция, очень живая, почти вдохновенная, с
множеством малоизвестных или вовсе даже не известных
примеров из жизни леггорнов, ставших промышленной птицей.
Арыпп объяснял, почему именно эта белая курица
удостоилась такой чести. И с таким жаром перечислил все ее
куриные достоинства, что делегаты преисполнились величайшего
уважения к массовой невзрачной птице.
Потом, выдержав паузу, Арыпп начал припоминать и
недостатки леггорнов, так что слушатели сами пришли к
мысли, что эта белая дура давно заслужила полнейшего
истребления. И они даже удивлялись, отчего это люди так
снисходительны к ее возмутительным порокам и медлят с правым
делом.
И тут счетовод незаметно перешел к излюбленной теме —
селекционной работе. И приоткрыл перед заслушавшимися
делегатами такие ошеломляющие перспективы, что многим
из них конечная цель —: идеальная новая порода —
представлялась сказочной курицей, яйца которой будут по меньшей
мере из самоцветов, а мясо — настоящим бальзамом.
— Но!.. — в этом месте голос Арыппа зазвенел. — Но
сейчас настало такое время, когда птицы, в частности —
27
куры, должны не только удовлетворять наши потребности
в белом мясе и яйцах, но еще и обязаны радовать глаз
ярким разноцветным оперением, чтобы птицефермы
походили на цветочные оранжереи. А разве леггорны, —
воскликнул Арыпп, как актер, окончательно вжившийся в
романтическую роль, — разве леггорны с их грязко-белым пером
годятся для этой благородной цели?!
Ошеломленные делегаты хлопали глазами и переступали
на месте.
— Нет, ни в коем случае! — Арыпп сам ответил на им же
поставленный вопрос и, выдержав паузу, сообщил другим
голосом : — Нужно, товарищи, привлекать другие породы,
экспериментировать, ну, скажем... хотя бы с французской
курицей...
После этого он долго расписывал внешность корнишей,
так что делегатам, никогда не видевшим ничего, кроме
леггорнов и рябых домашних кур, французская представлялась
красивее райской птицы.
Арыпп рассказал и про бонитировку и про сочетающиеся
Линии. Затем про вольное спаривание, от которого он тут же
предостерег куроводов, чтобы они ни в коем случае не
допускали этого. Дальше он вполне естественно перешел к
искусственному осеменению, и глаза его сверкнули, как у
фанатика науки. Он полностью обнажил колоссальные выгоды
научного подхода к племенной работе с курицей. Назвал
имена десятка мировых авторитетов. Порекомендовал шесть или
семь меню для кур. Не забыл про необходимость
ракушечника на фермах и пр. и пр. и, наконец, дал рекомендации
относительно пород, с которыми следует работать в ближайшее
время, чтобы получить побыстрее желаемый результат.
Многие из делегатов записывали себе кое-что из
услышанного, переспрашивали. Арыпп видел, что его вдохновение не
пропало даром и с удовольствием отметил, что утреннее
недомогание исчезло бесследно и, кроме того, почувствовал
такой аппетит, что съел бы даже сырого ненавистного леггорна-
День был жаркий, делегаты устали и недавнее
любопытство, светившееся в~их глазах, сменилось холодным блеском
лютого голода, который жег им внутренности. А после
полудня, когда Арыпп показывал условия содержания
племенного ядра на птицеферме, взгляд его слушателей стал
блуждающим, как у волка после многодневного поста...
Арыпп незаметно глянул на часы — время приближалось
уже к двум. Пора бы, подумал он, к столу позвать. Стыда не
оберешься, если колхозный голова не проконтролировал лёт-
28
комысленного завгара до конца. Он на1чал беспокоиться...
Но именно в эту минуту утренний мальчик с розовыми
хоккейными ушами подошел к нему и прошептал на ухо, что-
обед готов.
— Где?
— В кабинете зоотехника.
— Ты замечательный мальчик! — Арыпп наклонился к
футбольной голове доброго вестника.
— Знаю. Ведите гостей! — бросил вездесущий мальчик и
исчез за каскадными ячейками для племенных кур...
Сердце Арыппа радостно заколотилось, когда он увидел
накрытый стол. «Молодец председатель! — подумал он
восхищенно. — Не подвел меня! А я-то считал его скупердяем!
Да он щедр, как Шатана!»
Помидоры, огурцы, ранние яблоки, жареные куры и шесть
запотевших бутылок водки с экспортными наклейками,
аккуратно нарезанный хлеб... Стол просто ломился от яств...
В кабинете зоотехника стояла хорошая прохлада. За
раскрытыми окнами сонно шевелилась листва на молодых
тополях, проносились ласточки и чирикали воробьи.
Гости, и так уже имевшие первобытный аппетит, после
стопок холодной водки ели будто после лечебной голодовки,
в действенности которой они разуверились. И,
разморенные жарой, быстро соловели от великолепной водки, так чта
скоро за столом воцарилась непринужденная обстановка,
какая бывает только на школьном выпускном вечере.
Тосты следовали за тостами. Комплименты в свой адрес,
несмотря на природную скромность, Арыпп считал вполне
заслуженными. И так как за три последних дня он первый раз
ел по-настоящему, то налегал с отменным аппетитом на все,
чем был уставлен стол.
«Молодец! Дока председатель! — восхищался он. — И
работать умеет и жить! Поищи-ка такого!..» •
Арыпп чувствовал ту настоящую радость, которая
рождает снисходительность к слабостям других. И потому он
поддержал странный тост своего соседа справа, который,
наклонившись к маленькому Арыппу, пожелал выпить за курицу
вообще. После этого птичьего тоста Арыпп по
необъяснимому движению души и сам предложил тост за здоровье
греческого композитора Теодоракиса, немедленно поддержанный
поклонником абстрактной курицы. Затем тот же сосед
справа, внезапно почувствовавший в себе организаторские способ-
29>
ности, не очень внятно предложил сотрапезникам спеть. То
ли его не поняли, то ли куроводы не любили хорового
пения — никто его не поддержал. Тогда любитель вокала
дебютировал сам. Получилось неплохо — не хуже, чем у
стандартного племенного петуха с птицефермы.
Но тут кто-то — в компании всегда найдется один
трезвомыслящий — напомнил, что уже пора и по домам, ведь дело
к вечеру идет! Интерес к столу и водка по странному
совпадению кончились, одновременно. И гости стали прощаться.
Они пожимали руку Арыппу, более горячие обнимали
его, а поклонник курицы вообще и хорового пения конкретно
даже полез целоваться. Арыпп был доволен проведенным
днем...
И, несмотря на хмель, все же, направляясь домой, не
забыл нарвать молодых побегов лебеды и щирицы. Знал силу
зеленого корма. И, весь вымазанный мучнистым налетом
сочной травки, как мельник мукой, заявился домой.
Арыпп игриво, не замечая гнева супруги, прошел к
загородкам. Лицо его от удивления увеличилось вдвое — кур на
месте не было.
— На... Наша хозяйка... — он повернулся к жене. — Где
птицы?
— Какие еще птицы?
— Да... эти... Породистые!
— И как можно столько пить?
— Сколько? — Арыпп покачнулся. — Не бо... Не больше,
чем положено хлебосольному хозяину. Где птицы?
— Гораздо больше, а то бы помнил... — жена не
скрывала своего презрения.
— Что... помнил бы? Па... Память у меня — ого-го! Где
птицы?
— Тогда как же ты не помнишь, что сам же велел
приготовить из них стол для гостей?
Охапка из лебеды и щирицы затрепыхалась в руках Арып-
па, как обезглавленная курица, и он уронил ее.
— Из кого приготовить? — внезапная трезвость ударила
Арыппу в голову, так что он даже покачнулся.
— Из кур...
— Кто тебе сказал?
— Бутыр.
После этого краткого слова Арыпп превратился в камень.
Остался стоять с поднятой правой рукой, и трудно было
поверить, что это не покрашенное в телесные цвета изваяние, а
человек, даже знающий счетоводство...
30
Точно так же некогда окаменел колхозный механик Ар-
чил...
Впрочем, пока Арыпп оправится от потрясения, можно
успеть рассказать про случай с Арчилом, известный в селе
каждому со слов самого механика...
Как-то Арчил и его ингушский друг Угурчи, верзила под
стать самому Арчилу, уверовав в несравненные качества
козьего молока и пленившись неприхотливостью бородатых
животных, поехали в Кизляр покупать коз. Купили быстро и
сразу же поехали обратно. И где-то в солончаковой степи,
неожиданно наткнувшись на безымянную речонку, захотели
освежиться. Да и козы давно помекивали, показывая, что и они
непрочь утолить жажду.
Арчил и Угурчи напоили животных, а сами, походив вдоль
жалкой лужицы, стали купаться. Но вода была такая
мутная и теплая, что Арчилу в ней хотелось квакать. Это ему не
понравилось. Он вышел из лужицы и побрел по берегу в
надежде найти более пристойную воду. Пройдя немного, вдруг
увидел — деньги! Сто рублей десятками...
«Куда их девать? — подумал Арчил. — Тут прежде чем
встретишь человека, одичать успеешь, так что и позабудешь,
зачем вообще нужны деньги... О, чтобы ваша шерсть
осыпалась!..»
Как ни крути — деньги ничейные. Или его — Арчила. Он
обрадовался, так как должен был Угурчи именно такую
сумму. Но получалось нечестно. Деньги вроде нашли в общем
предприятии... И тогда выходит, что Арчил не имел права их
себе присваивать. Разделить их надо, заключил он. На том и
порешил.
— Угурчи! — сказал он. — Я деньги нашел!
— Шути... — лениво ответил Угурчи, размазывая по
физиономии тину вместе с головастиками.
— Нет, вот они!
— Ей-бох, праъда!.. — осклаблился Угурчи.
— Сто рублей. Половина — твои.
— Хозяину надо бы вернуть...
— Никого тут нет — кроме шадалов.
— Ей-бох, верно...
— Половина твои, Угурчи.
— Ты нашел — все твои, Арчил!
— Это неправильно. Мы вместе.
— Когда так, то, ей-бох, хорошо...
— Вот — пятьдесят на твою долю.
31
—• Спасибо, Арчил.
— Я ведь тебе должен сто, Угурчи?..
— Ей-бох, о чем говоришь, Арчил!
— Нельзя иначе. Я ж не бедный!
— Ей-бох, верно.
— Бери и эти пятьдесят. И я тебе буду должен еще
пятьдесят.
— Ну, коли так, то, ей-бох...
— Остальное получишь потом...
— Ладно, Арчил...
Возвращаясь, решили — Арчиловых коз пока возьмет
Угурчи, у которого есть куда их выпустить. Арчил же свой
скот заберет через неделю, когда построит загон. Покатил
Угурчи с козами, а Арчил на повороте к себе стал голосовать.
И внезапно вспомнил, что когда уезжал в Кизляр, Арсиан
мимоходом сказала ему, что заняла сотню рублей у соседки
и сунула их ему в задний карман брюк. Поспешно, будто
овода хотел прихлопнуть, хватил ручищей по карману Арчил, а
там...
В общем, окаменел он с поднятой для голосования рукой.
И стоял так неподвижно, что воробей сел ему на плечо,
чирикнул, уронив белую кляксу, и стал чистить свою клюв о
рубаху Арчила. Шоферы проносились мимо, как участники
призовых гонок. Тоже, наверно, за камень принимали
Арчила...
Еле вернулся в докаменное состояние...
— Арыпп! — с улицы хлестнул мальчишеский голос.
Арыпп смежил веки, заморгал, пошевелил усами и
начал поворачиваться — медленней ржавого механизма, в
члены которого капнули для пробы машинного масла.
— Ну?
За отходившей калиткой опять открывался мальчик с
футбольной головой и розовыми хоккейными ушами.
— Читайте! — словно из рогатки, влепил он короткое
повелительное слово, протягивая Арыппу бумажку.
— Что это?
— Записка.
— Гмм...
«Арыпп, дорогой, пишет тебе Бутыр. — Арыпп застонал,
как пациент дантиста во время удаления зуба. — Сегодня
председатель, как это тебе хорошо известно, велел мне
приготовить стол для твоих куроводов. И сунул мне собственных
денег — на хлеб и рыбные консервы. Я не хотел срамить те-
32
бя — ведь тут нужны были бы олибахи! — и так как у меня,
как это тоже известно тебе, коровы нет, то по твоему
повелению, переданному через меня, твоя Арсиан купила водки. А
я еще помог ей — порезал кур. Тоже по твоему повелению.
Французскую оставил. Очень красива. Сообщи через
мальчика, куда девать председателевы шестнадцать рублей. Бутыр».
— Ты скверный мальчик... — сказал Арыпп курьеру и
опустил руку.
— Неправда! А ей все же надо своего петуха, а не этих
олухов, — мальчик шмыгнул носом и стрельнул глазами
куда-то в огород.
Арыпп посмотрел по направлению его взгляда и увидел
француженку, затеявшую под яблоней самый тонкий флирт.
Обалделые соседские петухи нерешительно переступали
вокруг нее. Перед каждым из них стояла сложная задача —
показать перед фРанЦУженкой, что и он видал виды и в то же
время сохранить скромность перед знакомыми петухами,
знающими, что никто из них никогда ни черта не видал.
Чертовски трудная задача!..
Арыпп махнул рукой и пошел спать..
3 Георгий Тедеев
РЕВНИВЫЕ СВАТЫ
■После истории с курами Арыпп закаялся иметь
увлечения. Через неделю он уже не питал никакого
враждебного чувства к Бутыру. Спустя месяц он
совершенно не в состоянии был понять, как его*
могло занимать выведение новой куриной породы.
А осенью он уже с некоторым раздражением взирал
на потомство французской курицы, которую он
подарил соседу.
Странное это было потомство! От прекрасной
матери оно переняло только пепельное покрытие ног,,
но во всем остальном мало чем отличалось от
местных беспородных кур — имело рябое и тусклое
перо, гребни и у кур и у петушков были неряшливые,,
искривленные и уже выцветали, как это бывает у
самых ' безнравственных петухов. То ли чересчур
жидка оказалась кровь француженки, то ли
слишком дремучи были в местной беспородной
неказистость вороны и простота хохлатки — неизвестно,
только уж очень походили французистые птицы на
куриных выродков.
И Арыпп в глубине души считал себя обязанным
Бутыру, который избавил его от лишних хлопот и
нервных расстройств. Кроме того, он полагал, что
они с Бутыром теперь квиты — и это тоже было
хорошо.
Со своей стороны, Бутыр тоже смягчился, хотя
по горячему складу охотничьей дущи
все-таки считал, что его возмездие получилось на калибр
меньше, чем заслуживало преступление Арыппа.
Конечно, было бы преувеличением утверждать,
что Арыпп и Бутыр жили теперь так же дружно,
как прежде, что им было просторно даже в одной
рубахе. Но преувеличением страдало бы и другое-
утверждение, что в их горячих сердцах гнездится
взаимная неприязнь.
34
Не было ни того, ни другого. Они просто жили спокойно.
И не могли знать, что их обоих вместе и порознь ждут
немалые волнения, которые придут с той стороны, откуда не то
что волнений, вообще не ожидалось ничего такого, что имело
бы отношение к счетоводу и к завгару колхоза. Но...
Как-то осенним вечером Арыпп сидел перед телевизором
один, — жена вышла куда-то на минутку два часа назад, —
и смотрел на экран укоризненно, словно собирался сказать:
«А совесть у тебя есть?..»
Арыпп втягивался в прежнюю, без волнений, жизнь, и его
одинокое бдение перед телевизором было одним из ее
признаков.
Передача была скучная. Она, чтобы заинтересовать Арып-
па, опоздала лет на двадцать пять, ибо именно столько лет
назад Арыппа мог занимать бюджет молодой семьи,
являвшийся в этот вечер предметом снисходительной беседы
обаятельного молодца с такой бородой, что он, желая, кажется,
подать другим добрый пример экономной жизни, вообще
вычеркнул из своего бюджета расходы на парикмахерские
услуги.
Арыпп смотрел и злился, так как телевизор вел»себя как-
то буйно. Он походил на человека, который в обычной жизни
и при обычном питании ведет себя спокойно, а чуть выпьет —
начинает в. страстной, несколько сценической манере,
раздирать на себе рубаху. Какая-то невидимая рука хватала
изображение в правом верхнем углу и туго тянула по диагонали
к противоположному, обнажая стеклянную грудь телевизора.
Арыппу казалось — еще одна такая попытка заэкранного
злодея и он, Арыпп, услышит треск лопнувшей ткани.
Арыпп крутил ручки! щелкал выключателями сзади и
спереди, стучал по деревянному боку телевизора и даже дунул
раза два в прорези пластмассовой крышки. Но все было
напрасно — невидимая рука не прекращала попыток содрать
изображение. Тогда Арыпп, уже начинавший закипать, сел
и впился ничего доброго не обещающим взглядом в чудеса,
творившиеся на экране.
Голова обаятельного молодца, все еще жевавшего бюджет
молодой семьи, оторвалась и, как- ни в чем ни бывало,
продолжала из нижнего левого угла учить молодоженов
бережливости. Потом, не испытывая, видимо, от этого никаких
неудобств и считая случившееся чудо делом обыкновенным,
вообще скользнула вместе с бородой внутрь телевизора, между
тем как туловище бюджетного искусника продолжало
свободно жестикулировать и однажды даже сделало попытку при-
35
коснуться к тому месту, где полагалось быть голове. Но, по-
видимому, мыслительные способности экранного фокусника
временно перешли в кисть руки, отчего она, застыдившись,
тоже нырнула в электронное нутро ящика вслед за головой.
Арыпп посмотрел на тяжелый цветочный горшок, но в это
время кто-то поскреб в дверь.
— Ну?!.
Дверь скрипнула, и в проеме обозначился Бутыр.
— Добрый вечер, Арыпп! ^
Опешивший от неожиданности Арыпп начал было
медленно :
— Да будет на тебе благоволение того, чей... —
одновременно исследуя, как это умеют только счетные работники,
другую мысль: «А что же ему надо?»
Но Бутыр не дал ему договорить и додумать.
— Вступи! Чего стоишь!.. — рявкнул он и выдернул из
темноты колхозного монтера Писи — маленького человечка с
узкими плечами, державшего в руках старый и плоский
портфель с такой осторожностью, будто портфель был начинен
взрывчаткой и монтер опасался детонации.
— Милости прошу!.. — засуетился Арыпп, подвигая стулья.
Бутыр сел, а Писи осмотрительным движением минера
поставил в углу свой црртфель-дипломат, потом, выпучив
глаза цвета изоляторного фарфора, уставился на телевизор.
Бутыр бесцеремонно посадил его, но Писи, кажется, даже не
почувствовал, что сидит. Он смотрел, не мигая, на
творившиеся на экране чудеса и, видимо, полагая, что глаз для этого
мало, открыл еще и рот.
— Вот — видишь? — сказал Бутыр.
— А что? — заморгал Арыпп.
— Вот он, такой, хочет жениться!
Арыппу показалось, что в голосе Бутыра преобладало
возмущение, будто монтер не жениться решил, а задумал
гибельное дело, от которого Бутыру его не удалось отговорить. И
Арыпп, хорошо знавший Бутыра, подумал, что у того
должно быть основание для этого. И посмотрел на Писи.
Писи был человечек лёт сорока, очень тщедушный, так что
в тумане и ночью,,а издали даже днем, его можно было
принять за подростка. Это, однако, не мешало ему иметь грубое,
почти кирзовое лицо цвета пережженного кирпича и волосы
торчком, очень напоминавшие щетину на хребте
рассерженного кабана. Губы для его маленького лица были слишком
большие. И оттого нижняя губа напоминала сумку кенгуру,
а верхняя тоже напоминала эту хозяйственную принадлеж-
36
ность экзотического животного, если его поставить с ног на
голову.
На лице у монтера было постоянно одно и то же
выражение, которое описать невозможно, но которое соответствует
возмущенному бурчанию: «А что тут такого! Вы, ей-богу, как
дети!..»
Жил Писи один, потому что не был женат, а родители его
умерли давно. И ничто, кроме радиодела, его не занимало. Он
все время что-то чинил, паял, собирал. Радиоприемник и
телевизор у него были самодельные. А в калитку ворот он
вделал какой-то необыкновенный замок, который сам открывал
дверь, когда монтер, вернувшись домой, говорил: «Писи
пришел!» Причем радиозамок узнавал даже гриппозный голос
хозяина, но оставался глух к другим людям, пытавшимся
искусным подражанием дисканту монтера соблазнить его
транзисторное сердце.
Молчалив был Писи, и начинал говорить лишь в тех
случаях, когда без этого уже никак невозможно было обойтись.
Но, однако же, раза два на колхозных собраниях вылез все-
таки со словом. И это т^к поразило присутствующих, что
многие забыли, что надо дышать, а насосные двигатели на
ферме, целые дни работавшие с натужным воем, даже заглохли.
На одном из собраний председатель, имевший не совсем
развитые задатки оратора, после перечисления самых важных
дел, которые ожидали колхозников, упомянул и о
пустяковом дельце — строительстве силосной башни — и то в связи
с бригадой, которая должна была заняться этим сооружением.
Речь председателя лилась гладко, как полноводный канал,
но он, не довольствуясь этим, уже собрался открыть
дополнительные шлюзы своего красноречия, чтобы смыть и утопить
любые сомнения, тем более что в глазах колхозников он
читал полное одобрение своим замыслам.
Но тут встал Писи — то есть этого никто, кроме рядом
сидящих, не видел, так как монтер был настолько мал, что
выключатели в домах колхозников ремонтировал со стула, а у
Арчила даже на стремянку влезал. Встал Писи и скрипучим
голосом, которым обычно говорит радио с порванным
диффузором,.спросил:
— А где она будет находиться?
— Кто? Что? — небрежно спросил председатель. —
Бригада?
— Башня... которая для силоса... — уточнил Писи и,
сложив свои большие губы кулечком, издал звук, без которого
он не умел говорить: — Ффф...
37
— Где? — председатель осекся от такого никчемного и
праздного вопроса. — А тебе зачем? Не во дворе же
правления, конечно, а на взгорке, как въезжаешь в селение...
Все собрание повернулось к Писи, и оттого выражение на
его кирзовом лице «А что тут такого! Вы, ей-богу, как дети!»
стало таким отчетливым, будто он только что побывал в
руках гримера, который незаметным штрихом сделал выпуклым
театральное амплуа сорокалетнего монтера.
Писи вскинул голову — жест, который, наверно,
проделывал в древности еще Цицерон в римском сенате, приступая к
очередному разоблачению коварного Катилины, но звук
издал совершенно современный — все тот же скрежет
порванного диффузора.
— Я так и думал, — скрипнул он. — Но это же по
меньшей мере глупость, а по большей — преступление! Ффф...
Собрание ахнуло.
Председатель, по-отцовски строго глянув на Писи,
спросил:
— Что ты сказал? — и сделал движение, которым
выведенные из себя отцы начинают снимать с себя ремень.
— Сейчас поясню, — уверил его Писи и сумел в своей
речи так квалифицированно и ядовито посмотреть на
председательскую затею, будто всю ночь обдумывал каждое слово.
С хладнокровием опытной акушерки он сообщил, что
более девяноста процентов всей информации поступает к
человеку через органы зрения и, учитывая этот научный факт,
нетрудно предположить, что духовное здоровье, а,
следовательно, и настроение и производительность граждан всего
колхоза и даже нравственных молодых людей могут
пострадать от постоянного созерцания серой башни в таком
приметном месте, как взгорок. Сейчас, скрипел Писи, во всем мире,
особенно же в нашей стране, отношение к экологии является
показателем культуры руководителя. И если это так, то что
же можно подумать о начальнике, который затевает
строительство башни с коровьей архитектурой на взгорке, видном
отовсюду и являющемся фасадом колхоза? О человеке,
который покушается на здоровье и нравственность людей!
В общем, расписал монтер эту башню так, что
председательская физиономия стала светофорно красной. Он вспотел,
как отличник, нечаянно схвативший двойку. Колхозный
голова стоял над обломками своего бетонного замысла и чаще
обычного моргал глазами.
— Смотри ты какой! — возмущенно, как шмели, гудели
38
колхозники, сердито поглядывая на своего руководителя. —
Что ты, в самом деле, позволяешь себе!..
И еще один раз после этого выступил Писи — и
председателю опять досталось, так что колхозный голова, запросто
умевший пикироваться с районным начальством, начал
побаиваться своего монтера и потому перед собраниями всегда
находил для него какое-нибудь неотложное дело...
Все это быстро пронеслось в голове Арыппа, пытавшегося
понять, что имел в виду Бутыр, когда сказал, что он, Писи,
такой вот, хочет жениться.
— Жениться? Ты чего хочешь? — спросил он монтера.
— Отвертку... — отрешенно, как в сомнамбулическом сне,
сказал Писи и пошел, прямо по ногам счетовода и завгара,
к телевизору, на ходу выудив из кармана нужный
инструмент.
Он быстро снял крышку телевизора — и на экране
исчезло говорящее туловище. Затем отвинтил заглушку и насадил
ее на рога токоввода, и бородач, все еще не разобравшийся
с бюджетом молодой семьи, не замедлил возникнуть на
экране и опять очень легко расстался с головой.
Писи запустил свои короткие руки в электронные потроха
ящика и выгнал оттуда патлатую голову на плечи молодого
финспеца. После этого он ткнул еще куда-то отверткой — и
конвульсии на экране исчезли. Монтер закрыл телевизор и
сел на место.
Арыпп, впервые видевший такое искусство, сказал
многозначительно :
— Н-да... — и удивленно посмотрел на монтера, потом
повернулся к экрану и добавил: — Отлично показывает.
Теперь можно и смотреть...
И выключил телевизор.
— Так ты жениться, говоришь, собираешься?
Писи заржал, как это умеют лишь редкие л:ошади, —
беззвучно, и мелодия этого смеха была немного искажена
неуместным весельем. Арыпп посчитал это за утвердительный
ответ.
— Зачем?.. — Арыпп хотел спросцть: «Зачем так
поздно?» Однако, спохватившись, не договорил.
■ Писи, услышавший лишь первую часть вопроса, ответил:
— Все они женятся... — и на его лице появилось
привычное выражение «А что тут такого! Вы, ей-богу, как дети!»
— Кто?
— Да эти... Мы — мужчины... Ффф...
— А кого ты собираешься осчастливить?
39
Писи растерянно, будто от него требовали расшифровки
загадочного иероглифа,' посмотрел на Арыппа, затем на Бу-
тыра.
— Кого ты выбрал в жены? — более понятно повторил
Арыпп.
— Ааа.. — монтер опять заржал беззвучно. — Дочь... это...
Фидара... Ффф...
— Да он говорит, что дело слажено! — встрял в разговор
Бутыр. — Наша с тобой обязанность — получить
полагающееся по обычаю согласие родителей.
Арыпп от удивления разинул рот, который так и остался
открытым, как кошелек, из которого, вынули последний рубль
и который уже нет нужды закрывать.
Перед глазами счетовода встала дочь Фидара — красави-
ца-не красавица, а девушка — кровь с молоком! Он
почувствовал самую обыкновенную ревность, хотя, видит бог, никогда
прежде не думал о дочери Фидара.
Но этот старый огурец Писи и рядом с ним сочная, как
гранат, дочь Фидара! Каким образом? Почему? Это же такая
девушка!.. Про нее же не мямлить надо, а говорить
страстными, жаркими словами, чтобы дым шел с зубов у жениха!
Да при взгляде на нее у настоящего парня температура
должна подскакивать. Спички в его кармане сами собой должны
вспыхивать! И вдруг эта сосулька Писи!..
Арыпп, наконец, клацнул холодными зубами.
— Что мы должны сделать? — он посмотрел на Бутыра/
Тот сам удивленно посмотрел на Арыппа. Потом они
вместе посмотрели на Писи, на лице которого было привычное
выражение «А что тут такого! Вы, ей-богу, как дети!» и снова
воззрились друг на друга.
— Я же сказал, — Бутыр не спускал глаз с Арыппа. —
Писи говорит, что дело слажено. Нам надо только...
— Ах, да!.. Когда идти? *
— Сейчас, — проскрежетал Писи и взял свой дипломат. —
Ффф...
Осенний вечер был неуютен, как быт холостяка. На небе
висела луна, мутная, похожая на загаженный мухами
плафон. Облака, точно старая паутина, заволакивали звезды,
которые из-за этого казались лампочками в давней и привычной
пыли, несмываемо въевшейся в их колбы. Улица с толстым
одеялом опавшей листвы была унылее неприбранной
холостяцкой постели...
В жидком свете грязной луны и неряшливых звезд шага-
40
ли сваты. Чуть приотстав, плелся за ними Писи с портфелем.
Со стороны казалось — два взрослых дяди ведут
провинившегося мальчишку на урок с приемами домашней
педагогики, главным методом которой является кожаный ремень.
Миновали три квартала. Прошли мимо смахивавшего на
средневековый склеп неосвещенного дома Писи.
— А ты-то куда? — удивленно остановились сваты.
— С вами. На минутку зайду к Конагон, — весенним
грачом проскрежетал Писи, изумляя сватов, — ведь Конагон,
женщина с характером, была Фидара! — Я обещал ей
починить розетку, а то холодильник... это... Ффф...
«Много же ты преуспел, однако! — подумал Арыпп с
непонятным ему самому неудовольствием. — Но эта девушка!..
Она сочна, как созревший арбуз, который раскалывается,
едва к нему прикоснешься нолсом... И вдруг этот доходяга Пи^
си... Ну и ну! Однако — что мне за дело!..»
«Да он там уже свой человек! — Бутыр тоже поразился.—^
Как же это, черт возьми, он умудрился! Ну, что в нем такого?
Похож на палочку веретена. Не пара он роскошной дочери
Фидара! Да он не переживет первой брачной ночи! Или к
нему надо будет заранее вызвать «скорую помощь»;.. Однако»
что мне за дело!..»
В доме Фидара их встретили, как гостей, о которых
известно, что они придут непременно. Хозяев не удивило даже
появление Писи, который все с тем же выражением «А что тут
такого! Вы, ей-богу, как дети!» прошел к холодильнику,
стоявшему недалеко от плиты в большой комнате, являвшейся,
по сельскому обычаю, одновременно и гостиной и кухней.
Пока сваты и Фидар, вышедший на пенсию пожарный,
вели обычную в таких случаях беседу с метеорологическим
уклоном, весьма квалифицированно увязывая в один узел
капризы погоды и технический прогресс, Писи со своим
дипломатом возился около неисправной розетки. Вскоре
холодильник заурчал, удовлетворенно нагнетая холод в свое
незатейливое нутро. Писи кашлянул и пошел к двери,
вдогонку получив от будущей тещи «спасибо», проговоренное
так, словно Конагон требовала сд&чи от крупной купюры.
Монтер был красный от смущения. Будто не розетку чинил, а
медвежий капкан настораживал.
— Дорогие хозяева! — громко, как на митинге, начал
Бутыр, когда монтер исчез за дверью. — Дело, которое привело
нас к вашему очагу, полагаю, вам известно.
Это было явным отступлением от обычая — ведь на стол
41
еще не подавали. Но Бутыр решил, что раз само дело не-
сколько необычно, то он имеет право и на такой отход от
принятой церемонии. И так как никто не выказал
неудовольствия, то завгар решил — поступает правильно.
— Этот парень, — здесь Бутыр многозначительно
посмотрел на дверь, за которой скрылся Писи, — этот парень
принадлежит к славному роду, никогда не имевшему
недостойных людей. Родители его, — да будет им светло в стране
мертвых! — Бутыр даже привстал, — родители его были
достойные люди, и родители родителей были вполне достойные... И
сам Писи — тоже человек хороший...
После этого Бутыр так долго хвалил деда Писи, что
забеспокоившемуся Арыппу показалось, что они пришли сватать
дочь Фидара не за монтера, а за его давно почившего
прародителя.
— А сам Писи — это средоточие таких качеств, —
наконец, Бутыр вспомнил и про монтера, — что...
И так искусно представил монтера родителям невесты, что
Арыпп даже начал гордиться, что лично знаком с такой
замечательной и необыкновенной личностью, как Писи.
— Арыпп! — вдруг услышал он голос хозяйки. — Твоим
благоволением...
Кожа на гладком лбу Конагон сморщилась, и ее большие
глаза скользнули от Арыппа в сторону плиты. Это означало —
«Подойди, пожалуйста, сюда. Помоги мне»...
Арыпп быстро привстал и, извинившись перед Фидаром и
Бутыром, прошел к хозяйке, возившейся около плиты. Бутыр
недоуменно посмотрел ему вслед. Фидара же, бывшего
пожарного, трудно было удивить чем-либо, — он даже глазом не
моргнул. Однако завгар — полномочный представитель
монтера — успокоился, когда Арыпп, повалив забытый
монтером портфель, выудил из плетеной корзины баллон с аракой
и стал, пыхтя, наполнять графин.
Бутыр опять взялся за дело — уже с большим
вдохновением. И когда монтер стал казаться Фидару исторической
личностью, Арыпп вернулся на место.
— Я так думаю, — с каким-то особым жаром счетовод
тут же принялся восхвалять Писи, — я так думаю —
лучшего, чем он, монтера нет даже во всем районе. Я вот где-то чц-
тал, что еще даже ученые не знают, что такое электричество.
А Писи такой искусник в этом деле! Уж он точно знает, что
такое электрическая сила! Он вам что хочешь починит!
Бутыр, у которого устали челюсти, между тем как, судя
по хлопотам Конагон, впереди для них ожидалось немало
42
приятной работы, отдыхал и внимательно слушал Арыппа,
удивляясь страсти, с которой тот рассказывал про Писи.
Но неожиданно хозяйка позвала и его.
— Бутыр! — сказала она и сделала головой
пригласительный жест. — Я сама не справлюсь, а Арыппа второй раз
неудобно беспокоить.
Бутыр молодецки встал — даже усы разгладил — и,
извинившись перед Фидаром и Арыппом, поспешил на помощь Ко-
нагон. Арыпп недоуменно глянул ему вслед. Фидар опять
был каменно спокоен.
Однако Арыпп облегченно вздохнул, когда Бутыр
наклонил многолитровый баллон в плетеной корзине и стал
наливать черное пенистое пиво' в коричневый кувшин. К тому же
в это время Конагон открыла духовку — и яростное шипение
олибахов ударило Арыппу в уши. Аромат же растопленного
сыра защекотал ноздри и подстегнул и без того страстное
желание счетовода говорить про жениха.
И счетовод, с не свойственным его хладнокровной
профессии жаром, вновь начал рассказывать про необыкновенные
достоинства и совершенно уж редкие знания Писи. И когда!
Фидар уже поверил, что Писи единственный в мире ученый,,
постигший тайну электричества, Бутыр вернулся на свое
место.
' На лице завгара была такая самоотверженная готовность
поговорить о необыкновенном монтере, что если бы это не
противоречило обычаям, Фидар тут же выразил бы свое
согласие породниться с Писи...
Стол получился и вкусным и красивым. И сразу видно
было, что хозяин — бывший пожарный.
С одной стороны были — горячие, как вулканическая ла-
Еа, олибахи; жареная, с огненным румянцем, курица,
которая, казалось, всю свою куриную жизнь клевала один лишь
чеснок; салат из плотных молодых огурцов, пересыпанный
пылавшими, как угли, кусками огненно-красного перца;
похожая на подмоченный порох аджика и графин араки цвета
ацетиленового пламени. С другой стороны — длинные, как
огнетушители, холодные помидоры и густое пиво с рыжей
пеной для удушения могущего возникнуть пожара.
Тостов было много. Наиболее легкие и удачные, уже
запитые, почему-то опять всплывали то на поверхность араки,
то пива, так что их уже повторяли наизусть. Другие, серые,
как бетон, тонули сразу — языки сватов, сделавшиеся
неповоротливыми, не решались снова приступить к ним. Но,
несмотря на это, сваты помнили, зачем пришли.
43
Так что к концу застолья Бутыр потребовал ответа тоном,
каким победители обычно предлагают побежденным условия
безоговорочной капитуляции. И уже, довольный, оглаживал
усы — торжественность минуты требовала этого.
Фидар, быстрый на всякое дело, как и положено
пожарному, уже сделал важное лицо и даже открыл было рот, чтобы
произнести те несколько слов, ради которых пришли сваты.
Но в это время Конагон выступила на середину комнаты и
сказала:
— Подожди, наш мужчина! — и повернулась к сватам. —
Почтенные сваты, — продолжала хозяйка, — жених —
человек, что и говорить, достойный. Электричество знает, и дед у
него был тоже очень хороший человек. Мы просто польщены!
Сваты одобрительно закивали головами.
— Но...
Сваты замерли и насторожились.
— Но... Никогда ему не быть нашим зятем!
У сватов вытянулись лица.
— Ты ведь это хотел сказать, наш мужчина? — Конагон
в упор посмотрела на мужа.
— Я?.. — Фидар, чего с ним даже на пожарах не
случалось, растерялся. И, выпучив глаза, силился вспомнить
задуманную речь, однако память отказала ему. Тогда он
поспешно наполнил пивную кружку ацетиленовой жидкостью и
сказал путаный тост в честь громовержца Елиа. Выпив, почему-
то заел сказанное большой ложкой аджики. После этого на
его глаза навернулись слезы сочувствия к сватам, так что он
вьщужден был ограничиться только утвердительным
киванием головы... (
Когда Арыпп и Бутыр выходили, сраженные
красноречием Фидара, гостеприимная хозяйка сунула им забытый
монтером портфель — такой дырявый, будто его все время
использовали в качестве мишени для стрельбы в цель самой
крупной картечью.
— Признаться, я огорчен, таким неожиданным
оборотом, — уже на улице сказал картаво и невнятно Арыпп — от
сильного волнения, наверно. — А ведь как я старался для
нашего Пи си!
— Я чувствую себя просто побитым, — признался Бутыр,
точно повторяя взволнованную интонацию Арыппа. —
Никогда не был таким красноречивым! Отказать такому
прекрасному специалисту, как Писи!
Сваты были до того расстроены, что у них даже походка
изменилась. И когда от сочувствия к Писи они уже готовы
44
были расплакаться, навстречу им, из-за поворота, вылетел
сам монтер, мчавшийся аллюром дойной коровы. Его
волнение видно было и при свете тусклой луны. С лица монтера
начисто исчезло привычное выражение «А что тут такого! Вы,
ей-богу, как дети!»
— Стой! — в один голос воззвали сваты. — Куда?
— В дом Фидара! Я там портфель забыл! — задыхаясь,
скрипнул встревоженный Писи. — Ффф...
— Мы взяли!
Монтер вздохнул с огромным облегчением и тотчас же
поднес к уху портфель. Оттуда раздавалось змеиное шипение.
— Боже мой! — застонал жених и, сорвавшись с места,
побежал.
Сваты переглянулись и, перепуганные, тоже побежали —
за ним. Радиозамок узнал даже взволнованный голос
хозяина и быстро распахнул калитку.
Сваты и жених ворвались в жилище монтера, где стоял
беспорядок, возможный только во время срочной эвакуации.
Писи, с бледным лицом, подсел в столу, щелкнул
захватами замка на портфеле и, откинув дырявую крышку, вынул
из дипломата что-то жестяное — круглое и плоское, похожее
на противотанковую мину.
— Он же работает! — закричал Писи. — Повалили, что ли,
портфель! Ффф...
Монтер поспешно нажал на какую-то кнопку. В жестянке
что-то чмокнуло. Другое нажатие — и из нее раздался
стремительный свист, так что испуганные сваты онемели и,
ориентируясь на волнение своего подопечного, ждали взрыва.
— Что это? — пролепетал Бутыр.
— Магнитофон на батарейках. Сам сделал. Да вот... это...
включается от малейшего толчка... Не совсем отлажен... И...
это... может испортиться, если не выключишь вовремя. Ффф...
Ничего, однако, я успел... — успокоенно проскрежетал Писи
и всегдашнее выражение «А что тут такого! Вы, ей-богу, как
дети!» вновь проступило на его кирзовой физиономии.
Еще один тычок в какую-то кнопку, затем еще один — и
магнитофон обещающе хмыкнул, после чего выдержал
длинную паузу, в течение которой онемГевшие сваты слышали
такое яростное царапание, словно, на гулкой поверхности
барабана насмерть дрались два жука.
Дальше ошеломленные сваты услышали тихое бульканье.
И Арыпп вздрогнул, узнав звук льющейся в графин араки.
Но тут из чрева магнитофона донесся голос Бутыра,
рассказывавшего слова хвалебной песни в честь Писи.
45
■— Спасибо, Бутыр! — скрипнул монтер. — Ффф...
— Да ну его к черту! Пойдем! — Арыпп почему-то
трезвел прямо на глазах.
Но в это время магнитофон голосом Конагон сказал:
— Не торопись, Арыпп. Хочу у тебя спросить — что за
человек этот Пи си?
Монтер навострил уши и вытянул шею. Магнитофон
шипел коброй. Арыпп встал, нервно вырвал из уха волос и упал
обратно на стул.
— Сват, Конагон, — заговорил он изнутри дьявольского
прибора значительно и ответственно, — сват, Конагон, сама
знаешь, подневольный человек. Но мы, кроме того, еще и
невольники правды...
Последовало молчание, свидетельствовавшее о том, что
Арыпп, если и не знал приемы ораторского искусства, то все
же догадывался про них.
— И поэтому не могу понять, чем этот паяльник Писи
удостоился такой чести. Ведь ваша дочь...
Про дочь Арыпп больше ничего не сказал, но было ясно,
что он о ней самого лучшего мнения. В течение
последовавшей затем паузы никто не проронил ни слова, не сделал ни
одного движения.
— А Писи — что это такое? — начал опять сплетничать
магнитофон голосом Арыппа1. — Ему канифоль нужна, а не
жена. По-моему, он похож на зачехленный зонтик — узкий и
маленький. Хе-хе-хе!..
И Арыпп заржал из магнитофонного чрева. А настоящий
Арыпп силился подавить не то плач, не то стон, рвавшийся
из горла.
— Да ну его к дьяволу! Пора по домам! — теперь
решительно встал явно начинавший беспокоиться Бутыр.
А из магнитофона опять донесся голос Арыппа, но так,
будто из задних рядов общего собрания колхозников. Однако
отчетливо было слышно, как он убеждал Фидара, что
Писи — воплощенная мечта любой девушки.
Затем окаменевшие сваты услышали снова бульканье. И
Бутыр вздрогнул, вспомнив, как он наливал пиво в графин.
— Пойдем! Мерзкий прибор — и больше ничего! —
Бутыр решительно встал.
— Погоди, ради бога! — попросила его Конагон из
магнитофона, после чего у Бутыра сами собой сложились ноги и
он шлепнулся на стул. — Объясни, — продолжала Конагон,—*
как родной сестре объясни — что такое этот Писи?
46
Магнитофон опять издал змеиное шипение и сказал
голосом Бутыра:
— Свату, Конагон, положено хвалить жениха — должность
обязывает. Но бог простит меня ради правды, если я сегодня
отступлюсь от этого обычая.
Непродолжительное молчание, которое последовало после
этого, настоящий Бутыр заполнил мычанием с горестным
покачиванием головы, пока магнитофонный двойник не
прервал его:
— Что такое Писи? — задал он риторический вопрос и
сразу же ответил на него: — Отсыревший патрон и больше
ничего. И меня удивляет, как ваша дочь могла соблазниться
этой облезлой шкуркой. Нельзя ее ему давать. Это все равно,
что несмышленому ребенку дать для игры мешочек
добротного пороху. Хи-хи-хи!..
Живой немагнитофонный Бутыр мотал головой не хуже
мучимой оводами лошади и всхлипывал от внутренних
судорог.
— Магнитофон... это... цел... — вдруг проскрежетал Писи
и выключил самоделку. — Спасибо. Ффф...
Арыпп и Бутыр вели себя странно. Слезы, смех,
нечленораздельные крики, подскакивания на одном месте — всем
этим их поведение напоминало ритуальный полинезийский
танец...
Нечто подобное было и с Арчилом. И причиной тому
тоже являлся Писи... А дело было так.
Как-то в середине зимы председателю вздумалось
отремонтировать пятикомнатный домик пастухов в горах. Там уже
работали плотники, но они нуждались в продовольствии и
дополнительной рабочей силе. И потому председатель велел Ар-
чилу, самому лучшему из колхозных водителей, доставить в
горы все необходимое и, кроме того, еще одного плотника, а
для электрических работ колхозного монтера Писи.
Перед выездом плотник вздумал прихватить для друзей
бутыль — литров двадцать пять известной жидкости двойной
перегонки, так как его друзья сильно жаловались на холод.
И пока он о чем-то пререкался с женой, Писи по его
повелению спустился в подвал. Там, следуя указаниям плотника, он
в дальнем углу нащупал плетеную корзину. Пыхтя, выволок
монтер наверх слишком тяжелую для него емкость,
содержимого которой было столько, будто плотники хотели не
согреться, а искупаться.
Боясь, что ценная бутыль может разбиться, решительный
47
Арчил выгнал устроившихся в кабине плотника и монтера,
пригрозив, что если с бутылью что-нибудь случится, он,
Арчил, отвинтит головы обоим специалистам. Те, хорошо
знавшие крутой нрав великана, вылезли и устроились в своих
тулупах среди коробок и тюков рядом с бутылью. И машина
тронулась.
Это была дорога, по которой следовало послать не
колхозный автомобиль, а по меньшей мере бронетранспортер.
Ухабы, рытвины, снежные заносы, скатившиеся со склонов
камни... Чего только на ней не было! Но за рулем сидел Арчил.
И потому автомобиль делал то, что обычно положено танку,
умеющему плавать. Он карабкался на сугробы, с ревом
проваливался в ямы, выползал, разбрызгивая снежный прах,
зависал задними колесами над бездной, но ни разу не
остановился. Ведь за рулем сидел Арчил! И будь это в военное
время, командиры не поскупились бы для него на медаль.
Наконец, в одном из ущелий Арчил решил передохнуть.
Выключил накалившийся двигатель. Вылез, расправил
могучие плечи, и, сделав несколько гимнастических
упражнений, бодро крикнул специалистам:
— Эй! Где вы там!? Уснули, что ли!
Никто ему не ответил, и тогда удивленный верзила
заглянул в кузов. У заднего бррта,'заваленный тюками и
ящиками, крепко обняв бутыль с драгоценной жидкостью, лежал с
задранными кверху ногами Писи. Плотника не было.
— Где плотник?
Писи отпихнул ногами какой-то тюк, боднул головой ящик
и, поставив бутыль так, чтобы она не повалилась, небрежно
сказал:
— Так он же давно выпал... — и стал массировать сизый
от холода нос.
Арчил нервно посверлил в ухе пальцем, потом начал
издавать звуки, на которые способцьг только пневмотормоза на
длинных спусках и стал ходить по кругу, как слепая лошадь,
выкрикивая одно и то же:
— Почему не сказал?!. Почему не сказал?!.
— Бутыль бы разбилась... А ты за это обещал убить... —
успевал вставлять Писи в промежутки между выкриками Ар-
чила.
Арчил плакал, мотал головой, произносил какие-то
монологи, а монтер, недоумевая, смотрел на него. Наконец, желая
отрезвить великана, Писи наполнил стакан содержимым
бутыли и сунул его страдавшему шоферу. Тот вылил жидкость
в пасть и, захохотав, побежал по следу автомобиля.
48
Удивленный Писи понюхал стакан — керосин. Сунул
сизый нос в горловину бутыли — тоже керосин. Перепутал,
наверно, в темном подвале корзины... И с выражением на лице
«А что тут такого! Вы, ей-богу, как дети!» закутался, лег и
стал ждать возвращения шофера...
Плотник оказался не только жив, но даже остался без
нервного потрясения — был деревянно спокоен, хотя
вывалился над краем пропасти. Но с ним сделалась истерика, когда
он узнал, что они везут керосин.
А Арчил всхлипывал и реготал до глубокой ночи. И в тот
день в нем умерло всякое желание садиться за баранку, так
что вскоре он перешел в механики гаража. От него, к
удивлению домашних, целую неделю разило керосином...
А Писи все-таки женился. На последней дочери старой
Чка, которая была очень недовольна тем, что Писи — не
офицер и при всяком удобном случае колола этим глаза зятю.
Писи не оставался в долгу и отвечал, что монтер нисколько
не хуже офицера, без которого он, Писи, может обойтись, а
вот пусть попробует офицер, пусть даже полковник, обойтись
без монтера.
Арыпп и Бутыр тоже были на свадьбе — Писи пригласил
их. Во время свадьбы на его лице было привычное
выражение «А что тут такого! Вы, ей-богу, как дети!» Но после
свадьбы это выражение почему-то начало стираться, так что
вместо него на лице монтера через полгода даже обозначилось
другое — «Судьба, значит, такова...»
4 Георгий Тедееж
ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО
«У тро Бутыр начал с нелюбимого дела —
нравоучения, и притом весьма длинного. По приметам
выходило — день будет скверный...
Перед ним в покаянной позе блудного сына, вер-
нувшегся к родному очагу, стоял опухший
автослесарь Куку — тот самый, который некогда лечил
паяльником зуб Арчила, или Куку-^олотые руки,
умевший превращать всякий железный хлам в такие
машины, что автоинспекция не знала, как
квалифицировать их. То ли как автомобили иностранной
марки, — в таком случае, законно спрашивали
дотошные инспекторы, откуда надписи на осетинском
языке? — то ли как наши отечественные, но тогда,
тоже вполне резонно любопытствовали они, откуда
такие непривычные для нас линии?..
Это был тот самый Куку, который при таких
достоинствах имел всего один недостаток,
выражавшийся в том, что время от времени, он, Куку, без
всякой уважительной причины вроде, скажем,
получки, лотерейного выигрыша, дня рождения или
крупной ссоры с женой, напивался до такого
состояния, что начинал путать верх и низ, стоячее и
лежачее положения, не узнавал собственную жену
и называл ее вежливо гражданкой...
Вчера, в полном соответствии с такой
особенностью, Куку прогулял день. И теперь Бутыр
напоминал автослесарю о> неких моральных
обязанностях, о которых Куку, по предположению завгара,
почему-то забыл. Бутыр убеждал Куку в
преимуществах безгрешной жизни, предостерегал от
последствий пагубного пристрастия к горячительным
напиткам, но делал он это как-то странно — в форме
притчи, полагая, что именно такая форма будет
наиболее впечатляющей и действенной.
Завгар, оказывается, знал одного молодого че-
ловека, очень похожего на Куку — Куку на сегодняшний день
имел за плечами полвека и несколько подобных нравоучений,
но это не смущало завгара. Молодой человек имел большие
способности — тут действительно обнаруживалось сходство
между автослесарем и персонажем Бутыра. Ему предрекали
необыкновенное будущее — тут тоже прослеживалось явное
сходство, ибо Куку тоже предрекали очень интересное
будущее в связи с его слабостью. Молодого человека, налегал зав-
гар дальше, так любили, что это ко многому обязывало его —
тут уже было самое полное сходство, так как автослесаря
тоже очень любили, особенно в гараже, и это обязывало Куку
вести такой сложный ремонт, от которого отказывались все
другие автослесари и механики.
Но... Здесь Бутыр горестно вздохнул и посмотрел на
своего подчиненного, имевшего к этому времени такой кислый вид,
что медные монеты, наверно, успели позеленеть в его
кармане.
Но, с безмерным огорчением продолжал Бутыр,
способный молодой человек не оправдал надежд, которые возлагали
на него и, более того, даже кончил плохо. И знает ли Куку —
из-за чего?
Автослесарь вздохнул, распространив на полгаража запах
пивнушки, и демонстрировал всем видом, что ему ни за что
не догадаться...
Из-за того, укоризненным голосом вынужден был ответить
сам моралист, что способный молодой человек имел позорное
пристрастие ко всякому напитку, имевшему в своих жидких
глубинах хоть какие-нибудь градусы, и вел себя при этом так
же, как и Куку — не знал никакой меры и, подобно
верблюду, прошедшему через всю Сахару, только пил, не закусывая.
Ну — точно Куку...
Ему бы в науках проявлять себя, открывать частицы
всякие или звезды открывать — вон их сколько!
Молодой человек, как понял внимательно слушавший
Куку, ничего, видать, не хотел открывать, кроме бутылок, пото-
му-что далее Бутыр сообщил интересную подробность из ега
биографии — тот стал дворником, а потом даже избрал менее
хлопотливое поприще — место сторожа. И хотя всякое дела
почетно, однако, — здесь Бутыр вплотную подобрался к
моральной начинке своей притчи, — однако то, что сделал этот
молодой человек, не только не почетна, а просто позорно.
На минутку в закутке, который занимал завгар, стало так
тихо, что кроме жужжания мухи, потерявшей ориентировку
из-за перегарного дыхания Куку, ничего не было слышно.
51
— Понял? — осудительно спросил Бутыр. — Сделал
вывод? *
— Понял, — эхом отозвался тоскующий слесарь. —
Сделал вывод.
Куку переступил на месте, словно хотел добавить еще что-
то, но не решался.
— Ну! — подтолкнул его завгар.
— Я никогда не смогу, — интимно признался прогульщик
и опять вздохнул, и так выразительно, что вздох заменил
целую фразу: «Хоть ты что делай со мной!..»
— Чего не сможешь?
— Закусывать. Уже после первой рюмки отшибает
аппетит, — Куку застенчиво крутил по полу правой ногой, будто
окурок гасил.
У Бутыра сразу же заболело не то в животе, не то в
пояснице.
— Иди! — устало сказал он. — Я больше не могу...
И когда автослесарь выходил, Бутыр неуверенно метнул
-ему вслед:
— Я тебя велю с доски Почета снять!
Завгар действительно чувствовал себя неважно.
Где-то — Бутыр сам не знал,— где — у него болело. А чуть
ниже поясницы кожа онемела, так что пробное покашливание
отдавалось там ощущением какой-то отупелости, словно в
этом месте Бутыр был стянут жестяным, плотно пригнанным
поясом, въевшимся в кожу.
«Отчего бы это! — удивлялся завгар и, немного подумав,
нашел причину: — Из-за Куку»...
В эту минуту в приоткрывшейся двери показалось
похожее на зажженную фару лицо Куку.
— Ну! — сердито буркнул Бутыр.
Автослесарь сказал, что машину, которую он
ремонтирует, сегодня еще нельзя выпускать в рейс, хотя все ее считают
готовой, — там у нее в коробке передач...
— Покажи! — рявкнул завгар и, уже направляясь к
машине, подумал, что день для него начался этим Куку и
кончится им же.
— Смотри сам... — сказал Куку и по-телячьи сунул
голову чуть ли не под переднюю ось.
Бутыр присел и в это время почувствовал такую боль, что
вскрикнул:
— Уау!
— А что? — Куку мгновенно вылез обратно.
— Что-то в пояснице, — Бутыр закатил глаза под веки,
52
показывая, что ум его усиленно осмысливает происходящее
с ним, и вдруг опять вскрикнул: — Уау!
Он, все еще сидя, осторожно положил руку на то место,
где бывает задний карман и снова его страдательное
междометие взлетело под своды гаража. Вокруг начали собираться.
Бутыр ощупывал себя и тихонько поругивал болезнь:
— О, чтоб тебя ишак съел!.. Уау!.. Чтоб тебя собаки
покусали!.. Ммм!.. Ууу... Чтоб тебя... Уа-а-ау!..
— Внутри болит? — спросил Куку.
— Не знаю... Кажется, внутри... Да.
— И мутит?
— Нет...
— Голова кружится?
— Нет...
Куку, знавший симптомы единственного недомогания,
изученного на себе, был поставлен в тупик.
— Тогда я не знаю, — честно признался он.
В это время в гараж по делам заглянул Арыпп. Увидев
страдавшего Бутыра, растолкал любопытных.
— Внутри, говоришь, болит? — строго спросил он.
— Да вроде.. Уау!
— Поворачиваться боязно?
— Да...
— И такая резкая боль, будто шилом?
— Да... Ммм!.. — скривился Бутыр.
— Ив пах отдает?
— Вроде... Ммм!..
Арыпп допрашивал так грозно, будто намеревался акт
составить.
— И встать боишься?
— Уау! Ммм!.. Да.
— Поднять что-нибудь смог бы?
— Ни даже кусок золота... Ммм!
— Почки.
— Что?
— Почки! — Арыпп поставил диагноз. — Это у тебя почки.
— Отчего... Ммм!.. Отчего так болят?
— Маленькие камешки в них.
— Маленькие? Ммм! Маленькие — это хорошо.
— С острыми углами, — уточнил Арыпп.
— С острыми? Ммм! Это плохо, что... с острыми...
— «Скорую» надо вызвать! — пришел к заключению Куку.
— Нет... Ммм! — Бутыр мотал головой. — Ни за что!..
— Надо!
53
— Если только тебя отвезти в вытрезвитель, — добавил
Бутыр и морщился, — раз не можешь придумать что-нибудь
поумнее! Ммм!
— Если бы ты был двигатель — смог бы, — обиделся
Куку. — Но ты человек. И даже завгар. Что же я могу?
Бутыр за свои пятьдесят лет ни разу даже не чихнул. И,
как всем людям исключительного здоровья, больница пред-
втавлялась ему ужасным местом, где ты уже не человек — со
своим стыдом, привычками, вкусами, а всего лишь больной,
то есть существо подчиненное всем — от главного врача до
молоденькой медсестры.
— Ни за что!
— Ну, как хочешь... — согласился Куку. — А я так
думаю...
Через пять минут Бутыр и Арыпп остались одни.
Шоферы разъехались. В дальнем углу возились механики и
автослесари.
Арыпп довел Бутыра до скамейки.
— Камни в почках? Откуда?— простонал Бутыр.— Ни
повернуться, ни встать. Ооо, отдает даже в пятку! Вот гадость-то!
— Дело не шуточное...
— Куку — слыхал? — говорит, что в больницу надо! Ммм!
А там эти... которые режут... Как их? — Бутыр от волнения
забыл слово.
— Хирурги, — подсказал Арыпп.
— Это... Ммм! Что же получится?
— Там из-за стипендии можно погибнуть, — небрежно
сказал Арыпп.
— Какая еще стипендия? — Бутыр выпучил глаза.
— Ты вроде как вчера родился! — Арыпп посмотрел на
Бутыра. — Такие операции, как у тебя, кто делает? Студенты
делают! А они ножами этими работают, как вы гаечными
ключами. Разложат тебя и начнут потрошить. Ну, конечно, под
руководством преподавателя! Вот ,это-то и плохо. Мало того,
что студенты учатся на тебе, они тут же экзамены сдадут на
твоих внутренностях. Преподаватель им вроде советы дает,
а на самом деле вопросы подбрасывает. А те тоже люди.
Переживают из-за стипендии...
— Почему, как ты думаешь, — вдруг скакнула в сторону
мысль Арыппа, — почему, как ты думаешь, если ты нарушил
правила уличного движения, милиция не бьет тебя, а штрафу^
ет? Почему в трамвае грозятся штрафом в три рубля, а не
тремя оплеухами? И в кинотеатре тоже? Да везде! Почему?
— Ну... это... Ммм! — Бутыр растерялся.
54
— Это оттого, что самое болезненное место у человека —
карман. Вот они и стараются туда бить. А у студента
стипендия не три рубля, а пятьдесят. Как ему не переживать!
Хорошо, если он знает предмет. А если — нет? Начнет
переживать. Дернется рука и полоснет так, что весь мединститут не
исправит. Выходит, из-за стипендии и погибнешь, —
хладнокровно вывел мораль Арыпп.
Бутыр слушал Арыппа очень внимательно, и его живое
воображение дорисовывало то, что не договаривал счетовод.
Холодная сталь докторского ножа, скальпель, что ли,
называется, коснется кишок. Брр! Завгару это представилось так
ясно, что ему сразу же захотелось помочиться.
— Неужели, кроме ножа, нет другого способа помочь
человеку? — спросил он.
— Как же нет! — тотчас же подхватил Арыпп. — Есть
такие люди, что понимают побольше докторов.
— Как это? Ммм!
— А вот так, — уверенно начал Арыпп, так что Бутыр
даже почувствовал бодрость. — Вот человек, бывает, выучился
на продавца, а внутри у него поэт сидит или полководец.
Может быть?
Бутыр пожал плечами.
— Вот видишь, может! Вот мой тесть, — Арыпп закусил
удила, — он, знаешь, сколько народа вылечил? У него этих
трав я видел больше, чем в нашем колхозе сена. Настойки
получаются такие простые, что их приготовит даже ребенок.
Больной и застонать не успевает, так скоропостижно они
вылечивают... С какими только болезнями не приходили люди.
Нарочно сядешь выдумать такую болезнь — и не
выдумаешь. А она у них бывала.
— Ооо! — застонал Бутыр, начавший бояться, что,
может, у него как раз такая.
— Вот, например, — Арыпп посмотрел в сторону, как
смотрят обеспокоенные гуси, — вот, например, приходит к
нему молодой человек. Лет двадцать пять ему — не больше.
Женился месяца три назад. И жена уже собирается от него
уходить...
— Отчего?
Арыпп удивленно посмотрел на наивного завгара и,
покраснев, наклонился к его уху.
Он прыснул и, весело смеясь, сказал:
— А что же ей в таком случае оставалось делать?
Бревен и на дровяном складе много!
— Ну и что тесть?
55
— Тесть?, Дал ему каких-то трав, научил — как
настаивать и как принимать. Я видел бедолагу — вид у него был
грустный, как у оскопленного быка. И, кажется, не верил —
ведь городские доктора не помогли!
— Ну?
— Потом, через месяц, я опять видел его. Не узнать
было парня. Прямо племенной жеребец! Так и ждешь, что
заржет или копытом ударит. Мужская сила так и перла из
него. Его взгляд прямо ожоги оставлял на женщинах! И если
раньше он даже со своими обязанностями не справлялся, то
теперь и чужие обязанности стал брать на себя. Вот каково
искусство народных врачевателей!.. А то был еще случай.
Приходит к нему другой парень — лет двадцати. И
показывает голову. А она у него как электрическая лампочка — ни
одной волосинки. В таком возрасте это потяжелее, чем все
мыслимые болезни. Доктора, сколько ни бились, все вместе
даже одного волоса не вырастили. Многие из них сами
полысели от такой задачи. А тесть мой справился. Втирал в
течение месяца какую-то мазь в лысину бедняги, поил его
какими-то настойками... И знаешь, какой волос вырос?
Жесткий, как у негра, и такой густоты, что только стальная
расческа брала его, но и на ней царапины оставались...
— А камни из почек... это... мог бы выгнать?
— Тесть мой выгнал их столько, что в твоем гараже
машины нет, которая бы за один раз смогла их увезти. Это для
него — тьфу! Они вылетали, как песок из пескоструйки. Вот
приходит к нему один парень...
— А нельзя ли увидеть его? .
— Этого парня? Да тебе зачем?
— Тестя!
— Тестя? Тестя нельзя. Он умер.
— Ммм!.. — застонал Бутыр. — Ооо!..
— Да ты не расстраивайся, — успокоил его Арыпп. — Я
кое-что перенял. Всегда был любопытный. Тебе просто
повезло со мной — я знаю испытанное средство от камней в
почках!
— Сколько надо, чтобы выгнать камни?
— Да я тебе даром выгоню!
— Я спрашиваю — сколько дней?
— Три — самое большее. А то и полдня достаточно.
Берется дурнишник...
— Ты уверен — справишься?
— Никаких сомнений! Берется, значит, дурнишник...
— А ты пробовал на ком-нибудь?
56
— Испытанное средство! Берется, как я сказал,
дурнишник...
— В общем так, — решился Бутыр. — В больницу я ни за
что не поеду. Сейчас кто-нибудь отвезет меня домой. А ты
приготовь лекарство. Долго ли его надо готовить?
— Быстро. Да ты сам посуди — берется дурнишник,
трава такая...
— Иди! — прервал его Бутыр. — Иди, бери дурнишник.
Готовь свою отраву и — ко мне!..
Арыпп пришел, когда вечерело. Принес с собой две
бутылки из-под шампанского и с видом завзятого пьяницы
поставил их на стол. Жены Бутыра не было дома — она на три
дня уехала к сыну, жившему в городе. Так что Арыпп
чувствовал себя совершенно свободно.
— Почему две?
— Три будет слишком много.
— Я должен выпить два литра?
— Не выпить, а принять. Вот здесь, — Арыпп снизошел
до объяснений и наклонил одну .из бутылок, — вот здесь
настойка дурнишника. Она непосредственно для разрушения
твоих камней. А вот здесь — мочегонное. Понял? Из
брусничного листа и других трав...
— Для чего? Ммм!..
— Ты как маленький, Бутыр! — рассердился Арыпп. —
Разрушенные камни надо транспортировать? Надо! А для
этого нет лучшего средства, чем... Словом — чем то, для
чего применяется мочегонное. Пей!
Врачеватель поднес к губам Бутыра стакан мутной
жидкости с силосным запахом. Бутыр посмотрел вокруг — так
обычно смотрят артисты, изображающие в кино
приговоренных к висилице — и, не спуская глаз с Арыппа, медленно, с
жевательными движениями, словно дегустационный балл
собирался выставить, выпил лекарство. И опустил голову на
подушку, но тотчас же увидел другой стакан с другой
жидкостью, от которой исходила . вонь раздавленного травяного
клеща.
— Так много! Ммм!.. Я же не йошадь!
— Это мочегонное. Пей!
Бутыр поморщился и выпил.
— Теперь будем ждать, — наметил - Арыпп план
дальнейших действий. — Только нужен таз. Эмалированный. Белый.
— Зачем?
— Ты как маленький, Бутыр! Что ты выпил сейчас?
57
— Ммм!.. Мочегонное, чтоб его...
— Стоп! — остановил его Арыпп. — Теперь ясно — зачем?
— Я в комнате это не буду.
— А где? Может, на крышу вылезешь? Или в гараж
побежишь? Конечно, это было бы хорошо — движение
помогает выходу камней. Но нам надо видеть, выходят они или нет.
Для этого и нужен белый таз.
— Не буду в комнате — и все!
— Хорошо. Поставим таз в сени. Туда и совершай рейсы...
Через полчаса Бутыр поднял голову. На его лице была
сосредоточенность и тревога.
— Кажется, началось! — Он попытался слезть. — О, чтоб
тебя!.. Помоги мне! Быстрей!
Арыпп поднял больного и тот походкой
кинематографического диверсанта устремился к двери.
— Я во двор...
— В таз надо! — орал Арыпп.
Но Бутыр сполз по ступенькам, и через некоторое время
Арыпп услышал вздох такого облегчения, что ему даже
завидно стало.
— Так не пойдет! — накинулся он на вползавшего
обратно Бутыра. — Откуда я знаю, может, у тебя уже целые
булыжники вышли! Ты должен слушаться!
Больной лег. Врачеватель опять налил ему мочегонной
настойки.
— О, — морщился Бутыр, — зловоние-то какое!
Однако выпил.
— Если выздоровею, тараканов буду морить за кухонным
шкафом. Ты меня научишь, как готовить эту отраву.
— Бредить вроде бы не с чего... — проговорил Арыпп*
принимая пустой стакан.
Больной опять приподнял голову. Он был озадачен.
— Ну настойка! — сказал он. — На пятой скорости..»
Ммм! Помоги! Да помоги же встать!
Арыпп в спешном порядке посадил подопечного, и тот,
невзирая на боль, с длинными, стонами поковылял в сени.
— Еще рано, конечно, — сказал Арыпп, осмотрев
содержимое таза. — Так что еще выпей!
И сунул Бутыру новый стакан.
— Не могу, — помотал головой тот.
— Надо. Это дурнишник. >
Пока Бутыр пил, АрЬшп налил стакан другой настойки.
— Дуй и это. И не спорь, пожалуйста.
— Не могу... Ммм!.. Так я изольюсь!
— Пей! И запомни — чем противнее лекарство, тем оно
полезнее. Пей! — кричал Арыпп на Бутыра.
— Ты меня отравишь. Ммм!..
— Ну что ж, — быстро согласился Арыпп. — Не надо.
Вызовем «скорую...»
Бутыр покорно взял и выпил.
— Ооо! Ммм! Чтоб тебе!.. — кривился он, затем крикнул
суетливо: — Помоги же! Быстрей! Ммм! Ооо!
Через минуту Арыпп опять исследовал результаты
лечения — камней не было. Он, несколько смущенный, вернулся
в комнату и задумчиво смотрел, как Бутыр, мучаясь,
топтался у постели, опираясь руками на ее край. Больной
осторожно занес было ногу, но вдруг задумался так, что даже по
ноге видно было, что задумался. Потом опустил ногу и с
тревожным лицом повернулся 1С Арыппу.
— Опять! — крикнул он и кинулся в сени.
Когда вернулся, недоумевал:
— Откуда столько влаги? Выпил всего четыре стакана, а
там не меньше полуведра уже. Что-то не так...
— Все правильно, — объяснял Арыпп. — Лишнюю
жидкость выгоняем. Человек, чтоб ты знал, на две трети состоит
из воды — это многовато. Мы выгоним лишнюю, которая
вымоет твои камни, разрушаемые сейчас дурнишником.
Арыпп смотрел в спину Бутыру, который, чтобы покорить
топчан, пытался проделать немыслимое — наклониться
вперед, сохраняя при этом выправку лейтенанта, стоящего перед
генералом.
Однако больной не успел лечь. Новый позыв погнал его в
сени.
Камней все еще не было. Арыпп с упорством алхимика
осматривал содержимое таза и с разочарованием выплескивал
его. И когда в очередной раз он не обнаружил камней,
заставил Бутыра выпить еще стакан дурнишника. Тот упирался,
но пришлось поддаться, потому что Арыпп делал гнусные
намеки насчет вызова «скорой помощи».
Потом стал критиковать врачей.
— Там что? — объяснял он уставшему больному. —
Кроме того, что студентам тебя отдадут; есть и другие опасности.
Бутыр, казавшийся безразличным, вдруг проявил
живейший интерес к словам Арыппа.
— Допустим даже, что студенты попались отличники, —
развивал свою мысль врачеватель. — Допустим, хотя это
невероятно. Они ведь больше кинофильмы видят, чем свои
книжки! Но допустим, попались отличники. Но в больнице, ты
59
должен знать, есть план, как на любом предприятии. А план
предусматривает не только выход готовой продукции, в
данном случае это выздоровевшие больные в количественном
выражении, но и процент брака, то есть, в данном случае, это...
Тут Арыпп остановился, но перед паузой взял такой
выразительный тон, что Бутыр не только понял, что это за
процент брака, но даже увидел себя именно в этом проценте
больничной продукции. Так Арыпп окончательно сломал
сопротивление Бутыра — и тот уже подчинялся беспрекословно.
Бутыр не успевал даже дойти до своего топчана, так часты
стали позывы. Пришлось сидеть в сенях около таза.
К полуночи он осунулся. И так от природы сухой,
жилистый, теперь он походил на пустынника, питающегося только
акридами — и то нерегулярно. Скулы выпирали так, будто
он за обеими щеками держал долгоиграющие конфеты. От
этого череп обрел угловатость, и в нем появилось что-то
фанатическое. Нос вспыхивал костяными отблесками орлиного
клюва. Подбородок заострился и напоминал мальчишеский
локоть. Красные кроличьи глаза ввалились и смотрели
затравленно. А камней все еще не было.
— Когда выйдут? — по-волчьи повернувшись к Арыппу,
спросил он.
— Что ты прицепился, как репей к бараньему хвосту? —
возмутился Арыпп. — Я что? Должен вынуть свою лопатку
и погадать тебе?1
— Хотя бы приблизительно сказал — когда?
— Я тебе не врач... — сердито начал Арыпп и осекся.
Бутыр посмотрел на него как-то слишком внимательно.
Арыпп отвернулся и показал больному спину.
— У тебя там, может, особые камни. Повышенной
твердости. Как алмазы, — говорил он. — Их так просто не
выгонишь. Надо пить и пить лекарство. А потом они начнут
вылетать, как горошины из детского пистолета.
Однако в его голосе не было прежней уверенности.
— Какое сейчас время? •— поинтересовался Бутыр.
— Три часа...
— Я не могу больше! — решительно сказал Бутыр.
Арыпп удивленно повернулся к нему.
— Потерпи, — посоветовал он. — Теперь уже скоро...
— Я не могу больше. Во мне воды не осталось. Я
чувствую себя сушеной воблой. И пить хочу.
1 Способ гадания у осетин — по пятнам на лопаточной кости
животного предсказывали будущее.
60
— Пей! Это можно. Вон ведро. Не стесняйся.
Когда Бутыр выпил, он опять поковылял к тазу.
— Сквозная дырка, что ли, во мне образовалась? —
удивлялся он. — Сразу вытекла...
В это время возле дома остановилась машина.
— Кого это принесло? — встревожился Бутыр и побежал
к топчану. — Не дай бог — гости! Как я тогда?
— Что за гость в это время! — успокоил его Арыпп. —
Может, нездешние заблудились. Хотят спросить дорогу.
Перед Арыппом выросли две белые тени.
— Скорая помощь, — густо сказал из мрака бас.
Арыпп отшатнулся от окна. Встревоженный Бутыр
прикрыл себя одеялом.
— Подлец! — крикнул он.
— Кто подлец? — Арыпп кинулся открывать дверь.
— Кто вызывал...
Лохматый врач в сопровождении медсестры вступил в
комнату.
— Что болит? — Он присел около Бутыра и поправил
очки. — Где?
— Вот здесь... и тут тоже... — лопотал испуганный
Бутыр. — А кто дал вызов?
Врач так умело ткнул булыжной жесткости кулаком в
спину Бутыру, что тот взвыл.
— Хорошо! — сказал врач. — Какой-то Куку. — Он
любовно посмотрел на свой кулак и опять сказал:
— Хорошо! Когда началось?
Бутыр виновато, будто в проступке оправдывался,
рассказал хронику своего дня, ни словом не упомянув про лечение.
— Отчего такой худой?
— Это от... — Бутыр запнулся.
— Это он за сегодня, а так он нормальной упитанности, —•
вступил Арыпп в разговор. — Мы лечили его.
— Ты кто? Куку? — врач сел писать какую-то бумагу и
он, казалось, мало вникал в то, что рассказывал Арыпп,
только механически задавал вопросы — по привычке. — Как
лечили?
— Я не Куку... Куку — ок другой. — И Арыпп рассказал
про лечение.
Арыпп кончил, а врач все еще молчал.
— Разве не это нужно от камней в. почках? — с
некоторой обидой спросил Арыпп. — Настойка дурнишника.
Мочегонное, самое крепкое, из...
— Да, все правильно, — сказал врач, продолжая писать.—
61
Народная медицина именно это и рекомендует от почечных
камней.
Бутыр с большим уважением посмотрел на Арыппа.
— Многим это помогает, — врач не отрывался от бумаги,
выводил строчки из странных букв, одновременно
напоминавших арабские и славянские.
Наконец, кончил писать. Встал.
— Все правильно. Но это от камней в почках. А здесь —■
радикулит. Самый острый. Сестра, помоги больному
одеться! — велел он и стал протирать очки.
Бутыр поднял голову, как боевой конь, услышавший тру-
бу.
И медленно потянулся к бутылке с настойкой
дурнишника. Арыпп предусмотрительно шмыгнул в сени. А больной, к
немалому удивлению врача, скрипел зубами, ерзал на
топчане и вел себя так, будто лежал на муравьиной куче.
Точно так же вел себя Арчил, когда...
Дело было так.
Как-то председатель вернулся из района и, против
обыкновения, зашел не в правление, а в гараж. Обвел взглядом
машины и остановился возле КамАЗа Арчила — тогда Арчил
еще не боялся садиться за баранку.
— Такая мне и нужна, — сказал он и объяснил
раскрывшему рот великану, что сегодня вечером Арчилу надо
выехать в город и на товарной станции получить десять тонн
элитной канадской пшеницы, которую ученые решили
опробовать в условиях предгорья, то есть, уточнил председатель,
на землях нашего колхоза. Но мешки, — пшеница,
оказывается, пришла в мешках — надо прежде завезти в хозяйство
сельхозинститута, где ученые собирались обработать
канадское зерно какими-то мудреными лучами.
Когда Арчил спросил, кому он сдаст там эту пшеницу
лочью, председатель сказал, что все уже обговорено, что на
складе зерно примет сторож, а бумагу о доставке колхозный
голова уже, к удивлению шофера, имел в кармане, в
доказательство чего он и помахал перед носом Арчила бумагой
квитанционной масти.
Арчилу вся эта затея не очень нравилась. И он прибег к
последней уловке — заявил, что нужны грузчики, что не
знает, где этот склад и пр. Но не таков был председатель, чтобы
•его смутить такими неумелыми возражениями. Он сказал,
что на товарном дворе мешки погрузят грузчики, а на складе
института помогут студенты, в какое бы время ни приехал
€2
Арчил. Об этом он уже договорился с учеными. А что
касается того, где находится этот склад, так там в поле только и
есть одна постройка — склад. Правда, добавил председатель,
он сам года три не заглядывал в те места, но уверен, что у
института за это время были дела поважнее, чем
строительство еще одного склада.
Тут подошел Куку и сказал, что он знает, где этот склад —<
пять лет тому назад был там. Вот и езжай, вмиг решил
председатель, повернувшись к Куку, здесь все равно от тебя
толку никакого — у Куку был вывих предплечья, и он просто
так приплелся в гараж.
Вечером Арчил и Куку поехали на товарную станцию. Все
получилось, как говорил председатель. Дюжие грузчики
пошвыряли в кузов бурые зашитые мешки, которые они очень
умело брали с помощью особых ремней. И уже совсем
стемнело, — мешков ведь было сто! — когда Арчил и его
проводник выехали из города. Километров через двадцать Куку
показал куда сворачивать. Переехали рельсы и оказались на
ровном поле.
— Чеши прямо! — наметил курс Куку, но когда Арчил
проехал с километр, проводник начал ерзать, высовывал
голову и что-то бормотал.
— Не заблудиться бы нам... — сказал Арчил.
— Да вроде все так, как я запомнил. Там тоже возле
дороги были кусты и трава.
— Поедем, а там посмотрим. Километров десять дадим-
маху — это для нас пустяк, — подбодрил его Арчил.
— Не должны. Все так, как я помню. Трава точно такая
же...
И, действительно, через три-четыре километра
наткнулись на какое-то строение и остановились.
— Склад! — гордо сказал Куку.
Здание было выстроено в стиле барака, но это был склад,
о чем свидетельствовала и надпись из ревматических букв.
— Иди, найди сторожа, — велел Арчил. — Да где же эти
студенты?
Куку вошел во двор и в пристройке обнаружил спящега
сторожа.
— Чего деда будить! ^- сказал он, вернувшись к Арчи-
лу. — А студенты — это такой народ, что, небось, теперь они
девушкам астрономию разъясняют... Ненадежный народ!
Арчил из уважения к слесарному таланту Куку
согласился с ним.
— Но не ночевать же здесь! — все-таки пробурчал он.
63
— Не знаю... Черти-студенты!..
— Эх! — сказал великан и подал машину под шиферную
крышу склада. — Придется самому!.. Эх!.. Недаром не
соглашался!..
Стокилограммовый мешок для Арчила — пустяк. Но эти
капиталистические мешки были так экономно сшиты, что не
за что было ухватить их. Но как работал Арчил!
Огромные бурые мешки он подтаскивал к краю кузова,
лотом спрыгивал, обнимал ручищами заморскую тару и,
осторожно, как ребенка, относил к дальнему углу склада.
Десять тонн — сто мешков. Это сто прыжков в кузов,
сто — из кузова, сто ходок в угол склада — с мешком, сто
обратно — без мешка. Никто другой бы не выдержал этого,
кроме Арчила. Но и тот устал, так что когда отнес последний
мешок, то шатался, будто подгулял.
Он влез в кабину, сел за руль, смахнул со лба пол-литра
пота и велел Куку:
— Буди старого, а то скажет, что мы вообще ничего не
привозили!
Куку с уважением посмотрел на Арчила и побежал
расталкивать дрыхнувшего сторожа. Арчил видел, как
лохматый дед щурился и что-то говорил Куку. Увидел и то, как
Куку, оглянувшись, подался куда-то в темноту.
Удивленный Арчил на дрожащих от усталости ногах
вылез и пошел к сторожу. Дед, увидев великана, взял старую
централку.
— Ну что, отец, видел мешки? — бодро спросил Арчил.
— Видел.
— Посчитай их, и мы покатим!
— А зачем мне их считать?
— Так тебя же предупредили, что привезут элитное
зерно!
— Кто?
— Ну ученые!
— Сроду не видал никаких ученых.
— Как же так! Канадское зерно!
— Слушай, парень, — отойди подальше!
— Это же склад института!
— Склад. ,
— Зерновой? Для семян? — Арчил начал сердиться.
— Для удобрений, — сказал сивый дед и взвел курок.
— Что ты путаешь, отец?
— Не путаю ничего. Сам напутал! Зерновой не здесь. Он
тут — рукой подать. Километров шесть всего...
64
Арчил пошатнулся, но устоял. И укусил свой кулак:
Потом схватил валявшееся на земле колесо от телеги и обежал
здание в поисках Куку. Но того и след простыл...
Великан ревел, как гудок. Он в ярости сломал кирпичный
столб навеса перед сторожкой. Испуганный дед вынужден
был дать согласно инструкции предупредительный выстрел.
Арчил рявкнул на него. Дед уронил ружье и по-молодому
юркнул в свою каморку. И забаррикадировался. А
разъяренный Арчил остановился и, потрясая вскинутыми кулаками,
поклялся побледневшей луне, что оторвет голову Куку...
Мешки он грузил уже не так резво. До самого утра
провозился. И уснул на них. Домой приехал уже вечером
другого дня...
Врач и сестра помогали Бутыру идти к машине.
— Как можно довериться человеку, — возмущался Бу-
тыр, — как можно довериться человеку, который отдает за
курицу сто пятьдесят рублей!
— За какую курицу? — спросил врач.
— За французскую!.. Разве это человек, если он не умеет
отличить корову от медведя!..
— Какую корову?
— Швейцарскую!..
Врач удивлялся. Это был первый в его практике случай,
когда больной радикулитом бредил. Он тут же наметил себе
рассказать про уникальный случай в диссертации, которую
уже начал писать...
Через месяц Бутыр выписался — совершенно здоровый.
Домой вернулся вместе с Арыппом, который навещал его часто...
,5 Георгий Тедеев
ИСТИННО ГРУЗИНСКОЕ
■"ак-то пришло письмо из какого-то
невероятного города со странным названием Склад,
находившегося, как понял Бутыр потом, чуть ли не на
макушке земного шара, в тундре. Наверно, подумал
он, такое название мог придумать какой-нибудь
очень влиятельный завхоз... Писал давний друг,
грузин Ушанги, с которым Бутыр лет двадцать пять
назад служил на Дальнем Востоке. Подивившись
тому, как Ушанги забрался так высоко и как он
умудрился сохранить его адрес, Бутыр стал читать
неожиданное послание.
Оказалось, что Ушанги после службы
выучился на геолога и почти два десятилетия провел за
полярным кругом, копаясь в холодных недрах
Севера. Он писал, что исходил вдоль и поперек
побережье Моря Лаптевых, так что он, Ушанги, чуть ли
не в морду знает добрый десяток белых медведей,
которые при встрече с ним дружески показывают
все свои зубы. Но, несмотря на эта, ему
осточертело видеть пейзаж, убивший даже мамонтов. И он
так соскучился по зеленому цвету, что покрасил и
пол, и потолок, и стены, и стол со стульями в
травяные тона. И оттого его жилище напоминает
огромный аквариум, в котором хозяин не менял
воду лет пять, но, между тем, тоска по
хлорофилловой окраске не уменьшается...
Дальше Ушанги писал, что теперь с него
хватит. Он хочет, чтобы сутки длились только
двадцать четыре часа, а не год. И что у него давно
началась такая изжога, словно желудок ц пищевод
горят в пламени ацетиленового резака. Врачи
сказали, что это пройдет, если он, Ушанги, вернется к
привычной с.детства кухне...
Вот он и выезжает в Грузию, чтобы ежедневно*
съедать бычью норму зелени — навильник укропа,.
петрушки, киндзы, базилика, тархуна, кресс-салата и других
трав, которыми так богата его благословенная родина.
Питание, в общем-то, здесь превосходное, сообщал Ушанги дальше,
но он признавался, что ему хочется чего-нибудь истинно
южного. Северные карикатуры на южные блюда, которые тут
иногда мастерят кавказцы, надоели. Оттого по ночам ему
снится только пища из зелени и жареного или вареного со
специями мяса. Кухонные сновидения так замучили его, что
он, Ушанги, даже женскую красоту стал ценить иначе...
Бутыр удивился. Он знал любвеобильное сердце друга,
которому ничего не стоило прямо посреди дальневосточной
улицы объясниться в любви и молоденькой девушке и замужней
даме, идущей под руку с законным супругом. Бит бывал за
это Ушанги и сам бил других. И Бутыру доставалось попутно,
ибо ревнивые мужья несколько раз начинали защищать свои
хозяйские интересы именно с битья Бутыра — возможно,
потому, что Бутыр был маленький по сравнению с рослым и
краснолицым Ушанги, и эти дальневосточные Отелло просто
упражнялись на нем, вырабатывая навык, прежде чем
взяться за сердцееда в сапогах и ушитых галифе... Да, Бутыр знал
любвеобильное сердце Ушанги и потому окончательно
поверил в страдания друга, когда тот сообщил такой симптом
своей болезни: он, то есть Ушанги, до сих пор заблуждался
относительно женской красоты, но теперь он точно знает, что
обаятельной следует считать только ту, которая сможет
приготовить блюдо во вкусе Ушанги — горячее, с шипящим
мясом, пузырящимся от жира, пропитанное перцем, уксусом,
корицей, пересыпанное всевозможной зеленью и кружочками
репчатого лука и дольками огненно-красных помидоров.
Теперь, писал Ушанги из Склада, он возвращается домой.
И так как очень соскучился и по Бутыру, то непременно
заедет к нему, чтобы вспомнить молодость, тряхнуть стариной —
в смысле стола, строго уточнял Ушанги. Жди, заключал он
письмо, жди меня во второе воскресенье августа...
Бутыр обрадовался предстоящей встрече, но тут же к его
радости примешалась изрядная доля заботы — надо было
встретить оголодавшего Ушанги таким образом, чтобы он
забыл про белых медведей. Приготовить какое-нибудь особенное
бл1одо, способное излечить старого друга от зеленой тоски...
Бутыр никогда ничего не читал, кроме газет и
технической литературы по автоделу. Но тут однажды вечером, после
работы, он с большим любопытством взял «Книгу о вкусной
тя. здоровой пище» с тяжелой, как чугунная доска кухонной
печи, обложкой. Открыл «Оглавление» и, подивившись обилию
67
и разнообразию мясных блюд, остановился на шашлыке из
гусака. Шашлык из птицы — это само по себе уже было уди-
вительно. Но почему именно из гусака? Какими вкусовыми
достоинствами гусак превосходит гусыню? Петух лее не
бывает вкуснее курицы! Как же тогда гусак умудрился...
Бутыр нашел описание блюда и, вчитавшись, к своему
изумлению обнаружил, что гусак — это не муж гусыни, а
говяжья печень, легкие и сердце вместе!..
Потрясенный завгар стал беспорядочно листать раздел
«Мясные блюда».
В одном месте предлагали приготовить студень из
говяжьих губ. Это Бутыру показалось несерьезным. Где возьмешь
столько коровьих губ, чтобы сделать приличное количество
студня! И он отказался от губастого блюда.
Затем Бутыра озадачил рецепт куриного бульона.
Там предлагали сперва насухо вытереть курицу
полотенцем, опалить, после чего отрубить шейку с головой и лапки.
Завгар не понял — выходило, что курица была живая, когда
ее вытирали полотенцем и затем опаливали. Он снова
прочитал рецепт бульона. Да, получалось, что все это время
курица была живая!..
Бутыр начал волноваться. Но, подумав, решил, что он все
равно никогда не поймет этого дела и потому не стал себя
утомлять выяснением причины такой пещерной жестокости
в отношении курицы.
Дальше Бутыр открыл для себя, что обыкновенный рис
можно сварить по-китайски, по-румынски, по-швейцарски, по-
татарски и еще добрым десятком способов. Что можно
сделать суп из светлого пива, что существует польский суп с
многообещающим названием «Ничто». Его внимание
привлекли также блюда с танцевальными названиями от «Мазурки
королевской» до «Мазурки цыганской» и еще штук пять
хореографических блюд. Он принял к сведению и тот факт, что
хорошим украшением любого стола являются миндаль,
фейхоа, ананас, смоква, дуриан, авокадо, что устриц надо
подавать на стол живыми...
Много нового узнал Бутыр и впервые поверил, что
кулинария — весьма серьезное дело, требующее не только
большой аккуратности, но также громадного терпения и немалых
знаний. К полуночи он так начитался, что уже путал чихирт-
му, чахохбили, чанах и какие-то неслыханные чебавчичи1.
Чешское мясное блюдо.
68
Ткемали1 и кнели2 казались ему избалованными
близнецами, которых прежде следовало высечь и уж потом допустить
к столу.
А бекмес3 и нардек4 почему-то представлялись ему
ловкими пройдохами, скрывающимися от правосудия по поводу
неуплаты алиментов. Когда он прочитал про ромовую бабу,
то бозбаш5 и бешбармак6, о которых он уже знал, начали
рисоваться его усталому воображению двумя квадратного
покроя молодцами, имевшими намерение подраться из-за этой
ромовой бабы, хотя к ней к тому времени уже подъехал
новый, огненно-рыжий претендент — паприкаш7 и уже охмурял
ромовую соблазнительницу...
У Бутыра кружилась голова, так что польский суп из
гусиной крови и курица-фри ароматная по-китайски
окончательно отбили у него интерес к сложному делу, каким
оказалась кулинария...
Он закрыл книгу, выключил свет и стал думать. И был
благодарен авторам за сдержанность, которую они проявили.
Ведь он слышал, что существуют еще и не такие блюда...
Разве им при такой осведомленности трудно было бы
рассказать про китайское блюдо — жареную змею — фуй!.. Или про
арабскую жареную саранчу — пыфф!.. Или про французские
лягушачьи лапки, жаренные на постном масле — уагх!.. Бу-
тыр вспотел и отбросил одеяло...
А блюда он не выбрал — это было плохо. Причиной тому
была некоторая растерянность и то, что рецепты кулинаров
при самых звучных названиях большей частью имели самое
обыкновенное содержание. Другие были слишком необычны
и не вызывали доверия...
Ночь он провел кошмарную. Снились недобрые толстые
повара, которые танцевали мазурку и вытирали гусей
вафельными полотенцами, пили из кастрюль светлое кипяченое
пиво и собирались по иску ромовой бабы поджарить Бутыра за
уклонение от уплаты алиментов.
Вскоре в гараже узнали про мучения Бутыра. И
посыпались советы.
1 Соус из слив.
2 Блюдо, напоминающее клецки.
3 Уваренный виноградный сок.
* Уваренный арбузный сок.
5 Блюдо армянской кухни.
6 Блюдо среднеазиатской кухни.
7 Венгерское блюдо.
69
Арчил предложил испечь осетинские олибахи с самой
толстой начинкой и фидджин с самым сочным мясом и подать
их с самой разнообразной зеленью и с самой лучшей водкой.
Грузин, уверял великан, такого в своем Складе даже во сне
не видел...
Куку давно не прогуливал и, видимо, поэтому предложил
необычное блюдо. Надо, сказал он, замесить тесто на белом
вине, а мясо пропитать красным сухим, чтобы испечь
небывалый фидджин — разумеется, со всеми специями, которые
кладут в начинку самые искусные хозяйки. И непременно
купить побольше «Старки»... Тут Куку осекся, как человек,
внезапно понявший, что смолол большую глупость.
— Но., если будет «Старка»,.. — сказал он и в знак
усиленной работы мысли закрыл глаза, — тогда...
Он широко открыл глаза и глянул на завгара.
— Тогда зачем фидджин и прочая снедь нужны? —
ошеломленно пробормотал он и возмущенно крикнул: —
Заработался я! Заездили тут меня!
И вышел, сильно озадаченный. Однако, желая помочь
своему начальнику, он на другой день принес книгу
«Питание женщин в период беременности и кормления ребенка» и
положил ее на стол завгара.
— Эх, Куку, Куку! — сказал Бутыр, увидев под носом
книгу с отлично выполненным на обложке рисунком,
изображавшим розовую женщину, кормившую пухлой грудью
пухлого розового ребенка. — Как ты не поймешь, что Ушанги
не женщина! Ну зачем мне твое питание беременных?!.
— Не знаю, — сказал Куку. — Это ученые писали.
— Иди! — посоветовал Бутыр. — Кулинария — это тебе
не слесарное дело.
И заскучал. Всего чуть больше недели оставалось до
приезда Ушанги, а Бутыр еще ни на чем не остановился.
Неужто придется потчевать друга самыми обыкновенными
блюдами? Ну, олибахами, например. Залить их топленым маслом —
хорошо! Фидджин — с пылу с жару — вовсе даже не плохо!
Зелень, фрукты, напитки... Недурно, а все же хочется чего-
нибудь этакого, чтобы...
Но тут зазвонил телефон и оборвал мысль Бутыра. Он
поднял трубку.
— Да будет твой день добрым! — гаркнул Арыпп на
другом конце провода.
— Пребывай в здравии...
— Слыхал я — гостя ждешь!
— Жду.
70
— С Севера? Грузина? Через одно воскресенье на второе?
— С Севера. Грузина. Через одно воскресенье на второе.
— И еще не выбрал блюда?
— Нет.. — вздохнул Бутыр.
— Почему не спросил моего совета?!
— Не ори, Арыпп! Так мог бы и без телефона
докричаться!
— А все-таки — почему?!
— Ну., это... — замялся Бутыр, но потом решительно
сказал: — Ты насоветуешь... Одни неприятности потом...
— Не всегда, Бутыр, не всегда! Да если так считаться, то
ты мне тоже не букеты дарил!
— Говори, чего хочешь?
— Тебе помочь хочу!
— Знаем мы эту помощь!
— Я не знаю, что ты знаешь, но знаю, что ты не знаешь,
какое блюдо надо для Ушанги! А я знаю! Надо такое, чтобы
Ушанги это запомнил на всю жизнь! Чтобы даже внукам
рассказывал! Вот какое надо! Тут следует все взвесить и учесть—
как он жил в Грузии и как на Севере! С каким настроением
едет домой! И еще многое другое!
— Что мне — личное дело на друга заводить? Я не
следователь, Ушанги — не правонарушитель, — Бутыру
болтовня Арыппа начала надоедать.
— Это как взглянуть на дело!.. — многозначительно
сказал Арыпп.
— Ты о чем? Ошалел от своих цифр, что ли?
— Спокойно, Бутыр! Будь вежлив с умными людьми и
слушай! Этот Ушанги, конечно, не правонарушитель, но он
все же нарушил правила своей жизни! Сам посуди! — горяча
кричал Арыпп. — Молодость, когда в кровь человека входит
все, связанное с родиной, он провел в Грузии! Следовательно,
у него в крови и зелень, и сухое вино и даже; наверно, чача!
То есть, у него как раз именно этого нет в крови. На данное
время! Согласен, Бутыр?!
— Чушь какая-то!.. — засомневался завгар. — Есть в
крови и в то же время нет... Однако...
— Исходя из этого и суммируя все сказанное, — перебил
Бутыра счетовод, — нетрудна догадаться, что его по этому
недостатку и следует бить!
— Как?.. — ошеломленно пробормотал Бутыр.
— Не понял? — разочарованно крикнул Арыпп. — И как
ты там только руководишь техническими специалистами?
— Ну-ну!..
71
— Ладно, ладно!.. Подойдем тогда с другого боку.
Вспомни-ка, когда ты служил в армии на Дальнем Востоке, чего
тебе больше всего хотелось?
— Чтобы гнус не ел.
Арыпп смолк. Видать, не ожидал такого ответа. Наконец,
после паузы заговорил другим тоном. Так боксер,
получивший болезненный тычок в нос, меняет — после небольшой'
заминки — тактику боя.
— Это климат и тут ничего не поделаешь... — задумчиво
проговорил он. — А внутри? Чего не доставало у тебя
внутри?
— Все органы были на месте.
— Не язви! Разве ты не хотел горячих олибахов, фид-
джина, даже чурека со сколотиной или овечьим сыром?
— Очень хотел! Даже сейчас хочу! — оживился Бутыр. —
Олибахи были моим наваждением. Желудок мой сотрясали
судороги, когда я вспоминал олибах, залитый топленым
маслом! **
— Вот видишь! Все так, как я говорю! — Арыпп, судя
по его крику, вновь обрел большую уверенность. — Это я к
тому, что нашего гостя Ушанги надо встретить настоящим
грузинским блюдом! Он этого никогда не забудет!
Бутыр озадачился.
— Но он уже в Москве может съесть любое грузинское
блюдо... — попробовал возразить он. — А мне бы хотелось...
— Нет! — прервал его Арыпп. — Любое он не съест! Ну,
шашлык, чанах, чахохбили, даже лобию... Ну, еще кое-что...
Но не любое, однако!
— А что там остается? — задумался Бутыр. — Так ли
много блюд у грузин?
— Больше, чем в твоем гараже гаек! И среди них есть
такие, о которых ты даже не слыхивал! Ушанги, он, конечно, и
слыхивал и отведывал!
— Ты о чем? Не тяни, Арыпп!
— Наконец, Бутыр, ты заговорил по-деловому! —
удовлетворенно крикнул Арыпп. — Тогда слушай. Видишь ли, лет
десять назад был я в Кахетии! И ел там такое блюдо, которое
вряд ли пробовали даже арабские шейхи!
— В Кахетии заставляют пить, — сказал Бутыр. — Но
тебя едва ли надо было заставлять — даже наоборот. Поэтому
тебе, может быть, показалось...
— Ничего не показалось! — счетовод своей уверенностью
погасил подозрения завгара. — Я повторяю — ел! И
никогда этого не забуду!
72
— Интересно...
— Чрезвычайно! — согласился Арыпп. — Дух стоял
такой, что летчики сельскохозяйственной авиации теряли
ориентировку в небе!
— Что же это было?
— Истинно грузинское блюдо!
— Название?
— Разве упомнишь! — пожаловался Арыпп. — Вина в
меня влили столько, что три дня после этого, заглядывая в
зеркало, я не узнавал себя! Мне говорили, что я даже
обещался набить рожу тому нахалу, который так пристально
разглядывал меня! То есть, самому себе!
— Теперь я начинаю верить тебе... Но как же тогда ты
предлагаешь мне рецепт этого инстинно грузинского блюда?
— Как? — Арыпп хмыкнул в трубку. — Потому что я
видел, как его готовили! Это было еще до застолья!
— Ну и как? Из чего оно состоит?
— Ты везучий, Бутыр! У тебя есть я! — крикнул Арыпп
радостно. — Готовили это блюдо по случаю возвращения,
тоже с Севера, двоюродного брата жены моего друга! И готовил,
его сам... Ну тот, который с Севера!..
— Из чего оно состоит? — нетерпеливо огросил Бутыр.
— У тебя теленок есть?
— И корова была.
— Не будь злопамятным! Между прочим, у меня куры
тоже были!.. Не пожалеешь теленка?
— Для Ушанги? Ты меня плохо знаешь!
— А гусь найдется? Жирный?
— Спрашиваешь!.. Дальше!
— А дальше это проще, чем орайда пропеть!
— Да ты расскажи!
— Вообще ты везучий, Бутыр! У тебя есть я! Значит, так.
Берем полтеленка../
— Ну, взяли...
— Ах, чуть не забыл! — воскликнул Арыпп. — Еще
нужна брусника! Или клюква! Или морошка!
— Где прикажешь взять?
— А в горах сколько угодно! г- ответил Арыпп. — Но,
между прочим, я видел — продают быстро замороженную
клюкву! Ну, это я беру на себя! Значит, так. Берем
полтеленка, разрезав тушу вдоль хребта...
Здесь Арыпп замялся, и Бутыр понял, что тот вспомнил
еще что-то совершенно необходимое.
— Я чуть не забыл, Бутыр, — извиняющимся голосом
73
счетовода зашелестела мембрана телефонной трубки. —
Нужен рыбий жир!
Бутыр от неожиданности лишился дара речи.
— Да ты не волнуйся! — подбодрил его Арыпп на
другом конце провода. — Не такой рыбий жир, от которого
человека выворачивает наизнанку, а другой... Который вкусный!
Как у осетра!
— Где я его возьму?
— Выдавить из половины осетра! Стакана за глаза хватит!
Впрочем, это я тоже беру на себя!
— Ты подумай, Арыпп! Может, еще что-нибудь забыл?
Вроде молока дойной курицы или поросячьей икры?
Последовало небольшое молчание, и Арыпп буркнул:
— Когда рассержусь, тебе же будет хуже! Одно
удерживает меня, чтобы не бросить трубку — боюсь, опозоришь
Осетию! Иначе бы...
— Да ладно... — примирительно сказал Бутыр. — Ты
расскажи, как все-таки готовить это истинно грузинское блюдо.
— Значит, так! Берем полтеленка! Отсекаем переднюю и
заднюю голяшки и шею до лопаточной части! Складываем
вдвое, переломив поперек хребта! Ясно говорю?
— Пока...
— И сшиваем льняной ниткой наподобие сумки!
I — Можешь не кричать?
— Конечно! — еще сильнее крикнул Арыпп. — Затем
берем гуся! Жирного! Потрошим его!
— А резать предварительно надо? — спросил Бутыр,
вспомнив про куриный бульон из «Книги о вкусной и
здоровой пище».
— И коню ясно!.. Потрошим, значит, коня!..
— Ты хотел сказать — гуся?
— А кого же еще! Именно гуся! Моем, опаливаем и
фаршируем крутыми яйцами. Уже очищенными! И еще двумя
упаковками клюквы! Зашиваем отверстие в брюшке! Льняной
ниткой! Понятно я говорю?
— Вполне... /
— Начиненного гуся кладем в эту сумку!
— В полтеленка? >
— Именно! Только предварительно пересыпаем
внутренность сумки толченым душистым перцем, тертым чесноком,
семенами укропа. Всем, что окажется под рукой! И после
того, как гуся загоняем внутрь теленка, свободное пространство
заполняем остальной клюквой! И окончательно зашиваем
сумку!
74
— Дальше!..
— Дальше? Дальше жарим в духовке — до полной
готовности, изредка поливая блюдо жиром благородной рыбы и
стекающим соком.
— А вкус? Вкус какой будет? — допытывался Бутыр.
— Вкус? — переспросил Арыпп и после этого в течение
минуты из трубки слышались только трески. — Вкус,
говоришь? Я не знаю...
— Как так! — ахнул Бутыр. — Смеешься, что ли!
— Слов таких не знаю. Но если тебя это интересует, то
пригласишь кого-нибудь из наших поэтов! Он сумеет
рассказать, а я не подыщу нужных слов... Одно точно — после
этого ты ничего другого не захочешь. Будешь мечтать об этом,
как влюбленный о новой встрече! Вот какой вкус!
— Ты уверен, Арыпп, что так и будет? Что нам удастся
это сотворить?,
— Бутыр! — вдохновенно крикнул Арыпп. — Тебе
повезло! Положись на меня! Нужна будет только духовка
соответствующая, чтобы полтеленка...
— Будет... Сделаем...
Бутыр заказал в колхозной мастерской духовку. Она
получилась большая, как бензобак КамАЗа. Потом
обнаружилось, что печь летней кухни, под навесом, для нее мала.
Пришлось ее перекладывать. Новая печь напоминала небольшую
хижину, так что рядом с чугунной доской плиты печники
вынуждены были положить еще одну такую же доску. Печь
стала занимать вдвое больше места и в ее топливник можно
было совать целые бревна.
Бориан, жена Бутыра, с сомнением смотрела на
получившуюся домну.
— Не можешь понять, наш мужчина, — сказала она
супругу» — что я сама могла бы приготовить такие блюда, что
Ушанги был бы доволен. А вот вы с Арыппом... На этой
неприличной печи... Знаю я вас...
— Олибахи, я тоже знаю, фидджины... — скривил губы
Бутыр. — Ну, еще курица жареная, вареное мясо! Кто этого
не видел? А тут нужно что-нибудь бсобенное!
— Смотри, наш мужчина, — качала головой Бориан. —
Лишнее все это. Не получилось бы как с твоим радикулитом.
В больницу надо было, а вы с Арыппом...
— Печь нужна! — завгар был неподатлив, как шина, и
начал сердиться. — Без нее не обойтись! А насчет
больницы — это сейчас ясно. Что ты могла знать об этом?
75
— Как что? Не видела я, Чтб Ли?
— Где? Что ты могла видеть, если даже не знаешь, как
люди чихают!
— А я все-таки видела, — упорствовала Бориан. — Когда
наша соседка Барагон лежала, не ходила ли я к ней?
— Где она лежала?
— В гинекологии...
Бутыр схватился за голову и застонал.
— Ну, если тебе этого мало, — выложила последний
козырь Бориан, — вспомни-ка — где я родила нашего сына?
Роддом — это тоже...
Бутыр замотал головой и замахал руками, будто
отбивался от пчелиного роя. Лицо его выражало презрение.
— Ради бога, уйди! — взмолился он. — У меня же не
стальные нервы! Уйди!..
Стол поставили в саду, под большим ореховым деревом.
И гости Бутыра, собравшиеся после жаркого полудня,
увидели тундрового грузина. Ушанги оказался рослым, в теле,
мужчиной лет около пятидесяти. Но был несколько бледноват,
как небо тундры.
Из односельчан Бутыра был прежде всего Арыпп,
который в доме Бутыра чувствовал себя не менее уверенно, чем в
собственном. Потом — Арчил, своими габаритами хорошо
гармонировавший с пышным столом и, особенно, с громадным
сооружением, которое Арыпп и Бутыр именовали печью.
Присутствовал, разумеется, Куку — лучший мастер гаража,
которому хозяин дома был обязан спасением от врачевания
Арыппа. Был здесь и Писи, перед которым Бутыр чувствовал
себя виноватым и который, однако, давно забыл свое
сватовство к дочери Фидара, потому что было ему не до
воспоминаний. Супруга попалась ему такого сурового характера, что
из-за этого перестал работать радиозамок в калитке, хотя
прежде он не знал ни одного отказа;. На лице маленького
Писи навечно застыло выражение «Судьба, значит, такова»...
Кроме того, были еще два шофера из гаража.
Ушанги с детским любопытством щупал початки
кукурузы, проводил рукой по огородной зелени и смеялся, как от
щекотки. Давил в кулаке орехи, бережно вынимал молочные
ядрышки и жевал их с умильным кроличьим выражением на
липе.
— А не забыл ли ты, Бутро?.. — спрашивал он и
вспоминал случай из службы.
76
— А ты помнишь ли, Ушанг?.. — в свою очередь
спрашивал Бутыр и тоже освежал в памяти друга случай из службы,
замолкая, едва Бориан, занимавшаяся сервировкой стола,
подходила к ним.
Между тем на столе появились пышущие жаром олибахи.
Уже трещал и шипел шашлык в жировой пленке. Из
горлышка желтого кувшина с домашним пивом- вылезла желтая
пена, от одного вида которой начинало щипать язык.
Прозрачная, как горный воздух, водка, а также разливное, похожее
на кровь, вино в графине и полыхающий салат из помидоров,
пересыпанный стручками острого зеленого перца — все это
уже возбуждало аппетит сочными красками и ароматным
духом.
Зелень — кресс-салат, тархун, киндза, укроп, петрушка,
зеленый лук и зеленые листья чеснока — делала стол
похожим на изумрудный ковер, на котором расставили яства.
Уже гости сели за стол, только один Арыпп возился со
своим блюдом. Он был красный, как медный кумган, и,
кажется, успешно подвигался к цели — во всяком случае, как
только он открывал громадную дверь громадной духовки,
оттуда раздавалось такое яростное шипение, будто где-то
рядом старый паровоз стравливал излишек пара.
Ушанги шевелил орлиным носом, нюхал воздух и на его
лице появлялось не то удивление, не то тревога. И Бутыр
заранее радовался, видя волнение друга, которому предстояла
встреча с необыкновенным блюдом Арыппа...
Тостов было много. Пили соответственно. Ели тоже...
Горячие олибахи, особенно пироги с бурачным листом,
обжигали внутренности. И, видимо, из-за этого тосты
становились длинны в ущерб содержанию. И чем меньше было
смысла в тосте, тем громче его произносили. Невнятность
произношения — тоже следствие горячих олибахов —
компенсировали живостью и свободой движений...
Ушанги любили. И он любил всех. И все вместе любили
Бутыра.
Ушанги с одинаковым усердием налегал на все, чем был
уставлен стол. Но все же предпочтение отдавал зелени и
приговаривал :
— Вай-вай!.. Ооо!.. Эхх!.. — и смачно хрустел травами.
Он ел так аппетитно, что даже те, кто был равнодушен к
огородной зелени, тоже тянулись за ним и совали в рот
жгутики из петрушки и укропа, пробовали тархун и киндзу...
Писи был сильно оживлен. Лицо его поменяло обычный
для него цвет пережженного кирпича на зрелый помидорный.
77
Манеры Писи стали развязными, и он проявил
неожиданную словоохотливость и любопытство.
— Ушанги! — повзрослевшим от водки голосом
обратился он к гостю. — Ушанги, а этого ел?.. Который олень?..
— Ел. Жестковато немного. '
— А этого?.. Который белый медведь?..
— Нет. Медведя, не ел.
— А кита? Ел кита^..
— Киты в океане. А я в тундре был.
— В тундре разве нет китов?
— Киты в океане.
Писи это сильно удивило. Волосы на его голове стали
дыбом, и он замолк, пока переваривал это научное открытие,
потом опять пристал к Ушанги.
— А в тундре есть это?.. Который лес?
— Леса нет. Маленькие кустики есть.
— Почему же тогда нет китов?
— Киты в океане.
— Не может быть! — сказал Писи и посолил свой язык.—
Ффф... Как это?
Он был так оживлен, что на его лицо даже вернулось до-
семейное выражение «А что тут такого! Вы, ей-богу, как
дети!».
— А я вот... Это.. — с сильнейшим недоумением начал он,
так что все повернулись к нему. — Был в лесу... У нас не
тундра... У нас лес... И я там был. Недавно. Лет десять всего...
— Ну и что? — поторопил его один из шоферов.
— И вдруг... это... такой рев!.. И фырканье... Кто-то
побежал, ломая деревья.
— Ну и что? — спросил все тот же шофер. — Кто это мог
быть?
— Может, кит или...
— Или кто? — шофер не донес до рта куриную ножку —
застыл.
— Или, может, два кита... — удовлетворил Писи
любопытство шофера.
Тому расхотелось закусывать, и он уронил куриную ножку.
— Если в лесу есть кит, почему в тундре нет кита? —
небывало грубым голосом спросил Писи у таращившего глаза
Ушанги.
— Замолчи, Писи! — Арчил сказал это так значительно,
что на лицо монтера мгновенно вернулось привычное
выражение «Судьба, значит, такова» и он стал жевать пробку из
кукурузной кочерыжки.
78
— Если в тундре есть киты, — рассудительно сказал
Куку, — то эта тундра — не тундра или киты эти — совсем не
киты.
— Куку прав, — решил Арчил, — потому что лучшего
автослесаря даже в тундре... Даже в городе нет! Замолчи,
Писи!
— Может и есть киты в тундре, — начал сомневаться
Ушанги, — но в том районе, где работал я, их не было...
— Писи — самый лучший монтер Осетии, — сказал Бу-
тыр, и все ожидали развития этой темы, но он отклонился от
нее и почему-то изрек: — А кит — самое крупное животное.
А тундра — самый холодный край.
И посмотрел на гостей, ожидая возражений. Никто не стал
спорить.'И тогда вниманием завладел Ушанги. Он извинился
за то, что в тундре нет китов и рассказал про оленьи стада,
короткое лето с низким солццем, про ягель и морошку.
— А северное сияние, — заключил он свой рассказ, — это
пугающая игра красок. Будто кто-то полнеба закрывает
занавесом одного цвета, потом, глядишь, занавесом другого
цвета, а там — третьего. Меняется так быстро и незаметно, что
такое даже на Кавказе невозможно.
Арыпп тревожно прислушивался к странной беседе,
опасаясь, что его блюдо при таких открытиях не будет оценено
должным образом. И потому, ткнув несколько раз вилкой в
свой шедевр и решив, что блюдо, наконец, прожарилось, он
строго, как суровый отец детям, велел застольникам очистить
место для деревянного круглого корыта, в котором он
собирался подать фаршированного теленка к столу.
Он ловко выложил теленка в громадную посудину. Потом
быстро помыл в самой холодной воде смесь свежей зелени,
пересыпал ею блюдо, обложил его края зелеными пучками и
торжественно поставил корыто на стол.
Ушанги шевелил ноздрями, и лицо его выражало
предельно возможное любопытство.
— Что это, Бутро? — спросил он.
— Э, Ушанг! Будто не знаешь! — радостно улыбался Бу-
тыр.
— Кажется, знаю... — неуверенно пробормотал Ушанги.—
Но откуда ты..?
— Э, Ушанг! — прервал Бутыр друга. — Грузия по одну
сторону гор, Осетия — по другую. Нет такого кухонного
секрета у вас, который бы не стал нам известен. И нет такой
кухонной тайны, которую бы вы не узнали у нас. Перевал! Это
разве препятствие!
79
— Перевал? — переспросил Ушанги удивленно. —
Перевал не препятствие, но...
— То-то, Ушанг! — весело крикнул Бутыр и повернулся
к наверстывавшему упущенное Арыппу. — Ну-ка, будет тебе
жевать! Приступай и удивляй!
Сияющий Арыпп точными движениями хирурга разрезал
льняные нитки. Горячее нутро фаршированного теленка
пыхнуло ароматом клюквы, гуся и тонким духом осетрового
жира и запахами всевозможных специй. Мясной сок,
смешанный с красной жидкостью клюквы, закапал на темное дерево
корыта.
Лица работников гаража светились, как включенные
фары. Лицо Ушанги выражало тревожное волнение, меняясь
быстро и незаметно, как северное сияние, так что он даже
пропустил мимо ушей горячий тост Бутыра за процветание
братской Грузии. Нервничал Ушанги, но подчинился, когда
его заставили выпить тост.
— Ыу-ка, дорогой Ушанг! — воскликнул Бутыр. —
Отведай, если любишь Грузию и своего брата Бутро! Отведай,
отведай!
И самолично отвалил изрядный кус теленка в тарелку
Ушанги, оторвал для друга заднюю половину гуся, ронявшую
розовые капли клюквы и жира, затем выкатил несколько
розовых яиц в его тарелку.
— Отведай, Ушанг! Отведай ради Грузии и своего брата
Бутро!
Ушанги нервно почесал горло. Посмотрел на друга и
захватил дрожащими от волнения губами кусок телятины и,
давясь, проглотил. Лицо его стало кислым, как зеленая
клюква.
— Бутро! — потрясенно пробормотал он.—Откуда ты
знаешь такое блюдо?
— Это я, Ушанги! — вмешался счастливый Арыпп. — Я
видел это в Кахетии у двоюродного брата жены моего друга.
Он, понимаешь ли, тоже вернулся откуда-то с Севера. И, видать,
соскучился по этому блюду. Еще бы — истинно грузинское!
— А сколько он там пробыл? — ошеломленно спросил
Ушанги.
— Не больше полугода, — Арыпп жевал и
рассказывал: — И я видел, как он готовил это блюдо! Все село
смотрело! Да ты ешь, Ушанги! А то мы с Бутыром обидимся! ЕшьГ
Ушанги!
Ушанги, однако, не разделял радости Бутыра и Арыппа.
У него был убитый вид.
80
— Да ты что, Ушанг! — приставал Бутыр. — А? Ушанг!
Ушанги вытер пот со лба и задрожал.
— Этот фаршированный теленок в тундре называется
фаршированным по-кавказски северным оленем, — уныло
начал он. — И фаршируют его там — ый! — утками дикими.
В лучшем случае — ввв! — гусем диким. Утка и даже гусь
немного отдают рыбой. Некоторые находят в этом букет.
Придумали это блюдо кавказцы, тоскующие по южным яствам.
В течение года оно может нравиться. Потом от одного его
вида люди заболевают. Брр! Клюква! — Ушанги передернуло.—
Рыбий жир! Кислые родники внутри! Едкие растворы! Я же'
от этого блюда бежал, Бутро! Эхх!..
У Бутыра открылся рот, у Арыппа вытянулось лицо.
Ушанги позеленел и порывисто встал.
— Концентрированная соляная кислота! Ввв!.. —
бормотал он и тряс головой. — Серная кислота! Аш два эс о
четыре! Азотная! Аш эн о три! Дух рыбы в жареном мясе! С
клюквой! Ы-ы-ык! Ооо!
Ушанги схватился за горло и рванул в огород.
— Бутро, генацвале! — крикнул он. — Сода есть? Дай
сода! Ооо!
До сих пор правильно разговаривавший по-русски, теперь
он начал путаться.
Ошеломленный Бутыр чаще обычного моргал глазами.
Затем встал, взял корыто с фаршированным теленком в обе
руки и поискал глазами Арыппа, который именно в эту
минуту зачем-то вышел в калитку.
Бутыр так и остался стоять с корытом в руках. И как ни
тормошил его сам Арчил, как ни отвлекал Куку, как ни
старались остальные, он еще долго так стоял, неподвижно
глядя на истинно грузинское блюдо Арыппа. Наконец,
решительный Арчил посадил его силой и чтобы отвлечь завгара,
пообещал рассказать случай, похожий на тот, который только
что видели все и который произошел с ним...
Однако он сперва проследил глазами, как сердитая Бори-
ан понесла пакет хлебной соды страдавшему Ушанги, и
только после этого повернулся к Бутыру.
— Странные совпадения бывают в жизни, — начал
Арчил. — Как будто кто-то нарочно старается ударить по
больному месту упорно, настойчиво и как будто нет у него иной
заботы, кроме как врезать побольнее и поточнее. Вот —
судите сами...
6 Георгий Тедеев
81
Лет тридцать тому назад, следовательно... — воздев глаза
к ореховому дереву, занимался арифметическими подсчетами
великан, — следовательно, мне тогда шел семнадцатый год...
И как ты,наверно, помнишь, Бутыр, я в то время учился в
педагогическом училище, в городе. На учителя начальных
классов. Мне казалось, что это мое призвание...
Наступила весна. И в связи с этим один из наших
преподавателей посоветовал есть мед. Придает, мол, бодрость и
успокаивает нервы. Я поел немного меду — у меня была
литровая банка — и пошел на последнее практическое занятие в
школе. Составил себе план — проведу эти уроки, вечером
напишу отчет, спихну и дня через три подамся домой.
Ожидающие меня дела казались мне легкими...
Пришел я в класс. До сих пор помню — это был третий
класс, ошалевший от весны, весь какой-то развинченный
перед трехмесячным бездельем. Начался урок, и я уже
собирался приступить к опросу, который, если учесть настроение
учеников и солнце за окнами, больше смахивал на допрос,
чем на педагогическое мероприятие... Открыл я журнал,
чтобы отыскать жертву... Но тут какой-то болыпеухий
третьеклассник — самый настоящий злодей, как оказалось
впоследствии, — выпустил из-под парты сразу двух удодов. И эти
грязные птицы в одно мгновение завладели вниманием детей
так, что до сих пор, я уверен, такое не удавалось даже самым
умелым учителям. Пока я выбрасывал в коридор этого
сквернавца, удоды успели загадить все классное помещение. Они
летали под самым потолком и у них не хватало умишка в
хохластых головах, чтобы догадаться вылететь в открытые
окна. Я кинулся ловить неряшливых птиц, а они хрипло
шипели и роняли на пол вонючие точки и запятые — тему
загубленного урока... Я так старался, что проловил все четыре
академических часа. Но разве их поймаешь! Зато я раздавил
глобус, сделав из него точную копию земли, какой ее
представляли древние. Потом, поскользнувшись на загаженных
досках, растянулся на полу. Ученики похихикивали, конечно,
однако сдержанно — я был злой, как черт. Но когда со
шкафа свалилась бутылка чернил и образовала на полу лужу
наподобие карты Африки, хихикание перешло в хохот, а
мерзкие твари летали надо мной, прицельно попадая в мои
плечи и ученические головы дурно пахнущими бомбами.
К концу уроков я был грязнее, чем куриный насест. Я
велел одной девочке отнести журнал в учительскую, отпустил
остальных бездельников, а сам выскочил в окно, твердо
решив переменить профессию. И что вы думаете! Грязные пти-
«2
цы вылетели вслед за мной и, оседлав конек школьной
крыши, попрощались: «Ут-ут-ут! Пшш!..»
Я снимал комнату у одинокой старушки. Пришел к ней,
помылся. Усталость, голод и вдобавок сильнейшее
расстройство от войны с удодами и от принятого мной решения уйти из
педучилища — всего этого было достаточно, чтобы
позаботиться об успокоении нервов. В общем — не заметил, как
съел буханку хлеба и литр меда. И тут же поехал. Не домой,
а к тете, очень меня любившей. Домой не посмел — из-за
решения бросить училище. Еду в автобусе... Вечер был теплый,
но мне было так жарко, словно я находился в сухой парилке
бани. Истекаю потом и чувствую — мед виноват. Слово «мед»,
даже мысленно произнесенное, было неприятно, как пальцы
в горле...
Качнуло меня вперед. Я вытянул шею, как
встревоженный гусак, и издав длинный и натужный звук «ыгг»,
толкнул корзину рядом ^сидящей старушки. Из корзины
выкатилась пол-литровая банка. Глянул — на ней этикетка, с
изображением медовых сот и пчелы. И от одного вида этой
этикетки я почувствовал, что умираю. Рванул дверь.
Испуганный водитель вмиг остановил автобус. Я вывалился как
мешок и...
В общем, пассажиры показали удивительное
единодушие — хором назвали меня позором родителей. Молодой, мол,
а уже набурдючился... И автобус укатил. А я помираю. Во
рту сладко, в животе — еще слаще. То же — в ушах и в носу.
Ощущаю себя медовой банкой — и от этого мне еще хуже.
Расстегнул рубашку, выпростал ее из брюк и — не
поверите — на животе, под ложечкой, мед выступил. Липкий такой,
неприятный... Ввв!.. Откуда-то, несмотря на вечер, налетели
пчелы и начали жужжать вокруг меня, как в кроне
цветущей липы. Отмахиваюсь от них и бреду к тете, так как
автобус меня оставил недалеко от ее селения... Испугал тетю.
Слова выговорить не могу, почти теряю сознание и руками
махаю, как дирижер... «Господи! — говорит тетя. — Замучили
науки ребенка! Ни капли кровинки!..»
Она начала хлопотать, а я лег и жду смерти. И до того
противно было мне, что смерть казалась мне удачей и
везением... «Ничего, я тебя быстро поставлю на ноги.., — сказала
тетя, склонившись надо мной. — Нет лучшего средства...
Открой-ка ротик!»
Мне уже было все равно, и я подчинился. И тетя сунула
мне в разъятую пасть... полную ложку меда! Я успел еще
застонать, потом страшные позывы на рвоту начали меня со-
83
трясать. То я сворачивался, как уж, то подскакивал, как
самодеятельный танцор, неожиданно сорвавший аплодисменты.
Не знаю каким образом, но испуганная тетя дала знать
моим родителям — расписала им мое положение. Сама,
промучившись всю ночь со мной, утром свалилась и уснула в
другой комнате...
А тем временем подъехали мои родители. Увидев меня
больного, решили — умирает их сын от чрезмерного учения.
Вот, мол, до чего доводят науки! И мать взялась за дело.
Достала из объемистой сумки ложку, вилку, потом появилась...
литровая банка майского, оглушительно пахнувшего меда!
Этого я уже вынести не смог. Лишился чувств и меня
свезли в больницу. Там решили, что я отравился. Ну и —
промыли, как это у них положено. И оставили, хотя мне стало
гораздо лучше...
И что вы думаете! Приходили родственники и товарищи
по училищу, и все, как по команде, приносили мед. Баночки
эти я принимал с благодарностями, но едва посетители
уходили, выкидывал с проклятиями. Так вот чуть не погиб от
меда. И, кстати, с тех пор я его даже видеть не могу. Но,
заметь, Бутыр, какие в жизни случаются странные совпадения!..
Арчил помолчал, подумал и сказал:
— Однако такие совпадения кого хочешь доконают. И
разницы нет — мед ли это, фаршированный ли по-кавказски
северный олень или еще что-либо... Разницы нет...
Когда гости расходились, бледный Ушанги сидел под
грушей в позе мыслителя. Возле него хлопотала Бориан. И все
понимали — после рассказа Арчила — как мерзко
страдающему Ушанги. Все, кроме Писи, который даже было
направился к грузинскому гостю, что-то скрипя про китов в
тундре. Но Арчил вытолкнул его в калитку.
УДОЙЛИВАЯ КОРОВА
-гарыпп понимал, что никто в середине лета не
станет продавать хорошую корову. И все-таки
поехал в город, на скотный рынок, имея для этого две
по крайней мере причины. Одна из них состояла в
его желании убедиться, что среди согнанных для
продажи животных не будет коровы, достойной
называться этим именем. Другая причина имела
целью показать жене, что он, Арыпп, старается, и
потому даже пошел на такую глупость, как
поездка на скотный рынок в самый разгар лета — ведь
это именно она, Арсиан, затеяла дело с покупкой...
Неделю назад жена пришла из хлева, где доила
корову, сердито поставила зазвеневшее ведро на
пол и велела Арыппу, собиравшемуся на работу,
посмотреть, что она принесла. Арыпп, скобливший
тупой бритвой трехдневную бороду, оторвался от
созерцания своей окровавленной физиономии и
заглянул в ведро, на дне которого был такой тонкий
слой молока, что сквозь него ясно просматривалась
цинковая фактура подойника.
— По-моему, это молоко, — предположил Арыпп
и снова повернулся к зеркалу, чтобы доскоблить
скулу и часть шеи.
— Молоко! — брезгливо скривилась Арсиан. —
Это надо десять таких коров держать, чтобы кошке
хватило! А между тем ты не можешь без того,
чтобы в неделю хотя бы два раза не поел олибахов! И
я — сельская жительница! — езжу в город за
сыром! *
— Что же тут такого? — неосторожно сказал
Арыпп. — Тебе надо —. ты и ездишь...
— Да ведь это срам! — воскликнула Арсиан и
по-учительски посмотрела на супруга,
демонстрировавшего безразличие заматерелого двоечника. —
Это все равно, как если бы городские жители
приезжали к нам аа ферму за лимонадом или халвой!
85
Арыпп усмехнулся, показывая, что сравнение глупое.,
— В общем — так! — голос жены подскочил на целую
октаву. — Ты покупаешь корову. Деньги у нас есть!
У Арыппа дернулась рука, и на его горле заалел порез,
похожий на большой восклицательный знак, который любят
ставить себе маленькие начальники против графы
неотложных мероприятий.
— Разве ж на эти деньги... — изумленно протянул он,
желая напомнить Арсиан, что ведь на эти деньги они
собирались купить мотоцикл.
Но возмущенная жена, по-своему понявшая слова мужа,
оборвала его.
— Купишь, купишь! Любую корову купишь на эту
сумму! — уперев руки в бока, сказала она без всякого сомнения
в голосе. — На эти деньги не то что корову, живого тигра
можно купить! Так что — ищи!
Арыпп, лицо которого к этому времени напоминало
ошкуренный бурак, не стал спорить — не любил бесполезных дел.
И, кроме того, в его ушах стоял удаляющийся
мотоциклетный треск, мешавший сосредоточиться. Он уныло
разглядывал щеки и шею и с тоской думал об одеколонной пытке,
которой было не избежать...
Если бы на скотном рынке не стояли лавчонки и пивной
ларек, то из-за многочисленных лужиц цвета табачного
настоя и везде валявшихся клочков сена он напоминал двор
отстающей фермы, куда председатель для какой-то авральной
работы собрал колхозников.
Лужицы источали в знойный воздух острый запах
нашатыря, на, несмотря на это неудобство, выражение на лицах и
покупателей и продавцов было совершенно одинаковое —
стандартно безразличное, будто они приобрели его в лавке, как
фабричный товар.
Арыпп быстро смекнул, что это всего лишь маска,
скрывающая самый жгучий интерес. И он тоже напустил на себя
безразличие, так что неопытный человек ни за что бы не
заподозрил Арыппа даже в намерении купить что-нибудь
рогатое.
Несколько десятков коров, пять-шесть меланхолических
быков и один мосластый буйвол были привязаны к длинной
балке на опорах, похожей на бревно для гимнастических
упражнений. И если кто-нибудь на рынке и был истинно
безразличен, то это животные. Они не обращали никакого
внимания на сновавших вокруг незнакомых людей и в доказа-
86
тельство своего полного безразличия время от времени роняли
шлепающие зеленые лепешки, от которых почему-то менялась
походка покупателей.
Арыпп обошел всех животных и ни одно из них ему не
понравилось. Тут были, как он и предполагал, или нетели, из
которых еще неизвестно, что получится, или бесплодные,
разжиревшие от беззаботной жизни настолько, что между
почтенными коровами это, наверно, считалось дурным тоном.
В лучшем случае это были тугосиси с бутафорским выменем,
на которых мог клюнуть только несмышленыш.
Однако для того, чтобы иметь чистую совесть перед Ар-
сиан, ожидавшей покупки, Арыпп прошел между
животными и остановился возле комолой коровы с такой редкой
ишачьей мастью и с такими длинными ушами, что он не
удивился, увидев в руках хозяина недоуздок и кнут. И даже нажал
движением опытного скотовода на то место, которое у коров
называют щупом. И как-то странно — не слухом, а
костяшками пальцев — услышал сердитое собачье рычание, стоявшее
в брюхе комолой скотины.
«Не менее пяти ведер свежей барды влил в нее хозяин», —
подумал Арыпп и чтобы убедиться в своем предположении,
нагнулся перед мордой животного. От коровы пахло, как от
хронического алкоголика. И взгляд у нее был шальной,
совершенно не коровий.
— Сколько ей лет? — спросил Арыпп.
— Шесть, — равнодушно ответил хозяин, играя
недоуздком. — Ее еще лет десять можно доить.
Это было странно, потому что дряблое вымя коровы было
легче связки хирургических перчаток.
— А сколько литров она дает? — задал Арыпп еще один
вопрос, пытаясь обнаружить в жесткой шерсти припухлость
молочного колодца.
— Это очень хорошая корова, — уклончиво ответил
хозяин. — Коровы такой масти никогда и ничем не болеют.
— А... это... сколько литров она дает? — теперь Арыпп
успел зайти сзади и, приподняв коровий хвост по примеру
других покупателей, посмотрел так, как это делают
фотографы, настраивающие свой стационарный аппарат перед
съемкой.
— И стакана не даст! — проговорил кто-то за его спиной
хриплым голосом.
Арыпп обернулся и обомлел. Перед ним стоял дикого
вида человек, длинный, как жердь, и очень худой, не знавший,
наверно, что на свете существуют парикмахерские. Волосы у
87
незнакомца росли на щеках — до глаз, росли на лбу, горле?
на носу, лезли из ушей, покрывали руки. На нем был жилет
из сыромятной кожи и шапка посудохозяйственного покроя
из того же материала. Только галифе были обшиты
фабричной кожей, собравшейся на его тощем заду в многочисленные
складки, какие бывают только у старого кузнечного меха. В
глазах знатока коров стоял сухой блеск, обычно свойственный
лишь жителям безводных пустынь. Он положил руку на
холку животного.
— Это корова? — незнакомец посмотрел на хозяина.
— Да, — чистосердечно сознался тот и посмотрел в
небо.
— Она молоко видела только в телячестве, — сообщил
незнакомец Арыппу и хозяину коровы. — Я знаю, что
говорю—я скотовод.
— Что ты мелешь! — прошипел хозяин, оглядываясь
вокруг.
Скотовод не обратил на него никакого внимания. Он
нагнулся и, ухватив сосок, умело выдавил на ладонь
несколько капель мутной, как барда, жидкости. Арыпп удивился —
у скотовода ладонь была не волосатой.
— У меня коза удойливее, чем эта корова, —
презрительно говорил скотовод, размазывая по наждаку ладони капли.
Затем, всмотревшись, фыркнул: — В дождевой водице и то
больше жира!
— Коза! — тихо, но враждебно проговорил продавец. —
Где такая коза!
— В горах... — скотовод вытер руку о кожаный борт
жилета и добавил: — Да что там коза! У меня свинья, если ее
прдоить, больше даст, чем эта скотина, которую ты почему-
то называешь коровой.
— Слушай! — хозяин скотины со спорным
наименованием шагнул к скотоводу. — Иди к своим свиньям! И ты
проваливай! — порекомендовал он и Арыппу.
— Пойдем в самом деле! — сказал скотовод и,
повернувшись, взял пластмассовый бидон и синеватую бесформенную
сумку, смахивавшую на коровий желудок. В сумке, заметил
Арыпп, было несколько неумело сложенных театральных
афиш.
Арыпп поспешил за ним.
— Я — Быдзыго, — анкетно сухо сообщил скотовод, не
оборачиваясь. — Я из...
И назвал самое дикое ущелье в горах.
Арыпп тоже отрекомендовался. И когда назвал свое село,
88
Быдзыго остановился^ как вкопанный, так что Арыпп налетел
на него.
— Погоди-ка... — тревожно проговорил скотовод, опуская
на землю сумку и бидон. — Арчил, шофер, не из вашего ли
села?
— Ты разве его знаешь? — удивился Арыпп. — Он,
кажется, сегодня в городе. Могу свести вас.
— Не надо! — испугался Быдзыго и замахал длинными
руками. — Зачем он мне!.. — И круто поменял разговор. — А
ты корову хочешь купить?
— Да, — ответил озадаченный Арыпп.
— Здесь не купишь. Тем более — в середине лета.
— Верно.
— Хорошие коровы — они в горах.
— Я не видел.
— У них молоко гуще, чем городская сметана.
— Это так говорится.
— Нет — точно! — Быдзыго посмотрел на Арыппа.—
Горским молоком можно тележные оси смазывать. Такое оно
жирное!
— Тогда — какая же сметана?
— Как городское сливочное масло. Ножом надо резать.
Ты пиво любишь?
— Нет.
— А я... хочу корову продать.
— Что же не пригнал... не привез ее, то есть?
— Городской шум сушит вымя. У меня уже был такой
случай.
— И молоко, как ты говоришь...
— Как городская сметана, — уверенно сказал Быдзыго.
— А сколько литров она дает?
— Тридцать летом. Зимой чуть меньше. Три раза в
сутки надо доить. Ты пиво любишь?
— Нет. — Арыпп начал волноваться. — Тогда зачем ты
ее продаешь?
— Надоело в горах. Хочу в Тифлис переселиться. Туда
же с коровой не пустят?
— Ни за что! — горячо заверил Арыпп.
— А мне в горах надоело. Ты пиво любишь?
— Нет.
— А я... куплю дом с балконом. На балконе пиво буду
пить., И в театры буду ходить — спектакли смотреть.
— Корова точно тридцать литров дает?
— Не точно. Бывает, что больше.
89
— А тогда сыр какой получается?
— Как мельничный жернов. В бочку с рассолом не
влезает.
— И... сколько она будет стоить? — сердце Арыппа
запрыгало в груди сытым теленком.
— В три раза больше, чем... — Быдзыго повел головой в
сторону животных, — чем та, ишачьей масти.
— Это... сколько?
— ДЕе тысячи. И ни копейкой меньше. Как только
продам, перевожу остальной скот в Тифлис. Сдаю в
мясокомбинат и покупаю дом. С балконом. Ты пиво любишь?
— Нет, — сказал Арыпп и внезапно понял, что горец
просто мучается от жажды. Он поправился: — Вообще-то люблю.
Пойдем к ларьку. Жара — как в духовке.
Быдзыго с готовностью схватил бидон и похожую на
коровий желудок сумку и пошагал к ларьку. Арыпп шел за
ним, и скотовод ниже пояса опять напоминал ему старый
кузнечный мех.
Арыпп взял две кружки пива и. пока он брезгливо сдувал
жидкую пену, Быдзыго единым духом выпил свою и сунул
продавщице пустую тару.
— Еще! — нетерпеливо прохрипел он.
— А как ее увидеть? Твою корову? — Арыпп отпил
глоток и посмотрел на скотовода.
— Приезжай, — посоветовал тот, принимая кружку. —
Завтра, скажем...
Он квалифицированно влил в себя второй бокал, вытер
неухоженные усы и, не сбившись с принятой интонации,
продолжал :
— Далековато, правда. Но если нужна настоящая
корова, а не ее название... — Быдзыго взял третью кружку и, к
удивлению счетовода, без остановки выпил и ее, как-то по
особенному глядя на Арыппа и тем давая знать, что он еще
не закончил своей мысли. После этого он вернул кружку и
ревниво проследил за тем, как продавщица наполняет
ее.
— ...то приедешь. До турбазы, — развивал он
незаконченную мысль, — до турбазы транспорт имеется. А дальше
транспорта нет, но дорога есть. Там каких-то двадцать
километров. Сущая ерунда, если нужна корова, а не ее название.
Он принял четвертый бокал и, не медля, поднес к губам.
Сухой пустынный блеск его глаз начал сменяться влажной
матовостью.
Арыпп, едва осиливший половину своей кружки, чувство-
90
вал себя, как в цирке, и оттого следил за каждым
движением своего нового приятеля, желая постичь суть уже много
раз показанного фокуса.
— Все просто! — сказал Быдзыго. —.Приезжай!
— Приеду... — пробормотал Арыпп, ошеломленный
легкостью, с которой содержимое кружки перелилось в
скотовода.
Быдзыго выпил еще три кружки — и глаза его
повлажнели. И тогда Арыпп заплатил. И не мог не заметить, что это
понравилось скотоводу, который поставил свой бидон на
стойку и повелительно смотрел на продавщицу, имея явное
намерение получить пластмассовую тару полной*
— Прощай, Быдзыго! Завтра буду...
— Прощай, Арыпп! Завтра жду...
На другой день Арыпп добрался до владений Быдзыго,
которые состояли из одного только ущелья. И на всем его
огромном пространстве не было ничего, кроме деревянной
хижины скотовода и загона для скота, такого обширного, что в
нем можно было бы разместить родное село Арыппа — не то
что семь животных, пасшихся в его пределах.
Арыпп чуть не вскрикнул, когда Быдзыго подвел его к
корове. Крупное, благородно грузное животное с красной
шерстью подняло голову и посмотрело на будущего хозяина.
А тот пораженно замер, ибо впервые видел такое чудо.
Большая голова с молочмо-белой отметиной на лбу, мягкий и
гладкий подгрудок, прямостоящая густая щетина на шее и
холке, видный даже издали выступ молочного колодца и чистый
хвост с длинной кистью темных волос — все говорило, что это
действительно необыкновенная корова.
Но удивительнее всего было вымя, напоминавшее четырех-
сегментный церковный купол. Тугие соски напряглись'и
торчали бронзовыми брандспойтами. Арыпп даже присел и
очарованно смотрел на это емкое вместилище молока, пока
корова сильным взмахом хвоста не сбила с его головы папаху.
— Ты понравился, — определил Быдзыго. — Подойди к
ней,
Арыпп надел папаху, приосанился и, одернув рубаху,
подошел. Корова повернула к нему тяжелую голову, обнюхала
его, томно шевеля ушами, и вдруг лизнула счетовода по
колену, да так сильно, что выдернула из сапога штанину.
— Шалунья! — радостно засмеялся Арыпп.
— Ее Королевой зовут.
— Подходящее имя! Две тысячи, ты сказал?
91
— Ини копейкой меньше!
— Сейчас отдать?
— Сейчас забираешь?
— Завтра.
— Завтра и расплатишься.
— А другие коровы, их... — Арыпп посмотрел на
пасшихся животных, считая их в уме, — их шесть... Они что? Такие
же удойливые?
— Нет. Кроме того, тут не все коровы. Вот, например,
бык, — Быдзыго вытянул волосатый палец. — Это —
нетрудно угадать — сын Королевы. Не купишь ли? Всего полторы
тысячи — и ни копейкой...
— Быка мне не надо.
— Как хочешь, — сказал скотовод и продолжал: —
Остальные коровы — они хотя и не плохие, но куда им до
Королевы! Они пойдут на мясо. Вместе с козами, которые
пасутся высоко. И вместе с быком.
Разговор этот Арыппу не понравился.
— Завтра приеду за Королевой.
— Пиво любишь? У меня...
— Нет. Завтра приеду и заберу Королеву.
— Постарайся. А я в таком случае племянника
предупрежу, чтобы он меня завтра же ночью переправил вместе с
коровами в Грузию. — Быдзыго посмотрел вокруг и тоскливо
простонал: —Не могу больше в горах! В Тифлис хочу!
— Я постараюсь приехать...
Арыпп, в этот день отшагавший сорок километров —
расстояние, приличное для молодой лошади, но не для
счетовода пятидесяти лет, вернулся домой с гудящими, как
телеграфные столбы в ветер, ногами. Но, тем не менее, после
небольшого отдыха он все же приковылял к Бутыру, который в
это время во дворе колол дрова.
— Нужна машина, Бутыр! — сказал он, и когда завгар,
удивленный такой наглостью — ведь была страдная пора! —
сердито посмотрел на него, Арыпп решительно добавил: —
Завтра! — и сделал ударение на этом слове, тем самым
показывая, что разговор о самой машине считает излишним, что
он пришел только договориться о сроке.
Бутыр хотел что-то ответить, но Арыпп, каким-то
образом почувствовавший, что уловка удалась, напер дальше,
расширяя завоеванную позицию.
— Сам поедешь или кого-нибудь из шоферов пошлешь? —
92
спросил он, теперь давая знать, что насчет завтрашнего дня
даже стыдно дискутировать.
Завгар растерянно отставил топор и что-то промычал,
потом голосом капитулирующего полководца — без всякой
интонации — сказал:
— Сам...
И уже после этого совсем уныло добавил:
— Куда ехать?
— В горы.
Бутыр пожевал губами и сделал попытку вернуть
достоинство, которого лишили его так умело.
— Это с председателем надо решить, — угрюмо- буркнул
он и сдвинул брови.
— Я покажу дорогу, — услышал он совершенно
неожиданный ответ, от которого так растерялся, что сдался
окончательно, подтверждением чего был его вопрос:
— Что надо привезти?
Услышав, что корову, он почувствовал в груди ядовитую
ревность, а вместе с нею и свое несколько потрепанное
достоинство. И потому сказал:
— Ты, Арыпп, ей-богу... — завгар замялся, но
замешательство его было секундное. Он прорычал: — Погубил мою
корову, а теперь словно дразнишь!..
Счетовод, душа которого закалилась на цифири —
основном предмете его бесстрастной профессии, нисколько не
смутился.
— Бутыр, ты меня удивляешь! — с возмущением, в
котором звучало осуждение непорядочного поведения завгара,
сказал он. — Ты злопамятнее сиамской кошки! Это
недостойно мужчины и опасно для завгара, садящегося за руль!
Бутыр сник — понял, что был бестактен. Арыпп тоже
смягчился и даже посочувствовал Бутыру — про себя.
Поэтому его голос украсился той соблазняющей интонацией,
которой даже детсадовские няньки пользуются только
дождливыми утрами. Он пообещал завгару подарок — первую
телочку от самой удойливой коровы Осетии. В завершение добавил:
— Она тридцать литров дает в сутки. — Подумал и
уточнил: — Не телочка, а корова.
— Когда выезжать? — угрюмо спросил Бутыр, не
обрадованный даже перспективой иметь теленка от первой
коровы Осетии.
— Утром.
— Утром не могу. Запчасти надо получить. Потом
зарплаты надо дождаться — где потом кассира найдешь!
93
— Ну что ж — тогда после обеда, — уступчиво
согласился Арыпп.
— Часа в два, — уточнил Бутыр.
К Быдзыго приехали, когда стемнело.
Скотовод выбежал им навстречу и когда он, лохматый и
волосатый, мелькнул в желтом свете фар, Бутыр от
неожиданности так резко затормозил, что Арыпп против ^воего
желания приветственно поклонился.
— О боже! — застонал завгар испуганно и начал шарить
под ногами, пытаясь нащупать монтировку. — Что это?
— Черт знает что, — проворчал Арыпп, — тормозишь,
как перед пропастью! Это же Быдзыго! Чего удивляешься!
Поживи-ка ты без театра и без пива, и я тогда посмотрю...
— Арыпп! Выходи! — открыв дверцу, завопил Быдзыго,
заплетающийся язык которого свидетельствовал, что ему для
полного блаженства не доставало только театра. — У меня
пиво! Ты пиво любишь?
— Нет.
— ч^ве^кее же пиво! Разве ты не любишь свежего пива? —
скотовод был озадачен.
— Нет.
Быдзыго нервно всклокочил и без того дикую бороду. Он
ничего не понимал.
— Я приехал за коровой, — сказал Арыпп. — Получи
деньги!
Скотовод переступил на месте и вдруг вскинул голову.
— Не дам коровы! — отрубил он почти что трезво.
— Как так! — теперь Арыпп ничего не понимал. — Мы
же с тобой, Быдзыго...
— А так! Ты пива со мной не хочешь пить, а мне с тобой
коровами не хочется торговать.
— Да что ты, Быдзыго! — засуетился Арыпп и вылез из
кабины. — Кто сказал, что я не буду пить пива? Я разве
говорил так?
— Нннет... Врроде...
— Я буду... — вдохновенно пообещал счетовод скотоводу.
Сбитый с толку Быдзыго почесывал в затылке.
— Тогда... это... пойдем... — предложил он не очень
уверенно. — И друга возьми. Он пиво любит?
— Просто обожает. Но ему нельзя. Он за рулем.
— Ааа... Пусть все же переступит порог моего жилища.
В хижине скотовода была бивачная обстановка. На пере-
94
вернутом ящике горела свеча и освещала два походных
стульчика, окованный сундук и обклеенные театральными
афишами стены. Счетовод и скотовод подсели к ящику. Бутыр
примостился на сундуке.
Быдзыго повозился в углу и извлек из темноты знакомый
Арыппу пластмассовый бидон, уже наполовину
опорожненный, и наполнил из него две самодельные глиняные кружки,
тоже появившиеся из мрака.
«Не иначе, как литровые!» —тоскливо определил Арыпп
вместимость объемистых посудин.
— Пей! — сказал Быдзыго. — Я последний вечер здесь.
Другой раз ты меня в горах не найдешь.
«Нужен ты мне! — подумал Арыпп. — Пивохлеб
несчастный!»
А вслух сказал:
— Это очень жаль. Ты мне понравился.
— Ты мне — тоже. Пиво любишь? — скотовод, видать,
был забывчив.
— Ннн.. — Арыпп вовремя спохватился и вместо
загнанного обратно в горло слова прохрипел другое: —
Спрашиваешь!
Быдзыго без передыху осушил кружку — он иначе не
умел.
— Для многих это страдание, — заметил он и
внимательно посмотрел на Арыппа.
Тот с показной жадностью выпил половину отпущенных
ему в кружке страданий и подхалимисто крякнул.
А скотовод строил планы.
— Куплю дом. В Тифлисе. На балконе пиво буду пить. А
по вечерам в театре спектакли буду смотреть.' Я уже коров
не люблю, — мечтал он, но вдруг голос его изменился. — А
ты что же? — заглянув в кружку гостя, нахмурился он. —
Говоришь — пиво любишь, а сам...
Арыпп вынужден был влить в себя другую половину
нестандартной кружки. И почувствовал, как медленный жар
пополз из желудка к голове и ногам.
«Забористое пиво!..» — подумал он, почему-то без
недавнего возмущения глядя на то, как Быдзыго нацеливался
черным горлышком бидона в его кружку.
У Арыппа тяжелела голова, но, несмотря на это, в ней
кузнечиками сигали быстрые мысли.
— В горах очень много горного воздуха, — неожиданно
сообщил он скотоводу.
— Если бы, — Быдзыго с кряхтением оставил все еще тя-
9&
желый бидон и посмотрел на Арыппа, — если бы здесь
показывали пиво и продавали спектакли, тут народу было бы как
на митинге.
— Тогда бы многие, я думаю, переселились в горы, —
сказал Арыпп, внезапно поверив в массовый исход
равнинного населения в скалы, и на этот раз без предупреждения со
стороны скотовода отпил изрядную часть содержимого
кружки.
— Все бы переселились! — фанатично отрубил Быдзыго.
— Все — едва ли, потому что... Ну, например, водители
трамваев! Им нельзя...
— Все! Как ты не понимаешь! — скотовод опустил
лохматую голову и покачал ею, как это делают исполнители
цыганских романсов, когда хотят показать безмерное страдание.
И, не поднимая головы, огорченно начал: — Потому что
спектакли и пиво...
Дальше он ничего не сказал, внезапно заменив остальную
часть своей мысли наглядным действием — взял кружку и
стал жадно пить. И острый кадык скотовода метался в
зарослях бороды обложенной лисой.
Арыпп тоже допил кружку по примеру Быдзыго — без
передыха.
«Это горный воздух, — подумал он. — Иначе как не
лопну!»
— Что такое корова? Как ты думаешь? — внезапно
спросил Быдзыго без следов огорчения в хриплом голосе и стал
наполнять кружки.
Арыпп растерялся — не ожидал экзамена. И посмотрел
на Бутыра. Но тот сердитым взглядом показал, что на него
нечего рассчитывать. Тогда он неуверенно сказал:
— Ну... Это, по-моему, самка быка...
— Корова — это машина! — афористически изрек
скотовод.
— Каким образом?
— Для переработки травы в молоко, — разворачивал
Быдзыго свой афоризм. — Чем лучше машина, тем больше
выходит молока.
Арыпп подумал и согласился и даже предложил:
— Давай выпьем.
— Давай.
Ударили кружками и выпили — до донышка.
— Моя корова — самая лучшая машина! — едва отняв
кружку от губ, сказал скотовод.
96
— Это верно, — Арыпп единомышленно покачал головой
и закрыл глаза, демонстрируя сосредоточенность.
Быдзыго ничего больше не сказал. Он с интересом
смотрел на Арыппа и ждал, что из этого получится.
Наконец, Арыпп открыл глаза и спросил интимно:
— А куда здесь можно выйти?
— Вот оно что! — понимающе ухмыльнулся скотовод. —
Куда хочешь. Можешь все ущелье... Не стесняйся. —
Подумал и добавил: — А ведь и я хочу.. Пойдем!
Пошли, поддерживая друг друга и спотыкаясь.
Вернулись минут через десять, и Быдзыго тут же
наполнил кружки.
— Значит, чем породистее машина... — Арыпп не забыл
смелого сравнения коровы с машиной. — Значит, чем
породистее машина... Нет! — мотнул он головой. — Чем
совершеннее корова...
Он задумался и вдруг признался:
— А все-таки это странно! — после чего, сделав
несколько ненужных движений руками, предложил: — Возьми
деньги, Быдзыго.
И полез в карман.
— А! — отмахнулся Быдзыго. — Куда они денутся!
— Нет — ты возьми!
— Раз так — клади на стол.
Быдзыго потрогал теплую и немного даже влажную
пачку ассигнаций и забубнил:
— Куплю дом. С балконом в Тифлисе. Чтобы пиво пить.
А в театрах буду спектакли смотреть.
Внезапно скотовод очень трезво посмотрел на Арыппа.
— Слушай, Арыпп! Купи и это! — он встал и, пройдя в
темный угол, выволок оттуда какую-то железную емкость с
ручкой, похожей на стартер, имеющийся у каждого шофера.
— Стиральная машина? На кой она мне...
— Это сепаратор! При трехведерном удое без
сепаратора — что ты будешь делать?
Арыпп сразу смекнул — вещь необходимая.
— Сколько?
— Двести! И ни копейкой меньше!
Арыпп похлопал себя по карманам и посмотрел на зав-
гара.
— Бутыр! Ты сегодня зарплату получил. Отдай Быдзыго
двести.
— Ехать пора! — сердито пошевелился Бутыр, уже
ненавидевший этих бражников.
7 Георгий Тедесв
97
— Отдай — поедем!
— Мне самому нужны!
— Отдай, Бутыр! — неожиданно посоветовал Быдзыго.
Удивленный Бутыр посмотрел на скотовода.
— Отдай! — наседал Арыпп. — Зачем тебе ночью деньги!
Недовольный завгар отсчитал требуемую сумму и бросил
деньги на ящик — к пачке.
— Поедем! — рявкнул он. — Сколько можно сосать
пиво? Ты у председателя отпросился, а мне завтра на работу!
И вышел.
— Кружки полные! — удивленно крикнул Быдзыго и
немедленно стал устранять этот непорядок. Арыпп, даже не
подумавший встать, последовал его примеру...
Продавец и покупатель сидели еще долго. Наконец, бидон
вместо привычного пивного плеска отозвался сиплым гулом
отсыревшего барабана. Скотовод с недоумением уставился на
него, затем поднес емкость к волосатому уху и встряхнул ее.
Бидон безмолствовал.
— В таком случае — езжайте, — объявил Быдзыго.
И пока Арыпп осмысливал эти слова, скотовод опять
мечтал вслух:
— Куплю д-дом! — он начал заикаться. — На балконе
пиво б-буду смотреть... Коров — н-не х-хочу!..
Некоторое время посидели молча. Потом, не сговариваясь,
ухватили сепаратор и потащили к машине. Спотыкались,
падали, но доволокли. Бутыр предусмотрительно опустил
задний борт и помог им поднять сепаратор.
— А как корову погрузим? — спросил он.
— В-вон уступ возле ворот. Т-там только жердь на прясле
снять. И к-корова сама зайдет, — объяснил Быдзыго и
направился к загону.
— Она в меня влюблена! — визгливо и радостно крикнул
Арыпп и поспешил за скотоводом.
Подошли к воротам.
— Д-дело простое! — гугнил Быдзыго. — Т-только жердь
убрать. Эт-то так просто!..
И скотовод повис на прясле.
— Ясно. Ничего сложного! — подтвердил Арыпп и тоже
упал на жердь.
Но вдруг он захихикал, как от щекотки, и голосом,
свидетельствовавшим о крайнем поглуплении, очень радостно
крикнул:
— А вот и она! С отметиной на лбу! Моя Королева! — и
издал поцелуйный звук, после чего захихикал: — Она меня
98
лизнула! И как метко! Штанину из сапога выдернула.
Слышишь, Быдзыго!
Бутыр подогнал машину, вылез и оттолкнул беспомощных
счетовода и скотовода, затем снял жердь и загнал животное
в кузов. Отъехал метров на пять и выскочил — боялся, что
корова выпрыгнет. Пробежал мимо обнимавшихся Быдзыго и
Арыппа и, усмехнувшись, поднял борт. Затем оторвал
покупателя от продавца и затащил его в кабину.
— Прощай, Быдзыго! — почти рыдая, крикнул Арыпп.
— П-прощай, Ар-рыпп! — старательно, с иностранным
акцентом, выговорил Быдзыго.
Бутыр поехал, прислушиваясь к бормотанию сомлевшего
счетовода. Минут через десять увидели идущий навстречу
автомобиль.
— КамАЗ! — сказал Бутыр.
— Племянник Быдзыго!— четко прокомментировал Арыпп
и, уронив голову на грудь, уснул.
Было уже за полночь, когда они добрались домой...
Арыпп, проснувшийся еще на рассвете и ожидавший, что
увидит бивачную обстановку хижины скотовода, не мог
понять, как он оказался в своей постели — лошадиная мера
выпитого пива еще давала о себе знать. Наконец, предположил,
что дело не обошлось без Бутыра или даже Арсиан. А дальше
он вспомнил, что купил корову, удойливее которой не
сыщется в обеих Осетиях. Это было хорошо. И даже привез
сепаратор. Это тоже радовало...
Но тут он увидел одевавшуюся жену.
— Арсиан! — страдая, позвал он. — Ты еще корову не
видела? И сепаратор не видела?
Арсиан, проспавшей возвращение мужа, было стыдно.
Поэтому она торопилась выйти.
— Подои ее, — томно советовал Арыпп. — Возьми ведро
побольше. И не бойся. Она не лягается. И не заступает в
ведро. Суточный надой — представляешь? — тридцать литров!
Все соседские коровы столько не дадут, хоть под пресс их
клади!
— Ты хорошее дело сделал, —^застенчиво сказала
Арсиан и вышла.
В сенях зазвенел подойник. Арыпп блаженно потянулся и
смежил веки. Зевнул через ноздри так, что это отдалось в
ушах приятным шумом. Покой, нежный, уютный,
обволакивал его...
Но вдруг железный грохот упавшего рядом ведра потряс
99
его. Острые звуки разодрали ушные перепонки и оцарапали
сердце.
— Что! Что такое! — взвившись марионеткой, вскрикнул:
Арыпп и увидел бледную Арсиан.
— Там... Там... — бормотала она и тряслась.
— Что там?! — клацнул зубами Арыпп.
— Там... — жена делала плавательные движения, но слов
не находила.
— Женщина! Говори! — рявкнул Арыпп и стал одеваться.
— Там... не... корова... — на лице Арсиан был ужас.
— А кто? Тигр, что ли! Верблюд!
Арыпп ринулся во двор, перелетел его в два прыжка,
метнулся в хлев и...
И остолбенел. Хвостом к нему стоял крупный бык — сын
Королевы. И так удачно, что Арыпп прежде всего увидел его
мужские стати, несмотря на которь!е бык с усердием только
что отелившейся коровы лизал звеневшую под сильным
языком сталь сепаратора...
Арыпп коснулся пальцами висков и секунд пять стоял в
этой мыслительной позе. Затем уронил руку и засмеялся —
болезненно и воровато. И видно было, что это у него пройдет
не скоро...
Точно так же смеялся Арчил, когда... ВпрЬчем, лучше
рассказать эту небольшую историю, чтобы было понятно и то,
почему Быдзыго не хотел и даже боялся встречи с Арчилом...
Дело было так. В то лето, когда Арчил намучился с
канадскими мешками, председатель в самую страду вызвал его
к себе и сказал, что он'не забыл приключений Арчила на
складе для удобрений, что понимает и то, что Арчил
заслуживает не только похвалы, но и поощрения в виде награды.
Но это никак нельзя оформить в деньгах и потому он,
председатель, выделяет для самого сильного колхозного шофера —
в этом месте председательской речи великан опустил глаза —
бесплатную путевку в дом отдыха. Услышав про путевку в
разгар страды, Арчил вскинул голову и с сомнением
посмотрел на колхозного голову.
— Езжай, езжай! — подбодрил его председатель. — Мы
уж тут как-нибудь без тебя... А ты заслужил! Там, брат,
воздух и вода!
И Арчил поехал. Дом отдыха был в горах. И потому
насчет воздуха он не разобрался — воздух ничем не отличался
от того, которым Арчил дышал ежедневно, а вода... Воды,
действительно, было много. Все четырнадцать дней — это весь
100
срок отдыха — в небе, наверно, дождевальные установки
работали. И так как Арчил жил один и его комната находилась
в башенке над домом отдыха, то он сидел, как арестованный,
и созерцал заштрихованное дождем пространство.
Но последний день был такой солнечный, что даже
иностранец бы понял, что это надолго. И Арчил решил продлить
свой отдых — ведь отпуск у него был месячный! Но как?
Спросил одного, другого. И слышал одно и то же — дело
безнадежное! Но тут со своим советом подъехал этот Быдзыго —
тогда еще животновод какого-то колхоза, мечтавший, однако,
уже о собственном стаде.
Хотя Быдзыго появился в доме отдыха неделей позлее, чем
Арчил, он, однако, успел узнать местные нравы с такой
основательностью, что это вызывало уважение. Между Арчилом
и Быдзыго к тому времени завелась маленькая неприязнь.
Причиной тому было предложение Быдзыго Арчилу —
поменяться местами. Быдзыго из башни Арчила хотел приглядеть
пастбища для будущего стада. Но Арчил не согласился. Ему
почему-то не понравились вокзальные порядки
восьмиместной комнаты, в которой обитал Быдзыго. После этого они
начали коситься друг на друга.
Теперь, увидев затруднения Арчила, жилец
перенаселенной комнаты посоветовал ему сходить к директору, женщине
мягкого сердца. Она продлит путевку. Такие случаи бывали,
авторитетно заверил Быдзыго.
Арчил, увидев участие Быдзыго, застыдился. Тот
оказался лучше, чем думал Арчил. Великан тут же хотел сунуться
в директорский кабинет, но советчик посмотрел на него очень
неодобрительно.
— А что? — смутился Арчил.
— Она любит аккуратность, — объяснил Быдзыго. —
Надо привести себя в порядок. Особенно же следует побриться
и наодеколониться. Она это уважает — одеколон.
Арчил опять смутился. И выгладил свои галифе так, что
выступы на них стали острее топора мясника. Надраил
сапоги, потом придал голенищам гармошечный вид. Побрился и
помыл одеколоном лицо. Посмотрелся в зеркало, подумал и
остаток — полфлакона — вылил для пущего эффекта на свои
по-конски щетинистые волосы. Затем оделся, затянул ремень,
вправив язычок прыжки на два отверстия ближе, чем обычно.
Одернул полы рубахи навыпуск и пошел продлевать отдых.
Секретарша хотела его остановить, но Арчил, который не
мог отложить решения дела даже на полдня, прошел мимо
нее в кабинет, скрипя сапогами.
101
— Что угодно? — испуганно подняла голову директор и
суетливо прижала к носу платочек.
Арчил стал излагать свою просьбу, удивляясь тому, как
быстро — из розового в синее — менялось красивое лицо
начальствующей женщины. На ее щеках даже пятна
выступили. А ее глаза стали красны, как габаритные огни КамАЗа.
Удивило и ее поведение. Она вскочила и без видимого повода
попыталась открыть окно.
Это ей не удалось. И тогда она, синяя уже, повернулась к
Арчилу и завизжала:
— Во-о-он! Вон отсюда! Чтобы духу вашего тут не было!
Боже мой! — И заплакала.
Опешивший Арчил стоял еще секунд десять, пытаясь
понять хоть что-нибудь, потом махнул рукой и вышел в
приемную в сильном недоумении.
— О, чтоб ваша шерсть осыпалась! — пробормотал он.
И тут на него разгневанной наседкой налетела секретарша.
— Нахал! — взвизгнула она циркулярной пилой. —
Наглец! Она же не выносит запаха одеколона! Аллергия у нее —
понимаешь ли ты это, медведь!
Арчил понял. В одно мгновение. Грохоча сапогами,
вылетел искать Быдзыго. Но тот предусмотрительно пошел куда-
то с экскурсией...
Потом, до прихода автобуса, Арчил ходил по двору дома
отдыха. И отдыхающие видели, как великан подносил палец
ко лбу, потом опускал руку и хохотал — болезненно и
воровато. И сторонились его...
— Это разве корова? — шепотом, оглядываясь на хлев,
спрашивала Арсиан.
Смущенный Арыпп посмотрел в пространство и ответил —
тоже тихо:
— Это бык, — потом, кивнув на подойник в руке Арсиан,
добавил: — А в этом нет никакой необходимости. Ты
только никому не говори...
Скоро, однако, в селе узнали про покупку Арыппа. И
начали похихикивать. А Бутыр еще и усмехался — как в горах,
когда закрывал борт машины...
КОЛОРАДСКИЕ ЖУКИ
-Арыпп и Бутыр сидели в столовой горняцкого
поселка.
— Этот борщ нехороший, — сказал Арыпп,
брезгливо отодвигая почти полную тарелку с жидкостью
технического цвета, на ржавой поверхности
которой плавало несколько анемичных кусочков
капусты. — Мой дядя Кец даже пробовать бы не стал
такую жидкость...
В столовую они попали так.
Какой-то заезжий шахтер рассказал им, что у
них в поселковом хозмаге продают
сильнодействующее средство против колорадского жука —
югославский порошок. Если опылить им картофельные
кусты, уверял шахтер, то американские насекомые
несколько лет не залетают на участок с
картофельными грядками — падают замертво еще на подлете.
Порошок, бескорыстно рекламировал шахтер
иностранный яд, имеет еще одно несомненное
достоинство — он совершенно безвреден для всех других
насекомых, в том числе, увлекался шахтер, и для
человека.
Арыпп и Бутыр, все вечера и выходные дни
июля собиравшие разъевшихся молодых жуков,
слушали шахтера заинтересованно. И с того дня
забросили это дело. На то у них были веские причины.
Ведь кроме того, что занятие это было
бесполезное, — жирные молодые жуки на другой день
снова, неизвестно откуда взявшись, ползали по
голым стеблям в поисках листвы, — оно еще и
отбивало аппетит настолько, что при одном упоминании
о колорадских жуках Арыппа и Бутыра начинало
тошнить. Завгар похудел, и. заострившиеся черты
его лица обрели то беспощадное выражение,
которым некогда отличались только деятели инквизиции
с приличным стажем. Лицо же Арыппа вытянулось,
юа;
как колонка цифр, так что в счетоводе очень ясно
обозначилась сухость, свойственная его бесстрастной профессии.
Оставался один выход — поехать за чудо-порошком...
Выехали рано утром, намереваясь поспеть ко времени
открытия хозяйственного магазина. Так оно и получилось у
них — в восемь часов они уже стояли перед окованной
железом дверью, на которой висел нахальный, величиной со
школьный ранец, замок.
Но в восемь продавец не пришел, не было его и в девять,
к десяти он тоже не заявился, в одиннадцать какой-то
мальчишка наклеил на железо двери бумагу, которой завмаг
уведомлял любопытных кратко, но исчерпывающе: «УЕХАЛ
НА БАЗУ. БУДУ В 12».
И действительно — ровно в половине первого к магазину
подошел приземистый толстяк, красный цвет лица которого
мог быть объясним только возней с тяжелыми ящиками на
базе, — завмаг. Но он ничего не привез. Зато принес с собой
запах жареного лука и шашлыка, который Арыпп и Бутыр,
плохо представлявшие место недавнего пребывания
труженика торговли, сочли специфическрш базовым запахом, сильно,
впрочем, перебиваемым тяжелым пивным духом, тоже
принесенным продавцом.
Продавец не скрывал своего любопытства. Он устроил
тяжелый живот на прилавке, словно продавать его собирался,
и масляными, цвета желтого пива глазами вопросительно
посмотрел на потенциальных покупателей. Те объяснили, что
хотят купить югославский порошок, безвредный для остальных
насекомых, в том числе и...
Завмаг прервал их и сказал, что югославский порошок
вышел, при этом он очень умело показал то редкое
выражение сочувствия и ехидной радости, которое так хорошо
демонстрируют дежурные медсестры родильного дома, коЬда
сообщают обалделому, но целеустремленному отцу о
рождении шестой дочки. Однако, увидев огорчение покупателей,
предложил км купить польской олифы.
Покупатели воззрились на него, пытаясь проследить
непонятные зигзаги мысли труженика торговли и, не обнаружив
никакой связи между польской олифой и югославским
порошком, посмотрели друг на друга. И тогда Арыпп предложил
Бутыру пообедать.
Когда выходили, толстый продавец воззвал к ним:
— Подождите! Я вам расскажу про другое средство
против...
Но расстроенные Арыпп и Бутыр даже не остановились.
104
Так приятели оказались в столовой горняцкого поселка.
— А вот на это, — продолжал Арыпп, подвигая тарелку
с котлетой, — а вот на это Кец даже и не взглянул бы...
И счетовод опасливо ткнул вилкой в серое изделие
общепитовских кулинаров.
Бутыр, в характере которого появилась покорность в
результате безуспешной борьбы с колорадскими жуками, уныло
хлебал борщ. *
— Кто такой Кец? — вяло спросил он.
— Кец? — вскинул голову Арыпп и бросил вилку. — Ты
не знаешь Кеца? И никогда не слыхал про Кеца?
Он удивленно посмотрел на завгара.
— Кец — мой дядя! И живет в горах! Вот кто такой Кец!
— И что? — с коровьим равнодушием спросил Бутыр.
— А то, что у него бывает самый лучший сыр в ущелье!
И из него получаются самые вкусные олибахи в наших горах!
— И что из этого?
— А то, что он бы не ел т?сего этого, потому что сыры его,
величиной с колесо- «Москвича», жирны, как курдюк. Ты
никогда ничего подобного не видел! — горячо сказал Арыпп и,
придвинув стул, зашептал, жарко и интимно, как это умеют*
лишь самые даровитые сплетницы. — Поверишь ли —
отрежешь кусок от такого сыра, положишь на тарелку и через
десять минут из его пор выступают масляные слезы. Они
округляются, как янтарные бусины. И не хочешь, а — съешь..
Потому что нутром чувствз^ешь — это неповторимо! Но если
бы ты видел, какие из этого сыра жена Кеца делает олибахи!
В этом месте своего рассказа Арыпп закатил глаза в знак
крайнего изумления, длинно втянул воздух и издал странный,
куда-то внутрь направленный звук.
— (Представь себе, — еще жарче зашептал он, так что
Бутыр вынужден был расстегнуть ворот рубахи, — представь
себе олибах с толстой начинкой и тонким тестом, только что
вынутый из духовки. Под румяной корочкой расплавленный
сыр ворчит и дышит, так что верх олибаха даже шевелится,
как живой. Пф! Фп! А посредине, где жена Кеца нарочно не
защипывает тесто, уже образовалась янтарная лужица —
сыр-то наполовину из масла!
Бутыр, собравшийся было ковырнуть котлету, бросил
вилку и поднял голову.
— Ты ведь видел, как это бывает! — продолжал Арыпп.—
В одном месте сыр прорвал тонкий край олибаха — и,
обгорев на сковороде, распространяет такой сухой и жирный
запах, — Арыпп закрыл глаза и покачал головой, — что ночью
105
в горах в автомобиле из твоего гаража можно проехать к
Кецу и не сбиться — фары не нужны!
Завгар, внимательно слушавший счетовода, отодвинул
котлету, при этом кадык у него дернулся и исчез под
челюстью, но тут же разочарованно сполз обратно.
— А если такой олибах помазать сливочным маслом,
чтобы придать корочке шелковую мягкость — ну, ты знаешь,
как это бывает! — да подать его к столу вместе с топленым
маслом в блюдцах! Что еще надо человеку — я тебя
спрашиваю?
— Отчего горский сыр такой вкусный? — спросил Бутыр,
который таращил глаза, словно недавно разбуженный.
— Я же сказал — он наполовину из масла, —
авторитетно проговорил Арыпп. — Но, кроме того, в нем, как
установили ученые, все известные науке минеральные соли в
нужных количествах.
, Счетовод помолчал, затем убежденно добавил:
— И неизвестные — тоже!
' ' ■— А магазинный сыр что? — презрительно, после
некоторой паузы, продолжал Арыпп. — Из него такого олибаха
не сделаешь. В нем аммофос и нитрофос, апатиты и
преципитаты. Впрочем, наш агроном лучше знает, чем он отравляет
поля.
—Не скажи, — возразил Бутыр. — Иная хозяйка, как,
например, моя Бориан, такие олибахи может испечь, что...
— Это тебе так кажется, — остановил завгара Арыпп. —
После того, как ты целый день дышишь бензином и соляркой
в своем гараже, ты мог бы эту агрономову отраву ложкой
есть и даже похваливать.
— Нет, все-таки, уж если испечет моя Бориан...
— Это тебе только кажется, потому что ты не ел
настоящих, как у Кеца, горских олибахов!
Вдруг Арыпп посмотрел на завгара и спросил:
— Послушай, Бутыр, завтра же воскресенье?
— Ну?
— Я не буду больше собирать этих тараканов!
— Жуков, — брезгливо уточнил Бутыр.
— Ноль разницы!
— Американских жуков! — скривил губы Бутыр.
— Тем более! Не прикоснусь больше к этим
империалистическим насекомым. Слишком много я их собрал — не
меньше ведра. И теперь...
— Фуй! Не упоминай, Арыпп, про них. А то меня стош-
106
нит. Ни одного слова! — предупредил Бутыр, потом спросил:
— Что теперь?
— Не меньше ведра. И теперь я хочу тебя накормить во
что бы то ни стало...
Гримаса отвращения исказила лицо Бутыра, и он нервно
потрогал горло.
— ...настоящими горскими олибахами! У Кеца!
Посмотри, на кого ты стал похож! Будто из жести сделан! Поедем,
а? На мотоцикле, на моем? А?
Надо заметить, что Арыпп все-таки купил мотоцикл,
продав колхозу быка, сына Королевы — за половинную цену.
— Почему мы не можем поехать к Кецу? Воскресенье —
это раз, погода отличная — это два, опять же американские
жуки, чтоб у них крылья отсохли, — это три! Поехали!
Завгар колебался.
— Ну же, Бутыр!
— Неудобно как-то...
— Почему неудобно? Кец — мой дядя! Не к чужому едем!
Он живет недалеко отсюда. Ему шестьдесят только лет, и он
еще не был в городе. Отчего не поехать!
, — Ладно! — сдался Бутыр. — Мне эти насекомые вот
где сидят!
И Бутыр ребром ладони попилил поперек горла.
Погода была отменная. Солнце, круглое, как один из
сыров Кеца, висело над горами. И подрумяненные его
утренними лучами маленькие клочья облаков были похожи на
вытекшую из олибахов сырную начинку, пропитанную маслом. Да
и сами лучи, изливавшиеся в голубую дымку ущелий, тоже
напоминали потоки топленого масла.
Мотоцикл — это был «Восход» — бодро кудахтал и легко
нес своих пассажиров. Только на подъемах, еще не
привычный к горным дорогам, ревел недовольно и начинал чихать
в оба глушителя, замеДляя ход.
— Еще не совсем обкатан, — объяснял Арыпп. — Это
дорога для него экзамен. Он сдает его неплохо. А? Бутыр?
— Как отличник! — кричащ пободревший Бутыр. — Как
отличник, который слегка заикается от волнения!
Когда проезжали мимо столовой горняцкого поселка,
Бутыр крикнул в ухо Арыппа:
— Они свой борщ будто в бетономешалке готовили!
— А котлета у них как оконная замазка! — засмеялся
счетовод. — Кец бы ни за что не-пообедал здесь!
107
И вдруг, съехав с дороги, он остановил мотоцикл й
повернул к завгару встревоженное лицо.
— Послушай, Бутыр, тебе известно, какие сезонные
работы сейчас могут быть в горах?
— Нет, *— откровенно признался завгар, пытаясь понять
внезапный интерес счетовода. — Я родился на равнине и
мало смыслю в горах.
'— Не стригут ли сейчас овец? — тревожился Арыпп.
^— Только баран в июле станет стричь овец! Не сезон!
— А картофель окучивают в эту пору?
— Во время войны окучивали. Сейчас, слава богу...
— А сено? Косят сено?
— Да ты что, Арыпп! Ты ничего не понимаешь, словно
институт окончил! Первый укос трав давно уже сеном стал1.
А второй укос подойдет не раньше, — Бутыр почему-то
посмотрел на часы, — не раньше, чем через две недели.
Совершенно не сезон!
— Это хорошо, что не сезон. А... что еще может делать
хороший хозяин в горах?
[ — В это время — ничего! — твердо сказал Бутыр.
— Это хорошо, — удовлетворенно проговорил счетовод. —
Я тоже не могу придумать ни одной работы.
— Да зачем тебе?
— Видишь ли... — Арыпп посмотрел на Бутыра. — Кец
любит... как бы тебе это объяснить... заставляет поработать
гостя — такая скверная привычка! — пока подойдет обед. С
другой стороны, это, может, и хорошо — нагуляешь
лошадиный аппетит, и пусть Кец отдувается! Но нам-то это зачем!
При таком воздухе мы и так...
— Нам это незачем! — горячо поддержал его Бутыр. — У
меня дома работы — строительный батальон не справится!
Во-первых, эта американская нечисть...
— Шахтер сказал, что в горах нет колорадского жука, —
задумчиво сказал Арыпп. — Значит, нашей заботы у Кеца
нет, хотя, — он повернулся к Бутыру, — привезли же, тем
не менее, в поселковый хозмаг югославское средство? А? Нет,
шахтеры не врут. Жуков, нам не придется собирать. А других
дел вроде, скажем, пристраивания еще одной комнаты, или
возведения каменной ограды вокруг двора, или ремонта
хлева, или еще чего-нибудь в этом роде у Кеца не может быть.
Комната лишняя ему ни к чему. Вся семья — он да Ната,
его жена. Дети все в городе живут. А перед оградой ТСеца
даже современный танк задумается. Хлевы у него крепче бом-
108
боубежищ. Все у Кеца в порядке! И слаба богу! Поехали!
Скоро будем у Кеца!
Однако скоро не получилось, потому что длинный и
довольно крутой подъем этой части дороги мотоцикл брал
неуверенно. Он вначале квохтал недовольно, как согнанная с
гнезда наседка, и сильно дымил. Потом квохтанье перешло
в механическое кудахтанье, которое даже не привычному
уху говорило, что сейчас мотор захлебнется.
Но Арыпп вовремя переключил передачу, и машина
снова поползла, издавая все звуки, которые бывают в
курятнике, когда туда забирается лиса., Однако хватило ее
ненадолго. Она издала механический всхлип и — стала.
Пассажиры, ждавшие этого, соскочили.
— Толкай! — велел Арыпп и налег на рул!ь.
Бутыр уперся в грязевый щиток и седло, помогая
счетоводу.
— Как ты думаешь, — крикнул Арыпп, не
оборачиваясь, — как ты думаешь, если бы мы вдвоем сели на ишака,
он внес бы нас на эту гору?
— Мне ишаков жалко, я бы не сел, — ответил Бутыр.
— А если бы, тем не менее, сели — поднял бы он нас?
— Конечно. И даже не запыхался бы.
— Вот это-то и не понятно!
— Что тут непонятного? Ишаки — сильные ребята.
— С ишаком понятно. А вот с мотоциклом... В
инструкции ведь ясно сказано — мощность пятнадцать
лошадиных, — заметь, не ишачьих, а лошадиных! — сил. Чем же
эти лошадр! занимаются?
— Но это другое дело! — тоном, в котором ясно
слышалось его техническое превосходство, вскричал Бутыр.
— Что такое лошадиная сила? — вдруг спросил Арыпп.
— Лошадиная сила? Лошадиная сила — это... — начал
Бутыр уныло, затем, помолчав, сочувственно сказал: — Ты
этого не поймешь. Тут нужно техническое образование, а не
только умение держаться за рога мотоцикла.
И закончил совсем неожиданно;
— Я есть хочу. Кате лошадь.
— Это от горного воздуха.
— Я все равно хочу есть.
— Скоро будем у Кеца. Хочешь — дам конфету? У меня
несколько карамелек.
— Конфет не люблю.
— Как хочешь... — Арыпп остановился, быстро кинул в
рот карамельку и снова налег на руль. И пока вкатывали мо-
109
тоцикл на гребень дороги, он еще несколько раз, к великой
досаде Бутыра, останавливался и ел конфеты...
Результатом одоления этого длинного подъема был голода
кусачая, беспокойная пустота в желудках, с которой Арыпп
и Бутыр подкатили к усадьбе Кеца, располагавшейся в
дальнем конце неглубокой горной долины. Полутораэтажный дом
был сложен из желтоватого, как хороший сыр, камня. Из
трубы поднимался вертикальный столб голубого дыма,
свидетельствовавший, что хозяйка занимается чем надо.
Арыпп заглушил мотоцикл во дворе и заорал, увидев
появившуюся на веранде женщину:
— Ната, здравствуй! Я очень рад тебя видеть. И Бутыр
тоже. Это, Ната, Бутыр!
Вдруг счетовод взвизгнул, будто его пощекотали.
— Ей-богу, Ната, ты очень мудрая женщина, потому что
у тебя руки в муке! Я Бутыру так и сказал, что таких олиба-
хов, как у тебя, уже нигде нет!
— Ну что ты, Арыпп! — засмущалась Ната. — Олибахи
как олибахи.
— Не скажи, Ната, не скажи!.. А где Кец? Почему не
видно Кеца? Здоров ли Кец?
— Здесь он, :— сказала Ната.
— Спит что ли?
— Ну что ты... В это время!..
— Так где же Кец?
— Кец работает...
— В воскресенье? Где? Что? Почему?
— Башню ремонтирует...
Арыпп внезапно ссутулился, затем посверлил пальцем
ухо.
— На дорогах, Ната, такая пыль, ей-богу... Что ты
сказала, Ната?
— Кец восстанавливает нашу башню. Он сейчас, кажется,
между ярусами, камни таскает на пятый ярус. Иначе бы он
уже давно выглянул. Пойдите пока к нему. Он будет очень
рад, а я... — Ната посмотрела на свои руки. — А мне надо
тесто заквасить...
Несколько секунд Арыпп и Бутыр стояли окаменело.
— Вернемся! — наконец,4 испуганно прошептал Бутыр. —
А то тут башню строят. Едем!
— Как?
— Развернем мотоцикл и...
— Нельзя. Нехорошо получится. И, кроме того...
110
— Что?
— У Кеца такая собака... Больше лошади. Она во двор
впускает, но обратно — ни за что, если Кец не велит ей.
— Нас же двое! — прошипел Бутыр. — Отобьемся на
мотоцикле!
— От кого? От Пирата? — Арыпп презрительно
посмотрел на завгара. — Он — чтоб ты знал — даже «Жигули»
остановил, когда водитель, никого не застав, хотел повернуть
обратно.
— Скажешь тоже! — обиделся Бутыр. — Пес остановил
«Жигули»!
— Да, — обреченно подтвердил Арыпп. — Прокусил
скат — «Жигули» и сели. А что ему мотоцикл! Он нам
двигатель оторвет! А нас просто съест... Ну и влипли!
— А высота башни, между прочим, — взгляд у Бутыра
был оценивающий, как у базарного перекупщика, — а
высота, между прочим, не менее двадцати метров... Неужели на
такую высоту придется камни таскать!
— Судьба! — обреченно проговорил Арыпп. — Пойдем,
однако, к Кецу... Чего уж тут...
Втянув головы в плечи, прошли в низкий дверной проем
и вступили в первый ярус башни. Над ними, на вправленных
в опорные ниши стен балках был настлан пол второго яруса.
В полу был прорезан люк, к которому вела странная
лестница — обрубок бревна толщиной в талию неумеренно
питающегося гражданина, с зазубринами вместо ступенек.
Поднялись во второй ярус и в противоположном углу
увидели точно такую же лестницу, ведшую к такому же люку.
Это повторилось еще два раза, после чего счетовод и завгар
оказались в самом верхнем, пятом ярусе, где Кец
подтаскивал приличных размеров скальный обломок к
разрушившейся от старости стене.
— Да будут твои дела удачны, Кец! — с деланной
бодростью сказал Арыпп.
— Здравствуйте, дорогие гости! — рявкнул Кец так, что
Бутыр попятился и посмотрел на Арыппа.
— Это он оттого, что рядом с рекой живет. Они, возле
реки, всегда были крикуны — из-за шума потока, —
объяснил счетовод завгару.
— Вы кстати приехали! — хлестнул опять голос Кеца,
все еще возившегося с камнем. — Мне одному не справиться!
А кто это с тобой, племянник?
— Это? Это Бутыр.
— Очень хорошо, что это Бутыр! Здравствуй, Бутыр!
111
Кец был похож на Арыппа — и лицом, и складом тела, и
жестами. Только решительное выражение, которое было
свойственно лицу счетовода, у Кеца перешло в удалое — будто
ему ничего не стоило, захоти он только этого, свернуть угол
башни, сдвинуть гору или схватить убегающего зайца —
вообще сделать что-нибудь немыслимое.
— Здравствуй, Кец! — ответил Бутыр и не удержался от
любопытства: —А... зачем это... Зачем нужна башня?
— Башня? — Кец, оторвав взгляд от камня, посмотрел
на Бутыра. — Башня нужна была нашим предкам для
обороны.
— Нет, ты не понял, Кец, — живо сказал Арыпп. —
Бутыр хотел сказать — на кой... То есть, я хотел сказать —
зачем нужна башня тебе?
— Чай пить, — Кец склонился над камнем.
— Как! — одновременно выдохнули завгар и счетовод.
— С вареньем. Я люблю с вареньем. А Ната не любит —
странные это люди — женщины! Здесь, в пятом ярусе я
поставлю самовар и стол. И буду чай пить. Вы очень кстати
приехали. — Кец выпрямился. — Тут самое главное — камни
занести. А поставить их на место, даже краеугольные, это
легче. Вы очень кстати приехали. Они лежат у подножия
башни.
Кец повернулся, показывая, что время дорого.
Арыпп, избегая взгляда Бутыра, поскреб в затылке и
направился к люку. Бутыр постоял, подумал, тоскливо глядя
на закопченные стены башни, и, вздохнув, поплелся вниз.
Встретились в первом ярусе. Бутыр только что сошел с
последней зазубрины лестницы, а Арыпп, красный от натуги,
переступил через порог башни, неся в объятиях камень.
— Сдались мне эти олибахи! — сердито буркнул завгар.
Счетовод остановился, перехватил камень и сказал:
— Ну откуда я мог знать, что Кец сооружает такой
чайный дом! А ты тоже хорош —'• почему не догадался, что
сейчас в горах сезон восстановления башен? Эх ты! И как ты
только руководишь техническими специалистами! — И
прошел мимо.
Бутыр подобрал бурый, похожий на глыбу халвы камень,
который, по его предположению, был легче остальных. Но уже
на первых шагах убедился, что это не так. Камень давил на
пустой живот и касался позвоночника.
Озадаченный завгар по пояс влез в люк и, умирая от
усталости, свалил груз на пол, перед собой. Затем вполз и
покатил его к другой лестнице. Кряхтя, подобрал и осторожно*
112
как эквилибрист, исполняющий в цирке смертельный номер,
начал подниматься. Несколько раз ему казалось, что не
выдержит и выронит камень, но тем не менее все же сумел опять
влезть в люк и свалить ношу на пол следующего яруса.
Он дышал, как борец после схватки. Сердце грохотало о
ребра, заставляя звенеть мелочь в нагрудном кармане. Так
что когда Бутыр высунулся из люка перед Кецем, он мог бы
в популярной форме рассказать, как умирают от
перенапряжения сердца. Кец быстро принял у него камень, и Бутыр
почувствовал себя в неоплатном долгу перед Кецем. Даже
подумал, что никогда не рассчитается за это.
— Зачем такие носишь?! — рявкнул Кец на все ущелье.
— А... что?..
— Такие надо вдвоем брать! В нем, внутри, видишь ли,
гранитная глыба! Ну ничего! Раз тебе хочется!..
Через два с половиной часа и Бутыр и Арыпп едва
тащились на ослабевших ногах. Они спотыкались и на поворотах
их заносило даже без груза. Ноги дрожали. Онемевшие,
лишенные силы руки не могли удерживать скользивший камень.
Походка стала такой, что будь это в городе, даже самый
нелюбопытный милиционер отвел бы их куда следует, чтобы
выяснить причину зигзагообразной манеры ходить. А муки
голода были столь нестерпимы, что Арыпп на глазах у Буты-
ра оторвал пол-листа лопуха и, к изумлению завгара, съел с
лошадиным хрустом.
Они взяли по небольшому камню и снова потащились на
пятый ярус. И когда свалили груз в общую кучу, присели,
не сговариваясь и стали смотреть, как Кец укладывал
очередной камень.
— А... — качал Арыпп и всхлипнул от усталости, но,
сделав глотательное движение, сумел все-таки промямлить: — А
где... это... Пират? Совсем же не видно пса!..
— Пират? — Кец выпрямился и печально проговорил: —
Погиб Пират! Нет больше Пирата!..
— Неужели! — вскрикнул Арыпп.
— Да... — глаза Кеца повлажнели и он показал на
кувалду в углу. — Она тогда лежала на стене. Я неосторожно
сдвинул ее, и она вместе с камнем полетела вниз. И... можете
представить, какой форшмак получился из Пирата, который
спал у подножия башни!..
Бутыр посмотрел на Арыппа огненным взглядом. «Я же
предлагал — дернем отсюда!»—говорил взгляд завгара.
— Это был отличный пес! — отворачиваясь от Бутыра,
проговорил Арыпп и украдкой смахнул слезу радости.
8 Георгий Тедеев
113
— Я так расстроился, что написал стихи! — крикнул Кец.
— Вот!
Л он вынул из нагрудного кармана сложенную вчетверо
бумагу, развернул ее и поднес сперва к носу Арыппа,
потом — Бутыра.
— Действительно — стихи! — Арыпп посмотрел на
Бутыра.
— По-моему, — тоже! — согласился тот. — Строчки
одинаковой длины!
— Это баллада! — сурово предупредил Кец. — В двух
частях!
— Почему баллада? — поинтересовался Арыпп, которому
это слово показалось слишком ученым.
— Если не баллада, тогда — что?
Ни Арыпп, ни Бутыр этого не знали и потому согласились,
что написанное — точно баллада.
— Слушайте! — потребовал Кец и, сдерживая рыдания,
прочитал:
Убило без вины
Собаку нашу с Натой
Упавшей со стены
Кувалдою проклятой...
Ой, орайда, ой!..
и посмотрел на потрясенную аудиторию.
— Вторая часть баллады еще не совсем окончена... —
всхлипнул Кец. — Но я думаю над ней!
— Как гладко! — сказал Арыпп.
— И хвосты у строчек одинаковые! — удивлялся Бутыр.
— Я мог бы стать поэтом! — крикнул Кец.
— Это было бы нелегко, — усомнился Арыпп. — Где бы
ты взял столько собак?
Потом подумал и спросил:
— Но почему ты пишешь, что Нату тоже убило? Или у
поэтов так принято?
— Где ты слышал такое? — Кец быстро развернул стихи.
— Вот! — счетовод ткнул грязным пальцем в лист. —
«Убило без вины собаку нашу с Натой»...
— Так это... — растерялся Кец. — Так это же... Тут
написано... Ты ничего не понимаешь в стихах! Это я пишу, что
собака у нас с Натой — общая! Ясно?
— Да, теперь ясно.
— А я понял, что Ната свалилась со стены на собаку... —
неуверенно сказал Бутыр.
114
— Ты тоже ничего не понимаешь в стихах! Ты кем
работаешь?
— Завгаром.
— Это как?
— Он путевки выписывает и автомобили ремонтирует, —
объяснил Арыпп.
— Автомобили? — удивился Кец, затем быстро полез
куда-то в угол яруса, повозился там и вынул из хлама
транзисторный приемник, зубило, молоток и мелкие гвозди.
— Тогда отремонтируй вот это! — велел он.
— Я?!. — изумленно протянул завгар и пролепетал: —Я
только автомобили умею... И то не я, а Куку и Арчил...
— Автомобиль же больше, чем приемник! Почему тогда
приемник не умеешь?'
— Ке-е-ец! — раздался голос Наты. — Ку-у-ушать!
Кец пошевелил носом и сказал:
— Испекла уже... — Затем крикнул: — Пошли!
И видно было, что он недоволен увертливым Бутыром.
Стол накрыли под алычевым деревом.
На деревянном круге лежали три румяных олибаха,
верхний из которых, только что вынутый из духовки, еще
сладострастно чмокал и вздыхал, шевеля тонким тестом. Рядом
стоял глиняный кувшин, истекавший коричневой пивной
пеной. А на желтой льняной скатерти золотыми монетами
рассыпались солнечные пятна.
Кец сказал тост. Арыпп и Бутыр промычали что-то
похожее на выражение солидарности с идеей тоста и жадно
выпили стаканы холодного пива. Потом, едва хозяин разрезал оли-
бахи, они вздрагивавшими руками перекинули к себе на
тарелки с топленым маслом по паре осьмушек и тут же начали
есть. Олибах был горяч, и толстый слой сыра обжигал, как
расплавленный металл, но Арыпп и Бутыр глотали огненные
куски и шипели, как рассерженные гуси, стонали блаженно
и так громко причмокивали, будто стреляли из детских
пистолетов.
Желтые шматки сыра плавали в масле и когда ветерок
шевелил листву алычи, желтые лучи ныряли к ним и тоже
плавали, наполняя тарелки янтарным сиянием.
Верхний олибах исчез, как по волшебству, средний тоже
разобрали быстро, и теперь едоки растаскивали последний,
испеченный первым и потому настолько остывший, что
можно было не жуя глотать по целой осьмушке.
Если олибахи убывали, то аппетит увеличивался в
обратной пропорции. Было какое-то свойство в этом сыре — он буд-
115
то задевал нерв, на котором был привязав аппетит. Нерв
дергался и раздражал привязанного зверя, который требовал
удовлетворения.
Кец кашлянул. Появилась Ната, и еще три олибаха легли
на деревянный круг. Повеселевший Арыпп самолично
разрезал их и налил всем пива.
Когда выпили, Кец обмакнул осьмушку в масло и
половину положил в рот. Поморгал глазами и проглотил, потом,
уже не моргая, мелко зачмокал, демонстрируя озадаченность,
и вдруг рявкнул:'
— Ната! — и когда она, вся красная от печного жара,
появилась на веранде, опять рявкнул :^ — Ната! Вкус у твоих
олибахов, ей-богу, какой-то!.. Не сыром ли бруцеллезной
коровы ты их начинила? Смотри, Ната!
И, обмакнув в масло, отправил другую половину
осьмушки в рот.
Арыпп почему-то икнул и сразу ссутулился. Бутыр
зашипел, будто обжегся, и из его раскрывшегося рта вывалился
только что водворенный туда кусок.
Счетовод поднял голову и, прислушиваясь к внутренним
ощущениям, неуверенно проговорил:
— Я, кажется, наелся... — И, посмотрев куда-то в
пространство, добавил: —Нет, точно наелся. Не худо бы испить
минеральной водицы. Из источника...
— Я тоже, — пошевелился Бутыр, — воды хочу.
И начал вылезать из-за стола.
— Пиво! — крикнул жуя Кец. — Солодовое пиво! Оно
разве хуже?
— Пиво везде есть, а источники — не везде, — быстро
сказал Арыпп и поспешил за Бутыром.
Кец недоуменно смотрел вслед гостям.
— У тебя нет рвотного камня? — испуганно спросил
Арыпп Бутыра.
— ■ Я никогда ничем не болел — кроме радикулита, —
нелогично ответил завгар.
— Так нет рвотного к^мня? Если есть, то эта коровья
болезнь не пристанет к нам.
— Камень от башни проглоти! — зло посоветовал Бутыр
и опять заскулил: — Я никогда ничем, кроме
радикулита...
Через четверть часа, после безуспешных попыток, гости
Кеца стали белей, чем снег на далеких вершинах,
— Я был такой голодный, — дрожащим голосом сказал
Бутыр, — что, по-видимому, нет никакого средства, чтобы...
116
Вот Арчил — тот в таком же положении смог. Он рассказывал
мне. Я не могу...
— Я тоже... — Арыпп вытер бледный лоб.
— Я придумал! — хлестнул голос Кеца — он спускался к
л им.
— Что? — в один голос пролепетали гости.
— Вторую часть баллады! Вот — слушайте! — знакомая
бумага появилась в руках поэта и он прочитал, заглушая
шум потока:
Издох Пират не в срок,
Но помним я и Пата
Вид порванных кишок
И хряск костей Пирата...
Гости повели себя странно — Бутыр громко, с
отвращением крикнул:
— Уагх! — и скатился в кусты.
— Ой! Уй! — трогая горло, проговорил Арыпп и нырнул
в кусты вслед за Бутыром. ,
— Ой, орайда, ой! —
дочитывал Кец балладу и удалым и непонимающим был
взгляд Кеца...
А что Арчил? О чем он рассказывал Бутыру? А вот о чем...
В прошедший понедельник, вечером, когда Арчил вернул- .
ся из гаража, жена Цуциан радостно выбежала ему
навстречу и сунула в руку мужа что-то металлическое и гладкое.
Посмотрел Арчил — видит: голая серебряная красавица
сидит на бочонке и тщетно старается прикрыть кое-что руками.
— Что это? — вытаращил глаза великан.
— Зажигалка! Тебе!
— Я же не курю! — Арчил старался не смотреть на жену.
—. Никто и не заставляет тебя курить. Это — знак
внимания, — сказала сияющая Цуциан и посоветовала: —
Отведи-ка ей левую ручку. Дерни за брелок! Дерни! Дерни!
— Зачем? — Арчил смущался, но надавил на изящную
ручку красавицы.
Та неожиданно вскинула другую ручку и поднесла к носу -
Арчила струившееся из серебряной трубочки пламя, при этом
показала все, что так тщательно скрывала до сих пор.
— Тю!.. — совсем смутился Арчил и пробормотал: —О,
чтобы ваша шерсть осыпалась!.. Не могли сделать
по-человечески...
!
117
— Это и есть по-человечески, — сказала Цуциан.
Арчил внимательно посмотрел на жену и уже хотел
потрогать ей лоб — нет ли температуры, но тут она
застрекотала:
— К моему дяде Буцки приехал двоюродный племянник
из Франции. И эта зажигалка — подарок француза тебе. Его
дед еще до революции перебрался во Францию да там и
остался. Но, умирая, наказал внуку съездить в родную Осетию.
Вот он и приехал.
— Молодец! — одобрил французского осетина Арчил.
— Тебе надо поехать к нему, — сказала жена.
— Это еще зачем? — Арчил вскинул голову.—Он, небось,
ни одного слова по-советски не знает — как же я буду с ним
разговаривать!
— Пусть это тебя не беспокоит. Там есть мальчик, внук
Буцки. Он в Африке родился, где его родители что-то делают
в посольстве. Так он знает этот иностранный язык, как
родной. Через него ты и поговоришь с французом.
— Но о чем?!
— Да мало ли!.. — Цуциан рассердилась. — О
международном положении хотя бы!.. Что они там бомбы взрывают?
Пристыди его...
— Не поеду!
( Цуциан в ужасе всплеснула руками:
— Опозоримся на всю Францию! Что они там подумают
о тебе!
Арчил и сам подумал — что, действительно, подумают о
нем во Франции, если он даже не навестит родственника
жены?
— Ладно! — уступил он. — А теперь дай-ка поужинать.
В среду, отпросившись у Бутыра, поехал в одно из прите-
речных селений — дядя Цуциан, Буцки, жил там.
У Буцки дома никого не было, так как день был рабочий.
Но гостя Арыпп застал. Что это француз, Арчил сразу
догадался — у того была прическа, подобную которой Арчил
видел в учебнике сына, в той части, где дети осваивали тему
«Происхождение человека».
Француз возился у плиты летней кухни во дворе. Увидев
Арчила, он восторженно ринулся ему навстречу и крикнул:
— Бонжур, мсье!
— Здравствуй, — сказал Арчил и пожал руку
иностранца выше локтя, ибо кисть француза была в муке.
— Николя, Николя! — вскрикнул двоюродный племянник
Буцки.
118
Арчил догадался, что тот назвал свое имя и сам тоже
представился:
— А я Арчил, — удивляясь тому, что он понимает
француза и без переводчика.
Но тут появился мальчик, и Арчил сообразил, что
именно он, мальчик, и есть Николя, внук Буцки, знающий
иностранный язык как родной.
Между тем француз обрушил на Николя целый поток
каких-то круглых, как подшипниковые шарики, слов, которые
он выговаривал через нос.
«Простудился», — решил Арчил и подивился
хлипкой природе француза, умудрившегося заболеть при такой
жаре.
— Он говорит, — начал Николя, — он говорит, что рад
видеть вас и еще он сказал, что его зовут мсье Дзибогка.
«Осетинское имя! — опять удивился Арчил. — Смотри-
ка!..»
— А я Арчил — переведи ему это.
Мальчик перевел, и француз радостно закивал:
— Уи! Уи! — после чего он простуженно сказал какую-
то длинную фразу.
Николя стал переводить. Он морщил гладкий лоб,
подыскивая в своей памяти осетинские слова, и Арчил, глядя на
него, подумал, что этот мальчик знает родной язык, как
иностранный.
— Он вас... это... приглашает к столу... — заикался
переводчик, — и еще говорит, что он один не может обедать...
— Спасибо. Что за удовольствие одному! Это он
правильно... А где он работает — спроси, Николя!
— Он работает в ресторане поваром, — сам ответил
Николя.
— Ну пусть...
Француз кивнул головой, услышав слово «ресторан» и
опять выкатил на своего переводчика круглые простуженные
слова.
— Он сам готовил обед — по-французски, — объяснил
Николя Арчилу. — Сразу не может привыкнуть к осетинским
блюдам. Поэтому.
— Зачем привыкать сразу! — длинно растягивая слова,
так что все слоги получались ударными, сказал Арчил. —
Поживи — привыкнешь. Ко мне приезжай...
Француз согласно закивал головой и потащил Арчила к
столу, уже накрытому. Жареное мясо — цыплячьи
крылышки, как понял великан, еще шипели на сковороде; похожий
119
на солидол соус в фарфоровой тарелке; помидорный салат,,
политый постным маслом и тонкие, как бумага, ломтики
хлеба — все это, хоть и было знакомо Арчилу, все же имело
какой-то иностранный вид. Это возбуждало любопытство, и
Арчил решил попробовать каждого блюда, что, в общем-то,
было не трудно, так как великан успел проголодаться.
Мсье Дзибогка ел с большим удовольствием и требовал
того же от гостя. Арчилу очень нравился похожий ка
солидол соус и он просто макал в него хлеб и ел, как лесоруб.
— Скажи ему, Николя, — велел Арчил мальчику, —
скажи, что французы хорошо умеют готовить, что мсье
Дзибогка — молодец!..
Николя перевел, и француз радостно зстряхнул
палеонтологической прической и показал все свои зубы.
— И еще скажи, что я говорю ему спасибо за
зажигалку из женщины. Это очень красивая жен... Это очень
красивая зажигалка... Скажи ему!..
Мсье Дзибогка выслушал и восторженно закивал.
— Переведи также — это блюдо очень вкусно, — сказал
Арчил и, обмакнув хлеб во французский соус, отправил его
в рот.
Француз был доволен.
— Хороши и цыплячьи крылышки — просто тают во рту!
Переведи!
. — Это не цыплячьи крылышки, — ответил Николя, и
Арчил только тут заметил, что мальчик, знавший иностранный
язык, как родной, и родной, как иностранный, почему-то ел
один хлеб.
— А что же тогда это? — Арчил уставился на
переводчика.
— Это ножки..; — Николя морщился, вспоминая слово.
— Чьи?
— Которые прыгают... — Николя тужился вспомнить.
— Куда прыгают?
— В воду... Я всегда забываю это слово. Дедушка Буцки
меня уже ругал. Это которые кричат — ква-ква.
— Утки, что ли?
— Нет. Ква-ква! Вот! — лицо мальчика просветлело: —
Лягушки! Ножки лягушек!.
— Что ты сказал? — Арчил уронил вилку.
— Ножки лягушек. Французы их едят. Мсье
Дзибогка...
Арчил не дослушал, что там мсье Дзибогка... Он
схватился за горло и ринулся в огород. Через десять минут он вер-
120
нулся бледный и потный и, не попрощавшись с удивленным
мсье Дзибогка, тут же уехал...
Арыпп и Бутыр сидели в столовой горняцкого поселка.
Они жадно хлебали жидкий, как эфир, борщ и не сводили
плотоядного взгляда со спавших на гороховом пюре котлет.
— Этот борщ це так уж плох, — начал Арыпп.—Его бы
и Кец... — и осекся.
— Вы были у Кеца? — спросил знакомый продавец
хозмага, сидевший за соседним столом.
Глаза труженика торговли по-прежнему были желтого,
пивного цвета, но ни жареным луком, ни шашлыком от него
не пахло — видимо, на базу не ездил.
— Да, — ответил Арыпп, ложка которого мелькала с
быстротой солнечного зайчика.
— Нехорошую привычку завел этот Кец, — сказал
продавец. — Говорит, что коровы у него бруцеллезные, а они
здоровы, как быки. По-моему, он это от скуки.
— Точно не болеют у него коровы? — Арыпп даже есть
бросил, а Бутыр с надеждой смотрел на продавца.
— Мне ущельный ветеринар сказал — здоровы, как
быки. Но это нехорошая шутка. Я так и скажу Кецу. Что он в
самом деле!..
— Черт его принес со стихами! — досадливо сказал
Арыпп, крутя ложку. — Сейчас бы мы не хлебали эту
скверную жидкость!..
Продавец, нехотя евший после вчерашней поездки на базу,
подсел к столу Арыппа и Бутыра и, нагнув голову,
прошептал:
— Ну что вы вчера поспешили! Я так хотел вам
рассказать про надежное средство уберечь картофель —. его
шахтеры придумали. Оно убивает не только колорадских жуков, но
даже крыс. Меня один шахтер научил... А вы так спешили!
— А что это за средство? — Арыпп сунул в рот полную
ложку.
Бутыр тревожно поднял голову.
— Это просто замечательное средство и дешевое. Я вам
скажу, что нету лучшего средства, чем это.
— Расскажи! — жуя сказал Арыпп.
— Оно приготавливается из самих жуков, —■ продавец
подвинул стул еще ближе и, не замечая тревоги, мгновенно
появившейся в глазах слушателей, продолжал: — Для этого
собираешь полное ведро — а то и два — молодых, самых
жирных жуков...
121
Бутыр бросил ложку и побледнел, Арыпп испуганно
отодвинул стул, преграждавший путь к двери.
— Потом закрываешь стеклом и выставляешь ведра,
полные самых жирных жуков, на солнцепек...
Бутыр застонал и, выплеснув остатки борща в лицо
продавцу, устремился к выходу. Арыпп вскочил и, такой же
бледный, как при слушании второй части Кецевой баллады,
яростно потряс кулаком перед мокрым лицом таращившего
глаза продавца и ринулся вслед за Бутыром, почему-то не в
принятом порядке выкрикивая гласные буквы алфавита.
Продавец ничего не понимал и задумчиво размазывал по
толстому лицу борщ местных кулинаров...
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
-Л>леба подходили, и председатель готовился к
сильному урожаю. Обычно в эту пору он
становился суетлив и совершал странные поступки. Так
было и на этот раз.
За две недели до уборочной страды колхозный
голова собрал трактористов, комбайнеров,
работников гаража, агрономную и другие службы вплоть
до бухгалтерии и, внимательно оглядев притихших
специалистов, выступил перед ними с речью.
Он почему-то начал с международного
положения. Квалифицированно обрисовал слушателям
дела в Африке, потом, умело переправившись через
Красное море, начал вводить несколько
растерявшихся технарей в курс событий на Аравийском
полуострове. Но когда тема захватила аудиторию,
председатель неожиданно перешел к вопросу о
диспансеризации всех специалистов хозяйства —
ввиду предстоящей страды, которая должна пройти
без единого сбоя, не в пример прошлогодней —
здесь колхозный руководитель повернул голову и
остановил осудительный взгляд на агрономе.
Тогда, злопамятно продолжал оратор, не спуская глаз
с агронома, тогда кое-кто из самых нужных
специалистов поступил совершенно безнравственно —
заболел какой-то якобы нервной болезнью, как вот
сейчас механик гаража Арчил, так что даже не
постеснялся взять бюллетень. В этом месте
председательской речи агроном опустил повинную голову и
показал оратору бледную плешь вместо красного
лица. А между тем, напирал колхозный голова
дальше, нисколько не смущенный таким приемом
агронома, именно в это время многие видели
заболевшего спеца на лугу возле леса. И не просто так,
а прогуливавшегося — с женой под руку!..
— Ну и что? — грубым, редко прорезавшимся
123
у Писи голосом крикнул колхозный монтер, любивший
срезать председателя. — Человек же... это... заболел!.. Ффф!..
— Заболел?!. — председатель гневно бросил какие-то
бумаги на стол. — Тебе-то откуда известно, заболел тот человек
или был совершенно здоров?!. Человек — это похитрее, чем
твои штепсели и кнопки!..
— Как же! — волновался Писи, по-волчьи поворачиваясь
и апеллируя к собранию. — Как же!.. Ффф!.. Не сам ли
председатель сказал, что тот специалист... это... был с женой под
руку!.. Кто же... это... кроме нервнобольного...
Монтеру не дали договорить — председатель просто
прервал его, боясь подвоха.
— В общем — так! — повелительно, как старшина,
крикнул он. — Приказываю — до уборочной всем специалистам
пройти диспансеризацию, чтобы страда прошла без единого
сбоя, о чем я уже договорился в районной поликлинике.
Потом сердито — я, мол, вас знаю! — посмотрел на спецов
и добавил:
— В поликлинику пойдете не как на футбол — все
вместе, а согласно графику, по трое. График у моей секретарши!.
Все!..
— Что такое нервы? — спрашивал Бутыр у Арыппа
утром следующего дня, когда они вдвоем, согласно
председательскому графику, шли в районную поликлинику.
Вообще-то третьим с ними должен был идти Арчил, но
механик, только позавчера вернувшийся из Средней Азии,
был болен и даже имел больничный лист, выданный ему
невропатологом.
Ослепительно, как рефлектор окулиста, сияло в небе
июньское солнце. И стремительно, как у лихорадочного больного,
поднималась температура воздуха. А на голубой небесной
клеенке ватными тампонами белели редкие облака. В
придорожной траве вспыхивали капли росы и щетинились острыми,
как медицинские иглы, лучами, которые мягко кололи
глаза. Хирургически чистый воздух пах лекарственной
валерианой...
— Нервы, говоришь, что такое? — ' Арыпп вскинул
голову, как лошадь, отгоняющая мух. — Нервы — это вроде
проводов. Они идут от мозга по всему телу. Ты же видел
электрическую схему автомобиля?
— Спрашиваешь!.. ;
— Так нервы — это электрическая схема человека!
— А как они могут болеть?
124
— Хм... — Арыпп, не скрывая превосходства, глянул на
Бутыра. — Они же не стальные! Вот скажи, — голос
счетовода изменился, — вот скажи — случается обгореть или
протереться проводу в автомобиле?
— Сколько раз! Особенно — если шофер балда.
— Ну и с нервами точно так же. И тогда они болят.
-^ А как? — допытывался Бутыр. — Вроде ушиба?
— Нет. Там, считай, ничего не болит.
— А как же узнают, что нервы все-таки болят?
— По поступкам человека. Вот, например, скажи
нервному больному: «Поешь, пожалуйста, горячего олибаха»
—даже голодному, даже самым вежливым голосом — и он это
примет за смертельную обиду. Неизвестно даже, что он
сделает с тобой. Потому что такие слова для него, что соль на
рану. А бывает и по-другому. Вот как с вашим Арчилом —
тот, как ты знаешь, молчит все время и еще неизвестно,
когда он заговорит.
— Я все же не могу понять, как это может быть, —
сознался Бутыр и. добавил: — Я же никогда ничем, кроме
радикулита...
— Ученые подсчитали, — прервал счетовод завгара, —
что половина1 человечества — все нервные. Время такое!
Нервы — это болезнь века! — изрек Арыпп и по-учительски
глянул на Бутыра.
— Нет, это трудно понять все же — болят нервы, а
человеку не больно, — сказал Бутыр и задумчиво поскреб
затылок. — Как это может быть?..
В регистратуре о них знали и даже ждали их.
Председатель позаботился, так что Арыппу и Бутыру сразу же выдали
похожие на амбарные книги амбулаторные карточки с
их фамилиями на обложках и велели идти в кабинеты, и
следовало начинать почему-то с невропатолога.
Однако на двери этого врача висела бумажка, из которой
явствовало, что тот «уехал по вызовам» и что будет не
раньше 12. А было только 9 часов.
И тут Арыпп показал свою обычную предприимчивость.
— Пойдем, — сказал он Бутыру, — позавтракаем в
столовой. Утром я ничего не ел.
— Я тоже ничего не ел, но я не хочу. В столовой не
хочу, —, поморщился завгар.
— Тогда пойдем к двоюродной сестре нашей хозяйки Ар-
сиан. Она тут недалеко живет. Думаю — будут олибахи.
— Нельзя, Арыпп. Видишь — тут у них очередь, — Бутыр
125
кивнул на людей возле кабинета невропатолога. — Так мы
тугожем и не попасть к врачу. Вон их сколько, с нервами!..
— А ведь правда... — согласился Арыпп.
Больных действительно было много — не менее двадцати
человек дожидалось врача. Они уже определили, кто за кем
стоит. И это давало каждому из них повод смотреть с
нескрываемой ревностью на того, кто оказался впереди, и
снисходительно разговаривать со стоящим сзади.
Арыпп не захотел играть двойную роль и потому громко
•объявил, что они с Бутыром никакие не больные, что они
колхозные специалисты, что у них плановая
диспансеризация и потому они пройдут к врачу вне очереди. И разгладил
усы.
Никто ничего не сказал, но на них после этого стали
смотреть почти враждебно. Арыппу это тоже не понравилось и
он пояснил, что им с Бутыром до вечера надо побывать не
менее чем в шести кабинетах и что если каждый раз они
будут занимать очередь, то... Арыпп не договорил, но жестами
и никем не слыханными до этого междометиями показал,
тсак бы это было по-дурацки глупо — требовать от них
соблюдения очередности. Ядовито враждебное выражение на лицах
больных незаметно нейтрализовалось — никто не хотел
показать себя дураком.
Добившись такого эффекта, счетовод присел и стал
осматриваться. Вскоре его взгляд остановился на сухонькой, как
перележавшая вобла, старушке в платье из темной
зонтичной ткани, под которой отчетливо угадывались ее весьма
древние стати, напоминавшие обилием прямых и острых
углов каркас испорченного зонтика.
— Здравствуй, Чка! — весело гаркнул Арыпп.
Старуха — это была теща колхозного монтера Писи —
зздрогнула от крика и уронила руки на кирзовую сумку на
коленях, наполненную какими-то бумагами.
— Здравствуй. А кто ты? — она вглядывалась в Арыппа.
— Эх ты, Чка! Не узнаешь односельчан! А ведь я Арыпп,
сын Дзыбырта. А это Бутыр! Посмотри на него — его отца
звали Хамбо!
— Стара стала, — пробурчала теща монтера. — Как
узнать в мои восемьдесят лет! Да и времена нынче такие — сын
не похож на отца... Достойные были ваши родители...
У Чка было сморщенное, как высохший сычуг, лицо.
Морщины на нем были такие мелкие и так странно
располагались на ее дряблых щеках, что это освежало в памяти
школьный физический опыт с железными опилками в магнитном
126
поле. Но, несмотря на это, лицо у Чка было живое и даже
сердитое. Тускло, как сосульки в пасмурный день, блестели
провалившиеся глаза. А рот, похожий на приземистую
букву «П», выражал крайнее старушечье недовольство. И
вообще выражение лица ее было такое, будто она собиралась
гневно обернуться и сказать: «Думаете, не знаю, как вы
безнравственны! Будьте покойны! Вот только говорить не
хочется об этом...»
— А что это за бумаги? — опять гаркнул Арыпп. —
Письма, что ли? Или квитанции? Отчего их так много? Целая
сумка! Ну, Чка!
Старуха прижала сумку к животу.
— Какие письма! Какие квитанции! Это рецепты... —
буркнула она и, взяв стоявшую рядом на полу бутылку нарзана,
отхлебнула из нее и пробормотала: — Жара — испечься
можно...
Затем, вернув бутылку на место, весьма недовольно
поднесла к самому носу, походившему на огромную ягоду
поспевающей клубники, какую-то бумажку. Но, видимо, то ли
из-за слабого зрения, то ли по другой причине, толку от
этого было мало, потому что старуха тут же отодвинула
бумажку на расстояние вытянутой руки.
Однако и этот маневр не удовлетворил сердитую Чка.
— У этих врачей такой почерк! — недовольно
проговорила она сильным, почти мужским голосом и сурово
посмотрела на Арыппа и Бутыра, словно это они были виноваты в
плохом почерке врачей. — Всю жизнь пыталась прочесть хоть
одно слово в их рецептах, но... В воробьиных следах и то
больше сходства с буквами!..
Она опустила руку с рецептом на кирзовую сумку и
сердито уставилась куда-то в пространство. И это было так
выразительно, словно она сказала: «Думаете, це знаю, как вы
безнравственны! Будьте покойны! Вот только говорить не
хочется об этом...»
А вслух сказала — совершенно раздраженно:
— В ликбезе у нас другие буквы были, а эти будто
вязальной спицей вязаны!..
— Правильно! — жизнерадостно, на весь коридор,
рявкнул Арыпп, так что кое-кто из пациентов невропатолога
поморщился. — Они, в ликбезе, были советские буквы, а врачи
пишут по-латыни!
Старуха подозрительно посмотрела на Арыппа.
— Почему по-латыни? А ты откуда знаешь? Мало им,
что ли, советских букв!
12Т
— По-латыни почему? — Арыпп задумался, так как он
этого не знал, и вынужден был посмотреть на Бутыра.
— Ты зке в больнице лежал, — сказал он. — В самом
деле — почему по-латыни?
— Так решило начальство! — авторитетно пояснил Бу-
тыр. '
— Но почему?
— Чтобы люди быстрее вылечивались.
— Разве латынь помогает лечить?
— Разумеется! — Бутыр выпрямился и с видом
превосходства посмотрел на Арыппа.— Латинские буквы, можно,
сказать, лечебные. Вот, к примеру, выпишут человеку рыбий
жир осетинскими словами или русскими? Что получается? А
получается, что любой дурак сразу поймет, что это за гадость.
И какой олух после этого пойдет в аптеку брать такую
отраву? Или вот — выпишут лекарство для уколов! А, между
прочим, попадаются лекарства с убийственной болью —
лошади от них стонут. Кто тут не испугается и не совершит
крутого поворота! А напишут латинскими словами и —
ничего... Не страшно, потому что никто не знает, что там
замыслили врачи. И человек сам даже идет в аптеку, добровольно,
надеясь, что ему дадут сладкие пилюли. А там аптекари
суют ему и рыбий жир и что хочешь. После этого — куда
деваться? — поневоле лечишься. Вот и получается, что латынь
помогает быстрому излечению. Правильно делают, что
рецепты пишут по-латыни!..
— Но почему таким плохим почерком? — возмущалась
Чка.
— Тоже поэтому. Чтобы не прочитал даже знающий
латынь. А то, сама знаешь, грамотных развелось!..
— А если мне хочется знать, что они там написали?
— В аптеке узнаешь. Только уже поздно будет, —
успокоил ее завгар и, закинув ногу на другую, стал смотреть на
муки старой односельчанки, обуреваемой страстным
желанием проникнуть в латинскую тайну рецепта, написанного
самым скверным почерком. .
— Дай-ка сюда! — вдруг сказал Арыпп и, выхватив
рецепт из сухой, как куриная лапка, руки Чка, склонил над
ним голову.
С минуту он шевелил усами, потом почесал в затылке и
захлопал глазами.
— Мтцы... — счетовод издал звук, будто досасывал
леденец, и, покачав головой, сказал: — Действительно... Я вот
видел черновики великого писателя Толстого в школьном
128
учебнике — каждая буква — головоломный секрет. Но у
этого врача почерк будет даже похуже, чем у Толстого! Словно
его никогда не учили чистописанию! Даже твою фамилию,
Чка, — Арыпп посмотрел на старуху, — даже твою фамилию,
ей-богу, он написал...
— Что мою фамилию? — теща монтера
насторожилась.
— Должно быть ведь написано — Муртузова?.. А они,
понимаешь ли, написали — Мыр... — Арыпп силился
прочесть. — Ей-богу, они написали Мыр... Извини, но они
написали — Мырчезова!1
— Дай сюда! — Чка резко привстала и вырвала рецепт и
громко, митинговым голосом, сказала: — Мырчезов тот, кто
писал! А я Муртузова! Все село знает и в сельсовете так
записано!.. Мырчезова!.. Смотри, какие они! Они сами Мырче-
зовы! И латиняне!..
Больные зашевелились и почти интимно начали
поглядывать друг на друга, так что постное выражение, недавно
проступившее на их лицах усилиями Арыппа, стало едким от
ехидных усмешек. На глазах рушилась замкнутость, степень
которой у каждого точно соответствовала занимаемому в
очереди месту.
— Пишут и сами не знают, что пишут! — бушевала
распаленная Чка, хотя митинговые нотки в голосе стали
исчезать, чему немало способствовало желание Чка проникнуть в
секрет врача, зашифрованный в рецепте. — Был бы жив наш
мужчина, — продолжала ворчать теща монтера, поднося
бумажку к носу, — был бы жив наш мужчина, они бы не
посмели написать Мырчезова! Они бы написали — Муртузова!
Самыми красивыми буквами бы написали!..
— А Что за лекарство, Чка? На какое лекарство рецепт?—»
полюбопытствовал Арыпп.
Старуха запнулась и недоверчиво посмотрела на
счетовода.
— Мне надо два рецепта найти... — буркнула она и, взяв
бутылку нарзана с двумя дерущимися турами на этикетке,
отпила глоток. Это, видимо, остудило ее, потому что она
проговорила спокойнее: — Эти рецепты были отдельно, да
внучка все смешала...
— А на какие лекарства, Чка?
— На алупент и цимицифугу... Но теперь разве найдешь!..
— Отчего не найти? — бодро сказал Арыпп и повернув-
1 В основе — насмешливое слово, особенно оскорбительное для женщины*
9 Георгий Тедеев
129
шись к Бутыру, тут же распорядился: — Ну-ка, пересядем к
старой! Поможем, Бутыр!
— Но я не знаю латыни! — запротестовал тот.
— А зачем тебе знать? — Арыпп уже пересел и с
недоумением смотрел на завгара. — Я тоже не знаю, но умный:
человек разберется в рецепте, если захочет. Ты вот возьми
одну половину этой... — Арыпп заглянул в кирзовую сумку,
потом удивленно посмотрел на Чка, — ...ну, старая, нагребла
ты, однако, на твоих рецептах котел пива можно сварить!...—
И снова повернулся к Бутыру: — А я возьму вторую
половину. Мы живо найдем, которые... Как ты сказала, Чка?
— Я сказала — алупент и цимицифуга...
— Вот именно! Найдем которые с алупентом и цимици-
фугой!
— Но как? — завгар ничего не понимал. — Я же не
знаю латинских букв!
— Пересядь! Давай пересядь! — вдохновенно и
нетерпеливо распоряжался Арыпп. — Вот так...
Старуха оказалась между ними и, положив руки на
кирзовую сумку, с интересом поглядывала то на Арыппа, то на
Бутыра.
— Не знаешь латинских букв — и не надо! — начал
Арыпп. — Я вот немецкий учил в пятом классе.
Учительница, если ты помнишь, у нас была Сильфида Петкаевна...
— Сильфида Петкаевна? — Бутыр оторвался от груды
рецептов и посмотрел .на Арыппа. — Я не помню никакой
Сильфиды Петкаевны!..
— Откуда тебе помнить! Ты тогда в четвертый класс
ходил. А я ее хорошо помню. Сильфида Петкаевна была...
— А все-таки, как мы отыщем эти рецепты? —
недоумевал Бутыр. — Вон их сколько. До вечера не переберешь! А я
совершенно не знаю латыни...
— Я же сказал — и не надо знать! Обойдемся! Вот
послушай... В немецком языке те же латинские буквы, — Арыпп
начал открывать свой замысел..— А все немецкие буквы
похожи на наши, только читаются не так. Так ты будешь
читать латинские слова советскими буквами. Вот, к примеру,
этот... Как ты назвала первое лекарство, Чка?
— Алупент.
— Вот, к примеру, этот самый алупент, если его прочесть
советскими буквами, будет — али... алирепт. Ну, «лы»'
немного должно отличаться, но у этих врачей с таким
почерком — едва ли... Так что...
— А другое лекарство?
130
— Другое?.. Как ты сказала, Чка?
— Я сказала — алупент и цимицифуга!
— Да, вот именно — цимицифуга! А что нам
цимицифуга! То же самое. Цимицифуга, если ее прочесть по-советски,
будет... — Арыпп возвел глаза к потолку, — ...будет ...сити...
си... фига... Да — ситисифига!.. Или нет... — Арыпп опустил
голову, заморгал и почесал в затылке. — Э, черт, это
потруднее, потому что... Будет... сити... Будет — ситисифида! Да —»
точно! Или как ситисифида!
— А все-таки... — начал было Бутыр, но Арыпп не дал
■ему договорить.
— В общем так! — строго сказал он, глядя на Бутыра, —■
увидишь что-нибудь подобное, переправляй мне. Уж я
разберусь, — и повернулся к Чка.
— Ну-ка, старая, хорошо ли выпотрошила свою сумку?
Ничего не оставляй! — потребовал он.
— Ищи теперь! — велел он Бутыру. — Значит так — али-
репт и ситисифига, то есть, я хотел сказать, не ситисифига, а^
ситисифида — советскими буквами. Различия будут
ничтожны!..
Старуха крутила маленькой головой, поглядывая то на
счетовода, то на завгара, и рот ее все больше походил на букву
«П» с четкими очертаниями. '
Нервные больные болезненно кривили губы, что можно
было истолковать, как улыбку, снисходительную или
презрительную, — в зависимости от желания.
А солнце уже заглянуло в окна коридора, будто тоже
хотело разобраться в рецептах старой Чка, но так как Арыпп
и Бутыр заслоняли собой врачебные ребусы, то
любопытному светилу оставалось только упереть свои мартеново жаркие
лучи в спины колхозных специалистов и старой тещи
монтера. Коридор поликлиники накалялся и гудел, как
потревоженный улей. По-хозяйски сновали бывалые больные. На
острых каблучках пробегали со стрекотом пишущей
машинки тоненькие медицинские сестры с какими-то бумагами.
Взволнованно и нерешительно проходили пациенты, впервые
попавшие в поликлинику, и с музейным почтением
останавливались перед каждой дверью, взирая на таблички с
распорядком работы врачей.
Было шумно. И от жары, казалось, — тесно...
Бутыр таращил глаза, изучая рецепт, хмурил брови и
шевелил губами. Потом, пощипав ус, нерешительно клал
бумажку в кирзовое чрево сумки. Арыпп читал уверенно и время
131
от времени произносил загадочные слова: «Раравечини, оху-
коп, зизтас».
Вид у него был сосредоточенный, как у минера.
— Нет, не то... — бормотал он и небрежно отбрасывал
рецепт, который теща монтера подхватывала и бережно
опускала в сумку, к другим. — Так скоро не найдешь, —
жаловался счетовод. — И рецептов воз и пишут — черт не
прочтет...
Чка за неимением другого дела поругивала врача,
исказившего ее фамилию. И освежалась нарзаном. Между тем
время шло — уже солнечные пятна отползли от
противоположной стены и теперь, словно огненные петухи на насесте,
замерли на папахе Арыппа, на потной шее Бутыра и на
задрапированной зонтичной тканью арматуре тощих плеч Чка.
— Уфф, как душно! — через час пробормотал Бутыр.
— Все-таки, — Арыпп тоже пошевелился, — все-таки,
если бы я учил немецкий язык вплоть до седьмого класса...
— А почему не учил? — спросил Бутыр, и будь Арыпп
более внимателен, заметил бы, что тон у завгара был какой-
то странный, будто он этими словами хотел проверить —
жив ли он еще.
— Сик-вал-оп... — пробормотал Арыпп. — Ну и слово!
Вдвоем надо, выговаривать! А надо — ситисифида. Почему
не учил, говоришь?.. — Арыпп взял новый рецепт.
— А потому, что Сильфида Петкаевна вышла замуж за
какого-то офицера и бросила нас. Прехорошенькая была эта
Сильфида. Даже мы, дети, понимали это. И кто только к ней
не подъезжал! И все без успеха. А офицер опытный был. Он
грозился застрелиться, чем и напугал до смерти Сильфиду
Петкаевну. И сдалась Сильфида Петкаевна. А это значит,
что она уехала с тем отчаянным офицером. Какая может
быть после этого учеба? Но мы уже знали немецкий алфавит
не хуже самой Сильфиды Петкаевны.
т- И моя дочь могла выйти за офицера! — обиженно
проговорила Чка. — Как эта Сильфида. Если бы не Писи...
После этого она долго ругала колхозного монтера,
который был настолько нехорош, что даже никогда не Мечтал
стать офицером. Чка ругала и себя — за то, что на нее ва
время сватовства монтера нашло затмение, из-за чего она
плохо распорядилась судьбой дочери, на которой должен был
жениться офицер. (
— Писи — лучший монтер района! — почему-то
раздраженно сказал Бутыр и помассировал затылок.
— Моей дочери не монтер нужен, а муж! — Чка отодви-
132
нулась и посмотрела на Бутыра, явно намереваясь развить
эту тему, но в это время Арыпп повернулся к ней и отвлек
старуху:
— А отчего они, эти лекарства, Чка?
— Разве Писи мужчина! — теща монтера все еще
цеплялась за эту болезненную для нее тему. — Откуда он свалился
на нашу голову!..
— А лекарства отчего? — не отставал Арыпп.
— Лекарства? — старуху словно разбудили. — Алупент
от сердца.
— А цимицифуга?
— А цимицифуга тоже от сердца.
— И давно болит оно у тебя? — спросил счетовод,
углубляясь в рецепт.
— Кто сказал, что у меня сердце болит? —
насторожилась Чка.
Арыпп оторвался от решения очередной латинской
загадки и удивленно посмотрел на тещу монтера.
— Сама же говоришь, что алупент от сердца! И
цимицифуга — тоже!..
— Ну и что? Я ими вместе со скипидаром селезенку
лечу.
Теперь и Бутыр посмотрел на нее.
— Врачи неправильно лечат — сама убедилась! —
сердито пояснила она. — Врачи же только пишут! Да еще,
оказывается, по-латыни!.. Где уж тут лечить! с
Нервные больные единомышленно закивали головами.
— А что тут писать! — вдохновилась уловившая эту
поддержку Чка. — Сперва выстукай человека, расспроси, потом
приложи ухо к больному месту, как раньше делали. А они —
сразу писать!..
Старуха говорила теперь быстро, так что рот ее уже
напоминал две буквы «П» одновременно, из которых нижняя
стремительно колотила верхнюю, как пуансон матрицу, и
чеканила слова:
— Ты вылечи, а потом запиши — вылечил! Или — не
вылечил. И все! А они только пишут. Без этого, говорят, никак
нельзя. И потому куда ни пойдешь — везде писатели сидят.
У нас в здравпункте пишут, в сельсовете пишут, на почте —
опять же пишут. Понесла к сапожнику сапоги. А он вместо
того, чтобы латку поставить, писать стал! Разве так
лечат?..
— Сит-ча-топ-ут... — пробормотал Бутыр, затем
расстегнул верхние пуговицы на вороте рубахи и, посмотрев на Чка,
138
наставительно сказал: —Сапожники не лечат. И вообще...
Разговаривай потише, а то у меня ухо...
— Я о врачах говорю!
— Смотри, старая, — предупредил Арыпп, — услышат
твою критику — совсем перестанут лечить тебя!
— А я сама себя вылечу. Я только за рецептами
прихожу сюда. Уже пятнадцать лет так.
— Неужели? — Арыпп вытаращил глаза. — А как это?
— Меня довели!
— Громко говоришь, Чка! — раздраженно бросил Бутыр
и посверлил мизинцем ухо, обращенное к теще монтера.
— Потому что рука заболела тогда! — крикнула Чка, не
слыша Бутыра. — В локте! У меня от этого даже походка
изменилась. Ходила, будто в руке камень держу. И пошла к
врачу — как же иначе! А там сидит не врач, а Нарт Сослан.
По телевизору показывали — такие штангистами работают.
Он, как увидел меня, так сразу же писать начал. Да так
резво, словно боялся, что его застанут за этим делом. Мне
даже интересно стало, так что я засмотрелась на него. И вдруг
этот штангист мне под нос — рецепт! А не спросил ничего!
И уже следующего позвал!..
— В тот день, — вдруг взвизгнула Чка, — в тот день мне
в плечо три укола сделали! Вы только подумайте — сразу
три! И потом каждый день так. От этого плечо отошло
назад и рука повисла за спиной. И уже даже мои собаки
начали на меня рычать — все им казалось, что у меня против
них камень!..
— Громко говоришь, Чка! — огрызнулся на нее красный
Бутыр и нервно взъерошил волосы.
— Я ночи не спала от боли и думала — как лечить? —
Чка увлеклась и по-прежнему не слышала Бутыра. — Это
было в марте, во время кошачьих свадеб. Кошки визжат и
плачут под окном. Вот так — ау-уай!.. А-а-а! — Чка
заверещала страстно, не хуже влюбленной кошки, и на ее шее, под
дряблой кожей ясно, как бельевая веревка под мокрым
бельем, обозначились жилы.
— Или вот так — мя-а-ау! Длинно очень. Потом — ау-ауй-
уай-уай, уа-а-ай! Фффт! — теща монтера добросовестно
исполнила сольную цеснь ревнивого кота. — Разве тут уснешь!..
Бутыр неожиданно уронил рецепт и почему-то, не обратив
на это никакого внимания, попытался свести нос и
подбородок вместе, орудуя тремя пальцами. Это у него не
получалось. И тогда он, раздосадованный, гневно повернулся к
старухе и заревел:
134
— Да тише ты! Ну, ей-богу...
— А рука же болит! — продолжала Чка в полном
самозабвении. — Я уже сама визжала, как кошка. Прогоняю этих
зверей — чтобы их хозяев бог проклял! — они отбегают, но
едва отойду, возвращаются. И тут я заплакала и так, рыдая,
привязала в двух концах двора собак. И не поверите — коты
исчезли. Их как ветром сдуло вместе с кошками! Тогда я
задумалась. И будто кто-то мне подсказывает: так же надо
лечить болезнь! Все болезни! С двух сторон на них идти, чтобы
кроме как сгинуть, им деваться некуда было! Вот!
— Это как? — спросил Арыпп.
—: А просто. Болит, скажем, плечо. Прими что-нибудь от
горла и горчичники на предплечье поставь. Болезнь
исчезнет, как будто ее и не было никогда! Врачам до этого ни за
что не дойти, потому что они пишут...
— И всегда помогает?
— Всегда! Еще не было случая, чтобы...
— При любой болезни?
— При любой, только надо точно определить две ее
стороны...
— А как, в таком случае, надо лечить радикулит? — Бу-
тыр поднял голову и захлопал воспаленными глазами.
— Если на болезнь идти с двух сторон... А в каком
месте?.. '
— В пояснице... Нет — гораздо ниже...
— Если на болезнь идти с двух сторон, то надо сделать
клизму и от почек что-нибудь принять, — заявила Чка.
Бутыр вздохнул, опять покрутил головой и сказал, ни к
кому не обращаясь:
— Жарко здесь. И тесно. И коридор гремит, как пустой
самосвал на неровной дороге. Как так можно? — и он с
ненавистью посмотрел на больных.
— И чего тут только нет, Чка! — Арыпп встряхнул
отяжелевшей головой. — Во рту надо иметь не язык, а целый
оркестр, чтобы выговорить такие слова. А если выпить такое
лекарство? А, Чка? Вот, скажем, пахи... пахикарпин —
латинскими буквами? А, Чка, что будет? — любопытствовал
счетовод, беря новую бумажку.ч
— Это роды облегчает.
— Хм../— запнулся Арыпп. — А тогда на кой... —
удивился было он, но вдруг радостно гаркнул: —Вот оно, твое
лекарство!
Счетовод победно помахал рецептом, затем торжественно
поднес его к глазам и прочитал:
135
— Алирепт — советскими буквами! А латинскими — алу-
пент, чтобы им черти кормились! Буква в букву!
И, вытирая пот, радостно проговорил:
— Вот свинство-то! Рецепт был последний в куче!
— И я тоже перебрал всю кучу, — устало сказал Бутыр
и, искоса глянув на Арыппа, недоумевая, прибавил: — Алу-
пента, само собой, я не мог найти, потому что он был в
твоей куче. Но почему я не обнаружил этой сильфиды? Может —
проморгал?
— Какой Сильфиды? — Арыпп сразу скис. — Сильфида...
— у него вытянулось лицо, — Сильфида — это учительница.
А ситисифига, то есть, я хотел сказать, ситисифида — это
лекарство советскими буквами. Как можно путать учительницу
с сердечным средством! Неужели ты искал Сильфиду?
Бутыр взял двумя пальцами грудь рубахи, повентилиро-
вал туловище и неуверенно сказал:
— У меня вроде голова болит... Будто я угорел...
Чка отхлебнула нарзана, погоняла воду во рту и,
проглотив, велела:
— Ищите — как хотите! — она сердито вытряхнула на
колени Бутыра кучу просмотренных рецептов, а оставшуюся
часть сунула Арыппу вместе с сумкой. — Надо найти!
— Скоро одиннадцать, — уныло сказал Бутыр, массируя,
покрасневшие глаза, которые издавали квакание молодых
лягушек. Затем, уронив руки, повернулся к Арыппу. — Так
учительница — это кто?
— Сильфида Петкаевна! Запомни — Сильфида!..
Сильфида Петкаевна! А лекарство советскими буквами будет
ситисифига, то есть, я хотел сказать ситисифида, а не ситисифига.
Бутыр пожевал сухими губами, покорно взял рецепт и
уставился на врачебные загогулины.
А в коридоре стало совсем шумно. Какой-то свежий
старичок, только что подошедший и уже умело поймавший хвост
очереди, стал надоедливо выяснять, почему до сих пор нет
врача, приставая к больным. Бодро стрекотали каблучки
медсестер. А в дальнем конце коридора уборщица очень
уверенно ругала кого-то за разлитый анализ.
— Ну ты тоже, Чка, ей-богу, — через полчаса, уже без
прежнего уважения к односельчанке, сказал Арыпп, —
набрала воз рецептов!
— А что делать! — вскинулась старуха. — Кто будет ле-,
чить, если они все пишут? Кто — я тебя спрашиваю!
— Мне не известно.
— А мне известно — я сама! Вот у меня заболел этот рас-
136
тяпа... Писи! Зять! — презрительно уточнила она. — То есть,
он всегда был болен, но откуда мы могли знать с дочерью!
Дочь могла выйти за офицера, а судьба послала нам этого
Писи, который мало того, что не офицер, еще и болен! Так
кто его вылечит? Особенно, если он и слышать не хочет о
врачах!
— Писи разве болен? — удивился Арыпп. — Вчера
только видел его — чинил розетку в кабинете председателя. И на
собрании был!..
— Он болен, хотя и чинит розетки! — крикнула Чка. —
Полтора года женат, а детей нет. Как же он не болен?
— Громко говоришь, Чка! — крикнул Бутыр и, посверлив
в ухе, почему-то добавил: —Писи — латинский офицер...
— Писи болен! — настаивала Чка.
— Но, может быть, — осторожно протянул Арыпп, — но»
может быть, не Писи, а твоя дочь виновата?
— Моя дочь? — искоса глянула Чка на, Арыппа. — Моя
дочь? Этого не может быть, потому что мои дочери всегда
были плодовиты. Они от одного взгляда своих мужей могли
родить! Вот что! Если, конечно, супруг — мужчина, а не
монтер. Если от него пахнет мужским духом, а не дождевой
водицей! Кто же его, олуха такого, вылечит? Кто — если не я?!
— Неужели ты можешь вылечить такое? — изумился сче*
товод. — А как? Как ты это сделаешь?
— Это? — костлявое лицо Чка выразило презрение. —
Очень легко. Если на болезнь идти с двух сторон. Поставлю
ему горчичники на низ живота и еще клизму. Будет здоров—■
за неделю! И он родит у меня!
— Писи вчера розетку лечил... — неожиданно сообщил
Бутыр и, отбросив рецепт, положил руку на темя.
— Не беспокойся, — заверила его Чка. — Писи
обязательно родит!
— Черт! — пробормотал Арыпп. — Где же это лекарство?
— И никакой тут Петкаевыы нет! — ядовито проговорил
Бутыр, после чего расстегнул пуговицы на рубахе,
демонстрируя худые ключицы и волосатую грудь.
— При чем тут Петкаевна? — Арыпп внимательно
посмотрел на Бутыра.
— Ты же сам сказал, что. Сильфида советскими
буквами — Петкаевна! — злобно сверкнув глазами, сказал Бутыр,
Теперь и Арыпп расстегнул ворот рубахи.
— Так это же учительница! — крикнул он, волнуясь. —
Она — как не запомнить! — Сильфида! Уфф, до чего
жарко в этой душегубке! Африка какая-то, а не поликлиника!—
137
вздохнул он и, посмотрев на Бутыра, сказал по-учительски
терпеливо: — А нам надо — ситисифига, то есть не
ситисифига вовсе, а ситисифида, что одновременно немецкими и
латинскими буквами будет...
— Цимицифуга! — подсказала Чка.
— Вот именно — цимицифуга! — внушал Арыпп. -— А
советскими буквами — пойми ты, наконец! — будет
ситисифида! И как ты только руководишь техническими
специалистами!
— Я искал! — отсутствующим голосом упорствовал Бу-
тыр. — Нету такого лекарства...
— Как ты не поймешь, — возмущенный тупостью Бутыра,
начал сердиться Арыпп, — ситисифига, то есть я хотел
сказать ситисифида, советскими буквами никак не может быть
Петкаевна!
— А немецкими?
— Немецкими может! Потому что... Нет! Немецкими
тоже не может! Запутал ты меня, черт! Немецкими может быть
только Сильфида Петкаевна! Или тоже нет?.. Погоди-ка...
Арыпп дернул себя за ухо.
— Какими тогда буквами может быть Сильфида
Петкаевна?
Арыпп снял папаху, взъерошил волосы и остановил
безумный взгляд на Бутыре. Потом встал и-открыл окно.
— На ней офицер женился! — покраснев, крикнул он со
злостью и тут же закрыл окно. — Разве офицер может
жениться на лекарстве!
Чка вспомнила свою обиду и сказала:
— И на моей дочери мог жениться офицер! А
подвернулся монтер! О господи!
В это время врач в сопровождении медсестры,
стрекотавшей каблучками, прошел в свой кабинет. Больные
поспешили выстроиться в очередь.
— У меня в голове будто мухи, — прислушиваясь к
чему-то, пролепетал Бутыр. — Так и жужжат... И бьются о
череп изнутри.
— А мне нехорошо вдоль тела, — пожаловался в свою
очередь Арыпп. — И поперек — тоже... Так, как будто бы...
— Надо цимицифугу найти! — требовательно напоминала
Чка.
— Не кричи! — вдруг зарычал Бутыр и сверкнул
глазами. — У меня ухо!..
Арыпп посмотрел на друга и неожиданно сказал:
— Послушай — к черту рецепты и диспансеризацию! Тут
138
околеть недолго. Пойдем-ка к двоюродной сестре Арсиан.
Поедим горячих олибахов!
— Отстань со своими олибахами! — взвизгнул Бутыр. —■
Отойди, иначе я за себя не ручаюсь! Отстаньте от меня!
Он ескочил и движением хоккейного судьи вбросил
смятый ком рецептов в кирзовую сумку Чка.
— Что разорался?! — Арыпп тоже вскочил и помахал
перед носом Бутыра бумагами. — Будто я у тебя корову...
И осекся, словно сказал непристойность.
Они стояли друг против друга, как туры на нарзанной
этикетке. И неизвестно, что произошло бы, если бы не Чка.
— Это у них нервы! — молодо крикнула она. — У них
нервы болят! А говорили — здоровы, что у них только
диспансеризация! Знаем мы такую диспансеризацию! Очередь
хотели обойти!
Арыпп и Бутыр откачнулись друг от друга.
— Я пойду к врачу! — решительно отрезал Бутыр и
начал застегивать пуговицы на рубахе. — Где врач? Который у
них врач?
— И я пойду с тобой! — Арыпп одернул рубаху и
качнулся к двери невропатолога.
Но Чка поймала его за рукав.
— Нельзя! Вы тут не одни, — крикнула она
дребезжащим голосом, и выражение на ее лице стало такое, будто она
говорила: «Теперь вы и сами знаете, как вы безнравственны.
Не хотела вам говорить, да пришлось — ведь вынудили же!»
— Да ведь Бутыр болен! — вырывался Арыпп и взывал
к очереди.
— А вы займите очередь! — Чка выпустила Арыппа и
встала, загораживая собой дверь. — Много вас таких!
— Станьте в хвост! — ревниво поддержали ее больные.
— Совести нет!
— Пришли последними, а...
— Вы не УВОВ и не температурите! Нельзя вне очереди!
Арыпп потрогал свои виски и сказал Бутыру — мягко:
— Пойдем на воздух... '
— Як врачу желаю! — ответил тот. — У меня в голове...
— Нельзя... Ну нельзя, — совершенно мягко сказал
Арыпп. — Сам видишь —. только здоровым можно к врачу,
а у тебя — нервы... Завтра придем. Отдохнем и придем...
Пошли, пошли... Ну их...
И он заботливо начал подталкивать друга к выходу...
А Арчил действительно болел. Произошло следующее.
139
Как-то принесли телеграмму. Удивленный и испуганный
механик развернул ее и прочитал:
«тридцатого июня моя свадьба жду тчк амбако»
Амбако был двоюродный брат Арчила, живший в
Душанбе. Лет пятнадцать назад врачи обнаружили у него какую-то
странную болезнь, которую надо было лечить теплом, и
прописали Амбако ватные штаны — круглый год. Амбако
сообразил, что ему не повредит, если он будет держать в тепле не
только то, что скрывают штанами, но и остальное тело. И
переехал в Среднюю Азию да там и застрял — как давно понял
Арчил, навсегда...
И теперь колхозный механик был ошарашен — ведь
Амбако был женат, и давно. Больше двадцати лет, прикинул
Арчил. И жил душа в душу со своей половиной. Так какая
же могла быть свадьба?.. А, может, подумал механик, Уар-
зета, жена Амбако, того... Может, умерла? Нет, отменного
здоровья была женщина и, кроме того, Амбако бы
непременно сообщил об этом... Тогда в чем же дело?..
И тут Арчил рассудил так — ведь Амбако живет в
Средней Азии, а там, Арчил ведь слышал от кого-то, бывают
случаи, когда мужчины отваживаются на двоеженство. Арчил
вспомнил и то, что Амбако, несмотря на застенчивость,
всегда был женский угодник и ему сходило с рук то, за что
другой бы непременно,много раз, поплатился боками или даже
головой. Следовательно, пришел к заключению Арчил,
Амбако мог действительно жениться второй раз и даже бросить
достойную Уарзету.
Механик обеспокоился и решил уберечь Амбако от
пагубного шага. И пошел к Бутыру, непосредственному
начальнику, которому сказал, что Амбако сильно нуждается в его,
Арчила, помощи и в качестве доказательства положил на
обшарпанный стол завгара телеграмму.
Бутыр прочитал ее и тоже удивился — он хорошо знал
Амбако. И так квалифицированно развил мысль о болезни
Амбако, чтс? даже сумел посмотреть на телеграмму, как на
симптом этой болезни, чем еще больше обеспокоил Арчила.
И, несмотря на подходившую страду, предложил механику
взять недельный неоплачиваемый отпуск.
— Самолетом туда и обратно вместе с хлопотами по
спасению Амбако — семи дней вполне достаточно, — решил
Бутыр.
— Я поездом, — сказал Арчил. — Самолетом не желаю.
— Как хочешь, — Бутыр строго посмотрел, снизу вверх,
140
на своего механика. — Страда на носу! Чтобы ты через семь
дней...
— Буду! Железно! — горячо заверил Арчил. — Страда
же!..
Арчил бы, конечно, полетел, но... Боялся Арчил лететь.
И потому предпочитал поезд — там даже спи, только свою
станцию не прозевай!..
И он, изучив карту Кавказа и Средней Азии, поехал. Поезд
доставил его в Баку. Оттуда он на пароме переправился в
Красноводск, который показался ему горячей перегретого
мотора. Железные ограды пыльных сквериков, деревянные
скамейки, бетон электрических столбов — все оставляло ожоги
на руках. А на зубах хрустел пустынный песок, который
пустынный ветер закидывал в город. Арчил провел в Красно-
водске сутки и ни разу не захотел есть. Он лишь пил теплую,
с запахом ржавчины и горячего железа воду и таял, истекая
потом.
И потому с большим удовольствием сел в нужный поезд.
Но радость механика оказалась преждевременной, ибо вагон
походил на громадную раскаленную духовку на колесах-.
Арчил выпил пять стаканов какой-то жидкости, которую*
кондуктор называл водой. И пот побежал с него ручьями.
Рубашка прилипла к телу, а брюки в самых деликатных местах
стали так мокры, что Арчил начал стесняться своего
товарища по купе — цыгана в бархатной жилетке и вельветовых
штанах, которого железнодорожникам тоже удалось заманить
в свою духовку. Поэтому Арчил забрался на верхнюю полку,
где, ни разу не поев, в полуобмороке пролежал почти двое
суток.
За вагонными окнами стлались барханы, и воздух над
ними струился, как бесцветный дым. Пот ел глаза, как дусто-
вое мыло, и от этого одногорбые верблюды казались Арчилу
многогорбыми.
А внизу цыган ел воблу и, обалдевший от жары, вздыхал:
— Как много песка! — затем мечтательно прибавлял:
— Продать бы его. Весь... Шесть рублей пятьдесят пять
копеек самосвал. Сколько бы вышло! Или наделать бы песочных
часов — очень много бы получилось!..
Арчил был равнодушен. Его не удивляла даже копеечная
точность цыгана. И пограничная полоса вдоль железной
дороги нисколько не возбуждала его любопытства. Он без
всякого интереса смотрел, как за рубежом, по выжженной
земле, проходили иностранцы в чалмах и гнали впереди себя
иностранных верблюдов...
141
Однажды, уже подъезжая к Душанбе, Арчил, уже
притерпевшийся к азиатскому зною и даже переставший потеть»
глянул вниз и увидел там вместо цыгана Амбако. И удивился
не тому, что Амбако сидел в его купе, а тому, что он, Арчил»
этому нисколько не удивился — чувства его были не живей,,
чем у воблы цыгана.
— Амбако! — позвал Арчил.
— Арчил! — застенчиво крикнул Амбако и зардел, как
насыщенный солнцем среднеазиатский помидор. — Откуда?
— С Кавказа. По твоей телеграмме.
— Ты, Арчил, хороший — уважаешь меня... —
окончательно смутился Амбако. — Спасибо, Арчил! Я на тебя
рассчитывал...
— Откуда ты здесь?
— Я в Термезе сел. А был в командировке.
— А что за свадьба у тебя? — уже строго спросил
Арчил и совсем сурово добавил: — Что ты замыслил?
— Серебряная свадьба... — Амбако стал вдвое краснее
помидора и опустил глаза. — Нашей с Уарзетой свадьбе
двадцать пять лет. Как не отметить!..
Арчил почему-то застонал, чем немало удивил
застенчивого Амбако.
— И ты... — среднеазиатский кислород застрял в горле
великана. — И ты... не мог... мхм... написать, что свадьба —
серебряная?
— Не мог... — Амбако убито вздохнул и наклонил
голову. — Видишь ли... В окошечке для телеграмм сидела такая...
Амбако посмотрел на Арчила и гримасами все еще
рдевшего лица и волнообразным движением туловища
изобразил нечто, которое, по его замыслу, должно было означать
предельную на земле красоту.
— ...и она с таким интересом смотрела на меня, что я не
захотел показаться ей пожилым и опустил в телеграмме сло-
но «серебряная». Я думал, что ты поймешь...
Амбако снова опустил глаза.
— О, чтобы ваша шерсть осыпалась! — сокрушенно
простонал Арчил и сполз вниз, вновь став совершенно мокрым —
на этот раз от застенчивости Амбако. Он глянул в окно и
сказал: — Подъезжаем! Где тут касса? Через три дня я
должен быть на работе — я обещал! Страда же! Где у них касса?
— А Уарзете... это... что сказать?
— Уарзете скажи — страда! Где у них тут касса?
— Не успеешь, — пролепетал Амбако. — Поезд — завтра»
Но у меня знакомая в аэрофлоте... ,
142
— Самолетом не хочу!
— Следующий самолет будет через три дня.
— Как же тогда я успею даже самолетом? — Арчил
начал волноваться.
— Я сказал — следующий. После сегодняшнего,
который, — Амбако посмотрел на часы, — который будет через
три с половиной часа...
— О, чтобы ваша шерсть осыпалась! — простонал
великан и согласился: —Ладно. Доставай билет. Страда же!
Амбако действительно легко купил билет, хотя очередь у
аэрофлотовской кассы походила на митинг.
— Едем в аэропорт, — объявил Амбако. — До вылета два
часа.
В такси Арчил сказал:
— Если бы не страда, ни за что бы самолетом не полетел,
В ответ Амбако стыдливо признался:
— Самолеты сейчас редко падают, — и подтвердил свою
мысль подробностями пяти или шести крупнейших
авиакатастроф, случившихся в разных странах.
— Высота — почти одиннадцать километров! Как
спасешься?
Подумал и равнодушно добавил:
— Вообще-то в воздухе можно управлять своим
падением.
— Как?
— Руками — как крыльями, ногами — как хвостом.
Можно добиться, чтобы упасть на ноги. А то мужчины падают
вниз головой — это же неудобно! Женщины — вот те падают
правильно: вниз ногами...
— Почему?
— Природа! — ответил Амбако. — Мужчины выше пояса
тяжелее, чем ниже. Женщины ниже, чем выше. Поэтому,
когда самолет развалится, мужчинам надо управлять собой,
чтобы упасть на ноги.
— А дальше что?
— Дальше?.. — Такси остановилось. — Надо билет
зарегистрировать. Вылезай, Арчил!
Через час Арчил, окончательно устрашенный рассказами
Амбако, впервые в своей жизни вступил в салон самолета.
Он сидел тихо, как мышь, но когда взлетели, все же не
удержался и глянул в иллюминатор, и сердце его похолодело —•
представил, как долго падать. Вскоре он стал замерзать в
прохладных струях вентиляторов. И от этого и еще от
страха перед высотой у него появилось острое желание сбегать
143
кое-куда. Сначала он решил перетерпеть, но когда узнал, что
впереди три с половиной часа полета, то нужда стала
совершенно нестерпимой. Он спросил соседа — что делать? Тот
удивленно посмотрел на него и показал взглядом в хвост
самолета — там, мол, кабины...
Арчил встал и морской походкой пробрался между
креслами назад. Там, в узком коридоре, стал искать на
пластиковых стенах букву «М» или хотя бы «Ж». Но не нашел. Он
посмотрел на стюардессу, показывавшую скучающим
пассажирам тонкую, как горловина песочных часов, талию. И
решил дождаться — ее или кого-нибудь из бывалых
пассажиров, при этом почему-то так ясно представил
одиннадцатикилометровую пустоту под ногами, что даже дух захватило.
Он посмотрел назад — борт. И прислонился к нему. И
только перенес тяжесть тела на> одну ногу, давая отдых
другой, как за спиной затрещало и загрохало. И Арчил, едва
успев издать вопль, услышанный даже в пилотской кабине,
почувствовал, как проваливается в бездну, в пролом борта...
Последняя мысль была молниеносной — упасть на ноги.
И потому попытался рулить — руками, как крыльями,
ногами, как хвостом. И добросовестно дергал конечностями до
тех пор, пока не услышал взволнованного, полного участия
женского голоса. Открыл Арчил глаза и увидел стюардессу.
— Не ушиблись? — тревожно спрашивала она. — Зачем
было прислоняться к двери туалета! Что-то она откатываться
стала...
Арчил лишился дара речи. Он только мычал, бубнил
что-то непонятное и махал руками. И тогда стюардесса дад^
ему таблетку валидола и отвела его, слабого и
всхлипывающего, на, место. И даже погладила его по небритой щеке.
— Нервное потрясение... — сказала стюардесса и
посоветовала Арчилу непременно сходить к невропатологу, как
только приедет домой.
Арчил взглядом показал, что так и сделает...
Во дворе поликлиники Бутыр еще долго бормотал
названия лекарств и упорно мешал с ними имя учительницы.
Арыпп, сам взволнованный, успокаивал завгара, как мог.
Ночью Арыппу снились динозавры и Чка. Бутыру ничего
не снилось — он не сомкнул глаз.
А диспансеризацию они прошли последними, после того,,
как это сделали все колхозные специалисты...
ТОРЖЕСТВО ЖАНРА
Ч этот горный поселок меня привел интерес к
странным творениям нашего фольклора. Странность
их состояла в том, что они мало были похожи на
сказки, поскольку обходились без обязательного
для этого жанра волшебного элемента. Ничего
общего они не имели и с вариантами нашего эпоса,
ибо эпические герои в них даже не упоминались.
Это были произведения какого-то не известного'
исследователям жанра, сильно напоминающего
безыскусный народный рассказ. Сюжетная
обстановка изобиловала такими бытовыми деталями,
что у меня было большое искушение связать
время зарождения жанра со строительством в этой
части гор Военно-Осетинской дороги. Новые
реальности, думал я, вместе с дорогой прорезали древний
застойный быт, и народ, все более трезвевший,
обставлял ими произведения своего устного
творчества. И это было, наверно, своеобразным средством
приспособления к быстро менявшейся жизни,
требовавшей гибкости от жителей близлежащих
ущелий. И, видимо, поэтому герой странного
фольклора чаще всего оказывался плутоватым малым, а
его жульничество представлялось если не
благородным, то, во всяком случае, и не предосудительным.
Но это были предположения, которые следовало
проверить на месте. Поэтому я намеревался
совершать из поселка ежедневные вылазки в соседние
ущелья, надеясь записать хотя бы несколько
примеров необычного фольклора, чтобы потом в
городе составить о них суждение и даже, в случае
удачи, поделиться добычей с читателями
республиканского художественного журнала.
В поселке не было гостиницы. И председатель
поссовета, которому я этот факт истолковал, как
его упущение, счел своей обязанностью поселить
10 Георгий Тедеев
145
меня в одной из двух половин своего учреждения. Вообще-то
эту комнату занимал сторож, охранявший одновременно и
хозмаг и поссовет и на мое счастье недели на две или три
поехавший на воды — в горы.
Сам председатель сидел в другой комнате, которая для
меля оказалась проходной. Письменный стол главы местной
исполнительной власти упирался узкой стороной в подоконник.
.И единственными признаками официальности
председательской половины поссовета были розовый телефонный аппарат
и чернильный прибор с двумя толстыми, как скалки,
деревянными ручками да настенные часы с каким-то
простуженным боем.
В стене, разделявшей меня и председателя, не было
двери, зато в ней имелся проем шириной около метра и
высотой от пола до шалевочного потолка, так что, лежа на своей
раскладушке, я видел не только хозяина учреждения, но и
его посетителей.
Весь штат поссовета состоял из двух человек — самого
председателя, во-первых, которого звали Лех, и его тощего
рассыльного со странным именем Лулу, обладавшего такими
легкими ногами, что мне все время казалось, будто они
живут сами по себе и иногда даже управляют своим хозяином.
Лулу, даже сидящий, никогда не мог совладать со своими
своенравными нижними конечностями. Ноги шаркали по
полу, переставлялись, одна из них вспрыгивала на другую,
чтобы через несколько всего лишь секунд соскочить обратно и
оказаться опорой для освободившейся ноги, которая
немедленно взлетала на нее — и так до бесконечности...
Между мной и рассыльным сразу же наладились
отношения, ни его, ни меня не стеснявшие. Свободное время — а это
у него была большая часть дня — Лулу проводил в моей
половине и, не обращая внимания на то, что я писал, сообщал
мне поселковые новости, предоставляя своим слишком
самостоятельным ногам полную свободу. А когда я уходил в
ущелья, он к моему возвращению заваривал чай, в посуде
сторожа. И потом, когда я управлялся со своими записями и
откладывал их в сторону, мы с ним неторопливо запивали
наш неприхотливый ужин из хлеба и горского сыра — Лулу
' был одинок, и моя компания устраивала его как нельзя лучше.
Лех, председатель, был, напротив, круглый и
полнокровный человечек за пятьдесят лет. Он имел розовое сияющее ли-.
цо и обширную розово-красную лысину, блестевшую, словно
покрытая лаком. На полных губах хозяина поссовета
постоянно дежурило выражение, напоминавшее мне циническую
146
улыбку, которой обзаводятся люди, хотя бы пару раз удачно
обошедшие закон. Но зато в жирных, с желтыми белками
глазках председателя жила едва уловимая настороженность.
И это она, подобно ящерице в камнях, вздрагивала время от
времени между его поросячьими веками с белесыми, как у
трахомных больных, ресницами. И в такие мгновения я был
готов биться об заклад, что совесть у главы местной
администрации не совсем чиста, что, несмотря на действительную
его самоуверенность, у него бывают в жизни тревожные
минуты.
Разговаривал Лех с посетителями грубоватым и даже
выговаривающим тоном — строго и шутливо одновременно, как
отец с шальными, но все же любимыми детьми. Это, видимо,
было привычно и даже нравилось, хотя все время получалось
как-то так, что дело, которое приводило к нему граждан,
оказывалось неразрешимым. Однако это не обескураживало
никого и просители охотно включались в не относящийся к
делу разговор, на который искусно сворачивал Лех и который
всегда касался занятий просящих граждан.
С шофером Лех говорил о машинах и мог при этом
научить бывалого водителя какой-нибудь премудрости в
обращении с автомобилем. Умел Лех порассуждать о
скотоводстве, о ремонте квартир, о наилучшем способе приготовления
осетинского сыра и многих других предметах. И собеседники,
тоже немало соображавшие по своей специальности,
нисколько не тяготились таким разговором, повторявшимся и при
втором и третьем их визите в поссовет.
Я подозревал, что именно такой отвлеченный от дела
разговор и приводил к полному взаимопониманию между Лехом
и его просителями. Иначе каким образом дело, вначале
невозможное, после второй или третьей беседы разрешалось
неожиданно к вящему удовольствию обеих сторон? Лех обычно
при этом брал трубку — признак, означавший, что дело
слажено — и звонил кому-то и коротко спрашивал: «Ну, как
там?» и уже после этого, отняв розовую трубку от розовой
щеки, клал ее на аппарат и со вздохом тянулся к толстой
ручке, чтобы составить нужную бумагу.
— Жене звякнул, — в таких случаях комментировал Лу-
лу в моей половине, — проверить — доставлена ли мзда, —
добавлял рассыльный и начинал двигать беспокойными
ногами, будто выполнял небывалый сидячий танец.
Однако для меня самое интересное состояло в том, что в
вымогательстве председателя чувствовалось что-то от жанра
народного рассказа. Что-то — но не все. Будто председатель
147
бесконтрольно предоставленной ему властью так
распорядился композицией, что жанр показывался лишь одной
половиной, и то не самой существенной. Был мздоимец, как в
народном рассказе, был плут, были жертвы, но среди них не
находилось противодействующего персонажа. И чем явственнее
обозначалась эта неполнота, тем сильнее мне хотелось
увидеть в этих неожиданных иллюстрациях к жанру его
недостающую часть, ибо я, привыкший к композиционной
стройности в слышанных мною в ущельях рассказах, хотел
видеть такую же стройность и в том, что творилось в поссовете
по воле Леха...
...Как-то утром, когда я просматривал свои записи, к Ле-
ху вошел новый посетитель. Из тех, которые редко
выезжают из своих ущелий — это видно было сразу. Худой, почти
тощий, он был всклокочен и бородат, так что уверенно
можно было предположить, что расческа, бритва и мыло были не
самые употребительные предметы в его быту. Руки и неза-
росшая часть лица у него давно, видать, обрели тропическую
.смуглость. А рубаха навыпуск и галифе стойкого навозного
цвета составляли весь наряд ущельного отшельника.
Он остановился перед столом, расстегнул ворот рубахи и
начал массировать горло, словно раздумывая — говорить или
не говорить. И, видимо, решив вопрос положительно, спро-
.сил, наконец:
— Председатель?
— Волею избирателей, — мгновенно ответил Лех с
циничной усмешкой на розовом лице.
Пришелец из ущелья ничего, кажется, не понял. Он лишь
в ответ снял войлочную шляпку-осетинку и смял ее в руке,
как тонкую лепешку. Вид у него был'чрезвычайно задумчивый.
— Будущий богач, — прошептал Лулу, усмиряя свои
склонные к автономии ноги. — Однажды он продаст стадо,
побреется, разоденется и тогда его даже участковый не
узнает. Это же скотовод!
— Я слушаю, — поторопил горца Лех.
— Мое имя Байботт, — подумав немного, сообщил тот.
— Так... — выжидательно протянул председатель,
поверив, видимо, этой информации.
Байботт замолчал на целую минуту. Он, кажется, составлял
фразу, которую, наконец, и объявил терпеливо ждавшему в
розовом сиянии хозяину поссовета:
— Весной талой воды было много.
— Читали в газетах, — заверил его Лех и тут же
спросил: — И ты пострадал от этого?
148
— Да, — по-спартански экономно ответил Байботт.
— Расскажи, — велел председатель.
Если вместе сложить все, что выдавил из себя горец, то
суть сводилась к следующему. Бурные потоки талой воды
словно ножом отрезали площадку, на которой стоял дом Бай-
ботта, от склона Каменистого ущелья. Так что если вдруг
случится сильная гроза или повторится еще одна такая весна,
то отсеченная площадка вместе с домом рухнет в пропасть.
На этом основании он, Байботт, просит председателя
выправить бумагу, разрешающую ему построиться в Светлом ущелье.
Это близко от его хлевов, которые не пострадали от потоков...
Байботт смолк и таращил глаза.
Лех размышлял не больше секунды.
— Да будет тебе известно, дорогой Байботт, что Светлое
ущелье, на которое ты заришься, отводится под дачи для
ученых из города, — громко и уверенно начал он. — Верно
говорю, не будь я Лех! И тебе ли, Байботт, — тут Лех
оглядел Байботта с головы до ног, — тебе ли тягаться с
докторами и кандидатами наук! Они же в два счета оттяпают твой
участок, а тебя самого просто вышибут из ущелья^ Чтобы
даже духом твоим там не пахло! — заверил председатель и
потянул носом воздух на манер охотничьей собаки.
Тут Байботт задумался и думал так долго, что мне
показалось, что он ничего не понял. И я вопросительно посмотрел
на Лулу.
— Все в порядке, — сказал рассыльный, вскидывая одну
ногу на другую. — Эти скотоводы годами не выезжают из
ущелий. Хорошо, что он вообще не забыл человеческой речи.
Ему нужно время, — заверил меня Лулу, сбрасывая верхнюю
ногу, которую тотчас же оседлала другая.
— Но мне надо в Светлом, — ответил, наконец, Байботт.
— Это мы уже слыхали. Да ты сядь, — предложил Лех.—
Сядь, сядь! — поощрил он горца, когда тот нерешительно
посмотрел на стул.
Байботт почему-то подобрал полы рубахи и, сломавшись в
двух местах, опустился на стул и застыл.
— Что ты делаешь в Каменистом ущелье? — спросил Лех.
— Я живу, — поразмыслив, сообразил Байботт.
— Это понятно. А делаешь-то что? Ну, крупный рогатый
скот у тебя, мелкий...
— Мелкий, — Байботт умело воспользовался подсказкой.
— Овчар, значит, — отметил председатель.
Байботт утвердительно потряс всклокоченной головой.
— И много у тебя овец?
140
— Мало, — вздохнул овчар. — Шестьсот.
— Не так уж и мало, — не согласился Лех. — У одного
индивидуального владельца было десять тысяч. Но он был
король. Отец — слыхал про такую? — Марии Стюарт.
— Мне дальше никак нельзя на склоне, — невпопад
прошептал Байботт. — Еще одна такая весна...
— Стройся в Туманном ущелье, — предложил Лех.
— В Туманном не могу. Далеко от моих хлевов, —
отказался овчар. — Я там никак...
— А ты молодец, — прервал его Лех. — Сейчас мало кто
занимается овцами. Сейчас люди увлекаются коровами...
— Еще одна такая весна...
— Овцы, если разобраться, самые лучшие животные. Это
и мясо, и шерсть, и сыр... Самый вкусный сыр. Я очень
люблю овец.
— Еще одна такая весна... — начал было Байботт,
которого, кажется, зациклило на этом времени года, но Лех опять
не дал ему договорить:
— Нет животного лучше овцы. Корма почти не требует
никакого, как ишак. А дает все, что нужно для жизни.
— Еще одна такая весна...
— У них, у овец, просто завидные качества. Их
солидарности даже люди могут позавидовать. Куда один рогатый
энтузиаст, туда и все. Недаром их ценили все народы во все
времена. Даже такие просвещенные, как древние греки. Они,
можешь себе представить, приплыли на весельном корабле из
своей Греции к нам на Кавказ за одыой-единственной
бараньей шкурой...
— Бедные, наверно, были... — предположил овчар.
— Нет, шкура была золотая. Не будь я Лех.
— У меня таких овец нет, — боясь новой греческой
экспедиции, сразу внес ясность Байботт.
— Есть даже созвездие... Несколько звезд, представь
себе, названы вместе бараньим именем. Овен называются.
Байботт подумал и сказал, с сомнением в голосе.
— Это по-русски? По-русски надо бы Баран или Овца...
Чем дольше длился разговор, тем легче Байботт находил
ответы, так что продолжительность пауз между словами
председателя и репликами овчара стремительно приближалась к
нулю. И я подумал, чтсграссыльный, пожалуй, был прав.
Овчар по ходу разговора вспоминал все больше позабытых им
за ненадобностью слов.
— Это не по-русски. Это... — замялся Лех. — В общем,
Овен это точно баран. Но не по-русски и даже не по-осетински.
150
■— А несколько звезд — это сколько? — спросил Байботт.
— Ну... — подумал Лех, — ну... Немало во всяком
случае...
— Тогда почему они — Овен? То есть — Баран? Надо
было — Гурт. Или Стадо — если очень много.
— Да дело не в этом, — вроде рассердился Лех. — Дело
в том, как чтили барана! Такой у него гордый вид, что не
чтить невозможно. Вот в чем дело! Взгляни как-нибудь
нарочно. Куда там льву, скажем! Горбатый нос! Бесстрастный,
как у монгольского хана, взгляд! Рога во лбу! Шуба!
— Говорят, глуп, как баран, — ввернул Байботт, который,
кажется, ненавидел овец.
— И напрасно, — тотчас откликнулся Лех. — Вот та же
солидарность у них — это что? Когда за одним бараном,
перемахнувшим через препятствие, то же самое и другие
делают? Это признак ума! Или возьми — во время опасности.
Баран, почуяв неладное, подходит добровольно — заметь —
добровольно! — к месту, чреватому риском. Подойдет, фыркнет
и даже притопнет ногой. А стадо скучивается позади и
смотрит на это, по сути дела, самоубийство, потому что там
может затаиться волк или медведь. Но зато остальные
спасутся. Какое благородство! Я поэтому уважаю баранов и люблю.
Не будь я Лех! У меня даже есть один. Черный^ ростом с
горскую лошадку. Шестьдесят кило! А шерсть
тридцатисантиметровая. И такая тонкая, что отдельную волосинку и не разгля*
дишь. Такая шерсть не свойлачивается, потому что
высочайший сорт!
Байботт слушал, как примерный ученик.
— Ко мне, — продолжал Лех, — из городского театра два
парикмахера приезжали. Купить хотели, чтобы из его шкуры
парики наделать. Но я не продал. И чтобы уберечь его от
парикмахеров, нарочно отвез в горы. Ты не знаешь Ханыче?
Он тоже овчар.
— Это, — насупился Байботт, — это который живет
возле Одинокого Склепа?
— Вот-вот! Мой черный стоит десяти баранов Ханыче, —
азартно сказал Лех и посмотрел на, Байботта в ожидании
возражений.
Но овчар даже не пошевелился.
— Лично я не согласен и с тем, — после символической
паузы продолжал председатель, не дождавшись возражения,—
не согласен и с тем, будто бы баранина пахнет. Ты как
думаешь?
Байботт, видимо, никак не думал и потому, пожав плеча-
151
ми, скривил лицо, показывая, что лично для него запахи не
существуют.
— Во-первых, если и есть какой-то дух, то это совсем даже
не дурной запах. Это — аромат! — сказал Лех, сочтя
конвульсии овчара за выражение солидарности относительно
запаха. — Во-вторых, если кто-нибудь и унюхает в этом аромате
неприятный дух, то его же убрать — пара пустяков! Пересыпь
мясо растертыми семенами дикого укропа и положи сверху
цветы пижмы. Через два часа даже милицейская собака не
обнаружит прежнего запаха. А еш;е лучше — в продольные
надрезы положить соли и подвесить мясо на чердаке, чтобы
там был не совсем сухой сквозняк. Как в Зарамаге. Знаешь,
что получится через три месяца? Или шесть?
Байботт этого не знал и задумчиво почесал в затылке.
— Пища богов! Такую пищу едят только капиталисты!
— А у нас почему не едят? — прохрипел овчар, уже,
кажется, проголодавшийся.
— У нас?.. — замялся Лех. — У нас не знают этого
способа. И капиталистов нет.
В это время за спиной Леха часы по-старчески
закряхтели и простуженно отбили десять ударов. Байботт замер,
прислушиваясь, и когда часы умолкли, встал и беспокойно
проговорил :
— Скоро автобус. Доеду хотя бы до турбазы, — и
ринулся из учреждения.
Лех остался сидеть с раскрытым настежь ртом и
уставленными в дверь глазами. Через некоторое время он придвинул
телефон и, недоумевая, стал звонить куда-то.
— Рано или поздно, — прошептал рассыльный, — рано
или поздно этот Байботт догадается, что нужно пожертвовать
одним бараном из шестисот. Как только Лех достаточно
промоет ему закопченные мозги. Не будь я Лулу, — последние
слова рассыльный прошептал едва слышно и тут же стал
бороться со своими слишком самостоятельными ногами...
Два дня после этого я был занят, потому что напал на
очень словоохотливого деда, который с полуслова понял, что
от него требуется и совершенно не ленился повторять по
нескольку раз отдельные эпизоды своих рассказов, которых он
знал великое множество. Дед легко подбирал нужные слова.
и, что меня особенно удивило, в его рассказах была та
завидная закругленность, при которой деталь или действующее ли-,
цо, будто случайно упомянутые в начале, в финале
повествования оказывались не только не случайными, а просто даже
необходимыми — качество, которое не часто встретишь и у
152
профессиональных писателей. Вообще это была хорошая
изустная беллетристика с использованием самых скупых и
выразительных средств, с сильной художественной правдой. И
главное достоинство такой беллетристики составляло одно
неизменное обстоятельство — плутовство персонажа вызывало
ответное хитроумное действие другого персонажа. И в этом
не видно было ни пристрастия рассказчика, ни
назидательности. И прелесть состояла в полной неожиданности этого
ответного действия и в столь же полной его логичности.
Естественно, что я задерживался у деда и потому мало
знал о деле Байботта. Только вечерами, когда мы с Лулу
ужинали, рассыльный, которого в мое отсутствие беспокойные
ноги носили по поселку, мимоходом, среди других поселковых
новостей, упоминал и об овчаре, который опять приходил к
председателю и который, как подозревал Лулу, по
бесконечной тупости своей даже не догадывался о том, чего ожидает от
него Лех. И я с сожалением отмечал для себя, как жители
этих мест столь мало переняли от своего фольклора и как они
неуклюжи против плутоватого Леха...
Как-то, за день до отъезда, когда я окончательно
приводил в порядок свои записи и Лулу снова сидел у меня, в
председательской половине поссовета опять появился Байботт.
— Еще одна такая весна... — начал овчар, опускаясь на
стул против председательского стола, но Лех прервал его и
сказал выговаривающим тоном: '
— Стройся в Туманном ущелье!..
— В Туманном не могу. Далеко от моих хлевов, которые
в Каменистом, — отказался, как и два дня назад, овчар. —
Я там никак...
Но Лех опять не дослушал его.
— Так вот, — сказал он значительно, продолжая,
видимо, вчерашний разговор, — напрасно ты не знаешь, какой
породы у тебя овцы. Овчар должен разводить наиболее
доходную в наших горах овцу. Ты же не торгуешь шерстью?
— Нет, — уныло ответил Байботт.
— Значит, тебе ни к чему мериносы — ни асканийские, ни
казахские. И даже архаромериносы, наиболее у нас
приспособленные. Но ты напрасно пренебрегаешь этой породой.
Хороший архаромеринос дает до тридцати килограммов
отличнейшей шерсти за год. У тебя, я полагаю, тушинские овцы,
чистота крови которых немного попорчена нашими
кавказскими грубошерстными баранами. Тушинская ведь у тебя
порода?
Байботт только таращил глаза.
153
— Тушинская тоже неплохая порода, но ее нельзя
скрещивать с кавказской грубошерстной овцой. Лучше уж
подпускать к ней дагестанскую горную породу. Гибрид
получается и крупным и с хорошей шерстью. Особенно если знать, на
каких травах выпасать полученное потомство.
Лех замолчал, потом, требовательно глядя на овчара,
спросил:
— А гиссарские овцы у тебя есть?
Байботт, кажется, чувствовал себя не очень уютно. Он
ничего не ответил, только расстегнул ворот своей грязной
рубахи и потер шею.
— Это нельзя не знать, — сказал Лех. — Курдючная же
порода!
— У меня есть бараны с курдюками, — вспомнил овчар.
— Эээ, — презрительно протянул Лех, — ты, пожалуй, и
хвост в виде метелочки назовешь курдюком. А между тем
курдюк у барана — это все равно что горб у верблюда. Хотя,
может, и не совсем так, — немного посомневался председатель,—
потому что верблюды бывают и двугорбые, а двухкурдючных
баранов не бывает. Никто таких не видел. Бывают только од-
нокурдючные.
— У меня, наверно, такие, — неуверенно сказал Байботт
и вытер подолом рубахи пот на оливково-смуглом лбу.
— С рогами?
— Да.
— Ну, это не гиссарская порода. У той или совсем не
бывает рогов, или, наоборот, бывает, но не больше, чем вот это,—
здесь ,Лех ногтем указательного пальца правой руки черкнул
по кончику большого пальца левой. — Меньше детской соски.
Не рога, а одна видимость. Но вот ты в своем неведении
полагаешь, что у твоих баранов есть курдюки. А знаешь ли ты,
какие бывают настоящие курдюки?
Байботт привычно пожал плечами.
Лех выждал некоторое время и, прищурив жирные глазки*
сообщил:
— В целый пуд! Не будь я Лех.
Овчар посмотрел на председателя, открыл рот,
обозначившийся темным провалом между бородой и усами и застыл,,
показывая всем своим видом, что этот факт не для его
умственных способностей.
— Этого не может быть! — наконец, вымолвил он и,
сдернув с головы шляпку-осетинку, стал напяливать ее на острое
колено.
— Может! — вдохновенно уверял Лех. — Курдюк в пуд!
154
Представь, каково барану! К примеру, если тебе к ремню
сзади подвесить шестнадцатикилограммовую гирю, сколько бы
ты прошел?
— Я слабый... — вежливо отверг овчар такую
возможность.
— А гиссарский баран всю жизнь носит столько, не будь
я Лех! И ничего... — заключил председатель и без всякого
перехода спросил: — А ты курдюк есть умеешь?
Овчар вздернул голову и заржал, как тоскующая лошадь.
— А ты не смейся. Лучше скажи, как?— остановил его
Лех.
Овчар, видимо, не делал секрета из своего кулинарного
рецепта и сообщил:
— В вареном виде.
— Это ясно. Но <с какой приправой?
— С чесночным рассолом. Или с тертыми корешками
черемши.
— Чесночный рассол, может быть, и годится, —
задумчиво сказал Лех. — Но разве годится черемша, даже растертая?
— Хрен годится! — вспомнил еще овчар. — Особенно
свежий!
— Вполне возможно. Но я тебе скажу — нет лучшей
приправы к курдюку, чем сахар-песок. Не будь я Лех!
В это время часы за спиной председателя простуженно
захрипели и прокашляли десять раз. Овчар вздрогнул и
вскочил.
— Скоро автобус, — испуганно сказал он. — Доеду хоть
до турбазы, — и хотел уже ринуться из поссовета, но вдруг
остановился и озабоченно проговорил: — Поселок так
разросся, а шахтеров столько — ну, как в городе.*.
Затем, напяливая шляпку-осетинку, поинтересовался:
— А твой дом где?
Председатель внимательно посмотрел на него.
— А что? — спросил Лех. — Как раз возле
деревообрабатывающего, цеха. Первый подъезд. — И, разведя руками,
добавил: — Я бы пригласил тебя, да работа, — он оглянулся,—
как ее оставишь!
Байботт кивнул головой и ринулся на улицу.
Лех задумчиво поглазел на дверь, потом усмехнулся и,
сняв трубку с розового телефона, стал набирать номер.
— Все! — прошептал рассыльный. — Сокрушили Байбот- .
та! Сломался Байботт! Лех получит овцу! Попомни мое
слово! Не будь я Лулу! — лукаво подмигнул он и стал укрощать
свои ноги.
155
А мне было обидно за простоватого Байботта,
казавшегося тестом в руках жуликоватого Леха. И я даже подумал, уж
не является ли народный рассказ с его плутовским триумфом
справедливости всего лишь фольклорной местью мздолюбцам,
в реальной жизни превосходящим своих жертв не только
возможностями, но и умом — как Лех, например, Байботта.
Изящная и композиционно стройная форма возмездия над
плутами, наличествовавшая в записанных мною рассказах,
не имела, оказывается, никакой реальной основы. Это
разочаровывало...
После полудня я еще пошел к деду, но на мои вопросы
относительно возмездия старик будто был глухой. По-моему, он
их даже не понимал...
С тем я и уезжал утром следующего дня. Я собрал
портфель и уже хотел попрощаться с Лехом, сидевшим за своим
столом, но в это время в председательскую половину
поссовета ввалился Байботт.
— Доброе утро, Лех! — почти развязно, не похоже на
себя, крикнул овчар.
— Здравствуй, здравствуй, дорогой! — внимательно вгля-
( дываясь в горца, проговорил Лех.
— Понимаешь, Лех, — сразу же, уверенно опускаясь на
стул, приступил Байботт к делу, — еще одна такая весна — и
мой дом загремит в пропасть. А в Туманном мне какой смысл
строиться! Далеко от моих хлевов! Тебе не жалко меня? Я
хочу строиться только в Светлом ущелье!
Что-то победительное звучало в его голосе, что-то к чему-
то председателя обязывающее было в каждом движении
овчара. Байботта просто было не узнать.
Лех озадачился, не спуская жирных глазок с Байботта,
потом придвинул к себе розовый телефонный аппарат и, сняв
трубку, стал набирать номер.
— Понимаю. Все понимаю и жалею тебя, Байботт. И
вникаю в твое положение... — Лицо Леха стало совсем серьезным,
он поднес трубку к уху и тихо спросил: — Как там? — и
сосредоточенно выслушав ответ, продолжал с прежней
интонацией: — Вот, суди сам, дорогой Байботт. Вчера я специально
созвонился с районом и убедил начальство, что у тебя просто
нет иного выхода, кроме как строиться в Светлом ущелье.
Не будь я Лех! Ну, куда, говорю, человеку деваться? Там у
него хлевы, хозяйство! И район согласился, представь себе! —
Лех опустил трубку на аппарат и промурлыкал: — Сейчас
вот и оформим бумагу...
И вдруг заорал:
156
— Эй, Лулу! Сходи-ка ты ко мне домой и посмотри...
— Лулу нет, — сказал я, возясь с портфелем.
— Ах, да! Я же его послал куда-то. Итак, решено —
стройся, стройся, наш дорогой Байботт, в Светлом ущелье. Одну
всего лишь минуточку подожди, Байботт, пока я не состряпаю
тебе документик. Минуточку только, Байботт, минуточку, не
будь я Лех...
Я не дождался окончания мерзкой сделки. Сухо
поблагодарив сияющего Леха за гостеприимство, я вышел.
«Паразит! — возмущался я, направляясь на автостанцию.
— Пиявка! А Байботт тоже... Баран! Дал себя обстричь,
чертов овчар! Хоть бы пожаловался куда!»
Я так увлекся в своем бесплодном возмущении, чтр
налетел на вывернувшего из-за гаражной ограды Лулу.
— Уезжаешь? — спросил он, хотя отлично знал, что я
уезжаю,
— Да пора уже...
— Жаль, — сказал Лулу и начал перебирать своими
легкими ногами, как застоявшийся конь.
— А что?
— Не увидишь, как Лех визжит. Он уже, наверно, успел
выправить бумагу Байботту?
— Конечно. А что?
— А то, что овчар облапошил Леха, — засмеялся
рассыльный и громко добавил: — Не будь я Лулу!
— Что ты говоришь!
— Закинул во двор Леха барана, которого парикмахеры
хотели купить! Лехова же барана! Похитил, черт, его у Ха-
ныче! И закинул во двор Леха! Не будь я Лулу!
— Этого не может быть, — сказал я. — Лех при мне
звонил жене и разговаривал с ней!
— Ну и что? Жена Леха никогда не видела этого барана.
Жаль, что ты не увидишь, как визжит Лех. Не хуже
поросенка! Ну, прощай! Приезжай еще как-нибудь!..
Лулу пожал мне руку и тут же отдал себя во власть своих
легких и беспокойных ног, которые через несколько секунд
унесли рассыльного так далеко, что я даже не успел ему
ответить...
Я, ошеломленный, постоял, потом усмехнулся и, радуясь
за жанр, весьма довольный, поспешил к уже подошедшему
автобусу...
А через месяц узнал, что Леха сняли. Он, оказывается,
вздумал жаловаться на Байботта...
157
БУКВЫ НА СТАРОМ ДЕРЕВЕ
/Л ело, которое привело меня в селение К., было
и несложное, и неспешное, так что, быстро
управившись с ним, я пожалел о своей поездке. Причиной
тому была чрезвычайная, обычно свойственная у
нас июлю жара, и перспектива унылого ожидания
автобуса, до прихода которого оставалось очень
много времени.
Вместо приятной утренней прохлады уже стоял
чересчур густой зной от высоко поднявшегося
солнца. Воздух был неподвижен, и, казалось, вокруг,
придавленная душным жаром, замерла всякая
жизнь. Только неугомонные воробьи пересиливали
убийственную силу раскаленного светила. Они
купались в пыли, лениво чирикая, и даже собирали пух
и всякую мелочь для своих гнезд. Да еще редкие
ласточки пролетали над самой землей с длинными
одинаково скучными монологами.
Струившийся воздух дрожал над крышами
домов, и вместе с ним дрожали и черепицы, и коньки
крыш, и телевизионные антенны...
Нет ничего безрадостнее ожидания в такую
пору. Духота начинает томить тело, а гнетущая
скука — отравлять душу.
Чтобы чем-нибудь занять себя и как-то скрасить
тяжесть ожидания, я двинулся вдоль одной из улиц
К., разглядывая дома, которые, было похоже, не
имели обитателей. Я прошел два или три квартала
и только тут - ощутил всю силу полуденного зноя.
Казалось, брось спичку — и вспыхнет все, и сам
воздух, и плетни, и деревья, и дома, и даже
сложившиеся в вялые трубочки листья кукурузы. И
потому я был немало обрадован, когда на моем
пути встало огромное дерево. По насыщенному
медовому запаху и желтоватому цвету могучей кроны
нетрудно было догадаться, что это была липа — и весьма
почтённого возраста.
Под деревом была густая спасительная тень, и, немного
отдышавшись и оглянувшись, я удивился тому, что липа
стояла в таком неудобном месте — на самой середине улицы.
Из этого можно было заключить, что она росла здесь прежде,
чем заложили село, и что пришедшие сюда люди пощадили
ее то ли из практических соображений, так как дерево могло
быть для переселенцев ориентиром на плодородной, но
однообразной равнине, то ли из обычной крестьянской
бережливости.
В этом месте улица расширялась, потеснив выгибами
старых плетней огороды. Она, утрамбованная пешеходами и
убитая телегами, стала ниже, так что дерево оказалось на
дернистом возвышении...
И немало, наверно, повидала старая липа на своем веку...
Центральная часть ствола обрывалась высоко вверху
обугленным концом. Это, видимо, была травма, причиненная
снарядом во время войны, отчего вся жизненная сила дерева стала
уходить в боковые ветви, которые начали буйно
вытягиваться вверх и в стороны. И теперь липа напоминала громадный
зеленый фужер на искривленной чудовищной ножке, которой
являлся свилеватый, немного закрученный винтообразно ствол
со слущивавшейся корой на комле.
Перепачканные желтой пыльцой пчелы гудели в
пронизанной солнцем кроне, перепархивая с цветка на цветок. Лениво
покачивались потревоженные соцветия с восковыми
цветоложами, похожими на крылья мелких бабочек. И казалось, что
неутомимые труженицы щекотали старое дерево, и от этого
оно вздрагивало медовыми венчиками, сея тончайшую
золотую пыльцу.
Дерево во всех отношениях было замечательное: и
возрастом, и внушительным, в полтора обхвата стволом, и этой
странной, пустой в середине, кроной. Но необыкновеннее
всего было оно многочисленными буквами, вырезанными на нем.
Могучий ствол с некогда податливой корой стал хранилищем
и летописью отношений между молодыми людьми нескольких
поколений. Настроение, любовь, дружба выражались
загадочными буквами и целыми словами и неизбежным при этом
математическим символом, которым обозначают или любовь
или дружбу.
Странно, однако, подумал я, почему именно знак
сложения выбирают молодые люди как символ любви? Ведь если
уж нельзя обойтись тут без математики, то более уместным
159
был бы знак умножения — разве не умножает любовь в
человеке его добродетели? Неплох был бы и знак деления —
разве не выражает любовь самоотверженного желания делить
с любимым человеком его радости, равно как и горести?
Но так уж получилось, что только знак сложения
утвердился с чьей-то легкой руки для выражения лучшего из
человеческих чувств. И ствол изобиловал буквами, им
соединенными. Были здесь совершенно свежие буквы, желтевшие еще
непотемневшим лубом, но неизмеримо больше было старых,
заросших корой букв.
Однако самыми старыми являлись те, что были вырезаны
чуть пониже первых ветвей дерева. Они росли и старели
вместе с деревом и оттого давно потеряли некогда четкие
формы, заплыли оболонью, которая успела превратиться в
настоящую, уже рваную кору. Несмотря на это, уверенно
можно было прочесть четыре буквы:
Г + И
А + И,
которые несколько десятков лет назад вместе составляли
фигуру — что-то вроде квадрата или прямоугольника.
Верхние буквы были крупнее и глубже, и, видимо, их
вырезала твердая рука, стараясь, чтобы линии вышли четкими.
Нижние, широкие, по размерам не уступали первым, но, тем
не менее, выглядели мельче и уж явно менее глубокими.
Словно тот, кто их писал, торопился или не был уверен в том, что
они должны были означать...
Недавней гнетущей скуки, усугубляемой страшной жарой,
я уже не ощущал. Меня занимала тайка четырех букв...
Нетрудно было предположить, что это обыкновенный,
излюбленный литераторами любовный треугольник, только на
этот раз не выдуманный, а сложившийся в жизни. И не надо
было обладать большой проницательностью, чтобы
догадаться, что за буквой «И» скрыто имя девушки, ибо если
надписи вырезались мужской рукой, — а разве тут могут быть
сомнения! — то какой же мужчина, приоткрывая завесу над
тайной, не подумал бы заслонить девушку собой, своим
инициалом!..
«И жив ли тот, и та жива ли?..» — с грустью подумал я в
полной безнадежности узнать что-либо, вынужденный
довольствоваться догадками и предположениями.
И вот что я еще подумал. Раз буквы старые, — а им,
судя по толщине коры, было несколько десятков лет, — то
вырезавших их людей, быть может, и в живых давно нет. Но
если кто-нибудь из них и жив, то он уже так стар, жизнь так
160
поломала его, что едва ли осталось в нем что-нибудь от
чувства, некогда воодушевлявшего его молодое сердце, что
грустно и даже тоскливо было бы видеть такого человека, как
засохший, уже ломкий и лишившийся красоты цветок,
который — чуть дотронешься до него — превращается в прах, так
что трудно поверить, что он, было время, благоухал и жадно
вбирал распахнутыми лепестками свет и жар солнца.
Рассудочность в поступках и устремлениях, замешанная
на старческом цинизме, — вот, мне подумалось, чем
заменились в нем благородные порывы молодого бескорыстного
сердца и милое юное легкомыслие. Скучно, тяжело видеть такое!..
— А дерево любопытное... Не правда ли? — с тяжелым
вздохом проговорили за моей спиной.
Я вздоргнул и, обернувшись, оторопел.
Опираясь на костыль, стоял огромный, просто
неправдоподобно огромный мужчина лет шестидесяти, очень
напоминавший сказочных циклопов. У него в довершение сходства
не было правого глаза, вместо которого между сморщенными
веками виднелось что-то оловянно тусклое. Вся правая щека
была в синих, словно татуированных точках — несомненный
след от близкого взрыва. Кроме того, у него не было правой
ноги ниже колена...
— Я сяду... — гулким грудным голосом, заставлявшим
предполагать объемистые легкие, сказал незнакомец и,
заскрипев костылем, в два прыжка, слишком быстрых для
такого грузного человека, оказался рядом. Он сел на землю и
прислонился спиной к стволу, хотя под деревом были чистые,
будто вытертые камни, которые, наверно, использовались для
сидения.
«Циклоп, настоящий циклоп!» —подумал я и, опускаясь
на камень, искоса глянул на его покатый лоб и стриженую
голову с остатками рыжеватых волос.
— Тут только и спасаться в такую жару, — вздохнул он
и смахнул со лба пот. — Тень такая густая и огромная, что
даже ветерок вроде появляется.
— Дерево редкое... — я обрел дар речи. — И размерами
и надписями...
— Ему больше века...
— Буквы зарастают, — сказал я. — Особенно самые
верхние. Жалко.
Незнакомец положил костыль и посмотрел на меня.
— Самые верхние — это еще довоенные... — Он смотрел
на меня пристально и зсак-то испытующе, потом, опустив
голову, добавил: — Я знал этих людей... Ну и пекло!.. Сколько
И Георгий Тедеев
161
же это градусов должно быть?.. — вздохнул он,
отворачиваясь, словно желая отвлечь меня от этих букв, и начал
вытирать шею платком.
Мне показалось, что он мог бы что-то рассказать и что он
испытывает искренность моего интереса. Я был решителен —
не проявив внимания к его замечанию насчет пекла,
дотронулся до его плеча и сказал, демонстрируя голосом большую
заинтересованность:
— Я тоже хочу знать про этих людей.. Очень!.. И если не
трудно это...
— Нетрудно! — с неожиданной для меня готовностью
ответил он. — Кроме того, не сидеть же молча...
Он поерзал, уселся поудобнее и, выдержав длинную
паузу, начал:
— Я знал этих людей... Хорошо знал... И я уверен, что
все они были необыкновенные... Не то чтобы герои, а так —
просто исключительные. — Он опять выдержал длинную
паузу, опустив голову и, видимо, собираясь с мыслями. —
Особенно Ирема... Даже имяу нее было редкое, нигде, наверно,
у нас в Осетии более не встречающееся. Хорошее, старинное
имя. Поражало в ней все...
Мой рассказчик посмотрел куда-то вдаль и после
небольшой паузы продолжил:
— Начать с того, что, имея родителей с темным волосом,
сама она была светла. Тяжелый узел волос на затылке
отливал золотом. Впрочем, излучать свет — это было ее свойство.
И в пасмурный день она казалась освещенной солнцем.
Там, где находилась Ирема, светлело и становилось
празднично и как-то по-особенному чисто...
Но поразительнее всего в ней были глаза — черные на
белом лице. Видели ли вы где-нибудь на тихой реке с белогалеч-
ными берегами глубокий дремлющий омут в теплую лунную
ночь лета? Он завораживает, манит и пугает одновременно.
Так и эти глаза. Черные, большие, с ленивым и томным
взглядом, они обладали некоей нежной силой, заставлявшей
молодых людей пренебрегать приличиями и смотреть в их
таинственный мрак дольше, чем позволяли воспитанность и
благопристойное поведение —• на пороге тайны людям всегда
недостает уважения к приличиям. И, глядя в эти глаза,
человек в сердце своем начинал чувствовать не то боль, сладкую
и желанную, не то позднее сожаление, будто потерял что-то,
милое и душу радующее, а что — и сам не знает... Ни
наименования ему не подберешь, ни в реальность его не веришь,
но тем не менее вот-вот готов, кажется, и словом: его обозна-
162
чить и в прошлой жизни отыскать, если проявить дерзость и
смотреть подольше в эти, будто на пол-лица, глаза.
Однако этого было мало — природа была щедра к Иреме
и наградила достоинствами, которых хватило бы для
доброго десятка других девушек. Голос ее напоминал нежный звон
сталкивающихся в воздухе хрустальных палочек или чистый
звон серебряных струн мандолины. Он заставлял дрожать
сердечные жилы, проникая до самых глубин души. И тоже
сладкую боль и грустную радость поселял в душе — кто
знает, может быть, вообще таково свойство незаурядной женской
тфасоты!.. Хотелось еще и еще раз слышать музыку этого
голоса...
Гордый у нее был вид, но в этом не было и тени
высокомерия. И повелевать бы ей, свысока смотреть, — мне
кажется, ей бы все простили, — но слишком много нежности и
мягкости было отпущено ей природой, так что выражение
достоинства отлично сочеталось в девушке с какой-то милой
беззащитностью, как у полевого цветка на обочине дороги.
Я видел, как дряхлые старики опускали седые головы и,
уткнув в землю хмурый взор, мрачнели от каких-то
невеселых дум, как старые женщины глядели ей вслед, улыбаясь
виновато и грустно, словно лучи немощного осеннего солнца
освещали их морщинистые лица...
...Родители Иремы умерли, когда она была еще
школьницей, так что и матерью и отцом и всем остальным для нее
была старшая сестра Бора. Три-четыре года всего было
разницы между ними, но рядом с Иремой на нее смотрели как на
старую деву, хотя она была далеко не дурной наружности и
уж никак не старой. Ирема училась на врача, и я так
понимаю, что лучшего для нее дела невозможно было и сыскать,
так как в ней самой уже было что-то целительное...
Мой рассказчик замолчал, глядя куда-то в пространство,
и мне показалось, что небольшой отдых для него просто
необходим — ведь он хорошо знал Ирему и тех двоих, чьи
имена были зашифрованы в буквах на дереве. И не только имена,
но, я полагал, и судьбы, так что вряд ли его воспоминания
были для него очень радостны.
Наконец, вздохнув, он продолжал:
— В селе ведь как? Не могут люди без того, чтобы молва
не выбрала пары красивой девушке или достойному парню.
И что интересно — угадывает молва. Так было и с Иремой...
Начали поговаривать, что нет для нее более достойного
жениха, чем Гай.
Гай... Он и вправду был столь же необыкновенен, как Ире-
163
ма, и в то время он учился в городе, в пехотном училище, И
каждую субботу приезжал в село, отмахивая изрядные концы
от железнодорожной станции до К.
Мужественность — вот что бросалось сразу в глаза, глядя
на Гая... Знаете, что выдает мужественных людей?
Я хотел сказать, но незнакомец, видимо, и не ждал моего*
ответа.
— Нет, не обязательно смелые и впечатляющие поступки.
Жизнь скучна, и в ней немного бывает случаев, когда
требуется показать и хладнокровие и отвагу, иначе бы эти
качества стали обыденными. А вот улыбаться, смеяться
приходится людям часто, и ничто не выявляет в парне мужественное*
ти так легко и убедительно, как улыбка. Я сам был на
фронте и много раз проверял это... Когда улыбаются настоящие
мужчины, хорошо становится на душе у тех, кто это видит.
Неумело это как-то улыбаются такие парни, но уж очень
светоносно, что ли... И невольно начинаешь любить их и
радоваться совершенству человека.
Именно так улыбался Гай. А сложен он был на зависть.
Высокий, стройный, с крупным характерным лицом. Брови —
словно распахнутые крылья орла и из-под них как-то
чересчур спокойно смотрели большие серые, как сталь на изломе,,
глаза. Нос имел он с горбинкой, а немного тяжеловатая
челюсть с квадратным подбородком была помечена ямочкой,
трудно доступной бритве. Хорошую зависть вызывал Гай...
И речь его, грудная, басом, тоже говорила о мужестве.
Умное, взвешенное .слово его заставляло прислушиваться,
отчего даже те, кто был и старше и опытнее Гая, выглядели
рядом с ним неуверенными юнцами.
Там, где требовалась складная и убедительная речь,
трудно было бы сыскать человека, надежнее Гая. А если нужны
были кулаки в каком-нибудь деле!.. Гай умел постоять за
себя, как никто другой, цо оставался благородным там, где
другие сильные люди обычно звереют. Он никогда не делал
больше, чем требовалось, чтобы доказать любителям
кулачного права свое превосходство. В любом деле можно было
положиться на Гая и достоин был он подражания во всех
отношениях.
Гай... Для Иремы он был создан, этот парень. И как
хороши они были вместе!
Но вот представьте себе, что Ирема при своей исключи-,
тельной красоте и необыкновенных достоинствах не имела
других воздыхателей, хотя и говорят у нас, что каждый
жених мечтает жениться на дочери солнца.. Странно это,, но не
164
было больше никого. И не мужественный Гай был тому
причиной — я отлично знаю, что благородный Гай никогда бы
не снизошел до драки с кем-либо — слишком горд он был и
чист для этого и не унизил бы грубой дракой ни свое имя,
ни имя Иремы, ни соединявшее их чувство.
Удивительно было то, что причиной отсутствия
поклонников у Иремы — других поклонников! — рассказчик строго
посмотрел на меня, — являлась ее невиданная красота или
то странное свойство редкой красоты, которое у женихов с
обычной внешностью порождает уничижительное мнение как
о своих достоинствах, так и о своей наружности. Тут не да
изъявления в нежных чувствах — тут дай бог устоять на
ногах и не впасть в отчаяние, хотя позови Ирема кого-нибудь
из молодых людей, каждый бы пошел ради нее в огонь и в
воду и считал бы себя счастливейшим из живущих на земле
людей...
Здесь мой рассказчик замолчал надолго. Его лицо
исказилось гримасой боли, что было не удивительно при таких
увечьях. Он долго массировал культяпку, думал о чем-то,
покашливал.
— Мы, осетины, имеем странную, половинчатую
пословицу,— наконец, глухо проговорил он и вздохнул всей своей
могучей грудью. — Говорим — любовь языка не имеет. Так вот,
следовало бы добавить, что не всегда ей хватает и разума. Ведь
нашелся-таки безрассудный, который настолько был ослеплен
красотой Иремы, что не мог уже трезво взглянуть на себя.
Работал, видите ли, в нашей кузнице некто, тоже с редким
у нас именем — Азар. Крупный, с широченной грудью,
каленым цветом лица, весь состоявший из шероховатостей и
углов, словно был сработан на наковальне. Он пудовой
кувалдой работал одной рукой, как легким молоточком, а медные
пятаки гнул на потеху мальчишкам как картонные кружки.
Или вот, я сам видел, как он подковывал необъезженных
жеребцов. Он словно клещами ухватывал заднюю ногу коня,
зажимал ее между своими коленями, так что строптивый
жеребец начинал стонать. А Азар спокойно срезал неровности
копыта и ловко приколачивал подкову. Бешеный в других
случаях жеребец становился тих, как сонный ягненок.
— Я так думаю, — вздохнул мой рассказчик, — неплохой
он был парень, этот Азар. В нем крепко сидело стремление
быть лучше, чем он был. К тому же он был поэт, — тогда
вообще много было поэтов, — и республиканский журнал
охотно печатал его стихи. И не устоял Азар!.. Влюбился так, что
походил на хмельного. И все видели, как он страдал и как он
165
был жалок. Хуже всего в его положении было то, что для
Иремы он просто не существовал. И дело было не в гордости
девушки, а в ее чувстве к Гаю. Лишним был Азар, но он
этого не понимал или знать ничего не хотел!..
Рассказчик повернул ко мне циклопью голову.
— Я часто удивляюсь ночным бабочкам — крутятся они
возле пламени свечи или колбы электрической лампочки,
хотя, казалось бы, уже первый ожог должен научить их
осмотрительности. Так нет же — продолжают они с погибельной'
радостью виться вокруг огня, обжигая крылья и ножки. Я
так думаю, что наслаждение от света, которое они
испытывают, больше мук смертельной игры с огнем. Так вот и Азар —
страдал он, сгорая, похудел, осунулся, но не думал об
отступлении, ничего не желая знать, кроме своей любви...
Он простаивал многие часы около ее дома, следил за нею
издали, после работы безошибочно появлялся там, где она
должна была пройти.
Азар с исстрадавшимся сердцем и необычайно
обострившимися чувствами не ошибся и в ту июньскую ночь, когда
суждено было появиться вот этим четырем буквам, — рассказчик
через плечо, косо вверх посмотрел на дерево. — Яркая луна
висела в перламутровом небе. И рыбьими серебряными
боками поблескивала дробимая на перекатах волна Терека.
Переступив через свою мужскую гордость, обезумевший от
ревности, Азар следил за двумя тенями, передвигавшимися по
берегу. Он бы и с закрытыми глазами узнал эту пару. Стонал
он словно раненый медведь. Искусал руки, чтобы приглушить
сердечную боль, но, презирая себя, не уходил. Не было у
него на это сил и не хватало воли. И проследовал за счастливой
нарой до этого вот дерева, — незнакомец через плечо показал
на липу.
— Остановились Гай и Ирема тут. Поздно было, уже
первые петухи прокричали. И такая тишина стояла, что
ревнивый слух Азара различал даже вздохи и слова шепота.
Несчастный, в груди которого гибельно болело словно бы
изжеванное сердце, увидел, что привлек Гай девушку:
— А если захочешь меня бросить, не забудь предупредить.
— Как? — зазвенел напряженный от сдерживаемого
смеха счастливый голос.
— Приди, постучись ко мне. Я выйду, а ты скажешь: «Я
оставляю тебя, Гай!..»
Раздался смех — весело смешались гитарно-густой голос
Гая и мандалинно-чистый Иремы. Затем Гай откачнулся от
девушки и, гибкий, сильный, легко полез на дерево. Добрав-
166
шись до первых веток, ухватился за одну из них и будто к
стволу прилип. А внизу, словно белое привидение, вытканное
из лунной пряжи, неподвижно стояла Ирема...
Минут через десять Гай спрыгнул, привлек Ирему, и две
тени слились в одну...
Пошатнулся бедный Азар и прислонился к
затрещавшему плетню, еле сдерживая рвавшийся наружу вопль. Ударил
он себя по лбу и вонзил зубы в запястье. И все же увидел —
раздвоилась тень, обернулись в его сторону Гай и Ирема,
постояли так немного и пошли, взявшись за руки...
Потом, когда Азар вспоминал свое состояние, — я хорошо
знал Азара и он мне рассказывал об этом, — ему казалось,
что на некоторое время сознание даже покинуло его, потому
что он очнулся сидящим на земле, спиной к плетню, и не мог
понять ни того, как он упал, ни того, сколько он находился
в небытии.
Ему, однако, стало легче и он с удивлением оглядывал
колдовское великолепие раскинувшейся перед ним картины...
Стояла лунная ночь. Словно тончайшая серебряная пыль
висела в воздухе. И в приглушенном ею свете деревья
казались сгустками рассеянного луной мрака, и эти таинственные
тени говорили, что счастье, прошедшее мимо, заставлявшее
болеть сердце и млеть расслабленную душу, еще возможно,
что случившееся с Азаром — это всего лишь недоразумение,
временная несправедливость судьбы.
В старых уродливых плетнях в завораживающем свете
луны уже не видно было их безобразия. Что-то молодое, как
надежда, преобразило их, и они показались Азару сказочной,
из серебра, оградой по обеим сторонам улицы, которая и
сама, с разлитым по ней лунным светом, выглядела так, будто
была выстлана тончайшим серебристым шелком — и все эта
тихо и убедительно говорило о возможности и даже
неизбежности счастья для него, Азара.
Лунная ночь похожа на любовь — она заставляет
отступать все грубое, уродливое, безобразное, и глаз видит лишь
одни мягкие, полные поэзии черты хорошо знакомого.
Обессиленный Азар смотрел на мир, и почему-то ему
было жалко этого безмолвного великолепия и бестревожного
покоя, не имевшего зрителей, жалко было самого себя вместе
с мучительным и йладкйм чувством, не вмещавшимся в его
широкой груди. И, странно, он не испытывал вражды к Гаю,
и верил вопреки всему в праздник своей любви, потому что
его поэтическая душа не могла понять, что счастье любви
отпускается мерой, рассчитанной лишь на двоих, что для треть-
167
его, желающего причаститься к нему, оно — страдание, мука
и отрава и что изменить в этом ничего нельзя...
Кто знает, сколько времени просидел Азар прежде чем
увидел крупно шагавшего Гая. Еще не поняв, что он делает,
оттолкнулся Азар от плетня и вышел на дорогу.
Остановился Гай. Азар стоял перед ним, покачиваясь.
Два незаурядных парня столкнулись на узкой дорожке, и
тесно им было на ней — тесно для двоих. Смотрели парни друг
на друга, и не надо было уже ничего добавлять к этому
красноречивому молчанию.
И вдруг Гай сказал:
— Азар! — В мужественном голосе была глубокая
искренняя печаль и сочувствие было. — Что же я могу поделать?
Помолчал, потом также печально добавил:
— И ты ничего не можешь поделать. Никто ничего не
может изменить, Азар!..
Пожал Гай руку Азара выше локтя и, опустив голову,
прошел мимо.
— И знаете, что случилось? — рассказчик повернулся ко
мне. — Заплакал могучий Азар. И плакал, как ребенок, так
что обильные слезы жарко катились по его щекам. Ком,
стоявший в горле, растаял. И крепкий узел горя, стискивавший
его большое сердце, развязался — и ему стало легче.
И как-то само собой случилось так, что подошел он к
дереву, нащупал нарост на стволе, другой рукой ухватил какую-
то шероховатость и взобрался туда, где недавно висел Гай. И
увидел белевшие буквы
Г + И
Не сдержался Азар, не устоял. Повис парень на суку и,
орудуя складным ножом, торопясь, рукой, дрожавшей от
грохотавшего в груди сердца, вырезал пониже свое
А + И
И спрыгнул...
А через неделю грянула война...
Гай, уже с двумя лейтенантскими нашивками, был
отправлен на фронт сразу же, как полагалось офицеру. Он едва
успел попрощаться с родными и с Иремой.
Я видел его. И, клянусь, изящен он был, словно молодой
зверь, каждое движение которого в мгновение ока могло
превратиться в сокрушительный всплеск сил^л. Нельзя было не
завидовать ему. Легок и красив он был, и сердце радовалось
у тех, кто видел его. И как хорош он был рядом с Иремой! И
как изумительна была рядом с ним Ирема! Они украшали
друг друга — исключительная мужественность и необыкно-
168
венная женственность! Ничего красивее мне не доводилось
видеть в жизни!..
И всем, кто любовался этой дивной парой — а они
впервые предстали перед людьми вместе — невольно приходило на
ум: «Хороши люди и красив человек. И выживет
человечество в этой войне, переможет идущую на него темную силу...»,
Иреме Гай сказал:
— Не забудь постучаться... Можно даже письмом... —
ьверкнули белые зубы, улыбнулся Гай своей проникающей
до сердца улыбкой. Он не договорил, но давал знать, что Ире-
ма вольна будет устраивать свою жизнь, не делая из себя
жертвы, что живые не должны служить мертвым.
— Вот, кажется, — голос рассказчика изменился, — что
мужественным людям не достает душевной тонкости. И в
самом деле — другой человек на месте Гая сказал бы... ну... не*
так. На войну ведь собирался! Но это вздор — просто
мужественные люди делают и говорят то, что наиболее приличеству-
еа обстоятельствам...
...Еще через неделю уходил на войну Азар. Несмотря на
свою нечеловеческую силу, он поддался слабости и пришел к
Иреме. И, по правде сказать, он и сам не знал, что хотел
сообщить девушке. Но когда он увидел ее, нашлись, как ему
показалось, те единственные слова, которых требовали
обстоятельства.
— Я уезжаю, — сказал он, жадно, но почтительно
оглядывая девушку. — И счастьем моим и бедой моей была ты...
И если услышишиь, что погиб Азар и нет его больше в этом
мире, урони несколько слез, Ирема! — голос Азара
задрожал. — Заплачь тогда... Я заслуживаю такой награды...
Азар ведь был поэт!.. Вздохнул он длинно и качнулся,
чтобы идти, но Ирема остановила его. Внимательно,
страдальчески оглядела его Ирема, будто пыталась что-то
вспомнить или понять. Обидно стало Азару — не мог он не видеть,
что она впервые заметила его и как жениха и как человека.
И слеза, крупная, как стеклянная бусина, выкатилась в угол
его глаза.
И тогда приподнялась Ирема на цыпочках и ладонью,
материнским движением, провела по его щеке. И эта
благословляющая ласка любимой осталась для Азара на всю жизнь
самым радостным и нежным воспоминанием...
Поначалу судьба берегла обоих парней:
Гай, прирожденный воин, быстро вырос до майора, но в
конце сорок второго года погиб где-то около города Калача.
Не став женой, овдовела Ирема. Говорили потом, что она не
169
плакала...— здесь мой рассказчик опять зймолчал, и когда
заговорил, голос его был глух.
— Вы видели красивы» женщин, с сильным характером,
изнутри пораженных горем?— спросил он, склоняя ко мне
циклопью голову.— Что-то темное начинает проглядывать
сквозь их нежную оболочку, словно инородное вкрапление в
самоцветном камне. И как-то сразу начинаешь понимать, что
это бессрочный изъян у них, что нет радости, способной
вытравить эту внутреннюю черноту. Так было и с Иремой.
Окаменела она и, говорили, повторяла одни и те же слова:
— Не верю... Я не верю!..
По-другому сложилась судьба Азара, которого с самого
начала определили в батарею противотанковых пушек. В
отступательных боях он часто чуть ли не один тащил
орудие и сражался неплохо. Много писал Иреме и хоть ответа
не получал, все же мысль, что Ирема читает его
треугольники, вдохновляла его, а обещанные ею слезы умиляли его
поэтическую душу. Щадили его и пули, и осколки, и болезни...
И он уже подумывал, что не придется Иреме плакать по
поводу его гибели. И даже испытывал от этого небольшое
разочарование — уж слишком много для него значило ее
внимание!..
И однажды, когда он думал об этом, его настигла беда.
Шлепнулась рядом осколочная мина. Перевернула пушку и
пушкаря покалечила — оторвало ему ногу... и... Вообще
крепко досталось парню...
Очнулся он в госпитале, и, увидев такой урон, пал духом.
Такое нередко случается с сильными, никогда не болевшими
людьми. И как это положено поэту, первое, что он сделал —
это продиктовал для Иремы письмо, в котором он желал ей
счастья. Он был искренен — красивы бывают поступки
поэтов, а бескорыстие их правдиво и убедительно!
Чистосердечен был Азар и непритворны были его пожелания Иреме.
И так как после этого он был убежден, что честно
исполнил свой долг перед Родиной и перед любимой, то решил
умереть. Жалкая жизнь калеки, обидным украшением
которой будет сострадание или, что еще хуже, жалость — это, он
считал, не для него. Не хотел ,он ни есть, ни лечиться.
Отвернул голову к стене и лежал целыми днями пластом. Не
помогали ни уговоры соседей, ни ругань врачей, ни
множество обидных слов, которые достались на его долю. Но
случилось неожиданное — пришло письмо от Иремы, и участия
в нем было больше, чем простой вежливости. Нежность
сквозила в каждом слове. Азар не понимал этой перемены и не
1*70
до понимания ему было, ибо он был вне себя от счастья. И
словно сказочного бальзама хлебнул, будто в живую воду
его окунули — пошел на поправку и улыбаться начал...
Хмель счастья кружил ему голову, и в таком состоянии
он, выписавшись, поехал домой...
Рассказчик замолчал и, опустив голову, опять начал
массировать культяпку. Это продолжалось так долго, что я
уже хотел спросить его, как все же встретила Ирема Азара„
но он сам заговорил, предварив свой рассказ горестным
вздохом:
— Его ждало разочарование. Крепкое разочарование...
Иремы в селе не было. Давно уже не было. Жила она в
городе, а в те дни вообще уехала куда-то — говорили, что
повидать могилу Гая.
— Но ведь это же она писала Азару!— недоумевал я.
— В том-то и дело, что не она...— сказал мой
рассказчик.— Это была Бора.
— А почерк? Неужели Азар не знал почерка Иремы?
— В семье часто бывает один почерк... Бора потом
объяснила свой поступок. Жалко ей стало Азара, вот и решила,
помочь его выздоровлению...
— Что же Азар? — я был взволнован.
Собеседник мой вздохнул и потер лоб.
— А он пережил и это потрясение...— рассказчик
встряхнул головой и подвинул костылем камешек недалеко от
себя.— Видать, разочарования были его уделом... Но жизнь
способна поворачиваться такими углами, однако... — Он
положил костыль.
— Неужели Ирема ответила на его чувство?— с
надеждой спросил я.
— Нет... Тут другое... Азар,— я его очень хорошо знаю,—
ни на одно мгновение не переставал любить Ирему и, как
сокровище, берег воспоминание о нежном прикосновении ее
руки. Он и до сих пор ощущает его на своей щеке. Но в том,
как он поступил дальше, была странная
непоследовательность, которая, по-м;оему, объясняется его кратковременной
слабостью — такое часто бывает с калеками — и колдовством
нежных слов в письмах Боры... Он... попросил руки Боры, в
которой многое напоминало Ирему, выбравшую для себя
участь старой девы и верность памяти Гая...
— А Ирема?— спросил я.— Что с нею сталось?
— Она, рассказывали, не переставала твердить, что не
верит в гибель Гая. И поехала вместе с родственницей
взглянуть на могилу. Где-то в саду старой церкви они нашли
171
кладбище офицеров и среди них могилу подполковника Гая...
С фамилией, в которой не совпадала одна буква.
Окаменевшая, словно высеченный из белого мрамора скорябщий
ангел, она просидела до самого вечера возле своего Гая. И
люди, так рассказывала поехавшая с нею родственница,
приходили на кладбище взглянуть на нее, удивлялись ее красоте и
многие из них даже плакали. Потом, уже в сумерках, после
настойчивых напоминаний родственницы, что уже поздно,
что пора ехать, Ирема несколько раз ударила кулачком по
«холмику могилы, словно стучалась к Гаю и сказала...
Рассказчик замолк, и мне показалось — спазм сдавил
ето горло. Он прокашливался и видно было, что хотел бы
продолжить свое повествование, да не мог.
— Что же она сказала? — спросил я, зная, что ничто так
быстро не расслабляет стяжение мышц горла, как вопрос,
которым очень удобно показать, что ты не заметил
мгновенной слабости человека.
— Не знаю,— уныло откликнулся рассказчик.— Но,
наверно, не то, что оставляет Гая и позабудет его...
— Но он был майор!— недоумевал я.— Может, другой
Гай был там?
— Нет. Это редкое имя. Да и фамилия была его, хотя
одна буква и была перепутана в ней. А подполковник... Гай был
талантливый воин. Возможно, в день гибели повысили его в
звании...
— А где Ирема теперь?
— Она жива. В городе. Она — врач. И редко бывает в К.
Но в год один раз приезжает обязательно. И знаете когда?
Шестнадцатого июня... В эту ночь счастливые Гай и Ирема
стояли под этим деревом и Гай вырезал эти буквы. Это самое
счастливое воспоминание в ее безрадостной жизни. Она
постарела, конечно, но от прежней Иремы в ней еще много —
особенно для тех, кто ее хорошо зйал молодую. А вообще...
Потускнело золото волос, и уже не слышна в ее голосе ман-
долинная серебристость... Жалко и больно сравнивать ее с
прежней Иремой... В день ее приезда сестры в сопровождении
Азара приходят к этой старой липе. И Ирема нет-нет да
посмотрит на заплывшие буквы. Азар понимает и ее мысли и
ее чувства, и в его большом сердце просыпается старое
чувство, и он не стыдится этого. И тогда ему кажется, что
лично для него по-прежнему возможно счастье, так что он
забывает о своем уродстве, о годах своих и Иремы и о том, что
Ирема теперь ему близкая родственница...
Одной лишь Боре эти прогулки ни о чем не говорят —
172
она их считает тоской городского человека по сельской тиши-
?не. Впрочем, у нее, как у всякой многодетной матери, много
других забот, своих.
Рассказчик замолк. И видно было, что он весь ушел в
свои мысли и не замечал меня. Я почувствовал себя лишним
и, встав, попрощался — мне не ответили — и пошел прочь.
В это время недалеко от того места, где мы сидели, на
плетень со стороны огорода влез мальчишка и сердито
крикнул:
— Азар! Куда ты исчез? Бора давно ищет тебя!
Я оглянулся и встретился с растерянным взглядом моего
рассказчика, но я тут же отвернулся и зашагал к автобусной
•остановке. Время уже было к вечеру и зной, чувствовалось,
уже спадал...
чп
■О пятницу вечером, как только автобусы увезли:
строителей тоннеля — бурильщиков, взрывников, об-
делочников, техников, инженеров, разнорабочих —
как-то внезапно потемнело и похолодало и повалил
такой густой, первый в этом году снег, что в пяти
метрах нельзя было ничего разглядеть.
Словно клочья вспушенной до воздушной
легкости ваты, медленно опускались огромные снежинки,
каждая из которых |рразу же накрывала площадку
размером с пятак, так что земля на глазах
становилась белой.
Молодой инженер Барту, радостно
возбужденный, только что выбрался из портального забоя,
остановился, посмотрел на небо, вгляделся в его белую
муть, туда, где рождались и уже различались
отдельные хлопья снега, и ему показалось, что
сдвинулось с места все это огромное пространство,
поплыло навстречу земле, и теперь уходило в нее мягко,
бесшумно, колдовским образом...
У Барту закружилась голова. Он засмеялся и
двинулся по тропинке, вверх по склону, к строению,
которое почему-то называли конторой, хотя в нем жил
только сторож. Настоящая контора была в районном
городке, но жилище сторожа, тем не менее, все
называли конторой — может быть, потому, что когда-то
начальник строительства прожил в нем целую
неделю.
Барту радовал сегодняшний успех. Утром, на
планерке, в присутствии главного инженера и всего
инженерно-технического персонала он предложил
отказаться при выборке свода тоннеля — калотты — от
дорогостоящих верхних штолен с тем, чтобы
подобраться к своду после выработки боковых частей
тоннеля, благо, порода позволяла сделать это без
особого риска с помощью маленьких взрывов. Это
174
обещало большой выигрыш во времени и существенное
удешевление всех работ.
Барту сказал это как-то мимоходом, так что на него с
удивлением посмотрели не только молодые инженеры, но даже
старые, опытные. И сам главный посмотрел. Эффект заключался
в обыденности тона, которым выкладывал свои соображения
молодой инженер.
На минуту в камере тоннеля, где проходила планерка,
воцарилось молчание. Это было торжество Барту, но он не
двинул ни одним мускулом лица, хотя сердце в груди плясало,
как сытый ягненок на мартовском солнце.
— Н-да...— главный посмотрел на Барту задумчиво и с
явным интересом и сказал:—Смело и, кажется, дельно...
Весьма... Обдумать и доложить в понедельник! С расчетами!..
И теперь, оставшись на выходные дни в конторе, Барту
полагал, что утром еще раз на месте осмотрит калотту и
прикинет все возможности своего способа, чтобы в понедельник
языком цифр окончательно убедить начальство в его
достоинствах.
Он был уверен, что это не составит для него большого
труда — все ведь так очевидно! Только и надо было, что
взглянуть на дело необычно — как это дано лишь истинным
талантам...
И чей язык после этого повернется сказать, что новичку
Барту следовало бы сперва походить в простых техниках,
обтереться, а там уж, потом... Да, знал молодой инженер, что
такие разговоры ходили среди тоннельщиков, и поэтому он
испытывал особое удовольствие оттого, что охотникам
посудачить на его счет придется прикусить языки...
Барту чувствовал в себе большую творческую силу. И это
наполняло все его молодое существо сознанием собственной
значительности. Раньше, глядя на громадные мосты, высокие
здания, могучие машины, он испытывал уважительное,
смешанное со страхом почтение к тем, кто создавал эти
впечатляющие творения. Сегодня это почтение притупилось и казалось
наивным, ибо Барту сам был одним из тех, на плечах
которых, а пуще всего, — на разуме, держится могущество
человеческое.
Вообще, подумал молодой, инженер, недаром он все время
чувствовал, что он способе!? руководить, управлять работой
большого коллектива, что другие люди, не все, конечно, но те,
кто не выдумает пороху,— а таких масса!— нужны ему всего
лишь как инструмент хорошему мастеру...
Он выбрался на старую дорогу и направился к конторе.
175
К этому времени воздух будто стал жиже, так что каждый
звук выходил в нем приглушенным, теряя силу в пушистых
падающих хлопьях снега и превращаясь в лишенный острых
тонов шум и шелест. Возле конторы инженер остановился,
посмотрел вокруг и удивился.
Прошло не более часа с начала снегопада, и уже не раз-
личить было портала, и ясную погоду казавшегося рваной
раной на боку горы вместе с черным зевом тоннеля. Пропали
под ним в белой мути бульдозеры, экскаваторы, огромные
самосвалы, вагонетки, горы чугунных тюбингов для обделки.
Исчез стройный, словно натянутая струна, виадук на высоких,
изящных опорах, обрывавшийся в сотне метров от тоннеля.
Сгинули плавные и стремительные закругления новой дороги,
в солнечные дни напоминавшие своей вознесенной ввысь
легкостью инверсионный след самолета.
Инженер покачал головой и ступил под крышу конторы.
Контора состояла из одной комнаты — жилища сторожа и
закутка для хранения взрывчатки, расположенных в концах
строения, так что серединная часть длиной в пять-шесть
метров являлась чем-то вроде сарая или крытого перехода. И
даже здесь, несмотря на отсутствие ветра, тоже порхали
снежинки, как уставшие за день бабочки, выбирающие место для
ночлега.
Барту перешагнул через порог. В комнате было почти
темно, но он все же увидел темный силуэт сторожа, возившегося
у печки.
— Останусь у тебя, Сарт,— надо...— сказал инженер.
— Ну и хорошо,— откликнулся сторож, вздувавший
огонь.— Топчан есть. Поужинаем чем бог послал.
Располагайся, Барту.
— Товарищ инженер,— Барту услышал быстрые, какие-то
облегченные слова, будто их смысл не очень интересовал
говорившего,— для чего в такую непогоду вы рискнули остаться в
горах каменных?
Барту узнал голос рабочего забоя, Расстриги, и, включив,
свет, увидел его самого. Тот лежал. Накануне он подвернул
ногу, растянул себе пяточное сухожилие и, видимо, из-за
этого и остался.
— Надо. Дело есть.— Инженер присел на топчан.— Чего
в темноте сидите?
— Не так уж и темно,— сказал сторож.— Это тебе после
улицы кажется,— Сарт начал дуть на занимавшийся огонь.
Барту все еще был во власти радостного возбуждения и
потому ответ сторожа прозвучал для него как «Бу-бу-бу». Но<
176
кргда сторож уронил чайник, грохот перестроил направление
мыслей инженера. Он повернул голову и неожиданно, по
душевному движению, бывающему у счастливых, почувствовал
жалость к Сарту и Расстриге... Серая скучная жизнь, подумал
он, это их вечная доля. И с этим им не дано расстаться, как
черепахе со своим панцирем. Никогда не взыграет в них
сердце, испытав радость открытия или творческий взлет мысли.
Жизнь их — прозябание, которое никогда не осветится
вспышкой вдохновенного озарения. Поэтому и жалко их. Хотя,
возможно, они сами не ведают, что существование их так уныло,
и не понимают своей ущербности. Мудра, однако, природа!
Умеет беречь покой серых людей — она предусмотрительно
сузила их поле зрения...
Инженер не был злым человеком, но бесстрастное
мышление считал свойством настоящего инженера. И потому Сарт и
Расстрига представляли для него только загадку,
требовавшую исследования.
Он откинулся на топчан, сцепив под затылком руки, и
уставился в шалевочные доски потолка.
Интересно было бы знать, мелькало в его голове, чем
такие люди живы? Ведь должен же быть стержень,
поддерживающий их скучное бытие! Должна быть и какая-нибудь цель,
к которой тянется их ползучая мечта, как червь к сырому
месту в солнечное утро!..
В это время Сарт, кончивший возиться у плиты, подсел к
столу, и Барту посмотрел на него. Не потому, что это
представляло интерес для молодого инженера. Просто движение
сторожа, воспринятое боковым зрением, нарушило ход
мыслей Барту — и он повернул голову. Сарт свернул самокрутку
и закурил, потом достал из кармана помятое письмо,
разгладил его — по-крестьянски обстоятельно — и стал читать,
шевеля губами...
Занимательная личность, подумал инженер. ^ Прожил
шестьдесят с хвостиком — а как? Ну, была война... А
дальше? Неужели выше карьеры сторожа не смог подняться! Или
не хотел? Вряд ли... Кто не хочет шагнуть на ступень выше!
Не смог — это уже вернее. Если бы люди сдавали экзамены за
прожитые годы, усмехнулся инженер, Сарту лишь с большой
натяжкой можно было бы поставить тройку...
Теперь инженер смотрел на сторожа с интересом — и
удивлялся. Он знал Сарта, то есть кое-что знал про Сарта. Тот был
неразговорчив и мог бы показаться даже угрюмым, если бы
не мягкий взгляд его желтых глаз. Лицо имел коричневое,
выжженное горным солнцем. И усы были соответствующие—
12 Георгий Тедеев
177
желтые, прокуренные. Гимнастерка и галифе образца военных
лет — и где он их только находит!— были настолько
застираны, что уже выглядели желтоватыми, как в желтый рубчик
вельвет. Что-то военное, старое и солдатское, навсегда
застряло в Сарте, словно давно отгремевшая война наложила на
него неистребимую печать. Напоминал Сарт не очень опрятно и
не совсем по форме одетых солдат конца войны — точно из
кинофильма...
Кругом царит какой-то дух состязания, подумал инженер.
Приотставший или зазевавшийся ревниво догоняет. ушедшего
вперед. От этого выигрывает прогресс. Внутренний механизм
развития — это вот такое состязание. А Сарт устранился от
этого, ибо должность сторожа, требующая лишь созерцания в
этих диких горах, есть не что иное, как выбытие из этого
состязания...
Кто знает, как воевал Сарт, размышлял Барту, но в
нынешней стремительной жизни он годится только в зрители, в
бесстрастные зрители... И только...
Интересно, как он выглядит в городе?.. Там у него,
слышал Барту, сын. Сарт из города возвращается быстро —
значит и в городе он не на месте. Отстал человек! Безнадежно!..
Сторож продолжал читать письмо — как долго, однако!
Письмо же всего лишь! Как не схватить сразу того, что оно
содержит! Ну Сарт!.. А махорка-то! Такую запрещать надо,
как отравляющее вещество! Н-да... Загадка, а не человек!..
Инженер скосил глаза на Расстригу. Тот лежал в прежней
позе — на боку. И скучал, потому что, Барту знал, Расстрига
большой любитель поговорить. Расстрига... Он хоть немного
интересен, так как некогда действительно был священником в
тородке районного масштаба. Жил он, слышал Барту, безбедно,
но в его легкомысленной голове беспокойно шевелились не
совсем благочестивые мысли, а сердце тревожили греховные
желания, не приличествующие пастырю, за что и пострадал —
был расстрижен.
И тогда бывший поп подался в мир. Без специальности и
трудовой книжки — это в сорок лет!— он стал искать работу.
Смотрели на него, опасались, но устраивали. Работал он на
чаеразвесочной фабрике в Рязани — вместе с женщинами,
потом на почте, дальше — в пекарне. Постирал мирские ремесла.
Но как-то прочитал в газете про затеваемое в горах
строительство и решил — гор не видел, подамся-ка... И имел к
этому лишь одну причину — неуемное любопытство, которое
выражалось в форме частых переездов с места на место. И
теперь все, с кем он работал, называли бывшего служителя куль-
178
та только Расстрига, так что один лишь кассир знал его
полное имя — и то по долгу службы...
Был Расстрига худ, небольшого роста, лет за пятьдесят^
Голову имел сплющенную, с впавшими висками и острым
лицом с выцветшими глазами, оживленными все тем же
любопытством.
Сколько странных людей вокруг! Живут себе тихо, не
торопясь,— как получится... А для чего?..
Молодому Барту стало скучно. Хотелось действовать. И не
будь сейчас этой мерзкой погоды, он отправился бы в
тоннель — свет там есть всегда — и занялся бы калоттой. А
поутру, на свежую голову, можно было бы и за расчеты
засесть...
— Кушать будем! Ужинать!—неожиданно пропел Сарт —
по-русски — и огорченно добавил: —Вот только соли нет —
вышла... Но голодному все вкусно — съедим...
Утром Барту заспался. Разбудил его Сарт.
В конторе было сумеречно темно, хотя — Барту посмотрел
на часы — было десять. «Позавтракать и — в тоннель!»—
радостно подумал он, предвкушая удовольствие. Свет едва
сочился в залепленные снегом окна.
— Неужели еще снег?— спросил Барту, показывая взгля^
дом на окна.
— Да, сыплет все так же. Почти по пояс навалило...
Барту это не удивило — такие снегопады часто бывают в
горах, хотя для начала зимы это все-таки было слишком
необычно. Ну — снег так снег... Но что-то все же было не так,
не хватало чего-то. Инженер оглянулся — в конторе ничего не
изменилось. Расстрига даже лежал в той же позе, в которой
запомнил его Барту,— на боку, подмостив под щеку кисть
руки. А все же что-то было не так...
— Что произошло?— инженер глянул на Сарта.
Лицо сторожа было серьезно, даже встревожено. Бурые
брови сдвинулись, образовав из морщин над переносицей что-
то вроде римской пятерки.
— А ты прислушайся, Барту.
— Ничего же не слышно — тишина... К чему
прислушиваться?— ответил инженер, изображая на лице
сосредоточенное внимание.
— То-то и оно,— озабоченно сказал Сарт и прошел в угол
комнаты. — Тишина оттого, что не слышно реки.
И тут Барту понял, чего не хватало ему. Серого, на одной
ноте, шума реки, раздающегося и днем и ночью, и зимой и ле-
179
том, во всякую погоду, к которому привыкаешь так, что он
начинает восприниматься как тишина.
— Куда же она подевалась?
— Ночью сошла лавина. Обвал перекрыл реку выше
виадука...
— А любопытно было бы знать,— пошевелился
Расстрига,— надолго ли снег остановил реку?
— Снег немного влажный. Так что надолго,— повернулся
к нему Сарт. — Может, на неделю. Утром рано снегопад
прекратился — я успел сходить туда и видел все.
Хорошее настроение, с которым Барту проснулся утром и
которое празднично освещало его душу, почему-то начало
тускнеть, как осветительная лампа при падении напряжения.
И от этого жилище сторожа показалось ему и грязным и
тесным, как медвежья берлога. Барту взволнованно потер шею.
Если Сарт прав,— а он прав, в горах ведь вырос,—
раздраженно подумал он,— то обвал — это все равно что
плотина. Временная пусть, но все же плотина, довольно прочная
плотина, черт ее побери! А это значит, что выше виадука
вода будет накапливаться. А там техника — автомашины,
бульдозеры, тракторы... И какой дурак разрешает оставлять все
это в таком месте! Куда смотрит главный, чем думает
инженер по технике безопасности! Какая примитивная
недальновидность! Что же будет из всего этого, если вода замерзнет в
двигателях? Да если они даже просто побудут в воде? О,
тупость человеческая! Наказать бы надо растяп!..
— Свет бы зажег, что ли, Сарт!— проворчал инженер.—
Темно же, как в подвале!
— Тока нет. Снег липкий. Где-то, может, провода
оборвало... Или, может, что-нибудь другое. Но тока нет...
Эти утренние сумерки раздражали Барту, и, кроме того,
инженер чувствовал еще и какое-то неудобство. Что-то
мешало, беспокоило. Не давало сосредоточиться.
Он посмотрел на товарищей.
И увидел выжидающие, направленные на него взгляды
Сарта и Расстриги. Инженер удивленно переводил глаза с
одного на другого. Чего они хотят?.. Ну, конечно, ситуация...
того... чрезвычайная... Но при чем тут Барту? Тут не
инженеру надо думать, а какой-нибудь чрезвычайной комиссии...
Хотя откуда взяться чрезвычайной комиссии? Из райцентра, где
база, пробьются сюда в лучшем случае дня через два-три...
Но не станут — чего им пробиваться! Никто ведь не знает там,
что здесь такая беда!..
А можно ли вообще что-нибудь сделать?
1в0
Барту беспокойно поскреб подбородок.
Положим, машины можно было бы отогнать куда-нибудь
повыше... Но как к ним пробиться? Допустим, однако,
пробились. И что?..
Ничего не получится. Ни один самосвал, даже эти
японские бульдозеры, не одолеют такой снег... Да и кто тут
понимает в шоферском деле или в тракторах? Нет — об этом и
думать нечего!..
Барту встал и глянул в окно. За снегом, налепленным на
стекла, угадывалось мутное, как разбавленное молоко,
пространство. «Нет — ничего не сделаешь!...»—вздохнул Барту.
— Позавтракать бы, Сарт, а?—инженер обернулся и
опять встретился с выжидающими взглядами.— Найдется у
тебя что-нибудь?..
«Я не волшебник!— раздраженно подумал Барту.— Что от
меня хотят! Думают, если я инженер, то...»
— Найдется...— Сарт ответил как-то лениво, словно ум его
был занят совершенно другим.— Найдется... Хлеб и сыр. И
чай...
Завтракали молча. И каждый понимал, что чем бы ни
занимал себя, что бы ни говорил, все же никуда не денешься
от этого обвала — это беспокоило, как заноза в теле. И хотя
никто из них ни должностью не был обязан, ни
возможностями соответствующими не располагал, все, однако, понимали,
что некое нравственное бремя ложится на их плечи, что
нельзя сидеть сложа руки.
Сарт пил чай вприкуску — крепкими не по возрасту
зубами хрумкал сахаром и шумно втягивал жидкость. Расстрига
хлебал суетливо и обжигался, причмокивая после каждого
глотка.
Все это злило Барту. И он ненавидел и сторожа и бывшего
служителя культа, хотя понимал, что такое раздражение для
него унизительно и что причина его неудовольствия не
столько в них, сколько в нем самом. Но ничего не мог поделать с
собой...
— Барту!— инженер вздрогнул от густого голоса Сарта и
повернулся к нему. ,
«Какой он, должно быть, упрямый...»— успел подумать он.
И еще ему показалось, будто и Сарт и Расстрига никогда не
знали по крайней мере одного или двух из пяти свойственных
человеку чувств. «Как они просты!»— мелькнуло в его голове.
— Да.,..— небрежно бросил он.
— Барту! У нас достаточно взрывчатки!..
Инженер поперхнулся.
181
— Ык-кха... Для*», ык».* чего... до... достаточно?— Барту
закашлялся.
— Взорвать обвальный снег.
Барту расстегнул ворот рубахи и вытянул шею.
— Никакого толку... ык-кха../ не будет,— хрипло сказал:
он.— Снег мягок и рыхл.
— Обвальный снег не бывает мягким.— Сарт
невозмутимо захрумкал сахаром и шумно отхлебнул из стакана.—
Если бы он был мягким, тогда вода пробила бы себе дорогу. Но
он уплотняется до каменной твердости.
Сарт говорил по-русски — из-за Расстриги — и говорил
трудно, медленно подбирая слова. И это тоже раздражало
Барту. ' ; 4
— Хоть бы и так,— сразу ответил инженер.— Спуститься
туда от виадука — а другой дороги нет!— и подняться назад!
Тут альпинист нужен, а для другого это — верная
гибель!
В комнате повисло тяжелое молчание. Сарт перестал пить.
Расстрига поднял свою узкую голову с вдавленными висками
и беспокойно посматривал то на сторожа, то на инженера.
— Спуститься — это что!— наконец, выговорил Сарт.— А
вот подняться — это дейст...
— Спуститься — тоже! Метров сорок — высота опар
виадука!
— Это все же легче, — настаивал сторож.
— А любопытно было бы знать,— встрял в разговор
Расстрига,— почему не делают лестниц с виадука? Хотя бы на
время строительства?..
Инженер бросил ложечку в зазвеневший стакан и встал.
— Это глупо!— Он порывисто отошел к окну и, сунув
руки в карманы, уставился на мутные квадраты стекол.— Во
всех отношениях глупо! И не понимать этого!..
Трудно было догадаться, к чему относились слова
инженера. Расстрига стал сизым от смущения, но Сарт отнес слова
на свой счет.
— Риск есть, конечно,— рассудительно, басом, начал
он.— В такую погоду по надобности выйдешь — и то есть,
риск. В горах без риска, хотя бы самого малого, и шагу
ступить нельзя...
Сарт смолк, что-то обдумывая.
— Но ничего не делать — это... Вообще — неудобно и
нельзя...
Он повернулся к Барту, все еще стоявшему у окна.
— Я о машинах... Я вот слышал, что те два бульдозера за:
182
золото куплены. Это ж так нельзя... Да и наши не рубль
стоят... И еще...
— Что еще?— инженер резко обернулся.
— Нехорошо как-то получается, Барту,— вот так сидеть,—
смущенно проговорил Сарт и, уже не глядя на инженера,
добавил : — Мы ближе всех — мы и обязаны. Это как на
передовой...
— Мы не имеем права брать взрывчатку,— резко сказал
Барту.— Кроме того, что затея глупа, мы еще и нарушаем
инструкцию. Закон нарушаем! Дело уголовное!
Сарт махнул рукой и встал.
— Как-нибудь разберемся... Не это главное...
Сторож начал одеваться — нахлобучил серую вытертую
солдатскую ушанку и, кряхтя, влез в защитного цвета ватник.
Все это делал обстоятельно, не .торопясь, и вид у него был
будничный — словно телят собирался загнать в хлев.
— Пойду,— не глядя на Барту, сказал он.— Взрывчатку
возьму.
«Камень, а не человек! Разве ж он поймет!..»— зло
подумал инженер, чувствуя нехорошее уязвление от упрямства
сторожа. Ему казалось, что он стал меньше ростом и каким-то
ущербным — по воле сторожа. И еще его раздражало
сравнение с передовой.
«Что за народ эти фронтовики! — возмущаясь, подумал
он. — На все смотрят будто из окопа!»
Плохо, однако, было еще и то, что в нем, в Барту,
нарастала какая-то недостойная суетливость — качество, которое, он
считал, присуще только мелким, неуверенным людям.
Инженер несколько минут стоял, как вкопанный, потом кинулся
одеваться.
— Опасно это, товарищ Барту!— торопливо заговорил
Расстрига, ковыляя к своему топчану.— Разрушить снежную
твердь!
И когда Барту, решительный и не замечавший Расстриги,
уже поглядывал на дверь, бывший священник не выдержал и
закричал:
— Не упорствуйте в дерзновении своем! Наставлял ведь
нас святой апостол Павел: «А тем, которые упорствуют и не
покоряются истине, но предаются неправде,— ярость и гнев...»
Инженер ринулся во двор.
— Хляби поглотят дерзкого!— неслось ему вслед.—
Внемлите, пока еще есть время, слову увещания!.. Господи! Спаси
и помилуй!
«Остановить безумца!— соображал инженер.— Запретить
183
брать взрывчатку!» Он окунулся в хаос снежинок. И когда в
снежной круговерти качнулась размытая тень, инженер
понял, что Сарт уже взял взрывчатку.
«Сколько упрямства! — Барту кипел от злости. — А ведь
пойдет! И что я тут могу! Не драться же, чтобы остановить
его!»
Он подбежал к сторожу, который уже направлялся прочь /
от конторы, и неожиданно для себя сказал:
— Пойдем вместе!
Сторож кивнул, продолжая идти, но через несколько
шагов остановился и сунул тяжеленный мешок со взрывчаткой —
килограммов около сорока, знал Барту, — в руки инженера.
— Подержи! Я веревку забыл и лопату...— сказал он по-
осетински и от этого слова его показались Барту
повелительными и уверенными.
«Странное положение получается...— возмущался
инженер.— Я — человек, умеющий мыслить, на поводу у... Да он
может погубить нас обоих! Вот, пожалуйста, и плохая
примета — вернулся с полпути!..»
Сторож вынырнул возле него, весь облепленный снегом. С
лопатой он прихватил еще один мешочек взрывчатки,
который он прижал к животу вместе с мотком веревки.
Огнепроводный шнур оттопыривал карман его ватника.
— Пошли!— густо сказал Сарт и вошел в снег по пояс.—
Добраться туда — тоже дело...
Через сотню шагов оба уже запыхались. Барту
чувствовал, что спина его становится мокрой. Взрывчатка с каждой
минутой казалась все тяжелее. Он ронял мешочек, но
дрожащими руками тут же поднимал его и тащился за сторожем.
Сарт удивлял — едва ли он был сильнее молодого Барту, но
шагал он как-то экономно и вроде не чувствовал усталости,
хотя дыхание у него было шумное. Опыт — привилегия
старости, подумал Барту. Дело наживное!..
Но сам он — даже было обидно — устал и оттого на одном
из поворотов дороги, там, где она выглядела наиболее
безопасной, инженер сделал неловкое движение и упал,
ударившись локтем о скальный обломок, спрятанный под снегом.
— Больно?— обернулся Сарт.
«Как можно задавать такие глупые вопросы!—сердился
Барту, потирая локоть и не отвечая сторожу. '•— И я тоже
хорош! Слушаюсь и подчиняюсь!..»
Рука болела. Камень, видать,1, имел острые углы.
Кажется, кожа на локте была содрана. Жгло, будто там был
горчичник прилеплен. А идти оставалось еще порядочно. Еще
184
нужно было выбраться на виадук, по которому тоже надо
будет тащиться побольше километра, пока не окажутся над
рекой... А дальше, дальше-то что?!
Барту впервые подумал так конкретно и ему стало жутко.
Кто спустится вниз?.. Но, допустим, размышлял Барту и
злился, кто-то спустился. И даже рванул обвальную массу.
И что же?.. А ничего... Вода унесет его, как щепку!..
Инженер представил, как холодная вода хлынет за
воротник, за пазуху — вместе со снежной кашицей. Брр!..
Исчезнут, как дым, все мечты. Не затрепещет никогда больше
сердце от радостного ощущения жизни и здоровья в молодом
теле... А Барту чувствует в себе огромный потенциал
интеллекта, который может принести пользу — кто его знает, на
сколько сотен тысяч рублей! Это подороже, чем вся техника
у портала! Да и не жил еще Барту, между тем как впереди
у него — интересная, насыщенная жизнь!..
И, кроме того, Барту где-то читал, что всякий талант
есть достояние народа. И имеет ли он в таком случае право
распоряжаться тем, что принадлежит не ему одному?..
Инженер понимал, что эти мысли он подгоняет под
обстоятельства, приспосабливает их. И знал, что это нехорошо,
но в то же время знал и то, что в них есть и зерно истины,
той рациональной истины, которая не всегда гармонирует с
общепринятой моралью. И эта крупица истины была как
золотинка в горсти песка, ничего не стоящего» без этой золо-
тинки. И потому следовало быть просто твердым и помнить,
что все может быть с человеком в жизни!..
Другое дело Сарт... Жизнь свою он прожил. И вряд ли он
имеет к кому-нибудь сильную душевную привязанность, не
говоря уже о достойной цели впереди. Городской сын — он,
наверно, живет в тесной квартире — обойдется без него. Во
всяком случае, едва ли он будет убиваться, если узнает, что
его отец... Да! Взрыв будет звездным часом Сарта, его
лебединой песней. Люди даже запомнят его. А у Барту девушка.
И вся жизнь впереди...
Сарт качался и барахтался впереди, смутно выделяясь в
снежной круговерти. Упрямый, крепкий. С чем-то прочным,
несокрушимо прочным внутри, как* это бывает у стариков..."
Инженер презирал себя за свою непоследовательность...
Вдруг он почувствовал, внезапный, скачком возросший
страх, заполнивший все его существо. ,Он тревожно
осмотрелся. «Вышли на виадук!»— понял Барту и почему-то
покачнулся.
Бетонные ограды виадука, время от времени проступав-
185
шие сквозь бесконечно опускавшийся снежный занавес,
создавали ощущение ненадежности дороги. И инженеру
казалось, что они с Сартом ходят по краю, над сорокаметровой
пропастью. От этого захватывало дух...
— Отдохнем!—прохрипел Сарт, уронил мешочек и
повалился в снег.
Барту тотчас же выпустил взрывчатку и, почти
задыхаясь, рухнул в мягкий сугроб.
Не разговаривали. Только дышали — жадно, глубоко.
Это была та усталость, когда у вдыхаемого воздуха
появляется явственный вкус, когда прикосновение усталыми
членами к земле, снегу, траве, камням возвращает силы, а
вместе с ними и желание жить, когда привычные удобства с
множеством проблем не очень устроенного быта начинают
казаться величайшим благом.
Отдыхали недолго, так что, когда пошли дальше, он
опять шагал за Сартом, переставляя ноги деревянно, и был
уверен, что никогда в онемевшие мышцы не вернется
чувствительность...
И долго еще Сарт качался впереди. И долго еще инженер
плелся из последних, как он полагал, сил...
— Пришли!— трудно и неожиданно сказал сторож, и
Барту, оглохший от мощных толчков крови в ушах, выронил
ношу и упал.
— Будет... — Сарт сделал глотательное движение, —
будет... холодно — ме... мешкать не на... надо...
Сторож шатался, как пьяный, но привязал конец
веревки к ограде виадука и бросил моток вниз, затем, с трудом
нагнувшись, подобрал лопату и отправил его туда же.
Он посмотрел на инженера.
— Сделаем так...— дыша тяжело, с хрипом, начал он.—
Когда... я... буду там...— сторож кивком головы показал
вниз,— ты спустишь... ко мне... на веревке мешочки... Это
тяжеловато... Но иного... выхода нет... Ты должен...
справиться...
Сарт покачнулся и начал сворачивать самокрутку.
— А вообще-то... дело пустяковое...— бубнил он.— Вот
только обратно подняться... Ревматизм... это... у меня...
Иногда кисти рук... перестают подчиняться... Словно чужие...
Хватка уже... не та... Но как-нибудь... выкручусь... Лишь бы
тропку отыскать. Хотя бы козью... А там... как-нибудь...
Старый опыт поможет...
— Какой?— деревянно спросил Барту.
— Военный... На войне кое-что умел делать... — не сразу
186
и с неохотой ответил Сарт. Чиркнул спичкой, прикурил.
«Сейчас вспомнит какой-нибудь случай»... — с
неудовольствием подумал Барту, но Сарт курил и думал что-то свое,
глядя на товарища тяжело, с напором, будто взглядом
пытался нащупать сущность молодого инженера.
Барту не понравился этот взгляд — так на живого
человека нельзя смотреть, подумал он. Словно он, Барту, был
камнем, на который уставился задумавшийся сторож. И этот
взгляд сторожа и дух махорки, от которого перехватывало
дыхание, лишали молодого инженера воли, они управляли
им.
— Может... — пролепетал он и с трудом встал. — Может...
это... я спущусь?
Слова как-то сами собой вышли из его рта, и теперь
Барту ошеломленно смотрел на сторожа и переступал перед
ним, сгорая от смертельного любопытства и тщетно пытаясь
обрести свою сущность. Мгновения летели за мгновениями,
и каждое из них могло оказаться отягощенным коротким
словом Сарта, могущим решить всю судьбу Барту. Он
смотрел на Сарта, не мигая, и даже чувствовал, что на ресницах
от этого округлялись слезы, которые он, окаменевший, не в
силах был смахнуть или смигнуть. В беловатом тумане,
застилавшем взор инженера, расплывалось желтое лицо
сторожа. И Барту казалось, что сторож видит его насквозь.
Инженер бессмысленно переступал перед Сартом.
— Нет!— думая о чем-то своем, сказал сторож, потом
встряхнул головой и уже твердо добавил:—Нет! Это я
придумал. Мне и делать. А ты молод для этого. Да и рука у
тебя...
Инженер мгновенно ощутил все свое тело, покрытое
испариной, и коснулся болевшего локтя. Он пошатнулся на
ослабевших ногах, так что ему даже захотелось
прислониться к Сарту, как к опоре.
«О, как это нехорошо!»— ужаснулся он.
А сторож шагнул к ограде. Взял веревку, покачался над
кромкой виадука и сказал сурово:
— Спусти взрывчатку и иди в контору. Чего меня ждать!
Я приду. Обязательно приду! Мне иначе нельзя! Не жди!
Присел, уперся коленями в край виадука и, кряхтя,
начал сползать. Барту смотрел на уже облепленный снегом
узел, который вздрагивал, как живой, и, наконец, замер.
Инженер покрутил головой, словно воротник рубашки был ему
мал. Потом постоял в задумчивости и неуверенно, как
чужими руками, начал вытягивать веревку, на конец которой
187
обнаружил петлю-удавку, завязанную Сартом. Он долго
смотрел на нее, будто пытался понять назначение петли, потом
медленно наклонился и так же неуверенно, словно
сомневался, захватил ею мешочек со взрывчаткой.
Спустя некоторое время он перебросил груз через ограду
и с большим трудом остановил рванувший вниз конец, так
что бетонная ограда сорвала кожу с костяшек пальцев.
Спускал мешочек, упираясь ногами в ограду. Второй мешочек
спустил более осмотрительно...
В голове, как хлопья падающего снега, мешались
мысли — беспорядочные и непрошенные. Барту почему-то
вспомнил даже вчерашний ужин — без соли. Все было вкусно, но
не хватало соли, чтобы сделать вкус еды явственным. Не
доставало этой малости, не заметной, но совершенно
необходимой...
Разумно, конечно, было бы идти в контору, ибо не
имело никакого смысла его пребывание здесь после того, как
сторож спустился вниз. Но, тем не менее, инженер не мог
покинуть этого небольшого кусочка виадука со взрытым
снегом. Он словно был привязан к нему.
Вокруг, сколько видел глаз за мягко опускавшимися
белыми хлопьями, была пушистая целина, которая казалась
сгустившимся до осязаемой плотности светом, так что даже
трудно было различить границу между воздушным
пространством и снежной массой. И только маленькая часть этой
целины, там, где стоял Барту, была взрыта и переворошена...
Барту было плохо. Он потер лоб. Заболел, наверно,
равнодушно подумал он. Перед глазами мелькали мосты,
громадные здания, а Сарт, такой же громадный, заслонял все
это собой. Что-то происходило с Барту. Перемерз, наверно.
Он потрогал локоть. Поежился от холода. Должно быть, с
усилием соображал он, прошло немало времени с тех пор,
как Сарт исчез за виадуком. Жаль — он не глянул на часы.
Но где же он так долго? Скоро вечереть начнет!
Барту провел рукой по шее и вдруг, скривившись,
застонал. И словно это была необходимость — начал тщательно
смахивать снег с плеч, с рукавов.
Внезапно инженер подскочил, будто подброшенный.
Мощный грохот, прокатившийся по ущелью, показалось
ему, сплющил его до бумажной тонкости. И вышиб из него
все, что составляло сущность молодого инженера вместе с
недавней и стыдной гордостью.
Барту упал, но тут же, извернувшись, как кошка, подполз
к краю виадука и закричал:
188
— Сарт!—затем, уже с явным ужасом, заорал: — Са-а-
арт!
Ответом был лишь нараставший внизу гул — серый, на
одной ноте, привычный шум горной реки.
Долго еще звал Барту Сарта. И когда в горле запершило
и голос стал хриплым,* он побрел, шатаясь, как пьяный по
почти уже засыпанным следам. Шел, падал и вставал,
чтобы снова идти. И какое-то парализующее замешательство не
давало ему сосредоточиться ни на одной мысли. Время от
времени он ударял ребром ладони по другой руке и стонал
длинно, мотая головой.
Было уже почти темно, когда Барту, совсем
обессиленный, ввалился в контору, напугав Расстригу.,
— Товарищ инженер!—быстро и взволнованно^
заговорил тот, сев на своем топчане.— Что случилось? Где
товарищ Сарт?
Барту опустился на стул, уставился куда-то в угол и
не замечал пристававшего Расстриги. Бывший служитель
культа ковылял по комнате, тряс инженера, спрашивал одно и
то же одними и теми же словами, пока в его
легкомысленной голове не мелькнула здравая мысль — напоить
инженера чаем. Барту покорно выпил целую кружку, потом
застонал и, качнувшись вперед, замер.
— Товарищ инженер!— приступил опять к нему
Расстрига.— Где товарищ Сарт? _
— Не знаю...— Барту говорил медленно, не отводя
взгляда от темного угла комнаты.— Кажется, погиб...
Потом повернулся к Расстриге и сказал уверенно:
— Погиб.
— Ай-ай-ай!..— минут пять ахал Расстрига и
всплескивал руками.— Такой человек! Как же так! Ай-ай-ай!..
Расстрига сел на свой топчан, продолжая охать. Потом,
через некоторое время черный силуэт бывшего служителя
культа зашевелился. *
— Товарищ Барту!—зашептал он взволнованно:—А
любопытно было бы знать — теперь как?.. Каково будет его
сыну? Ведь товарищу Сарту.'.. Ведь ему... Ай-ай-ай!..
— Что ему?— как эхо, безучастно спросил инженер.
— Ему послезавтра в городе надо быть, товарищ Барту!
Непременно надо быть! Во что бы то ни стало!— в голосе
Расстриги был ужас.
— Зачем? Что ты?— медленно повернулся к нему Барту.
— Вот беда-то, товарищ инженер! Ой, беда!— Расстрига
схватился за голову.— Там же у него увечный в шоферстве
189
сын! Лет десять уже мается в больницах! Сущий Иов
многострадальный! И не будь товарища Сарта, уже... того...
преставился бы... Вся семья — это они вдвоем. Товарищ Сарт
заставляет его верить в исцеление! Это он умеет. И
послезавтра решительная операция! Самая сложная! Какой-то
.доктор из центра прилетел! Товарищ Сарт должен быть
рядом — непременно!
— Зачем?
— Ай-ай-ай!..— застонал Расстрига.— Как же!
Недужный сын у товарища Сарта стал как ребенок! И не дастся,
если товарища Сарта не будет рядом! Измучился и не
дастся докторам! Он так и написал товарищу Сарту! Вчера было
письмо-то! Ай-ай-ай!.. — и охая, заковылял по комнате.
До Барту не скоро дошел смысл болтовни Расстриги. И
ничто, казалось ему, уже не способно было потрясти его. Но
когда он понял, наконец, в чем дело, то вскочил и схватил
Расстригу за грудь рубашки с такой силой, что тот
испугался за свою жизнь.
— Господи Иисусе!..
— Что ты мелешь! Повтори! Повтори!— закричал Барту.
Выслушав сбивчивый рассказ насмерть перепуганного
Расстриги, Барту разжал руки, покачнулся и, повалившись
на топчан, застонал, как от невыносимой боли.
Расстрига стоял над ним, и чуть не плача, повторял:
— Не может быть!.. Никак не может быть, чтобы
товарищ Сарт погиб! Это такой человек!— Он положил руку на
вздрагивавшее плечо инженера и крикнул:—Он очень
сильный! Он появится! Ведь есть же справедливость! Не имеет
права товарищ Сарт! Не имеет! Господи, где справедливость
твоя!— взвизгнул Расстрига.
И тут слова застряли у него в горле. Дверь дрогнула от
глухого толчка. Расстрига замер. Инженер пошевелился,
продолжая вздрагивать.
Дверь скрипнула и медленно отворилась. Затем, также
медленно, словно в раздумье, что-то белое вступило в
комнату, в которой именно в эту минуту вспыхнул яркий
электрический свет.
Сарт, весь облепленный снегом, с чугунно-черным от
холода лицом, стоял недалеко от двери и черными
непослушными руками пытался смахнуть с себя снег.
Расстрига застыл, как камень, и, раскрыв рот, с
радостным изумлением смотрел на Сарта.
Инженер поднял голову, издал какой-то сиплый звук и,
уже не стыдясь, заплакал...
190
РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Памяти матери Сидона Кудзагон
*-* двадцатом веке, когда рассудочность взяла
верх над чувствами, когда сами чувства — те, что
относятся к сердечному томлению и нежным
страстям — кажутся на индустриальном фоне столетия
неуместными, когда мы, прежде чем совершаем
жизненный шаг, чуть ли не математически точно
просчитываем все его возможные последствия,
говорить о романтике, о всплеске чувственных сил,,
оправленном в красивую впечатляющую форму,—
это, по меньшей мере, неожиданно, а по большей —
странно...
Все это так... Но, тем не менее... '
Тем не менее, случаются события, которые
иначе, как романтическими, не назовешь. И если тебе
повезло и ты, совершенно того не ожидая, оказался
свидетелем такого происшествия и даже вынужден
был расстаться на время со своим скептицизмом
относительно необыкновенной любви и связанных
с нею необыкновенных поступков, то можно смело
ручаться, что никогда не изгладится из твоей
памяти эта сверкнувшая тебе красота, хотя по
привычке человека двадцатого века ты иногда нет-нет
да и усмехнешься — да разве в наше время
возможно, чтобы...
Возможно! Всевозможно!..
Было это три года назад. Всю зиму я работал:
так напряженно, так у меня мало было времени на
отдых, что к весне накопившаяся усталость дала
о себе знать... Даже сама мысль о том, чтобы сесть
за письменный стол с намерением поработать,
была противна. А ежедневные десяток страниц,
которые в течение всей зимы составляли норму, весной
казались каторжной нагрузкой. Лень и апатия все
больше овладевали мной, и малейшая попытка
преодолеть их отупляющую власть приводила к еще
191
большей лени и апатии... И потому, когда один из моих
друзей предложил отдохнуть в его пустовавшем всю зиму
сельском доме, пожить наедине с природой и в полном безделье,
я сразу согласился, ибо как-то внезапно понял, что мне
именно это и нужно — жизнь на природе, нужна тишина с не
размеренной по часам жизнью..
Селение это находится на левом берегу Терека и
отличается той живописностью, при виде которой у городского
усталого гуманитария непременно появляется мысль об
Аркадии и безмятежной пастушеской жизни с простыми
удовольствиями и отрешенностью от суеты.
Левый, высокий берег в этом месте — террасный, причем
террасы вдут не от реки, как это обычно бывает, а вдоль нее.
И от этого большая долина на другой стороне реки с
разбросанными по ней селениями казалась еще обширнее —
особенно в солнечные дни с голубой дымкой, смягчавшей все
резкие черты этого поэтического пейзажа.
Домик моего приятеля находился на одной из таких
террас, и соседский дом со всем хозяйством и яблоневым садом
виден был как на ладони, так как располагался метров на
десять-двенадцать ниже. Это был небольшой по сельским
масштабам дом, с мезонином над серединой и с застекленной
галереей, удивлявший чрезвычайно четкими, несельскими
линиями, аккуратной кладкой стен и столбов из кирпича
насыщенного цвета.
Перед домом на покрытой бетонными плитами'площадке,
среди^ зеленой лужайки, стояли стол и стулья под шпалерами
с виноградными плетями. Хозяин усадьбы — крепкий еще
мужчина лет за шестьдесят — приходил домой поздно,
часов в восемь или девять. Впоследствии я узнал, что это был
агроном здешнего колхоза. И, вероятно, он жил не один, но
в первые дни я больше никого не видел.
Заботы мои были несложны — приготовить себе поесть и
потом, если не хотелось читать, закинуть удочку в воды
Тереку, который в этих местах был не таким бурным, как в
городе, так что даже можно было отыскать заводь,
Два-три усача, составлявшие добычу, требовали изрядной
подготовки, так как наживные черви вызывали во мне
неистребимую брезгливость еще с детства. И потому я
охотился ранними росистыми утрами на кобылок с
отсыревшими крыльями, не делавших попыток не только взлететь, но
даже пошевелиться.
Это доставляло удовольствие не меньшее, чем само
ужение, поскольку я охотился на нашем берегу Терека, где сре-
192
ди охряно-желтых пятен одуванчиков зелеными трефами
стлался ковер из трилистников дикого клевера...
Было начало мая. Вовсю цвели сады и буйно росли
травы после обильных апрельских дождей и при надолго
установившейся солнечной погоде. Смесью кипенно белого и
зеленого выглядело со стороны селение. Будто горы мягкого
трехдневного сыра были перемешаны с мелким крошевом
черемшиного листа для первых весенних пирогов.
Воздух, невесомый и текучий, свежий даже в знойные дни
из-за близкого соседства Терека, был напитан ароматом
цветущих яблонь и винным букетом нагретых трав. Он сам
наполнял грудь, не обременяя легкие, бодрил тело и возбуждал
душевные силы.
При несложных заботах у меня доставало времени на
праздную созерцательность, которую в городе я не мог
позволить себе. Часов в десять-одиннадцать, когда солнце
выкатывалось в зенит, я садился на скамейку и смотрел в за-
теречную даль, которая походила на раскрашенную
топографическую карту. И голубая дымка в воздухе меня радовала
так же, как и белые одиночные облака, дремавшие в синем
небе и напоминавшие кроны цветущих вишен.
Пассажирский поезд, скользивший по зеленой равнине,
уютно поблескивал стеклами вагонов. Солнце словно
перебирало золоченые клавиши громадного рояля, извлекая из них
вместо звуков жаркие вспышки, которые били в глаза. И от
этого в душе мешались и скользили ленивые мечты, как в
хрустальной глубине родника размытые блики солнечных
лучей.
Неопределенные желания томили душу. Это было то
состояние, когда даже самым счастливым людям хочется
жаловаться — без причины и неважно на что, потому что
трудно бывает возвращаться из царства поэтической грусти к
действительности.
Как-то во время такого ленивого времяпровождения — это
было на пятый или шестой день моего отшельничества — я
равнодушно посмотрел вниз, на соседский сад, и...
Если вы храните в своем сердде воспоминание, уже не
очень четкое и оттого еще более милое, или мечту, которая
даже при самом большом везении не может иметь
воплощения, но от которой, однако, едва она мелькнет перед
мысленным взором, вздрагивают сердечные жилы, а в душу мягко
ударяет очистительная грусть, то нетрудно будет понять, что
я почувствовал...
Внизу, на скамейке среди цветущих яблонь, сидела де-
13 Георгий Тедеев
193
вушка в ослепительно белом платье и смотрела на таявший
в голубой дымке горизонт. Сзади и с правого бока она была
освещена солнцем, и оттого трудно было разглядеть черты ее,
повернутого ко мне в профиль лица, но я почему-то был
уверен, что оно прекрасно. А пока все вместе — и ее
задумчивая поза, и немного вперед наклоненная голова, и это белое
платье, и пышные, иссиня-черные волосы, блестевшие, как
нити плавленной смолы — производило впечатление чего-то
нереального, как видение. Будто стоило мне только повернуть
голову, пошевельнуться, кашлянуть или как-нибудь
по-другому означить свое существование — и она исчезнет, растает,
как голубой шлейф дыма в пронизанном солнцем воздухе.
И ничего, кроме легкого стыдного сожаления не останется от
этой картины...
И потому я сидел неподвижно, как каменный, и жадно
смотрел на эту живую иллюстрацию к романтическим
произведениям. И по привычке горожанина я, глядя на нее,
время от времени начинал исследовать отрезвляющую мысль, что
во всем этом — ив наряде томной девушки и в самой
обстановке — есть что-то искусственное, есть какая-то игра,
неуместная в конце двадцатого века...
Ленивые порывы сонного ветра, который у нас бывает в
первые знойные дни мая, встряхивали цветущие яблони и
швыряли на землю хлопья белого облака, так что хорошо
очищенная от сорняков земля казалась посыпанной
мелкими перламутровыми пуговицами. Белые кружочки испятнали
скамейку, лежали у ног девушки, опускались ей на волосы,
выделяясь на их смоляном фоне, как жемчужины, садились,
вероятно, и на ее плечи, на колени, но на белом платье их не
было видно и об этом приходилось только догадываться.
А вокруг жужжали пчелы. Сердито, гитарным басом,
гудели одиночные шмели. Пели птицы — не самозабвенно, как
в начале весны, а торопливо, между делом — из-за сильной
занятости.
Кто она такая, спрашивал Я себя. Почему она дома?
В двадцать, двадцать два года — а ей было не больше и не
меньше — люди учатся или уже работают. А мое видение
пребывало дома... Положим, она работает. Следовательно, у
нее отпуск. Очень даже может быть.. Ну, да — девушка в
отпуску... Приехала домой и, соскучившись по сельским
пейзажам и тишине, созерцает и слушает... Наверно, так... И
если не совсем строгая логика моих рассуждений привела
меня к такому выводу и он казался вполне вероятным, то
194
сердце мое не принимало этого, подозревая, что это не так,
и даже желая, чтобы было не так.
Хотелось, чтобы она ждала кого-то — безусловно,
счастливого человека, ибо само это ожидание для того, кто был
его предметом, уже должно быть счастьем. По привычке
пишущего человека я развивал эту мысль... Пусть что-то
мешает, хотелось мне, соединяющему их чувству. Препятствие
такое, которое устранит само время или торжествующая
справедливость... И тогда — кто знает!— может быть, когда-
нибудь она расскажет ему, как ждала его, а он вспомнит,
как стремился к ней, сколько настойчивости и
изобретательности проявил он, чтобы сняться, наконец, и полететь к
своему счастью... А пока требуется терпение и, конечно, верность
чувству...
И когда я думал об этом, во дворе появилась еще одна
обитательница дома — древняя старушка, сгорбленная, вся
в черном, напоминавшая ворона. Она сердито, старчески
скрипучим голосом позвала:
— Ида-а-а!..
И столько осуждения и укора было в ее тоне, что Ида —
я теперь знал имя девушки — вздрогнула и, как мне
показалось, нехотя, но покорно пошла к дому.
Первое, что бросалось в глаза, было выражение мягкости
и даже кротости, оживленное, как я и полагал,
мечтательностью. Несколько ленивый склад белого нежного лица
казался даже печальным из-за угольно черных ресниц. В ней
странным образом сочетались здоровая свежесть с
элегической безропотностью. Так в поздних цветах, питаемых
остывающей почвой в конце лета, соединяются предосенняя
бодрость и какая-то нерадостная красота. Видеть Иду было
грустно и радостно одновременно. И мне думалось, что это
было то качество, которое не может не тронуть мужского
сердца, настолько оно неожиданно в наше время,
наполненное быстрыми и неотложными делами и потому породившее
у людей чересчур большую раскованность.
А вот из таких, как Ида, девушек, быстро мелькало в
голове, пока она^ неспешной походкой шла в дом,
получаются отличные жены — хранительнице очага и домашнего
уюта. В этом особенном взгляде, пусть даже направленном на
тебя, все же чувствуется неистребимая прикованность к
какому-то собственному миру, созданному воображением.
Воображение это — самое поэтическое, но создания его
являются достоянием только мечтательниц. Поэтическому' складу
таких натур не хватает энергии на действие, и оттого неж-
195
ные образы, с которыми они сжились, никогда не оживут
для других, ибо сама мысль о том, чтобы воплотить их в
музыку или стихи, кажется им кощунственной, а труд —
упорный, творческий труд, уже после первой попытки начинает
вызывать у этих мечтательных красавиц отвращение.
Так и живут они со своими мечтами. И эта вторая жизнь
делает их настолько привлекательными для мужчин,— быть
может, из-за не совсем осознанного желания сильного пола
заглянуть в воображаемый мир своих избранниц,— что
чувство, которое зажигают эти кроткие красавицы в мужской
груди, вечно и погибает лишь с мужским сердцем.
И теперь эта осторожность дряхлого человека вместе с
недовольством, которое явно показывала старушка,
свидетельствовала о том, что девушка пребывает под родительским
кровом отнюдь не по доброй воле, а только повинуясь кому-
то — самой ли старушке, отцу ли, матери ли, что в общем-то
никакого значения не имело, потому что эта мечтательная
красавица могла подчиниться каждому из этих людей.
Но зачем это нужно было?..
Я, разумеется, не мог ответить на этот вопрос, однако у
меня не было никаких сомнений, что дело тут — сердечного
свойства. И это скоро подтвердилось...
Как человек, не обремененный заботами, я рано ложился
спать, но перед этим выкуривал сигарету, единственную за
весь день. И потому перед сном выходил во двор. В тот
вечер, однако, я не успел даже прикурить от уже зажженной
спички, потому что внизу, на лужайке, увидел сидевших
вокруг стола людей. Над ними горела яркая лампа, так что
видно было даже торжественное выражение на лице отца
Иды. Напротив него сидели двое мужчин, лица которых
тоже выражали предельную важность.
Один из них был рыжий, такой же крупный, как
хозяин. Другой, помоложе — лет сорока пяти, сидел прямо, как
военный, и весь вид его говорил, что он здесь по очень
серьезному делу. На столе было все необходимое для такой
торжественности.
— Не пойму я тебя, хозяин наш добрый!— громко сказал
рыжий и, словно поддержки искал, посмотрел на своего
молодого товарища. И когда тот всем своим видом показал, что
он тоже такого же мнения и даже возмущен, рыжий
повернул голову к отцу Иды и продолжал: — Мы приезжаем с
другого конца нашего района, а ты нам только загадки
загадываешь. Ведь нет, сам знаешь, никакого изъяна у нашего Кай-
тара!
196
Хозяин утвердительно кивнул головой.
— Разве многие становятся председателями в его
возрасте?— спросил рыжий.
— Что и говорить!— неуверенно, не поднимая глаз,
сказал отец Иды.
— Разве ты слышал, что он курит, пьет?
— Нет,— хозяин помотал головой.
— Разве он некрасив?
— Кайтар выделяется своей внешностью среди других.
Его видно даже среди тысячи!— сказал молодой товарищ
рыжего и покрутил шеей в жестком обруче крахмального
воротничка и галстука.
— А его родители — разве можно о них сказать
что-нибудь недостойное!— начал возмущаться рыжий.— Дом —
полная чаша! Честные, хорошие люди! Да любая другая
девушка посчитала бы за честь сватовство Кайтара! А ты!..
— Нехорошо, хозяин наш добрый...— укоризненно
сказал молодой сват,— а что это были сваты, я уже не
сомневался.— А ты — мало того, что от тебя вразумительного
ответа не добьешься — ты еще посадил девушку под домашний
арест! А там ее, между прочим, работа ждет! К детям то
один учитель приходит, то другой! Ей-богу — прямо
средневековье!.. Эх ты!.. Алдар!..
— Прости мне, хозяин наш,— изменившимся голосом, с
нотками сочувствия в голосе, после некоторого молчания
добавил молодой сват.— Прости мне, но я думаю, что если бы
мать твоей дочери была жива, ей бы не понравилось то, что
ты делаешь...
Отец Иды смотрел куда-то в сторону и думал что-то свое.
И видно было, что он, хотя и смущен, однако нисколько не
поколеблен красноречием сватов.
— Да не камень же ты, хозяин наш!— оскорбленно и
громко начал рыжий.— Объясни, чем мы тебе не по нраву?!.
И не бери греха на душу. Не погаси по неумному упорству и
по небрежности пламя чистого чувства между двумя
молодыми и красивыми людьми!
Отец Иды посмотрел, наконец, на своих гостей — прямо.
И взгляд его выражал упорство — несокрушимое, не
поддающееся доводам рассудка, переходящее тем самым в
упрямство, глухое к здравому смыслу.
— Ни одного недостатка не могу отыскать у того, от
имени которого вы пришли ко мне,— твердым мужественным
голосом сказал он сватам.— А достоинства, что и говорить,
завидные — даже для парней постарше! Но я еще раз повто-
197
ряю, дорогие сваты, что не завязаться родственным узам
между нашими двумя фамилиями! Как вам это ни неприят-'
но и как это мне ни трудно, однако вам придется услышать,
а мне — выговорить, что таково мое окончательное слово.
И так как вы люди умные, то к этому моему слову вы
должны присовокупить мою непреклонность и серьезность,
которые вы, я думаю, должны были увидеть в моем не совсем
обычном шаге, когда я заставил бросить работу нашу дочь.
Ошеломленные сваты молчали.
— Я надеюсь,— после недолгого молчания продолжал
отец Иды,— я надеюсь, что ни вы, ни пославший вас род не
затаят обиды на меня и что и в час радости и в час горя мы
будем взаимно чутки, чтобы по обычаю нашему делить и то
и другое между собой.
— Э, хозяин наш,— протянул рыжий.— Обычно там, где
должно было возникнуть родство и не возникло, не
вырастает и взаимное благоволение, ибо разум и сердце не всегда
шагают в ногу. Но ты прости меня, наш хозяин,— рыжий
вскинул голову,— если я скажу, что в твоих словах
мужественной несговорчивости было больше, чем смысла, и вовсе не
было желания снизойти до нас и объясниться.
Рыжий взял полную рюмку и продолжал:
— И потому нам не остается ничего иного, кроме как
покинуть твой хлебосольный, но не очень-то гостеприимный
дом, которому мы желаем изобилия и яств и напитков...
Пусть ими будут обильны...— рыжий сват посмотрел на
отца Иды и сказал значительно:—...свадебные застолья и
пиршества в дни наречения младенцев!..
Он ударил рюмкой по бокалу своего младшего товарища
и, выпив тост, прибавил:
— Однако мы тоже упрямы. И потому полагаем, что
дело между нами еще не окончено. И просим — подумай, еще
раз подумай, наш хозяин, а уж мы не заставим себя долго
ждать...
Он встал и для вящей убедительности своих слов положил
руку на плечо Идиного отца и склонил перед ним свою
медно-красную голову. Затем, сопровождаемый своим
товарищем, пошел к воротам.
— Гостям мы всегда рады,— сказал хозяин, вставая,—
но ответ наш будет неизменен...
— Подумай, подумай!— посоветовал опять рыжий сват,
тем самым уже показывая упрямство, о котором он только
что говорил.— Подумай непременно, серьезно подумай!
Чтобы мы, как достойные уважения люди хотя бы объяснить
198
смогли пославшему нас дому — в чем состоит причина...
Дальше я уже не слышал, так как сваты и хозяин вышли
за ворота, но твердо знал, что причина этого упрямства отца
Иды — особенного свойства, раз он так глубоко таит ее от
тех, кто должен о ней знать.
В ту ночь я долго не мог заснуть, ища для себя причину
отказа сватам. Может быть, думал я, мой сосед
подыскал для прекрасной дочери более достойного жениха, чем
этот не известный мне Кайтар, которого сватьи, видимо,
аттестовали так хорошо не только по обязанности, но и,
кажется, в полном соответствии с истиной. Объяснения вроде
того, что девушке еще рано выходить замуж, что она
собирается учиться дальше и пр., я отверг как несерьезные. Ведь
отец Иды даже не сделал попытки прибегнуть к ним, хотя
их было бы вполне достаточно, поскольку сваты, как
водится у нас, обычно удовлетворяются таким ответом, несмотря
на то, что отлично могут знать, что истинная подоплека
отказа совершенно иная.
Два дня, прошедшие после этого события, у моих соседей
ничего особенного не происходило. Ида появлялась в саду в
одно и то же время,— наверно, после домашних дел,—
садилась на ту же скамейку и так же мечтательно смотрела
вдаль. И каждый раз недовольный окрик старушки заставлял
ее уходить.
И чем больше я видел ее, тем явственнее обозначался для
меня ее характер. В ней совершенно ничего не было от
уверенной самостоятельности и лихости современных девушек.
Так что если даже чувство ее к достойному во всех
отношениях Кайтару было самое серьезное, она скорее зачахнет,
как вырванный из почвы цветок, чем сделает решительный
шаг. А ее любовь — это часть ее поэтического мира, и
потому девушка никогда не будет счастлива с другим, пусть
даже самым завидным из всех женихов...
А время между тем шло.
Облетал яблоневый цвет. И серо-зеленая листва все
больше проступала в поредевшей белизне цветущих яблонь. Уже
потускнела, а то и вовсе исчезла перламутровая яркость
устилавших землю лепестков, которые4 теперь больше походили
на серую дробь ракушечника... .
И вот однажды, когда я опять вышел выкурить свою
сигарету, я снова увидел сидевших за уже известным столом
отца Иды и знакомых сватов.
Рыжий сват и его молодой товарищ были хмуры и не
скрывали своего недовольства.
199
Я присел на скамейку.
— Хозяин считает нас за несмышленышей!— обиженно
начал рыжий.— Ну, не отдаешь свою дочь, не хочешь с нами
породниться — что делать!— так тому и быть! Но никто не
давал тебе права оскорблять нас! Сваты всегда просители, но
это не значит, что они лишены гордости!
— Упаси нас бог от взаимных оскорблений!—
недовольно сказал отец Иды.— Но я ведь вас предупреждал, что
ответ мой будет неизменен. И если вы в этом видите обиду и
ущерб для себя, то остается лишь удивляться...
— Чем же это не ущерб, когда кроме упрямого «Нет!»
мы от тебя ничего не слышим! И ты после этого хочешь,
чтобы ни мы, ни пославший нас дом не затаили на тебя обиды
и ^оставались с тобой в приязненных отношениях!— Рыжий
был сердит по-настоящему.— Как можно предполагать так
мало гордости в нас!— воскликнул он и стал совершенно
красным.
— Лично я свою честь считаю задетой!— мрачно и с
достоинством сказал похожий на дипломата товарищ рыжего.
Наступило тягостное молчание. Наконец отец Иды
поднял голову.
— Дорогие гости!— глухо начал он.— Я вот ставлю
себя на ваше место. И вижу — действительно может
показаться, что я был небрежен с вами, так что обиду вашу понимаю
остро. Однако у меня не было ни малейшего желания
унизить вас, но если, тем не менее, получилось так, что вы свою
честь считаете задетой, то это только потому, что у меня
иного выхода не было...
— Так бывает,— продолжал он после короткой паузы,—
так бывает, если ты не приучен лгать и в то же время не
хочется говорить про истинную причину, которая в нашем
случае делает невозможным породнение между нами...—
здесь он посмотрел на своих гостей и с мрачной
насмешливостью прибавил: — И когда сваты слишком щепетильны...
— Дело не в нашей щепетильности...— угрюмо буркнул
рыжий.
Отец Иды не обратил на него внимания.
— Но, видать, правильно говорят — нет тайны средь
людей,— продолжал он по-прежнему глухо.— Она или сама
всплывет или люди помогут ей открыться. Как сейчас...
Он задумчиво посмотрел на своих гостей.
— Я вынужден объясниться — другого выхода у меня
нет,— проговорил он.— И я надеюсь, что моя откровенность
будет оценена, и вы отступите...
200
После этого он замолчал на целую минуту. То ли
трудно было ему приступить к разговору, то ли он с мыслями со-
брфался...
— Давно это было,— он опустил голову и рассматривал
свою левую руку, большой палец которой поочередно
касался других, словно успокаивал их.— Тогда моей матери,
которой сейчас больше ста лет, еще на свете не бьпло, а мой
родитель — да будет ему светло в стране мертвых!— отец Иды
привстал,— а мой родитель был еще младенцем. А отец его
и, стало быть, мой дед, от роду имел всего лишь двадцать
пять лет, так что чувствовал себя еще мальчиком при
собственном отце и моем прадеде, которому в ту пору
исполнилось сорок пять. Прадед мой был обладателем лучшего во
всей горной Осетии коня, ибо такого не было ни в Дигории,
ни в Туалии, ни у белых туалов за горами. Все Куртатин-
ское ущелье считало его своим и гордилось им, потому что
в состязаниях скакунов в дни общих праздников Осетии и на
поминальных скачках он ни разу не уступил первого приза...
— Конь был сокровищем, живым сокровищем и
достоянием всего рода и о нем заботились, не жалея для него
особого корма — овса, вареных яиц, жареного ячменя, как не
жалели и самого красивого снаряжения. Оно состояло из
седла с обтянутым кожей ленчиком и сафьяновой подушкой,
наполненной оленьей шерстью. Уздечка была убрана
серебряными накладками. На подперсье горело позолоченное
бронзовое солнце, а зазубренные стремена, подвешенные на
двойных, из буйволовой кожи путлищах с тиснением, были
звонки, как литые бубенцы. Серебряный налобник сверкал под
челкой, как звезда Бонварнон. Была и семижильная плеть
на ореховом кнутовище, хотя ничья рука не поднялась бы
оскорбить ею коня...
— Видите — я рассказываю о нем, будто только вчера
видел его. Из этого,— здесь отец Иды посмотрел на гостей,—
из этого вы можете заключить, что память о коне и,
особенно, о связанных с ним событиях никогда не умирала в
нашем роду...
— Таков был серый, в яблоках, жеребец — гордость
нашего рода. Конь под всадникам трепетал, как только что
пойманная форель. Переступал мягко, и тугие мышцы
катались под шелковистой кожей. Крутая шея была упругой, как
вынутый из рассола сыр...
Отец Иды разжал свою руку и снова посмотрел на
гостей.
— Благородное животное паслось вольно, так как было
201
приучено являться на зов прадеда,— рассказывал он
дальше.— Будто парящий орел, едва подрагивающий крыльями,
подлетало оно пружинящим скоком, исполненное
напряженной силы. Оно касалось щеки хозяина бархатно мягким
храпом и дышало парным теплом...
— И вот как-то,— отец Иды откинулся на спинку
стула,— и вот как-то, когда прадедушки не было дома,
прибежал мальчишка и крикнул, что какой-то молодец уводит
коня... Брат прадедушки взлетел на спину рабочей лошади,
схватил поданную ему кремневку и поспешил по охотничьим
тропам наперехват похитителю, ибо любым другим способом
достать его было невозможно. Не знаю, как там получилось,
но когда через некоторое время вслед за ним прибежали
родственники, брат моего прадеда был при последнем
издыхании. А конь и похититель исчезли...
Отец Иды замолк и опять занялся рассматриванием
своих пальцев, между тем как заинтригованные сваты ожидали
продолжения истории. Наконец, молодой сват не выдержал и
спросил озадаченно:
— И что? Какое отношение имеет к нашему делу эта
разбойничья повесть?..
— Отношение?— переспросил отец Иды и поднял глаза.—
А такое, что... Похититель был из туалов... Из того рода,
который послал вас сюда... Из вашего рода...
Над столом повисла тягостная тишина. Хозяин и гости
не смотрели друг на друга...
Первый пришел в себя рыжий сват.
— Неужели этот древний случай,— удивленно протянул
он,— помешает тебе быть разумным?..
— Я не имею права забыть то, что было...— ответил
отец Иды.— Моя мать жива. Она никогда не разрешит своей
внучке выйти замуж за... Видите ли,— голос хозяина
изменился,— она помнит, как в нашем роду хранили
окровавленное седло... С той рабочей лошади, чтобы когда-нибудь
рядом с ним положить другое — с коня похитителя или кого-
нибудь из ближайших родственников. Тоже окровавленное...
Так я думаю — это невозможно, чтобы она дала согласие на
породнение с вами...
— Агроном! Советский агроном и средневековье!—
изумлялся другой сват, пока рыжий ошеломленно смотрел на
отца Иды.
— Тогда будь последователен,— вдруг спокойно сказал
рыжий.— Возьми ружье и убей кого-нибудь из нас. Правда,
окровавленного седла не будет, но...
202
— Глупо! Это глупо — то, что ты говоришь, наш гость! —
хозяин поморщился.— И, кроме того, мне известно, что в тот
день в нашем роду не досчитались одного, а через неделю
в роду похитителя не досчитались двоих мужчин, так
что...
— Вот и хорошо!— обрадовался рыжий.—
Преимущество за вами! Выдайте за нашего парня вашу дочь и...
— Нет, не так. Преимущество за похитителями! Они
тоже ответили двумя убийствами...
— Какая дикость!— возмущенно вскрикнул рыжий.—
Ведь узнай об этом люди — смеяться же будут!
— Тем не менее — нам не породниться. Мои предки в
своих гробах перевернутся, если...
— Я считал, что такое только в книгах бывает!—
сокрушенно признался молодой товарищ рыжего и нервно
поправил свой галстук.
А рыжий сват был красный и злой. Я тоже был
ошеломлен. И если бы не слышал всего этого собственными ушами,
ни за что бы не поверил, что в наше время возможно
подобное.
«Монтекки и Капулетти!— мелькнуло у меня в голове.—
В двадцатом веке!»
Я встал, взволнованно прошелся по двору и вдруг увидел
далеко за Тереком огни пассажирского поезда,
скользившего во мраке, словно фантастическая змея в золотых
чешуйках. Затем услышал звучавшие где-то рядом звуки легкой
музыки. И я подумал, что если проявить терпение, то над
головой в звездной россыпи можно увидеть и пролетающий
спутник. А тут в десяти метрах от меня живой Капулетти
с агрономическим образованием спрятал за крепкими
засовами образованную дочь, лишая ее счастья из-за неумных
амбиций...
Я вспомнил чьи-то мудрые слова, что, стреляя в
прошлое, можно убить настоящее. А здесь выстрелы из прошлого
убивали чистое чувство двух ни в чем не повинных молодых
людей. Это было невероятно, но — было!..
Мой отдых стал для меня каким-то тягостным. Что бы я
ни делал — собирал ли кобылок, удил ли, предавался ли
праздному созерцанию просторов за Тереком, меня все время
отвлекала, занимая половину души, мысль, что мое
бездействие при виде такого произвола есть не что иное, как
содействие беззаконию.
Но, с другой стороны, что я мог сделать? Поговорить с
отцом девушки? Скажет, что не мое это дело... Обратиться в
203
сельсовет, в милицию? Едва ли мягкая, податливая Ида
признается, что над нею совершается насилие... Тут очень легко
можно оказаться в смешном положении. К тому же такая
помощь была бы травмой для нежной поэтической души
девушки...
Оставалось ждать естественной развязки запутанного
дела.
Однажды вечером, когда на западе горел багряный
закат, от которого мелкие камни и песок на берегу Терека
казались красны, как кирпичная крошка, а гладкие листочки
остреца так отсвечивали розовым, будто они были
откованы из плющенной меди, я возился с запутавшимся
поводком удочки. И перебирал какие-то скучные мысли,
подавленный величием заката.
И потому я вздрогнул, когда внезапно за моей спиной
раздался приглушенный грохот подков о камни мелководья.
Обернулся... И от неожиданности уронил поводок и даже
вынужден был посторониться — рядом, на крутой берег взвился
гнедой конь, вылетевший из малиновых струй Терека. Алый
всадник припал к его шее. Следом за гнедым ревниво махнул
из воды на кромку обрыва и привязанный к его седлу серый
в яблоках.
Мелькнуло артистически выразительное — чернобровое,
черноусое — молодое лицо всадника. Окатив меня свежим
водяным прахом, кони рванули в село.
В янтарном отсвете заката гнедой переливал медью, а
серый в яблоках был розов, словно его искупали в красном
вине. И горела, полыхала на них сбруя, искрилась на всаднике
папаха из золотистого каракуля и пламенела алая черкеска.
И все это вместе кололо глаза, вспыхивало, как осколки
разбитого зеркала, пока вся группа не исчезла под деревьями
на подъеме дороги...
Я стоял окаменело. Ошеломляло внезапное появление
этой живописной группы, поражала ее стремительность и
порыв, и ослепительный наряд всадника, и богатое убранство
коней, и даже их яркая, какая-то открыточная масть.
Для маскарада и ряженья это было слишком серьезно,
для строгого дела — слишком необычно. Я не знал, что
думать...
И — странно — почему-то на душе у меня стало смутно.
Словно скучный осенний туман, ко мне начало
подкрадываться какое-то нехорошее настроение —^ серое, отравляющее,
с раздражением и обидой, словом, то тягостное внутреннее
состояние, которое имеет свойство ловчей сети паука — опу-
204
тывать душу тем вернее, чем сильнее хочешь вырваться из
его липкой власти.
Я знал, что самое верное противоядие в этом случае —
дело. И потому с волевой, вымученной внимательностью
взялся за распутывание самой тонкой лески, из которой был
сделан поводок. И когда это несложное, но канительное дело
увлекло меня и уже успокаивало, опять за моей спиной
раздался звон подков.
Я оглянулся и — опять вздрогнул.
Рядом, поворачиваясь, как флюгер перед грозой,
переступал гнедой конь. Его седок придерживал левой рукой Иду,
которую посадил на шею благородного животного. Нежное
лицо девушки, смущенное и счастливое, сияло стыдливым
румянцем.
По черкеске Кайтара — а это был, конечно, он!—
струились языки мягкого малиного пламени, зажженного
закатным багрянцем. Начищенной медью горел пугливый, в
нервном трепете, конь. Играли алыми вспышками
многочисленные бляхи на сбруе. Метались розовые блики от
фрагментов наборного ремня на узкой талии жениха. Ронял
сиреневые искорки каракуль папахи...
— Я вас очень прошу,— Кайтар наклонился ко мне,—
очень прошу навестить вечером упрямого родителя Иды...
Конь повернулся на месте, задрав голову и разинув
розовую пасть, но Кайтар сладил с ним.
— ..и передать ему, что я взял то, что он прятал от меня
и чего я не мог не взять...
При этих словах Ида низко склонила свою прекрасную
голову. Стыдливый румянец рдел на ее нежных щеках.
— И еще прошу передать,— Кайтар посмотрел на меня
весело и хитровато,— что я вернул серого в яблоках
жеребца, которого мои предки увели у их предков. Он привязан к
кусту сирени... И седло его,— пусть он это заметит и
покажет бабушке Иды,— и седло его окровавлено. На нем — моя
кровь...
И Кайтар показал крестообразный надрез на ладони
левой руки.
— Что же касается того, что наша фамилия должна им
одного человека, то пусть пересчитают — не одного, а
двоих... Правда, Ида?..
Девушка опустила голову так низко, что смоляные пря-.
ди свесились и с двух сторон закрыли ей лицо.
— А бабушке, пожалуйста, передайте, что Кайтар
сожалеет, что так получилось — ну, без ее согласия... И еще
205
жаль, что она не видела меня — этот наряд для нее!—
жених засмеялся и оглядел себя, затем вскинул руку с
висевшей на запястье плетью и тут же послал коня умелым
движением шенкелей.
Гнедой прямо с берега плюхнулся в Терек. Ида
взвизгнула, Кайтар что-то крикнул...
Конь, по-дельфиньи выпрыгивая из воды, ринулся
поперек течения. Гремели камни, взлетали брызги, развевался
сносимый течением хвост гнедого...
Вылетел конь на мелководье, примерился и прянул на
берег, присел, коснувшись хвостом земли, и, мягко
оттолкнувшись, поскакал — пружинисто и неспешно. И на фоне
заката крупные брызги стекавшей воды казались
сыпавшимися с порванного ожерелья кораллами. И чем дальше
уносил конь своих прекрасных седоков, тем больше
расплывались контуры всей группы, пока она не стала похожей на
большую розовую птицу...
Два счастливых человека уносились в багряную даль, в
розовую страну счастья, и ослепительная окантовка
барашкового облака на горизонте казалась дверью в нее...
Я следил за ними, и на глазах у меня от чрезмерного
напряжения выступили слезы. А отвести взгляд — не
доставало сил, потому что увиденное счастье, пролетевшее мимо,
Есегда оставляет после себя уныние... Скучно бывает вокруг
и уныло...
И как-то внезапно я понял, что отдых мой кончился —
гораздо быстрее, чем я полагал...
А чуть позже с удивлением заметил, что яблоневый цвет
облетел — весь...
ПОЛУНОЧНЫЕ СИГАРЕТЫ
Н ачалось это с самого обычного дела.
По совместному заказу нескольких колхозов,
вместе выпасавших свои отары на отгонных
пастбищах, наш проектный отдел разработал, после
небольших изысканий на месте, проект небольшого
участка горной дороги, которой пользовались
заказчики. Работа наша вполне удовлетворила
колхозных руководителей и те быстро, без задержек,
подписали чертежи. Но когда бумаги принесли на
утверждение к дорожным строителям, то кто-то из
них высказал предположение по поводу лавино-
опасности прилегающих к дороге склонов. Этого
было вполне достаточно, чтобы наше начальство
насторожилось.
Последовало немедленное распоряжение —
дополнительно обследовать придорожный рельеф и
установить места возможного схода лавин. Выбор
руководства пал на меня — и я согласился с
радостью. Лето былд в разгаре — почему бы,
рассудил я, не пожить несколько дней на чистом
воздухе среди диких скал!.. Тем более что я иногда
чувствовал себя не лучшим образом, так что даже
пристрастился читать журнал «Здоровье» и не
пропускал ни одной медицинской статьи в газетах.
Мне быстро оформили двухнедельную
командировку, дали отпечатанную на синьке карту
местности и ключ от дома, принадлежавшего дорожным
строителям, некогда купившим его у наследников
какого-то горца. Кроме того, мне объяснили, что
в доме есть все необходимое для временного
проживания: стол, стулья, тахта вместо кровати, а
также кое-что из посуды и даже электричество.
Уже на другой день, отмахав не менее
пятнадцати километров от последнего населенного пункта,
доступного автобусу, я остановился перед своим
временным жилищем...
207
Странный это оказался дом. Было в нем что-то от
древних святилищ и склепов, а что-то было и от боевых башен.
Это было сооружение, не имевшее, вопреки горскому обычаю,
ни веранды, ни даже террасы. Невиданно толстые стены,
выложенные из колотого бурого камня, наклонялись внутрь,
как в боевых башнях. Узкие и вытянутые окна больше
походили на бойницы. Двускатная крыша с серым от старости
деревянным фронтоном была покрыта плитками аспидного
сланца вместо черепиц. Наверно, только родовые мавзолеи,
мертво застывшие в наших горах, могли еще иметь такую
приземистость и незатейливую архитектуру. ^
К входной двери я поднялся по лестнице из трех
тяжелых, как старые могильные памятники, едва обработанных
глыб, покрытых чешуйками табачно-зеленых лишаев.
Окованная шинным железом дверь зловеще
заскрежетала, и я вступил в довольно большую и низкую комнату,
некогда, наверно, служившую гостиной, так как в ней стоял
длинный, цвета жареной бычьей печени стол. А возле него
вытянулась такая же длинная тахта, вплотную придвинутая
к глухой стене. Сперва мне показалось, будто тахта имела
сиденье из сдвоенных досок, что меня несколько удивило, —
•к чему бы? — но, приглядевшись, я понял, что сиденье
просто откидное, из двух половин, так что верхняя, откинутая на
выдвижные ножки, превращала феодальную мебель в
подобие жесткого дивана.
К столу были придвинуты несколько старинных того же
мрачного цвета кресел с высокими прямоугольными
спинками, венчавшимися резными полукружиями. Спинки
касались столешницы и тоже были покрыты резьбой — как я
заметил позже, растительным орнаментом вместе с
солярными знаками и спиралями.
Тяжелые, со следами топора балки и опиравшийся на
них потолок из почерневших тесаных досок, между
которыми темнели щели, сообщали обширной комнате все ту же
угнетающую суровость. Поневоле вспоминались романтические
преступления, которыми в прошлом изобиловали наши горы
и которыми в своем начале питалась наша молодая
литература. Феодальную обстановку дополняли навесные полки с
кое-какой посудой и несколько ниш в толстых каменных
стенах, тоже казавшиеся мебелью.
А два узких окна пропускали столь мало света, что в
комнате стоял полумрак, хотя во дворе было еще довольно
светло.
К большой комнате примыкала еще одна, поменьше, ког-
208
да-то являвшаяся, видимо, кладовой. Об этом
свидетельствовали оставленные в ней дряхлые вещи: несколько
пересохших кадушек; прислоненные к стене и треснувшие от
старости долбленые корыта; медный, с решетчатым донышком таз
и плетеные из хвороста полки для дозревания сыров, а
также тот неистребимый запах, который навеки, кажется,
остается в помещениях для снеди.
При скудном свете, сочившемся в узкое, похожее на щель
оконце, едва можно было различить прямоугольную
подвальную крышку на полусгнивших кожаных петлях и с кожаной
ручкой. Над подвалом со щелястого потолка свешивалась
тусклая от давней пыли электрическая лампа на
облепленных паутиной проводах.
Вообще электричество в этом доме было единственным
признаком двадцатого века. И пять или шесть рядом
расположенных выключателей возле двери большой комнаты и с
десяток настенных патронов с лампочками и без них,
привинченных на противоположных стенах, не удивляли.
Казалось, хозяин этого мрачного жилища задался целью изгнать
вечные сумерки из каменных покоев. Но только трудно
было понять, каким выключателем какую следовало лампу
зажигать — скрытая прокладка проводов мешала этому.
Однако это меня не беспокоило, ибо я надеялся разобраться в
выключателях потом.
Осматривая комнаты, я: заметил и старые, совершенна
почерневшие пучки трав, висевшие на потолочных балках.
И вспомнил, как у нас в отделе рассказывали про
последнего жильца этого дома. Это был нелюдимый старик — не то
травник, не то знахарь. Ему, как это часто бывает,
приписывали необыкновенные способности по части излечения самых
тяжелых недугов. Он легко справлялся со стригущим
лишаем, выводил пигментные пятна на коже. От его настоев
рассасывались жировики и другие опухоли. Старик, кроме того,
умел отваживать от табака самых закоренелых
курильщиков. Впрочем, я был занят оформлением командировки и
потому слушал вполуха.
И теперь этот таинственный горец, которого я ни разу не
видел, представлялся мне полуфантастической фигурой, чему
немало способствовала древняя обстановка мрачного дома.
Нежилой дух комнаты — обиталища знахаря, а также
вся эта гнетущая обстановка с тяжелой мебелью, уместной
разве что в краеведческих музеях, действовали на нервы.
Так и казалось, что сейчас из темного угла выйдет лохматый
дед, бесплотный, как этот полумрак суровых комнат, и уста-
14 Георгий Тедеев
209*
вится на меня удивленно и вопросительно. Я почувствовал
себя подавленным и каким-то особенно усталым. И потому,
свалив свои вещи на тахту, поспешил во двор...
Однако и во дворе было не очень радостно, хотя зелени
вокруг было много. Дом находился не в самом ущелье, а в
блюдцеобразной впадине его ответвления. Она в
поперечнике имела не более трехсот шагов, и холмы, ее
образовавшие, были расположены вдоль почти правильной
окружности. От этого впадина имела какой-то искусственный
вид, будто появилась на свет не по прихоти природы, а по
мрачному замыслу нелюдимого человека, преследовавшего
только одну цель — уединиться, быть подальше от людских
глаз. И не будь этой обильной зелени, впадина напоминала бы
лунные цирки — как их рисуют в учебниках по астрономии.
Цепь холмов прерывалась только в одном месте, которое
было собственно ответвлением, очень походившим на
искусственный коридор для сношений с остальным миром,
привязавшим через него к себе и дом и впадину двойной линией
проводов на нестандартных электрических столбах. И
крючья, вбитые в балку под козырьком крыши, казались
старческими пальцами, судорожно вцепившимися в плетеные
провода, намотанные на их фарфоровые суставы. И еще мне
казалось, что дом страшился своего одиночества и очень
дорожил этой связью...
Я загляделся на крючья и споткнулся о деревянную
лестницу, валявшуюся в бурьяне перед домом. Стало скучно,
даже почему-то тоскливо...
Когда стемнело, я пощелкал выключателями в поисках
тех из них, которые были связаны с висевшими на стенах
лампами. Несмотря на то, что свет горел на обеих стенах, в
углах комнаты все же таился мрак. И я с неудовольствием
подумал, что если бы здесь повесить даже самые сильные
светильники, то и они не прибавили бы радости этому
скучному дому. От этого ли или еще от чего-нибудь, я все время
чувствовал тревогу и казался себе несправедливо
обиженным. И даже злился — зачем согласился поехать в этот
медвежий угол?..
Ужинал поздно и нехотя — все никак не мог
освободиться от непонятного оцепенения, которое, прежде чем
отпустило меня, почти съело весь вечер. Деревянно жуя хлеб с
сыром и запивая скромную трапезу чаем, вскипяченным на
электроплитке, я всерьез думал над тем, как побыстрее
управиться с работой и уехать раньше, чем истекут
командировочные две недели...
210
Мне все время казалось, что в комнате есть еще кто-то,
кроме меня. Впечатление это было самое нехорошее. И так
как у меня не было с собой ни книги, ни приемника,
которые бы помогли мне отвлечься, то я решил — спать.
Убирая со стола, я все время почему-то оглядывался на
темные щели окон, потом мои глаза сами собой
поворачивались к человекоподобным креслам. Торжественный ряд пяти
или шести кресел перед пустым длинным столом напоминал
какое-то ритуальное сидение безмолвных людей. Я даже
ожидал, что одно из кресел сейчас пошевелится и как-нибудь
покажет свое неудовольствие моим бесцеремонным вторжением
в их ежевечернее таинственное бдение. Это ощущение была
столь сильно, что я только большим усилием воли отвернуя
свои глаза от темных и хмурых и будто насупленных кресел
и стал неуверенно вытягивать выдвижные ножки тахты.
Справившись с этим делом, я опять оглянулся. И тут
почувствовал спасительный стыд. Что в самом деле такое?—
подумал я — не в детство же впал! И, адресовав самому себе
очень нелестное слово, я спокойно опустил откидную
половину сиденья и получил таким образом слишком широкое и
слишком длинное для одного человека ложе.
Старый матрац с комками ваты внутри, оставленный
здесь дорожниками, а может быть, даже таинственным
стариком, и верблюжье одеяло с постельным бельем, которые я
привез с собой,— этого было вполне достаточно, чтобы
чувствовать себя в меру устроенным.
Перед тем как лечь, я вышел во двор. В темноте впадина
показалась мне глубокой, как колодец. Круг неба надо мной,
очерченный краями впадины, был усыпан необыкновенна
крупными звездами — будто кто-то расточительно щедрый
кинул небрежной рукой на линялый шелк цилиндрики
рольного серебра. Я стоял немного смущенный и подавленный, с
задранной головой, пока мимо не мелькнула тень,
издававшая металлический скрежет — летучая мышь. Я вздрогнул.
И в это время над краем впадины зашуршал мелкий гравий,
как это бывает, когда кто-нибудь неосторожно ступает па
каменной осыпи.
Это мне не понравилось и ^ поспешил в дом. Закрыл
дверь, проверил надежность задвижки из толстого полосового
железа. Опустил на пробой запорную дужку и даже проверил—
не соскочит ли, если толкнуть дверь. После этого долго
вслушивался в мертвую тишину дома, отчетливо различая в ней.
лишь грохот собственного сердца, на который, мне иногда
казалось, накладывался еще один звук — однотонное гудение
211
мягкого тембра. Это заставляло настораживаться. И я,
помимо воли, все время прислушивался, стараясь невероятным
внутренним усилием отвлечься от слишком громкого—потому
что я задерживал дыхание—шума сердца. Временами это
удавалось и тогда я слышал гудение, но так, что трудно было
понять — то ли оно чудится мне, то ли действительно
существовало. И всякий раз это продолжалось до тех пор, пока стук
сердца не врывался обвальным грохотом в уши, хороня под
собой однотонное гудение...
Выключив свет, я долго еще томился на своем
циклопическом ложе. И широко открытыми глазами смотрел на
узкие полосы размытого света, в которые превратились окна
против меня. И они казались мне похожими на мечи
сказочных великанов, повешенные на стене. И еще думал о том,
что трудно будет мне уснуть в эту ночь...
Уснул, однако, быстро — усталость и волнение вместе с
чистейшим воздухом сделали свое дело...
Проснулся рано, с ощущением необыкновенной бодрости
во всем теле. Я встал, прошелся по комнате и как-то
толчком, внезапным решением, положил себе легко и
воодушевленно, что непременно проведу здесь отпущенные мне на
командировку две недели. Но тут я вспомнил про свои ночные
волнения и сник. И даже когда вышел во двор, в зеленую
чашу впадины, и увидел над ней лучи утреннего солнца,
переброшенные от одного края до другого, как жемчужные
балки, державшие на себе кровлю голубого неба, то первым
моим чувством была не радость от такой красоты, а
унизительный стыд за трусливое ночное беспокойство. И я знал, что
он еще долго будет мучить меня, как заноза, застрявшая под
ногтем, но знал и то, что надо побыстрее приняться за дело,
чтобы это чувство отпустило меня...
Работа моя была несложная, но надо было много лазить
по придорожным склонам, отыскивая признаки лавиноопас-
ности, которыми являются прежде всего характерные
ложбины на склонах, похожие ца след гигантского сошника,
содравшего верхний пласт земли. Это также обломочный
материал на зеленых отлогостях и скальные глыбы, лежащие
на моховых подушках или прошлогодней траве. О лавино-
опасности свидетельствуют и мелкие камешки на
поверхности крупных валунов, так как появление такой каменной
крошки объясняется только ее вытаиванием из обвального
снега. И все это надо было замечать и наносить на карту,
которой меня снабдили в отделе.
За день с непривычки я сильно утомился, так что вече-
212
ром надколенные мышцы у меня дрожали, а в самих
коленях я чувствовал неприятную щекотку — признак крайней
усталости. В общем, у меня едва хватило сил поставить
чайник и кое-как поужинать.
К этому времени в ущелье наползли сумерки, так что в
доме стало совсем темно. И потому после ужина, когда я
понес сумку с провизией в кладовую, я щелкнул
выключателем у входа в нее.
И мне стало не по себе.
На крышке подвала валялся окурок сигареты!..
Я ошеломленно уставился на свою находку. Секунд
десять я был в оцепенении, потом, с трудом оторвав взгляд от
окурка, тревожно огляделся вокруг — мне казалось, что кто-
то вот-вот должен был выступить из темного угла кладовой
и недобро усмехнуться. И если прошлой ночью я испытывал
только непонятное волнение, то теперь это был самый
малодушный страх, готовый перерасти в панику.
Было тихо, так что я опять слышал грохот собственного
сердца, и, как мне казалось, все то же однотонное гудение...
Наконец, минуты через две, стараясь не шуметь, чтобы
не заслонить иной возможный в доме звук, я подошел к
крышке подвала,— наклонился и взял окурок.
Это была четверть сигареты — ровно столько, сколько
оставляют курящие, когда знают, что в любое время вынут из
пачки новую сигарету и насладятся ею. Такой окурок при
нехватке курева иногда почему-то называют «сорок» или
«бычок». Обугленная часть его оканчивалась спекшейся
массой, без признаков золы, из чего я заключил, что сигарету
курили часов шесть назад. Другой, пожеванный конец уже
потемнел и даже крошился в пальцах, как мертвый мох,
распространяя вокруг обычное, свойственное только
пепельницам и окуркам зловоние...
Откуда он мог взяться?..
Вздрагивая от нехорошего ощущения на спине, как это
бывает, когда чувствуешь на себе чей-то недобрый взгляд, я
поспешно вернулся в комнату. И, оглядываясь на кладовую,
стал рассматривать замок, лежавший на столе. Я не мог
быть очень внимательным, но нетрудно было заметить, что
это был старинный тяжелый, в сварном корпусе, замок, так
что едва ли кто-нибудь смог бы открыть его. К тому же и
ключ нелегко было бы повторить, потому что он имел
сложную бородку из трех частей разной длины с трапециедаль-
ными желобками в них и тонкими уступами по краям
каждой части. Нет, это невозможно, решил я,— дверь никто не
213
открывал... А окна? Я посмотрел на окна, будто видел их
первый раз. Рамы были без створок, вмазанные в
углубления стены, и даже не имели форточек. Кроме того, они были
так узки, что не только взрослый человек, но и мальчишка
не протиснулся бы даже в оконные проемы.
Откуда тогда окурок?..
Я с лихорадочной поспешностью включил все лампы в
комнате. Выключатели щелкали, как пистолетные выстрелы,
и словно ударяли по сердцу. Я замер с болью в груди,
напряженно ловя малейшие шорохи и трески...
Это был томительный вечер с изнуряющим напряжением
нервов. И только гораздо позже, уже недели три спустя, я
понял свое состояние. Все чувства мои, кроме слуха, были
подавлены. Так — мои глаза ни на чем не могли
остановиться. От этого обстановка комнаты представлялась мне
нечеткой, как общий фон. Не могу также сказать, тепло ли было в
комнате или прохладно. Я не чувствовал и даже ясных в
другое время запахов, надолго остающихся в помещениях, в
которых никто не живет. Это была странная оцепенелость
чувств, как у лягушки перед змеиной пастью.
А между тем я искал ответа...
Возможно, заторможенно соображал я, этот окурок
лежал на крышке подвала и вчера, и позавчера, уже долго,
может, лежал. И нужно было именно то странное волнение
прошлого вечера, чтобы не заметить его, а потом, уже
заметив, придать ему значение, которого он не заслуживал. Так
как это было единственно разумное объяснение появлению
злосчастного окурка, то я остановился на нем и, кажется,
даже поверил, что дело обстояло именно так. И то, что я еще
вчера, сразу после приезда, видел крышку подвала и даже
помнил, что на ней ничего не было, теперь я старался
отмести в дальние закоулки ума. Это мне пока удавалось, но
как-то не очень надежно. Достаточно было посмотреть на
лампы, которые горели на двух противоположных стенах и
потрескивали, как церковные свечи, и страх мой возвращался
вместе с неприятно твердой уверенностью, что крышка
подвала вчера была без этого. окурка. А я хотел бы
сомневаться...
Свет все-таки был слаб, зато сильной казалась опасность,
затаившаяся где-то тут — в доме или во дворе. Где — я не
знал, но всем существом чувствовал — она есть!..
Долго такое напряжение не могло продолжаться, потому
что душевные силы уже истощались. И тогда я принял
странное и непоследовательное решение, которое, как я потом понял,,
214
было единственно правильным — я решил выключить свет и
лечь спать. В этом, разумеется, был свой недостаток,— я
лишал себя возможности видеть окружающее и, следовательно,
заметить вовремя опасность, которая могла появиться. С
другой стороны, не видя феодальной обстановки с
неистребимыми сумерками, можно было, как мне казалось, успокоиться
и даже уснуть.
Я выключил свет и, устроившись на своей циклопической
лежанке, замер, вслушиваясь в шорохи чернильного мрака
комнаты. И опять мне казалось, что я слышу тихое и
мягкое гудение, в которое уже совсем отчетливо врезался
размеренный и похожий на тикание карманных часов скрежет
жучка-древогрыза в досках старого стола. Насекомое точило
дерево в течение пары секунд, потом замирало внезапно,
будто испорченные часы останавливались. После этого в
комнате раздавалось только неясное гудение, которое то ли
действительно существовало, то ли чудилось мне. А там
дальше, через правильные промежутки времени, снова
начинало тикать — жучок был неутомим.
И от всего этого ночная тишина казалась мне
порожденной недобрым намерением некой враждебной силы,
таившейся во мраке, для которой враждебность к человеку была
такой же принадлежностью, как яд для змеи. Сила эта мне
представлялась бесформенной, как мрак, и оттого — опасной.
Нервы мои — я физически это чувствовал — были натянуты,
как готовые лопнуть струны. Я, уже который раз,
задерживал дыхание и, умирая от нехватки воздуха, снова
вслушивался в зловещую тишину. И как ни странно, верил, что эти
человекоподобные кресла, невидимый во мраке стол, тахта,
на которой я лежал, толстые балки над головой и каждая
вещь в комнате видели тут еще кого-то, кроме меня, и что
они тоже боятся этого таинственного существа.
Так продолжалось довольно долго. Может, час, может —
два. Время как будто остановилось. И в своей тревоге я опять
утверждался в мысли, что уеду гораздо раньше, чем
истечет срок командировки. И это было единственной радостью,
поддерживавшей меня.
Но вдруг меня что-то насторожило. Медленно привстав на
локте и вытянув шею, я весь, без остатка, обратился в слух,
потому что услышал явственный звук, который издает
спичка, когда ею чиркают по терке коробка. Потом, после паузы,
на сером фоне тишины начали проступать пятна
шаркающих звуков, доносившихся из кладовой. Будто там кто-то
ступал в войлочных тапочках трудными старческими шага-
215
ми по полу, или будто крался. Звуки замерли так же
неожиданно, как и возникли. И снова повисла напряженная
.тишина, которую страшно было тревожить даже дыханием.
Затем, после томительной минуты, в жуткой тишине
раздался скрип открываемой двери. И, повинуясь гипнозу этого
звука, я медленно, не по своей воле, сел в постели, тут же
обездвиженный крепкими путами ужаса и любопытства. Я
уже знал — что-то будет, но не знал — что. Последовавшая
за этим пауза тишины чуть меня не убила, потому что я не
дышал. И когда услышал совершенно уже неожиданный
здесь звук, тот шумный и могучий выдох, который обычно
делает легший на землю грузный вол, я больше не
выдержал.
Грудь моя исторгла звериный вопль, а сам я взвился,
как подброшенный,— и в мгновение ока перелетел к
выключателям. Свет туго ударил в стены комнаты, так что я
вынужден был прикрыть глаза, успев, тем не менее, увидеть
отходившую дверь кладовой. Еще через мгновение я впился
взглядом в темный прямоугольник приоткрывшегося
дверного проема, ожидая появления неведомо кого. И если бы
увидел хоть какое-нибудь движение, если бы мне померещилась
хоть какая-нибудь тень, я бы, возможно, умер, ибо не для
благополучного горожанина предназначены такие
потрясения!..
Однако время шло, и в кладовой было тихо. И вообще
стояла такая тишина, что не слышно было даже привычного
мне гудения...
Сколько это продолжалось, не знаю, но наступило время,
когда я почувствовал, что дальше это невозможно — стоять
оцепенело, с пересохшим горлом. Я оторвал руку от
выключателей и, ведомый смертельным любопытством, направился
к кладовой. У порога остановился и, прислушавшись,
включил свет. Затем, еще выдержав несколько секунд, заглянул
внутрь...
Там все было как днем. Так же стояли кадушки, на
стене попрежнему висели два долбленых корыта и старое
решето, а внизу, около медного. таза, шевелились клочья
паутины от слабого тока воздуха из старого крысиного хода. И я
подумал, что, может быть, это был порыв ветра — он
толкнул дверь и она в своей покосившейся раме начала медленно
открываться-
Может быть, конечно.. Может быть...
Легкий озноб сотрясал мое тело мелкой дрожью. И на
спине, между лопатками, сильно студило кожу. Несколько
216
раз меня судорожно передернуло. Я почувствовал такую
разбитость и такое равнодушие, что поспешил лечь...
Случилось невероятное — я уснул — так истощило меня
нервное напряжение. И проснулся поздно, когда солнце было
на полпути к зениту. Впадина вся была наполнена ярким,
смягченным зеленью светом. И опять ночные переживания
показались мне стыдными. Утешало только то, что кроме меня,
о моих страхах никто не знал.
Утро было такое хорошее, что я быстро взбодрился. Взял
брюки с подлокотника кресла и почему-то прошел в
кладовую. Посмотрел на холмы сквозь мутное стекло
единственного окошка и начал одеваться. Прыгая на одной ноге, я
другую пытался продеть в штанину и смеялся от
мальчишеского азарта — хотел устоять во что бы то ни стало. Это было
не совсем просто, потому что в промежуток между двумя
пальцами попал какой-то шов, и меня повело в сторону. Я,
однако, умудрился освободить ногу. И когда она уже без
всяких помех проходила в штанину и я уже торжествовал
победу, потому что больше не надо было опасаться падения,
именно в эту минуту торжества я и упал. И было от чего!..
На крышке подвала, на том же месте, что и вчера,
валялась сигарета! Целая сигарета!!.
Она коротким белым штришком перечеркнула щель
между досками. И я, мгновенно окаменев, уставился на свою
находку.
— Что за наваждение? Откуда?..
Я кинул несколько быстрых взглядов вокруг, но
находка неодолимо притягивала к себе все мое внимание, и мои
глаза сами завороженно поворачивались к ней.
Это была сигарета с желтым фильтром и полупустой
гильзой, словно кто-то в задумчивости слишком долго разминал
ее перед тем, как закурить и, увлекшись, не заметил, как
испортил папиросу. А когда заметил — в сердцах бросил. А,
может, ему даже помешали и он уронил ее, торопясь
спрятаться. И теперь вокруг валялись желтые табачные крошки,
показывавшие, что курильщик чувствовал себя как дома. И
кто знает, он, возможно, и находился дома, — подумал я, —
так что, если захочет, в любую минуту обнаружит свое
присутствие.
Совсем недавно страх казался мне совершенно
невозможным в такое светлое утро при высоко поднявшемся солнце.
Но теперь я боялся, как ребенок, и был так растерян, что,
вставая, путался в брюках.
Наконец, я решился, поднял сигарету и стал осматри-
217
вать доски пола и подвальной крышки. И не мог с
уверенностью сказать — действительно ли я видел нечеткие, как от
мягкой подошвы войлочных тапочек, следы или то были
давние разводы грязи.
Я уже не помню, как оделся и как вышел во двор.
Помню только, что чувствовал, кроме страха, еще и раздражение
и даже злобу. Может быть, это чья-нибудь шутка, сердито
думал я. Тогда это донельзя глупый розыгрыш, за который...
Но кому нужно так неумело шутить и кто ради этого будет
приходить в полночь откуда-то издалека — ведь до
ближайшего жилья пять или шесть километров!.. Но если это не
шутка, тогда что? Кто там, ночью, неприкаянный бродит в
мрачном доме? И почему таится? И какие у него
намерения?..
Я плохо помню и проведенный день. Вероятно, я все-таки
работал, потому что уже в городе обнаружил на карте
участка свои пометки, а в скобках — дату второго дня моего
пребывания в горах. Зато запомнил, что во впадину вернулся
довольно рано — солнцу, как говорят до сих пор у нас в
горах, до заката была еще целая веревка.
Первым делом я тщательно осмотрел навесной замок и
ничего подозрительного не обнаружил на нем. Разве только
неясные штришки возле скважины для ключа, но они могли
быть и вчера и позавчера, так что я почти не обратил на них
внимания. В комнате тоже ничего не изменилось. Но дверь в
кладовую была открыта. И трудно было с уверенностью
сказать, я ли оставил ее в таком положении или ее открыли,
как это было уже ночью. На крышке подвала все было тоже
как утром — на ней виднелись те же не то следы, не то
старая грязь. Но я долго смотрел на нее, запоминая даже
малейшие пятна и щербинки на досках с выцветшей
коричневой краской...
Моя третья ночь была совсем кошмарная.
Спать я долго не решался, но так как мне нечем было
занять себя, то это было очень нелегкое дело — сидеть и
ловить малейшие шорохи. И потому я очень устал от вынуж*
денного бдения и от постоянного ожидания опасности, и мне
казалось, что до утра еще слишком много времени. Остаток
ночи представлялся мне длинным, как неделя. И чем
больше думал над этой странностью, тем длиннее казалась мне
ночь и тем быстрее уставал. И когда усталость выросла до
неодолимой тяжести, я даже обрадовался ей — лениво и
скучно, потому что способность радоваться притупилась во
мне.
218
И решил — тоже скучно — лечь спать...
Полагая, что спасительное безразличие не покинет меня
и в темноте, я выключил свет. И — странно!—куда
подевалось оно, казавшееся таким долговременным и
основательным?..
Я лежал и опять с замиранием сердца вслушивался в
тишину.. Задерживал дыхание и за грохотом собственного
сердца, бешено колотившегося от нехватки кислорода, различал
болезненно обостренным слухом какие-то шорохи, которых
не было, когда горел свет. С трусливым любопытством ловил
осторожные скрипы и другие звуки, одни из которых были
похожи на вздохи и шаркание ног, другие — на чиркание
спичкой по терке коробка. Слабые, они для меня были
вполне отчетливы, и уже привычное мне однотонное гудение
казалось фоном для них. Теперь я нисколько не сомневался,
что оно действительно существовало, ибо я уже научился,
напрягая слух, так сосредоточиваться, что чудовищным
напряжением воли отфильтровывал из смешения звуков то это
мягкое однотонное гудение, то скрипы и вздохи,
доносившиеся из кладовой, то периодическое тикание жучка-древогрыза
в дереве стола.
Однако все это, хоть и пугало меня, было, тем не менее,
привычно и знакомо и потому, поддерживая во мне
душевное напряжение, больше ничего не прибавляло к нему, так
что я уже подумывал, что как-нибудь проведу и эту ночь...
Помню сладкий, предшествующий сну долгий зевок... Затем
скрипнула подо мной древняя тахта... Затикал неутомимый
жучок... Мягко растворился в дальнем углу какой-то звук,
похожий на слабое старческое покашливание... Мысли мои
уже таяли, превращаясь в ничто на пороге блаженного
небытия сна...
И вдруг в кладовой загрохотало! Да так резко, будто у
меня в сердце граната разорвалась. Одновременно с первым
долетевшим до меня звуком я дернулся, как марионетка, и
сел. Острые звуки грохота еще разлетались в сердце, как
осколки, рвавшие сердечные жилы. Но я, всхлипывая от
невыносимой боли и хватая ртом воздух, только вслушивался. И
судорожно вздрагивал, как нетерпеливый стайер в ожидании
сигнала на старте, чтобы пороховым взрывом сил кинуться
к выходу, сметая на своем пути все, что ни попадется. К
страстно желал услышать еще что-нибудь и в то же время
страшился этого — два противоположных желания слились в
одно перед лицом опасности.
Время, однако, шло. И в жуткой тишине ничего не было
219
слышно, кроме все того же мягкого, будто проползавшего во
мраке звука однотонного гудения, который в эту минуту
казался шелестом бесконечного сального ремня между хорошо
смазанными шкивами. И еще мне казалось, что этот звук
подготавливал другой, который будет смертельным, как
выстрел в сердце, так что я его не переживу. Сердце мое билось
чуть ли не в горле, да так сильно, что меня даже покачивало.
Вдруг, неожиданно для самого себя, я встал и с какой-то
неуместной решительностью и даже беспечностью прошел к
выключателям возле входной двери. В сущности, мое
странное спокойствие было только выражением чувства
обреченности и больше ничем, как я это понял впоследствии. Но я
зажег свет. И опять на мгновение ослепило меня, так что я
прикрыл глаза, успев, однако, заметить, что дверь в
кладовую приоткрылась.
Решительность моя быстро иссякла, едва я открыл глаза,
и заменилась трусливым любопытством. Я стоял, как
загипнотизированный. И жуткая тайна завораживала меня
больше, чем гнал внушаемый ею страх. И, покорный
смертельному любопытству, я осторожно подошел к кладовой и
отчаянным рывком распахнул страшную дверь, готовый схватиться
в единоборстве с затаившимся там существом. Но — в
кладовой царила мертвая неподвижность, в которой витал
слабый табачный дух, уже просачивавшийся и в большую
комнату...
Я включил свет и — вскрикнул!..
На крышке подвала, возле лежавшего донышком кверху
таза, опять валялся окурок. Смотрел на него всего лишь
секунду — больше нервы не выдержали. Я ринулся во двор с
совершенно невыносимым ощущением нехватки самых
нужных мгновений, ожидая, что вот-вот кто-то
сверхъестественный, не бывалый на земле, вцепится в меня и я тотчас же
умру, даже не успев понять — кто это. Грудь уже не
вмещала огромного, как небо, страха, уже вытеснявшего из нее
жизнь...
...Пришел в себя спустя час или два — на дороге. Как я
оказался на ней — не могу сказать, потому что не помню.
Она выглядела мертвой. Над головой в шерстяных оческах
облаков пряталась луна, будто она тоже боялась чего-то. И
призрачный свет ее стекал полупрозрачной мутью в ущелье и
на мертвую кремнистую дорогу. И меня пугал этот неживой
свет, тревожила сама дорога, походившая на длинную тень.
Настораживали холмы, с которых мрак слизал все острые
запоминающиеся углы. И ущелье — бездонное вместилище
220
нереальной жижи из лунного света и мрака — тоже внушало
беспокойство, так что я был чуждым в этом враждебном
море тьмы...
Но как бы там ни было, страх мой все же стал меньше,
потому что вокруг был простор, и над головой, облитое
фосфорическим светом прятавшейся луны, было бездонное небо
с бесцветными бляшками звезд. Я старался согреться
быстрой ходьбой, держась около узкого прохода в мою впадину.
Горная ночь была свежа, и оттого ум и душевные силы все
больше сосредоточивались против этого неудобства,
отвлекаясь от все еще сидевшего во мне чувства страха. Но, тем не
менее, я размышлял...
Двери и окна никто не открывал, думал я. Это было
истиной, из которой, кроме самого факта, можно было извлечь
еще и то, что я ни разу не подумал о подвале, как о
возможности для проникновения в комнату. В подвале ведь можно
спрятаться, рассуждал я, и через него, наконец, можно
сообщаться по подземному ходу с впадиной или... Нет, это
невозможно — чтобы кто-то скрывался в подвале. Зачем? И
кто? Даже какой-нибодь беглый преступник, и тот так
тщательно не уединится. И, тем более, не будет разбрасывать
окурки так небрежно. Нет-нет, это невозможно!.. Кроме того, я
хорошо помнил, что щель между крышкой подвала и остальным
полом так была забита старой, почти окаменевшей грязью,
что не оставалось никаких сомнений — ее никто не
открывал. Такую крышку открыть — это ломом надо помахать,
поднимая лом до потолка. Да, до потолка... Гм, до потолка...
И тут я подумал о потолке, а точнее — о щелях между
тесинами потолка, и почему-то вспоминал о таинственном
старике, который в мрачном доме занимался врачеванием и,
между прочим, даже отвращал от табака. Излечивал от
курения!.. Лечат же, я где-то читал, это дело. Как-то особенно
лечат. Стоп!..
Я остановился и повторял, как запавшую в память
мелодию, что старик отвращал от табака. И от этой простой
услуги памяти я испытывал то чувство, которое так хорошо
знакомо каждому, кому случалось мучиться над
разматыванием запутанного клубка нитрк, когда, наконец, потянешь ту
единственную петлю, после которой в хаосе узлов и захлес-
тов вдруг обнаруживается ясная простота... Отвращал же!..
А раз так...
Через полчаса я вошел в дом~ старого врачевателя. . И
впервые без всякого почтения смотрел на древнюю мебель,,
освещенную светом тусклых ламп, потрескивавших в своих
221
старых патронах, как церковные свечи. Потолок цвета
жареной бычьей печени, эти человекоподобные кресла,
щелястый пол, узкие, как бойницы, окна, несуразно длинная тахта
и длинный стол — все это свидетельствовало только о
трудной и убогой жизни нескольких поколений родившихся здесь,
живших и умерших людей. Ничего иного я не чувствовал,
потому что тайна этого дома вызывала во мне только
нетерпение и азарт...
В кладовой я еще раз осмотрел крышку подвала с
валявшимся в углублении между двумя досками окурком. Затем
глянул на потолок и удивился — как я не догадался сделать
это раньше! Между двумя досками зияла щель, в которую
свободно могла пройти рука взрослого человека!..
Еще через несколько минут я отыскал в полной
темноте — луна уже ушла за горы — лестницу в бурьяне и
прислонил ее к фасаду мрачного дома. Затем, взобравшись по ней,
толкнул дверь, врезанную в деревянный треугольный
фронтон. И сразу же у меня перехватило дыхание от сажевой
трухи, посыпавшейся с нижней стороны крыши, так что я
вынужден был подождать, чтобы привыкнуть.
Чиркнул спичкой и осмотрелся. В глубь чердака
уходили два ряда реечных опор между стропилами и балками —
как в строящемся корабле. Под крышей качались и метались
тени. Чердак дышал воздухом с копченым запахом сажи и
пересохшей глины...
Пробираясь в дальний, над кладовой, конец, я ревниво
берег крохотное пламя спички и потому ударялся плечами
о реечные опоры, задевал головой стропила и еще какие-то
выступы. А к лицу липла паутина и под ногами крошилась
сухая глиняная обмазка чердачного пола. Пыль забивала
нос, сушила горло, и я покашливал и отфыркивался.
Мне казалось, что я уже ползу целую вечность и потому
обрадовался, когда увидел другой конец чердака —
деревянную стену. Но в эту минуту спичка погасла, и я не успел
зажечь другую. Вокруг меня сдвинулась черная, как тушь,
темнота.
Я не сразу зажег следующую спичку, потому что вдруг
услышал совсем явственно уже знакомое мне гудение,
которое здесь больше напоминало яростную возню и ворчание
хищного зверька, терзающего добычу. Я даже подумал — не
ошибся ли. Особенно когда в углу, там, где из кладовой на
чердак пробивался слабый луч света, завозился кто-то
живой и мягко, как опахалом, пошевелил воздух. После этого
какое-то существо, прошелестев мимо и почти коснувшись
222
моей щеки, проплыло в сторону фронтона.
«Сова!»—сообразил я, пытаясь поймать спичку в скрежетавшем и
гремевшем коробке.
Пламя, наконец, вспыхнуло. Летучими мышами
метнулись тени и запорхали между реечными опорами. Я не
мешкал. Отодвинув в сторону руку со спичкой, я увидел прямо
возле себя небольшой электрический двигатель, который выл
на одной напряженной ноте. Он вращал редуктор,
соединявшийся с полуметровым жестяным цилиндром из двух
продольных половин, вставленных одна в другую.
Спичка уже догорала, и вокруг меня опять сдвинулись
тени. Обжигая пальцы, успел, однако, поднести к
умиравшему пламени другую. Опять тени шарахнулись в углы
чердака и закачались между стропилами. Я тотчас же сорвал
верхнюю половину жестяного цилиндра и — понял все!..
В нижнюю половину был встроен шнек, между винтом
которого и стенкой цилиндра лежали сигареты. Семь над
щелью в чердаке, у дальнего от редуктора витка, потом —
шесть, уже в сторону редуктора, и так дальше» уменьшаясь
на одну, валялись сигареты между витками шнека и
половинкой цилиндра. А около самого редуктора были два
пустых витка, затем шли — окурок, целая сигарета и опять
окурок. И не было заметно, что шнек вращался. И это было
понятно — редуктор должен был проворачивать его медленно,
не чаще одного раза в сутки...
Спичка погасла. И я, в одно мгновение потеряв всякий
интерес к этому хитроумному устройству, пополз обратно.
По лестнице спустился с хорошим настроением, весь
пропахший сажей и облепленный паутиной. Прошел в комнату
и тут же начал укладываться спать. И улыбался, вспоминая
о прочитанном где-то способе излечения от курения.
Оказывается, если курильщика уединить и посадить на
непостоянную норму — семь сигарет в первый день, шесть — во второй
и так, в каждый следующий день на сигарету меньше, а
через неделю вообще ничего не дать в течение дня или двух, то
он без особых мучений перенесет это табачное голодание. Но
после этого вынужденного поста желание покурить у него
станет внезапно таким неодолимым, что он будет готов на
стену лезть. Тут-то, помучив его еще немного, и сунуть ему
окурок. Он жадно высосет его, побледнеет и станет похож на
угоревшего, убежденный, что окурок был отравлен. Но если
ему, разомлевшему, через сутки поднести свежую сигарету»
то бедняга закурит алчно, однако уже после первой затяжки
станет таким грустным, будто с ним случилось большое не-
223
счастье. И именно в это время, когда жизнь ему будет
казаться наказанием, больному следует дать самый вонючий
окурок. И если его стошнит от одного вида этого «бычка»,—
я это случается в девяносто девяти случаях из ста,— то —
полный успех. Человек навсегда отвратится от табака! Он
будет брезгливо отворачиваться от самых дорогих сигарет!..
Такое вот лечение...
Меня нисколько не занимало, сам ли старик додумался
до этого, или метод стал ему известен с чьей-то подсказки.
Для меня важен был факт — старик пользовался этим
способом, препоручив его механическому устройству, которое
мог сделать любой токарь и которое освобождало старого
врачевателя от лишних хлопот и ругательств со стороны
пациентов.
Я же только случайно включил эту лекарскую
механику, и это она смущала меня своим гудением три ночи
подряд. Что касается звуков из кладовой, то у крыс, говорят,
хороший нюх, а тут на костыле, если помните, висела моя
сумка с провизией, с кругом острого овечьего сыра!.. А дверь,
что и говорить, стара. И достаточно сквознячка из
крысиного хода, чтобы открыть ее в этой старой рассохшейся раме...
Я зевнул... Длинно и сладко... Потом еще раз...
И последняя перед сном мысль была — надо будет
поутру отыскать выключатель, которым запускался этот
двигатель, чтобы вы... выключить его...
БАШНЯ ТАМАРЫ
I
А е, кому доводились проезжать по
Военно-Осетинской дороге, видели, наверно, небольшую и очень
уютную тупиковую долину, являющуюся,
собственно, всего лишь маленьким боковым ущельем
относительно того главного, по дну и склонам
которого пролегает этот до сих пор опасный путь в
Грузию. Взору путешественника внезапно
открывается панорама, от которой вздрагивает даже
утомленный чрезмерным количеством суровых и
величественных пейзажей человек.
На склоне, замыкающем долину, стоят
развалины домов и еще крепкие башни, которые с дороги
кажутся вылепленными из желто-коричневого
пластилина небрежной, но способной к
художественным работам рукой.
Старые башни смотрят на тревожное
оживление, царящее на дорогах, и их глаза-бойницы
выражают то равнодушие, которое свойственно
чему-нибудь вечному — звездам, луне, высоким
горам. Равнодушие это граничит с презрением и
оттого оно способно умерить и даже приглушить
волнение и беспокойство, поселившиеся в душе
современного человека. Расширенные в снисходительных
улыбках черные и беззубые рты, которыми
являются башенные балконы — машикули, — будто
говорят проезжающему: «Не суетись, не томи
своего духа в мелких дрязгах, прислушайся к голосу
сердца, еле слышному в* промышленном грохоте
века...»
Об этом же напоминает и вся эта ветхая
живописность замшелого камня древних строений,
прикрывающих свою дряхлость одеждами из плюща,
вьюнков и цепляющихся за трещины в стенах
ежевичных плетей.
Но главную достопримечательность этого места
15 Георгий Тедеев
225
все-таки составляет единственный в ущелье дом, в полукило-
метре от устья горной долины. Он стоит возле едва заметной
дороги, похожей на нечеткий мазок коричневой краской по
зеленому грунту холста.
Дом, с разбежавшимися вокруг, как стайка молодых
девушек, березами, мягко вписан в молодой сосновый лес,
подступивший к нему со склона. Это полутораэтажное
сооружение имеет какой-то воздушно легкий вид, несмотря на
употребленный в нем обычный для гор строительный
материал — бесформенный скальный камень.
Верхняя часть его с белыми перилами открытой веранды
и белыми прямоугольниками дверей, а также ажурными
решетками белых окон покоится на аспидном основании,
которое составляют хозяйственные помещения. Сразу же
бросается в глаза редко свойственная нашим строениям
аккуратность, которая видна прежде всего в хорошей соразмерности
всех частей этой одинокой усадьбы, а потом — в четкой
форме двора, обнесенного белой изгородью с длинными
пряслами. А дымоход, сложенный из какого-то белого сияющего
материала, вставший над плоской крышей и венчающий весь
дом, будто свидетельствует, что под этим кровом обитает
счастье, что тут, в покое и тишине, не знают волнений и
множества забот, отравляющих жизнь горожанина.
На другой стороне дороги, прямо против дома, стоит
необычайно высокая башня с отлично сохранившимися
стенами. Местный фольклор связывает ее с именем царицы
Тамары, утверждая без всяких на то оснований, будто бы великая
царица заночевала в ней, когда проезжала в родовую бот-
чину своего царственного супруга.
Внушительные ли размеры башни или чрезвычайная
интимность этого уединенного места послужили поводом для
возникновения легенды — трудно сказать, но одно точно —
легенда тоже является достоинством этой долины,
выразившимся в такой своеобразной форме...
Сама башня имеет ту простую до суровости архитектуру,
которая свойственна сотне других башен в наших горах. Но
в этой долине суровость и серый тон башни выгодно
подчеркивают легкие линии одинокого дома и его радостное
назначение — быть обиталищем счастья. Может быть, поэтому
проезжающие чувствуют хорошую зависть и непонятное
сожаление. И не удивительно, что вдруг покажется, будто баш-'
ня тоже поддалась этим человеческим чувствам, ибо на ее
стене, обращенной к дороге, виднеется что-то синее, словно
бы хмурое сооружение тоже захотело счастья и поэтому,, в
226
неумелой попытке украсить свою жизнь, прикололо на грудь
букетик каких-то синих цветов или даже огромную брошь из
аквамарина — с дороги не различить — что именно...
Человеку, впервые видящему и этот дом, и башню, и
уютную, наполненную голубовато-зеленым светом долину,
непременно захочется узнать про обитателей радостной усадьбы,
вполне справедливо полагая, что не могут быть случайными
ни ее уединенность, ни соседство с башней, связанной с
именем царственной красавицы, ни безукоризненный вкус,
обнаруженный строителем одинокого дома...
II
— А кто живет в той усадьбе?— спросил я моего
приятеля, старого, уже за восемьдесят лет, Доме, настойчивой
просьбе которого — остаться на ночь — я уступил, хотя заехал к
нему только на минутку — повидаться.
До переселения горцев на равнину Доме работал
учителем и не прекращал этого дела, пока у него оставался хоть
один ученик. И по обычаю горских учителей преподавал все
предметы, так что знал Доме изрядно и с ним можно было
разговаривать без опасения, что будешь не понят.
Кроме того, Доме был одним из тех редких горцев,
которые никогда даже не помышляли перебраться на равнину и
которые до глубокой старости умудряются сохранить
завидную легкость движений сухого тела и постоянное
любопытство. Этот тип горцев наделен способностью видеть
поэтически свои горы и их обитателей. И, может быть, именно эта
особенность удлиняет их век, так что и через год и через
пять лет они выглядят одинаково, не изменяясь, словно
возраст их обретает то постоянство черт, которое присуще
только вечным утесам и скалам.
Поблагодарив старую хозяйку Доме за ужин, мы вышли
на веранду и сели на кровать, которая, как оказалось потом,
была предназначена мне. .
Июльская ночь была безлунной, и звезды йа небе были
так ярки и крупны, картина звездйого неба была столь
впечатляющей, что мы с Доме некоторое время молчали,
подавленные.
Звезды золотоигло мерцали и вздрагивали снопами
чистых лучей, внезапно выраставших из их огненного лона.
Лучи покачивались, м:ягко ломались и, резвясь, прятались
обратно в светородное нутро звезды, чтобы через мгновение
227
вырваться в другом месте и пронзить золотыми остриями
перламутровое пространство неба.
Грохот небольшого камнедробильного завода для нужд
строящейся дороги, охавшего и надсадно скрежетавшего в
двух километрах отсюда, не вязался ни с этой тишиной, ни
с картиной роскошного неба.
— Эээ...— не то осуждающе, не то сокрушенно протянул
Доме, так что я не был уверен, понял ли он, о чем речь —
ведь усадьба была не близко. И уже собрался было пояснить,
но в это время Доме, облитый призрачным звездным светом,
пошевелился и полез в нагрудный карман. Это было одно из
тех выразительных движений, которые способны заменить
слова — и я успокоился: объяснять ничего не надо было.
Он долго доставал табак, еще дольше набивал его в
трубку и приминал пальцами. Наконец, чиркнула спичка и
пламя, плеснув золотым отсветом на нос и усы Доме, втянулось
в чашечку трубки — ив воздухе поплыл крепкий дух табака.
— Эээ...— опять протянул Доме и проворчал...— Они, Че-
леметы, все были такие. Их всегда трудно было понять.
Сейчас с этим парнем я мало что тоже понял, хотя тот поступал,
как это следовало отпрыску известного своим женолюбием
рода...
— А имя, имя его?— нетерпеливо перебил я Доме.
— Аркай,— небрежно ответил он.— Но дело не в его
имени, а в том, что это у них в крови — обязательно
выкинуть что-нибудь особенное ради женщины, так что диву
даешься...
— Э, Доме,— не выдержал я.— Ну кто так
рассказывает! Давай начнем с самого начала, с того, что это у них
родовая черта — выкинуть что-нибудь необычное ради...
— Да, действительно,— согласился Доме и несколько раз
пыхнул трубкой, затем поправил накинутое на плечи пальто.
— Видишь ли,— задумчиво начал он,— на мой век
пришлись четыре поколения этого рода, хотя прадеда Аркая,
уже глубокого старика, я видел, когда сам еще был
мальчишкой шести или семи лет. У них кроме фамилии,— Доме
назвал ее,— есть и родовое имя — Челеметы. Они словно
рождались на свет, чтобы, возмужав, влюбиться и потом
уже ничего не знать за пределами своего чувства. Даже
внешне они походили на меченных...
Доме неодобрительно хмыкнул, пососал свою трубку и,
продолжал:
— Какая-то предназначенность была в их чертах. Как
красная лента на рогах жертвенного волоха или белая звез-
228
. да на лбу жертвенного бычка. Рослы и красивы они были.
Грустно и задумчиво они смотрели на мир. Сквозь нежную
кожу их лица просвечивала алая кровь. Мне всегда
казалось — надрежь эту кожу — и ударит, задымится красная
обжигающая струя.
— Порода!— сказал я.
— Наверно, можно и так сказать,— Доме повернул ко
мне бледное в свете звезд лицо.— Но мне все-таки кажется,
что это у них от долины. Слишком много солнца в ней! Там
в небе словно, прореха, так что когда везде в Осетии стоит
пасмурная погода, над долиной Челеметов светит солнце. Ну,
сам посуди — отсюда до Челеметов ходу около часа. Но там
бывает солнце, когда у нас тут — дождь!..
Доме опустил голову и удивился:
— И воздух там особенный, так что и не чувствуешь его,
когда им дь1шишь. Такая легкость, она...— Доме сделал
паузу, подыскивая определение,— она, видишь ли, заставляет
искать бремя для души, для сердца. Иначе, кажется, и жить
не для чего... Какое-нибудь радостное бремя! Понимаешь, о
чем я говорю? Без него в этой долине прожить невозможно,
без этого радостного бремени. Я вот,— с недоумением в
голосе проговорил Доме,— я вот даже во времена своего
учительства скотоводом был и землю пахал. А в долине Челеметов
и скотоводство и землепашество были второстепенным
занятием, несмотря на плодороднейшую землю...
— Почему она тогда не заселяется?— спросил я.— Если
земля такая плодородная, почему, кроме Челеметов...
— А все потому же,— Доме не дослушал моего
вопроса.— Это долина — для любви. И такая особенность ее не
могла не сказаться на нраве людей, там проживавших. В
горах — что и говорить!— во все времена трудно было. И кусок
хлеба был тут спокон века первейшей заботой. И я так
думаю, что если долина всегда была малолюдна, то лишь
поэтому — постоянная нежность в сердцах мешала двум
самым главным человеческим занятиям — скотоводству и
землепашеству. Все Челеметы были бедны — сколько я помню...
— Заметил?— вдруг оживленно спросил Доме.—
Заметил — в долине, кроме единственного дома Челеметов и
башни, нет ничего?
— А там, в глубине,— посомневался я,— не развалины
ли селения? Разве там когда-то не стояло, село?
— Может и стояло,— быстро ответил Доме.— Да никто,
даже самые глубокие старики, которых я застал в начале
века, и те не знали, кто там жил и ничего не слышали об/этом
| 229
даже от своих дедов и прадедов. Видать,— заключил Доме
свою мысль,— слишком трудное это бьпло дело — совмещать
нежные желания сердца, навеваемые долиной, и тяжелую
заботу о хлебе. Немало, наверно, и крови пролилось из-за
этого. Или истребили друг друга или благоразумно ушли.
Все — кроме Челеметов!..
— Климат это,— убежденно сказал старый Доме, и в его
голосе прозвучала учительская нотка. — Климат! Такой уж
он там, так что в ущелье Челеметов даже можно отыскать
растения, которых в другом месте, уже даже за соседним
холмом, больше не сыщешь. И то, что ты называешь породой,
есть климат, изменивший кровь людей, насытив ее солнцем.
Иначе бы дед Аркая не украл уже просватанную девушку. На
глазах, понимаешь ли, у людей. Я помню, как избили
дерзкого молодца до полусмерти. Но тот, отлежавшись, через
месяц опять похитил ее, так что жених, боясь позора,
отступился — и дед Аркая женился на похищенной. Эти Челеметы
всегда были такие. Вот хотя бы взять и отца Аркая...
Странный тоже был человек. Как раз перед войной он посватался
к девушке редкой красоты — из нашего селения. А у той
женихов было — просто не счесть. Но сотня сватается, а
женится один...
— И этим счастливчиком был не Челемет, отец Аркая?—
уверенно предположил я.
— Нет, не он — другой,— Доме потянул из трубки.—
Но Азук — так звали отца Аркая — объявил, что он никогда
ни на ком другом не женится. И все, кто знал Челеметов,
верили, что это не пустые слова.
— Но как же так?— недоумевал я.— Аркай — сам
говоришь — сын Азука! Женился, стало быть?..
— Женился-не женился...— с сомнением в голосе сказал
Доме.— И да и нет — все зависит от того, как посмотреть на
это дело. Надо отдать ему справедливость — Азук даже не
смотрел на других девушек. Жил одиноко и бедно, как в
пустыне. И жертвенная предназначенность на его лице стала
такой явственной, что боялись, как бы он не наложил на себя
руки. Так что муж той, которую любил Азук, даже
сочувственно посматривал на Челемета. В горах бывает и такое,
хотя чего только не услышишь и не прочтешь о строгости
горских нравов! Ну, началась война. Азука призвали на
фронт. И — что ты думаешь!— перед тем как ему уехать, он
принес владычице сердца букет. У нас это не принято, то
есть цветов не дарят. Но оц принес этот букет, смешав в нем
синие горечавки с сочными камнеломками и добавив к ним
230
желтых маков. Представь себе — муж ничего не сказал! Да и
как скажешь — этот блажной, Азук, рисковал своей жизнью.
Ведь цветы были с турьих пастбищ! Люди только
покачивали головами, но пересудов и сплетен не было, потому-что -зто
было слишком серьезно и чисто. Ну — ушел Азук на войну.
И — как же иначе?— муж той красавицы тоже был
призван.;.
В этом месте своего рассказа Доме смолк, занятый
уплотнением табака в своей трубке. Потом, сделав несколько
основательных затяжек, вернулся к прерванному
повествованию :
— Война кончилась... И Азук вернулся калекой — с
прямой, как палка, ногой без половины стопы... И, вообще, надо
сказать, он сильно изменился, но одно в нем было
прежним — это жертвенное выражение на его лице, как красная
лента на рогах жертвенного волоха или белая звезда на лбу
жертвенного бычка. Азук был истинный Челемет. А муж той
женщины погиб. Так все и сошлось...
— Теперь как сказать?— Доме повернулся ко мне.—
Сдержал Азук слово, что не женится на другой или нет?
— Ну, это не так важно,— ответил я.— Но тьи хотел
рассказать об этой усадьбе...
— Як тому и веду,— сказал Доме, отворачиваясь.— Но
прежде хотел, чтобы ты понял, каковы эти Челеметы, когда
они полюбят. Женопоклонники они и женолюбы — вот кто
они были во всех поколениях! Из-за этого они всегда искали
уединения. И последним уединившимся был Азук вместе с
вдовой погибшего солдата. Но не долог оказался их век.
Она родила ему сына и умерла. И трудно было сказать, как
жили Азук с маленьким мальчиком ;— редко они появлялись
среди нас. Но я сам видел, что ребенок в первый класс, в
шахтерский поселок, поехал на коне. И так и проездил все
десять лет. А потом подался в город — дальше учиться. И,
ей-богу,— голос Доме изменился,— удивления это
достойно — наши горские парни, всю жизнь не знавшие иного
занятия, кроме скотоводства и трудного земледелия, учатся в
городе ни тому, ни другому, а только на инженеров! Не
знаешь — почему?— Доме запыхал трубкой в ожидании ответа.
— Не знаю... Время, наверно, такое...— неуверенно
сказал я.
— Мпп, мпп... — Доме оживлял почти погасший огонь.
— По-моему... По-моему, это от загадочности этого слова—
инженер. Как всякая загадка, оно притягивает. И молодые
горцы идут на инженеров учиться. Ну, да бог с ними. Это
231
я к тому, что слышал я, Аркай тоже учился на инженера. А
через полтора года после того, как он уехал, умер Азук.
Похоронили мы его, и сын его забил досками окна дряхлого
родительского дома и вернулся в город — доучиваться.
Долго мы его не видели.; И мы уже о нем забывать стали — лет
четырнадцать прошло!— как вдруг он объявился. Весной,
три года тому назад...
— Зима,— продолжал Доме,— в тот год была у нас
лютая, с ветрами и крепким сухим холодом, и долгая, так что
к концу казалось, что она даже сердца выстудила.
Затянулась она слишком. Но во второй половине апреля снежный
ковер все-таки полинял, выцвел и расползся, обнажая бока
гор. И побежал мутными ручьями, кружа труху старой
листвы и серые травяные былинки. И как-то внезапно кроны
деревьев окутались зеленым дымком...
— Самая это у нас лучшая пора года!— оживился
Доме.— По утрам молодое шаловливое солнце врывалось в .
комнату и по-детски радостно измазывало стены янтарной
краской. Всю зиму я дальше двора никуда не выходил, а
тут не вытерпел — собрался тальнику нарезать. Плести
корзины — самое подходящее дело в эту пору. Вышел после
завтрака...
Снег стаял еще не весь. И потому казалось, что кто-то,
озорной и большой, испестрил белильной кистью хребты и
склоны. И белые пежины придавали горам легкомысленный
и радостный вид. А в долине Челеметов, раньше других
ущелий освободившейся от снега, речка уже несла чистую
голубую воду. И уже в двух-трех местах на ней посверкивали
лучи солнца. В этих местах, я знал, около округлых валунов
вздулись прозрачные полушария крошечных водопадиков. И
речка вся искрилась, будто в своей голубой воде^ катила
солнечные осколки.
Я обогнул холмик, скрывавший от меня устье долины и
остановился ошеломленный. Ведь' я привык видеть тут дом
Азука о заколоченными окнами, мертвый и серый от
старости, так что покосившийся дымоход из ржавой железной
трубы походил на кладбищенский памятник. А в тот день
ставни йыли распахнуты настежь и из дымохода в небо
возносился прямой столб сладкого, с горчинкой* можжевелового
дыма. И окна в радужных разводах подслеповато смотрели
на помолодевший мир.
Видать, подумал я, вернулся потомок Челеметов...
Часа через три я уже возвращался обратно с вязанкой
тальников и, прежде чем оказался возле долины Челеметов,
232
услышал треск и скрежет, которые обычно издают ржавые
гвозди;, "когда их (с,силой выворачиваю* из сухого старого
дерева. А потом, через несколько минут, увидел и того, кто
производил этот шум.
На крыше ветхого дома Челемето(в возился высокий
парень, разрушавший кровлю. И достаточно было одного
взгляда, чтобы признать в нем отпрыска Челеметов — Аркая. С
черной горы ведь только черный камень скатится!..
Был он высок, широкоплеч. И много молодой, еще не
растраченной силы чувствовалось в каждом его движении.
Словом, все в нем было для того, чтобы следовать путями
сердца, а не разума.
Бросив вязанку тальников, я поднялся к дому, чтобы
вблизи рассмотреть так неожиданно объявившегося Челеме-
та. И удивился — сильно же выразились фамильные черты
в молодом отпрыске!..
— Ты понимаешь,— взволнованный Доме опять
повернулся ко мне,— не знаю, как сейчас, но раньше такое бла--
городство я видел только на лицах очень хороших зятьев,
когда их по обычаю на некоторое время оставляли с
младшими родственниками невесты. Но там это было кратковремен:
но — от счастья и от смущения. А здесь оно являлось
будничным свойством. Чувствуешь разницу?.. Глаза у Аркая
сияли пламенем внутреннего огня. Брови и усы были
смоляного цвета. Настоящий Челемет! Женопоклонник!
Гибкий и сильный, он наклонялся и выпрямлялся с
ловкостью молодого волка. Парень отдирал доски, выворачивал
балки. Отгибал трещавший турлук и сбрасывал вниз камни
и комья земли. Скрежетали ржавые гвозди. Скрипели
стальные скобьи. Тяжко падала спрессованная глиняная обмазка
и взметала клубы пыли...
— Старики чувствительны,— вдруг грустно проговорил
Доме,— старики очень чувствительны к этому празднику
нерастраченных сил. Так что моя наблюдательность
неудивительна...
Доме немного помолчал:
— Парень, увлеченный разрушением, не видел меня.
«Добрый день!»— крикнул я. Молодой Челемет выпрямился
во весь свой чуть ли не двухметровый рост и застыл,
поддерживая левой рукой какую-то балку и вглядываясь в меня
«Здравствуй, Доме!» — он узнал-меня. «Что надумал?» — го-
Еорю. А он: — «Жить тут надумал!»—говорит. «В городе у
тебя работа... Это как?» «А где ее нет, Доме!»—отшутился
Аркай. «Женился? — спрашиваю. — Дети, небось?» «Нет.
233
Никого нет. Один я!»—вспыхнул Челемет. «Ладно, Аркай,—
говорю,— я пойду. А ты вот что — если понадоблюсь,
приди к старику. Один — что ты можешь!». «Хорошо, Доме!—
прокричал молодой Челемет и, с треском отодрав балку,
кинул ее вниз.— Спасибо, Доме!»...
Я сказал ему то, что положено в таких случаях говорить
у нас, чего требует обычай, рожденный здешним безлюдьем.
Но я уже уверенно знал — Аркай, с этим направленным
внутрь взглядом, никогда не вспомнит о предложенной
услуге. Не для того Челеметы все время уединялись, чтобы
кто-то их беспокоил или чтобы они сами кого-то беспокоили!
Через неделю, когда я снова пошел за тальниковыми
лозами, я не поверил своим глазам. От ветхого дома ничего не
осталось. Весь камень был сложен в аккуратные кучи. А
дерево: балки, рейки, какие-то планки, колья и хворост турлу-
ка — все лежало рассортированное, в непривычных для
наших мест штабелях. И я понял — единственное, чем я мог
бы помочь молодому Челемету — это не отвлекать его. Не
расспрашивать, потому что для него уже существовала та
жизнь, которую он намеревался построить. И потому я
предупредил сельчан — их тут у нас немного, но все же — не лезть
к Аркаю с расспросами. И, по-моему, парень понимал это и
ценил. Его приветливость ко мне была свидетельством тому...
Еще через неделю возле , деревянного закутка —
временного жилища, сбитого из старых досок, появился
строительный лес. Это были бревна, как на подбор — одинаковые,
ровные, как струна. И рядом с ними широкие — не то доски, не
то четырехугольные балки. Кроме того, под дощатым
навесом стояло десятка два бумажных мешков с цементом.
А там появились и строители. И закипела работа...
Очень быстро выросло сланцевое полуэтажное основание.
Простор и аккуратность — все в нем было не горское. У нас
так не делают. А потом строители, которые, к моему
удивлению, обосновались в деревянном закутке и не уезжали
домой — видать, Челемет не скупился:,'— [начали выкладывать
стены. И материал, скальный камень, совсем не казался
бесформенным в их руках. Они выводили из него довольно
гладкие стены, но, однако же, совершенно горские, и опорные
круглые, с сужением к верху, столбы обширной веранды, и
сводчатые, не виданные в наших горах проемы окон и
дверей. А тем временем искусный плотник вместе с Аркаем
вырезали фигурные подбалки и внутренние опорные
столбы — все на старинный лад, делали дверные и оконные рамы
и коробки...
234
Вообще строение напоминало рожденное каменными
горами прекрасное каменное дитя, черты которого были
смягчены обилием резного дерева. И я подозревал, что строители
и сами увлеклись. Иногда они забывали, что работают за
вознаграждение. Это тот случай, когда появляются
совершенные дела человеческих рук...
Сам Аркай работал не покладая рук. И в его глазах
горело неистовое вдохновение. И оно так шло ему, что я
замечал, как строители, народ в общем-то корыстный,
любовались им и даже, кажется, завидовали ему.
Крышу положили плоскую, как везде в горах. Но откуда-
то привезли мраморную крошку и, смешав его с раствором
цемента, залили смесью кровлю, а потом, спустя месяц или
полтора, когда к усадьбе ущельный монтер подвел
электричество, крышу прошлифовали. Но прежде, разумеется,
вывели над усадьбой белый, как рафинадный сахар, дымоход из,
колотого белого кварца.
А тем временем веранда, двери, окна — все было покра-
шено в белый цвет. И вот как-то, в конце сентября, я увидел
готовый дом. Вид он' имел легкий и беззаботный, чему
немало способствовала и тяжелая башня напротив. И те, кто
смотрел на него, не могли не волноваться, потому что на ум
приходило бог знает что — красивые женщины и радостная
жизнь, то, что грезится только в молодости — такое уж свой^
ство было в линиях этого дома. И, признаюсь, мне, старику,
даже обидно стало — будто я что-то упустил в жизни, где-то
плохо распорядился и был легкомыслен там, где
требовалась чрезвычайная осмотрительность. Вот какой дом
построил потомок Челеметов, в отличие от своих беззаботных
предков имевший новое качество — деятельную душу!..
Да, Аркай приехал сюда жить. Уже к дому шли
электрические столбы, друг за другом, как гости. Уже и сам Аркай
работал на камнедробильном заводе...
Доме задумчиво потянул из трубки и, наклонив голову,
провел левой рукой по усам. Затем продолжал:
— Зимой у нас мир суживается до размеров двора.
Трудно и тяжело даже привычному человеку, но уж весна потом
кажется выздоровлением, долгим/ не надоедающим праздник
ком. Мы со старухой счастливо пережили зиму, и когда
наши дети приезжали из города, то у нас получались
настоящие торжества. И насколько я мог заметить при моих не*
частых выходах из дому, Аркай, несмотря на молодость,
тоже не тяготился своим одиночеством, потому что дел у
235
него было много. Он обставлял дом, строил камин, что-то
доделывал еще внутри...
Наконец, дождались весны... \
Я в ту пору немного прихворнул — возраст все-таки. Так
что когда я первый раз вышел, весна была в полном
разгаре. В это время лучи солнца у нас тут бывают видимы и
осязательны не только теплом. Ну, представь себе — они
пуховой пряжей протягиваются через застоявшуюся в долинах
туманную дымку. И разрезанные остриями скал, даже
кажутся туго натянутыми золотыми струнами старинного фан-
дыра. И еще — они поют! Ей-богу! И чего только нет в их
страстном напеве! Но больше всего в их многоголосье
слышна древняя, извечная песнь, которой обязательно надо вторить
в два голоса и внимать ей тоже следует вдвоем. И шествуют
рука об руку в наших горах нежность и доверчивость, из
которых рождается любовь...
— Доме, да ты поэт!— засмеялся я.
— Иначе тут нельзя,— серьезно ответил Доме.— Иначе
и одной зимы не выдержишь,— недовольно добавил он: —
Замечательная эта пора. И я уверен, что именно в такие дни
люди чаще всего объясняются в любви.
Внезапно Доме смолк. Какие-то свои мысли, те, которыми
никто никогда ни с кем не делится, мне казалось, занимали
моего старого приятеля. Да я и сам чувствовал легкую обиду
и даже зависть неизвестно к кому. Я понимал Доме...
Хорошее это было молчание и обязательное...
Наконец, Доме заговорил снова:
— Когда я проходил мимо усадьбы Аркая, то понимал,
что появившееся на башне, около самой вершины, какое-то
синее украшение и звуки нашей древней «Ханской мелодии»,
которая выливалась из раскрытого настежь сводчатого
окна, были продолжением весны и готовности любить. Синее
пятно на груди башни и «Ханская мелодия» выражали
молодое томление — я понимал и это...
Я задержался у знакомого пчеловода, уже выставившего
свои ульи, поэтому возвращался, когда уже темное стадо
сумерек поползло из низин к вершинам. Я устал немного —
весна, как известно, дает человеку много сил, но не меньше
и забирает. Пришлось присесть для отдыха на вершине
небольшого холма около долины Челеметов. Это было очень
удачное место — усадьба Аркая находилась внизу, слева от .
меня. Справа, тоже внизу, еще серым ремнем обозначалась
дорога, уже укатанная.
Неожиданно на башне вспыхнул синий васильковый свет—
236
з том месте, где днем я видел синее пятно. Свет будто
шевелился, привлекая к себе внимание. Неживой и призрачный,
он, однако, жил какой-то своей жизнью, изливая покой и
умиротворение. И уже никуда больше не хотелось смотреть —■
только на это колдовство. И я подумал, что Челемет был
верен себе — синий фонарь очень удачно подходил к
уединенности усадьбы.
Пока я об этом думал, внизу остановился какой-то грузовик.
Открылась дверца и на дорогу неуверенно ступила
женщина. Темно было, но я почему-то знал, что это женщина. И
еще знал, что она молода. В такой весенний вечер только так
и должно было быть. День, начавшийся красиво, должен был
завершиться необычно. '
Она приняла что-то — не то чемодан, не то узелок из
кабины. И машина, взревев, покатила дальше.
«Эге,— подумал я,— не к Аркаю ли?»
И точно — она подошла к башне, к синему свету.
Остановилась в нерешительности возле усадьбы и испуганно
позвала: «Аркай!..» В ее голосе, кроме испуга, была еще и
надежда. Да и иначе и быть не могло. Ведь наступил вечер. И
кто мог поручиться, что Аркай дома?..
Но тут от башни отделилась тень, постояла одно
мгновение, словно колебалась, потом, качнувшись, ночной птицей
полетела к гостье. И я услышал радостный крик молодого
Челемета...
Доме замолчал, потом полыхал погасшей трубкой и,
проворчав что-то непонятное, стал выколачивать из нее золу.
— Это все?— спросился.
— Почти,— проговорил Доме и дунул в мундштук.— Я
их потом много раз видел тут, хотя никогда не подходил к
ним. Зачем подходить! Они были счастливы...
— Хорошо!— сказал я.
— По крайней мере,— пояснил Доме,— когда я смотрел
на них, то не сомневался, что Аркаю удалось то, что не
удавалось ни одному из Челеметов прежде. И еще — это было
завидное зрелище — когда они проходили по лугу или
лесной опушкой. Два красивых человека в красивой долине! А
вокруг солнце, искрящаяся речка4 с голубой водой. Картинка!
Мечта Челеметов!..-
— Обошлись без свадьбы?— удивленно пробормотал я.
— А зачем она им?—сразу же. откликнулся Доме.—
Даже самая лучшая свадьба не может не оскорбить чувства
влюбленных. Особенно, если один из них — Челемет...
— А она кто? Кто она была?
237
— А она — не знаю кто,— ответил Доме.— Но, видимо,,
была достойна Челемета, потому что три или четыре месяца
тут был красивый праздник. А потом, я полагаю, все тот же
праздник, хотя и не такой яркий, продолжался и зимой. А,
может, и не продолжался, заменившись буднями, потому что...
— Ну?— поторопил я замявшегося рассказчика.
— Потому что она уехала,— Доме невозмутимо постучал:
чашечкой трубки о перила веранды.— Рассказывали, как
она в сырой день поздней весны сбежала с чемоданчиком к
дороге, навстречу машине, шедшей со стороны перевала*
Дверца кабины захлопнулась и...
— И это все?— спросил я замолчавшего Доме.
— Все,— как эхо, повторил он, но, подумав, еще
сказал:— Все, если к этому добавить, что Аркай, оставшийся
один, осунулся, будто даже высох. И молчит. Все время
молчит. И жертвенная предназначенность стала совершенно
явственной на его лице. Он, кажется, жив только надеждой на
ее возвращение. И, еще кажется, так же мало понимает в
случившемся, как и мы с тобой. Хотя, конечно, я его не
спрашивал. Это же Челемет! Но, будь и не Челемет, это всегда
неудобно — лезть в болящую рану, не умея врачевать. Так
что,— Доме развел руками,— не взыщи. Больше ничего не
знаю. Да никто и не знает у нас...
Доме встал, движением плеч поправил на себе пальто и
посоветовал:
— Укройся потеплее. Ночи у нас даже в середине лета
свежи...
И, пожелав мне спокойной ночи, удалился — медленно иг
как мне показалось, недовольно...
III
Начальник цеха большого завода, инженер Борнаф,
которому я года через полтора,— уже не помню, по какому
случаю,— рассказал услышанную от Доме историю, выслушал
меня, ни разу не перебив, затем усмехнулся и покачал
головой.
— Я так и полагал, что у них этим закончится,—
буркнул он.
Борнаф, как это свойственно большей части технических
работников, был немного скептиком — там, где дело
касалось сердечных влечений и вообще тонких чувств. И потому
его слова не были для Меня неожиданными. Странной
показалась окрашенность брошенной им фразы, заставлявшая
подозревать, что Борнаф знает недостающую часть этой истории.
238
— Как ты мог полагать?— обиженно спросил я.— У тебя
для этого нет никаких оснований. Наоборот — в том, чему
Доме был свидетелем, нет ничего, что давало бы повод для
такого заключения.
Борнаф посмотрел на. меня неодобрительно и сказал:
— Такая жизнь, как у этих двоих,— это отшельничество.
А оно труднее самой большой любви. Это ясно. Кроме
того, Доме видел финал, а я — начало. Это, согласись, дает по-
зод для кое-каких выводов. Особенно при довольно близком
знакомстве с Аркаем и Тамарой.
— Разве ее звали Тамара?
— Разве Доме этого не знал?
— Ты несносен!— я требовательно посмотрел на Борна-
фа.— Вместо того, чтобы рассказать, ты... Ну, откуда Доме
это было знать? Он даже не подходил к Челеметам!..
— Да ладно,— прервал меня Борнаф.— Откуда я тоже
мог знать, что тебе это нужно? Сейчас знаю — нужно. И —
расскажу...
Мы сидели на балконе особняка Борнафа на окраине
города. Закатное солнце последних дней лета только что
опустилось за горизонт, над которым протянулась длинная
малиновая полоса из прозрачных, как газовая ткань, облаков с
сиреневой окантовкой по верхнему краю. А вдали между
пригородными домами и дачными участками садоводческого
товарищества тусклым блеском басовых струн гитары
отсвечивали рельсы, так что в перспективе сходились два медных
луча и там таяли и исчезали в пепельном мраке.
— Видишь ли,— начал Борнаф,— мне по душе больше
пейзажи с заводами, чем это, —и движением бровей показал
на закат,— мне по душе множество людей, работающих под
одной крышей. Люблю, кроме того, рабочий, создаваемый
электромоторами гул большого предприятия, и даже сухую
деловую обстановку, которая бывает на нем. Там все ясно...
— Зачем мне это?— удивился я.
— Относится к тому, что ты услышишь,— быстро ответил
Борнаф и продолжал:—То есть, я коренной горожанин. А
это значит, что я сразу же вижу негорожанина, несмотря ни
на что. И потому, когда в цехе у меня появляется новый
человек, инженер ли такой же, как я сам, или рабочий, я с
большой долей вероятности узнаю сельских. Как — этого не
знаю, но — узнаю. Я достаточно долго работаю и,
следовательно, имел порядочный срок, чтобы наметать глаз и
уверенно утверждать, что каждого сельского рано или поздно
239
город начинает тяготить. Чувство это обычно проходит или
притупляется, но не у всех.
— У Аркая не прошло, хочешь сказать?
— Да. Судя по рассказу Доме, и не могло пройти.
Потому что этот Аркай — сильный человек. Он ведь поступил по
велению сердца, а это немногим дано.
Борнаф поднял залетевший на балкон тополевый лист и,
отрывая от него мелкие кусочки, начал рассказывать:
— Вот послушай. Аркай появился в цехе уверенно. У
него совершенно не было боязливого почтения 'ни к давно
работавшим инженерам, ни к самым сложным механизмам.
Еще бы — дело свое,— он был механик,— дело свое он знал
превосходно. Умел сразу нащупать то место, где прячется
неполадка. Самые сложные механизмы, которых другие
инженеры сторонились, оживали в руках Аркая, как по волшебству.
Внешность имел завидную. Высокий, с броскими чертами,
он походил на актера, загримированного для главной роли в
трагедии о любви. Доме правильно изобразил глаза Челе-
метов, но к этому еще следует добавить крепкий
раздвоенный подбородок. Вообще, голова его мне всегда казалась
отштампованной, так что тонкая линия, разделявшая две
половины штампа, пересекала даже его крепкий крутой лоб. В
нем в избытке было что-то привлекательное, но
несовременное, что ли... Будто пришедшее из средневековья... Даже
слово «инженер», очень употребительное в наше время, не очень
подходило к нему.
Одевался он все с тем же артистизмом, хотя едва ли
уделял этому много внимания. Порода!.. Правильно ты сказал...
Аркай был сельский, но мне не было известно, что он из
гор. Но зато я знал, что у него должны быть несколько
старомодные представления о чести, достоинстве.
И, конечно, воспоминания о сельских просторах. И это —
как правила жизни и отличительный знак. Знал также по
наблюдениям, что такая закваска рано или поздно забродит,
но не сама по себе. Для этого требуется неудача или нужна
усталость, которая у хороших инженеров накапливается
долго и незаметно. Годится и бсэлыпая любовь. И только после
этого город начинает томить их...
И производство и жизнь вообще полны соблазнов для
таких инженеров и для таких красивых парней. Но, насколько
мне было известно, парень жил по-монашески безгрешно. А
это при таких достоинствах дело необычное.
У нас в цехе полно женщин — производство такое. И
девушки, сборщицы электронных1 ламп, одетые в белые халаты
240
и белые колпачки, будь уверен, умеют себя показать так»
словно они наряжены в самые модные платья. И, как и
следовало ожидать, они обнаружили немало изобретательности
и приложили немало стараний, чтобы растопить ледяное
сердце мужественного и обаятельного инженера.
У одной подозрительно быстро перегорал паяльник,
другая показывала трогательную беспомощность в деле,
которым занималась постоянно, третья жаловалась на
несуществующий брак комплектующих. И — все напрасно!..
Аркай помогал и той, и другой, и третьей, ничего не
замечая. И я, понимавший инженера, не понимал
соблазнительниц, которые не могли догадаться, что для успеха им
нужны действия совсем противоположного характера, ибо
для этого парня неприступность девушки была и одной из ее
первых добродетелей...
Восемь лет — это срок более чем достаточный, чтобы или
девушки разочаровались в парне, не обращающем на них
внимания, или чтобы парень поддался, начав выказывать
предпочтение одной из них. Последнего, как видишь,— Бор-
наф посмотрел на меня,— не могло быть, и я уже начал
беспокоиться, ибо очень зло и странно мстят оскорбленные
невниманием девушки. И потому я с опасением ждал, когда по
цеху поползет сплетня о мужской неполноценности Аркая..»
Но, слава богу, до этого не дошло.
Борнаф смял звонкий тополевый лист и бросил за балкон.
— Ты видел,— недовольно начал он,— какие делают
превосходные бумажные цветы? Такие розетки выведут, так
обозначат чашечку и лепестки, так искусно сбрызнут это
нужными красками — красота необыкновенная!.. Но стоит
положить рядом даже самый невзрачный из живых цветов — и
эта искусственная красота меркнет, так что, кроме тонкой
работы, ничего уже не видишь.
— Ты это к чему?— я не понимал Борнафа.
— Подожди!—угрюмо проговорил он и, подумав о чем-
то, продолжал: — А к тому, что такое чувство я испытал,
когда Тамара появилась среди наших девушек. Я их даже
пожалел — сникли они и не то испуганно, не то растерянно
смотрели на нее.
И, в самом деле, она будто имела вокруг некое силовое
поле — поле обаяния. Я, как видишь, уже не молод — скоро
на пенсию,— усмехнулся Борнаф,— и я сух, как положено
моему возрасту и моей профессии инженера, но даже я
почувствовал такое...— здесь Борнаф замялся и беспомощно
16 Георгий Тедеев
241
повел вокруг себя глазами, — такое... Смешно? Ну и смейся!..
Так было — вот что главное...
Кроме красоты, у Тамары было какое-то дефицитное в на- ^
ше время истинно женское свойство — то, которое
напоминает о доме, о маленьком уютном мире.
— Мне, видишь ли, кажется,— в голосе Борнафа
обозначилось смущение,— мне кажется, что в те давние времена,
когда наши предки выдумали единственное женское
божество среди немалого числа мужских — покровительницу места,
в ведении которой находился очаг с прихороненными в золе
углями, они, по-моему, представляли ее именно такой, как
эта Тамара...
— Вообще такая красота вредна,— Борнаф повернулся
ко мне, готовый спорить, но так как я промолчал, то он
продолжал:— На производстве вредна!—крикнул он.— И
нечего улыбаться. Ну, посуди сам — с приходом этой девушки в
цехе вырос процент брака. Да, да! Вырос. Производство —
это постоянный темп и деловая сосредоточенность...
А ода расхолаживала соседок и делала суетливыми наших
инженеров. Ну, что, в самом деле, такое! Прежде главного
инженера завода мы в цехе видели не чаще раза в месяц, а
с приходом Тамары молодой, но женатый главный стал
забегать к нам на дню раз пять. Можно было подумать, что на
заводе нет более важного дела, чем сборка ламп!..
Собственно, Тамару звали не Тамара, а Тамар, ибо она
была южанка, из-за гор. Южные осетинки, если ты заметил,
почти все брюнетки в отличие от своих северных сестер,
между которыми немало блондинок и даже рыжих. Белая кожа
их по сравнению с иссиня-черным волосом кажется еще
белее. И Тамара была предельным выражением этого качества
южанок...
Одевалась она строго. Угадала, что ли, свой стиль.
Строгость ведь, как тебе кажется, должна, наверно, быть
присуща покровительницам места? Я думаю... Ну, конечно!..
И неудивительно, что Аркай влюбился, хотя пока
оставался по-сельски сдержанным. Только глаза заблестели
полированным антрацитом.
Я понял, что Аркай кончился как инженер. И это скоро
подтвердилось. Слышал — был такой разговор.
Одна из девушек, наблюдательный, видать, человек, как-
то, глядя на Тамару, ахнула и проговорила: «Тебе, Тамар,
только в башне жить». «Я согласна, — легко отозвалась та и
засмеялась. — Только кто ее для меня построит?»
Девушки засмеялись, но случившийся тут Аркай четко,
.242
перекрывая смех, произнес: «Я построю!» Сказал сердито и
вроде даже зло.
Стало тягостно, как в атмосфере перед грозой, потому
что слишком много воли выплеснулось со словами Аркая.
«Я построю!» — повторил инженер и видно было — умрет, но
построит. Тамара посмотрела на Него, и лицо ее стало алеба-
строво белым. И даже природное остроумие изменило ей.
«Тогда,— что делать!—я соглашусь войти в эту башню...» —
будто бы, передавали мне, пробормотала она. «Я ее
построю!— хмуро еще раз повторил Аркай.— За год!»
— Вот так и началось между ними то, что видел Доме,—
вздохнул Борнаф.— Тем же вечером я уже сам видел
Тамару и Аркая... Не знаю, как они столковались, но он ее
провожал. В тот вечер я чувствовал себя неважно, потому что
иногда с нами со всеми творится что-то непонятное. Я был
раздражителен и недоволен собой, так как... Ну, да эта
к делу не относится! — быстро проговорил Борнаф и взял
прежний тон. — Уже начинало темнеть. И, стремясь
уединиться, я вышел на балкон. И увидел их. Вон под тем
деревом,— Борнаф глянул на тополь недалеко от дома.—
Поллуны висело в еще светлом небе, так что я могу утверждать^
что видел их хорошо и что не было в их свидании
современной легкости.
— Запомнил я этот вечер!— опять вздохнул Борнаф.—
Вдали, между тусклым оловом рельсов, вспыхнул синий
фонарь железнодорожников, который они почему-то зажигают
за пределами станций и полустанков. И он привлекал к
себе взгляд. Синий свет струился и жил какой-то своей
жизнью, почему-то напоминая о том, что время, самое лучшее,
проходит мимо. Даже я, любящий пейзажи & заводами и
фабриками, почувствовал это. А тут еще где-то неподалеку
зазвучала «Ханская мелодия». Гармонь выпевала
тысячелетний мотив, поощряя слушателей к сокровенным,
единственный раз в жизни уместным словам.
Борнаф смолк и после небольшой паузы повторил:
— Да, запомнил я этот вечер! Я, видишь ли, неожиданно
для себя, любовался необыкновенной парой, смотревшей, как
я понял, на колдовской синий фонарь, и замершей из-за
боязни пропустить хоть один звук «Ханской мелодии». —
Разговор между ними состоялся, наверно, важный, потому, что на
второй день Аркай принес заявление об уходе с завода. Я
пожалел, конечно, но что я мог поделать?.. — Спустя год ушла
и Тамара, — глухо продолжал Борнаф. — И, признаюсь, у
меня в этот весенний день на душе было нехорошо. Бывают,
243
понимаешь ли, в жцзни мидуты слабости, — Борнаф опустил
голову, — нехорошие минуты! — выделил он голосом, —
когда чувствуешь то, что должна бы чувствовать белка в
колесе, обладай она разумом — бессмысленность и никчемность
этого безостановочного бега по кругу. На моих глазах
совершалась ошибка, и я не имел ни права, ,ни средства
предотвратить ее. Ведь знал же наверняка, что эта любовная чепуха не
более чем красивая ошибка. Когда современная девушка
добровольно соглашается заточить себя в каменном узилище в
горах, то ясно ведь, что это ошибка...
— А как, по-твоему, как дальше сложится у них жизнь?
Неужели они разошлись навсегда?
— Ну...— неуверенно протянул он.— Кто знает?..
Моя уловка удалась, потому что Борнаф тут же
оживленно добавил:
— Откуда я могу знать? Но вот что удивительно.
Посмотри-ка, сойдутся двое, и кажется, все у них есть: и
молодость, и красота, и взаимное чувстно, но беспокойны они,
суетятся, будто с краденым имеют дело. И потому недолговечно
счастье между ними. Интересно — чего же им еще нужно?—
Борнаф посмотрел на меня, изобразив на лице какую-то
болезненную гримасу, но тут же смущенно отвернувшись,
уставился на мерцавшую в муаровом небе одинокую звезду.
Я хотел было ответить, что это свойство современного
человека — торопиться исправлять ошибки и при этом
творить новые. И что это — всего лишь суета, причиной которой
является... Но тут уже начиналось философствование. А его-
то мне и не хотелось. И я промолчал. И сидел, задумавшись.
Перед моими глазами вставал белый, из колотого кварца
дымоход, белые перила веранды и белые сводчатые окна и
ДЕери — и все это в белой ограде одинокого в солнечной
долине дома. Все белое, как оставленный бежавшей невестой
наряд...
Долго мы еще сидели молча, так что уже фиолетовый
мрак начал пропитывать вечернюю позолоту неба. И первые
звезды походили в нем на серебряные пылинки, повисшие в
воздухе...
А вдалеке горел синий фонарь. И вокруг него бродили
тени. И мне казалось, что два красивых человека, о которых
мне рассказывали Доме и Борнаф, тоже бродят в этих
потемках и что-то ищут при обманчивом свете одинокого
фонаря...
УГРЮМЫЙ
•П-икто не знал, откуда появилась в общем дворе
двух многоквартирных домов небольшая сажево-
черная собачонка с признаками смешанной крови
таксы и дворняжки. Таких собачек у нас почему-
то называют дамками.
От таксы дамка унаследовала маленький рост
и очень подвижные уши, которые все время у нее
стояли торчком. А от дворняжки — стройные
ножки, не в пример кривоногой таксе, а также
беспечный нрав и отсутствие всякой гордости, ибо Ча-
па — так прозвали ее дети, с которыми она быстро
свела самое близкое знакомство,— отличалась
необыкновенным дружелюбием. Когда дети играли
во дворе, она вертелась у них под ногами, звонко
взлаивала и заглядывала им в глаза. Кроме того,
она умела преданно махать хвостом и нетерпеливо
перебирать лапками перед человеком с чем-нибудь
вкусненьким в руке. Была у нее еще привычка —
сосредоточенно следить за движениями каждого,
удостоившего ее своим вниманием. Дамка чуть не
говорила при этом: «Ну, дай чего-нибудь!.. У тебя
же, наверно, найдется чем угостить!..».
И ей давали, особенно дети. Конфеты, кусочки
сахара, кости с мясом, жевательную резинку,
кукурузные палочки, плиточный гематоген,
мороженое, кислую пастилу — ни от чего не отказывалась
дамка. И потому шерсть на ней лоснилась, будто
была покрыта лаком. Она всегда была изящна. И
лишь выкармливая потомство,— Чапа ежегодно
приносила пять или шесть щенят,— выглядела не
совсем опрятно, как это и положено всякому сильно
занятому созданию...
Совсем иной нрав имел Угрюмый, пришедший в
общий двор вслед за Чапой. Это был крупный
разочарованный пес, в старых жилах которого текла
245
кровь суровой кавказской овчарки, в пяти или шести
предыдущих поколениях разбавленная кровью беспризорных
дворняг. От благородного предка Угрюмый сохранил только
большой рост и степенную медлительность. От дворняг перенял
неприхотливость и философское равнодушие. А мрачный
характер, из-за которого дети прозвали его Угрюмым, был,
по-видимому, не наследственный, а благоприобретенный — от
человеческого непостоянства и связанных с ним
превратностей жизни.
Шерсть на Угрюмом была какая-то нищенская. Она
напоминала старый облезлый ватин, висевший отдельными
неопрятными клочьями на впалых боках длинноногого пса. От
этого масть была неопределенная — то ли ржаво-рыжая, то
ли иссера-коричневая, а общем — хмурая и унылая, под
стать характеру хозяина...
Угрюмый на людей смотрел из-под бровей — недовольно
и недоверчиво. Он ни разу не взмахнул в выражении каких-
либо чувств хвостом, напоминавшим затвердевший обрывок
старой веревки. Ни у кого ничего не выпрашивал, а если
ему бросали что-нибудь, он мрачно и равнодушно
отворачивался и отходил в сторону, ложился и погружался в
невеселые собачьи думы. Песьи мухи садились ему на нос, на углы
глаз и резиново-розовые губы. Но Угрюмый оставался
стоически неподвижен. Брошенное брал, когда бросавший уходил.
И при этом нетрудно бьпло заметить, как это для него
унизительно и как он презирает и себя и свою жизнь и все на
свете. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что
единственное, чем он дорожит — это независимость. И оттого
постоянное одиночество — следствие независимости,
нисколько,, кажется, не тяготило Угрюмого.
Он подолгу лежал на одном и том же месте и смотрел с
равнодушным презрением на других собак, которые жадно,
без капельки достоинства, кидались на брошенную кость и
даже грызлись из-за нее. И лишь когда. рядом появлялась
Чапа и, особенно, когда она крутилась возле старого
Угрюмого, мрачный пес приподнимал уши и близоруко смотрел
на красивую и жизнерадостную дамку, наслаждавшуюся
жизнью. Однажды даже взмахнул негнущимся хвостом — в
знак дружеского расположения к Чапе.
Обычно же Угрюмый не скрывал своего сердитого
недовольства, поэтому другие собаки побаивались и сторонились
его. А люди привыкли к неподвижному псу, как к детали
, пейзажа и обращали на него внимания не больше, чем на
какой-нибудь камень, пень или придорожный бугорок.
246
И как же все, кто это видел, были озадачены, когда
однажды Угрюмый тут же взял брошенную кость. Опустив
голову и ни на кого не глядя, он хмуро подобрал ее и с
достоинством понес к небольшому сооружению из тарных
ящиков, в котором Чапа выкармливала щенят. Угрюмый
положил кость у входа, затем сконфуженно отошел в сторону и
лег, весьма, видимо, недовольный своим поступком. А Чапа
вылезла и, потянувшись, стала грызть гостинец. Угрюмый
поднял уши и посмотрел на нее. Однако тут же отвернулся и
больше ни разу даже не скосил глаз на дамку...
С тех пор часто видели, как Угрюмый, поборов свою
гордость, брал все, что ему ни предлагали, относил к дамкиной
конуре и клал у самого входа. А в тех случаях, когда Чапа
выходила поразмяться, старый пес совсем уже несолидно
увязывался за ней и мрачно рычал, если кто-нибудь пытался
взять на руки или еще как-нибудь иначе приласкать
легкомысленную дамку. Когда же другие собаки норовили
перехватить что-нибудь из того, что бросали Чапе, Угрюмый мед-
лено, с хриплым клокотанием в горле, направлялся к ним и
те, будто, ошпаренные, с визгом откатывались в сторону и
уже оттуда, с безопасного расстояния, ревниво следили, как
лакомится Чапа. А Угрюмый останавливался, соблюдая
достоинство, он опускал голову и из-под бровей недобро
смотрел на повизгивавших перед таким произволом дворняг.
И видно было, что эту привилегию старый пес присвоил
себе не только по праву опытной, много повидавшей собаки,
но, главным образом, по соображениям, которые никто,
кроме самого Угрюмого, не мог понять...
Когда щенята подросли и их разобрали, глуповатая
дамка снова зажила своей легкомысленной и беспечной
жизнью — она беззастенчиво клянчила лакомства, ласкалась к
детям и заискивала перед взрослыми, не обращая на своего
опекуна ни малейшего внимания. И как это ни тяжело было
для любившего одиночество Угрюмого, он, вопреки своему
характеру, все время находился недалеко от Чапы, терпя
вредный для его нервов шум и ребячью возню. В
благодарность за это несерьезная и ветреная Чапа раза два или три
подходила к своему хмурому покровителю и, мелко
перебирая лапками и особенно часто виляя хвостом, обнюхивала
всю в шрамах морду Угрюмого, закрывавшего в это время
глаза, и тут же, мгновенно позабыв о нем, с радостным и
звонким брехом кидалась к игравшим детям.
Погожими вечерами, когда взрослые выходили посидеть
на лавках у подъездов, то, между прочим, их праздное вни-
247
мание привлекал иногда и Угрюмый. И тогда они смотрели
на него не то с жалостью, не то с осуждением, полагая в
странном поведении пса то, что никогда никто не одобряет,
а именно — старческую запоздалую любовь, которая обычно
возбуждает в тех, кто ее видит, обидное и тягостное чувство.
А Угрюмый знать ничего не хотел. Он следовал, как
привязанный, за Чапой и охранял ее. В его безрадостной, как
хмурое осеннее небо, жизни появился проблеск. Горячий
золотой луч ударил из-за плотных серых облаков,
прорвавшись через маленькую в них прореху,, и осветил и согрел
сердце старого пса.
Но не долгим оказалось счастье Угрюмого...
Как-то,!когда он отлучился куда-то на короткое время, во
двор заехал автофургон «Хлеб», за рулем которого сидел
молодой лихач. Он фасонисто затормозил на небольшой
асфальтовой площадке, потом, заскрежетав коробкой передач, с
ревом, по крутой дуге, стремительно подал назад, готовясь к
развороту по краю площадки. Прыгавшая вокруг машины
Чапа не успела отскочить и... В общем, погибла дамка...
Лихач рванул и уехал, оставив за собой шлейф голубого
дыма. Случившиеся тут дети заплакали, а одна из девочек
пронзительно завизжала, так что на балконах появились
жильцы. И один из них, перегнувшись через перила, даже
послал вдогон лихачу крепкое словцо. Потом, чтобы избавить
детей от тягостного зрелища, этот сердобольный взрослый
спустился во двор и накрыл Чапу газетой, края которой
придавил камешками, пожалев вслух, что мусоровоз придет
только завтра...
Кажется, Чапа успела взвизгнуть и, кажется, мрачный
опекун дамки услышал это, потому что, как только
сердитый человек отошел от газеты, Угрюмый вылетел из-за угла
дома. Он приближался, делая старческие ревматические
прыжки и держа прямо на газетный холмик. И лаял,
впервые — густым хриплым басом. Грозный лай гулко отдавался
в пространстве между домами, и жильцы со страхом
смотрели вниз и тревожными голосами звали детей в дом...
Возле газетного холмика Угрюмый остановился,
спружинив всеми четырьмя ногами и чиркнув крепкими когтями об
асфальт. Он покачнулся, но устоял. И тут же, склонив
негнущуюся шею, сунул нос под приподнявшийся край газеты
и даже попытался заглянуть под нее. Это у него не
получилось. И тогда он в бессилии понять что-либо, брехнул куда-
то в пространство, заскулил и заковылял вокруг холмика с
газетой. Шел он медленно и трудно, словно в коротком беге
248
ют угла дома до места гибели, Чапы растерял все свои силы.
И нельзя было понять, когти ли его стучат об асфальт или
это трещат его старческие суставы...
Никогда прежде так ясно не была видна его старость...
Голова Угрюмого была опущена, хвост обвис и болтался,
как подвешенная палка, а в холке при каждом движении
выпирали полукружия лопаток и на боках, подобно
оторвавшимся заплаткам, болтались неопрятные островки
облезающей шерсти.
Угрюмый повизгивал, и это выходило у него неумело. И
нетрудно было понять, что ему хотелось взглянуть на
останки Чапы и что он не знал, как это сделать...
Весь мир для него сосредоточился в этом холмике под
газетой. Возможно, Угрюмый не совсем был уверен, что
случилось непоправимое. Он сомневался. И потому поковылял
куда-то, в потайное место в кустах сирени, и через минуту
вернулся с грязным куриным крылышком, которое он
решительно положил возле приподнятого края газеты. И призывно
брехнул, после чего склонил голову и близоруко уставился в
туннельчик под газетой, поощрительно пошевеливая
палкообразным хвостом. Потом, когда Чапа не вышла к
лакомству, Угрюмый завыл, но сразу же, устыдившись своей
слабости, оборвал горестный вой. Присел и стал ждать...
Больше он не пошевелился. Так и сидел со старческим
терпением до самой ночи. И черные кольчатые веки, а также
розовые углы глаз Угрюмого были влажны. Слезы ли это
былц или болезненная слизь на старых глазах — трудно
было сказать, но раньше никто не видел Угрюмого таким
унылым.
Дети стояли поодаль и, насупленные, смотрели на
тоскующего пса. Взрослые растерянно качали головами и
советовали детям разойтись...
...Утром Угрюмый сидел все так же. За ночь он как будто
похудел еще больше и состарился. И когда пришел
мусоровоз и остановился недалеко от него, Угрюмый даже не
пошевелился.
Мусорщик вылез, нерешительно постоял, не зная, как тут
быть, но так как не дождался ни помощи, ни даже совета от
жильцов двух домов, которых любопытство вывело на
балконы, то он решился — опасливо, не спуская глаз с
Угрюмого, подошел и осторожно, вместе с газетой, взял трупик
Чапы. Угрюмый повернул к нему голову и непонимающе
смотрел, как мусорщик, все еще глядя на него, отступил назад и
вслепую, словно загипнотизированный, положил останки Ча-
249
пы в пасть мусороприемника. И не пошевелился даже и
тогда, когда мусорщик, которому изменили нервы, отбежал и
исчез в кабине...
Машина взревела и отъехала, а Угрюмый сидел и
смотрел ей вслед. И только когда машина отдалилась и уже
выворачивала на дорогу, Угрюмый вскочил — по-старчески
тяжело, но решительно,— и понесся за мусоровозом. И всем,
кто это видел, было ясно, что сил Угрюмого хватит
ненадолго — он спотыкался, а на поворотах его даже заносило. Пес,
однако, и не думал останавливаться. Может, впервые, за весь
свой собачий век, в котором главным для него было почтение
к человеку, Угрюмый готов был восстать против человека и
выражал свой бунт редкими гулкими взбрехами.
Но это было позднее возмущение, на которое у Угрюмого
не хватало сил, ибо он был уже слишком стар, не хватало и
умения выказать его, потому что он прежде не упражнялся
в искусстве бунта...
Мусоровоз выкатил на дорогу. За ним, чуть ли не под
проносившиеся по широкой улице автомашины, вылетел и
Угрюмый. И, как рассказывали видевшие это люди, он смог
преследовать мусоровоз только один квартал, после чего
безнадежно отстал так, что вынужден был, высунув язык, лечь
прямо посреди дороги. Там он лежал дотемна...
Шоферы старательно объезжали его. Пса не тронул даже
постовой милиционер, который не мог не видеть, что собака
мешает движению транспорта...
Говорили, что во взгляде Угрюмого было что-то такое
особенное, при котором, если оно бывает в человеческих глазах,
люди похлопывают беднягу по плечу, выражая ему
поддержку и делясь с ним частью своей бодрости. Но животные,
даже самые умные, лишены этого утешительного участия,
потому что даже самые добрые из людей не знают, как тут
следует поступать... Сочувствие только грызет душу
человеческую, не зная пути, по которому оно могло бы попасть в бо-
ляшее сердце животного, чтобы смягчить его боль...
Лежал Угрюмый до самого вечера. Оставался он на
своем асфальтовом ложе и поздно ночью. А утром исчез...
И никто уже больше никогда не видел Угрюмого...
250
ЗИМНИЕ КУЗНЕЧИКИ
Оима выдалась снежная. В феврале снег шел
целую неделю. Бесперерывно, днем и ночью,
опускались огромные белые хлопья и беззвучно падали
на ослепительно белый пух, уже покрывавший
землю толстым слоем. Не видно было ни одной птицы,
только голуби, облепленные снегом, неподвижно
сидели на карнизах городских домов, пережидая
ненастье, и казались белыми шариками. Вороны и
сороки не залетали во дворы, исчезли даже
воробьи — лишь изредка, перед белыми зимними
сумерками, раздавался их грустный и сиротливый
писк, свидетельствовавший, что им неуютно,
холодно и голодно.
Но однажды снегопад прекратился.
Неожиданно подул слабый южный ветер, теплый, как парное
молоко. Он быстро пропитывал своим теплом
молодой снежный пух.
И уже казалось, что скоро снег побежит ручья-
ми^ так что через день-два от него ничего не
останется. Но этого не произошло, потому что южный
ветер иссяк, а ночью схватился такой мороз, что
снег покрылся толстой коркой наста, который на
следующий день уже крошился под ногами, звеня,
как сталкивающиеся трубочки стекляруса.
Плохо расчищенная дорожка, пролегавшая
между домами нашего квартала, вся покрылась
крепкими, как лед, снежными бугорками, так что ею
перестали пользоваться даже дети, идущие в
школу. И потому вскоре рядом с временно заброшенной
дорожкой они проложили тропу, углубленную в
снег, как траншея, дно которой было усеяно
торчавшими кусками наста вперемешку с сухим, как
сахарный песок, снегом...
Случилось так, что однажды вечером,
возвращаясь с работы, я медленно тащился по этой школь-
251
ной тропе. Я был на ней один, если не считать какого-то
мальчишки, который брел впереди, метрах в пятнадцати от
меня.
Усталость ли была виновата или унылые, незаметно
подкравшиеся сумерки — не знаю, но настроение у меня было
подавленное. Может быть, уже надоела и зима, как это
бывает в феврале, когда почему-то начинаешь верить, что
однообразные скучные холода будут стоять еще бесконечно долго
вместе с горами несвежего снега. Не радовало и то, что в этот
предвечерний час все вокруг выглядело оцепеневшим, будто
скованным жестоким морозом. Дома с редкими
прямоугольниками освещенных окон казались гигантскими мглистыми
кубами. Не видно было даже собак и кошек. Только мы двое,
я и маленькая фигурка, тащившаяся впереди, оживляли это
скучное пространство, стиснутое между темными громадами
домов.
Как ни медленно я шел, а мальчишка шел ещр
медленнее, и я уже догонял его. Было ему лет одиннадца^ь-двенад-
цать. Полный ранец за спиной и длинное, почти до пят
теплое пальто, тяжелое для такого маленького человека,
объясняли его медленный и трудный шаг. А шапка-ушанка с
фасонисто завязанными на затылке тесемками наушников тоже
была великовата для него и, по-видимому, сползала ему на
нос, потому что он время от времени привычным
движением поправлял ее.
Неожиданно, когда между нами оставалось не более
шести или семи метров, мальчишка привалился к снежной стене
траншеи и не без труда вылез из неё на четвереньках. Затем
поднялся и сделал несколько осторожных шагов по
крепкому насту и тут же, снова упав на четыре конечности, начал
карабкаться на снежный вал, протянувшийся вдоль
временно заброшенной дорожки.
— Эй!— удивился я.— Ты куда?
Мальчик оглянулся уже на гребне. Он встал и, чтобы
увидеть меня, вьшужден был задрать подбородок. Затем
шмыгнул носом и привычным движением сдвинул на макушку
шапку.
— В оазис,— сказал он и мотнул головой куда-то в
сторону.
— В какой еще оазис?
— С кузнечиками.
Мне показалось, что я плохо расслышал.
— С кем?
— С кузнечиками,— мальчик провел рукавом пальто по
252
носу, потом, отвернувшись и расставив руки, начал сходить-
по склону вала на ту сторону.
— Эй, подожди!— крикнул я.
Он остановился, покачиваясь на скользком склоне, и
вопросительно ждал.
— А... это...— запнулся я, успев, однако, подумать:
«Шутит-то как, поганец!»—А... это... Может, там и пальмы
растут? Бананы зреют?
— Нет, этого нет. Кузнечики есть,— серьезно проговорил
он и исчез за нагромождением комковатого снега.
Я растерянно топтался на месте, пока надо мной не
раздался сухой стрекозий треск уличного фонаря и он не
вспыхнул, бросив сноп голубоватого света туда, где, по моему
предположению, должен был находиться этот странный мальчик.
— Эх, была не была!— решился я и, сойдя с тропинки,
начал подниматься по его следам, проваливаясь по колено в
заискрившийся снег. Острые кромки наста резали ноги сквозь
штанину, сухой снежный песок сыпался в ботинки, но я все-
таки влез на гребень насыпи и, утвердившись на нем,
посмотрел вниз.
И оторопел от изумления!
Внизу раскинулась совершенно зеленая неправильной
формы площадка не более десяти квадратных метров, вся
покрытая самой свежей травой.
«Что такое? Как это может быть?— Я не верил своим
глазам.— Настоящая же ведь зелень! Мурава! Зеленый
остров среди снега!»
Но тут я заметил открытый люк посреди изумрудной
площадки. Из него поднималось жидкое облако пара. И все мне
стало ясно — потому что вспомнил, как небрежно работали
здесь слесари-теплотехники поздней осенью, спеша
отремонтировать колодец с вентилями паропроводов. Они кое-как
устранили неисправность, но второпях забыли закрыть люк
и не изолировали сходившиеся в колодце мощные трубы. И
теперь жар от них, прогрев землю, дал жизнь этому
настоящему оазису. И жизнь не заставила себя ждать — крохотная
долина, несмотря на редкую для наших мест стужу, пышна
зеленела!
Мальчик, уже стоявший на снегу, у кромки оазиса,
поманил меня, махнув рукой. Я осторожно сошел к нему.
— Теперь стойте тихо!— шепотом велел он.— А то они
боятся.
— Кто?
— Кузнечики же!..
253
И именно в это время я услышал скрип самого
мелодичного и чистого тона, который обычно раздается где-нибудь на
лугах или зеленых пустырях теплыми летними вечерами,
накануне захода солнца, а затем слышится долго и после.
Дальше к этому совершенно летнему звуку присоединились
еще пять или шесть скрипов из разных мест
необыкновенного оазиса. Скрипы были так же чисты и мелодичны, как .
первый, но это были все-таки другие звуки. И маленький
оркестр заиграл,— музыкант бы сказал — вразнобой,— но эта
несогласованность сама была мелодией, той желанной
мелодией, которую, вспоминая летние вечера, мы слышим
отчетливо, как их самую существенную черту.
Я ошеломленно ^слушал дивные звуки, впитывая их всей
душой, как иссушенная зноем земля впитывает живительную
влагу долгожданного дождя. И какое-то теплое, как само
лето, чувство наполняло мою грудь, создавая в ней радостную
тесноту. Я стоял и слушал, позабыв, что вокруг — зима, что
мороз, как это водится, к ночи крепчает, что за пределами
маленького изумрудного царства с миниатюрным летом
стоит лютый февральский холод...
— Это кузнечики,— вполголоса сказал мальчик.— Они
будут петь,— он так и сказал — петь,— они будут петь очень
долго. Может быть, даже до полуночи.
— Почему?
— Летом они замолкают, как только выпадет роса,
потому что у них крылышки отсыревают. А здесь все время
сухо. Так что, может, даже до утра будут петь.
— Ты уверен,— что это кузнечики?
— Кузнечики, конечно! Стрекозы — те трещат сухо,
будто кто-то обрывки фольги сгребает. Это даже не музыка! А
сверчки только стрекочут. У них получается понежнее, чем у
стрекоз, но и им далеко до кузнечиков! Ну — сами послушайте!
Чистые звуки безыскусной мелодии, мне казалось,
порхали над зеленой лужайкой у наших ног, среди обильно
излучаемого тепла. Эти звуки мне почему-то казались цветными,
как крылышки мелких зеленоватых бабочек, кружащихся в
безмятежном хороводе где-нибудь над бочажком с
кустиками водяного перца. И — волшебство какое!— я отчетливо
видел летний вечер, наступающий после неистового жара
середины лгета. Это был вечер с мягкими акварельными
сумерками, которые растворяют в себе солнечные краски дня, так
что желтый лютик и иголка зеленого остреца, рыжая
бабочка и изумрудная ящерица, уснувшая в траве у малахитового .
стебля полыни,— все, что еще может различить глаз, выгля-
254
дит одинаково пепельно-серым. Мне, кроме того, мерещилось,,
как на резном листке одуванчика или шелковом лепестке
ромашки выступает бисерная дробь росы, как между
листком безымянной травки и желобком ее лакированного
стебелька интимно округлилась росная капля, освежающая
истомленное дневным зноем растение. Я даже слышал тихое
вентиляторное гудение повисшего в воздухе крупного
бражника, который уже запустил свой гибкий хоботок в длинный
венчик цветка дурмана в зеленом чехле, похожем на
игрушечную вазочку из тонкого фарфора...
Я находился в лете. Это было самое полное ощущение
лета!.. Не знаю, сколько это длилось, — должно быть,
немало,— но к действительности меня вернул голос мальчика.
— Хорошо!— сказал он.— Правда?
— Истинная правда! И давно ты их слушаешь?
— С самой осени. И все время боюсь...
— Чего?
— Как бы сантехники не пришли и не отремонтировав
ли свой колодец. Тогда...— Голос мальчика дрогнул и он не
договорил.
— Этого не будет,— сказал я.— По крайней мере, в этом
году. У них других дел предостаточно. Но чем живут эти
оркестранты?
— Траву грызут. Она вон какая сочная! Кроме того, тут,
конечно, и мушки есть. Они на них охотятся. Достаточно им...
— Тогда здесь будет лето до лета!— с удовольствием
сказал я.
— Обязательно будет. Лишь бы сантехники не пришли,—
сказал мальчик и тут же добавил:—Эх, мне пора! Уроки!..
— Прощай, дорогой!..— я сердечно пожал руку
мальчика и, благодарный, осторожно отступил от изумрудного
оазиса и пошел прочь, унося в груди неожиданное лето...
СОДЕРЖАНИЕ
АРЫПП, БУТЫР И ДРУГИЕ
5
19
34
50
66
85
103
123
145
158
174
191
207
225
245
251
НОЧНАЯ ОХОТА
ФРАНЦУЗСКАЯ КУРИЦА
РЕВНИВЫЕ СВАТЫ
ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО
ИСТИННО ГРУЗИНСКОЕ
УДОЙЛИВАЯ КОРОВА
КОЛОРАДСКИЕ ЖУКИ
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
торжество жанра
БУКВЫ НА СТАРОМ ДЕРЕВЕ
ЧП
РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ПОЛУНОЧНЫЕ СИГАРЕТЫ
БАШНЯ ТАМАРЫ
УГРЮМЫЙ
ЗИМНИЕ КУЗНЕЧИКИ
Георгий Алексеевич Тедеев
НОЧНАЯ ОХОТА
Редактор Д. Т. Калоева
Художник В. А. Биджелов
Художественный редактор У. К. Кануков
Технический редактор А. В. Ядыкина
Корректор Б. А. Толпарова
ИБ № 1552
Сдано в набор 14.11.87. Подписано к печати 02.03.88.
ЕЙ 00349. Формат бумаги 60х841/1в. Бум. тип. № 2.
Гарн. шрифта литературная. Печать высокая. Усл. п. л.
14,88. Усл. кр.-отт. 15,28. Учетно-изд. листов 14,96. Тираж
15000 экз. Заказ № 532. Цена 1 руб. 10 коп.
Издательство «Ир» Государственного комитета Северо-
Осетинской АССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли, 362040, г. Орджоникидзе, проспект
Мира, 25.
Книжная типография Государственного комитета Севе-
ро-Осетннской АССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли, 362011, г. Орджоникидзе, ул. Тель-,
мана, 16.