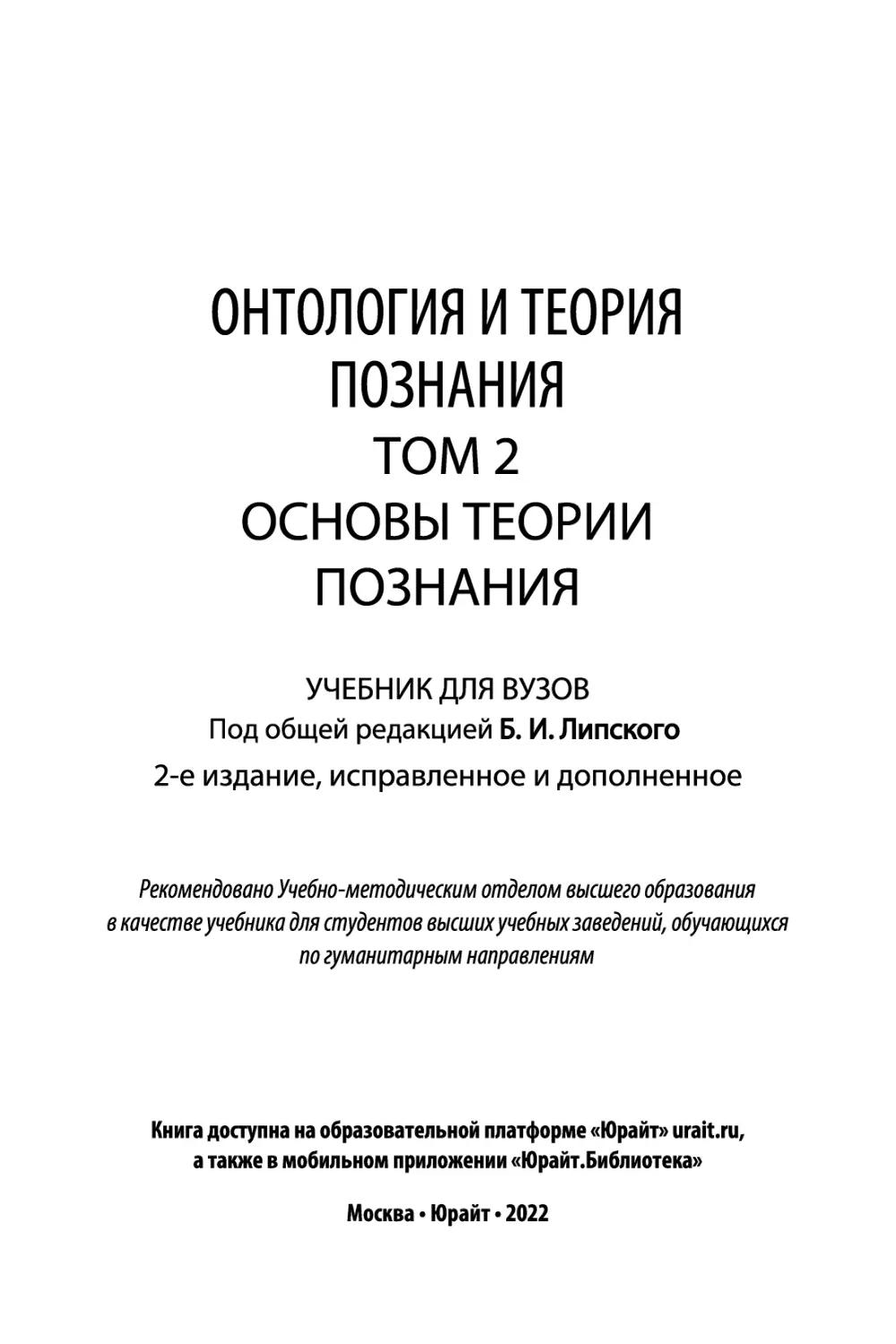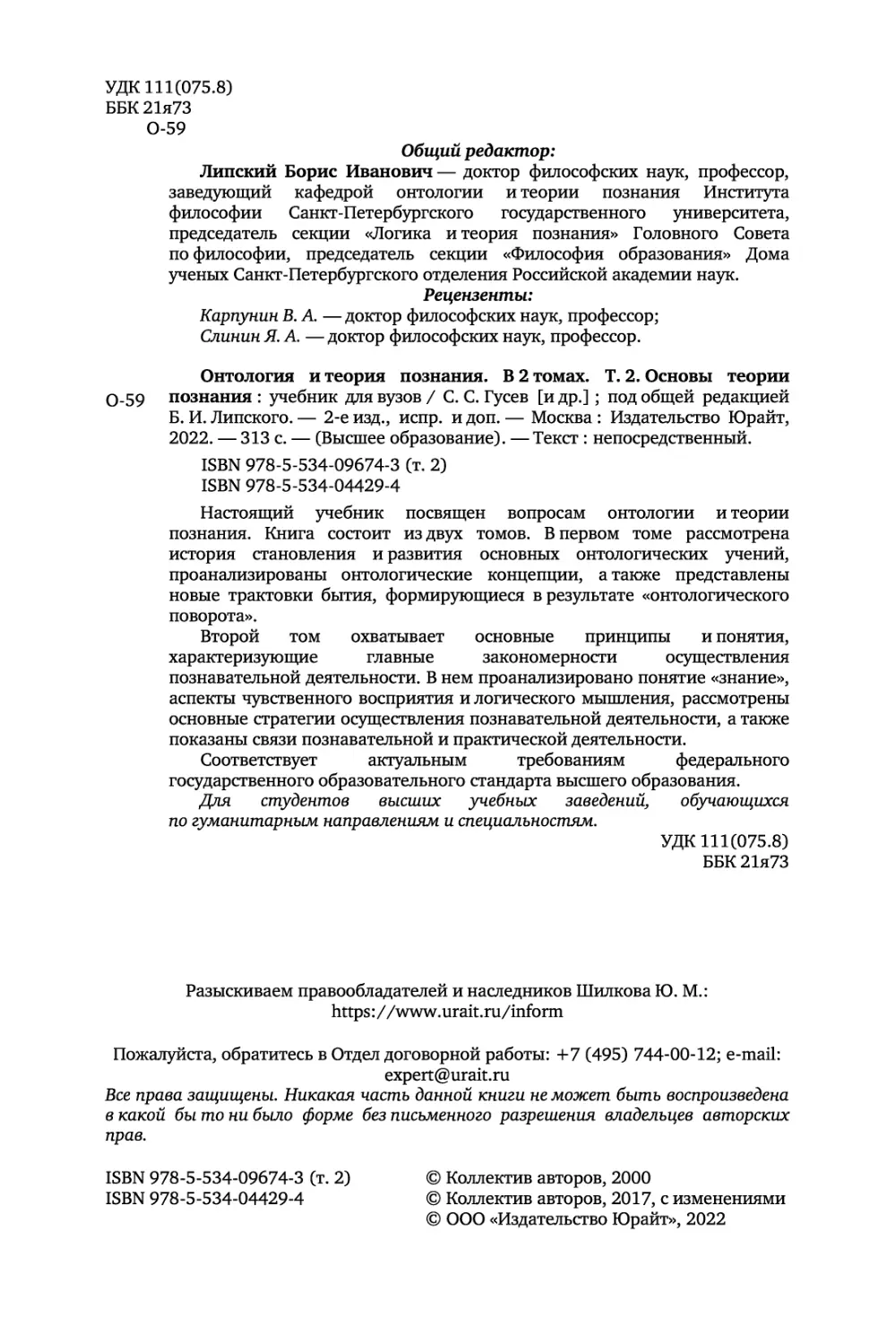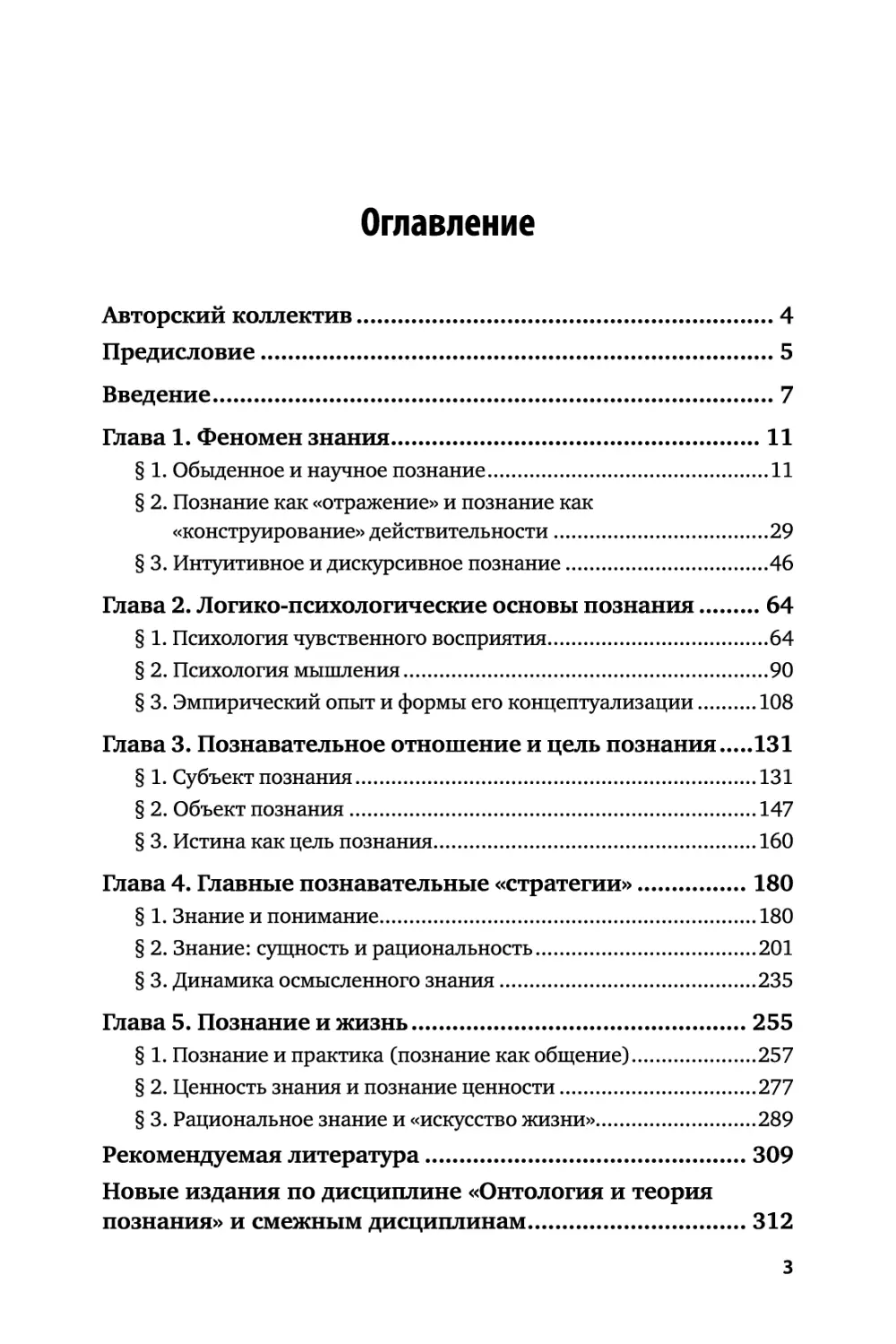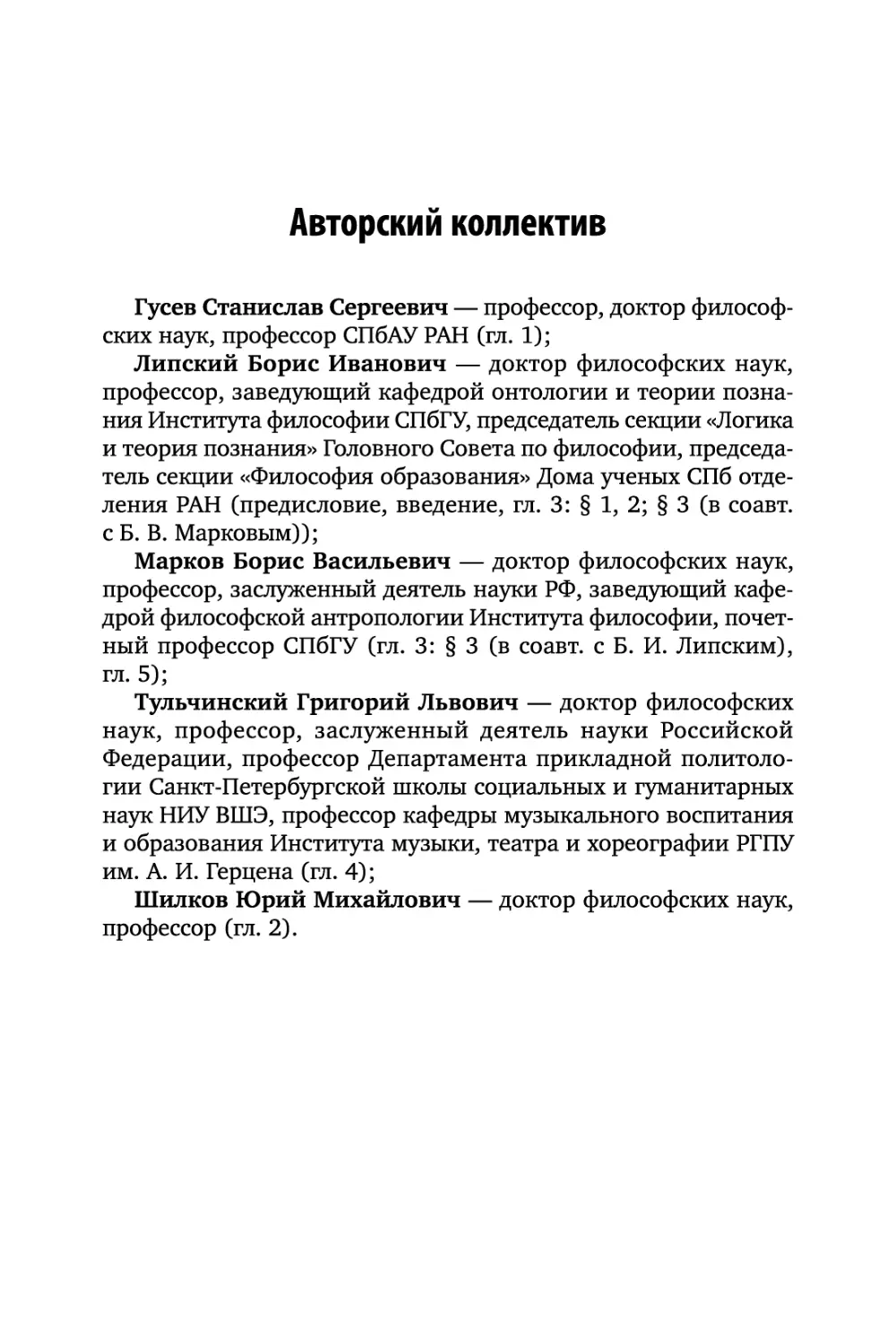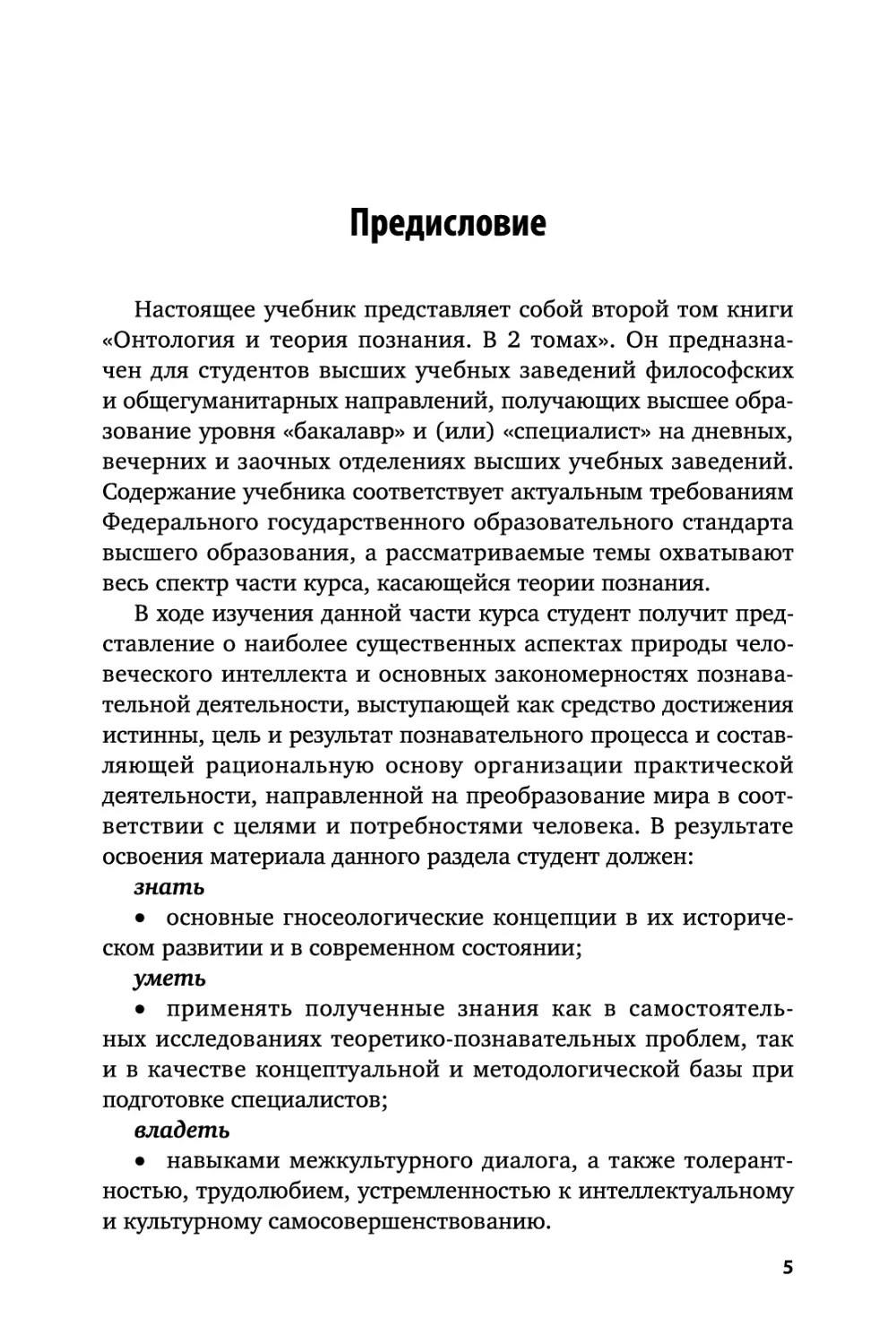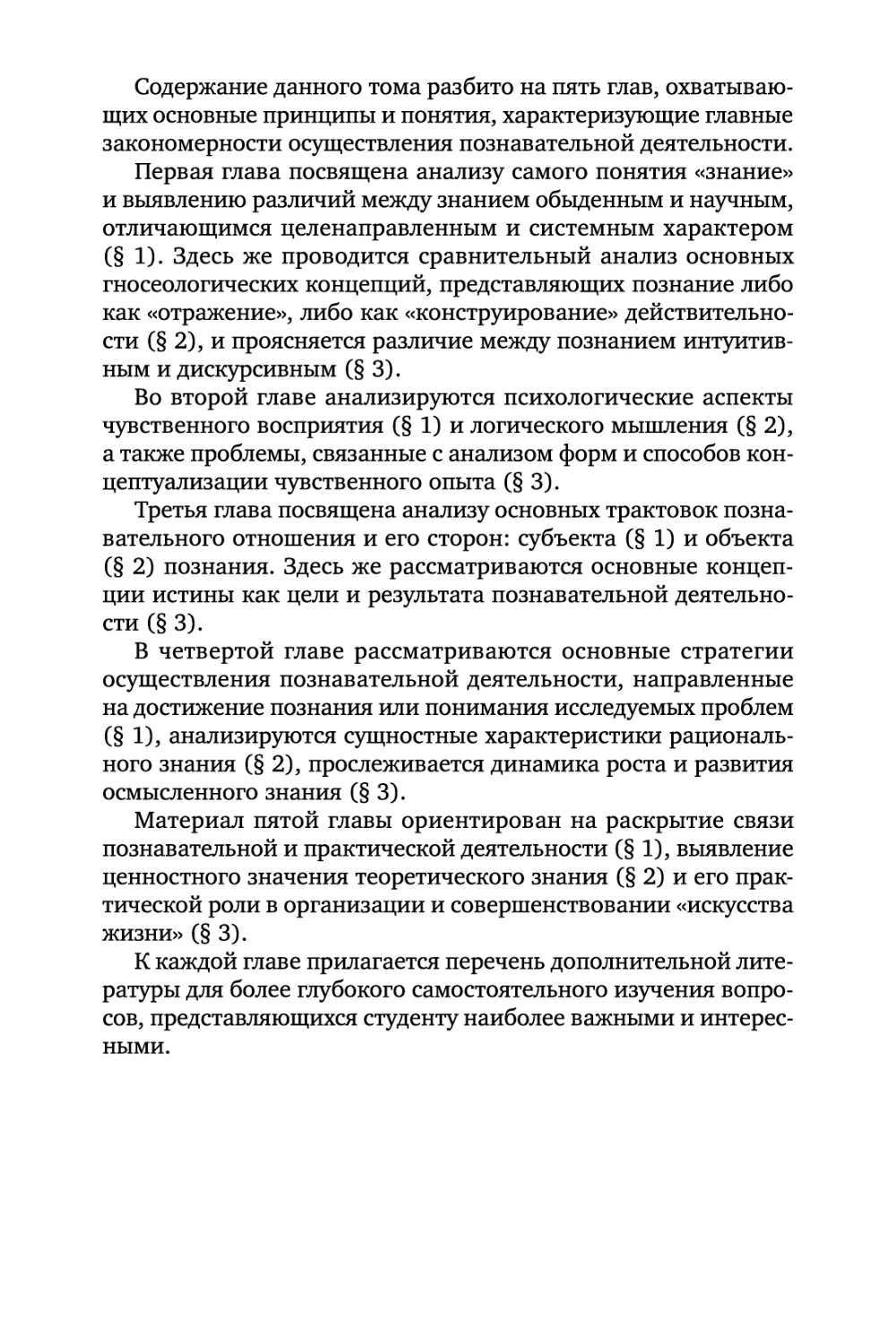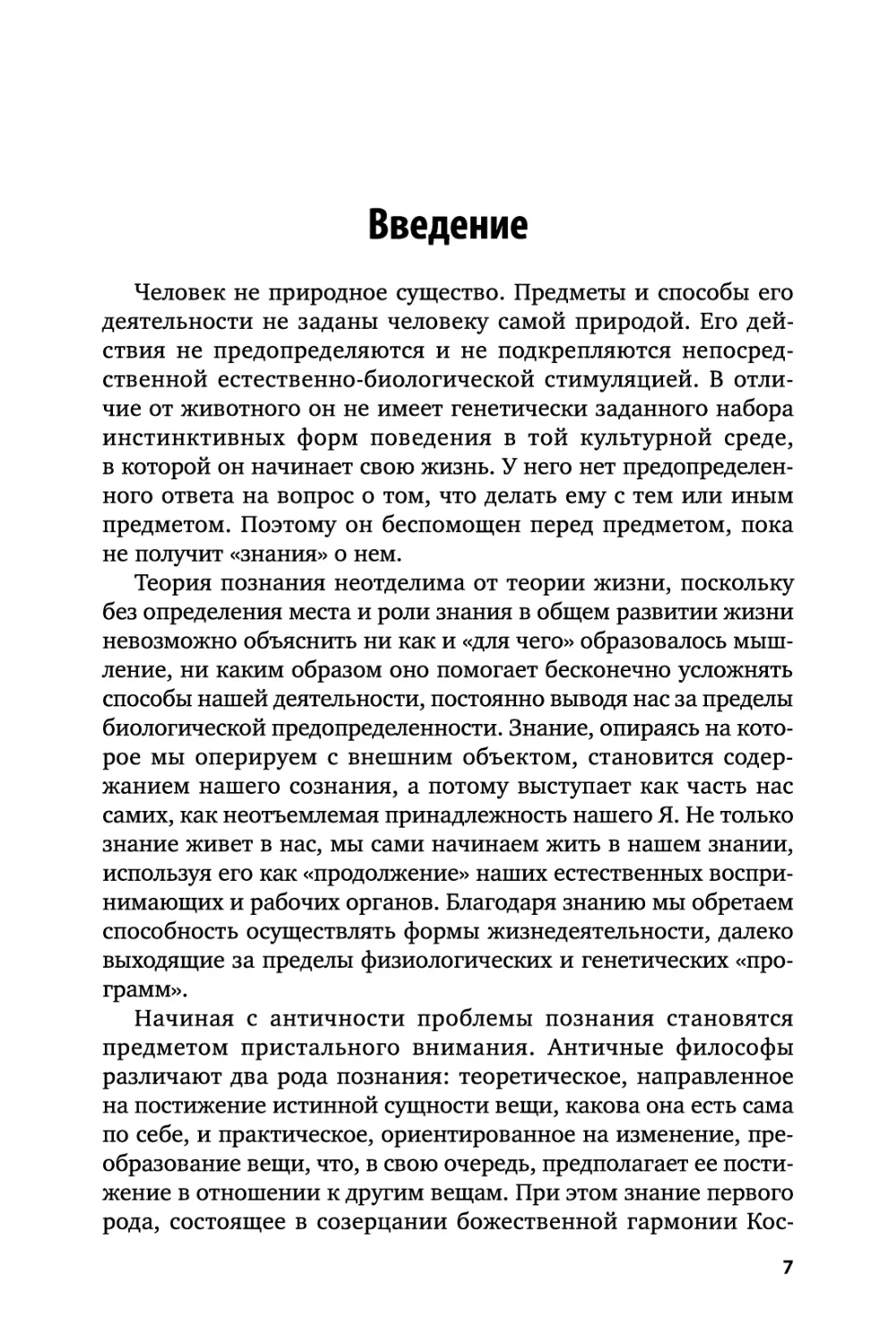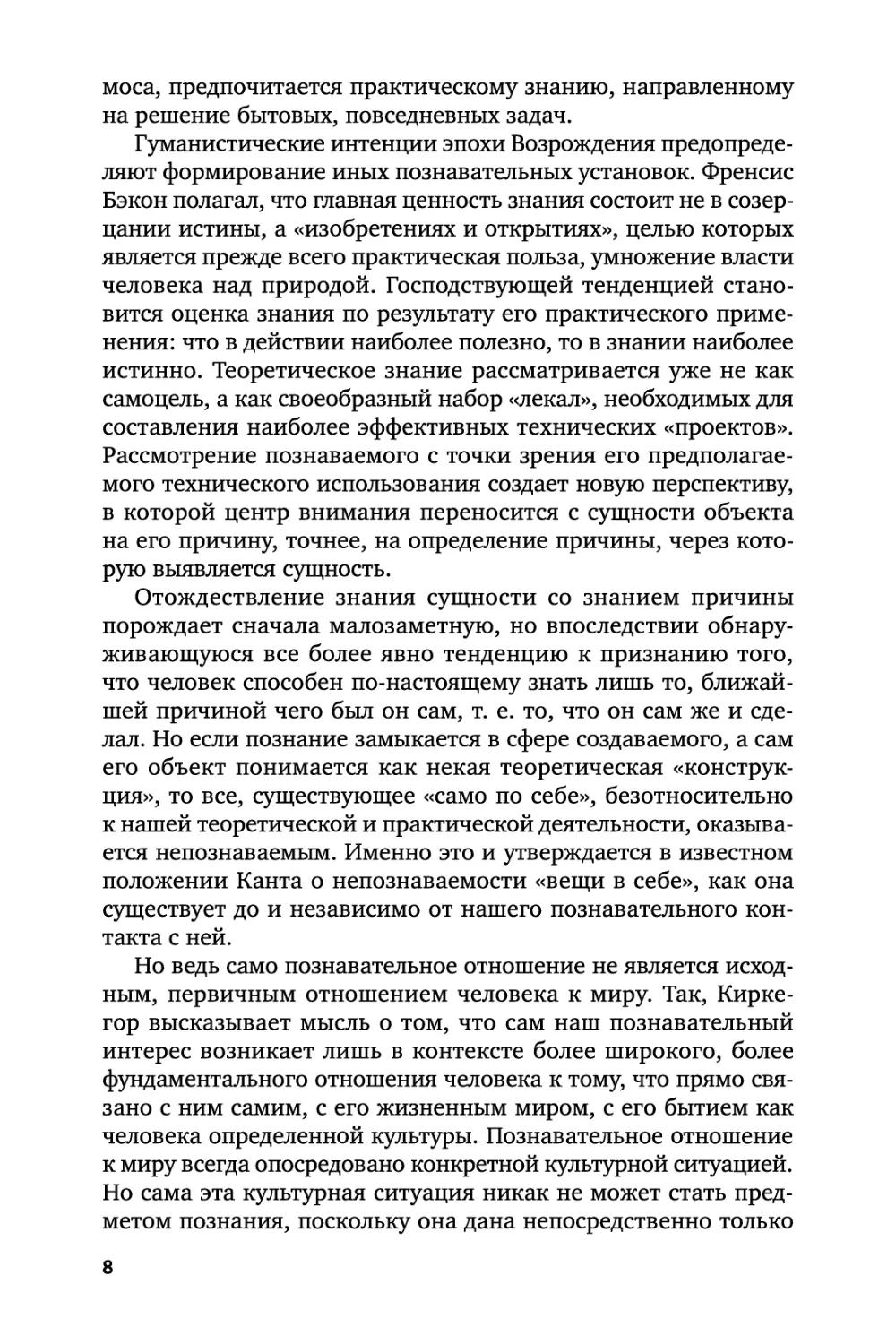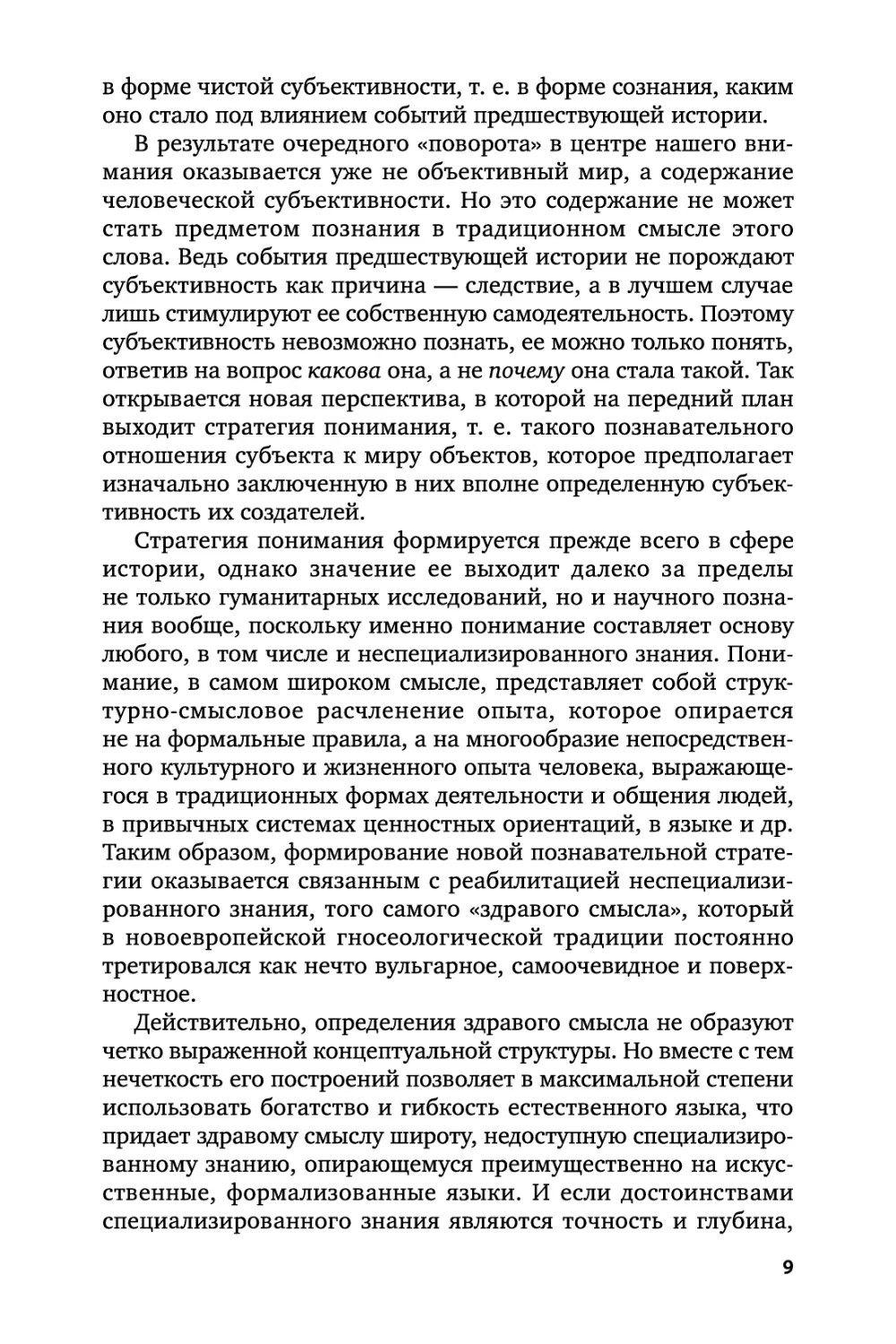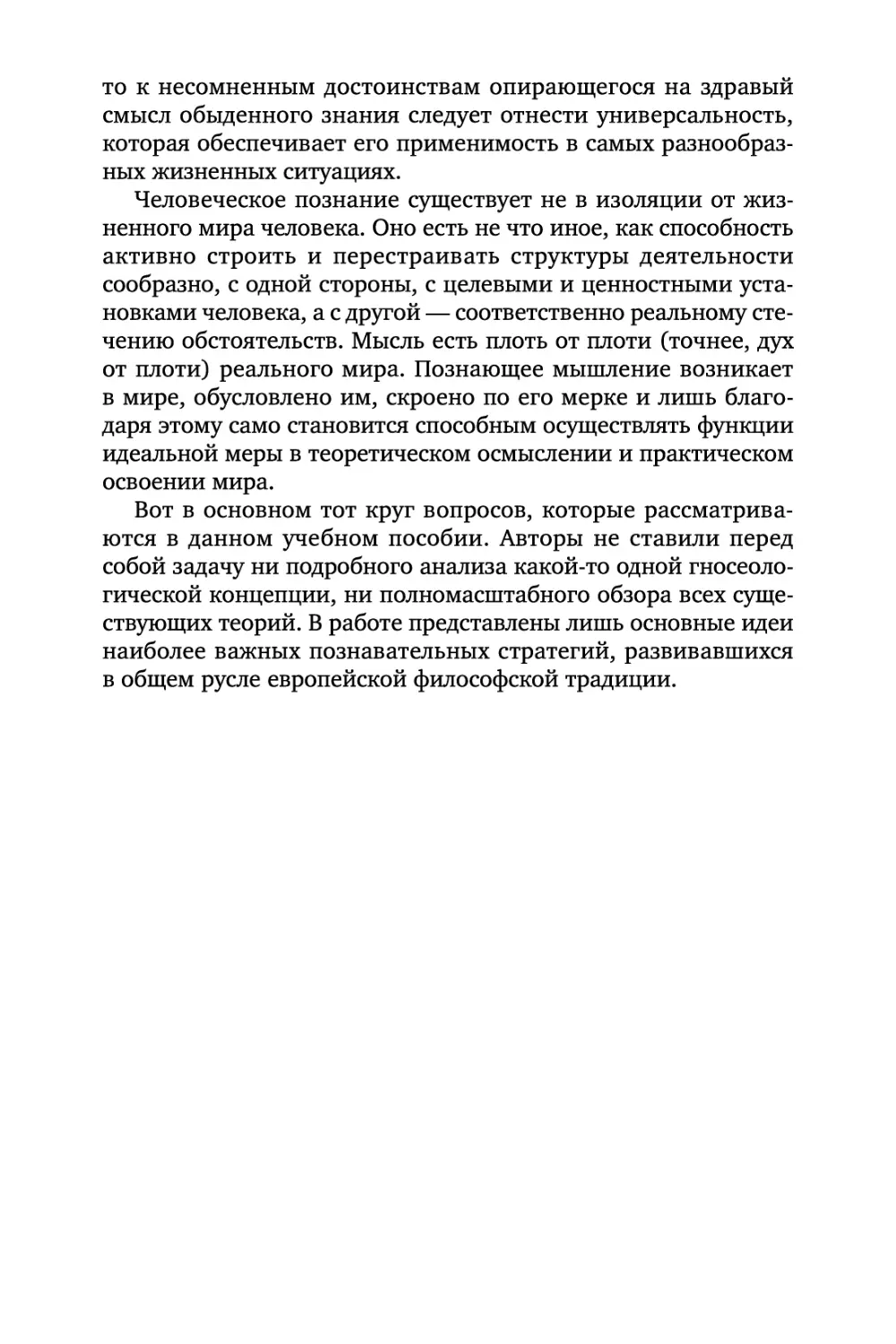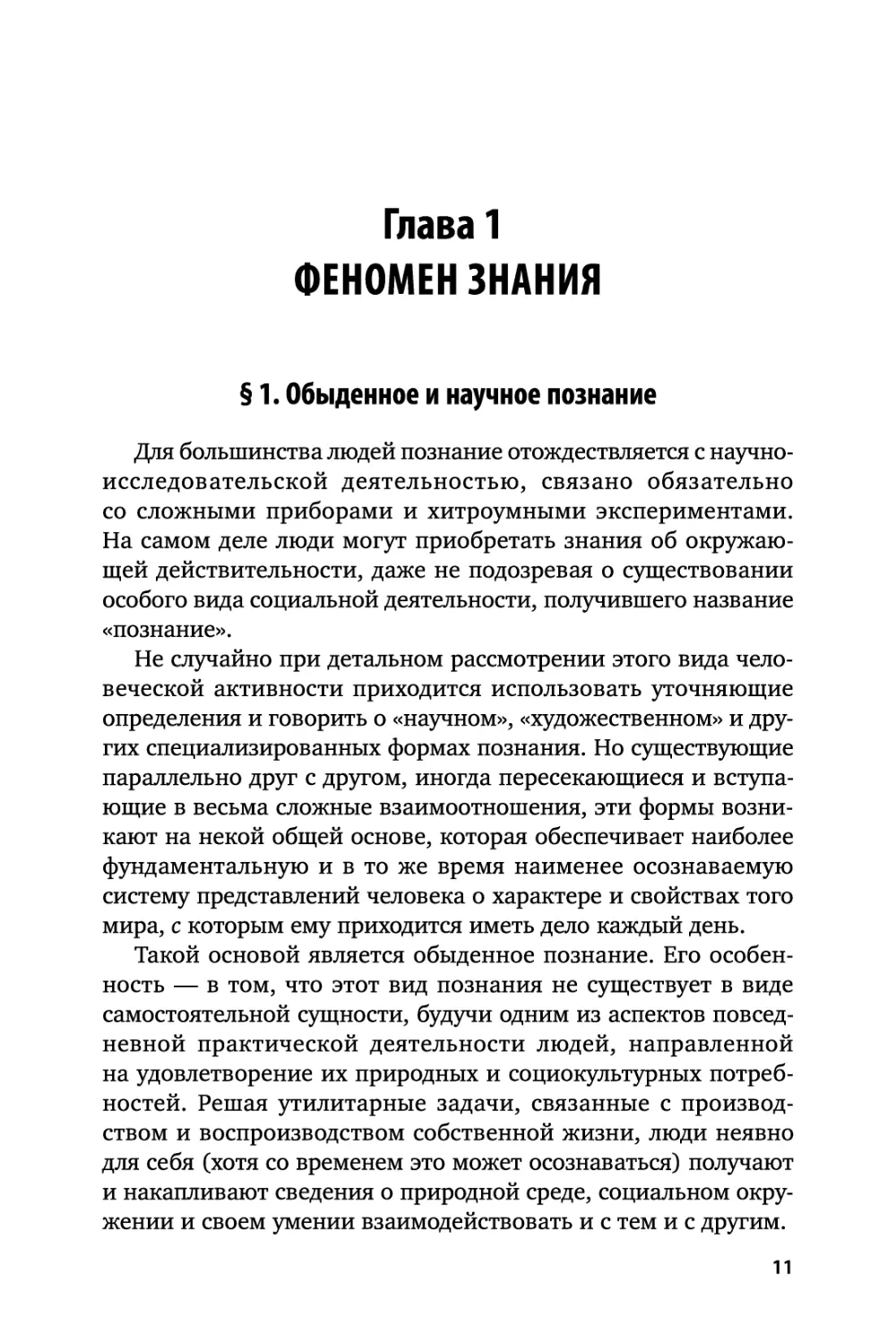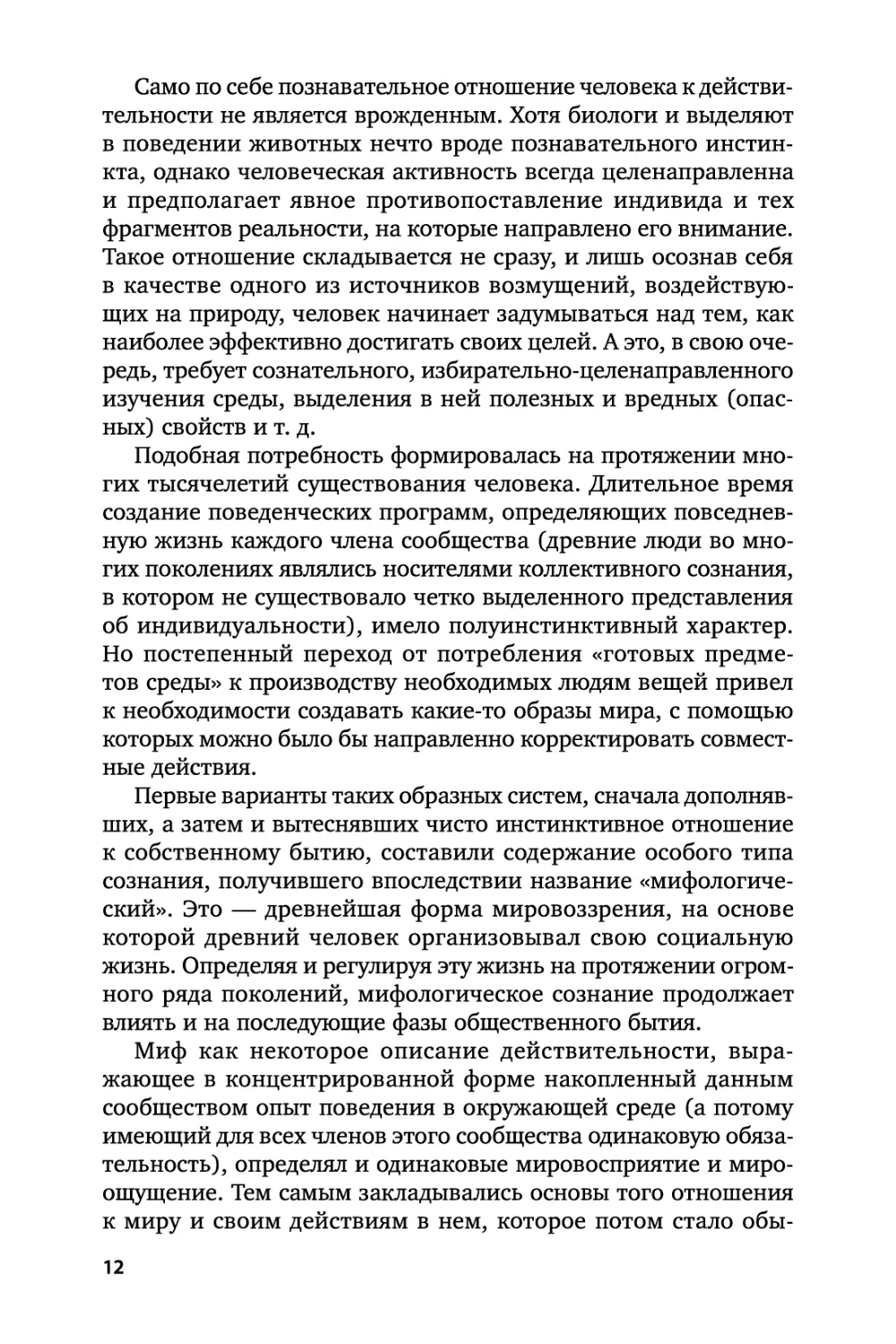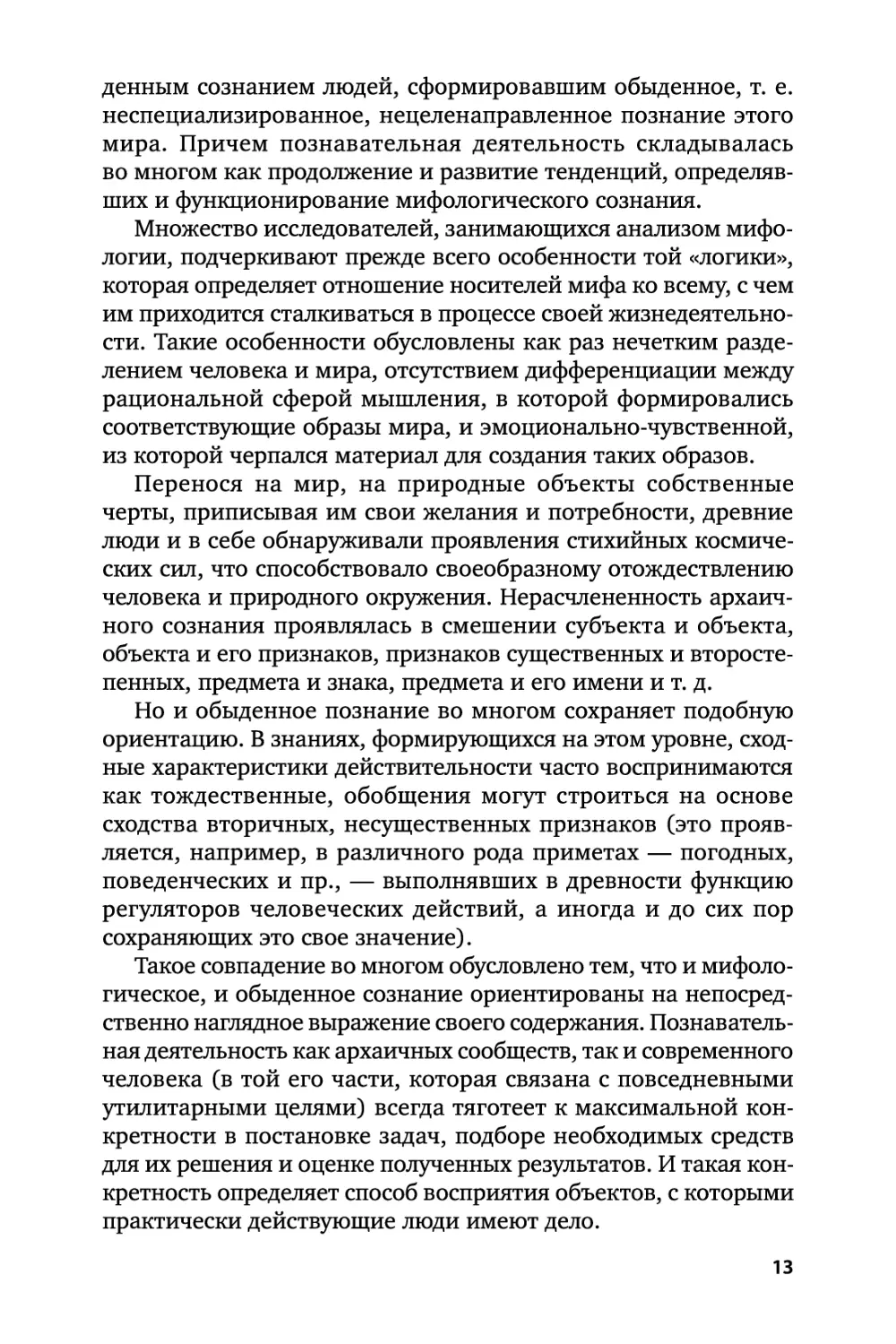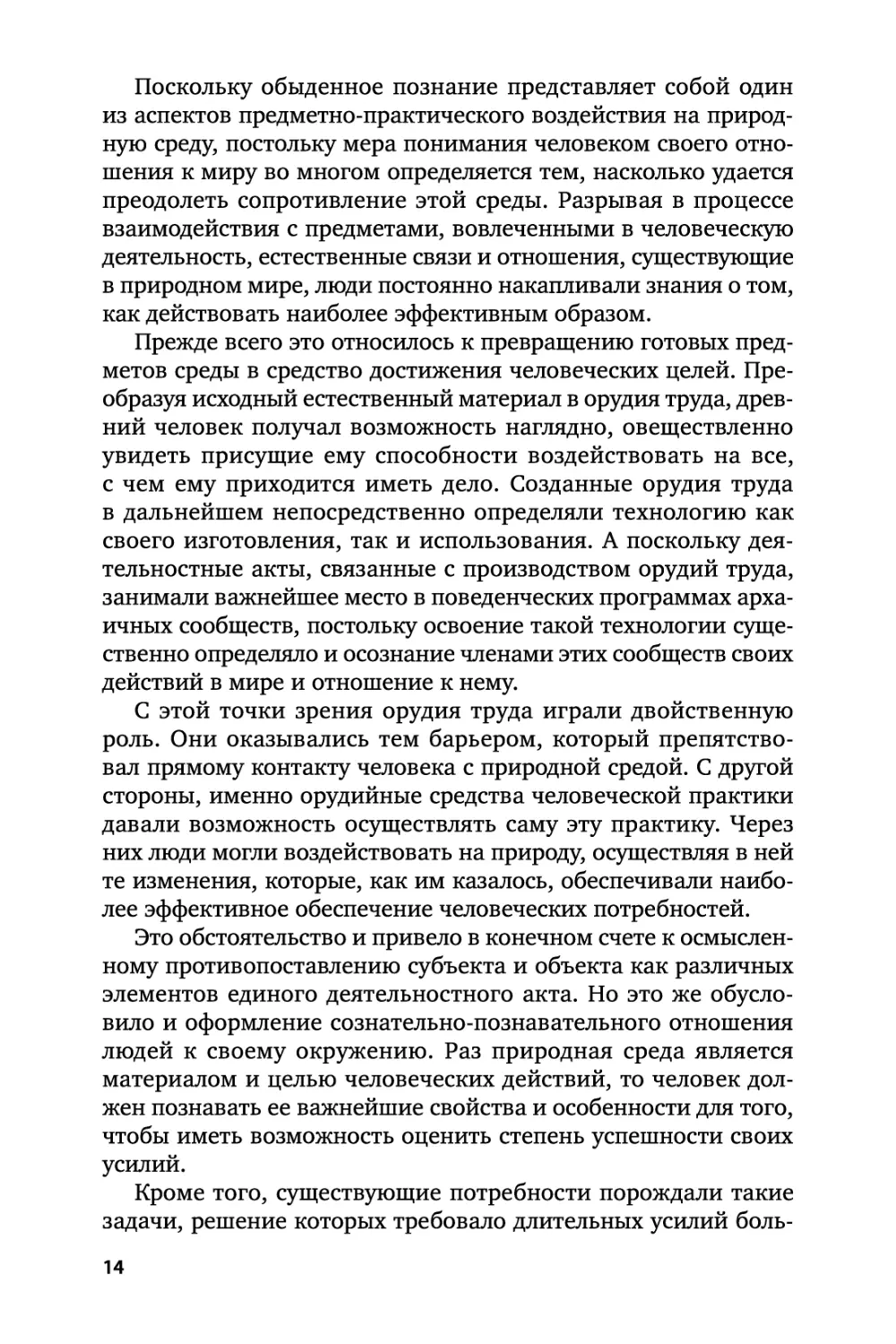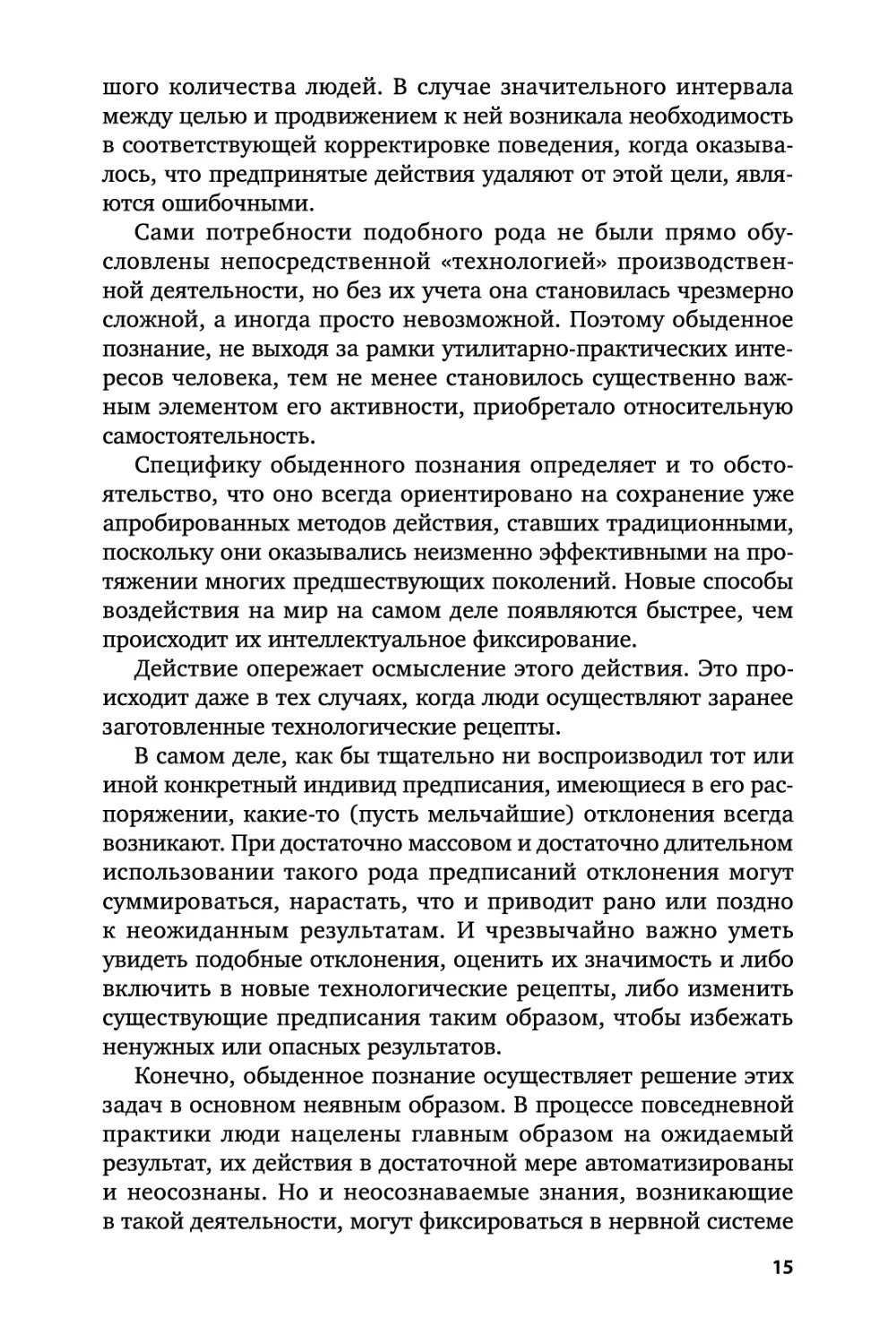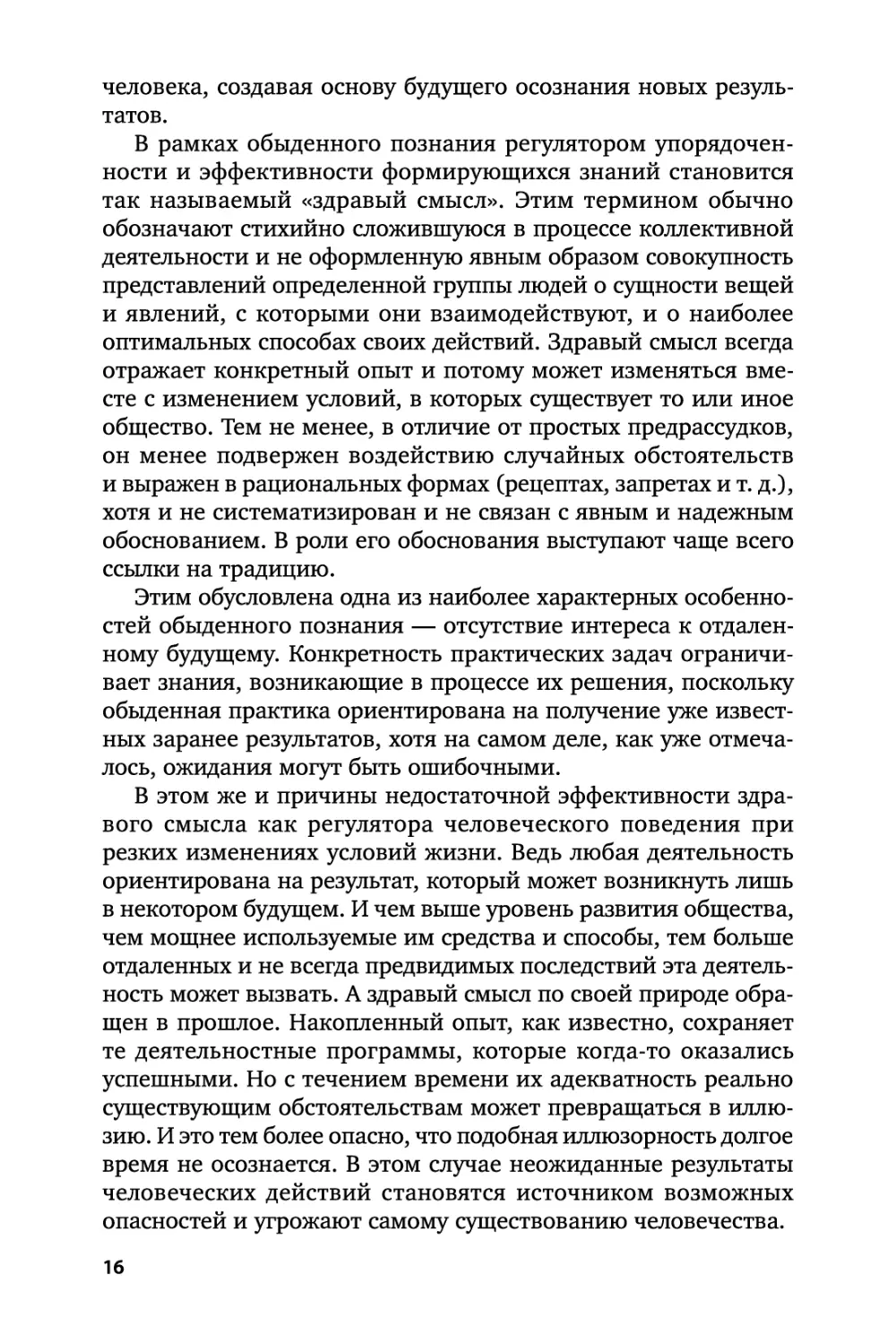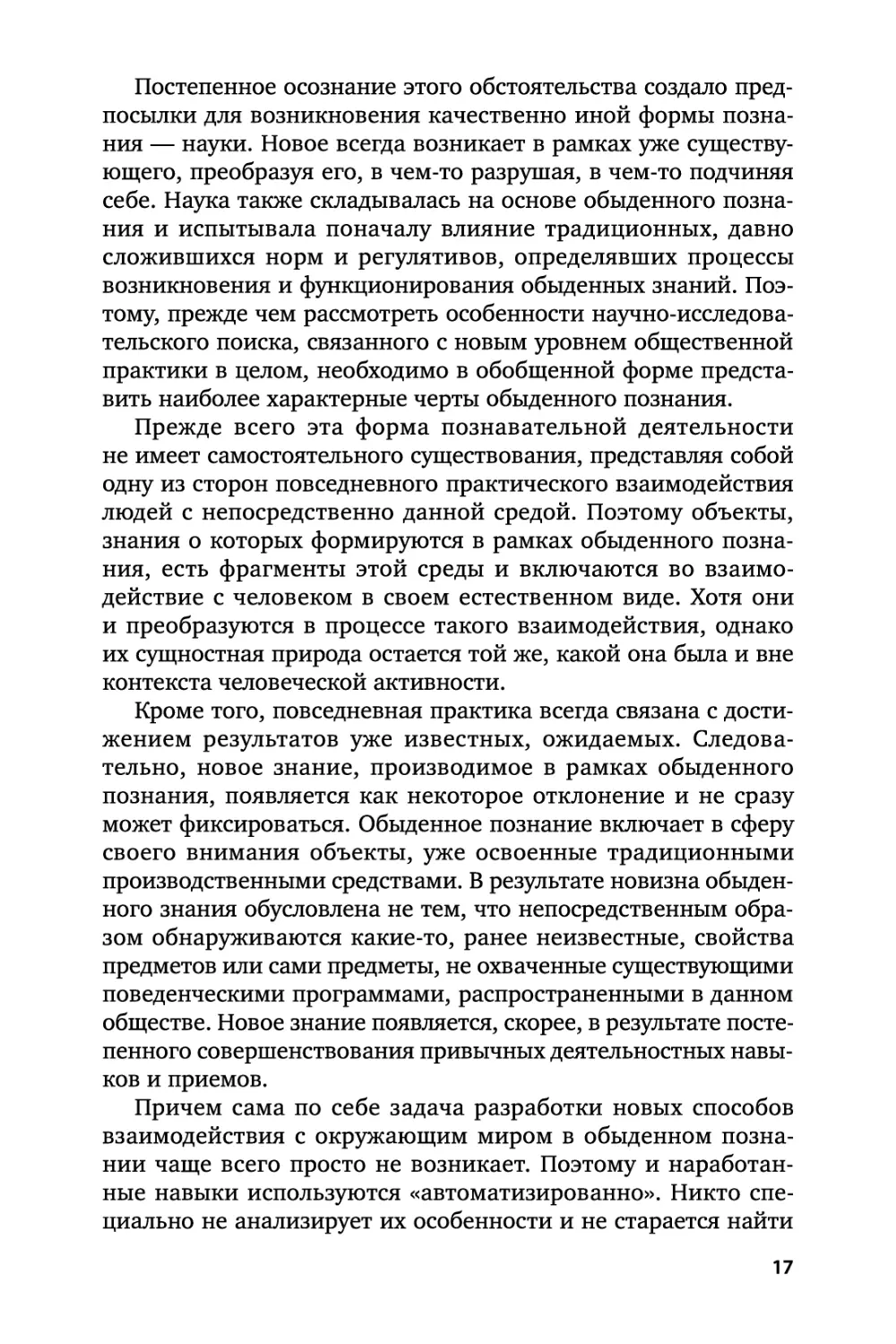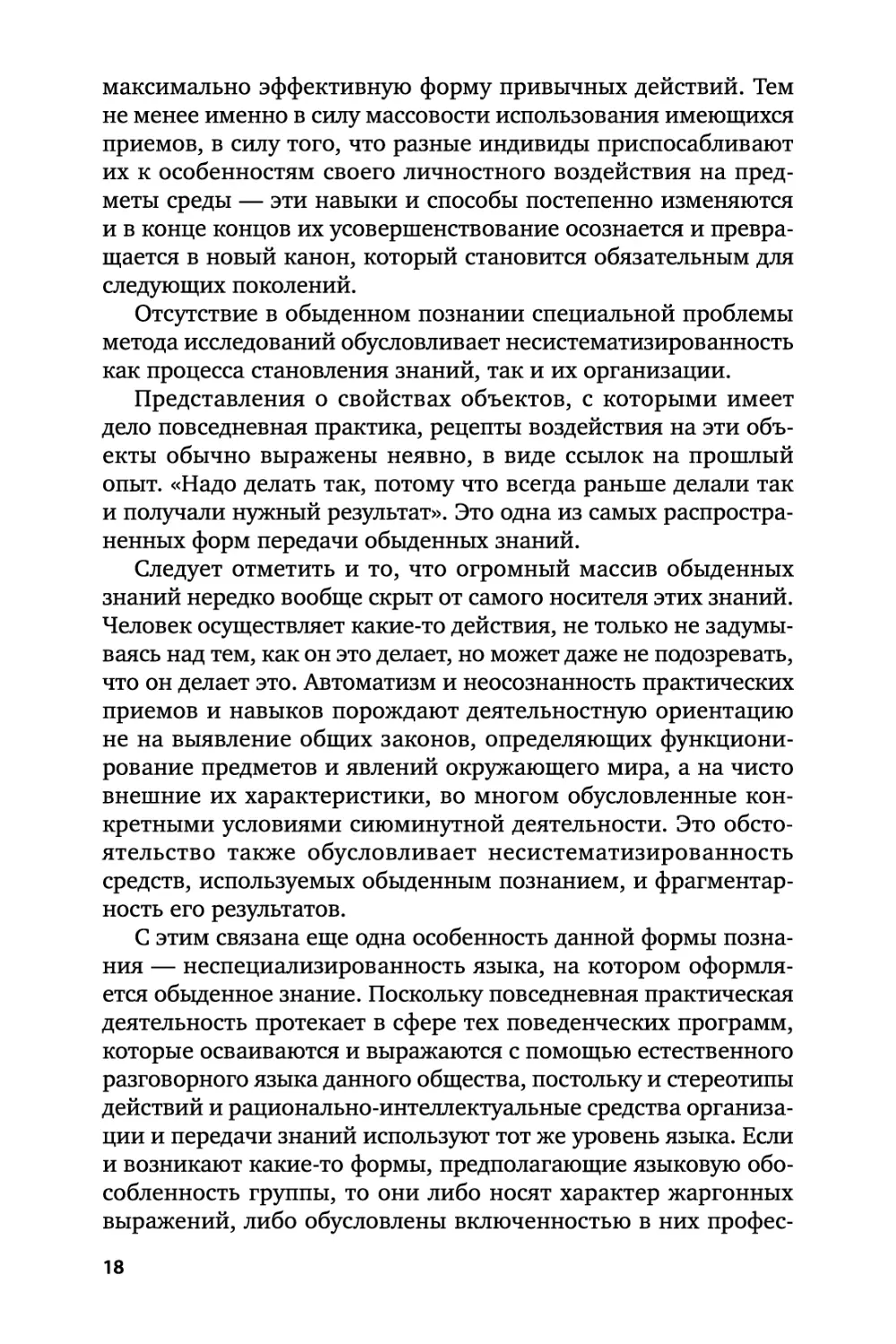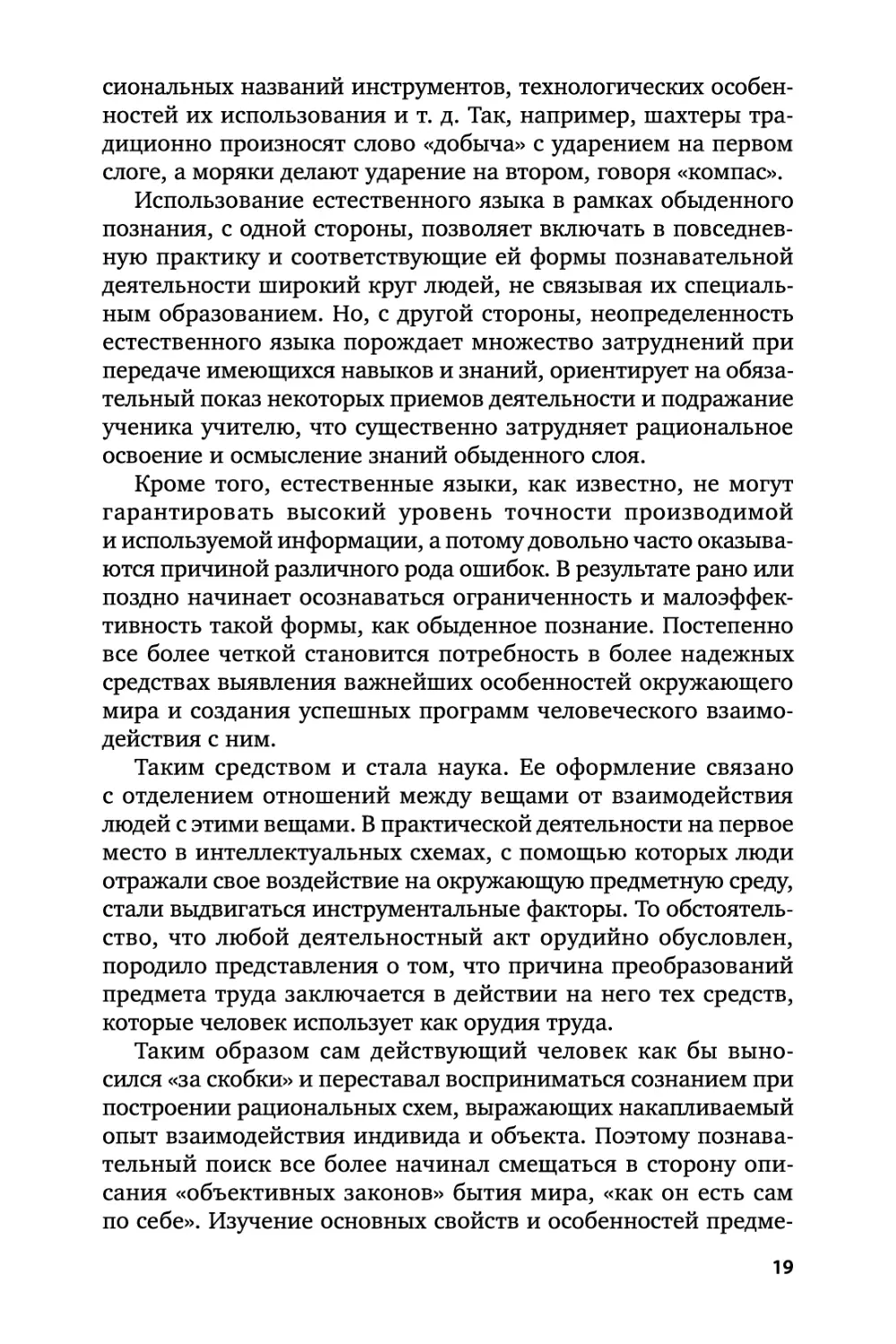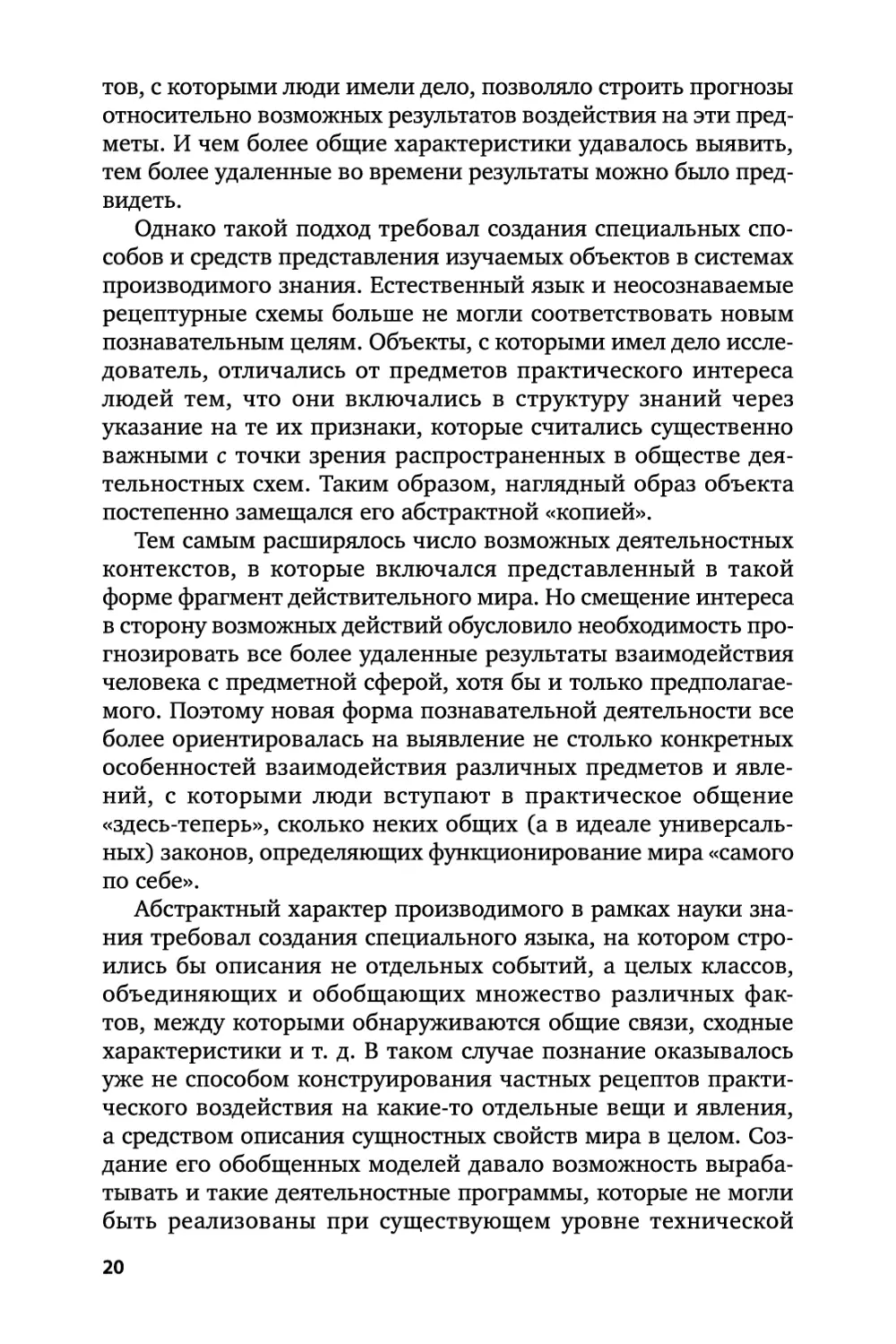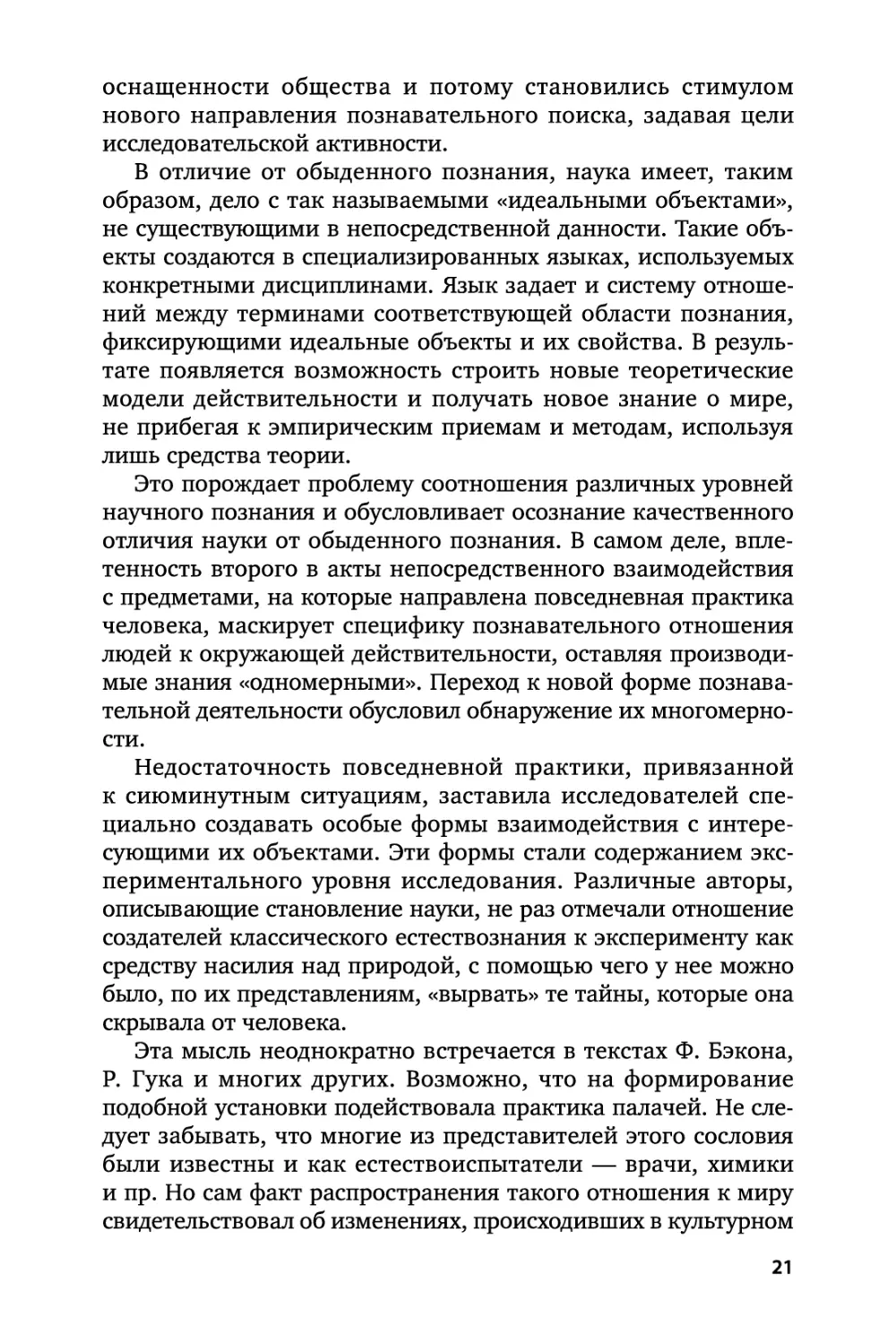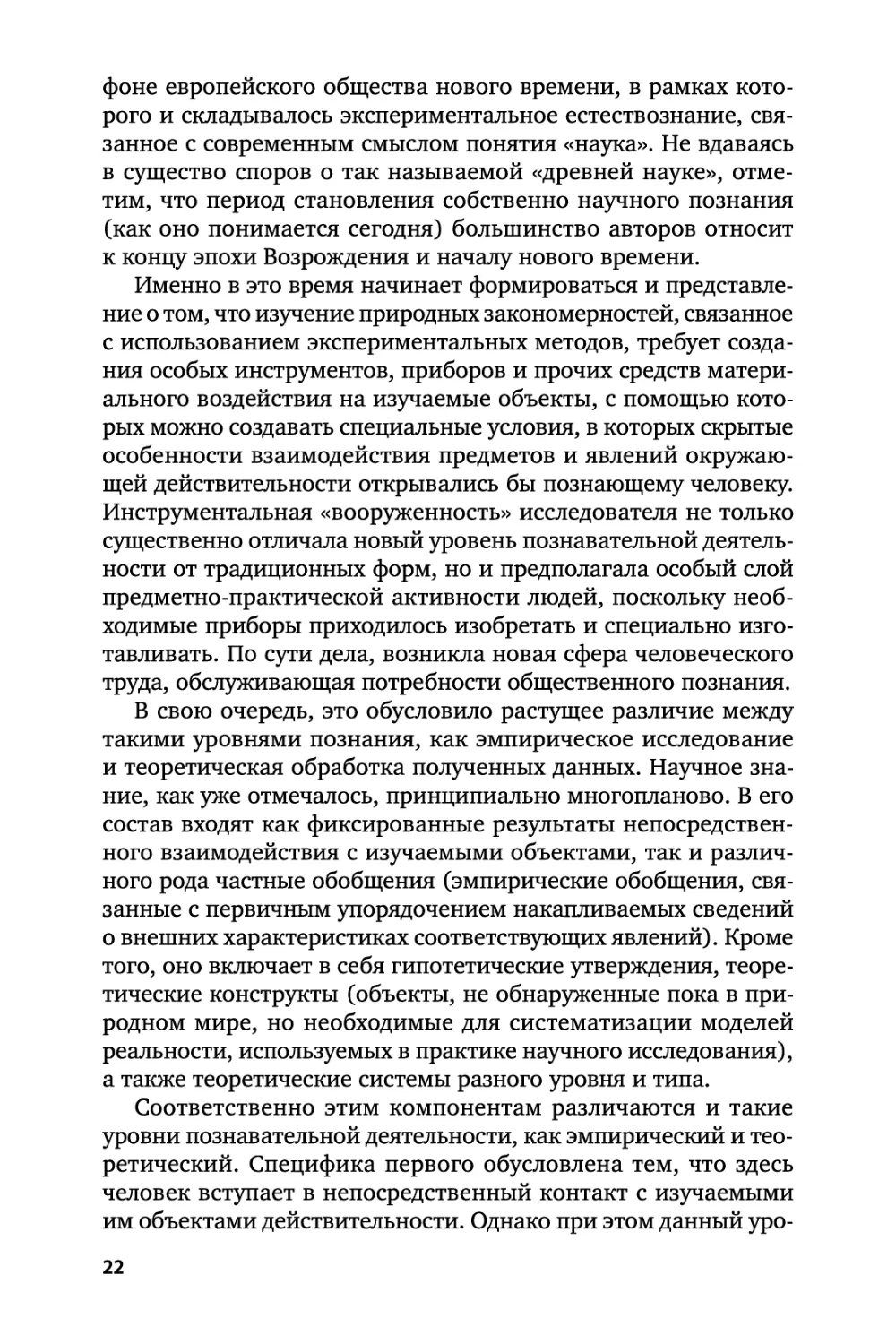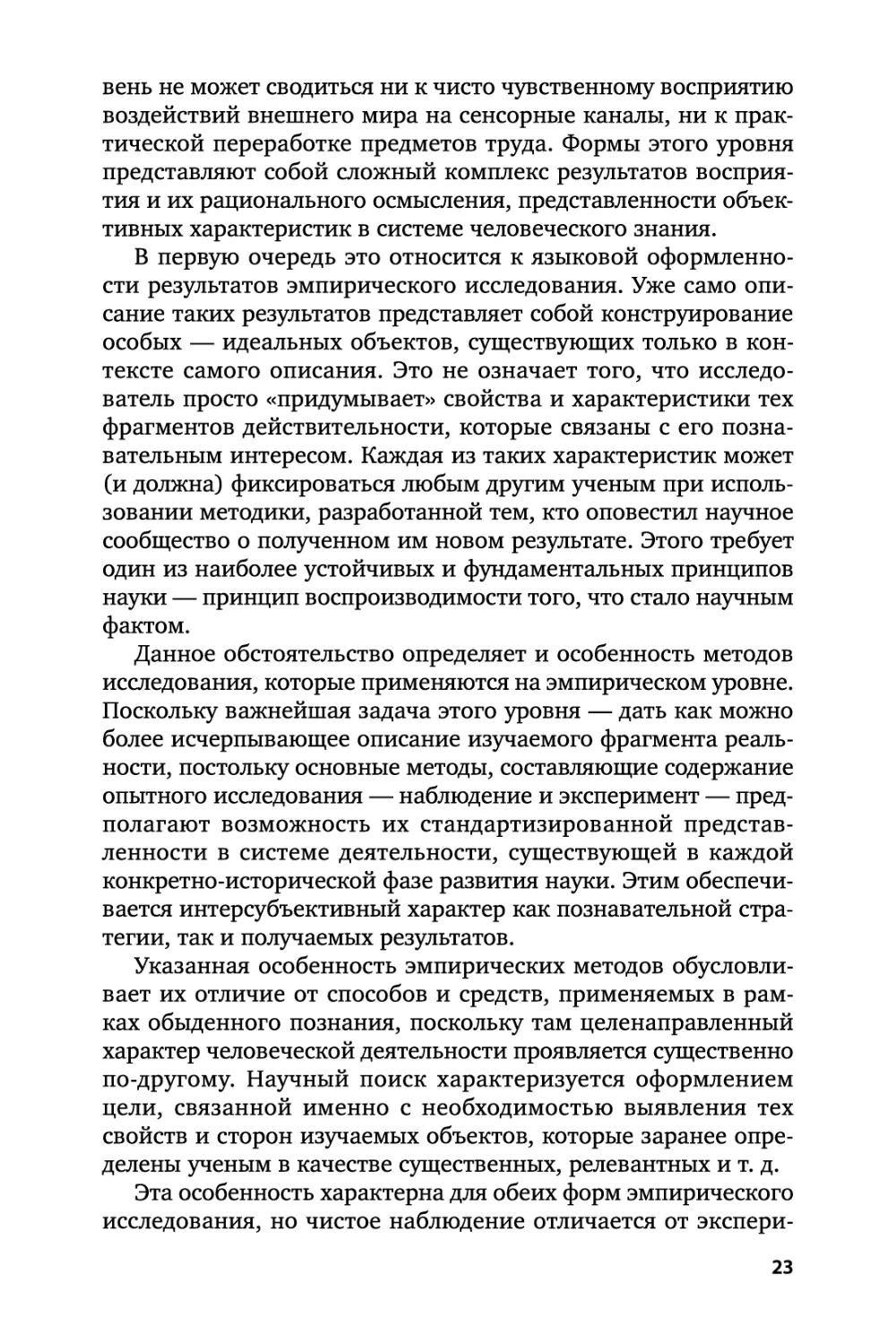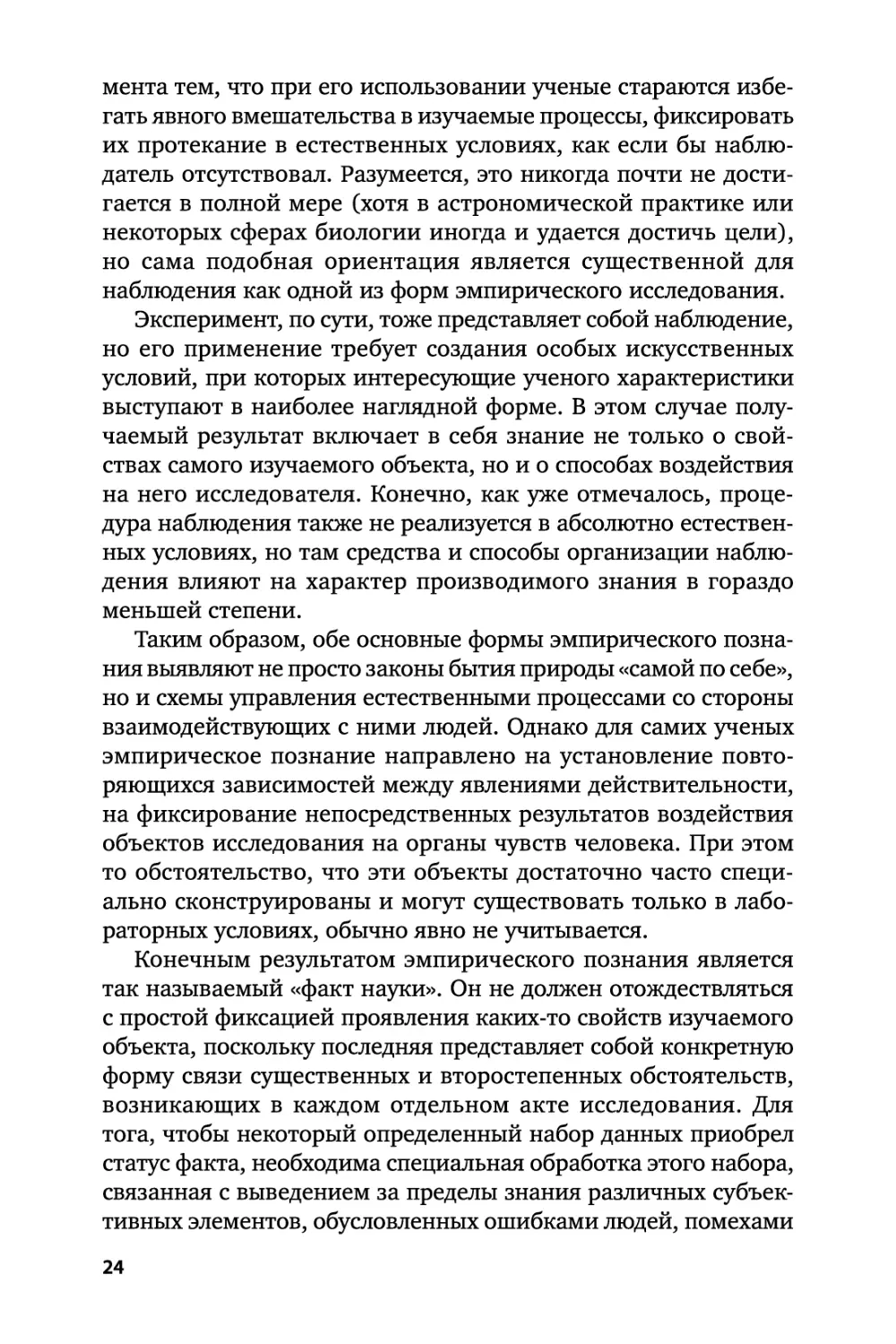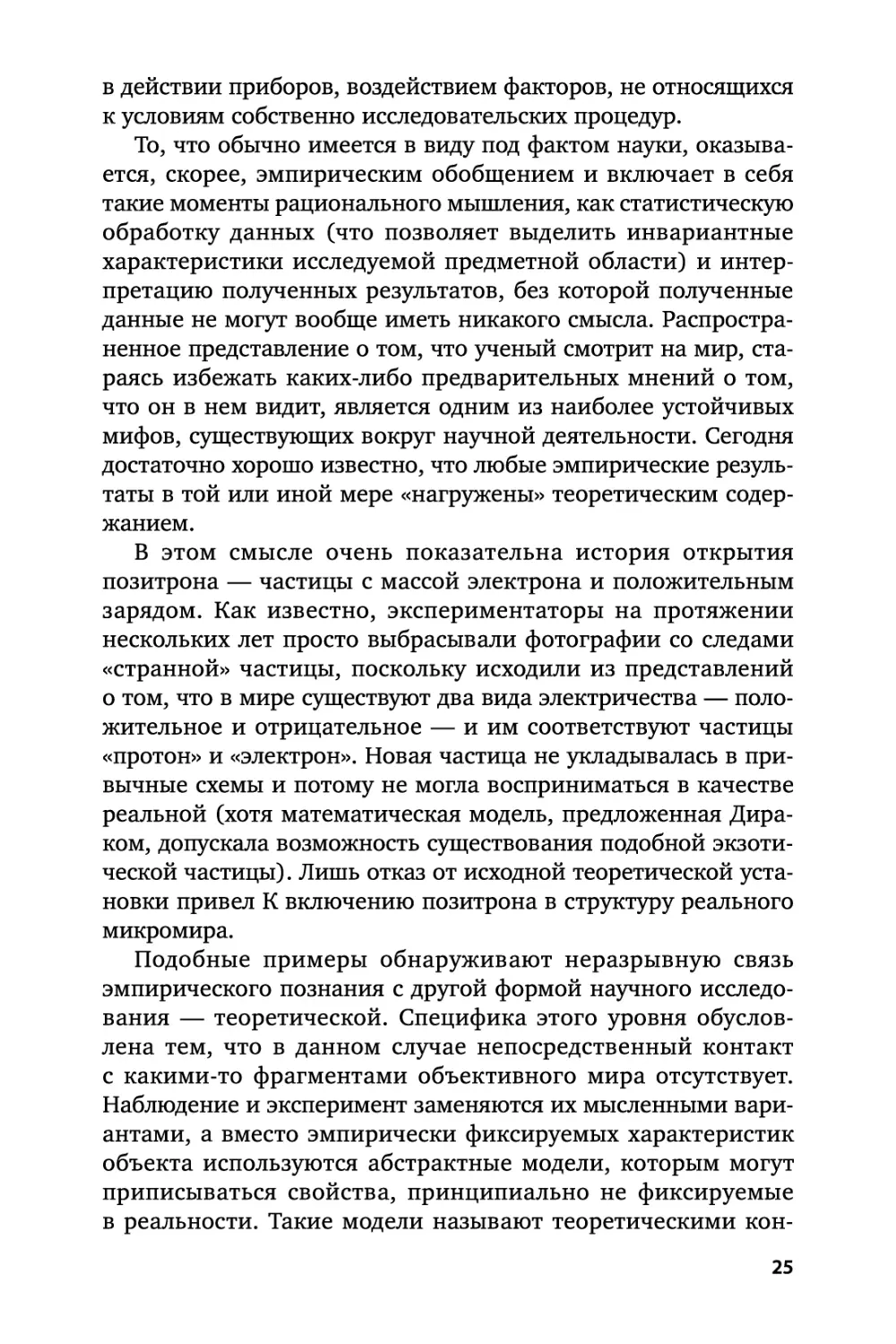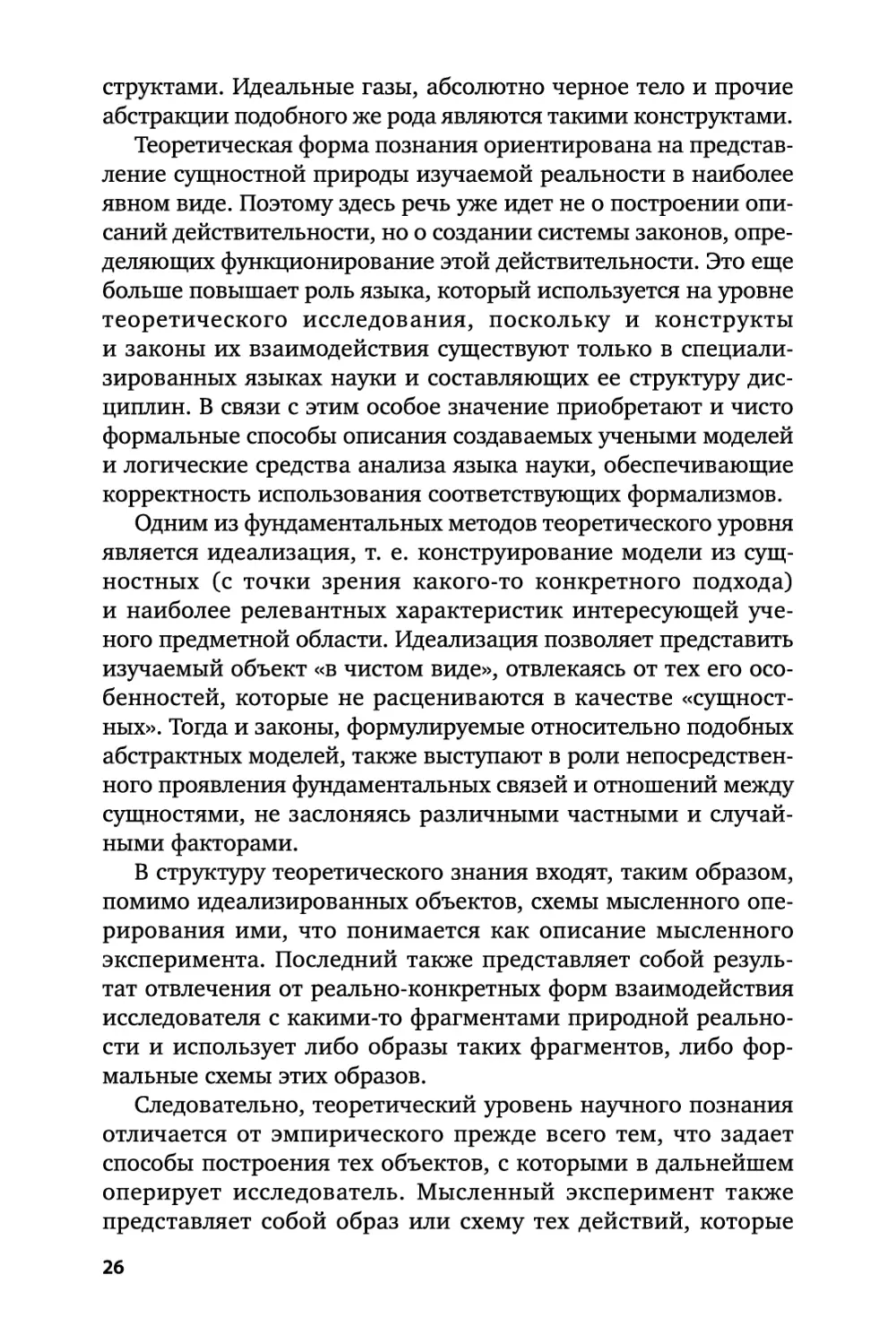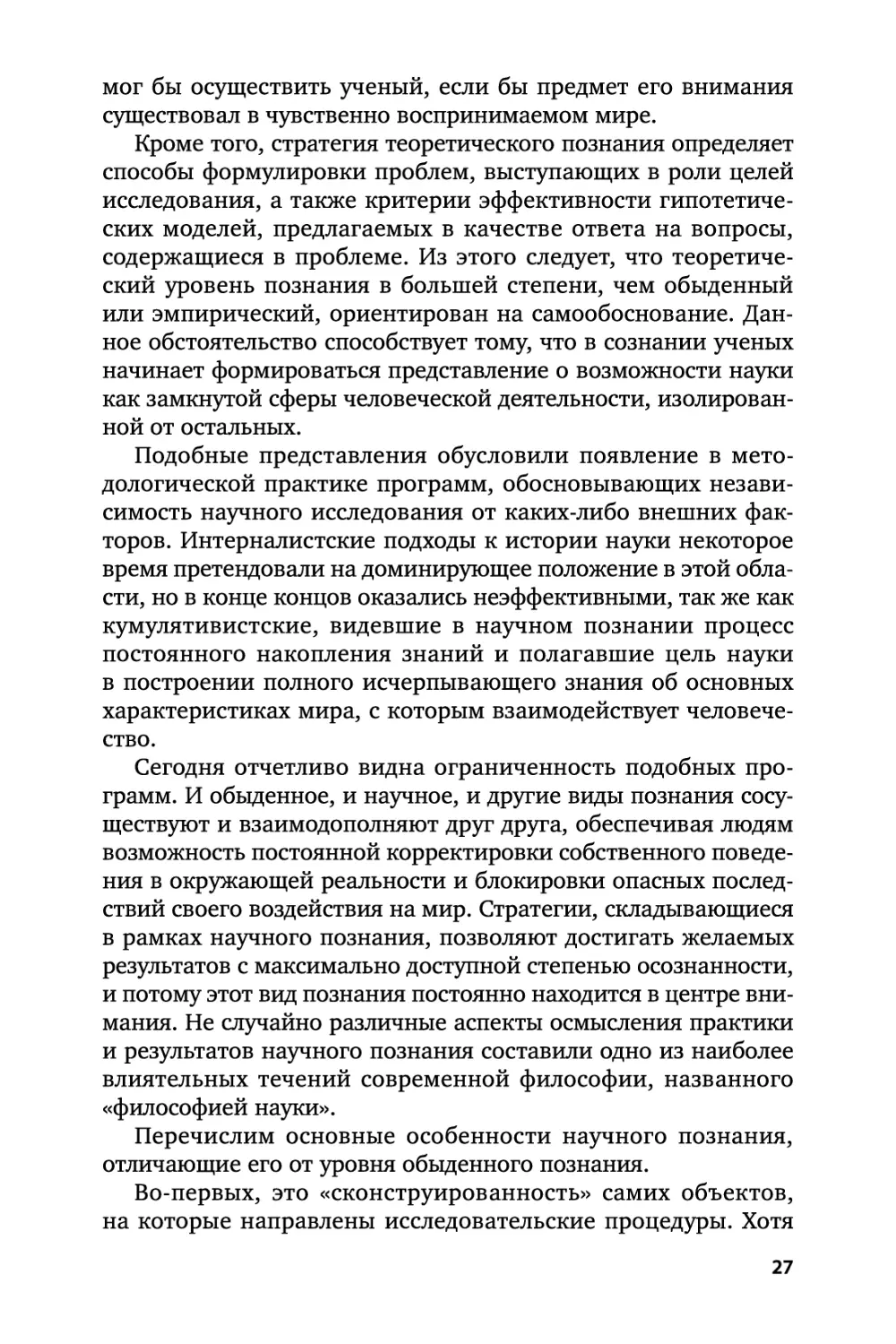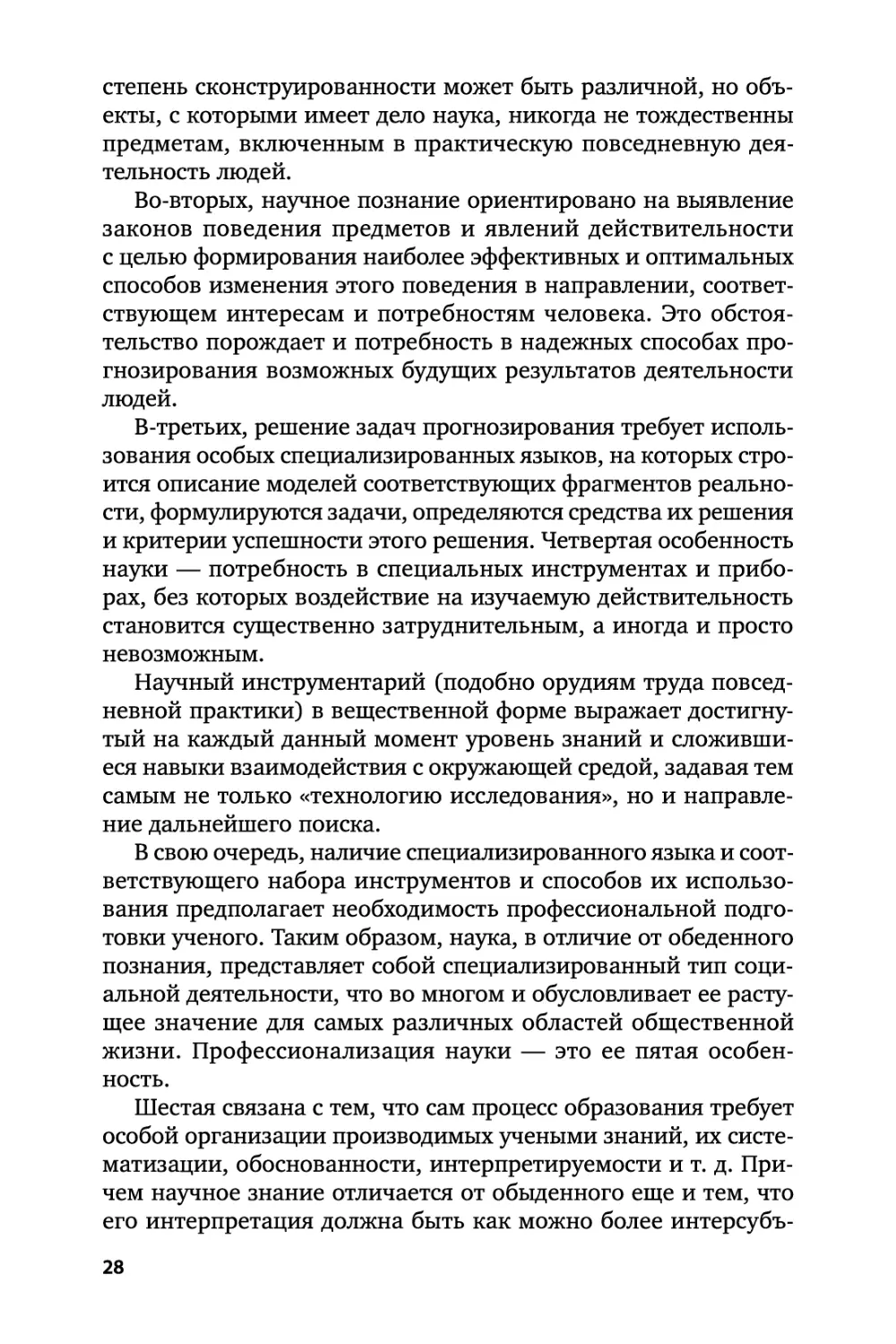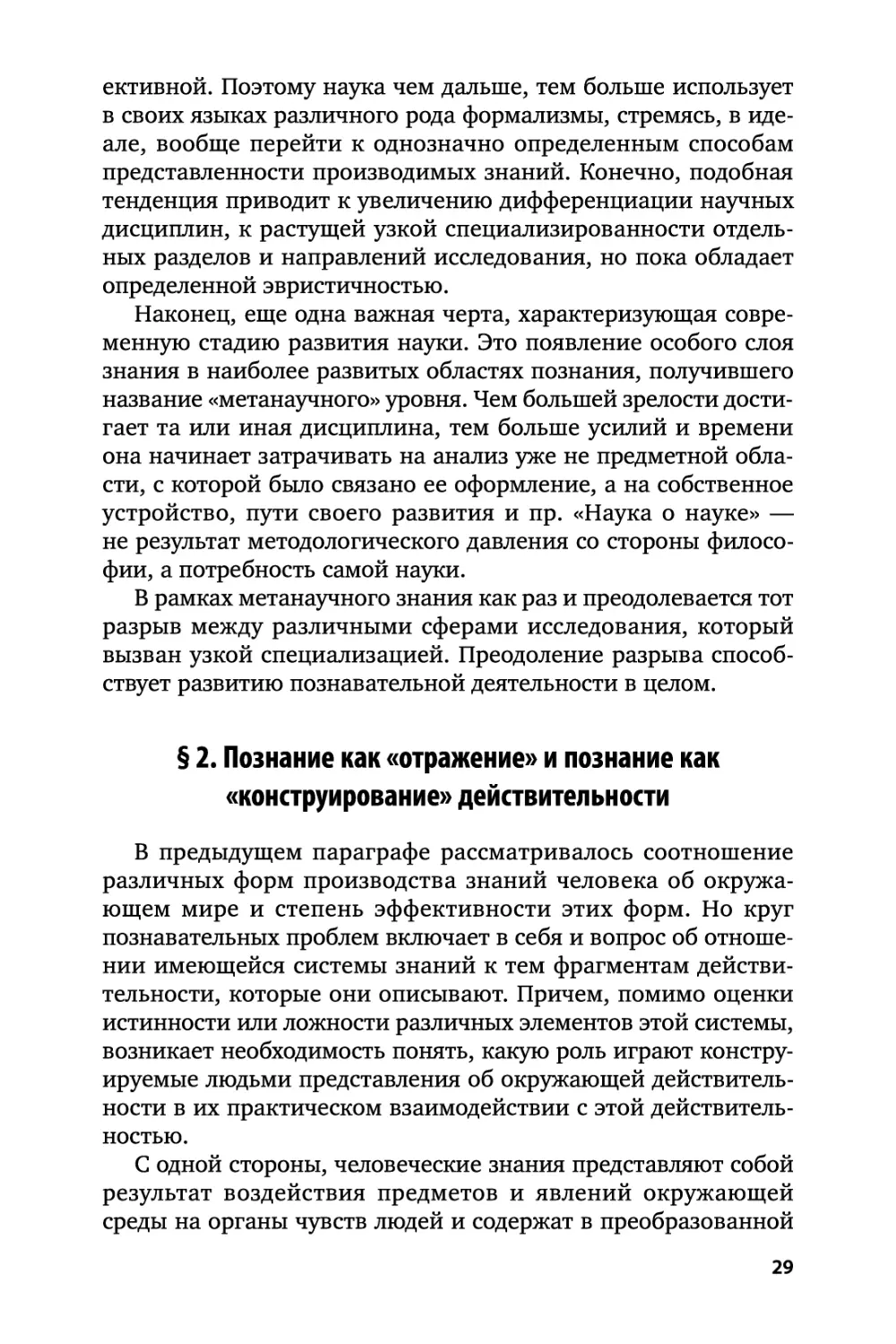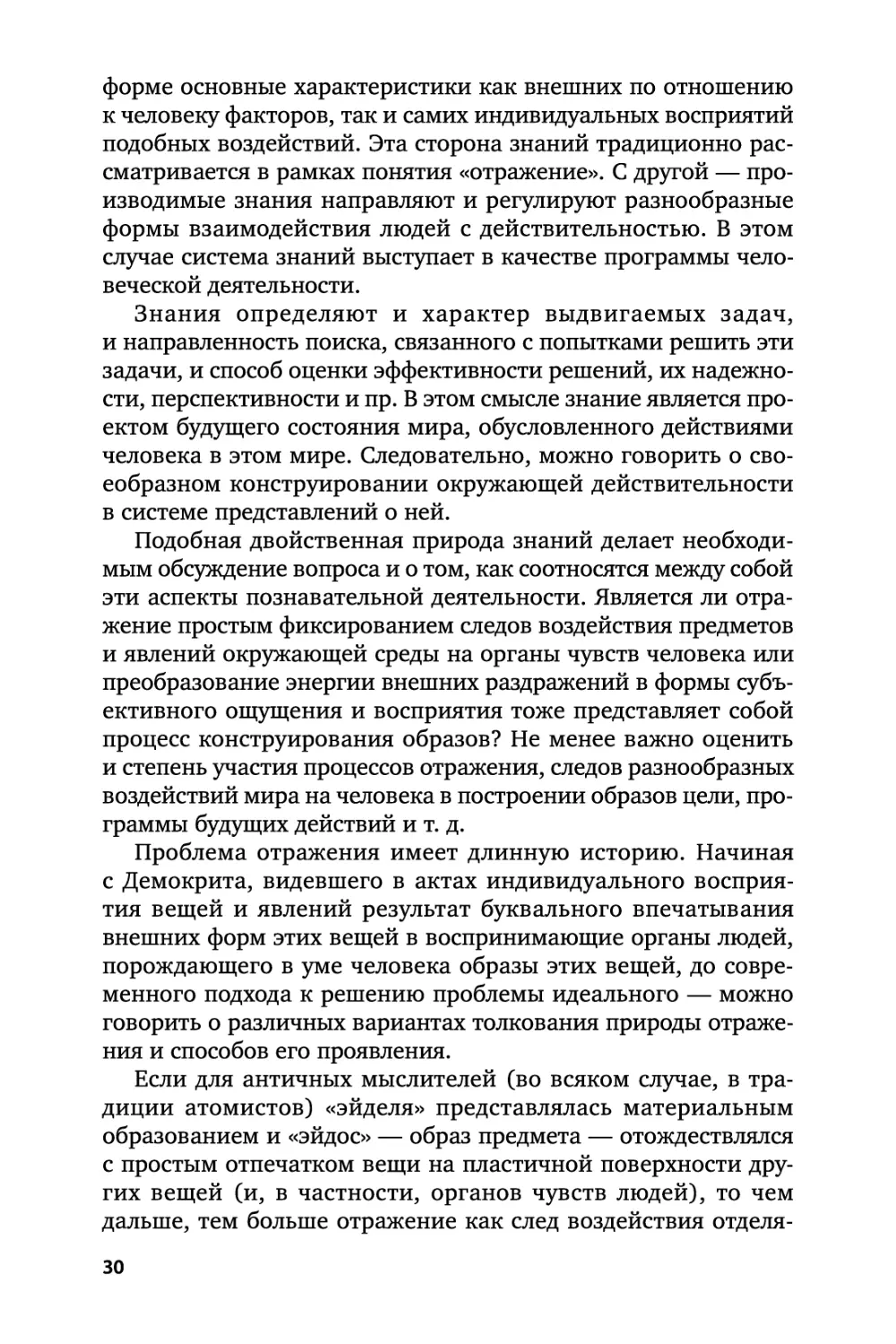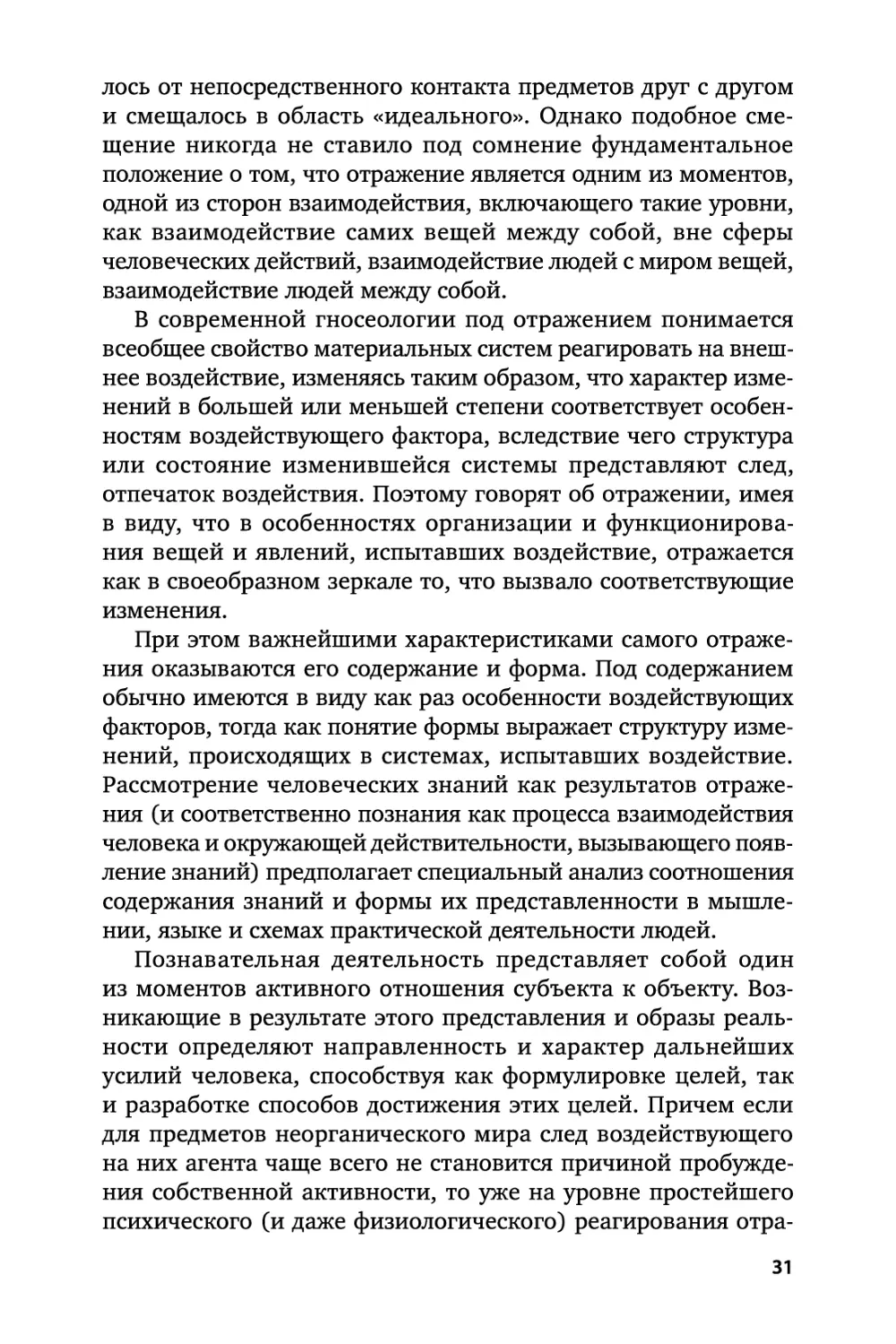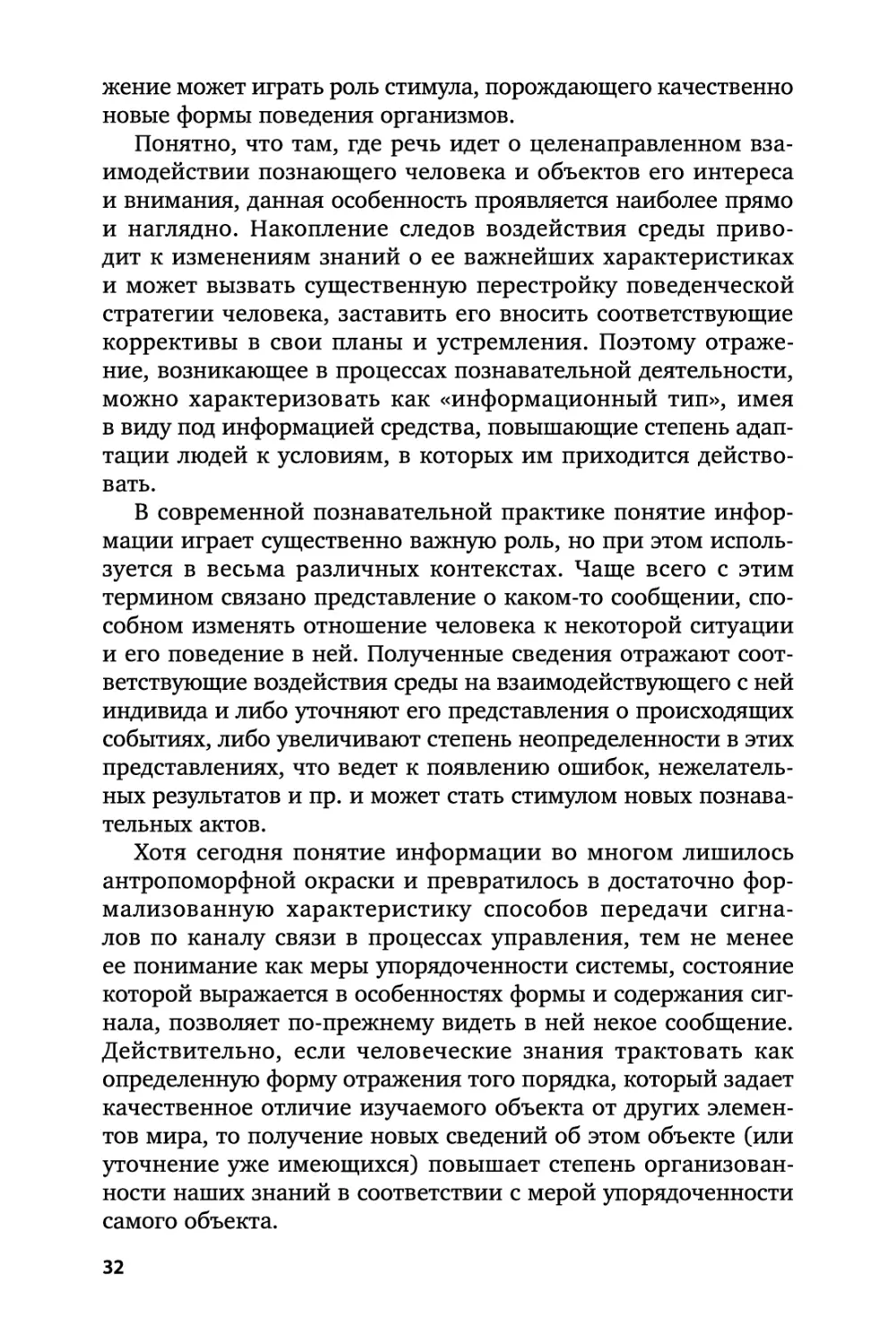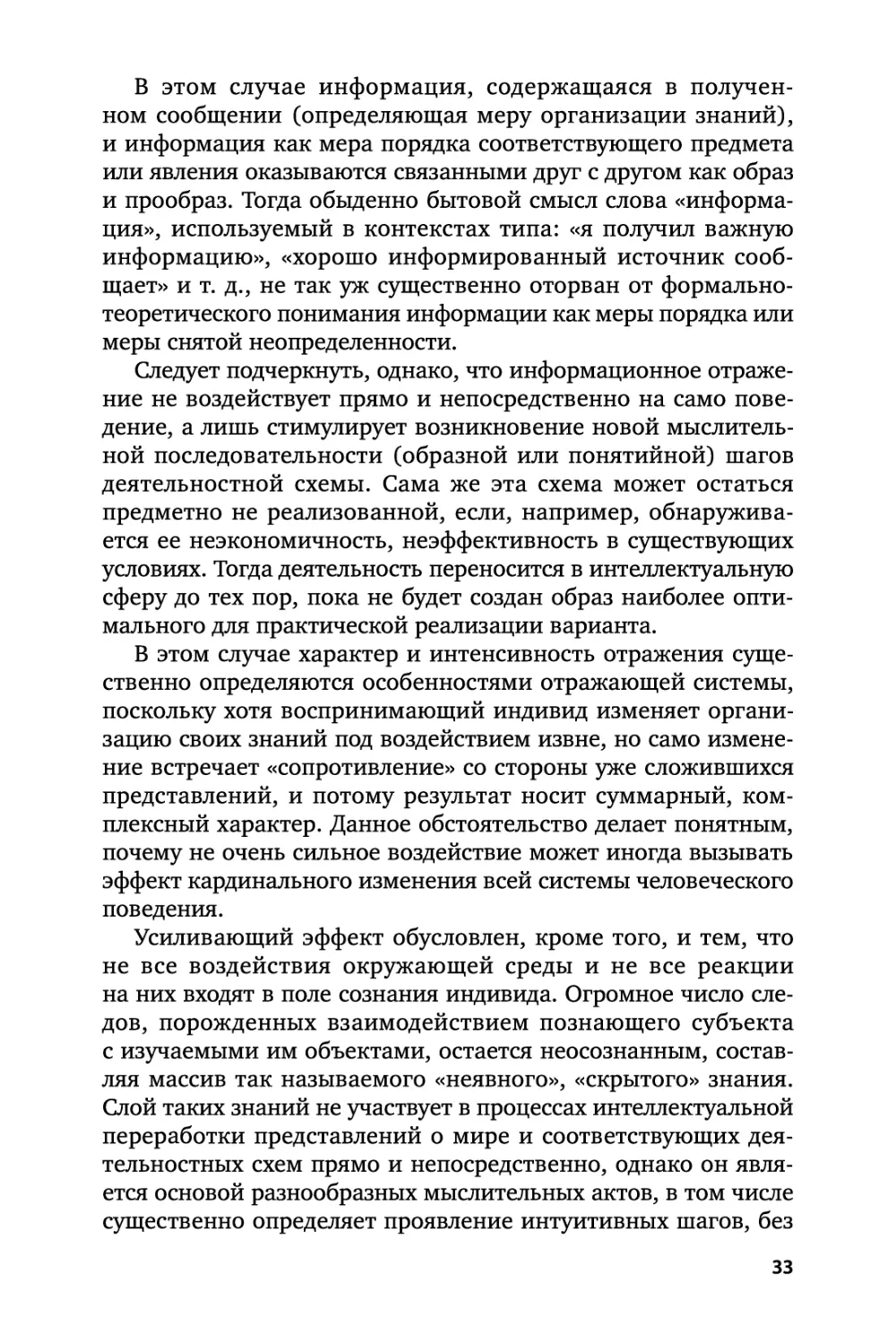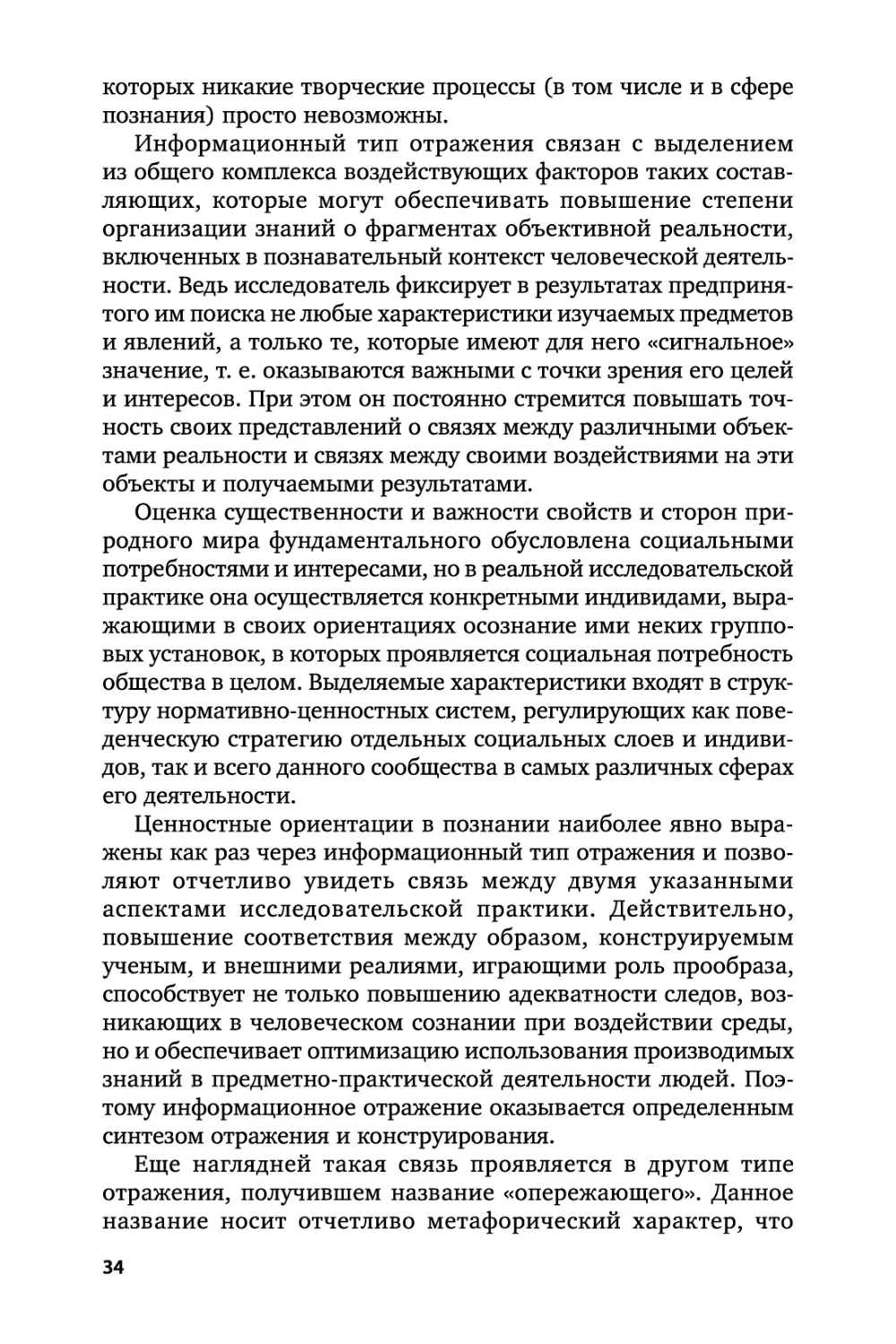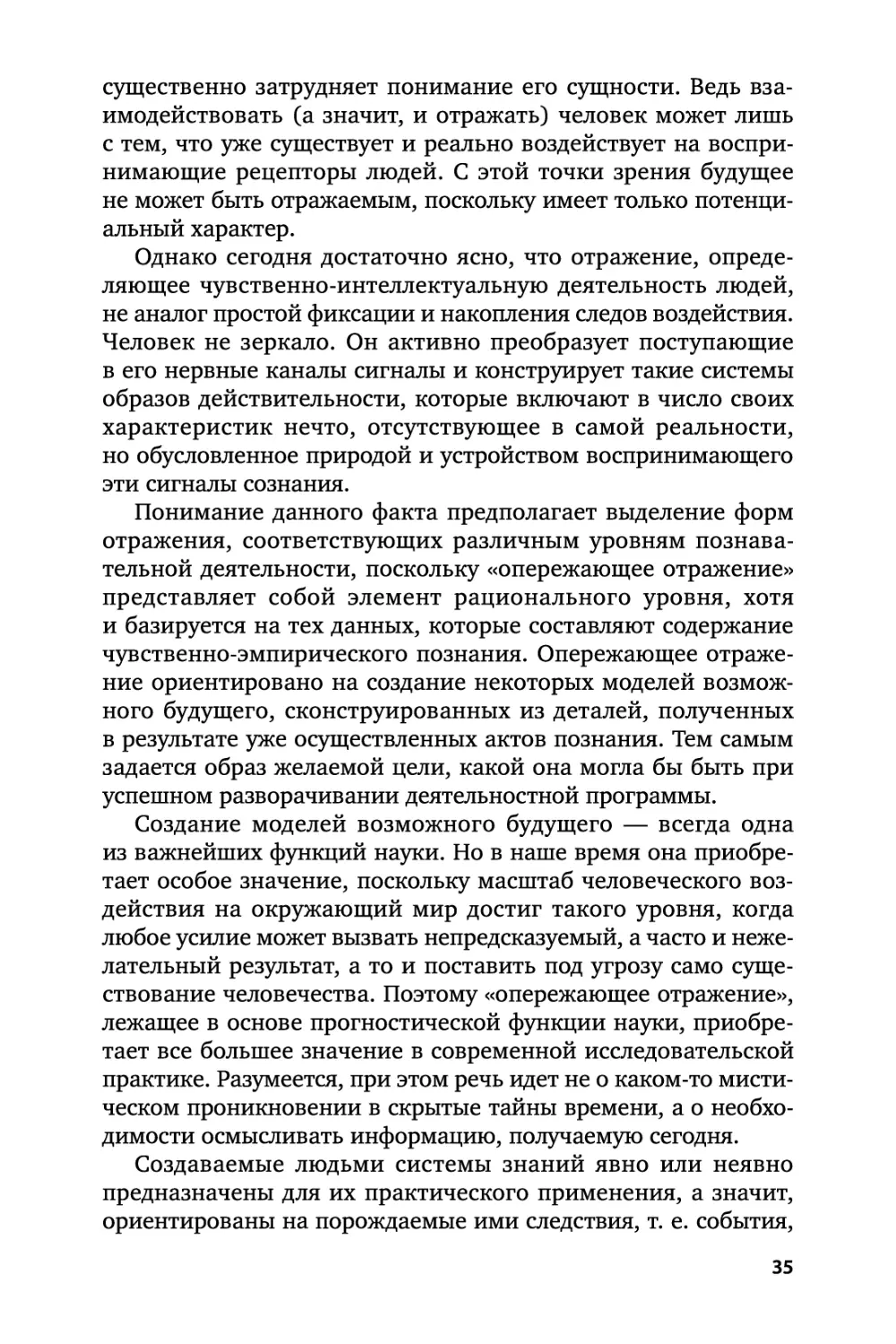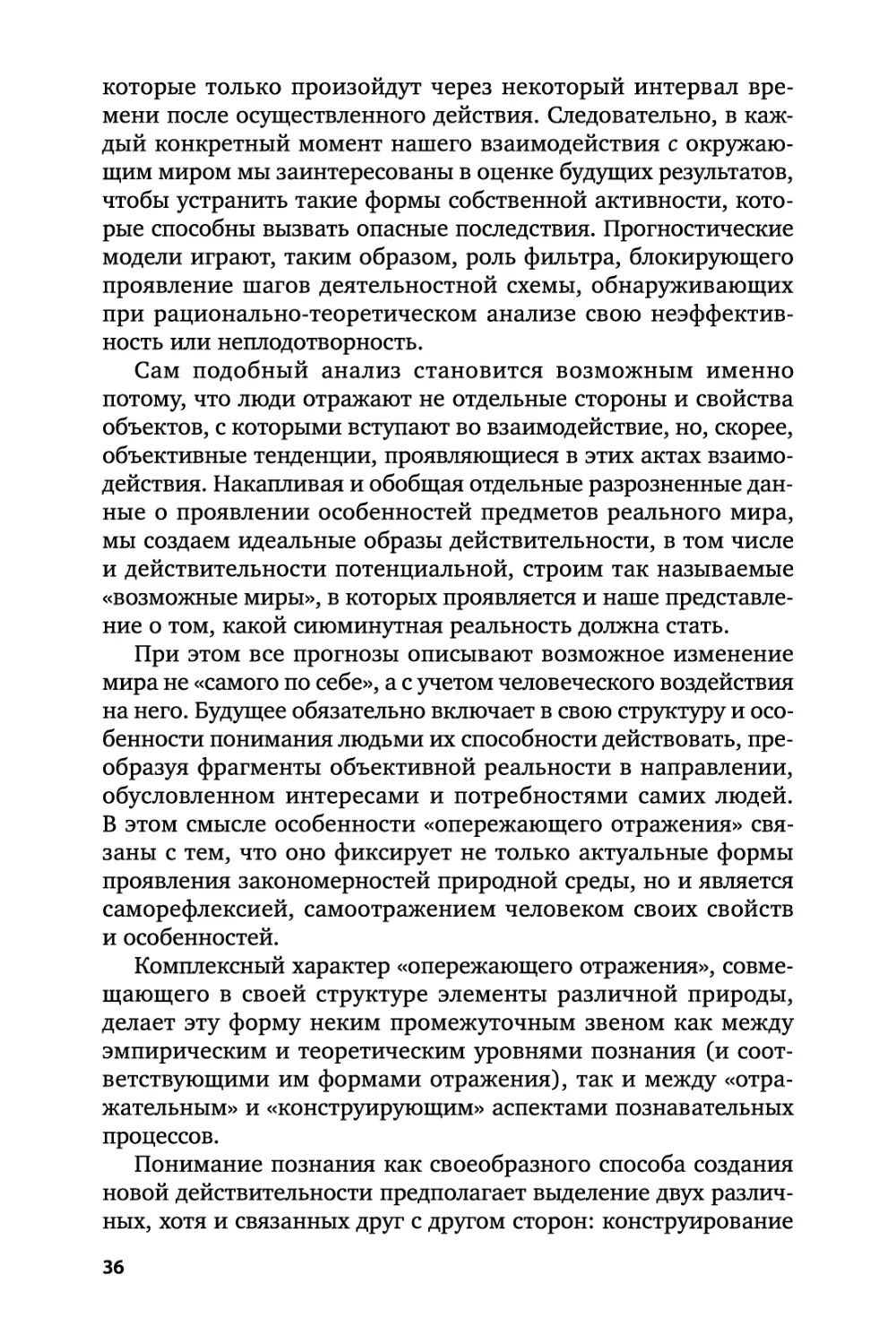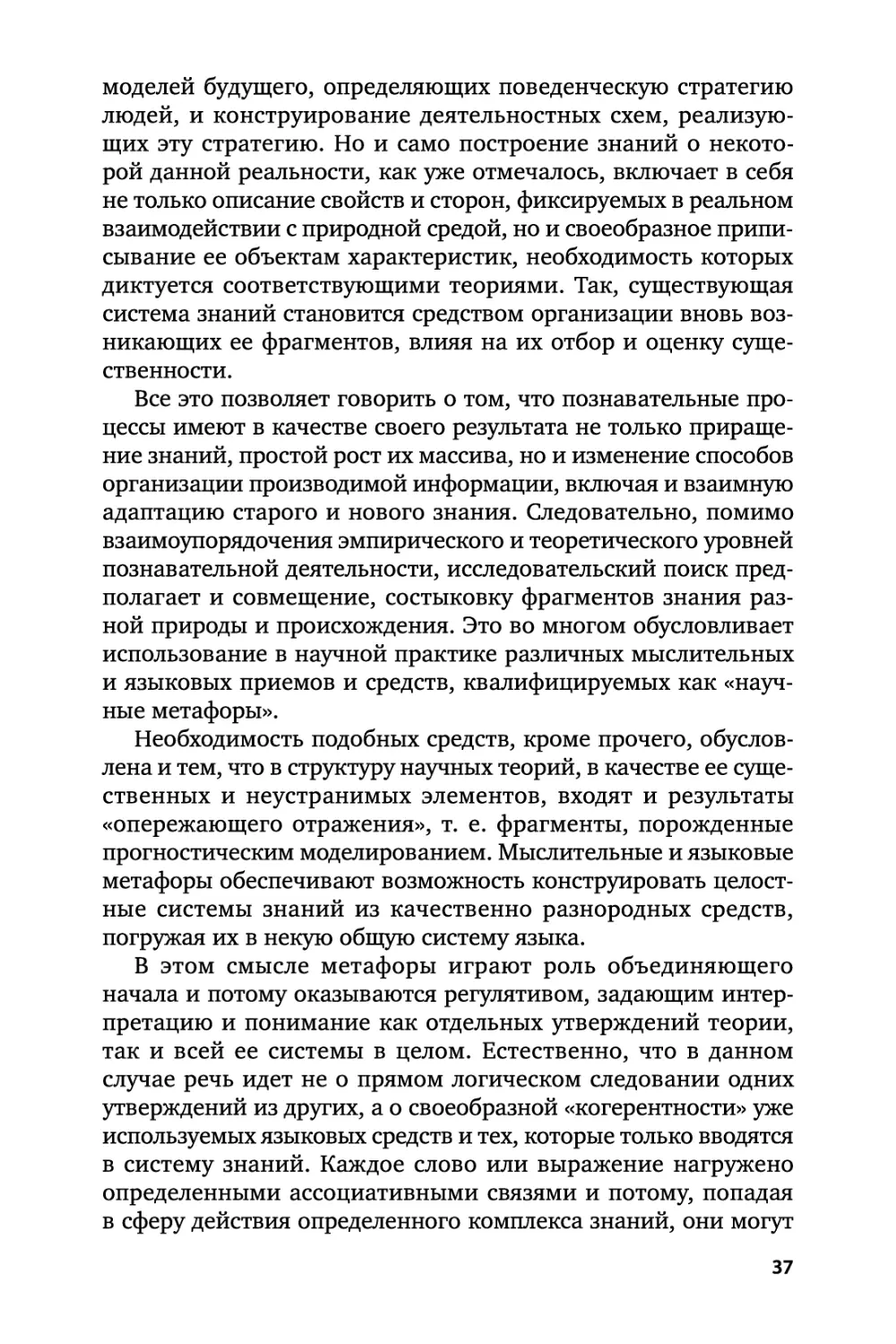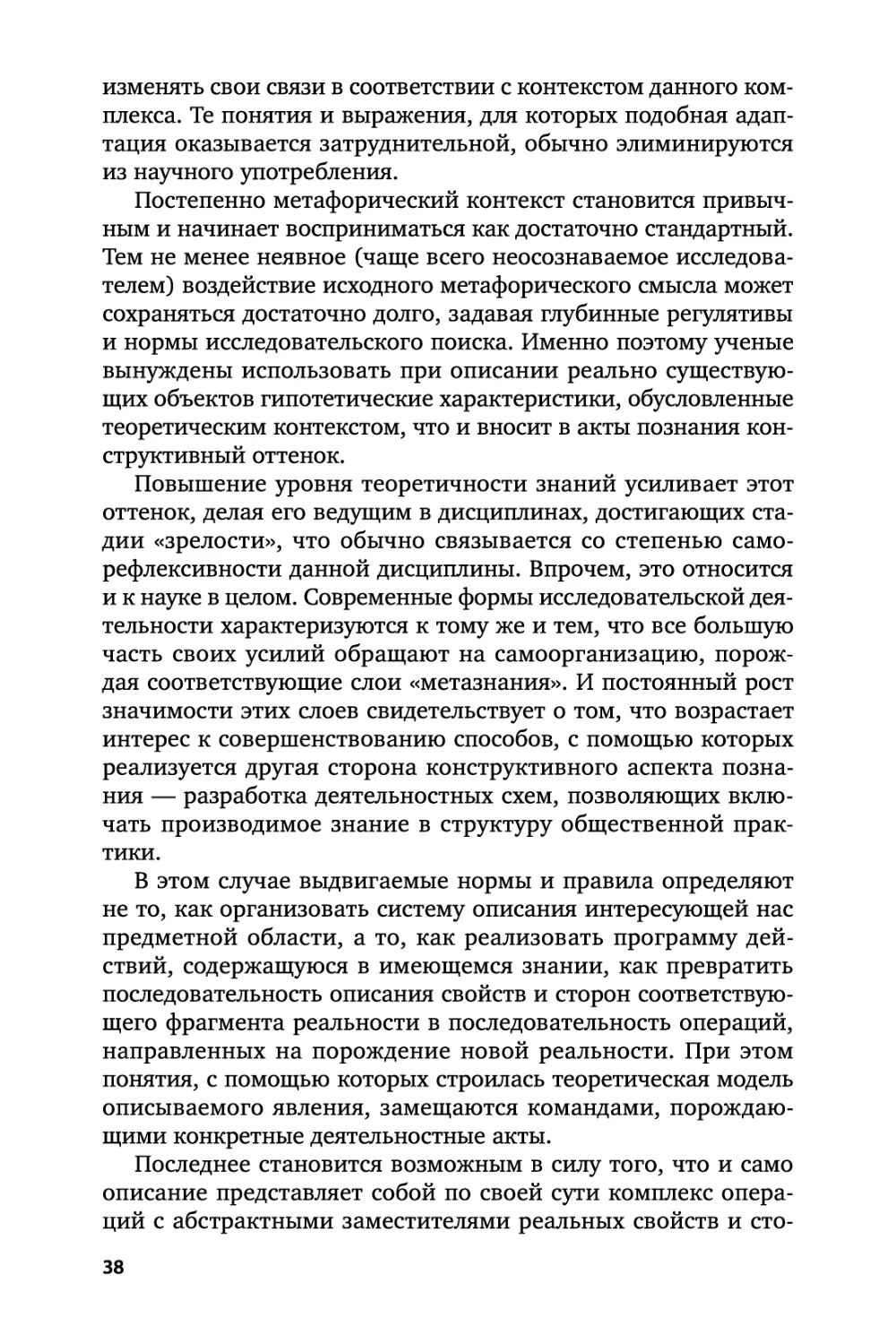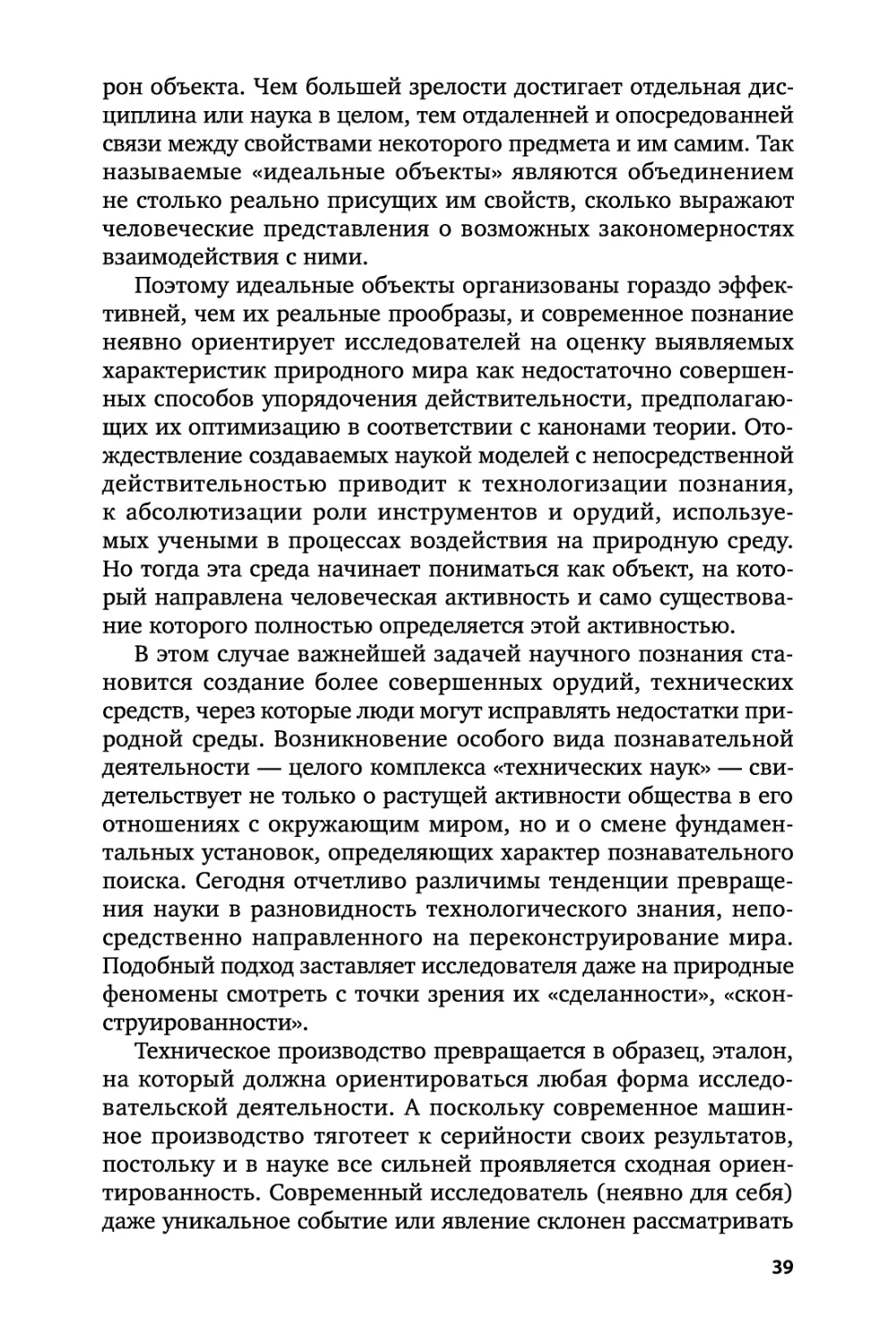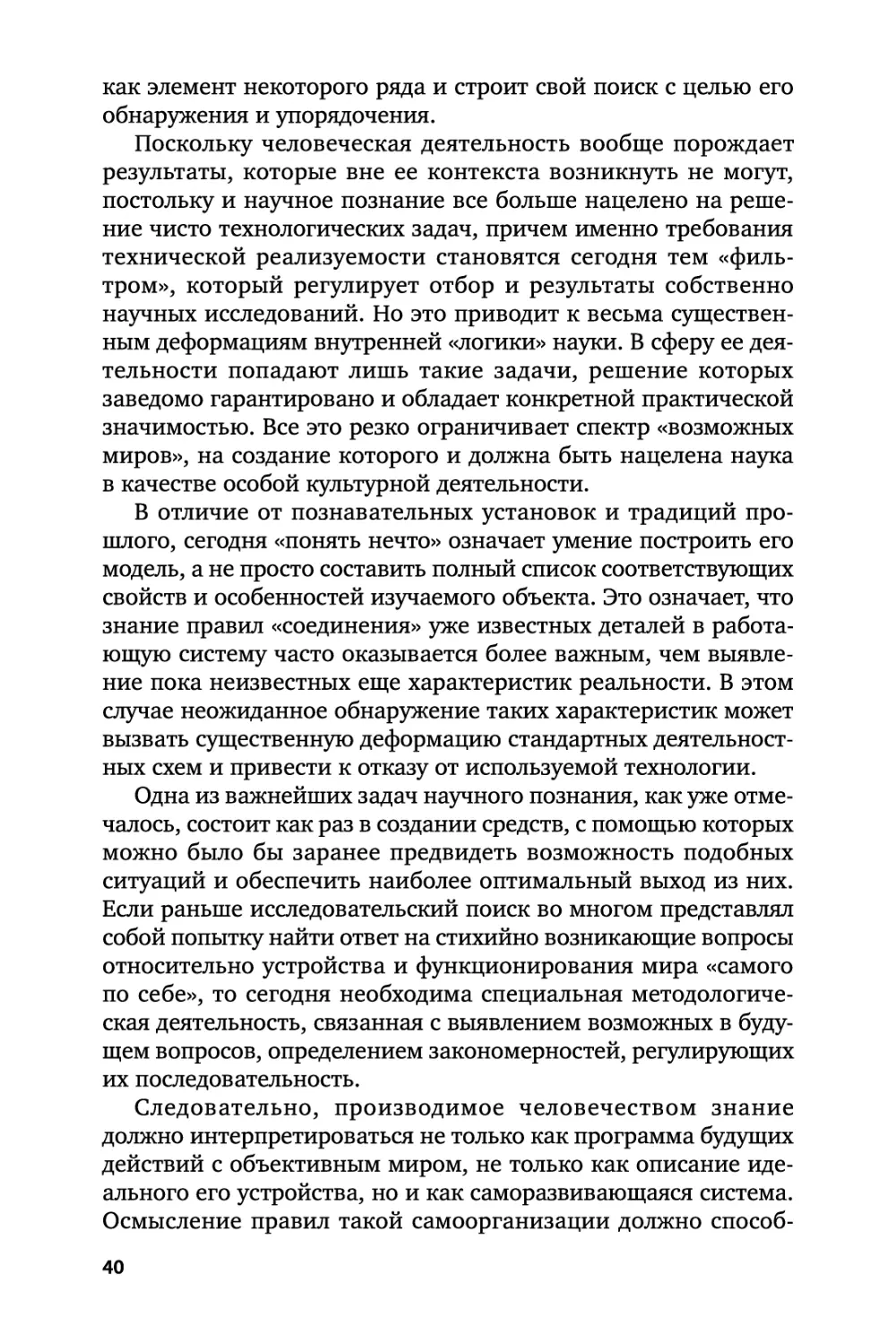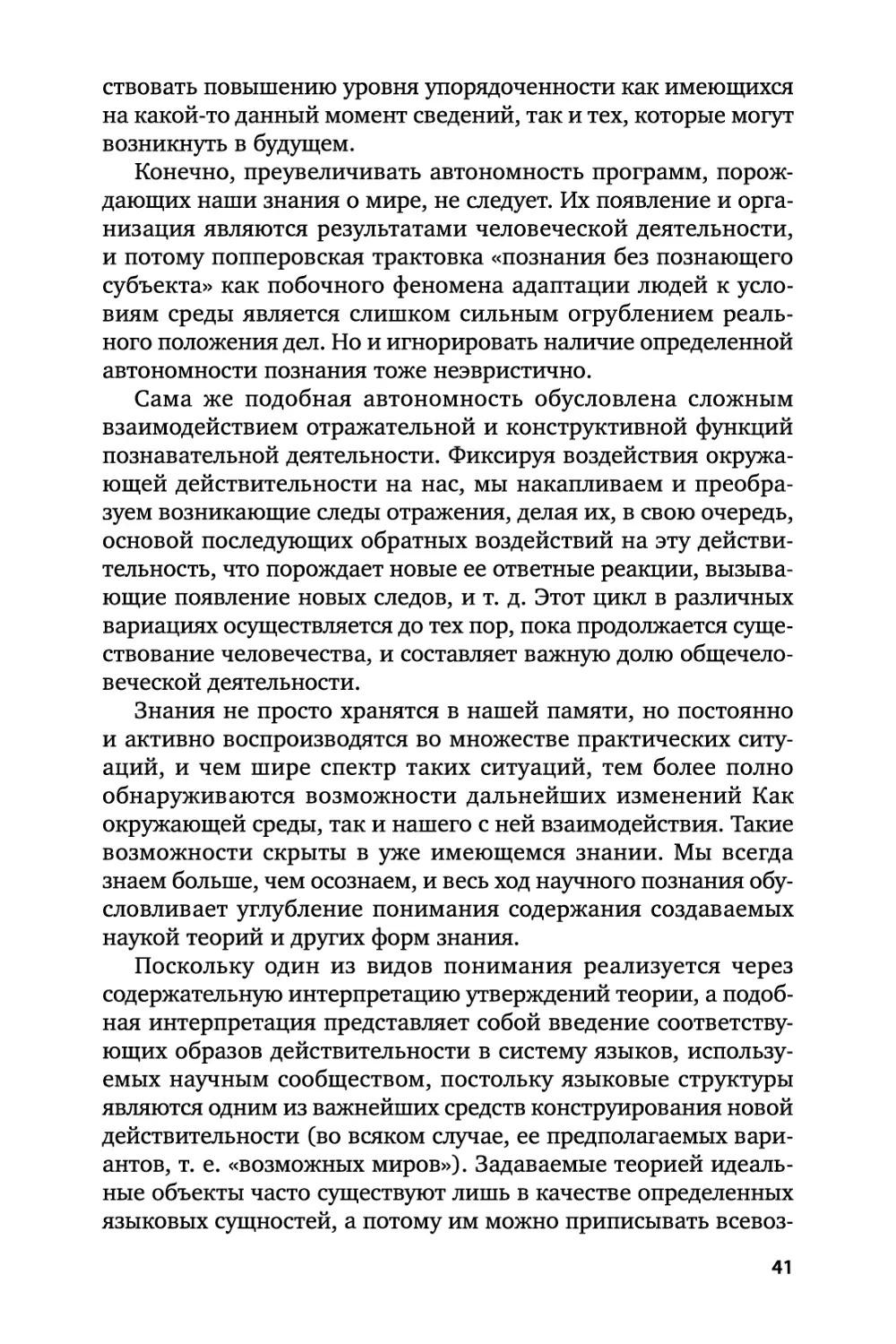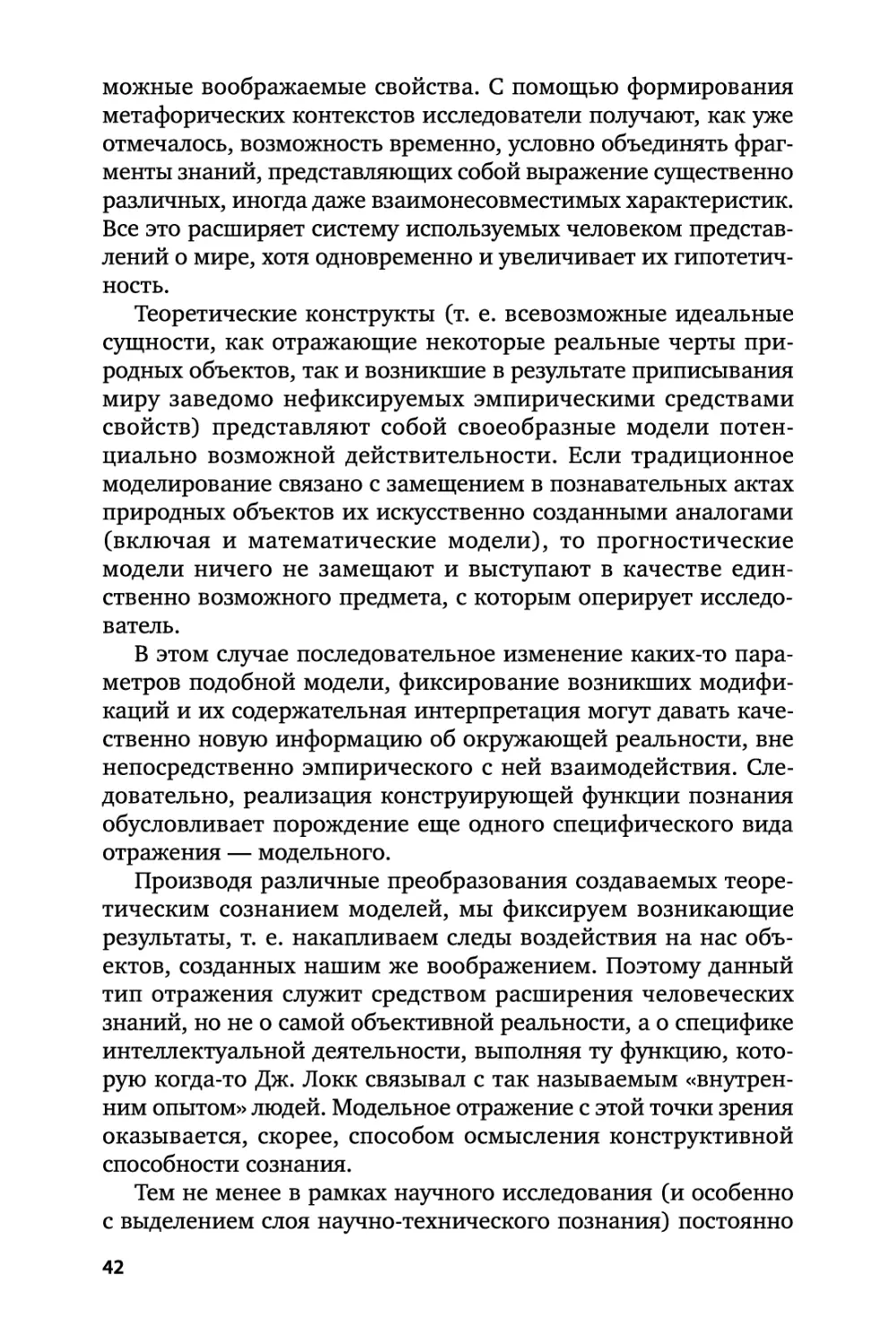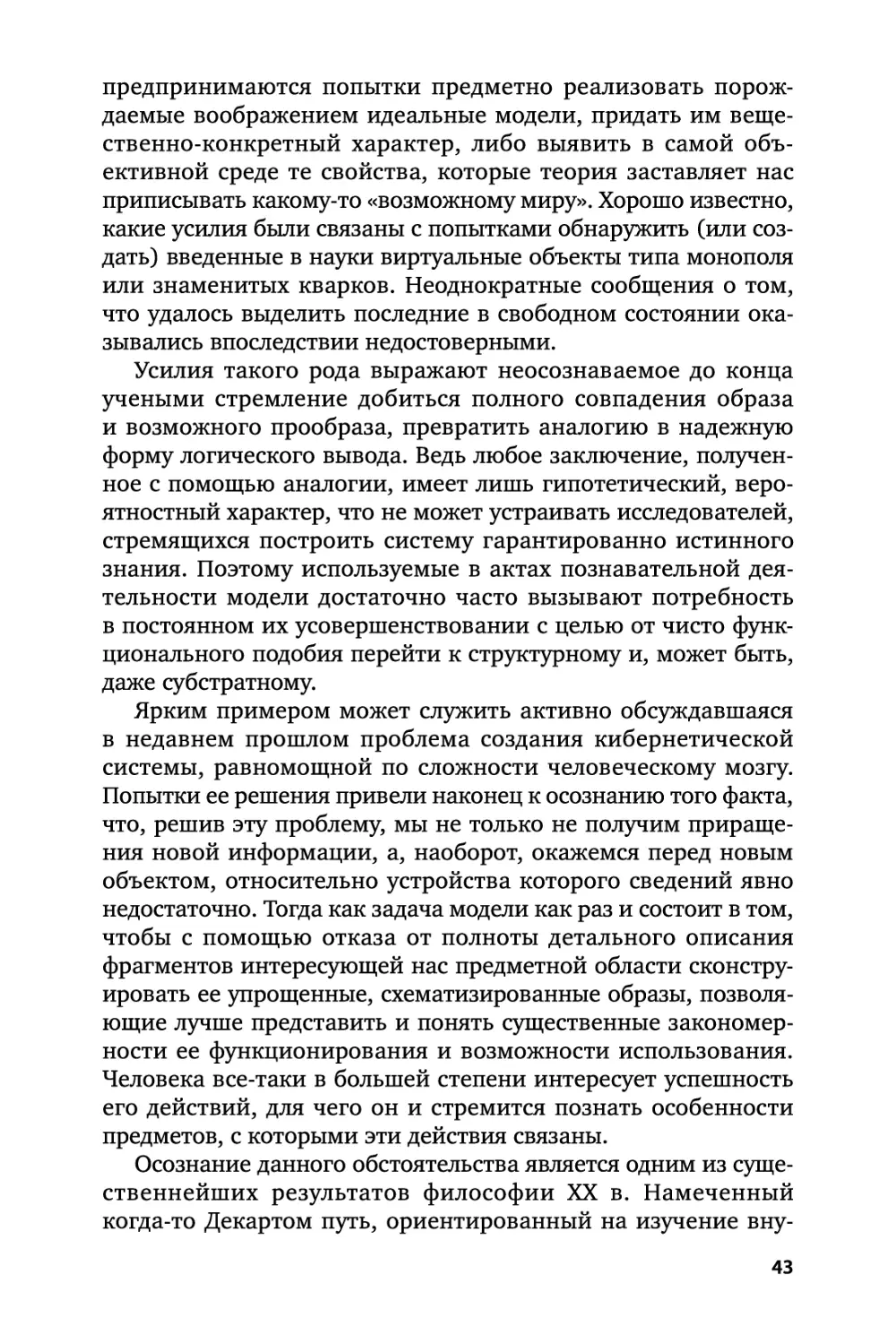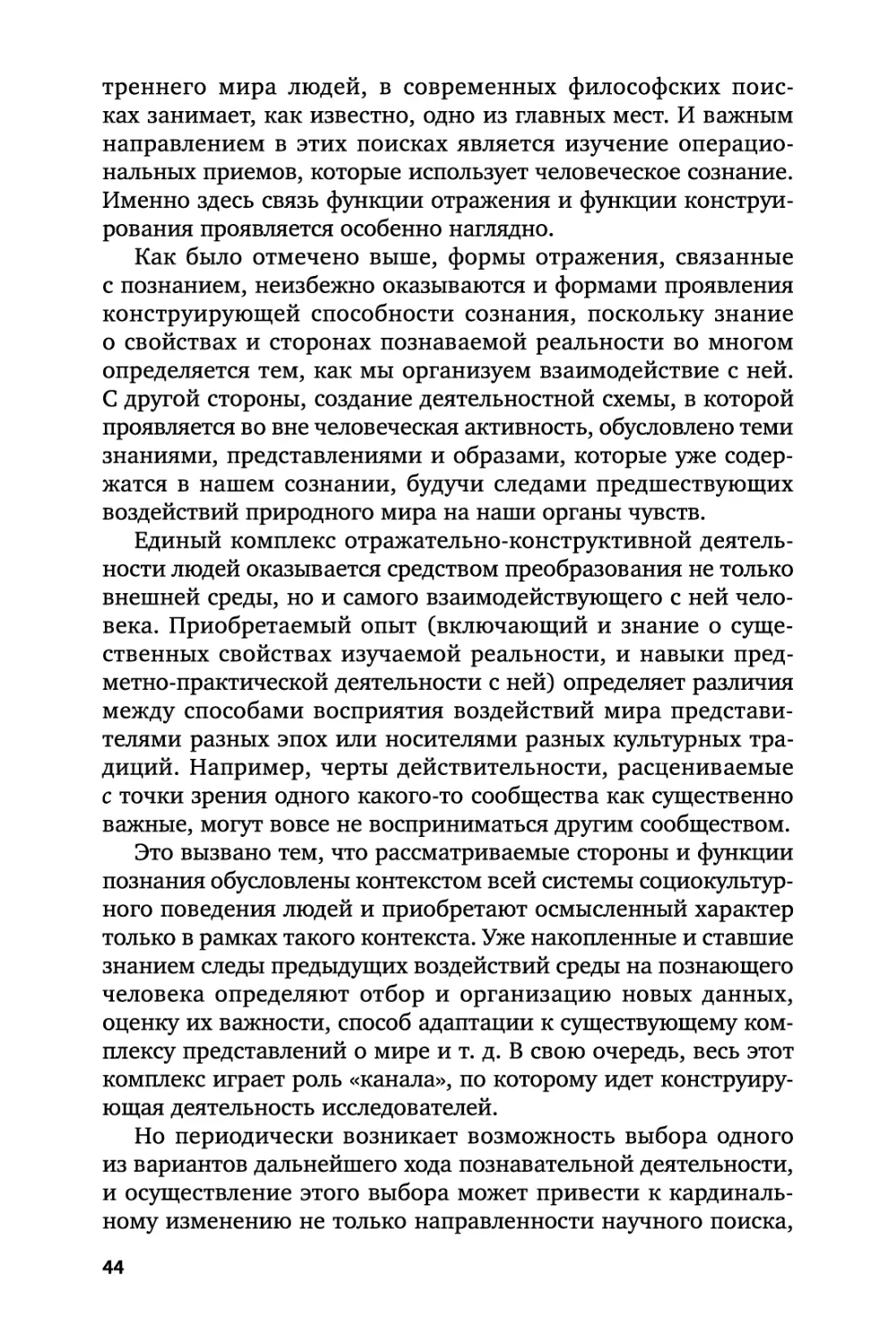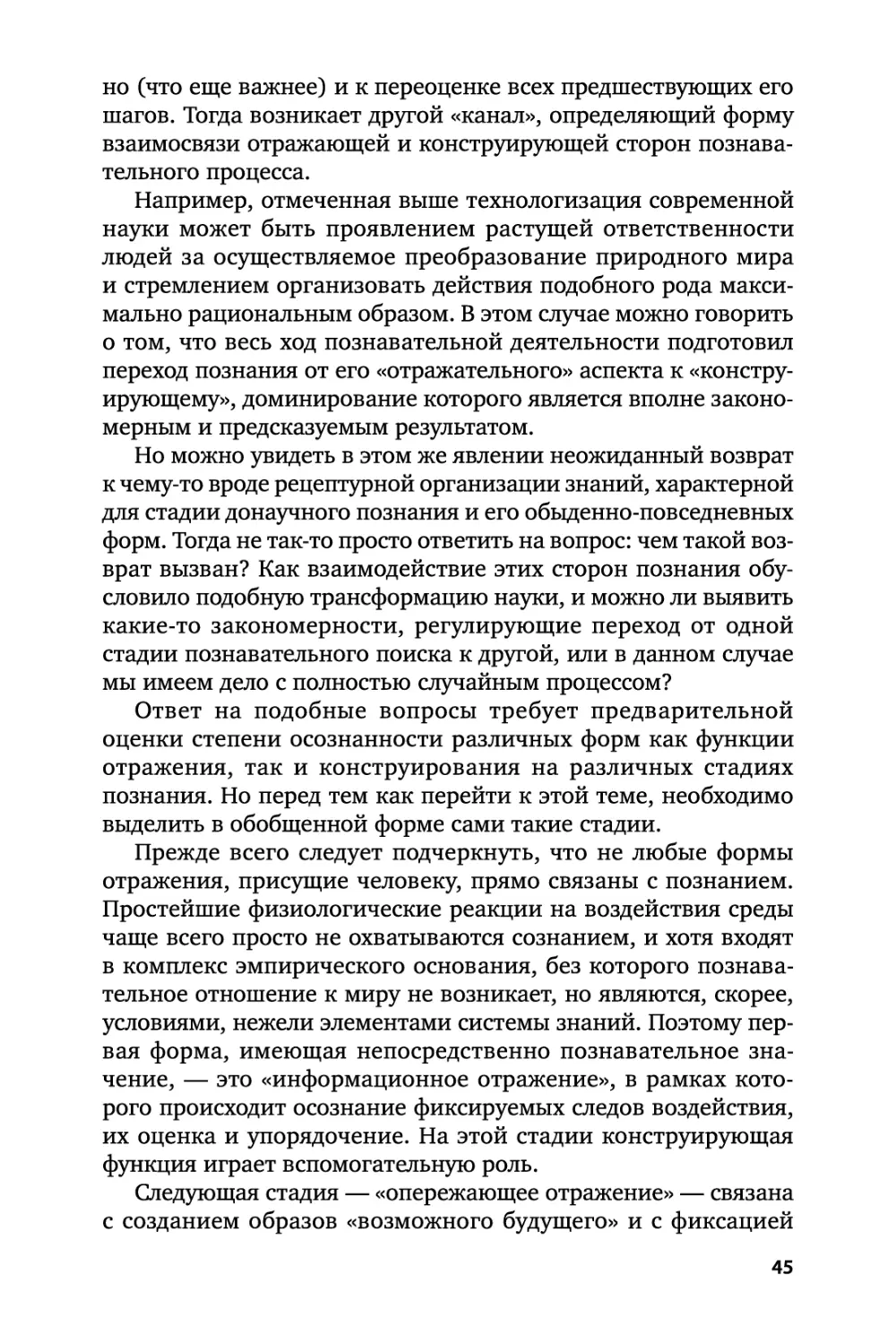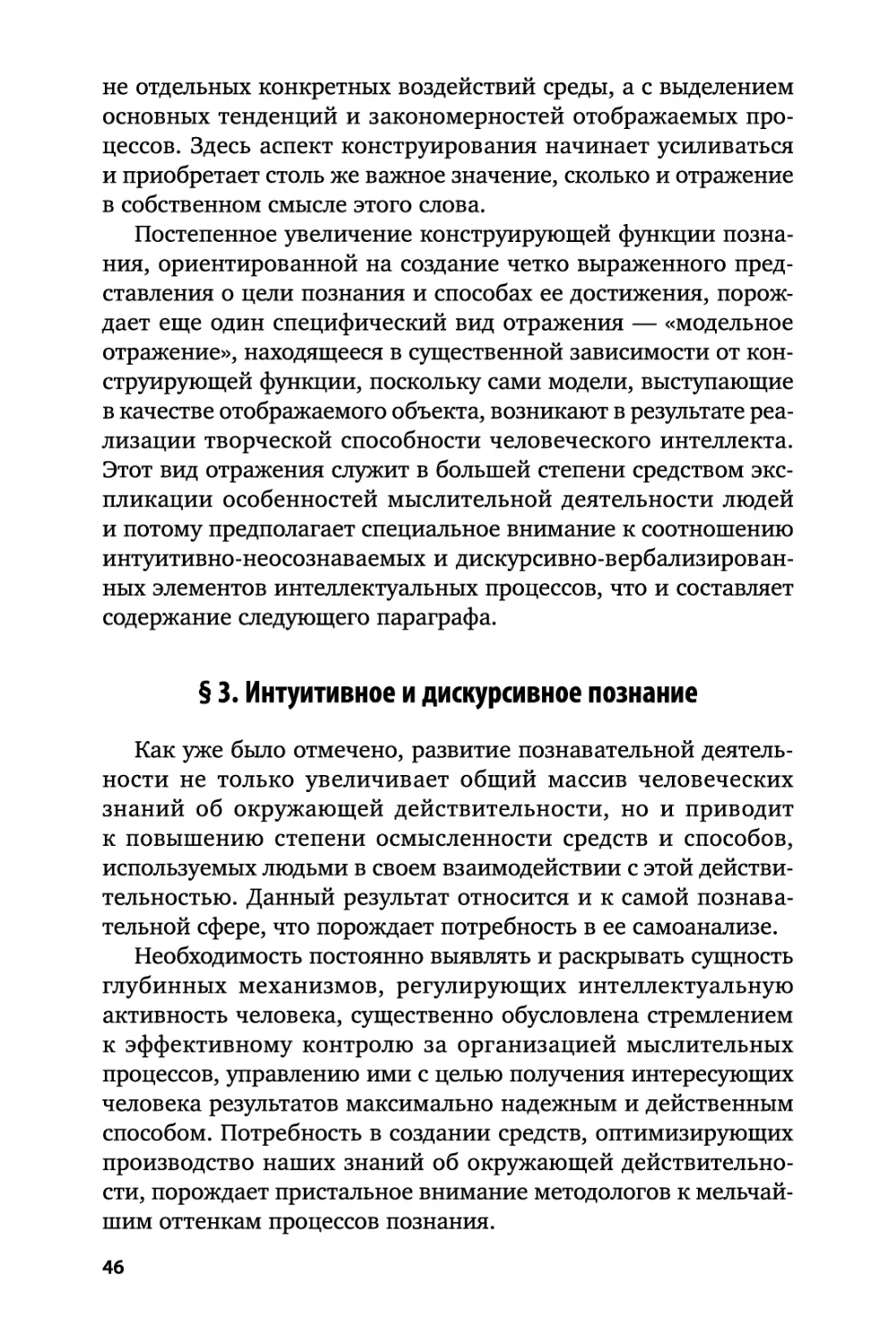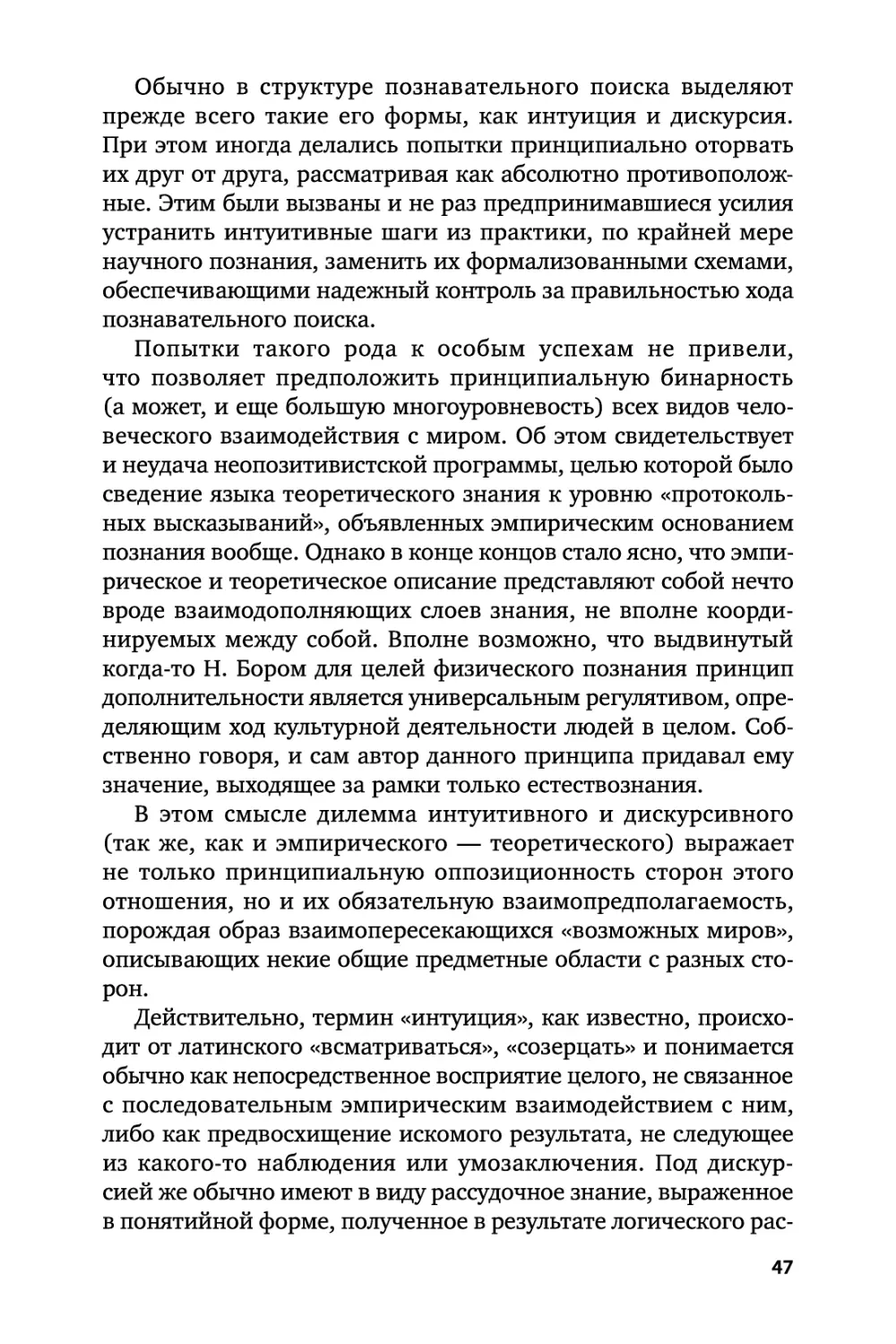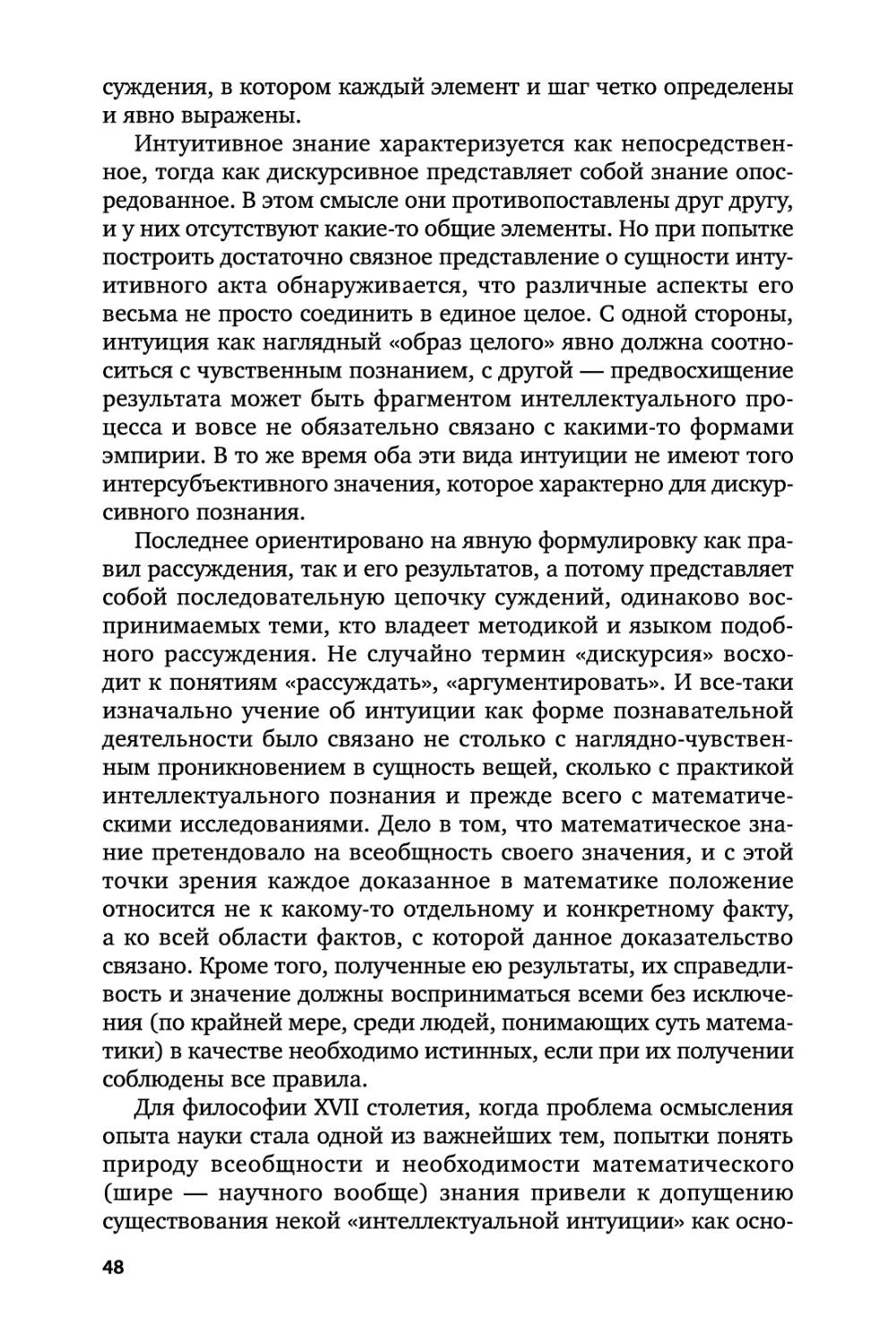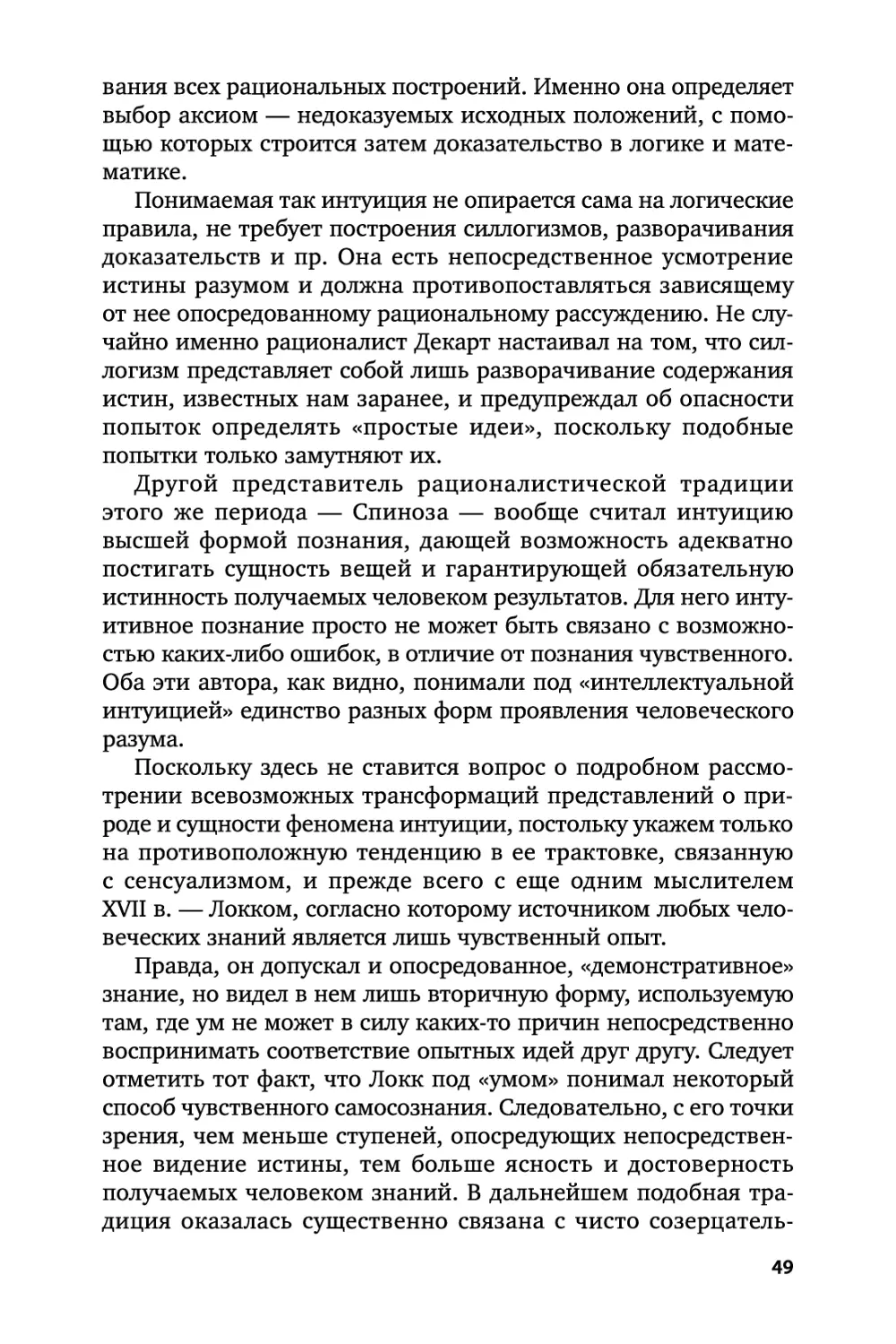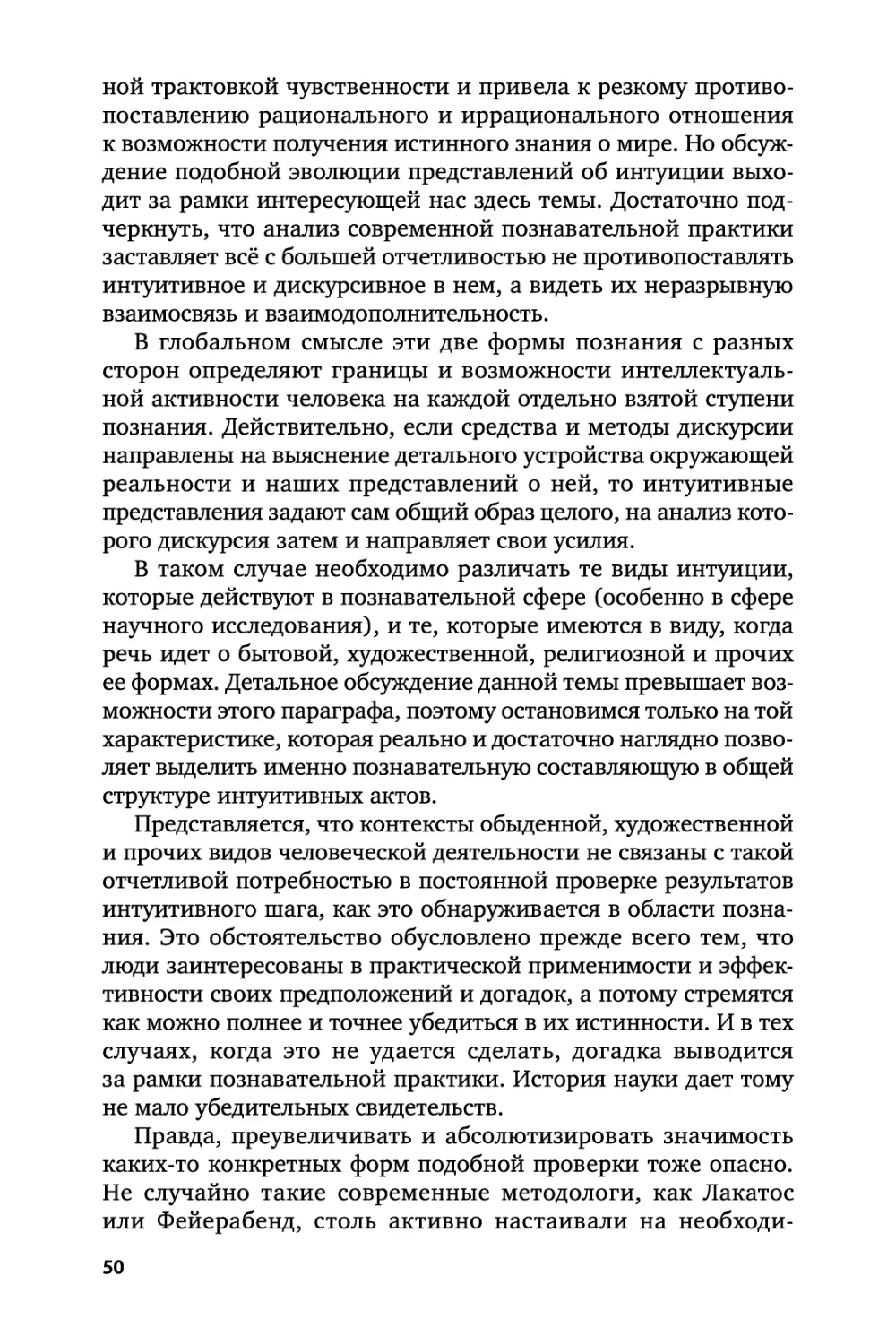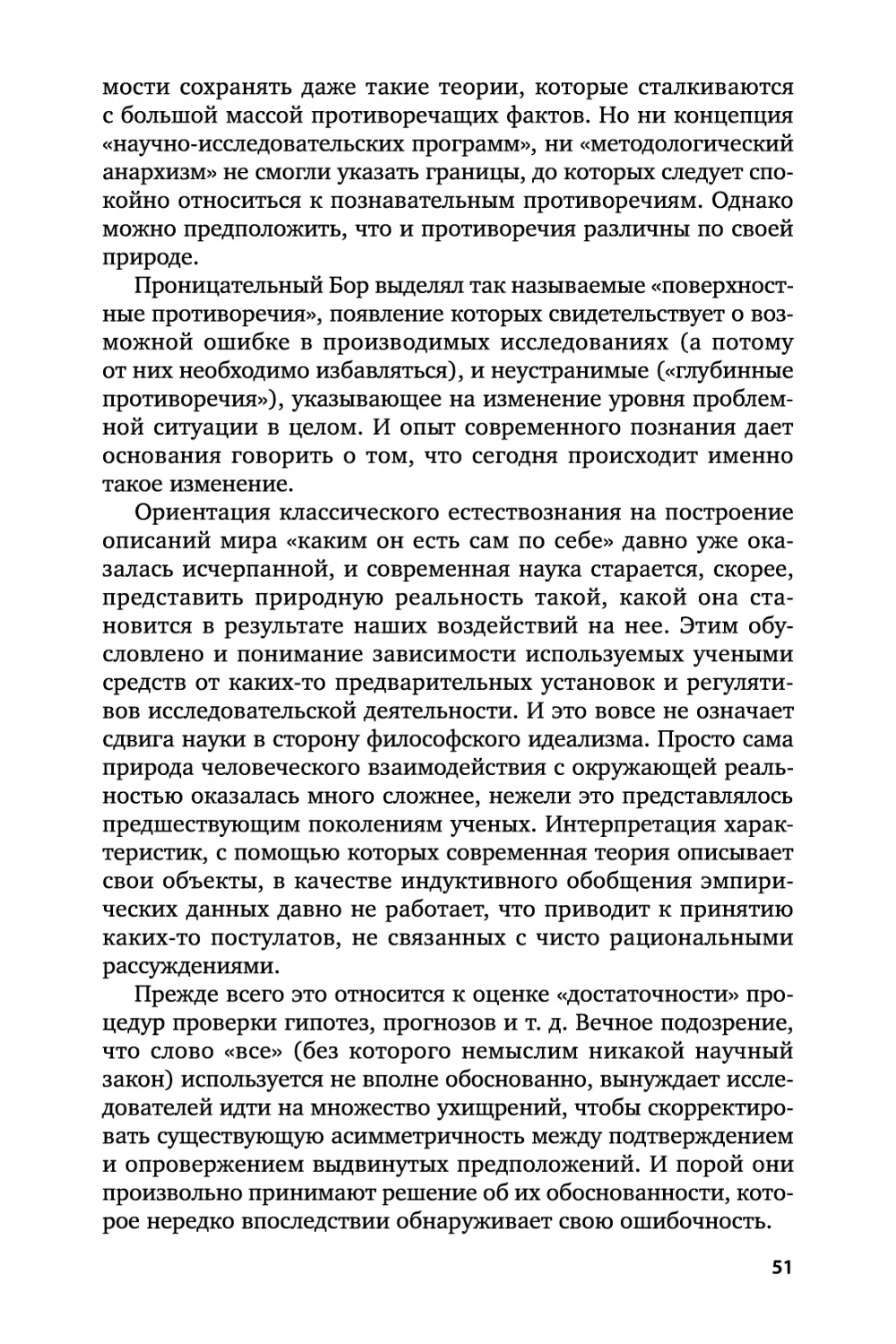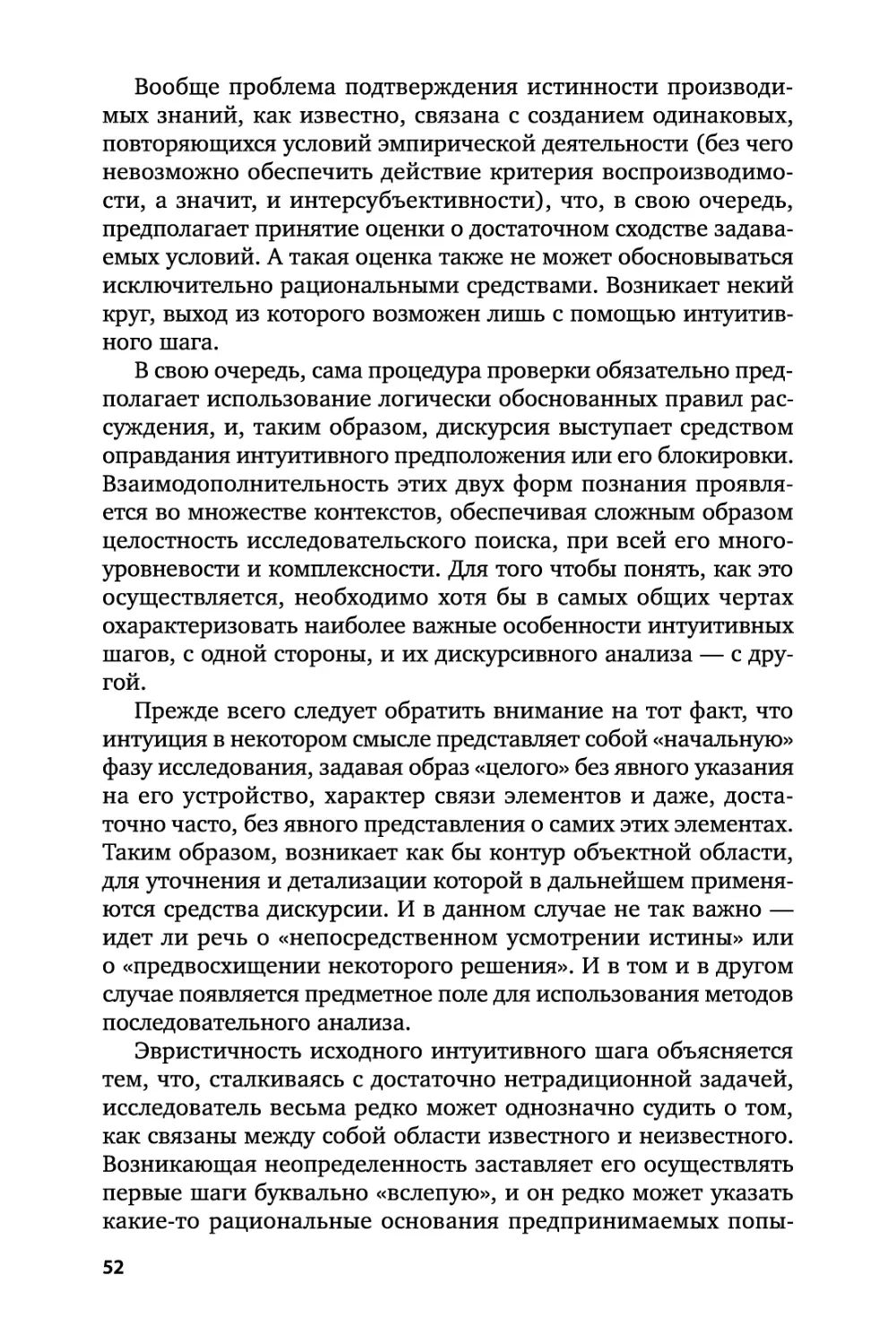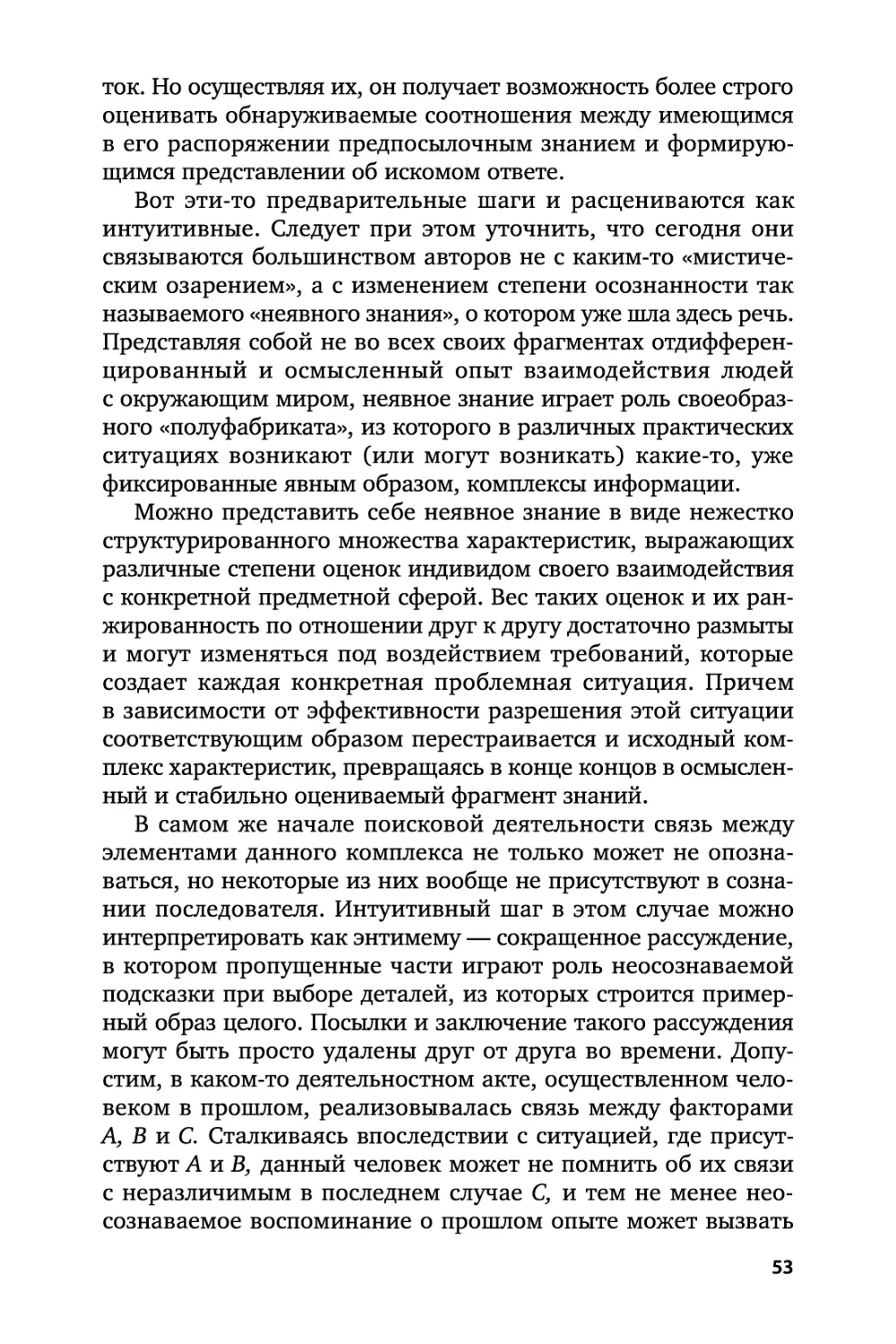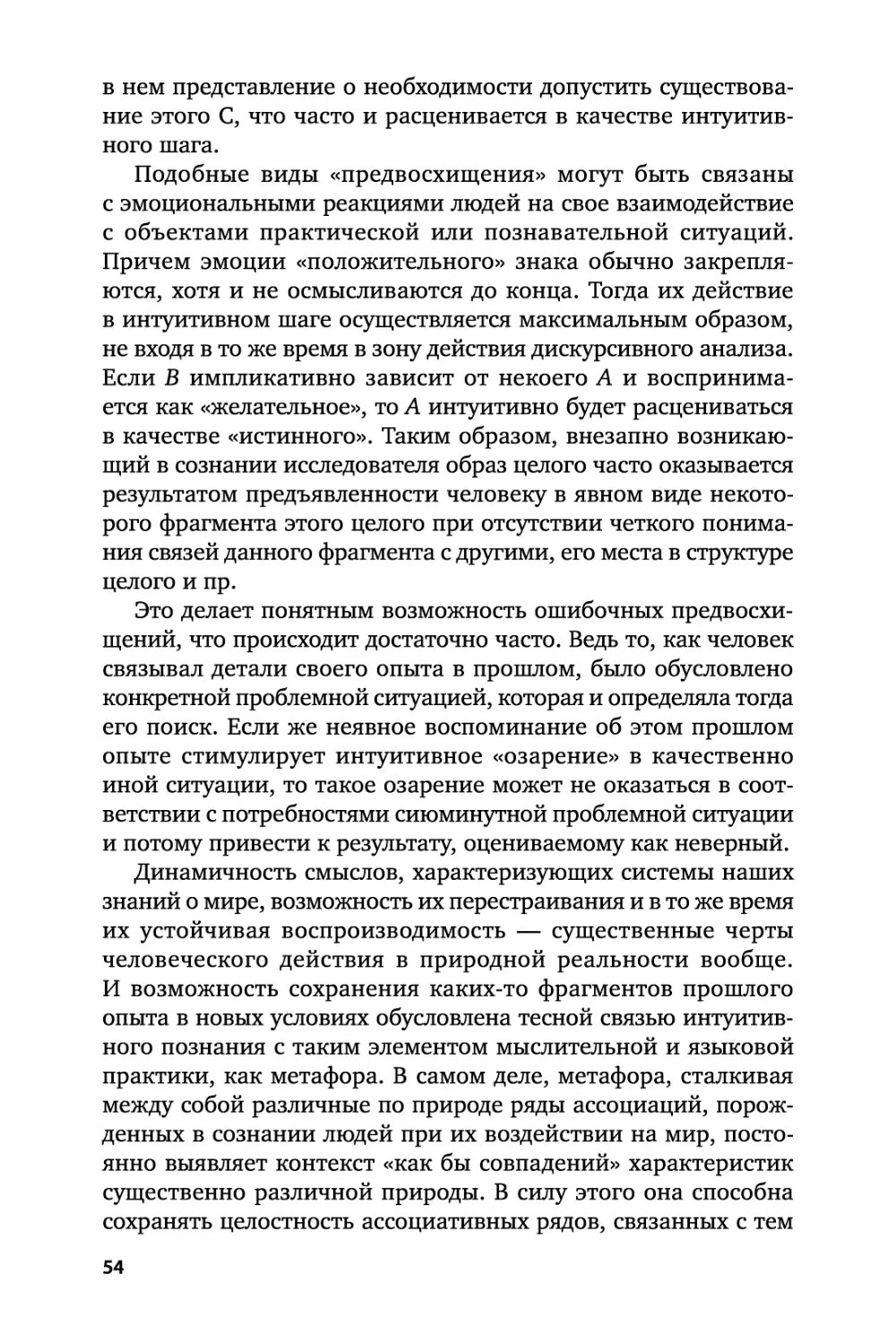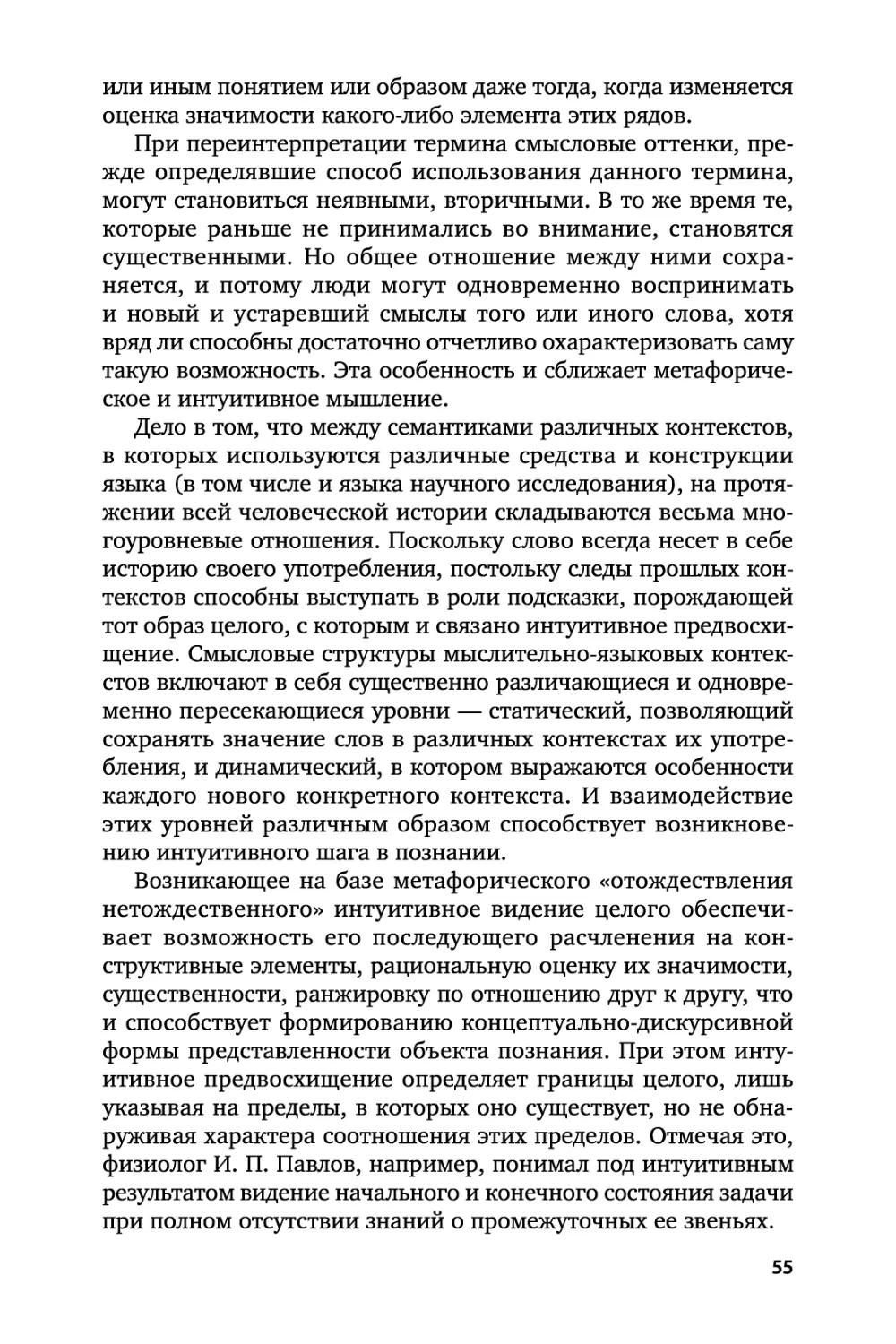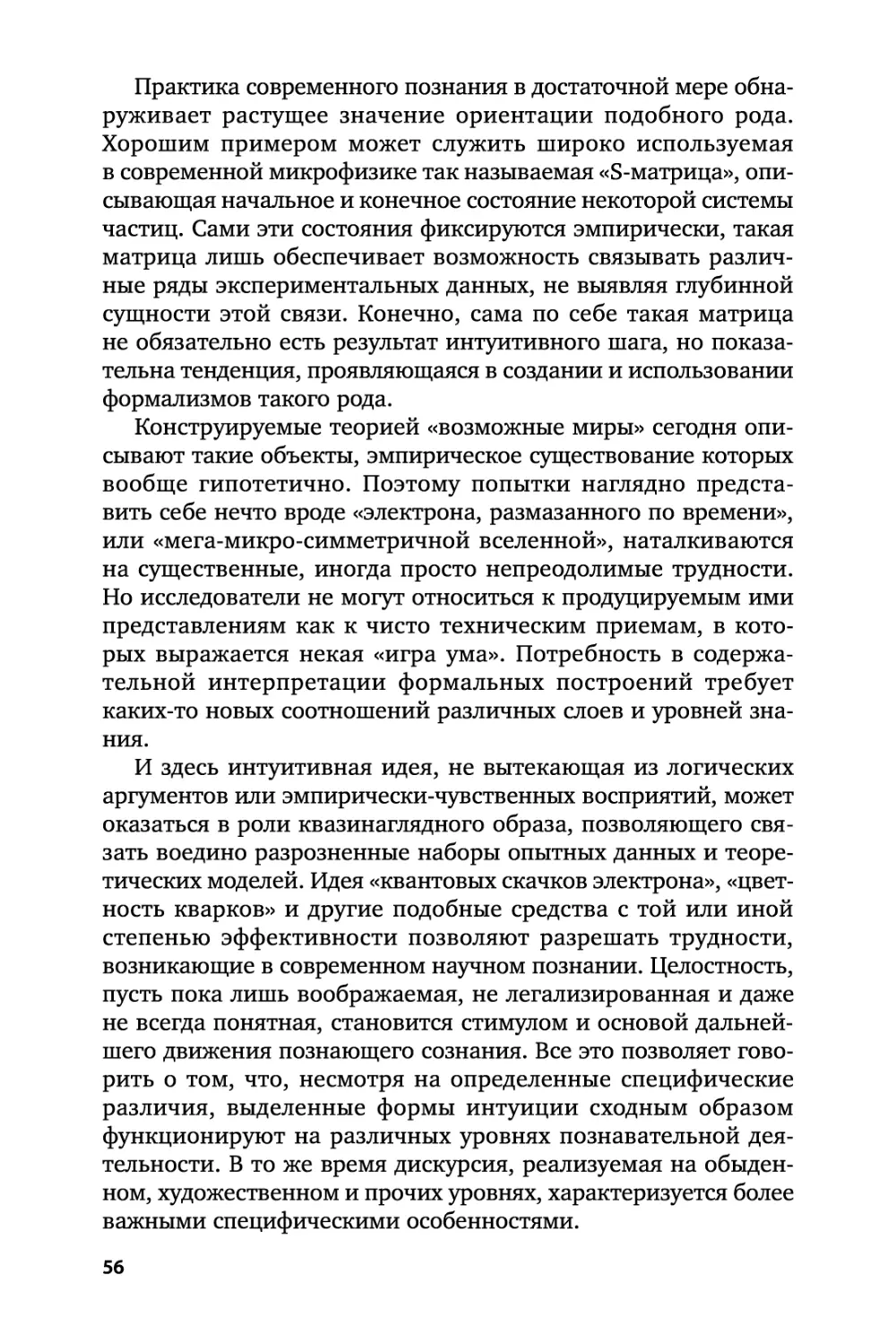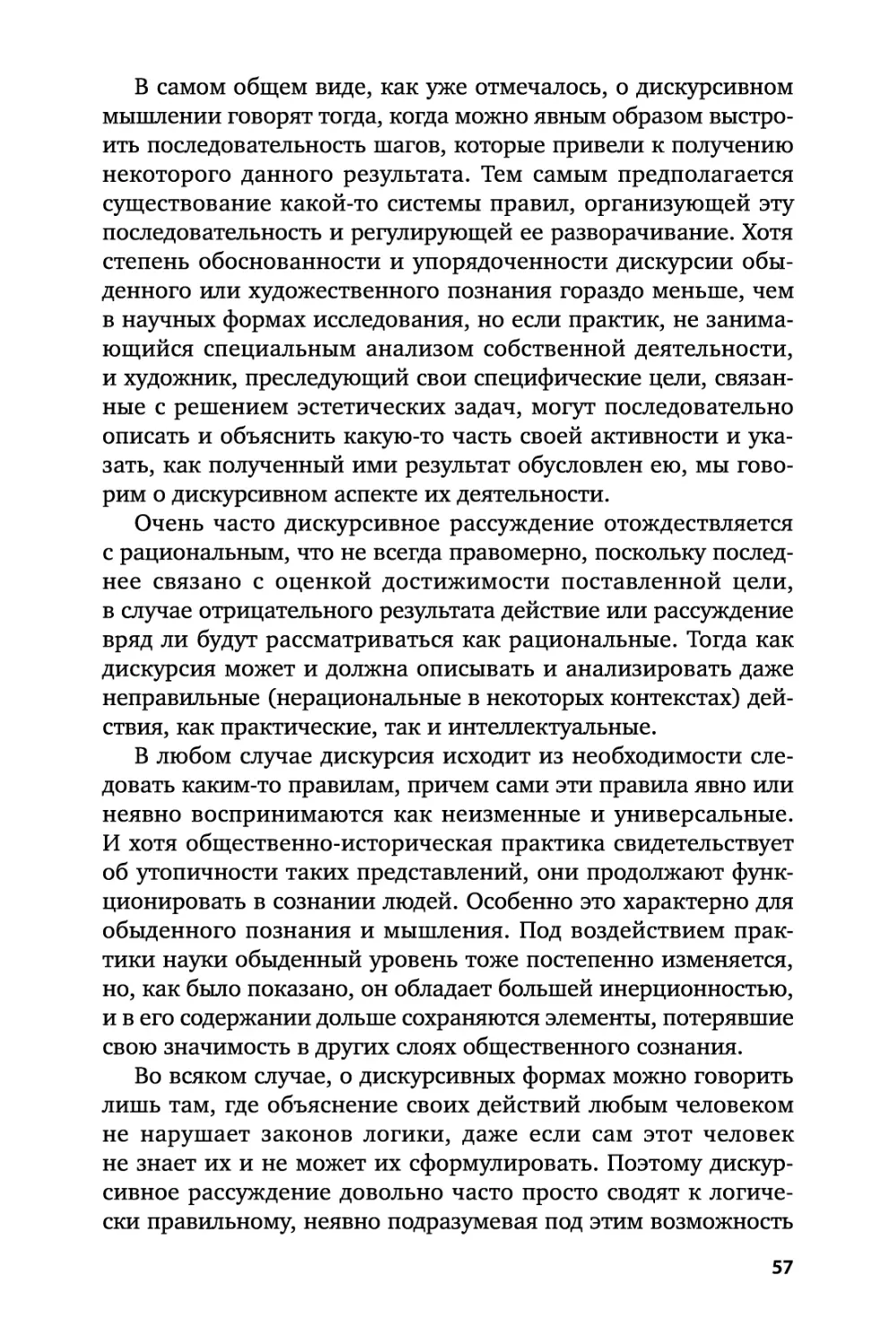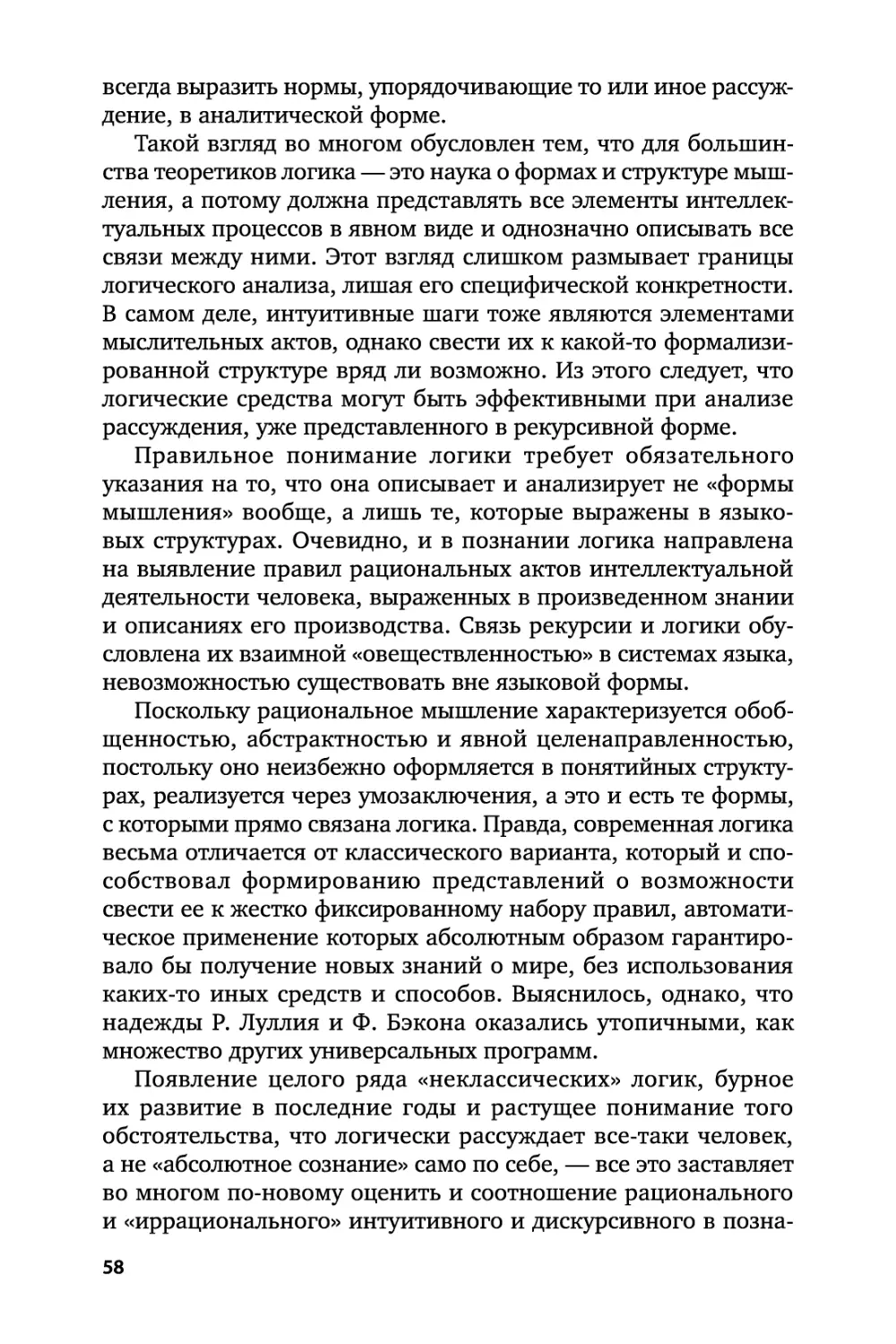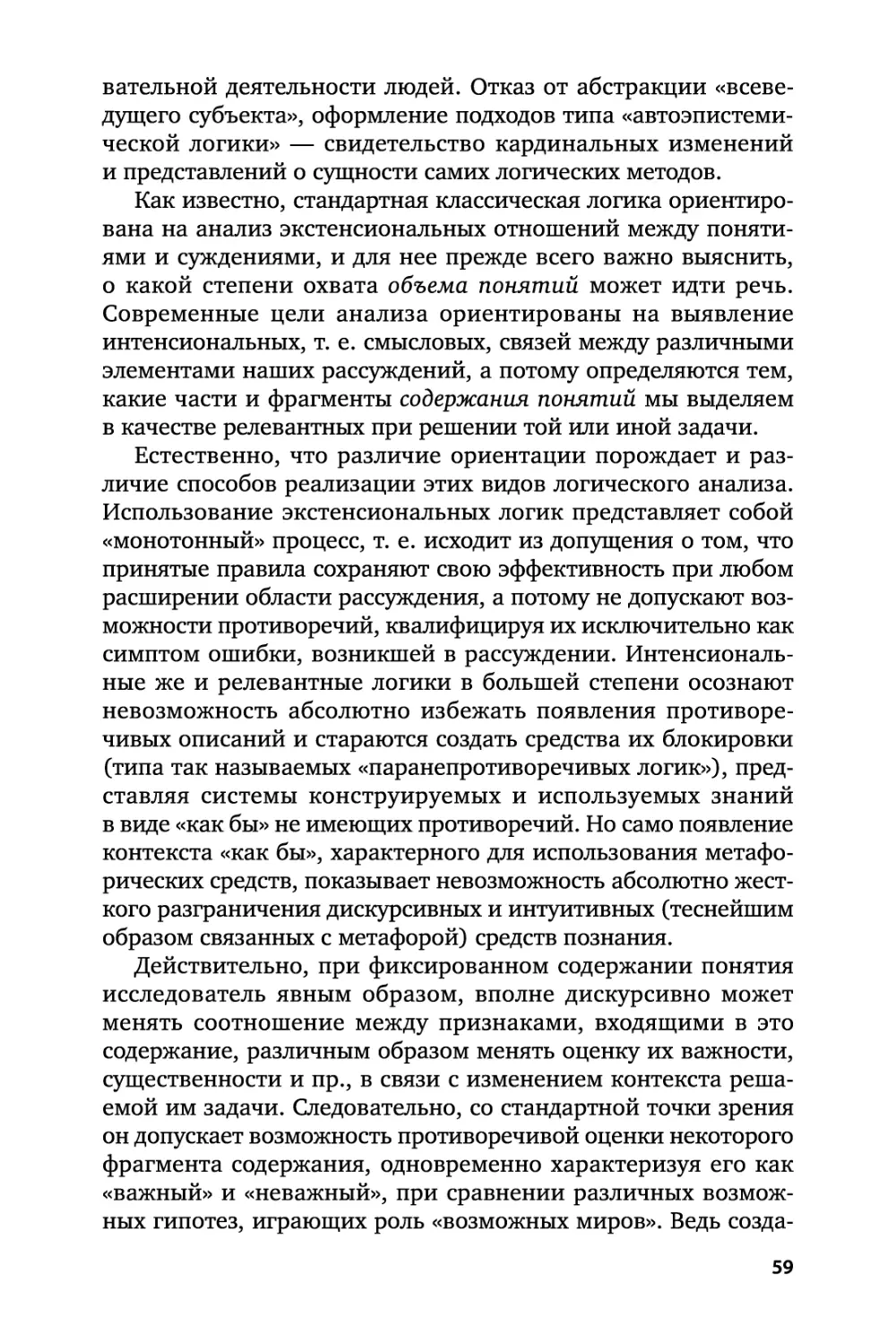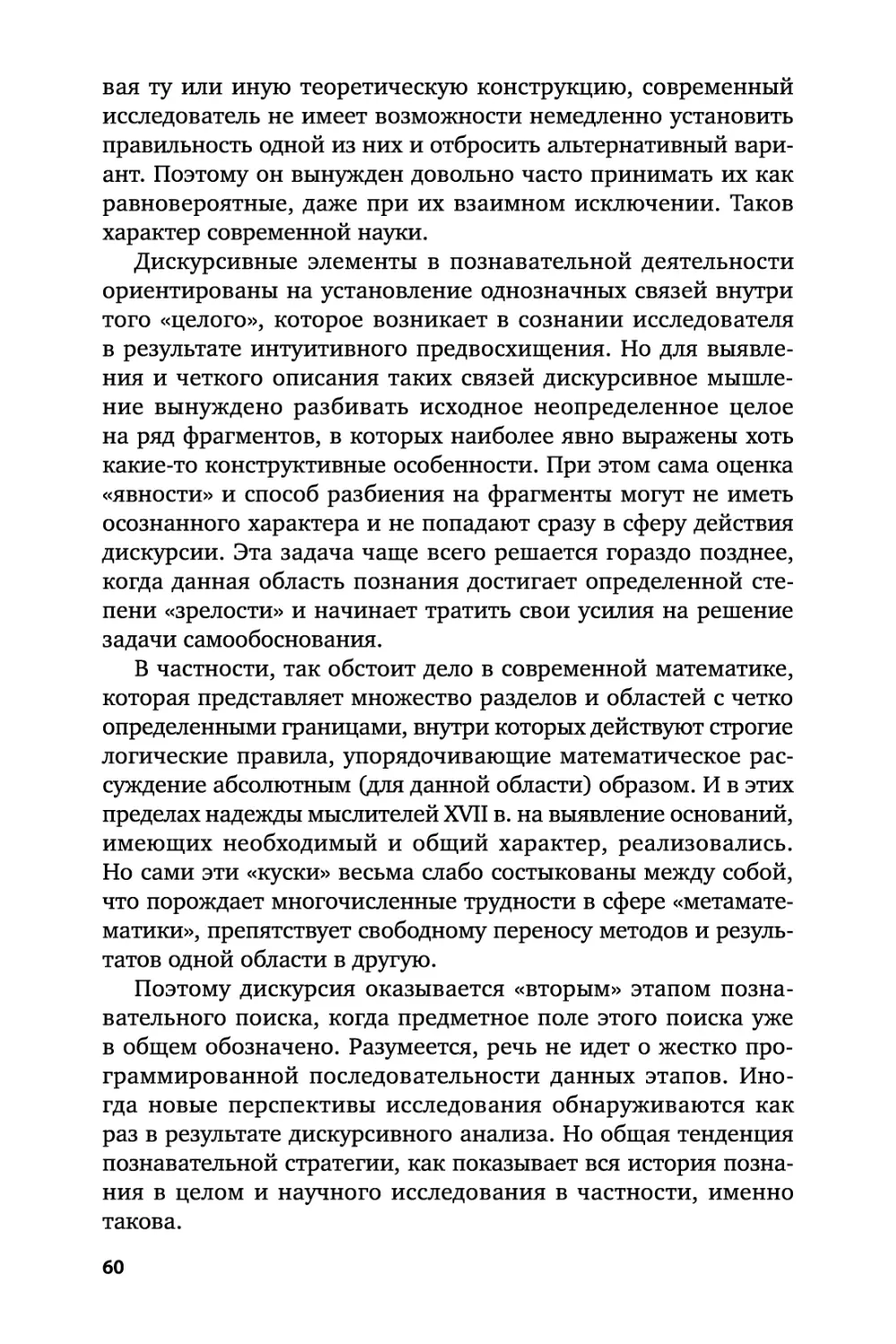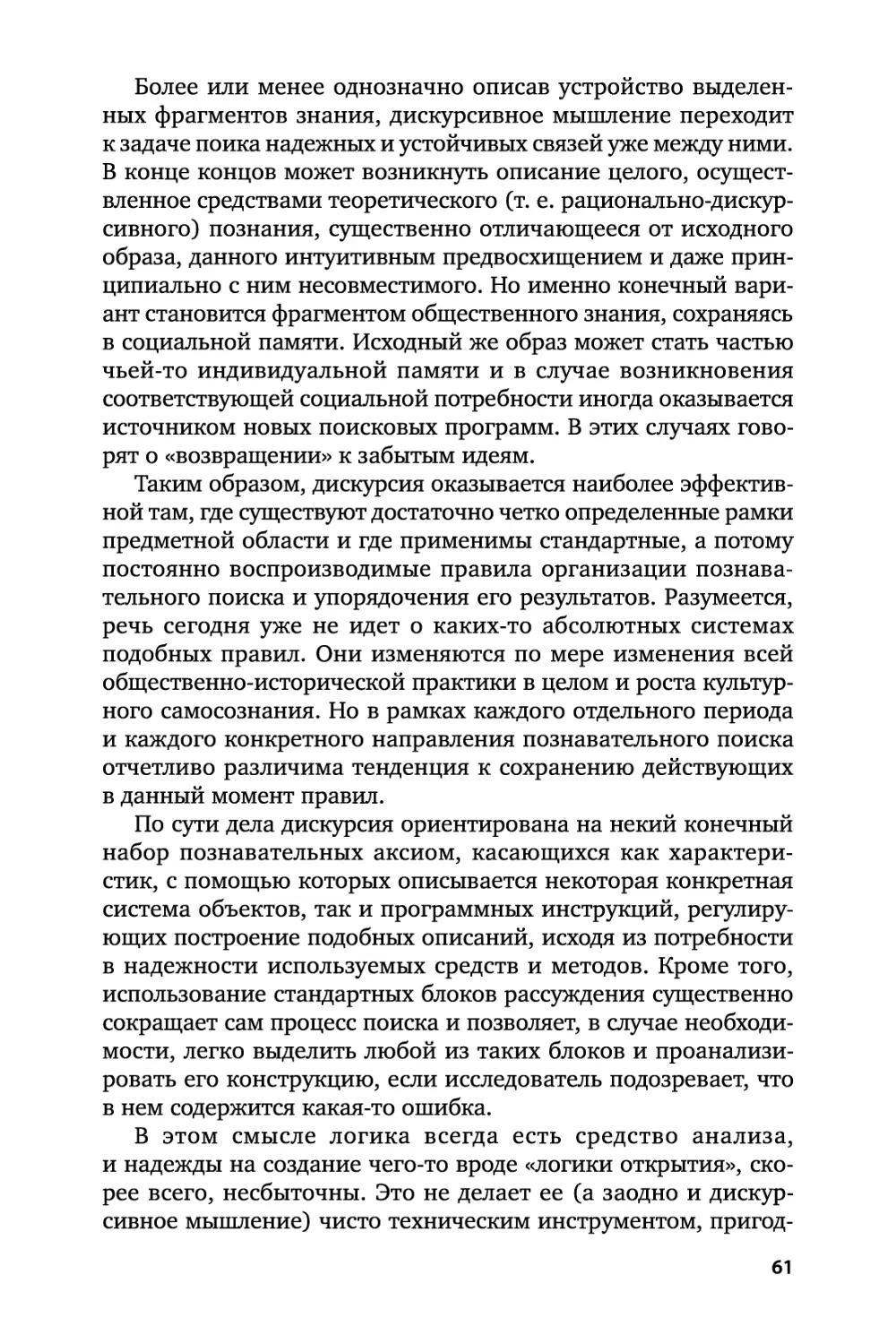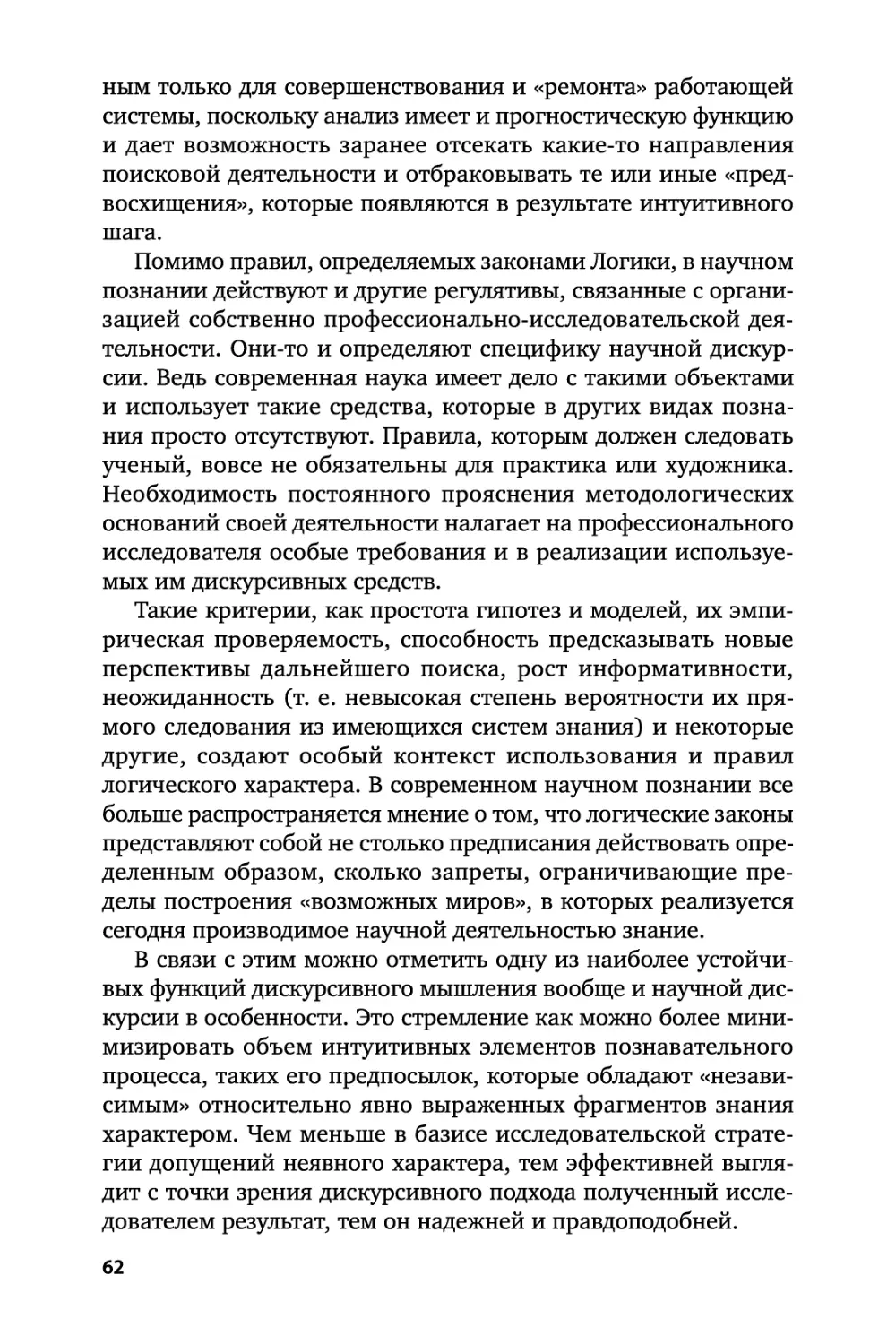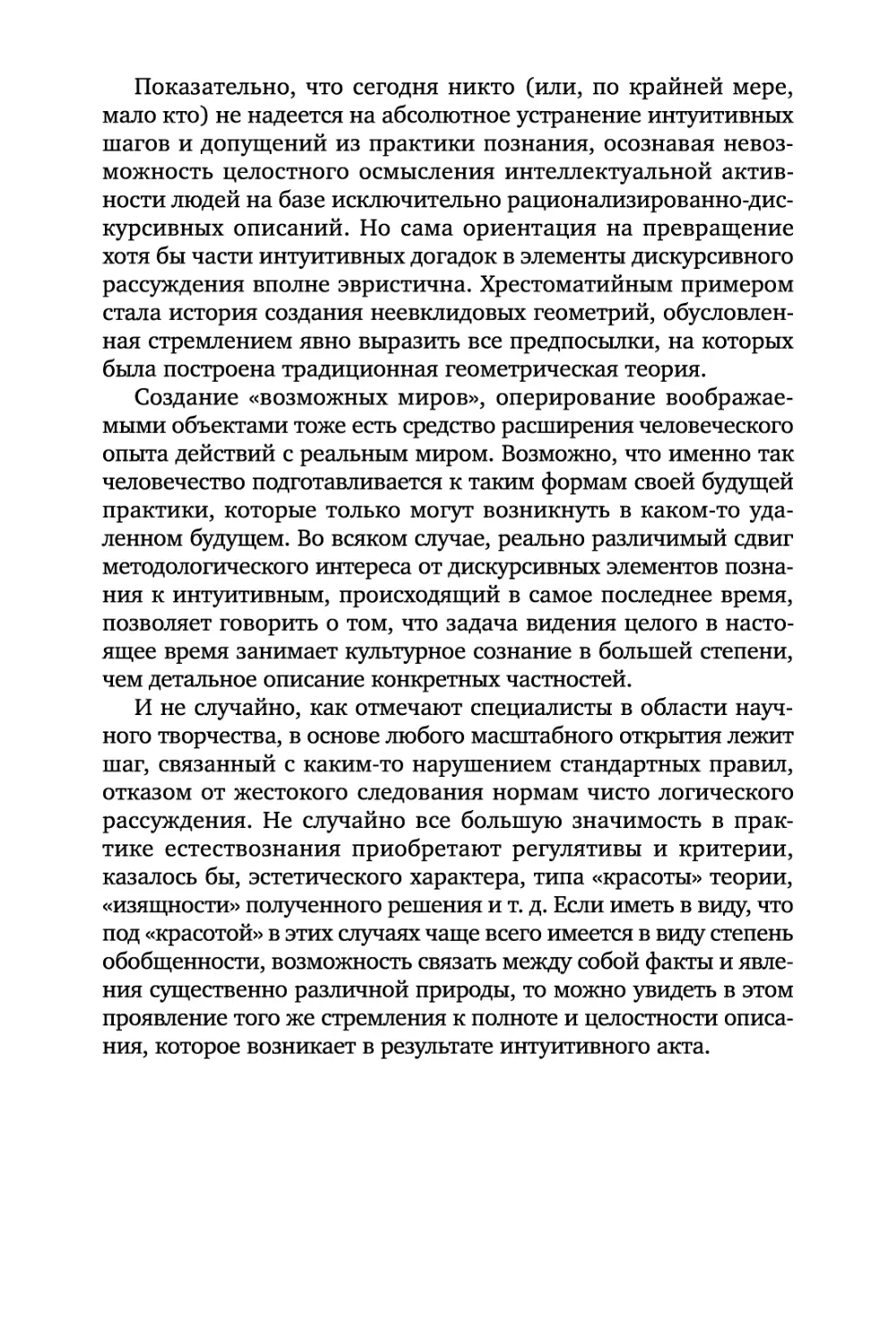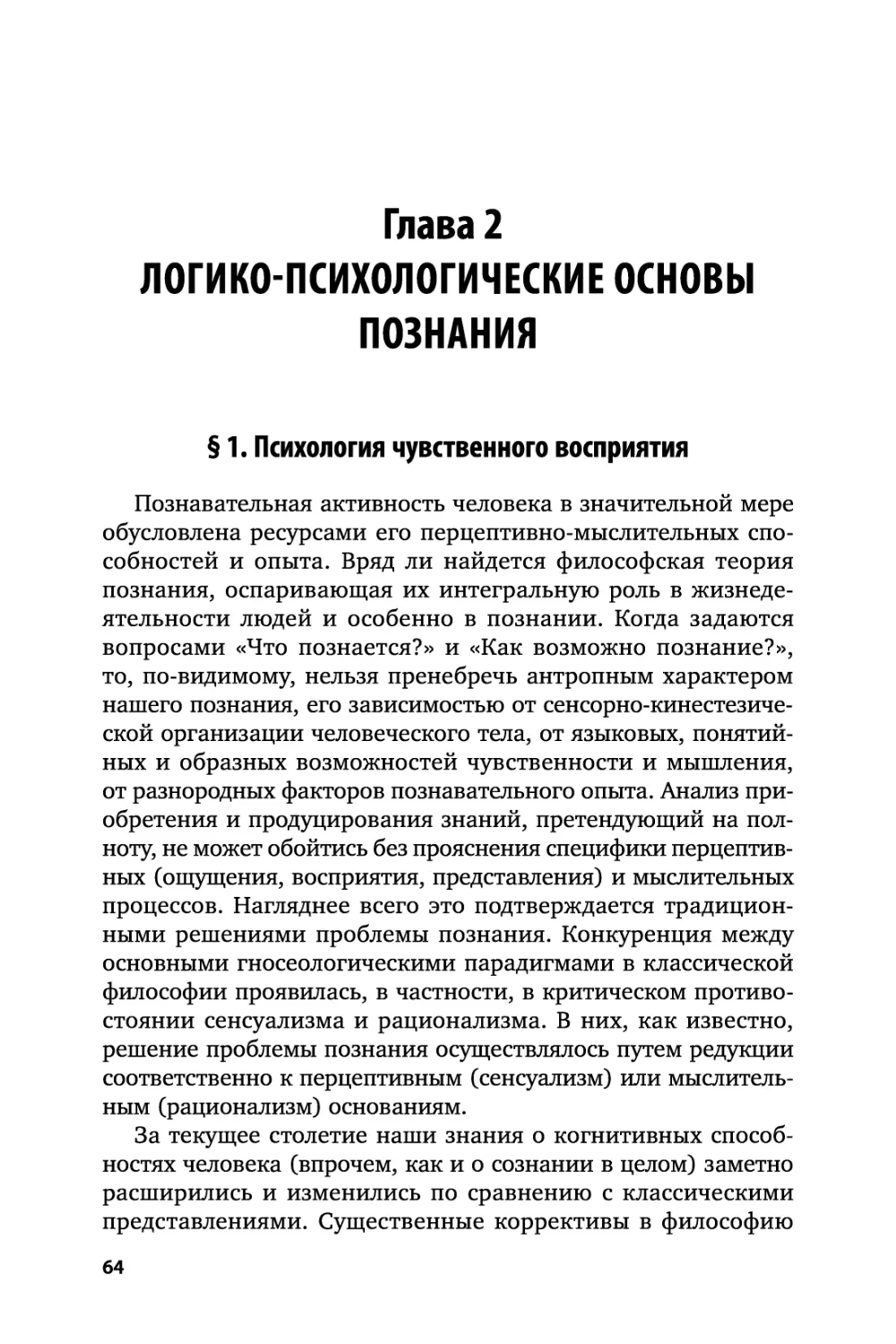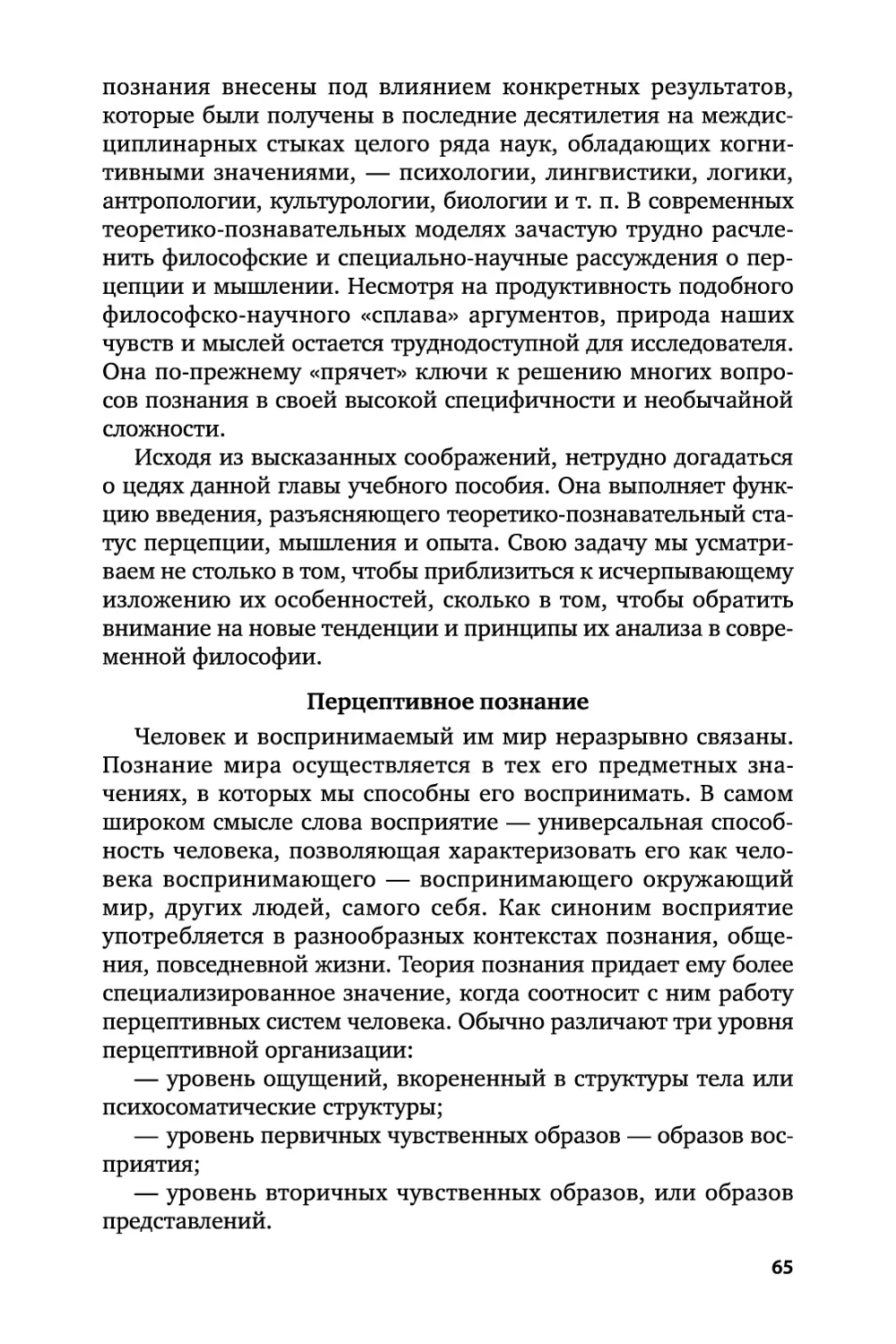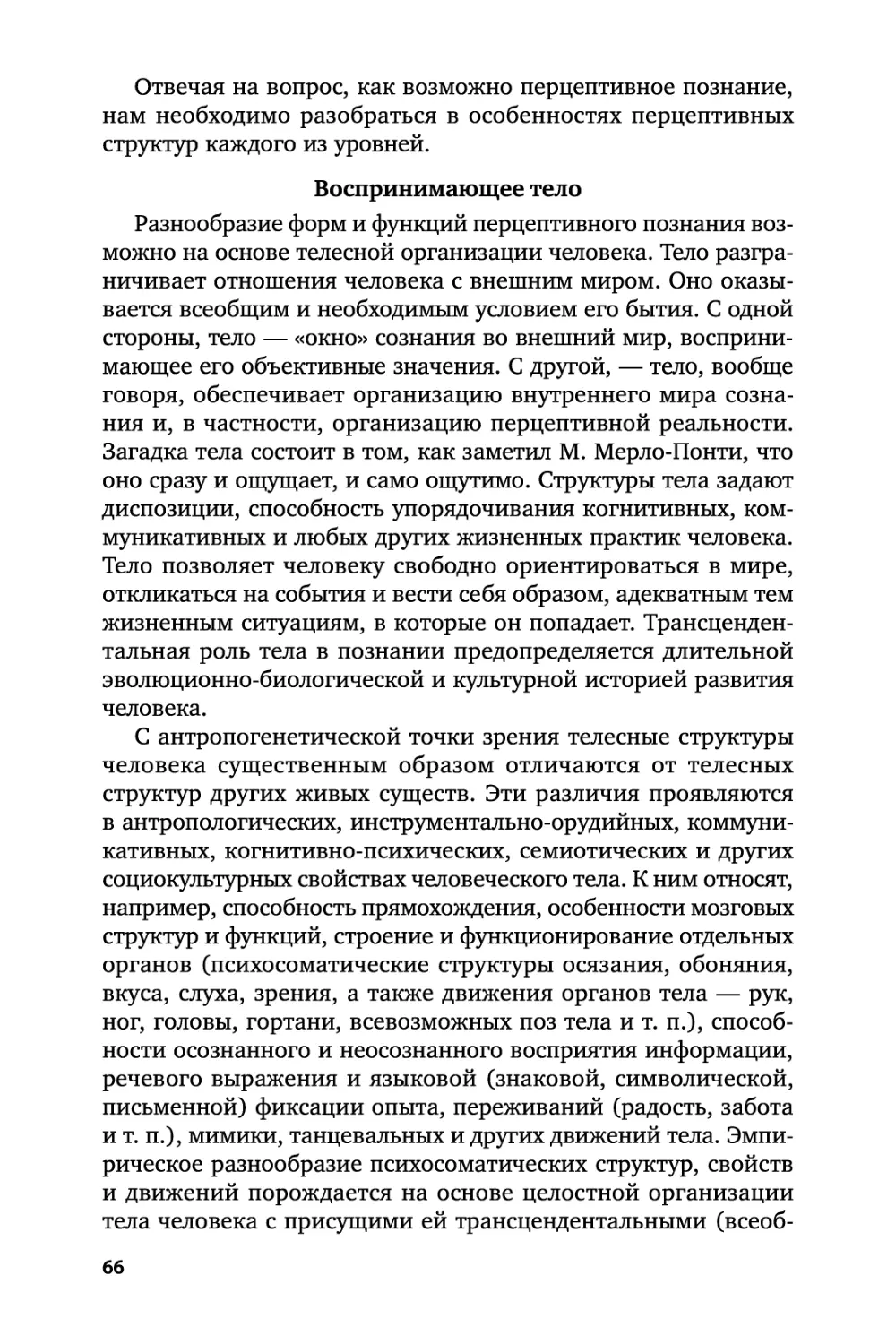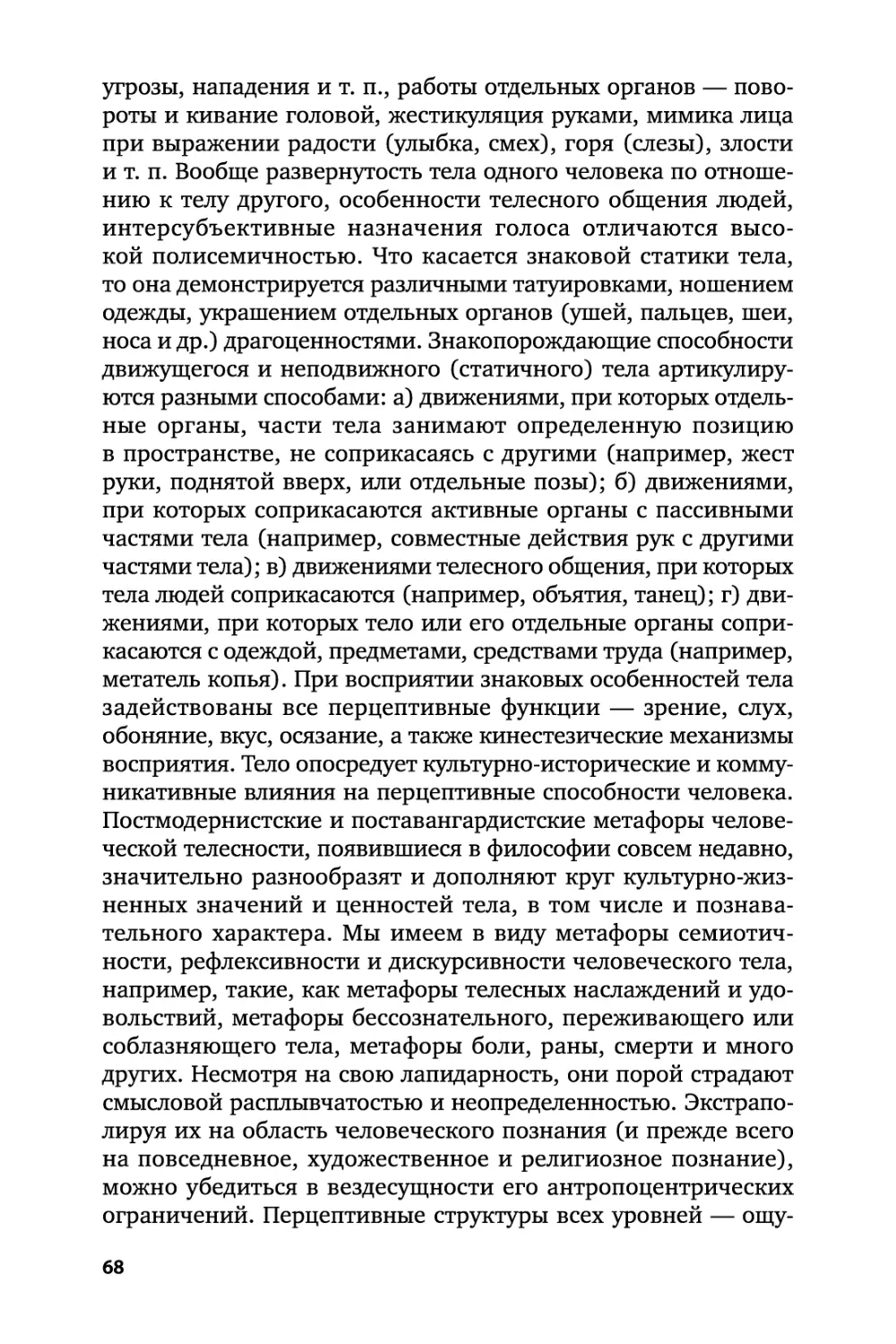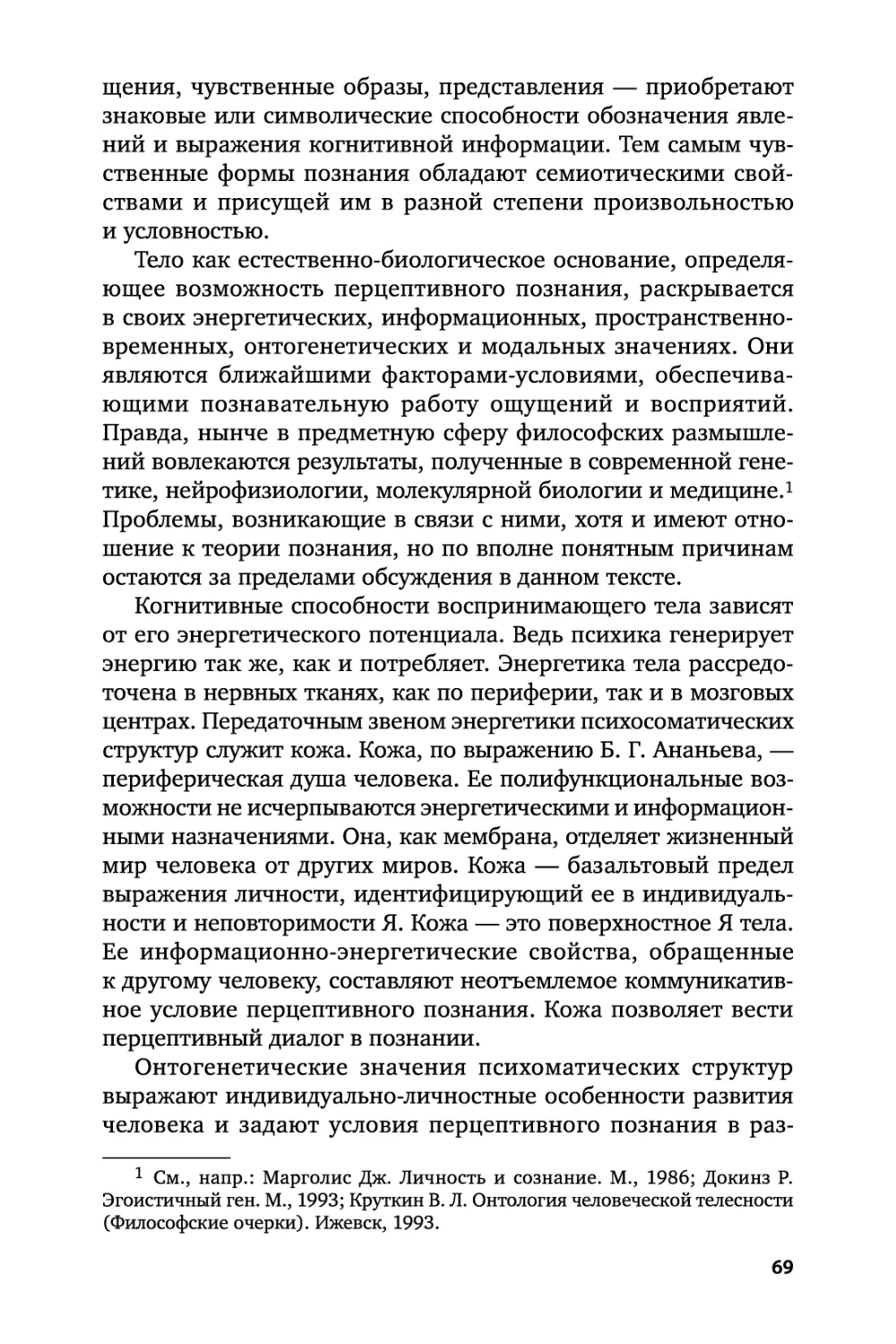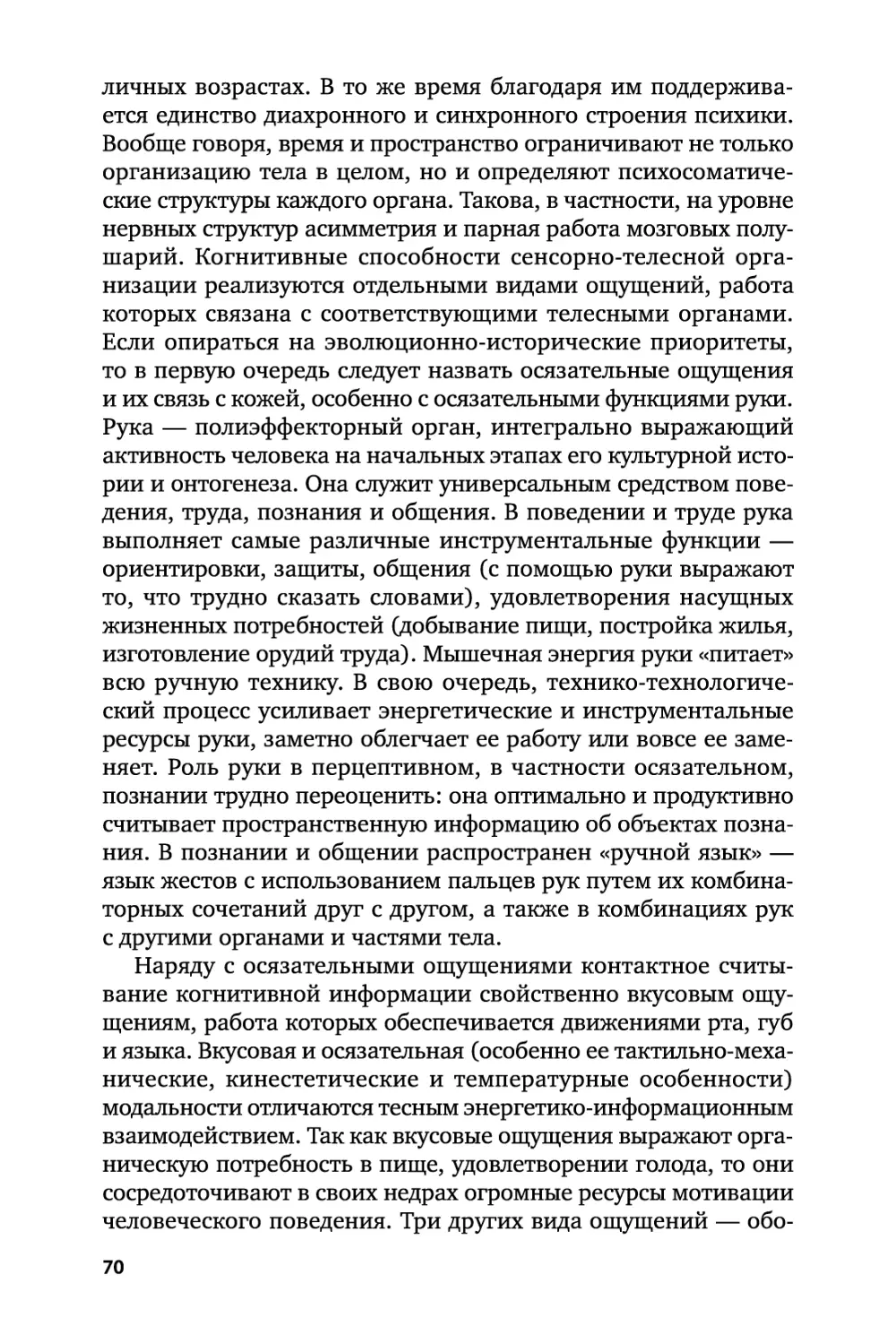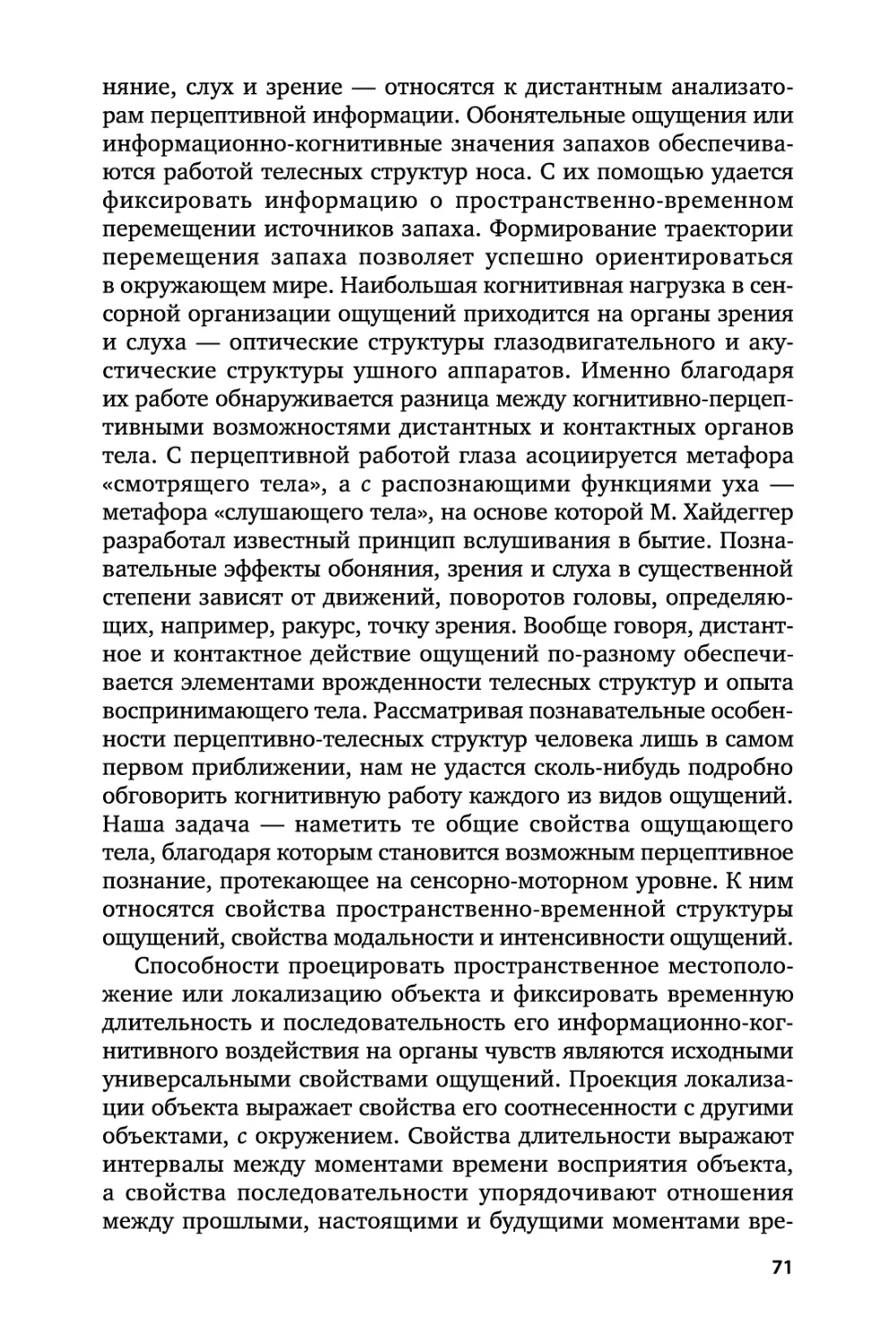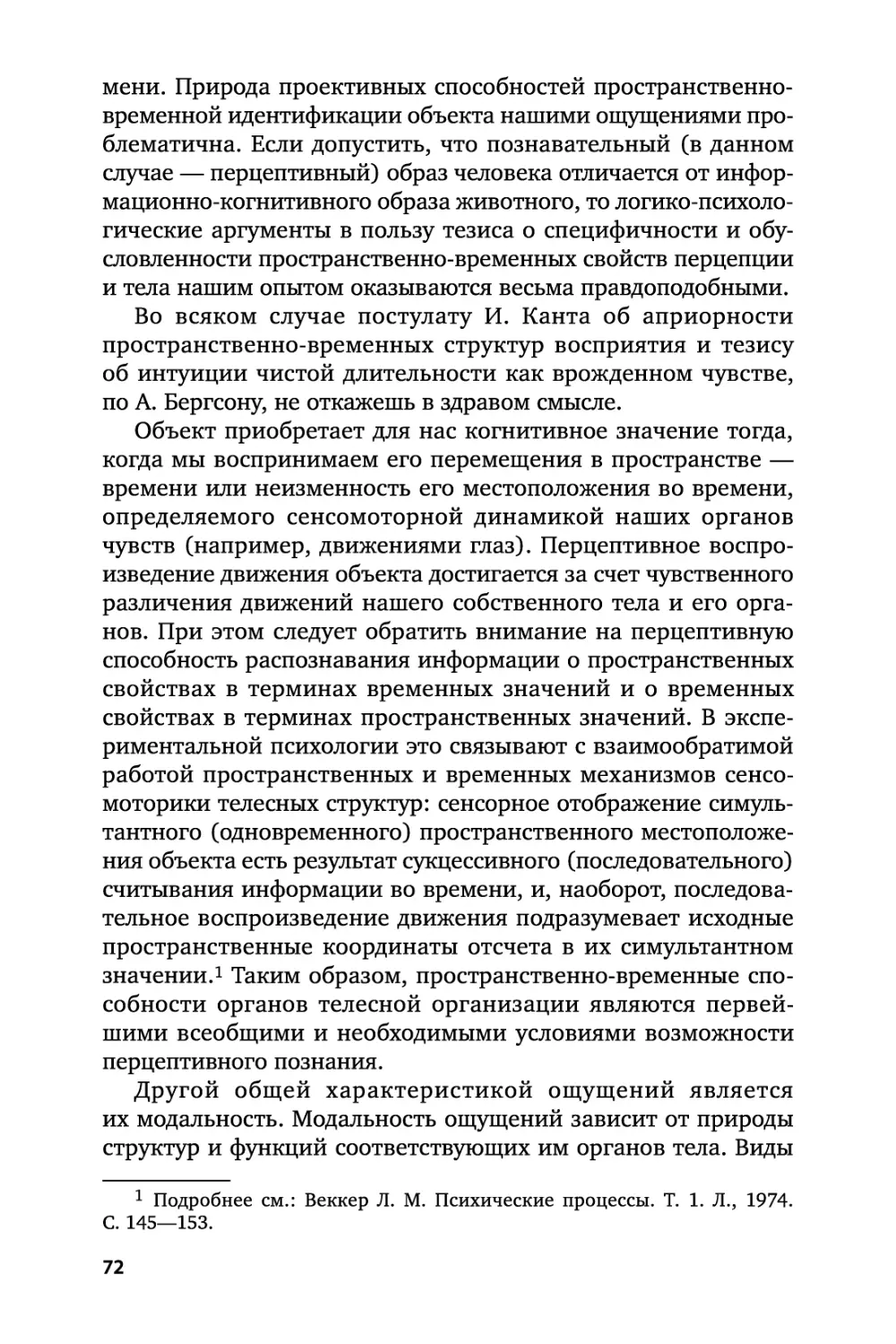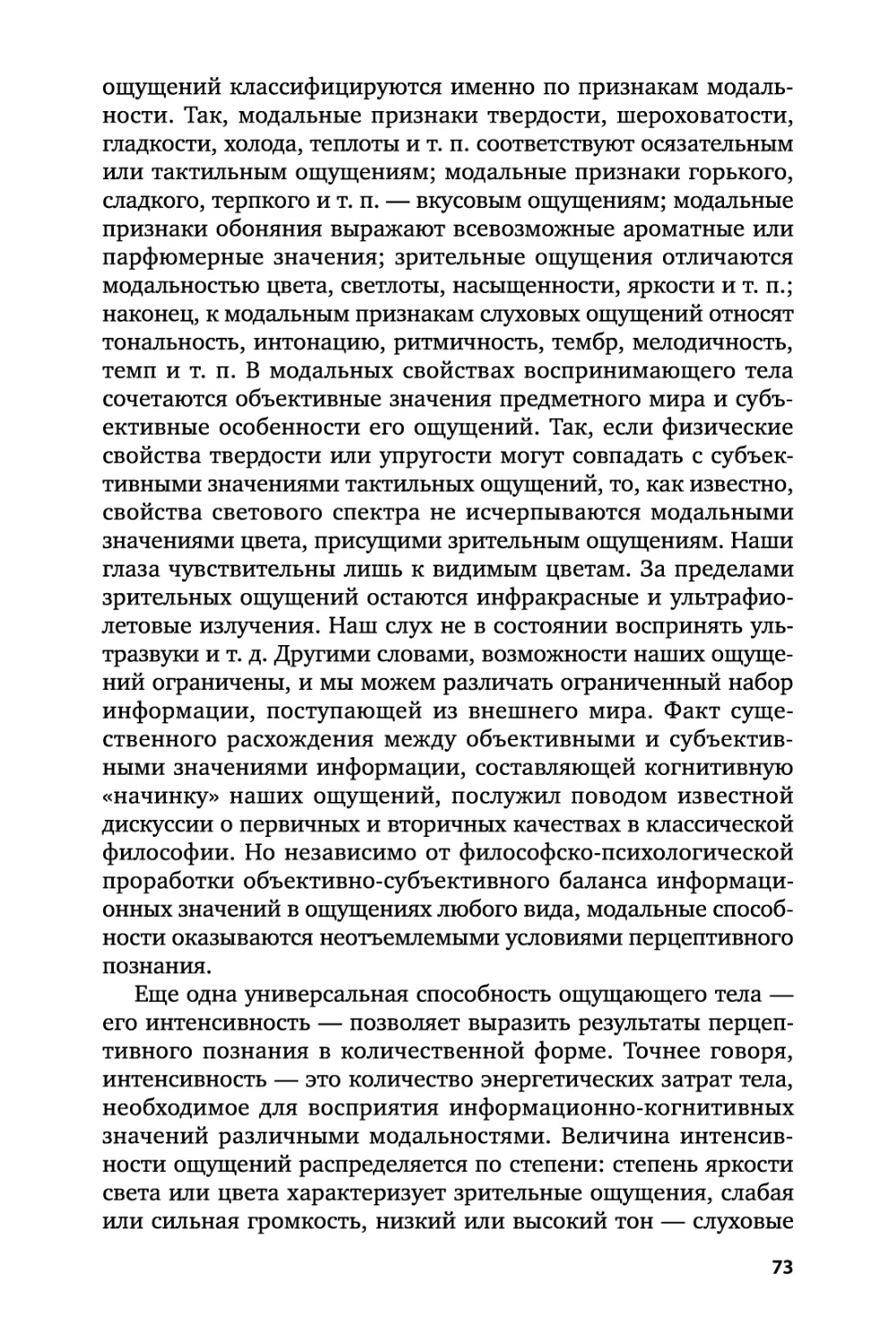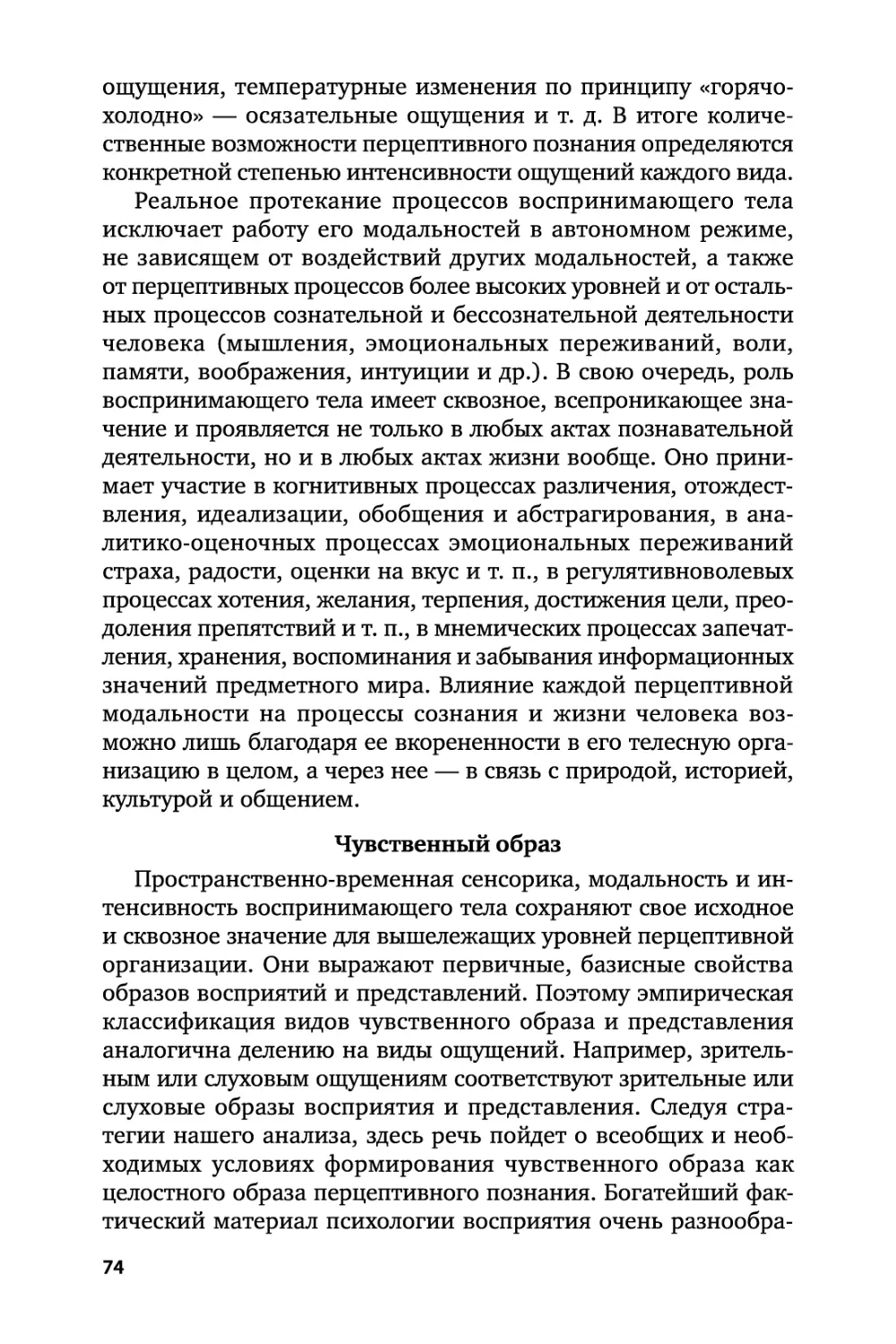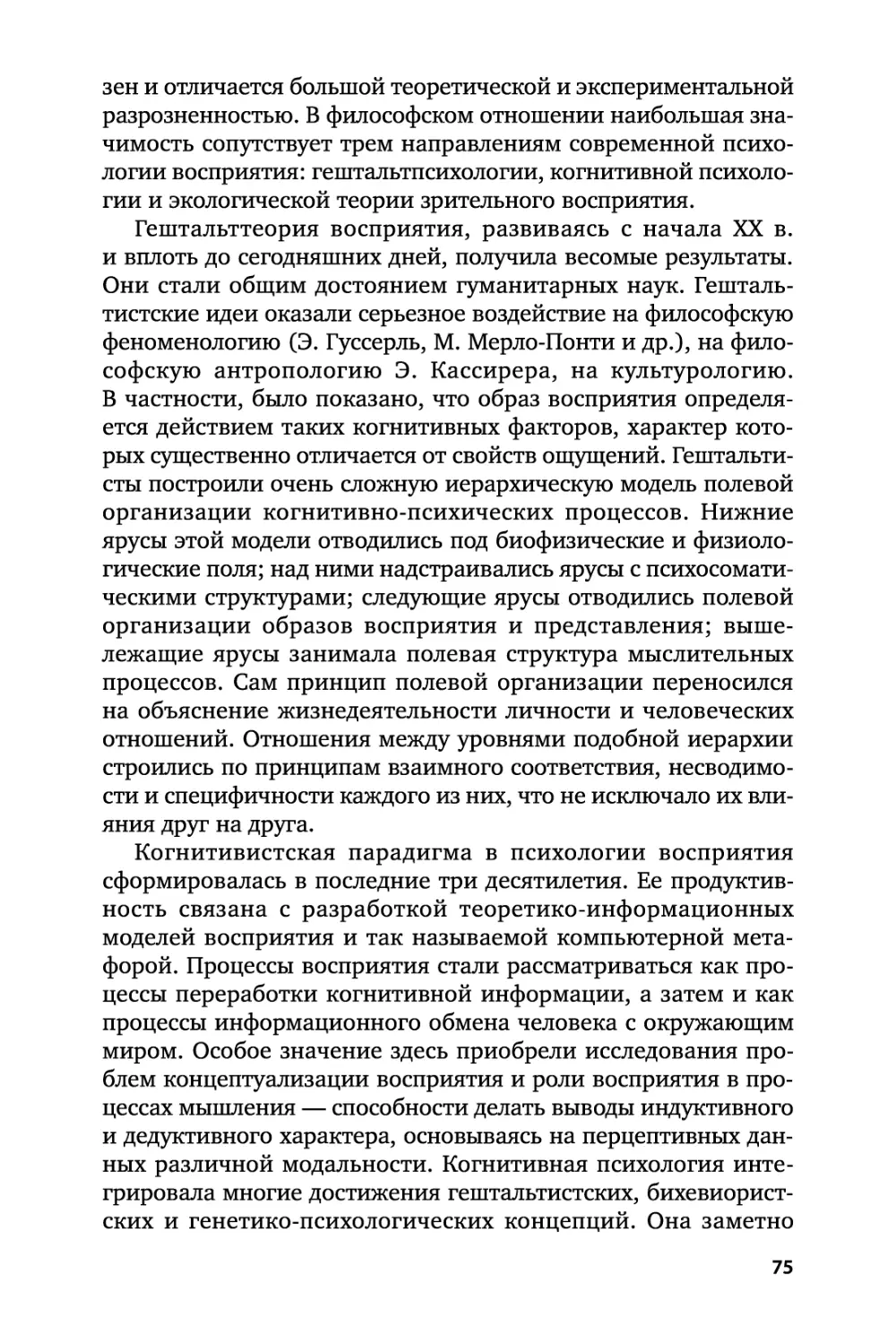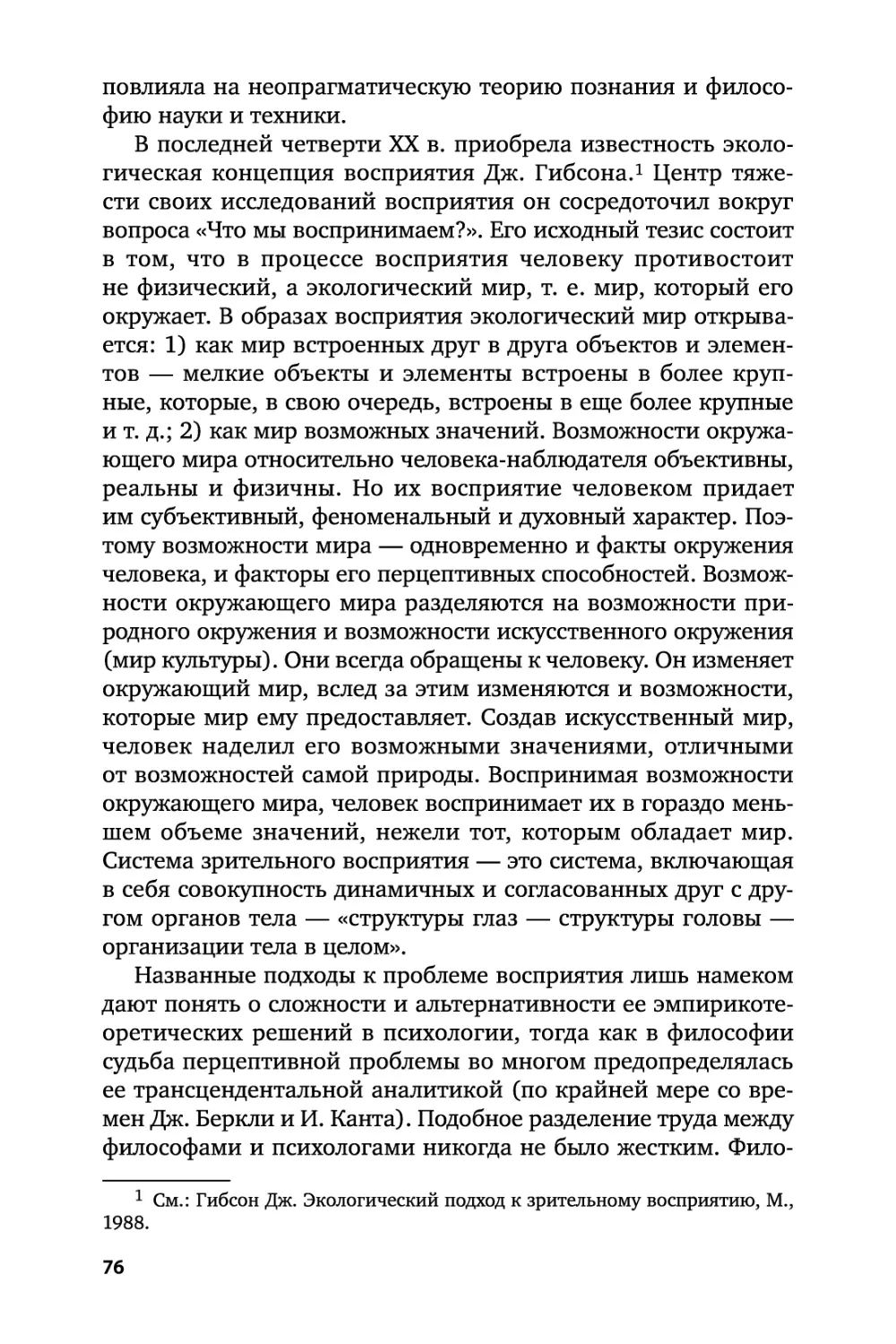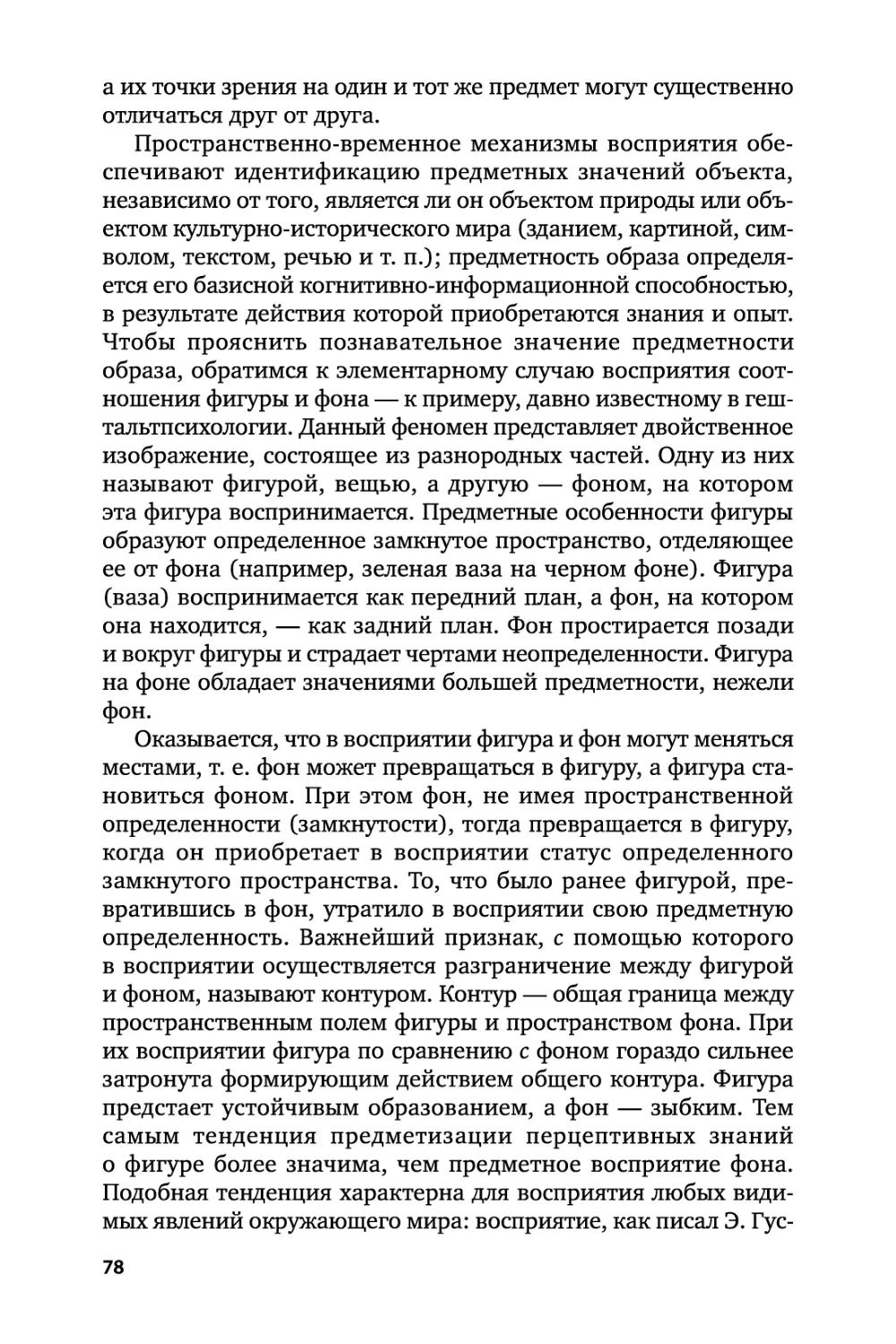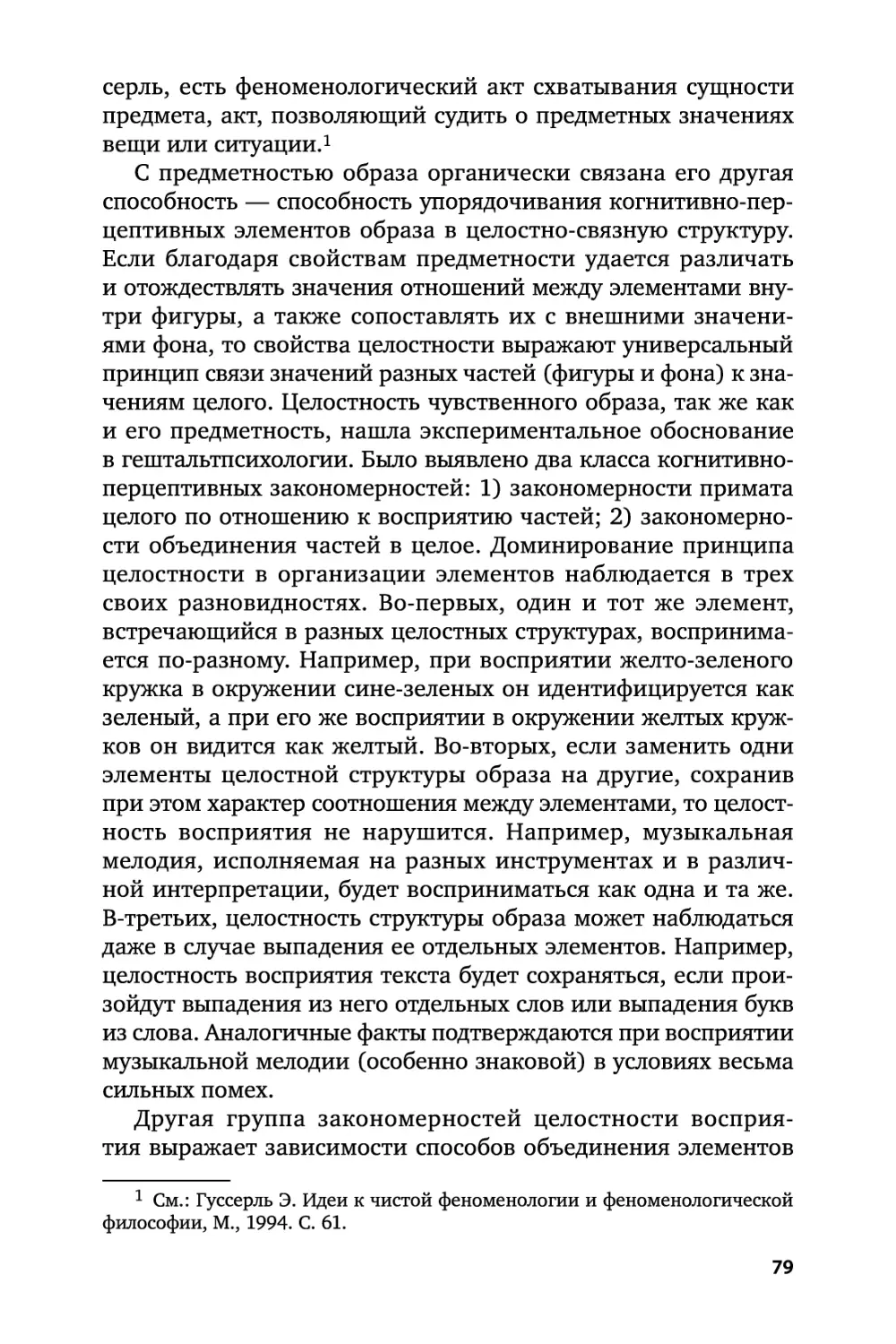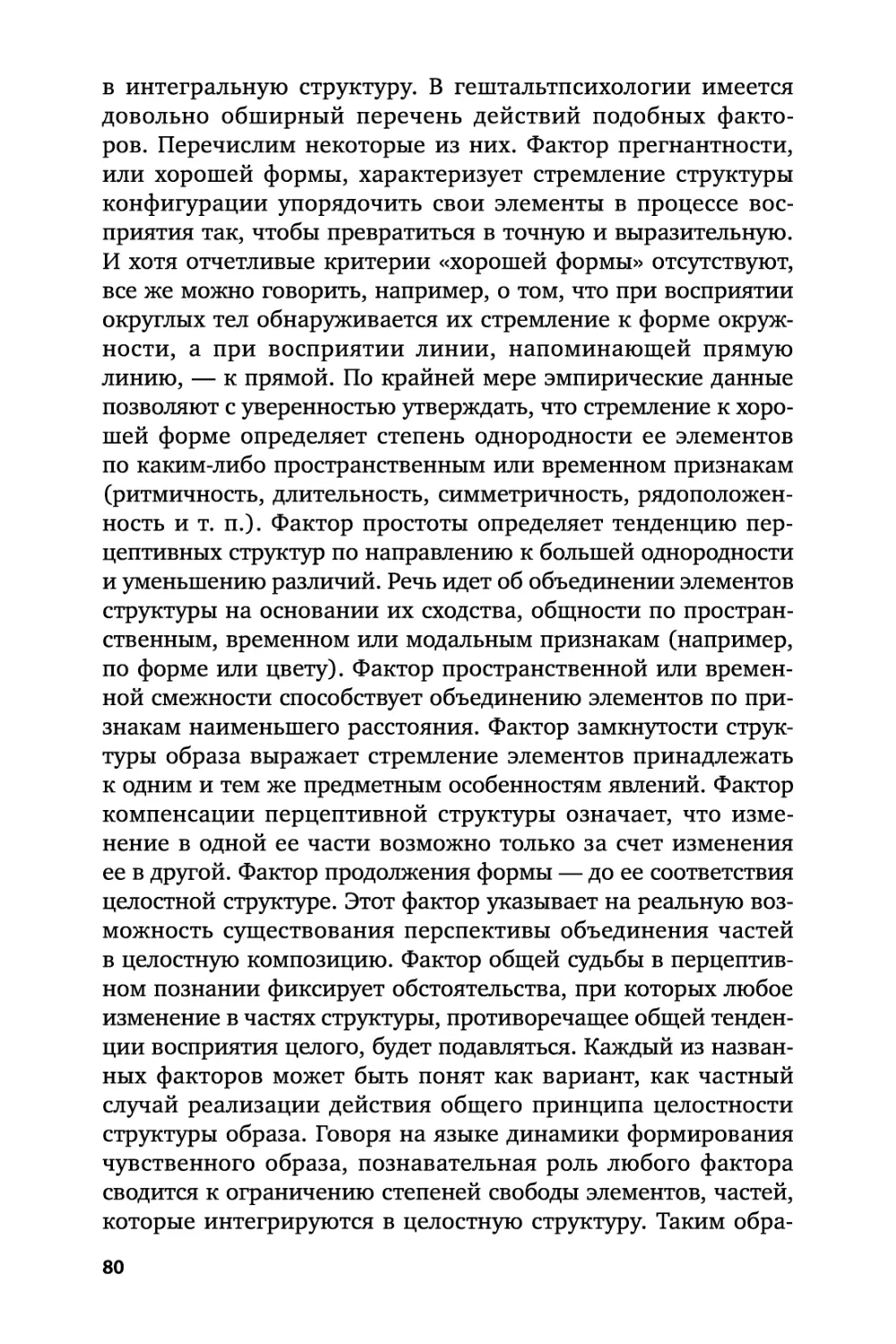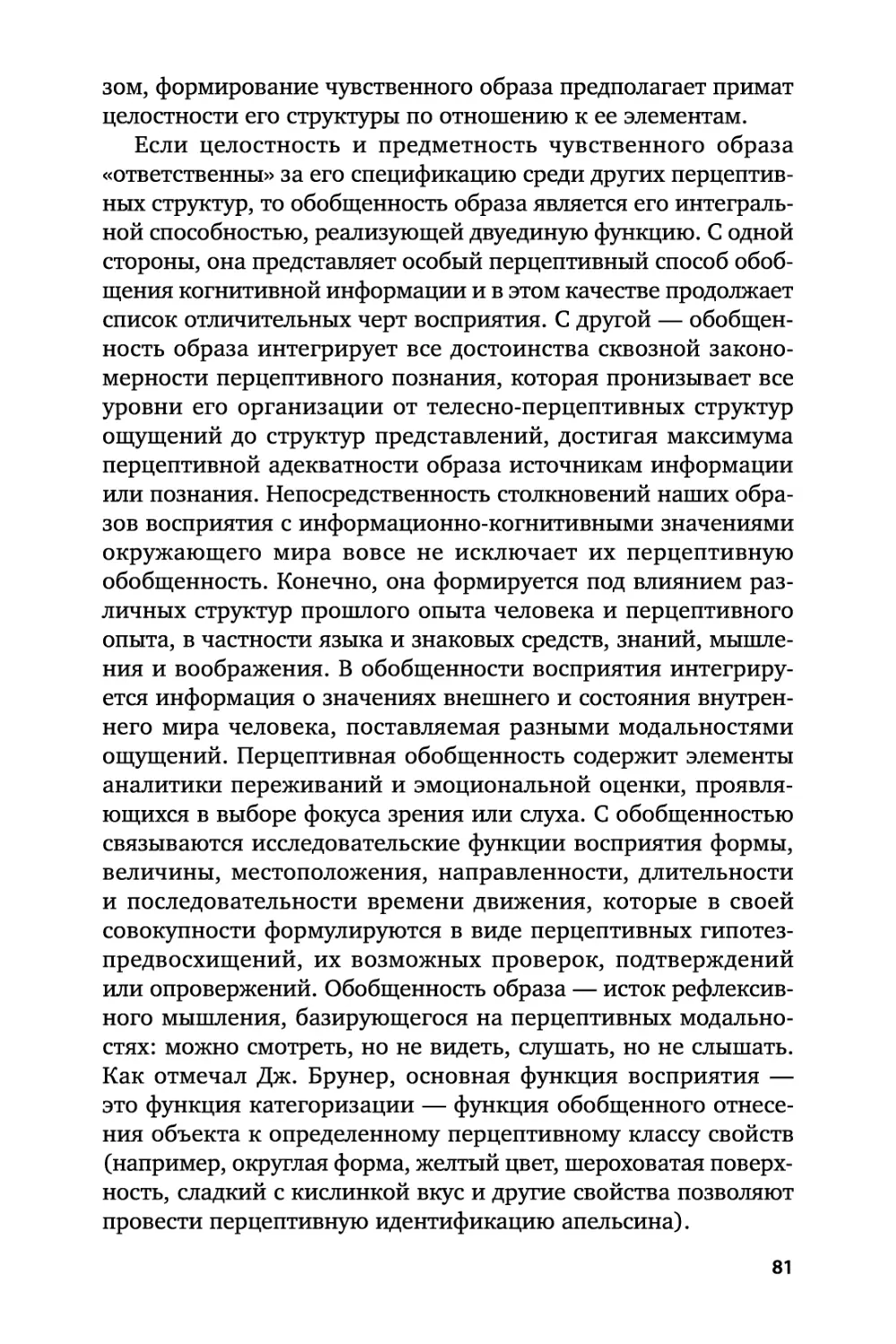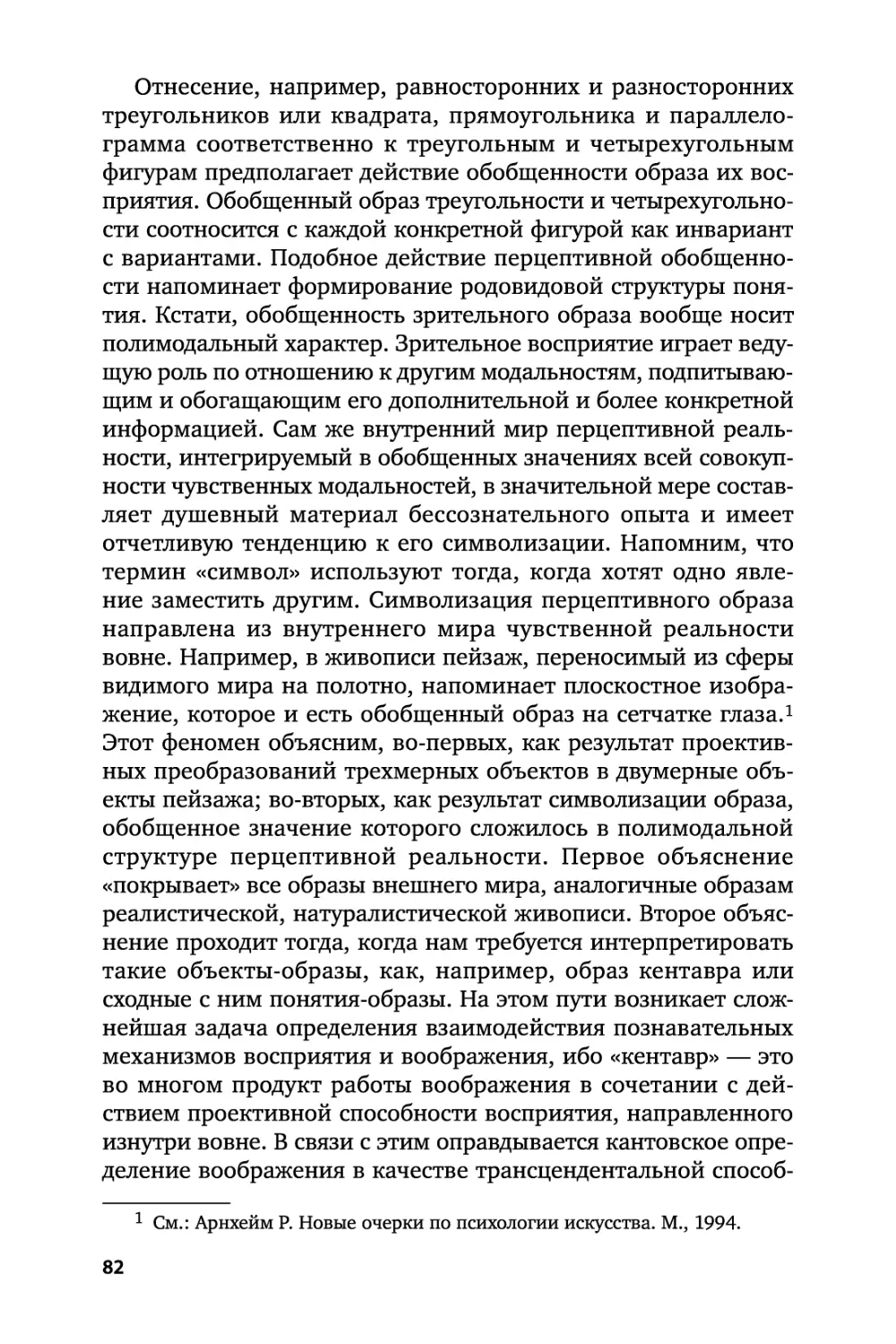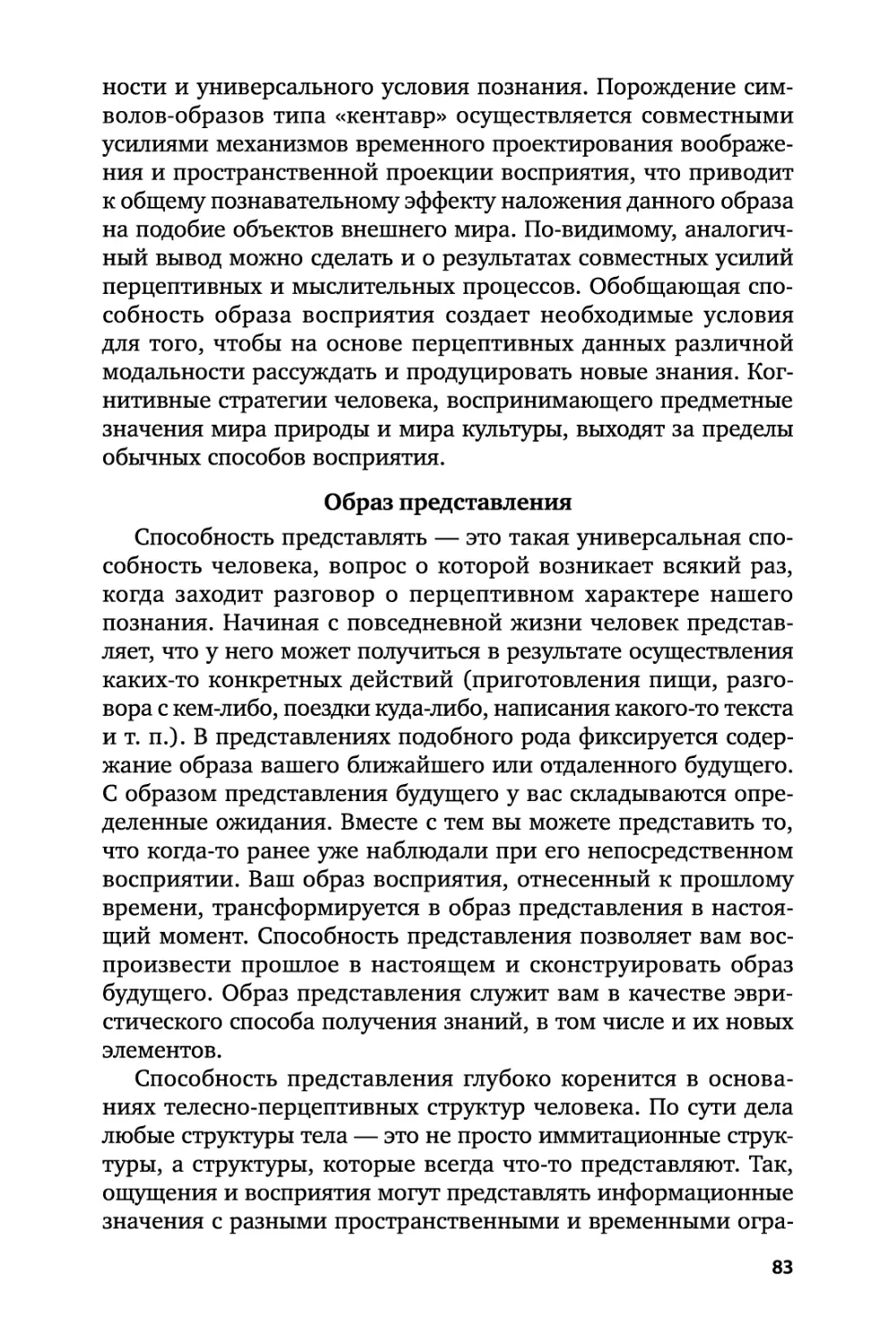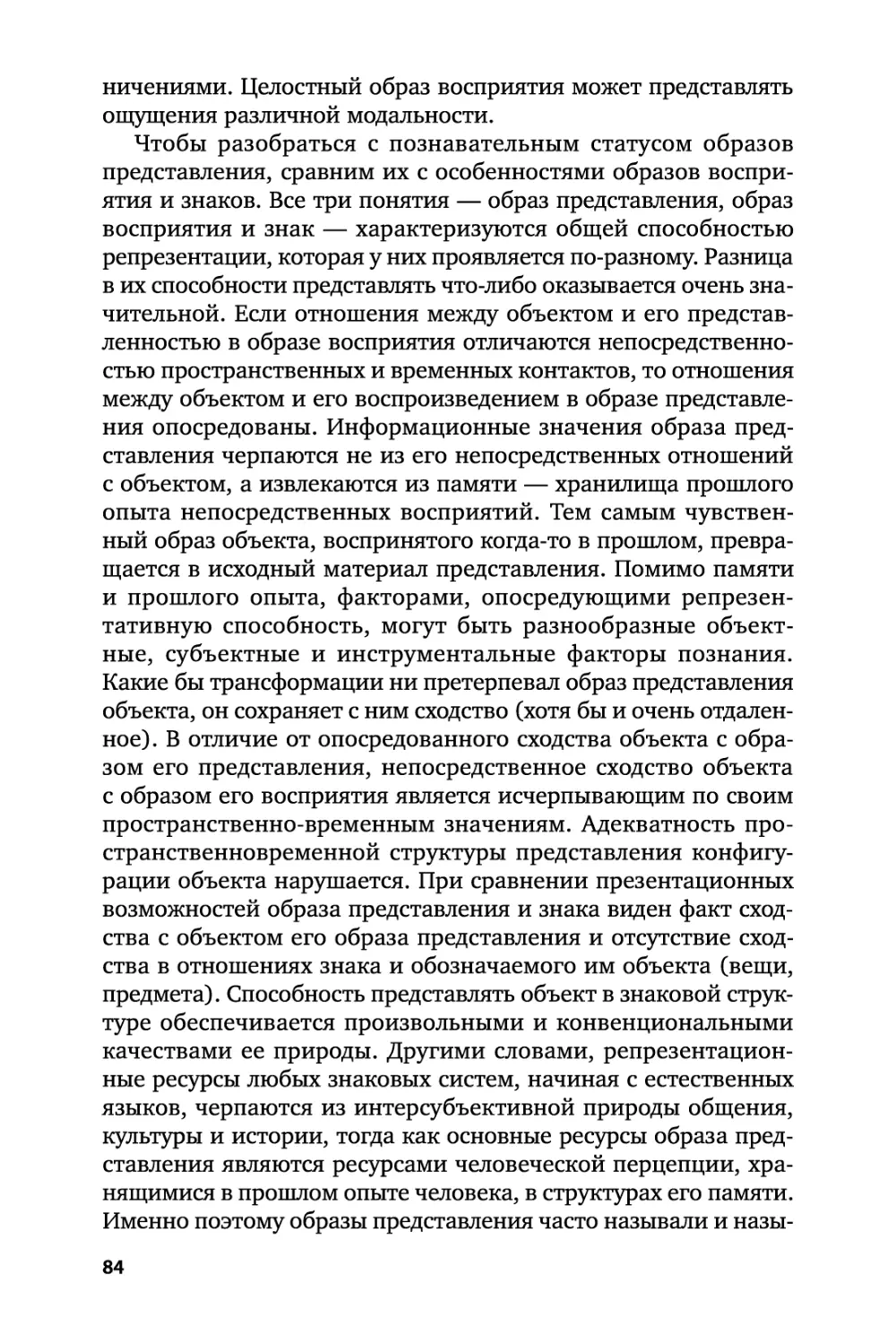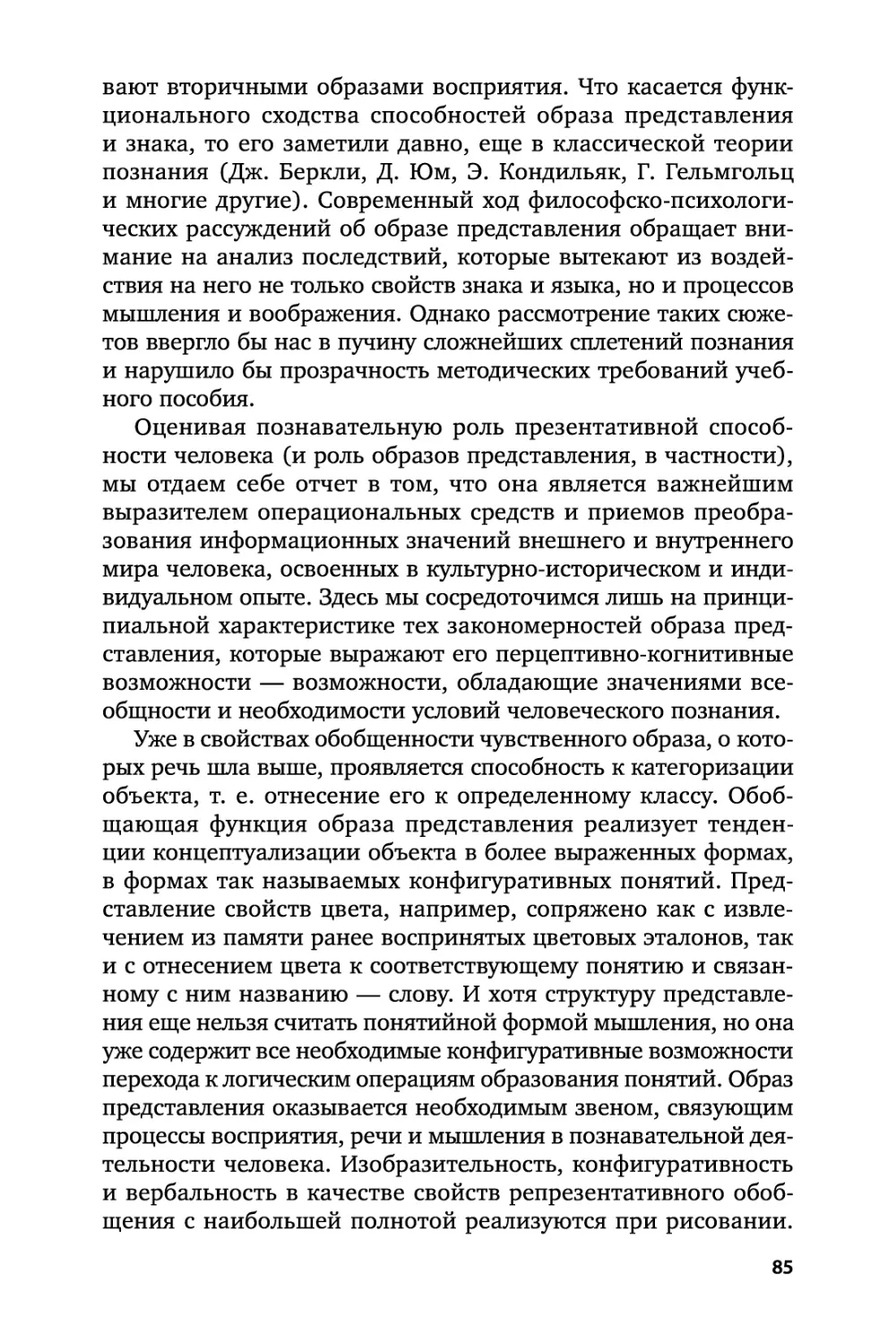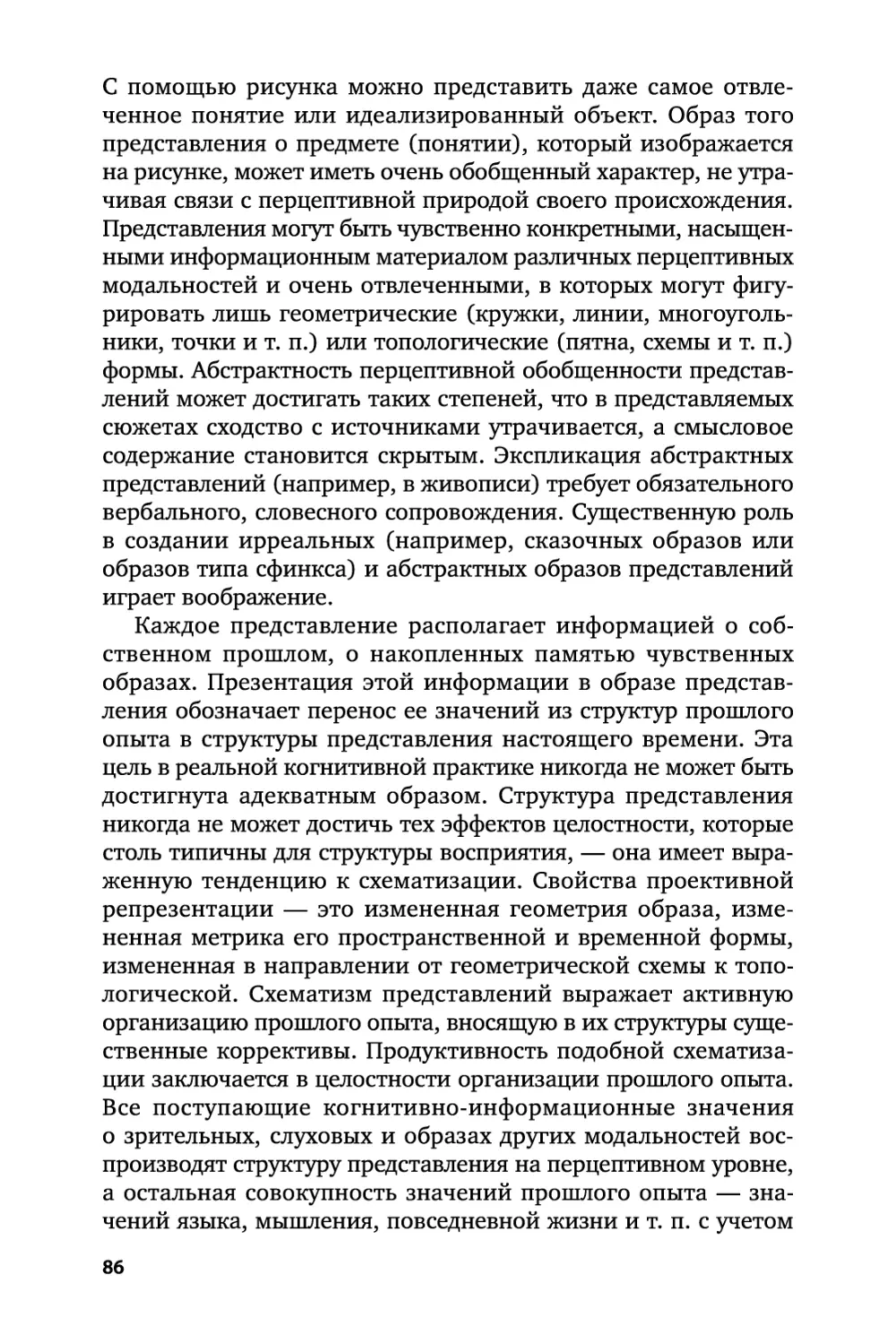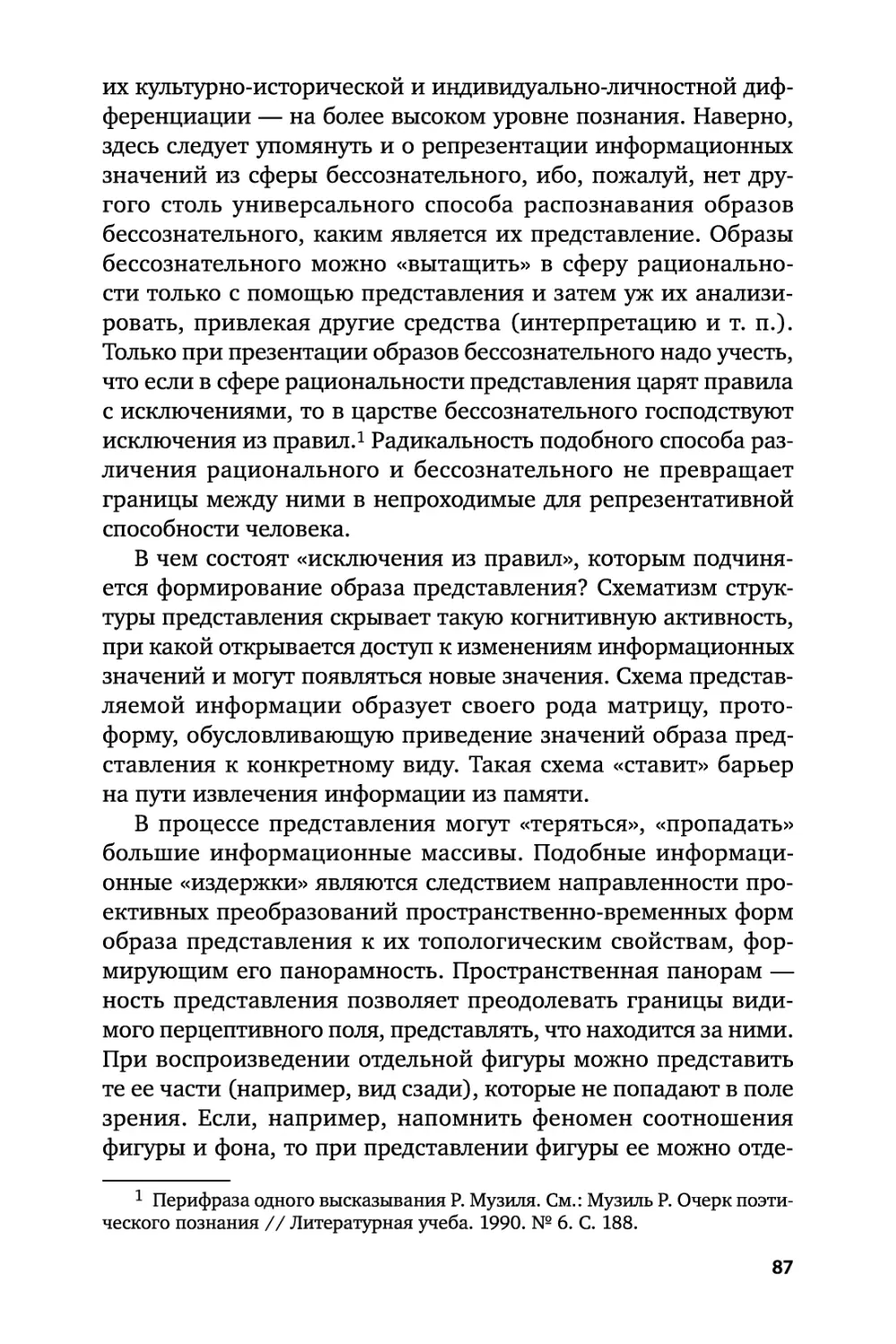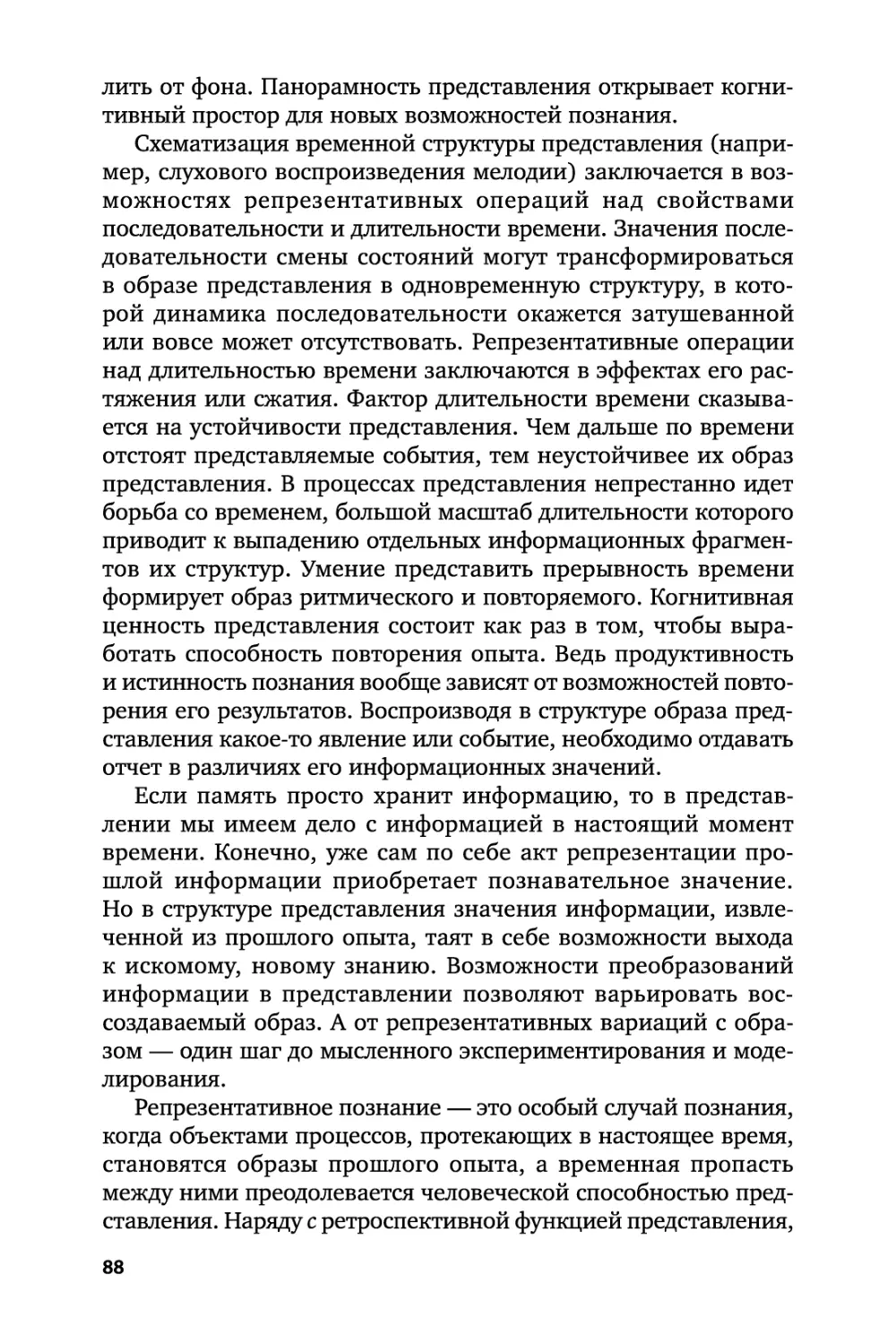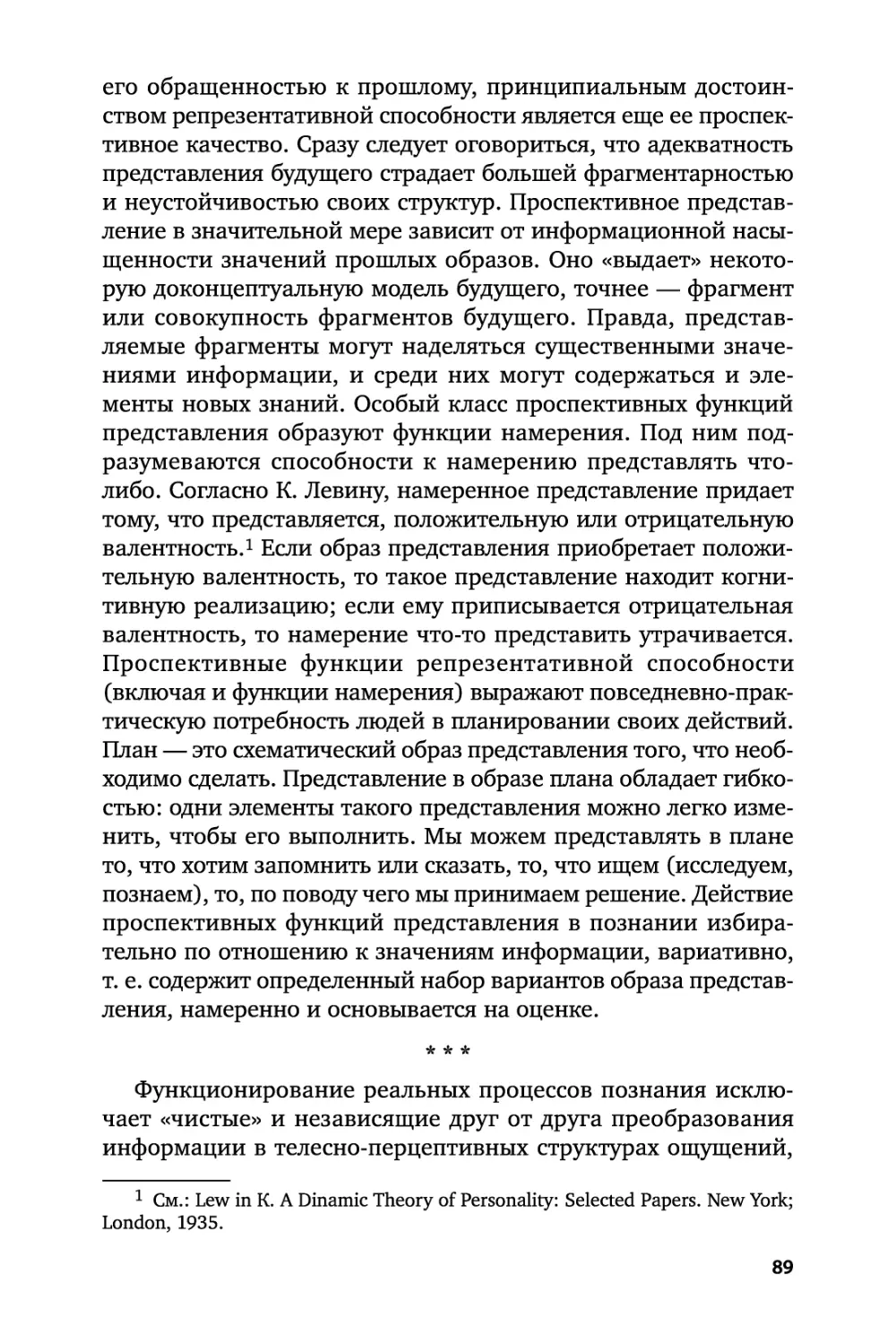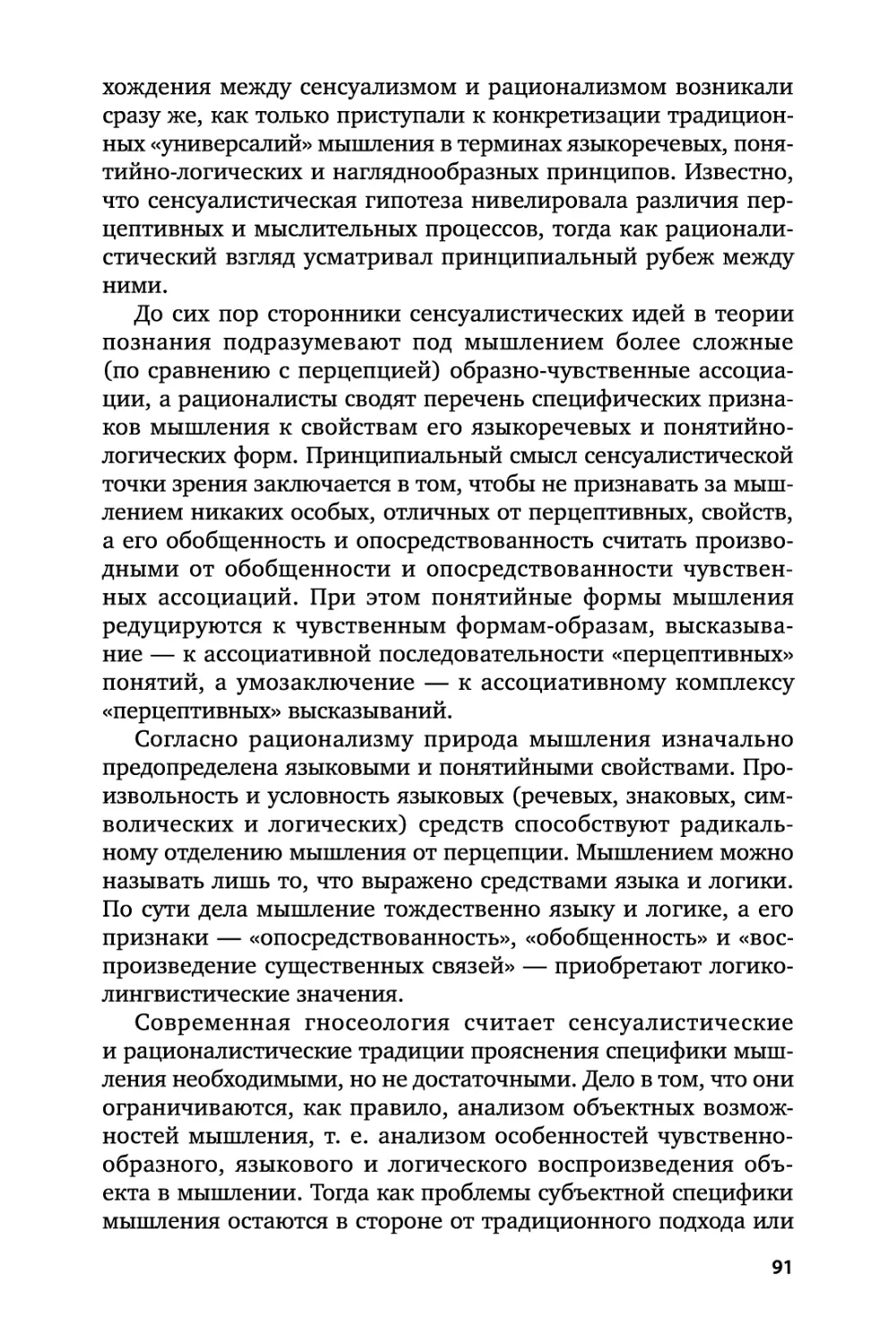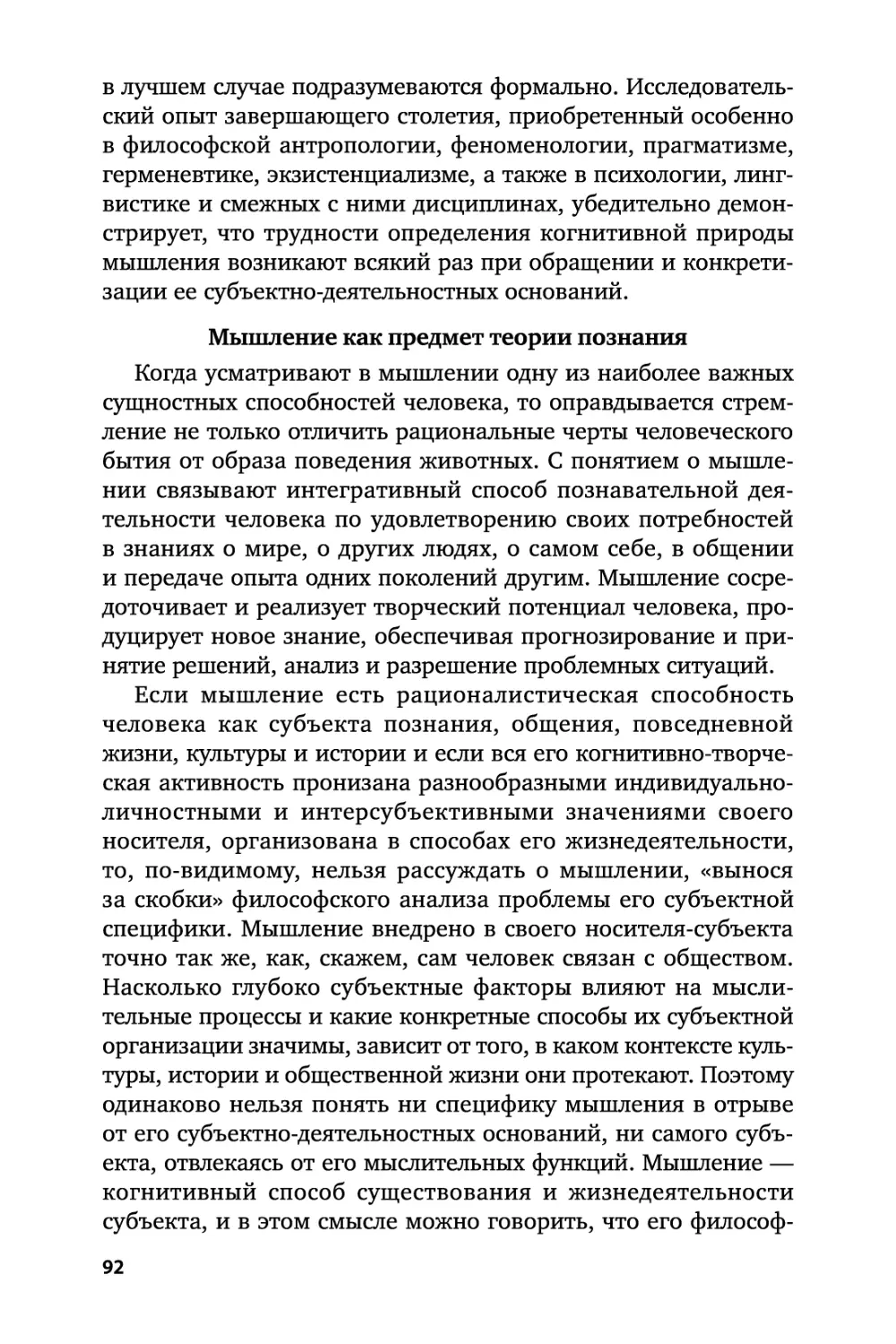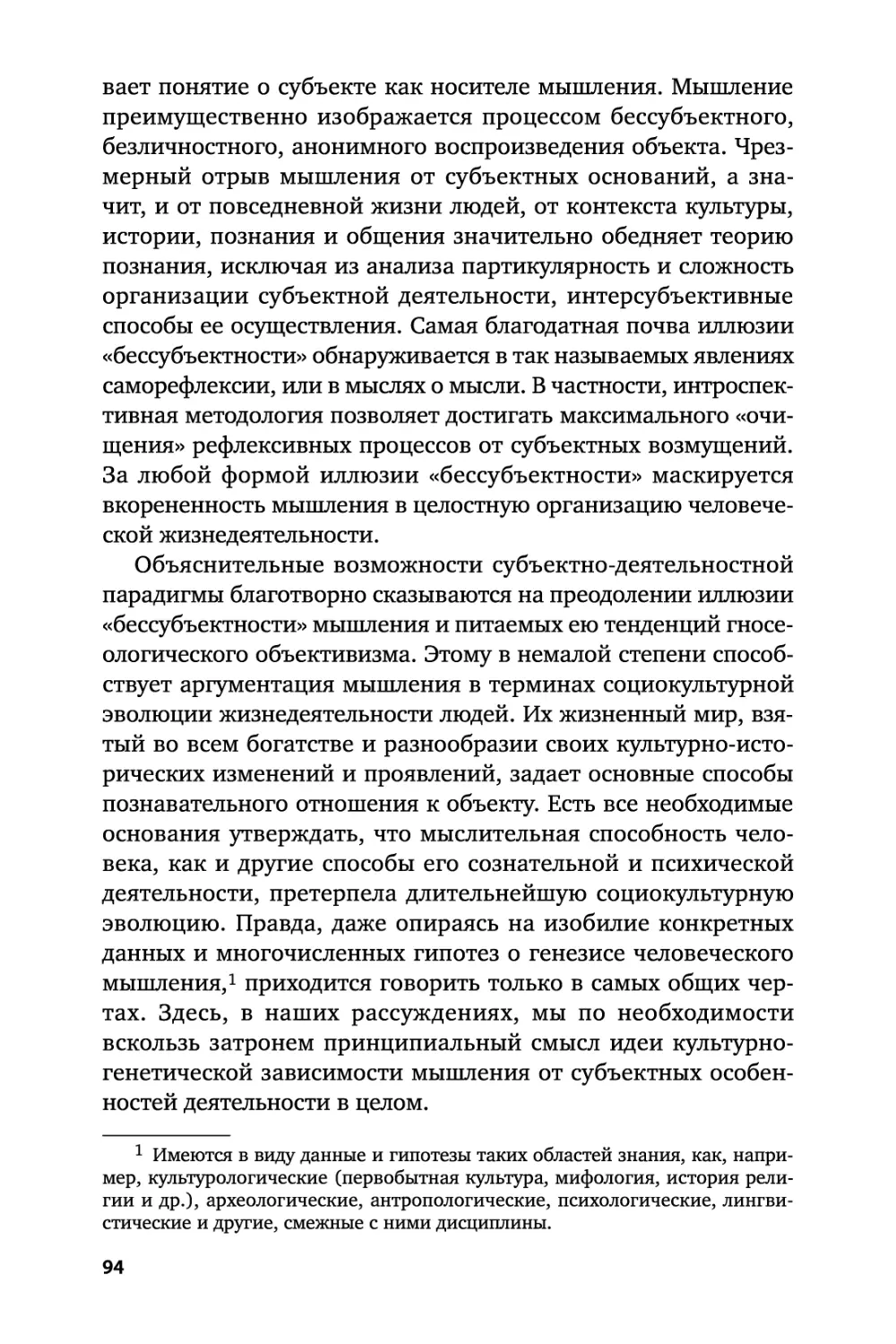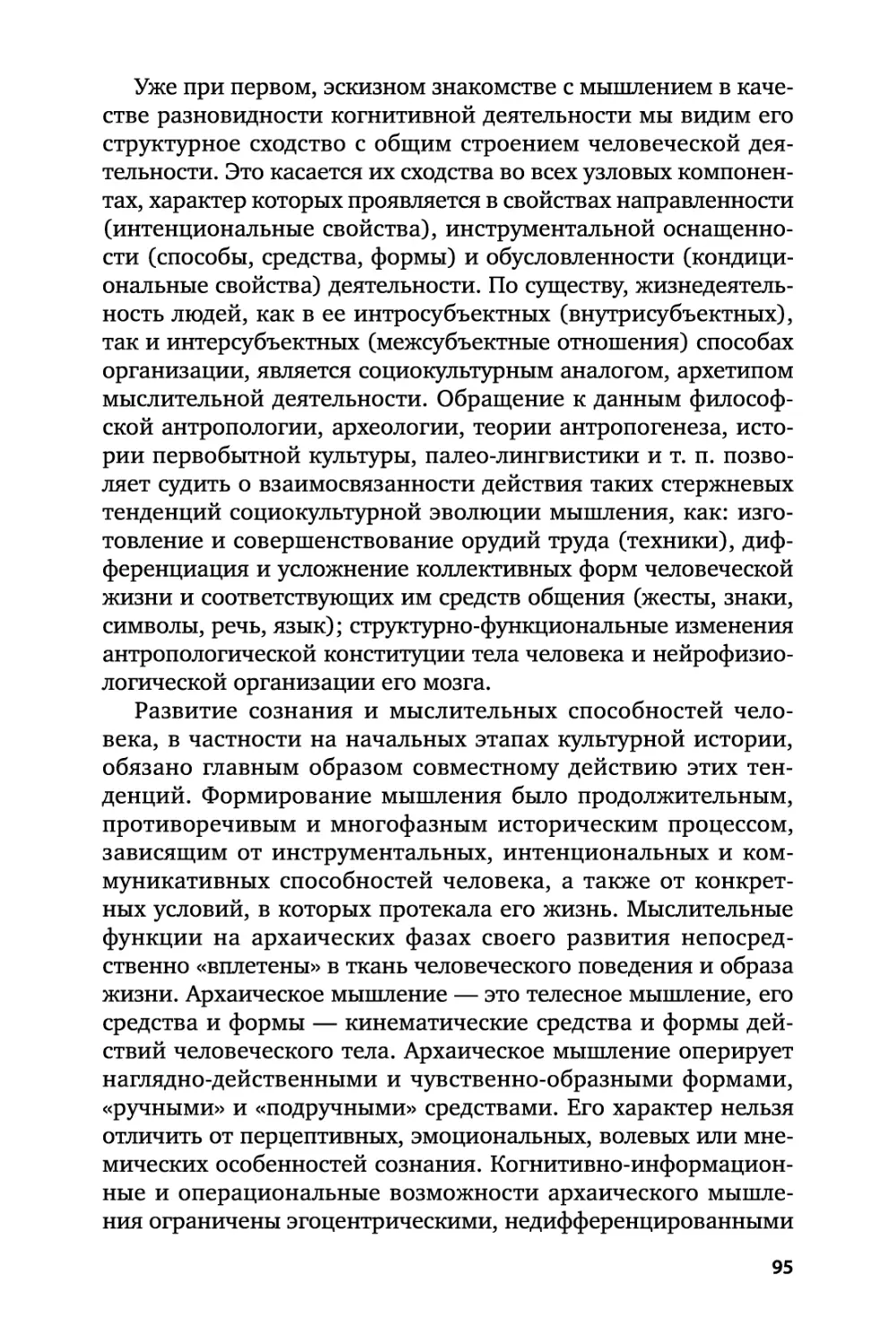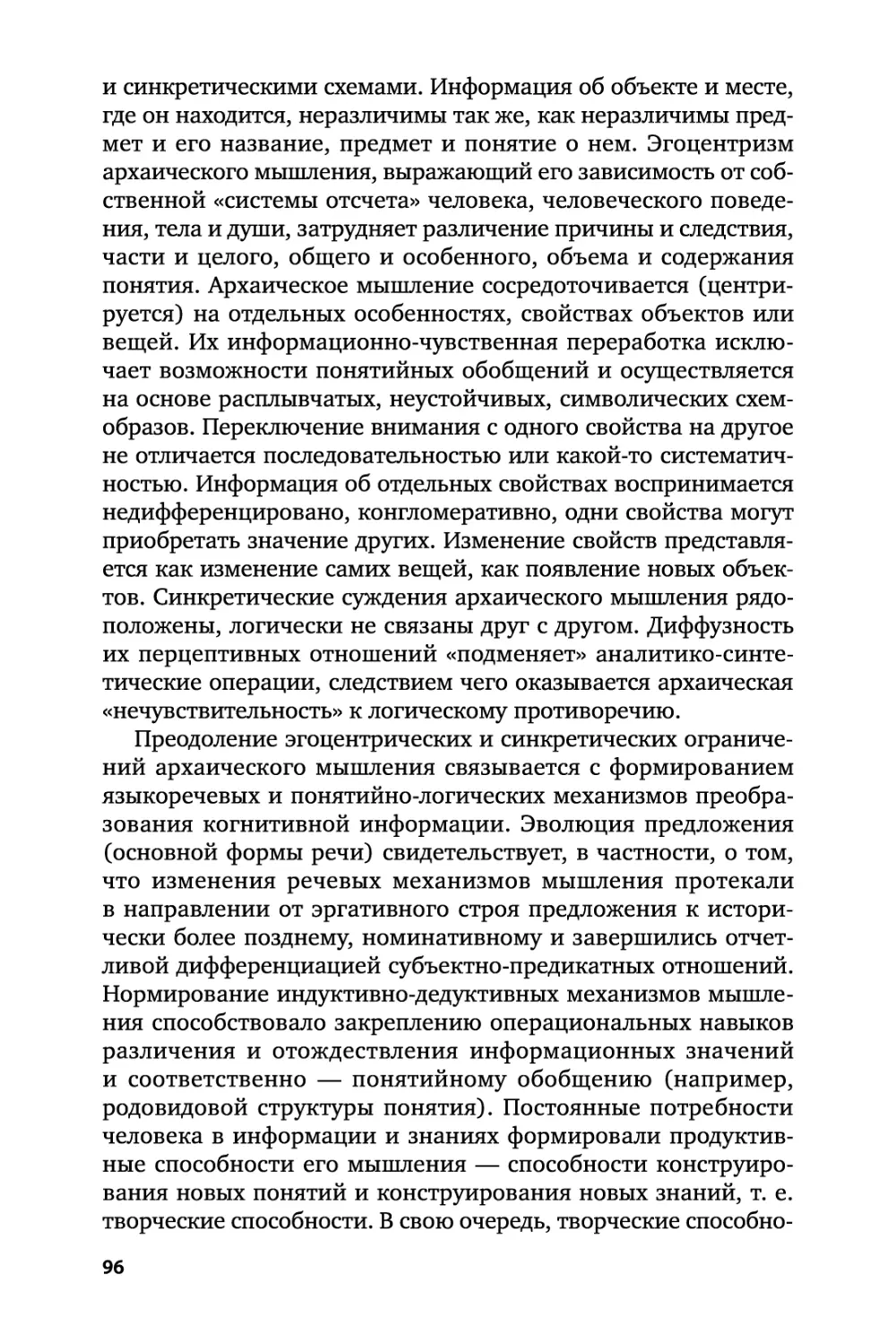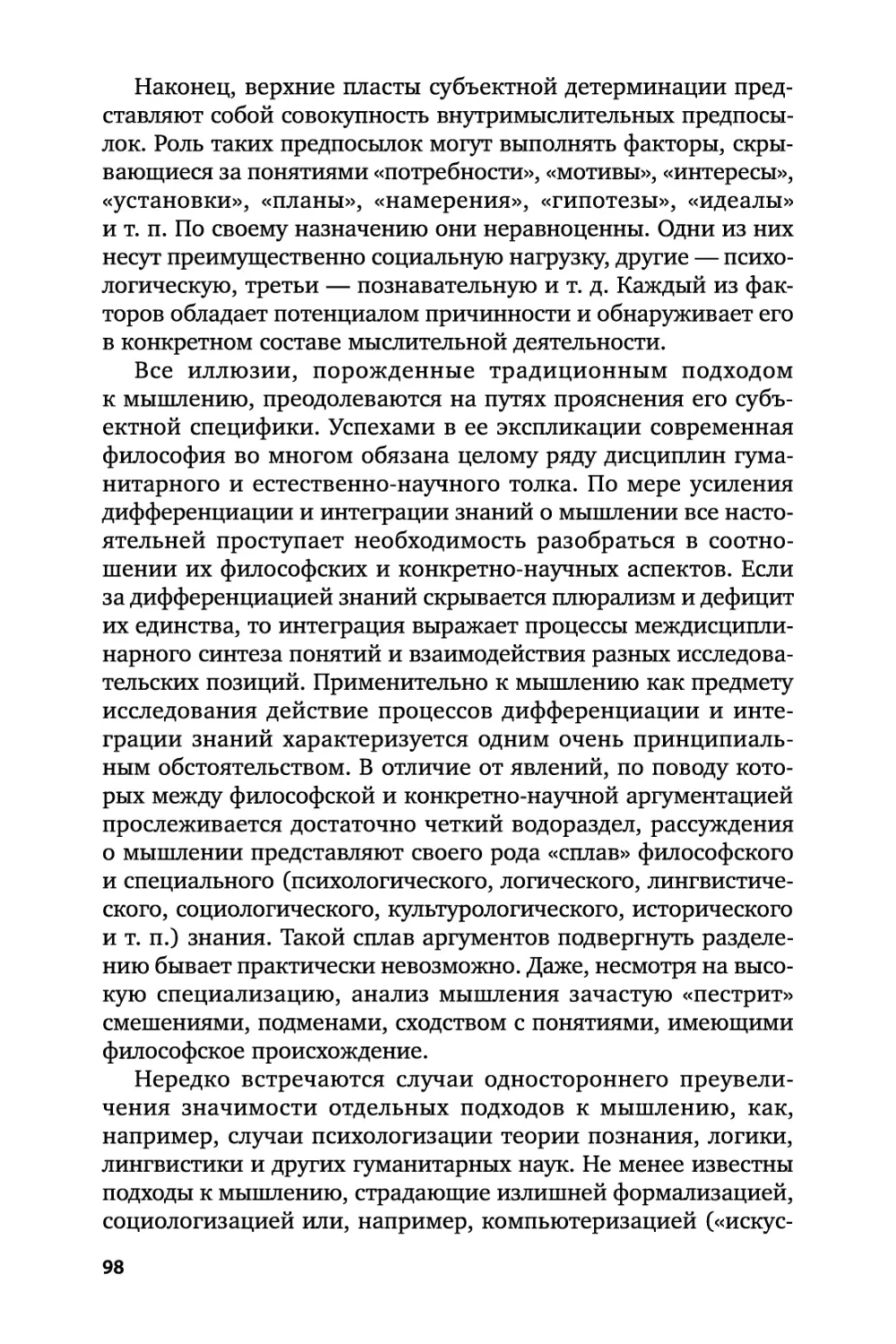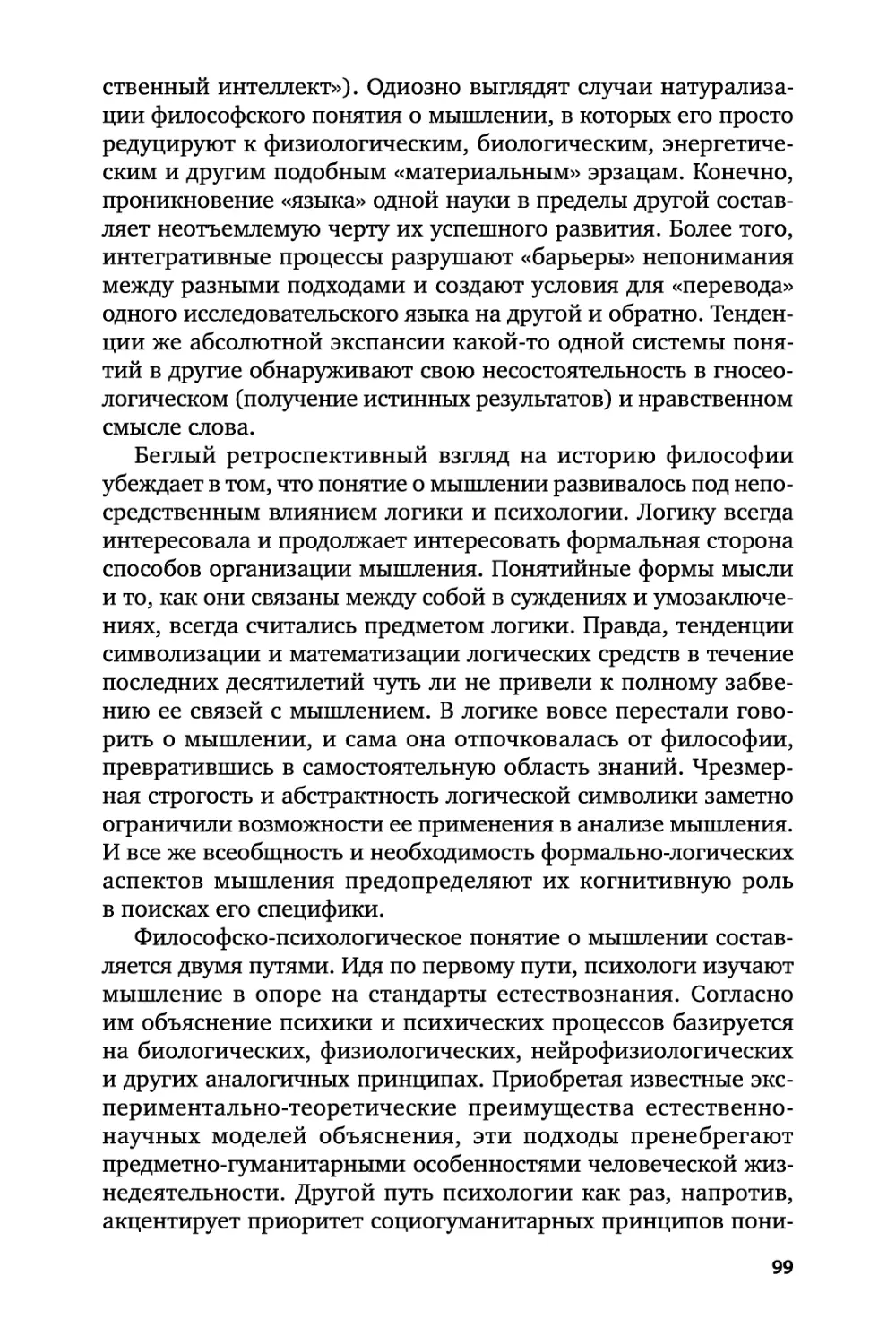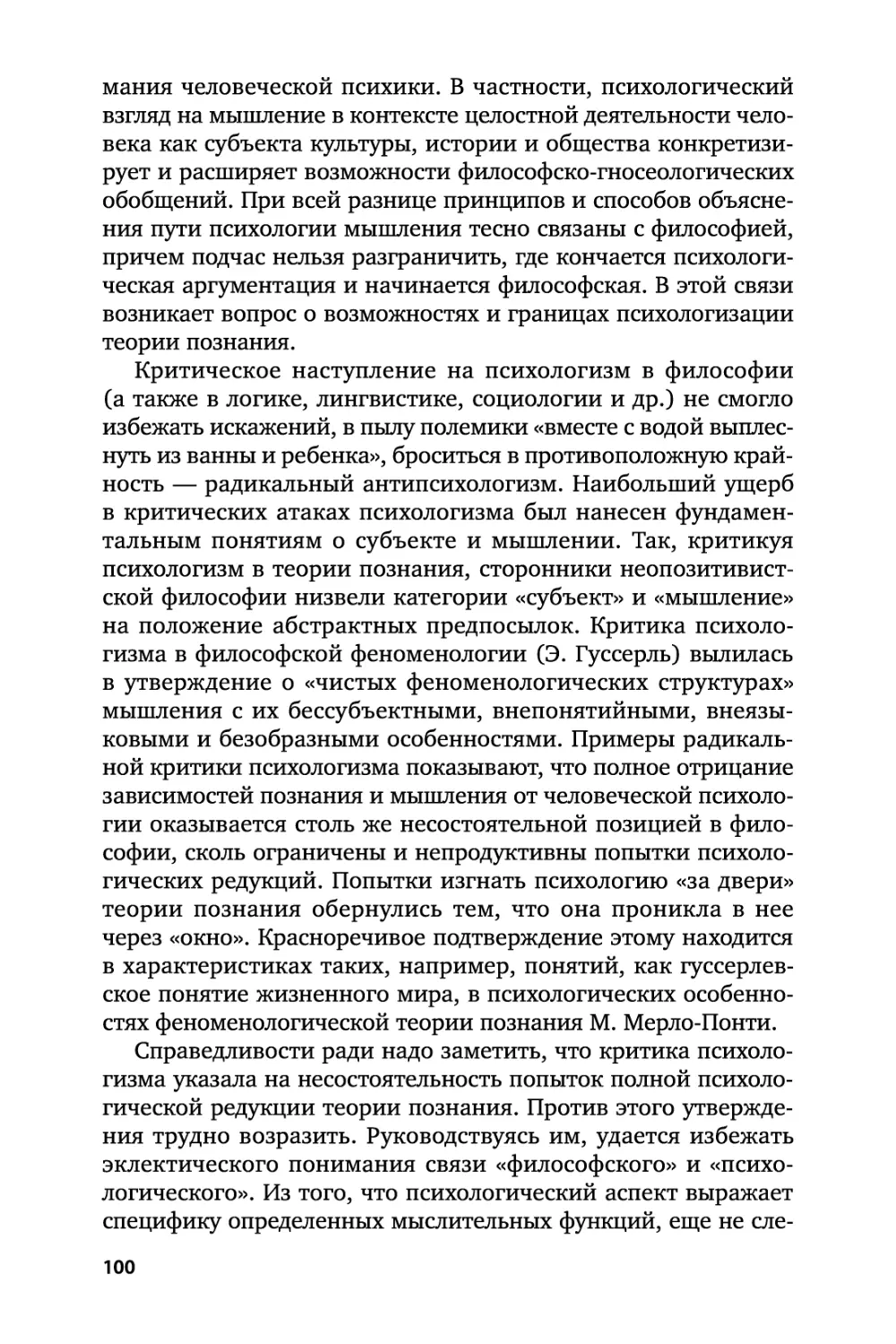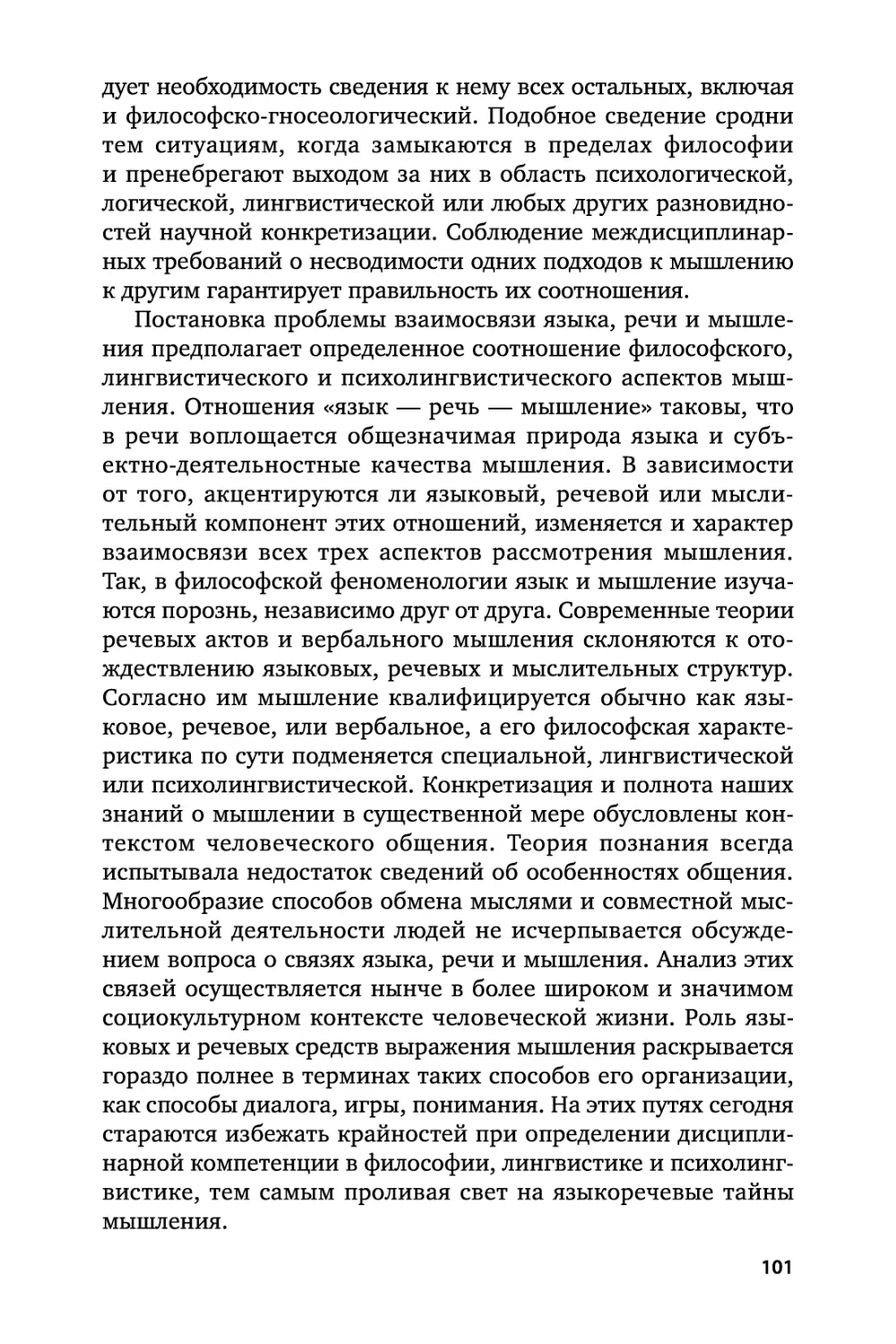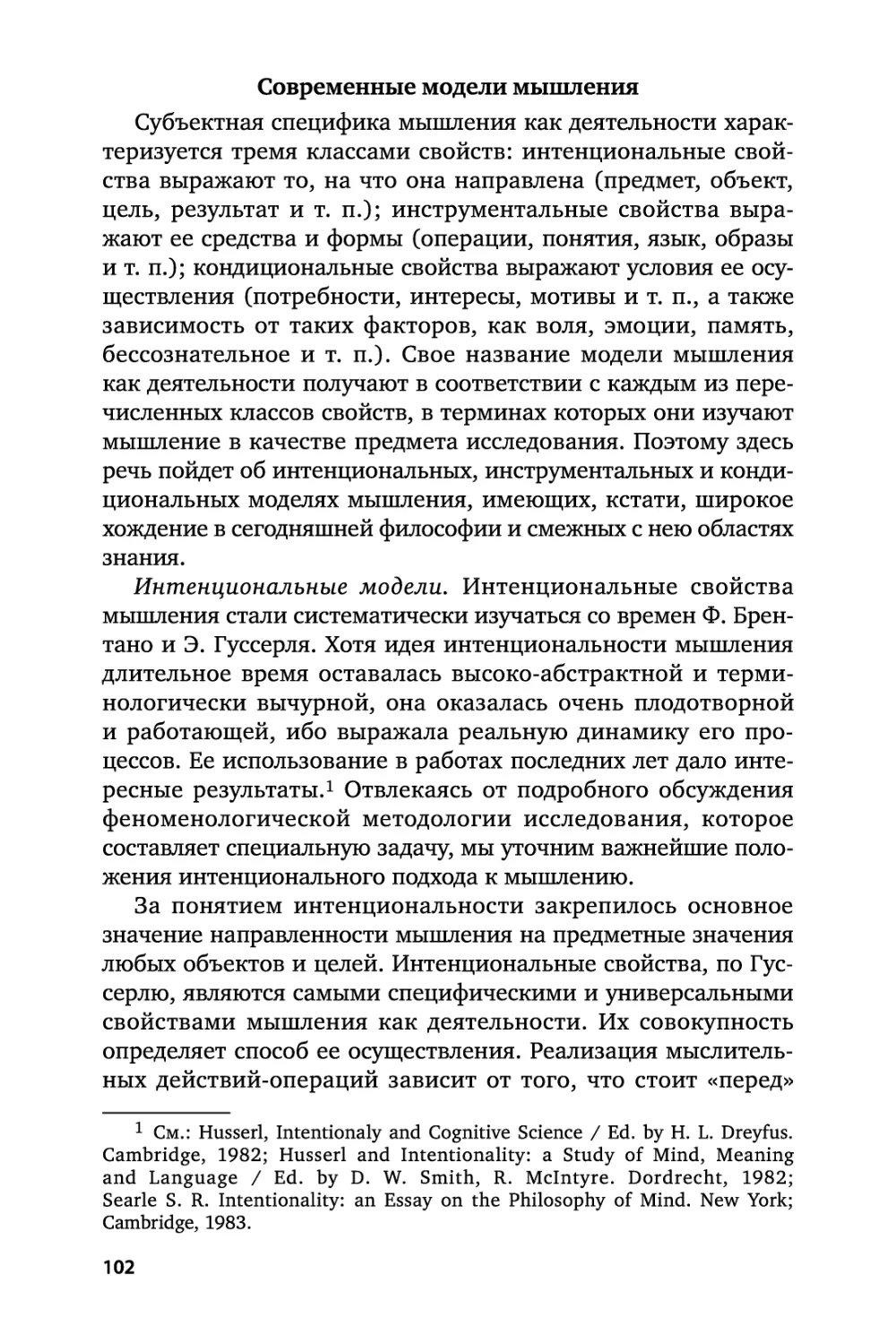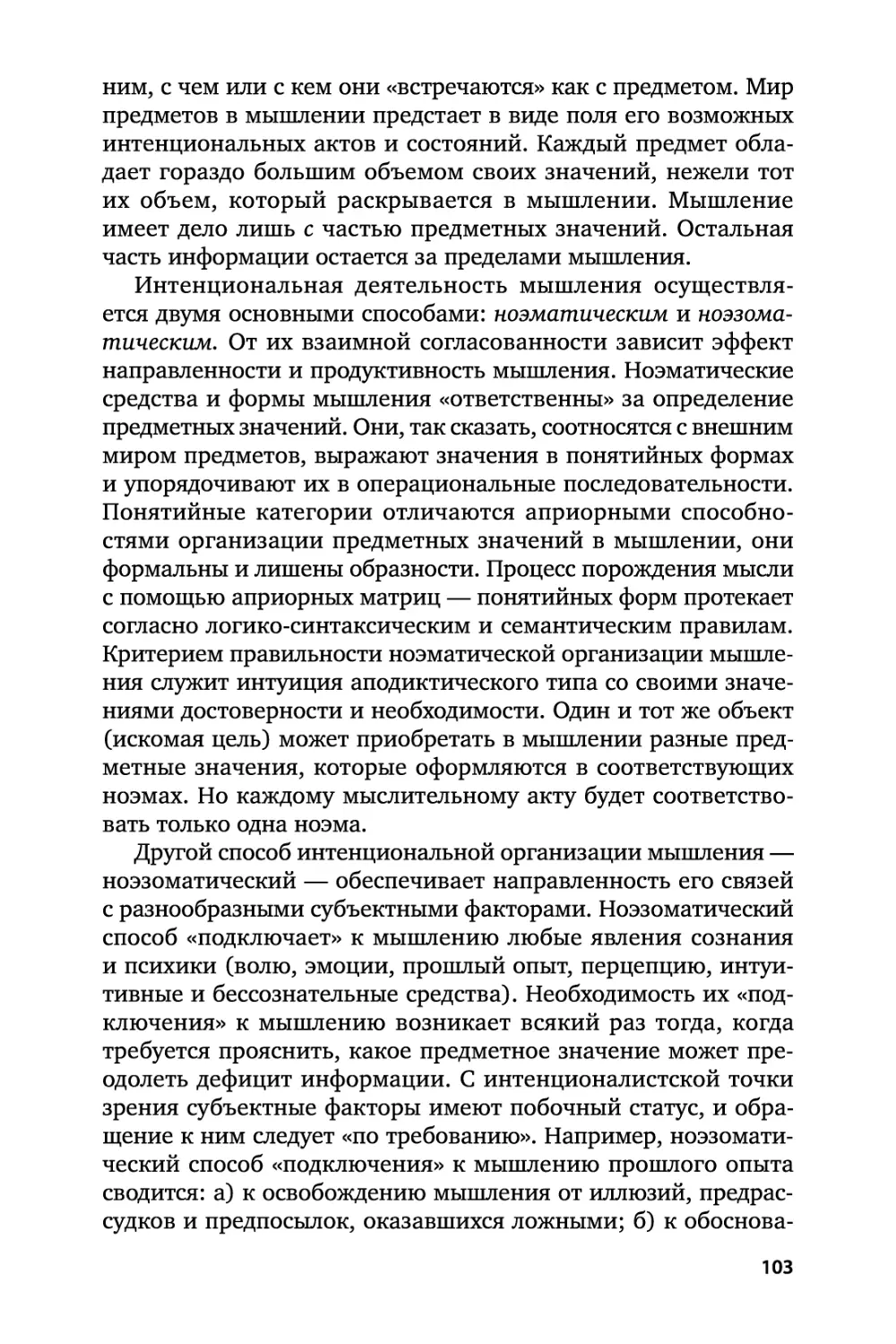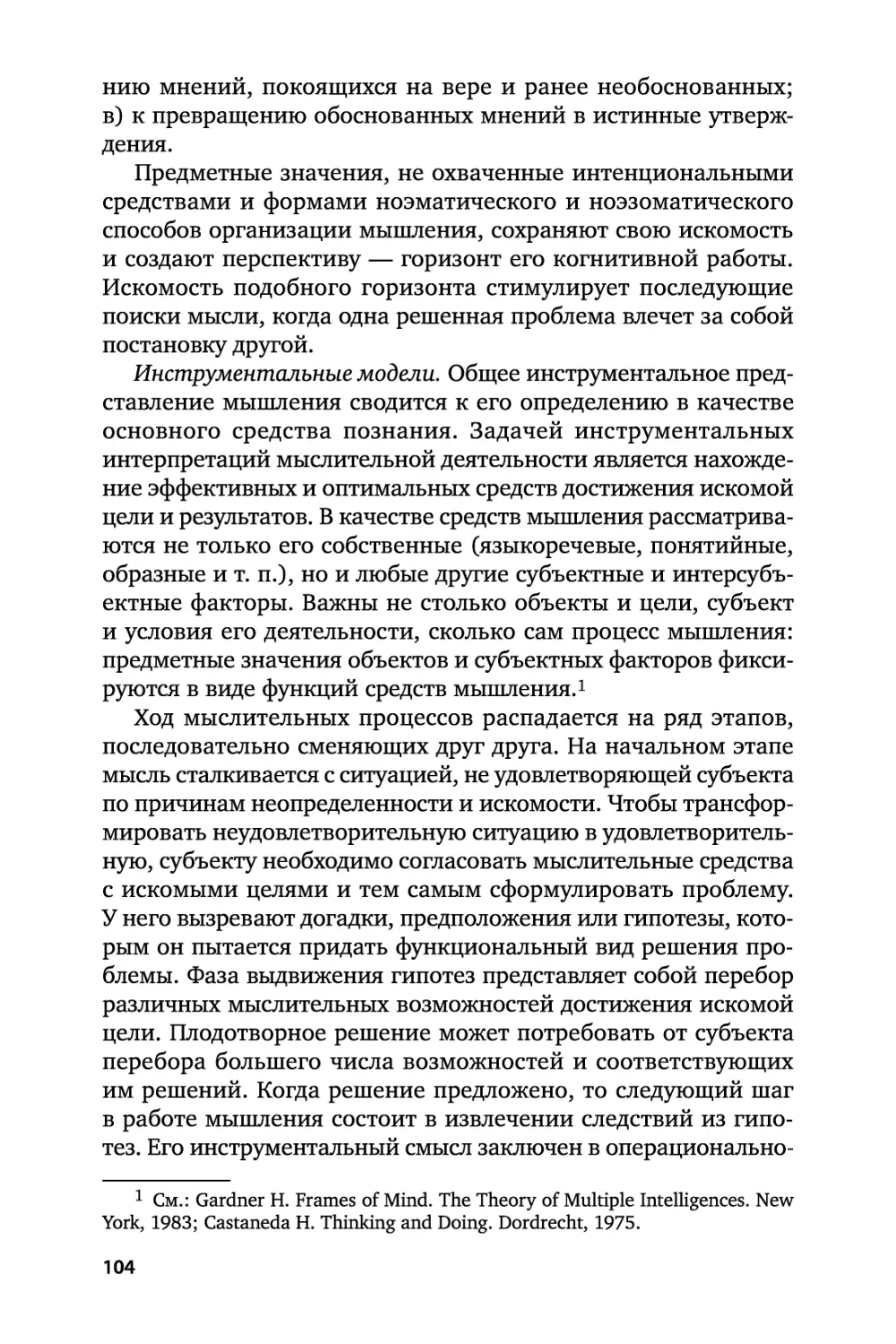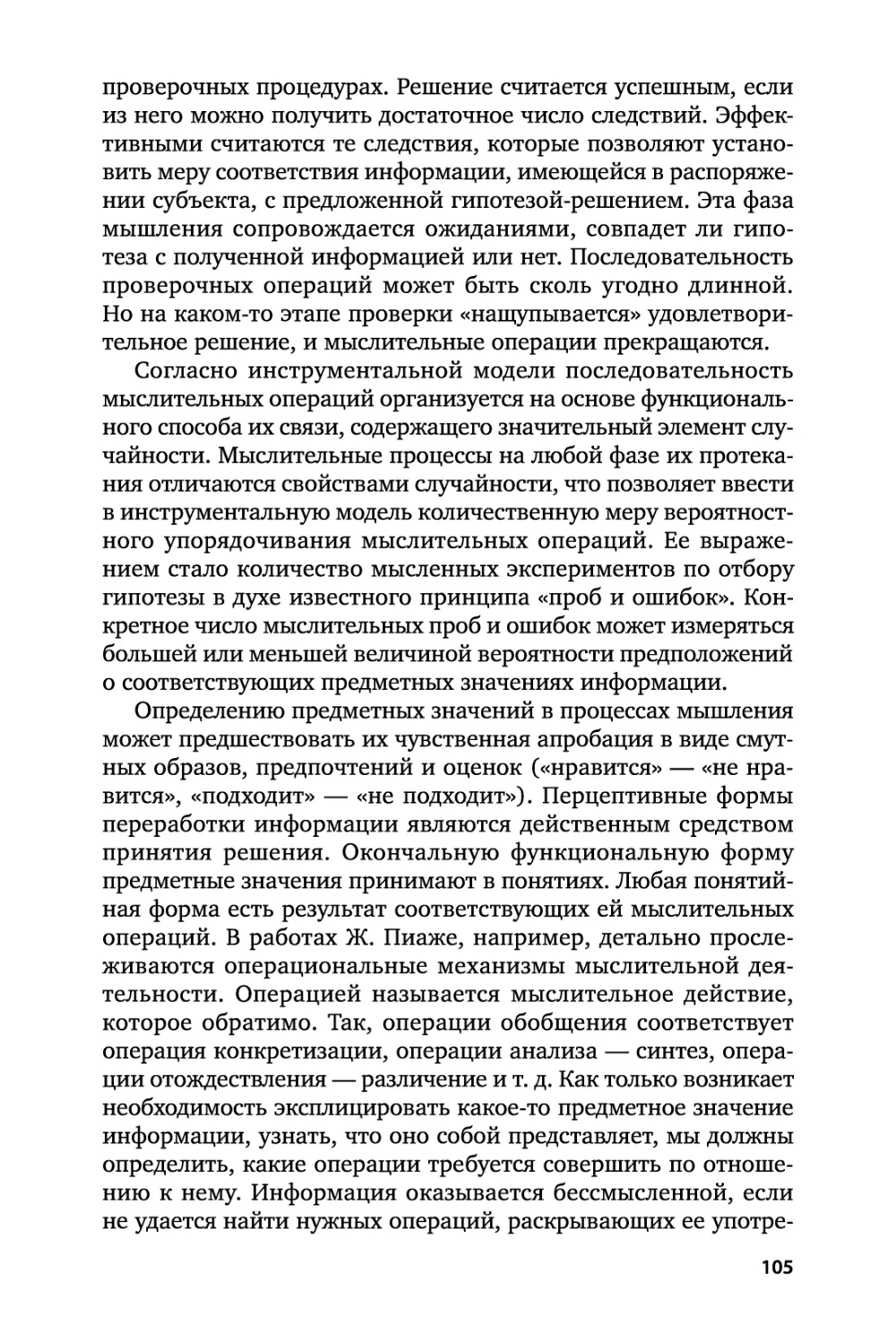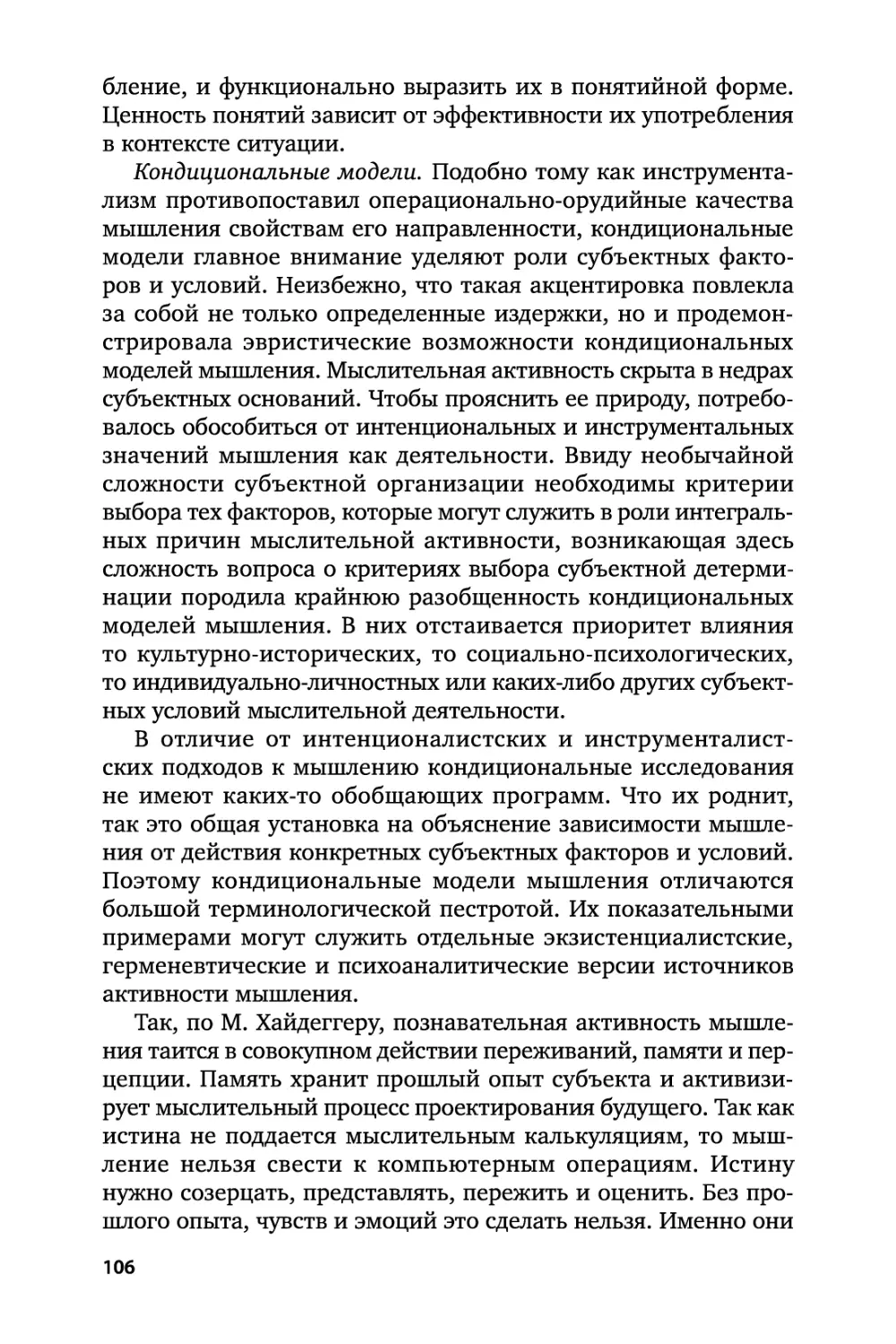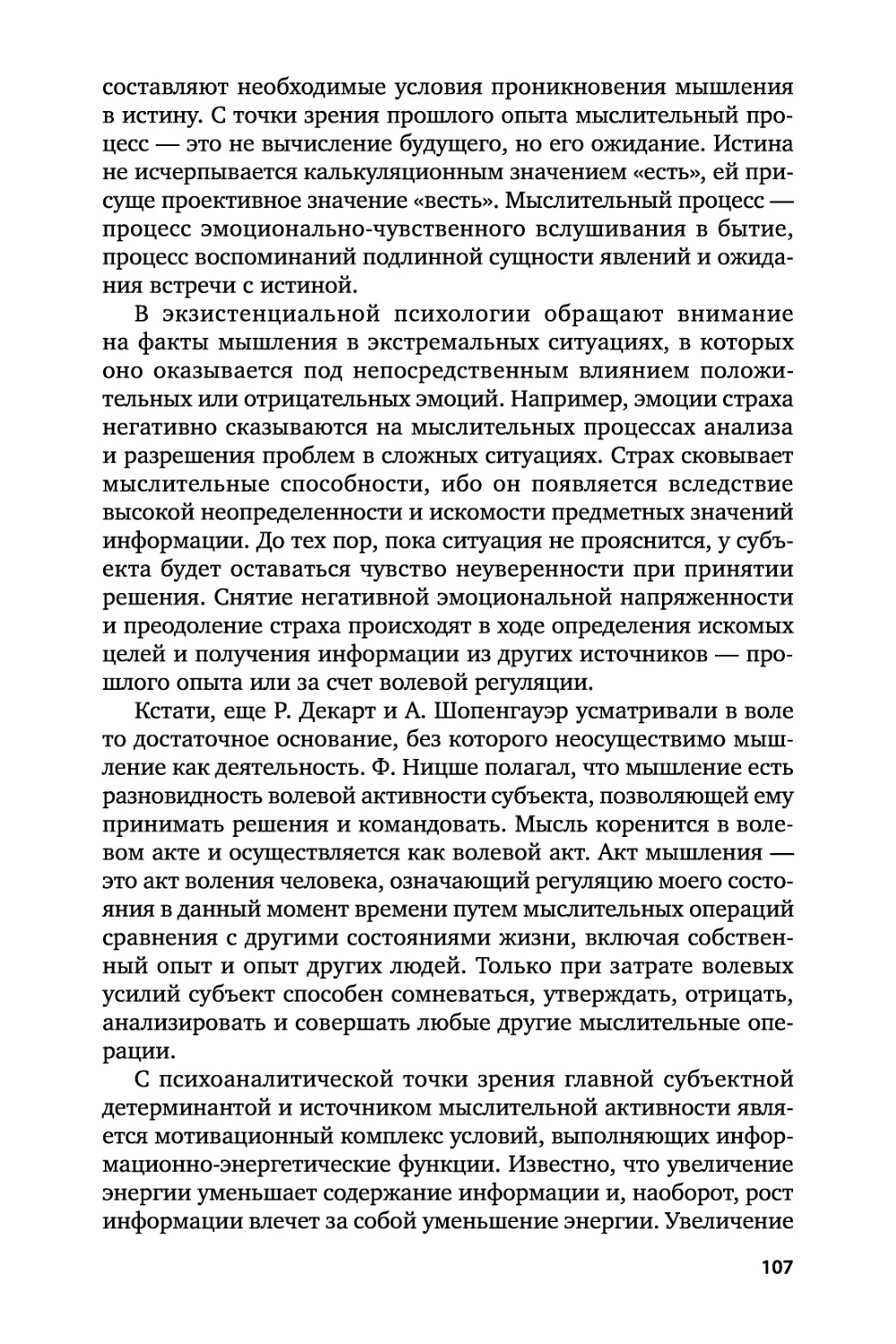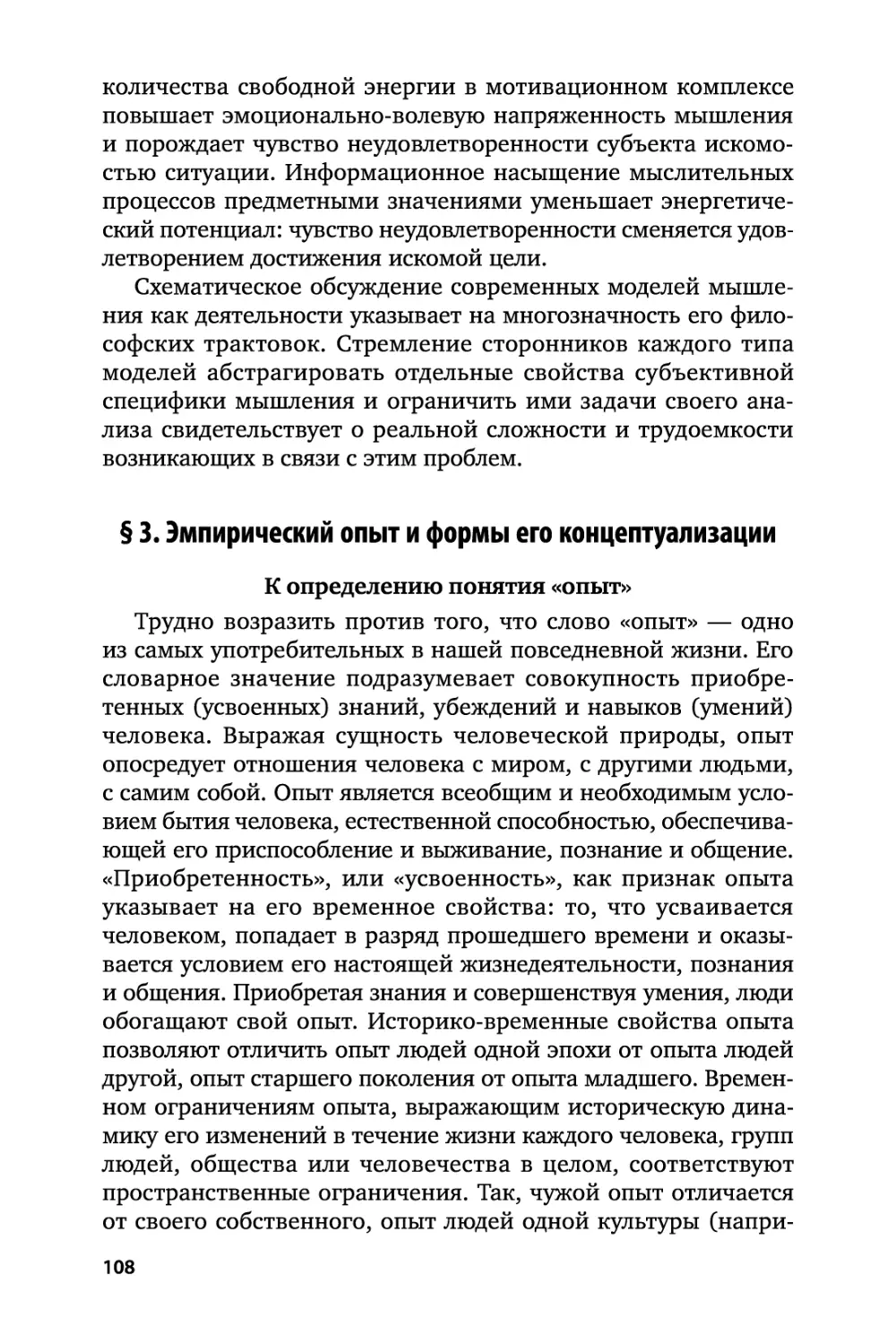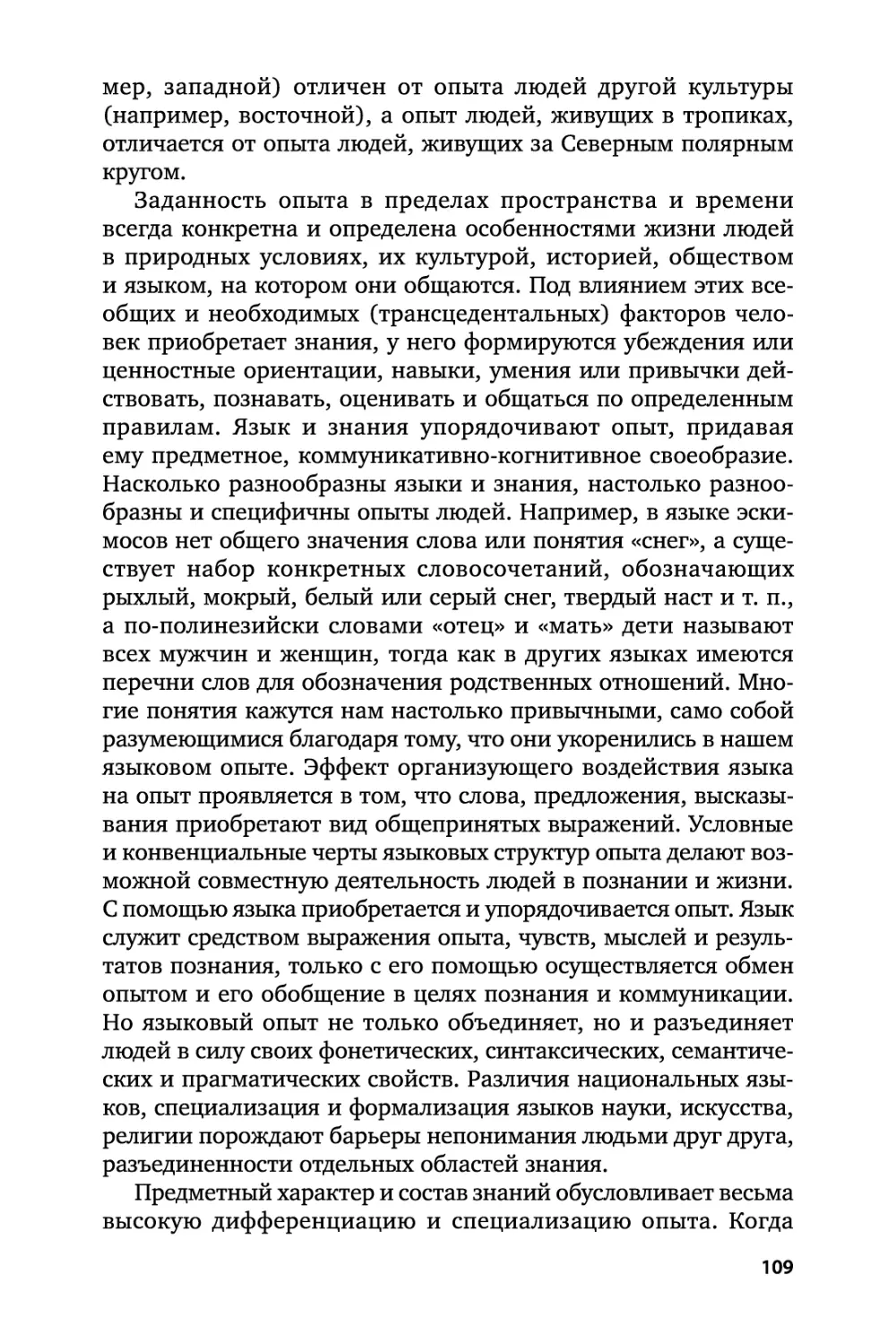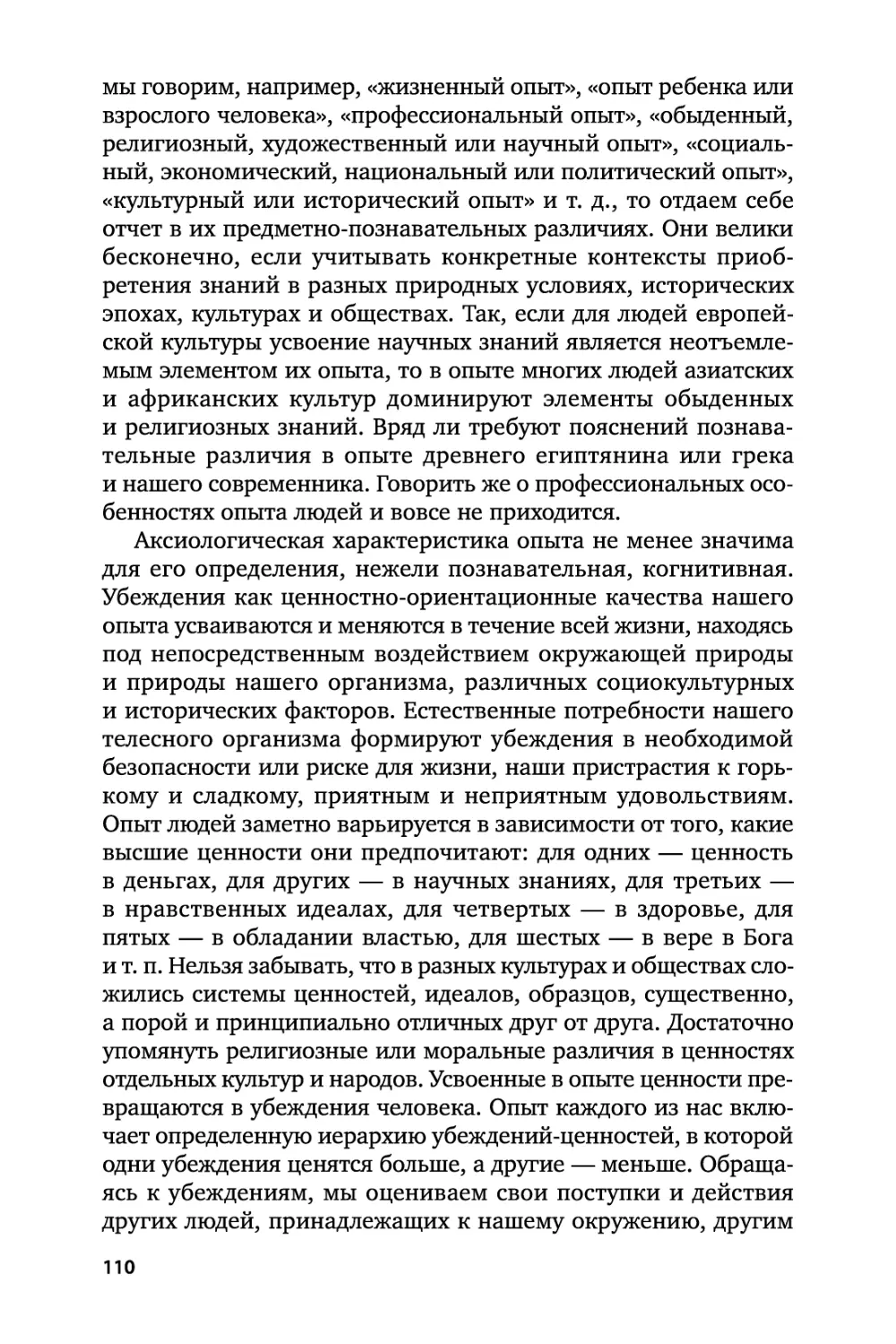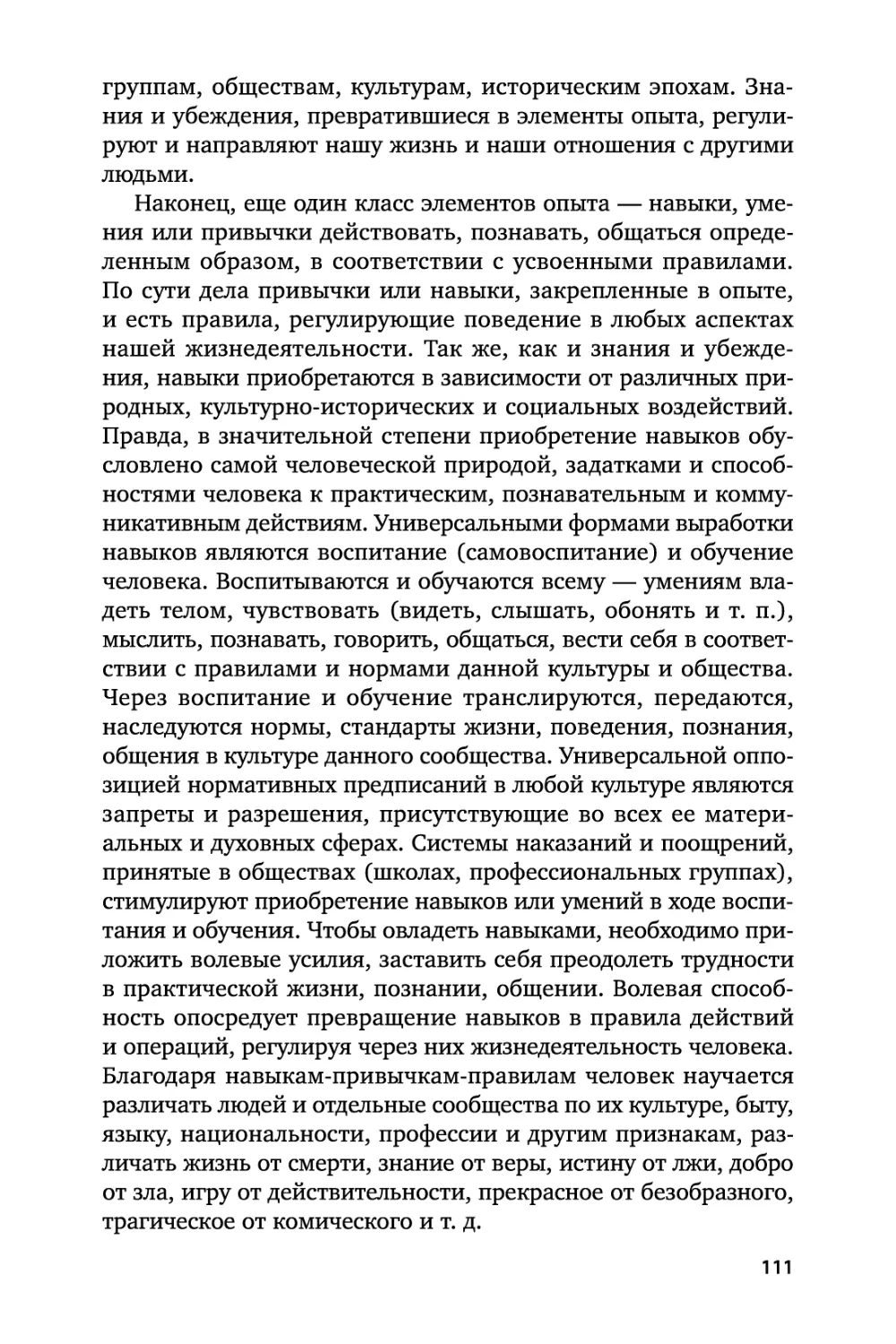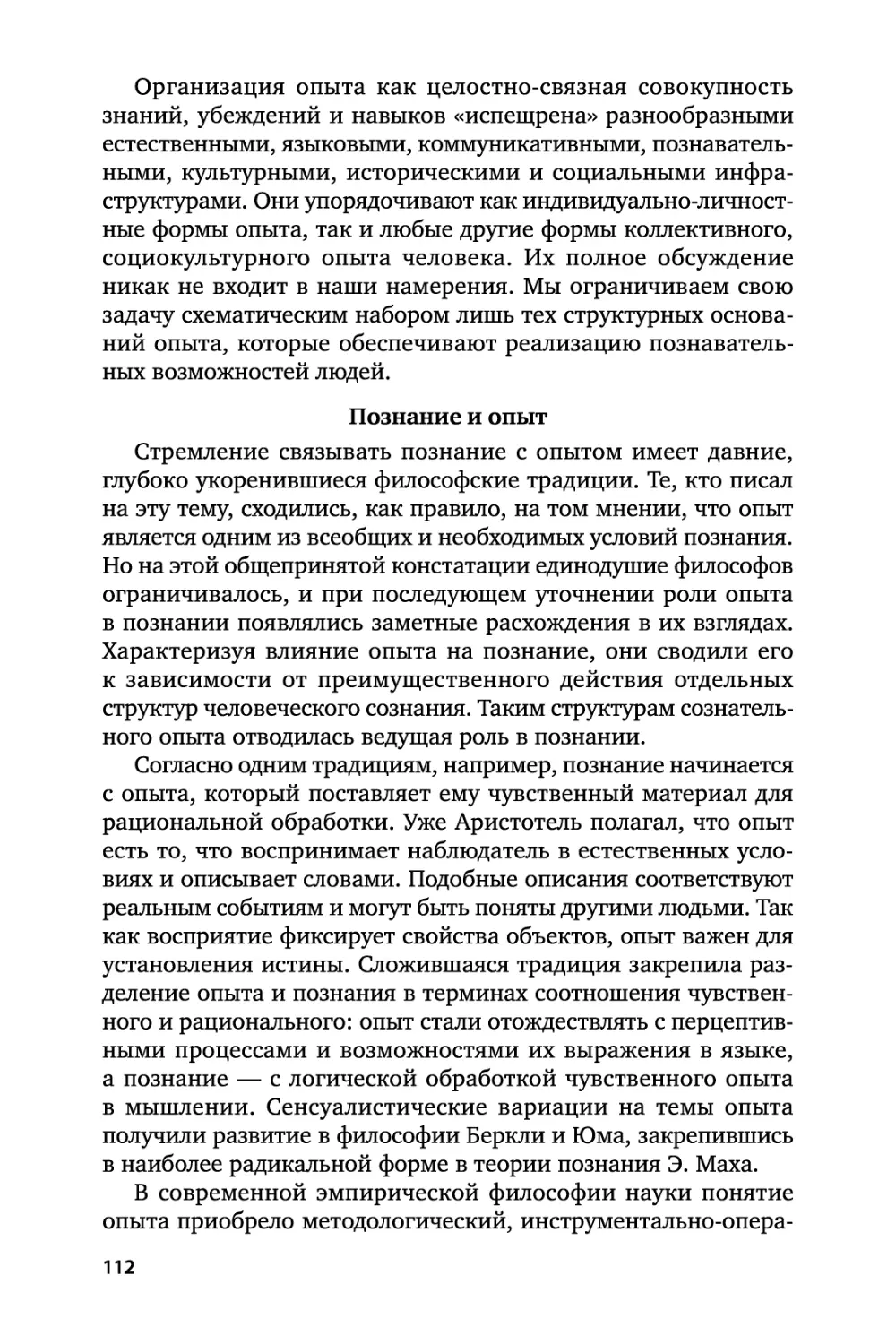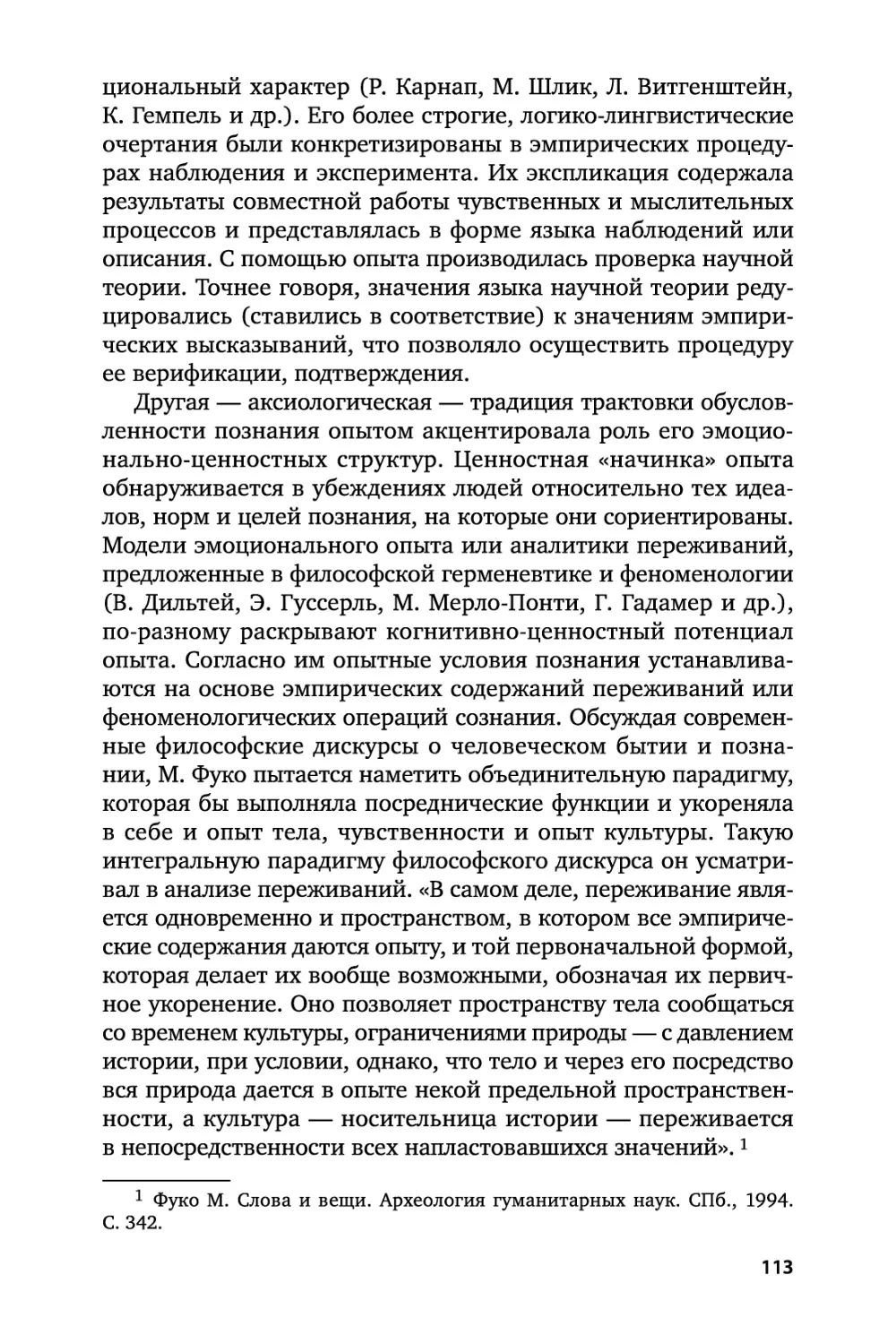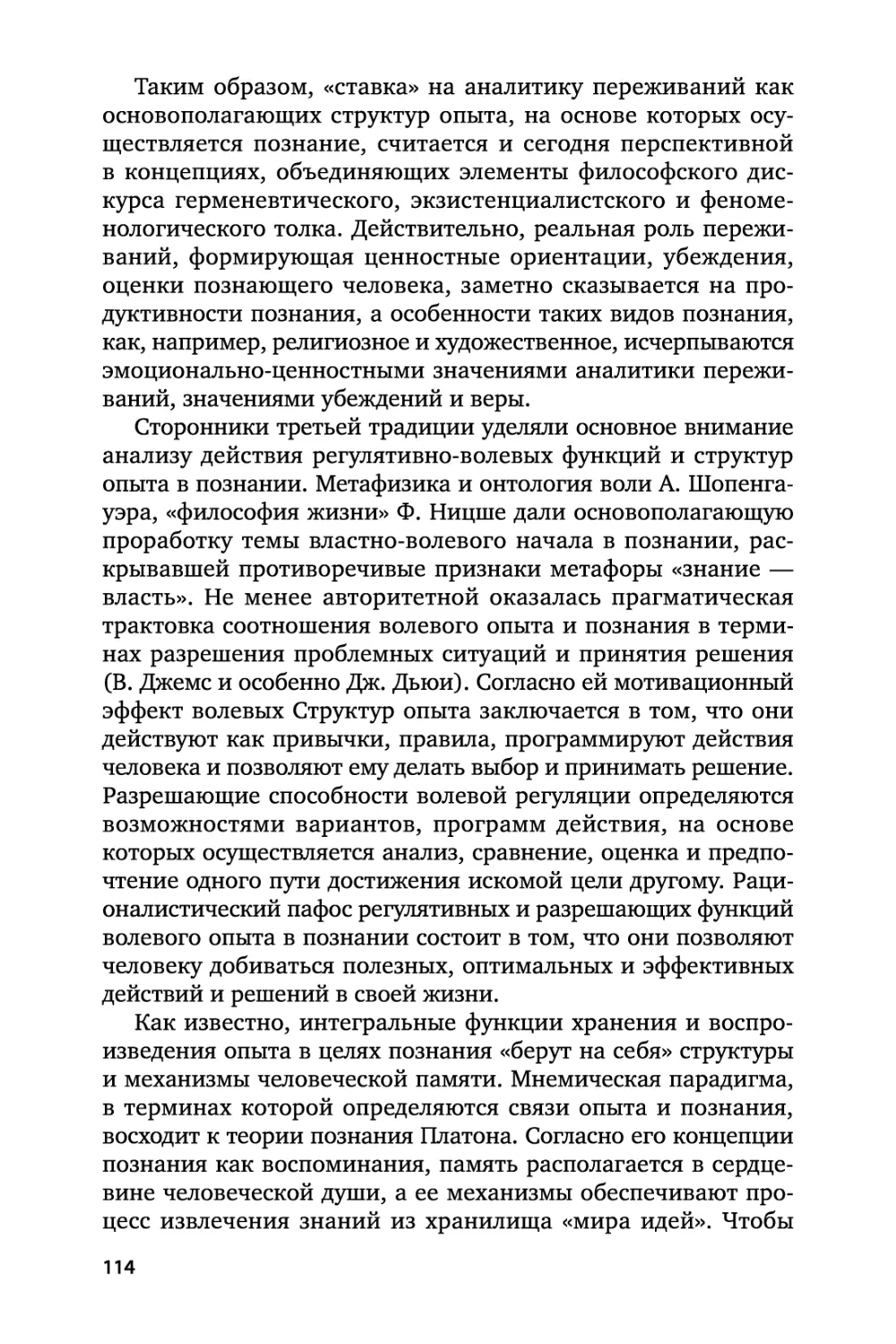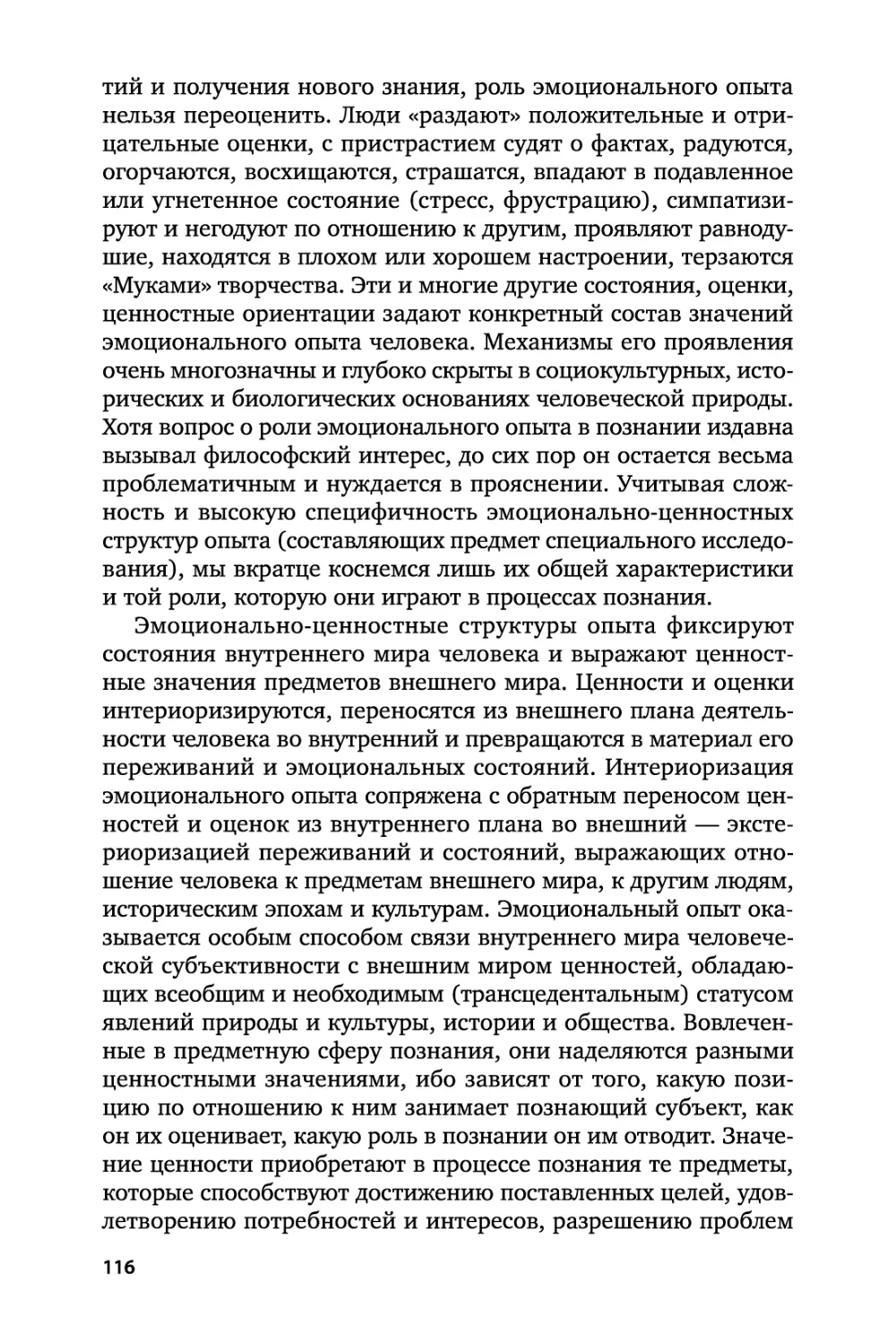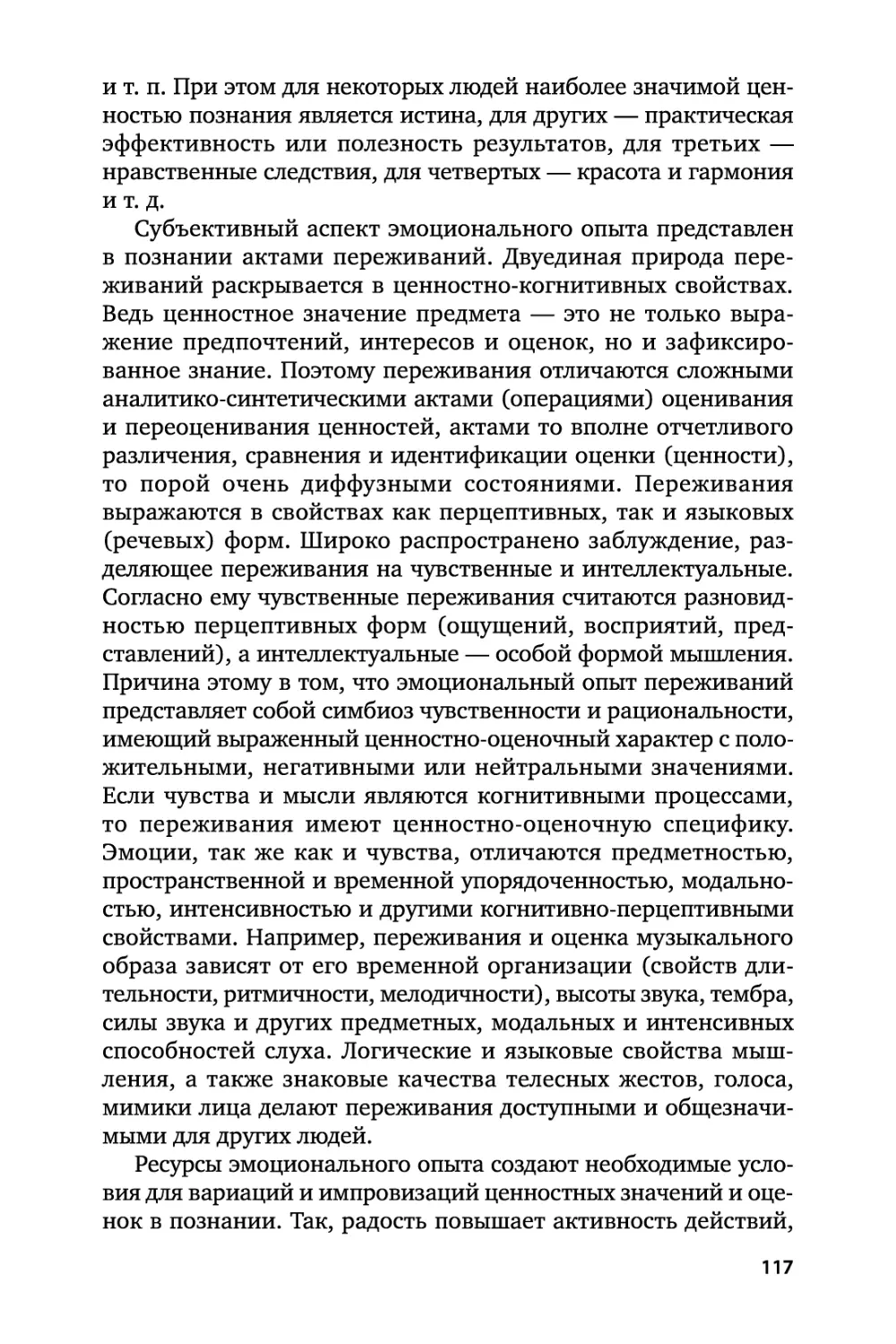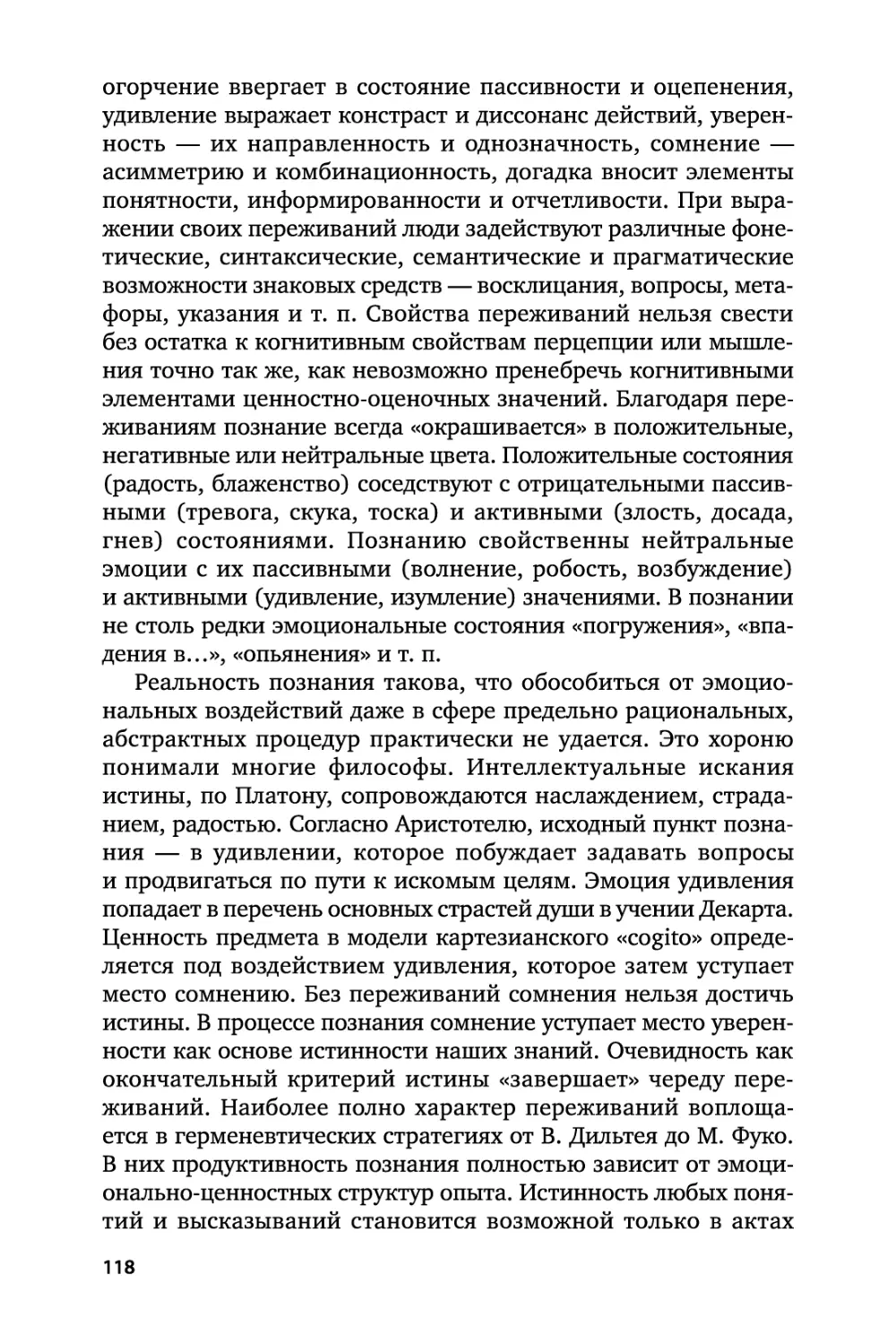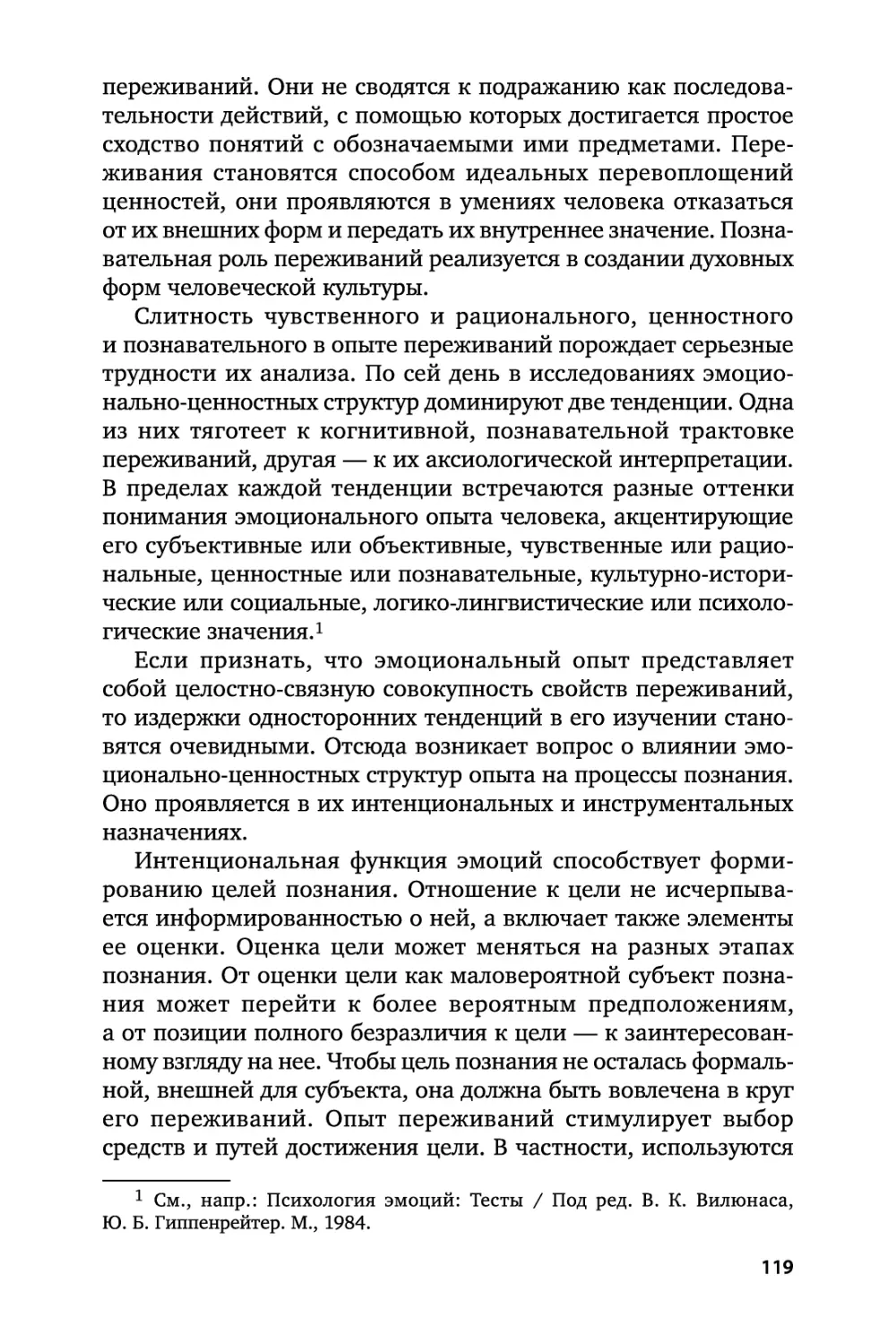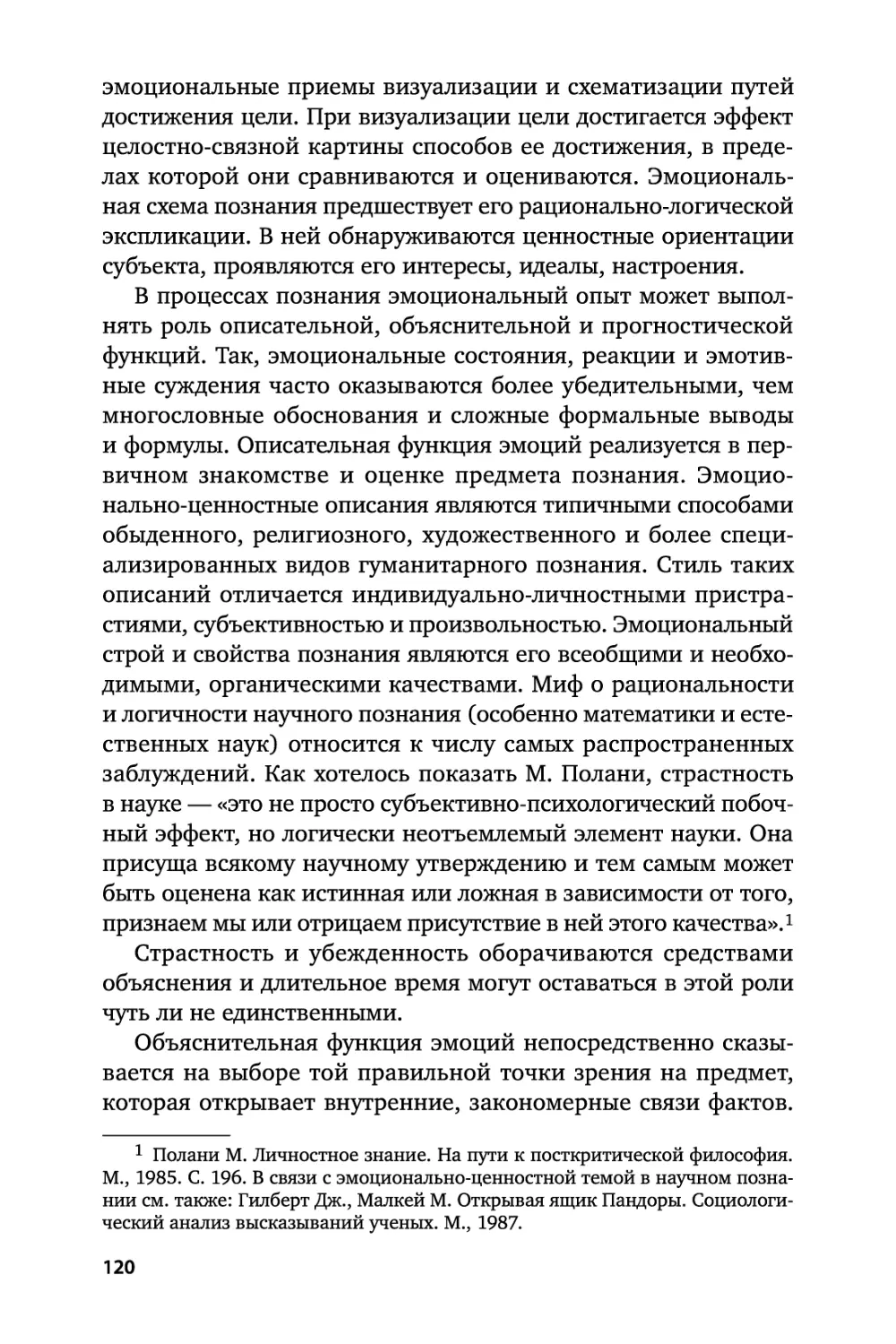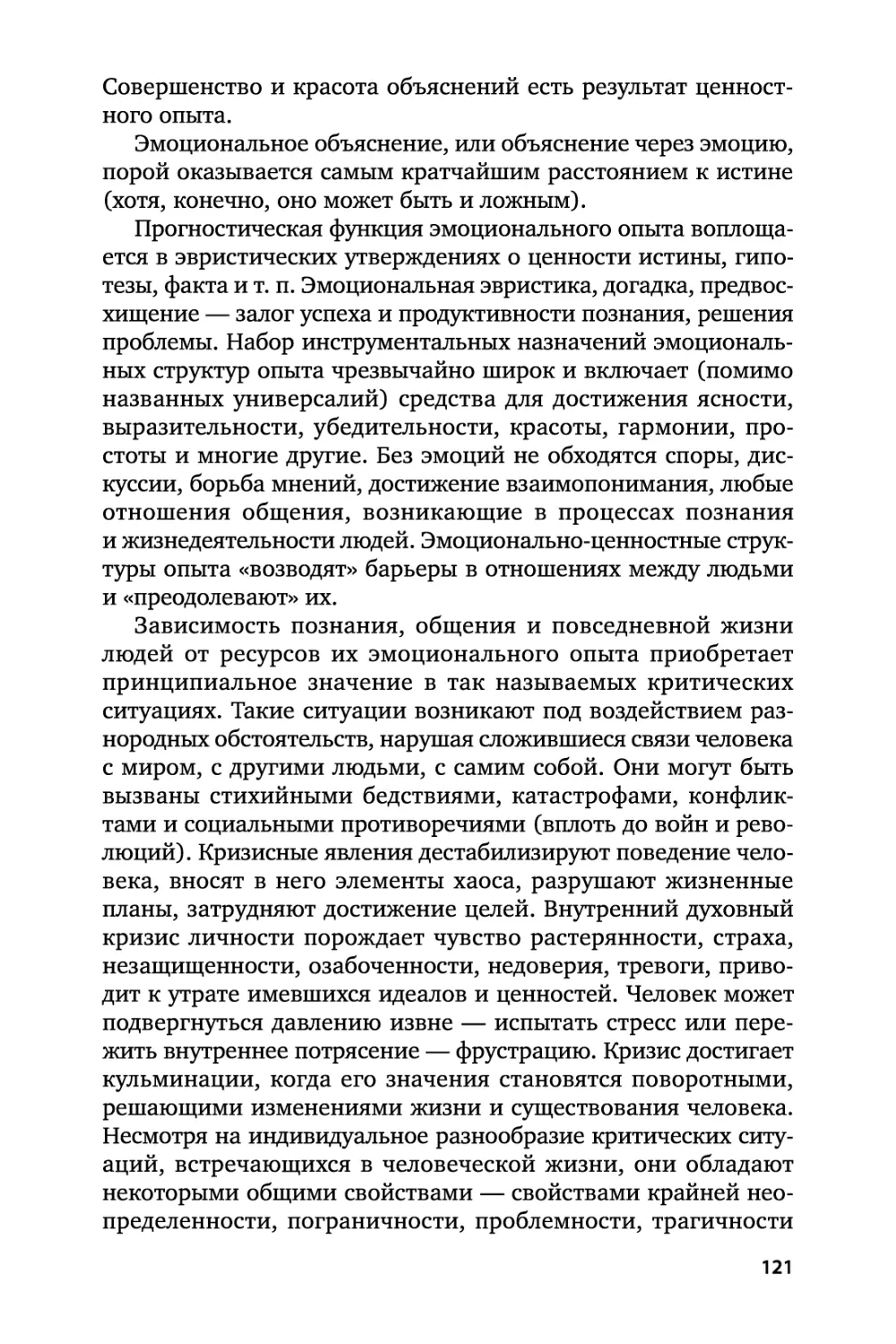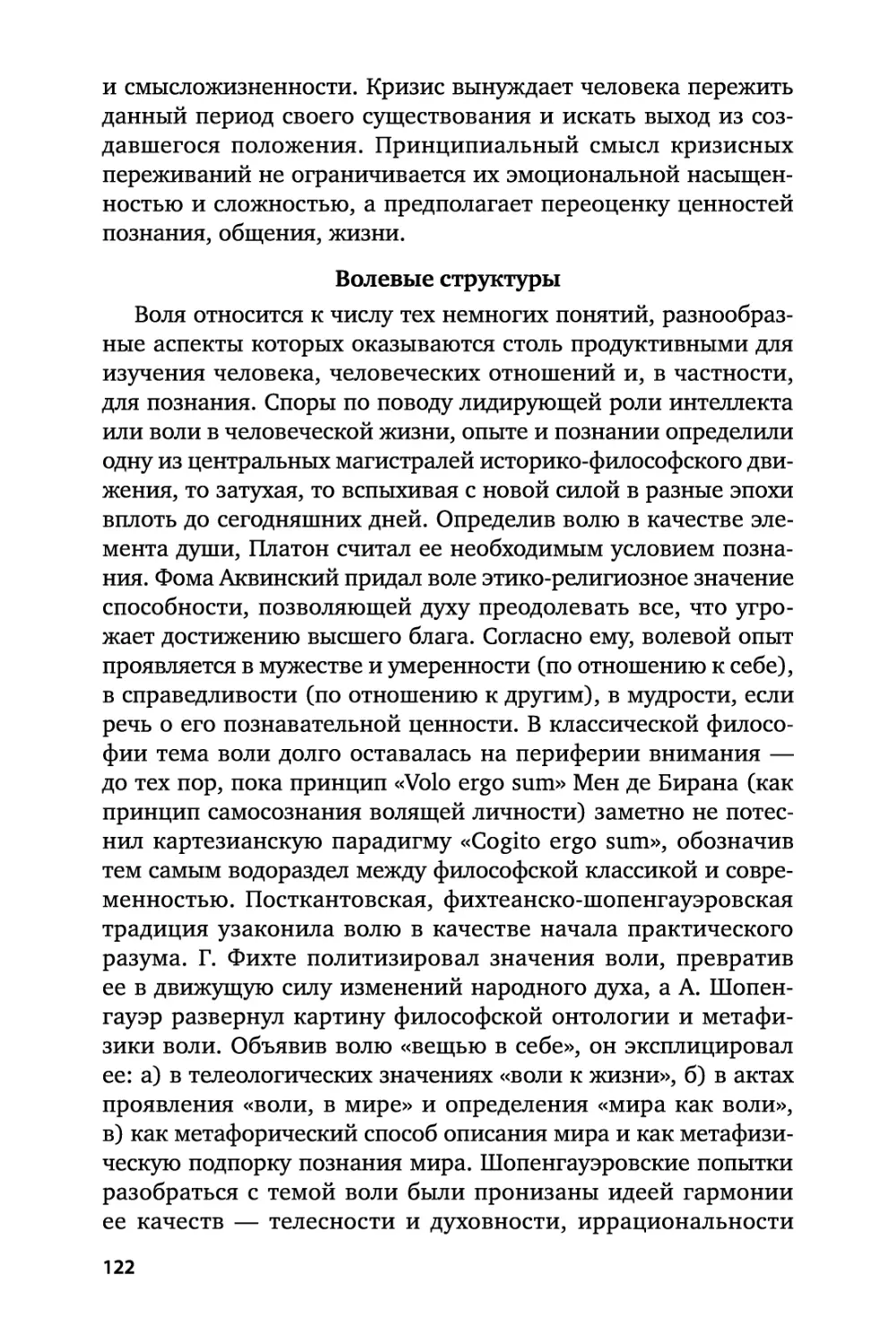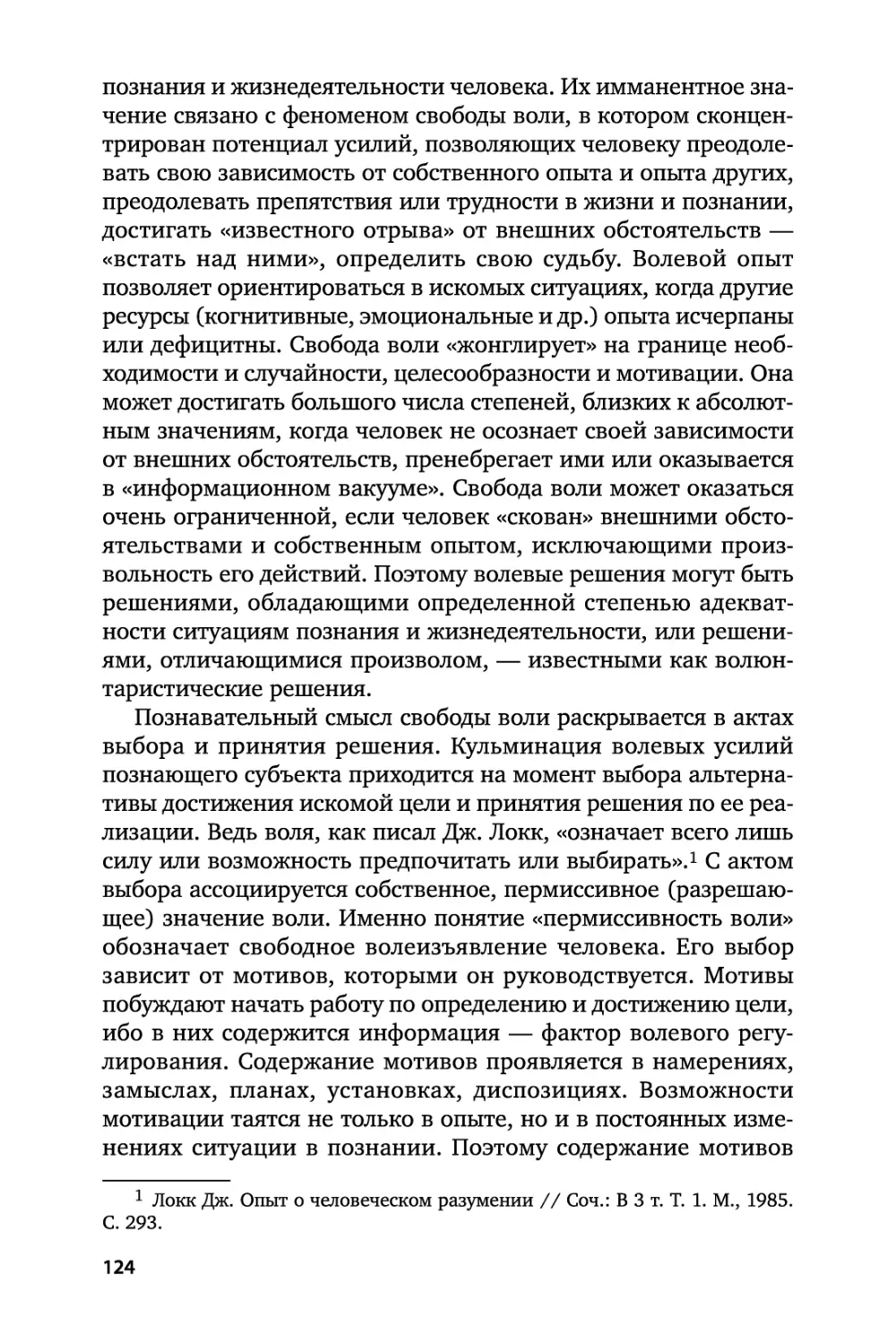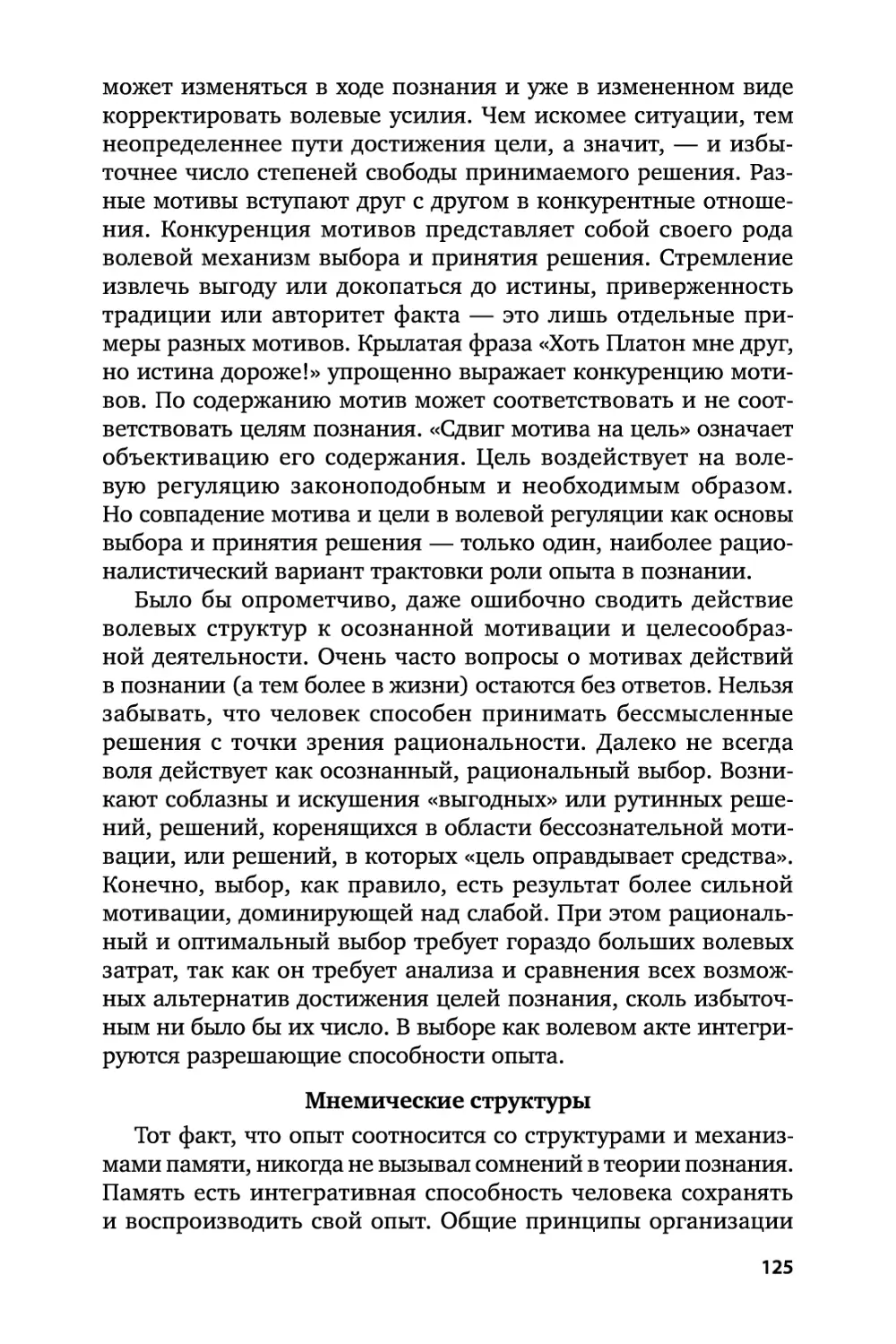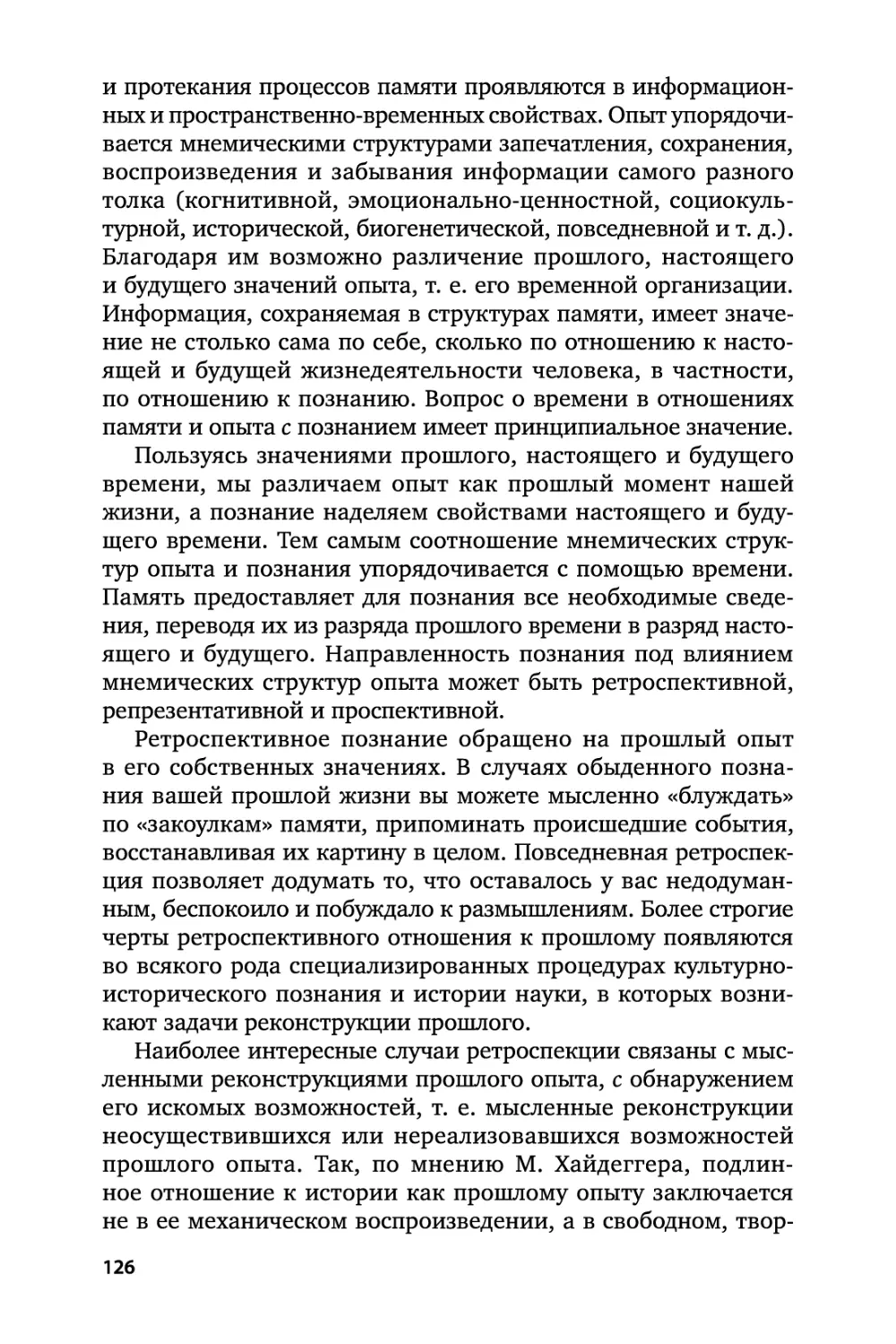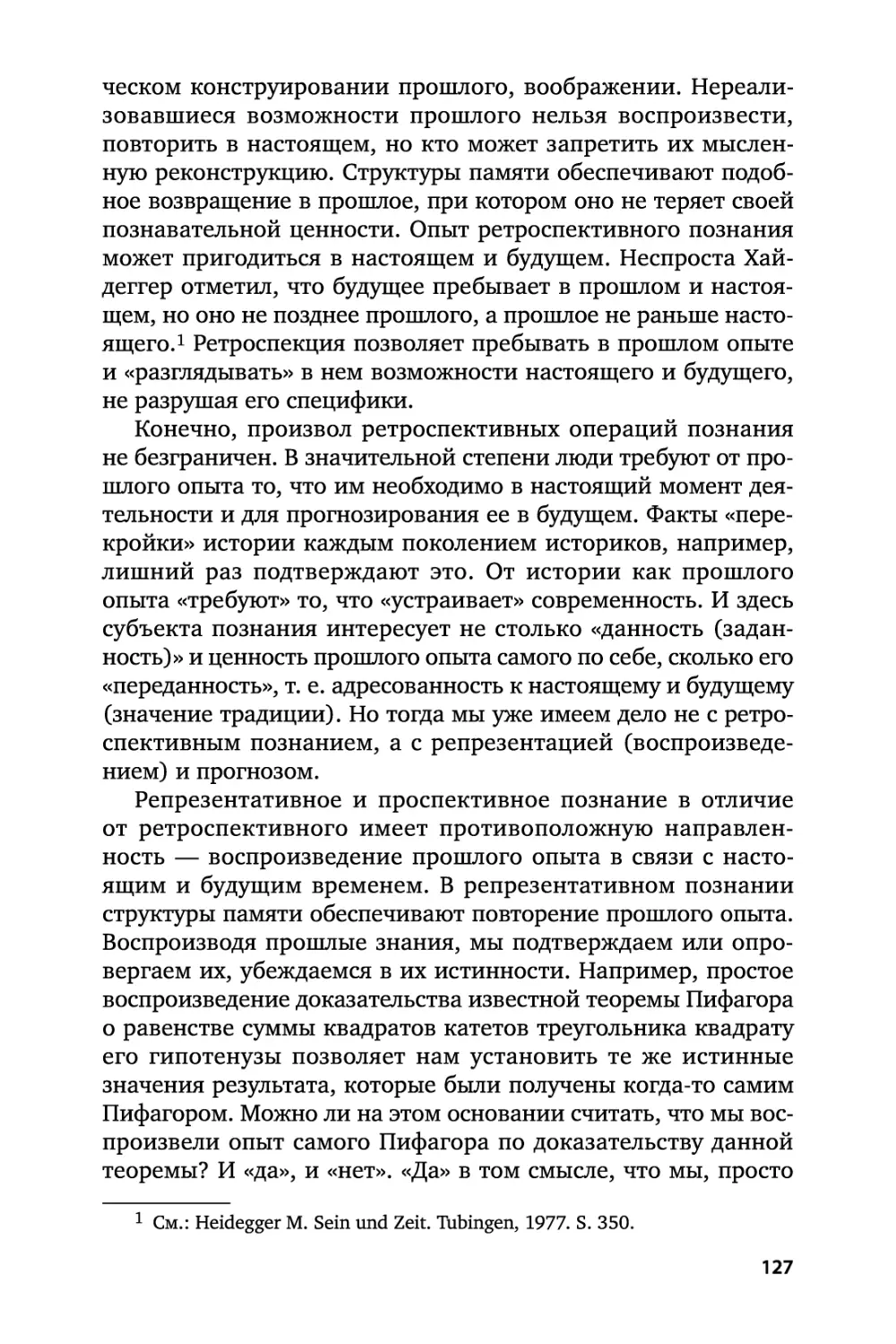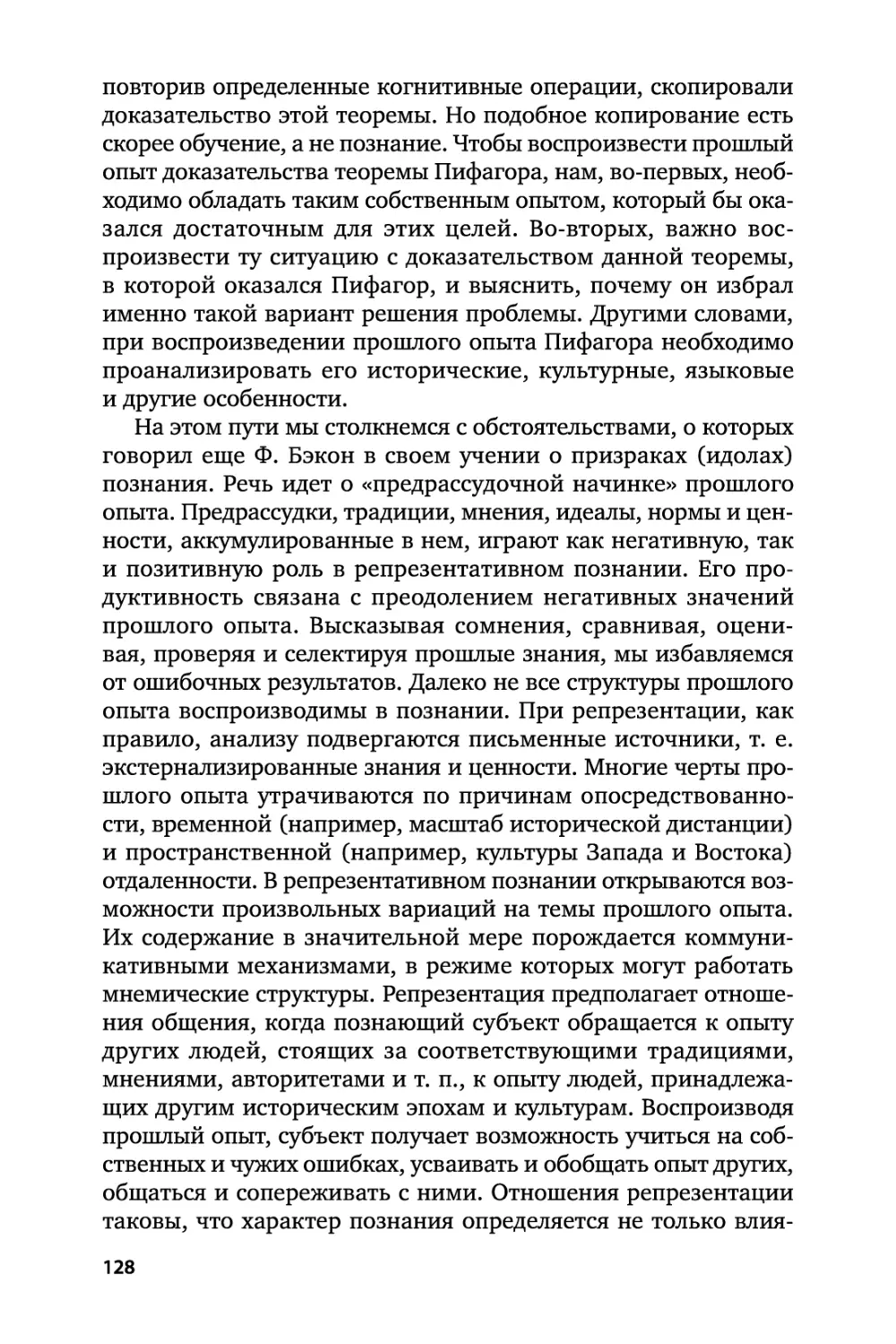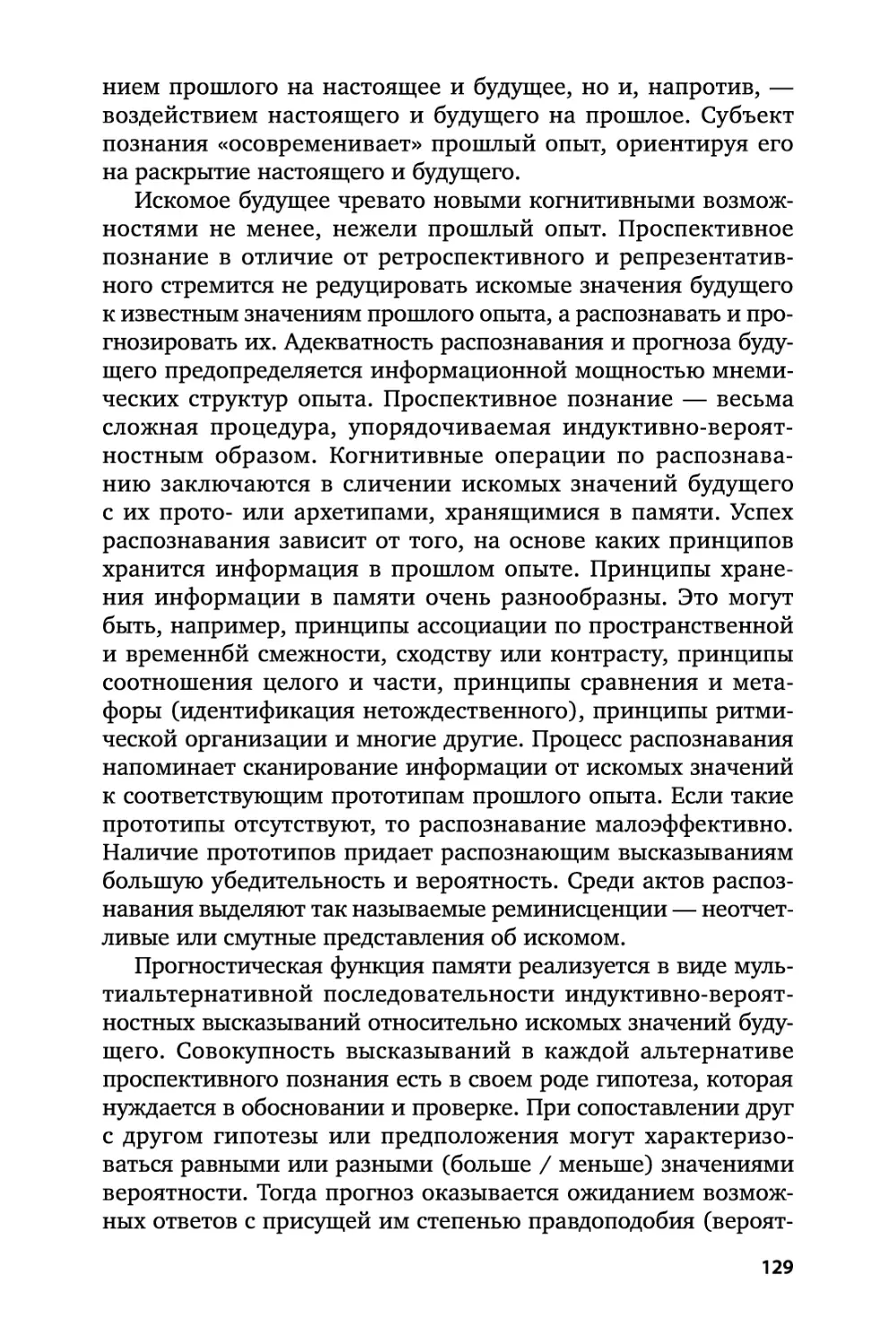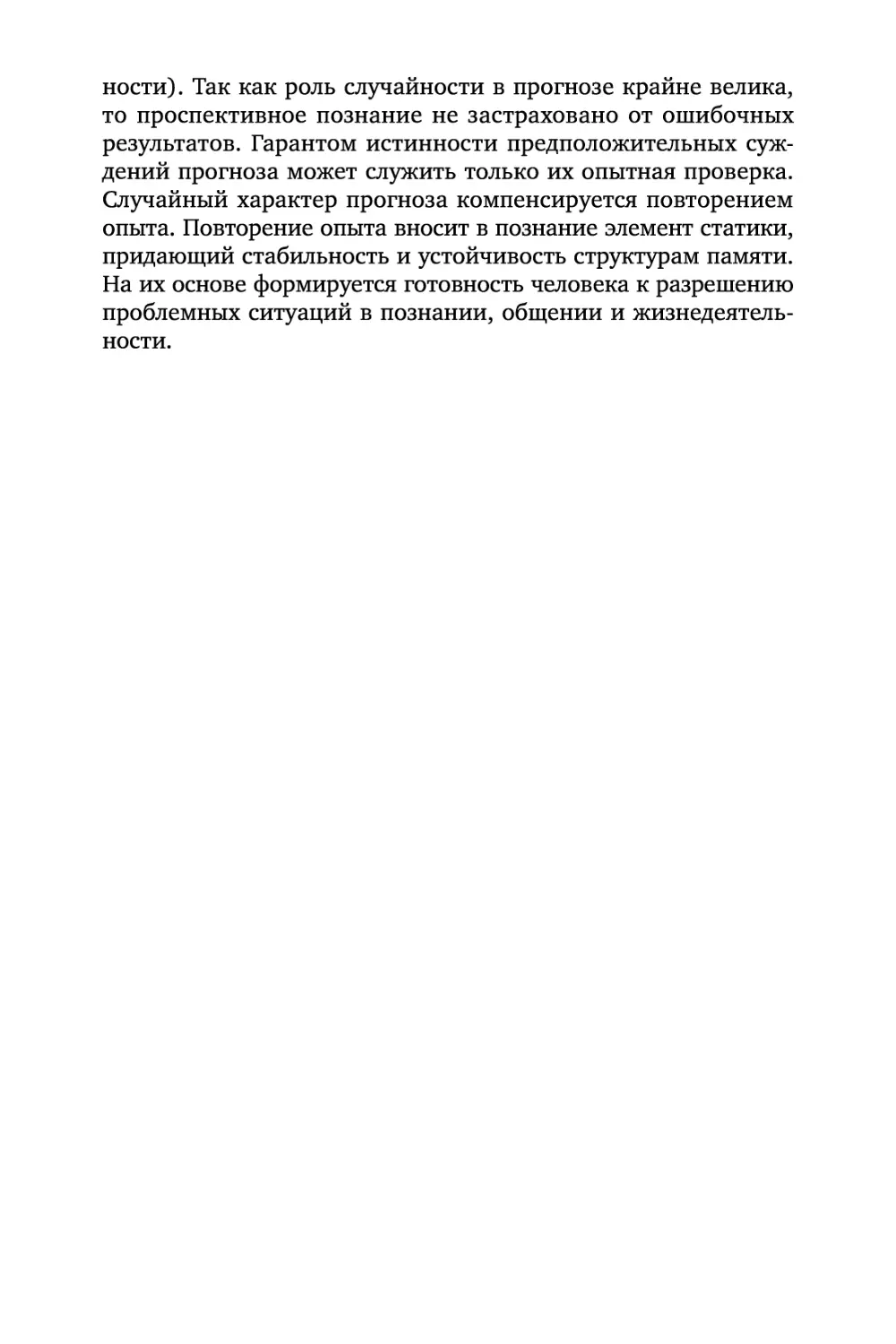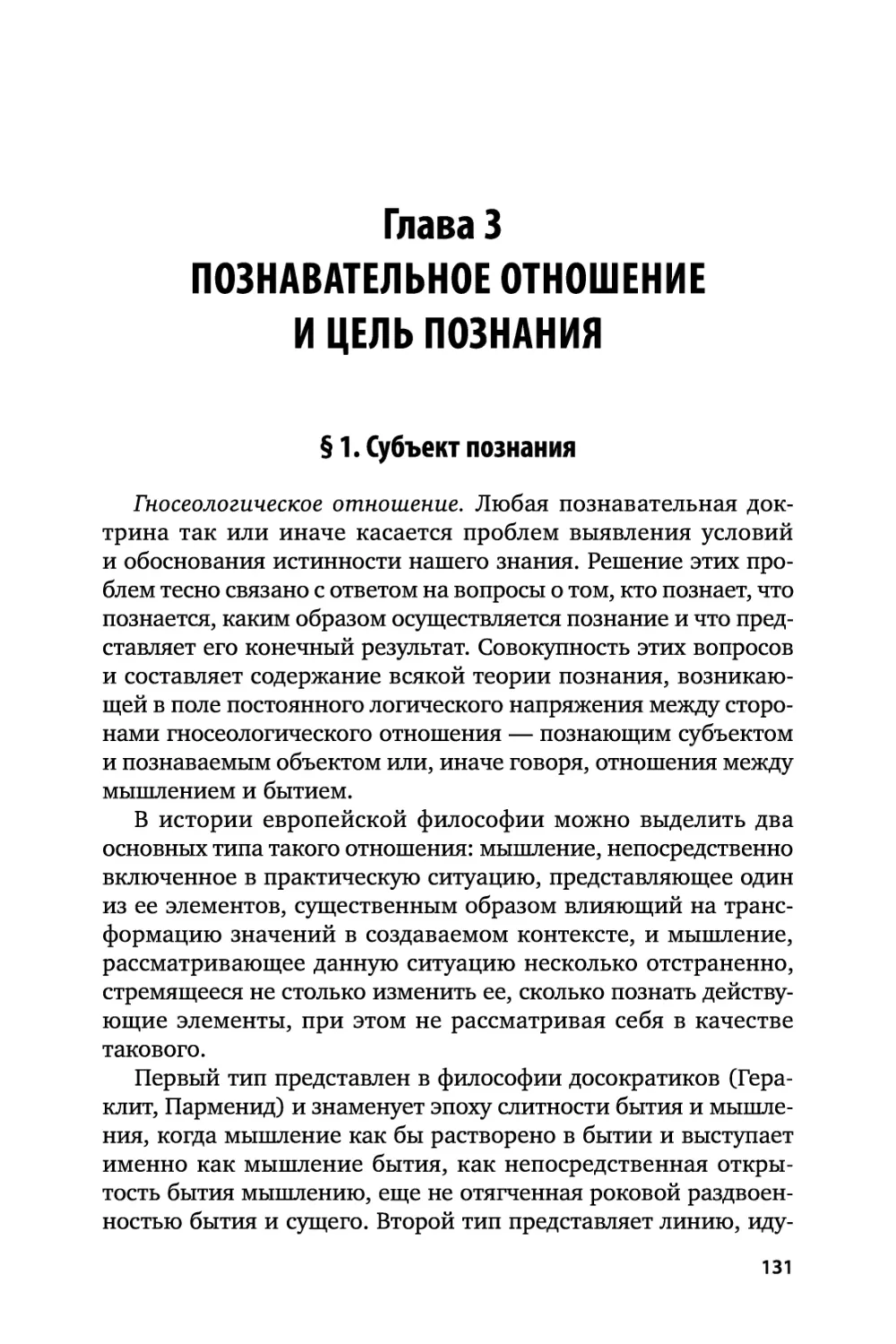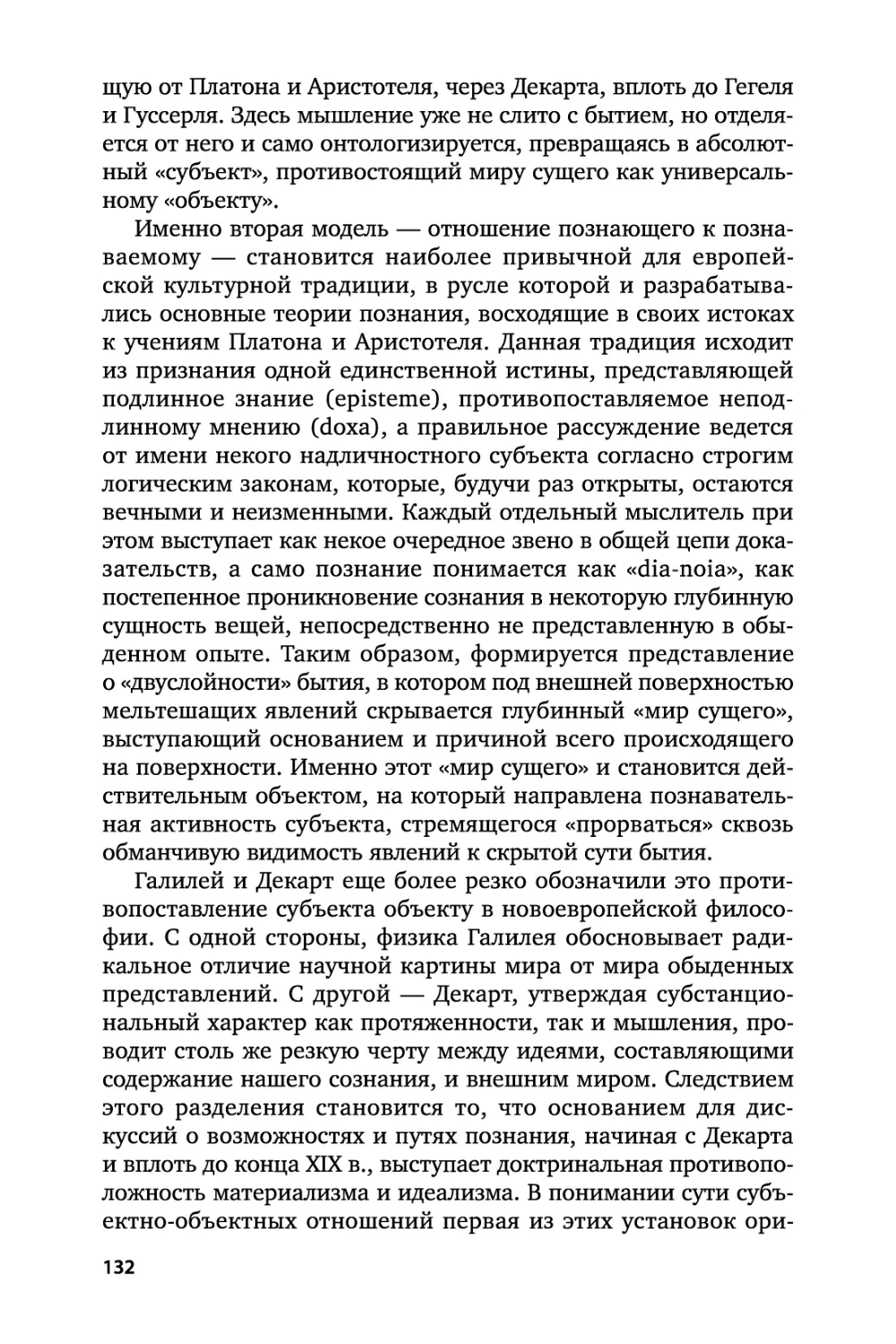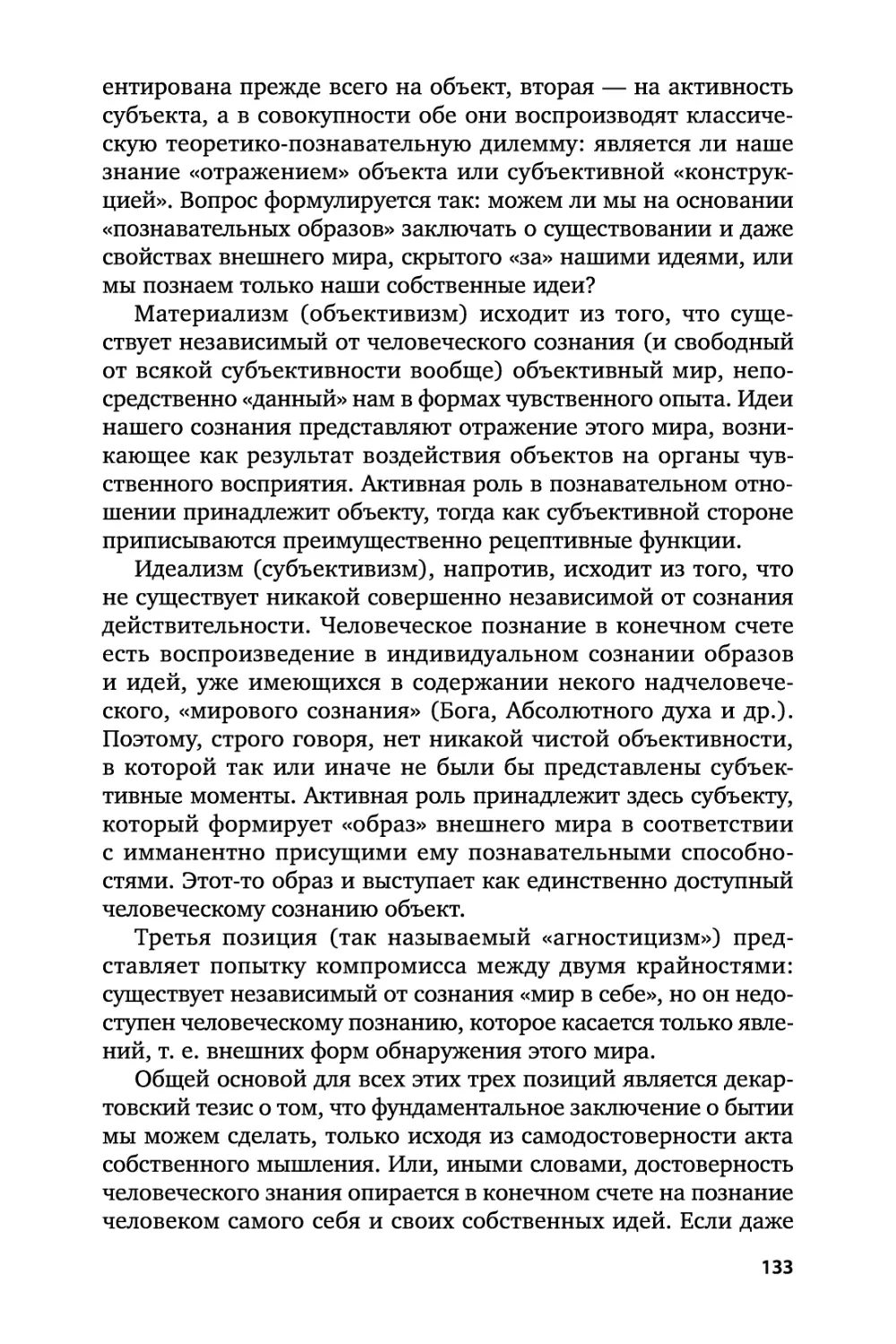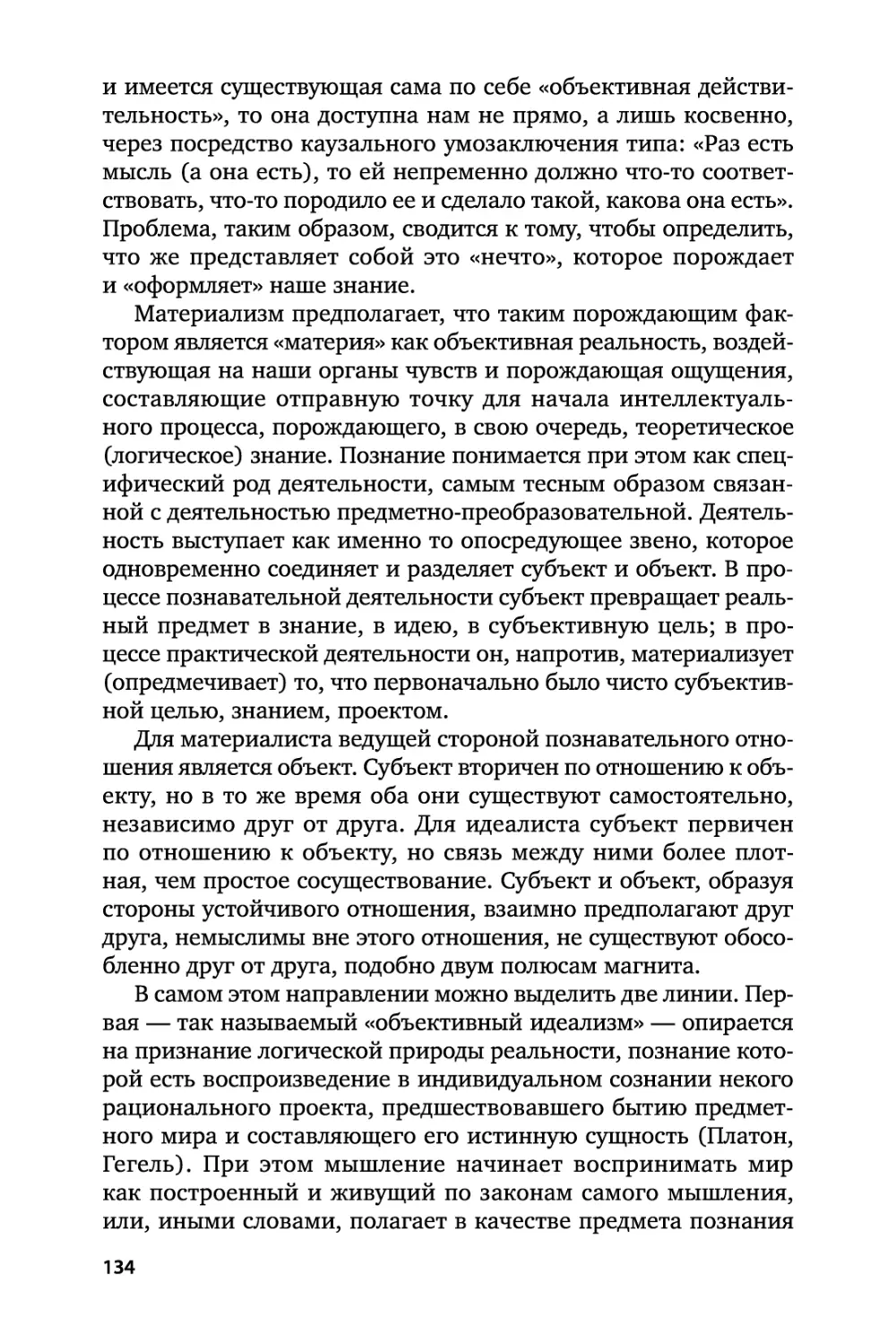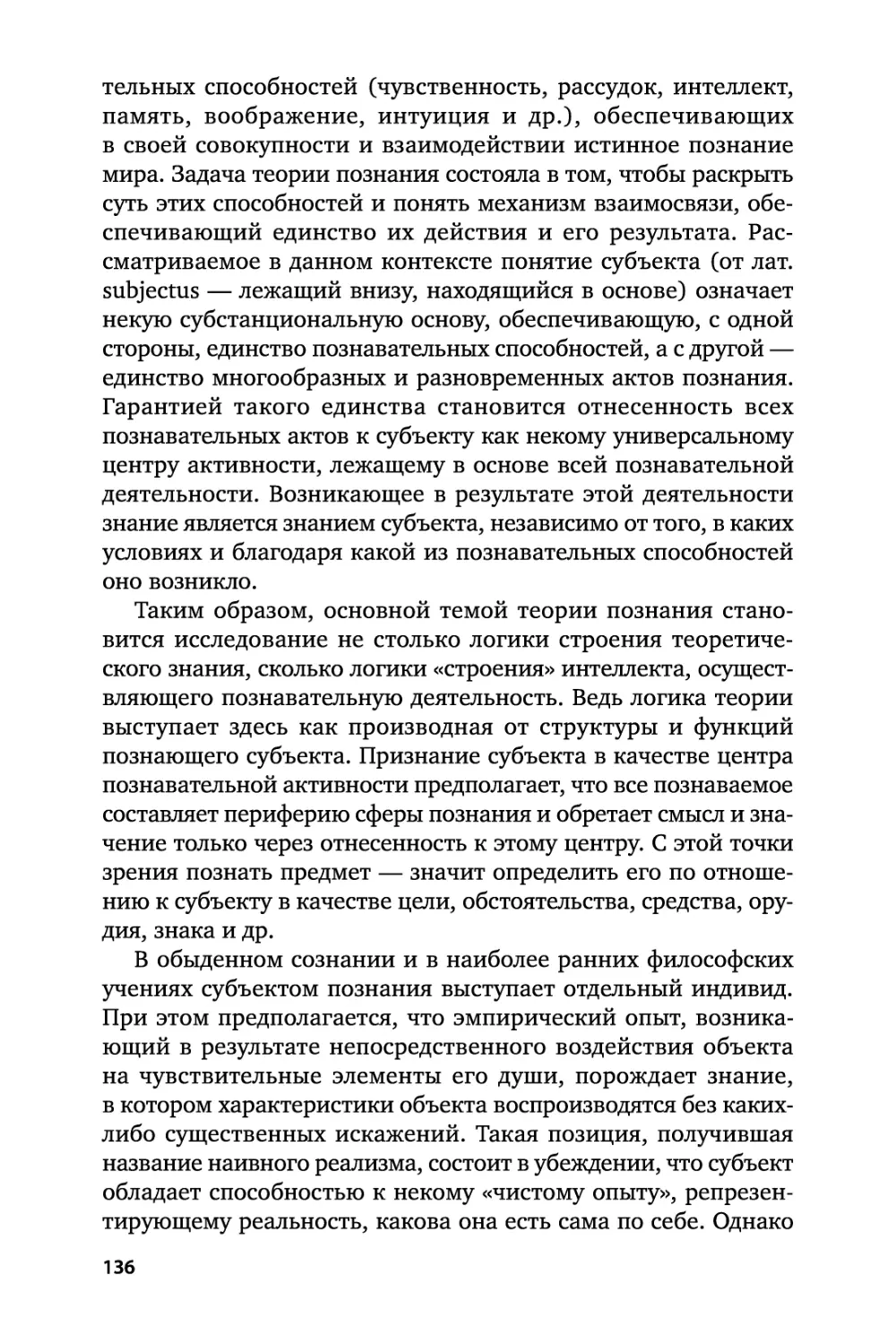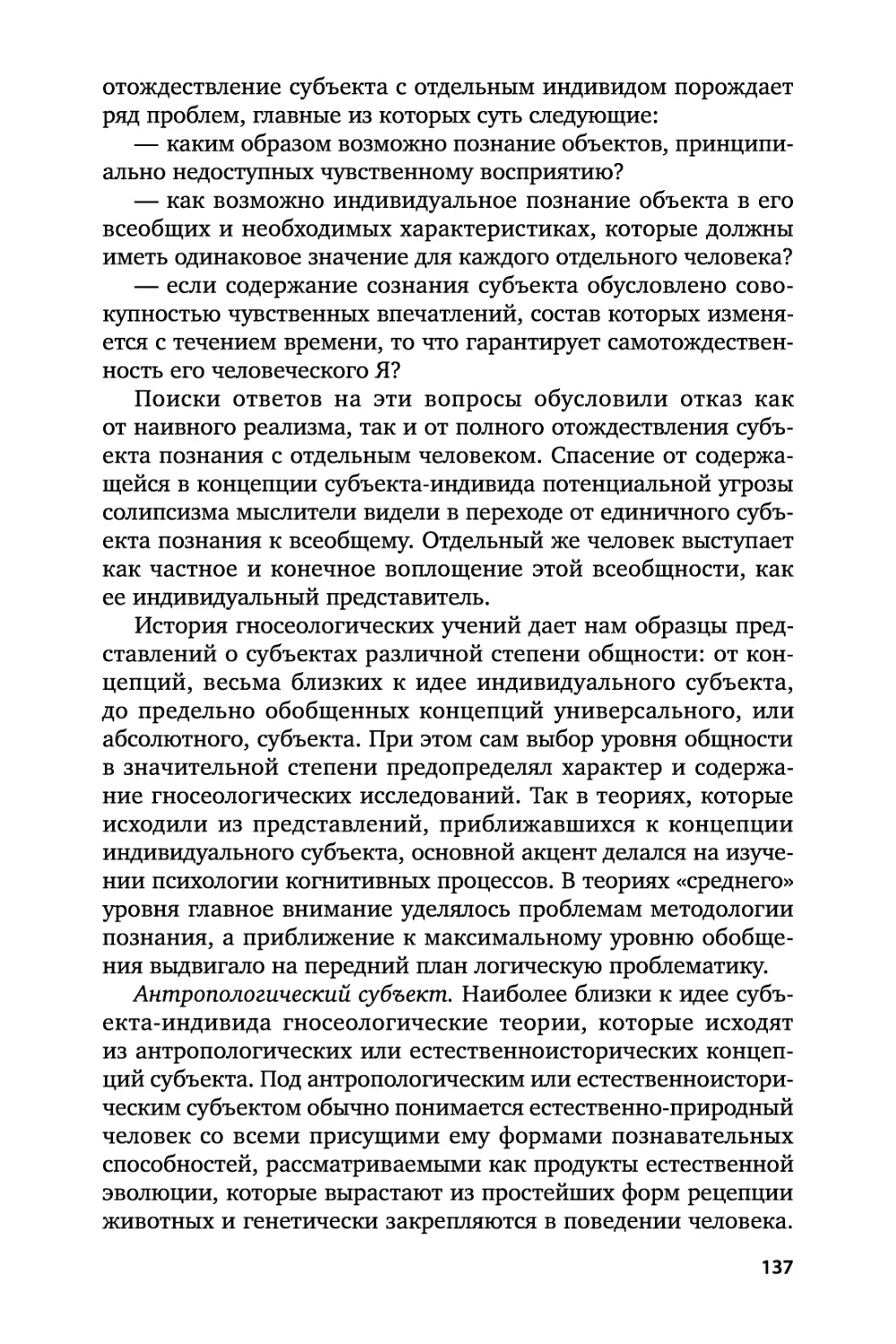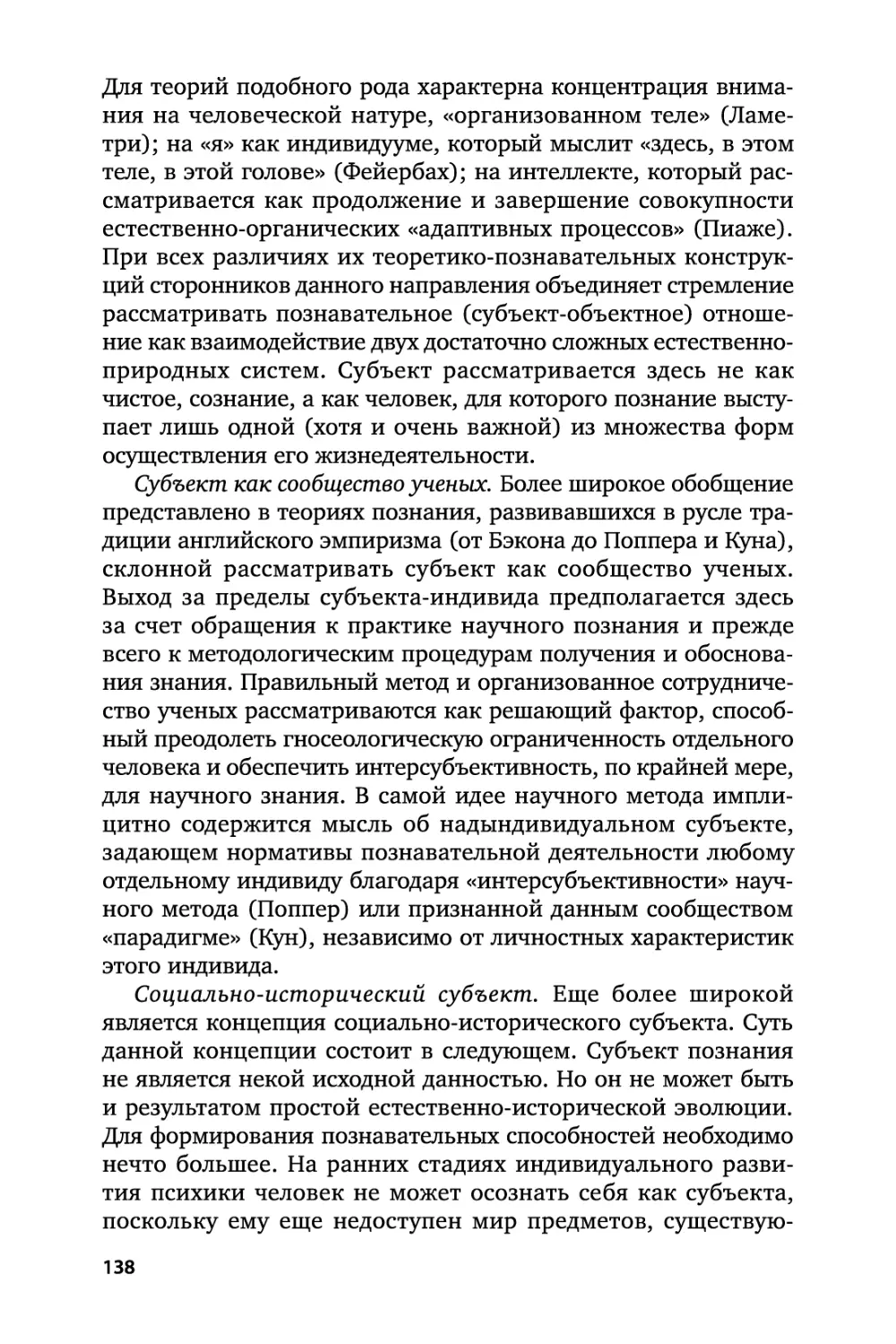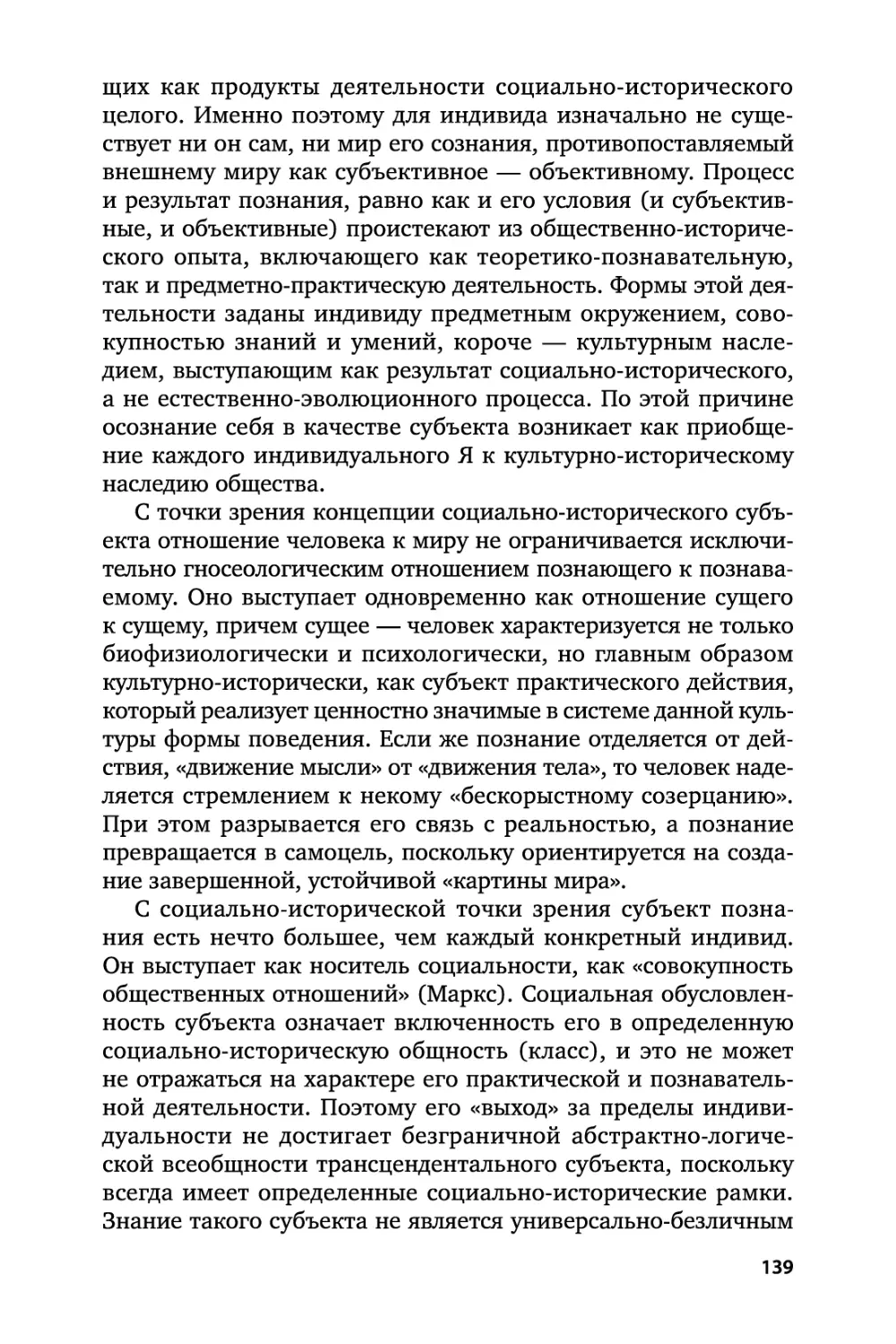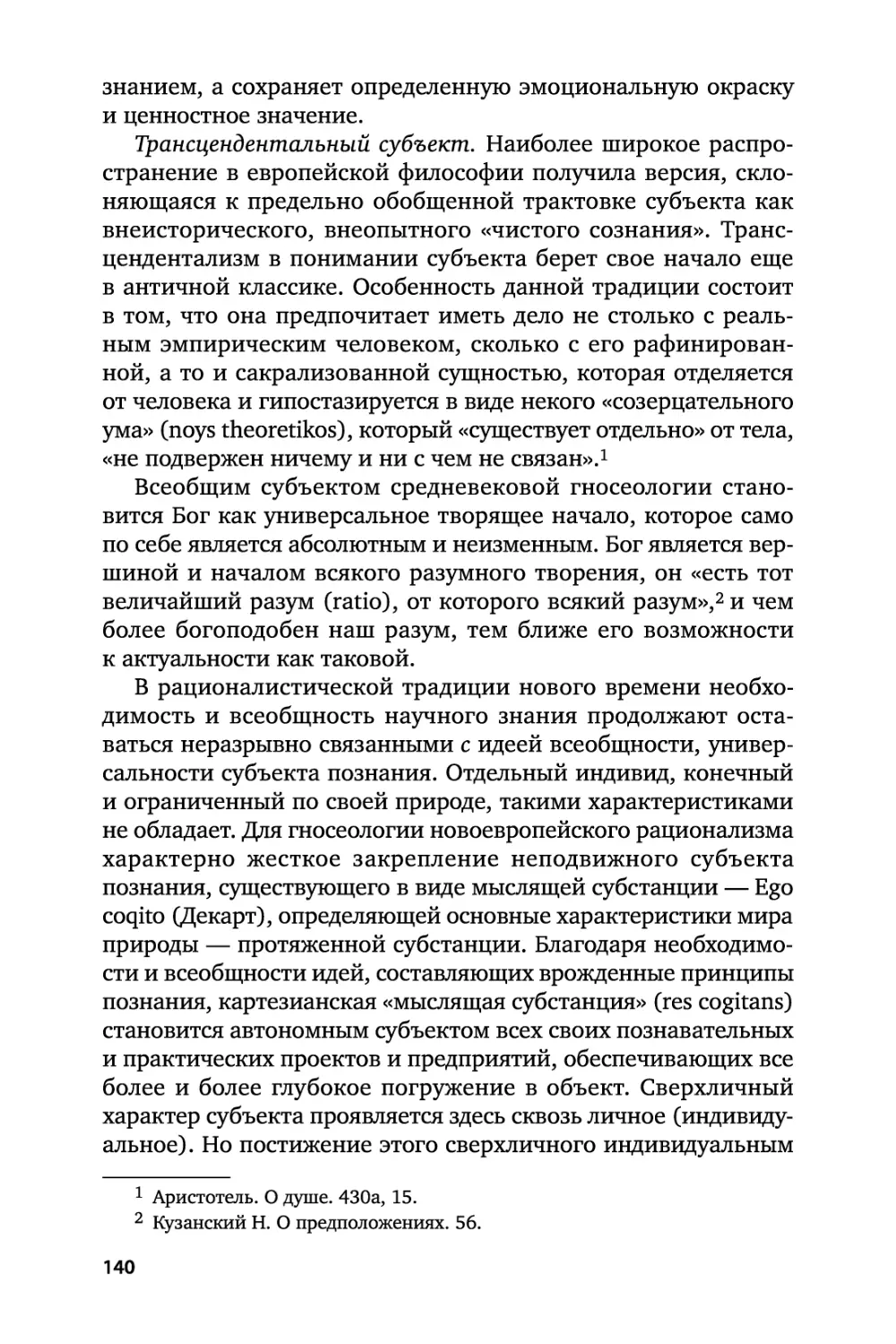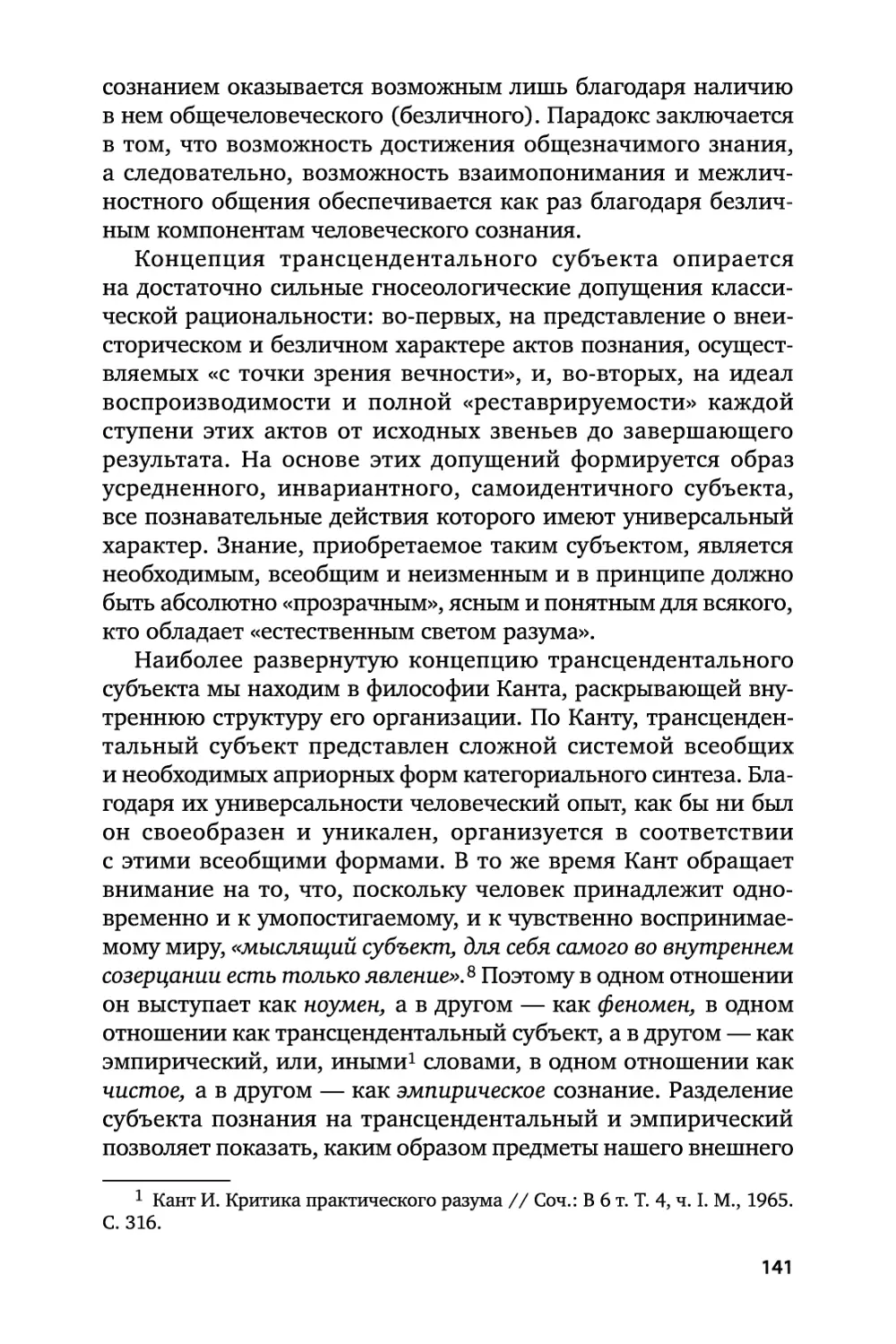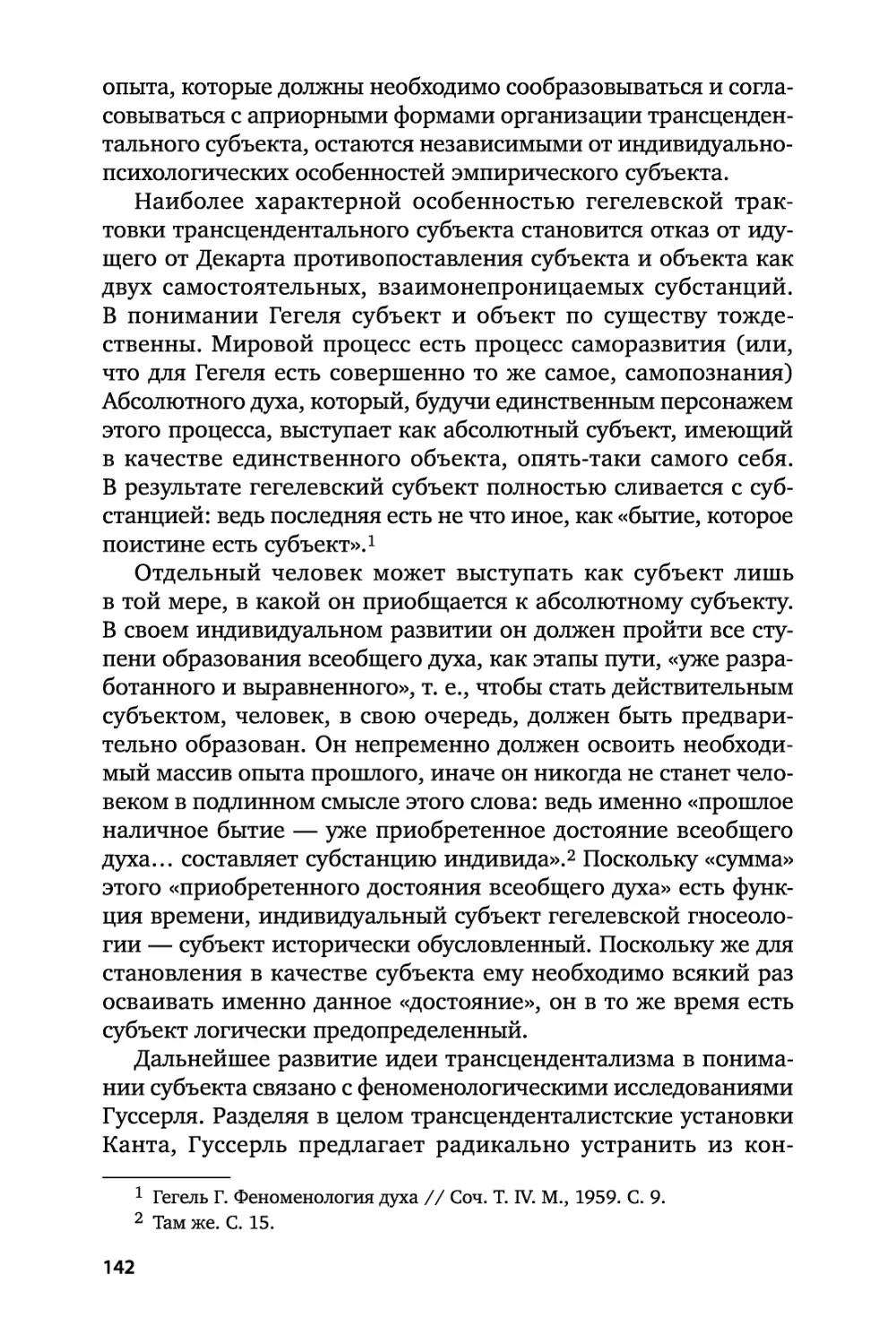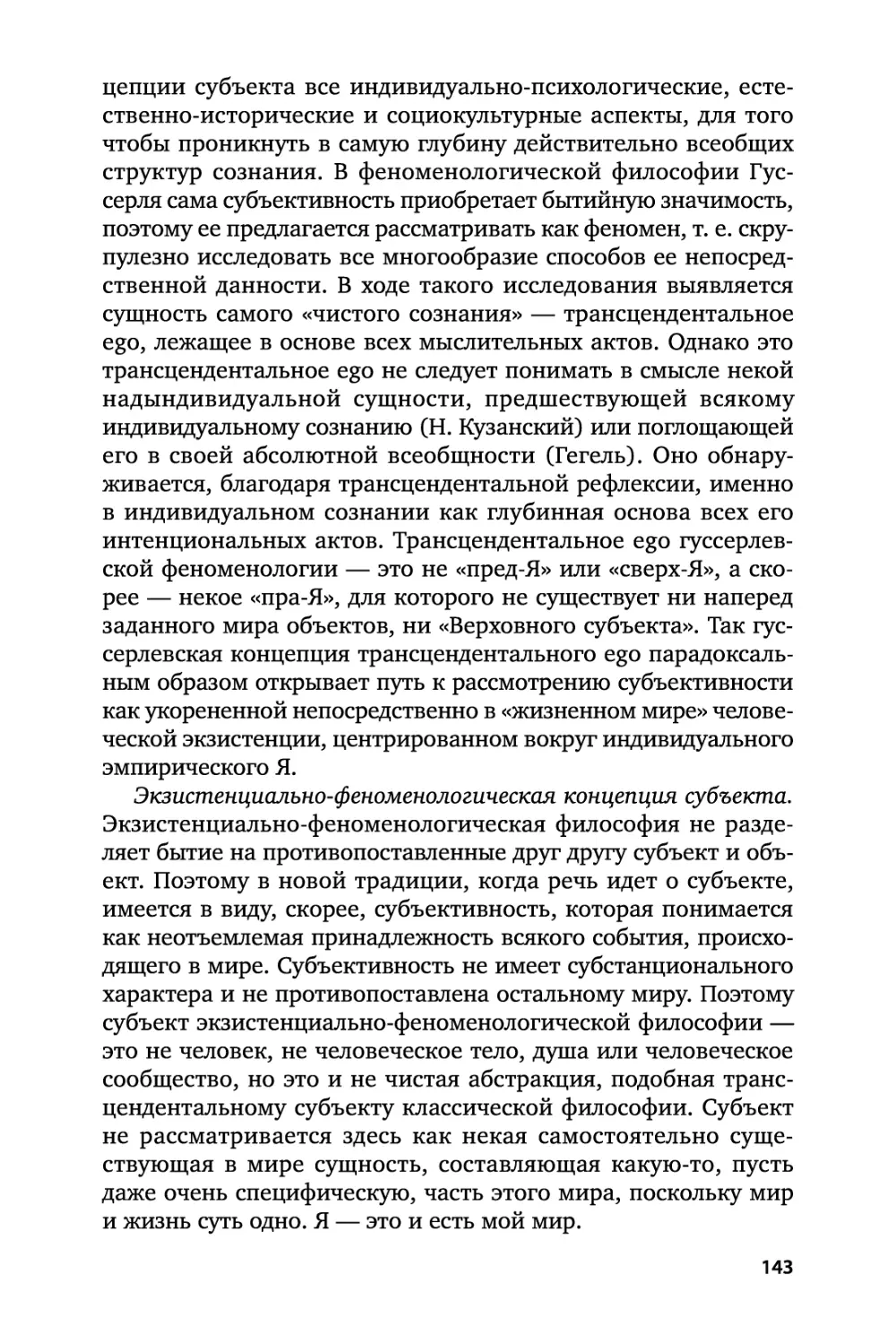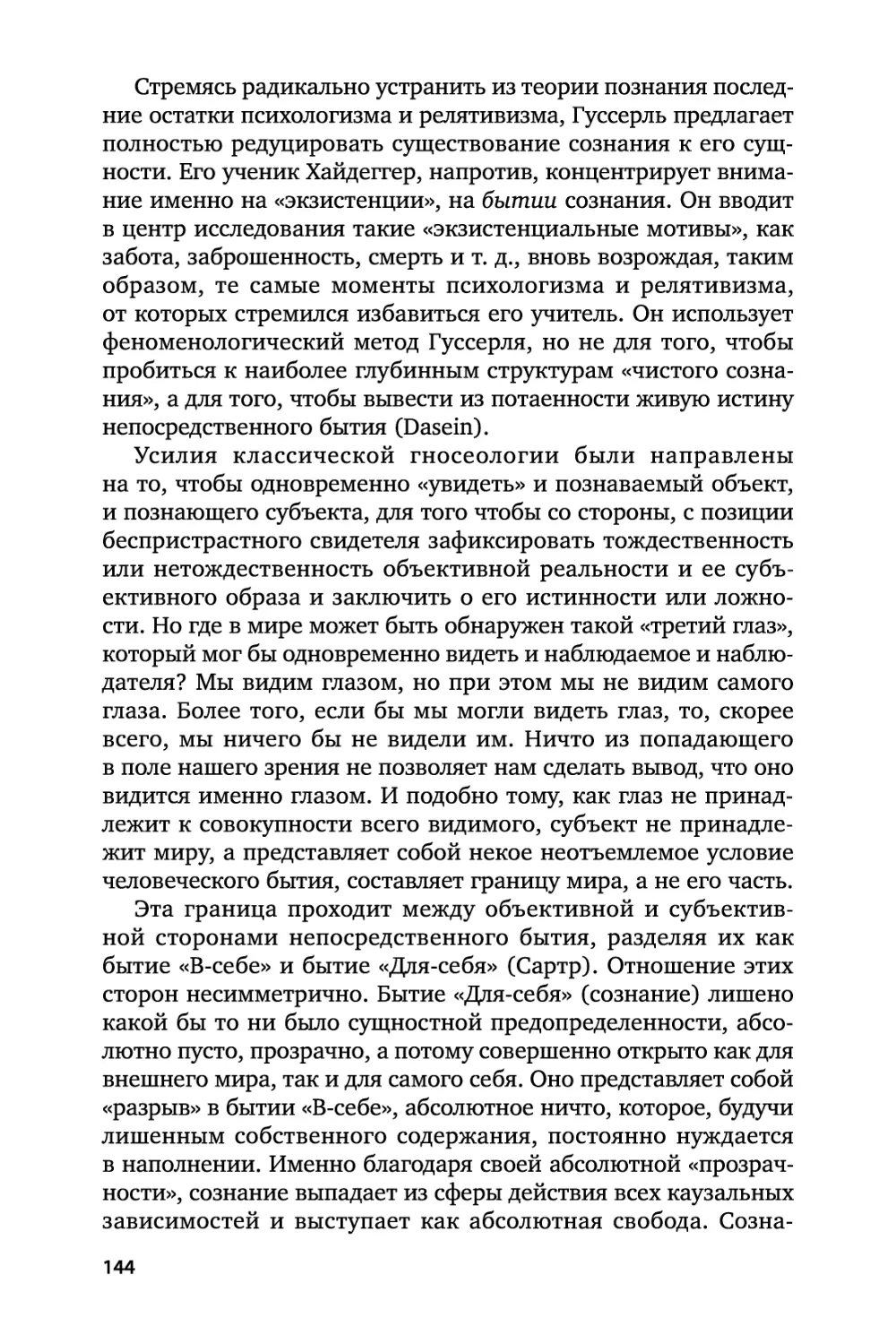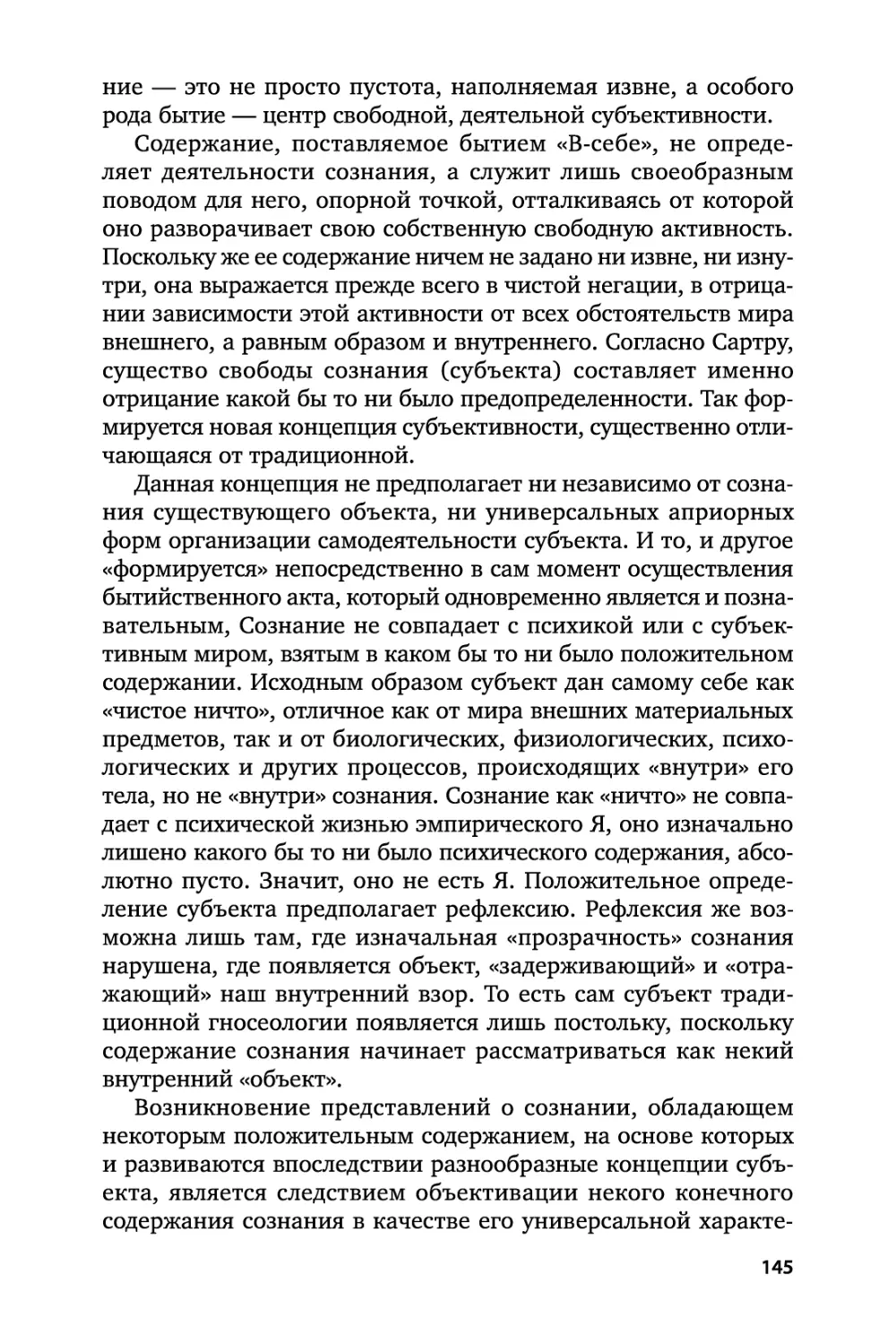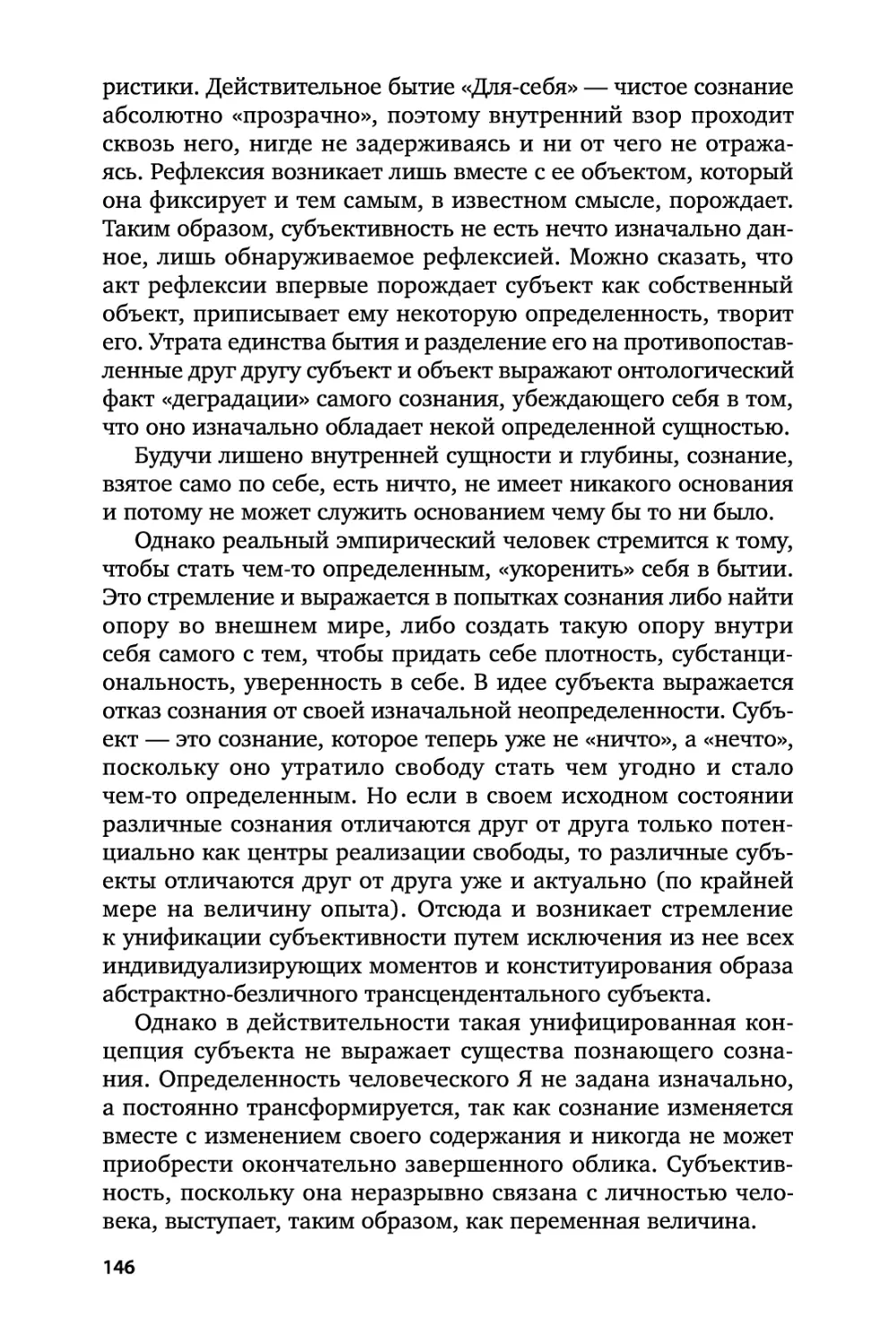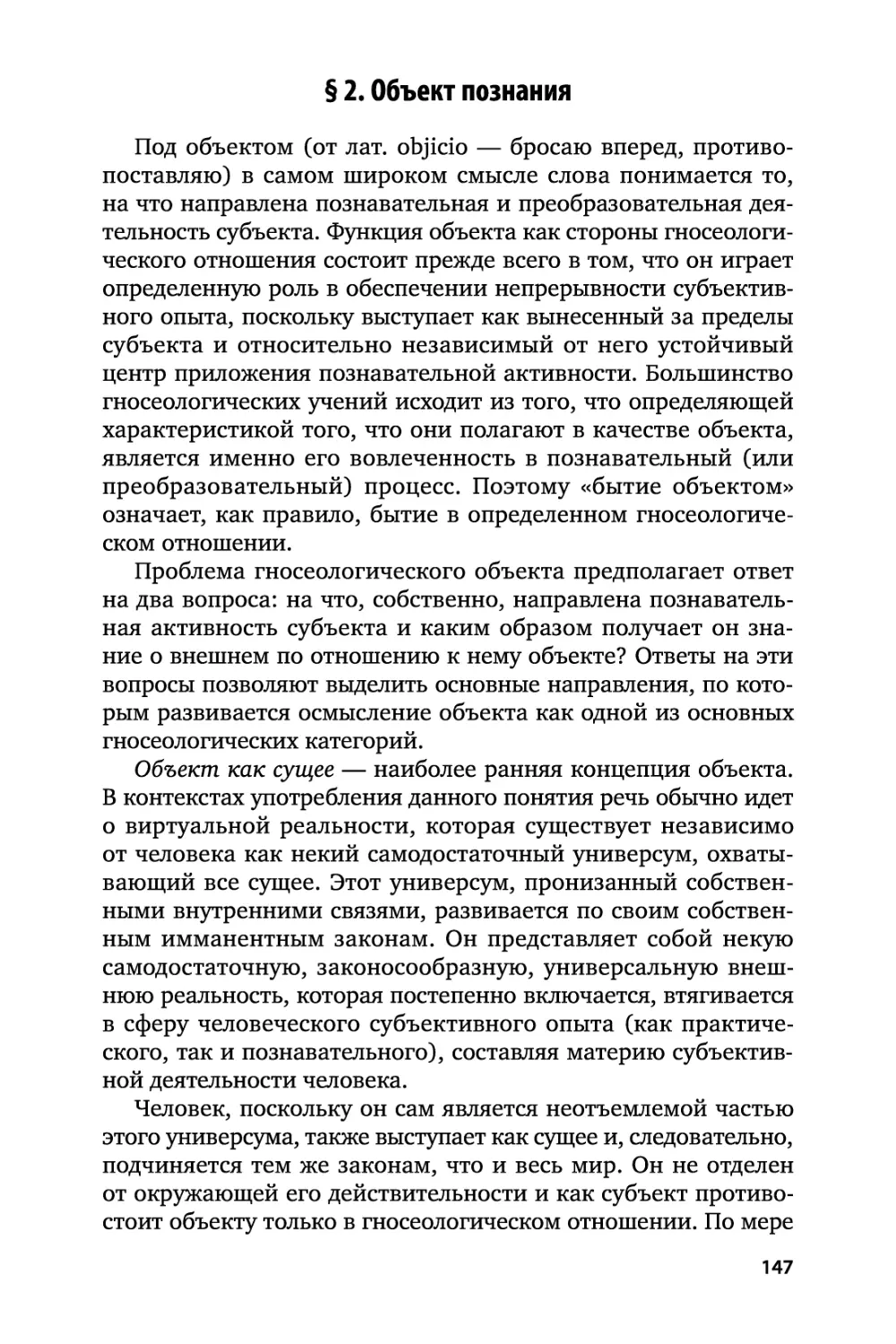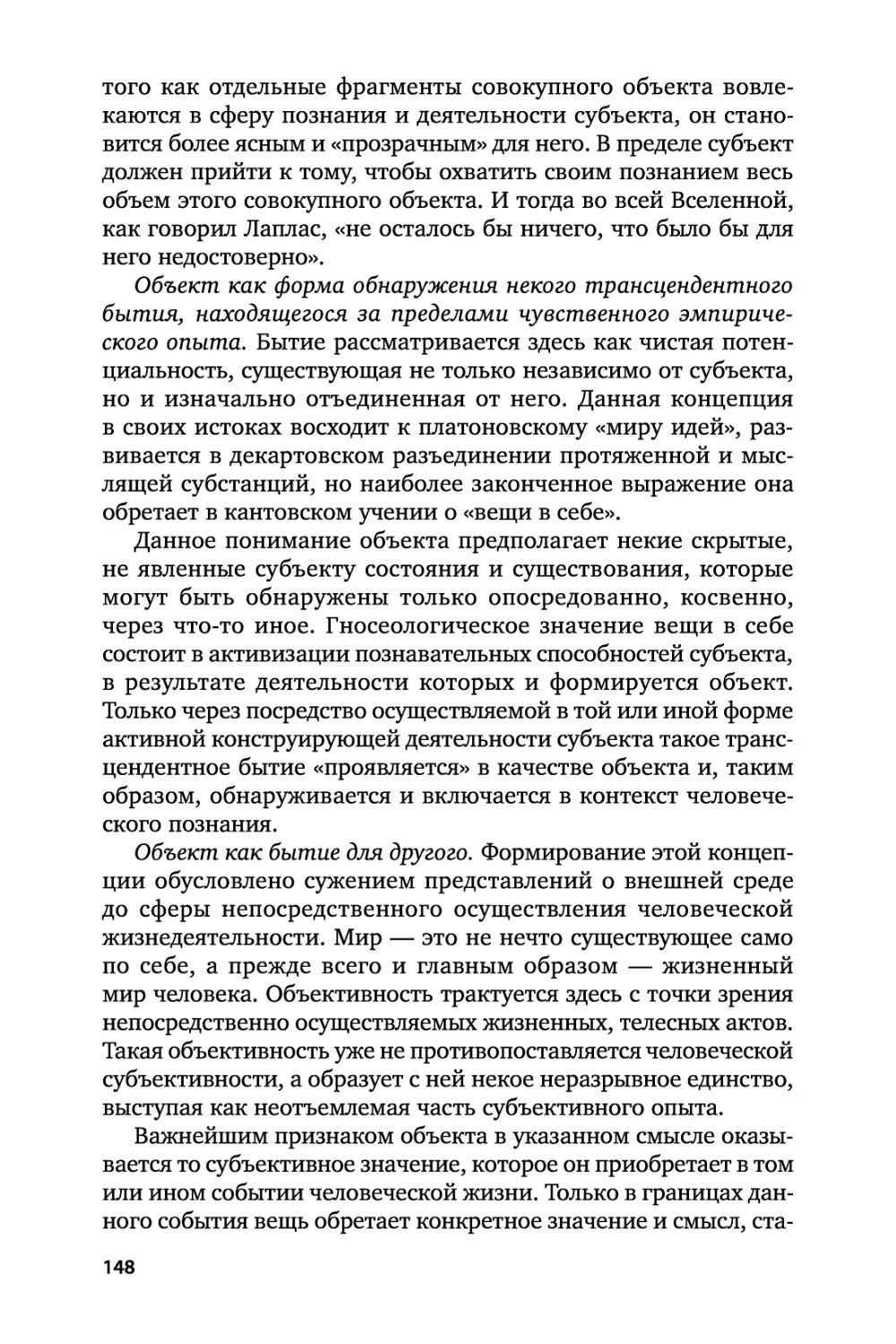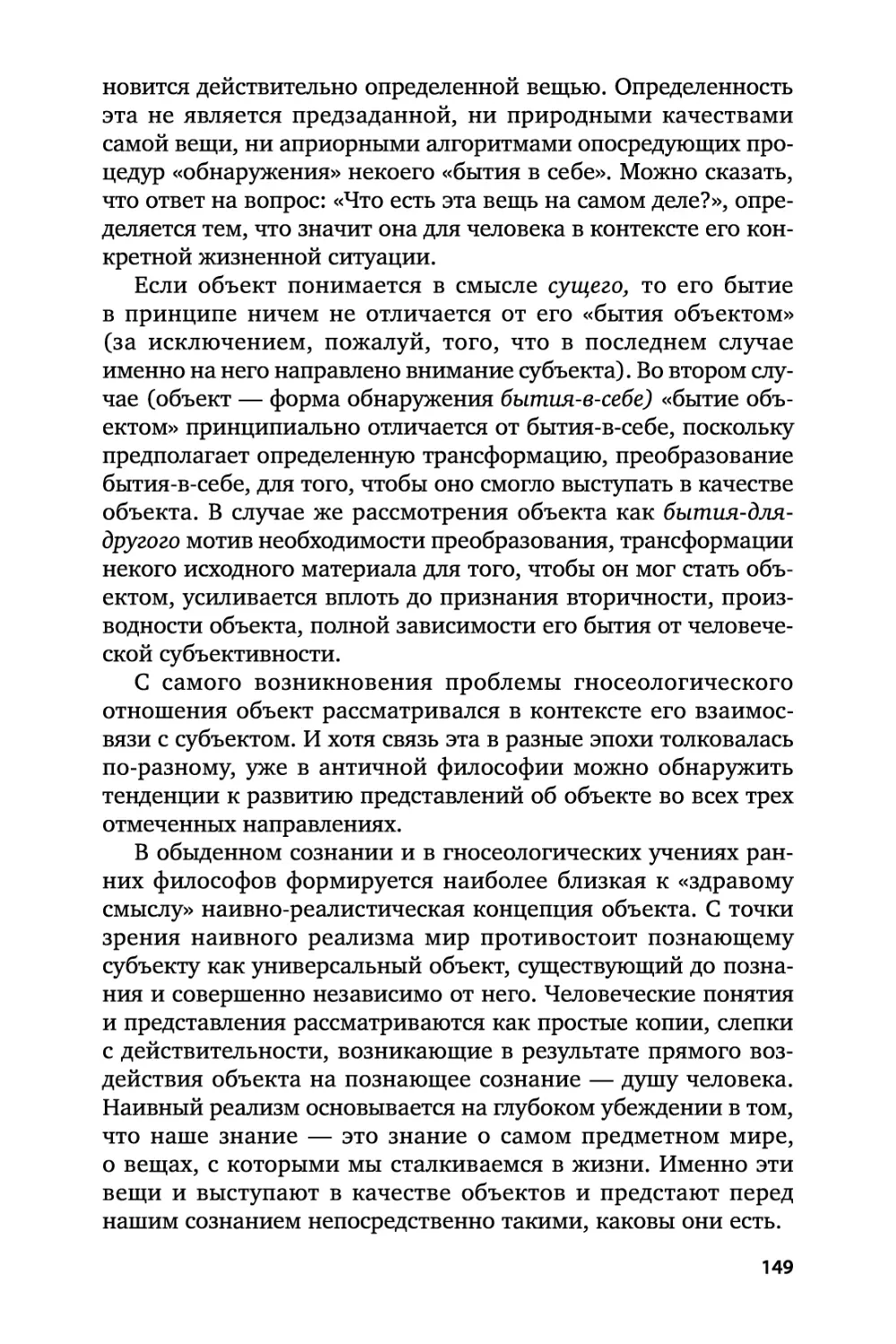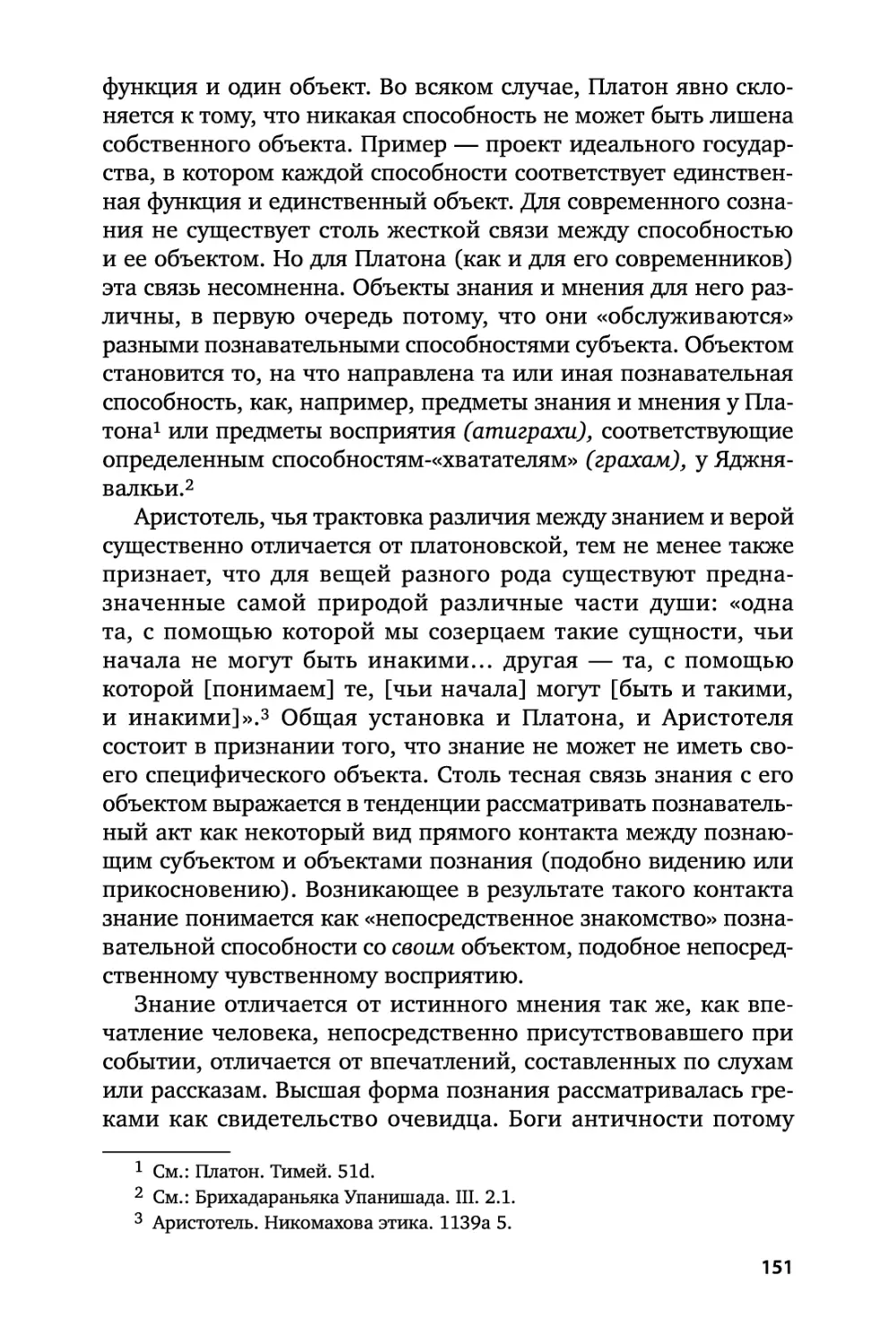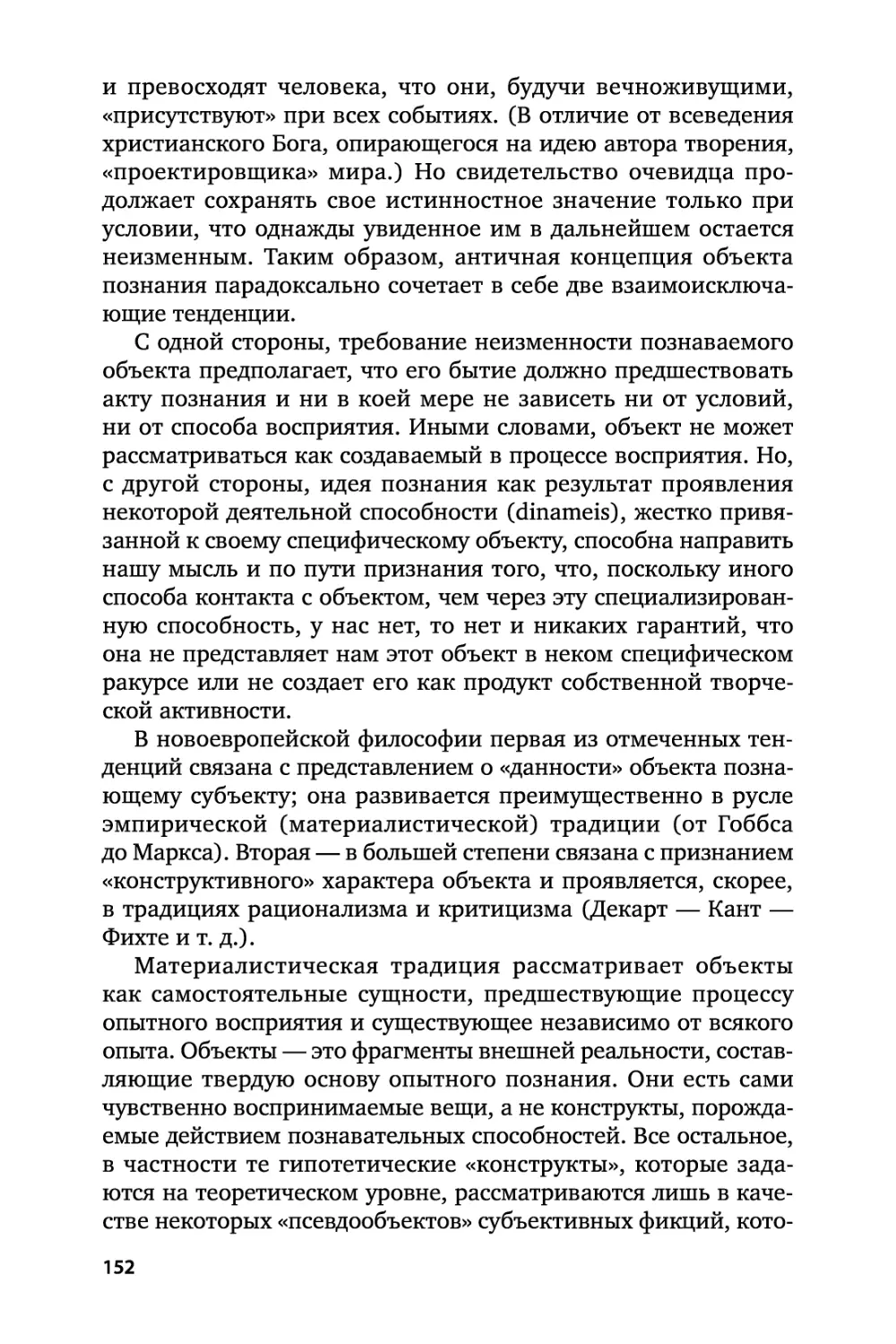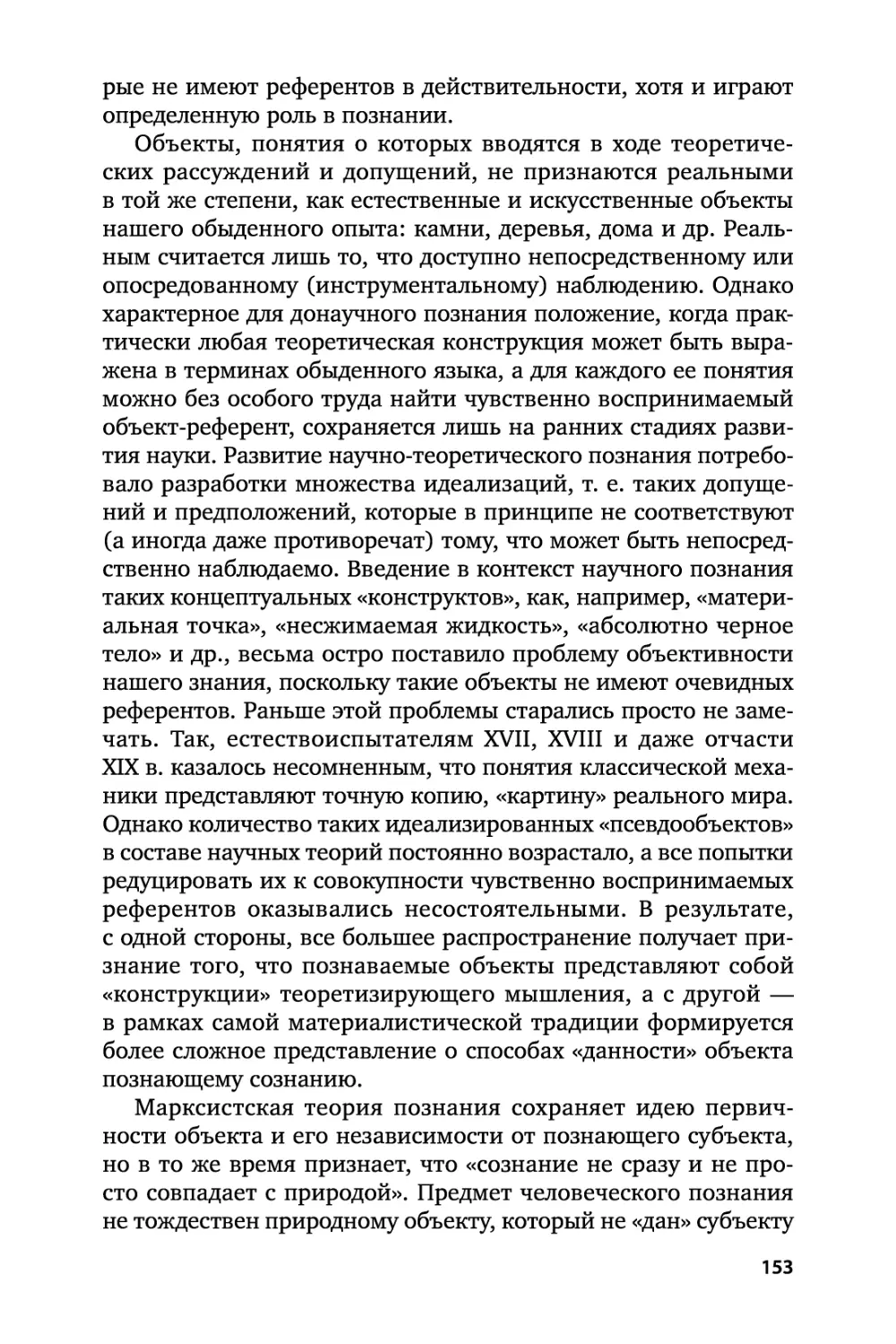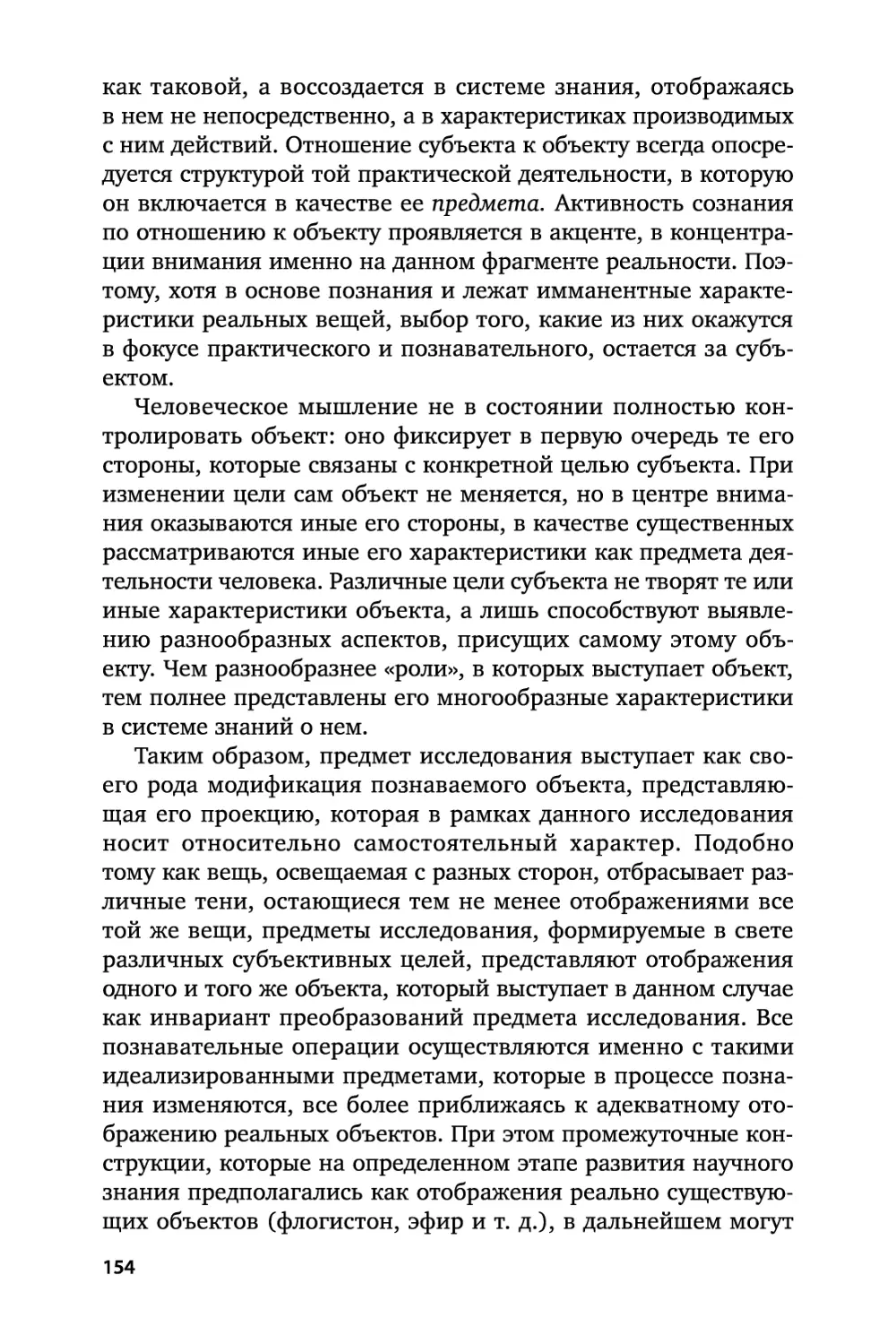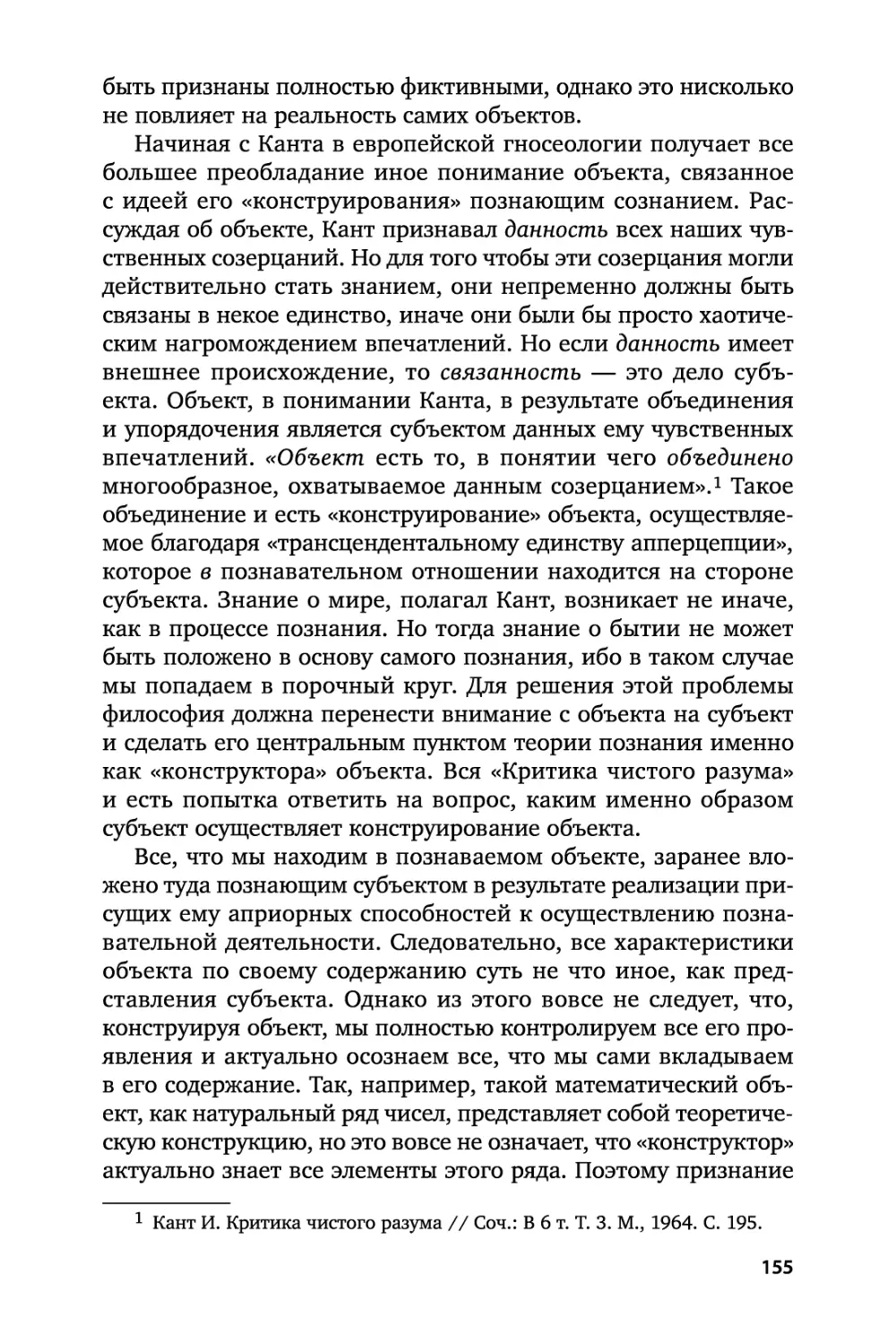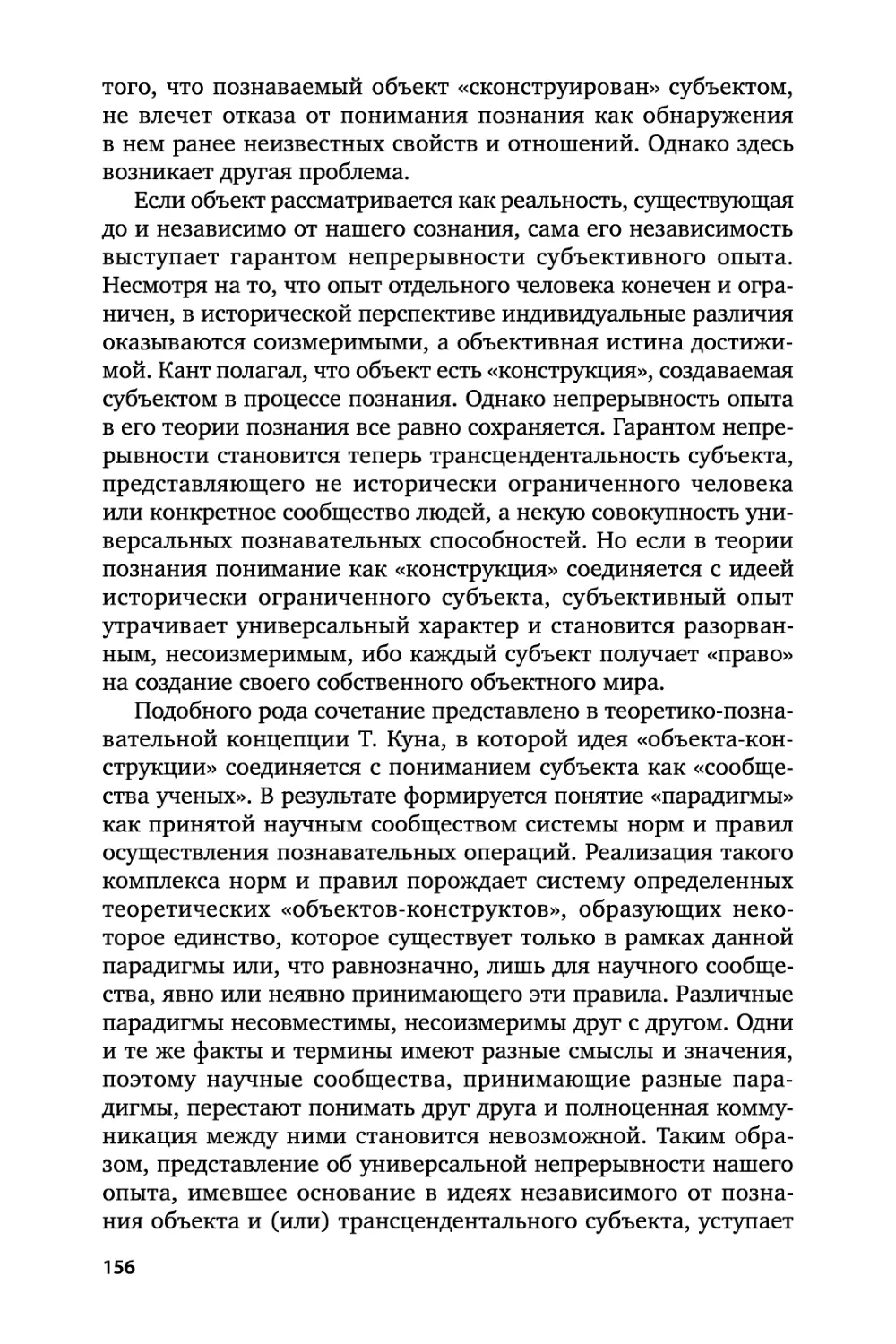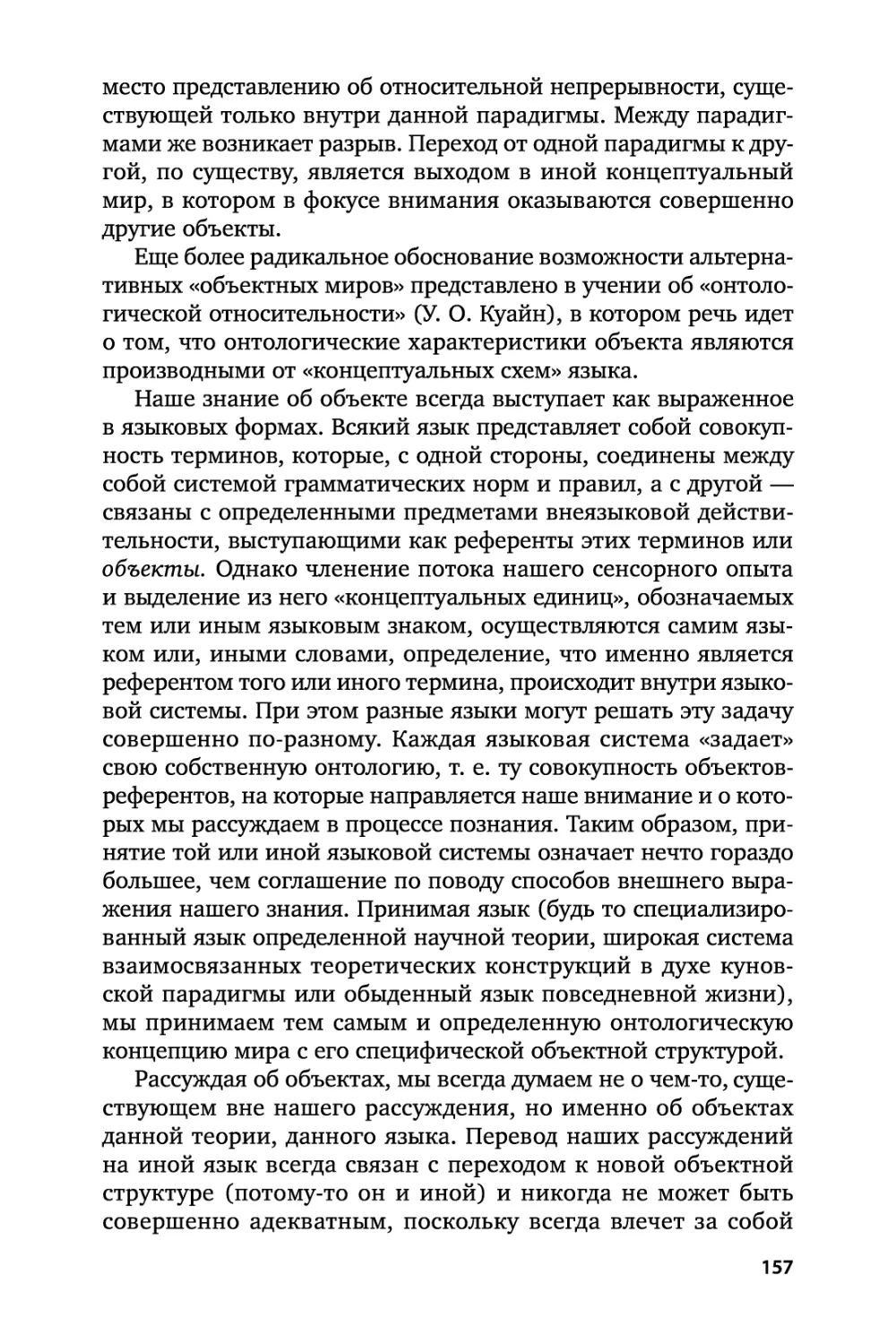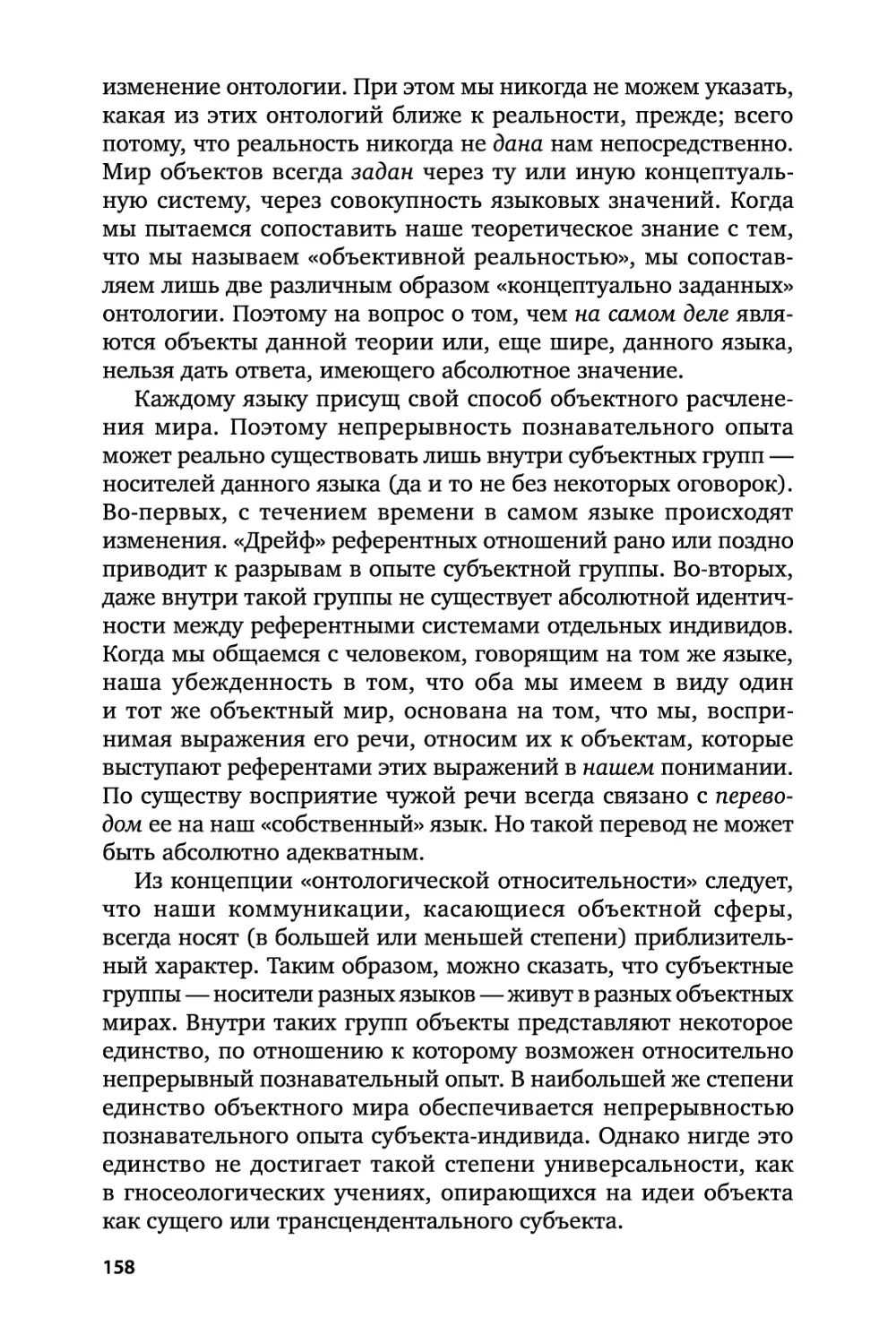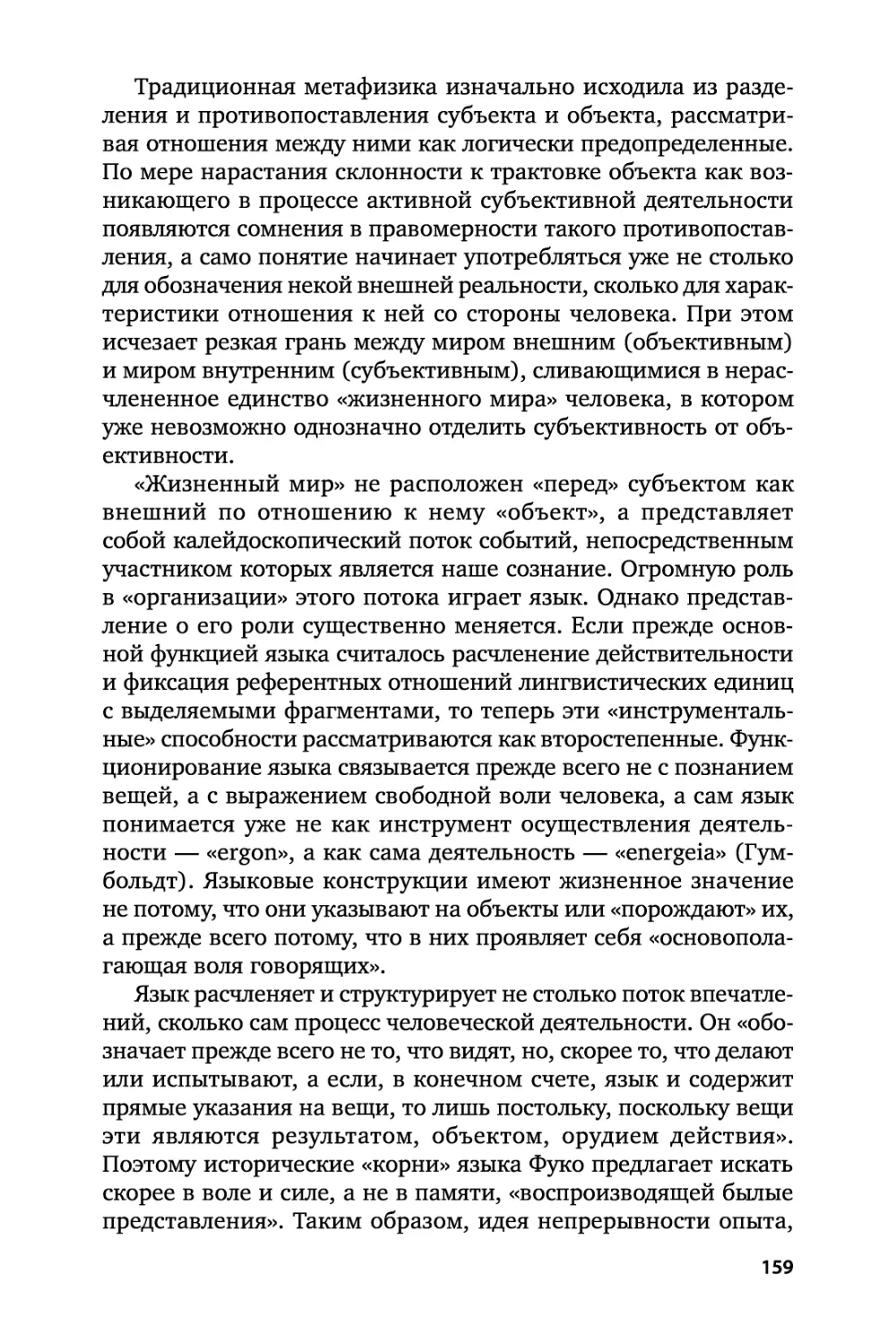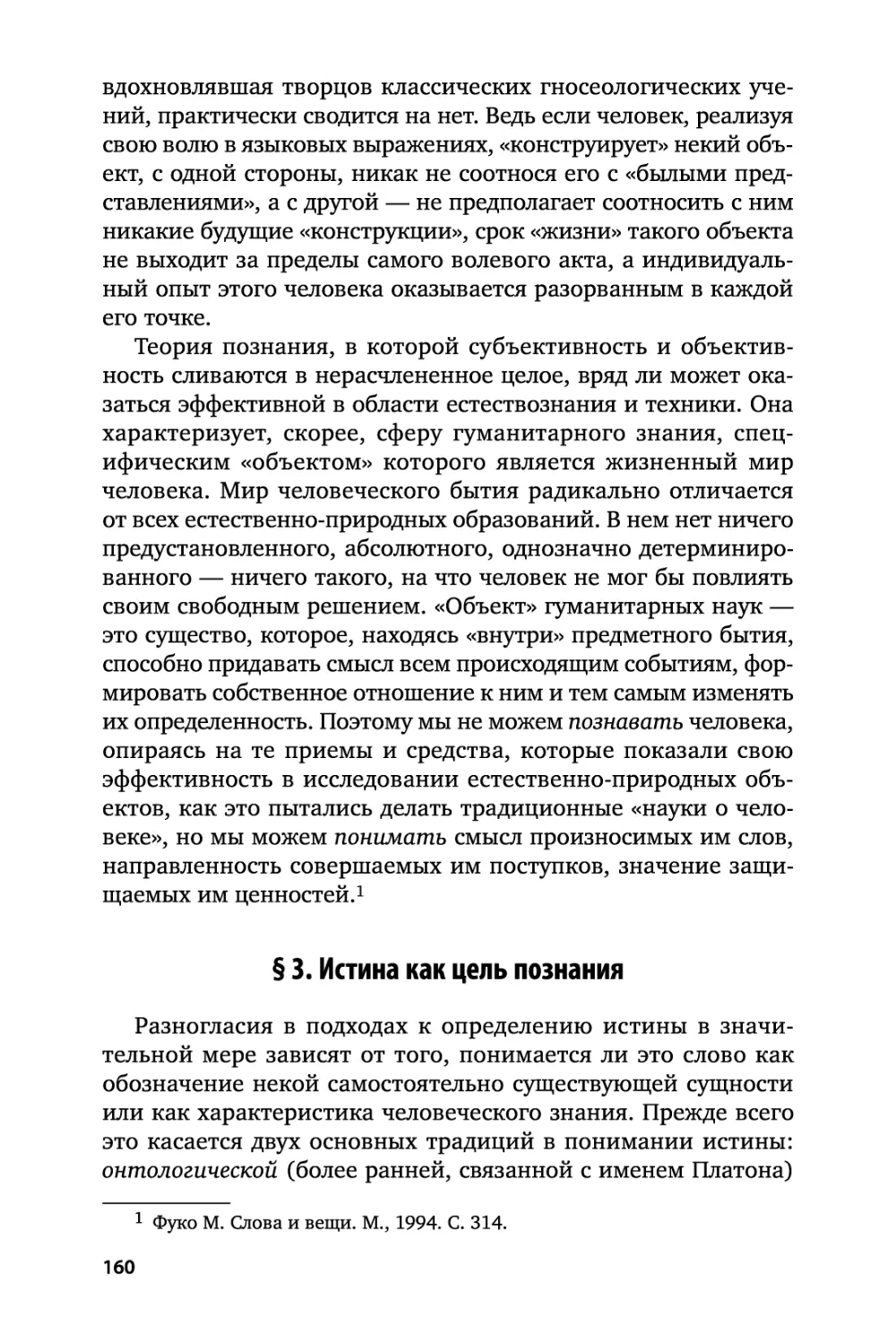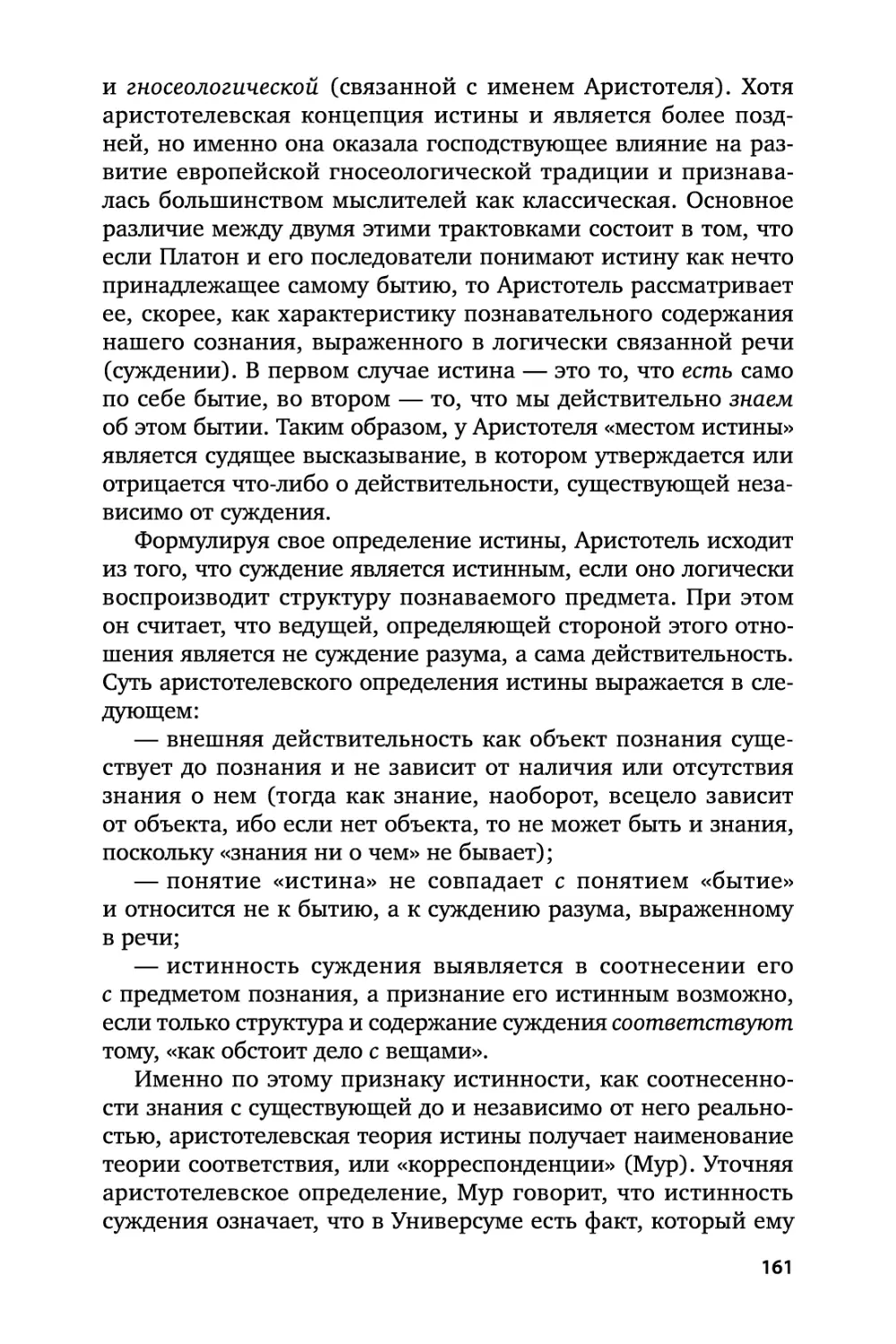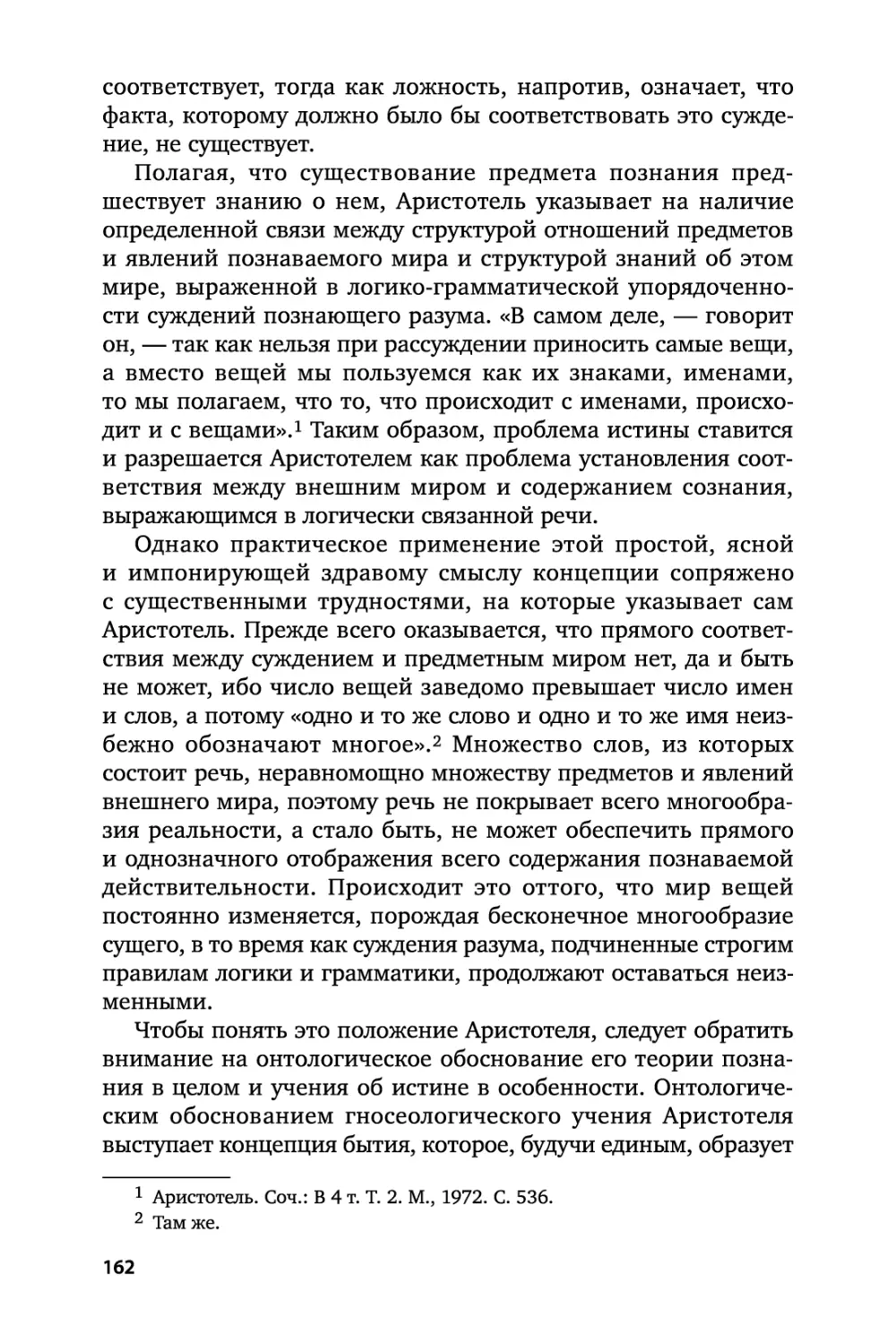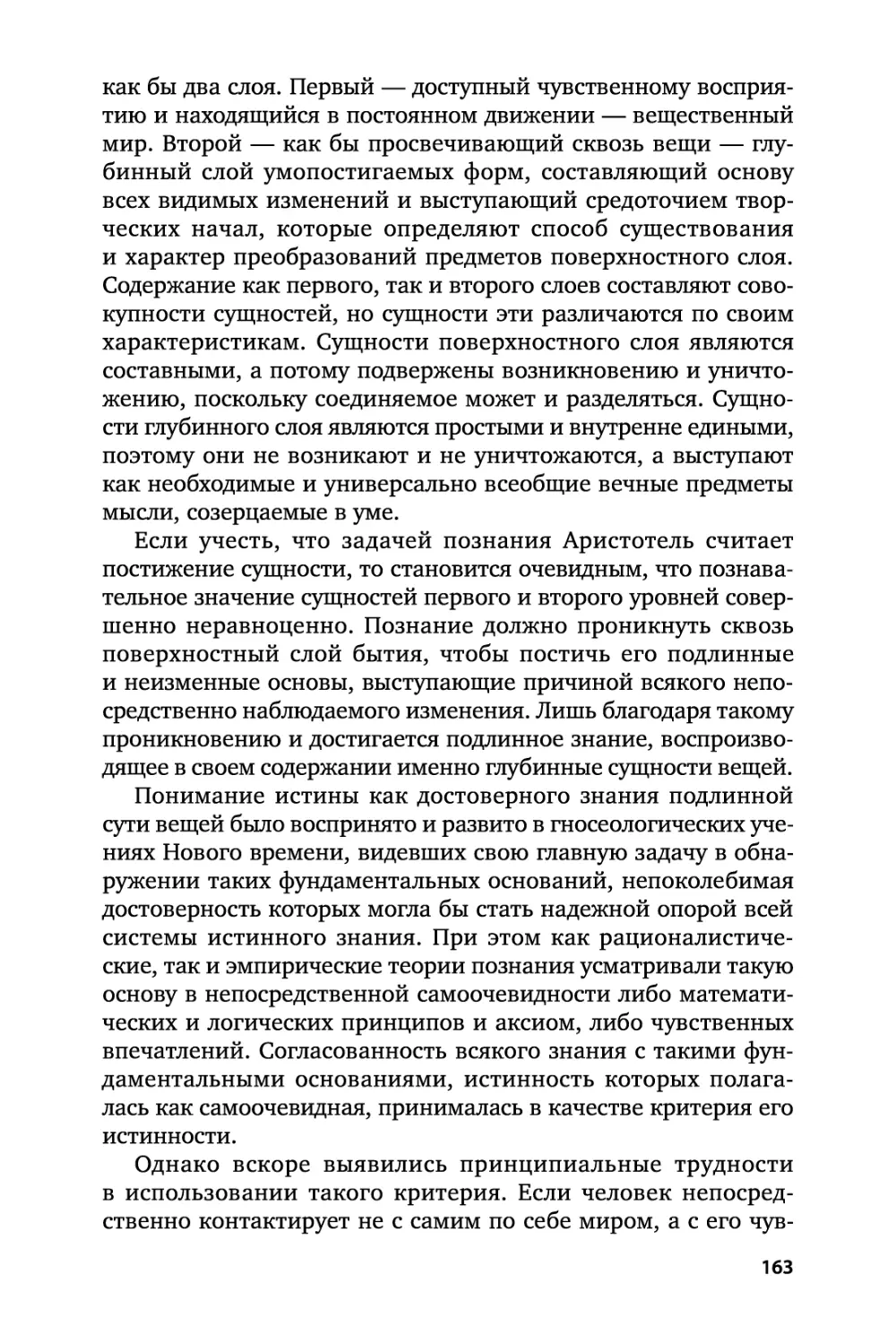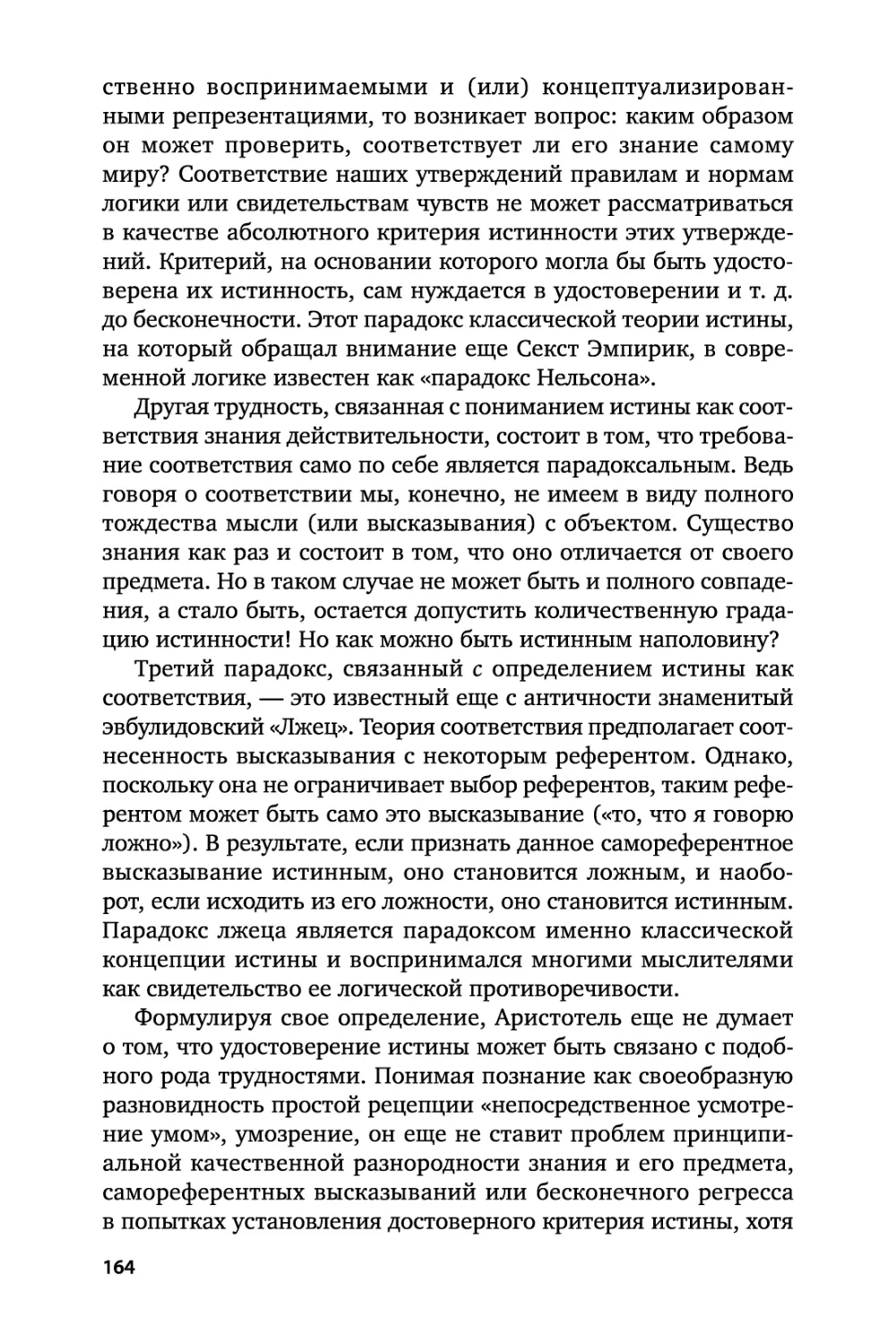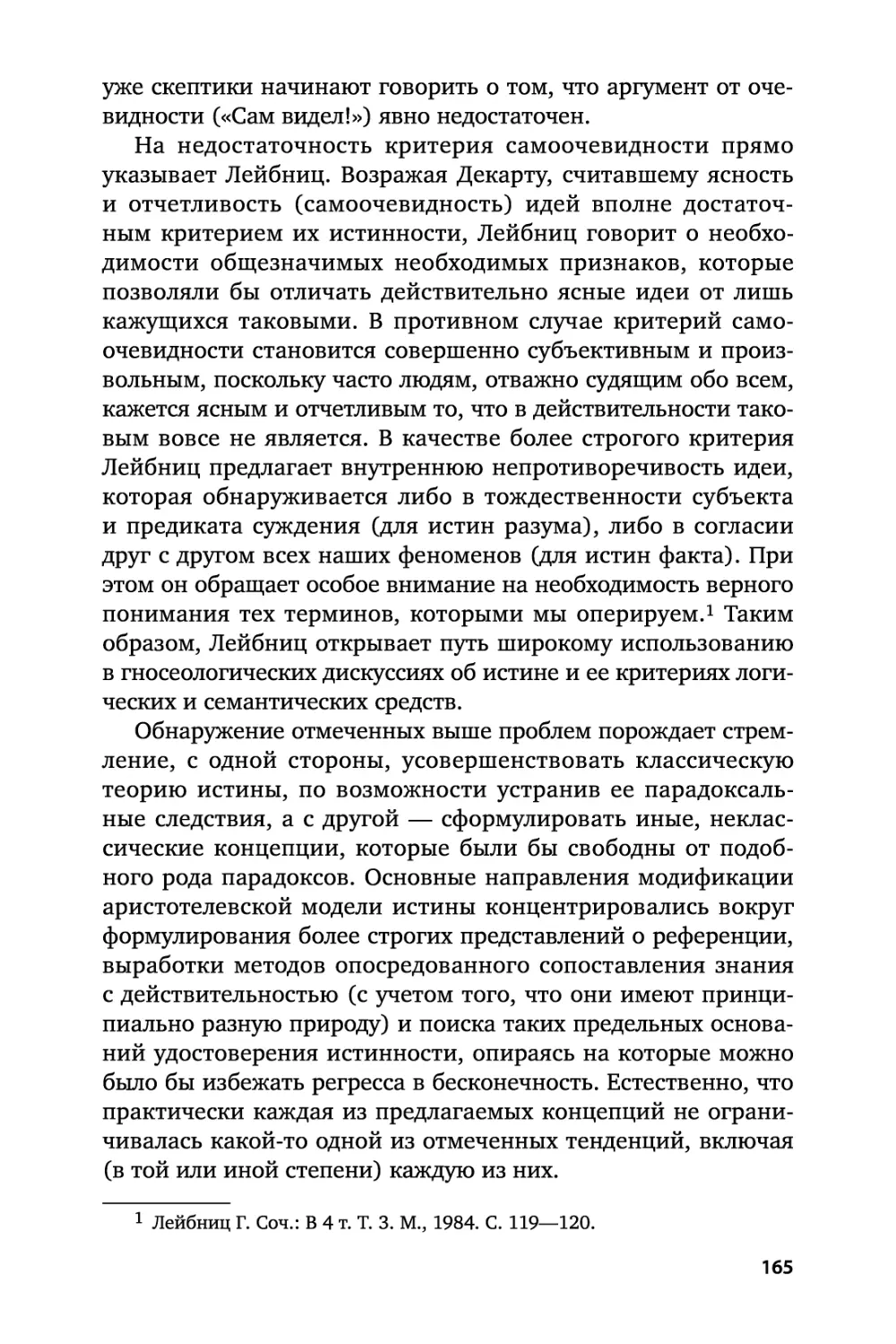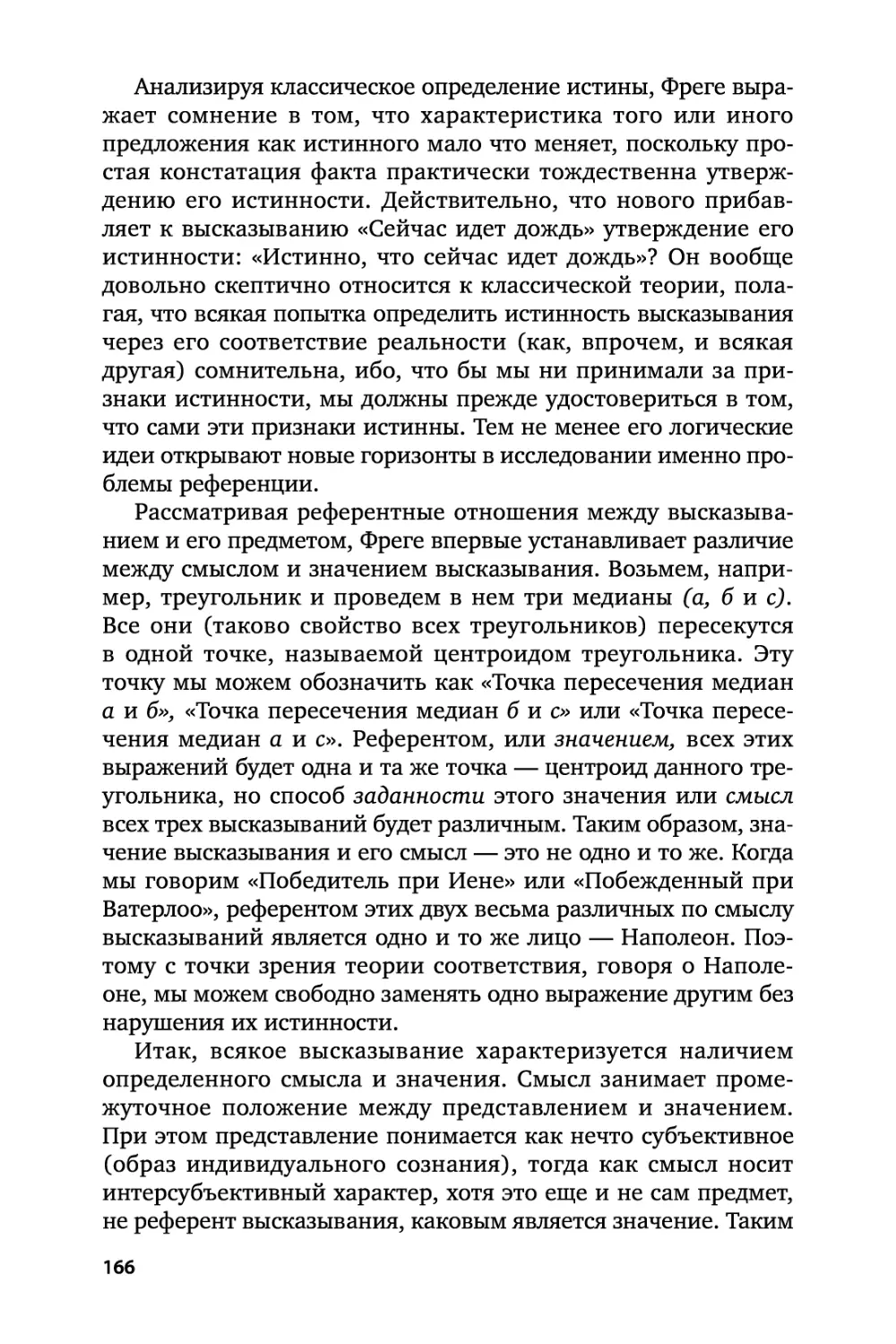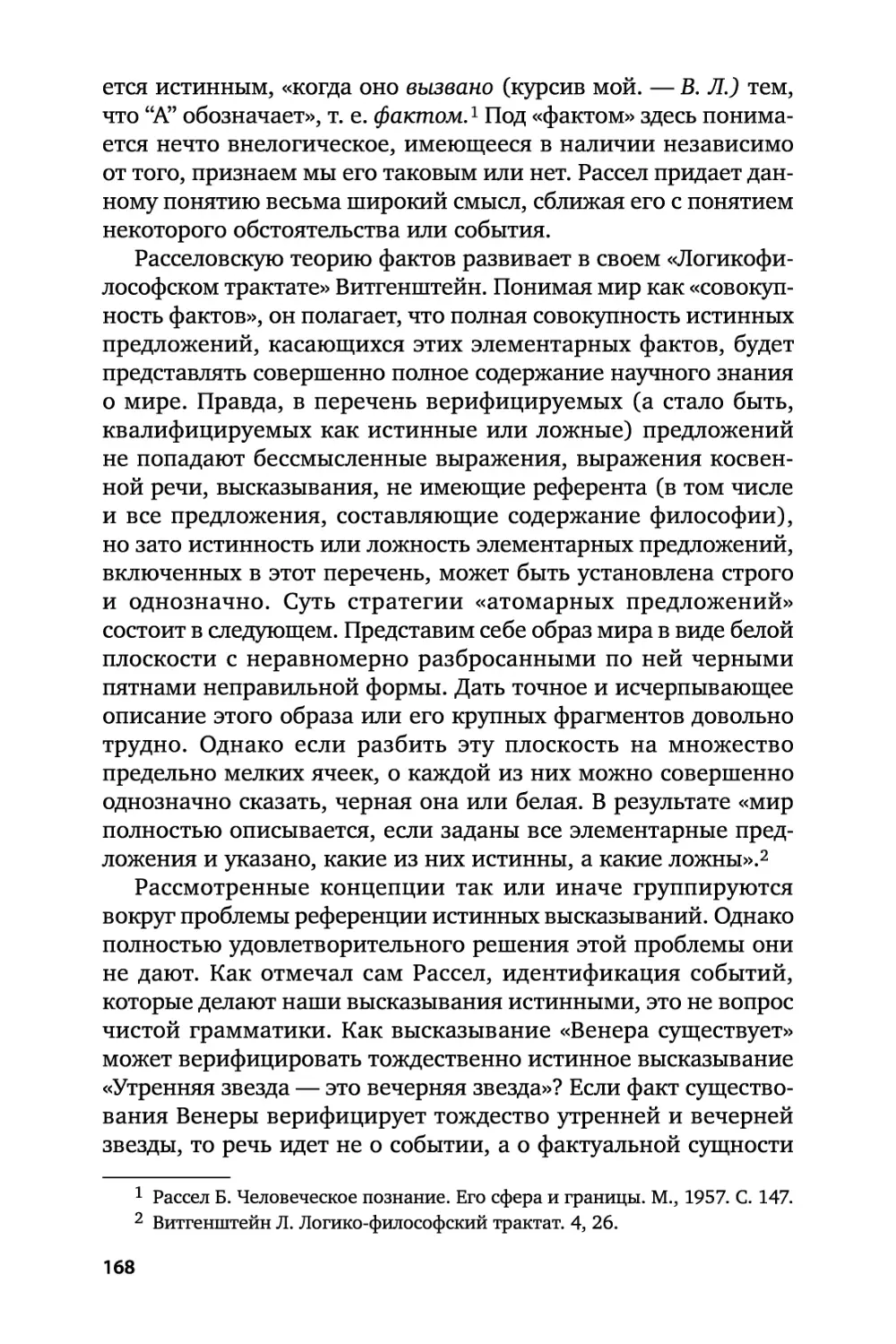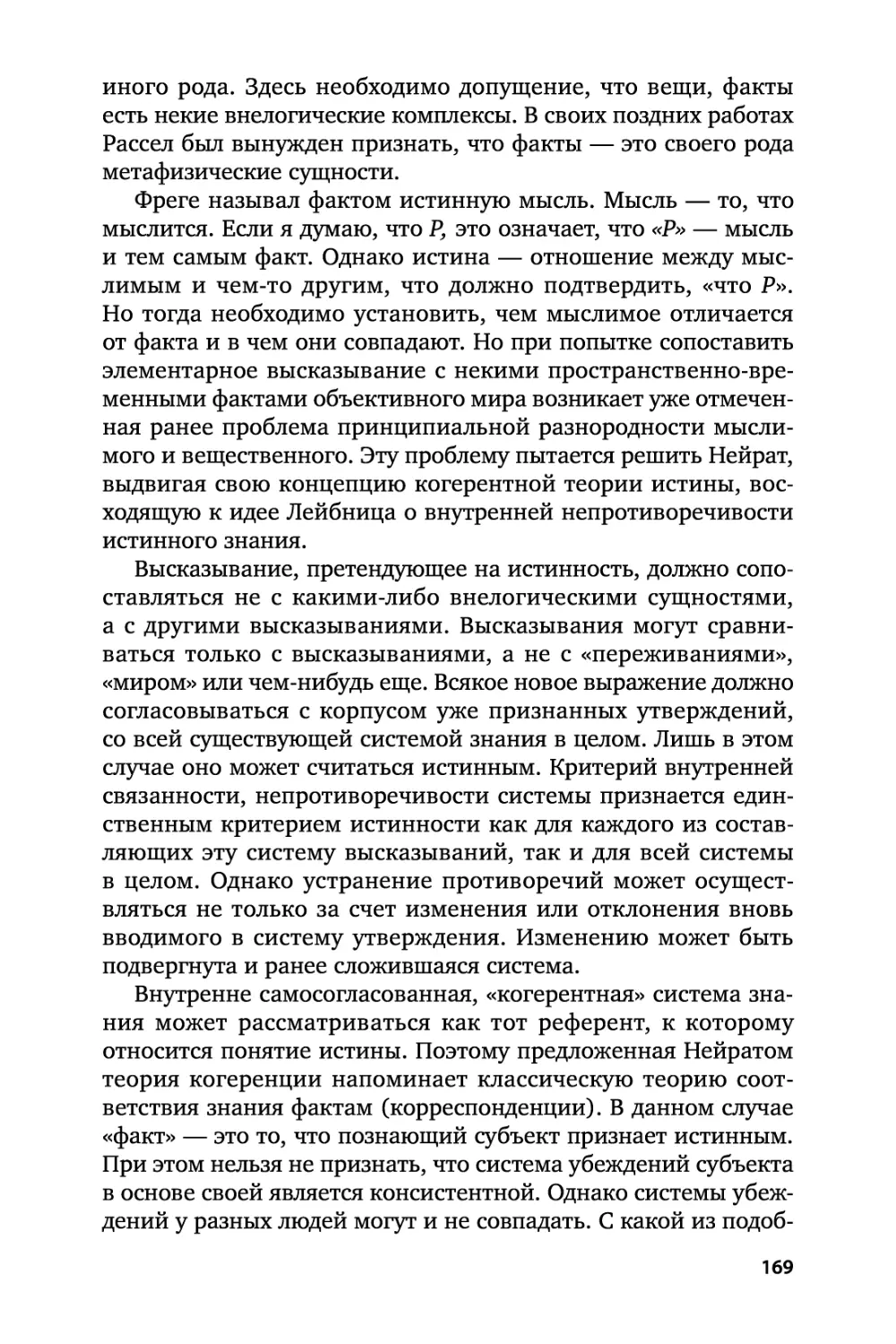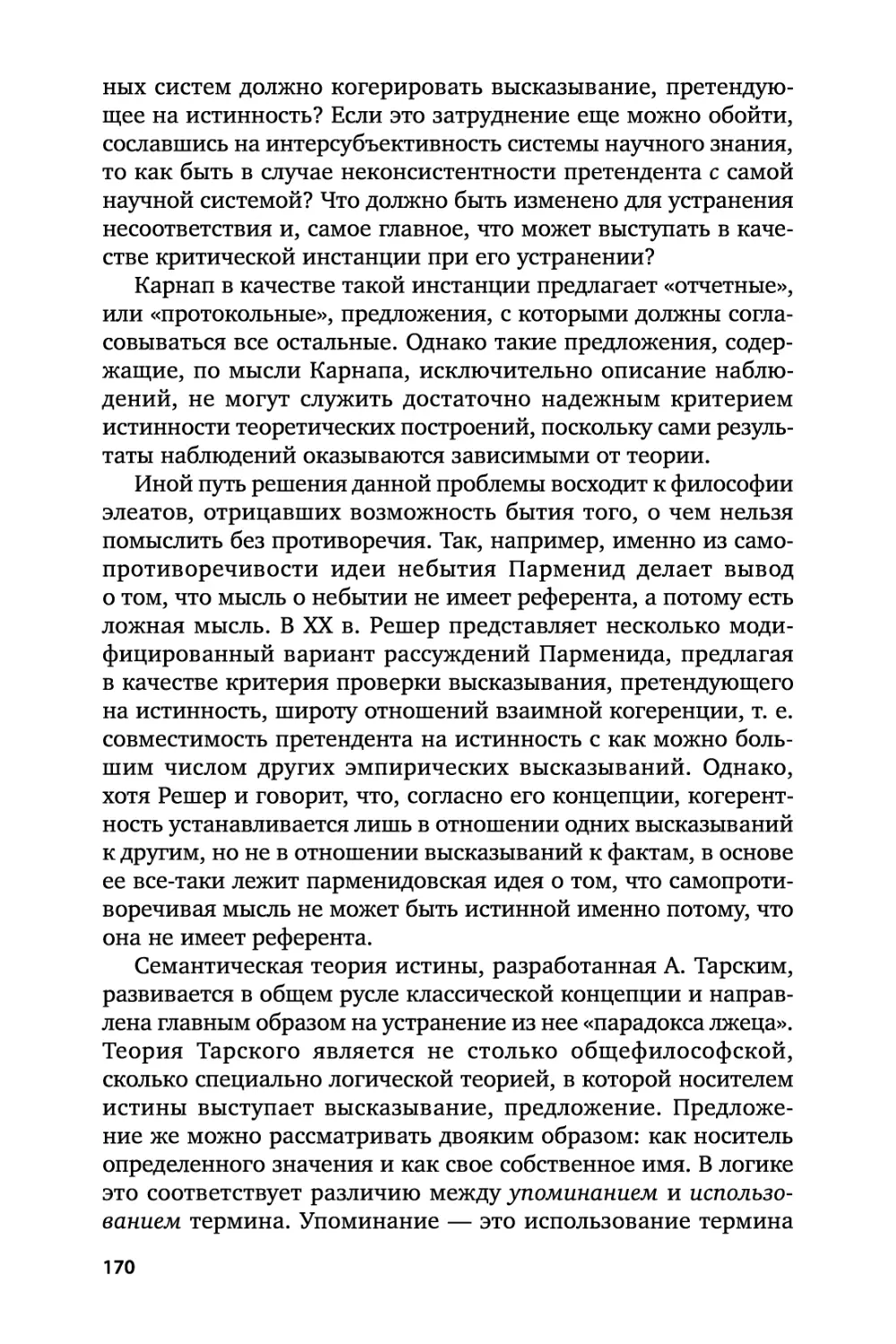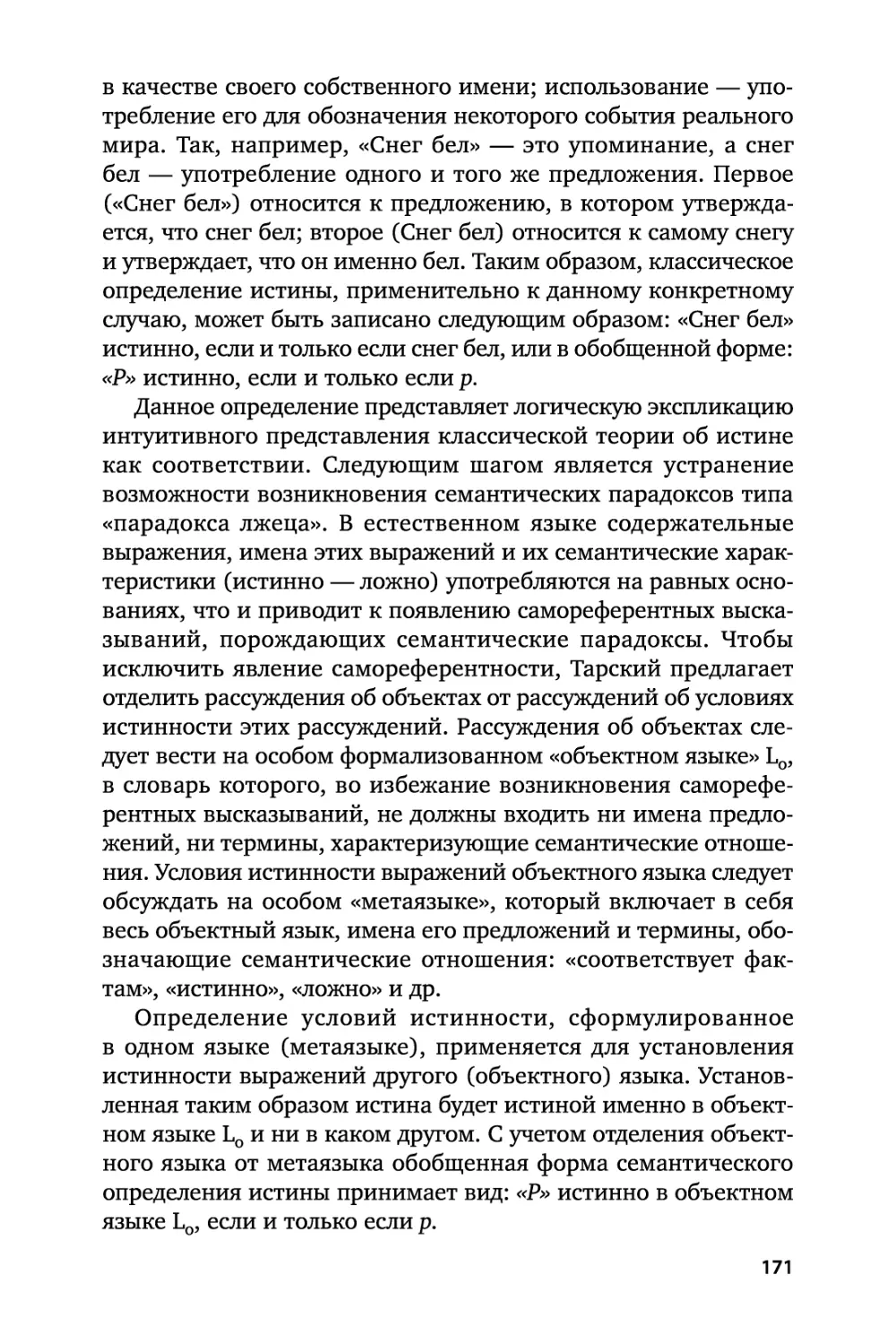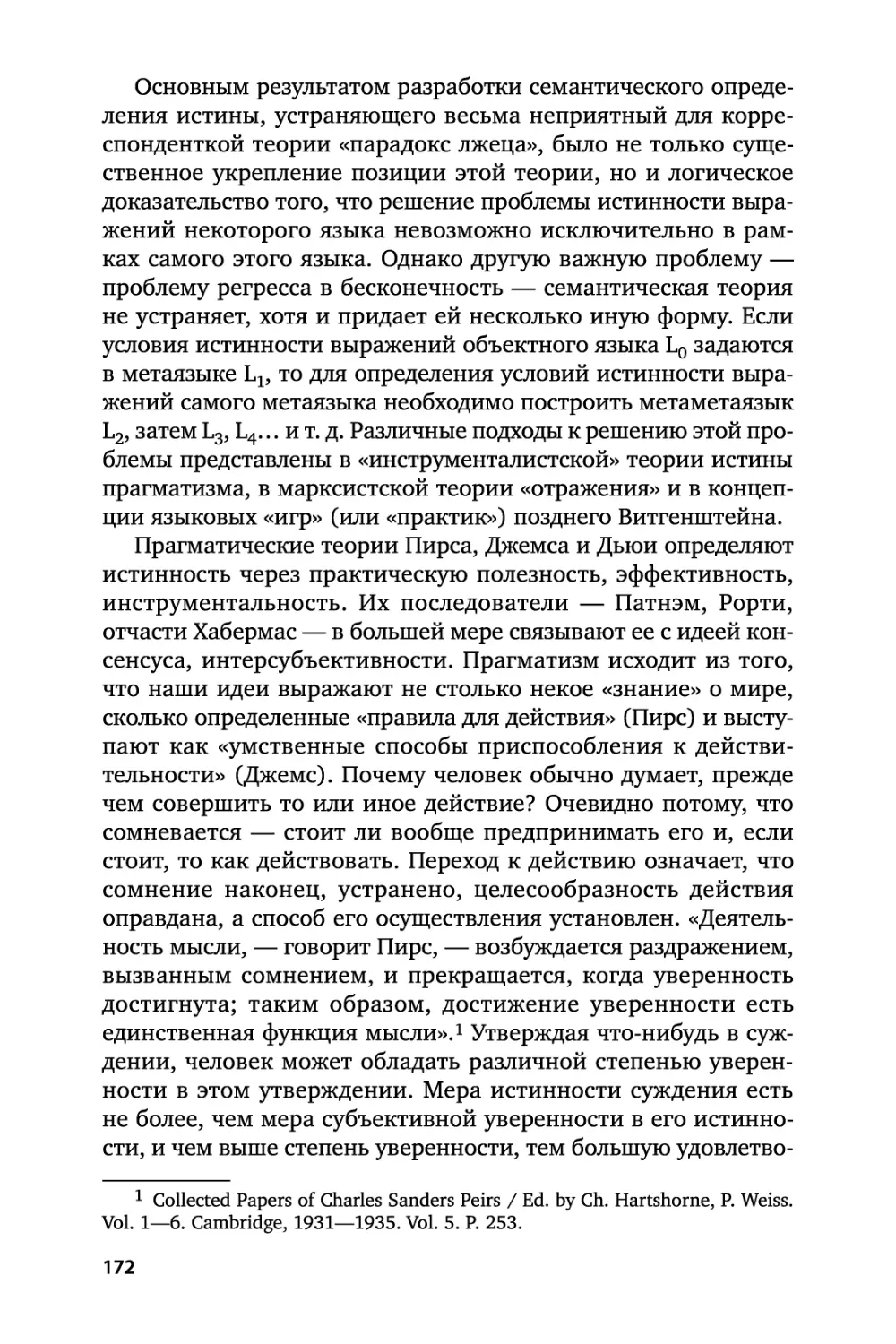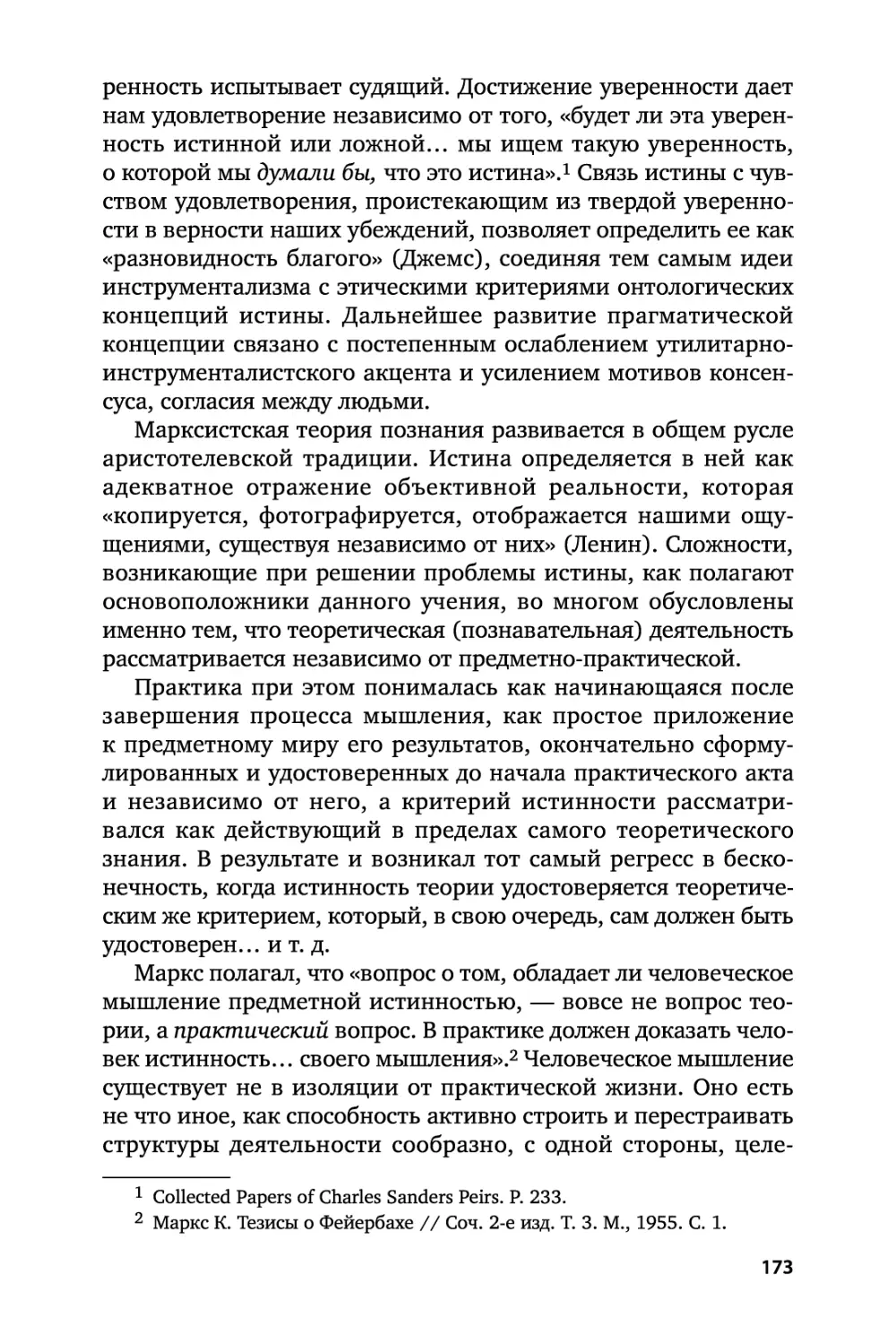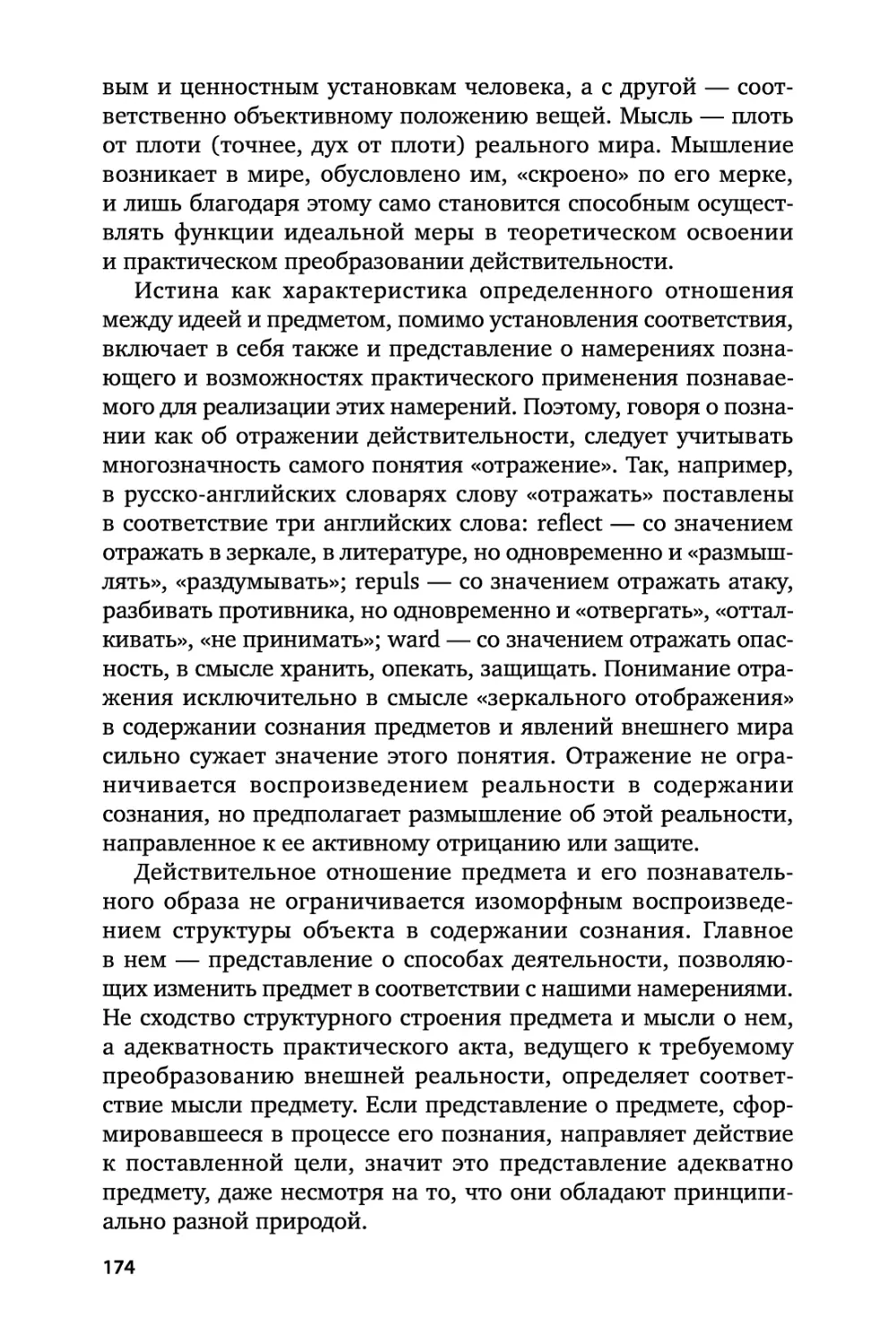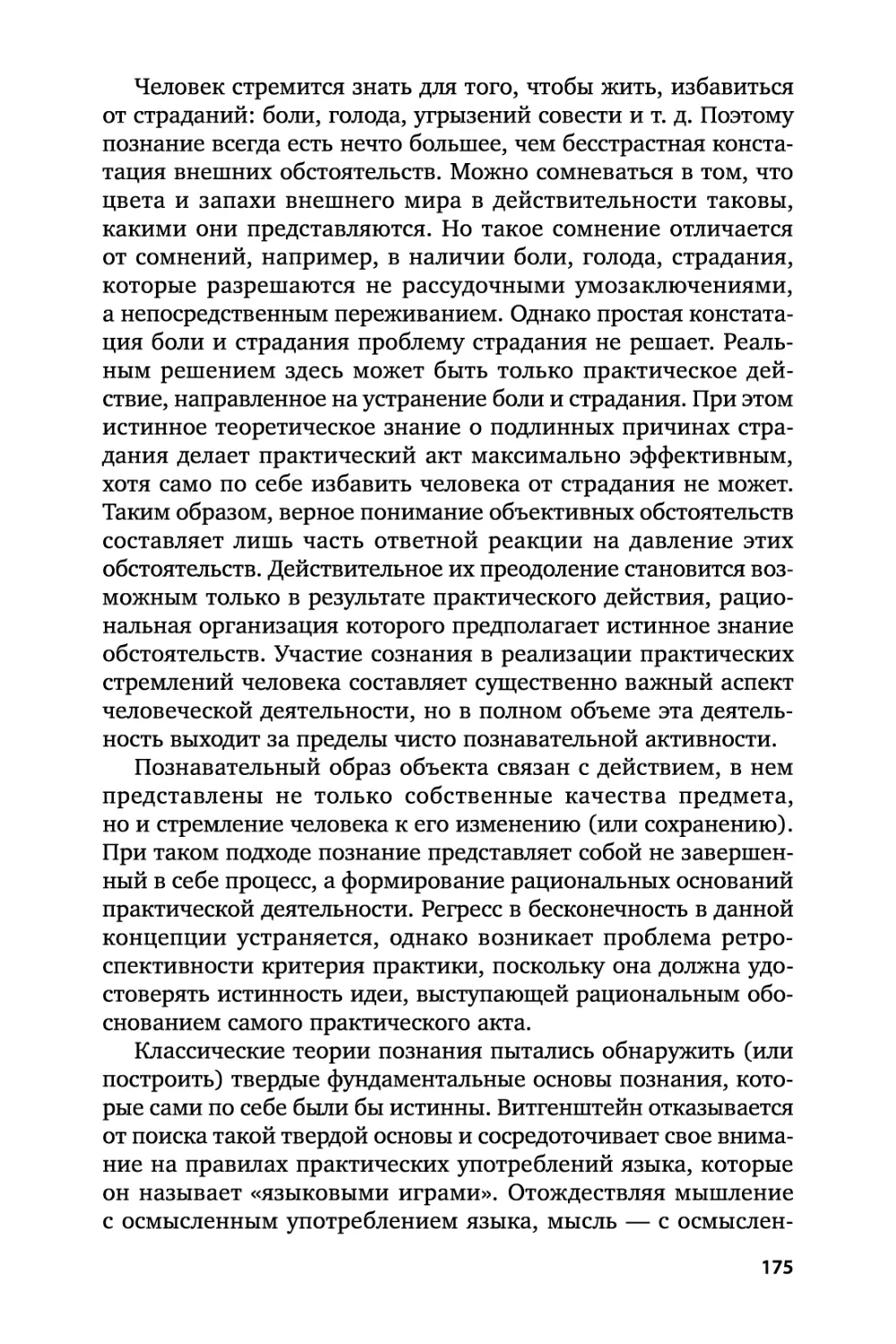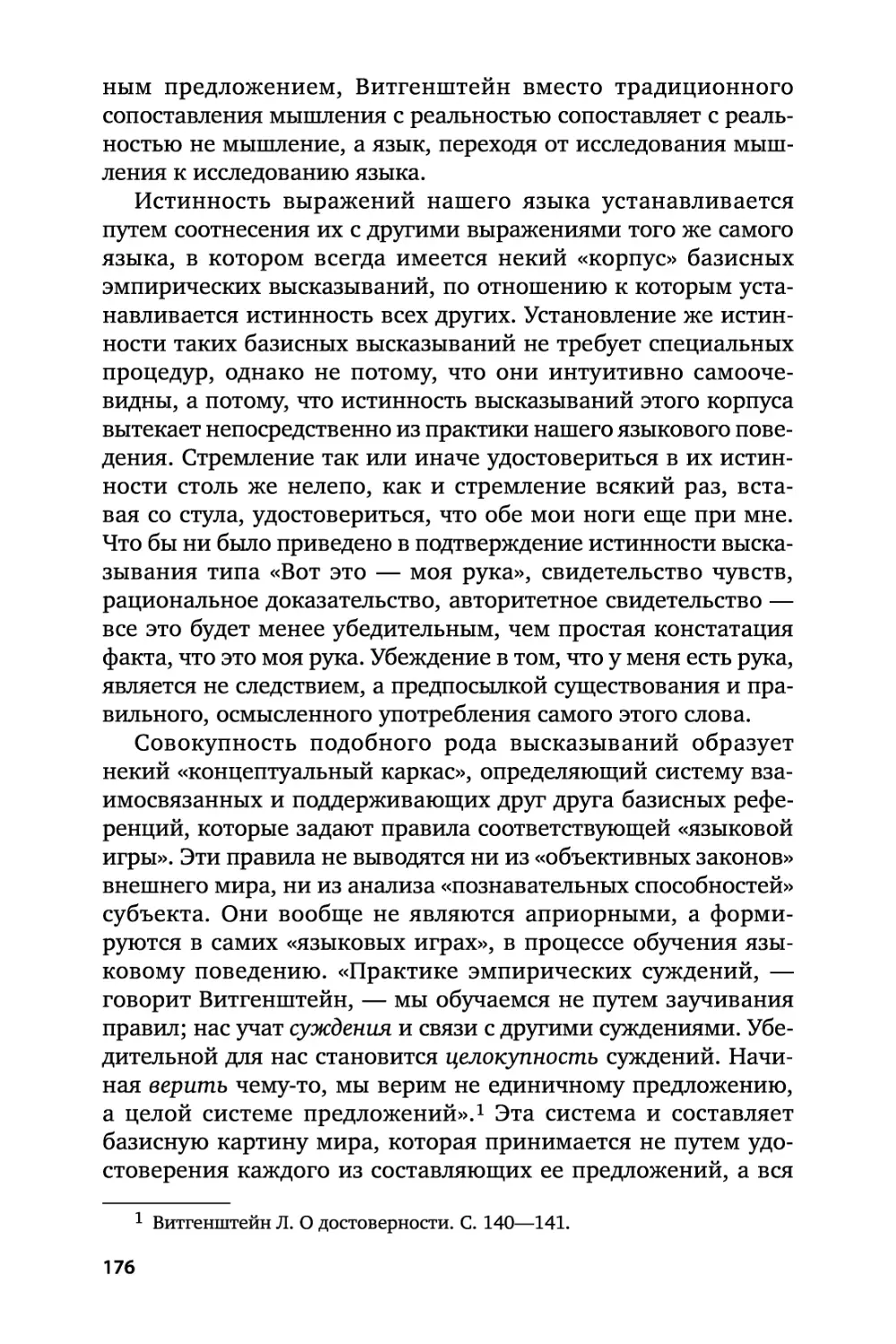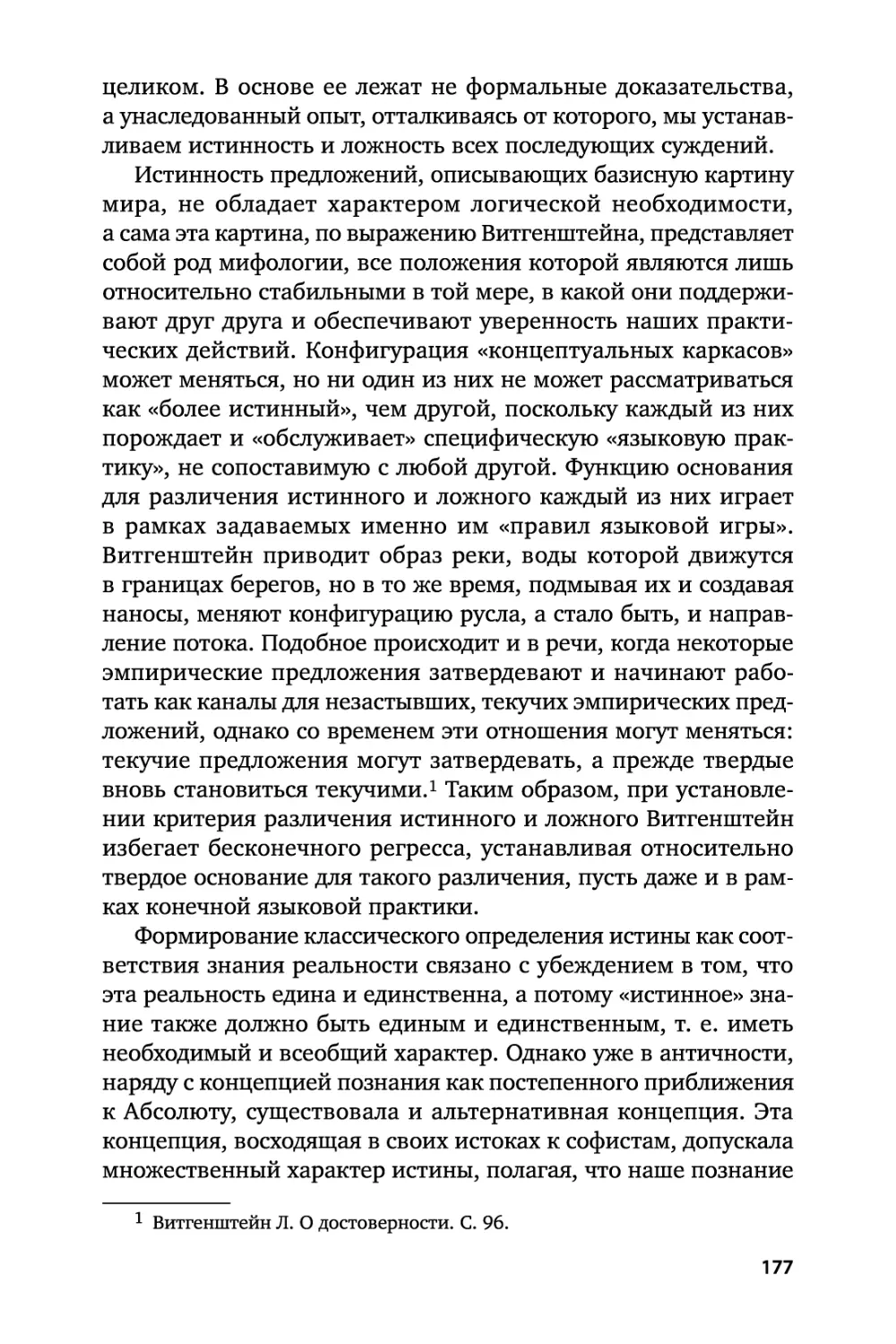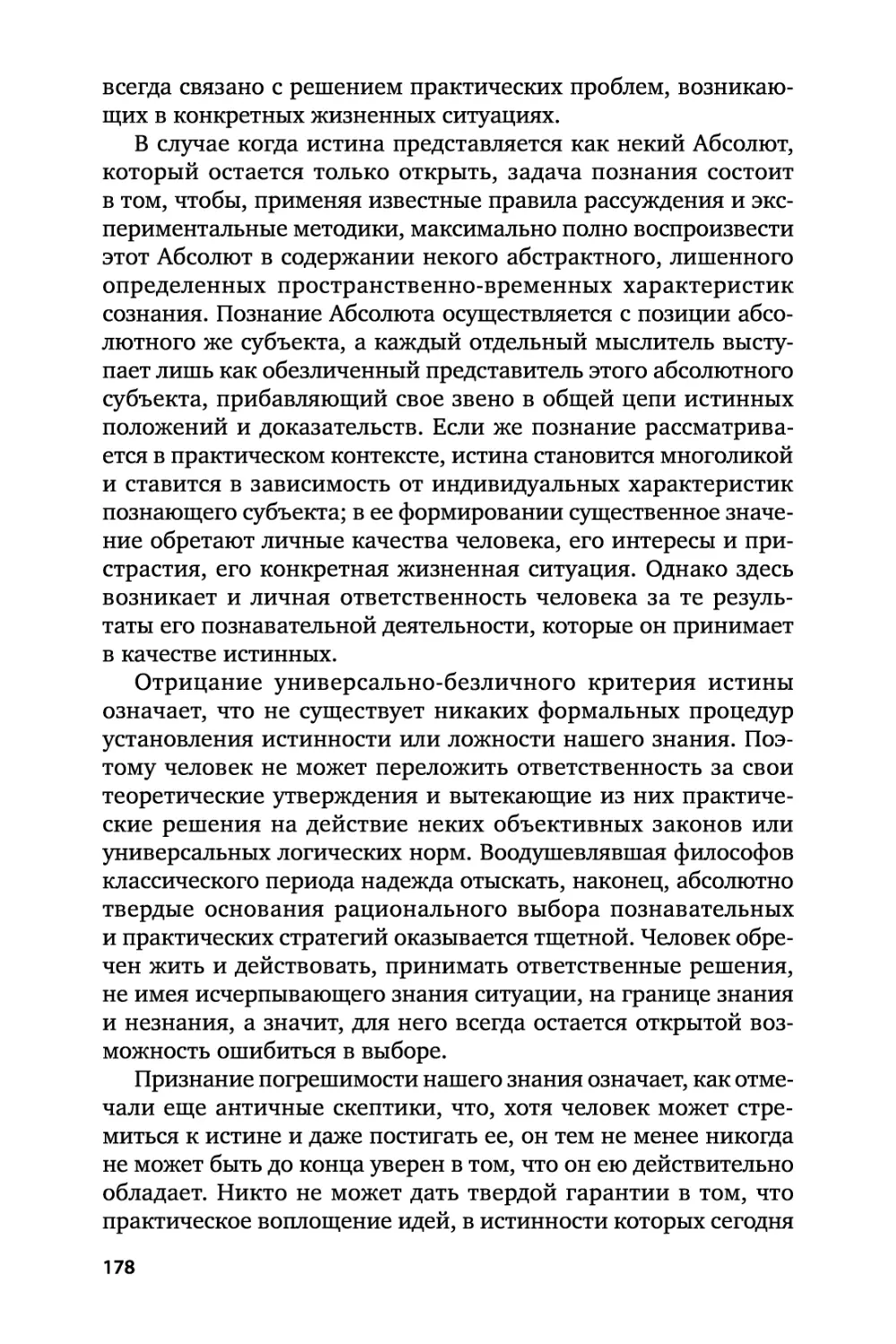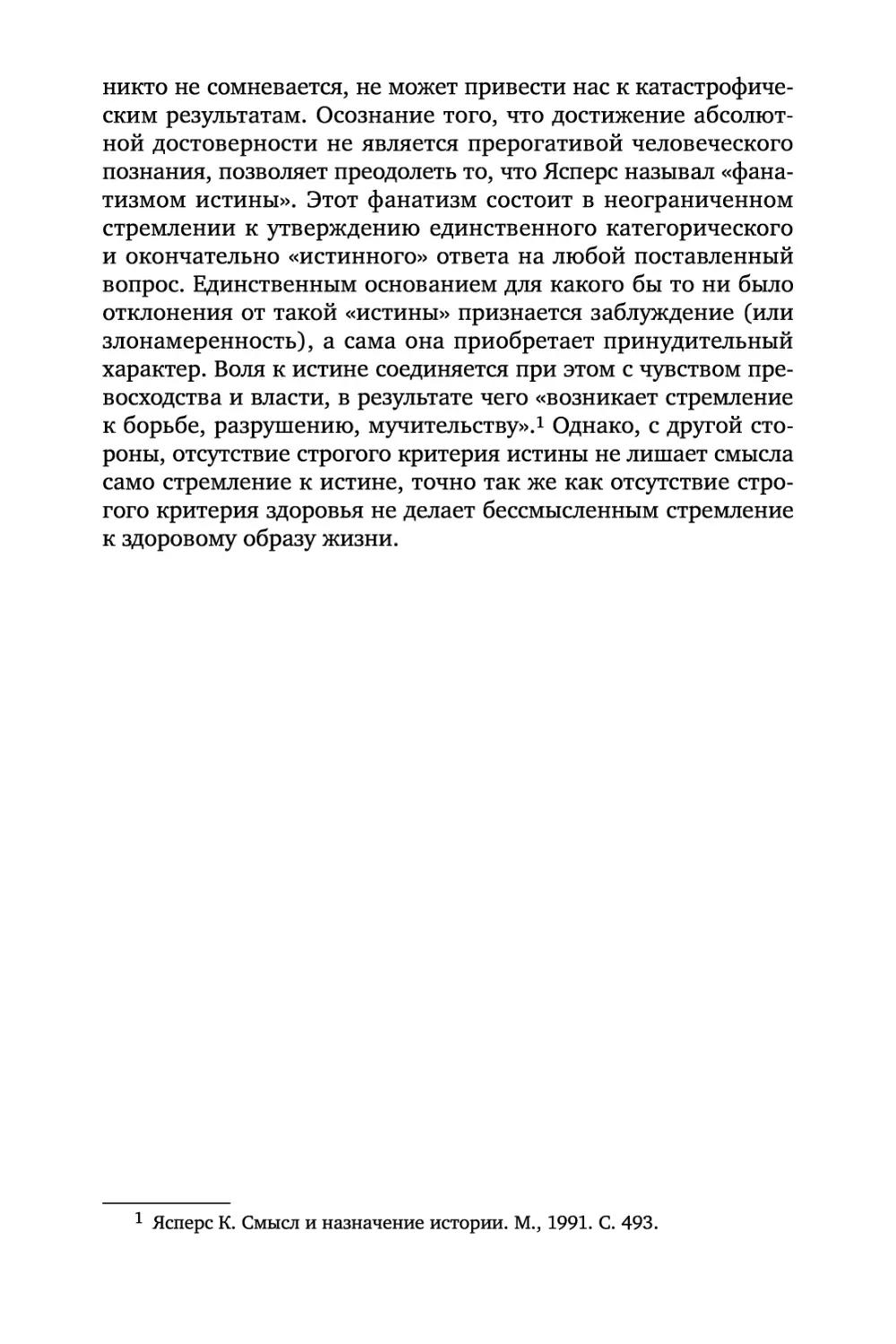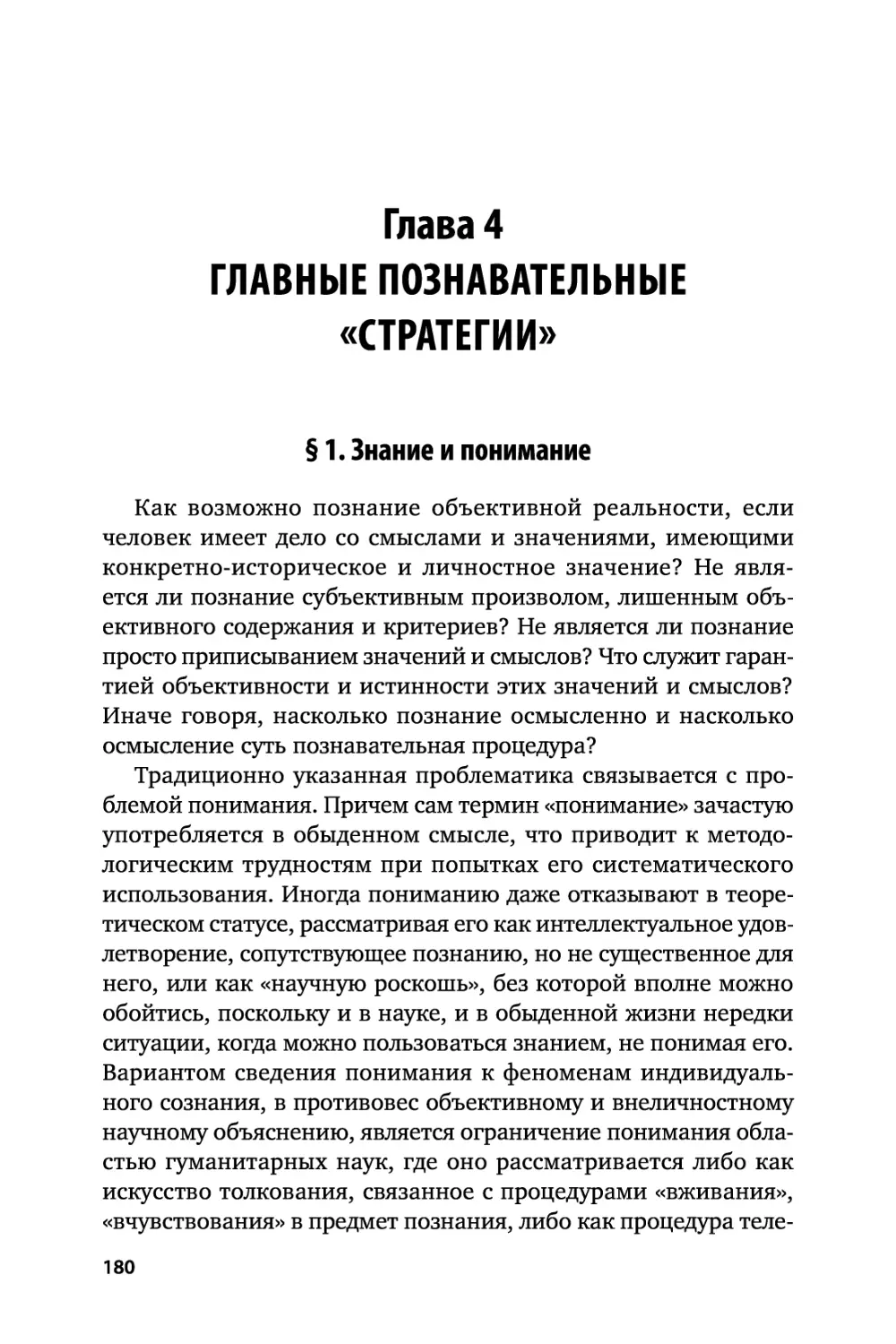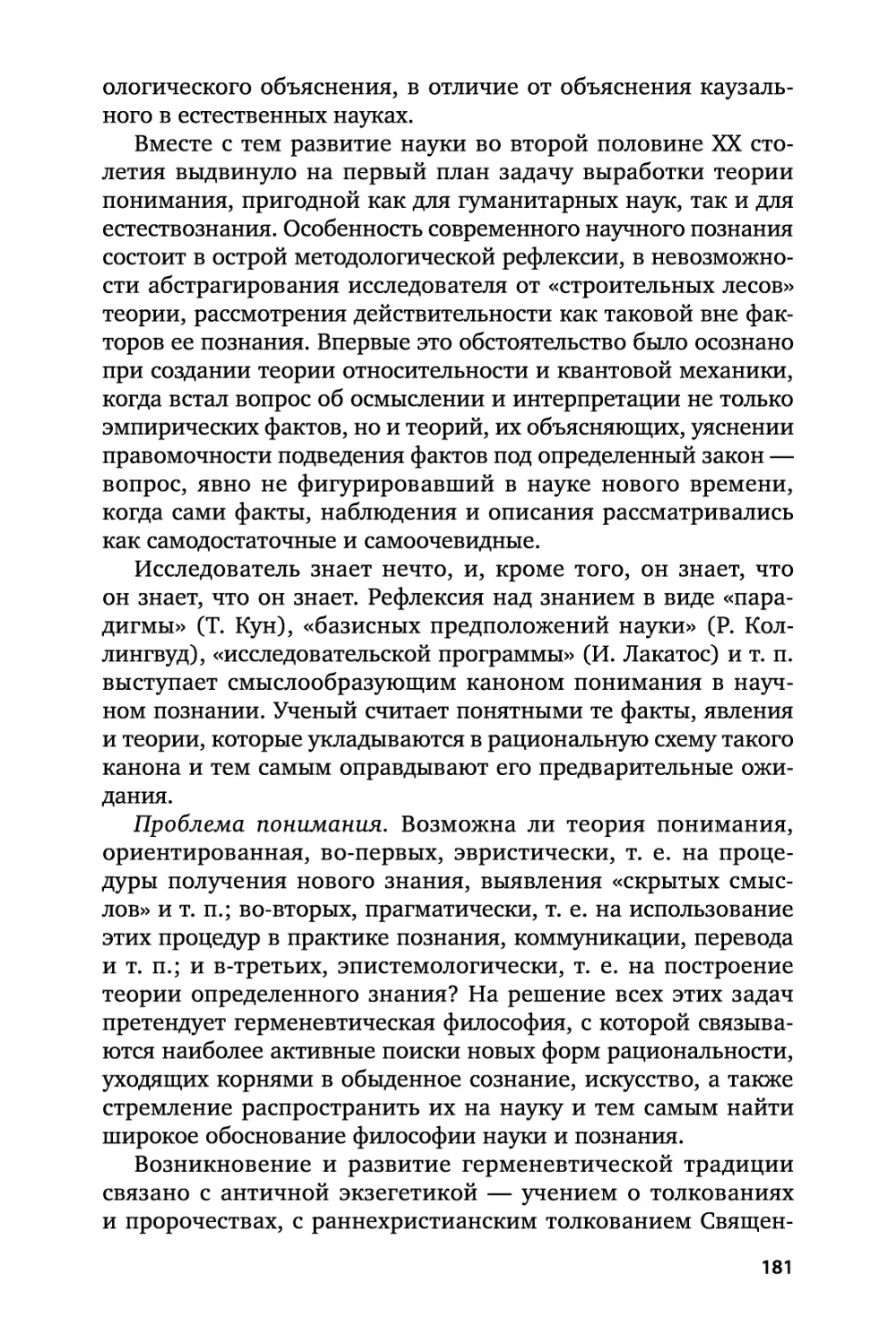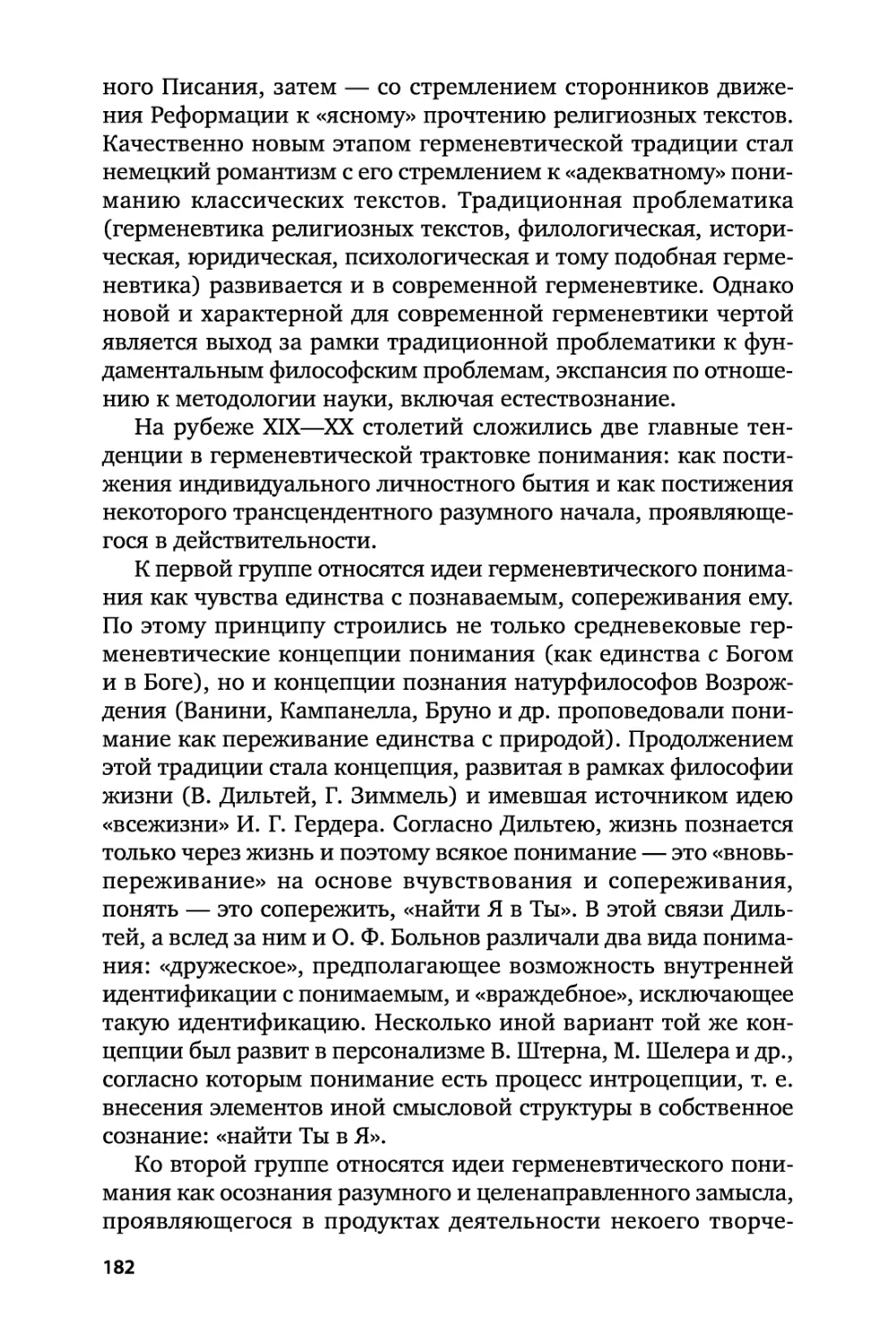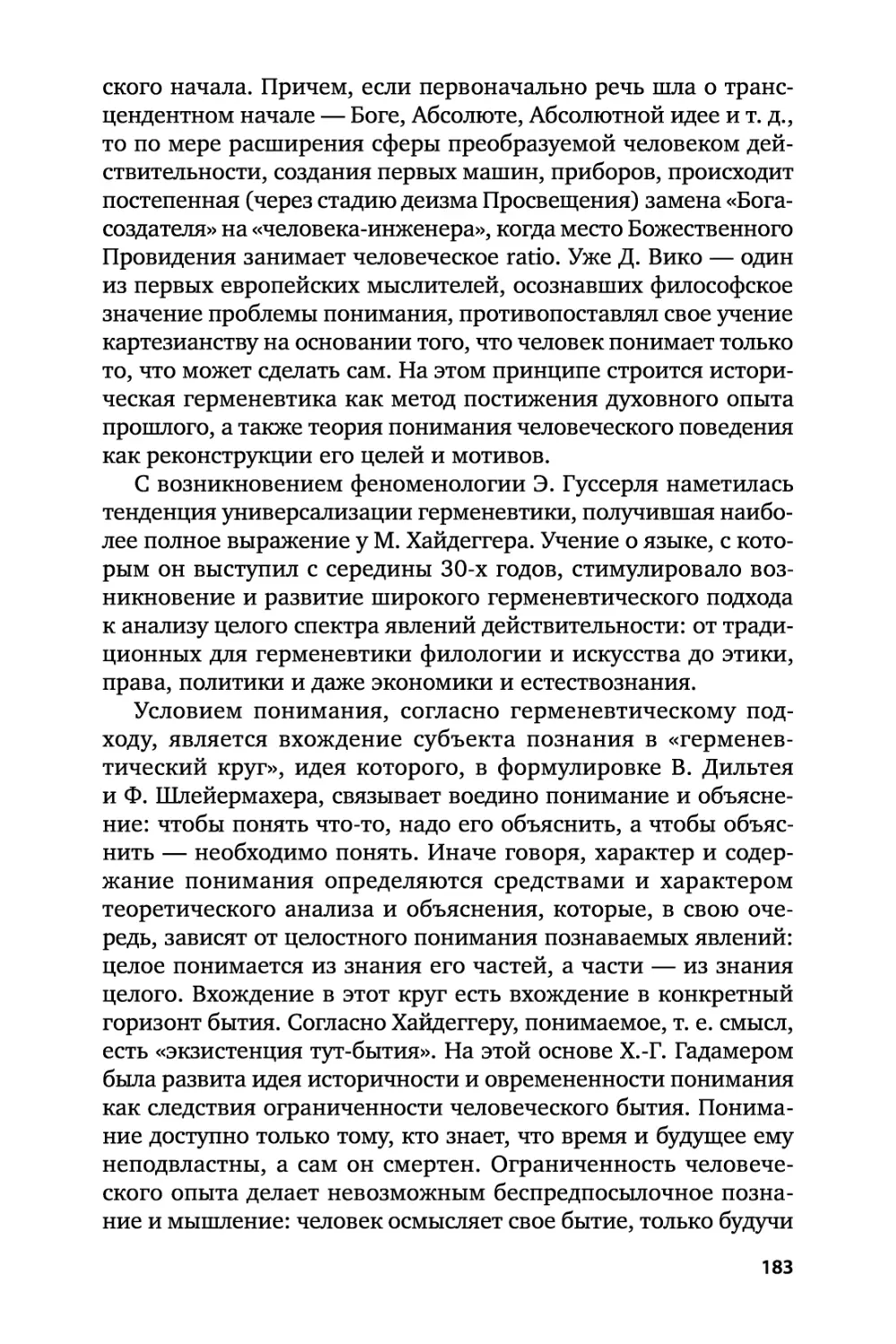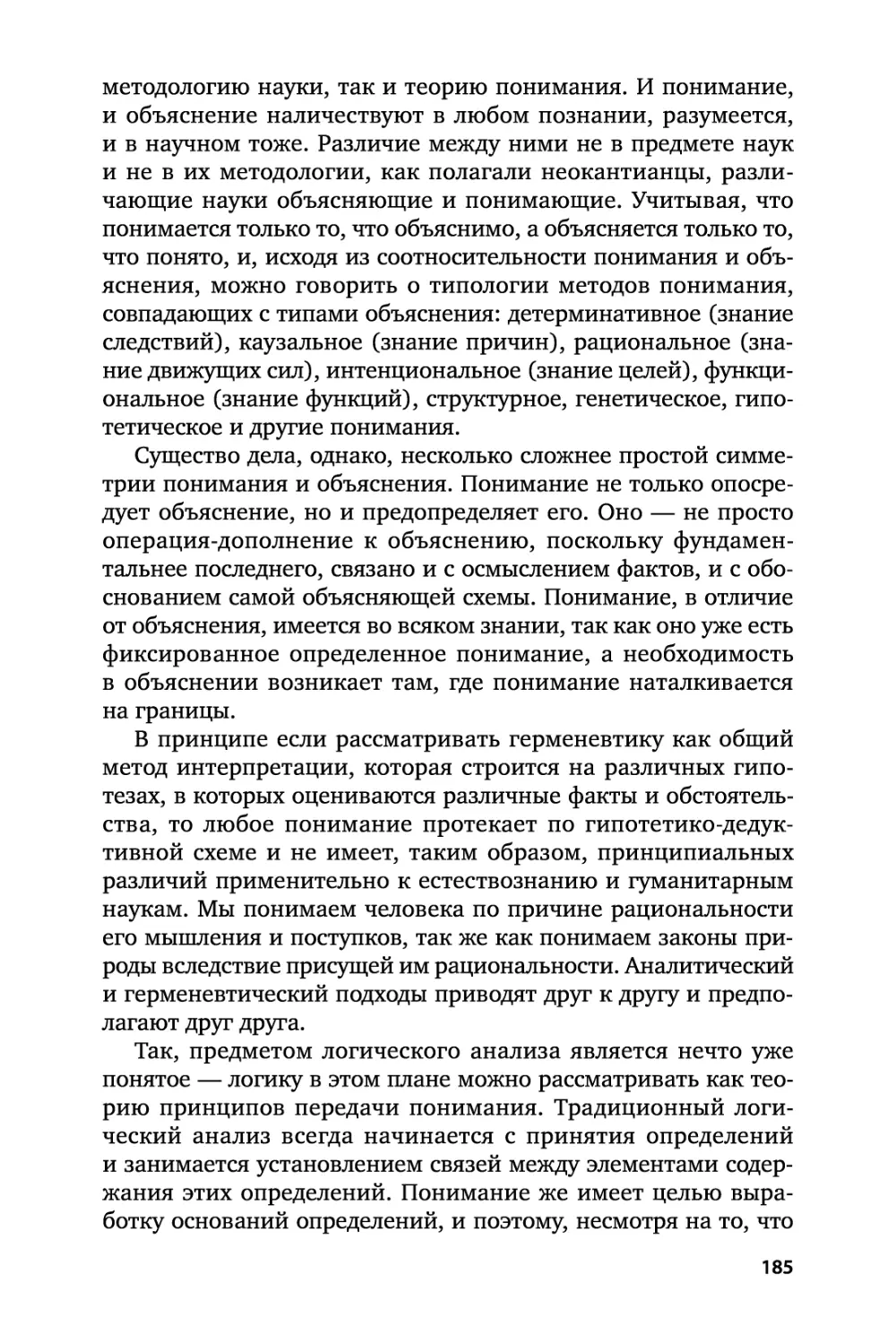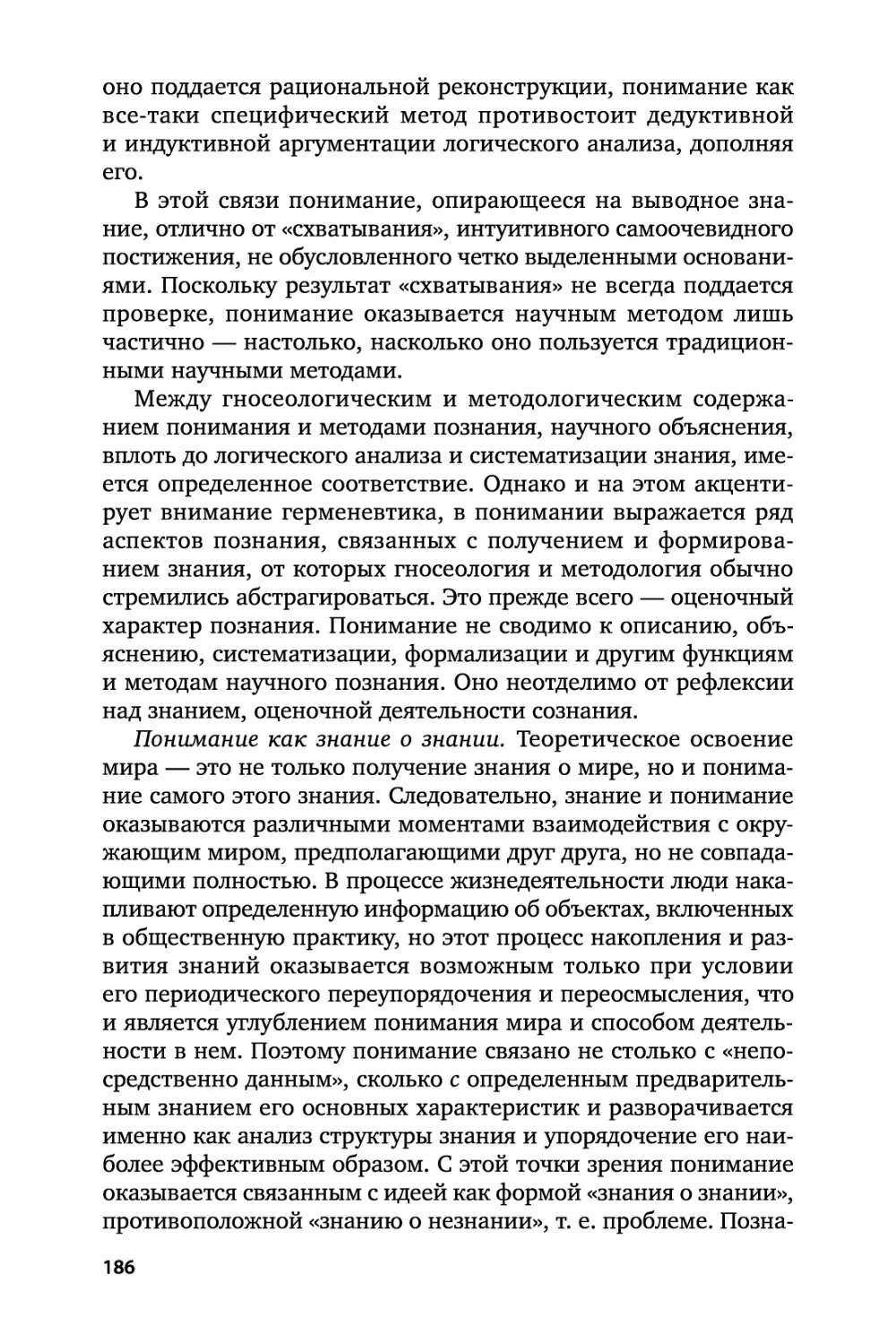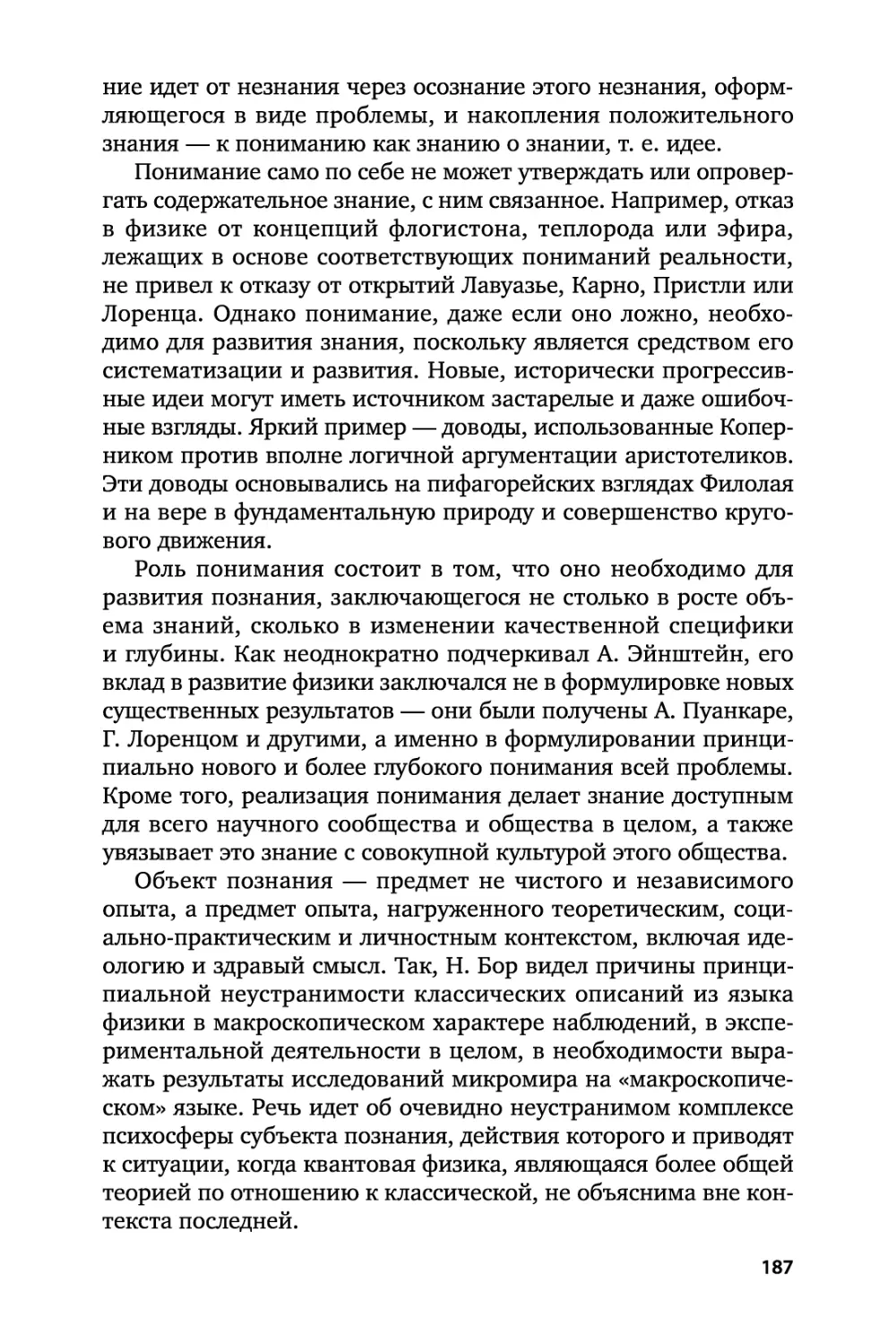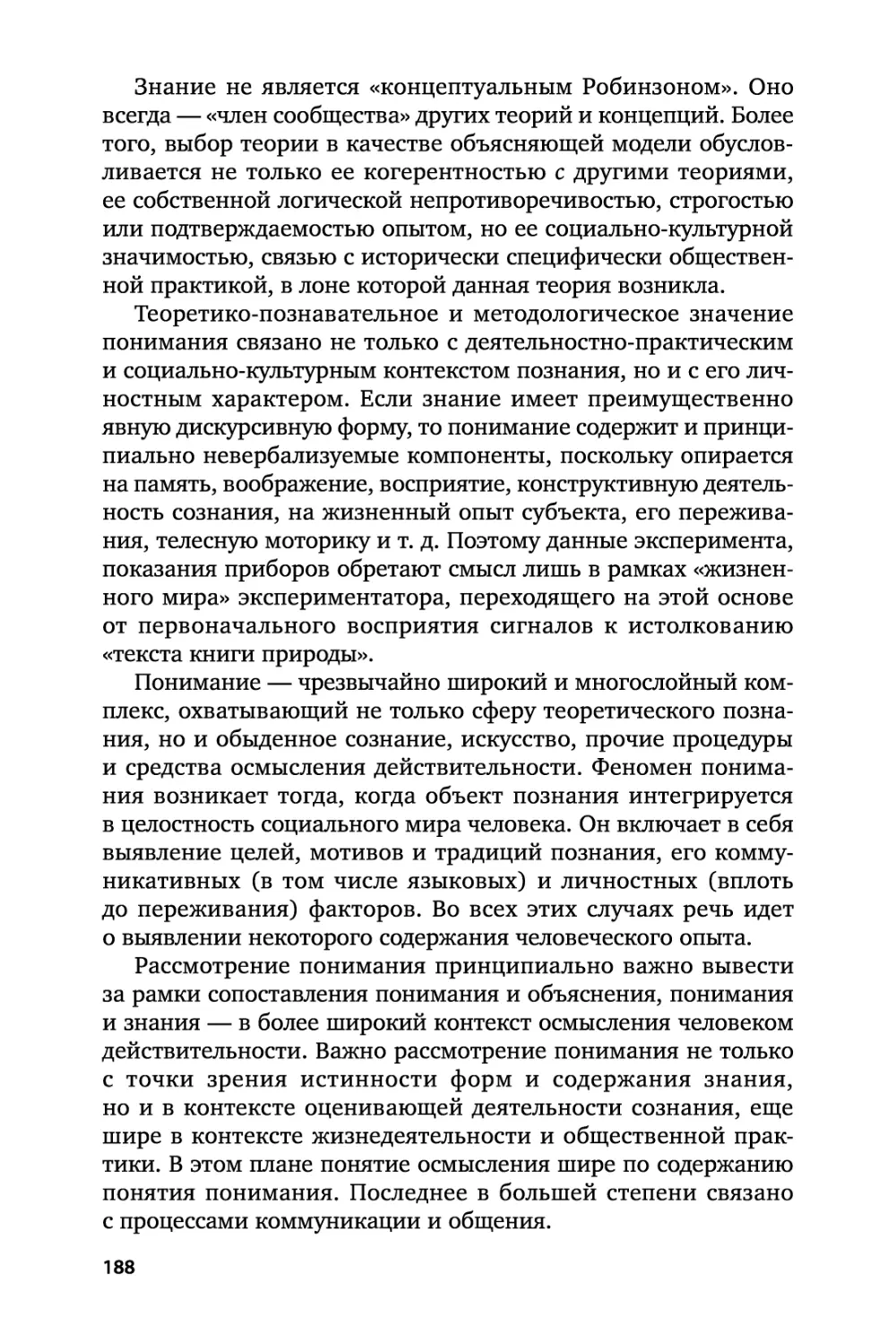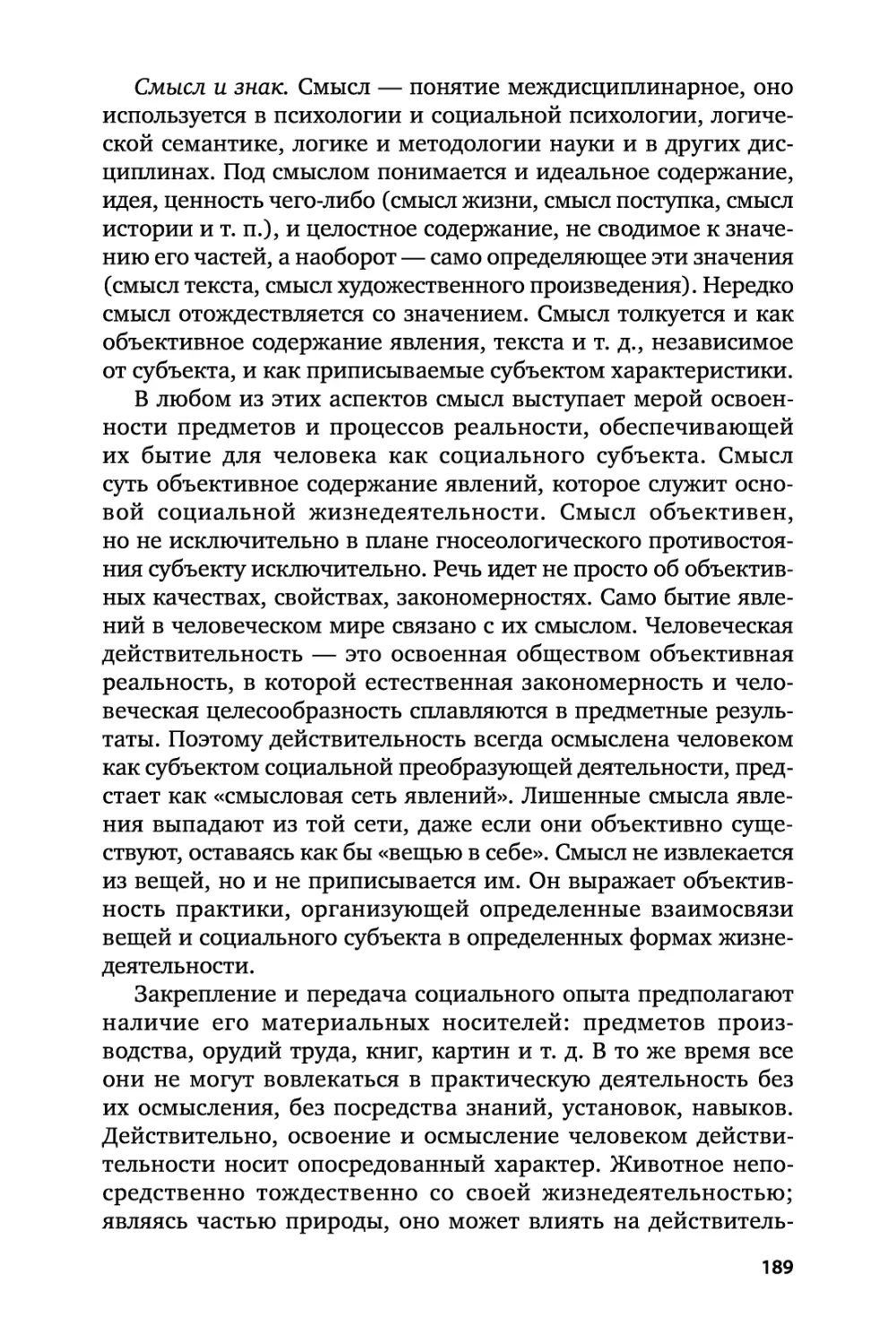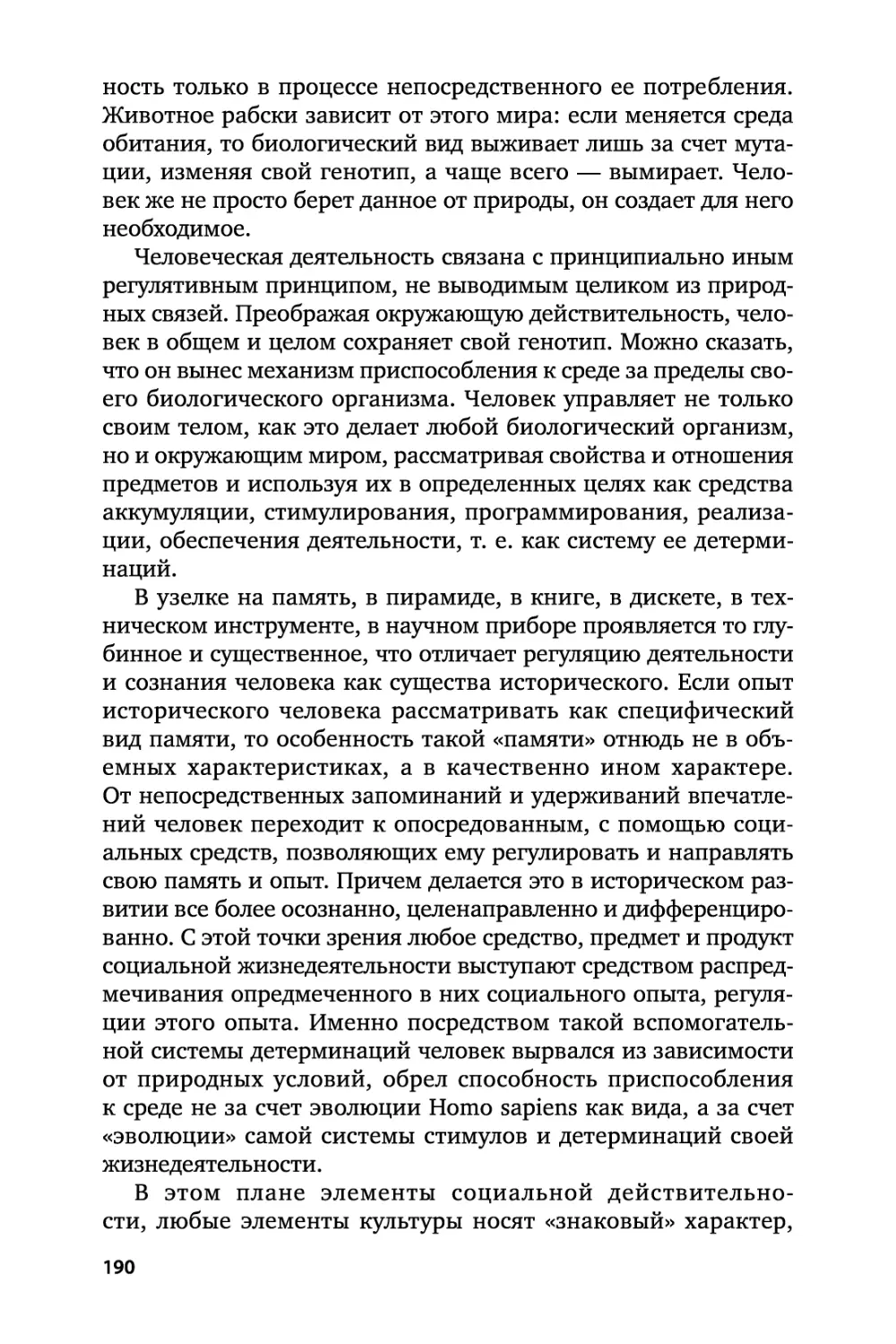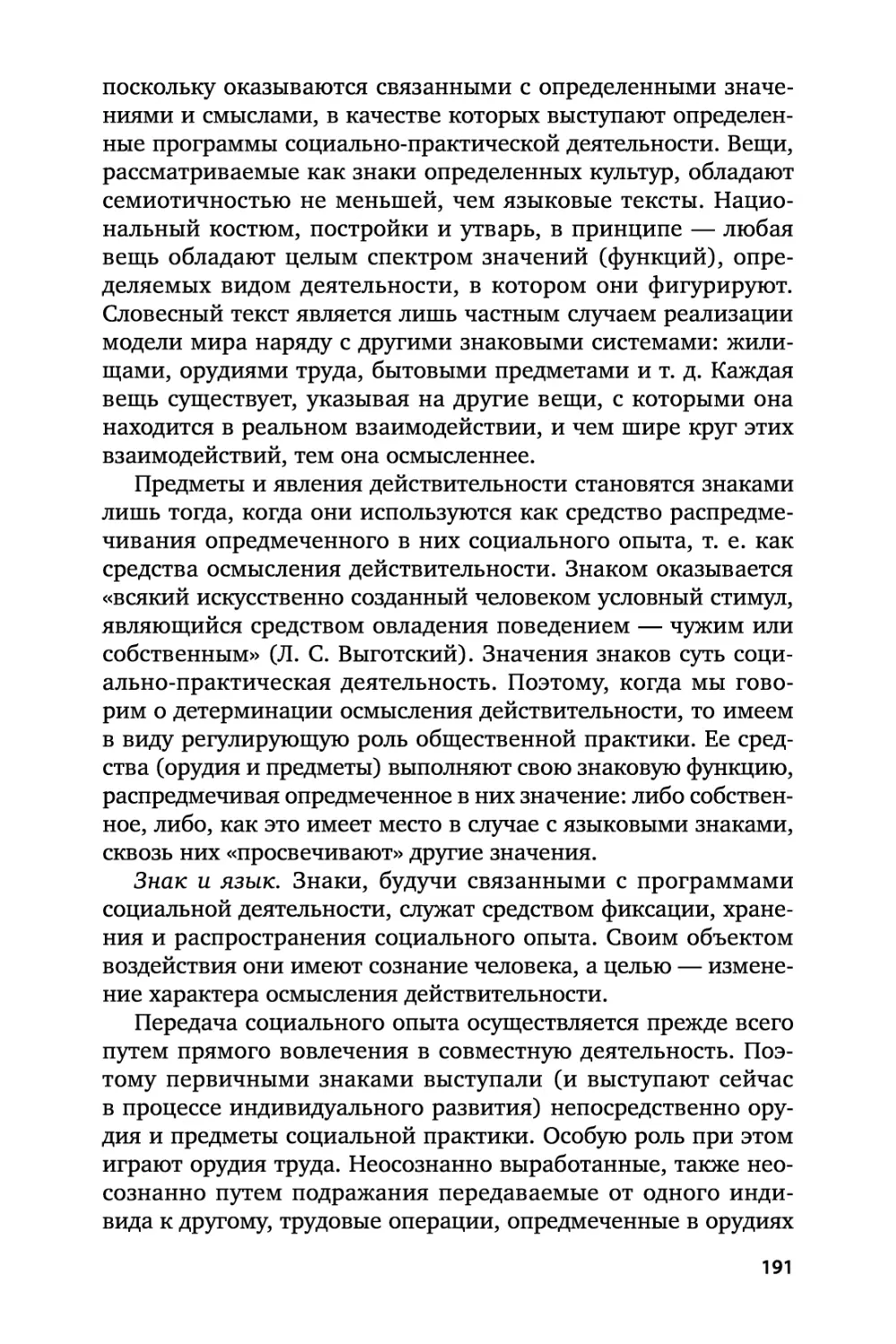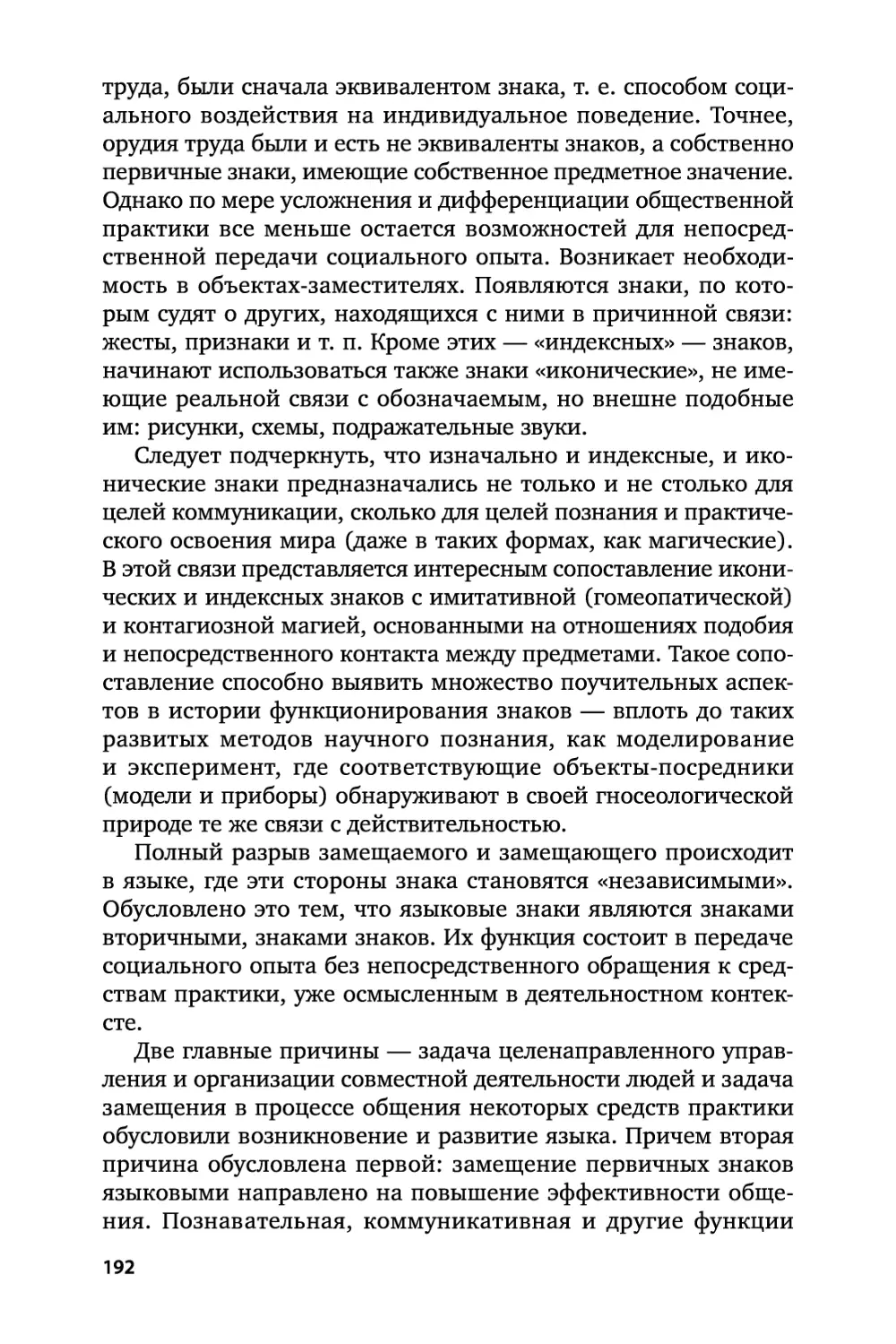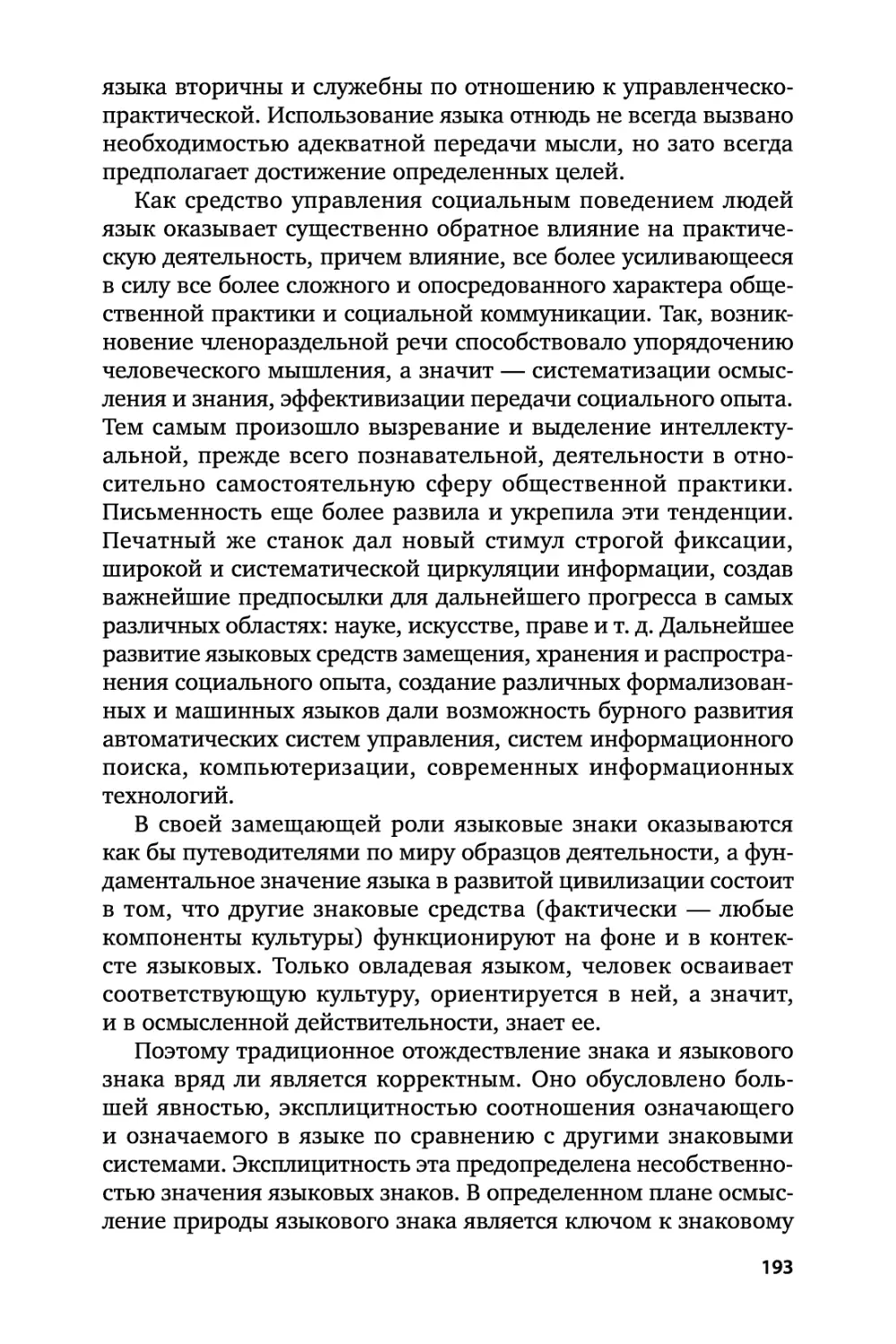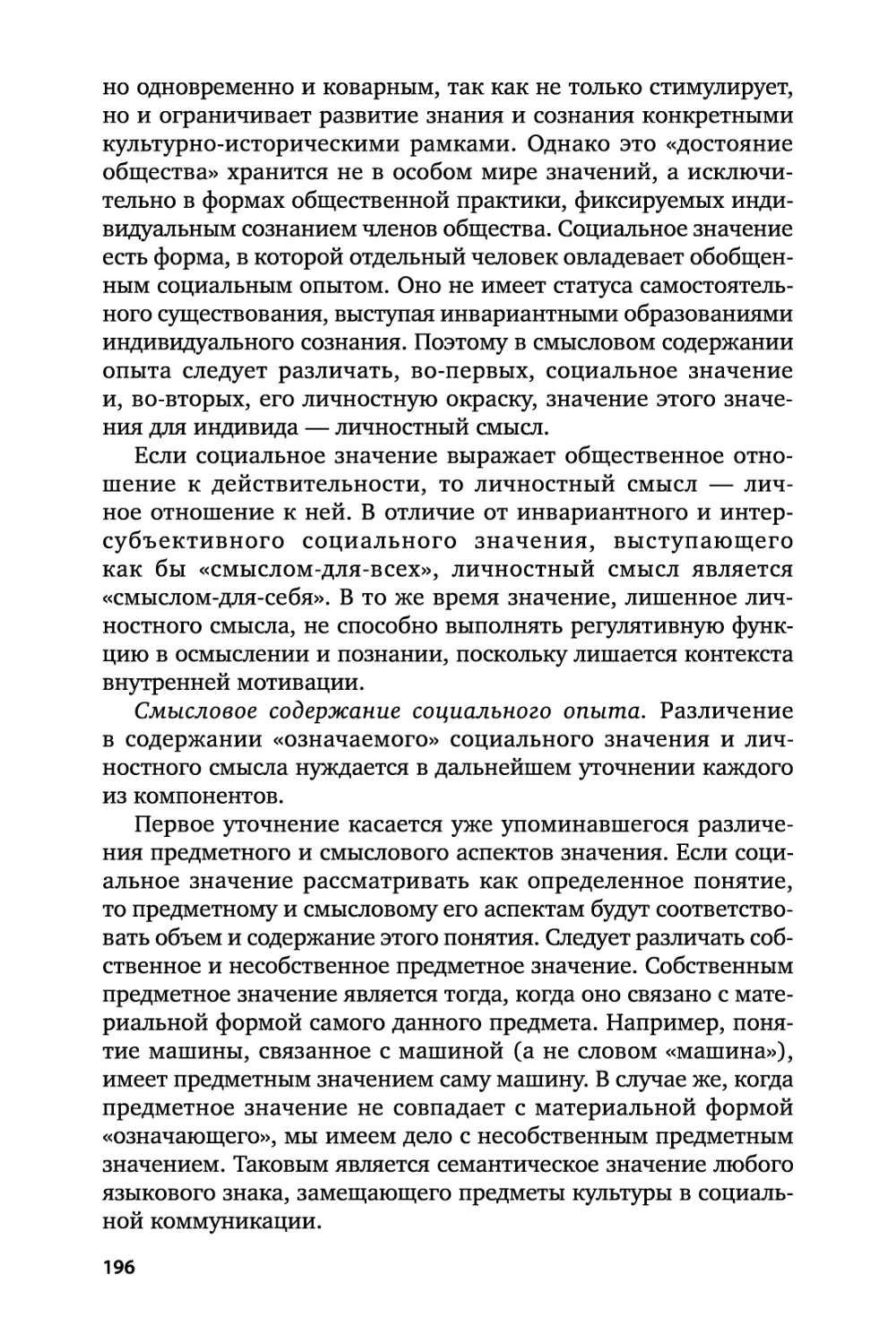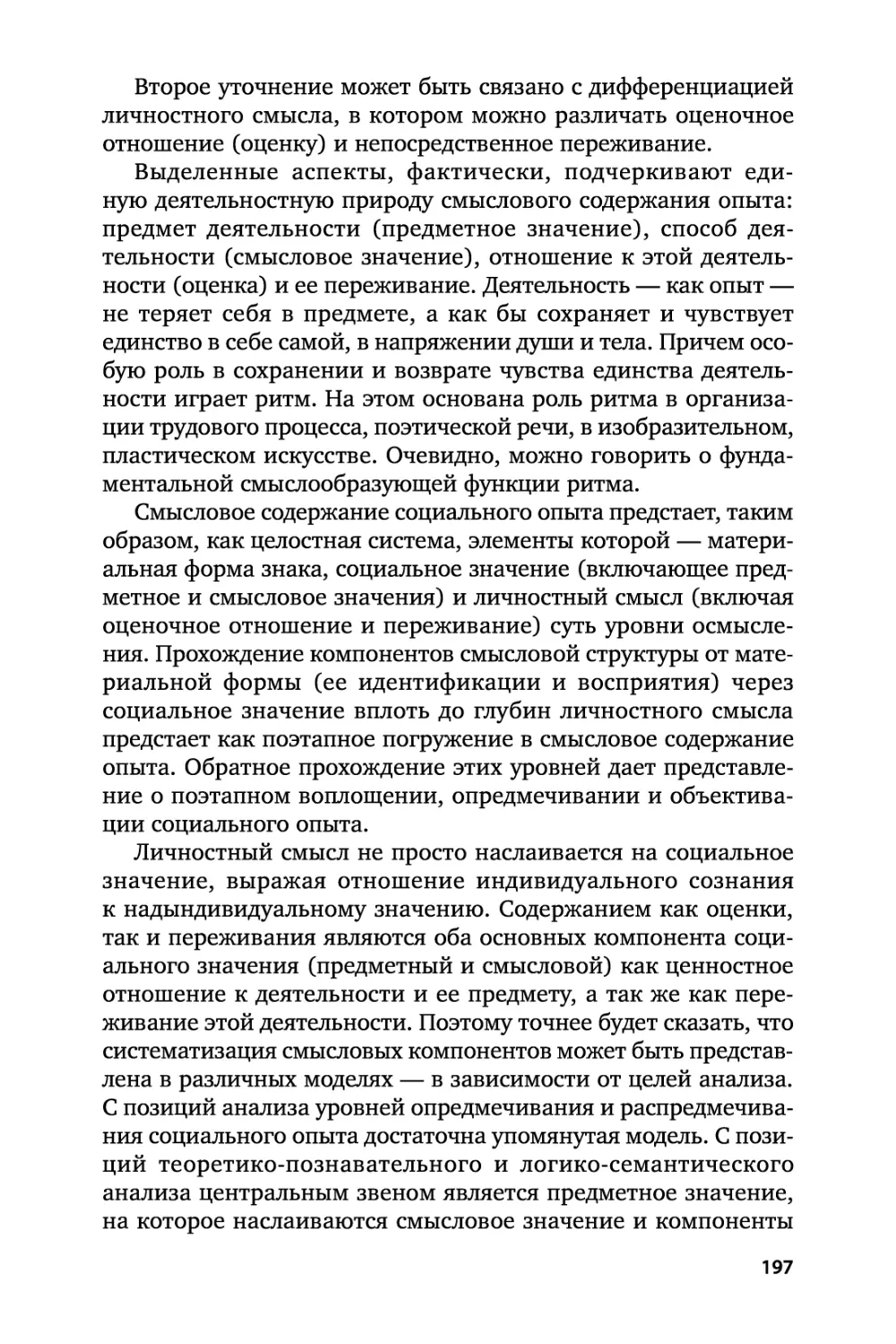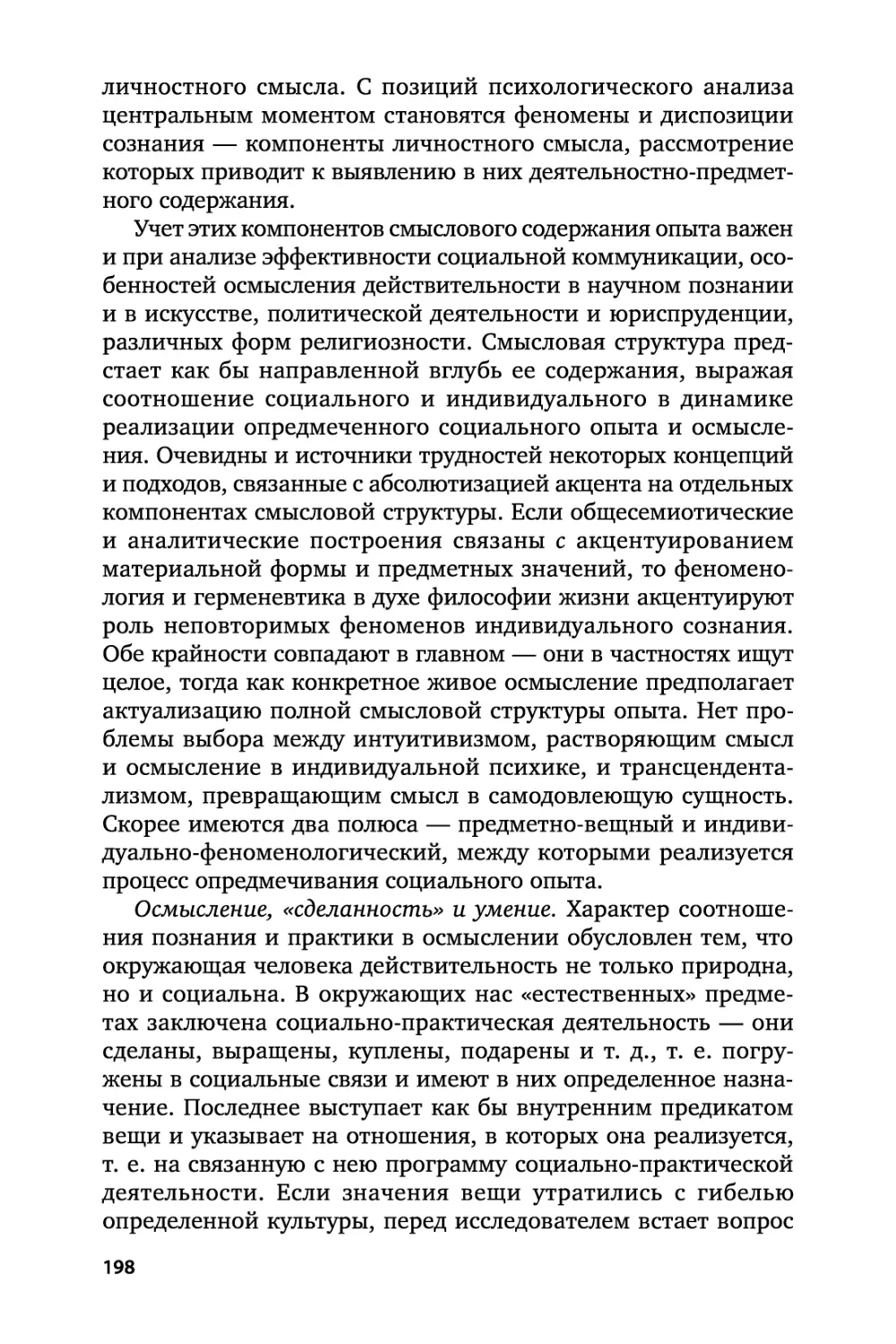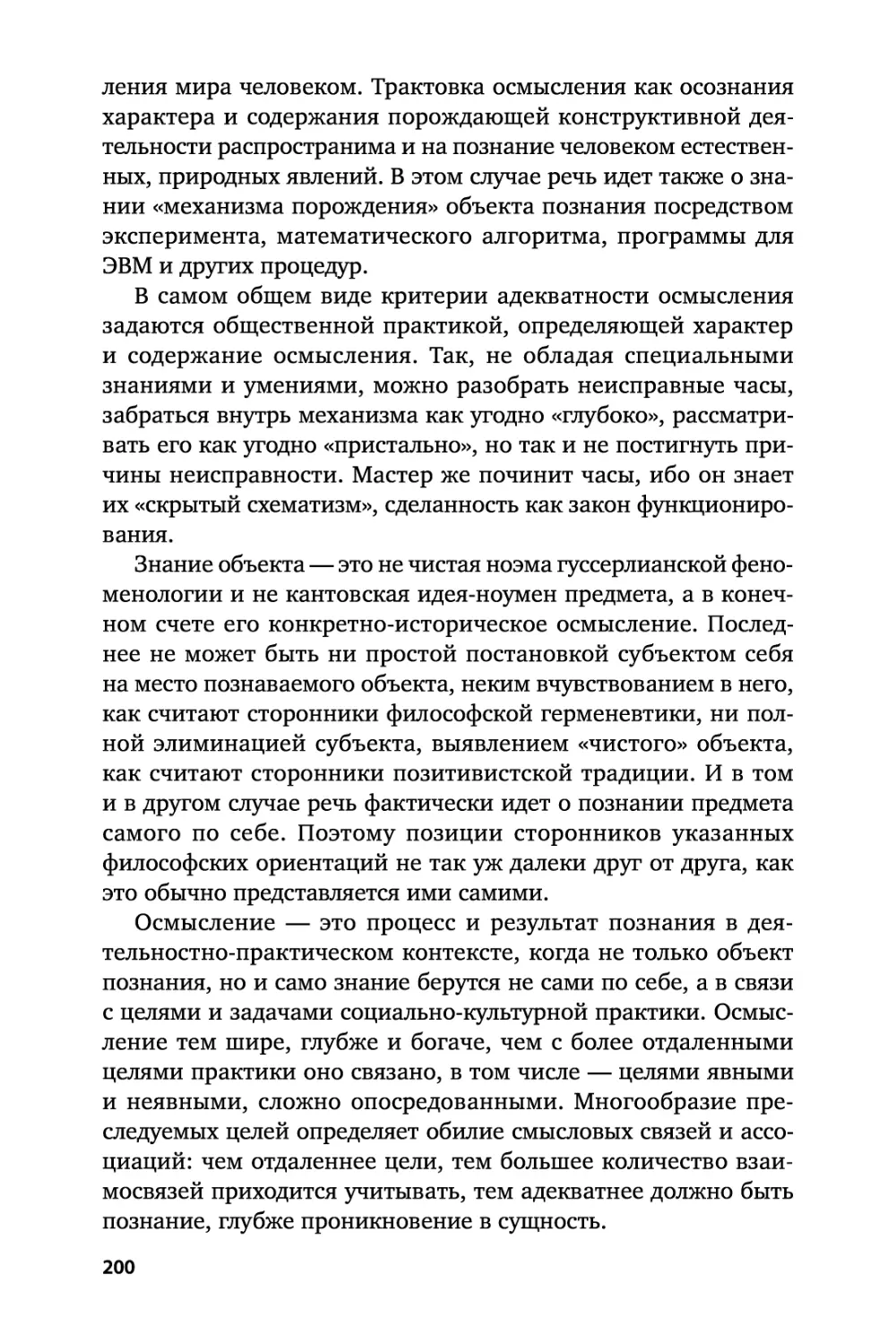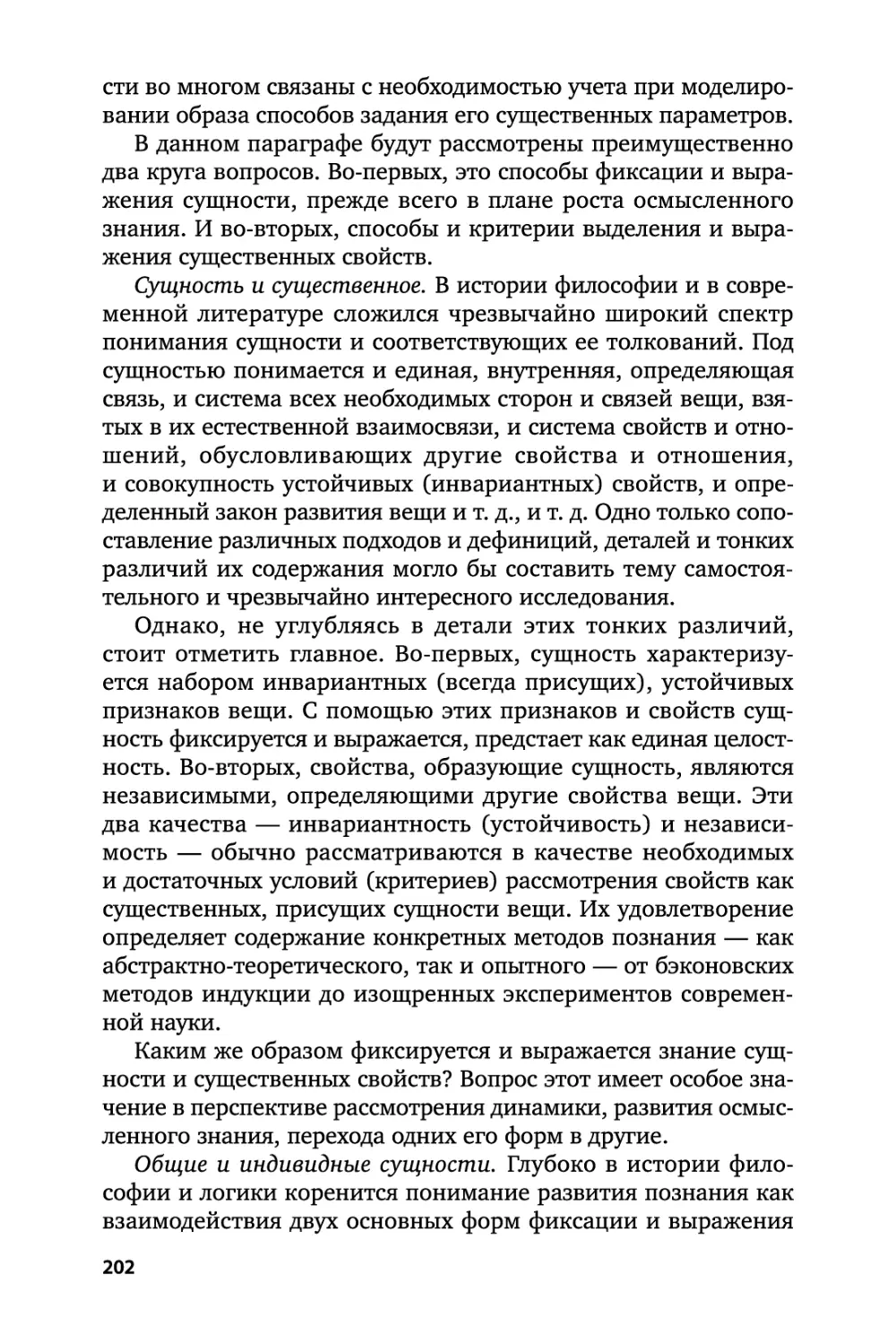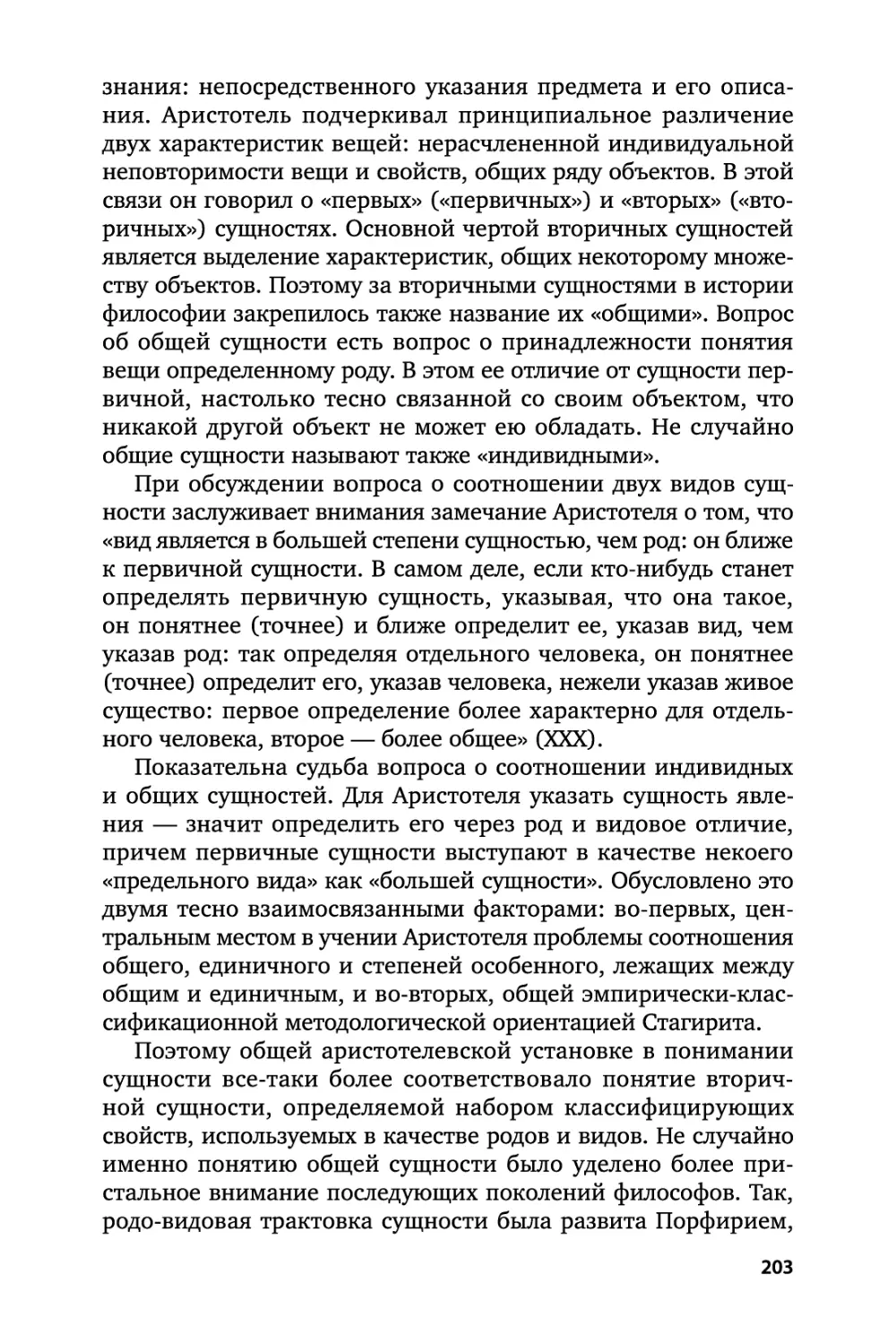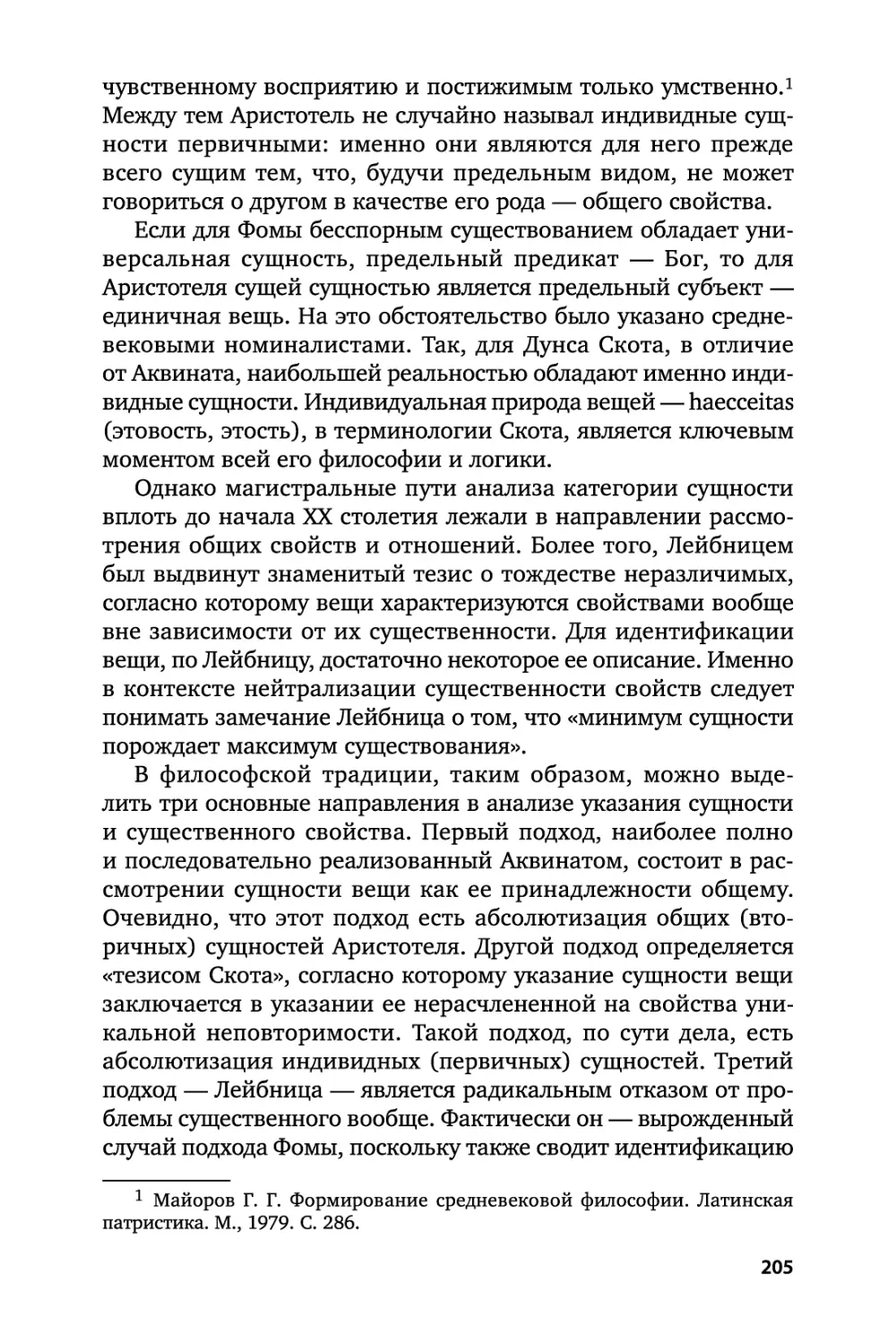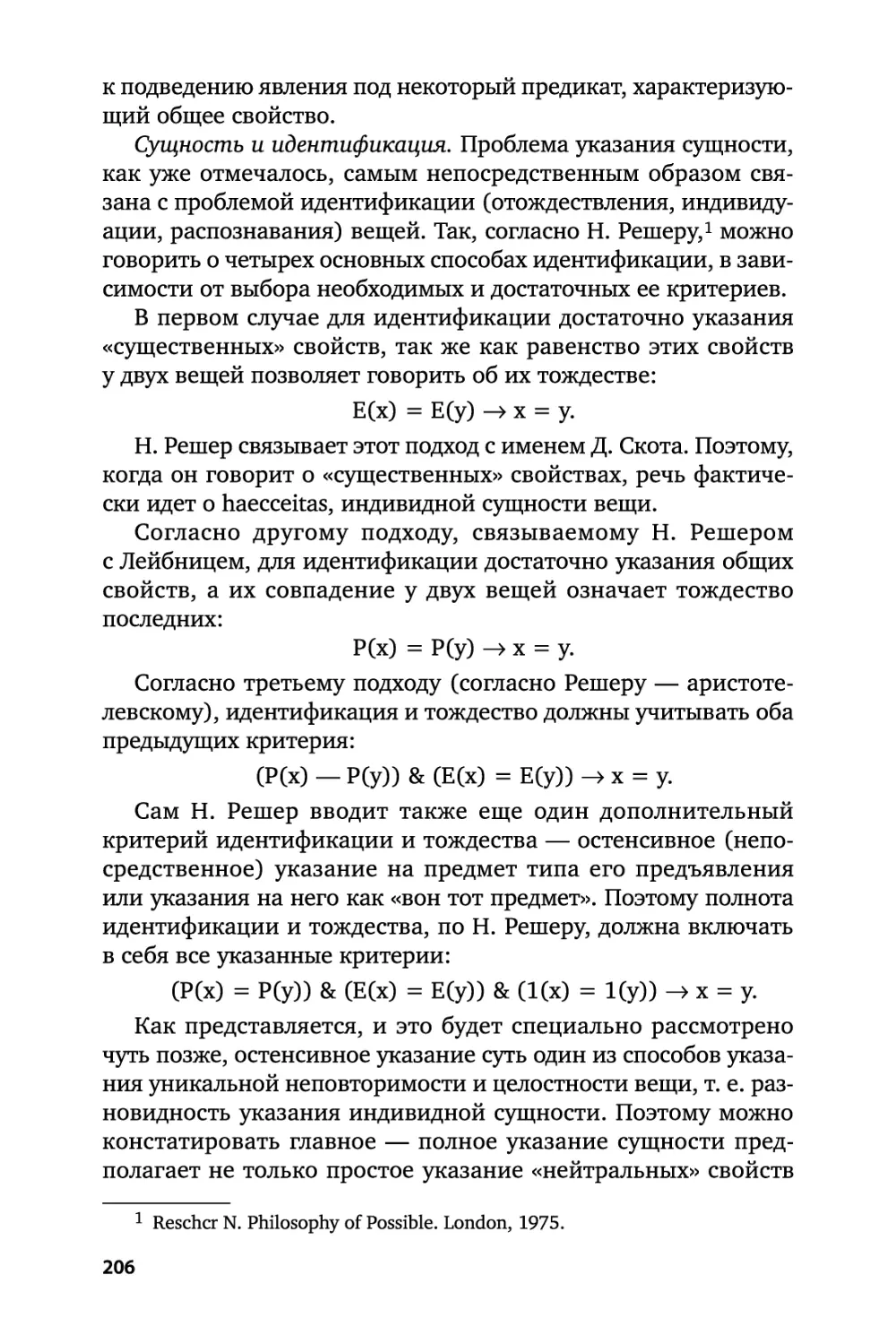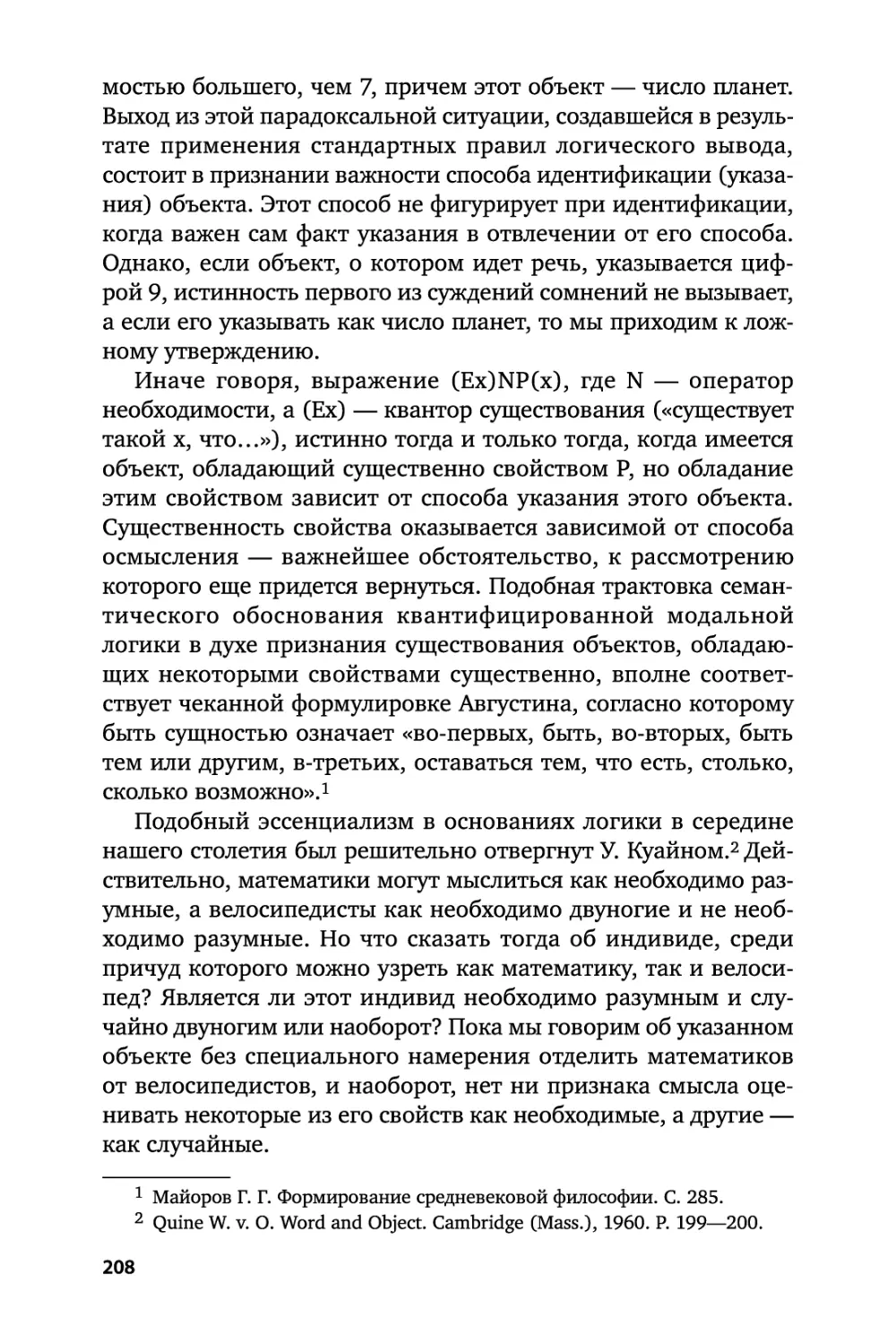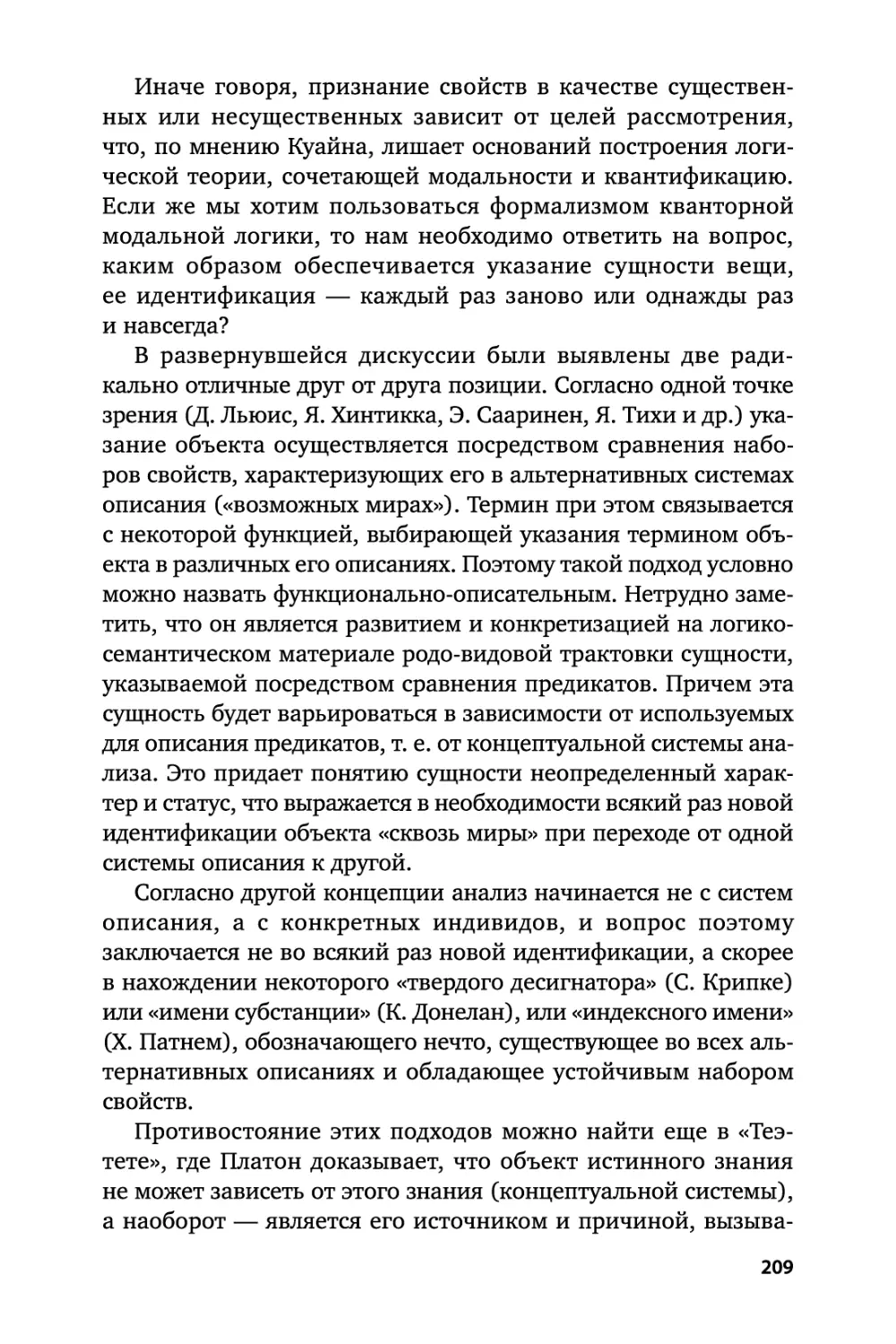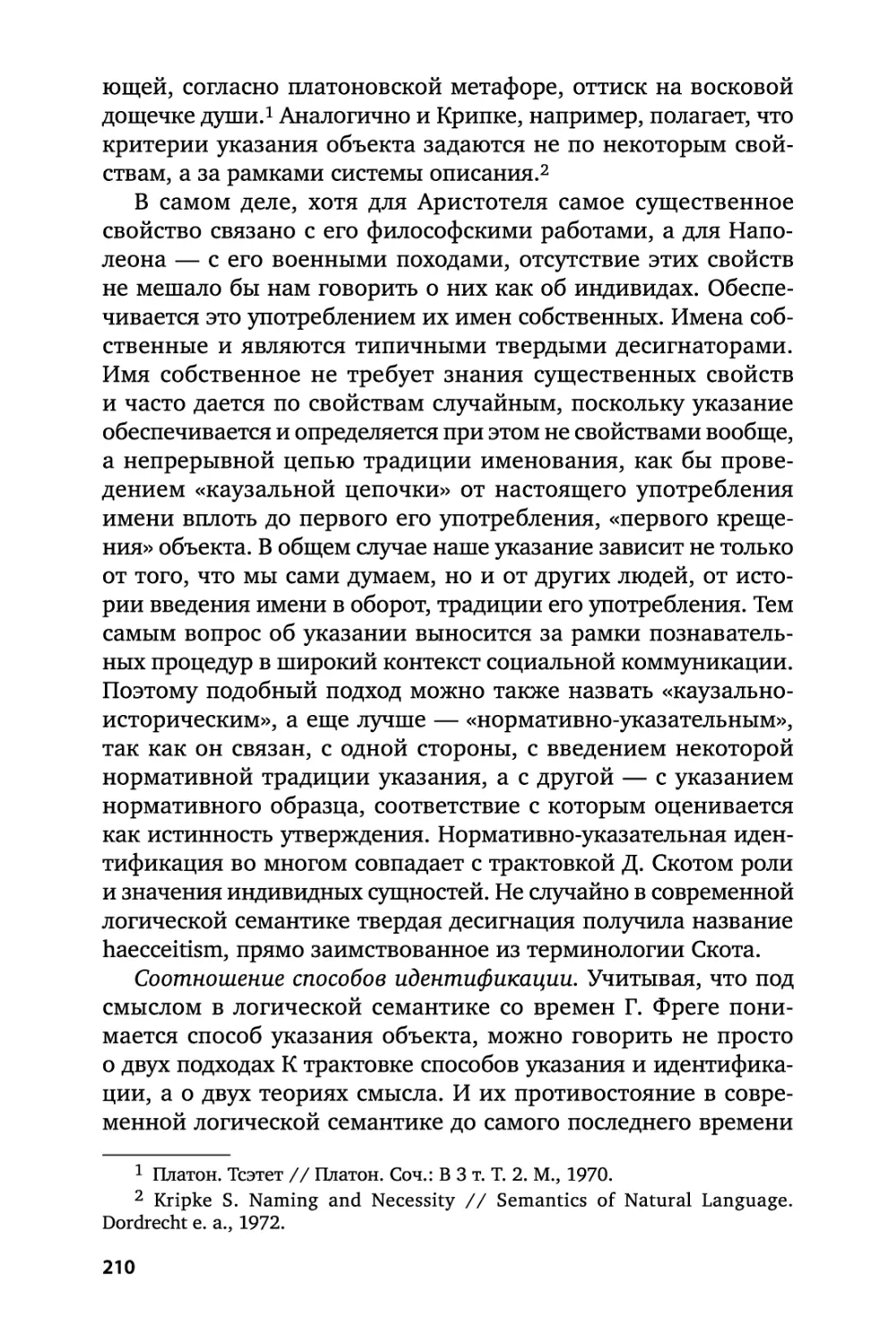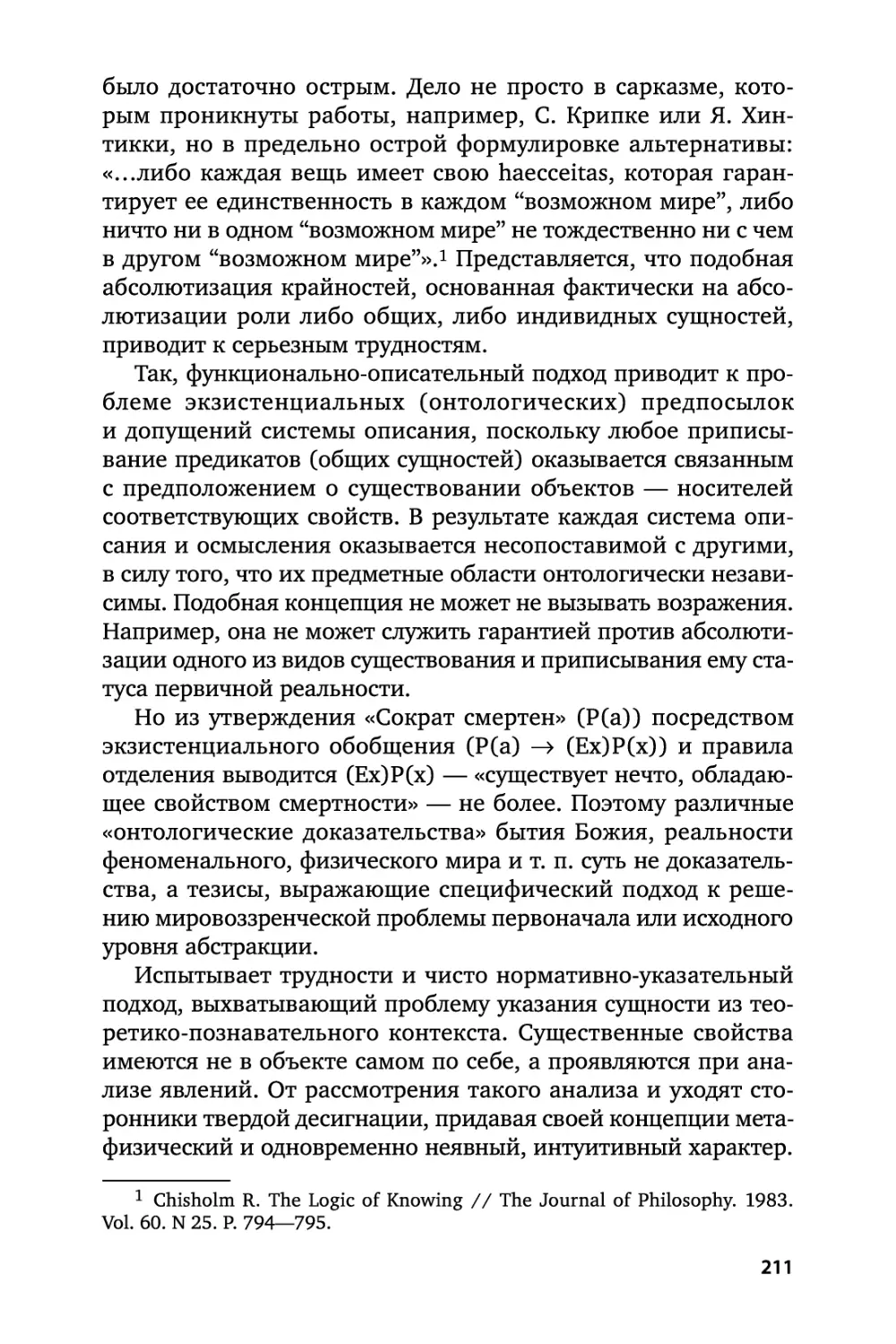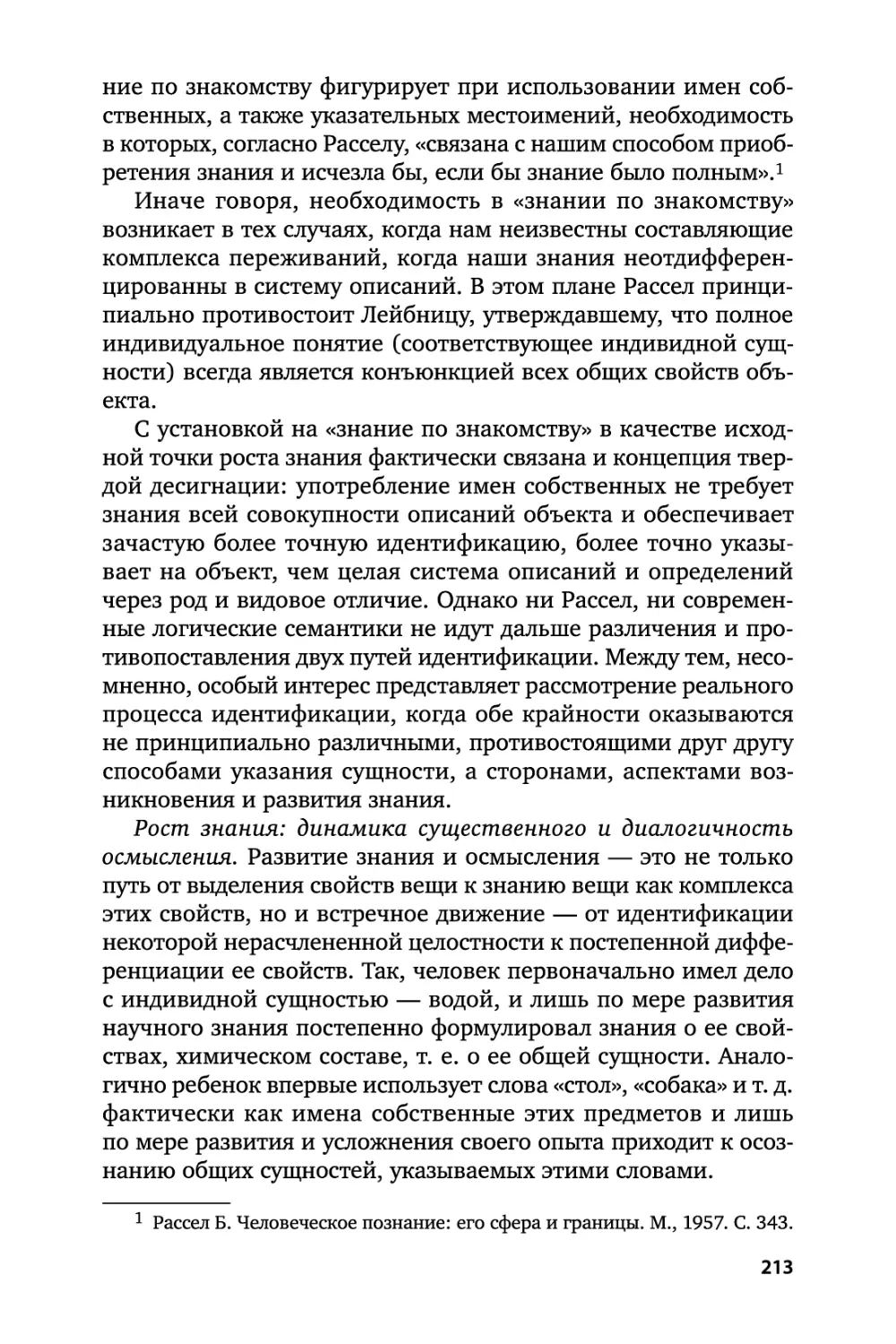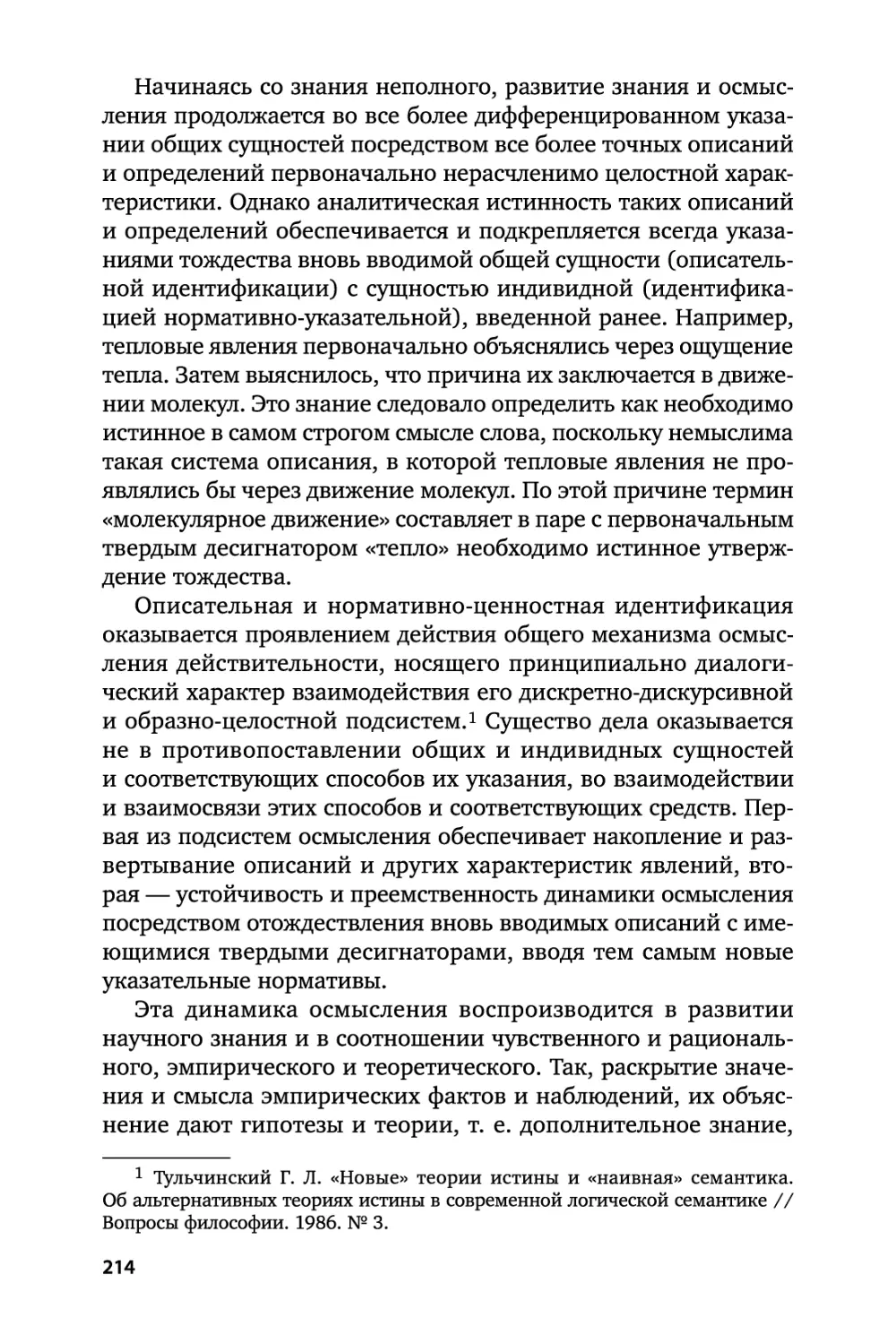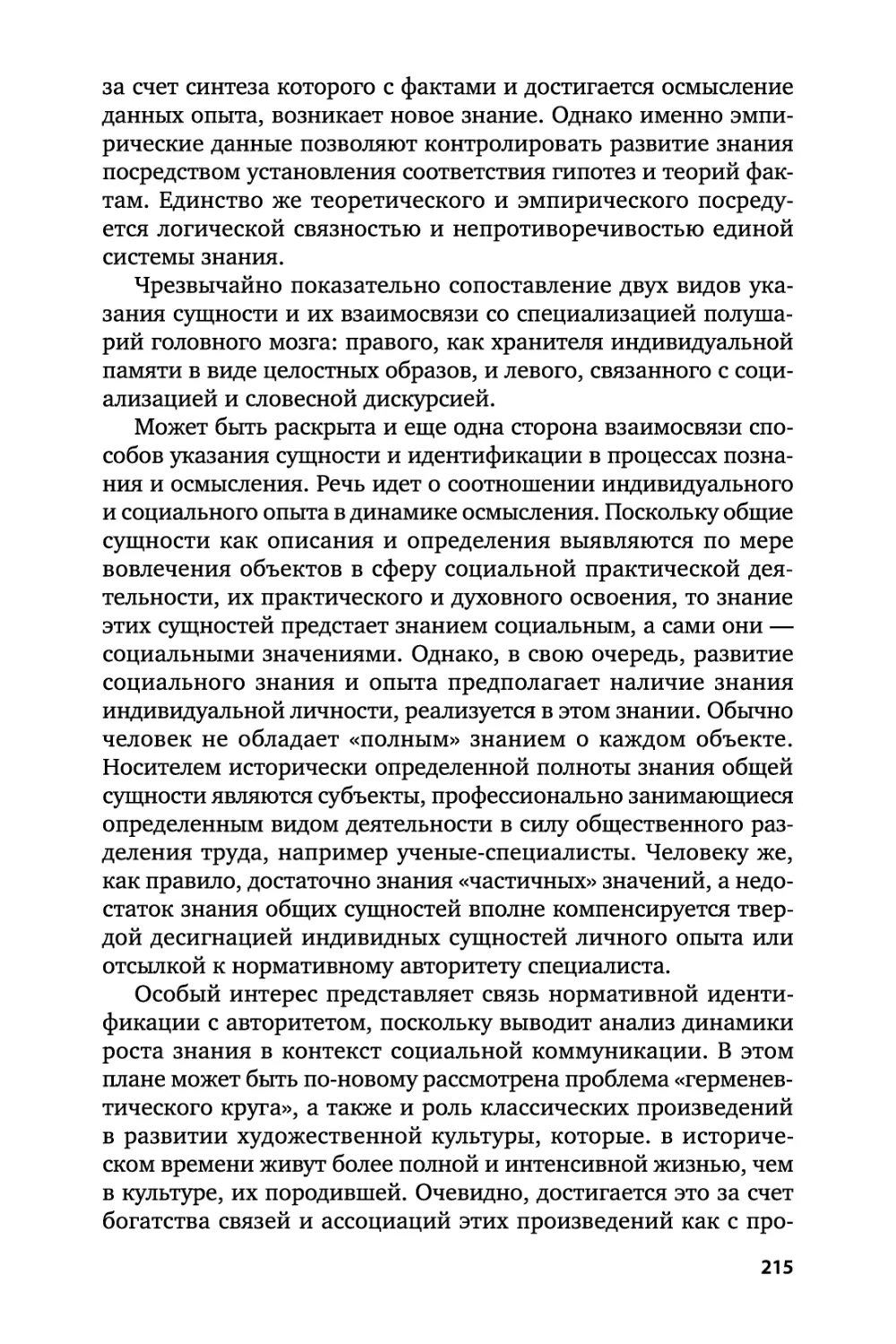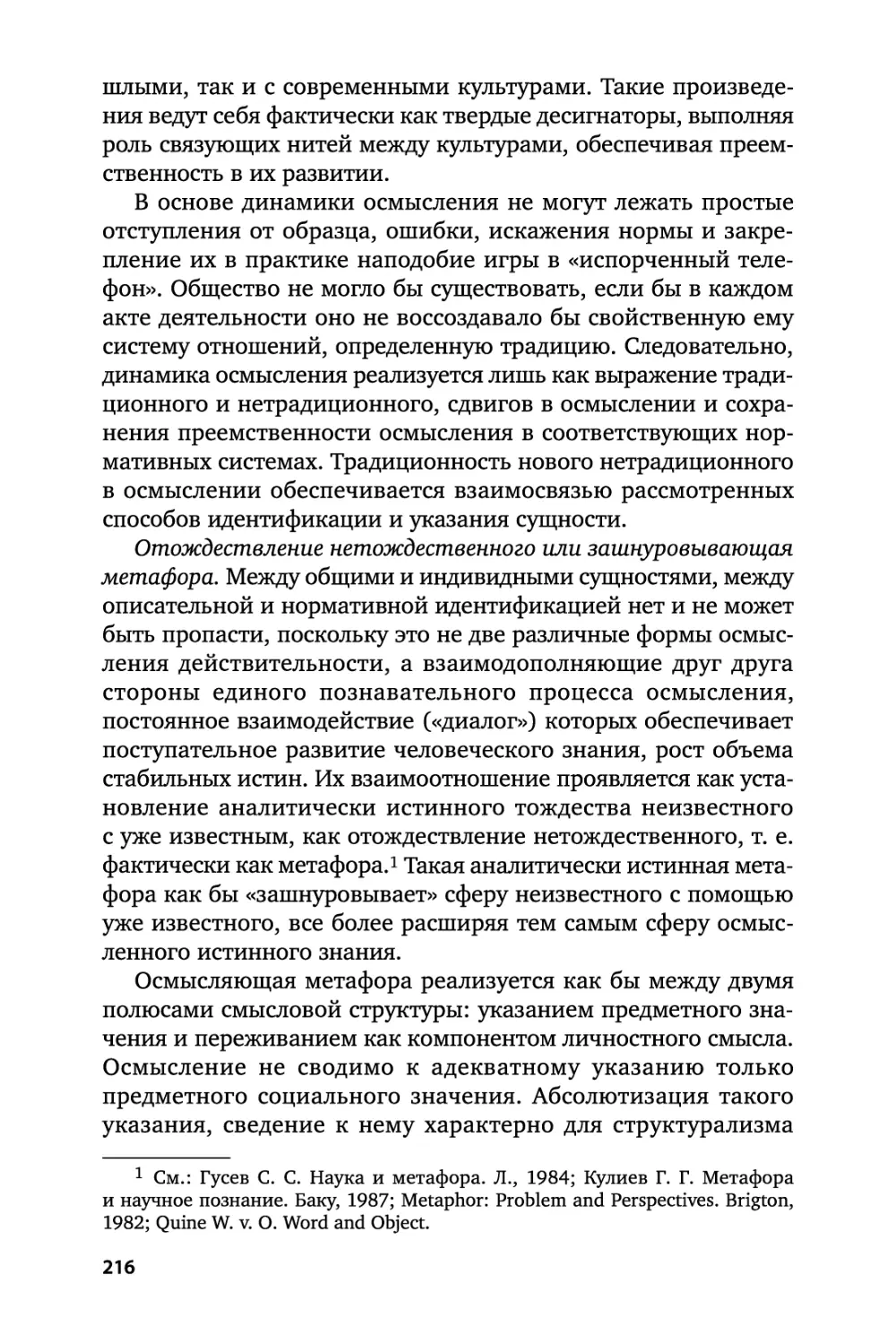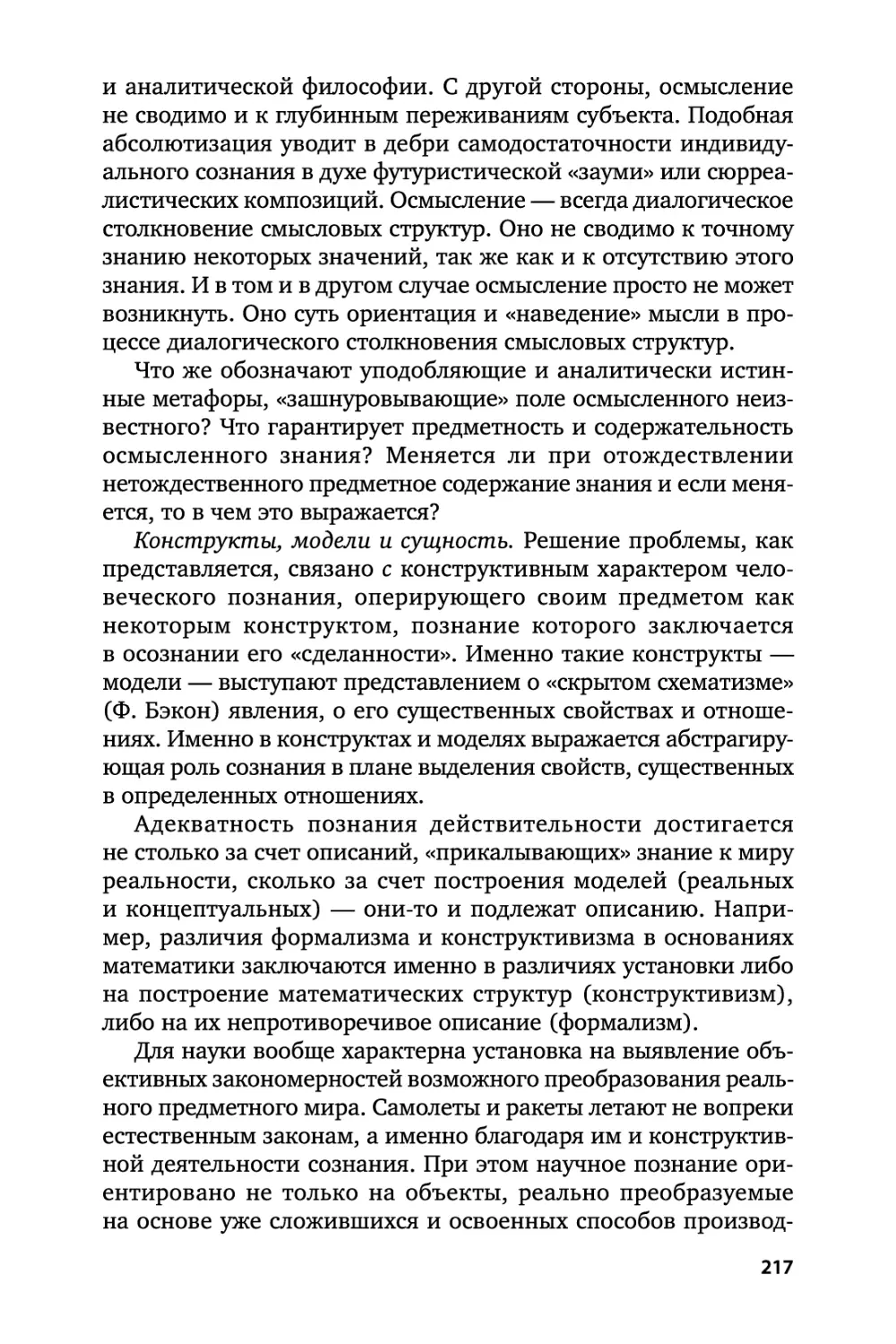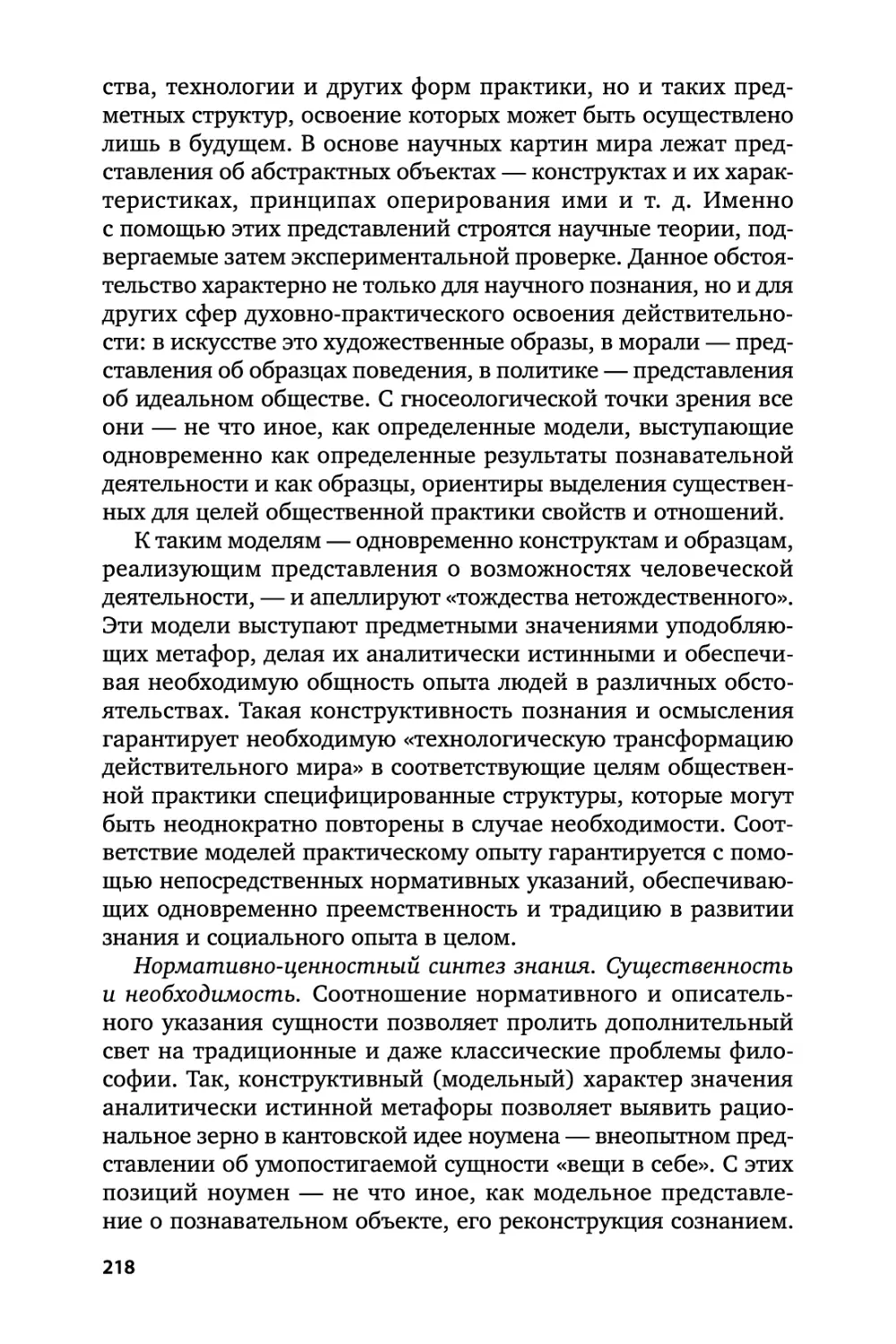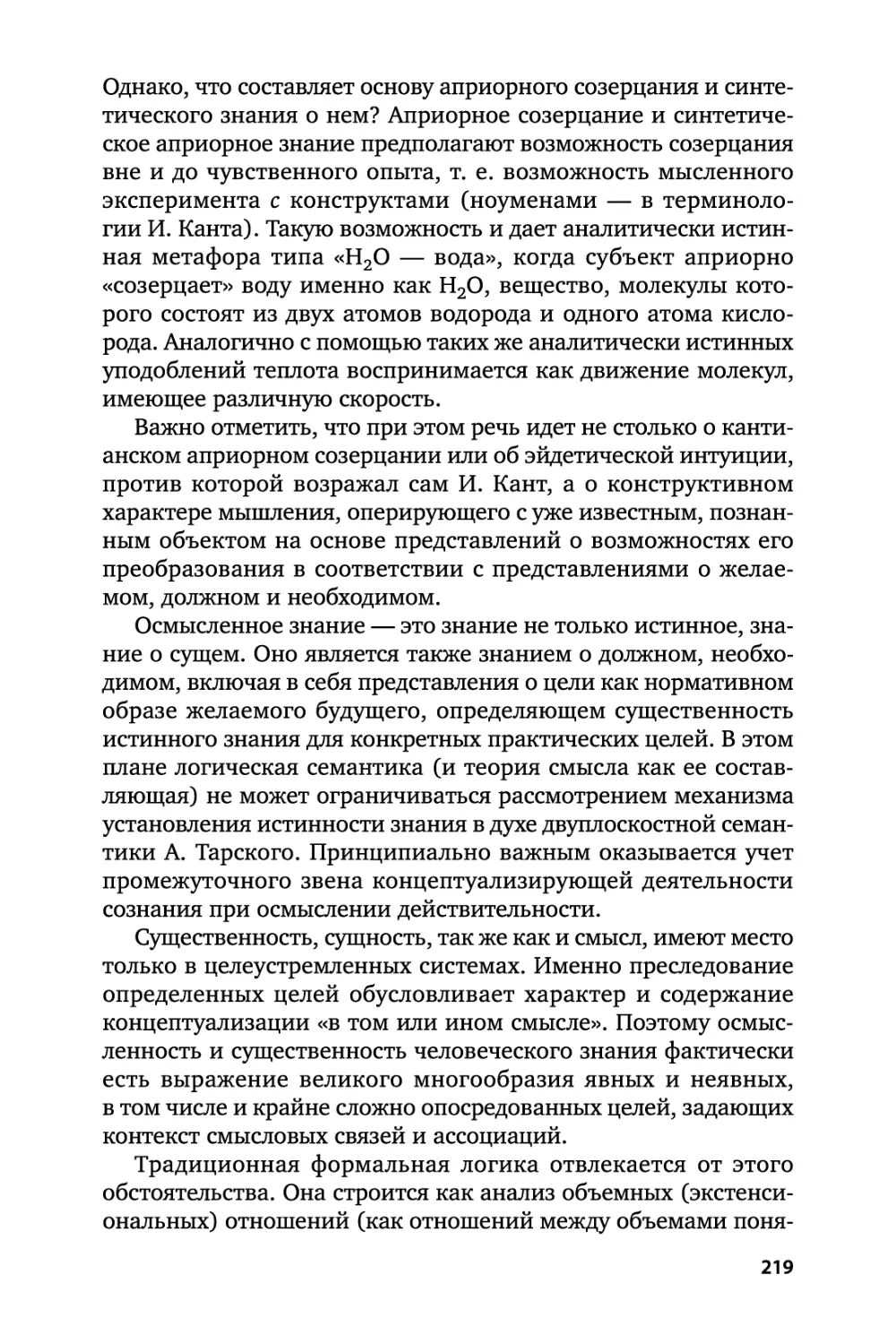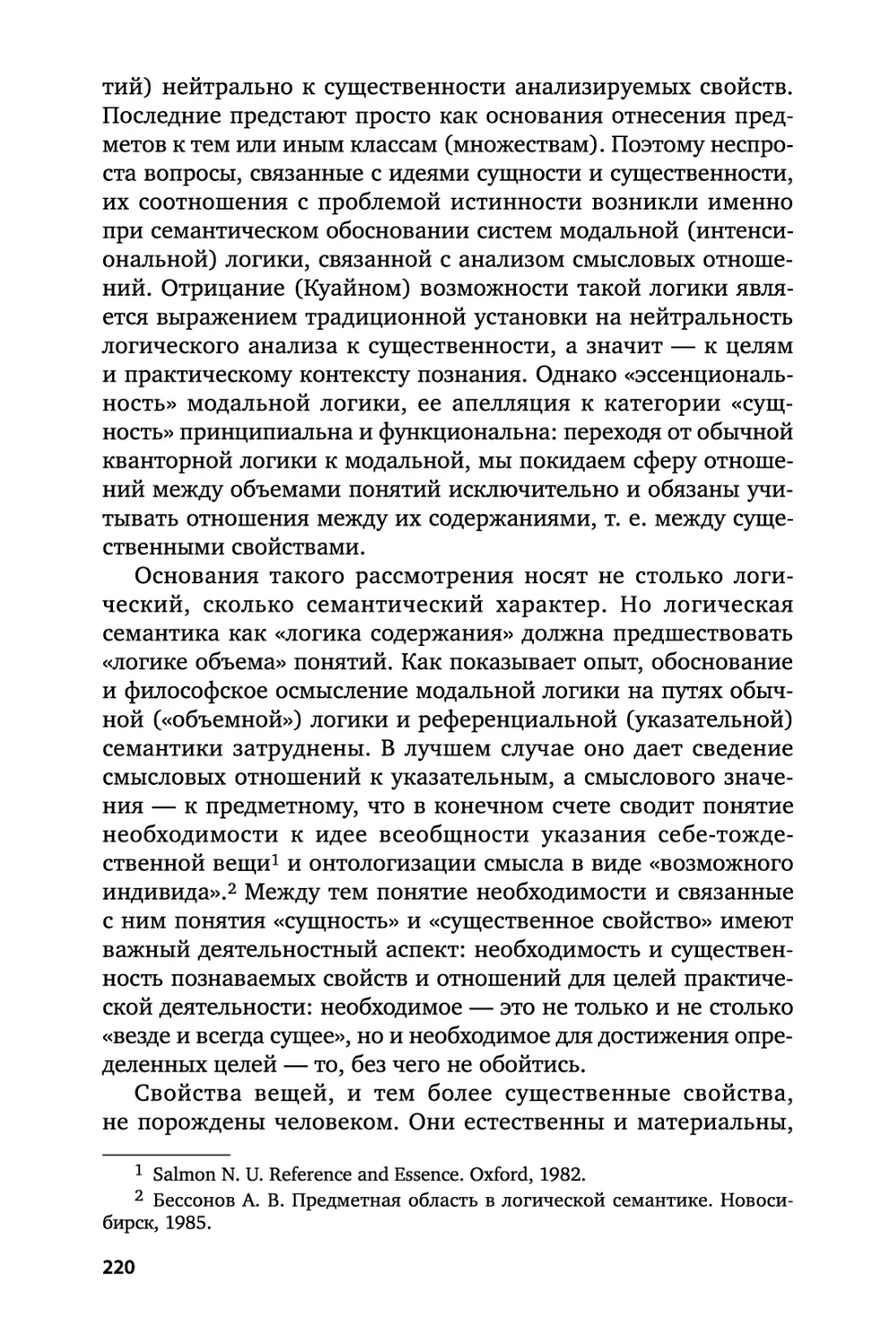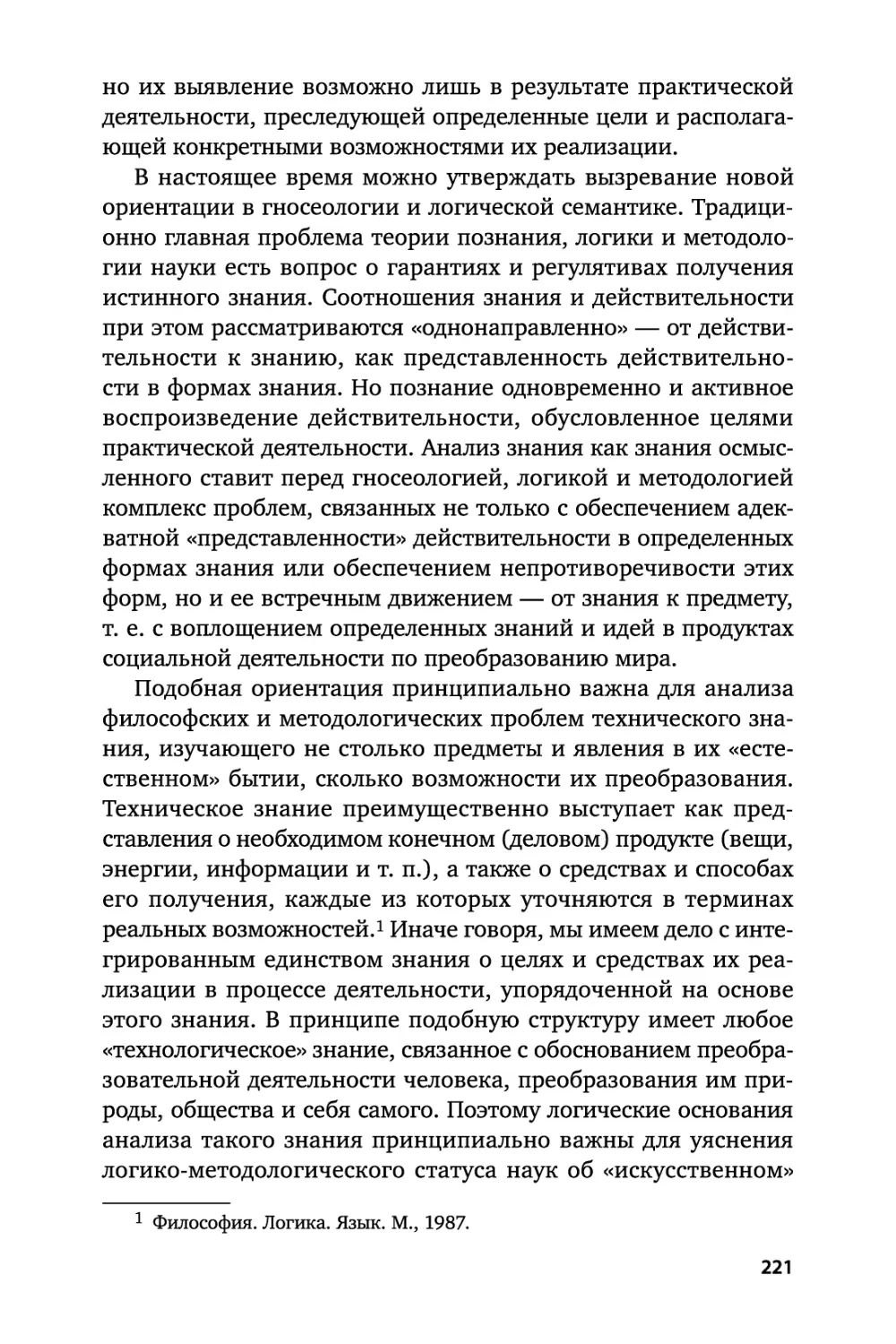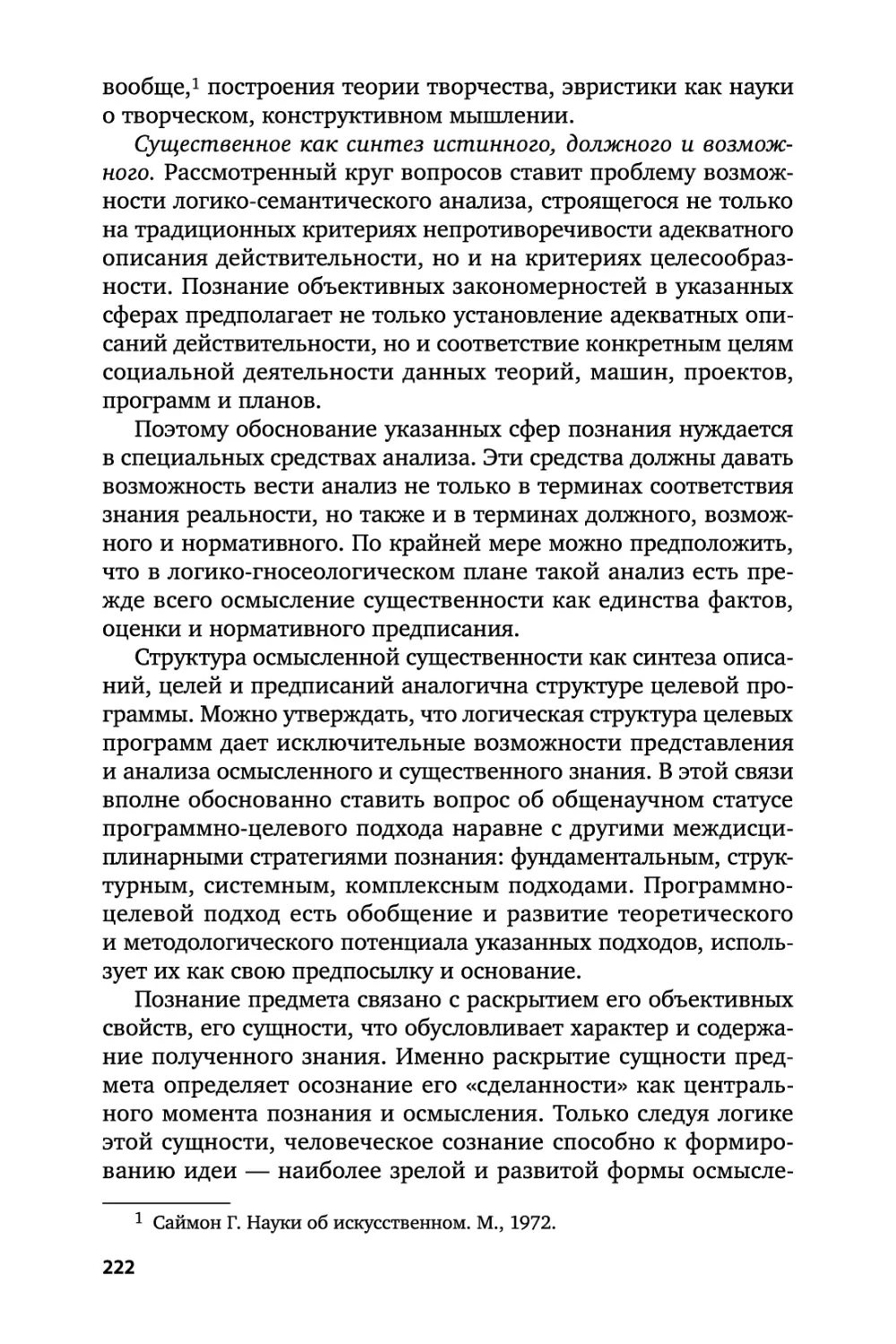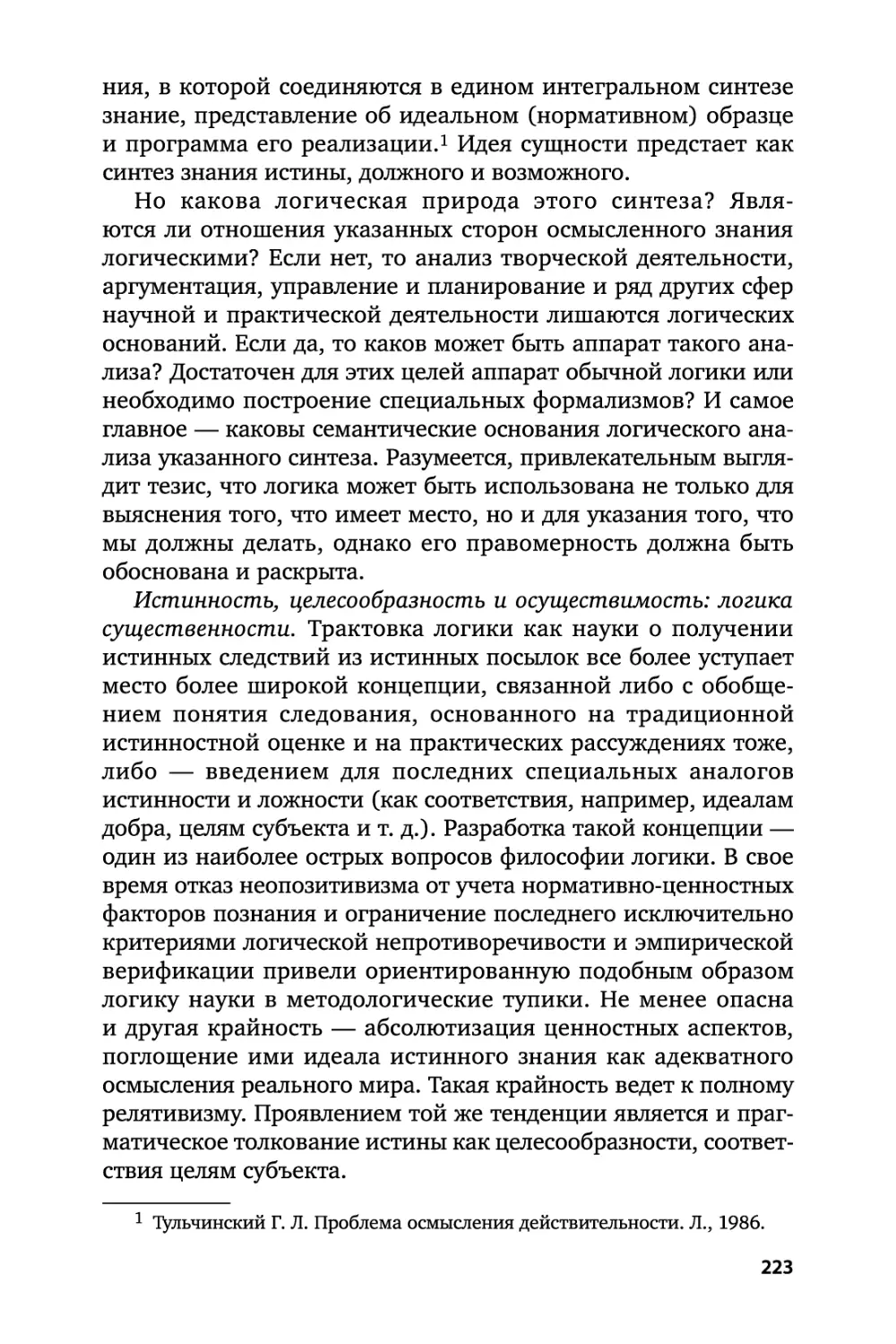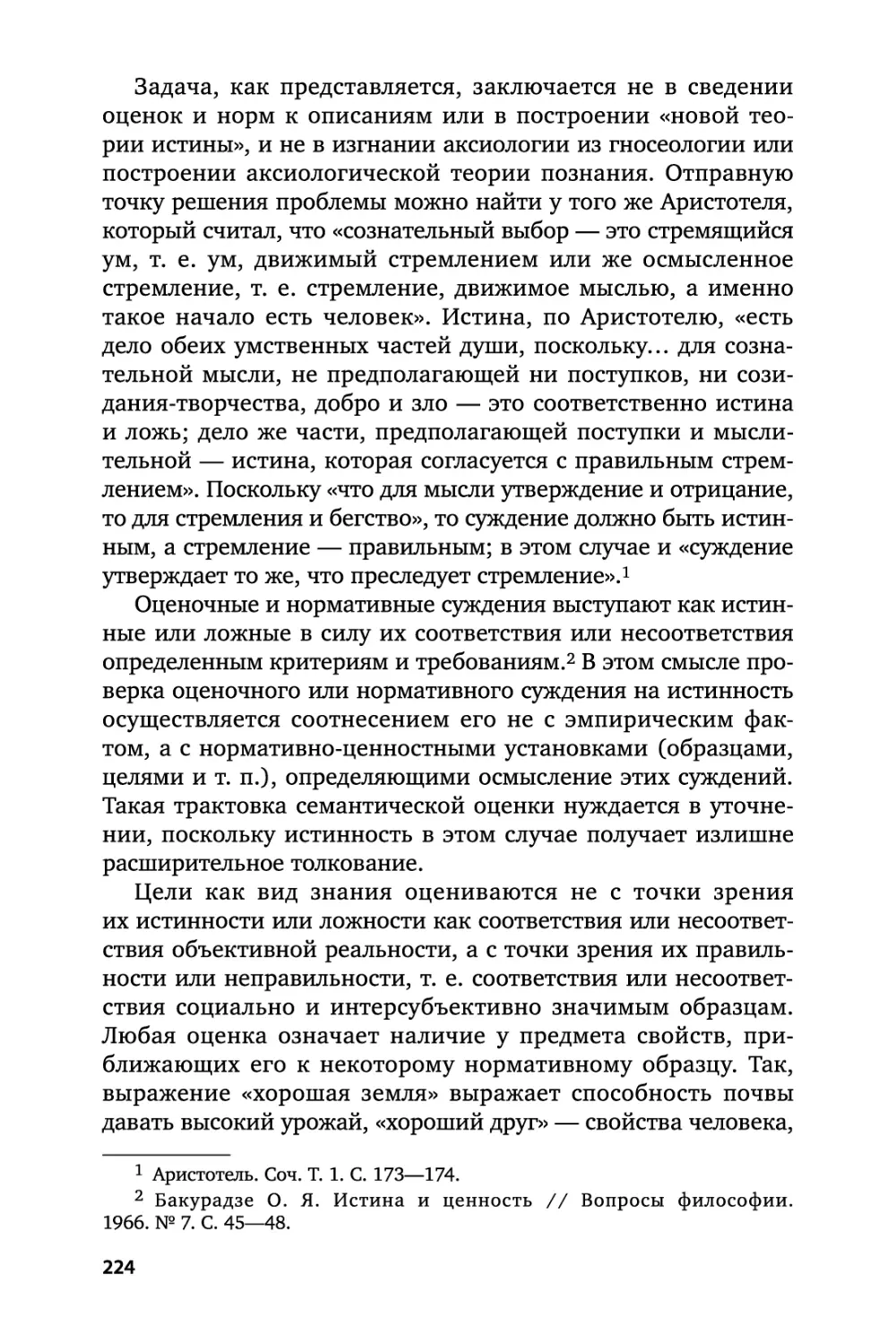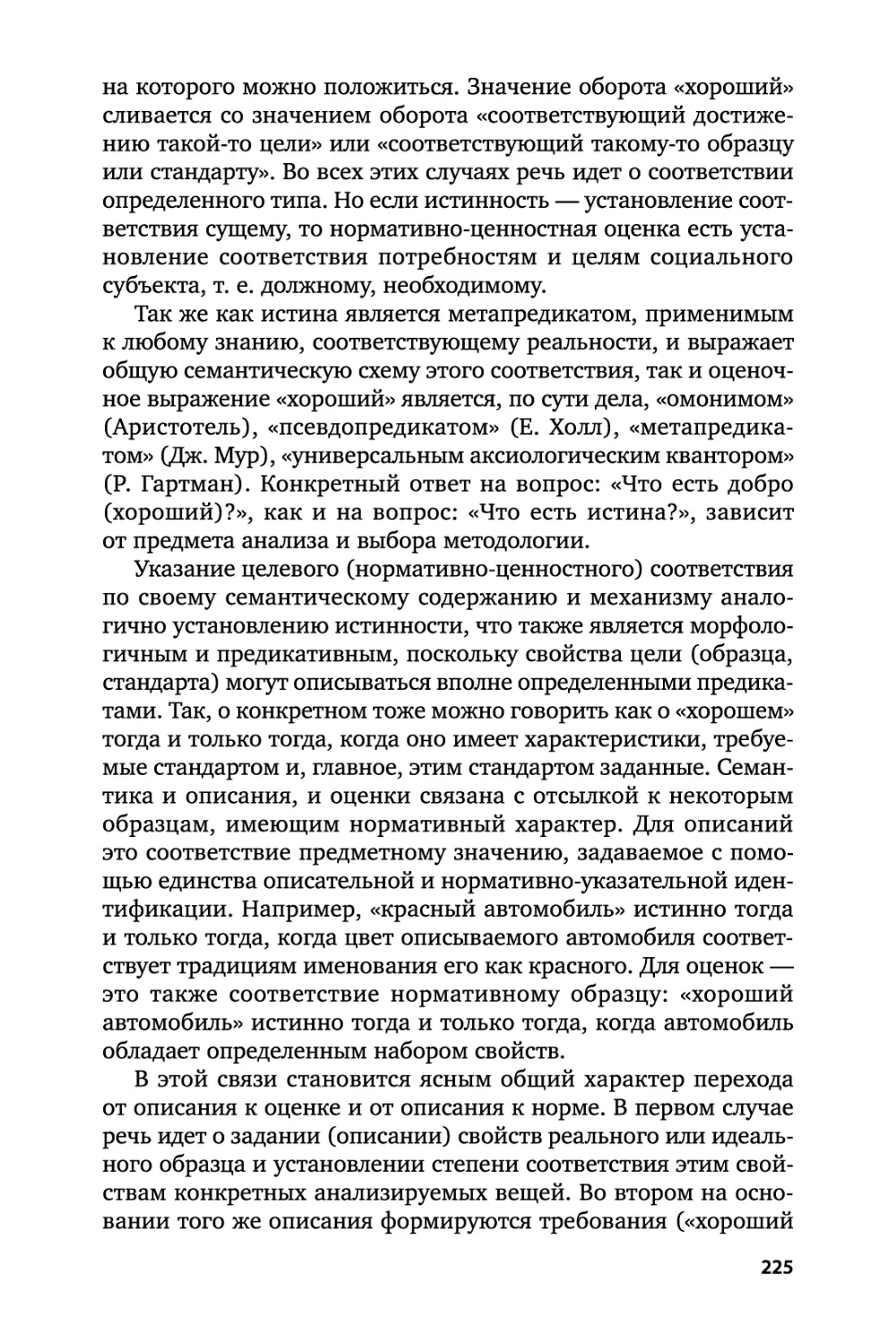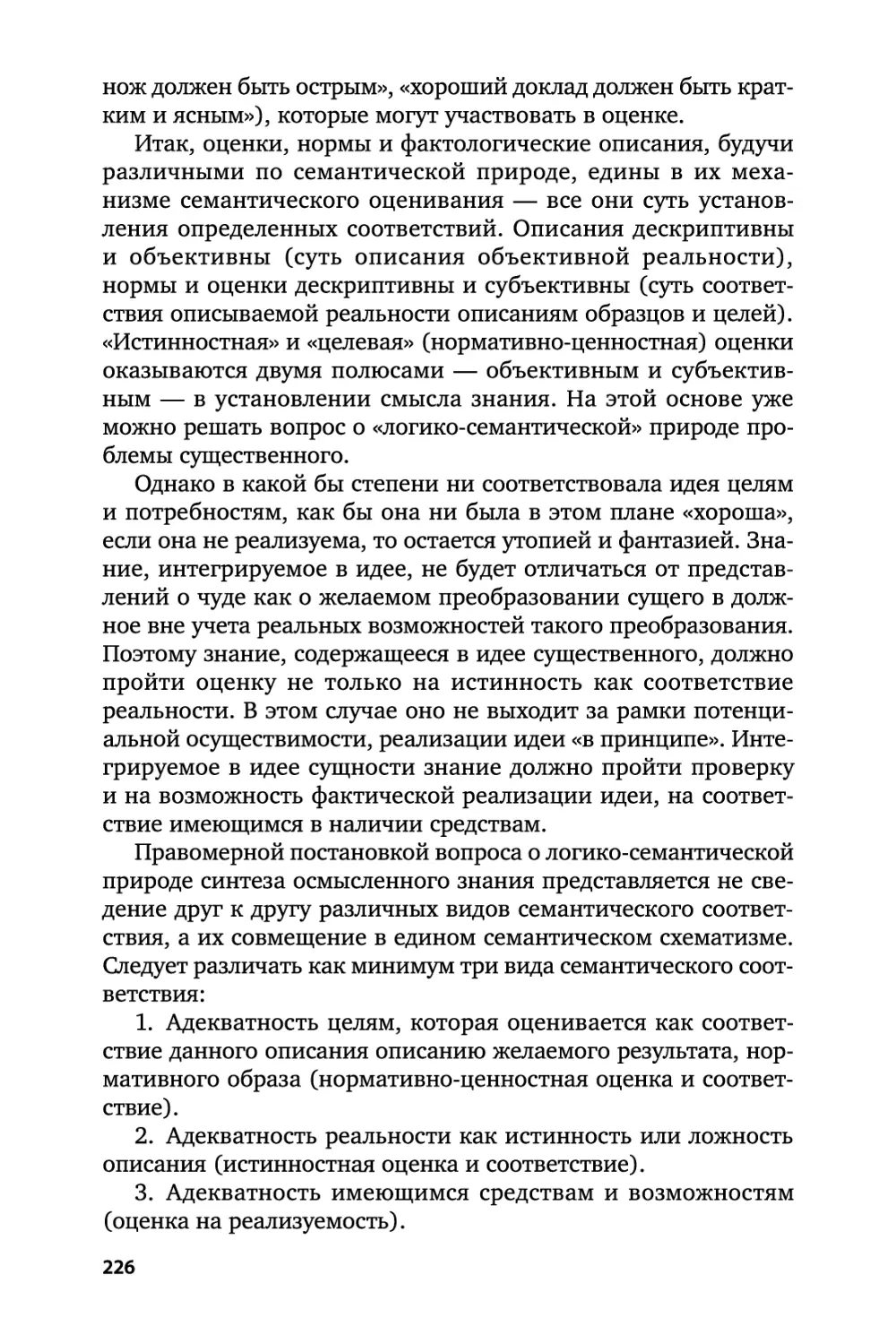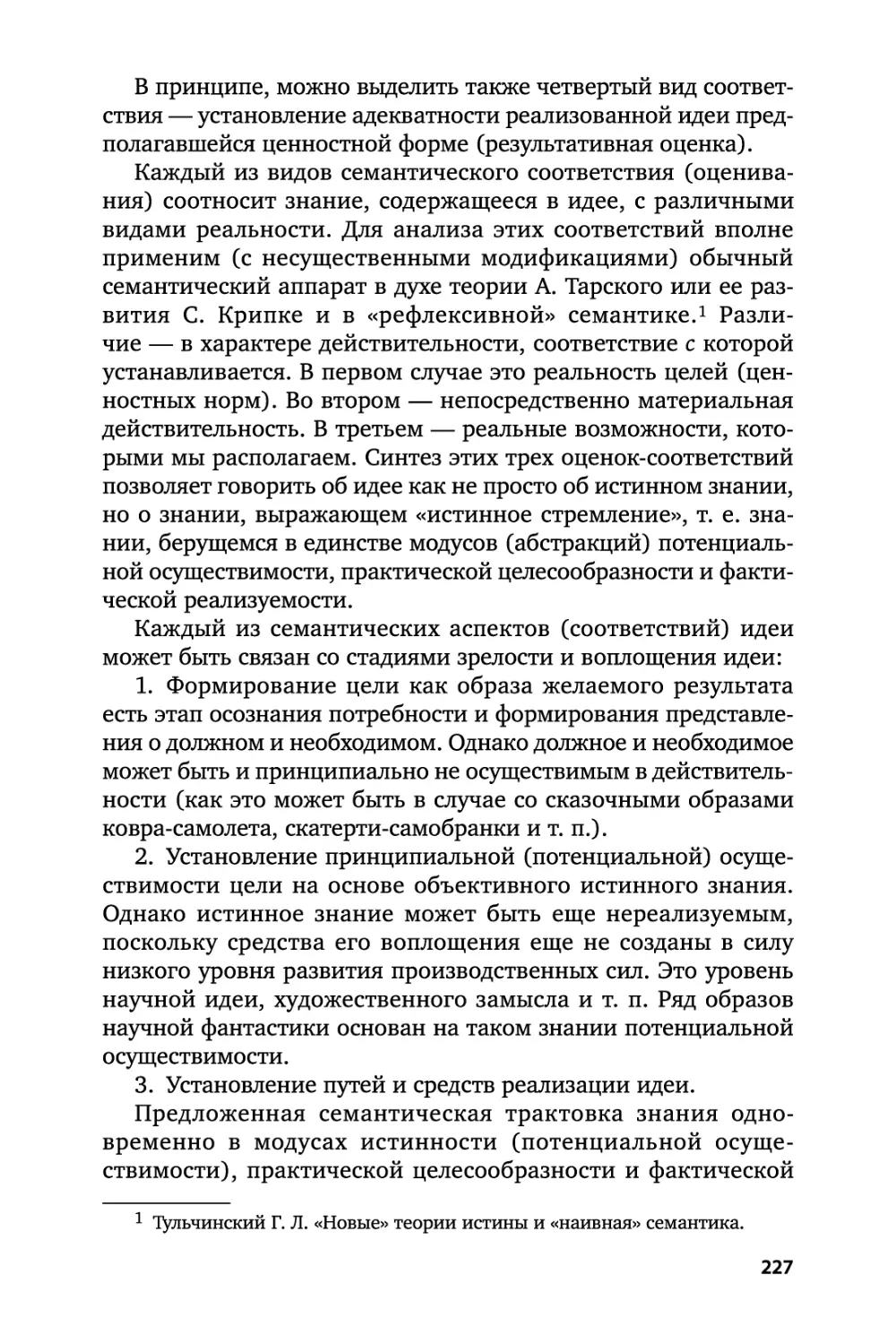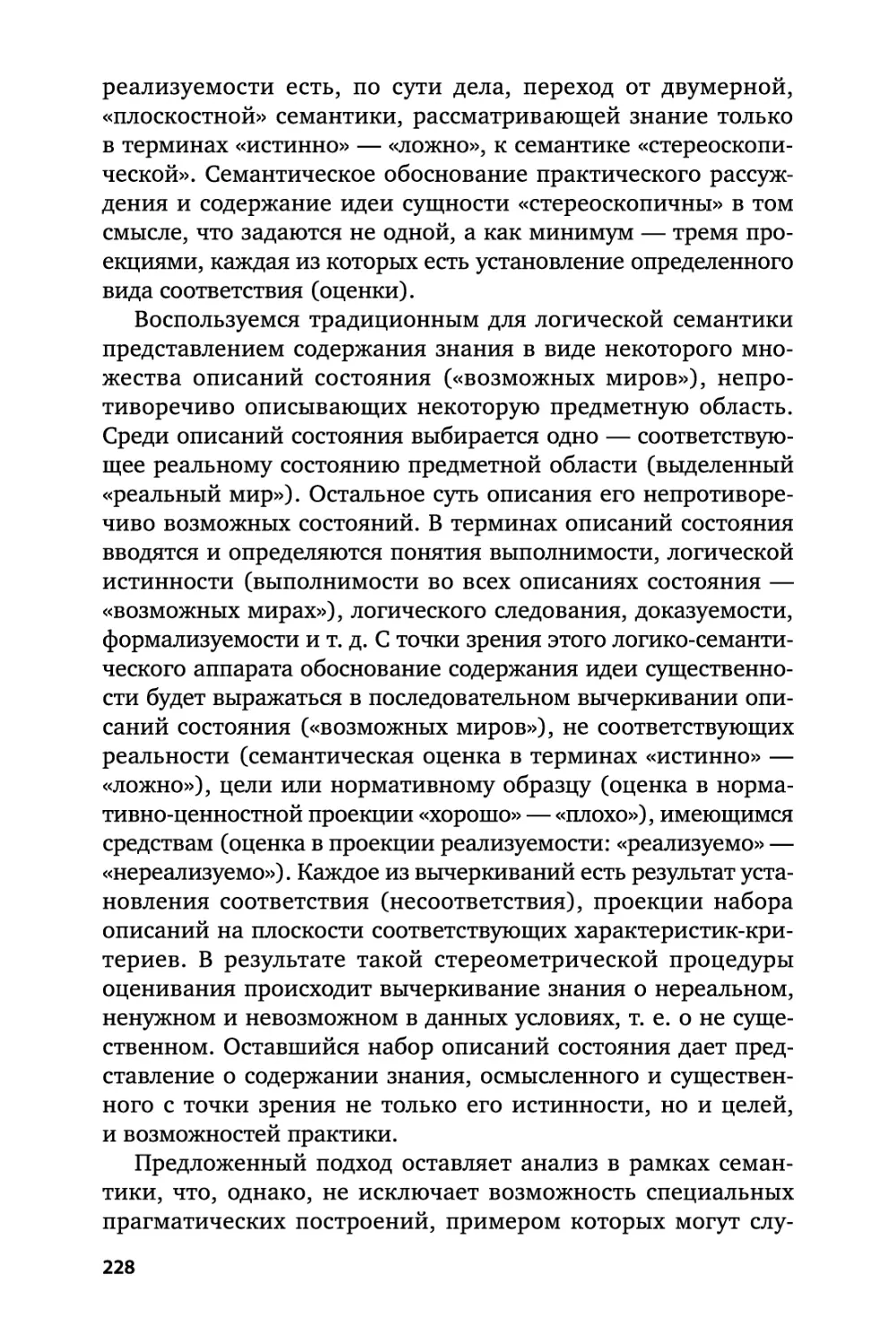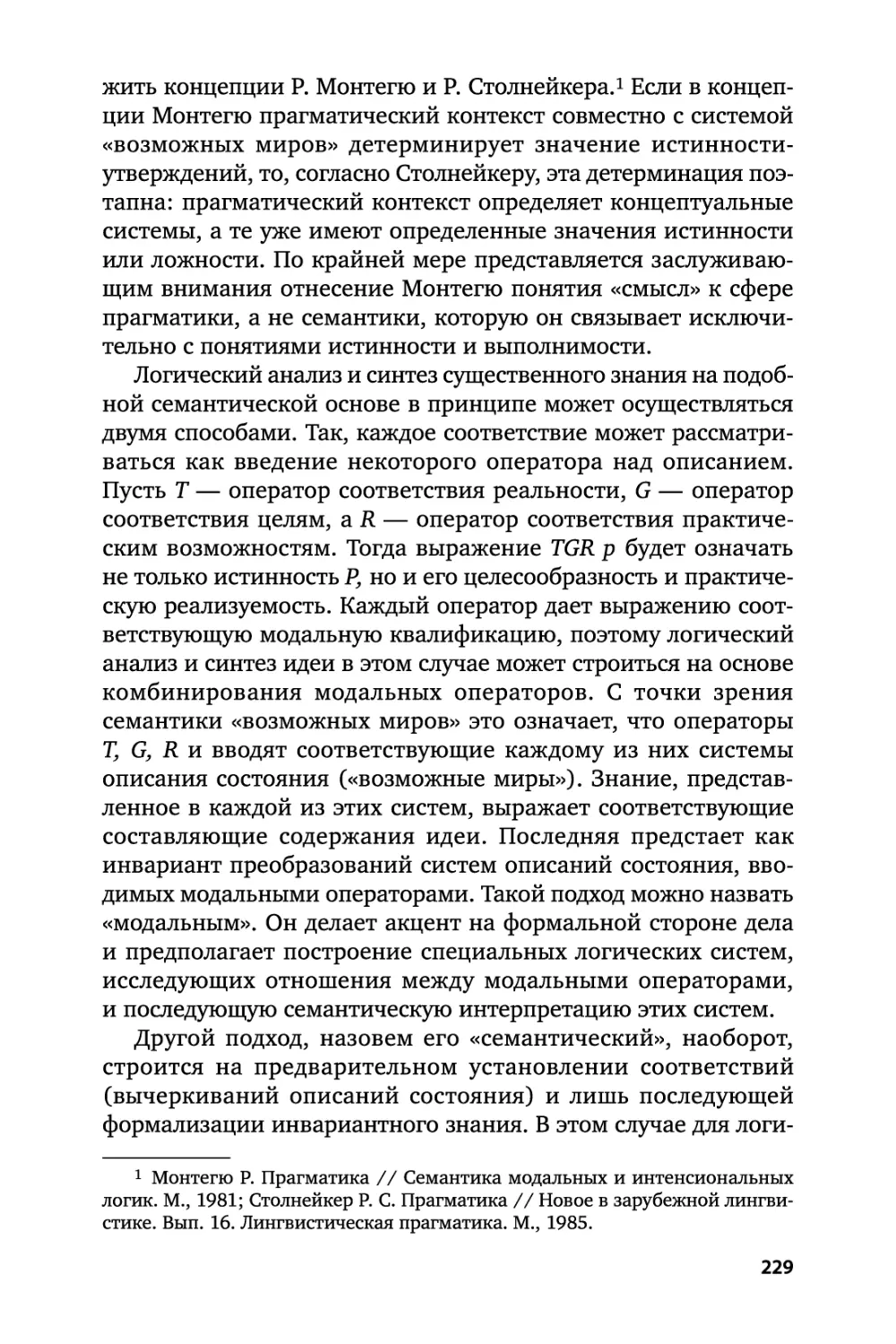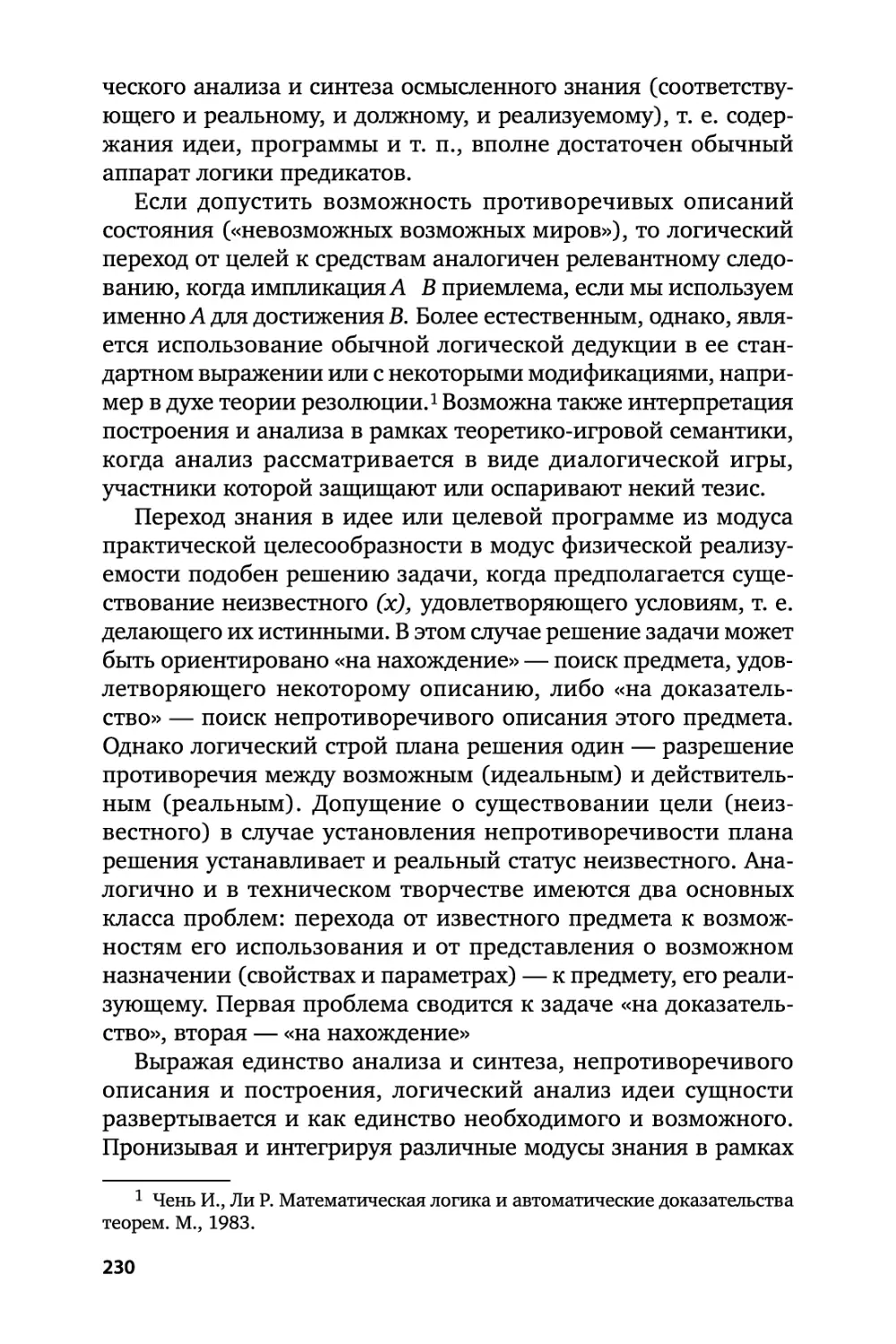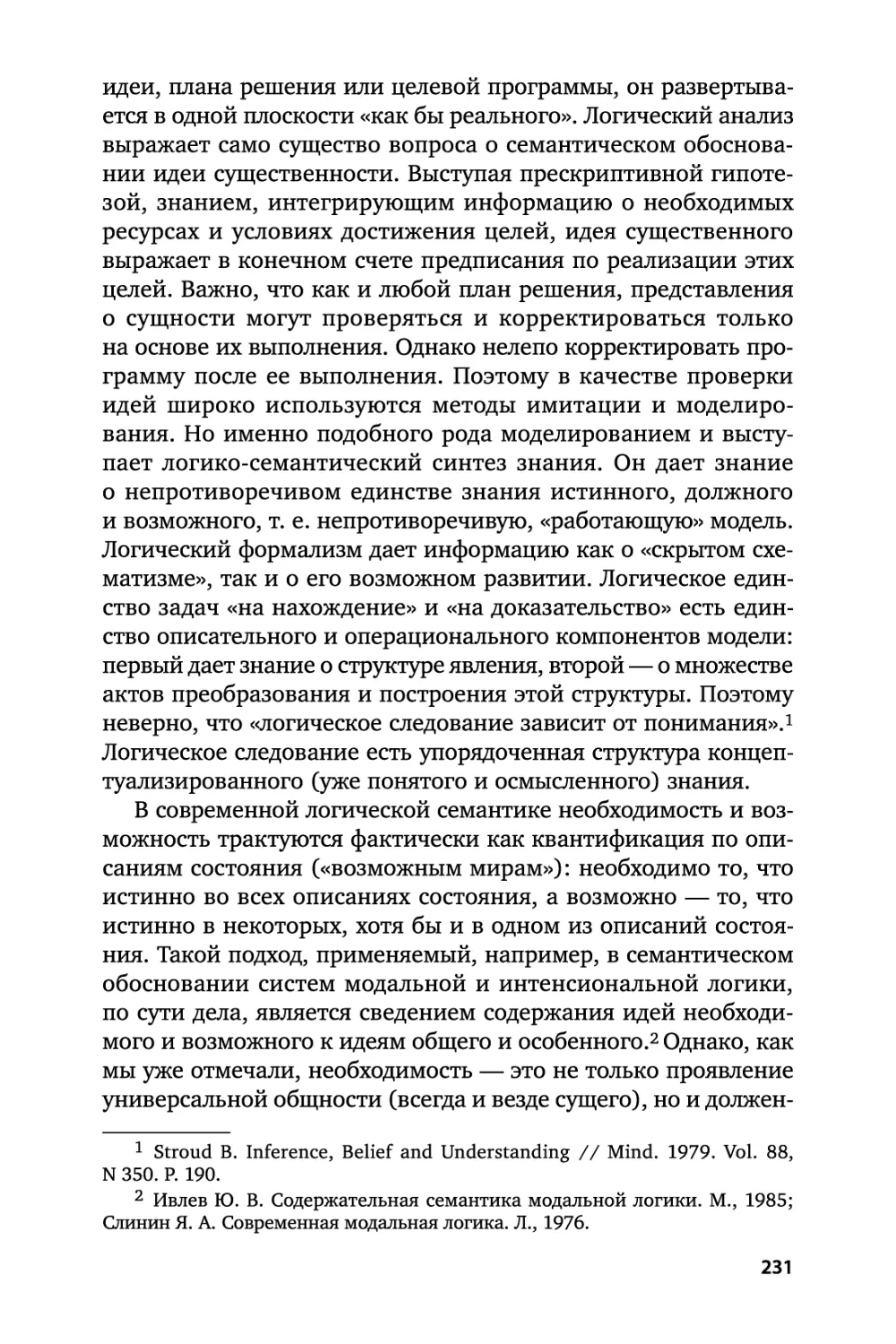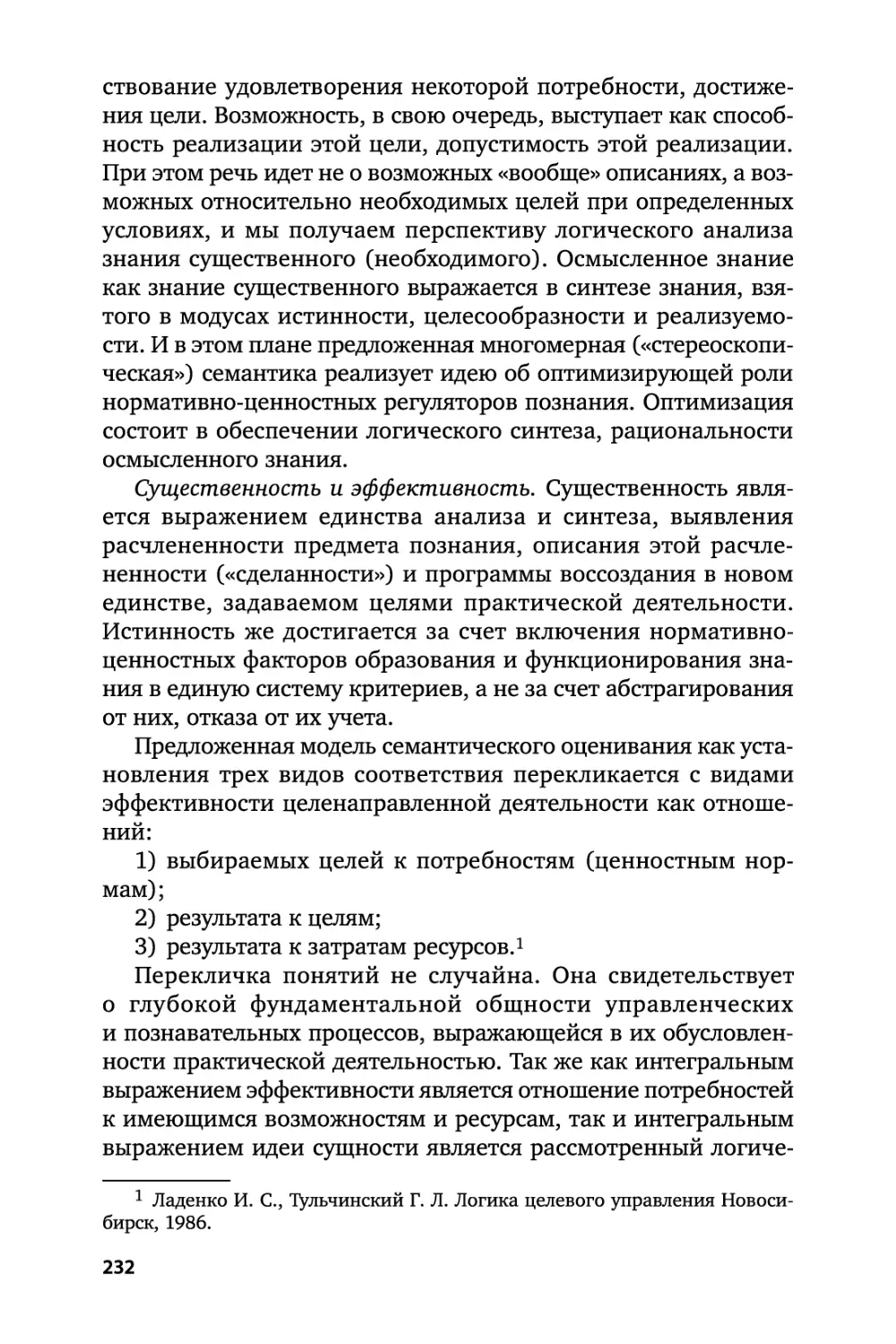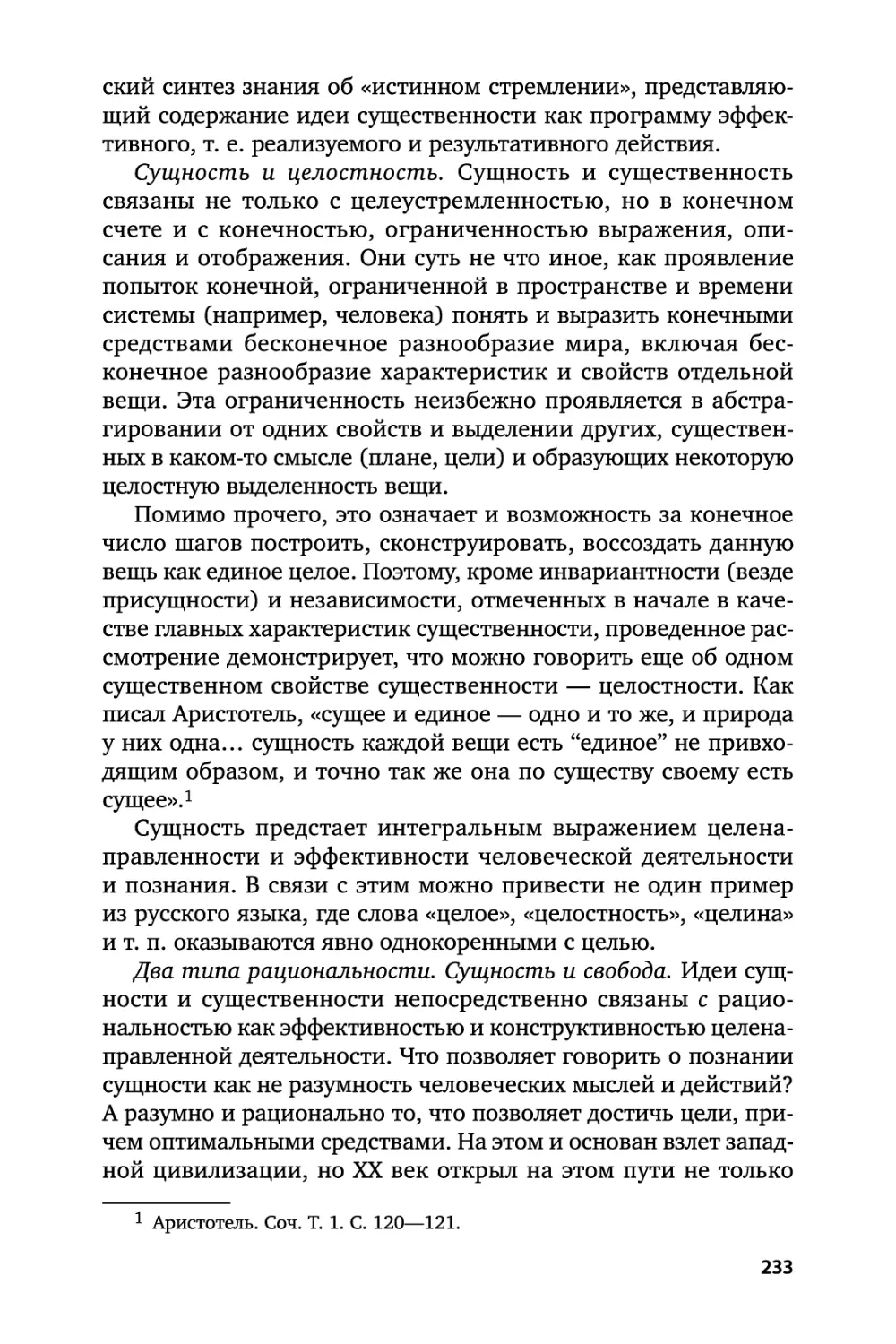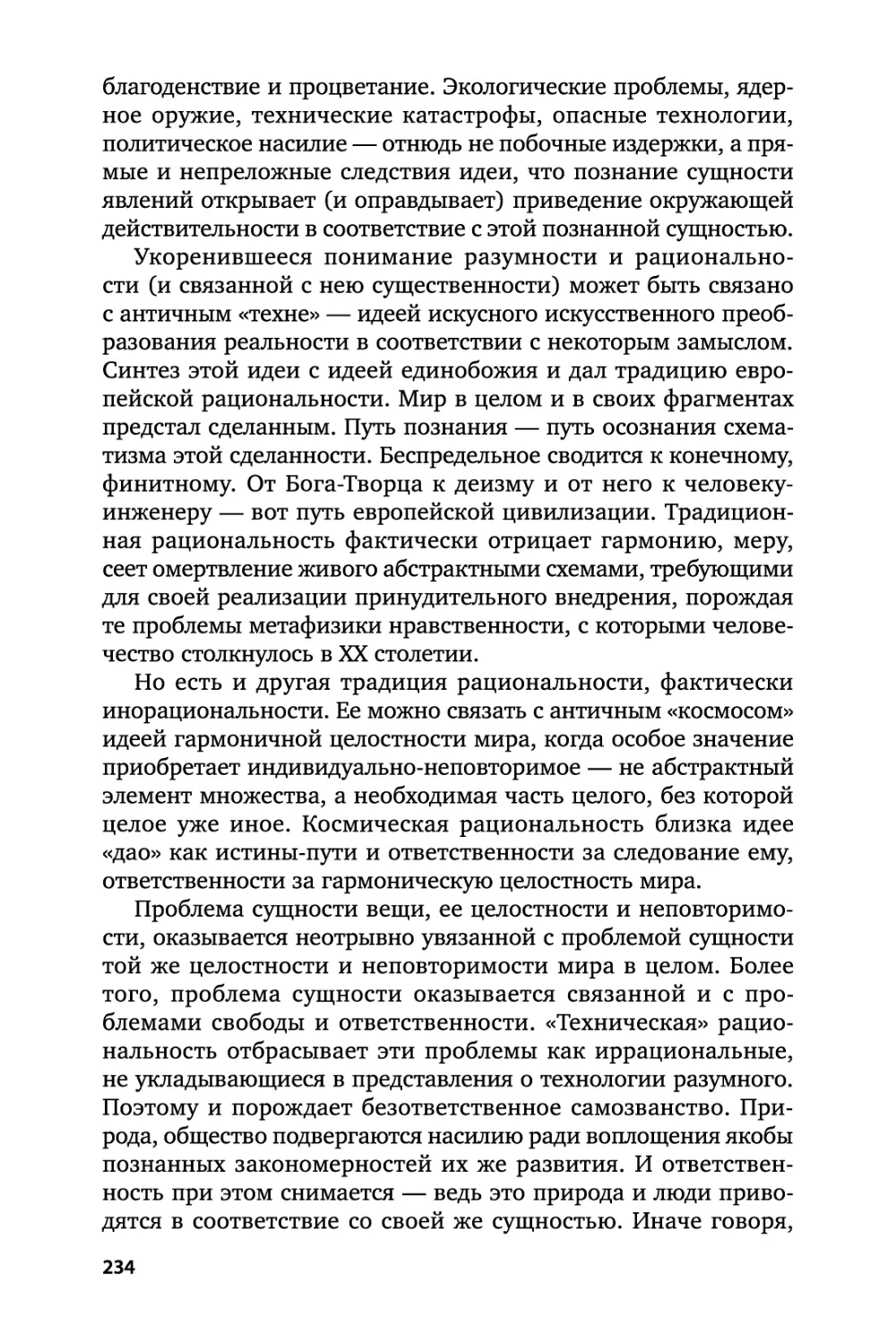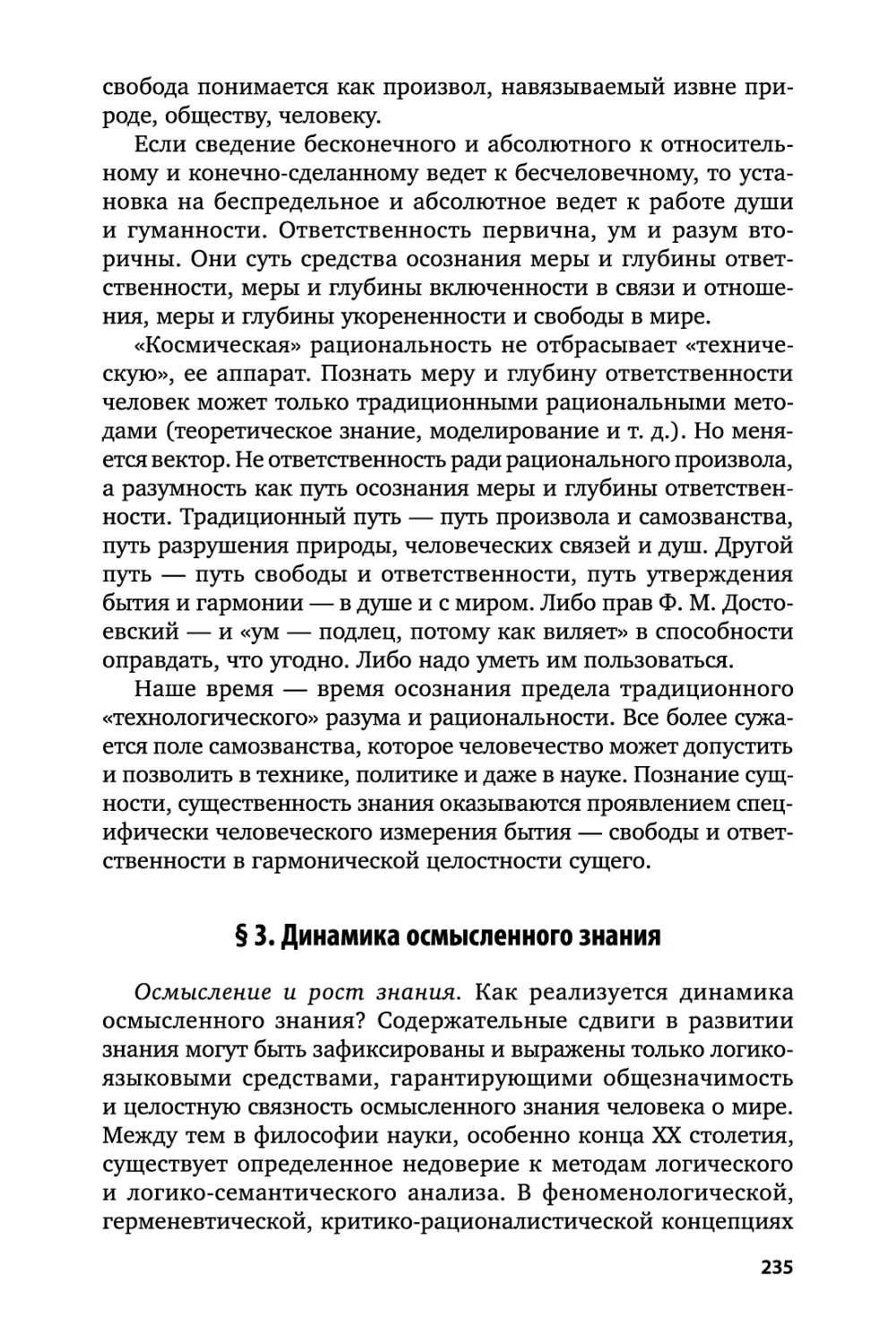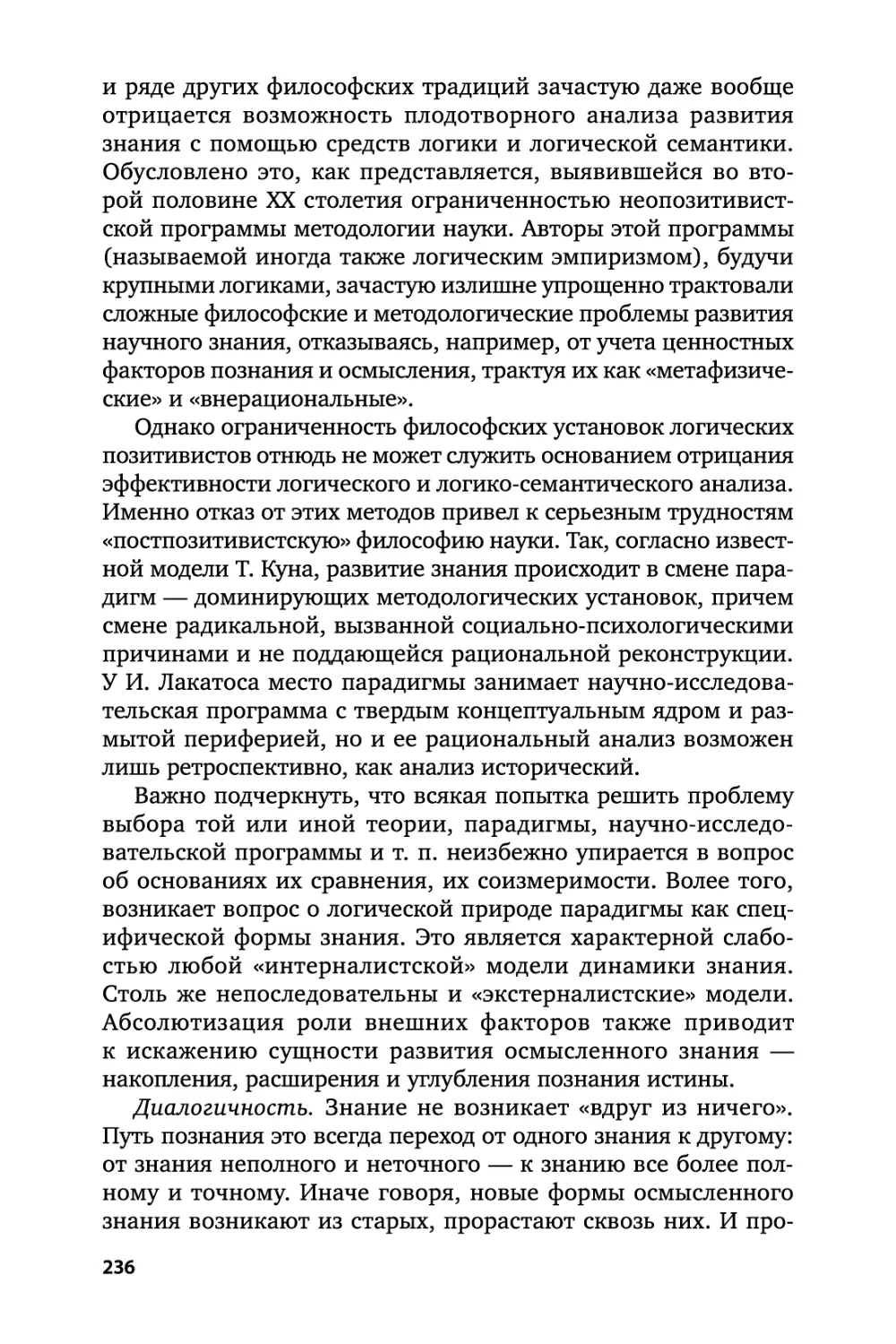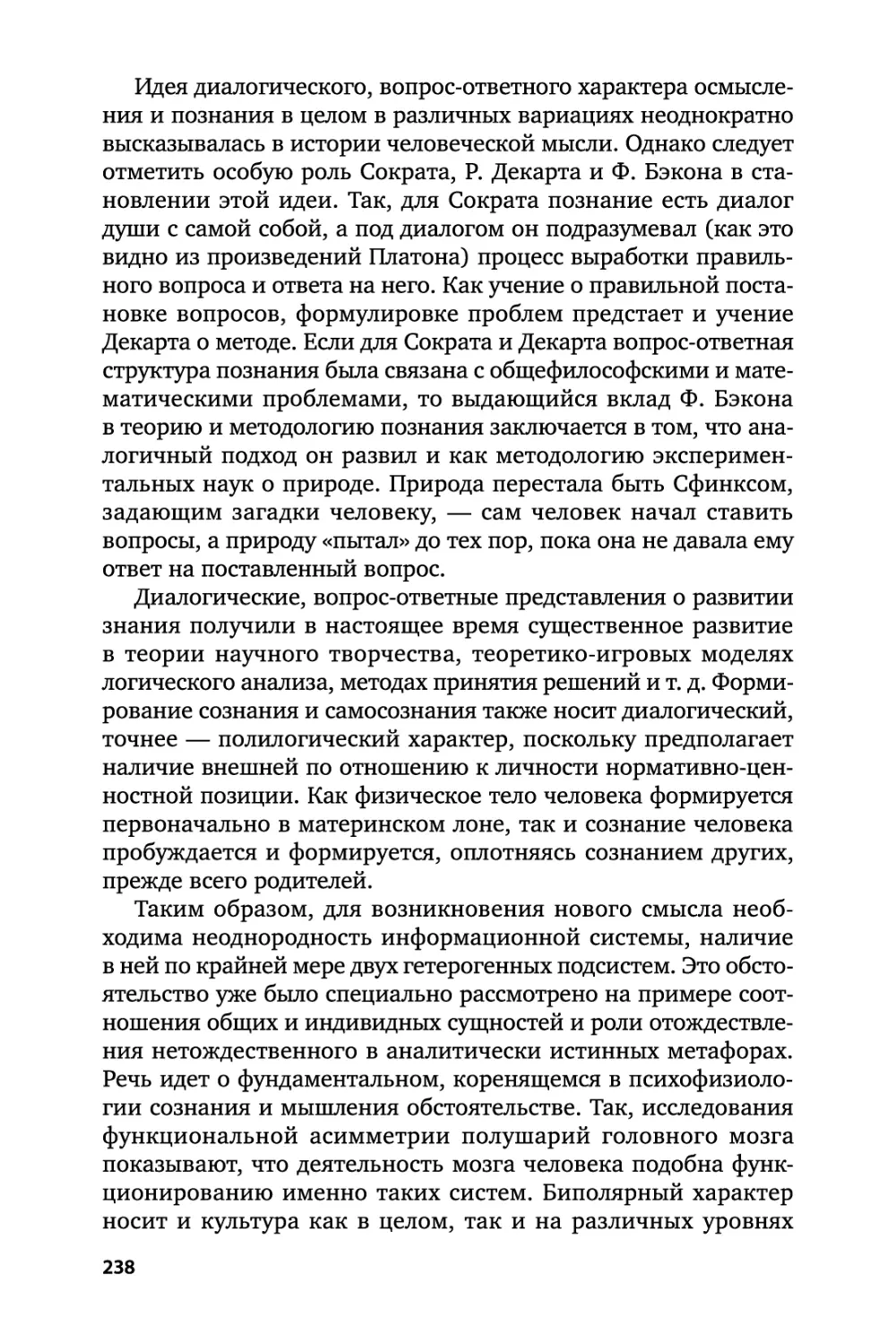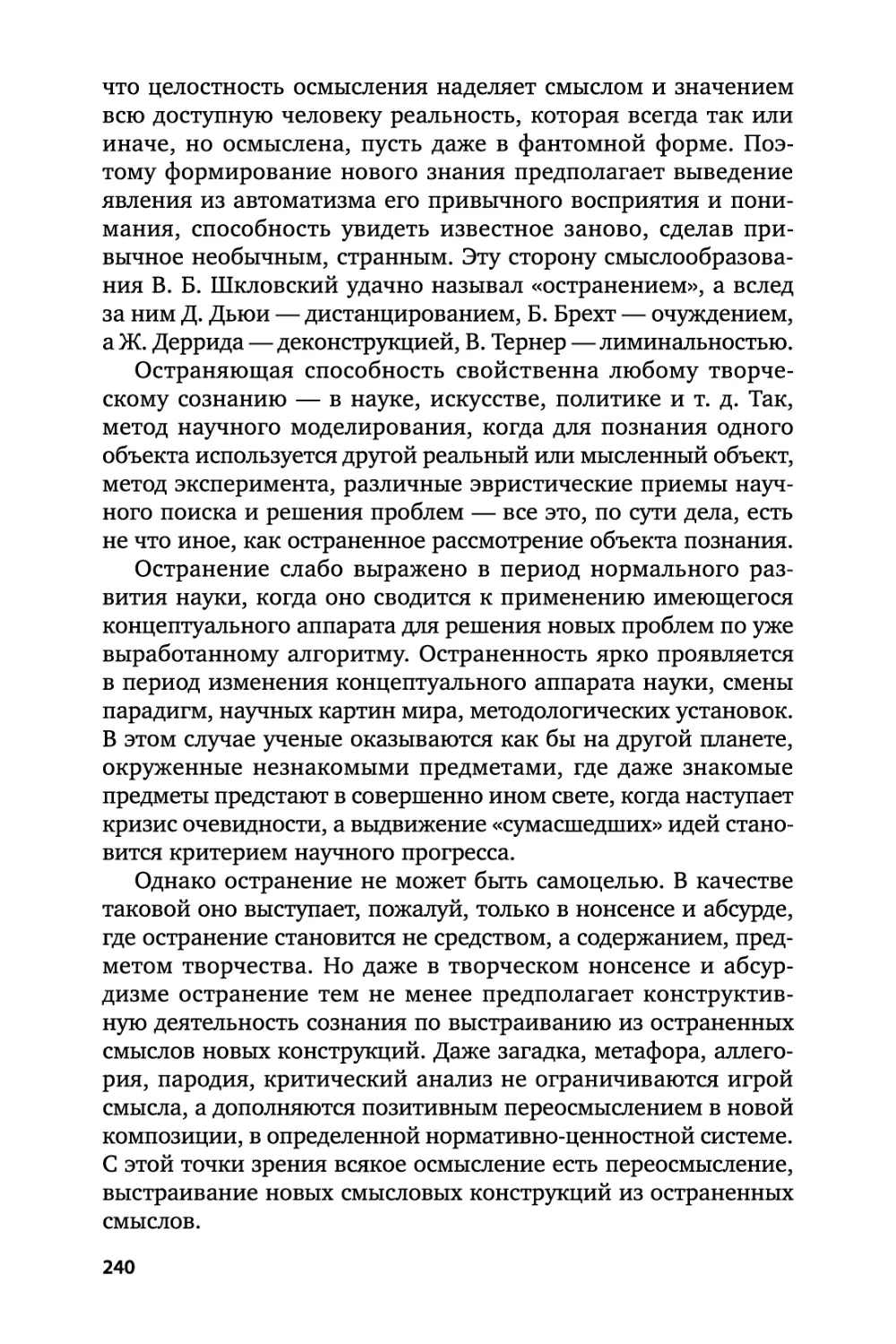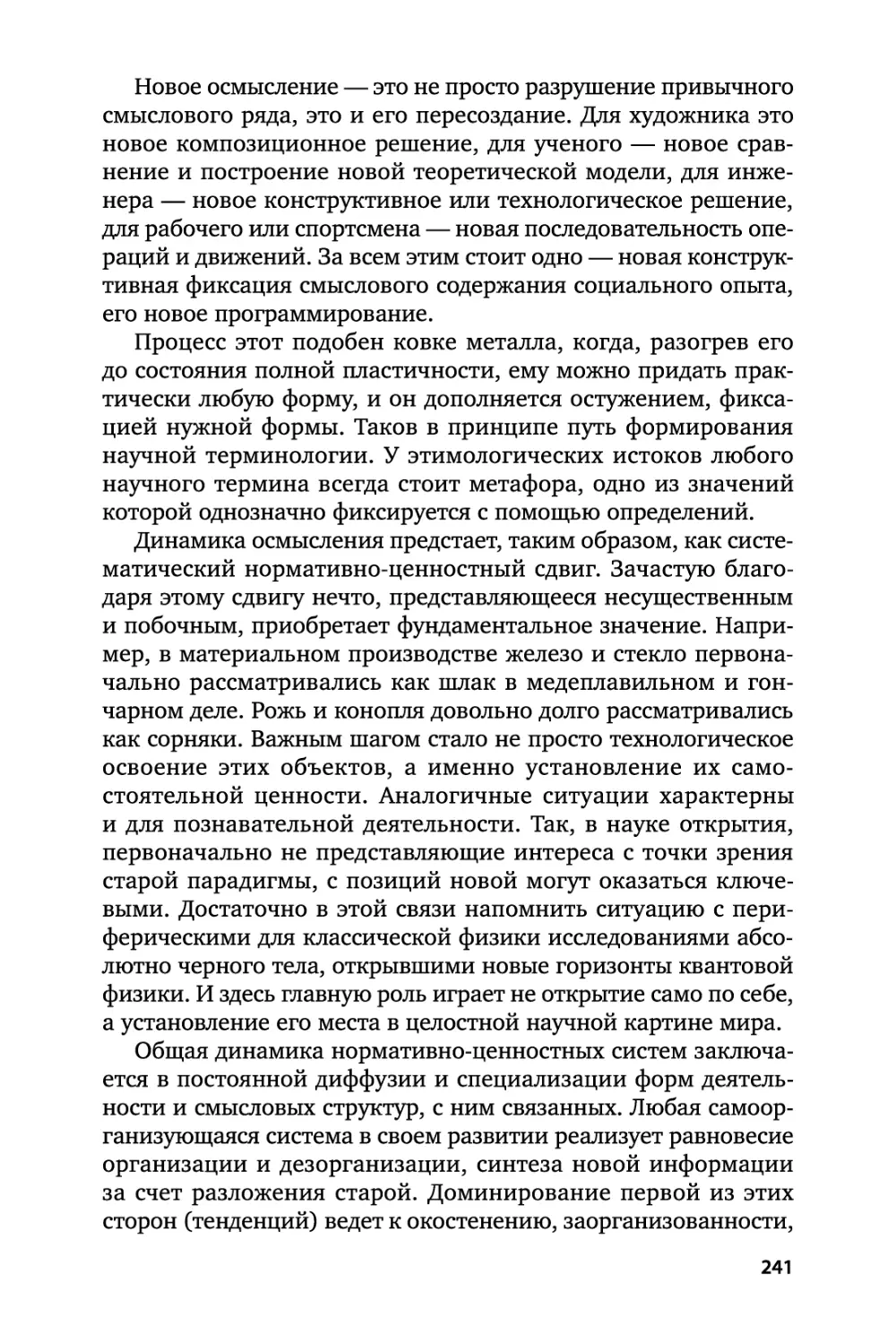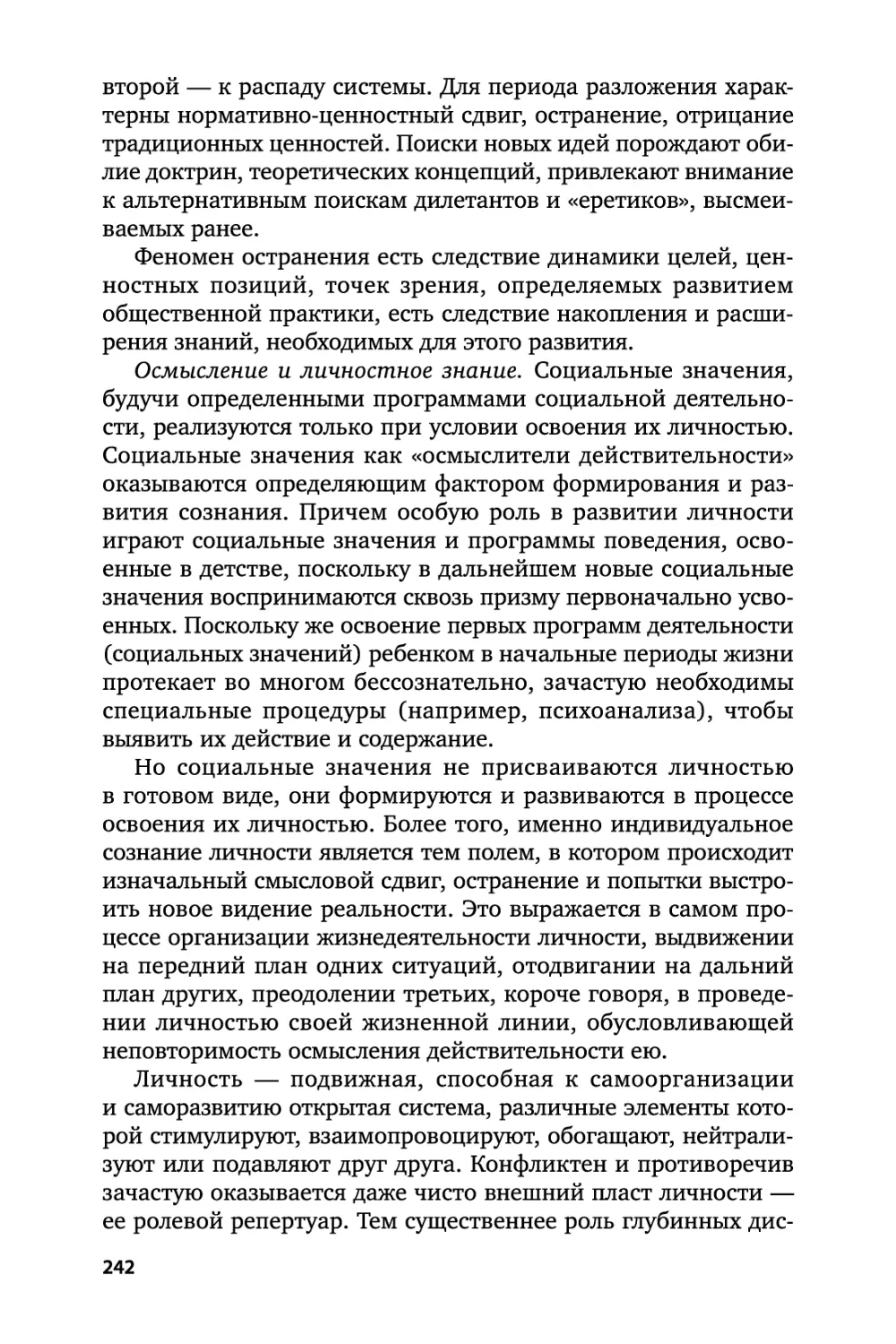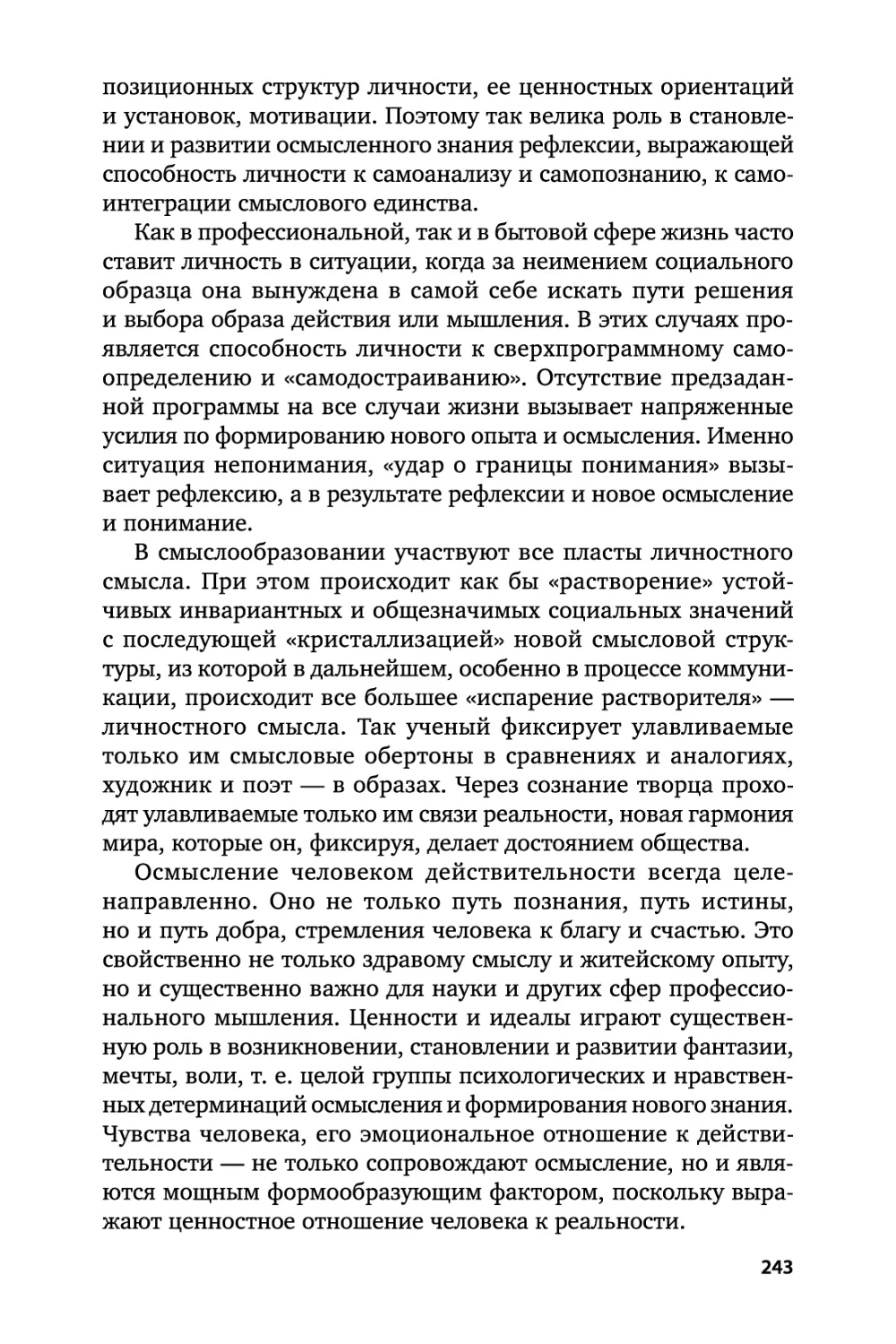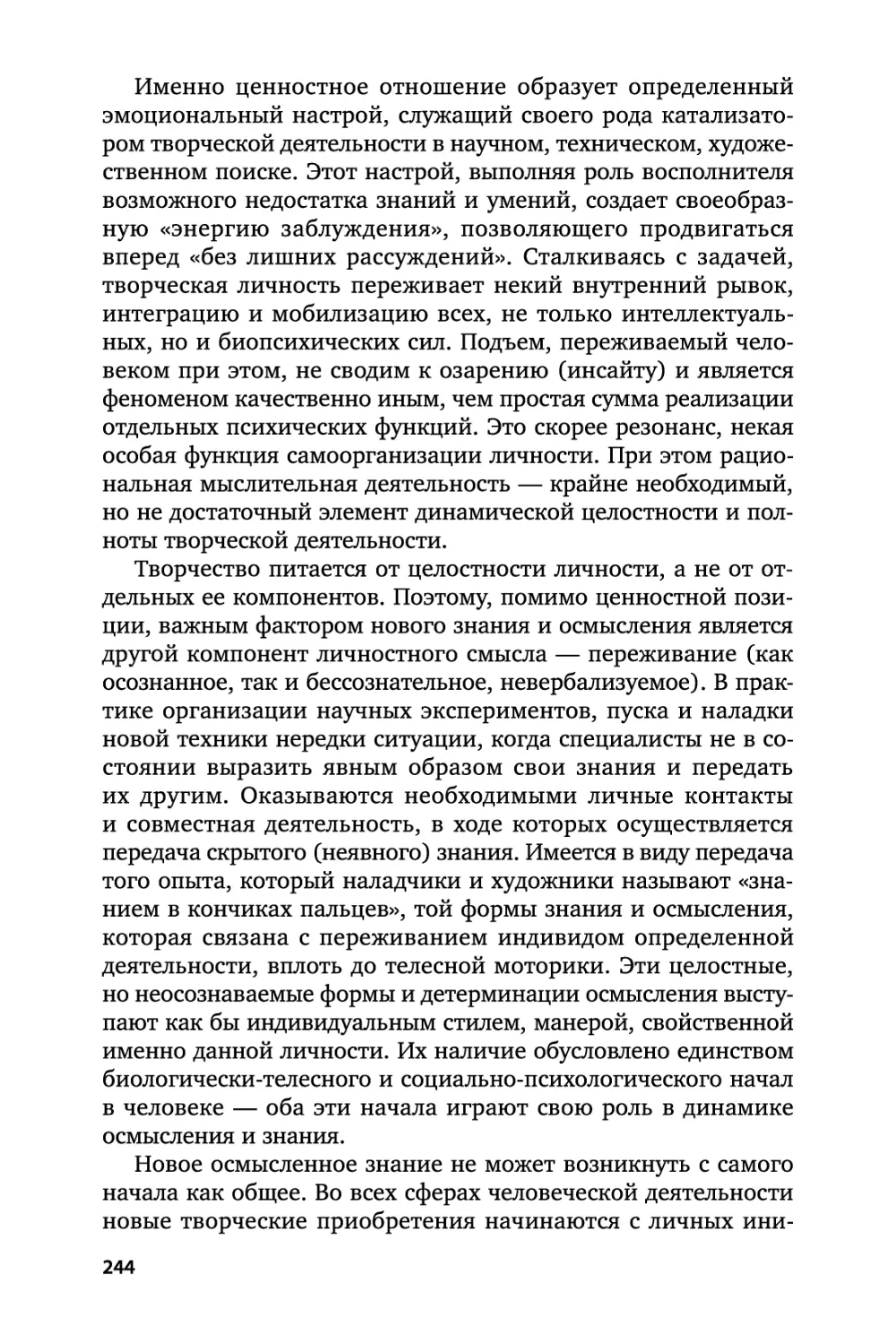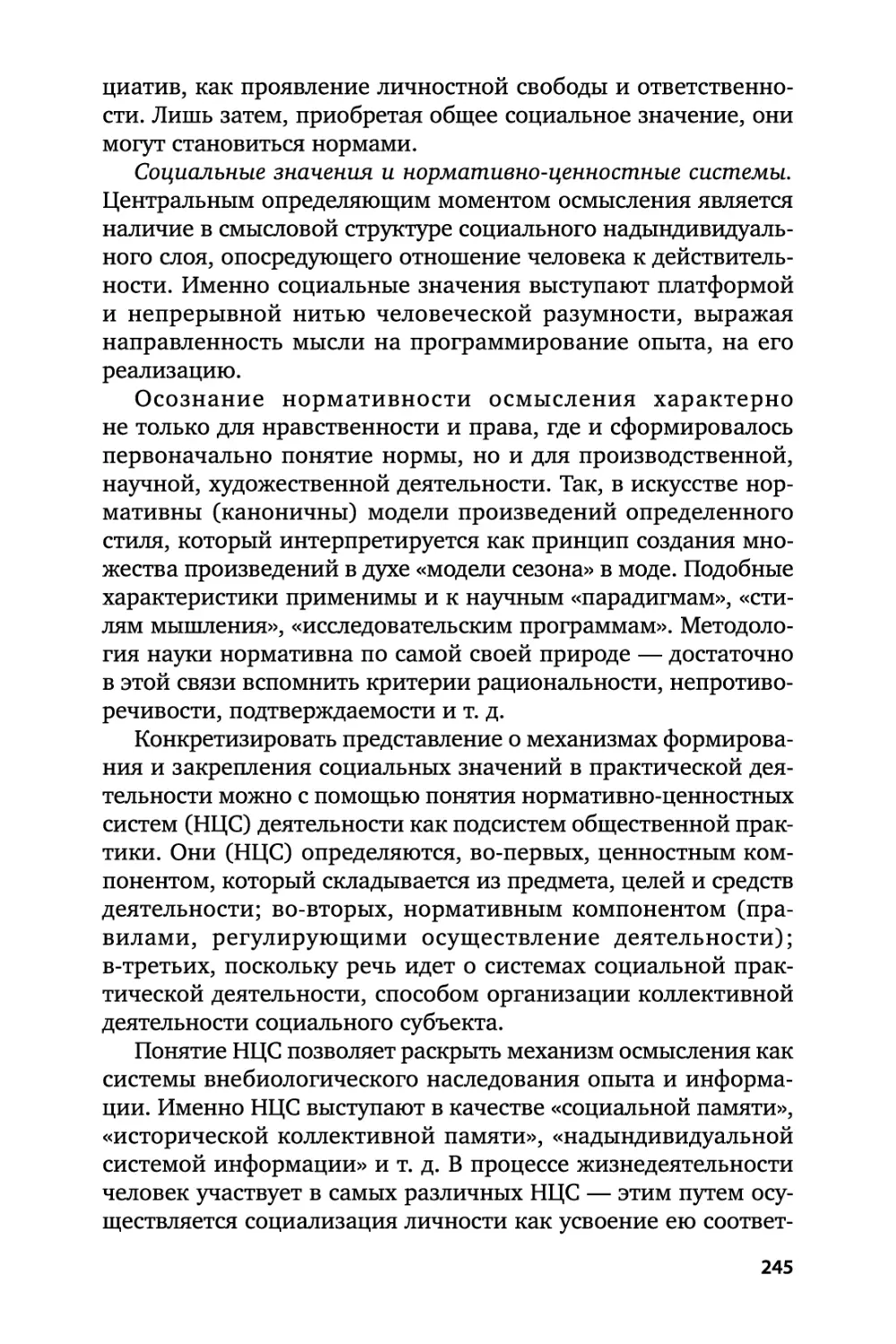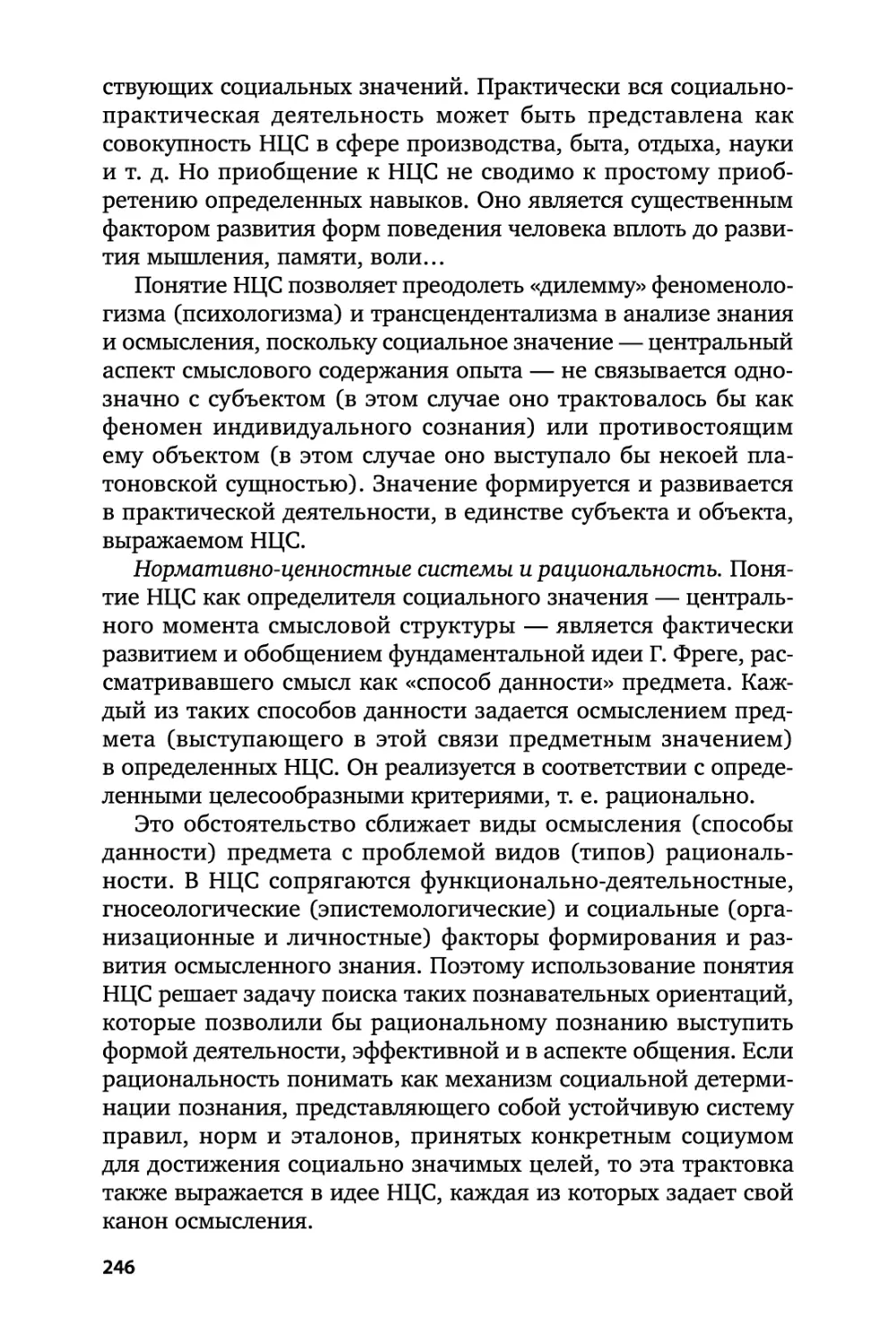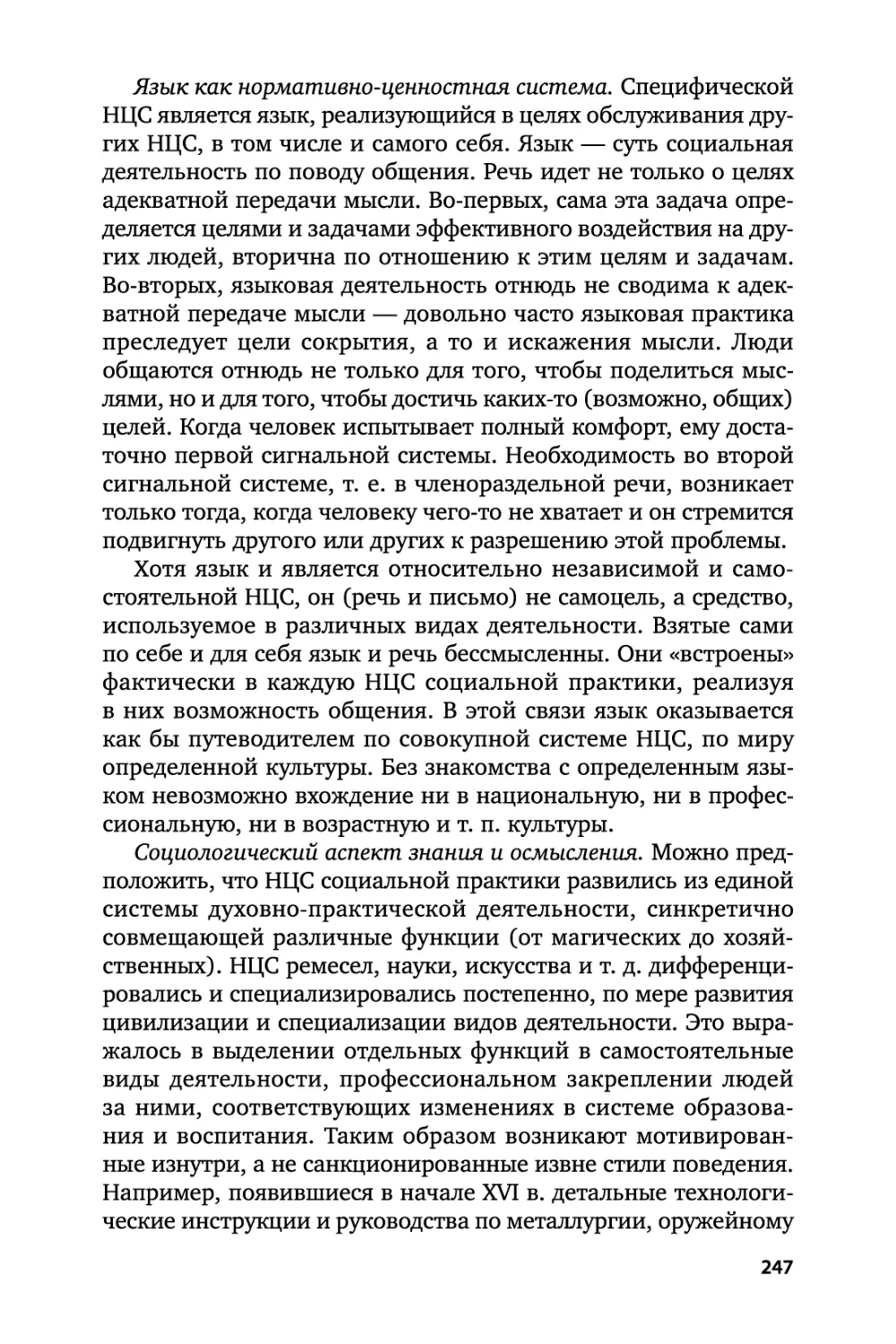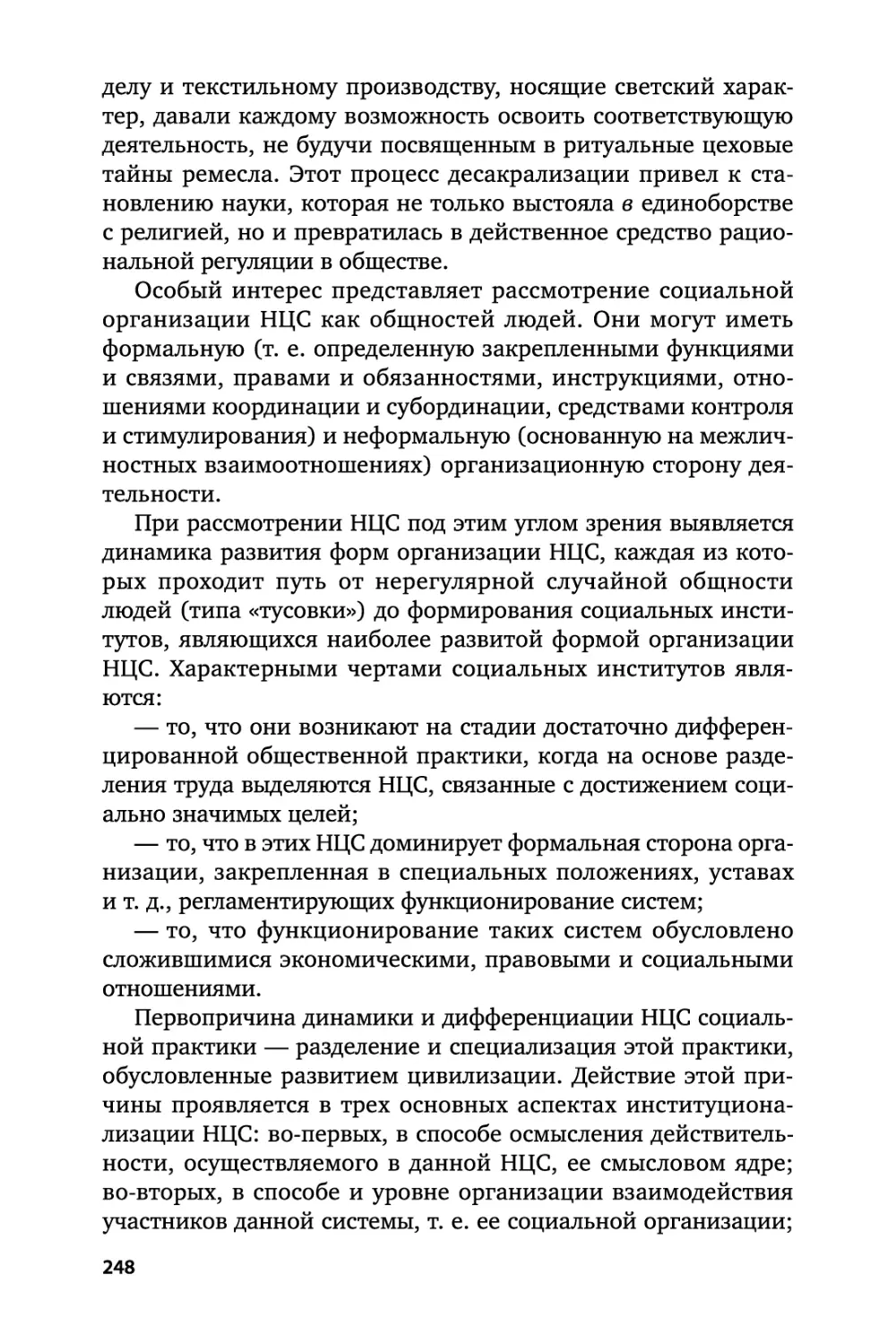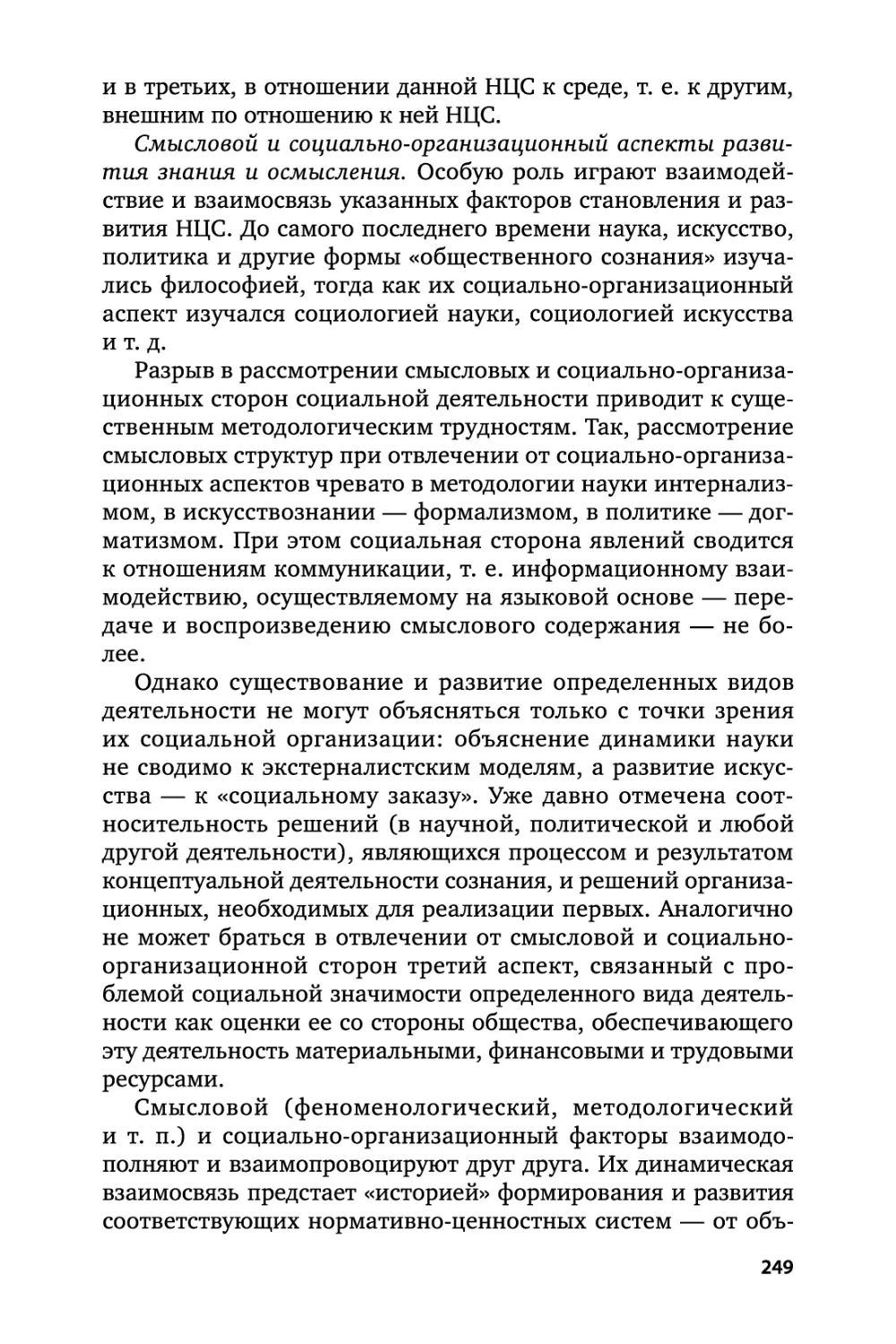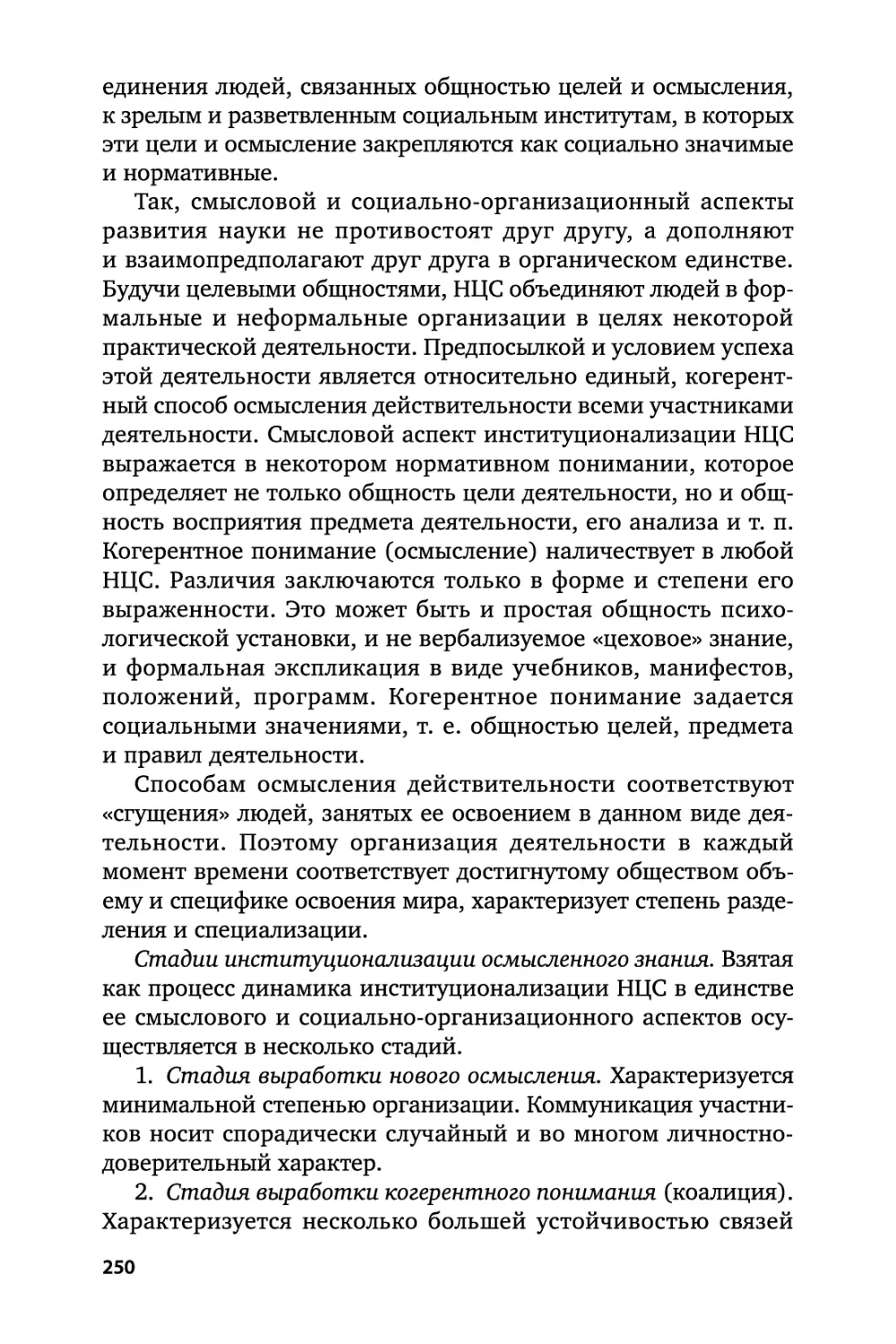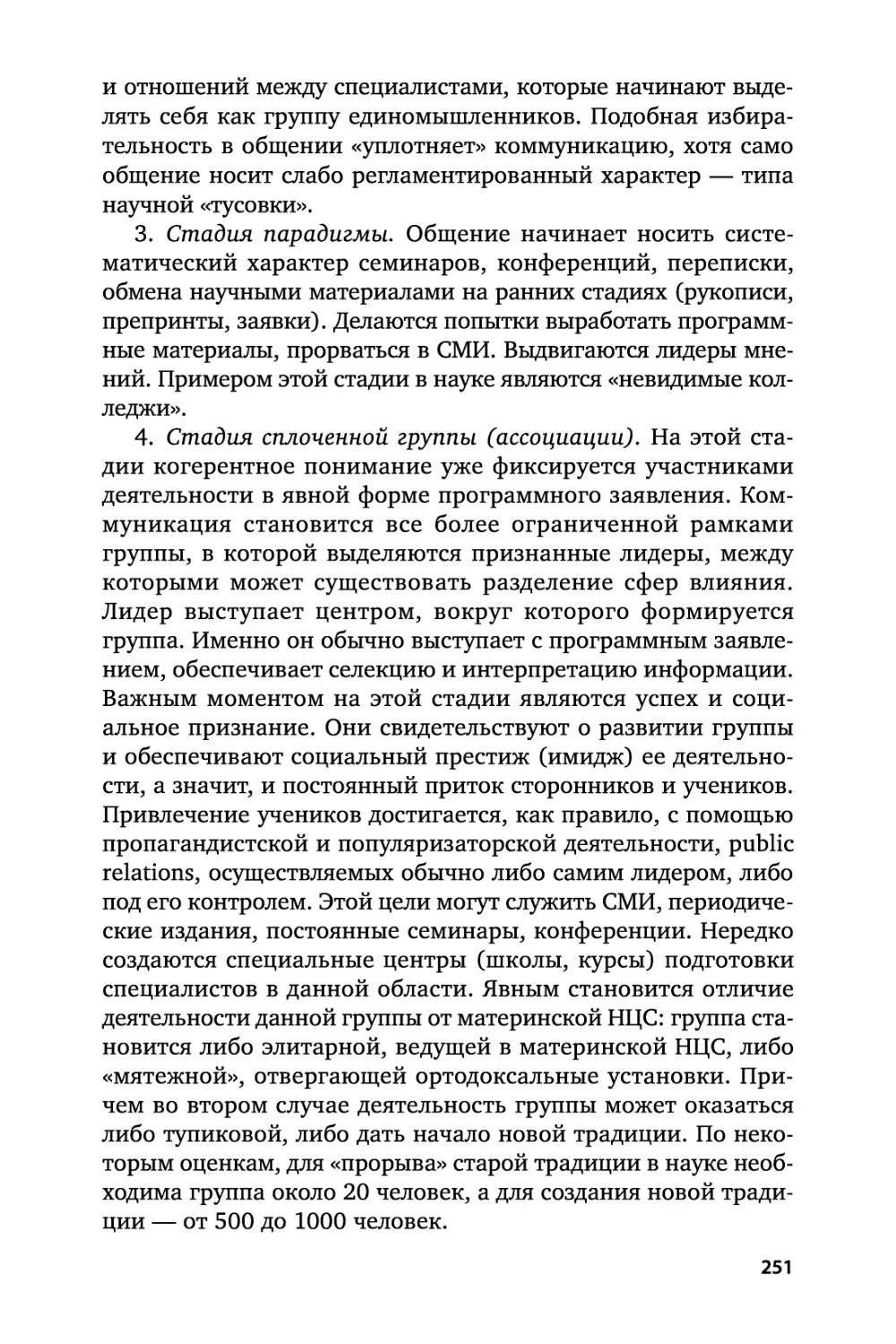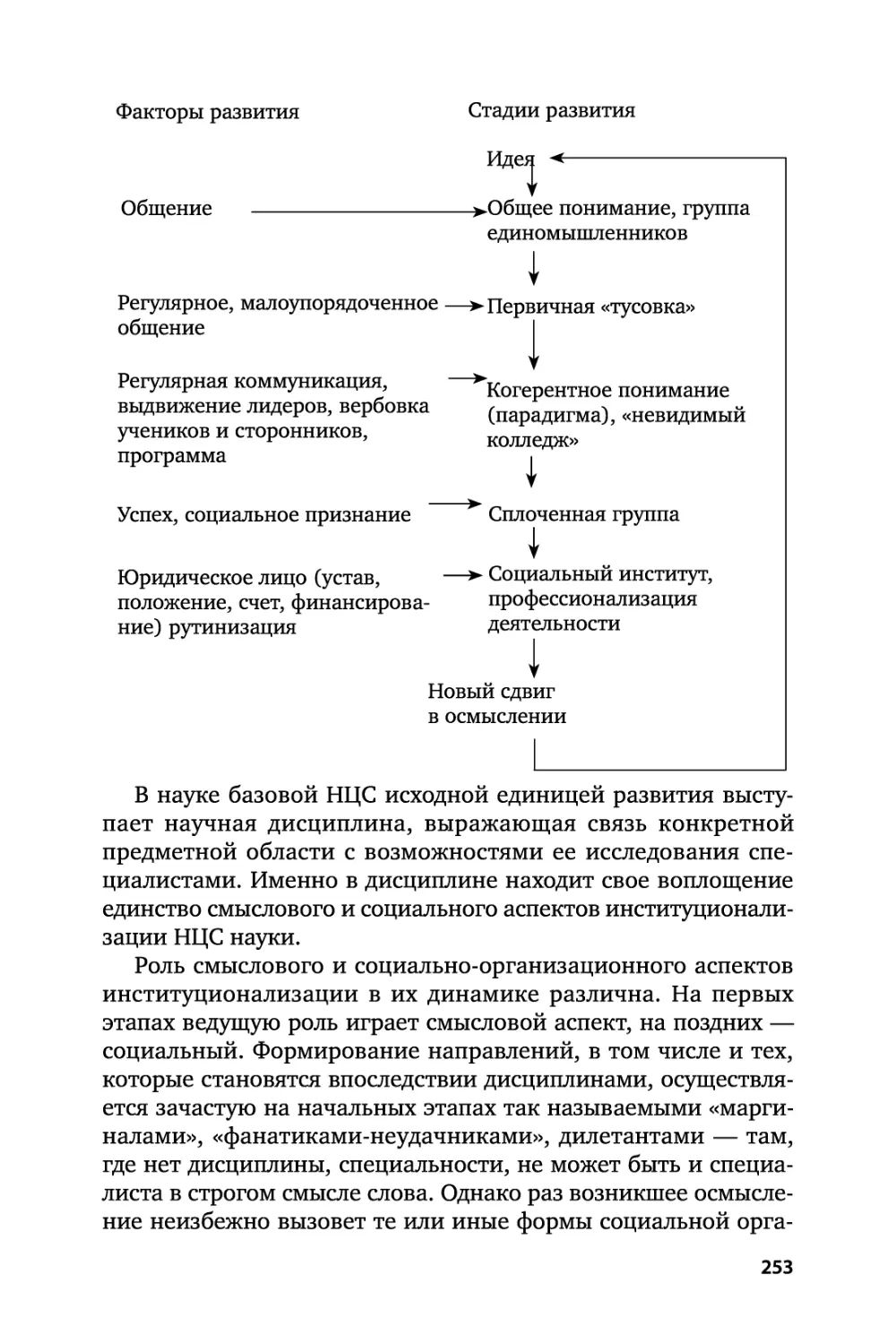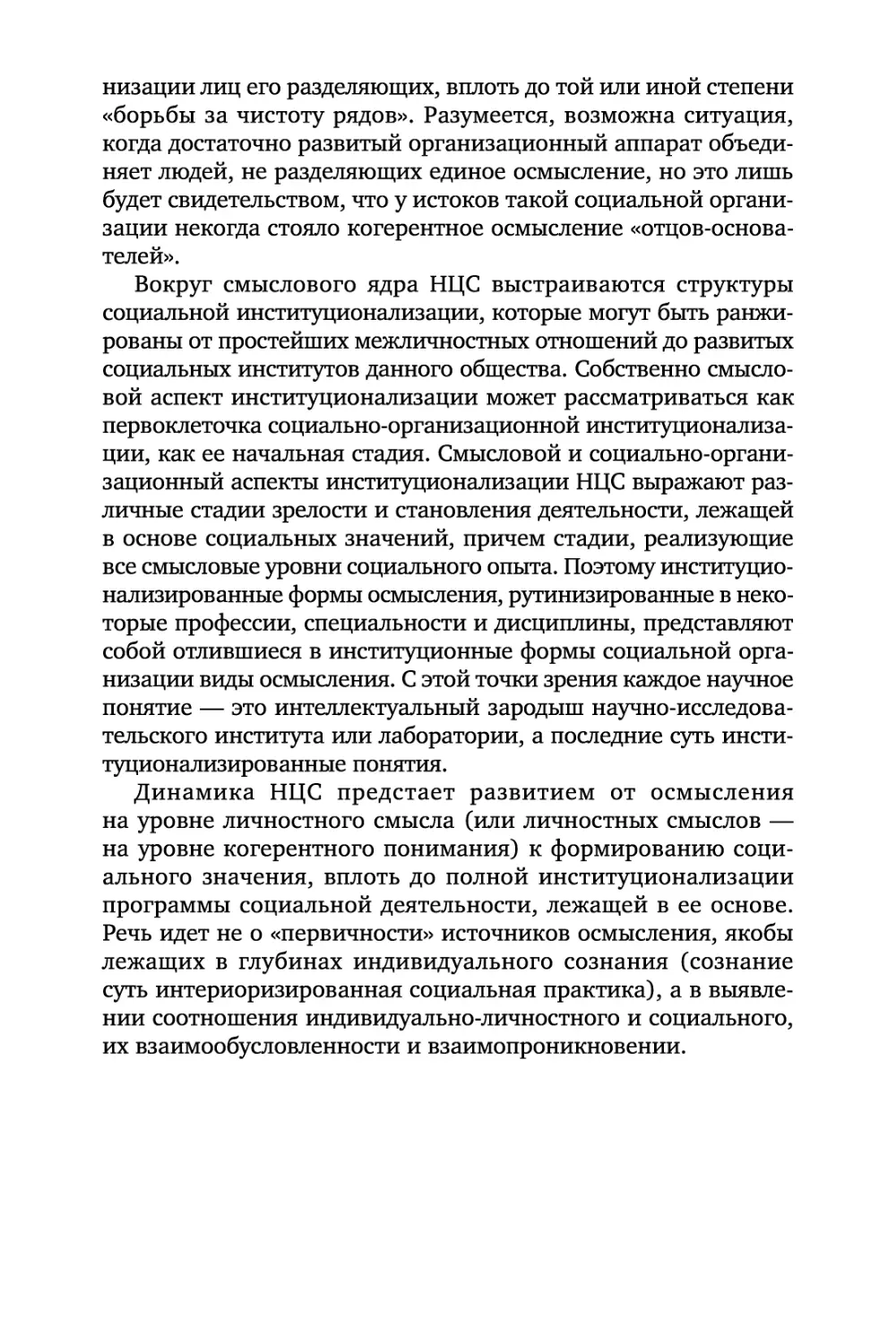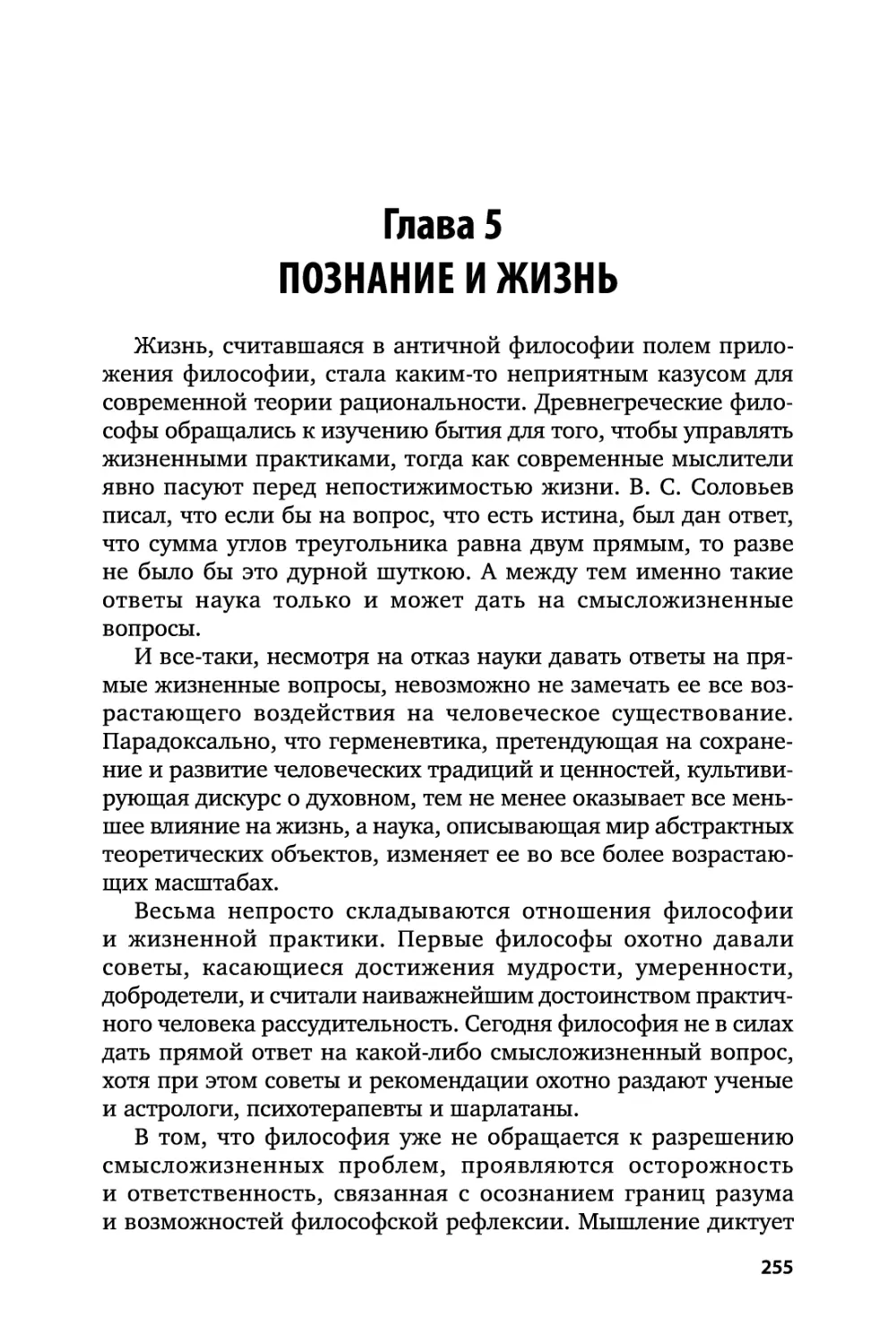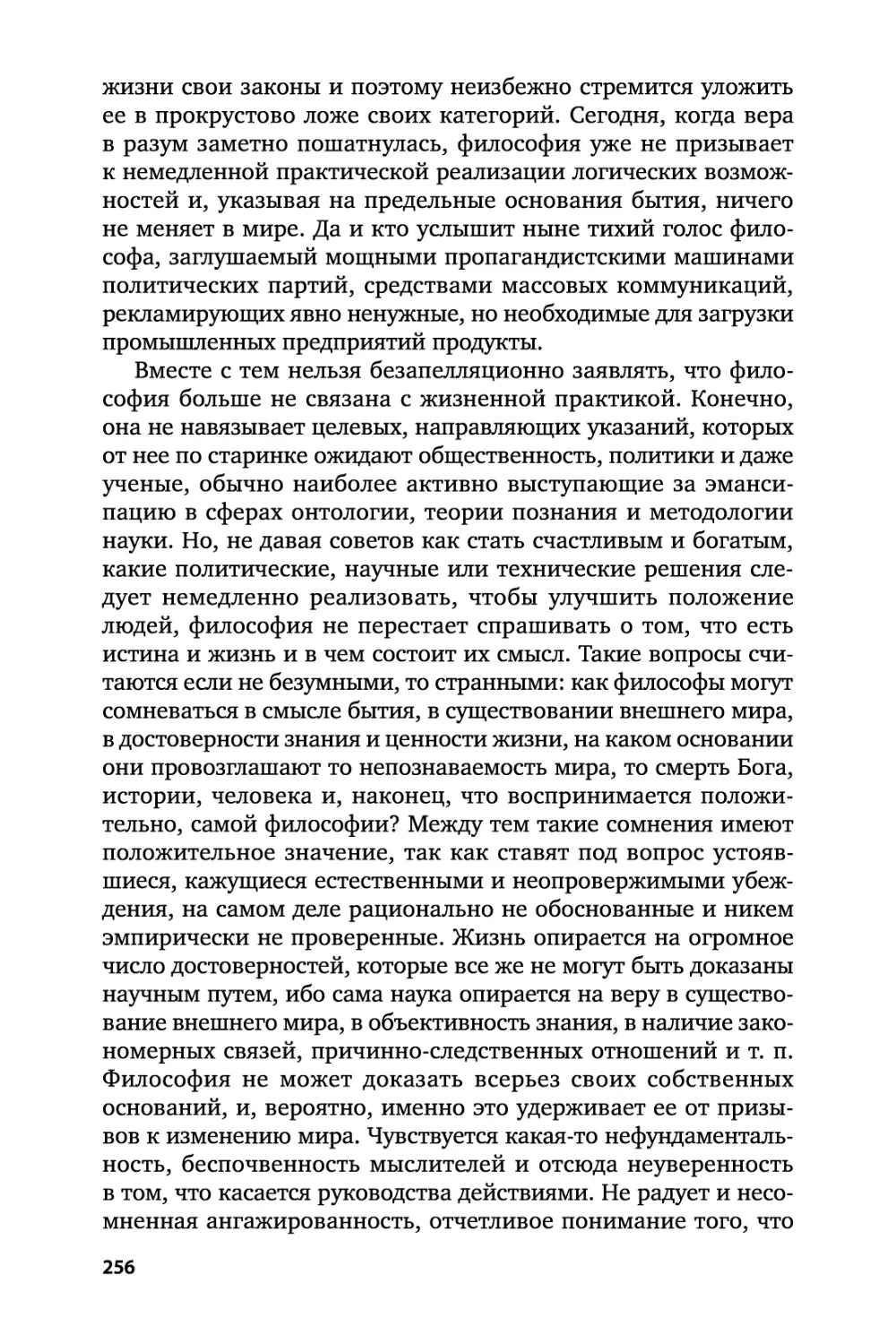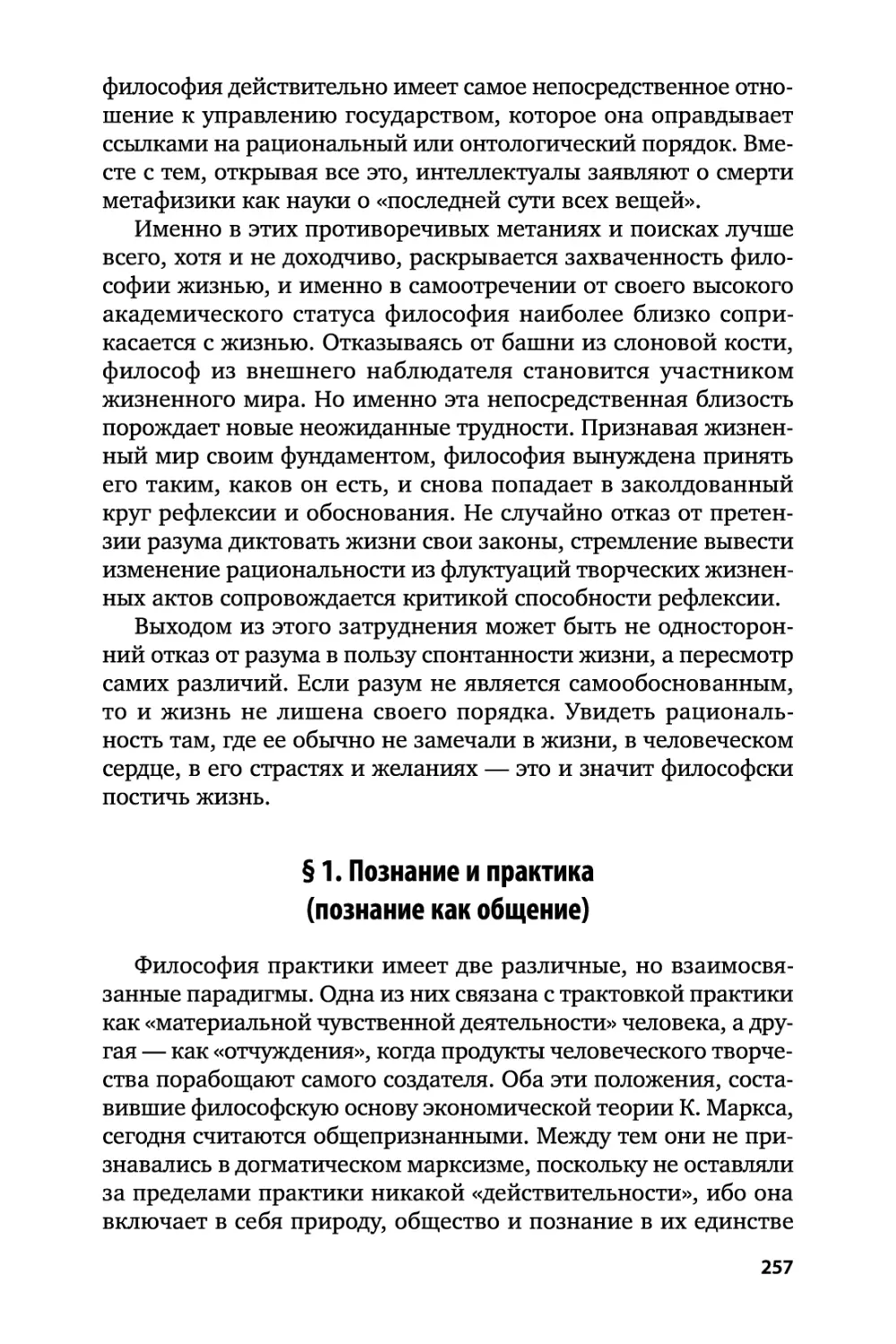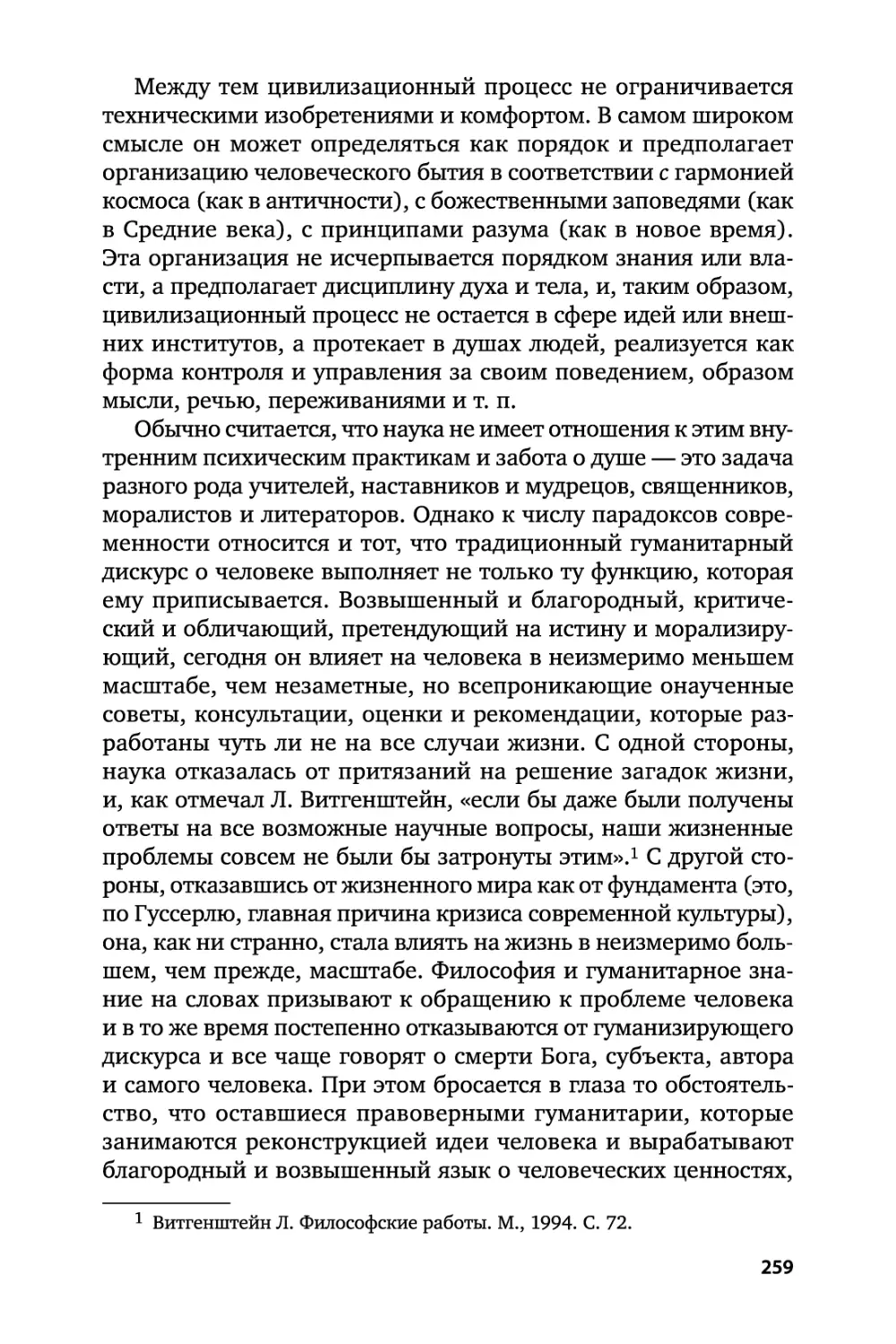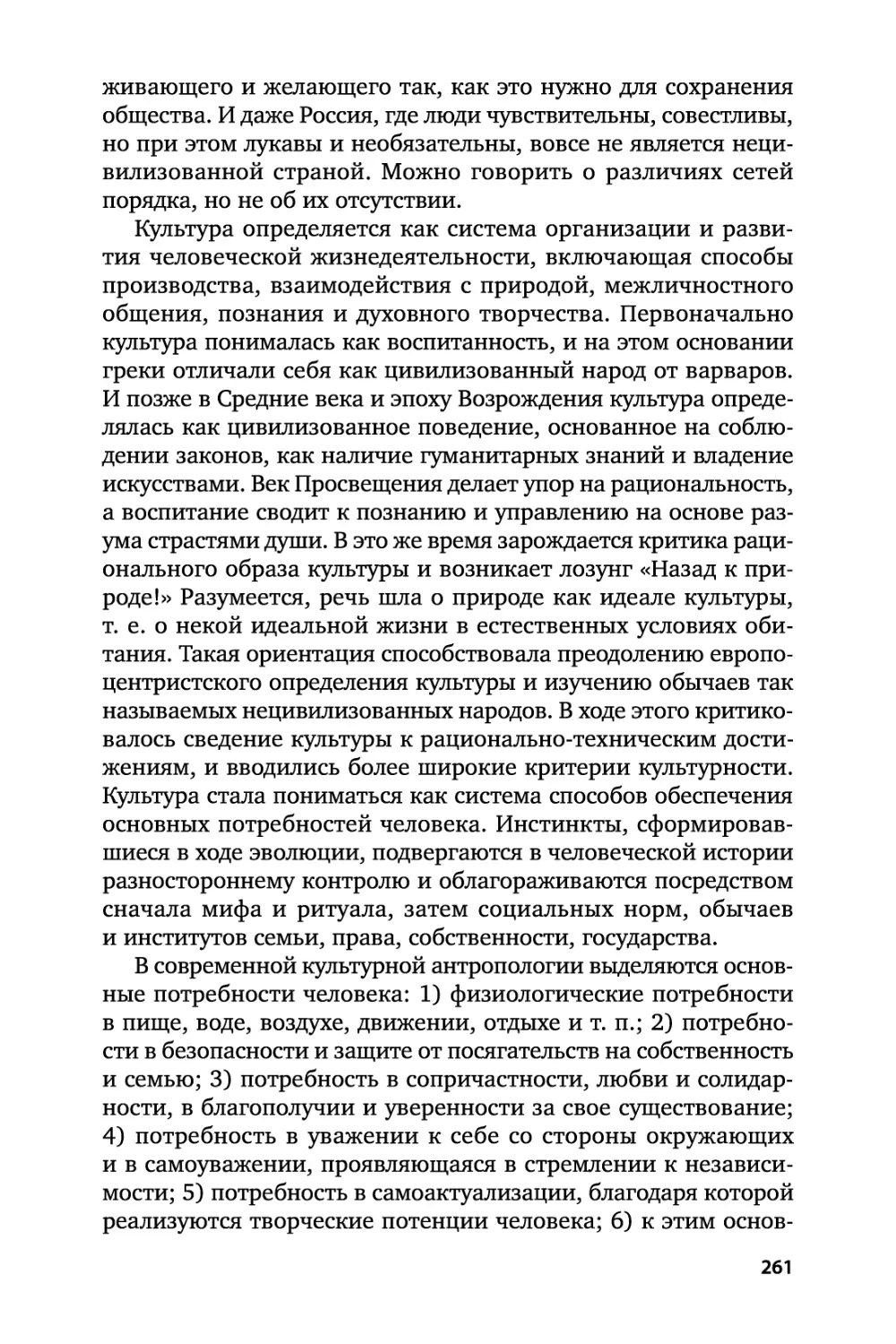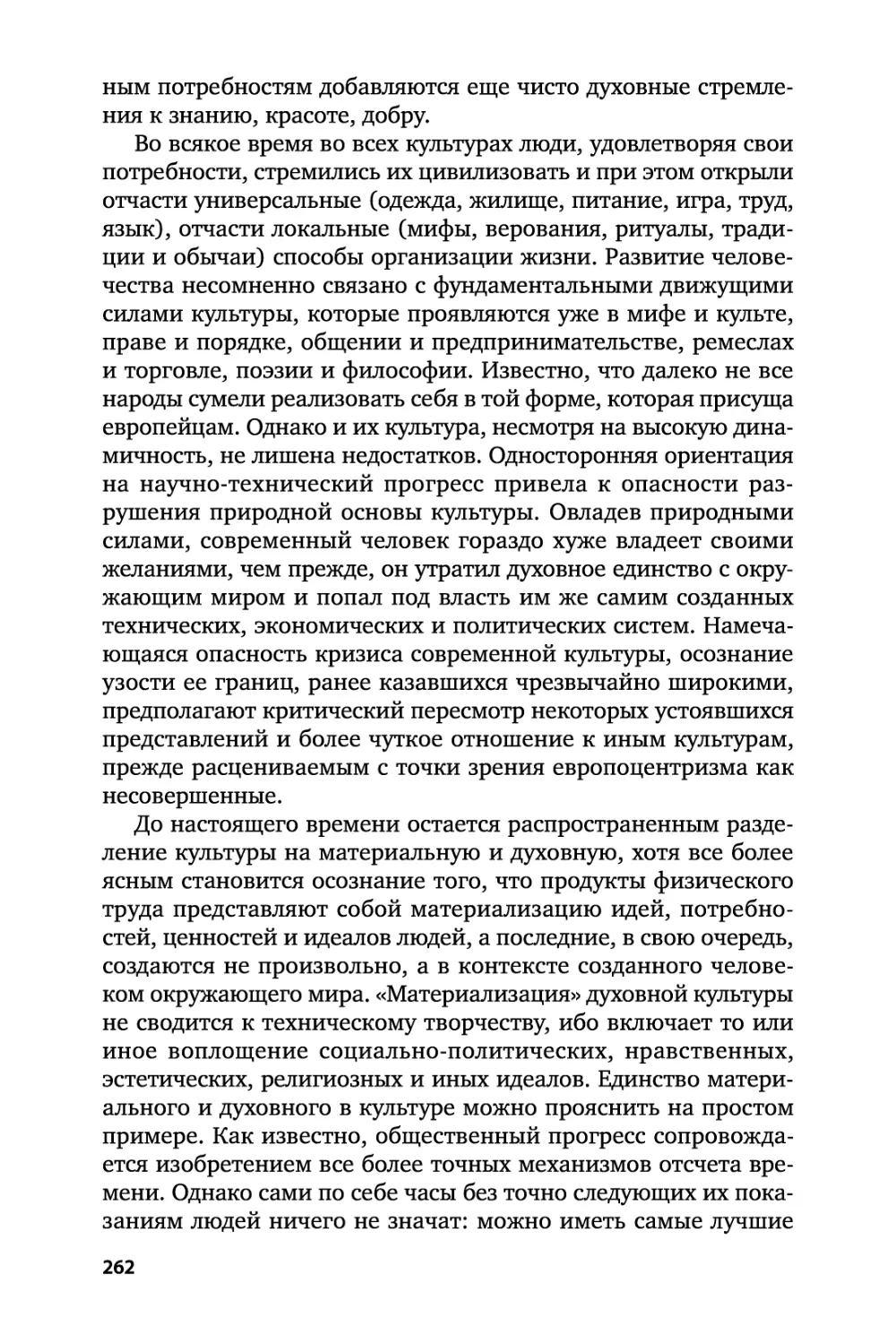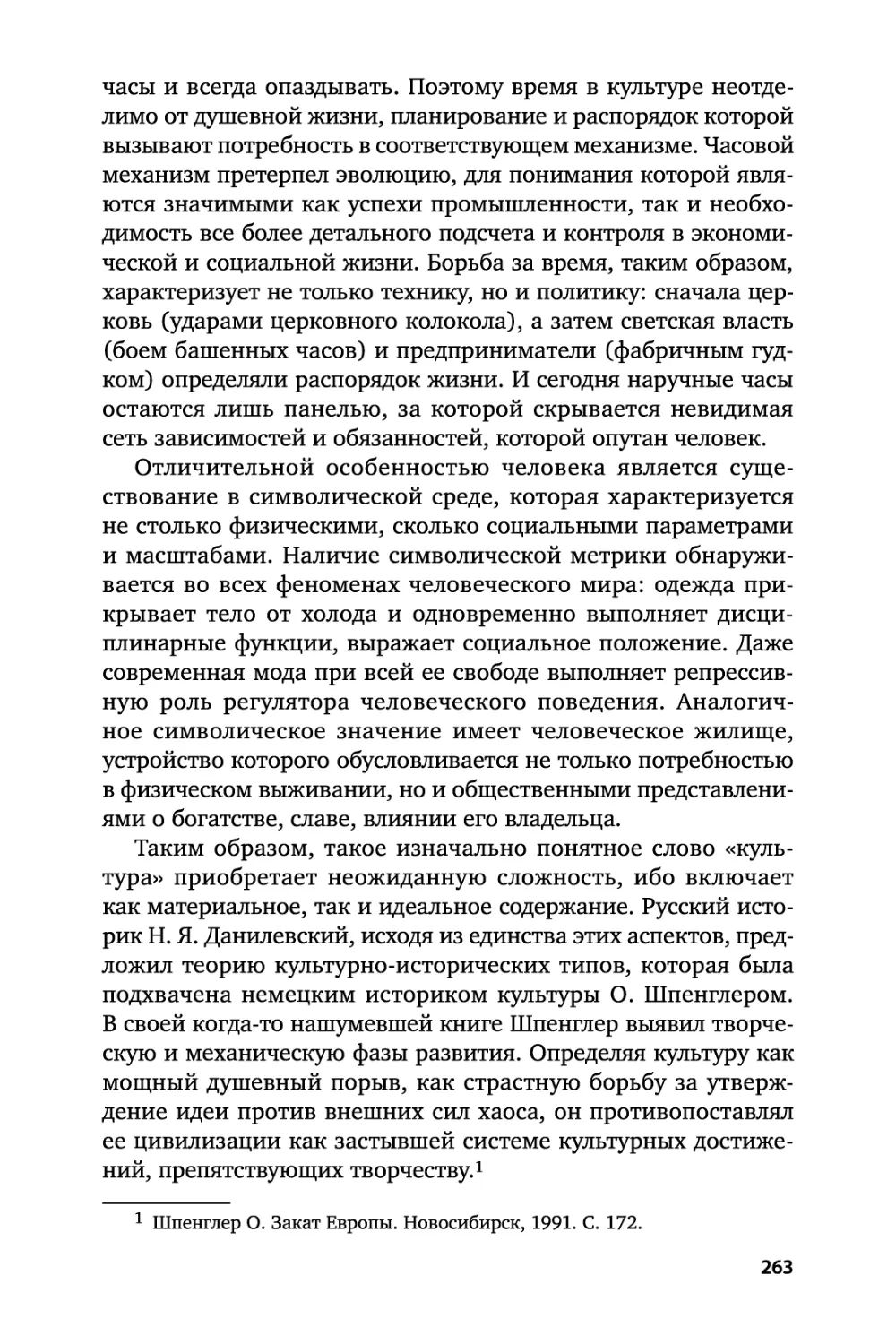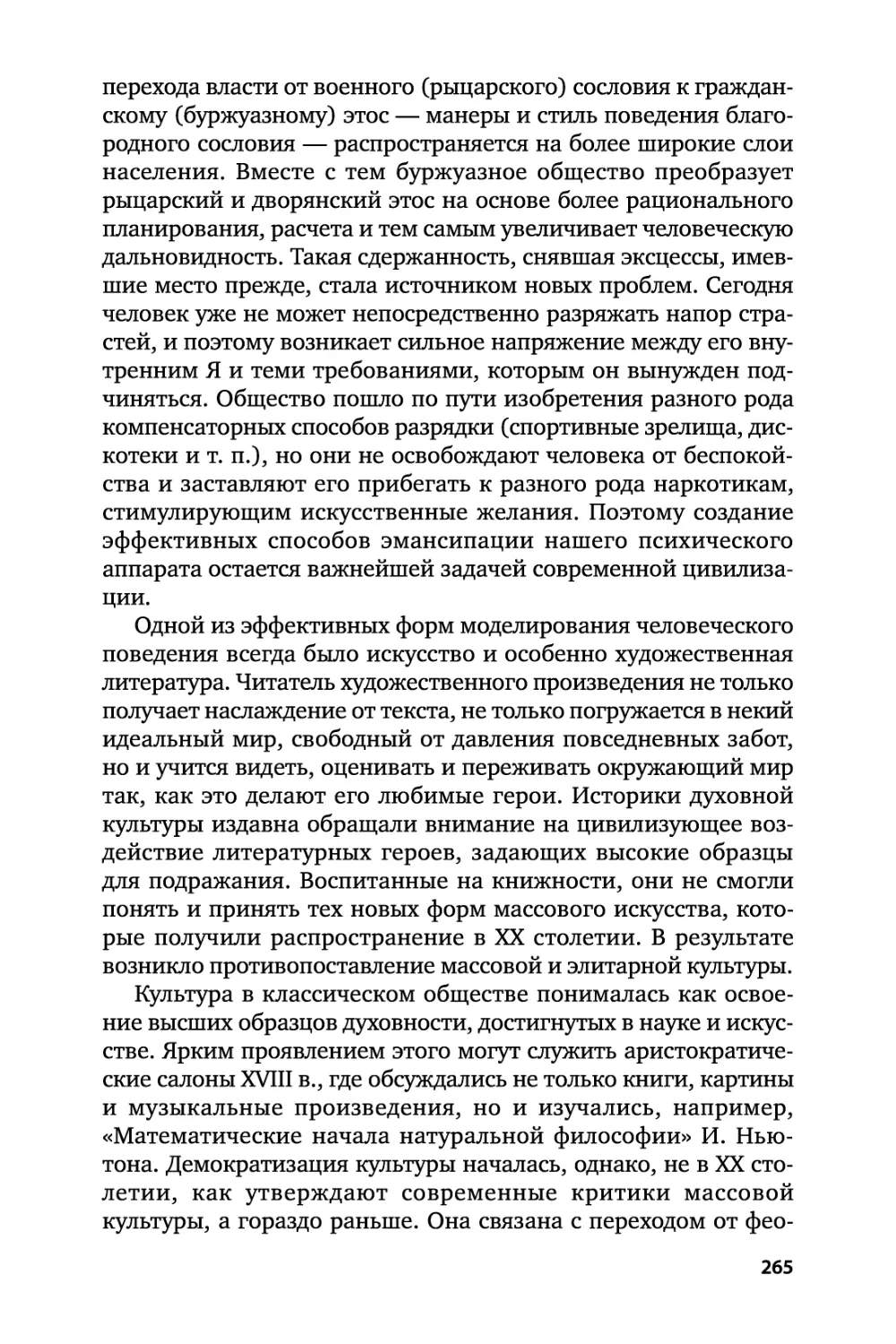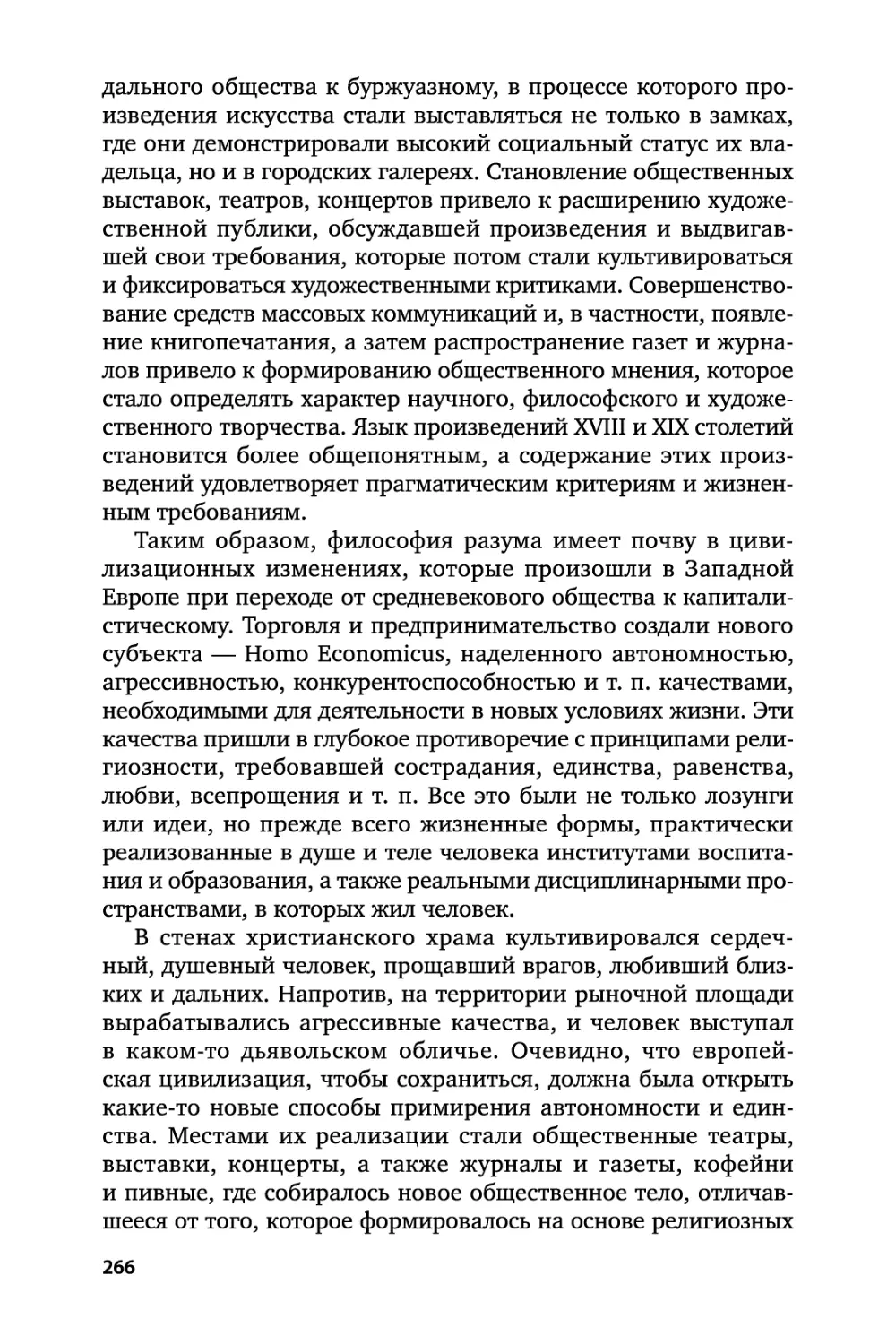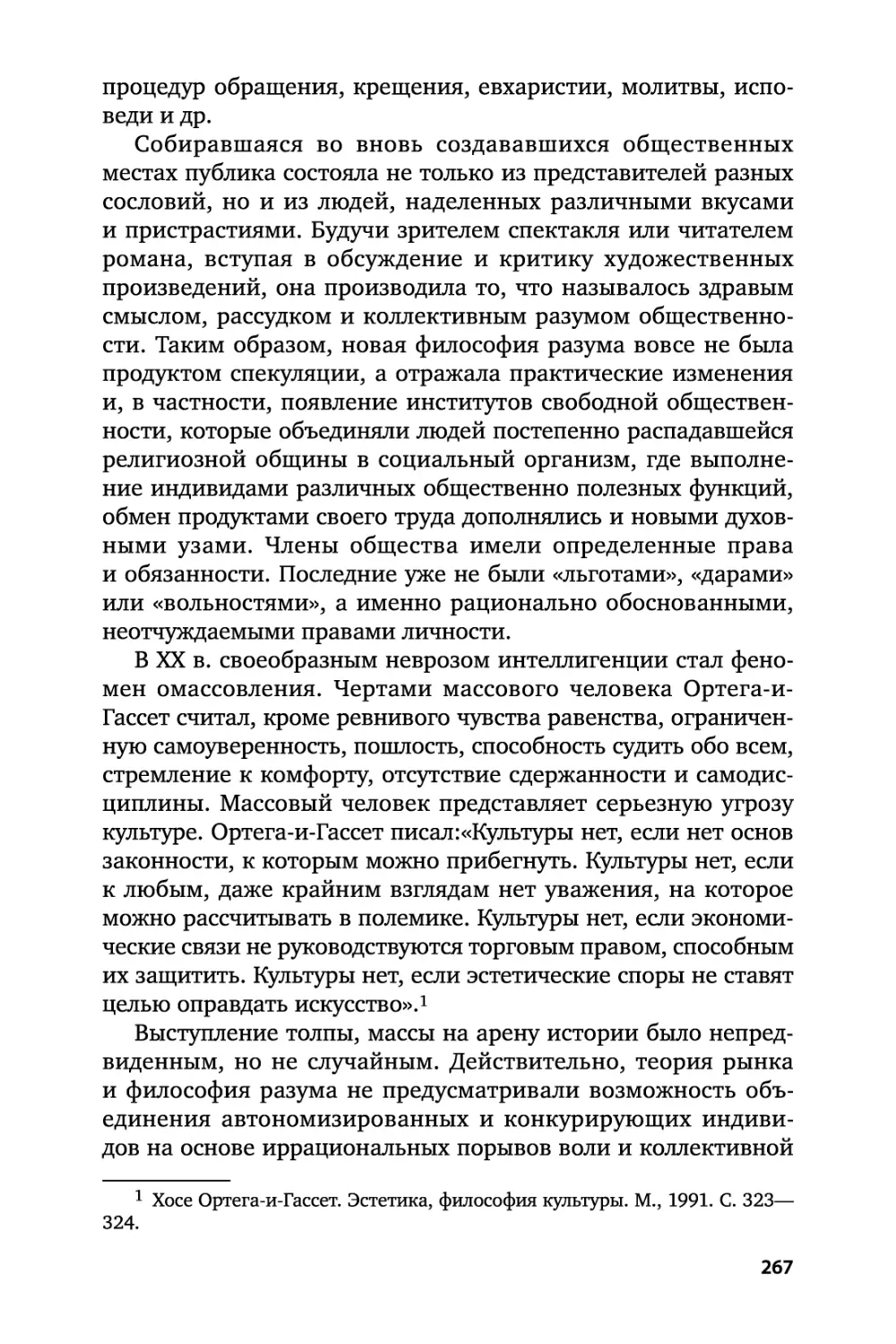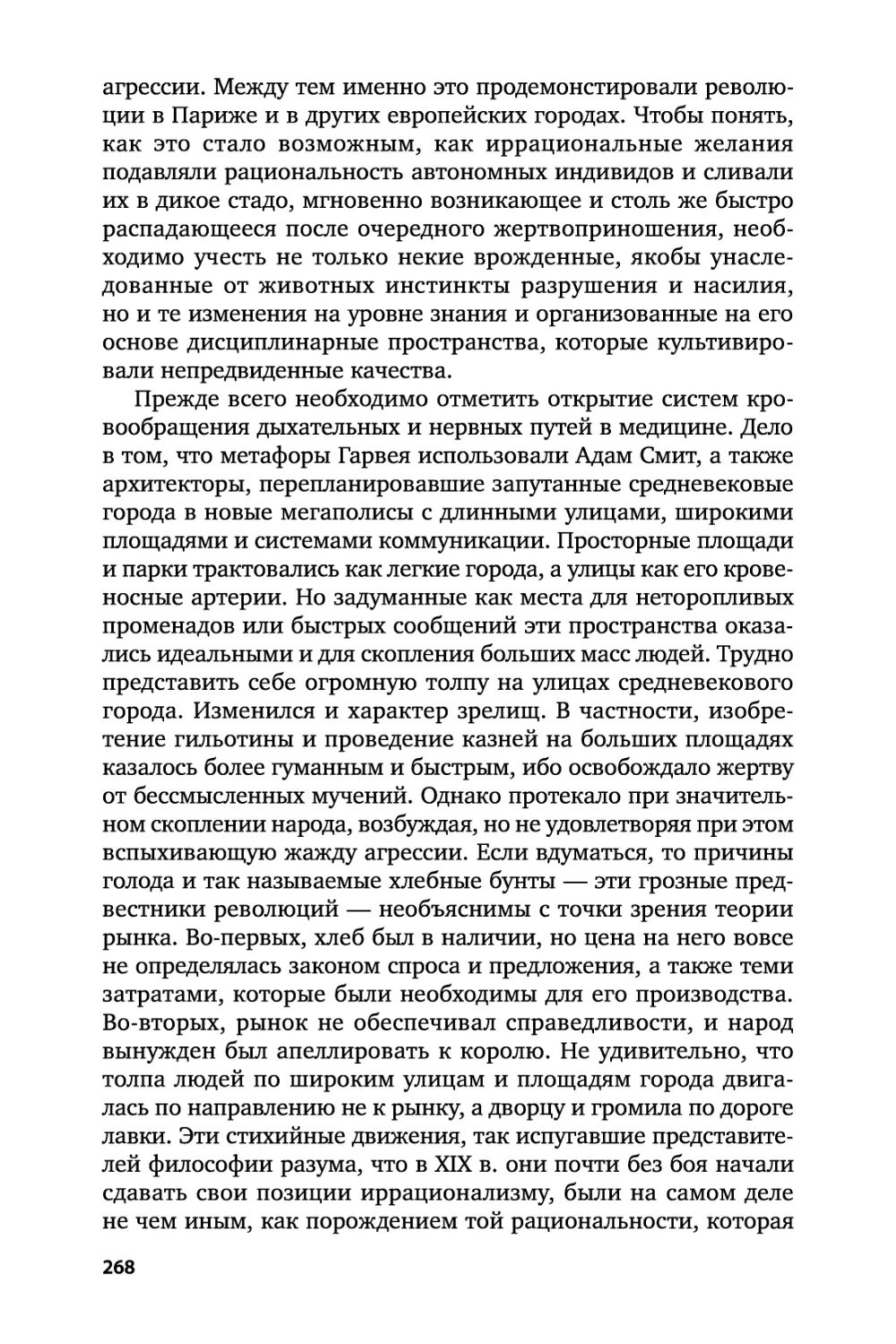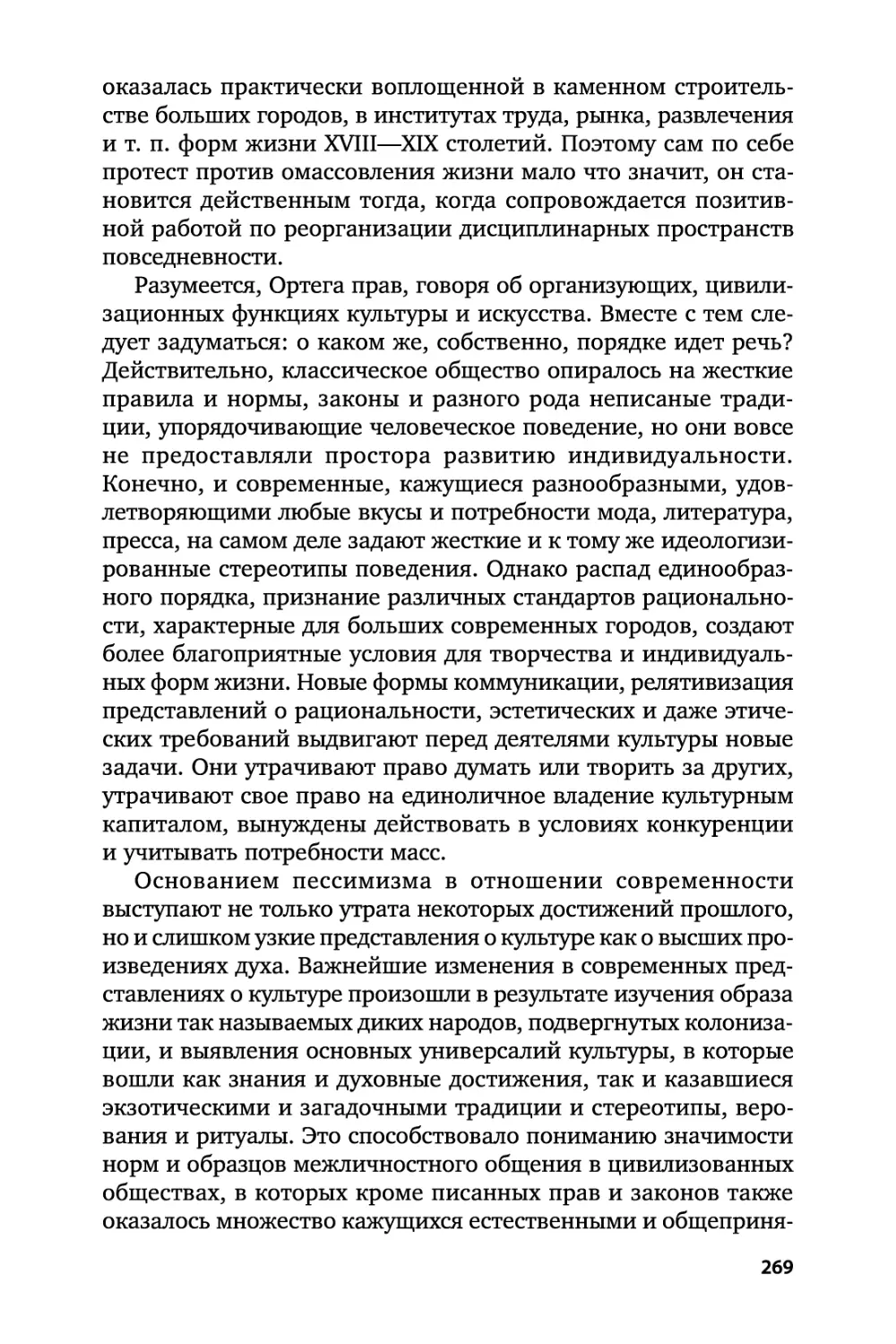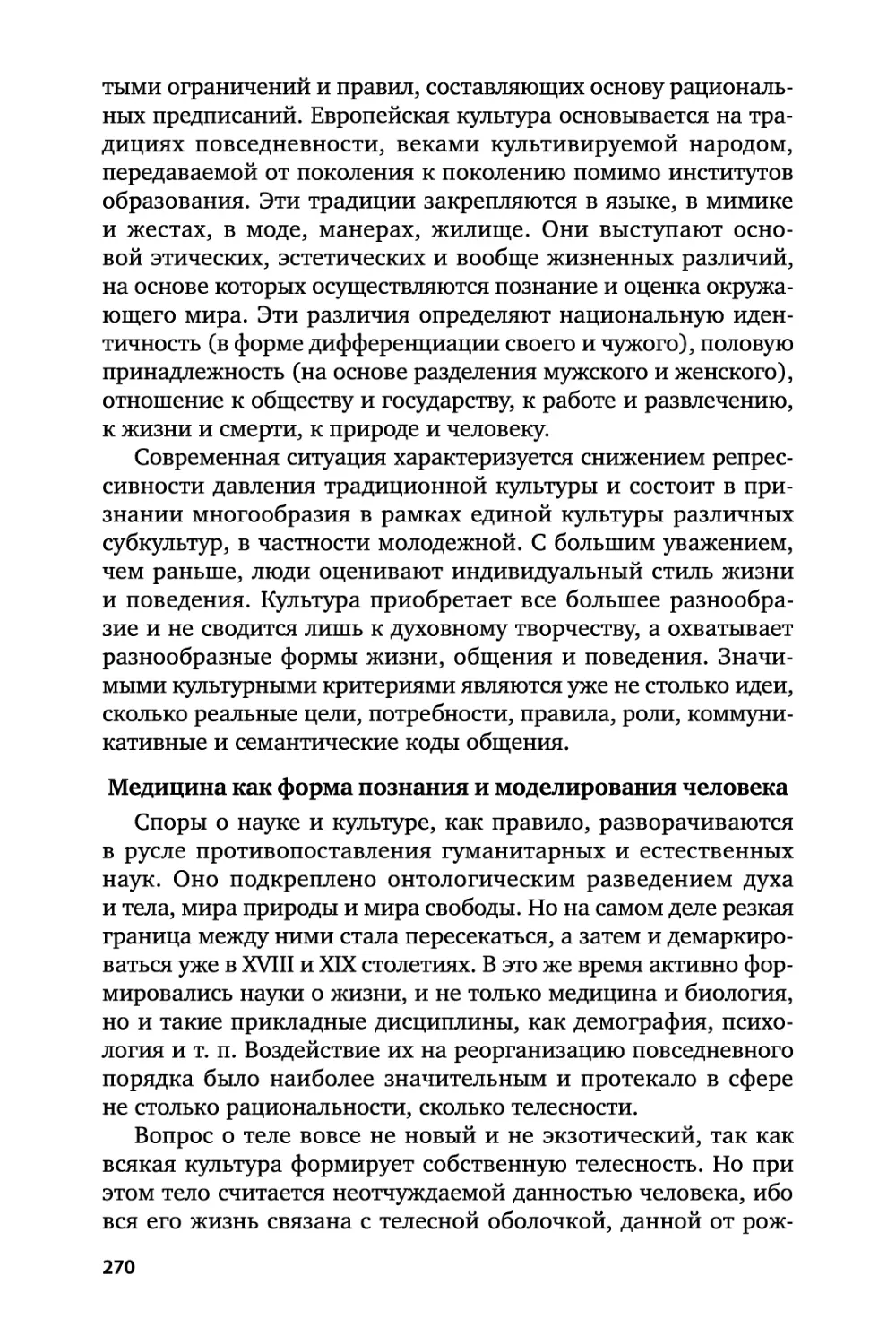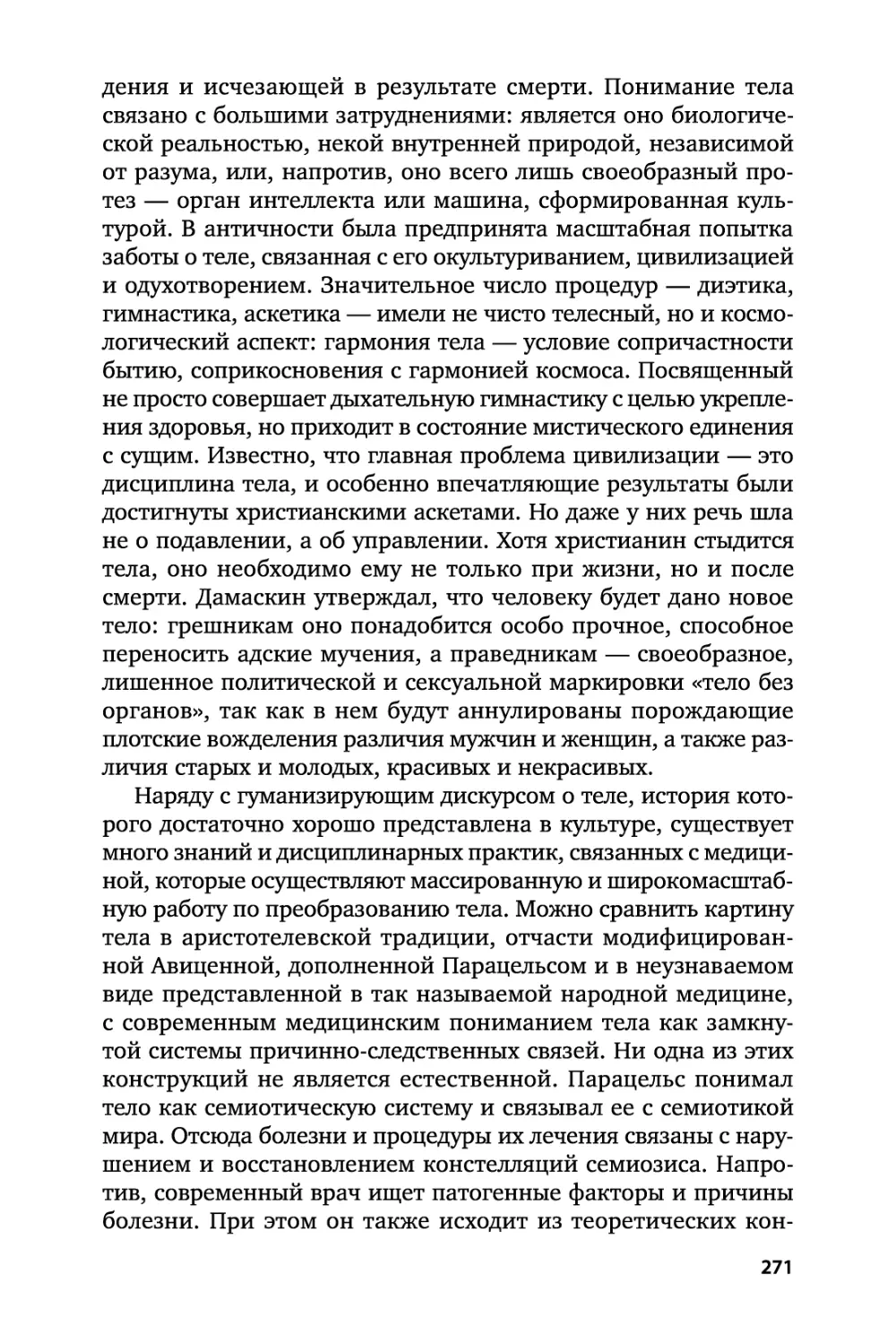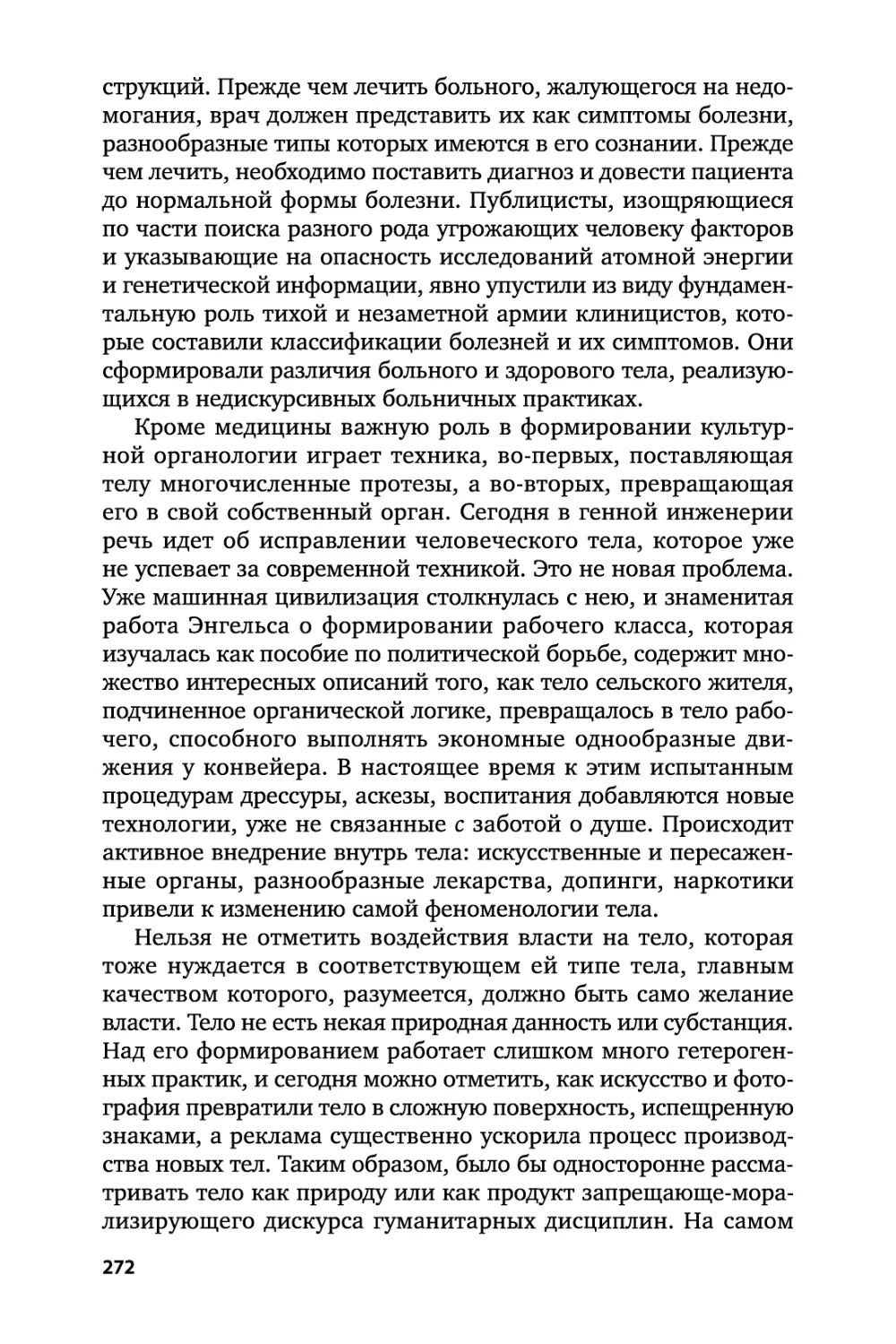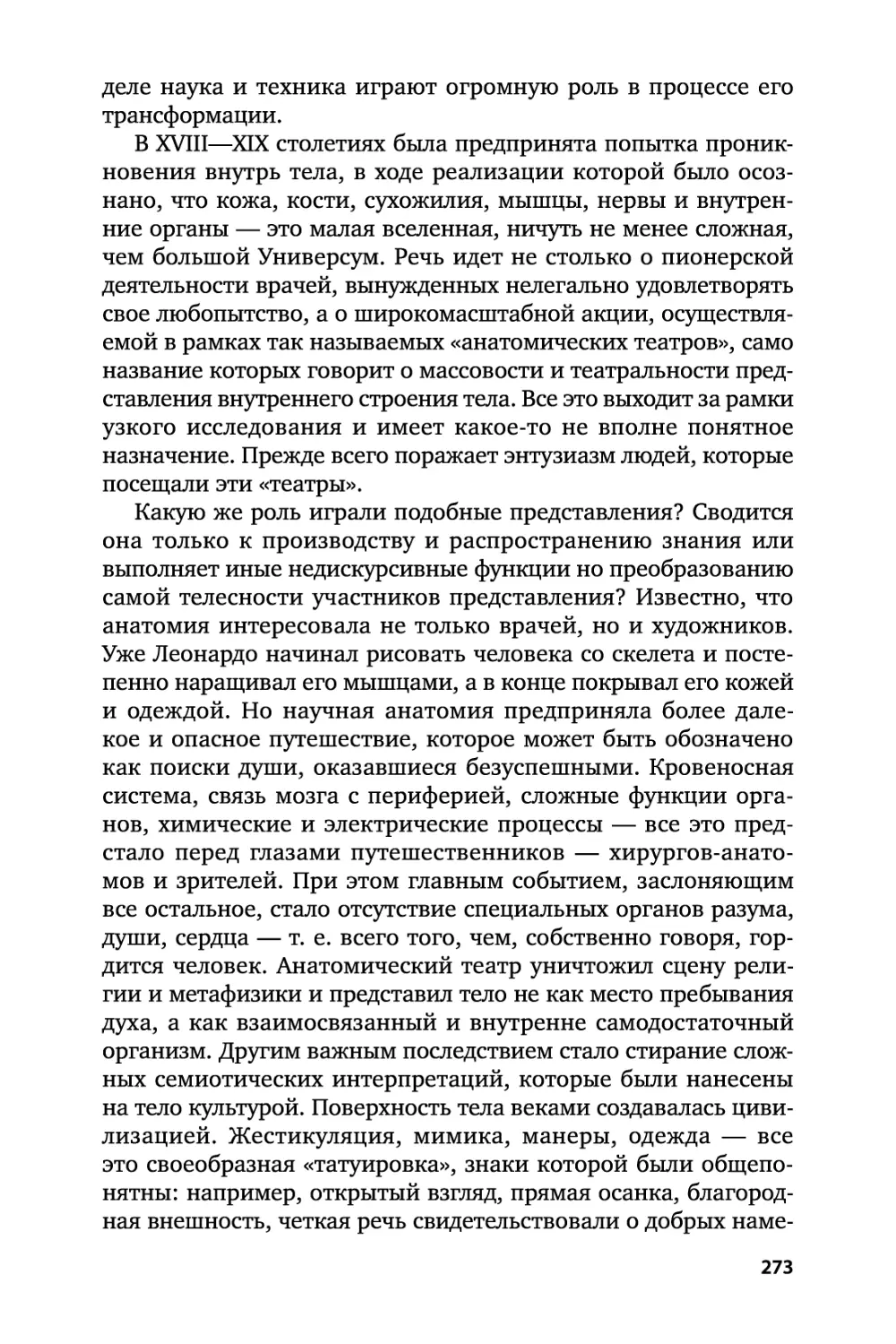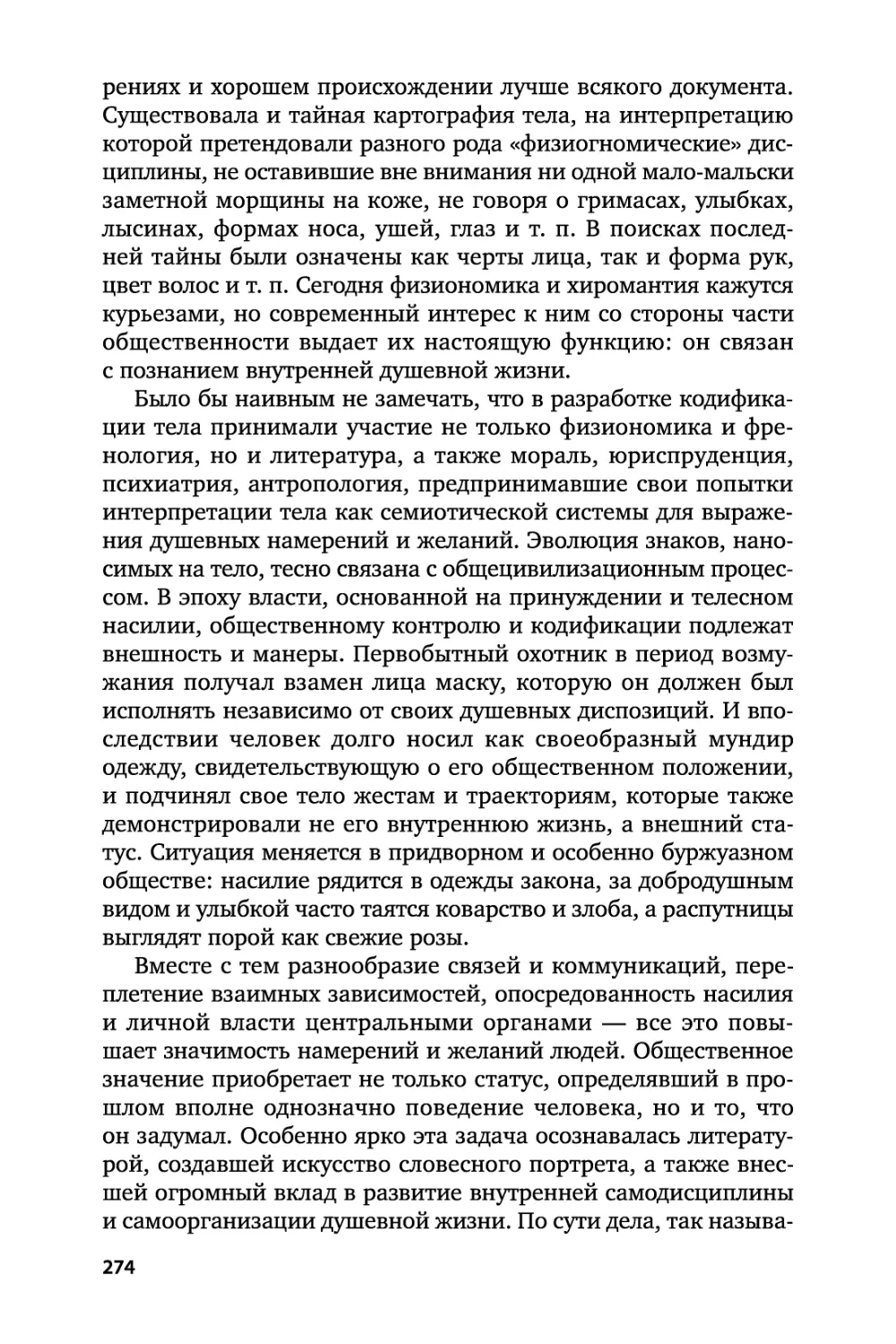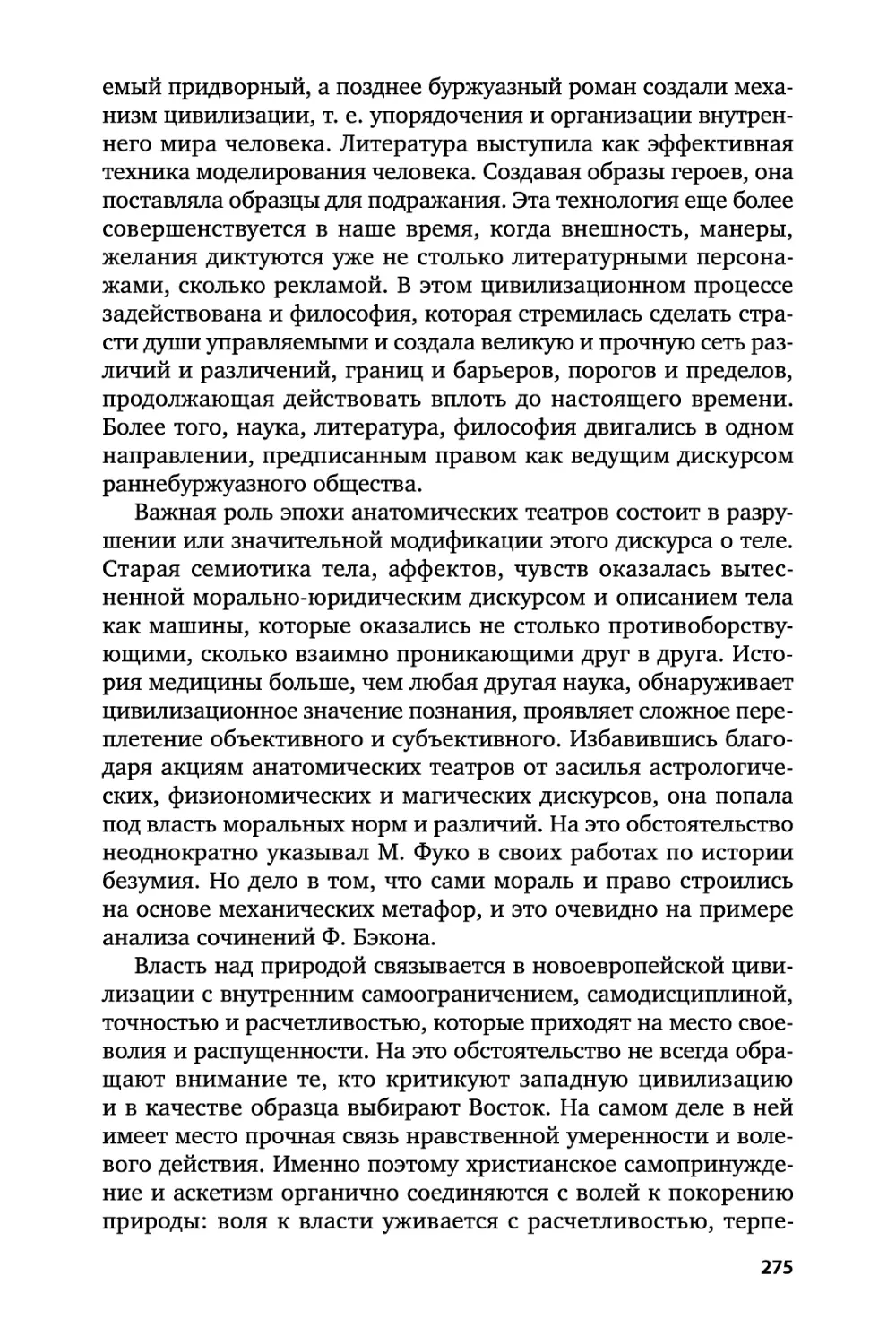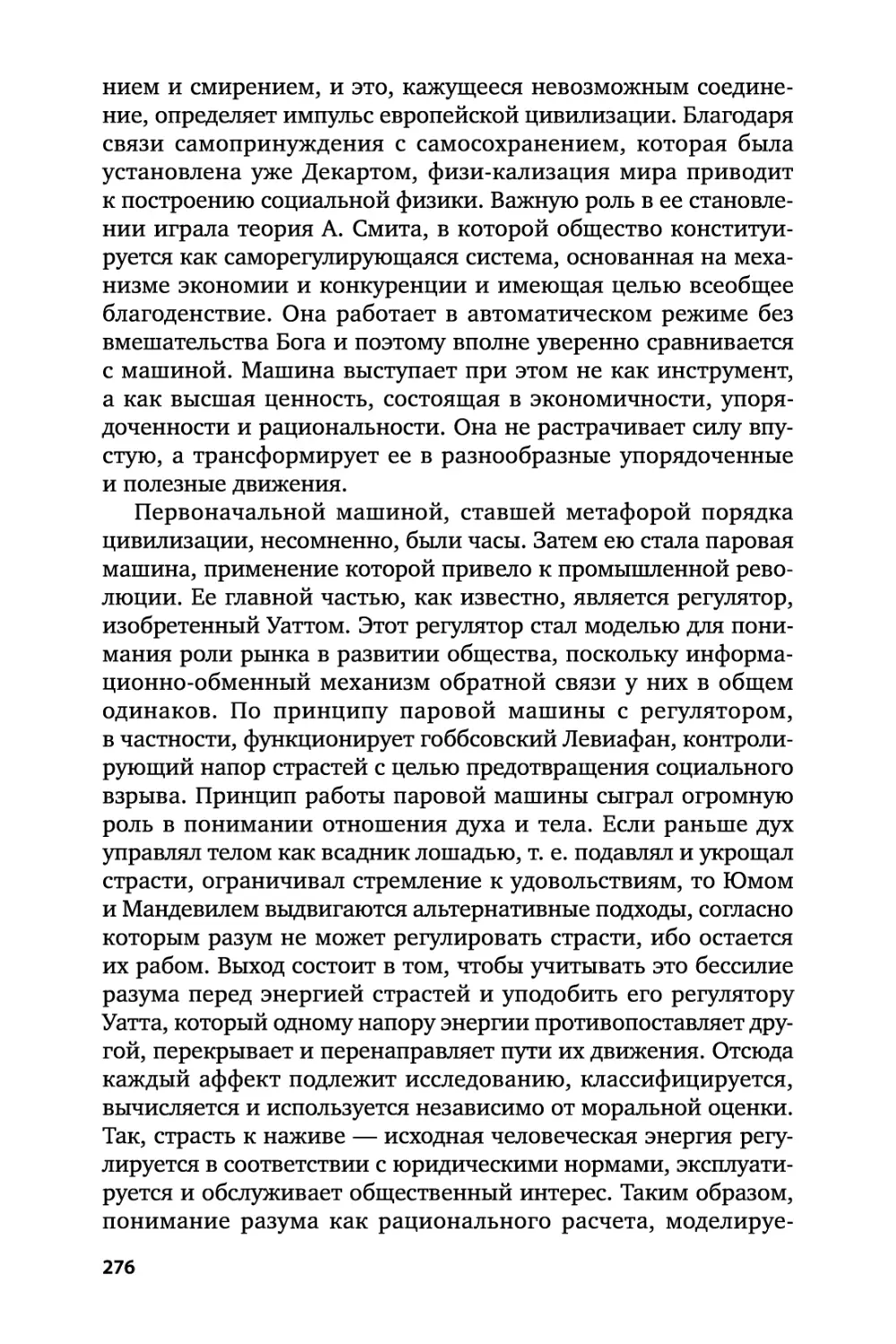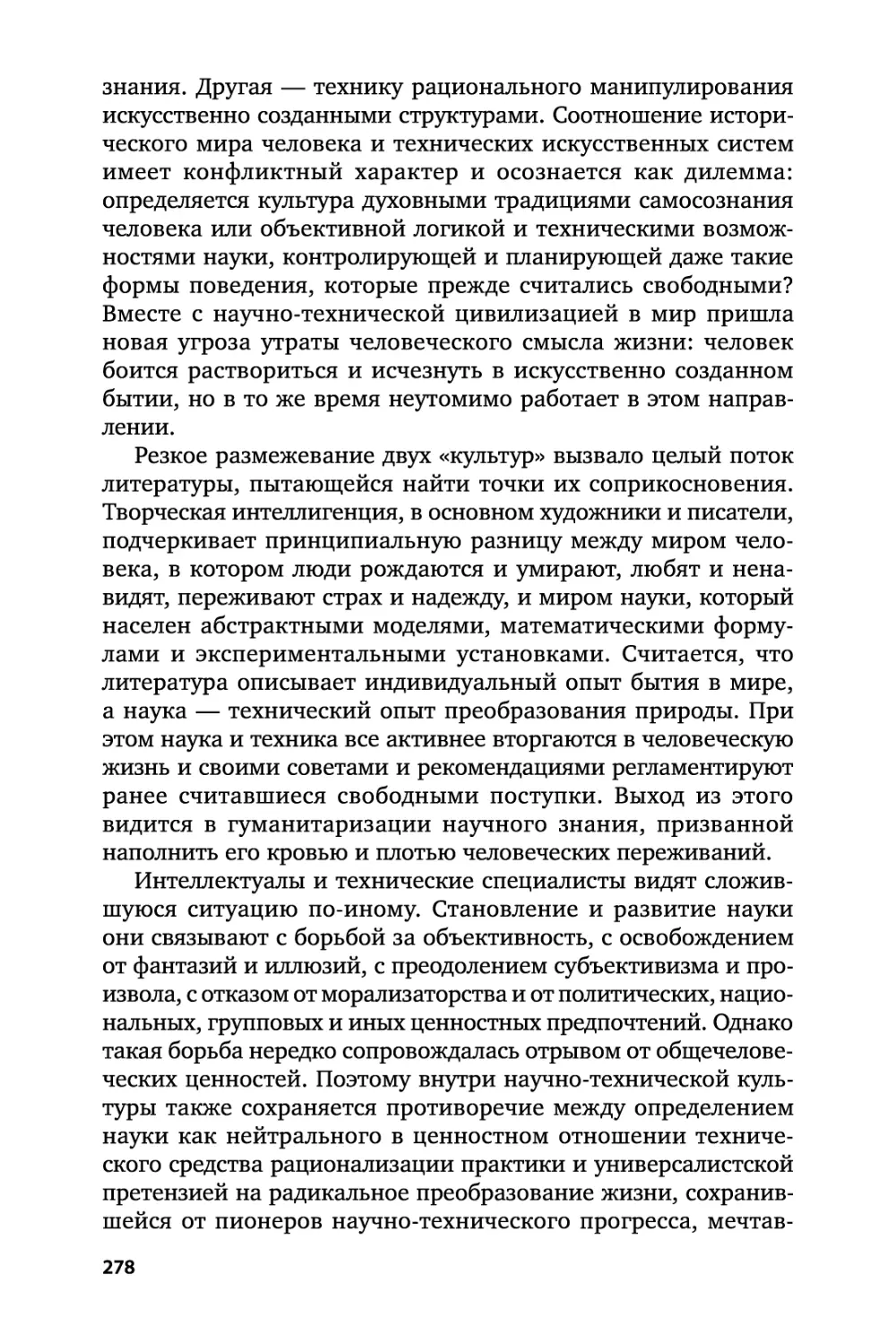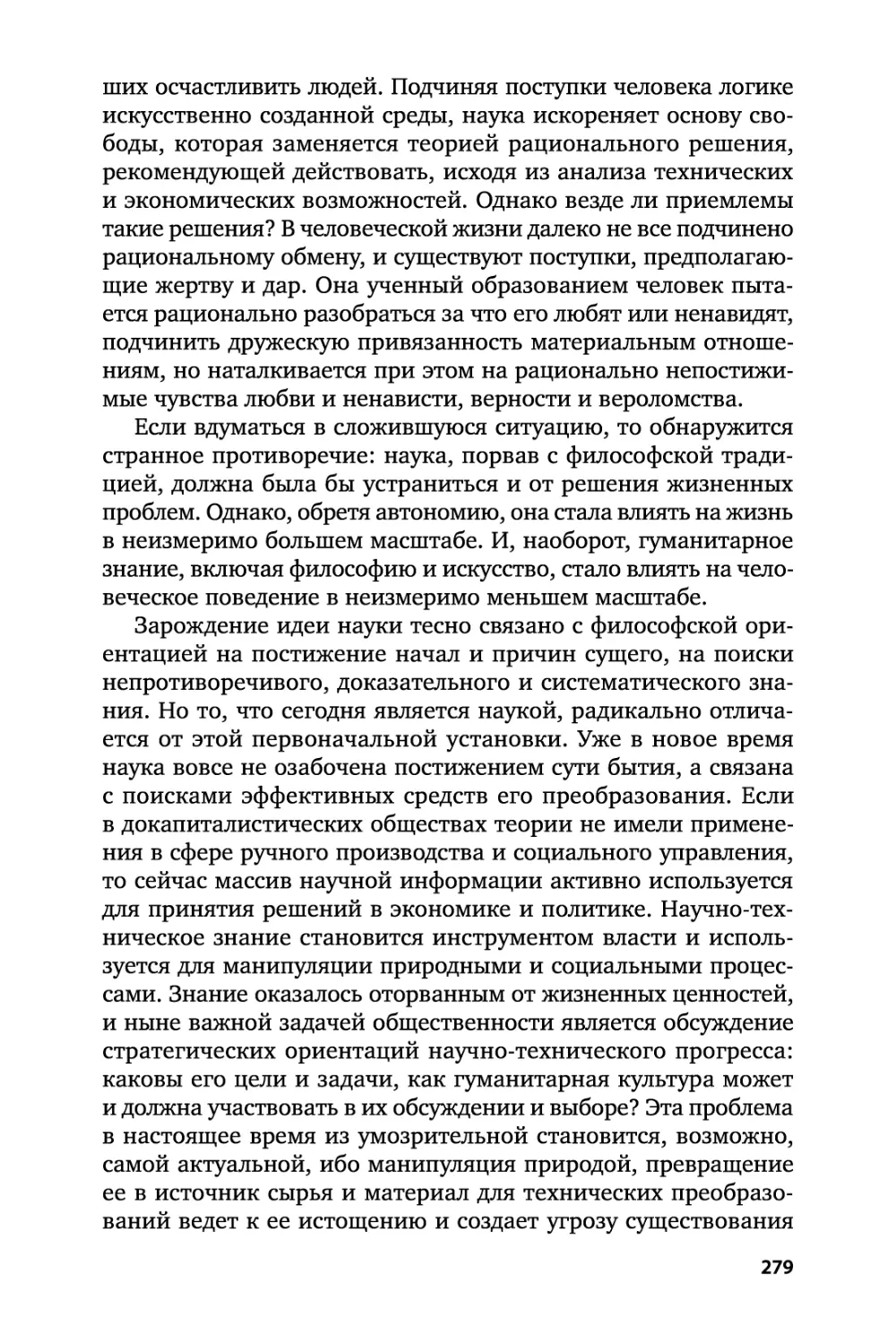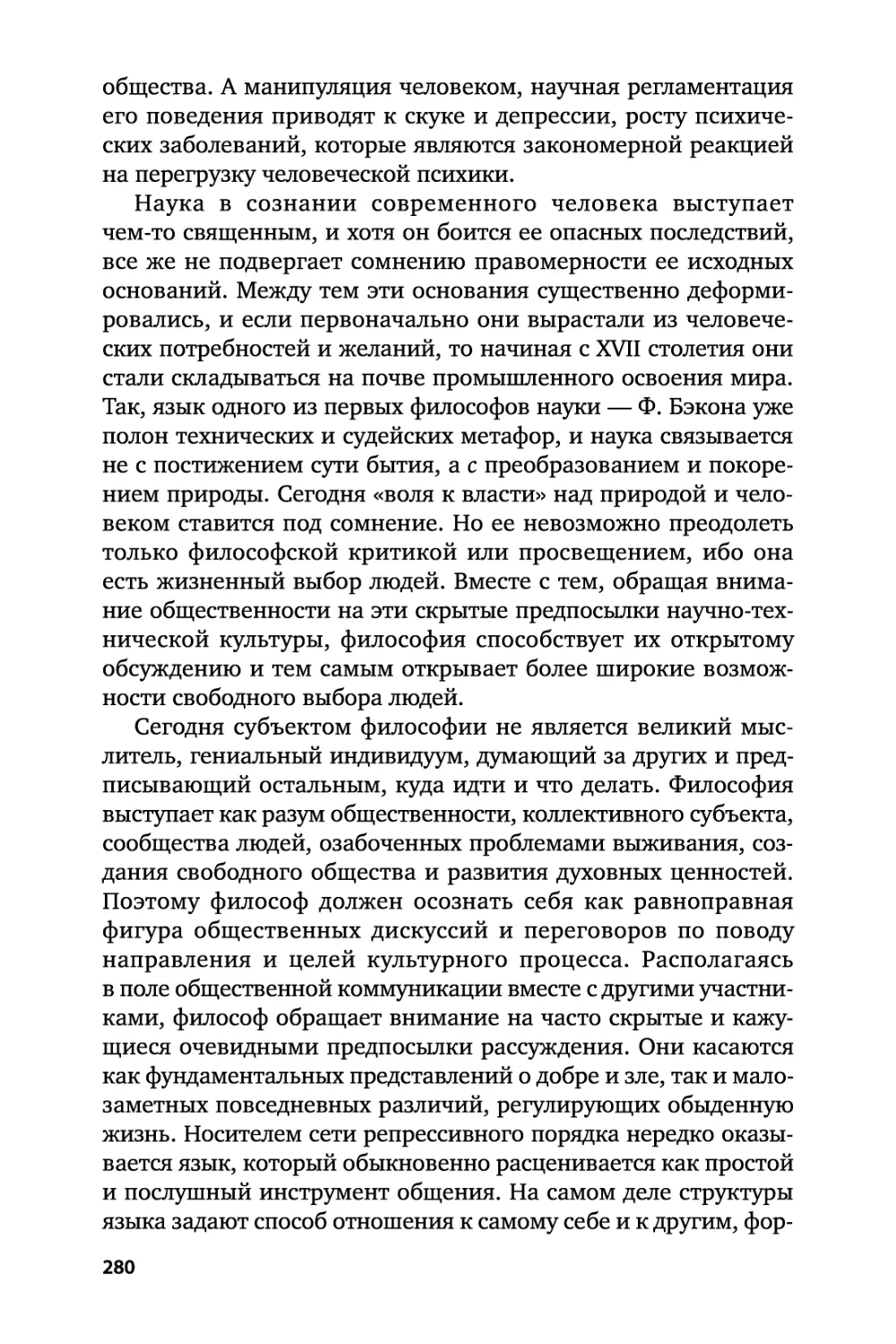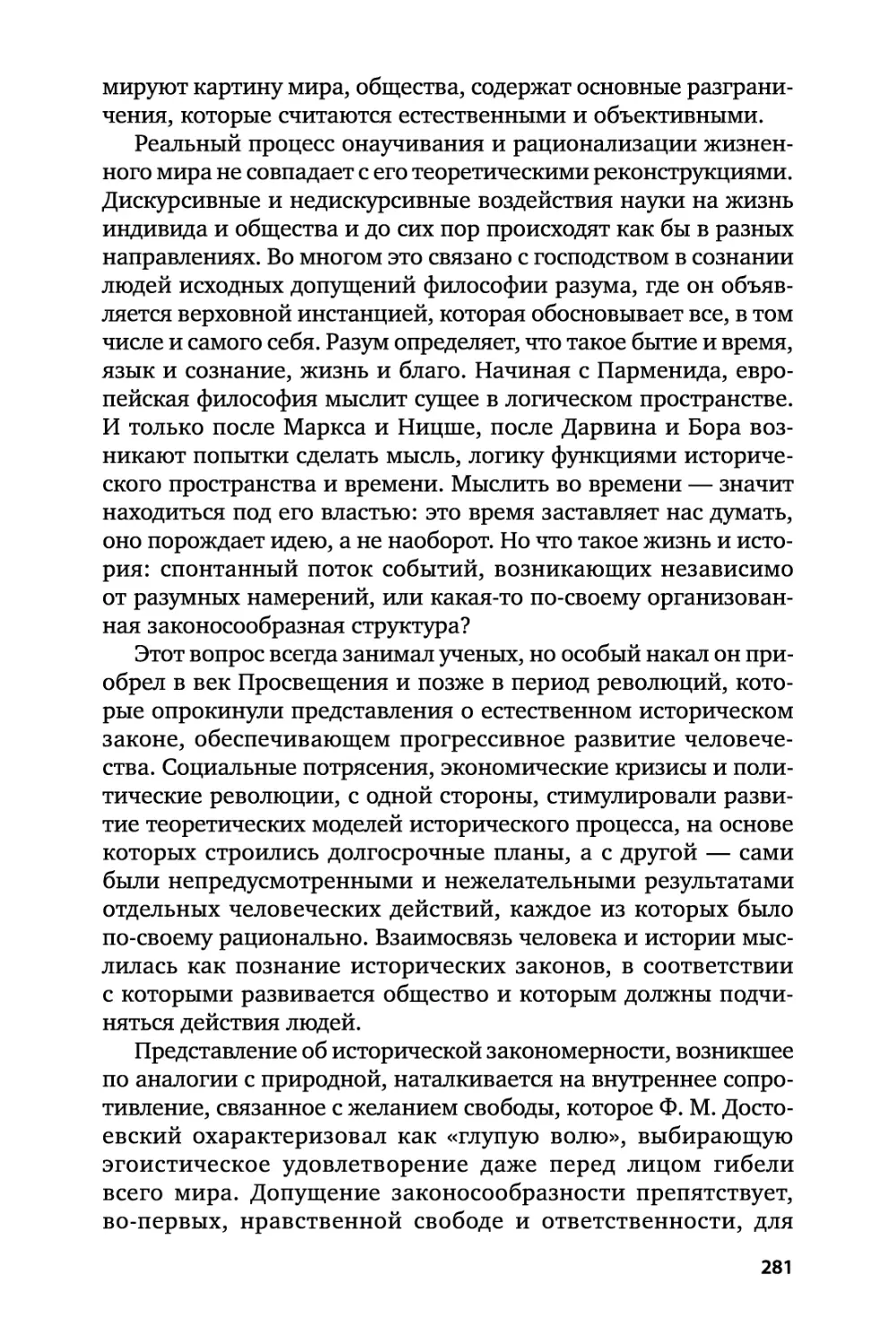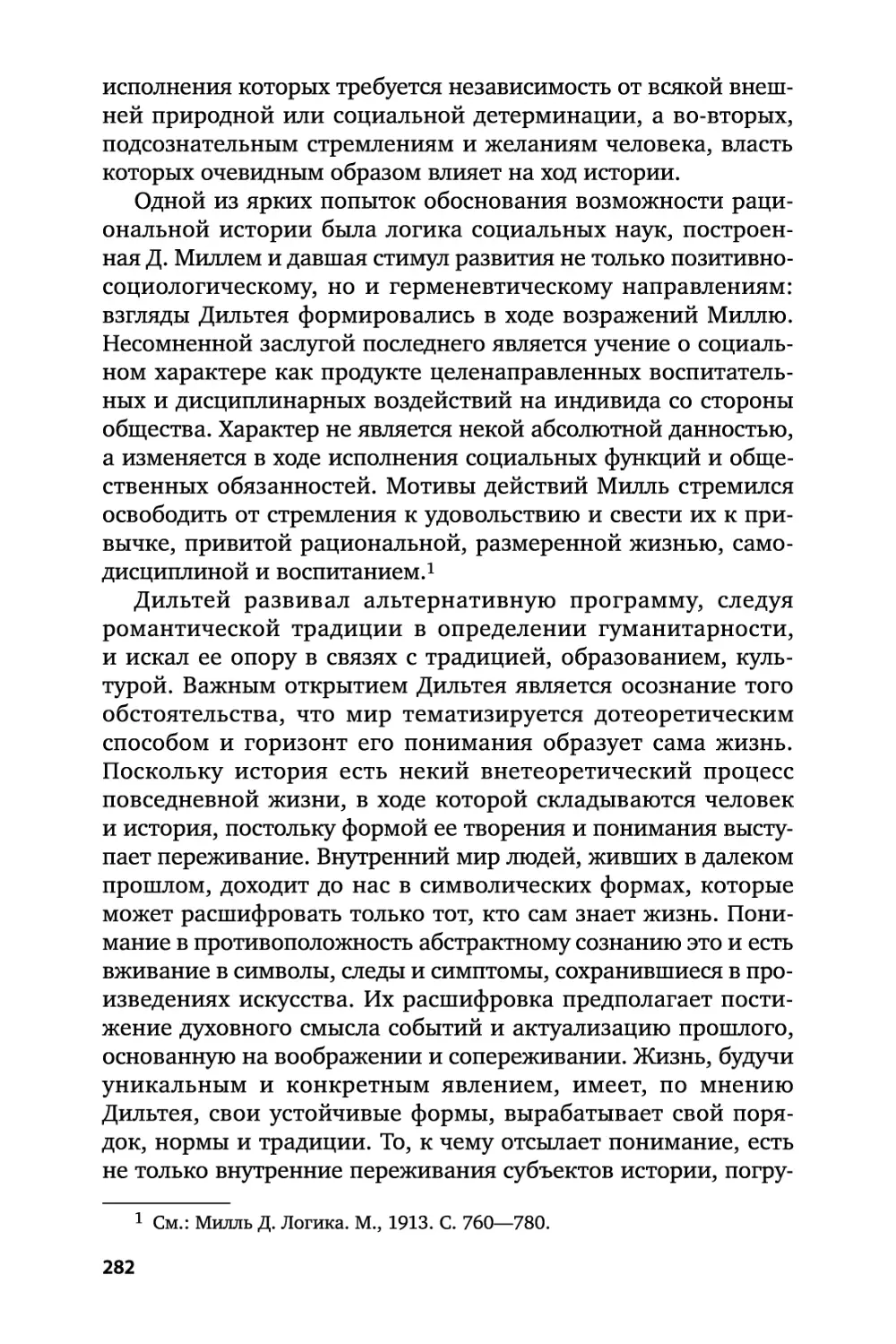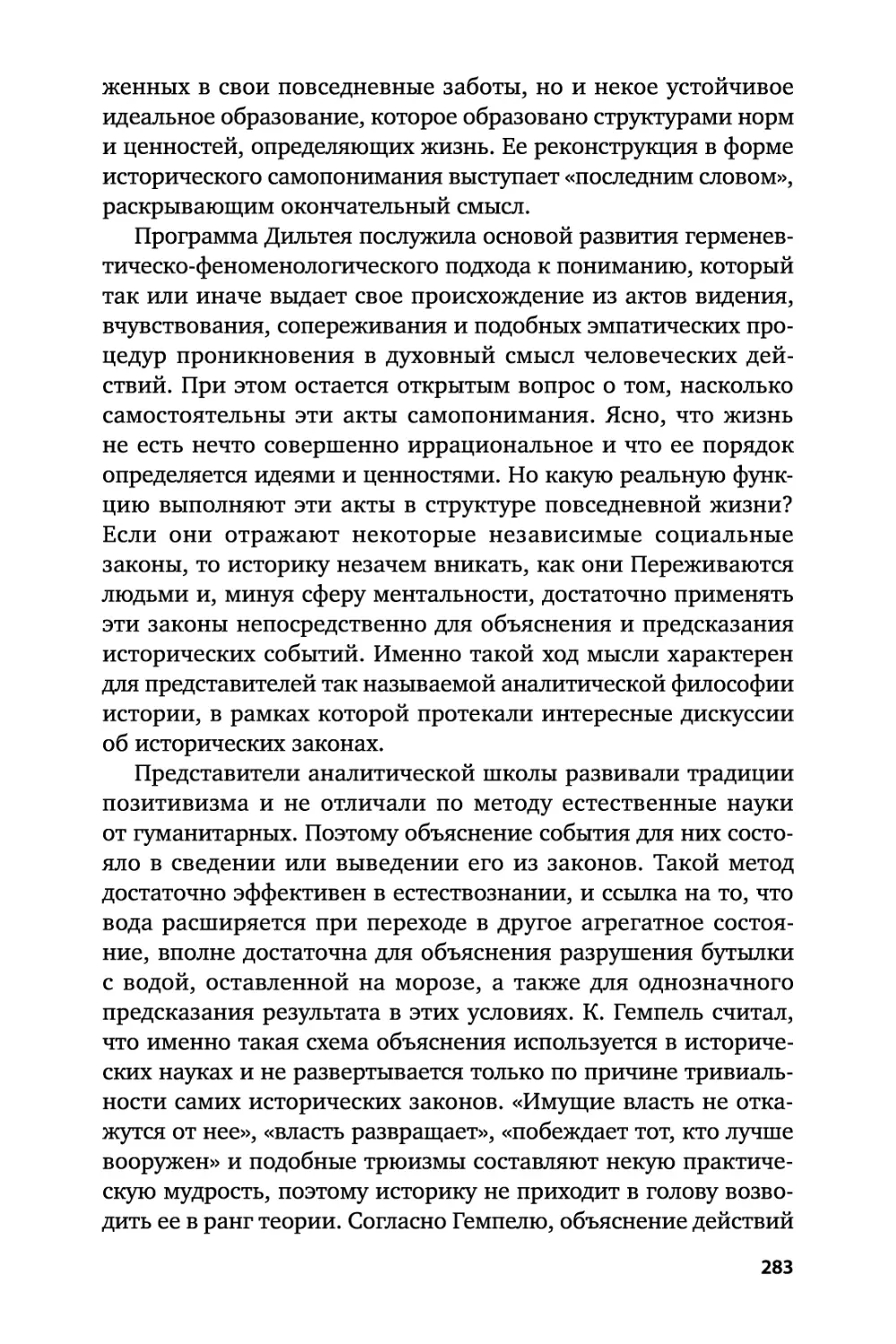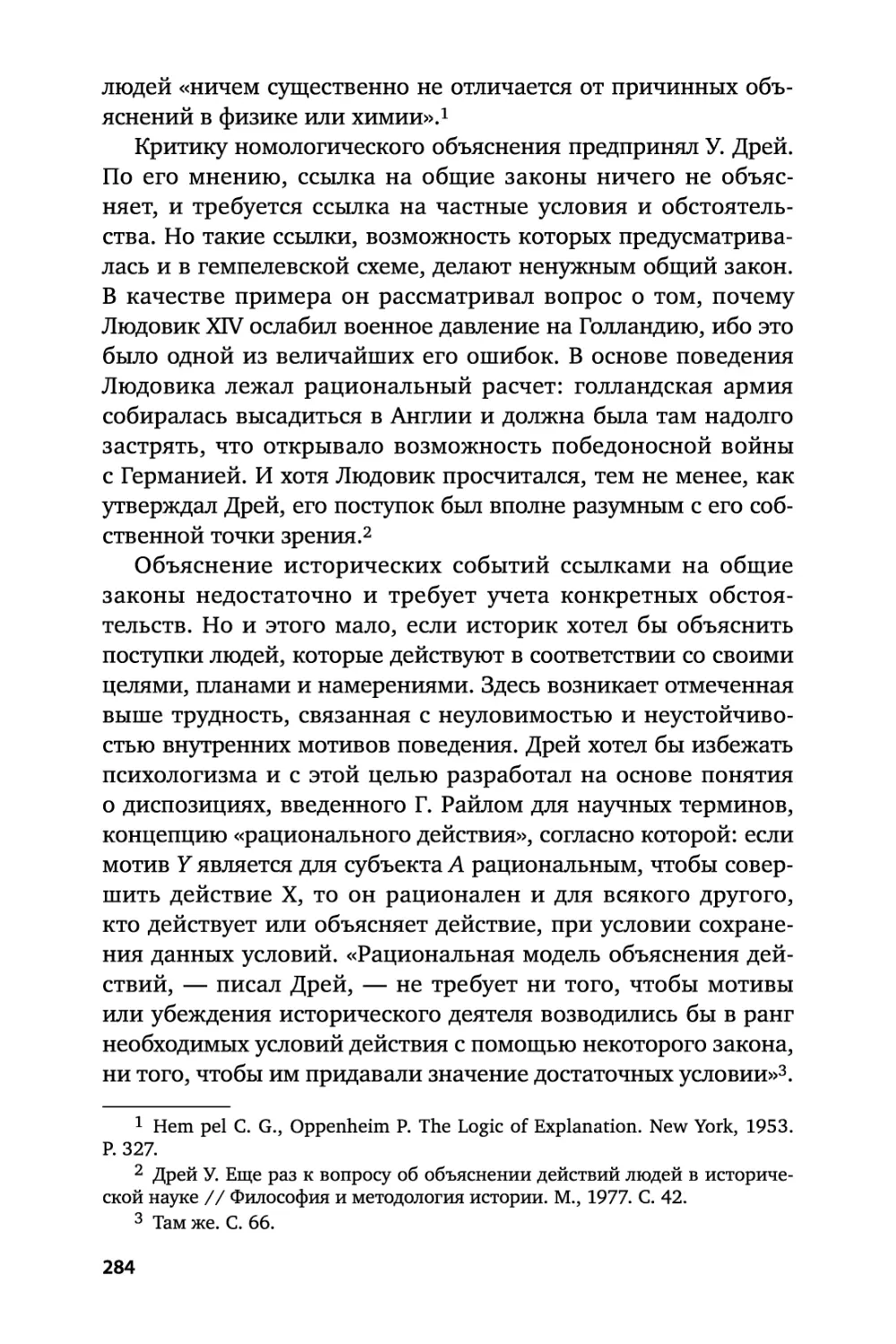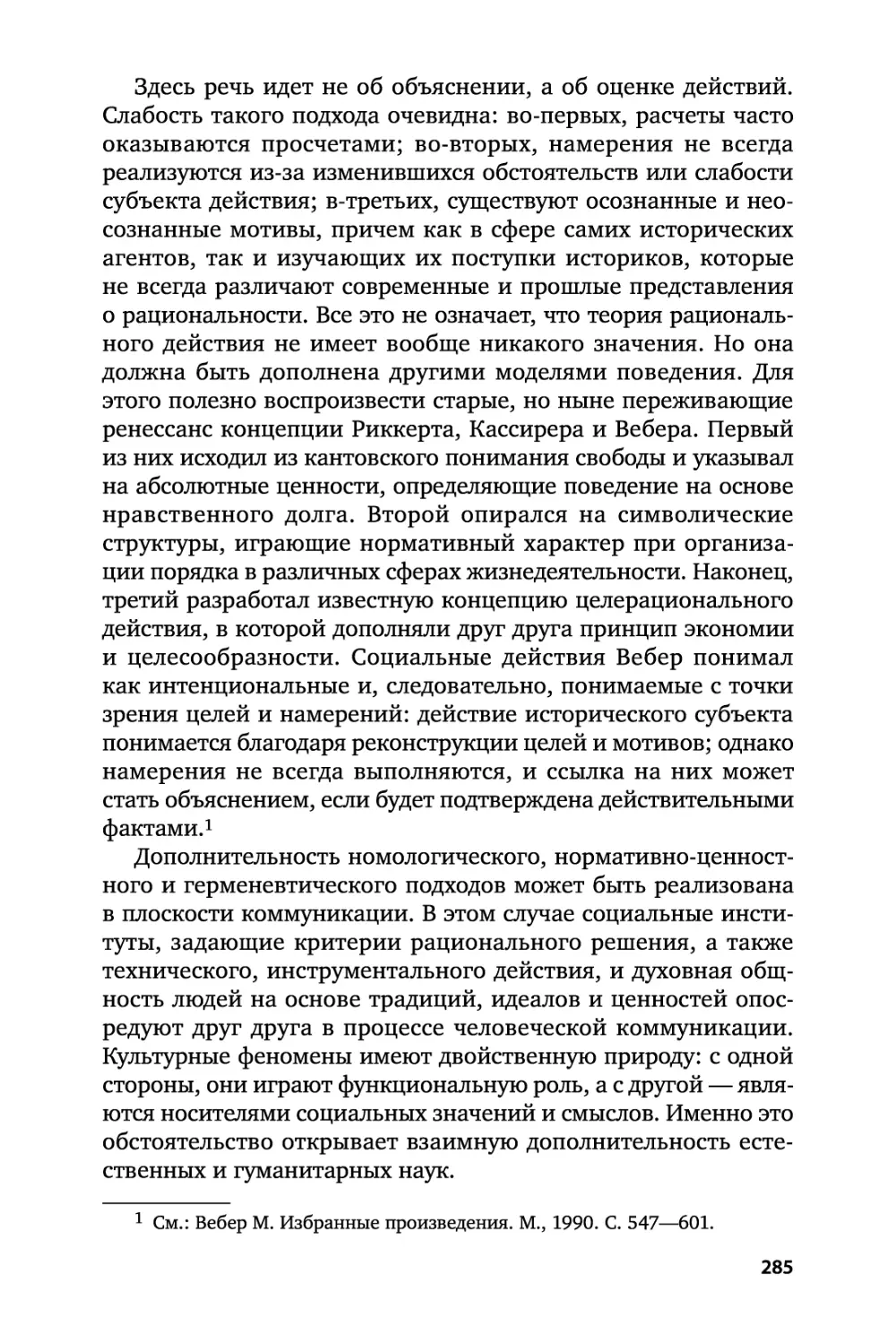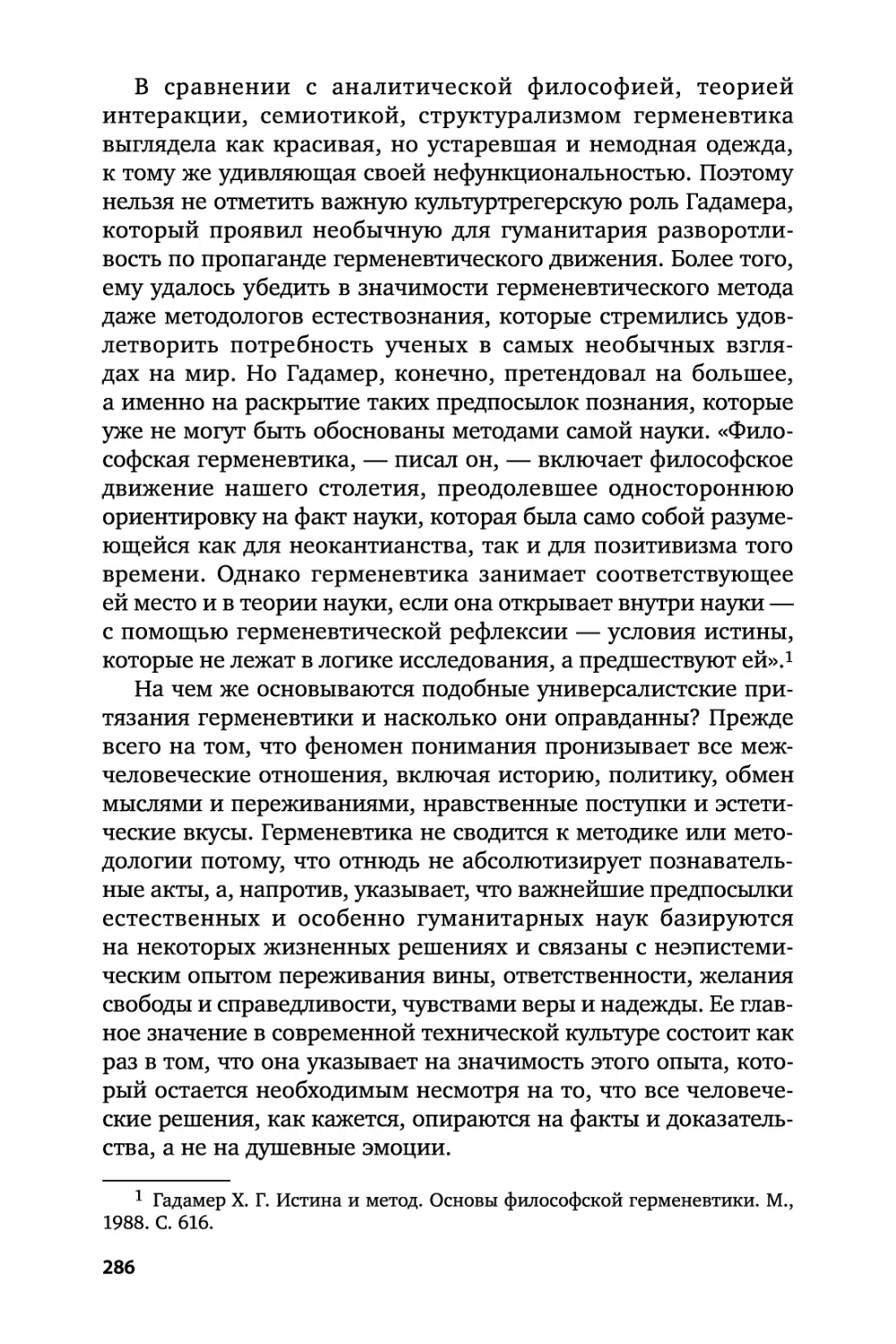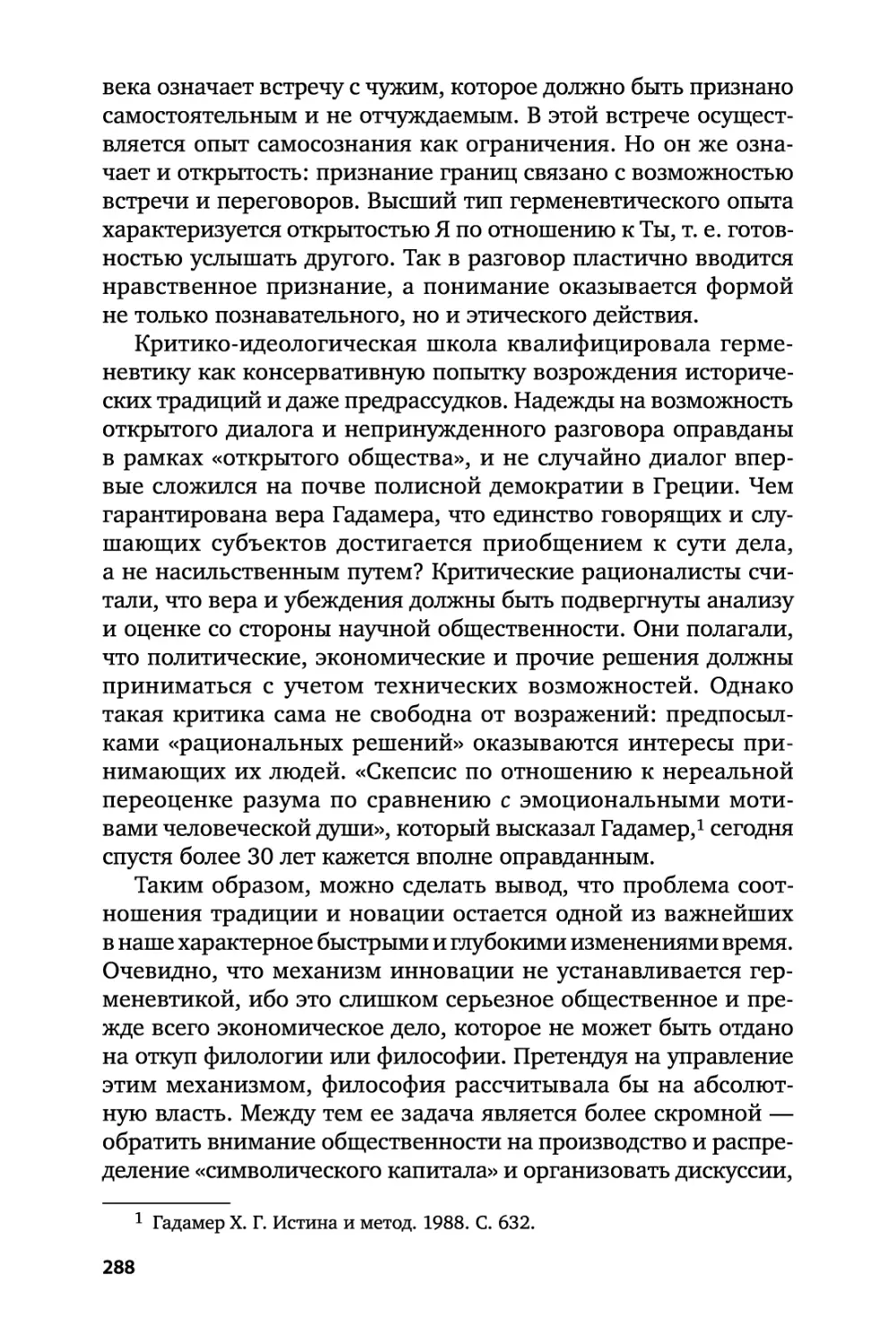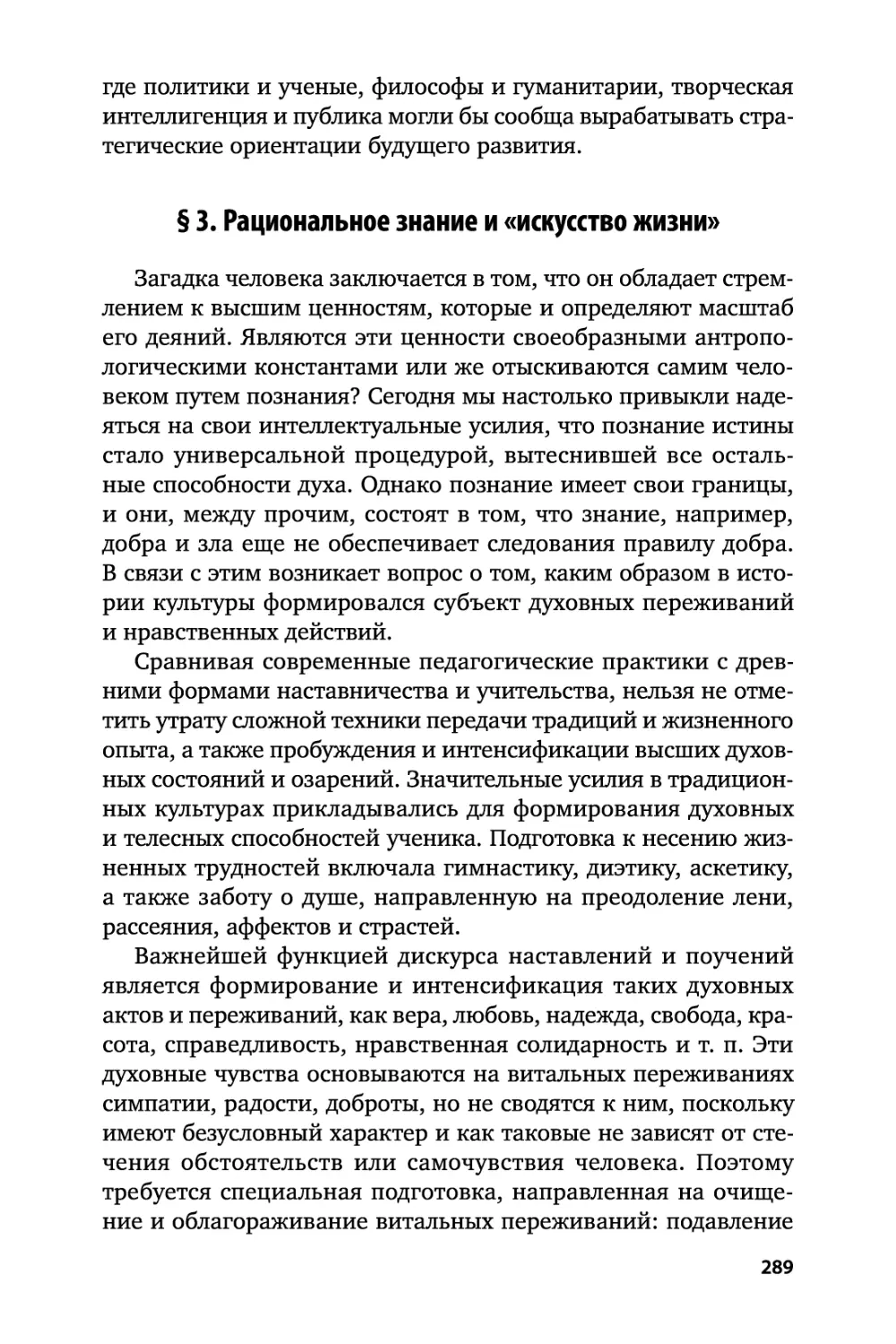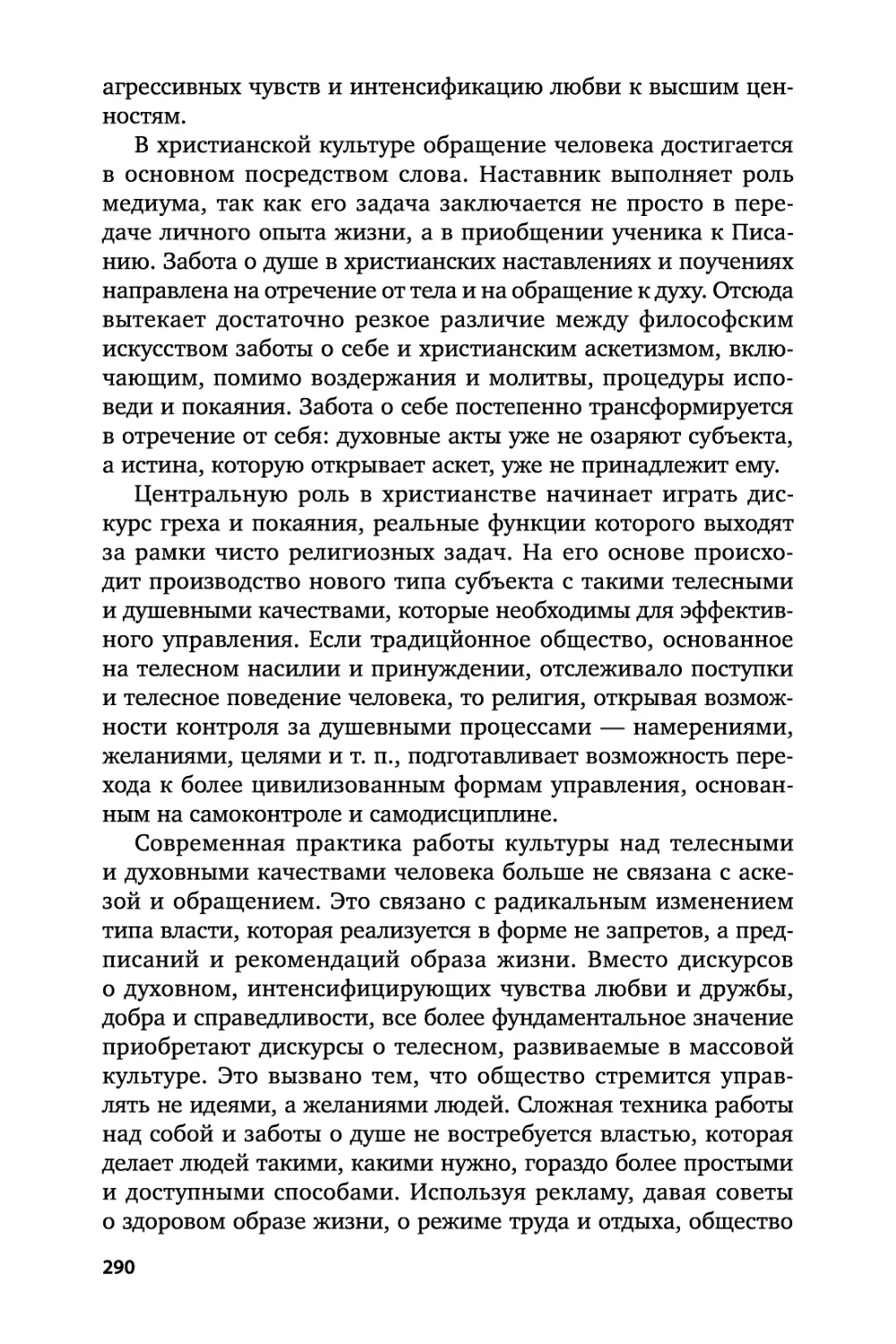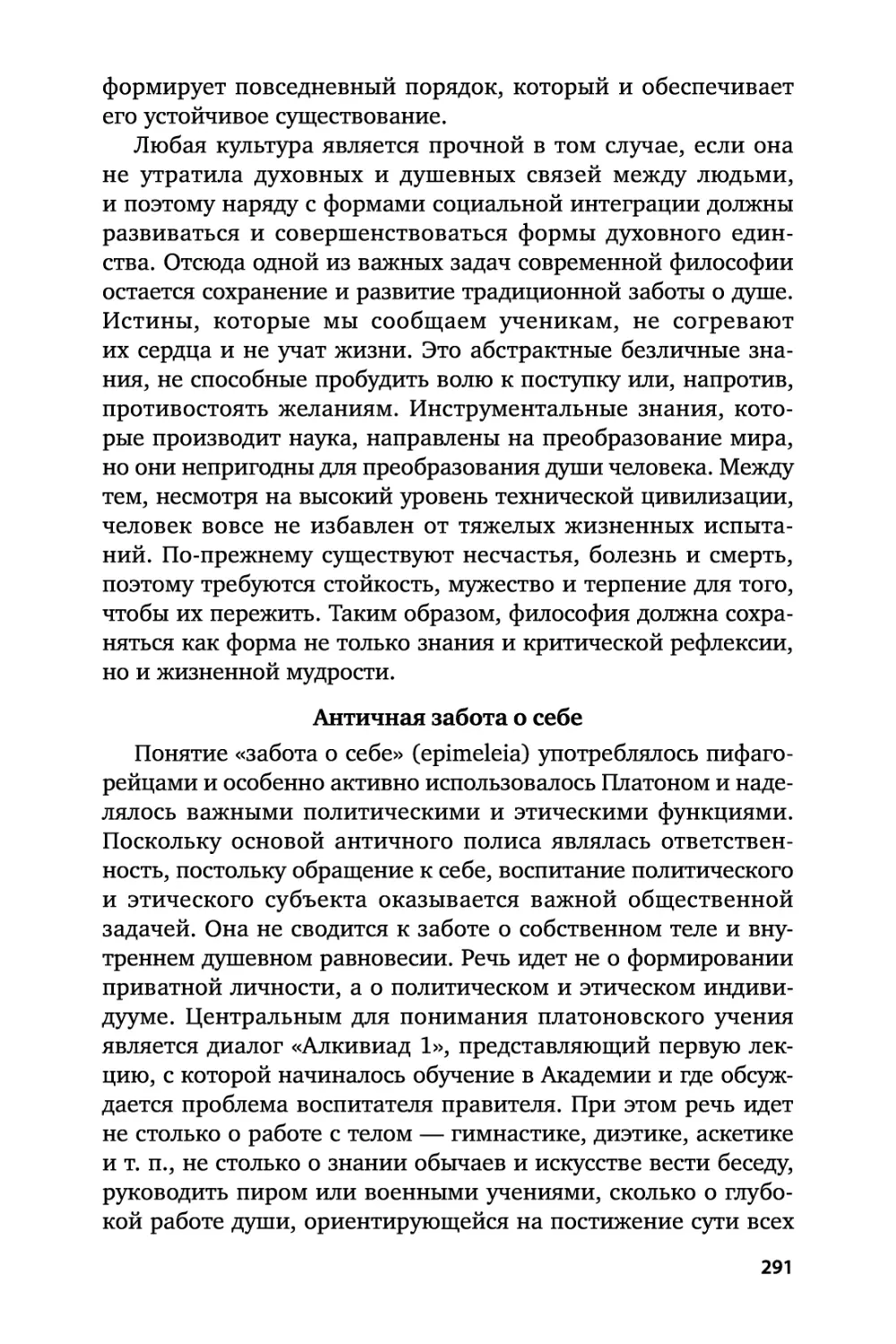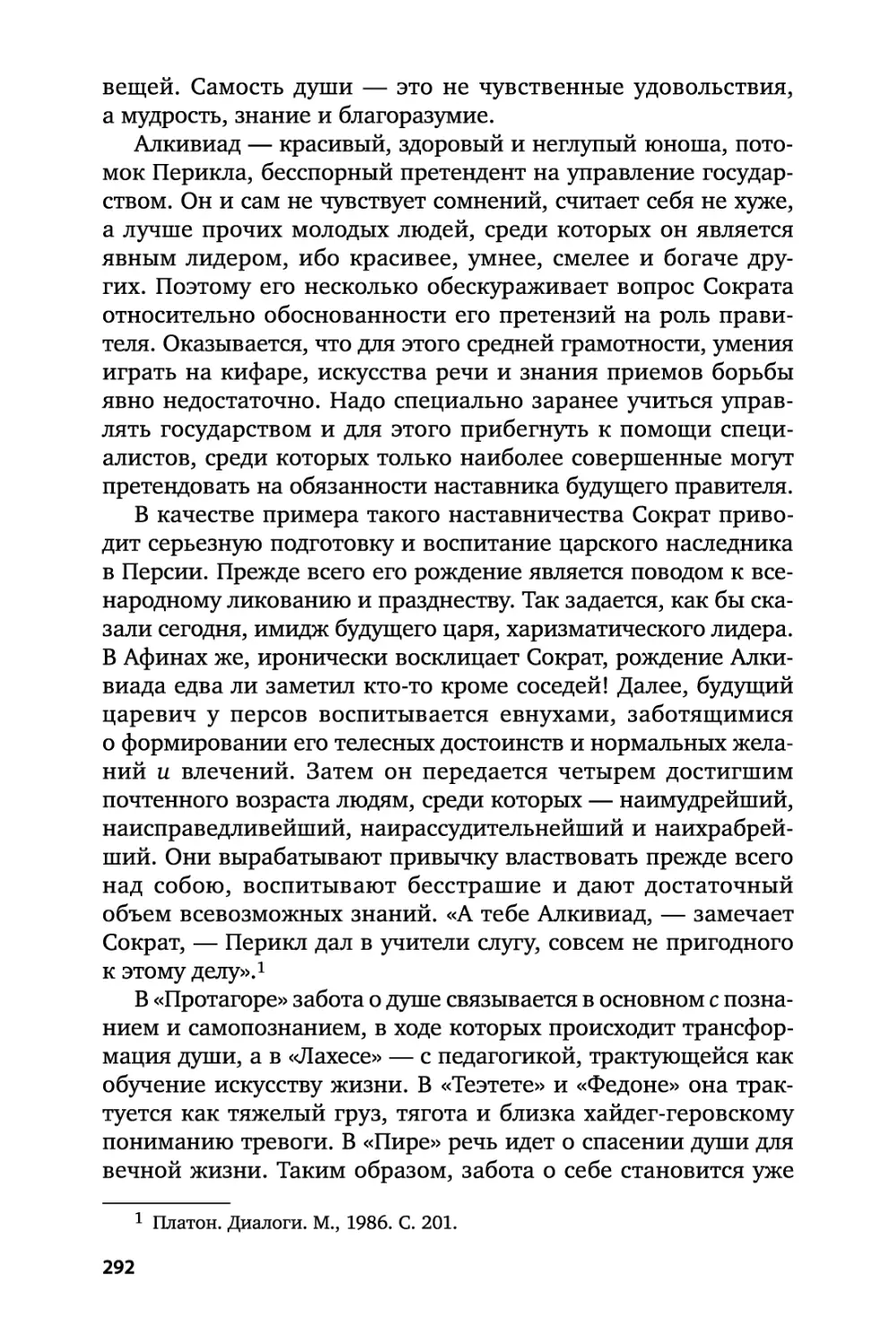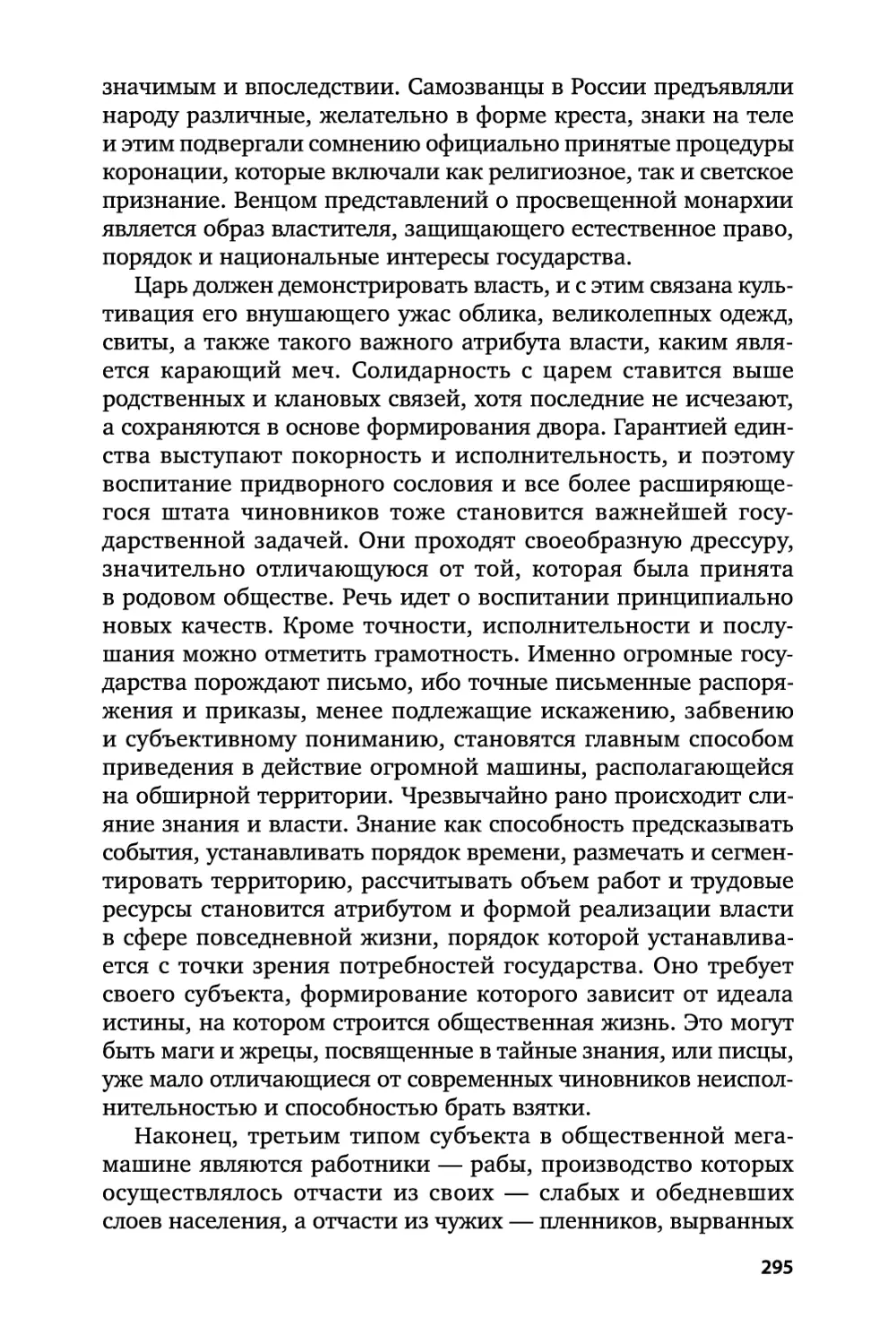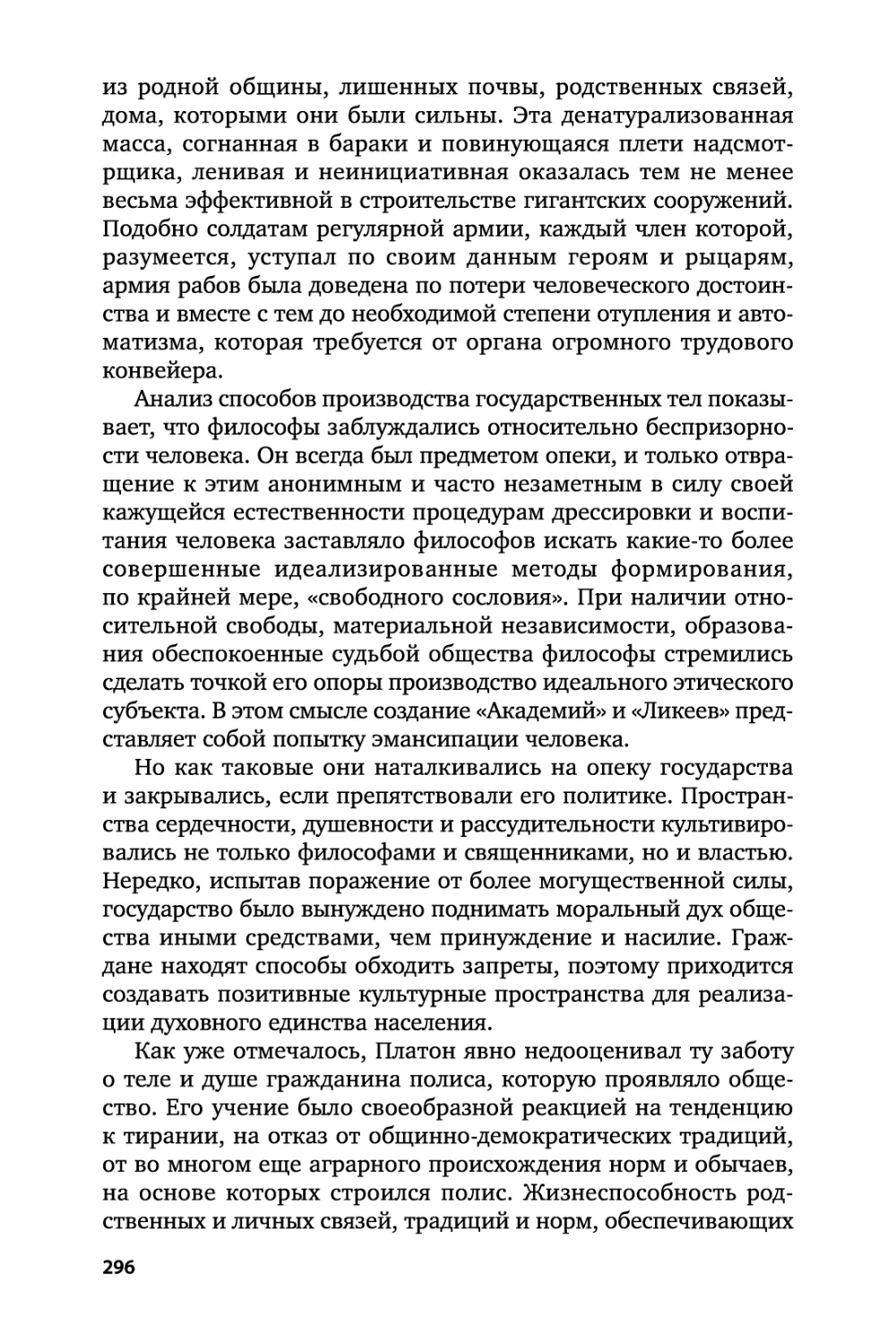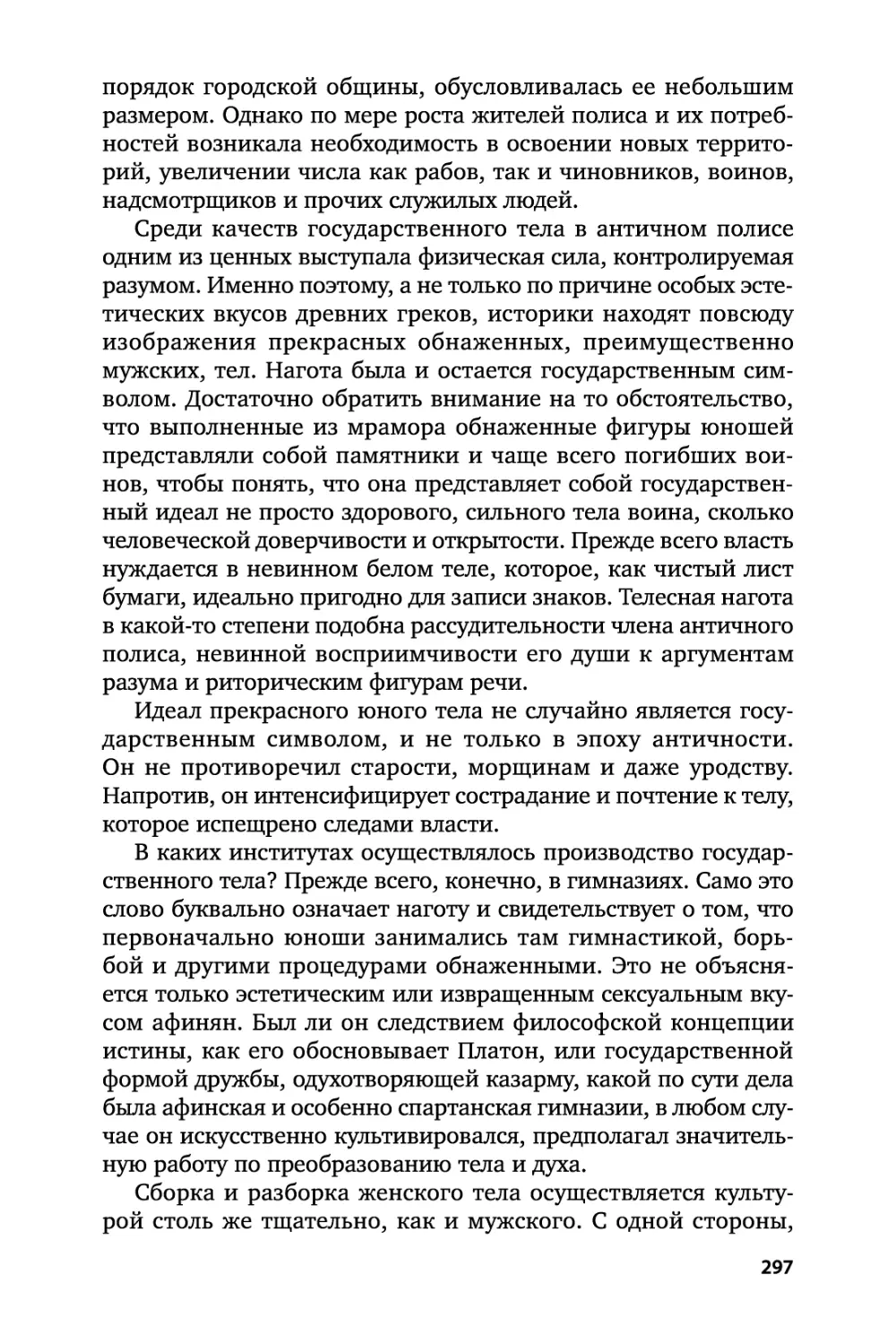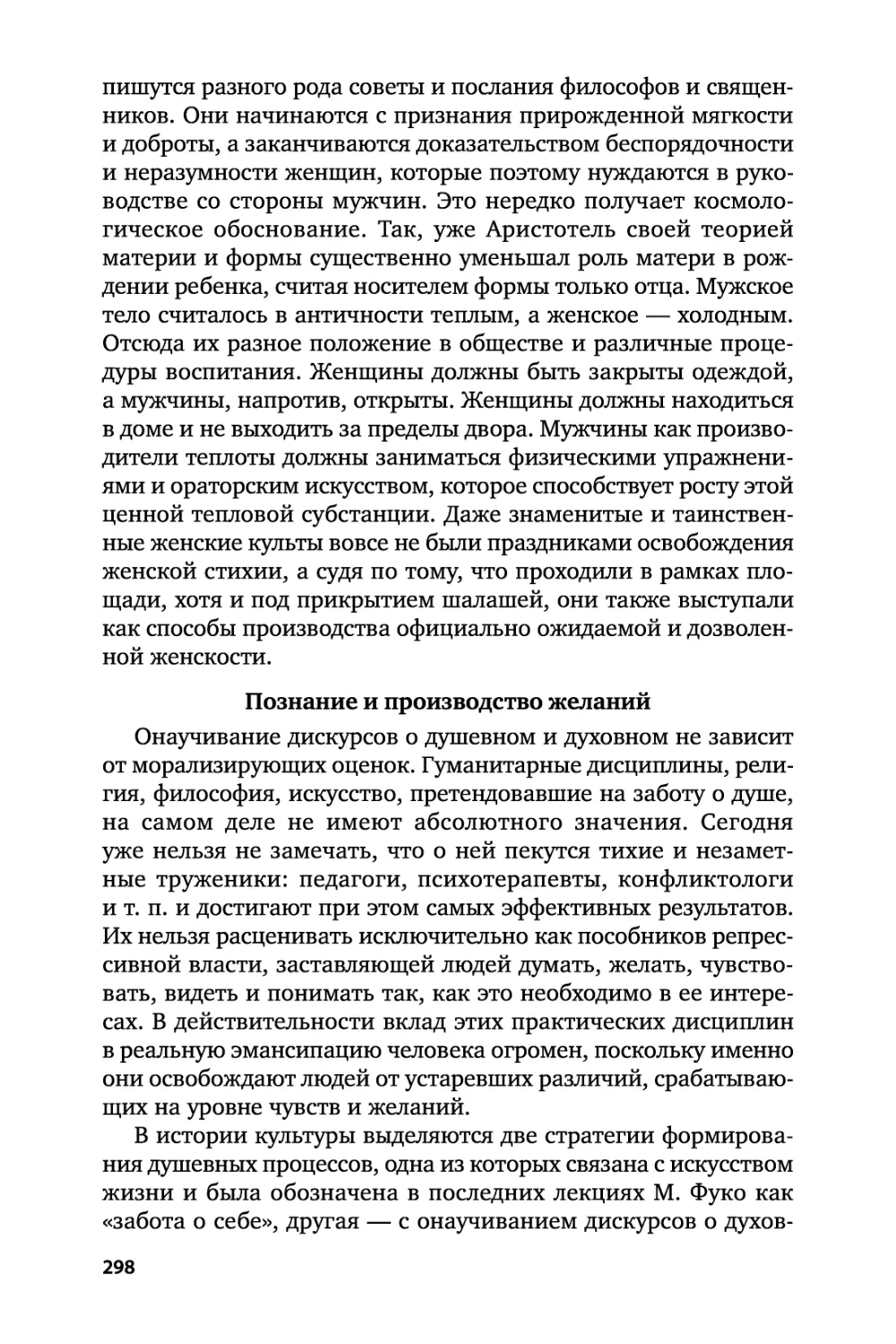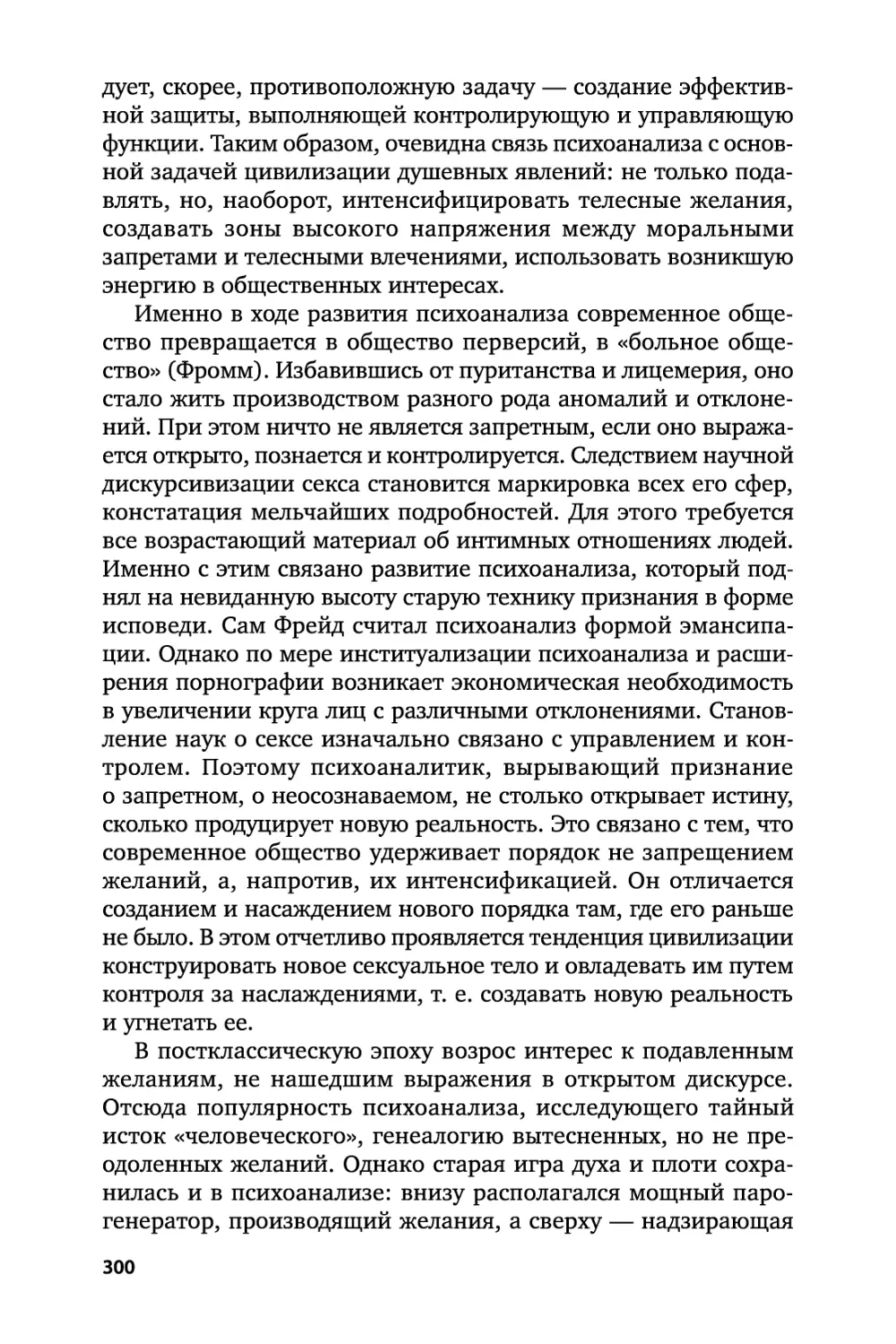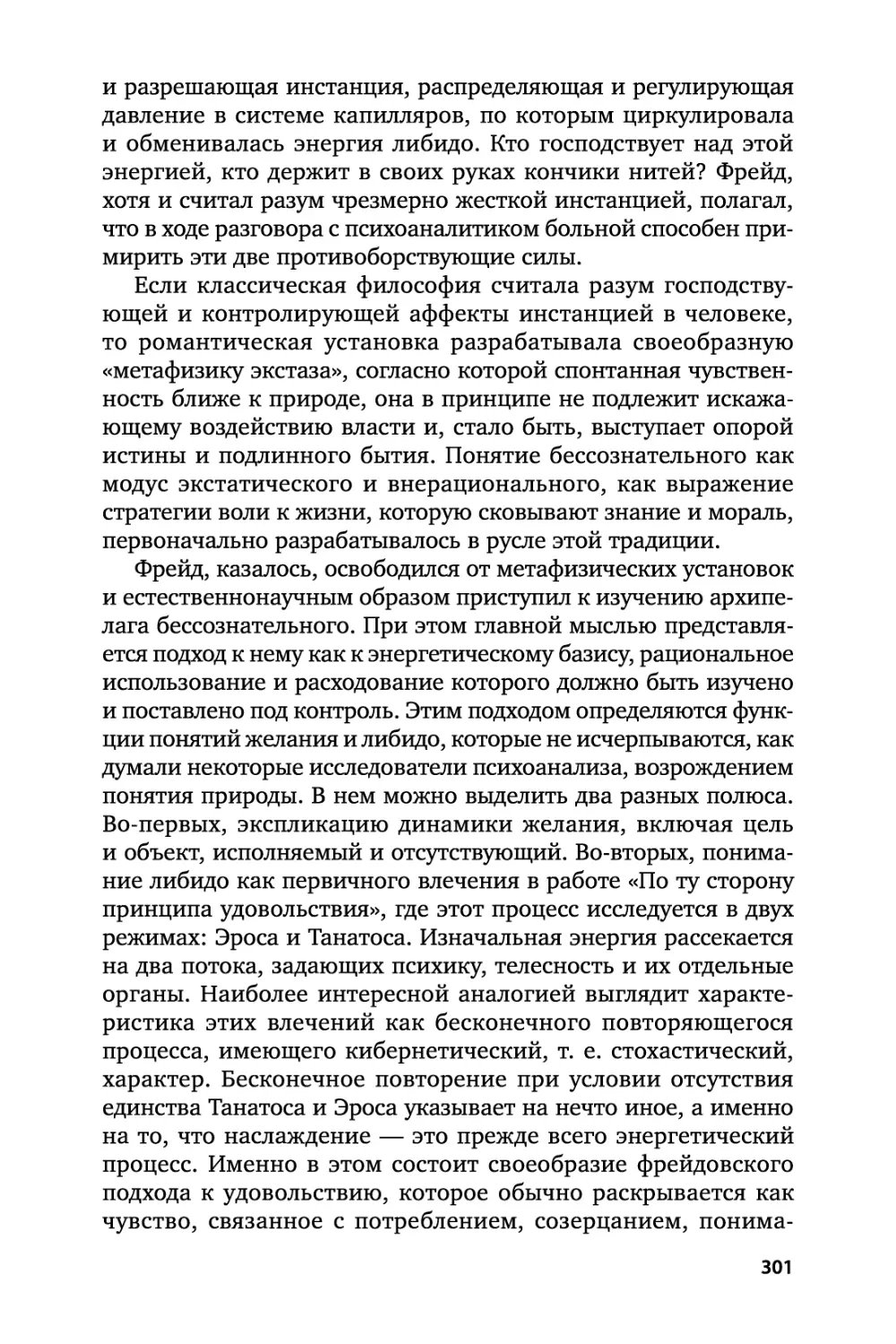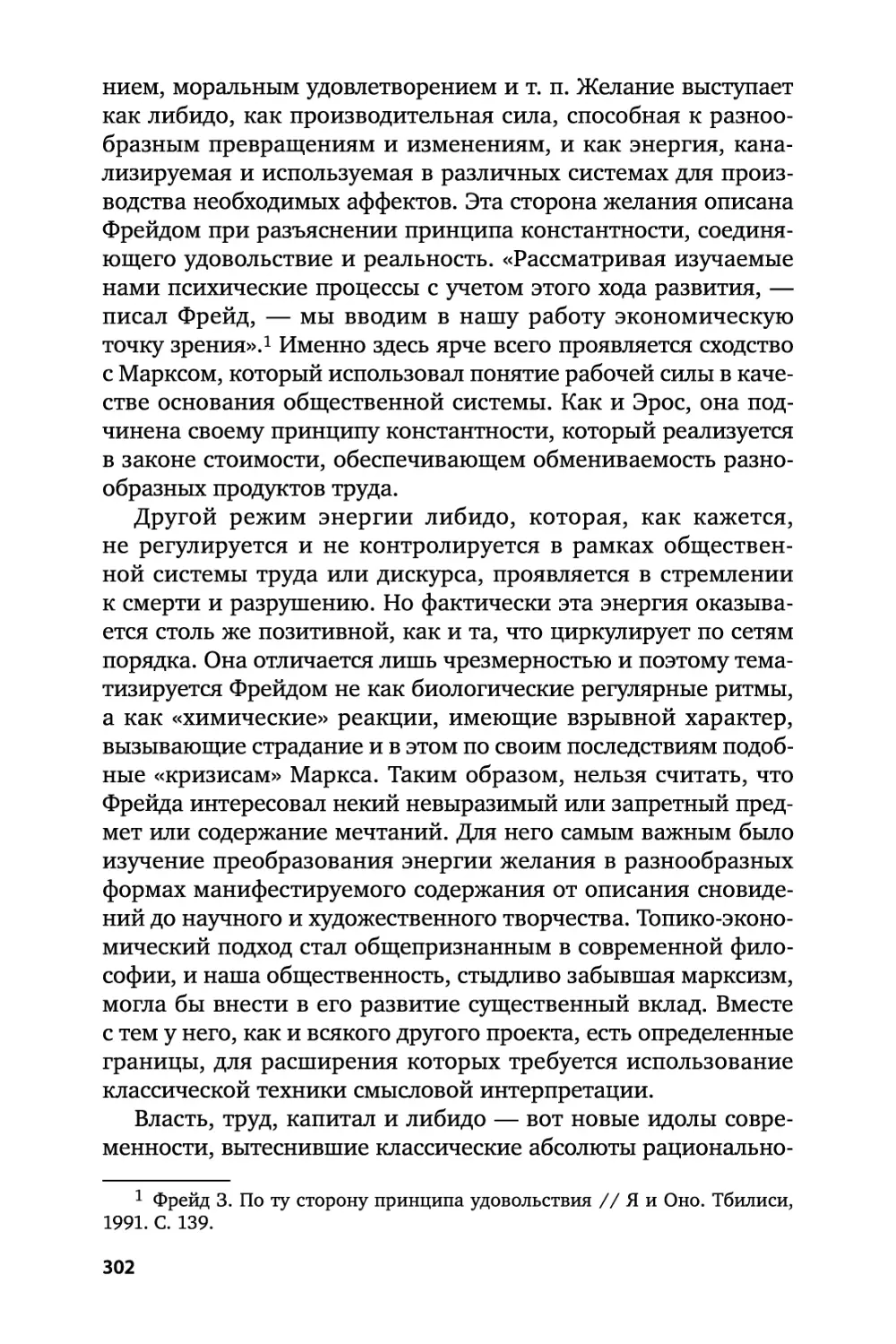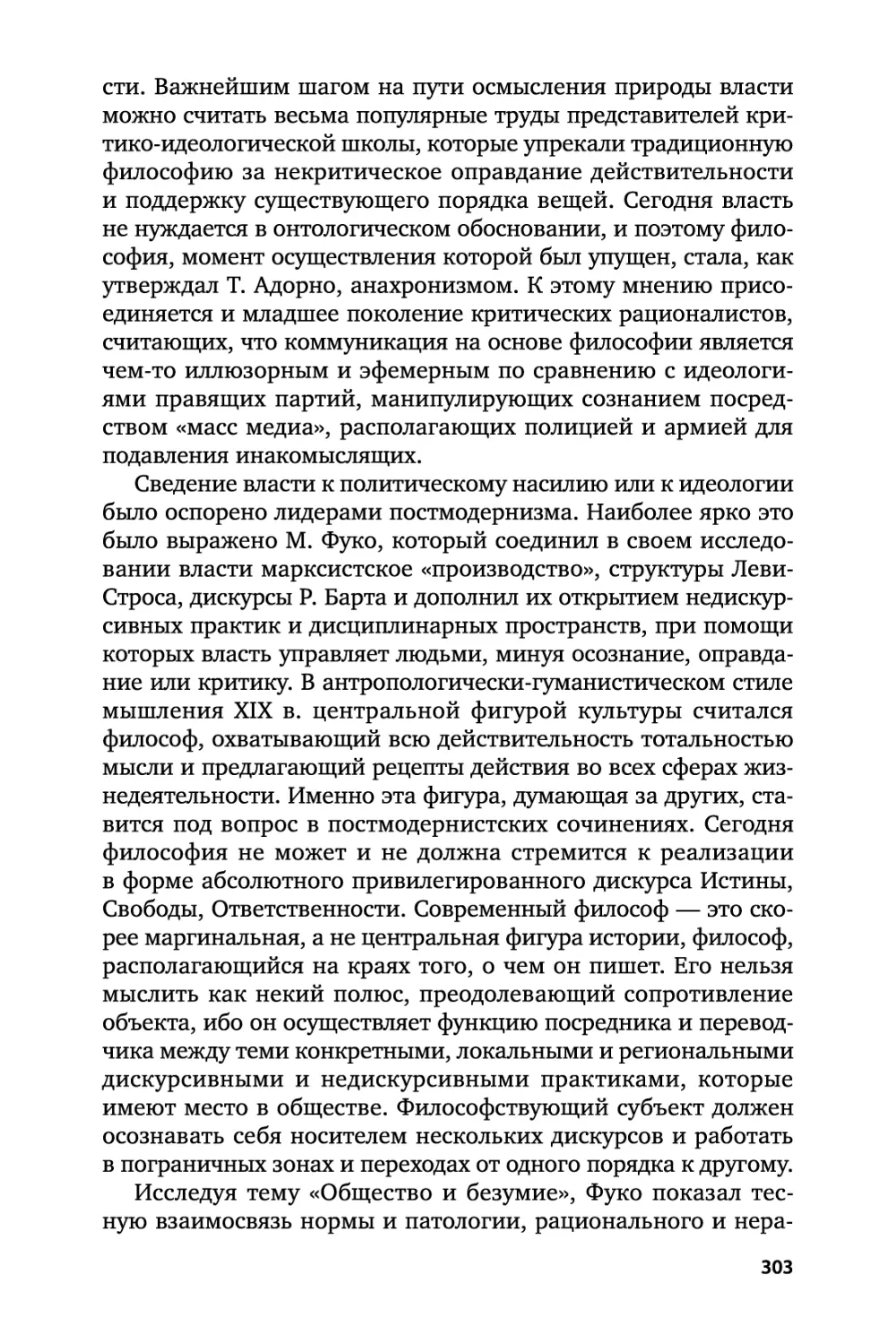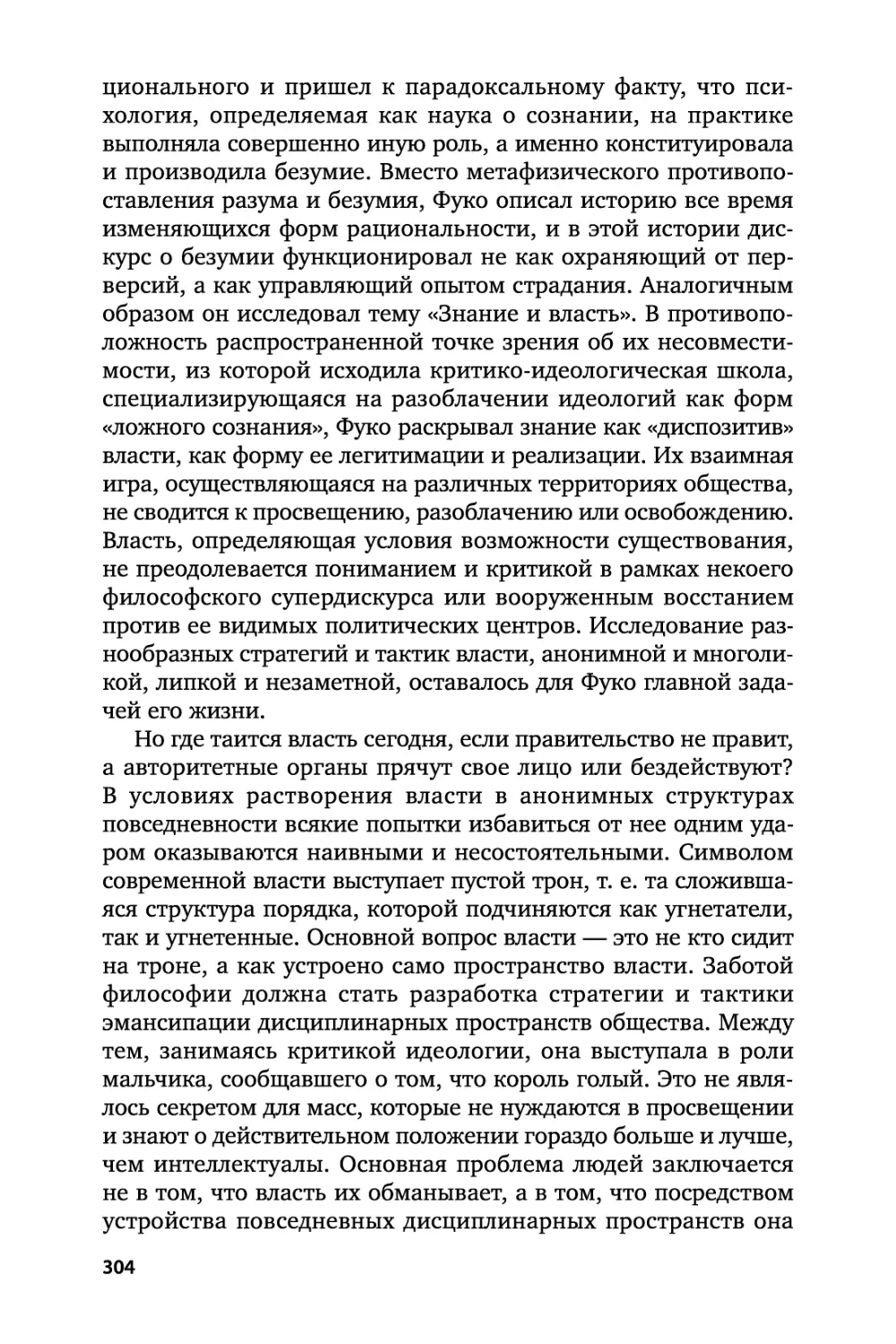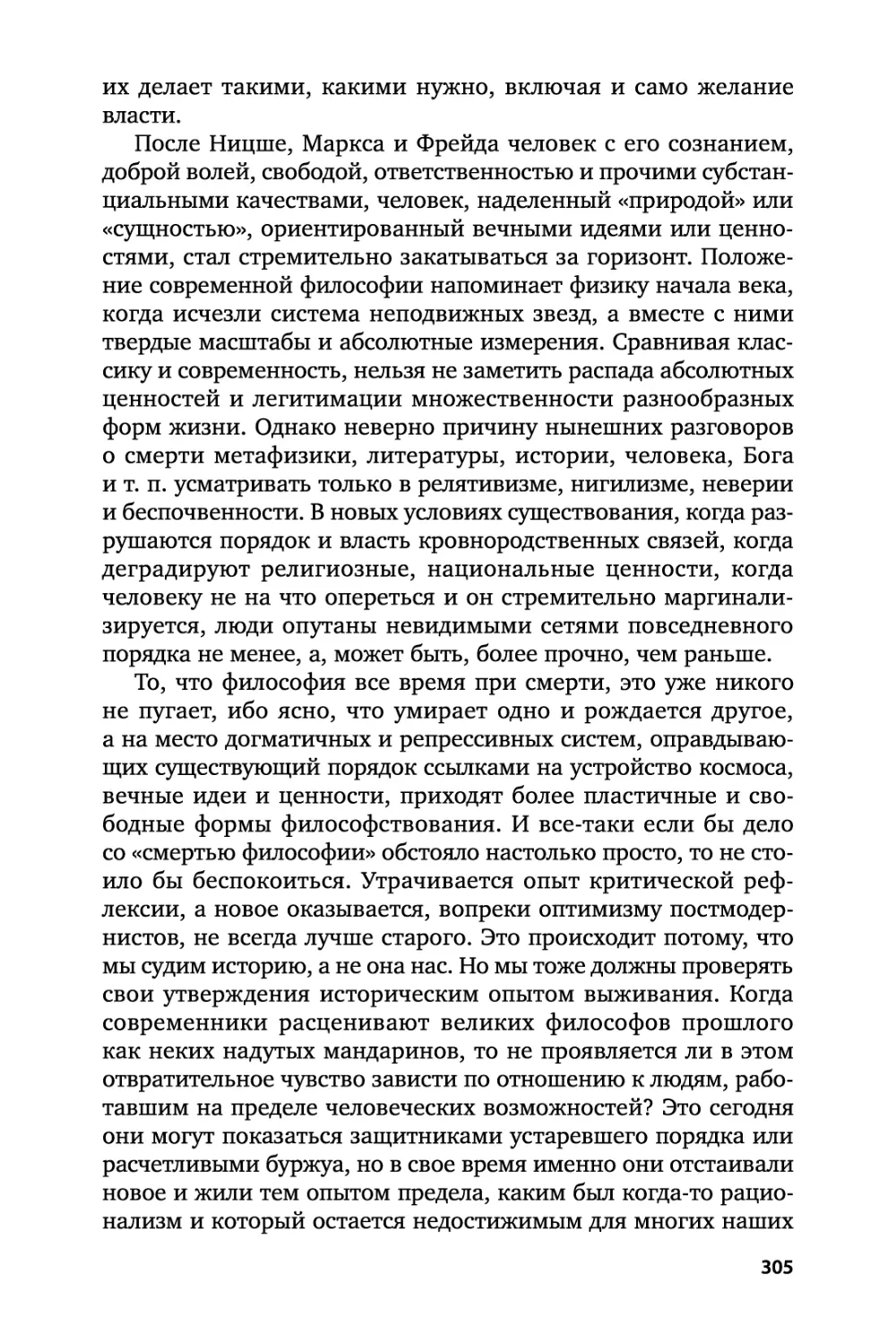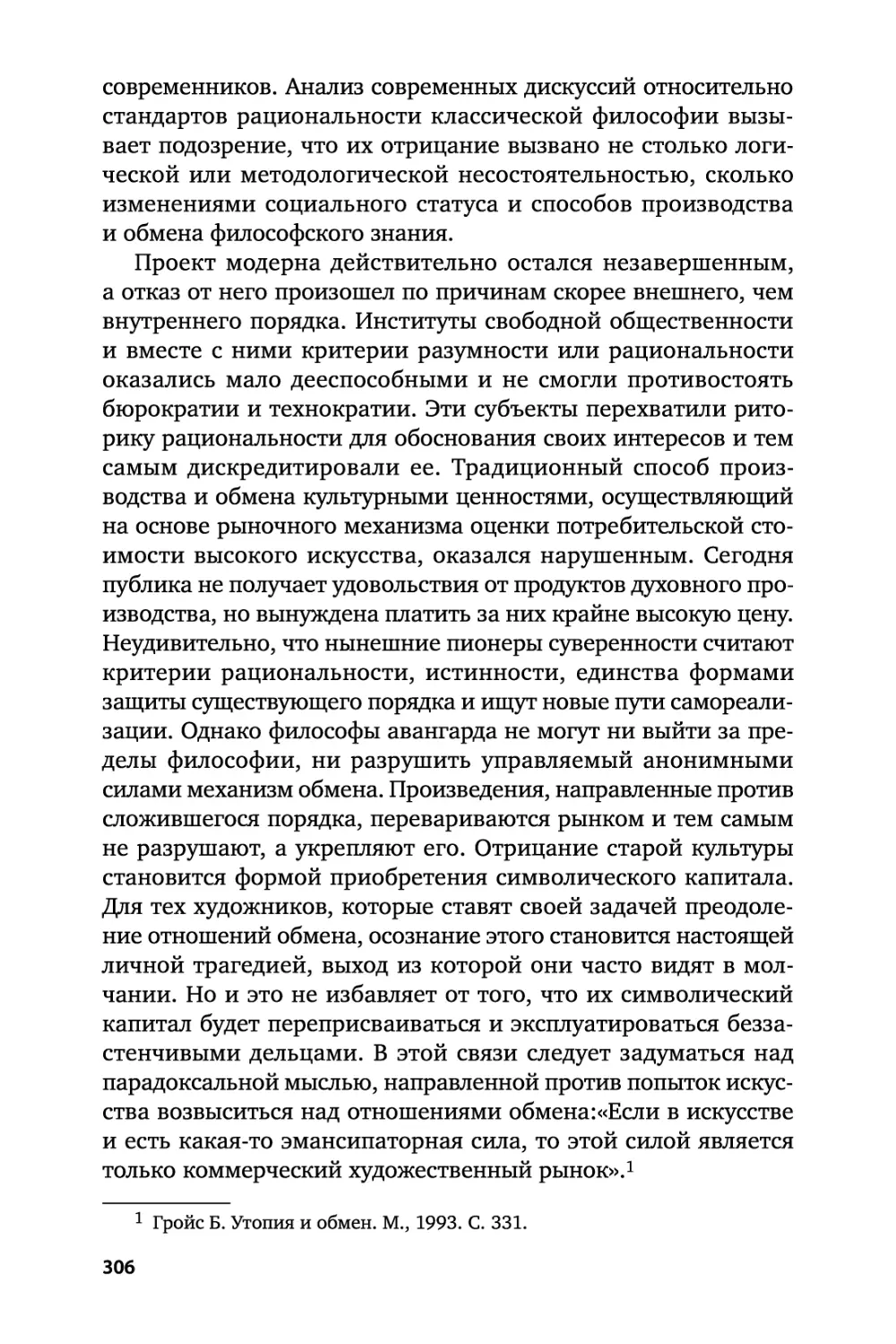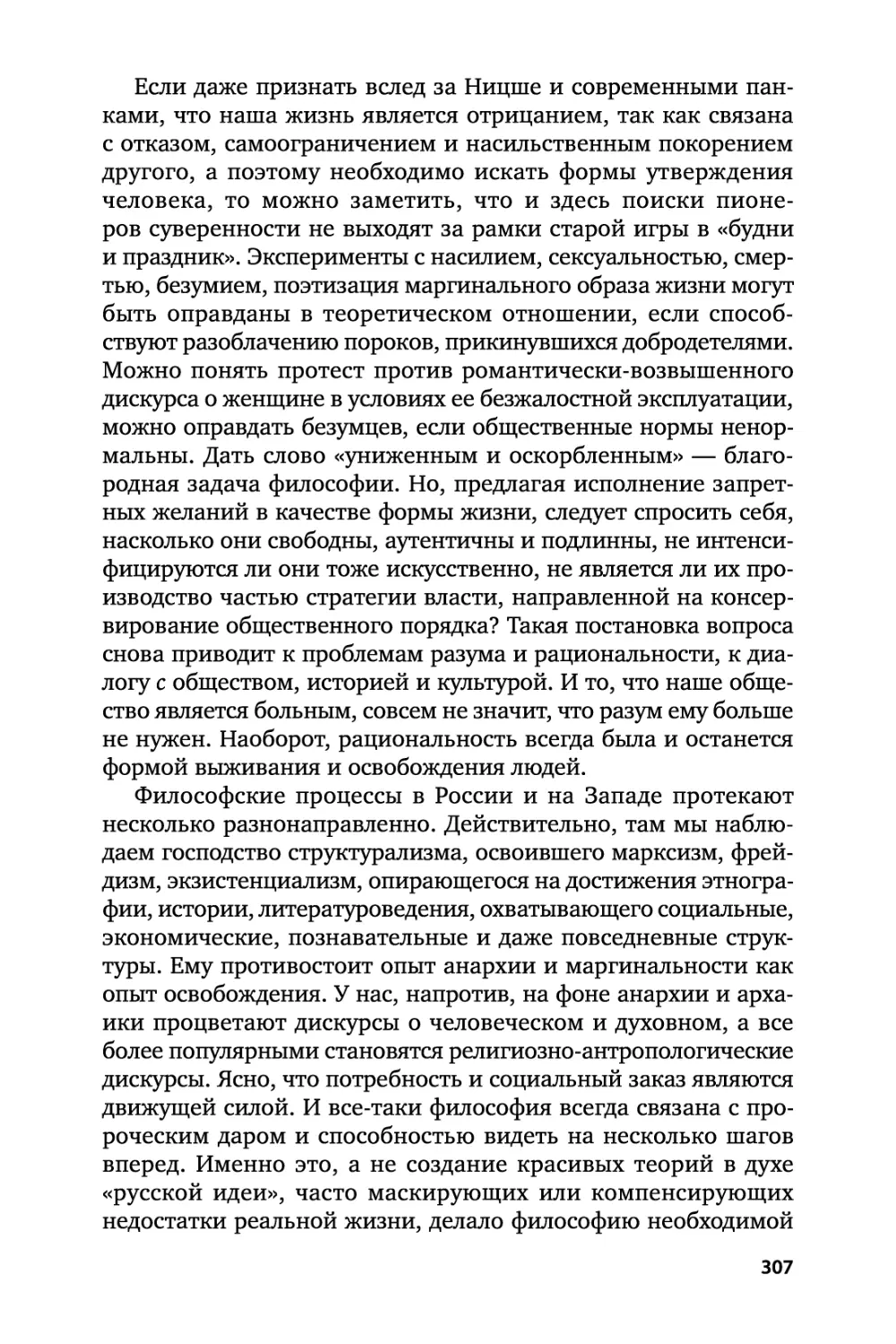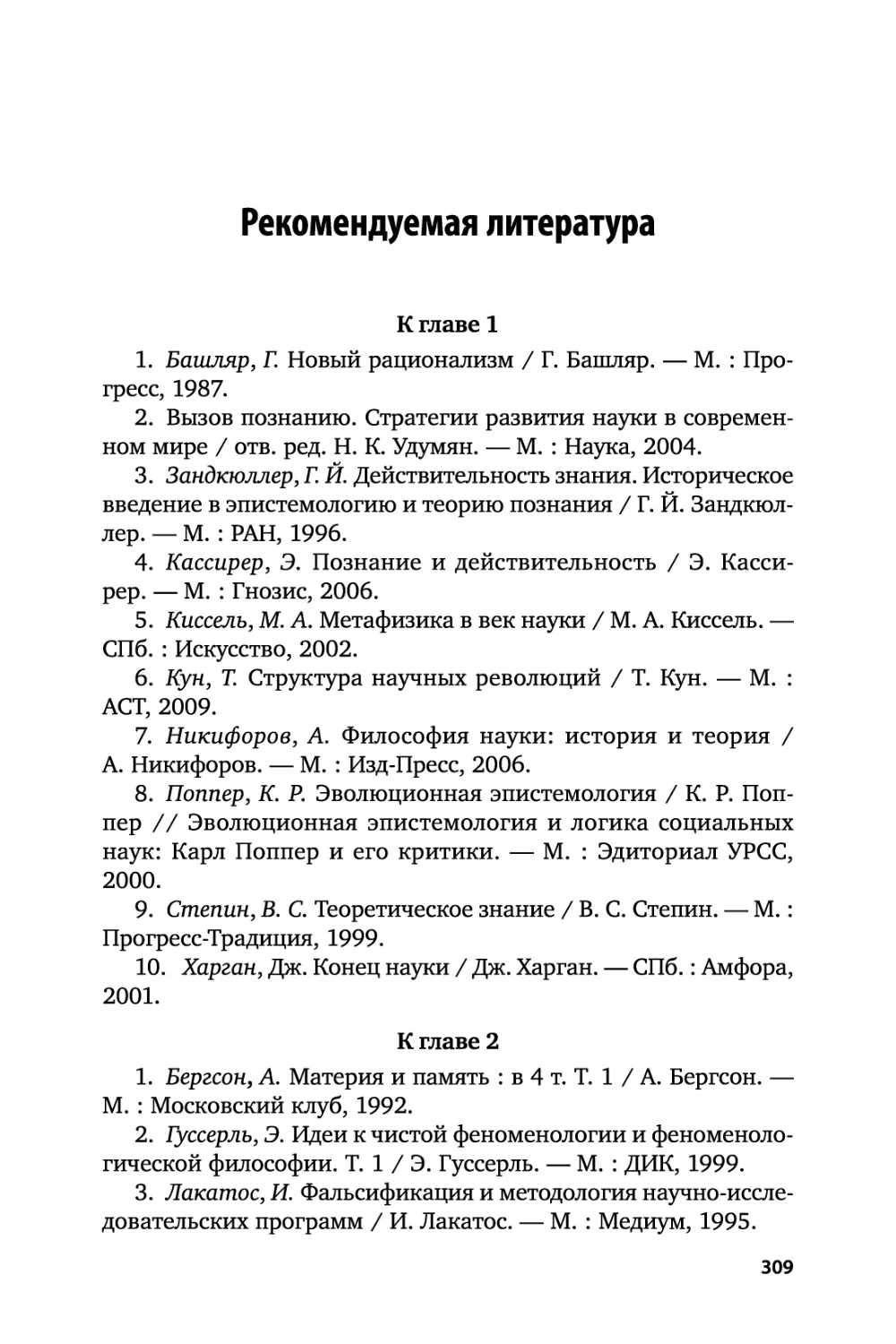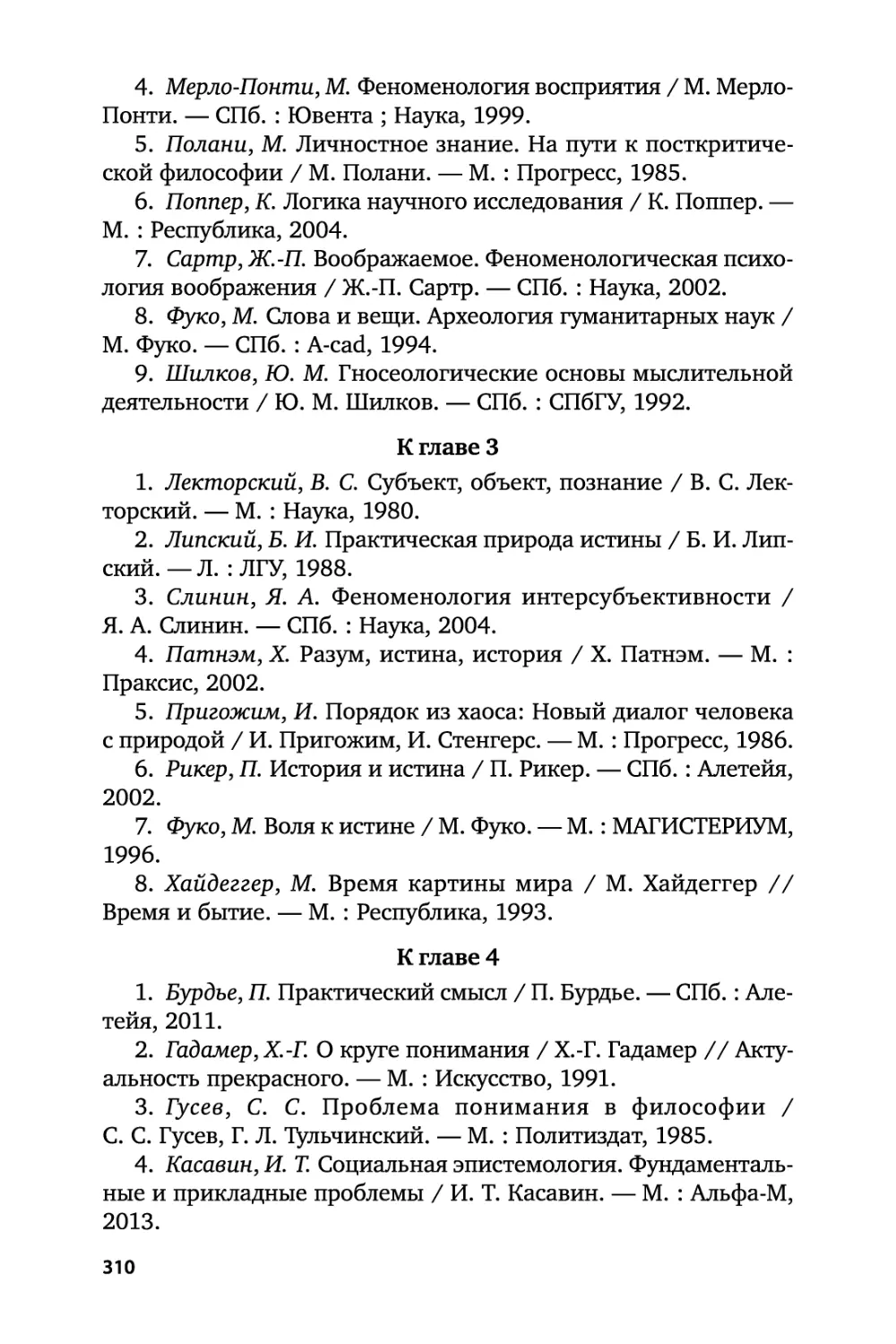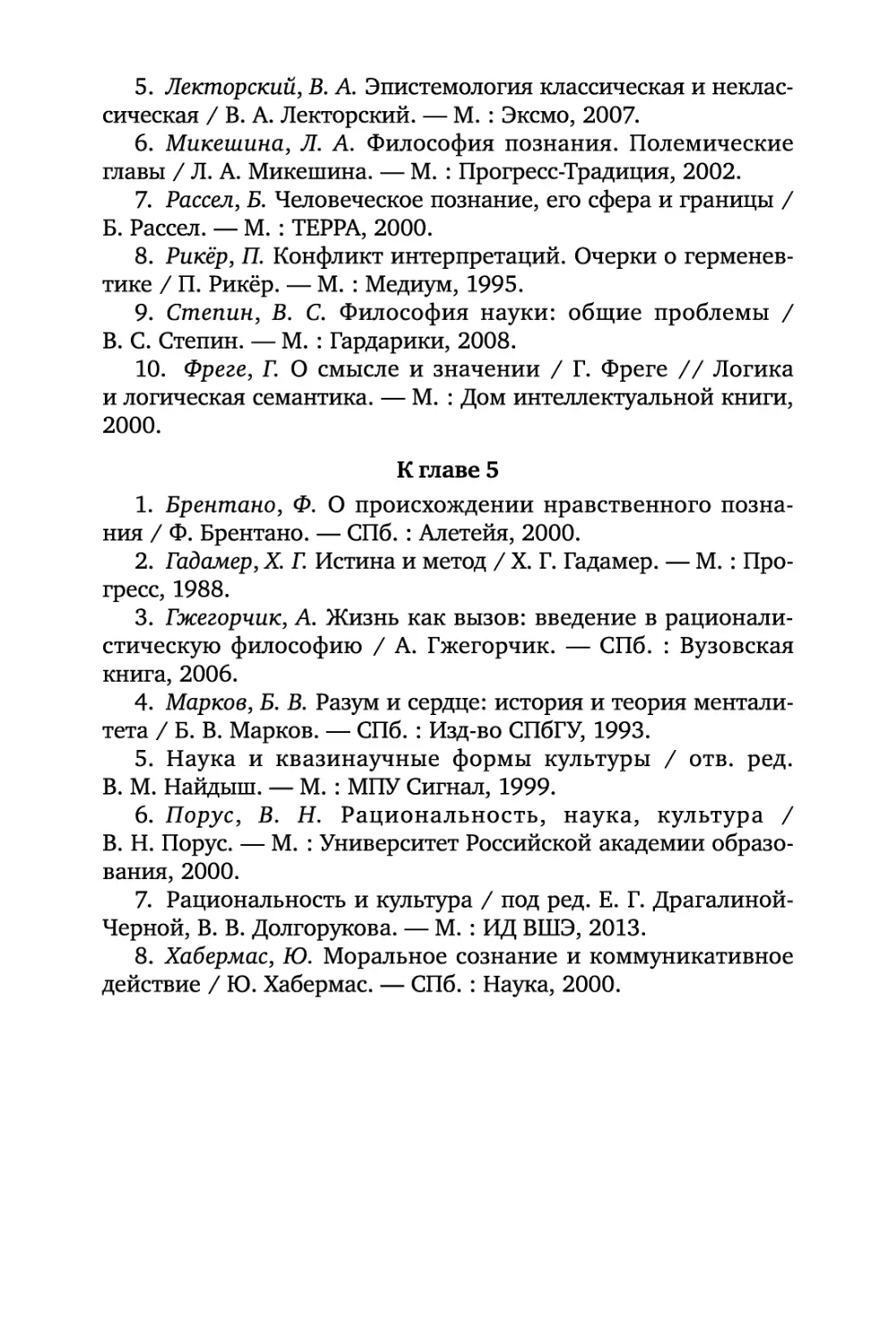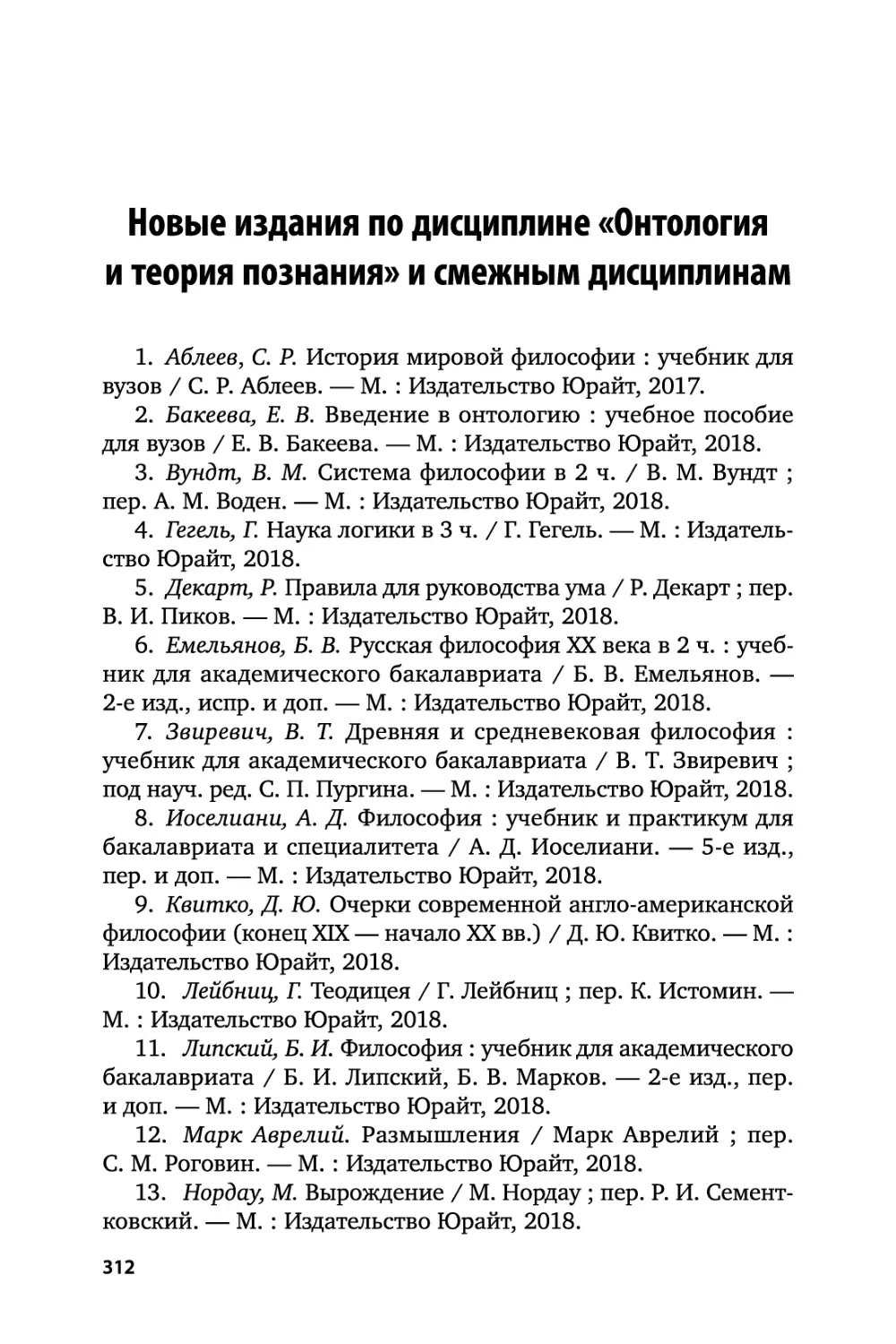Автор: Липский Б.И.
Теги: метафизика в целом общая метафизика учение о бытии онтология естественные науки философия
ISBN: 978-5-534-09674-3
Год: 2022
Текст
ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ том 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ
УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Под общей редакцией Б. И. Липского 2-е издание, исправленное и дополненное
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям
Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru, а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»
Москва • Юрайт • 2022
УДК 111(075.8)
ББК 21я73
0-59
Общий редактор:
Липский Борис Иванович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, председатель секции «Логика и теория познания» Головного Совета по философии, председатель секции «Философия образования» Дома ученых Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук.
Рецензенты:
Карпунин В. А. — доктор философских наук, профессор;
Слинин Я. А. — доктор философских наук, профессор.
Онтология и теория познания. В 2 томах. Т. 2. Основы теории
0-59 познания : учебник для вузов / С. С. Гусев [и др.] ; под общей редакцией Б. И. Липского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-09674-3 (т. 2)
ISBN 978-5-534-04429-4
Настоящий учебник посвящен вопросам онтологии и теории познания. Книга состоит из двух томов. В первом томе рассмотрена история становления и развития основных онтологических учений, проанализированы онтологические концепции, а также представлены новые трактовки бытия, формирующиеся в результате «онтологического поворота».
Второй том охватывает основные принципы и понятия, характеризующие главные закономерности осуществления познавательной деятельности. В нем проанализировано понятие «знание», аспекты чувственного восприятия и логического мышления, рассмотрены основные стратегии осуществления познавательной деятельности, а также показаны связи познавательной и практической деятельности.
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям.
УДК 111(075.8)
ББК 21я73
Разыскиваем правообладателей и наследников Шилкова Ю. М.: https: //www.urait.ru/inform
Пожалуйста, обратитесь в Отдел договорной работы: +7 (495) 744-00-12; e-mail: expert@urait.ru
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
ISBN 978-5-534-09674-3 (т. 2)
ISBN 978-5-534-04429-4
© Коллектив авторов, 2000
© Коллектив авторов, 2017, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2022
Оглавление
Авторский коллектив...................................4
Предисловие...........................................5
Введение..............................................7
Глава 1. Феномен знания..............................11
§ 1. Обыденное и научное познание.................11
§ 2. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности................29
§ 3. Интуитивное и дискурсивное познание..........46
Глава 2. Логико-психологические основы познания......64
§ 1. Психология чувственного восприятия...........64
§ 2. Психология мышления..........................90
§ 3. Эмпирический опыт и формы его концептуализации.108
Глава 3. Познавательное отношение и цель познания......131
§ 1. Субъект познания............................131
§ 2. Объект познания.............................147
§ 3. Истина как цель познания....................160
Глава 4. Главные познавательные «стратегии».........180
§ 1. Знание и понимание..........................180
§ 2. Знание: сущность и рациональность...........201
§ 3. Динамика осмысленного знания................235
Глава 5. Познание и жизнь...........................255
§ 1. Познание и практика (познание как общение)..257
§ 2. Ценность знания и познание ценности.........277
§ 3. Рациональное знание и «искусство жизни».....289
Рекомендуемая литература............................309
Новые издания по дисциплине «Онтология и теория познания» и смежным дисциплинам.....................312
Авторский коллектив
Гусев Станислав Сергеевич — профессор, доктор философских наук, профессор СПбАУ РАН (гл. 1);
Липский Борис Иванович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Института философии СПбГУ, председатель секции «Логика и теория познания» Головного Совета по философии, председатель секции «Философия образования» Дома ученых СПб отделения РАН (предисловие, введение, гл. 3: § 1, 2; § 3 (в соавт. с Б. В. Марковым));
Марков Борис Васильевич — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой философской антропологии Института философии, почетный профессор СПбГУ (гл. 3: § 3 (в соавт. с Б. И. Липским), гл. 5);
Тульчинский Григорий Львович — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Департамента прикладной политологии Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена (гл. 4);
Шилков Юрий Михайлович — доктор философских наук, профессор (гл. 2).
Предисловие
Настоящее учебник представляет собой второй том книги «Онтология и теория познания. В 2 томах». Он предназначен для студентов высших учебных заведений философских и общегуманитарных направлений, получающих высшее образование уровня «бакалавр» и (или) «специалист» на дневных, вечерних и заочных отделениях высших учебных заведений. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, а рассматриваемые темы охватывают весь спектр части курса, касающейся теории познания.
В ходе изучения данной части курса студент получит представление о наиболее существенных аспектах природы человеческого интеллекта и основных закономерностях познавательной деятельности, выступающей как средство достижения истинны, цель и результат познавательного процесса и составляющей рациональную основу организации практической деятельности, направленной на преобразование мира в соответствии с целями и потребностями человека. В результате освоения материала данного раздела студент должен:
знать
• основные гносеологические концепции в их историческом развитии и в современном состоянии;
уметь
• применять полученные знания как в самостоятельных исследованиях теоретико-познавательных проблем, так и в качестве концептуальной и методологической базы при подготовке специалистов;
владеть
• навыками межкультурного диалога, а также толерантностью, трудолюбием, устремленностью к интеллектуальному и культурному самосовершенствованию.
Содержание данного тома разбито на пять глав, охватывающих основные принципы и понятия, характеризующие главные закономерности осуществления познавательной деятельности.
Первая глава посвящена анализу самого понятия «знание» и выявлению различий между знанием обыденным и научным, отличающимся целенаправленным и системным характером (§ 1). Здесь же проводится сравнительный анализ основных гносеологических концепций, представляющих познание либо как «отражение», либо как «конструирование» действительности (§ 2), и проясняется различие между познанием интуитивным и дискурсивным (§ 3).
Во второй главе анализируются психологические аспекты чувственного восприятия (§ 1) и логического мышления (§ 2), а также проблемы, связанные с анализом форм и способов концептуализации чувственного опыта (§ 3).
Третья глава посвящена анализу основных трактовок познавательного отношения и его сторон: субъекта (§ 1) и объекта (§ 2) познания. Здесь же рассматриваются основные концепции истины как цели и результата познавательной деятельности (§ 3).
В четвертой главе рассматриваются основные стратегии осуществления познавательной деятельности, направленные на достижение познания или понимания исследуемых проблем (§ 1), анализируются сущностные характеристики рационального знания (§ 2), прослеживается динамика роста и развития осмысленного знания (§ 3).
Материал пятой главы ориентирован на раскрытие связи познавательной и практической деятельности (§ 1), выявление ценностного значения теоретического знания (§ 2) и его практической роли в организации и совершенствовании «искусства жизни» (§ 3).
К каждой главе прилагается перечень дополнительной литературы для более глубокого самостоятельного изучения вопросов, представляющихся студенту наиболее важными и интересными.
Введение
Человек не природное существо. Предметы и способы его деятельности не заданы человеку самой природой. Его действия не предопределяются и не подкрепляются непосредственной естественно-биологической стимуляцией. В отличие от животного он не имеет генетически заданного набора инстинктивных форм поведения в той культурной среде, в которой он начинает свою жизнь. У него нет предопределенного ответа на вопрос о том, что делать ему с тем или иным предметом. Поэтому он беспомощен перед предметом, пока не получит «знания» о нем.
Теория познания неотделима от теории жизни, поскольку без определения места и роли знания в общем развитии жизни невозможно объяснить ни как и «для чего» образовалось мышление, ни каким образом оно помогает бесконечно усложнять способы нашей деятельности, постоянно выводя нас за пределы биологической предопределенности. Знание, опираясь на которое мы оперируем с внешним объектом, становится содержанием нашего сознания, а потому выступает как часть нас самих, как неотъемлемая принадлежность нашего Я. Не только знание живет в нас, мы сами начинаем жить в нашем знании, используя его как «продолжение» наших естественных воспринимающих и рабочих органов. Благодаря знанию мы обретаем способность осуществлять формы жизнедеятельности, далеко выходящие за пределы физиологических и генетических «программ».
Начиная с античности проблемы познания становятся предметом пристального внимания. Античные философы различают два рода познания: теоретическое, направленное на постижение истинной сущности вещи, какова она есть сама по себе, и практическое, ориентированное на изменение, преобразование вещи, что, в свою очередь, предполагает ее постижение в отношении к другим вещам. При этом знание первого рода, состоящее в созерцании божественной гармонии Кос
моса, предпочитается практическому знанию, направленному на решение бытовых, повседневных задач.
Гуманистические интенции эпохи Возрождения предопределяют формирование иных познавательных установок. Френсис Бэкон полагал, что главная ценность знания состоит не в созерцании истины, а «изобретениях и открытиях», целью которых является прежде всего практическая польза, умножение власти человека над природой. Господствующей тенденцией становится оценка знания по результату его практического применения: что в действии наиболее полезно, то в знании наиболее истинно. Теоретическое знание рассматривается уже не как самоцель, а как своеобразный набор «лекал», необходимых для составления наиболее эффективных технических «проектов». Рассмотрение познаваемого с точки зрения его предполагаемого технического использования создает новую перспективу, в которой центр внимания переносится с сущности объекта на его причину, точнее, на определение причины, через которую выявляется сущность.
Отождествление знания сущности со знанием причины порождает сначала малозаметную, но впоследствии обнаруживающуюся все более явно тенденцию к признанию того, что человек способен по-настоящему знать лишь то, ближайшей причиной чего был он сам, т. е. то, что он сам же и сделал. Но если познание замыкается в сфере создаваемого, а сам его объект понимается как некая теоретическая «конструкция», то все, существующее «само по себе», безотносительно к нашей теоретической и практической деятельности, оказывается непознаваемым. Именно это и утверждается в известном положении Канта о непознаваемости «вещи в себе», как она существует до и независимо от нашего познавательного контакта с ней.
Но ведь само познавательное отношение не является исходным, первичным отношением человека к миру. Так, Киркегор высказывает мысль о том, что сам наш познавательный интерес возникает лишь в контексте более широкого, более фундаментального отношения человека к тому, что прямо связано с ним самим, с его жизненным миром, с его бытием как человека определенной культуры. Познавательное отношение к миру всегда опосредовано конкретной культурной ситуацией. Но сама эта культурная ситуация никак не может стать предметом познания, поскольку она дана непосредственно только
в форме чистой субъективности, т. е. в форме сознания, каким оно стало под влиянием событий предшествующей истории.
В результате очередного «поворота» в центре нашего внимания оказывается уже не объективный мир, а содержание человеческой субъективности. Но это содержание не может стать предметом познания в традиционном смысле этого слова. Ведь события предшествующей истории не порождают субъективность как причина — следствие, а в лучшем случае лишь стимулируют ее собственную самодеятельность. Поэтому субъективность невозможно познать, ее можно только понять, ответив на вопрос какова она, а не почему она стала такой. Так открывается новая перспектива, в которой на передний план выходит стратегия понимания, т. е. такого познавательного отношения субъекта к миру объектов, которое предполагает изначально заключенную в них вполне определенную субъективность их создателей.
Стратегия понимания формируется прежде всего в сфере истории, однако значение ее выходит далеко за пределы не только гуманитарных исследований, но и научного познания вообще, поскольку именно понимание составляет основу любого, в том числе и неспециализированного знания. Понимание, в самом широком смысле, представляет собой структурно-смысловое расчленение опыта, которое опирается не на формальные правила, а на многообразие непосредственного культурного и жизненного опыта человека, выражающегося в традиционных формах деятельности и общения людей, в привычных системах ценностных ориентаций, в языке и др. Таким образом, формирование новой познавательной стратегии оказывается связанным с реабилитацией неспециализированного знания, того самого «здравого смысла», который в новоевропейской гносеологической традиции постоянно третировался как нечто вульгарное, самоочевидное и поверхностное.
Действительно, определения здравого смысла не образуют четко выраженной концептуальной структуры. Но вместе с тем нечеткость его построений позволяет в максимальной степени использовать богатство и гибкость естественного языка, что придает здравому смыслу широту, недоступную специализированному знанию, опирающемуся преимущественно на искусственные, формализованные языки. И если достоинствами специализированного знания являются точность и глубина,
то к несомненным достоинствам опирающегося на здравый смысл обыденного знания следует отнести универсальность, которая обеспечивает его применимость в самых разнообразных жизненных ситуациях.
Человеческое познание существует не в изоляции от жизненного мира человека. Оно есть не что иное, как способность активно строить и перестраивать структуры деятельности сообразно, с одной стороны, с целевыми и ценностными установками человека, а с другой — соответственно реальному стечению обстоятельств. Мысль есть плоть от плоти (точнее, дух от плоти) реального мира. Познающее мышление возникает в мире, обусловлено им, скроено по его мерке и лишь благодаря этому само становится способным осуществлять функции идеальной меры в теоретическом осмыслении и практическом освоении мира.
Вот в основном тот круг вопросов, которые рассматриваются в данном учебном пособии. Авторы не ставили перед собой задачу ни подробного анализа какой-то одной гносеологической концепции, ни полномасштабного обзора всех существующих теорий. В работе представлены лишь основные идеи наиболее важных познавательных стратегий, развивавшихся в общем русле европейской философской традиции.
Глава 1 ФЕНОМЕН ЗНАНИЯ
§ 1. Обыденное и научное познание
Для большинства людей познание отождествляется с научно-исследовательской деятельностью, связано обязательно со сложными приборами и хитроумными экспериментами. На самом деле люди могут приобретать знания об окружающей действительности, даже не подозревая о существовании особого вида социальной деятельности, получившего название «познание».
Не случайно при детальном рассмотрении этого вида человеческой активности приходится использовать уточняющие определения и говорить о «научном», «художественном» и других специализированных формах познания. Но существующие параллельно друг с другом, иногда пересекающиеся и вступающие в весьма сложные взаимоотношения, эти формы возникают на некой общей основе, которая обеспечивает наиболее фундаментальную и в то же время наименее осознаваемую систему представлений человека о характере и свойствах того мира, с которым ему приходится иметь дело каждый день.
Такой основой является обыденное познание. Его особенность — в том, что этот вид познания не существует в виде самостоятельной сущности, будучи одним из аспектов повседневной практической деятельности людей, направленной на удовлетворение их природных и социокультурных потребностей. Решая утилитарные задачи, связанные с производством и воспроизводством собственной жизни, люди неявно для себя (хотя со временем это может осознаваться) получают и накапливают сведения о природной среде, социальном окружении и своем умении взаимодействовать и с тем и с другим.
Само по себе познавательное отношение человека к действительности не является врожденным. Хотя биологи и выделяют в поведении животных нечто вроде познавательного инстинкта, однако человеческая активность всегда целенаправленна и предполагает явное противопоставление индивида и тех фрагментов реальности, на которые направлено его внимание. Такое отношение складывается не сразу, и лишь осознав себя в качестве одного из источников возмущений, воздействующих на природу, человек начинает задумываться над тем, как наиболее эффективно достигать своих целей. А это, в свою очередь, требует сознательного, избирательно-целенаправленного изучения среды, выделения в ней полезных и вредных (опасных) свойств и т. д.
Подобная потребность формировалась на протяжении многих тысячелетий существования человека. Длительное время создание поведенческих программ, определяющих повседневную жизнь каждого члена сообщества (древние люди во многих поколениях являлись носителями коллективного сознания, в котором не существовало четко выделенного представления об индивидуальности), имело полуинстинктивный характер. Но постепенный переход от потребления «готовых предметов среды» к производству необходимых людям вещей привел к необходимости создавать какие-то образы мира, с помощью которых можно было бы направленно корректировать совместные действия.
Первые варианты таких образных систем, сначала дополнявших, а затем и вытеснявших чисто инстинктивное отношение к собственному бытию, составили содержание особого типа сознания, получившего впоследствии название «мифологический». Это — древнейшая форма мировоззрения, на основе которой древний человек организовывал свою социальную жизнь. Определяя и регулируя эту жизнь на протяжении огромного ряда поколений, мифологическое сознание продолжает влиять и на последующие фазы общественного бытия.
Миф как некоторое описание действительности, выражающее в концентрированной форме накопленный данным сообществом опыт поведения в окружающей среде (а потому имеющий для всех членов этого сообщества одинаковую обязательность), определял и одинаковые мировосприятие и мироощущение. Тем самым закладывались основы того отношения к миру и своим действиям в нем, которое потом стало обы
денным сознанием людей, сформировавшим обыденное, т. е. неспециализированное, нецеленаправленное познание этого мира. Причем познавательная деятельность складывалась во многом как продолжение и развитие тенденций, определявших и функционирование мифологического сознания.
Множество исследователей, занимающихся анализом мифологии, подчеркивают прежде всего особенности той «логики», которая определяет отношение носителей мифа ко всему, с чем им приходится сталкиваться в процессе своей жизнедеятельности. Такие особенности обусловлены как раз нечетким разделением человека и мира, отсутствием дифференциации между рациональной сферой мышления, в которой формировались соответствующие образы мира, и эмоционально-чувственной, из которой черпался материал для создания таких образов.
Перенося на мир, на природные объекты собственные черты, приписывая им свои желания и потребности, древние люди и в себе обнаруживали проявления стихийных космических сил, что способствовало своеобразному отождествлению человека и природного окружения. Нерасчлененность архаичного сознания проявлялась в смешении субъекта и объекта, объекта и его признаков, признаков существенных и второстепенных, предмета и знака, предмета и его имени и т. д.
Но и обыденное познание во многом сохраняет подобную ориентацию. В знаниях, формирующихся на этом уровне, сходные характеристики действительности часто воспринимаются как тождественные, обобщения могут строиться на основе сходства вторичных, несущественных признаков (это проявляется, например, в различного рода приметах — погодных, поведенческих и пр., — выполнявших в древности функцию регуляторов человеческих действий, а иногда и до сих пор сохраняющих это свое значение).
Такое совпадение во многом обусловлено тем, что и мифологическое, и обыденное сознание ориентированы на непосредственно наглядное выражение своего содержания. Познавательная деятельность как архаичных сообществ, так и современного человека (в той его части, которая связана с повседневными утилитарными целями) всегда тяготеет к максимальной конкретности в постановке задач, подборе необходимых средств для их решения и оценке полученных результатов. И такая конкретность определяет способ восприятия объектов, с которыми практически действующие люди имеют дело.
Поскольку обыденное познание представляет собой один из аспектов предметно-практического воздействия на природную среду, постольку мера понимания человеком своего отношения к миру во многом определяется тем, насколько удается преодолеть сопротивление этой среды. Разрывая в процессе взаимодействия с предметами, вовлеченными в человеческую деятельность, естественные связи и отношения, существующие в природном мире, люди постоянно накапливали знания о том, как действовать наиболее эффективным образом.
Прежде всего это относилось к превращению готовых предметов среды в средство достижения человеческих целей. Преобразуя исходный естественный материал в орудия труда, древний человек получал возможность наглядно, овеществленно увидеть присущие ему способности воздействовать на все, с чем ему приходится иметь дело. Созданные орудия труда в дальнейшем непосредственно определяли технологию как своего изготовления, так и использования. А поскольку деятельностные акты, связанные с производством орудий труда, занимали важнейшее место в поведенческих программах архаичных сообществ, постольку освоение такой технологии существенно определяло и осознание членами этих сообществ своих действий в мире и отношение к нему.
С этой точки зрения орудия труда играли двойственную роль. Они оказывались тем барьером, который препятствовал прямому контакту человека с природной средой. С другой стороны, именно орудийные средства человеческой практики давали возможность осуществлять саму эту практику. Через них люди могли воздействовать на природу, осуществляя в ней те изменения, которые, как им казалось, обеспечивали наиболее эффективное обеспечение человеческих потребностей.
Это обстоятельство и привело в конечном счете к осмысленному противопоставлению субъекта и объекта как различных элементов единого деятельностного акта. Но это же обусловило и оформление сознательно-познавательного отношения людей к своему окружению. Раз природная среда является материалом и целью человеческих действий, то человек должен познавать ее важнейшие свойства и особенности для того, чтобы иметь возможность оценить степень успешности своих усилий.
Кроме того, существующие потребности порождали такие задачи, решение которых требовало длительных усилий боль
шого количества людей. В случае значительного интервала между целью и продвижением к ней возникала необходимость в соответствующей корректировке поведения, когда оказывалось, что предпринятые действия удаляют от этой цели, являются ошибочными.
Сами потребности подобного рода не были прямо обусловлены непосредственной «технологией» производственной деятельности, но без их учета она становилась чрезмерно сложной, а иногда просто невозможной. Поэтому обыденное познание, не выходя за рамки утилитарно-практических интересов человека, тем не менее становилось существенно важным элементом его активности, приобретало относительную самостоятельность.
Специфику обыденного познания определяет и то обстоятельство, что оно всегда ориентировано на сохранение уже апробированных методов действия, ставших традиционными, поскольку они оказывались неизменно эффективными на протяжении многих предшествующих поколений. Новые способы воздействия на мир на самом деле появляются быстрее, чем происходит их интеллектуальное фиксирование.
Действие опережает осмысление этого действия. Это происходит даже в тех случаях, когда люди осуществляют заранее заготовленные технологические рецепты.
В самом деле, как бы тщательно ни воспроизводил тот или иной конкретный индивид предписания, имеющиеся в его распоряжении, какие-то (пусть мельчайшие) отклонения всегда возникают. При достаточно массовом и достаточно длительном использовании такого рода предписаний отклонения могут суммироваться, нарастать, что и приводит рано или поздно к неожиданным результатам. И чрезвычайно важно уметь увидеть подобные отклонения, оценить их значимость и либо включить в новые технологические рецепты, либо изменить существующие предписания таким образом, чтобы избежать ненужных или опасных результатов.
Конечно, обыденное познание осуществляет решение этих задач в основном неявным образом. В процессе повседневной практики люди нацелены главным образом на ожидаемый результат, их действия в достаточной мере автоматизированы и неосознаны. Но и неосознаваемые знания, возникающие в такой деятельности, могут фиксироваться в нервной системе
человека, создавая основу будущего осознания новых результатов.
В рамках обыденного познания регулятором упорядоченности и эффективности формирующихся знаний становится так называемый «здравый смысл». Этим термином обычно обозначают стихийно сложившуюся в процессе коллективной деятельности и не оформленную явным образом совокупность представлений определенной группы людей о сущности вещей и явлений, с которыми они взаимодействуют, и о наиболее оптимальных способах своих действий. Здравый смысл всегда отражает конкретный опыт и потому может изменяться вместе с изменением условий, в которых существует то или иное общество. Тем не менее, в отличие от простых предрассудков, он менее подвержен воздействию случайных обстоятельств и выражен в рациональных формах (рецептах, запретах и т. д.), хотя и не систематизирован и не связан с явным и надежным обоснованием. В роли его обоснования выступают чаще всего ссылки на традицию.
Этим обусловлена одна из наиболее характерных особенностей обыденного познания — отсутствие интереса к отдаленному будущему. Конкретность практических задач ограничивает знания, возникающие в процессе их решения, поскольку обыденная практика ориентирована на получение уже известных заранее результатов, хотя на самом деле, как уже отмечалось, ожидания могут быть ошибочными.
В этом же и причины недостаточной эффективности здравого смысла как регулятора человеческого поведения при резких изменениях условий жизни. Ведь любая деятельность ориентирована на результат, который может возникнуть лишь в некотором будущем. И чем выше уровень развития общества, чем мощнее используемые им средства и способы, тем больше отдаленных и не всегда предвидимых последствий эта деятельность может вызвать. А здравый смысл по своей природе обращен в прошлое. Накопленный опыт, как известно, сохраняет те деятельностные программы, которые когда-то оказались успешными. Но с течением времени их адекватность реально существующим обстоятельствам может превращаться в иллюзию. И это тем более опасно, что подобная иллюзорность долгое время не осознается. В этом случае неожиданные результаты человеческих действий становятся источником возможных опасностей и угрожают самому существованию человечества.
Постепенное осознание этого обстоятельства создало предпосылки для возникновения качественно иной формы познания — науки. Новое всегда возникает в рамках уже существующего, преобразуя его, в чем-то разрушая, в чем-то подчиняя себе. Наука также складывалась на основе обыденного познания и испытывала поначалу влияние традиционных, давно сложившихся норм и регулятивов, определявших процессы возникновения и функционирования обыденных знаний. Поэтому, прежде чем рассмотреть особенности научно-исследовательского поиска, связанного с новым уровнем общественной практики в целом, необходимо в обобщенной форме представить наиболее характерные черты обыденного познания.
Прежде всего эта форма познавательной деятельности не имеет самостоятельного существования, представляя собой одну из сторон повседневного практического взаимодействия людей с непосредственно данной средой. Поэтому объекты, знания о которых формируются в рамках обыденного познания, есть фрагменты этой среды и включаются во взаимодействие с человеком в своем естественном виде. Хотя они и преобразуются в процессе такого взаимодействия, однако их сущностная природа остается той же, какой она была и вне контекста человеческой активности.
Кроме того, повседневная практика всегда связана с достижением результатов уже известных, ожидаемых. Следовательно, новое знание, производимое в рамках обыденного познания, появляется как некоторое отклонение и не сразу может фиксироваться. Обыденное познание включает в сферу своего внимания объекты, уже освоенные традиционными производственными средствами. В результате новизна обыденного знания обусловлена не тем, что непосредственным образом обнаруживаются какие-то, ранее неизвестные, свойства предметов или сами предметы, не охваченные существующими поведенческими программами, распространенными в данном обществе. Новое знание появляется, скорее, в результате постепенного совершенствования привычных деятельностных навыков и приемов.
Причем сама по себе задача разработки новых способов взаимодействия с окружающим миром в обыденном познании чаще всего просто не возникает. Поэтому и наработанные навыки используются «автоматизированно». Никто специально не анализирует их особенности и не старается найти
максимально эффективную форму привычных действий. Тем не менее именно в силу массовости использования имеющихся приемов, в силу того, что разные индивиды приспосабливают их к особенностям своего личностного воздействия на предметы среды — эти навыки и способы постепенно изменяются и в конце концов их усовершенствование осознается и превращается в новый канон, который становится обязательным для следующих поколений.
Отсутствие в обыденном познании специальной проблемы метода исследований обусловливает несистематизированность как процесса становления знаний, так и их организации.
Представления о свойствах объектов, с которыми имеет дело повседневная практика, рецепты воздействия на эти объекты обычно выражены неявно, в виде ссылок на прошлый опыт. «Надо делать так, потому что всегда раньше делали так и получали нужный результат». Это одна из самых распространенных форм передачи обыденных знаний.
Следует отметить и то, что огромный массив обыденных знаний нередко вообще скрыт от самого носителя этих знаний. Человек осуществляет какие-то действия, не только не задумываясь над тем, как он это делает, но может даже не подозревать, что он делает это. Автоматизм и неосознанность практических приемов и навыков порождают деятельностную ориентацию не на выявление общих законов, определяющих функционирование предметов и явлений окружающего мира, а на чисто внешние их характеристики, во многом обусловленные конкретными условиями сиюминутной деятельности. Это обстоятельство также обусловливает несистематизированность средств, используемых обыденным познанием, и фрагментарность его результатов.
С этим связана еще одна особенность данной формы познания — неспециализированность языка, на котором оформляется обыденное знание. Поскольку повседневная практическая деятельность протекает в сфере тех поведенческих программ, которые осваиваются и выражаются с помощью естественного разговорного языка данного общества, постольку и стереотипы действий и рационально-интеллектуальные средства организации и передачи знаний используют тот же уровень языка. Если и возникают какие-то формы, предполагающие языковую обособленность группы, то они либо носят характер жаргонных выражений, либо обусловлены включенностью в них профес
сиональных названий инструментов, технологических особенностей их использования и т. д. Так, например, шахтеры традиционно произносят слово «добыча» с ударением на первом слоге, а моряки делают ударение на втором, говоря «компас».
Использование естественного языка в рамках обыденного познания, с одной стороны, позволяет включать в повседневную практику и соответствующие ей формы познавательной деятельности широкий круг людей, не связывая их специальным образованием. Но, с другой стороны, неопределенность естественного языка порождает множество затруднений при передаче имеющихся навыков и знаний, ориентирует на обязательный показ некоторых приемов деятельности и подражание ученика учителю, что существенно затрудняет рациональное освоение и осмысление знаний обыденного слоя.
Кроме того, естественные языки, как известно, не могут гарантировать высокий уровень точности производимой и используемой информации, а потому довольно часто оказываются причиной различного рода ошибок. В результате рано или поздно начинает осознаваться ограниченность и малоэффективное^ такой формы, как обыденное познание. Постепенно все более четкой становится потребность в более надежных средствах выявления важнейших особенностей окружающего мира и создания успешных программ человеческого взаимодействия с ним.
Таким средством и стала наука. Ее оформление связано с отделением отношений между вещами от взаимодействия людей с этими вещами. В практической деятельности на первое место в интеллектуальных схемах, с помощью которых люди отражали свое воздействие на окружающую предметную среду, стали выдвигаться инструментальные факторы. То обстоятельство, что любой деятельностный акт орудийно обусловлен, породило представления о том, что причина преобразований предмета труда заключается в действии на него тех средств, которые человек использует как орудия труда.
Таким образом сам действующий человек как бы выносился «за скобки» и переставал восприниматься сознанием при построении рациональных схем, выражающих накапливаемый опыт взаимодействия индивида и объекта. Поэтому познавательный поиск все более начинал смещаться в сторону описания «объективных законов» бытия мира, «как он есть сам по себе». Изучение основных свойств и особенностей предме
тов, с которыми люди имели дело, позволяло строить прогнозы относительно возможных результатов воздействия на эти предметы. И чем более общие характеристики удавалось выявить, тем более удаленные во времени результаты можно было предвидеть.
Однако такой подход требовал создания специальных способов и средств представления изучаемых объектов в системах производимого знания. Естественный язык и неосознаваемые рецептурные схемы больше не могли соответствовать новым познавательным целям. Объекты, с которыми имел дело исследователь, отличались от предметов практического интереса людей тем, что они включались в структуру знаний через указание на те их признаки, которые считались существенно важными с точки зрения распространенных в обществе деятельностных схем. Таким образом, наглядный образ объекта постепенно замещался его абстрактной «копией».
Тем самым расширялось число возможных деятельностных контекстов, в которые включался представленный в такой форме фрагмент действительного мира. Но смещение интереса в сторону возможных действий обусловило необходимость прогнозировать все более удаленные результаты взаимодействия человека с предметной сферой, хотя бы и только предполагаемого. Поэтому новая форма познавательной деятельности все более ориентировалась на выявление не столько конкретных особенностей взаимодействия различных предметов и явлений, с которыми люди вступают в практическое общение «здесь-теперь», сколько неких общих (а в идеале универсальных) законов, определяющих функционирование мира «самого по себе».
Абстрактный характер производимого в рамках науки знания требовал создания специального языка, на котором строились бы описания не отдельных событий, а целых классов, объединяющих и обобщающих множество различных фактов, между которыми обнаруживаются общие связи, сходные характеристики и т. д. В таком случае познание оказывалось уже не способом конструирования частных рецептов практического воздействия на какие-то отдельные вещи и явления, а средством описания сущностных свойств мира в целом. Создание его обобщенных моделей давало возможность вырабатывать и такие деятельностные программы, которые не могли быть реализованы при существующем уровне технической
оснащенности общества и потому становились стимулом нового направления познавательного поиска, задавая цели исследовательской активности.
В отличие от обыденного познания, наука имеет, таким образом, дело с так называемыми «идеальными объектами», не существующими в непосредственной данности. Такие объекты создаются в специализированных языках, используемых конкретными дисциплинами. Язык задает и систему отношений между терминами соответствующей области познания, фиксирующими идеальные объекты и их свойства. В результате появляется возможность строить новые теоретические модели действительности и получать новое знание о мире, не прибегая к эмпирическим приемам и методам, используя лишь средства теории.
Это порождает проблему соотношения различных уровней научного познания и обусловливает осознание качественного отличия науки от обыденного познания. В самом деле, впле-тенность второго в акты непосредственного взаимодействия с предметами, на которые направлена повседневная практика человека, маскирует специфику познавательного отношения людей к окружающей действительности, оставляя производимые знания «одномерными». Переход к новой форме познавательной деятельности обусловил обнаружение их многомерности.
Недостаточность повседневной практики, привязанной к сиюминутным ситуациям, заставила исследователей специально создавать особые формы взаимодействия с интересующими их объектами. Эти формы стали содержанием экспериментального уровня исследования. Различные авторы, описывающие становление науки, не раз отмечали отношение создателей классического естествознания к эксперименту как средству насилия над природой, с помощью чего у нее можно было, по их представлениям, «вырвать» те тайны, которые она скрывала от человека.
Эта мысль неоднократно встречается в текстах Ф. Бэкона, Р. Гука и многих других. Возможно, что на формирование подобной установки подействовала практика палачей. Не следует забывать, что многие из представителей этого сословия были известны и как естествоиспытатели — врачи, химики и пр. Но сам факт распространения такого отношения к миру свидетельствовал об изменениях, происходивших в культурном
фоне европейского общества нового времени, в рамках которого и складывалось экспериментальное естествознание, связанное с современным смыслом понятия «наука». Не вдаваясь в существо споров о так называемой «древней науке», отметим, что период становления собственно научного познания (как оно понимается сегодня) большинство авторов относит к концу эпохи Возрождения и началу нового времени.
Именно в это время начинает формироваться и представление о том, что изучение природных закономерностей, связанное с использованием экспериментальных методов, требует создания особых инструментов, приборов и прочих средств материального воздействия на изучаемые объекты, с помощью которых можно создавать специальные условия, в которых скрытые особенности взаимодействия предметов и явлений окружающей действительности открывались бы познающему человеку. Инструментальная «вооруженность» исследователя не только существенно отличала новый уровень познавательной деятельности от традиционных форм, но и предполагала особый слой предметно-практической активности людей, поскольку необходимые приборы приходилось изобретать и специально изготавливать. По сути дела, возникла новая сфера человеческого труда, обслуживающая потребности общественного познания.
В свою очередь, это обусловило растущее различие между такими уровнями познания, как эмпирическое исследование и теоретическая обработка полученных данных. Научное знание, как уже отмечалось, принципиально многопланово. В его состав входят как фиксированные результаты непосредственного взаимодействия с изучаемыми объектами, так и различного рода частные обобщения (эмпирические обобщения, связанные с первичным упорядочением накапливаемых сведений о внешних характеристиках соответствующих явлений). Кроме того, оно включает в себя гипотетические утверждения, теоретические конструкты (объекты, не обнаруженные пока в природном мире, но необходимые для систематизации моделей реальности, используемых в практике научного исследования), а также теоретические системы разного уровня и типа.
Соответственно этим компонентам различаются и такие уровни познавательной деятельности, как эмпирический и теоретический. Специфика первого обусловлена тем, что здесь человек вступает в непосредственный контакт с изучаемыми им объектами действительности. Однако при этом данный уро
вень не может сводиться ни к чисто чувственному восприятию воздействий внешнего мира на сенсорные каналы, ни к практической переработке предметов труда. Формы этого уровня представляют собой сложный комплекс результатов восприятия и их рационального осмысления, представленности объективных характеристик в системе человеческого знания.
В первую очередь это относится к языковой оформленно-сти результатов эмпирического исследования. Уже само описание таких результатов представляет собой конструирование особых — идеальных объектов, существующих только в контексте самого описания. Это не означает того, что исследователь просто «придумывает» свойства и характеристики тех фрагментов действительности, которые связаны с его познавательным интересом. Каждая из таких характеристик может (и должна) фиксироваться любым другим ученым при использовании методики, разработанной тем, кто оповестил научное сообщество о полученном им новом результате. Этого требует один из наиболее устойчивых и фундаментальных принципов науки — принцип воспроизводимости того, что стало научным фактом.
Данное обстоятельство определяет и особенность методов исследования, которые применяются на эмпирическом уровне. Поскольку важнейшая задача этого уровня — дать как можно более исчерпывающее описание изучаемого фрагмента реальности, постольку основные методы, составляющие содержание опытного исследования — наблюдение и эксперимент — предполагают возможность их стандартизированной представленности в системе деятельности, существующей в каждой конкретно-исторической фазе развития науки. Этим обеспечивается интерсубъективный характер как познавательной стратегии, так и получаемых результатов.
Указанная особенность эмпирических методов обусловливает их отличие от способов и средств, применяемых в рамках обыденного познания, поскольку там целенаправленный характер человеческой деятельности проявляется существенно по-другому. Научный поиск характеризуется оформлением цели, связанной именно с необходимостью выявления тех свойств и сторон изучаемых объектов, которые заранее определены ученым в качестве существенных, релевантных и т. д.
Эта особенность характерна для обеих форм эмпирического исследования, но чистое наблюдение отличается от экспери
мента тем, что при его использовании ученые стараются избегать явного вмешательства в изучаемые процессы, фиксировать их протекание в естественных условиях, как если бы наблюдатель отсутствовал. Разумеется, это никогда почти не достигается в полной мере (хотя в астрономической практике или некоторых сферах биологии иногда и удается достичь цели), но сама подобная ориентация является существенной для наблюдения как одной из форм эмпирического исследования.
Эксперимент, по сути, тоже представляет собой наблюдение, но его применение требует создания особых искусственных условий, при которых интересующие ученого характеристики выступают в наиболее наглядной форме. В этом случае получаемый результат включает в себя знание не только о свойствах самого изучаемого объекта, но и о способах воздействия на него исследователя. Конечно, как уже отмечалось, процедура наблюдения также не реализуется в абсолютно естественных условиях, но там средства и способы организации наблюдения влияют на характер производимого знания в гораздо меньшей степени.
Таким образом, обе основные формы эмпирического познания выявляют не просто законы бытия природы «самой по себе», но и схемы управления естественными процессами со стороны взаимодействующих с ними людей. Однако для самих ученых эмпирическое познание направлено на установление повторяющихся зависимостей между явлениями действительности, на фиксирование непосредственных результатов воздействия объектов исследования на органы чувств человека. При этом то обстоятельство, что эти объекты достаточно часто специально сконструированы и могут существовать только в лабораторных условиях, обычно явно не учитывается.
Конечным результатом эмпирического познания является так называемый «факт науки». Он не должен отождествляться с простой фиксацией проявления каких-то свойств изучаемого объекта, поскольку последняя представляет собой конкретную форму связи существенных и второстепенных обстоятельств, возникающих в каждом отдельном акте исследования. Для тога, чтобы некоторый определенный набор данных приобрел статус факта, необходима специальная обработка этого набора, связанная с выведением за пределы знания различных субъективных элементов, обусловленных ошибками людей, помехами
в действии приборов, воздействием факторов, не относящихся к условиям собственно исследовательских процедур.
То, что обычно имеется в виду под фактом науки, оказывается, скорее, эмпирическим обобщением и включает в себя такие моменты рационального мышления, как статистическую обработку данных (что позволяет выделить инвариантные характеристики исследуемой предметной области) и интерпретацию полученных результатов, без которой полученные данные не могут вообще иметь никакого смысла. Распространенное представление о том, что ученый смотрит на мир, стараясь избежать каких-либо предварительных мнений о том, что он в нем видит, является одним из наиболее устойчивых мифов, существующих вокруг научной деятельности. Сегодня достаточно хорошо известно, что любые эмпирические результаты в той или иной мере «нагружены» теоретическим содержанием.
В этом смысле очень показательна история открытия позитрона — частицы с массой электрона и положительным зарядом. Как известно, экспериментаторы на протяжении нескольких лет просто выбрасывали фотографии со следами «странной» частицы, поскольку исходили из представлений о том, что в мире существуют два вида электричества — положительное и отрицательное — и им соответствуют частицы «протон» и «электрон». Новая частица не укладывалась в привычные схемы и потому не могла восприниматься в качестве реальной (хотя математическая модель, предложенная Дираком, допускала возможность существования подобной экзотической частицы). Лишь отказ от исходной теоретической установки привел К включению позитрона в структуру реального микромира.
Подобные примеры обнаруживают неразрывную связь эмпирического познания с другой формой научного исследования — теоретической. Специфика этого уровня обусловлена тем, что в данном случае непосредственный контакт с какими-то фрагментами объективного мира отсутствует. Наблюдение и эксперимент заменяются их мысленными вариантами, а вместо эмпирически фиксируемых характеристик объекта используются абстрактные модели, которым могут приписываться свойства, принципиально не фиксируемые в реальности. Такие модели называют теоретическими кон
структами. Идеальные газы, абсолютно черное тело и прочие абстракции подобного же рода являются такими конструктами.
Теоретическая форма познания ориентирована на представление сущностной природы изучаемой реальности в наиболее явном виде. Поэтому здесь речь уже идет не о построении описаний действительности, но о создании системы законов, определяющих функционирование этой действительности. Это еще больше повышает роль языка, который используется на уровне теоретического исследования, поскольку и конструкты и законы их взаимодействия существуют только в специализированных языках науки и составляющих ее структуру дисциплин. В связи с этим особое значение приобретают и чисто формальные способы описания создаваемых учеными моделей и логические средства анализа языка науки, обеспечивающие корректность использования соответствующих формализмов.
Одним из фундаментальных методов теоретического уровня является идеализация, т. е. конструирование модели из сущностных (с точки зрения какого-то конкретного подхода) и наиболее релевантных характеристик интересующей ученого предметной области. Идеализация позволяет представить изучаемый объект «в чистом виде», отвлекаясь от тех его особенностей, которые не расцениваются в качестве «сущностных». Тогда и законы, формулируемые относительно подобных абстрактных моделей, также выступают в роли непосредственного проявления фундаментальных связей и отношений между сущностями, не заслоняясь различными частными и случайными факторами.
В структуру теоретического знания входят, таким образом, помимо идеализированных объектов, схемы мысленного оперирования ими, что понимается как описание мысленного эксперимента. Последний также представляет собой результат отвлечения от реально-конкретных форм взаимодействия исследователя с какими-то фрагментами природной реальности и использует либо образы таких фрагментов, либо формальные схемы этих образов.
Следовательно, теоретический уровень научного познания отличается от эмпирического прежде всего тем, что задает способы построения тех объектов, с которыми в дальнейшем оперирует исследователь. Мысленный эксперимент также представляет собой образ или схему тех действий, которые
мог бы осуществить ученый, если бы предмет его внимания существовал в чувственно воспринимаемом мире.
Кроме того, стратегия теоретического познания определяет способы формулировки проблем, выступающих в роли целей исследования, а также критерии эффективности гипотетических моделей, предлагаемых в качестве ответа на вопросы, содержащиеся в проблеме. Из этого следует, что теоретический уровень познания в большей степени, чем обыденный или эмпирический, ориентирован на самообоснование. Данное обстоятельство способствует тому, что в сознании ученых начинает формироваться представление о возможности науки как замкнутой сферы человеческой деятельности, изолированной от остальных.
Подобные представления обусловили появление в методологической практике программ, обосновывающих независимость научного исследования от каких-либо внешних факторов. Интерналистские подходы к истории науки некоторое время претендовали на доминирующее положение в этой области, но в конце концов оказались неэффективными, так же как кумулятивистские, видевшие в научном познании процесс постоянного накопления знаний и полагавшие цель науки в построении полного исчерпывающего знания об основных характеристиках мира, с которым взаимодействует человечество.
Сегодня отчетливо видна ограниченность подобных программ. И обыденное, и научное, и другие виды познания сосуществуют и взаимодополняют друг друга, обеспечивая людям возможность постоянной корректировки собственного поведения в окружающей реальности и блокировки опасных последствий своего воздействия на мир. Стратегии, складывающиеся в рамках научного познания, позволяют достигать желаемых результатов с максимально доступной степенью осознанности, и потому этот вид познания постоянно находится в центре внимания. Не случайно различные аспекты осмысления практики и результатов научного познания составили одно из наиболее влиятельных течений современной философии, названного «философией науки».
Перечислим основные особенности научного познания, отличающие его от уровня обыденного познания.
Во-первых, это «сконструированность» самих объектов, на которые направлены исследовательские процедуры. Хотя
степень сконструированное™ может быть различной, но объекты, с которыми имеет дело наука, никогда не тождественны предметам, включенным в практическую повседневную деятельность людей.
Во-вторых, научное познание ориентировано на выявление законов поведения предметов и явлений действительности с целью формирования наиболее эффективных и оптимальных способов изменения этого поведения в направлении, соответствующем интересам и потребностям человека. Это обстоятельство порождает и потребность в надежных способах прогнозирования возможных будущих результатов деятельности людей.
В-третьих, решение задач прогнозирования требует использования особых специализированных языков, на которых строится описание моделей соответствующих фрагментов реальности, формулируются задачи, определяются средства их решения и критерии успешности этого решения. Четвертая особенность науки — потребность в специальных инструментах и приборах, без которых воздействие на изучаемую действительность становится существенно затруднительным, а иногда и просто невозможным.
Научный инструментарий (подобно орудиям труда повседневной практики) в вещественной форме выражает достигнутый на каждый данный момент уровень знаний и сложившиеся навыки взаимодействия с окружающей средой, задавая тем самым не только «технологию исследования», но и направление дальнейшего поиска.
В свою очередь, наличие специализированного языка и соответствующего набора инструментов и способов их использования предполагает необходимость профессиональной подготовки ученого. Таким образом, наука, в отличие от обеденного познания, представляет собой специализированный тип социальной деятельности, что во многом и обусловливает ее растущее значение для самых различных областей общественной жизни. Профессионализация науки — это ее пятая особенность.
Шестая связана с тем, что сам процесс образования требует особой организации производимых учеными знаний, их систематизации, обоснованности, интерпретируемости и т. д. Причем научное знание отличается от обыденного еще и тем, что его интерпретация должна быть как можно более интерсубъ
ективной. Поэтому наука чем дальше, тем больше использует в своих языках различного рода формализмы, стремясь, в идеале, вообще перейти к однозначно определенным способам представленности производимых знаний. Конечно, подобная тенденция приводит к увеличению дифференциации научных дисциплин, к растущей узкой специализированное™ отдельных разделов и направлений исследования, но пока обладает определенной эвристичностью.
Наконец, еще одна важная черта, характеризующая современную стадию развития науки. Это появление особого слоя знания в наиболее развитых областях познания, получившего название «метанаучного» уровня. Чем большей зрелости достигает та или иная дисциплина, тем больше усилий и времени она начинает затрачивать на анализ уже не предметной области, с которой было связано ее оформление, а на собственное устройство, пути своего развития и пр. «Наука о науке» — не результат методологического давления со стороны философии, а потребность самой науки.
В рамках метанаучного знания как раз и преодолевается тот разрыв между различными сферами исследования, который вызван узкой специализацией. Преодоление разрыва способствует развитию познавательной деятельности в целом.
§ 2. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности
В предыдущем параграфе рассматривалось соотношение различных форм производства знаний человека об окружающем мире и степень эффективности этих форм. Но круг познавательных проблем включает в себя и вопрос об отношении имеющейся системы знаний к тем фрагментам действительности, которые они описывают. Причем, помимо оценки истинности или ложности различных элементов этой системы, возникает необходимость понять, какую роль играют конструируемые людьми представления об окружающей действительности в их практическом взаимодействии с этой действительностью.
С одной стороны, человеческие знания представляют собой результат воздействия предметов и явлений окружающей среды на органы чувств людей и содержат в преобразованной
форме основные характеристики как внешних по отношению к человеку факторов, так и самих индивидуальных восприятий подобных воздействий. Эта сторона знаний традиционно рассматривается в рамках понятия «отражение». С другой — производимые знания направляют и регулируют разнообразные формы взаимодействия людей с действительностью. В этом случае система знаний выступает в качестве программы человеческой деятельности.
Знания определяют и характер выдвигаемых задач, и направленность поиска, связанного с попытками решить эти задачи, и способ оценки эффективности решений, их надежности, перспективности и пр. В этом смысле знание является проектом будущего состояния мира, обусловленного действиями человека в этом мире. Следовательно, можно говорить о своеобразном конструировании окружающей действительности в системе представлений о ней.
Подобная двойственная природа знаний делает необходимым обсуждение вопроса и о том, как соотносятся между собой эти аспекты познавательной деятельности. Является ли отражение простым фиксированием следов воздействия предметов и явлений окружающей среды на органы чувств человека или преобразование энергии внешних раздражений в формы субъективного ощущения и восприятия тоже представляет собой процесс конструирования образов? Не менее важно оценить и степень участия процессов отражения, следов разнообразных воздействий мира на человека в построении образов цели, программы будущих действий и т. д.
Проблема отражения имеет длинную историю. Начиная с Демокрита, видевшего в актах индивидуального восприятия вещей и явлений результат буквального впечатывания внешних форм этих вещей в воспринимающие органы людей, порождающего в уме человека образы этих вещей, до современного подхода к решению проблемы идеального — можно говорить о различных вариантах толкования природы отражения и способов его проявления.
Если для античных мыслителей (во всяком случае, в традиции атомистов) «эйделя» представлялась материальным образованием и «эйдос» — образ предмета — отождествлялся с простым отпечатком вещи на пластичной поверхности других вещей (и, в частности, органов чувств людей), то чем дальше, тем больше отражение как след воздействия отделя
лось от непосредственного контакта предметов друг с другом и смещалось в область «идеального». Однако подобное смещение никогда не ставило под сомнение фундаментальное положение о том, что отражение является одним из моментов, одной из сторон взаимодействия, включающего такие уровни, как взаимодействие самих вещей между собой, вне сферы человеческих действий, взаимодействие людей с миром вещей, взаимодействие людей между собой.
В современной гносеологии под отражением понимается всеобщее свойство материальных систем реагировать на внешнее воздействие, изменяясь таким образом, что характер изменений в большей или меньшей степени соответствует особенностям воздействующего фактора, вследствие чего структура или состояние изменившейся системы представляют след, отпечаток воздействия. Поэтому говорят об отражении, имея в виду, что в особенностях организации и функционирования вещей и явлений, испытавших воздействие, отражается как в своеобразном зеркале то, что вызвало соответствующие изменения.
При этом важнейшими характеристиками самого отражения оказываются его содержание и форма. Под содержанием обычно имеются в виду как раз особенности воздействующих факторов, тогда как понятие формы выражает структуру изменений, происходящих в системах, испытавших воздействие. Рассмотрение человеческих знаний как результатов отражения (и соответственно познания как процесса взаимодействия человека и окружающей действительности, вызывающего появление знаний) предполагает специальный анализ соотношения содержания знаний и формы их представленности в мышлении, языке и схемах практической деятельности людей.
Познавательная деятельность представляет собой один из моментов активного отношения субъекта к объекту. Возникающие в результате этого представления и образы реальности определяют направленность и характер дальнейших усилий человека, способствуя как формулировке целей, так и разработке способов достижения этих целей. Причем если для предметов неорганического мира след воздействующего на них агента чаще всего не становится причиной пробуждения собственной активности, то уже на уровне простейшего психического (и даже физиологического) реагирования отра
жение может играть роль стимула, порождающего качественно новые формы поведения организмов.
Понятно, что там, где речь идет о целенаправленном взаимодействии познающего человека и объектов его интереса и внимания, данная особенность проявляется наиболее прямо и наглядно. Накопление следов воздействия среды приводит к изменениям знаний о ее важнейших характеристиках и может вызвать существенную перестройку поведенческой стратегии человека, заставить его вносить соответствующие коррективы в свои планы и устремления. Поэтому отражение, возникающее в процессах познавательной деятельности, можно характеризовать как «информационный тип», имея в виду под информацией средства, повышающие степень адаптации людей к условиям, в которых им приходится действовать.
В современной познавательной практике понятие информации играет существенно важную роль, но при этом используется в весьма различных контекстах. Чаще всего с этим термином связано представление о каком-то сообщении, способном изменять отношение человека к некоторой ситуации и его поведение в ней. Полученные сведения отражают соответствующие воздействия среды на взаимодействующего с ней индивида и либо уточняют его представления о происходящих событиях, либо увеличивают степень неопределенности в этих представлениях, что ведет к появлению ошибок, нежелательных результатов и пр. и может стать стимулом новых познавательных актов.
Хотя сегодня понятие информации во многом лишилось антропоморфной окраски и превратилось в достаточно формализованную характеристику способов передачи сигналов по каналу связи в процессах управления, тем не менее ее понимание как меры упорядоченности системы, состояние которой выражается в особенностях формы и содержания сигнала, позволяет по-прежнему видеть в ней некое сообщение. Действительно, если человеческие знания трактовать как определенную форму отражения того порядка, который задает качественное отличие изучаемого объекта от других элементов мира, то получение новых сведений об этом объекте (или уточнение уже имеющихся) повышает степень организованности наших знаний в соответствии с мерой упорядоченности самого объекта.
В этом случае информация, содержащаяся в полученном сообщении (определяющая меру организации знаний), и информация как мера порядка соответствующего предмета или явления оказываются связанными друг с другом как образ и прообраз. Тогда обыденно бытовой смысл слова «информация», используемый в контекстах типа: «я получил важную информацию», «хорошо информированный источник сообщает» и т. д., не так уж существенно оторван от формальнотеоретического понимания информации как меры порядка или меры снятой неопределенности.
Следует подчеркнуть, однако, что информационное отражение не воздействует прямо и непосредственно на само поведение, а лишь стимулирует возникновение новой мыслительной последовательности (образной или понятийной) шагов деятельностной схемы. Сама же эта схема может остаться предметно не реализованной, если, например, обнаруживается ее неэкономичность, неэффективность в существующих условиях. Тогда деятельность переносится в интеллектуальную сферу до тех пор, пока не будет создан образ наиболее оптимального для практической реализации варианта.
В этом случае характер и интенсивность отражения существенно определяются особенностями отражающей системы, поскольку хотя воспринимающий индивид изменяет организацию своих знаний под воздействием извне, но само изменение встречает «сопротивление» со стороны уже сложившихся представлений, и потому результат носит суммарный, комплексный характер. Данное обстоятельство делает понятным, почему не очень сильное воздействие может иногда вызывать эффект кардинального изменения всей системы человеческого поведения.
Усиливающий эффект обусловлен, кроме того, и тем, что не все воздействия окружающей среды и не все реакции на них входят в поле сознания индивида. Огромное число следов, порожденных взаимодействием познающего субъекта с изучаемыми им объектами, остается неосознанным, составляя массив так называемого «неявного», «скрытого» знания. Слой таких знаний не участвует в процессах интеллектуальной переработки представлений о мире и соответствующих деятельностных схем прямо и непосредственно, однако он является основой разнообразных мыслительных актов, в том числе существенно определяет проявление интуитивных шагов, без
которых никакие творческие процессы (в том числе и в сфере познания) просто невозможны.
Информационный тип отражения связан с выделением из общего комплекса воздействующих факторов таких составляющих, которые могут обеспечивать повышение степени организации знаний о фрагментах объективной реальности, включенных в познавательный контекст человеческой деятельности. Ведь исследователь фиксирует в результатах предпринятого им поиска не любые характеристики изучаемых предметов и явлений, а только те, которые имеют для него «сигнальное» значение, т. е. оказываются важными с точки зрения его целей и интересов. При этом он постоянно стремится повышать точность своих представлений о связях между различными объектами реальности и связях между своими воздействиями на эти объекты и получаемыми результатами.
Оценка существенности и важности свойств и сторон природного мира фундаментального обусловлена социальными потребностями и интересами, но в реальной исследовательской практике она осуществляется конкретными индивидами, выражающими в своих ориентациях осознание ими неких групповых установок, в которых проявляется социальная потребность общества в целом. Выделяемые характеристики входят в структуру нормативно-ценностных систем, регулирующих как поведенческую стратегию отдельных социальных слоев и индивидов, так и всего данного сообщества в самых различных сферах его деятельности.
Ценностные ориентации в познании наиболее явно выражены как раз через информационный тип отражения и позволяют отчетливо увидеть связь между двумя указанными аспектами исследовательской практики. Действительно, повышение соответствия между образом, конструируемым ученым, и внешними реалиями, играющими роль прообраза, способствует не только повышению адекватности следов, возникающих в человеческом сознании при воздействии среды, но и обеспечивает оптимизацию использования производимых знаний в предметно-практической деятельности людей. Поэтому информационное отражение оказывается определенным синтезом отражения и конструирования.
Еще наглядней такая связь проявляется в другом типе отражения, получившем название «опережающего». Данное название носит отчетливо метафорический характер, что
существенно затрудняет понимание его сущности. Ведь взаимодействовать (а значит, и отражать) человек может лишь с тем, что уже существует и реально воздействует на воспринимающие рецепторы людей. С этой точки зрения будущее не может быть отражаемым, поскольку имеет только потенциальный характер.
Однако сегодня достаточно ясно, что отражение, определяющее чувственно-интеллектуальную деятельность людей, не аналог простой фиксации и накопления следов воздействия. Человек не зеркало. Он активно преобразует поступающие в его нервные каналы сигналы и конструирует такие системы образов действительности, которые включают в число своих характеристик нечто, отсутствующее в самой реальности, но обусловленное природой и устройством воспринимающего эти сигналы сознания.
Понимание данного факта предполагает выделение форм отражения, соответствующих различным уровням познавательной деятельности, поскольку «опережающее отражение» представляет собой элемент рационального уровня, хотя и базируется на тех данных, которые составляют содержание чувственно-эмпирического познания. Опережающее отражение ориентировано на создание некоторых моделей возможного будущего, сконструированных из деталей, полученных в результате уже осуществленных актов познания. Тем самым задается образ желаемой цели, какой она могла бы быть при успешном разворачивании деятельностной программы.
Создание моделей возможного будущего — всегда одна из важнейших функций науки. Но в наше время она приобретает особое значение, поскольку масштаб человеческого воздействия на окружающий мир достиг такого уровня, когда любое усилие может вызвать непредсказуемый, а часто и нежелательный результат, а то и поставить под угрозу само существование человечества. Поэтому «опережающее отражение», лежащее в основе прогностической функции науки, приобретает все большее значение в современной исследовательской практике. Разумеется, при этом речь идет не о каком-то мистическом проникновении в скрытые тайны времени, а о необходимости осмысливать информацию, получаемую сегодня.
Создаваемые людьми системы знаний явно или неявно предназначены для их практического применения, а значит, ориентированы на порождаемые ими следствия, т. е. события,
которые только произойдут через некоторый интервал времени после осуществленного действия. Следовательно, в каждый конкретный момент нашего взаимодействия с окружающим миром мы заинтересованы в оценке будущих результатов, чтобы устранить такие формы собственной активности, которые способны вызвать опасные последствия. Прогностические модели играют, таким образом, роль фильтра, блокирующего проявление шагов деятельностной схемы, обнаруживающих при рационально-теоретическом анализе свою неэффективность или неплодотворность.
Сам подобный анализ становится возможным именно потому, что люди отражают не отдельные стороны и свойства объектов, с которыми вступают во взаимодействие, но, скорее, объективные тенденции, проявляющиеся в этих актах взаимодействия. Накапливая и обобщая отдельные разрозненные данные о проявлении особенностей предметов реального мира, мы создаем идеальные образы действительности, в том числе и действительности потенциальной, строим так называемые «возможные миры», в которых проявляется и наше представление о том, какой сиюминутная реальность должна стать.
При этом все прогнозы описывают возможное изменение мира не «самого по себе», а с учетом человеческого воздействия на него. Будущее обязательно включает в свою структуру и особенности понимания людьми их способности действовать, преобразуя фрагменты объективной реальности в направлении, обусловленном интересами и потребностями самих людей. В этом смысле особенности «опережающего отражения» связаны с тем, что оно фиксирует не только актуальные формы проявления закономерностей природной среды, но и является саморефлексией, самоотражением человеком своих свойств и особенностей.
Комплексный характер «опережающего отражения», совмещающего в своей структуре элементы различной природы, делает эту форму неким промежуточным звеном как между эмпирическим и теоретическим уровнями познания (и соответствующими им формами отражения), так и между «отражательным» и «конструирующим» аспектами познавательных процессов.
Понимание познания как своеобразного способа создания новой действительности предполагает выделение двух различных, хотя и связанных друг с другом сторон: конструирование
моделей будущего, определяющих поведенческую стратегию людей, и конструирование деятельностных схем, реализующих эту стратегию. Но и само построение знаний о некоторой данной реальности, как уже отмечалось, включает в себя не только описание свойств и сторон, фиксируемых в реальном взаимодействии с природной средой, но и своеобразное приписывание ее объектам характеристик, необходимость которых диктуется соответствующими теориями. Так, существующая система знаний становится средством организации вновь возникающих ее фрагментов, влияя на их отбор и оценку существенности.
Все это позволяет говорить о том, что познавательные процессы имеют в качестве своего результата не только приращение знаний, простой рост их массива, но и изменение способов организации производимой информации, включая и взаимную адаптацию старого и нового знания. Следовательно, помимо взаимоупорядочения эмпирического и теоретического уровней познавательной деятельности, исследовательский поиск предполагает и совмещение, состыковку фрагментов знания разной природы и происхождения. Это во многом обусловливает использование в научной практике различных мыслительных и языковых приемов и средств, квалифицируемых как «научные метафоры».
Необходимость подобных средств, кроме прочего, обусловлена и тем, что в структуру научных теорий, в качестве ее существенных и неустранимых элементов, входят и результаты «опережающего отражения», т. е. фрагменты, порожденные прогностическим моделированием. Мыслительные и языковые метафоры обеспечивают возможность конструировать целостные системы знаний из качественно разнородных средств, погружая их в некую общую систему языка.
В этом смысле метафоры играют роль объединяющего начала и потому оказываются регулятивом, задающим интерпретацию и понимание как отдельных утверждений теории, так и всей ее системы в целом. Естественно, что в данном случае речь идет не о прямом логическом следовании одних утверждений из других, а о своеобразной «когерентности» уже используемых языковых средств и тех, которые только вводятся в систему знаний. Каждое слово или выражение нагружено определенными ассоциативными связями и потому, попадая в сферу действия определенного комплекса знаний, они могут
изменять свои связи в соответствии с контекстом данного комплекса. Те понятия и выражения, для которых подобная адаптация оказывается затруднительной, обычно элиминируются из научного употребления.
Постепенно метафорический контекст становится привычным и начинает восприниматься как достаточно стандартный. Тем не менее неявное (чаще всего неосознаваемое исследователем) воздействие исходного метафорического смысла может сохраняться достаточно долго, задавая глубинные регулятивы и нормы исследовательского поиска. Именно поэтому ученые вынуждены использовать при описании реально существующих объектов гипотетические характеристики, обусловленные теоретическим контекстом, что и вносит в акты познания конструктивный оттенок.
Повышение уровня теоретичности знаний усиливает этот оттенок, делая его ведущим в дисциплинах, достигающих стадии «зрелости», что обычно связывается со степенью само-рефлексивности данной дисциплины. Впрочем, это относится и к науке в целом. Современные формы исследовательской деятельности характеризуются к тому же и тем, что все большую часть своих усилий обращают на самоорганизацию, порождая соответствующие слои «метазнания». И постоянный рост значимости этих слоев свидетельствует о том, что возрастает интерес к совершенствованию способов, с помощью которых реализуется другая сторона конструктивного аспекта познания — разработка деятельностных схем, позволяющих включать производимое знание в структуру общественной практики.
В этом случае выдвигаемые нормы и правила определяют не то, как организовать систему описания интересующей нас предметной области, а то, как реализовать программу действий, содержащуюся в имеющемся знании, как превратить последовательность описания свойств и сторон соответствующего фрагмента реальности в последовательность операций, направленных на порождение новой реальности. При этом понятия, с помощью которых строилась теоретическая модель описываемого явления, замещаются командами, порождающими конкретные деятельностные акты.
Последнее становится возможным в силу того, что и само описание представляет собой по своей сути комплекс операций с абстрактными заместителями реальных свойств и сто
рон объекта. Чем большей зрелости достигает отдельная дисциплина или наука в целом, тем отдаленней и опосредованней связи между свойствами некоторого предмета и им самим. Так называемые «идеальные объекты» являются объединением не столько реально присущих им свойств, сколько выражают человеческие представления о возможных закономерностях взаимодействия с ними.
Поэтому идеальные объекты организованы гораздо эффективней, чем их реальные прообразы, и современное познание неявно ориентирует исследователей на оценку выявляемых характеристик природного мира как недостаточно совершенных способов упорядочения действительности, предполагающих их оптимизацию в соответствии с канонами теории. Отождествление создаваемых наукой моделей с непосредственной действительностью приводит к технологизации познания, к абсолютизации роли инструментов и орудий, используемых учеными в процессах воздействия на природную среду. Но тогда эта среда начинает пониматься как объект, на который направлена человеческая активность и само существование которого полностью определяется этой активностью.
В этом случае важнейшей задачей научного познания становится создание более совершенных орудий, технических средств, через которые люди могут исправлять недостатки природной среды. Возникновение особого вида познавательной деятельности — целого комплекса «технических наук» — свидетельствует не только о растущей активности общества в его отношениях с окружающим миром, но и о смене фундаментальных установок, определяющих характер познавательного поиска. Сегодня отчетливо различимы тенденции превращения науки в разновидность технологического знания, непосредственно направленного на переконструирование мира. Подобный подход заставляет исследователя даже на природные феномены смотреть с точки зрения их «сделанности», «скон-струиров анности».
Техническое производство превращается в образец, эталон, на который должна ориентироваться любая форма исследовательской деятельности. А поскольку современное машинное производство тяготеет к серийности своих результатов, постольку и в науке все сильней проявляется сходная ориентированность. Современный исследователь (неявно для себя) даже уникальное событие или явление склонен рассматривать
как элемент некоторого ряда и строит свой поиск с целью его обнаружения и упорядочения.
Поскольку человеческая деятельность вообще порождает результаты, которые вне ее контекста возникнуть не могут, постольку и научное познание все больше нацелено на решение чисто технологических задач, причем именно требования технической реализуемости становятся сегодня тем «фильтром», который регулирует отбор и результаты собственно научных исследований. Но это приводит к весьма существенным деформациям внутренней «логики» науки. В сферу ее деятельности попадают лишь такие задачи, решение которых заведомо гарантировано и обладает конкретной практической значимостью. Все это резко ограничивает спектр «возможных миров», на создание которого и должна быть нацелена наука в качестве особой культурной деятельности.
В отличие от познавательных установок и традиций прошлого, сегодня «понять нечто» означает умение построить его модель, а не просто составить полный список соответствующих свойств и особенностей изучаемого объекта. Это означает, что знание правил «соединения» уже известных деталей в работающую систему часто оказывается более важным, чем выявление пока неизвестных еще характеристик реальности. В этом случае неожиданное обнаружение таких характеристик может вызвать существенную деформацию стандартных деятельностных схем и привести к отказу от используемой технологии.
Одна из важнейших задач научного познания, как уже отмечалось, состоит как раз в создании средств, с помощью которых можно было бы заранее предвидеть возможность подобных ситуаций и обеспечить наиболее оптимальный выход из них. Если раньше исследовательский поиск во многом представлял собой попытку найти ответ на стихийно возникающие вопросы относительно устройства и функционирования мира «самого по себе», то сегодня необходима специальная методологическая деятельность, связанная с выявлением возможных в будущем вопросов, определением закономерностей, регулирующих их последовательность.
Следовательно, производимое человечеством знание должно интерпретироваться не только как программа будущих действий с объективным миром, не только как описание идеального его устройства, но и как саморазвивающаяся система. Осмысление правил такой самоорганизации должно способ
ствовать повышению уровня упорядоченности как имеющихся на какой-то данный момент сведений, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Конечно, преувеличивать автономность программ, порождающих наши знания о мире, не следует. Их появление и организация являются результатами человеческой деятельности, и потому попперовская трактовка «познания без познающего субъекта» как побочного феномена адаптации людей к условиям среды является слишком сильным огрублением реального положения дел. Но и игнорировать наличие определенной автономности познания тоже неэвристично.
Сама же подобная автономность обусловлена сложным взаимодействием отражательной и конструктивной функций познавательной деятельности. Фиксируя воздействия окружающей действительности на нас, мы накапливаем и преобразуем возникающие следы отражения, делая их, в свою очередь, основой последующих обратных воздействий на эту действительность, что порождает новые ее ответные реакции, вызывающие появление новых следов, и т. д. Этот цикл в различных вариациях осуществляется до тех пор, пока продолжается существование человечества, и составляет важную долю общечеловеческой деятельности.
Знания не просто хранятся в нашей памяти, но постоянно и активно воспроизводятся во множестве практических ситуаций, и чем шире спектр таких ситуаций, тем более полно обнаруживаются возможности дальнейших изменений Как окружающей среды, так и нашего с ней взаимодействия. Такие возможности скрыты в уже имеющемся знании. Мы всегда знаем больше, чем осознаем, и весь ход научного познания обусловливает углубление понимания содержания создаваемых наукой теорий и других форм знания.
Поскольку один из видов понимания реализуется через содержательную интерпретацию утверждений теории, а подобная интерпретация представляет собой введение соответствующих образов действительности в систему языков, используемых научным сообществом, постольку языковые структуры являются одним из важнейших средств конструирования новой действительности (во всяком случае, ее предполагаемых вариантов, т. е. «возможных миров»). Задаваемые теорией идеальные объекты часто существуют лишь в качестве определенных языковых сущностей, а потому им можно приписывать всевоз
можные воображаемые свойства. С помощью формирования метафорических контекстов исследователи получают, как уже отмечалось, возможность временно, условно объединять фрагменты знаний, представляющих собой выражение существенно различных, иногда даже взаимонесовместимых характеристик. Все это расширяет систему используемых человеком представлений о мире, хотя одновременно и увеличивает их гипотетичность.
Теоретические конструкты (т. е. всевозможные идеальные сущности, как отражающие некоторые реальные черты природных объектов, так и возникшие в результате приписывания миру заведомо нефиксируемых эмпирическими средствами свойств) представляют собой своеобразные модели потенциально возможной действительности. Если традиционное моделирование связано с замещением в познавательных актах природных объектов их искусственно созданными аналогами (включая и математические модели), то прогностические модели ничего не замещают и выступают в качестве единственно возможного предмета, с которым оперирует исследователь.
В этом случае последовательное изменение каких-то параметров подобной модели, фиксирование возникших модификаций и их содержательная интерпретация могут давать качественно новую информацию об окружающей реальности, вне непосредственно эмпирического с ней взаимодействия. Следовательно, реализация конструирующей функции познания обусловливает порождение еще одного специфического вида отражения — модельного.
Производя различные преобразования создаваемых теоретическим сознанием моделей, мы фиксируем возникающие результаты, т. е. накапливаем следы воздействия на нас объектов, созданных нашим же воображением. Поэтому данный тип отражения служит средством расширения человеческих знаний, но не о самой объективной реальности, а о специфике интеллектуальной деятельности, выполняя ту функцию, которую когда-то Дж. Локк связывал с так называемым «внутренним опытом» людей. Модельное отражение с этой точки зрения оказывается, скорее, способом осмысления конструктивной способности сознания.
Тем не менее в рамках научного исследования (и особенно с выделением слоя научно-технического познания) постоянно
предпринимаются попытки предметно реализовать порождаемые воображением идеальные модели, придать им вещественно-конкретный характер, либо выявить в самой объективной среде те свойства, которые теория заставляет нас приписывать какому-то «возможному миру». Хорошо известно, какие усилия были связаны с попытками обнаружить (или создать) введенные в науки виртуальные объекты типа монополя или знаменитых кварков. Неоднократные сообщения о том, что удалось выделить последние в свободном состоянии оказывались впоследствии недостоверными.
Усилия такого рода выражают неосознаваемое до конца учеными стремление добиться полного совпадения образа и возможного прообраза, превратить аналогию в надежную форму логического вывода. Ведь любое заключение, полученное с помощью аналогии, имеет лишь гипотетический, вероятностный характер, что не может устраивать исследователей, стремящихся построить систему гарантированно истинного знания. Поэтому используемые в актах познавательной деятельности модели достаточно часто вызывают потребность в постоянном их усовершенствовании с целью от чисто функционального подобия перейти к структурному и, может быть, даже субстратному.
Ярким примером может служить активно обсуждавшаяся в недавнем прошлом проблема создания кибернетической системы, равномощной по сложности человеческому мозгу. Попытки ее решения привели наконец к осознанию того факта, что, решив эту проблему, мы не только не получим приращения новой информации, а, наоборот, окажемся перед новым объектом, относительно устройства которого сведений явно недостаточно. Тогда как задача модели как раз и состоит в том, чтобы с помощью отказа от полноты детального описания фрагментов интересующей нас предметной области сконструировать ее упрощенные, схематизированные образы, позволяющие лучше представить и понять существенные закономерности ее функционирования и возможности использования. Человека все-таки в большей степени интересует успешность его действий, для чего он и стремится познать особенности предметов, с которыми эти действия связаны.
Осознание данного обстоятельства является одним из существеннейших результатов философии XX в. Намеченный когда-то Декартом путь, ориентированный на изучение вну
треннего мира людей, в современных философских поисках занимает, как известно, одно из главных мест. И важным направлением в этих поисках является изучение операциональных приемов, которые использует человеческое сознание. Именно здесь связь функции отражения и функции конструирования проявляется особенно наглядно.
Как было отмечено выше, формы отражения, связанные с познанием, неизбежно оказываются и формами проявления конструирующей способности сознания, поскольку знание о свойствах и сторонах познаваемой реальности во многом определяется тем, как мы организуем взаимодействие с ней. С другой стороны, создание деятельностной схемы, в которой проявляется во вне человеческая активность, обусловлено теми знаниями, представлениями и образами, которые уже содержатся в нашем сознании, будучи следами предшествующих воздействий природного мира на наши органы чувств.
Единый комплекс отражательно-конструктивной деятельности людей оказывается средством преобразования не только внешней среды, но и самого взаимодействующего с ней человека. Приобретаемый опыт (включающий и знание о существенных свойствах изучаемой реальности, и навыки предметно-практической деятельности с ней) определяет различия между способами восприятия воздействий мира представителями разных эпох или носителями разных культурных традиций. Например, черты действительности, расцениваемые с точки зрения одного какого-то сообщества как существенно важные, могут вовсе не восприниматься другим сообществом.
Это вызвано тем, что рассматриваемые стороны и функции познания обусловлены контекстом всей системы социокультурного поведения людей и приобретают осмысленный характер только в рамках такого контекста. Уже накопленные и ставшие знанием следы предыдущих воздействий среды на познающего человека определяют отбор и организацию новых данных, оценку их важности, способ адаптации к существующему комплексу представлений о мире и т. д. В свою очередь, весь этот комплекс играет роль «канала», по которому идет конструирующая деятельность исследователей.
Но периодически возникает возможность выбора одного из вариантов дальнейшего хода познавательной деятельности, и осуществление этого выбора может привести к кардинальному изменению не только направленности научного поиска,
но (что еще важнее) и к переоценке всех предшествующих его шагов. Тогда возникает другой «канал», определяющий форму взаимосвязи отражающей и конструирующей сторон познавательного процесса.
Например, отмеченная выше технологизация современной науки может быть проявлением растущей ответственности людей за осуществляемое преобразование природного мира и стремлением организовать действия подобного рода максимально рациональным образом. В этом случае можно говорить о том, что весь ход познавательной деятельности подготовил переход познания от его «отражательного» аспекта к «конструирующему», доминирование которого является вполне закономерным и предсказуемым результатом.
Но можно увидеть в этом же явлении неожиданный возврат к чему-то вроде рецептурной организации знаний, характерной для стадии донаучного познания и его обыденно-повседневных форм. Тогда не так-то просто ответить на вопрос: чем такой возврат вызван? Как взаимодействие этих сторон познания обусловило подобную трансформацию науки, и можно ли выявить какие-то закономерности, регулирующие переход от одной стадии познавательного поиска к другой, или в данном случае мы имеем дело с полностью случайным процессом?
Ответ на подобные вопросы требует предварительной оценки степени осознанности различных форм как функции отражения, так и конструирования на различных стадиях познания. Но перед тем как перейти к этой теме, необходимо выделить в обобщенной форме сами такие стадии.
Прежде всего следует подчеркнуть, что не любые формы отражения, присущие человеку, прямо связаны с познанием. Простейшие физиологические реакции на воздействия среды чаще всего просто не охватываются сознанием, и хотя входят в комплекс эмпирического основания, без которого познавательное отношение к миру не возникает, но являются, скорее, условиями, нежели элементами системы знаний. Поэтому первая форма, имеющая непосредственно познавательное значение, — это «информационное отражение», в рамках которого происходит осознание фиксируемых следов воздействия, их оценка и упорядочение. На этой стадии конструирующая функция играет вспомогательную роль.
Следующая стадия — «опережающее отражение» — связана с созданием образов «возможного будущего» и с фиксацией
не отдельных конкретных воздействий среды, а с выделением основных тенденций и закономерностей отображаемых процессов. Здесь аспект конструирования начинает усиливаться и приобретает столь же важное значение, сколько и отражение в собственном смысле этого слова.
Постепенное увеличение конструирующей функции познания, ориентированной на создание четко выраженного представления о цели познания и способах ее достижения, порождает еще один специфический вид отражения — «модельное отражение», находящееся в существенной зависимости от конструирующей функции, поскольку сами модели, выступающие в качестве отображаемого объекта, возникают в результате реализации творческой способности человеческого интеллекта. Этот вид отражения служит в большей степени средством экспликации особенностей мыслительной деятельности людей и потому предполагает специальное внимание к соотношению интуитивно-неосознаваемых и дискурсивно-вербализирован-ных элементов интеллектуальных процессов, что и составляет содержание следующего параграфа.
§ 3. Интуитивное и дискурсивное познание
Как уже было отмечено, развитие познавательной деятельности не только увеличивает общий массив человеческих знаний об окружающей действительности, но и приводит к повышению степени осмысленности средств и способов, используемых людьми в своем взаимодействии с этой действительностью. Данный результат относится и к самой познавательной сфере, что порождает потребность в ее самоанализе.
Необходимость постоянно выявлять и раскрывать сущность глубинных механизмов, регулирующих интеллектуальную активность человека, существенно обусловлена стремлением к эффективному контролю за организацией мыслительных процессов, управлению ими с целью получения интересующих человека результатов максимально надежным и действенным способом. Потребность в создании средств, оптимизирующих производство наших знаний об окружающей действительности, порождает пристальное внимание методологов к мельчайшим оттенкам процессов познания.
Обычно в структуре познавательного поиска выделяют прежде всего такие его формы, как интуиция и дискурсия. При этом иногда делались попытки принципиально оторвать их друг от друга, рассматривая как абсолютно противоположные. Этим были вызваны и не раз предпринимавшиеся усилия устранить интуитивные шаги из практики, по крайней мере научного познания, заменить их формализованными схемами, обеспечивающими надежный контроль за правильностью хода познавательного поиска.
Попытки такого рода к особым успехам не привели, что позволяет предположить принципиальную бинарность (а может, и еще большую многоуровневость) всех видов человеческого взаимодействия с миром. Об этом свидетельствует и неудача неопозитивистской программы, целью которой было сведение языка теоретического знания к уровню «протокольных высказываний», объявленных эмпирическим основанием познания вообще. Однако в конце концов стало ясно, что эмпирическое и теоретическое описание представляют собой нечто вроде взаимодополняющих слоев знания, не вполне координируемых между собой. Вполне возможно, что выдвинутый когда-то Н. Бором для целей физического познания принцип дополнительности является универсальным регулятивом, определяющим ход культурной деятельности людей в целом. Собственно говоря, и сам автор данного принципа придавал ему значение, выходящее за рамки только естествознания.
В этом смысле дилемма интуитивного и дискурсивного (так же, как и эмпирического — теоретического) выражает не только принципиальную оппозиционность сторон этого отношения, но и их обязательную взаимопредполагаемость, порождая образ взаимопересекающихся «возможных миров», описывающих некие общие предметные области с разных сторон.
Действительно, термин «интуиция», как известно, происходит от латинского «всматриваться», «созерцать» и понимается обычно как непосредственное восприятие целого, не связанное с последовательным эмпирическим взаимодействием с ним, либо как предвосхищение искомого результата, не следующее из какого-то наблюдения или умозаключения. Под дискур-сией же обычно имеют в виду рассудочное знание, выраженное в понятийной форме, полученное в результате логического рас
суждения, в котором каждый элемент и шаг четко определены и явно выражены.
Интуитивное знание характеризуется как непосредственное, тогда как дискурсивное представляет собой знание опосредованное. В этом смысле они противопоставлены друг другу, и у них отсутствуют какие-то общие элементы. Но при попытке построить достаточно связное представление о сущности интуитивного акта обнаруживается, что различные аспекты его весьма не просто соединить в единое целое. С одной стороны, интуиция как наглядный «образ целого» явно должна соотноситься с чувственным познанием, с другой — предвосхищение результата может быть фрагментом интеллектуального процесса и вовсе не обязательно связано с какими-то формами эмпирии. В то же время оба эти вида интуиции не имеют того интерсубъективного значения, которое характерно для дискурсивного познания.
Последнее ориентировано на явную формулировку как правил рассуждения, так и его результатов, а потому представляет собой последовательную цепочку суждений, одинаково воспринимаемых теми, кто владеет методикой и языком подобного рассуждения. Не случайно термин «дискурсия» восходит к понятиям «рассуждать», «аргументировать». И все-таки изначально учение об интуиции как форме познавательной деятельности было связано не столько с наглядно-чувственным проникновением в сущность вещей, сколько с практикой интеллектуального познания и прежде всего с математическими исследованиями. Дело в том, что математическое знание претендовало на всеобщность своего значения, и с этой точки зрения каждое доказанное в математике положение относится не к какому-то отдельному и конкретному факту, а ко всей области фактов, с которой данное доказательство связано. Кроме того, полученные ею результаты, их справедливость и значение должны восприниматься всеми без исключения (по крайней мере, среди людей, понимающих суть математики) в качестве необходимо истинных, если при их получении соблюдены все правила.
Для философии XVII столетия, когда проблема осмысления опыта науки стала одной из важнейших тем, попытки понять природу всеобщности и необходимости математического (шире — научного вообще) знания привели к допущению существования некой «интеллектуальной интуиции» как осно
вания всех рациональных построений. Именно она определяет выбор аксиом — недоказуемых исходных положений, с помощью которых строится затем доказательство в логике и математике.
Понимаемая так интуиция не опирается сама на логические правила, не требует построения силлогизмов, разворачивания доказательств и пр. Она есть непосредственное усмотрение истины разумом и должна противопоставляться зависящему от нее опосредованному рациональному рассуждению. Не случайно именно рационалист Декарт настаивал на том, что силлогизм представляет собой лишь разворачивание содержания истин, известных нам заранее, и предупреждал об опасности попыток определять «простые идеи», поскольку подобные попытки только замутняют их.
Другой представитель рационалистической традиции этого же периода — Спиноза — вообще считал интуицию высшей формой познания, дающей возможность адекватно постигать сущность вещей и гарантирующей обязательную истинность получаемых человеком результатов. Для него интуитивное познание просто не может быть связано с возможностью каких-либо ошибок, в отличие от познания чувственного. Оба эти автора, как видно, понимали под «интеллектуальной интуицией» единство разных форм проявления человеческого разума.
Поскольку здесь не ставится вопрос о подробном рассмотрении всевозможных трансформаций представлений о природе и сущности феномена интуиции, постольку укажем только на противоположную тенденцию в ее трактовке, связанную с сенсуализмом, и прежде всего с еще одним мыслителем XVII в. — Локком, согласно которому источником любых человеческих знаний является лишь чувственный опыт.
Правда, он допускал и опосредованное, «демонстративное» знание, но видел в нем лишь вторичную форму, используемую там, где ум не может в силу каких-то причин непосредственно воспринимать соответствие опытных идей друг другу. Следует отметить тот факт, что Локк под «умом» понимал некоторый способ чувственного самосознания. Следовательно, с его точки зрения, чем меньше ступеней, опосредующих непосредственное видение истины, тем больше ясность и достоверность получаемых человеком знаний. В дальнейшем подобная традиция оказалась существенно связана с чисто созерцатель
ной трактовкой чувственности и привела к резкому противопоставлению рационального и иррационального отношения к возможности получения истинного знания о мире. Но обсуждение подобной эволюции представлений об интуиции выходит за рамки интересующей нас здесь темы. Достаточно подчеркнуть, что анализ современной познавательной практики заставляет всё с большей отчетливостью не противопоставлять интуитивное и дискурсивное в нем, а видеть их неразрывную взаимосвязь и взаимодополнительность.
В глобальном смысле эти две формы познания с разных сторон определяют границы и возможности интеллектуальной активности человека на каждой отдельно взятой ступени познания. Действительно, если средства и методы дискурсии направлены на выяснение детального устройства окружающей реальности и наших представлений о ней, то интуитивные представления задают сам общий образ целого, на анализ которого дискурсия затем и направляет свои усилия.
В таком случае необходимо различать те виды интуиции, которые действуют в познавательной сфере (особенно в сфере научного исследования), и те, которые имеются в виду, когда речь идет о бытовой, художественной, религиозной и прочих ее формах. Детальное обсуждение данной темы превышает возможности этого параграфа, поэтому остановимся только на той характеристике, которая реально и достаточно наглядно позволяет выделить именно познавательную составляющую в общей структуре интуитивных актов.
Представляется, что контексты обыденной, художественной и прочих видов человеческой деятельности не связаны с такой отчетливой потребностью в постоянной проверке результатов интуитивного шага, как это обнаруживается в области познания. Это обстоятельство обусловлено прежде всего тем, что люди заинтересованы в практической применимости и эффективности своих предположений и догадок, а потому стремятся как можно полнее и точнее убедиться в их истинности. И в тех случаях, когда это не удается сделать, догадка выводится за рамки познавательной практики. История науки дает тому не мало убедительных свидетельств.
Правда, преувеличивать и абсолютизировать значимость каких-то конкретных форм подобной проверки тоже опасно. Не случайно такие современные методологи, как Лакатос или Фейерабенд, столь активно настаивали на необходи
мости сохранять даже такие теории, которые сталкиваются с большой массой противоречащих фактов. Но ни концепция «научно-исследовательских программ», ни «методологический анархизм» не смогли указать границы, до которых следует спокойно относиться к познавательным противоречиям. Однако можно предположить, что и противоречия различны по своей природе.
Проницательный Бор выделял так называемые «поверхностные противоречия», появление которых свидетельствует о возможной ошибке в производимых исследованиях (а потому от них необходимо избавляться), и неустранимые («глубинные противоречия»), указывающее на изменение уровня проблемной ситуации в целом. И опыт современного познания дает основания говорить о том, что сегодня происходит именно такое изменение.
Ориентация классического естествознания на построение описаний мира «каким он есть сам по себе» давно уже оказалась исчерпанной, и современная наука старается, скорее, представить природную реальность такой, какой она становится в результате наших воздействий на нее. Этим обусловлено и понимание зависимости используемых учеными средств от каких-то предварительных установок и регуляти-вов исследовательской деятельности. И это вовсе не означает сдвига науки в сторону философского идеализма. Просто сама природа человеческого взаимодействия с окружающей реальностью оказалась много сложнее, нежели это представлялось предшествующим поколениям ученых. Интерпретация характеристик, с помощью которых современная теория описывает свои объекты, в качестве индуктивного обобщения эмпирических данных давно не работает, что приводит к принятию каких-то постулатов, не связанных с чисто рациональными рассуждениями.
Прежде всего это относится к оценке «достаточности» процедур проверки гипотез, прогнозов и т. д. Вечное подозрение, что слово «все» (без которого немыслим никакой научный закон) используется не вполне обоснованно, вынуждает исследователей идти на множество ухищрений, чтобы скорректировать существующую асимметричность между подтверждением и опровержением выдвинутых предположений. И порой они произвольно принимают решение об их обоснованности, которое нередко впоследствии обнаруживает свою ошибочность.
Вообще проблема подтверждения истинности производимых знаний, как известно, связана с созданием одинаковых, повторяющихся условий эмпирической деятельности (без чего невозможно обеспечить действие критерия воспроизводимости, а значит, и интерсубъективности), что, в свою очередь, предполагает принятие оценки о достаточном сходстве задаваемых условий. А такая оценка также не может обосновываться исключительно рациональными средствами. Возникает некий круг, выход из которого возможен лишь с помощью интуитивного шага.
В свою очередь, сама процедура проверки обязательно предполагает использование логически обоснованных правил рассуждения, и, таким образом, дискурсия выступает средством оправдания интуитивного предположения или его блокировки. Взаимодополнительность этих двух форм познания проявляется во множестве контекстов, обеспечивая сложным образом целостность исследовательского поиска, при всей его многоуровневое™ и комплексности. Для того чтобы понять, как это осуществляется, необходимо хотя бы в самых общих чертах охарактеризовать наиболее важные особенности интуитивных шагов, с одной стороны, и их дискурсивного анализа — с другой.
Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что интуиция в некотором смысле представляет собой «начальную» фазу исследования, задавая образ «целого» без явного указания на его устройство, характер связи элементов и даже, достаточно часто, без явного представления о самих этих элементах. Таким образом, возникает как бы контур объектной области, для уточнения и детализации которой в дальнейшем применяются средства дискурсии. И в данном случае не так важно — идет ли речь о «непосредственном усмотрении истины» или о «предвосхищении некоторого решения». И в том и в другом случае появляется предметное поле для использования методов последовательного анализа.
Эвристичность исходного интуитивного шага объясняется тем, что, сталкиваясь с достаточно нетрадиционной задачей, исследователь весьма редко может однозначно судить о том, как связаны между собой области известного и неизвестного. Возникающая неопределенность заставляет его осуществлять первые шаги буквально «вслепую», и он редко может указать какие-то рациональные основания предпринимаемых попы
ток. Но осуществляя их, он получает возможность более строго оценивать обнаруживаемые соотношения между имеющимся в его распоряжении предпосылочным знанием и формирующимся представлении об искомом ответе.
Вот эти-то предварительные шаги и расцениваются как интуитивные. Следует при этом уточнить, что сегодня они связываются большинством авторов не с каким-то «мистическим озарением», а с изменением степени осознанности так называемого «неявного знания», о котором уже шла здесь речь. Представляя собой не во всех своих фрагментах отдифференцированный и осмысленный опыт взаимодействия людей с окружающим миром, неявное знание играет роль своеобразного «полуфабриката», из которого в различных практических ситуациях возникают (или могут возникать) какие-то, уже фиксированные явным образом, комплексы информации.
Можно представить себе неявное знание в виде нежестко структурированного множества характеристик, выражающих различные степени оценок индивидом своего взаимодействия с конкретной предметной сферой. Вес таких оценок и их ран-жированность по отношении друг к другу достаточно размыты и могут изменяться под воздействием требований, которые создает каждая конкретная проблемная ситуация. Причем в зависимости от эффективности разрешения этой ситуации соответствующим образом перестраивается и исходный комплекс характеристик, превращаясь в конце концов в осмысленный и стабильно оцениваемый фрагмент знаний.
В самом же начале поисковой деятельности связь между элементами данного комплекса не только может не опознаваться, но некоторые из них вообще не присутствуют в сознании последователя. Интуитивный шаг в этом случае можно интерпретировать как энтимему — сокращенное рассуждение, в котором пропущенные части играют роль неосознаваемой подсказки при выборе деталей, из которых строится примерный образ целого. Посылки и заключение такого рассуждения могут быть просто удалены друг от друга во времени. Допустим, в каком-то деятельностном акте, осуществленном человеком в прошлом, реализовывалась связь между факторами А, В и С. Сталкиваясь впоследствии с ситуацией, где присутствуют А и В, данный человек может не помнить об их связи с неразличимым в последнем случае С, и тем не менее неосознаваемое воспоминание о прошлом опыте может вызвать
в нем представление о необходимости допустить существование этого С, что часто и расценивается в качестве интуитивного шага.
Подобные виды «предвосхищения» могут быть связаны с эмоциональными реакциями людей на свое взаимодействие с объектами практической или познавательной ситуаций. Причем эмоции «положительного» знака обычно закрепляются, хотя и не осмысливаются до конца. Тогда их действие в интуитивном шаге осуществляется максимальным образом, не входя в то же время в зону действия дискурсивного анализа. Если В импликативно зависит от некоего А и воспринимается как «желательное», то А интуитивно будет расцениваться в качестве «истинного». Таким образом, внезапно возникающий в сознании исследователя образ целого часто оказывается результатом предъявленности человеку в явном виде некоторого фрагмента этого целого при отсутствии четкого понимания связей данного фрагмента с другими, его места в структуре целого и пр.
Это делает понятным возможность ошибочных предвосхищений, что происходит достаточно часто. Ведь то, как человек связывал детали своего опыта в прошлом, было обусловлено конкретной проблемной ситуацией, которая и определяла тогда его поиск. Если же неявное воспоминание об этом прошлом опыте стимулирует интуитивное «озарение» в качественно иной ситуации, то такое озарение может не оказаться в соответствии с потребностями сиюминутной проблемной ситуации и потому привести к результату, оцениваемому как неверный.
Динамичность смыслов, характеризующих системы наших знаний о мире, возможность их перестраивания и в то же время их устойчивая воспроизводимость — существенные черты человеческого действия в природной реальности вообще. И возможность сохранения каких-то фрагментов прошлого опыта в новых условиях обусловлена тесной связью интуитивного познания с таким элементом мыслительной и языковой практики, как метафора. В самом деле, метафора, сталкивая между собой различные по природе ряды ассоциаций, порожденных в сознании людей при их воздействии на мир, постоянно выявляет контекст «как бы совпадений» характеристик существенно различной природы. В силу этого она способна сохранять целостность ассоциативных рядов, связанных с тем
или иным понятием или образом даже тогда, когда изменяется оценка значимости какого-либо элемента этих рядов.
При переинтерпретации термина смысловые оттенки, прежде определявшие способ использования данного термина, могут становиться неявными, вторичными. В то же время те, которые раньше не принимались во внимание, становятся существенными. Но общее отношение между ними сохраняется, и потому люди могут одновременно воспринимать и новый и устаревший смыслы того или иного слова, хотя вряд ли способны достаточно отчетливо охарактеризовать саму такую возможность. Эта особенность и сближает метафорическое и интуитивное мышление.
Дело в том, что между семантиками различных контекстов, в которых используются различные средства и конструкции языка (в том числе и языка научного исследования), на протяжении всей человеческой истории складываются весьма многоуровневые отношения. Поскольку слово всегда несет в себе историю своего употребления, постольку следы прошлых контекстов способны выступать в роли подсказки, порождающей тот образ целого, с которым и связано интуитивное предвосхищение. Смысловые структуры мыслительно-языковых контекстов включают в себя существенно различающиеся и одновременно пересекающиеся уровни — статический, позволяющий сохранять значение слов в различных контекстах их употребления, и динамический, в котором выражаются особенности каждого нового конкретного контекста. И взаимодействие этих уровней различным образом способствует возникновению интуитивного шага в познании.
Возникающее на базе метафорического «отождествления нетождественного» интуитивное видение целого обеспечивает возможность его последующего расчленения на конструктивные элементы, рациональную оценку их значимости, существенности, ранжировку по отношению друг к другу, что и способствует формированию концептуально-дискурсивной формы представленности объекта познания. При этом интуитивное предвосхищение определяет границы целого, лишь указывая на пределы, в которых оно существует, но не обнаруживая характера соотношения этих пределов. Отмечая это, физиолог И. П. Павлов, например, понимал под интуитивным результатом видение начального и конечного состояния задачи при полном отсутствии знаний о промежуточных ее звеньях.
Практика современного познания в достаточной мере обнаруживает растущее значение ориентации подобного рода. Хорошим примером может служить широко используемая в современной микрофизике так называемая «S-матрица», описывающая начальное и конечное состояние некоторой системы частиц. Сами эти состояния фиксируются эмпирически, такая матрица лишь обеспечивает возможность связывать различные ряды экспериментальных данных, не выявляя глубинной сущности этой связи. Конечно, сама по себе такая матрица не обязательно есть результат интуитивного шага, но показательна тенденция, проявляющаяся в создании и использовании формализмов такого рода.
Конструируемые теорией «возможные миры» сегодня описывают такие объекты, эмпирическое существование которых вообще гипотетично. Поэтому попытки наглядно представить себе нечто вроде «электрона, размазанного по времени», или «мега-микро-симметричной вселенной», наталкиваются на существенные, иногда просто непреодолимые трудности. Но исследователи не могут относиться к продуцируемым ими представлениям как к чисто техническим приемам, в которых выражается некая «игра ума». Потребность в содержательной интерпретации формальных построений требует каких-то новых соотношений различных слоев и уровней знания.
И здесь интуитивная идея, не вытекающая из логических аргументов или эмпирически-чувственных восприятий, может оказаться в роли квазинаглядного образа, позволяющего связать воедино разрозненные наборы опытных данных и теоретических моделей. Идея «квантовых скачков электрона», «цветность кварков» и другие подобные средства с той или иной степенью эффективности позволяют разрешать трудности, возникающие в современном научном познании. Целостность, пусть пока лишь воображаемая, не легализированная и даже не всегда понятная, становится стимулом и основой дальнейшего движения познающего сознания. Все это позволяет говорить о том, что, несмотря на определенные специфические различия, выделенные формы интуиции сходным образом функционируют на различных уровнях познавательной деятельности. В то же время дискурсия, реализуемая на обыденном, художественном и прочих уровнях, характеризуется более важными специфическими особенностями.
В самом общем виде, как уже отмечалось, о дискурсивном мышлении говорят тогда, когда можно явным образом выстроить последовательность шагов, которые привели к получению некоторого данного результата. Тем самым предполагается существование какой-то системы правил, организующей эту последовательность и регулирующей ее разворачивание. Хотя степень обоснованности и упорядоченности дискурсии обыденного или художественного познания гораздо меньше, чем в научных формах исследования, но если практик, не занимающийся специальным анализом собственной деятельности, и художник, преследующий свои специфические цели, связанные с решением эстетических задач, могут последовательно описать и объяснить какую-то часть своей активности и указать, как полученный ими результат обусловлен ею, мы говорим о дискурсивном аспекте их деятельности.
Очень часто дискурсивное рассуждение отождествляется с рациональным, что не всегда правомерно, поскольку последнее связано с оценкой достижимости поставленной цели, в случае отрицательного результата действие или рассуждение вряд ли будут рассматриваться как рациональные. Тогда как дискурсия может и должна описывать и анализировать даже неправильные (нерациональные в некоторых контекстах) действия, как практические, так и интеллектуальные.
В любом случае дискурсия исходит из необходимости следовать каким-то правилам, причем сами эти правила явно или неявно воспринимаются как неизменные и универсальные. И хотя общественно-историческая практика свидетельствует об утопичности таких представлений, они продолжают функционировать в сознании людей. Особенно это характерно для обыденного познания и мышления. Под воздействием практики науки обыденный уровень тоже постепенно изменяется, но, как было показано, он обладает большей инерционностью, и в его содержании дольше сохраняются элементы, потерявшие свою значимость в других слоях общественного сознания.
Во всяком случае, о дискурсивных формах можно говорить лишь там, где объяснение своих действий любым человеком не нарушает законов логики, даже если сам этот человек не знает их и не может их сформулировать. Поэтому дискурсивное рассуждение довольно часто просто сводят к логически правильному, неявно подразумевая под этим возможность
всегда выразить нормы, упорядочивающие то или иное рассуждение, в аналитической форме.
Такой взгляд во многом обусловлен тем, что для большинства теоретиков логика — это наука о формах и структуре мышления, а потому должна представлять все элементы интеллектуальных процессов в явном виде и однозначно описывать все связи между ними. Этот взгляд слишком размывает границы логического анализа, лишая его специфической конкретности. В самом деле, интуитивные шаги тоже являются элементами мыслительных актов, однако свести их к какой-то формализи-рованной структуре вряд ли возможно. Из этого следует, что логические средства могут быть эффективными при анализе рассуждения, уже представленного в рекурсивной форме.
Правильное понимание логики требует обязательного указания на то, что она описывает и анализирует не «формы мышления» вообще, а лишь те, которые выражены в языковых структурах. Очевидно, и в познании логика направлена на выявление правил рациональных актов интеллектуальной деятельности человека, выраженных в произведенном знании и описаниях его производства. Связь рекурсии и логики обусловлена их взаимной «овеществленностью» в системах языка, невозможностью существовать вне языковой формы.
Поскольку рациональное мышление характеризуется обобщенностью, абстрактностью и явной целенаправленностью, постольку оно неизбежно оформляется в понятийных структурах, реализуется через умозаключения, а это и есть те формы, с которыми прямо связана логика. Правда, современная логика весьма отличается от классического варианта, который и способствовал формированию представлений о возможности свести ее к жестко фиксированному набору правил, автоматическое применение которых абсолютным образом гарантировало бы получение новых знаний о мире, без использования каких-то иных средств и способов. Выяснилось, однако, что надежды Р. Луллия и Ф. Бэкона оказались утопичными, как множество других универсальных программ.
Появление целого ряда «неклассических» логик, бурное их развитие в последние годы и растущее понимание того обстоятельства, что логически рассуждает все-таки человек, а не «абсолютное сознание» само по себе, — все это заставляет во многом по-новому оценить и соотношение рационального и «иррационального» интуитивного и дискурсивного в позна
вательной деятельности людей. Отказ от абстракции «всеведущего субъекта», оформление подходов типа «автоэпистеми-ческой логики» — свидетельство кардинальных изменений и представлений о сущности самих логических методов.
Как известно, стандартная классическая логика ориентирована на анализ экстенсиональных отношений между понятиями и суждениями, и для нее прежде всего важно выяснить, о какой степени охвата объема понятий может идти речь. Современные цели анализа ориентированы на выявление интенсиональных, т. е. смысловых, связей между различными элементами наших рассуждений, а потому определяются тем, какие части и фрагменты содержания понятий мы выделяем в качестве релевантных при решении той или иной задачи.
Естественно, что различие ориентации порождает и различие способов реализации этих видов логического анализа. Использование экстенсиональных логик представляет собой «монотонный» процесс, т. е. исходит из допущения о том, что принятые правила сохраняют свою эффективность при любом расширении области рассуждения, а потому не допускают возможности противоречий, квалифицируя их исключительно как симптом ошибки, возникшей в рассуждении. Интенсиональные же и релевантные логики в большей степени осознают невозможность абсолютно избежать появления противоречивых описаний и стараются создать средства их блокировки (типа так называемых «паранепротиворечивых логик»), представляя системы конструируемых и используемых знаний в виде «как бы» не имеющих противоречий. Но само появление контекста «как бы», характерного для использования метафорических средств, показывает невозможность абсолютно жесткого разграничения дискурсивных и интуитивных (теснейшим образом связанных с метафорой) средств познания.
Действительно, при фиксированном содержании понятия исследователь явным образом, вполне дискурсивно может менять соотношение между признаками, входящими в это содержание, различным образом менять оценку их важности, существенности и пр., в связи с изменением контекста решаемой им задачи. Следовательно, со стандартной точки зрения он допускает возможность противоречивой оценки некоторого фрагмента содержания, одновременно характеризуя его как «важный» и «неважный», при сравнении различных возможных гипотез, играющих роль «возможных миров». Ведь созда
вая ту или иную теоретическую конструкцию, современный исследователь не имеет возможности немедленно установить правильность одной из них и отбросить альтернативный вариант. Поэтому он вынужден довольно часто принимать их как равновероятные, даже при их взаимном исключении. Таков характер современной науки.
Дискурсивные элементы в познавательной деятельности ориентированы на установление однозначных связей внутри того «целого», которое возникает в сознании исследователя в результате интуитивного предвосхищения. Но для выявления и четкого описания таких связей дискурсивное мышление вынуждено разбивать исходное неопределенное целое на ряд фрагментов, в которых наиболее явно выражены хоть какие-то конструктивные особенности. При этом сама оценка «явности» и способ разбиения на фрагменты могут не иметь осознанного характера и не попадают сразу в сферу действия дискурсии. Эта задача чаще всего решается гораздо позднее, когда данная область познания достигает определенной степени «зрелости» и начинает тратить свои усилия на решение задачи самообоснования.
В частности, так обстоит дело в современной математике, которая представляет множество разделов и областей с четко определенными границами, внутри которых действуют строгие логические правила, упорядочивающие математическое рассуждение абсолютным (для данной области) образом. И в этих пределах надежды мыслителей XVII в. на выявление оснований, имеющих необходимый и общий характер, реализовались. Но сами эти «куски» весьма слабо состыкованы между собой, что порождает многочисленные трудности в сфере «метаматематики», препятствует свободному переносу методов и результатов одной области в другую.
Поэтому дискурсия оказывается «вторым» этапом познавательного поиска, когда предметное поле этого поиска уже в общем обозначено. Разумеется, речь не идет о жестко программированной последовательности данных этапов. Иногда новые перспективы исследования обнаруживаются как раз в результате дискурсивного анализа. Но общая тенденция познавательной стратегии, как показывает вся история познания в целом и научного исследования в частности, именно такова.
Более или менее однозначно описав устройство выделенных фрагментов знания, дискурсивное мышление переходит к задаче поика надежных и устойчивых связей уже между ними. В конце концов может возникнуть описание целого, осуществленное средствами теоретического (т. е. рационально-дискурсивного) познания, существенно отличающееся от исходного образа, данного интуитивным предвосхищением и даже принципиально с ним несовместимого. Но именно конечный вариант становится фрагментом общественного знания, сохраняясь в социальной памяти. Исходный же образ может стать частью чьей-то индивидуальной памяти и в случае возникновения соответствующей социальной потребности иногда оказывается источником новых поисковых программ. В этих случаях говорят о «возвращении» к забытым идеям.
Таким образом, дискурсия оказывается наиболее эффективной там, где существуют достаточно четко определенные рамки предметной области и где применимы стандартные, а потому постоянно воспроизводимые правила организации познавательного поиска и упорядочения его результатов. Разумеется, речь сегодня уже не идет о каких-то абсолютных системах подобных правил. Они изменяются по мере изменения всей общественно-исторической практики в целом и роста культурного самосознания. Но в рамках каждого отдельного периода и каждого конкретного направления познавательного поиска отчетливо различима тенденция к сохранению действующих в данный момент правил.
По сути дела дискурсия ориентирована на некий конечный набор познавательных аксиом, касающихся как характеристик, с помощью которых описывается некоторая конкретная система объектов, так и программных инструкций, регулирующих построение подобных описаний, исходя из потребности в надежности используемых средств и методов. Кроме того, использование стандартных блоков рассуждения существенно сокращает сам процесс поиска и позволяет, в случае необходимости, легко выделить любой из таких блоков и проанализировать его конструкцию, если исследователь подозревает, что в нем содержится какая-то ошибка.
В этом смысле логика всегда есть средство анализа, и надежды на создание чего-то вроде «логики открытия», скорее всего, несбыточны. Это не делает ее (а заодно и дискурсивное мышление) чисто техническим инструментом, пригод
ным только для совершенствования и «ремонта» работающей системы, поскольку анализ имеет и прогностическую функцию и дает возможность заранее отсекать какие-то направления поисковой деятельности и отбраковывать те или иные «предвосхищения», которые появляются в результате интуитивного шага.
Помимо правил, определяемых законами Логики, в научном познании действуют и другие регулятивы, связанные с организацией собственно профессионально-исследовательской деятельности. Они-то и определяют специфику научной дискур-сии. Ведь современная наука имеет дело с такими объектами и использует такие средства, которые в других видах познания просто отсутствуют. Правила, которым должен следовать ученый, вовсе не обязательны для практика или художника. Необходимость постоянного прояснения методологических оснований своей деятельности налагает на профессионального исследователя особые требования и в реализации используемых им дискурсивных средств.
Такие критерии, как простота гипотез и моделей, их эмпирическая проверяемость, способность предсказывать новые перспективы дальнейшего поиска, рост информативности, неожиданность (т. е. невысокая степень вероятности их прямого следования из имеющихся систем знания) и некоторые другие, создают особый контекст использования и правил логического характера. В современном научном познании все больше распространяется мнение о том, что логические законы представляют собой не столько предписания действовать определенным образом, сколько запреты, ограничивающие пределы построения «возможных миров», в которых реализуется сегодня производимое научной деятельностью знание.
В связи с этим можно отметить одну из наиболее устойчивых функций дискурсивного мышления вообще и научной дис-курсии в особенности. Это стремление как можно более минимизировать объем интуитивных элементов познавательного процесса, таких его предпосылок, которые обладают «независимым» относительно явно выраженных фрагментов знания характером. Чем меньше в базисе исследовательской стратегии допущений неявного характера, тем эффективней выглядит с точки зрения дискурсивного подхода полученный исследователем результат, тем он надежней и правдоподобней.
Показательно, что сегодня никто (или, по крайней мере, мало кто) не надеется на абсолютное устранение интуитивных шагов и допущений из практики познания, осознавая невозможность целостного осмысления интеллектуальной активности людей на базе исключительно рационализированно-дискурсивных описаний. Но сама ориентация на превращение хотя бы части интуитивных догадок в элементы дискурсивного рассуждения вполне эвристична. Хрестоматийным примером стала история создания неевклидовых геометрий, обусловленная стремлением явно выразить все предпосылки, на которых была построена традиционная геометрическая теория.
Создание «возможных миров», оперирование воображаемыми объектами тоже есть средство расширения человеческого опыта действий с реальным миром. Возможно, что именно так человечество подготавливается к таким формам своей будущей практики, которые только могут возникнуть в каком-то удаленном будущем. Во всяком случае, реально различимый сдвиг методологического интереса от дискурсивных элементов познания к интуитивным, происходящий в самое последнее время, позволяет говорить о том, что задача видения целого в настоящее время занимает культурное сознание в большей степени, чем детальное описание конкретных частностей.
И не случайно, как отмечают специалисты в области научного творчества, в основе любого масштабного открытия лежит шаг, связанный с каким-то нарушением стандартных правил, отказом от жестокого следования нормам чисто логического рассуждения. Не случайно все большую значимость в практике естествознания приобретают регулятивы и критерии, казалось бы, эстетического характера, типа «красоты» теории, «изящности» полученного решения и т. д. Если иметь в виду, что под «красотой» в этих случаях чаще всего имеется в виду степень обобщенности, возможность связать между собой факты и явления существенно различной природы, то можно увидеть в этом проявление того же стремления к полноте и целостности описания, которое возникает в результате интуитивного акта.
Глава 2 ЛОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ
§ 1. Психология чувственного восприятия
Познавательная активность человека в значительной мере обусловлена ресурсами его перцептивно-мыслительных способностей и опыта. Вряд ли найдется философская теория познания, оспаривающая их интегральную роль в жизнедеятельности людей и особенно в познании. Когда задаются вопросами «Что познается?» и «Как возможно познание?», то, по-видимому, нельзя пренебречь антропным характером нашего познания, его зависимостью от сенсорно-кинестезиче-ской организации человеческого тела, от языковых, понятийных и образных возможностей чувственности и мышления, от разнородных факторов познавательного опыта. Анализ приобретения и продуцирования знаний, претендующий на полноту, не может обойтись без прояснения специфики перцептивных (ощущения, восприятия, представления) и мыслительных процессов. Нагляднее всего это подтверждается традиционными решениями проблемы познания. Конкуренция между основными гносеологическими парадигмами в классической философии проявилась, в частности, в критическом противостоянии сенсуализма и рационализма. В них, как известно, решение проблемы познания осуществлялось путем редукции соответственно к перцептивным (сенсуализм) или мыслительным (рационализм) основаниям.
За текущее столетие наши знания о когнитивных способностях человека (впрочем, как и о сознании в целом) заметно расширились и изменились по сравнению с классическими представлениями. Существенные коррективы в философию
познания внесены под влиянием конкретных результатов, которые были получены в последние десятилетия на междисциплинарных стыках целого ряда наук, обладающих когнитивными значениями, — психологии, лингвистики, логики, антропологии, культурологии, биологии и т. п. В современных теоретико-познавательных моделях зачастую трудно расчленить философские и специально-научные рассуждения о перцепции и мышлении. Несмотря на продуктивность подобного философско-научного «сплава» аргументов, природа наших чувств и мыслей остается труднодоступной для исследователя. Она по-прежнему «прячет» ключи к решению многих вопросов познания в своей высокой специфичности и необычайной сложности.
Исходя из высказанных соображений, нетрудно догадаться о цедях данной главы учебного пособия. Она выполняет функцию введения, разъясняющего теоретико-познавательный статус перцепции, мышления и опыта. Свою задачу мы усматриваем не столько в том, чтобы приблизиться к исчерпывающему изложению их особенностей, сколько в том, чтобы обратить внимание на новые тенденции и принципы их анализа в современной философии.
Перцептивное познание
Человек и воспринимаемый им мир неразрывно связаны. Познание мира осуществляется в тех его предметных значениях, в которых мы способны его воспринимать. В самом широком смысле слова восприятие — универсальная способность человека, позволяющая характеризовать его как человека воспринимающего — воспринимающего окружающий мир, других людей, самого себя. Как синоним восприятие употребляется в разнообразных контекстах познания, общения, повседневной жизни. Теория познания придает ему более специализированное значение, когда соотносит с ним работу перцептивных систем человека. Обычно различают три уровня перцептивной организации:
— уровень ощущений, вкорененный в структуры тела или психосоматические структуры;
— уровень первичных чувственных образов — образов восприятия;
— уровень вторичных чувственных образов, или образов представлений.
Отвечая на вопрос, как возможно перцептивное познание, нам необходимо разобраться в особенностях перцептивных структур каждого из уровней.
Воспринимающее тело
Разнообразие форм и функций перцептивного познания возможно на основе телесной организации человека. Тело разграничивает отношения человека с внешним миром. Оно оказывается всеобщим и необходимым условием его бытия. С одной стороны, тело — «окно» сознания во внешний мир, воспринимающее его объективные значения. С другой, — тело, вообще говоря, обеспечивает организацию внутреннего мира сознания и, в частности, организацию перцептивной реальности. Загадка тела состоит в том, как заметил М. Мерло-Понти, что оно сразу и ощущает, и само ощутимо. Структуры тела задают диспозиции, способность упорядочивания когнитивных, коммуникативных и любых других жизненных практик человека. Тело позволяет человеку свободно ориентироваться в мире, откликаться на события и вести себя образом, адекватным тем жизненным ситуациям, в которые он попадает. Трансцендентальная роль тела в познании предопределяется длительной эволюционно-биологической и культурной историей развития человека.
С антропогенетической точки зрения телесные структуры человека существенным образом отличаются от телесных структур других живых существ. Эти различия проявляются в антропологических, инструментально-орудийных, коммуникативных, когнитивно-психических, семиотических и других социокультурных свойствах человеческого тела. К ним относят, например, способность прямохождения, особенности мозговых структур и функций, строение и функционирование отдельных органов (психосоматические структуры осязания, обоняния, вкуса, слуха, зрения, а также движения органов тела — рук, ног, головы, гортани, всевозможных поз тела и т. п.), способности осознанного и неосознанного восприятия информации, речевого выражения и языковой (знаковой, символической, письменной) фиксации опыта, переживаний (радость, забота и т. п.), мимики, танцевальных и других движений тела. Эмпирическое разнообразие психосоматических структур, свойств и движений порождается на основе целостной организации тела человека с присущими ей трансцендентальными (всеоб
щими и необходимыми) значениями, в которых интегрирована его биологическая эволюция и социокультурная история. Поэтому воспринимающее тело можно рассматривать как совокупность отдельно работающих органов ощущений, так и в качестве целостной сенсорно-соматической организации. В первом случае органы тела и их перцептивные функции составляют предмет теории познания, психологии, антропологии, физиологии и других специальных дисциплин. Во втором — структуры тела становятся предметом философских рассуждений онтологического, культурологического, феноменологического, прагматического и т. п. характера. Непреодолимой границы между этими подходами нет, их соотнесенность друг с другом подобна связи трансцендентального и эмпирического понимания тела.
Наметившаяся в последние годы междисциплинарная интеграция заметно деформировала и изменила традиционную антиномию души и тела. По мере прояснения природы явлений, обозначенных этими понятиями, их антиномичность утратила прежнюю отчетливость. Уже в классической философии при тематизации отношений души и тела часто использовались приемы объяснения путем сведения их к механическим или энергетическим моделям. Сегодня редукционистские тенденции не менее сильны, особенно, например, в терминах когнитивно-информационных моделей или теорий «искусственного интеллекта». Любая философская или специально-научная аналитика отношений души и тела исходит (а может быть, подразумевает) из констатации зависимости их друг от друга: тело наделяется значениями души, а душа — значениями тела. Для нас важно, что структуры воспринимающего тела являются предельными основаниями познания вообще и непосредственно обусловливают возможности перцептивного познания. В связи с этим целесообразно указать на духовные значения структур тела как носителя культуры и на телесные значения познавательных способностей человека.
Тело как феномен культуры проявляется в своих знакопорождающих и коммуникативных качествах. Разнообразие их велико и обнаруживается в динамике телесных движений и статике «служебных» назначений тела. Таковы знакопорождающие функции тела в целом и его отдельных органов, работающих в режиме общения. Это касается кинематики движений в танце, беге, борьбе и т. п., отдельных поз тела — просьбы,
угрозы, нападения и т. п., работы отдельных органов — повороты и кивание головой, жестикуляция руками, мимика лица при выражении радости (улыбка, смех), горя (слезы), злости и т. п. Вообще развернутость тела одного человека по отношению к телу другого, особенности телесного общения людей, интерсубъективные назначения голоса отличаются высокой полисемичностью. Что касается знаковой статики тела, то она демонстрируется различными татуировками, ношением одежды, украшением отдельных органов (ушей, пальцев, шеи, носа и др.) драгоценностями. Знакопорождающие способности движущегося и неподвижного (статичного) тела артикулируются разными способами: а) движениями, при которых отдельные органы, части тела занимают определенную позицию в пространстве, не соприкасаясь с другими (например, жест руки, поднятой вверх, или отдельные позы); б) движениями, при которых соприкасаются активные органы с пассивными частями тела (например, совместные действия рук с другими частями тела); в) движениями телесного общения, при которых тела людей соприкасаются (например, объятия, танец); г) движениями, при которых тело или его отдельные органы соприкасаются с одеждой, предметами, средствами труда (например, метатель копья). При восприятии знаковых особенностей тела задействованы все перцептивные функции — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, а также кинестезические механизмы восприятия. Тело опосредует культурно-исторические и коммуникативные влияния на перцептивные способности человека. Постмодернистские и поставангардистские метафоры человеческой телесности, появившиеся в философии совсем недавно, значительно разнообразят и дополняют круг культурно-жизненных значений и ценностей тела, в том числе и познавательного характера. Мы имеем в виду метафоры семиотич-ности, рефлексивности и дискурсивности человеческого тела, например, такие, как метафоры телесных наслаждений и удовольствий, метафоры бессознательного, переживающего или соблазняющего тела, метафоры боли, раны, смерти и много других. Несмотря на свою лапидарность, они порой страдают смысловой расплывчатостью и неопределенностью. Экстраполируя их на область человеческого познания (и прежде всего на повседневное, художественное и религиозное познание), можно убедиться в вездесущности его антропоцентрических ограничений. Перцептивные структуры всех уровней — ощу
щения, чувственные образы, представления — приобретают знаковые или символические способности обозначения явлений и выражения когнитивной информации. Тем самым чувственные формы познания обладают семиотическими свойствами и присущей им в разной степени произвольностью и условностью.
Тело как естественно-биологическое основание, определяющее возможность перцептивного познания, раскрывается в своих энергетических, информационных, пространственно-временных, онтогенетических и модальных значениях. Они являются ближайшими факторами-условиями, обеспечивающими познавательную работу ощущений и восприятий. Правда, нынче в предметную сферу философских размышлений вовлекаются результаты, полученные в современной генетике, нейрофизиологии, молекулярной биологии и медицине.1 Проблемы, возникающие в связи с ними, хотя и имеют отношение к теории познания, но по вполне понятным причинам остаются за пределами обсуждения в данном тексте.
Когнитивные способности воспринимающего тела зависят от его энергетического потенциала. Ведь психика генерирует энергию так же, как и потребляет. Энергетика тела рассредоточена в нервных тканях, как по периферии, так и в мозговых центрах. Передаточным звеном энергетики психосоматических структур служит кожа. Кожа, по выражению Б. Г. Ананьева, — периферическая душа человека. Ее полифункциональные возможности не исчерпываются энергетическими и информационными назначениями. Она, как мембрана, отделяет жизненный мир человека от других миров. Кожа — базальтовый предел выражения личности, идентифицирующий ее в индивидуальности и неповторимости Я. Кожа — это поверхностное Я тела. Ее информационно-энергетические свойства, обращенные к другому человеку, составляют неотъемлемое коммуникативное условие перцептивного познания. Кожа позволяет вести перцептивный диалог в познании.
Онтогенетические значения психоматических структур выражают индивидуально-личностные особенности развития человека и задают условия перцептивного познания в раз
1 См., напр.: Марголис Дж. Личность и сознание. М., 1986; Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 1993; Круткин В. Л. Онтология человеческой телесности (Философские очерки). Ижевск, 1993.
личных возрастах. В то же время благодаря им поддерживается единство диахронного и синхронного строения психики. Вообще говоря, время и пространство ограничивают не только организацию тела в целом, но и определяют психосоматические структуры каждого органа. Такова, в частности, на уровне нервных структур асимметрия и парная работа мозговых полушарий. Когнитивные способности сенсорно-телесной организации реализуются отдельными видами ощущений, работа которых связана с соответствующими телесными органами. Если опираться на эволюционно-исторические приоритеты, то в первую очередь следует назвать осязательные ощущения и их связь с кожей, особенно с осязательными функциями руки. Рука — полиэффекторный орган, интегрально выражающий активность человека на начальных этапах его культурной истории и онтогенеза. Она служит универсальным средством поведения, труда, познания и общения. В поведении и труде рука выполняет самые различные инструментальные функции — ориентировки, защиты, общения (с помощью руки выражают то, что трудно сказать словами), удовлетворения насущных жизненных потребностей (добывание пищи, постройка жилья, изготовление орудий труда). Мышечная энергия руки «питает» всю ручную технику. В свою очередь, технико-технологический процесс усиливает энергетические и инструментальные ресурсы руки, заметно облегчает ее работу или вовсе ее заменяет. Роль руки в перцептивном, в частности осязательном, познании трудно переоценить: она оптимально и продуктивно считывает пространственную информацию об объектах познания. В познании и общении распространен «ручной язык» — язык жестов с использованием пальцев рук путем их комбинаторных сочетаний друг с другом, а также в комбинациях рук с другими органами и частями тела.
Наряду с осязательными ощущениями контактное считывание когнитивной информации свойственно вкусовым ощущениям, работа которых обеспечивается движениями рта, губ и языка. Вкусовая и осязательная (особенно ее тактильно-механические, кинестетические и температурные особенности) модальности отличаются тесным энергетико-информационным взаимодействием. Так как вкусовые ощущения выражают органическую потребность в пище, удовлетворении голода, то они сосредоточивают в своих недрах огромные ресурсы мотивации человеческого поведения. Три других вида ощущений — обо
няние, слух и зрение — относятся к дистантным анализаторам перцептивной информации. Обонятельные ощущения или информационно-когнитивные значения запахов обеспечиваются работой телесных структур носа. С их помощью удается фиксировать информацию о пространственно-временном перемещении источников запаха. Формирование траектории перемещения запаха позволяет успешно ориентироваться в окружающем мире. Наибольшая когнитивная нагрузка в сенсорной организации ощущений приходится на органы зрения и слуха — оптические структуры глазодвигательного и акустические структуры ушного аппаратов. Именно благодаря их работе обнаруживается разница между когнитивно-перцептивными возможностями дистантных и контактных органов тела. С перцептивной работой глаза асоциируется метафора «смотрящего тела», а с распознающими функциями уха — метафора «слушающего тела», на основе которой М. Хайдеггер разработал известный принцип вслушивания в бытие. Познавательные эффекты обоняния, зрения и слуха в существенной степени зависят от движений, поворотов головы, определяющих, например, ракурс, точку зрения. Вообще говоря, дистантное и контактное действие ощущений по-разному обеспечивается элементами врожденности телесных структур и опыта воспринимающего тела. Рассматривая познавательные особенности перцептивно-телесных структур человека лишь в самом первом приближении, нам не удастся сколь-нибудь подробно обговорить когнитивную работу каждого из видов ощущений. Наша задача — наметить те общие свойства ощущающего тела, благодаря которым становится возможным перцептивное познание, протекающее на сенсорно-моторном уровне. К ним относятся свойства пространственно-временной структуры ощущений, свойства модальности и интенсивности ощущений.
Способности проецировать пространственное местоположение или локализацию объекта и фиксировать временную длительность и последовательность его информационно-когнитивного воздействия на органы чувств являются исходными универсальными свойствами ощущений. Проекция локализации объекта выражает свойства его соотнесенности с другими объектами, с окружением. Свойства длительности выражают интервалы между моментами времени восприятия объекта, а свойства последовательности упорядочивают отношения между прошлыми, настоящими и будущими моментами вре
мени. Природа проективных способностей пространственно-временной идентификации объекта нашими ощущениями проблематична. Если допустить, что познавательный (в данном случае — перцептивный) образ человека отличается от информационно-когнитивного образа животного, то логико-психологические аргументы в пользу тезиса о специфичности и обусловленности пространственно-временных свойств перцепции и тела нашим опытом оказываются весьма правдоподобными.
Во всяком случае постулату И. Канта об априорности пространственно-временных структур восприятия и тезису об интуиции чистой длительности как врожденном чувстве, по А. Бергсону, не откажешь в здравом смысле.
Объект приобретает для нас когнитивное значение тогда, когда мы воспринимаем его перемещения в пространстве — времени или неизменность его местоположения во времени, определяемого сенсомоторной динамикой наших органов чувств (например, движениями глаз). Перцептивное воспроизведение движения объекта достигается за счет чувственного различения движений нашего собственного тела и его органов. При этом следует обратить внимание на перцептивную способность распознавания информации о пространственных свойствах в терминах временных значений и о временных свойствах в терминах пространственных значений. В экспериментальной психологии это связывают с взаимообратимой работой пространственных и временных механизмов сенсо-моторики телесных структур: сенсорное отображение симуль-тантного (одновременного) пространственного местоположения объекта есть результат сукцессивного (последовательного) считывания информации во времени, и, наоборот, последовательное воспроизведение движения подразумевает исходные пространственные координаты отсчета в их симультантном значении.1 Таким образом, пространственно-временные способности органов телесной организации являются первейшими всеобщими и необходимыми условиями возможности перцептивного познания.
Другой общей характеристикой ощущений является их модальность. Модальность ощущений зависит от природы структур и функций соответствующих им органов тела. Виды
1 Подробнее см.: Веккер Л. М. Психические процессы. T. 1. Л., 1974. С. 145—153.
ощущений классифицируются именно по признакам модальности. Так, модальные признаки твердости, шероховатости, гладкости, холода, теплоты и т. п. соответствуют осязательным или тактильным ощущениям; модальные признаки горького, сладкого, терпкого и т. п. — вкусовым ощущениям; модальные признаки обоняния выражают всевозможные ароматные или парфюмерные значения; зрительные ощущения отличаются модальностью цвета, светлоты, насыщенности, яркости и т. п.; наконец, к модальным признакам слуховых ощущений относят тональность, интонацию, ритмичность, тембр, мелодичность, темп и т. п. В модальных свойствах воспринимающего тела сочетаются объективные значения предметного мира и субъективные особенности его ощущений. Так, если физические свойства твердости или упругости могут совпадать с субъективными значениями тактильных ощущений, то, как известно, свойства светового спектра не исчерпываются модальными значениями цвета, присущими зрительным ощущениям. Наши глаза чувствительны лишь к видимым цветам. За пределами зрительных ощущений остаются инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Наш слух не в состоянии воспринять ультразвуки и т. д. Другими словами, возможности наших ощущений ограничены, и мы можем различать ограниченный набор информации, поступающей из внешнего мира. Факт существенного расхождения между объективными и субъективными значениями информации, составляющей когнитивную «начинку» наших ощущений, послужил поводом известной дискуссии о первичных и вторичных качествах в классической философии. Но независимо от философско-психологической проработки объективно-субъективного баланса информационных значений в ощущениях любого вида, модальные способности оказываются неотъемлемыми условиями перцептивного познания.
Еще одна универсальная способность ощущающего тела — его интенсивность — позволяет выразить результаты перцептивного познания в количественной форме. Точнее говоря, интенсивность — это количество энергетических затрат тела, необходимое для восприятия информационно-когнитивных значений различными модальностями. Величина интенсивности ощущений распределяется по степени: степень яркости света или цвета характеризует зрительные ощущения, слабая или сильная громкость, низкий или высокий тон — слуховые
ощущения, температурные изменения по принципу «горячо-холодно» — осязательные ощущения и т. д. В итоге количественные возможности перцептивного познания определяются конкретной степенью интенсивности ощущений каждого вида.
Реальное протекание процессов воспринимающего тела исключает работу его модальностей в автономном режиме, не зависящем от воздействий других модальностей, а также от перцептивных процессов более высоких уровней и от остальных процессов сознательной и бессознательной деятельности человека (мышления, эмоциональных переживаний, воли, памяти, воображения, интуиции и др.). В свою очередь, роль воспринимающего тела имеет сквозное, всепроникающее значение и проявляется не только в любых актах познавательной деятельности, но и в любых актах жизни вообще. Оно принимает участие в когнитивных процессах различения, отождествления, идеализации, обобщения и абстрагирования, в аналитико-оценочных процессах эмоциональных переживаний страха, радости, оценки на вкус и т. п., в регулятивноволевых процессах хотения, желания, терпения, достижения цели, преодоления препятствий и т. п., в мнемических процессах запечатления, хранения, воспоминания и забывания информационных значений предметного мира. Влияние каждой перцептивной модальности на процессы сознания и жизни человека возможно лишь благодаря ее вкорененности в его телесную организацию в целом, а через нее — в связь с природой, историей, культурой и общением.
Чувственный образ
Пространственно-временная сенсорика, модальность и интенсивность воспринимающего тела сохраняют свое исходное и сквозное значение для вышележащих уровней перцептивной организации. Они выражают первичные, базисные свойства образов восприятий и представлений. Поэтому эмпирическая классификация видов чувственного образа и представления аналогична делению на виды ощущений. Например, зрительным или слуховым ощущениям соответствуют зрительные или слуховые образы восприятия и представления. Следуя стратегии нашего анализа, здесь речь пойдет о всеобщих и необходимых условиях формирования чувственного образа как целостного образа перцептивного познания. Богатейший фактический материал психологии восприятия очень разнообра
зен и отличается большой теоретической и экспериментальной разрозненностью. В философском отношении наибольшая значимость сопутствует трем направлениям современной психологии восприятия: гештальтпсихологии, когнитивной психологии и экологической теории зрительного восприятия.
Гештальттеория восприятия, развиваясь с начала XX в. и вплоть до сегодняшних дней, получила весомые результаты. Они стали общим достоянием гуманитарных наук. Гешталь-тистские идеи оказали серьезное воздействие на философскую феноменологию (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти и др.), на философскую антропологию Э. Кассирера, на культурологию. В частности, было показано, что образ восприятия определяется действием таких когнитивных факторов, характер которых существенно отличается от свойств ощущений. Гештальти-сты построили очень сложную иерархическую модель полевой организации когнитивно-психических процессов. Нижние ярусы этой модели отводились под биофизические и физиологические поля; над ними надстраивались ярусы с психосоматическими структурами; следующие ярусы отводились полевой организации образов восприятия и представления; вышележащие ярусы занимала полевая структура мыслительных процессов. Сам принцип полевой организации переносился на объяснение жизнедеятельности личности и человеческих отношений. Отношения между уровнями подобной иерархии строились по принципам взаимного соответствия, несводимо-сти и специфичности каждого из них, что не исключало их влияния друг на друга.
Когнитивистская парадигма в психологии восприятия сформировалась в последние три десятилетия. Ее продуктивность связана с разработкой теоретико-информационных моделей восприятия и так называемой компьютерной метафорой. Процессы восприятия стали рассматриваться как процессы переработки когнитивной информации, а затем и как процессы информационного обмена человека с окружающим миром. Особое значение здесь приобрели исследования проблем концептуализации восприятия и роли восприятия в процессах мышления — способности делать выводы индуктивного и дедуктивного характера, основываясь на перцептивных данных различной модальности. Когнитивная психология интегрировала многие достижения гештальтистских, бихевиористских и генетико-психологических концепций. Она заметно
повлияла на неопрагматическую теорию познания и философию науки и техники.
В последней четверти XX в. приобрела известность экологическая концепция восприятия Дж. Гибсона.1 Центр тяжести своих исследований восприятия он сосредоточил вокруг вопроса «Что мы воспринимаем?». Его исходный тезис состоит в том, что в процессе восприятия человеку противостоит не физический, а экологический мир, т. е. мир, который его окружает. В образах восприятия экологический мир открывается: 1) как мир встроенных друг в друга объектов и элементов — мелкие объекты и элементы встроены в более крупные, которые, в свою очередь, встроены в еще более крупные и т. д.; 2) как мир возможных значений. Возможности окружающего мира относительно человека-наблюдателя объективны, реальны и физичны. Но их восприятие человеком придает им субъективный, феноменальный и духовный характер. Поэтому возможности мира — одновременно и факты окружения человека, и факторы его перцептивных способностей. Возможности окружающего мира разделяются на возможности природного окружения и возможности искусственного окружения (мир культуры). Они всегда обращены к человеку. Он изменяет окружающий мир, вслед за этим изменяются и возможности, которые мир ему предоставляет. Создав искусственный мир, человек наделил его возможными значениями, отличными от возможностей самой природы. Воспринимая возможности окружающего мира, человек воспринимает их в гораздо меньшем объеме значений, нежели тот, которым обладает мир. Система зрительного восприятия — это система, включающая в себя совокупность динамичных и согласованных друг с другом органов тела — «структуры глаз — структуры головы — организации тела в целом».
Названные подходы к проблеме восприятия лишь намеком дают понять о сложности и альтернативности ее эмпирикотеоретических решений в психологии, тогда как в философии судьба перцептивной проблемы во многом предопределялась ее трансцендентальной аналитикой (по крайней мере со времен Дж. Беркли и И. Канта). Подобное разделение труда между философами и психологами никогда не было жестким. Фило
1 См.: Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию, М., 1988.
софы часто апеллировали к психологии восприятия, конкретизируя трансцендентальный дискурс о том, как возможно человеческое познание. Психологи же вели себя более осторожно по отношению к трансцендентальным экскурсам о природе чувственного образа, предпочитая весомость наблюдений и экспериментальных заключений. Не преследуя цель «убить» эмпириков-психологов философским аргументом и даже, напротив, опираясь на их результаты, попробуем сделать набросок обобщенного эскиза формирования чувственного образа. В нем будут представлены основные условия восприятия, имеющие трансцендентальное значение, т. е. всеобщие и необходимые условия, которые определяют его возможности в качестве познания. Только идентифицировав эти условия, можно, в свою очередь, говорить о восприятии как всеобщем и необходимом условии всякого познания в рамках любого философского дискурса.
Прежде всего в отличие от ощущения в образе восприятия достигается познавательный эффект максимальной адекватности предметных значений информации об объекте. Так, если возможности зрительного ощущения ограничены проекцией локализации объекта и воспроизведением его последовательного перемещения в пространстве-времени, то в зрительном образе значения объекта несут информацию об объемности (трехмерности) его формы и ее величине. Проекция как универсальное свойство перцептивно-телесной организации человека получила экспериментально-психологическое обоснование в гештальтпсихологии и широко используется в философско-феноменологических теориях познания. Проективная способность перцептивного образа упорядочивает когнитивную информацию в целостно-связную организацию с характерной для нее модальностью. Благодаря ей восприятие считается познавательным процессом интегрально-целостных преобразований информации, в ходе которого фиксируются индивидуальные предметные признаки объекта. Есть основания полагать, что образ восприятия репрезентирует, представляет предметные значения объекта, т. е. отношения между ними репрезентативны, а не причинны. Объем предметноинформационных значений самого объекта превышает объем значений, «считываемых» в чувственном образе. Поэтому восприятие одного и того же объекта разными людьми может заметно отличаться по составу своих предметных значений,
а их точки зрения на один и тот же предмет могут существенно отличаться друг от друга.
Пространственно-временное механизмы восприятия обеспечивают идентификацию предметных значений объекта, независимо от того, является ли он объектом природы или объектом культурно-исторического мира (зданием, картиной, символом, текстом, речью и т. п.); предметность образа определяется его базисной когнитивно-информационной способностью, в результате действия которой приобретаются знания и опыт. Чтобы прояснить познавательное значение предметности образа, обратимся к элементарному случаю восприятия соотношения фигуры и фона — к примеру, давно известному в гештальтпсихологии. Данный феномен представляет двойственное изображение, состоящее из разнородных частей. Одну из них называют фигурой, вещью, а другую — фоном, на котором эта фигура воспринимается. Предметные особенности фигуры образуют определенное замкнутое пространство, отделяющее ее от фона (например, зеленая ваза на черном фоне). Фигура (ваза) воспринимается как передний план, а фон, на котором она находится, — как задний план. Фон простирается позади и вокруг фигуры и страдает чертами неопределенности. Фигура на фоне обладает значениями большей предметности, нежели фон.
Оказывается, что в восприятии фигура и фон могут меняться местами, т. е. фон может превращаться в фигуру, а фигура становиться фоном. При этом фон, не имея пространственной определенности (замкнутости), тогда превращается в фигуру, когда он приобретает в восприятии статус определенного замкнутого пространства. То, что было ранее фигурой, превратившись в фон, утратило в восприятии свою предметную определенность. Важнейший признак, с помощью которого в восприятии осуществляется разграничение между фигурой и фоном, называют контуром. Контур — общая граница между пространственным полем фигуры и пространством фона. При их восприятии фигура по сравнению с фоном гораздо сильнее затронута формирующим действием общего контура. Фигура предстает устойчивым образованием, а фон — зыбким. Тем самым тенденция предметизации перцептивных знаний о фигуре более значима, чем предметное восприятие фона. Подобная тенденция характерна для восприятия любых видимых явлений окружающего мира: восприятие, как писал Э. Гус
серль, есть феноменологический акт схватывания сущности предмета, акт, позволяющий судить о предметных значениях вещи или ситуации.1
С предметностью образа органически связана его другая способность — способность упорядочивания когнитивно-перцептивных элементов образа в целостно-связную структуру. Если благодаря свойствам предметности удается различать и отождествлять значения отношений между элементами внутри фигуры, а также сопоставлять их с внешними значениями фона, то свойства целостности выражают универсальный принцип связи значений разных частей (фигуры и фона) к значениям целого. Целостность чувственного образа, так же как и его предметность, нашла экспериментальное обоснование в гештальтпсихологии. Было выявлено два класса когнитивноперцептивных закономерностей: 1) закономерности примата целого по отношению к восприятию частей; 2) закономерности объединения частей в целое. Доминирование принципа целостности в организации элементов наблюдается в трех своих разновидностях. Во-первых, один и тот же элемент, встречающийся в разных целостных структурах, воспринимается по-разному. Например, при восприятии желто-зеленого кружка в окружении сине-зеленых он идентифицируется как зеленый, а при его же восприятии в окружении желтых кружков он видится как желтый. Во-вторых, если заменить одни элементы целостной структуры образа на другие, сохранив при этом характер соотношения между элементами, то целостность восприятия не нарушится. Например, музыкальная мелодия, исполняемая на разных инструментах и в различной интерпретации, будет восприниматься как одна и та же. В-третьих, целостность структуры образа может наблюдаться даже в случае выпадения ее отдельных элементов. Например, целостность восприятия текста будет сохраняться, если произойдут выпадения из него отдельных слов или выпадения букв из слова. Аналогичные факты подтверждаются при восприятии музыкальной мелодии (особенно знаковой) в условиях весьма сильных помех.
Другая группа закономерностей целостности восприятия выражает зависимости способов объединения элементов
1 См.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии, М., 1994. С. 61.
в интегральную структуру. В гештальтпсихологии имеется довольно обширный перечень действий подобных факторов. Перечислим некоторые из них. Фактор прегнантности, или хорошей формы, характеризует стремление структуры конфигурации упорядочить свои элементы в процессе восприятия так, чтобы превратиться в точную и выразительную. И хотя отчетливые критерии «хорошей формы» отсутствуют, все же можно говорить, например, о том, что при восприятии округлых тел обнаруживается их стремление к форме окружности, а при восприятии линии, напоминающей прямую линию, — к прямой. По крайней мере эмпирические данные позволяют с уверенностью утверждать, что стремление к хорошей форме определяет степень однородности ее элементов по каким-либо пространственным или временном признакам (ритмичность, длительность, симметричность, рядоположен-ность и т. п.). Фактор простоты определяет тенденцию перцептивных структур по направлению к большей однородности и уменьшению различий. Речь идет об объединении элементов структуры на основании их сходства, общности по пространственным, временном или модальным признакам (например, по форме или цвету). Фактор пространственной или временной смежности способствует объединению элементов по признакам наименьшего расстояния. Фактор замкнутости структуры образа выражает стремление элементов принадлежать к одним и тем же предметным особенностям явлений. Фактор компенсации перцептивной структуры означает, что изменение в одной ее части возможно только за счет изменения ее в другой. Фактор продолжения формы — до ее соответствия целостной структуре. Этот фактор указывает на реальную возможность существования перспективы объединения частей в целостную композицию. Фактор общей судьбы в перцептивном познании фиксирует обстоятельства, при которых любое изменение в частях структуры, противоречащее общей тенденции восприятия целого, будет подавляться. Каждый из названных факторов может быть понят как вариант, как частный случай реализации действия общего принципа целостности структуры образа. Говоря на языке динамики формирования чувственного образа, познавательная роль любого фактора сводится к ограничению степеней свободы элементов, частей, которые интегрируются в целостную структуру. Таким обра
зом, формирование чувственного образа предполагает примат целостности его структуры по отношению к ее элементам.
Если целостность и предметность чувственного образа «ответственны» за его спецификацию среди других перцептивных структур, то обобщенность образа является его интегральной способностью, реализующей двуединую функцию. С одной стороны, она представляет особый перцептивный способ обобщения когнитивной информации и в этом качестве продолжает список отличительных черт восприятия. С другой — обобщенность образа интегрирует все достоинства сквозной закономерности перцептивного познания, которая пронизывает все уровни его организации от телесно-перцептивных структур ощущений до структур представлений, достигая максимума перцептивной адекватности образа источникам информации или познания. Непосредственность столкновений наших образов восприятия с информационно-когнитивными значениями окружающего мира вовсе не исключает их перцептивную обобщенность. Конечно, она формируется под влиянием различных структур прошлого опыта человека и перцептивного опыта, в частности языка и знаковых средств, знаний, мышления и воображения. В обобщенности восприятия интегрируется информация о значениях внешнего и состояния внутреннего мира человека, поставляемая разными модальностями ощущений. Перцептивная обобщенность содержит элементы аналитики переживаний и эмоциональной оценки, проявляющихся в выборе фокуса зрения или слуха. С обобщенностью связываются исследовательские функции восприятия формы, величины, местоположения, направленности, длительности и последовательности времени движения, которые в своей совокупности формулируются в виде перцептивных гипотез-предвосхищений, их возможных проверок, подтверждений или опровержений. Обобщенность образа — исток рефлексивного мышления, базирующегося на перцептивных модальностях: можно смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать. Как отмечал Дж. Брунер, основная функция восприятия — это функция категоризации — функция обобщенного отнесения объекта к определенному перцептивному классу свойств (например, округлая форма, желтый цвет, шероховатая поверхность, сладкий с кислинкой вкус и другие свойства позволяют провести перцептивную идентификацию апельсина).
Отнесение, например, равносторонних и разносторонних треугольников или квадрата, прямоугольника и параллелограмма соответственно к треугольным и четырехугольным фигурам предполагает действие обобщенности образа их восприятия. Обобщенный образ треугольное™ и четырехугольно-сти соотносится с каждой конкретной фигурой как инвариант с вариантами. Подобное действие перцептивной обобщенности напоминает формирование родовидовой структуры понятия. Кстати, обобщенность зрительного образа вообще носит полимодальный характер. Зрительное восприятие играет ведущую роль по отношению к другим модальностям, подпитывающим и обогащающим его дополнительной и более конкретной информацией. Сам же внутренний мир перцептивной реальности, интегрируемый в обобщенных значениях всей совокупности чувственных модальностей, в значительной мере составляет душевный материал бессознательного опыта и имеет отчетливую тенденцию к его символизации. Напомним, что термин «символ» используют тогда, когда хотят одно явление заместить другим. Символизация перцептивного образа направлена из внутреннего мира чувственной реальности вовне. Например, в живописи пейзаж, переносимый из сферы видимого мира на полотно, напоминает плоскостное изображение, которое и есть обобщенный образ на сетчатке глаза.1 Этот феномен объясним, во-первых, как результат проективных преобразований трехмерных объектов в двумерные объекты пейзажа; во-вторых, как результат символизации образа, обобщенное значение которого сложилось в полимодальной структуре перцептивной реальности. Первое объяснение «покрывает» все образы внешнего мира, аналогичные образам реалистической, натуралистической живописи. Второе объяснение проходит тогда, когда нам требуется интерпретировать такие объекты-образы, как, например, образ кентавра или сходные с ним понятия-образы. На этом пути возникает сложнейшая задача определения взаимодействия познавательных механизмов восприятия и воображения, ибо «кентавр» — это во многом продукт работы воображения в сочетании с действием проективной способности восприятия, направленного изнутри вовне. В связи с этим оправдывается кантовское определение воображения в качестве трансцендентальной способ
1 См.: Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
ности и универсального условия познания. Порождение символов-образов типа «кентавр» осуществляется совместными усилиями механизмов временного проектирования воображения и пространственной проекции восприятия, что приводит к общему познавательному эффекту наложения данного образа на подобие объектов внешнего мира. По-видимому, аналогичный вывод можно сделать и о результатах совместных усилий перцептивных и мыслительных процессов. Обобщающая способность образа восприятия создает необходимые условия для того, чтобы на основе перцептивных данных различной модальности рассуждать и продуцировать новые знания. Когнитивные стратегии человека, воспринимающего предметные значения мира природы и мира культуры, выходят за пределы обычных способов восприятия.
Образ представления
Способность представлять — это такая универсальная способность человека, вопрос о которой возникает всякий раз, когда заходит разговор о перцептивном характере нашего познания. Начиная с повседневной жизни человек представляет, что у него может получиться в результате осуществления каких-то конкретных действий (приготовления пищи, разговора с кем-либо, поездки куда-либо, написания какого-то текста и т. п.). В представлениях подобного рода фиксируется содержание образа вашего ближайшего или отдаленного будущего. С образом представления будущего у вас складываются определенные ожидания. Вместе с тем вы можете представить то, что когда-то ранее уже наблюдали при его непосредственном восприятии. Ваш образ восприятия, отнесенный к прошлому времени, трансформируется в образ представления в настоящий момент. Способность представления позволяет вам воспроизвести прошлое в настоящем и сконструировать образ будущего. Образ представления служит вам в качестве эвристического способа получения знаний, в том числе и их новых элементов.
Способность представления глубоко коренится в основаниях телесно-перцептивных структур человека. По сути дела любые структуры тела — это не просто иммитационные структуры, а структуры, которые всегда что-то представляют. Так, ощущения и восприятия могут представлять информационные значения с разными пространственными и временными огра
ничениями. Целостный образ восприятия может представлять ощущения различной модальности.
Чтобы разобраться с познавательным статусом образов представления, сравним их с особенностями образов восприятия и знаков. Все три понятия — образ представления, образ восприятия и знак — характеризуются общей способностью репрезентации, которая у них проявляется по-разному. Разница в их способности представлять что-либо оказывается очень значительной. Если отношения между объектом и его представленностью в образе восприятия отличаются непосредственностью пространственных и временных контактов, то отношения между объектом и его воспроизведением в образе представления опосредованы. Информационные значения образа представления черпаются не из его непосредственных отношений с объектом, а извлекаются из памяти — хранилища прошлого опыта непосредственных восприятий. Тем самым чувственный образ объекта, воспринятого когда-то в прошлом, превращается в исходный материал представления. Помимо памяти и прошлого опыта, факторами, опосредующими репрезентативную способность, могут быть разнообразные объектные, субъектные и инструментальные факторы познания. Какие бы трансформации ни претерпевал образ представления объекта, он сохраняет с ним сходство (хотя бы и очень отдаленное). В отличие от опосредованного сходства объекта с образом его представления, непосредственное сходство объекта с образом его восприятия является исчерпывающим по своим пространственно-временным значениям. Адекватность пространственновременной структуры представления конфигурации объекта нарушается. При сравнении презентационных возможностей образа представления и знака виден факт сходства с объектом его образа представления и отсутствие сходства в отношениях знака и обозначаемого им объекта (вещи, предмета). Способность представлять объект в знаковой структуре обеспечивается произвольными и конвенциональными качествами ее природы. Другими словами, репрезентацион-ные ресурсы любых знаковых систем, начиная с естественных языков, черпаются из интерсубъективной природы общения, культуры и истории, тогда как основные ресурсы образа представления являются ресурсами человеческой перцепции, хранящимися в прошлом опыте человека, в структурах его памяти. Именно поэтому образы представления часто называли и назы
вают вторичными образами восприятия. Что касается функционального сходства способностей образа представления и знака, то его заметили давно, еще в классической теории познания (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Кондильяк, Г. Гельмгольц и многие другие). Современный ход философско-психологических рассуждений об образе представления обращает внимание на анализ последствий, которые вытекают из воздействия на него не только свойств знака и языка, но и процессов мышления и воображения. Однако рассмотрение таких сюжетов ввергло бы нас в пучину сложнейших сплетений познания и нарушило бы прозрачность методических требований учебного пособия.
Оценивая познавательную роль презентативной способности человека (и роль образов представления, в частности), мы отдаем себе отчет в том, что она является важнейшим выразителем операциональных средств и приемов преобразования информационных значений внешнего и внутреннего мира человека, освоенных в культурно-историческом и индивидуальном опыте. Здесь мы сосредоточимся лишь на принципиальной характеристике тех закономерностей образа представления, которые выражают его перцептивно-когнитивные возможности — возможности, обладающие значениями всеобщности и необходимости условий человеческого познания.
Уже в свойствах обобщенности чувственного образа, о которых речь шла выше, проявляется способность к категоризации объекта, т. е. отнесение его к определенному классу. Обобщающая функция образа представления реализует тенденции концептуализации объекта в более выраженных формах, в формах так называемых конфигуративных понятий. Представление свойств цвета, например, сопряжено как с извлечением из памяти ранее воспринятых цветовых эталонов, так и с отнесением цвета к соответствующему понятию и связанному с ним названию — слову. И хотя структуру представления еще нельзя считать понятийной формой мышления, но она уже содержит все необходимые конфигуративные возможности перехода к логическим операциям образования понятий. Образ представления оказывается необходимым звеном, связующим процессы восприятия, речи и мышления в познавательной деятельности человека. Изобразительность, конфигуративность и вербальность в качестве свойств репрезентативного обобщения с наибольшей полнотой реализуются при рисовании.
С помощью рисунка можно представить даже самое отвлеченное понятие или идеализированный объект. Образ того представления о предмете (понятии), который изображается на рисунке, может иметь очень обобщенный характер, не утрачивая связи с перцептивной природой своего происхождения. Представления могут быть чувственно конкретными, насыщенными информационным материалом различных перцептивных модальностей и очень отвлеченными, в которых могут фигурировать лишь геометрические (кружки, линии, многоугольники, точки и т. п.) или топологические (пятна, схемы и т. п.) формы. Абстрактность перцептивной обобщенности представлений может достигать таких степеней, что в представляемых сюжетах сходство с источниками утрачивается, а смысловое содержание становится скрытым. Экспликация абстрактных представлений (например, в живописи) требует обязательного вербального, словесного сопровождения. Существенную роль в создании ирреальных (например, сказочных образов или образов типа сфинкса) и абстрактных образов представлений играет воображение.
Каждое представление располагает информацией о собственном прошлом, о накопленных памятью чувственных образах. Презентация этой информации в образе представления обозначает перенос ее значений из структур прошлого опыта в структуры представления настоящего времени. Эта цель в реальной когнитивной практике никогда не может быть достигнута адекватным образом. Структура представления никогда не может достичь тех эффектов целостности, которые столь типичны для структуры восприятия, — она имеет выраженную тенденцию к схематизации. Свойства проективной репрезентации — это измененная геометрия образа, измененная метрика его пространственной и временной формы, измененная в направлении от геометрической схемы к топологической. Схематизм представлений выражает активную организацию прошлого опыта, вносящую в их структуры существенные коррективы. Продуктивность подобной схематизации заключается в целостности организации прошлого опыта. Все поступающие когнитивно-информационные значения о зрительных, слуховых и образах других модальностей воспроизводят структуру представления на перцептивном уровне, а остальная совокупность значений прошлого опыта — значений языка, мышления, повседневной жизни и т. п. с учетом
их культурно-исторической и индивидуально-личностной дифференциации — на более высоком уровне познания. Наверно, здесь следует упомянуть и о репрезентации информационных значений из сферы бессознательного, ибо, пожалуй, нет другого столь универсального способа распознавания образов бессознательного, каким является их представление. Образы бессознательного можно «вытащить» в сферу рациональности только с помощью представления и затем уж их анализировать, привлекая другие средства (интерпретацию и т. п.). Только при презентации образов бессознательного надо учесть, что если в сфере рациональности представления царят правила с исключениями, то в царстве бессознательного господствуют исключения из правил.1 Радикальность подобного способа различения рационального и бессознательного не превращает границы между ними в непроходимые для репрезентативной способности человека.
В чем состоят «исключения из правил», которым подчиняется формирование образа представления? Схематизм структуры представления скрывает такую когнитивную активность, при какой открывается доступ к изменениям информационных значений и могут появляться новые значения. Схема представляемой информации образует своего рода матрицу, протоформу, обусловливающую приведение значений образа представления к конкретному виду. Такая схема «ставит» барьер на пути извлечения информации из памяти.
В процессе представления могут «теряться», «пропадать» большие информационные массивы. Подобные информационные «издержки» являются следствием направленности проективных преобразований пространственно-временных форм образа представления к их топологическим свойствам, формирующим его панорамность. Пространственная панорам — ность представления позволяет преодолевать границы видимого перцептивного поля, представлять, что находится за ними. При воспроизведении отдельной фигуры можно представить те ее части (например, вид сзади), которые не попадают в поле зрения. Если, например, напомнить феномен соотношения фигуры и фона, то при представлении фигуры ее можно отде
1 Перифраза одного высказывания Р. Музиля. См.: Музиль Р. Очерк поэтического познания // Литературная учеба. 1990. № 6. С. 188.
лить от фона. Панорамность представления открывает когнитивный простор для новых возможностей познания.
Схематизация временной структуры представления (например, слухового воспроизведения мелодии) заключается в возможностях репрезентативных операций над свойствами последовательности и длительности времени. Значения последовательности смены состояний могут трансформироваться в образе представления в одновременную структуру, в которой динамика последовательности окажется затушеванной или вовсе может отсутствовать. Репрезентативные операции над длительностью времени заключаются в эффектах его растяжения или сжатия. Фактор длительности времени сказывается на устойчивости представления. Чем дальше по времени отстоят представляемые события, тем неустойчивее их образ представления. В процессах представления непрестанно идет борьба со временем, большой масштаб длительности которого приводит к выпадению отдельных информационных фрагментов их структур. Умение представить прерывность времени формирует образ ритмического и повторяемого. Когнитивная ценность представления состоит как раз в том, чтобы выработать способность повторения опыта. Ведь продуктивность и истинность познания вообще зависят от возможностей повторения его результатов. Воспроизводя в структуре образа представления какое-то явление или событие, необходимо отдавать отчет в различиях его информационных значений.
Если память просто хранит информацию, то в представлении мы имеем дело с информацией в настоящий момент времени. Конечно, уже сам по себе акт репрезентации прошлой информации приобретает познавательное значение. Но в структуре представления значения информации, извлеченной из прошлого опыта, таят в себе возможности выхода к искомому, новому знанию. Возможности преобразований информации в представлении позволяют варьировать воссоздаваемый образ. А от репрезентативных вариаций с образом — один шаг до мысленного экспериментирования и моделирования.
Репрезентативное познание — это особый случай познания, когда объектами процессов, протекающих в настоящее время, становятся образы прошлого опыта, а временная пропасть между ними преодолевается человеческой способностью представления. Наряду с ретроспективной функцией представления,
его обращенностью к прошлому, принципиальным достоинством репрезентативной способности является еще ее проспективное качество. Сразу следует оговориться, что адекватность представления будущего страдает большей фрагментарностью и неустойчивостью своих структур. Проспективное представление в значительной мере зависит от информационной насыщенности значений прошлых образов. Оно «выдает» некоторую доконцептуальную модель будущего, точнее — фрагмент или совокупность фрагментов будущего. Правда, представляемые фрагменты могут наделяться существенными значениями информации, и среди них могут содержаться и элементы новых знаний. Особый класс проспективных функций представления образуют функции намерения. Под ним подразумеваются способности к намерению представлять что-либо. Согласно К. Левину, намеренное представление придает тому, что представляется, положительную или отрицательную валентность.1 Если образ представления приобретает положительную валентность, то такое представление находит когнитивную реализацию; если ему приписывается отрицательная валентность, то намерение что-то представить утрачивается. Проспективные функции репрезентативной способности (включая и функции намерения) выражают повседневно-практическую потребность людей в планировании своих действий. План — это схематический образ представления того, что необходимо сделать. Представление в образе плана обладает гибкостью: одни элементы такого представления можно легко изменить, чтобы его выполнить. Мы можем представлять в плане то, что хотим запомнить или сказать, то, что ищем (исследуем, познаем), то, по поводу чего мы принимаем решение. Действие проспективных функций представления в познании избирательно по отношению к значениям информации, вариативно, т. е. содержит определенный набор вариантов образа представления, намеренно и основывается на оценке.
Ж -к -к
Функционирование реальных процессов познания исключает «чистые» и независящие друг от друга преобразования информации в телесно-перцептивных структурах ощущений,
1 См.: Lew in К. A Dinamic Theory of Personality: Selected Papers. New York; London, 1935.
восприятий и представлений. Перцептивные процессы интегрируются, воздействуют друг на друга, наблюдается синтез перцептивной информации различных модальностей (осязательных, вкусовых, обонятельных, слуховых, зрительных и кинестезических). Замечено, например, что зрительный образ восприятия или образ зрительного представления играет ведущую роль в чувственном познании, способствуя оптимизации потоков информации и преобразования ее значений. Непременными «участниками» перцептивного познания оказываются разнообразные факторы культуры, истории, общения, человеческого опыта и сознания. Их влияние на перцептивные процессы порой глубоко скрыто, законспирировано. Следствия, извлекаемые из этих трансцендентальных ограничений всякого познания, указывают на их активизирующую роль в перцептивных процессах. Они оказываются столь же необходимыми и всеобщими условиями перцептивного познания, сколь, в свою очередь, необходимой и всеобщей является каждая его форма для познания в целом. От вопроса о специфике когнитивной роли перцептивных способностей человека трудно уйти любой теории познания. С ответом на этот вопрос связана сила теоретико-познавательных аргументов. Он неизбежно встает в философии познания, и даже отказ от него символизирует вполне определенную позицию. Опыт решений перцептивной проблемы в истории и современной философии свидетельствует, что обсуждение ее еще очень далеко от исчерпывающих ответов.
§ 2. Психология мышления
Поиски специфики мышления обычно начинаются с установления признаков, отличающих его от перцепции. Во всяком случае такова гносеологическая традиция, сложившаяся в классической философии и не утратившая поныне своего значения. Благодаря ей широко распространено определение мышления как процесса опосредствованного и обобщенного воспроизведения существенных связей между явлениями, давно уже ставшее типичным. Без признаков «опосредство-ванность», «обобщенность» и «воспроизведение существенных связей» не обходилась, пожалуй, ни одна из сенсуалистических или рационалистических версий мышления. Философские рас
хождения между сенсуализмом и рационализмом возникали сразу же, как только приступали к конкретизации традиционных «универсалий» мышления в терминах языкоречевых, понятийно-логических и нагляднообразных принципов. Известно, что сенсуалистическая гипотеза нивелировала различия перцептивных и мыслительных процессов, тогда как рационалистический взгляд усматривал принципиальный рубеж между ними.
До сих пор сторонники сенсуалистических идей в теории познания подразумевают под мышлением более сложные (по сравнению с перцепцией) образно-чувственные ассоциации, а рационалисты сводят перечень специфических признаков мышления к свойствам его языкоречевых и понятийнологических форм. Принципиальный смысл сенсуалистической точки зрения заключается в том, чтобы не признавать за мышлением никаких особых, отличных от перцептивных, свойств, а его обобщенность и опосредствованность считать производными от обобщенности и опосредствованное™ чувственных ассоциаций. При этом понятийные формы мышления редуцируются к чувственным формам-образам, высказывание — к ассоциативной последовательности «перцептивных» понятий, а умозаключение — к ассоциативному комплексу «перцептивных» высказываний.
Согласно рационализму природа мышления изначально предопределена языковыми и понятийными свойствами. Произвольность и условность языковых (речевых, знаковых, символических и логических) средств способствуют радикальному отделению мышления от перцепции. Мышлением можно называть лишь то, что выражено средствами языка и логики. По сути дела мышление тождественно языку и логике, а его признаки — «опосредствованность», «обобщенность» и «воспроизведение существенных связей» — приобретают логиколингвистические значения.
Современная гносеология считает сенсуалистические и рационалистические традиции прояснения специфики мышления необходимыми, но не достаточными. Дело в том, что они ограничиваются, как правило, анализом объектных возможностей мышления, т. е. анализом особенностей чувственнообразного, языкового и логического воспроизведения объекта в мышлении. Тогда как проблемы субъектной специфики мышления остаются в стороне от традиционного подхода или
в лучшем случае подразумеваются формально. Исследовательский опыт завершающего столетия, приобретенный особенно в философской антропологии, феноменологии, прагматизме, герменевтике, экзистенциализме, а также в психологии, лингвистике и смежных с ними дисциплинах, убедительно демонстрирует, что трудности определения когнитивной природы мышления возникают всякий раз при обращении и конкретизации ее субъектно-деятельностных оснований.
Мышление как предмет теории познания
Когда усматривают в мышлении одну из наиболее важных сущностных способностей человека, то оправдывается стремление не только отличить рациональные черты человеческого бытия от образа поведения животных. С понятием о мышлении связывают интегративный способ познавательной деятельности человека по удовлетворению своих потребностей в знаниях о мире, о других людях, о самом себе, в общении и передаче опыта одних поколений другим. Мышление сосредоточивает и реализует творческий потенциал человека, продуцирует новое знание, обеспечивая прогнозирование и принятие решений, анализ и разрешение проблемных ситуаций.
Если мышление есть рационалистическая способность человека как субъекта познания, общения, повседневной жизни, культуры и истории и если вся его когнитивно-творческая активность пронизана разнообразными индивидуальноличностными и интерсубъективными значениями своего носителя, организована в способах его жизнедеятельности, то, по-видимому, нельзя рассуждать о мышлении, «вынося за скобки» философского анализа проблемы его субъектной специфики. Мышление внедрено в своего носителя-субъекта точно так же, как, скажем, сам человек связан с обществом. Насколько глубоко субъектные факторы влияют на мыслительные процессы и какие конкретные способы их субъектной организации значимы, зависит от того, в каком контексте культуры, истории и общественной жизни они протекают. Поэтому одинаково нельзя понять ни специфику мышления в отрыве от его субъектно-деятельностных оснований, ни самого субъекта, отвлекаясь от его мыслительных функций. Мышление — когнитивный способ существования и жизнедеятельности субъекта, и в этом смысле можно говорить, что его философ-
ско-гносеологический анализ есть вместе с тем и социокультурное исследование.
Пренебрежение субъектной характеристикой мышления как когнитивной деятельности породило ряд трудностей его понимания в традиционной гносеологии. Прежде всего речь идет о трудностях, связанных с известными иллюзиями «непосредственной данности объекта», «бессубъектности» и «спонтанной активности» мышления.
Сенсуалистическая версия иллюзии «непосредственной данности объекта» базируется на принципах типа «нет ничего в разуме, чтобы не было в чувствах» или «быть — значит быть воспринимаемым». Рационалистическая версия этой же иллюзии исходит из принципов субстанционализации языковых и понятийных способов замещения объекта в мышлении, например в картезианском или гегельянском духе. Чувственный образ, язык и понятие оказываются источниками, порождающими иллюзорный эффект непосредственной данности объекта в мышлении. Создается впечатление, что мышление оперирует с объектами, непосредственно данными в образе, языке или понятии.
Субъектно-деятельностная парадигма современного учения о мышлении «разрушает» подобные иллюзии. Образные, языковые и понятийные формы играют в мышлении роль инструментальных средств, способов получения знаний об объекте. С их помощью осуществляются мыслительные операции с предметными, когнитивно-информационными значениями объекта. Контакты человека с внешним миром не являются непосредственными и возможны настолько, насколько позволяют это инструментальные ресурсы чувственности, языка и логики. Он может осмыслять мир в той мере, в какой владеет своими чувствами, языком и логикой, а также и другими способностями своего сознания (эмоциями, волей, памятью, воображением, интуицией и т. п.). Таким образом, иллюзорные факты непосредственной данности объекта не согласуются с опосредующим действием субъектных механизмов и способностей человеческого мышления.
Другая иллюзия — иллюзия «бессубъектности» мышления — является оборотной стороной иллюзии «непосредственной данности объекта». Разговор об участии субъектных факторов в мышлении вообще излишен, если придерживаться традиционного подхода. Ведь он лишь номинально подразуме
вает понятие о субъекте как носителе мышления. Мышление преимущественно изображается процессом бессубъектного, безличностного, анонимного воспроизведения объекта. Чрезмерный отрыв мышления от субъектных оснований, а значит, и от повседневной жизни людей, от контекста культуры, истории, познания и общения значительно обедняет теорию познания, исключая из анализа партикулярность и сложность организации субъектной деятельности, интерсубъективные способы ее осуществления. Самая благодатная почва иллюзии «бессубъектности» обнаруживается в так называемых явлениях саморефлексии, или в мыслях о мысли. В частности, интроспективная методология позволяет достигать максимального «очищения» рефлексивных процессов от субъектных возмущений. За любой формой иллюзии «бессубъектности» маскируется вкорененность мышления в целостную организацию человеческой жизнедеятельности.
Объяснительные возможности субъектно-деятельностной парадигмы благотворно сказываются на преодолении иллюзии «бессубъектности» мышления и питаемых ею тенденций гносеологического объективизма. Этому в немалой степени способствует аргументация мышления в терминах социокультурной эволюции жизнедеятельности людей. Их жизненный мир, взятый во всем богатстве и разнообразии своих культурно-исторических изменений и проявлений, задает основные способы познавательного отношения к объекту. Есть все необходимые основания утверждать, что мыслительная способность человека, как и другие способы его сознательной и психической деятельности, претерпела длительнейшую социокультурную эволюцию. Правда, даже опираясь на изобилие конкретных данных и многочисленных гипотез о генезисе человеческого мышления,1 приходится говорить только в самых общих чертах. Здесь, в наших рассуждениях, мы по необходимости вскользь затронем принципиальный смысл идеи культурногенетической зависимости мышления от субъектных особенностей деятельности в целом.
1 Имеются в виду данные и гипотезы таких областей знания, как, например, культурологические (первобытная культура, мифология, история религии и др.), археологические, антропологические, психологические, лингвистические и другие, смежные с ними дисциплины.
Уже при первом, эскизном знакомстве с мышлением в качестве разновидности когнитивной деятельности мы видим его структурное сходство с общим строением человеческой деятельности. Это касается их сходства во всех узловых компонентах, характер которых проявляется в свойствах направленности (интенциональные свойства), инструментальной оснащенности (способы, средства, формы) и обусловленности (кондици-ональные свойства) деятельности. По существу, жизнедеятельность людей, как в ее интросубъектных (внутрисубъектных), так и интерсубъектных (межсубъектные отношения) способах организации, является социокультурным аналогом, архетипом мыслительной деятельности. Обращение к данным философской антропологии, археологии, теории антропогенеза, истории первобытной культуры, палео-лингвистики и т. п. позволяет судить о взаимосвязанности действия таких стержневых тенденций социокультурной эволюции мышления, как: изготовление и совершенствование орудий труда (техники), дифференциация и усложнение коллективных форм человеческой жизни и соответствующих им средств общения (жесты, знаки, символы, речь, язык); структурно-функциональные изменения антропологической конституции тела человека и нейрофизиологической организации его мозга.
Развитие сознания и мыслительных способностей человека, в частности на начальных этапах культурной истории, обязано главным образом совместному действию этих тенденций. Формирование мышления было продолжительным, противоречивым и многофазным историческим процессом, зависящим от инструментальных, интенциональных и коммуникативных способностей человека, а также от конкретных условий, в которых протекала его жизнь. Мыслительные функции на архаических фазах своего развития непосредственно «вплетены» в ткань человеческого поведения и образа жизни. Архаическое мышление — это телесное мышление, его средства и формы — кинематические средства и формы действий человеческого тела. Архаическое мышление оперирует наглядно-действенными и чувственно-образными формами, «ручными» и «подручными» средствами. Его характер нельзя отличить от перцептивных, эмоциональных, волевых или мне-мических особенностей сознания. Когнитивно-информационные и операциональные возможности архаического мышления ограничены эгоцентрическими, недифференцированными
и синкретическими схемами. Информация об объекте и месте, где он находится, неразличимы так же, как неразличимы предмет и его название, предмет и понятие о нем. Эгоцентризм архаического мышления, выражающий его зависимость от собственной «системы отсчета» человека, человеческого поведения, тела и души, затрудняет различение причины и следствия, части и целого, общего и особенного, объема и содержания понятия. Архаическое мышление сосредоточивается (центрируется) на отдельных особенностях, свойствах объектов или вещей. Их информационно-чувственная переработка исключает возможности понятийных обобщений и осуществляется на основе расплывчатых, неустойчивых, символических схем-образов. Переключение внимания с одного свойства на другое не отличается последовательностью или какой-то систематичностью. Информация об отдельных свойствах воспринимается недифференцировано, конгломеративно, одни свойства могут приобретать значение других. Изменение свойств представляется как изменение самих вещей, как появление новых объектов. Синкретические суждения архаического мышления рядоположены, логически не связаны друг с другом. Диффузность их перцептивных отношений «подменяет» аналитико-синтетические операции, следствием чего оказывается архаическая «нечувствительность» к логическому противоречию.
Преодоление эгоцентрических и синкретических ограничений архаического мышления связывается с формированием языкоречевых и понятийно-логических механизмов преобразования когнитивной информации. Эволюция предложения (основной формы речи) свидетельствует, в частности, о том, что изменения речевых механизмов мышления протекали в направлении от эргативного строя предложения к исторически более позднему, номинативному и завершились отчетливой дифференциацией субъектно-предикатных отношений. Нормирование индуктивно-дедуктивных механизмов мышления способствовало закреплению операциональных навыков различения и отождествления информационных значений и соответственно — понятийному обобщению (например, родовидовой структуры понятия). Постоянные потребности человека в информации и знаниях формировали продуктивные способности его мышления — способности конструирования новых понятий и конструирования новых знаний, т. е. творческие способности. В свою очередь, творческие способно-
сти человека влияли на его превращение в субъекта культуры и истории, познания и общения. Создавая мир материальной и духовной культуры, человек определился как мыслящий субъект. Мышление оказалось универсальной способностью, раскрывавшей возможности человека в любом модусе его субъектных значений.
Третья традиционная иллюзия — иллюзия «спонтанной активности» мышления, так же как и иллюзия «бессубъектности», есть следствие пренебрежения его субъектной спецификой. Ближайшей предпосылкой ее образования служит факт глубочайшей опосредованности и большая неопределенность зависимости мышления от факторов и ресурсов человеческой деятельности. Произвольная активность мышления достигает своих предельных степеней особенно в творческих актах, в которых установить ее конкретные детерминанты бывает крайне затруднительно. Поэтому свободная активность мышления очень часто наделяется чертами абсолютности и беспричинности. Указания на внешние источники детерминации мышления, как правило, недостаточно. Оно формально фиксирует информационные значения объекта-источника и не учитывает органическую связность мыслительных процессов со своим носителем-субъектом. Именно субъектная детерминация в целом скрывает источник-носитель мыслительной активности. Пласты субъектной детерминации можно условно упорядочить иерархическим образом. Так, нижние пласты, наиболее глубинные и отдаленные от мышления, несут в себе всевозможную детерминирующую информацию социального и культурно-исторического характера (от архаики до современности). Формы выражения их влияния на процессы мышления могут быть вполне конкретными. Для примера сошлемся на известное юнговское понятие архетипа.
Другие, вышележащие пласты условно обозначим средними и соотнесем их с субъектно-личностными и интерсубъектными способами организации мышления. Здесь просматривается влияние на активность мышления таких факторов, как факторы тела, перцепции, эмоций, воли, прошлого опыта, общения и многих других. Конечно же, различия между нижними и средними пластами (разделение на пласты) очень условно. Тем более если иметь дело с детерминирующими тенденциями столь универсальных и многозначных факторов, к каким обычно относят действие бессознательного.
Наконец, верхние пласты субъектной детерминации представляют собой совокупность внутримыслительных предпосылок. Роль таких предпосылок могут выполнять факторы, скрывающиеся за понятиями «потребности», «мотивы», «интересы», «установки», «планы», «намерения», «гипотезы», «идеалы» и т. п. По своему назначению они неравноценны. Одни из них несут преимущественно социальную нагрузку, другие — психологическую, третьи — познавательную и т. д. Каждый из факторов обладает потенциалом причинности и обнаруживает его в конкретном составе мыслительной деятельности.
Все иллюзии, порожденные традиционным подходом к мышлению, преодолеваются на путях прояснения его субъектной специфики. Успехами в ее экспликации современная философия во многом обязана целому ряду дисциплин гуманитарного и естественно-научного толка. По мере усиления дифференциации и интеграции знаний о мышлении все настоятельней проступает необходимость разобраться в соотношении их философских и конкретно-научных аспектов. Если за дифференциацией знаний скрывается плюрализм и дефицит их единства, то интеграция выражает процессы междисциплинарного синтеза понятий и взаимодействия разных исследовательских позиций. Применительно к мышлению как предмету исследования действие процессов дифференциации и интеграции знаний характеризуется одним очень принципиальным обстоятельством. В отличие от явлений, по поводу которых между философской и конкретно-научной аргументацией прослеживается достаточно четкий водораздел, рассуждения о мышлении представляют своего рода «сплав» философского и специального (психологического, логического, лингвистического, социологического, культурологического, исторического и т. п.) знания. Такой сплав аргументов подвергнуть разделению бывает практически невозможно. Даже, несмотря на высокую специализацию, анализ мышления зачастую «пестрит» смешениями, подменами, сходством с понятиями, имеющими философское происхождение.
Нередко встречаются случаи одностороннего преувеличения значимости отдельных подходов к мышлению, как, например, случаи психологизации теории познания, логики, лингвистики и других гуманитарных наук. Не менее известны подходы к мышлению, страдающие излишней формализацией, социологизацией или, например, компьютеризацией («искус
ственный интеллект»). Одиозно выглядят случаи натурализации философского понятия о мышлении, в которых его просто редуцируют к физиологическим, биологическим, энергетическим и другим подобным «материальным» эрзацам. Конечно, проникновение «языка» одной науки в пределы другой составляет неотъемлемую черту их успешного развития. Более того, интегративные процессы разрушают «барьеры» непонимания между разными подходами и создают условия для «перевода» одного исследовательского языка на другой и обратно. Тенденции же абсолютной экспансии какой-то одной системы понятий в другие обнаруживают свою несостоятельность в гносеологическом (получение истинных результатов) и нравственном смысле слова.
Беглый ретроспективный взгляд на историю философии убеждает в том, что понятие о мышлении развивалось под непосредственным влиянием логики и психологии. Логику всегда интересовала и продолжает интересовать формальная сторона способов организации мышления. Понятийные формы мысли и то, как они связаны между собой в суждениях и умозаключениях, всегда считались предметом логики. Правда, тенденции символизации и математизации логических средств в течение последних десятилетий чуть ли не привели к полному забвению ее связей с мышлением. В логике вовсе перестали говорить о мышлении, и сама она отпочковалась от философии, превратившись в самостоятельную область знаний. Чрезмерная строгость и абстрактность логической символики заметно ограничили возможности ее применения в анализе мышления. И все же всеобщность и необходимость формально-логических аспектов мышления предопределяют их когнитивную роль в поисках его специфики.
Философско-психологическое понятие о мышлении составляется двумя путями. Идя по первому пути, психологи изучают мышление в опоре на стандарты естествознания. Согласно им объяснение психики и психических процессов базируется на биологических, физиологических, нейрофизиологических и других аналогичных принципах. Приобретая известные экспериментально-теоретические преимущества естественнонаучных моделей объяснения, эти подходы пренебрегают предметно-гуманитарными особенностями человеческой жизнедеятельности. Другой путь психологии как раз, напротив, акцентирует приоритет социогуманитарных принципов пони
мания человеческой психики. В частности, психологический взгляд на мышление в контексте целостной деятельности человека как субъекта культуры, истории и общества конкретизирует и расширяет возможности философско-гносеологических обобщений. При всей разнице принципов и способов объяснения пути психологии мышления тесно связаны с философией, причем подчас нельзя разграничить, где кончается психологическая аргументация и начинается философская. В этой связи возникает вопрос о возможностях и границах психологизации теории познания.
Критическое наступление на психологизм в философии (а также в логике, лингвистике, социологии и др.) не смогло избежать искажений, в пылу полемики «вместе с водой выплеснуть из ванны и ребенка», броситься в противоположную крайность — радикальный антипсихологизм. Наибольший ущерб в критических атаках психологизма был нанесен фундаментальным понятиям о субъекте и мышлении. Так, критикуя психологизм в теории познания, сторонники неопозитивистской философии низвели категории «субъект» и «мышление» на положение абстрактных предпосылок. Критика психологизма в философской феноменологии (Э. Гуссерль) вылилась в утверждение о «чистых феноменологических структурах» мышления с их бессубъектными, внепонятийными, внеязы-ковыми и безобразными особенностями. Примеры радикальной критики психологизма показывают, что полное отрицание зависимостей познания и мышления от человеческой психологии оказывается столь же несостоятельной позицией в философии, сколь ограничены и непродуктивны попытки психологических редукций. Попытки изгнать психологию «за двери» теории познания обернулись тем, что она проникла в нее через «окно». Красноречивое подтверждение этому находится в характеристиках таких, например, понятий, как гуссерлев-ское понятие жизненного мира, в психологических особенностях феноменологической теории познания М. Мерло-Понти.
Справедливости ради надо заметить, что критика психологизма указала на несостоятельность попыток полной психологической редукции теории познания. Против этого утверждения трудно возразить. Руководствуясь им, удается избежать эклектического понимания связи «философского» и «психологического». Из того, что психологический аспект выражает специфику определенных мыслительных функций, еще не сле
дует необходимость сведения к нему всех остальных, включая и философско-гносеологический. Подобное сведение сродни тем ситуациям, когда замыкаются в пределах философии и пренебрегают выходом за них в область психологической, логической, лингвистической или любых других разновидностей научной конкретизации. Соблюдение междисциплинарных требований о несводимости одних подходов к мышлению к другим гарантирует правильность их соотношения.
Постановка проблемы взаимосвязи языка, речи и мышления предполагает определенное соотношение философского, лингвистического и психолингвистического аспектов мышления. Отношения «язык — речь — мышление» таковы, что в речи воплощается общезначимая природа языка и субъектно-деятельностные качества мышления. В зависимости от того, акцентируются ли языковый, речевой или мыслительный компонент этих отношений, изменяется и характер взаимосвязи всех трех аспектов рассмотрения мышления. Так, в философской феноменологии язык и мышление изучаются порознь, независимо друг от друга. Современные теории речевых актов и вербального мышления склоняются к отождествлению языковых, речевых и мыслительных структур. Согласно им мышление квалифицируется обычно как языковое, речевое, или вербальное, а его философская характеристика по сути подменяется специальной, лингвистической или психолингвистической. Конкретизация и полнота наших знаний о мышлении в существенной мере обусловлены контекстом человеческого общения. Теория познания всегда испытывала недостаток сведений об особенностях общения. Многообразие способов обмена мыслями и совместной мыслительной деятельности людей не исчерпывается обсуждением вопроса о связях языка, речи и мышления. Анализ этих связей осуществляется нынче в более широком и значимом социокультурном контексте человеческой жизни. Роль языковых и речевых средств выражения мышления раскрывается гораздо полнее в терминах таких способов его организации, как способы диалога, игры, понимания. На этих путях сегодня стараются избежать крайностей при определении дисциплинарной компетенции в философии, лингвистике и психолингвистике, тем самым проливая свет на языкоречевые тайны мышления.
Современные модели мышления
Субъектная специфика мышления как деятельности характеризуется тремя классами свойств: интенциональные свойства выражают то, на что она направлена (предмет, объект, цель, результат и т. п.); инструментальные свойства выражают ее средства и формы (операции, понятия, язык, образы и т. п.); кондициональные свойства выражают условия ее осуществления (потребности, интересы, мотивы и т. п., а также зависимость от таких факторов, как воля, эмоции, память, бессознательное и т. п.). Свое название модели мышления как деятельности получают в соответствии с каждым из перечисленных классов свойств, в терминах которых они изучают мышление в качестве предмета исследования. Поэтому здесь речь пойдет об интенциональных, инструментальных и конди-циональных моделях мышления, имеющих, кстати, широкое хождение в сегодняшней философии и смежных с нею областях знания.
Интенциональные модели. Интенциональные свойства мышления стали систематически изучаться со времен Ф. Брен-тано и Э. Гуссерля. Хотя идея интенциональности мышления длительное время оставалась высоко-абстрактной и терминологически вычурной, она оказалась очень плодотворной и работающей, ибо выражала реальную динамику его процессов. Ее использование в работах последних лет дало интересные результаты.1 Отвлекаясь от подробного обсуждения феноменологической методологии исследования, которое составляет специальную задачу, мы уточним важнейшие положения интенционального подхода к мышлению.
За понятием интенциональности закрепилось основное значение направленности мышления на предметные значения любых объектов и целей. Интенциональные свойства, по Гуссерлю, являются самыми специфическими и универсальными свойствами мышления как деятельности. Их совокупность определяет способ ее осуществления. Реализация мыслительных действий-операций зависит от того, что стоит «перед»
1 См.: Husserl, Intentionaly and Cognitive Science / Ed. by H. L. Dreyfus. Cambridge, 1982; Husserl and Intentionality: a Study of Mind, Meaning and Language / Ed. by D. W. Smith, R. McIntyre. Dordrecht, 1982; Searle S. R. Intentionality: an Essay on the Philosophy of Mind. New York; Cambridge, 1983.
ним, с чем или с кем они «встречаются» как с предметом. Мир предметов в мышлении предстает в виде поля его возможных интенциональных актов и состояний. Каждый предмет обладает гораздо большим объемом своих значений, нежели тот их объем, который раскрывается в мышлении. Мышление имеет дело лишь с частью предметных значений. Остальная часть информации остается за пределами мышления.
Интенциональная деятельность мышления осуществляется двумя основными способами: ноэматическим и ноэзома-тическим. От их взаимной согласованности зависит эффект направленности и продуктивность мышления. Ноэматические средства и формы мышления «ответственны» за определение предметных значений. Они, так сказать, соотносятся с внешним миром предметов, выражают значения в понятийных формах и упорядочивают их в операциональные последовательности. Понятийные категории отличаются априорными способностями организации предметных значений в мышлении, они формальны и лишены образности. Процесс порождения мысли с помощью априорных матриц — понятийных форм протекает согласно логико-синтаксическим и семантическим правилам. Критерием правильности ноэматической организации мышления служит интуиция аподиктического типа со своими значениями достоверности и необходимости. Один и тот же объект (искомая цель) может приобретать в мышлении разные предметные значения, которые оформляются в соответствующих ноэмах. Но каждому мыслительному акту будет соответствовать только одна ноэма.
Другой способ интенциональной организации мышления — ноэзоматический — обеспечивает направленность его связей с разнообразными субъектными факторами. Ноэзоматический способ «подключает» к мышлению любые явления сознания и психики (волю, эмоции, прошлый опыт, перцепцию, интуитивные и бессознательные средства). Необходимость их «подключения» к мышлению возникает всякий раз тогда, когда требуется прояснить, какое предметное значение может преодолеть дефицит информации. С интенционалистской точки зрения субъектные факторы имеют побочный статус, и обращение к ним следует «по требованию». Например, ноэзоматический способ «подключения» к мышлению прошлого опыта сводится: а) к освобождению мышления от иллюзий, предрассудков и предпосылок, оказавшихся ложными; б) к обоснова
нию мнений, покоящихся на вере и ранее необоснованных; в) к превращению обоснованных мнений в истинные утверждения.
Предметные значения, не охваченные интенциональными средствами и формами ноэматического и ноэзоматического способов организации мышления, сохраняют свою искомость и создают перспективу — горизонт его когнитивной работы. Искомость подобного горизонта стимулирует последующие поиски мысли, когда одна решенная проблема влечет за собой постановку другой.
Инструментальные модели. Общее инструментальное представление мышления сводится к его определению в качестве основного средства познания. Задачей инструментальных интерпретаций мыслительной деятельности является нахождение эффективных и оптимальных средств достижения искомой цели и результатов. В качестве средств мышления рассматриваются не только его собственные (языкоречевые, понятийные, образные и т. п.), но и любые другие субъектные и интерсубъектные факторы. Важны не столько объекты и цели, субъект и условия его деятельности, сколько сам процесс мышления: предметные значения объектов и субъектных факторов фиксируются в виде функций средств мышления.1
Ход мыслительных процессов распадается на ряд этапов, последовательно сменяющих друг друга. На начальном этапе мысль сталкивается с ситуацией, не удовлетворяющей субъекта по причинам неопределенности и искомости. Чтобы трансформировать неудовлетворительную ситуацию в удовлетворительную, субъекту необходимо согласовать мыслительные средства с искомыми целями и тем самым сформулировать проблему. У него вызревают догадки, предположения или гипотезы, которым он пытается придать функциональный вид решения проблемы. Фаза выдвижения гипотез представляет собой перебор различных мыслительных возможностей достижения искомой цели. Плодотворное решение может потребовать от субъекта перебора большего числа возможностей и соответствующих им решений. Когда решение предложено, то следующий шаг в работе мышления состоит в извлечении следствий из гипотез. Его инструментальный смысл заключен в операционально
1 См.: Gardner Н. Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York, 1983; Castaneda H. Thinking and Doing. Dordrecht, 1975.
проверочных процедурах. Решение считается успешным, если из него можно получить достаточное число следствий. Эффективными считаются те следствия, которые позволяют установить меру соответствия информации, имеющейся в распоряжении субъекта, с предложенной гипотезой-решением. Эта фаза мышления сопровождается ожиданиями, совпадет ли гипотеза с полученной информацией или нет. Последовательность проверочных операций может быть сколь угодно длинной. Но на каком-то этапе проверки «нащупывается» удовлетворительное решение, и мыслительные операции прекращаются.
Согласно инструментальной модели последовательность мыслительных операций организуется на основе функционального способа их связи, содержащего значительный элемент случайности. Мыслительные процессы на любой фазе их протекания отличаются свойствами случайности, что позволяет ввести в инструментальную модель количественную меру вероятностного упорядочивания мыслительных операций. Ее выражением стало количество мысленных экспериментов по отбору гипотезы в духе известного принципа «проб и ошибок». Конкретное число мыслительных проб и ошибок может измеряться большей или меньшей величиной вероятности предположений о соответствующих предметных значениях информации.
Определению предметных значений в процессах мышления может предшествовать их чувственная апробация в виде смутных образов, предпочтений и оценок («нравится» — «не нравится», «подходит» — «не подходит»). Перцептивные формы переработки информации являются действенным средством принятия решения. Окончальную функциональную форму предметные значения принимают в понятиях. Любая понятийная форма есть результат соответствующих ей мыслительных операций. В работах Ж. Пиаже, например, детально прослеживаются операциональные механизмы мыслительной деятельности. Операцией называется мыслительное действие, которое обратимо. Так, операции обобщения соответствует операция конкретизации, операции анализа — синтез, операции отождествления — различение и т. д. Как только возникает необходимость эксплицировать какое-то предметное значение информации, узнать, что оно собой представляет, мы должны определить, какие операции требуется совершить по отношению к нему. Информация оказывается бессмысленной, если не удается найти нужных операций, раскрывающих ее употре
бление, и функционально выразить их в понятийной форме. Ценность понятий зависит от эффективности их употребления в контексте ситуации.
Кондициональные модели. Подобно тому как инструментализм противопоставил операционально-орудийные качества мышления свойствам его направленности, кондициональные модели главное внимание уделяют роли субъектных факторов и условий. Неизбежно, что такая акцентировка повлекла за собой не только определенные издержки, но и продемонстрировала эвристические возможности кондициональных моделей мышления. Мыслительная активность скрыта в недрах субъектных оснований. Чтобы прояснить ее природу, потребовалось обособиться от интенциональных и инструментальных значений мышления как деятельности. Ввиду необычайной сложности субъектной организации необходимы критерии выбора тех факторов, которые могут служить в роли интегральных причин мыслительной активности, возникающая здесь сложность вопроса о критериях выбора субъектной детерминации породила крайнюю разобщенность кондициональных моделей мышления. В них отстаивается приоритет влияния то культурно-исторических, то социально-психологических, то индивидуально-личностных или каких-либо других субъектных условий мыслительной деятельности.
В отличие от интенционалистских и инструменталистских подходов к мышлению кондициональные исследования не имеют каких-то обобщающих программ. Что их роднит, так это общая установка на объяснение зависимости мышления от действия конкретных субъектных факторов и условий. Поэтому кондициональные модели мышления отличаются большой терминологической пестротой. Их показательными примерами могут служить отдельные экзистенциалистские, герменевтические и психоаналитические версии источников активности мышления.
Так, по М. Хайдеггеру, познавательная активность мышления таится в совокупном действии переживаний, памяти и перцепции. Память хранит прошлый опыт субъекта и активизирует мыслительный процесс проектирования будущего. Так как истина не поддается мыслительным калькуляциям, то мышление нельзя свести к компьютерным операциям. Истину нужно созерцать, представлять, пережить и оценить. Без прошлого опыта, чувств и эмоций это сделать нельзя. Именно они
составляют необходимые условия проникновения мышления в истину. С точки зрения прошлого опыта мыслительный процесс — это не вычисление будущего, но его ожидание. Истина не исчерпывается калькуляционным значением «есть», ей присуще проективное значение «весть». Мыслительный процесс — процесс эмоционально-чувственного вслушивания в бытие, процесс воспоминаний подлинной сущности явлений и ожидания встречи с истиной.
В экзистенциальной психологии обращают внимание на факты мышления в экстремальных ситуациях, в которых оно оказывается под непосредственным влиянием положительных или отрицательных эмоций. Например, эмоции страха негативно сказываются на мыслительных процессах анализа и разрешения проблем в сложных ситуациях. Страх сковывает мыслительные способности, ибо он появляется вследствие высокой неопределенности и искомости предметных значений информации. До тех пор, пока ситуация не прояснится, у субъекта будет оставаться чувство неуверенности при принятии решения. Снятие негативной эмоциональной напряженности и преодоление страха происходят в ходе определения искомых целей и получения информации из других источников — прошлого опыта или за счет волевой регуляции.
Кстати, еще Р. Декарт и А. Шопенгауэр усматривали в воле то достаточное основание, без которого неосуществимо мышление как деятельность. Ф. Ницше полагал, что мышление есть разновидность волевой активности субъекта, позволяющей ему принимать решения и командовать. Мысль коренится в волевом акте и осуществляется как волевой акт. Акт мышления — это акт воления человека, означающий регуляцию моего состояния в данный момент времени путем мыслительных операций сравнения с другими состояниями жизни, включая собственный опыт и опыт других людей. Только при затрате волевых усилий субъект способен сомневаться, утверждать, отрицать, анализировать и совершать любые другие мыслительные операции.
С психоаналитической точки зрения главной субъектной детерминантой и источником мыслительной активности является мотивационный комплекс условий, выполняющих информационно-энергетические функции. Известно, что увеличение энергии уменьшает содержание информации и, наоборот, рост информации влечет за собой уменьшение энергии. Увеличение
количества свободной энергии в мотивационном комплексе повышает эмоционально-волевую напряженность мышления и порождает чувство неудовлетворенности субъекта искомо-стью ситуации. Информационное насыщение мыслительных процессов предметными значениями уменьшает энергетический потенциал: чувство неудовлетворенности сменяется удовлетворением достижения искомой цели.
Схематическое обсуждение современных моделей мышления как деятельности указывает на многозначность его философских трактовок. Стремление сторонников каждого типа моделей абстрагировать отдельные свойства субъективной специфики мышления и ограничить ими задачи своего анализа свидетельствует о реальной сложности и трудоемкости возникающих в связи с этим проблем.
§ 3. Эмпирический опыт и формы его концептуализации
К определению понятия «опыт»
Трудно возразить против того, что слово «опыт» — одно из самых употребительных в нашей повседневной жизни. Его словарное значение подразумевает совокупность приобретенных (усвоенных) знаний, убеждений и навыков (умений) человека. Выражая сущность человеческой природы, опыт опосредует отношения человека с миром, с другими людьми, с самим собой. Опыт является всеобщим и необходимым условием бытия человека, естественной способностью, обеспечивающей его приспособление и выживание, познание и общение. «Приобретенность», или «усвоенность», как признак опыта указывает на его временное свойства: то, что усваивается человеком, попадает в разряд прошедшего времени и оказывается условием его настоящей жизнедеятельности, познания и общения. Приобретая знания и совершенствуя умения, люди обогащают свой опыт. Историко-временные свойства опыта позволяют отличить опыт людей одной эпохи от опыта людей другой, опыт старшего поколения от опыта младшего. Временном ограничениям опыта, выражающим историческую динамику его изменений в течение жизни каждого человека, групп людей, общества или человечества в целом, соответствуют пространственные ограничения. Так, чужой опыт отличается от своего собственного, опыт людей одной культуры (напри
мер, западной) отличен от опыта людей другой культуры (например, восточной), а опыт людей, живущих в тропиках, отличается от опыта людей, живущих за Северным полярным кругом.
Заданность опыта в пределах пространства и времени всегда конкретна и определена особенностями жизни людей в природных условиях, их культурой, историей, обществом и языком, на котором они общаются. Под влиянием этих всеобщих и необходимых (трансцедентальных) факторов человек приобретает знания, у него формируются убеждения или ценностные ориентации, навыки, умения или привычки действовать, познавать, оценивать и общаться по определенным правилам. Язык и знания упорядочивают опыт, придавая ему предметное, коммуникативно-когнитивное своеобразие. Насколько разнообразны языки и знания, настолько разнообразны и специфичны опыты людей. Например, в языке эскимосов нет общего значения слова или понятия «снег», а существует набор конкретных словосочетаний, обозначающих рыхлый, мокрый, белый или серый снег, твердый наст и т. п., а по-полинезийски словами «отец» и «мать» дети называют всех мужчин и женщин, тогда как в других языках имеются перечни слов для обозначения родственных отношений. Многие понятия кажутся нам настолько привычными, само собой разумеющимися благодаря тому, что они укоренились в нашем языковом опыте. Эффект организующего воздействия языка на опыт проявляется в том, что слова, предложения, высказывания приобретают вид общепринятых выражений. Условные и конвенциальные черты языковых структур опыта делают возможной совместную деятельность людей в познании и жизни. С помощью языка приобретается и упорядочивается опыт. Язык служит средством выражения опыта, чувств, мыслей и результатов познания, только с его помощью осуществляется обмен опытом и его обобщение в целях познания и коммуникации. Но языковый опыт не только объединяет, но и разъединяет людей в силу своих фонетических, синтаксических, семантических и прагматических свойств. Различия национальных языков, специализация и формализация языков науки, искусства, религии порождают барьеры непонимания людьми друг друга, разъединенности отдельных областей знания.
Предметный характер и состав знаний обусловливает весьма высокую дифференциацию и специализацию опыта. Когда
мы говорим, например, «жизненный опыт», «опыт ребенка или взрослого человека», «профессиональный опыт», «обыденный, религиозный, художественный или научный опыт», «социальный, экономический, национальный или политический опыт», «культурный или исторический опыт» и т. д., то отдаем себе отчет в их предметно-познавательных различиях. Они велики бесконечно, если учитывать конкретные контексты приобретения знаний в разных природных условиях, исторических эпохах, культурах и обществах. Так, если для людей европейской культуры усвоение научных знаний является неотъемлемым элементом их опыта, то в опыте многих людей азиатских и африканских культур доминируют элементы обыденных и религиозных знаний. Вряд ли требуют пояснений познавательные различия в опыте древнего египтянина или грека и нашего современника. Говорить же о профессиональных особенностях опыта людей и вовсе не приходится.
Аксиологическая характеристика опыта не менее значима для его определения, нежели познавательная, когнитивная. Убеждения как ценностно-ориентационные качества нашего опыта усваиваются и меняются в течение всей жизни, находясь под непосредственным воздействием окружающей природы и природы нашего организма, различных социокультурных и исторических факторов. Естественные потребности нашего телесного организма формируют убеждения в необходимой безопасности или риске для жизни, наши пристрастия к горькому и сладкому, приятным и неприятным удовольствиям. Опыт людей заметно варьируется в зависимости от того, какие высшие ценности они предпочитают: для одних — ценность в деньгах, для других — в научных знаниях, для третьих — в нравственных идеалах, для четвертых — в здоровье, для пятых — в обладании властью, для шестых — в вере в Бога и т. п. Нельзя забывать, что в разных культурах и обществах сложились системы ценностей, идеалов, образцов, существенно, а порой и принципиально отличных друг от друга. Достаточно упомянуть религиозные или моральные различия в ценностях отдельных культур и народов. Усвоенные в опыте ценности превращаются в убеждения человека. Опыт каждого из нас включает определенную иерархию убеждений-ценностей, в которой одни убеждения ценятся больше, а другие — меньше. Обращаясь к убеждениям, мы оцениваем свои поступки и действия других людей, принадлежащих к нашему окружению, другим
группам, обществам, культурам, историческим эпохам. Знания и убеждения, превратившиеся в элементы опыта, регулируют и направляют нашу жизнь и наши отношения с другими людьми.
Наконец, еще один класс элементов опыта — навыки, умения или привычки действовать, познавать, общаться определенным образом, в соответствии с усвоенными правилами. По сути дела привычки или навыки, закрепленные в опыте, и есть правила, регулирующие поведение в любых аспектах нашей жизнедеятельности. Так же, как и знания и убеждения, навыки приобретаются в зависимости от различных природных, культурно-исторических и социальных воздействий. Правда, в значительной степени приобретение навыков обусловлено самой человеческой природой, задатками и способностями человека к практическим, познавательным и коммуникативным действиям. Универсальными формами выработки навыков являются воспитание (самовоспитание) и обучение человека. Воспитываются и обучаются всему — умениям владеть телом, чувствовать (видеть, слышать, обонять и т. п.), мыслить, познавать, говорить, общаться, вести себя в соответствии с правилами и нормами данной культуры и общества. Через воспитание и обучение транслируются, передаются, наследуются нормы, стандарты жизни, поведения, познания, общения в культуре данного сообщества. Универсальной оппозицией нормативных предписаний в любой культуре являются запреты и разрешения, присутствующие во всех ее материальных и духовных сферах. Системы наказаний и поощрений, принятые в обществах (школах, профессиональных группах), стимулируют приобретение навыков или умений в ходе воспитания и обучения. Чтобы овладеть навыками, необходимо приложить волевые усилия, заставить себя преодолеть трудности в практической жизни, познании, общении. Волевая способность опосредует превращение навыков в правила действий и операций, регулируя через них жизнедеятельность человека. Благодаря навыкам-привычкам-правилам человек научается различать людей и отдельные сообщества по их культуре, быту, языку, национальности, профессии и другим признакам, различать жизнь от смерти, знание от веры, истину от лжи, добро от зла, игру от действительности, прекрасное от безобразного, трагическое от комического и т. д.
Организация опыта как целостно-связная совокупность знаний, убеждений и навыков «испещрена» разнообразными естественными, языковыми, коммуникативными, познавательными, культурными, историческими и социальными инфраструктурами. Они упорядочивают как индивидуально-личностные формы опыта, так и любые другие формы коллективного, социокультурного опыта человека. Их полное обсуждение никак не входит в наши намерения. Мы ограничиваем свою задачу схематическим набором лишь тех структурных оснований опыта, которые обеспечивают реализацию познавательных возможностей людей.
Познание и опыт
Стремление связывать познание с опытом имеет давние, глубоко укоренившиеся философские традиции. Те, кто писал на эту тему, сходились, как правило, на том мнении, что опыт является одним из всеобщих и необходимых условий познания. Но на этой общепринятой констатации единодушие философов ограничивалось, и при последующем уточнении роли опыта в познании появлялись заметные расхождения в их взглядах. Характеризуя влияние опыта на познание, они сводили его к зависимости от преимущественного действия отдельных структур человеческого сознания. Таким структурам сознательного опыта отводилась ведущая роль в познании.
Согласно одним традициям, например, познание начинается с опыта, который поставляет ему чувственный материал для рациональной обработки. Уже Аристотель полагал, что опыт есть то, что воспринимает наблюдатель в естественных условиях и описывает словами. Подобные описания соответствуют реальным событиям и могут быть поняты другими людьми. Так как восприятие фиксирует свойства объектов, опыт важен для установления истины. Сложившаяся традиция закрепила разделение опыта и познания в терминах соотношения чувственного и рационального: опыт стали отождествлять с перцептивными процессами и возможностями их выражения в языке, а познание — с логической обработкой чувственного опыта в мышлении. Сенсуалистические вариации на темы опыта получили развитие в философии Беркли и Юма, закрепившись в наиболее радикальной форме в теории познания Э. Маха.
В современной эмпирической философии науки понятие опыта приобрело методологический, инструментально-опера
циональный характер (Р. Карнап, М. Шлик, Л. Витгенштейн, К. Гемпель и др.). Его более строгие, логико-лингвистические очертания были конкретизированы в эмпирических процедурах наблюдения и эксперимента. Их экспликация содержала результаты совместной работы чувственных и мыслительных процессов и представлялась в форме языка наблюдений или описания. С помощью опыта производилась проверка научной теории. Точнее говоря, значения языка научной теории редуцировались (ставились в соответствие) к значениям эмпирических высказываний, что позволяло осуществить процедуру ее верификации, подтверждения.
Другая — аксиологическая — традиция трактовки обусловленности познания опытом акцентировала роль его эмоционально-ценностных структур. Ценностная «начинка» опыта обнаруживается в убеждениях людей относительно тех идеалов, норм и целей познания, на которые они сориентированы. Модели эмоционального опыта или аналитики переживаний, предложенные в философской герменевтике и феноменологии (В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти, Г. Гадамер и др.), по-разному раскрывают когнитивно-ценностный потенциал опыта. Согласно им опытные условия познания устанавливаются на основе эмпирических содержаний переживаний или феноменологических операций сознания. Обсуждая современные философские дискурсы о человеческом бытии и познании, М. Фуко пытается наметить объединительную парадигму, которая бы выполняла посреднические функции и укореняла в себе и опыт тела, чувственности и опыт культуры. Такую интегральную парадигму философского дискурса он усматривал в анализе переживаний. «В самом деле, переживание является одновременно и пространством, в котором все эмпирические содержания даются опыту, и той первоначальной формой, которая делает их вообще возможными, обозначая их первичное укоренение. Оно позволяет пространству тела сообщаться со временем культуры, ограничениями природы — с давлением истории, при условии, однако, что тело и через его посредство вся природа дается в опыте некой предельной пространственности, а культура — носительница истории — переживается в непосредственности всех напластовавшихся значений».1
1 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 342.
Таким образом, «ставка» на аналитику переживаний как основополагающих структур опыта, на основе которых осуществляется познание, считается и сегодня перспективной в концепциях, объединяющих элементы философского дискурса герменевтического, экзистенциалистского и феноменологического толка. Действительно, реальная роль переживаний, формирующая ценностные ориентации, убеждения, оценки познающего человека, заметно сказывается на продуктивности познания, а особенности таких видов познания, как, например, религиозное и художественное, исчерпываются эмоционально-ценностными значениями аналитики переживаний, значениями убеждений и веры.
Сторонники третьей традиции уделяли основное внимание анализу действия регулятивно-волевых функций и структур опыта в познании. Метафизика и онтология воли А. Шопенгауэра, «философия жизни» Ф. Ницше дали основополагающую проработку темы властно-волевого начала в познании, раскрывавшей противоречивые признаки метафоры «знание — власть». Не менее авторитетной оказалась прагматическая трактовка соотношения волевого опыта и познания в терминах разрешения проблемных ситуаций и принятия решения (В. Джемс и особенно Дж. Дьюи). Согласно ей мотивационный эффект волевых Структур опыта заключается в том, что они действуют как привычки, правила, программируют действия человека и позволяют ему делать выбор и принимать решение. Разрешающие способности волевой регуляции определяются возможностями вариантов, программ действия, на основе которых осуществляется анализ, сравнение, оценка и предпочтение одного пути достижения искомой цели другому. Рационалистический пафос регулятивных и разрешающих функций волевого опыта в познании состоит в том, что они позволяют человеку добиваться полезных, оптимальных и эффективных действий и решений в своей жизни.
Как известно, интегральные функции хранения и воспроизведения опыта в целях познания «берут на себя» структуры и механизмы человеческой памяти. Мнемическая парадигма, в терминах которой определяются связи опыта и познания, восходит к теории познания Платона. Согласно его концепции познания как воспоминания, память располагается в сердце-вине человеческой души, а ее механизмы обеспечивают процесс извлечения знаний из хранилища «мира идей». Чтобы
извлечь знания из хранилищ памяти, душа должна обратиться к ним и вспомнить их. Так как в опыте хранятся не только истинные, но и ложные знания, в процессе познания как воспоминания душа должна освободиться от ложных значений идей. Опыт воспоминаний селектирует истинные знания от ложных и формирует чувство уверенности в правильном выборе, который подкрепляется логическими и фактическими обоснованиями. Мнемические дискурсы в философии познания получили развитие в учении о призраках (идолах) и прошлом опыте Ф. Бэкона, в методологии исторического познания (история как воспроизведение опыта) Р. Коллингвуда и др. Крылатое выражение «новое всегда есть забытое или хорошо забытое старое» прозрачно и просто объясняет зависимость результатов познания от мнемических структур опыта.
Завершая вводный экскурс в тему «опыт и познание», хотелось бы сделать несколько замечаний, предваряющих ее дальнейшее обсуждение. Во-первых, по соображениям высокой специфичности и сложности мы по сути дела не коснемся вопросов о влиянии языковых структур и бессознательного фактора опыта на процессы познания. Во-вторых, учитывая литературную известность и изученность проблем методологии эмпирического познания, а также тот факт, что общая экспозиция когнитивных структур чувственного опыта и мышления дана в предыдущих параграфах, мы в последующем изложении ограничимся схематическим анализом структурных особенностей эмоционально-ценностного, регулятивно-волевого и мне-мического факторов опыта.
Эмоционально-ценностные структуры
Вряд ли кто-то усомнится в том, что познавательные действия человека органически связаны с его оценками явлений, искомых целей и средств их достижения, определяются его эмоциональными состояниями и убеждениями в истинности полученных знаний. Трудно найти разновидность познания, в которой бы не проявлялся эмоциональный опыт человека. Правда, в одних областях, например в художественном или религиозном познании, эмоционально-ценностные структуры опыта выступают на первый план, доминируют, «заслоняя» собой рациональные структуры сознания, тогда как в других, например в научном познании, находятся на втором плане. Но даже и в последнем случае, в моменты научных откры
тий и получения нового знания, роль эмоционального опыта нельзя переоценить. Люди «раздают» положительные и отрицательные оценки, с пристрастием судят о фактах, радуются, огорчаются, восхищаются, страшатся, впадают в подавленное или угнетенное состояние (стресс, фрустрацию), симпатизируют и негодуют по отношению к другим, проявляют равнодушие, находятся в плохом или хорошем настроении, терзаются «Муками» творчества. Эти и многие другие состояния, оценки, ценностные ориентации задают конкретный состав значений эмоционального опыта человека. Механизмы его проявления очень многозначны и глубоко скрыты в социокультурных, исторических и биологических основаниях человеческой природы. Хотя вопрос о роли эмоционального опыта в познании издавна вызывал философский интерес, до сих пор он остается весьма проблематичным и нуждается в прояснении. Учитывая сложность и высокую специфичность эмоционально-ценностных структур опыта (составляющих предмет специального исследования), мы вкратце коснемся лишь их общей характеристики и той роли, которую они играют в процессах познания.
Эмоционально-ценностные структуры опыта фиксируют состояния внутреннего мира человека и выражают ценностные значения предметов внешнего мира. Ценности и оценки интериоризируются, переносятся из внешнего плана деятельности человека во внутренний и превращаются в материал его переживаний и эмоциональных состояний. Интериоризация эмоционального опыта сопряжена с обратным переносом ценностей и оценок из внутреннего плана во внешний — эксте-риоризацией переживаний и состояний, выражающих отношение человека к предметам внешнего мира, к другим людям, историческим эпохам и культурам. Эмоциональный опыт оказывается особым способом связи внутреннего мира человеческой субъективности с внешним миром ценностей, обладающих всеобщим и необходимым (трансцедентальным) статусом явлений природы и культуры, истории и общества. Вовлеченные в предметную сферу познания, они наделяются разными ценностными значениями, ибо зависят от того, какую позицию по отношению к ним занимает познающий субъект, как он их оценивает, какую роль в познании он им отводит. Значение ценности приобретают в процессе познания те предметы, которые способствуют достижению поставленных целей, удовлетворению потребностей и интересов, разрешению проблем
и т. п. При этом для некоторых людей наиболее значимой ценностью познания является истина, для других — практическая эффективность или полезность результатов, для третьих — нравственные следствия, для четвертых — красота и гармония ит. д.
Субъективный аспект эмоционального опыта представлен в познании актами переживаний. Двуединая природа переживаний раскрывается в ценностно-когнитивных свойствах. Ведь ценностное значение предмета — это не только выражение предпочтений, интересов и оценок, но и зафиксированное знание. Поэтому переживания отличаются сложными аналитико-синтетическими актами (операциями) оценивания и переоценивания ценностей, актами то вполне отчетливого различения, сравнения и идентификации оценки (ценности), то порой очень диффузными состояниями. Переживания выражаются в свойствах как перцептивных, так и языковых (речевых) форм. Широко распространено заблуждение, разделяющее переживания на чувственные и интеллектуальные. Согласно ему чувственные переживания считаются разновидностью перцептивных форм (ощущений, восприятий, представлений), а интеллектуальные — особой формой мышления. Причина этому в том, что эмоциональный опыт переживаний представляет собой симбиоз чувственности и рациональности, имеющий выраженный ценностно-оценочный характер с положительными, негативными или нейтральными значениями. Если чувства и мысли являются когнитивными процессами, то переживания имеют ценностно-оценочную специфику. Эмоции, так же как и чувства, отличаются предметностью, пространственной и временной упорядоченностью, модальностью, интенсивностью и другими когнитивно-перцептивными свойствами. Например, переживания и оценка музыкального образа зависят от его временной организации (свойств длительности, ритмичности, мелодичности), высоты звука, тембра, силы звука и других предметных, модальных и интенсивных способностей слуха. Логические и языковые свойства мышления, а также знаковые качества телесных жестов, голоса, мимики лица делают переживания доступными и общезначимыми для других людей.
Ресурсы эмоционального опыта создают необходимые условия для вариаций и импровизаций ценностных значений и оценок в познании. Так, радость повышает активность действий,
огорчение ввергает в состояние пассивности и оцепенения, удивление выражает констраст и диссонанс действий, уверенность — их направленность и однозначность, сомнение — асимметрию и комбинационность, догадка вносит элементы понятности, информированности и отчетливости. При выражении своих переживаний люди задействуют различные фонетические, синтаксические, семантические и прагматические возможности знаковых средств — восклицания, вопросы, метафоры, указания и т. п. Свойства переживаний нельзя свести без остатка к когнитивным свойствам перцепции или мышления точно так же, как невозможно пренебречь когнитивными элементами ценностно-оценочных значений. Благодаря переживаниям познание всегда «окрашивается» в положительные, негативные или нейтральные цвета. Положительные состояния (радость, блаженство) соседствуют с отрицательными пассивными (тревога, скука, тоска) и активными (злость, досада, гнев) состояниями. Познанию свойственны нейтральные эмоции с их пассивными (волнение, робость, возбуждение) и активными (удивление, изумление) значениями. В познании не столь редки эмоциональные состояния «погружения», «впадения в...», «опьянения» и т. п.
Реальность познания такова, что обособиться от эмоциональных воздействий даже в сфере предельно рациональных, абстрактных процедур практически не удается. Это хороню понимали многие философы. Интеллектуальные искания истины, по Платону, сопровождаются наслаждением, страданием, радостью. Согласно Аристотелю, исходный пункт познания — в удивлении, которое побуждает задавать вопросы и продвигаться по пути к искомым целям. Эмоция удивления попадает в перечень основных страстей души в учении Декарта. Ценность предмета в модели картезианского «cogito» определяется под воздействием удивления, которое затем уступает место сомнению. Без переживаний сомнения нельзя достичь истины. В процессе познания сомнение уступает место уверенности как основе истинности наших знаний. Очевидность как окончательный критерий истины «завершает» череду переживаний. Наиболее полно характер переживаний воплощается в герменевтических стратегиях от В. Дильтея до М. Фуко. В них продуктивность познания полностью зависит от эмоционально-ценностных структур опыта. Истинность любых понятий и высказываний становится возможной только в актах
переживаний. Они не сводятся к подражанию как последовательности действий, с помощью которых достигается простое сходство понятий с обозначаемыми ими предметами. Переживания становятся способом идеальных перевоплощений ценностей, они проявляются в умениях человека отказаться от их внешних форм и передать их внутреннее значение. Познавательная роль переживаний реализуется в создании духовных форм человеческой культуры.
Слитность чувственного и рационального, ценностного и познавательного в опыте переживаний порождает серьезные трудности их анализа. По сей день в исследованиях эмоционально-ценностных структур доминируют две тенденции. Одна из них тяготеет к когнитивной, познавательной трактовке переживаний, другая — к их аксиологической интерпретации. В пределах каждой тенденции встречаются разные оттенки понимания эмоционального опыта человека, акцентирующие его субъективные или объективные, чувственные или рациональные, ценностные или познавательные, культурно-исторические или социальные, логико-лингвистические или психологические значения.1
Если признать, что эмоциональный опыт представляет собой целостно-связную совокупность свойств переживаний, то издержки односторонних тенденций в его изучении становятся очевидными. Отсюда возникает вопрос о влиянии эмоционально-ценностных структур опыта на процессы познания. Оно проявляется в их интенциональных и инструментальных назначениях.
Интенциональная функция эмоций способствует формированию целей познания. Отношение к цели не исчерпывается информированностью о ней, а включает также элементы ее оценки. Оценка цели может меняться на разных этапах познания. От оценки цели как маловероятной субъект познания может перейти к более вероятным предположениям, а от позиции полного безразличия к цели — к заинтересованному взгляду на нее. Чтобы цель познания не осталась формальной, внешней для субъекта, она должна быть вовлечена в круг его переживаний. Опыт переживаний стимулирует выбор средств и путей достижения цели. В частности, используются
1 См., напр.: Психология эмоций: Тесты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. М., 1984.
эмоциональные приемы визуализации и схематизации путей достижения цели. При визуализации цели достигается эффект целостно-связной картины способов ее достижения, в пределах которой они сравниваются и оцениваются. Эмоциональная схема познания предшествует его рационально-логической экспликации. В ней обнаруживаются ценностные ориентации субъекта, проявляются его интересы, идеалы, настроения.
В процессах познания эмоциональный опыт может выполнять роль описательной, объяснительной и прогностической функций. Так, эмоциональные состояния, реакции и эмотив-ные суждения часто оказываются более убедительными, чем многословные обоснования и сложные формальные выводы и формулы. Описательная функция эмоций реализуется в первичном знакомстве и оценке предмета познания. Эмоционально-ценностные описания являются типичными способами обыденного, религиозного, художественного и более специализированных видов гуманитарного познания. Стиль таких описаний отличается индивидуально-личностными пристрастиями, субъективностью и произвольностью. Эмоциональный строй и свойства познания являются его всеобщими и необходимыми, органическими качествами. Миф о рациональности и логичности научного познания (особенно математики и естественных наук) относится к числу самых распространенных заблуждений. Как хотелось показать М. Полани, страстность в науке — «это не просто субъективно-психологический побочный эффект, но логически неотъемлемый элемент науки. Она присуща всякому научному утверждению и тем самым может быть оценена как истинная или ложная в зависимости от того, признаем мы или отрицаем присутствие в ней этого качества».1
Страстность и убежденность оборачиваются средствами объяснения и длительное время могут оставаться в этой роли чуть ли не единственными.
Объяснительная функция эмоций непосредственно сказывается на выборе той правильной точки зрения на предмет, которая открывает внутренние, закономерные связи фактов.
1 Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философия. М., 1985. С. 196. В связи с эмоционально-ценностной темой в научном познании см. также: Гилберт Дж., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. Социологический анализ высказываний ученых. М., 1987.
Совершенство и красота объяснений есть результат ценностного опыта.
Эмоциональное объяснение, или объяснение через эмоцию, порой оказывается самым кратчайшим расстоянием к истине (хотя, конечно, оно может быть и ложным).
Прогностическая функция эмоционального опыта воплощается в эвристических утверждениях о ценности истины, гипотезы, факта и т. п. Эмоциональная эвристика, догадка, предвосхищение — залог успеха и продуктивности познания, решения проблемы. Набор инструментальных назначений эмоциональных структур опыта чрезвычайно широк и включает (помимо названных универсалий) средства для достижения ясности, выразительности, убедительности, красоты, гармонии, простоты и многие другие. Без эмоций не обходятся споры, дискуссии, борьба мнений, достижение взаимопонимания, любые отношения общения, возникающие в процессах познания и жизнедеятельности людей. Эмоционально-ценностные структуры опыта «возводят» барьеры в отношениях между людьми и «преодолевают» их.
Зависимость познания, общения и повседневной жизни людей от ресурсов их эмоционального опыта приобретает принципиальное значение в так называемых критических ситуациях. Такие ситуации возникают под воздействием разнородных обстоятельств, нарушая сложившиеся связи человека с миром, с другими людьми, с самим собой. Они могут быть вызваны стихийными бедствиями, катастрофами, конфликтами и социальными противоречиями (вплоть до войн и революций). Кризисные явления дестабилизируют поведение человека, вносят в него элементы хаоса, разрушают жизненные планы, затрудняют достижение целей. Внутренний духовный кризис личности порождает чувство растерянности, страха, незащищенности, озабоченности, недоверия, тревоги, приводит к утрате имевшихся идеалов и ценностей. Человек может подвергнуться давлению извне — испытать стресс или пережить внутреннее потрясение — фрустрацию. Кризис достигает кульминации, когда его значения становятся поворотными, решающими изменениями жизни и существования человека. Несмотря на индивидуальное разнообразие критических ситуаций, встречающихся в человеческой жизни, они обладают некоторыми общими свойствами — свойствами крайней неопределенности, пограничности, проблемности, трагичности
и смысложизненности. Кризис вынуждает человека пережить данный период своего существования и искать выход из создавшегося положения. Принципиальный смысл кризисных переживаний не ограничивается их эмоциональной насыщенностью и сложностью, а предполагает переоценку ценностей познания, общения, жизни.
Волевые структуры
Воля относится к числу тех немногих понятий, разнообразные аспекты которых оказываются столь продуктивными для изучения человека, человеческих отношений и, в частности, для познания. Споры по поводу лидирующей роли интеллекта или воли в человеческой жизни, опыте и познании определили одну из центральных магистралей историко-философского движения, то затухая, то вспыхивая с новой силой в разные эпохи вплоть до сегодняшних дней. Определив волю в качестве элемента души, Платон считал ее необходимым условием познания. Фома Аквинский придал воле этико-религиозное значение способности, позволяющей духу преодолевать все, что угрожает достижению высшего блага. Согласно ему, волевой опыт проявляется в мужестве и умеренности (по отношению к себе), в справедливости (по отношению к другим), в мудрости, если речь о его познавательной ценности. В классической философии тема воли долго оставалась на периферии внимания — до тех пор, пока принцип «Volo ergo sum» Мен де Бирана (как принцип самосознания волящей личности) заметно не потеснил картезианскую парадигму «Cogito ergo sum», обозначив тем самым водораздел между философской классикой и современностью. Посткантовская, фихтеанско-шопенгауэровская традиция узаконила волю в качестве начала практического разума. Г. Фихте политизировал значения воли, превратив ее в движущую силу изменений народного духа, а А. Шопенгауэр развернул картину философской онтологии и метафизики воли. Объявив волю «вещью в себе», он эксплицировал ее: а) в телеологических значениях «воли к жизни», б) в актах проявления «воли, в мире» и определения «мира как воли», в) как метафорический способ описания мира и как метафизическую подпорку познания мира. Шопенгауэровские попытки разобраться с темой воли были пронизаны идеей гармонии ее качеств — телесности и духовности, иррациональности
и рациональности, бессознательного и осознаваемого, непознаваемости и познаваемости.
Интегральные усилия по гармонизации волевого опыта приложил Ф. Ницше, акцентируя ее культурологические и нравственные возможности: воля как сила жизни утверждает себя, тогда как безволие есть выражение отрицания жизни. Просто указать на высочайшую специфичность воли, благодаря которой человек приобретает опыт выживания и проживания, еще не значит раскрыть ее природу. Ницше стремился проникнуть в глубины волевых оснований жизненного опыта и преодолеть разрыв между «темными», дионисийскими, разрушительными, бессознательными, телесными, иррациональными и «светлыми», аполлоновскими, созидательными, сознательными, духовными, рациональными проявлениями воли.
Во многих отношениях аргументация Шопенгауэра и Ницше близка сегодняшним постмодернистским дискурсам, в которых волевой фактор занимает ключевое положение. Правда, в них не найдешь намеков на гармонизацию волевых структур опыта. Напротив, тенденции иррационализации воли в постмодернистской философии (Ж. Батай, Ж. Деррида, Ж. Лиотар и др.) усиливаются. Вникая в них, крайне трудно, да и, по-видимому, невозможно, выбраться за пределы маргинальных «заморочек» с проблематикой воли и пробиться к «естественному свету» ее рациональных качеств.
За понятием воли в классической и современной философии закрепилась слава феномена, трудно поддающегося анализу. Утверждения о субстанциональности причин волевой активности и об эффектах абсолютной свободы воли до сих пор относятся к числу самых распространенных. Дело в том, что волевые структуры обеспечивают регулятивные функции опыта. Они проявляются в намерениях или желаниях, настойчивости, самообладании, собранности, выдержке, решительности, целесообразности, выборе или предпочтении. Их общий смысл заключается в организующем влиянии воли на жизнедеятельность человека, познание и общение. Состав волевой регуляции складывается из мотивации, определения целей, принятия и реализации решения. Прояснение каждого из этих компонентов воли позволяет уточнить ее особенности и роль в опыте.
Свойства волевой регуляции выражают внутреннюю, глубоко скрытую и опосредованную динамику ее участия в опыте
познания и жизнедеятельности человека. Их имманентное значение связано с феноменом свободы воли, в котором сконцентрирован потенциал усилий, позволяющих человеку преодолевать свою зависимость от собственного опыта и опыта других, преодолевать препятствия или трудности в жизни и познании, достигать «известного отрыва» от внешних обстоятельств — «встать над ними», определить свою судьбу. Волевой опыт позволяет ориентироваться в искомых ситуациях, когда другие ресурсы (когнитивные, эмоциональные и др.) опыта исчерпаны или дефицитны. Свобода воли «жонглирует» на границе необходимости и случайности, целесообразности и мотивации. Она может достигать большого числа степеней, близких к абсолютным значениям, когда человек не осознает своей зависимости от внешних обстоятельств, пренебрегает ими или оказывается в «информационном вакууме». Свобода воли может оказаться очень ограниченной, если человек «скован» внешними обстоятельствами и собственным опытом, исключающими произвольность его действий. Поэтому волевые решения могут быть решениями, обладающими определенной степенью адекватности ситуациям познания и жизнедеятельности, или решениями, отличающимися произволом, — известными как волюнтаристические решения.
Познавательный смысл свободы воли раскрывается в актах выбора и принятия решения. Кульминация волевых усилий познающего субъекта приходится на момент выбора альтернативы достижения искомой цели и принятия решения по ее реализации. Ведь воля, как писал Дж. Локк, «означает всего лишь силу или возможность предпочитать или выбирать».1 С актом выбора ассоциируется собственное, пермиссивное (разрешающее) значение воли. Именно понятие «пермиссивность воли» обозначает свободное волеизъявление человека. Его выбор зависит от мотивов, которыми он руководствуется. Мотивы побуждают начать работу по определению и достижению цели, ибо в них содержится информация — фактор волевого регулирования. Содержание мотивов проявляется в намерениях, замыслах, планах, установках, диспозициях. Возможности мотивации таятся не только в опыте, но и в постоянных изменениях ситуации в познании. Поэтому содержание мотивов
1 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3 т. T. 1. М., 1985. С. 293.
может изменяться в ходе познания и уже в измененном виде корректировать волевые усилия. Чем искомее ситуации, тем неопределеннее пути достижения цели, а значит, — и избыточнее число степеней свободы принимаемого решения. Разные мотивы вступают друг с другом в конкурентные отношения. Конкуренция мотивов представляет собой своего рода волевой механизм выбора и принятия решения. Стремление извлечь выгоду или докопаться до истины, приверженность традиции или авторитет факта — это лишь отдельные примеры разных мотивов. Крылатая фраза «Хоть Платон мне друг, но истина дороже!» упрощенно выражает конкуренцию мотивов. По содержанию мотив может соответствовать и не соответствовать целям познания. «Сдвиг мотива на цель» означает объективацию его содержания. Цель воздействует на волевую регуляцию законоподобным и необходимым образом. Но совпадение мотива и цели в волевой регуляции как основы выбора и принятия решения — только один, наиболее рационалистический вариант трактовки роли опыта в познании.
Было бы опрометчиво, даже ошибочно сводить действие волевых структур к осознанной мотивации и целесообразной деятельности. Очень часто вопросы о мотивах действий в познании (а тем более в жизни) остаются без ответов. Нельзя забывать, что человек способен принимать бессмысленные решения с точки зрения рациональности. Далеко не всегда воля действует как осознанный, рациональный выбор. Возникают соблазны и искушения «выгодных» или рутинных решений, решений, коренящихся в области бессознательной мотивации, или решений, в которых «цель оправдывает средства». Конечно, выбор, как правило, есть результат более сильной мотивации, доминирующей над слабой. При этом рациональный и оптимальный выбор требует гораздо больших волевых затрат, так как он требует анализа и сравнения всех возможных альтернатив достижения целей познания, сколь избыточным ни было бы их число. В выборе как волевом акте интегрируются разрешающие способности опыта.
Мнемические структуры
Тот факт, что опыт соотносится со структурами и механизмами памяти, никогда не вызывал сомнений в теории познания. Память есть интегративная способность человека сохранять и воспроизводить свой опыт. Общие принципы организации
и протекания процессов памяти проявляются в информационных и пространственно-временных свойствах. Опыт упорядочивается мнемическими структурами запечатления, сохранения, воспроизведения и забывания информации самого разного толка (когнитивной, эмоционально-ценностной, социокультурной, исторической, биогенетической, повседневной и т. д.). Благодаря им возможно различение прошлого, настоящего и будущего значений опыта, т. е. его временной организации. Информация, сохраняемая в структурах памяти, имеет значение не столько сама по себе, сколько по отношению к настоящей и будущей жизнедеятельности человека, в частности, по отношению к познанию. Вопрос о времени в отношениях памяти и опыта с познанием имеет принципиальное значение.
Пользуясь значениями прошлого, настоящего и будущего времени, мы различаем опыт как прошлый момент нашей жизни, а познание наделяем свойствами настоящего и будущего времени. Тем самым соотношение мнемических структур опыта и познания упорядочивается с помощью времени. Память предоставляет для познания все необходимые сведения, переводя их из разряда прошлого времени в разряд настоящего и будущего. Направленность познания под влиянием мнемических структур опыта может быть ретроспективной, репрезентативной и проспективной.
Ретроспективное познание обращено на прошлый опыт в его собственных значениях. В случаях обыденного познания вашей прошлой жизни вы можете мысленно «блуждать» по «закоулкам» памяти, припоминать происшедшие события, восстанавливая их картину в целом. Повседневная ретроспекция позволяет додумать то, что оставалось у вас недодуманным, беспокоило и побуждало к размышлениям. Более строгие черты ретроспективного отношения к прошлому появляются во всякого рода специализированных процедурах культурноисторического познания и истории науки, в которых возникают задачи реконструкции прошлого.
Наиболее интересные случаи ретроспекции связаны с мысленными реконструкциями прошлого опыта, с обнаружением его искомых возможностей, т. е. мысленные реконструкции неосуществившихся или нереализовавшихся возможностей прошлого опыта. Так, по мнению М. Хайдеггера, подлинное отношение к истории как прошлому опыту заключается не в ее механическом воспроизведении, а в свободном, твор
ческом конструировании прошлого, воображении. Нереали-зовавшиеся возможности прошлого нельзя воспроизвести, повторить в настоящем, но кто может запретить их мысленную реконструкцию. Структуры памяти обеспечивают подобное возвращение в прошлое, при котором оно не теряет своей познавательной ценности. Опыт ретроспективного познания может пригодиться в настоящем и будущем. Неспроста Хайдеггер отметил, что будущее пребывает в прошлом и настоящем, но оно не позднее прошлого, а прошлое не раньше настоящего.1 Ретроспекция позволяет пребывать в прошлом опыте и «разглядывать» в нем возможности настоящего и будущего, не разрушая его специфики.
Конечно, произвол ретроспективных операций познания не безграничен. В значительной степени люди требуют от прошлого опыта то, что им необходимо в настоящий момент деятельности и для прогнозирования ее в будущем. Факты «перекройки» истории каждым поколением историков, например, лишний раз подтверждают это. От истории как прошлого опыта «требуют» то, что «устраивает» современность. И здесь субъекта познания интересует не столько «данность (заданность)» и ценность прошлого опыта самого по себе, сколько его «переданность», т. е. адресованность к настоящему и будущему (значение традиции). Но тогда мы уже имеем дело не с ретроспективным познанием, а с репрезентацией (воспроизведением) и прогнозом.
Репрезентативное и проспективное познание в отличие от ретроспективного имеет противоположную направленность — воспроизведение прошлого опыта в связи с настоящим и будущим временем. В репрезентативном познании структуры памяти обеспечивают повторение прошлого опыта. Воспроизводя прошлые знания, мы подтверждаем или опровергаем их, убеждаемся в их истинности. Например, простое воспроизведение доказательства известной теоремы Пифагора о равенстве суммы квадратов катетов треугольника квадрату его гипотенузы позволяет нам установить те же истинные значения результата, которые были получены когда-то самим Пифагором. Можно ли на этом основании считать, что мы воспроизвели опыт самого Пифагора по доказательству данной теоремы? И «да», и «нет». «Да» в том смысле, что мы, просто
1 См.: Heidegger М. Sein und Zeit. Tubingen, 1977. S. 350.
повторив определенные когнитивные операции, скопировали доказательство этой теоремы. Но подобное копирование есть скорее обучение, а не познание. Чтобы воспроизвести прошлый опыт доказательства теоремы Пифагора, нам, во-первых, необходимо обладать таким собственным опытом, который бы оказался достаточным для этих целей. Во-вторых, важно воспроизвести ту ситуацию с доказательством данной теоремы, в которой оказался Пифагор, и выяснить, почему он избрал именно такой вариант решения проблемы. Другими словами, при воспроизведении прошлого опыта Пифагора необходимо проанализировать его исторические, культурные, языковые и другие особенности.
На этом пути мы столкнемся с обстоятельствами, о которых говорил еще Ф. Бэкон в своем учении о призраках (идолах) познания. Речь идет о «предрассудочной начинке» прошлого опыта. Предрассудки, традиции, мнения, идеалы, нормы и ценности, аккумулированные в нем, играют как негативную, так и позитивную роль в репрезентативном познании. Его продуктивность связана с преодолением негативных значений прошлого опыта. Высказывая сомнения, сравнивая, оценивая, проверяя и селектируя прошлые знания, мы избавляемся от ошибочных результатов. Далеко не все структуры прошлого опыта воспроизводимы в познании. При репрезентации, как правило, анализу подвергаются письменные источники, т. е. экстернализированные знания и ценности. Многие черты прошлого опыта утрачиваются по причинам опосредствованно-сти, временной (например, масштаб исторической дистанции) и пространственной (например, культуры Запада и Востока) отдаленности. В репрезентативном познании открываются возможности произвольных вариаций на темы прошлого опыта. Их содержание в значительной мере порождается коммуникативными механизмами, в режиме которых могут работать мнемические структуры. Репрезентация предполагает отношения общения, когда познающий субъект обращается к опыту других людей, стоящих за соответствующими традициями, мнениями, авторитетами и т. п., к опыту людей, принадлежащих другим историческим эпохам и культурам. Воспроизводя прошлый опыт, субъект получает возможность учиться на собственных и чужих ошибках, усваивать и обобщать опыт других, общаться и сопереживать с ними. Отношения репрезентации таковы, что характер познания определяется не только влия-
нием прошлого на настоящее и будущее, но и, напротив, — воздействием настоящего и будущего на прошлое. Субъект познания «осовременивает» прошлый опыт, ориентируя его на раскрытие настоящего и будущего.
Искомое будущее чревато новыми когнитивными возможностями не менее, нежели прошлый опыт. Проспективное познание в отличие от ретроспективного и репрезентативного стремится не редуцировать искомые значения будущего к известным значениям прошлого опыта, а распознавать и прогнозировать их. Адекватность распознавания и прогноза будущего предопределяется информационной мощностью мнемических структур опыта. Проспективное познание — весьма сложная процедура, упорядочиваемая индуктивно-вероятностным образом. Когнитивные операции по распознаванию заключаются в сличении искомых значений будущего с их прото- или архетипами, хранящимися в памяти. Успех распознавания зависит от того, на основе каких принципов хранится информация в прошлом опыте. Принципы хранения информации в памяти очень разнообразны. Это могут быть, например, принципы ассоциации по пространственной и временнбй смежности, сходству или контрасту, принципы соотношения целого и части, принципы сравнения и метафоры (идентификация нетождественного), принципы ритмической организации и многие другие. Процесс распознавания напоминает сканирование информации от искомых значений к соответствующим прототипам прошлого опыта. Если такие прототипы отсутствуют, то распознавание малоэффективно. Наличие прототипов придает распознающим высказываниям большую убедительность и вероятность. Среди актов распознавания выделяют так называемые реминисценции — неотчетливые или смутные представления об искомом.
Прогностическая функция памяти реализуется в виде муль-тиальтернативной последовательности индуктивно-вероятностных высказываний относительно искомых значений будущего. Совокупность высказываний в каждой альтернативе проспективного познания есть в своем роде гипотеза, которая нуждается в обосновании и проверке. При сопоставлении друг с другом гипотезы или предположения могут характеризоваться равными или разными (больше / меньше) значениями вероятности. Тогда прогноз оказывается ожиданием возможных ответов с присущей им степенью правдоподобия (вероят
ности). Так как роль случайности в прогнозе крайне велика, то проспективное познание не застраховано от ошибочных результатов. Гарантом истинности предположительных суждений прогноза может служить только их опытная проверка. Случайный характер прогноза компенсируется повторением опыта. Повторение опыта вносит в познание элемент статики, придающий стабильность и устойчивость структурам памяти. На их основе формируется готовность человека к разрешению проблемных ситуаций в познании, общении и жизнедеятельности.
Глава 3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ЦЕЛЬ ПОЗНАНИЯ
§1. Субъект познания
Гносеологическое отношение. Любая познавательная доктрина так или иначе касается проблем выявления условий и обоснования истинности нашего знания. Решение этих проблем тесно связано с ответом на вопросы о том, кто познает, что познается, каким образом осуществляется познание и что представляет его конечный результат. Совокупность этих вопросов и составляет содержание всякой теории познания, возникающей в поле постоянного логического напряжения между сторонами гносеологического отношения — познающим субъектом и познаваемым объектом или, иначе говоря, отношения между мышлением и бытием.
В истории европейской философии можно выделить два основных типа такого отношения: мышление, непосредственно включенное в практическую ситуацию, представляющее один из ее элементов, существенным образом влияющий на трансформацию значений в создаваемом контексте, и мышление, рассматривающее данную ситуацию несколько отстраненно, стремящееся не столько изменить ее, сколько познать действующие элементы, при этом не рассматривая себя в качестве такового.
Первый тип представлен в философии досократиков (Гераклит, Парменид) и знаменует эпоху слитности бытия и мышления, когда мышление как бы растворено в бытии и выступает именно как мышление бытия, как непосредственная открытость бытия мышлению, еще не отягченная роковой раздвоенностью бытия и сущего. Второй тип представляет линию, иду
щую от Платона и Аристотеля, через Декарта, вплоть до Гегеля и Гуссерля. Здесь мышление уже не слито с бытием, но отделяется от него и само онтологизируется, превращаясь в абсолютный «субъект», противостоящий миру сущего как универсальному «объекту».
Именно вторая модель — отношение познающего к познаваемому — становится наиболее привычной для европейской культурной традиции, в русле которой и разрабатывались основные теории познания, восходящие в своих истоках к учениям Платона и Аристотеля. Данная традиция исходит из признания одной единственной истины, представляющей подлинное знание (episteme), противопоставляемое неподлинному мнению (doxa), а правильное рассуждение ведется от имени некого надличностного субъекта согласно строгим логическим законам, которые, будучи раз открыты, остаются вечными и неизменными. Каждый отдельный мыслитель при этом выступает как некое очередное звено в общей цепи доказательств, а само познание понимается как «dia-noia», как постепенное проникновение сознания в некоторую глубинную сущность вещей, непосредственно не представленную в обыденном опыте. Таким образом, формируется представление о «двуслойности» бытия, в котором под внешней поверхностью мельтешащих явлений скрывается глубинный «мир сущего», выступающий основанием и причиной всего происходящего на поверхности. Именно этот «мир сущего» и становится действительным объектом, на который направлена познавательная активность субъекта, стремящегося «прорваться» сквозь обманчивую видимость явлений к скрытой сути бытия.
Галилей и Декарт еще более резко обозначили это противопоставление субъекта объекту в новоевропейской философии. С одной стороны, физика Галилея обосновывает радикальное отличие научной картины мира от мира обыденных представлений. С другой — Декарт, утверждая субстанциональный характер как протяженности, так и мышления, проводит столь же резкую черту между идеями, составляющими содержание нашего сознания, и внешним миром. Следствием этого разделения становится то, что основанием для дискуссий о возможностях и путях познания, начиная с Декарта и вплоть до конца XIX в., выступает доктринальная противоположность материализма и идеализма. В понимании сути субъектно-объектных отношений первая из этих установок ори
ентирована прежде всего на объект, вторая — на активность субъекта, а в совокупности обе они воспроизводят классическую теоретико-познавательную дилемму: является ли наше знание «отражением» объекта или субъективной «конструкцией». Вопрос формулируется так: можем ли мы на основании «познавательных образов» заключать о существовании и даже свойствах внешнего мира, скрытого «за» нашими идеями, или мы познаем только наши собственные идеи?
Материализм (объективизм) исходит из того, что существует независимый от человеческого сознания (и свободный от всякой субъективности вообще) объективный мир, непосредственно «данный» нам в формах чувственного опыта. Идеи нашего сознания представляют отражение этого мира, возникающее как результат воздействия объектов на органы чувственного восприятия. Активная роль в познавательном отношении принадлежит объекту, тогда как субъективной стороне приписываются преимущественно рецептивные функции.
Идеализм (субъективизм), напротив, исходит из того, что не существует никакой совершенно независимой от сознания действительности. Человеческое познание в конечном счете есть воспроизведение в индивидуальном сознании образов и идей, уже имеющихся в содержании некого надчеловеческого, «мирового сознания» (Бога, Абсолютного духа и др.). Поэтому, строго говоря, нет никакой чистой объективности, в которой так или иначе не были бы представлены субъективные моменты. Активная роль принадлежит здесь субъекту, который формирует «образ» внешнего мира в соответствии с имманентно присущими ему познавательными способностями. Этот-то образ и выступает как единственно доступный человеческому сознанию объект.
Третья позиция (так называемый «агностицизм») представляет попытку компромисса между двумя крайностями: существует независимый от сознания «мир в себе», но он недоступен человеческому познанию, которое касается только явлений, т. е. внешних форм обнаружения этого мира.
Общей основой для всех этих трех позиций является декартовский тезис о том, что фундаментальное заключение о бытии мы можем сделать, только исходя из самодостоверности акта собственного мышления. Или, иными словами, достоверность человеческого знания опирается в конечном счете на познание человеком самого себя и своих собственных идей. Если даже
и имеется существующая сама по себе «объективная действительность», то она доступна нам не прямо, а лишь косвенно, через посредство каузального умозаключения типа: «Раз есть мысль (а она есть), то ей непременно должно что-то соответствовать, что-то породило ее и сделало такой, какова она есть». Проблема, таким образом, сводится к тому, чтобы определить, что же представляет собой это «нечто», которое порождает и «оформляет» наше знание.
Материализм предполагает, что таким порождающим фактором является «материя» как объективная реальность, воздействующая на наши органы чувств и порождающая ощущения, составляющие отправную точку для начала интеллектуального процесса, порождающего, в свою очередь, теоретическое (логическое) знание. Познание понимается при этом как специфический род деятельности, самым тесным образом связанной с деятельностью предметно-преобразовательной. Деятельность выступает как именно то опосредующее звено, которое одновременно соединяет и разделяет субъект и объект. В процессе познавательной деятельности субъект превращает реальный предмет в знание, в идею, в субъективную цель; в процессе практической деятельности он, напротив, материализует (опредмечивает) то, что первоначально было чисто субъективной целью, знанием, проектом.
Для материалиста ведущей стороной познавательного отношения является объект. Субъект вторичен по отношению к объекту, но в то же время оба они существуют самостоятельно, независимо друг от друга. Для идеалиста субъект первичен по отношению к объекту, но связь между ними более плотная, чем простое сосуществование. Субъект и объект, образуя стороны устойчивого отношения, взаимно предполагают друг друга, немыслимы вне этого отношения, не существуют обособленно друг от друга, подобно двум полюсам магнита.
В самом этом направлении можно выделить две линии. Первая — так называемый «объективный идеализм» — опирается на признание логической природы реальности, познание которой есть воспроизведение в индивидуальном сознании некого рационального проекта, предшествовавшего бытию предметного мира и составляющего его истинную сущность (Платон, Гегель). При этом мышление начинает воспринимать мир как построенный и живущий по законам самого мышления, или, иными словами, полагает в качестве предмета познания
не жизненный, а именно мыслимый мир. В результате то, что не может быть представлено в форме мысли, «проскальзывает» сквозь логические ячейки «категориальной сетки» и не попадает в сферу познания. Мышление начинает мыслить не бытие, а самого себя в виде некой субстанционализированной сущности (объективированного субъекта: душа, сознание, Бог и др.).
Вторая линия представлена так называемым «субъективным идеализмом», основной тезис которого: «быть — значит быть воспринимаемым». Это означает, что вне субъекта бессмысленно толковать о бытии, что мысль о реальности, существующей независимо от ее чувственного восприятия, внутренне противоречива. С точки зрения представителей данного направления, познание всегда опосредовано впечатлениями и идеями, которые принадлежат не внешнему миру, а внутреннему миру субъекта. В таком случае остается неясным, как идеи и образы, целиком относящиеся к внутреннему (психическому) миру человека, могут быть источником достоверного знания о мире, находящемся за пределами сознания.
Указанные трудности приводят к мысли о пересмотре самих фундаментальных основ новоевропейской гносеологической традиции. Возникает стремление восстановить досократов-скую модель гносеологического отношения. Так, М. Хайдеггер предлагает уйти от традиционного противопоставления субъективности и объективности и вернуться к парменидовской непосредственности, нерасчлененности бытия и мышления, чтобы перейти от «мышления о бытии» к «мышлению бытия».
Понятие субъекта. Под субъектом в самом широком смысле понимается носитель сознания, включая познавательные способности, волю, ценностные ориентации, способность к целенаправленной деятельности. В совокупности все это составляет основу некой формообразующей активности, которая может выступать как действующая причина тех или иных событий. Субъект — это вовсе не обязательно конкретное физическое лицо. В существующих гносеологических учениях действуют различного рода «модели» субъекта — от индивидуального самосознания отдельного человека до «универсального субъекта», выступающего в образе коллективного бессознательного, Абсолютного духа или Бога.
С самого возникновения философии — и на Западе и на Востоке — говорится о наличии в человеческом сознании неких исходных, изначальных и не сводимых друг к другу познава
тельных способностей (чувственность, рассудок, интеллект, память, воображение, интуиция и др.), обеспечивающих в своей совокупности и взаимодействии истинное познание мира. Задача теории познания состояла в том, чтобы раскрыть суть этих способностей и понять механизм взаимосвязи, обеспечивающий единство их действия и его результата. Рассматриваемое в данном контексте понятие субъекта (от лат. subjectus — лежащий внизу, находящийся в основе) означает некую субстанциональную основу, обеспечивающую, с одной стороны, единство познавательных способностей, а с другой — единство многообразных и разновременных актов познания. Гарантией такого единства становится отнесенность всех познавательных актов к субъекту как некому универсальному центру активности, лежащему в основе всей познавательной деятельности. Возникающее в результате этой деятельности знание является знанием субъекта, независимо от того, в каких условиях и благодаря какой из познавательных способностей оно возникло.
Таким образом, основной темой теории познания становится исследование не столько логики строения теоретического знания, сколько логики «строения» интеллекта, осуществляющего познавательную деятельность. Ведь логика теории выступает здесь как производная от структуры и функций познающего субъекта. Признание субъекта в качестве центра познавательной активности предполагает, что все познаваемое составляет периферию сферы познания и обретает смысл и значение только через отнесенность к этому центру. С этой точки зрения познать предмет — значит определить его по отношению к субъекту в качестве цели, обстоятельства, средства, орудия, знака и др.
В обыденном сознании и в наиболее ранних философских учениях субъектом познания выступает отдельный индивид. При этом предполагается, что эмпирический опыт, возникающий в результате непосредственного воздействия объекта на чувствительные элементы его души, порождает знание, в котором характеристики объекта воспроизводятся без каких-либо существенных искажений. Такая позиция, получившая название наивного реализма, состоит в убеждении, что субъект обладает способностью к некому «чистому опыту», репрезентирующему реальность, какова она есть сама по себе. Однако
отождествление субъекта с отдельным индивидом порождает ряд проблем, главные из которых суть следующие:
— каким образом возможно познание объектов, принципиально недоступных чувственному восприятию?
— как возможно индивидуальное познание объекта в его всеобщих и необходимых характеристиках, которые должны иметь одинаковое значение для каждого отдельного человека?
— если содержание сознания субъекта обусловлено совокупностью чувственных впечатлений, состав которых изменяется с течением времени, то что гарантирует самотождествен-ность его человеческого Я?
Поиски ответов на эти вопросы обусловили отказ как от наивного реализма, так и от полного отождествления субъекта познания с отдельным человеком. Спасение от содержащейся в концепции субъекта-индивида потенциальной угрозы солипсизма мыслители видели в переходе от единичного субъекта познания к всеобщему. Отдельный же человек выступает как частное и конечное воплощение этой всеобщности, как ее индивидуальный представитель.
История гносеологических учений дает нам образцы представлений о субъектах различной степени общности: от концепций, весьма близких к идее индивидуального субъекта, до предельно обобщенных концепций универсального, или абсолютного, субъекта. При этом сам выбор уровня общности в значительной степени предопределял характер и содержание гносеологических исследований. Так в теориях, которые исходили из представлений, приближавшихся к концепции индивидуального субъекта, основной акцент делался на изучении психологии когнитивных процессов. В теориях «среднего» уровня главное внимание уделялось проблемам методологии познания, а приближение к максимальному уровню обобщения выдвигало на передний план логическую проблематику.
Антропологический субъект. Наиболее близки к идее субъекта-индивида гносеологические теории, которые исходят из антропологических или естественноисторических концепций субъекта. Под антропологическим или естественноисторическим субъектом обычно понимается естественно-природный человек со всеми присущими ему формами познавательных способностей, рассматриваемыми как продукты естественной эволюции, которые вырастают из простейших форм рецепции животных и генетически закрепляются в поведении человека.
Для теорий подобного рода характерна концентрация внимания на человеческой натуре, «организованном теле» (Ламе-три); на «я» как индивидууме, который мыслит «здесь, в этом теле, в этой голове» (Фейербах); на интеллекте, который рассматривается как продолжение и завершение совокупности естественно-органических «адаптивных процессов» (Пиаже). При всех различиях их теоретико-познавательных конструкций сторонников данного направления объединяет стремление рассматривать познавательное (субъект-объектное) отношение как взаимодействие двух достаточно сложных естественноприродных систем. Субъект рассматривается здесь не как чистое, сознание, а как человек, для которого познание выступает лишь одной (хотя и очень важной) из множества форм осуществления его жизнедеятельности.
Субъект как сообщество ученых. Более широкое обобщение представлено в теориях познания, развивавшихся в русле традиции английского эмпиризма (от Бэкона до Поппера и Куна), склонной рассматривать субъект как сообщество ученых. Выход за пределы субъекта-индивида предполагается здесь за счет обращения к практике научного познания и прежде всего к методологическим процедурам получения и обоснования знания. Правильный метод и организованное сотрудничество ученых рассматриваются как решающий фактор, способный преодолеть гносеологическую ограниченность отдельного человека и обеспечить интерсубъективность, по крайней мере, для научного знания. В самой идее научного метода имплицитно содержится мысль об надындивидуальном субъекте, задающем нормативы познавательной деятельности любому отдельному индивиду благодаря «интерсубъективности» научного метода (Поппер) или признанной данным сообществом «парадигме» (Кун), независимо от личностных характеристик этого индивида.
Социально-исторический субъект. Еще более широкой является концепция социально-исторического субъекта. Суть данной концепции состоит в следующем. Субъект познания не является некой исходной данностью. Но он не может быть и результатом простой естественно-исторической эволюции. Для формирования познавательных способностей необходимо нечто большее. На ранних стадиях индивидуального развития психики человек не может осознать себя как субъекта, поскольку ему еще недоступен мир предметов, существую
щих как продукты деятельности социально-исторического целого. Именно поэтому для индивида изначально не существует ни он сам, ни мир его сознания, противопоставляемый внешнему миру как субъективное — объективному. Процесс и результат познания, равно как и его условия (и субъективные, и объективные) проистекают из общественно-исторического опыта, включающего как теоретико-познавательную, так и предметно-практическую деятельность. Формы этой деятельности заданы индивиду предметным окружением, совокупностью знаний и умений, короче — культурным наследием, выступающим как результат социально-исторического, а не естественно-эволюционного процесса. По этой причине осознание себя в качестве субъекта возникает как приобщение каждого индивидуального Я к культурно-историческому наследию общества.
С точки зрения концепции социально-исторического субъекта отношение человека к миру не ограничивается исключительно гносеологическим отношением познающего к познаваемому. Оно выступает одновременно как отношение сущего к сущему, причем сущее — человек характеризуется не только биофизиологически и психологически, но главным образом культурно-исторически, как субъект практического действия, который реализует ценностно значимые в системе данной культуры формы поведения. Если же познание отделяется от действия, «движение мысли» от «движения тела», то человек наделяется стремлением к некому «бескорыстному созерцанию». При этом разрывается его связь с реальностью, а познание превращается в самоцель, поскольку ориентируется на создание завершенной, устойчивой «картины мира».
С социально-исторической точки зрения субъект познания есть нечто большее, чем каждый конкретный индивид. Он выступает как носитель социальности, как «совокупность общественных отношений» (Маркс). Социальная обусловленность субъекта означает включенность его в определенную социально-историческую общность (класс), и это не может не отражаться на характере его практической и познавательной деятельности. Поэтому его «выход» за пределы индивидуальности не достигает безграничной абстрактно-логической всеобщности трансцендентального субъекта, поскольку всегда имеет определенные социально-исторические рамки. Знание такого субъекта не является универсально-безличным
знанием, а сохраняет определенную эмоциональную окраску и ценностное значение.
Трансцендентальный субъект. Наиболее широкое распространение в европейской философии получила версия, склоняющаяся к предельно обобщенной трактовке субъекта как внеисторического, внеопытного «чистого сознания». Трансцендентализм в понимании субъекта берет свое начало еще в античной классике. Особенность данной традиции состоит в том, что она предпочитает иметь дело не столько с реальным эмпирическим человеком, сколько с его рафинированной, а то и сакрализованной сущностью, которая отделяется от человека и гипостазируется в виде некого «созерцательного ума» (noys theoretikos), который «существует отдельно» от тела, «не подвержен ничему и ни с чем не связан».1
Всеобщим субъектом средневековой гносеологии становится Бог как универсальное творящее начало, которое само по себе является абсолютным и неизменным. Бог является вершиной и началом всякого разумного творения, он «есть тот величайший разум (ratio), от которого всякий разум»,1 2 и чем более богоподобен наш разум, тем ближе его возможности к актуальности как таковой.
В рационалистической традиции нового времени необходимость и всеобщность научного знания продолжают оставаться неразрывно связанными с идеей всеобщности, универсальности субъекта познания. Отдельный индивид, конечный и ограниченный по своей природе, такими характеристиками не обладает. Для гносеологии новоевропейского рационализма характерно жесткое закрепление неподвижного субъекта познания, существующего в виде мыслящей субстанции — Ego coqito (Декарт), определяющей основные характеристики мира природы — протяженной субстанции. Благодаря необходимости и всеобщности идей, составляющих врожденные принципы познания, картезианская «мыслящая субстанция» (res cogitans) становится автономным субъектом всех своих познавательных и практических проектов и предприятий, обеспечивающих все более и более глубокое погружение в объект. Сверхличный характер субъекта проявляется здесь сквозь личное (индивидуальное). Но постижение этого сверхличного индивидуальным
1 Аристотель. О душе. 430а, 15.
2 Кузанский Н. О предположениях. 56.
сознанием оказывается возможным лишь благодаря наличию в нем общечеловеческого (безличного). Парадокс заключается в том, что возможность достижения общезначимого знания, а следовательно, возможность взаимопонимания и межличностного общения обеспечивается как раз благодаря безличным компонентам человеческого сознания.
Концепция трансцендентального субъекта опирается на достаточно сильные гносеологические допущения классической рациональности: во-первых, на представление о внеи-сторическом и безличном характере актов познания, осуществляемых «с точки зрения вечности», и, во-вторых, на идеал воспроизводимости и полной «реставрируемое™» каждой ступени этих актов от исходных звеньев до завершающего результата. На основе этих допущений формируется образ усредненного, инвариантного, самоидентичного субъекта, все познавательные действия которого имеют универсальный характер. Знание, приобретаемое таким субъектом, является необходимым, всеобщим и неизменным и в принципе должно быть абсолютно «прозрачным», ясным и понятным для всякого, кто обладает «естественным светом разума».
Наиболее развернутую концепцию трансцендентального субъекта мы находим в философии Канта, раскрывающей внутреннюю структуру его организации. По Канту, трансцендентальный субъект представлен сложной системой всеобщих и необходимых априорных форм категориального синтеза. Благодаря их универсальности человеческий опыт, как бы ни был он своеобразен и уникален, организуется в соответствии с этими всеобщими формами. В то же время Кант обращает внимание на то, что, поскольку человек принадлежит одновременно и к умопостигаемому, и к чувственно воспринимаемому миру, «мыслящий субъект, для себя самого во внутреннем созерцании есть только явление».8 Поэтому в одном отношении он выступает как ноумен, а в другом — как феномен, в одном отношении как трансцендентальный субъект, а в другом — как эмпирический, или, иными1 словами, в одном отношении как чистое, а в другом — как эмпирическое сознание. Разделение субъекта познания на трансцендентальный и эмпирический позволяет показать, каким образом предметы нашего внешнего
1 Кант И. Критика практического разума // Соч.: В 6 т. T. 4, ч. I. М., 1965. С. 316.
опыта, которые должны необходимо сообразовываться и согласовываться с априорными формами организации трансцендентального субъекта, остаются независимыми от индивидуальнопсихологических особенностей эмпирического субъекта.
Наиболее характерной особенностью гегелевской трактовки трансцендентального субъекта становится отказ от идущего от Декарта противопоставления субъекта и объекта как двух самостоятельных, взаимонепроницаемых субстанций. В понимании Гегеля субъект и объект по существу тождественны. Мировой процесс есть процесс саморазвития (или, что для Гегеля есть совершенно то же самое, самопознания) Абсолютного духа, который, будучи единственным персонажем этого процесса, выступает как абсолютный субъект, имеющий в качестве единственного объекта, опять-таки самого себя. В результате гегелевский субъект полностью сливается с субстанцией: ведь последняя есть не что иное, как «бытие, которое поистине есть субъект».1
Отдельный человек может выступать как субъект лишь в той мере, в какой он приобщается к абсолютному субъекту. В своем индивидуальном развитии он должен пройти все ступени образования всеобщего духа, как этапы пути, «уже разработанного и выравненного», т. е., чтобы стать действительным субъектом, человек, в свою очередь, должен быть предварительно образован. Он непременно должен освоить необходимый массив опыта прошлого, иначе он никогда не станет человеком в подлинном смысле этого слова: ведь именно «прошлое наличное бытие — уже приобретенное достояние всеобщего духа... составляет субстанцию индивида».1 2 Поскольку «сумма» этого «приобретенного достояния всеобщего духа» есть функция времени, индивидуальный субъект гегелевской гносеологии — субъект исторически обусловленный. Поскольку же для становления в качестве субъекта ему необходимо всякий раз осваивать именно данное «достояние», он в то же время есть субъект логически предопределенный.
Дальнейшее развитие идеи трансцендентализма в понимании субъекта связано с феноменологическими исследованиями Гуссерля. Разделяя в целом трансценденталистские установки Канта, Гуссерль предлагает радикально устранить из кон
1 Гегель Г. Феноменология духа // Соч. T. IV. М., 1959. С. 9.
2 Там же. С. 15.
цепции субъекта все индивидуально-психологические, естественно-исторические и социокультурные аспекты, для того чтобы проникнуть в самую глубину действительно всеобщих структур сознания. В феноменологической философии Гуссерля сама субъективность приобретает бытийную значимость, поэтому ее предлагается рассматривать как феномен, т. е. скрупулезно исследовать все многообразие способов ее непосредственной данности. В ходе такого исследования выявляется сущность самого «чистого сознания» — трансцендентальное ego, лежащее в основе всех мыслительных актов. Однако это трансцендентальное ego не следует понимать в смысле некой надындивидуальной сущности, предшествующей всякому индивидуальному сознанию (Н. Кузанский) или поглощающей его в своей абсолютной всеобщности (Гегель). Оно обнаруживается, благодаря трансцендентальной рефлексии, именно в индивидуальном сознании как глубинная основа всех его интенциональных актов. Трансцендентальное ego гуссерлев-ской феноменологии — это не «пред-Я» или «сверх-Я», а скорее — некое «пра-Я», для которого не существует ни наперед заданного мира объектов, ни «Верховного субъекта». Так гус-серлевская концепция трансцендентального ego парадоксальным образом открывает путь к рассмотрению субъективности как укорененной непосредственно в «жизненном мире» человеческой экзистенции, центрированном вокруг индивидуального эмпирического Я.
Экзистенциально-феноменологическая концепция субъекта. Экзистенциально-феноменологическая философия не разделяет бытие на противопоставленные друг другу субъект и объект. Поэтому в новой традиции, когда речь идет о субъекте, имеется в виду, скорее, субъективность, которая понимается как неотъемлемая принадлежность всякого события, происходящего в мире. Субъективность не имеет субстанционального характера и не противопоставлена остальному миру. Поэтому субъект экзистенциально-феноменологической философии — это не человек, не человеческое тело, душа или человеческое сообщество, но это и не чистая абстракция, подобная трансцендентальному субъекту классической философии. Субъект не рассматривается здесь как некая самостоятельно существующая в мире сущность, составляющая какую-то, пусть даже очень специфическую, часть этого мира, поскольку мир и жизнь суть одно. Я — это и есть мой мир.
Стремясь радикально устранить из теории познания последние остатки психологизма и релятивизма, Гуссерль предлагает полностью редуцировать существование сознания к его сущности. Его ученик Хайдеггер, напротив, концентрирует внимание именно на «экзистенции», на бытии сознания. Он вводит в центр исследования такие «экзистенциальные мотивы», как забота, заброшенность, смерть и т. д., вновь возрождая, таким образом, те самые моменты психологизма и релятивизма, от которых стремился избавиться его учитель. Он использует феноменологический метод Гуссерля, но не для того, чтобы пробиться к наиболее глубинным структурам «чистого сознания», а для того, чтобы вывести из потаенности живую истину непосредственного бытия (Dasein).
Усилия классической гносеологии были направлены на то, чтобы одновременно «увидеть» и познаваемый объект, и познающего субъекта, для того чтобы со стороны, с позиции беспристрастного свидетеля зафиксировать тождественность или нетождественность объективной реальности и ее субъективного образа и заключить о его истинности или ложности. Но где в мире может быть обнаружен такой «третий глаз», который мог бы одновременно видеть и наблюдаемое и наблюдателя? Мы видим глазом, но при этом мы не видим самого глаза. Более того, если бы мы могли видеть глаз, то, скорее всего, мы ничего бы не видели им. Ничто из попадающего в поле нашего зрения не позволяет нам сделать вывод, что оно видится именно глазом. И подобно тому, как глаз не принадлежит к совокупности всего видимого, субъект не принадлежит миру, а представляет собой некое неотъемлемое условие человеческого бытия, составляет границу мира, а не его часть.
Эта граница проходит между объективной и субъективной сторонами непосредственного бытия, разделяя их как бытие «В-себе» и бытие «Для-себя» (Сартр). Отношение этих сторон несимметрично. Бытие «Для-себя» (сознание) лишено какой бы то ни было сущностной предопределенности, абсолютно пусто, прозрачно, а потому совершенно открыто как для внешнего мира, так и для самого себя. Оно представляет собой «разрыв» в бытии «В-себе», абсолютное ничто, которое, будучи лишенным собственного содержания, постоянно нуждается в наполнении. Именно благодаря своей абсолютной «прозрачности», сознание выпадает из сферы действия всех каузальных зависимостей и выступает как абсолютная свобода. Созна
ние — это не просто пустота, наполняемая извне, а особого рода бытие — центр свободной, деятельной субъективности.
Содержание, поставляемое бытием «В-себе», не определяет деятельности сознания, а служит лишь своеобразным поводом для него, опорной точкой, отталкиваясь от которой оно разворачивает свою собственную свободную активность. Поскольку же ее содержание ничем не задано ни извне, ни изнутри, она выражается прежде всего в чистой негации, в отрицании зависимости этой активности от всех обстоятельств мира внешнего, а равным образом и внутреннего. Согласно Сартру, существо свободы сознания (субъекта) составляет именно отрицание какой бы то ни было предопределенности. Так формируется новая концепция субъективности, существенно отличающаяся от традиционной.
Данная концепция не предполагает ни независимо от сознания существующего объекта, ни универсальных априорных форм организации самодеятельности субъекта. И то, и другое «формируется» непосредственно в сам момент осуществления бытийственного акта, который одновременно является и познавательным, Сознание не совпадает с психикой или с субъективным миром, взятым в каком бы то ни было положительном содержании. Исходным образом субъект дан самому себе как «чистое ничто», отличное как от мира внешних материальных предметов, так и от биологических, физиологических, психологических и других процессов, происходящих «внутри» его тела, но не «внутри» сознания. Сознание как «ничто» не совпадает с психической жизнью эмпирического Я, оно изначально лишено какого бы то ни было психического содержания, абсолютно пусто. Значит, оно не есть Я. Положительное определение субъекта предполагает рефлексию. Рефлексия же возможна лишь там, где изначальная «прозрачность» сознания нарушена, где появляется объект, «задерживающий» и «отражающий» наш внутренний взор. То есть сам субъект традиционной гносеологии появляется лишь постольку, поскольку содержание сознания начинает рассматриваться как некий внутренний «объект».
Возникновение представлений о сознании, обладающем некоторым положительным содержанием, на основе которых и развиваются впоследствии разнообразные концепции субъекта, является следствием объективации некого конечного содержания сознания в качестве его универсальной характе
ристики. Действительное бытие «Для-себя» — чистое сознание абсолютно «прозрачно», поэтому внутренний взор проходит сквозь него, нигде не задерживаясь и ни от чего не отражаясь. Рефлексия возникает лишь вместе с ее объектом, который она фиксирует и тем самым, в известном смысле, порождает. Таким образом, субъективность не есть нечто изначально данное, лишь обнаруживаемое рефлексией. Можно сказать, что акт рефлексии впервые порождает субъект как собственный объект, приписывает ему некоторую определенность, творит его. Утрата единства бытия и разделение его на противопоставленные друг другу субъект и объект выражают онтологический факт «деградации» самого сознания, убеждающего себя в том, что оно изначально обладает некой определенной сущностью.
Будучи лишено внутренней сущности и глубины, сознание, взятое само по себе, есть ничто, не имеет никакого основания и потому не может служить основанием чему бы то ни было.
Однако реальный эмпирический человек стремится к тому, чтобы стать чем-то определенным, «укоренить» себя в бытии. Это стремление и выражается в попытках сознания либо найти опору во внешнем мире, либо создать такую опору внутри себя самого с тем, чтобы придать себе плотность, субстанциональность, уверенность в себе. В идее субъекта выражается отказ сознания от своей изначальной неопределенности. Субъект — это сознание, которое теперь уже не «ничто», а «нечто», поскольку оно утратило свободу стать чем угодно и стало чем-то определенным. Но если в своем исходном состоянии различные сознания отличаются друг от друга только потенциально как центры реализации свободы, то различные субъекты отличаются друг от друга уже и актуально (по крайней мере на величину опыта). Отсюда и возникает стремление к унификации субъективности путем исключения из нее всех индивидуализирующих моментов и конституирования образа абстрактно-безличного трансцендентального субъекта.
Однако в действительности такая унифицированная концепция субъекта не выражает существа познающего сознания. Определенность человеческого Я не задана изначально, а постоянно трансформируется, так как сознание изменяется вместе с изменением своего содержания и никогда не может приобрести окончательно завершенного облика. Субъективность, поскольку она неразрывно связана с личностью человека, выступает, таким образом, как переменная величина.
§ 2. Объект познания
Под объектом (от лат. objicio — бросаю вперед, противопоставляю) в самом широком смысле слова понимается то, на что направлена познавательная и преобразовательная деятельность субъекта. Функция объекта как стороны гносеологического отношения состоит прежде всего в том, что он играет определенную роль в обеспечении непрерывности субъективного опыта, поскольку выступает как вынесенный за пределы субъекта и относительно независимый от него устойчивый центр приложения познавательной активности. Большинство гносеологических учений исходит из того, что определяющей характеристикой того, что они полагают в качестве объекта, является именно его вовлеченность в познавательный (или преобразовательный) процесс. Поэтому «бытие объектом» означает, как правило, бытие в определенном гносеологическом отношении.
Проблема гносеологического объекта предполагает ответ на два вопроса: на что, собственно, направлена познавательная активность субъекта и каким образом получает он знание о внешнем по отношению к нему объекте? Ответы на эти вопросы позволяют выделить основные направления, по которым развивается осмысление объекта как одной из основных гносеологических категорий.
Объект как сущее — наиболее ранняя концепция объекта. В контекстах употребления данного понятия речь обычно идет о виртуальной реальности, которая существует независимо от человека как некий самодостаточный универсум, охватывающий все сущее. Этот универсум, пронизанный собственными внутренними связями, развивается по своим собственным имманентным законам. Он представляет собой некую самодостаточную, законосообразную, универсальную внешнюю реальность, которая постепенно включается, втягивается в сферу человеческого субъективного опыта (как практического, так и познавательного), составляя материю субъективной деятельности человека.
Человек, поскольку он сам является неотъемлемой частью этого универсума, также выступает как сущее и, следовательно, подчиняется тем же законам, что и весь мир. Он не отделен от окружающей его действительности и как субъект противостоит объекту только в гносеологическом отношении. По мере
того как отдельные фрагменты совокупного объекта вовлекаются в сферу познания и деятельности субъекта, он становится более ясным и «прозрачным» для него. В пределе субъект должен прийти к тому, чтобы охватить своим познанием весь объем этого совокупного объекта. И тогда во всей Вселенной, как говорил Лаплас, «не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно».
Объект как форма обнаружения некого трансцендентного бытия, находящегося за пределами чувственного эмпирического опыта. Бытие рассматривается здесь как чистая потенциальность, существующая не только независимо от субъекта, но и изначально отъединенная от него. Данная концепция в своих истоках восходит к платоновскому «миру идей», развивается в декартовском разъединении протяженной и мыслящей субстанций, но наиболее законченное выражение она обретает в кантовском учении о «вещи в себе».
Данное понимание объекта предполагает некие скрытые, не явленные субъекту состояния и существования, которые могут быть обнаружены только опосредованно, косвенно, через что-то иное. Гносеологическое значение вещи в себе состоит в активизации познавательных способностей субъекта, в результате деятельности которых и формируется объект. Только через посредство осуществляемой в той или иной форме активной конструирующей деятельности субъекта такое трансцендентное бытие «проявляется» в качестве объекта и, таким образом, обнаруживается и включается в контекст человеческого познания.
Объект как бытие для другого. Формирование этой концепции обусловлено сужением представлений о внешней среде до сферы непосредственного осуществления человеческой жизнедеятельности. Мир — это не нечто существующее само по себе, а прежде всего и главным образом — жизненный мир человека. Объективность трактуется здесь с точки зрения непосредственно осуществляемых жизненных, телесных актов. Такая объективность уже не противопоставляется человеческой субъективности, а образует с ней некое неразрывное единство, выступая как неотъемлемая часть субъективного опыта.
Важнейшим признаком объекта в указанном смысле оказывается то субъективное значение, которое он приобретает в том или ином событии человеческой жизни. Только в границах данного события вещь обретает конкретное значение и смысл, ста
новится действительно определенной вещью. Определенность эта не является предзаданной, ни природными качествами самой вещи, ни априорными алгоритмами опосредующих процедур «обнаружения» некоего «бытия в себе». Можно сказать, что ответ на вопрос: «Что есть эта вещь на самом деле?», определяется тем, что значит она для человека в контексте его конкретной жизненной ситуации.
Если объект понимается в смысле сущего, то его бытие в принципе ничем не отличается от его «бытия объектом» (за исключением, пожалуй, того, что в последнем случае именно на него направлено внимание субъекта). Во втором случае (объект — форма обнаружения бытия-в-себе) «бытие объектом» принципиально отличается от бытия-в-себе, поскольку предполагает определенную трансформацию, преобразование бытия-в-себе, для того, чтобы оно смогло выступать в качестве объекта. В случае же рассмотрения объекта как бытия-для-другого мотив необходимости преобразования, трансформации некого исходного материала для того, чтобы он мог стать объектом, усиливается вплоть до признания вторичности, произ-водности объекта, полной зависимости его бытия от человеческой субъективности.
С самого возникновения проблемы гносеологического отношения объект рассматривался в контексте его взаимосвязи с субъектом. И хотя связь эта в разные эпохи толковалась по-разному, уже в античной философии можно обнаружить тенденции к развитию представлений об объекте во всех трех отмеченных направлениях.
В обыденном сознании и в гносеологических учениях ранних философов формируется наиболее близкая к «здравому смыслу» наивно-реалистическая концепция объекта. С точки зрения наивного реализма мир противостоит познающему субъекту как универсальный объект, существующий до познания и совершенно независимо от него. Человеческие понятия и представления рассматриваются как простые копии, слепки с действительности, возникающие в результате прямого воздействия объекта на познающее сознание — душу человека. Наивный реализм основывается на глубоком убеждении в том, что наше знание — это знание о самом предметном мире, о вещах, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Именно эти вещи и выступают в качестве объектов и предстают перед нашим сознанием непосредственно такими, каковы они есть.
Главная трудность, с которой сталкивается наивно-реалистическая концепция, состоит в том, что для значительной части понятий не удается отыскать непосредственного, пространственно-временным образом локализованного предметного референта. И количество таких понятий непрерывно растет. Если, как говорил Демокрит, ощущения и мысли возникают вследствие проникновения в наши души образов («эйдо-сов»), исходящих от предметов, то каково тогда происхождение абстрактных понятий, которым не соответствуют никакие телесные объекты, что представлено в этих понятиях? Ответ на эти вопросы предполагает отказ от чисто рецептивной концепции познания и признание за субъектом способности к активному взаимодействию с познаваемым объектом.
Античные мыслители периода высокой классики понимают познавательное — субъект-объектное — отношение как частное проявление весьма широко понимаемой «способности к действию», или «активности» (dinameis). Во всяком случае Платон достаточно определенно заявлял, что основные формы познания, которые он различает как знание (episteme), мнение (doxa), есть не что иное, как проявления специфических форм этой универсальной способности.1
В самом широком смысле «способность к действию» (dinameis) — неотъемлемое свойство всех существующих вещей. Если бы вещь самим своим присутствием не производила изменений в своем окружении, как можно было бы обнаружить ее бытие? Да и можно ли было бы вообще говорить о ее бытии, если бы оно совершенно ни в чем не проявляло себя? Каждая вещь особым образом проявляет себя в результатах того воздействия, которое она производит на свое окружение. Поэтому можно сказать, что вещи являются именно тем, что они производят. Признание решающей роли результата или продукта некоторой деятельной способности приводит к определенным следствиям. Для теории познания одним из наиболее важных следствий является то, что существует глубокая внутренняя связь между способностью, ее объектом и результатом приложения способности к этому объекту: иначе зачем тогда различные способности?
Иными словами, различные способности должны быть направлены на разные объекты. Одна способность — одна
1 Платон. Государство. 477е.
функция и один объект. Во всяком случае, Платон явно склоняется к тому, что никакая способность не может быть лишена собственного объекта. Пример — проект идеального государства, в котором каждой способности соответствует единственная функция и единственный объект. Для современного сознания не существует столь жесткой связи между способностью и ее объектом. Но для Платона (как и для его современников) эта связь несомненна. Объекты знания и мнения для него различны, в первую очередь потому, что они «обслуживаются» разными познавательными способностями субъекта. Объектом становится то, на что направлена та или иная познавательная способность, как, например, предметы знания и мнения у Платона1 или предметы восприятия (атиграхи), соответствующие определенным способностям-«хватателям» (гр ахам), у Яджня-валкьи.1 2
Аристотель, чья трактовка различия между знанием и верой существенно отличается от платоновской, тем не менее также признает, что для вещей разного рода существуют предназначенные самой природой различные части души: «одна та, с помощью которой мы созерцаем такие сущности, чьи начала не могут быть инакими... другая — та, с помощью которой [понимаем] те, [чьи начала] могут [быть и такими, и инакими]».3 Общая установка и Платона, и Аристотеля состоит в признании того, что знание не может не иметь своего специфического объекта. Столь тесная связь знания с его объектом выражается в тенденции рассматривать познавательный акт как некоторый вид прямого контакта между познающим субъектом и объектами познания (подобно видению или прикосновению). Возникающее в результате такого контакта знание понимается как «непосредственное знакомство» познавательной способности со своим объектом, подобное непосредственному чувственному восприятию.
Знание отличается от истинного мнения так же, как впечатление человека, непосредственно присутствовавшего при событии, отличается от впечатлений, составленных по слухам или рассказам. Высшая форма познания рассматривалась греками как свидетельство очевидца. Боги античности потому
1 См.: Платон. Тимей. 5Id.
2 См.: Брихадараньяка Упанишада. III. 2.1.
3 Аристотель. Никомахова этика. 1139а 5.
и превосходят человека, что они, будучи вечноживущими, «присутствуют» при всех событиях. (В отличие от всеведения христианского Бога, опирающегося на идею автора творения, «проектировщика» мира.) Но свидетельство очевидца продолжает сохранять свое истинностное значение только при условии, что однажды увиденное им в дальнейшем остается неизменным. Таким образом, античная концепция объекта познания парадоксально сочетает в себе две взаимоисключающие тенденции.
С одной стороны, требование неизменности познаваемого объекта предполагает, что его бытие должно предшествовать акту познания и ни в коей мере не зависеть ни от условий, ни от способа восприятия. Иными словами, объект не может рассматриваться как создаваемый в процессе восприятия. Но, с другой стороны, идея познания как результат проявления некоторой деятельной способности (dinameis), жестко привязанной к своему специфическому объекту, способна направить нашу мысль и по пути признания того, что, поскольку иного способа контакта с объектом, чем через эту специализированную способность, у нас нет, то нет и никаких гарантий, что она не представляет нам этот объект в неком специфическом ракурсе или не создает его как продукт собственной творческой активности.
В новоевропейской философии первая из отмеченных тенденций связана с представлением о «данности» объекта познающему субъекту; она развивается преимущественно в русле эмпирической (материалистической) традиции (от Гоббса до Маркса). Вторая — в большей степени связана с признанием «конструктивного» характера объекта и проявляется, скорее, в традициях рационализма и критицизма (Декарт — Кант — Фихте и т. д.).
Материалистическая традиция рассматривает объекты как самостоятельные сущности, предшествующие процессу опытного восприятия и существующее независимо от всякого опыта. Объекты — это фрагменты внешней реальности, составляющие твердую основу опытного познания. Они есть сами чувственно воспринимаемые вещи, а не конструкты, порождаемые действием познавательных способностей. Все остальное, в частности те гипотетические «конструкты», которые задаются на теоретическом уровне, рассматриваются лишь в качестве некоторых «псевдообъектов» субъективных фикций, кото
рые не имеют референтов в действительности, хотя и играют определенную роль в познании.
Объекты, понятия о которых вводятся в ходе теоретических рассуждений и допущений, не признаются реальными в той же степени, как естественные и искусственные объекты нашего обыденного опыта: камни, деревья, дома и др. Реальным считается лишь то, что доступно непосредственному или опосредованному (инструментальному) наблюдению. Однако характерное для донаучного познания положение, когда практически любая теоретическая конструкция может быть выражена в терминах обыденного языка, а для каждого ее понятия можно без особого труда найти чувственно воспринимаемый объект-референт, сохраняется лишь на ранних стадиях развития науки. Развитие научно-теоретического познания потребовало разработки множества идеализаций, т. е. таких допущений и предположений, которые в принципе не соответствуют (а иногда даже противоречат) тому, что может быть непосредственно наблюдаемо. Введение в контекст научного познания таких концептуальных «конструктов», как, например, «материальная точка», «несжимаемая жидкость», «абсолютно черное тело» и др., весьма остро поставило проблему объективности нашего знания, поскольку такие объекты не имеют очевидных референтов. Раньше этой проблемы старались просто не замечать. Так, естествоиспытателям XVII, XVIII и даже отчасти XIX в. казалось несомненным, что понятия классической механики представляют точную копию, «картину» реального мира. Однако количество таких идеализированных «псевдообъектов» в составе научных теорий постоянно возрастало, а все попытки редуцировать их к совокупности чувственно воспринимаемых референтов оказывались несостоятельными. В результате, с одной стороны, все большее распространение получает признание того, что познаваемые объекты представляют собой «конструкции» теоретизирующего мышления, а с другой — в рамках самой материалистической традиции формируется более сложное представление о способах «данности» объекта познающему сознанию.
Марксистская теория познания сохраняет идею первичности объекта и его независимости от познающего субъекта, но в то же время признает, что «сознание не сразу и не просто совпадает с природой». Предмет человеческого познания не тождествен природному объекту, который не «дан» субъекту
как таковой, а воссоздается в системе знания, отображаясь в нем не непосредственно, а в характеристиках производимых с ним действий. Отношение субъекта к объекту всегда опосредуется структурой той практической деятельности, в которую он включается в качестве ее предмета. Активность сознания по отношению к объекту проявляется в акценте, в концентрации внимания именно на данном фрагменте реальности. Поэтому, хотя в основе познания и лежат имманентные характеристики реальных вещей, выбор того, какие из них окажутся в фокусе практического и познавательного, остается за субъектом.
Человеческое мышление не в состоянии полностью контролировать объект: оно фиксирует в первую очередь те его стороны, которые связаны с конкретной целью субъекта. При изменении цели сам объект не меняется, но в центре внимания оказываются иные его стороны, в качестве существенных рассматриваются иные его характеристики как предмета деятельности человека. Различные цели субъекта не творят те или иные характеристики объекта, а лишь способствуют выявлению разнообразных аспектов, присущих самому этому объекту. Чем разнообразнее «роли», в которых выступает объект, тем полнее представлены его многообразные характеристики в системе знаний о нем.
Таким образом, предмет исследования выступает как своего рода модификация познаваемого объекта, представляющая его проекцию, которая в рамках данного исследования носит относительно самостоятельный характер. Подобно тому как вещь, освещаемая с разных сторон, отбрасывает различные тени, остающиеся тем не менее отображениями все той же вещи, предметы исследования, формируемые в свете различных субъективных целей, представляют отображения одного и того же объекта, который выступает в данном случае как инвариант преобразований предмета исследования. Все познавательные операции осуществляются именно с такими идеализированными предметами, которые в процессе познания изменяются, все более приближаясь к адекватному отображению реальных объектов. При этом промежуточные конструкции, которые на определенном этапе развития научного знания предполагались как отображения реально существующих объектов (флогистон, эфир и т. д.), в дальнейшем могут
быть признаны полностью фиктивными, однако это нисколько не повлияет на реальность самих объектов.
Начиная с Канта в европейской гносеологии получает все большее преобладание иное понимание объекта, связанное с идеей его «конструирования» познающим сознанием. Рассуждая об объекте, Кант признавал данность всех наших чувственных созерцаний. Но для того чтобы эти созерцания могли действительно стать знанием, они непременно должны быть связаны в некое единство, иначе они были бы просто хаотическим нагромождением впечатлений. Но если данность имеет внешнее происхождение, то связанность — это дело субъекта. Объект, в понимании Канта, в результате объединения и упорядочения является субъектом данных ему чувственных впечатлений. «Объект есть то, в понятии чего объединено многообразное, охватываемое данным созерцанием».1 Такое объединение и есть «конструирование» объекта, осуществляемое благодаря «трансцендентальному единству апперцепции», которое в познавательном отношении находится на стороне субъекта. Знание о мире, полагал Кант, возникает не иначе, как в процессе познания. Но тогда знание о бытии не может быть положено в основу самого познания, ибо в таком случае мы попадаем в порочный круг. Для решения этой проблемы философия должна перенести внимание с объекта на субъект и сделать его центральным пунктом теории познания именно как «конструктора» объекта. Вся «Критика чистого разума» и есть попытка ответить на вопрос, каким именно образом субъект осуществляет конструирование объекта.
Все, что мы находим в познаваемом объекте, заранее вложено туда познающим субъектом в результате реализации присущих ему априорных способностей к осуществлению познавательной деятельности. Следовательно, все характеристики объекта по своему содержанию суть не что иное, как представления субъекта. Однако из этого вовсе не следует, что, конструируя объект, мы полностью контролируем все его проявления и актуально осознаем все, что мы сами вкладываем в его содержание. Так, например, такой математический объект, как натуральный ряд чисел, представляет собой теоретическую конструкцию, но это вовсе не означает, что «конструктор» актуально знает все элементы этого ряда. Поэтому признание
1 Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. Т. 3. М.3 1964. С. 195.
того, что познаваемый объект «сконструирован» субъектом, не влечет отказа от понимания познания как обнаружения в нем ранее неизвестных свойств и отношений. Однако здесь возникает другая проблема.
Если объект рассматривается как реальность, существующая до и независимо от нашего сознания, сама его независимость выступает гарантом непрерывности субъективного опыта. Несмотря на то, что опыт отдельного человека конечен и ограничен, в исторической перспективе индивидуальные различия оказываются соизмеримыми, а объективная истина достижимой. Кант полагал, что объект есть «конструкция», создаваемая субъектом в процессе познания. Однако непрерывность опыта в его теории познания все равно сохраняется. Гарантом непрерывности становится теперь трансцендентальность субъекта, представляющего не исторически ограниченного человека или конкретное сообщество людей, а некую совокупность универсальных познавательных способностей. Но если в теории познания понимание как «конструкция» соединяется с идеей исторически ограниченного субъекта, субъективный опыт утрачивает универсальный характер и становится разорванным, несоизмеримым, ибо каждый субъект получает «право» на создание своего собственного объектного мира.
Подобного рода сочетание представлено в теоретико-познавательной концепции Т. Куна, в которой идея «объекта-конструкции» соединяется с пониманием субъекта как «сообщества ученых». В результате формируется понятие «парадигмы» как принятой научным сообществом системы норм и правил осуществления познавательных операций. Реализация такого комплекса норм и правил порождает систему определенных теоретических «объектов-конструктов», образующих некоторое единство, которое существует только в рамках данной парадигмы или, что равнозначно, лишь для научного сообщества, явно или неявно принимающего эти правила. Различные парадигмы несовместимы, несоизмеримы друг с другом. Одни и те же факты и термины имеют разные смыслы и значения, поэтому научные сообщества, принимающие разные парадигмы, перестают понимать друг друга и полноценная коммуникация между ними становится невозможной. Таким образом, представление об универсальной непрерывности нашего опыта, имевшее основание в идеях независимого от познания объекта и (или) трансцендентального субъекта, уступает
место представлению об относительной непрерывности, существующей только внутри данной парадигмы. Между парадигмами же возникает разрыв. Переход от одной парадигмы к другой, по существу, является выходом в иной концептуальный мир, в котором в фокусе внимания оказываются совершенно другие объекты.
Еще более радикальное обоснование возможности альтернативных «объектных миров» представлено в учении об «онтологической относительности» (У. О. Куайн), в котором речь идет о том, что онтологические характеристики объекта являются производными от «концептуальных схем» языка.
Наше знание об объекте всегда выступает как выраженное в языковых формах. Всякий язык представляет собой совокупность терминов, которые, с одной стороны, соединены между собой системой грамматических норм и правил, а с другой — связаны с определенными предметами внеязыковой действительности, выступающими как референты этих терминов или объекты. Однако членение потока нашего сенсорного опыта и выделение из него «концептуальных единиц», обозначаемых тем или иным языковым знаком, осуществляются самим языком или, иными словами, определение, что именно является референтом того или иного термина, происходит внутри языковой системы. При этом разные языки могут решать эту задачу совершенно по-разному. Каждая языковая система «задает» свою собственную онтологию, т. е. ту совокупность объектов-референтов, на которые направляется наше внимание и о которых мы рассуждаем в процессе познания. Таким образом, принятие той или иной языковой системы означает нечто гораздо большее, чем соглашение по поводу способов внешнего выражения нашего знания. Принимая язык (будь то специализированный язык определенной научной теории, широкая система взаимосвязанных теоретических конструкций в духе кунов-ской парадигмы или обыденный язык повседневной жизни), мы принимаем тем самым и определенную онтологическую концепцию мира с его специфической объектной структурой.
Рассуждая об объектах, мы всегда думаем не о чем-то, существующем вне нашего рассуждения, но именно об объектах данной теории, данного языка. Перевод наших рассуждений на иной язык всегда связан с переходом к новой объектной структуре (потому-то он и иной) и никогда не может быть совершенно адекватным, поскольку всегда влечет за собой
изменение онтологии. При этом мы никогда не можем указать, какая из этих онтологий ближе к реальности, прежде; всего потому, что реальность никогда не дана нам непосредственно. Мир объектов всегда задан через ту или иную концептуальную систему, через совокупность языковых значений. Когда мы пытаемся сопоставить наше теоретическое знание с тем, что мы называем «объективной реальностью», мы сопоставляем лишь две различным образом «концептуально заданных» онтологии. Поэтому на вопрос о том, чем на самом деле являются объекты данной теории или, еще шире, данного языка, нельзя дать ответа, имеющего абсолютное значение.
Каждому языку присущ свой способ объектного расчленения мира. Поэтому непрерывность познавательного опыта может реально существовать лишь внутри субъектных групп — носителей данного языка (да и то не без некоторых оговорок). Во-первых, с течением времени в самом языке происходят изменения. «Дрейф» референтных отношений рано или поздно приводит к разрывам в опыте субъектной группы. Во-вторых, даже внутри такой группы не существует абсолютной идентичности между референтными системами отдельных индивидов. Когда мы общаемся с человеком, говорящим на том же языке, наша убежденность в том, что оба мы имеем в виду один и тот же объектный мир, основана на том, что мы, воспринимая выражения его речи, относим их к объектам, которые выступают референтами этих выражений в нашем понимании. По существу восприятие чужой речи всегда связано с переводом ее на наш «собственный» язык. Но такой перевод не может быть абсолютно адекватным.
Из концепции «онтологической относительности» следует, что наши коммуникации, касающиеся объектной сферы, всегда носят (в большей или меньшей степени) приблизительный характер. Таким образом, можно сказать, что субъектные группы — носители разных языков—живут в разных объектных мирах. Внутри таких групп объекты представляют некоторое единство, по отношению к которому возможен относительно непрерывный познавательный опыт. В наибольшей же степени единство объектного мира обеспечивается непрерывностью познавательного опыта субъекта-индивида. Однако нигде это единство не достигает такой степени универсальности, как в гносеологических учениях, опирающихся на идеи объекта как сущего или трансцендентального субъекта.
Традиционная метафизика изначально исходила из разделения и противопоставления субъекта и объекта, рассматривая отношения между ними как логически предопределенные. По мере нарастания склонности к трактовке объекта как возникающего в процессе активной субъективной деятельности появляются сомнения в правомерности такого противопоставления, а само понятие начинает употребляться уже не столько для обозначения некой внешней реальности, сколько для характеристики отношения к ней со стороны человека. При этом исчезает резкая грань между миром внешним (объективным) и миром внутренним (субъективным), сливающимися в нерас-члененное единство «жизненного мира» человека, в котором уже невозможно однозначно отделить субъективность от объективности.
«Жизненный мир» не расположен «перед» субъектом как внешний по отношению к нему «объект», а представляет собой калейдоскопический поток событий, непосредственным участником которых является наше сознание. Огромную роль в «организации» этого потока играет язык. Однако представление о его роли существенно меняется. Если прежде основной функцией языка считалось расчленение действительности и фиксация референтных отношений лингвистических единиц с выделяемыми фрагментами, то теперь эти «инструментальные» способности рассматриваются как второстепенные. Функционирование языка связывается прежде всего не с познанием вещей, а с выражением свободной воли человека, а сам язык понимается уже не как инструмент осуществления деятельности — «ergon», а как сама деятельность — «energeia» (Гумбольдт). Языковые конструкции имеют жизненное значение не потому, что они указывают на объекты или «порождают» их, а прежде всего потому, что в них проявляет себя «основополагающая воля говорящих».
Язык расчленяет и структурирует не столько поток впечатлений, сколько сам процесс человеческой деятельности. Он «обозначает прежде всего не то, что видят, но, скорее то, что делают или испытывают, а если, в конечном счете, язык и содержит прямые указания на вещи, то лишь постольку, поскольку вещи эти являются результатом, объектом, орудием действия». Поэтому исторические «корни» языка Фуко предлагает искать скорее в воле и силе, а не в памяти, «воспроизводящей былые представления». Таким образом, идея непрерывности опыта,
вдохновлявшая творцов классических гносеологических учений, практически сводится на нет. Ведь если человек, реализуя свою волю в языковых выражениях, «конструирует» некий объект, с одной стороны, никак не соотнося его с «былыми представлениями», а с другой — не предполагает соотносить с ним никакие будущие «конструкции», срок «жизни» такого объекта не выходит за пределы самого волевого акта, а индивидуальный опыт этого человека оказывается разорванным в каждой его точке.
Теория познания, в которой субъективность и объективность сливаются в нерасчлененное целое, вряд ли может оказаться эффективной в области естествознания и техники. Она характеризует, скорее, сферу гуманитарного знания, специфическим «объектом» которого является жизненный мир человека. Мир человеческого бытия радикально отличается от всех естественно-природных образований. В нем нет ничего предустановленного, абсолютного, однозначно детерминированного — ничего такого, на что человек не мог бы повлиять своим свободным решением. «Объект» гуманитарных наук — это существо, которое, находясь «внутри» предметного бытия, способно придавать смысл всем происходящим событиям, формировать собственное отношение к ним и тем самым изменять их определенность. Поэтому мы не можем познавать человека, опираясь на те приемы и средства, которые показали свою эффективность в исследовании естественно-природных объектов, как это пытались делать традиционные «науки о человеке», но мы можем понимать смысл произносимых им слов, направленность совершаемых им поступков, значение защищаемых им ценностей.1
§ 3. Истина как цель познания
Разногласия в подходах к определению истины в значительной мере зависят от того, понимается ли это слово как обозначение некой самостоятельно существующей сущности или как характеристика человеческого знания. Прежде всего это касается двух основных традиций в понимании истины: онтологической (более ранней, связанной с именем Платона)
1 Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. С. 314.
и гносеологической (связанной с именем Аристотеля). Хотя аристотелевская концепция истины и является более поздней, но именно она оказала господствующее влияние на развитие европейской гносеологической традиции и признавалась большинством мыслителей как классическая. Основное различие между двумя этими трактовками состоит в том, что если Платон и его последователи понимают истину как нечто принадлежащее самому бытию, то Аристотель рассматривает ее, скорее, как характеристику познавательного содержания нашего сознания, выраженного в логически связанной речи (суждении). В первом случае истина — это то, что есть само по себе бытие, во втором — то, что мы действительно знаем об этом бытии. Таким образом, у Аристотеля «местом истины» является судящее высказывание, в котором утверждается или отрицается что-либо о действительности, существующей независимо от суждения.
Формулируя свое определение истины, Аристотель исходит из того, что суждение является истинным, если оно логически воспроизводит структуру познаваемого предмета. При этом он считает, что ведущей, определяющей стороной этого отношения является не суждение разума, а сама действительность. Суть аристотелевского определения истины выражается в следующем:
— внешняя действительность как объект познания существует до познания и не зависит от наличия или отсутствия знания о нем (тогда как знание, наоборот, всецело зависит от объекта, ибо если нет объекта, то не может быть и знания, поскольку «знания ни о чем» не бывает);
— понятие «истина» не совпадает с понятием «бытие» и относится не к бытию, а к суждению разума, выраженному в речи;
— истинность суждения выявляется в соотнесении его с предметом познания, а признание его истинным возможно, если только структура и содержание суждения соответствуют тому, «как обстоит дело с вещами».
Именно по этому признаку истинности, как соотнесенности знания с существующей до и независимо от него реальностью, аристотелевская теория истины получает наименование теории соответствия, или «корреспонденции» (Мур). Уточняя аристотелевское определение, Мур говорит, что истинность суждения означает, что в Универсуме есть факт, который ему
соответствует, тогда как ложность, напротив, означает, что факта, которому должно было бы соответствовать это суждение, не существует.
Полагая, что существование предмета познания предшествует знанию о нем, Аристотель указывает на наличие определенной связи между структурой отношений предметов и явлений познаваемого мира и структурой знаний об этом мире, выраженной в логико-грамматической упорядоченности суждений познающего разума. «В самом деле, — говорит он, — так как нельзя при рассуждении приносить самые вещи, а вместо вещей мы пользуемся как их знаками, именами, то мы полагаем, что то, что происходит с именами, происходит и с вещами».1 Таким образом, проблема истины ставится и разрешается Аристотелем как проблема установления соответствия между внешним миром и содержанием сознания, выражающимся в логически связанной речи.
Однако практическое применение этой простой, ясной и импонирующей здравому смыслу концепции сопряжено с существенными трудностями, на которые указывает сам Аристотель. Прежде всего оказывается, что прямого соответствия между суждением и предметным миром нет, да и быть не может, ибо число вещей заведомо превышает число имен и слов, а потому «одно и то же слово и одно и то же имя неизбежно обозначают многое».1 2 Множество слов, из которых состоит речь, неравномощно множеству предметов и явлений внешнего мира, поэтому речь не покрывает всего многообразия реальности, а стало быть, не может обеспечить прямого и однозначного отображения всего содержания познаваемой действительности. Происходит это оттого, что мир вещей постоянно изменяется, порождая бесконечное многообразие сущего, в то время как суждения разума, подчиненные строгим правилам логики и грамматики, продолжают оставаться неизменными.
Чтобы понять это положение Аристотеля, следует обратить внимание на онтологическое обоснование его теории познания в целом и учения об истине в особенности. Онтологическим обоснованием гносеологического учения Аристотеля выступает концепция бытия, которое, будучи единым, образует
1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1972. С. 536.
2 Там же.
как бы два слоя. Первый — доступный чувственному восприятию и находящийся в постоянном движении — вещественный мир. Второй — как бы просвечивающий сквозь вещи — глубинный слой умопостигаемых форм, составляющий основу всех видимых изменений и выступающий средоточием творческих начал, которые определяют способ существования и характер преобразований предметов поверхностного слоя. Содержание как первого, так и второго слоев составляют совокупности сущностей, но сущности эти различаются по своим характеристикам. Сущности поверхностного слоя являются составными, а потому подвержены возникновению и уничтожению, поскольку соединяемое может и разделяться. Сущности глубинного слоя являются простыми и внутренне едиными, поэтому они не возникают и не уничтожаются, а выступают как необходимые и универсально всеобщие вечные предметы мысли, созерцаемые в уме.
Если учесть, что задачей познания Аристотель считает постижение сущности, то становится очевидным, что познавательное значение сущностей первого и второго уровней совершенно неравноценно. Познание должно проникнуть сквозь поверхностный слой бытия, чтобы постичь его подлинные и неизменные основы, выступающие причиной всякого непосредственно наблюдаемого изменения. Лишь благодаря такому проникновению и достигается подлинное знание, воспроизводящее в своем содержании именно глубинные сущности вещей.
Понимание истины как достоверного знания подлинной сути вещей было воспринято и развито в гносеологических учениях Нового времени, видевших свою главную задачу в обнаружении таких фундаментальных оснований, непоколебимая достоверность которых могла бы стать надежной опорой всей системы истинного знания. При этом как рационалистические, так и эмпирические теории познания усматривали такую основу в непосредственной самоочевидности либо математических и логических принципов и аксиом, либо чувственных впечатлений. Согласованность всякого знания с такими фундаментальными основаниями, истинность которых полагалась как самоочевидная, принималась в качестве критерия его истинности.
Однако вскоре выявились принципиальные трудности в использовании такого критерия. Если человек непосредственно контактирует не с самим по себе миром, а с его чув
ственно воспринимаемыми и (или) концептуализированными репрезентациями, то возникает вопрос: каким образом он может проверить, соответствует ли его знание самому миру? Соответствие наших утверждений правилам и нормам логики или свидетельствам чувств не может рассматриваться в качестве абсолютного критерия истинности этих утверждений. Критерий, на основании которого могла бы быть удостоверена их истинность, сам нуждается в удостоверении и т. д. до бесконечности. Этот парадокс классической теории истины, на который обращал внимание еще Секст Эмпирик, в современной логике известен как «парадокс Нельсона».
Другая трудность, связанная с пониманием истины как соответствия знания действительности, состоит в том, что требование соответствия само по себе является парадоксальным. Ведь говоря о соответствии мы, конечно, не имеем в виду полного тождества мысли (или высказывания) с объектом. Существо знания как раз и состоит в том, что оно отличается от своего предмета. Но в таком случае не может быть и полного совпадения, а стало быть, остается допустить количественную градацию истинности! Но как можно быть истинным наполовину?
Третий парадокс, связанный с определением истины как соответствия, — это известный еще с античности знаменитый эвбулидовский «Лжец». Теория соответствия предполагает соотнесенность высказывания с некоторым референтом. Однако, поскольку она не ограничивает выбор референтов, таким референтом может быть само это высказывание («то, что я говорю ложно»). В результате, если признать данное самореферентное высказывание истинным, оно становится ложным, и наоборот, если исходить из его ложности, оно становится истинным. Парадокс лжеца является парадоксом именно классической концепции истины и воспринимался многими мыслителями как свидетельство ее логической противоречивости.
Формулируя свое определение, Аристотель еще не думает о том, что удостоверение истины может быть связано с подобного рода трудностями. Понимая познание как своеобразную разновидность простой рецепции «непосредственное усмотрение умом», умозрение, он еще не ставит проблем принципиальной качественной разнородности знания и его предмета, самореферентных высказываний или бесконечного регресса в попытках установления достоверного критерия истины, хотя
уже скептики начинают говорить о том, что аргумент от очевидности («Сам видел!») явно недостаточен.
На недостаточность критерия самоочевидности прямо указывает Лейбниц. Возражая Декарту, считавшему ясность и отчетливость (самоочевидность) идей вполне достаточным критерием их истинности, Лейбниц говорит о необходимости общезначимых необходимых признаков, которые позволяли бы отличать действительно ясные идеи от лишь кажущихся таковыми. В противном случае критерий самоочевидности становится совершенно субъективным и произвольным, поскольку часто людям, отважно судящим обо всем, кажется ясным и отчетливым то, что в действительности таковым вовсе не является. В качестве более строгого критерия Лейбниц предлагает внутреннюю непротиворечивость идеи, которая обнаруживается либо в тождественности субъекта и предиката суждения (для истин разума), либо в согласии друг с другом всех наших феноменов (для истин факта). При этом он обращает особое внимание на необходимость верного понимания тех терминов, которыми мы оперируем.1 Таким образом, Лейбниц открывает путь широкому использованию в гносеологических дискуссиях об истине и ее критериях логических и семантических средств.
Обнаружение отмеченных выше проблем порождает стремление, с одной стороны, усовершенствовать классическую теорию истины, по возможности устранив ее парадоксальные следствия, а с другой — сформулировать иные, неклассические концепции, которые были бы свободны от подобного рода парадоксов. Основные направления модификации аристотелевской модели истины концентрировались вокруг формулирования более строгих представлений о референции, выработки методов опосредованного сопоставления знания с действительностью (с учетом того, что они имеют принципиально разную природу) и поиска таких предельных оснований удостоверения истинности, опираясь на которые можно было бы избежать регресса в бесконечность. Естественно, что практически каждая из предлагаемых концепций не ограничивалась какой-то одной из отмеченных тенденций, включая (в той или иной степени) каждую из них.
1 Лейбниц г. Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1984. С. 119—120.
Анализируя классическое определение истины, Фреге выражает сомнение в том, что характеристика того или иного предложения как истинного мало что меняет, поскольку простая констатация факта практически тождественна утверждению его истинности. Действительно, что нового прибавляет к высказыванию «Сейчас идет дождь» утверждение его истинности: «Истинно, что сейчас идет дождь»? Он вообще довольно скептично относится к классической теории, полагая, что всякая попытка определить истинность высказывания через его соответствие реальности (как, впрочем, и всякая другая) сомнительна, ибо, что бы мы ни принимали за признаки истинности, мы должны прежде удостовериться в том, что сами эти признаки истинны. Тем не менее его логические идеи открывают новые горизонты в исследовании именно проблемы референции.
Рассматривая референтные отношения между высказыванием и его предметом, Фреге впервые устанавливает различие между смыслом и значением высказывания. Возьмем, например, треугольник и проведем в нем три медианы (а, бис). Все они (таково свойство всех треугольников) пересекутся в одной точке, называемой центроидом треугольника. Эту точку мы можем обозначить как «Точка пересечения медиан а и б», «Точка пересечения медиан б и с» или «Точка пересечения медиан а и с». Референтом, или значением, всех этих выражений будет одна и та же точка — центроид данного треугольника, но способ заданности этого значения или смысл всех трех высказываний будет различным. Таким образом, значение высказывания и его смысл — это не одно и то же. Когда мы говорим «Победитель при Иене» или «Побежденный при Ватерлоо», референтом этих двух весьма различных по смыслу высказываний является одно и то же лицо — Наполеон. Поэтому с точки зрения теории соответствия, говоря о Наполеоне, мы можем свободно заменять одно выражение другим без нарушения их истинности.
Итак, всякое высказывание характеризуется наличием определенного смысла и значения. Смысл занимает промежуточное положение между представлением и значением. При этом представление понимается как нечто субъективное (образ индивидуального сознания), тогда как смысл носит интерсубъективный характер, хотя это еще и не сам предмет, не референт высказывания, каковым является значение. Таким
образом, говорить об истинности или ложности можно только по отношению к таким высказываниям, которые имеют значение, или референт.
Однако существуют высказывания, в которых речь идет не о предметах, а о словах, о других высказываниях. Такова, например, косвенная речь, на письме заключаемая в кавычки. В высказываниях подобного рода мы имеем дело со «знаками знаков»: в них сохраняется только смысл, значение же отсутствует. Мы можем понимать такие высказывания, благодаря заключенному в них смыслу, но ввиду отсутствия референта не можем утверждать их истинности или ложности. И когда на вопрос Пилата: «Ты Царь Иудейский?» — Иисус отвечает: «Ты говоришь», он обращает вопрос в косвенную речь, не подтверждая, но и не отрицая того, о чем его спрашивает Пилат.
Фреге исключает высказывания о высказываниях (косвенную речь) из списка предложений, претендующих на истинность. Развивая его идеи, Рамсей еще более ограничивает этот список. Его знаменитый «лысый король Франции» («нынешний король Франции лыс») представляет вполне осмысленное утверждающее суждение прямой речи, однако, поскольку в нынешней Франции нет короля, оно не имеет референта, а следовательно, не может рассматриваться ни как истинное, ни как ложное.
Итак, круг высказываний, которые могут рассматриваться как истинные или ложные еще более сужается. Рассел предлагает исключить из него все бессмысленные высказывания, а также такие, которые имеют смысл, но не имеют четко выраженного референта. То, что безусловно останется, составит совокупность базисных «атомарных» предложений, истинность или ложность которых определяется их отношением к неким элементарным референтам — «атомарным» фактам. Из таких простейших предложений могут быть составлены сложные, «молекулярные» предложения, истинность которых определяется их синтаксическим отношением к «атомарным». Установление истинности — «верификация» сложного предложения состоит в разложении его на атомарные предложения, каждое из которых сопоставляется с обозначаемым им фактом, являющимся конечным «верификатором» истины. Верифицировать — это означает то же, что и соответствовать. При этом Рассел сближает отношение истинности с отношением каузальности, полагая, что предложение формы «Это есть А» явля
ется истинным, «когда оно вызвано (курсив мой. — В. Л.) тем, что “А” обозначает», т. е. фактом.1 Под «фактом» здесь понимается нечто внелогическое, имеющееся в наличии независимо от того, признаем мы его таковым или нет. Рассел придает данному понятию весьма широкий смысл, сближая его с понятием некоторого обстоятельства или события.
Расселовскую теорию фактов развивает в своем «Логикофилософском трактате» Витгенштейн. Понимая мир как «совокупность фактов», он полагает, что полная совокупность истинных предложений, касающихся этих элементарных фактов, будет представлять совершенно полное содержание научного знания о мире. Правда, в перечень верифицируемых (а стало быть, квалифицируемых как истинные или ложные) предложений не попадают бессмысленные выражения, выражения косвенной речи, высказывания, не имеющие референта (в том числе и все предложения, составляющие содержание философии), но зато истинность или ложность элементарных предложений, включенных в этот перечень, может быть установлена строго и однозначно. Суть стратегии «атомарных предложений» состоит в следующем. Представим себе образ мира в виде белой плоскости с неравномерно разбросанными по ней черными пятнами неправильной формы. Дать точное и исчерпывающее описание этого образа или его крупных фрагментов довольно трудно. Однако если разбить эту плоскость на множество предельно мелких ячеек, о каждой из них можно совершенно однозначно сказать, черная она или белая. В результате «мир полностью описывается, если заданы все элементарные предложения и указано, какие из них истинны, а какие ложны».1 2
Рассмотренные концепции так или иначе группируются вокруг проблемы референции истинных высказываний. Однако полностью удовлетворительного решения этой проблемы они не дают. Как отмечал сам Рассел, идентификация событий, которые делают наши высказывания истинными, это не вопрос чистой грамматики. Как высказывание «Венера существует» может верифицировать тождественно истинное высказывание «Утренняя звезда — это вечерняя звезда»? Если факт существования Венеры верифицирует тождество утренней и вечерней звезды, то речь идет не о событии, а о фактуальной сущности
1 Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., 1957. С. 147.
2 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4, 26.
иного рода. Здесь необходимо допущение, что вещи, факты есть некие внелогические комплексы. В своих поздних работах Рассел был вынужден признать, что факты — это своего рода метафизические сущности.
Фреге называл фактом истинную мысль. Мысль — то, что мыслится. Если я думаю, что Ру это означает, что «Р» — мысль и тем самым факт. Однако истина — отношение между мыслимым и чем-то другим, что должно подтвердить, «что Р». Но тогда необходимо установить, чем мыслимое отличается от факта и в чем они совпадают. Но при попытке сопоставить элементарное высказывание с некими пространственно-временными фактами объективного мира возникает уже отмеченная ранее проблема принципиальной разнородности мыслимого и вещественного. Эту проблему пытается решить Нейрат, выдвигая свою концепцию когерентной теории истины, восходящую к идее Лейбница о внутренней непротиворечивости истинного знания.
Высказывание, претендующее на истинность, должно сопоставляться не с какими-либо внелогическими сущностями, а с другими высказываниями. Высказывания могут сравниваться только с высказываниями, а не с «переживаниями», «миром» или чем-нибудь еще. Всякое новое выражение должно согласовываться с корпусом уже признанных утверждений, со всей существующей системой знания в целом. Лишь в этом случае оно может считаться истинным. Критерий внутренней связанности, непротиворечивости системы признается единственным критерием истинности как для каждого из составляющих эту систему высказываний, так и для всей системы в целом. Однако устранение противоречий может осуществляться не только за счет изменения или отклонения вновь вводимого в систему утверждения. Изменению может быть подвергнута и ранее сложившаяся система.
Внутренне самосогласованная, «когерентная» система знания может рассматриваться как тот референт, к которому относится понятие истины. Поэтому предложенная Нейратом теория когеренции напоминает классическую теорию соответствия знания фактам (корреспонденции). В данном случае «факт» — это то, что познающий субъект признает истинным. При этом нельзя не признать, что система убеждений субъекта в основе своей является консистентной. Однако системы убеждений у разных людей могут и не совпадать. С какой из подоб
ных систем должно когерировать высказывание, претендующее на истинность? Если это затруднение еще можно обойти, сославшись на интерсубъективность системы научного знания, то как быть в случае неконсистентности претендента с самой научной системой? Что должно быть изменено для устранения несоответствия и, самое главное, что может выступать в качестве критической инстанции при его устранении?
Карнап в качестве такой инстанции предлагает «отчетные», или «протокольные», предложения, с которыми должны согласовываться все остальные. Однако такие предложения, содержащие, по мысли Карнапа, исключительно описание наблюдений, не могут служить достаточно надежным критерием истинности теоретических построений, поскольку сами результаты наблюдений оказываются зависимыми от теории.
Иной путь решения данной проблемы восходит к философии элеатов, отрицавших возможность бытия того, о чем нельзя помыслить без противоречия. Так, например, именно из само-противоречивости идеи небытия Парменид делает вывод о том, что мысль о небытии не имеет референта, а потому есть ложная мысль. В XX в. Решер представляет несколько модифицированный вариант рассуждений Парменида, предлагая в качестве критерия проверки высказывания, претендующего на истинность, широту отношений взаимной когеренции, т. е. совместимость претендента на истинность с как можно большим числом других эмпирических высказываний. Однако, хотя Решер и говорит, что, согласно его концепции, когерентность устанавливается лишь в отношении одних высказываний к другим, но не в отношении высказываний к фактам, в основе ее все-таки лежит парменидовская идея о том, что самопроти-воречивая мысль не может быть истинной именно потому, что она не имеет референта.
Семантическая теория истины, разработанная А. Тарским, развивается в общем русле классической концепции и направлена главным образом на устранение из нее «парадокса лжеца». Теория Тарского является не столько общефилософской, сколько специально логической теорией, в которой носителем истины выступает высказывание, предложение. Предложение же можно рассматривать двояким образом: как носитель определенного значения и как свое собственное имя. В логике это соответствует различию между упоминанием и использованием термина. Упоминание — это использование термина
в качестве своего собственного имени; использование — употребление его для обозначения некоторого события реального мира. Так, например, «Снег бел» — это упоминание, а снег бел — употребление одного и того же предложения. Первое («Снег бел») относится к предложению, в котором утверждается, что снег бел; второе (Снег бел) относится к самому снегу и утверждает, что он именно бел. Таким образом, классическое определение истины, применительно к данному конкретному случаю, может быть записано следующим образом: «Снег бел» истинно, если и только если снег бел, или в обобщенной форме: «Р» истинно, если и только если р.
Данное определение представляет логическую экспликацию интуитивного представления классической теории об истине как соответствии. Следующим шагом является устранение возможности возникновения семантических парадоксов типа «парадокса лжеца». В естественном языке содержательные выражения, имена этих выражений и их семантические характеристики (истинно — ложно) употребляются на равных основаниях, что и приводит к появлению самореферентных высказываний, порождающих семантические парадоксы. Чтобы исключить явление самореферентности, Тарский предлагает отделить рассуждения об объектах от рассуждений об условиях истинности этих рассуждений. Рассуждения об объектах следует вести на особом формализованном «объектном языке» Lo, в словарь которого, во избежание возникновения самореферентных высказываний, не должны входить ни имена предложений, ни термины, характеризующие семантические отношения. Условия истинности выражений объектного языка следует обсуждать на особом «метаязыке», который включает в себя весь объектный язык, имена его предложений и термины, обозначающие семантические отношения: «соответствует фактам», «истинно», «ложно» и др.
Определение условий истинности, сформулированное в одном языке (метаязыке), применяется для установления истинности выражений другого (объектного) языка. Установленная таким образом истина будет истиной именно в объектном языке Lo и ни в каком другом. С учетом отделения объектного языка от метаязыка обобщенная форма семантического определения истины принимает вид: «Р» истинно в объектном языке Lo, если и только если р.
Основным результатом разработки семантического определения истины, устраняющего весьма неприятный для корреспонденткой теории «парадокс лжеца», было не только существенное укрепление позиции этой теории, но и логическое доказательство того, что решение проблемы истинности выражений некоторого языка невозможно исключительно в рамках самого этого языка. Однако другую важную проблему — проблему регресса в бесконечность — семантическая теория не устраняет, хотя и придает ей несколько иную форму. Если условия истинности выражений объектного языка Lo задаются в метаязыке Ц, то для определения условий истинности выражений самого метаязыка необходимо построить метаметаязык Ь2, затем L3, L4... и т. д. Различные подходы к решению этой проблемы представлены в «инструменталистской» теории истины прагматизма, в марксистской теории «отражения» и в концепции языковых «игр» (или «практик») позднего Витгенштейна.
Прагматические теории Пирса, Джемса и Дьюи определяют истинность через практическую полезность, эффективность, инструментальность. Их последователи — Патнэм, Рорти, отчасти Хабермас — в большей мере связывают ее с идеей консенсуса, интерсубъективности. Прагматизм исходит из того, что наши идеи выражают не столько некое «знание» о мире, сколько определенные «правила для действия» (Пирс) и выступают как «умственные способы приспособления к действительности» (Джемс). Почему человек обычно думает, прежде чем совершить то или иное действие? Очевидно потому, что сомневается — стоит ли вообще предпринимать его и, если стоит, то как действовать. Переход к действию означает, что сомнение наконец, устранено, целесообразность действия оправдана, а способ его осуществления установлен. «Деятельность мысли, — говорит Пирс, — возбуждается раздражением, вызванным сомнением, и прекращается, когда уверенность достигнута; таким образом, достижение уверенности есть единственная функция мысли».1 Утверждая что-нибудь в суждении, человек может обладать различной степенью уверенности в этом утверждении. Мера истинности суждения есть не более, чем мера субъективной уверенности в его истинности, и чем выше степень уверенности, тем большую удовлетво
1 Collected Papers of Charles Sanders Peirs / Ed. by Ch. Hartshorne, P. Weiss. Vol. 1—6. Cambridge, 1931—1935. Vol. 5. P. 253.
ренность испытывает судящий. Достижение уверенности дает нам удовлетворение независимо от того, «будет ли эта уверенность истинной или ложной... мы ищем такую уверенность, о которой мы думали бы, что это истина».1 Связь истины с чувством удовлетворения, проистекающим из твердой уверенности в верности наших убеждений, позволяет определить ее как «разновидность благого» (Джемс), соединяя тем самым идеи инструментализма с этическими критериями онтологических концепций истины. Дальнейшее развитие прагматической концепции связано с постепенным ослаблением утилитарноинструменталистского акцента и усилением мотивов консенсуса, согласия между людьми.
Марксистская теория познания развивается в общем русле аристотелевской традиции. Истина определяется в ней как адекватное отражение объективной реальности, которая «копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» (Ленин). Сложности, возникающие при решении проблемы истины, как полагают основоположники данного учения, во многом обусловлены именно тем, что теоретическая (познавательная) деятельность рассматривается независимо от предметно-практической.
Практика при этом понималась как начинающаяся после завершения процесса мышления, как простое приложение к предметному миру его результатов, окончательно сформулированных и удостоверенных до начала практического акта и независимо от него, а критерий истинности рассматривался как действующий в пределах самого теоретического знания. В результате и возникал тот самый регресс в бесконечность, когда истинность теории удостоверяется теоретическим же критерием, который, в свою очередь, сам должен быть удостоверен... и т. д.
Маркс полагал, что «вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность... своего мышления».1 2 Человеческое мышление существует не в изоляции от практической жизни. Оно есть не что иное, как способность активно строить и перестраивать структуры деятельности сообразно, с одной стороны, целе
1 Collected Papers of Charles Sanders Peirs. P. 233.
2 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Соч. 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 1.
вым и ценностным установкам человека, а с другой — соответственно объективному положению вещей. Мысль — плоть от плоти (точнее, дух от плоти) реального мира. Мышление возникает в мире, обусловлено им, «скроено» по его мерке, и лишь благодаря этому само становится способным осуществлять функции идеальной меры в теоретическом освоении и практическом преобразовании действительности.
Истина как характеристика определенного отношения между идеей и предметом, помимо установления соответствия, включает в себя также и представление о намерениях познающего и возможностях практического применения познаваемого для реализации этих намерений. Поэтому, говоря о познании как об отражении действительности, следует учитывать многозначность самого понятия «отражение». Так, например, в русско-английских словарях слову «отражать» поставлены в соответствие три английских слова: reflect — со значением отражать в зеркале, в литературе, но одновременно и «размышлять», «раздумывать»; repuls — со значением отражать атаку, разбивать противника, но одновременно и «отвергать», «отталкивать», «не принимать»; ward — со значением отражать опасность, в смысле хранить, опекать, защищать. Понимание отражения исключительно в смысле «зеркального отображения» в содержании сознания предметов и явлений внешнего мира сильно сужает значение этого понятия. Отражение не ограничивается воспроизведением реальности в содержании сознания, но предполагает размышление об этой реальности, направленное к ее активному отрицанию или защите.
Действительное отношение предмета и его познавательного образа не ограничивается изоморфным воспроизведением структуры объекта в содержании сознания. Главное в нем — представление о способах деятельности, позволяющих изменить предмет в соответствии с нашими намерениями. Не сходство структурного строения предмета и мысли о нем, а адекватность практического акта, ведущего к требуемому преобразованию внешней реальности, определяет соответствие мысли предмету. Если представление о предмете, сформировавшееся в процессе его познания, направляет действие к поставленной цели, значит это представление адекватно предмету, даже несмотря на то, что они обладают принципиально разной природой.
Человек стремится знать для того, чтобы жить, избавиться от страданий: боли, голода, угрызений совести и т. д. Поэтому познание всегда есть нечто большее, чем бесстрастная констатация внешних обстоятельств. Можно сомневаться в том, что цвета и запахи внешнего мира в действительности таковы, какими они представляются. Но такое сомнение отличается от сомнений, например, в наличии боли, голода, страдания, которые разрешаются не рассудочными умозаключениями, а непосредственным переживанием. Однако простая констатация боли и страдания проблему страдания не решает. Реальным решением здесь может быть только практическое действие, направленное на устранение боли и страдания. При этом истинное теоретическое знание о подлинных причинах страдания делает практический акт максимально эффективным, хотя само по себе избавить человека от страдания не может. Таким образом, верное понимание объективных обстоятельств составляет лишь часть ответной реакции на давление этих обстоятельств. Действительное их преодоление становится возможным только в результате практического действия, рациональная организация которого предполагает истинное знание обстоятельств. Участие сознания в реализации практических стремлений человека составляет существенно важный аспект человеческой деятельности, но в полном объеме эта деятельность выходит за пределы чисто познавательной активности.
Познавательный образ объекта связан с действием, в нем представлены не только собственные качества предмета, но и стремление человека к его изменению (или сохранению). При таком подходе познание представляет собой не завершенный в себе процесс, а формирование рациональных оснований практической деятельности. Регресс в бесконечность в данной концепции устраняется, однако возникает проблема ретроспективное™ критерия практики, поскольку она должна удостоверять истинность идеи, выступающей рациональным обоснованием самого практического акта.
Классические теории познания пытались обнаружить (или построить) твердые фундаментальные основы познания, которые сами по себе были бы истинны. Витгенштейн отказывается от поиска такой твердой основы и сосредоточивает свое внимание на правилах практических употреблений языка, которые он называет «языковыми играми». Отождествляя мышление с осмысленным употреблением языка, мысль — с осмыслен
ным предложением, Витгенштейн вместо традиционного сопоставления мышления с реальностью сопоставляет с реальностью не мышление, а язык, переходя от исследования мышления к исследованию языка.
Истинность выражений нашего языка устанавливается путем соотнесения их с другими выражениями того же самого языка, в котором всегда имеется некий «корпус» базисных эмпирических высказываний, по отношению к которым устанавливается истинность всех других. Установление же истинности таких базисных высказываний не требует специальных процедур, однако не потому, что они интуитивно самоочевидны, а потому, что истинность высказываний этого корпуса вытекает непосредственно из практики нашего языкового поведения. Стремление так или иначе удостовериться в их истинности столь же нелепо, как и стремление всякий раз, вставая со стула, удостовериться, что обе мои ноги еще при мне. Что бы ни было приведено в подтверждение истинности высказывания типа «Вот это — моя рука», свидетельство чувств, рациональное доказательство, авторитетное свидетельство — все это будет менее убедительным, чем простая констатация факта, что это моя рука. Убеждение в том, что у меня есть рука, является не следствием, а предпосылкой существования и правильного, осмысленного употребления самого этого слова.
Совокупность подобного рода высказываний образует некий «концептуальный каркас», определяющий систему взаимосвязанных и поддерживающих друг друга базисных референций, которые задают правила соответствующей «языковой игры». Эти правила не выводятся ни из «объективных законов» внешнего мира, ни из анализа «познавательных способностей» субъекта. Они вообще не являются априорными, а формируются в самих «языковых играх», в процессе обучения языковому поведению. «Практике эмпирических суждений, — говорит Витгенштейн, — мы обучаемся не путем заучивания правил; нас учат суждения и связи с другими суждениями. Убедительной для нас становится целокупностъ суждений. Начиная верить чему-то, мы верим не единичному предложению, а целой системе предложений».1 Эта система и составляет базисную картину мира, которая принимается не путем удостоверения каждого из составляющих ее предложений, а вся
1 Витгенштейн Л. О достоверности. С. 140—141.
целиком. В основе ее лежат не формальные доказательства, а унаследованный опыт, отталкиваясь от которого, мы устанавливаем истинность и ложность всех последующих суждений.
Истинность предложений, описывающих базисную картину мира, не обладает характером логической необходимости, а сама эта картина, по выражению Витгенштейна, представляет собой род мифологии, все положения которой являются лишь относительно стабильными в той мере, в какой они поддерживают друг друга и обеспечивают уверенность наших практических действий. Конфигурация «концептуальных каркасов» может меняться, но ни один из них не может рассматриваться как «более истинный», чем другой, поскольку каждый из них порождает и «обслуживает» специфическую «языковую практику», не сопоставимую с любой другой. Функцию основания для различения истинного и ложного каждый из них играет в рамках задаваемых именно им «правил языковой игры». Витгенштейн приводит образ реки, воды которой движутся в границах берегов, но в то же время, подмывая их и создавая наносы, меняют конфигурацию русла, а стало быть, и направление потока. Подобное происходит и в речи, когда некоторые эмпирические предложения затвердевают и начинают работать как каналы для незастывших, текучих эмпирических предложений, однако со временем эти отношения могут меняться: текучие предложения могут затвердевать, а прежде твердые вновь становиться текучими.1 Таким образом, при установлении критерия различения истинного и ложного Витгенштейн избегает бесконечного регресса, устанавливая относительно твердое основание для такого различения, пусть даже и в рамках конечной языковой практики.
Формирование классического определения истины как соответствия знания реальности связано с убеждением в том, что эта реальность едина и единственна, а потому «истинное» знание также должно быть единым и единственным, т. е. иметь необходимый и всеобщий характер. Однако уже в античности, наряду с концепцией познания как постепенного приближения к Абсолюту, существовала и альтернативная концепция. Эта концепция, восходящая в своих истоках к софистам, допускала множественный характер истины, полагая, что наше познание
1 Витгенштейн Л. О достоверности. С. 96.
всегда связано с решением практических проблем, возникающих в конкретных жизненных ситуациях.
В случае когда истина представляется как некий Абсолют, который остается только открыть, задача познания состоит в том, чтобы, применяя известные правила рассуждения и экспериментальные методики, максимально полно воспроизвести этот Абсолют в содержании некого абстрактного, лишенного определенных пространственно-временных характеристик сознания. Познание Абсолюта осуществляется с позиции абсолютного же субъекта, а каждый отдельный мыслитель выступает лишь как обезличенный представитель этого абсолютного субъекта, прибавляющий свое звено в общей цепи истинных положений и доказательств. Если же познание рассматривается в практическом контексте, истина становится многоликой и ставится в зависимость от индивидуальных характеристик познающего субъекта; в ее формировании существенное значение обретают личные качества человека, его интересы и пристрастия, его конкретная жизненная ситуация. Однако здесь возникает и личная ответственность человека за те результаты его познавательной деятельности, которые он принимает в качестве истинных.
Отрицание универсально-безличного критерия истины означает, что не существует никаких формальных процедур установления истинности или ложности нашего знания. Поэтому человек не может переложить ответственность за свои теоретические утверждения и вытекающие из них практические решения на действие неких объективных законов или универсальных логических норм. Воодушевлявшая философов классического периода надежда отыскать, наконец, абсолютно твердые основания рационального выбора познавательных и практических стратегий оказывается тщетной. Человек обречен жить и действовать, принимать ответственные решения, не имея исчерпывающего знания ситуации, на границе знания и незнания, а значит, для него всегда остается открытой возможность ошибиться в выборе.
Признание погрешимости нашего знания означает, как отмечали еще античные скептики, что, хотя человек может стремиться к истине и даже постигать ее, он тем не менее никогда не может быть до конца уверен в том, что он ею действительно обладает. Никто не может дать твердой гарантии в том, что практическое воплощение идей, в истинности которых сегодня
никто не сомневается, не может привести нас к катастрофическим результатам. Осознание того, что достижение абсолютной достоверности не является прерогативой человеческого познания, позволяет преодолеть то, что Ясперс называл «фанатизмом истины». Этот фанатизм состоит в неограниченном стремлении к утверждению единственного категорического и окончательно «истинного» ответа на любой поставленный вопрос. Единственным основанием для какого бы то ни было отклонения от такой «истины» признается заблуждение (или злонамеренность), а сама она приобретает принудительный характер. Воля к истине соединяется при этом с чувством превосходства и власти, в результате чего «возникает стремление к борьбе, разрушению, мучительству».1 Однако, с другой стороны, отсутствие строгого критерия истины не лишает смысла само стремление к истине, точно так же как отсутствие строгого критерия здоровья не делает бессмысленным стремление к здоровому образу жизни.
1
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 493.
Глава 4 ГЛАВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ «СТРАТЕГИИ»
§ 1. Знание и понимание
Как возможно познание объективной реальности, если человек имеет дело со смыслами и значениями, имеющими конкретно-историческое и личностное значение? Не является ли познание субъективным произволом, лишенным объективного содержания и критериев? Не является ли познание просто приписыванием значений и смыслов? Что служит гарантией объективности и истинности этих значений и смыслов? Иначе говоря, насколько познание осмысленно и насколько осмысление суть познавательная процедура?
Традиционно указанная проблематика связывается с проблемой понимания. Причем сам термин «понимание» зачастую употребляется в обыденном смысле, что приводит к методологическим трудностям при попытках его систематического использования. Иногда пониманию даже отказывают в теоретическом статусе, рассматривая его как интеллектуальное удовлетворение, сопутствующее познанию, но не существенное для него, или как «научную роскошь», без которой вполне можно обойтись, поскольку и в науке, и в обыденной жизни нередки ситуации, когда можно пользоваться знанием, не понимая его. Вариантом сведения понимания к феноменам индивидуального сознания, в противовес объективному и внеличностному научному объяснению, является ограничение понимания областью гуманитарных наук, где оно рассматривается либо как искусство толкования, связанное с процедурами «вживания», «вчувствования» в предмет познания, либо как процедура теле-
□логического объяснения, в отличие от объяснения каузального в естественных науках.
Вместе с тем развитие науки во второй половине XX столетия выдвинуло на первый план задачу выработки теории понимания, пригодной как для гуманитарных наук, так и для естествознания. Особенность современного научного познания состоит в острой методологической рефлексии, в невозможности абстрагирования исследователя от «строительных лесов» теории, рассмотрения действительности как таковой вне факторов ее познания. Впервые это обстоятельство было осознано при создании теории относительности и квантовой механики, когда встал вопрос об осмыслении и интерпретации не только эмпирических фактов, но и теорий, их объясняющих, уяснении правомочности подведения фактов под определенный закон — вопрос, явно не фигурировавший в науке нового времени, когда сами факты, наблюдения и описания рассматривались как самодостаточные и самоочевидные.
Исследователь знает нечто, и, кроме того, он знает, что он знает, что он знает. Рефлексия над знанием в виде «парадигмы» (Т. Кун), «базисных предположений науки» (Р. Коллингвуд), «исследовательской программы» (И. Лакатос) и т. п. выступает смыслообразующим каноном понимания в научном познании. Ученый считает понятными те факты, явления и теории, которые укладываются в рациональную схему такого канона и тем самым оправдывают его предварительные ожидания.
Проблема понимания. Возможна ли теория понимания, ориентированная, во-первых, эвристически, т. е. на процедуры получения нового знания, выявления «скрытых смыслов» и т. п.; во-вторых, прагматически, т. е. на использование этих процедур в практике познания, коммуникации, перевода и т. п.; и в-третьих, эпистемологически, т. е. на построение теории определенного знания? На решение всех этих задач претендует герменевтическая философия, с которой связываются наиболее активные поиски новых форм рациональности, уходящих корнями в обыденное сознание, искусство, а также стремление распространить их на науку и тем самым найти широкое обоснование философии науки и познания.
Возникновение и развитие герменевтической традиции связано с античной экзегетикой — учением о толкованиях и пророчествах, с раннехристианским толкованием Священ
ного Писания, затем — со стремлением сторонников движения Реформации к «ясному» прочтению религиозных текстов. Качественно новым этапом герменевтической традиции стал немецкий романтизм с его стремлением к «адекватному» пониманию классических текстов. Традиционная проблематика (герменевтика религиозных текстов, филологическая, историческая, юридическая, психологическая и тому подобная герменевтика) развивается и в современной герменевтике. Однако новой и характерной для современной герменевтики чертой является выход за рамки традиционной проблематики к фундаментальным философским проблемам, экспансия по отношению к методологии науки, включая естествознание.
На рубеже XIX—XX столетий сложились две главные тенденции в герменевтической трактовке понимания: как постижения индивидуального личностного бытия и как постижения некоторого трансцендентного разумного начала, проявляющегося в действительности.
К первой группе относятся идеи герменевтического понимания как чувства единства с познаваемым, сопереживания ему. По этому принципу строились не только средневековые герменевтические концепции понимания (как единства с Богом и в Боге), но и концепции познания натурфилософов Возрождения (Ванини, Кампанелла, Бруно и др. проповедовали понимание как переживание единства с природой). Продолжением этой традиции стала концепция, развитая в рамках философии жизни (В. Дильтей, Г. Зиммель) и имевшая источником идею «всежизни» И. Г. Гердера. Согласно Дильтею, жизнь познается только через жизнь и поэтому всякое понимание — это «вновь-переживание» на основе вчувствования и сопереживания, понять — это сопережить, «найти Я в Ты». В этой связи Дильтей, а вслед за ним и О. Ф. Больнов различали два вида понимания: «дружеское», предполагающее возможность внутренней идентификации с понимаемым, и «враждебное», исключающее такую идентификацию. Несколько иной вариант той же концепции был развит в персонализме В. Штерна, М. Шелера и др., согласно которым понимание есть процесс интроцепции, т. е. внесения элементов иной смысловой структуры в собственное сознание: «найти Ты в Я».
Ко второй группе относятся идеи герменевтического понимания как осознания разумного и целенаправленного замысла, проявляющегося в продуктах деятельности некоего творче
ского начала. Причем, если первоначально речь шла о трансцендентном начале — Боге, Абсолюте, Абсолютной идее и т. д., то по мере расширения сферы преобразуемой человеком действительности, создания первых машин, приборов, происходит постепенная (через стадию деизма Просвещения) замена «Бога-создателя» на «человека-инженера», когда место Божественного Провидения занимает человеческое ratio. Уже Д. Вико — один из первых европейских мыслителей, осознавших философское значение проблемы понимания, противопоставлял свое учение картезианству на основании того, что человек понимает только то, что может сделать сам. На этом принципе строится историческая герменевтика как метод постижения духовного опыта прошлого, а также теория понимания человеческого поведения как реконструкции его целей и мотивов.
С возникновением феноменологии Э. Гуссерля наметилась тенденция универсализации герменевтики, получившая наиболее полное выражение у М. Хайдеггера. Учение о языке, с которым он выступил с середины 30-х годов, стимулировало возникновение и развитие широкого герменевтического подхода к анализу целого спектра явлений действительности: от традиционных для герменевтики филологии и искусства до этики, права, политики и даже экономики и естествознания.
Условием понимания, согласно герменевтическому подходу, является вхождение субъекта познания в «герменевтический круг», идея которого, в формулировке В. Дильтея и Ф. Шлейермахера, связывает воедино понимание и объяснение: чтобы понять что-то, надо его объяснить, а чтобы объяснить — необходимо понять. Иначе говоря, характер и содержание понимания определяются средствами и характером теоретического анализа и объяснения, которые, в свою очередь, зависят от целостного понимания познаваемых явлений: целое понимается из знания его частей, а части — из знания целого. Вхождение в этот круг есть вхождение в конкретный горизонт бытия. Согласно Хайдеггеру, понимаемое, т. е. смысл, есть «экзистенция тут-бытия». На этой основе Х.-Г. Гадамером была развита идея историчности и овремененности понимания как следствия ограниченности человеческого бытия. Понимание доступно только тому, кто знает, что время и будущее ему неподвластны, а сам он смертен. Ограниченность человеческого опыта делает невозможным беспредпосылочное познание и мышление: человек осмысляет свое бытие, только будучи
включенным в определенную традицию, делающую человеческий опыт историческим. Познание начинается с предпосылок, которые есть предварительное понимание — заданный исторической традицией «пред-рассудок».
Идея пред-понимания, предшествующего любому акту познания, не является прерогативой герменевтики. В истории человеческой мысли она толковалась по-разному: у Платона это «припоминание» образца из мира эйдосов, у Декарта — врожденная идея, у Лейбница — предустановленная гармония сознаний, у Канта — априорные формы рассудка, у Фрейда — бессознательное, и т. д. Реальное содержание этой идеи, выражающей реальную и существенную сторону познания, заключается, с одной стороны, в исторической обусловленности познания конкретными формами социальной практики, а с другой — психологическим механизмом установки.
Что же опосредует выход сознания и познания за пределы его конкретной исторической данности, вхождения ее в герменевтический круг и развертывание предпонимания в конкретное понимание? Решение этой задачи в герменевтической теории понимания связывается с процедурой интерпретации, методы которой еще на рубеже XIX—XX столетий были сведены к четырем основным видам: грамматической (языковой, т. е. ориентированной на лексику и грамматические особенности языка), стилистической (ориентированной на качественное своеобразие воплощения замысла), исторической (связанной с выявлением конкретного контекста и обстоятельств познания и творчества), психологической (личностной) интерпретациям.
Можно ли считать эти процедуры методами познания? Согласно Гадамеру, феномен понимания имеет самостоятельное существование внутри наук и противится попыткам перевести его в какой-то научный метод. А по мнению Вольнова, понимание является не особой формой познания, а особой характеристикой человеческого бытия, всеобщей фундаментальной основой всех человеческих форм познания. Однако сказанное скорее относится к предпониманию, чем к интерпретации как эксплицитной методологии понимания и истолкования.
Понимание и объяснение. Как же соотносится набор процедур интерпретации с традиционными методами познания? По крайней мере, сохраняющееся противопоставление понимания и научного объяснения существенно обедняет как
методологию науки, так и теорию понимания. И понимание, и объяснение наличествуют в любом познании, разумеется, и в научном тоже. Различие между ними не в предмете наук и не в их методологии, как полагали неокантианцы, различающие науки объясняющие и понимающие. Учитывая, что понимается только то, что объяснимо, а объясняется только то, что понято, и, исходя из соотносительности понимания и объяснения, можно говорить о типологии методов понимания, совпадающих с типами объяснения: детерминативное (знание следствий), каузальное (знание причин), рациональное (знание движущих сил), интенциональное (знание целей), функциональное (знание функций), структурное, генетическое, гипотетическое и другие понимания.
Существо дела, однако, несколько сложнее простой симметрии понимания и объяснения. Понимание не только опосредует объяснение, но и предопределяет его. Оно — не просто операция-дополнение к объяснению, поскольку фундаментальнее последнего, связано и с осмыслением фактов, и с обоснованием самой объясняющей схемы. Понимание, в отличие от объяснения, имеется во всяком знании, так как оно уже есть фиксированное определенное понимание, а необходимость в объяснении возникает там, где понимание наталкивается на границы.
В принципе если рассматривать герменевтику как общий метод интерпретации, которая строится на различных гипотезах, в которых оцениваются различные факты и обстоятельства, то любое понимание протекает по гипотетико-дедук-тивной схеме и не имеет, таким образом, принципиальных различий применительно к естествознанию и гуманитарным наукам. Мы понимаем человека по причине рациональности его мышления и поступков, так же как понимаем законы природы вследствие присущей им рациональности. Аналитический и герменевтический подходы приводят друг к другу и предполагают друг друга.
Так, предметом логического анализа является нечто уже понятое — логику в этом плане можно рассматривать как теорию принципов передачи понимания. Традиционный логический анализ всегда начинается с принятия определений и занимается установлением связей между элементами содержания этих определений. Понимание же имеет целью выработку оснований определений, и поэтому, несмотря на то, что
оно поддается рациональной реконструкции, понимание как все-таки специфический метод противостоит дедуктивной и индуктивной аргументации логического анализа, дополняя его.
В этой связи понимание, опирающееся на выводное знание, отлично от «схватывания», интуитивного самоочевидного постижения, не обусловленного четко выделенными основаниями. Поскольку результат «схватывания» не всегда поддается проверке, понимание оказывается научным методом лишь частично — настолько, насколько оно пользуется традиционными научными методами.
Между гносеологическим и методологическим содержанием понимания и методами познания, научного объяснения, вплоть до логического анализа и систематизации знания, имеется определенное соответствие. Однако и на этом акцентирует внимание герменевтика, в понимании выражается ряд аспектов познания, связанных с получением и формированием знания, от которых гносеология и методология обычно стремились абстрагироваться. Это прежде всего — оценочный характер познания. Понимание не сводимо к описанию, объяснению, систематизации, формализации и другим функциям и методам научного познания. Оно неотделимо от рефлексии над знанием, оценочной деятельности сознания.
Понимание как знание о знании. Теоретическое освоение мира — это не только получение знания о мире, но и понимание самого этого знания. Следовательно, знание и понимание оказываются различными моментами взаимодействия с окружающим миром, предполагающими друг друга, но не совпадающими полностью. В процессе жизнедеятельности люди накапливают определенную информацию об объектах, включенных в общественную практику, но этот процесс накопления и развития знаний оказывается возможным только при условии его периодического переупорядочения и переосмысления, что и является углублением понимания мира и способом деятельности в нем. Поэтому понимание связано не столько с «непосредственно данным», сколько с определенным предварительным знанием его основных характеристик и разворачивается именно как анализ структуры знания и упорядочение его наиболее эффективным образом. С этой точки зрения понимание оказывается связанным с идеей как формой «знания о знании», противоположной «знанию о незнании», т. е. проблеме. Позна
ние идет от незнания через осознание этого незнания, оформляющегося в виде проблемы, и накопления положительного знания — к пониманию как знанию о знании, т. е. идее.
Понимание само по себе не может утверждать или опровергать содержательное знание, с ним связанное. Например, отказ в физике от концепций флогистона, теплорода или эфира, лежащих в основе соответствующих пониманий реальности, не привел к отказу от открытий Лавуазье, Карно, Пристли или Лоренца. Однако понимание, даже если оно ложно, необходимо для развития знания, поскольку является средством его систематизации и развития. Новые, исторически прогрессивные идеи могут иметь источником застарелые и даже ошибочные взгляды. Яркий пример — доводы, использованные Коперником против вполне логичной аргументации аристотеликов. Эти доводы основывались на пифагорейских взглядах Филолая и на вере в фундаментальную природу и совершенство кругового движения.
Роль понимания состоит в том, что оно необходимо для развития познания, заключающегося не столько в росте объема знаний, сколько в изменении качественной специфики и глубины. Как неоднократно подчеркивал А. Эйнштейн, его вклад в развитие физики заключался не в формулировке новых существенных результатов — они были получены А. Пуанкаре, Г. Лоренцом и другими, а именно в формулировании принципиально нового и более глубокого понимания всей проблемы. Кроме того, реализация понимания делает знание доступным для всего научного сообщества и общества в целом, а также увязывает это знание с совокупной культурой этого общества.
Объект познания — предмет не чистого и независимого опыта, а предмет опыта, нагруженного теоретическим, социально-практическим и личностным контекстом, включая идеологию и здравый смысл. Так, Н. Бор видел причины принципиальной неустранимости классических описаний из языка физики в макроскопическом характере наблюдений, в экспериментальной деятельности в целом, в необходимости выражать результаты исследований микромира на «макроскопическом» языке. Речь идет об очевидно неустранимом комплексе психосферы субъекта познания, действия которого и приводят к ситуации, когда квантовая физика, являющаяся более общей теорией по отношению к классической, не объяснима вне контекста последней.
Знание не является «концептуальным Робинзоном». Оно всегда — «член сообщества» других теорий и концепций. Более того, выбор теории в качестве объясняющей модели обусловливается не только ее когерентностью с другими теориями, ее собственной логической непротиворечивостью, строгостью или подтверждаемостью опытом, но ее социально-культурной значимостью, связью с исторически специфически общественной практикой, в лоне которой данная теория возникла.
Теоретико-познавательное и методологическое значение понимания связано не только с деятельностно-практическим и социально-культурным контекстом познания, но и с его личностным характером. Если знание имеет преимущественно явную дискурсивную форму, то понимание содержит и принципиально невербализуемые компоненты, поскольку опирается на память, воображение, восприятие, конструктивную деятельность сознания, на жизненный опыт субъекта, его переживания, телесную моторику и т. д. Поэтому данные эксперимента, показания приборов обретают смысл лишь в рамках «жизненного мира» экспериментатора, переходящего на этой основе от первоначального восприятия сигналов к истолкованию «текста книги природы».
Понимание — чрезвычайно широкий и многослойный комплекс, охватывающий не только сферу теоретического познания, но и обыденное сознание, искусство, прочие процедуры и средства осмысления действительности. Феномен понимания возникает тогда, когда объект познания интегрируется в целостность социального мира человека. Он включает в себя выявление целей, мотивов и традиций познания, его коммуникативных (в том числе языковых) и личностных (вплоть до переживания) факторов. Во всех этих случаях речь идет о выявлении некоторого содержания человеческого опыта.
Рассмотрение понимания принципиально важно вывести за рамки сопоставления понимания и объяснения, понимания и знания — в более широкий контекст осмысления человеком действительности. Важно рассмотрение понимания не только с точки зрения истинности форм и содержания знания, но и в контексте оценивающей деятельности сознания, еще шире в контексте жизнедеятельности и общественной практики. В этом плане понятие осмысления шире по содержанию понятия понимания. Последнее в большей степени связано с процессами коммуникации и общения.
Смысл и знак. Смысл — понятие междисциплинарное, оно используется в психологии и социальной психологии, логической семантике, логике и методологии науки и в других дисциплинах. Под смыслом понимается и идеальное содержание, идея, ценность чего-либо (смысл жизни, смысл поступка, смысл истории и т. п.), и целостное содержание, не сводимое к значению его частей, а наоборот — само определяющее эти значения (смысл текста, смысл художественного произведения). Нередко смысл отождествляется со значением. Смысл толкуется и как объективное содержание явления, текста и т. д., независимое от субъекта, и как приписываемые субъектом характеристики.
В любом из этих аспектов смысл выступает мерой освоенности предметов и процессов реальности, обеспечивающей их бытие для человека как социального субъекта. Смысл суть объективное содержание явлений, которое служит основой социальной жизнедеятельности. Смысл объективен, но не исключительно в плане гносеологического противостояния субъекту исключительно. Речь идет не просто об объективных качествах, свойствах, закономерностях. Само бытие явлений в человеческом мире связано с их смыслом. Человеческая действительность — это освоенная обществом объективная реальность, в которой естественная закономерность и человеческая целесообразность сплавляются в предметные результаты. Поэтому действительность всегда осмыслена человеком как субъектом социальной преобразующей деятельности, предстает как «смысловая сеть явлений». Лишенные смысла явления выпадают из той сети, даже если они объективно существуют, оставаясь как бы «вещью в себе». Смысл не извлекается из вещей, но и не приписывается им. Он выражает объективность практики, организующей определенные взаимосвязи вещей и социального субъекта в определенных формах жизнедеятельности.
Закрепление и передача социального опыта предполагают наличие его материальных носителей: предметов производства, орудий труда, книг, картин и т. д. В то же время все они не могут вовлекаться в практическую деятельность без их осмысления, без посредства знаний, установок, навыков. Действительно, освоение и осмысление человеком действительности носит опосредованный характер. Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью; являясь частью природы, оно может влиять на действитель
ность только в процессе непосредственного ее потребления. Животное рабски зависит от этого мира: если меняется среда обитания, то биологический вид выживает лишь за счет мутации, изменяя свой генотип, а чаще всего — вымирает. Человек же не просто берет данное от природы, он создает для него необходимое.
Человеческая деятельность связана с принципиально иным регулятивным принципом, не выводимым целиком из природных связей. Преображая окружающую действительность, человек в общем и целом сохраняет свой генотип. Можно сказать, что он вынес механизм приспособления к среде за пределы своего биологического организма. Человек управляет не только своим телом, как это делает любой биологический организм, но и окружающим миром, рассматривая свойства и отношения предметов и используя их в определенных целях как средства аккумуляции, стимулирования, программирования, реализации, обеспечения деятельности, т. е. как систему ее детерминаций.
В узелке на память, в пирамиде, в книге, в дискете, в техническом инструменте, в научном приборе проявляется то глубинное и существенное, что отличает регуляцию деятельности и сознания человека как существа исторического. Если опыт исторического человека рассматривать как специфический вид памяти, то особенность такой «памяти» отнюдь не в объемных характеристиках, а в качественно ином характере. От непосредственных запоминаний и удерживаний впечатлений человек переходит к опосредованным, с помощью социальных средств, позволяющих ему регулировать и направлять свою память и опыт. Причем делается это в историческом развитии все более осознанно, целенаправленно и дифференцированно. С этой точки зрения любое средство, предмет и продукт социальной жизнедеятельности выступают средством распредмечивания опредмеченного в них социального опыта, регуляции этого опыта. Именно посредством такой вспомогательной системы детерминаций человек вырвался из зависимости от природных условий, обрел способность приспособления к среде не за счет эволюции Homo sapiens как вида, а за счет «эволюции» самой системы стимулов и детерминаций своей жизнедеятельности.
В этом плане элементы социальной действительности, любые элементы культуры носят «знаковый» характер,
поскольку оказываются связанными с определенными значениями и смыслами, в качестве которых выступают определенные программы социально-практической деятельности. Вещи, рассматриваемые как знаки определенных культур, обладают семиотичностью не меньшей, чем языковые тексты. Национальный костюм, постройки и утварь, в принципе — любая вещь обладают целым спектром значений (функций), определяемых видом деятельности, в котором они фигурируют. Словесный текст является лишь частным случаем реализации модели мира наряду с другими знаковыми системами: жилищами, орудиями труда, бытовыми предметами и т. д. Каждая вещь существует, указывая на другие вещи, с которыми она находится в реальном взаимодействии, и чем шире круг этих взаимодействий, тем она осмысленнее.
Предметы и явления действительности становятся знаками лишь тогда, когда они используются как средство распредмечивания опредмеченного в них социального опыта, т. е. как средства осмысления действительности. Знаком оказывается «всякий искусственно созданный человеком условный стимул, являющийся средством овладения поведением — чужим или собственным» (Л. С. Выготский). Значения знаков суть социально-практическая деятельность. Поэтому, когда мы говорим о детерминации осмысления действительности, то имеем в виду регулирующую роль общественной практики. Ее средства (орудия и предметы) выполняют свою знаковую функцию, распредмечивая опредмеченное в них значение: либо собственное, либо, как это имеет место в случае с языковыми знаками, сквозь них «просвечивают» другие значения.
Знак и язык. Знаки, будучи связанными с программами социальной деятельности, служат средством фиксации, хранения и распространения социального опыта. Своим объектом воздействия они имеют сознание человека, а целью — изменение характера осмысления действительности.
Передача социального опыта осуществляется прежде всего путем прямого вовлечения в совместную деятельность. Поэтому первичными знаками выступали (и выступают сейчас в процессе индивидуального развития) непосредственно орудия и предметы социальной практики. Особую роль при этом играют орудия труда. Неосознанно выработанные, также неосознанно путем подражания передаваемые от одного индивида к другому, трудовые операции, опредмеченные в орудиях
труда, были сначала эквивалентом знака, т. е. способом социального воздействия на индивидуальное поведение. Точнее, орудия труда были и есть не эквиваленты знаков, а собственно первичные знаки, имеющие собственное предметное значение. Однако по мере усложнения и дифференциации общественной практики все меньше остается возможностей для непосредственной передачи социального опыта. Возникает необходимость в объектах-заместителях. Появляются знаки, по которым судят о других, находящихся с ними в причинной связи: жесты, признаки и т. п. Кроме этих — «индексных» — знаков, начинают использоваться также знаки «иконические», не имеющие реальной связи с обозначаемым, но внешне подобные им: рисунки, схемы, подражательные звуки.
Следует подчеркнуть, что изначально и индексные, и иконические знаки предназначались не только и не столько для целей коммуникации, сколько для целей познания и практического освоения мира (даже в таких формах, как магические). В этой связи представляется интересным сопоставление икони-ческих и индексных знаков с имитативной (гомеопатической) и контагиозной магией, основанными на отношениях подобия и непосредственного контакта между предметами. Такое сопоставление способно выявить множество поучительных аспектов в истории функционирования знаков — вплоть до таких развитых методов научного познания, как моделирование и эксперимент, где соответствующие объекты-посредники (модели и приборы) обнаруживают в своей гносеологической природе те же связи с действительностью.
Полный разрыв замещаемого и замещающего происходит в языке, где эти стороны знака становятся «независимыми». Обусловлено это тем, что языковые знаки являются знаками вторичными, знаками знаков. Их функция состоит в передаче социального опыта без непосредственного обращения к средствам практики, уже осмысленным в деятельностном контексте.
Две главные причины — задача целенаправленного управления и организации совместной деятельности людей и задача замещения в процессе общения некоторых средств практики обусловили возникновение и развитие языка. Причем вторая причина обусловлена первой: замещение первичных знаков языковыми направлено на повышение эффективности общения. Познавательная, коммуникативная и другие функции
языка вторичны и служебны по отношению к управленческо-практической. Использование языка отнюдь не всегда вызвано необходимостью адекватной передачи мысли, но зато всегда предполагает достижение определенных целей.
Как средство управления социальным поведением людей язык оказывает существенно обратное влияние на практическую деятельность, причем влияние, все более усиливающееся в силу все более сложного и опосредованного характера общественной практики и социальной коммуникации. Так, возникновение членораздельной речи способствовало упорядочению человеческого мышления, а значит — систематизации осмысления и знания, эффективизации передачи социального опыта. Тем самым произошло вызревание и выделение интеллектуальной, прежде всего познавательной, деятельности в относительно самостоятельную сферу общественной практики. Письменность еще более развила и укрепила эти тенденции. Печатный же станок дал новый стимул строгой фиксации, широкой и систематической циркуляции информации, создав важнейшие предпосылки для дальнейшего прогресса в самых различных областях: науке, искусстве, праве и т. д. Дальнейшее развитие языковых средств замещения, хранения и распространения социального опыта, создание различных формализованных и машинных языков дали возможность бурного развития автоматических систем управления, систем информационного поиска, компьютеризации, современных информационных технологий.
В своей замещающей роли языковые знаки оказываются как бы путеводителями по миру образцов деятельности, а фундаментальное значение языка в развитой цивилизации состоит в том, что другие знаковые средства (фактически — любые компоненты культуры) функционируют на фоне и в контексте языковых. Только овладевая языком, человек осваивает соответствующую культуру, ориентируется в ней, а значит, и в осмысленной действительности, знает ее.
Поэтому традиционное отождествление знака и языкового знака вряд ли является корректным. Оно обусловлено большей явностью, эксплицитностью соотношения означающего и означаемого в языке по сравнению с другими знаковыми системами. Эксплицитность эта предопределена несобственно-стью значения языковых знаков. В определенном плане осмысление природы языкового знака является ключом к знаковому
анализу в других сферах практики. Этим объясняется и феномен большей изученности языковых знаковых систем по сравнению с другими.
Ч. У. Моррис был не так уж далек от истины, когда утверждал, что «понятие знака может оказаться таким же фундаментальным для науки о человеке, как понятие атома для физики, химии, а понятие клетки для биологии». Эта роль знака заключается в его посредующей роли в освоении и осмыслении человеком действительности.
Знаковые механизмы, средства и детерминации познания и осмысления являются выражением и результатом конкретной динамики социальных и личностных факторов развития человеческого познания и опыта. Поэтому простое различение в знаковой структуре означающего и означаемого, при всей своей эвристичности, нуждается в дальнейшей детализации и уточнении.
Теория смысла. Поучительны в этом плане попытки выработать теорию смысла, предпринятые в рамках аналитической философии, связанной с логическим анализом языка. Действительно, наиболее точная формулировка смысловых отношений осуществима именно в лингвистической семантике и семантике логических формализованных систем. Особенно перспективной выглядит логическая семантика, открывающая возможности анализа смысловых отношений посредством построения логических систем, основанных на тех или иных семантических принципах. Следует также отметить, что именно в рамках логической семантики была наиболее ясно осознана необходимость вычленения самостоятельного смыслового компонента в значении языковых выражений. Различение указания (предметного значения, референции, экстенсионала, денотации) выражений и их смысла (смыслового значения, интенсионала, коннотации), восходящее к Г. Фреге и Д. С. Миллю, прочно закрепилось в логико-философской литературе. В этой связи даже традиционно выделяют два основных раздела логической семантики: теорию указания и теорию смысла.
Теория смысла, в отличие от теории указания, имеющей дело с отношениями знаков к обозначаемым предметам и оперирующей такими понятиями, как «имя», «обозначение», «истинность» и «выполнимость», до сих пор не имеет однозначного обоснования. Смысл сводится либо к обозначаемому предмету, либо к способу его обозначения, как способ употребления
знака, как характер реакции на знак, как способ проверки, подтверждающий или опровергающий содержание соответствующего знания, как некоторый ментальный образ, как внешняя причина этого образа, как определенная’ традиция именования объекта и т. д. Рано или поздно выявлялся частный характер таких трактовок, акцентирование в них внимания на отдельных аспектах смысла, абсолютизация этих аспектов.
Отсутствие однозначной теории смысла или хотя бы ее единого основания обусловлено отделением вопроса о смысле от вопроса о практике использования знаков и их понимания. Вопрос о том, имеет ли смысл некоторое выражение, неотделим от вопроса, является ли оно понятным и каким образом понятным. Иначе говоря, адекватное задание смысловых связей требует выхода за рамки собственно семантики, рассмотрения способов фиксации предметной области, идентификации ее элементов, характера использования соответствующих знаковых систем. Теория смысла, таким образом, проявляет зависимость от широкого познавательного, деятельностного и коммуникативного контекста. И этот комплекс детерминаций смыслообразования нуждается в систематизации, уточнении их роли, порядка действия. Смысл — понятие не одной только логической семантики или какой-то специальной науки, а понятие принципиально междисциплинарное, выражающее содержание социального опыта, опредмеченного (распредме-чиваемого) в знаках различного рода.
Анализ смыслового содержания социального опыта должен начинаться с вычленения присущего только человеческой деятельности компонента — надындивидуального социального значения, посредующего отношение человека к действительности. В социальном значении выражается знание о реальности в той степени полноты, насколько это доступно обществу на конкретном этапе его развития. В нем знание действительности выражается независимо от личного, индивидуального к ней отношения отдельного человека, оно является знанием, общим для всех членов данного общества. Именно наличие устойчивого ядра человеческого опыта и осмысления абсолютизируется в различных концепциях трансцендентализма от И. Канта до П. Стросона.
Но освоенное обществом — значит освоенное и человеком как социальным существом. Социальное значение является как бы бесценным даром общества человеку, бесценным,
но одновременно и коварным, так как не только стимулирует, но и ограничивает развитие знания и сознания конкретными культурно-историческими рамками. Однако это «достояние общества» хранится не в особом мире значений, а исключительно в формах общественной практики, фиксируемых индивидуальным сознанием членов общества. Социальное значение есть форма, в которой отдельный человек овладевает обобщенным социальным опытом. Оно не имеет статуса самостоятельного существования, выступая инвариантными образованиями индивидуального сознания. Поэтому в смысловом содержании опыта следует различать, во-первых, социальное значение и, во-вторых, его личностную окраску, значение этого значения для индивида — личностный смысл.
Если социальное значение выражает общественное отношение к действительности, то личностный смысл — личное отношение к ней. В отличие от инвариантного и интерсубъективного социального значения, выступающего как бы «смыслом-для-всех», личностный смысл является «смыслом-для-себя». В то же время значение, лишенное личностного смысла, не способно выполнять регулятивную функцию в осмыслении и познании, поскольку лишается контекста внутренней мотивации.
Смысловое содержание социального опыта. Различение в содержании «означаемого» социального значения и личностного смысла нуждается в дальнейшем уточнении каждого из компонентов.
Первое уточнение касается уже упоминавшегося различения предметного и смыслового аспектов значения. Если социальное значение рассматривать как определенное понятие, то предметному и смысловому его аспектам будут соответствовать объем и содержание этого понятия. Следует различать собственное и несобственное предметное значение. Собственным предметное значение является тогда, когда оно связано с материальной формой самого данного предмета. Например, понятие машины, связанное с машиной (а не словом «машина»), имеет предметным значением саму машину. В случае же, когда предметное значение не совпадает с материальной формой «означающего», мы имеем дело с несобственным предметным значением. Таковым является семантическое значение любого языкового знака, замещающего предметы культуры в социальной коммуникации.
Второе уточнение может быть связано с дифференциацией личностного смысла, в котором можно различать оценочное отношение (оценку) и непосредственное переживание.
Выделенные аспекты, фактически, подчеркивают единую деятельностную природу смыслового содержания опыта: предмет деятельности (предметное значение), способ деятельности (смысловое значение), отношение к этой деятельности (оценка) и ее переживание. Деятельность — как опыт — не теряет себя в предмете, а как бы сохраняет и чувствует единство в себе самой, в напряжении души и тела. Причем особую роль в сохранении и возврате чувства единства деятельности играет ритм. На этом основана роль ритма в организации трудового процесса, поэтической речи, в изобразительном, пластическом искусстве. Очевидно, можно говорить о фундаментальной смыслообразующей функции ритма.
Смысловое содержание социального опыта предстает, таким образом, как целостная система, элементы которой — материальная форма знака, социальное значение (включающее предметное и смысловое значения) и личностный смысл (включая оценочное отношение и переживание) суть уровни осмысления. Прохождение компонентов смысловой структуры от материальной формы (ее идентификации и восприятия) через социальное значение вплоть до глубин личностного смысла предстает как поэтапное погружение в смысловое содержание опыта. Обратное прохождение этих уровней дает представление о поэтапном воплощении, опредмечивании и объективации социального опыта.
Личностный смысл не просто наслаивается на социальное значение, выражая отношение индивидуального сознания к надындивидуальному значению. Содержанием как оценки, так и переживания являются оба основных компонента социального значения (предметный и смысловой) как ценностное отношение к деятельности и ее предмету, а так же как переживание этой деятельности. Поэтому точнее будет сказать, что систематизация смысловых компонентов может быть представлена в различных моделях — в зависимости от целей анализа. С позиций анализа уровней опредмечивания и распредмечивания социального опыта достаточна упомянутая модель. С позиций теоретико-познавательного и логико-семантического анализа центральным звеном является предметное значение, на которое наслаиваются смысловое значение и компоненты
личностного смысла. С позиций психологического анализа центральным моментом становятся феномены и диспозиции сознания — компоненты личностного смысла, рассмотрение которых приводит к выявлению в них деятельностно-предметного содержания.
Учет этих компонентов смыслового содержания опыта важен и при анализе эффективности социальной коммуникации, особенностей осмысления действительности в научном познании и в искусстве, политической деятельности и юриспруденции, различных форм религиозности. Смысловая структура предстает как бы направленной вглубь ее содержания, выражая соотношение социального и индивидуального в динамике реализации опредмеченного социального опыта и осмысления. Очевидны и источники трудностей некоторых концепций и подходов, связанные с абсолютизацией акцента на отдельных компонентах смысловой структуры. Если общесемиотические и аналитические построения связаны с акцентуированием материальной формы и предметных значений, то феноменология и герменевтика в духе философии жизни акцентуируют роль неповторимых феноменов индивидуального сознания. Обе крайности совпадают в главном — они в частностях ищут целое, тогда как конкретное живое осмысление предполагает актуализацию полной смысловой структуры опыта. Нет проблемы выбора между интуитивизмом, растворяющим смысл и осмысление в индивидуальной психике, и трансцендентализмом, превращающим смысл в самодовлеющую сущность. Скорее имеются два полюса — предметно-вещный и индивидуально-феноменологический, между которыми реализуется процесс опредмечивания социального опыта.
Осмысление, «сделанность» и умение. Характер соотношения познания и практики в осмыслении обусловлен тем, что окружающая человека действительность не только природна, но и социальна. В окружающих нас «естественных» предметах заключена социально-практическая деятельность — они сделаны, выращены, куплены, подарены и т. д., т. е. погружены в социальные связи и имеют в них определенное назначение. Последнее выступает как бы внутренним предикатом вещи и указывает на отношения, в которых она реализуется, т. е. на связанную с нею программу социально-практической деятельности. Если значения вещи утратились с гибелью определенной культуры, перед исследователем встает вопрос
не столько о том, из чего и как сделана данная вещь, сколько ради чего и с какой целью она использовалась. Так, историка интересует не просто восстановление предметов прошлого, а прежде всего восстановление видов и форм деятельности, с ними связанных. Нередко воссоздание смысловой структуры опыта (социальных значений прежде всего) позволяет восстановить и саму вещь по ее остаткам — факт хорошо известный археологам и реставраторам.
Социальные значения не сводимы ни к собственно предмету или обозначаемому другому предмету, ни к ментальному образу этого предмета. Они — и здесь ведущую роль играют смысловые социальные значения — суть характеристики способов деятельности с данной вещью, система связей и функций предмета. Эта система и воссоздается в процессе и в результате осмысления, которое, по сути дела, есть процесс создания и воссоздания программ социально-практической деятельности, выявления и осознания идеи «сделанности» предмета. Причем сам предмет выступает как единство значения и его воплощения.
Осмысление как осознание сделанности имеет место не только в практической (производственной, инженерной и т. д. деятельности), но и в науке (от идеи «скрытого схематизма» Ф. Бэкона до конструктивизма в основаниях математики), в искусстве, политике и других сферах. Беспрецедентный по своей активности и преобразовательной мощи прогресс европейской цивилизации со времен античности до наших дней обусловлен идеей оформленности бытия каждой вещи, установкой на ее сделанность. Именно эта установка в различных модификациях реализуется всей европейской философией в характерных для нее понятиях и критериях соразмерности, пропорциональности, рациональности, симметричности и ритмичности, единстве частей и целого, структурной упорядоченности, гармоничной законосообразности как мира в целом, так и единичных вещей и явлений. Активизм, преобразовательная направленность европейского мировоззрения предопределили «обеспеченность» предметов реальности необходимой мерой знания и умения, нужных для порождения этой реальности, идею «замысла» и соответствия вещи ее назначению.
Осознание сделанности является центральным моментом осмысления. Сделанность заключается не в сотворенности мира неким демиургом, а в конструктивном характере осмыс
ления мира человеком. Трактовка осмысления как осознания характера и содержания порождающей конструктивной деятельности распространима и на познание человеком естественных, природных явлений. В этом случае речь идет также о знании «механизма порождения» объекта познания посредством эксперимента, математического алгоритма, программы для ЭВМ и других процедур.
В самом общем виде критерии адекватности осмысления задаются общественной практикой, определяющей характер и содержание осмысления. Так, не обладая специальными знаниями и умениями, можно разобрать неисправные часы, забраться внутрь механизма как угодно «глубоко», рассматривать его как угодно «пристально», но так и не постигнуть причины неисправности. Мастер же починит часы, ибо он знает их «скрытый схематизм», сделанность как закон функционирования.
Знание объекта — это не чистая ноэма гуссерлианской феноменологии и не кантовская идея-ноумен предмета, а в конечном счете его конкретно-историческое осмысление. Последнее не может быть ни простой постановкой субъектом себя на место познаваемого объекта, неким вчувствованием в него, как считают сторонники философской герменевтики, ни полной элиминацией субъекта, выявлением «чистого» объекта, как считают сторонники позитивистской традиции. И в том и в другом случае речь фактически идет о познании предмета самого по себе. Поэтому позиции сторонников указанных философских ориентаций не так уж далеки друг от друга, как это обычно представляется ими самими.
Осмысление — это процесс и результат познания в деятельностно-практическом контексте, когда не только объект познания, но и само знание берутся не сами по себе, а в связи с целями и задачами социально-культурной практики. Осмысление тем шире, глубже и богаче, чем с более отдаленными целями практики оно связано, в том числе — целями явными и неявными, сложно опосредованными. Многообразие преследуемых целей определяет обилие смысловых связей и ассоциаций: чем отдаленнее цели, тем большее количество взаимосвязей приходится учитывать, тем адекватнее должно быть познание, глубже проникновение в сущность.
§ 2. Знание: сущность и рациональность
Любое осмысленное знание, претендующее на истину, есть познание некоторой сущности. Это, со свойственной ему лапидарностью, отмечал еще автор «Метафизики»: «...о сущем говорится в различных значениях, но всякий раз по отношению к одному началу: одно называется сущим потому, что оно сущность, другое — потому, что оно — состояние сущности, третье — потому, что оно путь к сущности или уничтожение и лишенность ее, или то, что производит или порождает сущность и находящееся в каком-то отношении к ней: или оно — отрицание чего-то из этого или отрицание самой сущности...»1 Поэтому в той степени, в какой знание претендует на сохранение качества знания, т. е. быть предметным, определенным и желательно ясным, проблема сущности и существенности будет существенной для его обоснования.
Вопрос о природе, методах и способах фиксации и выражения сущности как целостного единства существенных (необходимых) свойств предмета в настоящее время приобретает не только философско-методологическое, но и непосредственно прикладное значение. Так, развитие эмпирических исследований в социологии, лингвистике, психологии, этнографии, антропологии и других науках выявило недостаточность традиционного классификационного анализа явлений, являющегося нейтральным к существенности свойств, берущихся в качестве оснований классификации. Испытывается острая потребность в обосновании процедур не раздельного и последовательного рассмотрения свойств, а выделения единого комплекса свойств, существенных для данного предмета познания. Обоснование таких процедур, к которым относятся систематизация и типологизация, предполагает знание способов указания (референции) сущности.
Другим важным стимулом повышения интереса к данной проблематике являются потребности развития экспертных систем, автоматического распознавания образов. Теория автоматического распознавания образов, например, до сих пор развивалась преимущественно как теория фиксации и выделения целостных образов по признакам, нейтральным к сущности, без учета их существенности. Поэтому трудности в этой обла
1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1978. С. 119—120.
сти во многом связаны с необходимостью учета при моделировании образа способов задания его существенных параметров.
В данном параграфе будут рассмотрены преимущественно два круга вопросов. Во-первых, это способы фиксации и выражения сущности, прежде всего в плане роста осмысленного знания. И во-вторых, способы и критерии выделения и выражения существенных свойств.
Сущность и существенное. В истории философии и в современной литературе сложился чрезвычайно широкий спектр понимания сущности и соответствующих ее толкований. Под сущностью понимается и единая, внутренняя, определяющая связь, и система всех необходимых сторон и связей вещи, взятых в их естественной взаимосвязи, и система свойств и отношений, обусловливающих другие свойства и отношения, и совокупность устойчивых (инвариантных) свойств, и определенный закон развития вещи и т. д., и т. д. Одно только сопоставление различных подходов и дефиниций, деталей и тонких различий их содержания могло бы составить тему самостоятельного и чрезвычайно интересного исследования.
Однако, не углубляясь в детали этих тонких различий, стоит отметить главное. Во-первых, сущность характеризуется набором инвариантных (всегда присущих), устойчивых признаков вещи. С помощью этих признаков и свойств сущность фиксируется и выражается, предстает как единая целостность. Во-вторых, свойства, образующие сущность, являются независимыми, определяющими другие свойства вещи. Эти два качества — инвариантность (устойчивость) и независимость — обычно рассматриваются в качестве необходимых и достаточных условий (критериев) рассмотрения свойств как существенных, присущих сущности вещи. Их удовлетворение определяет содержание конкретных методов познания — как абстрактно-теоретического, так и опытного — от бэконовских методов индукции до изощренных экспериментов современной науки.
Каким же образом фиксируется и выражается знание сущности и существенных свойств? Вопрос этот имеет особое значение в перспективе рассмотрения динамики, развития осмысленного знания, перехода одних его форм в другие.
Общие и индивидные сущности. Глубоко в истории философии и логики коренится понимание развития познания как взаимодействия двух основных форм фиксации и выражения
знания: непосредственного указания предмета и его описания. Аристотель подчеркивал принципиальное различение двух характеристик вещей: нерасчлененной индивидуальной неповторимости вещи и свойств, общих ряду объектов. В этой связи он говорил о «первых» («первичных») и «вторых» («вторичных») сущностях. Основной чертой вторичных сущностей является выделение характеристик, общих некоторому множеству объектов. Поэтому за вторичными сущностями в истории философии закрепилось также название их «общими». Вопрос об общей сущности есть вопрос о принадлежности понятия вещи определенному роду. В этом ее отличие от сущности первичной, настолько тесно связанной со своим объектом, что никакой другой объект не может ею обладать. Не случайно общие сущности называют также «индивидными».
При обсуждении вопроса о соотношении двух видов сущности заслуживает внимания замечание Аристотеля о том, что «вид является в большей степени сущностью, чем род: он ближе к первичной сущности. В самом деле, если кто-нибудь станет определять первичную сущность, указывая, что она такое, он понятнее (точнее) и ближе определит ее, указав вид, чем указав род: так определяя отдельного человека, он понятнее (точнее) определит его, указав человека, нежели указав живое существо: первое определение более характерно для отдельного человека, второе — более общее» (XXX).
Показательна судьба вопроса о соотношении индивидных и общих сущностей. Для Аристотеля указать сущность явления — значит определить его через род и видовое отличие, причем первичные сущности выступают в качестве некоего «предельного вида» как «большей сущности». Обусловлено это двумя тесно взаимосвязанными факторами: во-первых, центральным местом в учении Аристотеля проблемы соотношения общего, единичного и степеней особенного, лежащих между общим и единичным, и во-вторых, общей эмпирически-клас-сификационной методологической ориентацией Стагирита.
Поэтому общей аристотелевской установке в понимании сущности все-таки более соответствовало понятие вторичной сущности, определяемой набором классифицирующих свойств, используемых в качестве родов и видов. Не случайно именно понятию общей сущности было уделено более пристальное внимание последующих поколений философов. Так, родо-видовая трактовка сущности была развита Порфирием,
который относил род, вид и видообразующие отличия к существенным свойствам, в отличие от собственного и случайного признака — свойств несущественных. Взгляд на сущность как «нечто» общее был закреплен в средневековье. Так, по определению Фомы Аквинского, сущность это то, что выражено в дефиниции, «дефиниция же объемлет родовые, но не индивидуальные основания».1 Отождествление сущности с общими свойствами вещи привело к вопросу о возможности общей универсальной сущности и ее природе. Такой универсальной сущностью, проявлением которой выступает все существующее, согласно Фоме, является Бог.
Сущность и существование. Если у Аристотеля сущность не могла существовать до и вне единичных вещей, то у Фомы различаются три формы сущностей (универсалий): содержащиеся в вещах (ip re), абстрагируемые от вещей (post rem) и независимые от вещей, существующие в божественном разуме (ante rem).
Подобный подход приводит к резкому противопоставлению сущности (essentia) и существования (existentia). В отличие от Аристотеля, для которого сущность есть виды сущего, и даже Боэция и аверроистов, рассматривающих различие между сущностью и существованием как продукт познавательной деятельности, Фома ставит вопрос сугубо онтологически. Наличие у единичных явлений некоторой сущности означает для него причастность этих явлений божественному, обладающему предельной сущностью, в которой сущность и существование тождественны: существование Бога есть прямой результат его собственной сущности. Сущность же единичных вещей не определяет всей конкретности существования — для его реализации необходим особый акт милостивого творящего Божества. Тем самым отрыв сущности от существования, произведенный «ангельским доктором», имел целью обоснование теологической картины мира, творимого божественной волей.
Предопределен этот отрыв, как это видно из вышесказанного, абсолютизацией общих сущностей. Это то обстоятельство, которое позволяло Августину признавать за истинно сущим такие качества, как нематериальность, бестелесность и внепространственность, что, с одной стороны, обеспечивает ему вездеприсутствие, а с другой — делает его недоступным
1 Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979. С. 355.
чувственному восприятию и постижимым только умственно.1 Между тем Аристотель не случайно называл индивидные сущности первичными: именно они являются для него прежде всего сущим тем, что, будучи предельным видом, не может говориться о другом в качестве его рода — общего свойства.
Если для Фомы бесспорным существованием обладает универсальная сущность, предельный предикат — Бог, то для Аристотеля сущей сущностью является предельный субъект — единичная вещь. На это обстоятельство было указано средневековыми номиналистами. Так, для Дунса Скота, в отличие от Аквината, наибольшей реальностью обладают именно индивидные сущности. Индивидуальная природа вещей — haecceitas (этовость, этость), в терминологии Скота, является ключевым моментом всей его философии и логики.
Однако магистральные пути анализа категории сущности вплоть до начала XX столетия лежали в направлении рассмотрения общих свойств и отношений. Более того, Лейбницем был выдвинут знаменитый тезис о тождестве неразличимых, согласно которому вещи характеризуются свойствами вообще вне зависимости от их существенности. Для идентификации вещи, по Лейбницу, достаточно некоторое ее описание. Именно в контексте нейтрализации существенности свойств следует понимать замечание Лейбница о том, что «минимум сущности порождает максимум существования».
В философской традиции, таким образом, можно выделить три основные направления в анализе указания сущности и существенного свойства. Первый подход, наиболее полно и последовательно реализованный Аквинатом, состоит в рассмотрении сущности вещи как ее принадлежности общему. Очевидно, что этот подход есть абсолютизация общих (вторичных) сущностей Аристотеля. Другой подход определяется «тезисом Скота», согласно которому указание сущности вещи заключается в указании ее нерасчлененной на свойства уникальной неповторимости. Такой подход, по сути дела, есть абсолютизация индивидных (первичных) сущностей. Третий подход — Лейбница — является радикальным отказом от проблемы существенного вообще. Фактически он — вырожденный случай подхода Фомы, поскольку также сводит идентификацию
1 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979. С. 286.
к подведению явления под некоторый предикат, характеризующий общее свойство.
Сущность и идентификация. Проблема указания сущности, как уже отмечалось, самым непосредственным образом связана с проблемой идентификации (отождествления, индивидуации, распознавания) вещей. Так, согласно Н. Решеру,1 можно говорить о четырех основных способах идентификации, в зависимости от выбора необходимых и достаточных ее критериев.
В первом случае для идентификации достаточно указания «существенных» свойств, так же как равенство этих свойств у двух вещей позволяет говорить об их тождестве:
Е(х) = Е(у) -> х = у.
Н. Решер связывает этот подход с именем Д. Скота. Поэтому, когда он говорит о «существенных» свойствах, речь фактически идет о haecceitas, индивидной сущности вещи.
Согласно другому подходу, связываемому Н. Решером с Лейбницем, для идентификации достаточно указания общих свойств, а их совпадение у двух вещей означает тождество последних:
Р(х) = Р(у) -> х = у.
Согласно третьему подходу (согласно Решеру — аристотелевскому), идентификация и тождество должны учитывать оба предыдущих критерия:
(Р(х) — Р(у)) & (Е(х) = Е(у)) х = у.
Сам Н. Решер вводит также еще один дополнительный критерий идентификации и тождества — остенсивное (непосредственное) указание на предмет типа его предъявления или указания на него как «вон тот предмет». Поэтому полнота идентификации и тождества, по Н. Решеру, должна включать в себя все указанные критерии:
(Р(х) = Р(у)) & (Е(х) = Е(у)) & (1(х) = 1(у)) х = у.
Как представляется, и это будет специально рассмотрено чуть позже, остенсивное указание суть один из способов указания уникальной неповторимости и целостности вещи, т. е. разновидность указания индивидной сущности. Поэтому можно констатировать главное — полное указание сущности предполагает не только простое указание «нейтральных» свойств
1 Reschcr N. Philosophy of Possible. London, 1975.
вещи (Лейбниц) или некоторых общих свойств, существенных в каком-то аспекте (Фома), но и всегда должно дополняться и подкрепляться указанием индивидуальной неповторимости вещи, ее haecceitas (Скот, Решер). Короче говоря, полноценная идентификация и отождествление предполагают полноту указания сущности, включающую указание и общей и индивидной сущности вещи.
Встает вопрос о соотношении и взаимосвязи этих способов указания сущности. Сводимы ли индивидные сущности к общим или, наоборот, — общие к индивидным? Или же их природа принципиально различна? Эти вопросы, как уже было показано, лежат в основе спора об универсалиях, о связи сущности и существования и других проблем, магистральных для развития философии и логики. Показательно в этом плане рассмотрение некоторых проблем, возникающих при обосновании современных систем логического анализа, в первую очередь — модальных и интенсиональных логик, семантическое обоснование которых потребовало уточнения и переосмысления способов указания необходимых (существенных) свойств именно в плане соотношения индивидных и общих сущностей. Такое рассмотрение не только поучительно, но и важно в контексте современного рассмотрения проблемы сущности.
Речь идет не о сводимости проблемы сущности и существенного к частным вопросам семантики модальных систем, а о том, что последние позволяют уточнить некоторые важные аспекты более общей философской проблемы. К этим вопросам относится, например, проблема обоснования различных систем, допускающих сочетание модальных характеристик суждения с квантификацией, когда модальность может относиться не только к способу речи об объектах, но и к самим этим объектам. Иначе говоря, модальное суждение будет истинным тогда и только тогда, когда имеется объект, который обладает определенным свойством с необходимостью, т. е. существенно. Это означает принятие определенного «эссенциализма».
Так, если взять два истинных суждения «Необходимо, что 9 больше 7» и «Число планет равно 9», то, используя правило подстановки тождественных, получаем ложное утверждение «Необходимо, что число планет больше 7». А используя логические правила экзистенциального обобщения и правило отделения, из этого утверждения и первого суждения следует утверждение существования некоторого объекта, с необходи
мостью большего, чем 7, причем этот объект — число планет. Выход из этой парадоксальной ситуации, создавшейся в результате применения стандартных правил логического вывода, состоит в признании важности способа идентификации (указания) объекта. Этот способ не фигурирует при идентификации, когда важен сам факт указания в отвлечении от его способа. Однако, если объект, о котором идет речь, указывается цифрой 9, истинность первого из суждений сомнений не вызывает, а если его указывать как число планет, то мы приходим к ложному утверждению.
Иначе говоря, выражение (Ex)NP(x), где N — оператор необходимости, а (Ех) — квантор существования («существует такой х, что...»), истинно тогда и только тогда, когда имеется объект, обладающий существенно свойством Р, но обладание этим свойством зависит от способа указания этого объекта. Существенность свойства оказывается зависимой от способа осмысления — важнейшее обстоятельство, к рассмотрению которого еще придется вернуться. Подобная трактовка семантического обоснования квантифицированной модальной логики в духе признания существования объектов, обладающих некоторыми свойствами существенно, вполне соответствует чеканной формулировке Августина, согласно которому быть сущностью означает «во-первых, быть, во-вторых, быть тем или другим, в-третьих, оставаться тем, что есть, столько, сколько возможно».1
Подобный эссенциализм в основаниях логики в середине нашего столетия был решительно отвергнут У. Куайном.1 2 Действительно, математики могут мыслиться как необходимо разумные, а велосипедисты как необходимо двуногие и не необходимо разумные. Но что сказать тогда об индивиде, среди причуд которого можно узреть как математику, так и велосипед? Является ли этот индивид необходимо разумным и случайно двуногим или наоборот? Пока мы говорим об указанном объекте без специального намерения отделить математиков от велосипедистов, и наоборот, нет ни признака смысла оценивать некоторые из его свойств как необходимые, а другие — как случайные.
1 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. С. 285.
2 Quine W. v. О. Word and Object. Cambridge (Mass.), 1960. P. 199—200.
Иначе говоря, признание свойств в качестве существенных или несущественных зависит от целей рассмотрения, что, по мнению Куайна, лишает оснований построения логической теории, сочетающей модальности и квантификацию. Если же мы хотим пользоваться формализмом кванторной модальной логики, то нам необходимо ответить на вопрос, каким образом обеспечивается указание сущности вещи, ее идентификация — каждый раз заново или однажды раз и навсегда?
В развернувшейся дискуссии были выявлены две радикально отличные друг от друга позиции. Согласно одной точке зрения (Д. Льюис, Я. Хинтикка, Э. Сааринен, Я. Тихи и др.) указание объекта осуществляется посредством сравнения наборов свойств, характеризующих его в альтернативных системах описания («возможных мирах»). Термин при этом связывается с некоторой функцией, выбирающей указания термином объекта в различных его описаниях. Поэтому такой подход условно можно назвать функционально-описательным. Нетрудно заметить, что он является развитием и конкретизацией на логикосемантическом материале родо-видовой трактовки сущности, указываемой посредством сравнения предикатов. Причем эта сущность будет варьироваться в зависимости от используемых для описания предикатов, т. е. от концептуальной системы анализа. Это придает понятию сущности неопределенный характер и статус, что выражается в необходимости всякий раз новой идентификации объекта «сквозь миры» при переходе от одной системы описания к другой.
Согласно другой концепции анализ начинается не с систем описания, а с конкретных индивидов, и вопрос поэтому заключается не во всякий раз новой идентификации, а скорее в нахождении некоторого «твердого десигнатора» (С. Крипке) или «имени субстанции» (К. Донелан), или «индексного имени» (X. Патнем), обозначающего нечто, существующее во всех альтернативных описаниях и обладающее устойчивым набором свойств.
Противостояние этих подходов можно найти еще в «Теэ-тете», где Платон доказывает, что объект истинного знания не может зависеть от этого знания (концептуальной системы), а наоборот — является его источником и причиной, вызыва
ющей, согласно платоновской метафоре, оттиск на восковой дощечке души.1 Аналогично и Крипке, например, полагает, что критерии указания объекта задаются не по некоторым свойствам, а за рамками системы описания.1 2
В самом деле, хотя для Аристотеля самое существенное свойство связано с его философскими работами, а для Наполеона — с его военными походами, отсутствие этих свойств не мешало бы нам говорить о них как об индивидах. Обеспечивается это употреблением их имен собственных. Имена собственные и являются типичными твердыми десигнаторами. Имя собственное не требует знания существенных свойств и часто дается по свойствам случайным, поскольку указание обеспечивается и определяется при этом не свойствами вообще, а непрерывной цепью традиции именования, как бы проведением «каузальной цепочки» от настоящего употребления имени вплоть до первого его употребления, «первого крещения» объекта. В общем случае наше указание зависит не только от того, что мы сами думаем, но и от других людей, от истории введения имени в оборот, традиции его употребления. Тем самым вопрос об указании выносится за рамки познавательных процедур в широкий контекст социальной коммуникации. Поэтому подобный подход можно также назвать «каузальноисторическим», а еще лучше — «нормативно-указательным», так как он связан, с одной стороны, с введением некоторой нормативной традиции указания, а с другой — с указанием нормативного образца, соответствие с которым оценивается как истинность утверждения. Нормативно-указательная идентификация во многом совпадает с трактовкой Д. Скотом роли и значения индивидных сущностей. Не случайно в современной логической семантике твердая десигнация получила название haecceitism, прямо заимствованное из терминологии Скота.
Соотношение способов идентификации. Учитывая, что под смыслом в логической семантике со времен Г. Фреге понимается способ указания объекта, можно говорить не просто о двух подходах К трактовке способов указания и идентификации, а о двух теориях смысла. И их противостояние в современной логической семантике до самого последнего времени
1 Платон. Тсэтет // Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1970.
2 Kripke S. Naming and Necessity // Semantics of Natural Language. Dordrecht e. a., 1972.
было достаточно острым. Дело не просто в сарказме, которым проникнуты работы, например, С. Крипке или Я. Хин-тикки, но в предельно острой формулировке альтернативы: «...либо каждая вещь имеет свою haecceitas, которая гарантирует ее единственность в каждом “возможном мире”, либо ничто ни в одном “возможном мире” не тождественно ни с чем в другом “возможном мире”».1 Представляется, что подобная абсолютизация крайностей, основанная фактически на абсолютизации роли либо общих, либо индивидных сущностей, приводит к серьезным трудностям.
Так, функционально-описательный подход приводит к проблеме экзистенциальных (онтологических) предпосылок и допущений системы описания, поскольку любое приписывание предикатов (общих сущностей) оказывается связанным с предположением о существовании объектов — носителей соответствующих свойств. В результате каждая система описания и осмысления оказывается несопоставимой с другими, в силу того, что их предметные области онтологически независимы. Подобная концепция не может не вызывать возражения. Например, она не может служить гарантией против абсолютизации одного из видов существования и приписывания ему статуса первичной реальности.
Но из утверждения «Сократ смертен» (Р(а)) посредством экзистенциального обобщения (Р(а) (Ех)Р(х)) и правила
отделения выводится (Ех)Р(х) — «существует нечто, обладающее свойством смертности» — не более. Поэтому различные «онтологические доказательства» бытия Божия, реальности феноменального, физического мира и т. п. суть не доказательства, а тезисы, выражающие специфический подход к решению мировоззренческой проблемы первоначала или исходного уровня абстракции.
Испытывает трудности и чисто нормативно-указательный подход, выхватывающий проблему указания сущности из теоретико-познавательного контекста. Существенные свойства имеются не в объекте самом по себе, а проявляются при анализе явлений. От рассмотрения такого анализа и уходят сторонники твердой десигнации, придавая своей концепции метафизический и одновременно неявный, интуитивный характер.
1 Chisholm R. The Logic of Knowing // The Journal of Philosophy. 1983. Vol. 60. N 25. P. 794—795.
Современный спор в логической семантике во многом вызван, как представляется, философскими позициями спорящих сторон, уходящими корнями в средневековое противостояние реализма и номинализма. Поэтому построение формально-логических систем так же предполагает тщательный философский анализ, как и современное философское рассмотрение проблемы сущности должно опираться на результаты логико-семантического анализа. «Изобретение все более тонких способов обойти логико-семантические трудности не заменяет философского осмысления, имеющего большую историю».1 Поэтому необходимо рассмотрение не только и не столько различий, сколько соотношения и взаимосвязи между описательной и нормативно-указательной идентификацией в контексте развития и совершенствования осмысленного знания, его возникновения, уточнения и роста.
«Знание по описанию» и «знание по знакомству». В чем же различия видов знания, возникающих в результате осмысления на основе описательной и нормативно-указательной идентификации объекта познания? Они улавливаются, например, в двух вариантах ответа на вопрос «Кто написал эту работу?»: «Профессор Иванов из Урюпинского университета» или «Вот этот господин». В связи с подобными различиями Б. Рассел отличал «знание по описанию» от «знания по знакомству». Последнее он считал фундаментом познания, единственно гарантирующим адекватность идентификации, поскольку оно предшествует любым характеристикам и описаниям. «Мы говорим, что мы знакомы с чем-либо, если это нам непосредственно известно, — без посредства умозаключений и без какого-то ни было знания суждений».1 2 Показательно, что этой фундаментальной для него идее теории познания Рассел не изменил на протяжении всей своей длительной и временами радикальной философской эволюции.
«Знание по знакомству» Рассел связывает с некоторым «полным комплексом переживаний», образующим единое целое из зрительных, слуховых, осязательных и других восприятий и впечатлений. Такое знание апеллирует ко всему этому комплексу в целом без различения его составляющих. Именно зна
1 Попович М. В. Очерк развития логических идей в культурно-историческом контексте. Киев, 1979. С. 240.
2 Рассел (Рессель) Б. Проблемы философии. СПб., 1914. С. 35.
ние по знакомству фигурирует при использовании имен собственных, а также указательных местоимений, необходимость в которых, согласно Расселу, «связана с нашим способом приобретения знания и исчезла бы, если бы знание было полным».1
Иначе говоря, необходимость в «знании по знакомству» возникает в тех случаях, когда нам неизвестны составляющие комплекса переживаний, когда наши знания неотдифферен-цированны в систему описаний. В этом плане Рассел принципиально противостоит Лейбницу, утверждавшему, что полное индивидуальное понятие (соответствующее индивидной сущности) всегда является конъюнкцией всех общих свойств объекта.
С установкой на «знание по знакомству» в качестве исходной точки роста знания фактически связана и концепция твердой десигнации: употребление имен собственных не требует знания всей совокупности описаний объекта и обеспечивает зачастую более точную идентификацию, более точно указывает на объект, чем целая система описаний и определений через род и видовое отличие. Однако ни Рассел, ни современные логические семантики не идут дальше различения и противопоставления двух путей идентификации. Между тем, несомненно, особый интерес представляет рассмотрение реального процесса идентификации, когда обе крайности оказываются не принципиально различными, противостоящими друг другу способами указания сущности, а сторонами, аспектами возникновения и развития знания.
Рост знания: динамика существенного и диалогичностъ осмысления. Развитие знания и осмысления — это не только путь от выделения свойств вещи к знанию вещи как комплекса этих свойств, но и встречное движение — от идентификации некоторой нерасчлененной целостности к постепенной дифференциации ее свойств. Так, человек первоначально имел дело с индивидной сущностью — водой, и лишь по мере развития научного знания постепенно формулировал знания о ее свойствах, химическом составе, т. е. о ее общей сущности. Аналогично ребенок впервые использует слова «стол», «собака» и т. д. фактически как имена собственные этих предметов и лишь по мере развития и усложнения своего опыта приходит к осознанию общих сущностей, указываемых этими словами.
1 Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. М., 1957. С. 343.
Начинаясь со знания неполного, развитие знания и осмысления продолжается во все более дифференцированном указании общих сущностей посредством все более точных описаний и определений первоначально нерасчленимо целостной характеристики. Однако аналитическая истинность таких описаний и определений обеспечивается и подкрепляется всегда указаниями тождества вновь вводимой общей сущности (описательной идентификации) с сущностью индивидной (идентификацией нормативно-указательной), введенной ранее. Например, тепловые явления первоначально объяснялись через ощущение тепла. Затем выяснилось, что причина их заключается в движении молекул. Это знание следовало определить как необходимо истинное в самом строгом смысле слова, поскольку немыслима такая система описания, в которой тепловые явления не проявлялись бы через движение молекул. По этой причине термин «молекулярное движение» составляет в паре с первоначальным твердым десигнатором «тепло» необходимо истинное утверждение тождества.
Описательная и нормативно-ценностная идентификация оказывается проявлением действия общего механизма осмысления действительности, носящего принципиально диалогический характер взаимодействия его дискретно-дискурсивной и образно-целостной подсистем.1 Существо дела оказывается не в противопоставлении общих и индивидных сущностей и соответствующих способов их указания, во взаимодействии и взаимосвязи этих способов и соответствующих средств. Первая из подсистем осмысления обеспечивает накопление и развертывание описаний и других характеристик явлений, вторая — устойчивость и преемственность динамики осмысления посредством отождествления вновь вводимых описаний с имеющимися твердыми десигнаторами, вводя тем самым новые указательные нормативы.
Эта динамика осмысления воспроизводится в развитии научного знания и в соотношении чувственного и рационального, эмпирического и теоретического. Так, раскрытие значения и смысла эмпирических фактов и наблюдений, их объяснение дают гипотезы и теории, т. е. дополнительное знание,
1 Тульчинский Г. Л. «Новые» теории истины и «наивная» семантика. Об альтернативных теориях истины в современной логической семантике // Вопросы философии. 1986. № 3.
за счет синтеза которого с фактами и достигается осмысление данных опыта, возникает новое знание. Однако именно эмпирические данные позволяют контролировать развитие знания посредством установления соответствия гипотез и теорий фактам. Единство же теоретического и эмпирического посреду-ется логической связностью и непротиворечивостью единой системы знания.
Чрезвычайно показательно сопоставление двух видов указания сущности и их взаимосвязи со специализацией полушарий головного мозга: правого, как хранителя индивидуальной памяти в виде целостных образов, и левого, связанного с социализацией и словесной дискурсией.
Может быть раскрыта и еще одна сторона взаимосвязи способов указания сущности и идентификации в процессах познания и осмысления. Речь идет о соотношении индивидуального и социального опыта в динамике осмысления. Поскольку общие сущности как описания и определения выявляются по мере вовлечения объектов в сферу социальной практической деятельности, их практического и духовного освоения, то знание этих сущностей предстает знанием социальным, а сами они — социальными значениями. Однако, в свою очередь, развитие социального знания и опыта предполагает наличие знания индивидуальной личности, реализуется в этом знании. Обычно человек не обладает «полным» знанием о каждом объекте. Носителем исторически определенной полноты знания общей сущности являются субъекты, профессионально занимающиеся определенным видом деятельности в силу общественного разделения труда, например ученые-специалисты. Человеку же, как правило, достаточно знания «частичных» значений, а недостаток знания общих сущностей вполне компенсируется твердой десигнацией индивидных сущностей личного опыта или отсылкой к нормативному авторитету специалиста.
Особый интерес представляет связь нормативной идентификации с авторитетом, поскольку выводит анализ динамики роста знания в контекст социальной коммуникации. В этом плане может быть по-новому рассмотрена проблема «герменевтического круга», а также и роль классических произведений в развитии художественной культуры, которые, в историческом времени живут более полной и интенсивной жизнью, чем в культуре, их породившей. Очевидно, достигается это за счет богатства связей и ассоциаций этих произведений как с про
шлыми, так и с современными культурами. Такие произведения ведут себя фактически как твердые десигнаторы, выполняя роль связующих нитей между культурами, обеспечивая преемственность в их развитии.
В основе динамики осмысления не могут лежать простые отступления от образца, ошибки, искажения нормы и закрепление их в практике наподобие игры в «испорченный телефон». Общество не могло бы существовать, если бы в каждом акте деятельности оно не воссоздавало бы свойственную ему систему отношений, определенную традицию. Следовательно, динамика осмысления реализуется лишь как выражение традиционного и нетрадиционного, сдвигов в осмыслении и сохранения преемственности осмысления в соответствующих нормативных системах. Традиционность нового нетрадиционного в осмыслении обеспечивается взаимосвязью рассмотренных способов идентификации и указания сущности.
Отождествление нетождественного или зашнуровывающая метафора. Между общими и индивидными сущностями, между описательной и нормативной идентификацией нет и не может быть пропасти, поскольку это не две различные формы осмысления действительности, а взаимодополняющие друг друга стороны единого познавательного процесса осмысления, постоянное взаимодействие («диалог») которых обеспечивает поступательное развитие человеческого знания, рост объема стабильных истин. Их взаимоотношение проявляется как установление аналитически истинного тождества неизвестного с уже известным, как отождествление нетождественного, т. е. фактически как метафора.1 Такая аналитически истинная метафора как бы «зашнуровывает» сферу неизвестного с помощью уже известного, все более расширяя тем самым сферу осмысленного истинного знания.
Осмысляющая метафора реализуется как бы между двумя полюсами смысловой структуры: указанием предметного значения и переживанием как компонентом личностного смысла. Осмысление не сводимо к адекватному указанию только предметного социального значения. Абсолютизация такого указания, сведение к нему характерно для структурализма
1 См.: Гусев С. С. Наука и метафора. Л., 1984; Кулиев Г. Г. Метафора и научное познание. Баку, 1987; Metaphor: Problem and Perspectives. Brigton, 1982; Quine W. v. O. Word and Object.
и аналитической философии. С другой стороны, осмысление не сводимо и к глубинным переживаниям субъекта. Подобная абсолютизация уводит в дебри самодостаточности индивидуального сознания в духе футуристической «зауми» или сюрреалистических композиций. Осмысление — всегда диалогическое столкновение смысловых структур. Оно не сводимо к точному знанию некоторых значений, так же как и к отсутствию этого знания. И в том и в другом случае осмысление просто не может возникнуть. Оно суть ориентация и «наведение» мысли в процессе диалогического столкновения смысловых структур.
Что же обозначают уподобляющие и аналитически истинные метафоры, «зашнуровывающие» поле осмысленного неизвестного? Что гарантирует предметность и содержательность осмысленного знания? Меняется ли при отождествлении нетождественного предметное содержание знания и если меняется, то в чем это выражается?
Конструкты, модели и сущность. Решение проблемы, как представляется, связано с конструктивным характером человеческого познания, оперирующего своим предметом как некоторым конструктом, познание которого заключается в осознании его «сделанности». Именно такие конструкты — модели — выступают представлением о «скрытом схематизме» (Ф. Бэкон) явления, о его существенных свойствах и отношениях. Именно в конструктах и моделях выражается абстрагирующая роль сознания в плане выделения свойств, существенных в определенных отношениях.
Адекватность познания действительности достигается не столько за счет описаний, «прикалывающих» знание к миру реальности, сколько за счет построения моделей (реальных и концептуальных) — они-то и подлежат описанию. Например, различия формализма и конструктивизма в основаниях математики заключаются именно в различиях установки либо на построение математических структур (конструктивизм), либо на их непротиворечивое описание (формализм).
Для науки вообще характерна установка на выявление объективных закономерностей возможного преобразования реального предметного мира. Самолеты и ракеты летают не вопреки естественным законам, а именно благодаря им и конструктивной деятельности сознания. При этом научное познание ориентировано не только на объекты, реально преобразуемые на основе уже сложившихся и освоенных способов производ
ства, технологии и других форм практики, но и таких предметных структур, освоение которых может быть осуществлено лишь в будущем. В основе научных картин мира лежат представления об абстрактных объектах — конструктах и их характеристиках, принципах оперирования ими и т. д. Именно с помощью этих представлений строятся научные теории, подвергаемые затем экспериментальной проверке. Данное обстоятельство характерно не только для научного познания, но и для других сфер духовно-практического освоения действительности: в искусстве это художественные образы, в морали — представления об образцах поведения, в политике — представления об идеальном обществе. С гносеологической точки зрения все они — не что иное, как определенные модели, выступающие одновременно как определенные результаты познавательной деятельности и как образцы, ориентиры выделения существенных для целей общественной практики свойств и отношений.
К таким моделям — одновременно конструктам и образцам, реализующим представления о возможностях человеческой деятельности, — и апеллируют «тождества нетождественного». Эти модели выступают предметными значениями уподобляющих метафор, делая их аналитически истинными и обеспечивая необходимую общность опыта людей в различных обстоятельствах. Такая конструктивность познания и осмысления гарантирует необходимую «технологическую трансформацию действительного мира» в соответствующие целям общественной практики специфицированные структуры, которые могут быть неоднократно повторены в случае необходимости. Соответствие моделей практическому опыту гарантируется с помощью непосредственных нормативных указаний, обеспечивающих одновременно преемственность и традицию в развитии знания и социального опыта в целом.
Нормативно-ценностный синтез знания. Существенность и необходимость. Соотношение нормативного и описательного указания сущности позволяет пролить дополнительный свет на традиционные и даже классические проблемы философии. Так, конструктивный (модельный) характер значения аналитически истинной метафоры позволяет выявить рациональное зерно в кантовской идее ноумена — внеопытном представлении об умопостигаемой сущности «вещи в себе». С этих позиций ноумен — не что иное, как модельное представление о познавательном объекте, его реконструкция сознанием.
Однако, что составляет основу априорного созерцания и синтетического знания о нем? Априорное созерцание и синтетическое априорное знание предполагают возможность созерцания вне и до чувственного опыта, т. е. возможность мысленного эксперимента с конструктами (ноуменами — в терминологии И. Канта). Такую возможность и дает аналитически истинная метафора типа «Н2О — вода», когда субъект априорно «созерцает» воду именно как Н2О, вещество, молекулы которого состоят из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Аналогично с помощью таких же аналитически истинных уподоблений теплота воспринимается как движение молекул, имеющее различную скорость.
Важно отметить, что при этом речь идет не столько о кантианском априорном созерцании или об эйдетической интуиции, против которой возражал сам И. Кант, а о конструктивном характере мышления, оперирующего с уже известным, познанным объектом на основе представлений о возможностях его преобразования в соответствии с представлениями о желаемом, должном и необходимом.
Осмысленное знание — это знание не только истинное, знание о сущем. Оно является также знанием о должном, необходимом, включая в себя представления о цели как нормативном образе желаемого будущего, определяющем существенность истинного знания для конкретных практических целей. В этом плане логическая семантика (и теория смысла как ее составляющая) не может ограничиваться рассмотрением механизма установления истинности знания в духе двуплоскостной семантики А. Тарского. Принципиально важным оказывается учет промежуточного звена концептуализирующей деятельности сознания при осмыслении действительности.
Существенность, сущность, так же как и смысл, имеют место только в целеустремленных системах. Именно преследование определенных целей обусловливает характер и содержание концептуализации «в том или ином смысле». Поэтому осмысленность и существенность человеческого знания фактически есть выражение великого многообразия явных и неявных, в том числе и крайне сложно опосредованных целей, задающих контекст смысловых связей и ассоциаций.
Традиционная формальная логика отвлекается от этого обстоятельства. Она строится как анализ объемных (экстенсиональных) отношений (как отношений между объемами поня
тий) нейтрально к существенности анализируемых свойств. Последние предстают просто как основания отнесения предметов к тем или иным классам (множествам). Поэтому неспроста вопросы, связанные с идеями сущности и существенности, их соотношения с проблемой истинности возникли именно при семантическом обосновании систем модальной (интенсиональной) логики, связанной с анализом смысловых отношений. Отрицание (Куайном) возможности такой логики является выражением традиционной установки на нейтральность логического анализа к существенности, а значит — к целям и практическому контексту познания. Однако «эссенциональ-ность» модальной логики, ее апелляция к категории «сущность» принципиальна и функциональна: переходя от обычной кванторной логики к модальной, мы покидаем сферу отношений между объемами понятий исключительно и обязаны учитывать отношения между их содержаниями, т. е. между существенными свойствами.
Основания такого рассмотрения носят не столько логический, сколько семантический характер. Но логическая семантика как «логика содержания» должна предшествовать «логике объема» понятий. Как показывает опыт, обоснование и философское осмысление модальной логики на путях обычной («объемной») логики и референциальной (указательной) семантики затруднены. В лучшем случае оно дает сведение смысловых отношений к указательным, а смыслового значения — к предметному, что в конечном счете сводит понятие необходимости к идее всеобщности указания себе-тожде-ственной вещи1 и онтологизации смысла в виде «возможного индивида».1 2 Между тем понятие необходимости и связанные с ним понятия «сущность» и «существенное свойство» имеют важный деятельностный аспект: необходимость и существенность познаваемых свойств и отношений для целей практической деятельности: необходимое — это не только и не столько «везде и всегда сущее», но и необходимое для достижения определенных целей — то, без чего не обойтись.
Свойства вещей, и тем более существенные свойства, не порождены человеком. Они естественны и материальны,
1 Salmon N. U. Reference and Essence. Oxford, 1982.
2 Бессонов А. В. Предметная область в логической семантике. Новосибирск, 1985.
но их выявление возможно лишь в результате практической деятельности, преследующей определенные цели и располагающей конкретными возможностями их реализации.
В настоящее время можно утверждать вызревание новой ориентации в гносеологии и логической семантике. Традиционно главная проблема теории познания, логики и методологии науки есть вопрос о гарантиях и регулятивах получения истинного знания. Соотношения знания и действительности при этом рассматриваются «однонаправленно» — от действительности к знанию, как представленность действительности в формах знания. Но познание одновременно и активное воспроизведение действительности, обусловленное целями практической деятельности. Анализ знания как знания осмысленного ставит перед гносеологией, логикой и методологией комплекс проблем, связанных не только с обеспечением адекватной «представленности» действительности в определенных формах знания или обеспечением непротиворечивости этих форм, но и ее встречным движением — от знания к предмету, т. е. с воплощением определенных знаний и идей в продуктах социальной деятельности по преобразованию мира.
Подобная ориентация принципиально важна для анализа философских и методологических проблем технического знания, изучающего не столько предметы и явления в их «естественном» бытии, сколько возможности их преобразования. Техническое знание преимущественно выступает как представления о необходимом конечном (деловом) продукте (вещи, энергии, информации и т. п.), а также о средствах и способах его получения, каждые из которых уточняются в терминах реальных возможностей.1 Иначе говоря, мы имеем дело с интегрированным единством знания о целях и средствах их реализации в процессе деятельности, упорядоченной на основе этого знания. В принципе подобную структуру имеет любое «технологическое» знание, связанное с обоснованием преобразовательной деятельности человека, преобразования им природы, общества и себя самого. Поэтому логические основания анализа такого знания принципиально важны для уяснения логико-методологического статуса наук об «искусственном»
1 Философия. Логика. Язык. М., 1987.
вообще,1 построения теории творчества, эвристики как науки о творческом, конструктивном мышлении.
Существенное как синтез истинного, должного и возможного. Рассмотренный круг вопросов ставит проблему возможности логико-семантического анализа, строящегося не только на традиционных критериях непротиворечивости адекватного описания действительности, но и на критериях целесообразности. Познание объективных закономерностей в указанных сферах предполагает не только установление адекватных описаний действительности, но и соответствие конкретным целям социальной деятельности данных теорий, машин, проектов, программ и планов.
Поэтому обоснование указанных сфер познания нуждается в специальных средствах анализа. Эти средства должны давать возможность вести анализ не только в терминах соответствия знания реальности, но также и в терминах должного, возможного и нормативного. По крайней мере можно предположить, что в логико-гносеологическом плане такой анализ есть прежде всего осмысление существенности как единства фактов, оценки и нормативного предписания.
Структура осмысленной существенности как синтеза описаний, целей и предписаний аналогична структуре целевой программы. Можно утверждать, что логическая структура целевых программ дает исключительные возможности представления и анализа осмысленного и существенного знания. В этой связи вполне обоснованно ставить вопрос об общенаучном статусе программно-целевого подхода наравне с другими междисциплинарными стратегиями познания: фундаментальным, структурным, системным, комплексным подходами. Программноцелевой подход есть обобщение и развитие теоретического и методологического потенциала указанных подходов, использует их как свою предпосылку и основание.
Познание предмета связано с раскрытием его объективных свойств, его сущности, что обусловливает характер и содержание полученного знания. Именно раскрытие сущности предмета определяет осознание его «сделанности» как центрального момента познания и осмысления. Только следуя логике этой сущности, человеческое сознание способно к формированию идеи — наиболее зрелой и развитой формы осмысле
1 Саймон Г. Науки об искусственном. М., 1972.
ния, в которой соединяются в едином интегральном синтезе знание, представление об идеальном (нормативном) образце и программа его реализации.1 Идея сущности предстает как синтез знания истины, должного и возможного.
Но какова логическая природа этого синтеза? Являются ли отношения указанных сторон осмысленного знания логическими? Если нет, то анализ творческой деятельности, аргументация, управление и планирование и ряд других сфер научной и практической деятельности лишаются логических оснований. Если да, то каков может быть аппарат такого анализа? Достаточен для этих целей аппарат обычной логики или необходимо построение специальных формализмов? И самое главное — каковы семантические основания логического анализа указанного синтеза. Разумеется, привлекательным выглядит тезис, что логика может быть использована не только для выяснения того, что имеет место, но и для указания того, что мы должны делать, однако его правомерность должна быть обоснована и раскрыта.
Истинность, целесообразность и осуществимость: логика существенности. Трактовка логики как науки о получении истинных следствий из истинных посылок все более уступает место более широкой концепции, связанной либо с обобщением понятия следования, основанного на традиционной истинностной оценке и на практических рассуждениях тоже, либо — введением для последних специальных аналогов истинности и ложности (как соответствия, например, идеалам добра, целям субъекта и т. д.). Разработка такой концепции — один из наиболее острых вопросов философии логики. В свое время отказ неопозитивизма от учета нормативно-ценностных факторов познания и ограничение последнего исключительно критериями логической непротиворечивости и эмпирической верификации привели ориентированную подобным образом логику науки в методологические тупики. Не менее опасна и другая крайность — абсолютизация ценностных аспектов, поглощение ими идеала истинного знания как адекватного осмысления реального мира. Такая крайность ведет к полному релятивизму. Проявлением той же тенденции является и прагматическое толкование истины как целесообразности, соответствия целям субъекта.
1 Тульчинский Г. Л. Проблема осмысления действительности. Л., 1986.
Задача, как представляется, заключается не в сведении оценок и норм к описаниям или в построении «новой теории истины», и не в изгнании аксиологии из гносеологии или построении аксиологической теории познания. Отправную точку решения проблемы можно найти у того же Аристотеля, который считал, что «сознательный выбор — это стремящийся ум, т. е. ум, движимый стремлением или же осмысленное стремление, т. е. стремление, движимое мыслью, а именно такое начало есть человек». Истина, по Аристотелю, «есть дело обеих умственных частей души, поскольку... для сознательной мысли, не предполагающей ни поступков, ни созидания-творчества, добро и зло — это соответственно истина и ложь; дело же части, предполагающей поступки и мыслительной — истина, которая согласуется с правильным стремлением». Поскольку «что для мысли утверждение и отрицание, то для стремления и бегство», то суждение должно быть истинным, а стремление — правильным; в этом случае и «суждение утверждает то же, что преследует стремление».1
Оценочные и нормативные суждения выступают как истинные или ложные в силу их соответствия или несоответствия определенным критериям и требованиям.1 2 В этом смысле проверка оценочного или нормативного суждения на истинность осуществляется соотнесением его не с эмпирическим фактом, а с нормативно-ценностными установками (образцами, целями и т. п.), определяющими осмысление этих суждений. Такая трактовка семантической оценки нуждается в уточнении, поскольку истинность в этом случае получает излишне расширительное толкование.
Цели как вид знания оцениваются не с точки зрения их истинности или ложности как соответствия или несоответствия объективной реальности, а с точки зрения их правильности или неправильности, т. е. соответствия или несоответствия социально и интерсубъективно значимым образцам. Любая оценка означает наличие у предмета свойств, приближающих его к некоторому нормативному образцу. Так, выражение «хорошая земля» выражает способность почвы давать высокий урожай, «хороший друг» — свойства человека,
1 Аристотель. Соч. Т. 1. С. 173—174.
2 Бакурадзе О. Я. Истина и ценность // Вопросы философии. 1966. № 7. С. 45—48.
на которого можно положиться. Значение оборота «хороший» сливается со значением оборота «соответствующий достижению такой-то цели» или «соответствующий такому-то образцу или стандарту». Во всех этих случаях речь идет о соответствии определенного типа. Но если истинность — установление соответствия сущему, то нормативно-ценностная оценка есть установление соответствия потребностям и целям социального субъекта, т. е. должному, необходимому.
Так же как истина является метапредикатом, применимым к любому знанию, соответствующему реальности, и выражает общую семантическую схему этого соответствия, так и оценочное выражение «хороший» является, по сути дела, «омонимом» (Аристотель), «псевдопредикатом» (Е. Холл), «метапредикатом» (Дж. Мур), «универсальным аксиологическим квантором» (Р. Гартман). Конкретный ответ на вопрос: «Что есть добро (хороший)?», как и на вопрос: «Что есть истина?», зависит от предмета анализа и выбора методологии.
Указание целевого (нормативно-ценностного) соответствия по своему семантическому содержанию и механизму аналогично установлению истинности, что также является морфологичным и предикативным, поскольку свойства цели (образца, стандарта) могут описываться вполне определенными предикатами. Так, о конкретном тоже можно говорить как о «хорошем» тогда и только тогда, когда оно имеет характеристики, требуемые стандартом и, главное, этим стандартом заданные. Семантика и описания, и оценки связана с отсылкой к некоторым образцам, имеющим нормативный характер. Для описаний это соответствие предметному значению, задаваемое с помощью единства описательной и нормативно-указательной идентификации. Например, «красный автомобиль» истинно тогда и только тогда, когда цвет описываемого автомобиля соответствует традициям именования его как красного. Для оценок — это также соответствие нормативному образцу: «хороший автомобиль» истинно тогда и только тогда, когда автомобиль обладает определенным набором свойств.
В этой связи становится ясным общий характер перехода от описания к оценке и от описания к норме. В первом случае речь идет о задании (описании) свойств реального или идеального образца и установлении степени соответствия этим свойствам конкретных анализируемых вещей. Во втором на основании того же описания формируются требования («хороший
нож должен быть острым», «хороший доклад должен быть кратким и ясным»), которые могут участвовать в оценке.
Итак, оценки, нормы и фактологические описания, будучи различными по семантической природе, едины в их механизме семантического оценивания — все они суть установления определенных соответствий. Описания дескриптивны и объективны (суть описания объективной реальности), нормы и оценки дескриптивны и субъективны (суть соответствия описываемой реальности описаниям образцов и целей). «Истинностная» и «целевая» (нормативно-ценностная) оценки оказываются двумя полюсами — объективным и субъективным — в установлении смысла знания. На этой основе уже можно решать вопрос о «логико-семантической» природе проблемы существенного.
Однако в какой бы степени ни соответствовала идея целям и потребностям, как бы она ни была в этом плане «хороша», если она не реализуема, то остается утопией и фантазией. Знание, интегрируемое в идее, не будет отличаться от представлений о чуде как о желаемом преобразовании сущего в должное вне учета реальных возможностей такого преобразования. Поэтому знание, содержащееся в идее существенного, должно пройти оценку не только на истинность как соответствие реальности. В этом случае оно не выходит за рамки потенциальной осуществимости, реализации идеи «в принципе». Интегрируемое в идее сущности знание должно пройти проверку и на возможность фактической реализации идеи, на соответствие имеющимся в наличии средствам.
Правомерной постановкой вопроса о логико-семантической природе синтеза осмысленного знания представляется не сведение друг к другу различных видов семантического соответствия, а их совмещение в едином семантическом схематизме. Следует различать как минимум три вида семантического соответствия:
1. Адекватность целям, которая оценивается как соответствие данного описания описанию желаемого результата, нормативного образа (нормативно-ценностная оценка и соответствие).
2. Адекватность реальности как истинность или ложность описания (истинностная оценка и соответствие).
3. Адекватность имеющимся средствам и возможностям (оценка на реализуемость).
В принципе, можно выделить также четвертый вид соответствия — установление адекватности реализованной идеи предполагавшейся ценностной форме (результативная оценка).
Каждый из видов семантического соответствия (оценивания) соотносит знание, содержащееся в идее, с различными видами реальности. Для анализа этих соответствий вполне применим (с несущественными модификациями) обычный семантический аппарат в духе теории А. Тарского или ее развития С. Крипке и в «рефлексивной» семантике.1 Различие — в характере действительности, соответствие с которой устанавливается. В первом случае это реальность целей (ценностных норм). Во втором — непосредственно материальная действительность. В третьем — реальные возможности, которыми мы располагаем. Синтез этих трех оценок-соответствий позволяет говорить об идее как не просто об истинном знании, но о знании, выражающем «истинное стремление», т. е. знании, берущемся в единстве модусов (абстракций) потенциальной осуществимости, практической целесообразности и фактической реализуемости.
Каждый из семантических аспектов (соответствий) идеи может быть связан со стадиями зрелости и воплощения идеи:
1. Формирование цели как образа желаемого результата есть этап осознания потребности и формирования представления о должном и необходимом. Однако должное и необходимое может быть и принципиально не осуществимым в действительности (как это может быть в случае со сказочными образами ковра-самолета, скатерти-самобранки и т. п.).
2. Установление принципиальной (потенциальной) осуществимости цели на основе объективного истинного знания. Однако истинное знание может быть еще нереализуемым, поскольку средства его воплощения еще не созданы в силу низкого уровня развития производственных сил. Это уровень научной идеи, художественного замысла и т. п. Ряд образов научной фантастики основан на таком знании потенциальной осуществимости.
3. Установление путей и средств реализации идеи.
Предложенная семантическая трактовка знания одновременно в модусах истинности (потенциальной осуществимости), практической целесообразности и фактической
1 Тульчинский Г. Л. «Новые» теории истины и «наивная» семантика.
реализуемости есть, по сути дела, переход от двумерной, «плоскостной» семантики, рассматривающей знание только в терминах «истинно» — «ложно», к семантике «стереоскопической». Семантическое обоснование практического рассуждения и содержание идеи сущности «стереоскопичны» в том смысле, что задаются не одной, а как минимум — тремя проекциями, каждая из которых есть установление определенного вида соответствия (оценки).
Воспользуемся традиционным для логической семантики представлением содержания знания в виде некоторого множества описаний состояния («возможных миров»), непротиворечиво описывающих некоторую предметную область. Среди описаний состояния выбирается одно — соответствующее реальному состоянию предметной области (выделенный «реальный мир»). Остальное суть описания его непротиворечиво возможных состояний. В терминах описаний состояния вводятся и определяются понятия выполнимости, логической истинности (выполнимости во всех описаниях состояния — «возможных мирах»), логического следования, доказуемости, формализуемости и т. д. С точки зрения этого логико-семантического аппарата обоснование содержания идеи существенности будет выражаться в последовательном вычеркивании описаний состояния («возможных миров»), не соответствующих реальности (семантическая оценка в терминах «истинно» — «ложно»), цели или нормативному образцу (оценка в нормативно-ценностной проекции «хорошо» — «плохо»), имеющимся средствам (оценка в проекции реализуемости: «реализуемо» — «нереализуемо»). Каждое из вычеркиваний есть результат установления соответствия (несоответствия), проекции набора описаний на плоскости соответствующих характеристик-критериев. В результате такой стереометрической процедуры оценивания происходит вычеркивание знания о нереальном, ненужном и невозможном в данных условиях, т. е. о не существенном. Оставшийся набор описаний состояния дает представление о содержании знания, осмысленного и существенного с точки зрения не только его истинности, но и целей, и возможностей практики.
Предложенный подход оставляет анализ в рамках семантики, что, однако, не исключает возможность специальных прагматических построений, примером которых могут слу
жить концепции Р. Монтегю и Р. Столнейкера.1 Если в концепции Монтегю прагматический контекст совместно с системой «возможных миров» детерминирует значение истинности-утверждений, то, согласно Столнейкеру, эта детерминация поэтапна: прагматический контекст определяет концептуальные системы, а те уже имеют определенные значения истинности или ложности. По крайней мере представляется заслуживающим внимания отнесение Монтегю понятия «смысл» к сфере прагматики, а не семантики, которую он связывает исключительно с понятиями истинности и выполнимости.
Логический анализ и синтез существенного знания на подобной семантической основе в принципе может осуществляться двумя способами. Так, каждое соответствие может рассматриваться как введение некоторого оператора над описанием. Пусть Т — оператор соответствия реальности, G — оператор соответствия целям, a R — оператор соответствия практическим возможностям. Тогда выражение TGR р будет означать не только истинность Ру но и его целесообразность и практическую реализуемость. Каждый оператор дает выражению соответствующую модальную квалификацию, поэтому логический анализ и синтез идеи в этом случае может строиться на основе комбинирования модальных операторов. С точки зрения семантики «возможных миров» это означает, что операторы Ту G, R и вводят соответствующие каждому из них системы описания состояния («возможные миры»). Знание, представленное в каждой из этих систем, выражает соответствующие составляющие содержания идеи. Последняя предстает как инвариант преобразований систем описаний состояния, вводимых модальными операторами. Такой подход можно назвать «модальным». Он делает акцент на формальной стороне дела и предполагает построение специальных логических систем, исследующих отношения между модальными операторами, и последующую семантическую интерпретацию этих систем.
Другой подход, назовем его «семантический», наоборот, строится на предварительном установлении соответствий (вычеркиваний описаний состояния) и лишь последующей формализации инвариантного знания. В этом случае для логи
1 Монтегю Р. Прагматика // Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1981; Столнейкер Р. С. Прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
ческого анализа и синтеза осмысленного знания (соответствующего и реальному, и должному, и реализуемому), т. е. содержания идеи, программы и т. п., вполне достаточен обычный аппарат логики предикатов.
Если допустить возможность противоречивых описаний состояния («невозможных возможных миров»), то логический переход от целей к средствам аналогичен релевантному следованию, когда импликация А В приемлема, если мы используем именно А для достижения В. Более естественным, однако, является использование обычной логической дедукции в ее стандартном выражении или с некоторыми модификациями, например в духе теории резолюции.1 Возможна также интерпретация построения и анализа в рамках теоретико-игровой семантики, когда анализ рассматривается в виде диалогической игры, участники которой защищают или оспаривают некий тезис.
Переход знания в идее или целевой программе из модуса практической целесообразности в модус физической реализуемости подобен решению задачи, когда предполагается существование неизвестного (х), удовлетворяющего условиям, т. е. делающего их истинными. В этом случае решение задачи может быть ориентировано «на нахождение» — поиск предмета, удовлетворяющего некоторому описанию, либо «на доказательство» — поиск непротиворечивого описания этого предмета. Однако логический строй плана решения один — разрешение противоречия между возможным (идеальным) и действительным (реальным). Допущение о существовании цели (неизвестного) в случае установления непротиворечивости плана решения устанавливает и реальный статус неизвестного. Аналогично и в техническом творчестве имеются два основных класса проблем: перехода от известного предмета к возможностям его использования и от представления о возможном назначении (свойствах и параметрах) — к предмету, его реализующему. Первая проблема сводится к задаче «на доказательство», вторая — «на нахождение»
Выражая единство анализа и синтеза, непротиворечивого описания и построения, логический анализ идеи сущности развертывается и как единство необходимого и возможного. Пронизывая и интегрируя различные модусы знания в рамках
1 Чень И., Ли Р. Математическая логика и автоматические доказательства теорем. М., 1983.
идеи, плана решения или целевой программы, он развертывается в одной плоскости «как бы реального». Логический анализ выражает само существо вопроса о семантическом обосновании идеи существенности. Выступая прескриптивной гипотезой, знанием, интегрирующим информацию о необходимых ресурсах и условиях достижения целей, идея существенного выражает в конечном счете предписания по реализации этих целей. Важно, что как и любой план решения, представления о сущности могут проверяться и корректироваться только на основе их выполнения. Однако нелепо корректировать программу после ее выполнения. Поэтому в качестве проверки идей широко используются методы имитации и моделирования. Но именно подобного рода моделированием и выступает логико-семантический синтез знания. Он дает знание о непротиворечивом единстве знания истинного, должного и возможного, т. е. непротиворечивую, «работающую» модель. Логический формализм дает информацию как о «скрытом схематизме», так и о его возможном развитии. Логическое единство задач «на нахождение» и «на доказательство» есть единство описательного и операционального компонентов модели: первый дает знание о структуре явления, второй — о множестве актов преобразования и построения этой структуры. Поэтому неверно, что «логическое следование зависит от понимания».1 Логическое следование есть упорядоченная структура концептуализированного (уже понятого и осмысленного) знания.
В современной логической семантике необходимость и возможность трактуются фактически как квантификация по описаниям состояния («возможным мирам»): необходимо то, что истинно во всех описаниях состояния, а возможно — то, что истинно в некоторых, хотя бы и в одном из описаний состояния. Такой подход, применяемый, например, в семантическом обосновании систем модальной и интенсиональной логики, по сути дела, является сведением содержания идей необходимого и возможного к идеям общего и особенного.1 2 Однако, как мы уже отмечали, необходимость — это не только проявление универсальной общности (всегда и везде сущего), но и должен
1 Stroud В. Inference, Belief and Understanding // Mind. 1979. Vol. 88, N 350. P. 190.
2 Ивлев Ю. В. Содержательная семантика модальной логики. М., 1985; Слинин Я. А. Современная модальная логика. Л., 1976.
ствование удовлетворения некоторой потребности, достижения цели. Возможность, в свою очередь, выступает как способность реализации этой цели, допустимость этой реализации. При этом речь идет не о возможных «вообще» описаниях, а возможных относительно необходимых целей при определенных условиях, и мы получаем перспективу логического анализа знания существенного (необходимого). Осмысленное знание как знание существенного выражается в синтезе знания, взятого в модусах истинности, целесообразности и реализуемости. И в этом плане предложенная многомерная («стереоскопическая») семантика реализует идею об оптимизирующей роли нормативно-ценностных регуляторов познания. Оптимизация состоит в обеспечении логического синтеза, рациональности осмысленного знания.
Существенность и эффективность. Существенность является выражением единства анализа и синтеза, выявления расчлененности предмета познания, описания этой расчлененности («сделанности») и программы воссоздания в новом единстве, задаваемом целями практической деятельности. Истинность же достигается за счет включения нормативноценностных факторов образования и функционирования знания в единую систему критериев, а не за счет абстрагирования от них, отказа от их учета.
Предложенная модель семантического оценивания как установления трех видов соответствия перекликается с видами эффективности целенаправленной деятельности как отношений:
1) выбираемых целей к потребностям (ценностным нормам);
2) результата к целям;
3) результата к затратам ресурсов.1
Перекличка понятий не случайна. Она свидетельствует о глубокой фундаментальной общности управленческих и познавательных процессов, выражающейся в их обусловленности практической деятельностью. Так же как интегральным выражением эффективности является отношение потребностей к имеющимся возможностям и ресурсам, так и интегральным выражением идеи сущности является рассмотренный логиче
1 Ладенко И. С., Тульчинский Г. Л. Логика целевого управления Новосибирск, 1986.
ский синтез знания об «истинном стремлении», представляющий содержание идеи существенности как программу эффективного, т. е. реализуемого и результативного действия.
Сущность и целостность. Сущность и существенность связаны не только с целеустремленностью, но в конечном счете и с конечностью, ограниченностью выражения, описания и отображения. Они суть не что иное, как проявление попыток конечной, ограниченной в пространстве и времени системы (например, человека) понять и выразить конечными средствами бесконечное разнообразие мира, включая бесконечное разнообразие характеристик и свойств отдельной вещи. Эта ограниченность неизбежно проявляется в абстрагировании от одних свойств и выделении других, существенных в каком-то смысле (плане, цели) и образующих некоторую целостную выделенность вещи.
Помимо прочего, это означает и возможность за конечное число шагов построить, сконструировать, воссоздать данную вещь как единое целое. Поэтому, кроме инвариантности (везде присущности) и независимости, отмеченных в начале в качестве главных характеристик существенности, проведенное рассмотрение демонстрирует, что можно говорить еще об одном существенном свойстве существенности — целостности. Как писал Аристотель, «сущее и единое — одно и то же, и природа у них одна... сущность каждой вещи есть “единое” не привходящим образом, и точно так же она по существу своему есть сущее».1
Сущность предстает интегральным выражением целенаправленности и эффективности человеческой деятельности и познания. В связи с этим можно привести не один пример из русского языка, где слова «целое», «целостность», «целина» и т. п. оказываются явно однокоренными с целью.
Два типа рациональности. Сущность и свобода. Идеи сущности и существенности непосредственно связаны с рациональностью как эффективностью и конструктивностью целенаправленной деятельности. Что позволяет говорить о познании сущности как не разумность человеческих мыслей и действий? А разумно и рационально то, что позволяет достичь цели, причем оптимальными средствами. На этом и основан взлет западной цивилизации, но XX век открыл на этом пути не только
1 Аристотель. Соч. Т. 1. С. 120—121.
благоденствие и процветание. Экологические проблемы, ядер-ное оружие, технические катастрофы, опасные технологии, политическое насилие — отнюдь не побочные издержки, а прямые и непреложные следствия идеи, что познание сущности явлений открывает (и оправдывает) приведение окружающей действительности в соответствие с этой познанной сущностью.
Укоренившееся понимание разумности и рациональности (и связанной с нею существенности) может быть связано с античным «техне» — идеей искусного искусственного преобразования реальности в соответствии с некоторым замыслом. Синтез этой идеи с идеей единобожия и дал традицию европейской рациональности. Мир в целом и в своих фрагментах предстал сделанным. Путь познания — путь осознания схематизма этой сделанности. Беспредельное сводится к конечному, финитному. От Бога-Творца к деизму и от него к человеку-инженеру — вот путь европейской цивилизации. Традиционная рациональность фактически отрицает гармонию, меру, сеет омертвление живого абстрактными схемами, требующими для своей реализации принудительного внедрения, порождая те проблемы метафизики нравственности, с которыми человечество столкнулось в XX столетии.
Но есть и другая традиция рациональности, фактически инорациональности. Ее можно связать с античным «космосом» идеей гармоничной целостности мира, когда особое значение приобретает индивидуально-неповторимое — не абстрактный элемент множества, а необходимая часть целого, без которой целое уже иное. Космическая рациональность близка идее «дао» как истины-пути и ответственности за следование ему, ответственности за гармоническую целостность мира.
Проблема сущности вещи, ее целостности и неповторимости, оказывается неотрывно увязанной с проблемой сущности той же целостности и неповторимости мира в целом. Более того, проблема сущности оказывается связанной и с проблемами свободы и ответственности. «Техническая» рациональность отбрасывает эти проблемы как иррациональные, не укладывающиеся в представления о технологии разумного. Поэтому и порождает безответственное самозванство. Природа, общество подвергаются насилию ради воплощения якобы познанных закономерностей их же развития. И ответственность при этом снимается — ведь это природа и люди приводятся в соответствие со своей же сущностью. Иначе говоря,
свобода понимается как произвол, навязываемый извне природе, обществу, человеку.
Если сведение бесконечного и абсолютного к относительному и конечно-сделанному ведет к бесчеловечному, то установка на беспредельное и абсолютное ведет к работе души и гуманности. Ответственность первична, ум и разум вторичны. Они суть средства осознания меры и глубины ответственности, меры и глубины включенности в связи и отношения, меры и глубины укорененности и свободы в мире.
«Космическая» рациональность не отбрасывает «техническую», ее аппарат. Познать меру и глубину ответственности человек может только традиционными рациональными методами (теоретическое знание, моделирование и т. д.). Но меняется вектор. Не ответственность ради рационального произвола, а разумность как путь осознания меры и глубины ответственности. Традиционный путь — путь произвола и самозванства, путь разрушения природы, человеческих связей и душ. Другой путь — путь свободы и ответственности, путь утверждения бытия и гармонии — в душе и с миром. Либо прав Ф. М. Достоевский — и «ум — подлец, потому как виляет» в способности оправдать, что угодно. Либо надо уметь им пользоваться.
Наше время — время осознания предела традиционного «технологического» разума и рациональности. Все более сужается поле самозванства, которое человечество может допустить и позволить в технике, политике и даже в науке. Познание сущности, существенность знания оказываются проявлением специфически человеческого измерения бытия — свободы и ответственности в гармонической целостности сущего.
§ 3. Динамика осмысленного знания
Осмысление и рост знания. Как реализуется динамика осмысленного знания? Содержательные сдвиги в развитии знания могут быть зафиксированы и выражены только логикоязыковыми средствами, гарантирующими общезначимость и целостную связность осмысленного знания человека о мире. Между тем в философии науки, особенно конца XX столетия, существует определенное недоверие к методам логического и логико-семантического анализа. В феноменологической, герменевтической, критико-рационалистической концепциях
и ряде других философских традиций зачастую даже вообще отрицается возможность плодотворного анализа развития знания с помощью средств логики и логической семантики. Обусловлено это, как представляется, выявившейся во второй половине XX столетия ограниченностью неопозитивистской программы методологии науки. Авторы этой программы (называемой иногда также логическим эмпиризмом), будучи крупными логиками, зачастую излишне упрощенно трактовали сложные философские и методологические проблемы развития научного знания, отказываясь, например, от учета ценностных факторов познания и осмысления, трактуя их как «метафизические» и «внерациональные».
Однако ограниченность философских установок логических позитивистов отнюдь не может служить основанием отрицания эффективности логического и логико-семантического анализа. Именно отказ от этих методов привел к серьезным трудностям «постпозитивистскую» философию науки. Так, согласно известной модели Т. Куна, развитие знания происходит в смене парадигм — доминирующих методологических установок, причем смене радикальной, вызванной социально-психологическими причинами и не поддающейся рациональной реконструкции. У И. Лакатоса место парадигмы занимает научно-исследовательская программа с твердым концептуальным ядром и размытой периферией, но и ее рациональный анализ возможен лишь ретроспективно, как анализ исторический.
Важно подчеркнуть, что всякая попытка решить проблему выбора той или иной теории, парадигмы, научно-исследовательской программы и т. п. неизбежно упирается в вопрос об основаниях их сравнения, их соизмеримости. Волее того, возникает вопрос о логической природе парадигмы как специфической формы знания. Это является характерной слабостью любой «интерналистской» модели динамики знания. Столь же непоследовательны и «экстерналистские» модели. Абсолютизация роли внешних факторов также приводит к искажению сущности развития осмысленного знания — накопления, расширения и углубления познания истины.
Диалогичность. Знание не возникает «вдруг из ничего». Путь познания это всегда переход от одного знания к другому: от знания неполного и неточного — к знанию все более полному и точному. Иначе говоря, новые формы осмысленного знания возникают из старых, прорастают сквозь них. И про
блема динамики знания предстает в этом плане как вопрос об извлечении из социального опыта знания, которого в этом опыте еще не было. А поиски выхода из этой ситуации есть поиски выхода за рамки анализируемых смысловых структур.
Речь не может идти о простом выходе «в контекст». Это создало бы ситуацию выбора одной из двух одинаково нежелательных альтернатив: либо уход в «дурную бесконечность» контекстов осмысления, либо признание какого-то контекста первичным, не сводимым к другим. В «техническом» применении, например, в системах искусственного интеллекта или распознавания образов, эта антиномия означает, что либо имеется первичный контекст, но он не распознаваем, поскольку отсутствует контекст его осмысления; либо возникает бесконечная во времени редукция контекстов, и машина никогда не сможет начать распознавание. И в том и в другом случае процесс осмысления оказывается невозможным. Поэтому простые контекстные представления оказываются недостаточными.
В самом общем виде анализ развития осмысленного знания может реализовываться трояким образом: 1) «внутриконцептуально», как погружение в смысловую структуру познаваемого предмета и прослеживание внутренней логики его развития; 2) «надконцептуально», как реконструкция смысловой структуры из «внешней» позиции; 3) «межконцептуально», как прослеживание связей смысловых структур, в том числе «своей» и «иной». Однако первые два подхода являются крайними выражениями более общего — третьего, «межконцептуального». Во всех трех случаях речь идет о взаимодействии смысловых структур. Это взаимодействие и выступает основной, базовой процедурой. Поэтому при рассмотрении механизма порождения осмысленного знания особенно важное значение имеет идея столкновения смысловых структур, их диалогическое «взаимоуплотнение».
Диалогичность является фундаментальной чертой человеческого мышления, выражающейся в первичности бинарных двуэлементных, но нерасчлененных структур и отношений (суждение, вопрос-ответная природа понятия и т. д.). Принцип «стереоскопической» диалогичности эволюционно закреплен в парности пространственно разнесенных органов чувств. В генетической психологии эта особенность сознания и мышления получила название «дипластии».
Идея диалогического, вопрос-ответного характера осмысления и познания в целом в различных вариациях неоднократно высказывалась в истории человеческой мысли. Однако следует отметить особую роль Сократа, Р. Декарта и Ф. Бэкона в становлении этой идеи. Так, для Сократа познание есть диалог души с самой собой, а под диалогом он подразумевал (как это видно из произведений Платона) процесс выработки правильного вопроса и ответа на него. Как учение о правильной постановке вопросов, формулировке проблем предстает и учение Декарта о методе. Если для Сократа и Декарта вопрос-ответная структура познания была связана с общефилософскими и математическими проблемами, то выдающийся вклад Ф. Бэкона в теорию и методологию познания заключается в том, что аналогичный подход он развил и как методологию экспериментальных наук о природе. Природа перестала быть Сфинксом, задающим загадки человеку, — сам человек начал ставить вопросы, а природу «пытал» до тех пор, пока она не давала ему ответ на поставленный вопрос.
Диалогические, вопрос-ответные представления о развитии знания получили в настоящее время существенное развитие в теории научного творчества, теоретико-игровых моделях логического анализа, методах принятия решений и т. д. Формирование сознания и самосознания также носит диалогический, точнее — полилогический характер, поскольку предполагает наличие внешней по отношению к личности нормативно-ценностной позиции. Как физическое тело человека формируется первоначально в материнском лоне, так и сознание человека пробуждается и формируется, оплотняясь сознанием других, прежде всего родителей.
Таким образом, для возникновения нового смысла необходима неоднородность информационной системы, наличие в ней по крайней мере двух гетерогенных подсистем. Это обстоятельство уже было специально рассмотрено на примере соотношения общих и индивидных сущностей и роли отождествления нетождественного в аналитически истинных метафорах. Речь идет о фундаментальном, коренящемся в психофизиологии сознания и мышления обстоятельстве. Так, исследования функциональной асимметрии полушарий головного мозга показывают, что деятельность мозга человека подобна функционированию именно таких систем. Биполярный характер носит и культура как в целом, так и на различных уровнях
ее интеграции. В истории культуры и различных сфер общественного сознания давно было замечено расслоение целостной системы на противостоящие и дополняющие друг друга подсистемы: рационализм — иррационализм, схоластика — мистика, начетничество — юродство и т. д.
Особый интерес представляет динамика взаимодействия дискурсивно-дискретных («левополушарных») и целостнообразных («правополушарных») подсистем целостного осмысления. Чисто «левополушарное» состояние характеризуется обилием классификаций, определений, различений, сопоставлений, основанных зачастую на свободной игре знаками. Для чисто «правополушарного» — воспроизведение уподоблений, крайняя семантизация. И в том и в другом случае собственно новое осмысление не возникает — либо новые знаковые конструкции комбинируются в отрыве от реальности, либо речь идет о воспроизведении старых форм осмысления. Смысло-образование начинается лишь в случае движения от одной подсистемы к другой, в их диалоге. При переводе информации из «левополушарного» состояния в «правополушарное» метафоры и определения получают реальное значение. Сознание переживает при этом как бы озарение («инсайт»), открывая для себя новое видение реальности. При обратном переходе сознание переживает как бы катарсис — освобождение от излишне жесткого отождествления смысла с реальностью, получая возможность свободной рефлексии над нею. Не случайно практика науки, искусства близки практике психоанализа и психотерапии, основанной на обговоре и выговаривании переживаний и психических состояний.
Два аспекта динамики осмысленного знания. Рассматривая механизм диалогового взаимодействия, следует выделить два основных его аспекта: «негативный» (разрушающий, отрицающий) и «позитивный» (созидающий, конструктивный). Первый связан с переносом осмысляемого в иной контекст осмысления, рассмотрением его в иной, несобственной нормативно-ценностной системе, с расшатыванием привычных представлений и деструкцией старой смысловой структуры. Второй — с построением нового смыслового ряда, формированием новой системы знания.
«Негативный» аспект осмысления обусловлен тем, что возникновение нового знания затруднено действующими стереотипами. Поле уже осмысленного «везде плотно» в том плане,
что целостность осмысления наделяет смыслом и значением всю доступную человеку реальность, которая всегда так или иначе, но осмыслена, пусть даже в фантомной форме. Поэтому формирование нового знания предполагает выведение явления из автоматизма его привычного восприятия и понимания, способность увидеть известное заново, сделав привычное необычным, странным. Эту сторону смыслообразова-ния В. Б. Шкловский удачно называл «остранением», а вслед за ним Д. Дьюи — дистанцированием, Б. Брехт — очуждением, а Ж. Деррида — деконструкцией, В. Тернер — лиминальностью.
Остраняющая способность свойственна любому творческому сознанию — в науке, искусстве, политике и т. д. Так, метод научного моделирования, когда для познания одного объекта используется другой реальный или мысленный объект, метод эксперимента, различные эвристические приемы научного поиска и решения проблем — все это, по сути дела, есть не что иное, как остраненное рассмотрение объекта познания.
Остранение слабо выражено в период нормального развития науки, когда оно сводится к применению имеющегося концептуального аппарата для решения новых проблем по уже выработанному алгоритму. Остраненность ярко проявляется в период изменения концептуального аппарата науки, смены парадигм, научных картин мира, методологических установок. В этом случае ученые оказываются как бы на другой планете, окруженные незнакомыми предметами, где даже знакомые предметы предстают в совершенно ином свете, когда наступает кризис очевидности, а выдвижение «сумасшедших» идей становится критерием научного прогресса.
Однако остранение не может быть самоцелью. В качестве таковой оно выступает, пожалуй, только в нонсенсе и абсурде, где остранение становится не средством, а содержанием, предметом творчества. Но даже в творческом нонсенсе и абсурдизме остранение тем не менее предполагает конструктивную деятельность сознания по выстраиванию из остраненных смыслов новых конструкций. Даже загадка, метафора, аллегория, пародия, критический анализ не ограничиваются игрой смысла, а дополняются позитивным переосмыслением в новой композиции, в определенной нормативно-ценностной системе. С этой точки зрения всякое осмысление есть переосмысление, выстраивание новых смысловых конструкций из остраненных смыслов.
Новое осмысление — это не просто разрушение привычного смыслового ряда, это и его пересоздание. Для художника это новое композиционное решение, для ученого — новое сравнение и построение новой теоретической модели, для инженера — новое конструктивное или технологическое решение, для рабочего или спортсмена — новая последовательность операций и движений. За всем этим стоит одно — новая конструктивная фиксация смыслового содержания социального опыта, его новое программирование.
Процесс этот подобен ковке металла, когда, разогрев его до состояния полной пластичности, ему можно придать практически любую форму, и он дополняется остужением, фиксацией нужной формы. Таков в принципе путь формирования научной терминологии. У этимологических истоков любого научного термина всегда стоит метафора, одно из значений которой однозначно фиксируется с помощью определений.
Динамика осмысления предстает, таким образом, как систематический нормативно-ценностный сдвиг. Зачастую благодаря этому сдвигу нечто, представляющееся несущественным и побочным, приобретает фундаментальное значение. Например, в материальном производстве железо и стекло первоначально рассматривались как шлак в медеплавильном и гончарном деле. Рожь и конопля довольно долго рассматривались как сорняки. Важным шагом стало не просто технологическое освоение этих объектов, а именно установление их самостоятельной ценности. Аналогичные ситуации характерны и для познавательной деятельности. Так, в науке открытия, первоначально не представляющие интереса с точки зрения старой парадигмы, с позиций новой могут оказаться ключевыми. Достаточно в этой связи напомнить ситуацию с периферическими для классической физики исследованиями абсолютно черного тела, открывшими новые горизонты квантовой физики. И здесь главную роль играет не открытие само по себе, а установление его места в целостной научной картине мира.
Общая динамика нормативно-ценностных систем заключается в постоянной диффузии и специализации форм деятельности и смысловых структур, с ним связанных. Любая самоорганизующаяся система в своем развитии реализует равновесие организации и дезорганизации, синтеза новой информации за счет разложения старой. Доминирование первой из этих сторон (тенденций) ведет к окостенению, заорганизованности,
второй — к распаду системы. Для периода разложения характерны нормативно-ценностный сдвиг, остранение, отрицание традиционных ценностей. Поиски новых идей порождают обилие доктрин, теоретических концепций, привлекают внимание к альтернативным поискам дилетантов и «еретиков», высмеиваемых ранее.
Феномен остранения есть следствие динамики целей, ценностных позиций, точек зрения, определяемых развитием общественной практики, есть следствие накопления и расширения знаний, необходимых для этого развития.
Осмысление и личностное знание. Социальные значения, будучи определенными программами социальной деятельности, реализуются только при условии освоения их личностью. Социальные значения как «осмыслители действительности» оказываются определяющим фактором формирования и развития сознания. Причем особую роль в развитии личности играют социальные значения и программы поведения, освоенные в детстве, поскольку в дальнейшем новые социальные значения воспринимаются сквозь призму первоначально усвоенных. Поскольку же освоение первых программ деятельности (социальных значений) ребенком в начальные периоды жизни протекает во многом бессознательно, зачастую необходимы специальные процедуры (например, психоанализа), чтобы выявить их действие и содержание.
Но социальные значения не присваиваются личностью в готовом виде, они формируются и развиваются в процессе освоения их личностью. Более того, именно индивидуальное сознание личности является тем полем, в котором происходит изначальный смысловой сдвиг, остранение и попытки выстроить новое видение реальности. Это выражается в самом процессе организации жизнедеятельности личности, выдвижении на передний план одних ситуаций, отодвигании на дальний план других, преодолении третьих, короче говоря, в проведении личностью своей жизненной линии, обусловливающей неповторимость осмысления действительности ею.
Личность — подвижная, способная к самоорганизации и саморазвитию открытая система, различные элементы которой стимулируют, взаимопровоцируют, обогащают, нейтрализуют или подавляют друг друга. Конфликтен и противоречив зачастую оказывается даже чисто внешний пласт личности — ее ролевой репертуар. Тем существеннее роль глубинных дис-
позиционных структур личности, ее ценностных ориентаций и установок, мотивации. Поэтому так велика роль в становлении и развитии осмысленного знания рефлексии, выражающей способность личности к самоанализу и самопознанию, к само-интеграции смыслового единства.
Как в профессиональной, так и в бытовой сфере жизнь часто ставит личность в ситуации, когда за неимением социального образца она вынуждена в самой себе искать пути решения и выбора образа действия или мышления. В этих случаях проявляется способность личности к сверхпрограммному самоопределению и «самодостраиванию». Отсутствие предзадан-ной программы на все случаи жизни вызывает напряженные усилия по формированию нового опыта и осмысления. Именно ситуация непонимания, «удар о границы понимания» вызывает рефлексию, а в результате рефлексии и новое осмысление и понимание.
В смыслообразовании участвуют все пласты личностного смысла. При этом происходит как бы «растворение» устойчивых инвариантных и общезначимых социальных значений с последующей «кристаллизацией» новой смысловой структуры, из которой в дальнейшем, особенно в процессе коммуникации, происходит все большее «испарение растворителя» — личностного смысла. Так ученый фиксирует улавливаемые только им смысловые обертоны в сравнениях и аналогиях, художник и поэт — в образах. Через сознание творца проходят улавливаемые только им связи реальности, новая гармония мира, которые он, фиксируя, делает достоянием общества.
Осмысление человеком действительности всегда целенаправленно. Оно не только путь познания, путь истины, но и путь добра, стремления человека к благу и счастью. Это свойственно не только здравому смыслу и житейскому опыту, но и существенно важно для науки и других сфер профессионального мышления. Ценности и идеалы играют существенную роль в возникновении, становлении и развитии фантазии, мечты, воли, т. е. целой группы психологических и нравственных детерминаций осмысления и формирования нового знания. Чувства человека, его эмоциональное отношение к действительности — не только сопровождают осмысление, но и являются мощным формообразующим фактором, поскольку выражают ценностное отношение человека к реальности.
Именно ценностное отношение образует определенный эмоциональный настрой, служащий своего рода катализатором творческой деятельности в научном, техническом, художественном поиске. Этот настрой, выполняя роль восполнителя возможного недостатка знаний и умений, создает своеобразную «энергию заблуждения», позволяющего продвигаться вперед «без лишних рассуждений». Сталкиваясь с задачей, творческая личность переживает некий внутренний рывок, интеграцию и мобилизацию всех, не только интеллектуальных, но и биопсихических сил. Подъем, переживаемый человеком при этом, не сводим к озарению (инсайту) и является феноменом качественно иным, чем простая сумма реализации отдельных психических функций. Это скорее резонанс, некая особая функция самоорганизации личности. При этом рациональная мыслительная деятельность — крайне необходимый, но не достаточный элемент динамической целостности и полноты творческой деятельности.
Творчество питается от целостности личности, а не от отдельных ее компонентов. Поэтому, помимо ценностной позиции, важным фактором нового знания и осмысления является другой компонент личностного смысла — переживание (как осознанное, так и бессознательное, невербализуемое). В практике организации научных экспериментов, пуска и наладки новой техники нередки ситуации, когда специалисты не в состоянии выразить явным образом свои знания и передать их другим. Оказываются необходимыми личные контакты и совместная деятельность, в ходе которых осуществляется передача скрытого (неявного) знания. Имеется в виду передача того опыта, который наладчики и художники называют «знанием в кончиках пальцев», той формы знания и осмысления, которая связана с переживанием индивидом определенной деятельности, вплоть до телесной моторики. Эти целостные, но неосознаваемые формы и детерминации осмысления выступают как бы индивидуальным стилем, манерой, свойственной именно данной личности. Их наличие обусловлено единством биологически-телесного и социально-психологического начал в человеке — оба эти начала играют свою роль в динамике осмысления и знания.
Новое осмысленное знание не может возникнуть с самого начала как общее. Во всех сферах человеческой деятельности новые творческие приобретения начинаются с личных ини
циатив, как проявление личностной свободы и ответственности. Лишь затем, приобретая общее социальное значение, они могут становиться нормами.
Социальные значения и нормативно-ценностные системы. Центральным определяющим моментом осмысления является наличие в смысловой структуре социального надындивидуального слоя, опосредующего отношение человека к действительности. Именно социальные значения выступают платформой и непрерывной нитью человеческой разумности, выражая направленность мысли на программирование опыта, на его реализацию.
Осознание нормативности осмысления характерно не только для нравственности и права, где и сформировалось первоначально понятие нормы, но и для производственной, научной, художественной деятельности. Так, в искусстве нормативны (каноничны) модели произведений определенного стиля, который интерпретируется как принцип создания множества произведений в духе «модели сезона» в моде. Подобные характеристики применимы и к научным «парадигмам», «стилям мышления», «исследовательским программам». Методология науки нормативна по самой своей природе — достаточно в этой связи вспомнить критерии рациональности, непротиворечивости, подтверждаемости и т. д.
Конкретизировать представление о механизмах формирования и закрепления социальных значений в практической деятельности можно с помощью понятия нормативно-ценностных систем (НЦС) деятельности как подсистем общественной практики. Они (НЦС) определяются, во-первых, ценностным компонентом, который складывается из предмета, целей и средств деятельности; во-вторых, нормативным компонентом (правилами, регулирующими осуществление деятельности); в-третьих, поскольку речь идет о системах социальной практической деятельности, способом организации коллективной деятельности социального субъекта.
Понятие НЦС позволяет раскрыть механизм осмысления как системы внебиологического наследования опыта и информации. Именно НЦС выступают в качестве «социальной памяти», «исторической коллективной памяти», «надындивидуальной системой информации» и т. д. В процессе жизнедеятельности человек участвует в самых различных НЦС — этим путем осуществляется социализация личности как усвоение ею соответ
ствующих социальных значений. Практически вся социальнопрактическая деятельность может быть представлена как совокупность НЦС в сфере производства, быта, отдыха, науки и т. д. Но приобщение к НЦС не сводимо к простому приобретению определенных навыков. Оно является существенным фактором развития форм поведения человека вплоть до развития мышления, памяти, воли...
Понятие НЦС позволяет преодолеть «дилемму» феноменоло-гизма (психологизма) и трансцендентализма в анализе знания и осмысления, поскольку социальное значение — центральный аспект смыслового содержания опыта — не связывается однозначно с субъектом (в этом случае оно трактовалось бы как феномен индивидуального сознания) или противостоящим ему объектом (в этом случае оно выступало бы некоей платоновской сущностью). Значение формируется и развивается в практической деятельности, в единстве субъекта и объекта, выражаемом НЦС.
Нормативно-ценностные системы и рациональность. Понятие НЦС как определителя социального значения — центрального момента смысловой структуры — является фактически развитием и обобщением фундаментальной идеи Г. Фреге, рассматривавшего смысл как «способ данности» предмета. Каждый из таких способов данности задается осмыслением предмета (выступающего в этой связи предметным значением) в определенных НЦС. Он реализуется в соответствии с определенными целесообразными критериями, т. е. рационально.
Это обстоятельство сближает виды осмысления (способы данности) предмета с проблемой видов (типов) рациональности. В НЦС сопрягаются функционально-деятельностные, гносеологические (эпистемологические) и социальные (организационные и личностные) факторы формирования и развития осмысленного знания. Поэтому использование понятия НЦС решает задачу поиска таких познавательных ориентаций, которые позволили бы рациональному познанию выступить формой деятельности, эффективной и в аспекте общения. Если рациональность понимать как механизм социальной детерминации познания, представляющего собой устойчивую систему правил, норм и эталонов, принятых конкретным социумом для достижения социально значимых целей, то эта трактовка также выражается в идее НЦС, каждая из которых задает свой канон осмысления.
Язык как нормативно-ценностная система. Специфической НЦС является язык, реализующийся в целях обслуживания других НЦС, в том числе и самого себя. Язык — суть социальная деятельность по поводу общения. Речь идет не только о целях адекватной передачи мысли. Во-первых, сама эта задача определяется целями и задачами эффективного воздействия на других людей, вторична по отношению к этим целям и задачам. Во-вторых, языковая деятельность отнюдь не сводима к адекватной передаче мысли — довольно часто языковая практика преследует цели сокрытия, а то и искажения мысли. Люди общаются отнюдь не только для того, чтобы поделиться мыслями, но и для того, чтобы достичь каких-то (возможно, общих) целей. Когда человек испытывает полный комфорт, ему достаточно первой сигнальной системы. Необходимость во второй сигнальной системе, т. е. в членораздельной речи, возникает только тогда, когда человеку чего-то не хватает и он стремится подвигнуть другого или других к разрешению этой проблемы.
Хотя язык и является относительно независимой и самостоятельной НЦС, он (речь и письмо) не самоцель, а средство, используемое в различных видах деятельности. Взятые сами по себе и для себя язык и речь бессмысленны. Они «встроены» фактически в каждую НЦС социальной практики, реализуя в них возможность общения. В этой связи язык оказывается как бы путеводителем по совокупной системе НЦС, по миру определенной культуры. Без знакомства с определенным языком невозможно вхождение ни в национальную, ни в профессиональную, ни в возрастную и т. п. культуры.
Социологический аспект знания и осмысления. Можно предположить, что НЦС социальной практики развились из единой системы духовно-практической деятельности, синкретично совмещающей различные функции (от магических до хозяйственных). НЦС ремесел, науки, искусства и т. д. дифференцировались и специализировались постепенно, по мере развития цивилизации и специализации видов деятельности. Это выражалось в выделении отдельных функций в самостоятельные виды деятельности, профессиональном закреплении людей за ними, соответствующих изменениях в системе образования и воспитания. Таким образом возникают мотивированные изнутри, а не санкционированные извне стили поведения. Например, появившиеся в начале XVI в. детальные технологические инструкции и руководства по металлургии, оружейному
делу и текстильному производству, носящие светский характер, давали каждому возможность освоить соответствующую деятельность, не будучи посвященным в ритуальные цеховые тайны ремесла. Этот процесс десакрализации привел к становлению науки, которая не только выстояла в единоборстве с религией, но и превратилась в действенное средство рациональной регуляции в обществе.
Особый интерес представляет рассмотрение социальной организации НЦС как общностей людей. Они могут иметь формальную (т. е. определенную закрепленными функциями и связями, правами и обязанностями, инструкциями, отношениями координации и субординации, средствами контроля и стимулирования) и неформальную (основанную на межличностных взаимоотношениях) организационную сторону деятельности.
При рассмотрении НЦС под этим углом зрения выявляется динамика развития форм организации НЦС, каждая из которых проходит путь от нерегулярной случайной общности людей (типа «тусовки») до формирования социальных институтов, являющихся наиболее развитой формой организации НЦС. Характерными чертами социальных институтов являются:
— то, что они возникают на стадии достаточно дифференцированной общественной практики, когда на основе разделения труда выделяются НЦС, связанные с достижением социально значимых целей;
— то, что в этих НЦС доминирует формальная сторона организации, закрепленная в специальных положениях, уставах и т. д., регламентирующих функционирование систем;
— то, что функционирование таких систем обусловлено сложившимися экономическими, правовыми и социальными отношениями.
Первопричина динамики и дифференциации НЦС социальной практики — разделение и специализация этой практики, обусловленные развитием цивилизации. Действие этой причины проявляется в трех основных аспектах институционализации НЦС: во-первых, в способе осмысления действительности, осуществляемого в данной НЦС, ее смысловом ядре; во-вторых, в способе и уровне организации взаимодействия участников данной системы, т. е. ее социальной организации;
и в третьих, в отношении данной НЦС к среде, т. е. к другим, внешним по отношению к ней НЦС.
Смысловой и социально-организационный аспекты развития знания и осмысления. Особую роль играют взаимодействие и взаимосвязь указанных факторов становления и развития НЦС. До самого последнего времени наука, искусство, политика и другие формы «общественного сознания» изучались философией, тогда как их социально-организационный аспект изучался социологией науки, социологией искусства ит. д.
Разрыв в рассмотрении смысловых и социально-организационных сторон социальной деятельности приводит к существенным методологическим трудностям. Так, рассмотрение смысловых структур при отвлечении от социально-организационных аспектов чревато в методологии науки интернализ-мом, в искусствознании — формализмом, в политике — догматизмом. При этом социальная сторона явлений сводится к отношениям коммуникации, т. е. информационному взаимодействию, осуществляемому на языковой основе — передаче и воспроизведению смыслового содержания — не более.
Однако существование и развитие определенных видов деятельности не могут объясняться только с точки зрения их социальной организации: объяснение динамики науки не сводимо к экстерналистским моделям, а развитие искусства — к «социальному заказу». Уже давно отмечена соотносительность решений (в научной, политической и любой другой деятельности), являющихся процессом и результатом концептуальной деятельности сознания, и решений организационных, необходимых для реализации первых. Аналогично не может браться в отвлечении от смысловой и социальноорганизационной сторон третий аспект, связанный с проблемой социальной значимости определенного вида деятельности как оценки ее со стороны общества, обеспечивающего эту деятельность материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.
Смысловой (феноменологический, методологический и т. п.) и социально-организационный факторы взаимодо-полняют и взаимопровоцируют друг друга. Их динамическая взаимосвязь предстает «историей» формирования и развития соответствующих нормативно-ценностных систем — от объ
единения людей, связанных общностью целей и осмысления, к зрелым и разветвленным социальным институтам, в которых эти цели и осмысление закрепляются как социально значимые и нормативные.
Так, смысловой и социально-организационный аспекты развития науки не противостоят друг другу, а дополняют и взаимопредполагают друг друга в органическом единстве. Будучи целевыми общностями, НЦС объединяют людей в формальные и неформальные организации в целях некоторой практической деятельности. Предпосылкой и условием успеха этой деятельности является относительно единый, когерентный способ осмысления действительности всеми участниками деятельности. Смысловой аспект институционализации НЦС выражается в некотором нормативном понимании, которое определяет не только общность цели деятельности, но и общность восприятия предмета деятельности, его анализа и т. п. Когерентное понимание (осмысление) наличествует в любой НЦС. Различия заключаются только в форме и степени его выраженности. Это может быть и простая общность психологической установки, и не вербализуемое «цеховое» знание, и формальная экспликация в виде учебников, манифестов, положений, программ. Когерентное понимание задается социальными значениями, т. е. общностью целей, предмета и правил деятельности.
Способам осмысления действительности соответствуют «сгущения» людей, занятых ее освоением в данном виде деятельности. Поэтому организация деятельности в каждый момент времени соответствует достигнутому обществом объему и специфике освоения мира, характеризует степень разделения и специализации.
Стадии институционализации осмысленного знания. Взятая как процесс динамика институционализации НЦС в единстве ее смыслового и социально-организационного аспектов осуществляется в несколько стадий.
1. Стадия выработки нового осмысления. Характеризуется минимальной степенью организации. Коммуникация участников носит спорадически случайный и во многом личностнодоверительный характер.
2. Стадия выработки когерентного понимания (коалиция). Характеризуется несколько большей устойчивостью связей
и отношений между специалистами, которые начинают выделять себя как группу единомышленников. Подобная избирательность в общении «уплотняет» коммуникацию, хотя само общение носит слабо регламентированный характер — типа научной «тусовки».
3. Стадия парадигмы. Общение начинает носить систематический характер семинаров, конференций, переписки, обмена научными материалами на ранних стадиях (рукописи, препринты, заявки). Делаются попытки выработать программные материалы, прорваться в СМИ. Выдвигаются лидеры мнений. Примером этой стадии в науке являются «невидимые колледжи».
4. Стадия сплоченной группы (ассоциации). На этой стадии когерентное понимание уже фиксируется участниками деятельности в явной форме программного заявления. Коммуникация становится все более ограниченной рамками группы, в которой выделяются признанные лидеры, между которыми может существовать разделение сфер влияния. Лидер выступает центром, вокруг которого формируется группа. Именно он обычно выступает с программным заявлением, обеспечивает селекцию и интерпретацию информации. Важным моментом на этой стадии являются успех и социальное признание. Они свидетельствуют о развитии группы и обеспечивают социальный престиж (имидж) ее деятельности, а значит, и постоянный приток сторонников и учеников. Привлечение учеников достигается, как правило, с помощью пропагандистской и популяризаторской деятельности, public relations, осуществляемых обычно либо самим лидером, либо под его контролем. Этой цели могут служить СМИ, периодические издания, постоянные семинары, конференции. Нередко создаются специальные центры (школы, курсы) подготовки специалистов в данной области. Явным становится отличие деятельности данной группы от материнской НЦС: группа становится либо элитарной, ведущей в материнской НЦС, либо «мятежной», отвергающей ортодоксальные установки. Причем во втором случае деятельность группы может оказаться либо тупиковой, либо дать начало новой традиции. По некоторым оценкам, для «прорыва» старой традиции в науке необходима группа около 20 человек, а для создания новой традиции — от 500 до 1000 человек.
5. Стадия профессионализации. На этой стадии в НЦС фиксируется формальная организационная структура. НЦС становится специальностью (профессией) и обеспечивает не только подготовку учеников, но и их трудоустройство посредством открытия новых должностей или переориентации старых, создания трудовых коллективов. На этой стадии нередко образуется расслоение лидерства на формальное (по должности) и неформальное. Институционализация НЦС как профессии определяется следующими главными особенностями: (1) профессиональной ответственностью за производство, хранение, передачу и использование соответствующих социальных значений; (2) автономностью профессии в деле привлечения новых членов, их подготовки, повышения квалификации, контроля за их деятельностью; (3) установлением между данной НЦС и ее социальным окружением таких отношений, которые обеспечивали бы ей поддержку и охрану от непрофессионального вмешательства, важной становится роль известных (широкой общественности) ученых, репрезентирующих свою сферу в глазах публики и общественного мнения, СМИ; (4) стимулирование деятельности профессионалов на основе оценки качества их деятельности с точки зрения других профессионалов-экспертов. Стадия профессионализации характеризуется полной организационной вооруженностью НЦС вплоть до писаного кодекса поведения (устава, положения, должностных инструкций), статуса юридического лица (счет, финансирование и т. п.), высокой степенью упорядочения координационных и субординационных отношений (самостоятельное юридическое лицо или подразделение типа отдела или лаборатории в существовавшей структуре). Все прогрессирующая рутинизация деятельности зачастую приводит к формированию в ее недрах нового смыслового сдвига, развитие которого может привести к дальнейшей дивергенции системы.
Совсем не обязательно, чтобы каждая НЦС проходила все указанные стадии институционализации. Возможна стагнация на каждой из указанных стадий. Далеко не каждой НЦС удается развиться даже в стадию сплоченной группы, не говоря уже о наиболее развитой стадии профессионализации. Процесс институционализации НЦС, взятых в единстве смыслового и социально-организационного аспектов, можно представить в виде схемы:
Факторы развития
Стадии развития
Иде^ <-----------------
Общение ----------------------->Общее понимание, группа
единомышленников
I
Регулярное, малоупорядоченное —> Первичная «тусовка» общение
Регулярная коммуникация, ^Когерентное понимание
выдвижение лидеров, вербовка (парадигма), «невидимый учеников и сторонников, программа
Успех, социальное признание > Сплоченная группа
Юридическое лицо (устав, —Социальный институт, положение, счет, финансирова- профессионализация
ние) рутинизация деятельности
Новый сдвиг в осмыслении
колледж»
В науке базовой НЦС исходной единицей развития выступает научная дисциплина, выражающая связь конкретной предметной области с возможностями ее исследования специалистами. Именно в дисциплине находит свое воплощение единство смыслового и социального аспектов институционализации НЦС науки.
Роль смыслового и социально-организационного аспектов институционализации в их динамике различна. На первых этапах ведущую роль играет смысловой аспект, на поздних — социальный. Формирование направлений, в том числе и тех, которые становятся впоследствии дисциплинами, осуществляется зачастую на начальных этапах так называемыми «маргиналами», «фанатиками-неудачниками», дилетантами — там, где нет дисциплины, специальности, не может быть и специалиста в строгом смысле слова. Однако раз возникшее осмысление неизбежно вызовет те или иные формы социальной орга
низации лиц его разделяющих, вплоть до той или иной степени «борьбы за чистоту рядов». Разумеется, возможна ситуация, когда достаточно развитый организационный аппарат объединяет людей, не разделяющих единое осмысление, но это лишь будет свидетельством, что у истоков такой социальной организации некогда стояло когерентное осмысление «отцов-основателей».
Вокруг смыслового ядра НЦС выстраиваются структуры социальной институционализации, которые могут быть ранжированы от простейших межличностных отношений до развитых социальных институтов данного общества. Собственно смысловой аспект институционализации может рассматриваться как первоклеточка социально-организационной институционализации, как ее начальная стадия. Смысловой и социально-организационный аспекты институционализации НЦС выражают различные стадии зрелости и становления деятельности, лежащей в основе социальных значений, причем стадии, реализующие все смысловые уровни социального опыта. Поэтому институционализированные формы осмысления, рутинизированные в некоторые профессии, специальности и дисциплины, представляют собой отлившиеся в институционные формы социальной организации виды осмысления. С этой точки зрения каждое научное понятие — это интеллектуальный зародыш научно-исследовательского института или лаборатории, а последние суть институционализированные понятия.
Динамика НЦС предстает развитием от осмысления на уровне личностного смысла (или личностных смыслов — на уровне когерентного понимания) к формированию социального значения, вплоть до полной институционализации программы социальной деятельности, лежащей в ее основе. Речь идет не о «первичности» источников осмысления, якобы лежащих в глубинах индивидуального сознания (сознание суть интериоризированная социальная практика), а в выявлении соотношения индивидуально-личностного и социального, их взаимообусловленности и взаимопроникновении.
Глава 5
ПОЗНАНИЕ И ЖИЗНЬ
Жизнь, считавшаяся в античной философии полем приложения философии, стала каким-то неприятным казусом для современной теории рациональности. Древнегреческие философы обращались к изучению бытия для того, чтобы управлять жизненными практиками, тогда как современные мыслители явно пасуют перед непостижимостью жизни. В. С. Соловьев писал, что если бы на вопрос, что есть истина, был дан ответ, что сумма углов треугольника равна двум прямым, то разве не было бы это дурной шуткою. А между тем именно такие ответы наука только и может дать на смысложизненные вопросы.
И все-таки, несмотря на отказ науки давать ответы на прямые жизненные вопросы, невозможно не замечать ее все возрастающего воздействия на человеческое существование. Парадоксально, что герменевтика, претендующая на сохранение и развитие человеческих традиций и ценностей, культивирующая дискурс о духовном, тем не менее оказывает все меньшее влияние на жизнь, а наука, описывающая мир абстрактных теоретических объектов, изменяет ее во все более возрастающих масштабах.
Весьма непросто складываются отношения философии и жизненной практики. Первые философы охотно давали советы, касающиеся достижения мудрости, умеренности, добродетели, и считали наиважнейшим достоинством практичного человека рассудительность. Сегодня философия не в силах дать прямой ответ на какой-либо смысложизненный вопрос, хотя при этом советы и рекомендации охотно раздают ученые и астрологи, психотерапевты и шарлатаны.
В том, что философия уже не обращается к разрешению смысложизненных проблем, проявляются осторожность и ответственность, связанная с осознанием границ разума и возможностей философской рефлексии. Мышление диктует
жизни свои законы и поэтому неизбежно стремится уложить ее в прокрустово ложе своих категорий. Сегодня, когда вера в разум заметно пошатнулась, философия уже не призывает к немедленной практической реализации логических возможностей и, указывая на предельные основания бытия, ничего не меняет в мире. Да и кто услышит ныне тихий голос философа, заглушаемый мощными пропагандистскими машинами политических партий, средствами массовых коммуникаций, рекламирующих явно ненужные, но необходимые для загрузки промышленных предприятий продукты.
Вместе с тем нельзя безапелляционно заявлять, что философия больше не связана с жизненной практикой. Конечно, она не навязывает целевых, направляющих указаний, которых от нее по старинке ожидают общественность, политики и даже ученые, обычно наиболее активно выступающие за эмансипацию в сферах онтологии, теории познания и методологии науки. Но, не давая советов как стать счастливым и богатым, какие политические, научные или технические решения следует немедленно реализовать, чтобы улучшить положение людей, философия не перестает спрашивать о том, что есть истина и жизнь и в чем состоит их смысл. Такие вопросы считаются если не безумными, то странными: как философы могут сомневаться в смысле бытия, в существовании внешнего мира, в достоверности знания и ценности жизни, на каком основании они провозглашают то непознаваемость мира, то смерть Бога, истории, человека и, наконец, что воспринимается положительно, самой философии? Между тем такие сомнения имеют положительное значение, так как ставят под вопрос устоявшиеся, кажущиеся естественными и неопровержимыми убеждения, на самом деле рационально не обоснованные и никем эмпирически не проверенные. Жизнь опирается на огромное число достоверностей, которые все же не могут быть доказаны научным путем, ибо сама наука опирается на веру в существование внешнего мира, в объективность знания, в наличие закономерных связей, причинно-следственных отношений и т. п. Философия не может доказать всерьез своих собственных оснований, и, вероятно, именно это удерживает ее от призывов к изменению мира. Чувствуется какая-то нефундаменталь-ность, беспочвенность мыслителей и отсюда неуверенность в том, что касается руководства действиями. Не радует и несомненная ангажированность, отчетливое понимание того, что
философия действительно имеет самое непосредственное отношение к управлению государством, которое она оправдывает ссылками на рациональный или онтологический порядок. Вместе с тем, открывая все это, интеллектуалы заявляют о смерти метафизики как науки о «последней сути всех вещей».
Именно в этих противоречивых метаниях и поисках лучше всего, хотя и не доходчиво, раскрывается захваченность философии жизнью, и именно в самоотречении от своего высокого академического статуса философия наиболее близко соприкасается с жизнью. Отказываясь от башни из слоновой кости, философ из внешнего наблюдателя становится участником жизненного мира. Но именно эта непосредственная близость порождает новые неожиданные трудности. Признавая жизненный мир своим фундаментом, философия вынуждена принять его таким, каков он есть, и снова попадает в заколдованный круг рефлексии и обоснования. Не случайно отказ от претензии разума диктовать жизни свои законы, стремление вывести изменение рациональности из флуктуаций творческих жизненных актов сопровождается критикой способности рефлексии.
Выходом из этого затруднения может быть не односторонний отказ от разума в пользу спонтанности жизни, а пересмотр самих различий. Если разум не является самообоснованным, то и жизнь не лишена своего порядка. Увидеть рациональность там, где ее обычно не замечали в жизни, в человеческом сердце, в его страстях и желаниях — это и значит философски постичь жизнь.
§ 1. Познание и практика (познание как общение)
Философия практики имеет две различные, но взаимосвязанные парадигмы. Одна из них связана с трактовкой практики как «материальной чувственной деятельности» человека, а другая — как «отчуждения», когда продукты человеческого творчества порабощают самого создателя. Оба эти положения, составившие философскую основу экономической теории К. Маркса, сегодня считаются общепризнанными. Между тем они не признавались в догматическом марксизме, поскольку не оставляли за пределами практики никакой «действительности», ибо она включает в себя природу, общество и познание в их единстве
с человеком. Практика действительно оказывается своеобразным горизонтом всех горизонтов, становится универсальной основой технического освоения и теоретического понимания мира. И вместе с тем она выступает как форма проявления сути бытия, так и своеобразная преломляющая призма. Узкопрактический интерес, установка на покорение и преобразование природы искажают не только бытие, превращают его в предмет или сырье промышленного производства, но и самого субъекта. Это только кажется, что практика выступает нейтральным способом существования человека, средством его бытия в мире и удовлетворения потребностей. На самом деле она требует глубочайшего преобразования его телесной природы и духовных ценностей. Поэтому философский анализ практики не сводится к утопическим поискам новой формы абсолютного действия или простой замене разума практикой и жизнью. Практическая философия предполагает изучение не столько дискурсов о практике, сколько тех реальных дисциплинарных воздействий, которые та или иная конкретно-историческая форма практики производит относительно занятого ею человека.
Каким становится человек, втянутый в те или иные исторически эволюционирующие практики? Как эти недискурсивные воздействия определяют тело и разум субъекта? Все эти вопросы заставляют рассматривать практику не с узко-технологической или методологической точки зрения, когда она рассматривается как форма реализации и проверки теории, но в более широком культурном, а точнее — цивилизационном аспекте.
Познание и процесс цивилизации
Представления о культуре и цивилизации оказались настолько слитыми, что утратились их специфические особенности и различные функции. Это связано с пониманием цивилизации как материальной составляющей культуры, в крайнем случае как рационально-овеществленной, инструментально технической ее стороны. В таком ракурсе наука выступает как инструментальное действие и вместе с критикой научно-технической цивилизации как установки на покорение природы, общества и самого человека подлежит осуждению, а в леворадикальном дискурсе даже изгнанию.
Между тем цивилизационный процесс не ограничивается техническими изобретениями и комфортом. В самом широком смысле он может определяться как порядок и предполагает организацию человеческого бытия в соответствии с гармонией космоса (как в античности), с божественными заповедями (как в Средние века), с принципами разума (как в новое время). Эта организация не исчерпывается порядком знания или власти, а предполагает дисциплину духа и тела, и, таким образом, цивилизационный процесс не остается в сфере идей или внешних институтов, а протекает в душах людей, реализуется как форма контроля и управления за своим поведением, образом мысли, речью, переживаниями и т. п.
Обычно считается, что наука не имеет отношения к этим внутренним психическим практикам и забота о душе — это задача разного рода учителей, наставников и мудрецов, священников, моралистов и литераторов. Однако к числу парадоксов современности относится и тот, что традиционный гуманитарный дискурс о человеке выполняет не только ту функцию, которая ему приписывается. Возвышенный и благородный, критический и обличающий, претендующий на истину и морализирующий, сегодня он влияет на человека в неизмеримо меньшем масштабе, чем незаметные, но всепроникающие онаученные советы, консультации, оценки и рекомендации, которые разработаны чуть ли не на все случаи жизни. С одной стороны, наука отказалась от притязаний на решение загадок жизни, и, как отмечал Л. Витгенштейн, «если бы даже были получены ответы на все возможные научные вопросы, наши жизненные проблемы совсем не были бы затронуты этим».1 С другой стороны, отказавшись от жизненного мира как от фундамента (это, по Гуссерлю, главная причина кризиса современной культуры), она, как ни странно, стала влиять на жизнь в неизмеримо большем, чем прежде, масштабе. Философия и гуманитарное знание на словах призывают к обращению к проблеме человека и в то же время постепенно отказываются от гуманизирующего дискурса и все чаще говорят о смерти Бога, субъекта, автора и самого человека. При этом бросается в глаза то обстоятельство, что оставшиеся правоверными гуманитарии, которые занимаются реконструкцией идеи человека и вырабатывают благородный и возвышенный язык о человеческих ценностях,
1 Витгенштейн Л. Философские работы. М., 1994. С. 72.
о месте и назначении человека, обличают пороки современной научно-технической цивилизации и призывают к высоким идеалам, выполняют вовсе не ту функцию, которую они себе по старинке приписывают. Разговоры о высоком назначении человека и об ответственности, конечно, в какой-то мере способствуют воспитанию чувствительных натур, однако при этом они притупляют бдительность к тем оставленным вне поля внимания морализирующего автора факторам, которые воздействуют на человеческую жизнь. Ведь известно, что такие разговоры нередко камуфлируют неприглядную действительность и лишь создают впечатление того, что кто-то взял на себя заботу об улучшении человеческого рода.
В связи с этим возникает интересная в теоретическом отношении и актуальная в практическом значении задача исследования роли науки в общецивилизационном процессе. Она участвует в нем не как малопонятный теоретический дискурс, а как форма повседневности, как реальная практика производства «человеческого» в культуре. Наука как институт обеспокоена не только производством знания, но и своей собственной жизненной проблемой — производством субъекта, способного к поискам истины. И поскольку в процесс открытия, сохранения, передачи и применения знания втянута значительная часть людей, не должен вызывать удивления тот факт, что школа и просвещение становятся общеобязательными. Эти институты не исчерпываются функцией образования. На самом деле они выполняют роль производительных и дисциплинарных пространств, в которых происходит превращение школьника и студента с его органическими склонностями к свободе, смеху, с его инфантильными желаниями в личность, способную к усидчивости и вниманию. Школьник — это аскет, подвиг которого сопоставим с терпением христианских подвижников. Таким образом, школа и университет, институт и лаборатория — места не только для обучения, но и для преобразования тела и духа. Поэтому, когда некоторые гуманитарии утверждают, что наша цивилизация, сделавшая ставку на преобразование и покорение природы, лишена внутренней психотехники изменения самого себя, и призывают к изучению восточной или христианской практики аскезы, они не совсем точны. В действительности европейская цивилизация не так беспечна и уже давно взяла на себя как важную общественную проблему миссию создания человека, думающего, пере
живающего и желающего так, как это нужно для сохранения общества. И даже Россия, где люди чувствительны, совестливы, но при этом лукавы и необязательны, вовсе не является нецивилизованной страной. Можно говорить о различиях сетей порядка, но не об их отсутствии.
Культура определяется как система организации и развития человеческой жизнедеятельности, включающая способы производства, взаимодействия с природой, межличностного общения, познания и духовного творчества. Первоначально культура понималась как воспитанность, и на этом основании греки отличали себя как цивилизованный народ от варваров. И позже в Средние века и эпоху Возрождения культура определялась как цивилизованное поведение, основанное на соблюдении законов, как наличие гуманитарных знаний и владение искусствами. Век Просвещения делает упор на рациональность, а воспитание сводит к познанию и управлению на основе разума страстями души. В это же время зарождается критика рационального образа культуры и возникает лозунг «Назад к природе!» Разумеется, речь шла о природе как идеале культуры, т. е. о некой идеальной жизни в естественных условиях обитания. Такая ориентация способствовала преодолению европоцентристского определения культуры и изучению обычаев так называемых нецивилизованных народов. В ходе этого критиковалось сведение культуры к рационально-техническим достижениям, и вводились более широкие критерии культурности. Культура стала пониматься как система способов обеспечения основных потребностей человека. Инстинкты, сформировавшиеся в ходе эволюции, подвергаются в человеческой истории разностороннему контролю и облагораживаются посредством сначала мифа и ритуала, затем социальных норм, обычаев и институтов семьи, права, собственности, государства.
В современной культурной антропологии выделяются основные потребности человека: 1) физиологические потребности в пище, воде, воздухе, движении, отдыхе и т. п.; 2) потребности в безопасности и защите от посягательств на собственность и семью; 3) потребность в сопричастности, любви и солидарности, в благополучии и уверенности за свое существование; 4) потребность в уважении к себе со стороны окружающих и в самоуважении, проявляющаяся в стремлении к независимости; 5) потребность в самоактуализации, благодаря которой реализуются творческие потенции человека; 6) к этим основ
ным потребностям добавляются еще чисто духовные стремления к знанию, красоте, добру.
Во всякое время во всех культурах люди, удовлетворяя свои потребности, стремились их цивилизовать и при этом открыли отчасти универсальные (одежда, жилище, питание, игра, труд, язык), отчасти локальные (мифы, верования, ритуалы, традиции и обычаи) способы организации жизни. Развитие человечества несомненно связано с фундаментальными движущими силами культуры, которые проявляются уже в мифе и культе, праве и порядке, общении и предпринимательстве, ремеслах и торговле, поэзии и философии. Известно, что далеко не все народы сумели реализовать себя в той форме, которая присуща европейцам. Однако и их культура, несмотря на высокую динамичность, не лишена недостатков. Односторонняя ориентация на научно-технический прогресс привела к опасности разрушения природной основы культуры. Овладев природными силами, современный человек гораздо хуже владеет своими желаниями, чем прежде, он утратил духовное единство с окружающим миром и попал под власть им же самим созданных технических, экономических и политических систем. Намечающаяся опасность кризиса современной культуры, осознание узости ее границ, ранее казавшихся чрезвычайно широкими, предполагают критический пересмотр некоторых устоявшихся представлений и более чуткое отношение к иным культурам, прежде расцениваемым с точки зрения европоцентризма как несовершенные.
До настоящего времени остается распространенным разделение культуры на материальную и духовную, хотя все более ясным становится осознание того, что продукты физического труда представляют собой материализацию идей, потребностей, ценностей и идеалов людей, а последние, в свою очередь, создаются не произвольно, а в контексте созданного человеком окружающего мира. «Материализация» духовной культуры не сводится к техническому творчеству, ибо включает то или иное воплощение социально-политических, нравственных, эстетических, религиозных и иных идеалов. Единство материального и духовного в культуре можно прояснить на простом примере. Как известно, общественный прогресс сопровождается изобретением все более точных механизмов отсчета времени. Однако сами по себе часы без точно следующих их показаниям людей ничего не значат: можно иметь самые лучшие
часы и всегда опаздывать. Поэтому время в культуре неотделимо от душевной жизни, планирование и распорядок которой вызывают потребность в соответствующем механизме. Часовой механизм претерпел эволюцию, для понимания которой являются значимыми как успехи промышленности, так и необходимость все более детального подсчета и контроля в экономической и социальной жизни. Борьба за время, таким образом, характеризует не только технику, но и политику: сначала церковь (ударами церковного колокола), а затем светская власть (боем башенных часов) и предприниматели (фабричным гудком) определяли распорядок жизни. И сегодня наручные часы остаются лишь панелью, за которой скрывается невидимая сеть зависимостей и обязанностей, которой опутан человек.
Отличительной особенностью человека является существование в символической среде, которая характеризуется не столько физическими, сколько социальными параметрами и масштабами. Наличие символической метрики обнаруживается во всех феноменах человеческого мира: одежда прикрывает тело от холода и одновременно выполняет дисциплинарные функции, выражает социальное положение. Даже современная мода при всей ее свободе выполняет репрессивную роль регулятора человеческого поведения. Аналогичное символическое значение имеет человеческое жилище, устройство которого обусловливается не только потребностью в физическом выживании, но и общественными представлениями о богатстве, славе, влиянии его владельца.
Таким образом, такое изначально понятное слово «культура» приобретает неожиданную сложность, ибо включает как материальное, так и идеальное содержание. Русский историк Н. Я. Данилевский, исходя из единства этих аспектов, предложил теорию культурно-исторических типов, которая была подхвачена немецким историком культуры О. Шпенглером. В своей когда-то нашумевшей книге Шпенглер выявил творческую и механическую фазы развития. Определяя культуру как мощный душевный порыв, как страстную борьбу за утверждение идеи против внешних сил хаоса, он противопоставлял ее цивилизации как застывшей системе культурных достижений, препятствующих творчеству.1
1 Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1991. С. 172.
В неклассическом определении культуры противопоставление чувственного и рационального если и не преодолевается, то переворачивается. Сфера эмоционального оказывалась в прошлом как бы вне культуры. Чувственность считалась данной от природы и подлежащей исключительно подавлению на основе рациональности. Вместе с тем всякая культура предполагает культуру чувств, которые не остаются неизменными, а облагораживаются и цивилизуются, используются для достижения рациональных целей и идеалов. Человеческие эмоции и рациональные планы тесно переплетены друг с другом, и поэтому можно говорить о «психологизации» разума и «рационализации» чувственности как о взаимосвязанных сторонах исторического процесса, который выражается в установлении единого порядка. Этот порядок не создается сверху усилиями философов, но и не возникает спонтанно. Дифференциация жизни, появление различных сословий, централизация власти — все это приводит к тому, что телесное насилие и личная зависимость постепенно уступают место праву как форме организации жизни. И хотя право также первоначально связано с насилием, надзором и наказанием, постепенно все большее значение в обществе придается самодисциплине и ответственности. Так возникает важная задача самоорганизации внутренней душевной жизни, управления своими чувствами, желаниями и аффектами.
То, как решалась эта задача, совершенно пропущено теми историками, которые опирались на узкорационалистическое определение культуры. Механически отделяя духовный и технический компоненты, они дали повод последующему противопоставлению «культуры» и «цивилизации». На самом деле цивилизация не сводится к научно-техническим или экономическим достижениям. История культуры обнаруживает медленную и кропотливую работу, направленную на самоконтроль поведения, сдерживание порывов чувства, следование правилам.
Важную роль в этом цивилизационном процессе выполняют не только наставники юношества, воспитатели и педагоги, но и благородные сословия, творчески формирующие стиль сдержанного поведения, которое характеризуется правильной речью, хорошими манерами и учтивостью. Если в Средние века цивилизованное поведение охватывало незначительную часть населения, в основном придворное общество, то после
перехода власти от военного (рыцарского) сословия к гражданскому (буржуазному) этос — манеры и стиль поведения благородного сословия — распространяется на более широкие слои населения. Вместе с тем буржуазное общество преобразует рыцарский и дворянский этос на основе более рационального планирования, расчета и тем самым увеличивает человеческую дальновидность. Такая сдержанность, снявшая эксцессы, имевшие место прежде, стала источником новых проблем. Сегодня человек уже не может непосредственно разряжать напор страстей, и поэтому возникает сильное напряжение между его внутренним Я и теми требованиями, которым он вынужден подчиняться. Общество пошло по пути изобретения разного рода компенсаторных способов разрядки (спортивные зрелища, дискотеки и т. п.), но они не освобождают человека от беспокойства и заставляют его прибегать к разного рода наркотикам, стимулирующим искусственные желания. Поэтому создание эффективных способов эмансипации нашего психического аппарата остается важнейшей задачей современной цивилизации.
Одной из эффективных форм моделирования человеческого поведения всегда было искусство и особенно художественная литература. Читатель художественного произведения не только получает наслаждение от текста, не только погружается в некий идеальный мир, свободный от давления повседневных забот, но и учится видеть, оценивать и переживать окружающий мир так, как это делают его любимые герои. Историки духовной культуры издавна обращали внимание на цивилизующее воздействие литературных героев, задающих высокие образцы для подражания. Воспитанные на книжности, они не смогли понять и принять тех новых форм массового искусства, которые получили распространение в XX столетии. В результате возникло противопоставление массовой и элитарной культуры.
Культура в классическом обществе понималась как освоение высших образцов духовности, достигнутых в науке и искусстве. Ярким проявлением этого могут служить аристократические салоны XVIII в., где обсуждались не только книги, картины и музыкальные произведения, но и изучались, например, «Математические начала натуральной философии» И. Ньютона. Демократизация культуры началась, однако, не в XX столетии, как утверждают современные критики массовой культуры, а гораздо раньше. Она связана с переходом от фео-
дальнего общества к буржуазному, в процессе которого произведения искусства стали выставляться не только в замках, где они демонстрировали высокий социальный статус их владельца, но и в городских галереях. Становление общественных выставок, театров, концертов привело к расширению художественной публики, обсуждавшей произведения и выдвигавшей свои требования, которые потом стали культивироваться и фиксироваться художественными критиками. Совершенствование средств массовых коммуникаций и, в частности, появление книгопечатания, а затем распространение газет и журналов привело к формированию общественного мнения, которое стало определять характер научного, философского и художественного творчества. Язык произведений XVIII и XIX столетий становится более общепонятным, а содержание этих произведений удовлетворяет прагматическим критериям и жизненным требованиям.
Таким образом, философия разума имеет почву в цивилизационных изменениях, которые произошли в Западной Европе при переходе от средневекового общества к капиталистическому. Торговля и предпринимательство создали нового субъекта — Homo Economicus, наделенного автономностью, агрессивностью, конкурентоспособностью и т. п. качествами, необходимыми для деятельности в новых условиях жизни. Эти качества пришли в глубокое противоречие с принципами религиозности, требовавшей сострадания, единства, равенства, любви, всепрощения и т. п. Все это были не только лозунги или идеи, но прежде всего жизненные формы, практически реализованные в душе и теле человека институтами воспитания и образования, а также реальными дисциплинарными пространствами, в которых жил человек.
В стенах христианского храма культивировался сердечный, душевный человек, прощавший врагов, любивший близких и дальних. Напротив, на территории рыночной площади вырабатывались агрессивные качества, и человек выступал в каком-то дьявольском обличье. Очевидно, что европейская цивилизация, чтобы сохраниться, должна была открыть какие-то новые способы примирения автономности и единства. Местами их реализации стали общественные театры, выставки, концерты, а также журналы и газеты, кофейни и пивные, где собиралось новое общественное тело, отличавшееся от того, которое формировалось на основе религиозных
процедур обращения, крещения, евхаристии, молитвы, исповеди и др.
Собиравшаяся во вновь создававшихся общественных местах публика состояла не только из представителей разных сословий, но и из людей, наделенных различными вкусами и пристрастиями. Будучи зрителем спектакля или читателем романа, вступая в обсуждение и критику художественных произведений, она производила то, что называлось здравым смыслом, рассудком и коллективным разумом общественности. Таким образом, новая философия разума вовсе не была продуктом спекуляции, а отражала практические изменения и, в частности, появление институтов свободной общественности, которые объединяли людей постепенно распадавшейся религиозной общины в социальный организм, где выполнение индивидами различных общественно полезных функций, обмен продуктами своего труда дополнялись и новыми духовными узами. Члены общества имели определенные права и обязанности. Последние уже не были «льготами», «дарами» или «вольностями», а именно рационально обоснованными, неотчуждаемыми правами личности.
В XX в. своеобразным неврозом интеллигенции стал феномен омассовления. Чертами массового человека Ортега-и-Гассет считал, кроме ревнивого чувства равенства, ограниченную самоуверенность, пошлость, способность судить обо всем, стремление к комфорту, отсутствие сдержанности и самодисциплины. Массовый человек представляет серьезную угрозу культуре. Ортега-и-Гассет писал:«Культуры нет, если нет основ законности, к которым можно прибегнуть. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство».1
Выступление толпы, массы на арену истории было непредвиденным, но не случайным. Действительно, теория рынка и философия разума не предусматривали возможность объединения автономизированных и конкурирующих индивидов на основе иррациональных порывов воли и коллективной
1 Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика, философия культуры. М., 1991. С. 323— 324.
агрессии. Между тем именно это продемонстировали революции в Париже и в других европейских городах. Чтобы понять, как это стало возможным, как иррациональные желания подавляли рациональность автономных индивидов и сливали их в дикое стадо, мгновенно возникающее и столь же быстро распадающееся после очередного жертвоприношения, необходимо учесть не только некие врожденные, якобы унаследованные от животных инстинкты разрушения и насилия, но и те изменения на уровне знания и организованные на его основе дисциплинарные пространства, которые культивировали непредвиденные качества.
Прежде всего необходимо отметить открытие систем кровообращения дыхательных и нервных путей в медицине. Дело в том, что метафоры Гарвея использовали Адам Смит, а также архитекторы, перепланировавшие запутанные средневековые города в новые мегаполисы с длинными улицами, широкими площадями и системами коммуникации. Просторные площади и парки трактовались как легкие города, а улицы как его кровеносные артерии. Но задуманные как места для неторопливых променадов или быстрых сообщений эти пространства оказались идеальными и для скопления больших масс людей. Трудно представить себе огромную толпу на улицах средневекового города. Изменился и характер зрелищ. В частности, изобретение гильотины и проведение казней на больших площадях казалось более гуманным и быстрым, ибо освобождало жертву от бессмысленных мучений. Однако протекало при значительном скоплении народа, возбуждая, но не удовлетворяя при этом вспыхивающую жажду агрессии. Если вдуматься, то причины голода и так называемые хлебные бунты — эти грозные предвестники революций — необъяснимы с точки зрения теории рынка. Во-первых, хлеб был в наличии, но цена на него вовсе не определялась законом спроса и предложения, а также теми затратами, которые были необходимы для его производства. Во-вторых, рынок не обеспечивал справедливости, и народ вынужден был апеллировать к королю. Не удивительно, что толпа людей по широким улицам и площадям города двигалась по направлению не к рынку, а дворцу и громила по дороге лавки. Эти стихийные движения, так испугавшие представителей философии разума, что в XIX в. они почти без боя начали сдавать свои позиции иррационализму, были на самом деле не чем иным, как порождением той рациональности, которая
оказалась практически воплощенной в каменном строительстве больших городов, в институтах труда, рынка, развлечения и т. п. форм жизни XVIII—XIX столетий. Поэтому сам по себе протест против омассовления жизни мало что значит, он становится действенным тогда, когда сопровождается позитивной работой по реорганизации дисциплинарных пространств повседневности.
Разумеется, Ортега прав, говоря об организующих, цивилизационных функциях культуры и искусства. Вместе с тем следует задуматься: о каком же, собственно, порядке идет речь? Действительно, классическое общество опиралось на жесткие правила и нормы, законы и разного рода неписаные традиции, упорядочивающие человеческое поведение, но они вовсе не предоставляли простора развитию индивидуальности. Конечно, и современные, кажущиеся разнообразными, удовлетворяющими любые вкусы и потребности мода, литература, пресса, на самом деле задают жесткие и к тому же идеологизированные стереотипы поведения. Однако распад единообразного порядка, признание различных стандартов рациональности, характерные для больших современных городов, создают более благоприятные условия для творчества и индивидуальных форм жизни. Новые формы коммуникации, релятивизация представлений о рациональности, эстетических и даже этических требований выдвигают перед деятелями культуры новые задачи. Они утрачивают право думать или творить за других, утрачивают свое право на единоличное владение культурным капиталом, вынуждены действовать в условиях конкуренции и учитывать потребности масс.
Основанием пессимизма в отношении современности выступают не только утрата некоторых достижений прошлого, но и слишком узкие представления о культуре как о высших произведениях духа. Важнейшие изменения в современных представлениях о культуре произошли в результате изучения образа жизни так называемых диких народов, подвергнутых колонизации, и выявления основных универсалий культуры, в которые вошли как знания и духовные достижения, так и казавшиеся экзотическими и загадочными традиции и стереотипы, верования и ритуалы. Это способствовало пониманию значимости норм и образцов межличностного общения в цивилизованных обществах, в которых кроме писанных прав и законов также оказалось множество кажущихся естественными и общеприня
тыми ограничений и правил, составляющих основу рациональных предписаний. Европейская культура основывается на традициях повседневности, веками культивируемой народом, передаваемой от поколения к поколению помимо институтов образования. Эти традиции закрепляются в языке, в мимике и жестах, в моде, манерах, жилище. Они выступают основой этических, эстетических и вообще жизненных различий, на основе которых осуществляются познание и оценка окружающего мира. Эти различия определяют национальную идентичность (в форме дифференциации своего и чужого), половую принадлежность (на основе разделения мужского и женского), отношение к обществу и государству, к работе и развлечению, к жизни и смерти, к природе и человеку.
Современная ситуация характеризуется снижением репрессивности давления традиционной культуры и состоит в признании многообразия в рамках единой культуры различных субкультур, в частности молодежной. С большим уважением, чем раньше, люди оценивают индивидуальный стиль жизни и поведения. Культура приобретает все большее разнообразие и не сводится лишь к духовному творчеству, а охватывает разнообразные формы жизни, общения и поведения. Значимыми культурными критериями являются уже не столько идеи, сколько реальные цели, потребности, правила, роли, коммуникативные и семантические коды общения.
Медицина как форма познания и моделирования человека
Споры о науке и культуре, как правило, разворачиваются в русле противопоставления гуманитарных и естественных наук. Оно подкреплено онтологическим разведением духа и тела, мира природы и мира свободы. Но на самом деле резкая граница между ними стала пересекаться, а затем и демаркироваться уже в XVIII и XIX столетиях. В это же время активно формировались науки о жизни, и не только медицина и биология, но и такие прикладные дисциплины, как демография, психология и т. п. Воздействие их на реорганизацию повседневного порядка было наиболее значительным и протекало в сфере не столько рациональности, сколько телесности.
Вопрос о теле вовсе не новый и не экзотический, так как всякая культура формирует собственную телесность. Но при этом тело считается неотчуждаемой данностью человека, ибо вся его жизнь связана с телесной оболочкой, данной от рож
дения и исчезающей в результате смерти. Понимание тела связано с большими затруднениями: является оно биологической реальностью, некой внутренней природой, независимой от разума, или, напротив, оно всего лишь своеобразный протез — орган интеллекта или машина, сформированная культурой. В античности была предпринята масштабная попытка заботы о теле, связанная с его окультуриванием, цивилизацией и одухотворением. Значительное число процедур — диэтика, гимнастика, аскетика — имели не чисто телесный, но и космологический аспект: гармония тела — условие сопричастности бытию, соприкосновения с гармонией космоса. Посвященный не просто совершает дыхательную гимнастику с целью укрепления здоровья, но приходит в состояние мистического единения с сущим. Известно, что главная проблема цивилизации — это дисциплина тела, и особенно впечатляющие результаты были достигнуты христианскими аскетами. Но даже у них речь шла не о подавлении, а об управлении. Хотя христианин стыдится тела, оно необходимо ему не только при жизни, но и после смерти. Дамаскин утверждал, что человеку будет дано новое тело: грешникам оно понадобится особо прочное, способное переносить адские мучения, а праведникам — своеобразное, лишенное политической и сексуальной маркировки «тело без органов», так как в нем будут аннулированы порождающие плотские вожделения различия мужчин и женщин, а также различия старых и молодых, красивых и некрасивых.
Наряду с гуманизирующим дискурсом о теле, история которого достаточно хорошо представлена в культуре, существует много знаний и дисциплинарных практик, связанных с медициной, которые осуществляют массированную и широкомасштабную работу по преобразованию тела. Можно сравнить картину тела в аристотелевской традиции, отчасти модифицированной Авиценной, дополненной Парацельсом и в неузнаваемом виде представленной в так называемой народной медицине, с современным медицинским пониманием тела как замкнутой системы причинно-следственных связей. Ни одна из этих конструкций не является естественной. Парацельс понимал тело как семиотическую систему и связывал ее с семиотикой мира. Отсюда болезни и процедуры их лечения связаны с нарушением и восстановлением констелляций семиозиса. Напротив, современный врач ищет патогенные факторы и причины болезни. При этом он также исходит из теоретических кон
струкций. Прежде чем лечить больного, жалующегося на недомогания, врач должен представить их как симптомы болезни, разнообразные типы которых имеются в его сознании. Прежде чем лечить, необходимо поставить диагноз и довести пациента до нормальной формы болезни. Публицисты, изощряющиеся по части поиска разного рода угрожающих человеку факторов и указывающие на опасность исследований атомной энергии и генетической информации, явно упустили из виду фундаментальную роль тихой и незаметной армии клиницистов, которые составили классификации болезней и их симптомов. Они сформировали различия больного и здорового тела, реализующихся в недискурсивных больничных практиках.
Кроме медицины важную роль в формировании культурной органологии играет техника, во-первых, поставляющая телу многочисленные протезы, а во-вторых, превращающая его в свой собственный орган. Сегодня в генной инженерии речь идет об исправлении человеческого тела, которое уже не успевает за современной техникой. Это не новая проблема. Уже машинная цивилизация столкнулась с нею, и знаменитая работа Энгельса о формировании рабочего класса, которая изучалась как пособие по политической борьбе, содержит множество интересных описаний того, как тело сельского жителя, подчиненное органической логике, превращалось в тело рабочего, способного выполнять экономные однообразные движения у конвейера. В настоящее время к этим испытанным процедурам дрессуры, аскезы, воспитания добавляются новые технологии, уже не связанные с заботой о душе. Происходит активное внедрение внутрь тела: искусственные и пересаженные органы, разнообразные лекарства, допинги, наркотики привели к изменению самой феноменологии тела.
Нельзя не отметить воздействия власти на тело, которая тоже нуждается в соответствующем ей типе тела, главным качеством которого, разумеется, должно быть само желание власти. Тело не есть некая природная данность или субстанция. Над его формированием работает слишком много гетерогенных практик, и сегодня можно отметить, как искусство и фотография превратили тело в сложную поверхность, испещренную знаками, а реклама существенно ускорила процесс производства новых тел. Таким образом, было бы односторонне рассматривать тело как природу или как продукт запрещающе-мора-лизирующего дискурса гуманитарных дисциплин. На самом
деле наука и техника играют огромную роль в процессе его трансформации.
В XVIII—XIX столетиях была предпринята попытка проникновения внутрь тела, в ходе реализации которой было осознано, что кожа, кости, сухожилия, мышцы, нервы и внутренние органы — это малая вселенная, ничуть не менее сложная, чем большой Универсум. Речь идет не столько о пионерской деятельности врачей, вынужденных нелегально удовлетворять свое любопытство, а о широкомасштабной акции, осуществляемой в рамках так называемых «анатомических театров», само название которых говорит о массовости и театральности представления внутреннего строения тела. Все это выходит за рамки узкого исследования и имеет какое-то не вполне понятное назначение. Прежде всего поражает энтузиазм людей, которые посещали эти «театры».
Какую же роль играли подобные представления? Сводится она только к производству и распространению знания или выполняет иные недискурсивные функции но преобразованию самой телесности участников представления? Известно, что анатомия интересовала не только врачей, но и художников. Уже Леонардо начинал рисовать человека со скелета и постепенно наращивал его мышцами, а в конце покрывал его кожей и одеждой. Но научная анатомия предприняла более далекое и опасное путешествие, которое может быть обозначено как поиски души, оказавшиеся безуспешными. Кровеносная система, связь мозга с периферией, сложные функции органов, химические и электрические процессы — все это предстало перед глазами путешественников — хирургов-анатомов и зрителей. При этом главным событием, заслоняющим все остальное, стало отсутствие специальных органов разума, души, сердца — т. е. всего того, чем, собственно говоря, гордится человек. Анатомический театр уничтожил сцену религии и метафизики и представил тело не как место пребывания духа, а как взаимосвязанный и внутренне самодостаточный организм. Другим важным последствием стало стирание сложных семиотических интерпретаций, которые были нанесены на тело культурой. Поверхность тела веками создавалась цивилизацией. Жестикуляция, мимика, манеры, одежда — все это своеобразная «татуировка», знаки которой были общепонятны: например, открытый взгляд, прямая осанка, благородная внешность, четкая речь свидетельствовали о добрых наме
рениях и хорошем происхождении лучше всякого документа. Существовала и тайная картография тела, на интерпретацию которой претендовали разного рода «физиогномические» дисциплины, не оставившие вне внимания ни одной мало-мальски заметной морщины на коже, не говоря о гримасах, улыбках, лысинах, формах носа, ушей, глаз и т. п. В поисках последней тайны были означены как черты лица, так и форма рук, цвет волос и т. п. Сегодня физиономика и хиромантия кажутся курьезами, но современный интерес к ним со стороны части общественности выдает их настоящую функцию: он связан с познанием внутренней душевной жизни.
Было бы наивным не замечать, что в разработке кодификации тела принимали участие не только физиономика и френология, но и литература, а также мораль, юриспруденция, психиатрия, антропология, предпринимавшие свои попытки интерпретации тела как семиотической системы для выражения душевных намерений и желаний. Эволюция знаков, наносимых на тело, тесно связана с общецивилизационным процессом. В эпоху власти, основанной на принуждении и телесном насилии, общественному контролю и кодификации подлежат внешность и манеры. Первобытный охотник в период возмужания получал взамен лица маску, которую он должен был исполнять независимо от своих душевных диспозиций. И впоследствии человек долго носил как своеобразный мундир одежду, свидетельствующую о его общественном положении, и подчинял свое тело жестам и траекториям, которые также демонстрировали не его внутреннюю жизнь, а внешний статус. Ситуация меняется в придворном и особенно буржуазном обществе: насилие рядится в одежды закона, за добродушным видом и улыбкой часто таятся коварство и злоба, а распутницы выглядят порой как свежие розы.
Вместе с тем разнообразие связей и коммуникаций, переплетение взаимных зависимостей, опосредованность насилия и личной власти центральными органами — все это повышает значимость намерений и желаний людей. Общественное значение приобретает не только статус, определявший в прошлом вполне однозначно поведение человека, но и то, что он задумал. Особенно ярко эта задача осознавалась литературой, создавшей искусство словесного портрета, а также внесшей огромный вклад в развитие внутренней самодисциплины и самоорганизации душевной жизни. По сути дела, так называ
емый придворный, а позднее буржуазный роман создали механизм цивилизации, т. е. упорядочения и организации внутреннего мира человека. Литература выступила как эффективная техника моделирования человека. Создавая образы героев, она поставляла образцы для подражания. Эта технология еще более совершенствуется в наше время, когда внешность, манеры, желания диктуются уже не столько литературными персонажами, сколько рекламой. В этом цивилизационном процессе задействована и философия, которая стремилась сделать страсти души управляемыми и создала великую и прочную сеть различий и различений, границ и барьеров, порогов и пределов, продолжающая действовать вплоть до настоящего времени. Более того, наука, литература, философия двигались в одном направлении, предписанным правом как ведущим дискурсом раннебуржуазного общества.
Важная роль эпохи анатомических театров состоит в разрушении или значительной модификации этого дискурса о теле. Старая семиотика тела, аффектов, чувств оказалась вытесненной морально-юридическим дискурсом и описанием тела как машины, которые оказались не столько противоборствующими, сколько взаимно проникающими друг в друга. История медицины больше, чем любая другая наука, обнаруживает цивилизационное значение познания, проявляет сложное переплетение объективного и субъективного. Избавившись благодаря акциям анатомических театров от засилья астрологических, физиономических и магических дискурсов, она попала под власть моральных норм и различий. На это обстоятельство неоднократно указывал М. Фуко в своих работах по истории безумия. Но дело в том, что сами мораль и право строились на основе механических метафор, и это очевидно на примере анализа сочинений Ф. Бэкона.
Власть над природой связывается в новоевропейской цивилизации с внутренним самоограничением, самодисциплиной, точностью и расчетливостью, которые приходят на место своеволия и распущенности. На это обстоятельство не всегда обращают внимание те, кто критикуют западную цивилизацию и в качестве образца выбирают Восток. На самом деле в ней имеет место прочная связь нравственной умеренности и волевого действия. Именно поэтому христианское самопринужде-ние и аскетизм органично соединяются с волей к покорению природы: воля к власти уживается с расчетливостью, терпе
нием и смирением, и это, кажущееся невозможным соединение, определяет импульс европейской цивилизации. Благодаря связи самопринуждения с самосохранением, которая была установлена уже Декартом, физи-кализация мира приводит к построению социальной физики. Важную роль в ее становлении играла теория А. Смита, в которой общество конституируется как саморегулирующаяся система, основанная на механизме экономии и конкуренции и имеющая целью всеобщее благоденствие. Она работает в автоматическом режиме без вмешательства Бога и поэтому вполне уверенно сравнивается с машиной. Машина выступает при этом не как инструмент, а как высшая ценность, состоящая в экономичности, упорядоченности и рациональности. Она не растрачивает силу впустую, а трансформирует ее в разнообразные упорядоченные и полезные движения.
Первоначальной машиной, ставшей метафорой порядка цивилизации, несомненно, были часы. Затем ею стала паровая машина, применение которой привело к промышленной революции. Ее главной частью, как известно, является регулятор, изобретенный Уаттом. Этот регулятор стал моделью для понимания роли рынка в развитии общества, поскольку информационно-обменный механизм обратной связи у них в общем одинаков. По принципу паровой машины с регулятором, в частности, функционирует гоббсовский Левиафан, контролирующий напор страстей с целью предотвращения социального взрыва. Принцип работы паровой машины сыграл огромную роль в понимании отношения духа и тела. Если раньше дух управлял телом как всадник лошадью, т. е. подавлял и укрощал страсти, ограничивал стремление к удовольствиям, то Юмом и Мандевилем выдвигаются альтернативные подходы, согласно которым разум не может регулировать страсти, ибо остается их рабом. Выход состоит в том, чтобы учитывать это бессилие разума перед энергией страстей и уподобить его регулятору Уатта, который одному напору энергии противопоставляет другой, перекрывает и перенаправляет пути их движения. Отсюда каждый аффект подлежит исследованию, классифицируется, вычисляется и используется независимо от моральной оценки. Так, страсть к наживе — исходная человеческая энергия регулируется в соответствии с юридическими нормами, эксплуатируется и обслуживает общественный интерес. Таким образом, понимание разума как рационального расчета, моделируе
мого по образцу божественного часового механизма, остается неполным без дополнения его машиной чувственности, которая в чем-то подобна паровой машине с регулятором давления. Понимание человеческого так или иначе всегда было связано с машинами. Ламетри и Шелли раскрыли суть этой машины — работающего скелета, питаемого электрически-спиритуали-стической энергией. Сегодня идеальной машиной выступает компьютер, и в нем, как кажется, исчезает значение старой машинной дихотомии энергии и регулятора и тем самым основание старой дихотомии духа и тела. Знаменитый вопрос Тьюринга, может ли машина мыслить, раскрывает беспочвенность этой дихотомии. Ведь этот вопрос подразумевает диалог двух машин. Одна из них — сформированная цивилизацией машина субъекта с его рефлексией, а другая — компьютер, имеющий дело с «виртуальной реальностью».
§ 2. Ценность знания и познание ценности
Сегодня наука активно вторгается во все сферы культуры, но это не имеет ничего общего с философским наставлением или просвещением. Современный исследовательский процесс совсем не озабочен раскрытием сути бытия и воплощением на этой основе неких идеальных моделей жизнеустройства. Научное познание связано с технической реализацией и экономическим использованием знаний, оно преследует задачу изыскать возможности управления и распоряжения природными ресурсами и социальными процессами. Идет ли речь о производстве новых машин, освоении запасов сырья или о воспитании человека, цель одна — рациональное использование, контроль и учет имеющихся ресурсов и реализация технических возможностей. Если прежде практическое значение теории состояло в образовании, на основе которого знание входило в жизненный мир человека, то ныне кажущиеся на первый взгляд оторванными от жизни и абстрактными науки становятся практически значимыми благодаря их применению для создания новых технологий.
В сознании современного культурного человека сталкиваются две различные исторические традиции. Одна отражает ценности, потребности и представления, образующие ядро идеи человека, на которую опирается корпус гуманитарного
знания. Другая — технику рационального манипулирования искусственно созданными структурами. Соотношение исторического мира человека и технических искусственных систем имеет конфликтный характер и осознается как дилемма: определяется культура духовными традициями самосознания человека или объективной логикой и техническими возможностями науки, контролирующей и планирующей даже такие формы поведения, которые прежде считались свободными? Вместе с научно-технической цивилизацией в мир пришла новая угроза утраты человеческого смысла жизни: человек боится раствориться и исчезнуть в искусственно созданном бытии, но в то же время неутомимо работает в этом направлении.
Резкое размежевание двух «культур» вызвало целый поток литературы, пытающейся найти точки их соприкосновения. Творческая интеллигенция, в основном художники и писатели, подчеркивает принципиальную разницу между миром человека, в котором люди рождаются и умирают, любят и ненавидят, переживают страх и надежду, и миром науки, который населен абстрактными моделями, математическими формулами и экспериментальными установками. Считается, что литература описывает индивидуальный опыт бытия в мире, а наука — технический опыт преобразования природы. При этом наука и техника все активнее вторгаются в человеческую жизнь и своими советами и рекомендациями регламентируют ранее считавшиеся свободными поступки. Выход из этого видится в гуманитаризации научного знания, призванной наполнить его кровью и плотью человеческих переживаний.
Интеллектуалы и технические специалисты видят сложившуюся ситуацию по-иному. Становление и развитие науки они связывают с борьбой за объективность, с освобождением от фантазий и иллюзий, с преодолением субъективизма и произвола, с отказом от морализаторства и от политических, национальных, групповых и иных ценностных предпочтений. Однако такая борьба нередко сопровождалась отрывом от общечеловеческих ценностей. Поэтому внутри научно-технической культуры также сохраняется противоречие между определением науки как нейтрального в ценностном отношении технического средства рационализации практики и универсалистской претензией на радикальное преобразование жизни, сохранившейся от пионеров научно-технического прогресса, мечтав
ших осчастливить людей. Подчиняя поступки человека логике искусственно созданной среды, наука искореняет основу свободы, которая заменяется теорией рационального решения, рекомендующей действовать, исходя из анализа технических и экономических возможностей. Однако везде ли приемлемы такие решения? В человеческой жизни далеко не все подчинено рациональному обмену, и существуют поступки, предполагающие жертву и дар. Она ученный образованием человек пытается рационально разобраться за что его любят или ненавидят, подчинить дружескую привязанность материальным отношениям, но наталкивается при этом на рационально непостижимые чувства любви и ненависти, верности и вероломства.
Если вдуматься в сложившуюся ситуацию, то обнаружится странное противоречие: наука, порвав с философской традицией, должна была бы устраниться и от решения жизненных проблем. Однако, обретя автономию, она стала влиять на жизнь в неизмеримо большем масштабе. И, наоборот, гуманитарное знание, включая философию и искусство, стало влиять на человеческое поведение в неизмеримо меньшем масштабе.
Зарождение идеи науки тесно связано с философской ориентацией на постижение начал и причин сущего, на поиски непротиворечивого, доказательного и систематического знания. Но то, что сегодня является наукой, радикально отличается от этой первоначальной установки. Уже в новое время наука вовсе не озабочена постижением сути бытия, а связана с поисками эффективных средств его преобразования. Если в докапиталистических обществах теории не имели применения в сфере ручного производства и социального управления, то сейчас массив научной информации активно используется для принятия решений в экономике и политике. Научно-техническое знание становится инструментом власти и используется для манипуляции природными и социальными процессами. Знание оказалось оторванным от жизненных ценностей, и ныне важной задачей общественности является обсуждение стратегических ориентаций научно-технического прогресса: каковы его цели и задачи, как гуманитарная культура может и должна участвовать в их обсуждении и выборе? Эта проблема в настоящее время из умозрительной становится, возможно, самой актуальной, ибо манипуляция природой, превращение ее в источник сырья и материал для технических преобразований ведет к ее истощению и создает угрозу существования
общества. А манипуляция человеком, научная регламентация его поведения приводят к скуке и депрессии, росту психических заболеваний, которые являются закономерной реакцией на перегрузку человеческой психики.
Наука в сознании современного человека выступает чем-то священным, и хотя он боится ее опасных последствий, все же не подвергает сомнению правомерности ее исходных оснований. Между тем эти основания существенно деформировались, и если первоначально они вырастали из человеческих потребностей и желаний, то начиная с XVII столетия они стали складываться на почве промышленного освоения мира. Так, язык одного из первых философов науки — Ф. Бэкона уже полон технических и судейских метафор, и наука связывается не с постижением сути бытия, а с преобразованием и покорением природы. Сегодня «воля к власти» над природой и человеком ставится под сомнение. Но ее невозможно преодолеть только философской критикой или просвещением, ибо она есть жизненный выбор людей. Вместе с тем, обращая внимание общественности на эти скрытые предпосылки научно-технической культуры, философия способствует их открытому обсуждению и тем самым открывает более широкие возможности свободного выбора людей.
Сегодня субъектом философии не является великий мыслитель, гениальный индивидуум, думающий за других и предписывающий остальным, куда идти и что делать. Философия выступает как разум общественности, коллективного субъекта, сообщества людей, озабоченных проблемами выживания, создания свободного общества и развития духовных ценностей. Поэтому философ должен осознать себя как равноправная фигура общественных дискуссий и переговоров по поводу направления и целей культурного процесса. Располагаясь в поле общественной коммуникации вместе с другими участниками, философ обращает внимание на часто скрытые и кажущиеся очевидными предпосылки рассуждения. Они касаются как фундаментальных представлений о добре и зле, так и малозаметных повседневных различий, регулирующих обыденную жизнь. Носителем сети репрессивного порядка нередко оказывается язык, который обыкновенно расценивается как простой и послушный инструмент общения. На самом деле структуры языка задают способ отношения к самому себе и к другим, фор
мируют картину мира, общества, содержат основные разграничения, которые считаются естественными и объективными.
Реальный процесс онаучивания и рационализации жизненного мира не совпадает с его теоретическими реконструкциями. Дискурсивные и недискурсивные воздействия науки на жизнь индивида и общества и до сих пор происходят как бы в разных направлениях. Во многом это связано с господством в сознании людей исходных допущений философии разума, где он объявляется верховной инстанцией, которая обосновывает все, в том числе и самого себя. Разум определяет, что такое бытие и время, язык и сознание, жизнь и благо. Начиная с Парменида, европейская философия мыслит сущее в логическом пространстве. И только после Маркса и Ницше, после Дарвина и Бора возникают попытки сделать мысль, логику функциями исторического пространства и времени. Мыслить во времени — значит находиться под его властью: это время заставляет нас думать, оно порождает идею, а не наоборот. Но что такое жизнь и история: спонтанный поток событий, возникающих независимо от разумных намерений, или какая-то по-своему организованная законосообразная структура?
Этот вопрос всегда занимал ученых, но особый накал он приобрел в век Просвещения и позже в период революций, которые опрокинули представления о естественном историческом законе, обеспечивающем прогрессивное развитие человечества. Социальные потрясения, экономические кризисы и политические революции, с одной стороны, стимулировали развитие теоретических моделей исторического процесса, на основе которых строились долгосрочные планы, а с другой — сами были непредусмотренными и нежелательными результатами отдельных человеческих действий, каждое из которых было по-своему рационально. Взаимосвязь человека и истории мыслилась как познание исторических законов, в соответствии с которыми развивается общество и которым должны подчиняться действия людей.
Представление об исторической закономерности, возникшее по аналогии с природной, наталкивается на внутреннее сопротивление, связанное с желанием свободы, которое Ф. М. Достоевский охарактеризовал как «глупую волю», выбирающую эгоистическое удовлетворение даже перед лицом гибели всего мира. Допущение законосообразности препятствует, во-первых, нравственной свободе и ответственности, для
исполнения которых требуется независимость от всякой внешней природной или социальной детерминации, а во-вторых, подсознательным стремлениям и желаниям человека, власть которых очевидным образом влияет на ход истории.
Одной из ярких попыток обоснования возможности рациональной истории была логика социальных наук, построенная Д. Миллем и давшая стимул развития не только позитивносоциологическому, но и герменевтическому направлениям: взгляды Дильтея формировались в ходе возражений Миллю. Несомненной заслугой последнего является учение о социальном характере как продукте целенаправленных воспитательных и дисциплинарных воздействий на индивида со стороны общества. Характер не является некой абсолютной данностью, а изменяется в ходе исполнения социальных функций и общественных обязанностей. Мотивы действий Милль стремился освободить от стремления к удовольствию и свести их к привычке, привитой рациональной, размеренной жизнью, самодисциплиной и воспитанием.1
Дильтей развивал альтернативную программу, следуя романтической традиции в определении гуманитарности, и искал ее опору в связях с традицией, образованием, культурой. Важным открытием Дильтея является осознание того обстоятельства, что мир тематизируется дотеоретическим способом и горизонт его понимания образует сама жизнь. Поскольку история есть некий внетеоретический процесс повседневной жизни, в ходе которой складываются человек и история, постольку формой ее творения и понимания выступает переживание. Внутренний мир людей, живших в далеком прошлом, доходит до нас в символических формах, которые может расшифровать только тот, кто сам знает жизнь. Понимание в противоположность абстрактному сознанию это и есть вживание в символы, следы и симптомы, сохранившиеся в произведениях искусства. Их расшифровка предполагает постижение духовного смысла событий и актуализацию прошлого, основанную на воображении и сопереживании. Жизнь, будучи уникальным и конкретным явлением, имеет, по мнению Дильтея, свои устойчивые формы, вырабатывает свой порядок, нормы и традиции. То, к чему отсылает понимание, есть не только внутренние переживания субъектов истории, погру
1 См.: Милль Д. Логика. М., 1913. С. 760—780.
женных в свои повседневные заботы, но и некое устойчивое идеальное образование, которое образовано структурами норм и ценностей, определяющих жизнь. Ее реконструкция в форме исторического самопонимания выступает «последним словом», раскрывающим окончательный смысл.
Программа Дильтея послужила основой развития герменевтическо-феноменологического подхода к пониманию, который так или иначе выдает свое происхождение из актов видения, вчувствования, сопереживания и подобных эмпатических процедур проникновения в духовный смысл человеческих действий. При этом остается открытым вопрос о том, насколько самостоятельны эти акты самопонимания. Ясно, что жизнь не есть нечто совершенно иррациональное и что ее порядок определяется идеями и ценностями. Но какую реальную функцию выполняют эти акты в структуре повседневной жизни? Если они отражают некоторые независимые социальные законы, то историку незачем вникать, как они Переживаются людьми и, минуя сферу ментальности, достаточно применять эти законы непосредственно для объяснения и предсказания исторических событий. Именно такой ход мысли характерен для представителей так называемой аналитической философии истории, в рамках которой протекали интересные дискуссии об исторических законах.
Представители аналитической школы развивали традиции позитивизма и не отличали по методу естественные науки от гуманитарных. Поэтому объяснение события для них состояло в сведении или выведении его из законов. Такой метод достаточно эффективен в естествознании, и ссылка на то, что вода расширяется при переходе в другое агрегатное состояние, вполне достаточна для объяснения разрушения бутылки с водой, оставленной на морозе, а также для однозначного предсказания результата в этих условиях. К. Гемпель считал, что именно такая схема объяснения используется в исторических науках и не развертывается только по причине тривиальности самих исторических законов. «Имущие власть не откажутся от нее», «власть развращает», «побеждает тот, кто лучше вооружен» и подобные трюизмы составляют некую практическую мудрость, поэтому историку не приходит в голову возводить ее в ранг теории. Согласно Гемпелю, объяснение действий
людей «ничем существенно не отличается от причинных объяснений в физике или химии».1
Критику помологического объяснения предпринял У. Дрей. По его мнению, ссылка на общие законы ничего не объясняет, и требуется ссылка на частные условия и обстоятельства. Но такие ссылки, возможность которых предусматривалась и в гемпелевской схеме, делают ненужным общий закон. В качестве примера он рассматривал вопрос о том, почему Людовик XIV ослабил военное давление на Голландию, ибо это было одной из величайших его ошибок. В основе поведения Людовика лежал рациональный расчет: голландская армия собиралась высадиться в Англии и должна была там надолго застрять, что открывало возможность победоносной войны с Германией. И хотя Людовик просчитался, тем не менее, как утверждал Дрей, его поступок был вполне разумным с его собственной точки зрения.1 2
Объяснение исторических событий ссылками на общие законы недостаточно и требует учета конкретных обстоятельств. Но и этого мало, если историк хотел бы объяснить поступки людей, которые действуют в соответствии со своими целями, планами и намерениями. Здесь возникает отмеченная выше трудность, связанная с неуловимостью и неустойчивостью внутренних мотивов поведения. Дрей хотел бы избежать психологизма и с этой целью разработал на основе понятия о диспозициях, введенного Г. Райлом для научных терминов, концепцию «рационального действия», согласно которой: если мотив Y является для субъекта А рациональным, чтобы совершить действие X, то он рационален и для всякого другого, кто действует или объясняет действие, при условии сохранения данных условий. «Рациональная модель объяснения действий, — писал Дрей, — не требует ни того, чтобы мотивы или убеждения исторического деятеля возводились бы в ранг необходимых условий действия с помощью некоторого закона, ни того, чтобы им придавали значение достаточных условии»3.
1 Hem pel С. G., Oppenheim Р. The Logic of Explanation. New York, 1953. P. 327.
2 Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // Философия и методология истории. М., 1977. С. 42.
3 Там же. С. 66.
Здесь речь идет не об объяснении, а об оценке действий. Слабость такого подхода очевидна: во-первых, расчеты часто оказываются просчетами; во-вторых, намерения не всегда реализуются из-за изменившихся обстоятельств или слабости субъекта действия; в-третьих, существуют осознанные и неосознанные мотивы, причем как в сфере самих исторических агентов, так и изучающих их поступки историков, которые не всегда различают современные и прошлые представления о рациональности. Все это не означает, что теория рационального действия не имеет вообще никакого значения. Но она должна быть дополнена другими моделями поведения. Для этого полезно воспроизвести старые, но ныне переживающие ренессанс концепции Риккерта, Кассирера и Вебера. Первый из них исходил из кантовского понимания свободы и указывал на абсолютные ценности, определяющие поведение на основе нравственного долга. Второй опирался на символические структуры, играющие нормативный характер при организации порядка в различных сферах жизнедеятельности. Наконец, третий разработал известную концепцию целерационального действия, в которой дополняли друг друга принцип экономии и целесообразности. Социальные действия Вебер понимал как интенциональные и, следовательно, понимаемые с точки зрения целей и намерений: действие исторического субъекта понимается благодаря реконструкции целей и мотивов; однако намерения не всегда выполняются, и ссылка на них может стать объяснением, если будет подтверждена действительными фактами.1
Дополнительность помологического, нормативно-ценностного и герменевтического подходов может быть реализована в плоскости коммуникации. В этом случае социальные институты, задающие критерии рационального решения, а также технического, инструментального действия, и духовная общность людей на основе традиций, идеалов и ценностей опосредуют друг друга в процессе человеческой коммуникации. Культурные феномены имеют двойственную природу: с одной стороны, они играют функциональную роль, а с другой — являются носителями социальных значений и смыслов. Именно это обстоятельство открывает взаимную дополнительность естественных и гуманитарных наук.
1 См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 547—601.
В сравнении с аналитической философией, теорией интеракции, семиотикой, структурализмом герменевтика выглядела как красивая, но устаревшая и немодная одежда, к тому же удивляющая своей нефункциональностью. Поэтому нельзя не отметить важную культуртрегерскую роль Гадамера, который проявил необычную для гуманитария разворотливость по пропаганде герменевтического движения. Более того, ему удалось убедить в значимости герменевтического метода даже методологов естествознания, которые стремились удовлетворить потребность ученых в самых необычных взглядах на мир. Но Гадамер, конечно, претендовал на большее, а именно на раскрытие таких предпосылок познания, которые уже не могут быть обоснованы методами самой науки. «Философская герменевтика, — писал он, — включает философское движение нашего столетия, преодолевшее одностороннюю ориентировку на факт науки, которая была само собой разумеющейся как для неокантианства, так и для позитивизма того времени. Однако герменевтика занимает соответствующее ей место и в теории науки, если она открывает внутри науки — с помощью герменевтической рефлексии — условия истины, которые не лежат в логике исследования, а предшествуют ей».1
На чем же основываются подобные универсалистские притязания герменевтики и насколько они оправданны? Прежде всего на том, что феномен понимания пронизывает все межчеловеческие отношения, включая историю, политику, обмен мыслями и переживаниями, нравственные поступки и эстетические вкусы. Герменевтика не сводится к методике или методологии потому, что отнюдь не абсолютизирует познавательные акты, а, напротив, указывает, что важнейшие предпосылки естественных и особенно гуманитарных наук базируются на некоторых жизненных решениях и связаны с неэпистеми-ческим опытом переживания вины, ответственности, желания свободы и справедливости, чувствами веры и надежды. Ее главное значение в современной технической культуре состоит как раз в том, что она указывает на значимость этого опыта, который остается необходимым несмотря на то, что все человеческие решения, как кажется, опираются на факты и доказательства, а не на душевные эмоции.
1 Гадамер X. Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 616.
В своей работе «Истина и метод» Гадамер противопоставил научному опыту, целерациональной практике и техническому мышлению — этим «локомотивам» современной цивилизации — практические умения и навыки жизни, здравый смысл, язык, эстетический вкус, игру, сообразительность и образованность. По сути дела, установка на планирование и расчет, оказавшаяся столь успешной в механике и экономике, стала считаться естественной и самодостаточной, свободной не только от разного рода суеверий и предрассудков, но и от ценностей. Гадамер, с одной стороны, стремился показать наивность и некритичность такой установки, скрывающей за фасадом объективности множество невыявленных предпосылок. С другой стороны, он выступил как знаток и хранитель старинных форм жизни и образования. «Рациональной теории решений», которая претендовала на абсолютную истинность, Гадамер противопоставил традицию практической философии, сохранявшуюся от Аристотеля до Канта. Он также указал на значимость хорошего вкуса и образования, на необходимость здравого смысла и нравственности как условий возможности любых человеческих решений, будь то научные, политические, экономические или личные проблемы.
Гадамер исходит из весьма широкого определения герменевтики как искусства взаимопонимания между людьми, общественными группами, партиями и регионами, включающего отношения настоящего и прошлого, учитывающего своеобразие типов рациональности в различных культурах. Опыт переговоров и взаимопонимания дает нечто такое, что нельзя получить чисто теоретически, и поэтому, стремясь теоретизировать опыт, наука искажает его. Это обстоятельство отмечалось и в методологии науки, которая пыталась раскрыть роль практических навыков и личностного знания и умения. Действительно, распад традиционных форм жизни привел к тому, что дома, в семье, дети уже не получают практических умений и всему должны быть научены в школе. Постановка же такого рода образования предполагает реконструкцию сложного строения неявного знания, и в этом значительную помощь может оказать герменевтика. Опыт, который пытается ввести герменевтика, это не только навыки владения предметами и употребления инструментов. Опыт — прежде всего собственный опыт, т. е. нечто такое, благодаря чему изменяется не только предмет, но и сам осваивающий его человек. Опыт становления чело
века означает встречу с чужим, которое должно быть признано самостоятельным и не отчуждаемым. В этой встрече осуществляется опыт самосознания как ограничения. Но он же означает и открытость: признание границ связано с возможностью встречи и переговоров. Высший тип герменевтического опыта характеризуется открытостью Я по отношению к Ты, т. е. готовностью услышать другого. Так в разговор пластично вводится нравственное признание, а понимание оказывается формой не только познавательного, но и этического действия.
Критико-идеологическая школа квалифицировала герменевтику как консервативную попытку возрождения исторических традиций и даже предрассудков. Надежды на возможность открытого диалога и непринужденного разговора оправданы в рамках «открытого общества», и не случайно диалог впервые сложился на почве полисной демократии в Греции. Чем гарантирована вера Гадамера, что единство говорящих и слушающих субъектов достигается приобщением к сути дела, а не насильственным путем? Критические рационалисты считали, что вера и убеждения должны быть подвергнуты анализу и оценке со стороны научной общественности. Они полагали, что политические, экономические и прочие решения должны приниматься с учетом технических возможностей. Однако такая критика сама не свободна от возражений: предпосылками «рациональных решений» оказываются интересы принимающих их людей. «Скепсис по отношению к нереальной переоценке разума по сравнению с эмоциональными мотивами человеческой души», который высказал Гадамер,1 сегодня спустя более 30 лет кажется вполне оправданным.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема соотношения традиции и новации остается одной из важнейших в наше характерное быстрыми и глубокими изменениями время. Очевидно, что механизм инновации не устанавливается герменевтикой, ибо это слишком серьезное общественное и прежде всего экономическое дело, которое не может быть отдано на откуп филологии или философии. Претендуя на управление этим механизмом, философия рассчитывала бы на абсолютную власть. Между тем ее задача является более скромной — обратить внимание общественности на производство и распределение «символического капитала» и организовать дискуссии,
1 Гадамер X. Г. Истина и метод. 1988. С. 632.
где политики и ученые, философы и гуманитарии, творческая интеллигенция и публика могли бы сообща вырабатывать стратегические ориентации будущего развития.
§ 3. Рациональное знание и «искусство жизни»
Загадка человека заключается в том, что он обладает стремлением к высшим ценностям, которые и определяют масштаб его деяний. Являются эти ценности своеобразными антропологическими константами или же отыскиваются самим человеком путем познания? Сегодня мы настолько привыкли надеяться на свои интеллектуальные усилия, что познание истины стало универсальной процедурой, вытеснившей все остальные способности духа. Однако познание имеет свои границы, и они, между прочим, состоят в том, что знание, например, добра и зла еще не обеспечивает следования правилу добра. В связи с этим возникает вопрос о том, каким образом в истории культуры формировался субъект духовных переживаний и нравственных действий.
Сравнивая современные педагогические практики с древними формами наставничества и учительства, нельзя не отметить утрату сложной техники передачи традиций и жизненного опыта, а также пробуждения и интенсификации высших духовных состояний и озарений. Значительные усилия в традиционных культурах прикладывались для формирования духовных и телесных способностей ученика. Подготовка к несению жизненных трудностей включала гимнастику, диэтику, аскетику, а также заботу о душе, направленную на преодоление лени, рассеяния, аффектов и страстей.
Важнейшей функцией дискурса наставлений и поучений является формирование и интенсификация таких духовных актов и переживаний, как вера, любовь, надежда, свобода, красота, справедливость, нравственная солидарность и т. п. Эти духовные чувства основываются на витальных переживаниях симпатии, радости, доброты, но не сводятся к ним, поскольку имеют безусловный характер и как таковые не зависят от стечения обстоятельств или самочувствия человека. Поэтому требуется специальная подготовка, направленная на очищение и облагораживание витальных переживаний: подавление
агрессивных чувств и интенсификацию любви к высшим ценностям.
В христианской культуре обращение человека достигается в основном посредством слова. Наставник выполняет роль медиума, так как его задача заключается не просто в передаче личного опыта жизни, а в приобщении ученика к Писанию. Забота о душе в христианских наставлениях и поучениях направлена на отречение от тела и на обращение к духу. Отсюда вытекает достаточно резкое различие между философским искусством заботы о себе и христианским аскетизмом, включающим, помимо воздержания и молитвы, процедуры исповеди и покаяния. Забота о себе постепенно трансформируется в отречение от себя: духовные акты уже не озаряют субъекта, а истина, которую открывает аскет, уже не принадлежит ему.
Центральную роль в христианстве начинает играть дискурс греха и покаяния, реальные функции которого выходят за рамки чисто религиозных задач. На его основе происходит производство нового типа субъекта с такими телесными и душевными качествами, которые необходимы для эффективного управления. Если традицйонное общество, основанное на телесном насилии и принуждении, отслеживало поступки и телесное поведение человека, то религия, открывая возможности контроля за душевными процессами — намерениями, желаниями, целями и т. п., подготавливает возможность перехода к более цивилизованным формам управления, основанным на самоконтроле и самодисциплине.
Современная практика работы культуры над телесными и духовными качествами человека больше не связана с аскезой и обращением. Это связано с радикальным изменением типа власти, которая реализуется в форме не запретов, а предписаний и рекомендаций образа жизни. Вместо дискурсов о духовном, интенсифицирующих чувства любви и дружбы, добра и справедливости, все более фундаментальное значение приобретают дискурсы о телесном, развиваемые в массовой культуре. Это вызвано тем, что общество стремится управлять не идеями, а желаниями людей. Сложная техника работы над собой и заботы о душе не востребуется властью, которая делает людей такими, какими нужно, гораздо более простыми и доступными способами. Используя рекламу, давая советы о здоровом образе жизни, о режиме труда и отдыха, общество
формирует повседневный порядок, который и обеспечивает его устойчивое существование.
Любая культура является прочной в том случае, если она не утратила духовных и душевных связей между людьми, и поэтому наряду с формами социальной интеграции должны развиваться и совершенствоваться формы духовного единства. Отсюда одной из важных задач современной философии остается сохранение и развитие традиционной заботы о душе. Истины, которые мы сообщаем ученикам, не согревают их сердца и не учат жизни. Это абстрактные безличные знания, не способные пробудить волю к поступку или, напротив, противостоять желаниям. Инструментальные знания, которые производит наука, направлены на преобразование мира, но они непригодны для преобразования души человека. Между тем, несмотря на высокий уровень технической цивилизации, человек вовсе не избавлен от тяжелых жизненных испытаний. По-прежнему существуют несчастья, болезнь и смерть, поэтому требуются стойкость, мужество и терпение для того, чтобы их пережить. Таким образом, философия должна сохраняться как форма не только знания и критической рефлексии, но и жизненной мудрости.
Античная забота о себе
Понятие «забота о себе» (epimeleia) употреблялось пифагорейцами и особенно активно использовалось Платоном и наделялось важными политическими и этическими функциями. Поскольку основой античного полиса являлась ответственность, постольку обращение к себе, воспитание политического и этического субъекта оказывается важной общественной задачей. Она не сводится к заботе о собственном теле и внутреннем душевном равновесии. Речь идет не о формировании приватной личности, а о политическом и этическом индивидууме. Центральным для понимания платоновского учения является диалог «Алкивиад 1», представляющий первую лекцию, с которой начиналось обучение в Академии и где обсуждается проблема воспитателя правителя. При этом речь идет не столько о работе с телом — гимнастике, диэтике, аскетике и т. п., не столько о знании обычаев и искусстве вести беседу, руководить пиром или военными учениями, сколько о глубокой работе души, ориентирующейся на постижение сути всех
вещей. Самость души — это не чувственные удовольствия, а мудрость, знание и благоразумие.
Алкивиад — красивый, здоровый и неглупый юноша, потомок Перикла, бесспорный претендент на управление государством. Он и сам не чувствует сомнений, считает себя не хуже, а лучше прочих молодых людей, среди которых он является явным лидером, ибо красивее, умнее, смелее и богаче других. Поэтому его несколько обескураживает вопрос Сократа относительно обоснованности его претензий на роль правителя. Оказывается, что для этого средней грамотности, умения играть на кифаре, искусства речи и знания приемов борьбы явно недостаточно. Надо специально заранее учиться управлять государством и для этого прибегнуть к помощи специалистов, среди которых только наиболее совершенные могут претендовать на обязанности наставника будущего правителя.
В качестве примера такого наставничества Сократ приводит серьезную подготовку и воспитание царского наследника в Персии. Прежде всего его рождение является поводом к всенародному ликованию и празднеству. Так задается, как бы сказали сегодня, имидж будущего царя, харизматического лидера. В Афинах же, иронически восклицает Сократ, рождение Алки-виада едва ли заметил кто-то кроме соседей! Далее, будущий царевич у персов воспитывается евнухами, заботящимися о формировании его телесных достоинств и нормальных желаний и влечений. Затем он передается четырем достигшим почтенного возраста людям, среди которых — наимудрейший, наисправедливейший, наирассудительнейший и наихрабрейший. Они вырабатывают привычку властвовать прежде всего над собою, воспитывают бесстрашие и дают достаточный объем всевозможных знаний. «А тебе Алкивиад, — замечает Сократ, — Перикл дал в учители слугу, совсем не пригодного к этому делу».1
В «Протагоре» забота о душе связывается в основном с познанием и самопознанием, в ходе которых происходит трансформация души, а в «Лахесе» — с педагогикой, трактующейся как обучение искусству жизни. В «Теэтете» и «Федоне» она трактуется как тяжелый груз, тягота и близка хайдег-геровскому пониманию тревоги. В «Пире» речь идет о спасении души для вечной жизни. Таким образом, забота о себе становится уже
1 Платон. Диалоги. М., 1986. С. 201.
не столько политической, сколько философской, и касается подготовки человека к жизни.
Способы организации общественного порядка путем культивирования искусства заботы о себе, описанные Платоном, не исчерпывают действительных способов работы с человеком, которые практиковались в античном обществе. Более того, его учение не столько опирается, сколько отталкивается от тех реальных и особенно недискурсивных практик, которые функционировали в античном полисе. Платоновская забота о душе — это, скорее всего, утопия, изучение которой должно осуществляться на фоне конкретно исторических способов производства человека. Для этого необходимо обратить внимание на появление государства как большой социальной машины, требующей для своего функционирования людей с совершенно особенными, не данными от природы качествами.
Государство является, по мнению Л. Мэмфорда, одним из главных изобретений человечества, раскрывающим суть неолитической революции, которую обычно связывают с техническими открытиями плуга, гончарного круга, ткацкого станка и др. Именно оно связало людей в новый тип общности и произвело фундаментальные изменения не только в способе жизни, но и в психологии, морали и самосознании людей. Аграрное общество, состоящее из небольших общин, зиждется на единстве, коммуникации и кооперации, которые воспроизводятся изобретенными в первобытную эпоху мифами, магическими ритуалами, табу, фетишами, тотемами, разного рода обрядами, посвящениями. Наше сегодняшнее понимание этой причудливой картины верований и обычаев состоит в сведении их к неким животнообразным и первобытно-кровожадным инстинктам, зовом которых мы, в свою очередь, объясняем наличие в самих себе запретных желаний. Но как несправедливо сваливать на животных нашу агрессивность, культивированную в ходе именно человеческой истории, так же не верно приписывать древнему человеку некую исходную тягу к насилию, убийству, тирании и т. п. Как животные склонны к кооперации и сотрудничеству, так и первобытные люди по-своему логичны и рассудительны, более того, вполне умеренны в своих желаниях. Брутальные обряды, с которыми сталкиваются современные исследователи, чаще всего являются не столько уступкой якобы врожденному инстинкту разрушения, сколько вполне искусственными способами культивирования таких
качеств, необходимых первобытному охотнику, члену племени, человеку, поставленному во вполне определенные отношения обмена продуктами своего труда.
Точно так же с появлением городской цивилизаций и огромных государств возникает потребность в субъектах принципиально иного типа. Новая авторитарная организация, во главе которой стоит небольшая группа людей, монопольно владеющая властью, контролирует обширную территорию из центра и уже не может полагаться на родственные связи, исторически сложившуюся привязанность людей к месту обитания, на обычаи и обряды, характерные для небольших общин, которые имели тенденцию к выделению и сохранению себя на фоне других общин. «Горизонтальные» связи между людьми уступают место «вертикальным», основанным на иерархической пирамиде. Ее задачами является захват как можно больших территорий, развитие эффективных орудий труда, освоение ресурсов, использование рабочей силы, рекрутируемой из «чужих». Не следует переоценивать экономическую природу первых государств, оставивших такие сооружения, которые не имели утилитарного назначения. Государства Америки строили культовые сооружения и тратили силы на создание огромных каменных идолов, а в Египте сооружали гигантские пирамиды. Это говорит о том, что такие государства преследовали космологические цели упорядочивания и символизации мира, что подтверждается единством жрецов и царей. Древний царь остается для нас во многом темной и трагической фигурой, несводимой к популярному образу первобытного деспота, исполнявшего дикие, необузданные желания. Трон, постоянное и терпеливое восседание на котором составляло главную обязанность царя, символизировал сакральную точку покоя в мире становления и изменения, был величаво покоящимся стражем, чутко прислушивающимся к зову бытия.
Царь как центральная фигура власти был не самым свободным членом общества, ибо именно с него начиналось формирование важнейших субъектов государства. Он проходил жесткие процедуры подготовки и посвящения. Можно говорить о некоторой эволюции в направлении легитимации власти. Первоначально, вероятно, царь подбирался, наподобие далай-ламы: должны быть какие-то божественные знаки на теле избранника и небесные знамения, свидетельствующие о его избранности или божественном происхождении. Это остается
значимым и впоследствии. Самозванцы в России предъявляли народу различные, желательно в форме креста, знаки на теле и этим подвергали сомнению официально принятые процедуры коронации, которые включали как религиозное, так и светское признание. Венцом представлений о просвещенной монархии является образ властителя, защищающего естественное право, порядок и национальные интересы государства.
Царь должен демонстрировать власть, и с этим связана культивация его внушающего ужас облика, великолепных одежд, свиты, а также такого важного атрибута власти, каким является карающий меч. Солидарность с царем ставится выше родственных и клановых связей, хотя последние не исчезают, а сохраняются в основе формирования двора. Гарантией единства выступают покорность и исполнительность, и поэтому воспитание придворного сословия и все более расширяющегося штата чиновников тоже становится важнейшей государственной задачей. Они проходят своеобразную дрессуру, значительно отличающуюся от той, которая была принята в родовом обществе. Речь идет о воспитании принципиально новых качеств. Кроме точности, исполнительности и послушания можно отметить грамотность. Именно огромные государства порождают письмо, ибо точные письменные распоряжения и приказы, менее подлежащие искажению, забвению и субъективному пониманию, становятся главным способом приведения в действие огромной машины, располагающейся на обширной территории. Чрезвычайно рано происходит слияние знания и власти. Знание как способность предсказывать события, устанавливать порядок времени, размечать и сегментировать территорию, рассчитывать объем работ и трудовые ресурсы становится атрибутом и формой реализации власти в сфере повседневной жизни, порядок которой устанавливается с точки зрения потребностей государства. Оно требует своего субъекта, формирование которого зависит от идеала истины, на котором строится общественная жизнь. Это могут быть маги и жрецы, посвященные в тайные знания, или писцы, уже мало отличающиеся от современных чиновников неисполнительностью и способностью брать взятки.
Наконец, третьим типом субъекта в общественной мегамашине являются работники — рабы, производство которых осуществлялось отчасти из своих — слабых и обедневших слоев населения, а отчасти из чужих — пленников, вырванных
из родной общины, лишенных почвы, родственных связей, дома, которыми они были сильны. Эта денатурализованная масса, согнанная в бараки и повинующаяся плети надсмотрщика, ленивая и неинициативная оказалась тем не менее весьма эффективной в строительстве гигантских сооружений. Подобно солдатам регулярной армии, каждый член которой, разумеется, уступал по своим данным героям и рыцарям, армия рабов была доведена по потери человеческого достоинства и вместе с тем до необходимой степени отупления и автоматизма, которая требуется от органа огромного трудового конвейера.
Анализ способов производства государственных тел показывает, что философы заблуждались относительно беспризорности человека. Он всегда был предметом опеки, и только отвращение к этим анонимным и часто незаметным в силу своей кажущейся естественности процедурам дрессировки и воспитания человека заставляло философов искать какие-то более совершенные идеализированные методы формирования, по крайней мере, «свободного сословия». При наличии относительной свободы, материальной независимости, образования обеспокоенные судьбой общества философы стремились сделать точкой его опоры производство идеального этического субъекта. В этом смысле создание «Академий» и «Ликеев» представляет собой попытку эмансипации человека.
Но как таковые они наталкивались на опеку государства и закрывались, если препятствовали его политике. Пространства сердечности, душевности и рассудительности культивировались не только философами и священниками, но и властью. Нередко, испытав поражение от более могущественной силы, государство было вынуждено поднимать моральный дух общества иными средствами, чем принуждение и насилие. Граждане находят способы обходить запреты, поэтому приходится создавать позитивные культурные пространства для реализации духовного единства населения.
Как уже отмечалось, Платон явно недооценивал ту заботу о теле и душе гражданина полиса, которую проявляло общество. Его учение было своеобразной реакцией на тенденцию к тирании, на отказ от общинно-демократических традиций, от во многом еще аграрного происхождения норм и обычаев, на основе которых строился полис. Жизнеспособность родственных и личных связей, традиций и норм, обеспечивающих
порядок городской общины, обусловливалась ее небольшим размером. Однако по мере роста жителей полиса и их потребностей возникала необходимость в освоении новых территорий, увеличении числа как рабов, так и чиновников, воинов, надсмотрщиков и прочих служилых людей.
Среди качеств государственного тела в античном полисе одним из ценных выступала физическая сила, контролируемая разумом. Именно поэтому, а не только по причине особых эстетических вкусов древних греков, историки находят повсюду изображения прекрасных обнаженных, преимущественно мужских, тел. Нагота была и остается государственным символом. Достаточно обратить внимание на то обстоятельство, что выполненные из мрамора обнаженные фигуры юношей представляли собой памятники и чаще всего погибших воинов, чтобы понять, что она представляет собой государственный идеал не просто здорового, сильного тела воина, сколько человеческой доверчивости и открытости. Прежде всего власть нуждается в невинном белом теле, которое, как чистый лист бумаги, идеально пригодно для записи знаков. Телесная нагота в какой-то степени подобна рассудительности члена античного полиса, невинной восприимчивости его души к аргументам разума и риторическим фигурам речи.
Идеал прекрасного юного тела не случайно является государственным символом, и не только в эпоху античности. Он не противоречил старости, морщинам и даже уродству. Напротив, он интенсифицирует сострадание и почтение к телу, которое испещрено следами власти.
В каких институтах осуществлялось производство государственного тела? Прежде всего, конечно, в гимназиях. Само это слово буквально означает наготу и свидетельствует о том, что первоначально юноши занимались там гимнастикой, борьбой и другими процедурами обнаженными. Это не объясняется только эстетическим или извращенным сексуальным вкусом афинян. Был ли он следствием философской концепции истины, как его обосновывает Платон, или государственной формой дружбы, одухотворяющей казарму, какой по сути дела была афинская и особенно спартанская гимназии, в любом случае он искусственно культивировался, предполагал значительную работу по преобразованию тела и духа.
Сборка и разборка женского тела осуществляется культурой столь же тщательно, как и мужского. С одной стороны,
пишутся разного рода советы и послания философов и священников. Они начинаются с признания прирожденной мягкости и доброты, а заканчиваются доказательством беспорядочности и неразумности женщин, которые поэтому нуждаются в руководстве со стороны мужчин. Это нередко получает космологическое обоснование. Так, уже Аристотель своей теорией материи и формы существенно уменьшал роль матери в рождении ребенка, считая носителем формы только отца. Мужское тело считалось в античности теплым, а женское — холодным. Отсюда их разное положение в обществе и различные процедуры воспитания. Женщины должны быть закрыты одеждой, а мужчины, напротив, открыты. Женщины должны находиться в доме и не выходить за пределы двора. Мужчины как производители теплоты должны заниматься физическими упражнениями и ораторским искусством, которое способствует росту этой ценной тепловой субстанции. Даже знаменитые и таинственные женские культы вовсе не были праздниками освобождения женской стихии, а судя по тому, что проходили в рамках площади, хотя и под прикрытием шалашей, они также выступали как способы производства официально ожидаемой и дозволенной женскости.
Познание и производство желаний
Онаучивание дискурсов о душевном и духовном не зависит от морализирующих оценок. Гуманитарные дисциплины, религия, философия, искусство, претендовавшие на заботу о душе, на самом деле не имеют абсолютного значения. Сегодня уже нельзя не замечать, что о ней пекутся тихие и незаметные труженики: педагоги, психотерапевты, конфликтологи и т. п. и достигают при этом самых эффективных результатов. Их нельзя расценивать исключительно как пособников репрессивной власти, заставляющей людей думать, желать, чувствовать, видеть и понимать так, как это необходимо в ее интересах. В действительности вклад этих практических дисциплин в реальную эмансипацию человека огромен, поскольку именно они освобождают людей от устаревших различий, срабатывающих на уровне чувств и желаний.
В истории культуры выделяются две стратегии формирования душевных процессов, одна из которых связана с искусством жизни и была обозначена в последних лекциях М. Фуко как «забота о себе», другая — с онаучиванием дискурсов о духов
ном, главной задачей которых стало формирование определенного типа субъекта, способного к производству знания, выступающего в самом широком смысле как власть. Примером первой может служить искусство любви, наиболее ярким руководством к которому является одноименное произведение Овидия, а второй — психоанализ, продвинувший знание в области не просто запретного, но и вообще неосознаваемого.
Искусство любви складывалось как обобщение опыта поколений и лишено морализаторского обличения, научного интереса или экономической целесообразности. В нем наслаждение ценится само по себе и выше всего; изучаются средства его достижения и сохранения. Наставления Овидия обобщают опыт покорения женщин и дают в руки нечто вроде методики, следуя которой любой и даже не особенно привлекательный мужчина может добиться расположения женщины, а главное, сохранить его на достаточно долгий срок и сделать совместную жизнь приятной. Овидий исключает слепую страсть и формулирует некоторые правила любовной игры, вступление в которую вызывает и интенсифицирует соответствующие чувства.
Современная цивилизация заменяет искусство любви знанием. При этом они становятся трудноразличимыми. Современные романы и особенно прустовская «Пленница» свидетельствуют о том, что любовь стала формой познания, а ревность — исследования. Мужчины и женщины образуют замкнутые семиотические миры, и нравится тот, кто наиболее успешно пользуется знаками того или иного мира. Познание самым тесным образом связано с признанием: говорить истину — значит признаваться и тем самым открыть возможность власти. Все это, конечно, сильно отличается от платоновской теории истины, где речь шла о раскрытии сокрытого. Современная же истина не столько открывает, сколько закрывает, возводит границы и барьеры, которые, собственно, и образуют саму почву власти.
Признание имеет двоякий характер: человек признается как член общества, группы, семьи, как нравственное, ответственное существо. Метафизика признания, несомненно, приоткрывает и другие важные стороны нашей жизни, основанной на признаниях дома родителям, в школе — учителям, в государстве — авторитетным органам. Совершенно отчетливо функция признания выражена в психоанализе. Он вовсе не озабочен приоткрытием тайных сторон сексуальности, а пресле
дует, скорее, противоположную задачу — создание эффективной защиты, выполняющей контролирующую и управляющую функции. Таким образом, очевидна связь психоанализа с основной задачей цивилизации душевных явлений: не только подавлять, но, наоборот, интенсифицировать телесные желания, создавать зоны высокого напряжения между моральными запретами и телесными влечениями, использовать возникшую энергию в общественных интересах.
Именно в ходе развития психоанализа современное общество превращается в общество перверсий, в «больное общество» (Фромм). Избавившись от пуританства и лицемерия, оно стало жить производством разного рода аномалий и отклонений. При этом ничто не является запретным, если оно выражается открыто, познается и контролируется. Следствием научной дискурсивизации секса становится маркировка всех его сфер, констатация мельчайших подробностей. Для этого требуется все возрастающий материал об интимных отношениях людей. Именно с этим связано развитие психоанализа, который поднял на невиданную высоту старую технику признания в форме исповеди. Сам Фрейд считал психоанализ формой эмансипации. Однако по мере институализации психоанализа и расширения порнографии возникает экономическая необходимость в увеличении круга лиц с различными отклонениями. Становление наук о сексе изначально связано с управлением и контролем. Поэтому психоаналитик, вырывающий признание о запретном, о неосознаваемом, не столько открывает истину, сколько продуцирует новую реальность. Это связано с тем, что современное общество удерживает порядок не запрещением желаний, а, напротив, их интенсификацией. Он отличается созданием и насаждением нового порядка там, где его раньше не было. В этом отчетливо проявляется тенденция цивилизации конструировать новое сексуальное тело и овладевать им путем контроля за наслаждениями, т. е. создавать новую реальность и угнетать ее.
В постклассическую эпоху возрос интерес к подавленным желаниям, не нашедшим выражения в открытом дискурсе. Отсюда популярность психоанализа, исследующего тайный исток «человеческого», генеалогию вытесненных, но не преодоленных желаний. Однако старая игра духа и плоти сохранилась и в психоанализе: внизу располагался мощный парогенератор, производящий желания, а сверху — надзирающая
и разрешающая инстанция, распределяющая и регулирующая давление в системе капилляров, по которым циркулировала и обменивалась энергия либидо. Кто господствует над этой энергией, кто держит в своих руках кончики нитей? Фрейд, хотя и считал разум чрезмерно жесткой инстанцией, полагал, что в ходе разговора с психоаналитиком больной способен примирить эти две противоборствующие силы.
Если классическая философия считала разум господствующей и контролирующей аффекты инстанцией в человеке, то романтическая установка разрабатывала своеобразную «метафизику экстаза», согласно которой спонтанная чувственность ближе к природе, она в принципе не подлежит искажающему воздействию власти и, стало быть, выступает опорой истины и подлинного бытия. Понятие бессознательного как модус экстатического и внерационального, как выражение стратегии воли к жизни, которую сковывают знание и мораль, первоначально разрабатывалось в русле этой традиции.
Фрейд, казалось, освободился от метафизических установок и естественнонаучным образом приступил к изучению архипелага бессознательного. При этом главной мыслью представляется подход к нему как к энергетическому базису, рациональное использование и расходование которого должно быть изучено и поставлено под контроль. Этим подходом определяются функции понятий желания и либидо, которые не исчерпываются, как думали некоторые исследователи психоанализа, возрождением понятия природы. В нем можно выделить два разных полюса. Во-первых, экспликацию динамики желания, включая цель и объект, исполняемый и отсутствующий. Во-вторых, понимание либидо как первичного влечения в работе «По ту сторону принципа удовольствия», где этот процесс исследуется в двух режимах: Эроса и Танатоса. Изначальная энергия рассекается на два потока, задающих психику, телесность и их отдельные органы. Наиболее интересной аналогией выглядит характеристика этих влечений как бесконечного повторяющегося процесса, имеющего кибернетический, т. е. стохастический, характер. Бесконечное повторение при условии отсутствия единства Танатоса и Эроса указывает на нечто иное, а именно на то, что наслаждение — это прежде всего энергетический процесс. Именно в этом состоит своеобразие фрейдовского подхода к удовольствию, которое обычно раскрывается как чувство, связанное с потреблением, созерцанием, понима
нием, моральным удовлетворением и т. п. Желание выступает как либидо, как производительная сила, способная к разнообразным превращениям и изменениям, и как энергия, канализируемая и используемая в различных системах для производства необходимых аффектов. Эта сторона желания описана Фрейдом при разъяснении принципа константности, соединяющего удовольствие и реальность. «Рассматривая изучаемые нами психические процессы с учетом этого хода развития, — писал Фрейд, — мы вводим в нашу работу экономическую точку зрения».1 Именно здесь ярче всего проявляется сходство с Марксом, который использовал понятие рабочей силы в качестве основания общественной системы. Как и Эрос, она подчинена своему принципу константности, который реализуется в законе стоимости, обеспечивающем обмениваемость разнообразных продуктов труда.
Другой режим энергии либидо, которая, как кажется, не регулируется и не контролируется в рамках общественной системы труда или дискурса, проявляется в стремлении к смерти и разрушению. Но фактически эта энергия оказывается столь же позитивной, как и та, что циркулирует по сетям порядка. Она отличается лишь чрезмерностью и поэтому тема-тизируется Фрейдом не как биологические регулярные ритмы, а как «химические» реакции, имеющие взрывной характер, вызывающие страдание и в этом по своим последствиям подобные «кризисам» Маркса. Таким образом, нельзя считать, что Фрейда интересовал некий невыразимый или запретный предмет или содержание мечтаний. Для него самым важным было изучение преобразования энергии желания в разнообразных формах манифестируемого содержания от описания сновидений до научного и художественного творчества. Топико-экономический подход стал общепризнанным в современной философии, и наша общественность, стыдливо забывшая марксизм, могла бы внести в его развитие существенный вклад. Вместе с тем у него, как и всякого другого проекта, есть определенные границы, для расширения которых требуется использование классической техники смысловой интерпретации.
Власть, труд, капитал и либидо — вот новые идолы современности, вытеснившие классические абсолюты рационально
1 Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия // Я и Оно. Тбилиси, 1991. С. 139.
сти. Важнейшим шагом на пути осмысления природы власти можно считать весьма популярные труды представителей критико-идеологической школы, которые упрекали традиционную философию за некритическое оправдание действительности и поддержку существующего порядка вещей. Сегодня власть не нуждается в онтологическом обосновании, и поэтому философия, момент осуществления которой был упущен, стала, как утверждал Т. Адорно, анахронизмом. К этому мнению присоединяется и младшее поколение критических рационалистов, считающих, что коммуникация на основе философии является чем-то иллюзорным и эфемерным по сравнению с идеологиями правящих партий, манипулирующих сознанием посредством «масс медиа», располагающих полицией и армией для подавления инакомыслящих.
Сведение власти к политическому насилию или к идеологии было оспорено лидерами постмодернизма. Наиболее ярко это было выражено М. Фуко, который соединил в своем исследовании власти марксистское «производство», структуры Леви-Строса, дискурсы Р. Барта и дополнил их открытием недискурсивных практик и дисциплинарных пространств, при помощи которых власть управляет людьми, минуя осознание, оправдание или критику. В антропологически-гуманистическом стиле мышления XIX в. центральной фигурой культуры считался философ, охватывающий всю действительность тотальностью мысли и предлагающий рецепты действия во всех сферах жизнедеятельности. Именно эта фигура, думающая за других, ставится под вопрос в постмодернистских сочинениях. Сегодня философия не может и не должна стремится к реализации в форме абсолютного привилегированного дискурса Истины, Свободы, Ответственности. Современный философ — это скорее маргинальная, а не центральная фигура истории, философ, располагающийся на краях того, о чем он пишет. Его нельзя мыслить как некий полюс, преодолевающий сопротивление объекта, ибо он осуществляет функцию посредника и переводчика между теми конкретными, локальными и региональными дискурсивными и недискурсивными практиками, которые имеют место в обществе. Философствующий субъект должен осознавать себя носителем нескольких дискурсов и работать в пограничных зонах и переходах от одного порядка к другому.
Исследуя тему «Общество и безумие», Фуко показал тесную взаимосвязь нормы и патологии, рационального и нера
ционального и пришел к парадоксальному факту, что психология, определяемая как наука о сознании, на практике выполняла совершенно иную роль, а именно конституировала и производила безумие. Вместо метафизического противопоставления разума и безумия, Фуко описал историю все время изменяющихся форм рациональности, и в этой истории дискурс о безумии функционировал не как охраняющий от перверсий, а как управляющий опытом страдания. Аналогичным образом он исследовал тему «Знание и власть». В противоположность распространенной точке зрения об их несовместимости, из которой исходила критико-идеологическая школа, специализирующаяся на разоблачении идеологий как форм «ложного сознания», Фуко раскрывал знание как «диспозитив» власти, как форму ее легитимации и реализации. Их взаимная игра, осуществляющаяся на различных территориях общества, не сводится к просвещению, разоблачению или освобождению. Власть, определяющая условия возможности существования, не преодолевается пониманием и критикой в рамках некоего философского супердискурса или вооруженным восстанием против ее видимых политических центров. Исследование разнообразных стратегий и тактик власти, анонимной и многоликой, липкой и незаметной, оставалось для Фуко главной задачей его жизни.
Но где таится власть сегодня, если правительство не правит, а авторитетные органы прячут свое лицо или бездействуют? В условиях растворения власти в анонимных структурах повседневности всякие попытки избавиться от нее одним ударом оказываются наивными и несостоятельными. Символом современной власти выступает пустой трон, т. е. та сложившаяся структура порядка, которой подчиняются как угнетатели, так и угнетенные. Основной вопрос власти — это не кто сидит на троне, а как устроено само пространство власти. Заботой философии должна стать разработка стратегии и тактики эмансипации дисциплинарных пространств общества. Между тем, занимаясь критикой идеологии, она выступала в роли мальчика, сообщавшего о том, что король голый. Это не являлось секретом для масс, которые не нуждаются в просвещении и знают о действительном положении гораздо больше и лучше, чем интеллектуалы. Основная проблема людей заключается не в том, что власть их обманывает, а в том, что посредством устройства повседневных дисциплинарных пространств она
их делает такими, какими нужно, включая и само желание власти.
После Ницше, Маркса и Фрейда человек с его сознанием, доброй волей, свободой, ответственностью и прочими субстанциальными качествами, человек, наделенный «природой» или «сущностью», ориентированный вечными идеями или ценностями, стал стремительно закатываться за горизонт. Положение современной философии напоминает физику начала века, когда исчезли система неподвижных звезд, а вместе с ними твердые масштабы и абсолютные измерения. Сравнивая классику и современность, нельзя не заметить распада абсолютных ценностей и легитимации множественности разнообразных форм жизни. Однако неверно причину нынешних разговоров о смерти метафизики, литературы, истории, человека, Бога и т. п. усматривать только в релятивизме, нигилизме, неверии и беспочвенности. В новых условиях существования, когда разрушаются порядок и власть кровнородственных связей, когда деградируют религиозные, национальные ценности, когда человеку не на что опереться и он стремительно маргинализируется, люди опутаны невидимыми сетями повседневного порядка не менее, а, может быть, более прочно, чем раньше.
То, что философия все время при смерти, это уже никого не пугает, ибо ясно, что умирает одно и рождается другое, а на место догматичных и репрессивных систем, оправдывающих существующий порядок ссылками на устройство космоса, вечные идеи и ценности, приходят более пластичные и свободные формы философствования. И все-таки если бы дело со «смертью философии» обстояло настолько просто, то не стоило бы беспокоиться. Утрачивается опыт критической рефлексии, а новое оказывается, вопреки оптимизму постмодернистов, не всегда лучше старого. Это происходит потому, что мы судим историю, а не она нас. Но мы тоже должны проверять свои утверждения историческим опытом выживания. Когда современники расценивают великих философов прошлого как неких надутых мандаринов, то не проявляется ли в этом отвратительное чувство зависти по отношению к людям, работавшим на пределе человеческих возможностей? Это сегодня они могут показаться защитниками устаревшего порядка или расчетливыми буржуа, но в свое время именно они отстаивали новое и жили тем опытом предела, каким был когда-то рационализм и который остается недостижимым для многих наших
современников. Анализ современных дискуссий относительно стандартов рациональности классической философии вызывает подозрение, что их отрицание вызвано не столько логической или методологической несостоятельностью, сколько изменениями социального статуса и способов производства и обмена философского знания.
Проект модерна действительно остался незавершенным, а отказ от него произошел по причинам скорее внешнего, чем внутреннего порядка. Институты свободной общественности и вместе с ними критерии разумности или рациональности оказались мало дееспособными и не смогли противостоять бюрократии и технократии. Эти субъекты перехватили риторику рациональности для обоснования своих интересов и тем самым дискредитировали ее. Традиционный способ производства и обмена культурными ценностями, осуществляющий на основе рыночного механизма оценки потребительской стоимости высокого искусства, оказался нарушенным. Сегодня публика не получает удовольствия от продуктов духовного производства, но вынуждена платить за них крайне высокую цену. Неудивительно, что нынешние пионеры суверенности считают критерии рациональности, истинности, единства формами защиты существующего порядка и ищут новые пути самореализации. Однако философы авангарда не могут ни выйти за пределы философии, ни разрушить управляемый анонимными силами механизм обмена. Произведения, направленные против сложившегося порядка, перевариваются рынком и тем самым не разрушают, а укрепляют его. Отрицание старой культуры становится формой приобретения символического капитала. Для тех художников, которые ставят своей задачей преодоление отношений обмена, осознание этого становится настоящей личной трагедией, выход из которой они часто видят в молчании. Но и это не избавляет от того, что их символический капитал будет переприсваиваться и эксплуатироваться беззастенчивыми дельцами. В этой связи следует задуматься над парадоксальной мыслью, направленной против попыток искусства возвыситься над отношениями обмена:«Если в искусстве и есть какая-то эмансипаторная сила, то этой силой является только коммерческий художественный рынок».1
1 Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993. С. 331.
Если даже признать вслед за Ницше и современными панками, что наша жизнь является отрицанием, так как связана с отказом, самоограничением и насильственным покорением другого, а поэтому необходимо искать формы утверждения человека, то можно заметить, что и здесь поиски пионеров суверенности не выходят за рамки старой игры в «будни и праздник». Эксперименты с насилием, сексуальностью, смертью, безумием, поэтизация маргинального образа жизни могут быть оправданы в теоретическом отношении, если способствуют разоблачению пороков, прикинувшихся добродетелями. Можно понять протест против романтически-возвышенного дискурса о женщине в условиях ее безжалостной эксплуатации, можно оправдать безумцев, если общественные нормы ненормальны. Дать слово «униженным и оскорбленным» — благородная задача философии. Но, предлагая исполнение запретных желаний в качестве формы жизни, следует спросить себя, насколько они свободны, аутентичны и подлинны, не интенсифицируются ли они тоже искусственно, не является ли их производство частью стратегии власти, направленной на консервирование общественного порядка? Такая постановка вопроса снова приводит к проблемам разума и рациональности, к диалогу с обществом, историей и культурой. И то, что наше общество является больным, совсем не значит, что разум ему больше не нужен. Наоборот, рациональность всегда была и останется формой выживания и освобождения людей.
Философские процессы в России и на Западе протекают несколько разнонаправленно. Действительно, там мы наблюдаем господство структурализма, освоившего марксизм, фрейдизм, экзистенциализм, опирающегося на достижения этнографии, истории, литературоведения, охватывающего социальные, экономические, познавательные и даже повседневные структуры. Ему противостоит опыт анархии и маргинальности как опыт освобождения. У нас, напротив, на фоне анархии и архаики процветают дискурсы о человеческом и духовном, а все более популярными становятся религиозно-антропологические дискурсы. Ясно, что потребность и социальный заказ являются движущей силой. И все-таки философия всегда связана с пророческим даром и способностью видеть на несколько шагов вперед. Именно это, а не создание красивых теорий в духе «русской идеи», часто маскирующих или компенсирующих недостатки реальной жизни, делало философию необходимой
для выживания общества. Достичь этого можно только одним путем — разрабатывать более емкую философскую парадигму, в которой нашлось бы место самым разнообразным стратегиям и тактикам мировой и отечественной философии.
Грант РГНФ № 98—03—04401
Рекомендуемая литература
К главе 1
1. Башляр, Г. Новый рационализм / Г. Башляр. — М. : Прогресс, 1987.
2. Вызов познанию. Стратегии развития науки в современном мире / отв. ред. Н. К. Удумян. — М. : Наука, 2004.
3. Зандкюллер, Г. Й. Действительность знания. Историческое введение в эпистемологию и теорию познания / Г. Й. Зандкюллер. — М. : РАН, 1996.
4. Кассирер, Э. Познание и действительность / Э. Кассирер. — М. : Гнозис, 2006.
5. Кисселъ, М. А. Метафизика в век науки / М. А. Киссель. — СПб. : Искусство, 2002.
6. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. — М. : ACT, 2009.
7. Никифоров, А. Философия науки: история и теория / А. Никифоров. — М. : Изд-Пресс, 2006.
8. Поппер, К. Р. Эволюционная эпистемология / К. Р. Поппер // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. — М. : Эдиториал УРСС, 2000.
9. Степин, В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. — М.: Прогресс-Традиция, 1999.
10. Харган, Дж. Конец науки / Дж. Харган. — СПб.: Амфора, 2001.
К главе 2
1. Бергсон, А. Материя и память : в 4 т. Т. 1 / А. Бергсон. — М. : Московский клуб, 1992.
2. Гуссерль, Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1 / Э. Гуссерль. — М. : ДИК, 1999.
3. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос. — М. : Медиум, 1995.
4. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. — СПб. : Ювента ; Наука, 1999.
5. Полани, М. Личностное знание. На пути к посткритической философии / М. Полани. — М. : Прогресс, 1985.
6. Поппер, К. Логика научного исследования / К. Поппер. — М. : Республика, 2004.
7. Сартр, Ж.-П Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Ж.-П. Сартр. — СПб. : Наука, 2002.
8. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. — СПб. : A-cad, 1994.
9. Шилков, Ю. М. Гносеологические основы мыслительной деятельности / Ю. М. Шилков. — СПб. : СПбГУ, 1992.
К главе 3
1. Лекторский, В, С. Субъект, объект, познание / В. С. Лекторский. — М. : Наука, 1980.
2. Липский, Б. И. Практическая природа истины / Б. И. Лип-ский. — Л. : ЛГУ, 1988.
3. Слинин, Я. А. Феноменология интерсубъективности / Я. А. Слинин. — СПб. : Наука, 2004.
4. Патнэм, X. Разум, истина, история / X. Патнэм. — М. : Праксис, 2002.
5. Пригожим, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожим, И. Стенгере. — М. : Прогресс, 1986.
6. Рикер, П История и истина / П. Рикер. — СПб. : Алетейя, 2002.
7. Фуко, М. Воля к истине / М. Фуко. — М.: МАГИСТЕРИУМ, 1996.
8. Хайдеггер, М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Время и бытие. — М. : Республика, 1993.
К главе 4
1. Бурдъе, П Практический смысл / П. Бурдье. — СПб.: Алетейя, 2011.
2. Гадамер, Х.-Г О круге понимания / Х.-Г. Гадамер // Актуальность прекрасного. — М. : Искусство, 1991.
3. Гусев, С. С. Проблема понимания в философии / С. С. Гусев, Г. Л. Тульчинский. — М. : Политиздат, 1985.
4. Касавин, И. Т. Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные проблемы / И. Т. Касавин. — М. : Альфа-М, 2013.
5. Лекторский, В. А. Эпистемология классическая и неклассическая / В. А. Лекторский. — М. : Эксмо, 2007.
6. Микешина, Л. А. Философия познания. Полемические главы / Л. А. Микешина. — М. : Прогресс-Традиция, 2002.
7. Рассел, Б. Человеческое познание, его сфера и границы / Б. Рассел. — М. : ТЕРРА, 2000.
8. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикёр. — М. : Медиум, 1995.
9. Степин, В. С. Философия науки: общие проблемы / В. С. Степин. — М. : Гардарики, 2008.
10. Фреге, Г. О смысле и значении / Г. Фреге // Логика и логическая семантика. — М. : Дом интеллектуальной книги, 2000.
К главе 5
1. Брентано, Ф. О происхождении нравственного познания / Ф. Брентано. — СПб. : Алетейя, 2000.
2. Гадамер, X. Г Истина и метод / X. Г. Гадамер. — М. : Прогресс, 1988.
3. Гжегорчик, А. Жизнь как вызов: введение в рационалистическую философию / А. Гжегорчик. — СПб. : Вузовская книга, 2006.
4. Марков, Б. В. Разум и сердце: история и теория менталитета / Б. В. Марков. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 1993.
5. Наука и квазинаучные формы культуры / отв. ред. В. М. Найдыш. — М. : МПУ Сигнал, 1999.
6. Порус, В. Н. Рациональность, наука, культура / В. Н. Порус. — М. : Университет Российской академии образования, 2000.
7. Рациональность и культура / под ред. Е. Г. Драгалиной-Черной, В. В. Долгорукова. — М. : ИД ВШЭ, 2013.
8. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. — СПб. : Наука, 2000.
Новые издания по дисциплине «Онтология и теория познания» и смежным дисциплинам
1. Аблеев, С. Р. История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
2. Бакеева, Е. В. Введение в онтологию : учебное пособие для вузов / Е. В. Бакеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
3. Вундт, В. М. Система философии в 2 ч. / В. М. Вундт ; пер. А. М. Воден. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
4. Гегель, Г. Наука логики в 3 ч. / Г. Гегель. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
5. Декарт, Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт; пер. В. И. Пиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
6. Емельянов, Б. В. Русская философия XX века в 2 ч. : учебник для академического бакалавриата / Б. В. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
7. Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пургина. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
8. Иоселиани, А. Д. Философия : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. Д. Иоселиани. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
9. Квитко, Д. Ю. Очерки современной англо-американской философии (конец XIX — начало XX вв.) / Д. Ю. Квитко. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
10. Лейбниц, Г. Теодицея / Г. Лейбниц ; пер. К. Истомин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
11. Липский, Б. И. Философия : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В. Марков. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
12. Марк Аврелий. Размышления / Марк Аврелий ; пер. С. М. Роговин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
13. Нордау, М. Вырождение / М. Нордау; пер. Р. И. Семент-ковский. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
14. Онтология и теория познания в 2 т. : учебник для академического бакалавриата / Ф. Ф. Вяккерев [и др.] ; под ред. Ф. Ф. Вяккерева, В. Г. Иванова, Б. И. Липского, Б. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
15. Писареву Д. И. Исторические очерки в 2 ч. / Д. И. Писарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
16. Плеханову Г. В. Очерки по истории материализма / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
17. РенаНу Э. История первых веков христианства. Апостолы / Э. Ренан ; пер. М. А. Шишмарева. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
18. РуссОу Ж. Об общественном договоре или принципы политического права / Ж. Руссо. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
19. Светлову В. А. Философия : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
20. Ткачеву П. Н. Избранные философские труды в 2 т. / П. Н. Ткачев. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
21. Фихтву И. Г. О подлинной сущности новейшей философии. О назначении ученого / И. Г. Фихте. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
22. Хомякову А. С. Избранные философские сочинения в 2 т. / А. С. Хомяков. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
23. Чичерину Б. Н. Наука и религия / Б. Н. Чичерин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
24. Шаповалову В. Ф. Философия в 2 ч. Часть 1. Введение в философию. Классическая философия : учебник для академического бакалавриата / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
25. ЭрНу В, Ф. Борьба за Логос. Философские произведения / В. Ф. Эрн. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
26. ЮМу Д. Диалоги о естественной религии / Д. Юм ; пер. С. М. Роговин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.