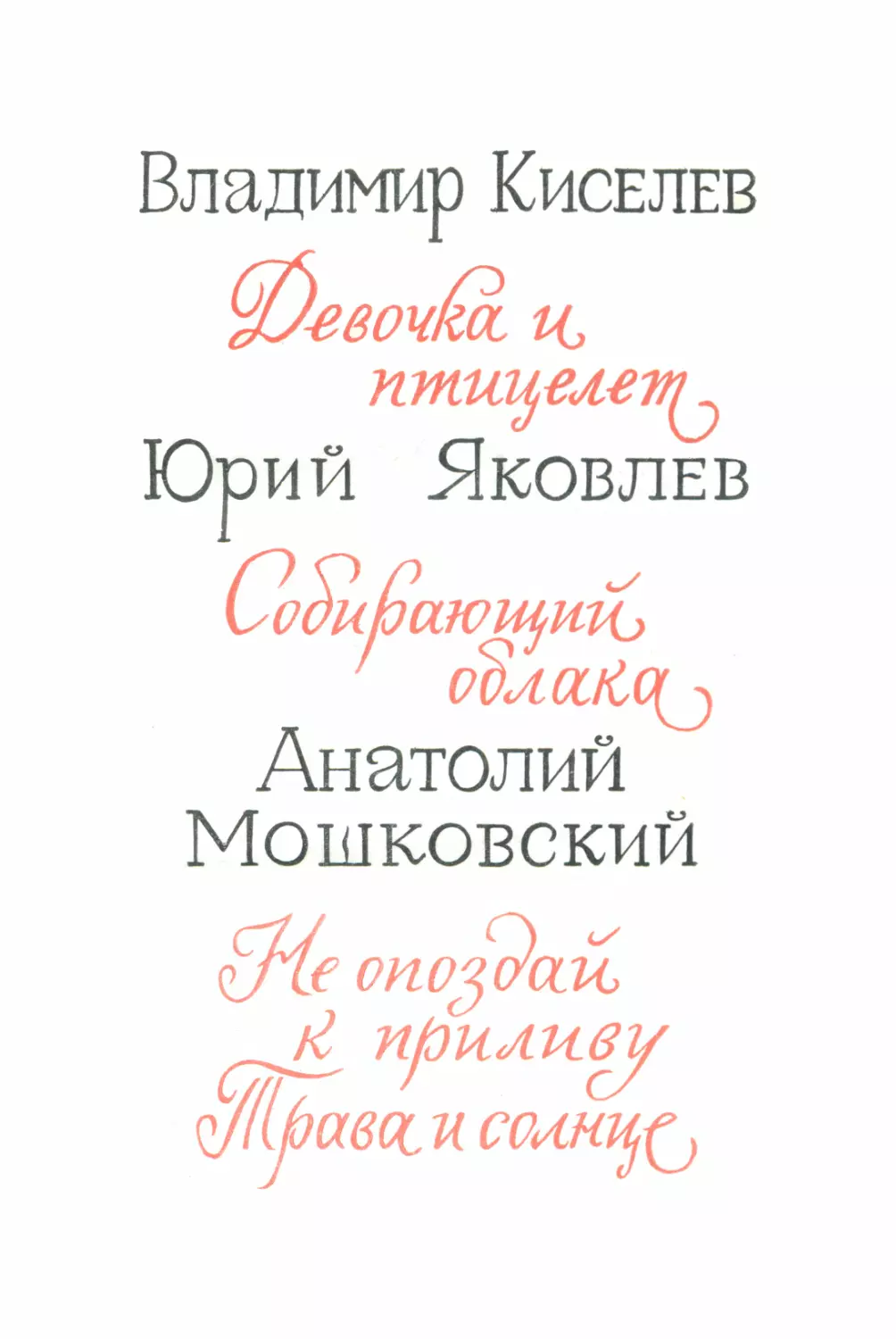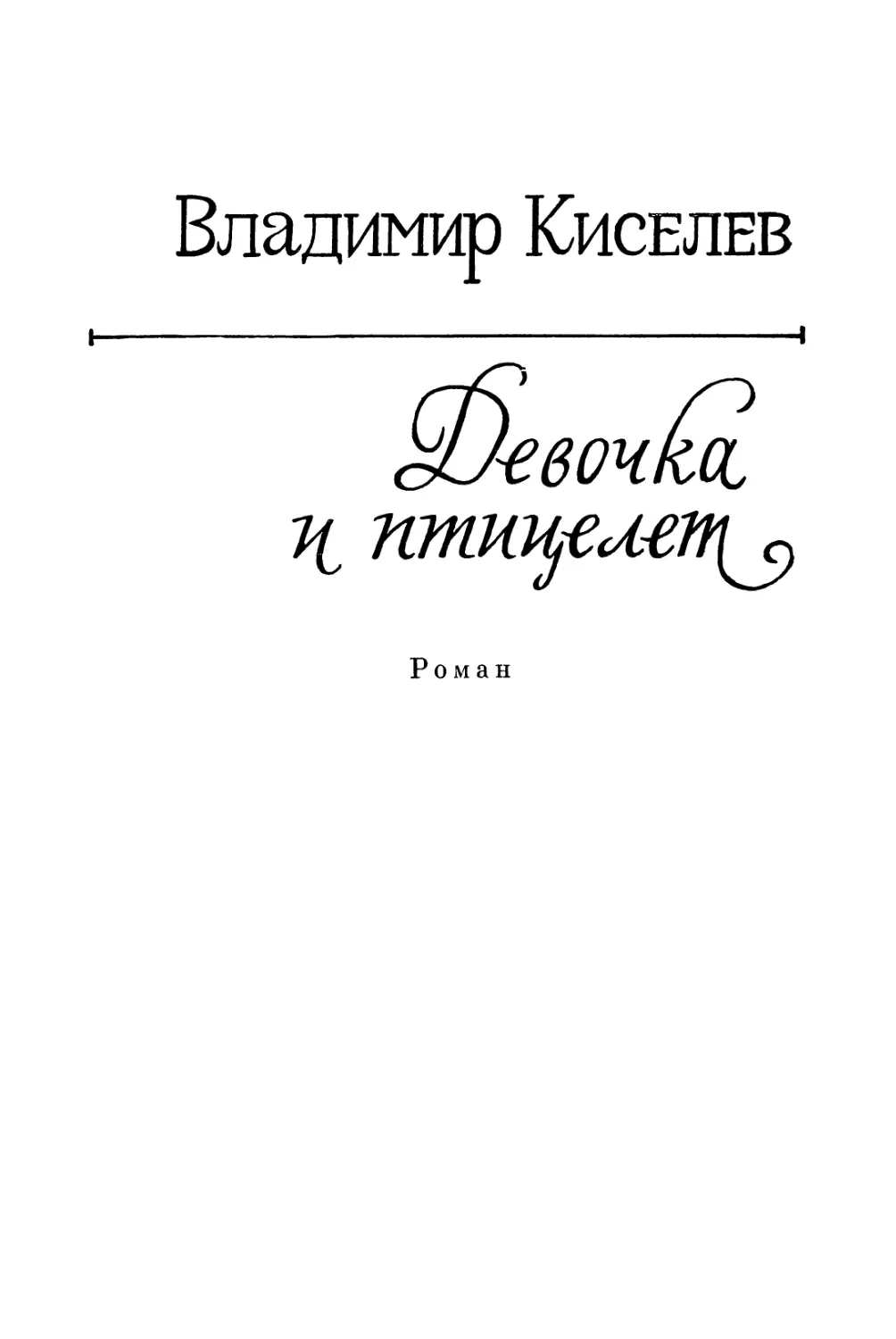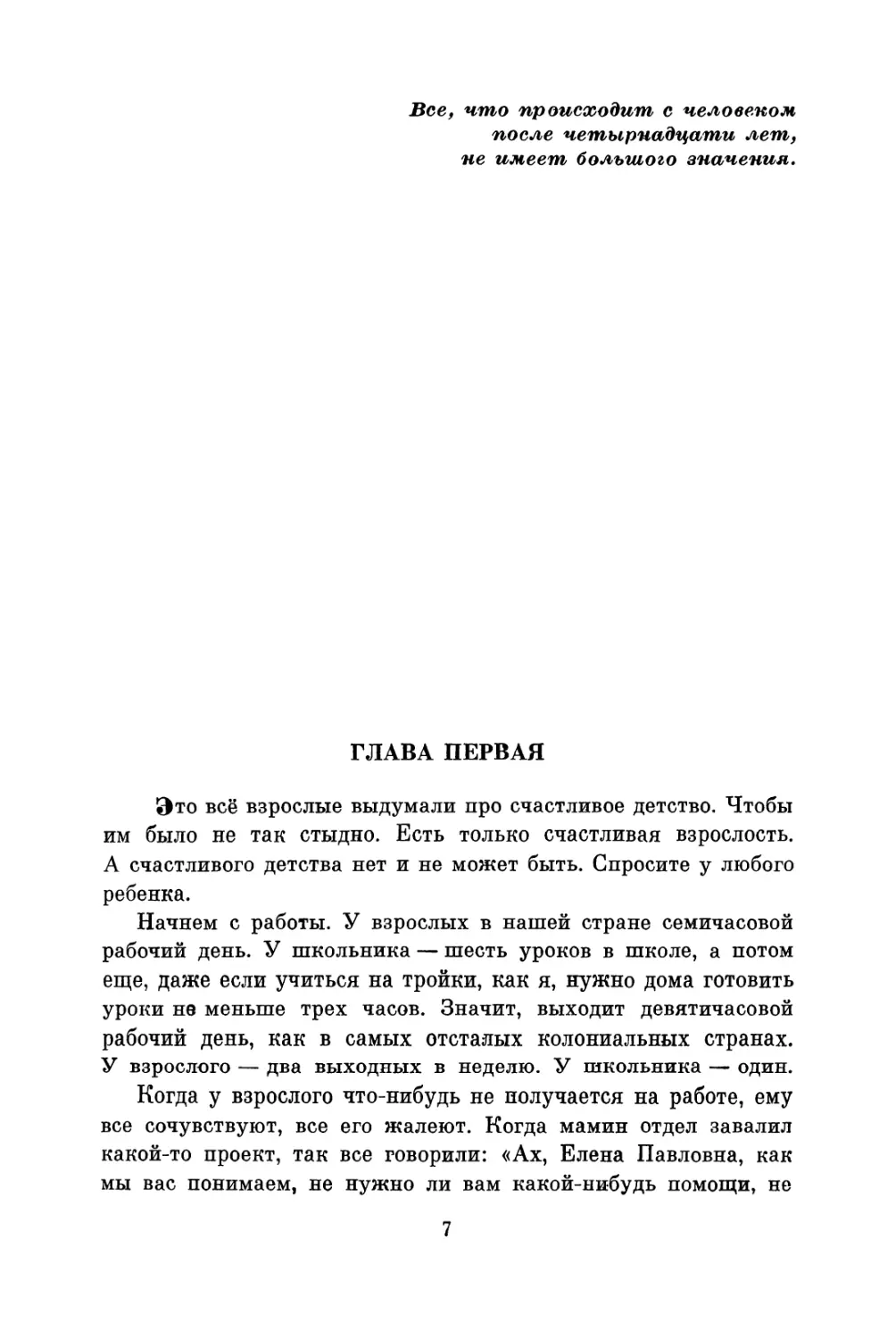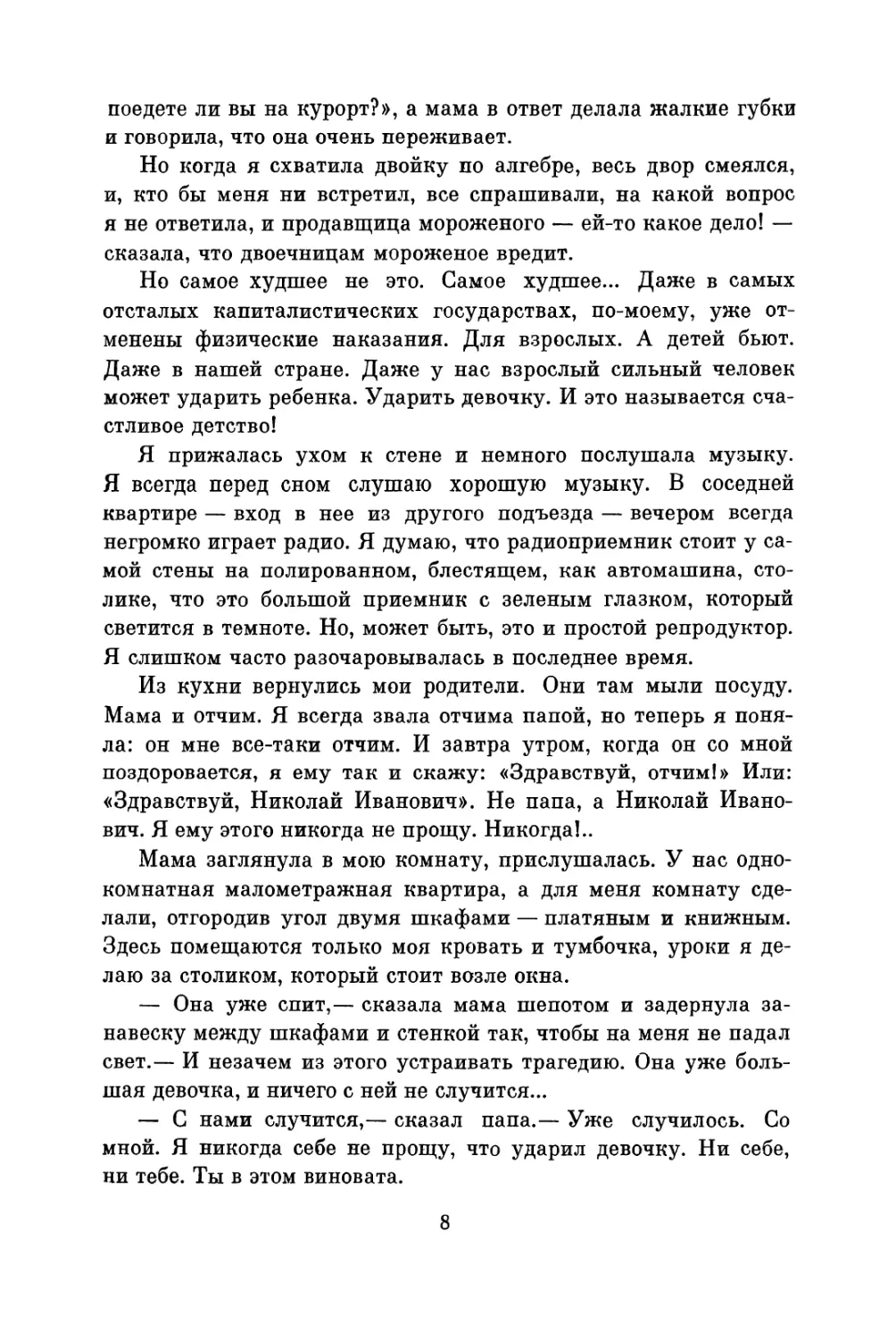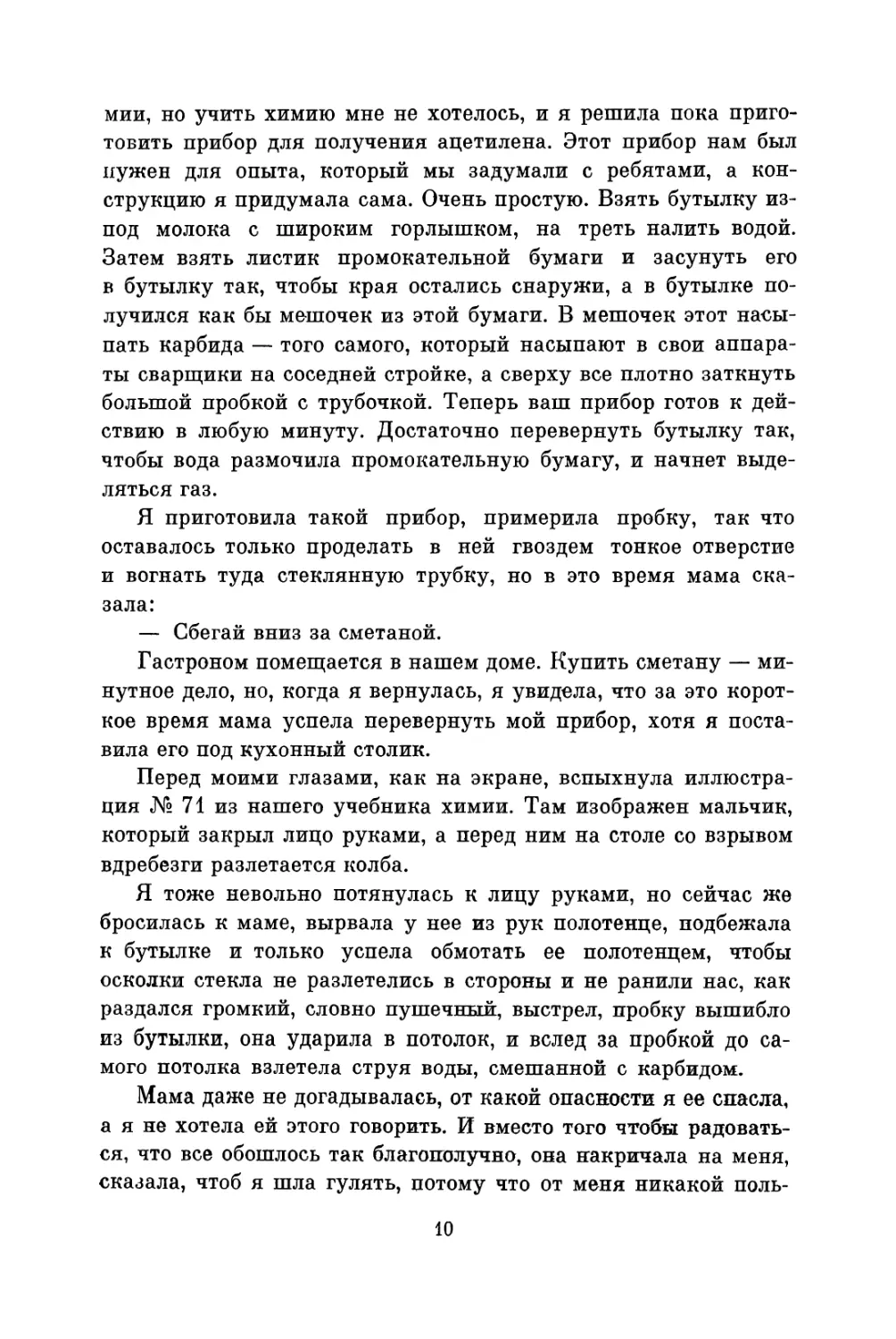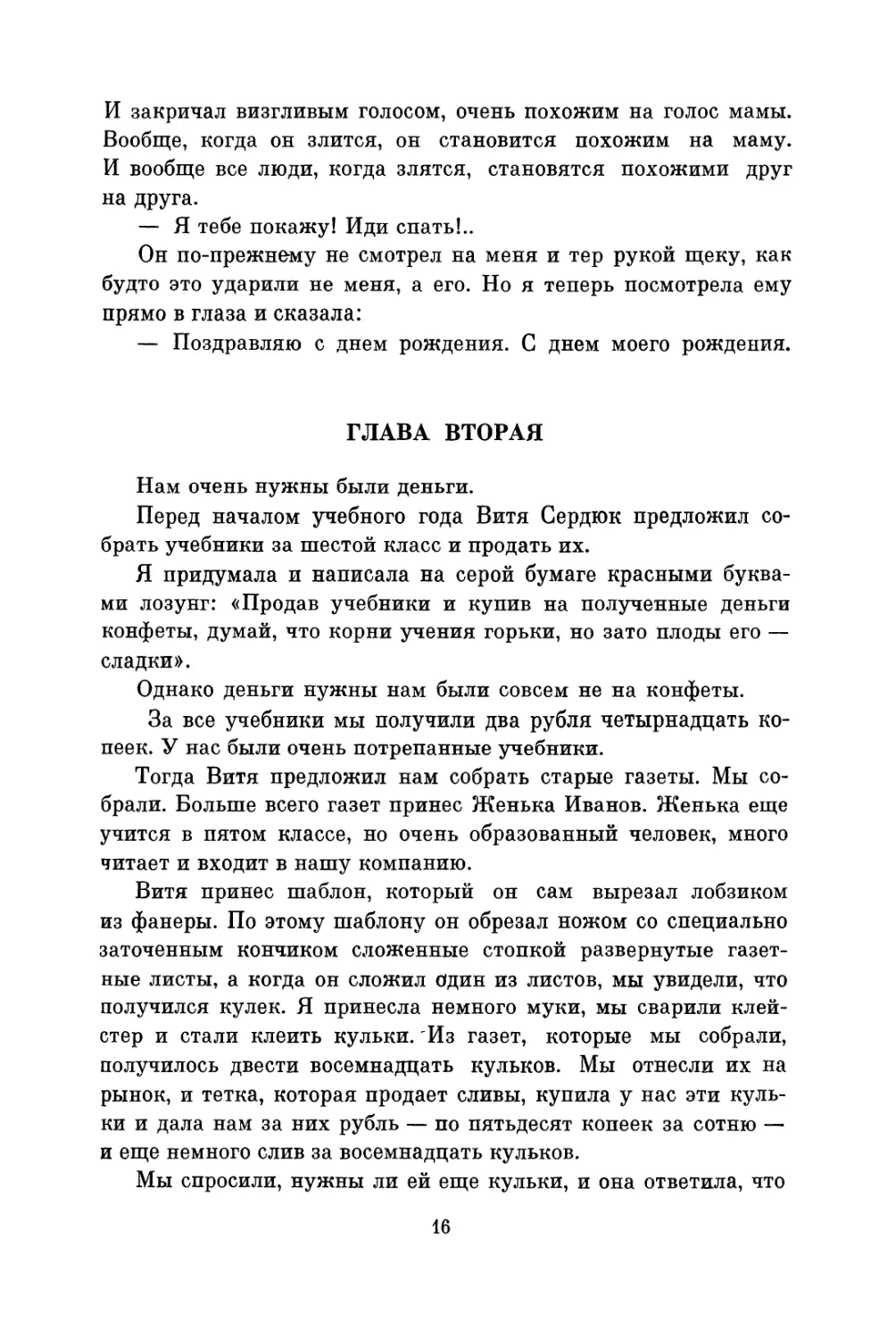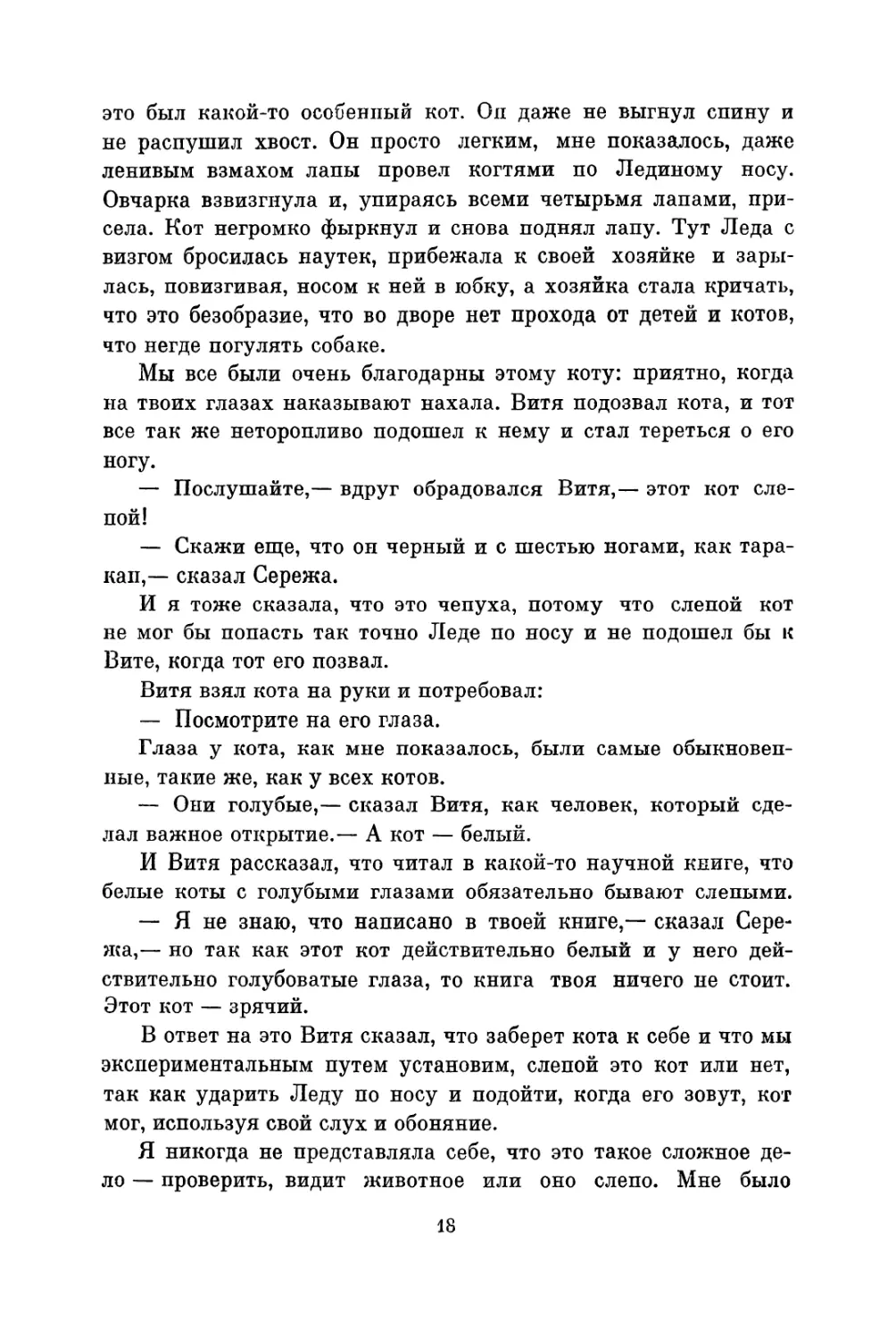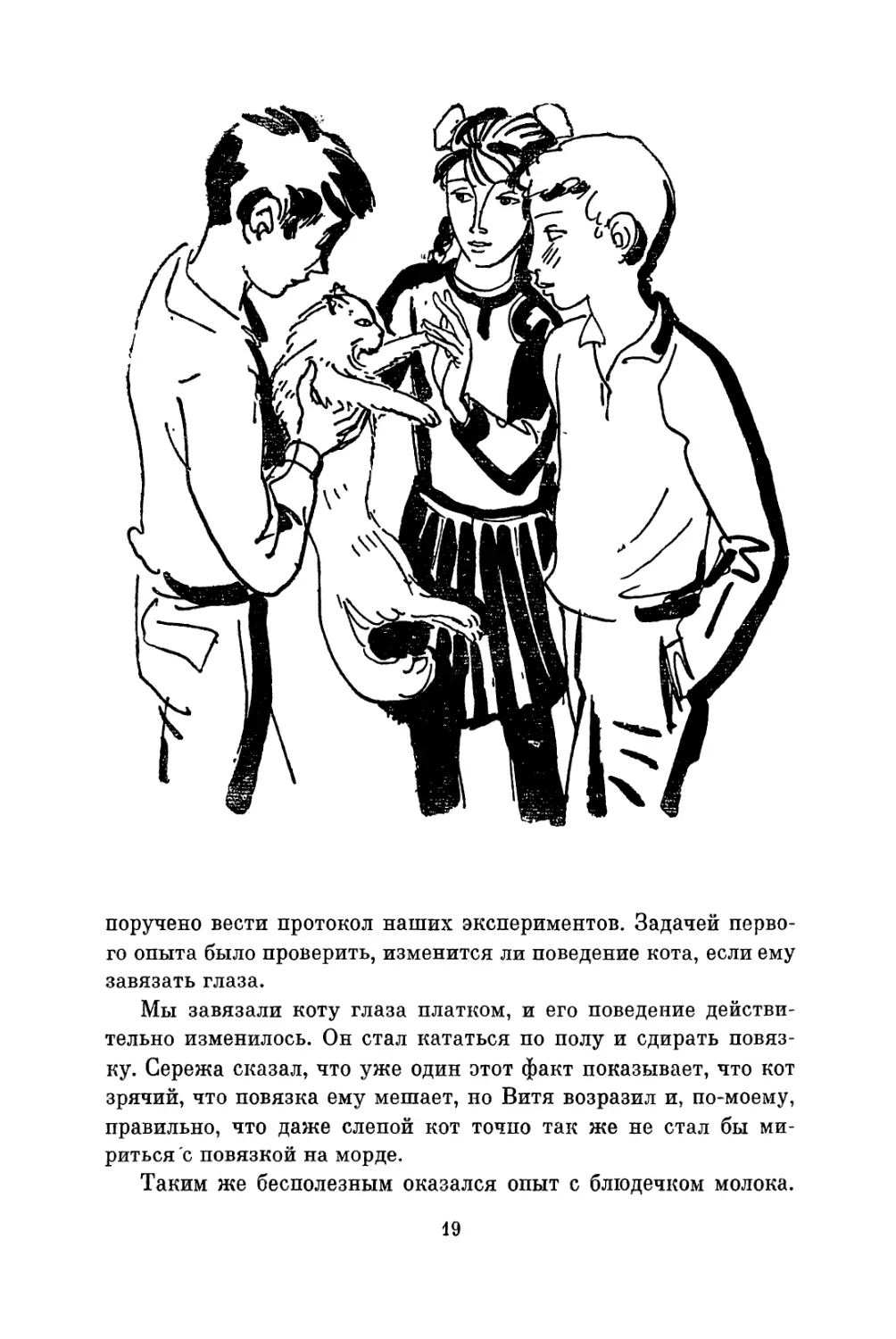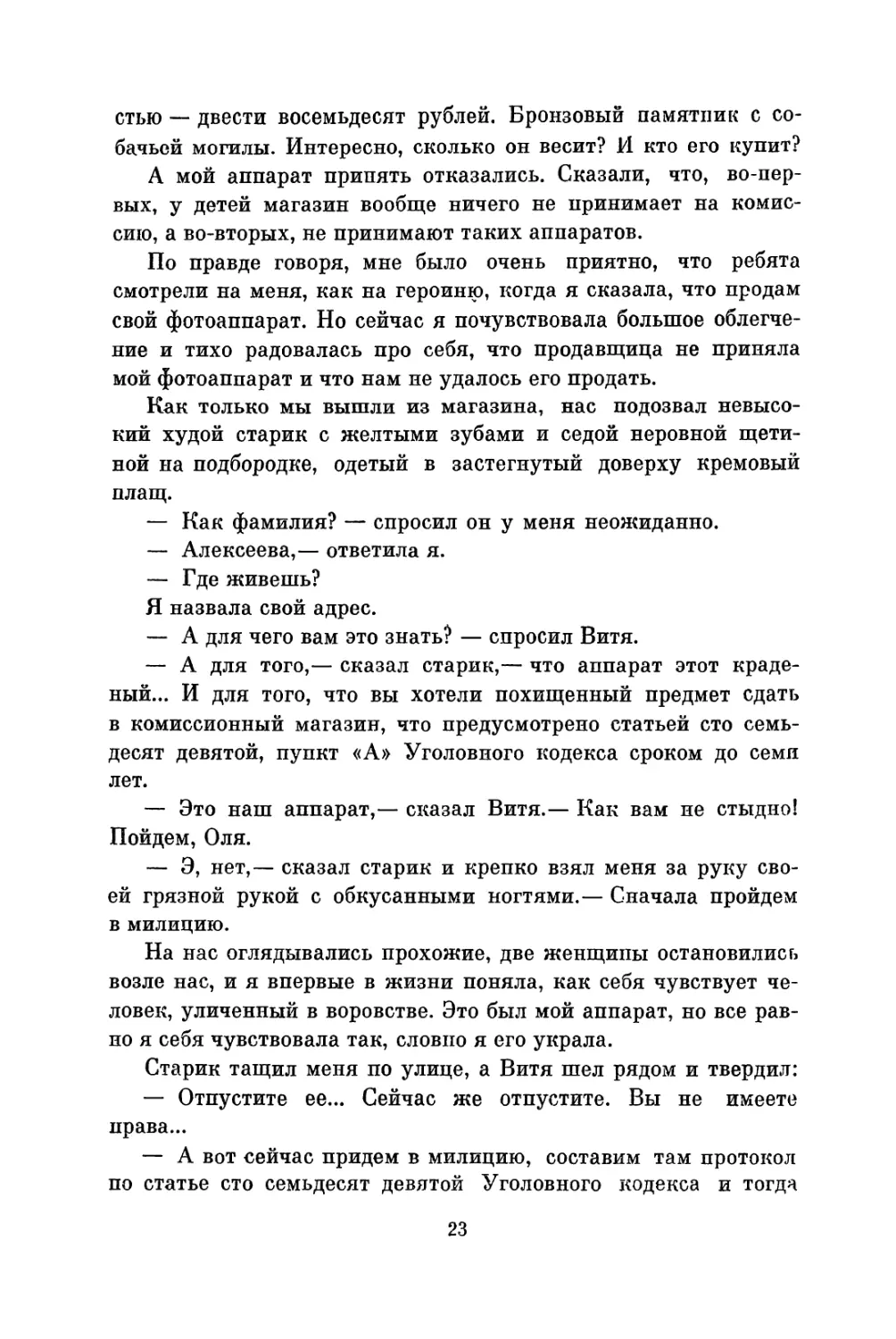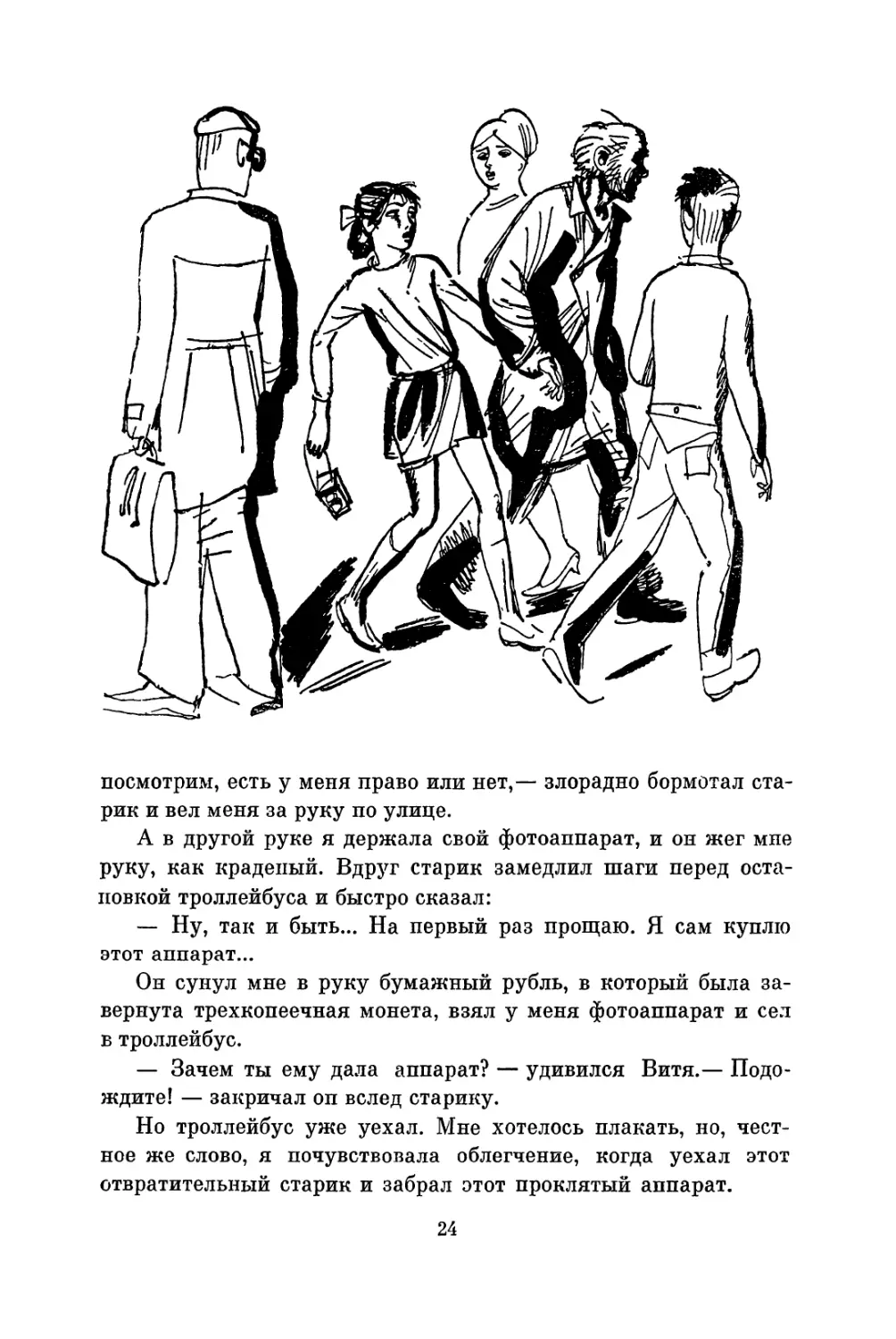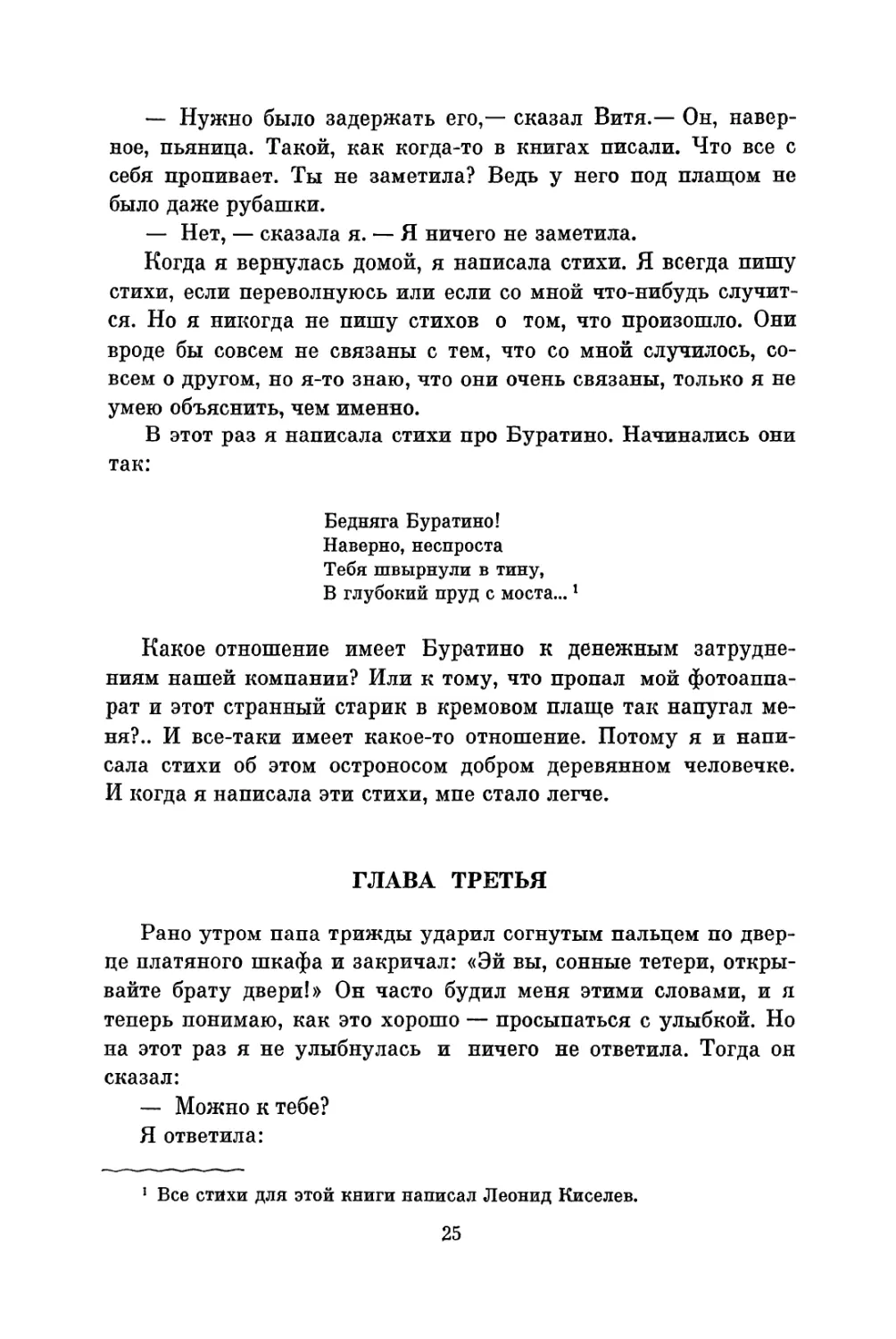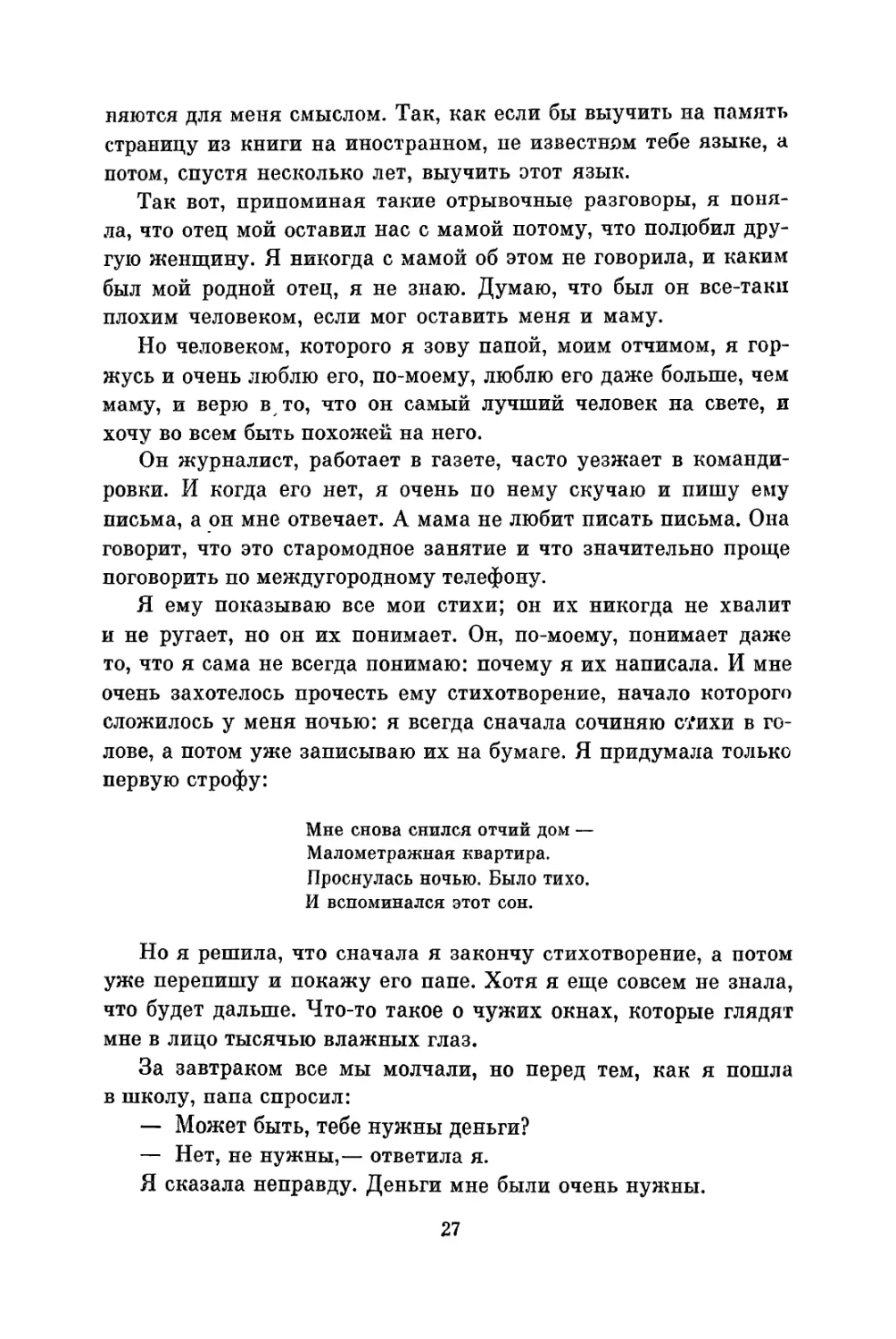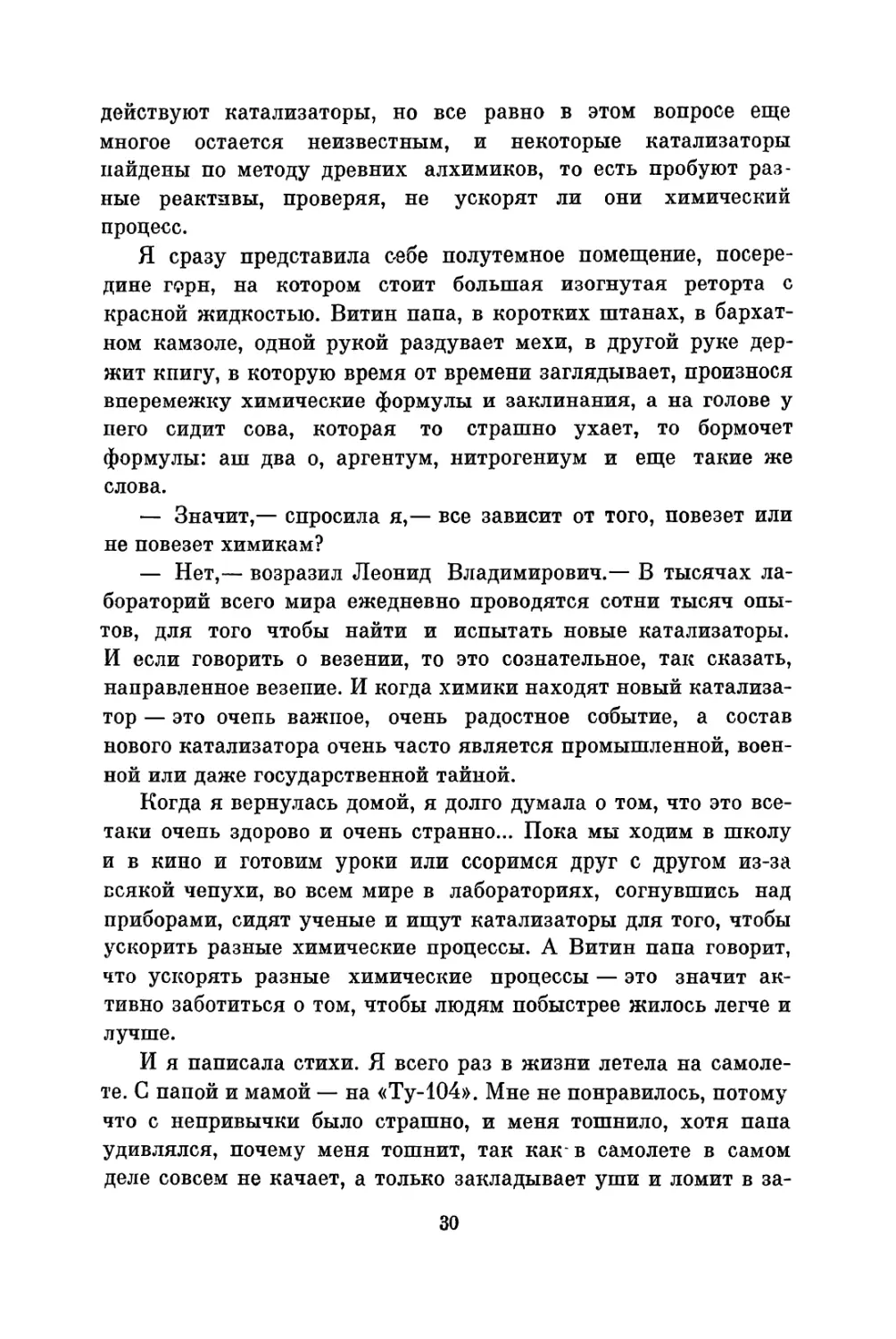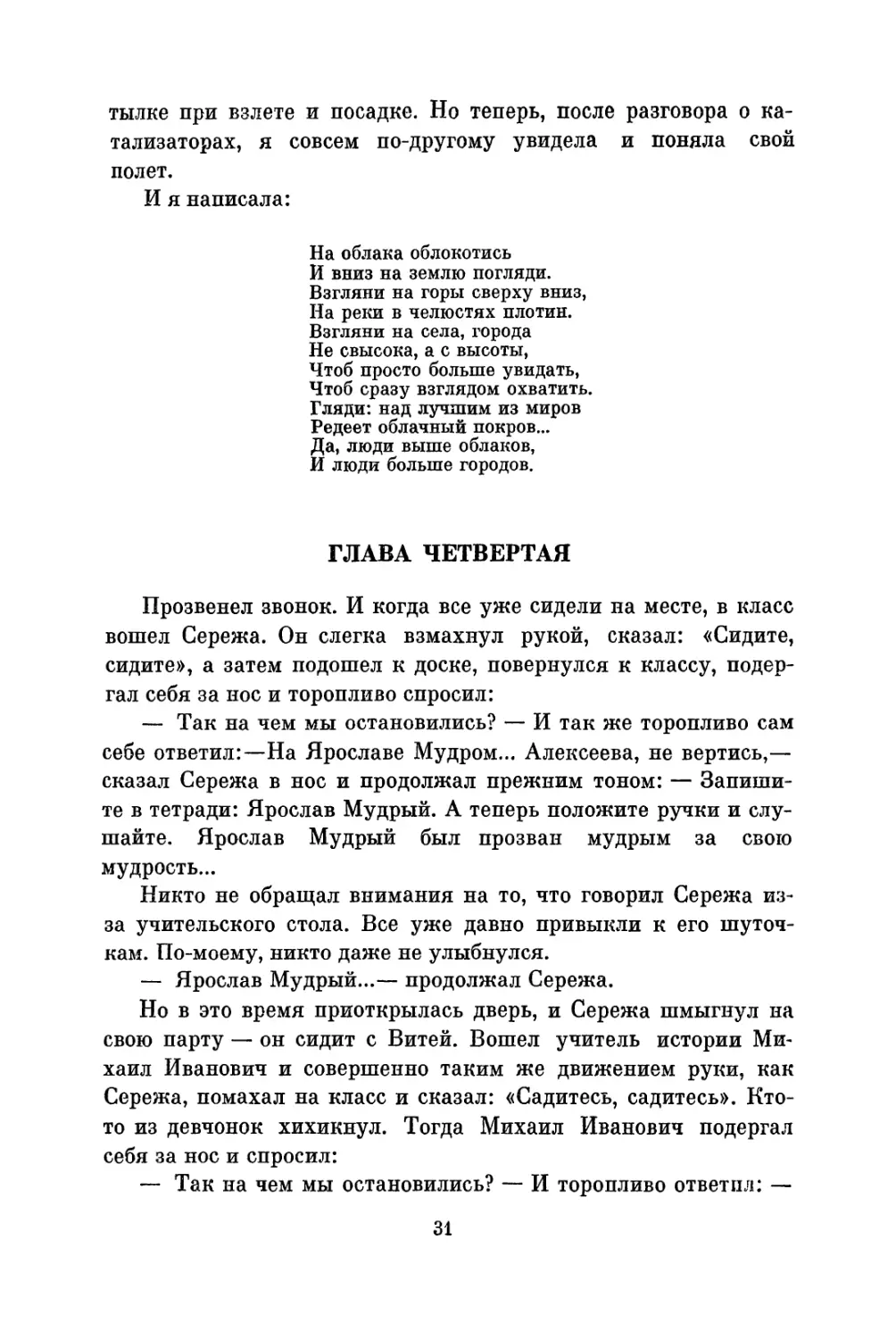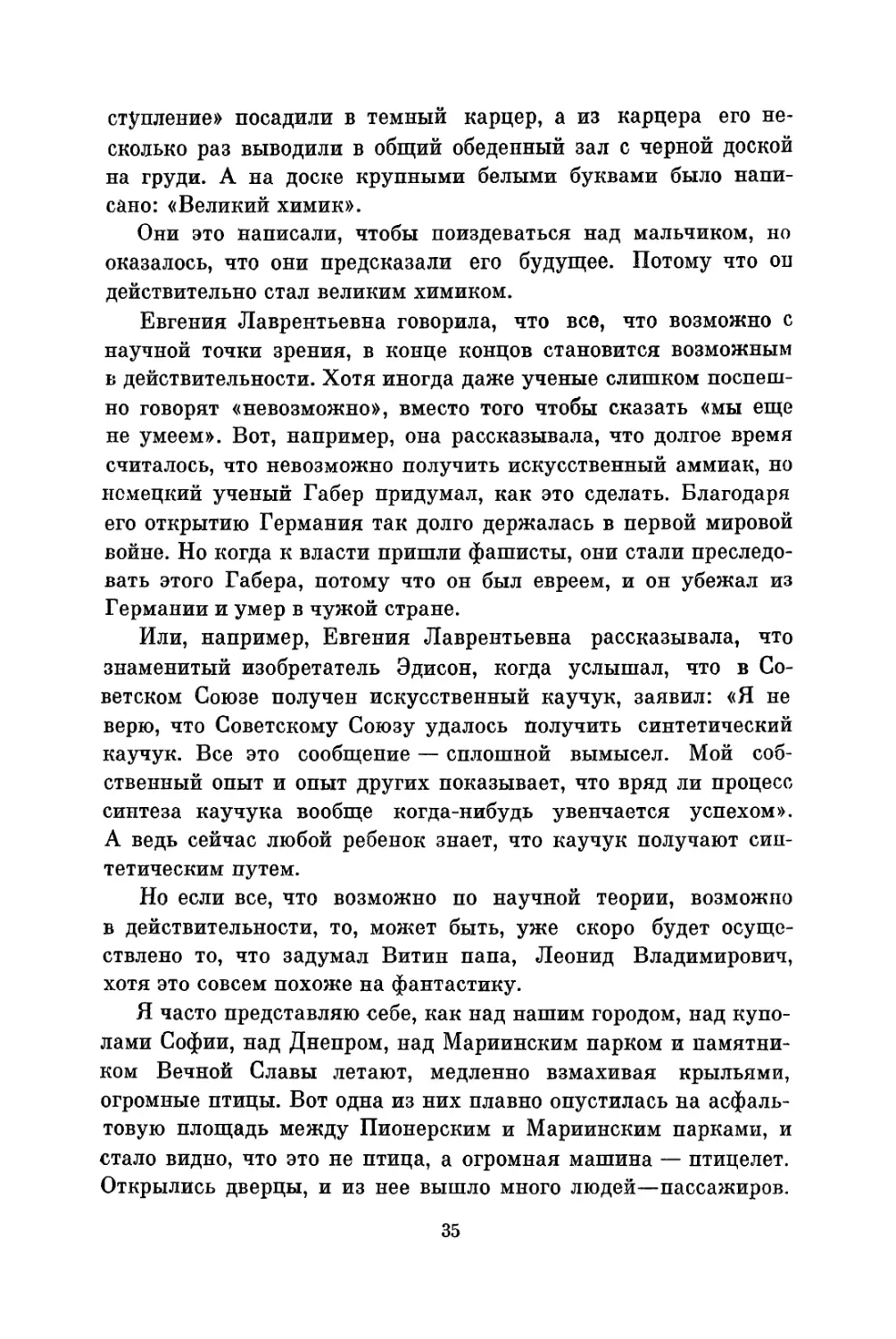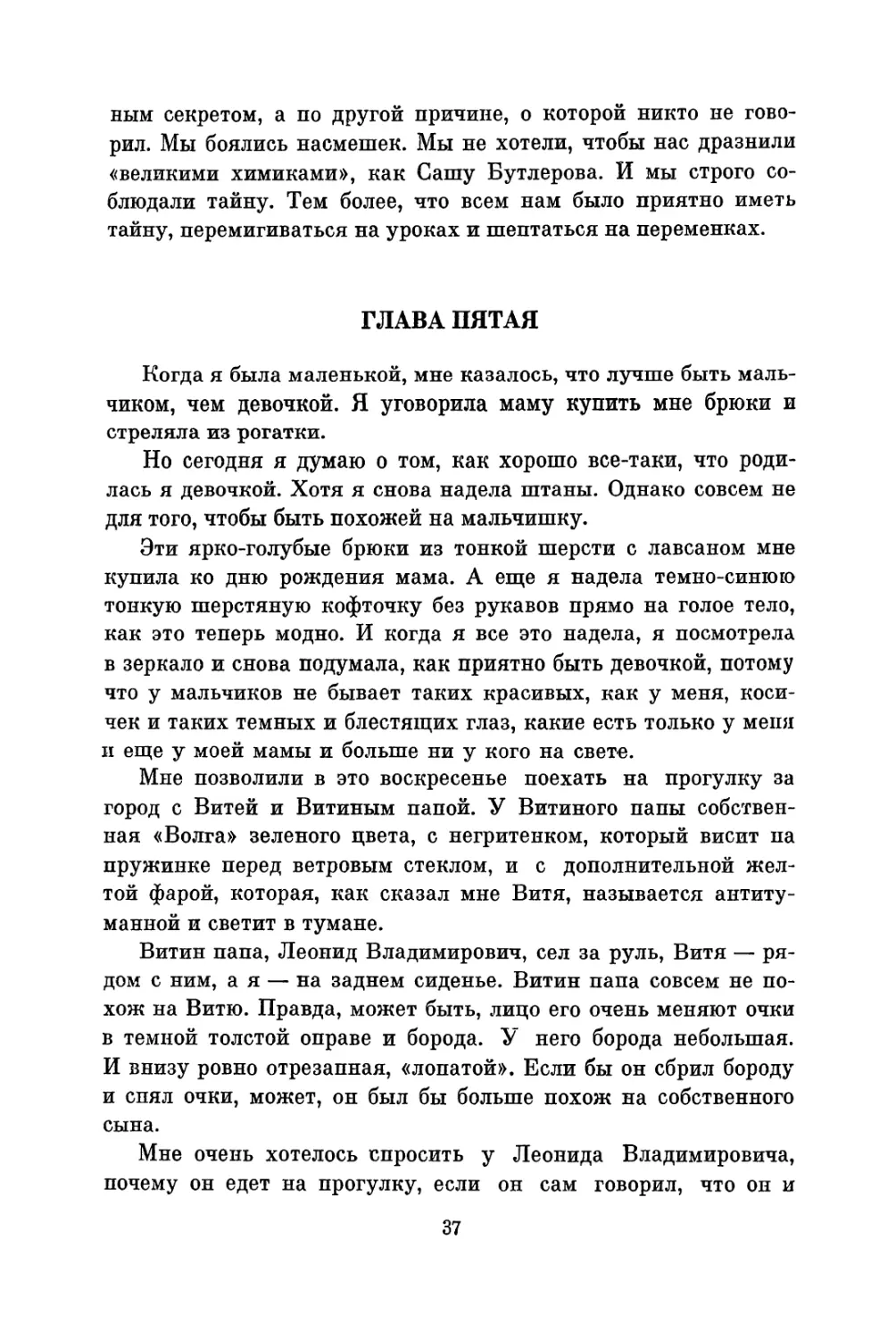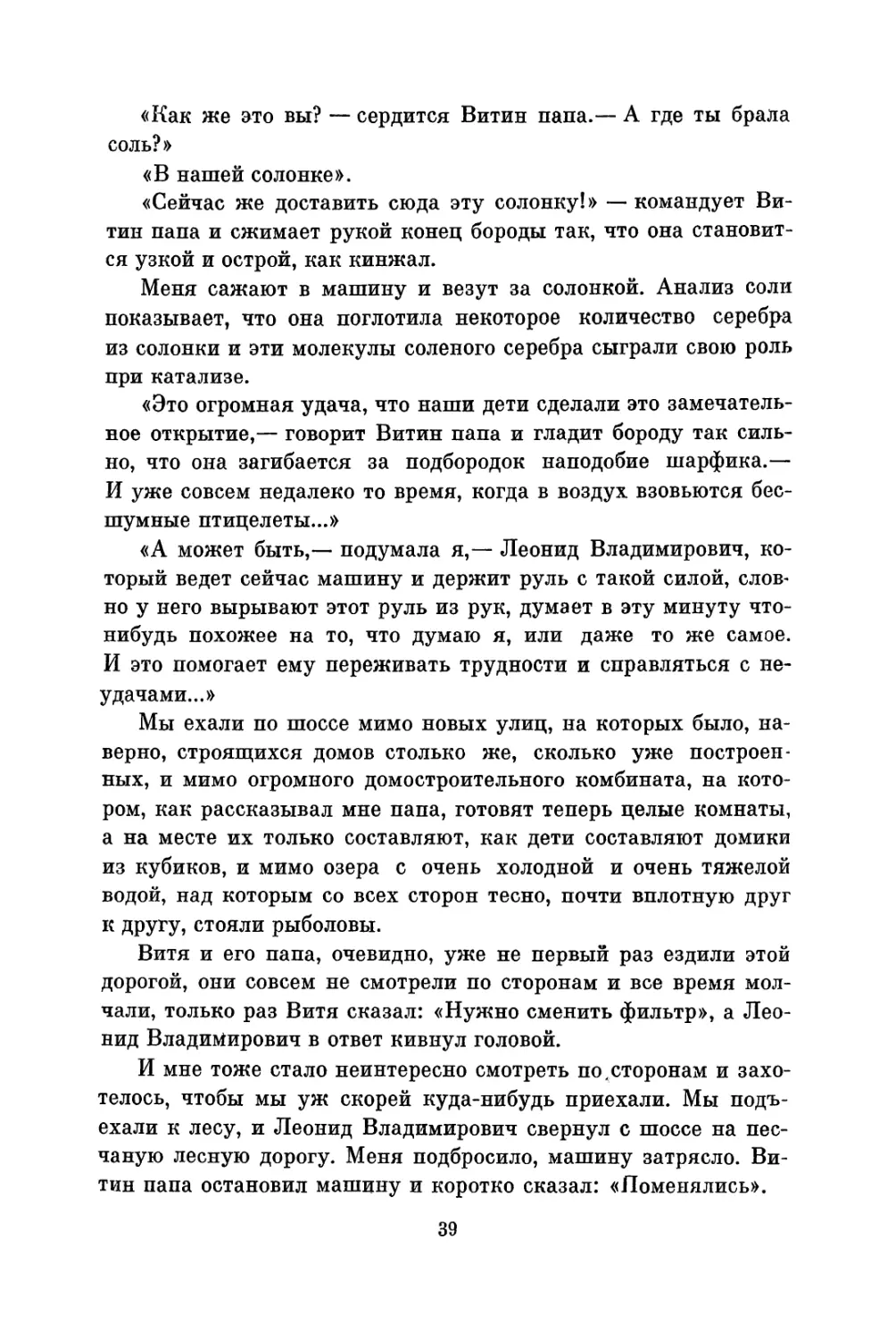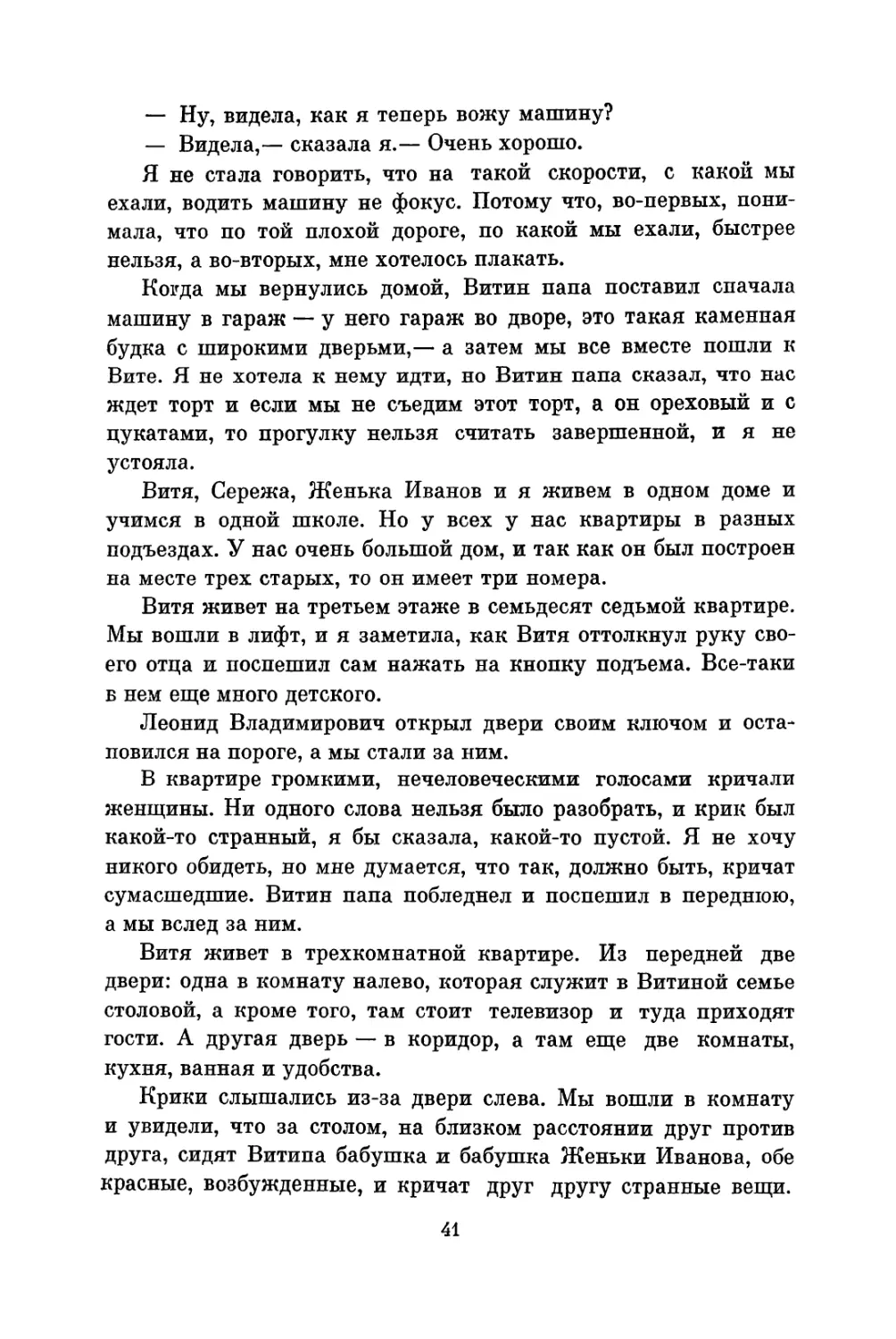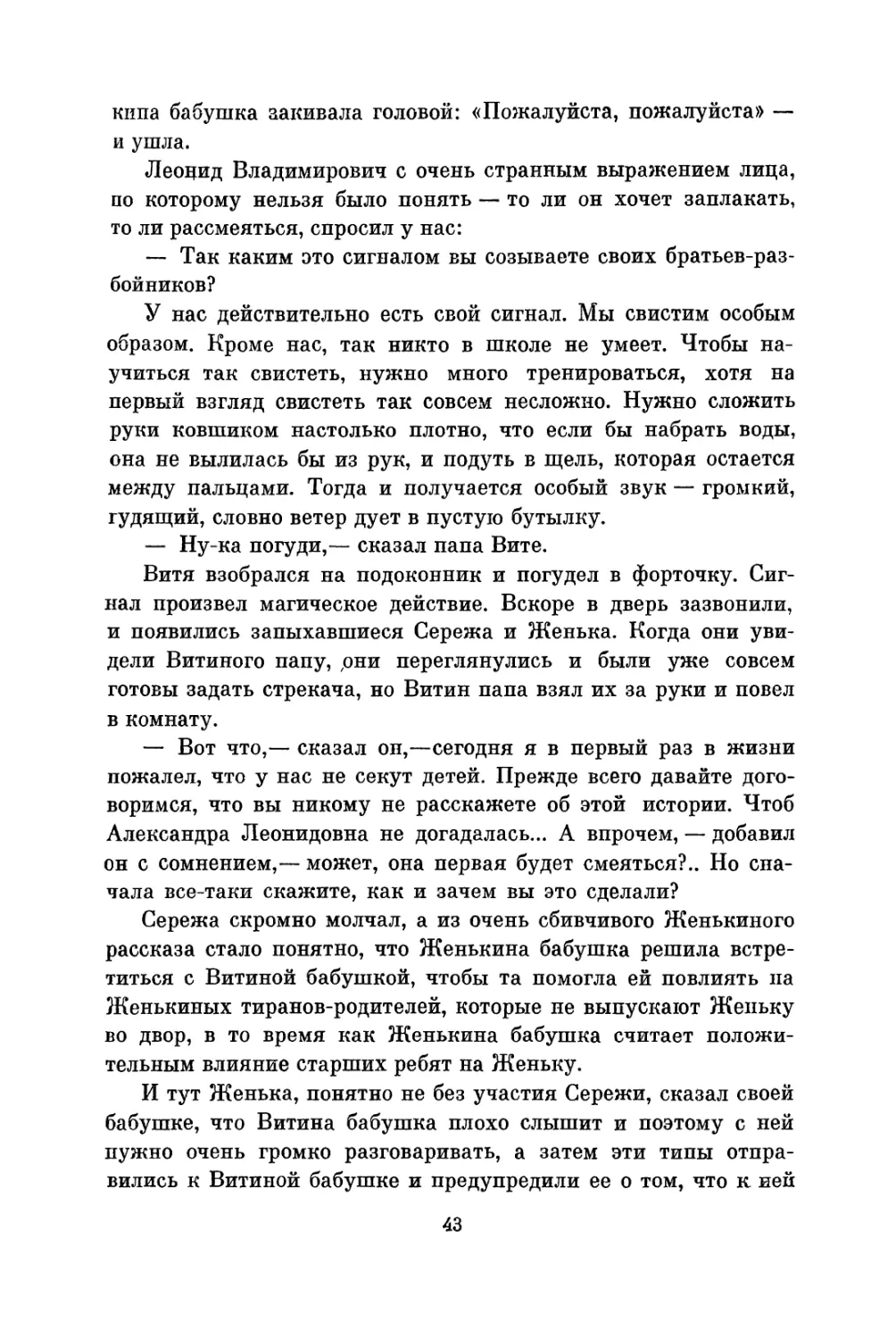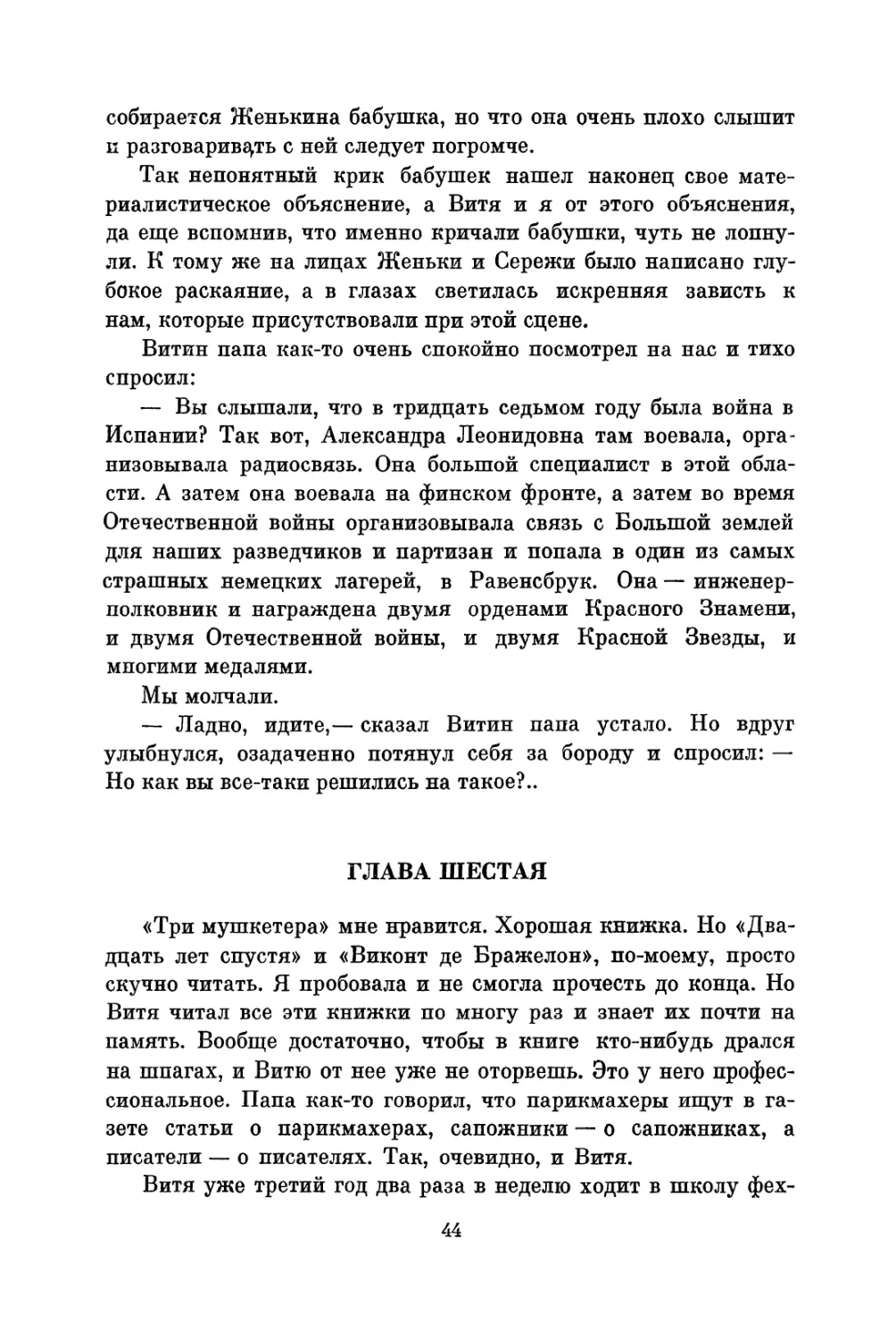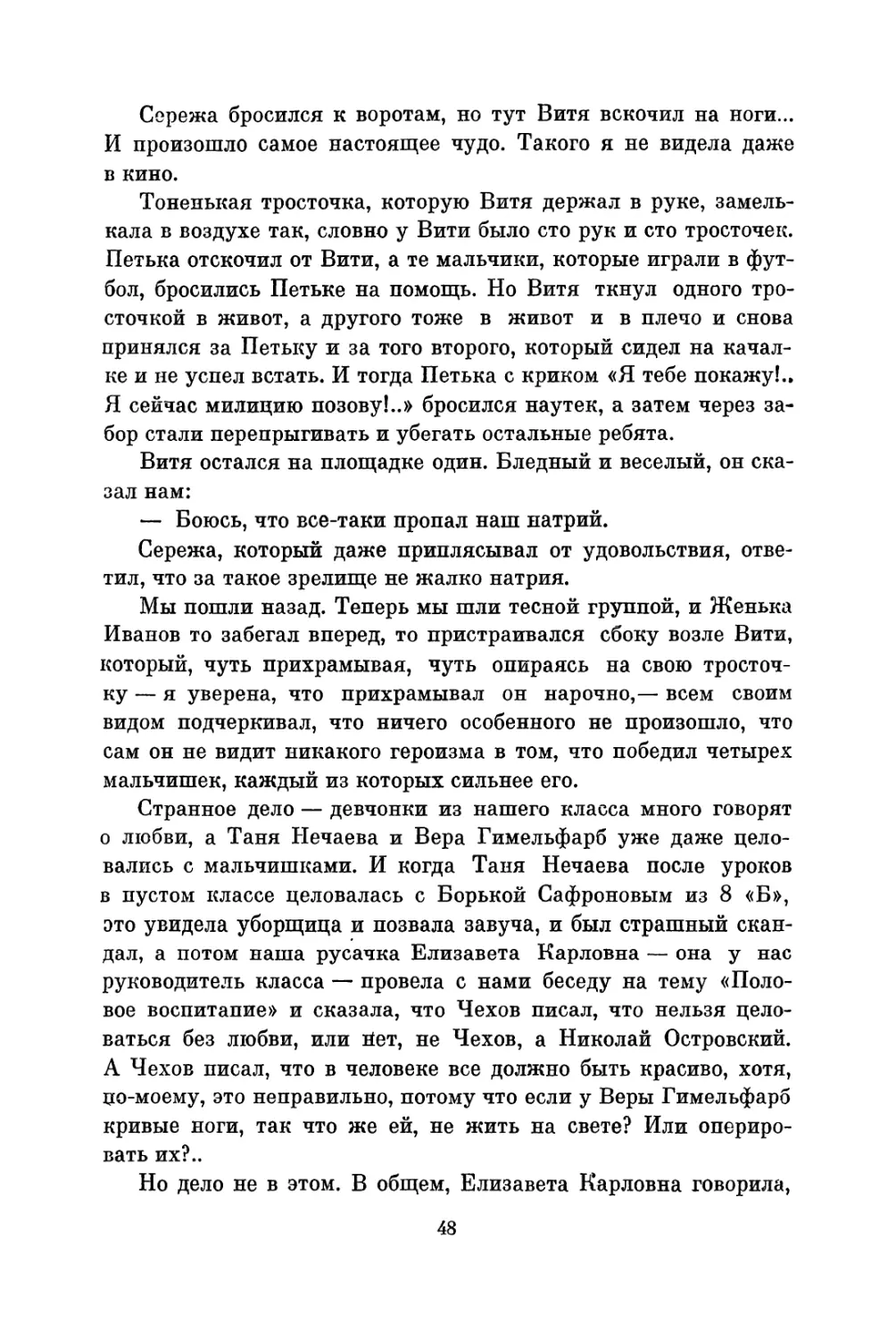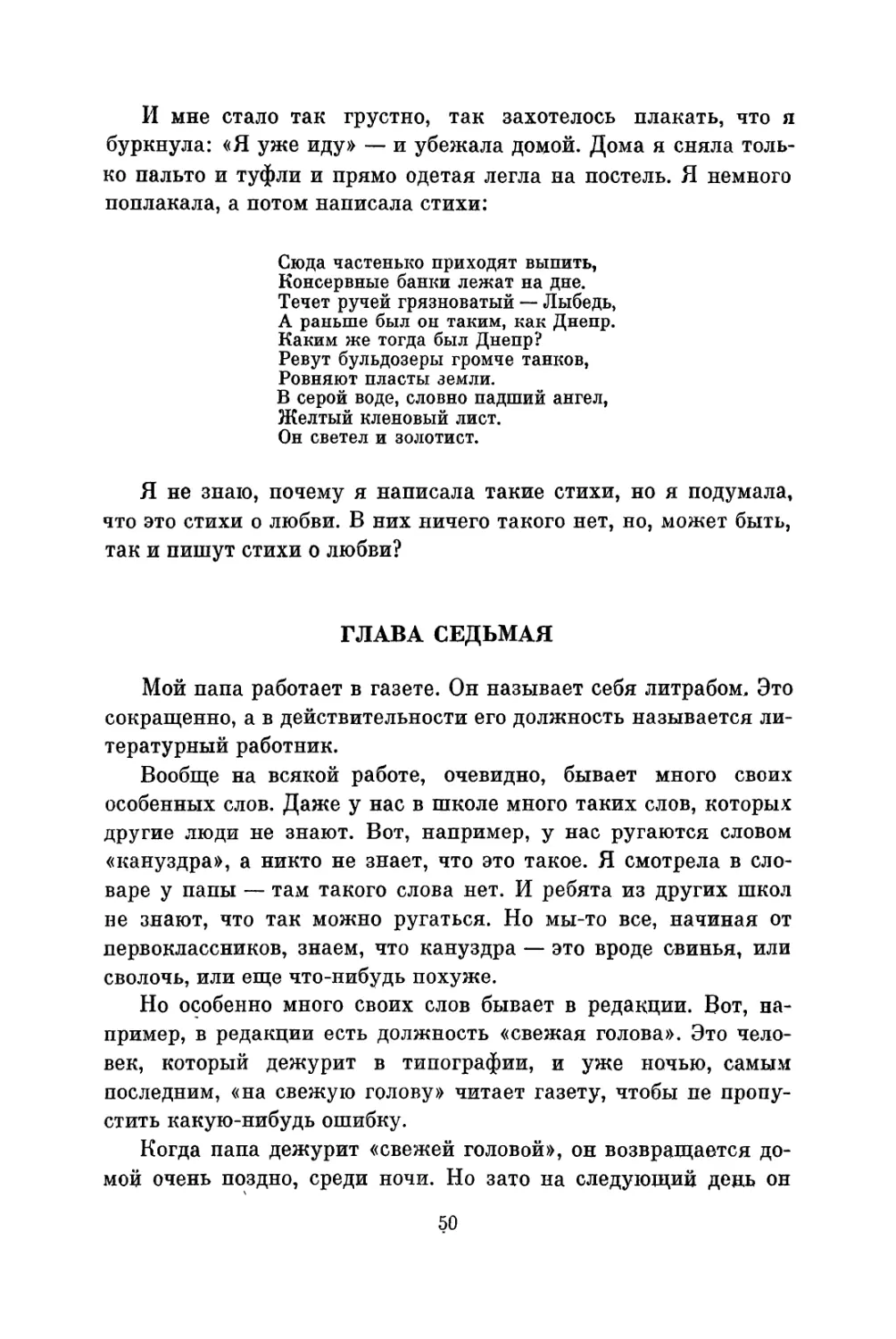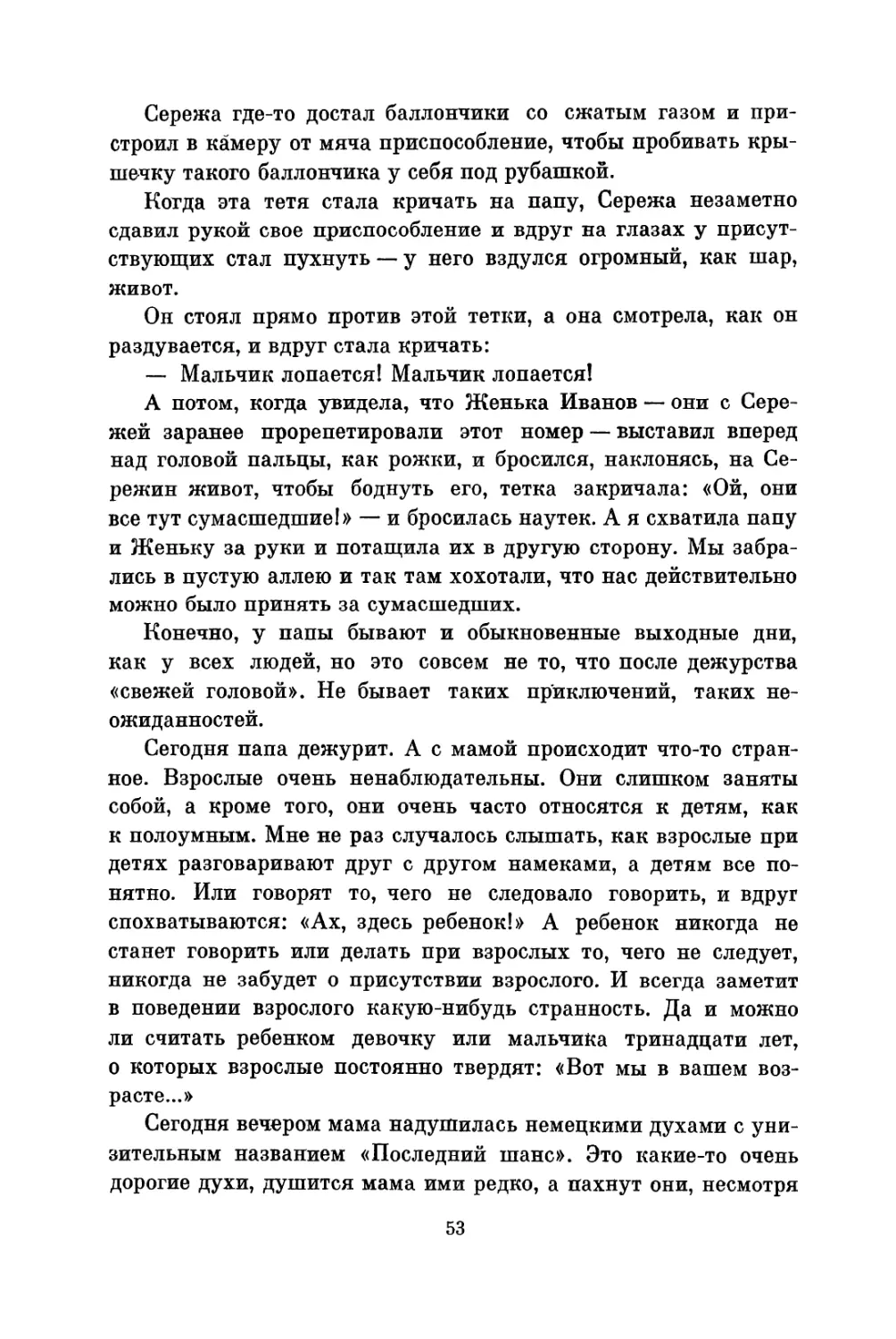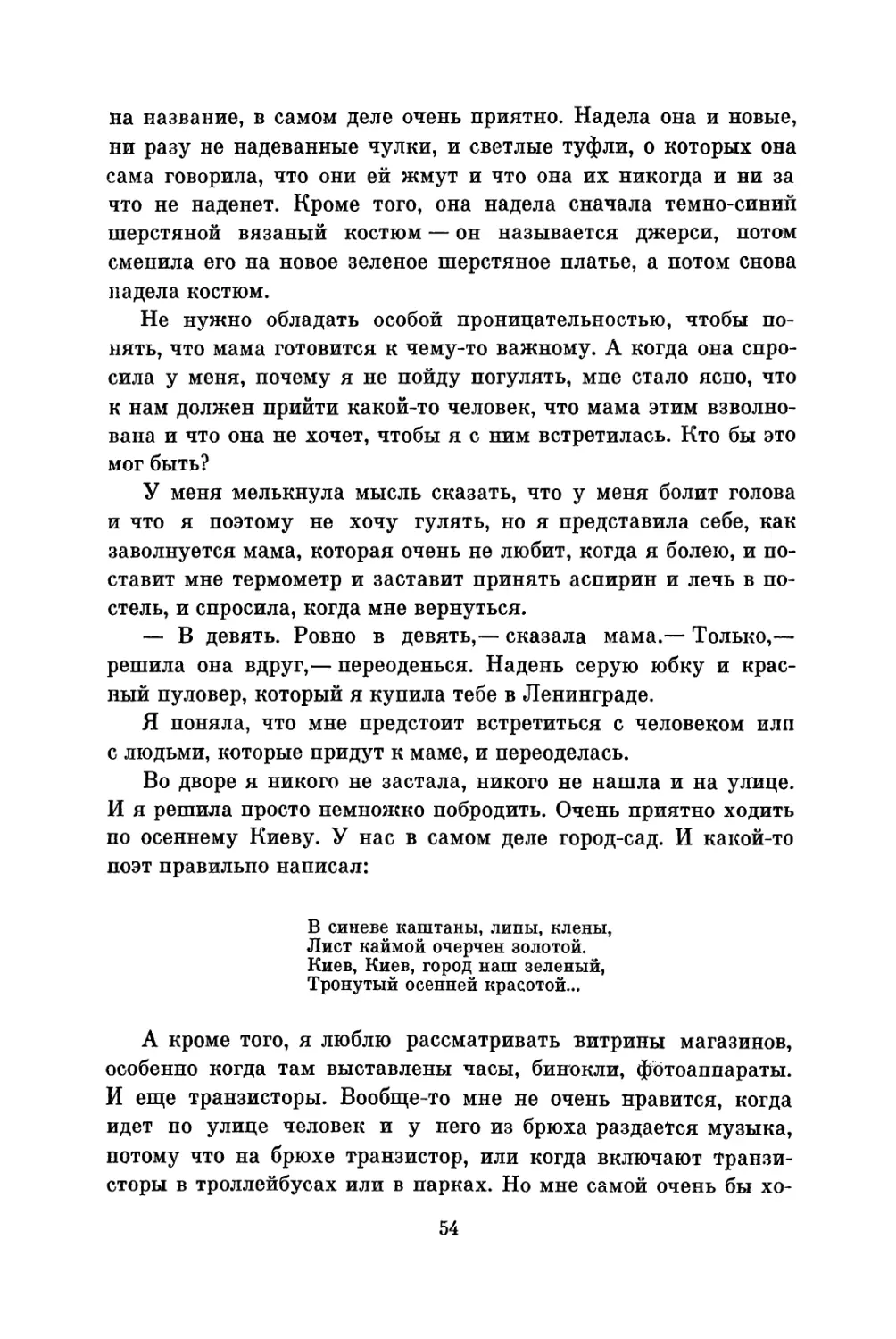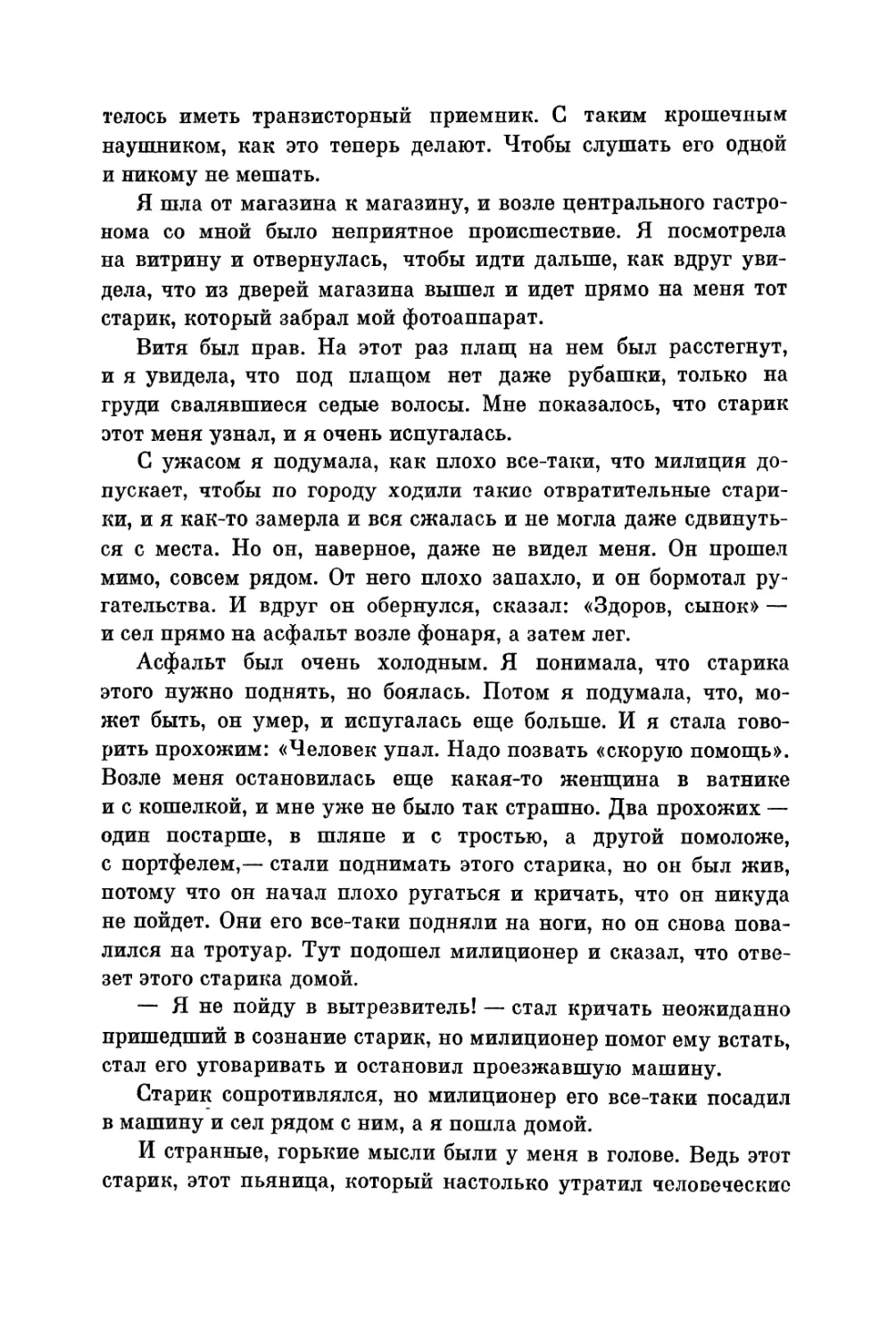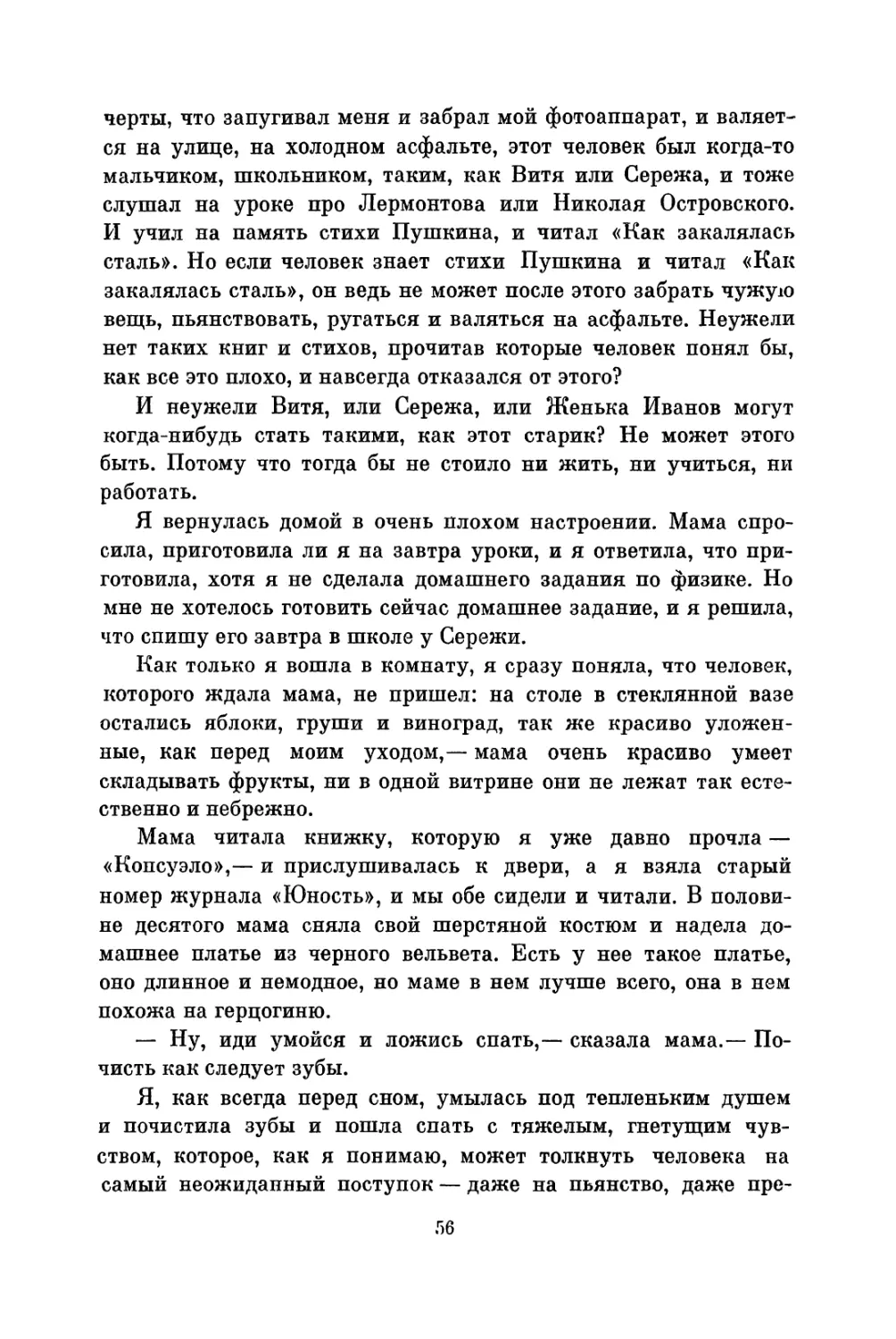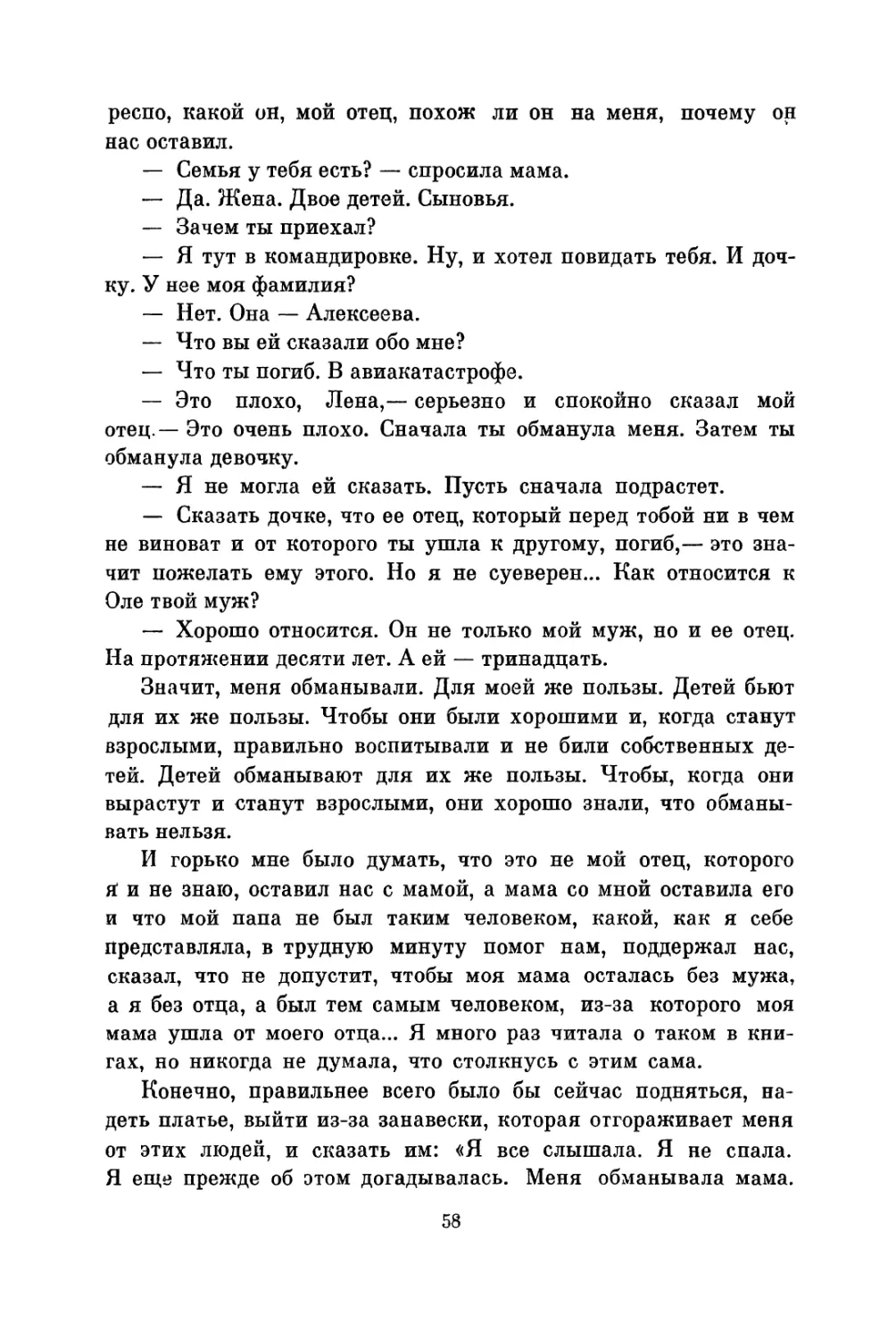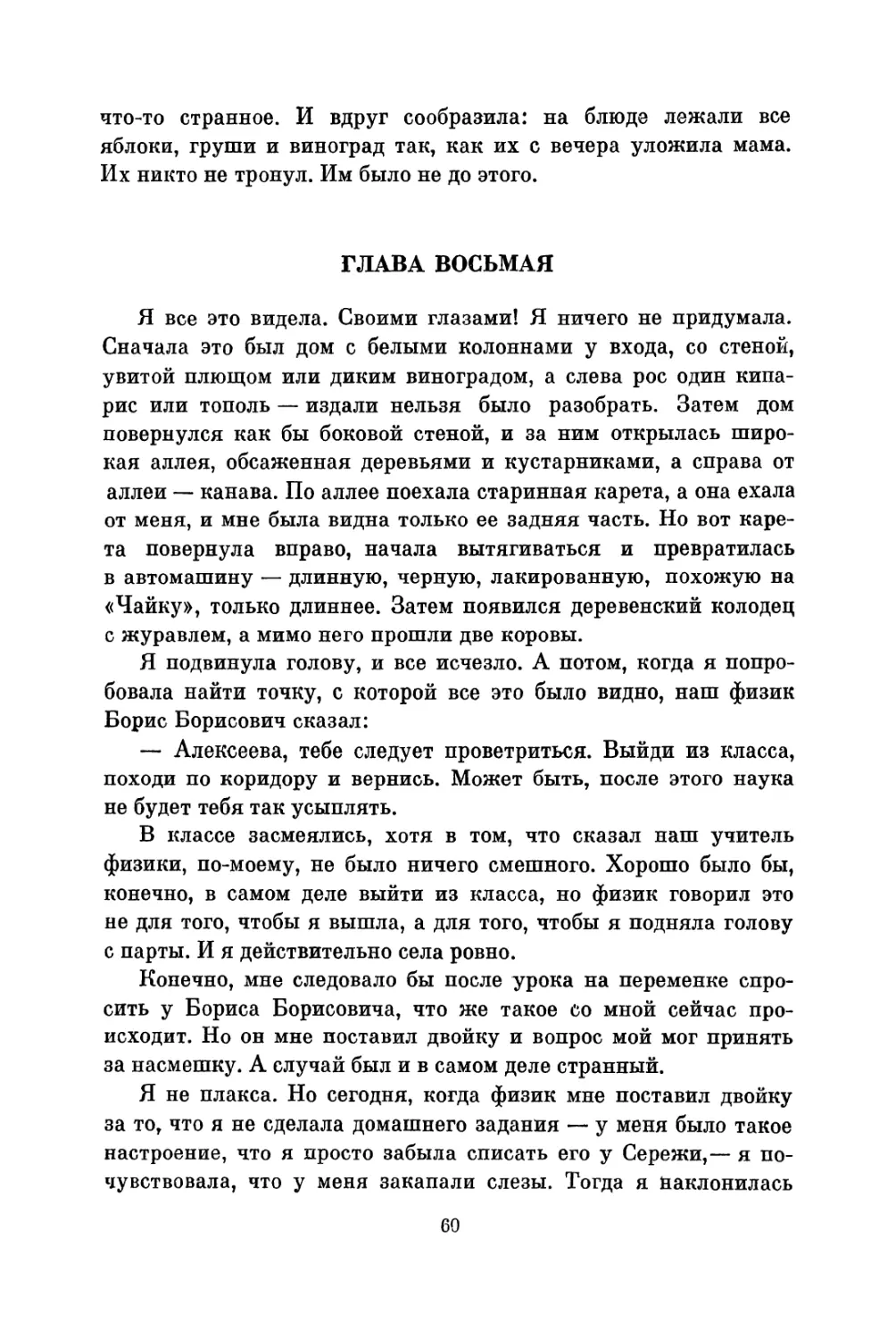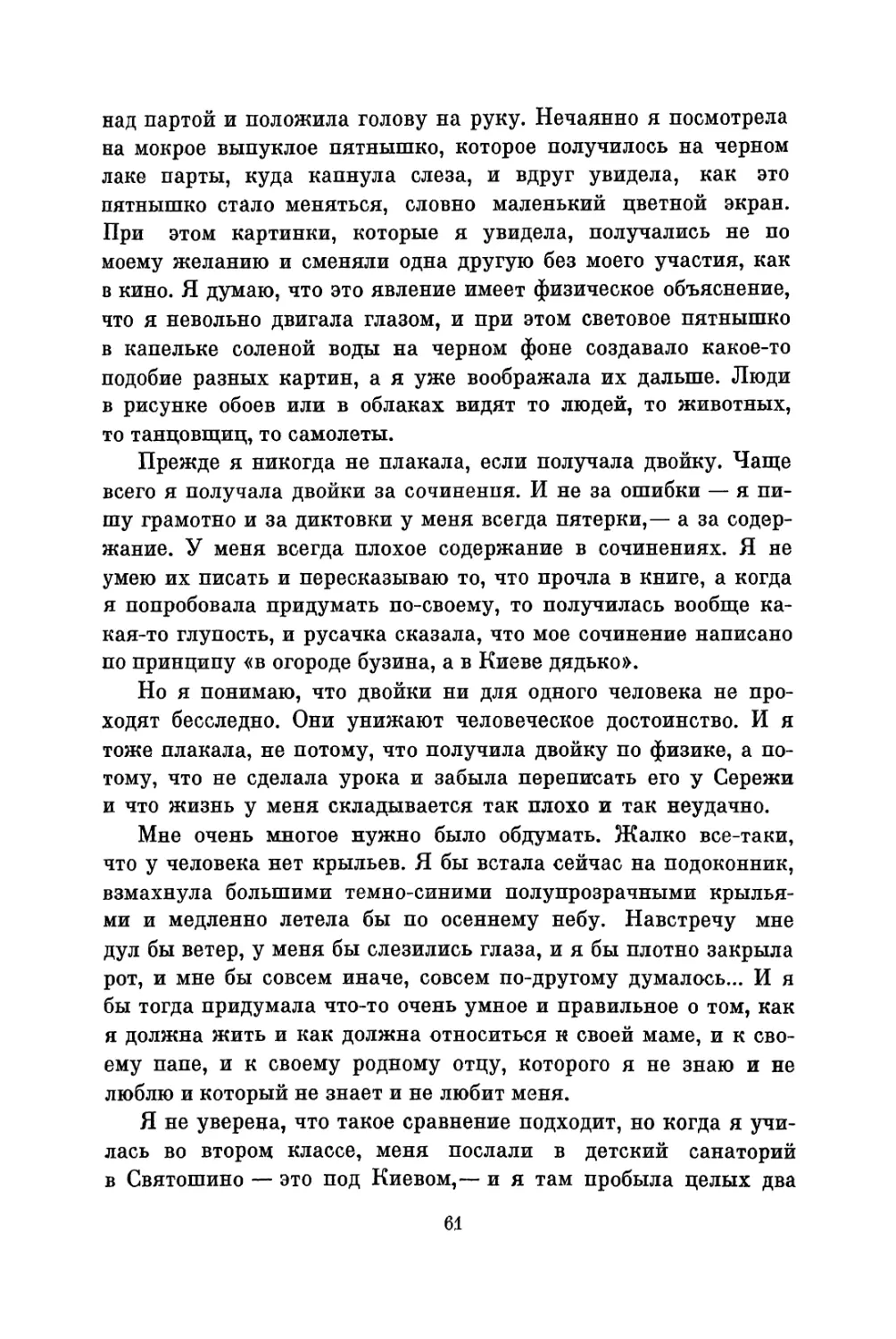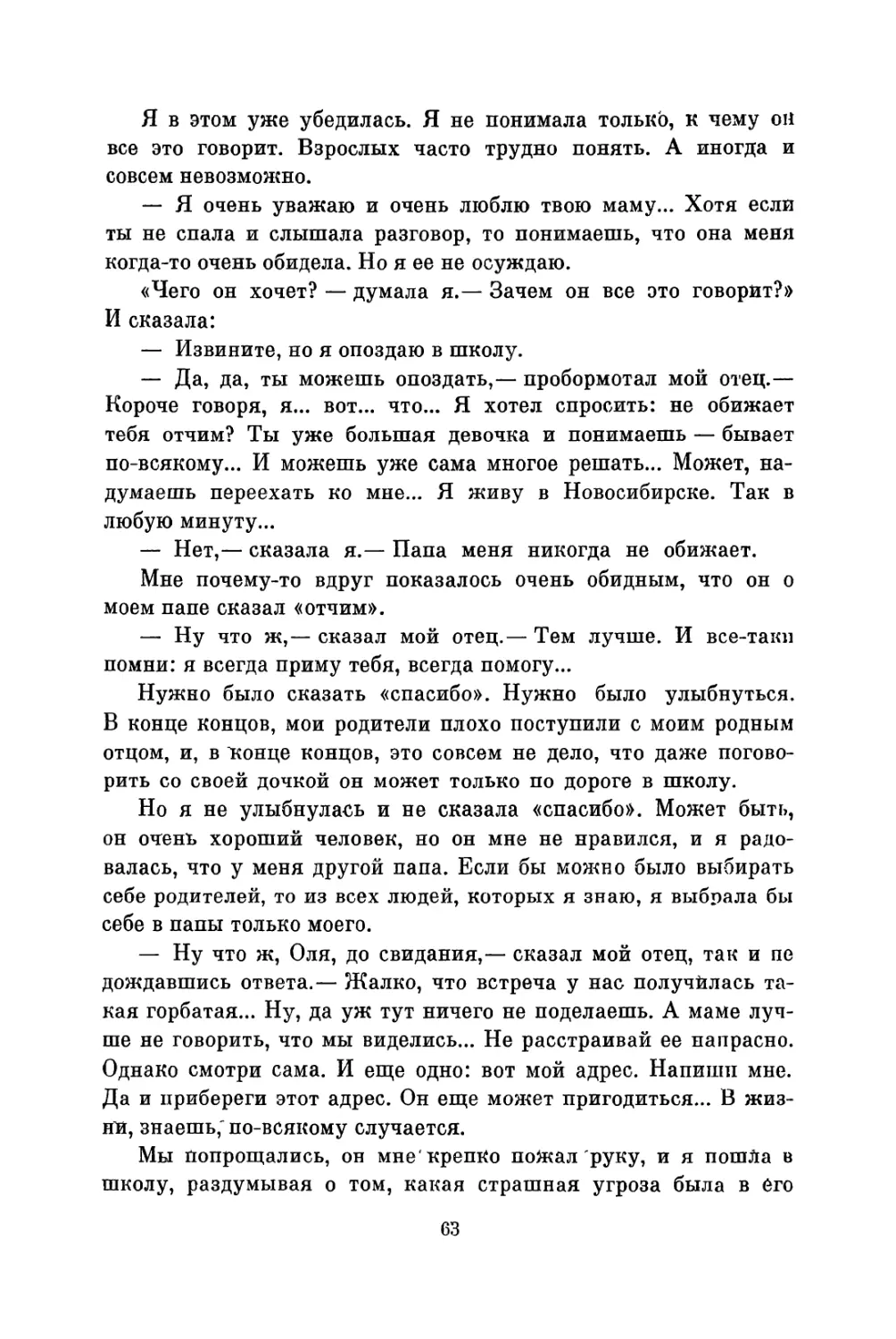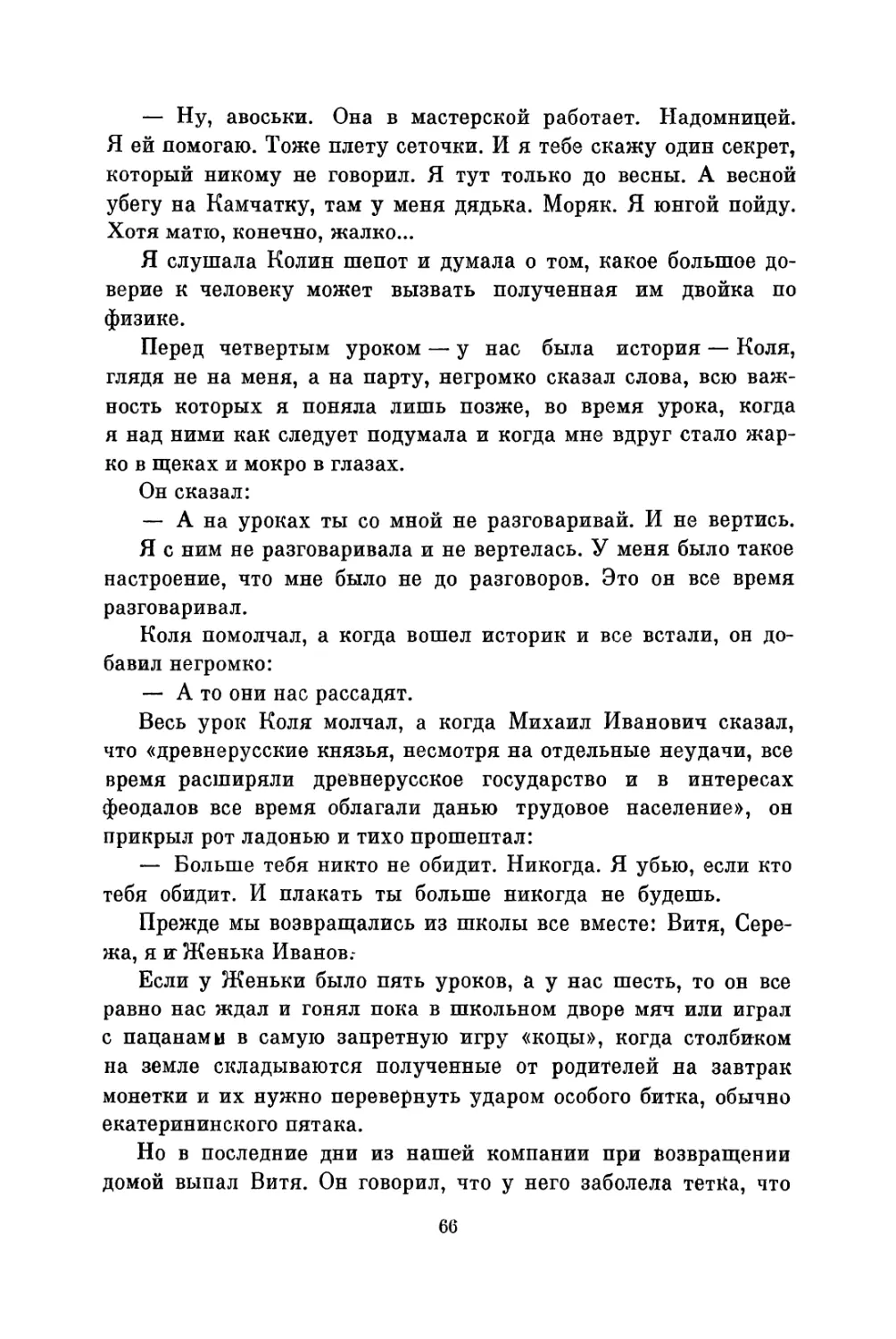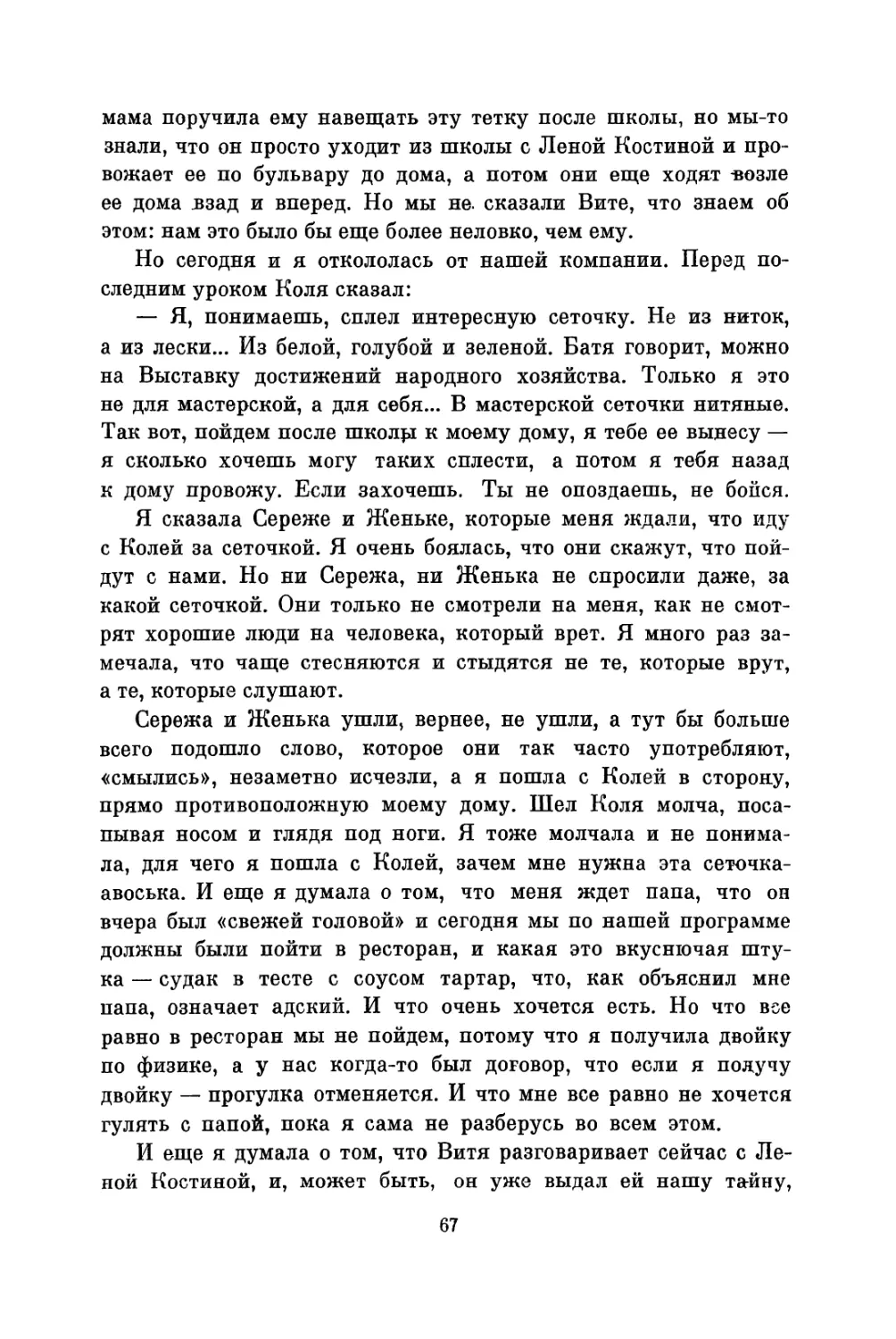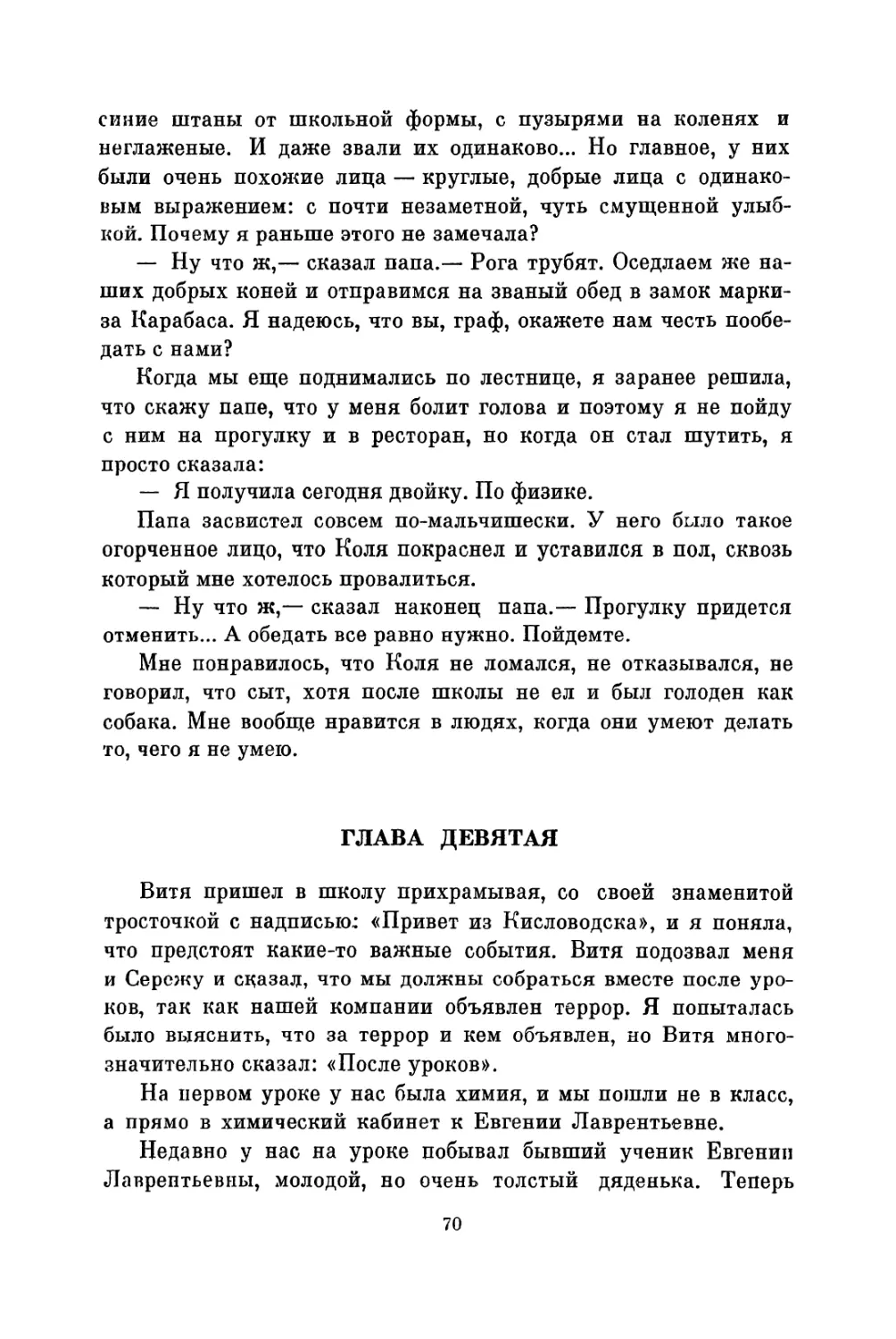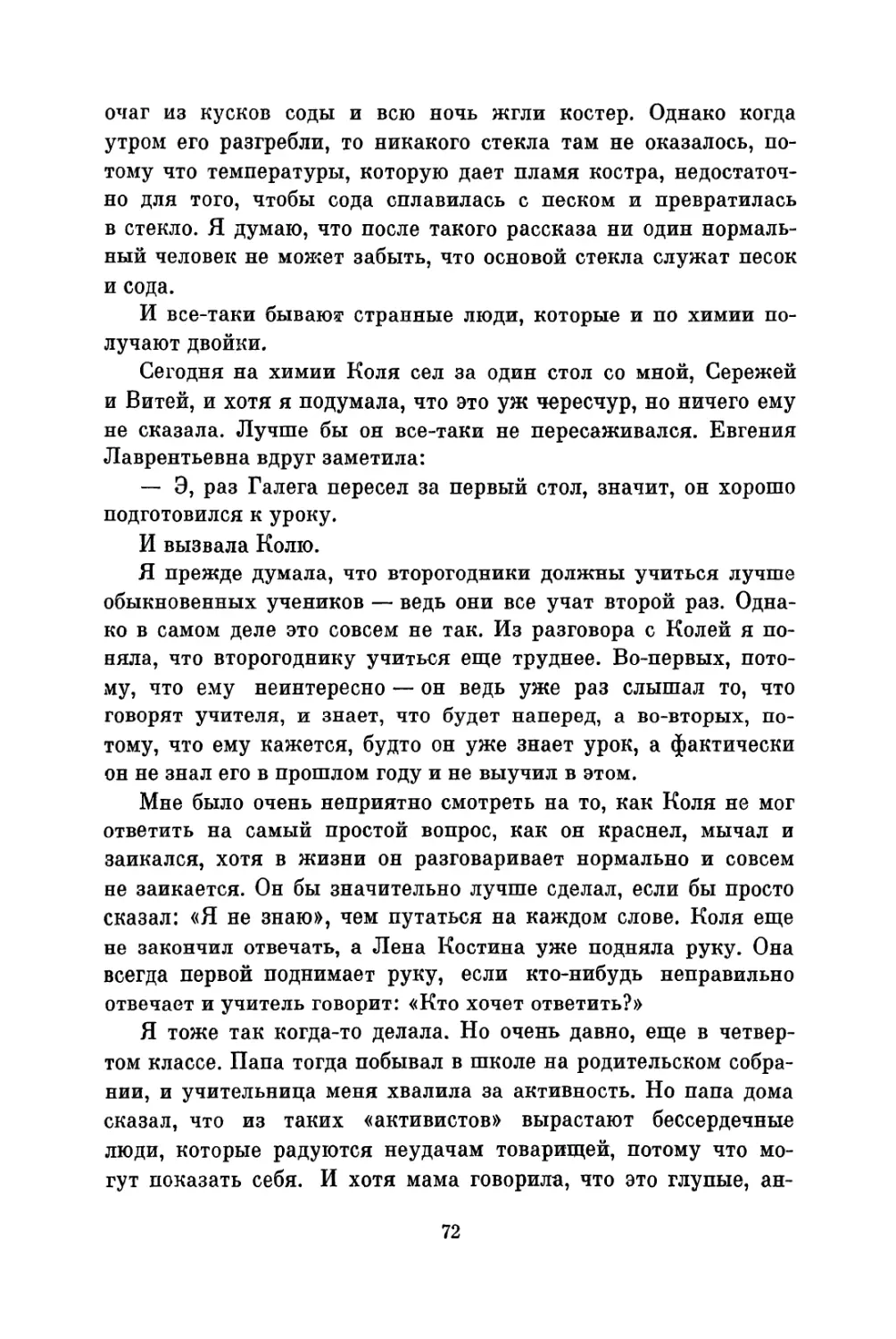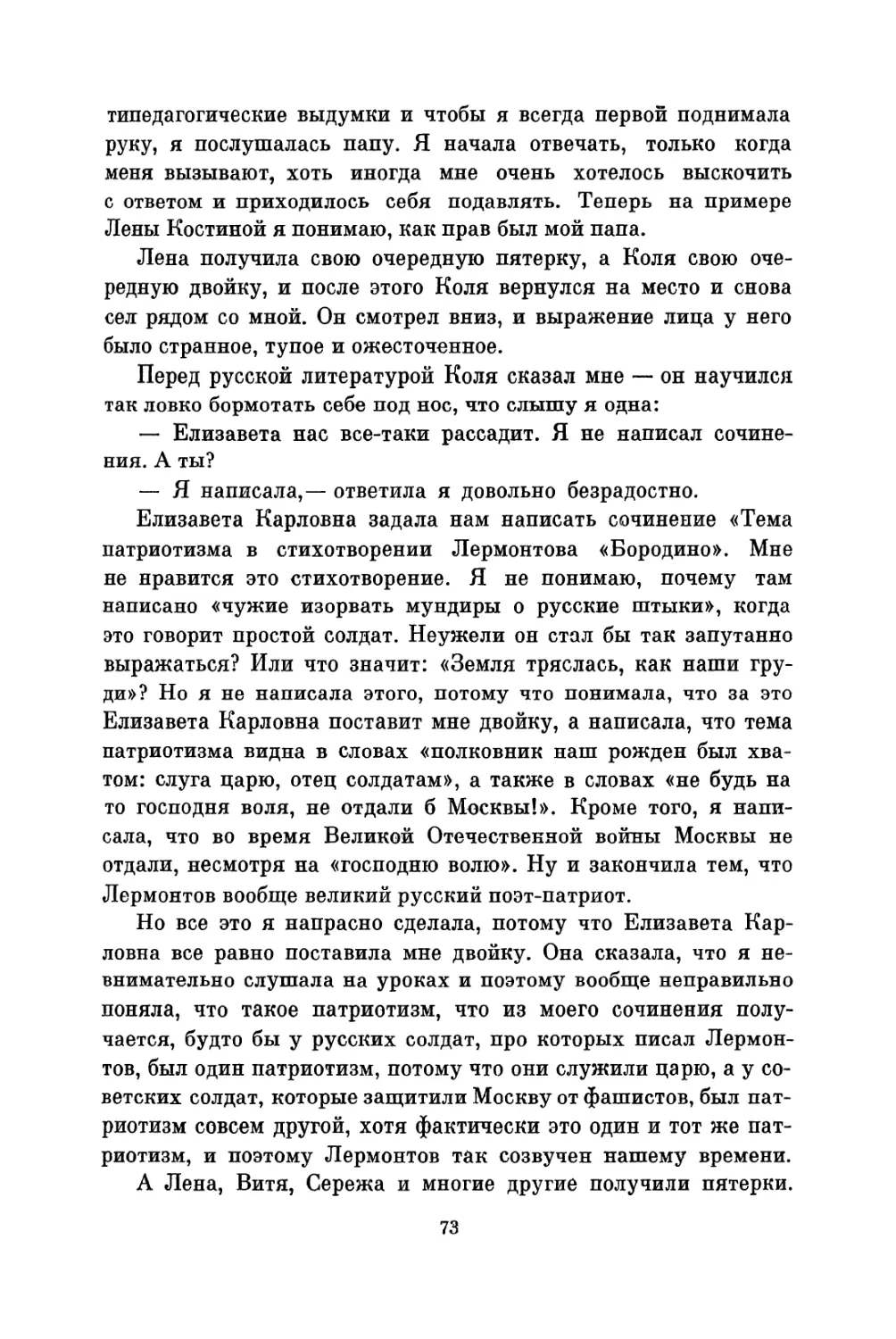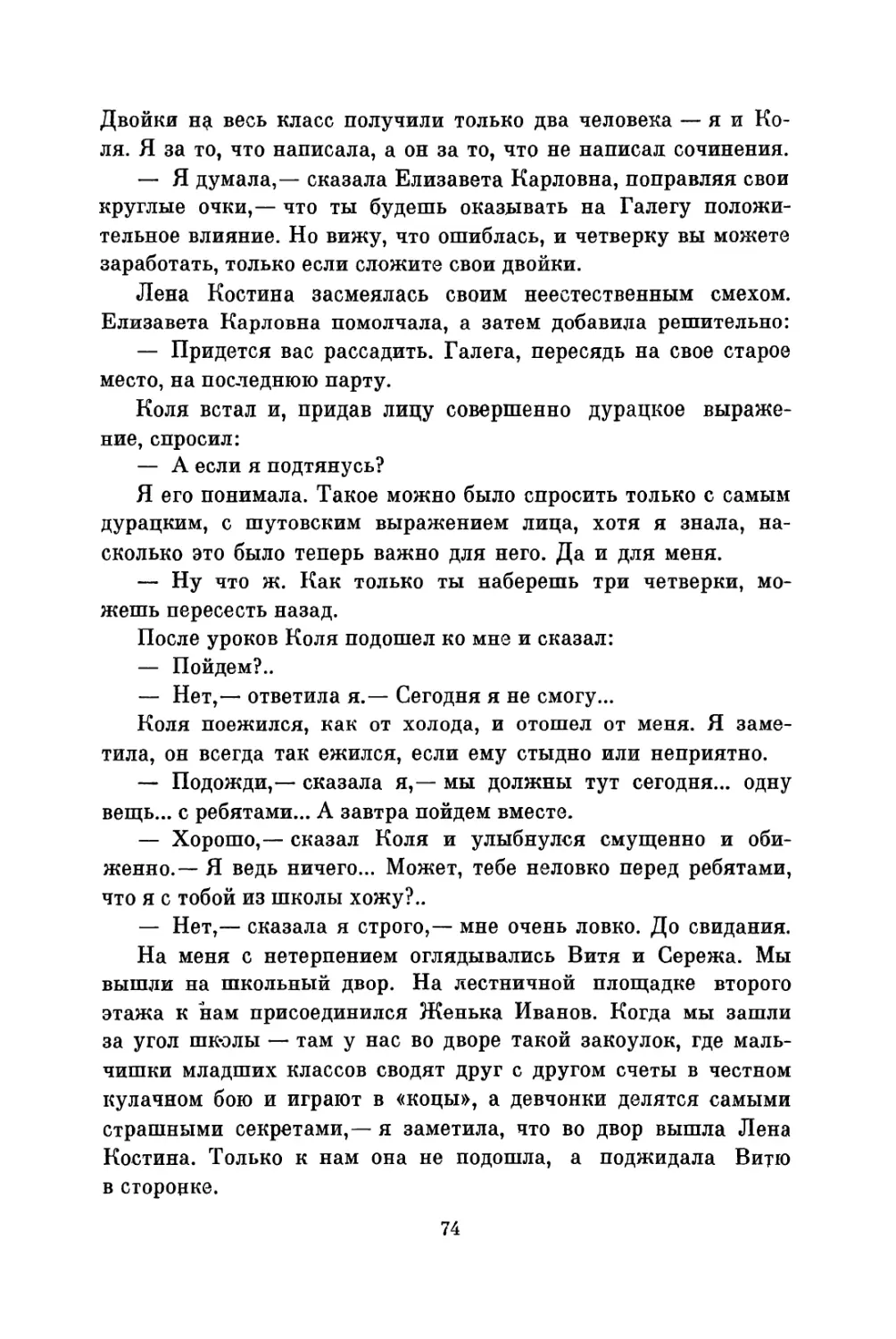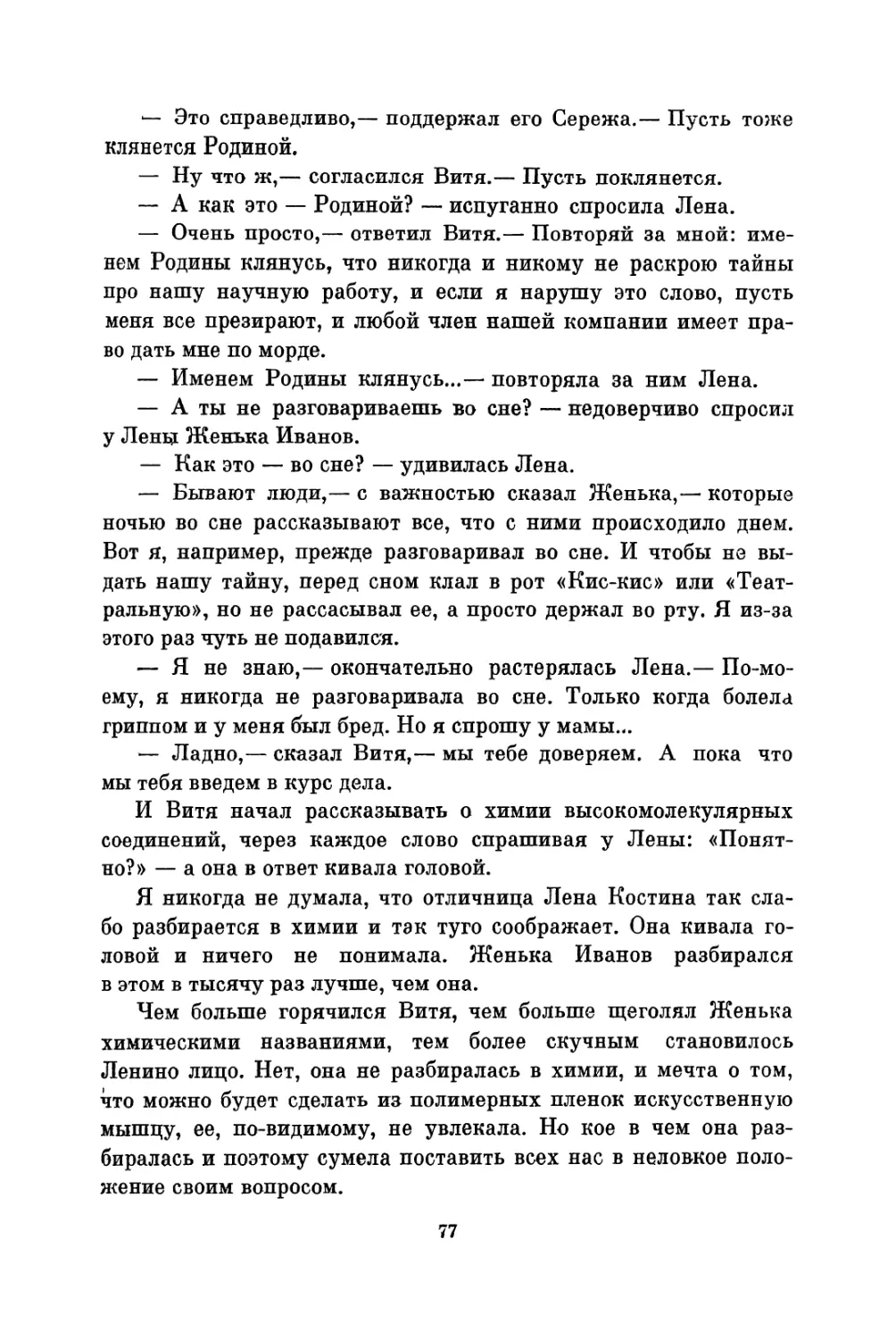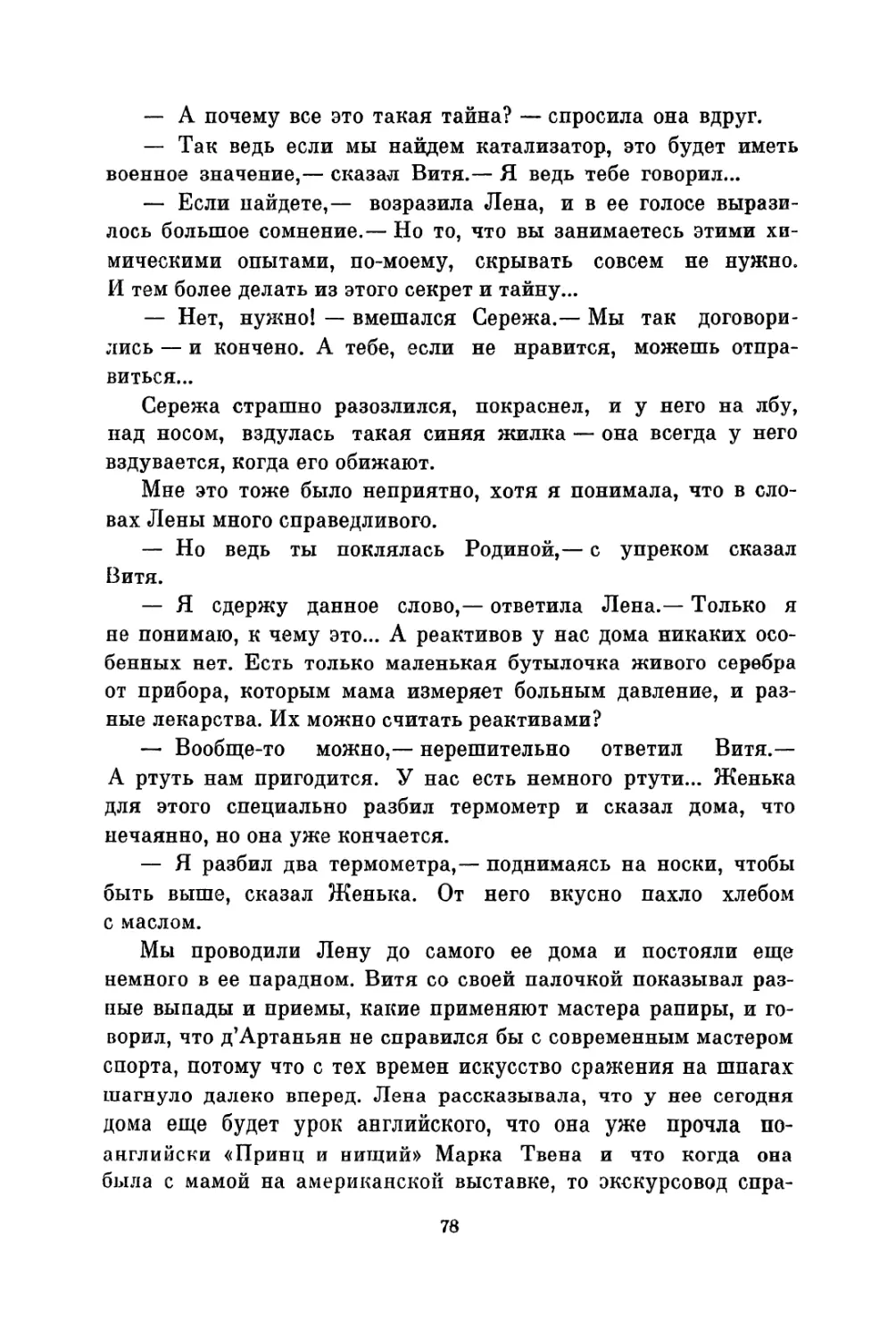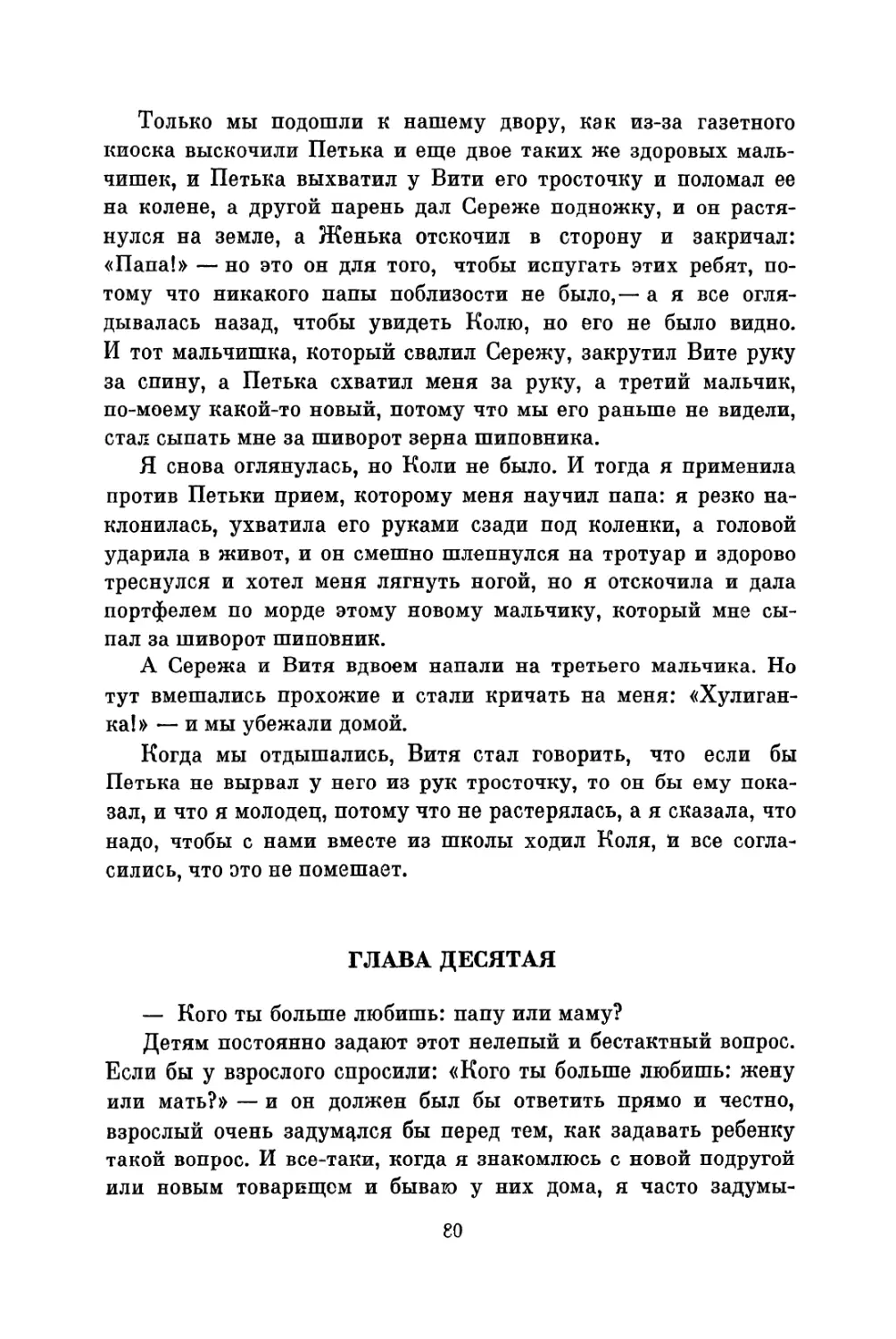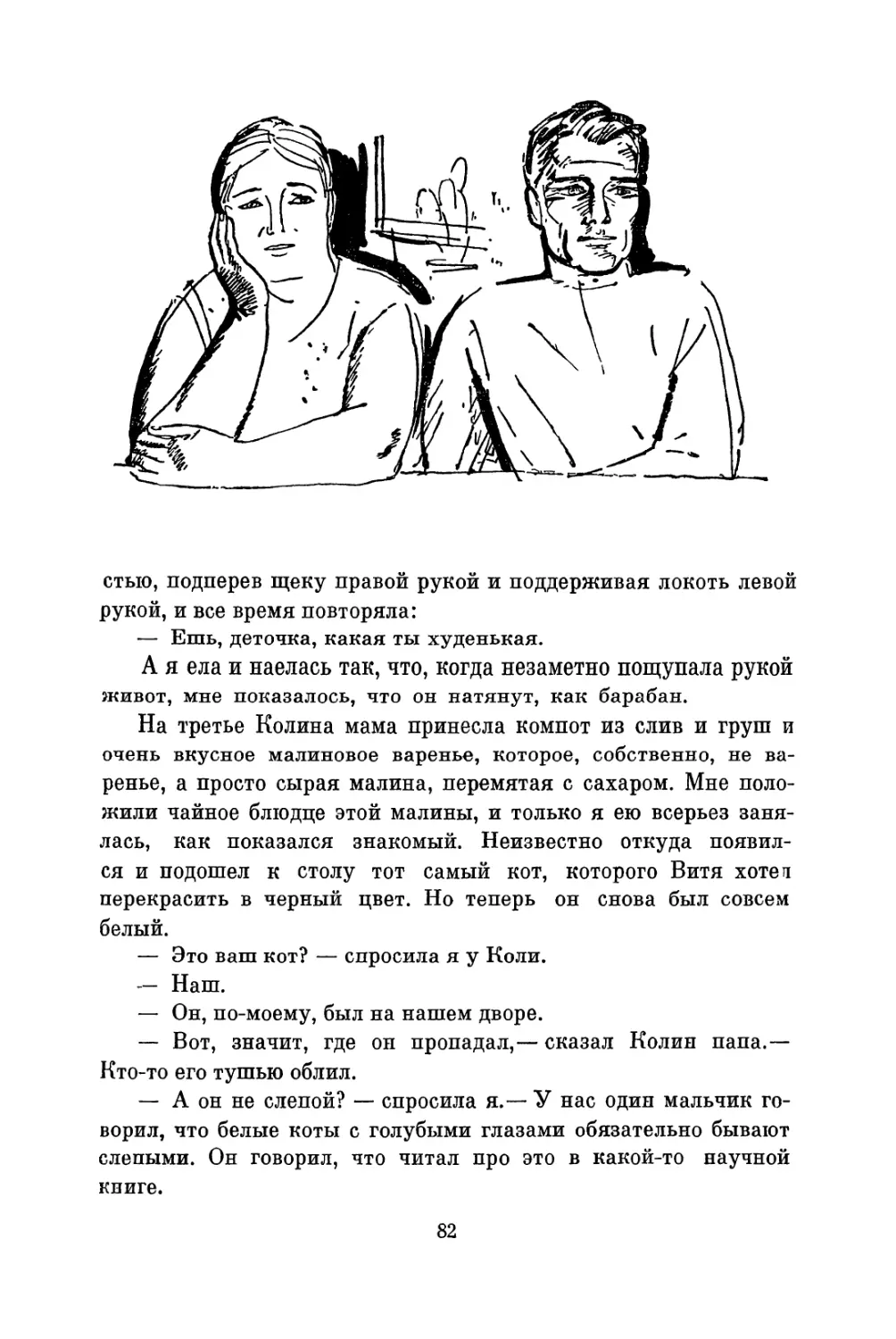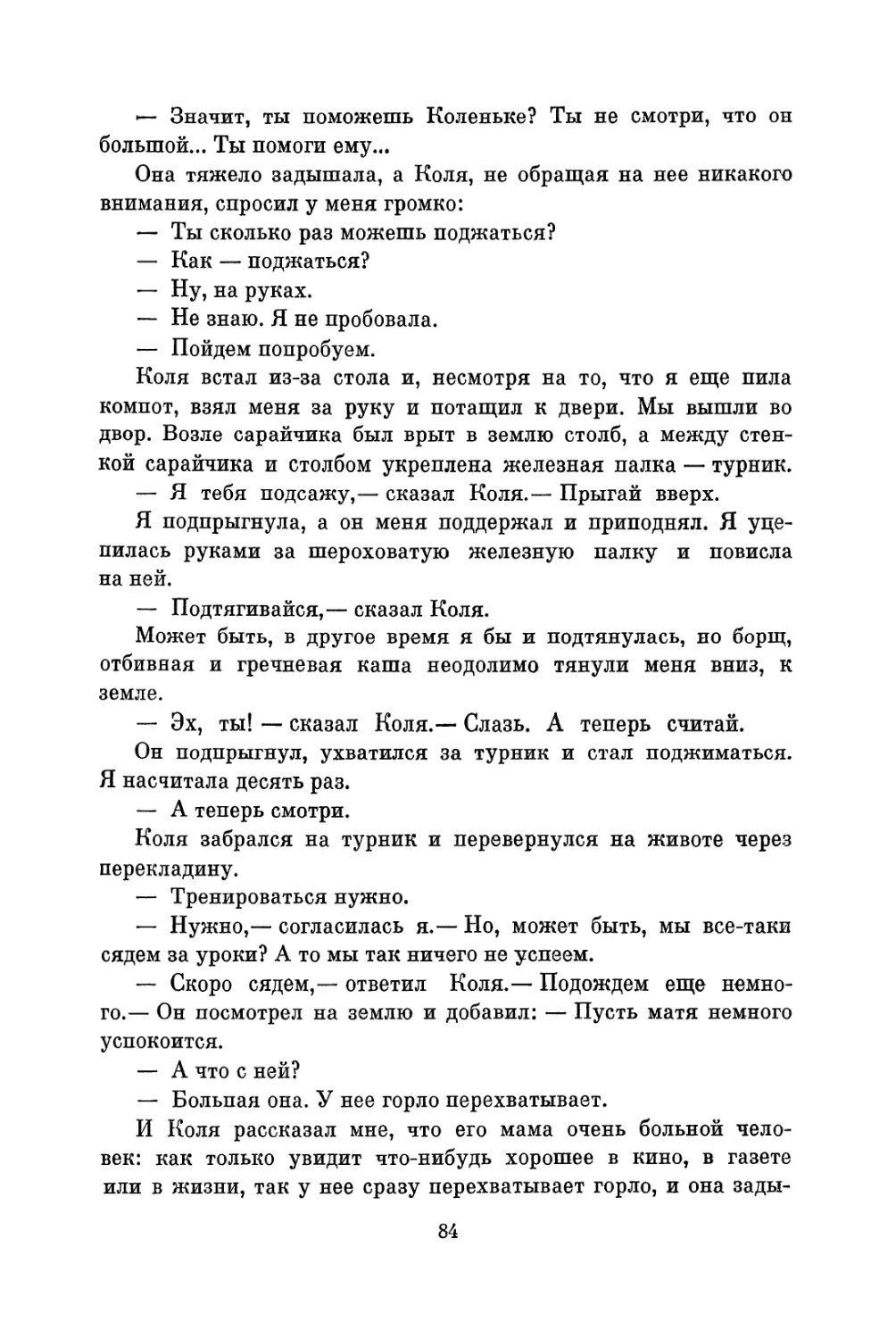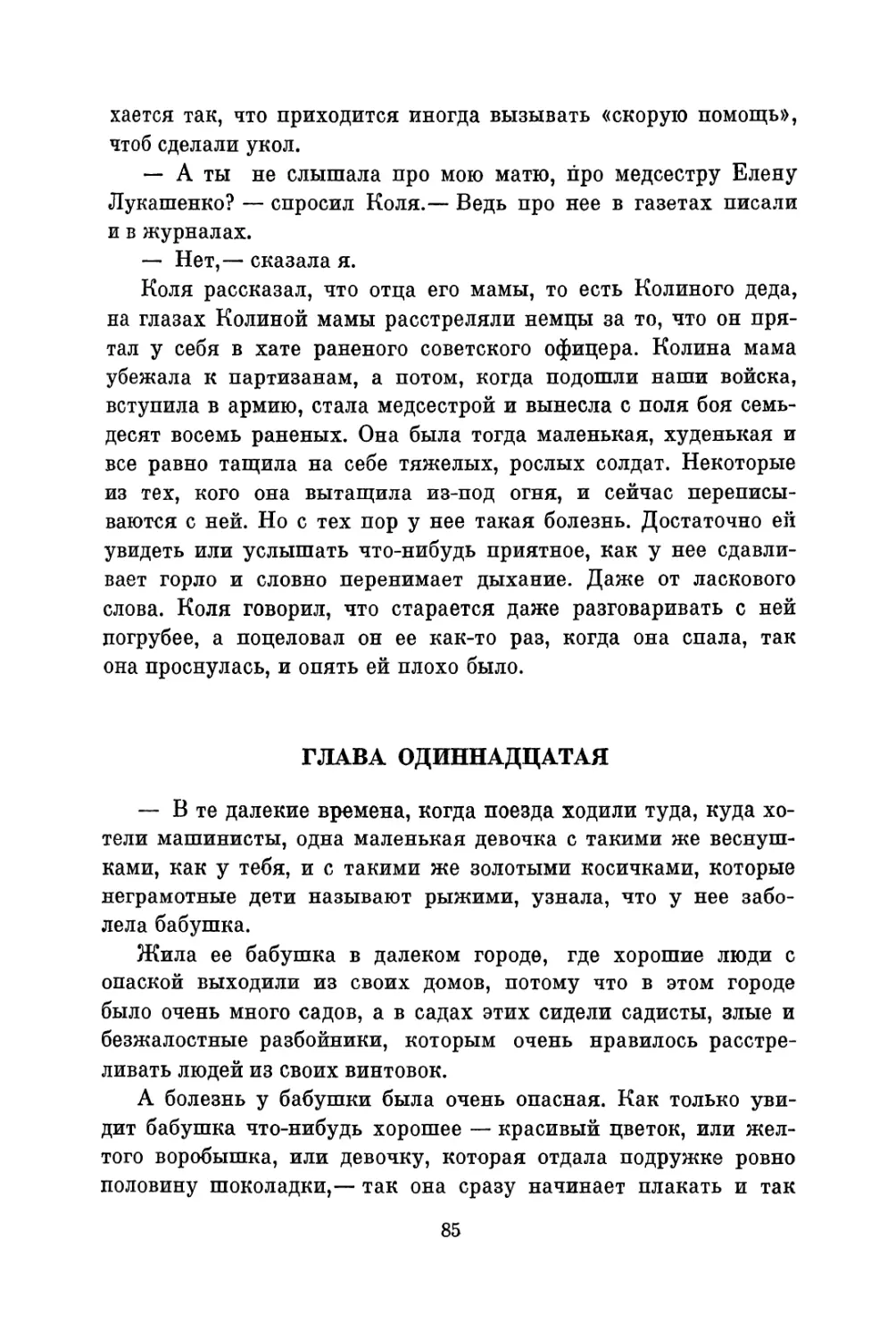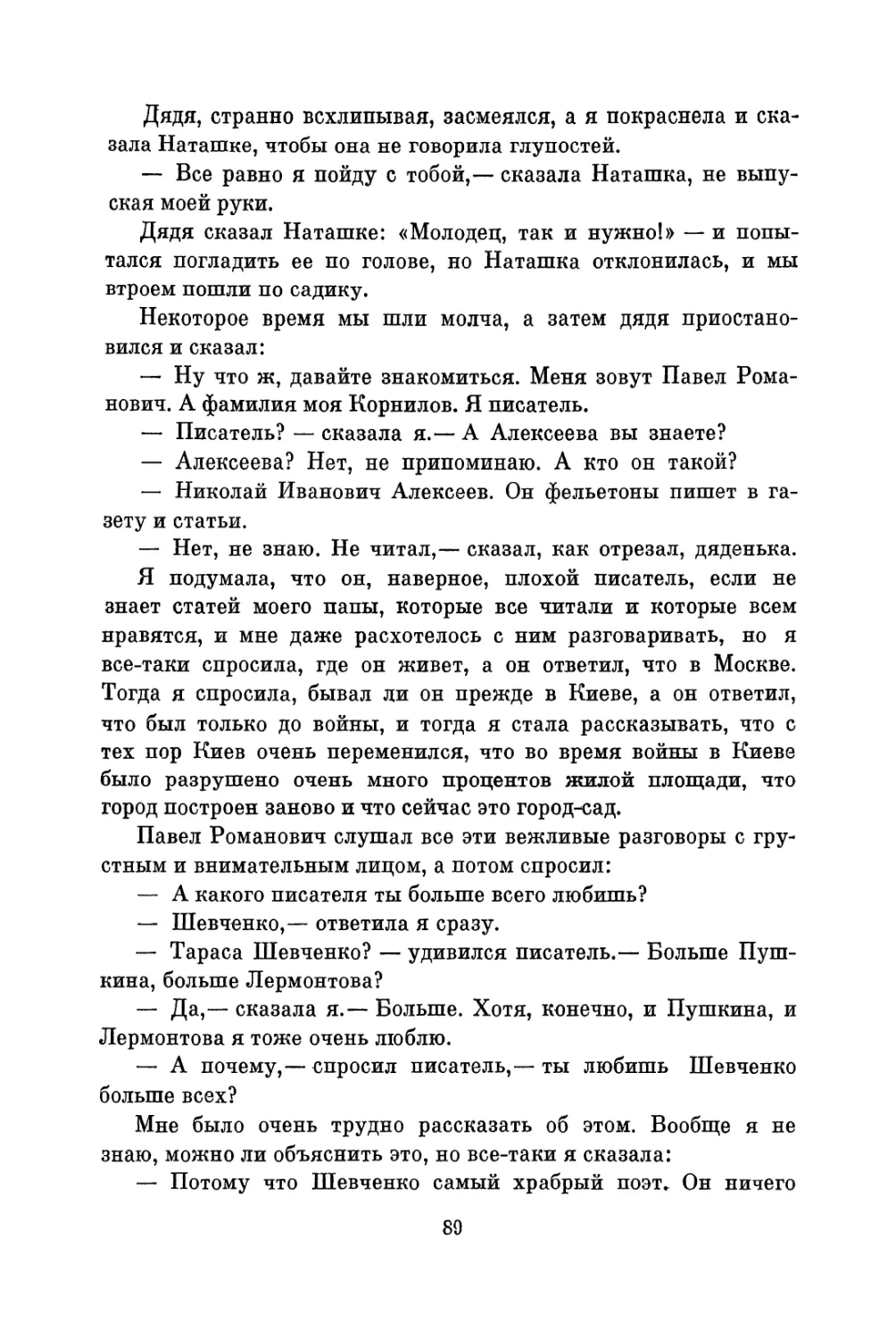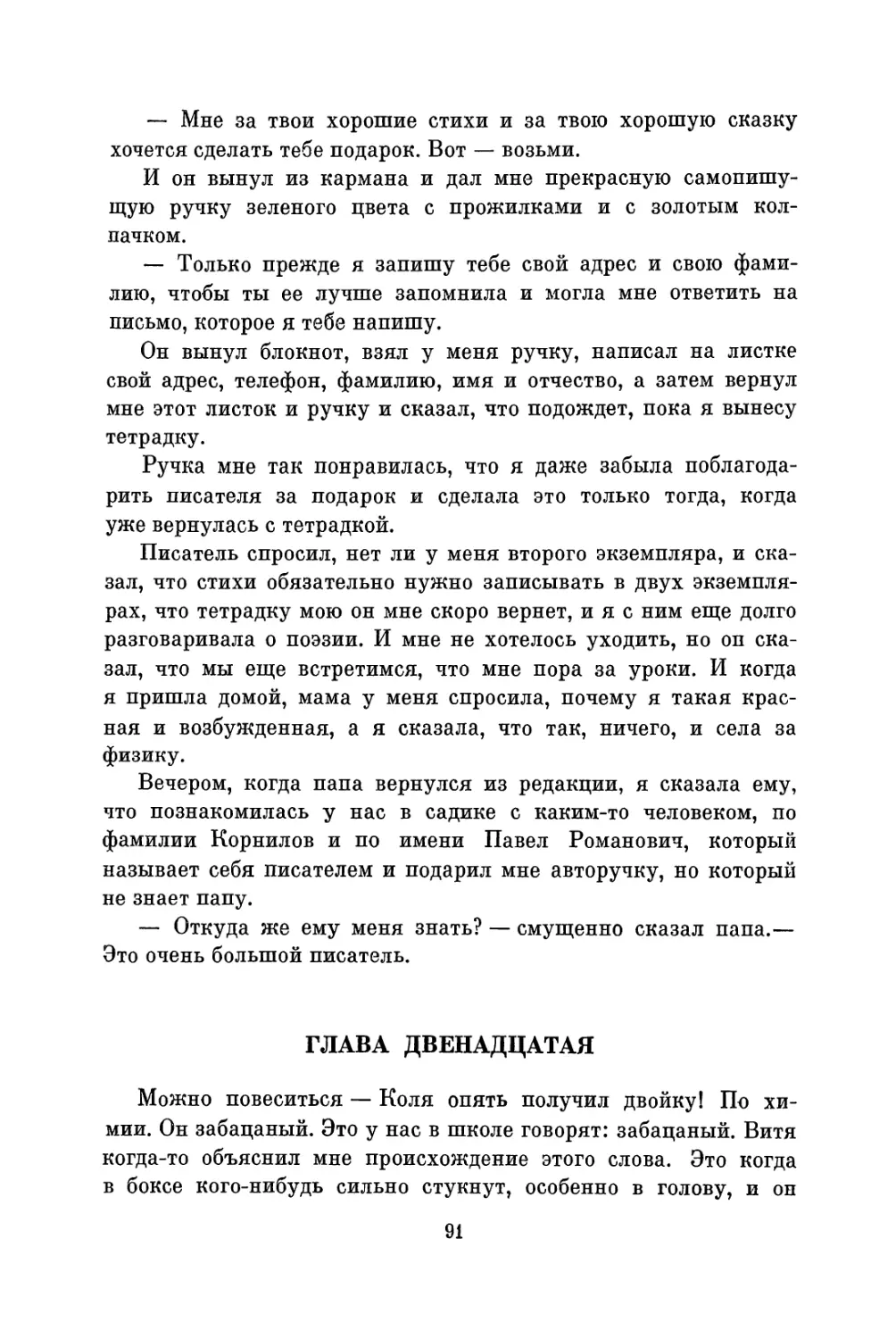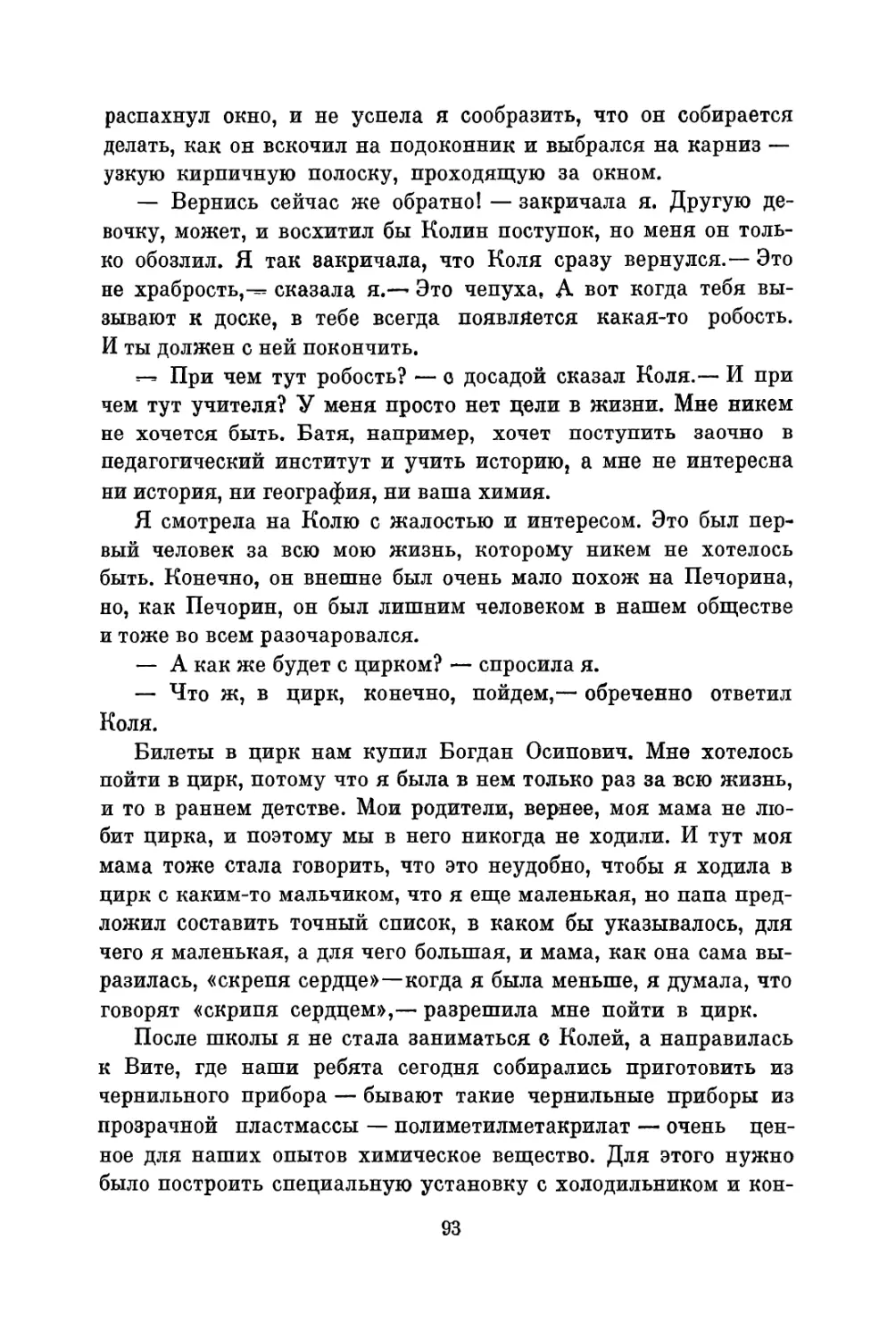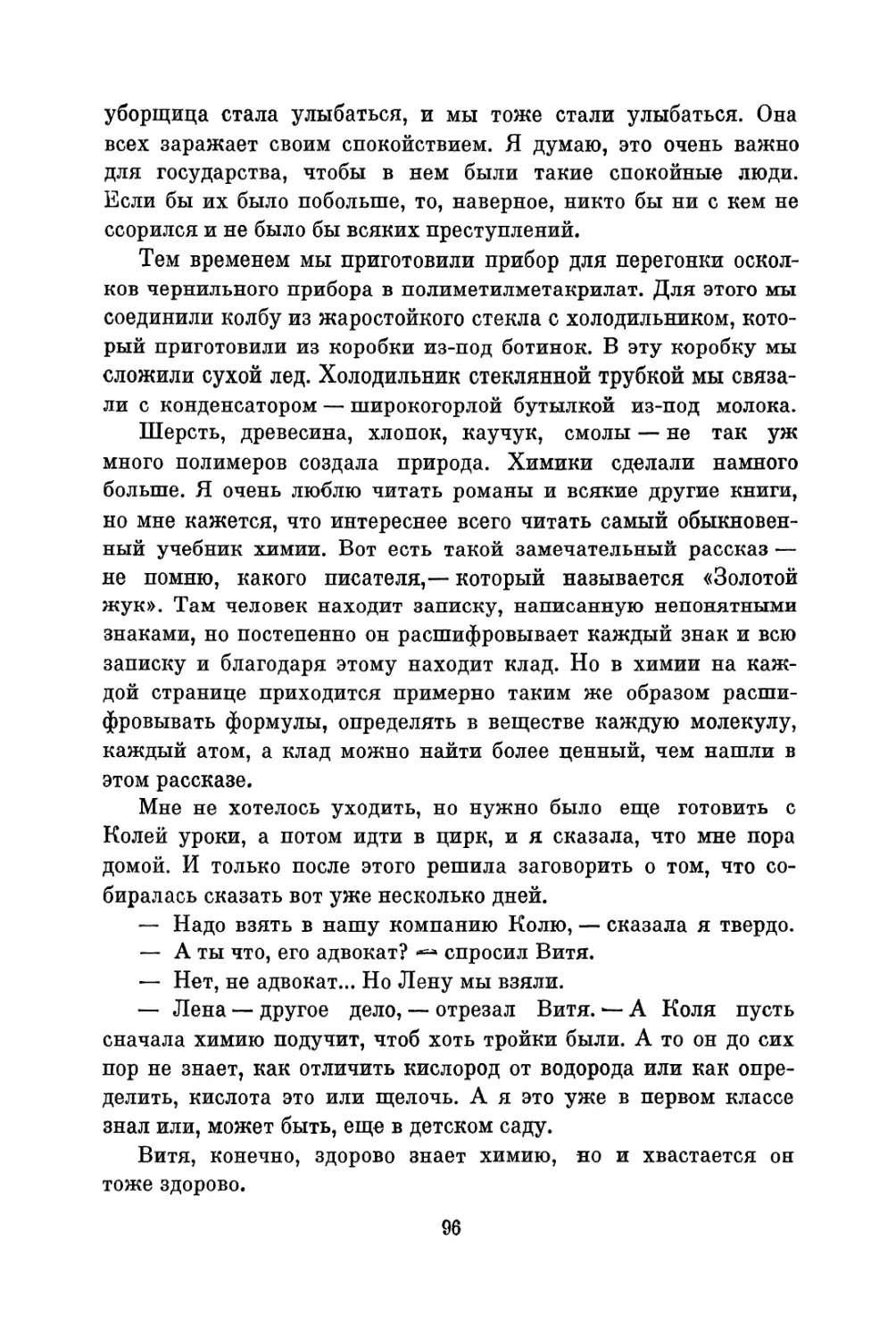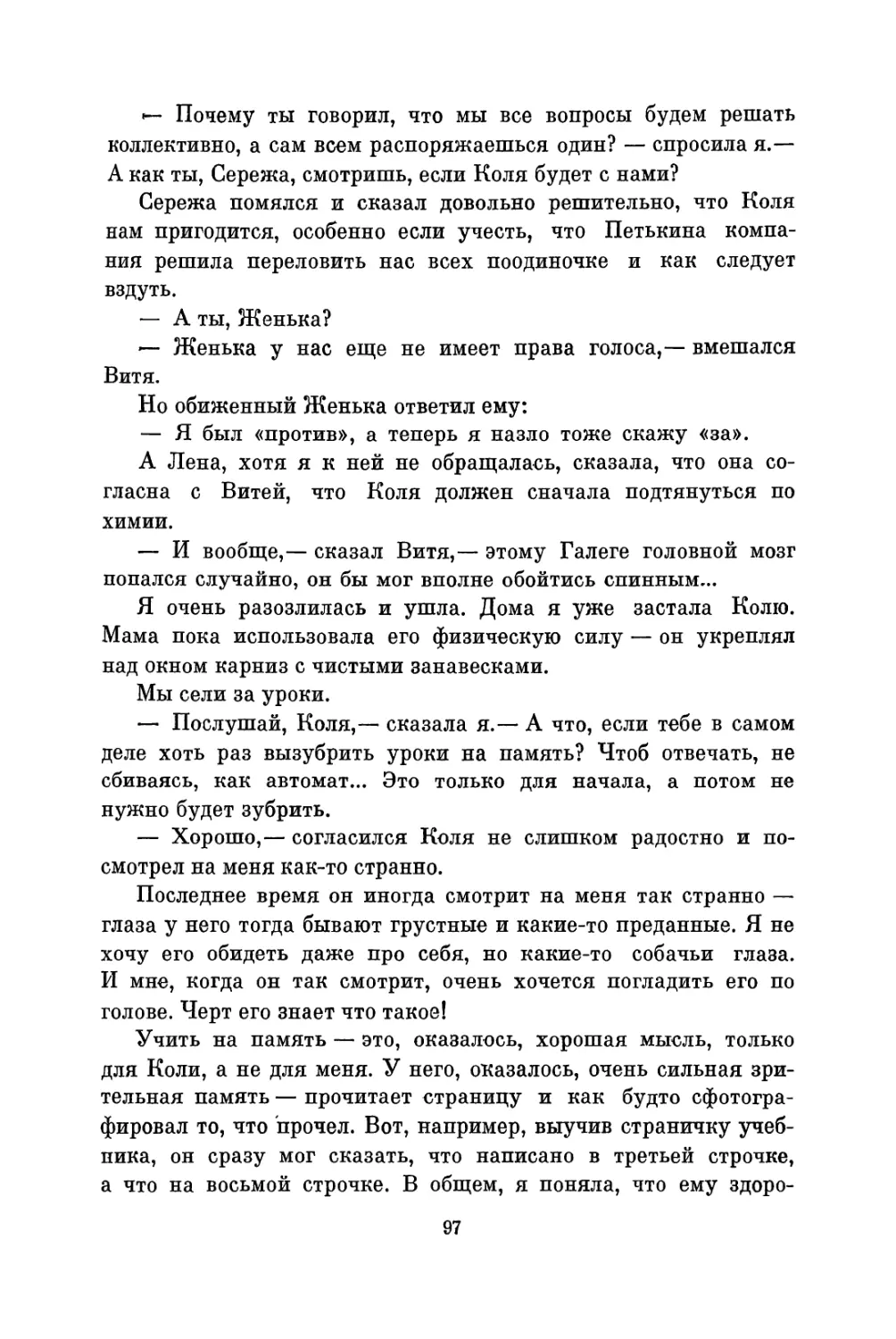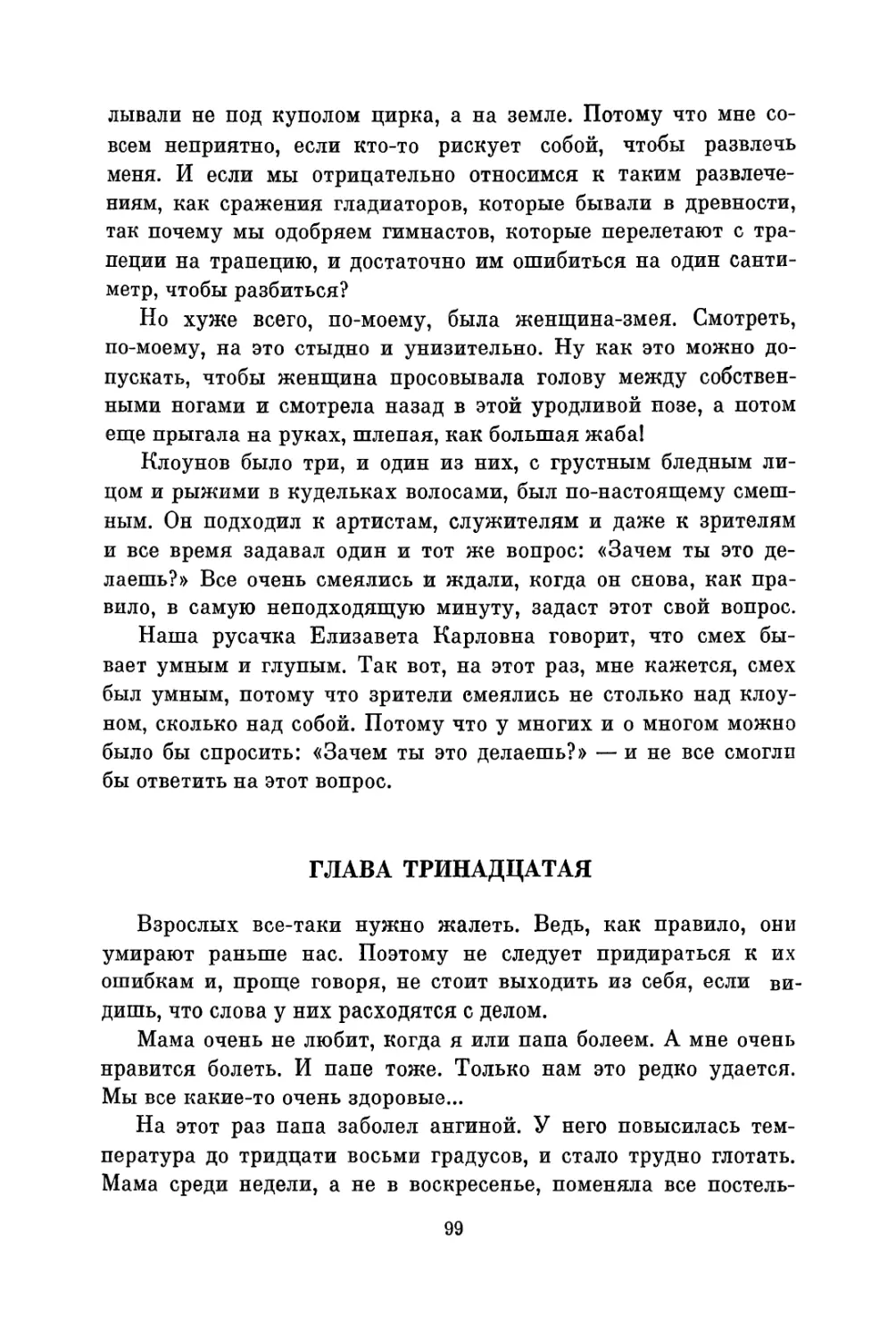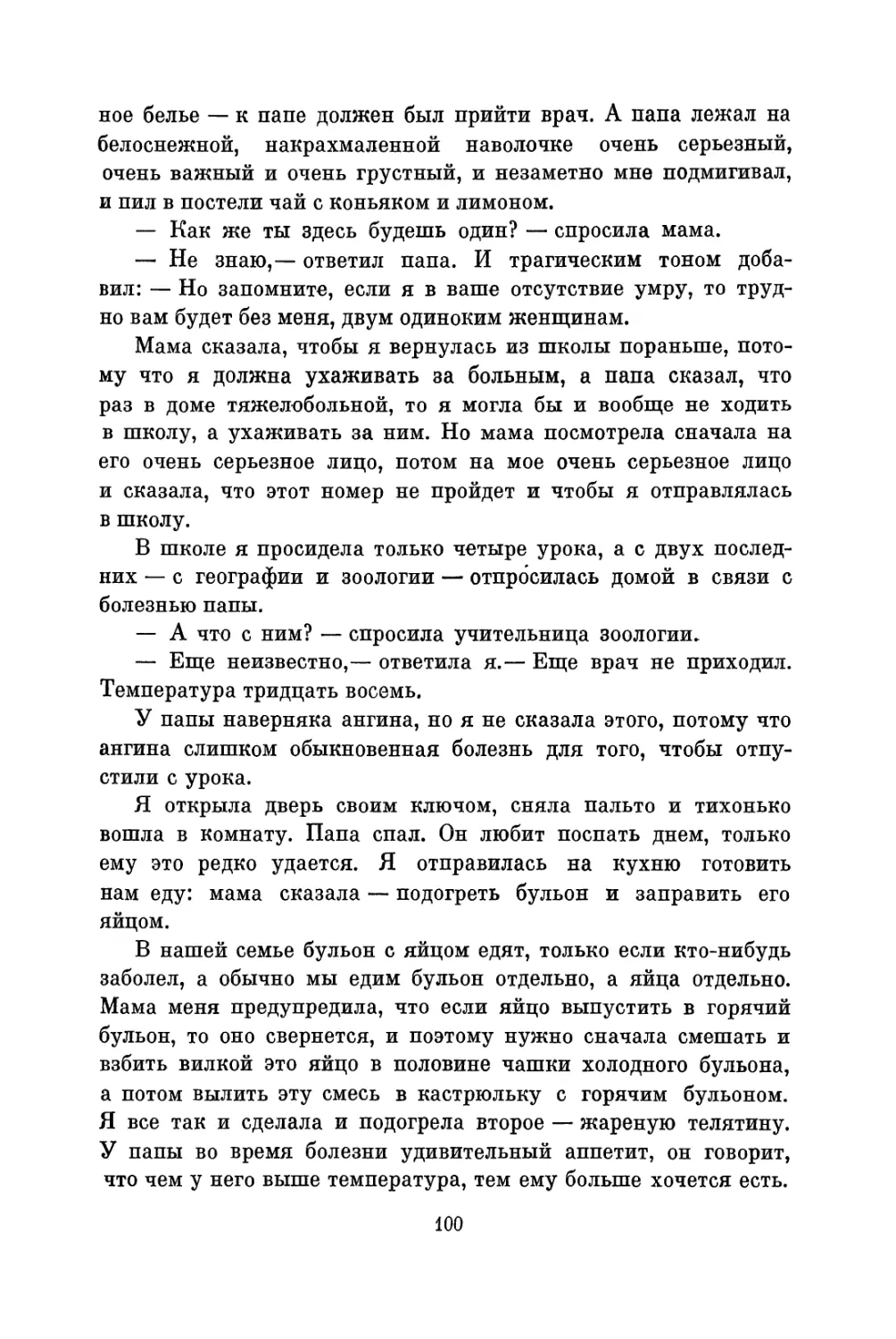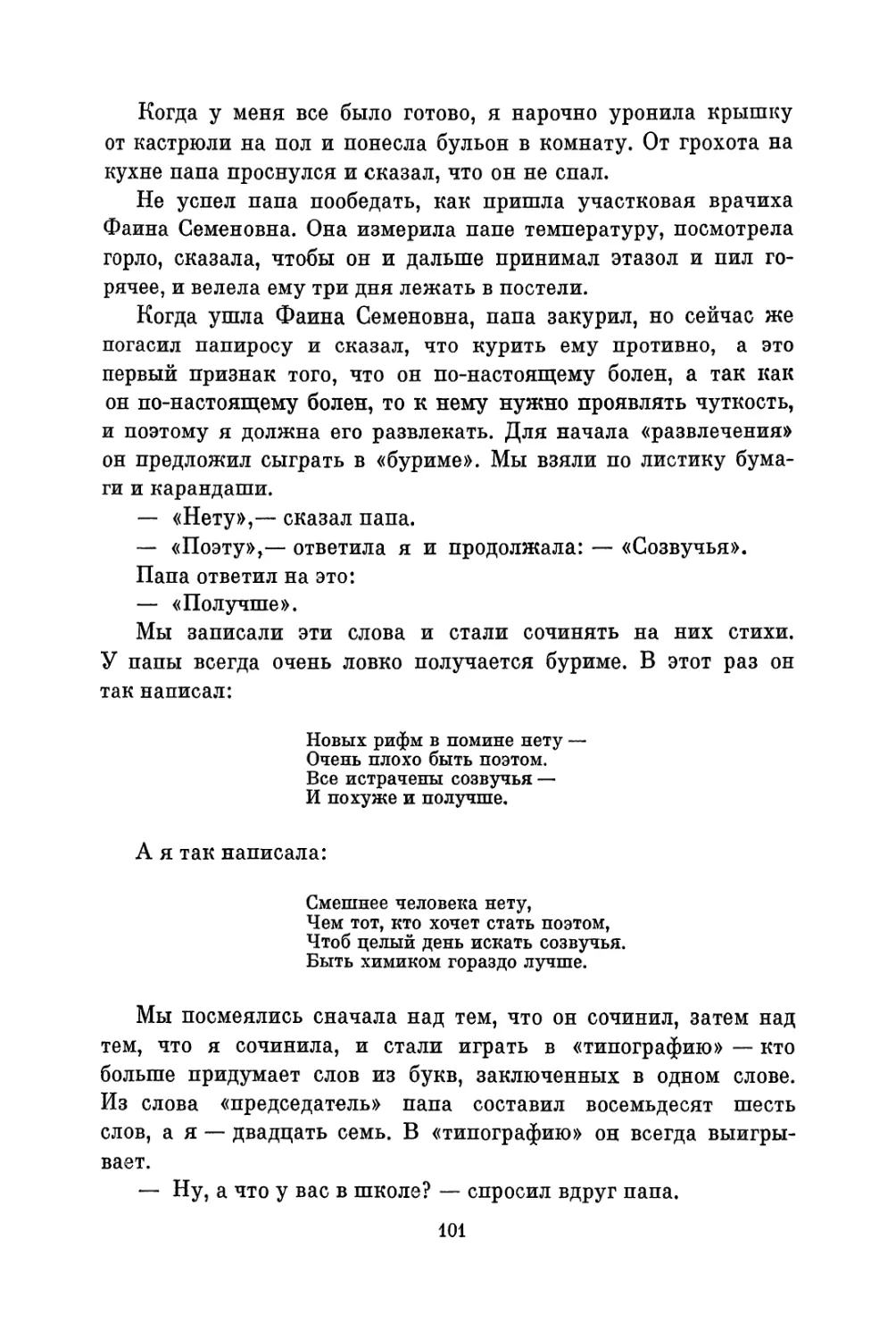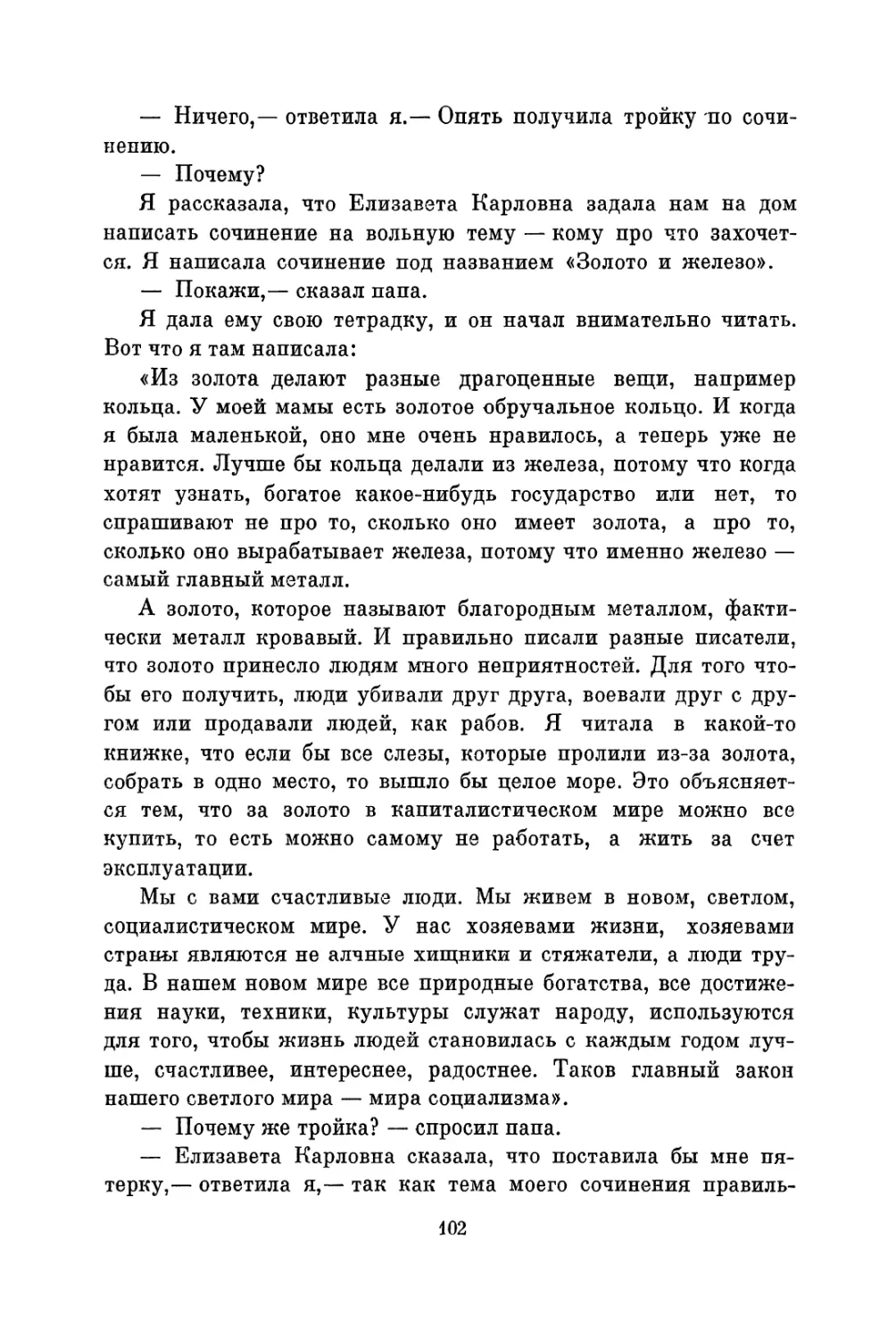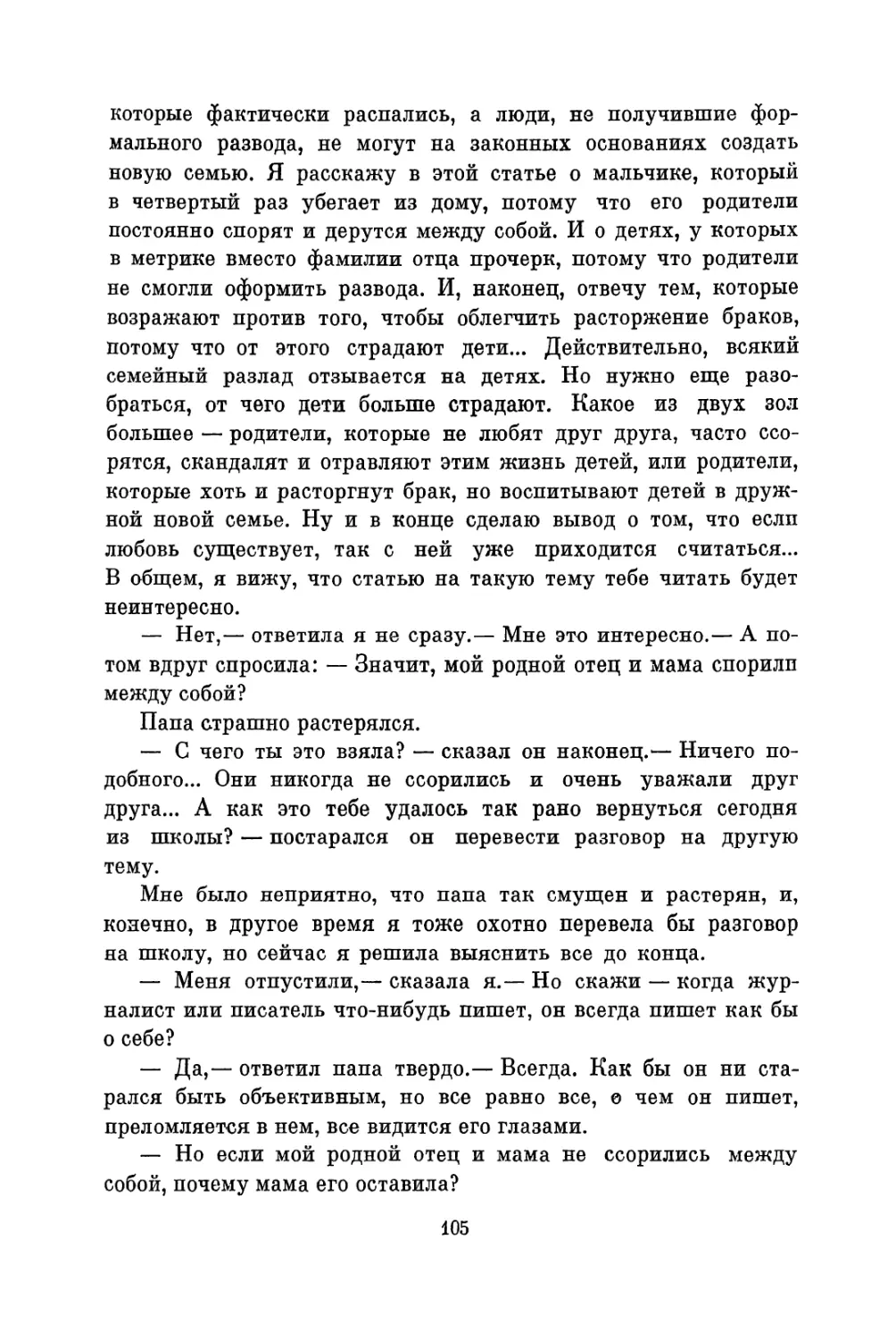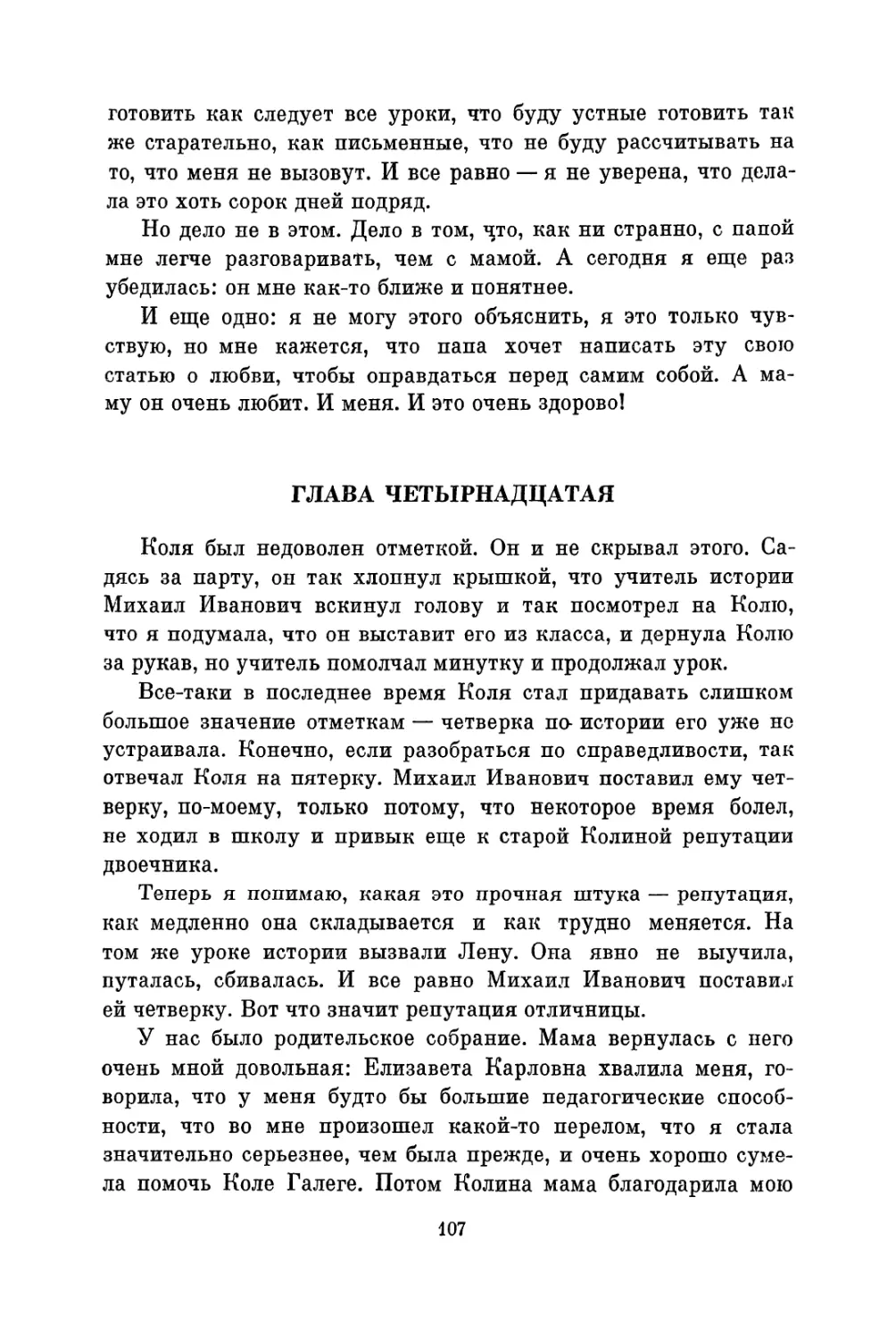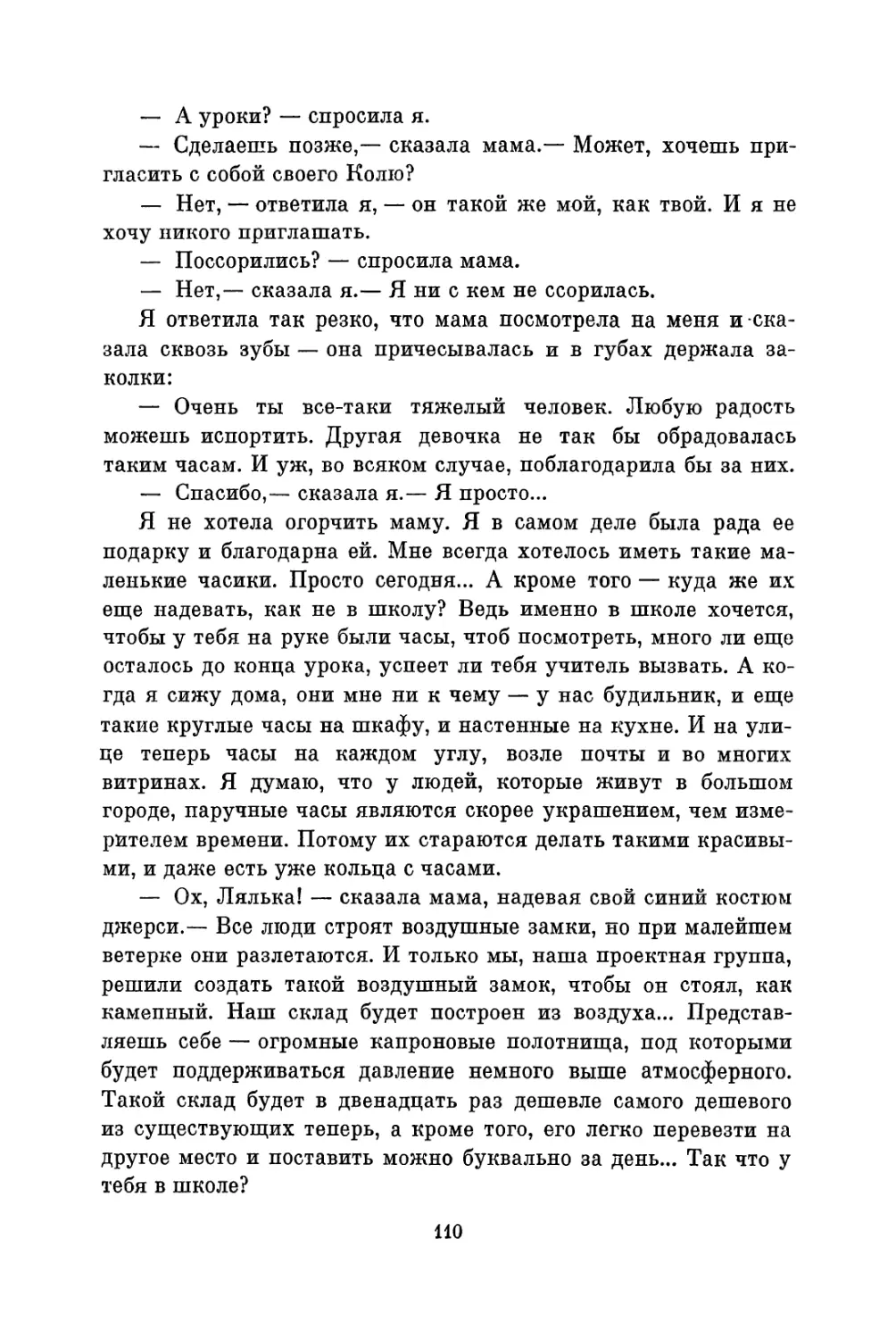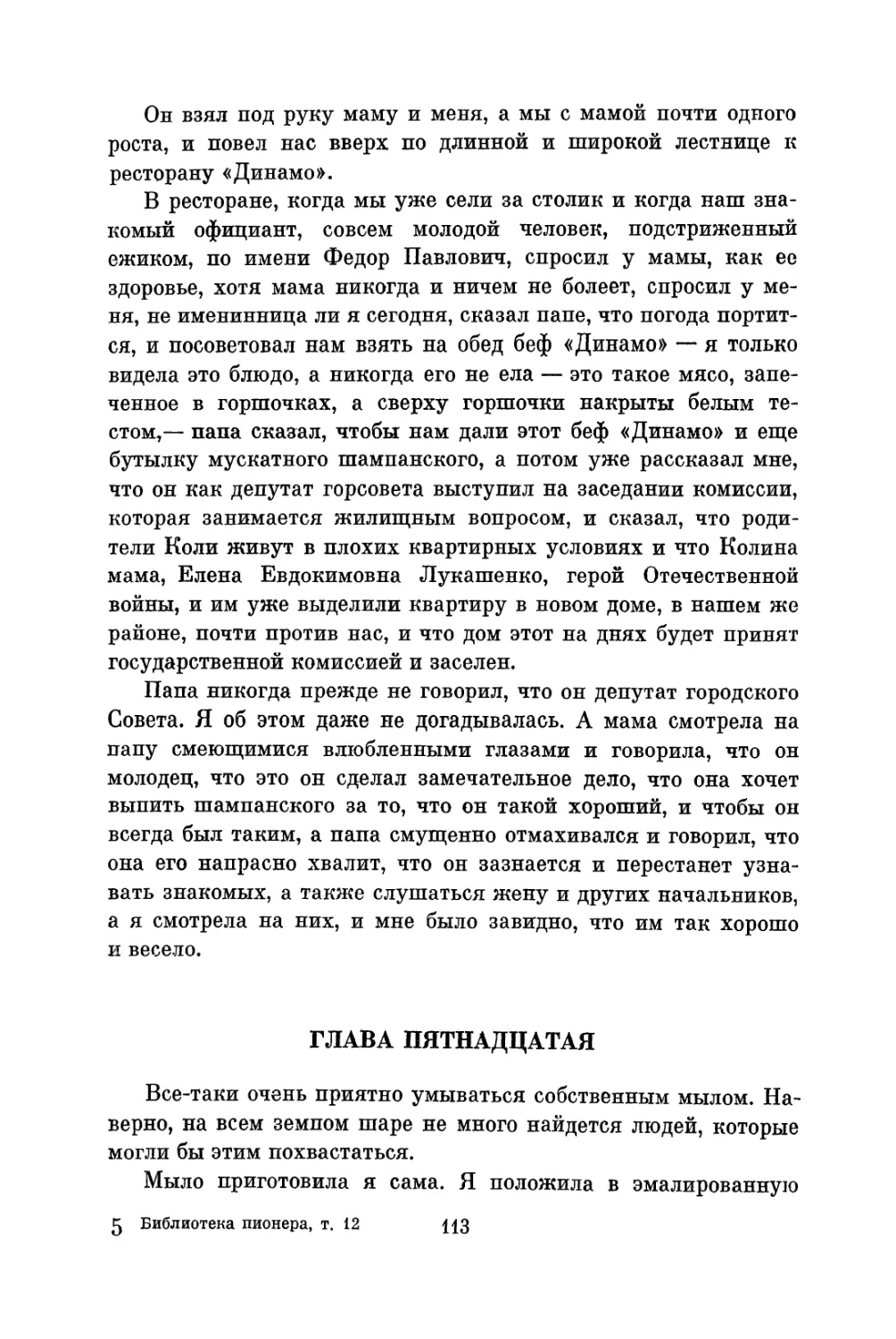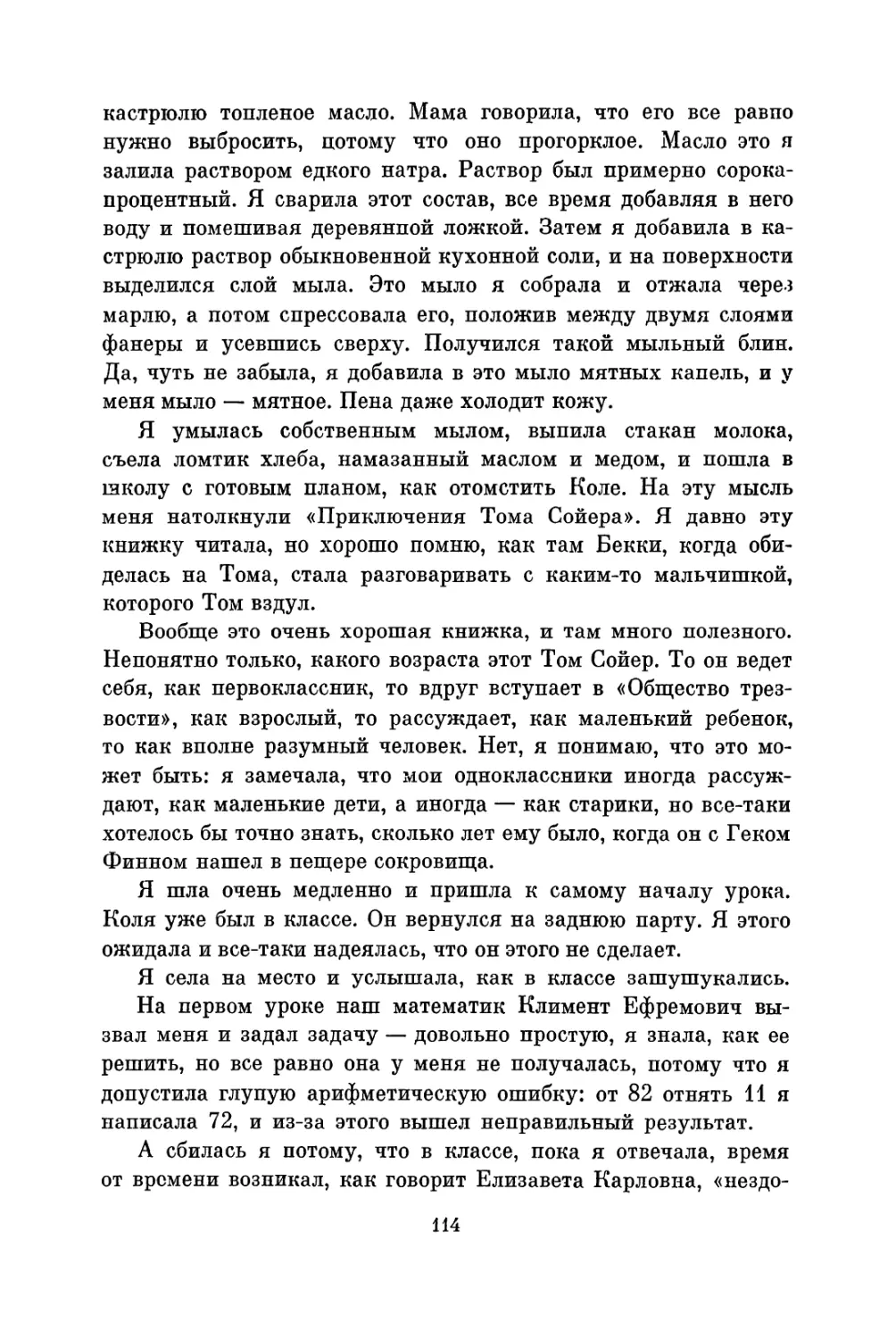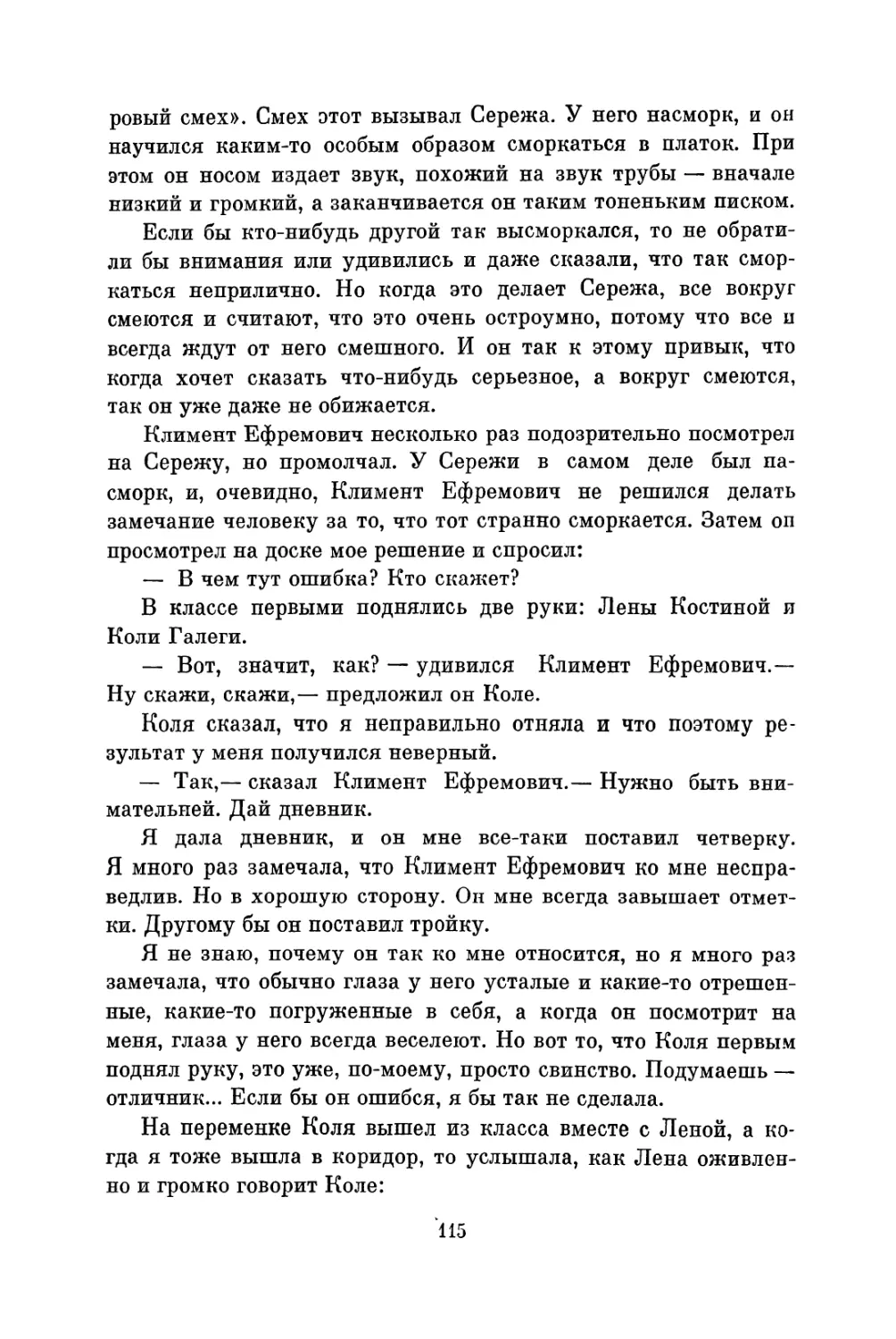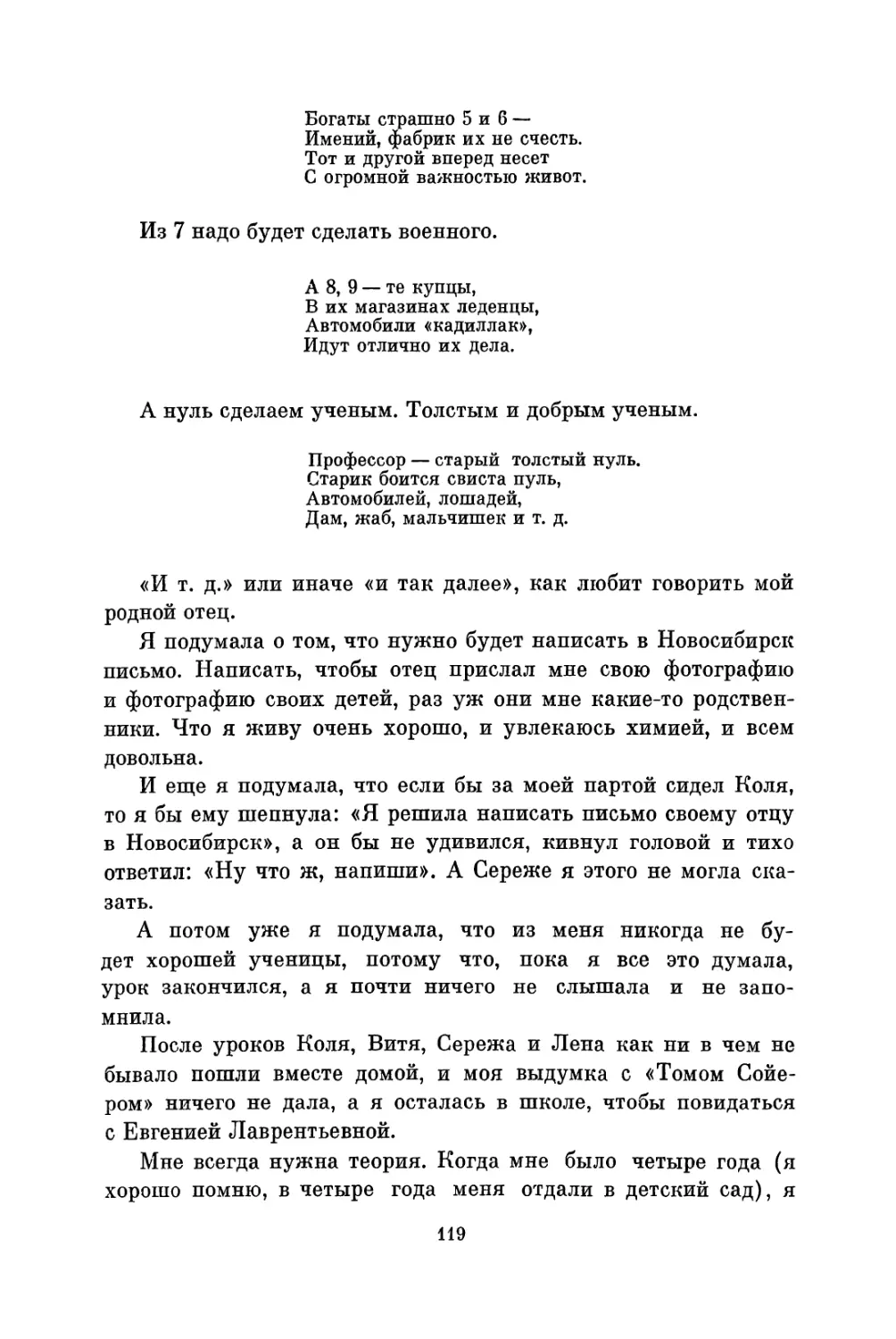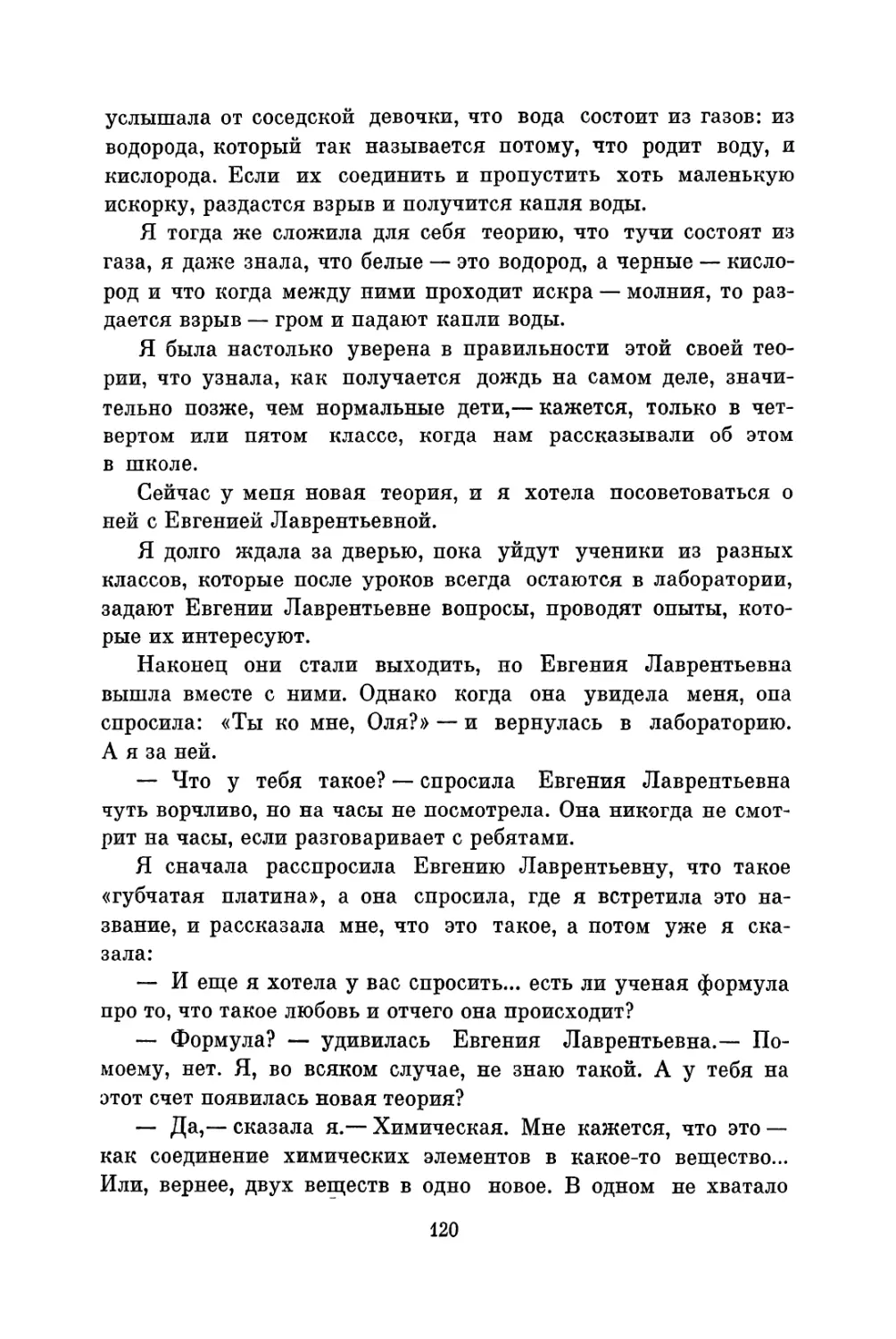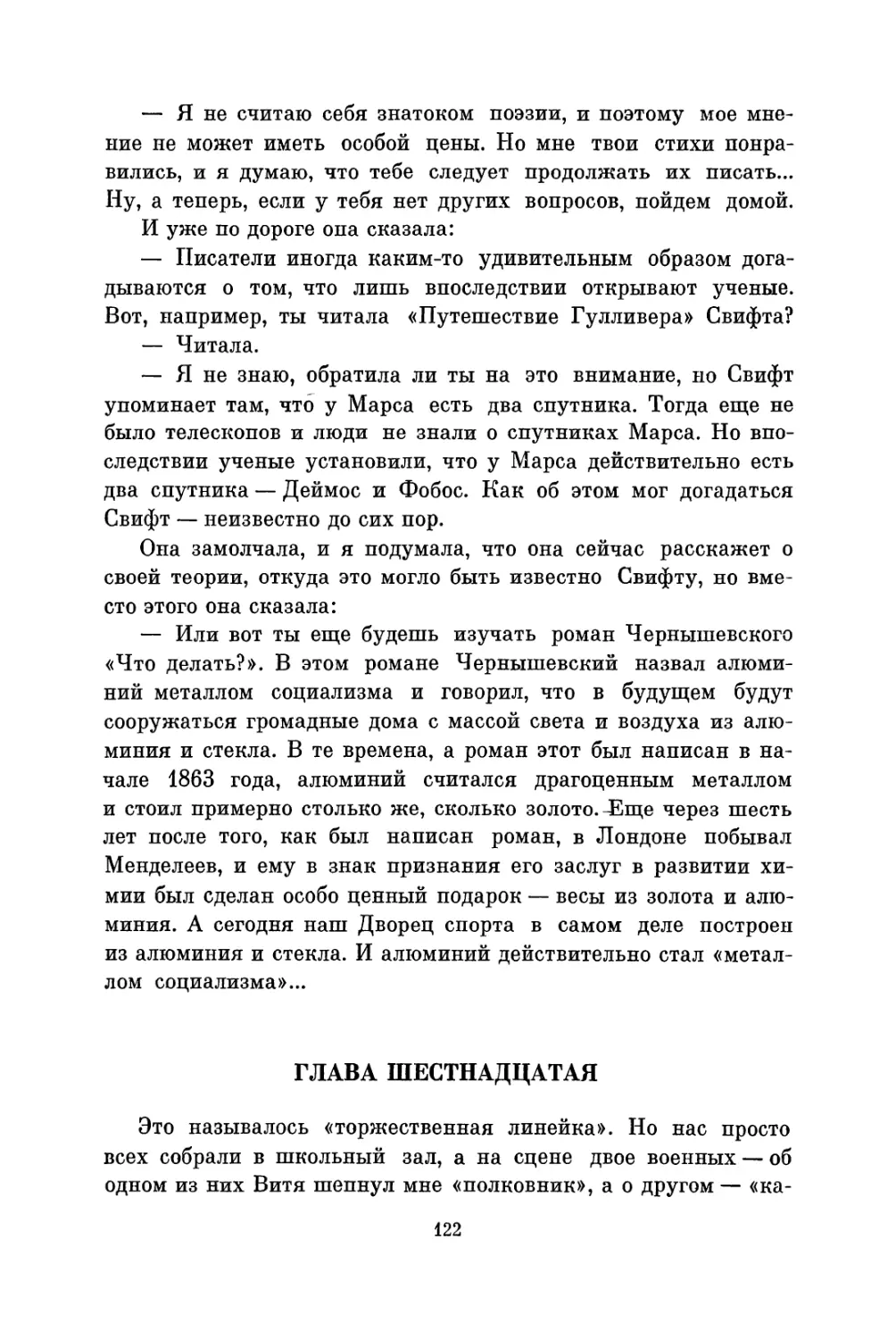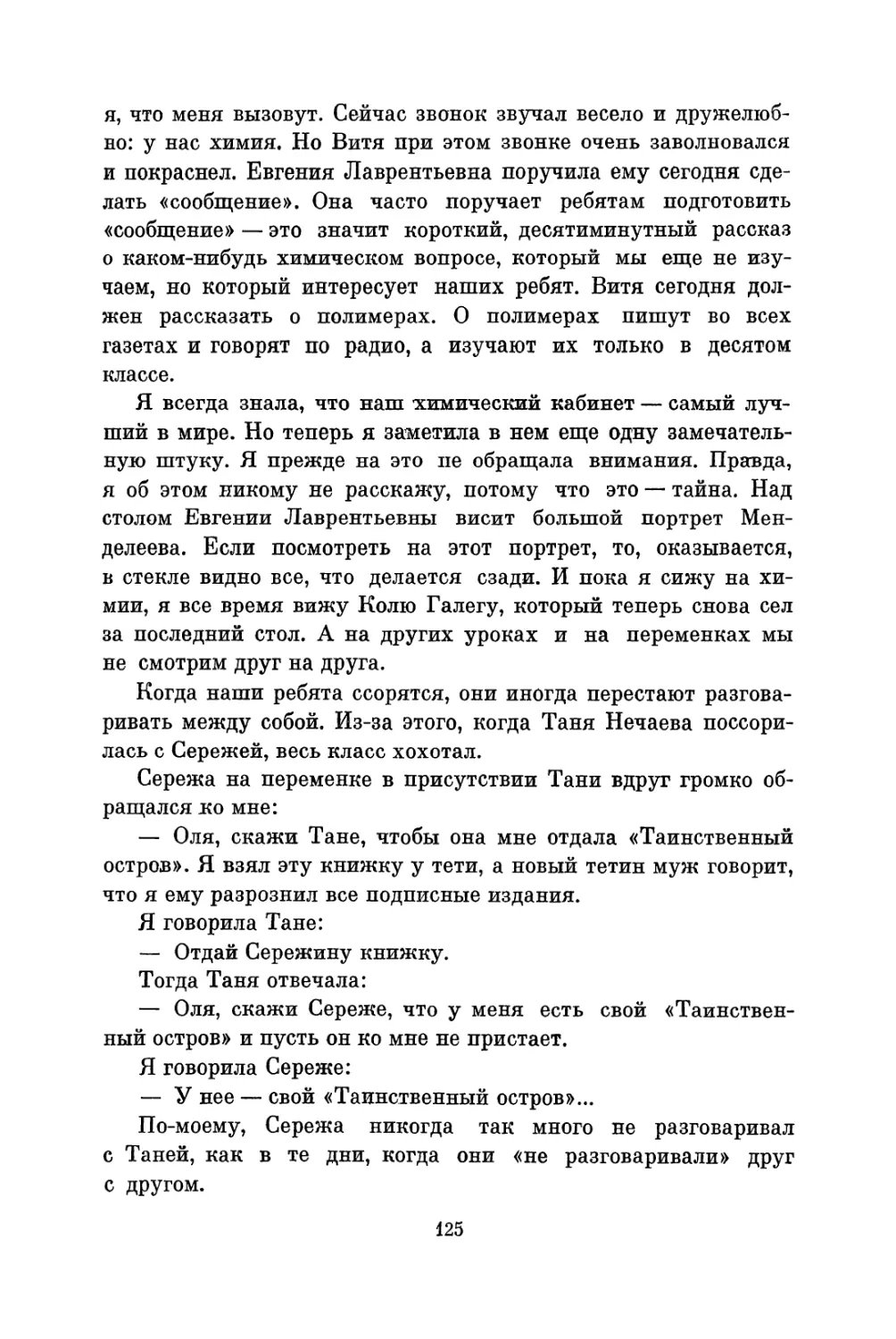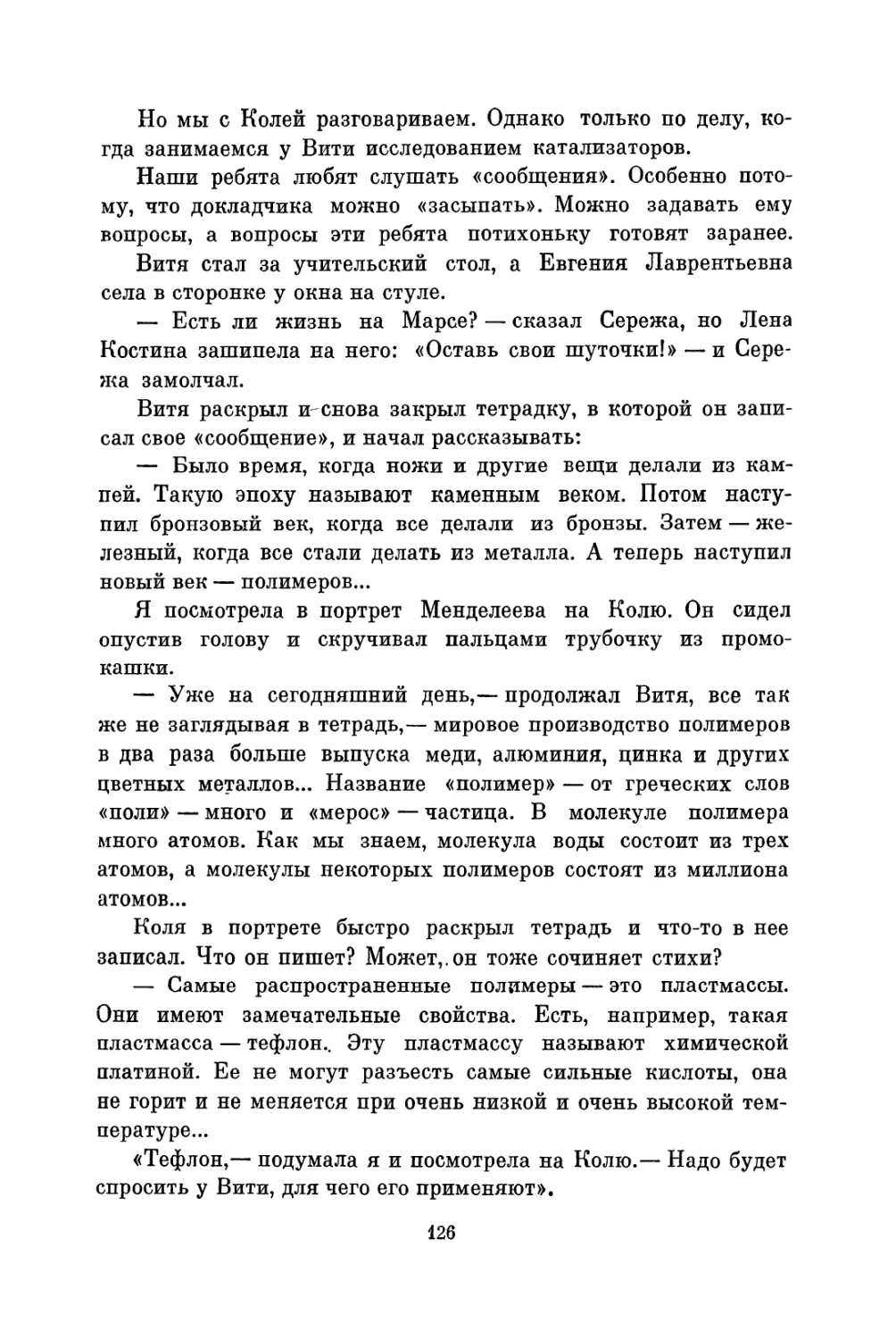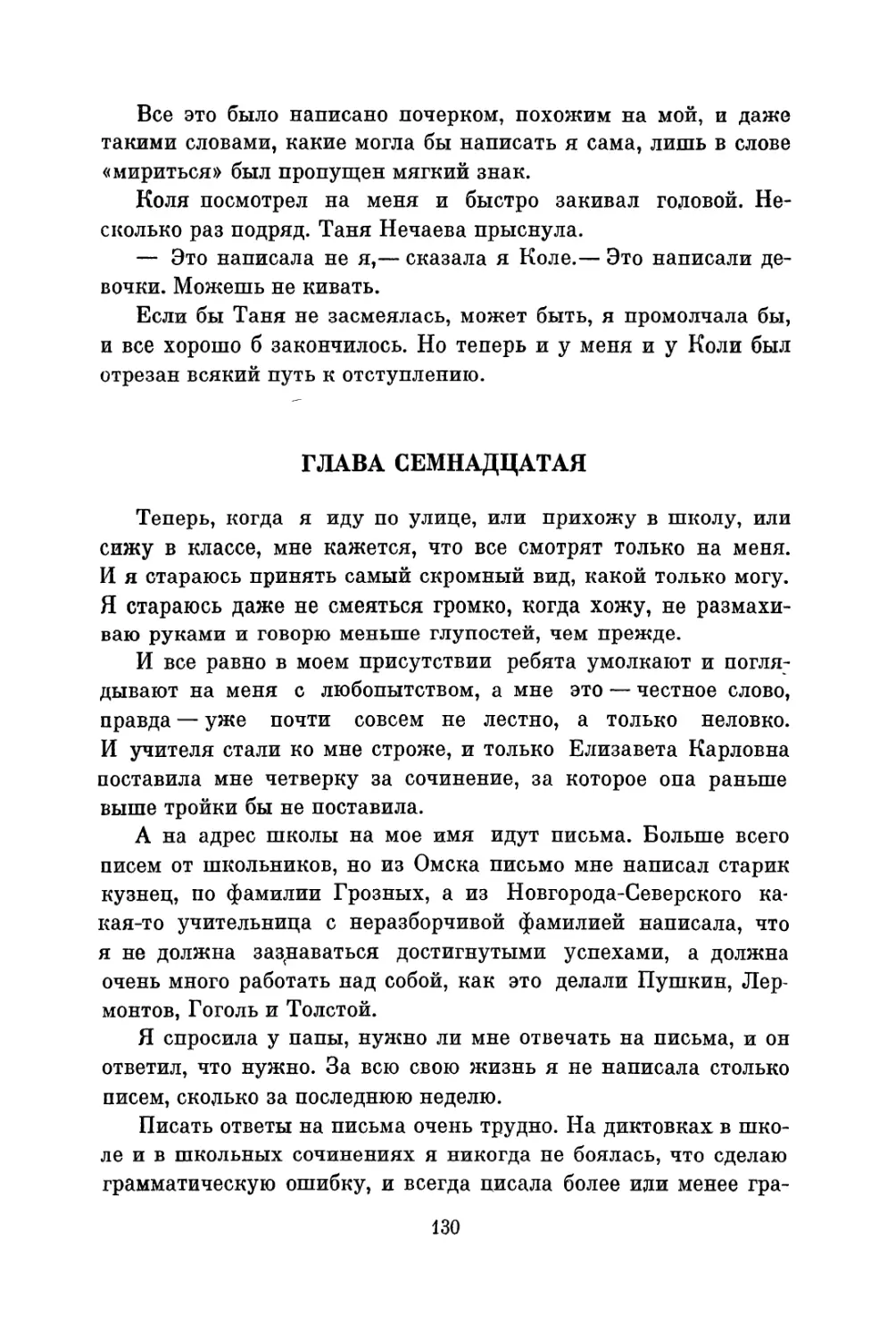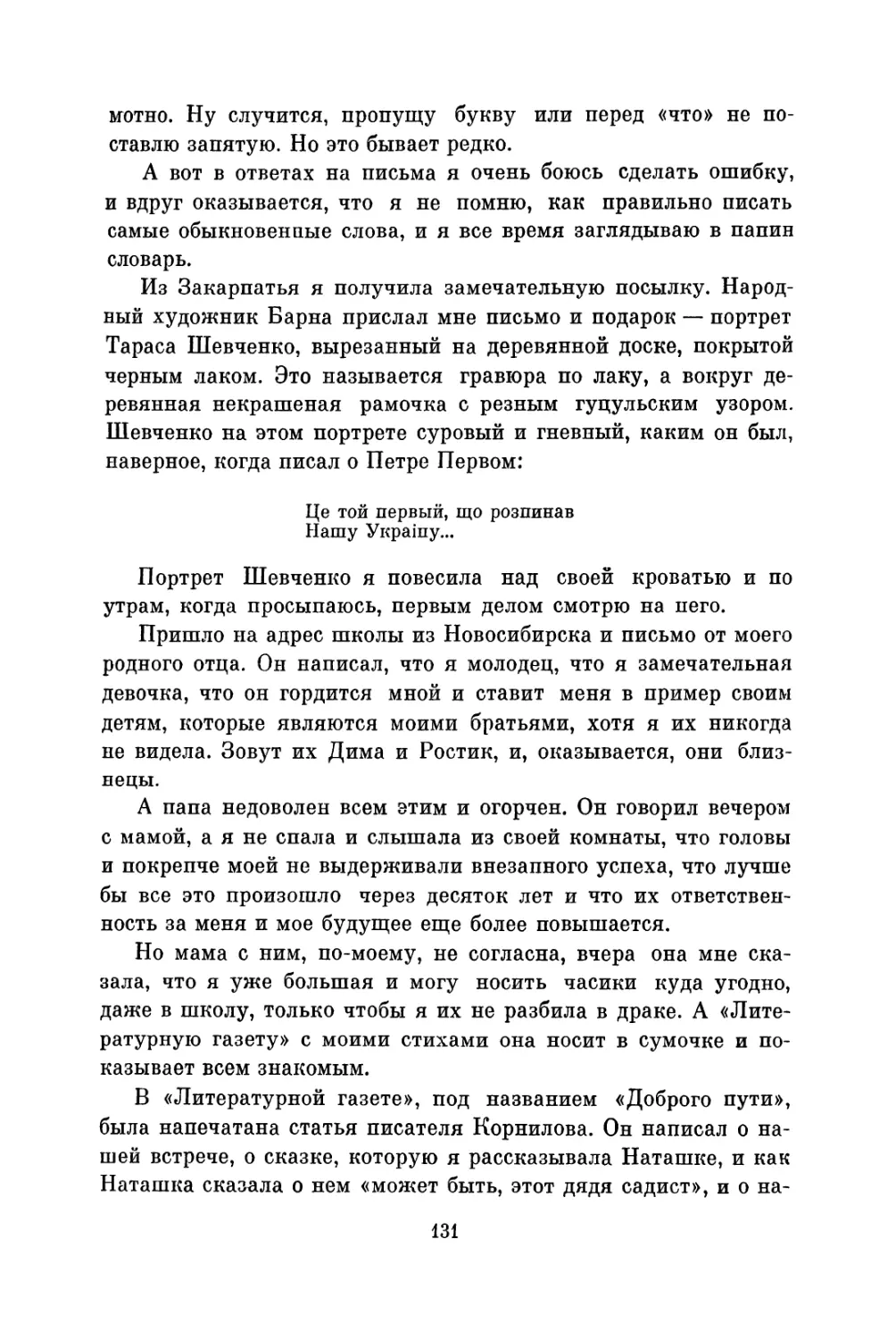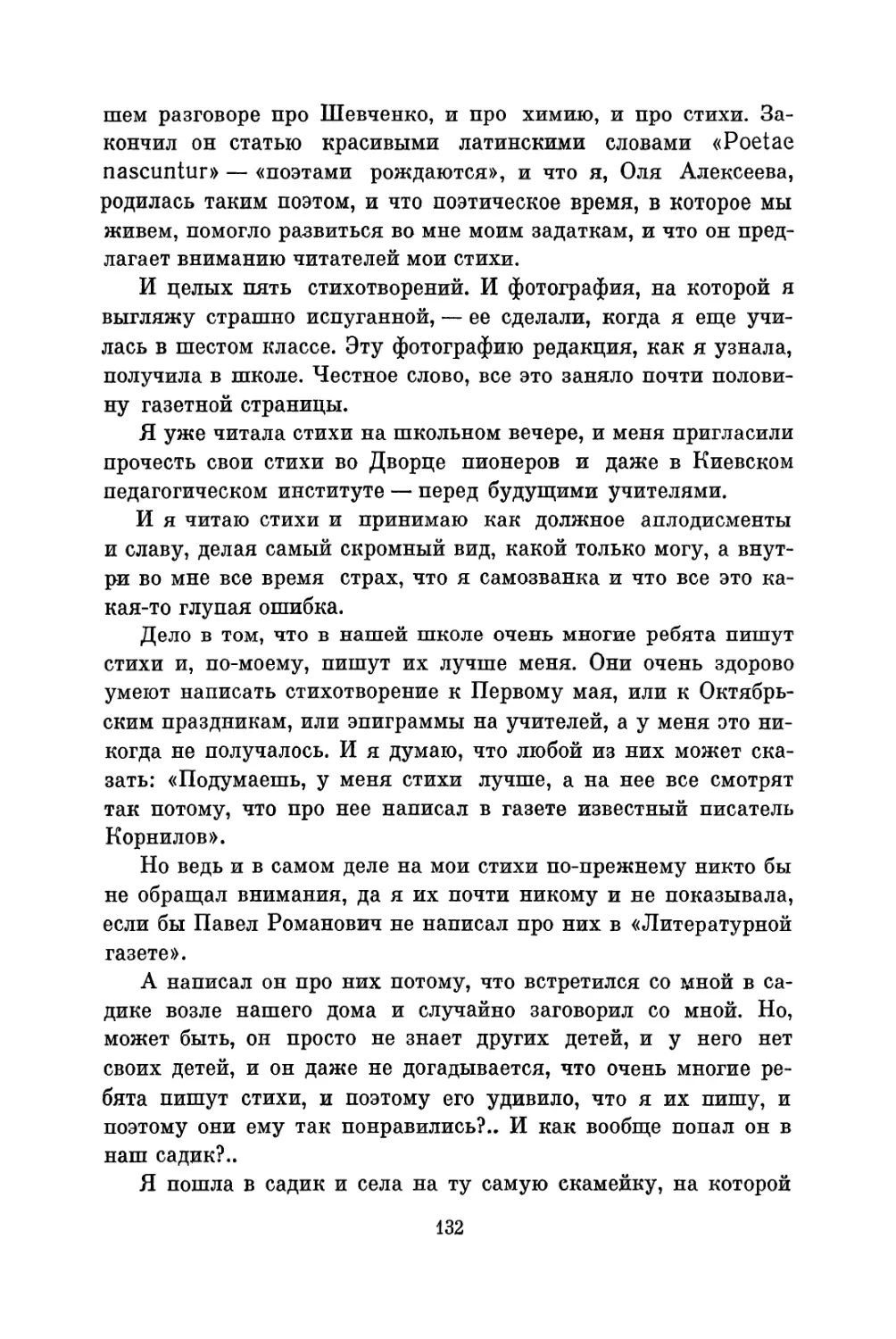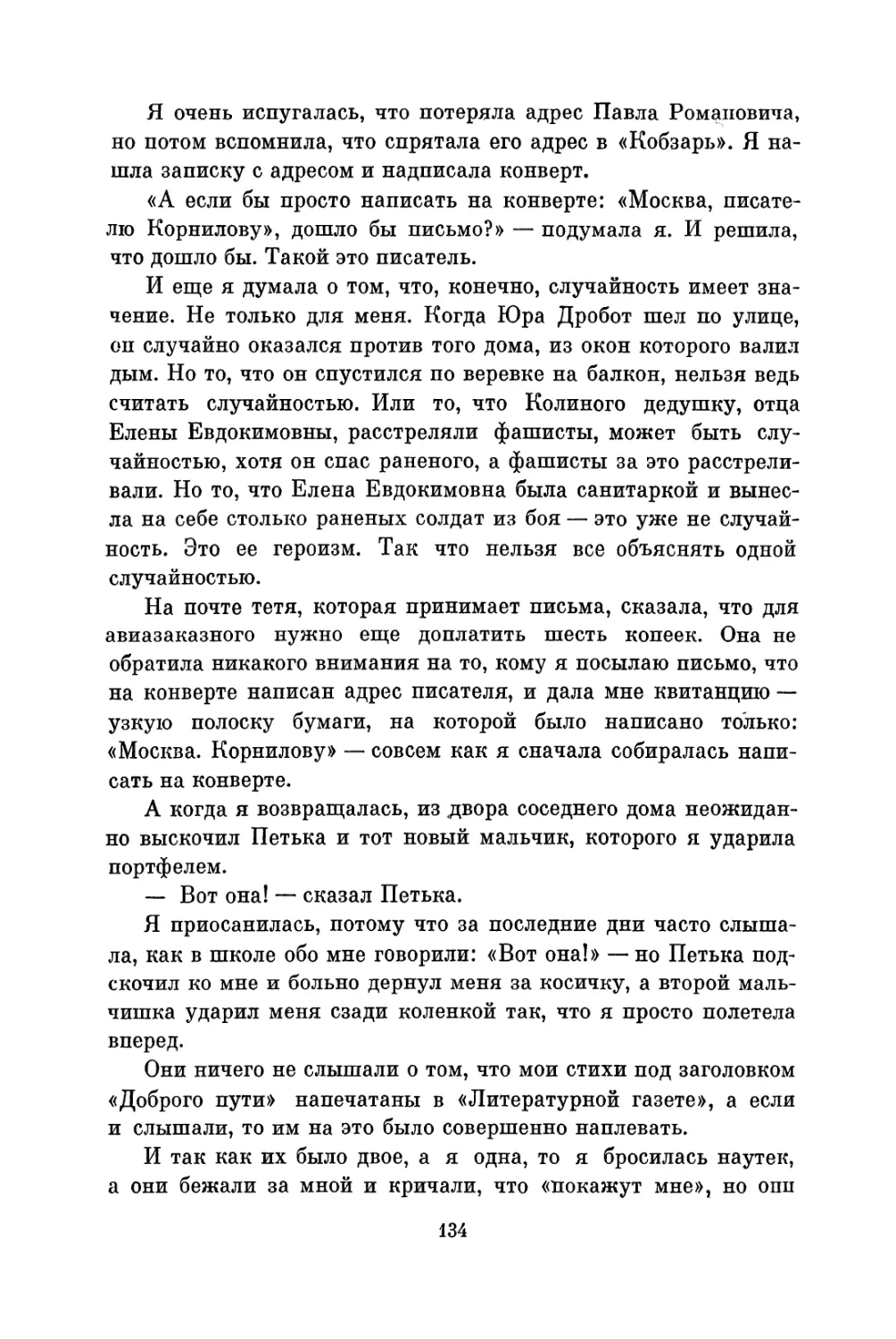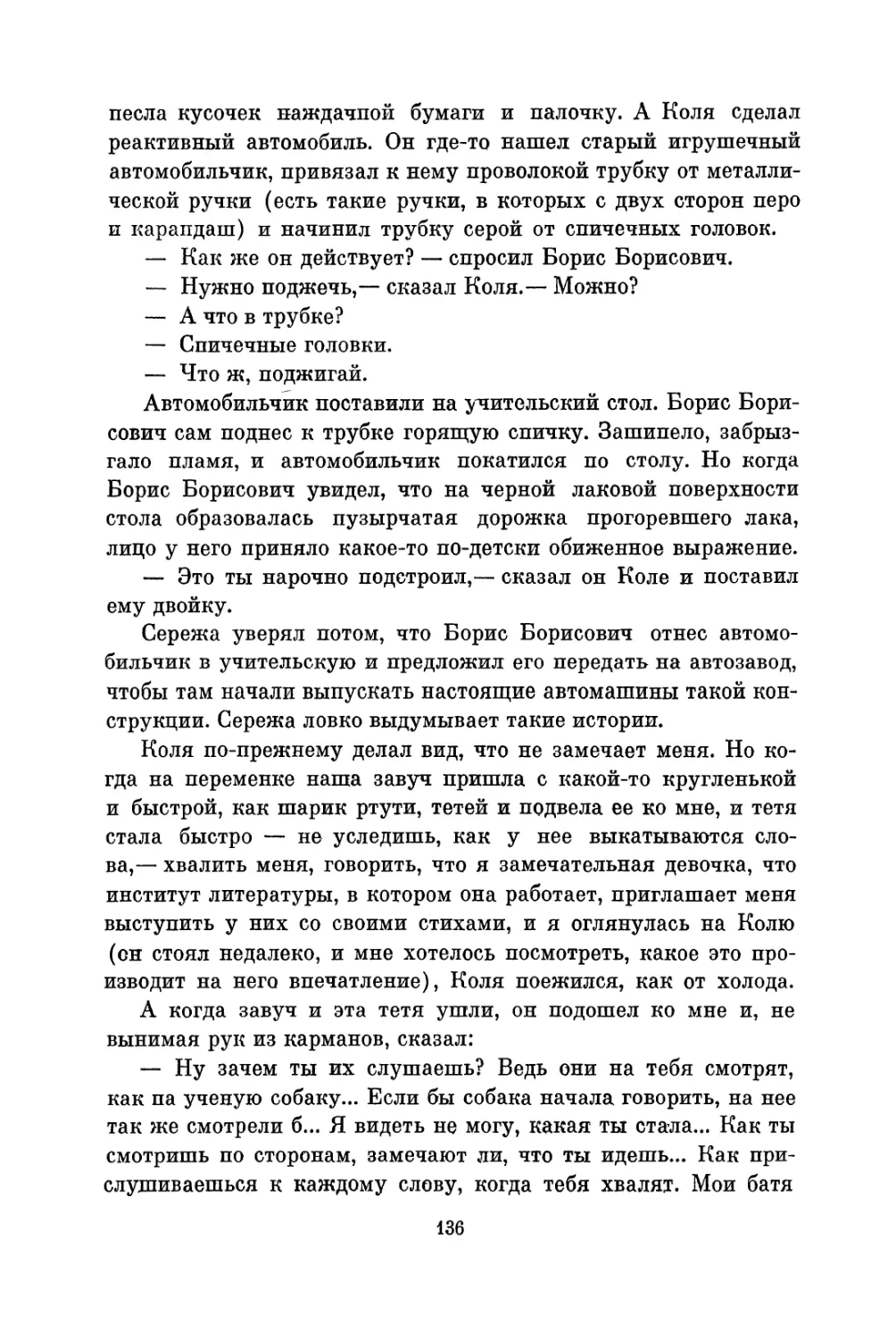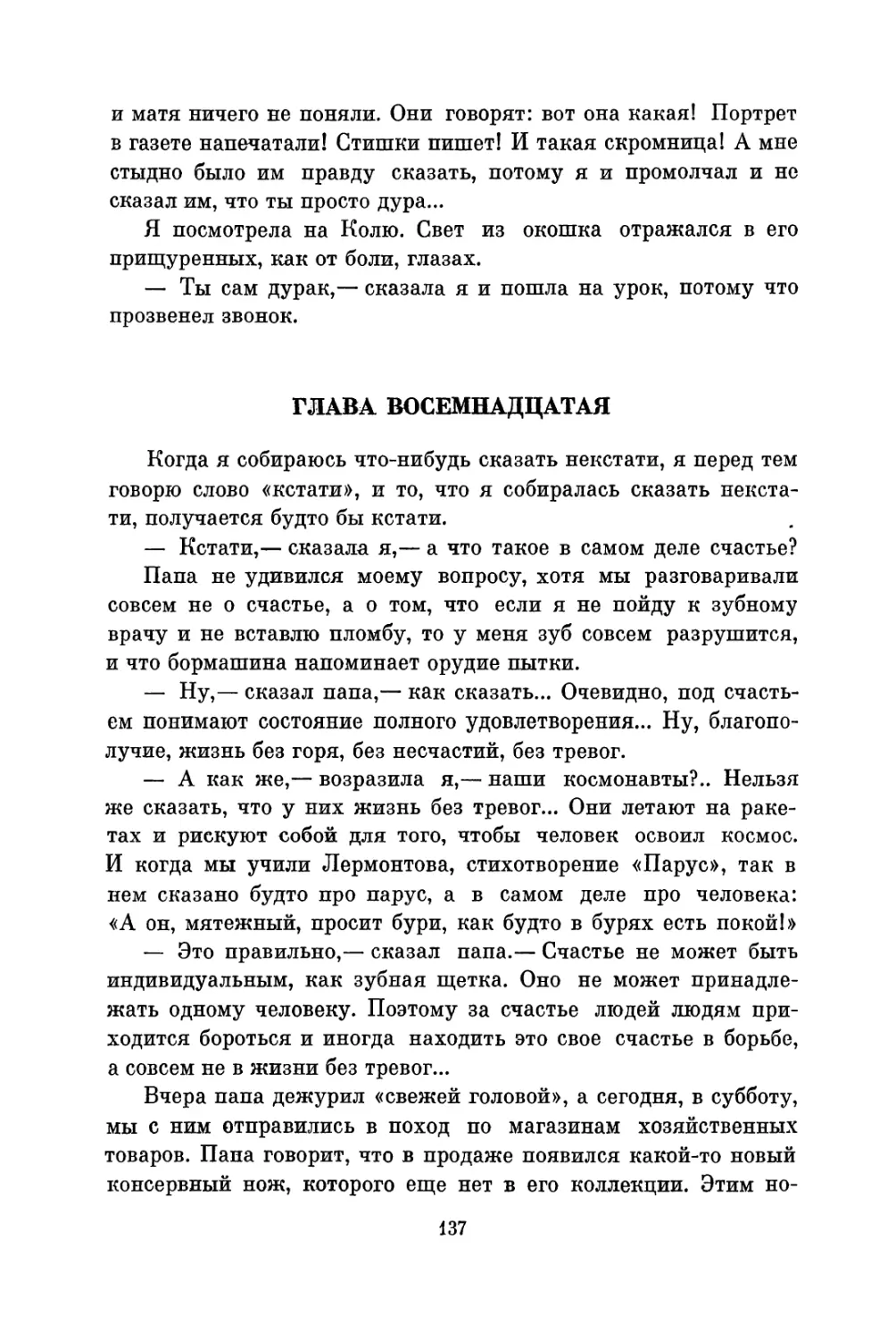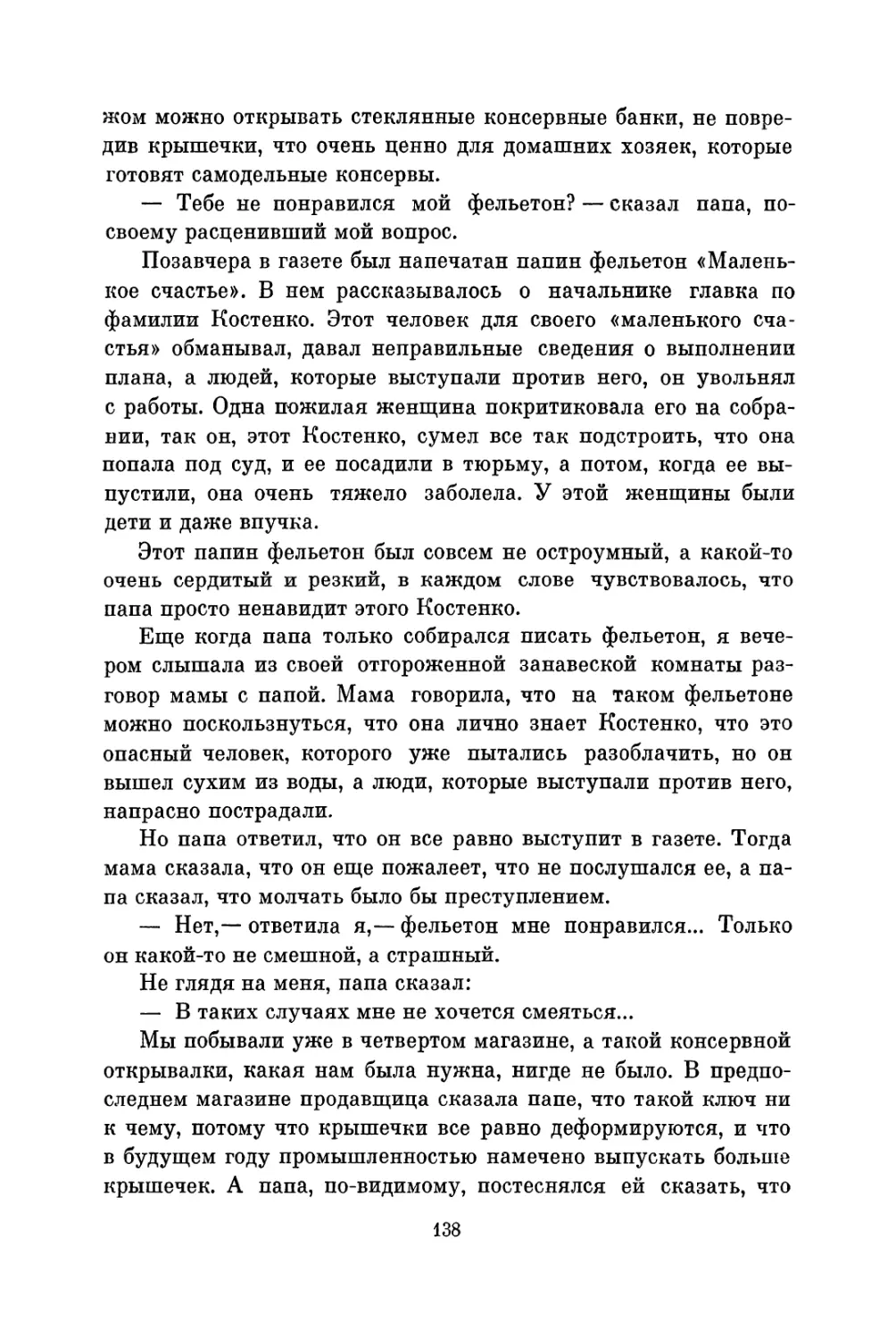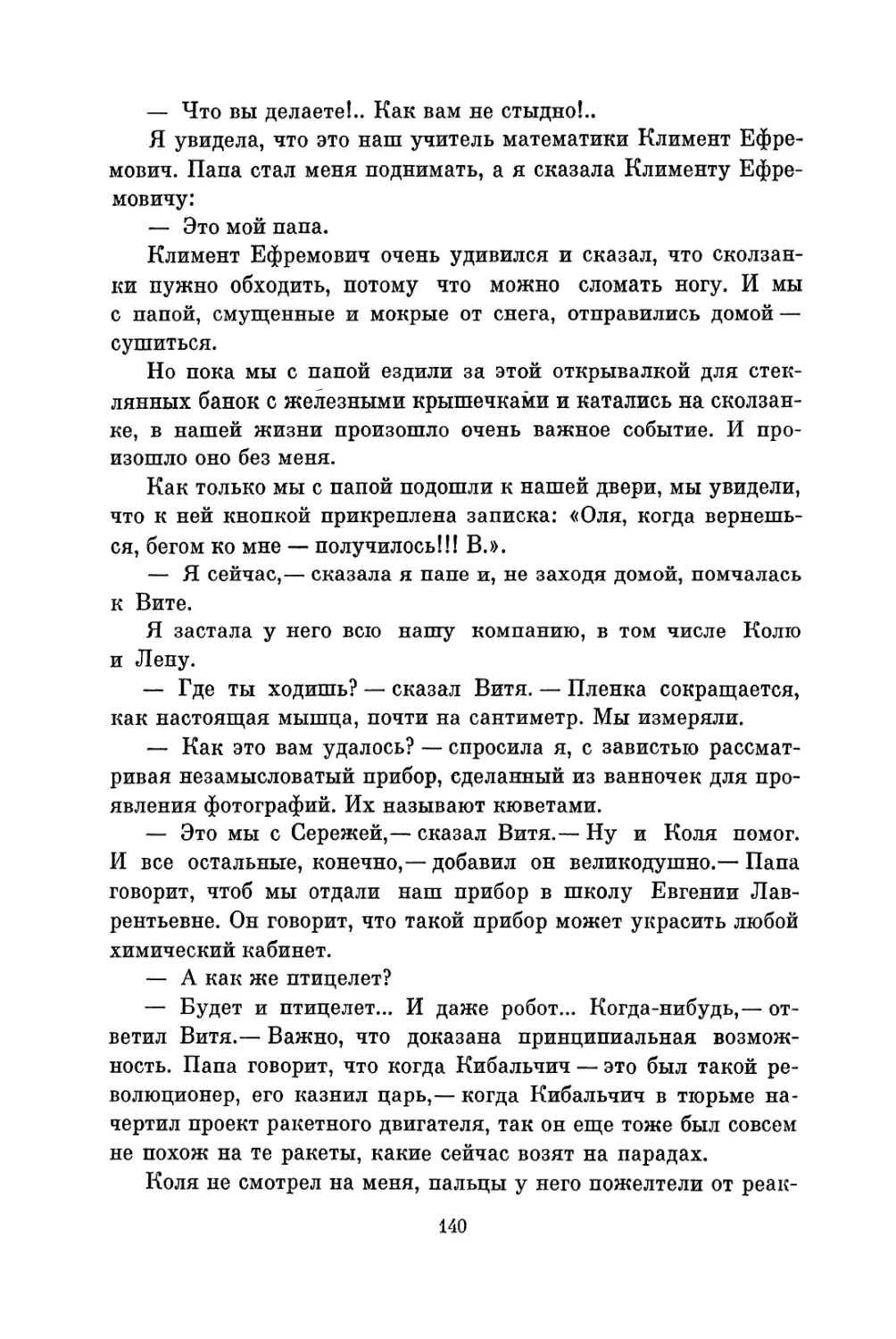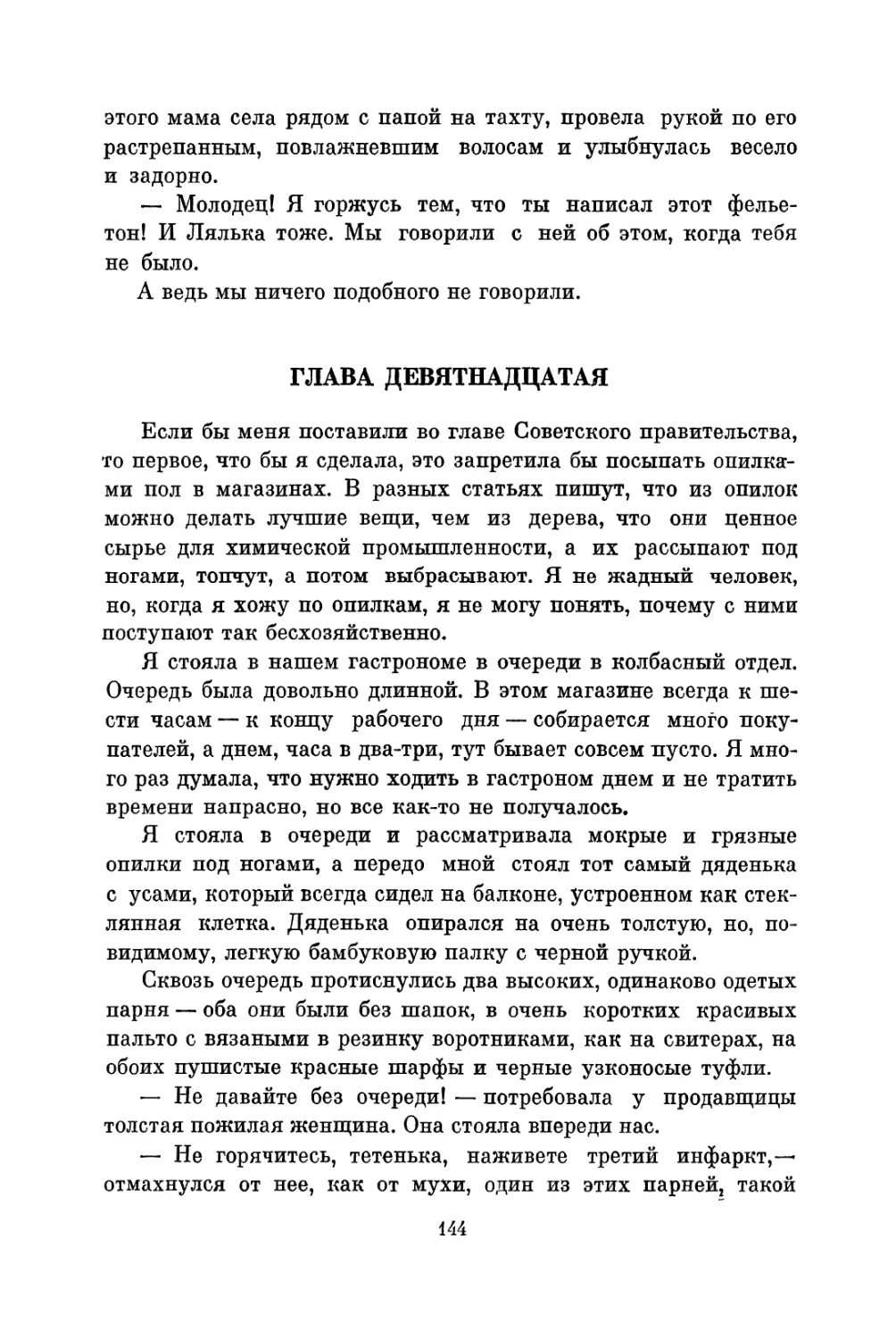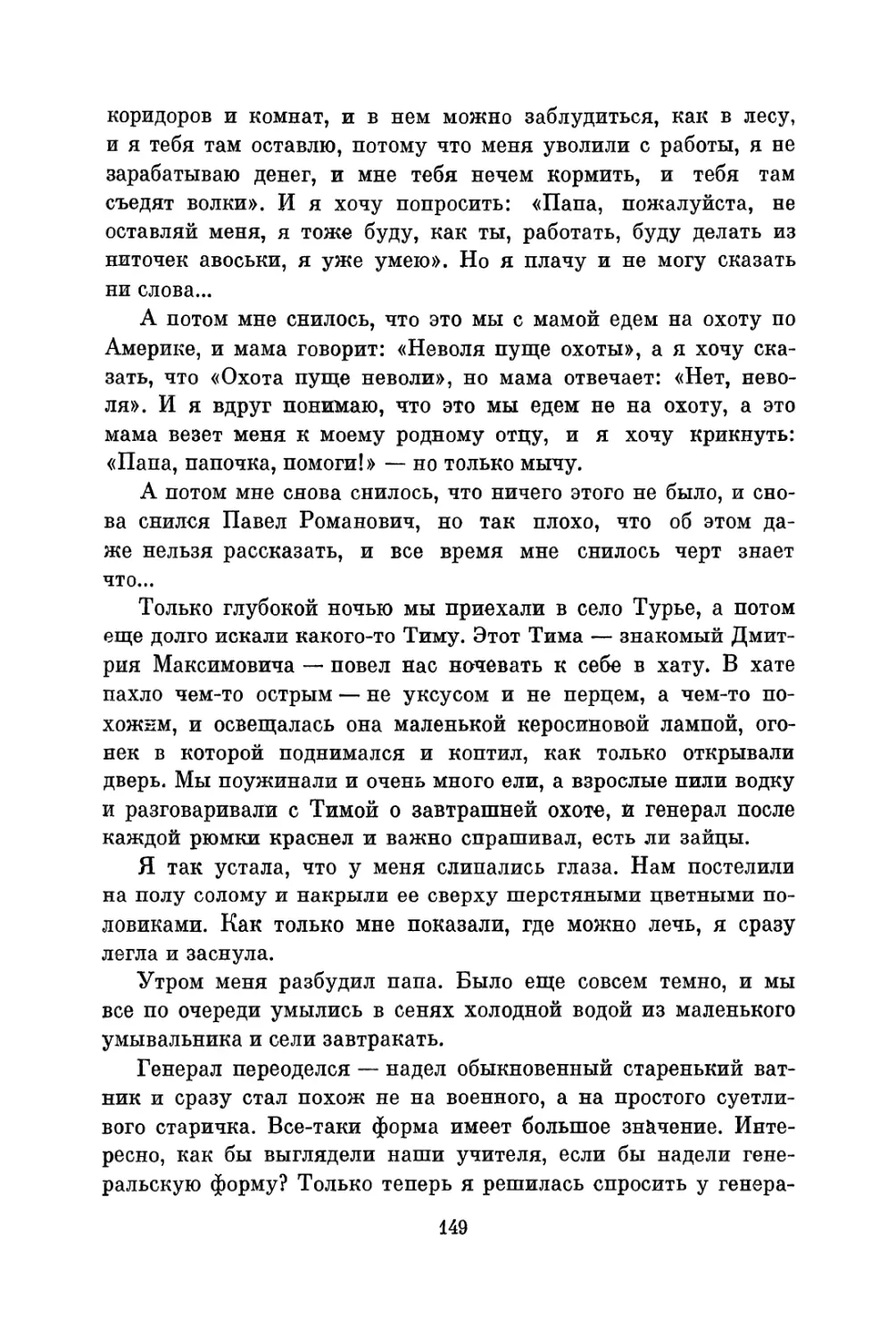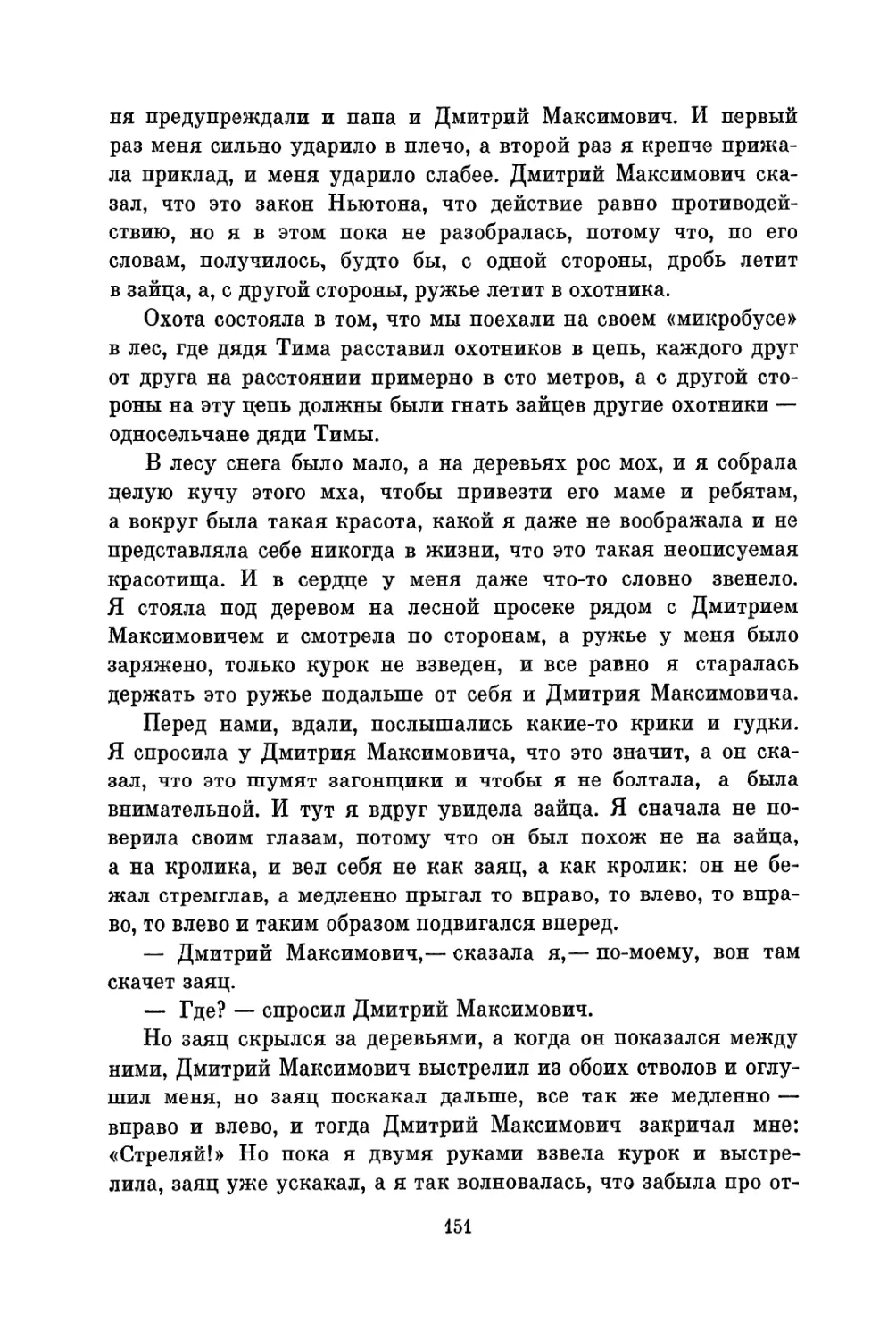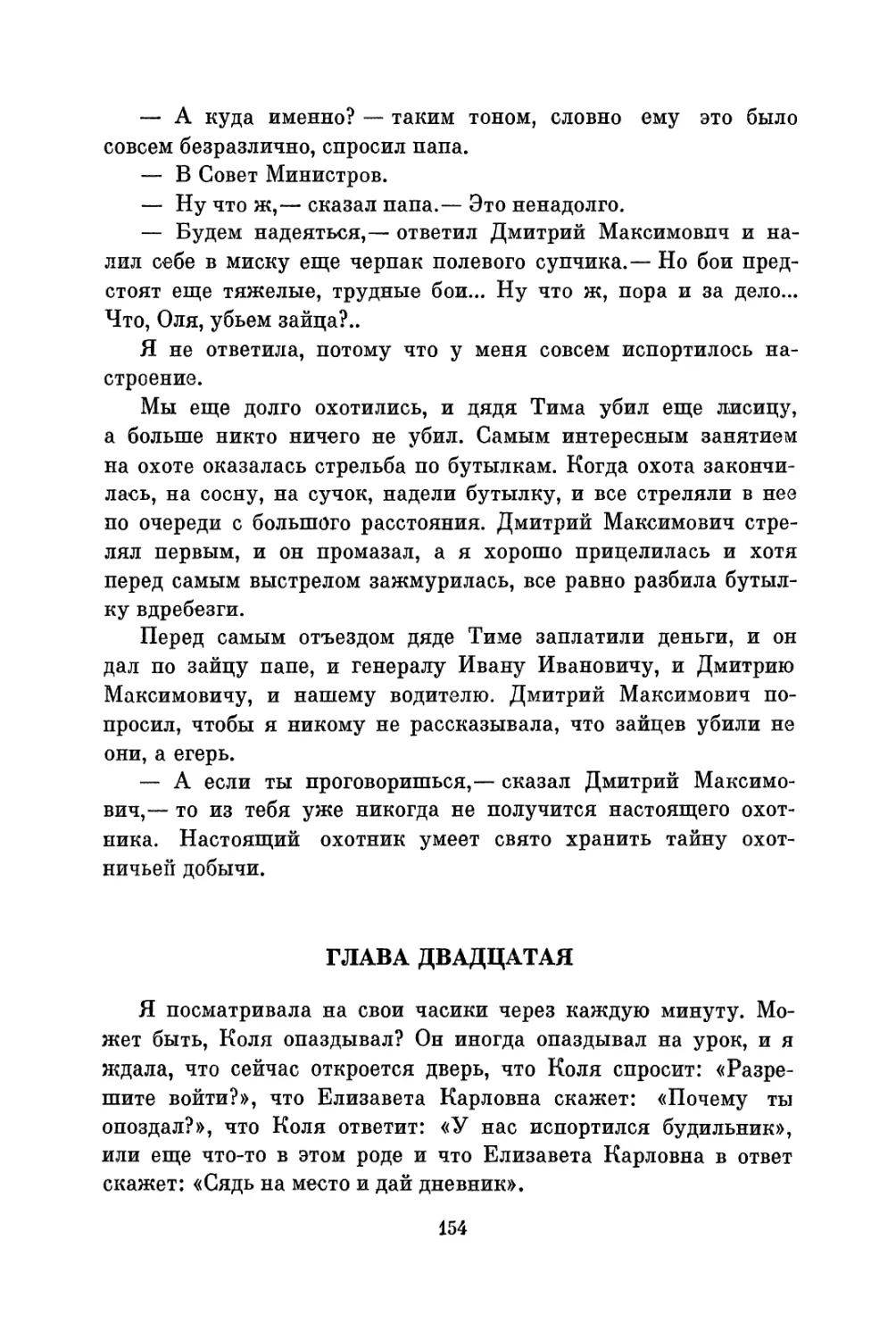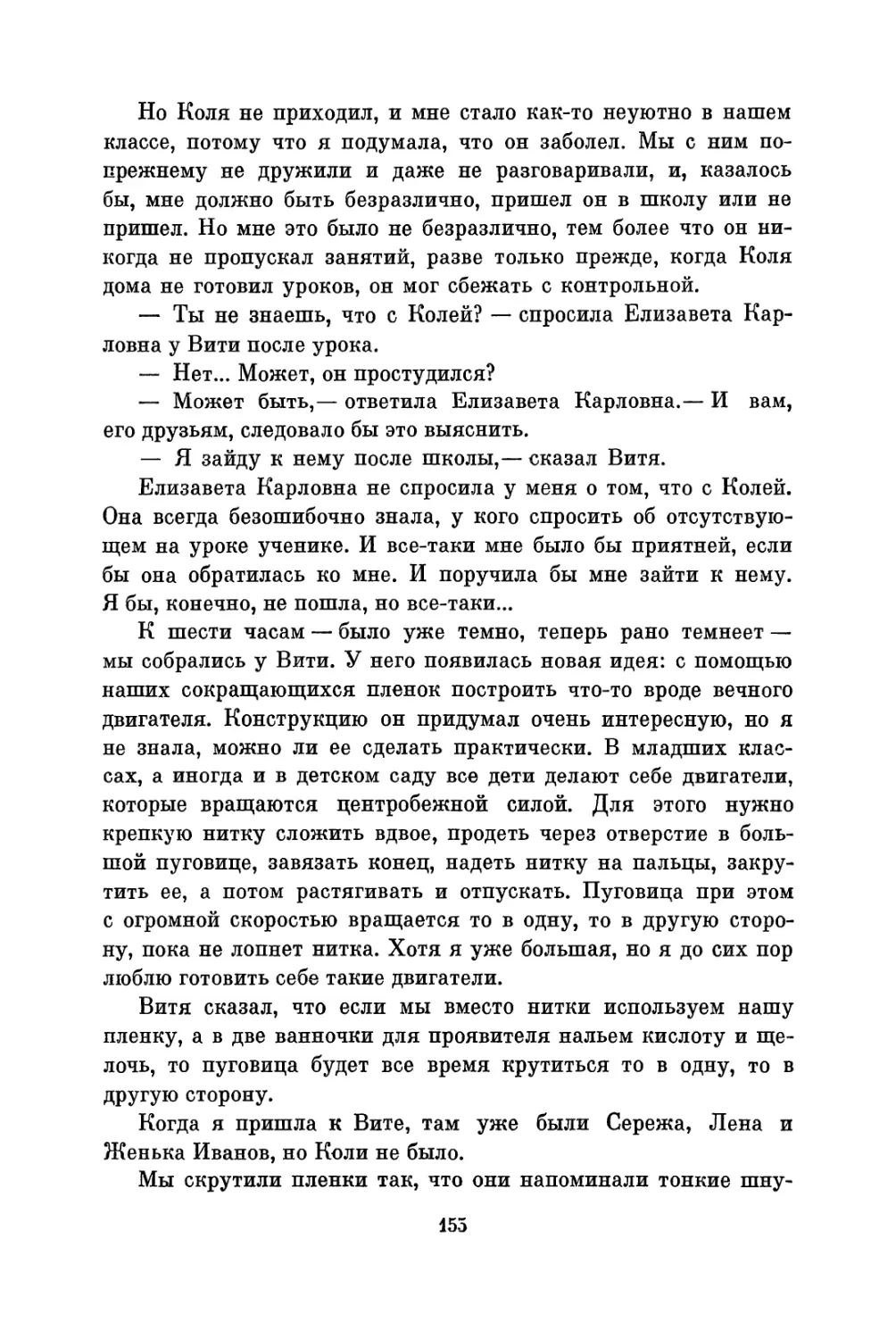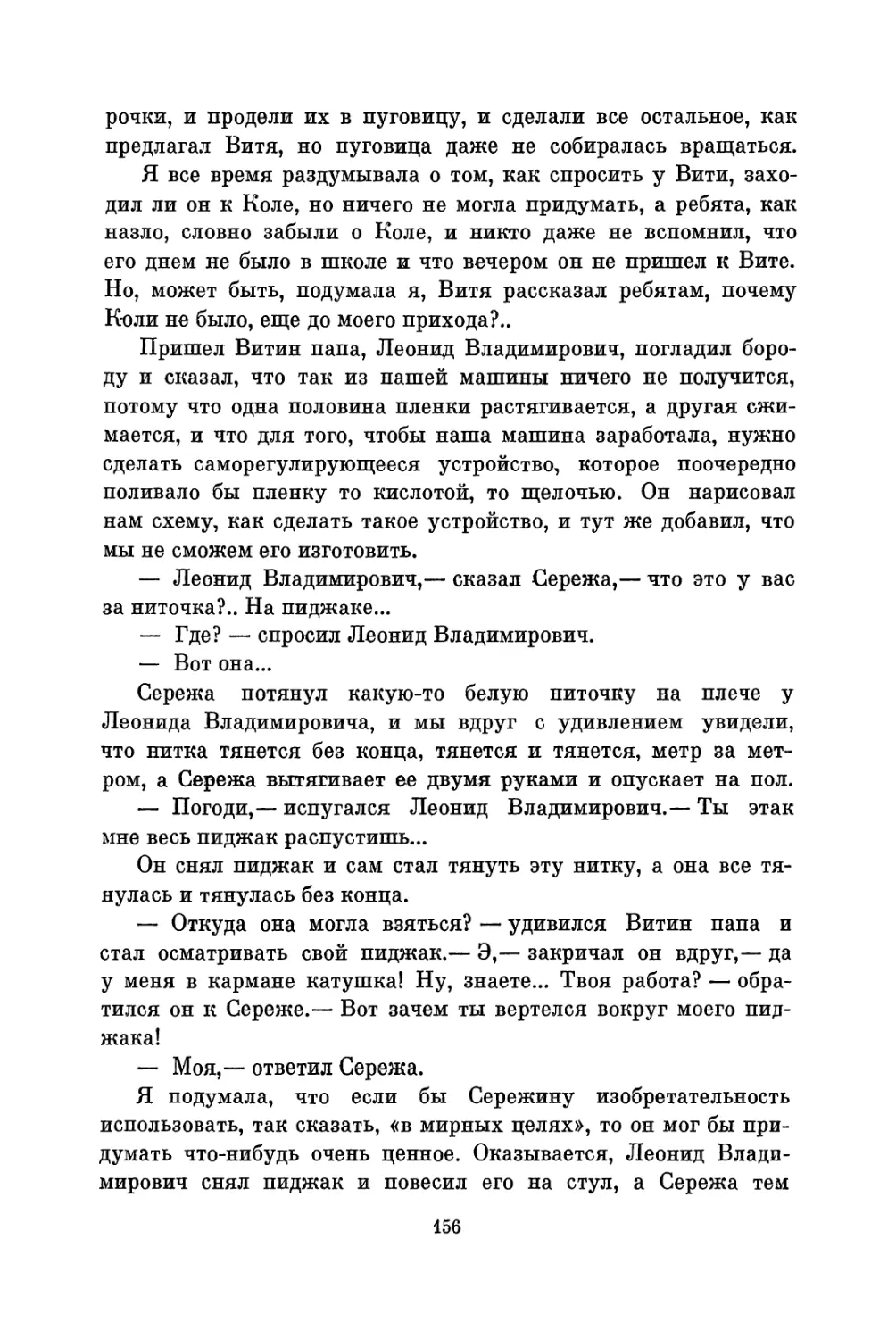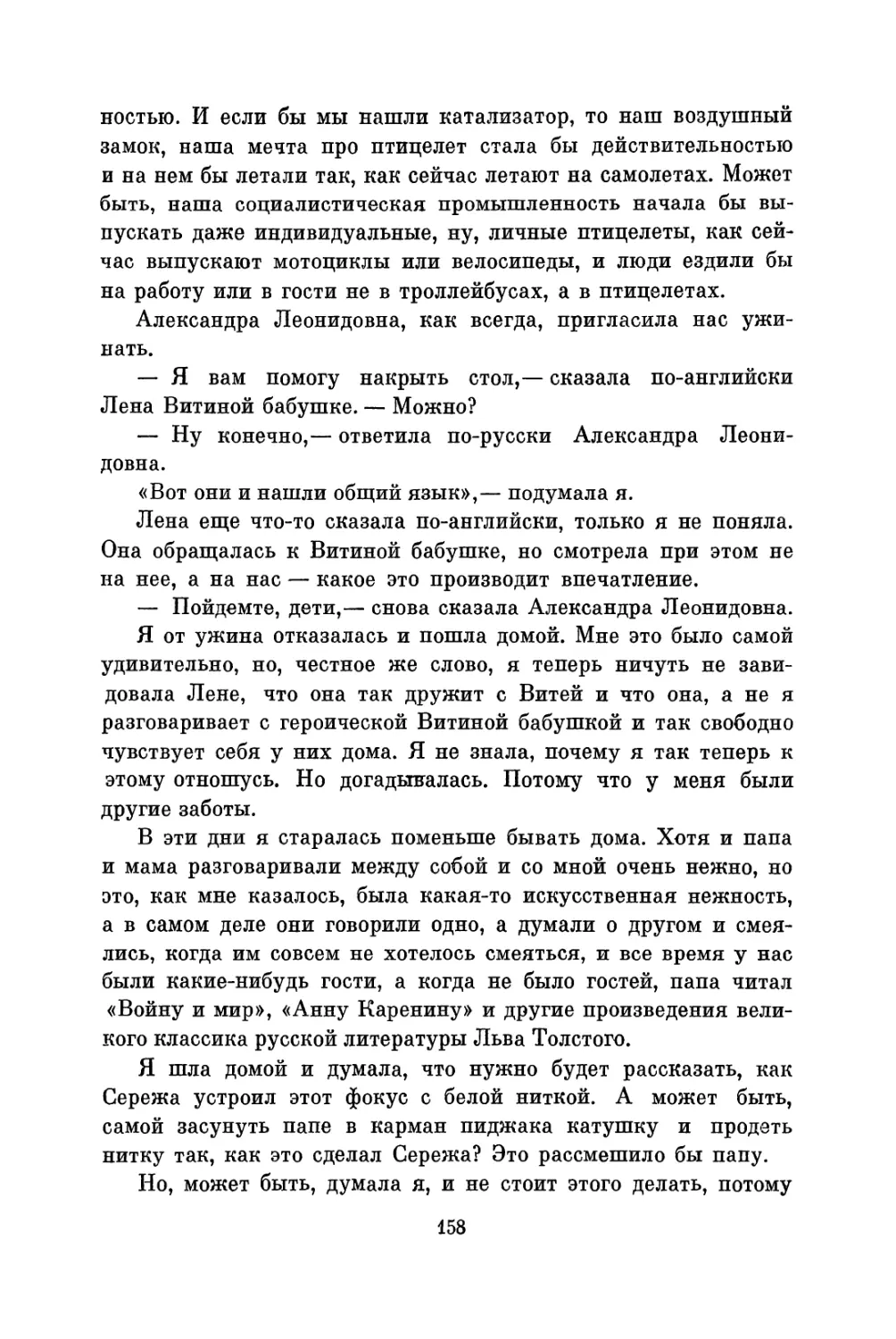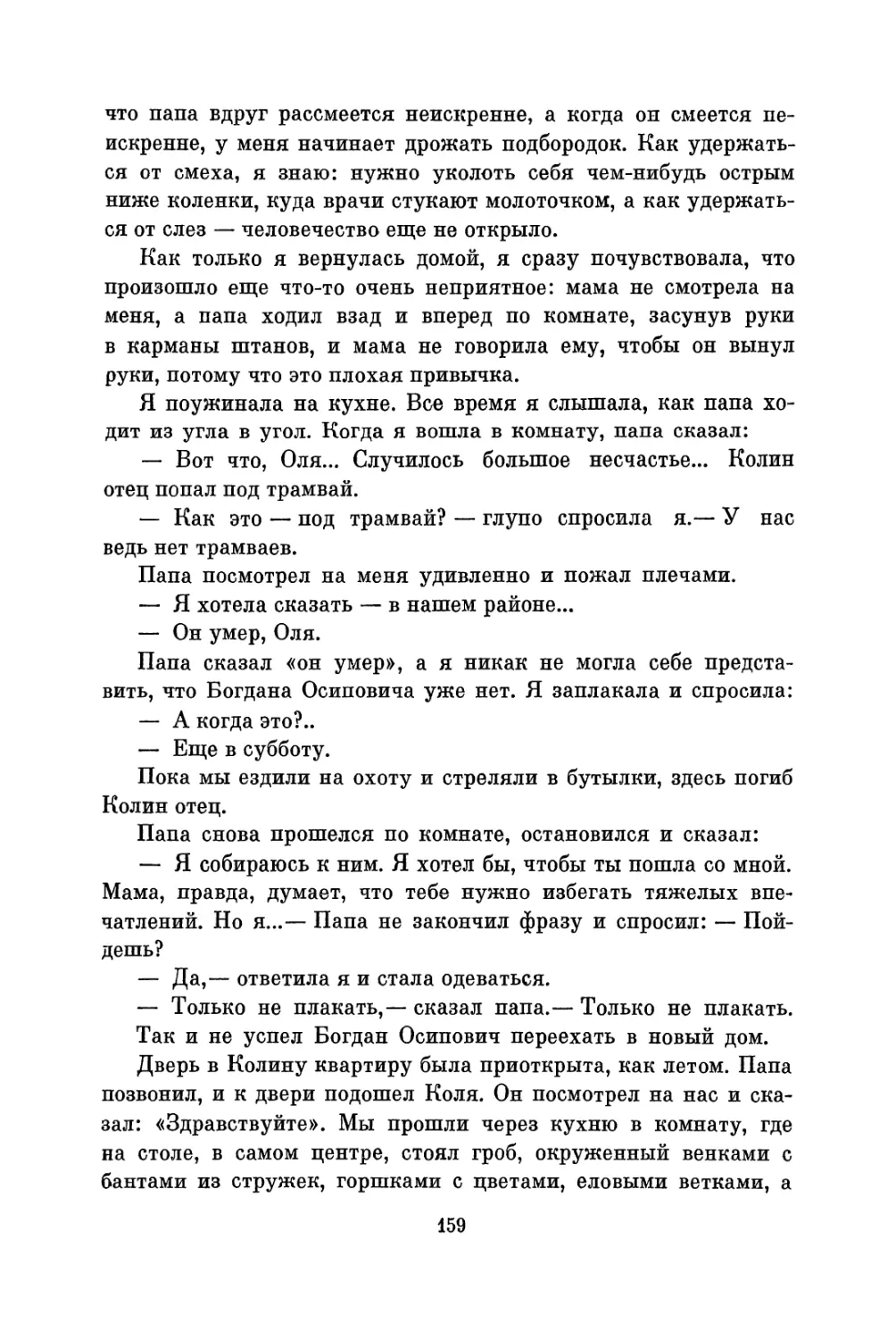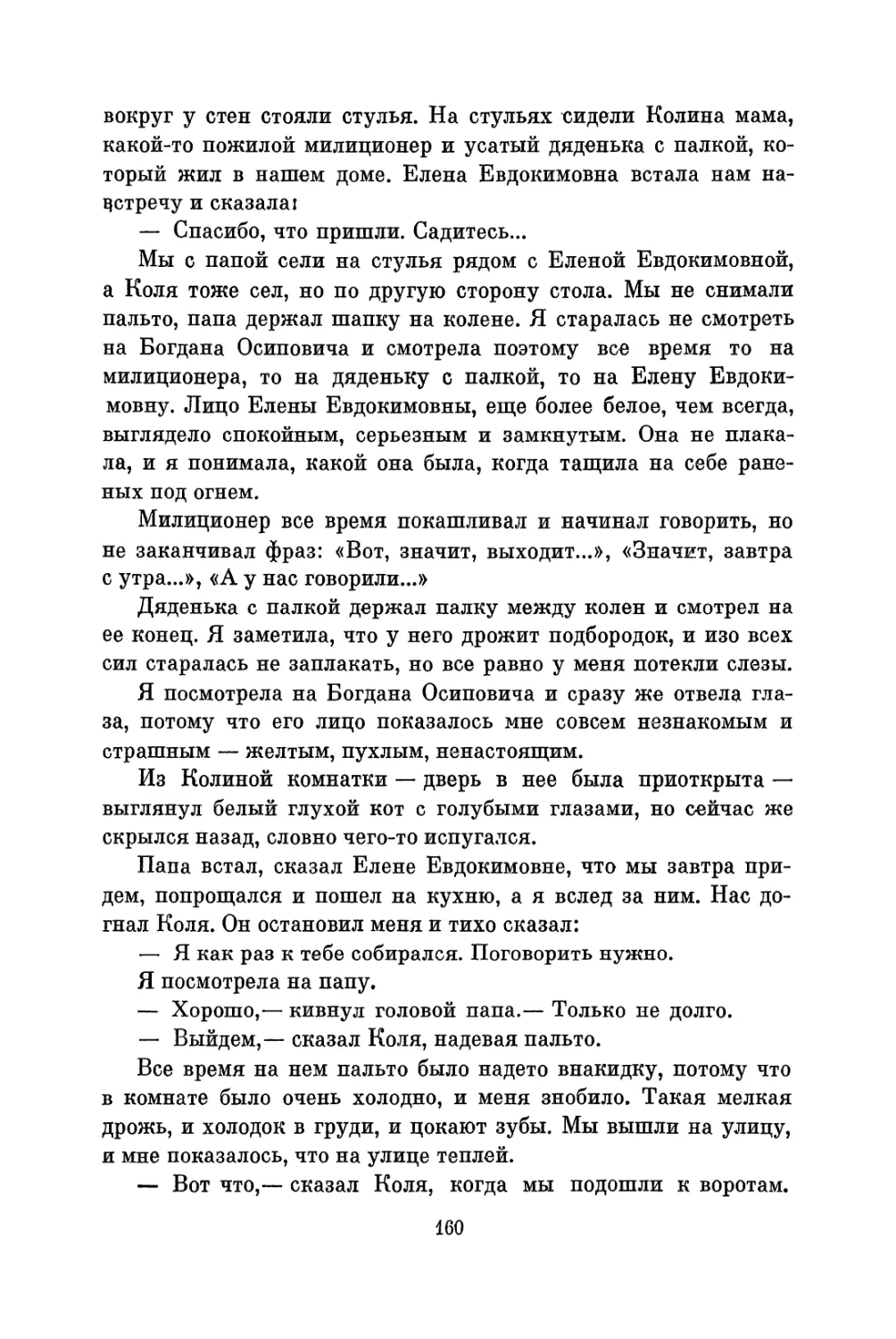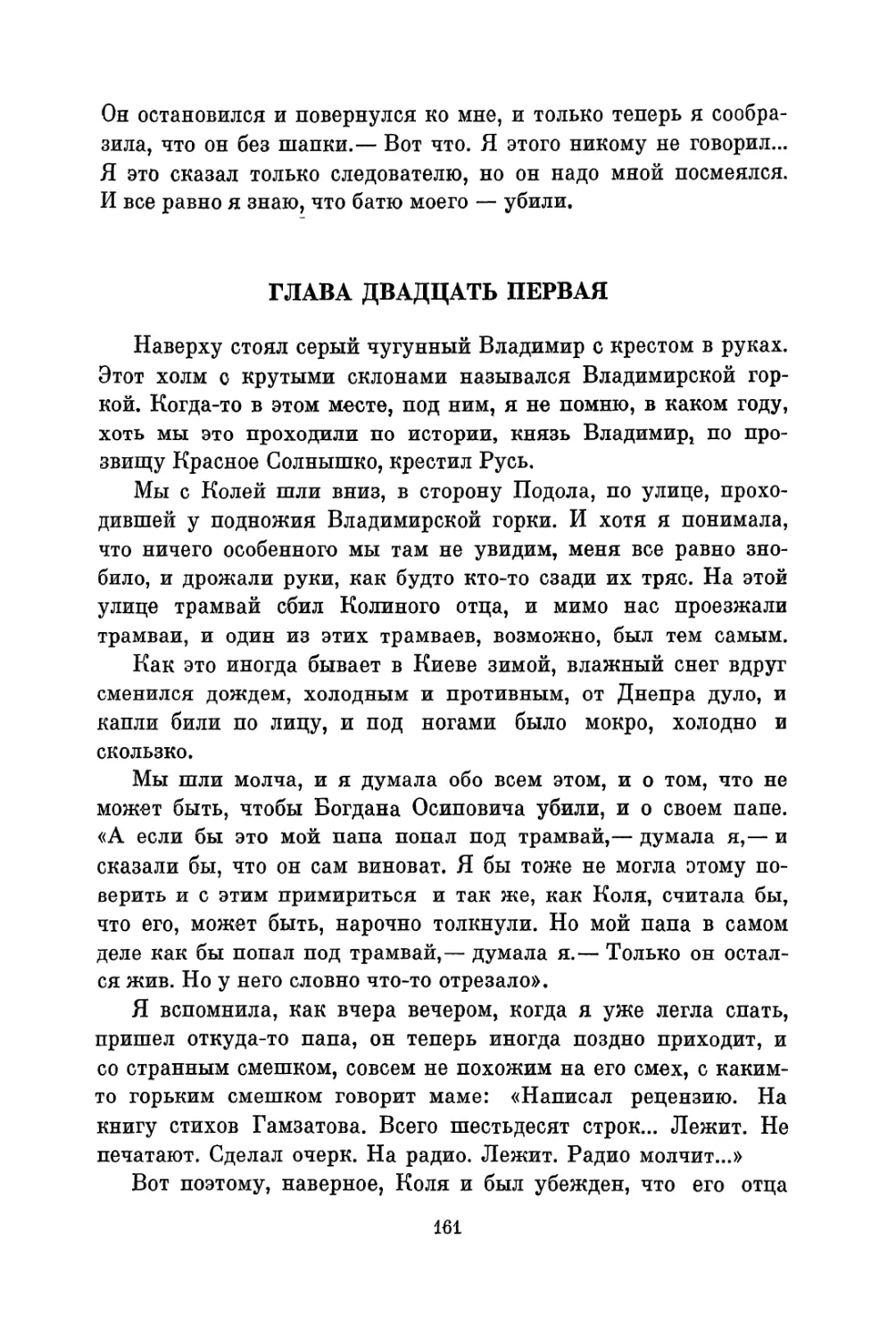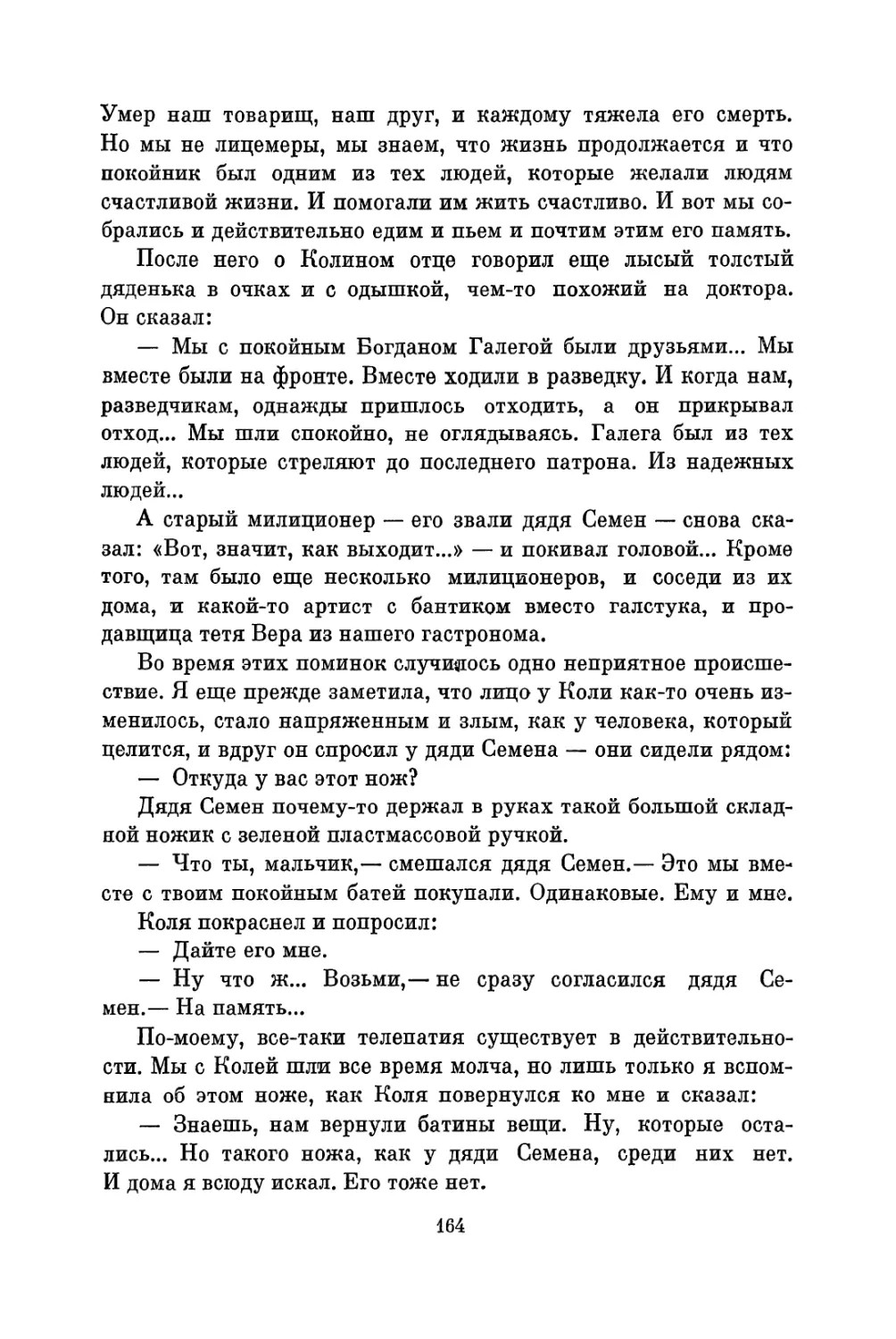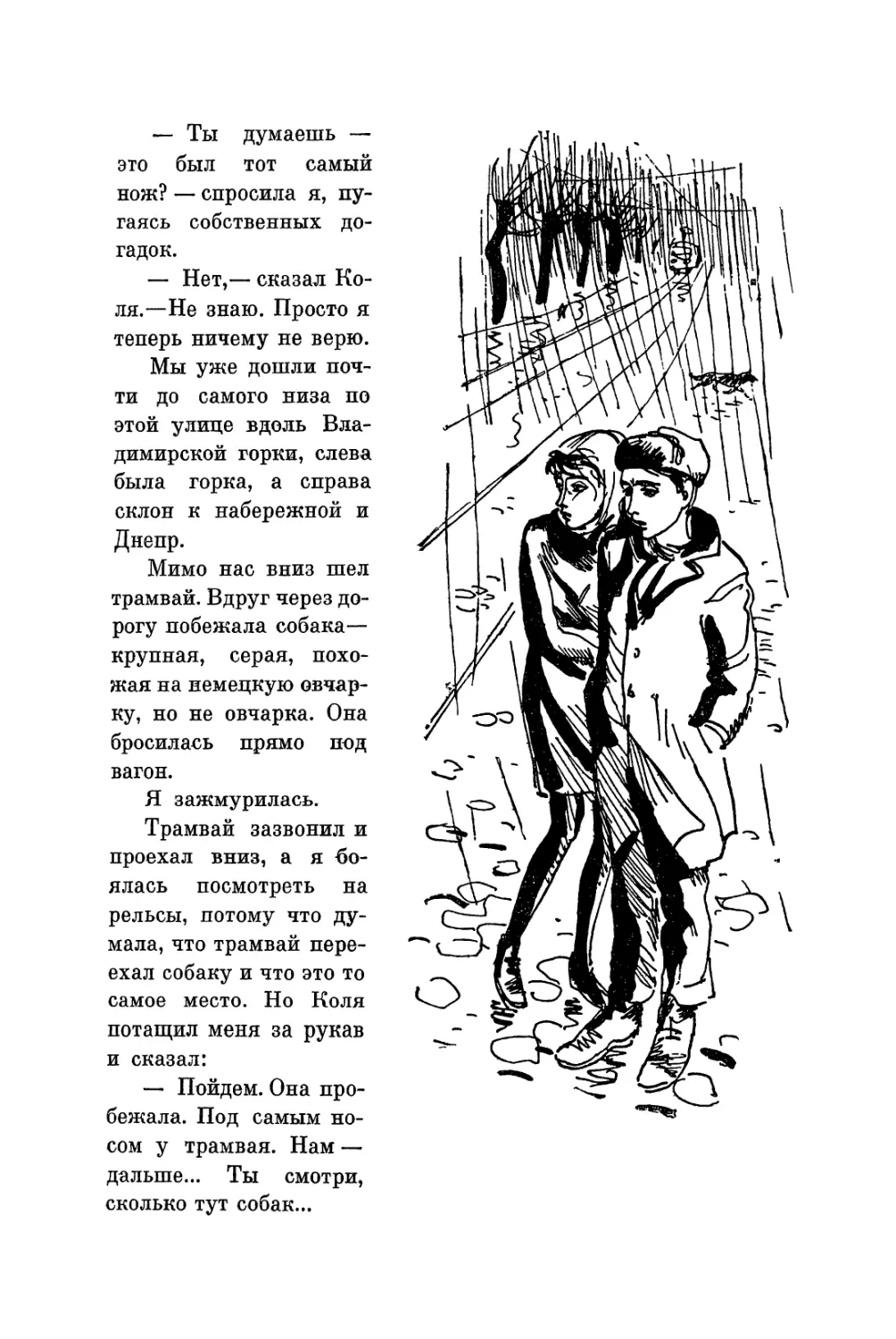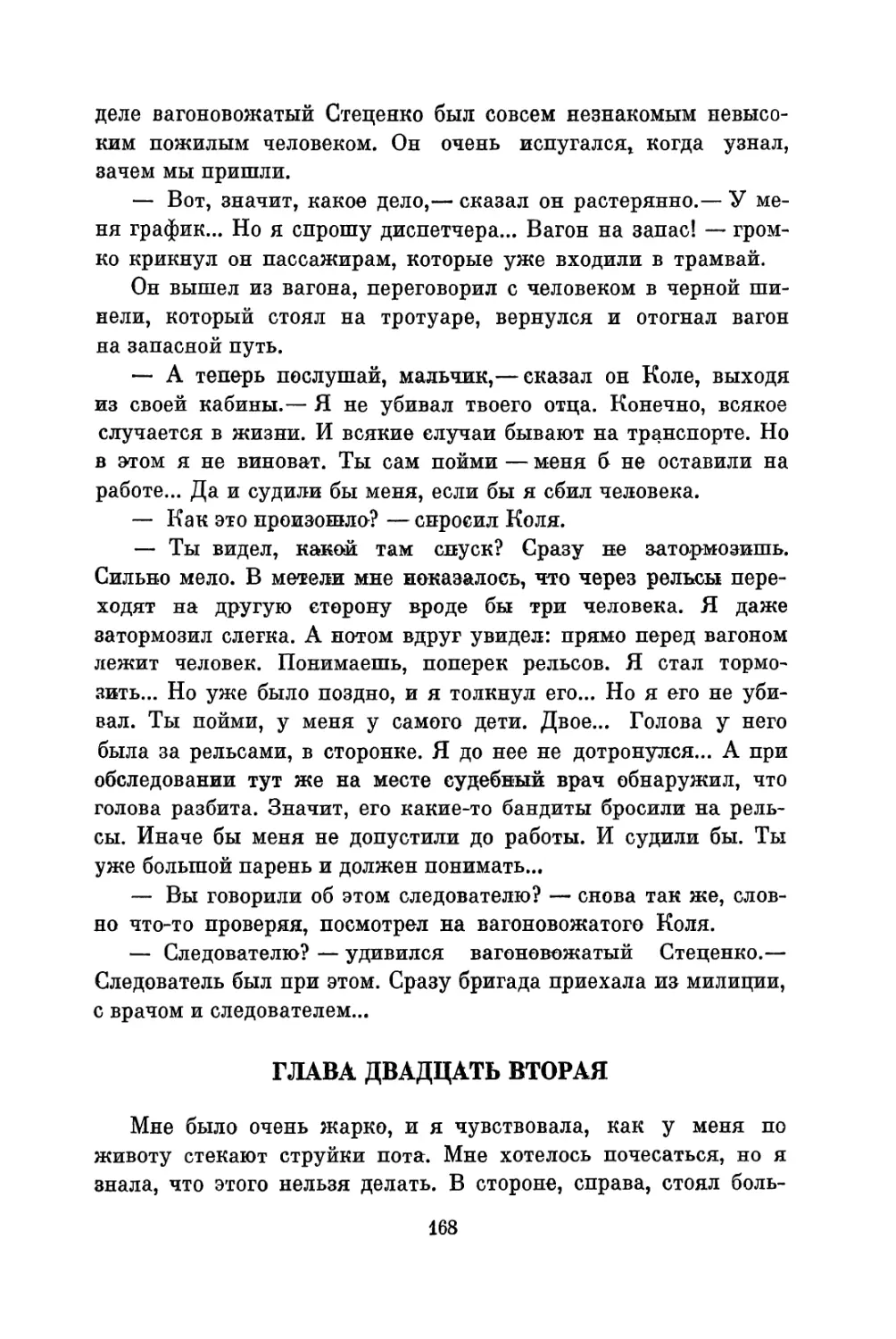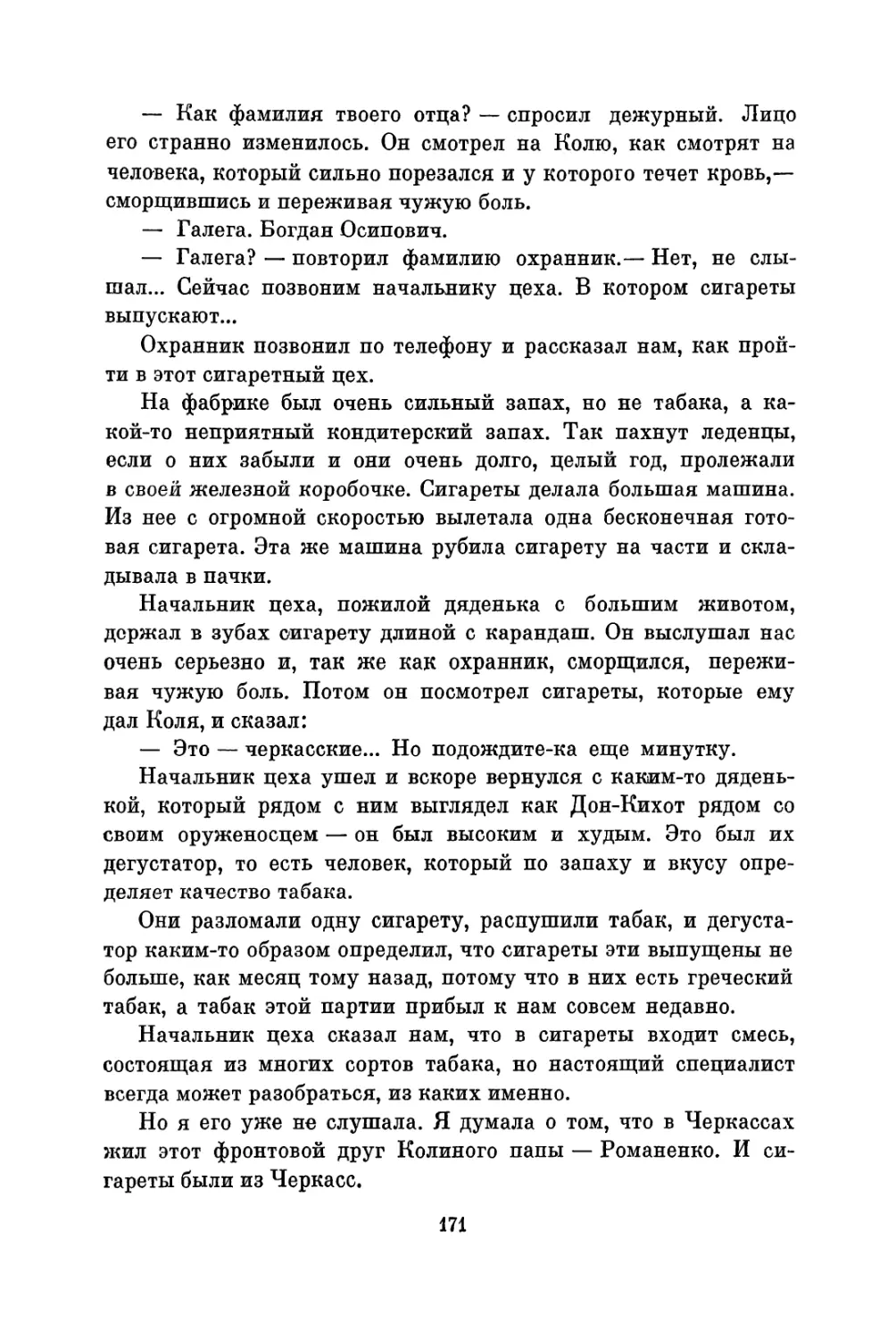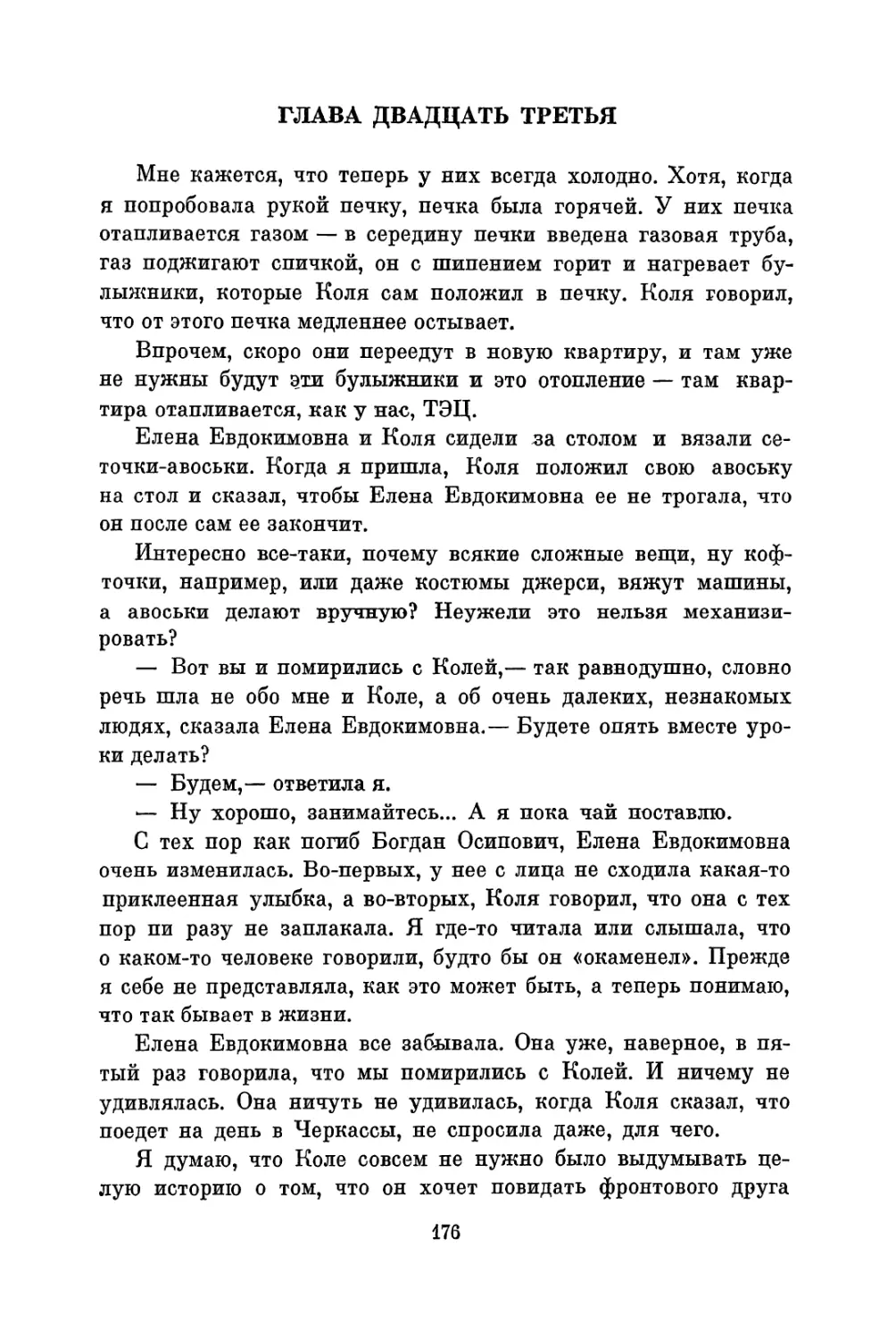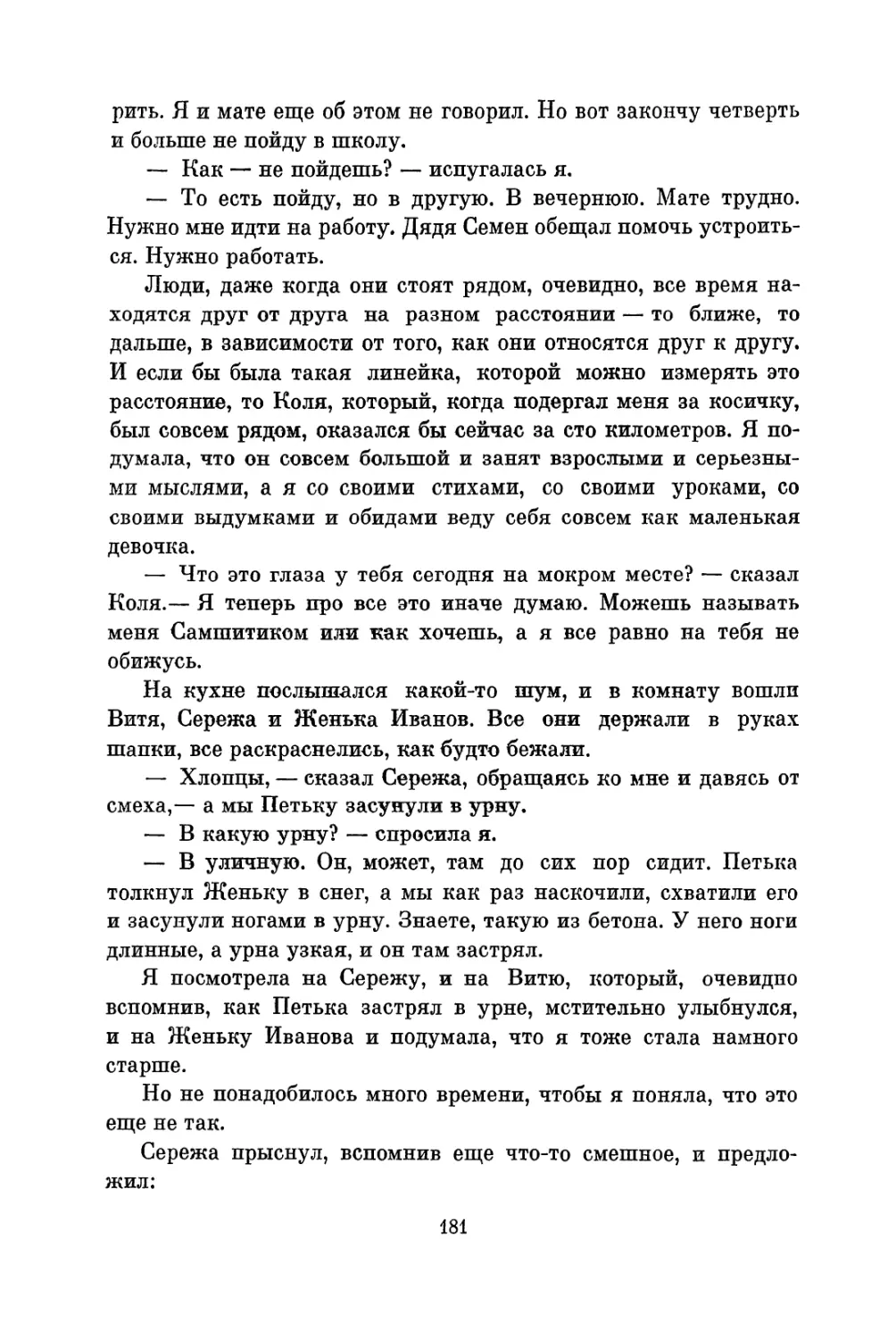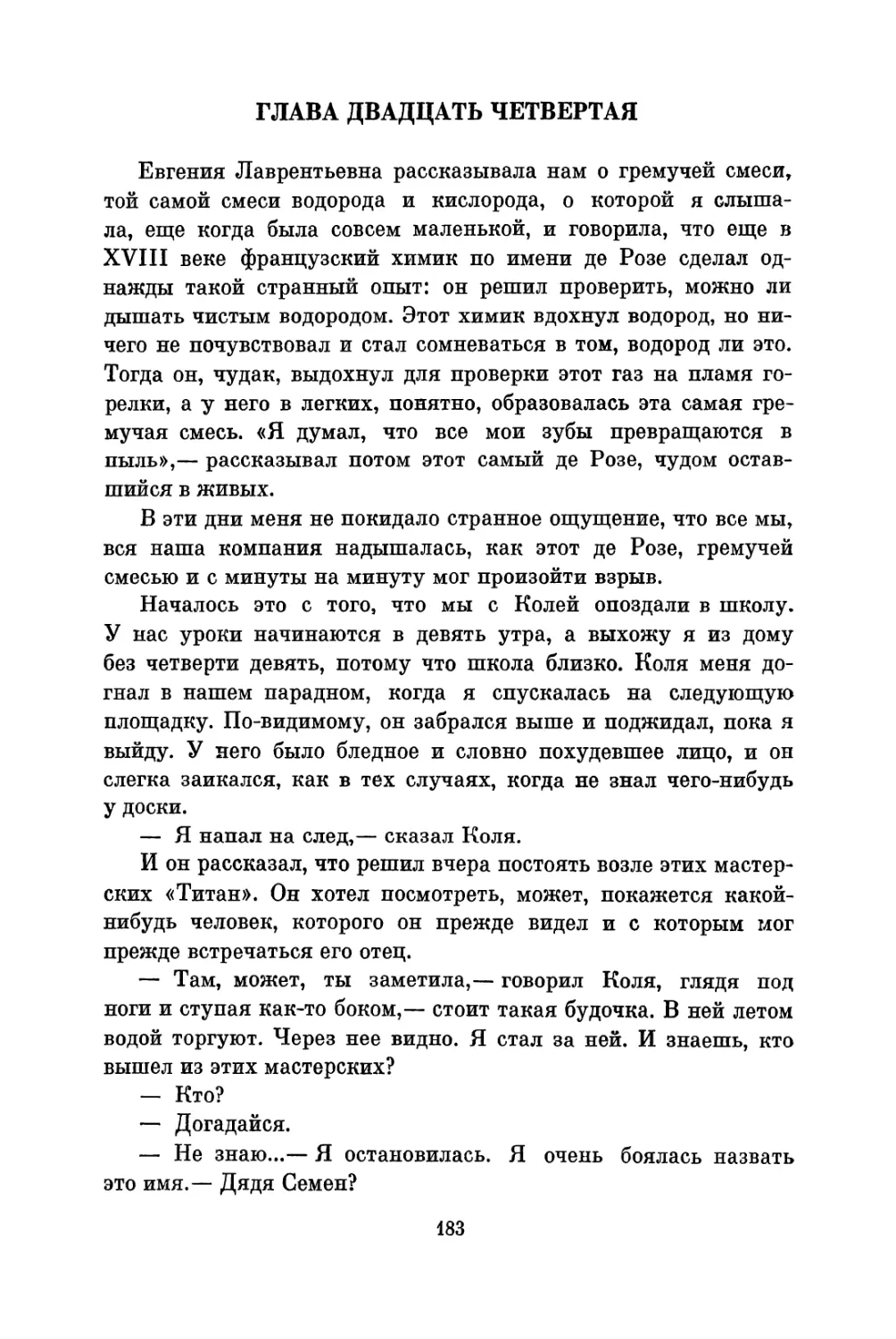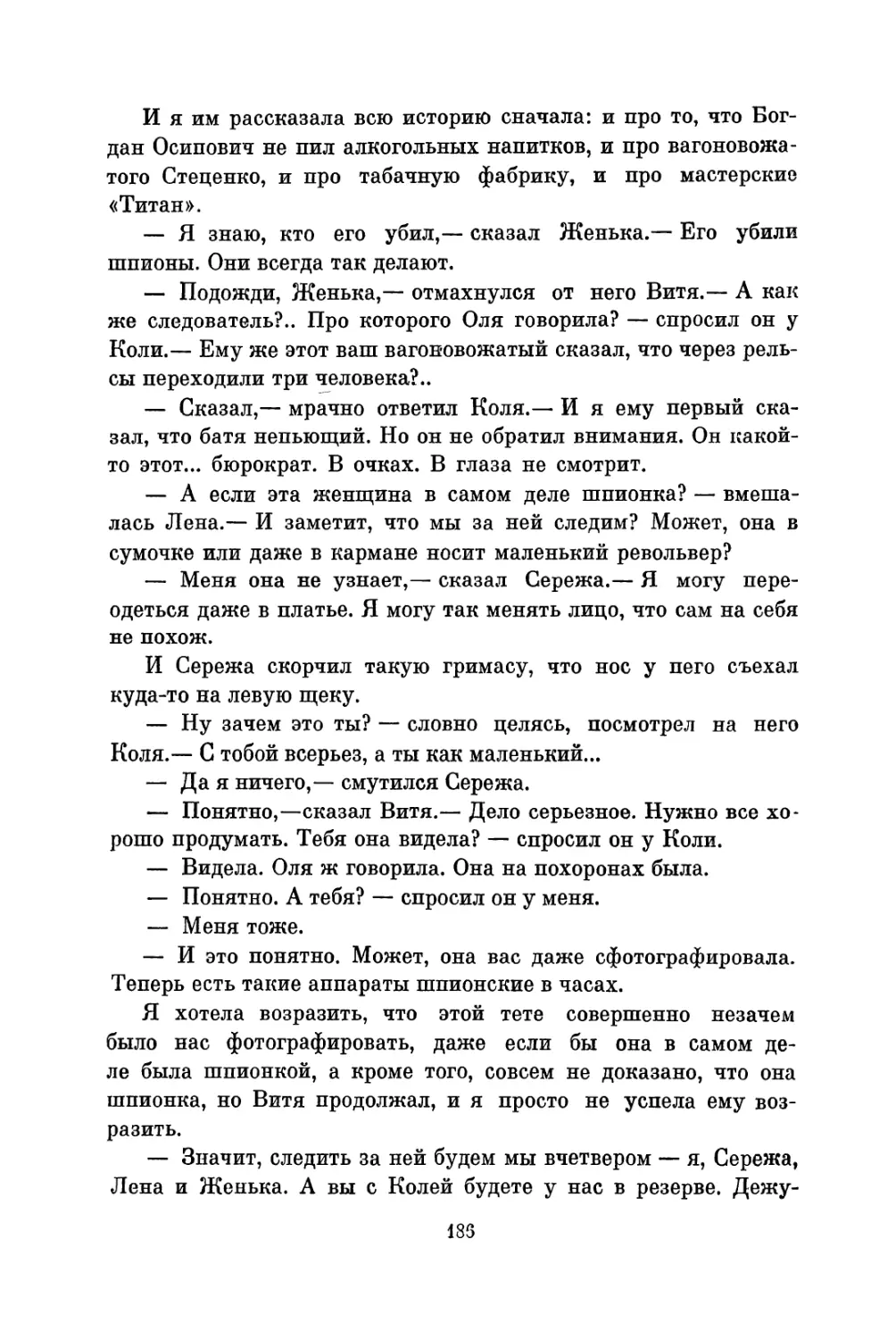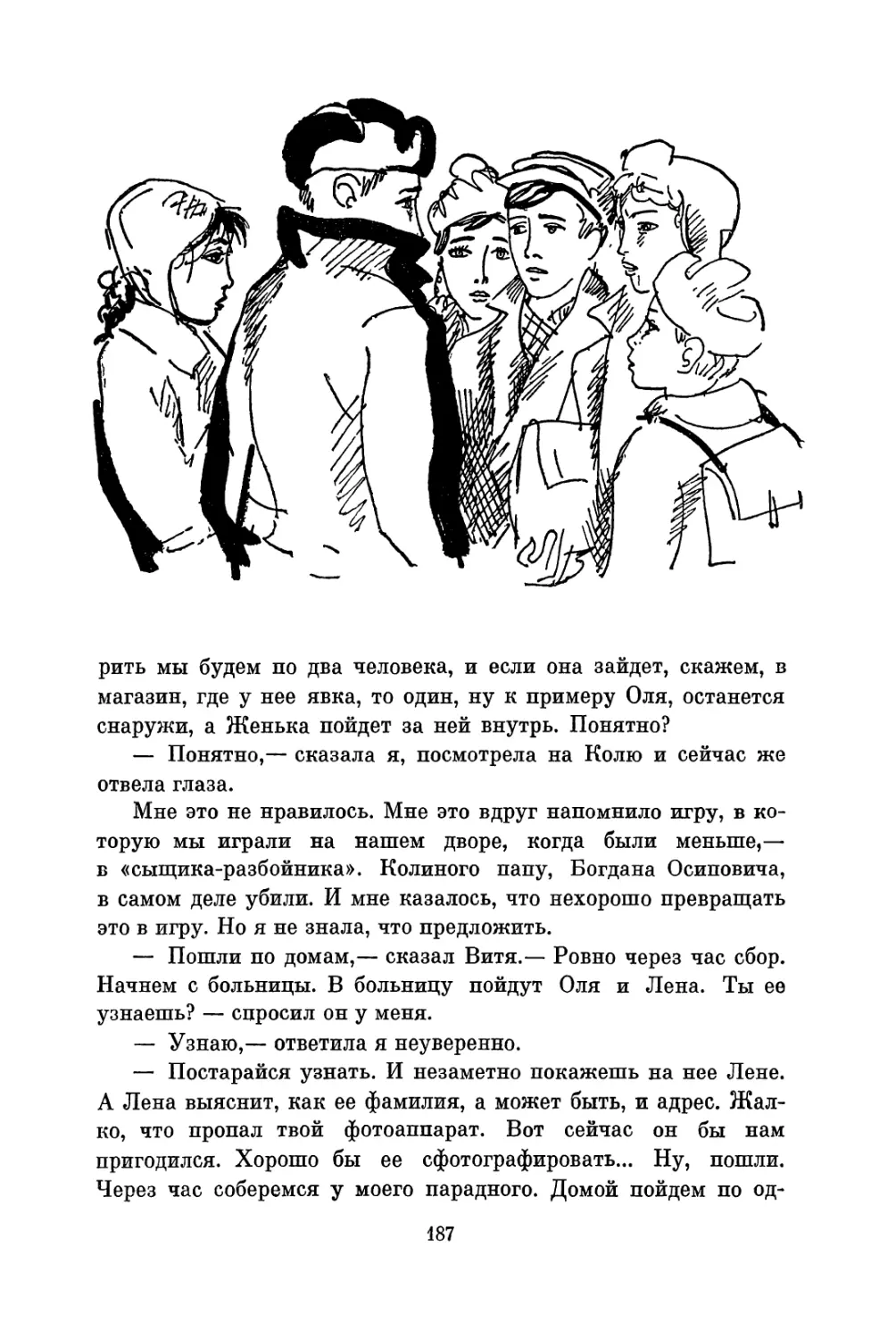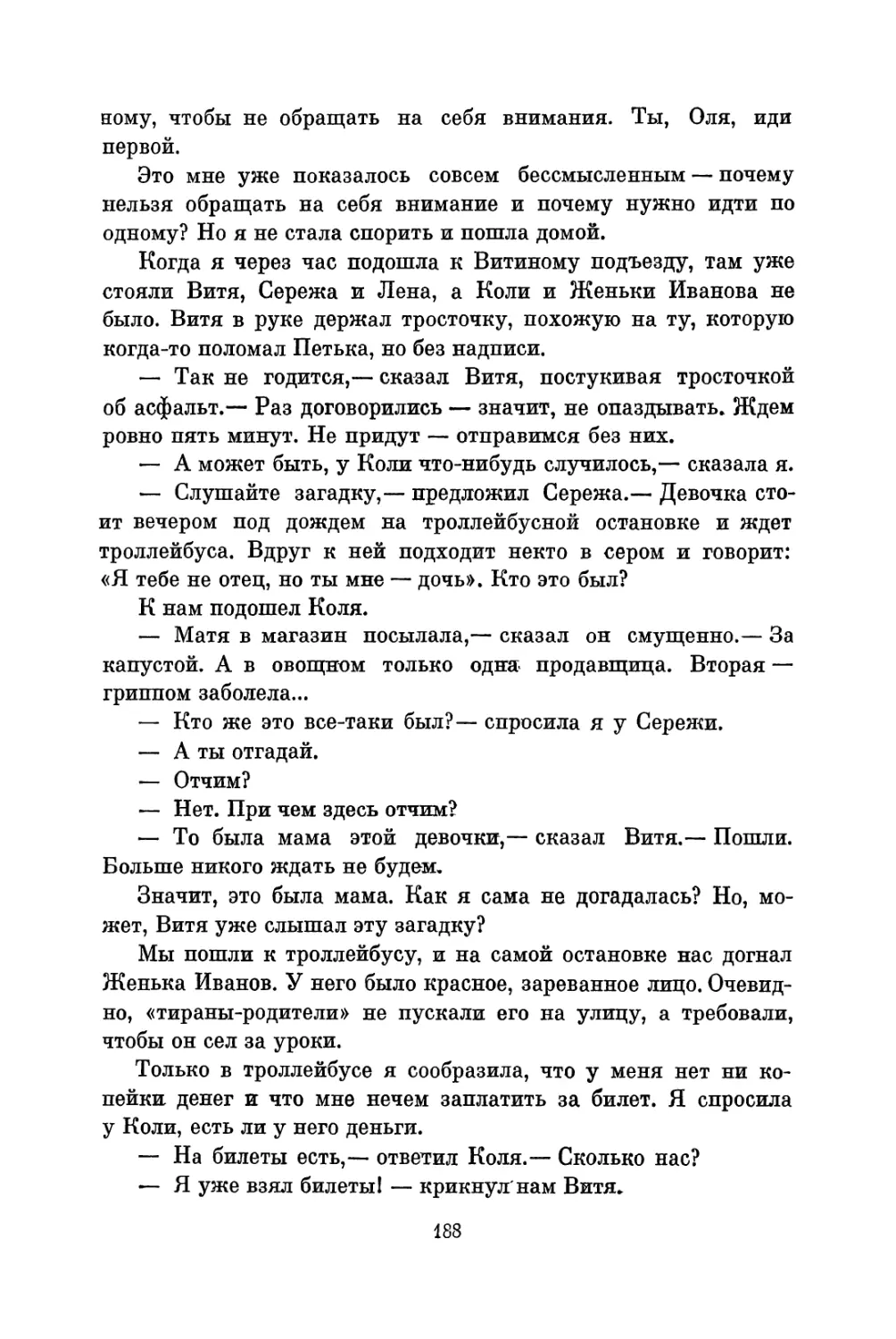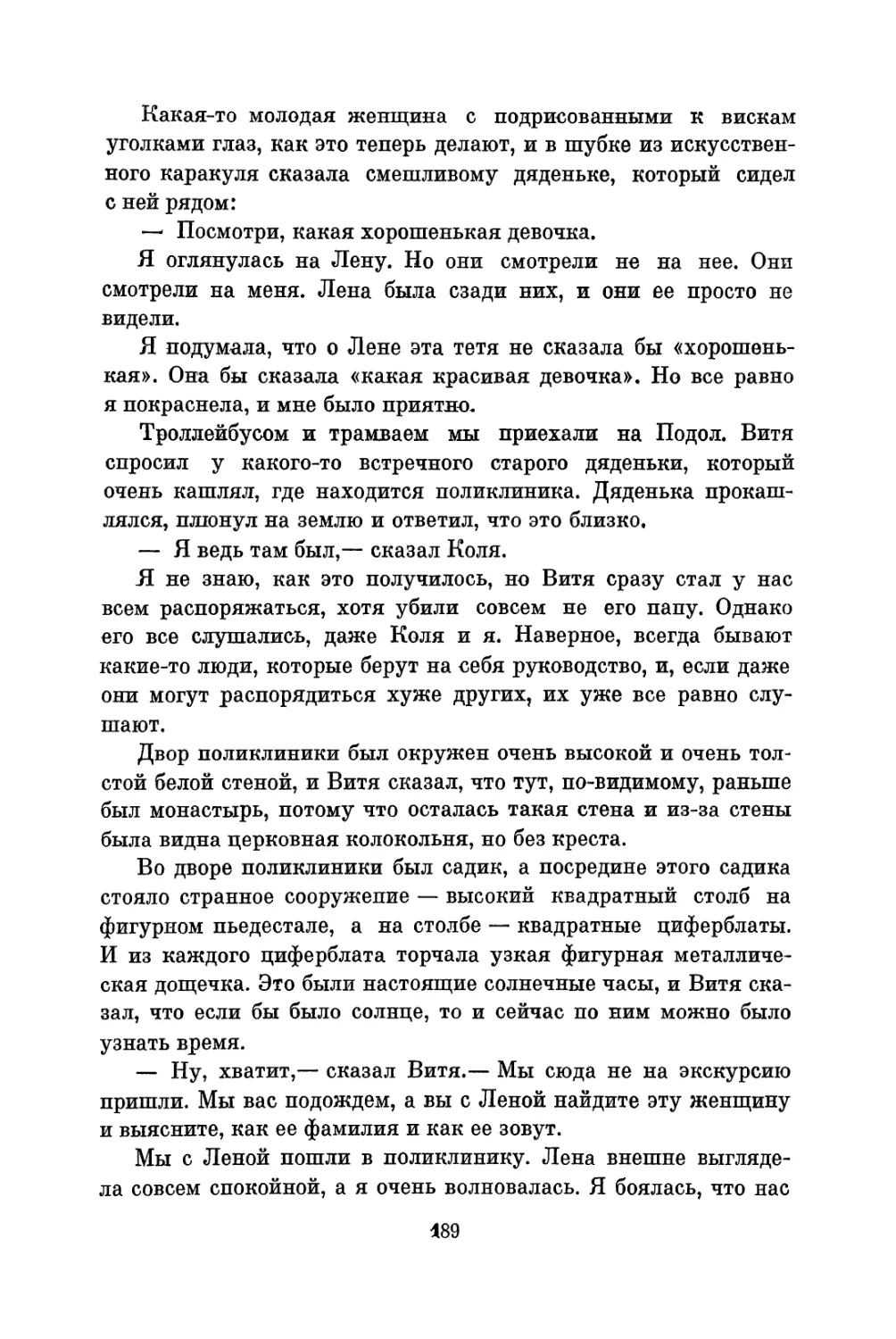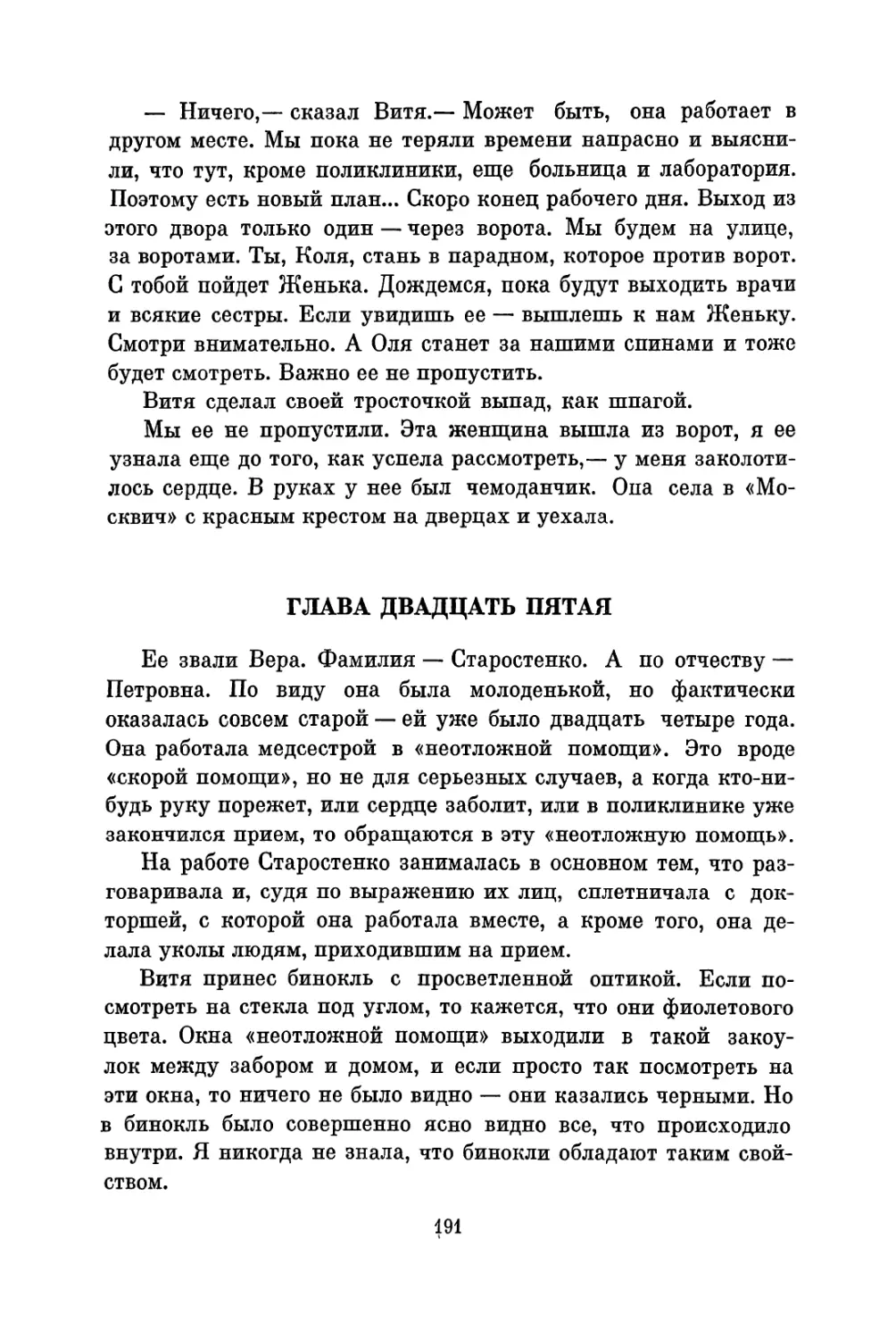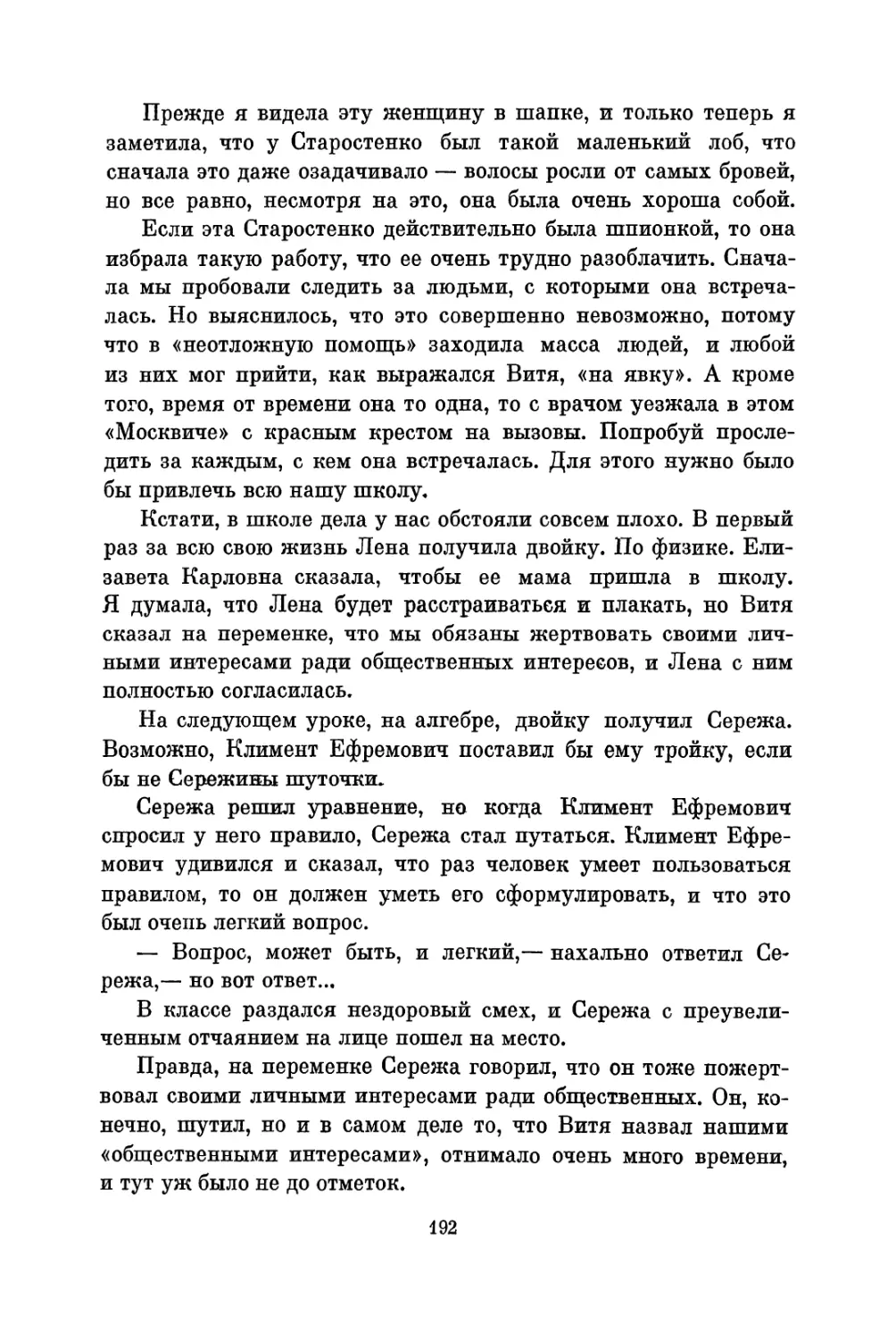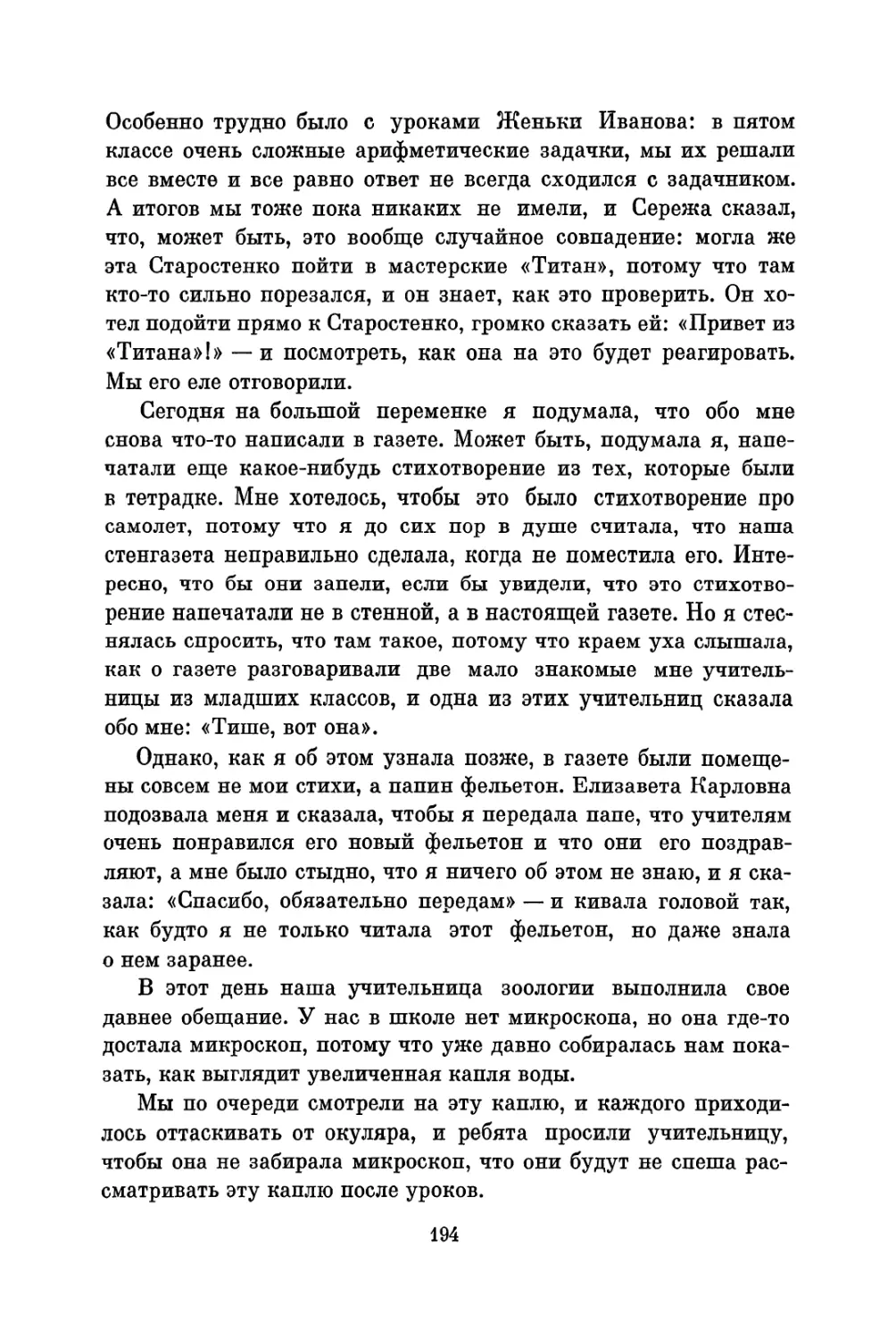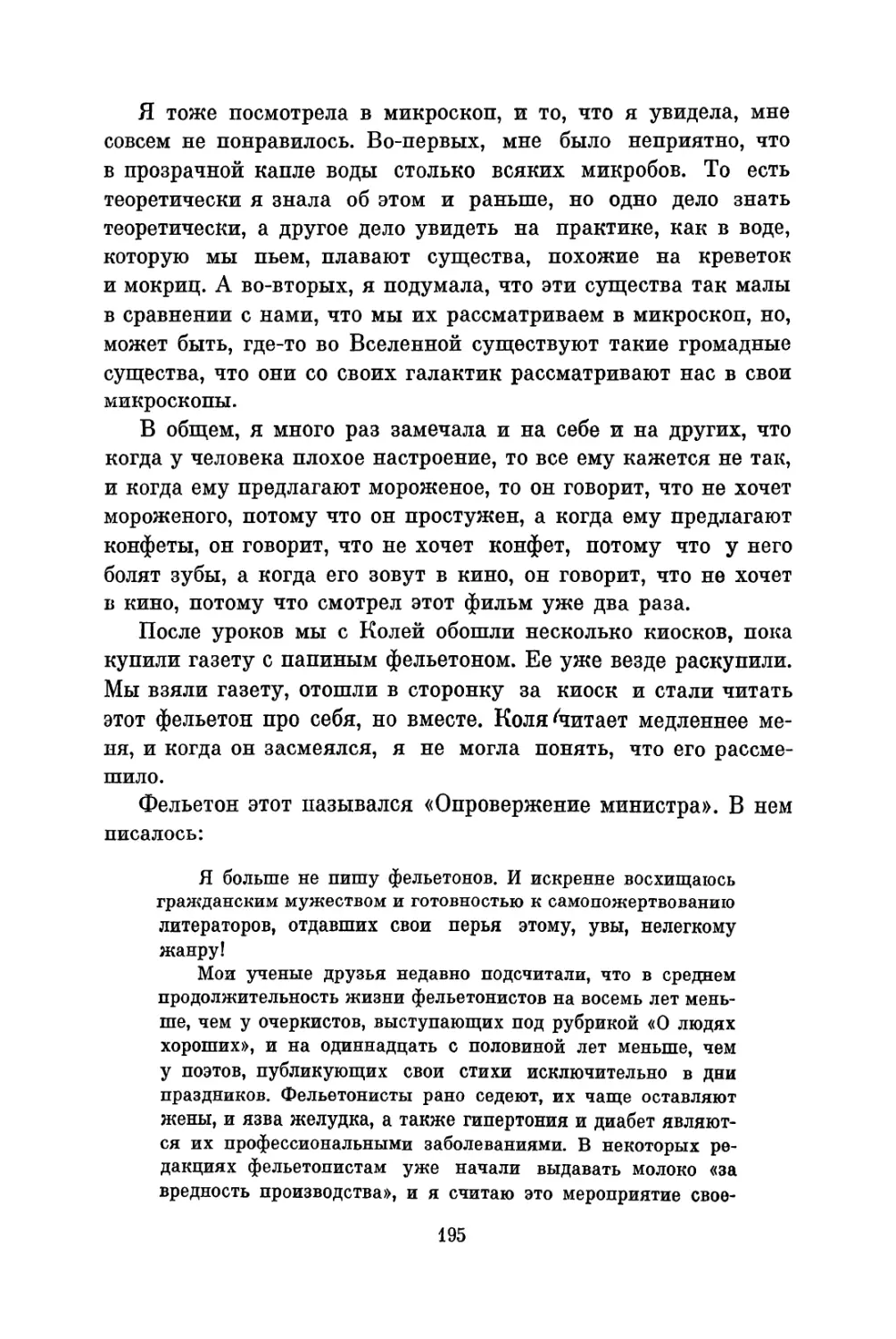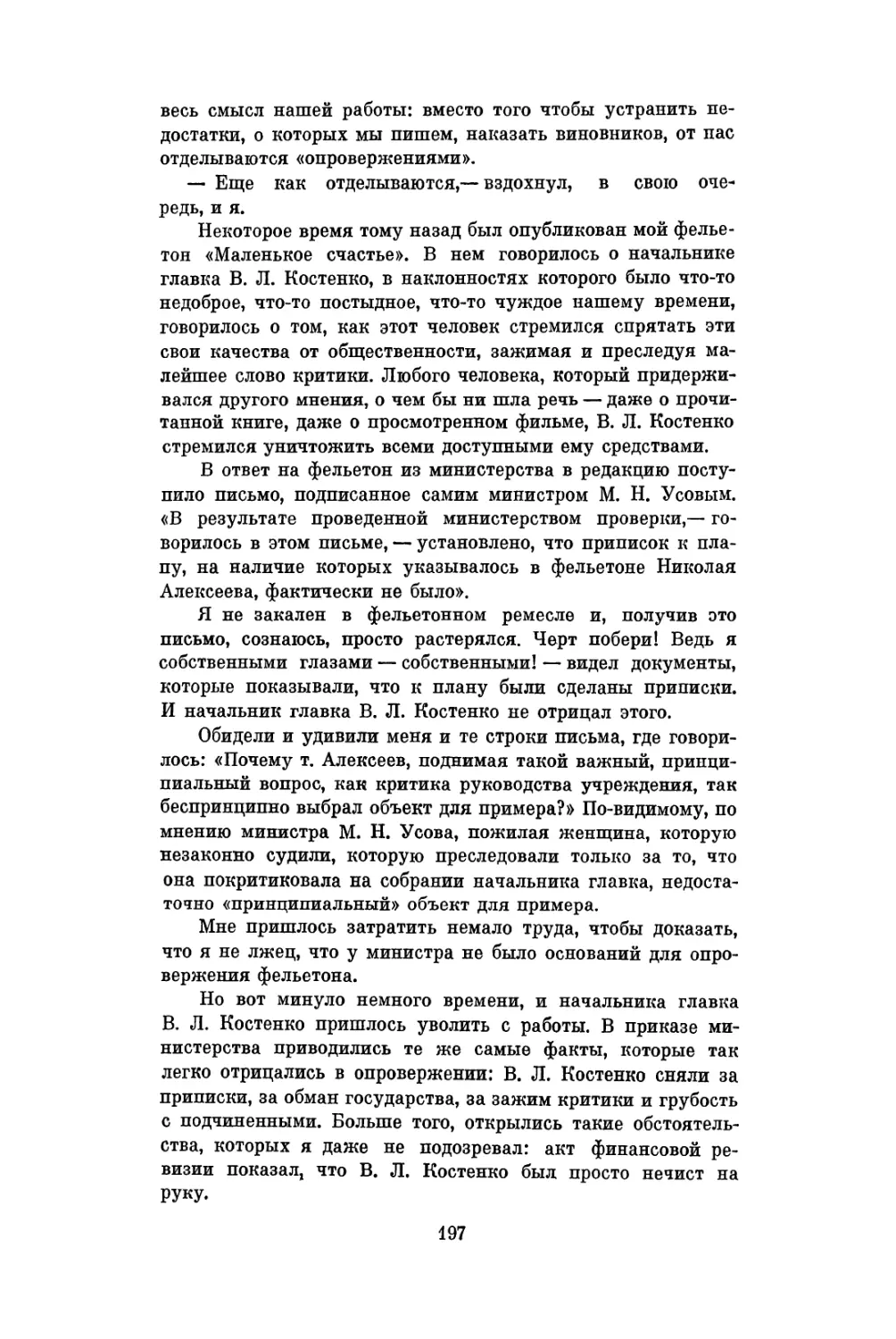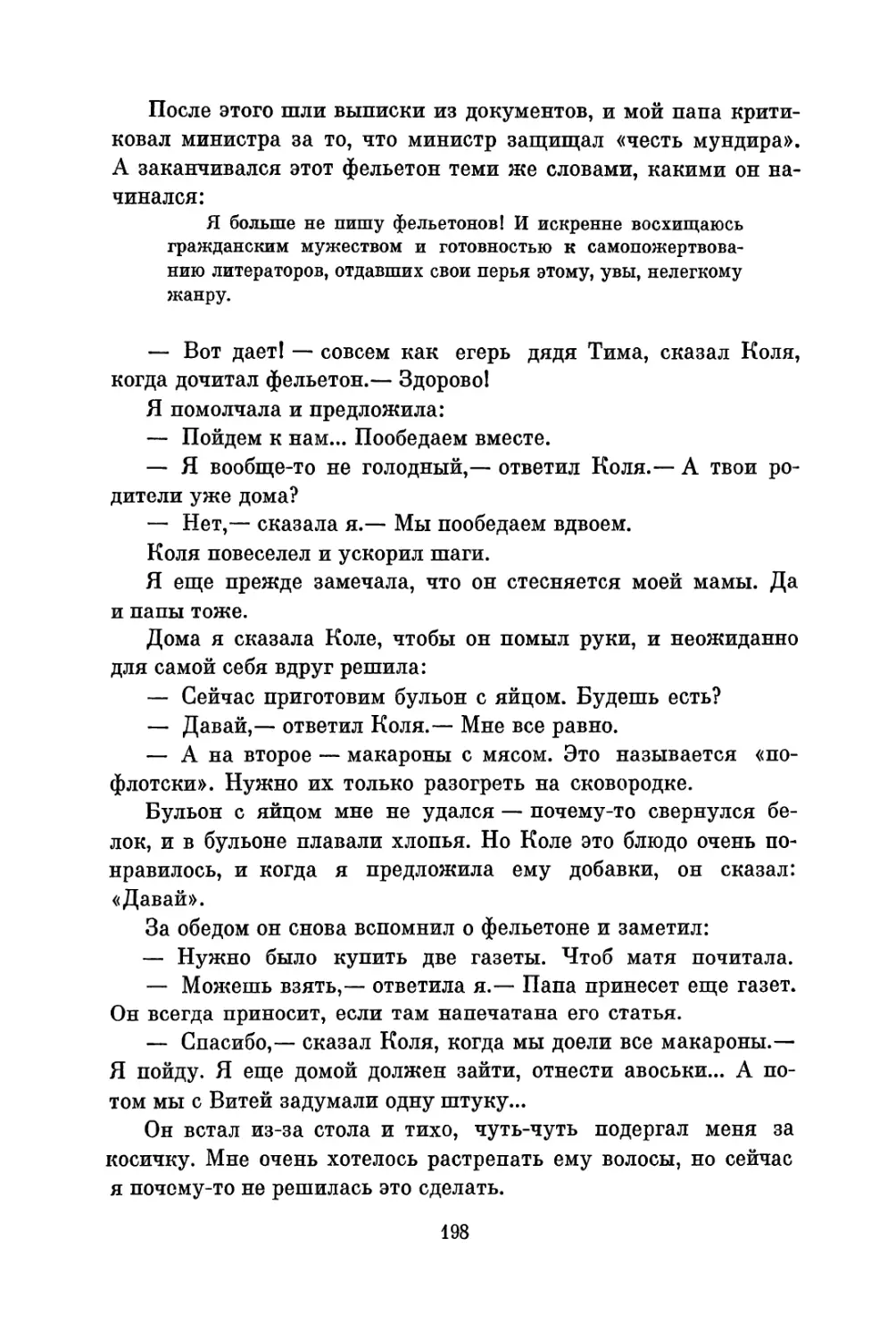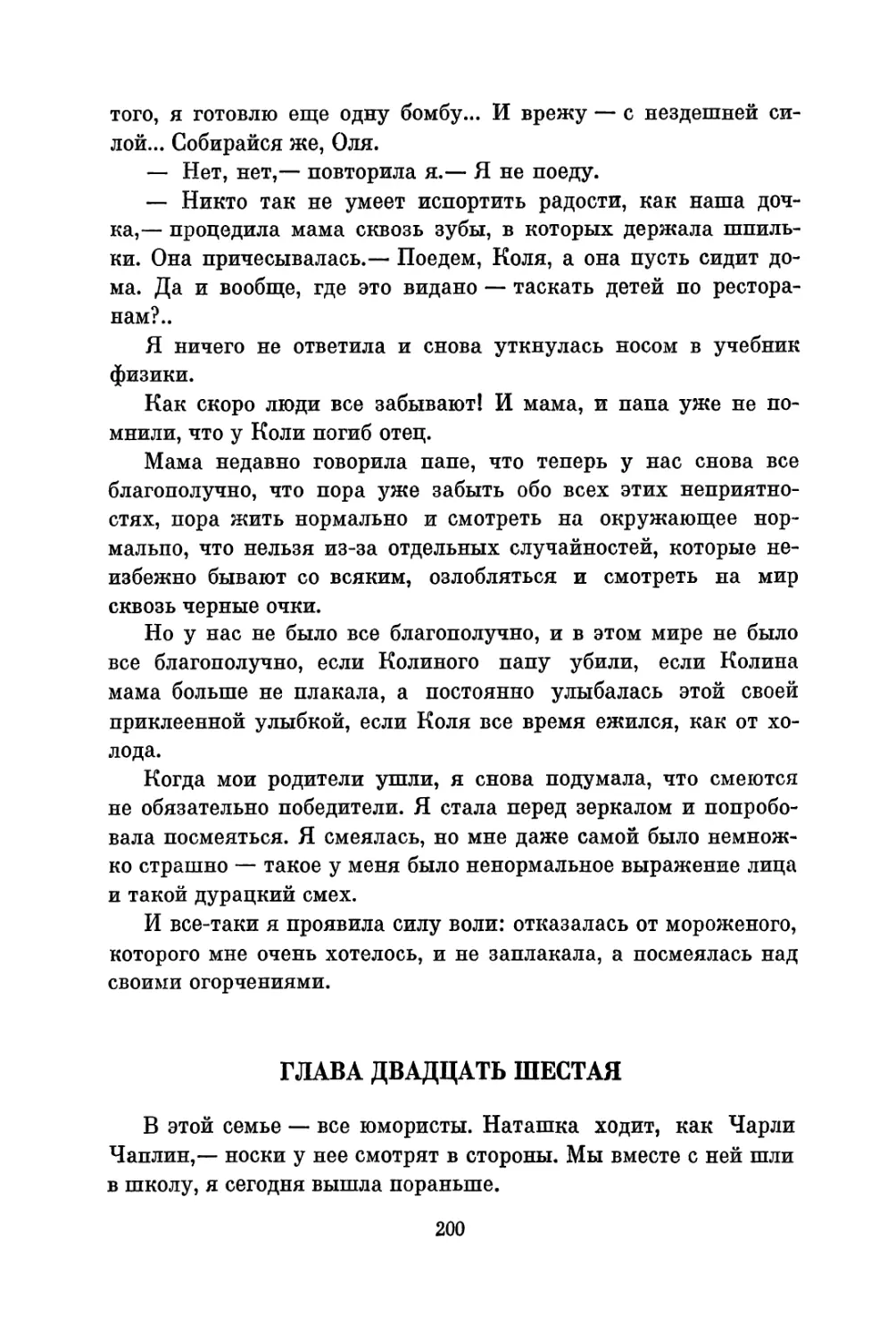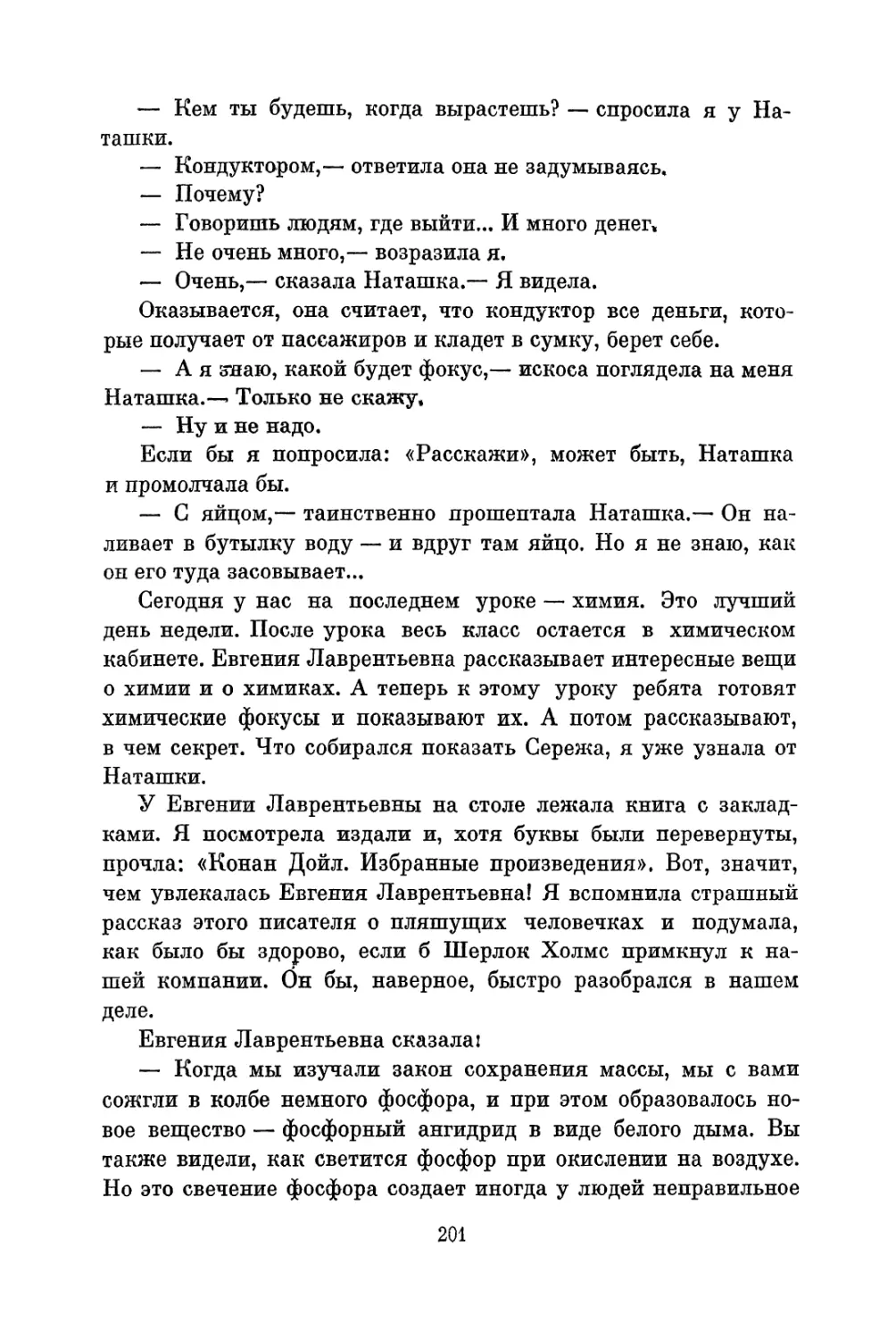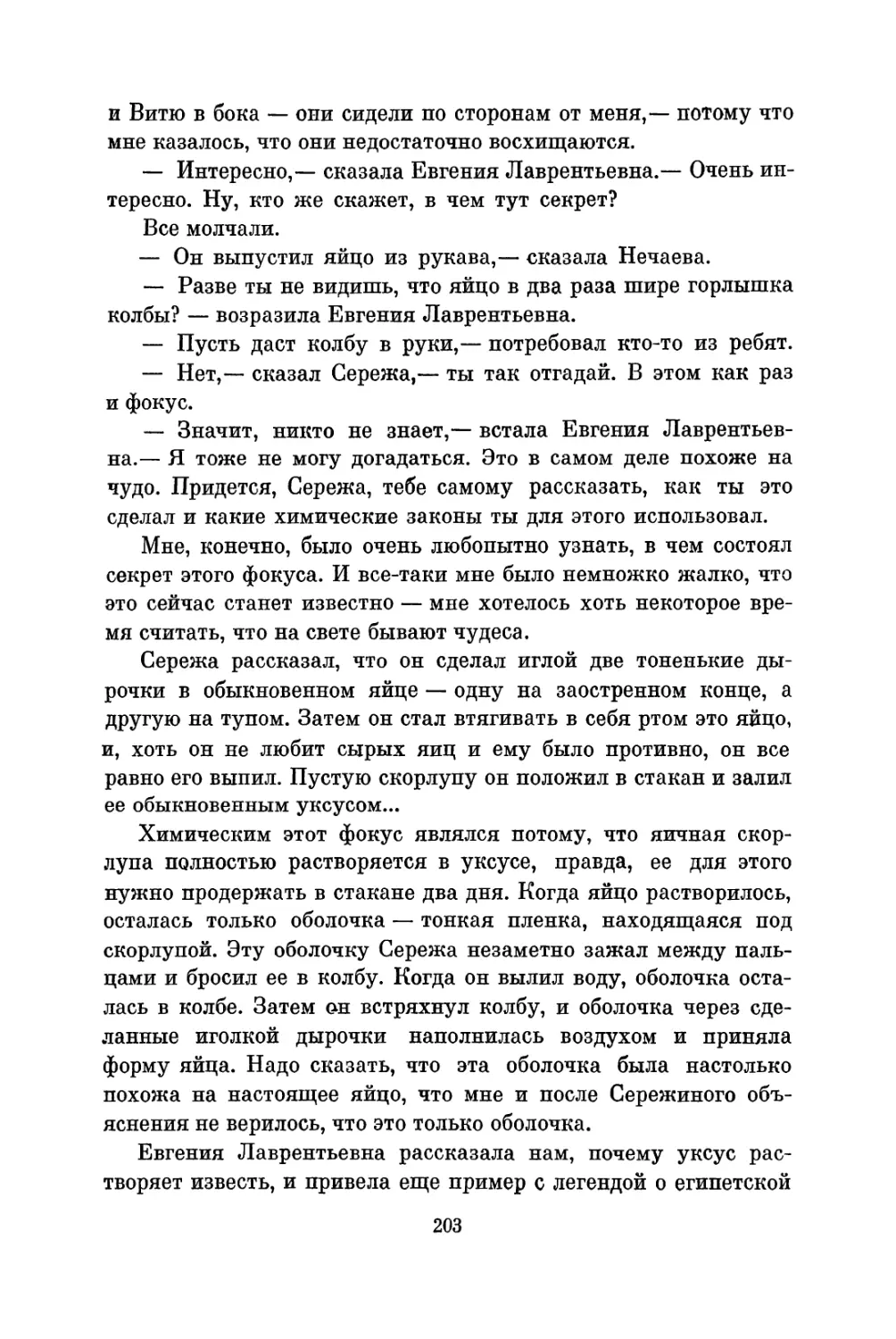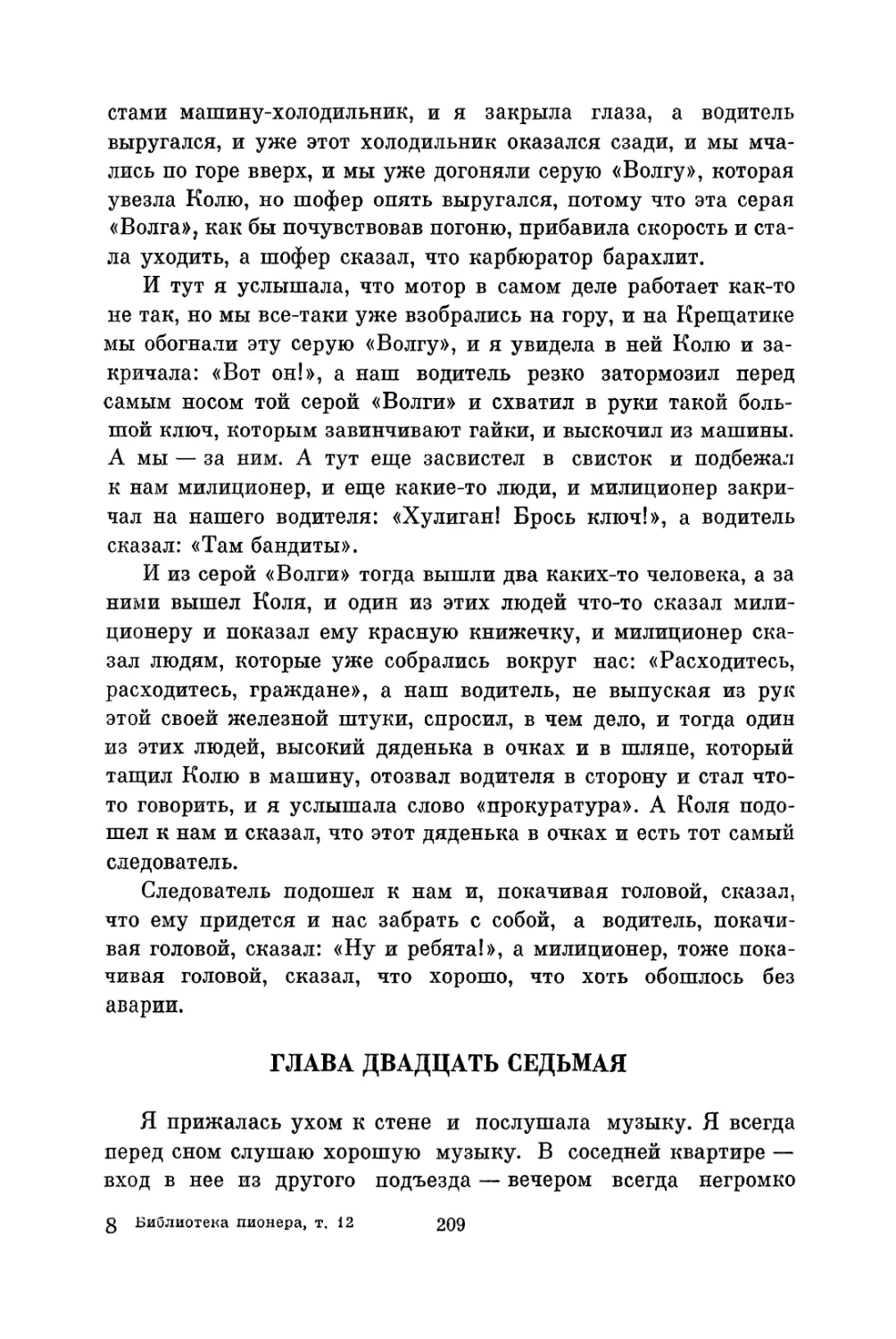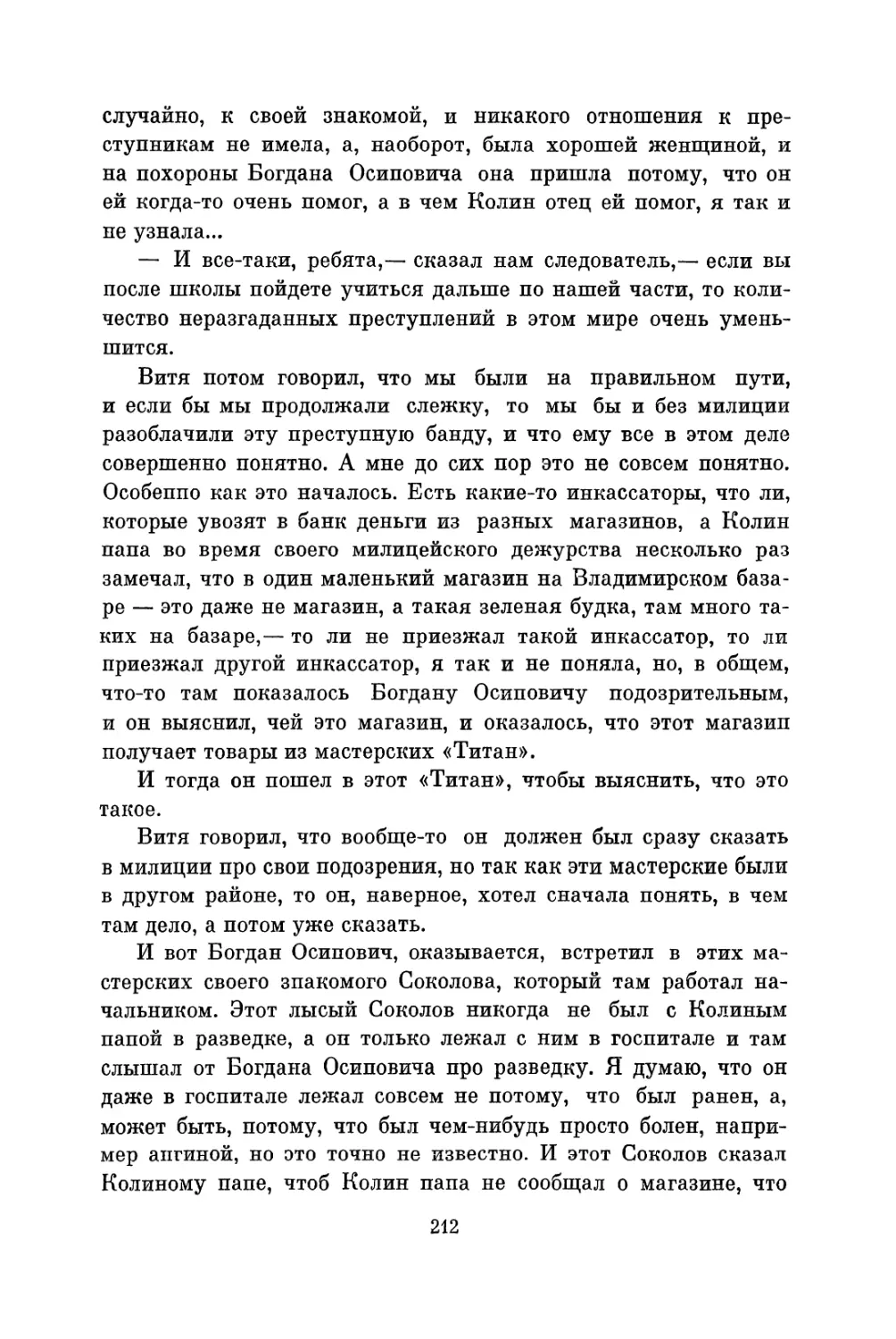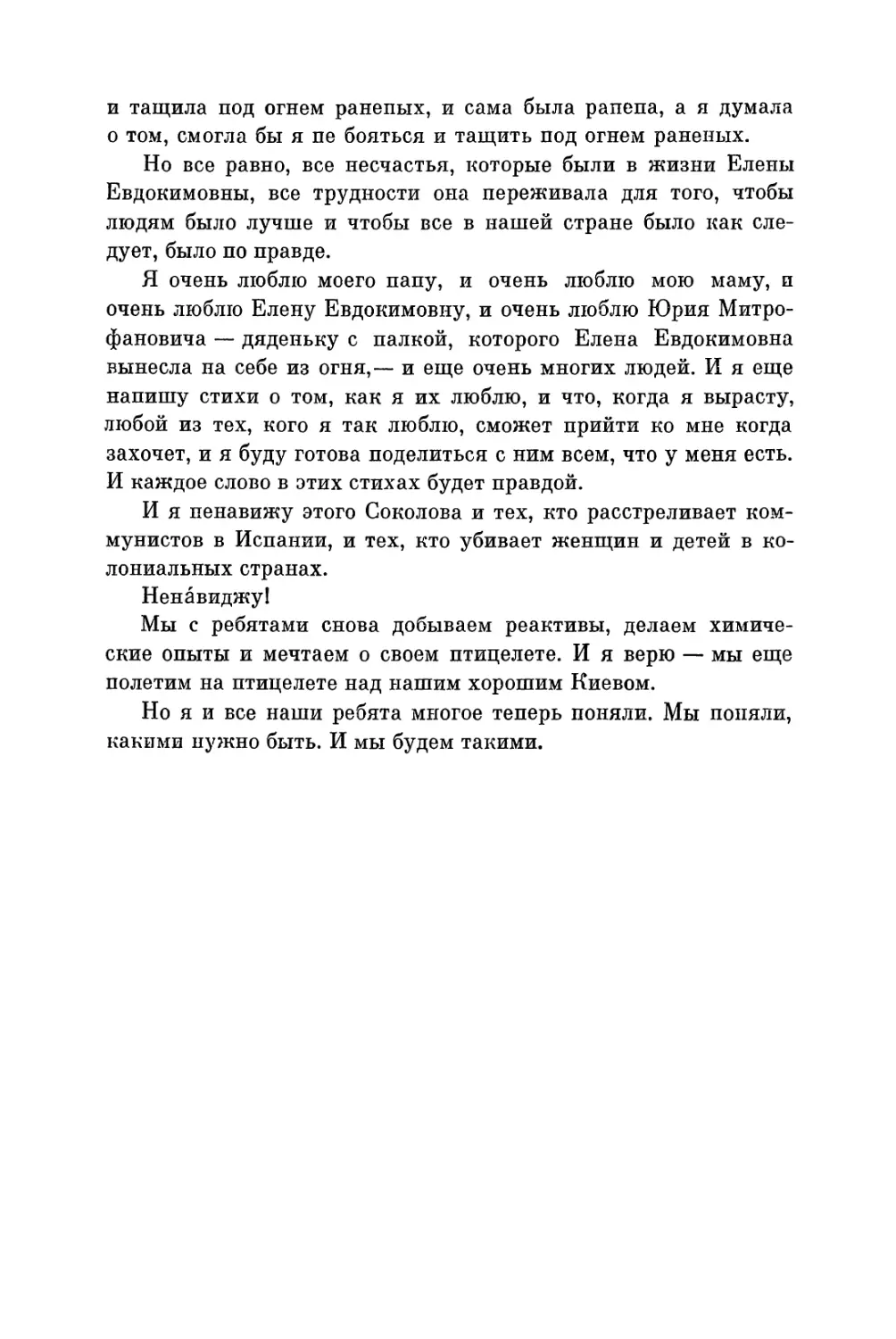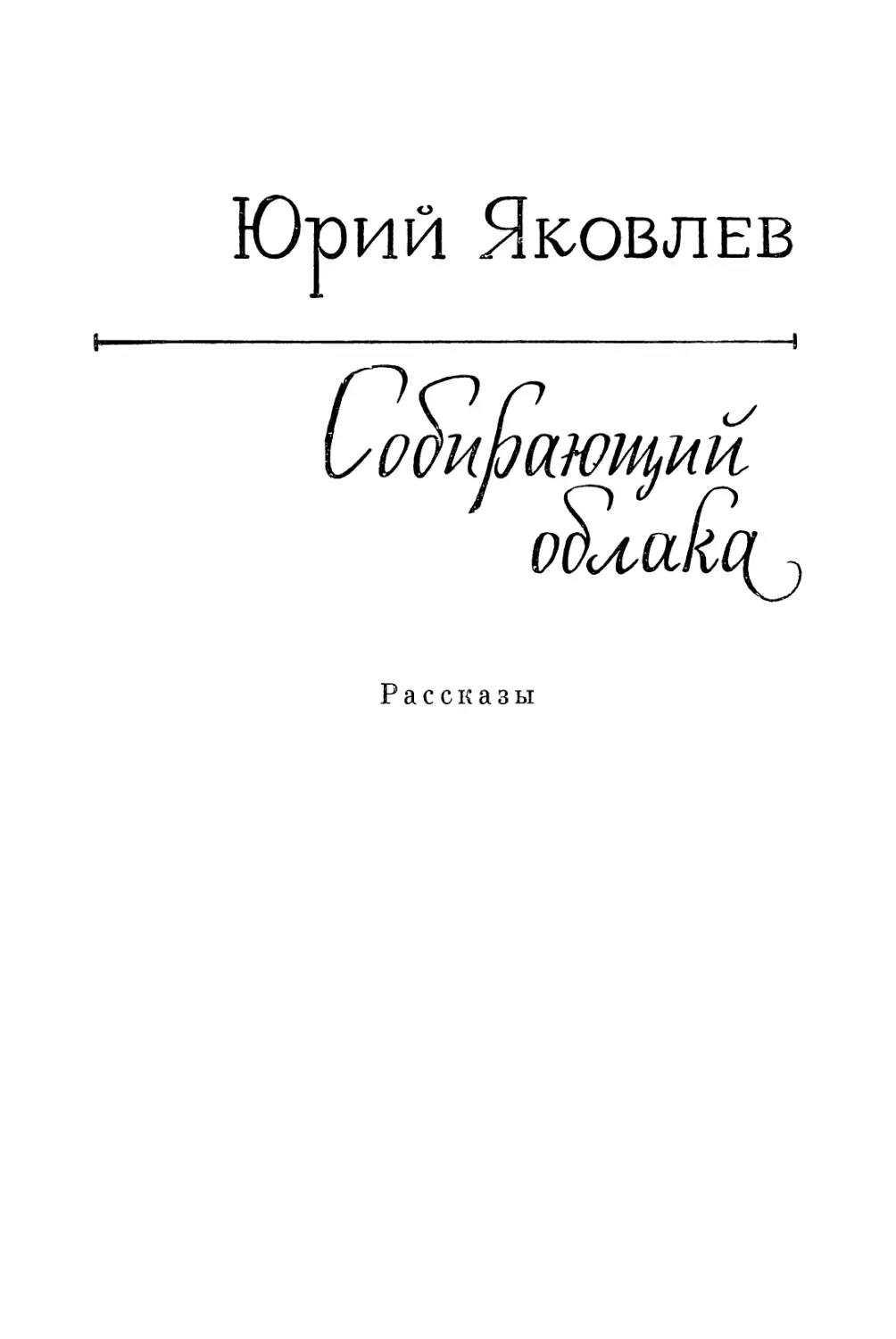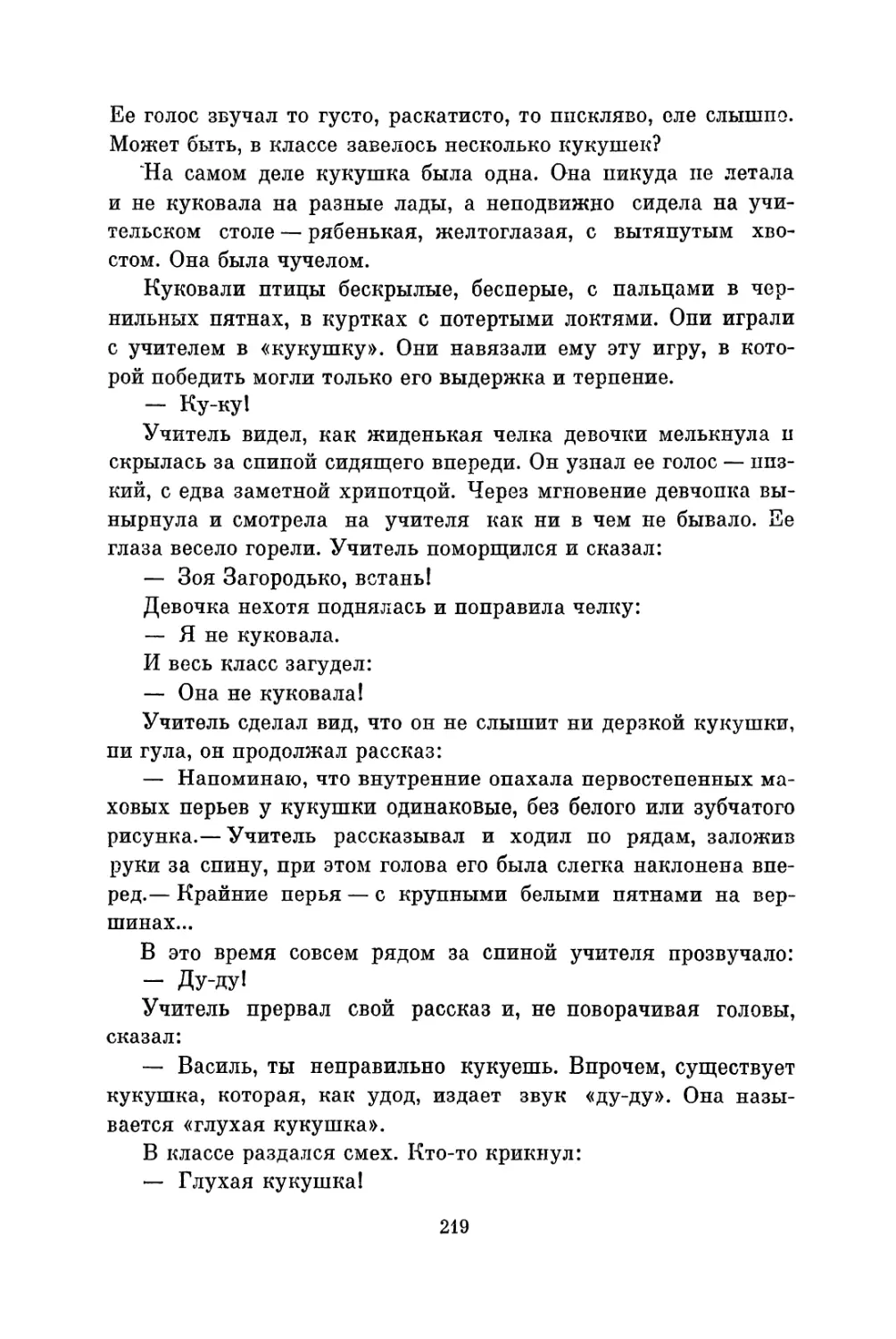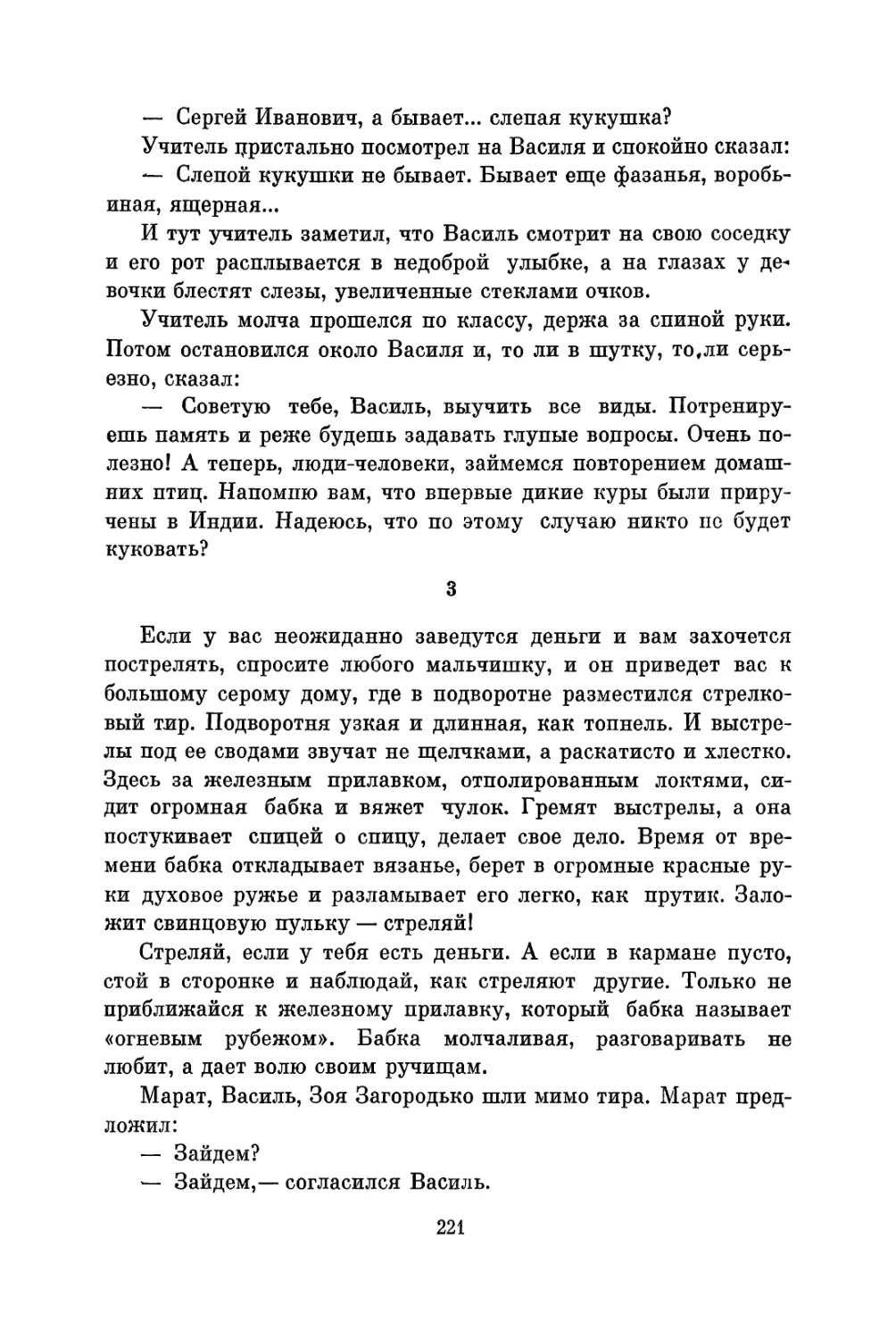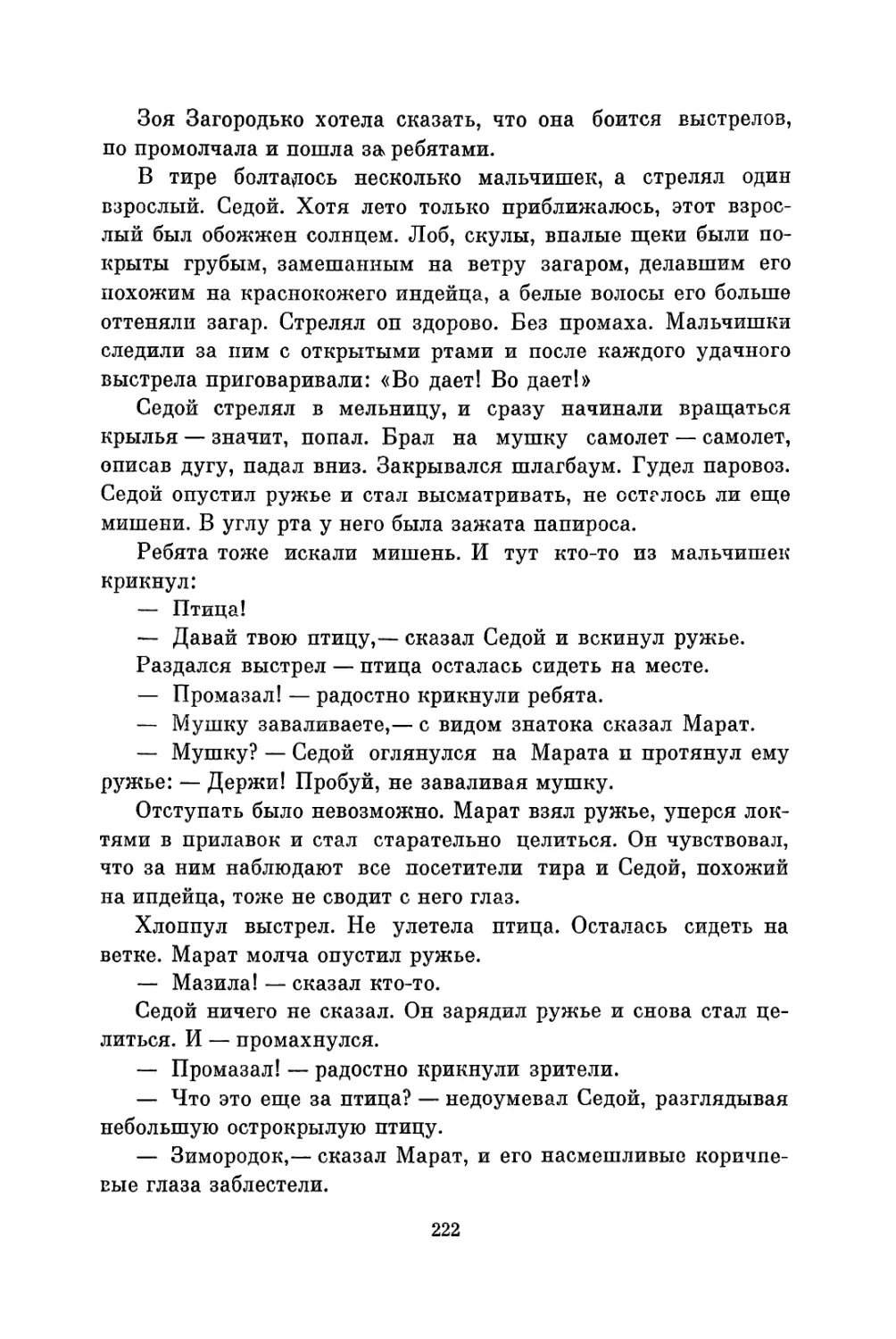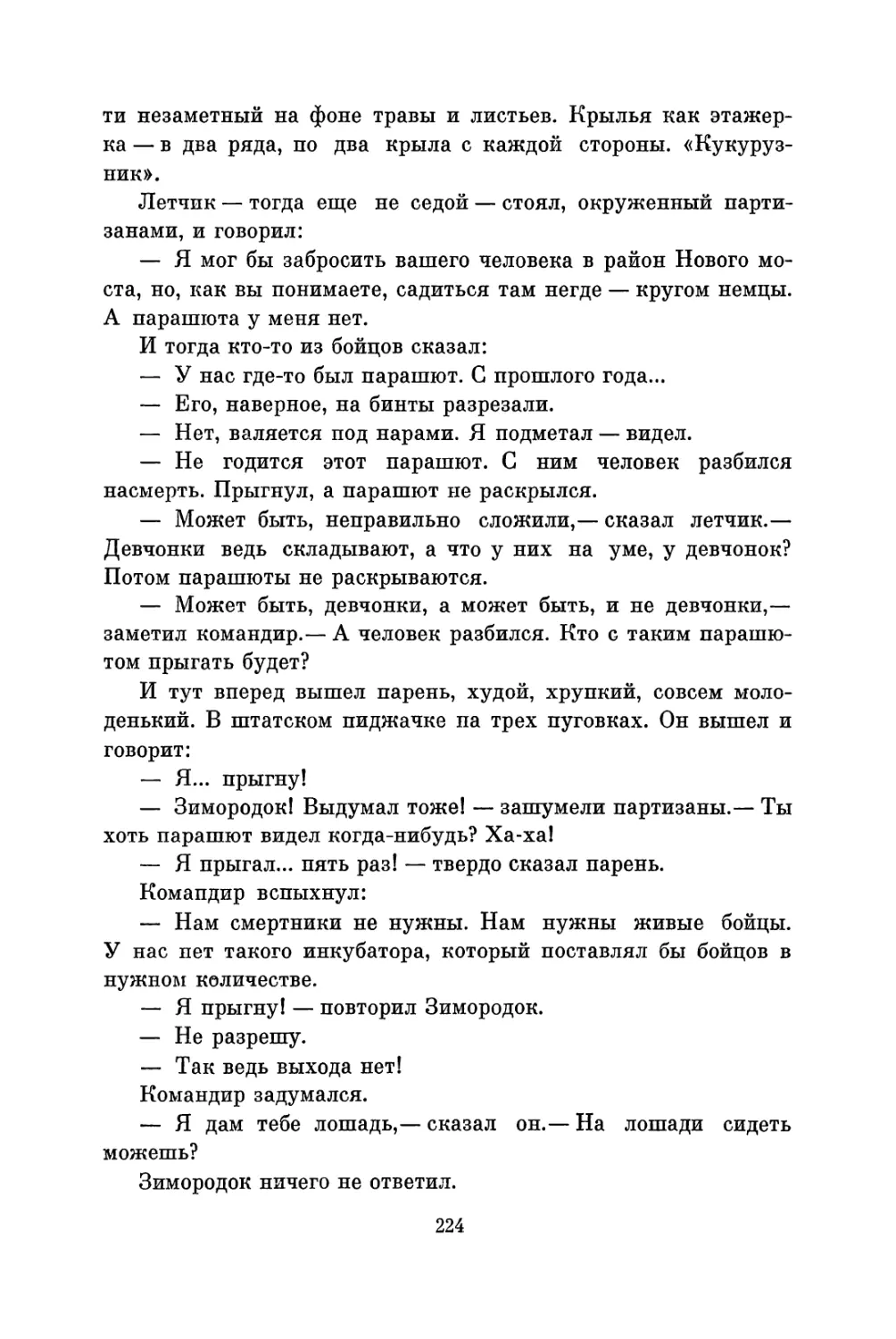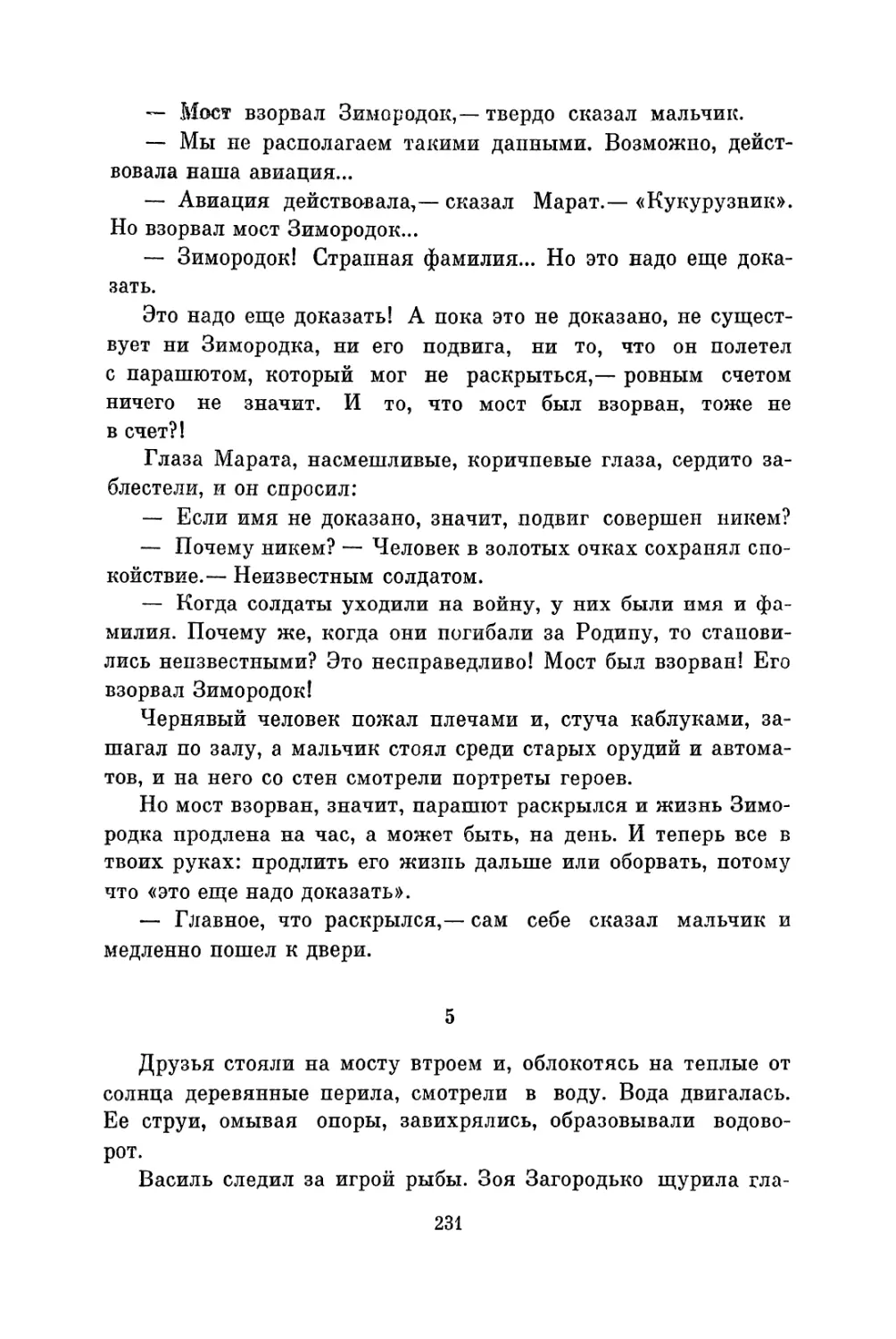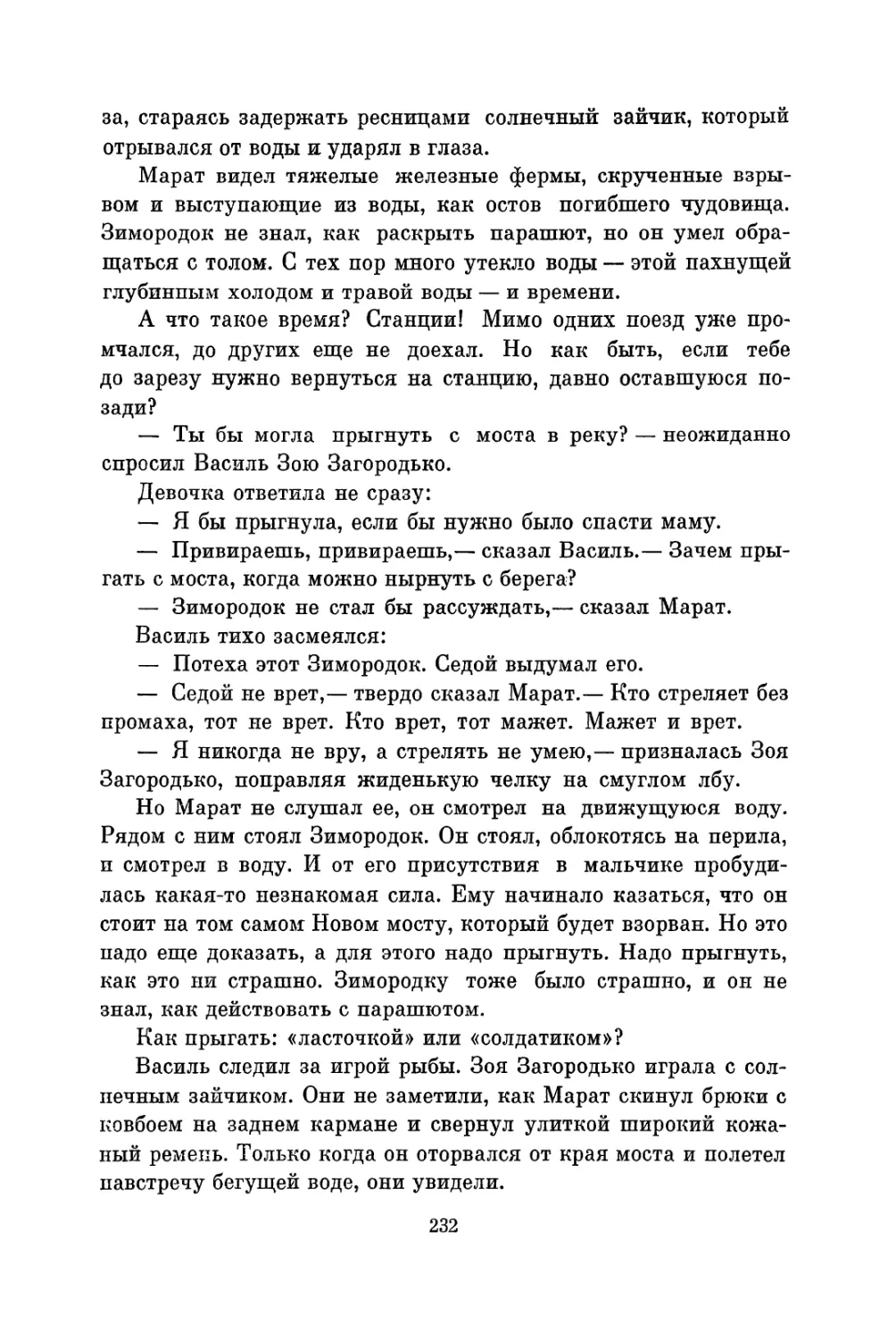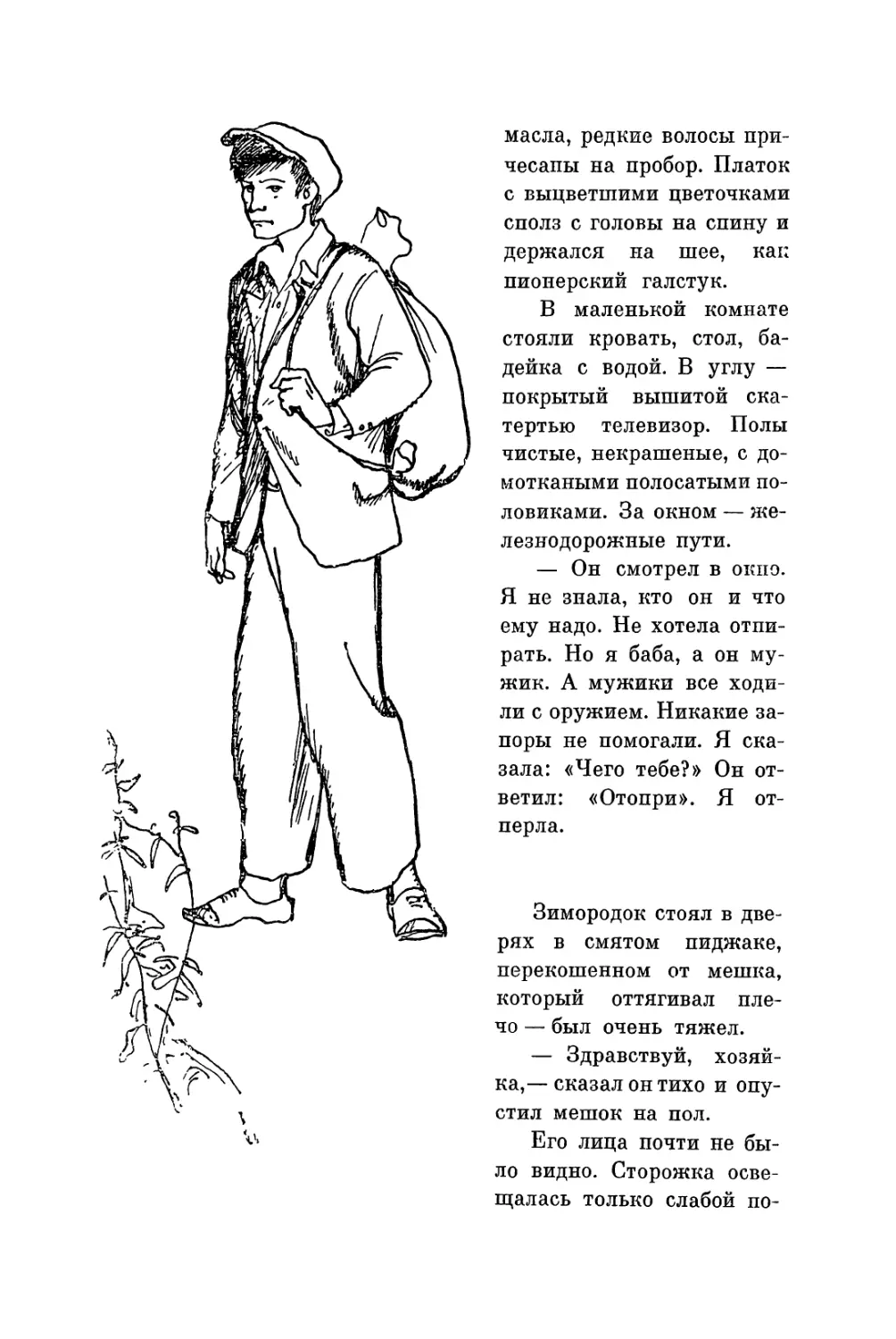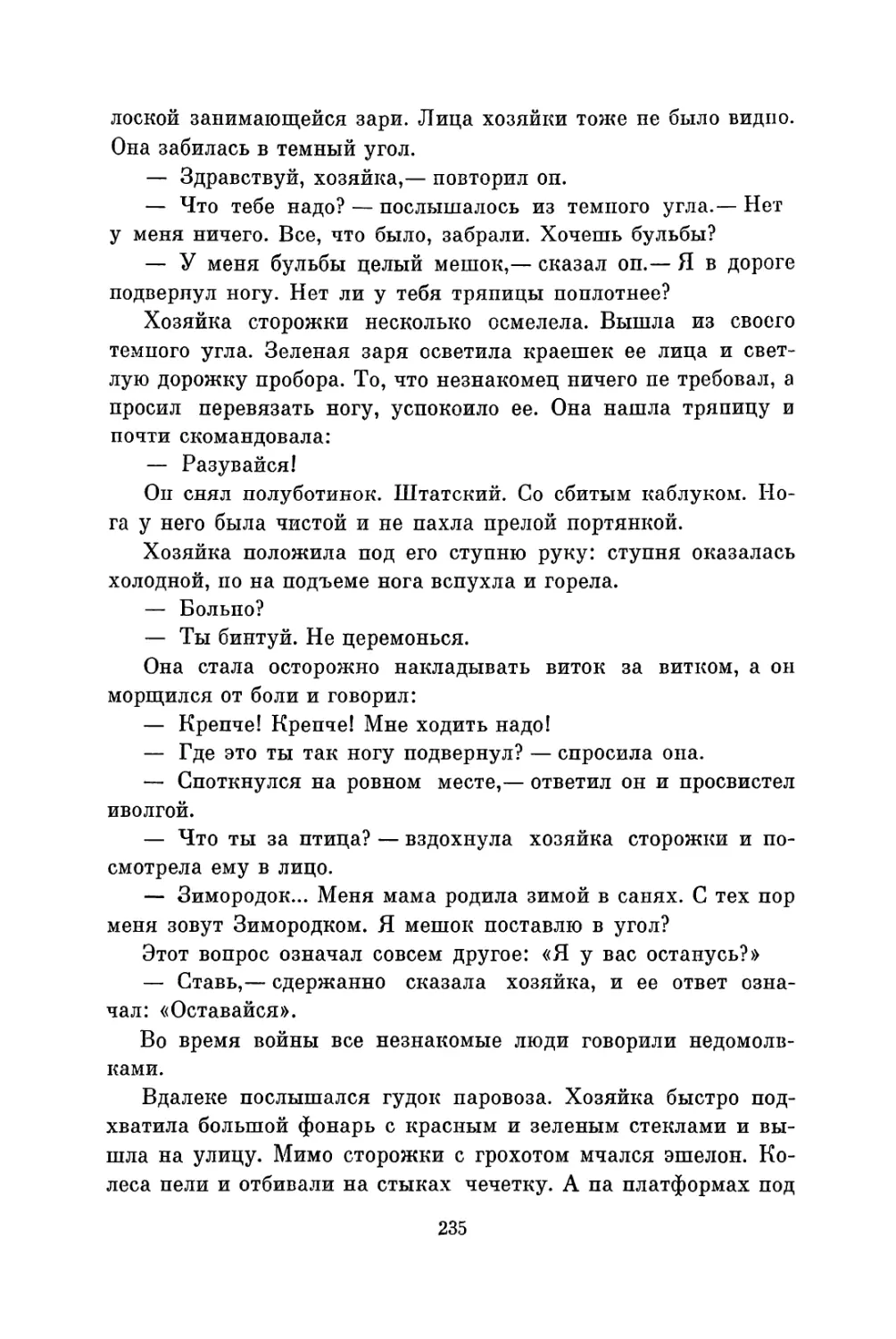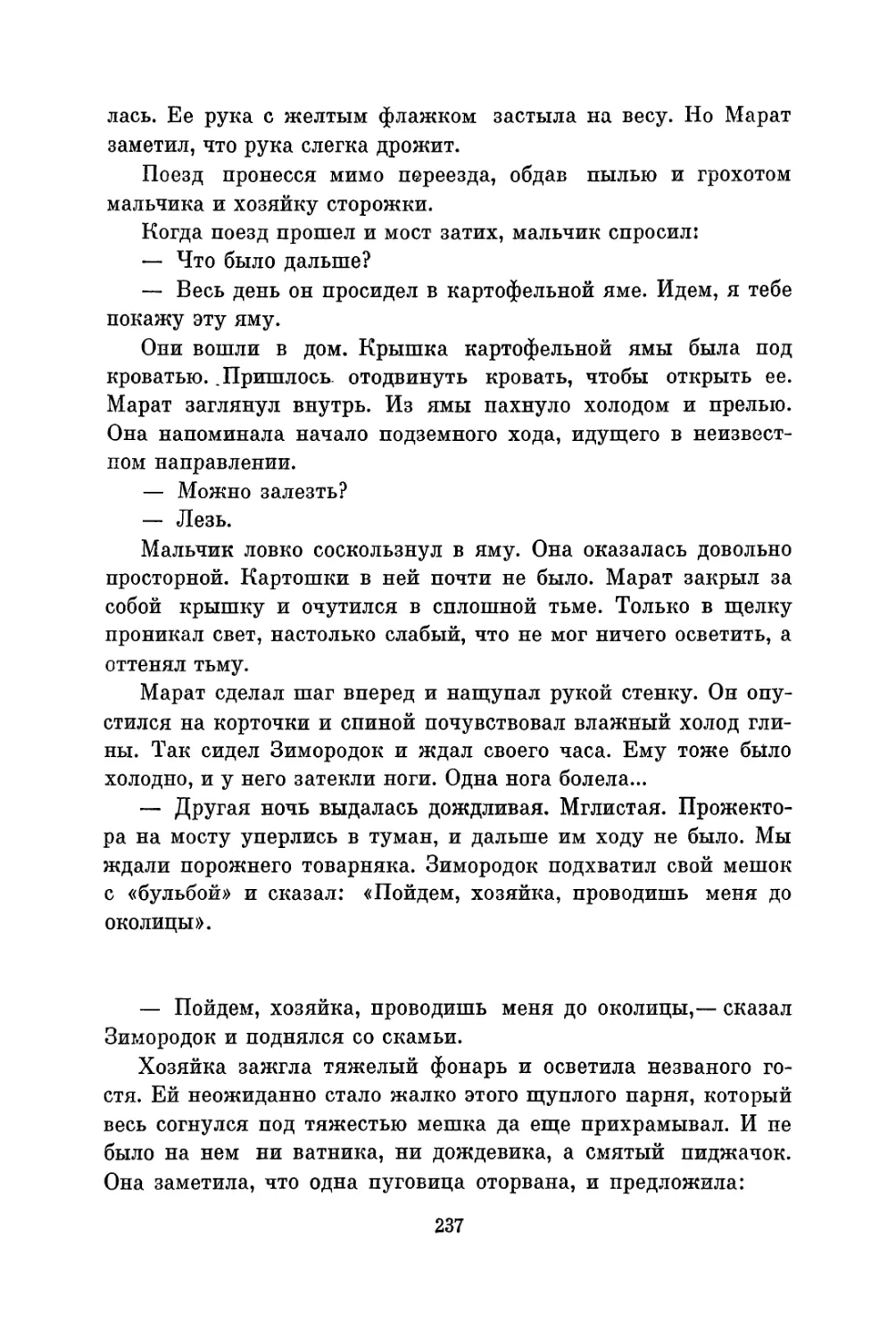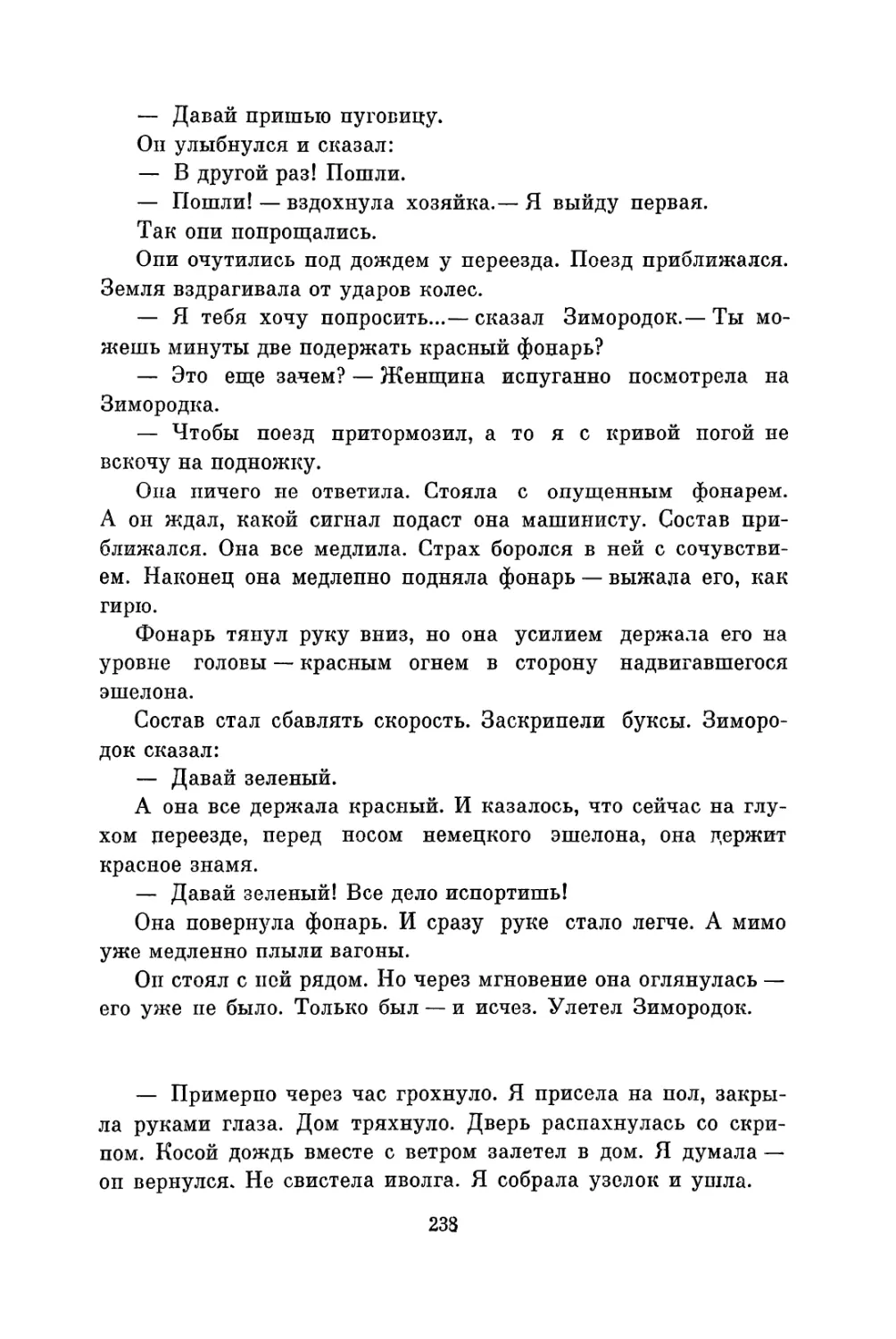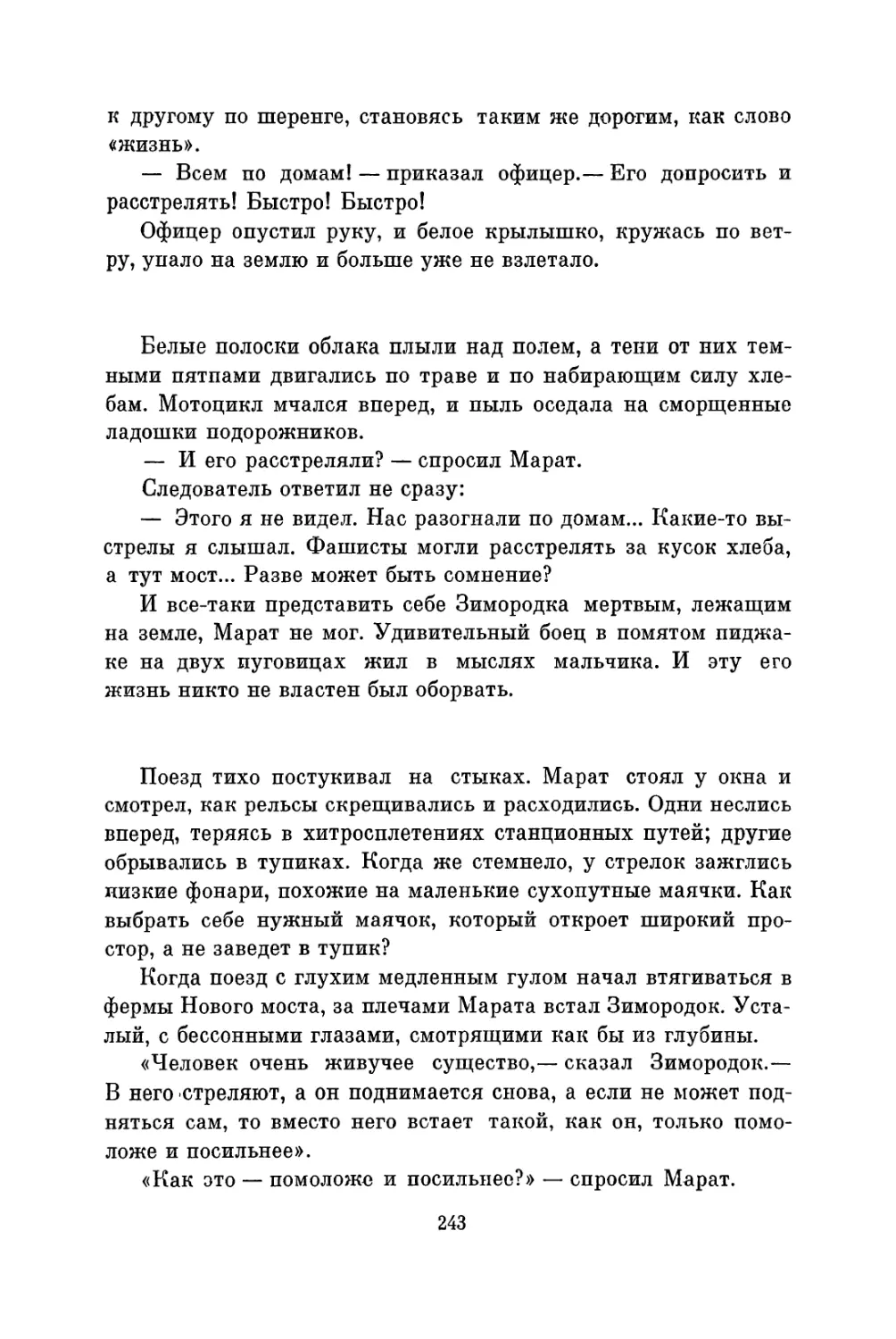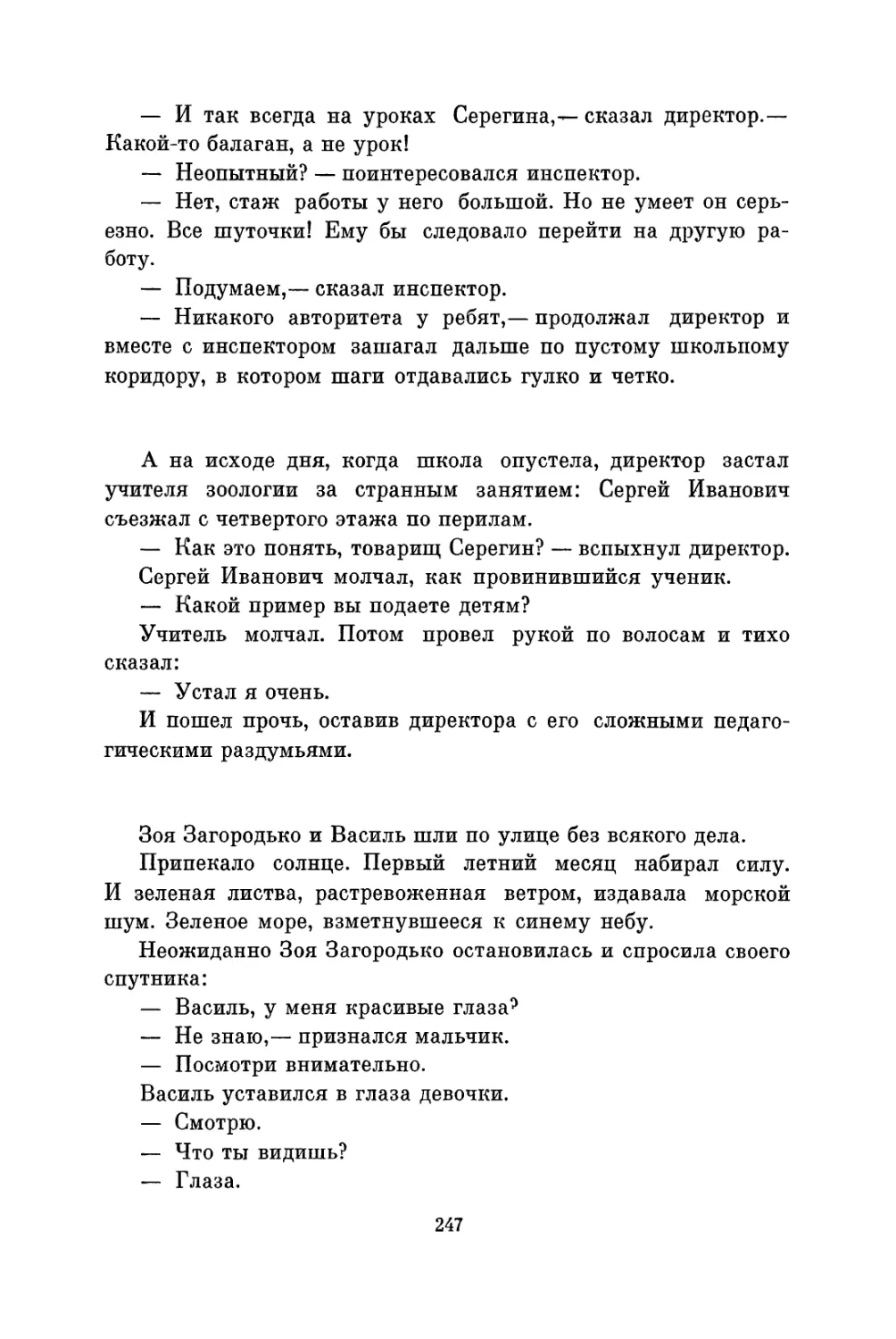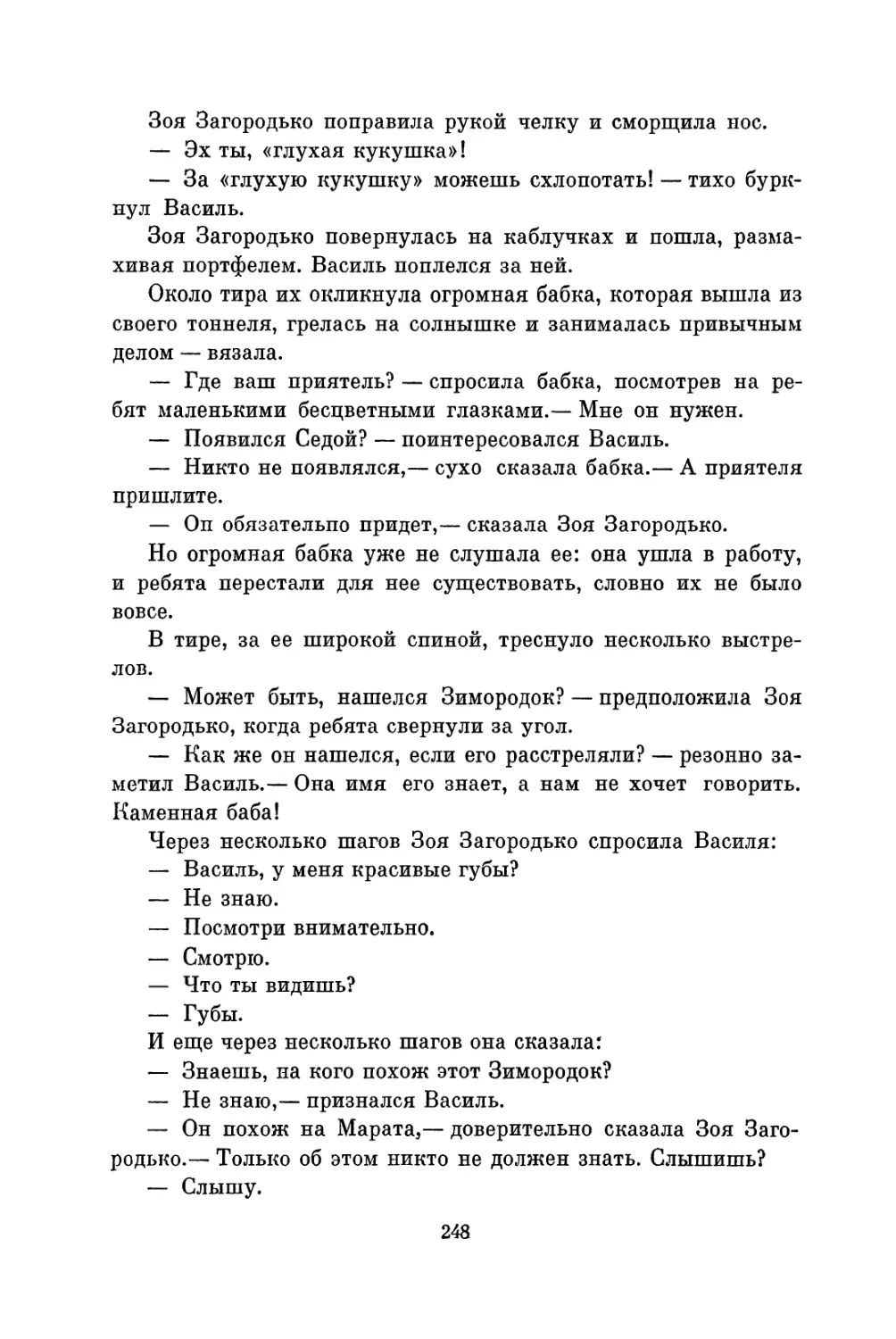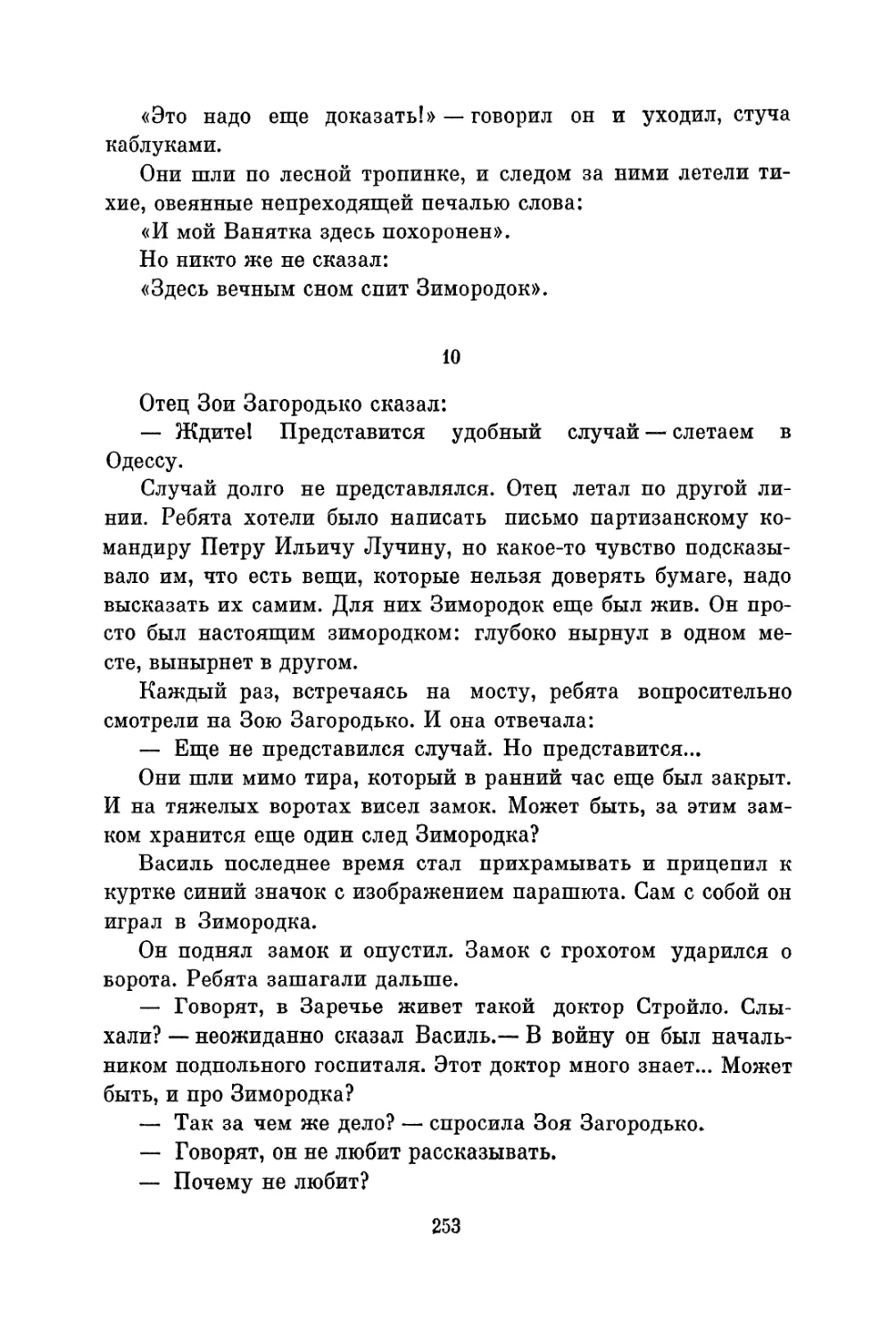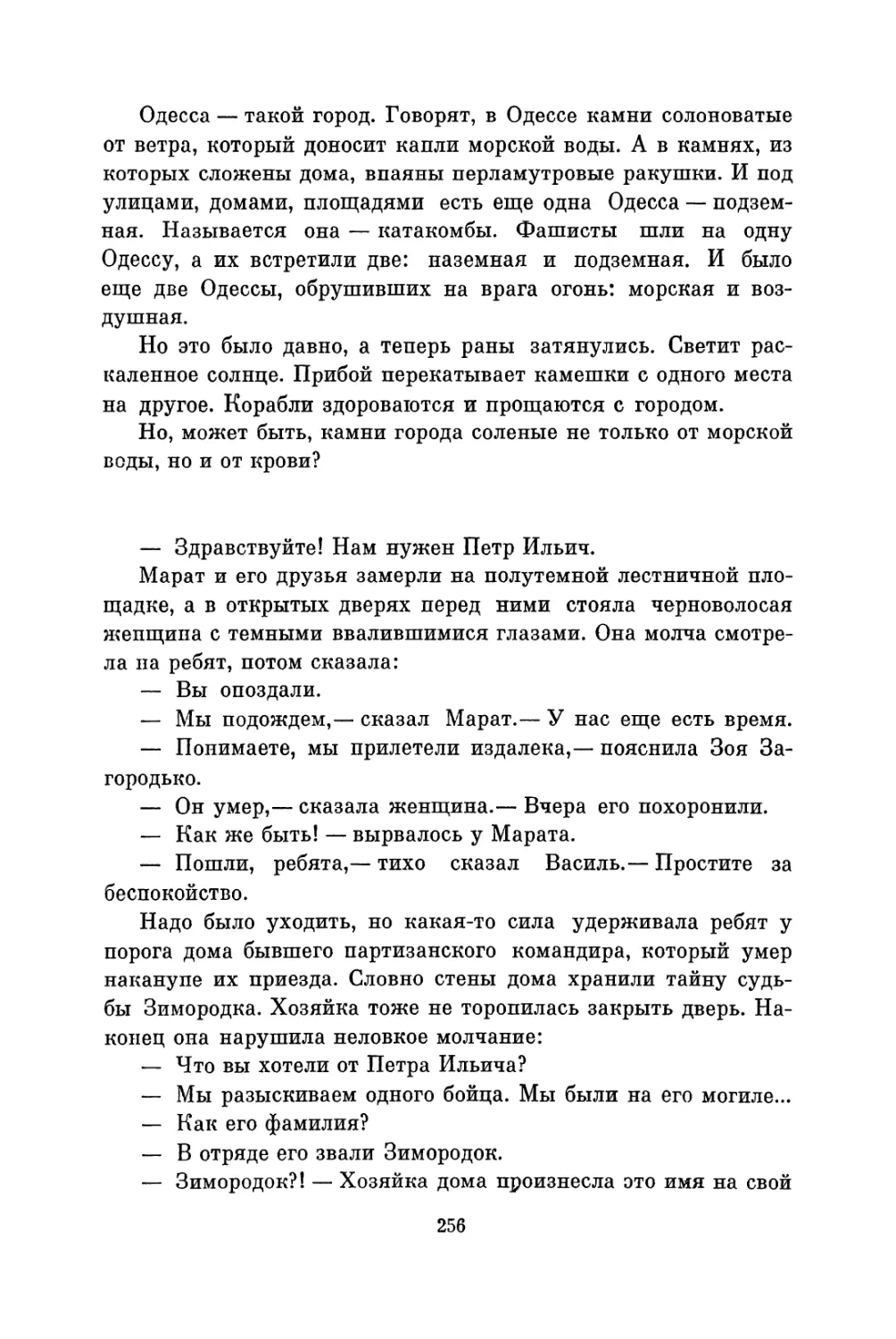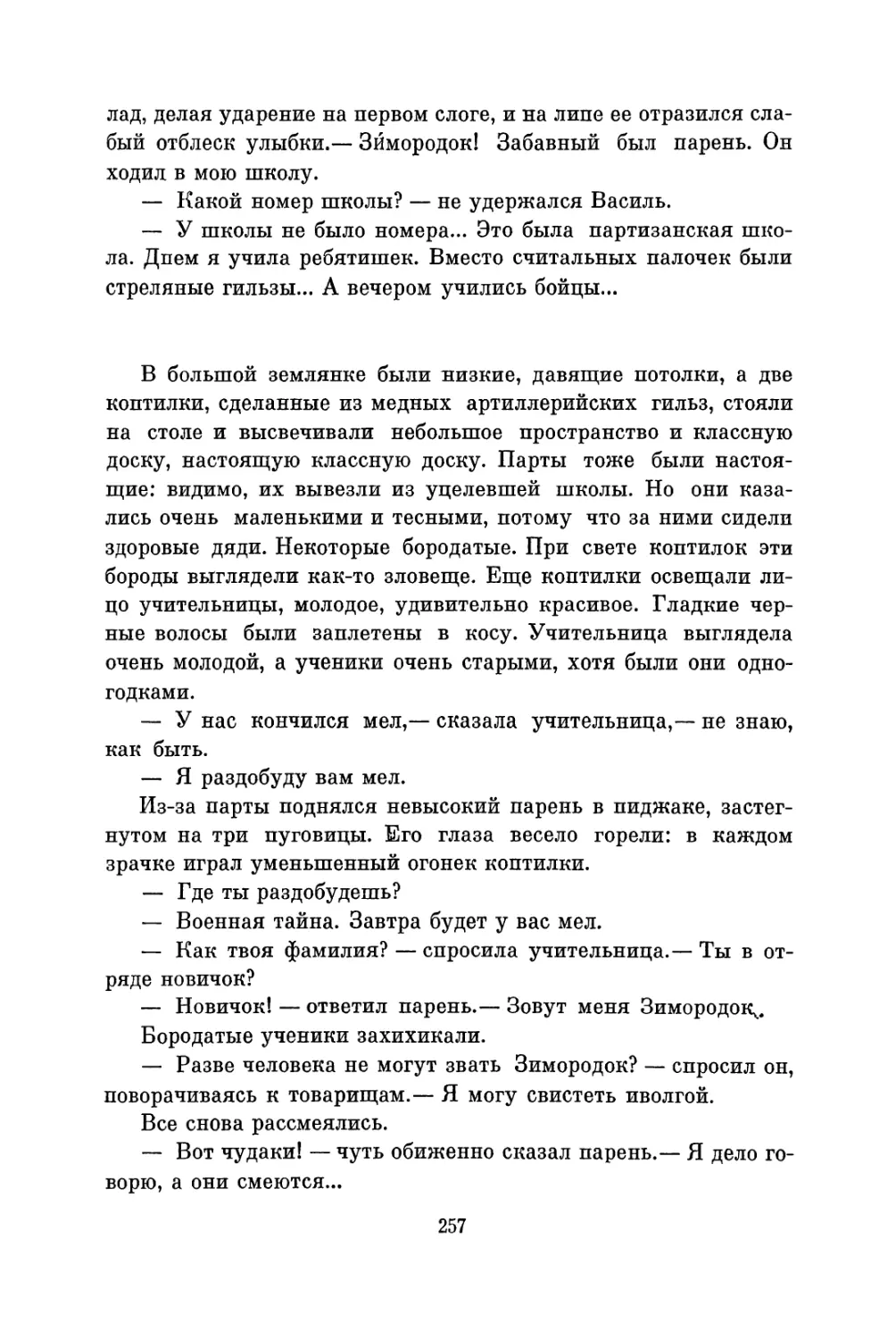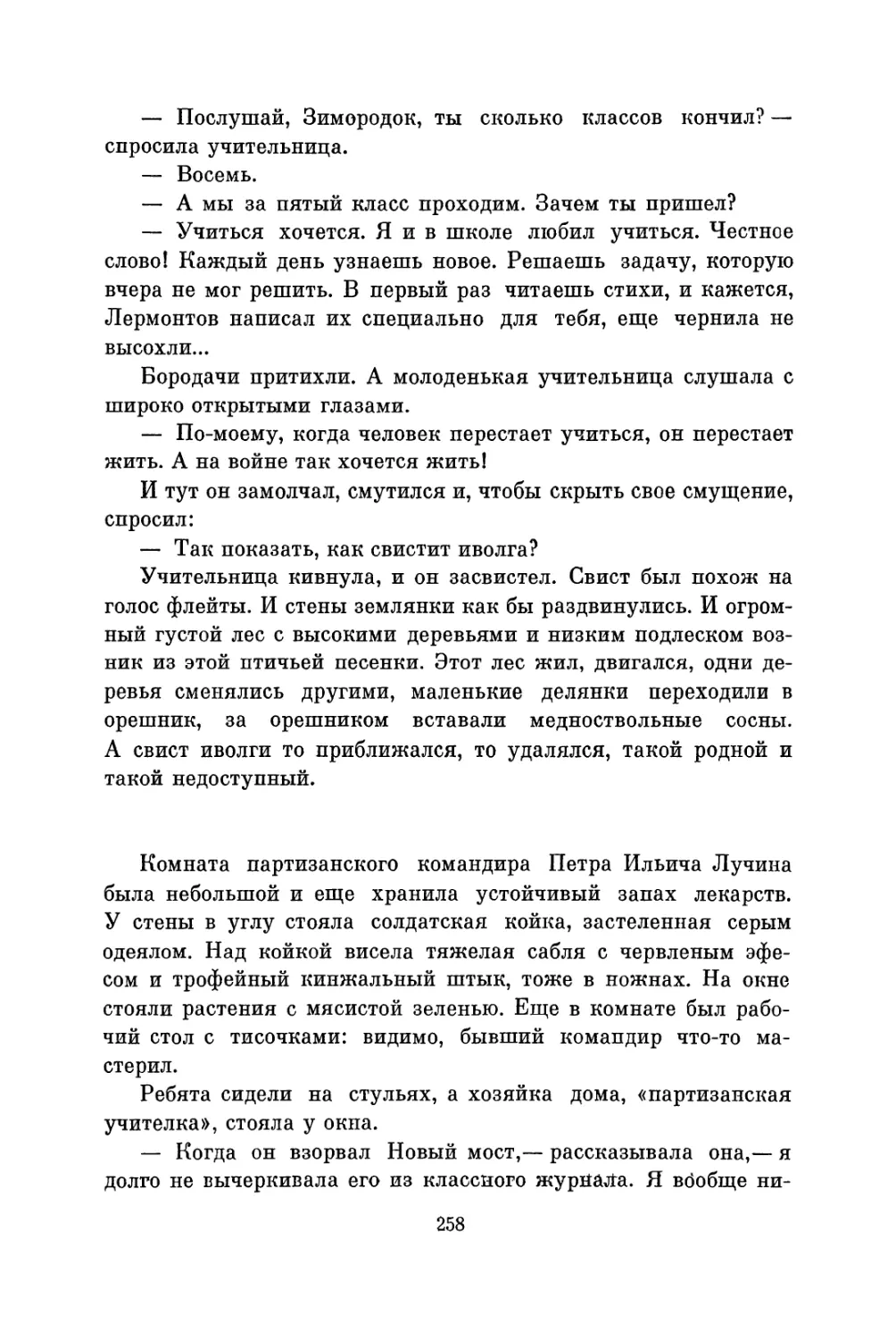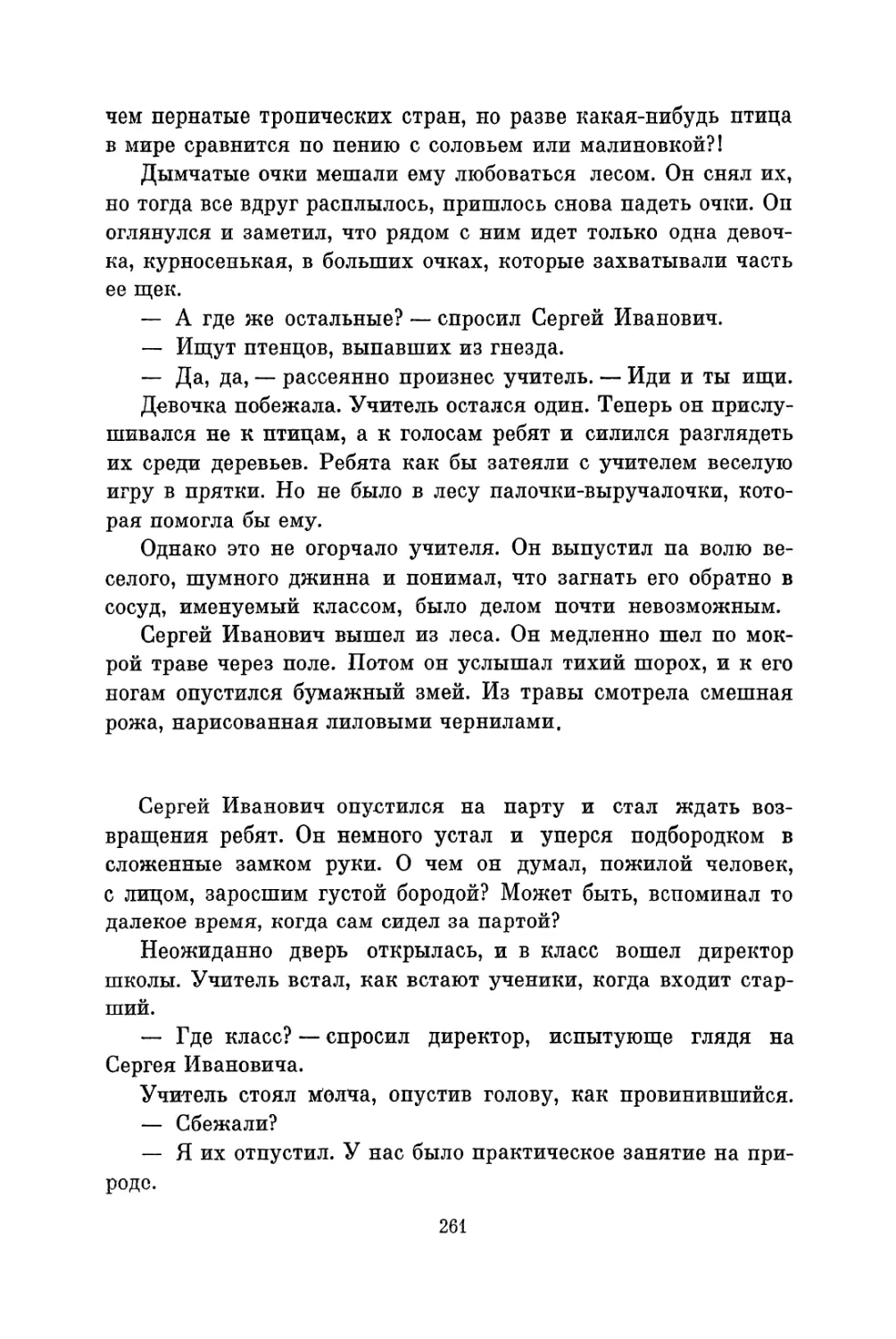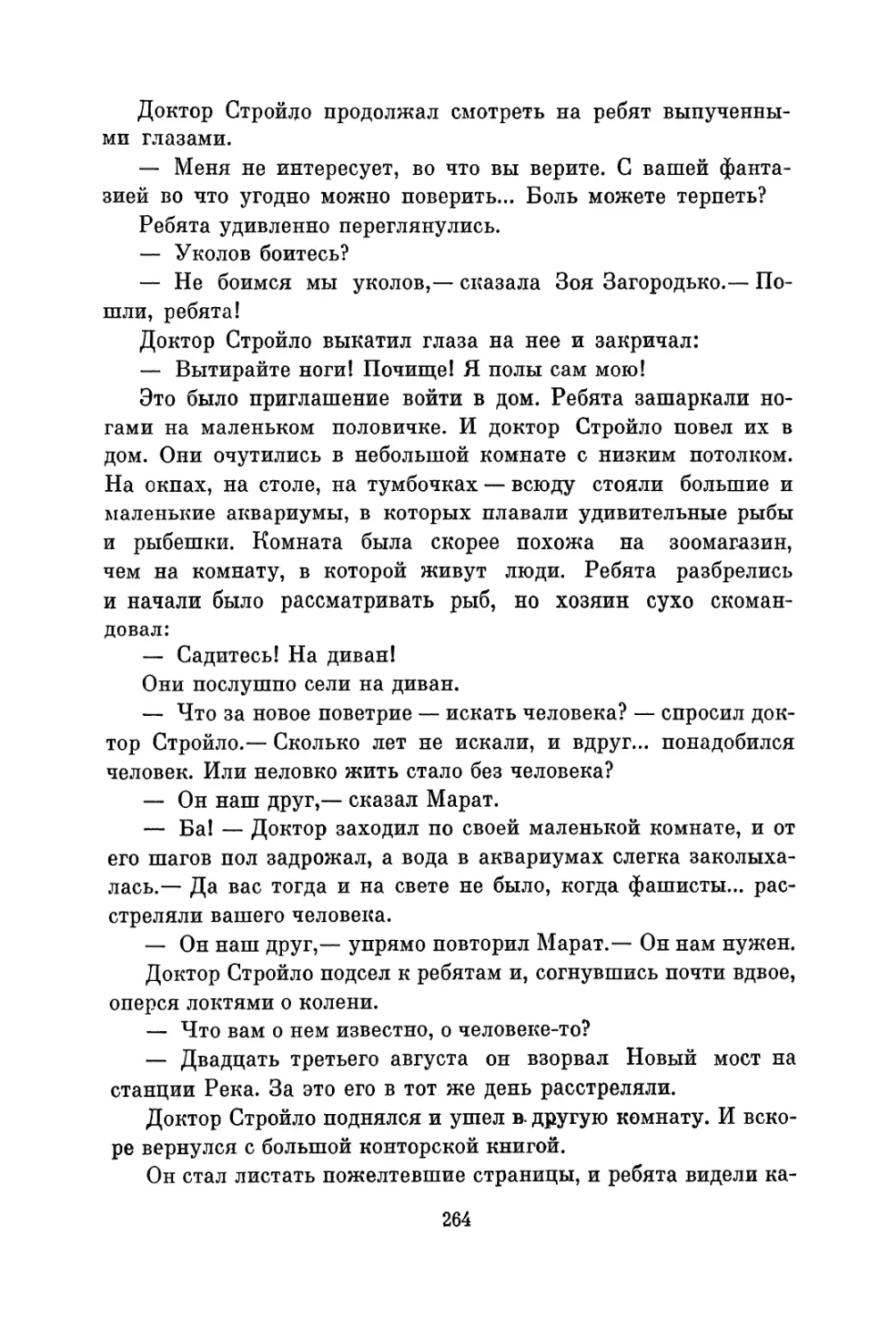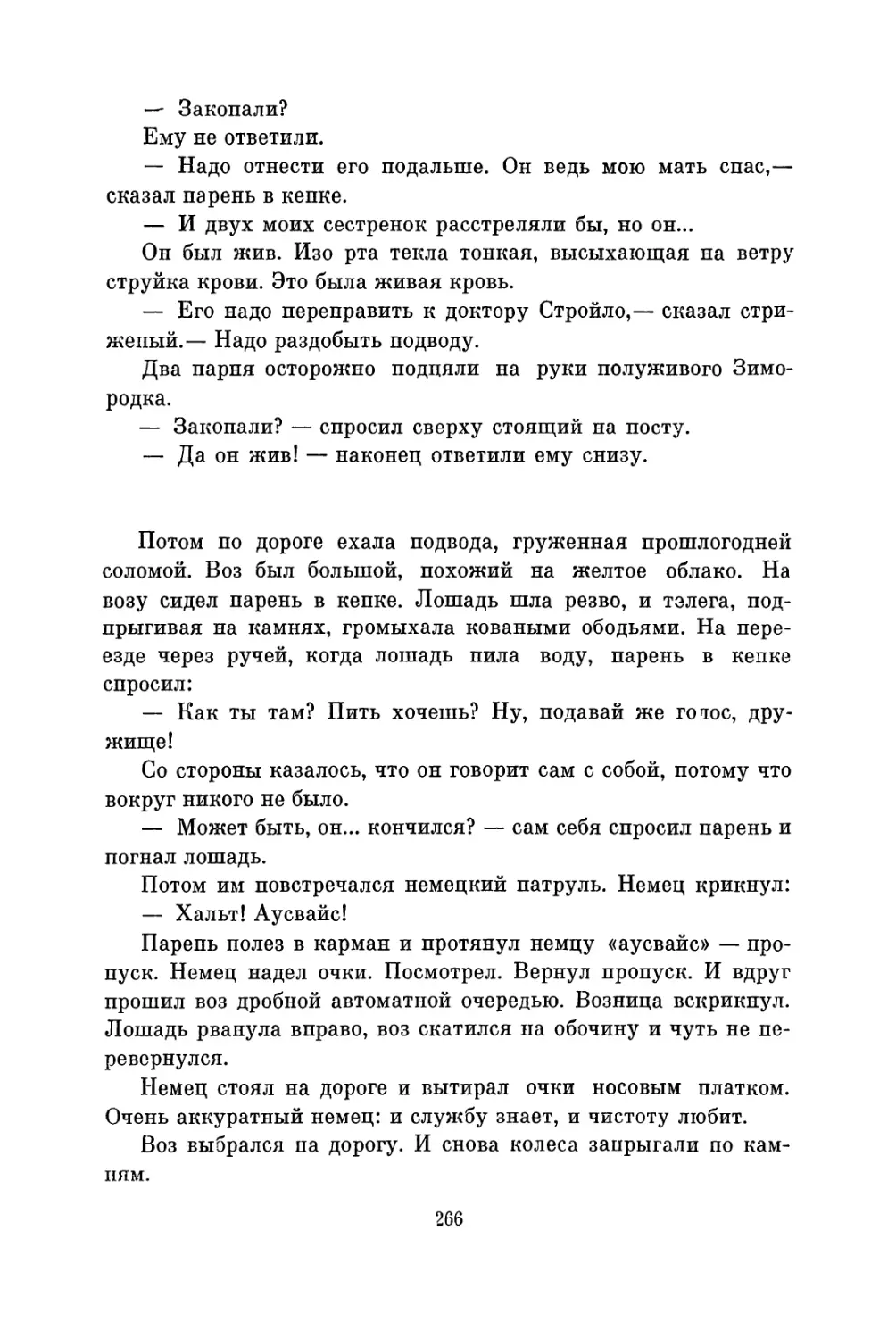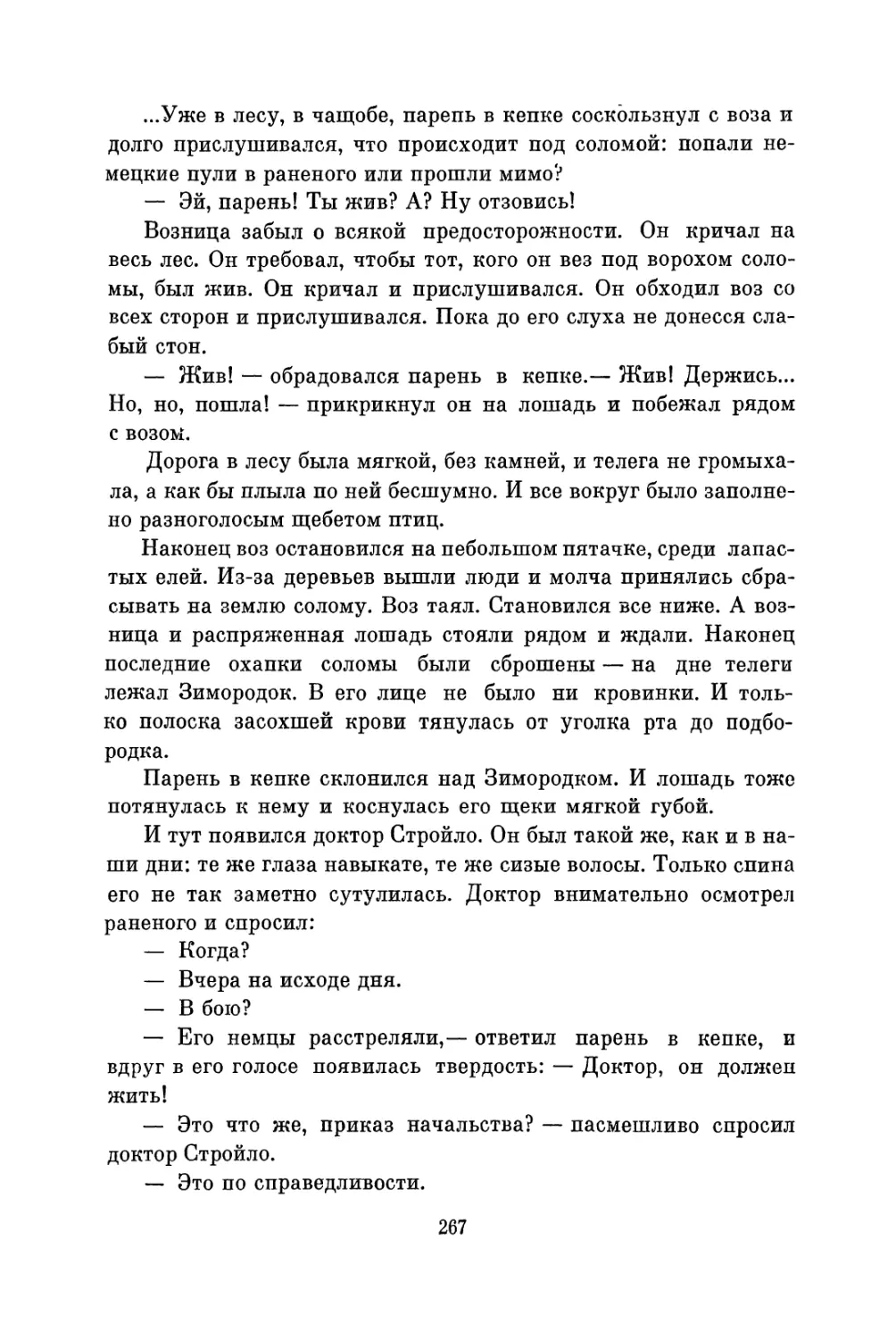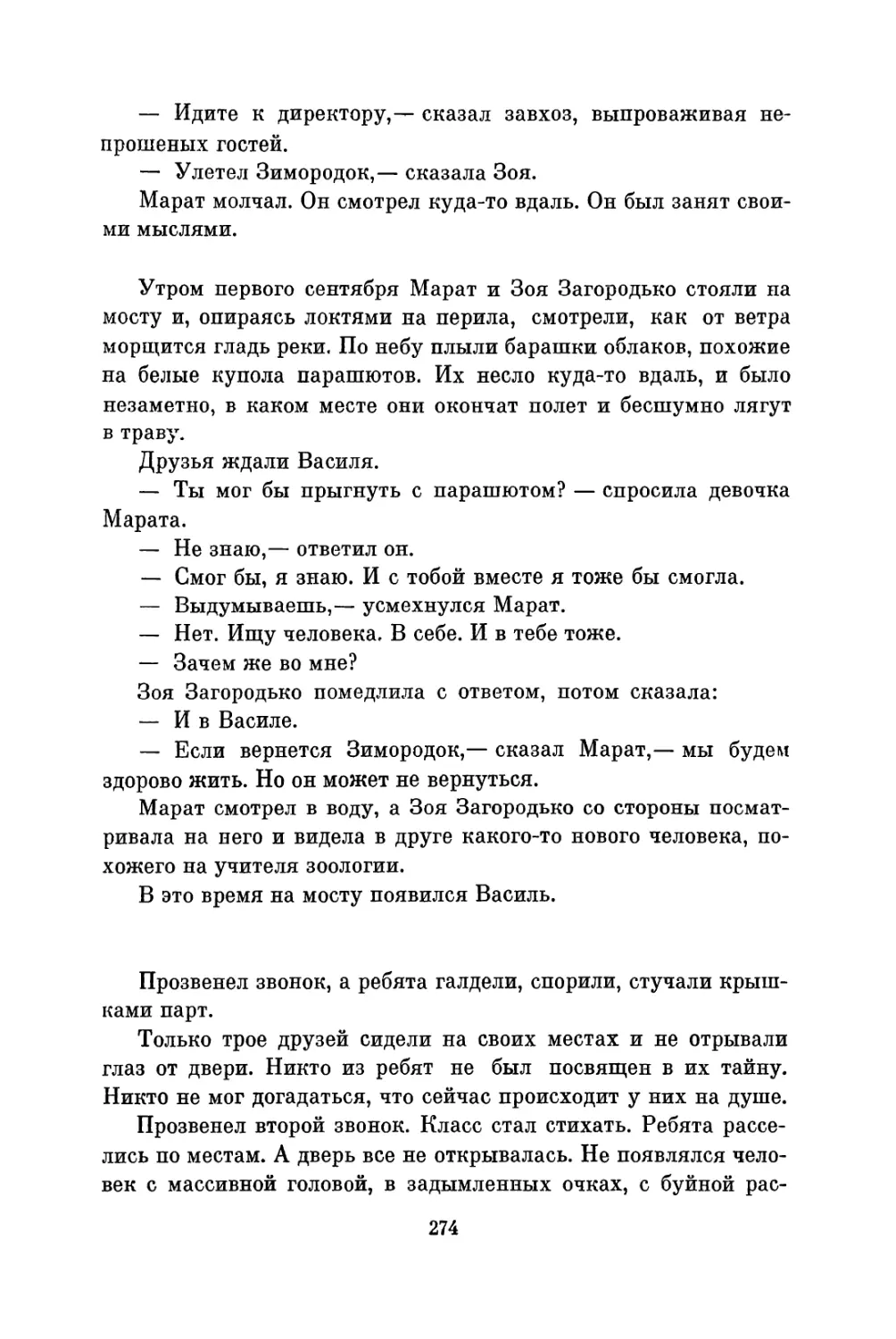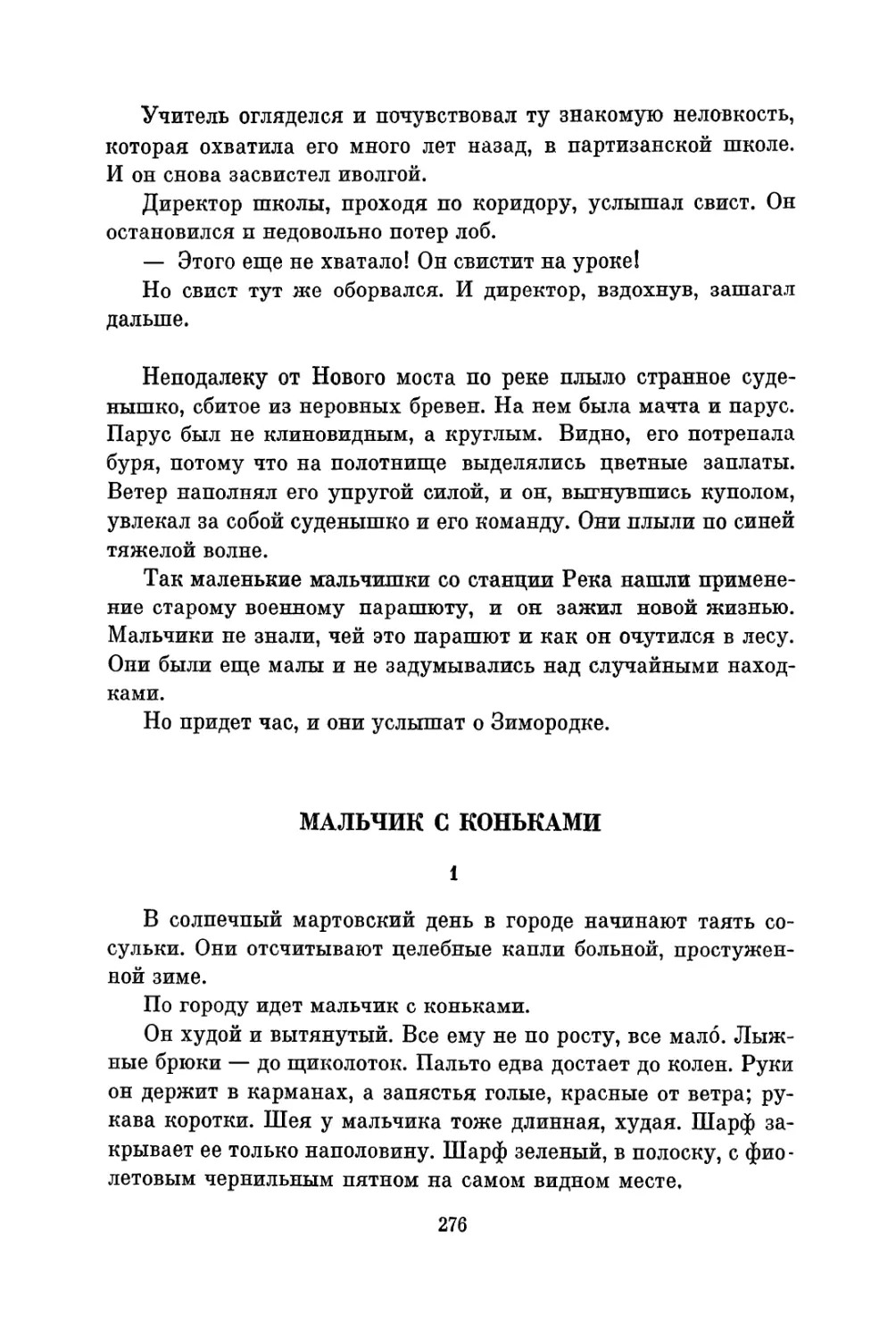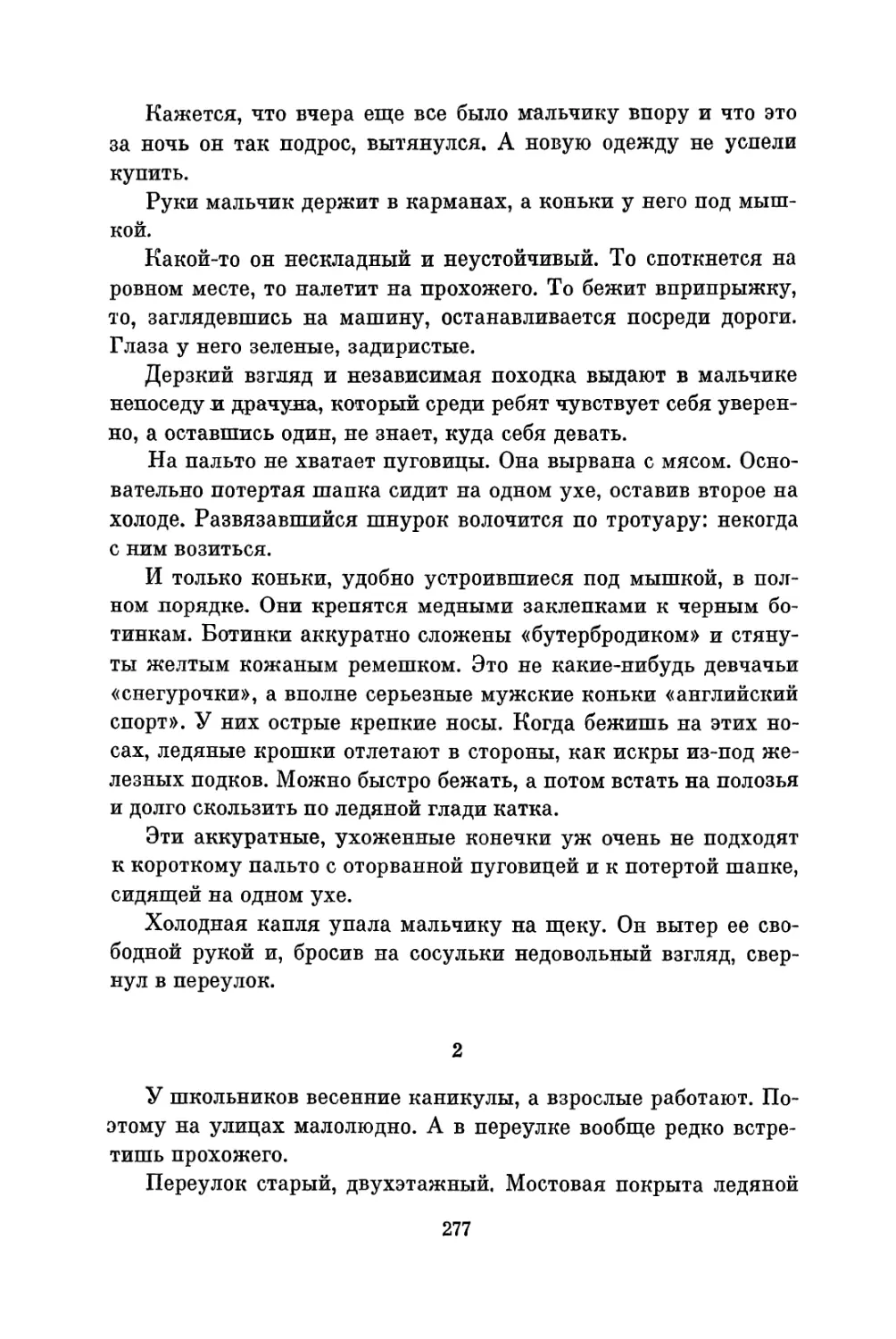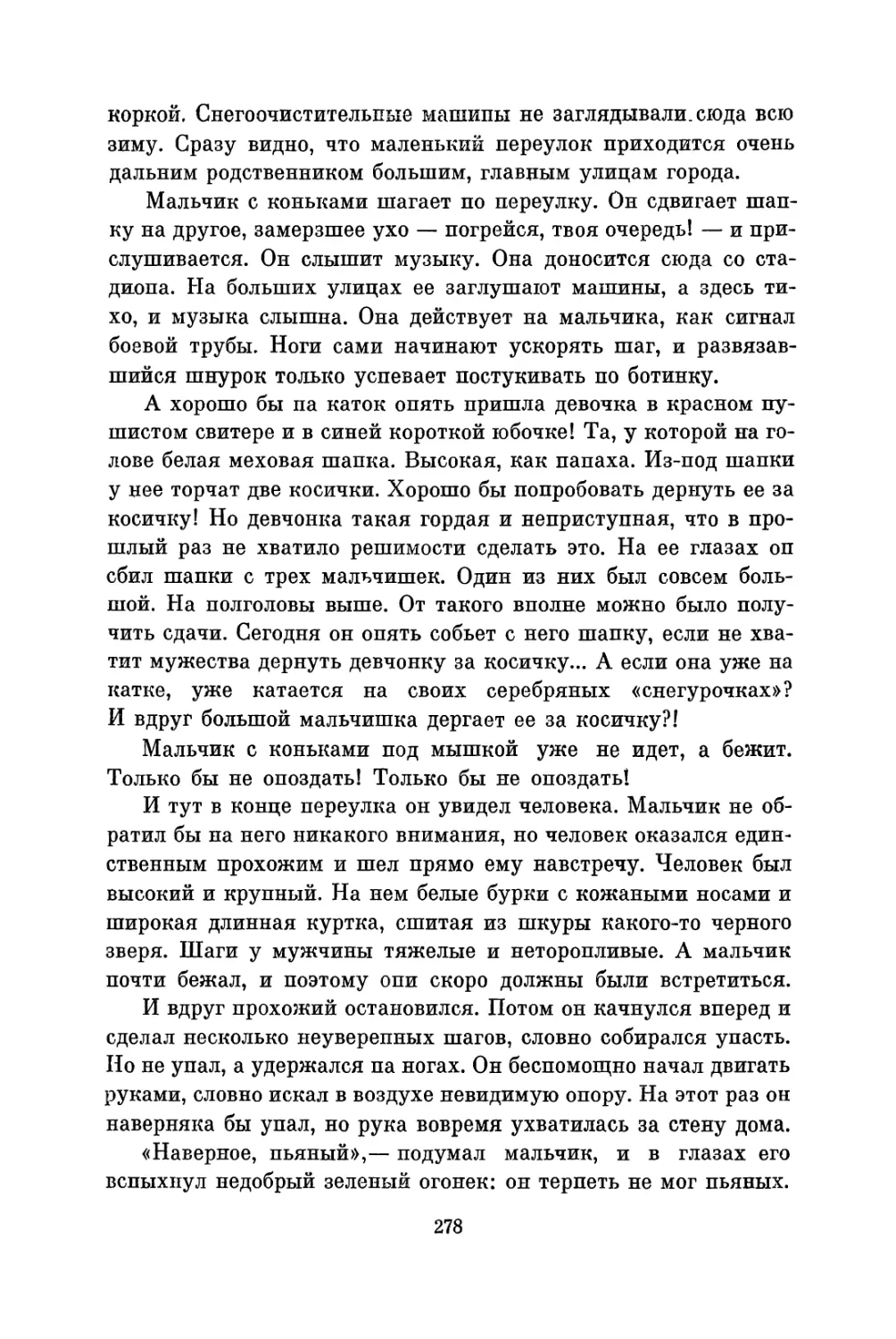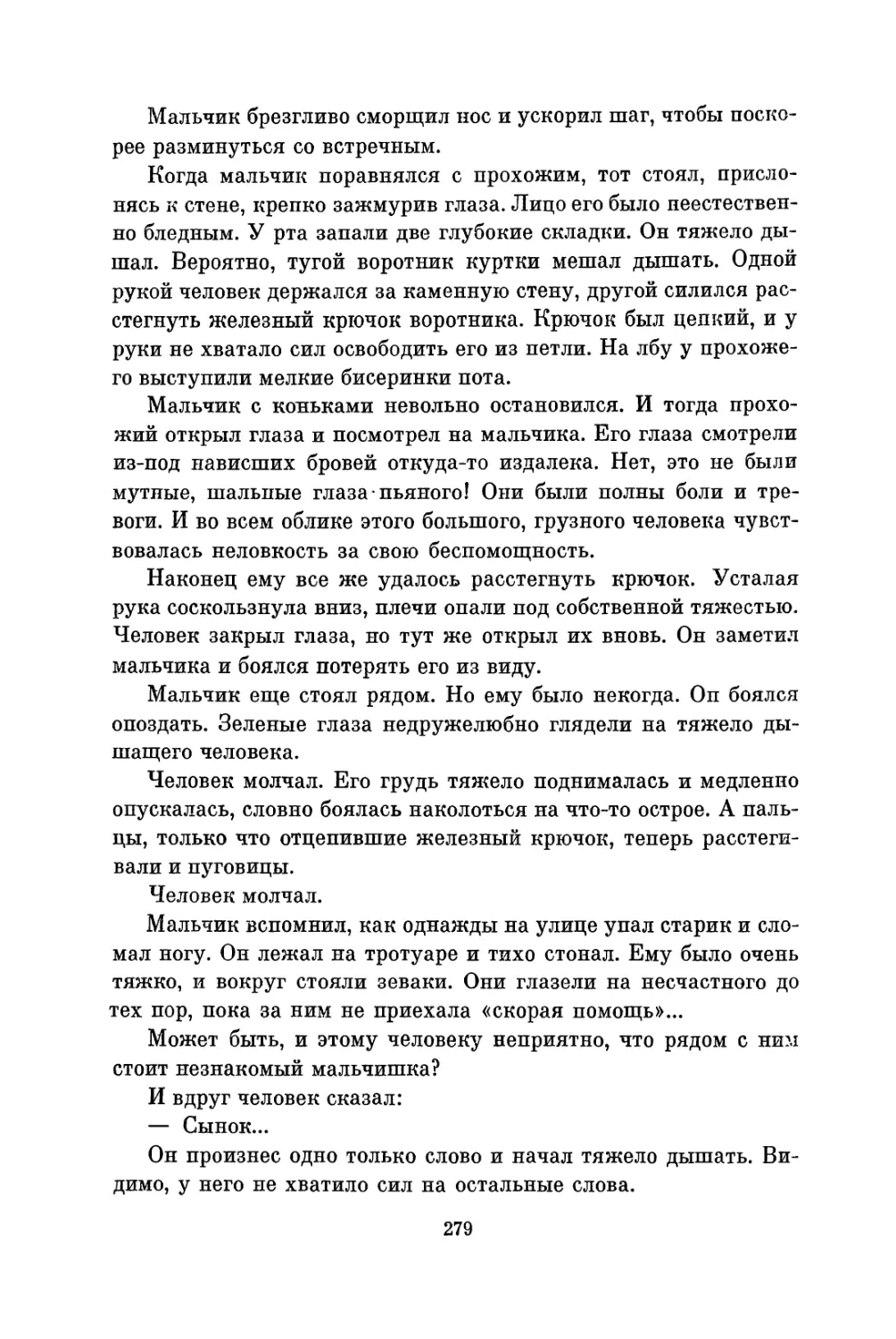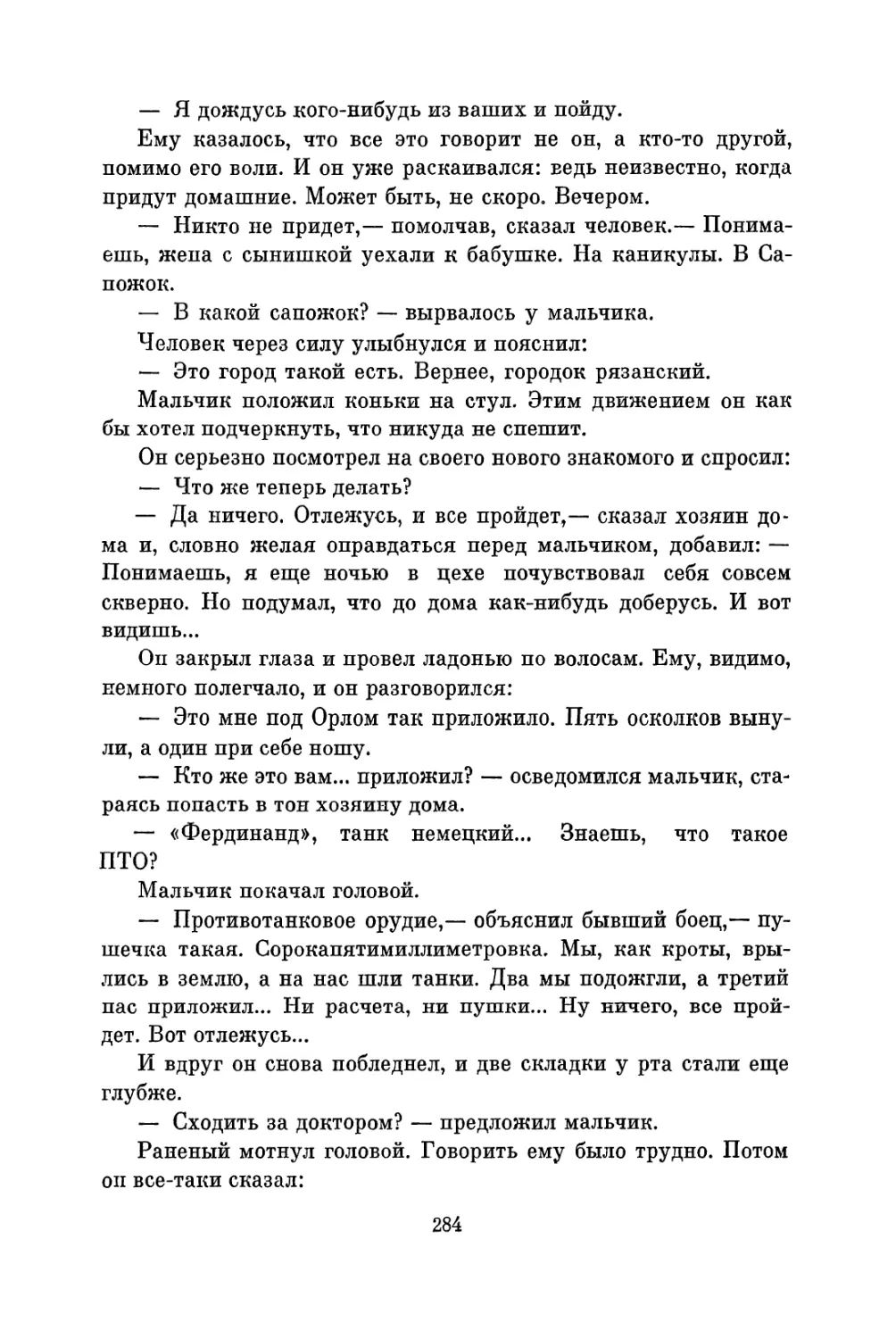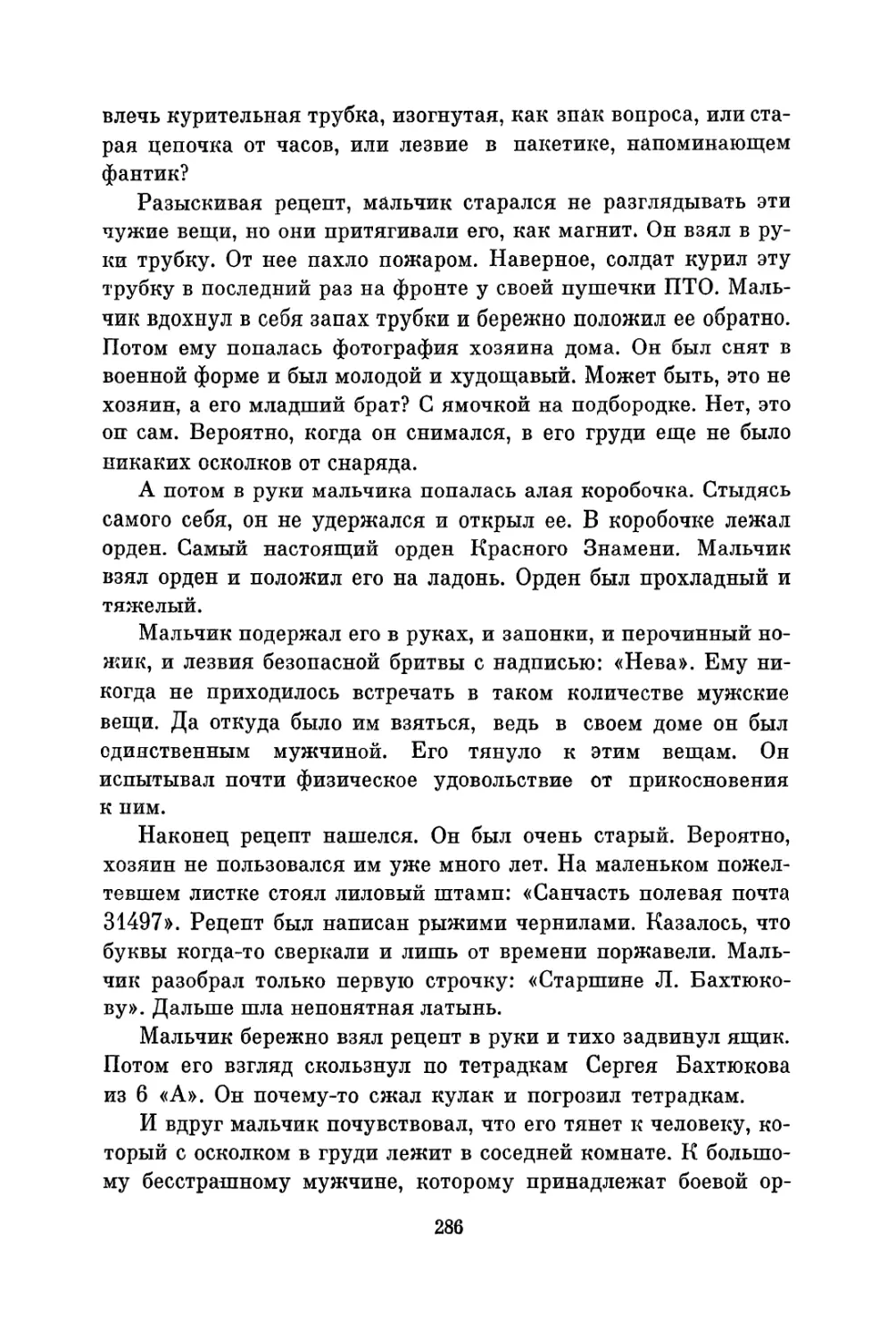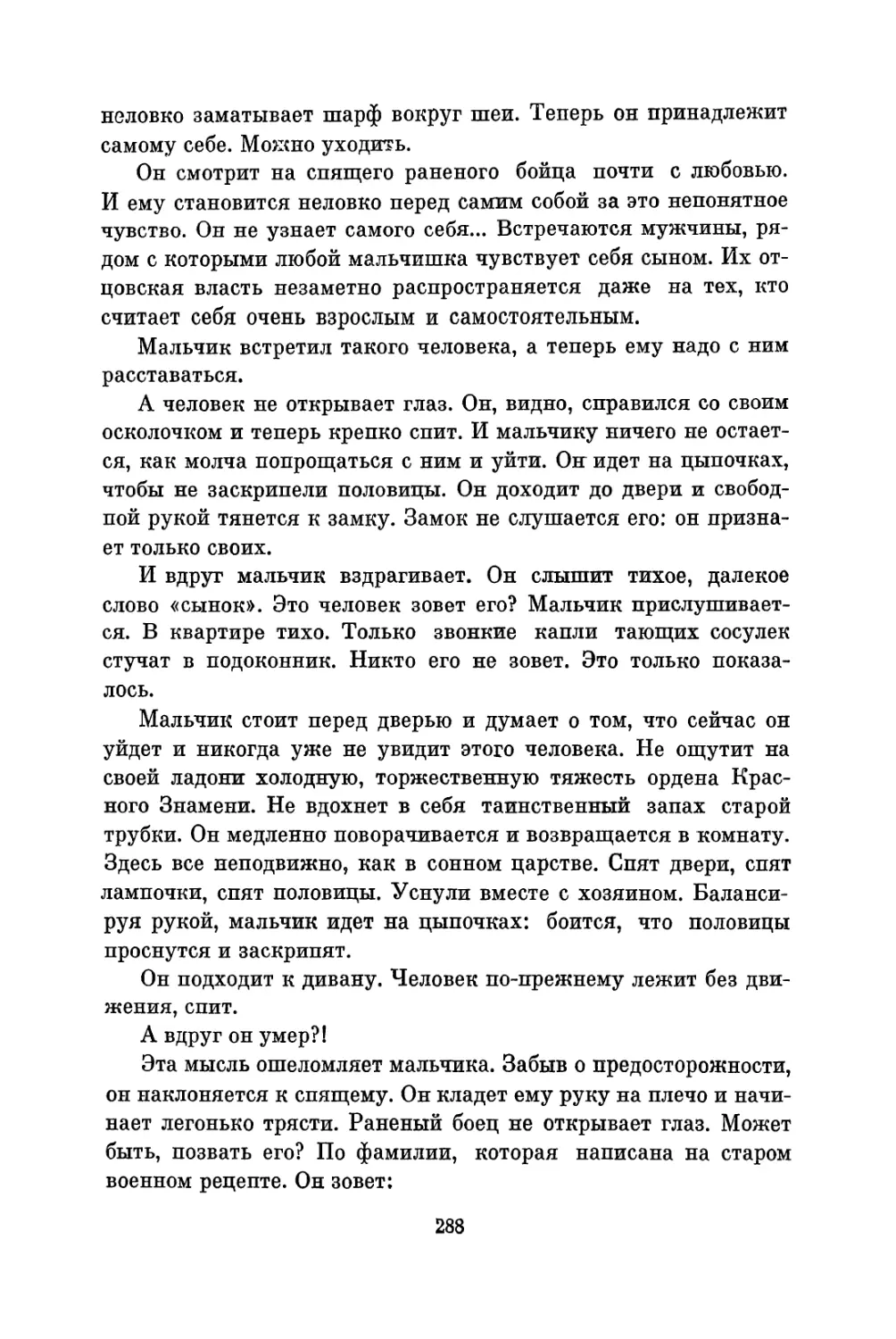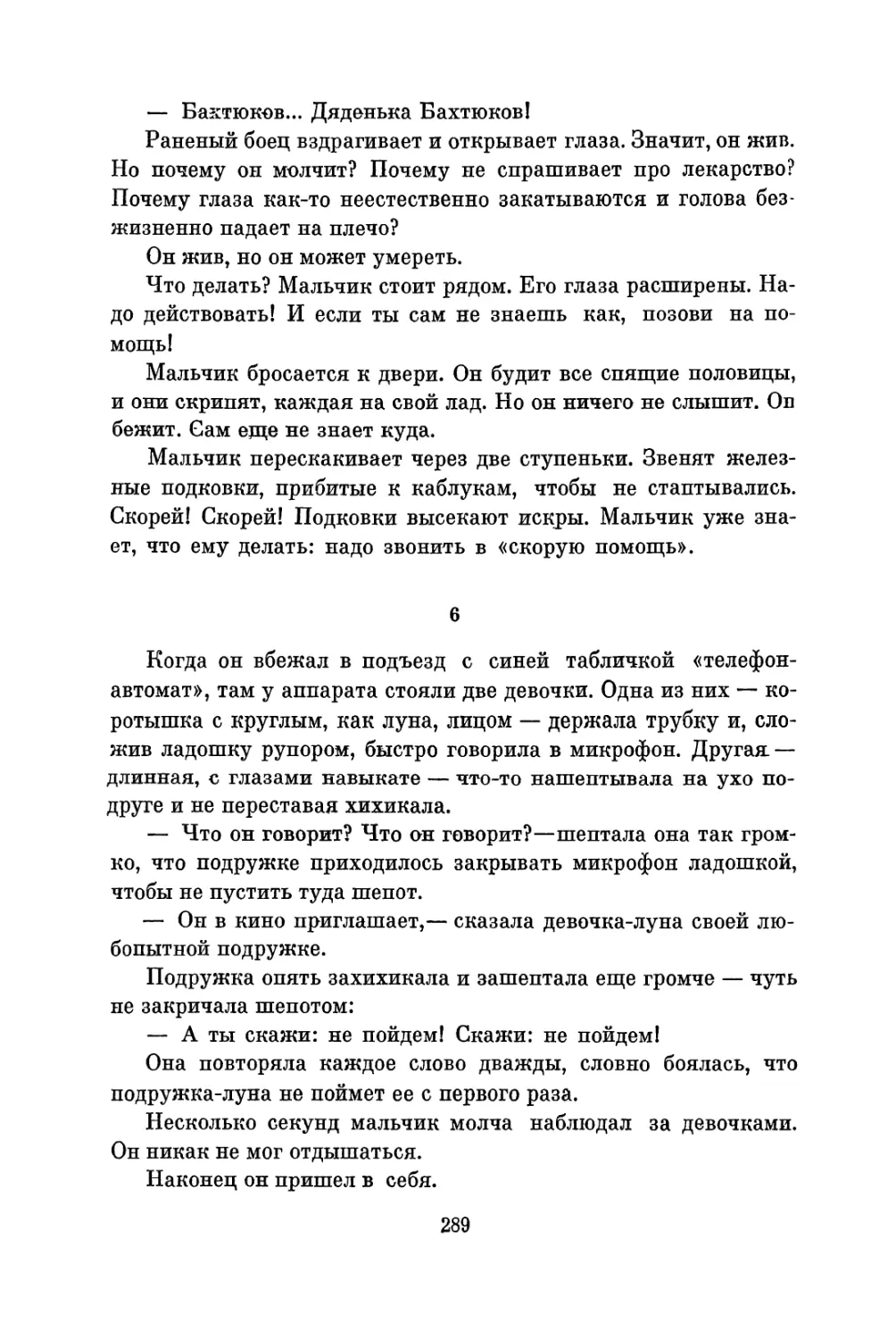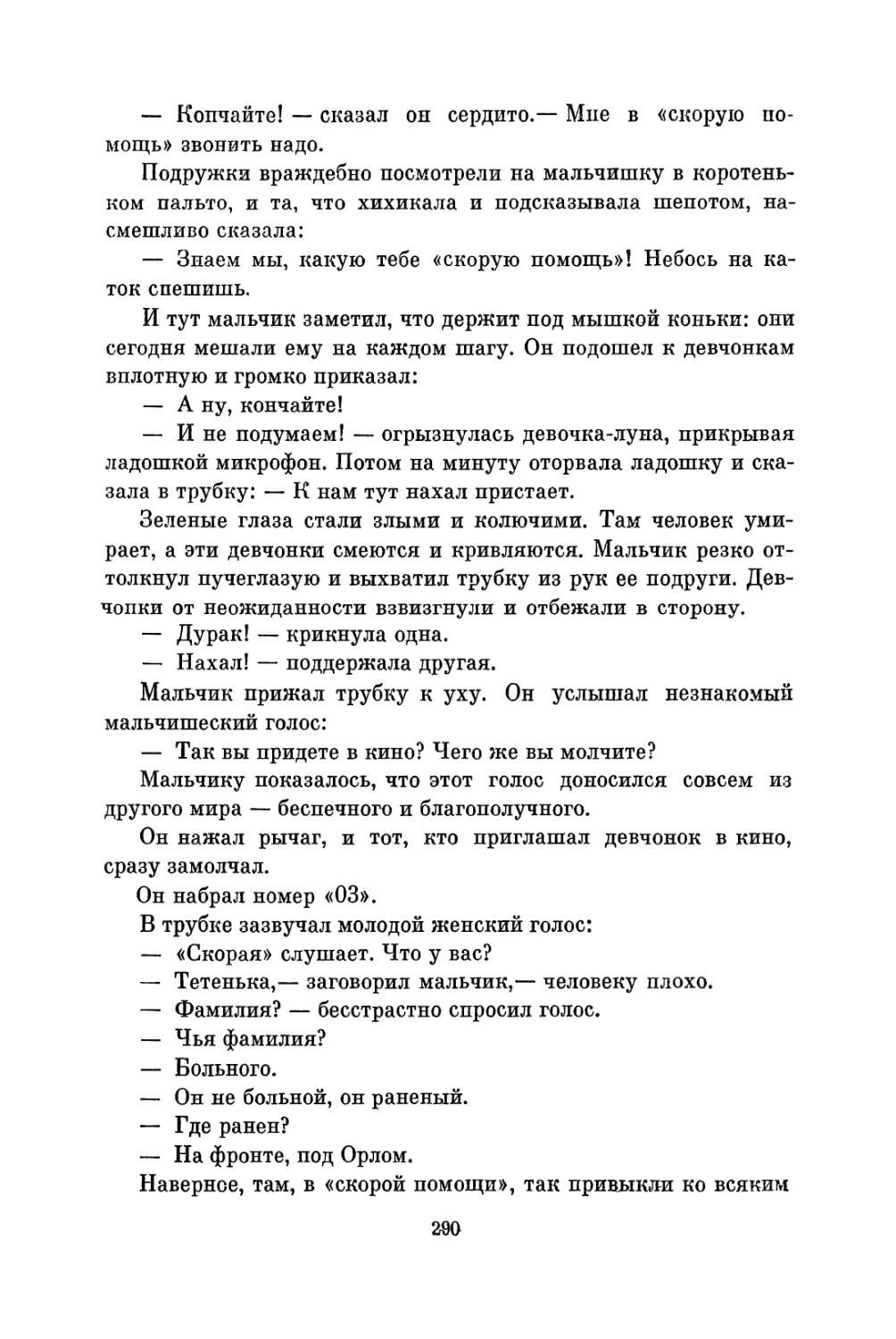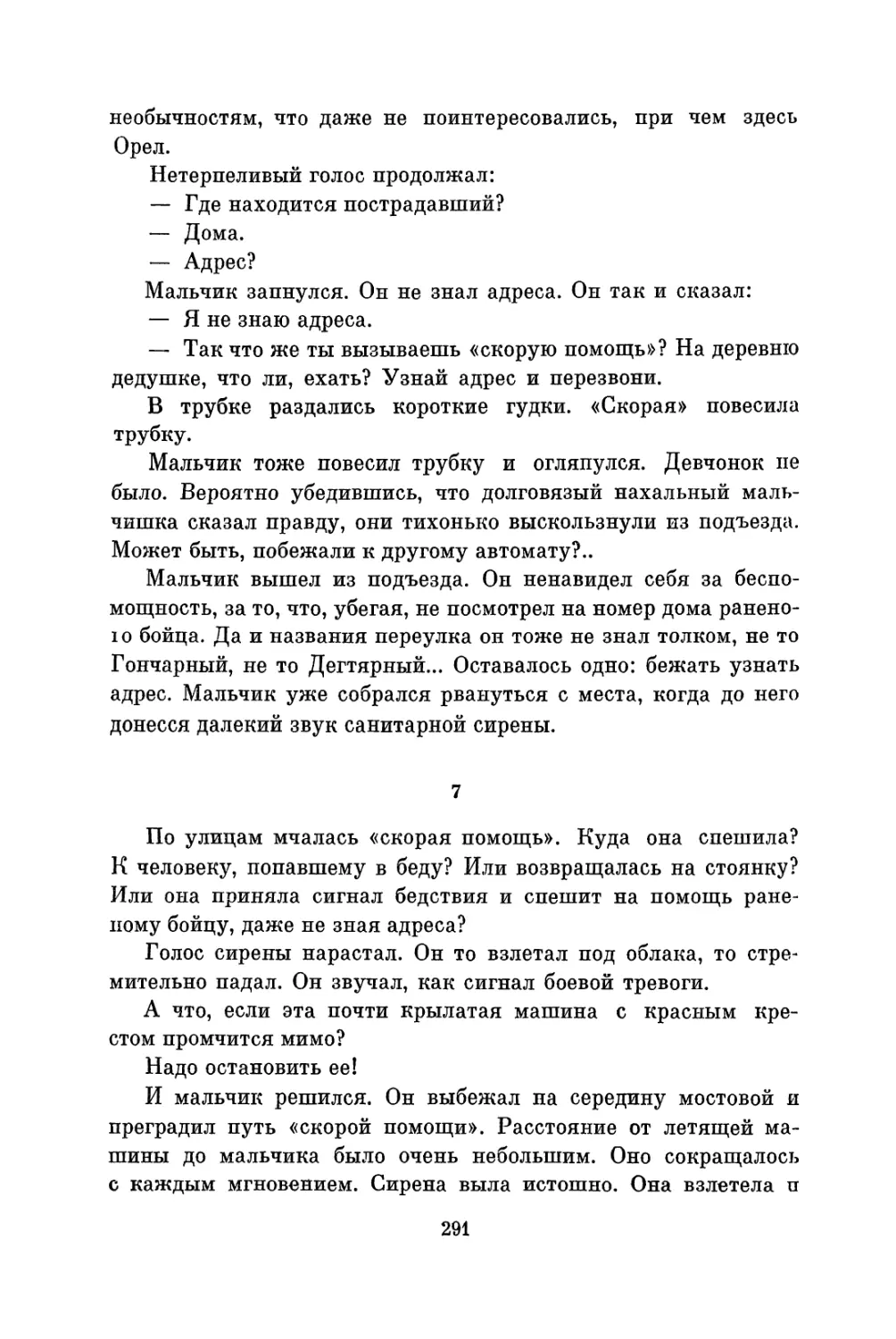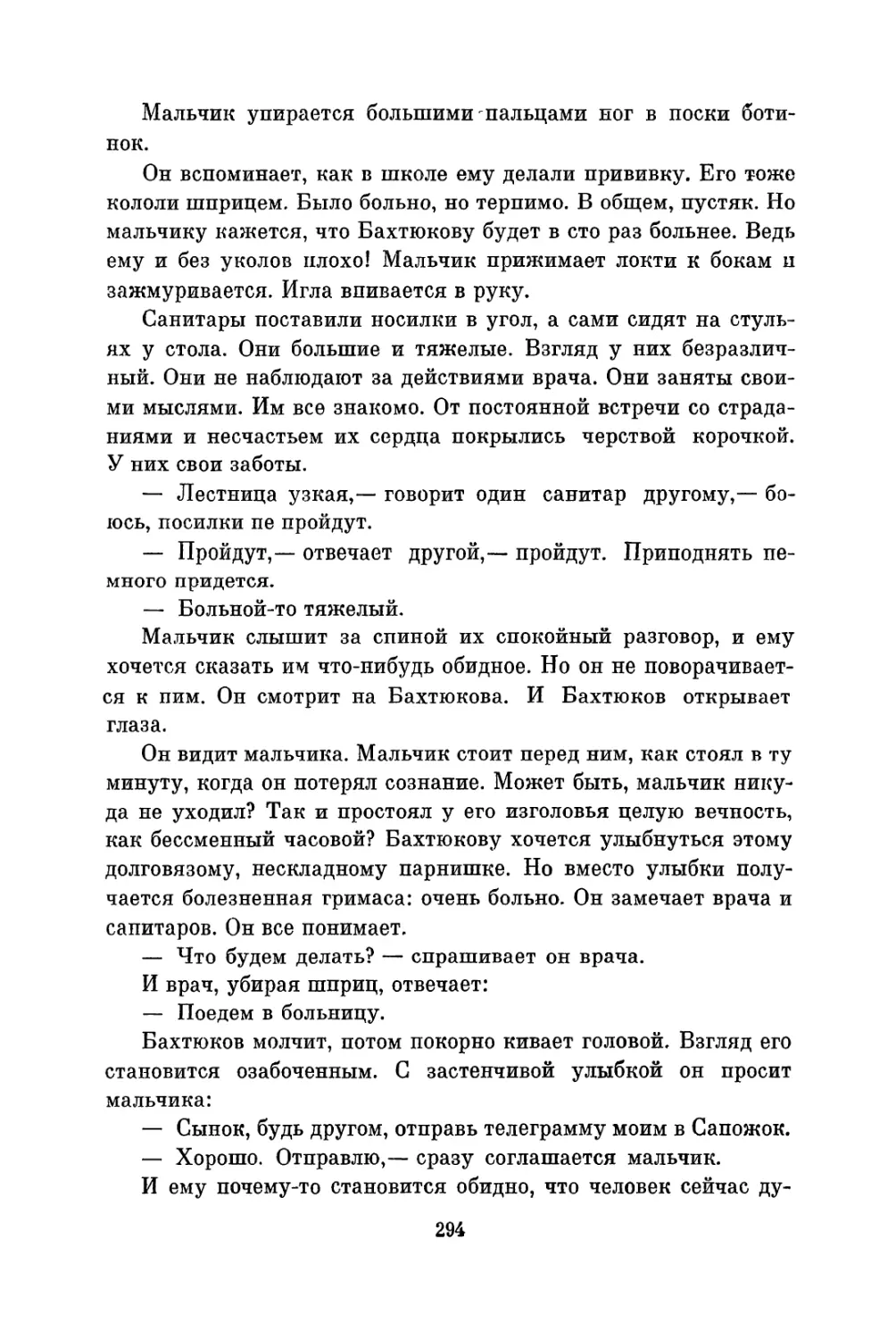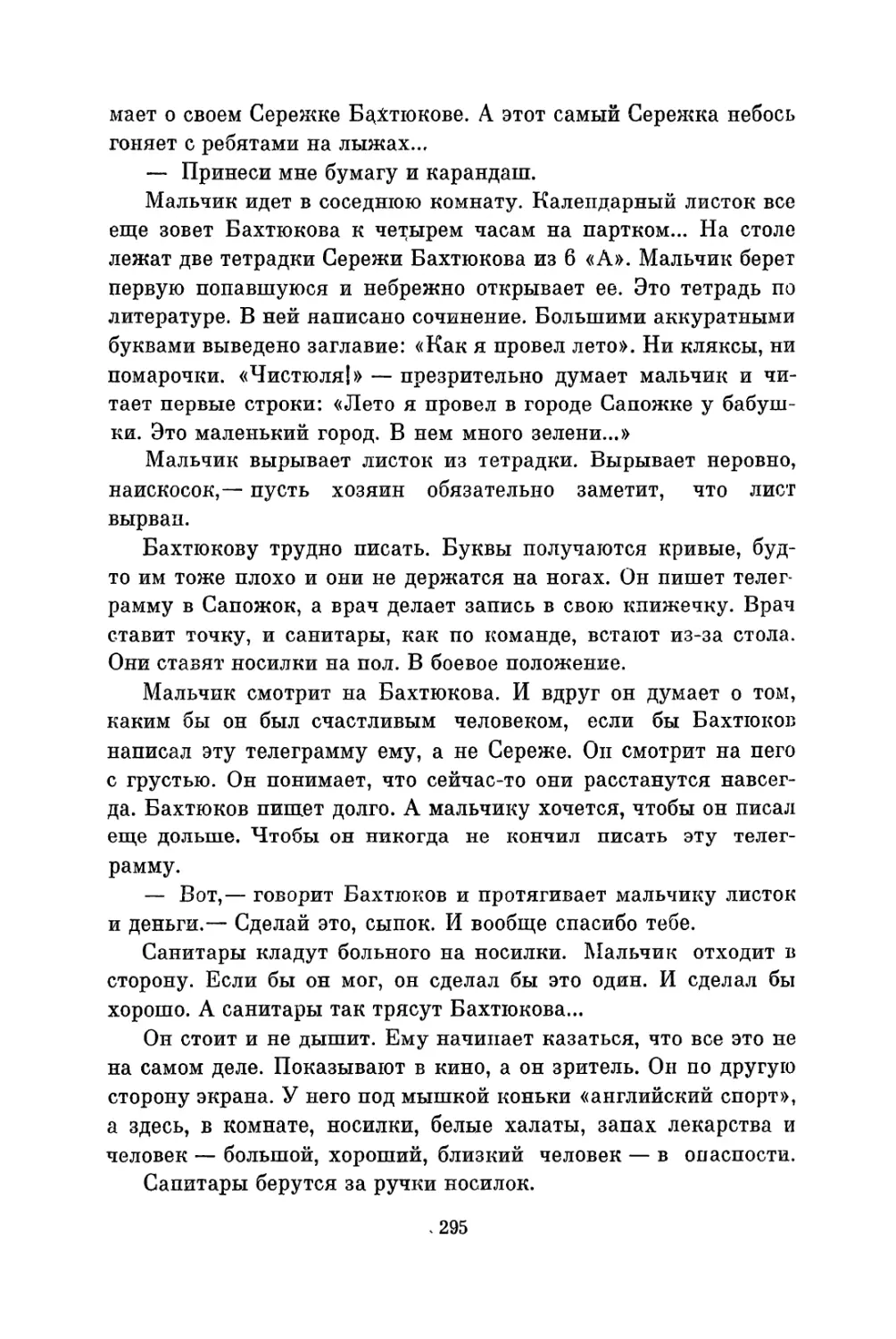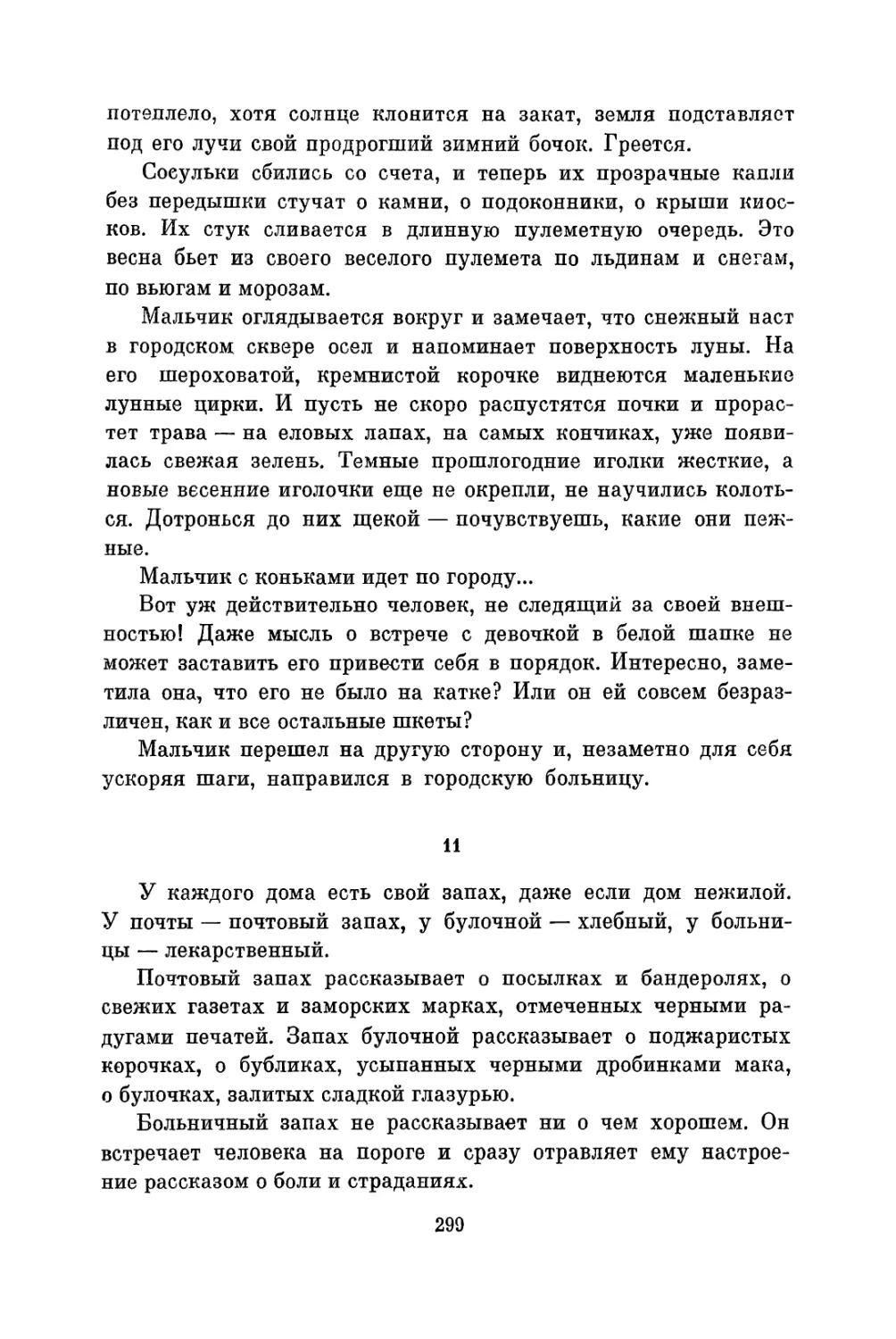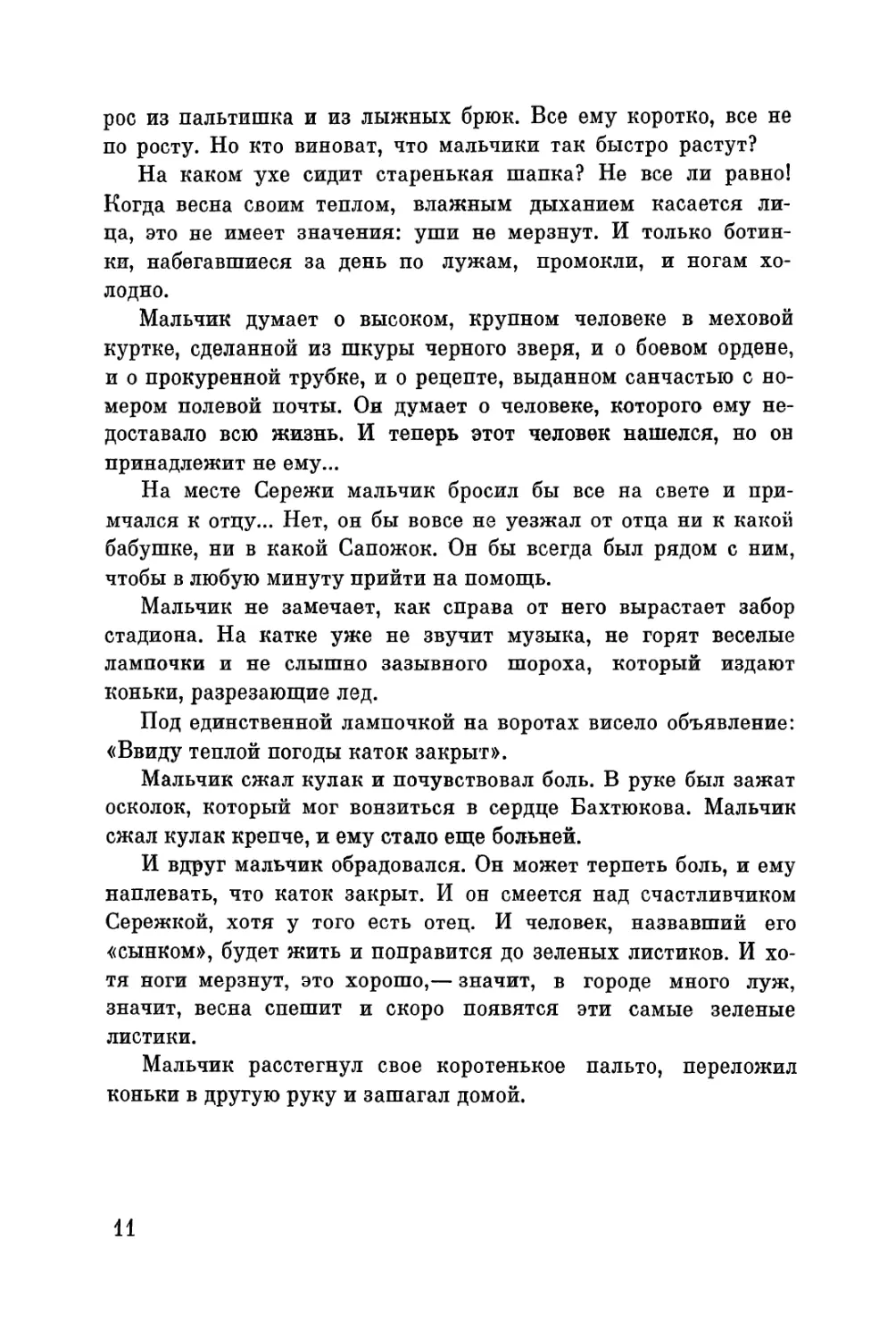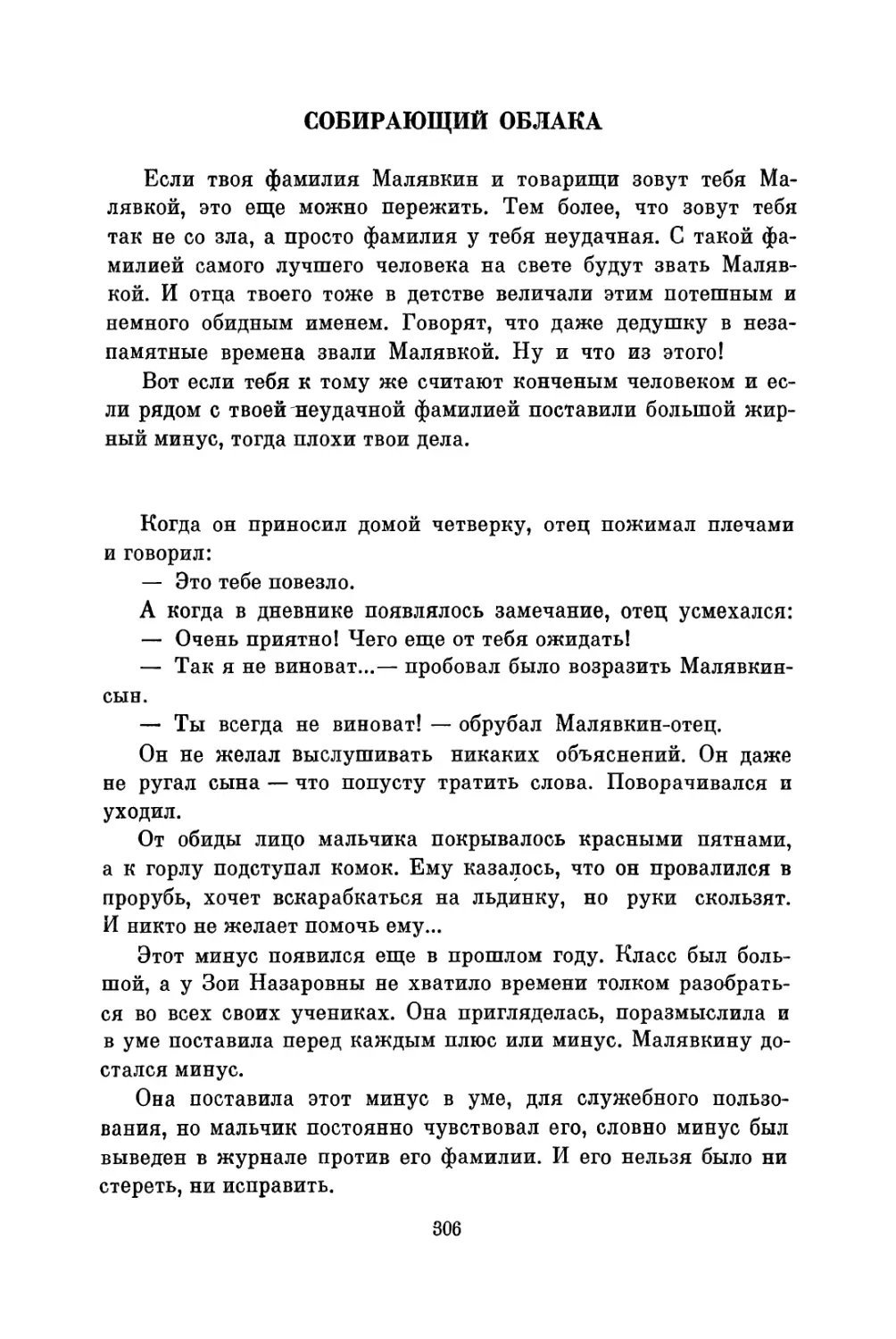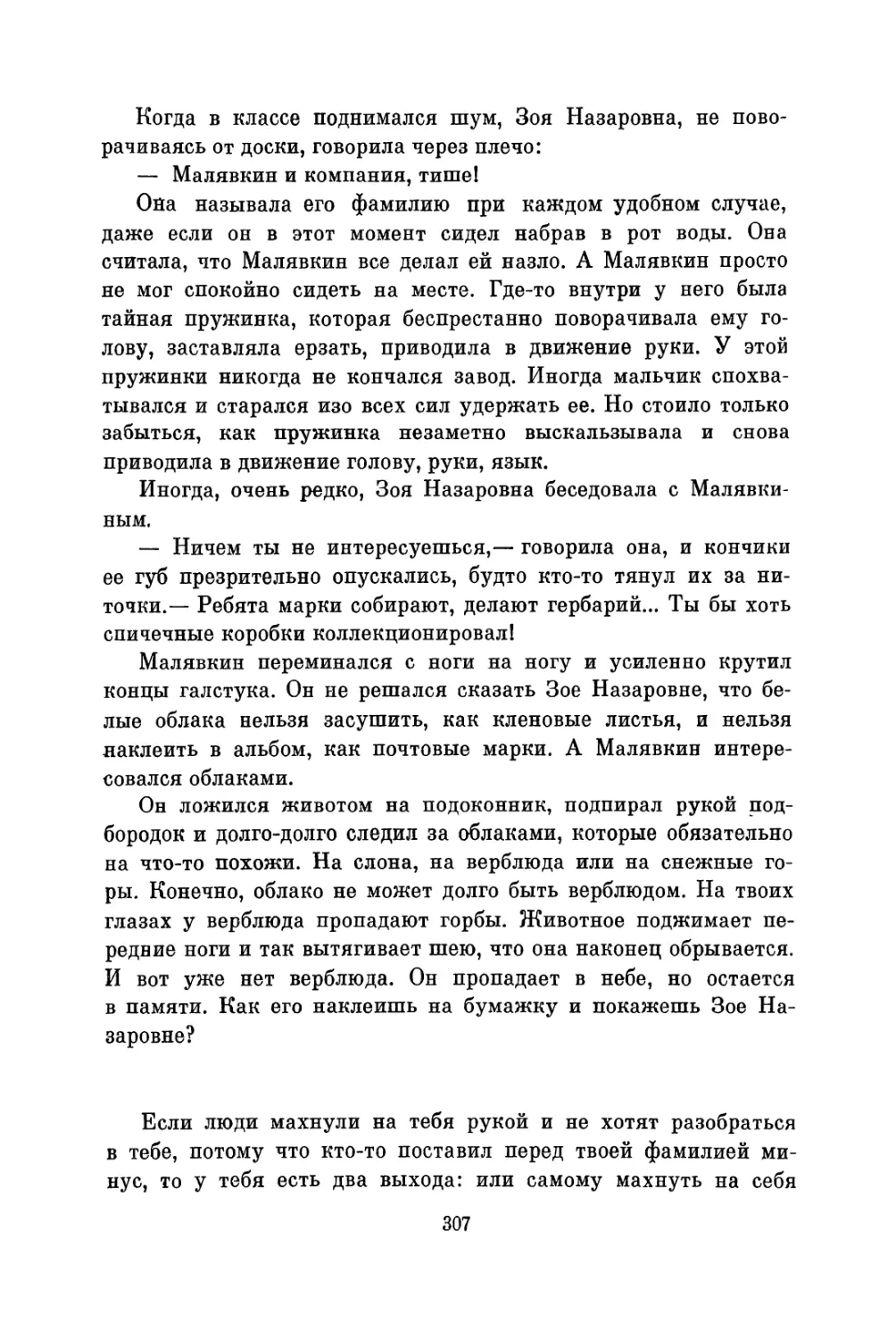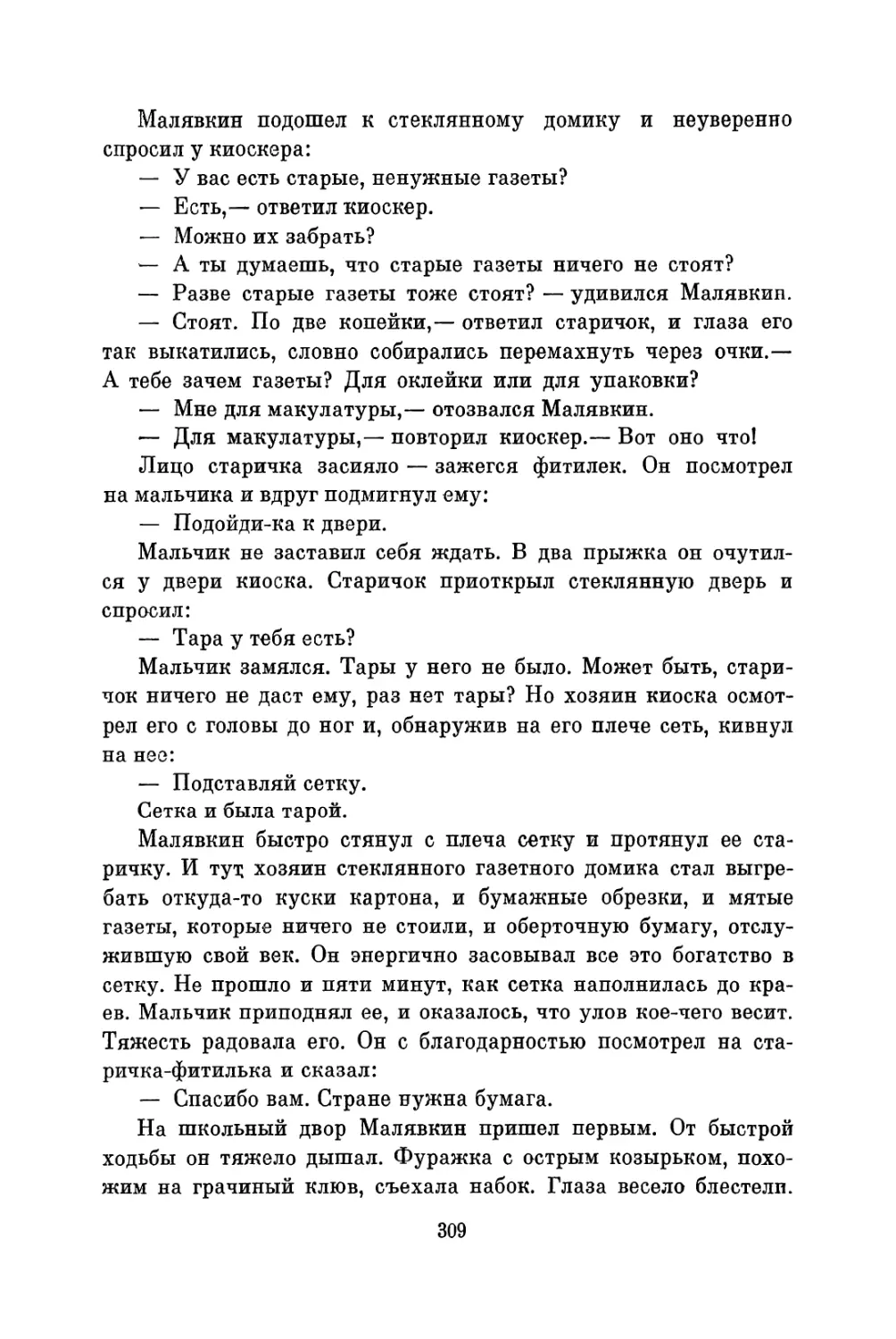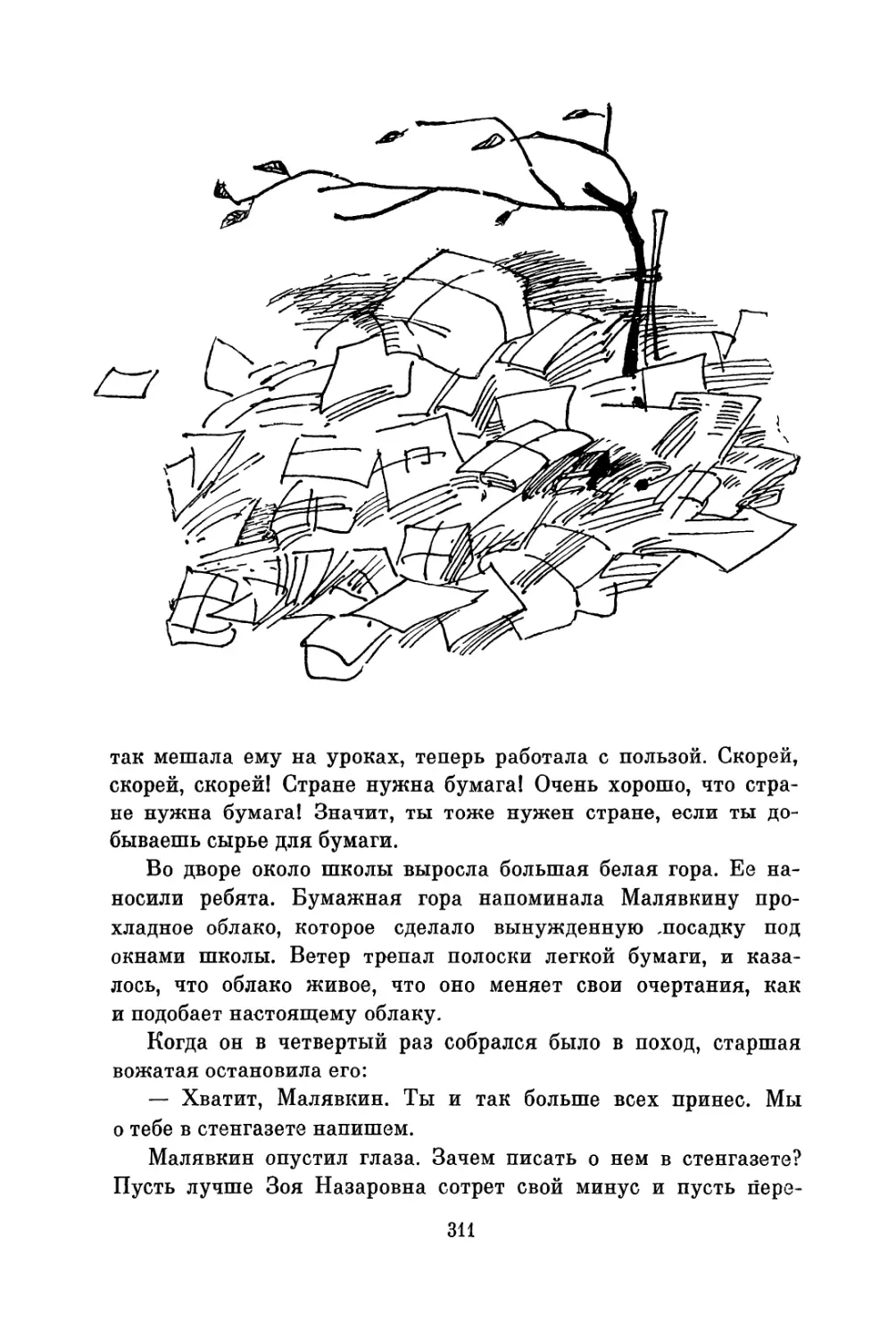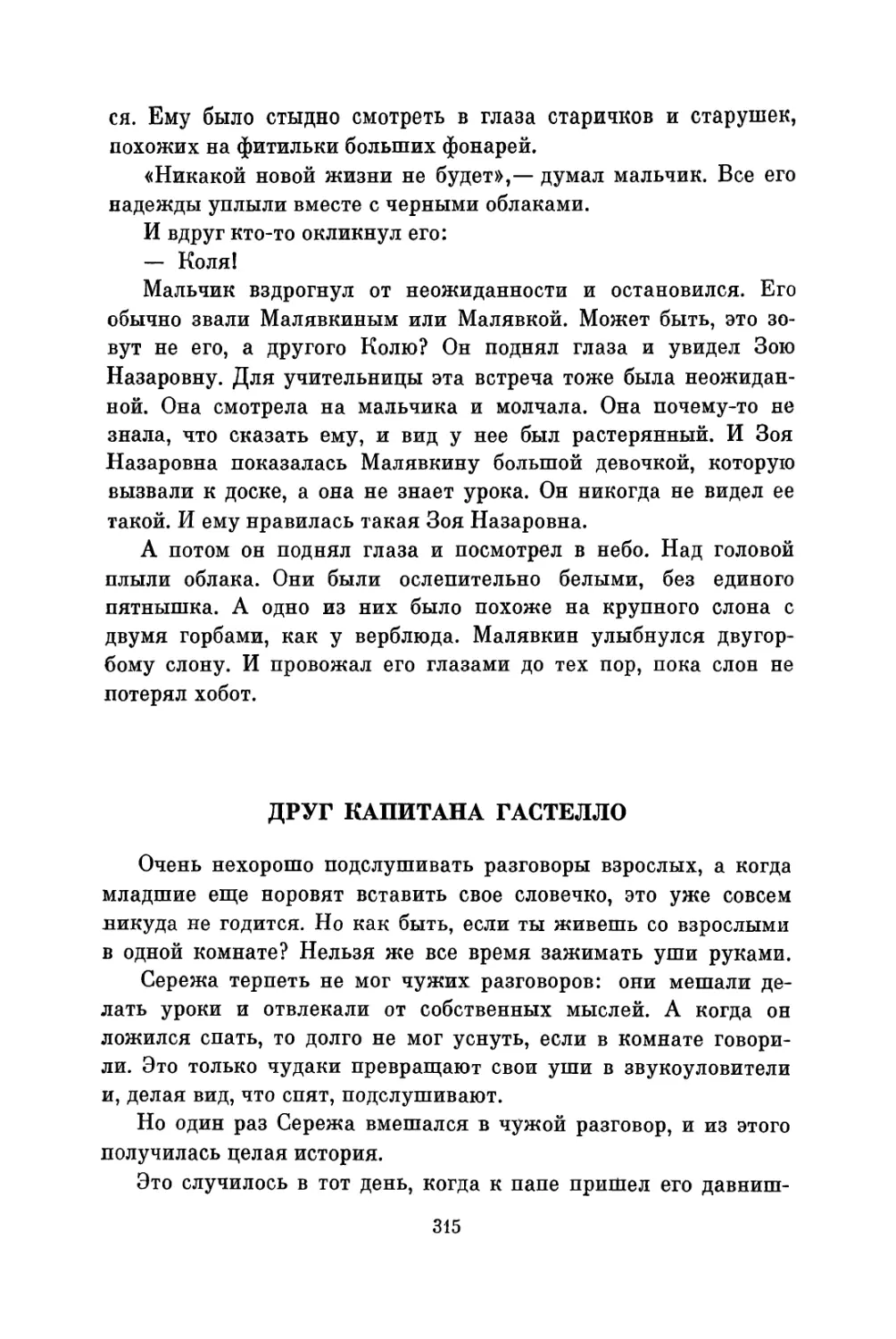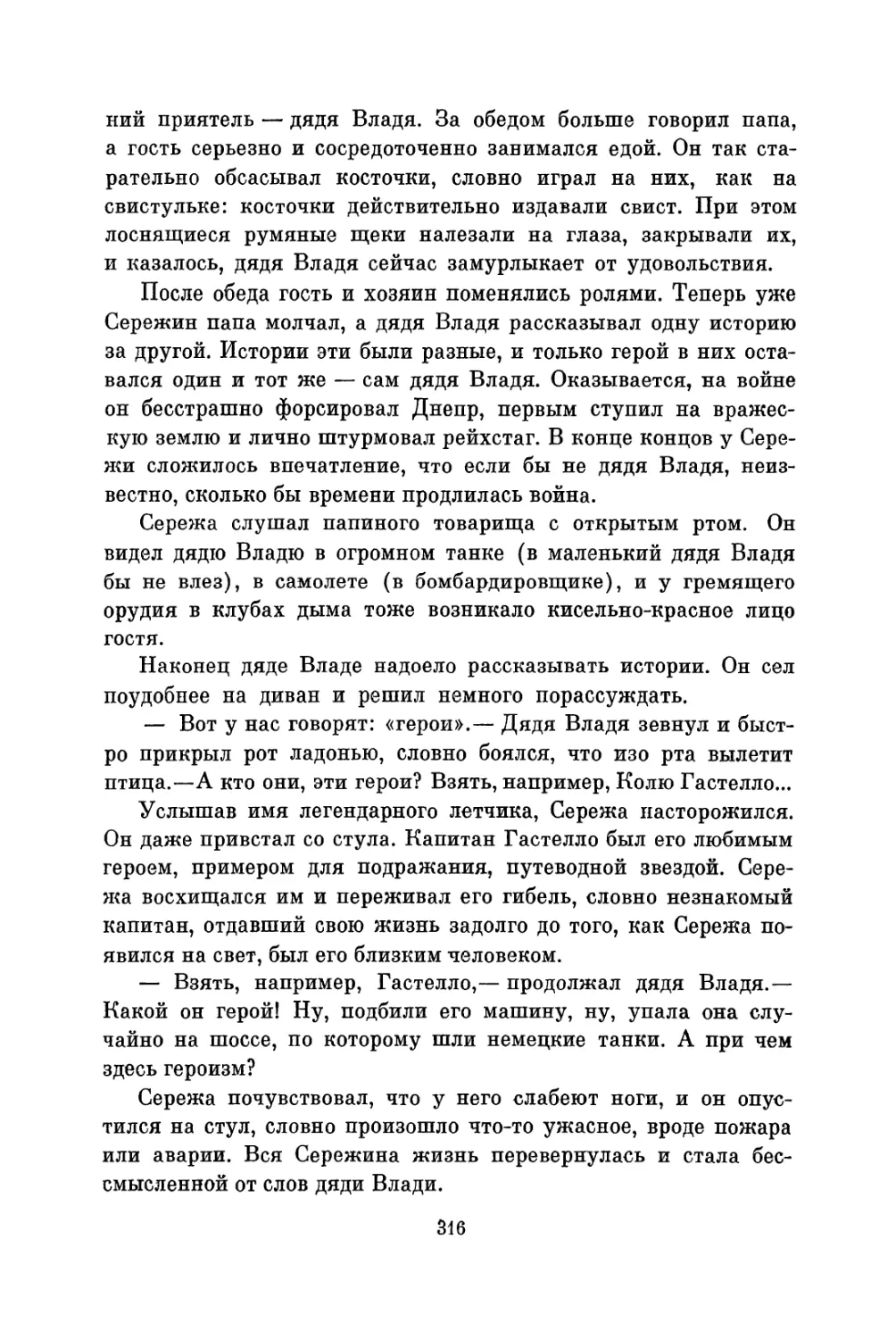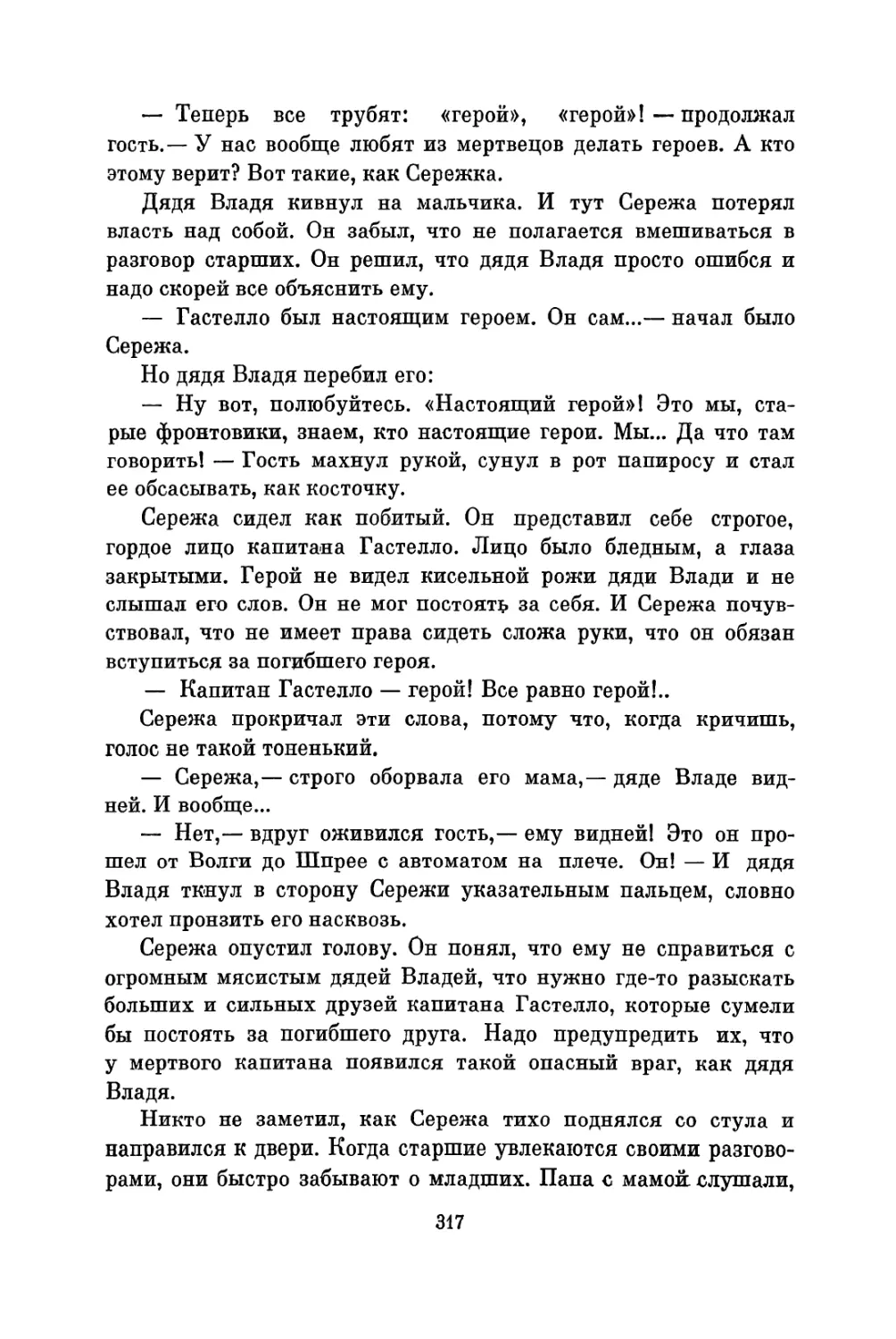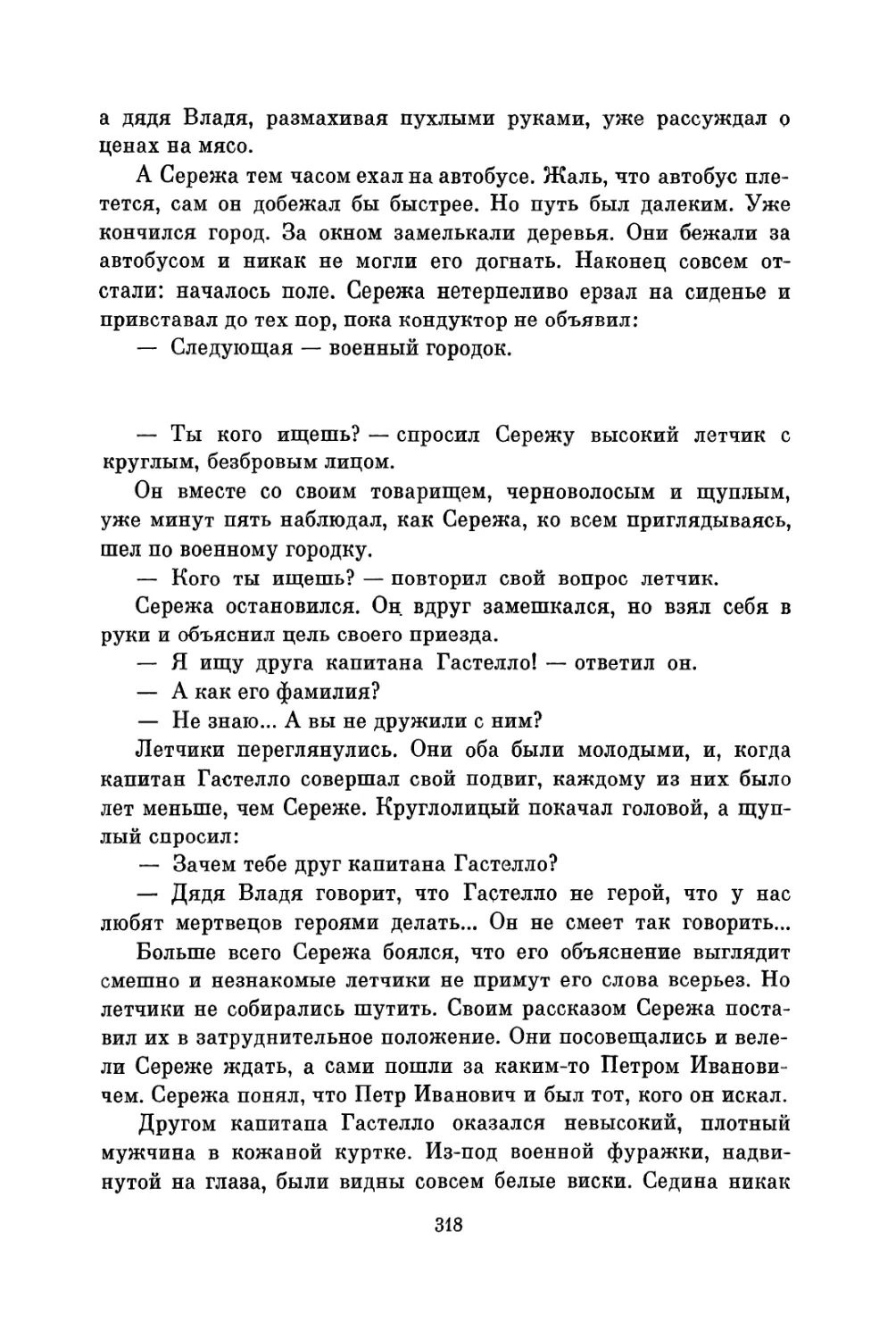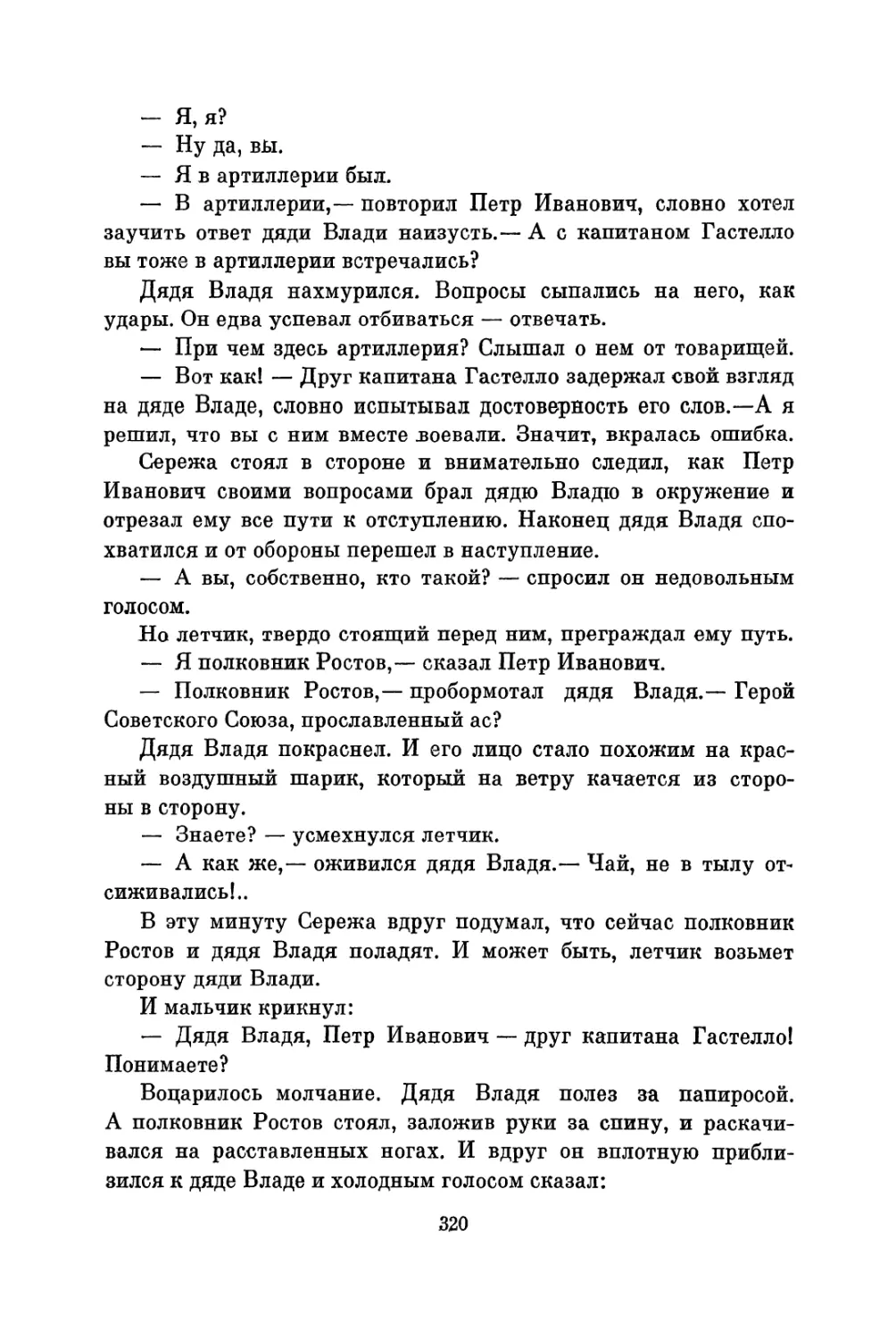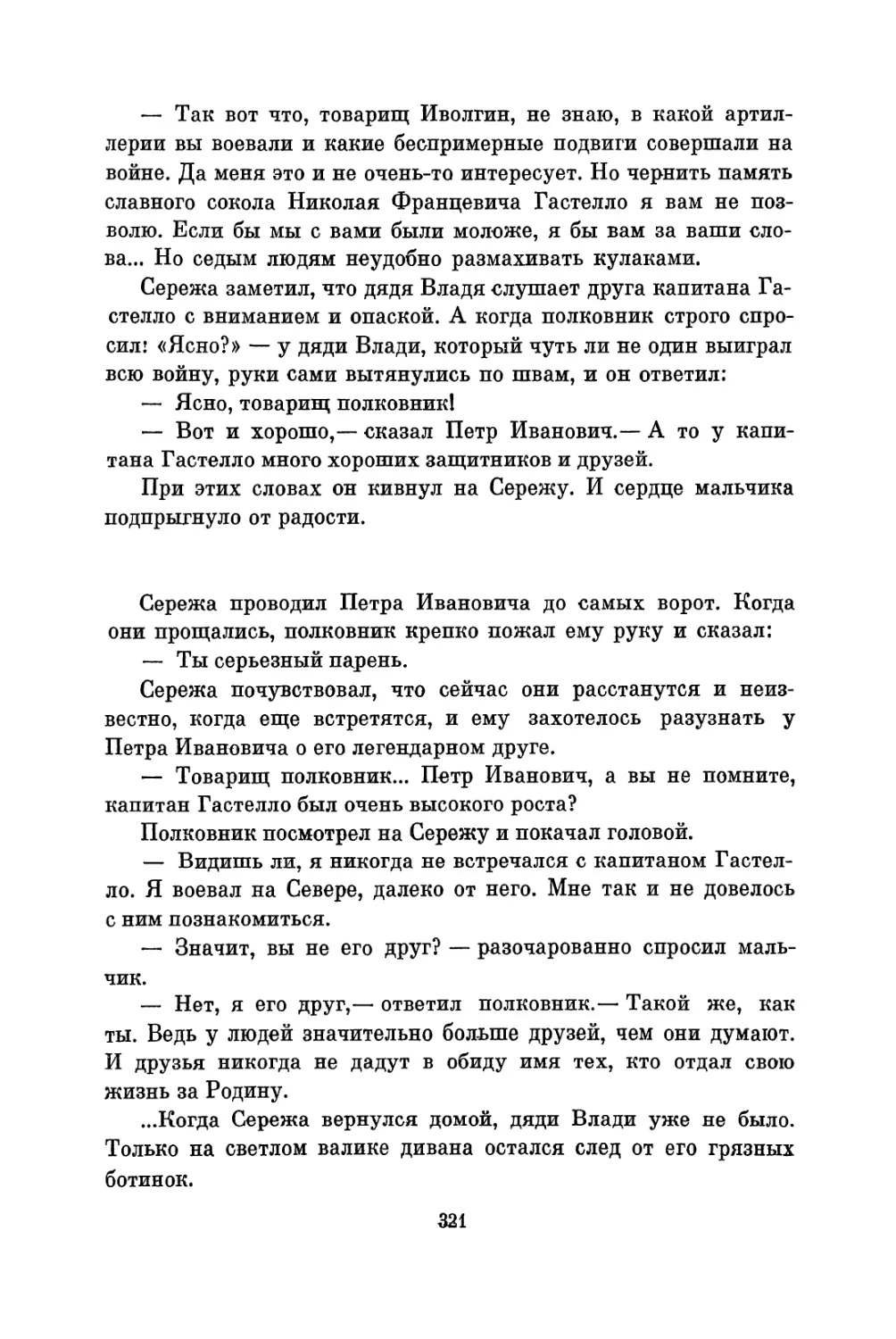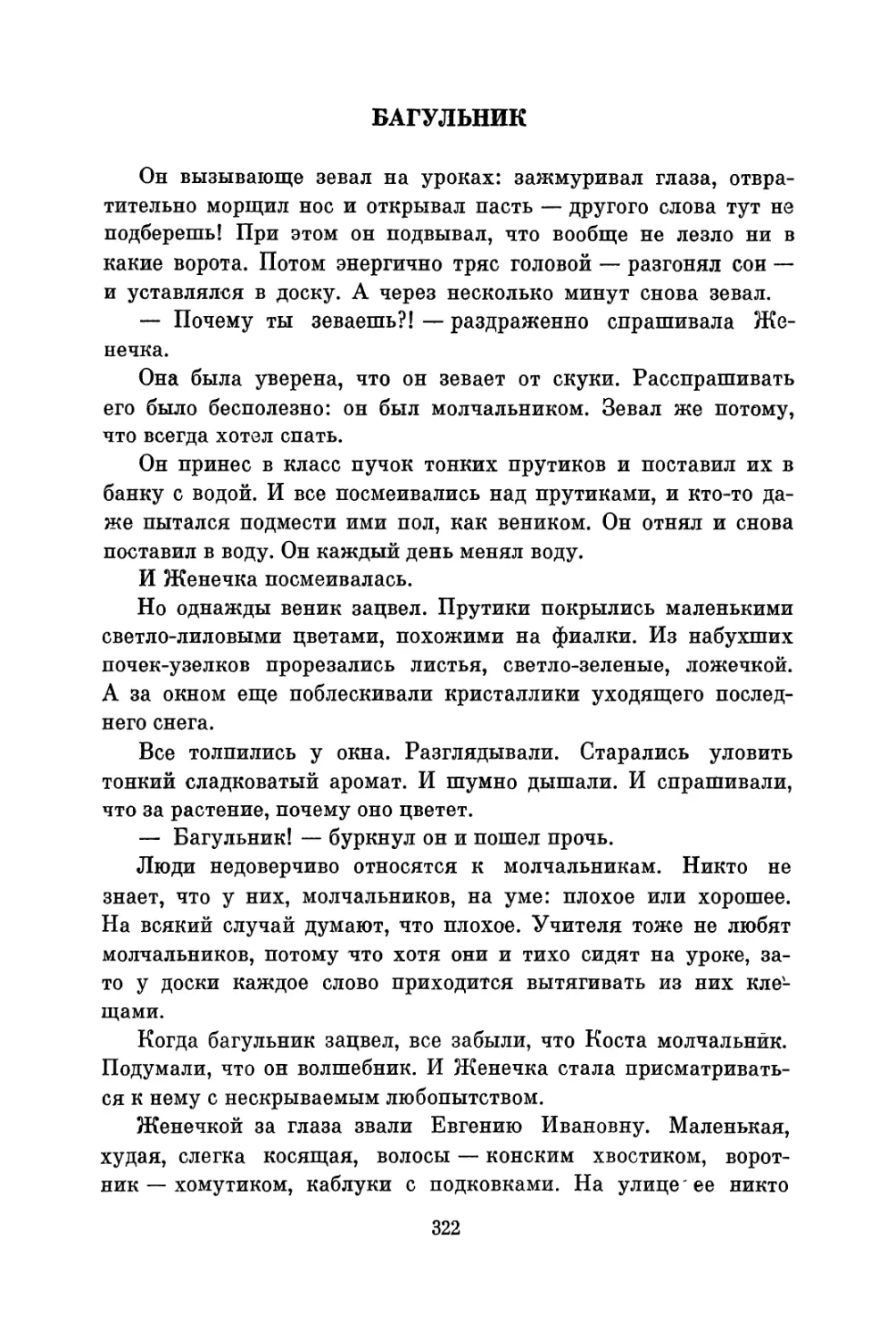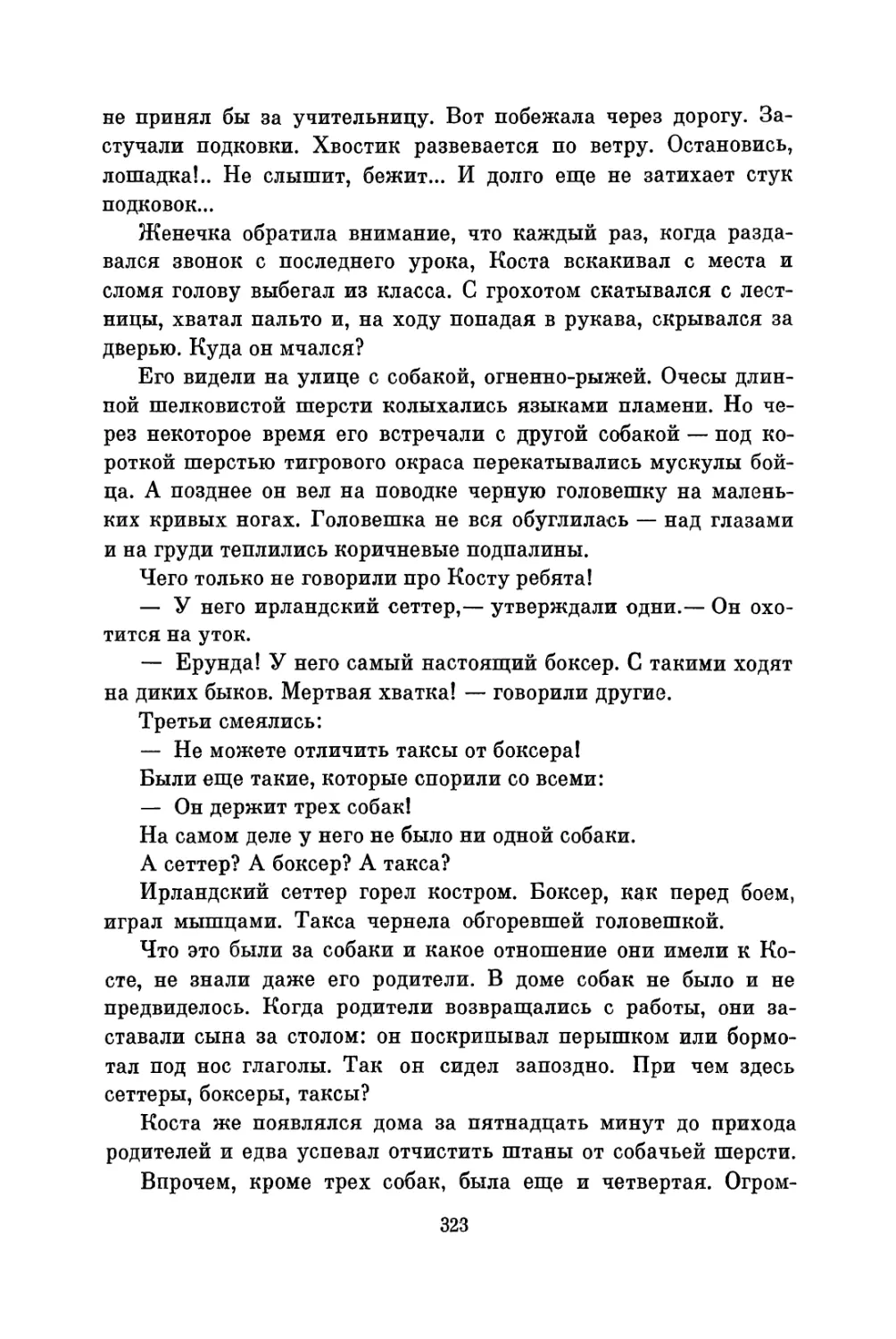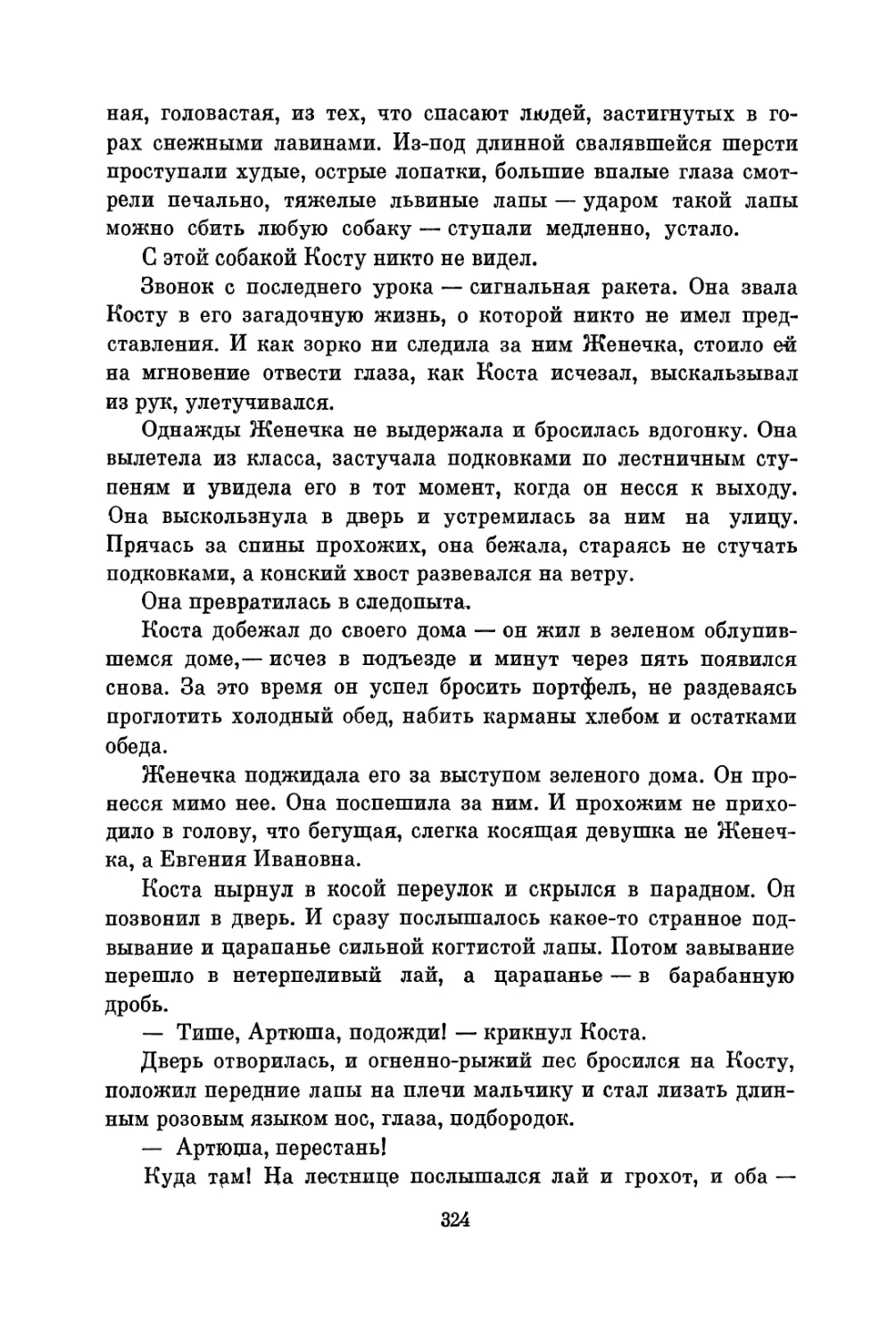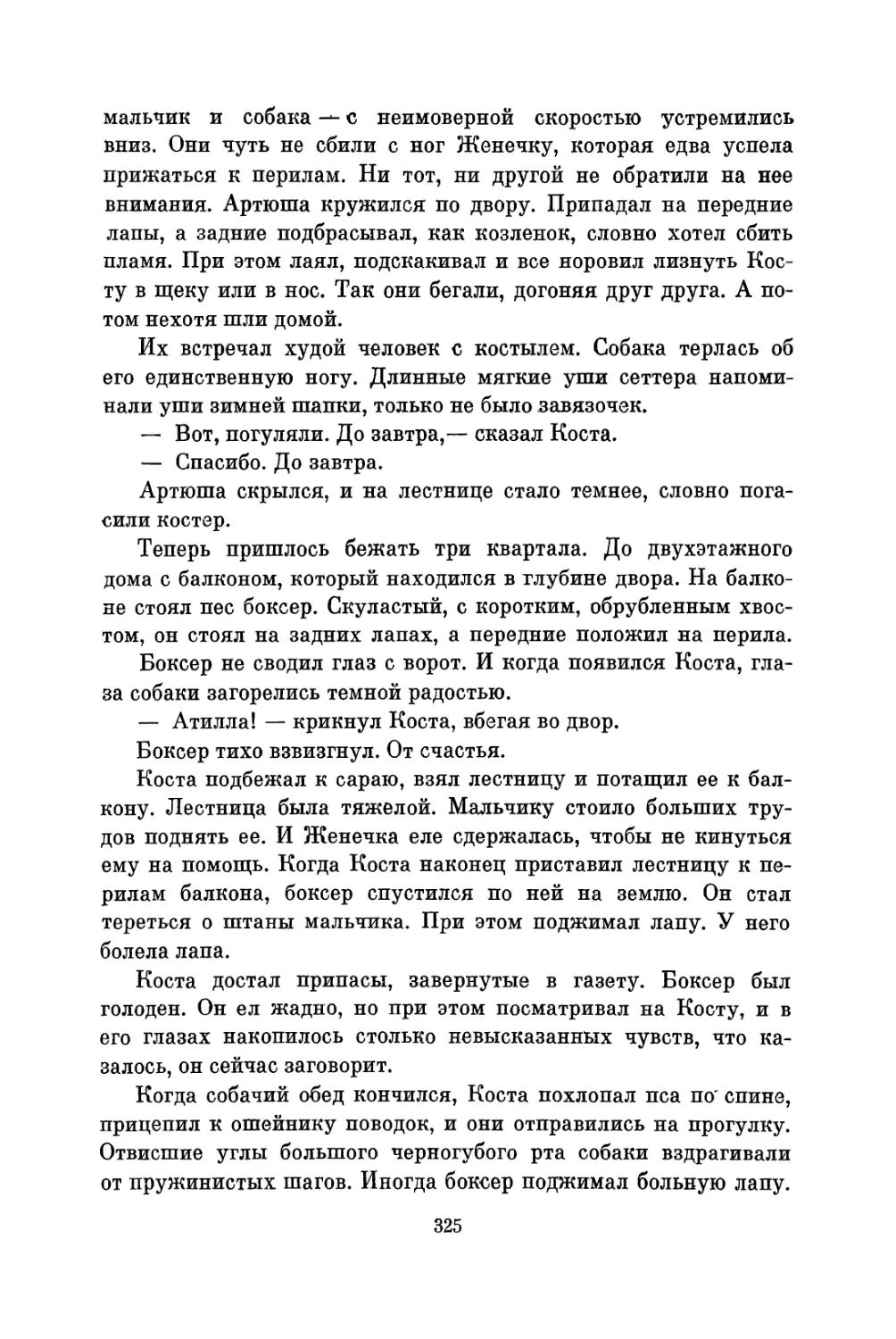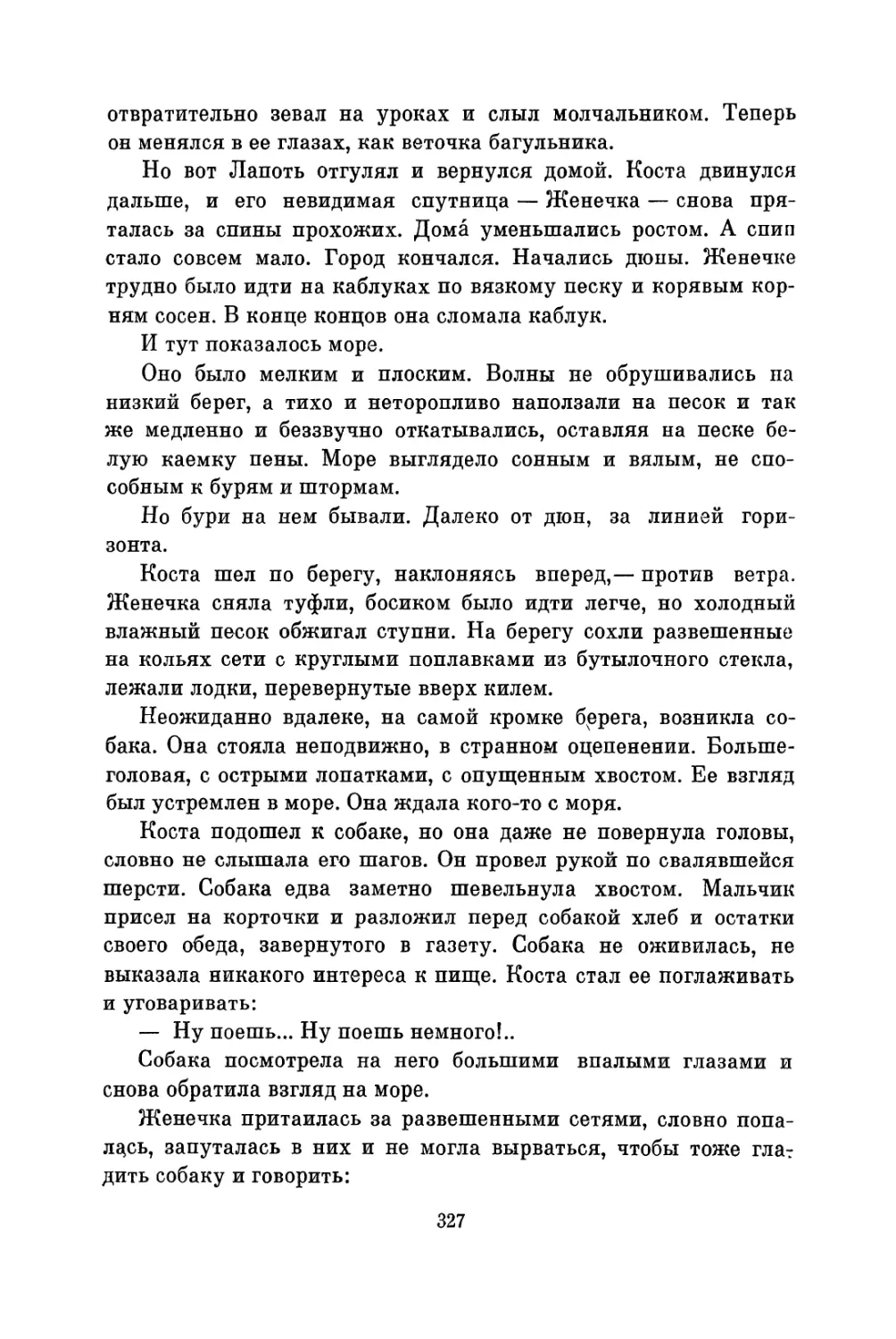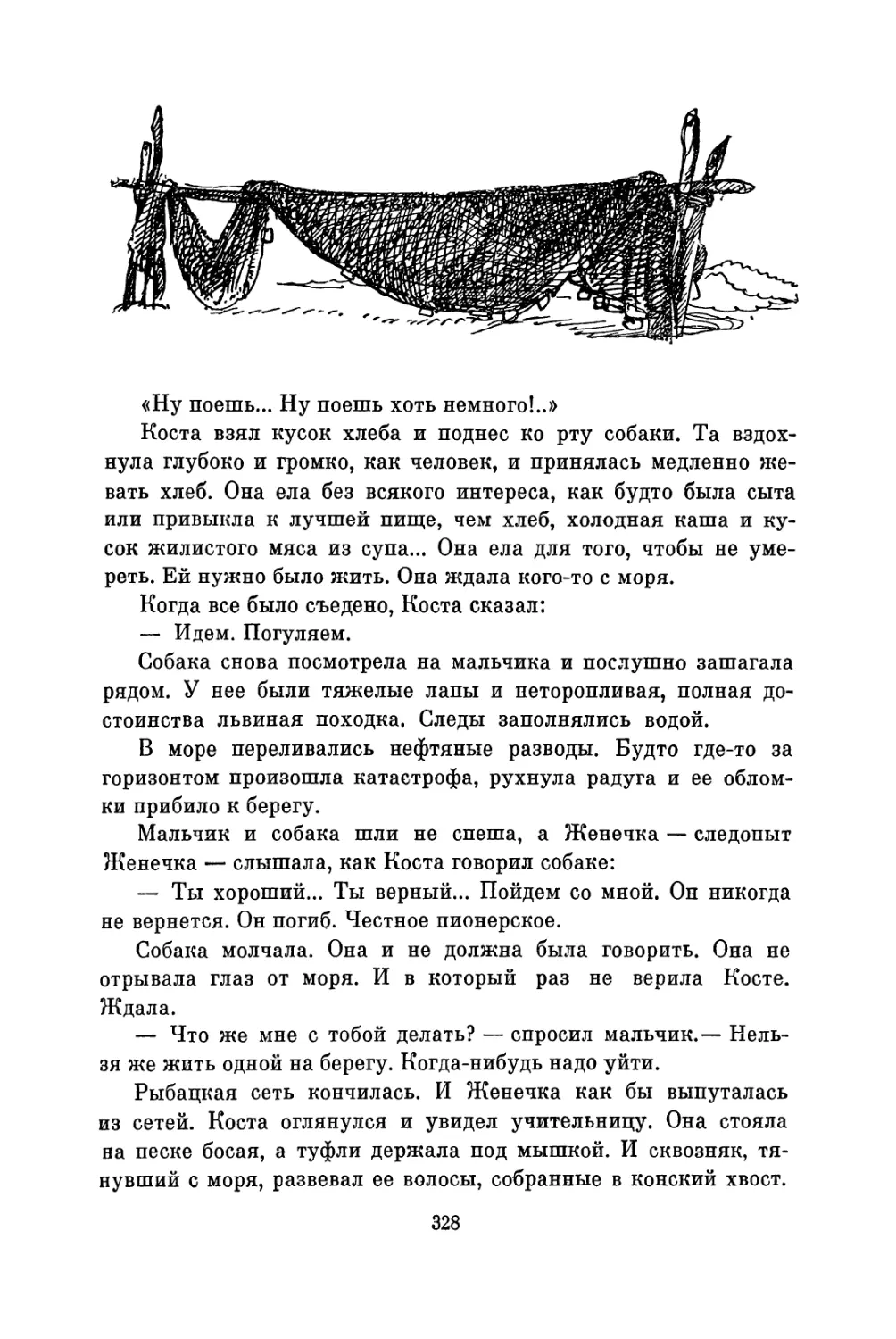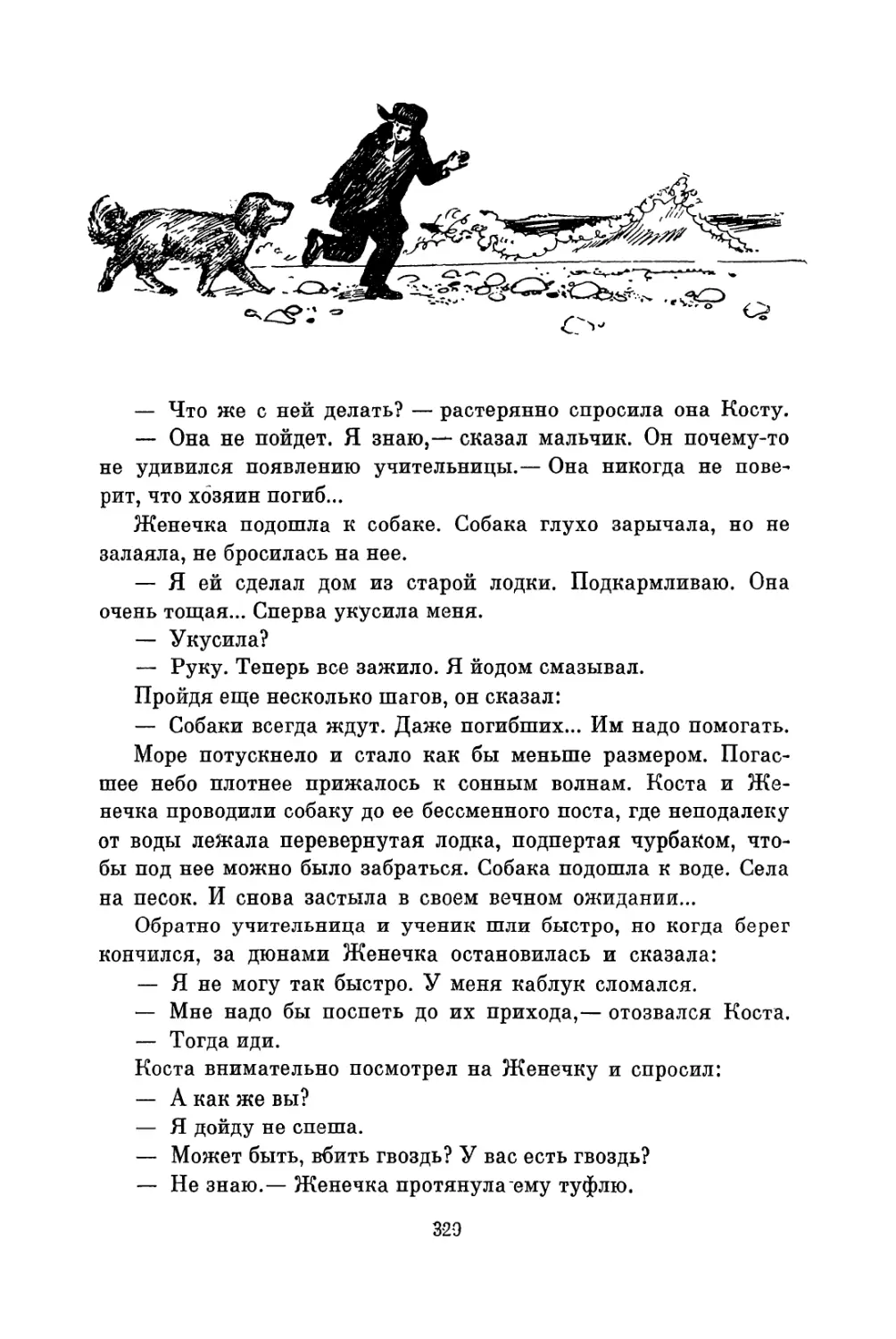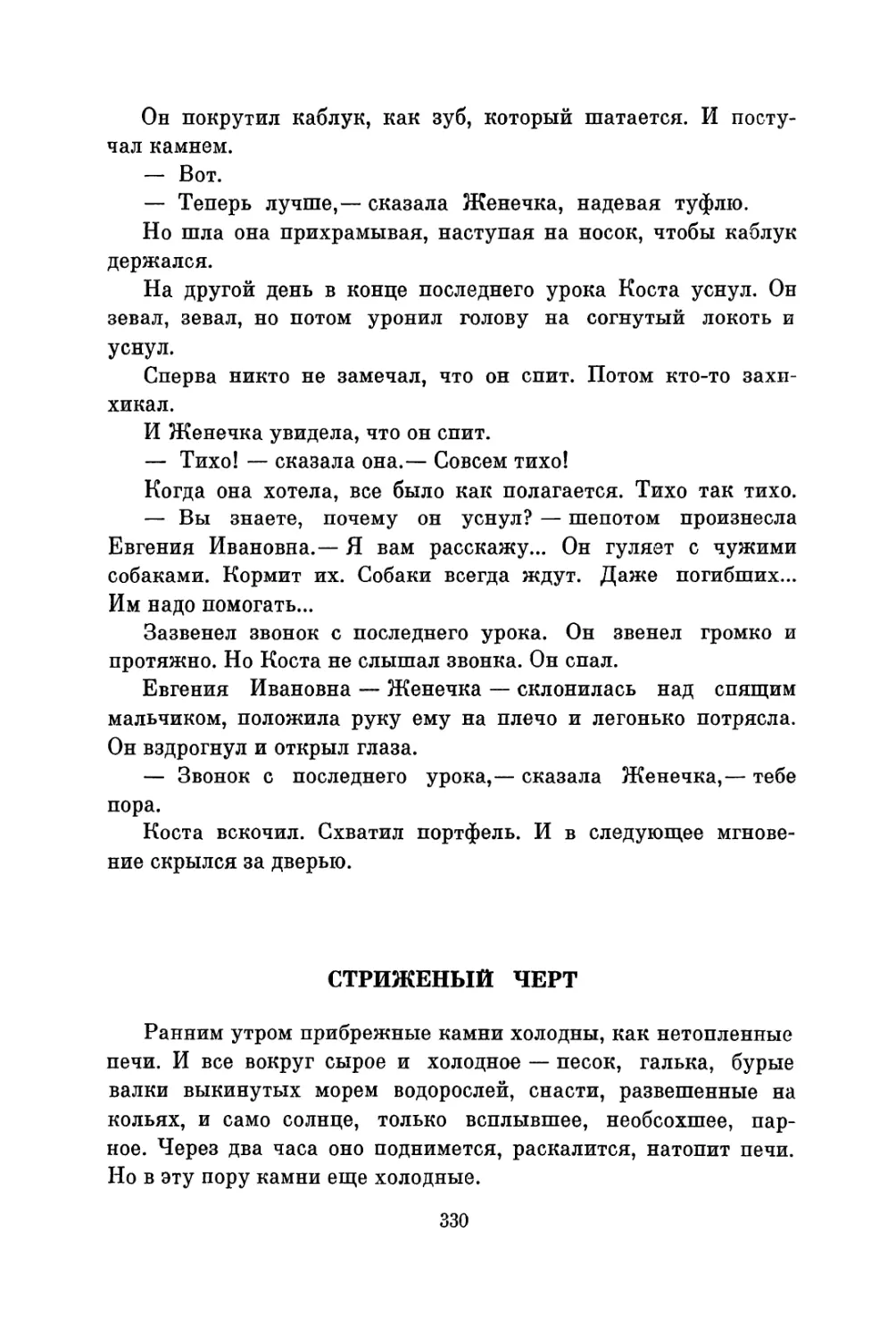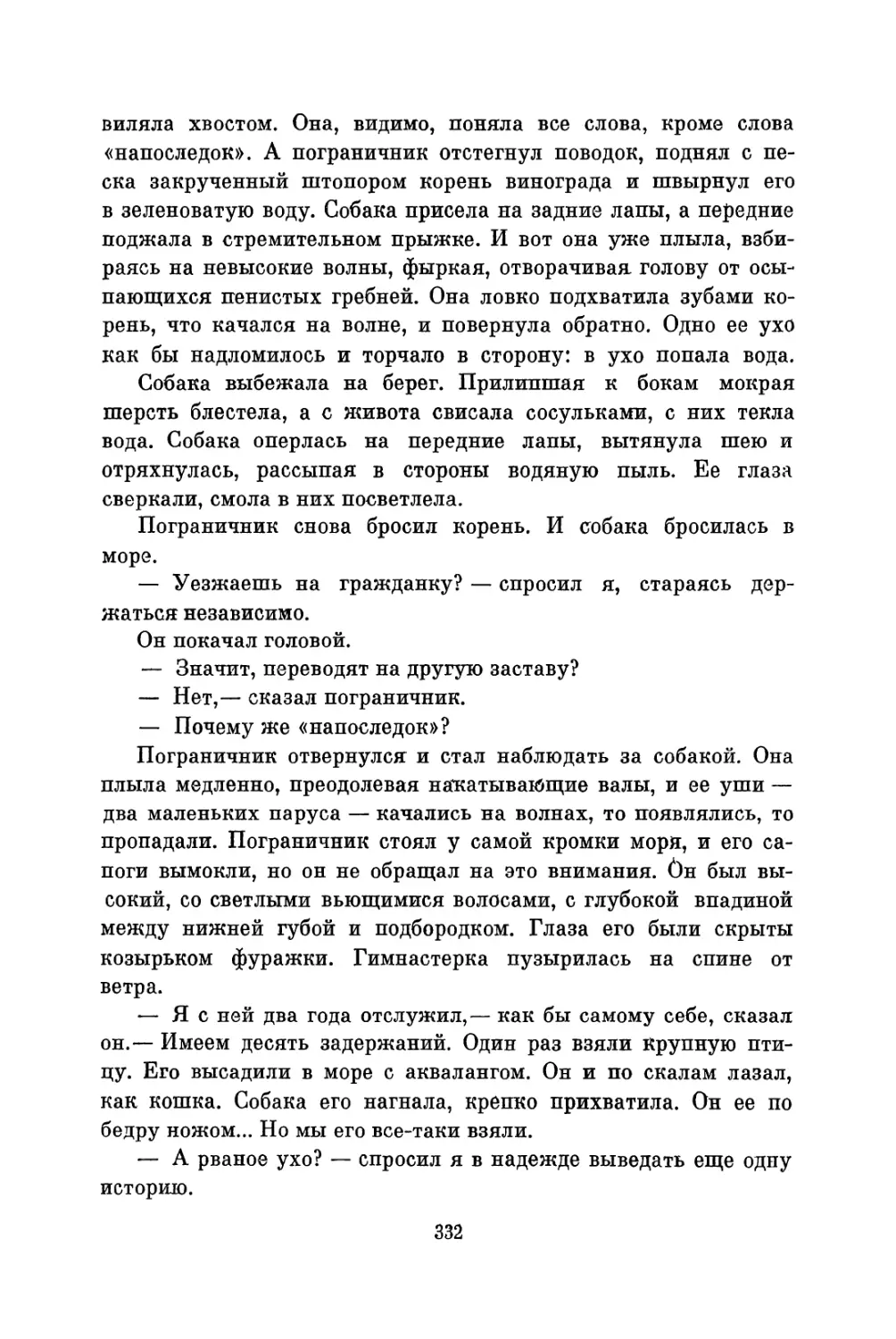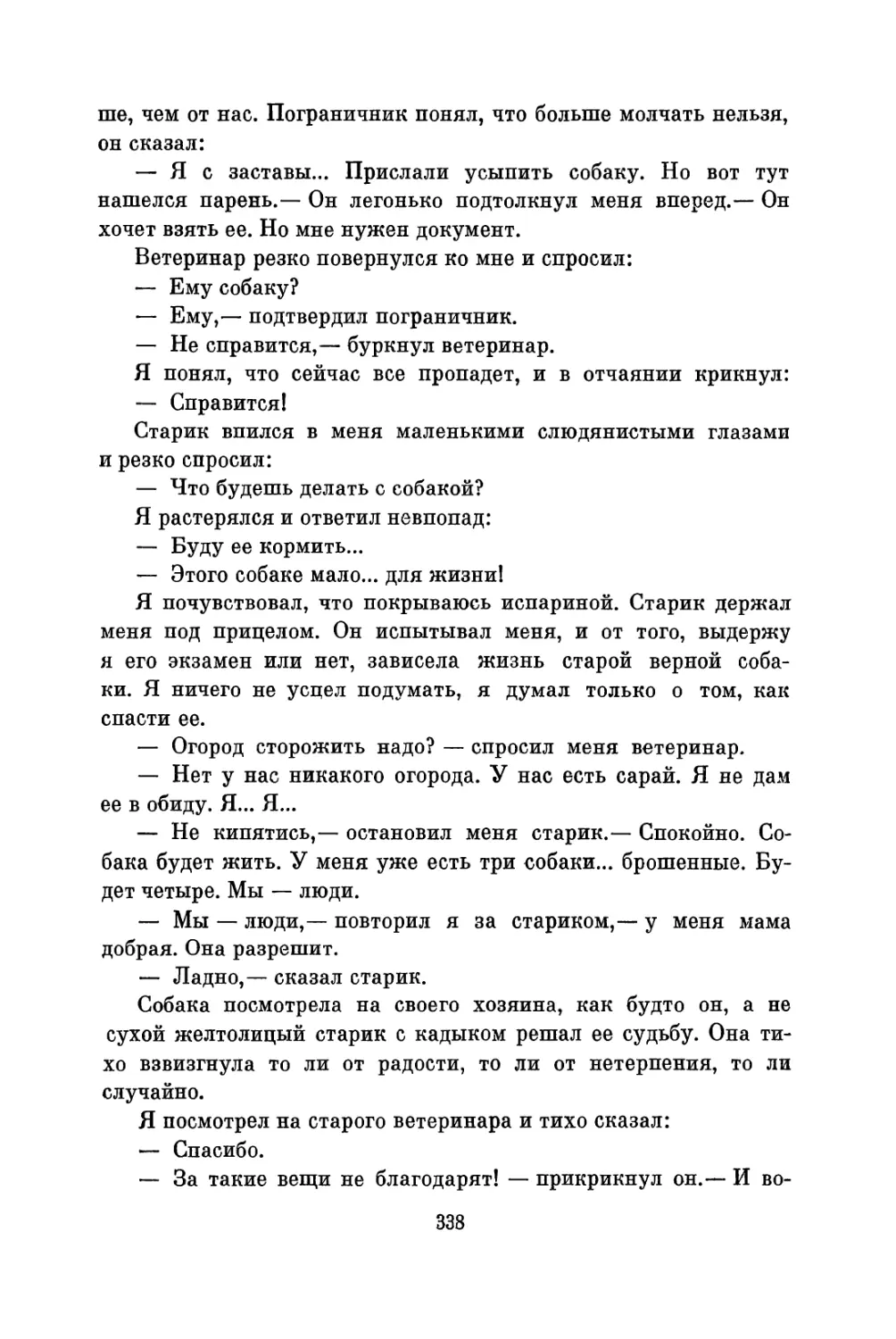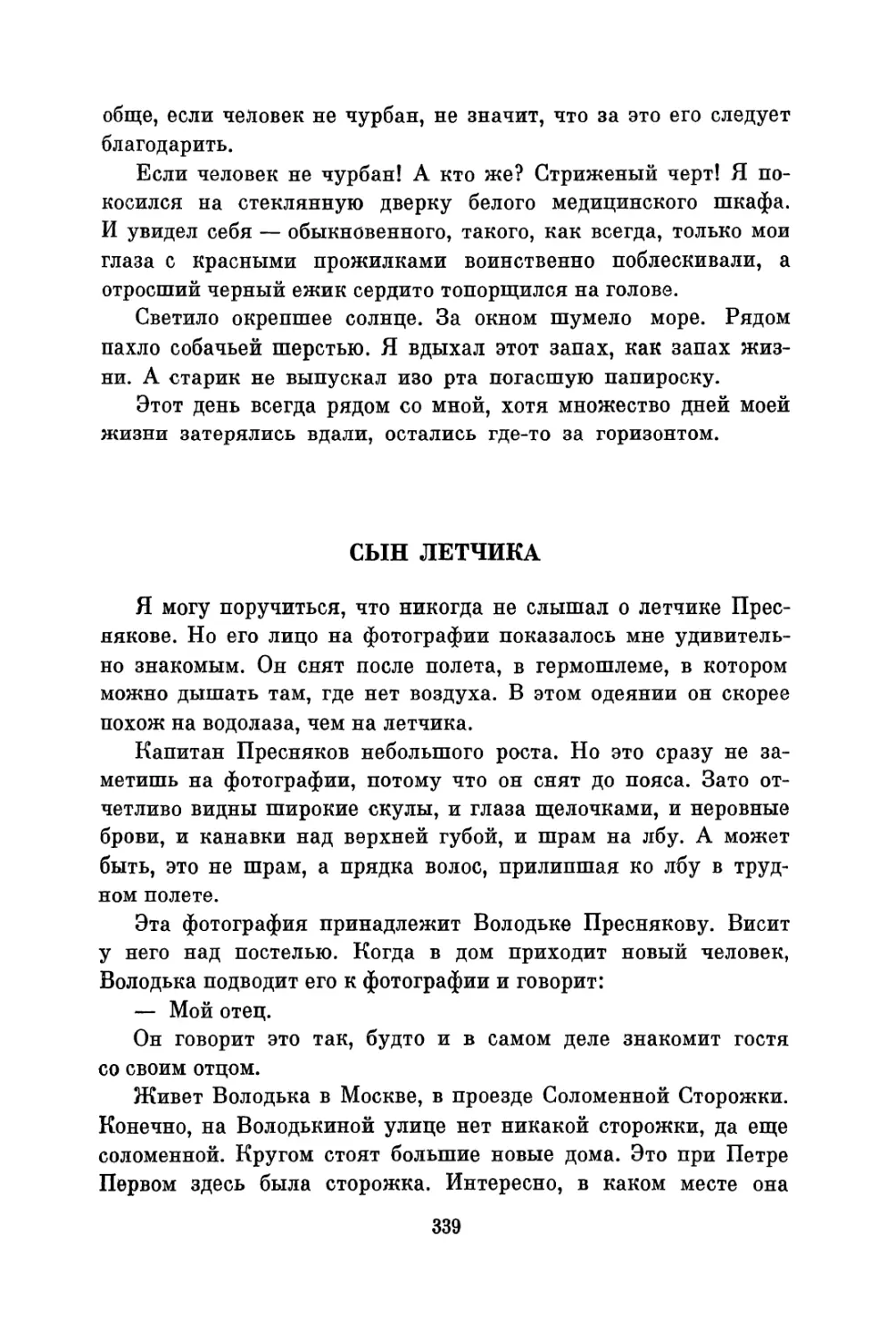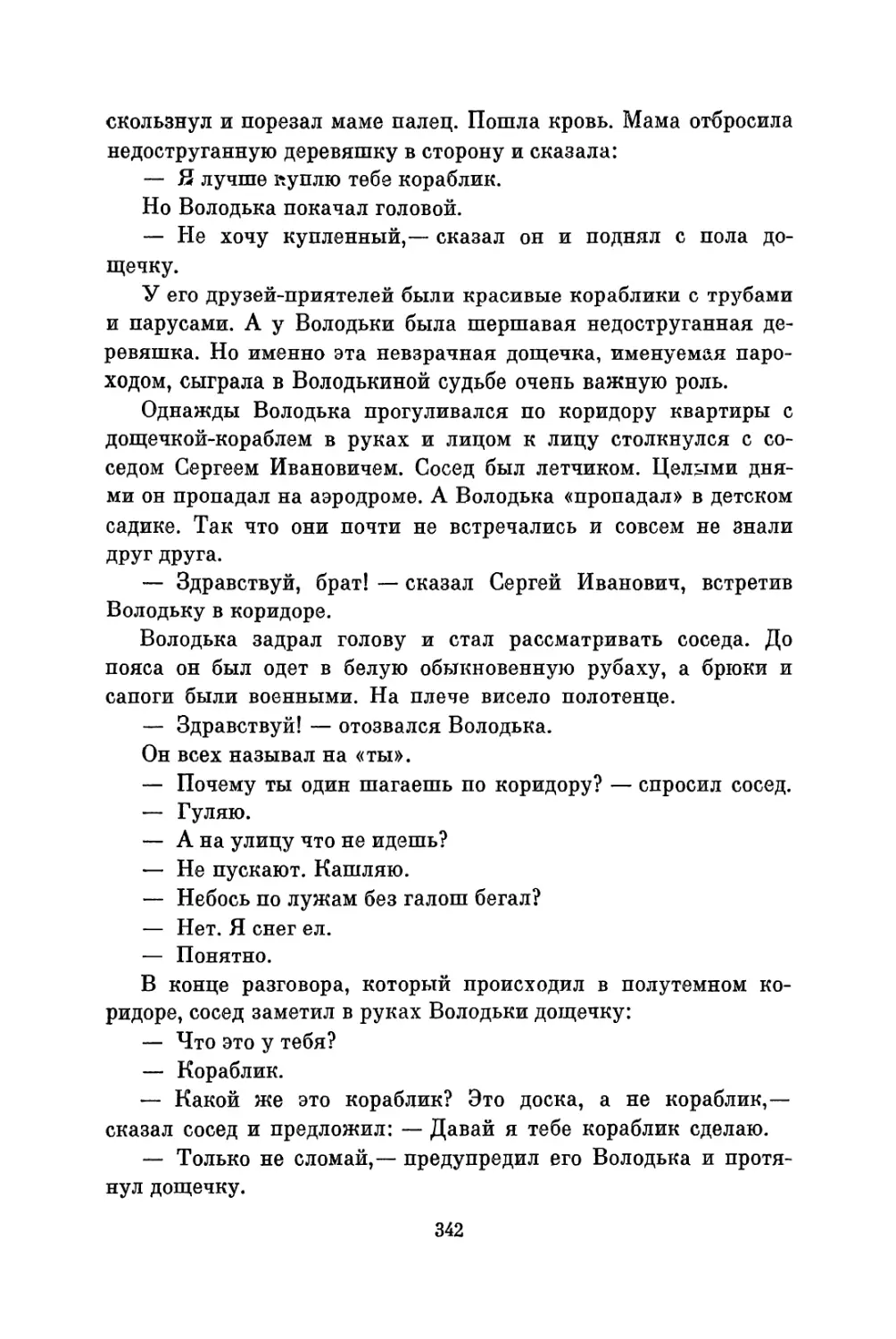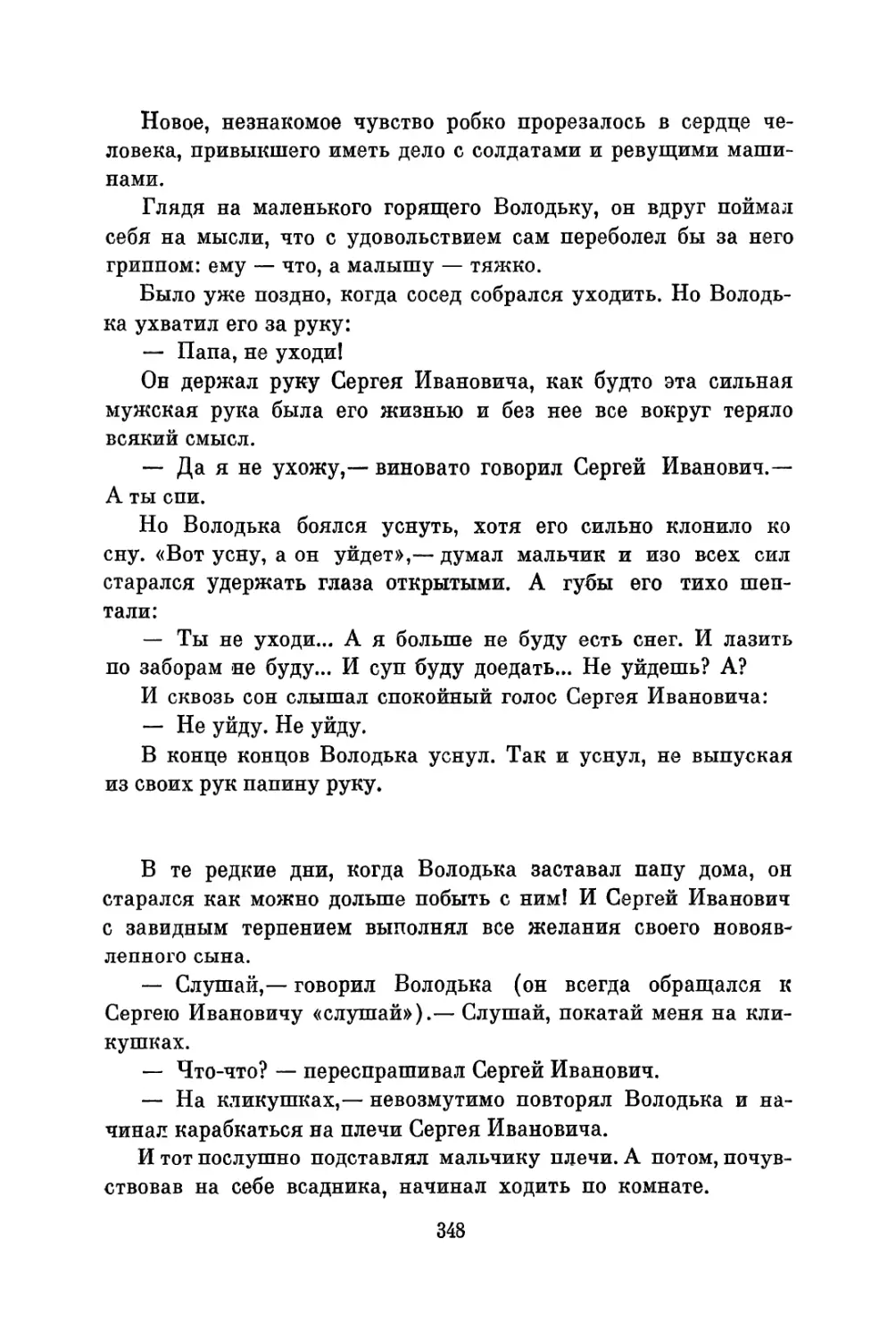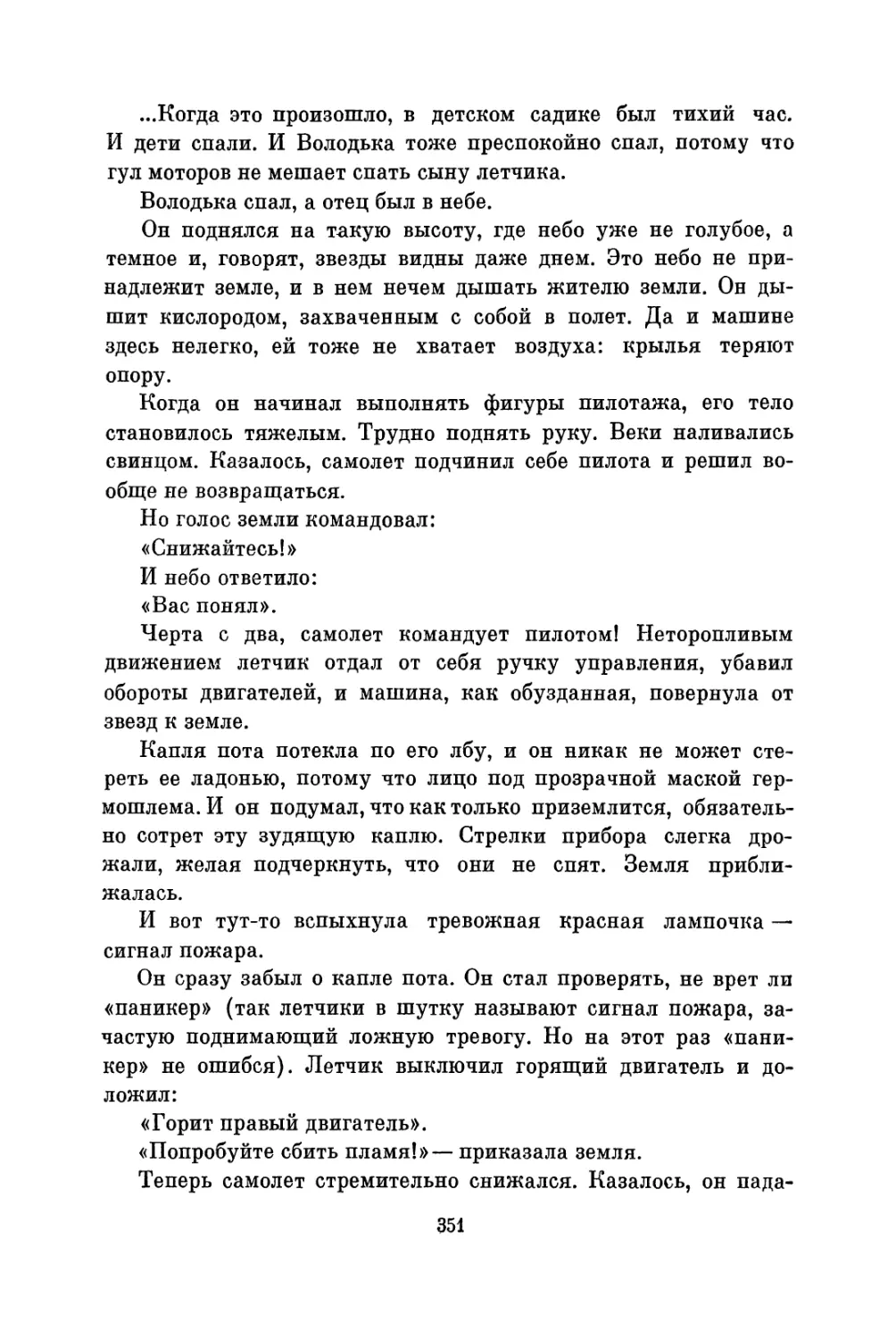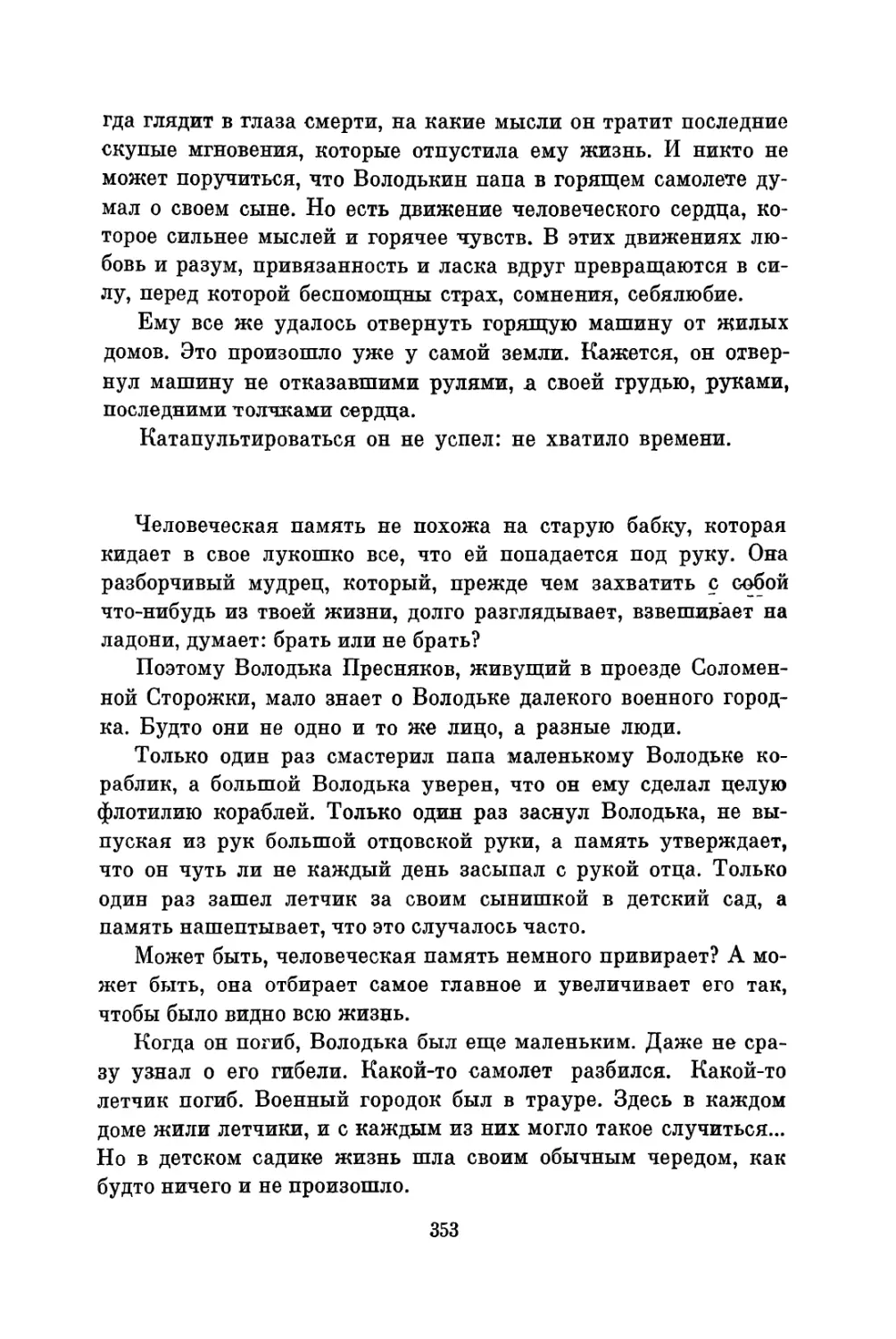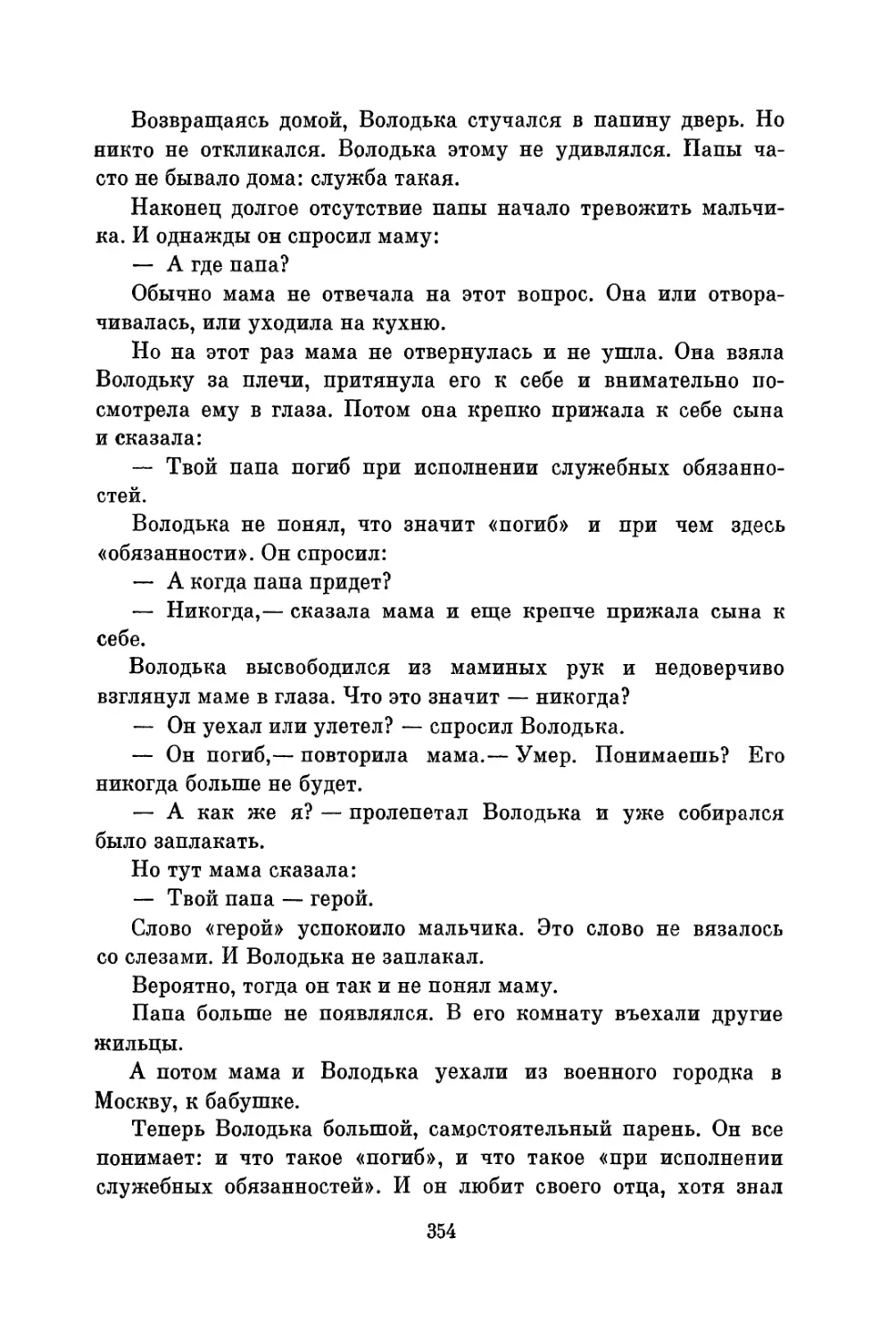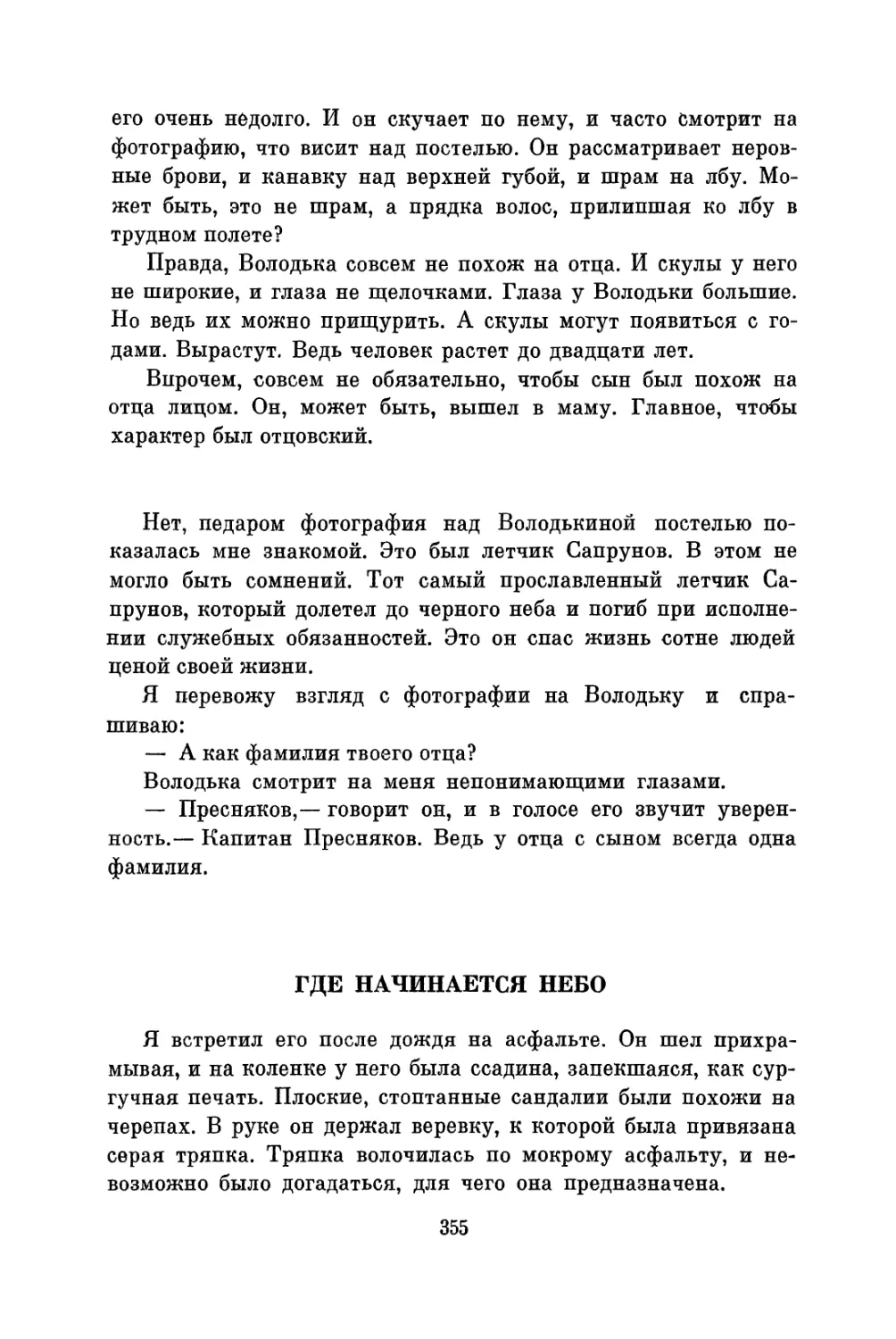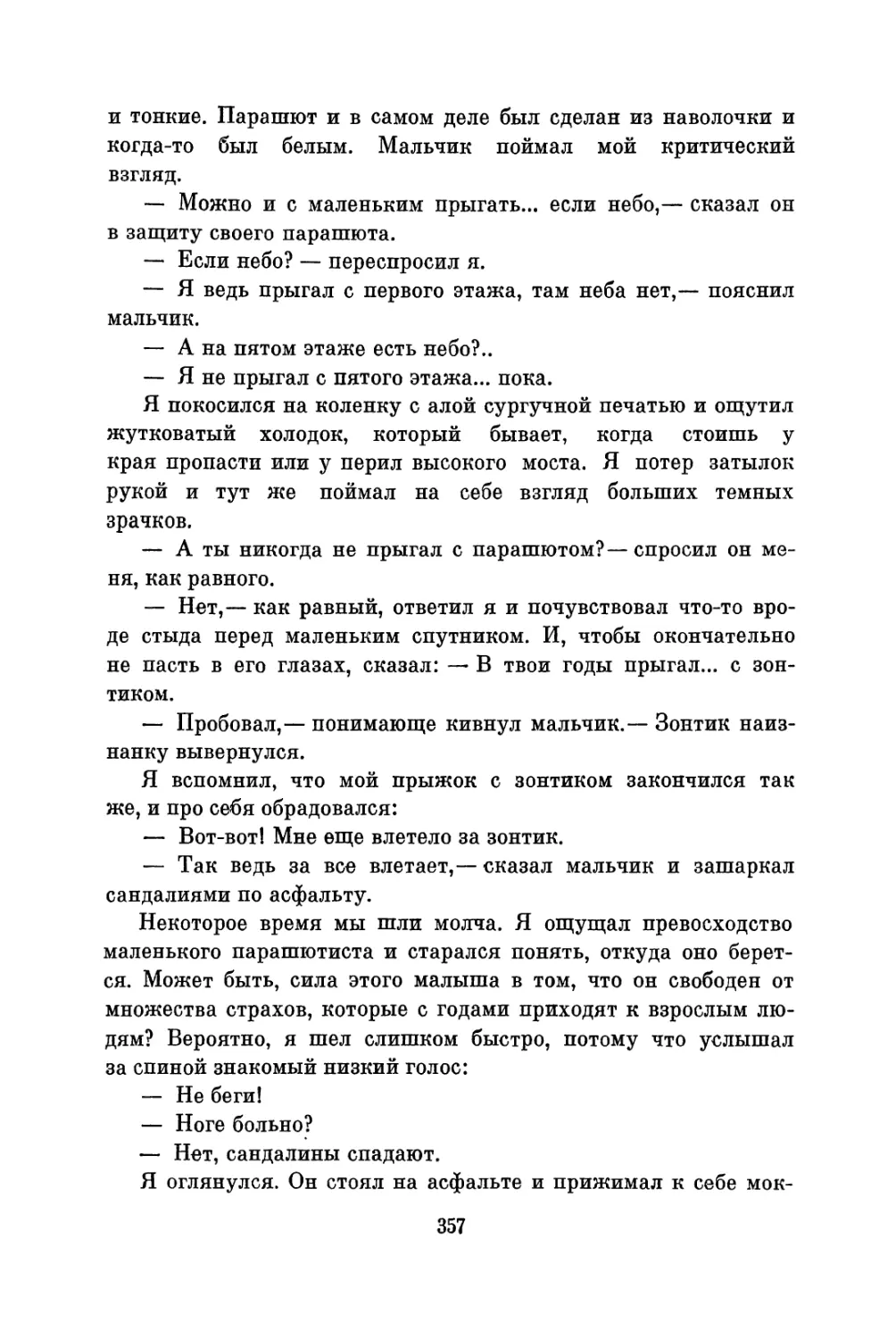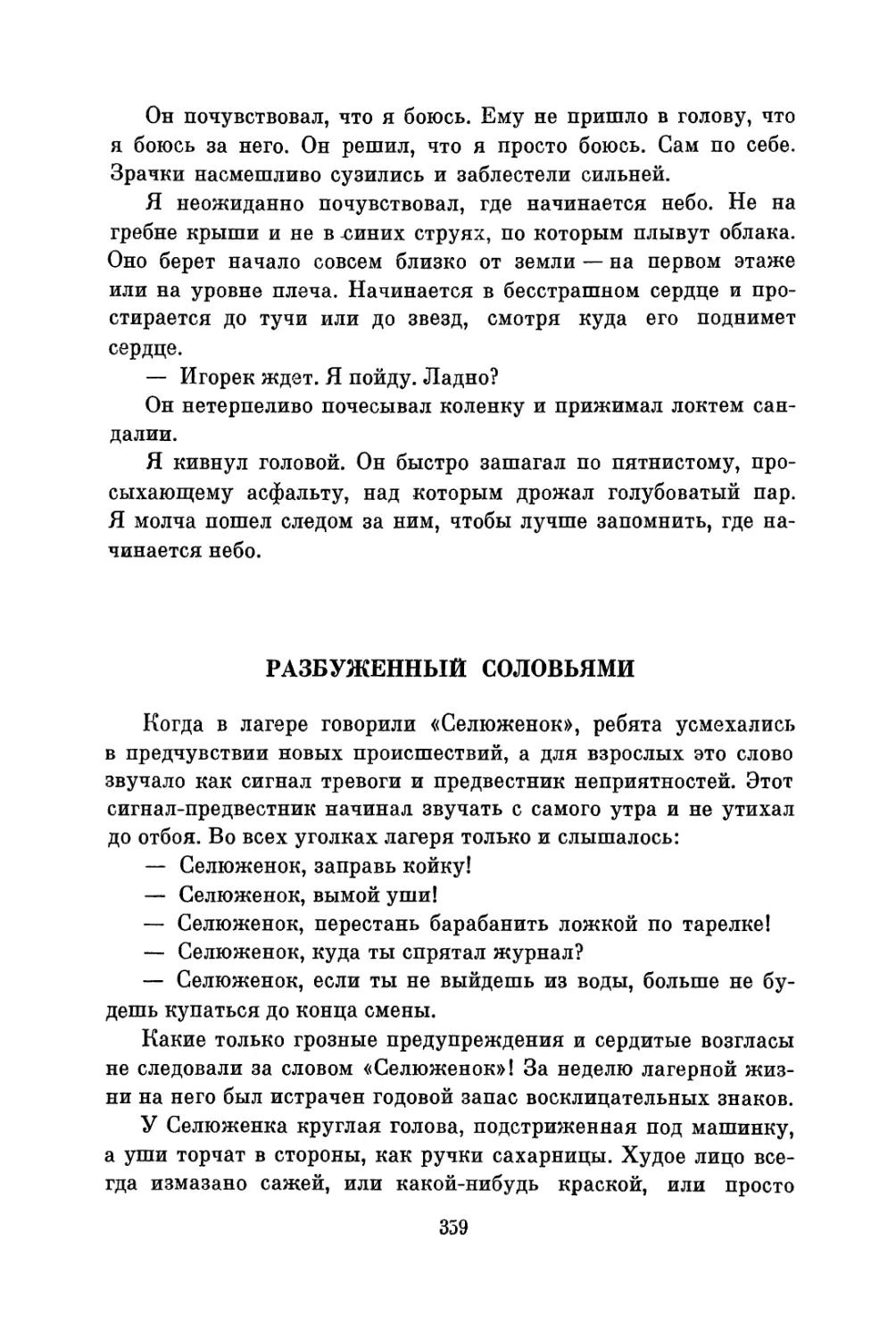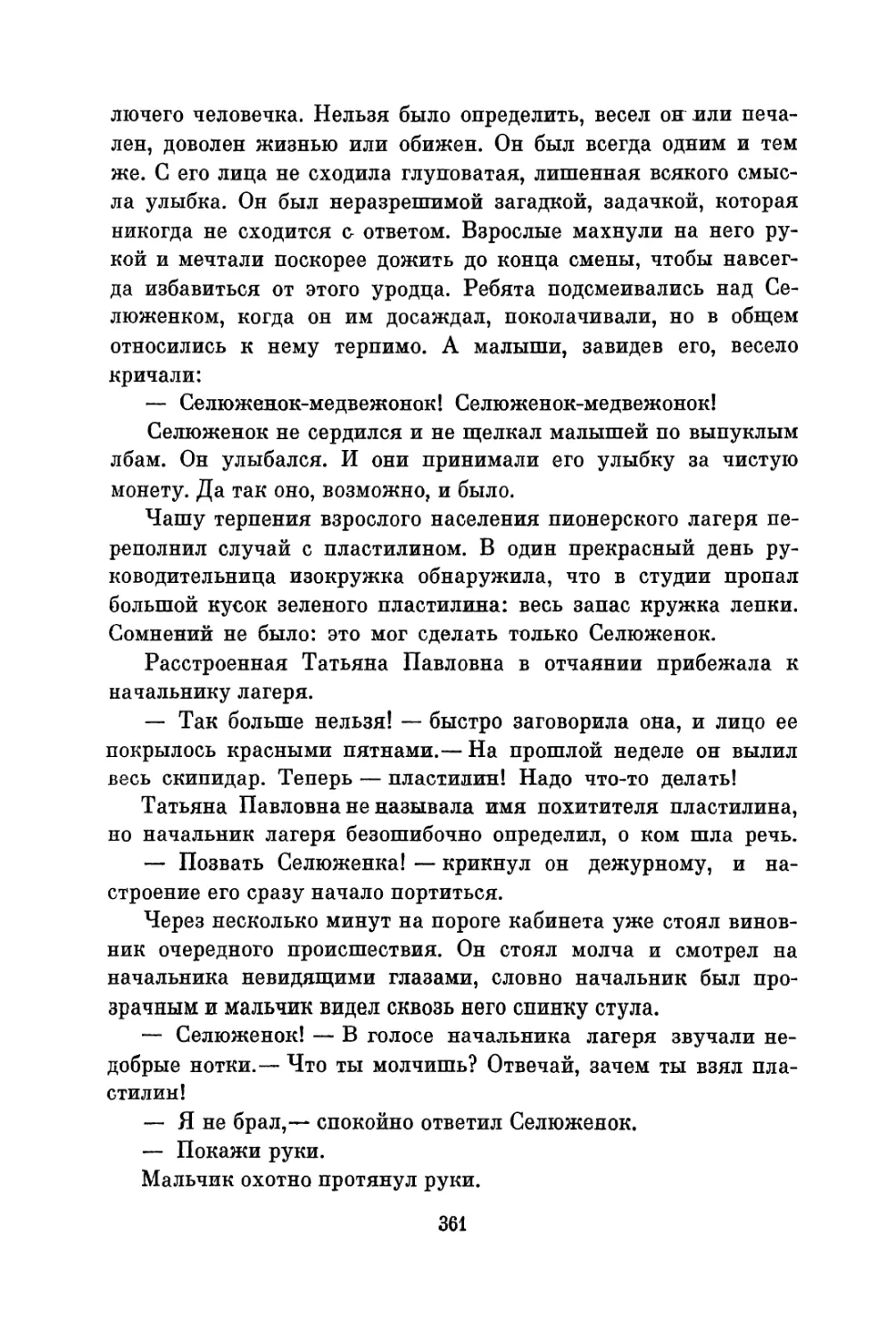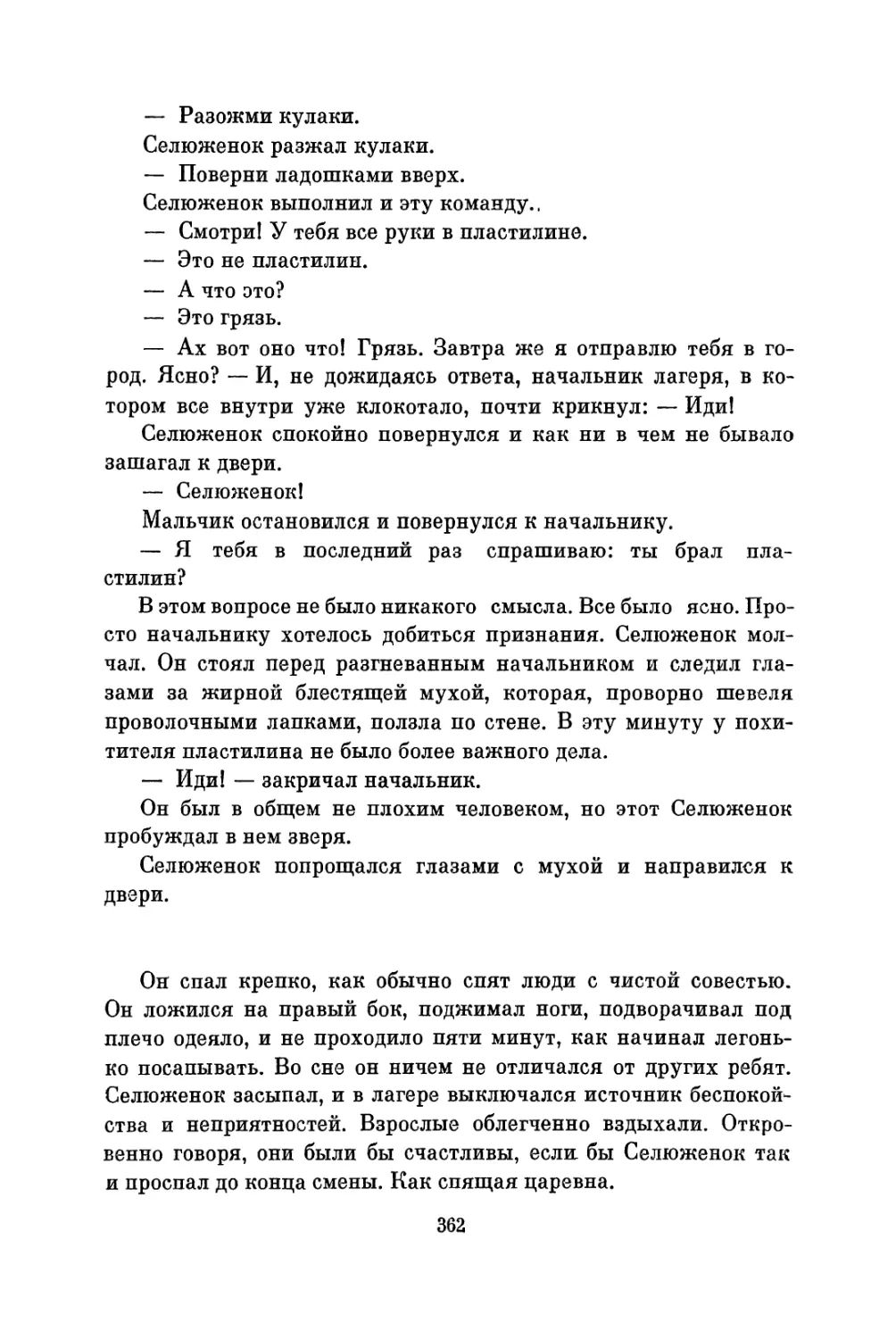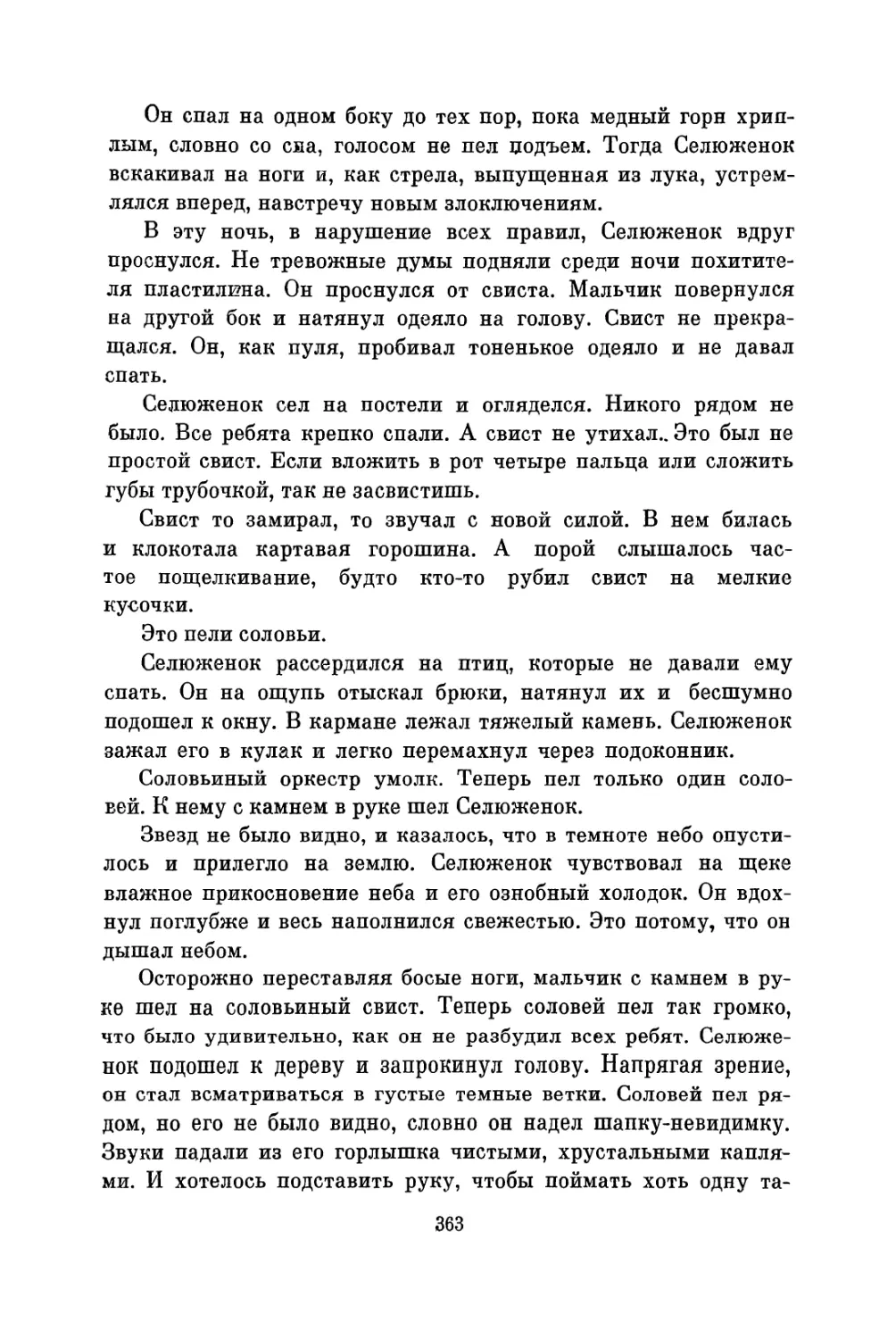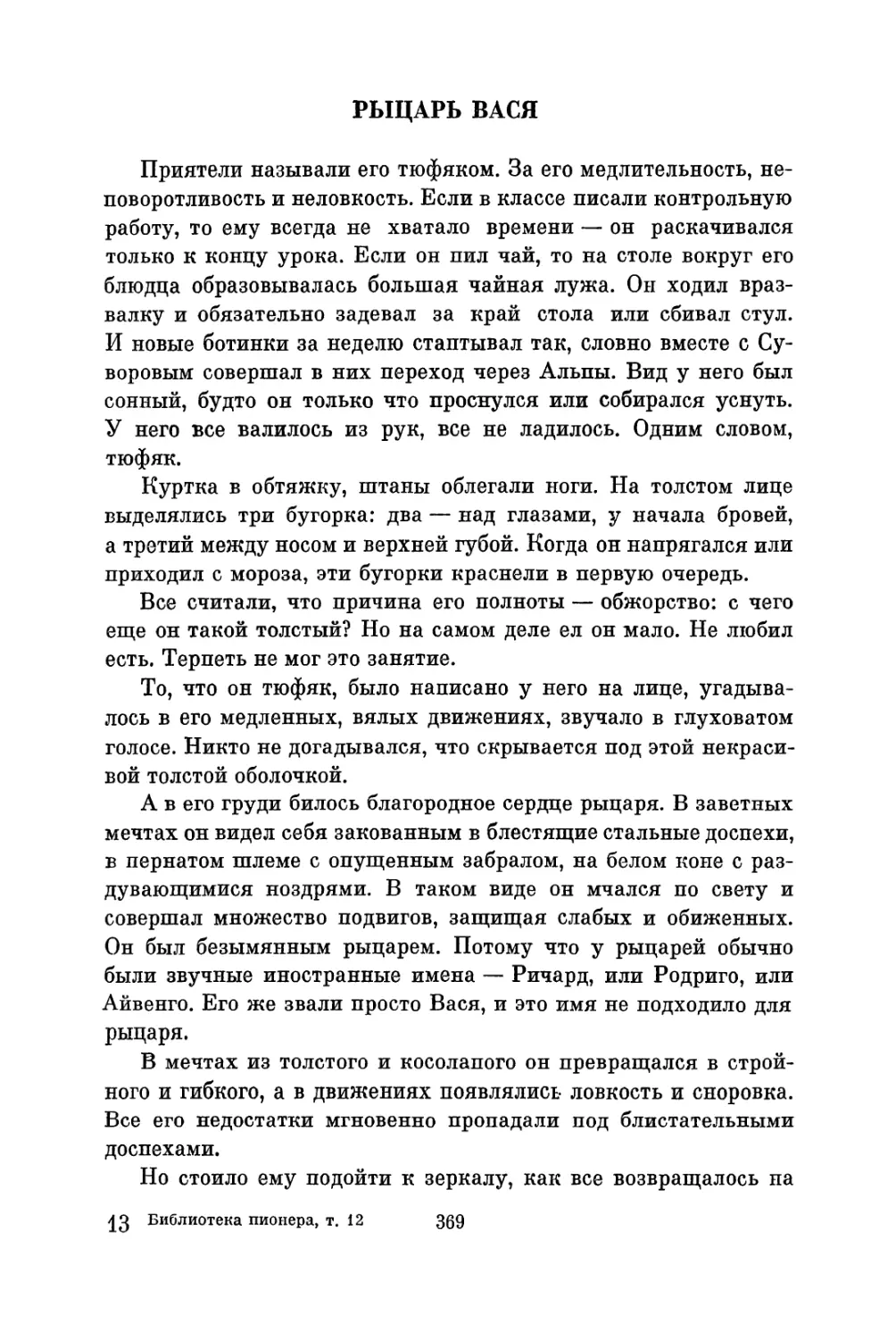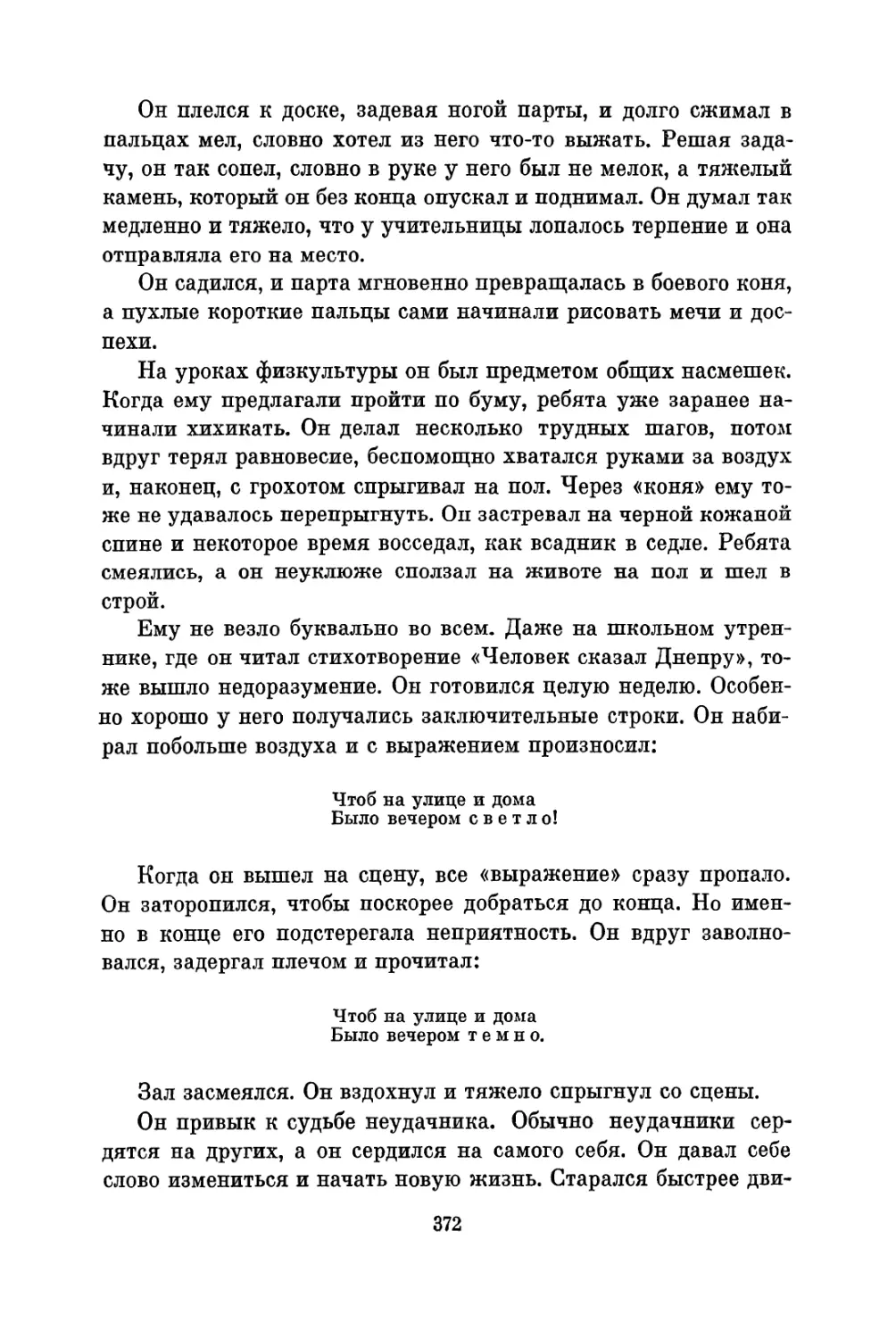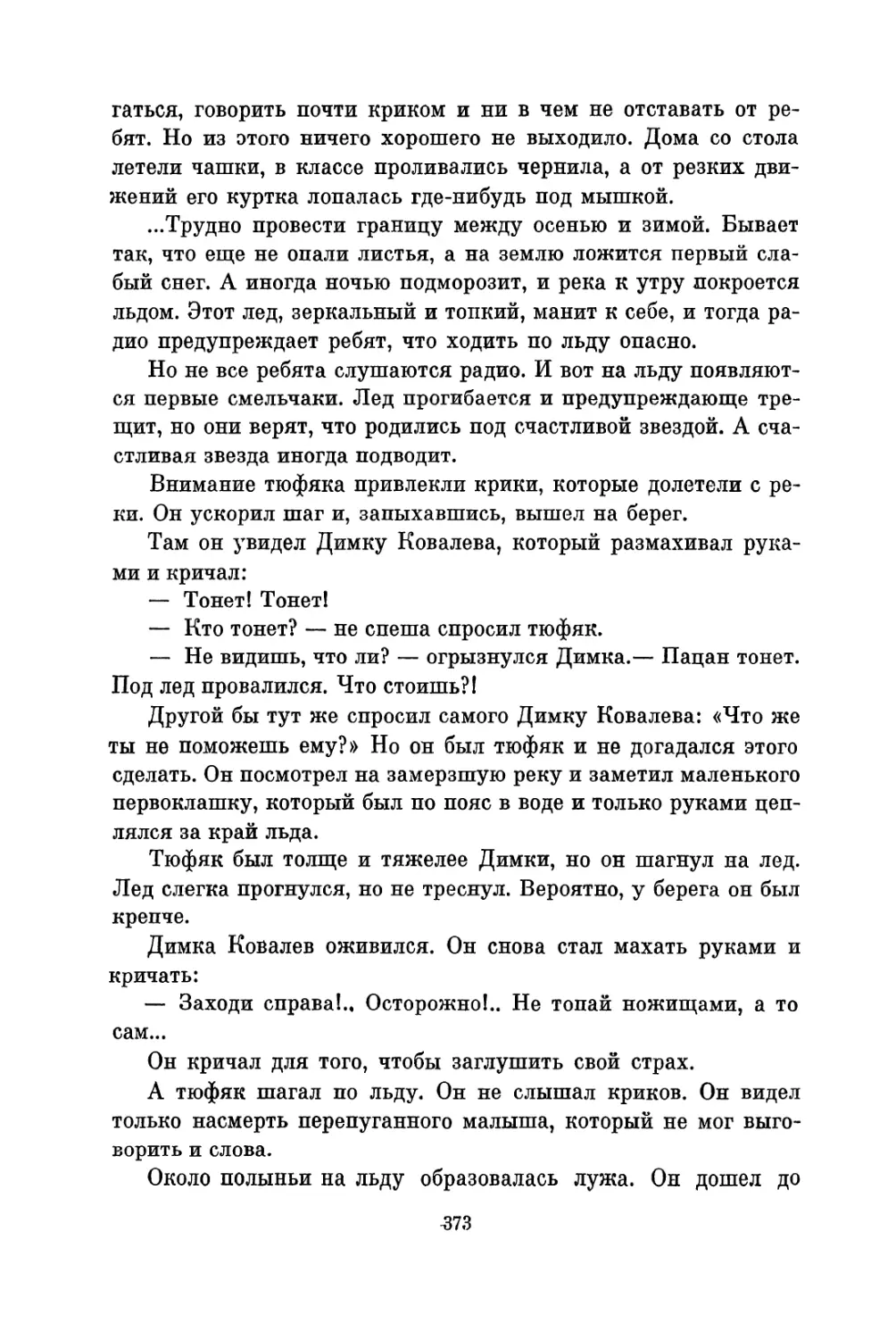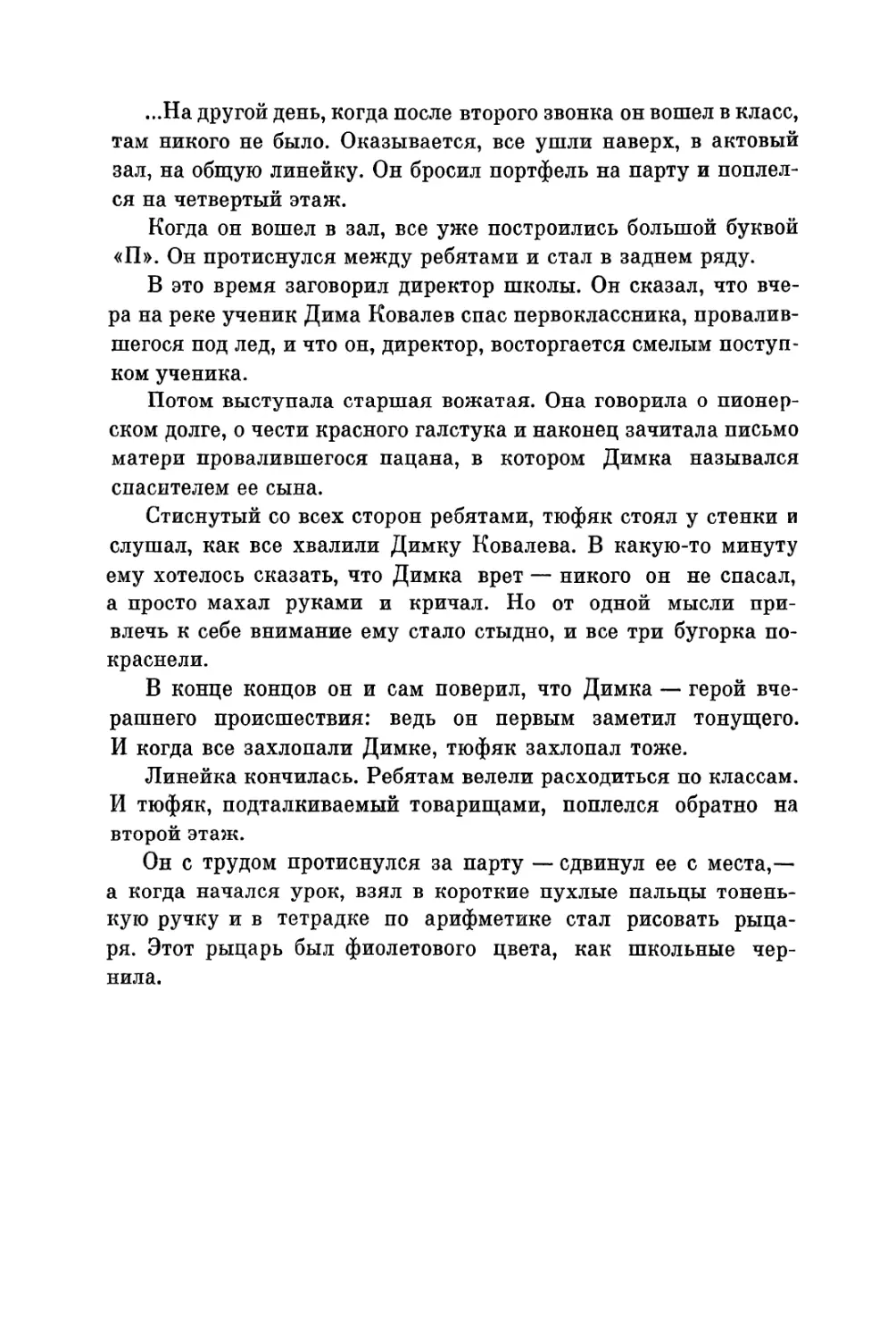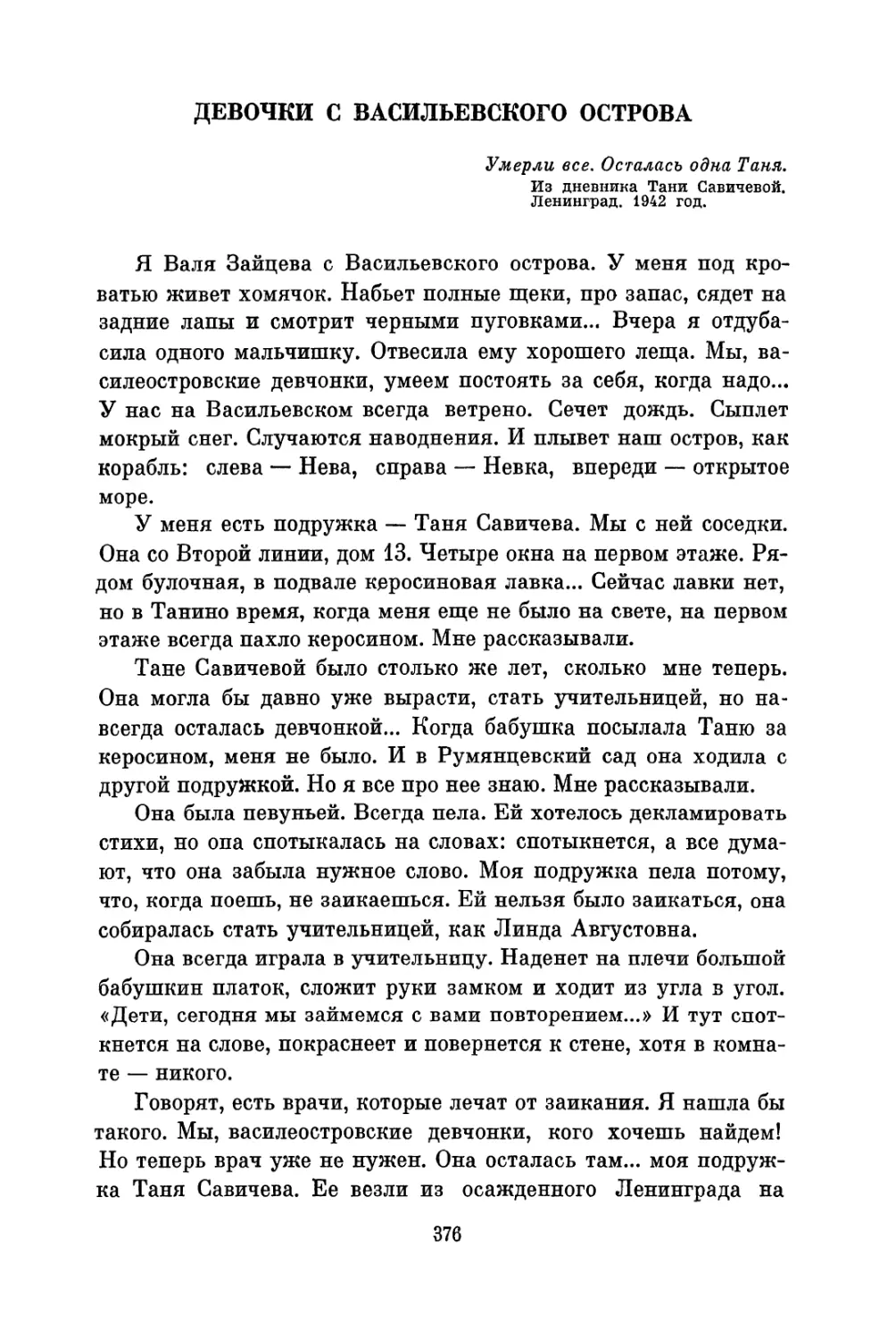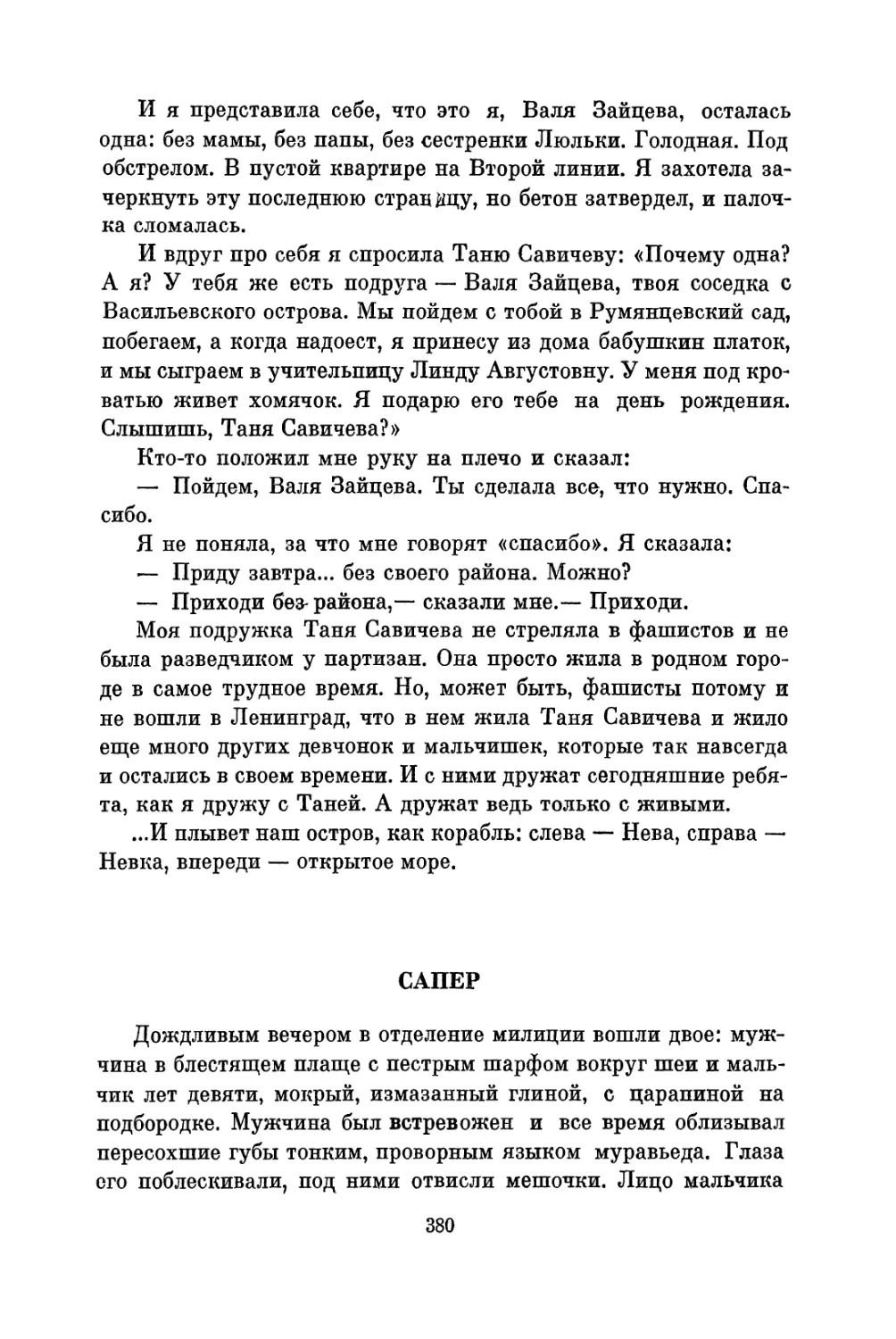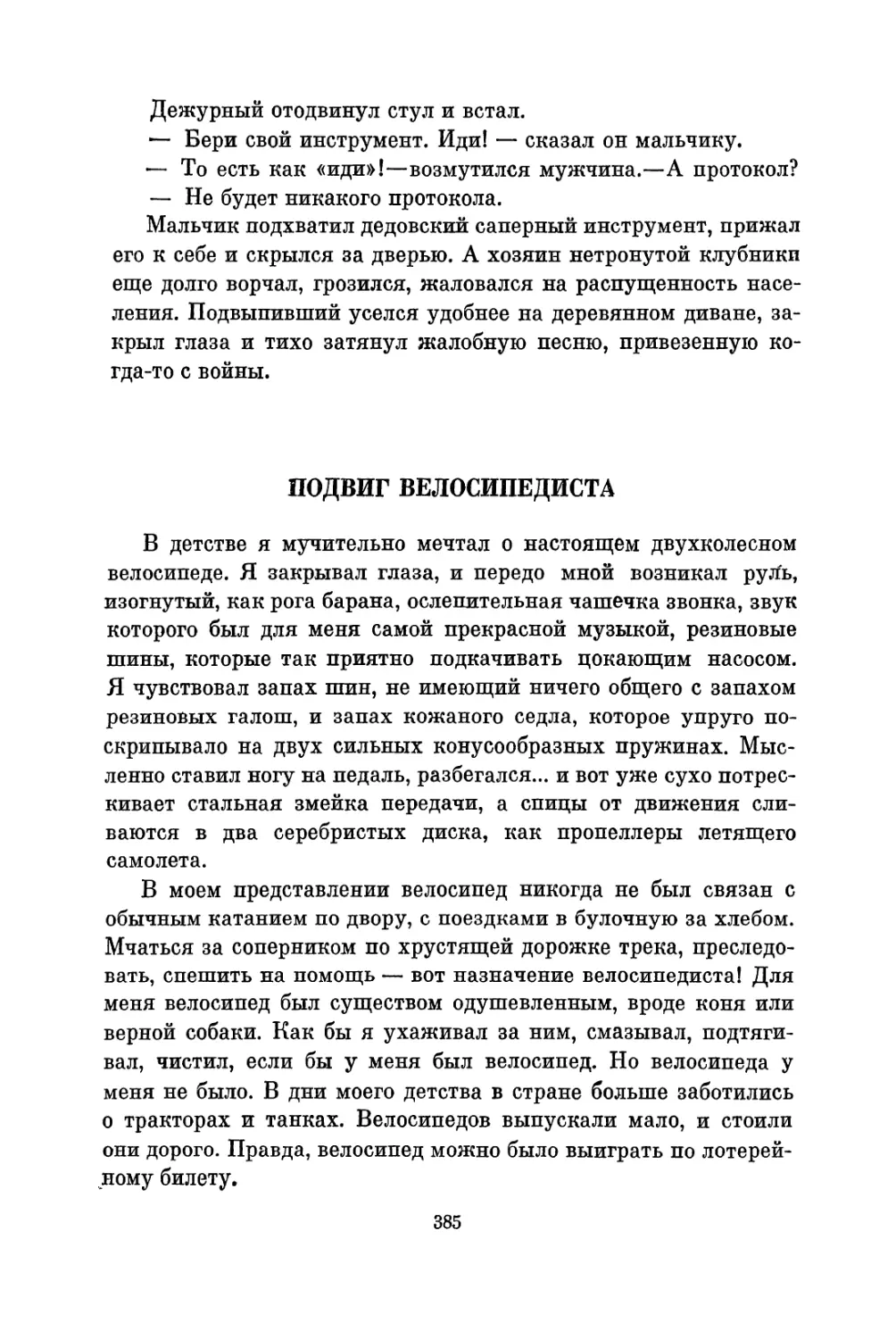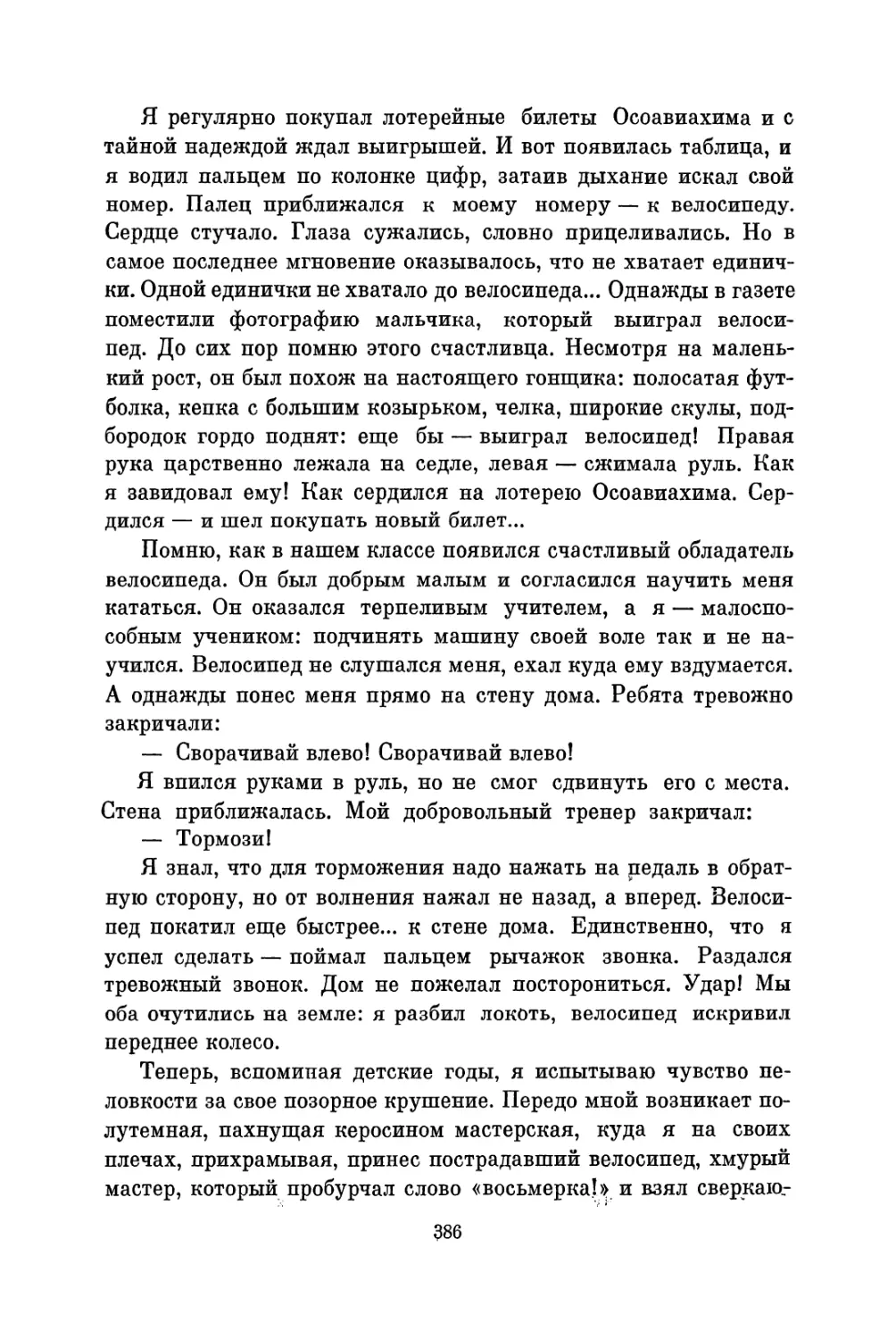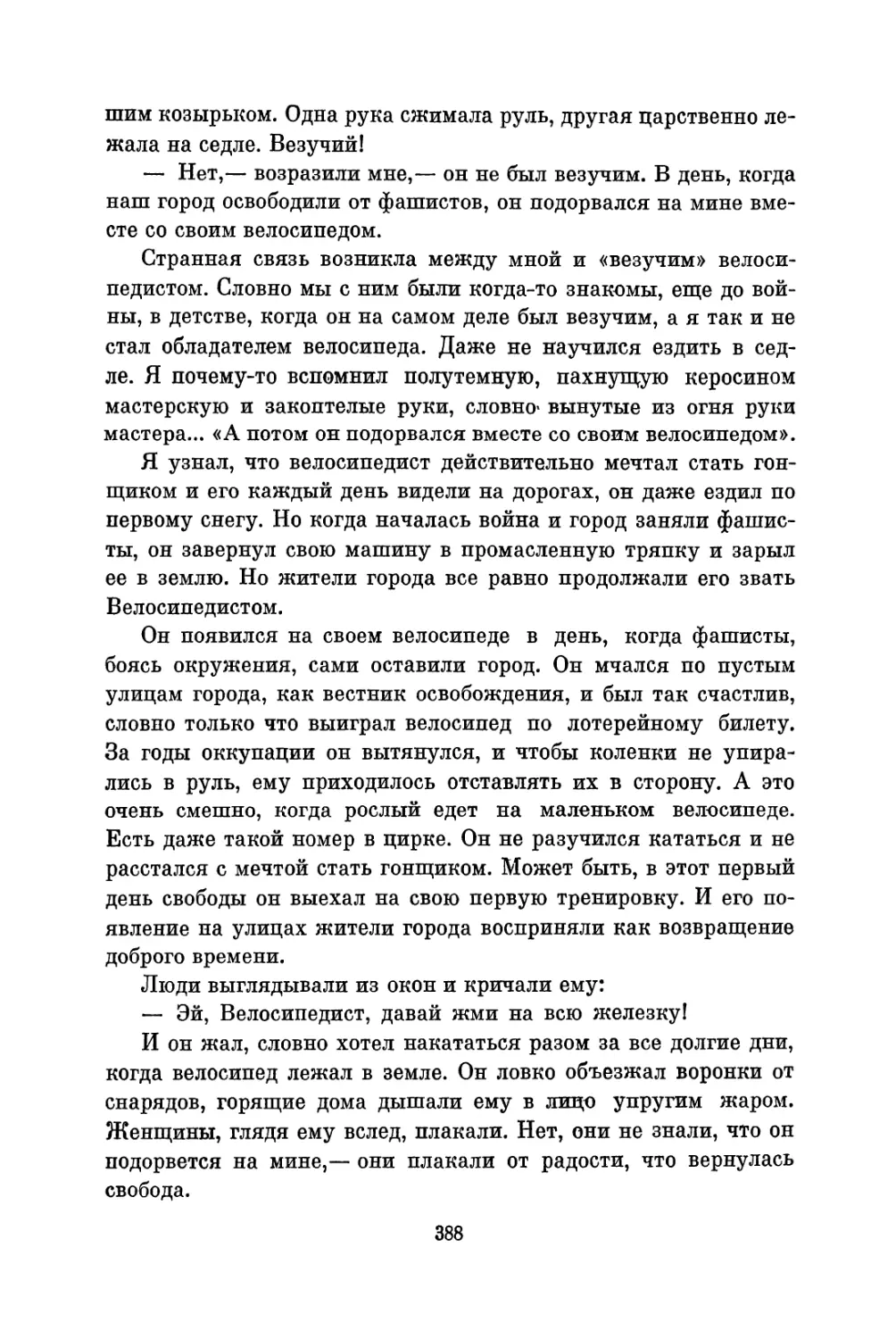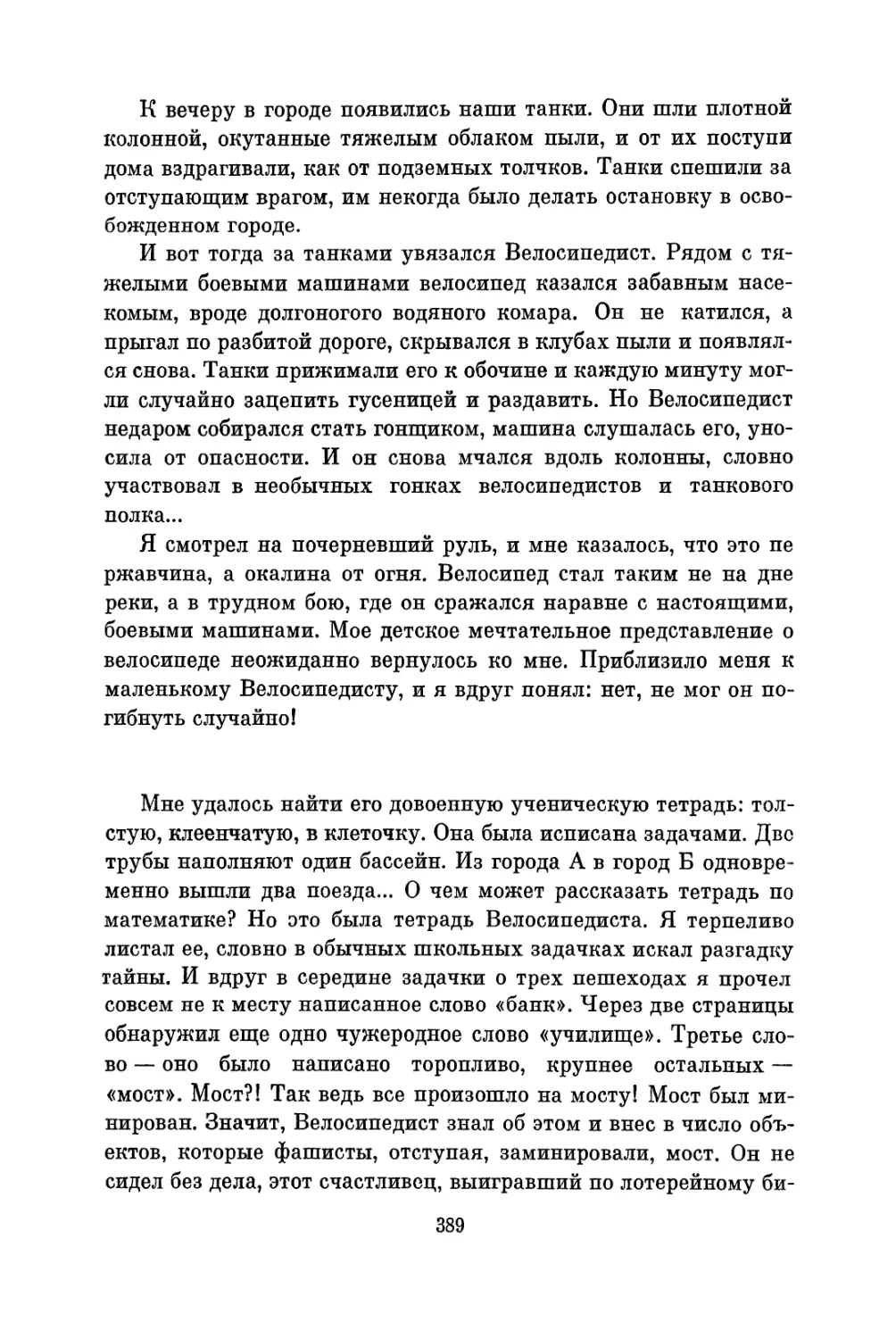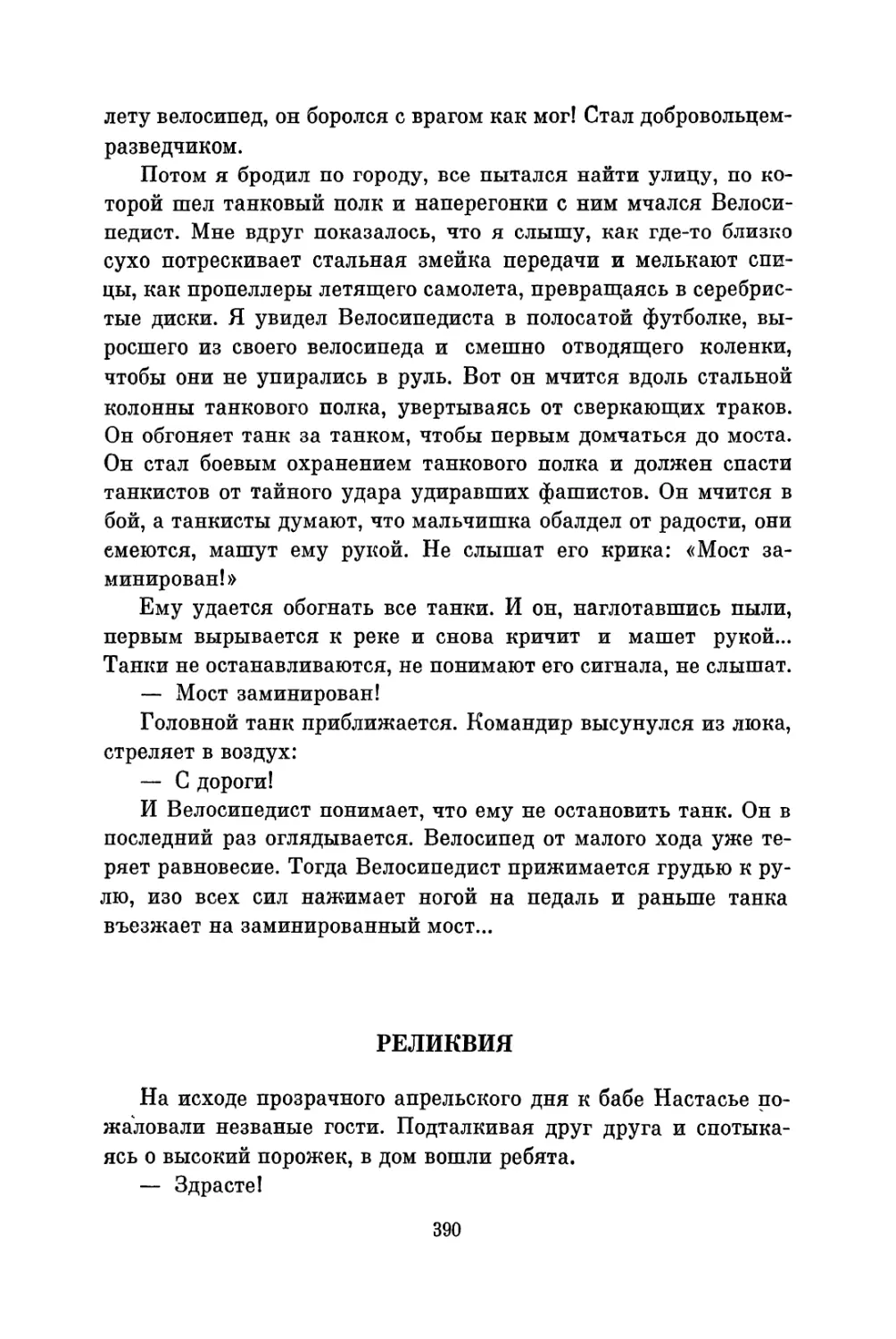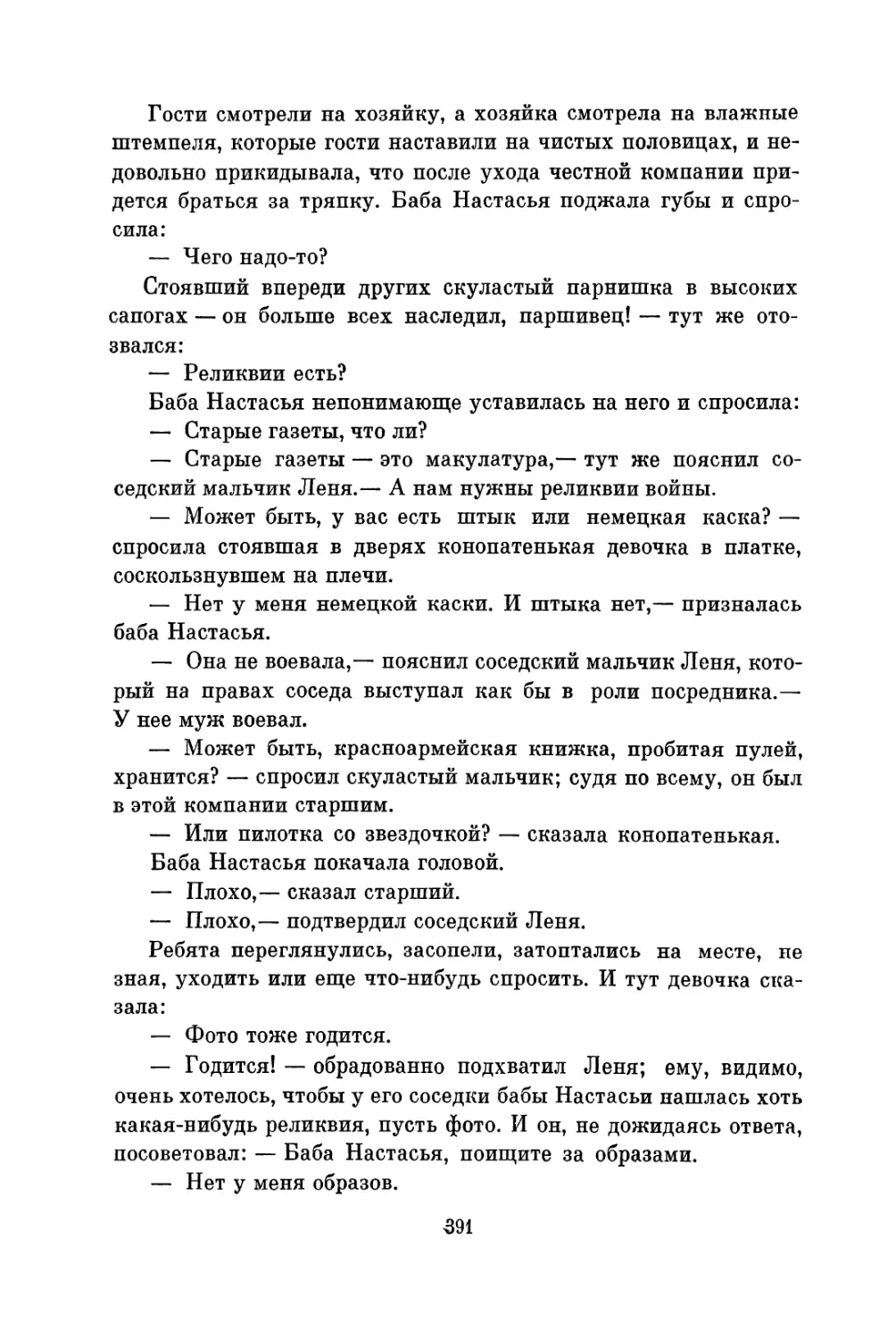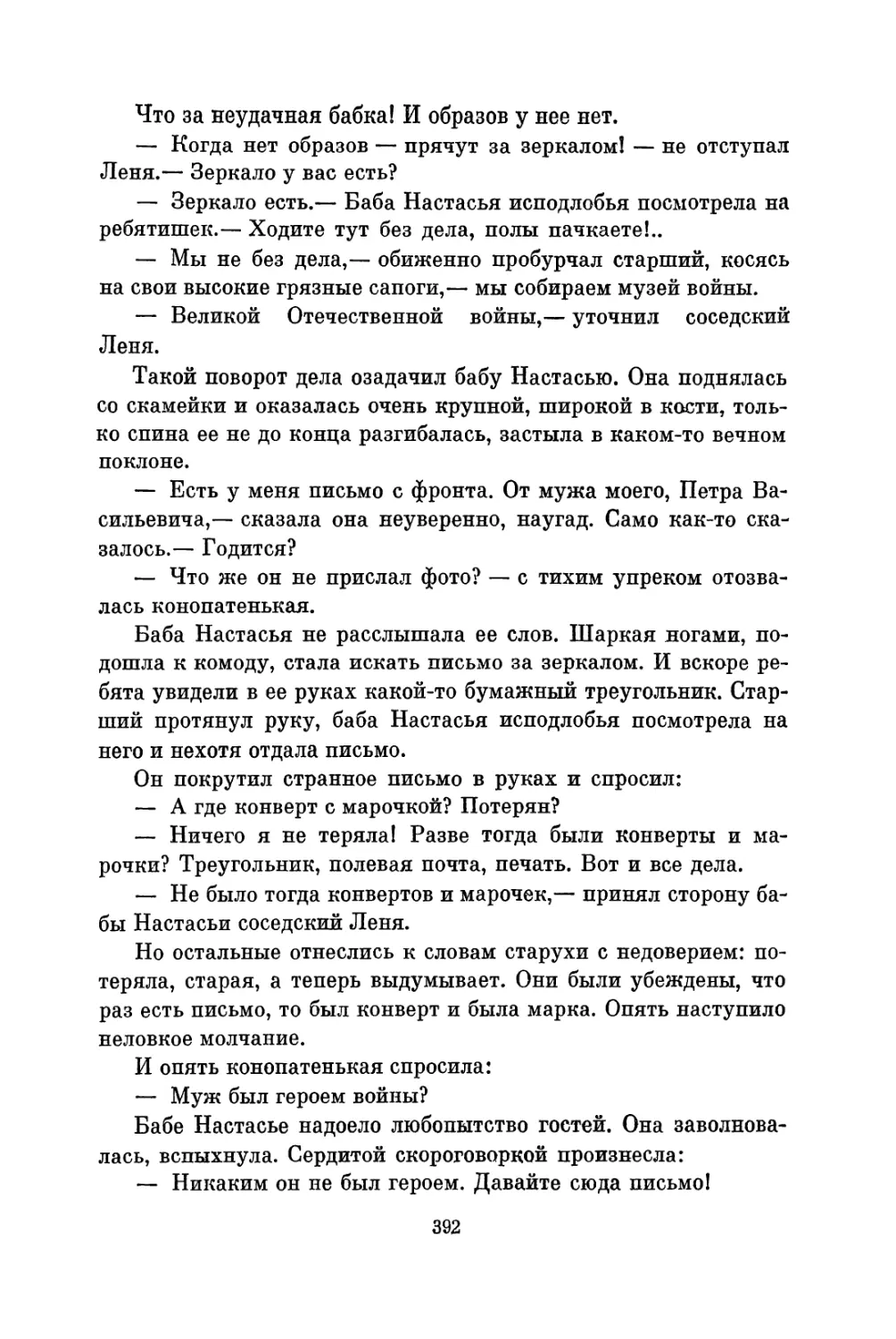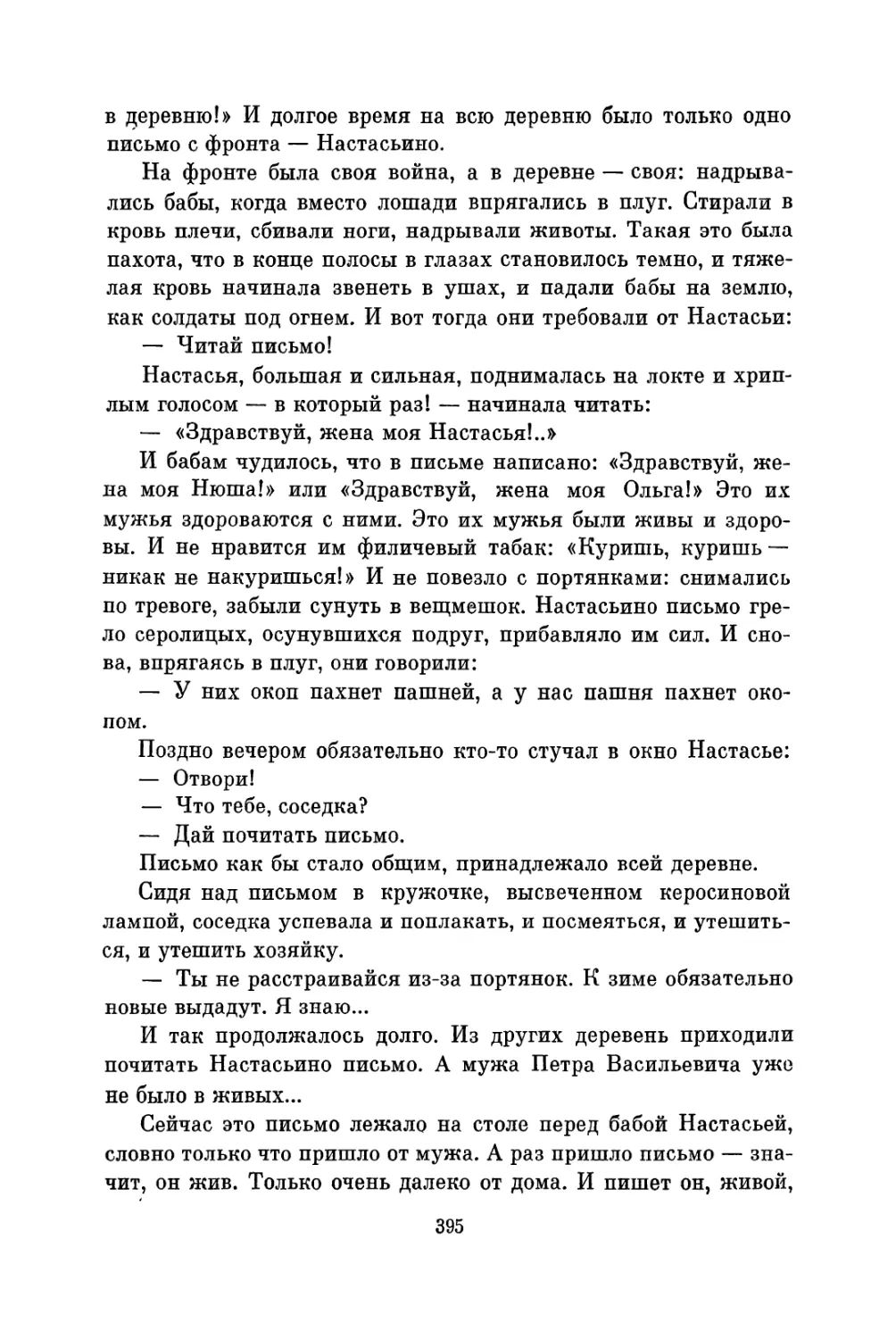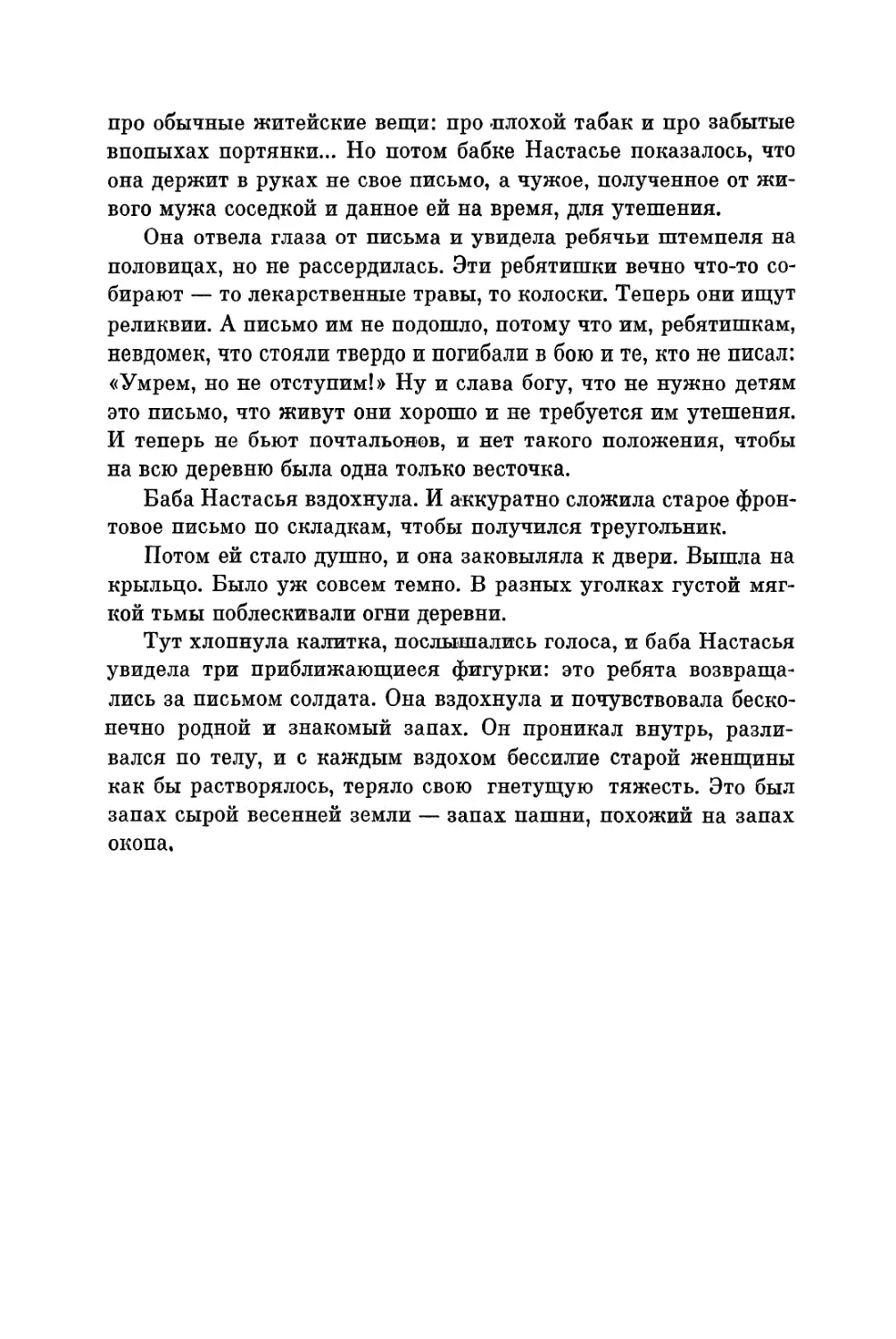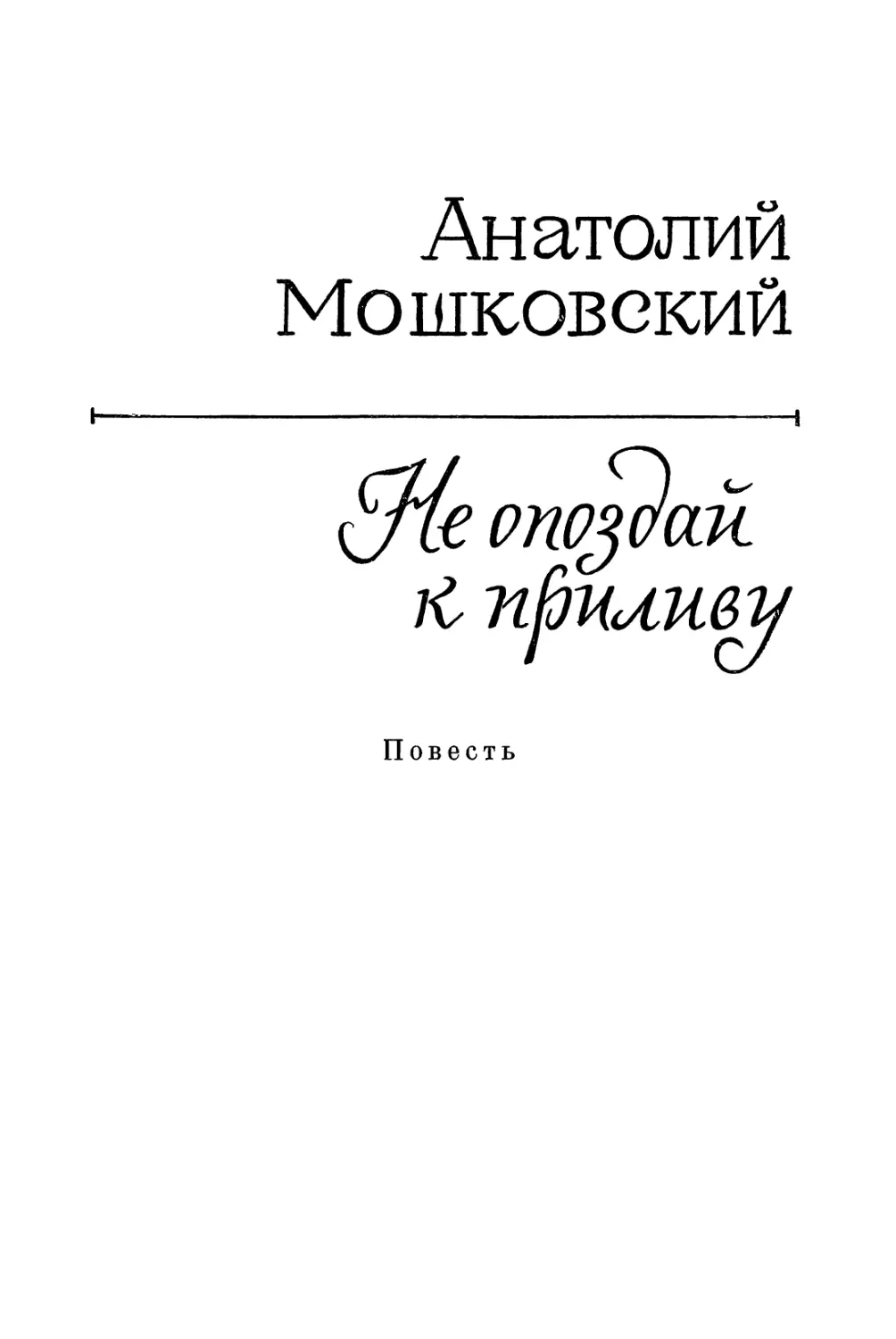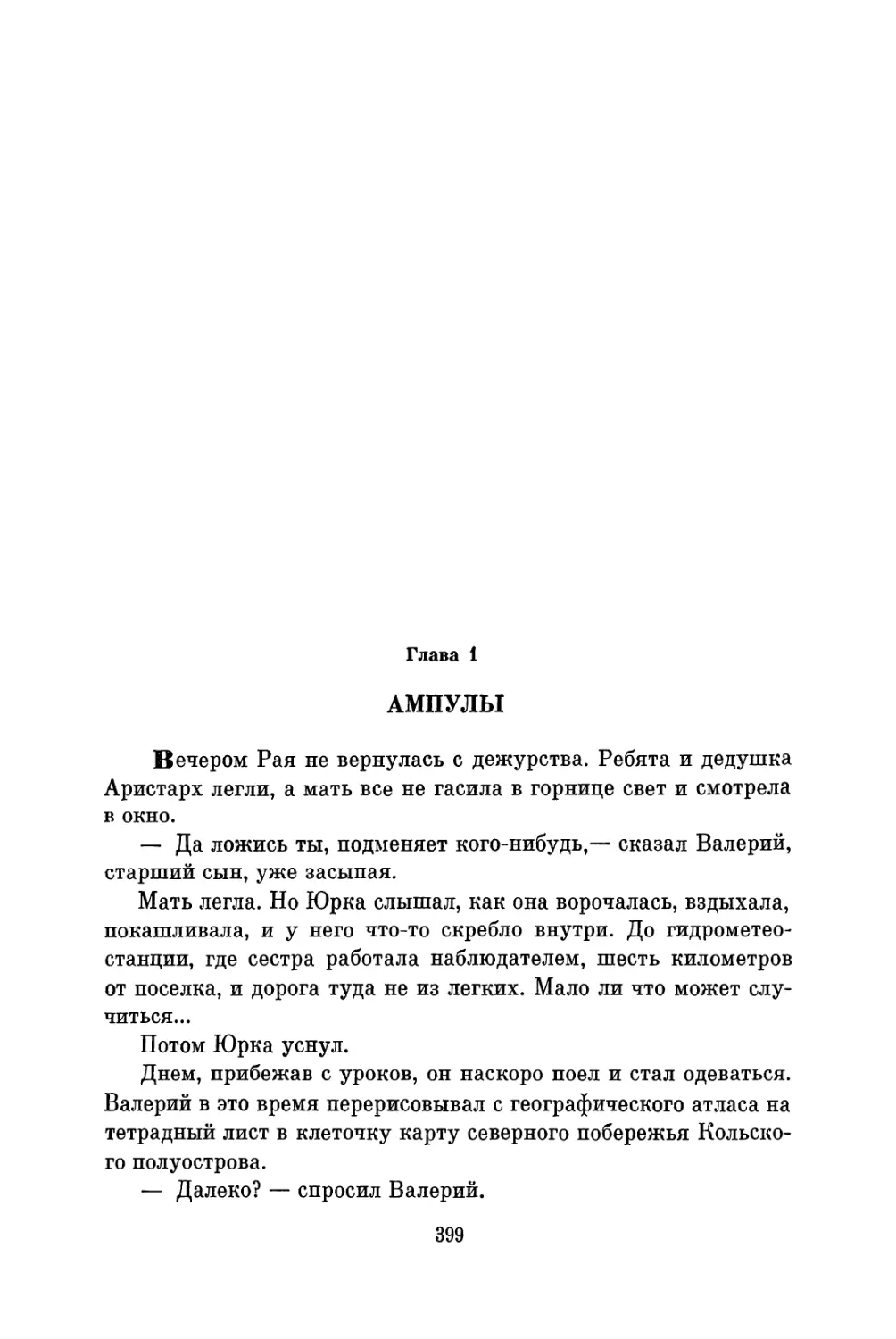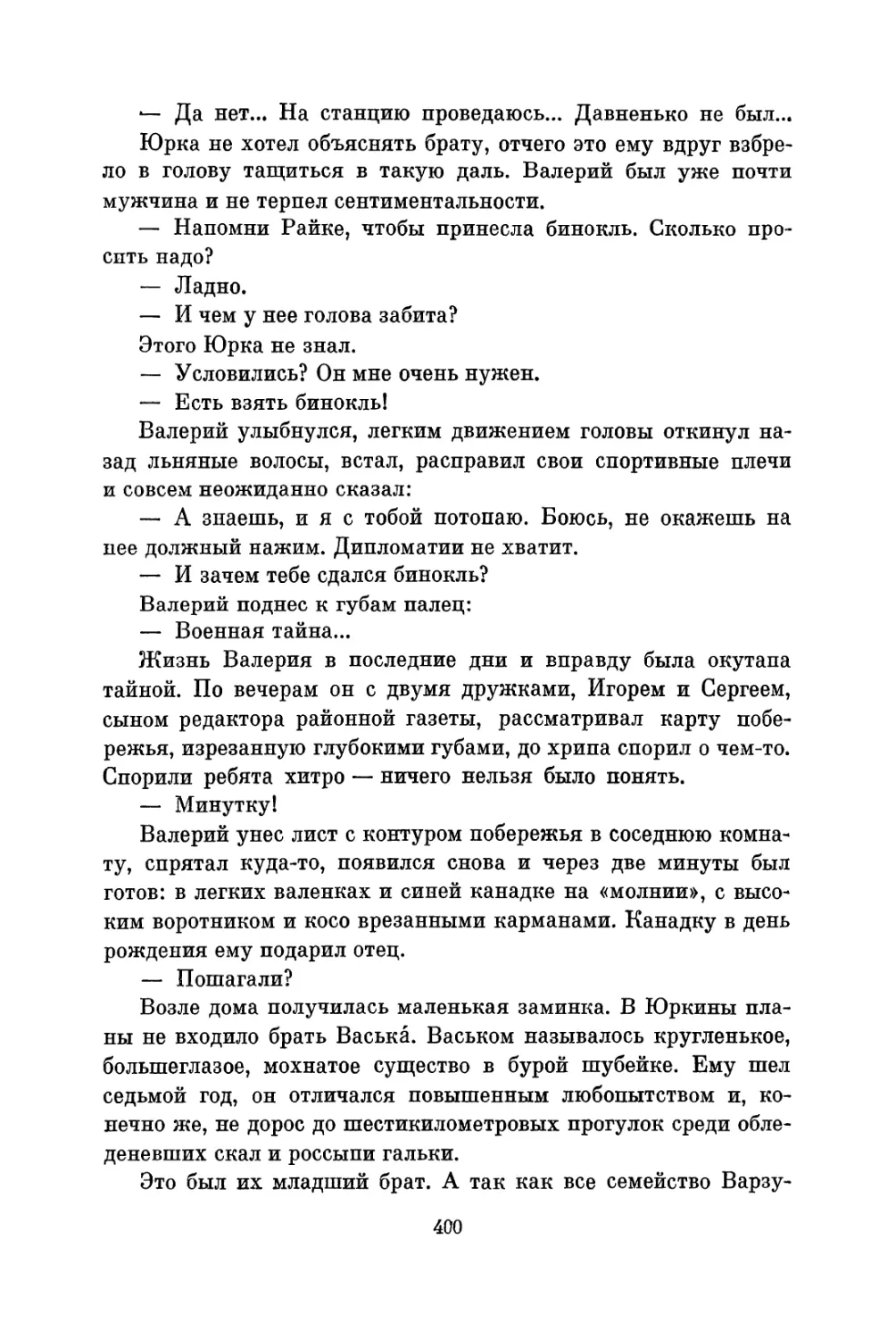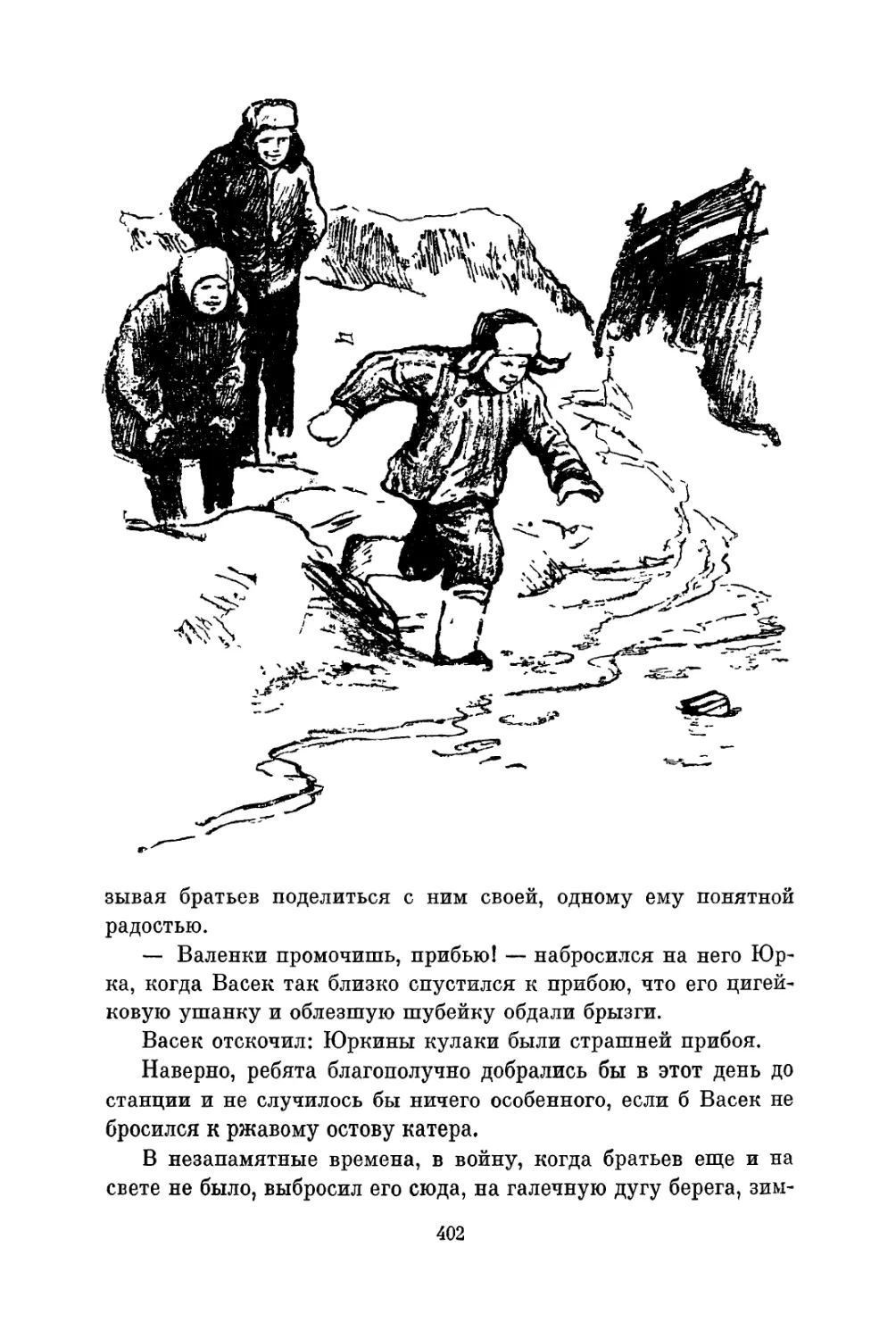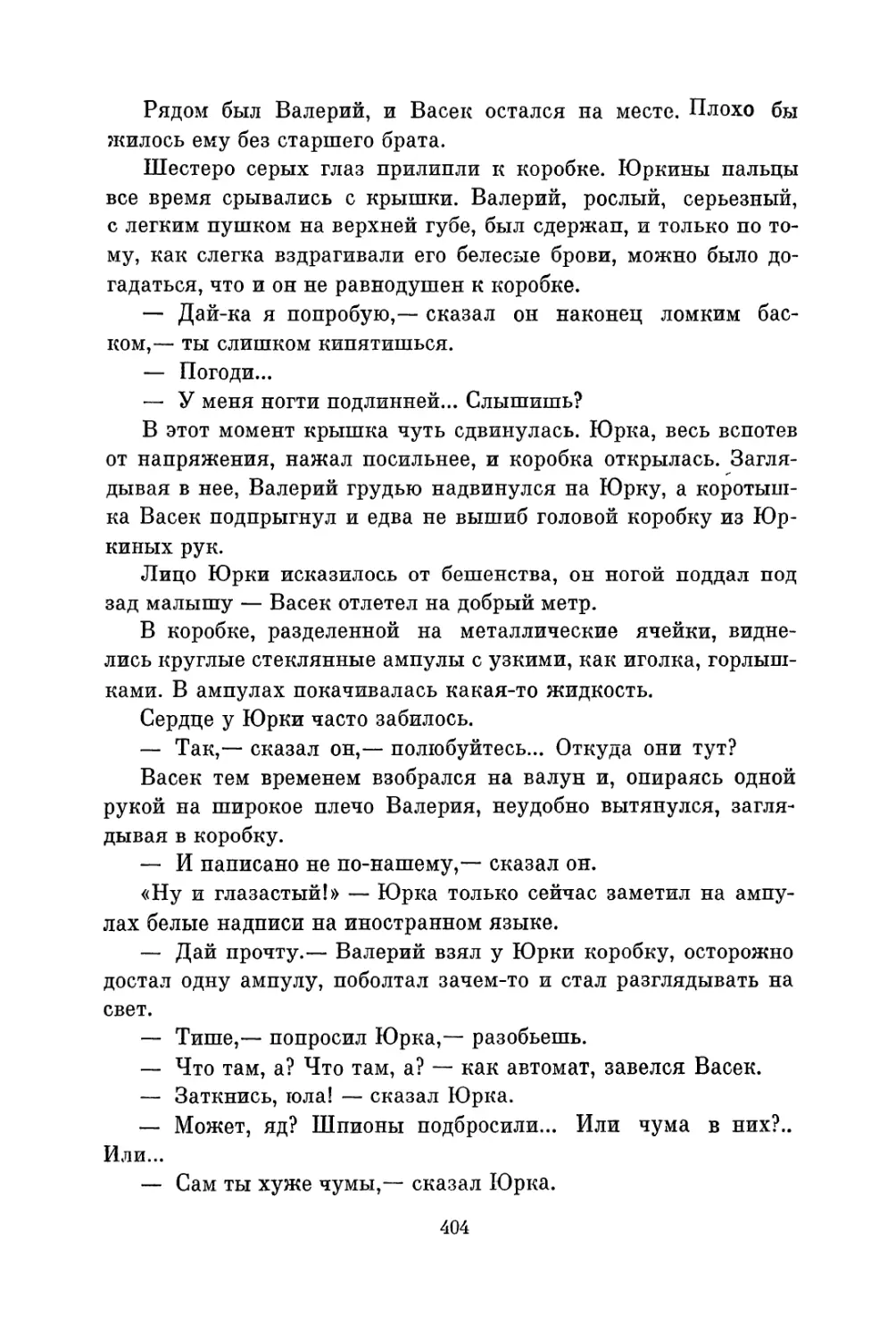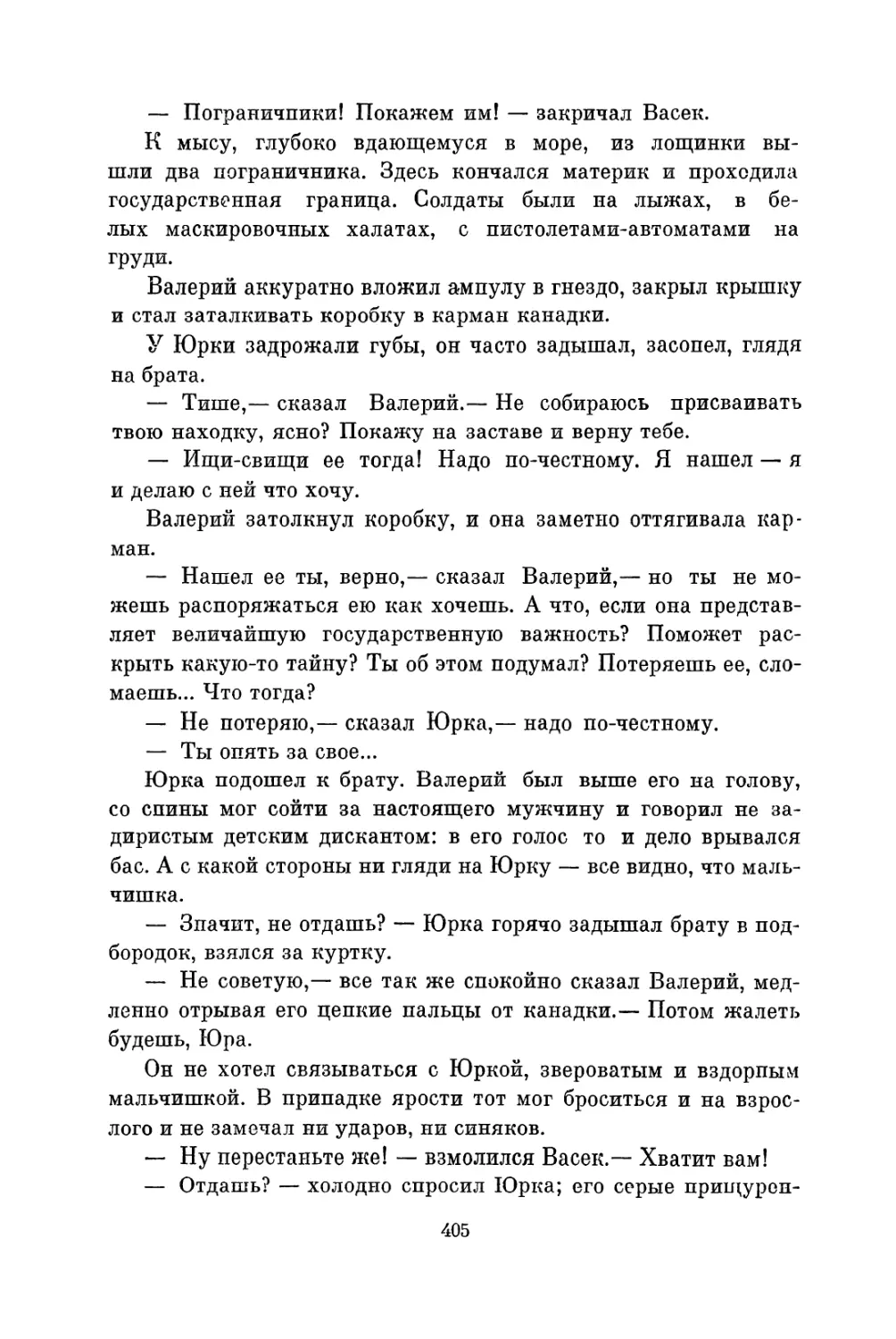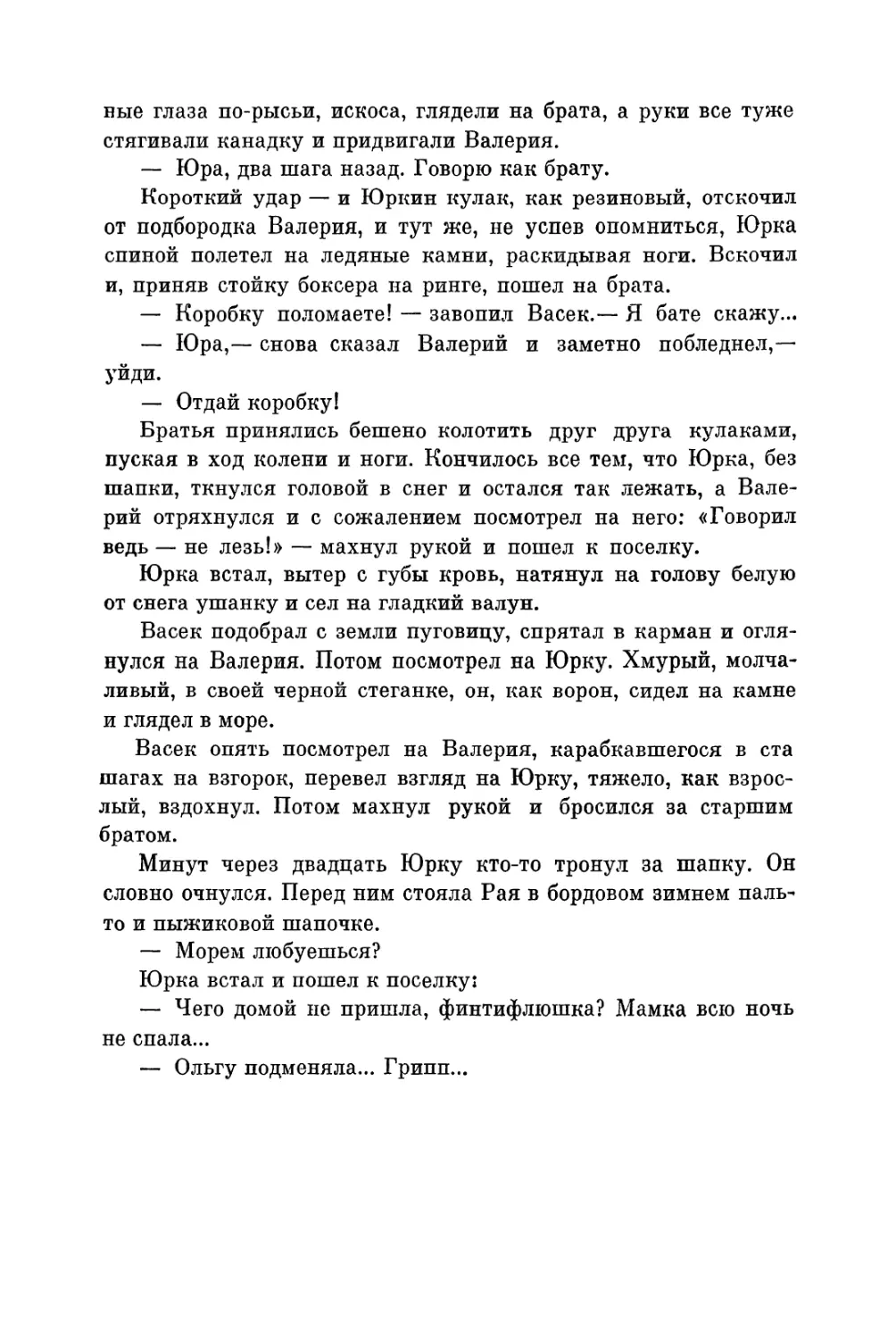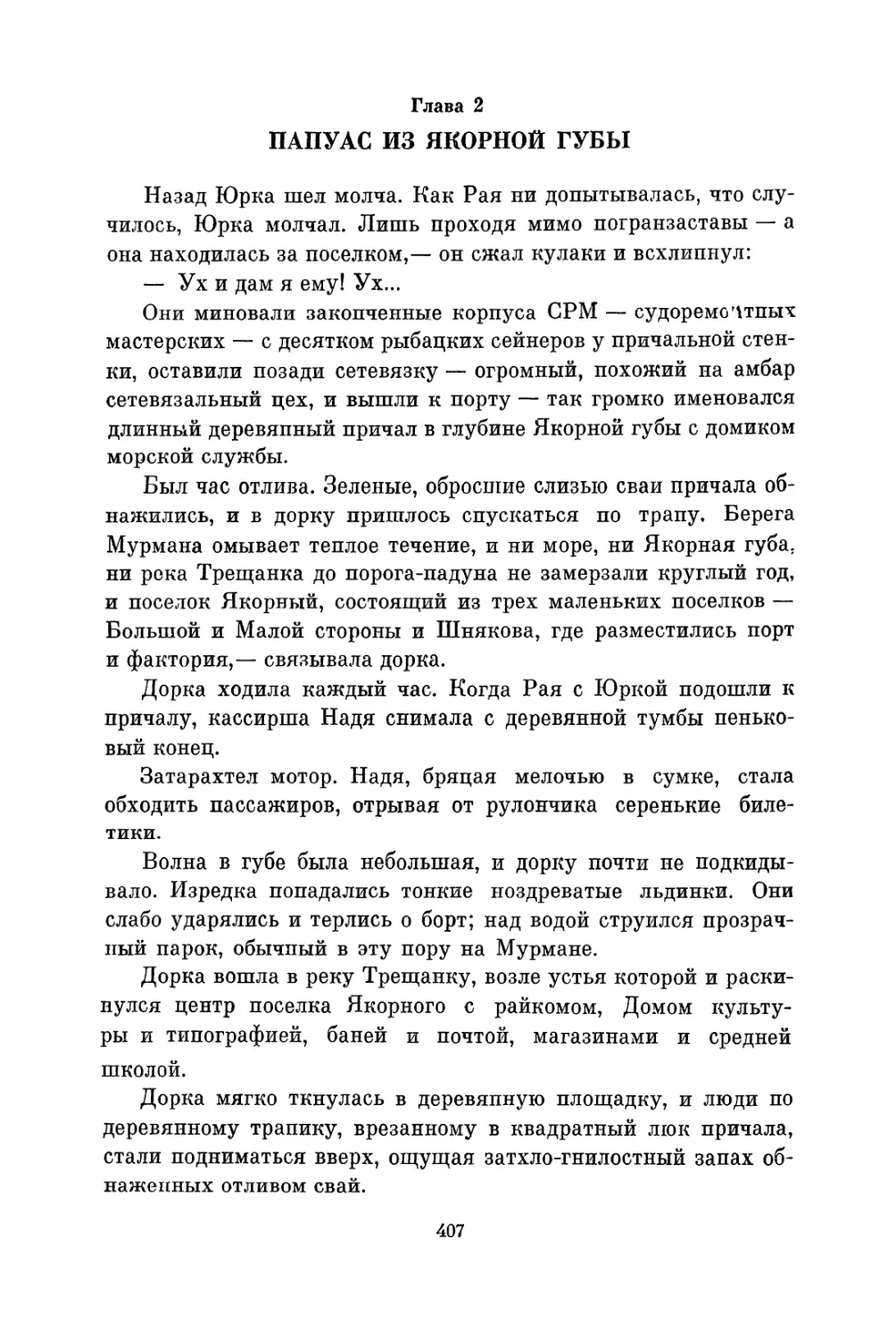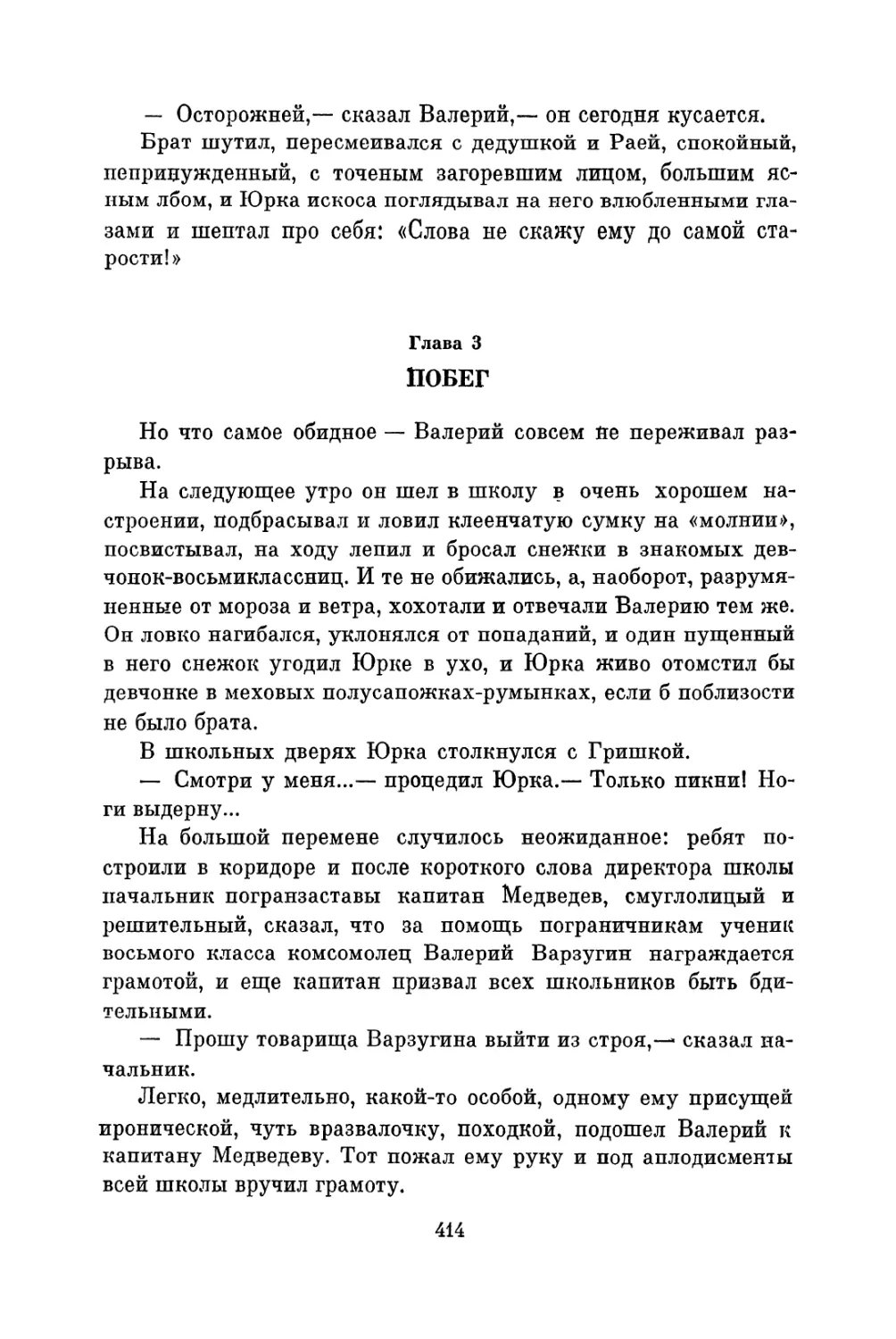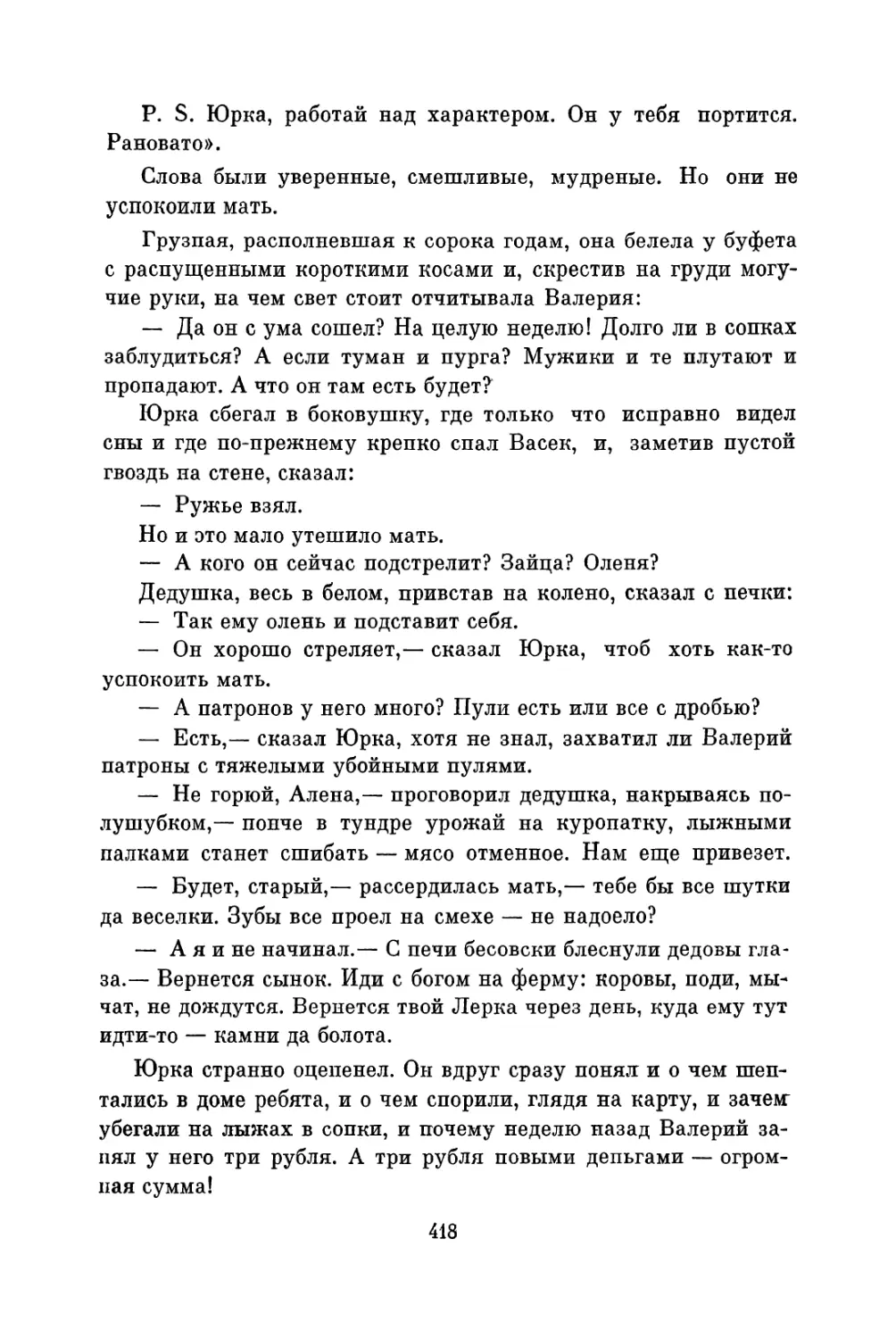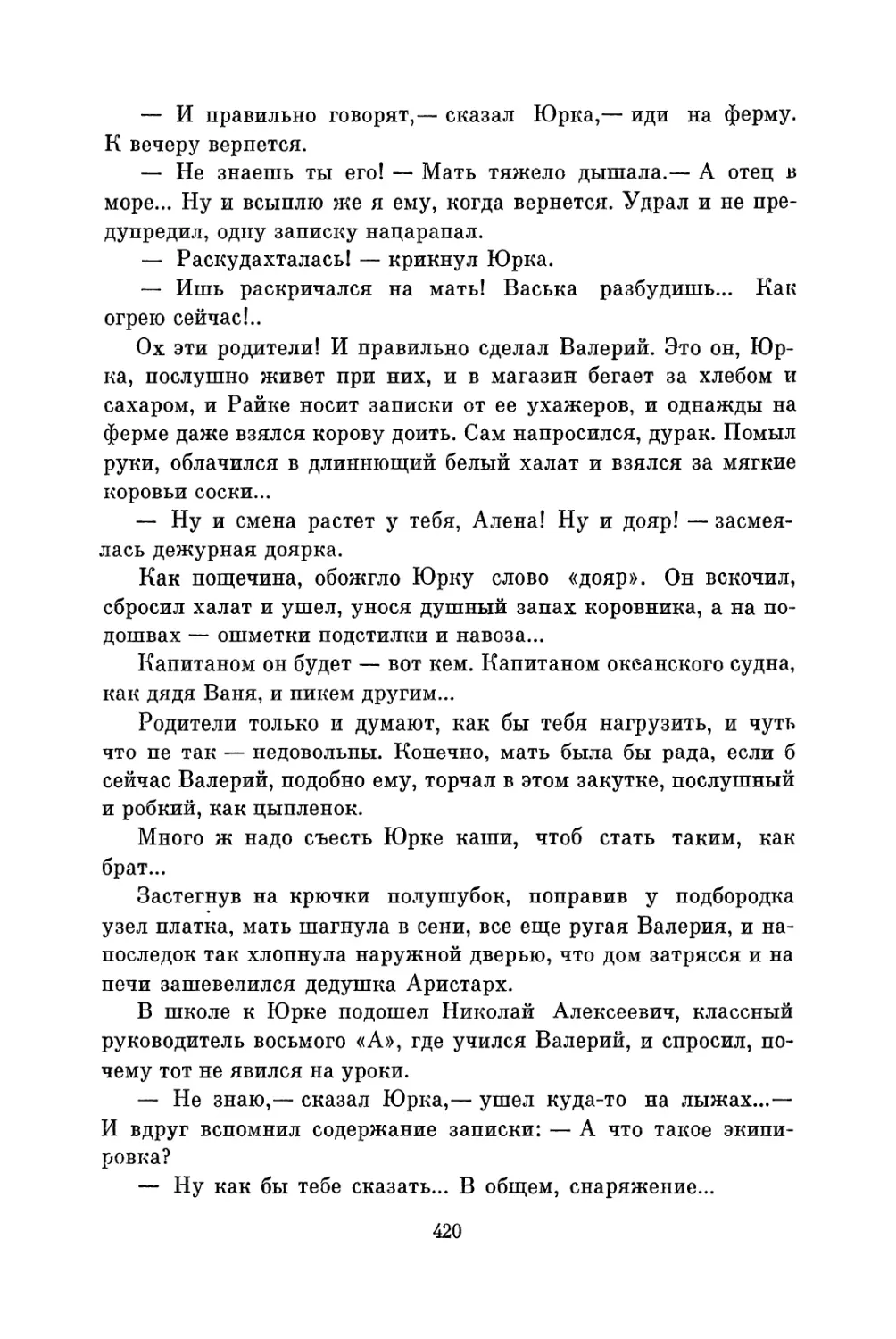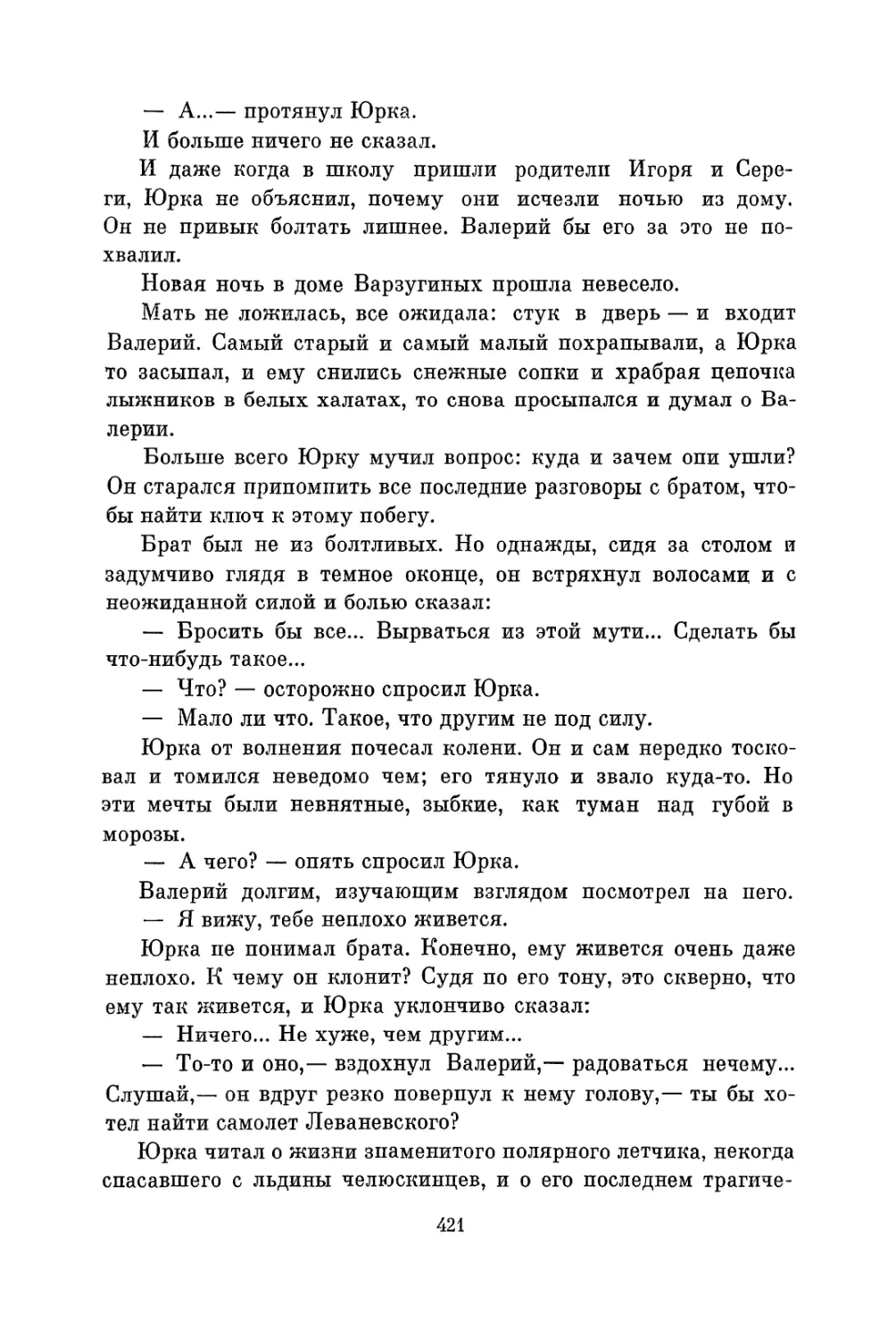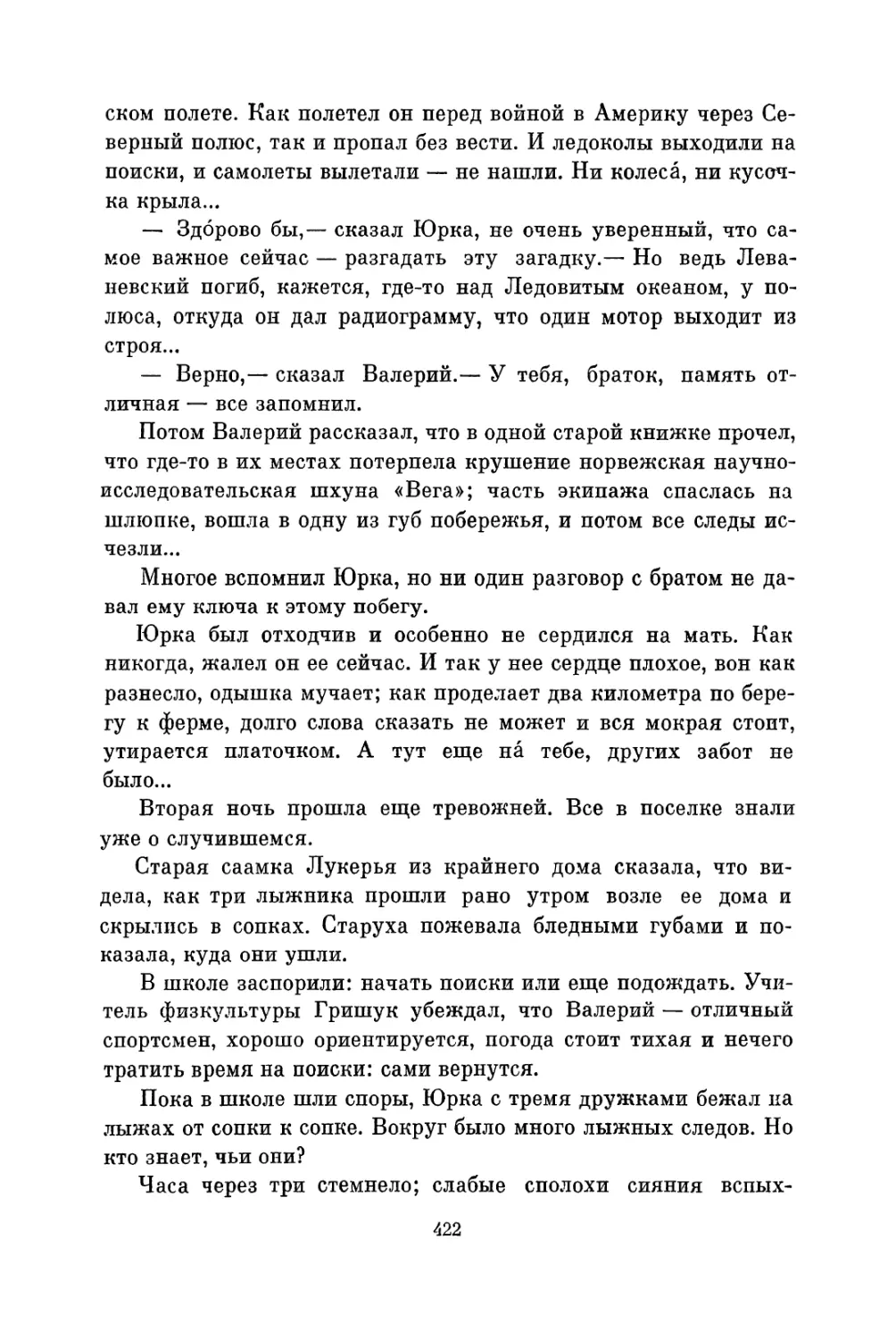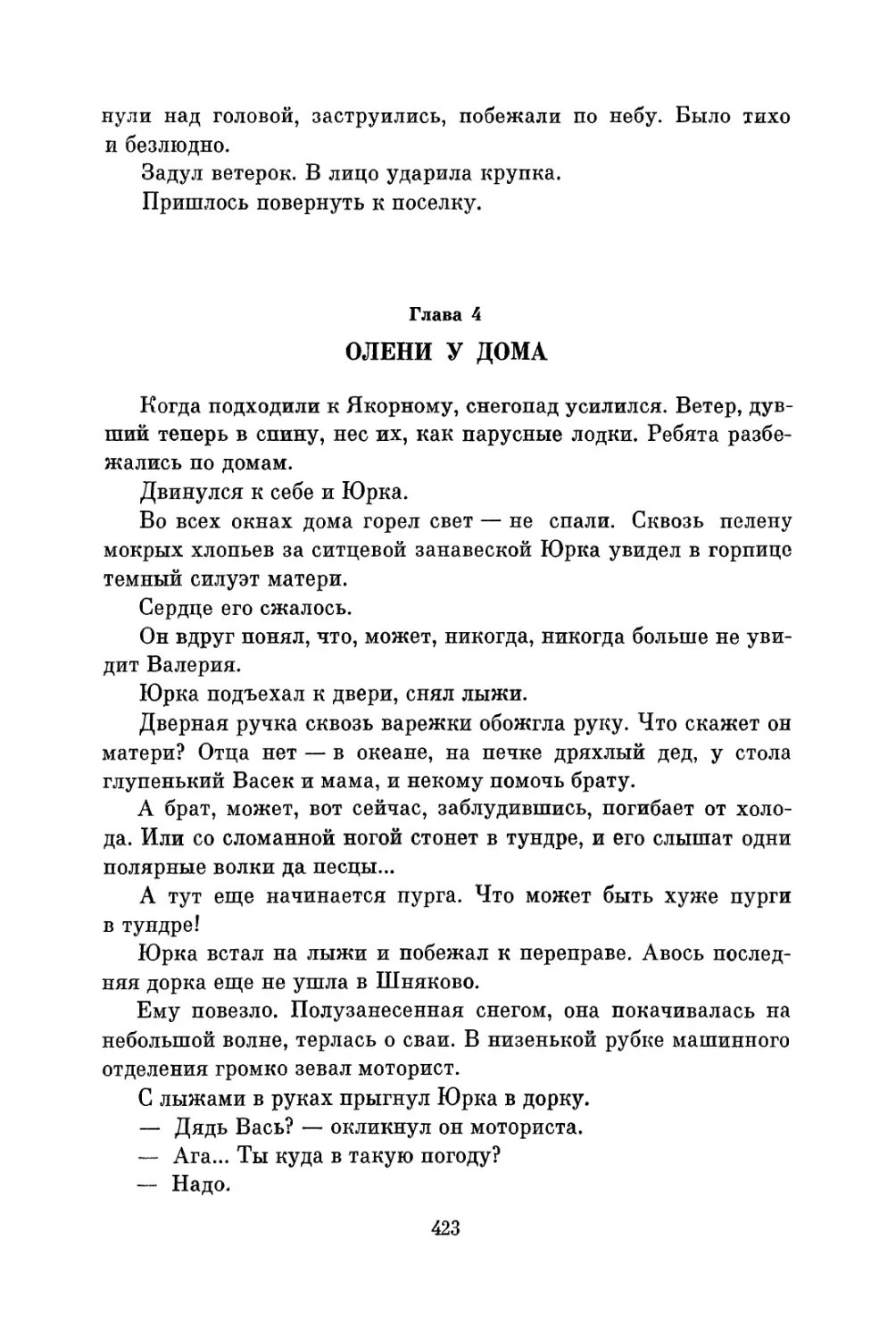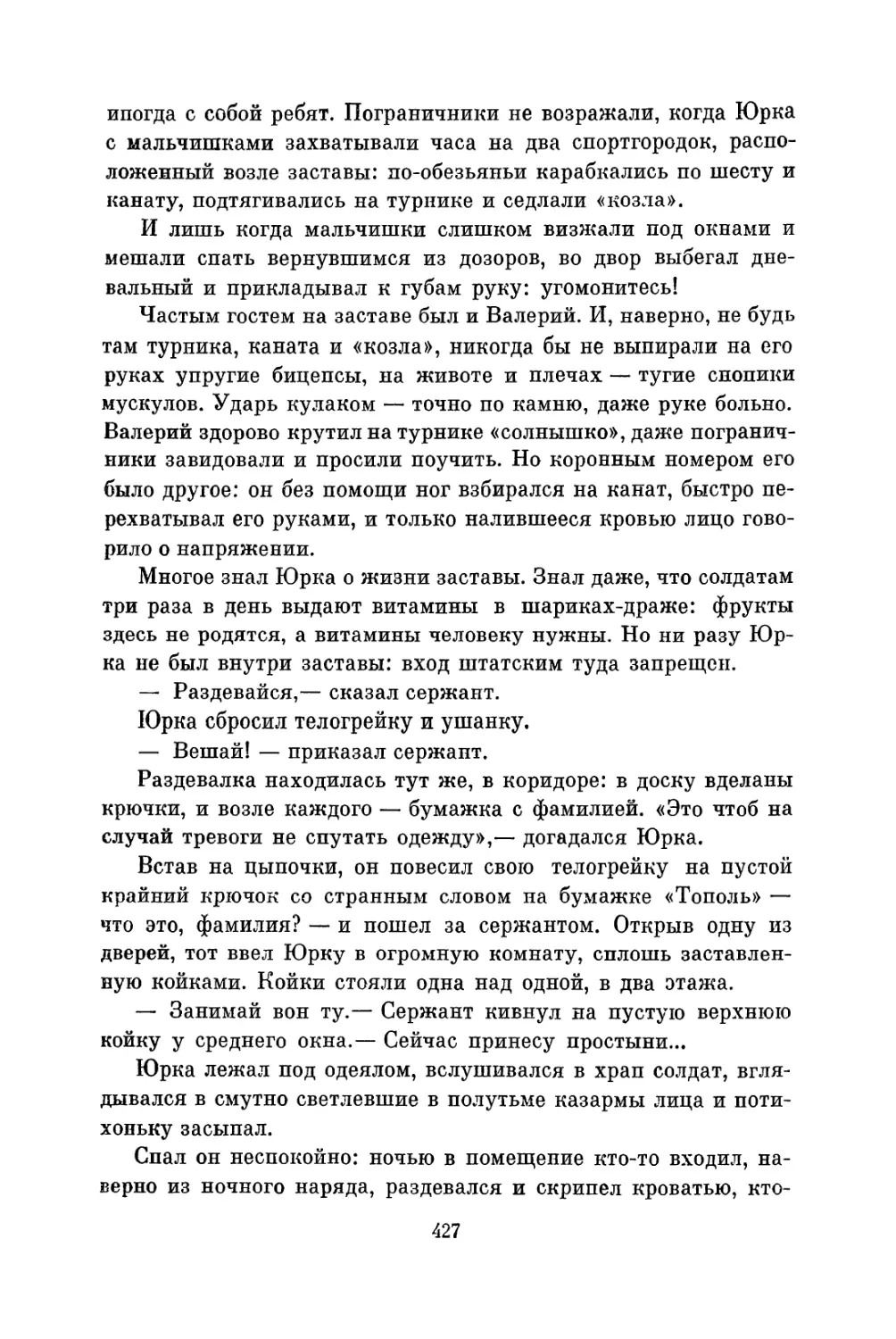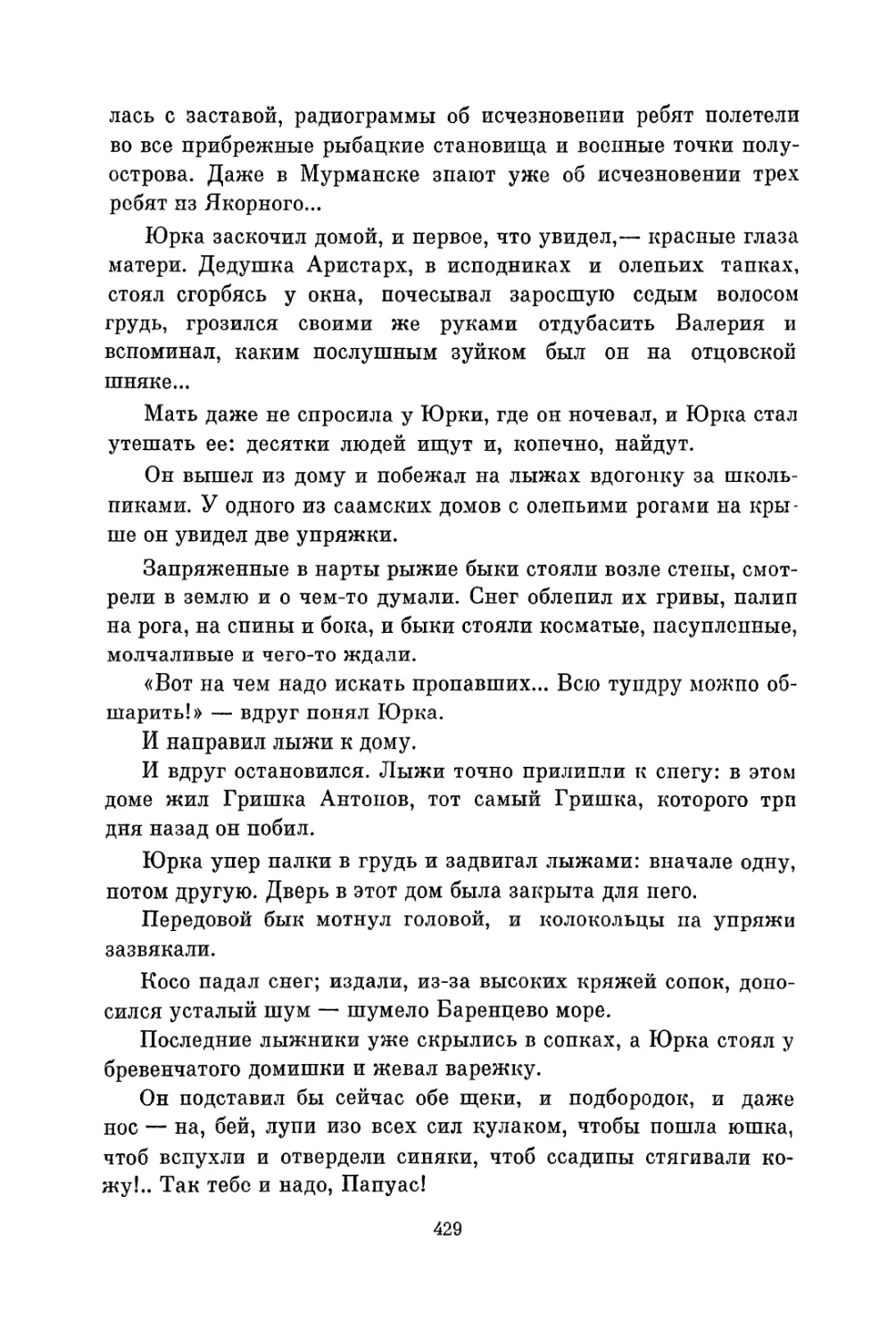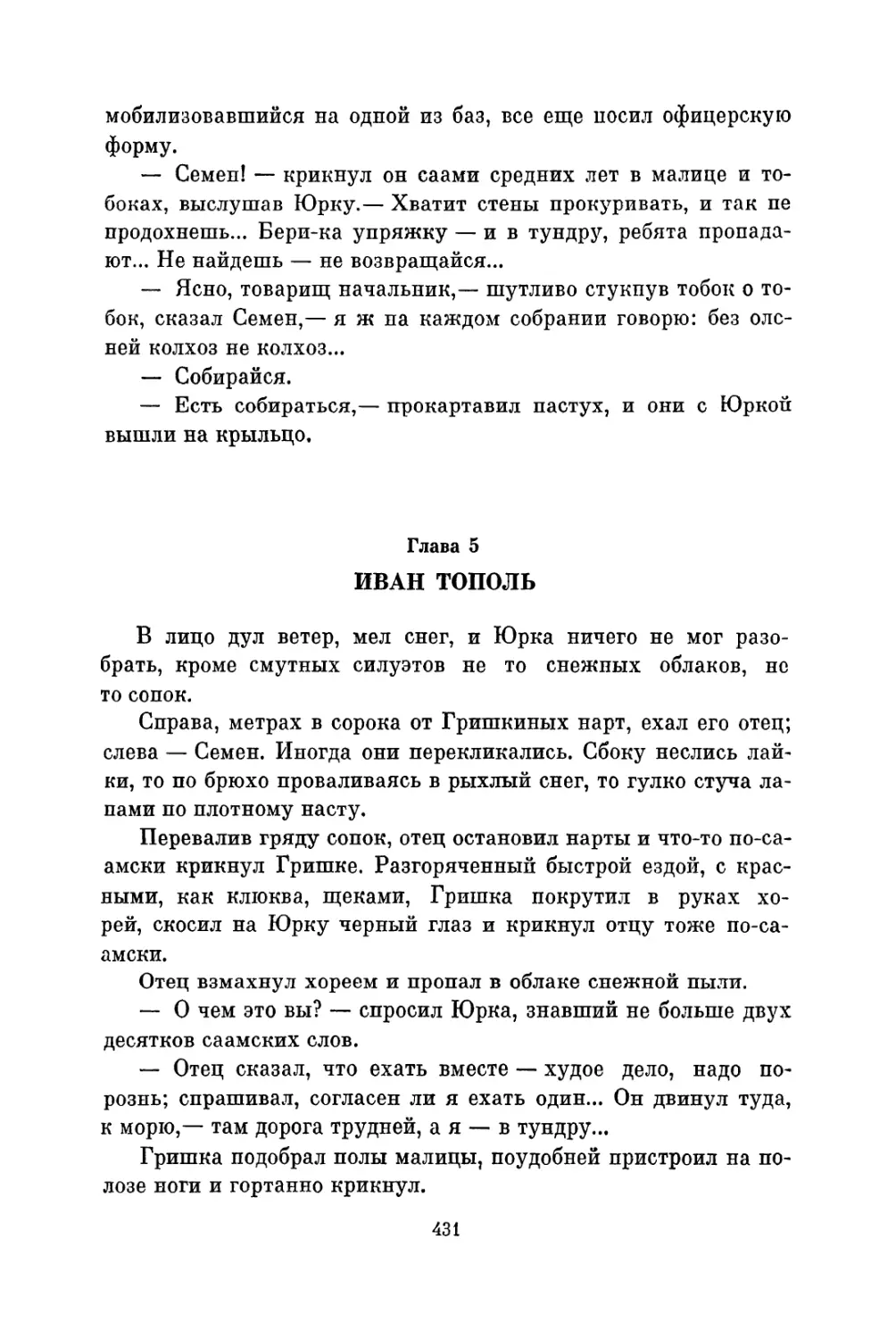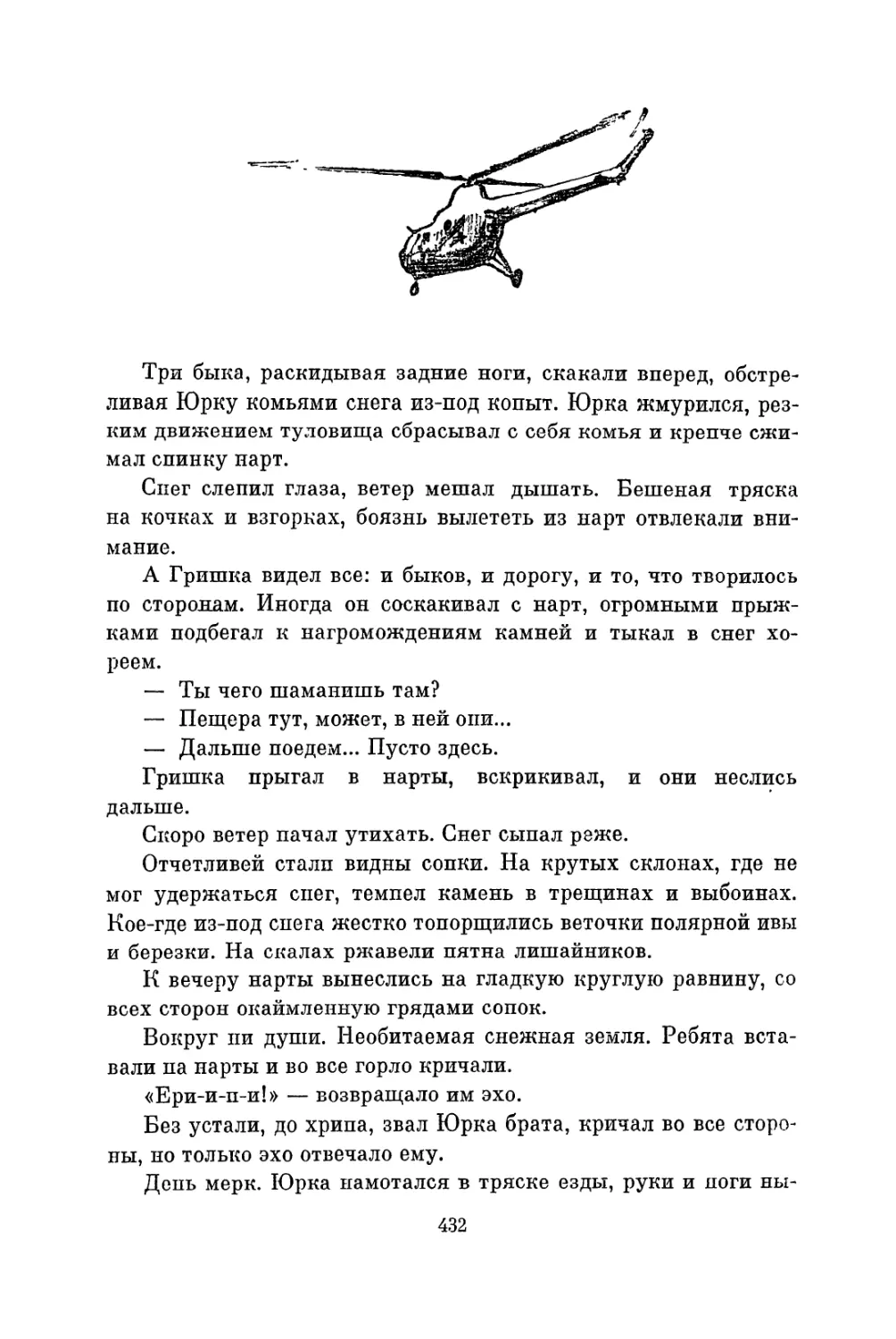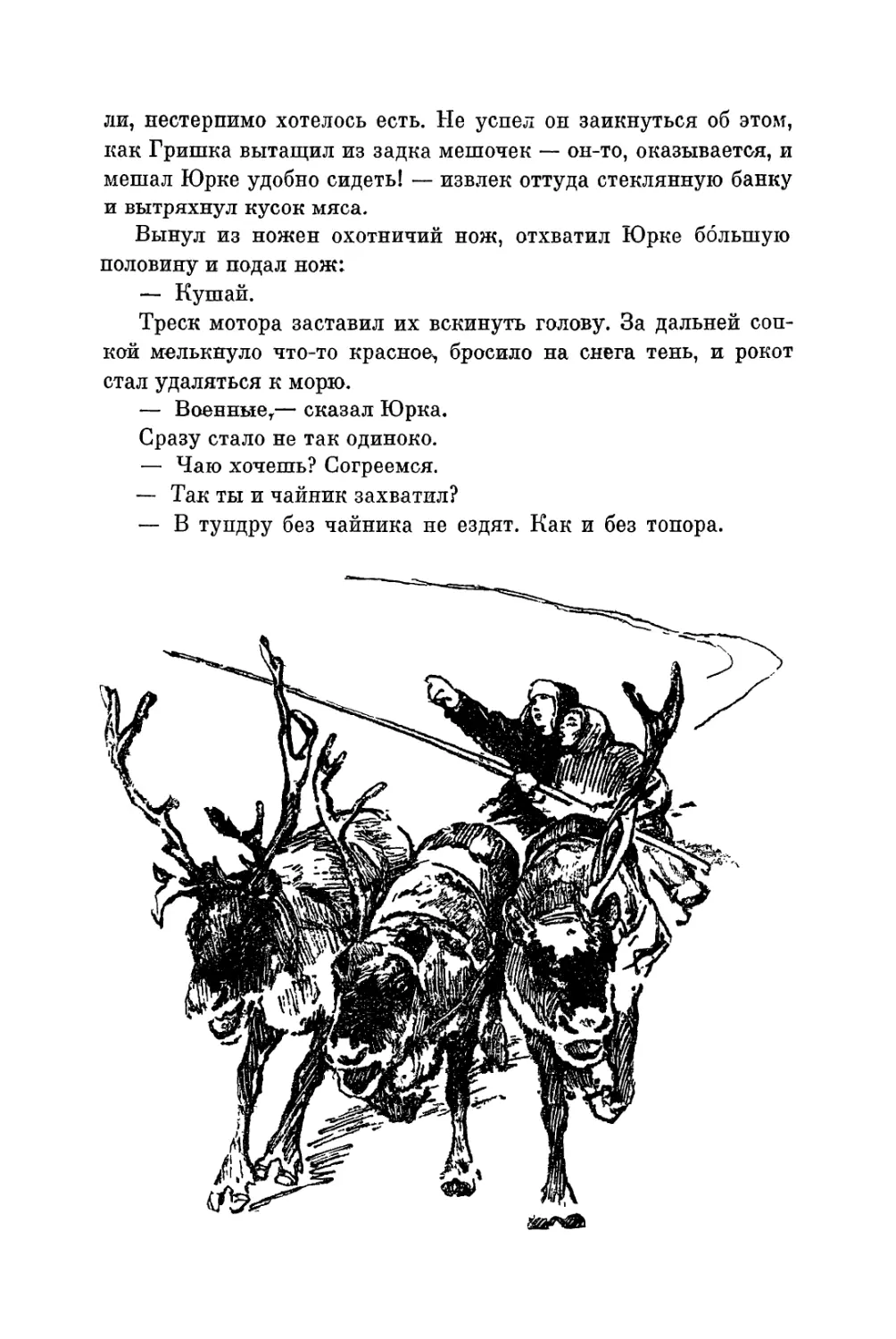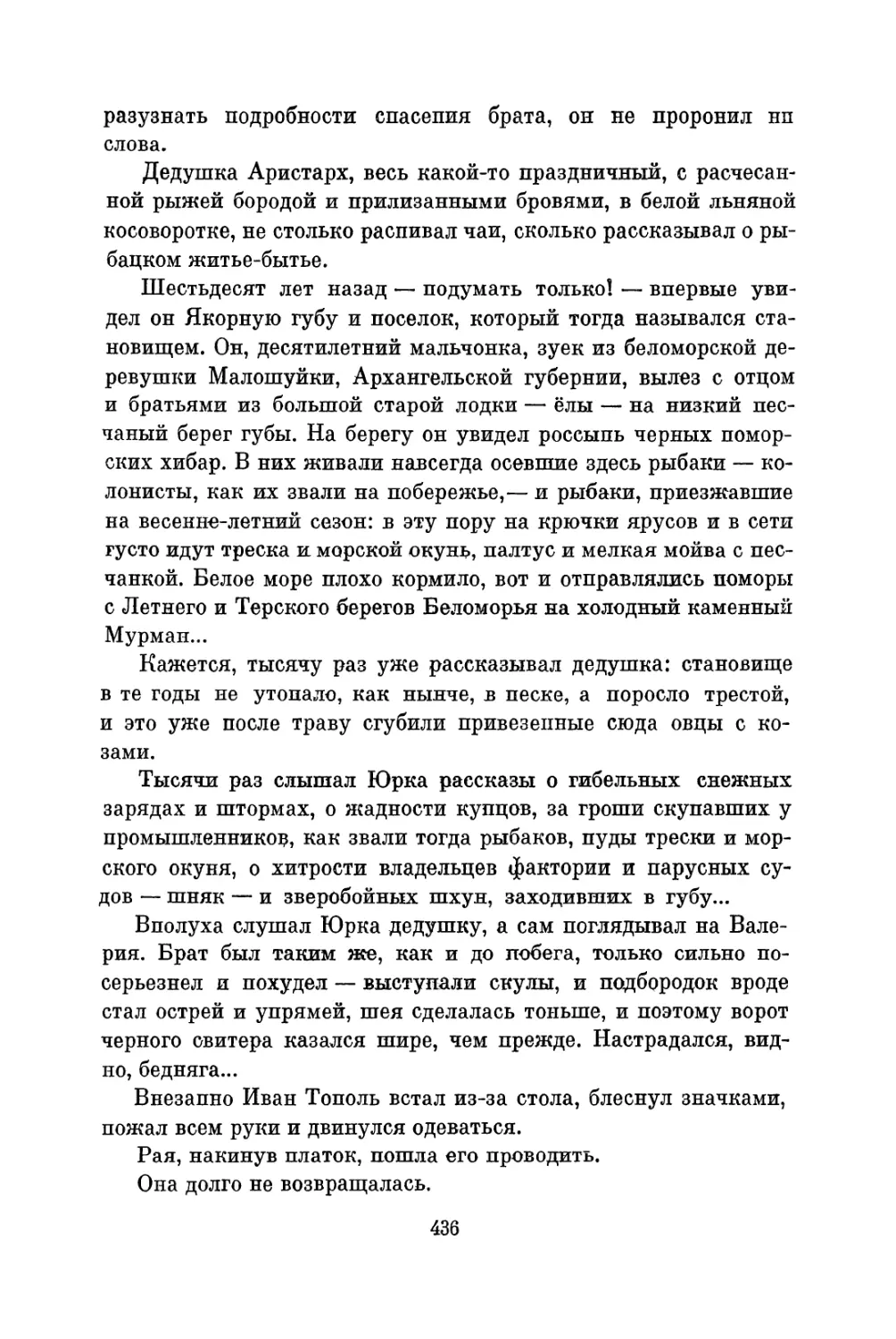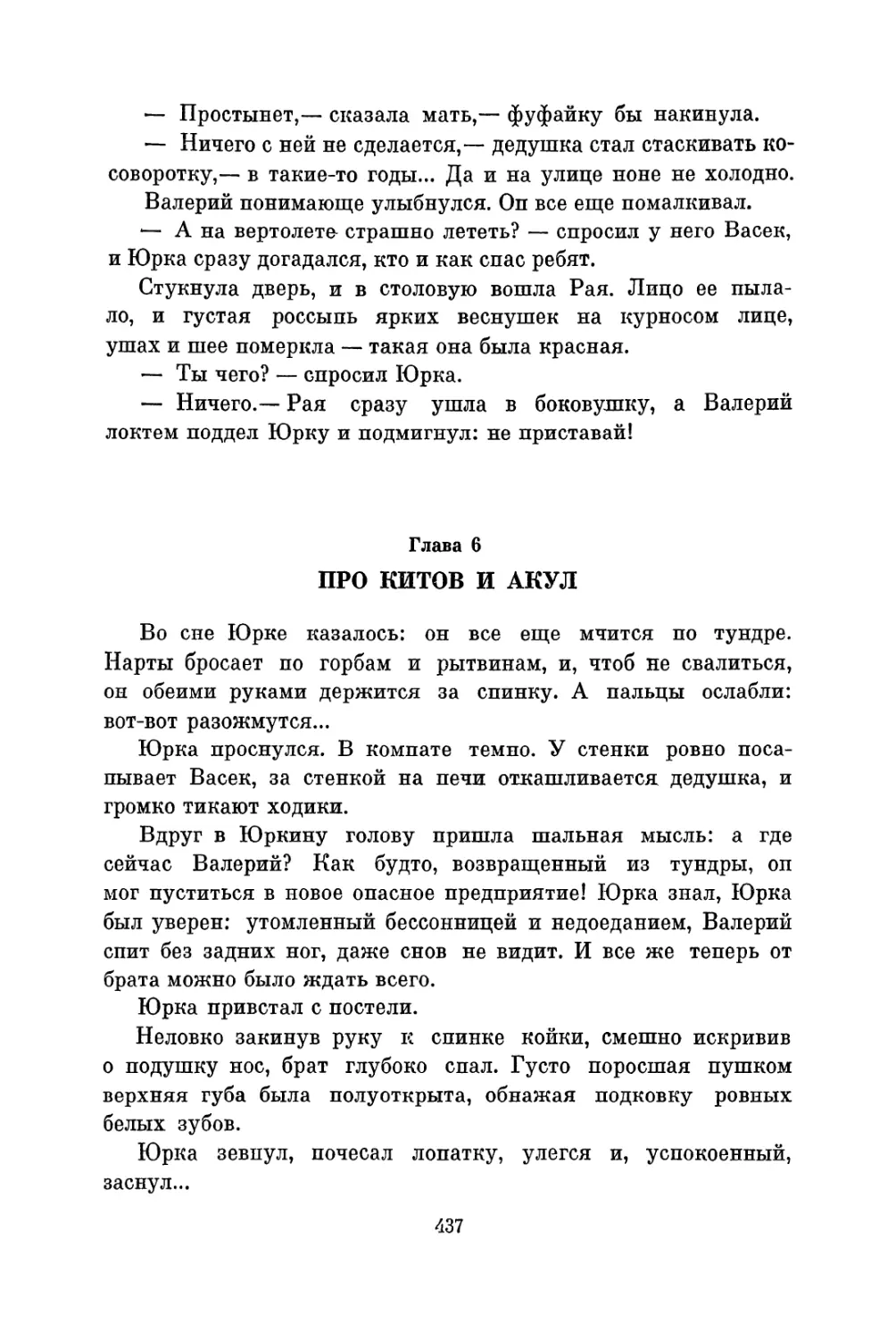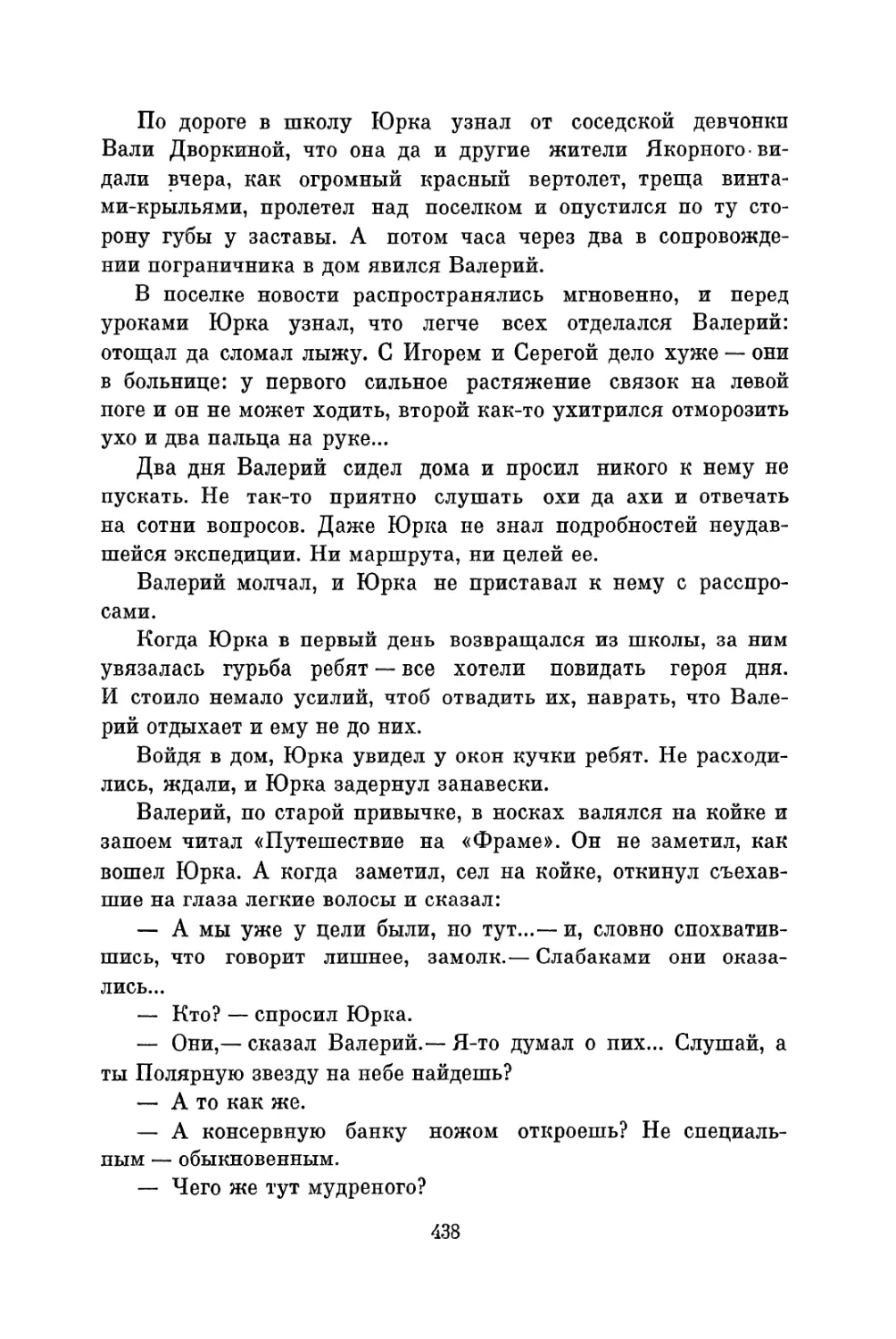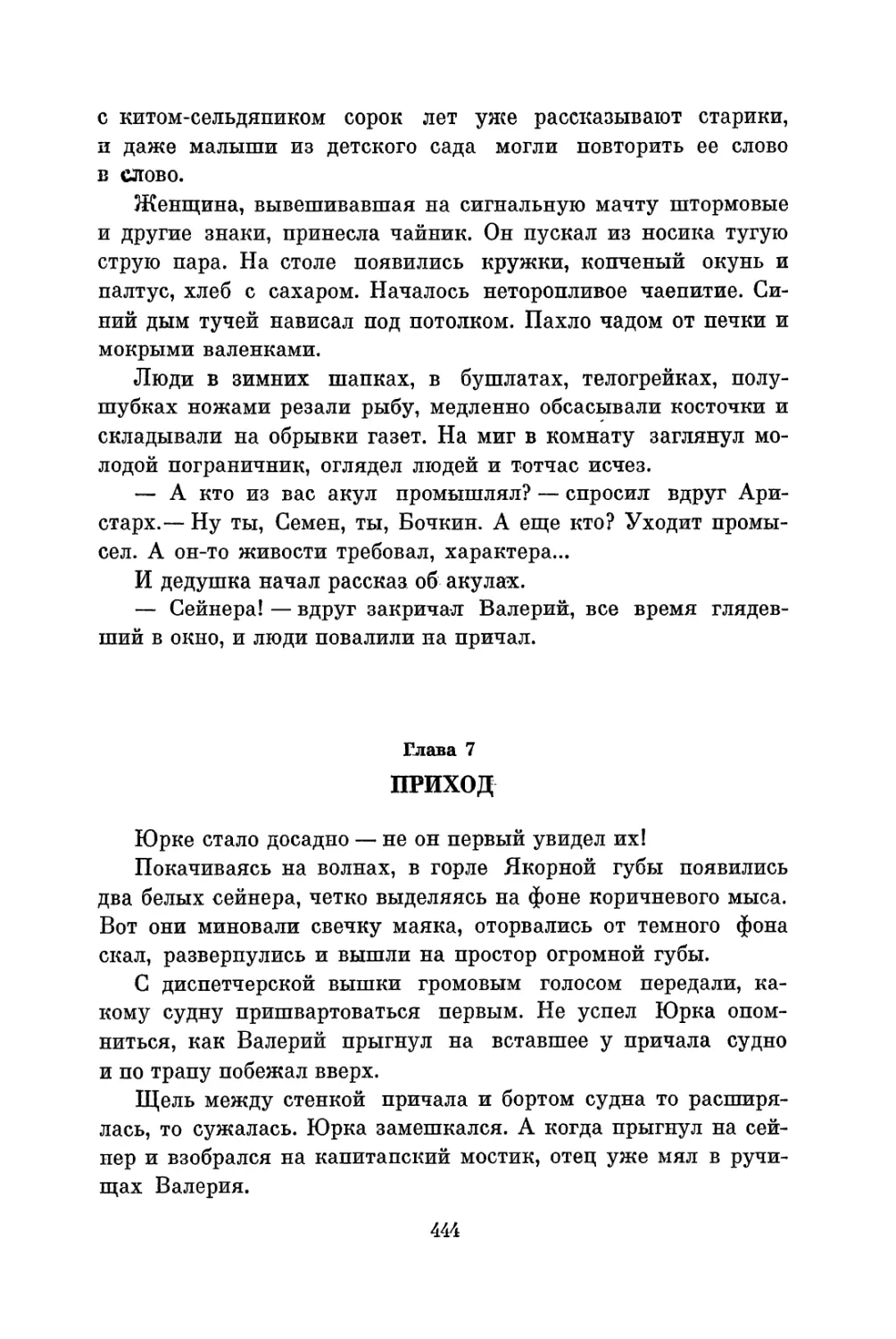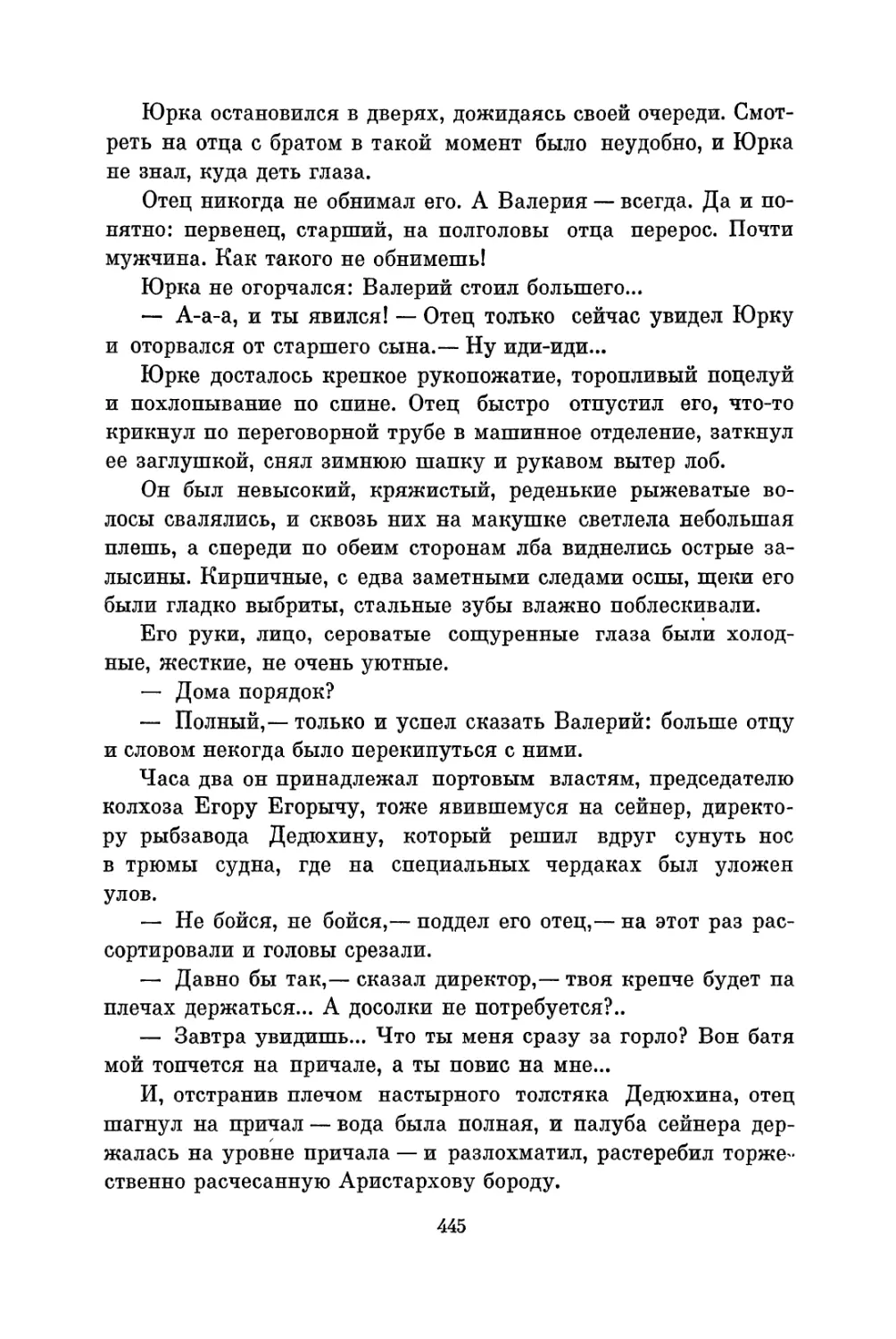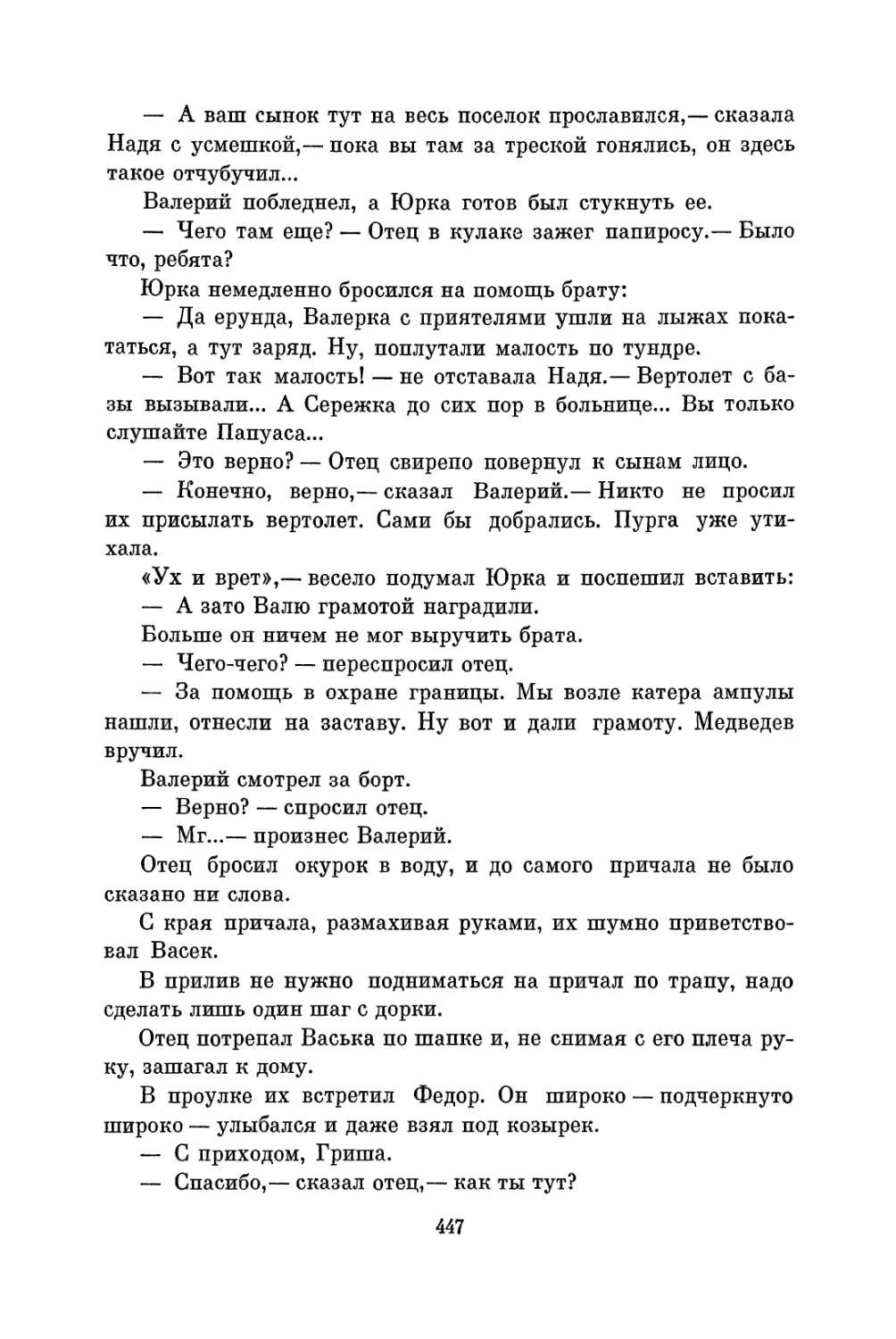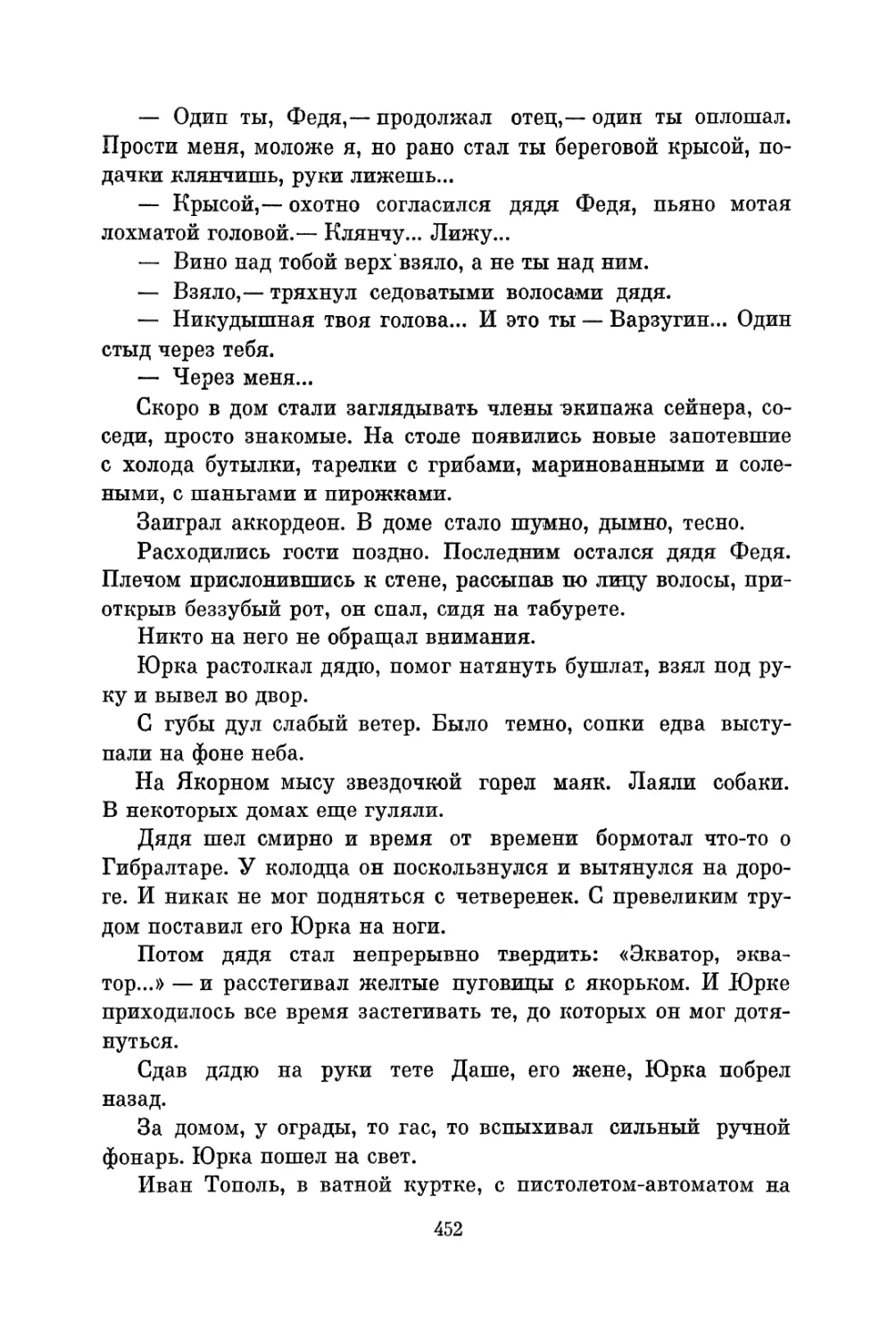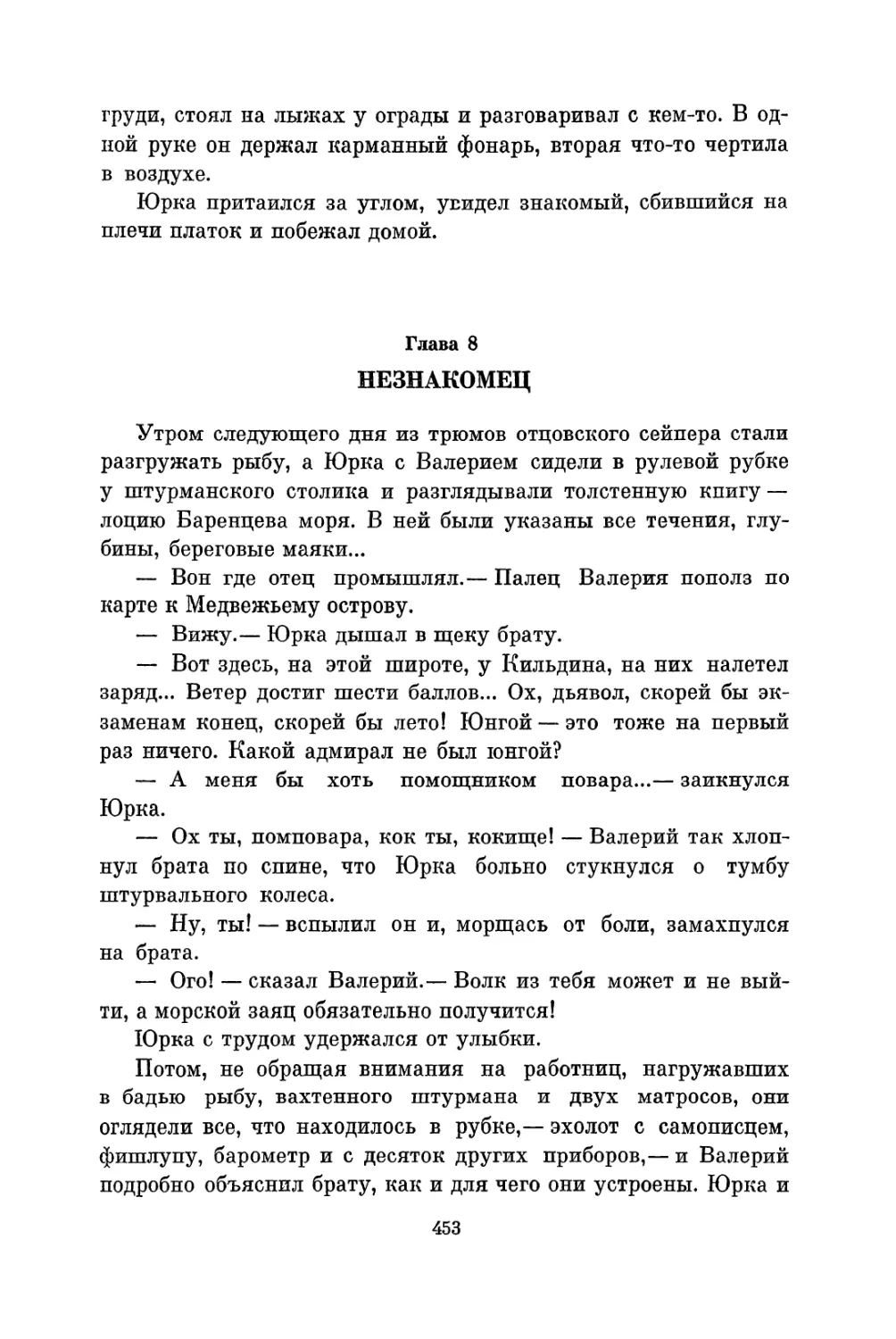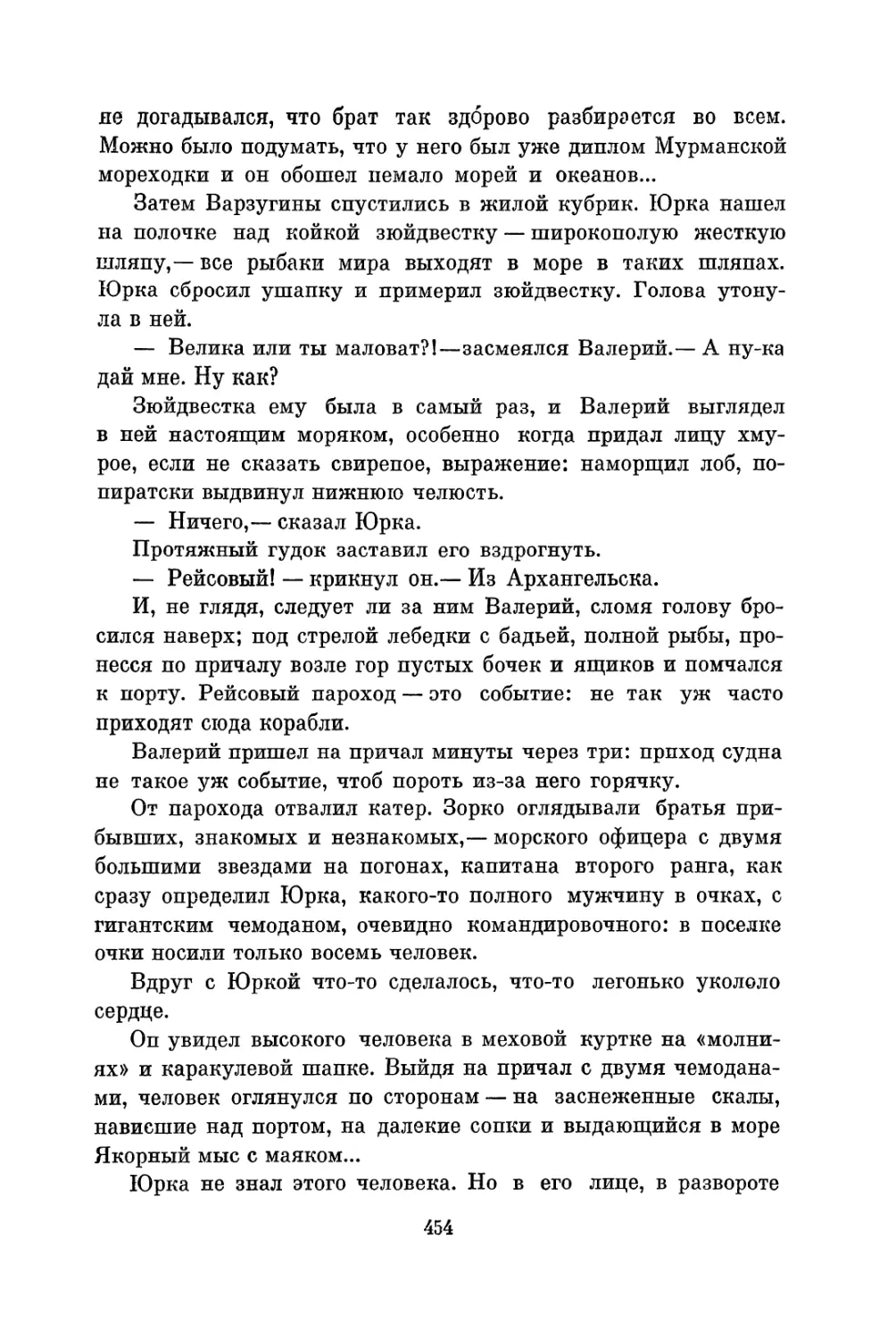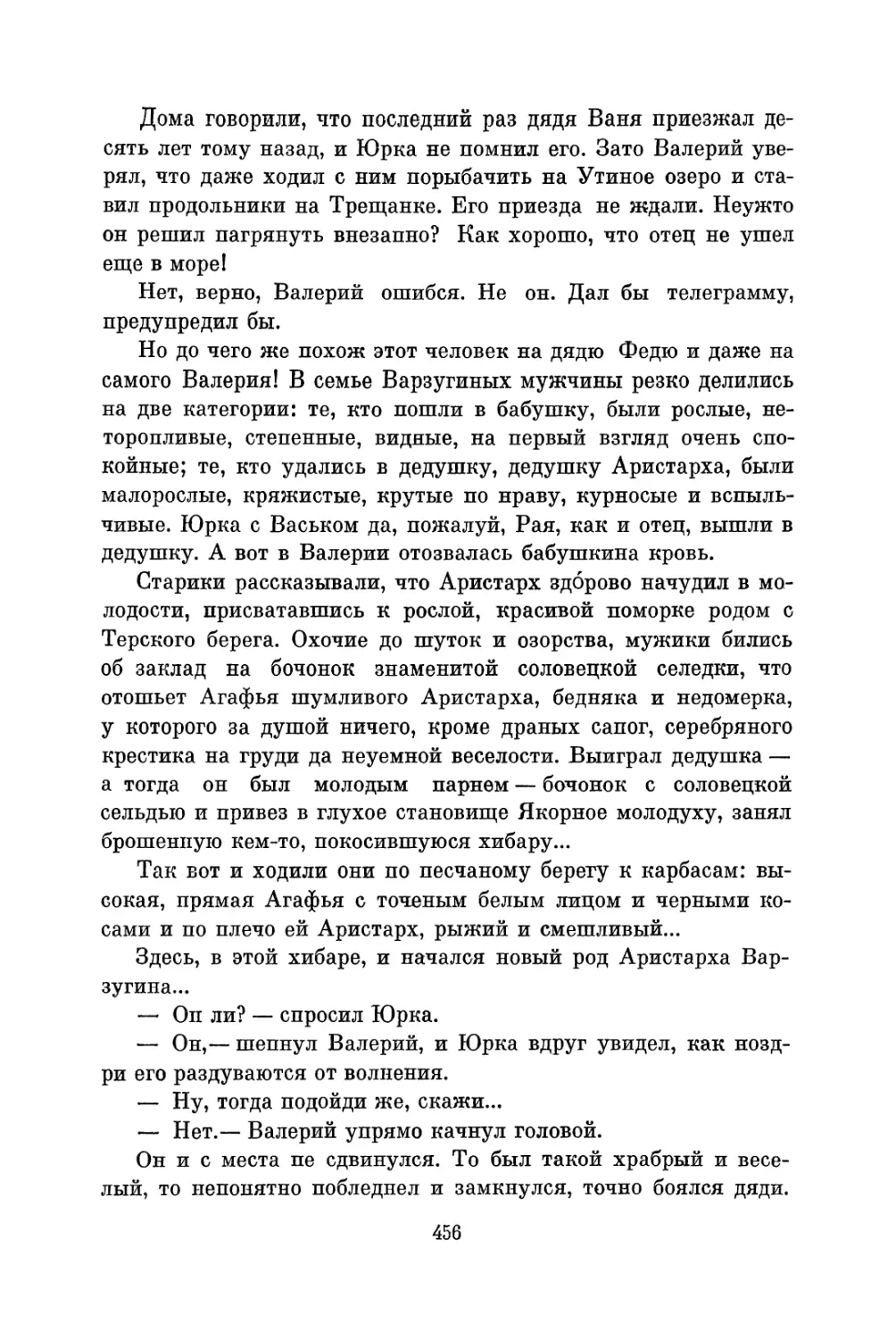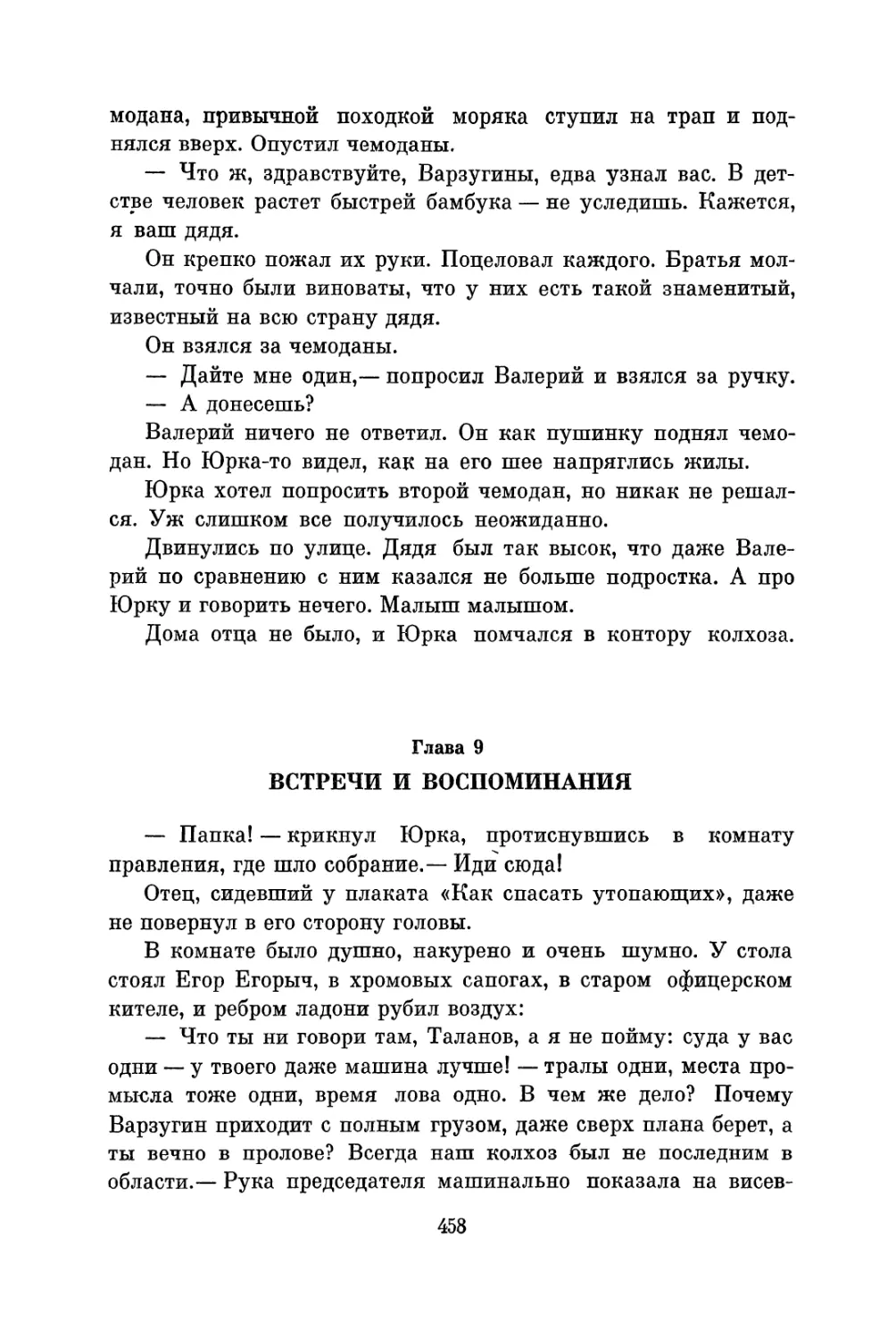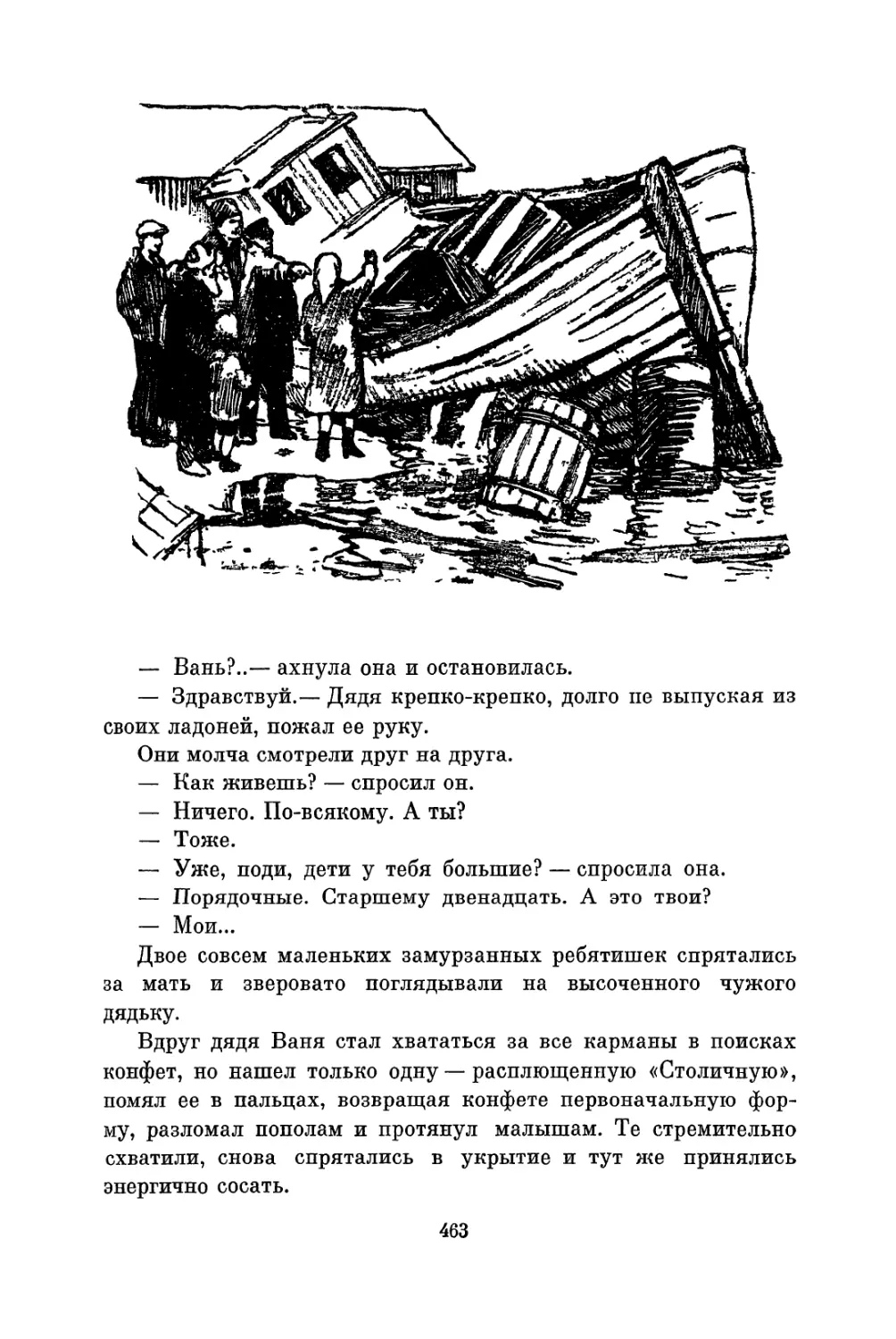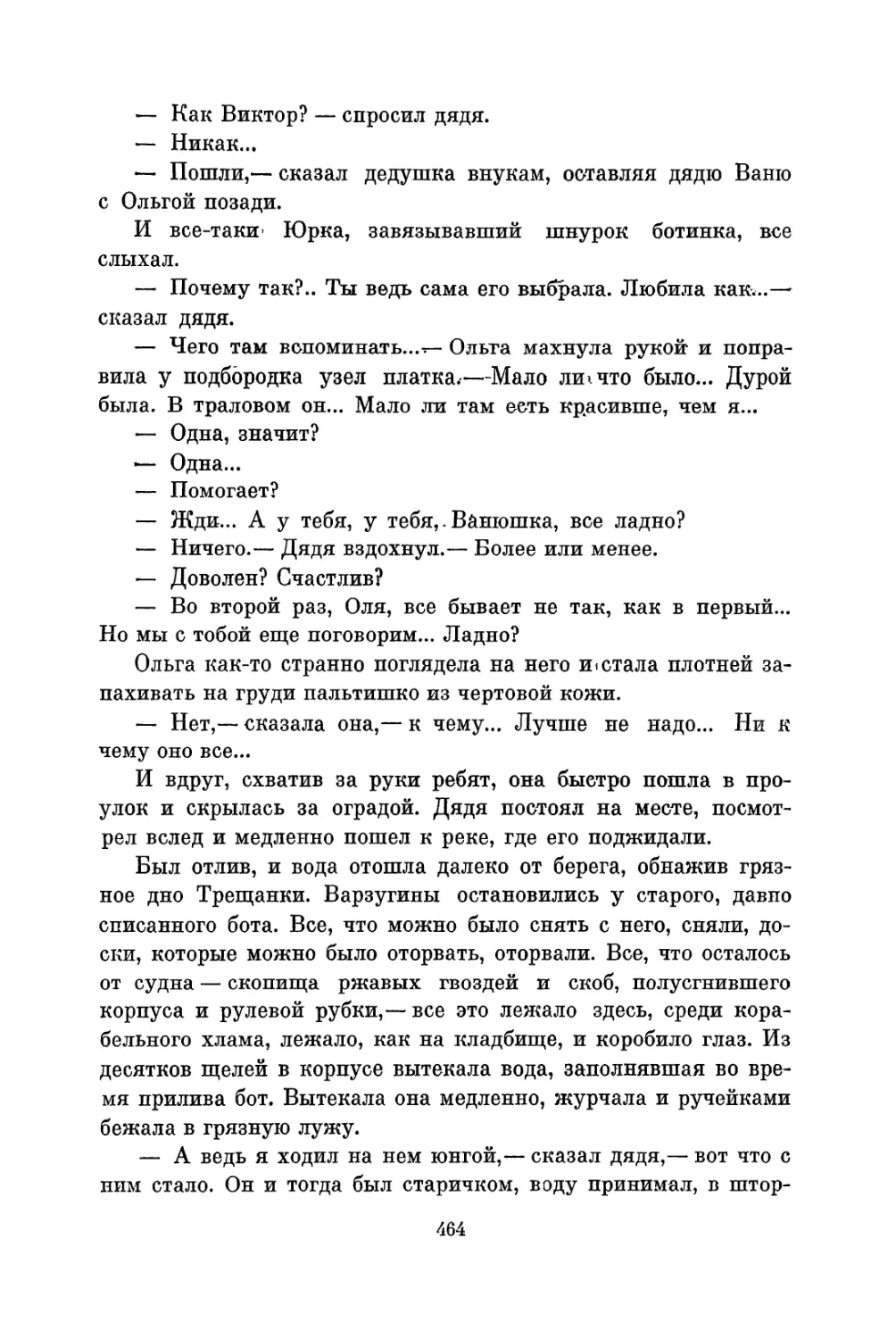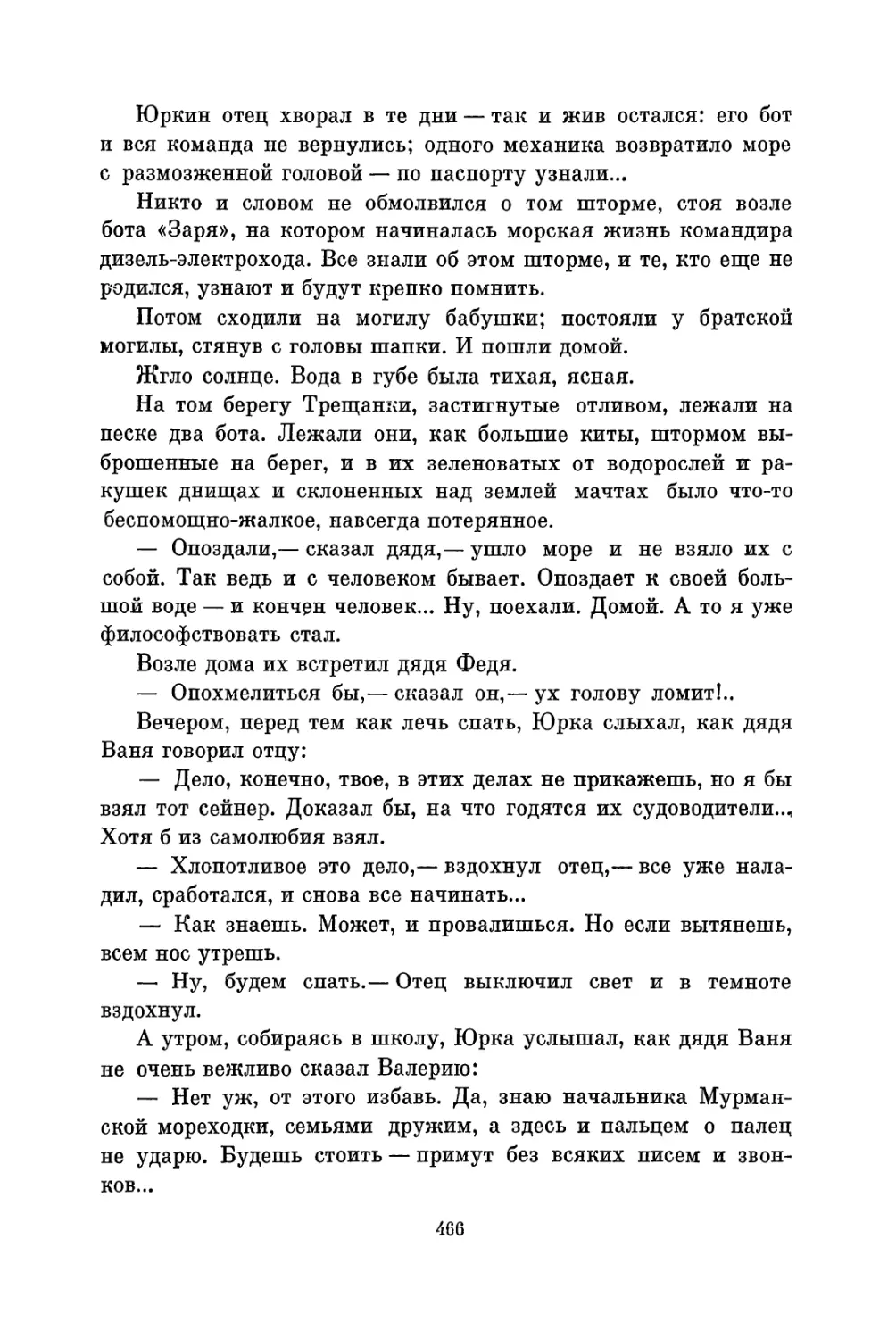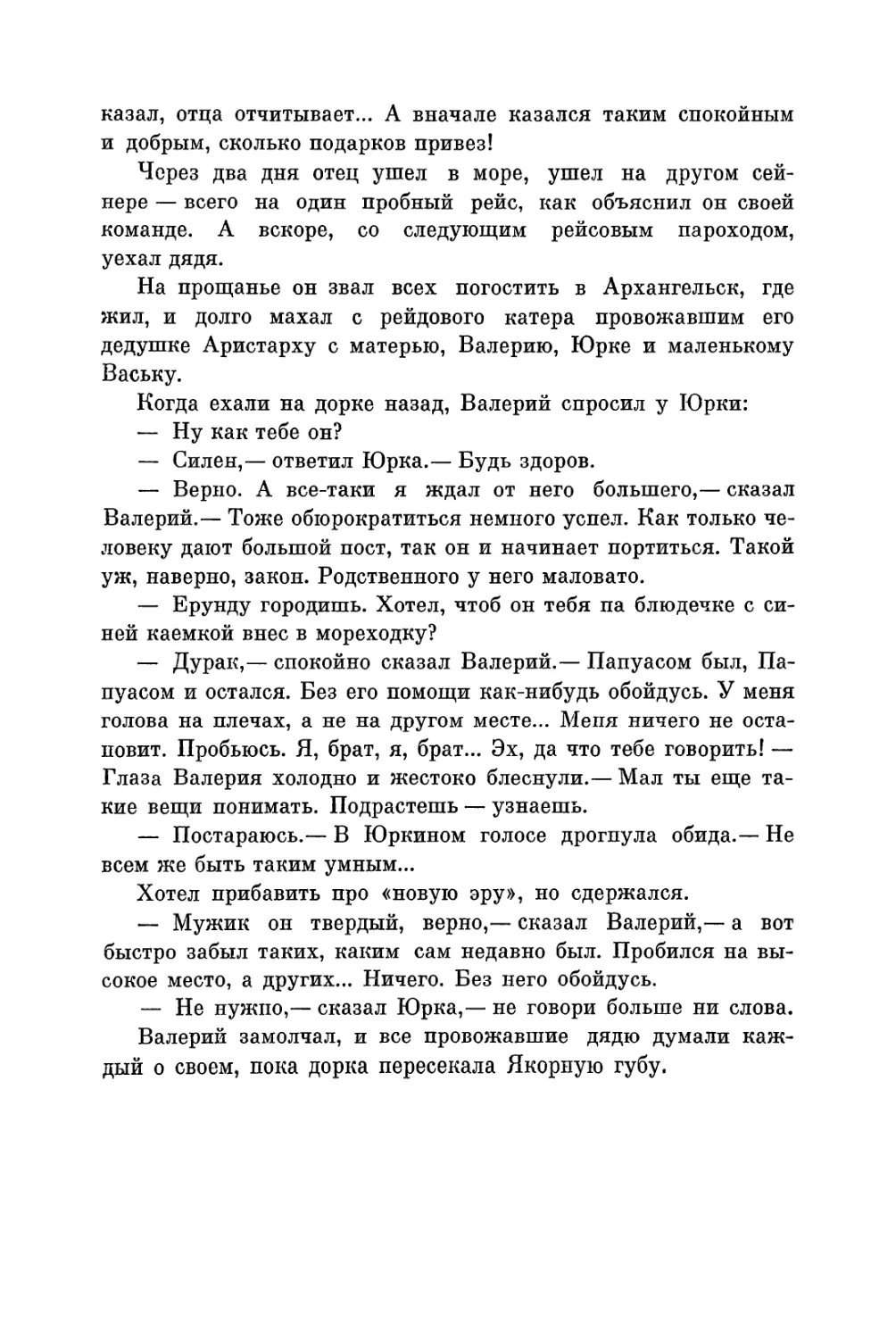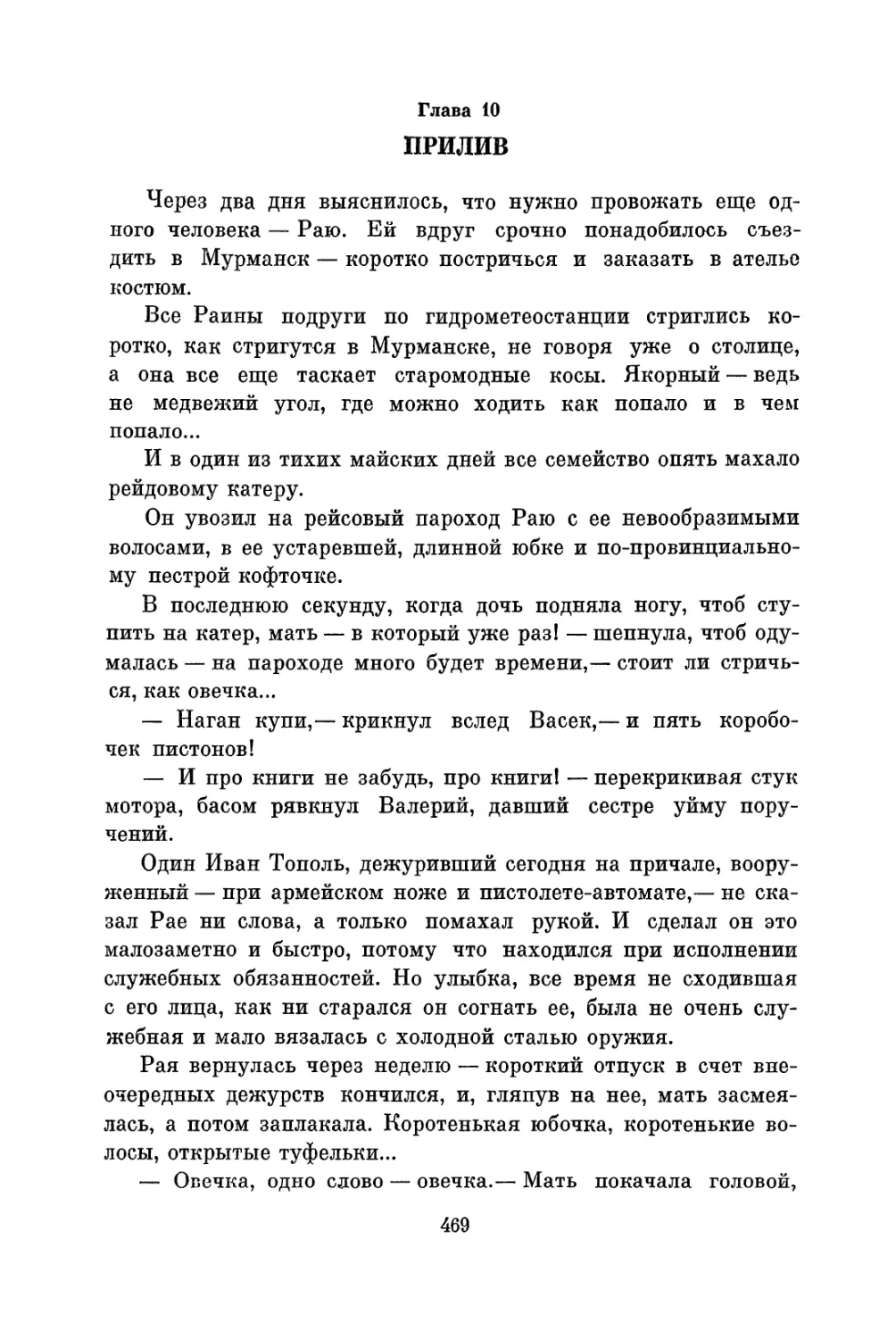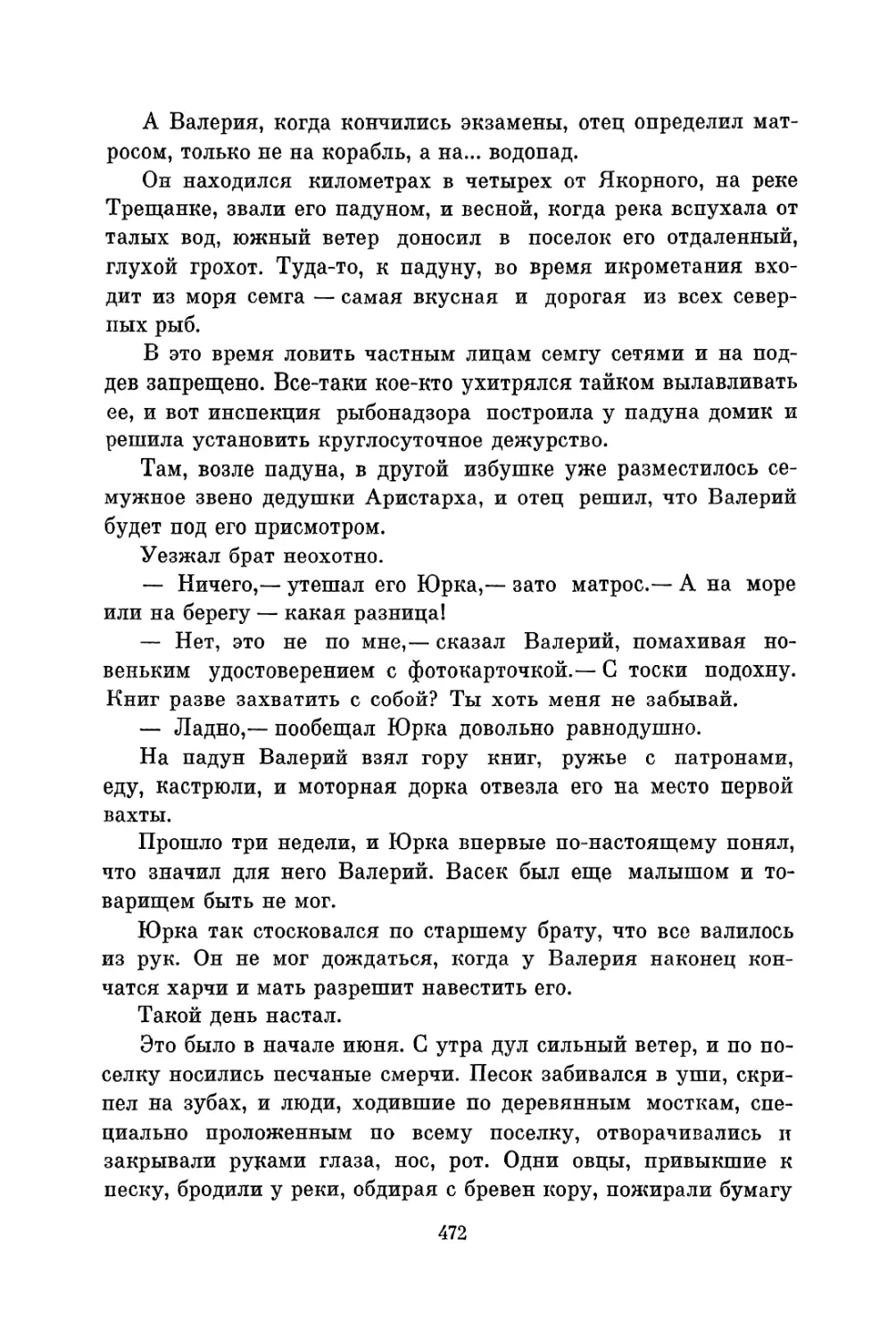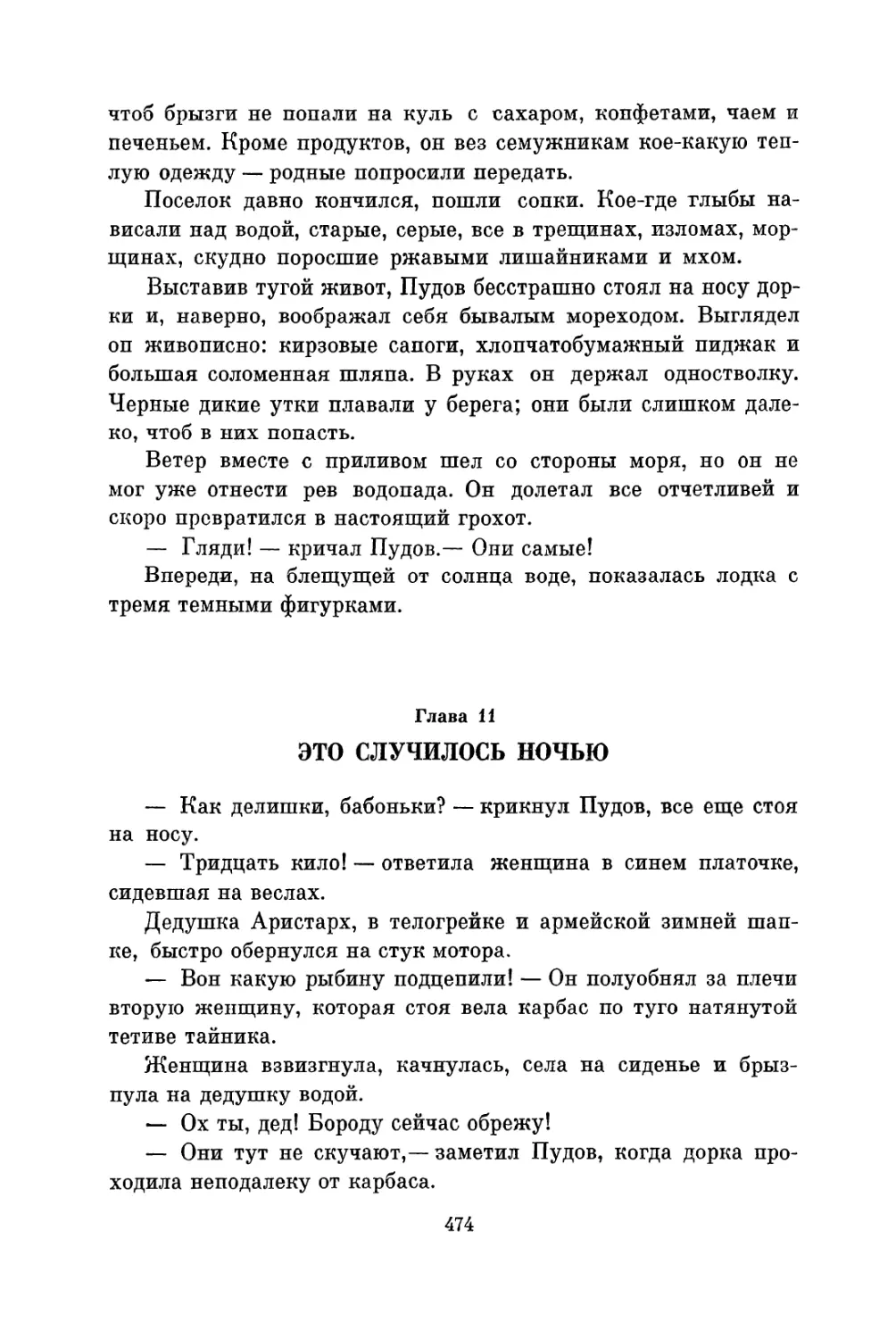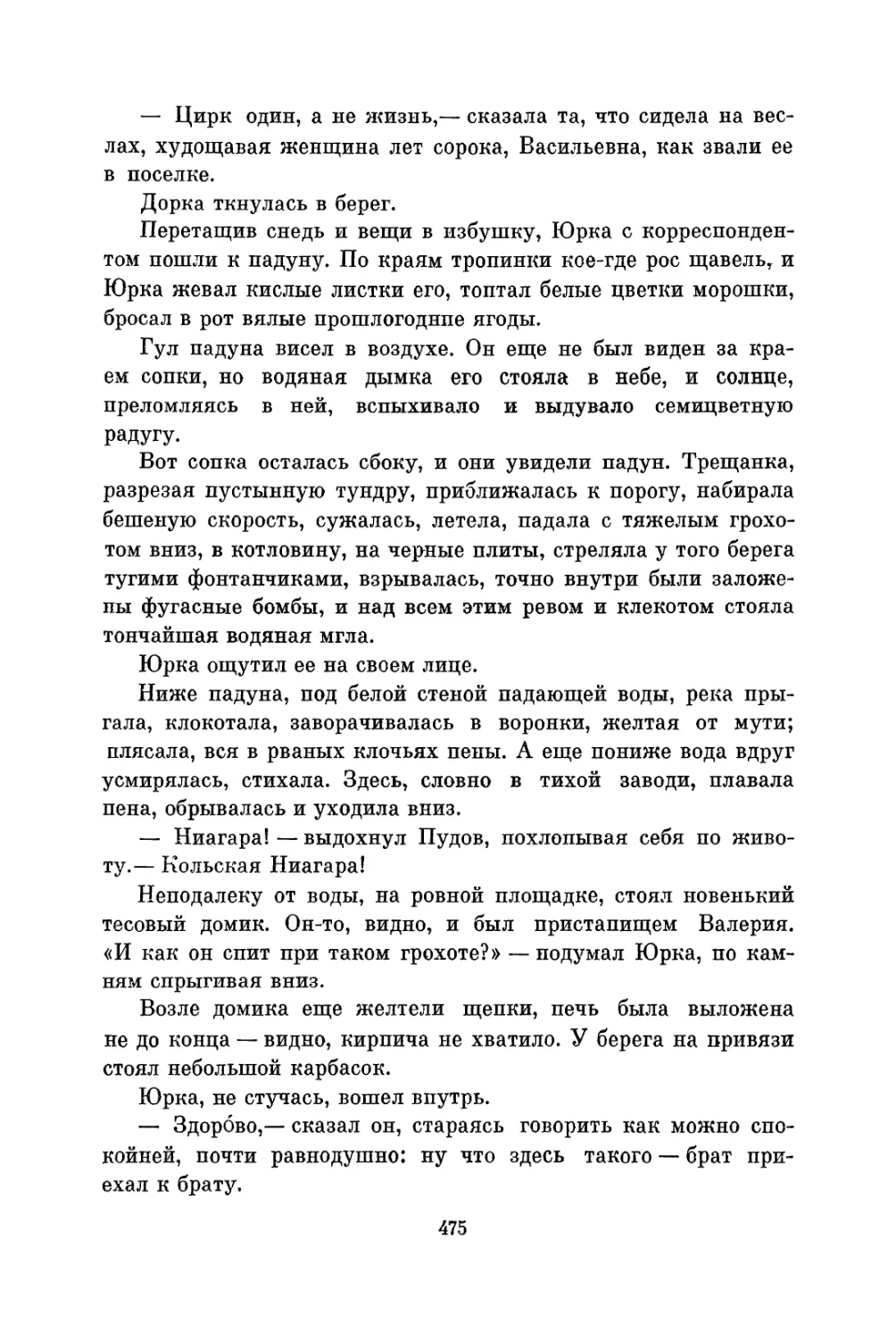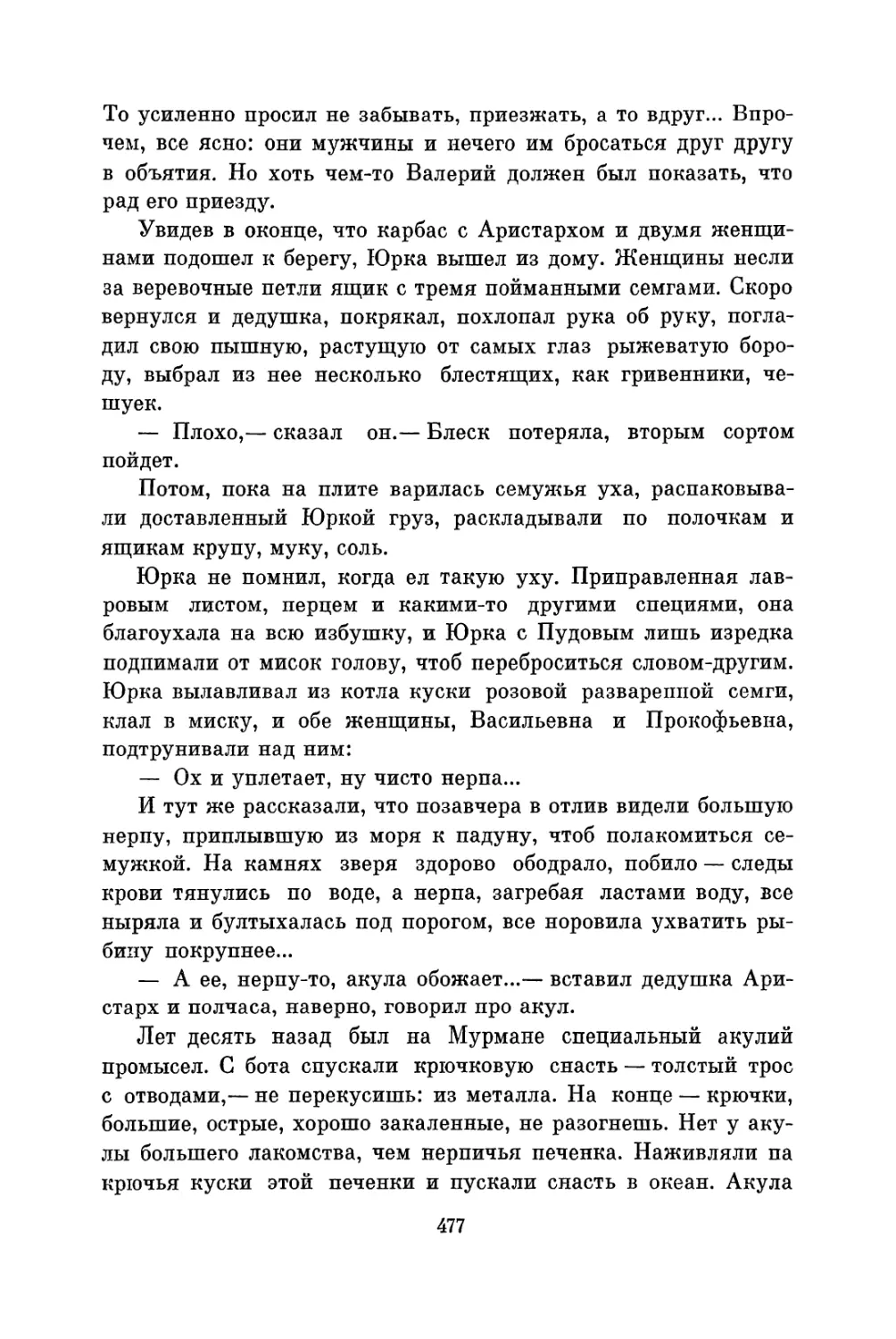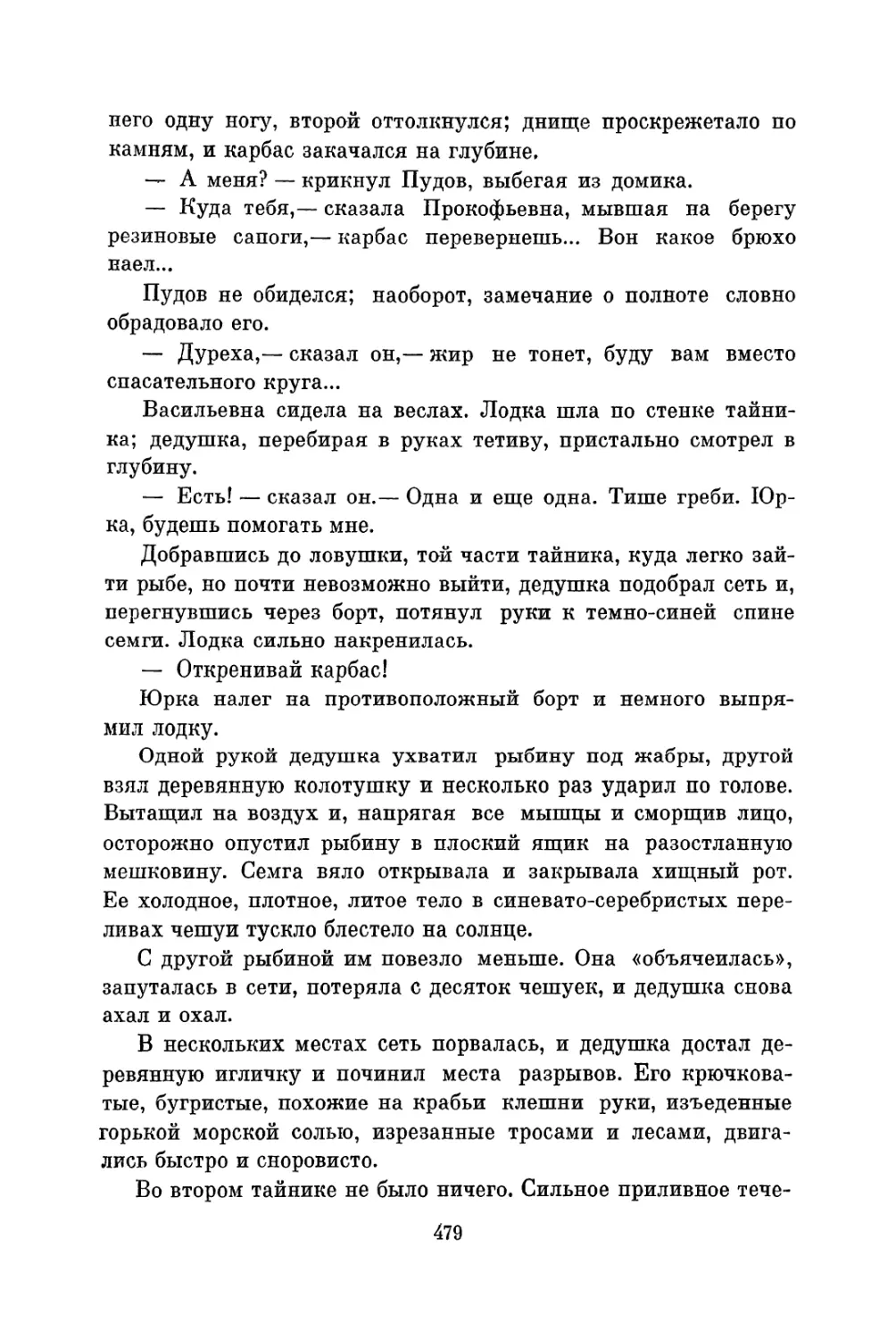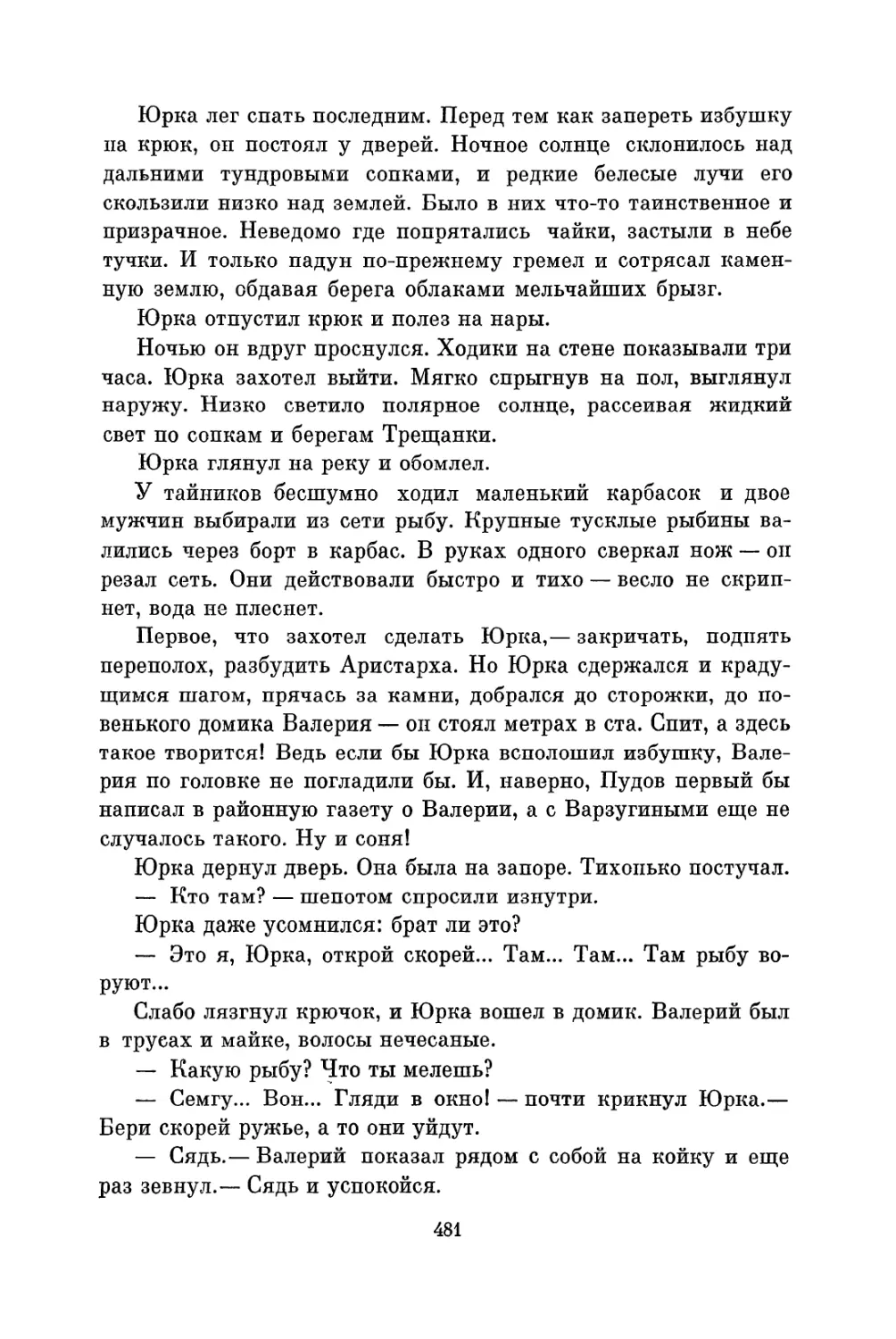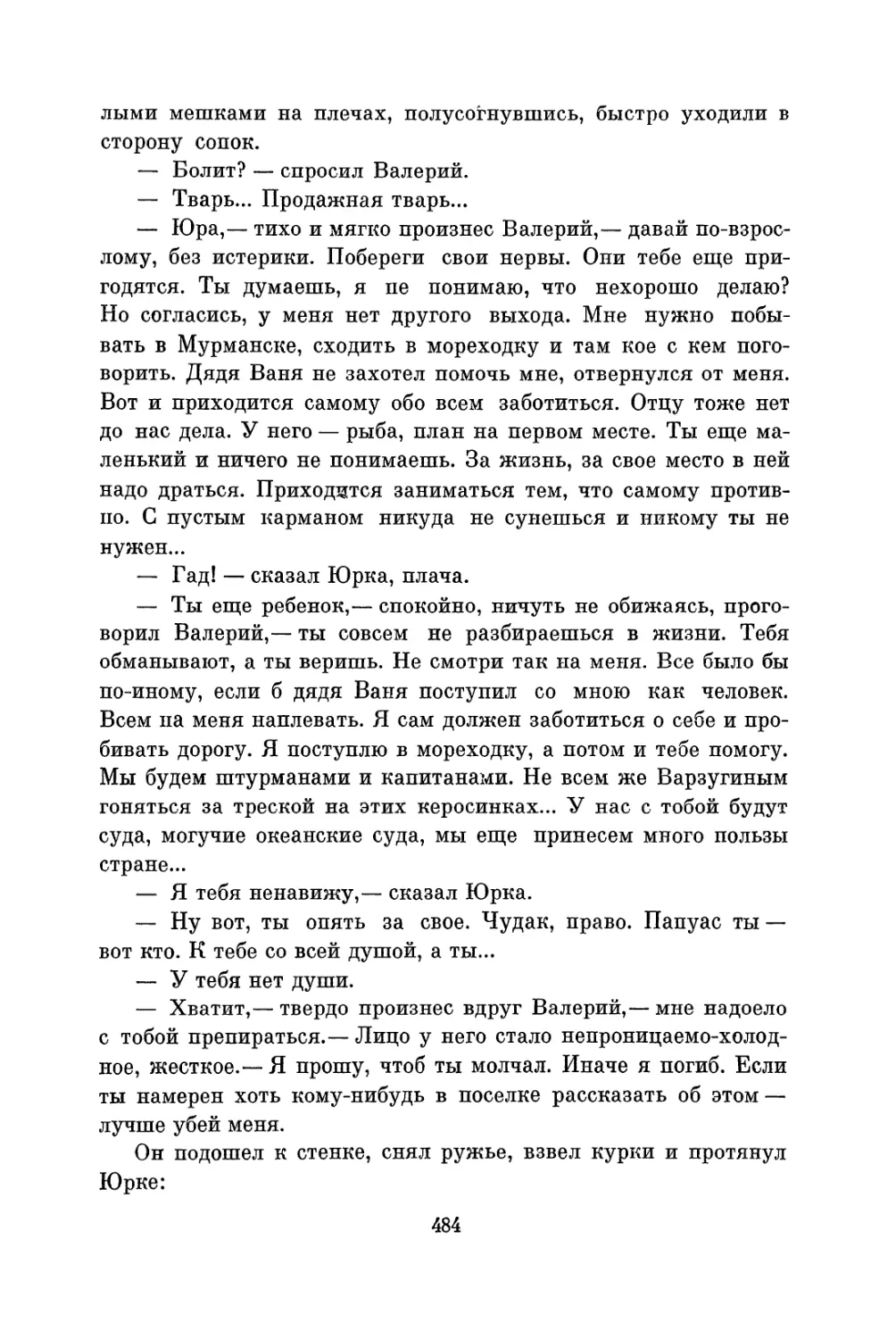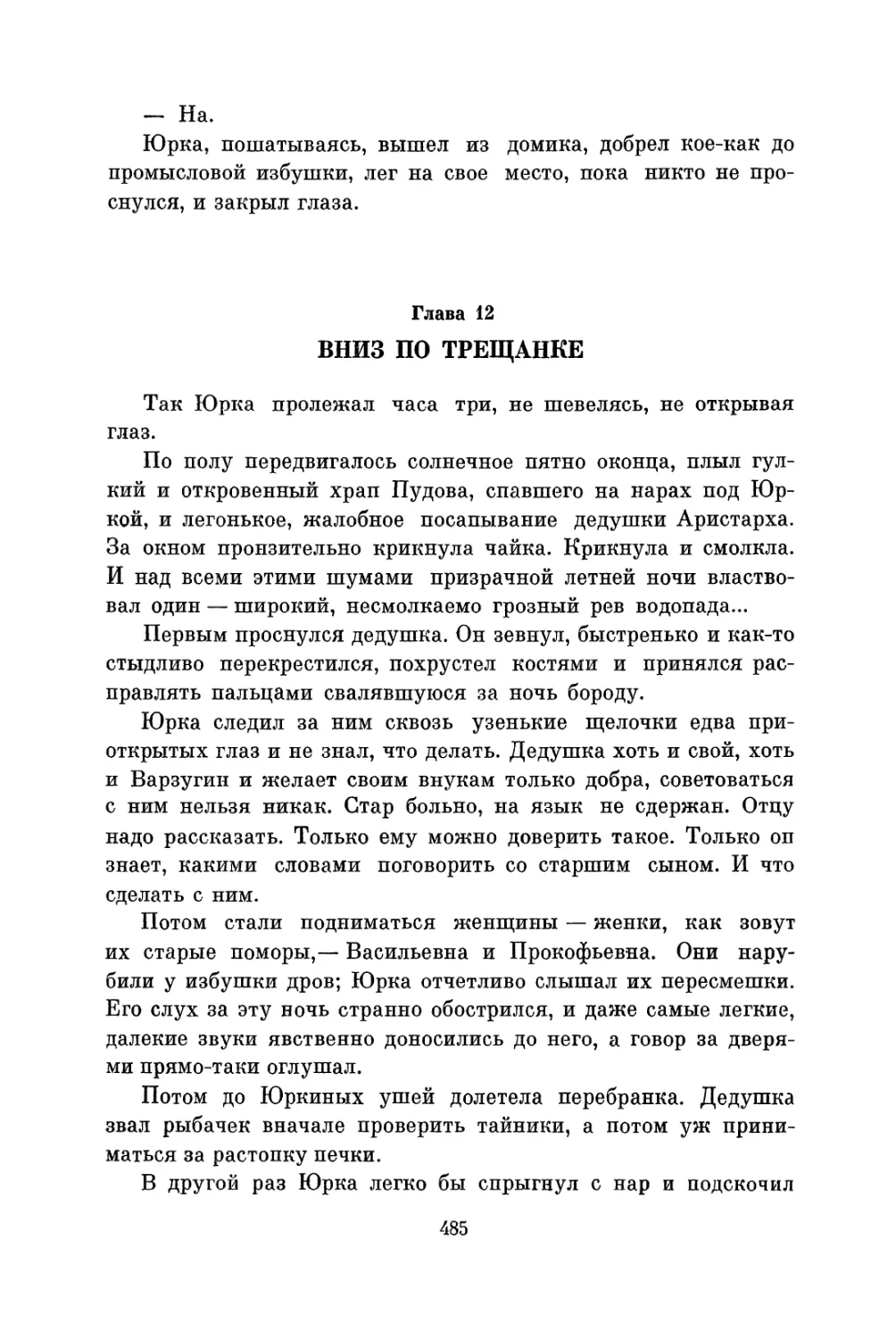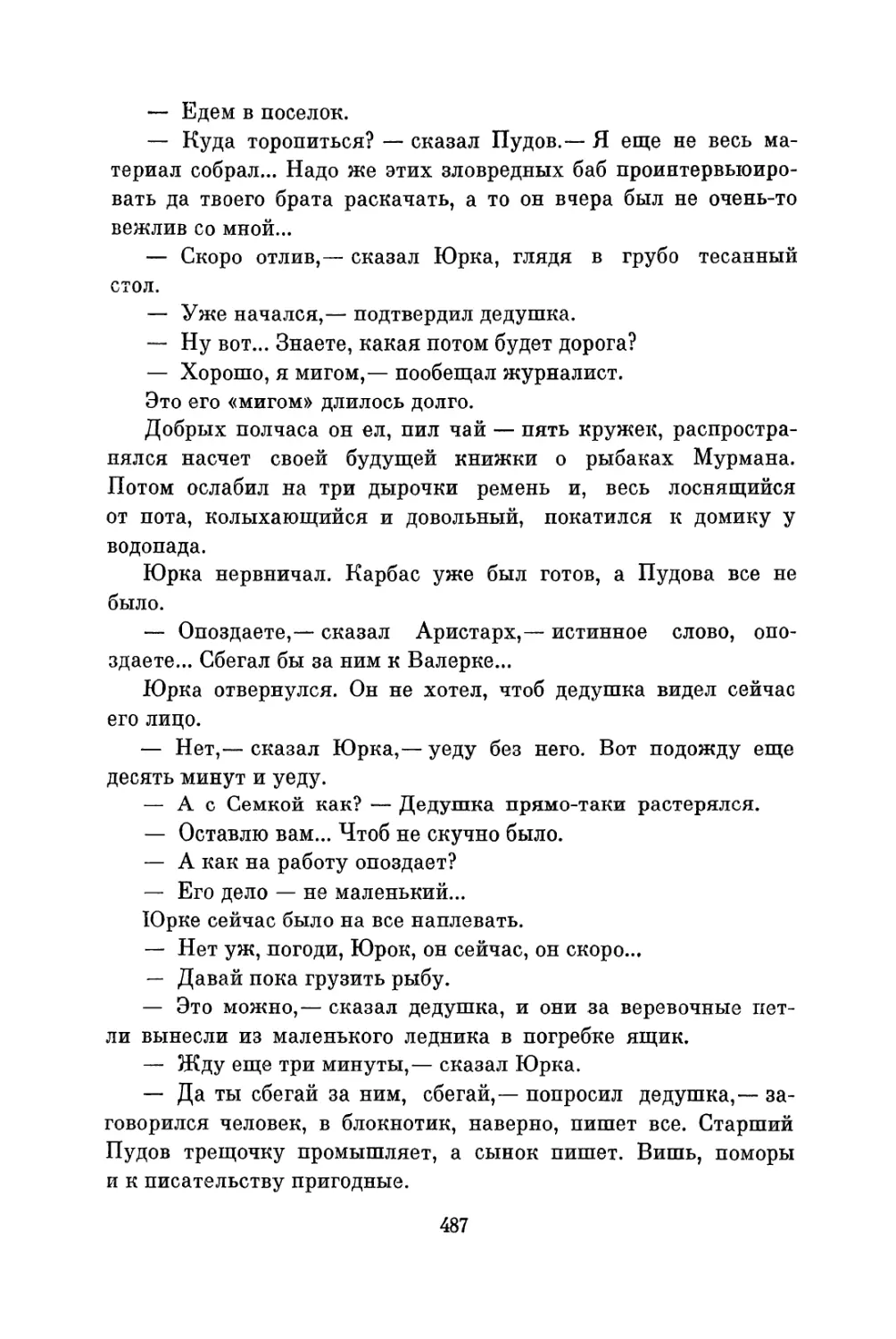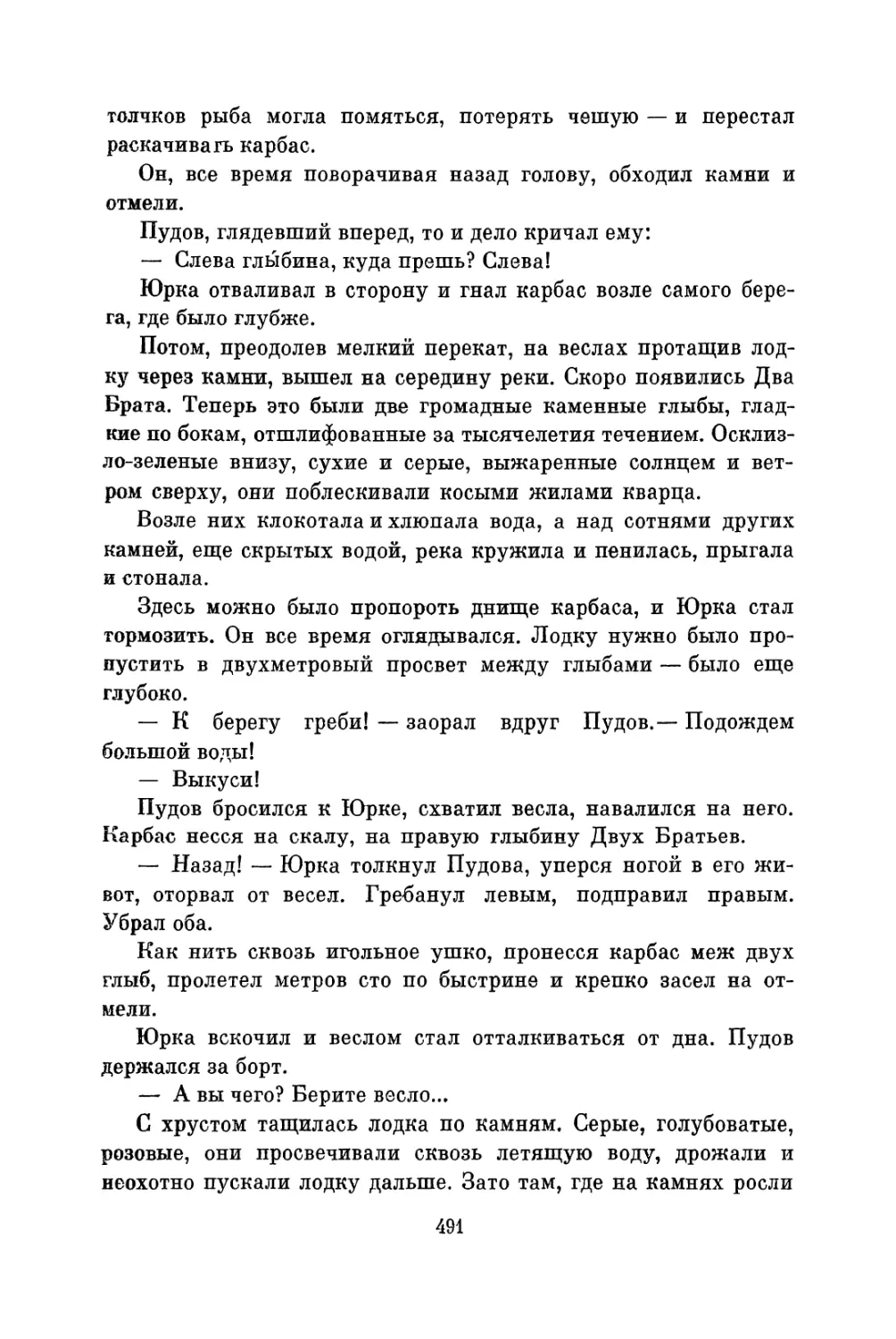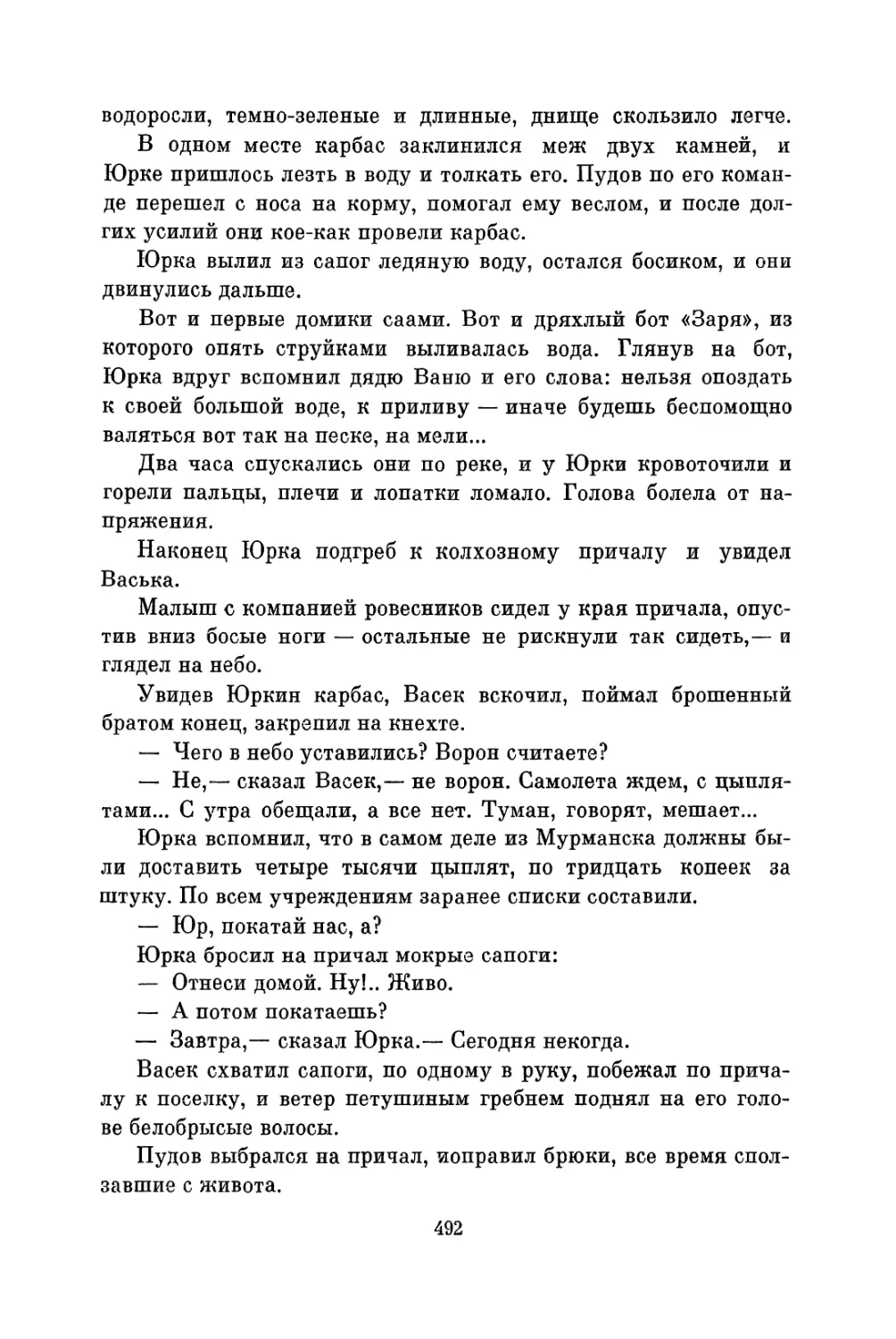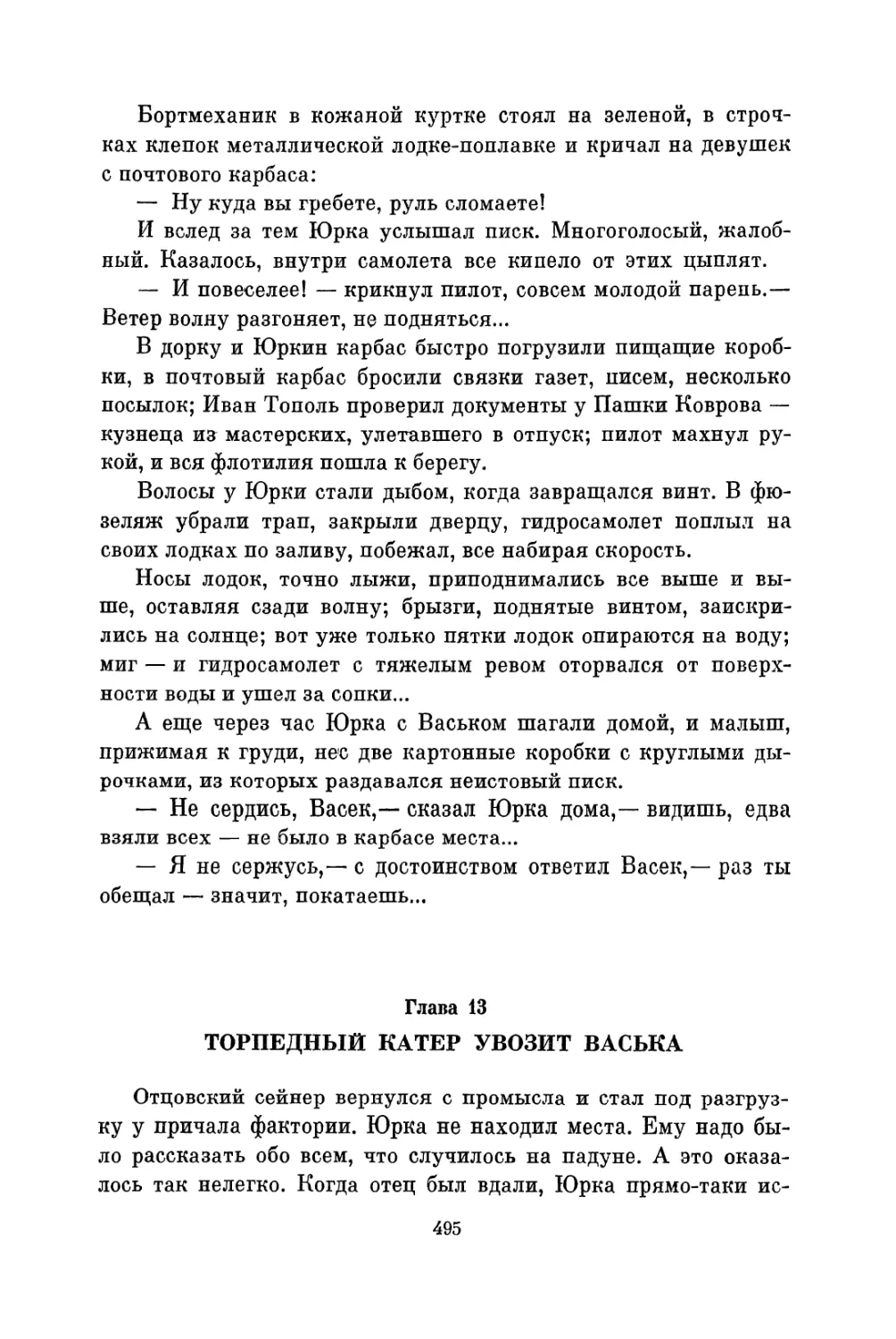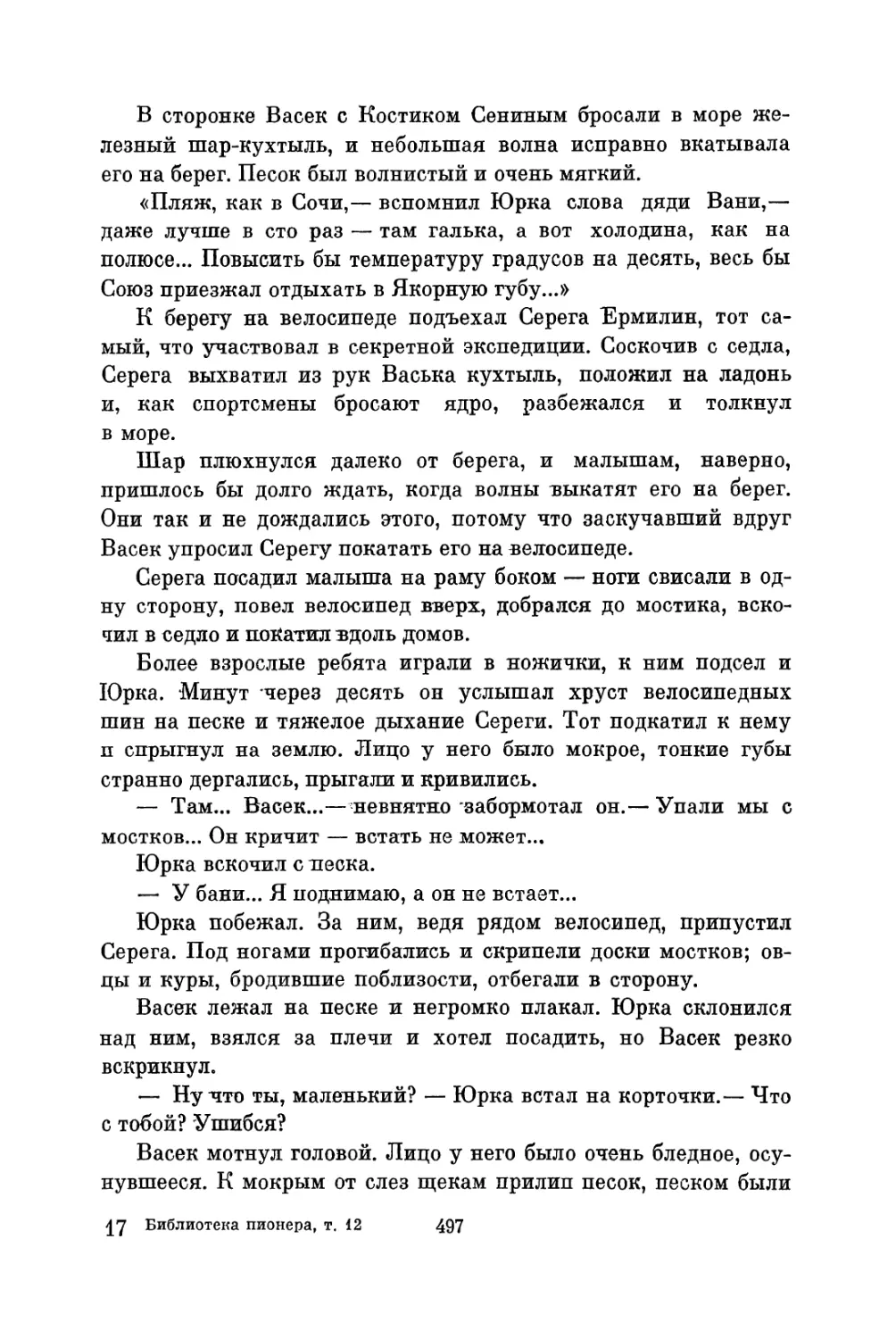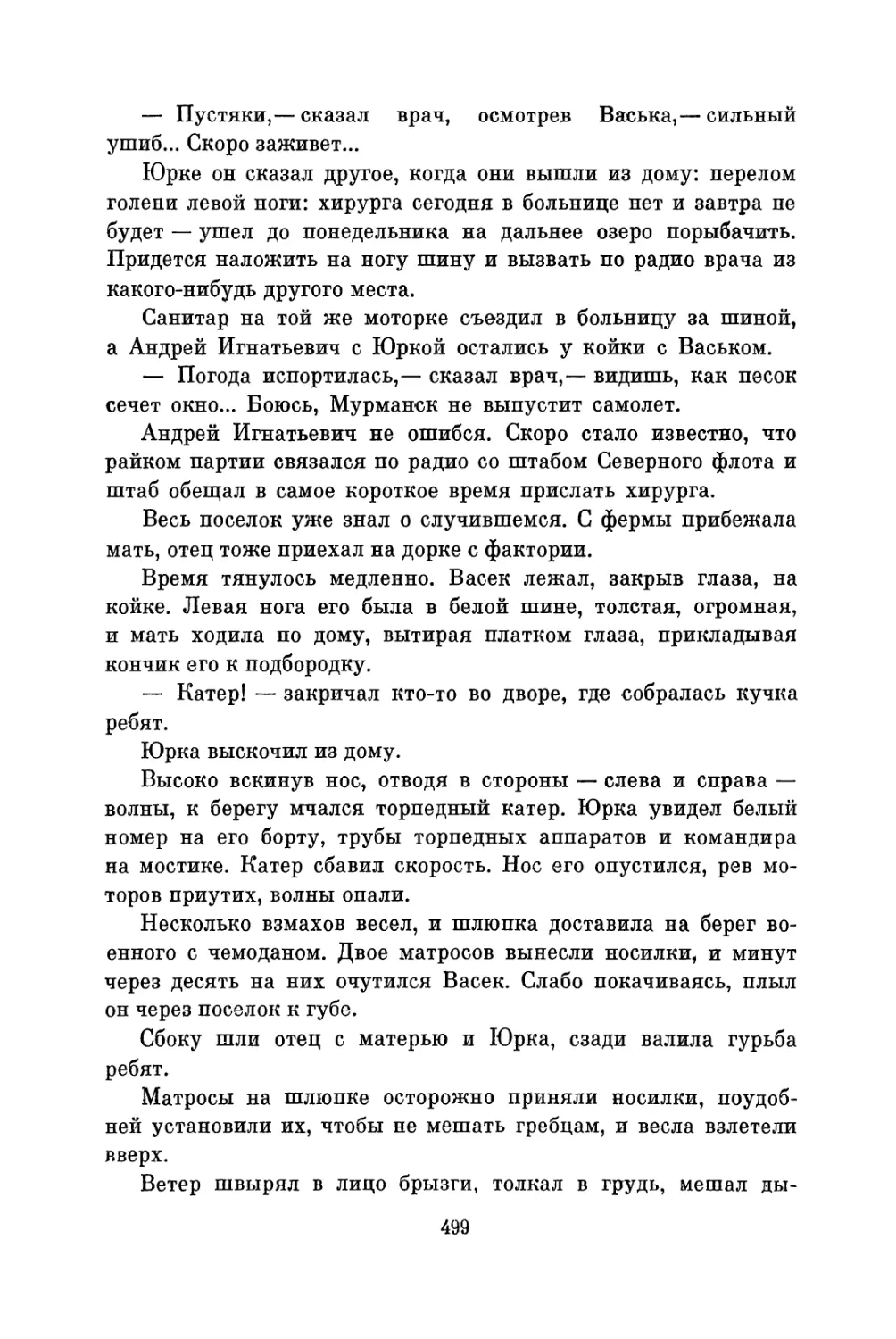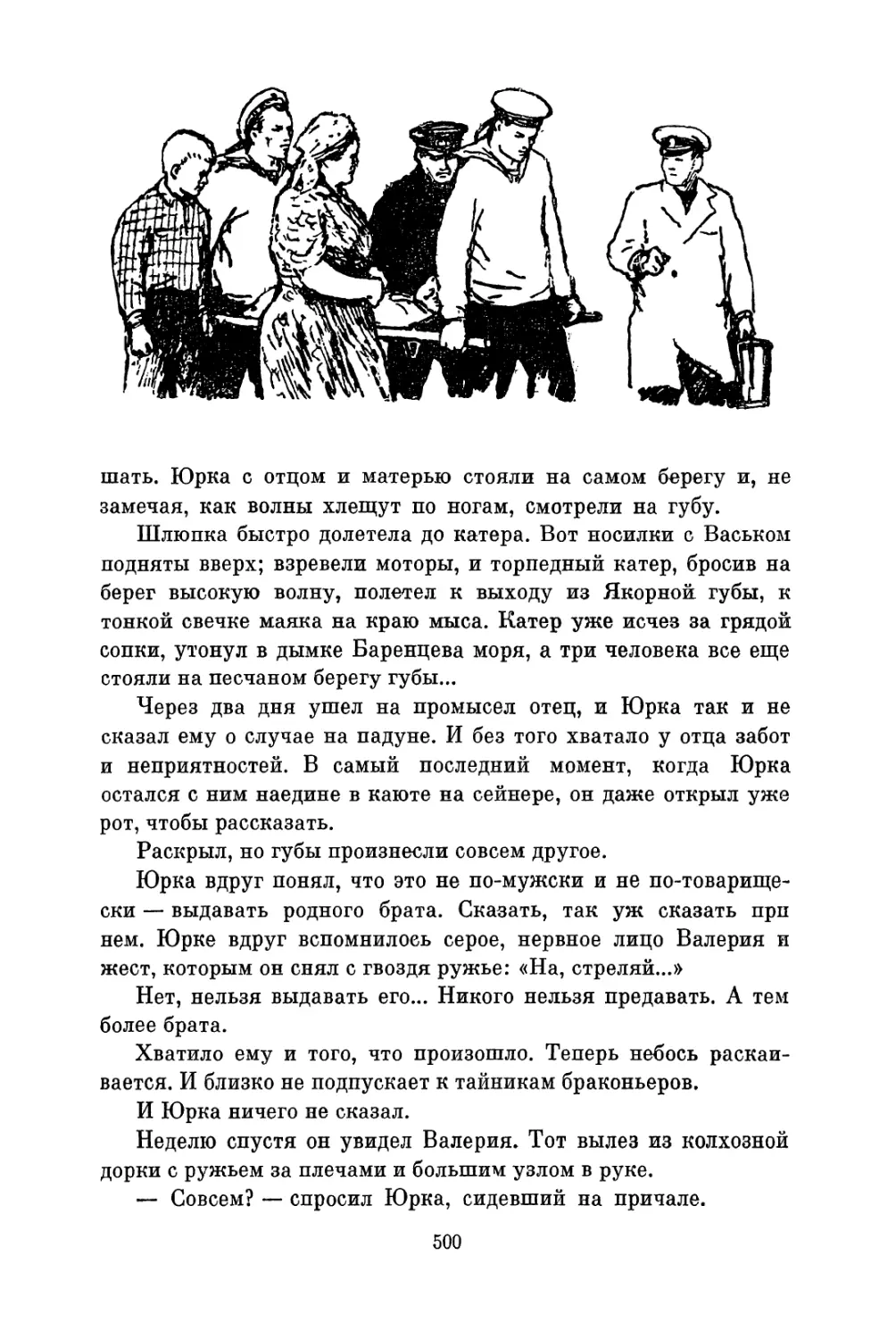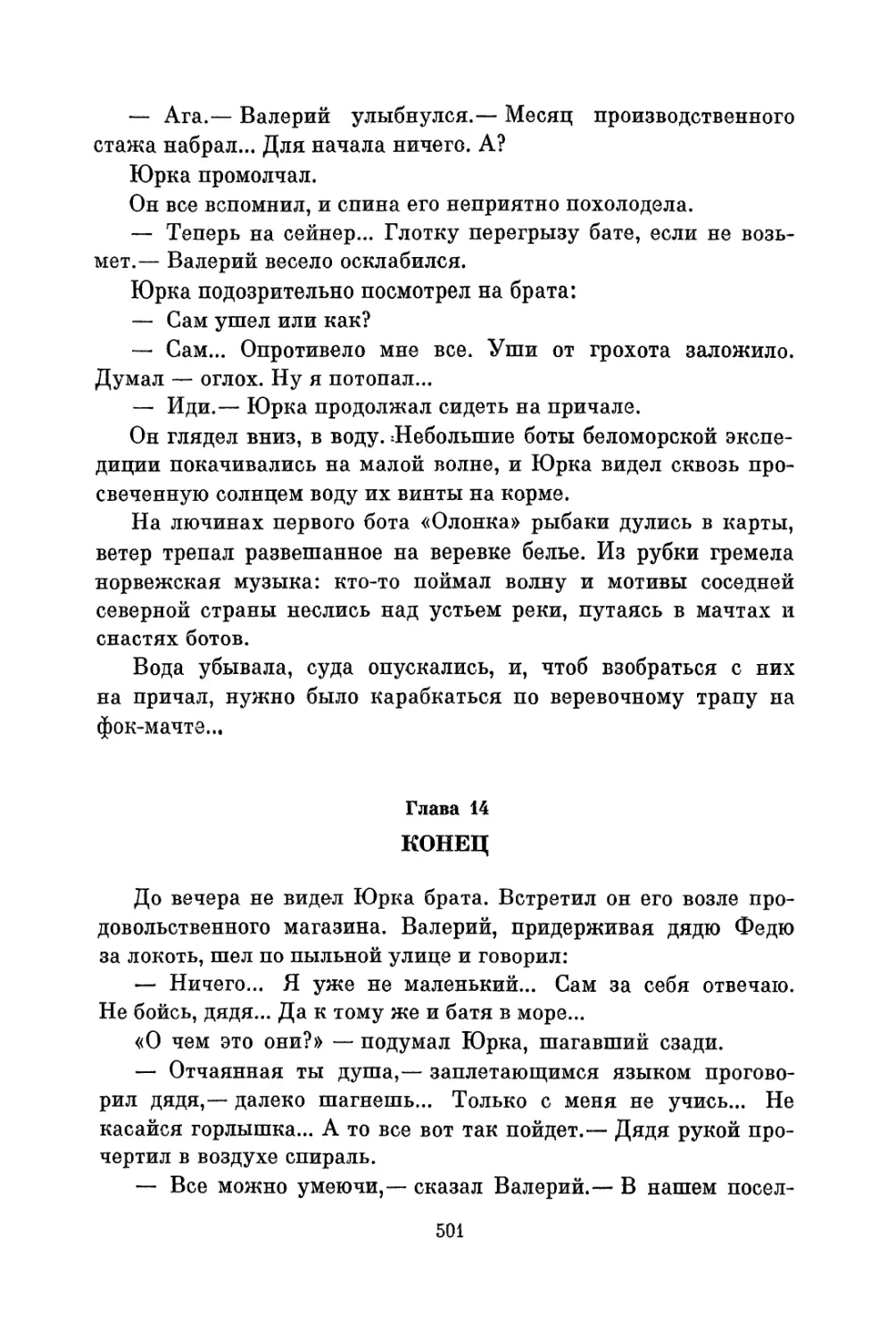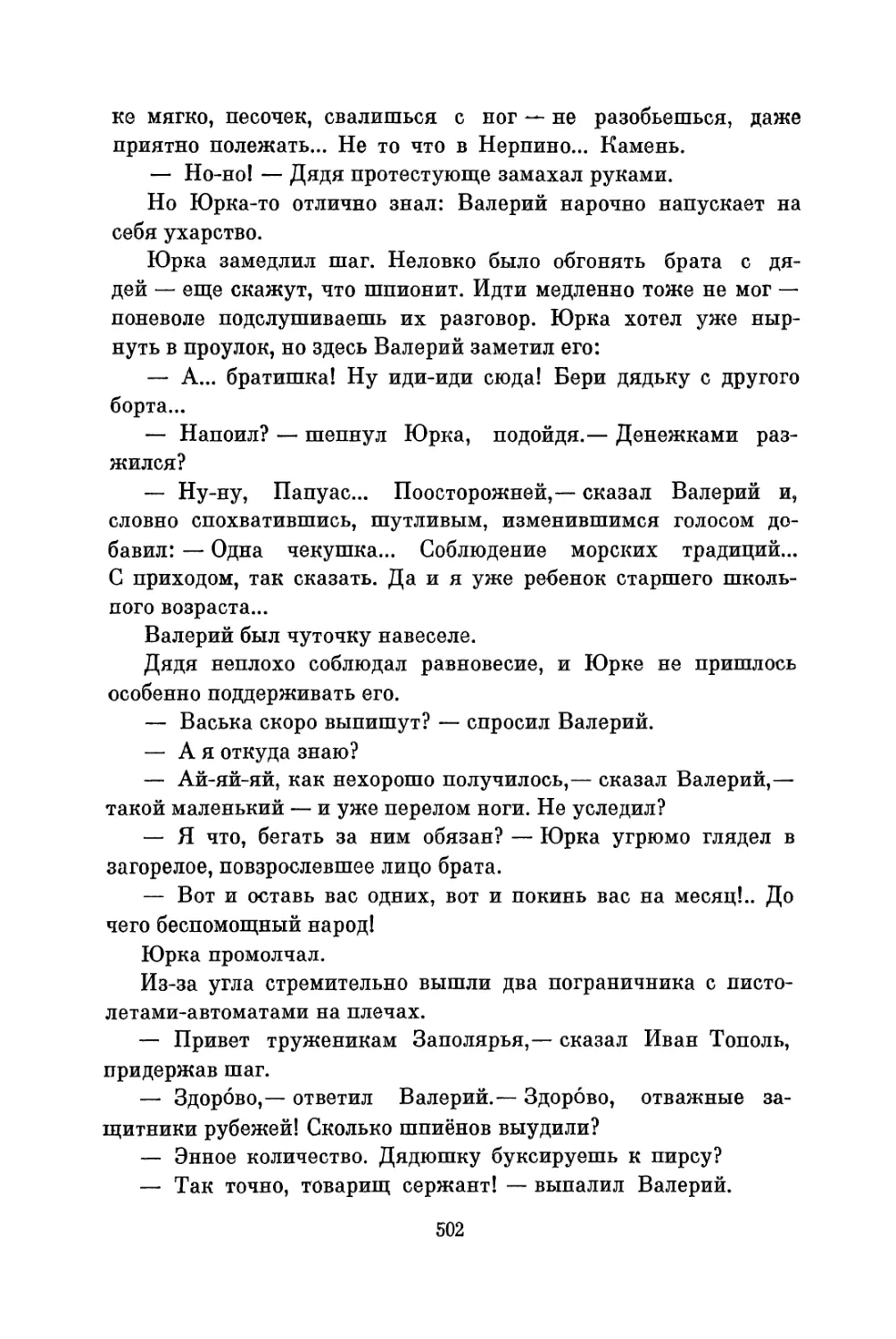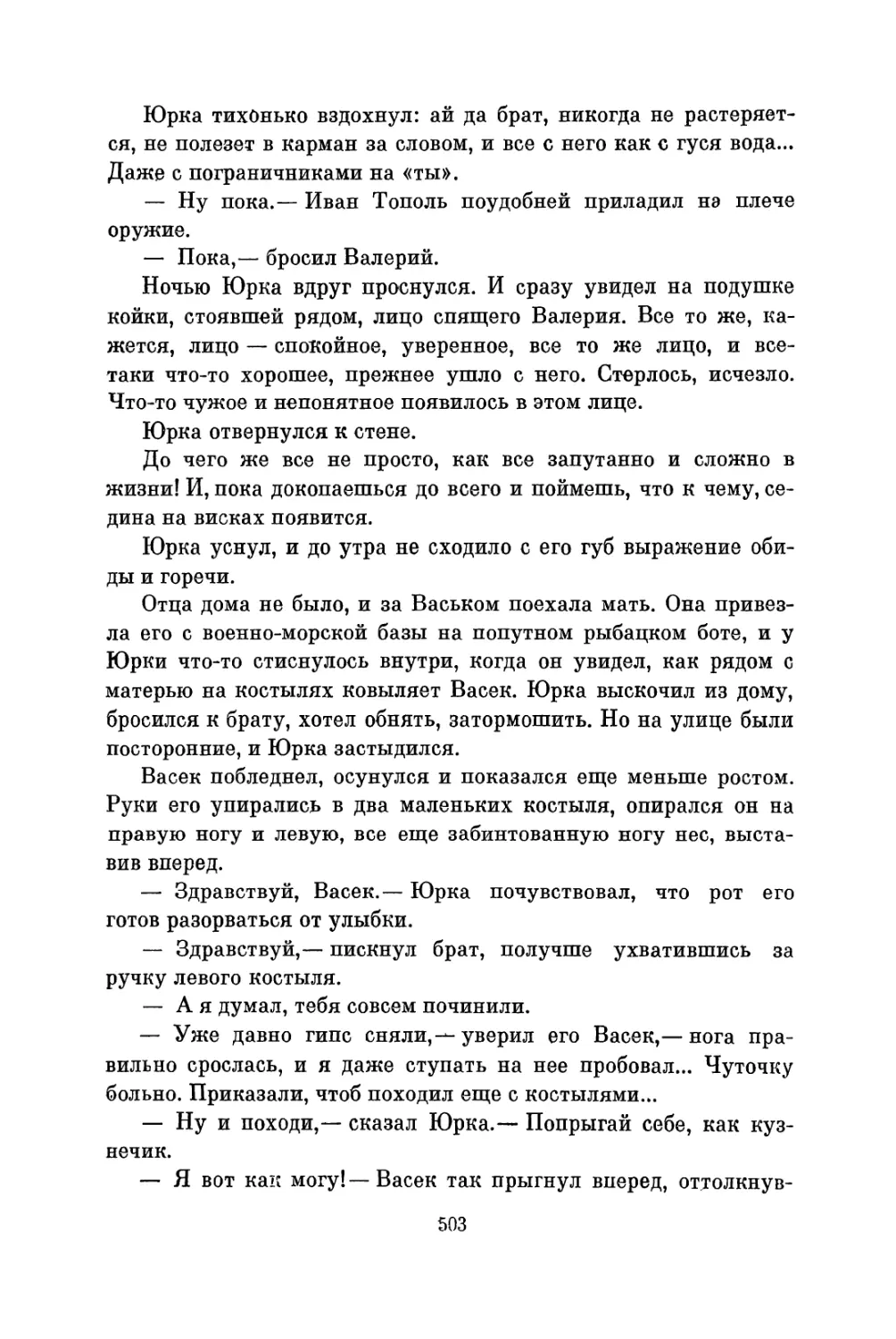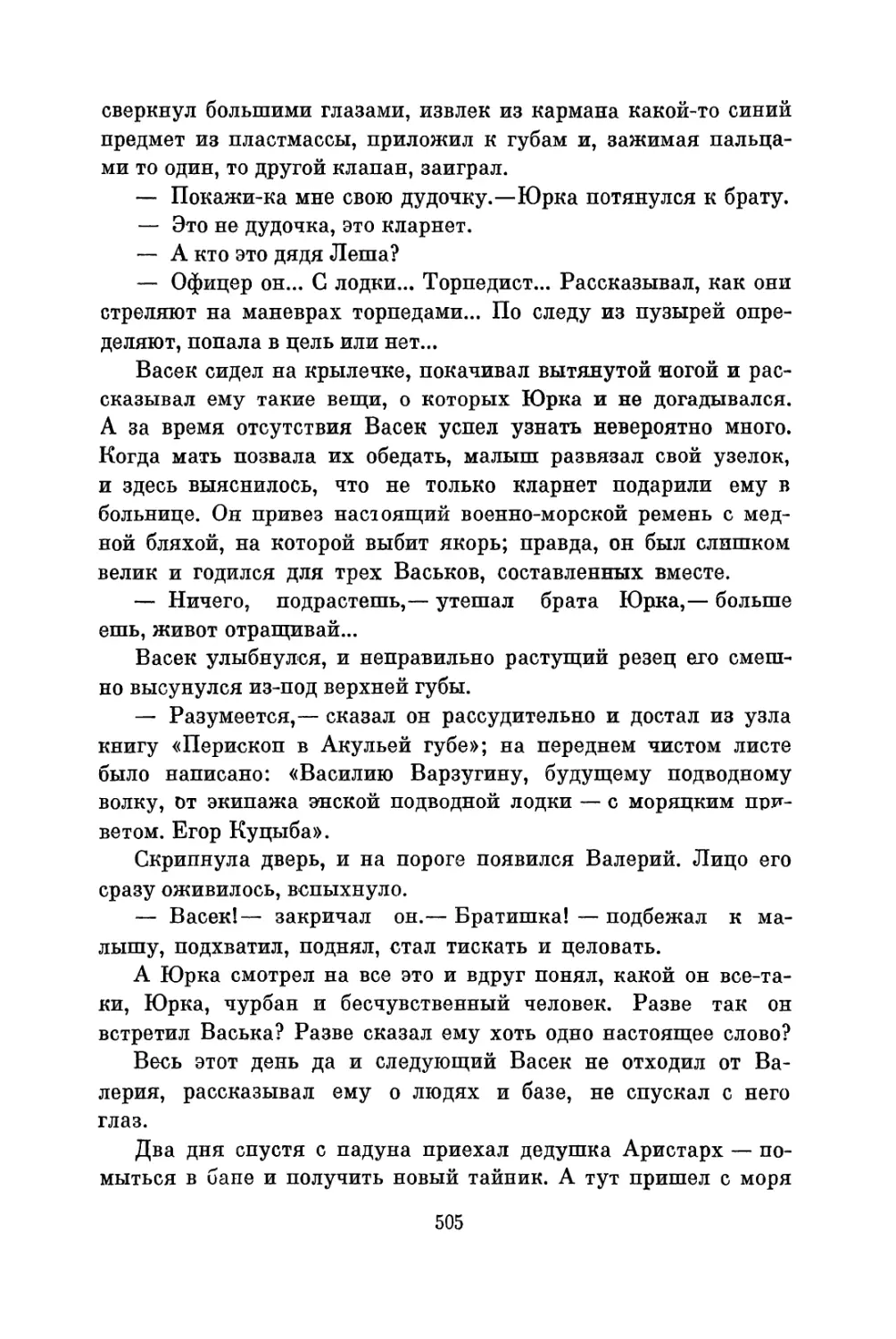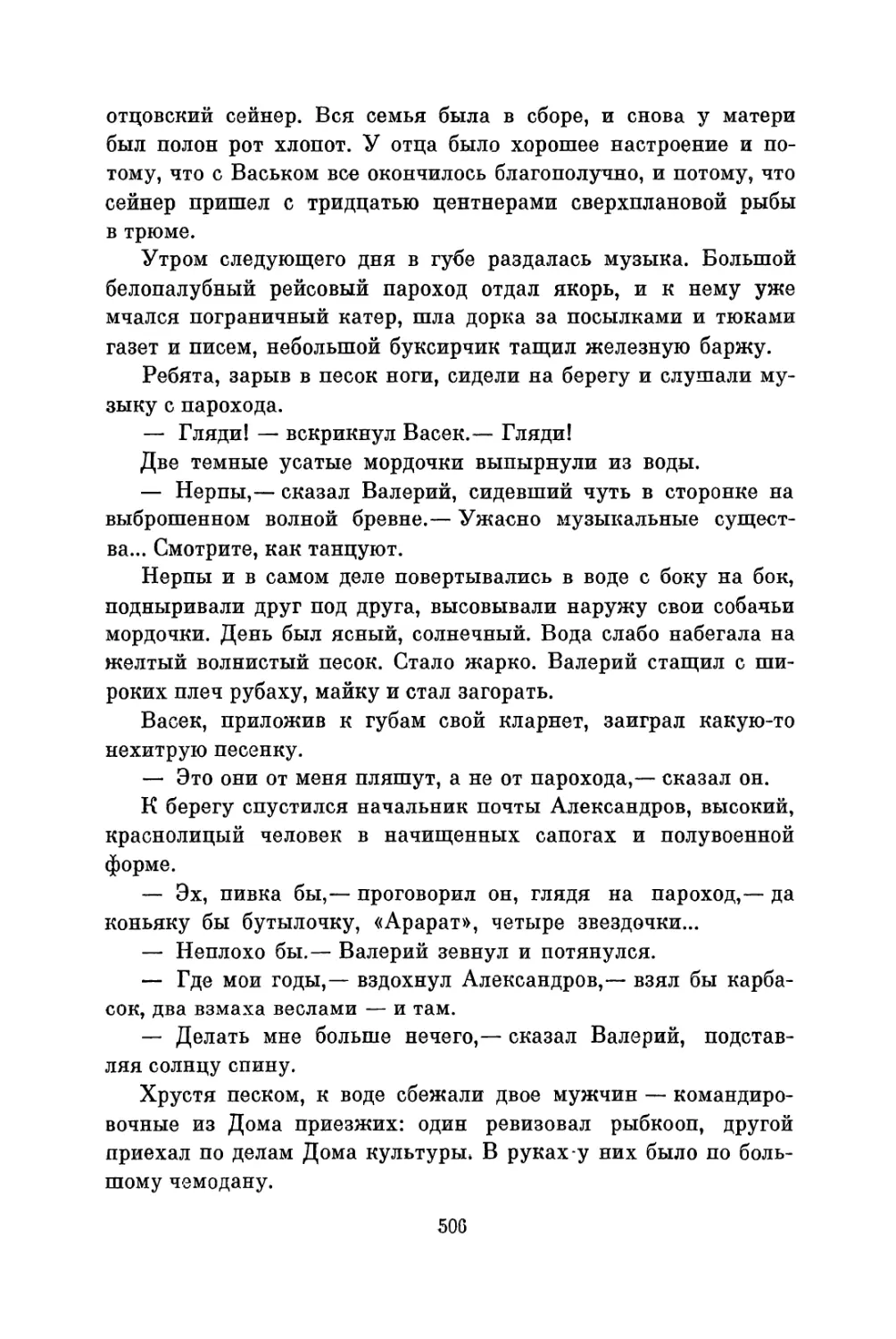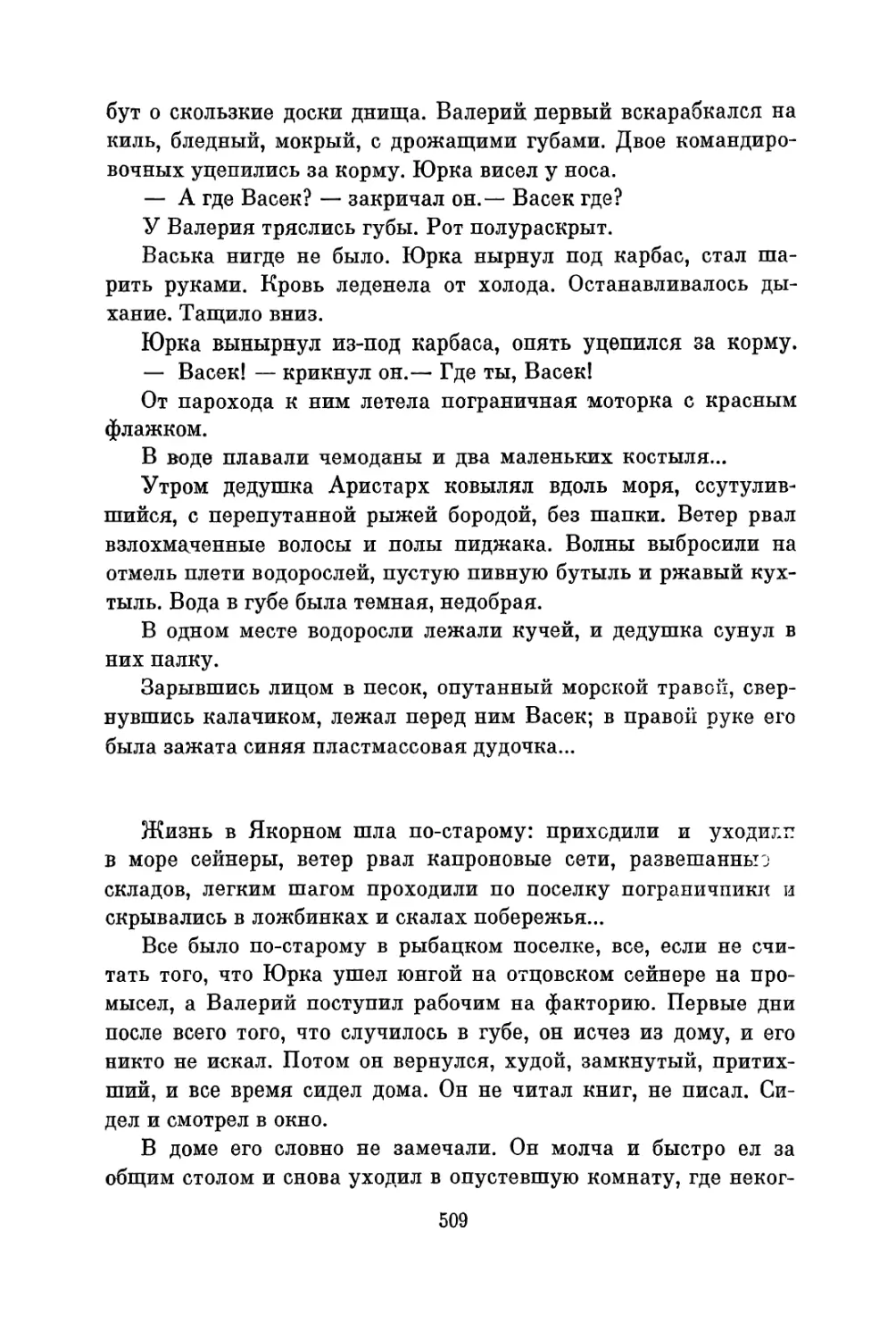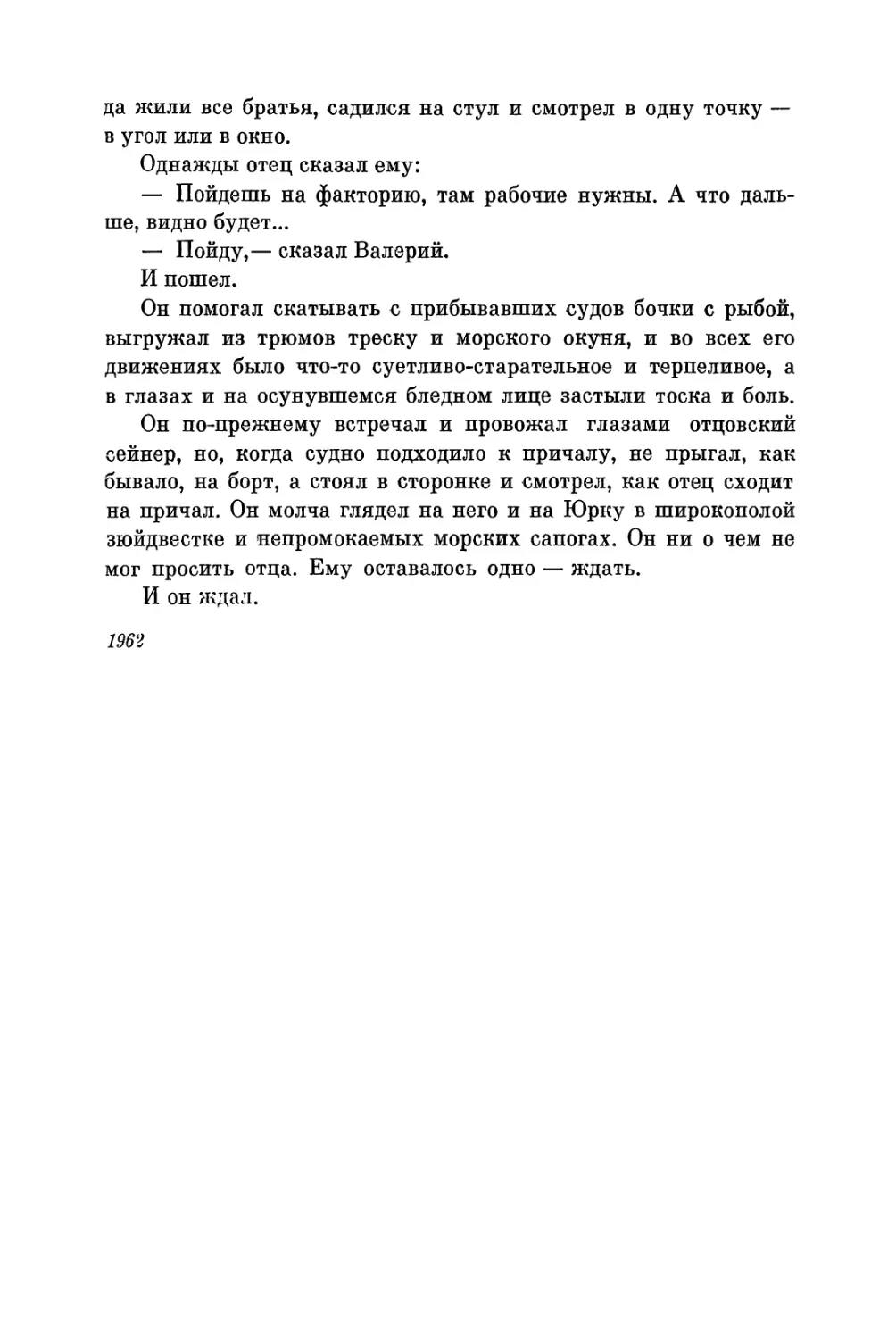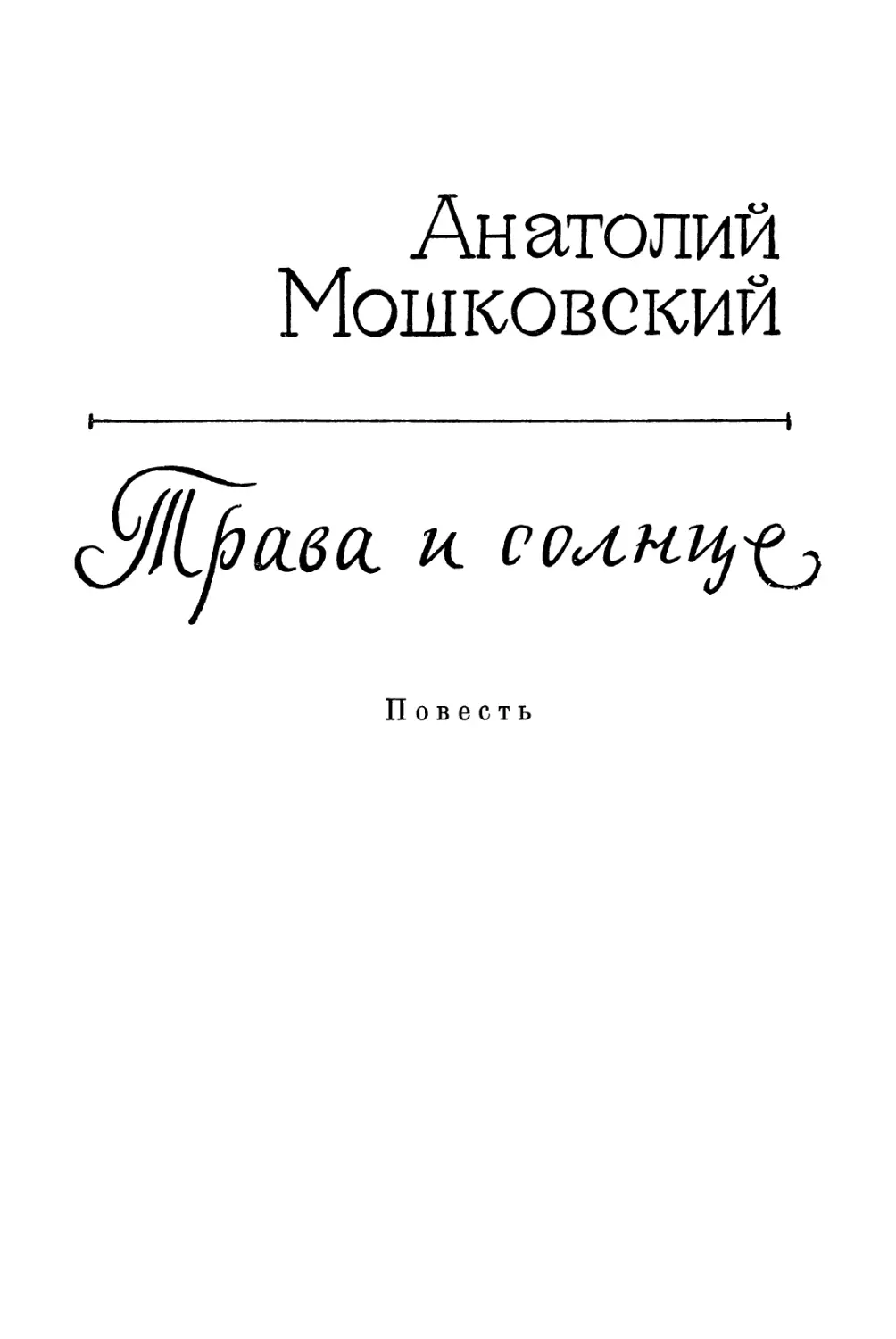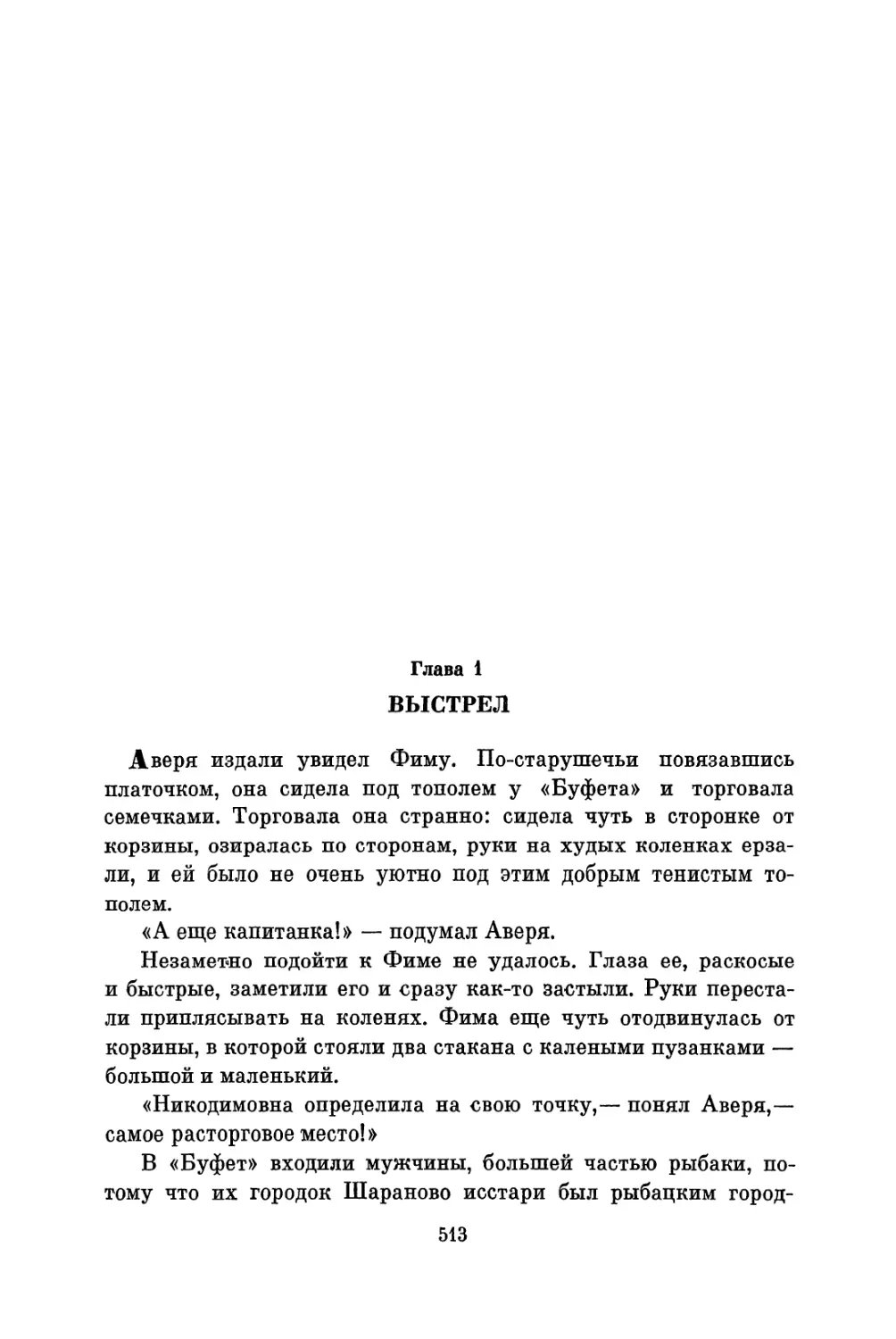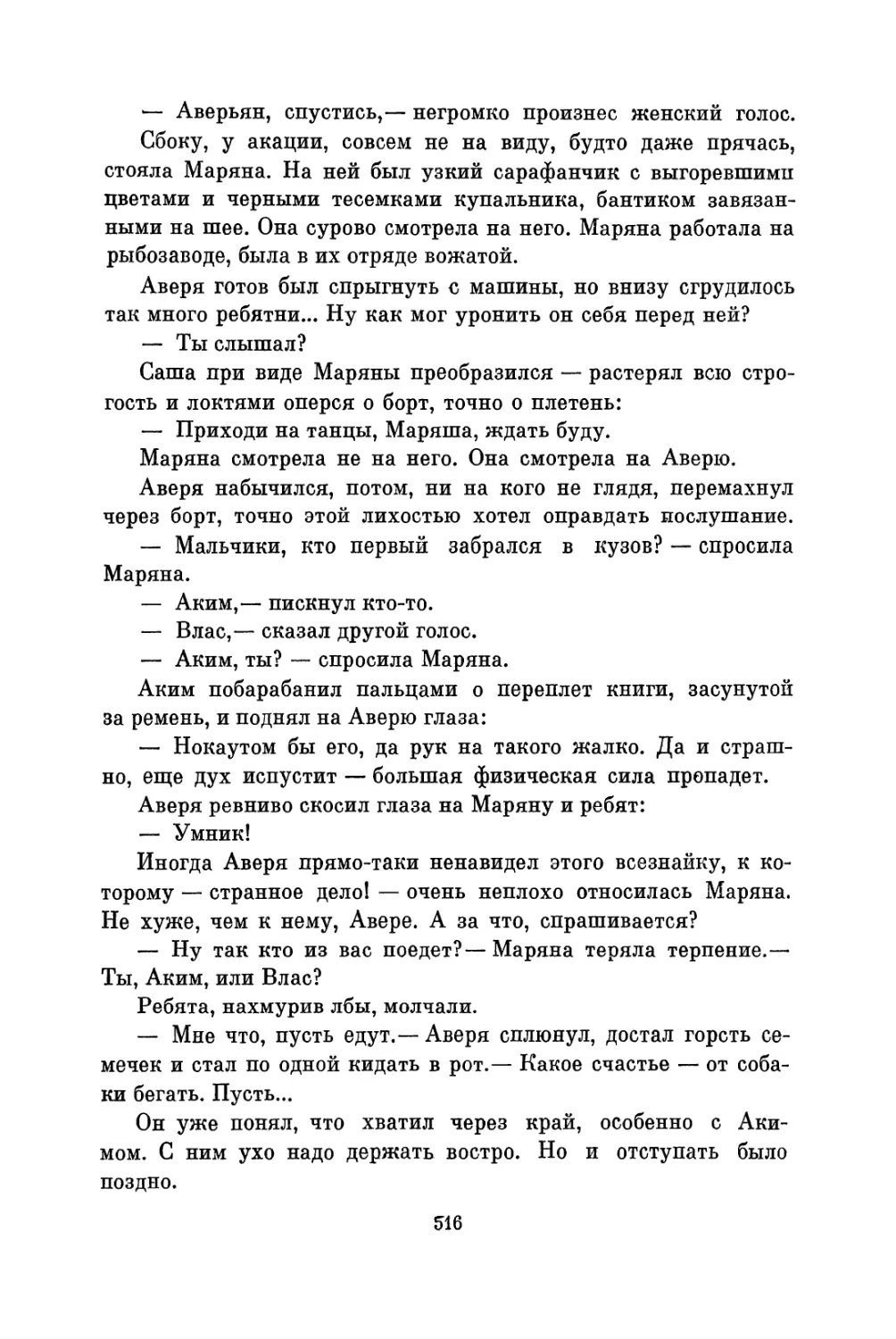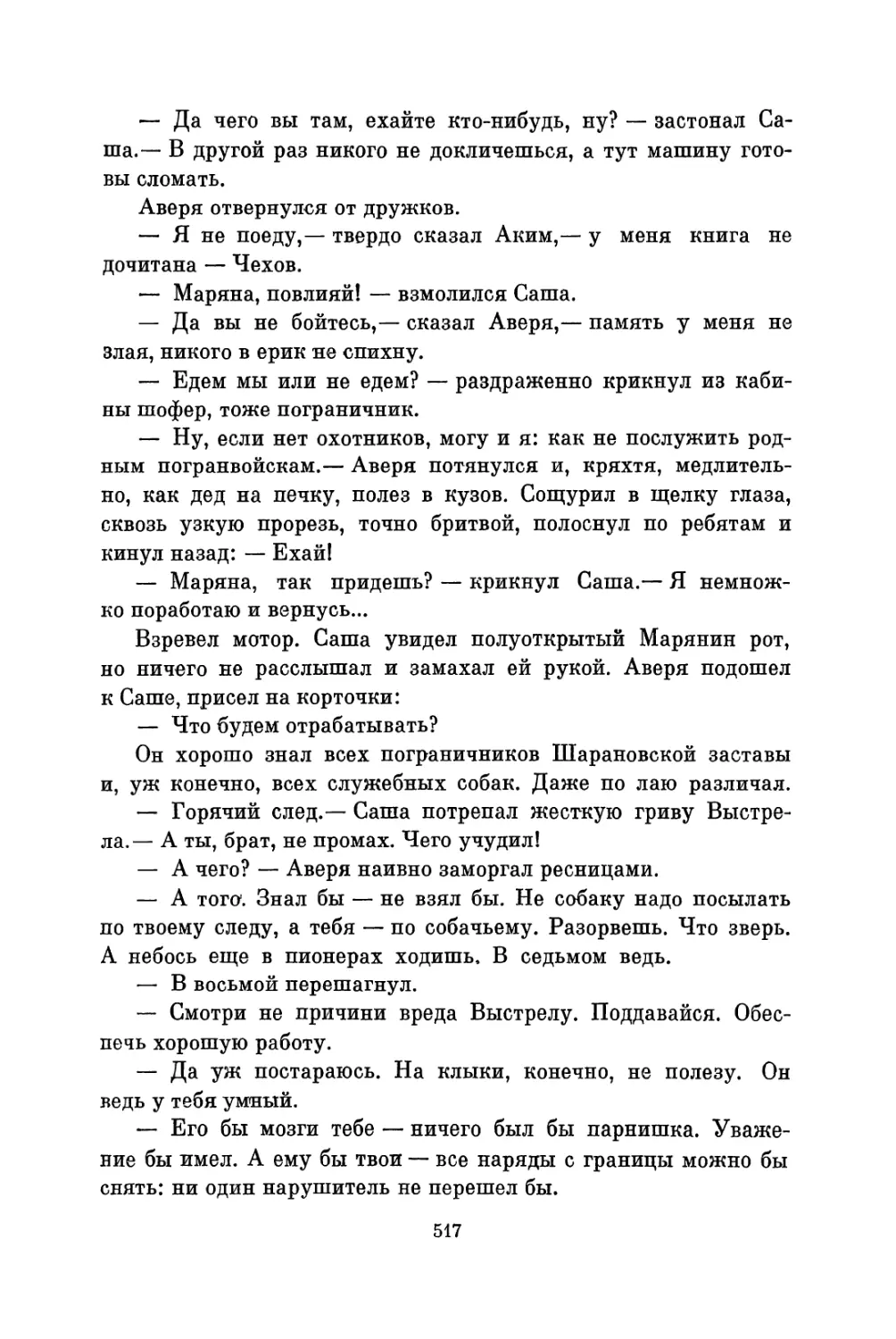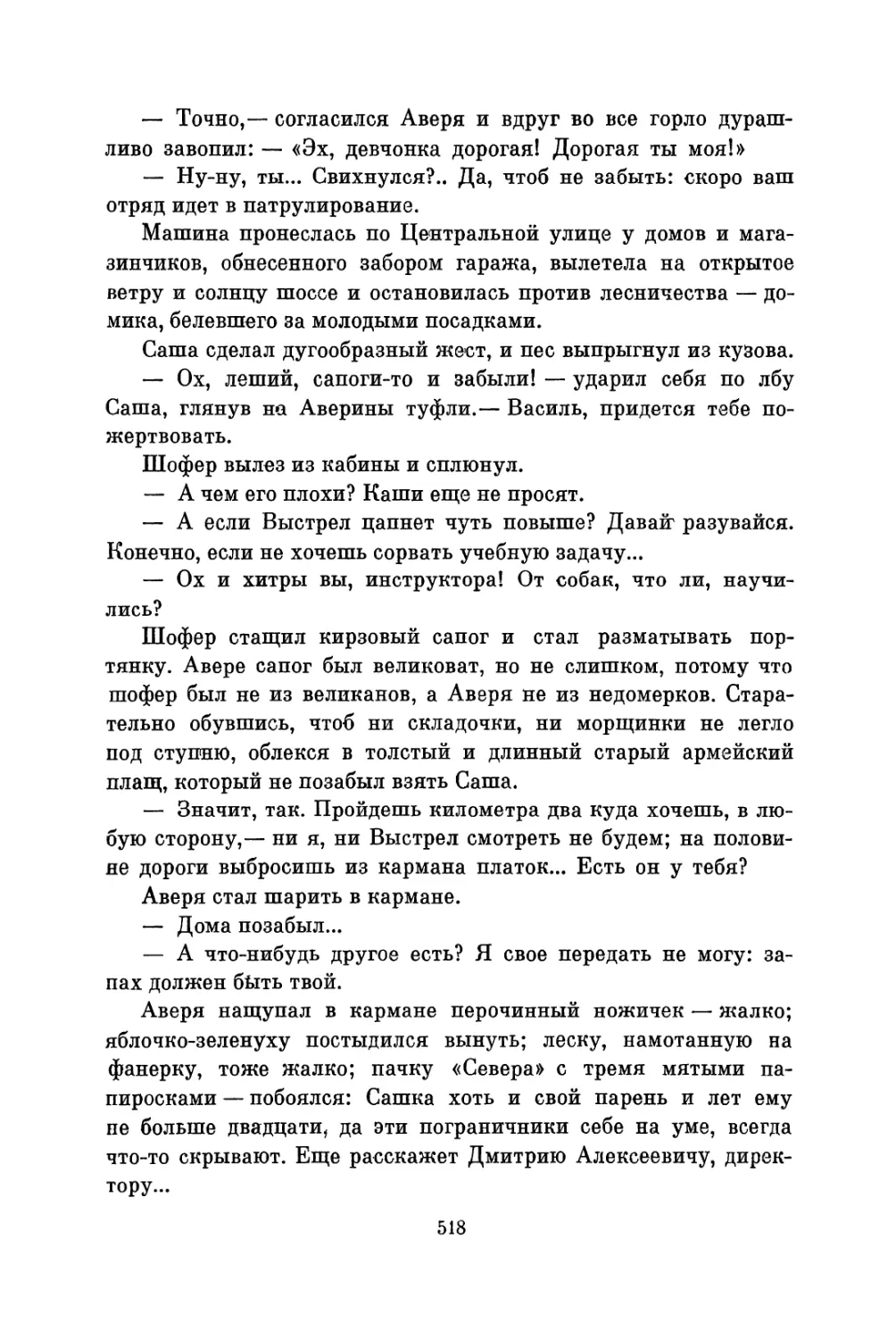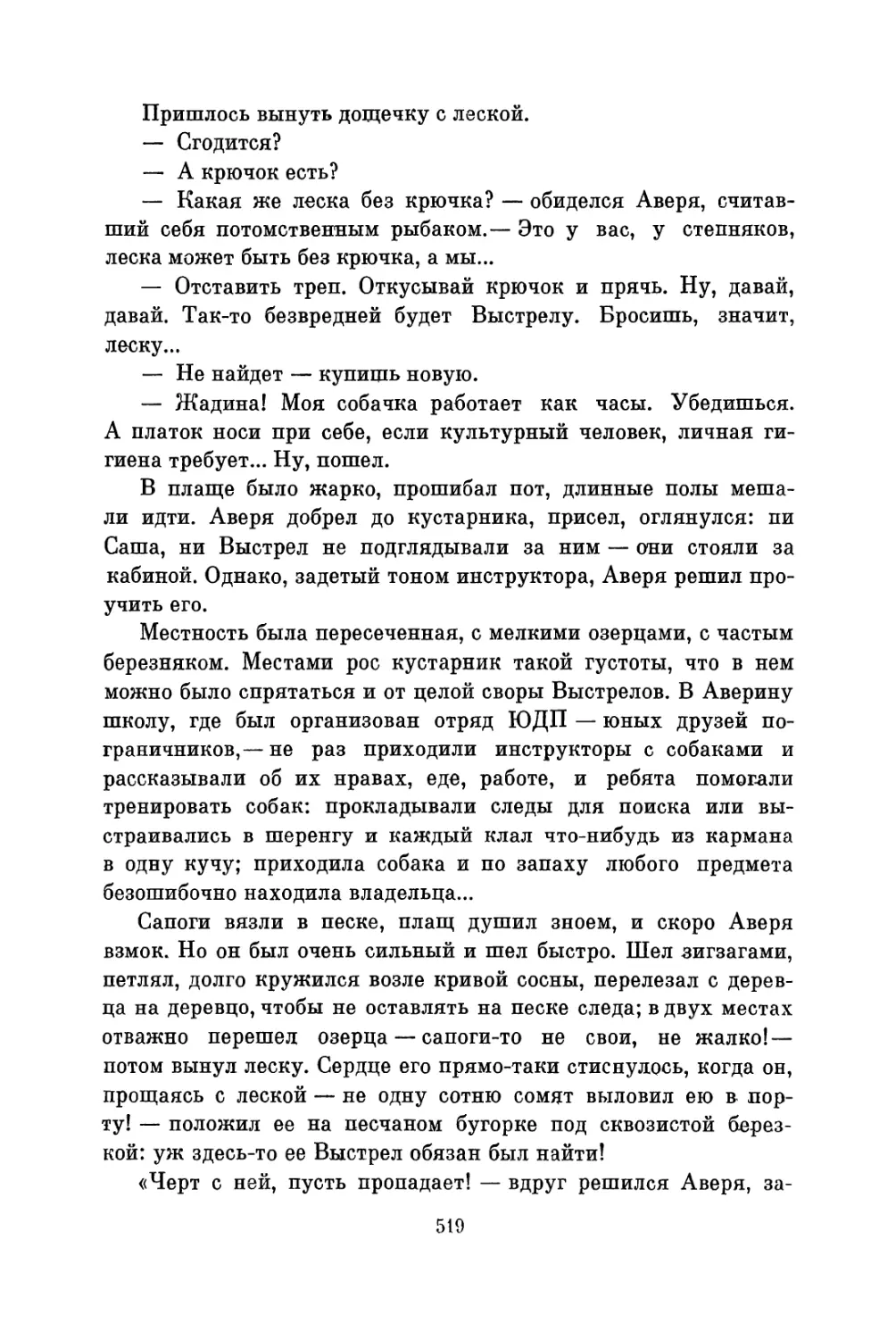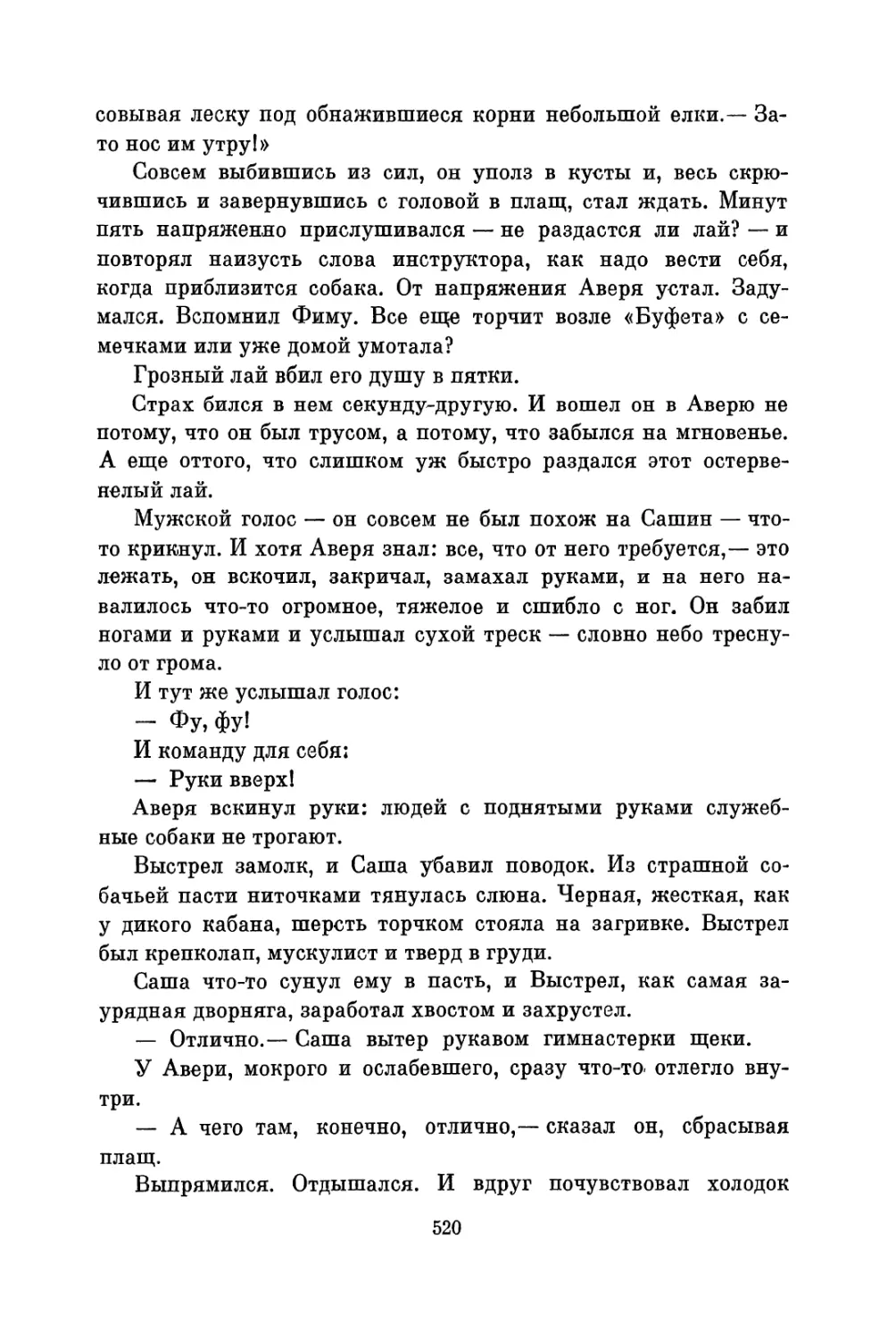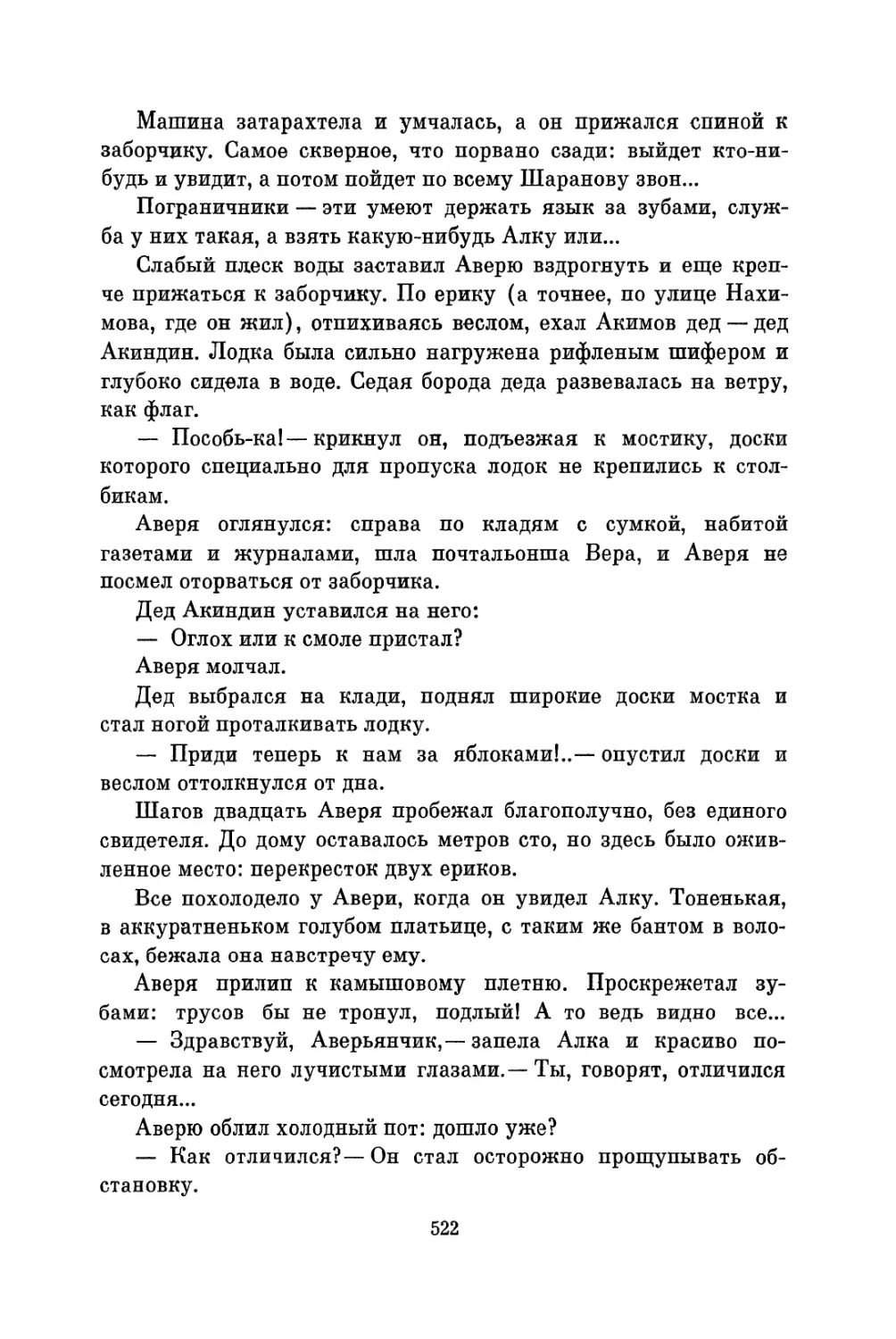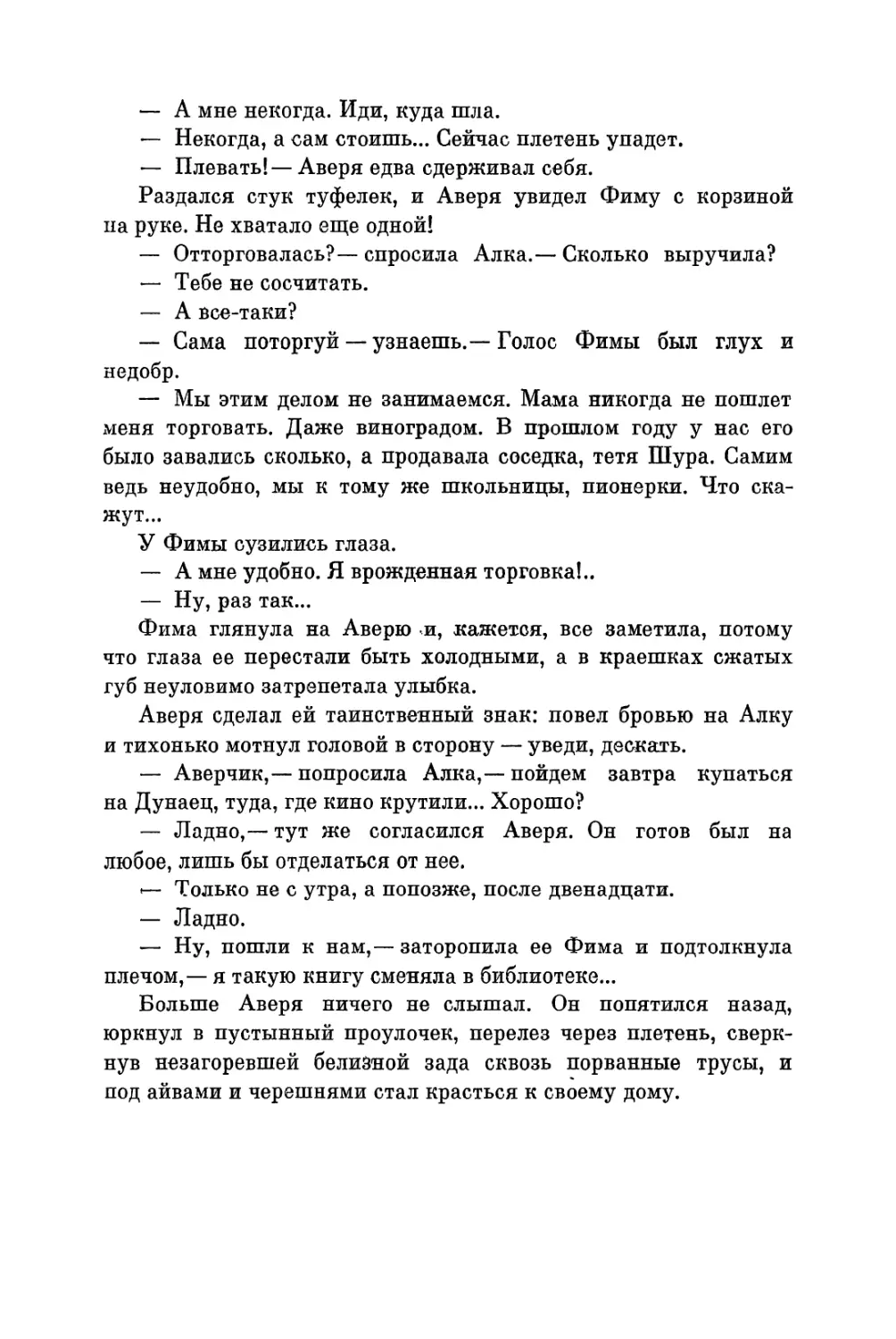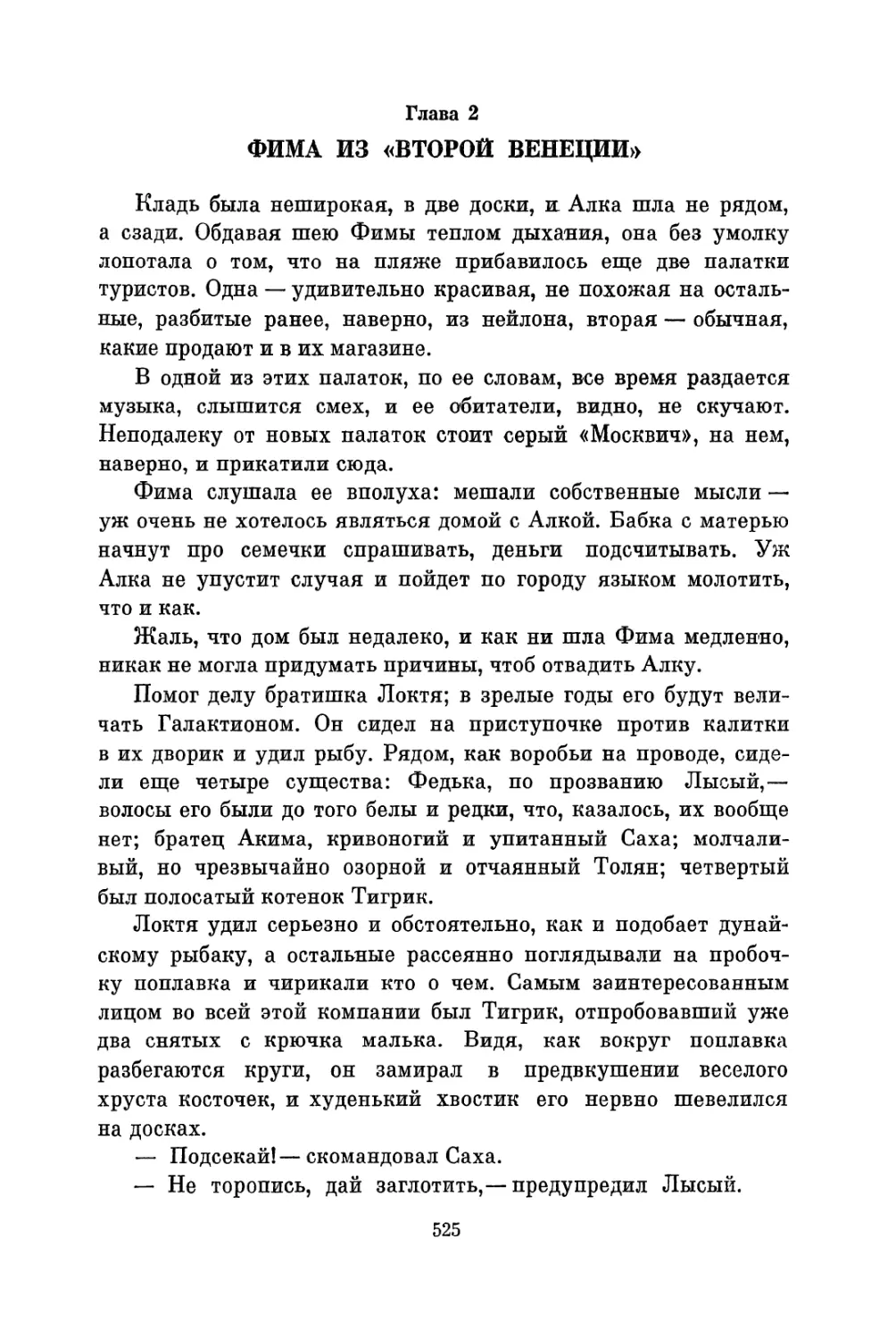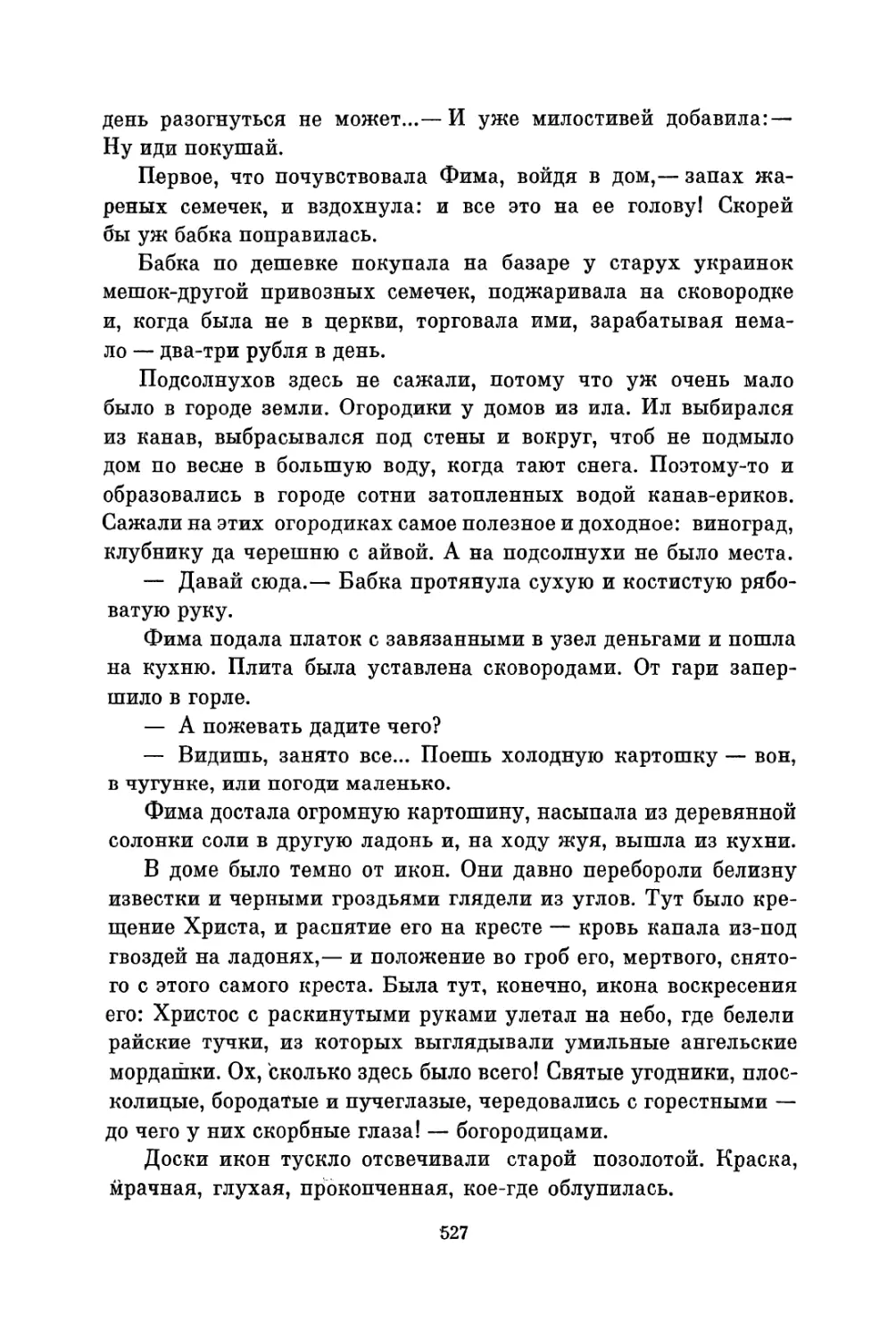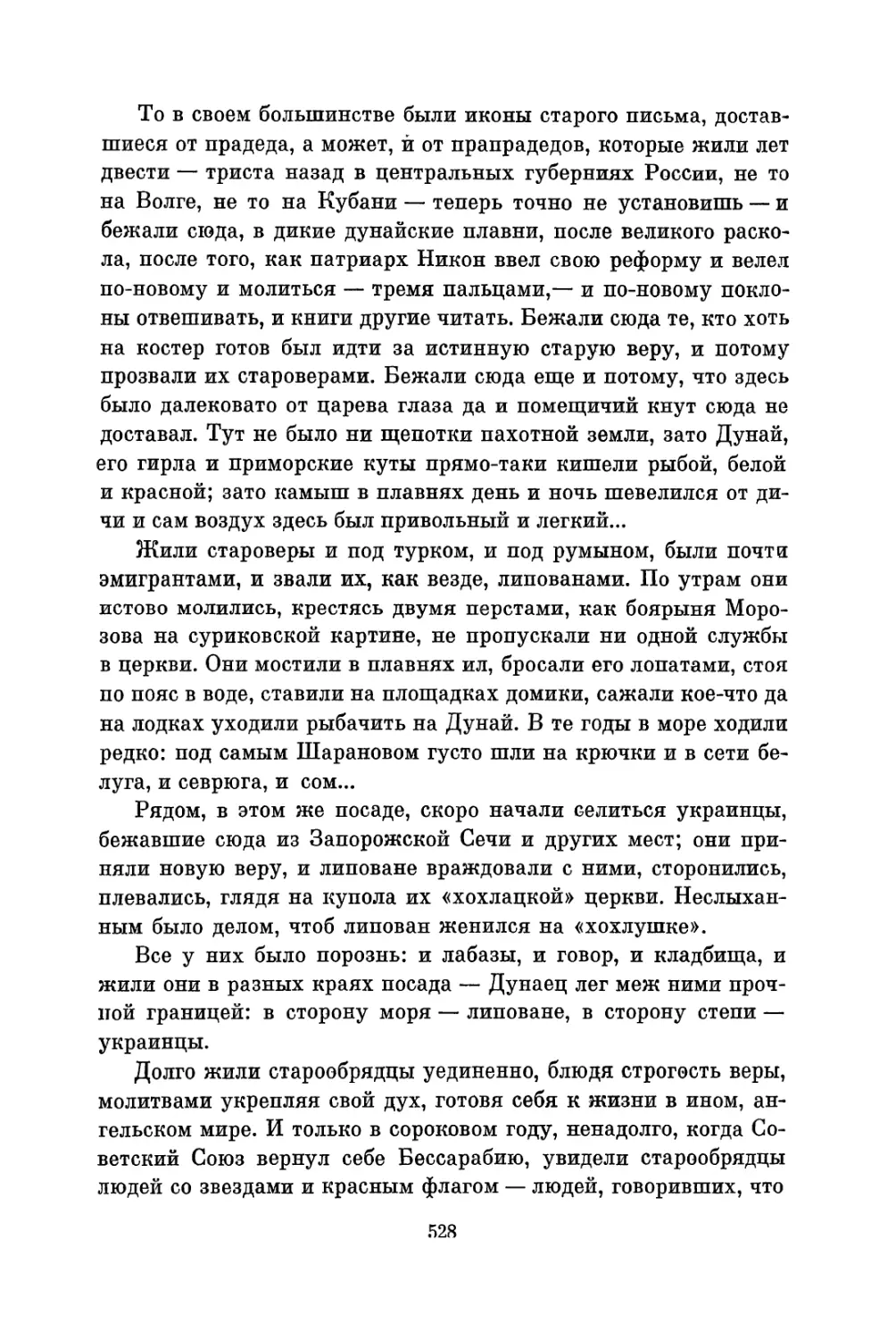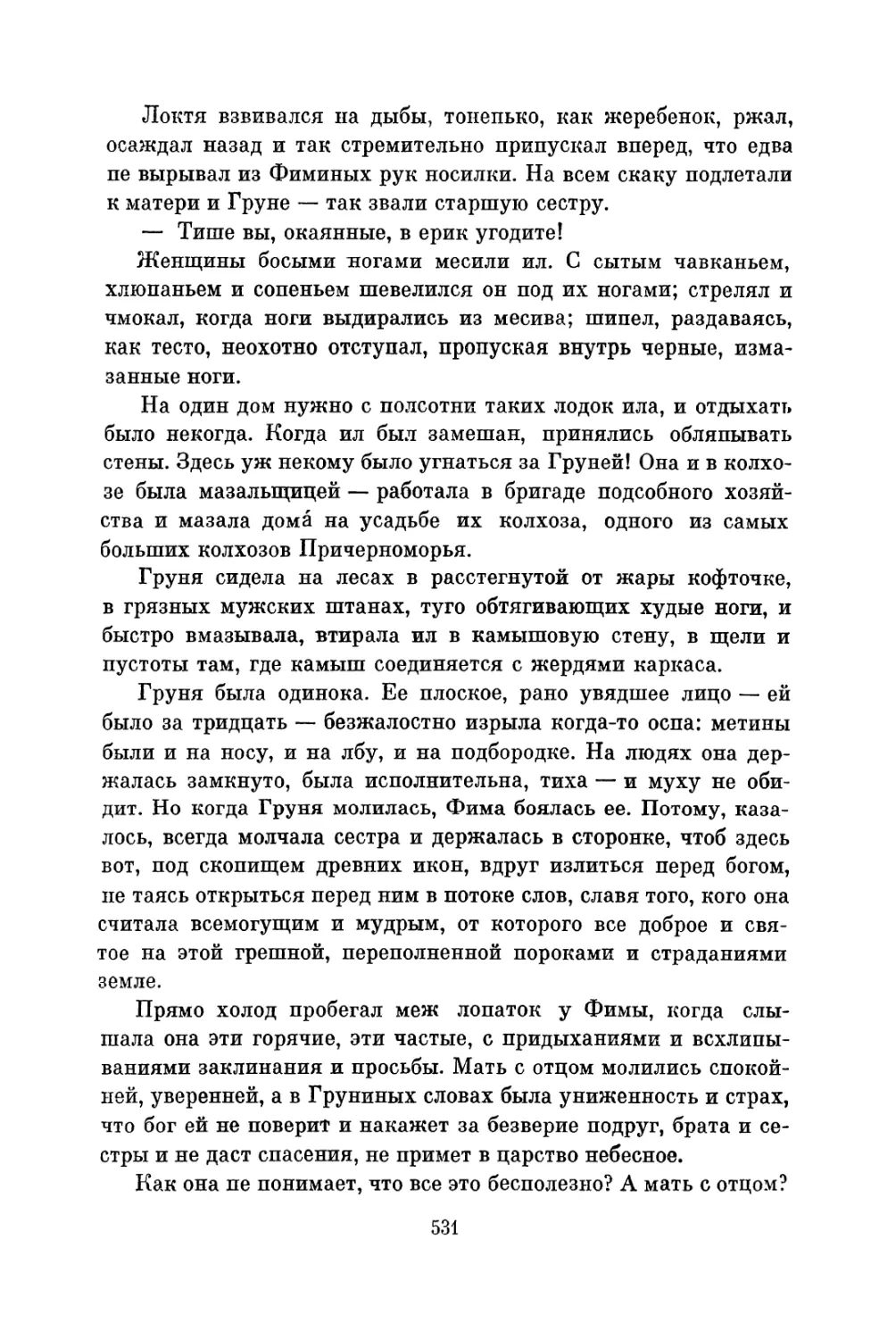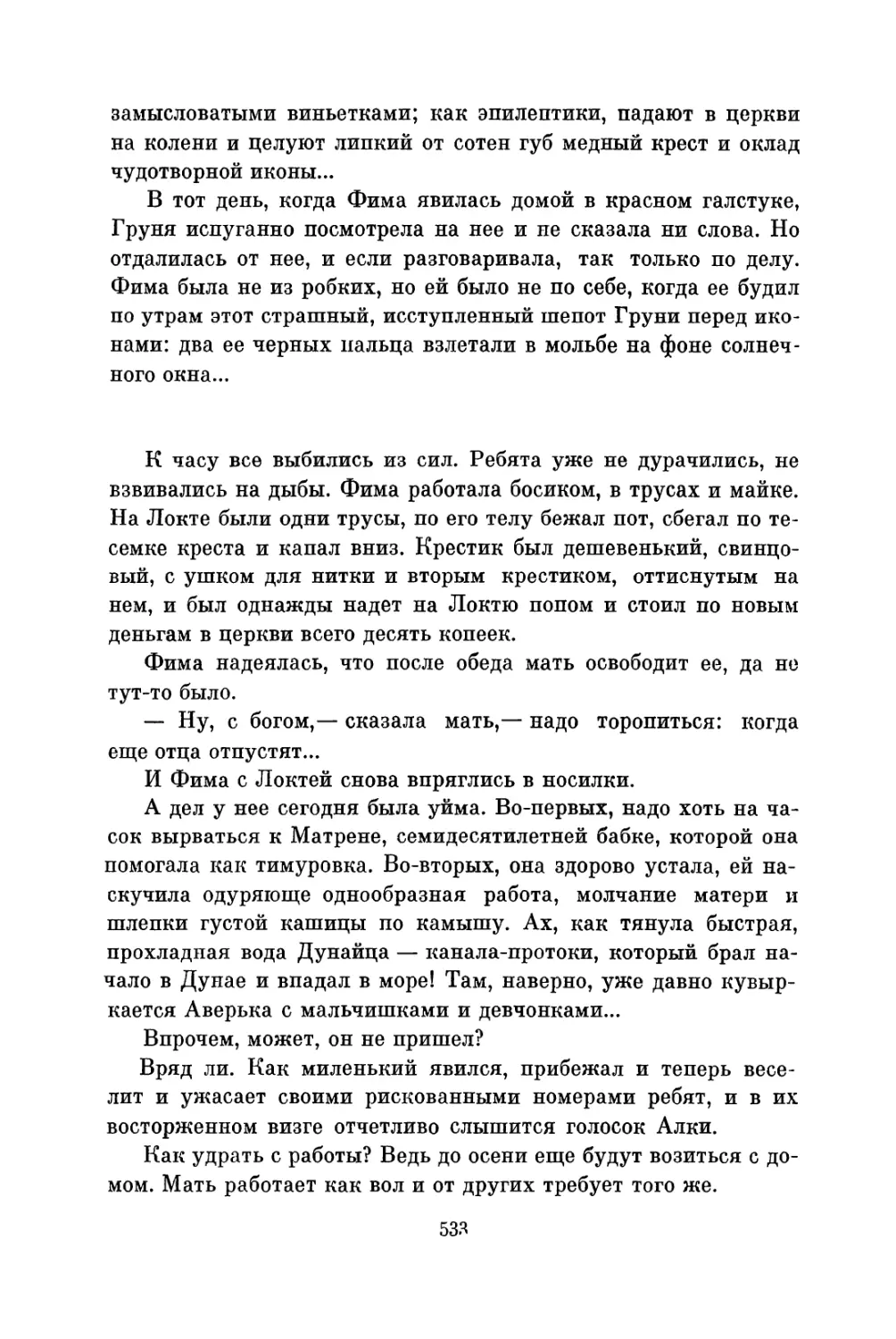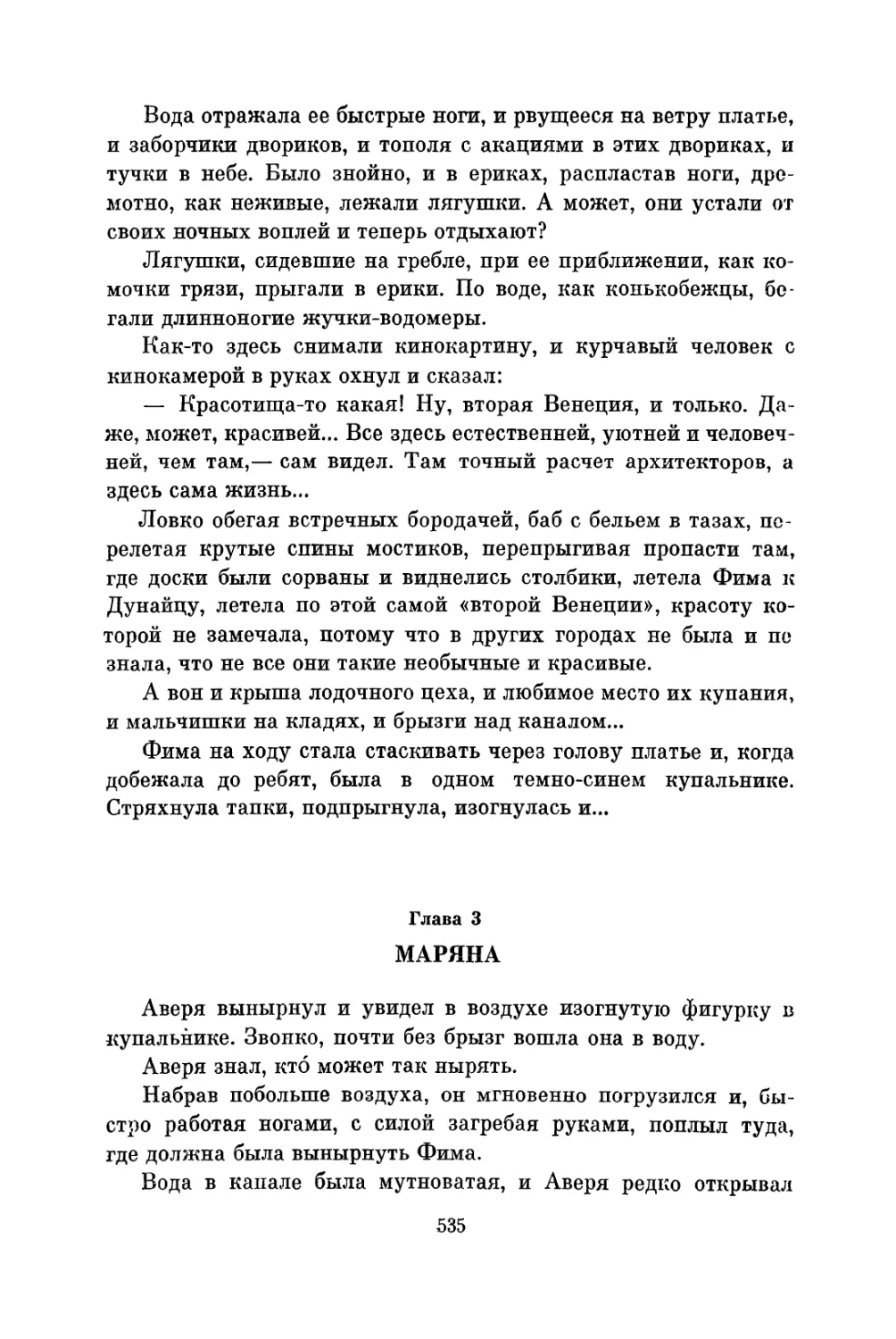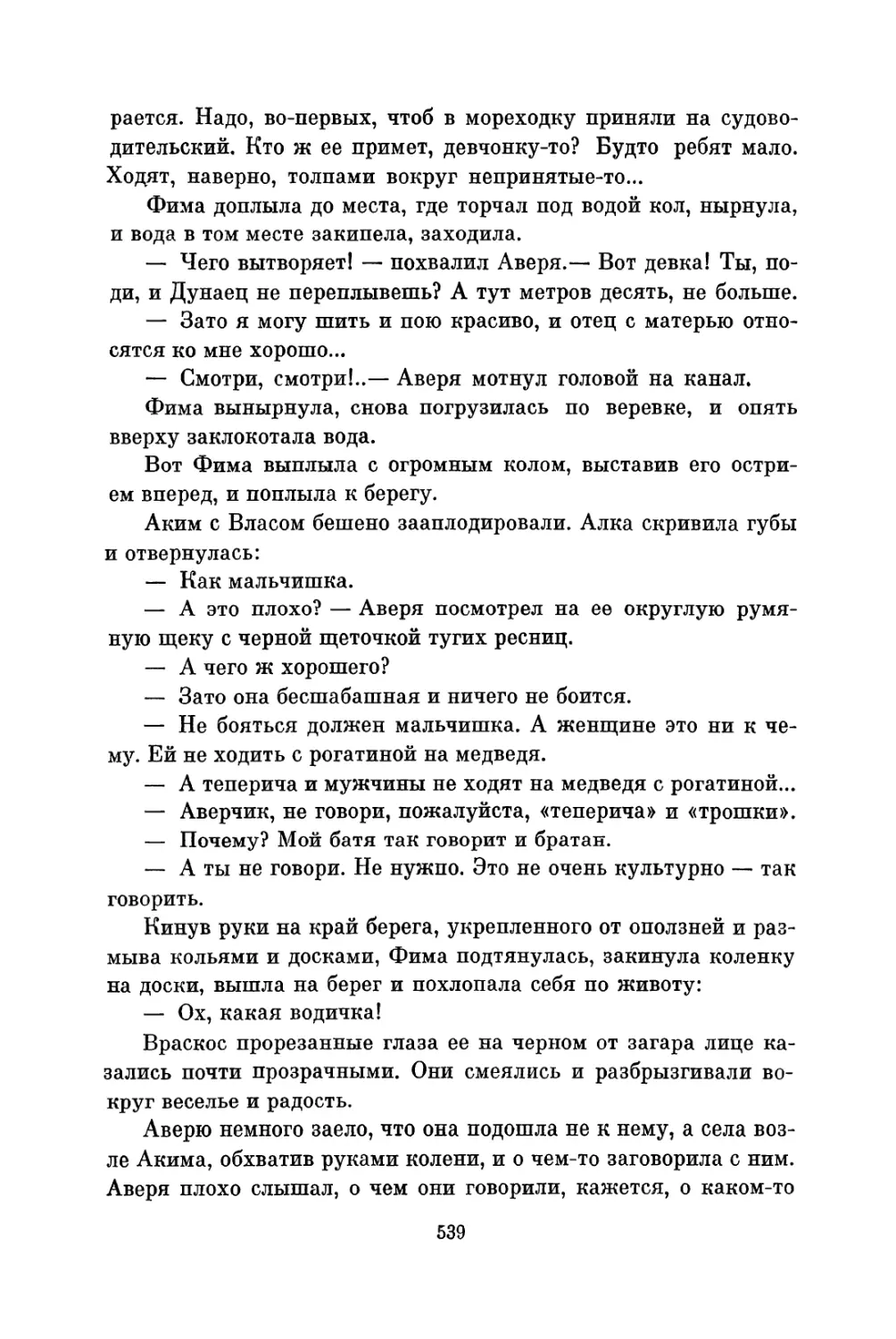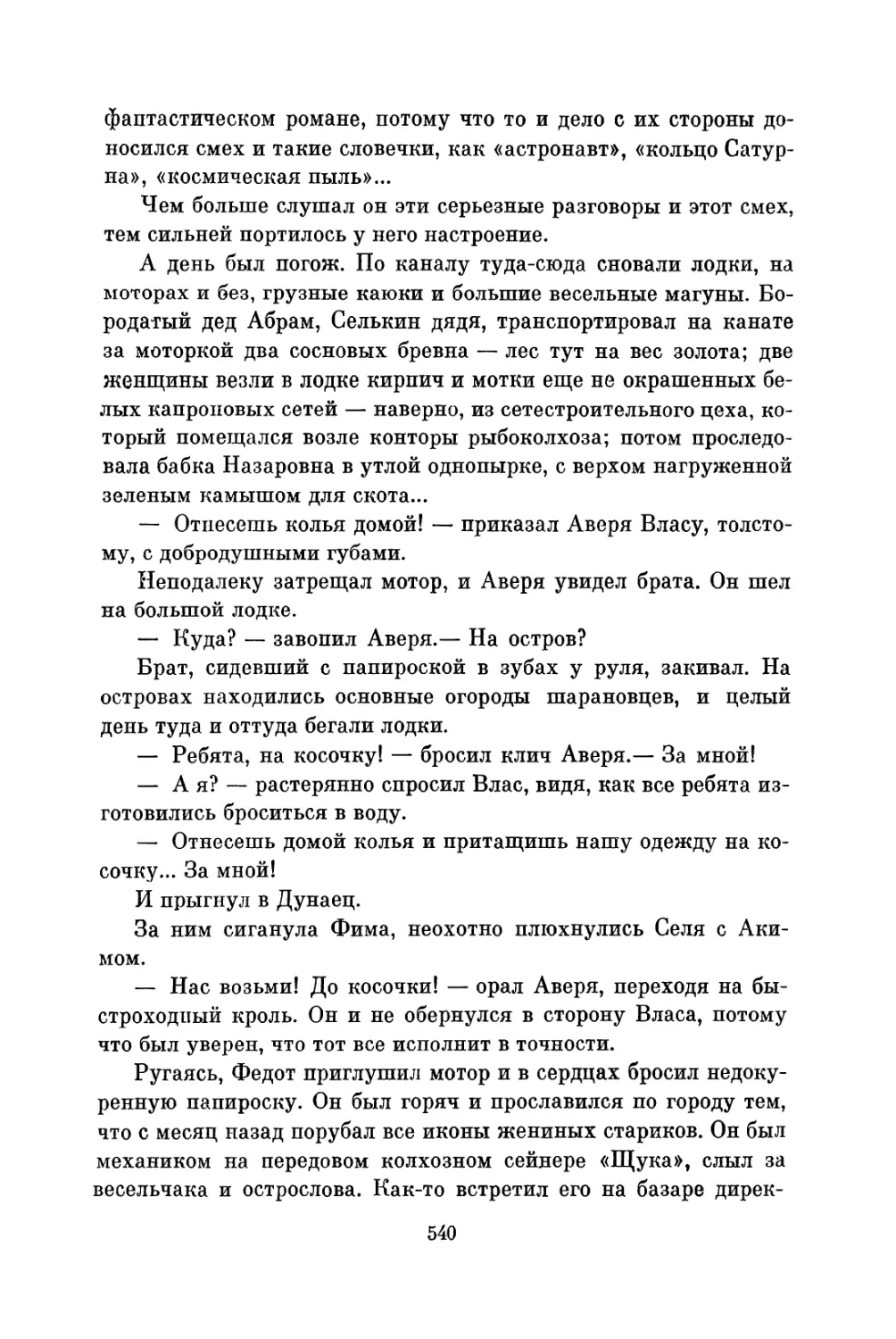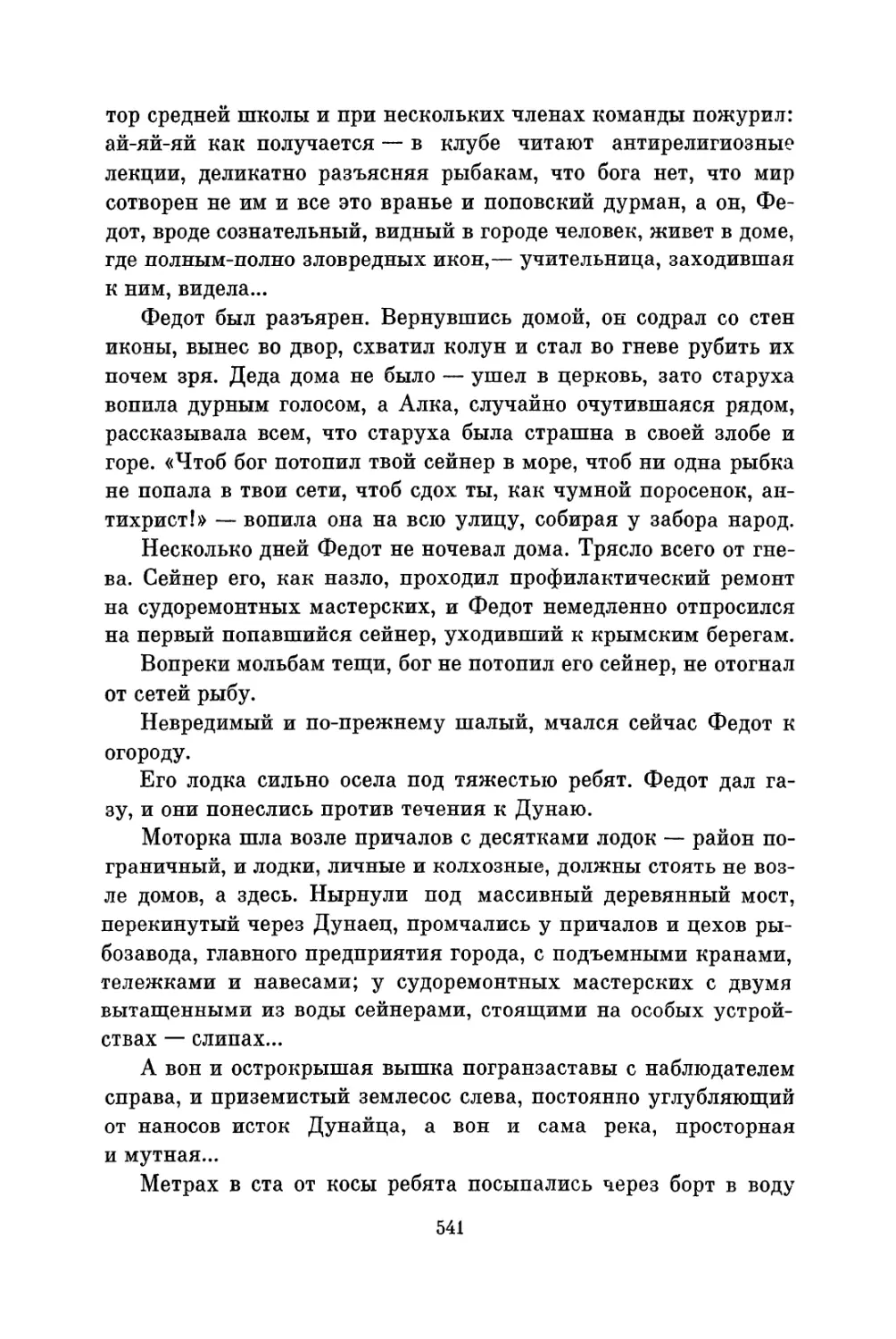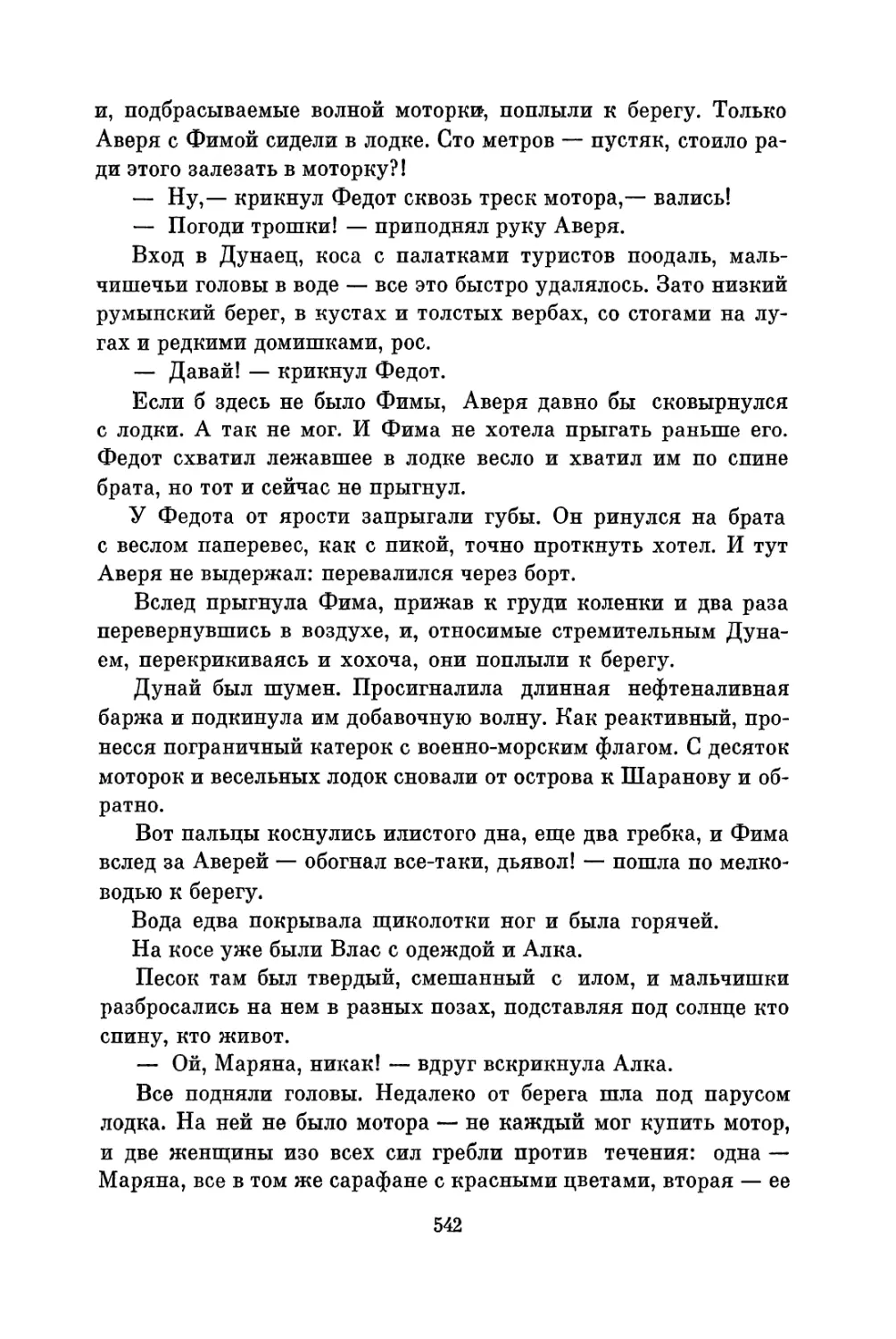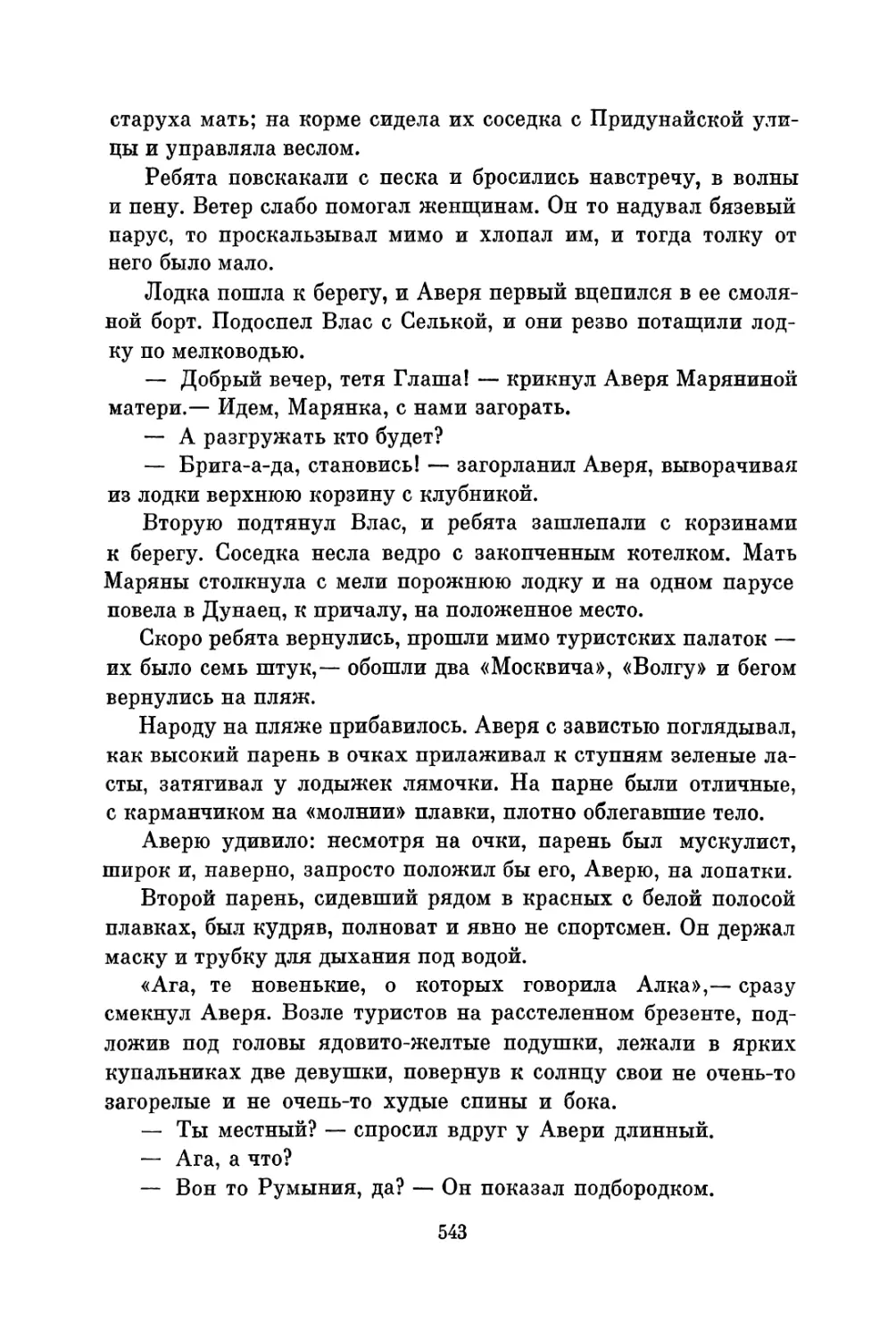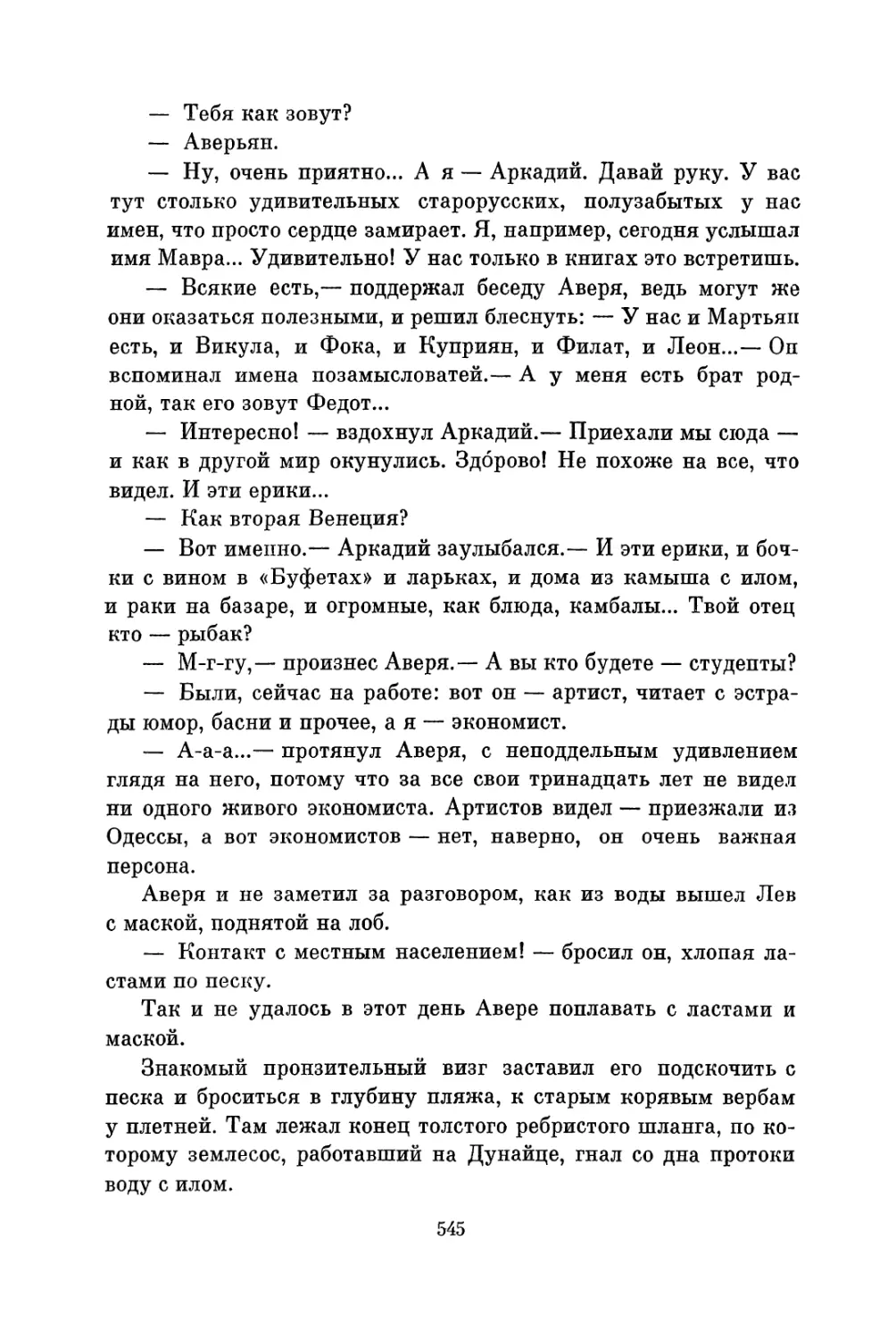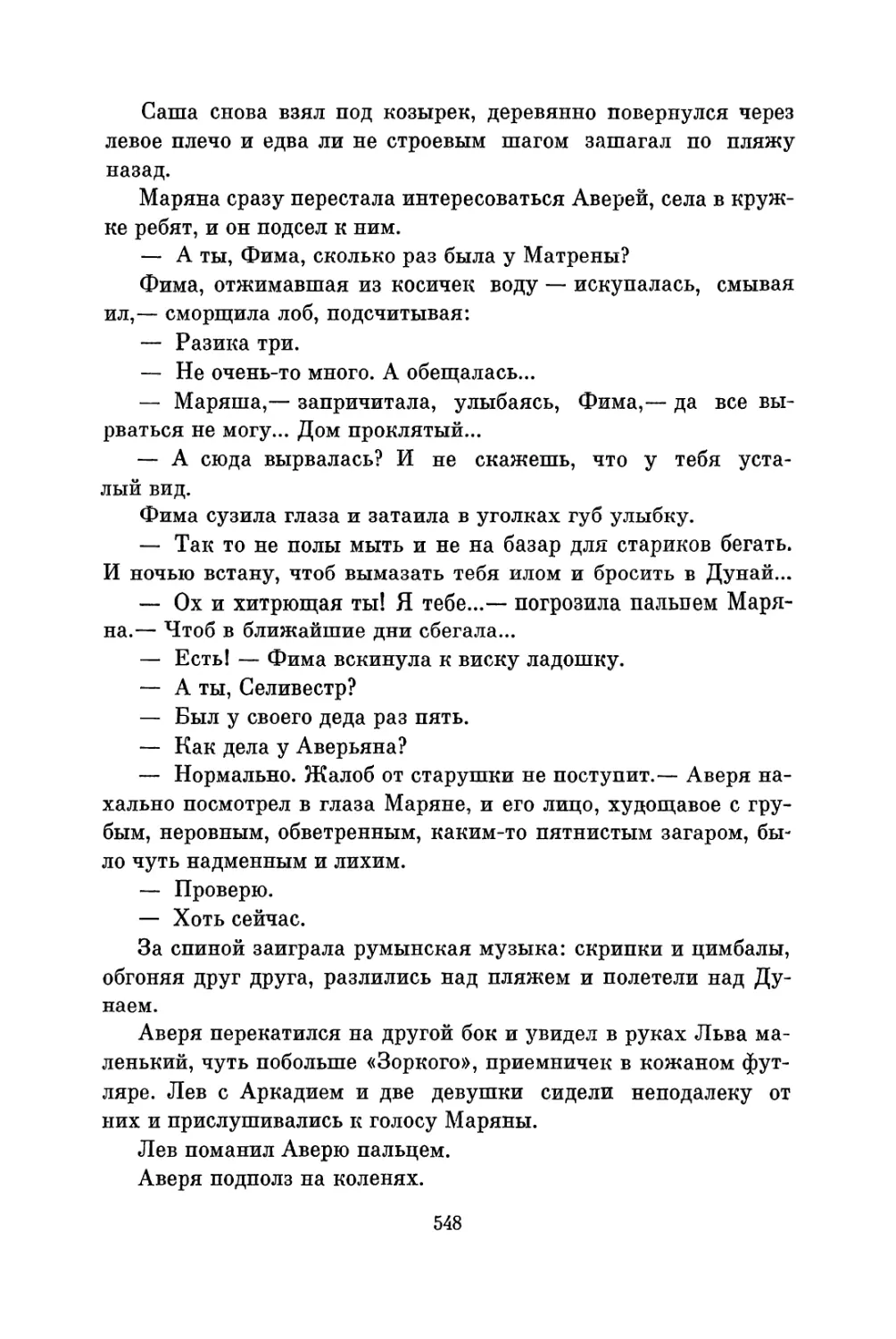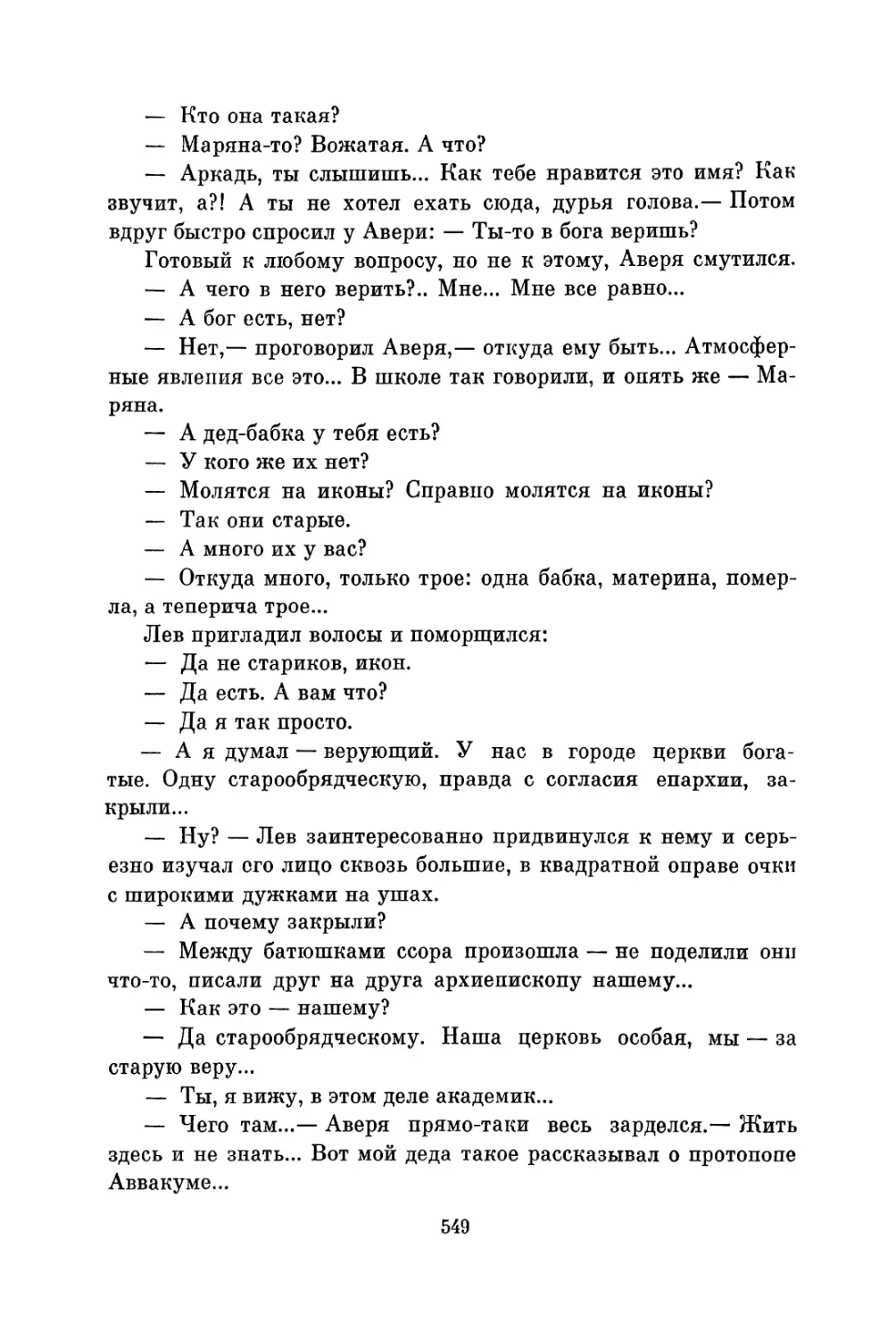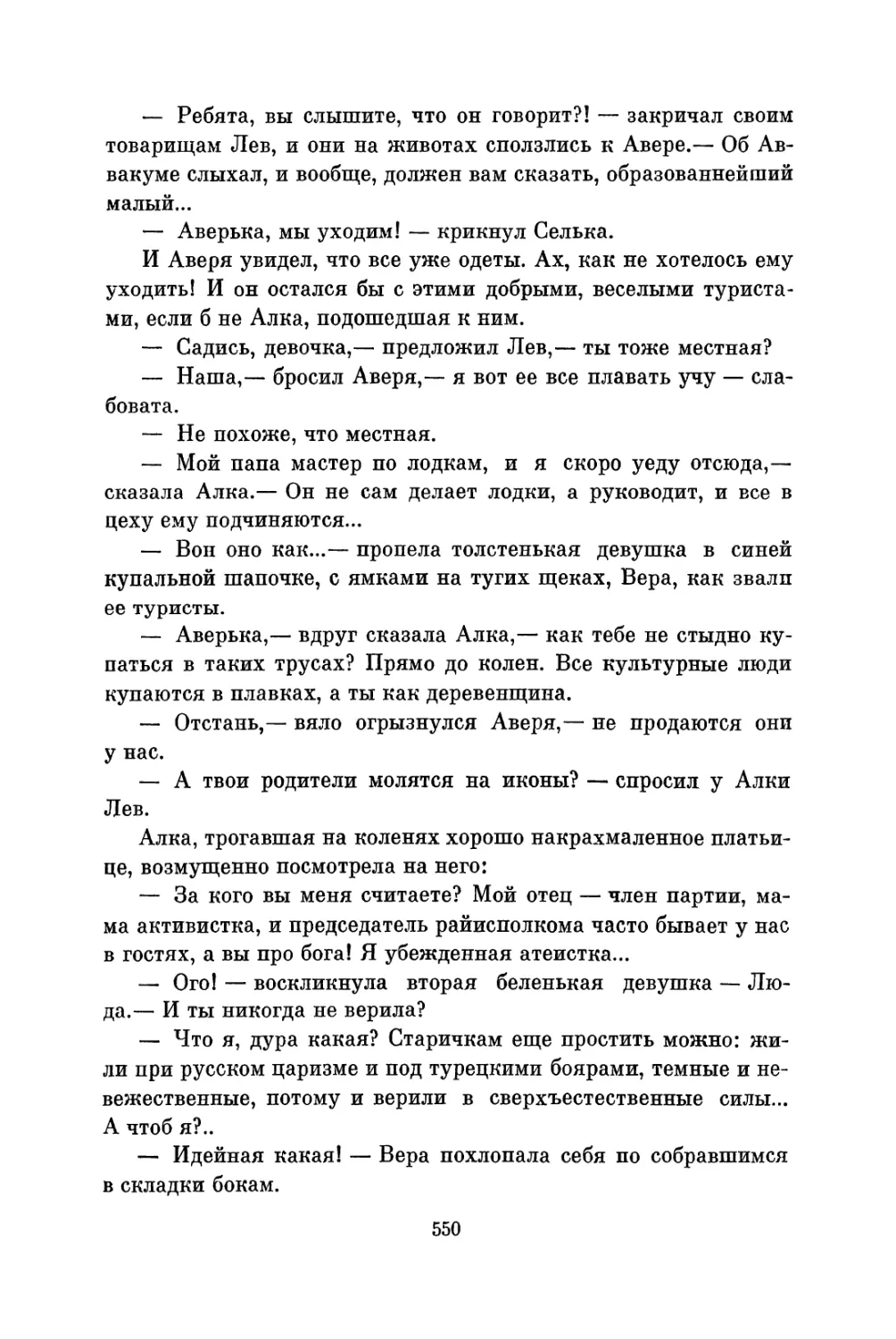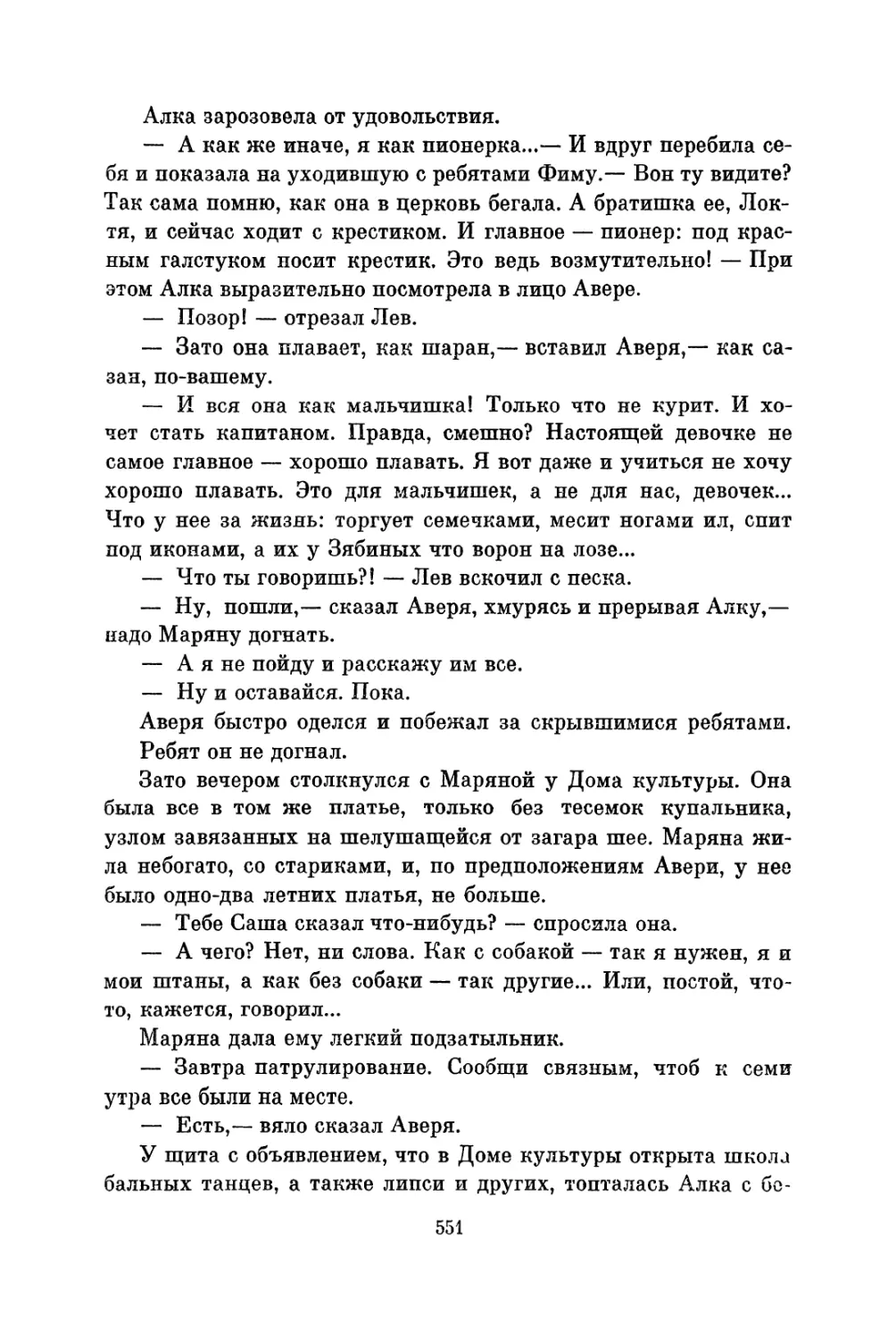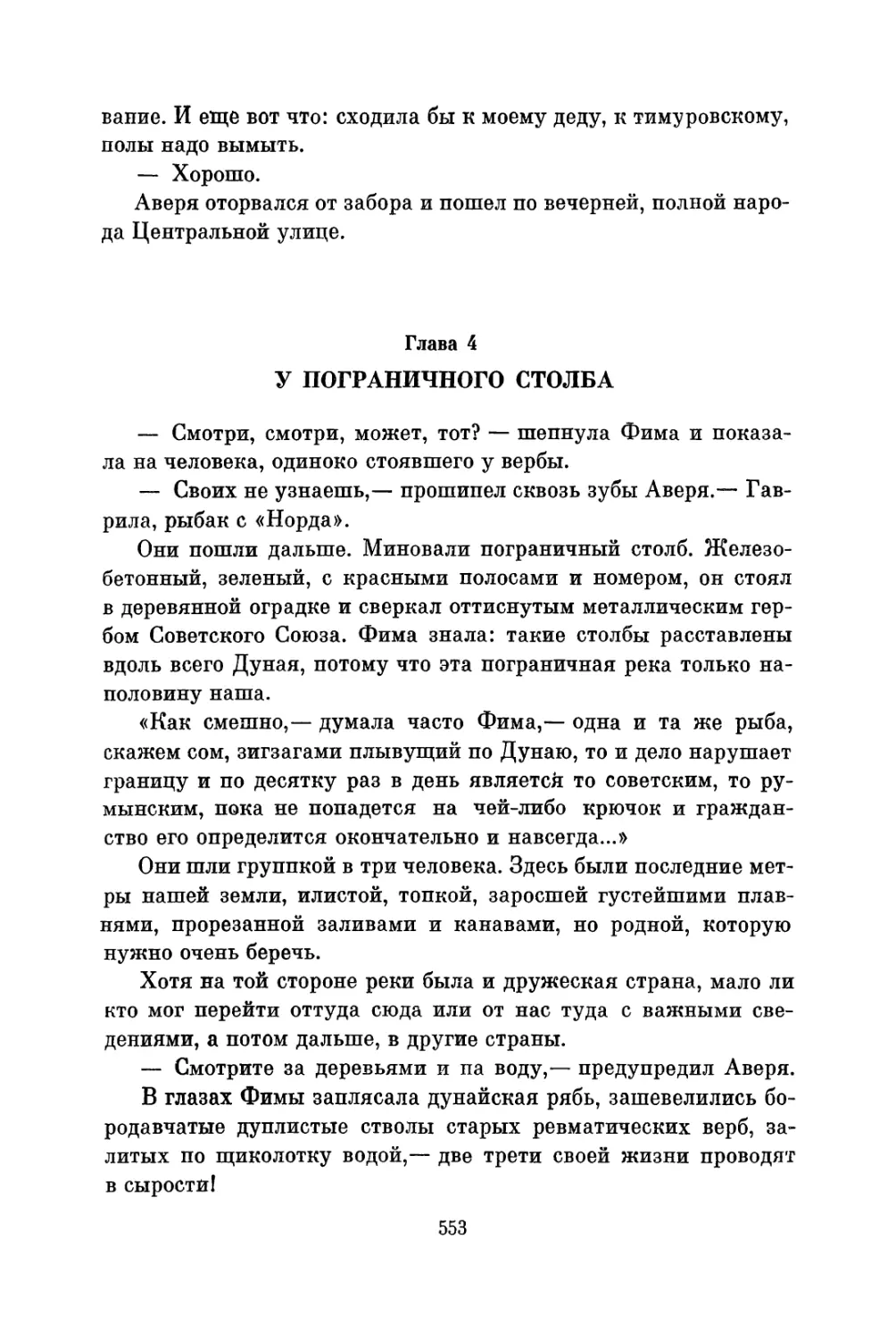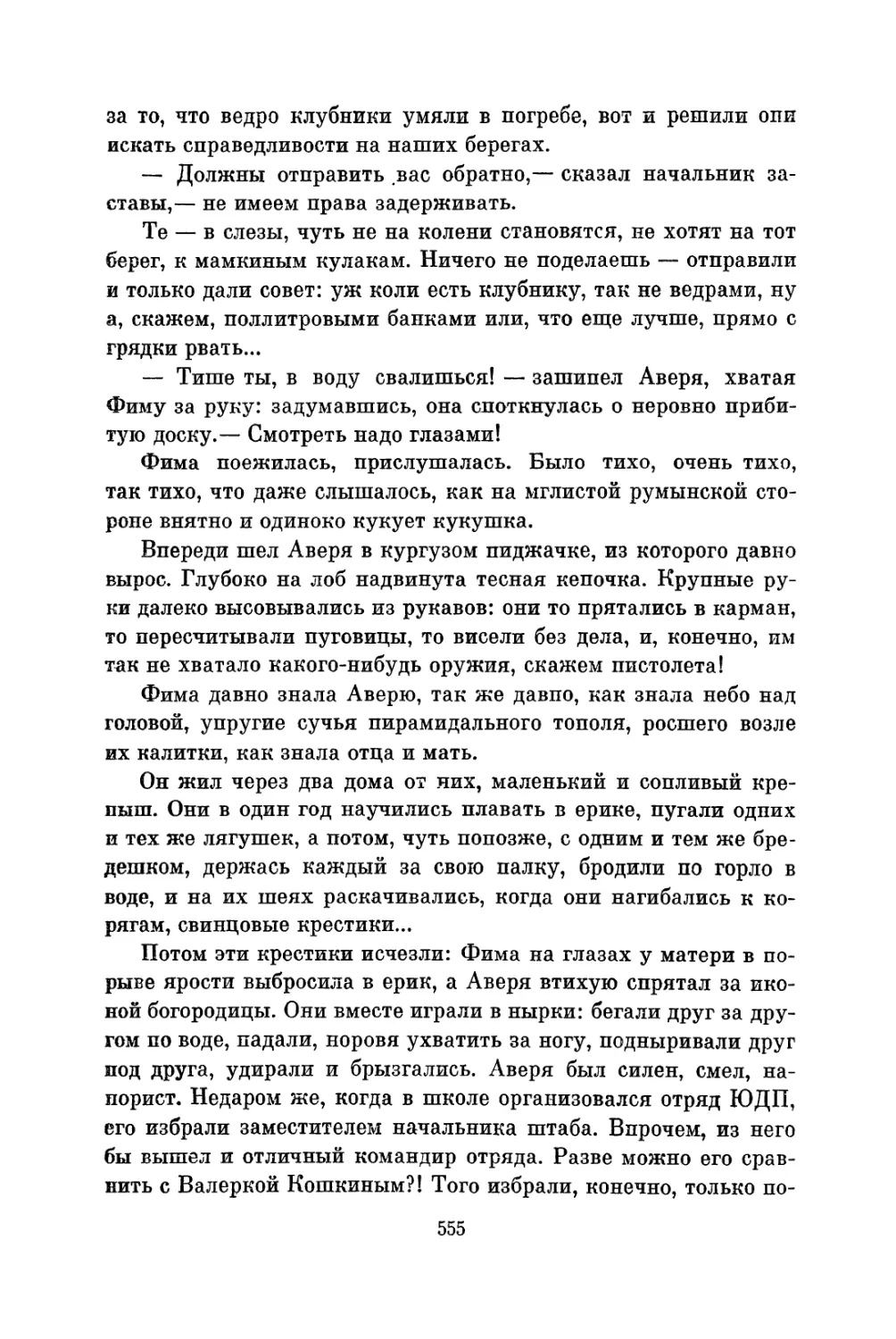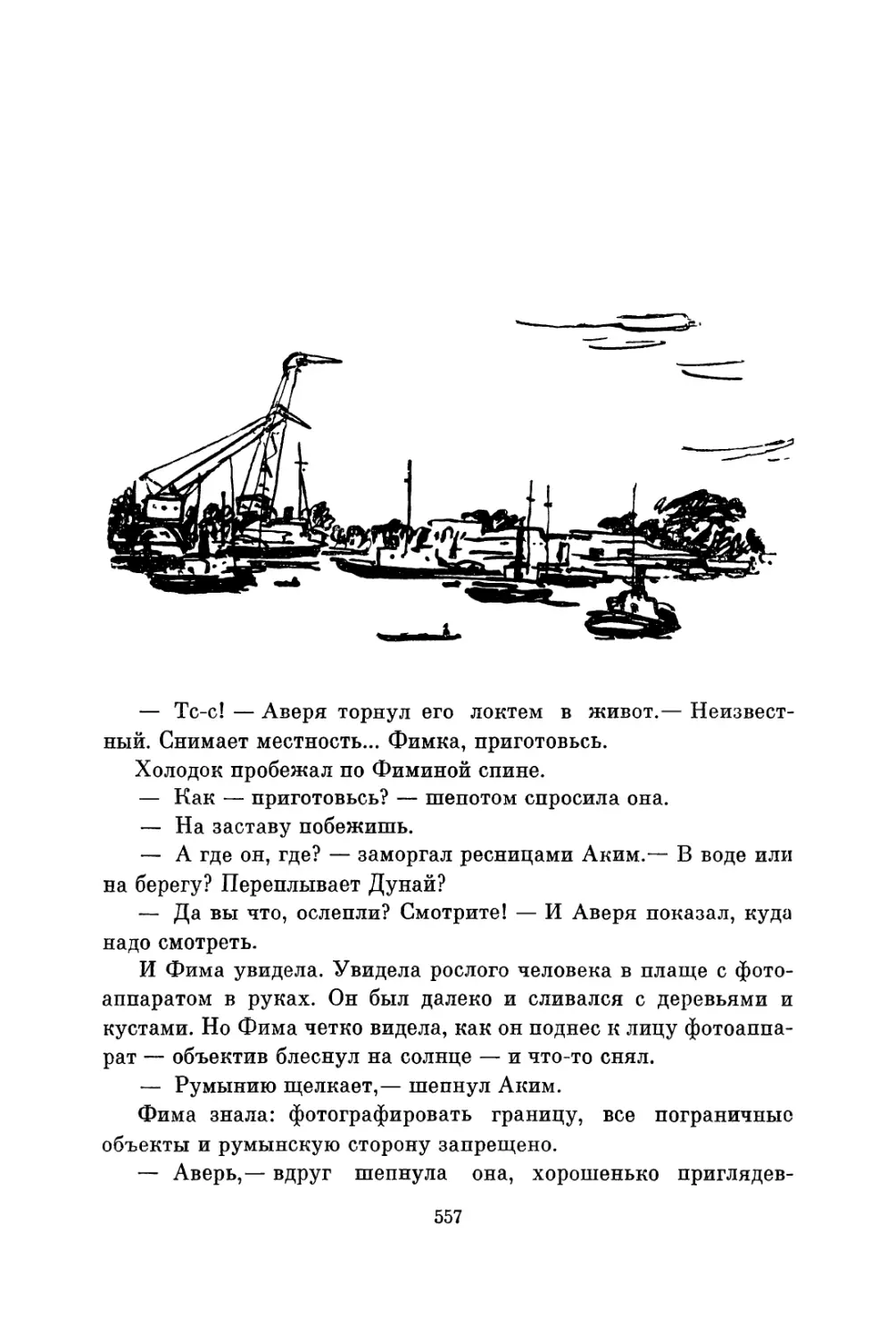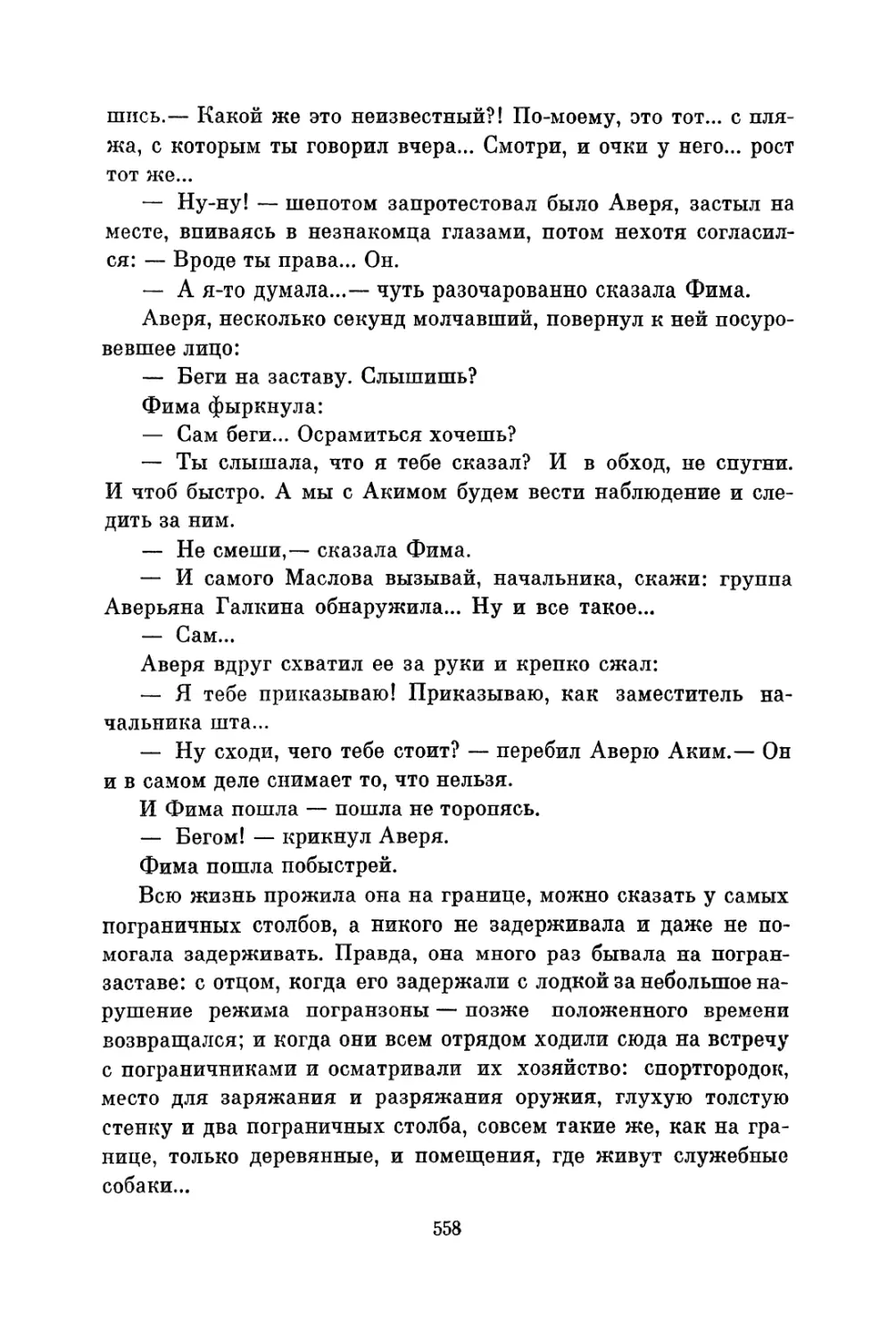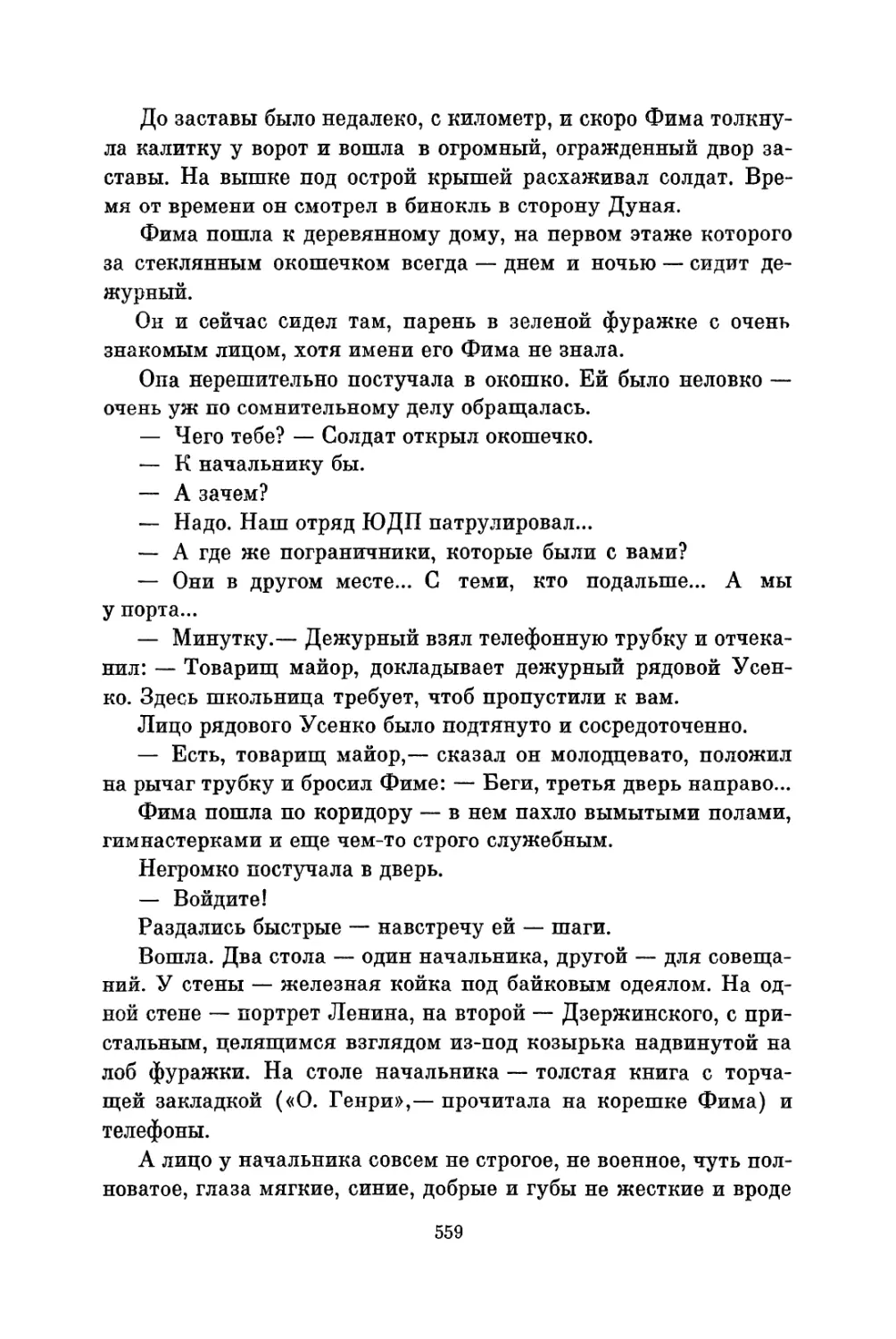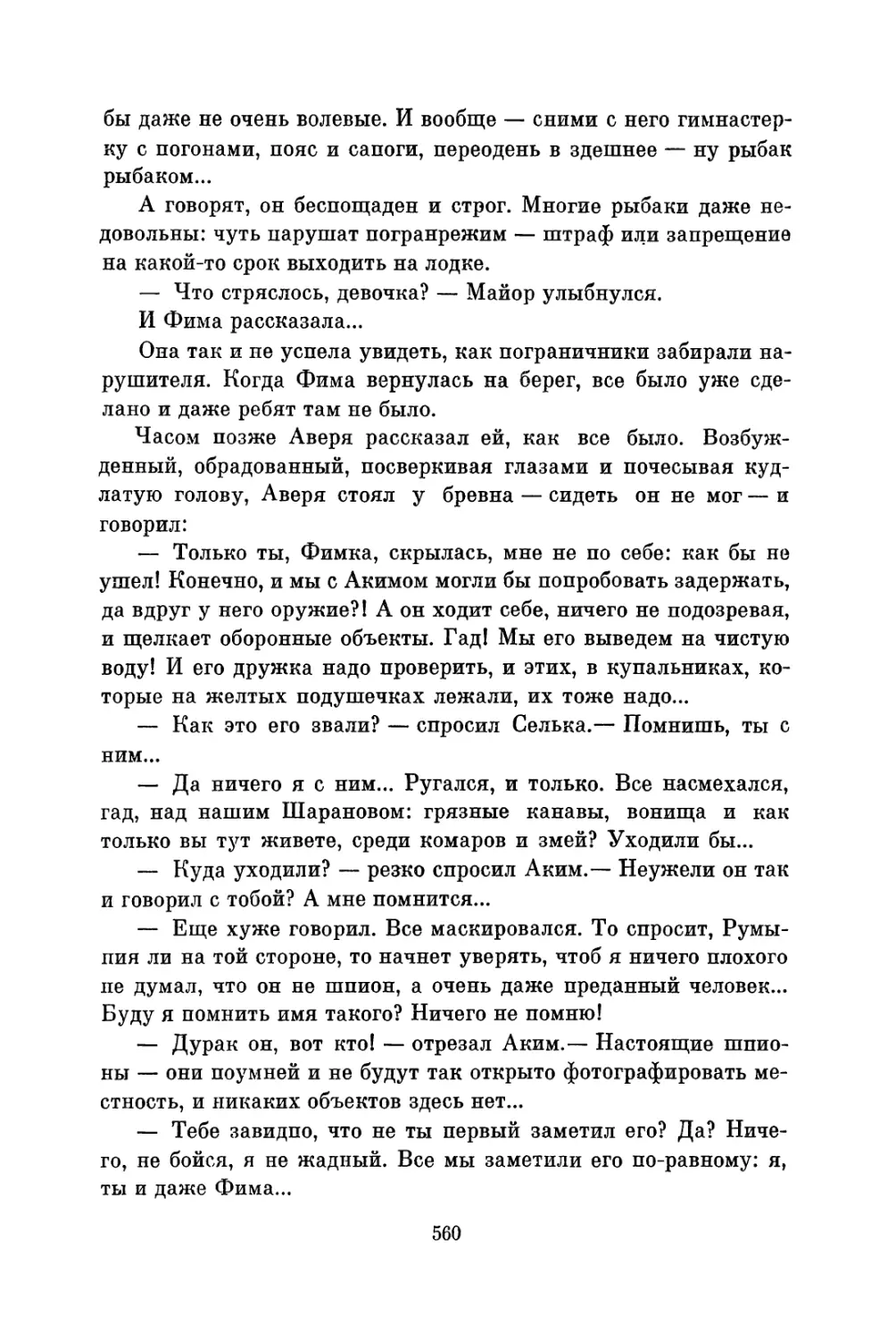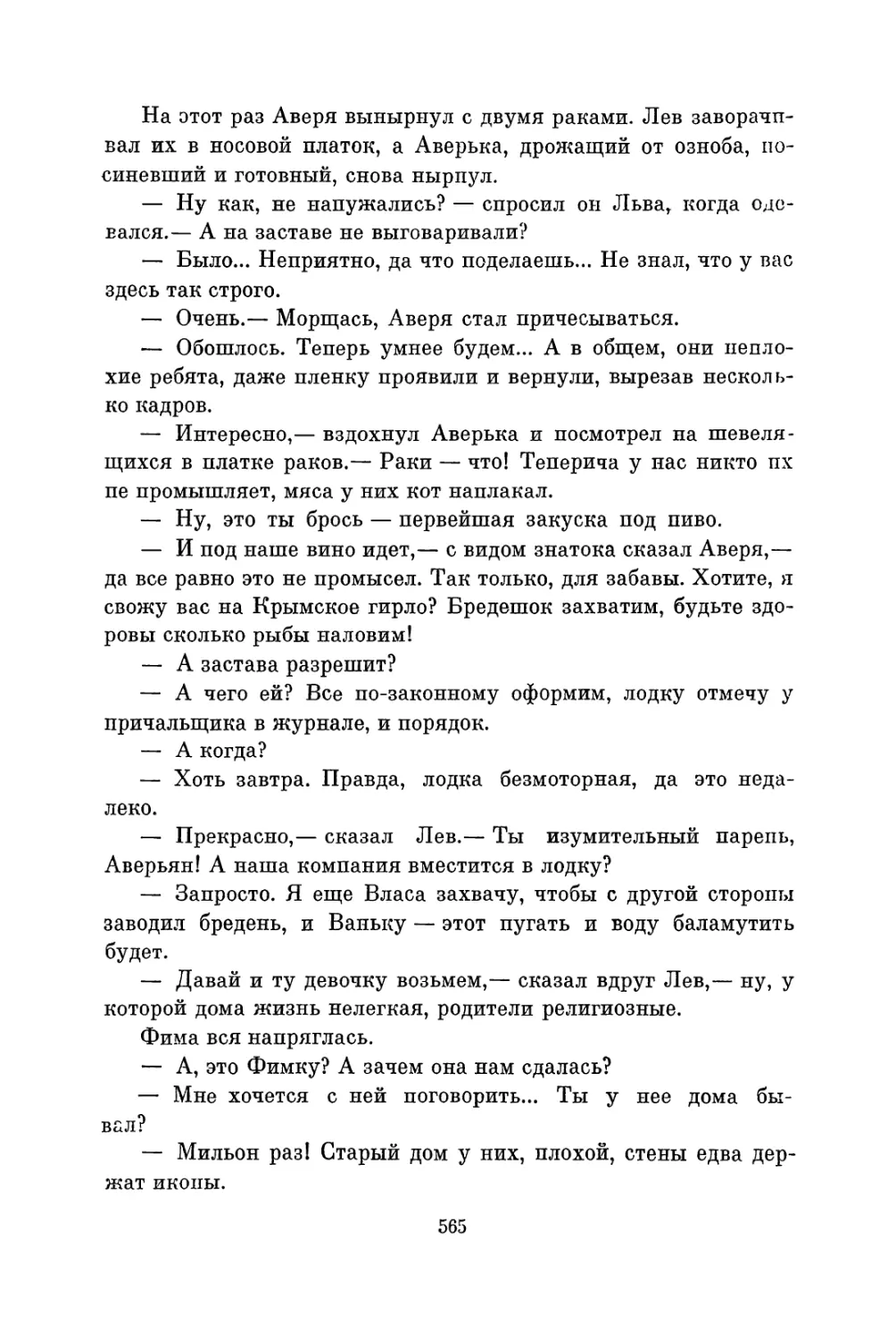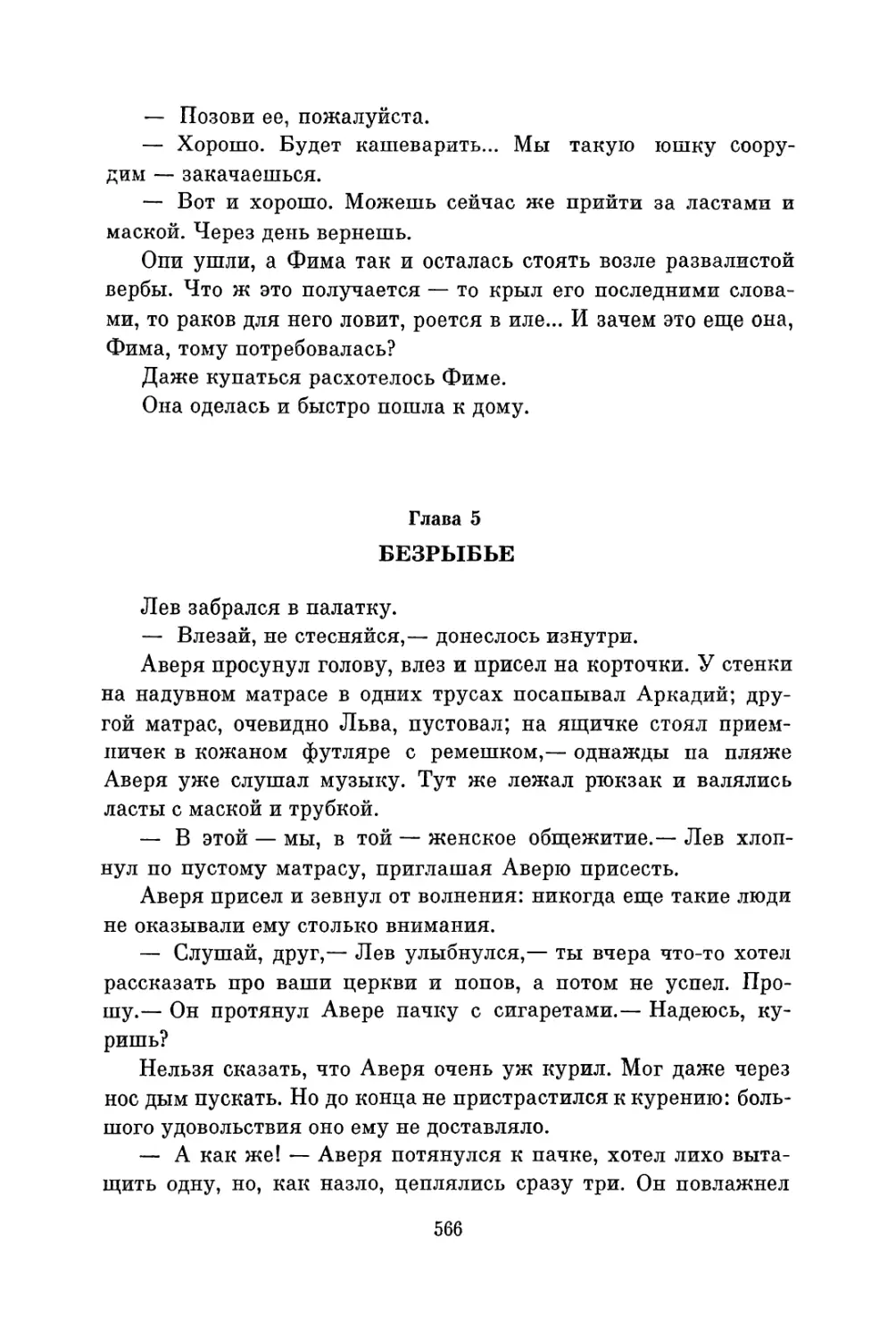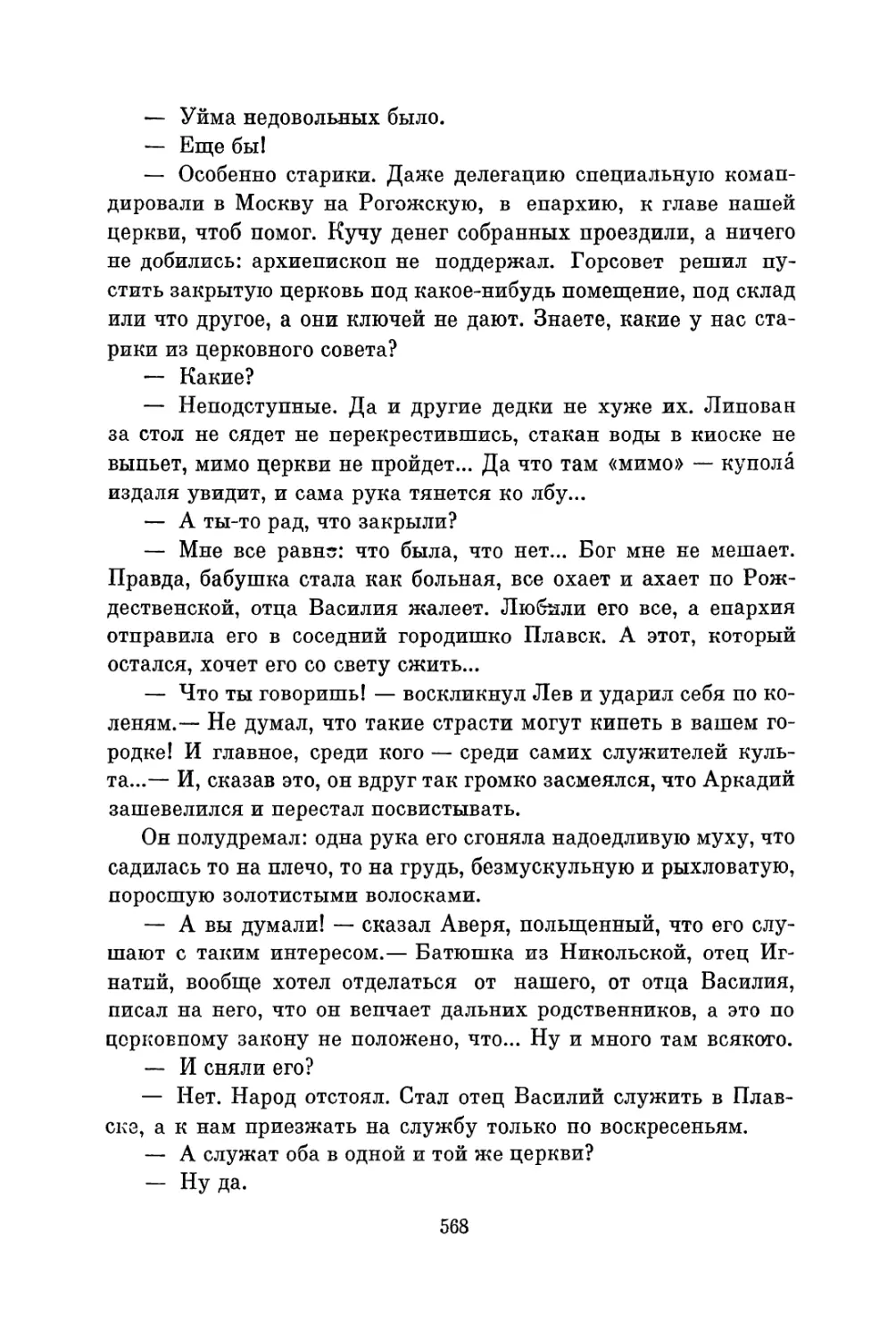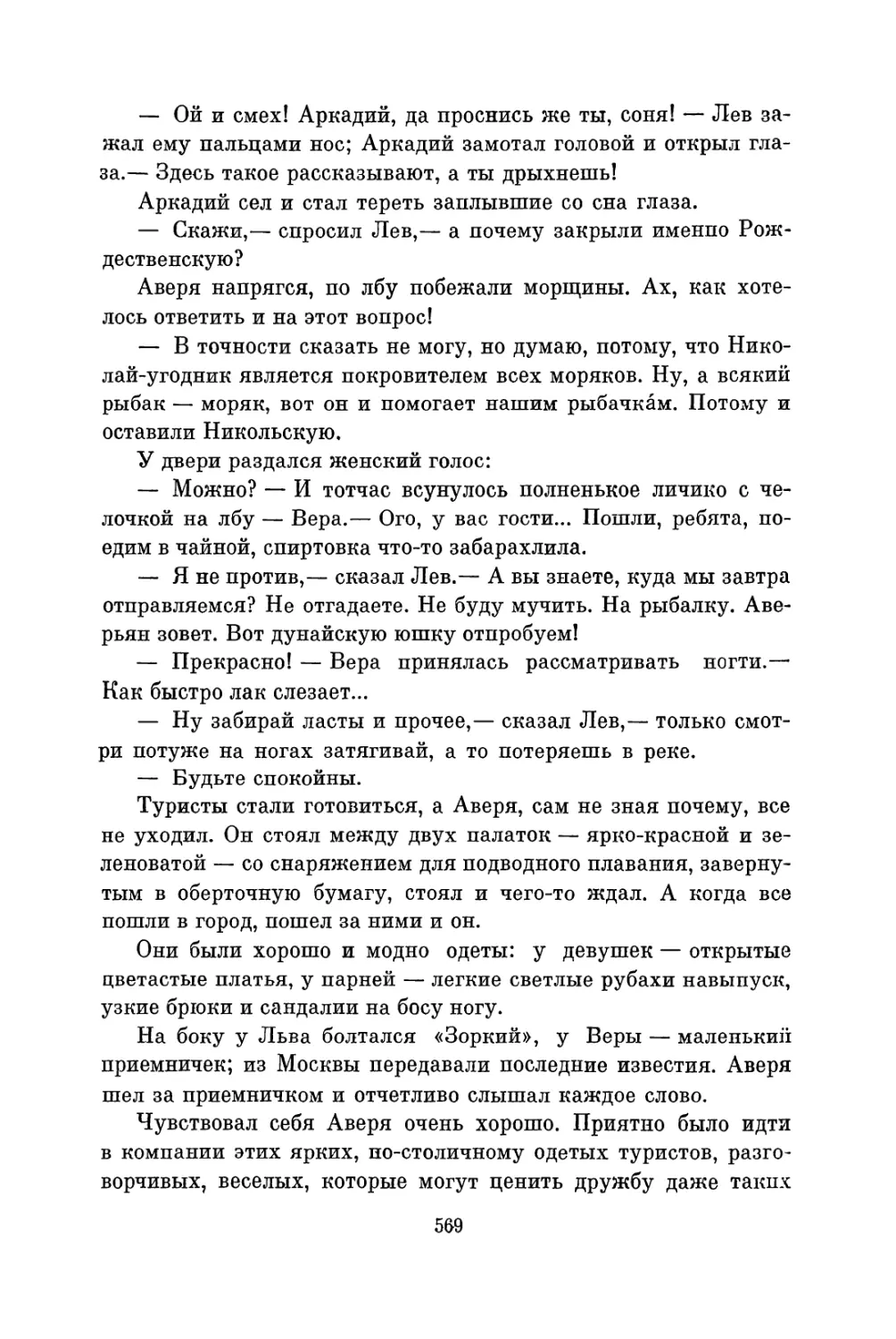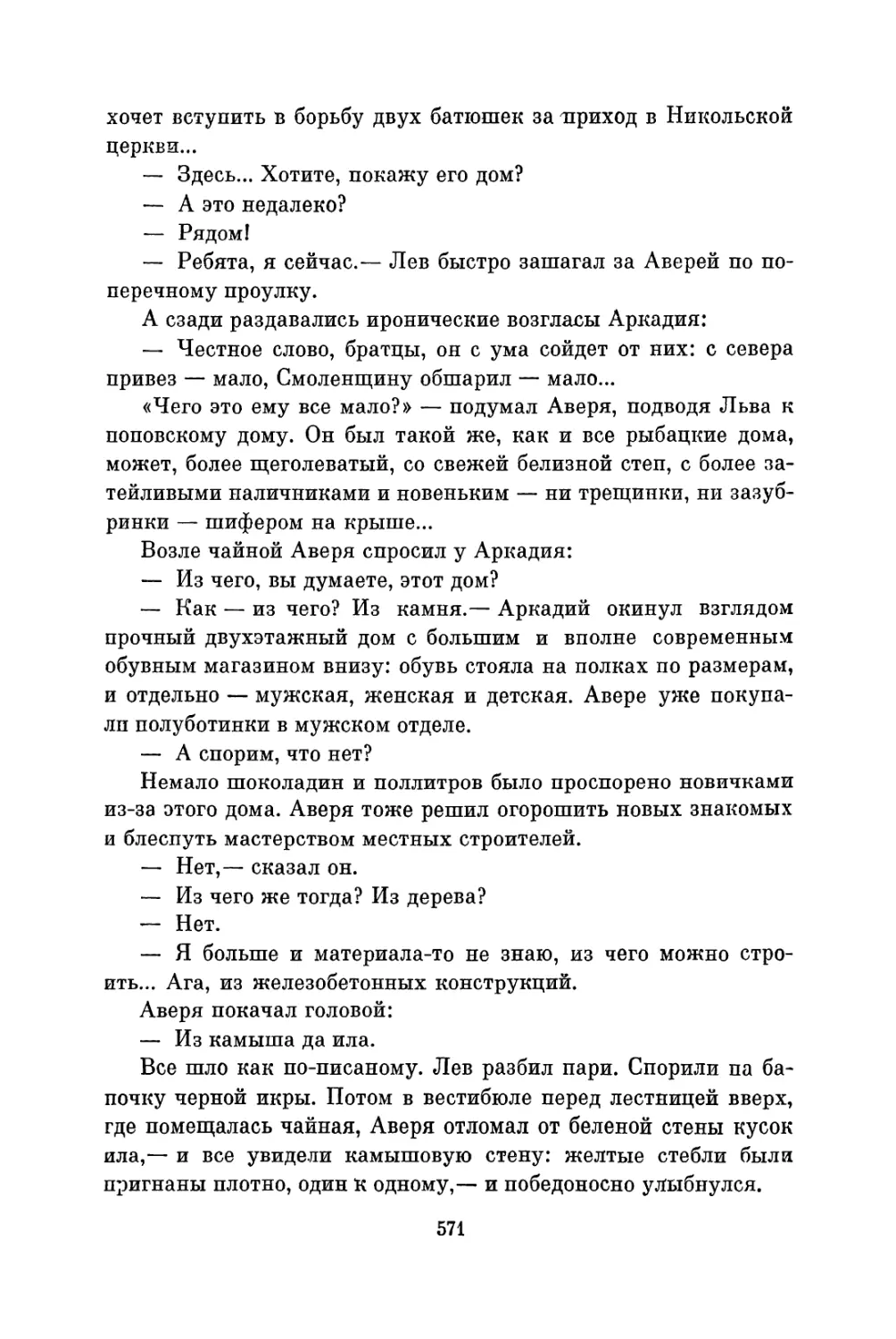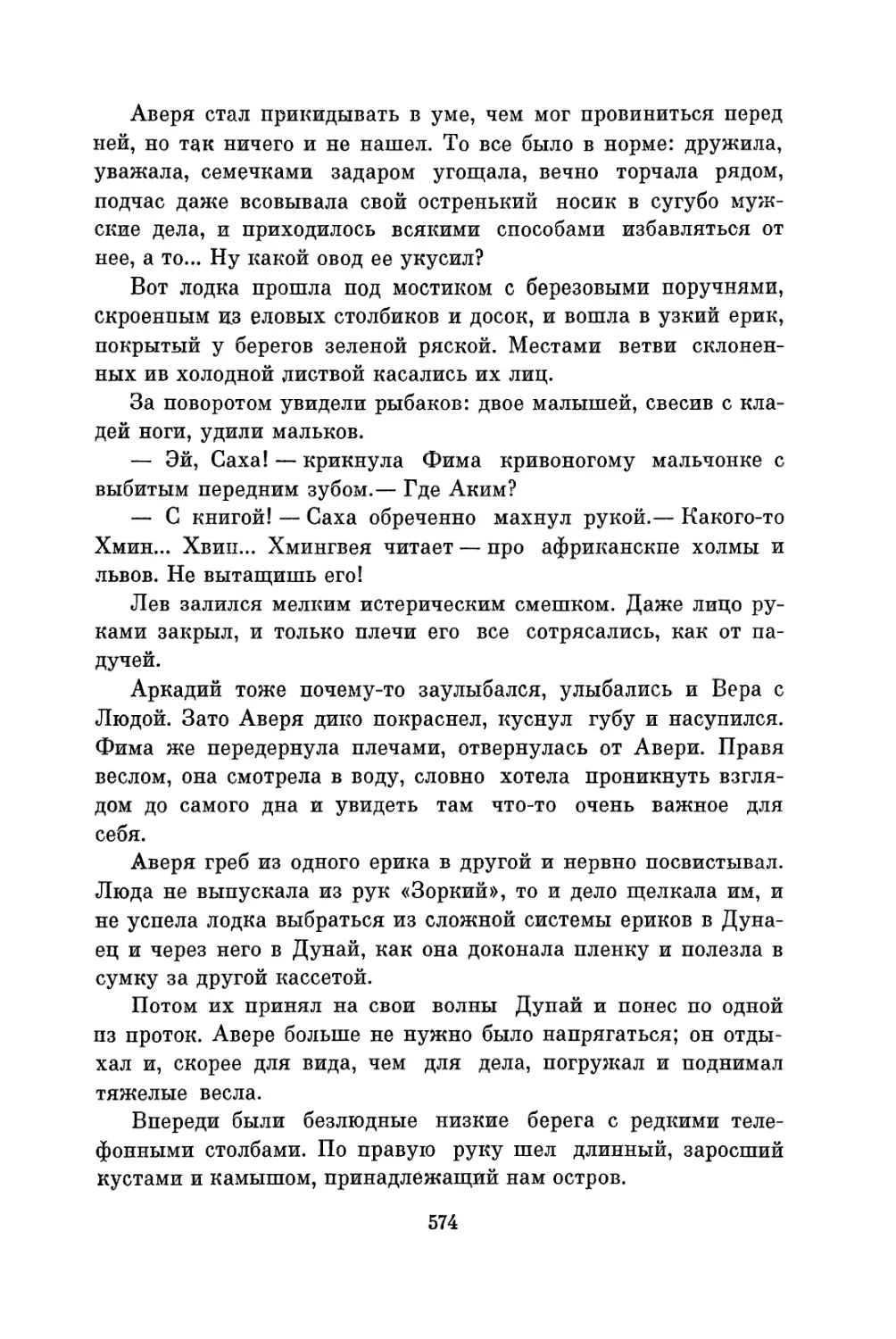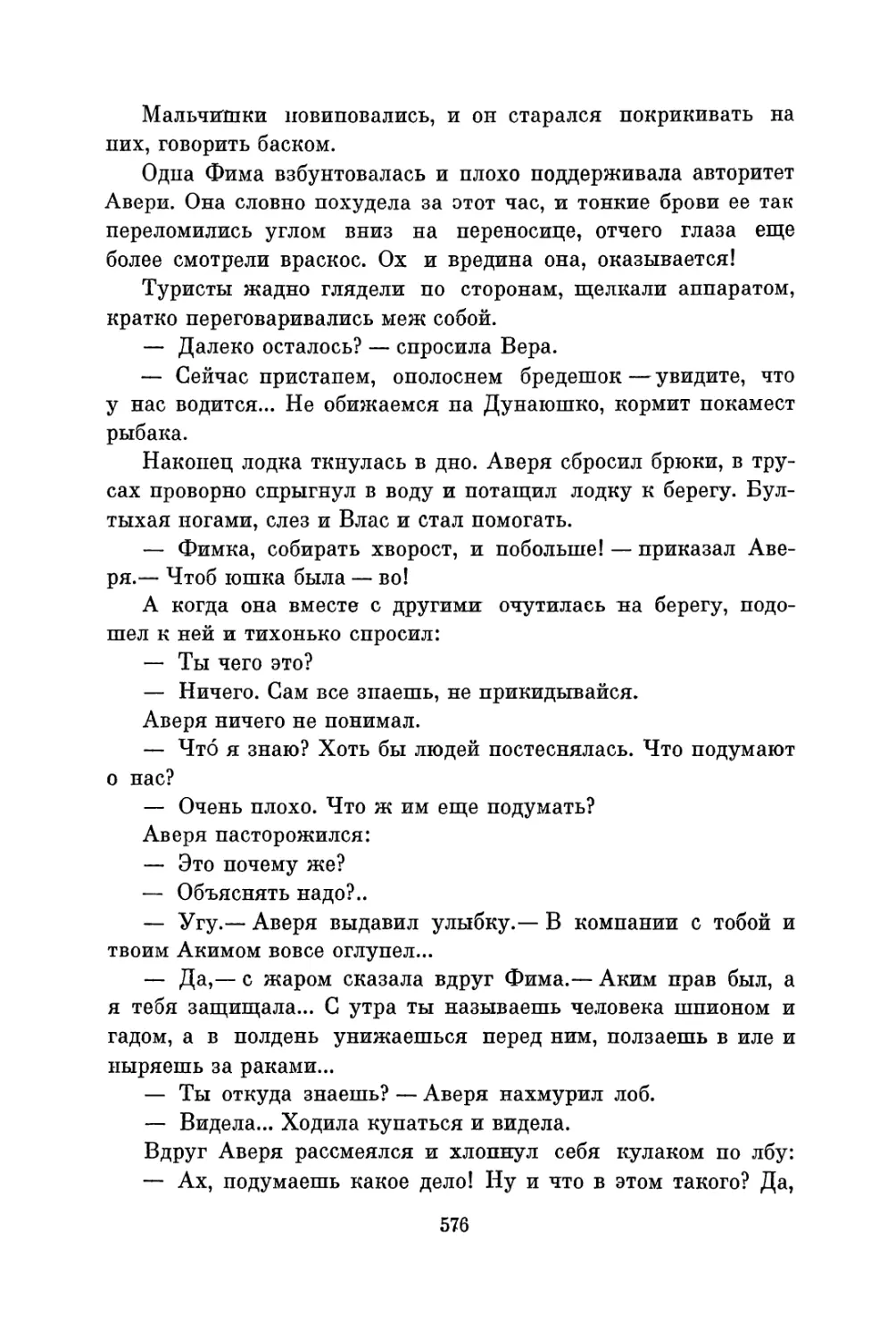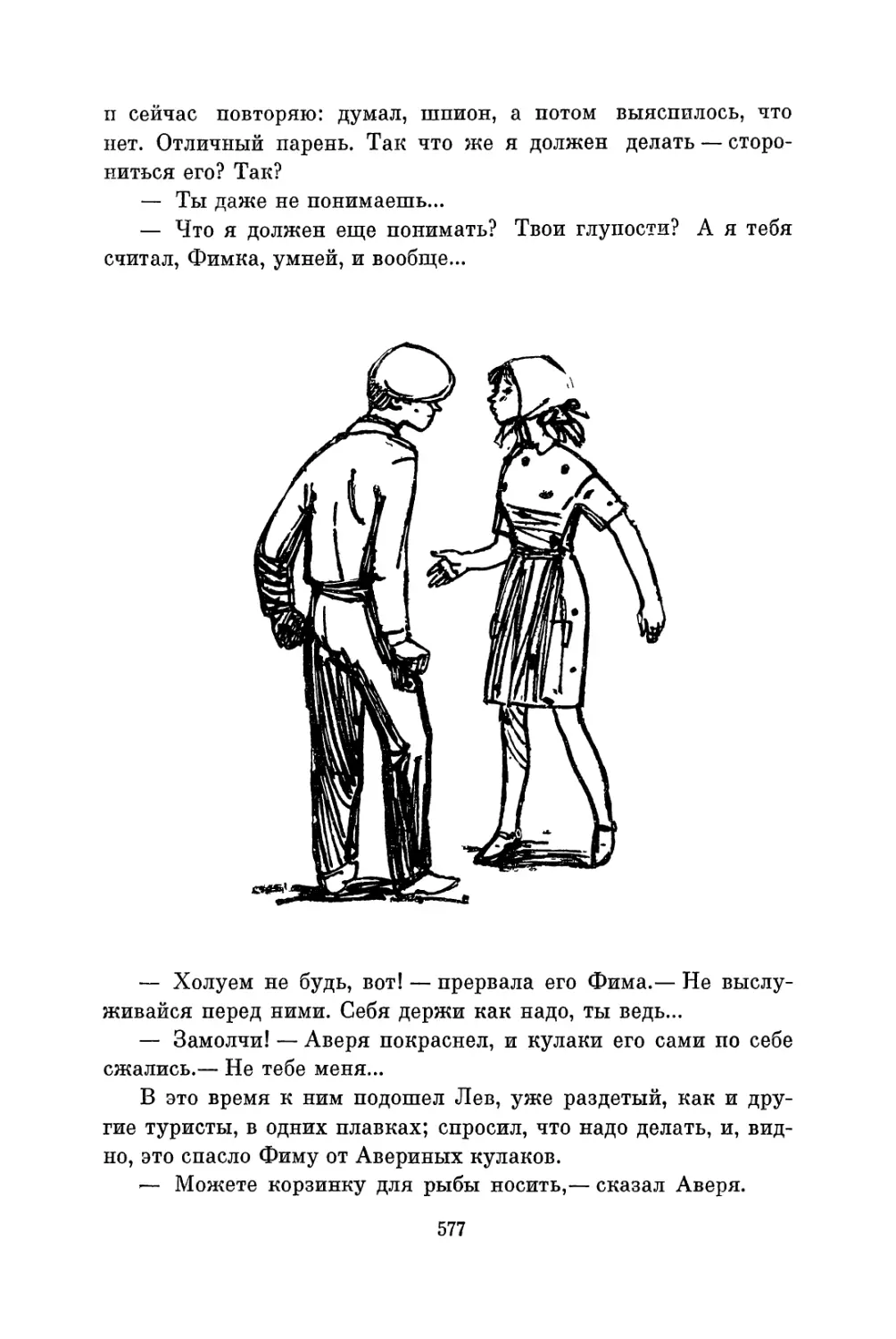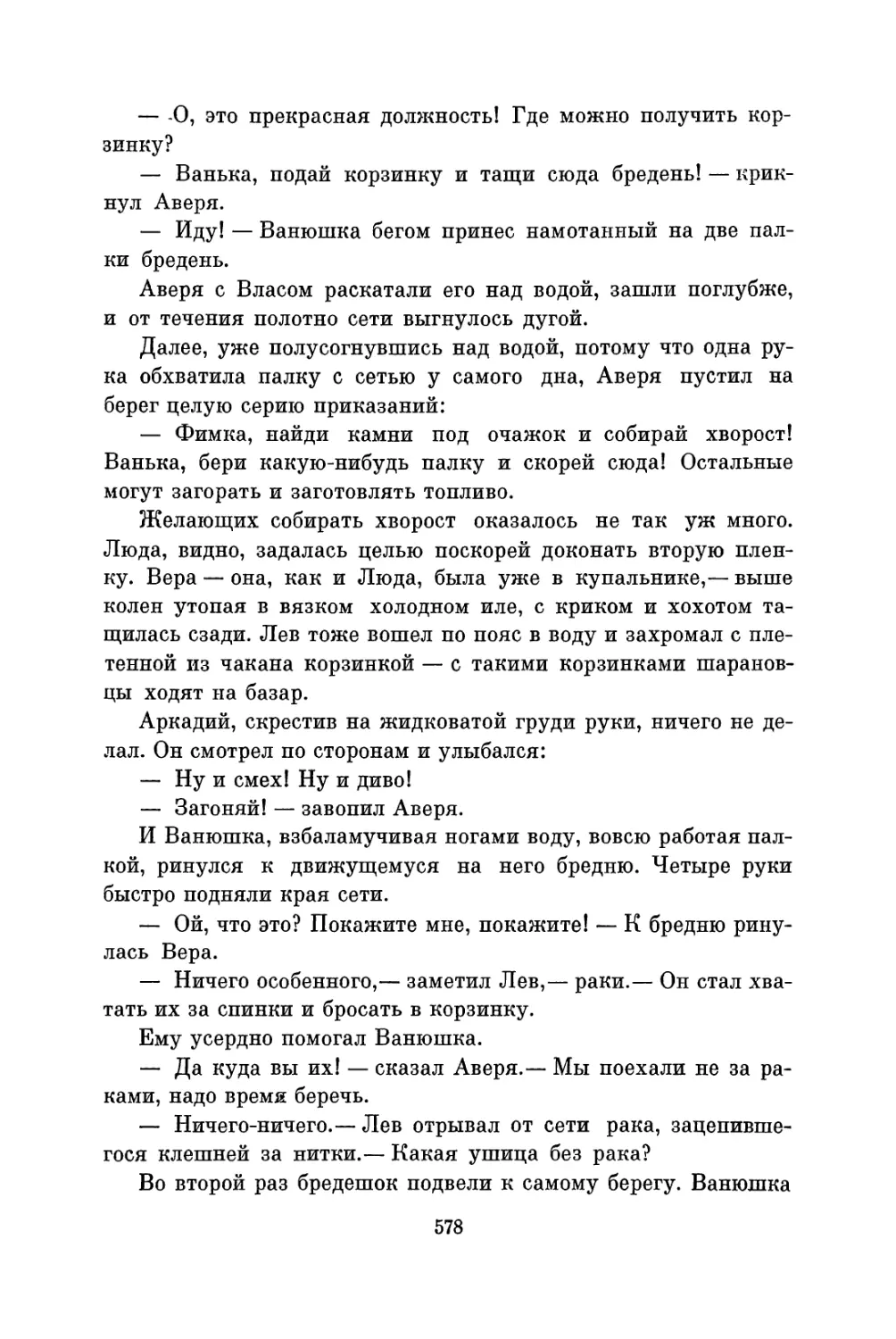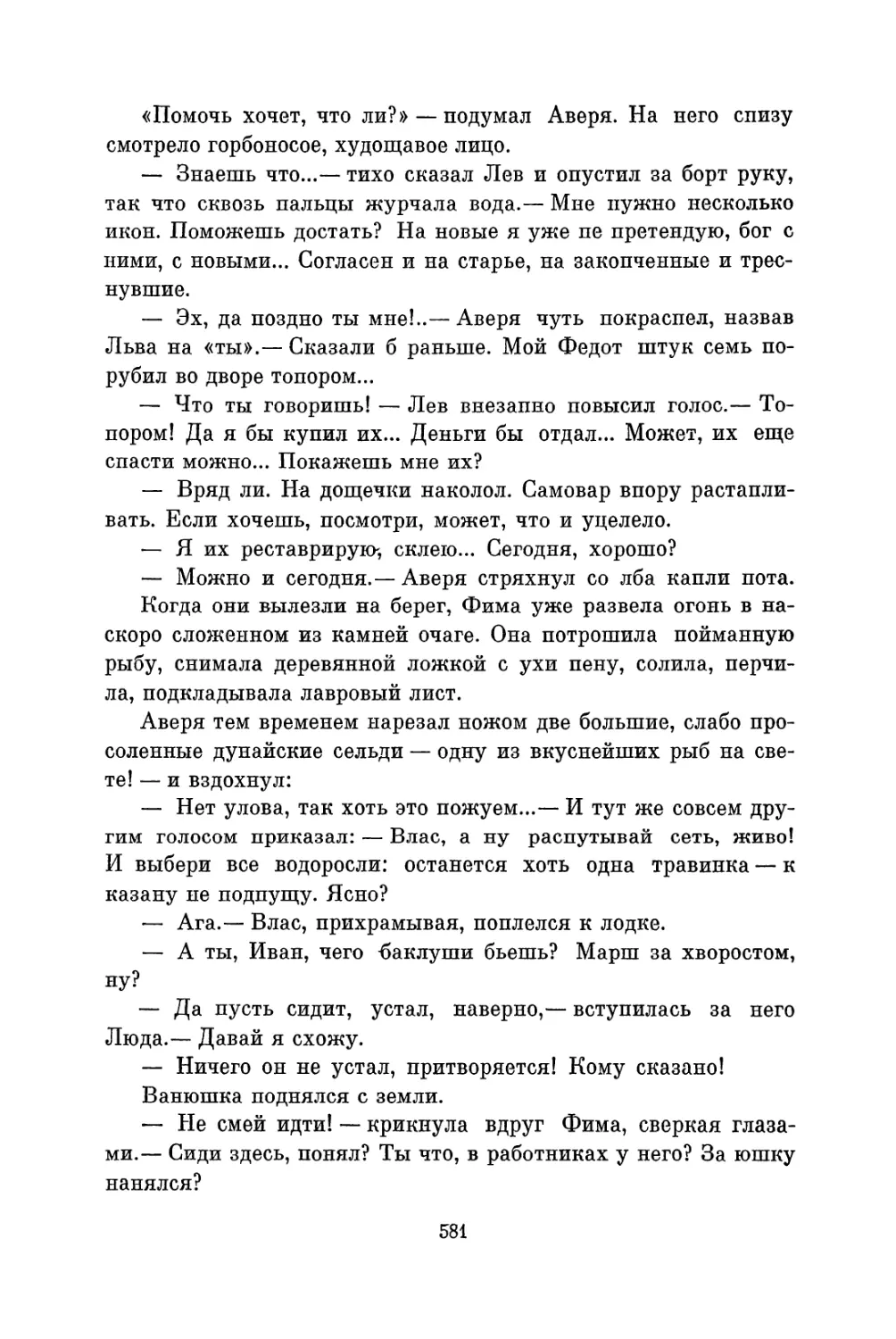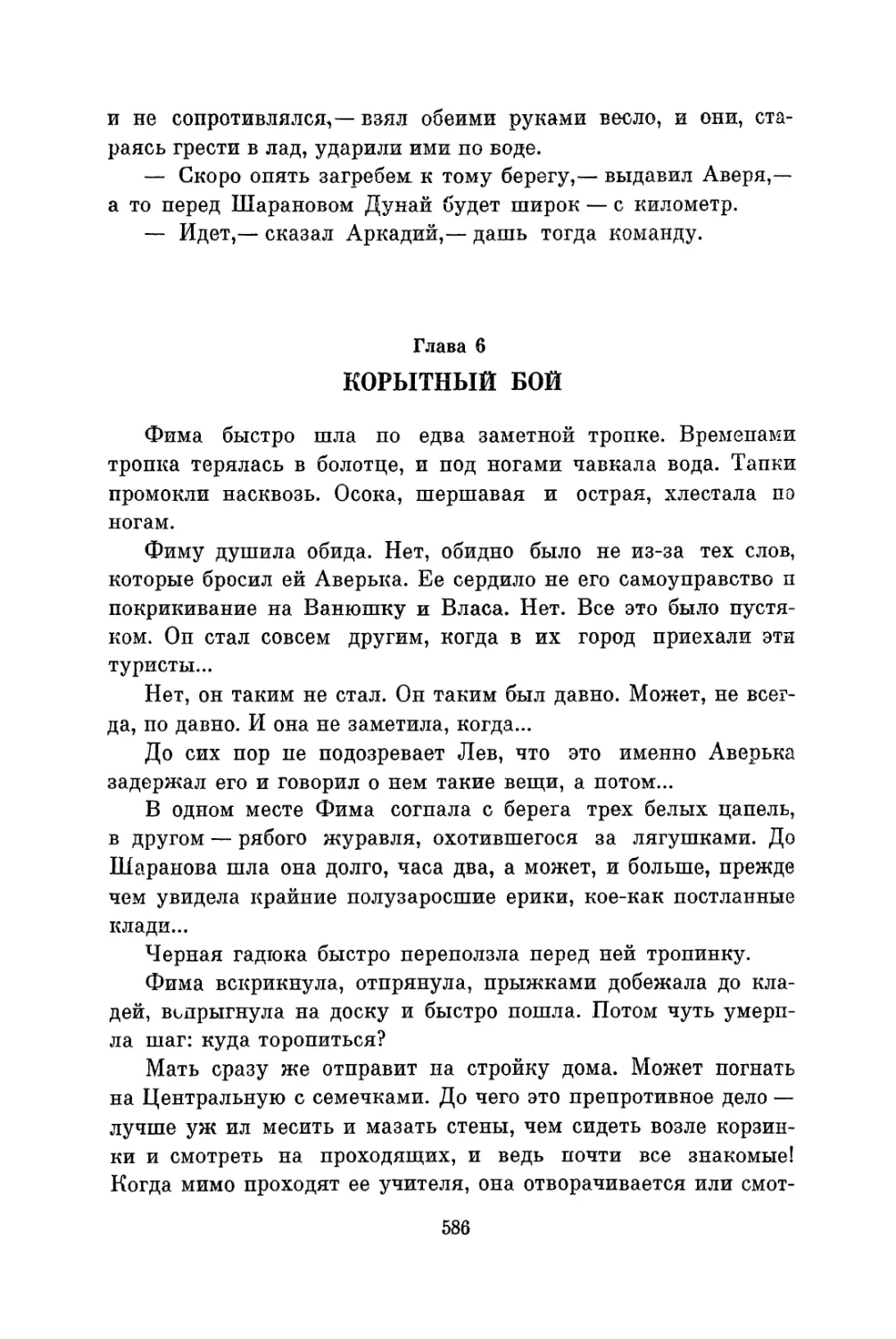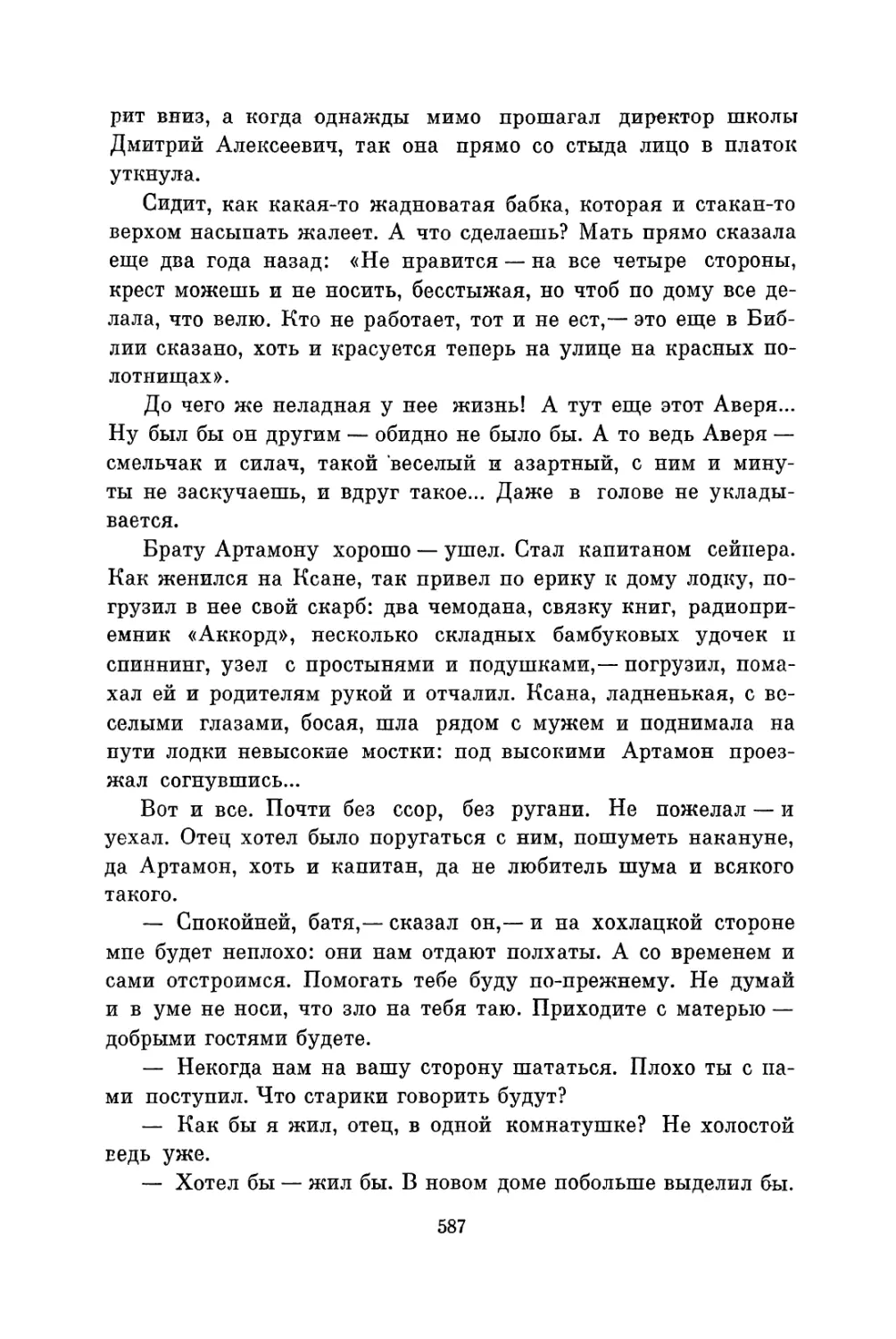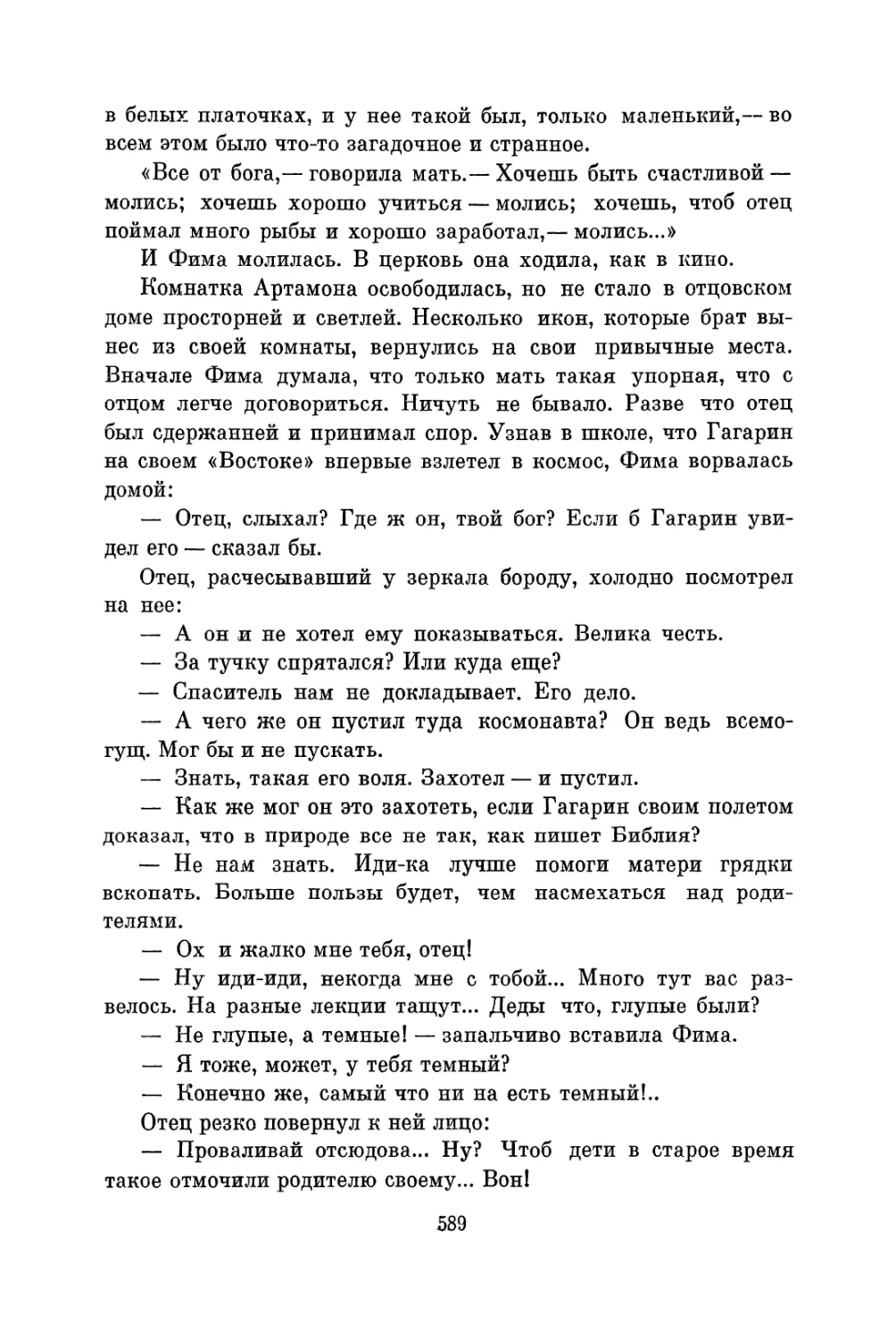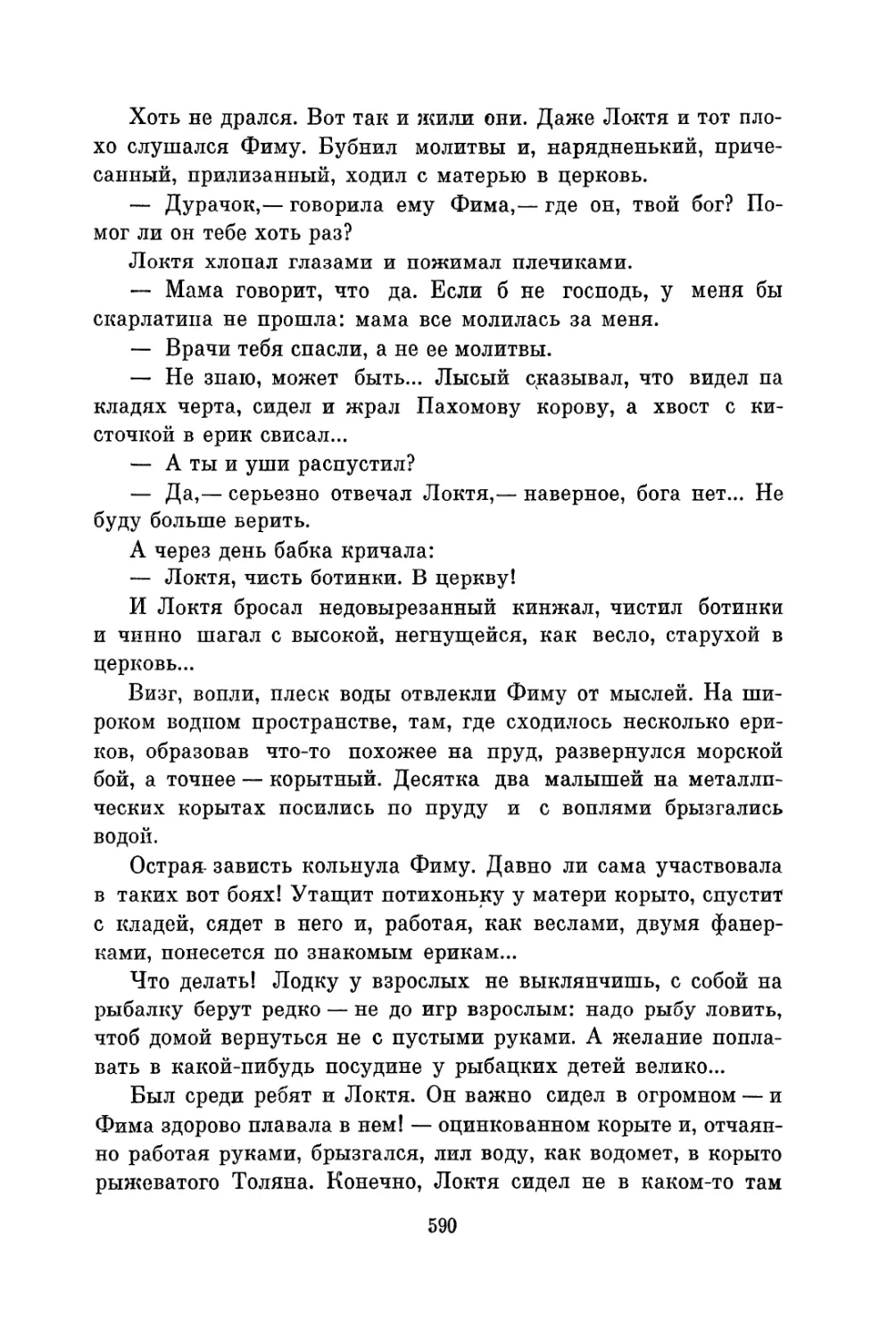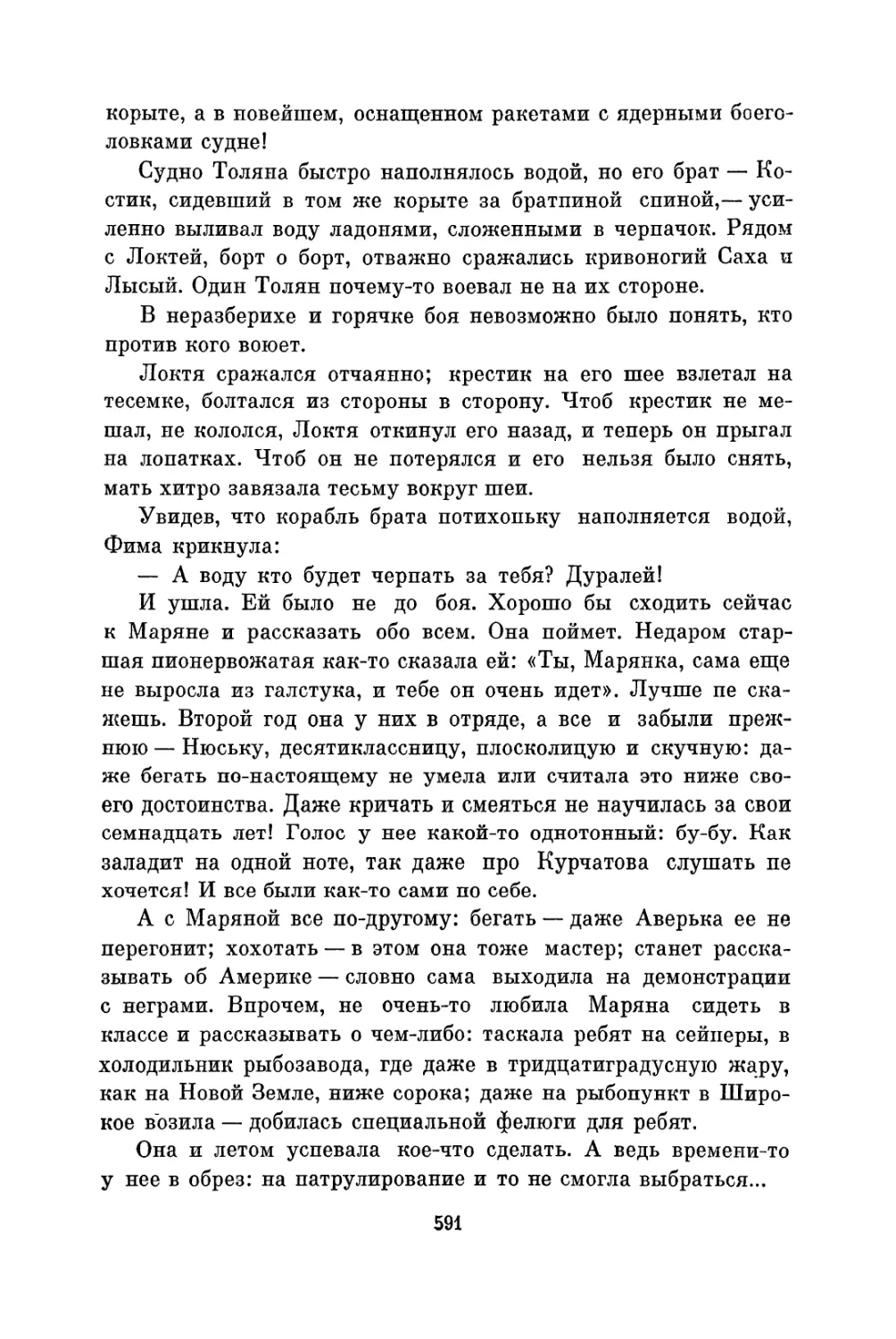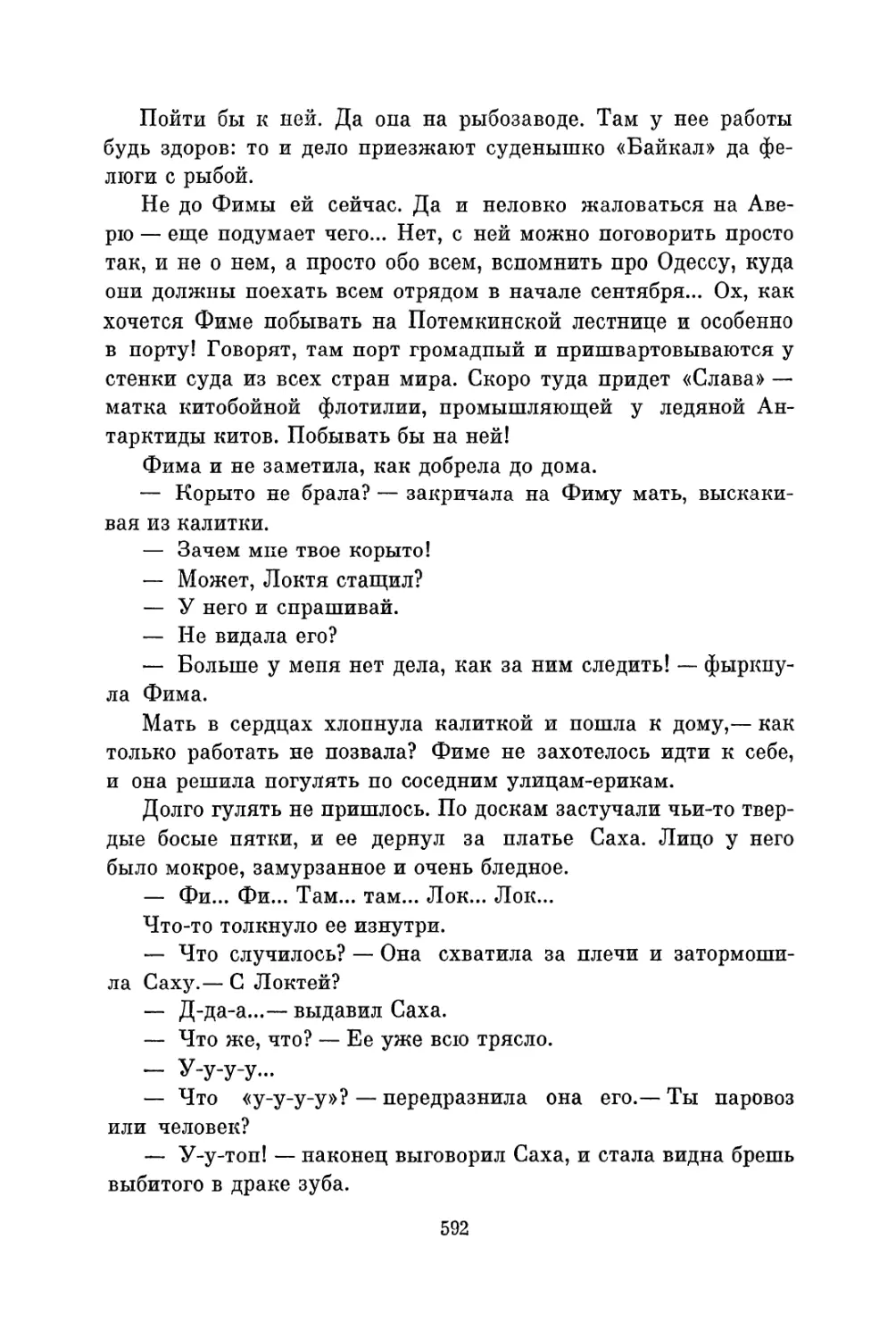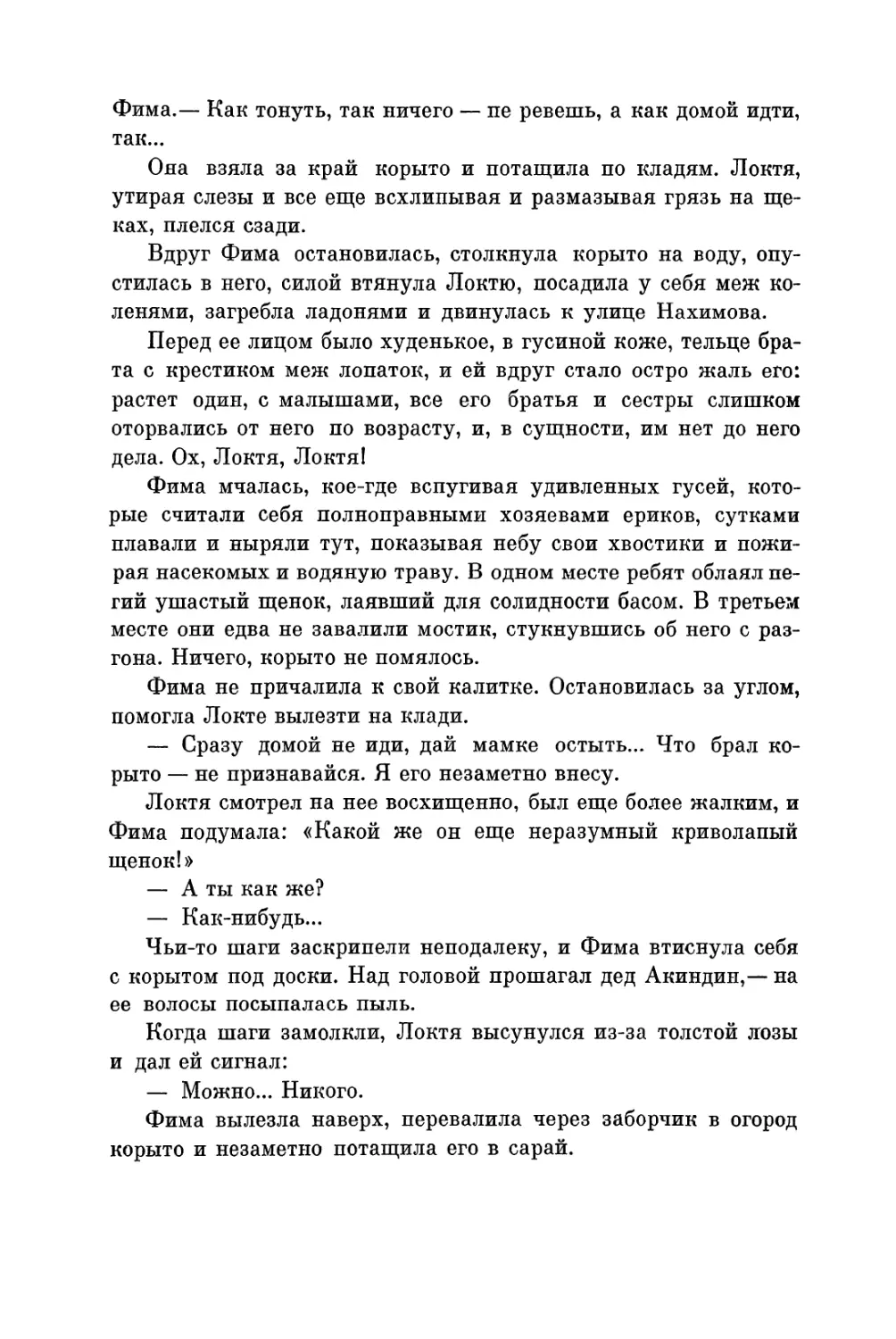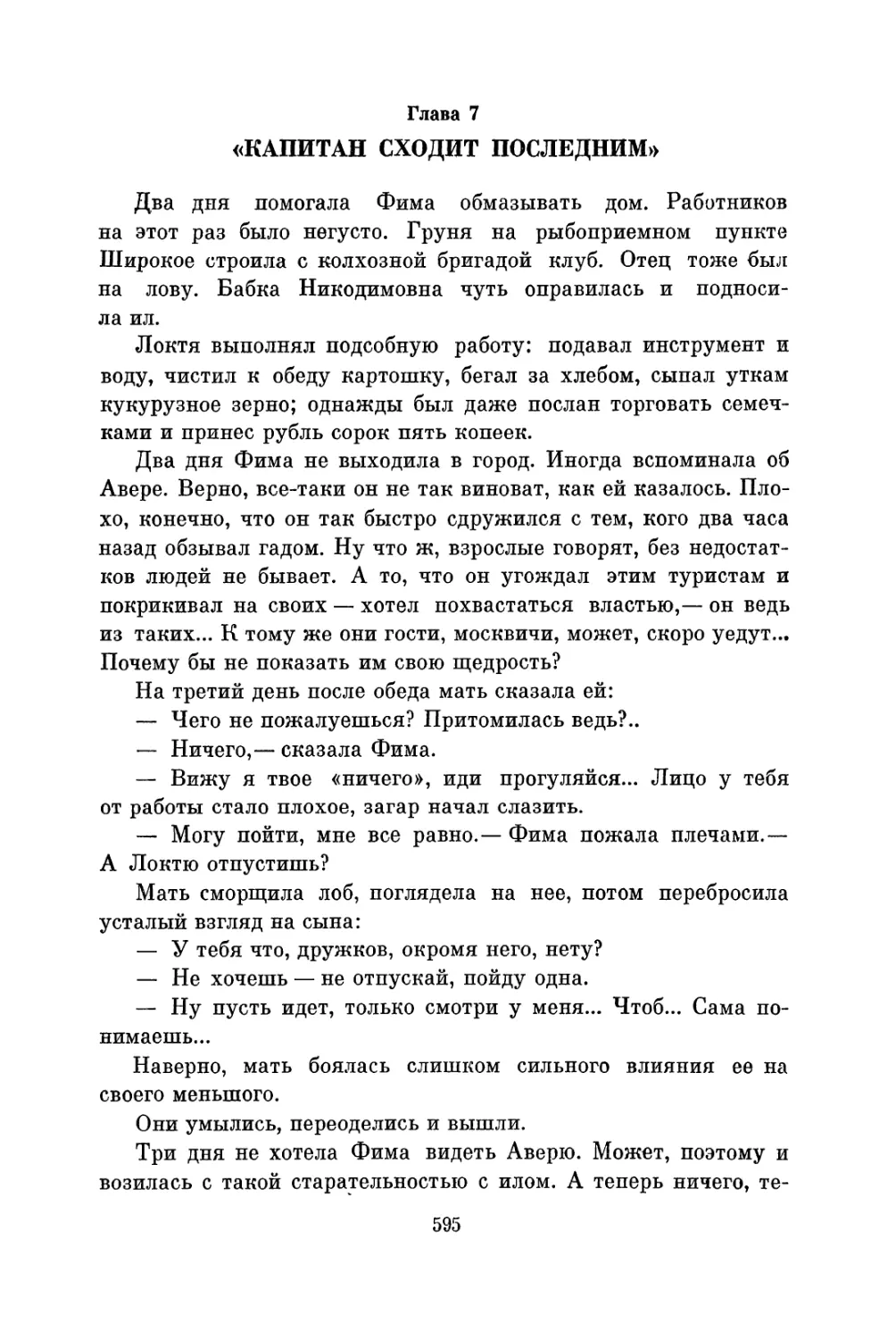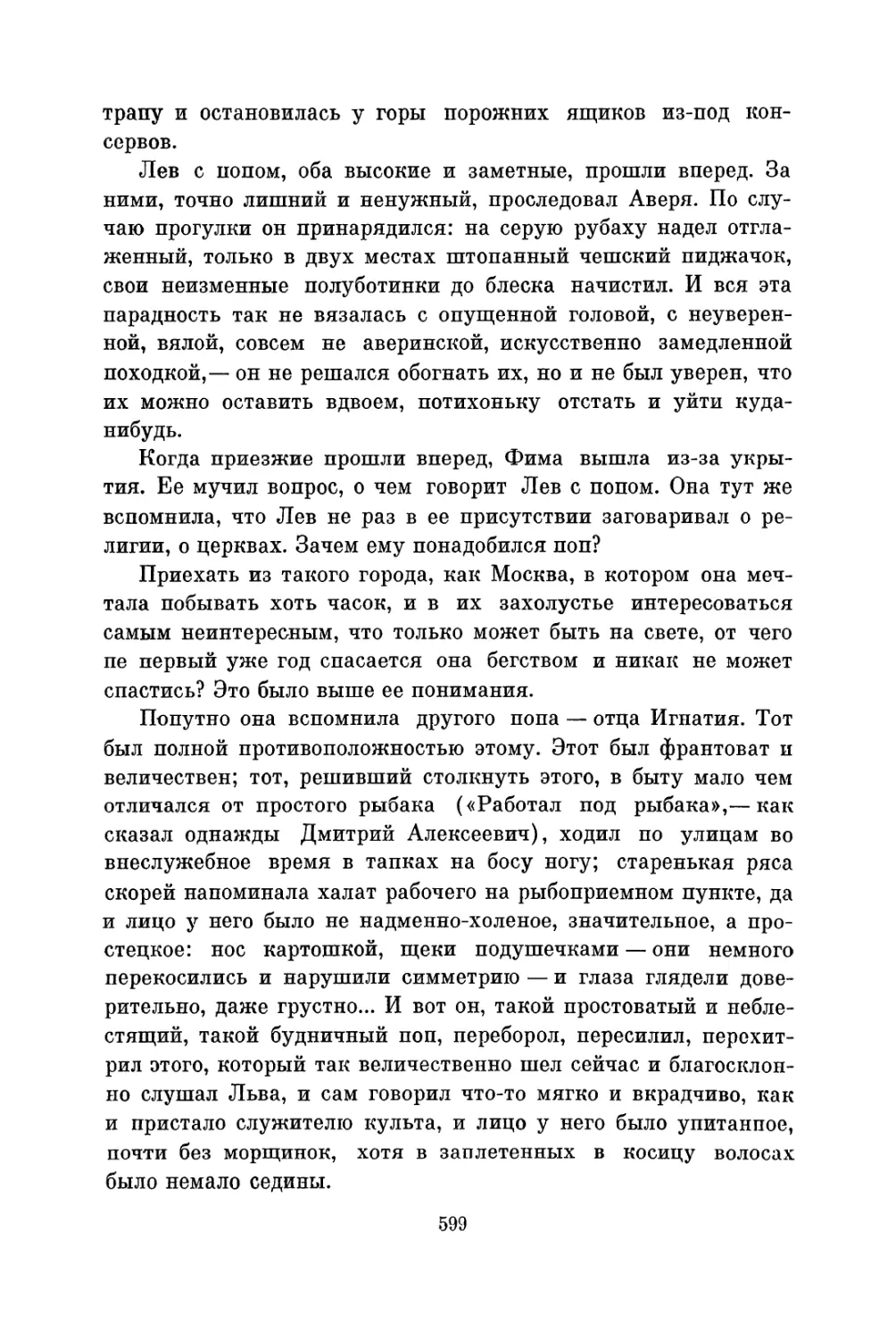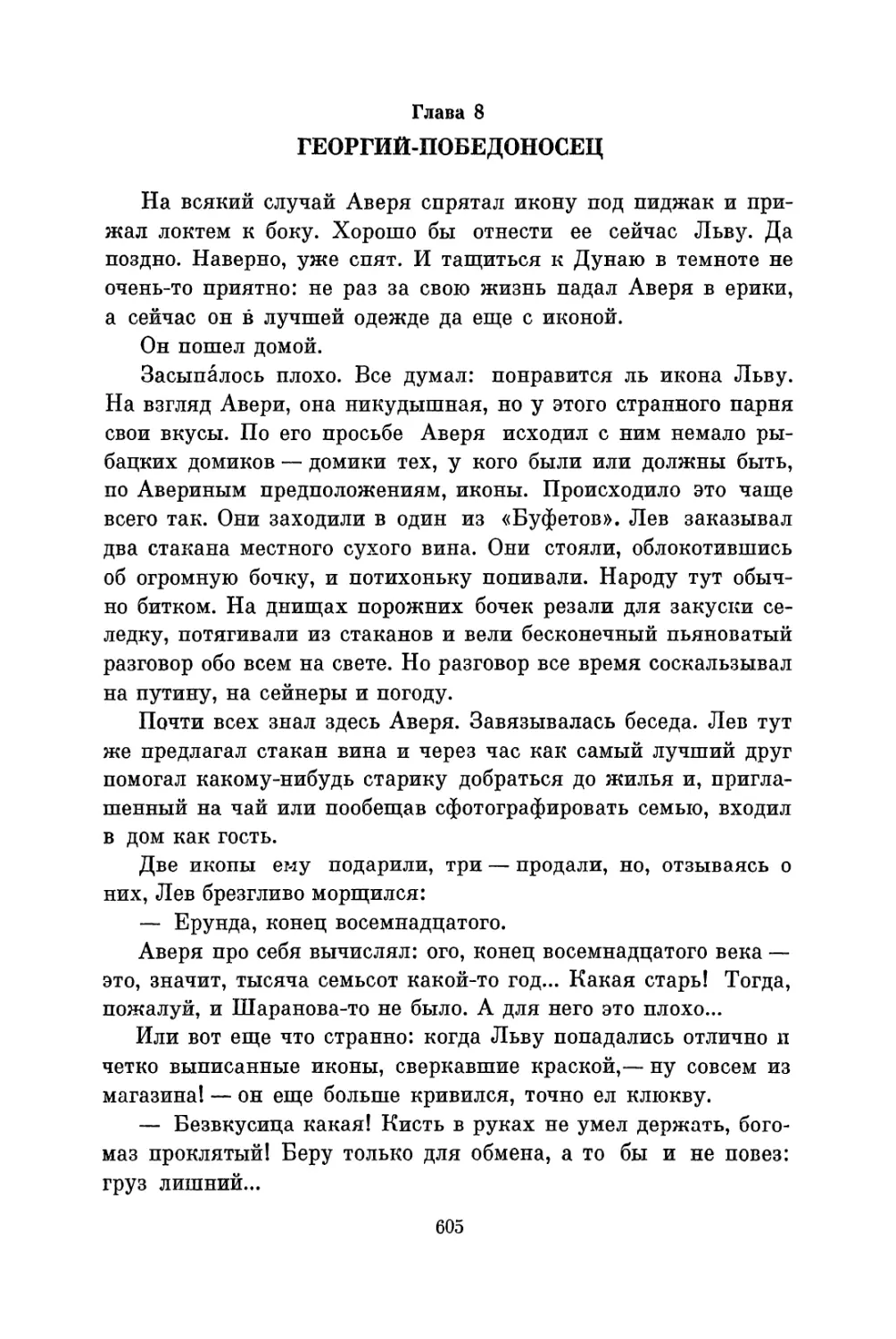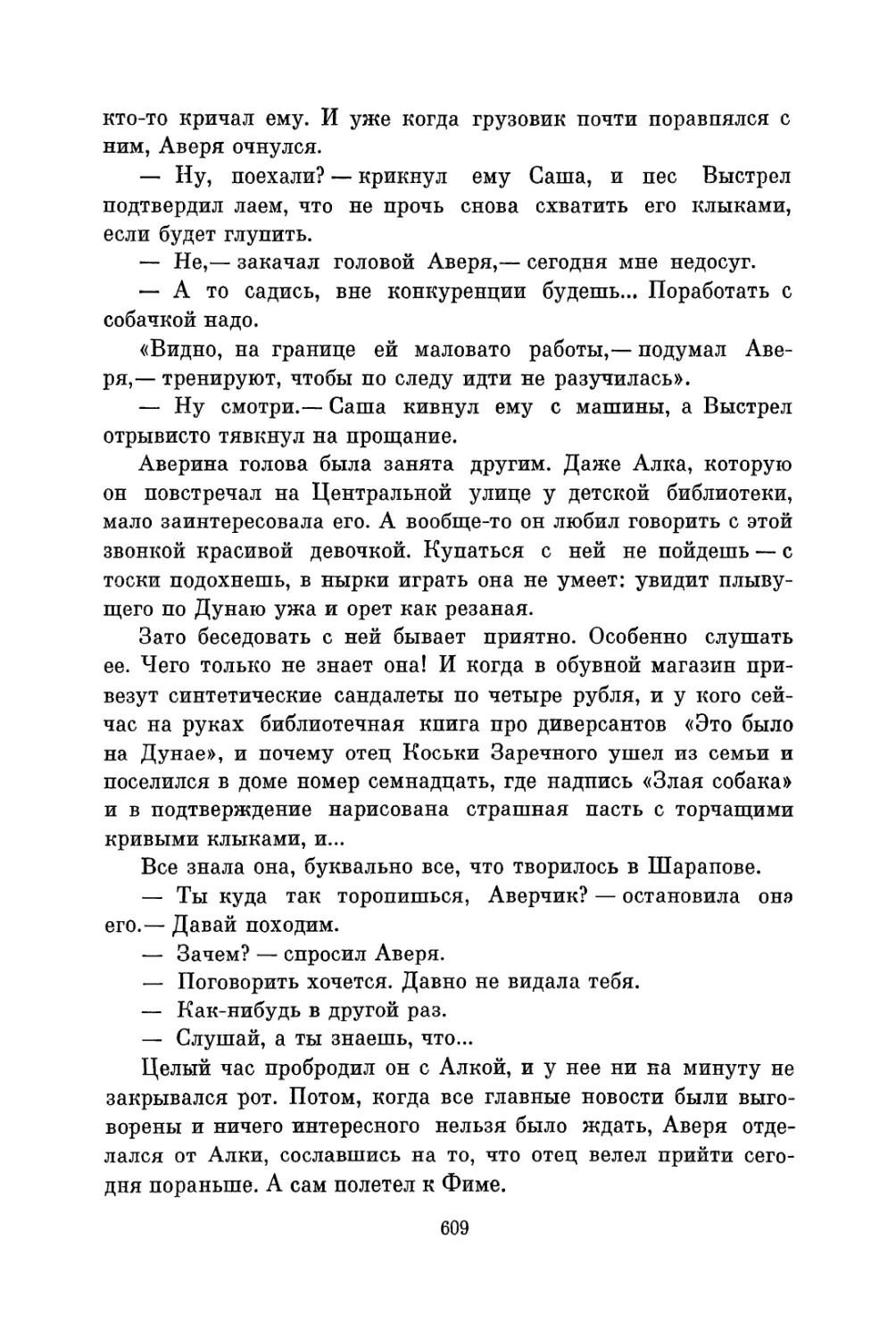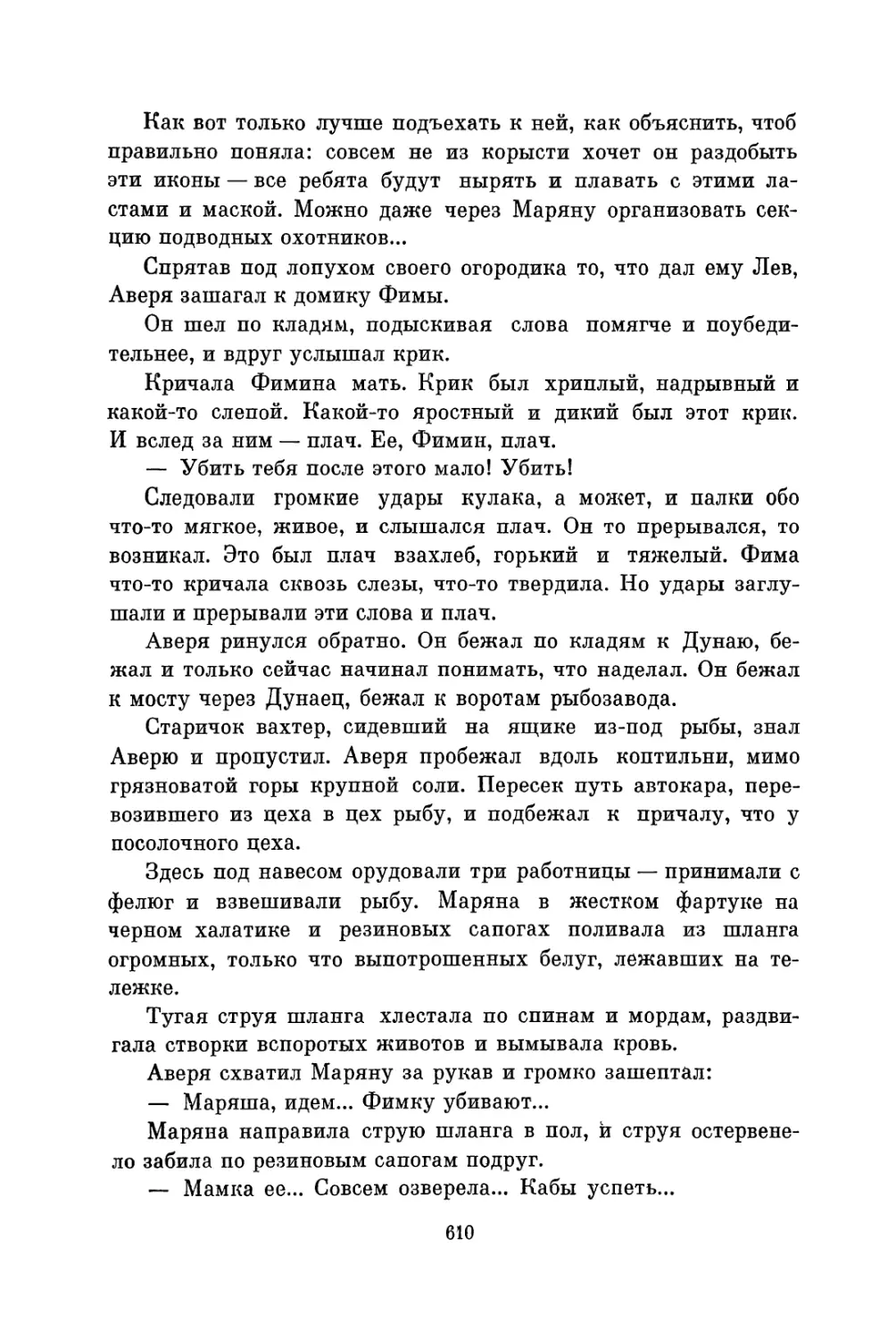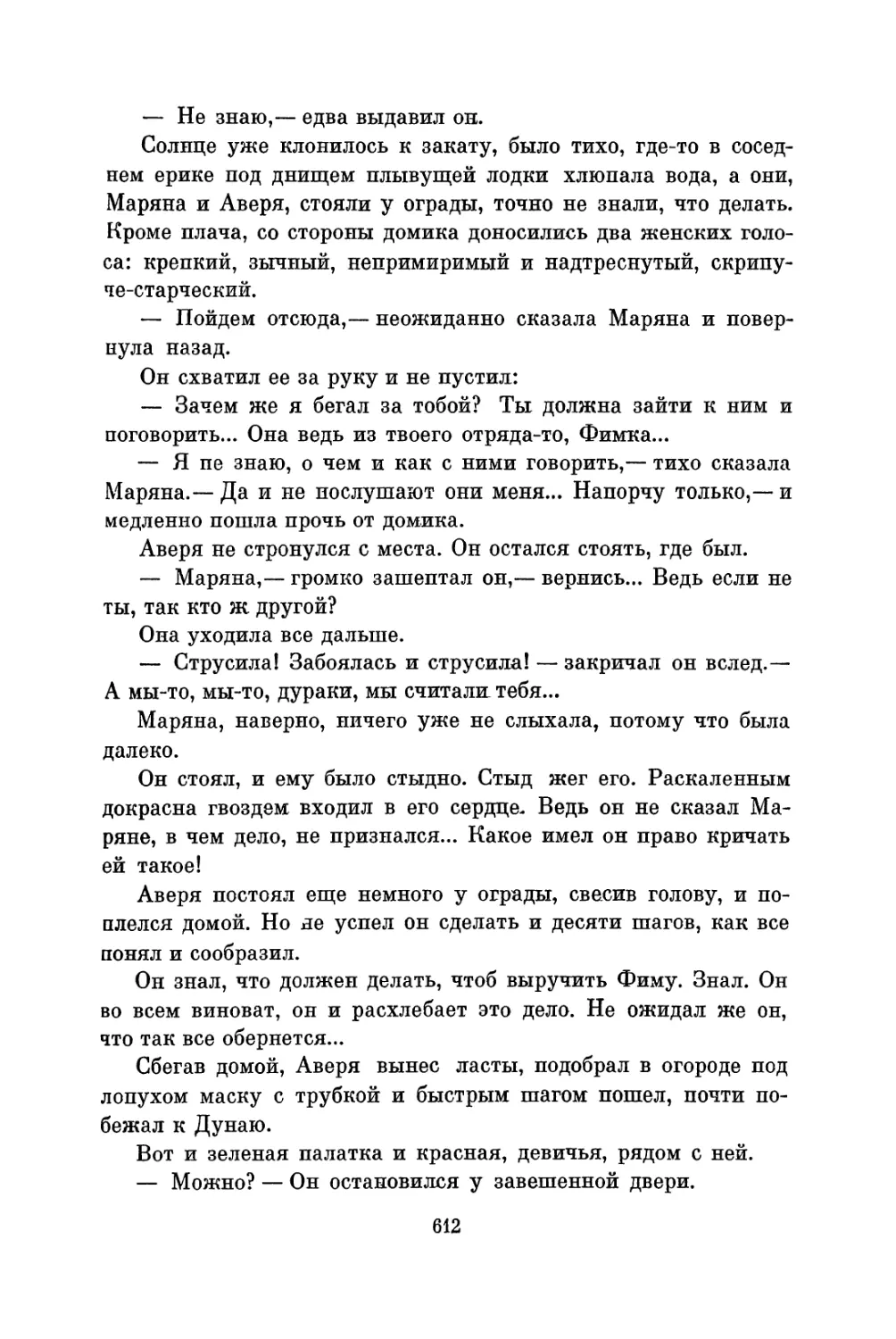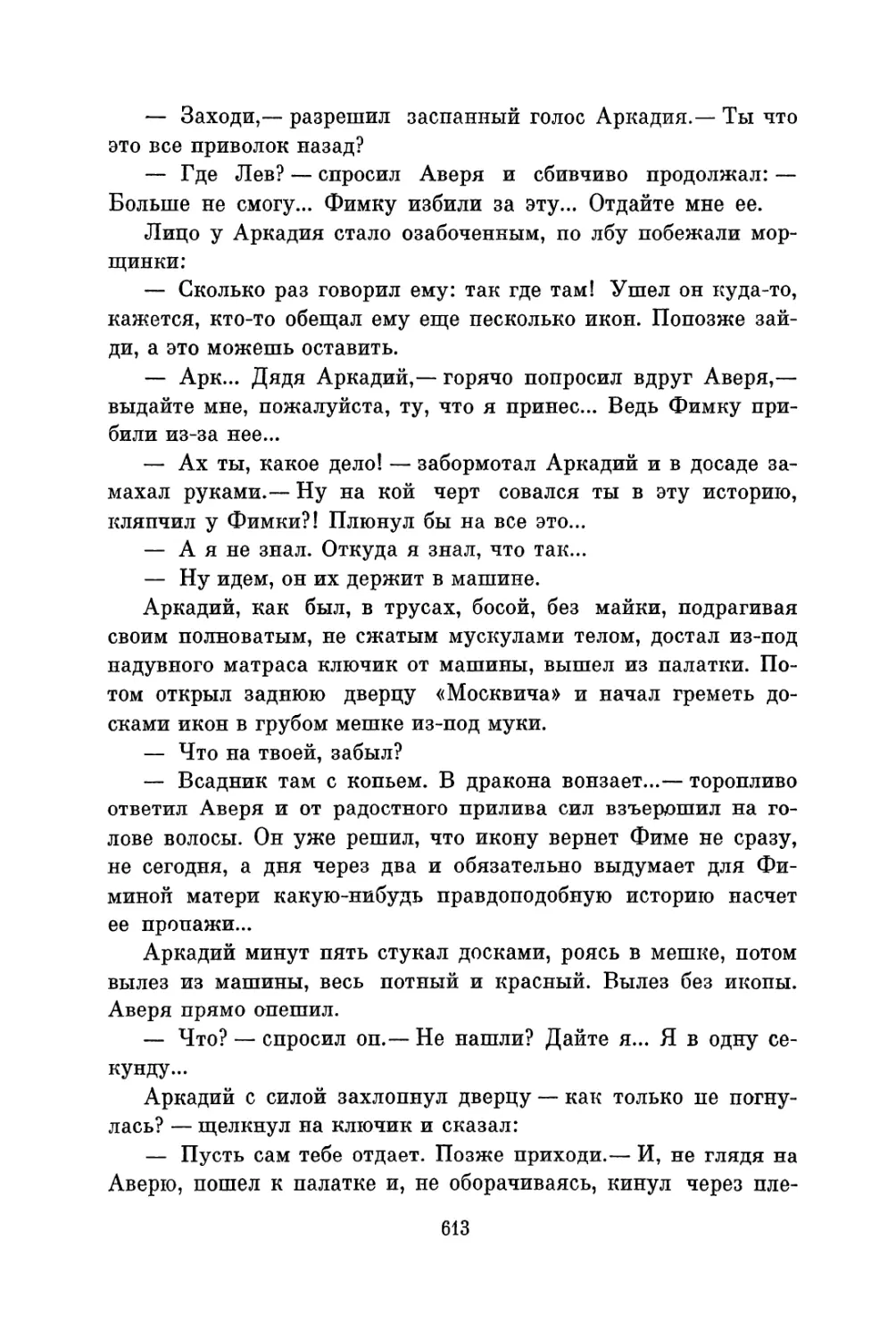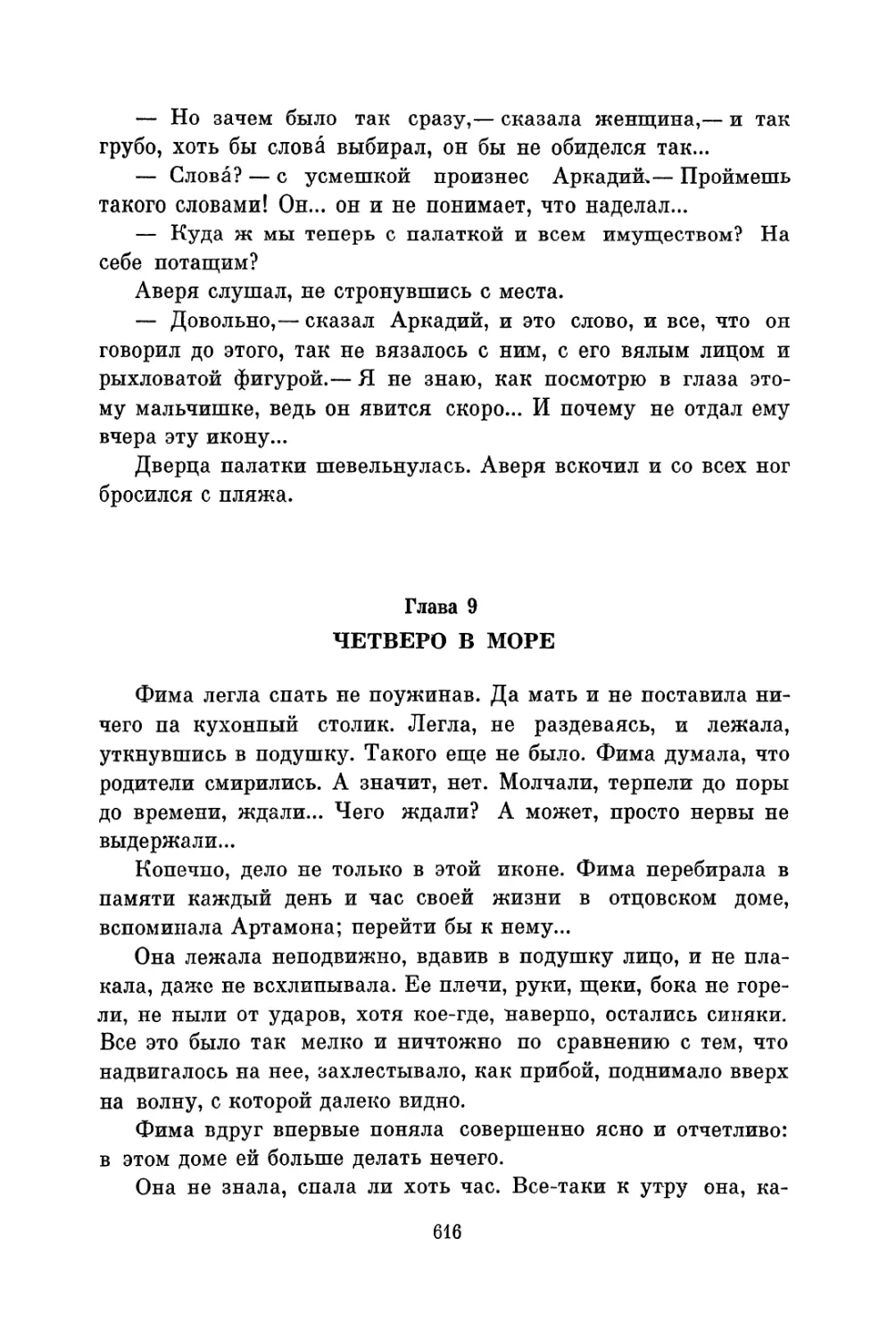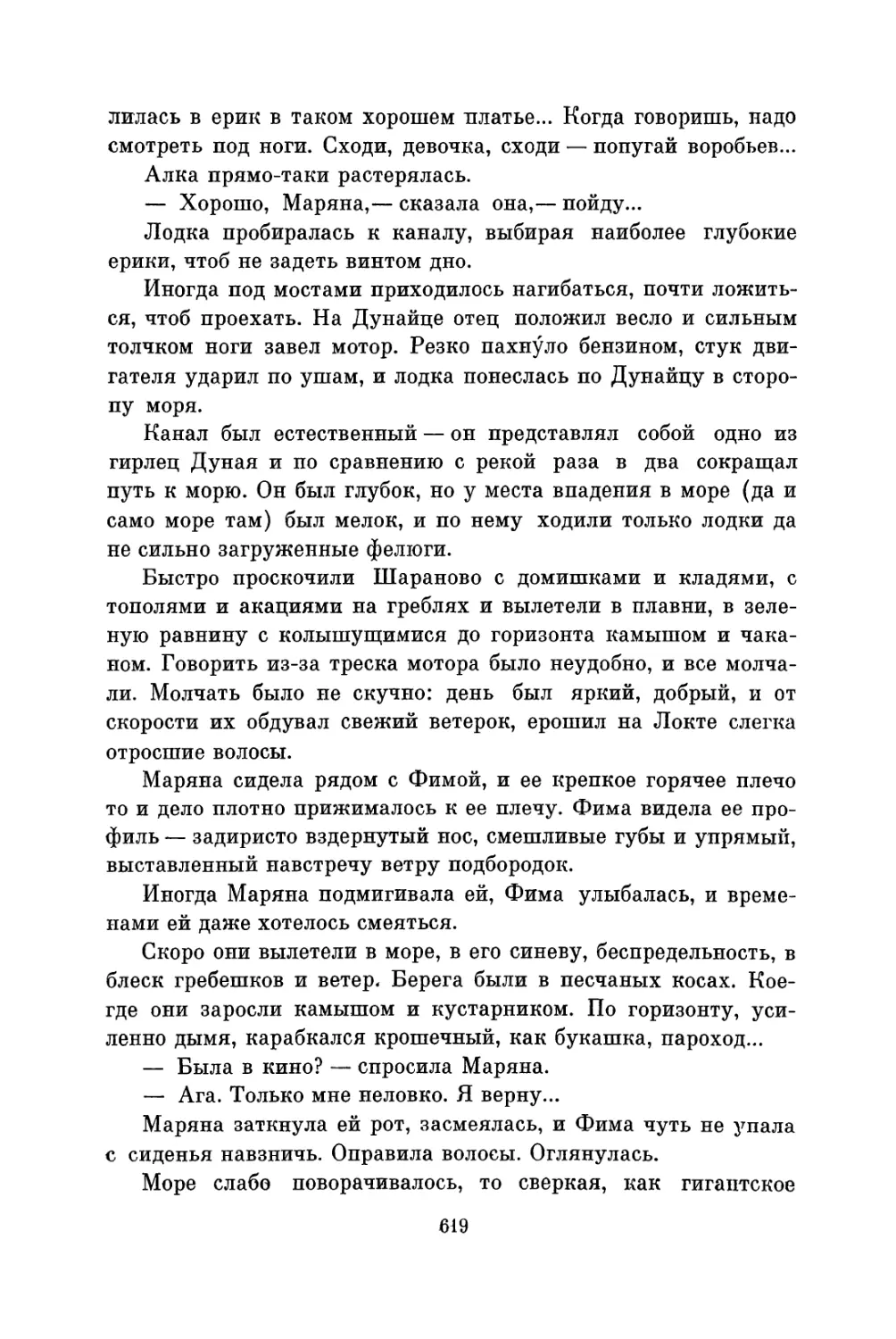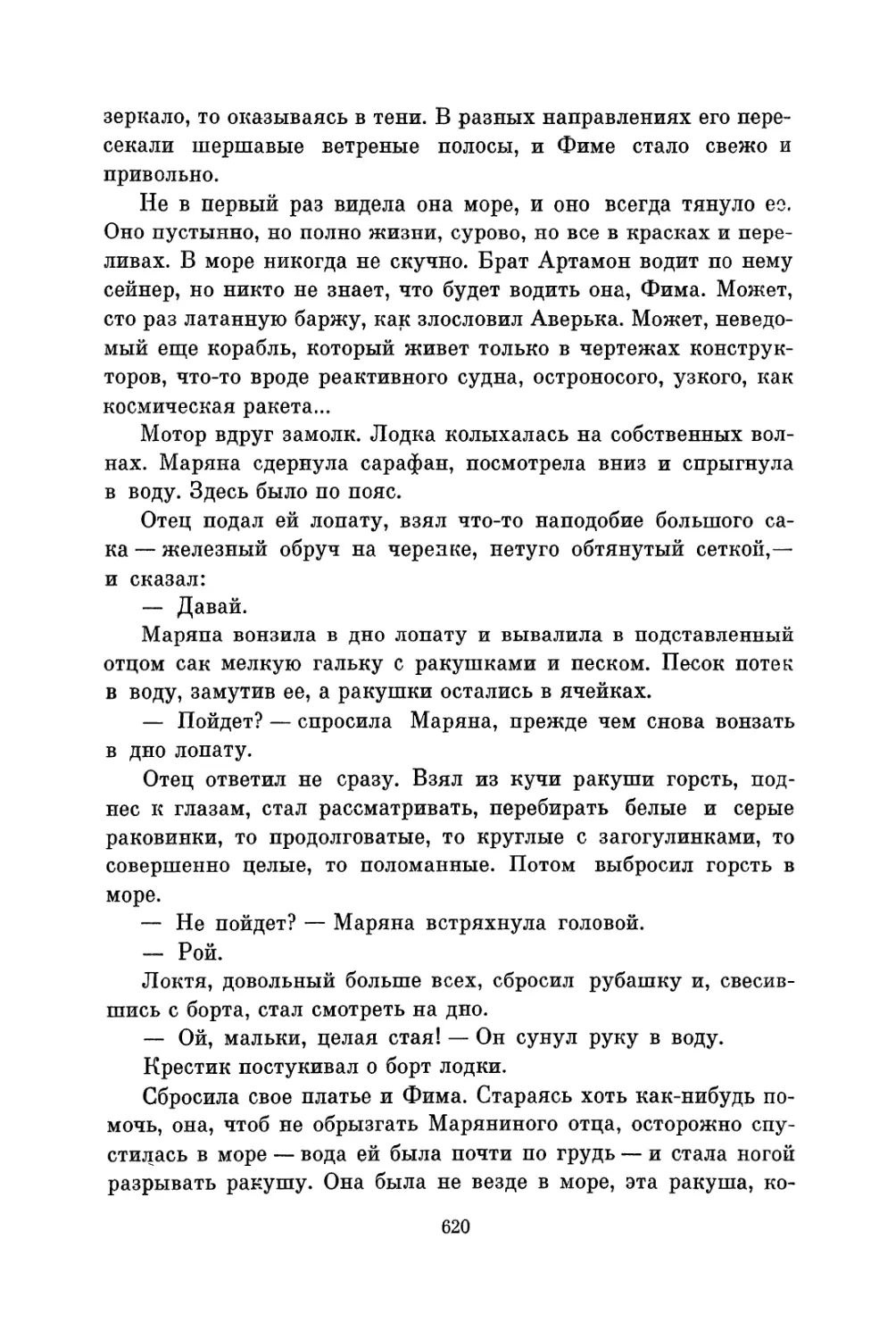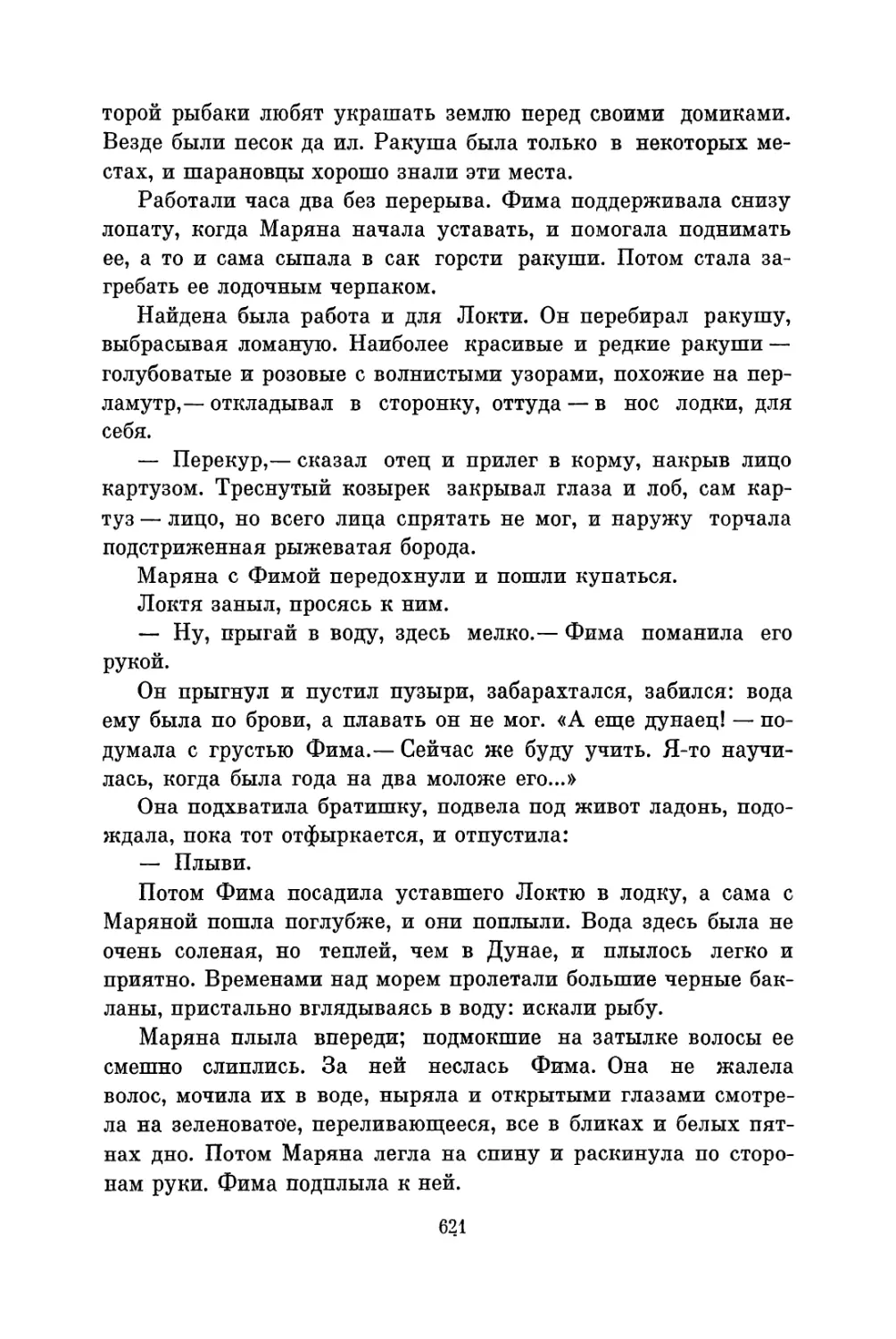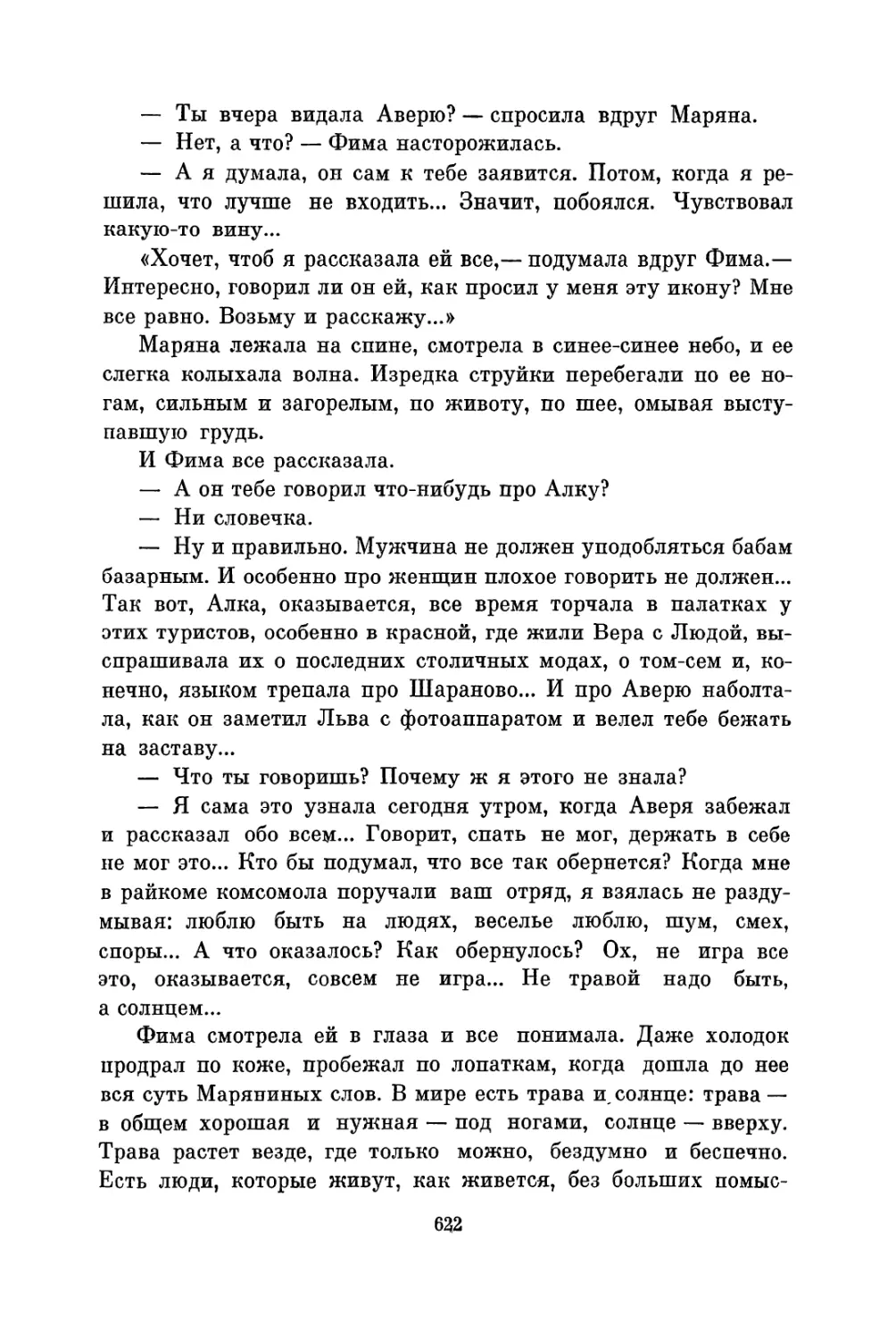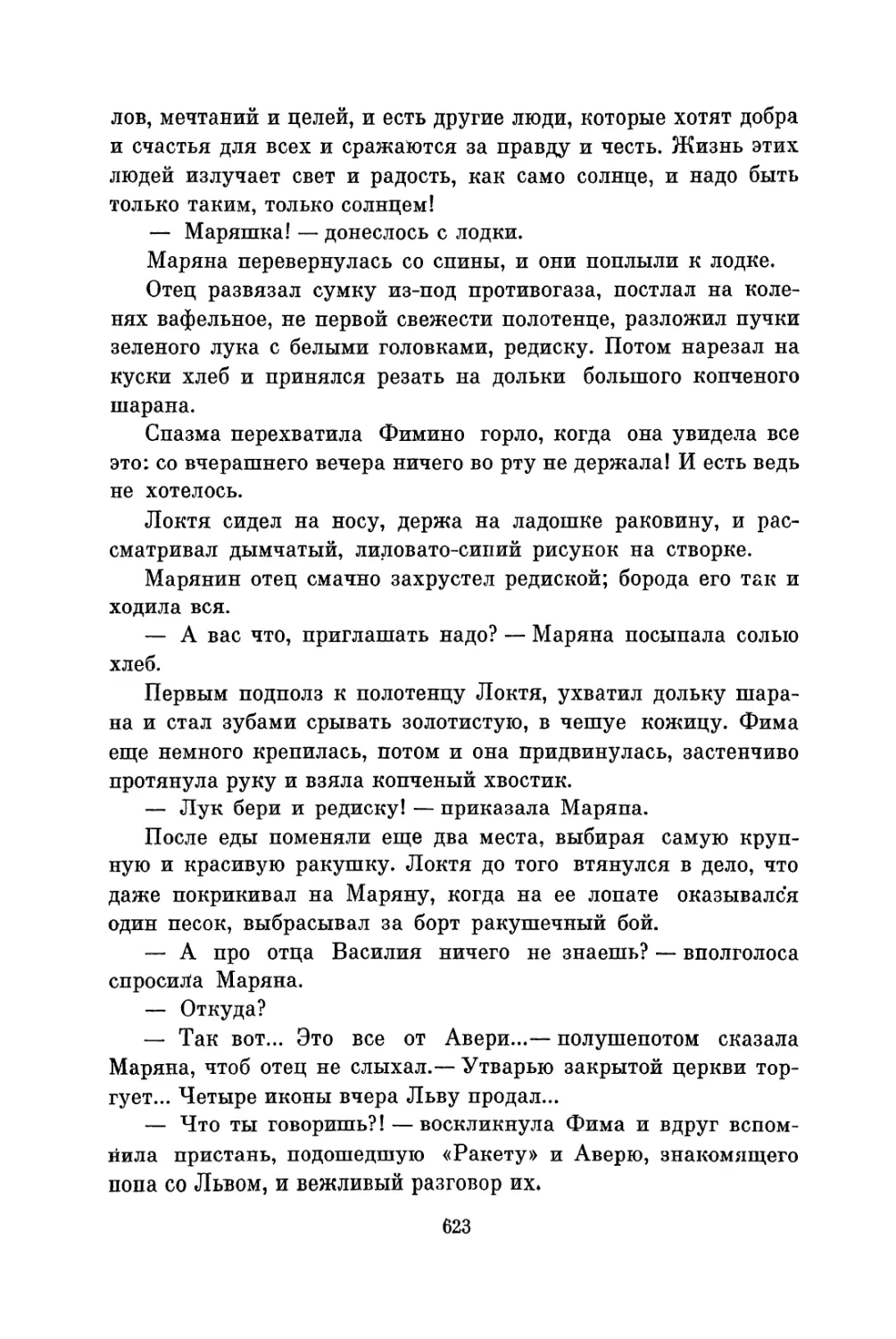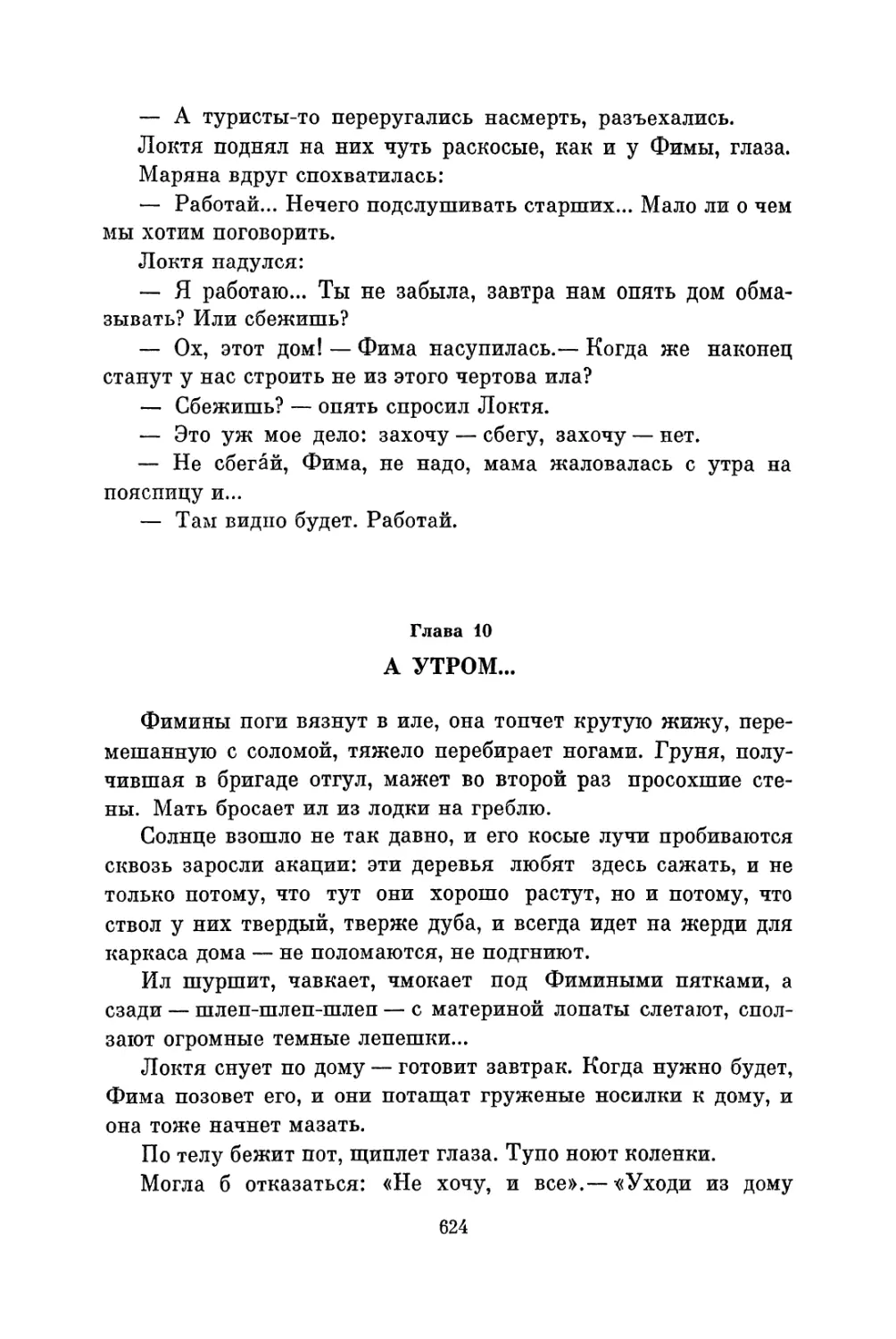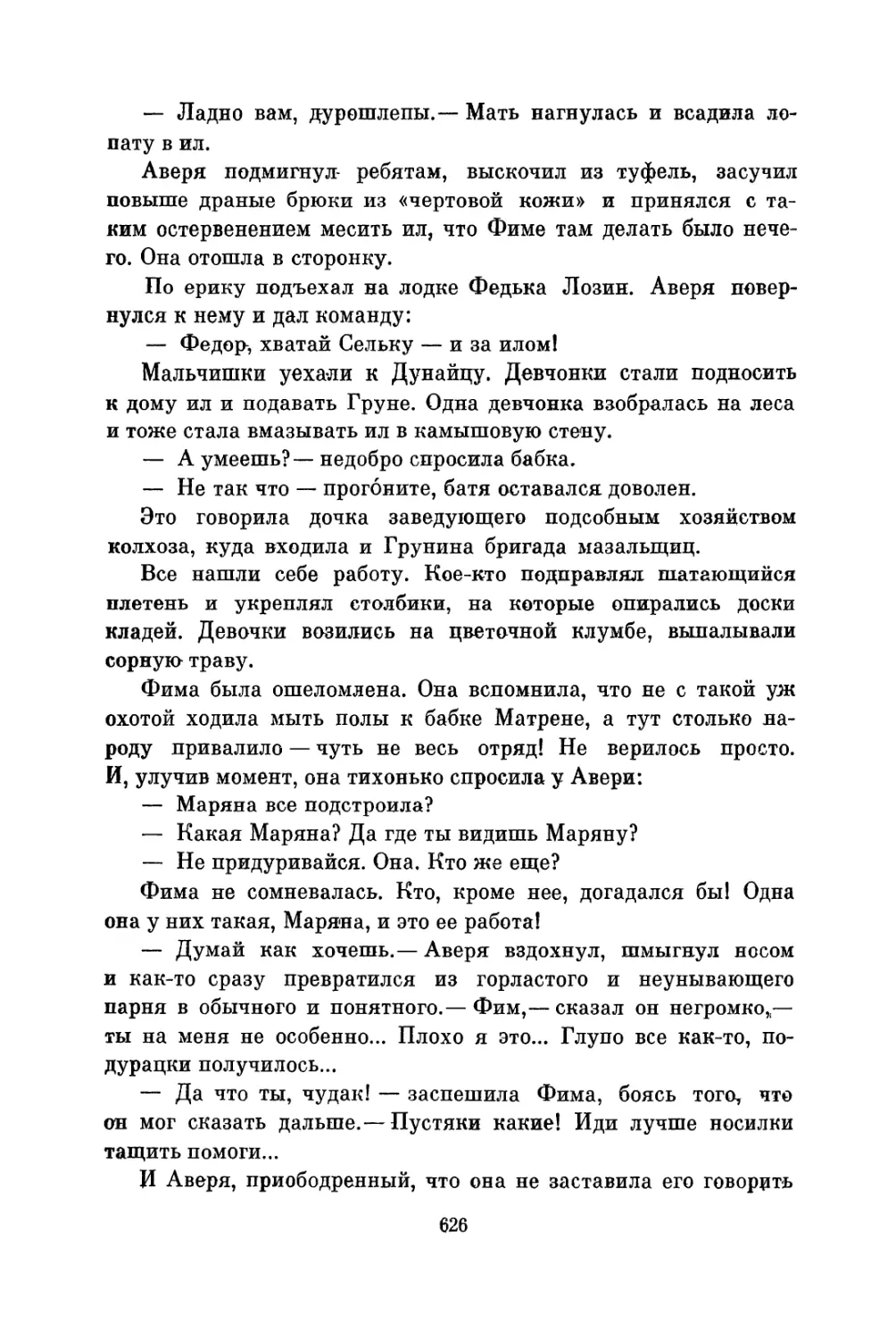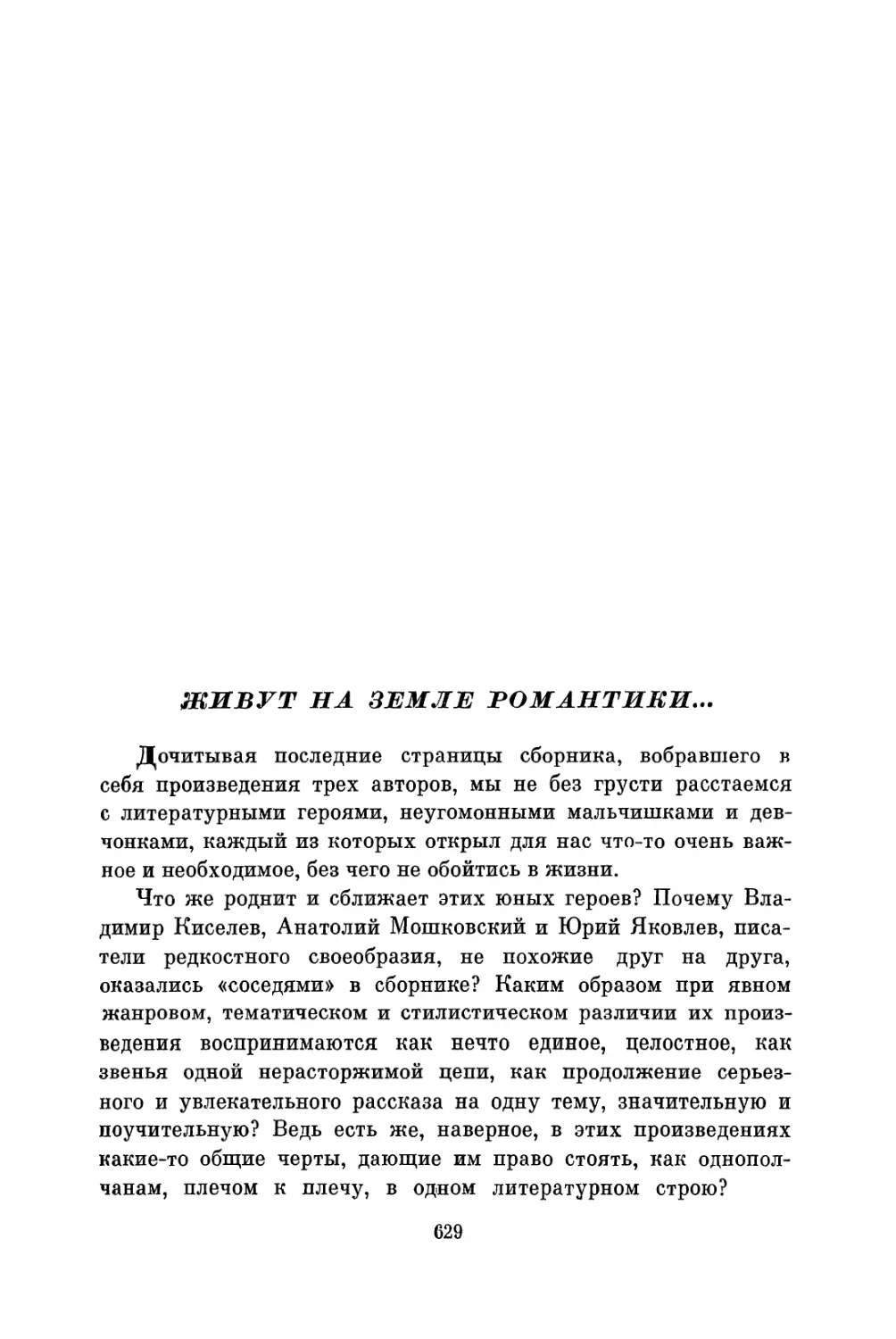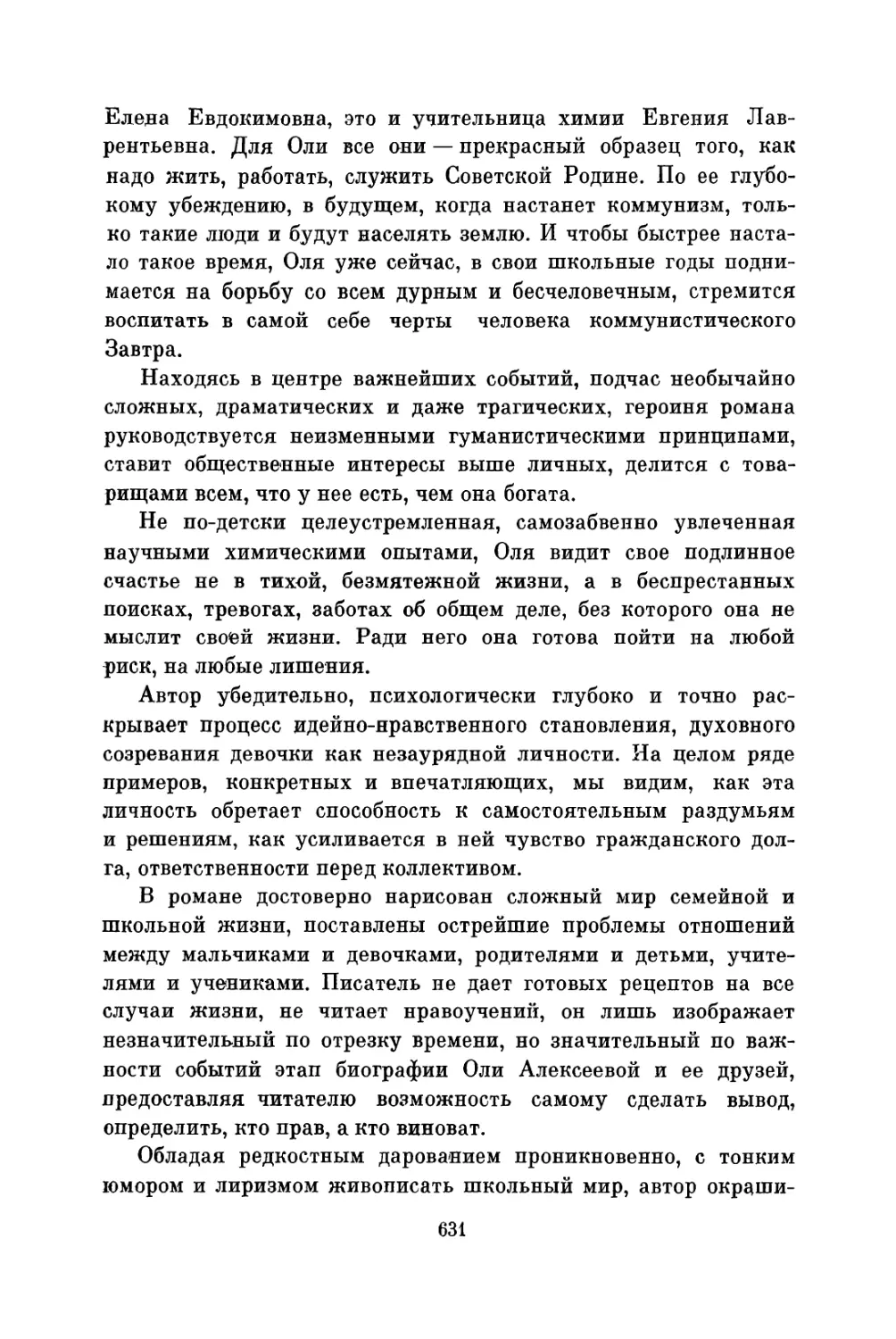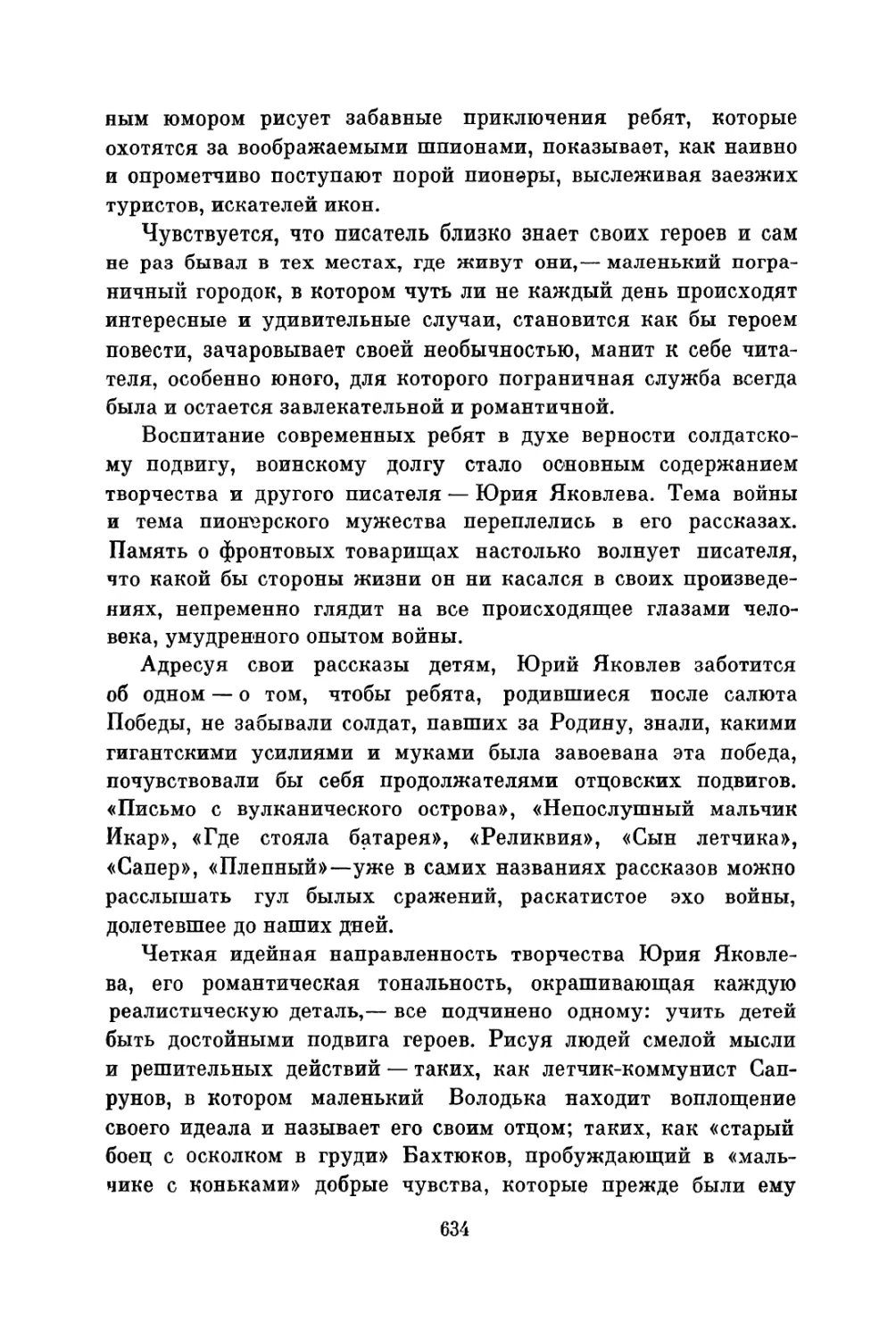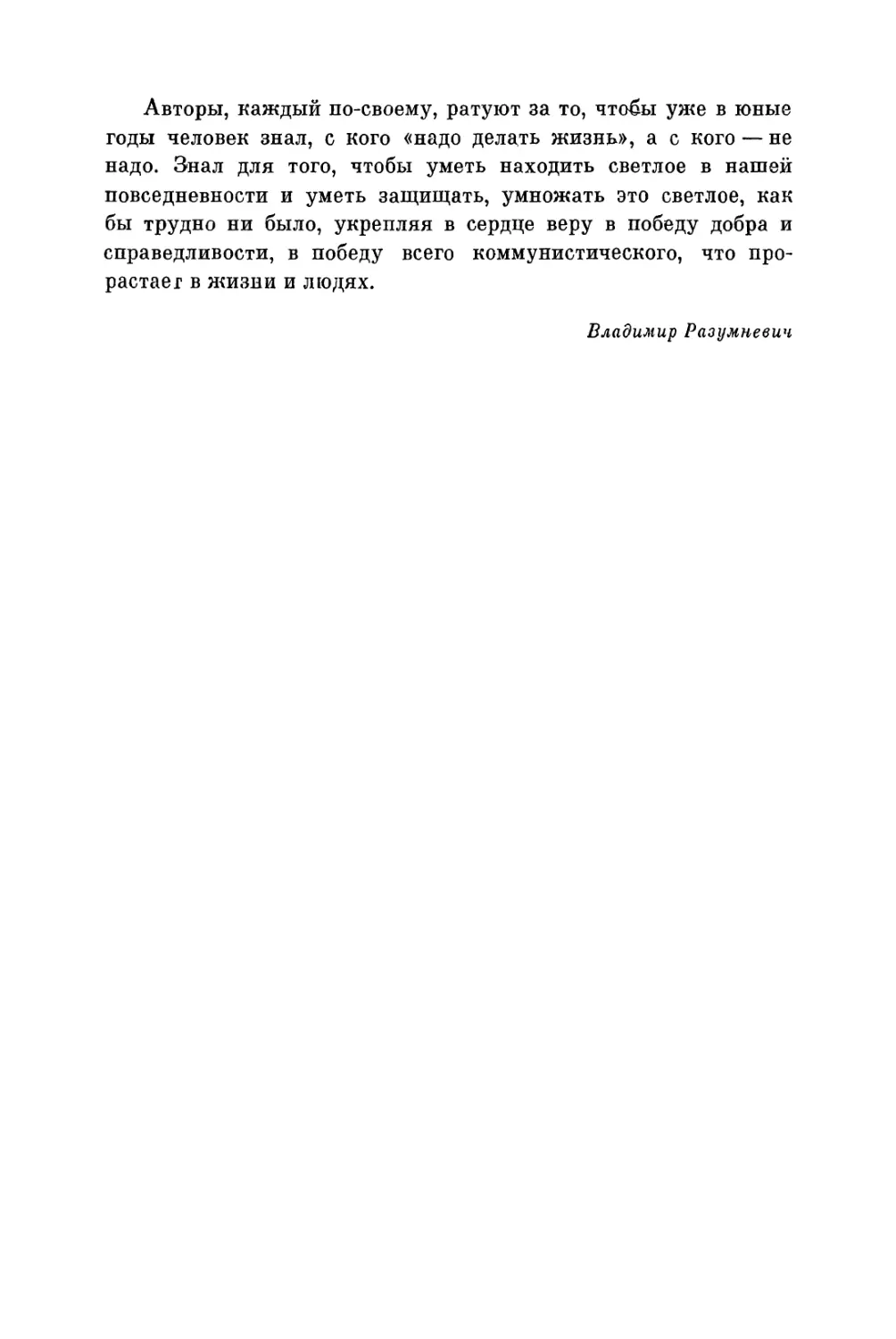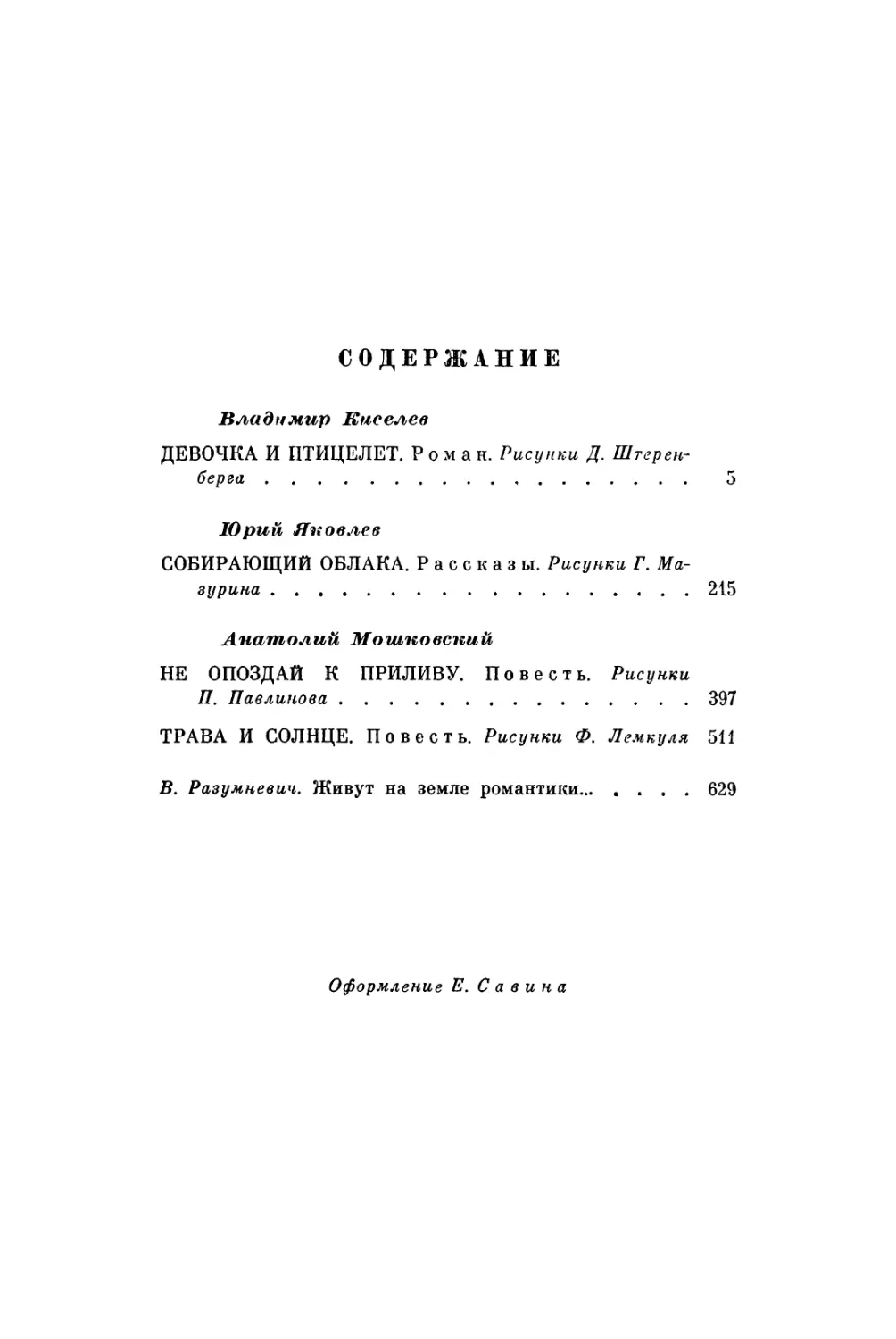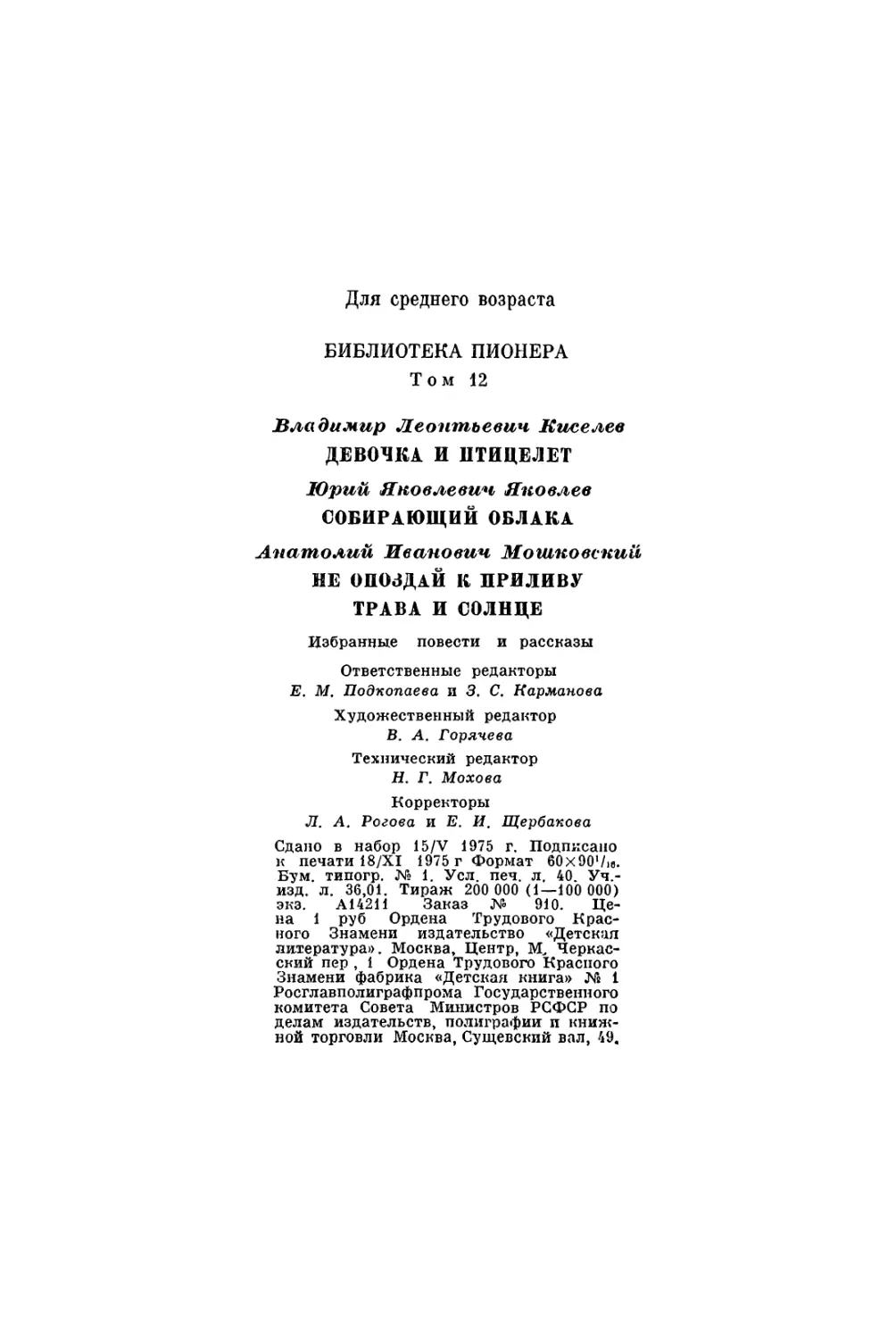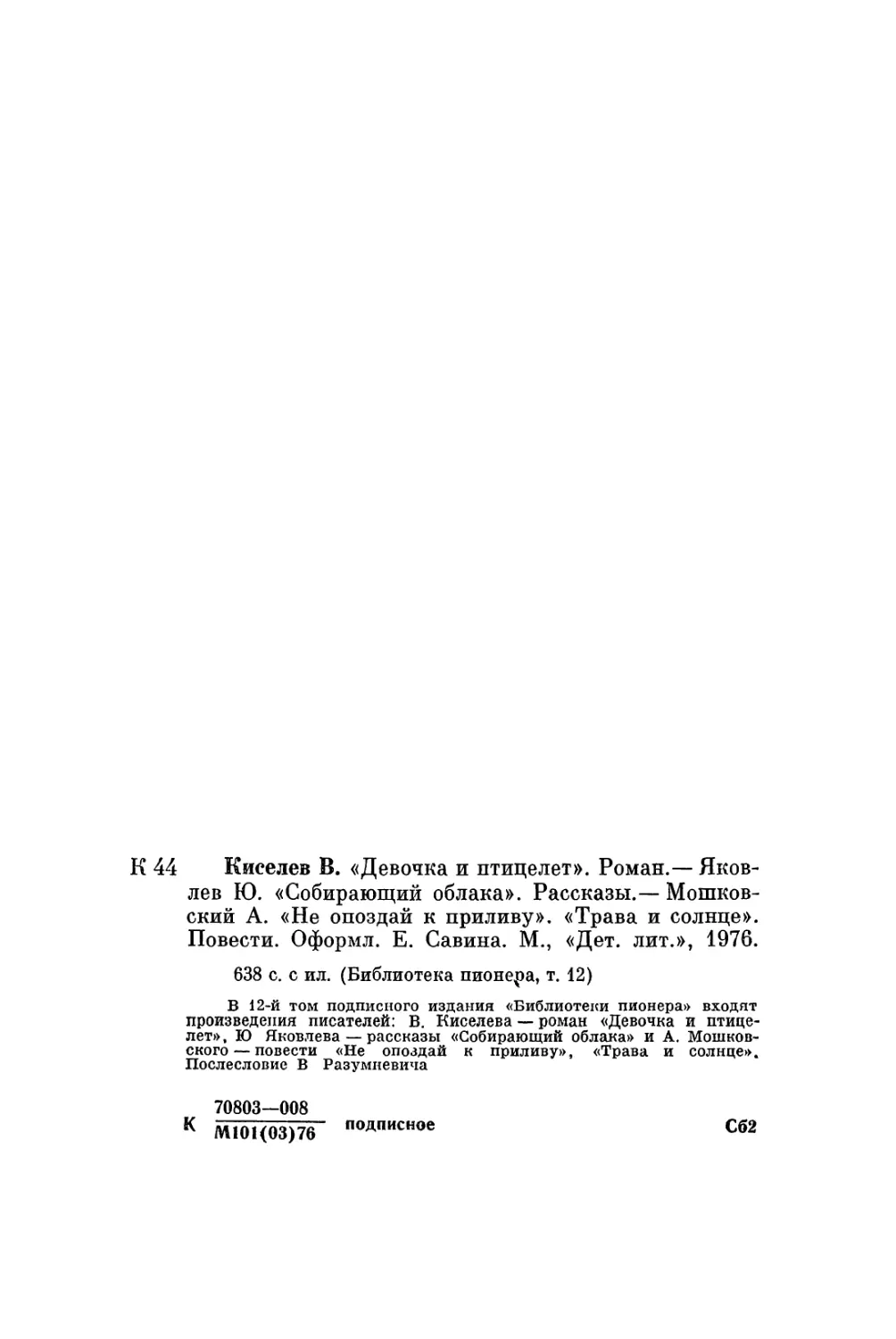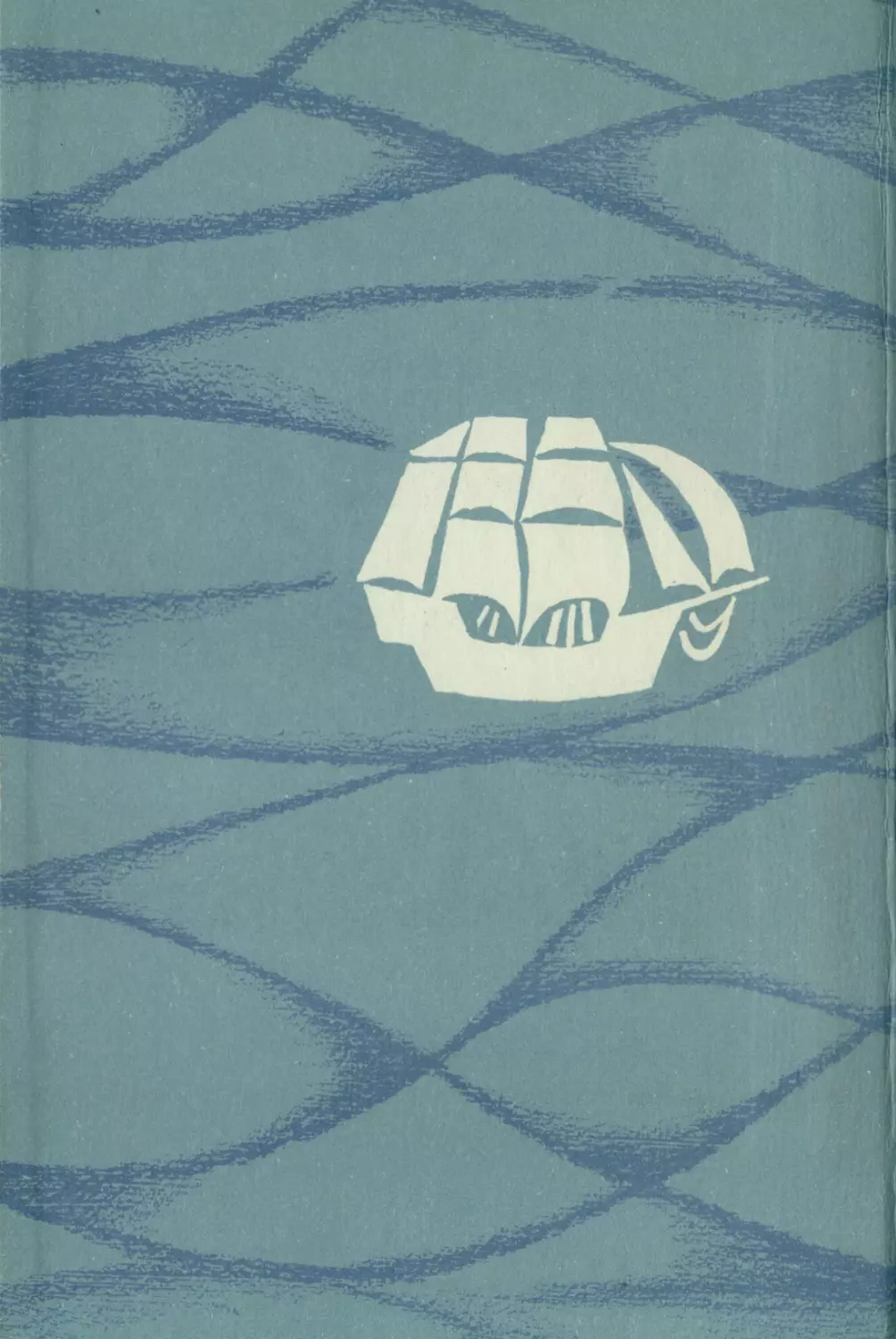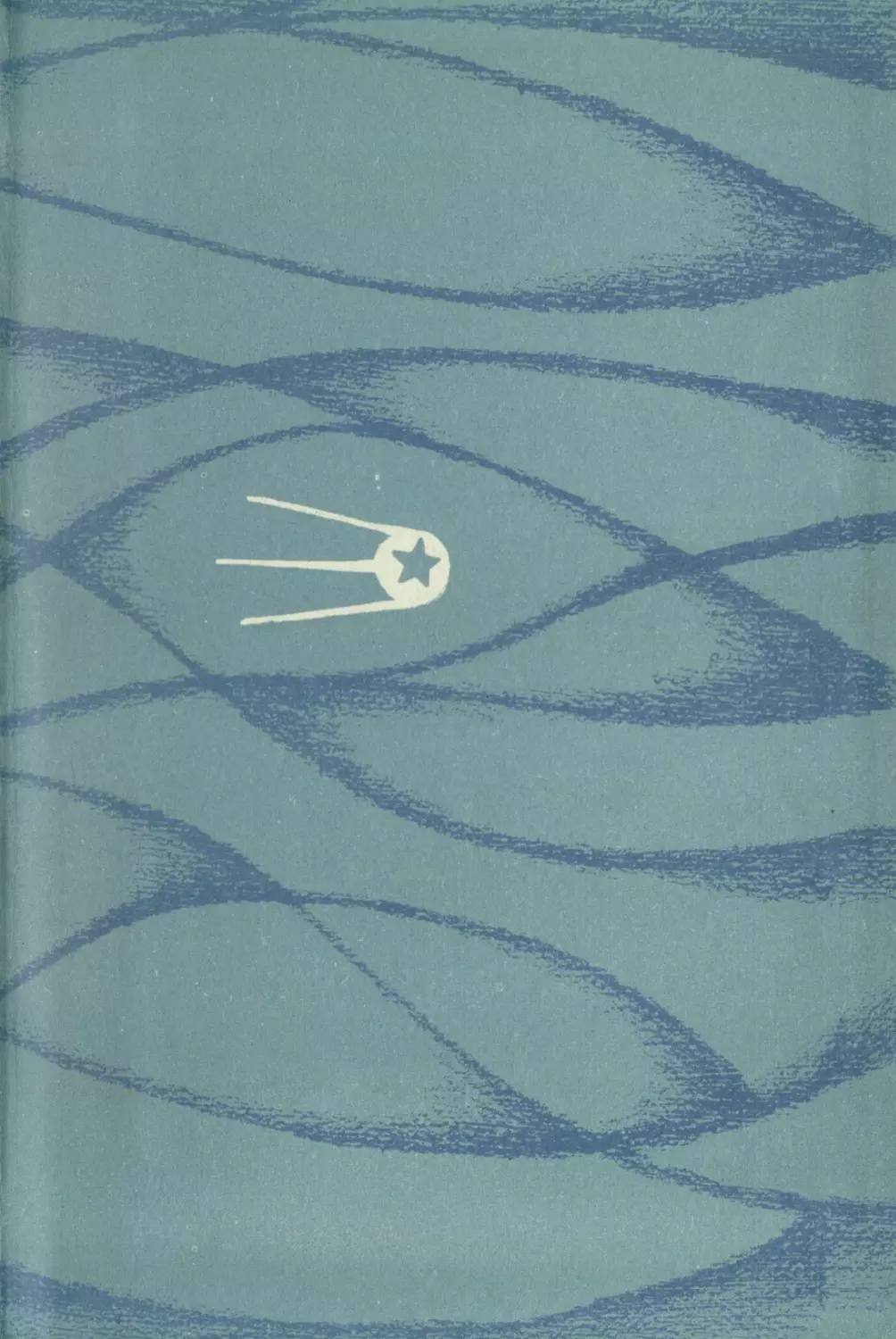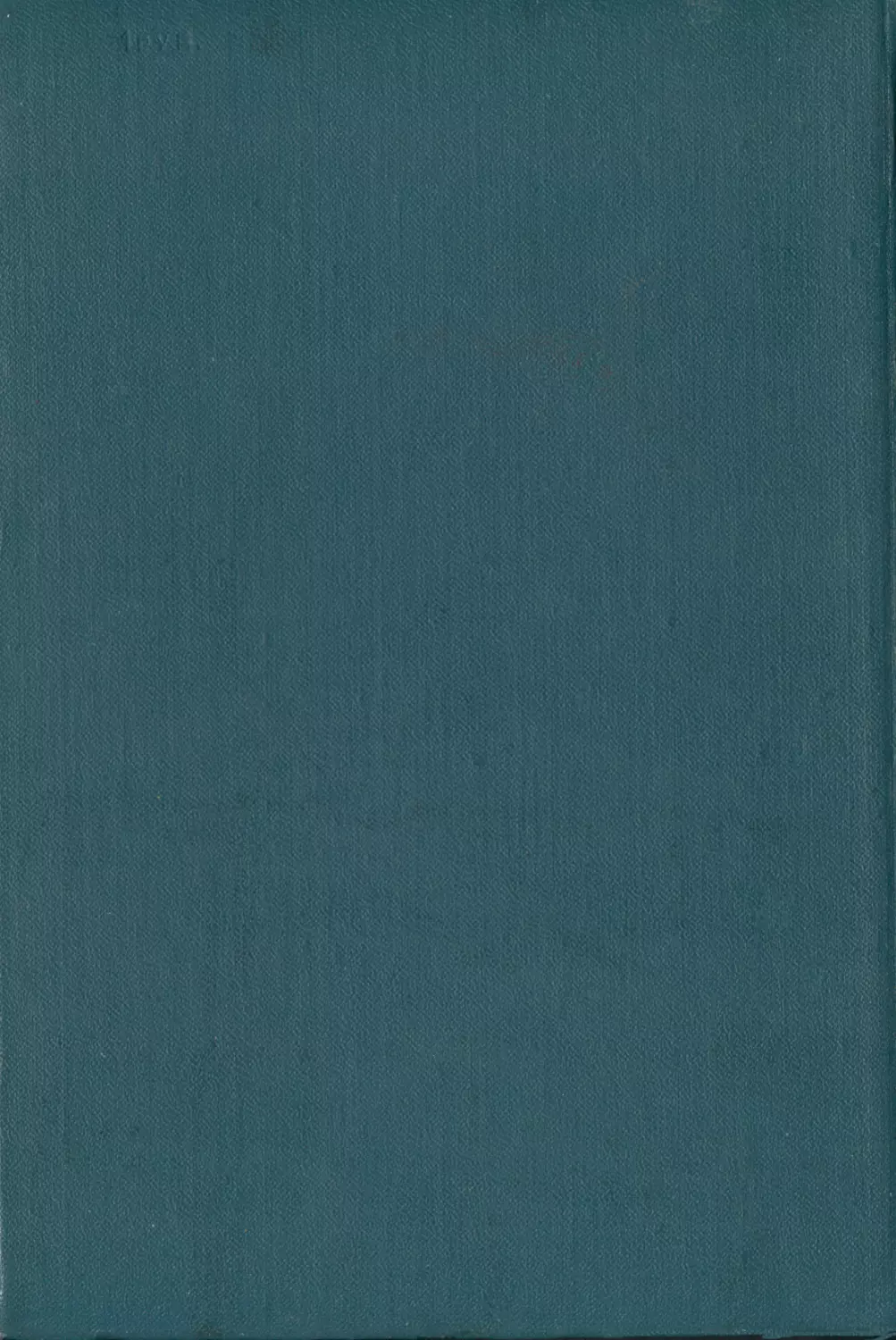Автор: Яковлев Ю. Киселев В. Мошковский А.
Теги: повесть рассказы повести художественная литература серия библиотека пионера
Год: 1976
Текст
лет
СЕСОЮЗНОЙ ИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА
ИЗБРАННЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
МОСКВА
" ДЕтскАя
ЛИТЕРАТУРА"
Владимир Киселев
Юрий Яковлев
Анатолий Мошковский
Сб 2 К 44
©Состав, послесловие, иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г.
Владимир Киселев
Роман
Все, что происходит с человеком после четырнадцати лет, пе имеет большого значения.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Это всё взрослые выдумали про счастливое детство. Чтобы им было не так стыдно. Есть только счастливая взрослость. А счастливого детства нет и не может быть. Спросите у любого ребенка.
Начнем с работы. У взрослых в нашей стране семичасовой рабочий день. У школьника — шесть уроков в школе, а потом еще, даже если учиться на тройки, как я, нужно дома готовить уроки не меньше трех часов. Значит, выходит девятичасовой рабочий день, как в самых отсталых колониальных странах. У взрослого — два выходных в неделю. У школьника — один.
Когда у взрослого что-нибудь не получается на работе, ему все сочувствуют, все его жалеют. Когда мамин отдел завалил какой-то проект, так все говорили: «Ах, Елена Павловна, как мы вас понимаем, не нужно ли вам какой-нибудь помощи, не
7
поедете ли вы на курорт?», а мама в ответ делала жалкие губки и говорила, что она очень переживает.
Но когда я схватила двойку по алгебре, весь двор смеялся, и, кто бы меня ни встретил, все спрашивали, на какой вопрос я не ответила, и продавщица мороженого — ей-то какое дело! — сказала, что двоечницам мороженое вредит.
Но самое худшее не это. Самое худшее... Даже в самых отсталых капиталистических государствах, по-моему, уже отменены физические наказания. Для взрослых. А детей бьют. Даже в нашей стране. Даже у нас взрослый сильный человек может ударить ребенка. Ударить девочку. И это называется счастливое детство!
Я прижалась ухом к стене и немного послушала музыку. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире — вход в нее из другого подъезда — вечером всегда негромко играет радио. Я думаю, что радиоприемник стоит у самой стены на полированном, блестящем, как автомашина, столике, что это большой приемник с зеленым глазком, который светится в темноте. Но, может быть, это и простой репродуктор. Я слишком часто разочаровывалась в последнее время.
Из кухни вернулись мои родители. Они там мыли посуду. Мама и отчим. Я всегда звала отчима папой, но теперь я поняла: он мне все-таки отчим. И завтра утром, когда он со мной поздоровается, я ему так и скажу: «Здравствуй, отчим!» Или: «Здравствуй, Николай Иванович». Не папа, а Николай Иванович. Я ему этого никогда не прощу. Никогда!..
Мама заглянула в мою комнату, прислушалась. У нас однокомнатная малометражная квартира, а для меня комнату сделали, отгородив угол двумя шкафами — платяным и книжным. Здесь помещаются только моя кровать и тумбочка, уроки я делаю за столиком, который стоит возле окна.
— Она уже спит,-— сказала мама шепотом и задернула занавеску между шкафами и стенкой так, чтобы на меня не падал свет.— И незачем из этого устраивать трагедию. Она уже большая девочка, и ничего с ней не случится...
— С нами случится,— сказал папа.— Уже случилось. Со мной. Я никогда себе не прощу, что ударил девочку. Ни себе, ни тебе. Ты в этом виновата.
8
— Еще бы,— сказала мама и неприятно, ненатурально засмеялась, как смеется она всегда, когда собирается заплакать.— Если бы это была твоя родная дочь, ты бы ее уже давно побил. И не так. Но ты к ней относишься как к чужой. Ты ее пальцем никогда не тронул, голоса не повысил. Только и слышно: Оленьке то, Оленьке се. А она совсем от рук отбилась.
— О боже мой! — сказал папа, и я вдруг подумала, что это не мама, а он может сейчас заплакать.— В жизни мне не было так гадко и стыдно, так стыдно и гадко, как сейчас. Ведь я люблю ее. Понимаешь: люблю. И ничего плохого в ней не вижу. И я ударил ее в день ее рождения!..
В самом деле, сегодня день моего рождения. Сегодня, 21 октября, мне исполнилось тринадцать лет. И я тихонько, беззвучно заплакала.
Странно, но этот день моего рождения и начался и закончился слезами. Первый раз я заплакала в школе, на первом уроке. Плакала, правда, не одна я, а все наши девочки и некоторые мальчики. Наша русачка Елизавета Карловна рассказывала нам про Михаила Лермонтова, а когда она рассказывает про этого писателя и еще про Николая Островского, все, всегда плачут, и даже из других школ приходят послушать. И всем всегда хочется стать лучше, и учиться только.на пятерки, и сделать что-нибудь такое хорошее, чтоб это было полезно всему человечеству.
И на первой переменке Витя Сердюк сделал мне подарок ко дню рождения, а я помирилась с Таней Нечаевой, с которой не разговаривала два дня.
На следующем уроке наш математик — зовут его, как Ворошилова, Климент Ефремович — спросил у меня: «Ну как, именинница, готова отвечать?» — и, когда я ответила, что готова, задал вопрос; по домашнему заданию, очень легкий, и поставил мне четверку.
Когда я вернулась домой, я уже застала маму — она отпросилась с работы пораньше, чтобы все приготовить к вечеру. На кухне приятно пахло^ ванилью и еще яйцами, когда их разделяют на желток и белок, а желтки растирают в кружке с сахаром.
— Садись пока за уроки,— сказала мама.
Я пошла в комнату, села за стол, раскрыла учебник по хи¬
9
мии, но учить химию мне не хотелось, и я решила пока приготовить прибор для получения ацетилена. Этот прибор нам был нужен для опыта, который мы задумали с ребятами, а конструкцию я придумала сама. Очень простую. Взять бутылку из- под молока с широким горлышком, на треть налить водой. Затем взять листик промокательной бумаги и засунуть его в бутылку так, чтобы края остались снаружи, а в бутылке получился как бы мешочек из этой бумаги. В мешочек этот насыпать карбида — того самого, который насыпают в свои аппараты сварщики на соседней стройке, а сверху все плотно заткнуть большой пробкой с трубочкой. Теперь ваш прибор готов к действию в любую минуту. Достаточно перевернуть бутылку так, чтобы вода размочила промокательную бумагу, и начнет выделяться газ.
Я приготовила такой прибор, примерила пробку, так что оставалось только проделать в ней гвоздем тонкое отверстие и вогнать туда стеклянную трубку, но в это время мама сказала:
— Сбегай вниз за сметаной.
Гастроном помещается в нашем доме. Купить сметану — минутное дело, но, когда я вернулась, я увидела, что за это короткое время мама успела перевернуть мой прибор, хотя я поставила его под кухонный столик.
Перед моими глазами, как на экране, вспыхнула иллюстрация № 71 из нашего учебника химии. Там изображен мальчик, который закрыл лицо руками, а перед ним на столе со взрывом вдребезги разлетается колба.
Я тоже невольно потянулась к лицу руками, но сейчас же бросилась к маме, вырвала у нее из рук полотенце, подбежала к бутылке и только успела обмотать ее полотенцем, чтобы осколки стекла не разлетелись в стороны и не ранили нас, как раздался громкий, словно пушечный, выстрел, пробку вышибло из бутылки, она ударила в потолок, и вслед за пробкой до самого потолка взлетела струя воды, смешанной с карбидом.
Мама даже не догадывалась, от какой опасности я ее спасла, а я не хотела ей этого говорить. И вместо того чтобы радоваться, что все обошлось так благополучно, она накричала на меня, сказала, чтоб я шла гулять, потому что от меня никакой поль¬
10
зы нет и что в моем возрасте в подготовке к собственным именинам она принимала значительно больше участия.
Вечером, как всегда, на мои именины были приглашены совсем не мои подруги и товарищи, а друзья моих родителей — взрослые люди, среди которых были и такие, которых я видела в первый раз.
Почему детские именины всегда у нас празднуют не дети, а взрослые — мне совершенно непонятно.
Взрослые пили вино и водку, ели холодец, винегрет и фар¬
11
шированную рыбу, а затем перед сладким стали петь. Запевала, как всегда, жена папиного начальника Вера Сергеевна, немолодая женщина с неестественно громким голосом, с таким громким голосом, словно у нее в теле нет ни сердца, ни желудка, ни других человеческих органов, а одни только легкие.
Они хором весело пели песню про Стеньку Разина, а я смотрела на них и удивлялась: как им не стыдно? Ведь это ужасно, и не может быть, чтобы так было на самом деле. Что получается? Степан Разин полюбил персидскую княжну, женился на ней, так они и поют «свадьбу новую справляет», и достаточно было кому-то сказать, что он «наутро бабой стал», как он схватил девушку и бросил ее в реку. Утопил. И об этом поют в песне. Не осуждая Степана Разина, а восхищаясь им!
Очень весело.
Но настоящие неприятности начались с чая. Витя Сердюк подарил мне к именинам две чайные ложечки. Он сам их сделал. Он мне еще прежде рассказал, как их делают: очень просто. Нужно взять обыкновенную чайную ложку и оттиснуть ее на густом растворе алебастра. С двух сторон. Таким образом получится форма. Затем в эту форму нужно залить сплав из сурьмы с баббитом. Он очень легкоплавкий, этот сплав. А новую ложечку легко зачистить наждачной бумагой, всякие там неровности. Вообще эти ложечки готовят для фокусов и розыгрышей.
Я спрятала ложечки под подушку. И забыла о них. А мама как раз вздумала поменять наволочку, увидела чайные ложечки и даже не удивилась тому, как они могли попасть в мою кровать. Она уже привыкла, что на моей кровати можно найти не только книги, тетради, обертки от конфет и зверьков, которых я люблю лепить из пластилина, но даже живую ящерицу в коробке из-под папирос. А что мне остается делать, если у меня нет своего места и все, что я кладу на стол, мама немедленно убирает? Так и в этот раз. Она подобрала ложечки и положила их к остальным в ящик буфета.
Надо же было случиться, чтобы Витина ложечка попала как раз папиному заведующему отделом. И когда он стал размешивать сахар в чае, то увидел вдруг, что в руках у него только ручка от ложечки, а сама ложечка расплавилась и серебристочерным слоем лежит на дне стакана. Все стали смеяться и до-
12
вольно подозрительно рассматривать свои ложечки. Мог бы, конечно, посмеяться и папин начальник — ведь ничего страшного не произошло, сплав этот не ядовит и не имеет никакого вкуса или запаха. Но папин начальник, по-видимому, относится к числу людей, которые любят посмеяться над другими и совершенно не переносят, когда смеются над ними. Он покраснел так, что уши у него стали фиолетового цвета, как будто их облили чернилами, и сказал, что никогда себе не позволяет шуток над своими гостями и поэтому не любит, когда шутят над ним, если он приходит в гости. В общем, и папе и маме было очень неприятно, а к тому же, когда я увидела уши папиного начальника, я почувствовала, что просто лопну, ну, по-настоящему лопну от смеха. Я понимала, что смеяться неприлично, что смеяться над взрослыми нехорошо, но ничего не могла с собой сделать, пока не применила способ, который посоветовал мне когда-то Витя: если рассмеешься в школе на уроке и чувствуешь, что не можешь остановиться, нужно схватить что-ни- будь острое — булавку, иголку, циркуль — и посильнее уколоть себя в ногу, ниже коленки, куда врачи стукают молоточком. От боли или еще от чего-то смех сразу проходит. У меня под рукой не было булавки, я незаметно ухватила штопор и кольнула себя ниже коленки, да так сильно, что пошла кровь. Я залепила ранку краешком бумажной салфетки, и мне уже было не до смеха.
Тем временем мама принесла именинный пирог, и я сразу заподозрила что-то неладное. Как только кто-либо попробует ломтик, положенный ему на тарелку, так сразу отодвинет эту тарелку от себя, вроде бы даже с испугом, но молча. И только жена папиного начальника Вера Сергеевна сказала громко и решительно:
— Елена Павловна, должна вас огорчить, но в ваш пирог, в тесто, очевидно, попало тухлое яйцо.
— Не может быть,— сказала мама и покраснела.
Я отломила краешек от ломтика пирога и положила в рот. Ну, знаете... Впечатление было такое, словно туда попало не одно, а сто тысяч тухлых яиц.
И тут я вдруг все поняла. Карбид... Когда газом выбило пробку из моего прибора, карбид с водой взлетел под самый
13
потолок и, очевидно, попал в тесто. Я посмотрела на серьезные, озабоченные лица гостей, вспомнила, что каждый из них откусил хоть по кусочку, и снова ухватилась за штопор. Но во второй раз мне им не пришлось воспользоваться.
— Это все ты,— сказала мама.— Это все твои опыты...
Мама закусила губу, и на глазах у нее показались слезы.
А когда плачет мама, никому не хочется смеяться.
Чтобы как-то сгладить неловкость, папа стал показывать гостям фотопортрет мамы, который он недавно сам сделал. Мама в жизни очень красивая и молодая, а на портрете она получилась совсем красавицей. На портрете она набросила на плечи платок, наклонила набок и назад голову, над головой подняла обеими руками бубен, зубы блестят, глаза блестят — Кармен, да и только.
Гости хвалили портрет, а папа рассказывал, что аппаратом «Комсомолец», очень простым, с очень примитивным объективом, можно делать прекрасные снимки, что этот аппарат он мне подарил еще в прошлом году на день рождения, что я тоже хорошо научилась фотографировать, и показал, какие я сделала снимки. Он не сказал при этом, правда, что проявляла фотографии и печатала их не я, а он сам.
Папа моложе мамы на два года. Я узнала об этом случайно, мама об этом никогда не говорит, и среди наших гостей папа выглядит совсем как мальчик. В нашей школе есть десятиклассники, так у них вид солиднее. У них растут усы, а папа усы бреет.
И сейчас папа быстро и невнятно — когда он волнуется, у него всегда слово налезает на слово — рассказывал о том, что аппаратом «Комсомолец» можно делать превосходные снимки даже при обыкновенном вечернем освещении, без подсветки. А я почувствовала, что сейчас произойдет самое ужасное, и хотя я по-прежнему сидела на стуле за столом, мне показалось, что я сжалась в крохотный комочек и внутри во мне что-то тихо-тихо пищало, как пищит мышь, зажатая в кулак.
И папа действительно сказал:
— Вот сейчас Оля сфотографирует всех нас. Сделаем на память такой групповой снимок. Принеси аппарат и штатив,— сказал он мне.
14
— У меня больше нет аппарата,— ответила я.
— А где же он? — удивился папа.
Лучше бы он этого не спрашивал.
Я посмотрела на стол и сказала:
— Я его продала.
Папин начальник вдруг громко стал рассказывать, что он недавно ездил на открытие охотничьего сезона и убил одну утку, что у него было разрешение убить кабана, но кабан ему, к сожалению, не попался и что волка можно бить в любое время года и без всякого разрешения.
Он, по-видимому, был все-таки хорошим человеком, этот папин начальник.
Всем вдруг стало очень интересно, много ли еще осталось волков, обо мне все словно забыли, а папин начальник рассказывал, что в литературе было неправильное представление о том, что волки достигают 60—70 килограммов, а фактически вес наиболее крупных лесных волков редко превышает 50 килограммов, что в позапрошлом году в Советском Союзе было истреблено более 28 тысяч волков, а в прошлом году 26 тысяч, а последние данные ему неизвестны, но что ему лично волки ни разу в жизни не встречались.
И под этот разговор о волках, и об охоте, и о том, что охотников намного больше, чем волков, гости стали расходиться, а я по-прежнему сидела за столом и собирала с тарелки крошки от пирога с карбидом и клала их в рот.
И когда гости разошлись, лицо у мамы стало некрасивым и она начала кричать, что я совсем от рук отбилась, что я делаю все назло, что я, может быть, связалась с темными людьми и уже ворую из дома ценные вещи (хотя фотоаппарат был мой собственный), что папа меня не воспитывает, что он меня балует и чтобы он спросил у меня, зачем я продала фотоаппарат и куда я дела деньги.
— Зачем ты продала фотоаппарат и куда ты дела деньги? — спросил папа, глядя не на меня, а на пол.
Я тоже смотрела не на него, а на пол, но я чувствовала, куда он смотрит.
— Я не скажу,— ответила я.— Это тайна.
И тут он меня ударил. По щеке. Ладонью. Очень больно*
15
И закричал визгливым голосом, очень похожим на голос мамы. Вообще, когда он злится, он становится похожим на маму. И вообще все люди, когда злятся, становятся похожими друг на друга.
— Я тебе покажу! Иди спать!..
Он по-прежнему не смотрел на меня и тер рукой щеку, как будто это ударили не меня, а его. Но я теперь посмотрела ему прямо в глаза и сказала:
— Поздравляю с днем рождения. С днем моего рождения.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Нам очень нужны были деньги.
Перед началом учебного года Витя Сердюк предложил собрать учебники за шестой класс и продать их.
Я придумала и написала на серой бумаге красными буквами лозунг: «Продав учебники и купив на полученные деньги конфеты, думай, что корни учения горьки, но зато плоды его — сладки».
Однако деньги нужны нам были совсем не на конфеты.
За все учебники мы получили два рубля четырнадцать копеек. У нас были очень потрепанные учебники.
Тогда Витя предложил. нам собрать старые газеты. Мы собрали. Больше всего газет принес Женька Иванов. Женька еще учится в пятом классе, но очень образованный человек, много читает и входит в нашу компанию.
Витя принес шаблон, который он сам вырезал лобзиком из фанеры. По этому шаблону он обрезал ножом со специально заточенным кончиком сложенные стопкой развернутые газетные листы, а когда он сложил один из листов, мы увидели, что получился кулек. Я принесла немного муки, мы сварили клейстер и стали клеить кульки. Из газет, которые мы собрали, получилось двести восемнадцать кульков. Мы отнесли их на рынок, и тетка, которая продает сливы, купила у нас эти кульки и дала нам за них рубль — по пятьдесят копеек за сотню — и еще немного слив за восемнадцать кульков.
Мы спросили, нужны ли ей еще кульки, и она ответила, что
16
нужны. Витя сказал, что кульки и являются единственным правильным путем для выхода из финансового кризиса. Мы решили, что в следующий раз склеим целую тысячу кульков. Но когда мы вернулись к себе во двор, там разразился страшный скандал.
В нашем доме почтальон поднимается на лифте на верхний, седьмой этаж, а потом пешком спускается вниз и бросает в каждый ящик на двери газеты, журналы и письма. Оказалось, что Женька Иванов поднялся пешком за почтальоном, а затем спустился буквально вслед за ним, вынимая из каждого ящика через щель газеты. В этот день газеты получили только в одной квартире на шестом этаже, где живет какой-то Б. И. Гопник, потому что у него ящик на двери изнутри, а в двери прорезана щель, через которую и бросают почту.
Жители нашего дома не могли примириться с тем, что они не получили газет; почтовое отделение не могло примириться с тем, что от подписчиков поступила целая куча жалоб; наша школа не могла примириться с тем, что отличника учебы Женьку Иванова недостаточно воспитывает пионерская организация, а также семья и что он попал под плохое влияние; мы не могли примириться с тем, что Женька своим легкомысленным поступком поставил всех нас под удар, и в результате Женьке дома сильно всыпали и перестали выпускать во двор, а Витя сказал, что если Женька все-таки порвет оковы и явится к нам, то мы его под конвоем доставим в место заключения.
После этого Витя Сердюк выдвинул новый проект, который получил у нас название «операция Радуга». На эту идею натолкнул нас кот по имени Чудо. Он и в самом деле представлял собой чудо природы.
В нашем дворе есть шотландская овчарка Леда. Хозяева этой овчарки трясутся над ней, никого к ней не подпускают, готовят для нее морковные кисели и выходят из себя, если кто- либо пытается ее погладить. И вот недавно, когда Леду спустили с поводка, она вдруг помчалась к ящикам, которые всегда стоят у заднего входа в гастроном — он выходит в наш двор. А из-за ящиков медленно и спокойно вышел большой белый кот. Мы думали, что Леда сейчас разорвет кота на клочки, но
2 Библиотека пионера, т. 12
17
это был какой-то особенный кот. Он даже не выгнул спину и не распушил хвост. Он просто легким, мне показалось, даже ленивым взмахом лапы провел когтями по Лединому носу. Овчарка взвизгнула и, упираясь всеми четырьмя лапами, присела. Кот негромко фыркнул и снова поднял лапу. Тут Леда с визгом бросилась наутек, прибежала к своей хозяйке и зарылась, повизгивая, носом к ней в юбку, а хозяйка стала кричать, что это безобразие, что во дворе нет прохода от детей и котов, что негде погулять собаке.
Мы все были очень благодарны этому коту: приятно, когда на твоих глазах наказывают нахала. Витя подозвал кота, и тот все так же неторопливо подошел к нему и стал тереться о его ногу.
— Послушайте,— вдруг обрадовался Витя,— этот кот слепой!
— Скажи еще, что он черный и с шестью ногами, как тара- кап,— сказал Сережа.
И я тоже сказала, что это чепуха, потому что слепой кот не мог бы попасть так точно Леде по носу и не подошел бы к Вите, когда тот его позвал.
Витя взял кота на руки и потребовал:
— Посмотрите на его глаза.
Глаза у кота, как мне показалось, были самые обыкновенные, такие же, как у всех котов.
— Они голубые,—сказал Витя, как человек, который сделал важное открытие.— А кот — белый.
И Витя рассказал, что читал в какой-то научной книге, что белые коты с голубыми глазами обязательно бывают слепыми.
— Я не знаю, что написано в твоей книге,— сказал Сережа,— но так как этот кот действительно белый и у него действительно голубоватые глаза, то книга твоя ничего не стоит. Этот кот — зрячий.
В ответ на это Витя сказал, что заберет кота к себе и что мы экспериментальным путем установим, слепой это кот или нет, так как ударить Леду по носу и подойти, когда его зовут, кот мог, используя свой слух и обоняние.
Я никогда не представляла себе, что это такое сложное дело — проверить, видит животное или оно слепо. Мне было
18
поручено вести протокол наших экспериментов. Задачей первого опыта было проверить, изменится ли поведение кота, если ему завязать глаза.
Мы завязали коту глаза платком, и его поведение действительно изменилось. Он стал кататься по полу и сдирать повязку. Сережа сказал, что уже один этот факт показывает, что кот зрячий, что повязка ему мешает, но Витя возразил и, по-моему, правильно, что даже слепой кот точно так же не стал бы мириться с повязкой на морде.
Таким же бесполезным оказался опыт с блюдечком молока.
19
Мы ставили его в разных углах комнаты, и кот каждый раз к нему подходил. Но он теоретически мог найти это блюдце по запаху молока.
С другой стороны, когда мы привязали за нитку кусочек ваты и стали дергать эту вату то вверх, то вниз, кот не обращал на нее никакого внимания. Сережа сказал, что это не является доказательством слепоты, так как с ваткой играют и обращают на нее внимание только котята, а старому коту такая игра совершенно неинтересна. Сережин дедушка, например, всегда садится читать газету, когда по телевизору передают футбол, а Сережа и Сережин папа не могут оторвать глаза от экрана.
Так мы в этот день и не выяснили, слепой это кот или зрячий. А на следующий день Витя сказал, что он целую ночь думал, как это проверить, и что он придумал способ и уже совершенно точно установил, что кот этот является чудом природы, потому что, несмотря на белый цвет и голубые глаза, все видит.
Витя повел нас к себе и показал, как он это установил. Он зажег настольную лампу, принес мамину пудреницу, раскрыл ее, взял кота и направил ему в глаза зайчика. Мы увидели, что зрачок у кота сузился.
— А раз под действием света у него сужается зрачок, значит, он'воспринимает свет,— сказал Витя.— А раз он воспринимает свет, значит, он видит.
Но Вите не хотелось примириться с тем, что кот противоречит выводам науки. И он решил перекрасить кота.
Я в жизни не видела такого исцарапанного человека, как Витя. И в жизни не видела такого странного животного, как крашеный кот. У Вити по носу, губам и подбородку проходили красные полосы, как меридианы на глобусе. А кот выглядел еще более странно: Витя успел только сделать черную с разводами полосу у него на спине и покрасить хвост. Витя уверял, что довел бы дело до конца, если бы не вмешалась бабушка.
Но крашеным котом неожиданно заинтересовался один из жителей нашего дома. Он долго расспрашивал Витю о том, какую краску он применял, стойкая ли это краска, а уходя, сказал со вздохом, что в области крашения химия еще отстает
20
от жизни. Может быть, я ошибаюсь, я никому не сказала об этом, но мне показалось, что у этого человека волосы неестественно черного цвета.
И вот тут-то Витя выдвинул свой план «операции Радуга». Он предложил устроить красильню. В нашем доме по проекту должна быть дворовая прачечная. В подвале. Но не хватило какой-то арматуры, и прачечную пока не открыли. Витя предложил использовать это помещение.
— Вначале мы будем красить бесплатно,— сказал Витя,— для того, чтобы о нас узнало побольше людей и чтобы заказчики убедились в нашей, добросовестности и высоком качестве окраски. А потом, когда о нас узнают, мы начнем брать деньги.
Но даже и бесплатно никто и ничего не хотел красить, хотя мы ходили из квартиры в квартиру и всюду предлагали свои услуги.
— Ничего,— говорил Витя,— для взрослых характерна такая недоверчивость. Важно их переубедить, а потом к нам будут стоять в очереди.
Нам все-таки удалось уговорить старушку из восемнадцатой квартиры дать нам в окраску скатерть, которую ее первоклассник-внучек, как и полагается, залил чернилами в первый же день учебного года.
— В какой же цвет вам ее покрасить? — спросил Витя.
Скатерть была голубая, а большое чернильное пятно — фиолетовое.
— В синий,— сказала старушка.— В темно-синий. Чтобы пятно было не так заметно.
— Ну зачем же в сйний? — стал разубеждать ее Витя.— Лучше мы вам ее сделаем цвета бордо.
— А какой это «бордо»?
— Темно-красный... Ну, как борщ.
— А, бурдовый,— сказала бабушка.— Хорошо.
Мы обесцветили скатерть, выварив ее в растворе хлорной извести, так что она стала совсем белой, а затем долго варили ее в краске.
— Главное, чтобы скатерть равномерно окрасилась, чтобы не было пятен и всяких там разводов,— говорил Витя.
Скатерть очень хорошо окрасилась. Мы просто любовались,
21
какого опа стала густого вишневого цвета, о котором Витя сказал, что это и есть настоящий бордо — цвет знаменитого французского вина. Еще влажной мы отнесли ее нашей заказчице. Бабушка была очень довольна нашей работой и хотела дать нам денег на конфеты, но Витя отказался и сказал:
— Нам не нужны конфеты. Но расскажите, пожалуйста, своим знакомым, что мы хорошо и добросовестно покрасили вашу скатерть. Это нам очень нужно, потому что мы собираемся расширять производство.
Бабушка пообещала рассказать всем своим соседям, какие мы хорошие красильщики, и пожалела, что ей больше нечего дать нам в окраску.
Мы вернулись в нашу красильню, чтобы покрасить Витипу белую рубашку в черный цвет — Витя говорил, что черные рубашки модны и не так пачкаются, как светлые.
Мы развели черную краску, но в это время снова пришла старушка со скатертью. У нее тряслись щеки от негодования. Она сказала, что никому нас не посоветует. Только она прогладила утюгом скатерть, чтобы быстрее подсушить ее и накрыть стол, как. скатерть прямо под руками стала распадаться на хлопья. И она вытащила из кошелки и бросила на пол эту распадающуюся на хлопья скатерть. И ушла.
Я взяла в руки кусочек скатерти. Она была очень красивого цвета. Не такого, правда, как когда она была еще влажной, но все равно очень красивого. Мне было жалко старушку и стыдно перед ней, потому что Витя объяснил, что это наша вина: мы, по-видимому, передержали скатерть в хлорной извести.
Так провалилась наша «операция Радуга». И вот тогда я решила продать свой фотоаппарат. Я взяла его с собой в школу, на всех переменках я фотографировала кого придется, а после уроков мы с Витей пошли в комиссионный магазин.
В магазице пахло нафталином и еще тем кисловатым особым запахом, какой издают старые рояли. В этом магазине продавались странные вещи. Например, столовый сервиз за две тысячи рублей. Как автомашина. Ничего особенного, тарелки с картинками: французские крестьянки и крестьяне играют на дудочках и пасут овечек. Кому может понадобиться сервиз за две тысячи рублей? Или бронзовый бульдог с раскрытой па¬
22
стью — двести восемьдесят рублей. Бронзовый памятник с собачьей могилы. Интересно, сколько он весит? И кто его купит?
А мой аппарат принять отказались. Сказали, что, во-первых, у детей магазин вообще ничего не принимает на комиссию, а во-вторых, не принимают таких аппаратов.
По правде говоря, мне было очень приятно, что ребята смотрели на меня, как на героиню, когда я сказала, что продам свой фотоаппарат. Но сейчас я почувствовала большое облегчение и тихо радовалась про себя, что продавщица не приняла мой фотоаппарат и что нам не удалось его продать.
Как только мы вышли из магазина, нас подозвал невысокий худой старик с желтыми зубами и седой неровной щетиной на подбородке, одетый в застегнутый доверху кремовый плащ.
— Как фамилия? — спросил он у меня неожиданно.
— Алексеева,— ответила я.
— Где живешь?
Я назвала свой адрес.
— А для чего вам это знать? — спросил Витя.
— А для того,— сказал старик,— что аппарат этот краденый... И для того, что вы хотели похищенный предмет сдать в комиссионный магазин, что предусмотрено статьей сто семьдесят девятой, пункт «А» Уголовного кодекса сроком до семи лет.
— Это наш аппарат,— сказал Витя.— Как вам не стыдно! Пойдем, Оля.
— Э, нет,— сказал старик и крепко взял меня за руку своей грязной рукой с обкусанными ногтями.— Сначала пройдем в милицию.
На нас оглядывались прохожие, две женщины остановились возле нас, и я впервые в жизни поняла, как себя чувствует человек, уличенный в воровстве. Это был мой аппарат, но все равно я себя чувствовала так, словно я его украла.
Старик тащил меня по улице, а Витя шел рядом и твердил:
— Отпустите ее... Сейчас же отпустите. Вы не имеете права...
— А вот сейчас придем в милицию, составим там протокол по статье сто: семьдесят девятой Уголовного кодекса и тогда
23
посмотрим, есть у меня право или нет,— злорадно бормотал старик и вел меня за руку по улице.
А в другой руке я держала свой фотоаппарат, и он жег мне руку, как краденый. Вдруг старик замедлил шаги перед остановкой троллейбуса и быстро сказал:
— Ну, так и быть... На первый раз прощаю. Я сам куплю этот аппарат...
Он сунул мне в руку бумажный рубль, в который была завернута трехкопеечная монета, взял у меня фотоаппарат и сел в троллейбус.
— Зачем ты ему дала аппарат? — удивился Витя.— Подождите! — закричал он вслед старику.
Но троллейбус уже уехал. Мне хотелось плакать, но, честное же слово, я почувствовала облегчение* когда уехал этот отвратительный старик и забрал этот проклятый аппарат.
24
— Нужно было задержать его,— сказал Витя.— Он, наверное, пьяница. Такой, как когда-то в книгах писали. Что все с себя пропивает. Ты не заметила? Ведь у него под плащом не было даже рубашки.
— Нет, — сказала я. — Я ничего не заметила.
Когда я вернулась домой, я написала стихи. Я всегда пишу стихи, если переволнуюсь или если со мной что-нибудь случится. Но я никогда не пишу стихов о том, что произошло. Они вроде бы совсем не связаны с тем, что со мной случилось, совсем о другом, но я-то знаю, что они очень связаны, только я не умею объяснить, чем именно.
В этот раз я написала стихи про Буратино. Начинались они так:
Бедняга Буратино!
Наверно, неспроста Тебя швырнули в тину,
В глубокий пруд с моста...1
Какое отношение имеет Буратино к денежным затруднениям нашей компании? Или к тому, что пропал мой фотоаппарат и этот странный старик в кремовом плаще так напугал меня?.. И все-таки имеет какое-то отношение. Потому я и написала стихи об этом остроносом добром деревянном человечке. И когда я написала эти стихи, мне стало легче.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Рано утром папа трижды ударил согнутым пальцем по дверце платяного шкафа и закричал: «Эй вы, сонные тетери, открывайте брату двери!» Он часто будил меня этими словами, и я теперь понимаю, как это хорошо — просыпаться с улыбкой. Но на этот раз я не улыбнулась и ничего не ответила. Тогда он сказал:
— Можно к тебе?
Я ответила:
1 Все стихи для этой книги написал Леонид Киселев.
25
— Да, пожалуйста.
Он вошел, присел с краешка на мою кровать и улыбнулся, как улыбается он всегда, когда думает о чем-нибудь серьезном. Я люблю в такие минуты смотреть на его лицо. У него тогда бывает особенно хорошее лицо — чуть-чуть беззащитное и одновременно решительное.
— Я очень виноват перед тобой,— сказал папа.— Не знаю, извинишь ли ты меня, но больше это не повторится со мной никогда в жизни.
Я молчала.
— Это все, что я хотел сказать,— сказал папа.— Я очень бы хотел вернуть твое уважение. Если можешь, прости меня.
— Хорошо,— сказала я, стараясь не заплакать.
Он вышел, а я постелила кровать и пошла в ванную. Ванная у нас рядом с кухней, и окошко ванной выходит в кухпю. Мама готовила завтрак и говорила нарочно громко, так, чтоб шум воды из крана не заглушал ее голоса:
— Если бы мне было куда уйти, я бы и минуты не осталась в этом сумасшедшем доме. Я слышала, как ты вымаливал прощение, вместо того чтобы взять ремень и всыпать ей как следует. Если бы у нее был родной отец...
Я посильнее открутила кран в ванной и закрыла уши руками. Мама постоянно упрекает папу в том, что он мне не родной отец.
Родного отца я почти не помню. Помню только сапоги — он был военным летчиком и, очевидно, носил сапоги,— я сижу между этими большими сапогами, и отец, стоя, говорит и взмахивает рукой, а его молча и, как мне теперь кажется, восхищенно слушают какие-то люди. Их много в большой комнате, где мы тогда, очевидно, жили. Они сидят на стульях, на подоконниках, как мне кажется, даже на полу. А отец им что-то говорит. И из его слов я запомнила только красивое и необыкновенное выражение: «...и так далее, и так далее».
Мама говорит, что он погиб при авиационной катастрофе, но я знаю, что это не так.
Я помню многое, что было со мной в раннем детстве: лица, платья, разговоры, которые при мне велись и которых я тогда не понимала. Но когда я вспоминаю о них теперь, они напол-
26
няются для меня смыслом. Так, как если бы выучит.ь на память страницу из книги на иностранном, не известиям тебе языке, а потом, спустя несколько лет, выучить этот язык.
Так вот, припоминая такие отрывочныр разговоры, я поняла, что отец мой оставил нас с мамой потому, что полюбил другую женщину. Я никогда с мамой об этом не говорила, и каким был мой родной отец, я не знаю. Думаю, что был он все-таки плохим человеком, если мог оставить меня и маму.
Но человеком, которого я зову папой, моим отчимом, я горжусь и очень люблю его, по-моему, люблю его даже больше, чем маму, и верю в то, что он самый лучший человек на свете, и хочу во всем быть похожей на него.
Он журналист, работает в газете, часто уезжает в командировки. И когда его нет, я очень по нему скучаю и пишу ему письма, а он мне отвечает. А мама не любит писать письма. Она говорит, что это старомодное занятие и что значительно проще поговорить по междугородному телефону.
Я ему показываю все мои стихи; он их никогда не хвалит и не ругает, но он их понимает. Он, по-моему, понимает даже то, что я сама не всегда понимаю: почему я их написала. И мне очень захотелось прочесть ему стихотворение, начало которого сложилось у меня ночью: я всегда сначала сочиняю с?ихи в голове, а потом уже записываю их на бумаге. Я придумала только первую строфу:
Мне снова снился отчий дом —
Малометражная квартира.
Проснулась ночью. Было тихо.
И вспоминался этот сон.
Но я решила, что сначала я закончу стихотворение, а потом уже перепишу и покажу его папе. Хотя я еще совсем не знала, что будет дальше. Что-то такое о чужих окнах, которые глядят мне в лицо тысячью влажных глаз.
За завтраком все мы молчали, но перед тем, как я пошла в школу, папа спросил:
— Может быть, тебе нужны деньги?
— Нет, не нужны,— ответила я.
Я сказала неправду. Деньги мне были очень нужны.
27
У каждого человека есть какой-то предмет, о котором он мечтает и на покупку которого он не жалеет денег. У папы, например, это консервные ножи. У нас на кухне одна стенка — там, где газовая плита,— закрыта фанерным щитом кремового цвета, в щит густо забиты гвоздики, а на них висят в ряд двести одиннадцать консервных ножей. Все знакомые сносят папе консервные ножи, из всех командировок он привозит консервные ножи. Он говорит, что когда-нибудь напишет историю эволюции консервных ножей, начиная от первых — в виде щучьей пасти, изготовленных для открывания первых консервов в середине прошлого столетия, и кончая сложным современным устройством с магнитным держателем для обрезанной крышки. Папа говорит, что на конструкцию консервных ножей оказали свое влияние и войны и революции.
Я в детстве больше всего хотела покупать мороженое. Я совершенно не понимала взрослых, которые тратят деньги на хлеб, колбасу, ботинки, когда на них можно купить мороженое. Затем я стала так же думать о книгах.
Но вот теперь я мечтала лишь об одном — о реактивах. О химических реактивах. И я, и Витя, и Сережа, и даже Женька Иванов в последнее время не ходили в кино, не ели мороженого. Все деньги мы тратили на реактивы.
Когда я закончу школу, я поступлю в университет на химический факультет. Но учиться там я буду заочно. А работать я пойду в магазин химических реактивов. Это моя мечта, и я сделаю все, что нужно, для того, чтобы она осуществилась.
Все началось с обыкновенного кусочка сахара. Я тогда еще училась в шестом классе и не знала, что сахар не горит, а только темнеет и плавится, если жечь его на спичке. Витин отец, Леонид Владимирович, — он химик, профессор, работает в Академии наук — однажды, когда я и Сережа были у Вити, сказал, что покажет нам фокус. Он дал нам каждому по кусочку сахара и по коробке спичек и предложил зажечь этот сахар, только над пепельницей, чтобы не запачкать стол. Я обожгла себе пальцы, а сахар не загорался. Тогда Витин папа взял у нас сахар и сам поджег его. И сахар у него сразу загорелся красивым синеватым пламенем, похожим на то, какое бывает, когда горит спирт.
28
— Теперь догадайтесь, в чем тут фокус,— сказал Витин папа.— Почему у вас сахар не горел, а у меня горит?
Мы не могли догадаться. И Витин папа тогда сказал:
— Вот, ребята, вы сейчас столкнулись с одним из самых интересных явлений природы и одним из самых важных вопросов химии. Вы не обратили на это внимания, но я, перед тем как поджечь кусок сахара, будто нечаянно уронил его в пепельницу. К сахару пристал табачный пепел, а табачный пепел обладает интереснейшим свойством — достаточно крошечного количества, ну просто миллиграмма, чтобы весь сахар, если его поджечь, сгорел-
— А почему пепел так действует на сахар? — спросил Сережа.
— Потому что табачный пепел в этом случае является катализатором,— ответил Леонид Владимирович и рассказал нам о том, что катализаторы — это такие вещества, которые во время химических процессов не изменяются, их количество не уменьшается и не увеличивается, но что они намного ускоряют химические процессы, иногда в тысячи и в сотни тысяч раз. А бывают и такие реакции, которые вообще без катализатора не получаются.
Не знаю, как у других, но у меня перед глазами сразу возникла такая картина: огромный зал или площадь, заполненная людьми. Они стоят тесно, они мрачны и недовольны, они негромко переговариваются между собой, и вся площадь гудит, как улей. Но тут молодой человек в белой рубашке с расстегнутым воротом, с зачесанными назад волнистыми черными волосами вскакивает на какое-то возвышение — это даже не трибуна, а стол или тележка — и кричит: «Вперед, на тиранов!» И все принимаются строить баррикады, вооружаться... Вот этот молодой человек, который закричал «Вперед, на тиранов!», мне представилось, и есть катализатор.
Леонид Владимирович прочел нам в тот день целую лекцию о катализаторах. О том, что бывают катализаторы, которые ускоряют действие других катализаторов, и что их называют промоторами, и что бывают вещества, которые замедляют действие катализаторов,— их называют каталитическими ядами; что в наше время ученые создали теории о том, почему и как
29
действуют катализаторы, но все равно в этом вопросе еще многое остается неизвестным, и некоторые катализаторы найдены по методу древних алхимиков, то есть пробуют разные реактивы, проверяя, не ускорят ли они химический процесс.
Я сразу представила себе полутемное помещение, посередине горн, на котором стоит большая изогнутая реторта с красной жидкостью. Витин папа, в коротких штанах, в бархатном камзоле, одной рукой раздувает мехи, в другой руке держит книгу, в которую время от времени заглядывает, произнося вперемежку химические формулы и заклинания, а на голове у пего сидит сова, которая то страшно ухает, то бормочет формулы: аш два о, аргентум, иитрогениум и еще такие же слова.
— Значит,— спросила я,— все зависит от того, повезет или не повезет химикам?
— Нет,— возразил Леонид Владимирович.— В тысячах лабораторий всего мира ежедневно проводятся сотни тысяч опытов, для того чтобы найти и испытать новые катализаторы. И если говорить о везении, то это сознательное, так сказать, направленное везение. И когда химики находят новый катализатор — это очень важное, очень радостное событие, а состав нового катализатора очень часто является промышленной, военной или даже государственной тайной.
Когда я вернулась домой, я долго думала о том, что это все- таки очень здорово и очень странно... Пока мы ходим в школу и в кино и готовим уроки или ссоримся друг с другом из-за всякой чепухи, во всем мире в лабораториях, согнувшись над приборами, сидят ученые и ищут катализаторы для того, чтобы ускорить разные химические процессы. А Витин папа говорит, что ускорять разные химические процессы — это значит активно заботиться о том, чтобы людям побыстрее жилось легче и лучше.
И я написала стихи. Я всего раз в жизни летела на самолете. С папой и мамой — на «Ту-104». Мне не понравилось, потому что с непривычки было страшно, и меня тошнило, хотя папа удивлялся, почему меня тошнит, так как* в самолете в самом деле совсем не качает, а только закладывает уши и ломит в за¬
30
тылке при взлете и посадке. Но теперь, после разговора о катализаторах, я совсем по-другому увидела и поняла свой полет.
И я написала:
На облака облокотись И вниз на землю погляди.
Взгляни на горы сверху вниз,
На реки в челюстях плотин.
Взгляни на села, города Не свысока, а с высоты,
Чтоб просто больше увидать,
Чтоб сразу взглядом охватить.
Гляди: над лучшим из миров Редеет облачный покров...
Да, люди выше облаков,
И люди больше городов.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Прозвенел звонок. И когда все уже сидели на месте, в класс вошел Сережа. Он слегка взмахнул рукой, сказал: «Сидите, сидите», а затем подошел к доске, повернулся к классу, подергал себя за нос и торопливо спросил:
— Так на чем мы остановились? — И так же торопливо сам себе ответил:—На Ярославе Мудром... Алексеева, не вертись,— сказал Сережа в нос и продолжал прежним тоном: — Запишите в тетради: Ярослав Мудрый. А теперь положите ручки и слушайте. Ярослав Мудрый был прозван мудрым за свою мудрость...
Никто не обращал внимания на то, что говорил Сережа из- за учительского стола. Все уже давно привыкли к его шуточкам. По-моему, никто даже не улыбнулся.
— Ярослав Мудрый...— продолжал Сережа.
Но в это время приоткрылась дверь, и Сережа шмыгнул на свою парту — он сидит с Витей. Вошел учитель истории Михаил Иванович и совершенно таким же движением руки, как Сережа, помахал на класс и сказал: «Садитесь, садитесь». Кто- то из девчонок хихикнул. Тогда Михаил Иванович подергал себя за нос и спросил:
— Так на чем мы остановились? — И торопливо ответил: —
31
На князе Ярославе Мудром... Алексеева, не вертись,— сказал он мне, хотя, честное же слово, я ничуть не вертелась.
Все поведение Михаила Ивановича, все его слова были настолько похожи на то, что показал перед тем Сережа, так совпадало каждое движение, что ребята повизгивали, подавляя смех. И только Сережа сидел с очень серьезным, с очень вдумчивым лицом.
Вообще Сережа был бы похож лицом на Пушкина, если бы оно не было у него подвижным, как у обезьяны, и если бы не были такие светлые, словно покрашенные перекисью водорода, волосы. Но когда Сереже вздумается, он может придать своему лицу выражение пай-мальчика с картинок в старых детских книжках.
Михаил Иванович никак не мог понять, чем вызван смех, и, вместо того чтобы дальше рассказывать про Ярослава Мудрого, стал спрашивать домашнее задание. И, как это ни удивительно, первым он вызвал Сережу и поставил ему двойку, потому что Сережа переселил кривичей с верховьев Днепра на Оку, древлян с Припяти на Десну, а полян передвинул к дулебам.
Я уже давно заметила, что почти все наши учителя, когда в классе возникает нездоровый смех, вызывают Сережу и ставят ему двойку, хотя Сережа хорошо учится. Очевидно, они знают, кто у нас первый юморист.
На перемене возле новой школьной стенгазеты столпилось много ребят. Я тоже подошла, но лишь посмотрела и сейчас же пошла дальше. Я дала в газету эти мои стихи про самолет, а их не поместили. И мне показалось обидно, что в газете не мои стихи, а Миры Ковалевой из 8 «Б». У нас многие мальчики и девочки пишут стихи, но книги стихов в библиотеке, по- моему, наши ребята берут не особенно охотно. Да и мне самой больше нравится читать написанное прозой.
На второй урок мы пошли в самое лучшее место в нашей школе — в химический кабинет. У нас замечательный химический кабинет. Вместо парт там стоят столы. И есть большой стол, к которому подведен газ, и на нем маленькие газовые плитки и химическая посуда. И вытяжной шкаф — большой стеклянный ящик, к которому подведена вентиляционная труба. И вдоль стены шкафы, заполненные банками с этикетками,
32
а в банках всевозможные реактивы. А в одной из банок под слоем керосина хранится металлический натрий, который мне нравится больше всего...
И главное, в химическом кабинете Евгения Лаврентьевна, как всегда, в черном халате и с белыми волосами и с лицом, которое остается добрым и серьезным, даже когда Евгения Лаврентьевна улыбается. Что я прежде слышала о Евгении Лаврентьевне? Что она строгая и что отвечает на все вопросы.
Строгая ли она? Папа как-то говорил, что у плохого учителя ученики могут сидеть на уроках тихо, но у хорошего учителя ученики не могут шуметь и болтать. У Евгении Лаврентьевны на уроках всегда тихо, и просто как-то никому не приходит в голову, что можно отвлечься, или потрепаться с соседом по столу, или еще что-нибудь такое.
Ну, а насчет вопросов — это правда. Она никогда никому не говорит: «Тебе еще рано», или: «Ты это поймешь позже», или: «Ты это будешь учить в десятом классе». Она отвечает на все вопросы. И не только по химии. И всегда скажет еще, какие книги прочесть, чтоб лучше понять. Старшеклассники рассказывают, будто иногда ей задают такие вопросы, что она отвечает: «Я этого точно не знаю. Я выясню и завтра вам отвечу». И никогда не забывает ответить. Мне кажется, что за это ее особенно надо уважать.
Но задавать вопросы ей можно только на переменках или после уроков. Она всегда специально остается. А на уроке ее нельзя прерывать.
Вот я, например, спросила у Евгении Лаврентьевны, почему если посыпать сахар табачным пеплом, то он горит. Подошли мы к ней всей нашей компанией, вчетвером, даже с Женькой Ивановым. Евгения Лаврентьевна сначала расспросила нас, понимаем ли мы, что такое катализатор, а уж потом рассказала, что существует такой очень легкий металл, под названием литий, который в пять раз легче алюминия. Применяется он в металлургии — его добавляют в очень небольшом количестве к меди, алюминию, магнию, от этого они становятся более стойкими и прочными. Литий содержится в некоторых морских водорослях, а также в таких растениях, как лютик, который иначе называют куриной слепотой, и в табаке. В табачном
33
пепле остается часть соединений лития, а этот литий и является катализатором.
От Евгении Лаврентьевны на каждом уроке узнаешь что- нибудь совершенно неожиданное и удивительное. Вот, например, есть такая пословица: чтобы узнать человека, нужно с ним пуд соли съесть. Я думала, что для того, чтобы съесть пуд соли, нужно лет двадцать, ну, не двадцать, так десять. Но Евгения Лаврентьевна рассказала нам, что каждый человек с пищей съедает в год от 8 до 10 килограммов соли. Значит, вдвоем они съедают пуд соли всего за год. Значит, мы с мамой съели вместе почти 13 пудов соли, и все-таки... Видимо, не в соли дело и не в сроках, но Евгения Лаврентьевна тут ни при чем.
Витин папа, Леонид Владимирович, рассказывал, что ученики, которые, закончив школу, получают у Евгении Лаврентьевны по химии даже тройку, в институт сдают экзамен по химии на пятерку, а если у ученика Евгении Лаврентьевны в аттестате стоит по химии пятерка, то ему в Киеве в любом институте или в университете поставят пять и могут даже не задавать вопросов.
На всю жизнь я запомню первый урок Евгении Лаврентьевны. «Кто такие химики?» — такая была тема этого урока. Если бы она рассказывала сто часов подряд, никто все равно не сдвинулся бы с места.
Все химики были замечательными людьми — отважными, благородными, готовыми пожертвовать собой для пользы людей.
Особенно мне запомнилось, как Евгения Лаврентьевна рассказывала о великом химике Бутлерове. Восьмилетнего Сашу Бутлерова родители отдали в пансион в городе Казани, ну, вроде бы в интернат. Там он увлекся химией. И вот, когда ему было лет десять, он в своей тумбочке возле кровати устроил небольшую лабораторию. И когда однажды дети играли во дворе, вдруг раздался оглушительный взрыв. Воспитатель побежал в помещение и вытащил оттуда Сашу Бутлерова, у которого были обожжены брови и волосы. Эксперимент, который он задумал, кончился неудачей. Бутлерова решили наказать. В этом пансионе, где он учился, детей не секли розгами, хотя, как сказала Евгения Лаврентьевна, в других учебных заведениях розги были в большом ходу, и вот Бутлерова за его «пре¬
34
ступление» посадили в темный карцер, а из карцера его несколько раз выводили в общий обеденный зал с черной доской на груди. А на доске крупными белыми буквами было написано: «Великий химик».
Они это написали, чтобы поиздеваться над мальчиком, но оказалось, что они предсказали его будущее. Потому что оп действительно стал великим химиком.
Евгения Лаврентьевна говорила, что все, что возможно с научной точки зрения, в конце концов становится возможным в действительности. Хотя иногда даже ученые слишком поспешно говорят «невозможно», вместо того чтобы сказать «мы еще не умеем». Вот, например, она рассказывала, что долгое время считалось, что невозможно получить искусственный аммиак, но немецкий ученый Габер придумал, как это сделать. Благодаря его открытию Германия так долго держалась в первой мировой войне. Но когда к власти пришли фашисты, они стали преследовать этого Габера, потому что он был евреем, и он убежал из Германии и умер в чужой стране.
Или, например, Евгения Лаврентьевна рассказывала, что знаменитый изобретатель Эдисон, когда услышал, что в Советском Союзе получен искусственный каучук, заявил: «Я не верю, что Советскому Союзу удалось получить синтетический каучук. Все это сообщение — сплошной вымысел. Мой собственный опыт и опыт других показывает, что вряд ли процесс синтеза каучука вообще когда-нибудь увенчается успехом». А ведь сейчас любой ребенок знает, что каучук получают синтетическим путем.
Но если все, что возможно по научной теории, возможно в действительности, то, может быть, уже скоро будет осуществлено то, что задумал Витин цапа, Леонид Владимирович, хотя это совсем похоже на фантастику.
Я часто представляю себе, как над нашим городом, над куполами Софии, над Днепром, над Мариинским парком и памятником Вечной Славы летают, медленно взмахивая крыльями, огромные птицы. Вот одна из них плавно опустилась на асфальтовую площадь между Пионерским и Мариинским парками, и стало видно, что это не птица, а огромная машина — птицелет. Открылись дверцы, и из нее вышло много людей—пассажиров.
35
Пассажиры разошлись, а в кабине остались летчики: я, Витя, Сережа и Женька. На пульте управления перед нами указатель высоты, скорости и еще небольшой прибор с тремя циферблатами. Над одним из них написано «Кислота», над другим — «Щелочь», а над третьим — «Катализатор». Крылья нашего птицелета движутся при помощи искусственных мышц из полимерных пленок, то есть птицелет движется при помощи химии, так как в нем химическая энергия сразу превращается в механическую.
Леонид Владимирович рассказывал нам, что созданные в их лаборатории тонкие пленки из полимеров под действием щелочи и кислоты то растягиваются, то сжимаются, как искусственная мышца. Если соединить между собой много таких пленок и найти катализатор, который будет ускорять и увеличивать сжатие и растягивание, можно создать искусственные мышцы. И мышцы эти смогут делать огромную работу, они будут в тысячу раз сильнее, чем, скажем, мышца настоящего слона.
Витин папа водил нас в свою лабораторию в Академию наук и показал, как сжимаются и растягиваются эти пленки.
Я не знаю, как создают такие лаборатории и как отбирают в них людей, но, скорее всего, я думаю, собирается сначала несколько человек, которые любят и знают химию. Один из них предлагает решить научную проблему, которая всем им очень интересна, а потом к ним присоединяются еще и другие люди. В общем, все у них происходит, очевидно, так же, как в нашей компании, но разница, и не в нашу пользу, в том, что реактивы им дает государство и что они не только не платят денег за то, что занимаются любимым делом, а еще и получают за это зарплату.
О том, что эти пленки — искусственные мышцы — когда-нибудь будут использованы для того, чтобы создать крылатую машину — птицелет, нам сказал Витин папа, а когда мы ушли из лаборатории, Витя предложил:
— Давайте сделаем свою лабораторию. Будем искать катализатор. Может, мы его найдем скорее, чем целая научная лаборатория.
Мы решили держать наш замысел в тайне. Но совсем не потому, что, как сказал Витя, наше открытие может стать воен¬
36
ным секретом, а по другой причине, о которой никто не говорил. Мы боялись насмешек. Мы не хотели, чтобы нас дразнили «великими химиками», как Сашу Бутлерова. И мы строго соблюдали тайну. Тем более, что всем нам было приятно иметь тайну, перемигиваться на уроках и шептаться на переменках.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Когда я была маленькой, мне казалось, что лучше быть мальчиком, чем девочкой. Я уговорила маму купить мне брюки и стреляла из рогатки.
Но сегодня я думаю о том, как хорошо все-таки, что родилась я девочкой. Хотя я снова надела штаны. Однако совсем не для того, чтобы быть похожей на мальчишку.
Эти ярко-голубые брюки из тонкой шерсти с лавсаном мне купила ко дню рождения мама. А еще я надела темно-синюю тонкую шерстяную кофточку без рукавов прямо на голое тело, как это теперь модно. И когда я все это надела, я посмотрела в зеркало и снова подумала, как приятно быть девочкой, потому что у мальчиков не бывает таких красивых, как у меня, косичек и таких темных и блестящих глаз, какие есть только у меня и еще у моей мамы и больше ни у кого на свете.
Мне позволили в это воскресенье поехать на прогулку за город с Витей и Витиным папой. У Витиного папы собственная «Волга» зеленого цвета, с негритенком, который висит на пружинке перед ветровым стеклом, и с дополнительной желтой фарой, которая, как сказал мне Витя, называется антиту- манной и светит в тумане.
Витин папа, Леонид Владимирович, сел за руль, Витя — рядом с ним, а я — на заднем сиденье. Витин папа совсем не похож на Витю. Правда, может быть, лицо его очень меняют очки в темной толстой оправе и борода. У него борода небольшая. И внизу ровно отрезанная, «лопатой». Если бы он сбрил бороду и снял очки, может, он был бы больше похож на собственного сына.
Мне очень хотелось спросить у Леонида Владимировича, почему он едет на прогулку, если он сам говорил, что он и
37
сотрудники лаборатории, днем и ночью работают над поисками катализаторов. Но я промолчала, потому что подумала, что такой вопрос был бы бестактностью. Может быть, он устал — взрослые быстро устают и нуждаются в отдыхе. А может быть, он, как я, даже по дороге, на прогулке, мечтает о своей работе.
Достаточно было мне представить себе, что у Витиного папы такие же мечты о работе, как у меня, и я уже покраснела и не могла бы посмотреть ему в глаза. Как это хорошо все-таки, что люди не могут читать мысли друг друга. Иначе жизнь стала бы совсем невозможной.
Но как бы на меня смотрели и Витин папа и Витя, если бы они узнали, что в ту самую минуту, когда мы отъехали от дома, я даже не замечала, куда мы едем, потому что представляла себе, как я в банку, где у нас мокнут полимерные пленки, капнула из пипетки одну капельку раствора обыкновенной соли. И вдруг пленки стянулись, укоротились в несколько раз. Мы в нетерпении вытаскиваем нашу искусственную мышцу, чтобы посмотреть, что с ней случилось. Сначала мы хотим ее растянуть, но она не поддается.
«Что бы это значило?» — говорит Витя и бросает пленки в банку со щелочью.
Пленки на глазах вытягиваются, увеличиваются, как живые.
Мы показываем нашу искусственную мышцу в лаборатории, где работает Витин папа.
«Это все Оля,— говорит Витя.— Это она придумала испытать как катализатор раствор соли».
«Не может быть!» — говорят научные сотрудники лаборатории, а Леонид Владимирович хватает себя за бороду, перехватывая ее пополам, так что нижний конец распускается, как павлиний хвост, и говорит:
«Это замечательно! Это удивительное открытие. Можно сказать, событие эпохи. Мы сейчас же проверим его в нашей лаборатории».
Но в лаборатории ничего не получается.
«Сколько вы насыпали соли?» — строго спрашивает Витин отец.
«Я не помню,— отвечаю ему я и сама пугаюсь.— Щепотку. Я ее перед тем не взвешивала».
38
«Как же это вы? — сердится Витин, папа.— А где ты брала соль?»
«В нашей солонке».
«Сейчас же доставить сюда эту солонку!» —командует Витин папа и сжимает рукой конец бороды так, что она становится узкой и острой, как кинжал.
Меня сажают в машину и везут за солонкой. Анализ соли показывает, что она поглотила некоторое количество серебра из солонки и эти молекулы соленого серебра сыграли свою роль при катализе.
«Это огромная удача, что наши дети сделали это замечательное открытие,— говорит Витин папа и гладит бороду так сильно, что она загибается за подбородок наподобие шарфика.— И уже совсем недалеко то время, когда в воздух взовьются бесшумные птицелеты...»
«А может быть,— подумала я,— Леонид Владимирович, который ведет сейчас машину и держит руль с такой силой, словно у него вырывают этот руль из рук, думает в эту минуту что- нибудь похожее на то, что думаю я, или даже то же самое. И это помогает ему переживать трудности и справляться с неудачами...»
Мы ехали по шоссе мимо новых улиц, на которых было, наверно, строящихся домов столько же, сколько уже построенных, и мимо огромного домостроительного комбината, на котором, как рассказывал мне папа, готовят теперь целые комнаты, а на месте их только составляют, как дети составляют домики из кубиков, и мимо озера с очень холодной и очень тяжелой водой, над которым со всех сторон тесно, почти вплотную друг к другу, стояли рыболовы.
Витя и его папа, очевидно, уже не первый раз ездили этой дорогой, они совсем не смотрели по сторонам и все время молчали, только раз Витя сказал: «Нужно сменить фильтр», а Леонид Владимирович в ответ кивнул головой.
И мне тоже стало неинтересно смотреть по, сторонам и захотелось, чтобы мы уж скорей куда-нибудь приехали. Мы подъехали к лесу, и Леонид Владимирович свернул с шоссе на песчаную лесную дорогу. Меня подбросило, машину затрясло. Витин папа остановил машину и коротко сказал: «Поменялись».
39
Он подвинулся вправо, а Витя перелеа через его колени и сел за руль. Витя сразу же перевел рычаг скоростей, и машина медленно тронулась. Я посмотрела на спидометр — стрелка показывала 30 километров. Но машину все равно очень бросало. И Витя, и Витин папа на меня ни разу даже не оглянулись. Но мне казалось, что оба они все время помнят, что я сижу сзади и что это они мне показывают, как хорошо Витя научился водить автомашину, хотя до шестнадцати или восемнадцати лет, я не помню, автомашину водить запрещают.
Так мы и ехали сначала по лесу, а потом побыстрее по лугу, а потом снова помедленнее по лесу, и я смотрела на золотые красивые листья берез, и на красные листья осин, и на темную хвою, и смотреть на все это мне было сейчас совсем неинтересно, хотя в другое время я бы очень радовалась, что побывала в осеннем лесу. Так прошел час, начался второй. Если бы это был мой папа и это была бы наша машина, то папа обязательно спросил бы: «Ну, а теперь, может быть, ты, Витя, хочешь немного поучиться править машиной?»
Или если бы это была я, то обязательно бы сказала: «Садись, Витя, рядом со мной. Тут в лесу можно ездить и втроем на переднем сиденье. Посмотришь, как я правлю машиной, а дотом и сам попробуешь».
Но ни Витин папа, ни Витя ничего подобного не говорили. Они все время молчали, а у меня настолько испортилось настроение, что я стала думать о том, что дело, может быть, не в Вите и его папе, что* может быть, просто, когда человеку принадлежит автомашина, он становится таким безразличным к людям, у которых ее нет.
И я уже жалела, что поехала на эту прогулку, что надела голубые брюки, на которые никто не обратил внимания, и синюю кофточку, и вплела в косички тонкие фиолетовые ленточки, которые почти незаметны, но, если присмотреться, придают особую прелесть волосам и всему.
Тем временем машина снова выехала на шоссе, но уже в другом месте, значительно дальше от города, чем там, где мы въехали в лес. Леонид Владимирович снова поменялся с Витей местами, и мы поехали домой.
Витя первый раз оглянулся на меня и спросил:
40
— Ну, видела, как я теперь вожу машину?
— Видела,*— сказала я.— Очень хорошо.
Я не стала говорить, что на такой скорости, с какой мы ехали, водить машину не фокус. Потому что, во-первых, понимала, что по той плохой дороге, по какой мы ехали, быстрее нельзя, а во-вторых, мне хотелось плакать.
Коща мы вернулись домой, Витин папа поставил сначала машину в гараж — у него гараж во дворе, это такая каменная будка с широкими дверьми,— а затем мы все вместе пошли к Вите. Я не хотела к нему идти, но Витин папа сказал, что нас ждет торт и если мы не съедим этот торт, а он ореховый и с цукатами, то прогулку нельзя считать завершенной, и я не устояла.
Витя, Сережа, Женька Иванов и я живем в одном доме и учимся в одной школе. Но у всех у нас квартиры в разных подъездах. У нас очень большой дом, и так как он был построен на месте трех старых, то он имеет три номера.
Витя живет на третьем этаже в семьдесят седьмой квартире. Мы вошли в лифт, и я заметила, как Витя оттолкнул руку своего отца и поспешил сам нажать на кнопку подъема. Все-таки в нем еще много детского.
Леонид Владимирович открыл двери своим ключом и остановился на пороге, а мы стали за ним.
В квартире громкими, нечеловеческими голосами кричали женщины. Ни одного слова нельзя было разобрать, и крик был какой-то странный, я бы сказала, какой-то пустой. Я не хочу никого обидеть, но мне думается, что так, должно быть, кричат сумасшедшие. Витин папа побледнел и поспешил в переднюю, а мы вслед за ним.
Витя живет в трехкомнатной квартире. Из передней две двери: одна в комнату налево, которая служит в Витиной семье столовой, а кроме того, там стоит телевизор и туда приходят гости. А другая дверь — в коридор, а там еще две комнаты, кухня, ванная и удобства.
Крики слышались из-за двери слева. Мы вошли в комнату и увидели, что за столом, на близком расстоянии друг против друга, сидят Витина бабушка и бабушка Женьки Иванова, обе красные, возбужденные, и кричат друг другу странные вещи.
41
В этот раз кричала Витина бабушка. Все слова она кричала медленно и каждое слово отдельно:
— А. Скажите. Мне. Пожалуйста. Завтракает. Ли. Ваш. Мальчик. Перед. Тем. Как. Идет. В. Школу.
А Женькина бабушка орала в ответ:
— Я ничего. Не понимаю. Какой завтрак? Я говорю не про питание. Я говорю про воспитание.
— Что случилось? — испуганно спросил Витин отец.
— Хорошо. Что. Вы. Пришли! — закричала Витина бабушка.— Простите. Но. Я. Хочу. Сказать. Несколько. Слов. Сыну! — закричала она, обращаясь к Женькиной бабушке, и вышла из комнаты, а вслед за ней вышел Леонид Владимирович.
Женькина бабушка осталась растерянная и грустная и смотрела на нас, как на незнакомых.
И я и Витя ничего не могли понять. Почему они так кричали? Витина бабушка, совершенно седая, стройная старушка, с красивым, ну просто с очень красивым лицом, разговаривала всегда как-то подчеркнуто, как-то особенно тихо. Я много раз обращала на это внимание; На это и еще на то, что Витя любит свою бабушку, но не очень ее слушается. В общем, относится к бабушке как к бабушке. Но Витин папа ее просто боится.
Я слышала однажды, как она спросила у него обыкновенную вещь — купил ли он какого-то сыра, который она велела ему купить, а он покраснел и растерялся и стал длинно оправдываться и говорить, что сыра этого не было в магазине, но что он звонил по телефону товарищу в Москву и тот обещал выслать этот сыр посылкой.
Ну, а бабушка Женьки Иванова вообще маленькая, тихая старушка, которая балует Женьку, говорит в нашем присутствии, что его тиранят родители, что совсем непедагогично, и учит Женьку немецкому языку.
Совершенно непонятно, почему они так кричали друг на друга.
Тем временем вернулся Витин отец и с очень удрученным видом сказал Женькиной бабушке, что Александра Леонидовна просит ее извинить, так как она себя плохо чувствует. Жень-
42
кипа бабушка закивала головой; «Пожалуйста, пожалуйста» — и ушла.
Лёоцид Владимирович с очень странным выражением лица, по которому нельзя было понять — то ли он хочет заплакать, то ли рассмеяться, спросил у нас:
— Так каким это сигналом вы созываете своих братьев-раз- бойников?
У нас действительно есть свой сигнал. Мы свистим особым образом. Кроме нас, так никто в школе не умеет. Чтобы научиться так свистеть, нужно много тренироваться, хотя на первый взгляд свистеть так совсем несложно. Нужно сложить руки ковшиком настолько плотно, что если бы набрать воды, она не вылилась бы из рук, и подуть в щель, которая остается между пальцами. Тогда и получается особый звук — громкий, гудящий, словно ветер дует в пустую бутылку.
— Ну-ка погуди,— сказал папа Вите.
Витя взобрался на подоконник и погудел в форточку. Сигнал произвел магическое действие. Вскоре в дверь зазвонили, и появились запыхавшиеся Сережа и Женька. Когда они увидели Витиного папу, рни переглянулись и были уже совсем готовы задать стрекача, но Витин папа взял их за руки и повел в комнату.
— Вот что,— сказал он,—сегодня я в первый раз в жизни пожалел, что у нас не секут детей. Прежде всего давайте договоримся, что вы никому не расскажете об этой истории. Чтоб Александра Леонидовна не догадалась... А вцрочем, — добавил он с сомнением,— может, она первая будет смеяться?.. Но сначала все-таки скажите, как и зачем вы это сделали?
Сережа скромно молчал, а из очень сбивчивого Женькиного рассказа стало понятно, что Женькина бабушка решила встретиться с Витиной бабушкой, чтобы та помогла ей повлиять на Женькиных тиранов-родителей, которые не выпускают Женьку во двор, в то время как Женькина бабушка, считает положительным влияние старших ребят на Женьку.
И тут Женька, понятно не без участия Сережи, сказал своей бабушке, что Витина бабушка плохо слышит и поэтому с ней нужно очень громко разговаривать, а затем эти типы отправились к Витиной бабушке и предупредили ее о том, что к ней
43
собирается Женькина бабушка, но что она рчень плохо слышит и разговаривать с ней следует погромче.
Так непонятный крик бабушек нашел наконец свое материалистическое объяснение, а Витя и я от этого объяснения, да еще вспомнив, что именно кричали бабушки, чуть не лопнули. К тому же на лицах Женьки и Сережи было написано глубокое раскаяние, а в глазах светилась искренняя зависть к нам, которые присутствовали при этой сцене.
Витин папа как-то очень спокойно посмотрел на нас и тихо спросил:
— Вы слышали, что в тридцать седьмом году была война в Испании? Так вот, Александра Леонидовна там воевала, организовывала радиосвязь. Она большой специалист в этой области. А затем она воевала на финском фронте, а затем во время Отечественной войны организовывала связь с Большой землей для наших разведчиков и партизан и попала в один из самых страшных немецких лагерей, в Равенсбрук. Она — инженер- полковник и награждена двумя орденами Красного Знамени, и двумя Отечественной войны, и двумя Красной Звезды, и многими медалями.
Мы молчали.
— Ладно, идите,— сказал Витин папа устало. Но вдруг улыбнулся, озадаченно потянул себя за бороду и спросил: — Но как вы все-таки решились на такое?..
ГЛАВА ШЕСТАЯ
«Три мушкетера» мне нравится. Хорошая книжка. Но «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон», по-моему, просто скучно читать. Я пробовала и не смогла прочесть до конца. Но Витя читал все эти книжки по многу раз и знает их почти на память. Вообще достаточно, чтобы в книге кто-нибудь дрался на шпагах, и Витю от нее уже не оторвешь. Это у него профессиональное. Папа как-то говорил, что парикмахеры ищут в газете статьи о парикмахерах, сапожники — о сапожниках, а писатели — о писателях. Так, очевидно, и Витя.
Витя уже третий год два раза в неделю ходит в школу фех¬
44
тования при Дворце спорта. Я однажды побывала на соревнованиях, в которых Витя принимал участие. Мне эти сражения на рапирах не понравились, хотя Витя и вышел победителем. Во-первых, не видно лиц — сражаются два манекена в сетчатых масках. К тому же они как собаки на поводке — за ними тянется электрический шнур, и как только один притронется к другому рапирой, у судьи загорается лампочка. А во-вторых, это какой-то несовременный вид спорта. Ну кому сейчас придет в голову защищать себя при помощи шпаги! Нет, уж если бы я занималась спортом, то я изучала бы бокс или еще лучше — самбо. Чтобы уметь постоять за себя в любых обстоятельствах.
Но сегодня я переменила свое мнение о фехтовании.
Все или почти все наши неприятности бывают у нас, как правило, из-за Сережи. Из-за Сережиной привычки устраивать всякие шуточки. Недавно Сережа сказал нам, что у него есть какой-то неродной дядя, а у этого неродного дяди есть какая-то знакомая, а уже у этой знакомой есть то ли бабушка, то ли внучка, которая замужем за каким-то дядей, у которого есть металлический натрий. И что натрий этот обещан Сереже, если он предъявит в дневнике не меньше трех пятерок. А так как он предъявил четыре пятерки, причем одну из них по поведению, то скоро у нас будет столько натрия, что мы его сможем мазать на хлеб вместо масла.
Вначале мы решили, что это обычный Сережкин треп, но вчера он заявил, что идет за натрием и чтоб мы его ждали. Вернулся он без натрия и без всяких других приобретений, если не считать приобретением синяк на правой скуле и куртку, измазанную грязью и кровью.
Сережа рассказал, что получил натрий в небольшой аптекарской бутылочке с притертой пробкой, под слоем керосина, потому что на воздухе натрий разлагается. Натрия в ней было немного, «но все равно жалко».
Когда Сережа возвращался с натрием, начался дождь. Сережа остановился под навесом огромного, такого же, как наш, соседнего дома. Это, вернее, не навес, а такой бетонный козырек, который огибает весь дом. Недалеко от Сережи стояли ребята, которые там живут. Я их знаю — это большие ребята, восьмиклассники, а один, кажется, уже даже в техникуме. Один
45
из них, Петька — мы его знаем, он драчун и задира,— сначала вытолкнул Сережу под дождь, а потом стал его щелкать по голове. Сережа отошел в сторонку, незаметно вытащил из флакона кусочек металлического натрия и бросил этот кусочек под ноги Петьке. Когда перед Петькой затрещал и покатился огненный шарик, он с перепугу закричал: «Шаровая молния!» Но другие ребята заметили, как Сережа что-то бросил. Они схватили Сережу. И Петька отобрал у него флакон с натрием.
— Ничего,— сказал Витя.— Петька еще пожалеет об этом. Пойдем в ихний двор. Пойдешь с нами? — спросил он у меня.— Не бойся. Девочку они не будут трогать.
Хотя я точно знала, что в этом случае никто не будет считаться с моим полом, я сказала, что пойду.
На следующий день после школы мы отправились во двор, где живут эти ребята. Там такая детская площадка с песком в ящиках, с деревянной горкой, и огорожена она забором. Утром там играют дети из детского сада, а вечером собирается Петькина компания. Они там курят и некрасиво ругаются. Я сама слышала.
Я заметила, когда мы пошли, что в руках у Вити тонкая тросточка с выжженными на ней рисунками и надписью: «Привет из Кисловодска».
— Почему ты ходишь с палочкой? — спросила я у Вити.
Он ответил, но каким-то неуверенным тоном, что подвернул
ногу. Я считаю, что мальчишкам и вообще всем людям нужно давать путь для отступления. Поэтому я сказала:
— Так, может, не стоит ходить?
Но Витя ответил:
— Нет, нет, пойдем. Это не имеет никакого значения.
Наша походная колонна выглядела довольно интересно:
впереди шел Витя, чуть прихрамывая и опираясь на палочку, за ним немного слева — я, шагов за пять за ним — Сережа, а уже совсем сзади — Женька Иванов.
Мы вошли во двор и направились к детской площадке. Там сидел на детской качалке этот Петька, против него сидел длинный и худой мальчик, которого я не знала, а еще два мальчика из Петькиной компании играли между собой в футбол маленьким желтым мячиком.
«Четыре на четыре»,— подумала я, хотя не была уверена, что мы вчетвером справились бы с одним Петькой.
— Подождите меня тут,— сказал Витя и пошел за забор, а мы остались снаружи.
— Отдай натрий,— сказал Витя и оглянулся на нас,— а то плохо будет...
— Кто это тут вякает? — сказал в ответ Петька.— А ну, брысь отсюда!
Он наклонился, зачерпнул в горсть песок и швырнул его в лицо Вите. Витя от неожиданности прикрыл лицо рукой, и тогда Петька выпрыгнул из своей качалки и стукнул Витю кулаком в грудь, да так, что Витя сел на землю.
47
Сережа бросился к воротам, но тут Витя вскочил на ноги... И произошло самое настоящее чудо. Такого я не видела даже в кино.
Тоненькая тросточка, которую Витя держал в руке, замелькала в воздухе так, словно у Вити было сто рук и сто тросточек. Петька отскочил от Вити, а те мальчики, которые играли в футбол, бросились Петьке на помощь. Но Витя ткнул одного тросточкой в живот, а другого тоже в живот и в плечо и снова принялся за Петьку ж за того второго, который сидел на качалке и не успел встать. И тогда Петька с криком «Я тебе покажу!.. Я сейчас милицию позову!..» бросился наутек, а затем через забор стали перепрыгивать и убегать остальные ребята.
Витя остался на площадке один. Бледный и веселый, он сказал нам:
— Боюсь, что все-таки пропал наш натрий.
Сережа, который даже приплясывал от удовольствия, ответил, что за такое зрелище не жалко натрия.
Мы пошли назад. Теперь мы шли тесной группой, и Женька Иванов то забегал вперед, то пристраивался сбоку возле Вити, который, чуть прихрамывая, чуть опираясь на свою тросточку — я уверена, что прихрамывал он нарочно,— всем, своим видом подчеркивал, что ничего особенного не произошло, что сам он не видит никакого героизма в том, что победил четырех мальчишек, каждый из которых сильнее его.
Странное дело — девчонки из нашего класса много говорят о любви, а Таня Нечаева и Вера Гимельфарб уже даже целовались с мальчишками. И когда Таня Нечаева после уроков в пустом классе целовалась с Борькой Сафроновым из 8 «Б», это увидела уборщица и позвала завуча, и был страшный скандал, а потом наша русачка Елизавета Карловна — она у нас руководитель класса — провела с нами беседу на тему «Половое воспитание» и сказала, что Чехов писал, что нельзя целоваться без любви, или йет, не Чехов, а Николай Островский. А Чехов писал, что в человеке все должно быть красиво, хотя, цо-моему, это неправильно, потому что если у Веры Гимельфарб кривые ноги, так что же ей, не жить на свете? Или оперировать их?..
Но дело не в этом. В общем, Елизавета Карловна говорила,
48
что мы должны иметь девичью гордость, а мальчики должны иметь мужскую гордость, но когда мы спросили ее, что же все- таки такое любовь, она так и не смогла толком ответить, а опять говорила про Чехова, Николая Островского и Пушкина, про «Я помню чудное мгновенье...», про «Я вас любил: любовь еще, быть может» и про другие стихи.
Но вот на днях какая-то тетя читала по радио лекцию и сказала, что любовь— это прежде всего «эффект присутствия», то есть человека, которого любишь, все время хочется видеть, хочется, чтобы он присутствовал. Если так смотреть, то выйдет, что я очень люблю и Витю, и Сережу, и Женьку Иванова, потому что я постоянно хочу их присутствия и мы постоянно вместе.
Однако с мальчишками я никогда в жизни не стану целоваться. Я вообще не люблю целоваться, мне это не нравится, и никакой особенной любви, про которую пишут в книгах, ни к Вите, ни к Сереже, ни тем более к Женьке Иванову я никогда не ощущала. И все-таки сегодня, когда мы с видом победителей возвращались к себе со двора чужого дома и не хватало только оркестра и торжественного марша, я вдруг подумала, что мне неприятно, что Витя в последнее время часто разговаривает с Леной Костиной. И о чем они могут говорить?
Лена — круглая отличница, лучшая ученица в нашем классе. И, кроме того, она самая красивая девочка, может быть, не только в классе, но и во всей школе. У нее лицо как на иконах, и черная коса, и темные глаза, очень большие, честное же слово, каждый глаз у нее, как рот, и длинные, загнутые кверху ресницы, как у женщин на мыльных обертках.
Но она не интересуется ни химией, ни историей, и когда с ней разговариваешь, так уже через пять минут на тебя нападает страшная тоска. Разговаривать с ней еще скучнее, чем с Елизаветой Карловной. Так о чем же с ней говорит Витя?
И когда я думала обо всем этом, я представила себе лицо этой Лены, и то, что она отличница, и то, что Витя один справился с целой компанией сильных мальчишек, и что он разговаривает с Леной, и что у его отца есть автомашина «Волга», и то, что он умеет водить автомашину, что я некрасивая, и это я выдумала, что у меня какие-то особенные глаза,— глаза у меня самые обыкновенные...
3 Библиотека пионера, т. 12
49
И мне стало так грустно, так захотелось плакать, что я буркнула: «Я уже иду» — и убежала доадой. Дома я сняла только пальто и туфли и прямо одетая легла на постель. Я немного поплакала, а потом написала стихи:
Сюда частенько приходят выпить,
Консервные банки лежат на дне.
Течет ручей грязноватый — Лыбедь,
А раньше был он таким, как Днепр.
Каким же тогда был Днепр?
Ревут бульдозеры громче танков,
Ровняют пласты земли.
В серой воде, словно падший ангел,
Желтый кленовый лист.
Он светел и золотист.
Я не знаю, почему я написала такие стихи, но я подумала, что это стихи о любви. В них ничего такого нет, но, может быть, так и пишут стихи о любви?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Мой папа работает в газете. Он называет себя литрабом. Это сокращенно, а в действительности его должность называется литературный работник.
Вообще на всякой работе, очевидно, бывает много своих особенных слов. Даже у нас в школе много таких слов, которых другие люди не знают. Вот, например, у нас ругаются словом «кануздра», а никто не знает, что это такое. Я смотрела в словаре у папы — там такого слова нет. И ребята из других школ не знают, что так можно ругаться. Но мы-то все, начиная от первоклассников, знаем, что кануздра — это вроде свинья, или сволочь, или еще что-нибудь похуже.
Но особенно много своих слов бывает в редакции. Вот, например, в редакции есть должность «свежая голова». Это человек, который дежурит в типографии, и уже ночью, самым цоследним, «на свежую голову» читает газету, чтобы не пропустить какую-нибудь ошибку.
Когда папа дежурит «свежей головой», он возвращается домой очень поздно, среди ночи. Но, зато на следующий день он
50
свободен, и поэтому я очень люблю, когда он «свежая голова». Жалко только, что это редко бывает — два раза, а то и раз в месяц.
В такой день, как только я прихожу из школы, мы с ним быстро едим вдвоем — мама еще на работе,— а потом отправляемся гулять. Программу прогулки мы составляем за день, а то и за два дня до его дежурства. Мы дойго обсуждаем эту программу, а потом папа печатает ее на машинке, и мы ее вешаем на стенку.
На завтра у нас такая программа:
1. Обед в ресторане «Динамо». В меню холодный язык под хреном, судак, зажаренный в тесте, по двести граммов мороженого, а супа не брать, если нам его даже предложат бесплатно.
2. Поездка на метро на станцию «Днепр». Испить «шеломами» воды из Днепра. Взять с собой «шеломы» и плащи на случай дождя.
3. Посещение зоологического музея университета и осмотр там коллекций бабочек, а также скелета динозавра.
Гулять с моим папой очень здорово, и мы часто ходим с ним всей нашей компанией. Вот, например, мы побывали с ним в Софии, и он так рассказывал нам о князе Ярославе Мудром, который построил эту Софию, не сам, понятно, построил, но под его руководством, о Киеве того времени, что мы все слушали его с раскрытыми ртами, и я им просто гордилась:
Но в нем много мальчишеского, и иногда он хулиганит, как школьник. В прошлый раз я была очень недовольна этим я даже боялась, что нас арестуют.
Сережа, Витя, Женька Иванов и я пошли с ним в Ботанический сад. Сначала мы пошли за экскурсоводом с группой экскурсантов. Но экскурсовод рассказывал очень скучно, и мы отстали от него, съели по порции мороженого и выпили из автомата по стакану воды с сиропом, а потом папа сказал, что он сам будет нашим экскурсоводом. И он начал останавливаться перед первыми попавшимися деревьями, например перёд обыкновенным кленом, и объяснять, что это дерево по-латыни называется «га!удеамус игитур», хотя я-то знаю, что это Первые слова студенческой песни, которую папа часто поет, и обознача¬
51
ют они «радуйтесь, молодые». Затем он сказал, что из листьев этого дерева племя пигмеев мумбо-юмбо готовит опьяняющий напиток под названием «водька», что кора используется для изготовления ценных украшений для женщин, а из древесины готовят противотанковые снаряды и стулья для заместителей министров, настолько она прочна и тяжела. А вокруг нас стали собираться люди, и я увидела, что их становится все больше и больше, и почувствовала, что это может плохо кончиться.
Но особенно я испугалась, когда перед обыкновенной акацией, подражая скучному голосу экскурсовода, папа стал говорить, что это дерево анчар, о котором Пушкин написал свое знаменитое стихотворение:
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопись от зною,
И застывает ввечеру Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит И тигр нейдет— лишь вихорь черный На древо смерти набежит И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит Стекает дождь в песок горючий.
Какая-то женщина, из тех, которые всегда и всюду требуют жалобную книгу, стала кричать, что это безобразие, почему дерево не огородили и не сделали надписи.
Но папа ответил, что хорошее влияние нашей почвы перевоспитало дерево,; и оно теперь больше не ядовито, а используется в воспитательных целях, как декоративное растение. А уже после этого папа сказал, что он совсем не экскурсовод и что он просто в частном порядке делится своими небольшими знаниями в области ботаники со своими многочисленными детьми.
— А почему вы выдаете себя за экскурсовода?
— Это я нечаянно,— ответил папа, и я потащила его за рукав, и мы бы благополучно ушли, если бы не любовь Сережи ко всяким глупым шуточкам.
52
Сережа где-то достал баллончики со сжатым газом и пристроил в камеру от мяча приспособление, чтобы пробивать крышечку такого баллончика у себя под рубашкой.
Когда эта тетя стала кричать на папу, Сережа незаметно сдавил рукой свое приспособление и вдруг на глазах у присутствующих стал пухнуть — у него вздулся огромный, как шар, живот.
Он стоял прямо против этой тетки, а она смотрела, как он раздувается, и вдруг стала кричать:
— Мальчик лопается! Мальчик лопается!
А потом, когда увидела, что Женька Иванов — они с Сережей заранее прорепетировали этот номер — выставил вперед над головой пальцы, как рожки, и бросился, наклонясь, на Сережин живот, чтобы боднуть его, тетка закричала: «Ой, они все тут сумасшедшие!» — и бросилась наутек. А я схватила папу и Женьку за руки и потащила их в другую сторону. Мы забрались в пустую аллею и так там хохотали, что нас действительно можно было принять за сумасшедших.
Конечно, у папы бывают и обыкновенные выходные дни, как у всех людей, но это совсем не то, что после дежурства «свежей головой». Не бывает таких приключений, таких неожиданностей.
Сегодня папа дежурит. А с мамой происходит что-то странное. Взрослые очень ненаблюдательны. Они слишком заняты собой, а кроме того, они очень часто относятся к детям, как к полоумным. Мне не раз случалось слышать, как взрослые при детях разговаривают друг с другом намеками, а детям все понятно. Или говорят то, чего не следовало говорить, и вдруг спохватываются: «Ах, здесь ребенок!» А ребенок никогда не станет говорить или делать при взрослых то, чего не следует, никогда не забудет о присутствии взрослого. И всегда заметит в поведении взрослого какую-нибудь странность. Да и можно ли считать ребенком девочку или мальчика тринадцати лет, о которых взрослые постоянно твердят: «Вот мы в вашем возрасте...»
Сегодня вечером мама надушилась немецкими духами с унизительным названием «Последний шанс». Это какие-то очень дорогие духи, душится мама ими редко, а пахнут они, несмотря
53
на название, в самом деле очень приятно. Надела она и новые, ни разу не надеванные чулки, и светлые туфли, о которых она сама говорила, что они ей жмут и что она их никогда и ни за что не наденет. Кроме того, она надела сначала темно-синий шерстяной вязаный костюм — он называется джерси, потом сменила его на новое зеленое шерстяное платье, а потом снова надела костюм.
Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять, что мама готовится к чему-то важному. А когда она спросила у меня, почему я не пойду погулять, мне стало ясно, что к нам должен прийти какой-то человек, что мама этим взволнована и что она не хочет, чтобы я с ним встретилась. Кто бы это мог быть?
У меня мелькнула мысль сказать, что у меня болит голова и что я поэтому не хочу гулять, но я представила себе, как заволнуется мама, которая очень не любит, когда я болею, и поставит мне термометр и заставит принять аспирин и лечь в постель, и спросила, когда мне вернуться.
— В девять. Ровно в девять,— сказала мама.— Только,— решила она вдруг,— переоденься. Надень серую юбку й красный пуловер, который я купила тебе в Ленинграде.
Я поняла, что мне предстоит встретиться с человеком или с людьми, которые придут к маме, и переоделась.
Во дворе я никого не застала, никого не нашла и на улице. И я решила просто немножко побродить. Очень приятно ходить по осеннему Киеву. У нас в самом деле город-сад. И какой-то поэт правильно написал:
В синеве каштаны, липы, клены,
Лист каймой очерчен золотой.
Киев, Киев, город наш зеленый,
Тронутый осенней красотой...
А кроме того, я люблю рассматривать витрины магазинов, особенно когда там выставлены часы, бинокли, фотоаппараты. И еще транзисторы. Вообще-то мне не очень нравится, когда идет по улице человек и у него из брюха раздаемся музыка, потому что на брюхе транзистор, или когда включают Транзисторы в троллейбусах или в парках. Но мне самой о^Еень бы хо¬
54
телось иметь транзисторный приемник. С таким крошечным наушником, как это теперь делают. Чтобы слушать его одной и никому не мешать.
Я шла от магазина к магазину, и возле центрального гастронома со мной было неприятное происшествие. Я посмотрела на витрину и отвернулась, чтобы идти дальше, как вдруг увидела, что из дверей магазина вышел и идет прямо на меня тот старик, который забрал мой фотоаппарат.
Витя был прав. На этот раз плащ на нем был расстегнут, и я увидела, что под плащом нет даже рубашки, только на груди свалявшиеся седыо волосы^ Мне показалось, что старик этот меня узнал, и я очень испугалась.
С ужасом я подумала, как плохо все-таки, что милиция допускает, чтобы по городу ходили такие отвратительные старики, и я как-то замерла и вся сжалась и не могла даже сдвинуться с места. Но он, наверное, даже не видел меня. Он прошел мимо, совсем рядом. От него плохо запахло, и он бормотал ругательства. И вдруг он обернулся, сказал: «Здоров, сынок» — и сел прямо на асфальт возле фонаря, а затем лег.
Асфальт был очень холодным. Я понимала, что старика этого нужно поднять, но боялась. Потом я подумала, что, может быть, он умер, и испугалась еще больше. И я стала говорить прохожим: «Человек упал. Надо позвать «скорую помощь». Возле меня остановилась еще какая-то женщина в ватнике и с кошелкой, й мне уже не было так страшно. Два прохожих — один постарше, в шляпе и с тростью, а другой помоложе, с портфелем,— стали поднимать этого старика, но он был жив, потому что он начал плохо ругаться и кричать, что он никуда не пойдет. Они его все-таки подняли на ноги, но он снова повалился на тротуар. Тут подошел милиционер и сказал, что отвезет этого старика домой.
— Я не пойду в вытрезвитель! — стал кричать неожиданно пришедший в сознание старик, но милиционер помог ему встать, стдл его уговаривать и остановил проезжавшую машину.
Старик сопротивлялся, но милиционер его все-таки посадил в машину и сел рядом с ним, а я пошла домой.
И странные, горькие мысли были у меня в голове. Ведь этот старик, этот пьяница, который настолько утратил человеческие
черты, что запугивал меня и забрал мой фотоаппарат, и валяется на улице, на холодном асфальте, этот человек был когда-то мальчиком, школьником, таким, как Витя или Сережа, и тоже слушал на уроке про Лермонтова или Николая Островского. И учил на память стихи Пушкина, и читал «Как закалялась сталь». Но если человек знает стихи Пушкина и читал «Как закалялась сталь», он ведь не может после этого забрать чужую вещь, пьянствовать, ругаться и валяться на асфальте. Неужели нет таких книг и стихов, прочитав которые человек понял бы, как все это плохо, и навсегда отказался от этого?
И неужели Витя, или Сережа, или Женька Иванов могут когда-нибудь стать такими, как этот старик? Не может этого быть. Потому что тогда бы не стоило ни жить, ни учиться, ни работать.
Я вернулась домой в очень плохом настроении. Мама спросила, приготовила ли я на завтра уроки, и я ответила, что приготовила, хотя я не сделала домашнего задания по физике. Но мне не хотелось готовить сейчас домашнее задание, и я решила, что спишу его завтра в школе у Сережи.
Как только я вошла в комнату, я сразу поняла, что человек, которого ждала мама, не пришел: на столе в стеклянной вазе остались яблоки, груши и виноград, так же красиво уложенные, как перед моим уходом,— мама очень красиво умеет складывать фрукты, ни в одной витрине они не лежат так естественно и небрежно.
Мама читала книжку, которую я уже давно прочла — «Копсуэло»,— и прислушивалась к двери, а я взяла старый номер журнала «Юность», и мы обе сидели и читали. В половине десятого мама сняла свой шерстяной костюм и надела домашнее платье из черного вельвета. Есть у нее такое платье, оно длинное и немодное, но маме в нем лучше всего, она в нем похожа на герцогиню.
— Ну, иди умойся и ложись спать,— сказала мама.— Почисть как следует зубы.
Я, как всегда перед сном, умылась под тепленьким душем и почистила зубы и пошла спать с тяжелым, гнетущим чувством, которое, как я понимаю, может толкнуть человека на самый неожиданный поступок — даже на пьянство, даже пре-
Г)6
дательство, с чувством, что все в этом мире бессмысленно и бессвязно.
Мне приснились странные стихи:
Дождь с отчаяньем бьет кулаками в окно —
Так бывает весной.
Люди тихо встают, друг на друга глядят И уходят под грохот дождя...
Мне часто снятся стихи, но я их обычно не запоминаю, а сегодня запомнила, потому что проснулась от звонка в дверь.
Я подумала, что уже утро, но не открыла глаза, а стала повторять про себя приснившиеся мне стихи, пока не выучила.
Я услышала в передней мужской голос:
— Извини, что так поздно. Не смог раньше выбраться...
И мама в ответ:
— Ничего, я думала, что ты уже не придешь. И оделась по-домашнему. Пойдем в комнату. Только разговаривать нам придется тихонько: Оля спит.
— Так рано? — спросил уже в комнате грубым шепотом мужской голос.
— Половина одиннадцатого. Она в первой смене.
— В шестом классе?
— Нет, в седьмом. Садись, пожалуйста.
— А где твой муж?
— Он сегодня дежурит. В редакции.
— Жалко. Значит, я с ним не встречусь. Завтра я улетаю. А хотелось бы с ним цознакомиться. Посмотреть, на кого ты меня променяла.
— Ты до сих пор летаешь? — спросила мама.
Они оба перешли с шепота на обычный разговор.
— Нет. Теперь я пассажиром.
Я лежала, закрыв глаза и зажав сложенные ладони между коленок, как во сне, и не знала, снится ли мне этот разговор или он происходит на самом деле. Но когда мужской голос сказал: «И так далее, и так далее», я поняла, что приехал мой отец. У меня нет к нему никаких родственных чувств, и папой я называю Николая Ивановича, которого очень люблю и который для меня очень хороший папа, но все-таки мне было инте-
57
ресио, какой он, мой отец, похож ли он на меня, почему он нас оставил.
— Семья у тебя есть? — спросила мама.
— Да. Жена. Двое детей. Сыновья.
— Зачем ты приехал?
— Я тут в командировке. Ну, и хотел повидать тебя. И дочку. У нее моя фамилия?
— Нет. Она — Алексеева.
— Что вы ей сказали обо мне?
— Что ты погиб. В авиакатастрофе.
— Это плохо, Лена,— серьезно и спокойно сказал мой отец. — Это очень плохо. Сначала ты обманула меня. Затем ты обманула девочку.
— Я не могла ей сказать. Пусть сначала подрастет.
— Сказать дочке, что ее отец, который перед тобой ни в чем не виноват и от которого ты ушла к другому, погиб,— это зна- чйт пожелать ему этого. Но я не суеверен... Как относится к Оле твой муж?
— Хорошо относится. Он не только мой муж, но и ее отец. На протяжении десяти лет. А ей — тринадцать.
Значит, меня обманывали. Для моей же пользы. Детей бьют для их же пользы. Чтобы они были хорошими и, когда станут взрослыми, правильно воспитывали и не били собственных детей. Детей обманывают для их же пользы. Чтобы, когда они вырастут и станут взрослыми, они хорошо знали, что обманывать нельзя.
И горько мне было думать, что это не мой отец, которого я! и не знаю, оставил нас с мамой, а мама со мной оставила его и что мой папа не был таким человеком, какой, как я себе представляла, в трудную минуту помог нам, поддержал нас, сказал, что не допустит, чтобы моя мама осталась без мужа, а я без отца, а был тем самым человеком, из-за которого моя мама ушла от моего отца... Я много раз читала о таком в книгах, но никогда не думала, что столкнусь с этим сама.
Конечно, правильнее всего было бы сейчас подняться, надеть платье, выйти из-за занавески, которая отгораживает меня от этих людей, и сказать им: «Я все слышала. Я не спала. Я еще прежде об этом догадывалась. Меня обманывала мама.
58
Меня обманывал папа. Но ведь и вы, родной мой отец, меня обманывали, если столько лет молчали. Значит, я вам совершенно не нужна...»
Но я понимала, что этого нельзя сделать, что я тоже втянута в эту странную игру, которая больше всего напоминала мне нелепое развлечение, какому предавались мы в детском саду: одна из девочек читала стишок, а другие ей отвечали. Стишок был такой:
Барыня прислала сто рублей:
Что хотите, то купите,
«Да» и «нет» не говорите,
Белого и черного не покупайте...
«И так далее, и так далее», как говорит мой отец. Точно так и в человеческой жизни — кажется, что можешь делать все, что хочешь, а оглянешься, и выяснится, что и того нельзя, и этого не следует.
А они тем временем разговаривали, как совершенно чужие люди, о каких-то давних общих знакомых, о том, как я учусь, и мама сказала, что на «отлично», как будто что-то изменилось бы, если б она сказала правду. А он говорил, что у его мальчиков тройки. И я уже не знала, так ли это, а может быть, они отличники и он говорит это для того, чтобы маме было приятно, что у нее дочка — отличница, а у него мальчики — троечники.
Я им просто не верю. Все, что они говорят, нужно принимать с большой поправкой, со скидкой. И я подумала, что если бы люди так поступали не в духовной, а в материальной области, то продавцы в магазинах взвешивали бы товары не на весах, а просто на ладони, деньги бы за это платили в крепко запечатанных и плотно завязанных пакетах, а на книгах бы заклеивали названия и авторов...
И под эти разговоры о том, где и кто был в отпуске, и какая температура в июне в Новосибирске, где живет теперь мой бывший отец, и о том, какие полы лучше — паркетные или покрытые штстмассовой плиткой, я заснула.
Утром я проснулась первой — папа поздно встает после дежурства. Я пошла на кухню с чувством, что в комнате было
59
что-то странное. И вдруг сообразила: на блюде лежали все яблоки, груши и виноград так, как их с вечера уложила мама. Их никто не тронул. Им было не до этого.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Я все это видела. Своими глазами! Я ничего не придумала. Сначала это был дом с белыми колоннами у входа, со стеной, увитой плющом или диким виноградом, а слева рос один кипарис или тополь — издали нельзя было разобрать. Затем дом повернулся как бы боковой стеной, и за ним открылась широкая аллея, обсаженная деревьями и кустарниками, а справа от аллеи — канава. По аллее поехала старинная карета, а она ехала от меня, и мне была видна только ее задняя часть. Но вот карета повернула вправо, начала вытягиваться и превратилась в автомашину — длинную, черную, лакированную, похожую на «Чайку», только длиннее. Затем появился деревенский колодец с журавлем, а мимо него прошли две коровы.
Я подвинула голову, и все исчезло. А потом, когда я попробовала найти точку, с которой все это было видно, наш физик Борис Борисович сказал:
— Алексеева, тебе следует проветриться. Выйди из класса, походи по коридору и вернись. Может быть, после этого наука не будет тебя так усыплять.
В классе засмеялись, хотя в том, что сказал наш учитель физики, по-моему, не было ничего смешного. Хорошо было бы, конечно, в самом деле выйти из класса, но физик говорил это не для того, чтобы я вышла, а для того, чтобы я подняла голову с парты. И.я действительно села ровно.
Конечно, мне следовало бы после урока на переменке спросить у Бориса Борисовича, что же такое со мной сейчас происходит. Но он мне поставил двойку и вопрос мой мог принять за насмешку. А случай был и в самом деле странный.
Я не плакса. Но сегодня, когда физик мне поставил двойку за то, что я не сделала домашнего задания — у меня было такое настроение, что я просто забыла списать» его у Сережи,— я почувствовала, что у меня закапали слезы. Тогда я йаклонилась
60
над партой и положила голову на руку. Нечаянно я посмотрела на мокрое выпуклое пятнышко, которое получилось на черном лаке парты, куда капнула слеза, и вдруг увидела, как это пятнышко стало меняться, словно маленький цветной экран. При этом картинки, которые я увидела, получались не по моему желанию и сменяли одна другую без моего участия, как в кино. Я думаю, что это явление имеет физическое объяснение, что я невольно двигала глазом, и при этом световое пятнышко в капельке соленой воды на черном фоне создавало какое-то подобие разных картин, а я уже воображала их дальше. Люди в рисунке обоев или в облаках видят то людей, то животных, то танцовщиц, то самолеты.
Прежде я никогда не плакала, если получала двойку. Чаще всего я получала двойки за сочинения. И не за ошибки — я пишу грамотно и за диктовки у меня всегда пятерки,— а за содержание. У меня всегда плохое содержание в сочинениях. Я не умею их писать и пересказываю то, что прочла в книге, а когда я попробовала придумать по-своему, то получилась вообще какая-то глупость, и русачка сказала, что мое сочинение написано по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядько».
Но я понимаю, что двойки ни для одного человека не проходят бесследно. Они унижают человеческое достоинство. И я тоже плакала, не потому, что получила двойку по физике, а потому, что не сделала урока и забыла переписать его у Сережи и что жизнь у меня складывается так плохо и так неудачно.
Мне очень многое нужно было обдумать. Жалко все-таки, что у человека нет крыльев. Я бы встала сейчас на подоконник, взмахнула большими темно-синими полупрозрачными крыльями и медленно летела бы по осеннему небу. Навстречу мне дул бы ветер, у меня бы слезились глаза, и я бы плотно закрыла рот, и мне бы совсем иначе, совсем по-другому думалось... И я бы тогда придумала что-то очень умное и правильное о том, как я должна жить и как должна относиться к своей маме, и к своему папе, и к своему родному отцу, которого я не знаю и не люблю и который не знает и не любит меня.
Я не уверена, что такое сравнение подходит, но когда я училась во втором классе, меня послали в детский санаторий в Святошино — это под Киевом,— и я там пробыла целых два
,61
месяца. И когда я вернулась домой, мне наша комната показалась очень маленькой, такой маленькой, как коробочка. Я сказала об этом пало и маме, и они очень смеялись. Там у нас в санатории были большие палаты, в которых мы спали, и большие залы и веранды, где мы играли. Мой родной отец тоже оказался совсем не таким великаном, как я это воображала, а человеком обыкновенного роста, может быть, только чуточку выше папы, с очень полным красным лицом и очень белыми зубами. Он догнал меня на улице, когда я шла в школу.
— Подожди, девочка,— сказал он.— Ты Оля Алексеева?
— Да,—ответила я.— Здравствуйте.
Я его узнала по голосу. Я так растерялась, что не остановилась, а, по-прежнему шла в сторону школы, а он шел рядом со мной.
— Я через час улетаю,— сказал мой родной отец.— Да и тебе нужно в школу. Времени у нас совсем немного, а мне хотелось с тобой поговорить.
Он остановился, взял меня за плечи, повернул к себе и по^ смотрел в глаза.
— Тебе говорили, что твой отец погиб?
— Да, говорили.
— Он не погиб, Оля...
— Я знаю,— сказала я.— Я не спала. Я слышала все, что вы говорили с мамой. Я еще прежде догадывалась об этом.
Мой отец был неприятно удивлен моими словами.
— Ты что же... подслушивала? — спросил он брезгливо.
— Нет. Я просто не спала.
— Все равно нехорошо.
— Что же, мне надо было уши заткнуть, что ли? — сказала Я грубо.
— Иногда не мешает и заткнуть. Ты должна была сказать, что не спищь.
— В следующий раз я скажу,— буркнула я неожиданно для себя.
Мой отец растерянно и виновато заморгал глазами.
— Ты не сердись,— сказал он медленно.— Ты уже большая девочка. И еще не раз ты убедишься, что жизнь — очень сложная щтука.
62
Я в этом уже убедилась. Я не понимала только, ri чему 6й все это говорит. Взрослых часто трудно понять. А иногда и совсем невозможно.
— Я очень уважаю и очень люблю твою маму... Хотя если ты не спала и слышала разговор, то понимаешь, что она меня когда-то очень обидела. Но я ее не осуждаю.
«Чего он хочет? — думала я.— Зачем он все это говорит?» И сказала:
— Извините, но я опоздаю в школу.
— Да, да, ты можешь опоздать,— пробормотал мой отец.— Короче говоря, я... вот... что... Я хотел спросить: не обижает тебя отчим? Ты уже большая девочка и понимаешь — бывает по-всякому... И можешь уже сама многое решать... Может, надумаешь переехать ко мне... Я живу в Новосибирске. Так в любую минуту...
— Нет,— сказала я.— Папа меня никогда не обижает.
Мне почему-то вдруг показалось очень обидным, что он о
моем папе сказал «отчим».
— Ну что ж,— сказал мой отец.— Тем лучше. И все-таки помни: я всегда приму тебя, всегда помогу...
Нужно было сказать «спасибо». Нужно было улыбнуться. В конце концов, мои родители плохо поступили с моим родным отцом, й, в тшнце концов, это совсем не дело, что даже поговорить со своей дочкой он может только по дороге в школу.
Но я не улыбнулась и не сказала «спасибо». Может быть, он оч:енъ хороший человек, но он мне не нравился, и я радовалась, что у меня другой папа. Если бы можно было выбирать себе родителей, то из всех людей, которых я знаю, я вь*брала бы себе в папы только моего.
— Ну что ж, Оля, до свидания,— сказал мой отец, так и пе дождавшись ответа.— Жалко, что встреча у нас получйлась такая горбатая... Ну, да уж тут ничего не поделаешь. А маме лучше не говорить, что мы виделись... Не расстраивай ее напрасно. Однако смотри сама. И еще одно: вот мой адрес. Напиши мне. Да и прибереги этот адрес. Он еще может пригодиться!.. В жизней, знаешь,' по-всякому случается.
Мы попрощались, он мне крепко пожал руку, й я поваЛа в школу, раздумывая о том, какая страшная угроза была в его
63
последних словах, какие ужасные события должны произойти для того, чтобы мне понадобился этот адрес. Неужели он сам не понимал, что переехать в Новосибирск я могу, только если умрут мои родители, и сказать «в жизни всякое бывает» — это зцачит предусмотреть такую возможность. Нет, не прибавила мне хорошего настроения эта встреча.
И плакала я не из-за двойки, а из-за всего этого.
На переменке ко мне подошел Коля Галега, по прозвищу «Самшитик». Он выше всех в классе и старше всех — он второгодник, но лицом он похож на первоклассника. Самшитиком его прозвали за тупость. Сначала его звали Дубом, но когда оказалось, что он не помнит как следует таблицу умножения, Витя предложил называть его Самшитиком, — самшит еще тверже дуба.
Коля Галега спросил у меня, не хочу ли я обменять марки на царские бумажные деньги, а когда я ответила, что не собираю ни марок, ни денег, сказал, что пересядет за мою парту. Мне теперь было все равно, и я сказала: «Садись».
В начале учебного года я сидела с Таней Нечаевой, но мы болтали на уроках, и Елизавета Карловна нас рассадила. Теперь я сижу одна на второй парте в крайнем ряду у окна. В нашем классе двадцать парт, а учеников только тридцать семь. Есть поэтому свободная парта и еще одно место, а Елизавета Карловна, наш классный руководитель, очень любит пересаживать учеников с места на место.
Следующий урок был русский. Коля сел за мою парту и оглянулся кругом с таким выражением, какое бывает на лицах у людоедов в иллюстрациях к детским книжкам — не посмотрит ли кто-нибудь на это косо,— а затем спросил у меня:
— Ты по утрам зарядку делаешь?
— Нет,— ответила я.— Не успеваю.
— А я делаю. С кирпичами вместо гантелей. Пощупай, какие бицепсы.
Я пощупала. Бицепсы как бицепсы. Вероятно, здоровые. Мне не с чем сравнивать.
— О,— сказала Елизавета Карловна, когда вошла в класс,— а Галега уже сел с Алексеевой. Подобное ищет подобного, как говорит пословица, двоечник — двоечницу.
64
Лена Костина захихикала. У нее очень красивое лицо и мелодичный голос, а смех неприятный, как у людей, которые смеются только тогда, когда им самим этого хочется, как бы сознательно, а рассмеяться непроизвольно, просто от всей души — не умеют.
— Ну что ж, сидите,— решила Елизавета Карловна,— по крайней мере Галеге не у кого будет списывать контрольные.
И Елизавета Карловна стала нам рассказывать о риторических восклицаниях, риторических вопросах и риторических обращениях, а когда она говорит о литературе, можно услышать, как пролетает муха. У нас в классе почему-то нет мух, но если были бы, можно было бы услышать, как они летают, такая в классе тишина. Елизавета Карловна тогда совсем другая, она говорит совсем иначе, чем обычно, и ее маленькие, свинцового цвета глаза начинают светиться за стеклами очков, как звезды. И все ею любуются в такие минуты.
На переменке Коля загородил мне выход и сказал:
— Подожди. Я у тебя хотел спросить...— Он замялся.— Как ты относишься к фашизму?
— А какое тебе дело? — ответила я.
— Да нет, я ничего,— сказал Коля.— Я просто выменял на марки фашистский орден Железный крест. Так я могу тебе его подарить.
— Мне не нужно,— сказала я.— Но при чем здесь фашизм?
— Да некоторым не нравится, когда орден фашистский. А я думаю — все равно. Ведь это коллекция. Так что же — вражеские ордена выбрасывать?
— Нет,— сказала я,— не нужно выбрасывать.
— А ты какую коллекцию собираешь? — спросил Коля.
— Консервных ножей,— ответила я.— Только не я, а папа.
— Брось, из консервных ножей коллекций не делают. А кто такой твой батя?
— Журналист. Он в газете работает.
— Зачем же ему консервные ножи?
Начался третий урок. Английский. Коля сидел рядом со мной и, прикрыв рот ладонью, шептал:
— А у меня батя — милиционер. А матя плетет сеточки.
— Какие сеточки?
65
— Ну, авоськи. Она в мастерской работает. Надомницей. Я ей помогаю. Тоже плету сеточки. И я тебе скажу один секрет, который никому не говорил. Я тут только до весны. А весной убегу на Камчатку, там у меня дядька. Моряк. Я юнгой пойду. Хотя матю, конечно, жалко...
Я слушала Колин шепот и думала о том, какое большое доверие к человеку может вызвать полученная им двойка по физике.
Перед четвертым уроком — у нас была история — Коля, глядя не на меня, а на парту, негромко сказал слова, всю важность которых я поняла лишь позже, во время урока, когда я над ними как следует подумала и когда мне вдруг стало жарко в щеках и мокро в глазах.
Он сказал:
— А на уроках ты со мной не разговаривай. И не вертись.
Я с ним не разговаривала и не вертелась. У меня было такое
настроение, что мне было не до разговоров. Это он все время разговаривал.
Коля помолчал, а когда вошел историк и все встали, он добавил негромко:
— А то они нас рассадят.
Весь урок Коля молчал, а когда Михаил Иванович сказал, что «древнерусские князья, несмотря на отдельные неудачи, все время расширяли древнерусское государство и в интересах феодалов все время облагали данью трудовое население», он прикрыл рот ладонью и тихо прошептал:
— Больше тебя никто не обидит. Никогда. Я убью, если кто тебя обидит. И плакать ты больше никогда не будешь.
Прежде мы возвращались из школы все вместе: Витя, Сережа, я и Женька Иванов.-
Еслй у Женьки было пять уроков, а у нас шесть, то он все равно нас ждал и гонял пока в школьном дворе мяч или играл с пацанами в самую запретную игру «коцы», когда столбиком на земле складываются полученные от родителей1 на завтрак монетки и их нужно перевернуть ударом особого битка, обычно екатерининского пятака.
Но в последние дни из нашей компании при возвращении домой выпал Витя. Он говорил, что у него заболела тетка, что
66
мама поручила ему навещать эту тетку после школы, но мы-то знали, что он просто уходит из школы с Леной Костиной и провожает ее по бульвару до дома, а потом они еще ходят «озле ее дома дзад и вперед. Но мы не. сказали Вите, что знаем об этом: нам это было бы еще более неловко,-чем ему.
Но сегодня и я откололась от нашей компании. Перед последним уроком Коля сказал:
— Я, понимаешь, сплел интересную сеточку. Не из ниток, а из лески... Из белой, голубой и зеленой. Батя говорит, можно на Выставку достижений народного хозяйства. Только я это не для мастерской, а для себя... В мастерской сеточки нитяные. Так вот, пойдем после школрс к моему дому, я тебе ее выдесу — я сколько хочешь могу таких сплести, а потом я тебя назад к дому провожу. Если захочешь. Ты не опоздаешь, не бойся.
Я сказала Сереже и Женьке, которые меня ждали, что иду с Колей за сеточкой. Я очень боялась, что они скажут, что пойдут с нами. Но ни Сережа, ни Женька не спросили даже, за какой сеточкой. Они только не смотрели на меня, как не смотрят хорошие люди на человека, который врет. Я много раз замечала, что чаще стесняются и стыдятся не те, которые врут, а те, которые слушают.
Сережа и Женька ушли, вернее, не ушли, а тут бы больше всего подошло слово, которое они так часто употребляют, «смылись», незаметно исчезли, а я пошла с Колей в сторону, прямо противоположную моему дому. Шел Коля молча, посапывая носом и глядя под ноги. Я тоже молчала и не понимала, для чего я пошла с Колей, зачем мне нужна эта сеточка- авоська. И еще я думала о том, что меня ждет папа, что он вчера был «свежей головой» и сегодня мы по нашей программе должны были пойти в ресторан, и какая это вкуснючая штука — судак в тесте с соусом тартар, что, как объяснил мне папа, означает адский. И что очень хочется есть. Но что все равно в ресторан мы не пойдем, потому что я получила двойку по физике, а у нас когда-то был договор, что если я подучу двойку — прогулка отменяется. И что мне все равно не хочется гулять с папой, пока я сама не разберусь во всем этом.
И еще; я думала о том, что Витя разговаривает сейчас с Леной Костинойг и, может быть, он уже выдал ей нашу тайну,
67
хотя мы поклялись никому не рассказывать, для чего нам нужны реактивы.
— Ты меня тут подожди,— нерешительно сказал Коля, когда мы подошли к его двору. Очевидно, он не хотел, чтобы его увидели с девчонкой.— А если хочешь — пойдем к нам. Только тебе будет неинтересно.
— Нет, я подожду,— ответила я.— Только ты недолго.
— Я сейчас же,— обрадовался Коля и побежал во двор.
Он действительно быстро вернулся, вынул из кармана и дал
мне сжатую в комок авоську, сплетенную из пластмассовых ниточек. Она у меня в руке распрямилась. Это и в самом деле была удивительно красивая авоська, выплетенная, как кружево, и тона были здорово подобраны — белые, голубые и зеленые ниточки незаметно сменяли друг друга. Я вообще никогда не предполагала, что авоськи делают вручную. А уж чтоб сплести такую штуку, нужно, наверное, очень много времени. И труда. Я спросила у Коли, как это делают. Он оглянулся и сказал:
— Пойдем. Это просто. Нужен только такой челночок из твердого дерева. У меня их несколько. Я тебе: дам один и научу, как это надо плести.
Мы немного отошли, и Коля сказал:
— Она растягивается. На вид она маленькая, но в нее можно поместить портфель. Попробуй.
Мы положили в сеточку мой толстый, набитый книгами и тетрадями портфель.
— Давай я понесу,— сказал Коля.
— Нет, я сама.
И дальше я уже несла портфель в Колиной авоське.
Чем ближе мы подходили к дому, тем больше я замедляла шаги, и Коля это, очевидно, заметил, потому что спросил:
— Ты из-за двойки волнуешься?
— Да,— ответила я.
— А у тебя что — сразу дневник проверяют?
— Нет,— сказала я,— не в этом дело.
Я вдруг попросила Колю пойти со мной. Мне была непереносима мысль, что я сейчас одна, с глазу на глаз, встречусь с папой.
Хорошо,— сказал Коля не сразу.— Пошли.
.68
Папа чуть приподнял брови, когда увидел, что я пришла не одна, но сейчас же сделал вид, что в этом нет ничего неожиданного.
Я его познакомила с Колей. Оба они держались чуть настороженно, и я вдруг заметила, что они похожи друг на друга. Они были одного роста, папа сегодня надел черный свитер, и на Коле был черный свитер, только похуже, не такой толстый, пушистый и новый. И штаны папа надел новые, узюсенькие, из немнущейся ткани, с острой складкой, а на Коле были темпо¬
69
синие штаны от школьной формы, с пузырями на коленях и неглаженые. И даже звали их одинаково... Но главное, у них были очень похожие лица — круглые, добрые лица с одинаковым выражением: с почти незаметной, чуть смущенной улыбкой. Почему я раньше этого не замечала?
— Ну что ж,— сказал папа.— Рога трубят. Оседлаем же наших добрых коней и отправимся на званый обед в замок маркиза Карабаса. Я надеюсь, что вы, граф, окажете нам честь пообедать с нами?
Когда мы еще поднимались по лестнице, я заранее решила, что скажу папе, что у меня болит голова и поэтому я не пойду с ним на прогулку и в ресторан, но когда он стал шутить, я просто сказала:
— Я получила сегодня двойку. По физике.
Папа засвистел совсем по-мальчишески. У него было такое огорченное лицо, что Коля покраснел и уставился в пол, сквозь который мне хотелось провалиться.
— Ну что ж,— сказал наконец папа.— Прогулку придется отменить... А обедать все равно нужно. Пойдемте.
Мне понравилось, что Коля не ломался, не отказывался, не говорил, что сыт, хотя после школы не ел и был голоден как собака. Мне вообще нравится в людях, когда они умеют делать то, чего я не умею.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Витя пришел в школу прихрамывая, со своей знаменитой тросточкой с надписью: «Привет из Кисловодска», и я поняла, что предстоят какие-то важные события. Витя подозвал меня и Сережу и сказал, что мы должны собраться вместе после уроков, так как нашей компании объявлен террор. Я попыталась было выяснить, что за террор и кем объявлен, но Витя многозначительно сказал: «После уроков».
На первом уроке у нас была химия, и мы пошли не в класс, а прямо в химический кабинет к Евгении Лаврентьевне.
Недавно у нас на уроке добывал бывший ученик Евгении Лаврентьевны, молодой, но очень толстый дяденька. Теперь
70
он уже. ученый и лауреат Ленинской премии. Он пришел до начала урока, и познакомился с нами, и сел на свое место за вторым столом, где он когда-то сидел. А когда вошла Евгения Лаврентьевна, он встал вместе с нами. Он очень внимательно слушал все, что говорила Евгения Лаврентьевна, и все, что отвечали мы. А после урока он поцеловал Евгении Лаврентьевне руку, а она его поцеловала в голову, и он сказал нам, что Евгения Лаврентьевна сделала для украинской химии столько, сколько сделал целый институт, и что бывшие ее ученики работают на самых ответственных участках химической науки и химической промышленности, и что все мы должны учиться у нашей замечательной учительницы Евгении Лаврентьевны только на пятерки, потому что химия — это наука будущего, а Евгения Лаврентьевна — человек будущего, который личным примером показывает, какими должны быть люди коммунистического общества.
Вообще-то я не понимаю, как можно плохо ответить на уроке у Евгении Лаврентьевны или как можно забыть то, что она говорила на предыдущих уроках. На уроках у Евгении Лаврентьевны ничего не нужно запоминать. Все, что она говорит, само запоминается.
Эот, например, ни один наш ученик уже до самой смерти не забудет, из чего делается стекло, потому что Евгения Лаврентьевна рассказывала, что до сих пор нельзя точно сказать, кто и когда изобрел стекло. Римский ученый Плиний Старший, который погиб в самом начале нашей эры при извержении Везувия, писал, что стекло открыли финикийские купцы-мореплаватели. Во время сильной бури они были вынуждены пристать к берегу. А так как на песчаном берегу они не нашли никаких камней для очага, чтобы сварить себе еду, то они взяли глыбы соды, которую везли на своем корабле для продажи. Целую ночь горел костер, а когда утром кто-то разгреб его, то в золе нашли прозрачные блестящие слитки, которые очень заинтересовали этих купцов. Так, в результате сплавления соды с песком, писал этот Плиний Старший, впервые получилось стекло.
Но в наше время ученые решили проверить, правильно ли написал Плиний. На песчаном морском берегу ученые сложили
71
очаг из кусков соды и всю ночь жгли костер. Однако когда утром его разгребли, то никакого стекла там не оказалось, потому что температуры, которую дает пламя костра, недостаточно для того, чтобы сода сплавилась с песком и превратилась в стекло. Я думаю, что после такого рассказа ни один нормальный человек не может забыть, что основой стекла служат песок и сода.
И все-таки бывают странные люди, которые и по химии получают двойки.
Сегодня на химии Коля сел за один стол со мной, Сережей и Витей, и хотя я подумала, что это уж чересчур, но ничего ему не сказала. Лучше бы он все-таки не пересаживался. Евгения Лаврентьевна вдруг заметила:
— Э, раз Галега пересел за первый стол, значит, он хорошо подготовился к уроку.
И вызвала Колю.
Я прежде думала, что второгодники должны учиться лучше обыкновенных учеников — ведь они все учат второй раз. Однако в самом деле это совсем не так. Из разговора с Колей я поняла, что второгоднику учиться еще труднее. Во-первых, потому, что ему неинтересно — он ведь уже раз слышал то, что говорят учителя, и знает, что будет наперед, а во-вторых, потому, что ему кажется, будто он уже знает урок, а фактически он не знал его в прошлом году и не выучил в этом.
Мне было очень неприятно смотреть на то, как Коля не мог ответить на самый простой вопрос, как он краснел, мычал и заикался, хотя в жизни он разговаривает нормально и совсем не заикается. Он бы значительно лучше сделал, если бы просто сказал: «Я не знаю», чем путаться на каждом слове. Коля еще не закончил отвечать, а Лена Костина уже подняла руку. Она всегда первой поднимает руку, если кто-нибудь неправильно отвечает и учитель говорит: «Кто хочет ответить?»
Я тоже так когда-то делала. Но очень давно, еще в четвертом классе. Папа тогда побывал в школе на родительском собрании, и учительница меня хвалила за активность. Но папа дома сказал, что из таких «активистов» вырастают бессердечные люди, которые радуются неудачам товарищей, потому что могут показать себя. И хотя мама говорила, что это глупые, ан¬
72
типедагогические выдумки и чтобы я всегда первой поднимала руку, я послушалась папу. Я начала отвечать, только когда меня вызывают, хоть иногда мне очень хотелось выскочить с ответом и приходилось себя подавлять. Теперь на примере Лены Костиной я понимаю, как прав был мой папа.
Лена получила свою очередную пятерку, а Коля свою очередную двойку, и после этого Коля вернулся на место и снова сел рядом со мной. Он смотрел вниз, и выражение лица у него было странное, тупое и ожесточенное.
Перед русской литературой Коля сказал мне — он научился так ловко бормотать себе под нос, что слышу я одна:
— Елизавета нас все-таки рассадит. Я не написал сочинения. А ты?
— Я написала,— ответила я довольно безрадостно.
Елизавета Карловна задала нам написать сочинение «Тема
патриотизма в стихотворении Лермонтова «Бородино». Мне не нравится это стихотворение. Я не понимаю, почему там написано «чужие изорвать мундиры о русские штыки», когда это говорит простой солдат. Неужели он стал бы так запутанно выражаться? Или что значит: «Земля тряслась, как наши груди»? Но я не написала этого, потому что понимала, что за это Елизавета Карловна поставит мне двойку, а написала, что тема патриотизма видна в словах «полковник наш рожден был хватом: слуга царю, отец солдатам», а также в словах «не будь на то господня воля, не отдали б Москвы!». Кроме того, я написала, что во время Великой Отечественной войны Москвы не отдали, несмотря на «господню волю». Ну и закончила тем, что Лермонтов вообще великий русский поэт-патриот.
Но все это я напрасно сделала, потому что Елизавета Карловна все равно поставила мне двойку. Она сказала, что я невнимательно слушала на уроках и поэтому вообще неправильно поняла, что такое патриотизм, что из моего сочинения получается, будто бы у русских солдат, про которых писал Лермонтов, был один патриотизм, потому что они служили царю, а у советских солдат, которые защитили Москву от фашистов, был патриотизм совсем другой, хотя фактически это один и тот же патриотизм, и поэтому Лермонтов так созвучен нашему времени.
А Лена, Витя, Сережа и многие другие получили пятерки.
73
Двойки н$ весь класс получили только два человека — я и Коля. Я за то, что написала, а он за то, что не написал сочинения.
— Я думала,— сказала Елизавета Карловна, поправляя свои круглые очки,— что ты будешь оказывать на Галегу положительное влияние. Но вижу, что ошиблась, и четверку вы можете заработать, только если сложите свои двойки.
Лена Костина засмеялась своим неестественным смехом. Елизавета Карловна помолчала, а затем добавила решительно:
— Придется вас рассадить. Галега, пересядь на свое старое место, на последнюю парту.
Коля встал и, придав лицу совершенно дурацкое выражение, спросил:
— А если я подтянусь?
Я его понимала. Такое можно было спросить только с самым дурацким, с шутовским выражением лица, хотя я знала, насколько это было теперь важно для него. Да и для меня.
— Ну что ж. Как только ты наберешь три четверки, можешь пересесть назад.
После уроков Коля подошел ко мне и сказал:
— Пойдем?..
— Нет,— ответила я.— Сегодня я не смогу...
Коля поежился, как от холода, и отошел от меня. Я заметила, он всегда так ежился, если ему стыдно или неприятно.
— Подожди,— сказала я,— мы должны тут сегодня... одну вещь... с ребятами... А завтра пойдем вместе.
— Хорошо,— сказал Коля и улыбнулся смущенно и обиженно.-^ Я ведь ничего... Может, тебе неловко перед ребятами, что я с тобой из школы хожу?..
— Нет,— сказала я строго,— мне очень ловко. До свидания.
На меня с нетерпением оглядывались Витя и Сережа. Мы
вышли на школьный двор. На лестничной площадке второго этажа к нам присоединился Женька Иванов. Когда мы зашли за угол школы — там у нас во дворе такой закоулок, где мальчишки младших классов сводят друг с другом счеты в честном кулачном бою и играют в «коцы», а девчонки делятся самыми страшными секретами,— я заметила, что во двор вышла Лена Костина. Только к нам она не подошла, а поджидала Витю в стороцке.
74
— Так вот,— сказал Витя, нервно постукивая своей палочкой по водосточной трубе,— докладываю обстановку. Когда я вчера шел с Ленкой к ее дому...— Витя помолчал и добавил, как бы перепрыгивая через препятствие: — Мне нужно было взять у нее одну книгу, на нас напали без всякого предупреждения ребята из Петькиной компании. Петька мне разбил губу. Вот.— Витя оттянул нижнюю губу, и мы увидели па внутренней стороне припухлость и красные пятнышки.— А Лену они схватили и стали ей бросать за шиворот зернышки шиповника. Ну, от которых очень чешется. А Ленка укусила этого длинного Ваську — он ее держал — за палец. Васька завизжал и врезал ей левой под дыхало. Девчонке. В общем, Ленка заревела, а меня пока били, а я отбивался. И если бы не вмешались прохожие, то было бы совсем плохо... Этот длинный Васька сказал, что отвинтит Лене голову, когда она будет из школы возвращаться. А на меня они тоя$е имеют зуб. Так что нам надо ходить теперь всем вместе. Сначала мы будем провожать Ленку, чтобы они ее не тронули, а потом возвращаться к себе. И я предлагаю, чтобы Лена теперь тоже входила в нашу компанию и участвовала в катализаторе. Хотя она и зубрила, но химию любит. Какие будут возражения?
У меня были возражения. Думаю, что возражения были также у Сережи и даже у Женьки. Но все мы молчали. Это очень трудное дело — высказать возражения, когда речь идет о живом человеке. Наконец Сережа сказал:
— Она девчонка... Растреплется...
— А Оля, по-твоему, не девчонка? — быстро спросил Витя. Он всегда умеет сразу находить ответ.
— Оля-то, конечно, девчонка,— с сомнением сказал Сережа.— Но это — другое дело.
— Это не доказательство,— сказал Витя.—Других возражений нет? Лена, давай сюда.
Он помахал ей рукой, и Лена подошла к нам. Ее беспокоило, как мы ее примем, и поэтому она заранее сделала гордое и безразличное лицо. Я понимаю, человек должен бороться со злорадными чувствами, какие возникают в его душе, но я бы многое дала, чтобы посмотреть на эту выдержанную, приличную, благоразумную Лену, когда ей мальчишки бросали за гййворот
75
шиповник,— а я-то хорошо знаю, как зудит и чешется тело от тоненьких белых волосков, которыми окружены семена,— и как она укусила этого Васю за палец.
— Ну, Лена,— сказал Витя,— мы тебя принимаем в нашу компанию. Теперь мы тебе расскажем наш секрет, но ты должна дать слово, что пикому его не выдашь: ни знакомым, ни родителям, ни учителям — никому.
— Честное пионерское,— сказала Лена.
— Хорошо,— сказал Витя.— Знаешь ли ты, что такое катализ?
Но тут вмешался Женька.
— Я так не согласен,— сказал он, и на глазах у него показались слезы.— Почему я клялся Родиной, а она только = честное пионерское?..
76
— Это справедливо,— поддержал его Сережа.— Пусть тоже клянется Родиной.
— Ну что ж,— согласился Витя.— Пусть поклянется.
— А как это — Родиной? — испуганно спросила Лена.
— Очень просто,—■ ответил Витя.— Повторяй за мной: именем Родины клянусь, что никогда и никому не раскрою тайны про нашу научную работу, и если я нарушу это слово, пусть меня все презирают, и любой член нашей компании имеет право дать мне по морде.
— Именем Родины клянусь...— повторяла за ним Лена.
— А ты не разговариваешь .во сне? — недоверчиво спросил у Ленщ Женька Иванов;.
— Как это — во сне? — удивилась Лена.
— Бывают люди,— с важностью сказал Женька,— которые ночью во сне рассказывают все, что с ними происходило днем. Вот я, например, прежде разговаривал во сне. И чтобы не выдать нашу тайну, перед сном клал в рот «Кйс-кис» или «Театральную», но не рассасывал ее, .а просто держал во рту. Я из-за этого раз чуть не по давилен.
— Я не знаю,— окончательно растерялась Лена.— По-моему, я никогда не разговаривала во сне. Только когда болела гриппом и у меня был бред. Но я спрошу у мамы...
— Ладно,— сказал Витя,— мы тебе доверяем. А пока что мы тебя введем в курс дела.
И Витя начал рассказывать о химии высокомолекулярных соединений, через каждое слово спрашивая у Лены: «Понятно?» — а она в ответ кивала головой.
Я никогда не думала, что отличница Лена Костина так слабо разбирается в химии и так туго соображает. Она кивала головой и ничего не понимала. Женька Иванов разбирался в этом в тысячу раз лучше, чем она.
Чем больше горячился Витя, чем больше щеголял Женька химическими названиями, тем более скучным становилось Ленино лицо. Нет, она не разбиралась в химии, и мечта о том, что можно будет сделать из полимерных пленок искусственную мышцу, ее, по-видимому, не увлекала. Но кое в чем она разбиралась и поэтому сумела поставить всех нас в неловкое положение своим вопросом.
77
— А почему все это такая тайна? — спросила она вдруг;
Так ведь если мы найдем катализатор, это будет иметь
военное значение,— сказал Витя.— Я ведь тебе говорил...
— Если пайдете,— возразила Лена, и в ее голосе выразилось большое сомнение.— Но то, что вы занимаетесь этими химическими опытами, по-моему, скрывать совсем не нужно. И тем более делать из этого секрет и тайну...
— Нет, нужно! вмешался Сережа.— Мы так договорились — и кончено. А тебе, если не нравится, можешь отправиться...
Сережа страшно разозлился, покраснел, и у него на лбу, над носом, вздулась такая синяя жилка — она всегда у него вздувается, когда его обижают.
Мне это тоже было неприятно, хотя я понимала, что в словах Лены много справедливого.
— Но ведь ты поклялась Родиной,— с упреком сказал Витя.
— Я сдержу данное слово,— ответила Лена.— Только я не понимаю, к чему это... А реактивов у нас дома никаких особенных нет. Есть только маленькая бутылочка живого серебра от прибора, которым мама измеряет больным давление, и разные лекарства. Их можно считать реактивами?
— Вообще-то можно,— нерешительно ответил Витя.— А ртуть нам пригодится. У нас есть немного ртути... Женька для этого специально разбил термометр и сказал дома, что нечаянно, но она уже кончается.
— Я разбил два термометра,— поднимаясь на носки, чтобы быть выше, сказал Женька. От него вкусно пахло хлебом с маслом.
Мы проводили Лену до самого ее дома и постояли еще немного в ее парадном. Витя со своей палочкой показывал разные выпады и приемы, какие применяют мастера рапиры, и говорил, что д’Артаньян не справился бы с современным мастером спорта, потому что с тех времен искусство сражения на шпагах шагнуло далеко вперед. Лена рассказывала, что у нее сегодня дома еще будет урок английского, что она уже прочла по- английски «Принц и нищий» Марка Твена и что когда она была с мамой на американской выставке, то экскурсовод спра¬
78
шивал, не из Англии ли эта девочка — такое хорошее у нее произношение. Даже Сережа, обычно совершенно не склонный к хвастовству, рассказал, что ездил в воскресенье с отцом на рыбную ловлю и поймал на дорожку щуку весом в девять с половиной килограммов. Я тоже не удержалась и сказала, что папа собирается купить мотороллер и учить меня водить его, хотя папа никакого мотороллера не собирался покупать и, напротив, считал, что те, кто ездит на мотороллере, являются «полуфабрикатом для крематория».
Я до сих пор не понимаю, почему мы так «выпендривались» друг перед другом. Очевидно, это заразно. Начнет один, а остальные тоже не могут удержаться.
В общем:, мы довольно долго простояли в парадном у Лены, а потом пошли домой. Витя забыл, что ему нужно прихрамывать, и шел ровно и нес свою тросточку в руке, как шпагу, но на нас никто не нападал. А когда мы уже подходили к дому, я оглянулась и заметила, что за нами идет Коля. Он сейчас же скрылся за спинами прохожих. По-видимому, он все время шел за нами. По-видимому, ребята заметили его еще раньше. По- видимому, они его видели, но ничего не сказали.
Я подумала, что это нехорошо и что с Колей нужно что-то решать. Нужно сделать так, чтобы он ходил с нашей компанией. Чтобы он лучше учился. И чтобы я лучше училась. Но как все это сделать?
Я представила себе, как мы подходим к нашему дому и идем через подъезд во двор и в это время выскакивает целая ватага мальчишек во главе с Петькой из соседнего дома, они нас окружают, и вот уже меня хватают чьи-то руки, и какой-то мальчишка сыплет мне за шиворот зернышки шиповника. В это время неизвестно откуда появляется Коля и своими сильными руками, которые он развил, делая зарядку с кирпичами, расшвыривает мальчишек, дает под дыхало Петьке, который вырвал из рук Вити его тросточку-шпагу, и мы обращаем в позорное бегство всю эту ватагу. После этого Витя пожимает Коле руку и говорит, что просит, его от нашего имени войти в нашу компанию, и принять участие в поисках катализатора.
-.Я знаю, что некоторые мечты сбываются, но я никогда не думала, что такие глупые мечты сбудутся так скоро.
•79
Только мы подошли к нашему двору, как из-за газетного киоска выскочили Петька и еще двое таких же здоровых мальчишек, и Петька выхватил у Вити его тросточку и поломал ее на колене, а другой парень дал Сереже подножку, и он растянулся на земле, а Женька отскочил в сторону и закричал: «Папа!» — но это он для того, чтобы испугать этих ребят, потому что никакого папы поблизости не было,— а я все оглядывалась назад, чтобы увидеть Колю, но его не было видно. И тот мальчишка, который свалил Сережу, закрутил Вите руку за спину, а Петька схватил меня за руку, а третий мальчик, по-моему какой-то новый, потому что мы его раньше не видели, стал сыпать мне за шиворот зерна шиповника.
Я снова оглянулась, но Коли не было. И тогда я применила против Петьки прием, которому меня научил папа: я резко наклонилась, ухватила его руками сзади под коленки, а головой ударила в живот, и он смешно шлепнулся на тротуар и здорово треснулся и хотел меня лягнуть ногой, но я отскочила и дала портфелем по морде этому новому мальчику, который мне сыпал за шиворот шиповник.
А Сережа и Витя вдвоем напали на третьего мальчика. Но тут вмешались прохожие и стали кричать на меня: «Хулиганка!» — и мы убежали домой.
Когда мы отдышались, Витя стал говорить, что если бы Петька не вырвал у него из рук тросточку, то он бы ему показал, и что я молодец, потому что не растерялась, а я сказала, что надо, чтобы с нами вместе из школы ходил Коля, й все согласились, что это не помешает.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
— Кого ты больше любишь: папу или маму?
Детям постоянно задают этот нелепый и бестактный вопрос. Если бы у взрослого спросили: «Кого ты больше любишь: жену или мать?» — и он должен был бы ответить прямо и честно, взрослый очень задумался бь>1 перед тем, как задавать ребенку такой вопрос. И все-таки, когда я знакомлюсь с новой подругой или новым товарищем и бываю у них дома, я часто задумы¬
80
ваюсь, а кого он или она любит больше: мать или отца, хотя никогда, понятно, об этом не спрашиваю.
Я побывала дома у Коли. Они живут во дворе на первом этаже, в старом двухэтажном доме. Квартира у них плохая. Дверь с улицы ведет прямо в кухню, а передней нет, а уже из кухни вход в комнату. В этой комнате еще одна дверь. Коля сказал, что там маленькая клетушка, где он спит, что там нет окна и освещается она электричеством.
— Здравствуй, Оля,— сказал мне Колин отец, Богдан Осипович.— Садись к столу, пообедаешь с нами. Покажи, где помыть руки,— сказал он Коле.-- Или ты, как Колька, не моешь рук перед едой?
— Как когда,— сказала я по правде и почувствовала, что мой ответ понравился Богдану Осиповичу.
Колина мама, которую, как и мою, зовут Елена, только по отчеству Евдокимовна, толстая женщина с очень белым лицом и шероховатыми руками, неожиданно обняла меня прижала к себе. Смотрела она на меня при этом как-то особенно жалостливо. Я не люблю, когда меня обнимают чужие люди, но я
не отодвинула ее руки, а подождала, пока она сама меня отпустит. На обед был очень вкусный борщ, а потом еще на второе огромные, во всю тарелку, свиные отбивные с гречневой кашей.
— Так чем занимается твой отец? — спросил у меня Богдан Осипович так, словно продолжал уже начатый разговор.
— Журналист. Он в газете работает.
— А как его зовут?
— Николай Иванович.
— Николай Алексеев? — сказал Колин папа и очень обрадовался.— Как же, знаю. Помнишь, Лена,— обратился он к жене,— я тебе еще его фельетон показывал. Замечательный фельетон. Он там так по начальнику железной дороги врезал, что я думал, с работы снимут... начальника этого. Здорово пишет.
Мне было очень приятно, что он помнит статьи моего папы, и вообще очень приятно в этом доме, и только немножко смущало, что Колина мама все время смотрела на меня с жало-
4 Библиотека пионера, т. 12
81
стыо, подперев щеку правой рукой и поддерживая локоть левой рукой, и все время повторяла:
— Ешь, деточка, какая ты худенькая.
А я ела и наелась так, что, когда незаметно пощупала рукой
живот, мне показалось, что он натянут, как барабан.
На третье Колина мама принесла компот из слив и груш и очень вкусное малиновое варенье, которое, собственно, не варенье, а просто сырая малина, перемятая с сахаром. Мне положили чайное блюдце этой малины, и только я ею всерьез занялась, как показался знакомый. Неизвестно откуда появился и подошел к столу тот самый кот, которого Витя хотел перекрасить в черный цвет. Но теперь он снова был совсем белый.
— Это ваш кот? — спросила я у Коли.
— Наш.
— Он, по-моему, был на нашем дворе.
— Вот, значит, где он пропадал,— сказал Колин папа.— Кто-то его тушью облил.
— А он не слепой? — спросила я.— У нас один мальчик говорил, что белые коты с голубыми глазами обязательно бывают слепыми. Он говорил, что читал про это в какой-то научной книге.
82
— Этот мальчик перепутал,—сказал Богдан Осипович.— Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Не слепыми, а глухими бывают коты с голубыми глазами и белой масти.
— И ваш кот глухой?
— Глухой.
— А как вы это установили?
— Да очень просто — он ничего не слышит.
— И мышей он не может ловить?
— Нет, мышей он ловит,— вступился за кота Коля.— И не хуже, чем всякий другой.
— Он когда пропал, так жена все беспокоилась, что не вернется,— сказал Колин папа.— А я ей говорил — обязательно вернется. Кошки привыкают к месту, а собаки к людям. А вот уж люди по-разному: некоторые, как кошки, а некоторые, как собаки. А ты кто, кошка или собака? — спросил он у меня.
— Не знаю,— ответила я.— Скорее собака, но немножко и кошка.
Колин отец как-то очень по-доброму посмеялся.
— Так как же это теперь называется,— подмигнул он мне на Колю,— на буксир, что ли?
Я не поняла его.
— Ну, это в мое время, когда отличник помогал отстающему, называлось «брать на буксир»,— пояснил Колин отец.
— Нет,— сказала я.— Я не отличница. У меня есть тройки и даже двойки. Мы просто будем готовить вместе некоторые уроки. Особенно по химии.
— Хорошо,— сказал Богдан Осипович.— Не оставаться же ему на третий год. Восемь классов нужно закончить. А там — на работу. Придет время, сам поймет, что нужно учиться. Выберет специальность и — заочно. А ты кем собираешься быть, когда школу закончишь? — спросил он у меня.
— Химиком. Думаю поступить в университет на химическое отделение.
— Химический факультет,— поправил он меня.— А не раздумаешь?
— Нет.
Елена Евдокимовна глубоко, со всхлипом вздохнула, как вздыхают маленькие дети, и вдруг сказала:
83
— Значит, ты поможешь Коленьке? Ты не смотри, что он большой... Ты помоги ему...
Она тяжело задышала, а Коля, не обращая на нее никакого внимания, спросил у меня громко:
— Ты сколько раз можешь поджаться?
— Как — поджаться?
— Ну, на руках.
— Не знаю. Я не пробовала.
— Пойдем попробуем.
Коля встал из-за стола и, несмотря на то, что я еще пила компот, взял меня за руку и потащил к двери. Мы вышли во двор. Возле сарайчика был врыт в землю столб, а между стенкой сарайчика и столбом укреплена железная палка — турник.
— Я тебя подсажу,— сказал Коля.— Прыгай вверх.
Я подпрыгнула, а он меня поддержал и приподнял. Я уцепилась руками за шероховатую железную палку и повисла на ней.
— Подтягивайся,— сказал Коля.
Может быть, в другое время я бы и подтянулась, но борщ, отбивная и гречневая каша неодолимо тянули меня вниз, к земле.
— Эх, ты! — сказал Коля.— Слазь. А теперь считай.
Он подпрыгнул, ухватился за турник и стал поджиматься. Я насчитала десять раз.
— А теперь смотри.
Коля забрался на турник и перевернулся на животе через перекладину.
— Тренироваться нужно.
— Нужно,— согласилась я.— Но, может быть, мы все-таки сядем за уроки? А то мы так ничего не успеем.
— Скоро сядем,— ответил Коля.— Подождем еще немного.— Он посмотрел на землю и добавил: — Пусть матя немного успокоится.
— А что с ней?
— Больная она. У нее горло перехватывает.
И Коля рассказал мне, что его мама очень больной человек: как только увидит что-нибудь хорошее в кино, в газете или в жизни, так у нее сразу перехватывает горло, и она зады¬
84
хается так, что приходится иногда вызывать «скорую помощь», чтоб сделали укол.
— А ты не слышала про мою матю, про медсестру Елену Лукашенко? — спросил Коля.— Ведь про нее в газетах писали и в журналах.
— Нет,— сказала я.
Коля рассказал, что отца его мамы, то есть Колиного деда, на глазах Колиной мамы расстреляли немцы за то, что он прятал у себя в хате раненого советского офицера. Колина мама убежала к партизанам, а потом, когда подошли наши войска, вступила в армию, стала медсестрой и вынесла с поля боя семьдесят восемь раненых. Она была тогда маленькая, худенькая и все равно тащила на себе тяжелых, рослых солдат. Некоторые из тех, кого она вытащила из-под огня, и сейчас переписываются с ней. Но с тех пор у нее такая болезнь. Достаточно ей увидеть или услышать что-нибудь приятное, как у нее сдавливает горло и словно перенимает дыхание. Даже от ласкового слова. Коля говорил, что старается даже разговаривать с ней погрубее, а поцеловал он ее как-то раз, когда она спала, так она проснулась, и опять ей плохо было.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
— В те далекие времена, когда поезда ходили туда, куда хотели машинисты, одна маленькая девочка с такими же веснушками, как у тебя, и с такими же золотыми косичками, которые неграмотные дети называют рыжими, узнала, что у нее заболела бабушка.
Жила ее бабушка в далеком городе, где хорошие люди с опаской выходили из своих домов, потому что в этом городе было очень много садов, а в садах этих сидели садисты, злые и безжалостные разбойники, которым очень нравилось расстреливать людей из своих винтовок.
А болезнь у бабушки была очень опасная. Как только увидит бабушка что-нибудь хорошее — красивый цветок, или желтого воробышка, или девочку, которая отдала подружке ровно половину шоколадки,— так она сразу начинает плакать и так
85
сильно плачет, что у нее вместо слез течет кровь, и врачам приходится делать ей переливание крови, чтобы она не умерла. А плакала бабушка так потому, что в этом городе садисты сделали очень много плохого, и к плохому бабушка уже давно привыкла, а хорошее ее очень волновало.
И вот маленькая девочка пошла на вокзал, подошла к паровозу, который уже шевелил колесами и тяжело дышал, собираясь в путь, и закричала машинисту:
«Товарищ машинист, отвезите меня, пожалуйста, к моей бабушке».
Машинист спросил:
«А для чего тебе к бабушке?»
Девочка сказала:
«Я хочу отвезти ей лекарство, которое мне дали в дежурной аптеке, потому что моя бабушка больна».
Тогда машинист сказал:
«Вообще-то я собирался поехать на рыбную ловлю, но так как человек человеку друг, товарищ и брат, то поедем сначала наловим рыбы, а потом поедем к бабушке».
«Нет,— сказала девочка,— никогда не нужно откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня. Если это, конечно, хорошее дело. А если это плохое дело, то лучше его отложить на завтра».
«Хорошо,— сказал машинист,— тогда поедем к твоей бабушке, а уж мой белый кот с голубыми глазами обойдется сегодня без рыбы».
Машинист подал девочке руку, она села рядом с ним на сиденье, и поезд помчался по блестящим, начищенным, как паркет, рельсам.
«Как же ты передашь лекарство бабушке? — спросил машинист.— Ведь это хороший поступок, а бабушка от такого поступка может так сильно заплакать, что умрет».
«Действительно,— испугалась девочка,— как же мне быть?»
Наташка слушала меня с открытым ртом. Я уже в два раза старше Наташки. Наташка в этом году только поступила в первый класс. Она младшая сестра Сережи, и я люблю ей рассказывать сказки. Вообще я люблю возиться с детьми, мне с ними никогда не бывает скучно.
86
Наташка внимательно слушала мою сказку. Мы сидели на скамейке в садике возле нашего дома, а говорила я тихо, вполголоса, потому что на другом конце скамейки сидел очень худой и очень остроносый человек с большими очками в толстой оправе, который читал газету, как бы покалывая ее носом. На нем была модная куртка, сшитая как ватник, но с «молниями», и огромные тяжелые ботинки с железными подковами, и вообще вид у него был очень чудаковатый, и хотя он не смотрел в нашу сторону, мне почему-то казалось, что он не читает, а
87
слушает то, что я говорю, и это меня смущало, и я хотела сказать Наташке: «Пойдем на другую скамейку», но мне было неудобно, потому что он мог подумать, что я думаю, что он слушает мою сказку.
— «Нужно что-нибудь придумать»,— сказал машинист,— продолжала я.— И они стали молча думать.
И вдруг девочка сказала:
«Я придумала».
Как ты думаешь? Что она придумала? — спросила я у Наташки.
— Я знаю,— сказала Наташка,— нужно дать лекарство так, чтобы бабушка не заметила. Когда я была маленькой, мне тоже давали лекарство от кашля и говорили, что это компот.
— Правильно,— сказала я.— То же самое, что ты, придумала девочка. И машинист так обрадовался этому ценному предложению, что дал громкий гудок. Вот такой.
Я сложила руки по нашему способу и загудела, как паровоз.
— А дальше? — спросила Наташка.
Когда я гудела, этот человек в стеганой куртке совсем оставил газету и смотрел на меня очень внимательно и странно, и мне расхотелось рассказывать.
— Дальше я еще не дочитала,— ответила я.— Я сегодня дочитаю эту книжку и завтра тебе обязательно доскажу.
— А в какой книжке это напечатано? — спросил у меня человек в стеганой куртке высоким, совсем не мужским голосом.
Вообще-то я не люблю лгать, но у меня не было выхода.
— У нас дома есть такая книжка,— ответила я.— Только я не помню названия.
— А кто автор?
— Автора я тоже не помню.
Мы с Наташкой встали со скамейки, и человек в стеганой куртке тоже встал, снял очки и нерешительно сказал мне:
— Послушай, девочка... Я вообще не умею разговаривать с детьми. Но все-таки давай немного походим по садику и побеседуем.
— Не ходи! — вдруг уцепилась за мою руку Наташка.-- Может быть, этот дядя — садист.
88
Дядя, странно всхлипывая, засмеялся, а я покраснела и сказала Наташке, чтобы она не говорила глупостей.
— Все равно я пойду с тобой,—сказала Наташка, не выпуская моей руки.
Дядя сказал Наташке: «Молодец, так и нужно!» — и попытался погладить ее по голове, но Наташка отклонилась, и мы втроем пошли по садику.
Некоторое время мы шли молча, а затем дядя приостановился и сказал:
— Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Павел Романович. А фамилия моя Корнилов. Я писатель.
— Писатель? — сказала я.— А Алексеева вы знаете?
— Алексеева? Нет, не припоминаю. А кто он такой?
— Николай Иванович Алексеев. Он фельетоны пишет в газету и статьи.
— Нет, не знаю. Не читал,— сказал, как отрезал, дяденька.
Я подумала, что он, наверное, плохой писатель, если не
знает статей моего папы, которые все читали и которые всем нравятся, и мне даже расхотелось с ним разговаривать, но я все-таки спросила, где он живет, а он ответил, что в Москве. Тогда я спросила, бывал ли он прежде в Киеве, а он ответил, что был только до войны, и тогда я стала рассказывать, что с тех пор Киев очень переменился, что во время войны в Киеве было разрушено очень много процентов жилой площади, что город построен заново и что сейчас это город-сад.
Павел Романович слушал все эти вежливые разговоры с грустным и внимательным лицом, а потом спросил:
— А какого писателя ты больше всего любишь?
— Шевченко,— ответила я сразу.
— Тараса Шевченко? — удивился писатель.— Больше Пушкина, больше Лермонтова?
— Да,— сказала я.— Больше. Хотя, конечно, и Пушкина, и Лермонтова я тоже очень люблю.
— А почему, т—спросил писатель,— ты любишь Шевченко больше всех?
Мне было очень трудно рассказать об этом. Вообще я не знаю, можно ли объяснить это, но все-таки я сказала:
— Потому что Шевченко самый храбрый поэт* Он ничего
89
не боялся. Он всегда писал то, что думал. Я знаю много стихов из «Кобзаря» наизусть.
— А сама ты не писала стихов про Тараса Шевченко?
Я ответила, что писала, затем немного поломалась, совсем немного, и прочла стихотворение о Шевченко, которое я написала этим летом:
Он прятал от тюремщиков В голенище ие нож, а стих.
Радоваться нечему,
Но это — его стиль.
Не самолюбие автора,
А чистая вера в то,
Что можно приблизить завтра Залпом своих стихов.
Эта вера рождала Песню в зашитых ртах.
Буду об этом помнить И буду писать — так.
Павел Романович сказал, что это очень хорошие стихи, хотя технически они еще несовершенны, что во всем стихотворении строчки рифмуются, а в последней строфе «рождала» и «помнить» без рифмы, и попросил, чтобы я прочла еще какие-нибудь стихи.
То ли потому, что до сих пор никто не относился серьезно к моим стихам, то ли потому, что Павел Романович был писателем, а я еще никогда в жизни с писателем не разговаривала, я читала одно стихотворение за другим, а он больше не делал никаких замечаний и только кивал головой и говорил: «Еще».
Так я читала стихи очень долго, пока Наташка не сказала, что она уже хочет домой, и я тоже сказала, что мне надо домой, потому что я не сделала уроков.
Павел Романович спросил, кем я собираюсь быть, когда вырасту, и я ответила, что химиком.
Павел Романович сказал, что это очень хорошо, но что у меня будет еще время передумать, и спросил, не могу ли я дать ему на несколько дней тетрадку со своими стихами.
И тут я сделала большую бестактность. Вместо того чтобы пригласить писателя к себе домой, я сказала, что сейчас вынесу свою тетрадку.
Он это понял, но не подал виду и сказал:
90
— Мне за твои хорошие стихи и за твою хорошую сказку хочется сделать тебе подарок. Вот — возьми.
И он вынул из кармана и дал мне прекрасную самопишущую ручку зеленого цвета с прожилками и с золотым колпачком.
— Только прежде я запишу тебе свой адрес и свою фамилию, чтобы ты ее лучше запомнила и могла мне ответить на письмо, которое я тебе напишу.
Он вынул блокнот, взял у меня ручку, написал на листке свой адрес, телефон, фамилию, имя и отчество, а затем вернул мне этот листок и ручку и сказал, что подождет, пока я вынесу тетрадку.
Ручка мне так понравилась, что я даже забыла поблагодарить писателя за подарок и сделала это только тогда, когда уже вернулась с тетрадкой.
Писатель спросил, нет ли у меня второго экземпляра, и сказал, что стихи обязательно нужно записывать в двух экземплярах, что тетрадку мою он мне скоро вернет, и я с ним еще долго разговаривала о поэзии. И мне не хотелось уходить, но оп сказал, что мы еще встретимся, что мне пора за уроки. И когда я пришла домой, мама у меня спросила, почему я такая красная и возбужденная, а я сказала, что так, ничего, и села за физику.
Вечером, когда папа вернулся из редакции, я сказала ему, что познакомилась у нас в садике с каким-то человеком, по фамилии Корнилов и по имени Павел Романович, который называет себя писателем и подарил мне авторучку, но который не знает папу.
— Откуда же ему меня знать? — смущенно сказал папа.— Это очень большой писатель.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Можно повеситься — Коля опять получил двойку! По химии. Он забацаный. Это у нас в школе говорят: забацаный. Витя когда-то объяснил мне происхождение этого слова. Это когда в боксе кого-нибудь сильно стукнут, особенно в голову, и он
91
наполовину теряет сознание и идет не в том направлении, куда ему нужно, то о нем спортсмены говорят: забацаный.
Мы вместе учили химию. Дома он все знал, но как только вышел к доске, он стал путаться и говорить такую чепуху, что весь класс смеялся, и даже Евгения Лаврентьевна улыбалась, а Сережа, чтобы было еще посмешней, нарочно неправильно подсказал вместо окиси ртути окись магния, и у Коли не получался вес в кислородных единицах, а выходила какая-то бессмыслица. За такие подсказки надо бить морду.
Я в этот день, как назло, получила три пятерки: по химии, по английскому и по истории. И когда Коля подошел ко мне после уроков, я почувствовала себя перед ним как будто виноватой: ведь учили мы вместе, и знал он не хуже меня, и все- таки у него ничего не получалось.
— Останься в классе,— сказал Коля.— Поговорить нужно.
Я вышла со всеми, но уже внизу, в вестибюле, сказала ребятам, что не пойду с ними, потому что мне... тут я пробормотала: «Нужно еще по одному делу» — и вернулась в класс.
Мы сели рядом за нашу парту, на которой я теперь сидела одна.
— Больше я не пойду в школу,— сказал Коля.— Пошли они все к черту!.. Ни к чему мне эта ваша школа, и эта ваша химия, и эта ваша история, и эта ваша литература... И вообще я во всем разочаровался.
— Как — разочаровался? В чем?
— Во всем. Я не вижу, куда приложить свои силы, и мне ничего не интересно...
Мне очень не нравилось то, что говорил Коля. Очень не нравилось. Но я не знала, как его переубедить.
— Ты неправ,— сказала я наконец.— У тебя плохое настроение, потому что ты не сумел ответить по химии. Хотя и знал не меньше, чем на четверку.
— Нет,— сказал Коля,— химия тут ни при чем...
Все-таки ему было очень плохо. И чем ему помочь, я не
знала.
— Но ведь ты все знал,— сказала я Коле.— Ты просто боишься учителей.
— Я ничего не боюсь,— покраснел Коля.— Смотри! — Он
92
распахнул окно, и не успела я сообразить, что он собирается делать, как он вскочил на подоконник и выбрался на карниз — узкую кирпичную полоску, проходящую за окном.
— Вернись сейчас же обратно! — закричала я. Другую девочку, может, и восхитил бы Колин поступок, но меня он только обозлил. Я так закричала, что Коля сразу вернулся.— Это не храбрость,— сказала я.-^ Это чепуха, А вот когда тебя вызывают к доске, в тебе всегда появляется какая-то робость. И ты должен с ней покончить.
—= При чем тут робость? — о досадой сказал Коля.— И при чем тут учителя? У меня просто нет цели в жизни. Мне никем не хочется быть. Батя, например, хочет поступить заочно в педагогический институт и учить историю, а мне не интересна ни история, ни география, ни ваша химия.
Я смотрела на Колю с жалостью и интересом. Это был первый человек за всю мою жизнь, которому никем не хотелось быть. Конечно, он внешне был очень мало похож на Печорина, но, как Печорин, он был лишним человеком в нашем обществе и тоже во всем разочаровался.
— А как же будет с цирком? — спросила я.
— Что ж, в цирк, конечно, пойдем,— обреченно ответил Коля.
Билеты в цирк нам купил Богдан Осипович. Мне хотелось пойти в цирк, потому что я была в нем только раз за всю жизнь, и то в раннем детстве. Мои родители, вернее, моя мама не любит цирка, и поэтому мы в него никогда не ходили. И тут моя мама тоже стала говорить, что это неудобно, чтобы я ходила в цирк с каким-то мальчиком, что я еще маленькая, но папа предложил составить точный список, в каком бы указывалось, для чего я маленькая, а для чего большая, и мама, как она сама выразилась, «скрепя сердце»—когда я была меньше, я думала, что говорят «скрипя сердцем»,— разрешила мне пойти в цирк.
После школы я не стала заниматься е Колей, а направилась к Вите, где наши ребята сегодня собирались приготовить из чернильного прибора — бывают такие чернильные приборы из прозрачной пластмассы — полиметилметакрилат — очень ценное для наших опытов химическое вещество. Для этого нужно было построить специальную установку с холодильником и кон¬
93
денсатором готового продукта. В холодильнике я предложила использовать сухой лед, который всегда остается у мороженщицы в нашем гастрономе, и Витя, сказал, что это ценное рационализаторское предложение.
У Вити я застала только Лену Костину — впечатление было такое, словно она даже не заходила домой, а прямо пошла к Вите. Они о чем-то очень горячо разговаривали, может быть, даже обо мне, потому что, когда я вошла, сразу замолчали. Но мне это было безразлично.
Витя сказал, что Сережа и Женька Иванов отправились в экспедицию за сухим льдом, а он пока приготовит сырье. После этого он взял щипцы и молоток и стал разбивать на куски чернильный прибор, который мне было немножко жалко, потому что мы заплатили за него два рубля тридцать пять копеек, а с деньгами у нас по-прежнему было довольно туго. Кроме того, прибор этот был прозрачным, красивым и новеньким.
Пока Витя ломал чернильный прибор, Лена негромко у меня спросила:
— Ты занимаешься со своим Колей?
— Он такой же мой, как твой,— ответила я.
— Это неважно,— сказала Лена.— Я хотела тебе посоветовать... Вот вы зовете меня зубрилой — я знаю, я и в самом деле немножко зубрила. А почему? Потому что я в младших классах очень боялась отвечать у доски и все вызубривала. Теперь я уже не зубрю. Но Галеге для начала нужно просто зубрить уроки на память, как стихи.
Я заметила, что Витя прислушивается к нашему разговору, задрала нос и ответила, что мы обойдемся без зубрежки, но подумала, что Лена, может быть, не такой уж нечуткий человек, как мне это казалось...
В Витину дверь кто-то отчаянно зазвонил: надавил кнопку и держал до тех пор, пока не открыли. Мы все бросились в переднюю. За дверью стояли Сережа и Женька. Вид у них был испуганный, смущенный и довольный. Они достали сухого льда. Они напрямик объяснили нашей мороженщице, для чего им нужен этот сухой лед, и хотя мороженщица сказала, что химические опыты лучше делать с чистым мороженым, она им дала бесплатно несколько кусков cyxorQ льда.
94
И вот когда они вошли в Витино парадное и поднялись на второй этаж, они увидели, что уборщица поставила на площадке ведро с водой и моет в парадном окна и подоконники. Сережа тут же бросил в ведро кусок сухого льда, а затем они поднялись вверх и стали наблюдать, что произойдет дальше. Когда уборщица увидела, что в ее ведре вода бурлит, как кипяток, и из воды поднимаются клубы белого пара, она страшно испугалась и стала кричать: «Ой, лишенько, вода загоршася!» На ее крики из соседней квартиры выскочила старушка и стала говорить, что это, очевидно, не вода, а бензин и что нужно вызвать пожарных. Но мимо проходил какой-то дяденька, который засучил рукав, достал из ведра оставшийся там еще кусок сухого льда и объяснил женщинам, что сухой лед — это замороженный аммиак, который переходит прямо из твердого состояния в газообразное, и что сухой лед в ведро, очевидно, подбросили дети. Уборщица вспомнила, что тут проходило два «шибеника» — по-украински это-слово звучит не обидно и даже ласково, а по-русски грубо: шибеник — это висельник.
Они не успели закончить своего рассказа, как в дверь снова позвонили.
— Прячьтесь,— сказал Витя и пошел открывать.
Это была уборщица и еще какая-то пожилая женщина, очевидно соседка. Уборщица спросила:
— К вам не забегали два таких хлойчика — побольше и маленький?
Витя ответил, что никто не забегал. Тогда уборщица потребовала:
— А скажи: пионерское слово.
Витя дал пионерское слово, и тут уборщица закричала:
— Так, значит, ты и на пионерское слово брешешь! А я же знаю, что они у тебя прячутся!..
Совершенно непонятно, зачем она требовала, чтобы он дал честное пионерское. Но взрослые часто так поступают: заведомо зная, что кто-нибудь лжет, требуют у него слова, что ов говорит правду.
На весь этот шум вышла Витина бабушка. Она поговорила с уборщицей, сказала Сереже и Женьке, что им незачем прятаться, и поговорила еще с ними, и все это так спокойно, что
95
уборщица стала улыбаться, и мы тоже стали улыбаться. Она всех заражает своим спокойствием. Я думаю, это очень важно для государства, чтобы в нем были такие спокойные люди. Если бы их было побольше, то, наверное, никто бы ни с кем не ссорился и не было бы всяких преступлений.
Тем временем мы приготовили прибор для перегонки осколков чернильного прибора в полиметилметакрилат. Для этого мы соединили колбу из жаростойкого стекла с холодильником, который приготовили из коробки из-под ботинок. В эту коробку мы сложили сухой лед; Холодильник стеклянной трубкой мы связали с конденсатором — широкогорлой бутылкой из-под молока.
Шерсть, древесина, хлопок, каучук, смолы — не так уж много полимеров создала природа. Химики сделали намного больше. Я очень люблю читать романы и всякие другие книги, но мне кажется, что интереснее всего читать самый обыкновенный учебник химии. Вот есть такой замечательный рассказ — не помню, какого писателя,—который называется «Золотой жук». Там человек находит записку, написанную непонятными знаками, но постепенно он расшифровывает каждый знак и всю записку и благодаря этому находит клад. Но в химии на каждой странице приходится примерно таким же образом расшифровывать формулы, определять в веществе каждую молекулу, каждый атом, а клад можно найти более ценный, чем нашли в этом рассказе.
Мне не хотелось уходить, но нужно было еще готовить с Колей уроки, а потом идти в цирк, и я сказала, что мне пора домой. И только после этого решила заговорить о том, что собиралась сказать вот уже несколько дней.
— Надо взять в нашу компанию Колю, — сказала я твердо.
— А ты что, его адвокат? спросил Витя.
— Нет, не адвокат... Но Лену мы взяли.
— Лена — другое дело, — отрезал Витя. — А Коля пусть сначала химию подучит, чтоб хоть тройки были. А то он до сих пор не знает, как отличить кислород от водорода или как определить, кислота это или щелочь. А я это уже в первом классе знал или, может быть, еще в детском саду.
Витя, конечно, здорово знает химию, но и хвастается он тоже здорово.
•— Почему ты говорил, что мы все вопросы будем решать коллективно, а сам всем распоряжаешься один? — спросила я.— А как ты, Сережа, смотришь, если Коля будет с нами?
Сережа помялся и сказал довольно решительно, что Коля нам пригодится, особенно если учесть, что Петькина компания решила переловить нас всех поодиночке и как следует вздуть.
— А ты, Женька?
— Женька у нас еще не имеет права голоса,-- вмешался Витя.
Но обиженный Женька ответил ему:
— Я был «против», а теперь я назло тоже скажу «за».
А Лена, хотя я к ней не обращалась, сказала, что она согласна с Витей, что Коля должен сначала подтянуться по химии.
— И вообще,— сказал Витя,— этому Галеге головной мозг попался случайно, он бы мог вполне обойтись спинным,..
Я очень разозлилась и ушла. Дома я уже застала Колю. Мама пока использовала его физическую силу — он укреплял над окном карниз с чистыми занавесками.
Мы сели за уроки.
— Послушай, Коля,— сказала я.— А что, если тебе в самом деле хоть раз вызубрить уроки на память? Чтоб отвечать, не сбиваясь, как автомат... Это только для начала, а потом не нужно будет зубрить.
— Хорошо,— согласился Коля не слишком радостно и посмотрел на меня как-то странно.
Последнее время он иногда смотрит на меня так странно — глаза у него тогда бывают грустные и какие-то преданные. Я не хочу его обидеть даже про себя, но какие-то собачьи глаза. И мне, когда он так смотрит, очень хочется погладить его по голове. Черт его знает что такое!
Учить на память — это, оказалось, хорошая мысль, только для Коли, а не для меня. У него, оказалось, очень сильная зрительная память — прочитает страницу и как будто сфотографировал то, что прочел. Вот, например, выучив страничку учебника, он сразу мог сказать, что написано в третьей строчке, а что на восьмой строчке. В общем, я поняла, что ему здоро¬
97
во можно подсказывать. Например, негромко, будто бы про себя, сказать вслух: «Тридцать два дробь четыре». Это будет обозначать — тридцать вторая страница, четвертая строчка, и он сразу вспомнит, что там, и выпалит: «Такие личинки называются «фин». Мы как раз учили про солитера в зоологии.
Когда мы сделали уроки, я спросила у Коли, может ли оп таким же образом запоминать стихи.
— Какие стихи? — спросил Коля.
Оказалось, что он никогда не учил стихов наизусть.
— А вот такие,— сказала я и прочла на память стихотворение, которое недавно придумала:
Не поможет ни сила, ни меткость,
Ни уменье, ни твердость руки.
У дантесов тяжелые веки,
И у них под глазами мешки.
Знать, поэтам ни шпага стальная,
Ни винтовка, ни острый кинжал Не нужны, если их убивают За стихи, что разят наповал.
— Давай я его перепишу,— сказал Коля.— Мне легАе запомнить, когда я вижу это перед собой.
Я ему продиктовала стихотворение, и он сразу же отложил листок и прочел на память то, что я продиктовала.
— Здорово! — сказала я.-— А знаешь, чьи это стихи?.. Это — мои.
— Не может быть,— ответил Коля убежденно и, вдруг сообразив, что я бы не стала врать, сказал: — А я думал — это из учебника по литературе. Просто даже не верится.— И он снова посмотрел на меня грустно и восхищенно.
Я понимаю, что, наверное, слова «грустно и восхищенно» должны как бы исключать друг друга, но он посмотрел на меня именно так и сказал:
— Я навсегда запомню эти стихи.
В цирке мне больше всего понравились жонглеры. Это, по- моему, настоящее искусство, и оно учит нас, как много может достичь человек, если будет постоянно работать над собой. Коле больше всего нравятся воздушные акробаты. И мне бы они тоже, может быть, нравились, если бы они все это проде-
лывали не под куполом цирка, а на земле. Потому что мне совсем неприятно, если кто-то рискует собой, чтобы развлечь меня. И если мы отрицательно относимся к таким развлечениям, как сражения гладиаторов, которые бывали в древности, так почему мы одобряем гимнастов, которые перелетают с трапеции на трапецию, и достаточно им ошибиться на один сантиметр, чтобы разбиться?
Но хуже всего, по-моему, была женщина-змея. Смотреть, по-моему, на это стыдно и унизительно. Ну как это можно допускать, чтобы женщина просовывала голову между собственными ногами и смотрела назад в этой уродливой позе, а потом еще прыгала на руках, шлепая, как большая жаба!
Клоунов было три, и один из них, с грустным бледным лицом и рыжими в кудельках волосами, был по-настоящему смешным. Он подходил к артистам, служителям и даже к зрителям и все время задавал один и тот же вопрос: «Зачем ты это делаешь?» Все очень смеялись и ждали, когда он снова, как правило, в самую неподходящую минуту, задаст этот свой вопрос.
Наша русачка Елизавета Карловна говорит, что смех бывает умным и глупым. Так вот, на этот раз, мне кажется, смех был умным, потому что зрители емеялись не столько над клоуном, сколько над собой. Потому что у многих и о многом можно было бы спросить: «Зачем ты это делаешь?» — и не все смогли бы ответить на этот вопрос.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Взрослых все-таки нужно жалеть. Ведь, как правило, они умирают раньше нас. Поэтому не следует придираться к их ошибкам и, проще говоря, не стоит выходить из себя, если видишь, что слова у них расходятся с делом.
Мама очень не любит, когда я или папа болеем. А мне очень нравится болеть. И папе тоже. Только нам это редко удается. Мы все какие-то очень здоровые...
На этот раз папа заболел ангиной. У него повысилась температура до тридцати восьми градусов, и стало трудно глотать. Мама среди недели, а не в воскресенье, поменяла все постель-
99
ное белье — к папе должен был прийти врач. А папа лежал на белоснежной, накрахмаленной наволочке очень серьезный, очень важный и очень грустный, и незаметно мне подмигивал, и пил в постели чай с коньяком и лимоном.
— Как же ты здесь будешь один? — спросила мама.
— Не знаю,— ответил папа. И трагическим тоном добавил: — Но запомните, если я в ваше отсутствие умру, то трудно вам будет без меня, двум одиноким женщинам.
Мама сказала, чтобы я вернулась из школы пораньше, потому что я должна ухаживать за больным, а папа сказал, что раз в доме тяжелобольной, то я могла бы и вообще не ходить в школу, а ухаживать за ним. Но мама посмотрела сначала на его очень серьезное лицо, потом на мое очень серьезное лицо и сказала, что этот номер не пройдет и чтобы я отправлялась в школу.
В школе я просидела только четыре урока, а с двух последних — с географии и зоологии — отпросилась домой в связи с болезнью папы.
— А что с ним? — спросила учительница зоологии.
— Еще неизвестно,— ответила я.— Еще врач не приходил. Температура тридцать восемь.
У папы наверняка ангина, но я не сказала этого, потому что ангина слишком обыкновенная болезнь для того, чтобы отпустили с урока.
Я открыла дверь своим ключом, сняла пальто и тихонько вошла в комнату. Папа спал. Он любит поспать днем, только ему это редко удается. Я отправилась на кухню готовить нам еду: мама сказала — подогреть бульон и заправить его яйцом.
В нашей семье бульон с яйцом едят, только если кто-нибудь заболел, а обычно мы едим бульон отдельно, а яйца отдельно. Мама меня предупредила, что если яйцо выпустить в горячий бульон, то оно свернется, и поэтому нужно сначала смешать и взбить вилкой это яйцо в половине чашки холодного бульона, а потом вылить эту смесь в кастрюльку с горячим бульоном. Я все так и сделала и подогрела второе — жареную телятину. У папы во время болезни удивительный аппетит, он говорит, что чем у него выше температура, тем ему больше хочется есть.
100
Когда у меня все было готово, я нарочно уронила крышку от кастрюли на пол и понесла бульон в комнату. От грохота на кухне папа проснулся и сказал, что он не спал.
Не успел папа пообедать, как пришла участковая врачиха Фаина Семеновна. Она измерила папе температуру, посмотрела горло, сказала, чтобы он и дальше принимал этазол и пил горячее, и велела ему три дня лежать в постели.
Когда ушла Фаина Семеновна, папа закурил, но сейчас же погасил папиросу и сказал, что курить ему противно, а это первый признак того, что он по-настоящему болен, а так как он по-настоящему болен, то к нему нужно проявлять чуткость, и поэтому я должна его развлекать. Для начала «развлечения» он предложил сыграть в «буриме». Мы взяли по листику бумаги и карандаши.
— «Нету»,— сказал папа.
— «Поэту»,— ответила я и продолжала: — «Созвучья».
Папа ответил на это:
— «Получше».
Мы записали эти слова и стали сочинять на них стихи. У папы всегда очень ловко получается буриме. В этот раз он так написал:
Новых рифм в помине нету —
Очень плохо быть поэтом.
Все истрачены созвучья —
И похуже и получше.
А я так написала:
Смешнее человека нету,
Чем тот, кто хочет стать поэтом,
Чтоб целый день искать созвучья.
Быть химиком гораздо лучше.
Мы посмеялись сначала над тем, что он сочинил, затем над тем, что я сочинила, и стали играть в «типографию» — кто больше придумает слов из букв, заключенных в одном слове. Из слова «председатель» папа составил восемьдесят шесть слов, а я — двадцать семь. В «типографию» он всегда выигрывает.
— Ну, а что у вас в школе? — спросил вдруг папа.
101
— Ничего,—ответила я.—Опять получила тройку по сочинению.
— Почему?
Я рассказала, что Елизавета Карловна задала нам на дом написать сочинение на вольную тему — кому про что захочется. Я написала сочинение под названием «Золото и железо»,
— Покажи,— сказал папа.
Я дала ему свою тетрадку, и он начал внимательно читать. Вот что я там написала:
«Из золота делают разные драгоценные вещи, например кольца. У моей мамы есть золотое обручальное кольцо. И когда я была маленькой, оно мне очень нравилось, а теперь уже не нравится. Лучше бы кольца делали из железа, потому что когда хотят узнать, богатое какое-нибудь государство или нет, то спрашивают не про то, сколько оно имеет золота, а про то, сколько оно вырабатывает железа, потому что именно железо — самый главный металл.
А золото, которое называют благородным металлом, фактически металл кровавый. И правильно писали разные писатели, что золото принесло людям много неприятностей. Для того чтобы его получить, люди убивали друг друга, воевали друг с другом или продавали людей, как рабов. Я читала в какой-то книжке, что если бы все слезы, которые пролили из-за золота, собрать в одно место, то вышло бы целое море. Это объясняется тем, что за золото в капиталистическом мире можно все купить, то есть можно самому не работать, а жить за счет эксплуатации.
Мы с вами счастливые люди. Мы живем в новом, светлом, социалистическом мире. У нас хозяевами жизни, хозяевами страны являются не алчные хищники и стяжатели, а люди труда. В нашем новом мире все природные богатства, все достижения науки, техники, культуры служат народу, используются для того, чтобы жизнь людей становилась с каждым годом лучше, счастливее, интереснее, радостнее. Таков главный закон нашего светлого мира — мира социализма».
— Почему же тройка? — спросил папа.
— Елизавета Карловна сказала, что поставила бы мне пятерку,— ответила я,— так как тема моего сочинения правиль-
102
ная и оно идейно по своему содержанию, если бы я не списала конец из «Комсомольской правды». А мне никогда даже в голову не приходило, что Елизавета Карловна читает «Комсомольскую правду». А как можно запомнить, что где написано? Для этого все-таки надо иметь очень хорошую память.
— Оля Алексеева,— сказал папа,— это уже плагиат. Так ты, чего доброго, перепишешь «Белеет парус одинокий» и скажешь, что это ты сама написала.
На этом папа закончил нотацию, и мне показалось, что он совсем не огорчен моей тройкой. Мама мне это так легко бы не спустила.
Папа попросил, чтобы я ему дала еще чаю с лимоном и коньяком и положила побольше сахара. Он всегда кладет в стакан по шесть, а то и по семь кусков сахара. Не понимаю, как может мужчина быть таким сластеной. А когда я ему дала чай, он отпил немного и спросил, хочу ли я послушать, какую новую статью он собирается написать.
По-моему, он немного притворяется, когда задает такой
103
вопрос. On отлично знает, что больше всего на свете я люблю слушать его рассказы о статьях, какие он только задумал. В такие минуты я им особенно горжусь. Это и в самом деле здорово: тысячи и даже миллионы читателей еще даже не дбгады- ваются, что будет такая статья, ее еще не напечатали машинистки, не набрали наборщики, еще не оттиснули на газетных листах огромные, постоянно спешащие ротационные машины, лесоруб, может быть, только срубил дерево, из которого сделают бумагу, а я уже знаю, что будет в этой статье. Это все равно что заглядывать в будущее. Хоть краешком глаза, а заглядывать.
Эта статья будет называться «Существует ли любовь?»,— сказал папа и искоса, чуть прищурясь, посмотрел на меня.
Я сделала безучастное лицо. Мне было страшно любопытно, потому что я сама часто задумывалась над этим вопросом, но я боялась, что вдруг папа раздумает и прекратит рассказывать, хотя бы потому, что статья, судя по названию, относилась к числу таких, о которых на афишах кинотеатров предупреждают: «Детям до шестнадцати...» Хотя, с другой стороны, газета — это не кино, и ее может прочесть любой ребенок и даже первоклассник.
— Видишь ли,— сказал папа, устраиваясь в постели поудобнее,— в чувство дружбы государство не вмешивается. Это личное дело каждого — дружить ему с каким-то человеком или не дружить. А вот с чувством любви дело обстоит сложнее. Брак заключается или, во всяком случае, должен заключаться по любви. Семья представляет собой ячейку общества, как бы частицу государства. И вот Карл Маркс писал когда-то, что если бы брак не был основой семьи, то он так же не являлся бы предметом законодательства, как, например, дружба. Ты понимаешь это? — спросил папа.
— Понимаю,— ответила я не очень уверенно, потому что не знала, к чему он ведет.
— Но вот,— продолжал папа,— в нашу редакцию приходит много писем, в которых рассказывается, что с чувством любви у нас часто совершенно не считаются, как будто его не существует. В результате этого очень затруднены разводы в семьях,
104
которые фактически распались, а люди, не получившие формального развода, не могут на законных основаниях создать новую семью. Я расскажу в этой статье о мальчике, который в четвертый раз убегает из дому, потому что его родители постоянно спорят и дерутся между собой. И о детях, у которых в метрике вместо фамилии отца прочерк, потому что родители не смогли оформить развода. И, наконец, отвечу тем, которые возражают против того, чтобы облегчить расторжение браков, потому что от этого страдают дети... Действительно, всякий семейный разлад отзывается на детях. Но нужно еще разобраться, от чего дети больше страдают. Какое из двух зол большее — родители, которые не любят друг друга, часто ссорятся, скандалят и отравляют этим жизнь детей, или родители, которые хоть и расторгнут брак, но воспитывают детей в дружной новой семье. Ну и в конце сделаю вывод о том, что если любовь существует, так с ней уже приходится считаться... В общем, я вижу, что статью на такую тему тебе читать будет неинтересно.
— Нет,— ответила я не сразу.— Мне это интересно.— А потом вдруг спросила: — Значит, мой родной отец и мама спорили между собой?
Папа страшно растерялся.
— С чего ты это взяла? — сказал он наконец.— Ничего подобного... Они никогда не ссорились и очень уважали друг друга... А как это тебе удалось так рано вернуться сегодня из школы? — постарался он перевести разговор на другую тему.
Мне было неприятно, что папа так смущен и растерян, и, конечно, в другое время я тоже охотно перевела бы разговор на школу, но сейчас я решила выяснить все до конца.
— Меня отпустили,— сказала я.— Но скажи — когда журналист или писатель что-нибудь пишет, он всегда пишет как бы о себе?
— Да,— ответил папа твердо.— Всегда. Как бы он ни старался быть объективным, но все равно все, о чем он пишет, преломляется в нем, все видится его глазами.
— Но если мой родной отец и мама не ссорились между собой, почему мама его оставила?
105
Я сама не ожидала, что спрошу это так резко.
Папа лежал на кровати, опешивший, растерянный, несчастный, с высокой температурой.
— Откуда ты это знаешь? — спросил он, не глядя на меня.
— Он приезжал недавно. Я с ним виделась.
— Это очень сложно, — сказал папа и посмотрел мне прямо в глаза.— Боюсь, ты меня не поймешь. Я очень люблю твою маму. Понимаешь... Можно быть счастливым человеком в самом черном государстве и несчастнейшим при самом справедливом строе. Многое зависит от того, кто рядом с тобой. А и я и твоя мама можем быть счастливыми, только если мы будем вместе.
Он так сказал это, что у меня сдавило горло. Кажется, я заразилась от Колиной мамы ее болезнью.
— И все-таки,— сказал папа,— ты маме не говори, что знаешь об этом. Ей будет неприятно.
— А я и не собиралась,— ответила я.
— И приготовь мне, пожалуйста, еще чаю.
Папа снова закурил, глубоко втягивая в себя табачный дым. Я все-таки больше похожа на папу, чем на маму. Хотя он мне и не родной отец. Я имею в виду не лицом, а в моральном отношении. У меня тоже недостаточная сила воли.
Папа бросал курить уже, наверное, сто раз. Делал он это всегда торжественно и жизнерадостно.
«Больше я не курю! — объявлял он маме и мне.— Для чего мне отравлять собственные легкие ядом, каплей которого можно убить голубя, кролика и даже лошадь. Ученые подсчитали, что процент заболеваний раком у курящих намного больший, чем у людей, которые, как ты и Оля, никогда в жизни не курили. Это последняя сигарета».
И он закуривал эту «последнюю» сигарету, а всю остальную пачку выбрасывал в мусоропровод, или в урну, или просто в Днепр — в зависимости от того, где это происходило.
Затем папа каждый день объявлял: «Четвертый день не курю! Пятый день не курю!» Так доходило до сорока дней. Но после этого он неизменно снова начинал курить и очень сердился, если ему напоминали, что он обещал больше никогда этого не делать.
Я похожа в этом на него. Сколько раз я решала, что буду
106
готовить как следует все уроки, что буду устные готовить так же старательно, как письменные, что не буду рассчитывать на то, что меня не вызовут. И все равно — я не уверена, что делала это хоть сорок дней подряд.
Но дело не в этом. Дело в том, что, как ни странно, с папой мне легче разговаривать, чем с мамой. А сегодня я еще раз убедилась: он мне как-то ближе и понятнее.
И еще одно: я не могу этого объяснить, я это только чувствую, но мне кажется, что папа хочет написать эту свою статью о любви, чтобы оправдаться перед самим собой. А маму он очень любит. И меня. И это очень здорово!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Коля был недоволен отметкой. Он и не скрывал этого. Садясь за парту, он так хлопнул крышкой, что учитель истории Михаил Иванович вскинул голову и так посмотрел на Колю, что я подумала, что он выставит его из класса, и дернула Колю за рукав, но учитель помолчал минутку и продолжал урок.
Все-таки в последнее время Коля стал придавать слишком большое значение отметкам — четверка по- истории его уже но устраивала. Конечно, если разобраться по справедливости, так отвечал Коля на пятерку. Михаил Иванович поставил ему четверку, по-моему, только потому, что некоторое время болел, не ходил в школу и привык еще к старой Колиной репутации двоечника.
Теперь я понимаю, какая это прочная штука — репутация, как медленно она складывается и как трудно меняется. На том же уроке истории вызвали Лену. Она явно не выучила, путалась, сбивалась. И все равно Михаил Иванович поставил ей четверку. Вот что значит репутация отличницы.
У нас было родительское собрание. Мама вернулась с него очень мной довольная: Елизавета Карловна хвалила меня, говорила, что у меня будто бы большие педагогические способности, что во мне произошел какой-то перелом, что я стала значительно серьезнее, чем была прежде, и очень хорошо сумела помочь Коле Галеге. Потом Колина мама благодарила мою
107
маму и говорила ей, что когда я прихожу, так у них дома от этого праздник.
Мама тут же добавила, что если у меня не будет головокружения от успехов п если я и дальше буду так же серьезно относиться к учебе, то я еще выйду в отличницы и докажу, что я не хуже Лены, которую по-прежнему ставили всем в пример.
А по-моему, это совершенно не нужно доказывать. Все и так знают, что я не глупее Лены Костиной и ум тут совершенно ни при чем, а просто Лена Костина старательнее меня и многих других и, очевидно, способнее к наукам. Она, правда, меньше других способна к химии и этим напоминает Колю, который теперь, как и Лена, вошел в нашу компанию и которому, как и Лене, скучновато, когда мы обсуждаем химические вопросы.
На днях Коля сказал мне:
— Хорошо учиться — очень просто. Не нужно для этого никаких особенных способностей. И совершенно ни к чему зубрить. Достаточно ежедневно готовить уроки. И все. Жалко мне теперь, что я потерял год.
Черт его знает зачем, но я сказала:
— Значит, тебе больше не нужна моя помощь?
Нет, мама была все-таки права насчет головокружения от успехов. Я быстро привыкла к тому, что Колины пятерки все, и особенно он, связывали с моим участием.
— Нет, не нужна,— отрезал Коля.— И я тебе скажу — мне надоело, что ты всюду хвастаешь. И что на меня смотрят, как на ученую собаку, а на тебя, как на дрессировщика. Хватит. И сидеть с тобой я тоже больше не хочу.
— Ну и не сиди,— сказала я.— Я тебя не звала.— И добавила:— Самшитик.
Коля странно посмотрел на меня и очень покраснел. Если бы, конечно, это сказала не я, а кто-нибудь из мальчишек, сейчас бы тут была хорошая драка. Я даже думала, что он и меня ударит, и мне хотелось этого. Если бы он меня ударил — я была бы права. Но он отвернулся от меня и пошел, но вдруг возвратился, посмотрел на меня с презрением и сказал:
— Эх, ты... А я тебя человеком считал... А ты занималась со мной, чтобы тебя похвалили... что ты помогаешь отстающему...
108
И ушел. А я немного поплакала и тоже пошла домой. Я открыла дверь своим ключом и вошла в переднюю. Когда я разделась, я заметила, что мамино пальто висит на вешалке.
Значит, что-то случилось. Я вошла в комнату и увидела, что мама переодевается. Тут мама — как была, в одной комбинации — схватила меня за руки и закружила по комнате. Я кружилась очень неохотно. Мама отпустила меня и сказала:
— Ну, Лялька, поздравь меня и себя тоже — на зимние каникулы мы с тобой и с папой поедем в Москву. Наш проект получил на всесоюзном конкурсе первую премию.
Мамин отдел проектировал для целины типовые зернохранилища, мама последнее время очень много работала и очень волновалась из-за своей работы.
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш — есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы,—
вдруг запела мама свой любимый «Марш энтузиастов». Когда у мамы веселое настроение, она сразу вся как-то хорошеет и становится удивительно, ну просто редкостно красивой.
Многие ребята из нашего класса уже побывали в Москве. И мне тоже очень хотелось побывать в Мавзолее Ленина и в Кремле и посмотреть на кремлевские звезды. Я так много раз видела Москву в кино, что мне кажется, я буду узнавать улицы. Здорово будет, если я тоже побываю в столице нашей Родины.
— Хочешь посмотреть, что я тебе купила? — спросила мама. И она, все еще неодетая и необутая, в одних чулках, подбежала к своей сумке и вынула оттуда серую небольшую коробочку.— Держи. Это тебе. Подарок...
Я открыла коробочку. Там лежали часики, такие маленькие, что у них не было даже секундной стрелки.
— Сегодня купим ремешок, и будешь их носить. Только не в школу. Я свои первые часы получила в шестнадцать лет. И не такие,— сказала мама.— Намного хуже. А сейчас переоденься быстренько. Скоро придет папа, и отправимся обедать в ресторан.
109
— А уроки? — спросила я.
— Сделаешь позже,— сказала мама.— Может, хочешь пригласить с собой своего Колю?
— Нет, — ответила я, — он такой же мой, как твой. И я не хочу никого приглашать.
— Поссорились? — спросила мама.
— Нет,— сказала я.— Я ни с кем не ссорилась.
Я ответила так резко, что мама посмотрела на меня и сказала. сквозь зубы — она причесывалась и в губах держала заколки:
— Очень ты все-таки тяжелый человек. Любую радость можешь испортить. Другая девочка не так бы обрадовалась таким часам. И уж, во всяком случае, поблагодарила бы за них.
— Спасибо,— сказала я.— Я просто...
Я не хотела огорчить маму. Я в самом деле была рада ее подарку и благодарна ей. Мне всегда, хотелось иметь такие маленькие часики. Просто сегодня... А кроме того — куда же их еще надевать, как не в школу? Ведь именно в школе хочется, чтобы у тебя на руке были часы, чтоб посмотреть, много ли еще осталось до конца урока, успеет ли тебя учитель вызвать. А когда я сижу дома, они мне ни к чему — у нас будильник,, и еще такие круглые часы на шкафу, и настенные на кухне. И на улице теперь часы на каждом углу, возле почты и во многих витринах. Я думаю, что у людей, которые живут в большом городе, наручные часы являются скорее украшением, чем измерителем времени. Потому их стараются делать такими красивыми, и даже есть уже кольца с часами.
— Ох, Лялька! — сказала мама, надевая свой синий костюм джерси.-- Все люди строят воздушные замки, но при малейшем ветерке они разлетаются. И только мы, наша проектная группа, решили создать такой воздушный замок, чтобы он стоял, как каменный. Наш склад будет построен из воздуха... Представляешь себе — огромные капроновые полотнища, под которыми будет поддерживаться давление немного выше атмосферного. Такой склад будет в двенадцать раз дешевле самого дешевого из существующих теперь, а кроме того, его легко перевезти на другое место и поставить можно буквально за день... Так что у тебя в школе?
110
— Ничего. Все благополучно.
— Брось, брось. Я тебя насквозь вижу. Покажи дневник.
Я показала.
— По физике пятерка. И по географии? И даже по геометрии? Молодец, Лялька!.. Так чем же ты недовольна?
— Я всем довольна.
— Ну, иди переоденься. С тобой не договоришься... Папа сейчас придет.
Примчался папа, веселый, красивый, нарядный — он купил себе такое коротенькое пальто из какой-то синтетики,—и закричал на нас:
— Милые дамы, подгоните ваших портных, парикмахеров и сапожников, потому что внизу ждет такси, и счетчик в этом такси крутится с нездешней силой.
Папа нас растормошил, мама докрашивала губы уже на лестнице, а папа тем временем говорил:
— Есть у американцев
такая паршивая пословица: время — деньги.
Обычно этого как-то не чувствуешь. Но до тех пор, пока ты не просишь
таксиста подождать то небольшое время, какое требуется жене, чтобы накрасить губы и примерить пяток платьев.
— У меня всего пять платьев,— с обидой сказала мама.
— Ой ли? — ответил папа.
— Но как ты догадался? — счастливо рассмеялась мама.— Именно пять новых платьев я себе собираюсь сейчас сшить. Да самых модных! А тебе — новый костюм. Ты видел, какие я часы Оле купила?
— Нет. Когда же я мог?
— Нужен ремешок. Надо было взять часы с собой. Купили бы ремешок по дороге.
— Я сбегаю, — предложил папа.
— Ладно, потом,— ответила мама.
Мы сели в такси. Как всегда, мама и папа сзади, а я впереди, рядом с шофером.
— В ресторан «Динамо», — сказал папа водителю, пожилому человеку, который очень недовольно покосился на меня, когда я завертела ручку, открывая окно со своей стороны.
Машина тронулась, а я все раздумывала о том, как же будет с Колей. Конечно, если бы я рассказала маме о нашем разговоре, то она ответила б, что я сама виновата, потому что я его обидела. Но ничем особенным я его не обидела. Ему часто говорили «Самшитик», да и теперь говорят, и никогда он не обижался. Он просто стал теперь таким обидчивым. Успех меняет людей. И не всегда к лучшему. И мне очень захотелось, чтобы Коля, после того как поссорился со мной, снова начал получать двойки. Вот тогда бы он узнал. И все бы увидели, что хорошо учиться он начал под моим влиянием.
— Коля тебе ничего не говорил? — неожиданно спросил папа.
— Нет, — ответила я недовольно, потому что мне показалось, что он будто подслушал мои мысли.
— Значит, он ничего не знает... А тебя ждет большой сюрприз.
— Какой?
— Сюрприз имеет такое название потому, что должен быть неожиданным. Но я тебе расскажу,— сказал папа, расплачиваясь с водителем.— Пойдемте?
112
Он взял под руку маму и меня, а мы с мамой почти одного роста, и повёл нас вверх по длинной и широкой лестнице к ресторану «Динамо».
В ресторане, когда мы уже сели за столик и когда наш знакомый официант, совсем молодой человек, подстриженный ежиком, по имени Федор Павлович, спросил у мамы, как ее здоровье, хотя мама никогда и ничем не болеет, спросил у меня, не именинница ли я сегодня, сказал папе, что погода портится, и посоветовал нам взять на обед беф «Динамо» — я только видела это блюдо, а никогда его не ела — это такое мясо, запеченное в горшочках, а сверху горшочки накрыты белым тестом*— папа сказал, чтобы нам дали этот беф «Динамо» и еще бутылку мускатного шампанского, а потом уже рассказал мне, что он как депутат горсовета выступил на заседании комиссии, которая занимается жилищным вопросом, и сказал, что родители Коли живут в плохих квартирных условиях и что Колина мама, Елена Евдокимовна Лукашенко, герой Отечественной войны, и им уже выделили квартиру в новом доме, в нашем же районе, почти против нас, и что дом этот на днях будет принят государственной комиссией и заселен.
Папа никогда прежде не говорил, что он депутат городского Совета. Я об этом даже не догадывалась. А мама смотрела на папу смеющимися влюбленными глазами и говорила, что он молодец, что это он сделал замечательное дело, что она хочет выпить шампанского за то, что он такой хороший, и чтобы он всегда был таким, а папа смущенно отмахивался и говорил, что она его напрасно хвалит, что он зазнается и перестанет узнавать знакомых, а также слушаться жену и других начальников, а я смотрела на них, и мне было завидно, что им так хорошо и весело.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Все-таки очень приятно умываться собственным мылом. Наверно, на всем земном шаре не много найдется людей, которые могли бы этим похвастаться.
Мыло приготовила я сама. Я положила в эмалированную
g Библиотека пионера, т. 12 ЦЗ
кастрюлю топленое масло. Мама говорила, что его все равпо нужно выбросить, потому что оно црогорклое. Масло это я залила раствором едкого натра. Раствор был примерно сорокапроцентный. Я сварила этот состав, все время добавляя в него воду и помешивая деревянной ложкой. Затем я добавила в кастрюлю раствор обыкновенной кухонной соли, и на поверхности выделился слой мыла. Это мыло я собрала и отжала через марлю, а потом спрессовала его, положив между двумя слоями фанеры и усевшись сверху. Получился такой мыльный блин. Да, чуть не забыла, я добавила в это мыло мятных капель, и у меня мыло — мятное. Пена даже холодит кожу.
Я умылась собственным мылом, выпила стакан молока, съела ломтик хлеба, намазанный маслом и медом, и пошла в школу с готовым планом, как отомстить Коле. На эту мысль меня натолкнули «Приключения Тома Сойера». Я давно эту книжку читала, но хорошо помню, как там Бекки, когда обиделась на Тома, стала разговаривать с каким-то мальчишкой, которого Том вздул.
Вообще это очень хорошая книжка, и там много полезного. Непонятно только, какого возраста этот Том Сойер. То он ведет себя, как первоклассник, то вдруг вступает в «Общество трезвости», как взрослый, то рассуждает, как маленький ребенок, то как вполне разумный человек. Нет, я понимаю, что это может быть: я замечала, что мри одноклассники иногда рассуждают, как маленькие дети, а иногда — как старики, но все-таки хотелось бы точно знать, сколько лет ему было, когда он с Геком Финном нашел в пещере сокровища.
Я шла очень медленно и пришла к самому началу урока. Коля уже был в классе. Он вернулся на заднюю парту. Я этого ожидала и все-таки надеялась, что он этого не сделает.
Я села на место и услышала, как в классе зашушукались.
На первом уроке наш математик Климент Ефремович вызвал меня и задал задачу — довольно простую, я знала, как ее решить, но все равно она у меня не получалась, потому что я допустила глупую арифметическую ошибку: от 82 отнять Ия написала 72, и из-за этого вышел неправильный результат.
А сбилась я потому, что в классе, пока я отвечала, время от времени возникал, как говорит Елизавета Карловна, «нездо¬
114
ровый смех». Смех этот вызывал Сережа. У него насморк, и он научился каким-то особым образом сморкаться в платок. При этом он носом издает звук, похожий на звук трубы — вначале низкий и громкий, а заканчивается он таким тоненьким писком.
Если бы кто-нибудь другой так высморкался, то не обратили бы внимания или удивились и даже сказали, что так сморкаться неприлично. Но когда это делает Сережа, все вокруг смеются и считают, что это очень остроумно, потому что все и всегда ждут от него смешного. И он так к этому привык, что когда хочет сказать что-нибудь серьезное, а вокруг смеются, так он уже даже не обижается.
Климент Ефремович несколько раз подозрительно посмотрел на Сережу, но промолчал. У Сережи в самом деле был насморк, и, очевидно, Климент Ефремович не решился делать замечание человеку за то, что тот странно сморкается. Затем оп просмотрел на доске мое решение и спросил:
— В чем тут ошибка? Кто скажет?
В классе первыми поднялись две руки: Лены Костиной я Коли Галеги.
— Вот, значит, как? — удивился Климент Ефремович.— Ну скажи, скажи,— предложил он Коле.
Коля сказал, что я неправильно отняла и что поэтому результат у меня получился неверный.
— Так,— сказал Климент Ефремович.— Нужно быть внимательней. Дай дневник.
Я дала дневник, и он мне все-таки поставил четверку. Я много раз замечала, что Климент Ефремович ко мне несправедлив. Но в хорошую сторону. Он мне всегда завышает отметки. Другому бы он поставил тройку.
Я не знаю, почему он так ко мне относится, но я много раз замечала, что обычно глаза у него усталые и какие-то отрешенные, какие-то погруженные в себя, а когда он посмотрит на меня, глаза у него всегда веселеют. Но вот то, что Коля первым поднял руку, это уже, по-моему, просто свинство. Подумаешь — отличник... Если бы он ошибся, я бы так не сделала.
На переменке Коля вышел из класса вместе с Леной, а когда я тоже вышла в коридор, то услышала, как Лена оживленно и громко говорит Коле:
115
— Нет, нет... Совсем не так. И «гуд найт» и «гуд бай» при прощании обязательно нужно произносить с восходящим тоном. Если их произносить, как ты и некоторые другие, с нисходящим тоном, то это у англичан считается очень грубо и невежливо и обозначает «идите вон, а я с вами больше не хочу разговаривать»...
Следующий урок у нас английский, мы этого не учили, и я по правде не знаю, чем отличается восходящий тон от нисходящего.
«Ну что ж, ладно»,— решила я и стала разыскивать Сережу, чтобы привести в исполнение план, подсказанный мне «Томом Сойером».
— Оля,— сказал Сережа,— а я тебя как раз ищу. Пошли в медпункт. Поможешь мне. Подержишь меня за ноги.
— Зачем — за ноги?
— Ну, пока мне будут капли в нос закапывать. А то я сам не удержу стойку на руках.
Мы пошли в медпункт, и наша докторша, вместо того чтобы выставить нас за дверь, сначала посмеялась, а потом действительно согласилась закапать Сереже нос в положении вниз головой, заметив при этом, что так капли в самом деле не вытекут из носа и попадут, куда им нужно.
Сережа вышел из медпункта на руках. За дверью его ждала восторженная толпа пятиклассников во главе с Женькой Ивановым. Я еще не видела, чтобы человека так обожали, как пятиклассники Сережу. Они смотрят на него, как на бога. Если бы Сережа вздумал, они бы его носили на руках. Никто так не ценит смешного и не нуждается так в смешном, как пятиклассники.
— Послушай, Сережа,— сказала я.— Может, ты пересядешь за мою парту?
Сережа посмотрел на меня очень понимающими, очень умными и даже сочувственными глазами, но сейчас же скорчил шутовскую физиономию и ответил:
— Сначала мне следовало бы поступить в секцию бокса, потому что драка с Самшитиком — не шутка. Но я никогда не забуду, как ты со мной поделилась последним бутербродом, и поэтому готов для тебя на все.
116
Позавчера я на переменке только развернула и положила на парту бутерброд, чтобы съесть его, как Сережа незаметно стащил мой бутерброд и съел его сам.
На следующем уроке была русская литература. Хорошие ребята учатся в нашем классе. Все сделали вид, что в том, что Сережа пересел за мою парту, нет ничего особенного. И даже Елизавета Карловна сделала вид, что ничего не заметила. Хотя этого я уж никак не ожидала. Елизавета Карловна не любит, чтобы ученики в ее классе меняли места без ее разрешения.
Елизавета Карловна рассказывала нам о формах поэзии и о белом нерифмованном стихе, который требует от поэта еще большего мастерства, чем рифмованный стих. В пример она приводила лермонтовскую «Песню о купце Калашникове».
— Можно вопрос? — сказал Сережа и поднял руку.
— Какой вопрос? — спросила недовольно Елизавета Карловна.
— Я не знаю, как поэтам, а мне очень легко сочинять белые стихи,— сказал Сережа.— Я могу переложить в белые стихи любую газетную статью или даже учебник.
— Что за чепуха! — сердито посмотрела на Сережу учительница и, как всегда, поморщив нос, передвинула чуть выше очки.
— Пожалуйста,— сказал Сережа, раскрыл учебник литературы и стал читать с огромным пафосом, повышая голос на концах строк:
Художественная литература, живопись, музыка,
Театр, кино, танцы, архитектура, зодчество, скульптура —
Всё это различные виды Искусства. Художественна- Я литература состоит Из произведений, напй- Санных писателями — пбэ- Тамй, прозаиками, дра...
Все сидели совершенно огорошенные не столько самими стихами, сколько горячностью, с которой их произносил Сережа, а кто-то даже подвывал от удовольствия.
117
— Хватит, хватит,— сказала Елизавета Карловна, но Сережа, как поэт в порыве вдохновения, в позе Пушкина со знаменитой картины — Пушкин на лицейском экзамене — продолжал:
Матургами. В этйх произведениях, как и в других ви- Дах искусства, в художественной Форме в образах отра...
— Хватит,— сказала Елизавета Карловна.— Мы уже насладились твоими стихами. Садись.
И, когда Сережа сел, она продолжала:
— Вот, ребята, Сережа привел очень яркий пример к тому, что я говорила. Как видите, одной перестановкой ударений нельзя сделать стихов из прозы. Однако если бы он не импровизировал, а подготовился как следует дома, ему, возможно, удалось бы даже зарифмовать между собой строки, которые он нам читал. Но и от этого они не стали бы более поэтическими. Как я вам объясняла, поэзия —- это не ритм и не рифма, а прежде всего мышление образами.
Елизавета Карловна продолжала урок, но я отвлеклась и некоторое время не слышала того, что она говорила, потому что задумалась о ее словах. Я совсем не понимаю, что значит «мышление образами». По-моему, все люди мыслят образами. Даже при решении арифметических задач. Даже цифры можно себе представить в виде образов. И я начала складывать в голове сказку о цифрах.
Когда-то королевство цифр,
Своих соседей покорив,
На зависть и на страх врагам,
Тра-та-та-там, тра-та-та-там...
Царящею, держащей власть Династия 1 была.
Царь, выступая, гордо нес
Свой длинный, тонкий, острый нос,
Его министр первый — 2.
Он, говорили, голова.
И вправду, голова его Министра больше самого.
Но шел слушок из уст в уста,
Что голова его пуста.
Затем что-то такое про 3 и 4, а потом:
118
Богаты страшно 5 и 6 —
Имений, фабрик их не счесть.
Тот и другой вперед несет С огромной важностью живот.
Из 7 надо будет сделать военного.
А 8, 9 — те купцы,
В их магазинах леденцы,
Автомобили «кадиллак»,
Идут отлично их дела.
А нуль сделаем ученым. Толстым и добрым ученым.
Профессор — старый толстый нуль.
Старик боится свиста пуль,
Автомобилей, лошадей,
Дам, жаб, мальчишек и т. д.
«И т. д.» или иначе «и так далее», как любит говорить мой родной отец.
Я подумала о том, что нужно будет написать в Новосибирск письмо. Написать, чтобы отец прислал мне свою фотографию и фотографию своих детей, раз уж они мне какие-то родственники. Что я живу очень хорошо, и увлекаюсь химией, и всем довольна.
И еще я подумала, что если бы за моей партой сидел Коля, то я бы ему шепнула: «Я решила написать письмо своему отцу в Новосибирск», а он бы не удивился, кивнул головой и тихо ответил: «Ну что ж, напиши». А Сереже я этого не могла сказать.
А потом уже я подумала, что из меня никогда не будет хорошей ученицы, потому что, пока я все это думала, урок закончился, а я почти ничего не слышала и не запомнила.
После уроков Коля, Витя, Сережа и Лена как ни в чем не бывало пошли вместе домой, и моя выдумка с «Томом Сойером» ничего не дала, а я осталась в школе, чтобы повидаться с Евгенией Лаврентьевной.
Мне всегда нужна теория. Когда мне было четыре года (я хорошо помню, в четыре года меня отдали в детский сад), я
119
услышала от соседской девочки, что вода состоит из газов: из водорода, который так называется потому, что родит воду, и кислорода. Если их соединить и пропустить хоть маленькую искорку, раздастся взрыв и получится капля воды.
Я тогда же сложила для себя теорию, что тучи состоят из газа, я даже знала, что белые — это водород, а черные — кислород и что когда между ними проходит искра — молния, то раздается взрыв — гром и падают капли воды.
Я была настолько уверена в правильности этой своей теории, что узнала, как получается дождь на самом деле, значительно позже, чем нормальные дети,— кажется, только в четвертом или пятом классе, когда нам рассказывали об этом в школе.
Сейчас у меня новая теория, и я хотела посоветоваться о ней с Евгенией Лаврентьевной.
Я долго ждала за дверью, пока уйдут ученики из разных классов, которые после уроков всегда остаются в лаборатории, задают Евгении Лаврентьевне вопросы, проводят опыты, которые их интересуют.
Наконец они стали выходить, но Евгения Лаврентьевна вышла вместе с ними. Однако когда она увидела меня, она спросила: «Ты ко мне, Оля?» — и вернулась в лабораторию. А я за ней.
— Что у тебя такое? — спросила Евгения Лаврентьевна чуть ворчливо, но на часы не посмотрела. Она никогда не смотрит на часы, если разговаривает с ребятами.
Я сначала расспросила Евгению Лаврентьевну, что такое «губчатая платина», а она спросила, где я встретила это название, и рассказала мне, что это такое, а потом уже я сказала:
— И еще я хотела у вас спросить... есть ли ученая формула про то, что такое любовь и отчего она происходит?
— Формула? — удивилась Евгения Лаврентьевна.— По- моему, нет. Я, во всяком случае, не знаю такой. А у тебя на этот счет появилась новая теория?
— Да,— сказала я.— Химическая. Мне кажется, что это — как соединение химических элементов в какое-то вещество... Или, вернее, двух веществ в одно новое. В одном не хватало
120
одних элементов, в другом — других элементов, а когда они соединяются, они как бы дополняют друг друга. И любовь тоже, может быть, появляется, когда в одном человеке не хватает одного, а в другом другого, и они это чувствуют и как бы тянутся друг к другу.
— Нет,— сказала Евгения Лаврентьевна,— это значительно сложнее в химии, а уж в жизни — и говорить не приходится... Ты пишешь стихи?
— Да,— ответила я.— Пишу.
— Прочти мне что-нибудь на память.
Я прочла Евгении Лаврентьевне стихи про Буратино и про Тараса Шевченко. Она слушала очень внимательно и, как говорит в таких случаях мой папа, уважительно, а потом сказала:
121
— Я не считаю себя знатоком поэзии, и поэтому мое мнение не может иметь особой цены. Но мне твои стихи понравились, и я думаю, что тебе следует продолжать их писать... Ну, а теперь, если у тебя нет других вопросов, пойдем домой.
И уже по дороге она сказала:
— Писатели иногда каким-то удивительным образом догадываются о том, что лишь впоследствии открывают ученые. Вот, например, ты читала «Путешествие Гулливера» Свифта?
— Читала.
— Я не знаю, обратила ли ты на это внимание, но Свифт упоминает там, что у Марса есть два спутника. Тогда еще не было телескопов и люди не знали о спутниках Марса. Но впоследствии ученые установили, что у Марса действительно есть два спутника — Деймос и Фобос. Как об этом мог догадаться Свифт — неизвестно до сих пор.
Она замолчала, и я подумала, что она сейчас расскажет о своей теории, откуда это могло быть известно Свифту, но вместо этого она сказала:
— Или вот ты еще будешь изучать роман Чернышевского «Что делать?». В этом романе Чернышевский назвал алюминий металлом социализма и говорил, что в будущем будут сооружаться громадные дома с массой света и воздуха из алюминия и стекла. В те времена, а роман этот был написан в начале 1863 года, алюминий считался драгоценным металлом и стоил примерно столько же, сколько золото. 4£ще через шесть лет после того, как был написан роман, в Лондоне побывал Менделеев, и ему в знак признания его заслуг в развитии химии был сделан особо ценный подарок — весы из золота и алюминия. А сегодня наш Дворец спорта в самом деле построен из алюминия и стекла. И алюминий действительно стал «металлом социализма»...
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Это называлось «торжественная линейка». Но нас просто всех собрали в школьный зал, а на сцене двое военных — об одном из них Витя шепнул мне «полковник», а о другом — «ка¬
122
питан» — дали Юре Дроботу из 6 «А» класса именные часы и грамоту.
Юра, тихий мальчик в очках и с «собачьим прикусом» — нижние зубы у него выдаются вперед,— сказал в ответном слове, что он ничего особенного не сделал и что так же, как он, поступил бы на его месте каждый пионер, а мы все аплодировали ему и немного завидовали.
Конечно, Юра сказал неправду. Так бы поступил не каждый. Во всяком случае, до того, как это сделал Юра. Но теперь, после того как он совершил свой героический поступок и показал пример, я думаю, что в самом деле так бы поступили многие школьники. Хотя для этого нужна, конечно, настоящая храбрость.
Юра Дробот шел в школу и увидел, как из окна высокого нового дома валит дым. Он поднялся на четвертый этаж, где была квартира, в которой что-то горело, и стал звонить и стучать. Но ему никто не открывал. Тогда он вбежал на этаж выше и позвонил в дверь. В той квартире была только старая бабушка — дети ушли в школу, а взрослые на работу.
Юра Дробот попросил у бабушки крепкую бельевую веревку, привязал ее к перилам балкона, спустился по веревке на четвертый этаж, выбил в двери на балконе стекло, открыл эту дверь и вошел в квартиру, полную дыма. Он пробрался через дым на кухню и увидел, что там уже горит стол, на котором забыли включенный электрический утюг. Юра залил стол водой и выключил утюг. А утюг, как потом выяснилось, даже не испортился —- такие теперь делают хорошие утюги.
Вот за это Юру и наградили. И вполне заслуженно, потому что очень страшно, наверное, было ему спускаться с пятого этажа на четвертый и лезть в дым. Но он сказал, что сделал это, не дожидаясь ничьей помощи, потому что очень спешил.
Соседская бабушка сказала ему, что там, кажется, остался ребенок. И Юра испугался, что ребенок этот может сгореть в пламени или задохнуться в дыму. Поэтому, не ожидая старших, Юра бросился на помощь.
Весь зал смотрел на цего во все глаза, как на героя, а он стеснялся. И действительно, ничего героического в его внешнем
123
виде ие было. Когда его фотографировала тетенька — корреспондент «Пионерской правды», она спросила, всегда ли он носит очки. По-видимому, она хотела, чтобы он снял очки, потому что в очках человек выглядит недостаточно героически. Но Юра сделал вид, что не понял ее намека, и ответил: «Да, всегда».
Интересно бы все-таки было посмотреть вблизи, какие часы ему подарили и какая на них выцарапана надпись. Теперь уже ни один учитель не сможет запретить Юре приходить в школу с часами. И, конечно, получить такие часы с надписью куда приятнее, чем подарок от мамы. Тем более, что мама не позволяет брать с собой в школу эти часы.
И я очень завидовала Юре, что он совершил такой замечательный поступок и так скромно себя ведет.
На переменке к нам подошел Женька Иванов. Я заметила, что лицо у Женьки как-то изменилось, и сразу не могла понять, что с ним такое, а потом сообразила: он выпячивал вперед нижнюю челюсть, чтобы быть похожим на Юру Дробота.
— Воля должна быть стойкой, твердой и гибкой,—сказал Женька.— Действия настоящего волевого офицера являются решениями, основанными на трезвом учете реального положения и знании общей задачи...
— Ты что, с ума сошел? — спросила я.
Женька Иванов поднес левую руку ко лбу, как козырек, а правой отдал честь и важно ответил:
— Так говорится о таких людях, как Юра Дробот, в книге «Офицер на войне».
Все наши мальчишки-пятиклассники помешались на военных книжках. Если в заглавии есть слово «война», они эту книжку готовы выучить на память. А вообще Женька стал «любимчиком» у Евгении Лаврентьевны. Хотя он и пятиклассник, она ему разрешает после уроков приходить в химический кабинет и делать там разные опыты вместе со старшеклассниками. Евгения Лаврентьевна теперь, по-моему, разговаривает с Женькой Ивановым не меньше, чем с Витей, который начал ходить к ней в кабинет тоже с цятого класса.
Не знаю, как для других, а для меня звонок на урок всегда звучит по-разному. Очевидно, это зависит от того* на какой урок он зовет, готово ли у меня домашнее задание, не боюсь ли
124
я, что меня вызовут. Сейчас звонок звучал весело и дружелюбно: у нас химия. Но Витя при этом звонке очень заволновался и покраснел. Евгения Лаврентьевна поручила ему сегодня сделать «сообщение». Она часто поручает ребятам подготовить «сообщение» — это значит короткий, десятиминутный рассказ о каком-нибудь химическом вопросе, который мы еще не изучаем, но который интересует наших ребят. Витя сегодня должен рассказать о полимерах. О полимерах пишут во всех газетах и говорят по радио, а изучают их только в десятом классе.
Я всегда знала, что наш ’химический кабинет — самый лучший в мире. Но теперь я заметила в нем еще одну замечательную штуку. Я прежде на это не обращала внимания. Правда, я об этом никому не расскажу, потому что это — тайна. Над столом Евгении Лаврентьевны висит большой портрет Менделеева. Если посмотреть на этот портрет, то, оказывается, в стекле видно все, что делается сзади. И пока я сижу на химии, я все время вижу Колю Галегу, который теперь снова сел за последний стол. А на других уроках и на переменках мы не смотрим друг на друга.
Когда наши ребята ссорятся, они иногда перестают разговаривать между собой. Из-за этого, когда Таня Нечаева поссорилась с Сережей, весь класс хохотал.
Сережа на переменке в присутствии Тани вдруг громко обращался ко мне:
— Оля, скажи Тане, чтобы она мне отдала «Таинственный остров». Я взял эту книжку у тети, а новый тетин муж говорит, что я ему разрознил все подписные издания.
Я говорила Тане:
— Отдай Сережину книжку.
Тогда Таня отвечала:
— Оля, скажи Сереже, что у меня есть свой «Таинственный остров» и пусть он ко мне не пристает.
Я говорила Сереже:
— У нее — свой «Таинственный остров»...
По-моему, Сережа никогда так много не разговаривал с Таней, как в те дни, когда они «не разговаривали» друг с другом.
125
Но мы с Колей разговариваем. Однако только по делу, когда занимаемся у Вити исследованием катализаторов.
Наши ребята любят слушать «сообщения». Особенно потому, что докладчика можно «засыпать». Можно задавать ему вопросы, а вопросы эти ребята потихоньку готовят заранее.
Витя стал за учительский стол, а Евгения Лаврентьевна села в сторонке у окна на стуле.
— Есть ли жизнь на Марсе? — сказал Сережа, но Лена Костина зашипела на него: «Оставь свои шуточки!» — и Сережа замолчал.
Витя раскрыл и-снова закрыл тетрадку, в которой он записал свое «сообщение», и начал рассказывать:
— Было время, когда ножи и другие вещи делали из камней. Такую эпоху называют каменным веком. Потом наступил бронзовый век, когда все делали из бронзы. Затем — железный, когда все стали делать из металла. А теперь наступил новый век — полимеров...
Я посмотрела в портрет Менделеева на Колю. Он сидел опустив голову и скручивал пальцами трубочку из промокашки.
— Уже на сегодняшний день,— продолжал Витя, все так же не заглядывая в тетрадь,— мировое производство полимеров в два раза больше выпуска меди, алюминия, цинка и других цветных металлов... Название «полимер» — от греческих слов «поли» — много и «мерос» — частица. В молекуле полимера много атомов. Как мы знаем, молекула воды состоит из трех атомов, а молекулы некоторых полимеров состоят из миллиона атомов...
Коля в портрете быстро раскрыл тетрадь . и что-то в нее записал. Что он пишет? Может,.он тоже сочиняет стихи?
— Самые распространенные полимеры — это пластмассы. Они имеют замечательные свойства. Есть, например, такая пластмасса — тефлон.. Эту пластмассу называют химической платиной. Ее не могут разъесть самые сильные кислоты, она не горит и не меняется при очень низкой и очень высокой температуре...
«Тефлон,— подумала я и посмотрела на Колю.— Надо будет спросить у Вити, для чего его применяют».
126
Витя заглянул в тетрадку.
— Шестерни из пластмассы текстолит прочнее стальных; а работают они бесшумно. Стеклопластик в два с половиной раза легче алюминия, но он прочный, как сталь. Из него делаго-т лодки, катера и даже кузова для автомашин. Ну, про синтети-7 ческий каучук и так все знают, а это тоже полимер... В строительстве из пластмасс готовят целые дома, в них и мебель, и окна, и двери — все из пластмассы. А водопроводные трубы из пластмассы не боятся мороза.
Коля оперся головой на руку и улыбнулся... Может быть, он представил себе окна, которые не разбиваются, когда ребята играют в футбол?..
— Промышленность выпускает очень много искусственного волокна из полимеров. Есть, например, такое волокно —? нитрон. Оно лучше шерсти. Вот, например, из нитроновой ткани сделали костюм и целый год держали его под солнцем, под дождем, в снегу. Этот костюм мяли, мочили, сушили, а потом еще вываляли в грязи, нарочно облили маслом. После этого костюм постирали в теплой воде с мылом, и он стал как новый...
Я посмотрела в портрет Менделеева на Колю в стареньком свитере и подумала, что костюмы из нитрона прежде всего нужно делать для школьников, особенно для мальчишек — обыкновенная одежда у: них очень рвется и пачкается.
— Из полимеров в медицине делают искусственные ребра, суставы и сухожилия,— сказал Витя.— Тонкие пластмассовые пленки заменяют в ушах поврежденные барабанные перепонки, а из пластмассовой трубки делают пищевод...
— А из пластмассового шара — голову,— подсказал Сережа.
Но Витя не растерялся и ответил:
— Если не верите — пощупайте Сережину. Но пластмассовая голова интересует только Сережу. А вот пластмассовая мышца может получиться в самом деле...
Я насторожилась. Неужели Витя собирался вот так, перед всеми, рассказать наш секрет? Но Витя рассказал только о том, что некоторые полимерные пленки под воздействием кислоты и щелочи растягиваются и сжимаются, как мускулы, и что ученым в будущем; удастся создать машины, которые смогут работать при помощи таких пленок.
127
— Представляете себе,—сказал Витя,—робот, огромный, как дом. И у этого робота все мышцы как у человека, только из полимерных пленок. И им можно управлять на расстоянии по радио. Такой робот возьмет лопату величиной с наш химический кабинет и будет работать, как экскаватор. Или, если надо будет проложить дорогу в лесу, он сможет выдирать деревья, как траву. Или, если застрянет в грязи автомашина, он возьмет ее на руки, как ребенка, и перенесет на дорогу...
Ребята здорово слушали Витю. И только Сережа сказал:
— Не хотел бы я поздороваться за руку с этим роботом.
Всем было так интересно слушать про Витиного робота, что
ему почти не задавали каверзных вопросов. Только наша модница Таня Нечаева спросила, из чего делают нитроновую шерсть, и Витя, не задумываясь, ответил, что из ацетилена — газа, которым сварщики на стройках сваривают водопроводные трубы, и синильной кислоты.
Евгения Лаврентьевна от нашего имени поблагодарила Витю за интересное «сообщение». На переменке ребята окружили Витю, который продолжал рассказывать про робота. Подошла к Вите и я. А Коля прошел мимо и даже не оглянулся в нашу сторону. Ну и пусть...
На последнем уроке у нас было домоводство. Для занятий по домоводству в школе специальный класс. Там две газовых плиты и буфет с посудой, а посреди комнаты — длинный стол. На уроке мы сидим по обе стороны этого стола, друг против друга.
Еще перед уроком я заметила, что Таня и Вера о чем-то перешептываются и что-то затевают, а когда мы расселись, поняла, в чем дело. Они устроили так, что я оказалась против Коли. Коля уставился в стол, а они захихикали.
Наша учительница домоводства Миля Степановна — странная женщина. Она очень серьезно нас учит, как готовить разные блюда и сервировать стол, и шить, и все это она очень хорошо знает, но разговаривает она так, как будто в жизни не читала никаких книг. Вместо «регулировать» она говорит «ле- гулировать»* Можно было бы подумать, что она просто не выговаривает этого слова, но это не так, потому что вместо «реагировать» она очень хорошо выговаривает «регулировать». Ребя¬
128
та ее любят. Даже мальчишки ходят на ее уроки и тихо сидят, хотя им домоводство учить не обязательно.
Сегодня у нас, по словам Мили Степановны, основной вопрос домоводства на Украине: как готовить вареники с творогом.
Все наши девочки принесли в щколу по сырому яйцу, немного творога и муки. Миля Степановна засучила рукава и принялась за тесто.
— Смотрите,— говорила она,— в муке делается вот такое углубление, а в него наливают воду и сырые яйца....
До чего же красиво все это получалось у Мили Степановны! Толстая, румяная, веселая, она все это показывала с таким удовольствием, и так ловко все у нее выходило, что нашим девочкам хотелось уже скорей самим приняться за тесто для вареников.
— А теперь поставим тесто ненадолго в холодное место, ну, вот хоть сюда, на окно, и возьмемся за творог...
Я посмотрела на Колю. Он сидел красный и растерянный, а перед ним лежал листок бумаги — какая-то записка.
Я хорошо умею читать книги или даже письма вниз головой. Вообще я сначала научилась читать наоборот, мама меня долго от этого отучала. Когда мне было пять лет, мы жили в квартире с соседями, а у этих соседей была девочка по имени Люба. Она была старше меня на год, а ее брат, Миша, уже учился в пятом классе. И он учил Любу читать по букварю. Во время этих занятий я всегда садилась против них и внимательно слушала. Но так как я сидела по другую сторону стола, то и запомнила все буквы вниз головой. Когда же выяснилось, что я не могу прочесть обыкновенной вывески, но бегло читаю детские книжки, если их повернуть наоборот, мама пришла в ужас и стала меня переучивать.
На листике бумаги, который лежал перед Колей, было написано:
Коля, давай мирится, потому что мне все это уже надоело. Я считаю, что мы оба неправы, а наша дружба должна быть выше всяких мелких обид. Если ты со мной согласен — ничего не говори, а только кивни головой. Оля.
129
Все это было написано почерком, похожим на мой, и даже такими словами, какие могла бы написать я сама, лишь в слове «мириться» был пропущен мягкий знак.
Коля посмотрел на меня и быстро закивал годовой. Несколько раз подряд. Таня Нечаева прыснула.
— Это написала не я,— сказала я Коле.— Это написали девочки. Можешь не кивать.
Если бы Таня не засмеялась, может быть, я промолчала бы, и все хорошо б закончилось. Но теперь и у меня и у Коли был отрезан всякий путь к отступлению.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Теперь, когда я иду по улице, или прихожу в школу, или сижу в классе, мне кажется, что все смотрят только на меня. И я стараюсь принять самый скромный вид, какой только могу. Я стараюсь даже не смеяться громко, когда хожу, не размахиваю руками и говорю меньше глупостей, чем прежде.
И все равно в моем присутствии ребята умолкают и поглядывают на меня с любопытством, а мне это — честное слово, правда — уже почти совсем не лестно, а только неловко. И учителя стали ко мне строже, и только Елизавета Карловна поставила мне четверку за сочинение, за которое она раньше, выше тройки бы не поставила.
А на адрес школы на мое имя идут письма. Больше всего писем от школьников, но из Омска письмо мне написал старик кузнец, по фамилии Грозных, а из Новгорода-Северского ка-, кая-то учительница с неразборчивой фамилией написала, что я не должна зазнаваться достигнутыми успехами, а должна очень много работать над собой, как это делали Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Толстой.
Я спросила у папы, нужно ли мне отвечать на письма, и он ответил, что нужно. За всю свою жизнь я не написала столько писем, сколько за последнюю неделю.
Писать ответы на письма очень трудно. На диктовках в, школе и в школьных сочинениях я никогда не боялась, что сделаю грамматическую ошибку, и всегда цисала более или менее гра¬
130
мотно. Ну случится, пропущу букву или перед «что» не поставлю запятую. Но это бывает редко.
А вот в ответах на письма я очень боюсь сделать ошибку, и вдруг оказывается, что я не помню, как правильно писать самые обыкновенные слова, и я все время заглядываю в папин словарь.
Из Закарпатья я получила замечательную посылку. Народный художник Варна прислал мне письмо и подарок — портрет Тараса Шевченко, вырезанный на деревянной доске, покрытой черным лаком. Это называется гравюра по лаку, а вокруг деревянная некрашеная рамочка с резным гуцульским узором. Шевченко на этом портрете суровый и гневный, каким он был, наверное, когда писал о Петре Первом:
Це той первый, що розпинав Нашу Украшу...
Портрет Шевченко я повесила над своей кроватью и по утрам, когда просыпаюсь, первым делом смотрю на пего.
Пришло на адрес школы из Новосибирска и письмо от моего родного отца. Он написал, что я молодец, что я замечательная девочка, что он гордится мной и ставит меня в пример своим детям, которые являются моими братьями, хотя я их никогда не видела. Зовут их Дима и Ростик, и, оказывается, они близнецы.
А папа недоволен всем этим и огорчен. Он говорил вечером с мамой, а я не спала и слышала из своей комнаты, что головы и покрепче моей не выдерживали внезапного успеха, что лучше бы все это произошло через десяток лет и что их ответственность за меня и мое будущее еще более повышается.
Но мама с ним, по-моему, не согласна, вчера она мне сказала, что я уже большая и могу носить часики куда угодно, даже в школу, только чтобы я их не разбила в драке. А «Литературную газету» с моими стихами она носит в сумочке и показывает всем знакомым.
В «Литературной газете», под названием «Доброго пути», была напечатана статья писателя Корнилова. Он написал о нашей встрече, о сказке, которую я рассказывала Наташке, и как Наташка сказала о нем «может быть, этот дядя садист», и о на¬
131
шем разговоре про Шевченко, и про химию, и про стихи. Закончил он статью красивыми латинскими словами «Poetae nascuntur» — «поэтами рождаются», и что я, Оля Алексеева, родилась таким поэтом, и что поэтическое время, в которое мы живем, помогло развиться во мне моим задаткам, и что он предлагает вниманию читателей мои стихи.
И целых пять стихотворений. И фотография, на которой я выгляжу страшно испуганной, — ее сделали, когда я еще училась в шестом классе. Эту фотографию редакция, как я узнала, получила в школе. Честное слово, все это заняло почти половину газетной страницы.
Я уже читала стихи на школьном вечере, и меня пригласили прочесть свои стихи во Дворце пионеров и даже в Киевском педагогическом институте — перед будущими учителями.
И я читаю стихи и принимаю как должное аплодисменты и славу, делая самый скромный вид, какой только могу, а внутри во мне все время страх, что я самозванка и что все это какая-то глупая ошибка.
Дело в том, что в нашей школе очень многие ребята пишут стихи и, по-моему, пишут их лучше меня. Они очень здорово умеют написать стихотворение к Первому мая, или к Октябрьским праздникам, или эпиграммы на учителей, а у меня это никогда не получалось. И я думаю, что любой из них может сказать: «Подумаешь, у меня стихи лучше, а на нее все смотрят так потому, что про нее написал в газете известный писатель Корнилов».
Но ведь и в самом деле на мои стихи по-прежнему никто бы не обращал внимания, да я их почти никому и не показывала, если бы Павел Романович не написал про них в «Литературной газете».
А написал он про них потому, что встретился со мной в садике возле нашего дома и случайно заговорил со мной. Но, может быть, он просто не знает других детей, и у него нет своих детей, и он даже не догадывается, что очень многие ребята пишут стихи, и поэтому его удивило, что я их пишу, и поэтому они ему так понравились?.. И как вообще попал он в наш садик?..
Я пошла в садик и села на ту самую скамейку, на которой
132
мы тогда сидели, только не на то место, где сидела я с Наташкой, а на то место, где сидел писатель, и стала представлять себе, почему он там сидел.
Я представила себя на его месте и посмотрела перед собой и вдруг увидела то, на что я прежде не обращала внимания. То есть я видела это каждый день, но как-то по-другому.
Я увидела огромный новый дом, облицованный кремовой плиткой, со множеством балконов. И каждый балкон — это значит квартира, и в каждой квартире люди, которые очень любят друг друга, но все равно часто не понимают друг друга и ссорятся из-за всяких пустяков.
На одном из балконов была сделана как бы стеклянная клетка, как бы закрытая стеклянная веранда вместо балкона, и там стояло кресло, и сидел на нем какой-то дяденька с круглым лицом и усами. Я и прежде его всегда там видела, но никогда не задумывалась: а почему он там сидит? Вероятно, он болен? Но чем? Может быть, у него парализованы ноги? Может быть, нужно пойти в эту квартиру и узнать, что с ним? Может быть, ему нужны книги или еще что-нибудь? И, может быть, писатель заметил этого человека, сел на скамейку и задумался о нем?
А на другом балконе висит белье — простыни, пододеяльники, наволочки. Ветер их надувает, они трепещут под ветром, как паруса, и кажется, что сейчас вот-вот оторвут балкон от дома и понесут его по воздуху. И, может быть, писатель представил себе, как задрожал и помчался балкон.
А внизу гастроном. Из дверей гастронома вышла старушка с двумя тяжелыми мешками, связанными между собой. И один у нее впереди, а другой сзади, за спиной, вернее, за плечом. По виду старушка — крестьянка, вероятно, приехала она в город, чтобы купить разных товаров, гостинцев внукам. Но мимо проходят новенькие автомашины, и троллейбусы, и небо расчертил реактивный самолет, а старушка тянет свои мешки на себе, как сто лет назад. И, может быть, писатель заметил такую же старушку, и присел на скамейку, и задумался об этом?
Я вернулась домой и написала Павлу Романовичу письмо, в котором рассказала ему о своих сомнениях и попросила написать мне, почему он сид^л на скамейке в нашем садике.
133
Я очень испугалась, что потеряла адрес Павла Романовича, но потом вспомнила, что спрятала его адрес в «Кобзарь». Я нашла записку с адресом и надписала конверт.
«А если бы просто написать на конверте: «Москва, писателю Корнилову», дошло бы письмо?» — подумала я. И решила, что дошло бы. Такой это писатель.
И еще я думала о том, что, конечно, случайность имеет значение. Не только для меня. Когда Юра Дробот шел по улице, он случайно оказался против того дома, из окон которого валил дым. Но то, что он спустился по веревке на балкон, нельзя ведь считать случайностью. Или то, что Колиного дедушку, отца Елены Евдокимовны, расстреляли фашисты, может быть случайностью, хотя он спас раненого, а фашисты за это расстреливали. Но то, что Елена Евдокимовна была санитаркой и вынесла на себе столько раненых солдат из боя — это уже не случайность. Это ее героизм. Так что нельзя все объяснять одной случайностью.
На почте тетя, которая принимает письма, сказала, что для авиазаказного нужно еще доплатить шесть копеек. Она не обратила никакого внимания на то, кому я посылаю письмо, что на конверте написан адрес писателя, и дала мне квитанцию — узкую полоску бумаги, на которой было написано только: «Москва. Корнилову» — совсем как я сначала собиралась написать на конверте.
А когда я возвращалась, из (двор;а соседнего дома неожиданно выскочил Петька и тот новый мальчик, которого я ударила портфелем.
— Вот она! — сказал Петька.
Я приосанилась, потому что за последние дни часто слышала, как в школе обо мне говорили: «Вот она!» — но Петька подскочил ко мне и больно дернул меня за косичку, а второй мальчишка ударил меня сзади коленкой так, что я просто полетела вперед.
Они ничего не слышали о том, что мои стихи под заголовком «Доброго пути» напечатаны в «Литературной газете», а если и слышали, то им на это было совершенно наплевать.
И так как их было двое, а я одна, то я бросилась наутек, а они бежали за мной и кричали, что «покажут мне», но они
134
меня не догнали, а я вбежала в свой двор, где, к счастью, были Витя, Сережа и Женька Иванов. Это мне просто повезло.
У Сережи в руках были лук и стрелы.
— Послушай, Оля! — обрадовался он.— Хочешь быть нашим Вильгельмом Теллем?
— Каким Вильгельмом Теллем?
— Ну, мы тебе поставим на голову яблоко, и кто собьет его.
— Нет,— сказала я,— не хочу. Вы мне глаза выбьете.
— Боишься?
— Не боюсь, а не хочу.
— С тех пор как ее фотографию и стихи напечатали в газете,— сказал Витя,— она стала воображалой... Можно ведь закрыть глаза руками или стоять к нам спиной.
Если бы он не напомнил о моих стихах, я бы, конечно, отказалась, но теперь я сказала:
— Ну хорошо, я стану спиной.
Они положили мне на голову яблоко и стреляли в него до тех пор, пока не попали мне больно по шее. В яблоко они так ни разу и не попали.
Когда я возвращалась домой, я посмотрела вверх на балкон, сделанный в виде стеклянного аквариума, где всегда сидел в кресле усатый дяденька, и вдруг увидела, что рядом с креслом стоит стул, а на стуле сидит Коля.
Я сначала даже не поверила своим глазам, но это действительно был Коля — в пальто, из которого он вырос, в мятой шапке и с красным шарфом на шее. Как он туда попал? Откуда он знает этого дяденьку? Что он там делает?
Я несколько раз оглядывалась на Колю, и мне показалось, что он меня тоже заметил.
В нашем классе — странные люди. Никто не удивляется, что Коля Галега теперь хорошо учится. Будто бы так и нужно. И по-прежнему его называют Самшитиком, но он ни на кого не обижается, почему-то только на меня...
Правда, он на днях получил двойку по физике. Но я не ощутила никакого злорадства: двойку он получил не потому, что не знал, а совсем за другое.
Борис Борисович задал всем приготовить дома прибор или механизм, который показывал бы, как действует трение. Я при¬
135
несла кусочек наждачной бумаги и палочку. А Коля сделал реактивный автомобиль. Он где-то нашел старый игрушечный автомобильчик, привязал к нему проволокой трубку от металлической ручки (есть такие ручки, в которых с двух сторон перо и карандаш) и начинил трубку серой от спичечных головок.
— Как же он действует? — спросил Борис Борисович.
— Нужно поджечь,— сказал Коля.— Можно?
— А что в трубке?
— Спичечные головки.
— Что ж, поджигай.
Автомобильчик поставили на учительский стол. Борис Борисович сам поднес к трубке горящую спичку. Зашипело, забрызгало пламя, и автомобильчик покатился по столу. Но когда Борис Борисович увидел, что на черной лаковой поверхности стола образовалась пузырчатая дорожка прогоревшего лака, лицо у него приняло какое-то по-детски обиженное выражение.
— Это ты нарочно подстроил,— сказал он Коле и поставил ему двойку.
Сережа уверял потом, что Борис Борисович отнес автомобильчик в учительскую и предложил его передать на автозавод, чтобы там начали выпускать настоящие автомашины такой конструкции. Сережа ловко выдумывает такие истории.
Коля по-прежнему делал вид, что не замечает меня. Но когда на переменке наша завуч пришла с какой-то кругленькой и быстрой, как шарик ртути, тетей и подвела ее ко мне, и тетя стала быстро — не уследишь, как у нее выкатываются слова,— хвалить меня, говорить, что я замечательная девочка, что институт литературы, в котором она работает, приглашает меня выступить у них со своими стихами, и я оглянулась на Колю (он стоял недалеко, и мне хотелось посмотреть, какое это производит на него впечатление) , Коля поежился, как от холода.
А когда завуч и эта тетя ушли, он подошел ко мне и, не вынимая рук из карманов, сказал:
— Ну зачем ты их слушаешь? Ведь они на тебя смотрят, как па ученую собаку... Если бы собака начала говорить, на нее так же смотрели б... Я видеть не могу, какая ты стала... Как ты смотришь по сторонам, замечают ли, что ты идешь... Как прислушиваешься к каждому слову, когда тебя хвалят. Мои батя
136
и матя ничего не поняли. Они говорят: вот она какая! Портрет в газете напечатали! Стишки пишет! И такая скромница! А мне стыдно было им правду сказать, потому я и промолчал и не сказал им, что ты просто дура...
Я посмотрела на . Колю. Свет из окошка отражался в его прищуренных, как от боли, глазах.
— Ты сам дурак,— сказала я и пошла на урок, потому что прозвенел звонок.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Когда я собираюсь что-нибудь сказать некстати, я перед тем говорю слово «кстати», и то, что я собиралась сказать некстати, получается будто бы кстати.
— Кстати,— сказала я,— а что такое в самом деле счастье?
Папа не удивился моему вопросу, хотя мы разговаривали
совсем не о счастье, а о том, что если я не пойду к зубному врачу и не вставлю пломбу, то у меня зуб совсем разрушится, и что бормашина напоминает орудие пытки.
— Ну,— сказал папа,— как сказать... Очевидно, под счастьем понимают состояние полного удовлетворения... Ну, благополучие, жизнь без горя, без несчастий, без тревог.
— А как же,— возразила я,— наши космонавты?.. Нельзя же сказать, что у них жизнь без тревог... Они летают на ракетах и рискуют собой для того, чтобы человек освоил космос. И когда мы учили Лермонтова, стихотворение «Парус», так в нем сказано будто про парус, а в самом деле про человека: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»
— Это правильно,— сказал папа.— Счастье не может быть индивидуальным, как зубная щетка. Оно не может принадлежать одному человеку. Поэтому за счастье людей людям приходится бороться и иногда находить это свое счастье в борьбе, а совсем не в жизни без тревог...
Вчера папа дежурил «свежей головой», а сегодня, в субботу, мы с ним отправились в поход по магазинам хозяйственных товаров. Папа говорит, что в продаже появился какой-то новый консервный нож, которого еще нет в его коллекции. Этим но¬
137
жом можно открывать стеклянные консервные банки, не повредив крышечки, что очень ценно для домашних хозяек, которые готовят самодельные консервы.
— Тебе не понравился мой фельетон? — сказал папа, по- своему расценивший мой вопрос.
Позавчера в газете был напечатан папин фельетон «Маленькое счастье». В нем рассказывалось о начальнике главка по фамилии Костенко. Этот человек для своего «маленького счастья» обманывал, давал неправильные сведения о выполнении плана, а людей, которые выступали против него, он увольнял с работы. Одна пожилая женщина покритиковала его на собрании, так он, этот Костенко, сумел все так подстроить, что она попала под суд, и ее посадили в тюрьму, а потом, когда ее выпустили, она очень тяжело заболела. У этой женщины были дети и даже внучка.
Этот папин фельетон был совсем не остроумный, а какой-то очень сердитый и резкий, в каждом слове чувствовалось, что папа просто ненавидит этого Костенко.
Еще когда папа только собирался писать фельетон, я вечером слышала из своей отгороженной занавеской комнаты разговор мамы с папой. Мама говорила, что на таком фельетоне можно поскользнуться, что она лично знает Костенко, что это опасный человек, которого уже пытались разоблачить, но он вышел сухим из воды, а люди, которые выступали против него, напрасно пострадали.
Но папа ответил, что он все равно выступит в газете. Тогда мама сказала, что он еще пожалеет, что не послушался ее, а папа сказал, что молчать было бы преступлением.
— Нет,— ответила я,— фельетон мне понравился... Только он какой-то не смешной, а страшный.
Не глядя на меня, папа сказал:
— В таких случаях мне не хочется смеяться...
Мы побывали уже в четвертом магазине, а такой консервной открывалки, какая нам была нужна, нигде не было. В предпоследнем магазине продавщица сказала папе, что такой ключ ни к чему, потому что крышечки все равно деформируются, и что в будущем году промышленностью намечено выпускать больше крышечек. А папа, по-видимому, постеснялся ей сказать, что
138
ему открывалка ну^кна не из-за крышечек, а из-за коллекции..Вообще папа был сегодня не таким, как всегда после дежурства, он вроде бы и шутил, и смеялся, и все равно все время думал о чем-то своем, и о чем-то своем нехорошем, и я не знала о чем.
Пока мы ходили по магазинам и рассматривали холодильники, и стиральные машины, и кухонный комбайн, который сам чистит картошку и выжимает сок из всего, что бы туда ни сунули, пошел сильный снег, густой, хлопьями — настоящая метель. Мы побежали к троллейбусу, потому что папа был без шапки. В троллейбусе было совсем мало людей, мы с папой сели рядом на сиденье, а за окнами снег сыпал так густо, что ничего не было видно, кроме снега. Все было скрыто белой пеленой, и троллейбус вдруг остановился. Водитель сказал, что впереди стоят другие машины и не видно, куда ехать.
Троллейбус стоял, а снег сыпал все сильнее и сильнее, снежными хлопьями залепило окно, и я вдруг представила себе, что сейчас будет такой снегопад, что троллейбус занесет доверху, с крышей, что весь наш город занесет снегом. А когда-нибудь, через тысячу лет, археологи откопают наш троллейбус и напишут ученый труд о том, что в те далекие времена, когда мы жили, существовали громадные животные, которые питались людьми, и что при раскопках в желудке такого животного с двумя усами на спине нашли скелеты нескольких человек. Мне стало неприятно, и я сказала папе:
— Может, выйдем?
Но троллейбус тронулся, и снегопад вдруг утих, проглянуло солнце, и город засверкал, заискрился, а на снег бросились тысячи людей и машин, чтобы сгрести его с улиц и вывезти за город.
Вдоль всех улиц потянулись узенькие ледяные дорожки, которые в два счета успели раскатать ребята. В Киеве такие дорожки называются сколзанками, и я не знаю, как их называют в других местах. Мы с папой по очереди цроехались по одной такой длинной сколзанке, а потом вернулись и снова проехали, а потом еще в третий раз. На третий раз папа разбежался сильнее, чем я, налетел на меня и сбил с ног. И когда я упала, а он — вслед за мной, на него сердито закричал прохожий с очень знакомым голосом:
139
— Что вы делаете!.. Как вам не стыдно!..
Я увидела, что это наш учитель математики Климент Ефремович. Папа стал меня поднимать, а я сказала Клименту Ефремовичу:
— Это мой папа.
Климент Ефремович очень удивился и сказал, что сколзан- ки нужно обходить, потому что можно сломать ногу. И мы с папой, смущенные и мокрые от снега, отправились. домой — сушиться.
Но пока мы с папой ездили за этой открывалкой для стеклянных банок с железными крышечками и катались на сколзан- ке, в нашей жизни произошло очень важное событие. И произошло оно без меня.
Как только мы с папой подошли к нашей двери, мы увидели, что к ней кнопкой прикреплена записка: «Оля, когда вернешься, бегом ко мне — получилось!!! В.».
— Я сейчас,— сказала я папе и, не заходя домой, помчалась к Вите.
Я застала у него всю нашу компанию, в том числе Колю и Лену.
— Где ты ходишь? — сказал Витя. — Пленка сокращается, как настоящая мышца, почти на сантиметр. Мы измеряли.
— Как это вам удалось? — спросила я, с завистью рассматривая незамысловатый прибор, сделанный из ванночек для проявления фотографий. Их называют кюветами.
— Это мы с Сережей,— сказал Витя.— Ну и Коля помог. И все остальные, конечно,— добавил он великодушно.— Папа говорит, чтоб мы отдали наш прибор в школу Евгении Лаврентьевне. Он говорит, что такой прибор может украсить любой химический кабинет.
— А как же птицелет?
— Будет и птицелет... И даже робот... Когда-нибудь,— ответил Витя.— Важно, что доказана принципиальная возможность. Папа говорит, что когда Кибальчич — это был такой революционер, его казнил царь,— когда Кибальчич в тюрьме начертил проект ракетного двигателя, так он еще тоже был совсем не похож на те ракеты, какие сейчас возят на парадах.
Коля не смотрел на меня, пальцы у него’ пожелтели от реак-
140
тивов, а лицо совсем не выражало той радости, какая подходила для такой минуты.
— Папа говорит,—сказал Витя,—что Евгения Лаврентьевна всем нам поставит четвертные пятерки. Такого прибора нет ни в одной школе во всем мире.
— А мне? — спросил Женька Иванов и надул губы.— Ведь мы не учим химию. За что же мне поставят пятерку?..
— За поведение,— сказал Сережа.— Тебе поставят пятерку за благородное поведение и снизят ее до тройки за то, что ты прожег кислотой свои форменные штаны.
Сережа стал рассказывать о том, как мы сделаем небольшой птицелет, как Женька на нем будет летать в школу. Все смея¬
141
лись, и даже Коля разошелся и сказал, что будет посылать вместо себя в школу робота. А я вспомнила папу и как он молча сидел в троллейбусе с залепленными снегом окнами, и мне захотелось домой. Кроме того, у меня в голове все время вертелись строчки, которые складывались в новое стихотворение. Я пошла домой, но по дороге зашла в садик, подошла к скамейке, где мы сидели с Наташкой и писателем Корниловым, и придумала это стихотворение до конца.
Дома я застала и папу и маму. Перед моим приходом они, по-видимому, о чем-то спорили, потому что лица у обоих были точно такие, какие бывают у наших ребят, когда они ссорятся. Но когда я вошла, они заговорили на спокойную тему — о консервных ножах.
Я сказала, что хочу прочесть им новое стихотворение, которое сегодня написала. Но я его не записывала на бумаге, а просто прочла наизусть:
Улицы розданы Детям, словно клад.
Тянутся сколзанки От угла до угла.
Детям кататься Не надоест,
А взрослые боятся Скользких мест.
Не пришлось бы каяться...
Асфальт шершав —
К асфальту тянется Их душа.
А может, доверимся Гладкости льда?
Давайте проедемся!
Проедемся? Да!
Только и сегодня Учитель мой Сколзанки обходит Стороной.
Папа и мама переглянулись. Мама сказала:
— Неужели это ты сама придумала?
142
— Конечно, сама.
— Молодец,— похвалила меня мама.
А папа сказал, что не все взрослые боятся поскользнуться, и снова многозначительно посмотрел на маму.
Мы собирались ужинать, но в это время папу по телефону вызвали в редакцию. Мама встревожилась, но папа сказал, что, очевидно, предстоит какая-то срочная командировка.
Мама проводила папу до двери. Они почему-то шли к двери, держась за руки, как ходят первоклассники на экскурсию. А когда мама вернулась, она сказала мне, что завтра мы с ней пойдем в бассейн.
Я очень люблю плавать. Плавать меня научила мама, когда мне было лет пять, еще до школы. Мама прекрасно плавает, у нее первый разряд, и она только немного не дотянула до нормы мастера.
Я, как и мама, плаваю брассом — это стиль не такой быстрый, как кроль, но при брассе не так устаешь, и я могу проплыть сколько угодно. Этим летом мы с мамой и папой были в Крыму. Я с мамой плавала почти за полтора километра и ничуть не уставала. Я все время держу голову под водой и приподнимаю лицо, только чтоб вдохнуть воздух. И глаза у меня все время открыты. Я не смогла бы плавать с закрытыми глазами, как не смогла бы, например, ходить с закрытыми глазами по улице. А пайа плавает кролем, быстро устает и часто ложится на спину.
Мы с мамой поговорили о плавании, о том, что летом опять поедем в Крым или на Кавказ, но обе мы думали о папе и ждали его возвращения.
Папа вернулся не скоро. Но когда он пришел, он так хлопнул дверью и так размахивал руками, что мне показалось — он пил водку.
— На фельетон пришло опровержение,— сказал папа, усевшись на тахте.— Из министерства. С подписью самого министра. И газета должна будет,— тут папа помолчал, подпяв палец,— опубликовать это опровержение. А мне предложили подать заявление об уходе с работы. По собственному желанию...
Я думала, что мама скажет: «Я ведь говорила». Но вместо
Ш
этого мама села рядом с папой на тахту, провела рукой по его растрепанным, повлажневшим волосам и улыбнулась весело и задорно.
— Молодец! Я горжусь тем, что ты написал этот фельетон! И Лялька тоже. Мы говорили с ней об этом, когда тебя не было.
А ведь мы ничего подобного не говорили.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Если бы меня поставили во главе Советского правительства, то первое, что бы я сделала, это запретила бы посыпать опилками пол в магазинах. В разных статьях пишут, что из опилок можно делать лучшие вещи, чем из дерева, что они ценное сырье для химической промышленности, а их рассыпают под ногами, топчут, а потом выбрасывают. Я не жадный человек, но, когда я хожу по опилкам, я не могу понять, почему с ними поступают так бесхозяйственно.
Я стояла в нашем гастрономе в очереди в колбасный отдел. Очередь была довольно длинной. В этом магазине всегда к шести часам — к концу рабочего дня — собирается много покупателей, а днем, часа в два-три, тут бывает совсем пусто. Я много раз думала, что нужно ходить в гастроном днем и не тратить времени напрасно, но все как-то не получалась.
Я стояла в очереди и рассматривала мокрые и грязные опилки под ногами, а передо мной стоял тот самый дяденька с усами, который всегда сидел на балконе, устроенном как стеклянная клетка. Дяденька опирался на очень толстую, но, по- видимому, легкую бамбуковую палку с черной ручкой.
Сквозь очередь протиснулись два высоких, одинаково одетых парня — оба они были без шапок, в очень коротких красивых пальто с вязаными в резинку воротниками, как на свитерах, на обоих пушистые красные шарфы и черные узконосые туфли.
— Не давайте без очереди! — потребовала у продавщицы толстая пожилая женщина. Она стояла впереди нас.
— Не горячитесь, тетенька, наживете третий инфаркт,— отмахнулся от нее, как от мухи, один из этих парней2 такой
144
высокий, что его можно было принять за баскетболиста из сборной Украины, и протянул через головы чеки продавщице.— «Столичную» и четыреста любительской. Нарежьте потоньше.
— Не отпускайте без очереди! — снова закричала толстая женщина.— Мы тоже спешим. За водкой можно и постоять...
— Станьте в очередь,— предложила продавщица тетя Вера.— Слышите, что про вас говорят...
— Как не стыдно,— тоненьким, но звонким голоском пропищала старушка, которая стояла за нами.
— Ты, бабушка, не вмешивайся,— басом сказал второй парень.— Когда будет очередь на кладбище, там будешь распоряжаться.
— Зачем же вы оскорбляете женщину, да еще такую, что вам в матери годится! — возмутился усатый дяденька из нашего дома.
Нагрубивший старушке парень подошел к нам поближе, наклонился к дяденьке и что-то негромко, с угрозой сказал ему на ухо, очевидно что-то гадкое, потому что я услышала плохое слово. И вдруг парень этот завизжал, и не басом, а совершенно детским голосом — громко, на весь магазин, и запрыгал на одной ноге к концу очереди. А за ним отошел от прилавка и его товарищ. Вид у обоих был растерянный, они негромко бормотали какие-то угрозы.
В первую минуту я, как и все остальные, не сообразила, что произошло, хотя и видела, как усатый дяденька легонько опустил свою палку на самый кончик острого носка туфли этого парня, но мне и в голову не пришло, что именно этим был вызван такой странный визг.
— «Вот злонравия достойные плоды»,подмигнул мне дяденька.
— Что это у вас за палка? — спросила я.
— Волшебная,— ответил дяденька и протянул ее мне. Я взяла палку в руку и еле смогла удержать — она была в тысячу раз тяжелее, чем могло показаться по ее внешнему виду.— Это бамбук, заполненный внутри свинцом.
— Для чего же свинец в палке?
— Вместо зарядки. Заведи себе такую же, и ты справишься с любым пареньком из своего класса.
0 Библиотека пионера, т. 12
145
— Вы Колю Галегу знаете? — неожиданно для себя спросила я у дяденьки.
— Колю Галегу? Кто же не знает Колю Галегу? Это известный человек,— снова подмигнул мне дяденька так, будто он про меня все знал.
Тем временем подошла наша очередь. Дяденька купил двести граммов голландского сыра, а я купила целый килограмм украинской домашней колбасы и еще полкилограмма венгерского сала, покрытого коркой жгучего красного перца. Мы вышли из магазина, вместе с дяденькой и прошли мимо парней в коротких пальто, но они сделали вид, что нас не замечают.
— Ты решила потолстеть? — спросил дяденька.
— Нет, — ответила я, — это охотничьи припасы.
— А ты охотник?
— Да.
— И умеешь стрелять?
— Да,— сказала я менее уверенно.
— Ну что ж... Тогда — ни пуха ни пера.
— До свидания,— ответила я, вместо того чтобы сказать «к черту», как обычно отвечают в нашем классе на такое пожелание, и пошла домой.
Дома мама угощала какую-то очень толстую тетеньку в туго обтягивающем ее фиолетовом креп-сатиновом платье, из которого она выросла, чаем с домашним пирогом, а тетенька говорила, что она не ест теста, что боится потолстеть, хотя, по- моему, ей уже можно было не бояться, и ела пирог ломоть за ломтем, а папа скучным голосом говорил, что фотоаппаратом «Комсомолец» с очень примитивным объективом можно делать превосходные снимки, и показывал фотографии.
После того как папу уволили с работы в редакции, к нам стало приходить очень много людей, которые прежде к нам вообще не заходили или приходили очень редко. А так как каждому нужен был какой-нибудь предлог, то наша коллекция консервных ножей пополнилась интересными экземплярами, среди которых был прекрасный японский нож. Папа уверял, что этим ножом открывали консервы японские самураи, а при случае именно таким оружием они делали себе харакири.
Папин заведующий отделом Дмитрий Максимович и его же¬
146
на Вера С'ергеевна приходили к нам чуть ли не каждый вечер. Дмитрий Максимович в глаза хвалил папу и успокаивал маму, говорил, что это — недоразумение, что справедливость восторжествует и папу восстановят на работе, и при этом, мне кажется, он себя перед папой чувствовал как-то неловко. Вероятно, ему было стыдно, что папу уволили с работы за правильный фельетон и папа этим так расстроен, а у него все благополучно. Я это вполне понимаю. Мне было так же стыдно, когда я получала по физике четверку, а Коля — двойку, хотя мы учили вместе и знали одинаково. Взрослые играют в те же игры, что и дети.
На воскресенье Дмитрий Максимович пригласил папу на охоту. Я посмотрела на Дмитрия Максимовича. Он молчал. Потом я посмотрела на папу. Папа тоже помолчал, подмигнул Дмитрию Максимовичу и сказал:
— Оля, выйди на кухню. Мы тебя позовем.
Я поплотнее закрыла двери, чтобы не было слышно, что они говорят, потому что не хотела подслушивать. На кухне я съела немного мытого изюма, который мама собиралась положить в пирог, но когда он мытый — он не такой вкусный. Папа позвал меня в комнату.
— Ну, так и быть. Выклянчила. Поедешь с нами,— сказал он ворчливо.
Я только посмотрела на него, и это уже называлось «выклянчила»!
А Дмитрий Максимович добавил:
— Но запомни, Оля! Это первый случай, когда я беру с собой на охоту особу женского пола.
По правде говоря, я была уверена, что все эти разговоры ничего не стоят, потому что мама не позволит мне поехать на охоту. Но я снова убедилась в том, что никогда нельзя предусмотреть, как поступит мама в том или в другом случае. Она сказала, что это очень хорошо, что я мало бываю на воздухе, и единственное, о чем она просит, это только чтобы мы с папой не перестреляли друг друга и не простудились.
Для того чтобы я не простудилась, были проведены большие мероприятия. Мама заставила меня надеть ее теплые ботинки, а так как у меня тридцать четвертый номер обуви, а у нее
147
тридцать шестой, то я надела на каждую ногу по два шерстяных носка. Кроме того, на мне были две шерстяные кофточки и еще столько всякого другого белья, что я стала в два раза толще, чем была, и еле влезла в свое куцее старенькое пальто.
Мы выехали в семь часов вечера в субботу в маленьком автобусе, который Дмитрий Максимович называл странным словом «микробус». Нам предстояло проехать в нем почти 250 километров. Кроме водителя и нас, в автобусе был еще один человек — военный генерал в папахе с красным донышком. И мне было^очень приятно, что я еду с генералом, потому что я еще никогда вблизи генералов не видела. Генерал поздоровался с папой и спросил, как меня зовут. Я почтительно ответила, что Олей, генерал сказал, что это хорошо, сел рядом с водителем и заснул.
Я села возле папы, по автобусу взад и вперед сновали вещи, которые мы взяли с собой. Сильно трясло, и было очень тепло, даже жарко, я тоже, как генерал, заснула, и этот мой сон напоминал бег с препятствиями: я просыпалась от каждого толчка и снова засыпала.
И снился мне странный сон, который все время обрывался и все время возвращался к началу, и каждый раз по-другому, каждый раз по-другому, и все — очень плохо.
Папа недавно говорил, что в газете было сообщение о том, что писатель Павел Романович Корнилов поехал в США во главе какой-то культурной делегации. И мне снилось, что это мы с Павлом Романовичем едем на машине на охоту в Америке и что он мне говорит: «А твой папа негр, и расисты облили его бензином и подожгли». И я хочу спросить, кто негр — папа или мой родной отец, но почему-то не решаюсь, и вот я в окне машины вижу, как горит человек, и он стоит ко мне спиной, и я не могу отличить, кто это — папа или мой родной отец, а машина мчится, и я хочу крикнуть? «Остановите!» —и не могу, и слова застревают у меня в горле.
А потом мне снилось, что ничего этого не было, а это мы с папой едем по Америке в машине на охоту, но машина вдруг сворачивает к какому-то небоскребу, и я спрашиваю у папы: «Разве в небоскребах охотятся?» — а папа отвечает: «Нет. Мы едем не на охоту, а в этот небоскреб, потому что там много
148
коридоров и комнат, и в нем можно заблудиться, как в лесу, и я тебя там оставлю, потому что меня уволили с работы, я не зарабатываю денег, и мне тебя нечем кормить, и тебя там съедят волки». И я хочу попросить: «Папа, пожалуйста, не оставляй меня, я тоже буду, как ты, работать, буду делать из ниточек авоськи, я уже умею». Но я плачу и не могу сказать ни слова...
А потом мне снилось, что это мы с мамой едем на охоту по Америке, и мама говорит: «Неволя пуще охоты», а я хочу сказать, что «Охота пуще неволи», но мама отвечает: «Нет, неволя». И я вдруг понимаю, что это мы едем не на охоту, а это мама везет меня к моему родному отцу, и я хочу крикнуть: «Папа, папочка, помоги!» — но только мычу.
А потом мне снова снилось, что ничего этого не было, и снова снился Павел Романович, но так плохо, что об этом даже нельзя рассказать, и все время мне снилось черт знает что...
Только глубокой ночью мы приехали в село Турье, а потом еще долго искали какого-то Тиму. Этот Тима — знакомый Дмитрия Максимовича — повел нас ночевать к себе в хату. В хате пахло чем-то острым — не уксусом и не перцем, а чем-то похожим, и освещалась она маленькой керосиновой лампой, огонек в которой поднимался и коптил, как только открывали дверь. Мы поужинали и очень много ели, а взрослые пили водку и разговаривали с Тимой о завтрашней охоте, и генерал после каждой рюмки краснел и важно спрашивал, есть ли зайцы.
Я так устала, что у меня слипались глаза. Нам постелили на полу солому и накрыли ее сверху шерстяными цветными половиками. Как только мне показали, где можно лечь, я сразу легла и заснула.
Утром меня разбудил папа. Было еще совсем темно, и мы все по очереди умылись в сенях холодной водой из маленького умывальника и сели завтракать.
Генерал переоделся — надел обыкновенный старенький ватник и сразу стал похож не на военного, а на простого суетливого старичка. Все-таки форма имеет большое значение. Интересно, как бы выглядели наши учителя, если бы надели генеральскую форму? Только теперь я решилась спросить у генера¬
149
ла, как его зовут, и он сказал, что у него редкое имя — Иван Иванович.
Наш хозяин, которого все звали Тимой, был совсем уже немолодым человеком, а разговаривал он на каком-то странном языке, на какой-то смеси русского с украинским, и мне его было понять значительно труднее, чем если бы он говорил просто по-украински или по-русски. Дмитрий Максимович после сказал, что это местный говор «суржик», что словом «суржик» обозначают смесь пшеницы с рожью, а также такой смешанный язык.
Когда говорили другие, этот дядя Тима, казалось без всякого повода, вдруг подмигивал окружающим и восторженно восклицал: «От даеть!» «От даеть!» — так он прореагировал на то, что папа сказал, что у него во фляге коньяк, и что Дмитрий Максимович сказал, что я тоже буду охотиться, и что наш водитель сказал, что нужно будет достать бензина. И я уже стала подозревать, что в словах и папы, и Дмитрия Максимовича, и водителя был еще какой-то неизвестный мне смысл, но когда на мой вопрос, будет ли у меня ружье, дядя Тима тоже воскликнул: «От даеть!» —я поняла, что это у него просто такая странная привычка.
Дядя Тима был егерем, и мне было очень приятно, что я разговаривала не только с живым генералом, но и с живым егерем.
А ружье мне дали в самом деле. Принес его дядя Тима. «От даеть!» — сказал он, когда я осторожно взяла его в руки.
Это было одноствольное ружье. У всех были двуствольные ружья, и только мне дали одноствольное. Но когда я спросила, где второе дуло, папа сказал, что и одного для меня вполне достаточно, а может быть, даже и слишком много.
Дмитрий Максимович предупредил меня, что на охоте я все время должна быть рядом с ним, что не имею права отойти от него даже на шаг и что он меня научит стрелять из этого одноствольного ружья, а патроны он мне даст свои, потому что у нас с ним ружья одного калибра. Дмитрий Максимович мог бы снабдить патронами всех охотников — он был обвешан патронташами, как матросы — герои гражданской войны.
Мы с Дмитрием Максимовичем вышли за хату, и я там два раза выстрелила в сарай. Я очень боялась отдачи, о которой ме¬
150
ня предупреждали и папа и Дмитрий Максимович. И первый раз меня сильно ударило в плечо, а второй раз я крепче прижала приклад, и меня ударило слабее. Дмитрий Максимович сказал, что это закон Ньютона, что действие равно противодействию, но я в этом пока не разобралась, потому что, по его словам, получилось, будто бы, с одной стороны, дробь летит в зайца, а, с другой стороны, ружье летит в охотника.
Охота состояла в том, что мы поехали на своем «микробусе» в лес, где дядя Тима расставил охотников в цепь, каждого друг от друга на расстоянии примерно в сто метров, а с другой стороны на эту цепь должны были гнать зайцев другие охотники — односельчане дяди Тимы.
В лесу снега было мало, а на деревьях рос мох, и я собрала целую кучу этого мха, чтобы привезти его маме и ребятам, а вокруг была такая красота, какой я даже не воображала и не представляла себе никогда в жизни, что это такая неописуемая красотища. И в сердце у меня даже что-то словно звенело. Я стояла под деревом на лесной просеке рядом с Дмитрием Максимовичем и смотрела по сторонам, а ружье у меня было заряжено, только курок не взведен, и все равно я старалась держать это ружье подальше от себя и Дмитрия Максимовича.
Перед нами, вдали, послышались какие-то крики и гудки. Я спросила у Дмитрия Максимовича, что это значит, а он сказал, что это шумят загонщики и чтобы я не болтала, а была внимательной. И тут я вдруг увидела зайца. Я сначала не поверила своим глазам, потому что он был похож не на зайца, а на кролика, и вел себя не как заяц, а как кролик: он не бежал стремглав, а медленно прыгал то вправо, то влево, то вправо, то влево и таким образом подвигался вперед.
— Дмитрий Максимович,— сказала я,— по-моему, вон там скачет заяц.
— Где? — спросил Дмитрий Максимович.
Но заяц скрылся за деревьями, а когда он показался между ними, Дмитрий Максимович выстрелил из обоих стволов и оглушил меня, но заяц поскакал дальше, все так же медленно — вправо и влево, и тогда Дмитрий Максимович закричал мне: «Стреляй!» Но пока я двумя руками взвела курок и выстрелила, заяц уже ускакал, а я так волновалась, что забыла про от¬
151
дачу, и очень удивилась, что ружье снова стукнуло меня по плечу.
— Зачем же ты так длинно объясняла про зайца? — с досадой сказал Дмитрий Максимович.— Нужно было сказать только одно слово: «Пыльнуй!»
«Пыльнуй» — это по-украински значит: будь внимательным или бдительным.
Дмитрий Максимович перезарядил сначала свое, а потом и мое ружье и сказал, чтобы я была повнимательней, как будто это он, а не я первым заметил зайца.
Я задумалась о том, как все-таки было бы здорово, если бы я убила зайца, и о том, что в школе мне все равно бы не поверили, но в это время Дмитрий Максимович шепотом сказал: «Не стреляй», а я никуда и не собиралась стрелять. Я посмотрела сначала на него, а потом влево и сразу же увидела, что мимо нас бесшумно и быстро, как во сне, движется громадное сказочное существо с ветвистыми рогами такой же формы, как мох, который я собрала с окружающих нас деревьев. Это был лось. Я видела живого лося! Честное слово, он прошел от нас на расстоянии в двадцать, ну, может быть, в сорок метров.
Я потом спросила у Дмитрия Максимовича, что бы с нами было, если бы он на нас бросился, но Дмитрий Максимович сказал, что лоси — благородные животные и никогда не бросаются на людей.
Тем временем загонщики, вышли к нам. Мы собрались все вместе. Дмитрий Максимович был очень раздосадован тем, что не попал в зайца. Папа вообще не стрелял, потому что не видел никаких животных. А генерал Иван Иванович сердито говорил, что это вообще не охота, что нужна «пороша» и что заяц «залег», и все вытирал нос белоснежным платком, который очень не подходил к его старенькому ватнику.
Но дядя Тима убил зайца, и все его поздравляли с «полем», и всем, как мне показалось, было завидно.
Нас перевезли на новое место, но на этот раз мы не видели никаких зверей, а когда все собрались, оказалось, что дядя Тима убил еще одного зайца, а потом была третья «загонка», и в третьей «загонке» дядя Тима убил двух зайцев, а все остальные ни одного.
152
И пока все это происходило, я очень замерзла и устала, и хотя снег был неглубоким, он мне все равно набился в ботинки, и я обрадовалась, когда сказали, что пора обедать, потому что уже два часа дня.
Обедали мы на открытом воздухе, просто на лесной поляне, где в землю вбили два рогатых сука, на них положили толстую палку, на палку повесили ведро, а под ведром разложили костер. В ведре сварили полевой супчик. Ничего вкуснее этого супчика я не ела за всю свою жизнь. В этот супчик положили кусок баранины, и кусок свиного венгерского сала, которое мы привезли с собой, и целого петуха, и половину утки, и пшено, соль, лук, перец, укроп и петрушку и начали его варить, оказывается, как только мы пошли в первую «загонку». За это время пшено и все это разное мясо разварилось в одну сплошную кашицу и пропахло дымом.
Нам с папой налили этого супчика в одну помятую миску из «металла социализма» — алюминия, и мы, обжигая язык и губы, съели целую миску, а потом еще попросили добавки.
— Просто объедение,— сказал генерал Иван Иванович, вынимая из кармана свежий белый носовой платок и утирая им рот.
«Интересно, сколько у него с собой платков?» — подумала я. У меня не было ни одного, и я решила, что мама права, что нехорошо девочке всегда ходить без носового платка.
— Ну как, Ольга Николаевна,— спросил у меня генерал,— не замерзла?
— Нет, ничуть,-— ответила я, потому что очень разогрелась от супчика.
— Довольна, что поехала на охоту?
— Очень довольна,— сказала я. Мне в самом деле было так хорошо и интересно, как никогда в жизни.
Присев на корточки и разгребая палкой головешки в костре, Дмитрий Максимович сказал папе:
— А знаете ли, не хотел вам говорить, но ходят слухи, что героя вашего фельетона выдвигают на повышение.
Я никогда не могла понять, почему люди находят, казалось бы, самое неподходящее время и место для того, чтобы сообщить какое-нибудь неприятное известие.
153
— А куда именно? — таким тоном, словно ему это было совсем безразлично, спросил папа.
— В Совет Министров.
— Ну что ж,— сказал папа.— Это ненадолго.
— Будем надеяться,— ответил Дмитрий Максимович и налил себе в миску еще черпак полевого супчика.— Но бои предстоят еще тяжелые, трудные бои... Ну что ж, пора и за дело... Что, Оля, убьем зайца?..
Я не ответила, потому что у меня совсем испортилось настроение.
Мы еще долго охотились, и дядя Тима убил еще лисицу, а больше никто ничего не убил. Самым интересным занятием на охоте оказалась стрельба по бутылкам. Когда охота закончилась, на сосну, на сучок, надели бутылку, и все стреляли в нее по очереди с большого расстояния. Дмитрий Максимович стрелял первым, и он промазал, а я хорошо прицелилась и хотя перед самым выстрелом зажмурилась, все равно разбила бутылку вдребезги.
Перед самым отъездом дяде Тиме заплатили деньги, и он дал по зайцу папе, и генералу Ивану Ивановичу, и Дмитрию Максимовичу, и нашему водителю. Дмитрий Максимович попросил, чтобы я никому не рассказывала, что зайцев убили не они, а егерь.
— А если ты проговоришься,— сказал Дмитрий Максимович,— то из тебя уже никогда не получится настоящего охотника. Настоящий охотник умеет свято хранить тайну охотничьей добычи.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Я посматривала на свои часики через каждую минуту. Может быть, Коля опаздывал? Он иногда опаздывал на урок, и я ждала, что сейчас откроется дверь, что Коля спросит: «Разрешите войти?», что Елизавета Карловна скажет: «Почему ты опоздал?», что Коля ответит: «У нас испортился будильник», или еще что-то в этом роде и что Елизавета Карловна в ответ скажет: «Сядь на место и дай дневник».
154
Но Коля не приходил, и мне стало как-то неуютно в нашем классе, потому что я подумала, что он заболел. Мы с ним по- прежнему не дружили и даже не разговаривали, и, казалось бы, мне должно быть безразлично, пришел он в школу или не пришел. Но мне это было не безразлично, тем более что он никогда не пропускал занятий, разве только прежде, когда Коля дома не готовил уроков, он мог сбежать с контрольной.
— Ты не знаешь, что с Колей? — спросила Елизавета Карловна у Вити после урока.
— Нет... Может, он простудился?
— Может быть,— ответила Елизавета Карловна.— И вам, его друзьям, следовало бы это выяснить.
— Я зайду к нему после школы,— сказал Витя.
Елизавета Карловна не спросила у меня о том, что с Колей.
Она всегда безошибочно знала, у кого спросить об отсутствующем на уроке ученике. И все-таки мне было бы приятней, если бы она обратилась ко мне. И поручила бы мне зайти к нему. Я бы, конечно, не пошла, но все-таки...
К шести часам -т- было уже темно, теперь рано темнеет — мы собрались у Вити. У него появилась новая идея: с помощью наших сокращающихся пленок построить что-то вроде вечного двигателя. Конструкцию он придумал очень интересную, но я не знала, можно ли ее сделать практически. В младших классах, а иногда и в детском саду все дети делают себе двигатели, которые вращаются центробежной силой. Для этого нужно крепкую нитку сложить вдвое, продеть через отверстие в большой пуговице, завязать конец, надеть нитку на пальцы, закрутить ее, а потом растягивать и отпускать. Пуговица при этом с огромной скоростью вращается то в одну, то в другую сторону, пока не лопнет нитка. Хотя я уже большая, но я до сих пор люблю готовить себе такие двигатели.
Витя сказал, что если мы вместо нитки используем нашу пленку, а в две ванночки для проявителя нальем кислоту и щелочь, то пуговица будет все время крутиться то в одну, то в другую сторону.
Когда я пришла к Вите, там уже были Сережа, Лена и Женька Иванов, но Коли не было.
Мы скрутили пленки так, что они напоминали тонкие шну¬
155
рочки, и продели их в пуговицу, и сделали все остальное, как предлагал Витя, но пуговица даже не собиралась вращаться.
Я все время раздумывала о том, как спросить у Вити, заходил ли он к Коле, но ничего не могла придумать, а ребята, как назло, словно забыли о Коле, и никто даже не вспомнил, что его днем не было в школе и что вечером он не пришел к Вите. Но, может быть, подумала я, Витя рассказал ребятам, почему Коли не было, еще до моего прихода?..
Пришел Витин папа, Леонид Владимирович, погладил бороду и сказал, что так из нашей машины ничего не получится, потому что одна половина пленки растягивается, а другая сжимается, и что для того, чтобы наша машина заработала, нужно сделать саморегулирующееся устройство, которое поочередно поливало бы пленку то кислотой, то щелочью. Он нарисовал нам схему, как сделать такое устройство, и тут же добавил, что мы не сможем его изготовить.
— Леонид Владимирович,— сказал Сережа,— что это у вас за ниточка?.. На пиджаке...
— Где? — спросил Леонид Владимирович.
— Вот она...
Сережа потянул какую-то белую ниточку на плече у Леонида Владимировича, и мы вдруг с удивлением увидели, что нитка тянется без конца, тянется и тянется, метр за метром, а Сережа вытягивает ее двумя руками и опускает на пол.
— Погоди,— испугался Леонид Владимирович.— Ты этак мне весь пиджак распустишь...
Он снял пиджак и сам стал тянуть эту нитку, а она все тянулась и тянулась без конца.
Откуда она могла взяться? — удивился Витин папа и стал осматривать свой пиджак.— Э,— закричал он вдруг,— да у меня в кармане катушка! Ну, знаете... Твоя работа? — обратился он к Сереже.— Вот зачем ты вертелся вокруг моего пиджака!
— Моя,— ответил Сережа.
Я подумала, что если бы Сережину изобретательность использовать, так сказать, «в мирных целях», то он мог бы придумать что-нибудь очень ценное. Оказывается, Леонид Владимирович снял пиджак и повесил его на стул, а Сережа тем
156
временем засунул ему в карман катушку ниток, конец нитки иголкой продел под подкладкой и вывел ее наружу.
Леонид Владимирович смотрел на Сережу с восхищением. Что бы Сережа ни сказал или ни сделал, Леонид Владимирович всегда смотрит на него как бы любуясь.
У меня про это есть своя теория, только я никому о ней не говорила. Я думаю, что Витин папа в детстве хотел быть таким, как Сережа, только у него это не получалось, и он был таким, как Витя. И когда он стал взрослым, то отрастил себе бороду, а Сережа, даже когда он будет совсем взрослым, все равно не станет ходить с бородой. А Витя, возможно, будет.
Я смеялась над Сережиной проделкой и думала обо всем этом и еще о том, что уже семь часов, что Коля не пришел и, по-видимому, уже не придет.
В конце концов я не выдержала и спросила у Вити:
— Ты заходил к Коле?
— Нет,— отмахнулся Витя,— не успел. Завтра зайду... А что, если мы вместо пуговицы возьмем свинцовый кружок потяжелей, сделаем в нем две дырки, как в пуговице, и скрутим побольше пленок, а потом будем их сверху поливать поочередно то кислотой, то щелочью? Если колесо будет крутиться, то, может быть, потом удастся сделать самодвижущийся велосипед?
— И что же? — возразила я.^=* Велосипедист будет держать в руках две бутылки со щелочью и кислотой и по очереди лить из них жидкость на колеса?
— Это только как опыт,— сказал Витя.— А потом мы еще что-нибудь придумаем.
Лена, которая за последнее время так понаторела в химии, что я даже удивлялась, тоном и даже голосом Елизаветы Карловны произнесла:
— Нужен катализатор. Мы перестали делать серьезные опыты, а занимаемся фокусами. Если мы найдем катализатор, то пленки будут стягиваться с большей силой, и тогда можно будет сделать не только велосипед, но и птицелет.
Да, Лена была права. Нужно было искать катализатор. Мама говорила как-то, что многие люди строят воздушные замки, но лишь некоторым удается сделать свои мечты действитель¬
457
ностью. И если бы мы нашли катализатор, то наш воздушный замок, наша мечта про птицелет стала бы действительностью и на нем бы летали так, как сейчас летают на самолетах. Может быть, наша социалистическая промышленность начала бы выпускать даже индивидуальные, ну, личные птицелеты, как сейчас выпускают мотоциклы или велосипеды, и люди ездили бы на работу или в гости не в троллейбусах, а в птицелетах.
Александра Леонидовна, как всегда, пригласила нас ужинать.
— Я вам помогу накрыть стол,— сказала по-английски Лена Витиной бабушке. — Можно?
— Ну конечно,— ответила по-русски Александра Леонидовна.
«Вот они и нашли общий язык»,— подумала я.
Лена еще что-то сказала по-английски, только я не поняла. Она обращалась к Витиной бабушке, но смотрела при этом не на нее, а на нас — какое это производит впечатление.
— Пойдемте, дети,— снова сказала Александра Леонидовна.
Я от ужина отказалась и пошла домой. Мне это было самой
удивительно, но, честное же слово, я теперь ничуть не завидовала Лене, что она так дружит с Витей и что она, а не я разговаривает с героической Витиной бабушкой и так свободно чувствует себя у них дома. Я не знала, почему я так теперь к этому отношусь. Но догадывалась. Потому что у меня были другие заботы.
В эти дни я старалась поменьше бывать дома. Хотя и папа и мама разговаривали между собой и со мной очень нежно, но это, как мне казалось, была какая-то искусственная нежность, а в самом деле они говорили одно, а думали о другом и смеялись, когда им совсем не хотелось смеяться, и все время у нас были какие-нибудь гости, а когда не было гостей, папа читал «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие произведения великого классика русской литературы Льва Толстого.
Я шла домой и думала, что нужно будет рассказать, как Сережа устроил этот фокус с белой ниткой. А может быть, самой засунуть папе в карман пиджака катушку и продеть нитку так, как это сделал Сережа? Это рассмешило бы папу.
Но, может быть, думала я, и не стоит этого делать, потому
158
что папа вдруг рассмеется неискренне, а когда он смеется неискренне, у меня начинает дрожать подбородок. Как удержаться от смеха, я знаю: нужно уколоть себя чем-нибудь острым ниже коленки, куда врачи стукают молоточком, а как удержаться от слез — человечество еще не открыло.
Как только я вернулась домой, я сразу почувствовала, что произошло еще что-то очень неприятное: мама не смотрела на меня, а папа ходил взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы штанов, и мама не говорила ему, чтобы он вынул руки, потому что это плохая привычка.
Я поужинала на кухне. Все время я слышала, как папа ходит из угла в угол. Когда я вошла в комнату, папа сказал:
— Вот что, Оля... Случилось большое несчастье... Колин отец попал под трамвай.
— Как это — под трамвай? — глупо спросила я.— У нас ведь нет трамваев.
Папа посмотрел на меня удивленно и пожал плечами.
— Я хотела сказать — в нашем районе...
— Он умер, Оля.
Папа сказал «он умер», а я никак не могла себе представить, что Богдана Осиповича уже нет. Я заплакала и спросила:
— А когда это?..
— Еще в субботу.
Пока мы ездили на охоту и стреляли в бутылки, здесь погиб Колин отец.
Папа снова прошелся по комнате, остановился и сказал:
— Я собираюсь к ним. Я хотел бы, чтобы ты пошла со мной. Мама, правда, думает, что тебе нужно избегать тяжелых впечатлений. Но я...— Папа не закончил фразу и спросил: — Пойдешь?
— Да,— ответила я и стала одеваться.
— Только не плакать,— сказал папа.— Только не плакать.
Так и не успел Богдан Осипович переехать в новый дом.
Дверь в Колину квартиру была приоткрыта, как летом. Папа
позвонил, и к двери подошел Коля. Он посмотрел на нас и сказал: «Здравствуйте». Мы прошли через кухню в комнату, где на столе, в самом центре, стоял гроб, окруженный венками с бантами из стружек, горшками с цветами, еловыми ветками, а
159
вокруг у стен стояли стулья. На стульях сидели Колина мама, какой-то пожилой милиционер и усатый дяденька с палкой, который жил в нашем доме. Елена Евдокимовна встала нам навстречу и сказала!
— Спасибо, что пришли. Садитесь...
Мы с папой сели на стулья рядом с Еленой Евдокимовной, а Коля тоже сел, но по другую сторону стола. Мы не снимали пальто, папа держал шапку на колене. Я старалась не смотреть на Богдана Осиповича и смотрела поэтому все время то на милиционера, то на дяденьку с палкой, то на Елену Евдокимовну. Лицо Елены Евдокимовны, еще более белое, чем всегда, выглядело спокойным, серьезным и замкнутым. Она не плакала, и я понимала, какой она была, когда тащила на себе раненых под огнем.
Милиционер все время покашливал и начинал говорить, но не заканчивал фраз: «Вот, значит, выходит...», «Значит, завтра с утра...», «А у нас говорили...»
Дяденька с палкой держал палку между колен и смотрел на ее конец. Я заметила, что у него дрожит подбородок, и изо всех сил старалась не заплакать, но все равно у меня потекли слезы.
Я посмотрела на Богдана Осиповича и сразу же отвела глаза, потому что его лицо показалось мне совсем незнакомым и страшным — желтым, пухлым, ненастоящим.
Из Колиной комнатки — дверь в нее была приоткрыта — выглянул белый глухой кот с голубыми глазами, но сейчас же скрылся назад, словно чего-то испугался.
Папа встал, сказал Елене Евдокимовне, что мы завтра придем, попрощался и пошел на кухню, а я вслед за ним. Нас догнал Коля. Он остановил меня и тихо сказал:
— Я как раз к тебе собирался. Поговорить нужно.
Я посмотрела на папу.
— Хорошо,— кивнул головой папа.— Только не долго.
— Выйдем,— сказал Коля, надевая пальто.
Все время на нем пальто было надето внакидку, потому что в комнате было очень холодно, и меня знобило. Такая мелкая дрожь, и холодок в груди, и цокают зубы. Мы вышли на улицу, я мне показалось, что на улице теплей.
— Вот что,— сказал Коля, когда мы подошли к воротам.
160
Он остановился и повернулся ко мне, и только теперь я сообразила, что он без шапки.— Вот что. Я этого никому не говорил... Я это сказал только следователю, но он надо мной посмеялся. И все равно я знаю, что батю моего убили.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Наверху стоял серый чугунный Владимир с крестом в руках. Этот холм о крутыми склонами назывался Владимирской горкой. Когда-то в этом месте, под ним, я не помню, в каком году, хоть мы это проходили по истории, князь Владимир, по прозвищу Красное Солнышко, крестил Русь,
Мы с Колей шли вниз, в сторону Подола, по улице, проходившей у подножия Владимирской горки. И хотя я понимала, что ничего особенного мы там не увидим, меня все равно знобило, и дрожали руки, как будто кто-то сзади их тряс. На этой улице трамвай сбил Колиного отца, и мимо нас проезжали трамваи, и один из этих трамваев, возможно, был тем самым.
Как это иногда бывает в Киеве зимой, влажный снег вдруг сменился дождем, холодным и противным, от Днепра дуло, и капли били по лицу, и под ногами было мокро, холодно и скользко.
Мы шли молча, и я думала обо всем этом, и о том, что не может быть, чтобы Богдана Осиповича убили, и о своем папе. «А если бы это мой папа попал под трамвай,--- думала я,— и сказали бы, что он сам виноват. Я бы тоже не могла этому поверить и с этим примириться и так же, как Коля, считала бы, что его, может быть, нарочно толкнули. Но мой папа в самом деле как бы попал под трамвай,— думала я.— Только он остался жив. Но у него словно что-то отрезало».
Я вспомнила, как вчера вечером, когда я уже легла спать, пришел откуда-то папа, он теперь иногда поздно приходит, и со странным смешком, совсем не похожим на его смех* с каким- то горьким смешком говорит маме: «Написал рецензию. На книгу стихов Гамзатова. Всего шестьдесят строк... Лежит. Не печатают. Сделал очерк. На радио. Лежит. Радио молчит...»
Вот поэтому, наверное, Коля и был убежден, что его отца
161
нарочно убили. Он говорил, что Богдан Осипович никогда не пил водки или вина, а врачи после смерти установили, что его отец попал под трамвай пьяным. Кроме того, Богдан Осипович никогда не курил, а у него в кармане нашли сигареты.
— А если он в тот раз нарушил эту свою привычку — не пить алкогольных напитков? — осторожно сказала я Коле. — Ведь бывает, что...
— Нет,— прервал меня Коля с какой-то яростью.— Этого не может быть! Ты не знаешь... Батя рассказывал, что на фронте он пил водку, -и раз его вызвал полковник с грузинской фамилией — я уже забыл, как фамилия, вроде Унгиадзе,— а батя сделал вид, что не пьяный, и пошел со своим отделением в разведку, и закурил, и чуть не погубил своих товарищей, и чуть сам не погиб... И с тех пор он дал слово никогда не пить и не курить.
Я подумала, что люди иногда нарушают свое слово, но не сказала этого вслух.
— Как это все произошло? — спросила я.— Как он там оказался?
Коля тогда стоял в пальто и без шапки у ворот своего дома, и почему-то мы оба не могли пройти за эти ворота.
Глядя в землю, Коля рассказал, что в субботу, часов в семь, Богдан Осипович сказал, что уйдет ненадолго по делу^
«Не задерживайся,— сказала ему Елена Евдокимовна.— Ты ведь говорил, что вечером придет Юрий Митрофанович».
Юрием Митрофановичем звали усатого дяденьку с палкой из нашего дома.
«Через два часа я приду. А если чуть задержусь, пусть Митрофаныч меня подождет».
Юрий Митрофанович не пришел, а Богдан Осипович все не возвращался, и в одиннадцать часов вечера Елена Евдокимовна начала волноваться. Она пошла к телефону-автомату и позвонила в отделение милиции, где служил Колин папа, но там сказали, что он не заходил, но если он появится, то ему передадут, что жена беспокоится.
Елена Евдокимовна так и не ложилась спать, а Коля спал тревожно и настороженно. Ночью к ним в дверь позвонили. Коля проснулся и понял, что что-то случилось, потому что это
162
был не отец — у отца был ключ... Вошел их знакомый — дежурный из отделения милиции — и еще какой-то человек в гражданском, и дежурный сказал, что с Богданом Осиповичем случилось несчастье. Елена Евдокимовна и Коля поехали с ними. «Я матю одну не пущу»,— сказал им Коля.
Коля мне не рассказывал, что они там увидели. «Это такое,— сказал Коля,— что об этом нельзя говорить».
Ну, а уже потом какая-то «экспертиза» показала, что Богдан Осипович попал под трамвай по своей вине в нетрезвом состоянии.
Папа, мама и я были на похоронах Богдана Осиповича. Когда выносили гроб, играл милицейский оркестр, и Елена Евдокимовна, которой, я видела, эта музыка была совсем непереносима, не плакала, но и не сказала, чтобы они прекратили.
На кладбище поехали три автобуса, и было много людей, которых я не знала. Коля потом сказал мне, что и он многих не знает. Так, например, сильно плакала одна красивая молодая женщина в синтетической шубке и такой пушистой шапке, как это теперь модно. Коля ее видел в первый раз, но она говорила, что ей известно, каким хорошим человеком был Богдан Осипович, и когда она узнала о том, что с ним случилось, она все бросила и прибежала.
А потом были поминки. Нас позвала Елена Евдокимовна, и мы пошли, даже мама, хотя она шепнула папе, что, по ее мнению, поминки — обычай уродливый и нелепый.
Я с ней .вполне согласна. К чему это? Чтобы еще больше ощутить преимущество живых перед мертвыми? Или доказать самим себе, что нам все безразлично? Даже смерть? И неужели взрослые, которые здесь собрались, не понимали этого? Или они пришли потому, что так принято, а самим им было так же стыдно, как мне? И так же, как я, они давились каждым съеденным куском?
Юрий Митрофанович — дяденька с усами и палкой из нашего дома — налил себе в стакан водки, поднялся и сказал:
— Помянем же покойного нашего друга Богдана Осиповича Галегу. Не для того, как говорилось в церковной службе: если мертвые не встают снова, то будем же есть и пить, ибо завтра мы умрем, а для того, что это мужественный обычай.
163
Умер наш товарищ, наш друг, и каждому тяжела его смерть. Но мы не лицемеры, мы знаем, что жизнь продолжается и что покойник был одним из тех людей, которые желали людям счастливой жизни. И помогали им жить счастливо. И вот мы собрались и действительно едим и пьем и почтим этим его память.
После него о Колином отце говорил еще лысый толстый дяденька в очках и с одышкой, чем-то похожий на доктора. Он сказал:
— Мы с покойным Богданом Галегой были друзьями... Мы вместе были на фронте. Вместе ходили в разведку. И когда нам, разведчикам, однажды пришлось отходить, а он прикрывал отход... Мы шли спокойно, не оглядываясь. Галега был из тех людей, которые стреляют до последнего патрона. Из надежных людей...
А старый милиционер — его звали дядя Семен — снова сказал: «Вот, значит, как выходит...» — и покивал головой... Кроме того, там было еще несколько милиционеров, и соседи из их дома, и какой-то артист с бантиком вместо галстука, и продавщица тетя Вера из нашего гастронома.
Во время этих поминок случилось одно неприятное происшествие. Я еще прежде заметила, что лицо у Коли как-то очень изменилось, стало напряженным и злым, как у человека, который целится, и вдруг он спросил у дяди Семена — они сидели рядом:
— Откуда у вас этот нож?
Дядя Семен почему-то держал в руках такой большой складной ножик с зеленой пластмассовой ручкой.
— Что ты, мальчик,— смешался дядя Семен.— Это мы вместе с твоим покойным батей покупали. Одинаковые. Ему и мне.
Коля покраснел и попросил:
— Дайте его мне.
— Ну что ж... Возьми,— не сразу согласился дядя Семен.-^ На память...
По-моему, все-таки телепатия существует в действительности. Мы с Колей шли все время молча, но лишь только я вспомнила об этом ноже, как Коля повернулся ко мне и сказал:
— Знаешь, нам вернули батины вещи. Ну, которые остались... Но такого ножа, как у дяди Семена, среди них нет. И дома я всюду искал. Его тоже нет.
164
— Ты думаешь — это был тот самый нож? — спросила я, пугаясь собственных догадок.
— Нет,— сказал Коля,—Не знаю. Просто я теперь ничему не верю.
Мы уже дошли почти до самого низа по этой улице вдоль Владимирской горки, слева была горка, а справа склон к набережной и Днепр.
Мимо нас вниз шел трамвай. Вдруг через дорогу побежала собака— крупная, серая, похожая на немецкую овчарку, но не овчарка. Она бросилась прямо под вагон.
Я зажмурилась.
Трамвай зазвонил и проехал вниз, а я боялась посмотреть на рельсы, потому что думала, что трамвай переехал собаку и что это то самое место. Но Коля потащил меня за рукав и сказал:
— Пойдем. Она пробежала. Под самым носом у трамвая. Нам — дальше... Ты смотри, сколько тут собак...
В самом деле, через дорогу в том же месте пробежали еще две собаки — одна побольше, а другая маленькая, с белой грязной шерстью, и обе нырнули в дырку в заборе, отделявшем от улицы поросший деревьями склон.
— Это здесь,— сказал Коля и показал мне на рельсы.
Мимо нас прошел трамвай. Я со страхом посмотрела на
рельсы. Мне казалось, что там до сих пор должна быть кровь. Мне казалось, что это место должно чем-то отличаться. Но оно было таким же, как и вся остальная улица.
— Это здесь,-^-повторил Коля и посмотрел на меня исподлобья очень серьезно, как бы что-то во мне проверяя. Я никогда прежде не замечала у него такого взгляда.— А теперь пойдем. Попробуем все-таки понять, как батя мог здесь оказаться. Зачем он сюда ходил? Ведь это не его район...
Мы спустились еще немного и повернули направо, к набережной.
— Начнем с набережной,— сказал Коля.— Зачем батя мог сюда пойти? Кого-то встретить? Но катера сейчас не ходят. Пойдем дальше.
Мы прошли вдоль причала к дощатому деревянному зданию с надписью: «Павильон».
Мы вошли внутрь. В павильоне было грязно, душно и холодно. Люди в пальто и шапках пили за столиками пиво и ели колбасу. За одним из столиков мы увидели милиционера дядю Семена. Он сидел один.
— Что вы здесь делаете, ребята? — спросил он, когда мы подошли к нему.
— Да так, ничего,— ответил Коля.— Здравствуйте.
— Здравствуйте... Пришли посмотреть на это место? Ну что ж... Не замерзли?..
Мы молчали.
— Ты, Колюшка, не смотри, что я выпил,— сказал дядя Семен.— У меня сегодня отгул. Вот я и выпил сто грамм. И правильно... У нас в отделении говорят, что милиционер должен уметь это... Говорят, был бы твой батя пьющий, не случилось бы с ним этого. Пьющий человек хоть и выпьет, а на ногах держится. А непьющий, если выпьет, так все с ним может случиться... Ты только не обижайся...
166
— Пойдем,— сказал Коля и потащил меня за рукав, но вдруг остановился и спросил: — Дядя Семен, а вы не знаете фамилии этого вагоновожатого? Ну, который...
— Знаю. Его фамилия Стеценко будет. А для чего он тебе?
— Да так,— ответил Коля, и мы ушли.
— Что здесь делает дядя Семен? — спросила я у Коли.
— А ты что, сама не видела? Выпивает.
— Значит, он знает этот буфет. Может быть, он бывал здесь вместе с твоим папой?
— Ну что ты, в самом деле! — с досадой посмотрел на меня Коля.— Я ведь тебе говорил, что батя ничего не пил. Даже пива. Так для чего бы он сюда пришел?
Мы пошли от этого павильона сначала вправо, а потом влево. Слева были какие-то мастерские с нелепым названием «Титан», и Коля сказал, что сюда его отец уж никак не мог ходить, а дальше были склады, которые мы обошли кругом, и Коля сказал, что складами нужно будет еще поинтересоваться. Было там еще такое летнее кафе-мороженое, такая веранда, на которой летом стояли столики под зонтиками, но сейчас там было пусто, и ветер катал по полу промерзшие бумажные стаканчики.
— Вот что,— сказал Коля, не глядя на меня.— Ты поезжай домой. А я пойду еще в одно место.
— Куда?
— На последнюю остановку... трамвая. Нужно найти этого вагоновожатого.
Я сказала, что пойду с Колей, и увидела, что он этим доволен, хотя он не подал виду. Наверное, ему было все-таки страшно встретиться с глазу на глаз с тем самым вагоновожатым.
Мы пошли пешком на Красную площадь — это было недалеко. Когда подъехал трамвай, Коля спросил у вагоновожатого, не Стеценко ли он, а вагоновожатый сказал, что нет и что Стеценко приедет через один вагон.
Чего только не взбредет в голову, когда напряженно чего- либо ожидаешь! Мне казалось, что я непременно узнаю этого вагоновожатого Стеценко, что он окажется человеком, которого я прежде уже видела, что, скорее всего, это будет один из тех двух парней, которые лезли без очереди в гастрономе, или старик, который когда-то забрал мой фотоаппарат. Но на самом
167
деле вагоновожатый Стеценко был совсем незнакомым невысоким пожилым человеком. Он очень испугался* когда узнал, зачем мы пришли.
— Вот, значит, какое дело,— сказал он растерянно.— У меня график... Но я спрошу диспетчера... Вагон на запас! — громко крикнул он пассажирам, которые уже входили в трамвай.
Он вышел из вагона, переговорил с человеком в черной шинели, который стоял на тротуаре, вернулся и отогнал вагон на запасной путь.
— А теперь послушай, мальчик,— сказал он Коле, выходя из своей кабины.— Я не убивал твоего отца. Конечно, всякое случается в жизни. И всякие случаи бывают на транспорте. Но в этом я не виноват. Ты сам пойми — меня б не оставили на работе... Да и судили бы меня, если бы я сбил человека.
— Как это произошло? — спросил Коля.
— Ты видел, какой там спуск? Сразу не затормозишь. Сильно мело. В мебели мне показалось, что через рельсы переходят на другую сторону вроде бы три человека. Я даже затормозил слегка. А потом вдруг увидел: прямо перед вагоном лежит человек. Понимаешь, поперек рельсов. Я стал тормозить... Но уже было поздно, и я толкнул его... Но я его не убивал. Ты пойми, у меня у самого дети. Двое... Голова у него была за рельсами, в сторонке. Я до нее не дотронулся... А при обследовании тут же на месте судебный врач обнаружил, что голова разбита. Значит, его какие-то бандиты бросили на рельсы. Иначе бы меня не допустили до работы. И судили бы. Ты уже большой парень и должен понимать...
— Вы говорили об этом следователю? — снова так же, словно что-то проверяя, посмотрел на вагоновожатого Коля.
<— Следователю? — удивился вагоновожатый Стеценко.— Следователь был при этом. Сразу бригада приехала из милиции, с врачом и следователем...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Мне было очень жарко, и я чувствовала, как у меня по животу стекают струйки пота. Мне хотелось почесаться, но я знала, что этого нельзя делать. В стороне, справа, стоял боль¬
168
шой телевизор, и на его экране я видела себя, как в зеркале. Если бы я почесалась, то это увидели бы все телезрители, и, наверное, они бы подумали, что школа, а также семья меня недостаточно хорошо воспитывают.
Я никогда даже не догадывалась, что тех, кто выступает по телевизору, освещают яркими лампами, которые обдают жаром, как электрические рефлекторы^ у нас дома включают такой рефлектор, если осенью холодает, а батареи отопления еще не действуют.
Я выступала последней. Ведущий = высокий веселый дяденька с очень близко поставленными глазами, о котором я слышала^ что он видный критик, по фамилии Косенко, сказал:
— А сейчас выступит самая молодая из наших молодых поэтов Оля Алексеева.
Телестудия захотела, чтобы по телевизору выступили молодые поэты. Меня прямо с урока физики вызвали в кабинет завуча и сказали, что я тоже должна выступить. Молодых поэтов было пять человек, я шестая, и среди них были люди, которые выглядели ничуть не моложе, чем мои мама и папа. Стихи они читали очень хорошио, только все почему-то подвывали на концах строк. Это на меня так подействовало, и я так волновалась, что и сама начала подвывать на концах строк, как они. Может быть, это вообще бывает от волнения?
Я прочла стихи про Буратино и про Тараса Шевченко. Я хотела прочесть еще про сколзанки, но тетя, которая заранее слушала всё стихи, сказала, что про сколзанки не нужно читать, потому что это стихотворение могут понять неправильно.
В другое время я, конечно, очень бы радовалась, что меня пригласили выступить по телевизору, но сейчас я была занята мыслями об одном загадочном событии, и мне казалось, что мы с Колей приближаемся к разгадке того, кем был убит Богдан Осипович. А что он был убит, а не просто попал под трамвай, после того что нам сказал вагоновожатый Стеценко, у меня уже не было никаких сомнений. Хотя вначале, когда Коля сказал мне, что его папу убили, только на том основании, что Богдан Осипович никогда не пил водки или вина, я подумала, что этого не может быть. То есть не то, что он не пил, а то, что его убили какие-то люди нарочно.
469
Мы с Колей решили никому об этом не говорить, пока у нас не будет точных фактов, но Коля сам рассказал об этом фронтовому другу своего отца, лысому, похожему на доктора дяденьке, который так хорошо говорил на поминках о Богдане Осиповиче. Фамилия его была Соколов. Коля встретил его на улице, на Подоле. Я не присутствовала при этом разговоре. Соколов сказал Коле, что это вполне возможно, что, возможно, Богдан Осипович встретился с кем-нибудь из своих старых фронтовых друзей. Что вспомнил войну и нарушил свой обычай не пить алкогольных напитков. А потом, возможно, Богдан Осипович увидел на улице каких-то хулиганов, а был он не в милицейском, а в обыкновенном костюме. И, возможно, он забыл, что он не в милицейской форме, и хотел их отвести в милицию, а они ому разбили голову. И, чтобы замести следы своего преступления, бросили его под трамвай.
Коля спросил, с кем же из фронтовых друзей Богдан Осипович мог встретиться, и Соколов сказал, что все они порастеря- лись. Но где-то в Черкассах живет отставной полковник Романенко, который командовал частью, где служил Колин отец.
Я бы не обратила на все это такого внимания, если бы не одно странное совпадение. Сегодня мы с Колей ходили на табачную фабрику. Именно там и появилась эта загадка.
Колин папа не курил. Но среди вещей, которые отдали Колиной маме, был похожий на мыльницу пластмассовый портсигар с сигаретами. Коля сказал, что мы должны выяснить, что это за сигареты.
Для этого мы и отправились на табачную фабрику. Дежурный в проходной не хотел нас пропускать. Я стала выдумывать, для чего нам нужно на фабрику, и сказала, что мы нашли портсигар и хотим узнать, что за сигареты в нем, чтобы вернуть этот портсигар хозяину. Охранник так удивился моему нахальству, что стал похож на рыбу, попавшую на сушу: он выпучил глаза, вытянул вперед и открыл губы, а уши у него и так торчали из-под шапки-ушанки, как плавники.
Коля посмотрел на меня очень укоризненно и сказал:
— Вы нас пропустите... Нам нужно. Мой отец был милиционером. Его убили бандиты. Он не курил, но у него в кармане нашли портсигар, и нам нужно узнать, что в нем за сигареты.
470
— Как фамилия твоего отца? — спросил* дежурный. Лицо его странно изменилось. Он смотрел на Колю, как смотрят на человека, который сильно порезался и у которого течет кровь,— сморщившись и переживая чужую боль.
— Галега. Богдан Осипович.
— Галега? — повторил фамилию охранник.— Нет, не слышал... Сейчас позвоним начальнику цеха. В котором сигареты выпускают...
Охранник позвонил по телефону и рассказал нам, как пройти в этот сигаретный цех.
На фабрике был очень сильный запах, но не табака, а какой-то неприятный кондитерский запах. Так пахнут леденцы, если о них забыли и они очень долго, целый год, пролежали в своей железной коробочке. Сигареты делала большая машина. Из нее с огромной скоростью вылетала одна бесконечная готовая сигарета. Эта же машина рубила сигарету на части и складывала в пачки.
Начальник цеха, пожилой дяденька с большим животом, держал в зубах сигарету длиной с карандаш. Он выслушал нас очень серьезно и, так же как охранник, сморщился, переживая чужую боль. Потом он посмотрел сигареты, которые ему дал Коля, и сказал:
— Это — черкасские... Но подождите-ка еще минутку.
Начальник цеха ушел и вскоре вернулся с каким-то дяденькой, который рядом с ним выглядел как Дон-Кихот рядом со своим оруженосцем — он был высоким и худым. Это был их дегустатор, то есть человек, который по запаху и вкусу определяет качество табака.
Они разломали одну сигарету, распушили табак, и дегустатор каким-то образом определил, что сигареты эти выпущены не больше, как месяц тому назад, потому что в них есть греческий табак, а табак этой партии прибыл к нам совсем недавно.
Начальник цеха сказал нам, что в сигареты входит смесь, состоящая из многих сортов табака, но настоящий специалист всегда может разобраться, из каких именно.
Но я его уже не слушала. Я думала о том, что в Черкассах жил этот фронтовой друг Колиного папы — Романенко. И сигареты были из Черкасс.
171
— Надо ехать в Черкассы,— решил Коля.
Вот обо всем этом я раздумывала, когда возвращалась в набитом троллейбусе домой со студии,— об этом и еще о том, что мне не хочется домой.
В те дни, когда у папы были неприятности, я многому научилась и многое поняла. Мама и папа тогда как бы поменялись ролями. Лапа стал раздражаться из-за пустяков, редко улыбался, а мама как-то ловко умела его успокоить, уговорить. Она ни разу не повысила за то время на меня голоса, она придумывала то пойти в кино, то в театр. И что еще здорово, она нй разу не вешала носа, все время шутила, смеялась. По-моему, она никогда в жизни не была такой веселой.
Но теперь, когда у нас было все хорошо, когда папу восстановили на работе в редакции, когда все его поздравляли и дарили ему консервные ножи, я старалась, как это ни странно, бывать дома поменьше. Не знаю почему. Может быть, потому, что я часто бывала у Коли и видела, как плохо Елене Евдокимовне.
А дома женя ждал сюрприз. И очень приятный. Папа купил телевизор. Он назывался «Харьков»-, Это, оказалось, даже был не просто телевизор, а комбайн — в нем были радиоприемник, и проигрыватель для пластинок, и большой экран.
Раньше у нас не было телевизора, и мама не соглашалась его покупать из-за меня,— чтобы я готовила уроки, а не торчала перед экраном.
Но сейчас мама сказала, что раз я сама выступаю по телевизору, то нужно, чтобы он был в доме,
— А мы с папой смотрели,— сказала мама.— Молодец. Хорошо выступила. Только у тебя был чересчур серьезный вид. Даже ни разу не улыбнулась. И почему ты гладила себя рукой по животу?
— Я не гладила. Мне просто очень хотелось почесаться,-- возразила я.
— Значит, ты чесалась? — рассмеялся папа.
Я рассказала, как жарко было там на студии и что я совсем не волновалась.
А на столе в стеклянной вазе стояли мои любимые пирожные картошка.
— Принеси из кухни чайник, будем ужинать.
Мы сели ужинать, и за ужином папа говорил, что летом мы поедем в Крым и снова будем плавать, и гулять, и собирать гербарий и коллекцию бабочек. И еще папа хвалил стихи, которые я читала по телевизору.
А телевизор поставили на новый столик в самом углу комнаты. И пока мы ужинали, мы все время поглядывали на экран. Показывали «Телевизионные новости», и все очень хорошо было видно.
Чуть не забыла,— сказала мама.—» Тебе письмо. От писателя Корнилова.
У меня почему-то сдавило сердце — мне вдруг показалось, что в письме будет что-то неприятное. Я взяла письмо, но не распечатала его сразу, а пошла в свой угол, села на кровать, положила письмо на подушку и немного подумала, а уже потом разорвала конверт.
Странно, но, когда я читаю то, что написал знакомый человек, я всегда как будто слышу его голос. И сейчас письмо Павла Романовича тоже звучало для меня его голосом — высоким, чуть сиплым и очень приятным.
Милая Оля! — писал Павел Романович.— Извини, что так не скоро ответил тебе — я был в отъезде, и твое письмо мне только сегодня вручили.
Я догадываюсь, что день, когда ты мне написала это письмо, был для тебя днем больших сомнений. Внезапный успех, как и внезапная неудача, всегда оставляет свой рубец на характере человека. И людям иногда с успехом справиться бывает еще труднее, чем с неудачей.
Вот почему так порадовало меня теое письмо: оно живое свидетельство того, что у тебя здоровый организм, который смог переварить успех. Надеюсь, что он сможет так же легко переварить неудачи, а они неизбежно будут.
Теперь о твоих сомнениях в собственных способностях. Тут уою ничего не поделаешь. Ты всегда будешь сомневаться, мучиться, и, как бы тебя ни хвалили, в такие дни ты будешь волком смотреть на мир и на людей. Со мной это тооке часто бывало и бывает до сих пор, и я в таких слу-
•173
чаях так расстраиваюсь, что всегда кончаю самоубийством. Но, поверь мне, милая девочка, стихи твои напечатали не потому, что я их предложил редакции, а потому, что ты их написала. И стихи твои мне очень нравятся. Я плохо запоминаю стихи, но твои зцаю на память и с удовольствием читаю их своим друзьям.
А как я оказался в вашем садике — пусть останется тайной. Но когда ты будешь совсем взрослой и даже старенькой и будешь много ходить по городу, ты обязательно высмотришь по дороге какой-нибудь садик, а в садике какую-нибудь скамейку и разгадаешь мою тайну...
Павел Романович снова извинялся, что задержался с ответом на мое письмо, просил, чтобы я ему написала, как мне живется, как я учусь, и прислала ему новые стихи. А в конце письма он передавал привет Наташке.
Я написала стихи, но не знала, посылать ли их Павлу Романовичу. Когда я их показала папе, он воспринял их как-то странно.
Эти стихи я написала после того, как мы с Колей ходили на Подол.
Вообще-то я хотела написать о дожде и о мокрых, холодных трамваях, но потом мне вспомнилась собака, которая перебежала рельсы, и стихи получились о собаках:
Подол — плохое место для собак:
Плевать трамваям на собачьи лапы,
У них дорога, пассажиры, график,
Они неотвратимы, как судьба.
Дождливые подольские дворы,
Изысканные завтраки помоек...
И, кажется, от моря и до моря:
Дожди, дворы, помойки и пиры...
А вечером огромная луна...
И так все время: бегай и надейся,
Что, может быть, останется на рельсах Не голова, а лапа...
— Слишком они у тебя какие-то взрослые получились,— сказал папа.— И что ты понимаешь под словом «Подол»?
174
— Как — что? — ответила я.— Есть такой район в городе. Там много трамваев.
— Нет,— сказал папа решительно.— Мне эти стихи не нравятся.
Первый раз в жизни он так неодобрительно говорил о моих стихах. И разве это недостаток, если стихи «слишком взрослые»?
Я подумала, что у нас. с ним просто разное настроение, что если бы я ему показала эти стихи, когда его несправедливо уволили из редакции, то, может быть, они ему и понравились, а теперь, когда у нас все благополучно и прекрасно, папе эти грустные стихи читать уже неинтересно и даже противно. Может быть, они ему напомнили о тех днях?
«Пошлю стихи про Подол и про собак Павлу Романовичу»,— подумала я, хотя прежде, до того как я получила это письмо, я бы не решилась на это. Письмо писателя очень меня подбодрило.
Я вернулась в комнату и села спиной к телевизору за свой столик у окна. Я разложила книги и тетради, будто бы для того, чтобы делать уроки, но сама занялась совсем другим делом.
— Что это ты читаешь? — спустя некоторое время спросила мама и подошла ко мне. Она взяла у меня книжку и прочла вслух, так, чтобы слышал папа: — «Немаловажный интерес представляет вопрос о сроках сохранения цвета волос после смерти. Срок этот не подчинен какой-либо закономерности, так как в каждом отдельном случае зависит от многих условий. Однако, как правило, при гниении цвет волос сохраняется довольно продолжительное время...» Что это за гадость? Откуда у тебя эта книга? — удивилась мама.
— Взяла у товарища.
— Зачем? Неужели тебе интересно это читать?
— Да, интересно,— ответила я с вызовом.
Я говорила неправду. В действительности мне было очень страшно и очень скучно читать эту научную книжку, которая называлась «Следы на месте преступления». Мне ее дал Коля. Она принадлежала Богдану Осиповичу. Начиналась она словами: «Осмотр места преступления часто называют краеугольным камнем следствия...»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Мне кажется, что теперь у них всегда холодно. Хотя, когда я попробовала рукой печку, печка была горячей. У них печка отапливается газом в середину печки введена газовая труба, газ поджигают спичкой, он с шипением горит и натревает булыжники, которые Коля сам положил в печку. Коля говорил, что от этого печка медленнее остывает.
Впрочем, скоро они переедут в новую квартиру, и там уже не нужны будут эти булыжники ж это отопление — там квартира отапливается, как у нас, ТЭЦ.
Елена Евдокимовна и Коля сидели за столом и вязали сеточки-авоськи. Когда я пришла, Коля положил свою авоську на стол и сказал, чтобы Елена Евдокимовна ее не трогала, что он после сам ее закончит.
Интересно все-таки, почему всякие сложные вещи, ну кофточки, например, или даже костюмы джерси, вяжут машины, а авоськи делают вручную? Неужели это нельзя механизировать?
— Вот вы и помирились с Колей,— так равнодушно, словно речь шла не обо мне и Коле, а об очень далеких, незнакомых людях, сказала Елена Евдокимовна.— Будете опять вместе уроки делать?
— Будем,— ответила я.
Ну хорошо, занимайтесь... А я пока чай поставлю.
С тех пор как погиб Богдан Осипович, Елена Евдокимовна очень изменилась. Во-первых, у нее с лица не сходила какая-то приклеенная улыбка, а во-вторых, Коля говорил, что она с тех пор пи разу не заплакала. Я где-то читала или слышала, что о каком-то человеке говорили, будто бы он «окаменел». Прежде я себе не представляла, как это может быть, а теперь понимаю, что так бывает в жизни.
Елена Евдокимовна все забывала. Она уже, наверное, в пятый раз говорила, что мы помирились с Колей. И ничему не удивлялась. Она ничуть не удивилась, когда Коля сказал, что поедет на день в Черкассы, не спросила даже, для чего.
Я думаю, что Коле совсем не нужно было выдумывать целую историю о том, что он хочет повидать фронтового друга
176
Богдана Осиповича, полковника Романенко, чтобы он помог им получить пенсию. И когда Коля вернулся, она его не спросила о результатах поездки. Это я ждала результатов с огромным нетерпением.
Но никаких результатов не было. Коля сказал, что побывал в Черкассах в адресном бюро. Там ему дали адреса нескольких Романенко. И все оказались не те. Кто-то из этих Романенко посоветовал ему пойти в военкомат. А в военкомате Коле сказали, что полковник в отставке Романенко больше года тому назад переехал куда-то в Крым, кажется в Ялту.
Колю это все так расстроило, он так надеялся на эту поездку в Черкассы, что он даже со мной перестал разговаривать обо всей этой истории. Но сегодня, как только я вошла, по Колиному лицу я поняла, что появилось что-то новое. И действительно, он сказал, почти не разжимая губ:
— Есть новости. Потом расскажу.
Когда Елена Евдокимовна вышла на кухню, я подошла к Коле, а он наклонился ко мне и стал шептать на ухо:
— Понимаешь... Матя складывает сейчас всякие вещи. Ну, чтобы переезжать... А я ей, ну, помогал. И в этом шкафу — мы стояли в простенке между шкафом и окном,— у нас там одежда и всякое такое...
Коля не закончил фразы, потому что открылась дверь, и мы невольно отскочили друг от друга, а в двери показался тот самый дяденька из нашего дома, с усами и палкой.
Он как-то нехорошо посмотрел на нас и сказал:
— Здравствуйте, здравствуйте...
Я знаю, что он подумал. Он подумал, что мы с Колей целовались. Как только не стыдно ему такое думать, когда у Коли погиб отец, и вообще...
— Здравствуйте, Юрий Митрофанович,— ответил Коля.— Я все хотел у вас спросить одну вещь... Батя перед уходом говорил, что вы придете, а вы потом не пришли...
Я так насторожилась, что услышала, как стучат мои маленькие часики и как не в лад им стучат часы за дверью на кухне.
— А разве я тебе не говорил? — сказал Юрий Митрофанович, усаживаясь на стуле и ставя свою тяжеленную палку между коленями.— Я его встретил...
у Библиотека пионера, т. 12
177
— Где? — быстро спросила я.
Юрий Митрофанович с удивлением и, как мне показалось, с насмешкой посмотрел на меня и ответил, обращаясь к Коле:.
— На троллейбусной остановке.
— Значит, вы были последним, кто его видел.— Коля помолчал, подошел к столу, сел против Юрия Митрофановича и спросил: — Что он вам говорил?
— Да ничего не говорил... Сказал, что вернется часа через два. Извинялся, что уходит.
— А по какому делу вы должны были увидеться с ним в тот вечер?
— Без всякого дела,— не сразу ответил Юрий Митрофанович.— Мы с твоим отцом были друзьями. А встреча с другом — сама по себе дело.
Я знала, что мне теперь следовало спросить. Мне нужно было спросить: «А куда вы пошли после того, как встретились с Богданом Осиповичем на троллейбусной остановке?» Но Юрий Митрофанович мог ответить: «Пошел домой». И что я могла возразить против этого? И, может быть, он действительно пошел домой... Но все равно я с отвращением смотрела на зажатую между колен налитую свинцом толстую бамбуковую палку.
Елена Евдокимовна принесла чайник, и мы пили чай с болгарским сливовым вареньем, которое называется «конфитюр», и за чаем шел разговор о ближайшем переезде. Юрий Митрофанович сказал^ что он говорил с Семеном Алексеевичем — это с милиционером дядей Семеном — и что милиция даст машину, чтобы перевезти мебель, и он тоже придет помогать. А Елена Евдокимовна сказала — очень спокойно,— что жалко, что Богдан Осипович не дожил до этого времени.
Я выпила чай очень быстро, потому что мне хотелось поскорей услышать то, что начал рассказывать Коля, но Елена Евдокимовна налила мне еще стакан, и я его тоже быстро выпила, хотя чай был горячий и мне обварило язык, а потом не выдержала и сказала:
— Нам еще нужно выучить географию...
Коля меня понял и поддержал:
— И сделать задачки по физике.
178
Юрий Митрофанович посмотрел ца нас как-то странно и скоро ушел, а Елена Евдокимовна тоже ушла на кухню. И тогда Коля сказал:
— Когда складывали вещи, матя сказала, чтобы я примерил батин пиджак. Я уже с. ним одного роста. Только худее. И в пиджаке лежал этот блокнот...—- Коля вынул из кармана небольшую записную книжку в зеленой пластмассовой обложке...— Тут всего две записи,— сказал Коля, не выпуская книжки из рук.— Вот.
Он дал мне блокнот. Довольно разборчиво в нем было написано:
1. Не допускать загрязнения вещественных доказательств.
2. Прикреплять ко всем вещественным доказательствам этикетки.
3. Указывать на этикетке фамилию человека, обнаружившего доказательство, где оно находилось.
4. Волосы, нитки и др. завернуть сначала в белую бумагу, а потом положить в конверт.
5. Не употреблять грязную тару.
6. Пули и другие мелкие предметы сначала завернуть в вату, а затем положить в картонные коробки.
7. Для записей употреблять только простой графитовый карандаш.
8. На этикетках к жидкостям не употреблять чернил.
После этого на отдельной страничке было записано и обведено слово «Титан».
Я перевернула еще несколько страничек, но там уже не было никаких записей.
— Дальше пусто,— сказал Коля.
— Что же это значит?
— Кое-что значит. Видишь, запись про вещественные доказательства сделана пером, чернилами? А «Титан» записан карандашом.
— Вижу.
— Значит, они сделаны в разное время. Ну, вещественные доказательства — это у них, наверное, такие занятия были.
179
Или лекция. У бати в тетрадках много таких штук записано. Я ж тебе давал книжку про следы... А вот «Титан»... Как ты думаешь, про что это?
— Может быть, про какого-нибудь сильного человека?.. Который ходит с пудовой палкой?..
— Ты что — сдурела? — удивился Коля.— Юрия Митрофановича матя вынесла на себе совсем без сознания... Ее ранили, когда она его тащила. Они потом вместе в госпитале лежали. У него одного легкого совсем нету, а в другом осколки.
Мне стало очень стыдно. Мне стало так стыдно и жарко, что у меня выступили слезы.
— Да ты не реви,— сказал Коля.— Я — ничего... «Титан» — это, помнишь, мастерские... когда мы на Подол ходили?..
— Помню.
— Важно было понять, куда ходил батя. И теперь мы, кажется, это поняли.
— Нет,— ответила я,— я не понимаю. Вспомни сам, это было в субботу. В субботу — выходной... Для чего Богдан Осипович мог пойти после работы в мастерские, когда там никого нет?
— А если там что-то хотели украсть? Ну, вот, скажем, передать через забор какие-то вещи, а батя про это узнал и пошел туда. А они на него напали.
— Почему же он пошел один, и в обыкновенной одежде, а не в милицейской? И никому не сказал про это?
— Да,— согласился Коля,— и без оружия. А кроме того, это не его район. В общем, в этом нужно разобраться...
— Послушай, Коля,— сказала я.— Когда мы с тобой поссорились... и я сказала на тебя Самшитик, ну, и вообще... Так я тогда была неправа. Я это давно хотела тебе сказать.
Коля грустно улыбнулся, осторожно взял меня за косичку и несколько раз подергал ее. Он прежде никогда этого не делал. А я ему растрепала волосы. Я тоже прежде этого никогда не делала. Затем Коля отпустил косичку и сказал:
— Мне кажется, это было так давно, как будто прошло уже много лет. И как будто мы тогда были совсем маленькими и смешными. И все-таки жалко мне, что этого больше не будет... Птицелета, и стихотворений, и другого... Я не хотел тебе гово¬
180
рить. Я и мате еще об этом не говорил. Но вот закончу четверть и больше не пойду в школу.
— Как — не пойдешь? — испугалась я.
— То есть пойду, но в другую. В вечернюю. Мате трудно. Нужно мне идти на работу. Дядя Семен обещал помочь устроиться. Нужно работать.
Люди, даже когда они стоят рядом, очевидно, все время находятся друг от друга на разном расстоянии — то ближе, то дальше, в зависимости от того, как они относятся друг к другу. И если бы была такая линейка, которой можно измерять это расстояние, то Коля, который, когда подергал меня за косичку, был совсем рядом, оказался бы сейчас за сто километров. Я подумала, что он совсем большой и занят взрослыми и серьезными мыслями, а я со своими стихами, со своими уроками, со своими выдумками и обидами веду себя совсем как маленькая девочка.
— Что это глаза у тебя сегодня на мокром месте? — сказал Коля.— Я теперь про все это иначе думаю. Можешь называть меня Самшитиком или как хочешь, а я все равно на тебя не обижусь.
На кухне послышался какой-то шум, и в комнату вошли Витя, Сережа и Женька Иванов. Все они держали в руках шапки, все раскраснелись, как будто бежали.
— Хлопцы, — сказал Сережа, обращаясь ко мне и давясь от смеха,— а мы Петьку засунули в урну.
— В какую урну? — спросила я.
— В уличную. Он, может, там до сих пор сидит. Петька толкнул Женьку в снег, а мы как раз наскочили, схватили его и засунули ногами в урну. Знаете, такую из бетона. У него ноги длинные, а урна узкая, и он там застрял.
Я посмотрела на Сережу, и на Витю, который, очевидно вспомнив, как Петька застрял в урне, мстительно улыбнулся, и на Женьку Иванова и подумала, что я тоже стала намного старше.
Но не понадобилось много времени, чтобы я поняла, что это еще не так.
Сережа прыснул, вспомнив еще что-то смешное, и предложил:
181
— Послушайте... анекдот. У девочки спрашивают: «У тебя есть братья или сестры?» — «Нет,— отвечает девочка,— но зато у меня три папы моей первой мамы и две мамы моего первого папы».
Ребята посмеялись, а я покраснела. Нет, я понимала, что Сережа имел в виду совсем не меня, да он и не знал, что мой папа мне не родной отец. И все-таки мне было очень неприятно. Ведь у меня, почти как у этой девочки из анекдота, были два папы, а значит, и две мамы. Правда, эта тетя, на которой женился мой отец, называется не мать, а мачеха. «Но интересно,— думала .я,-—может ли у человека быть одновременно и мать и мачеха?» Так какое-то растение называется, а у людей так не бывает. Мачеха — это когда нет родной матери...
А как эта мачеха относится к моему родному отцу? Любит, как моя мама папу? Или ссорится с ним? И какой он человек на самом деле?
В своих письмах мой родной отец подчеркивал, незаметно, а подчеркивал, что он там, в Новосибирске, большой начальник. Что у него машина, что живут они в отдельном доме — это называется в особняке, а выходные дни они проводят на даче, что он занимается очень ответственной, важной и даже секретной работой. И особенно неприятно было мне это читать, когда моего папу уволили из редакции и он уже не занимался своей важной и ответственной работой. Если бы мой родной отец знал об этом, может быть, он и не стал бы мне писать о своих успехах. А может быть, и наоборот. Я его не знаю.
Несколько раз, и вот теперь снова, мой отец писал, чтобы я приехала к нему гостить на летние каникулы. А мне совсем не хочется ехать. Но почему он так на атом настаивает? У меня есть теория. Вероятно, ему не хватает той любви, которую он имеет. Человеку нужно, чтобы его любили. Это свойственно людям. А нашей семье — мне, папе и маме — той любви, которую мы имеем, вполне достаточно... И все-таки было бы хорошо, если бы Коля когда-нибудь еще так тихо подергал меня за косичку, а я растрепала ему волосы.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Евгения Лаврентьевна рассказывала нам о гремучей смеси, той самой смеси водорода и кислорода, о которой я слышала, еще когда была совсем маленькой, и говорила, что еще в XVIII веке французский химик по имени де Розе сделал однажды такой странный опыт: он решил проверить, можно ли дышать чистым водородом. Этот химик вдохнул водород, но ничего не почувствовал и стал сомневаться в том, водород ли это. Тогда он, чудак, выдохнул для проверки этот газ на пламя горелки, а у него в легких, понятно, образовалась эта самая гремучая смесь. «Я думал, что все мои зубы превращаются в пыль»,— рассказывал потом этот самый де Розе, чудом оставшийся в живых.
В эти дни меня не покидало странное ощущение, что все мы, вся наша компания надышалась, как этот де Розе, гремучей смесью и с минуты на минуту мог произойти взрыв.
Началось это с того, что мы с Колей опоздали в школу. У нас уроки начинаются в девять утра, а выхожу я из дому без четверти девять, потому что школа близко. Коля меня догнал в нашем парадном, когда я спускалась на следующую площадку. По-видимому, он забрался выше и поджидал, пока я выйду. У него было бледное и словно похудевшее лицо, и он слегка заикался, как в тех случаях, когда не знал чего-нибудь у доски.
— Я напал на след,— сказал Коля.
И он рассказал, что решил вчера постоять возле этих мастерских «Титан». Он хотел посмотреть, может, покажется какой- нибудь человек, которого он прежде видел и с которым мог прежде встречаться его отец.
— Там, может, ты заметила,— говорил Коля, глядя под ноги и ступая как-то боком,— стоит такая будочка. В ней летом водой торгуют. Через нее видно. Я стал за ней. И знаешь, кто вышел из этих мастерских?
— Кто?
— Догадайся.
— Не знаю..,— Я остановилась. Я очень боялась назвать это имя.— Дядя Семен?
183
— Нет,—сказал Коля.— Никогда не догадаешься... Оттуда вышла та самая женщина, что приходила к нам на похороны... Ну, помнишь, в такой круглой шапке... Она медсестрой работает...
— И ты думаешь, что это она?..
— Что значит «она»? — удивился Коля.— Нет, конечно. Но, может, она связана с людьми, которые это сделали. Почему она раньше к нам никогда не приходила, а на похороны пришла? Что она делала в этом «Титане»? Я за ней шел до самой больницы. Я сто раз думал, что она меня заметит... А теперь нужно проследить, с кем она встречается, и узнать, к кому она ходила в «Титан». За ней нужно следить. И мы узнаем...
— Я видела такой венгерский фильм,— сказала я.— Про шпионов. Там американского шпиона — а может быть, и не американского — ловят наши, ну, венгерские милиционеры. Они, конечно, переодетые. И когда они следят за этим шпионом, за ним идет сначала один — в ресторан, а когда он выходит из ресторана, за ним идет уже другой, а потом, когда он садится в автобус, с ним садится третий. Поэтому он не может догадаться, что за ним следят, а потом за ним гонятся на автомашине и ловят его. Надо поговорить с ребятами. Чтоб следить за ней по этому методу.
— Да,— сказал Коля.— Нужно поговорить с ребятами. Я тоже об этом думал.
На первом уроке был русский, и хотя мы опоздали почти на десять минут, Елизавета Карловна ничего не сказала и не спросила, почему мы опоздали. Теперь, после смерти Богдана Осиповича, учителя не делали Коле замечаний и даже не вызывали его, а он сидел рядом со мной, очень молчаливый, и рисовал на промокашке кубики и звездочки и только иногда ежился, как от холода.
В конце урока Коля, как это он умеет делать, почти не разжимая губ, сказал мне:
— После уроков поговорим с ребятами. Только нужно будет как-нибудь отшить Женьку Иванова.
— Почему «отшить»? — обиделась я за Женьку.— Тогда можешь и меня отшить. Женька еще никогда никого не подводил...
184
— Алексеева,—сказала Елизавета Карловна,—я в твоем возрасте эти проблемы решала не на уроке.
В классе засмеялись, а я подумала, что этих проблем Елизавета Карловна никогда не решала.
— Ладно,— сказал Коля после урока.— Я ведь говорил, что мы больше не будем ссориться. Хочешь, чтобы был Женька,— пускай будет. Я только хотел тебя попросить...— Коля замялся,— чтобы ты сама рассказала ребятам про это...
— Как — сама?
— Ну, то есть я буду с тобой... Но чтобы рассказывала ты.
— Хорошо,— согласилась я.
Мы собрались после уроков в нашем закоулке школьного двора.
— Сейчас,— объявил Сережа,— профессор Алексеева сделает научный доклад про свою новую теорию птицелета... Нужно поймать десять тысяч воробьев, каждому привязать за лапку нейлоновую ниточку, за другой конец ниток держится летчик, и птицелет готов...
Никто не улыбнулся. Наши ребята понимают, когда что-то всерьез.
— Хватит трепаться,— сказал Витя.— Что случилось?
— Сейчас узнаешь,— ответил Коля.— Только я хочу предупредить... Это такое дело, что если растреплете...
— Лишь бы ты сам не растрепал,— обиделся Витя.
Коля требовательно и недоверчиво смотрел на Лену.
— Я уже раз давала слово,— надула губы Лена.— А если вы с Олей не верите, так я могу уйти.
— Да хватит,— сказал Витя.— Что там такое?
— Колин папа не попал под трамвай,— сказала я.— Понимаете? Вернее, он попал, но умер не от этого. Его убили...
Ребята молчали.
Сережа недоверчиво улыбнулся, а Женька открыл рот, собираясь что-то сказать, но снова закрыл его.
— Сначала, когда мне Коля рассказал про это, я тоже сомневалась. А потом поняла, что это — правда.
— А факты? — спросил Витя.
— Сейчас я расскажу про факты.
185
И я им рассказала всю историю сначала: и про то, что Богдан Осипович не пил алкогольных напитков, и про вагоновожатого Стеценко, и про табачную фабрику, и про мастерские «Титан».
— Я знаю, кто его убил,— сказал Женька.— Его убили шпионы. Они всегда так делают.
— Подожди, Женька,— отмахнулся от него Витя.— А как же следователь?.. Про которого Оля говорила? — спросил он у Коли.— Ему же этот ваш вагоновожатый сказал, что через рельсы переходили три человека?..
— Сказал,— мрачно ответил Коля.— И я ему первый сказал, что батя непьющий. Но он не обратил внимания. Он какой- то этот... бюрократ. В очках. В глаза не смотрит.
— А если эта женщина в самом деле шпионка? — вмешалась Лена.— И заметит, что мы за ней следим? Может, она в сумочке или даже в кармане носит маленький револьвер?
— Меня она не узнает,— сказал Сережа.— Я могу переодеться даже в платье. Я могу так менять лицо, что сам на себя не похож.
И Сережа скорчил такую гримасу, что нос у пего съехал куда-то на левую щеку.
— Ну зачем это ты? — словно целясь, посмотрел на него Коля.— С тобой всерьез, а ты как маленький...
— Да я ничего,— смутился Сережа.
— Понятно,—сказал Витя.— Дело серьезное. Нужно все хорошо продумать. Тебя она видела? — спросил он у Коли.
— Видела. Оля ж говорила. Она на похоронах была.
— Понятно. А тебя? — спросил он у меня.
— Меня тоже.
— И это понятно. Может, она вас даже сфотографировала. Теперь есть такие аппараты шпионские в часах.
Я хотела возразить, что этой тете совершенно незачем было нас фотографировать, даже если бы она в самом деле была шпионкой, а кроме того, совсем не доказано, что она шпионка, но Витя продолжал, и я просто не успела ему возразить.
— Значит, следить за ней будем мы вчетвером — я, Сережа, Лена и Женька. А вы с Колей будете у нас в резерве. Дежу¬
185
рить мы будем по два человека, и если она зайдет, скажем, в магазин, где у нее явка, то один, ну к примеру Оля, останется снаружи, а Женька пойдет за ней внутрь. Понятно?
— Понятно,— сказала я, посмотрела на Колю и сейчас же отвела глаза.
Мне это не нравилось. Мне это вдруг напомнило игру, в которую мы играли на нашем дворе, когда были меньше,— в «сыщика-разбойника». Колиного папу, Богдана Осиповича, в самом деле убили. И мне казалось, что нехорошо превращать это в игру. Но я не знала, что предложить.
— Пошли по домам,— сказал Витя.— Ровно через час сбор. Начнем с больницы. В больницу пойдут Оля и Лена. Ты ее узнаешь? — спросил он у меня.
— Узнаю,— ответила я неуверенно.
— Постарайся узнать. И незаметно покажешь на нее Лене. А Лена выяснит, как ее фамилия, а может быть, и адрес. Жалко, что пропал твой фотоаппарат. Вот сейчас он бы нам пригодился. Хорошо бы ее сфотографировать... Ну, пошли. Через час соберемся у моего парадного. Домой пойдем по од¬
187
ному, чтобы не обращать на себя внимания. Ты, Оля, иди первой.
Это мне уже показалось совсем бессмысленным — почему нельзя обращать на себя внимание и почему нужно идти по одному? Но я не стала спорить и пошла домой.
Когда я через час подошла к Витиному подъезду, там уже стояли Витя, Сережа и Лена, а Коли и Женьки Иванова не было. Витя в руке держал тросточку, похожую на ту, которую когда-то поломал Петька, но без надписи.
— Так не годится,— сказал Витя, постукивая тросточкой об асфальт.— Раз договорились — значит, не опаздывать. Ждем ровно пять минут. Не придут — отправимся без них.
— А может быть, у Коли что-нибудь случилось*— сказала я.
— Слушайте загадку,— предложил Сережа.— Девочка стоит вечером под дождем на троллейбусной остановке и ждет троллейбуса. Вдруг к ней подходит некто в сером и говорит: «Я тебе не отец, но ты мне — дочь». Кто это был?
К нам подошел Коля.
— Матя в магазин посылала,— сказал он смущенно.— За капустой. А в овощном только одна продавщица. Вторая — гриппом заболела...
— Кто же это все-таки был?—спросила я у Сережи.
— А ты отгадай.
— Отчим?
— Нет. При чем здесь отчим?
— То была мама этой девочки,— сказал Витя.— Пошли. Больше никого ждать ие будем.
Значит, это была мама. Как я сама не догадалась? Но, может, Витя уже слышал эту загадку?
Мы пошли к троллейбусу, и на самой остановке нас догнал Женька Иванов. У него было красное, зареванное лицо. Очевидно, «тираны-родители» не пускали его на улицу, а требовали, чтобы он сел за уроки.
Только в троллейбусе я сообразила, что у меня нет ни копейки денег и что мне нечем заплатить за билет. Я спросила у Коли, есть ли у него деньги.
— На билеты есть,— ответил Коля.— Сколько нас?
— Я уже взял билеты! — крикнул'нам Витя.
.188
Какая-то молодая женщина с подрисованными к вискам уголками глаз, как это теперь делают, и в шубке из искусственного каракуля сказала смешливому дяденьке, который сидел с ней рядом:
Посмотри, какая хорошенькая девочка.
Я оглянулась на Лену. Но они смотрели не на нее. Они смотрели на меня. Лена была сзади них, и они ее просто не видели.
Я подумала, что о Лене эта тетя не сказала бы «хорошенькая». Она бы сказала «какая красивая девочка». Но все равно я покраснела, и мне было приятно.
Троллейбусом и трамваем мы приехали на Подол. Витя спросил у какого-то встречного старого дяденьки, который очень кашлял, где находится поликлиника. Дяденька прокашлялся, плюнул на землю и ответил, что это близко,
— Я ведь там был,— сказал Коля.
Я не знаю, как это получилось, но Витя сразу стал у нас всем распоряжаться, хотя убили совсем не его папу. Однако его все слушались, даже Коля и я. Наверное, всегда бывают какие-то люди, которые берут на себя руководство, и, если даже они могут распорядиться хуже других, их уже все равно слушают.
Двор поликлиники был окружен очень высокой и очень толстой белой стеной, и Витя сказал, что тут, по-видимому, раньше был монастырь, потому что осталась такая стена и из-за стены была видна церковная колокольня, но без креста.
Во дворе поликлиники был садик, а посредине этого садика стояло странное сооружение — высокий квадратный столб на фигурном пьедестале, а на столбе — квадратные циферблаты. И из каждого циферблата торчала узкая фигурная металлическая дощечка. Это были настоящие солнечные часы, и Витя сказал, что если бы было солнце, то и сейчас по ним можно было узнать время.
— Ну, хватит,— сказал Витя.— Мы сюда не на экскурсию пришли. Мы вас подождем, а вы с Леной найдите эту женщину и выясните, как ее фамилия и как ее зовут.
Мы с Леной пошли в поликлинику. Лена внешне выглядела совсем спокойной, а я очень волновалась. Я боялась, что нас
489
не пустят. То есть я понимала, что ко мне нельзя придраться, ведь могло случиться так, что я пришла бы сюда за справкой к врачу. Или, скажем, чтобы передать какому-то человеку, который тут работает, письмо от папы. Но это было бы совсем другое дело. А так — мне было очень боязно.
— Снимите пальто,— сказала нам тетенька в несвежем, с желтыми потеками халате. Она стояла возле раздевалки.
Мы разделись, тетенька нам дала номерки. Мы поднялись на второй этаж и вошли в коридор, в котором было много дверей. Перед каждой дверью сидели и стояли люди. Они ждали своей очереди на прием к врачу.
— Скажем, что ищем маму,— почти не разжимая губ, как говорил в таких случаях Коля, когда хотел, чтобы его не услышали, сказала Лена.— Будем заглядывать в каждую дверь. А если ты ее увидишь, так ты мне скажешь, и я останусь у двери. А ты выйдешь к ребятам...
Лена заглянула в белую дверь, которая была прямо перед нами.
— Мы не к доктору, мы только заглянем,— сказала она женщинам, ждавшим своей очереди.— Мы ищем маму.
В комнате мы увидели почти совсем голую толстую тетеньку и мужчину-врача. Он ее осматривал.
— Что вам тут?..— закричал он на нас, и мы скорее захлопнули дверь.
— А если тебя спросят, как фамилия твоей мамы? — спросила я Лену.
— Я скажу — Костина. Моя мама в самом деле врач.
— И она тут работает?
— Ну что ты! — удивилась Лена ?ак, как будто все обязаны знать, где работает ее мама.— Она научный сотрудник в институте Богомольца.
Мы обошли весь коридор. Мы не пропустили ни одного кабинета. А в одну дверь мы заглядывали дважды, потому что там было две комнаты. На нас кричали и больные и врачи. И все-таки женщины, которая нам была нужна, мы нигде не увидели.
Мы отдали номерки, надели пальто и вышли на улицу к нашим ребятам.
190
— Ничего,— сказал Витя.— Может быть, она работает в другом месте. Мы пока не теряли времени напрасно и выяснили, что тут, кроме поликлиники, еще больница и лаборатория. Поэтому есть новый план... Скоро конец рабочего дня. Выход из этого двора только один — через ворота. Мы будем на улице, за воротами. Ты, Коля, стань в парадном, которое против ворот. С тобой пойдет Женька. Дождемся, пока будут выходить врачи и всякие сестры. Если увидишь ее — вышлешь к нам Женьку. Смотри внимательно. А Оля станет за нашими спинами и тоже будет смотреть. Важно ее не пропустить.
Витя сделал своей тросточкой выпад, как шпагой.
Мы ее не пропустили. Эта женщина вышла из ворот, я ее узнала еще до того, как успела рассмотреть,— у меня заколотилось сердце. В руках у нее был чемоданчик. Она села в «Москвич» с красным крестом на дверцах и уехала.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Ее звали Вера. Фамилия — Старостенко. А по отчеству — Петровна. По виду она была молоденькой, но фактически оказалась совсем старой — ей уже было двадцать четыре года. Она работала медсестрой в «неотложной помощи». Это вроде «скорой помощи», но не для серьезных случаев, а когда кто-нибудь руку порежет, или сердце заболит, или в поликлинике уже закончился прием, то обращаются в эту «неотложную помощь».
На работе Старостенко занималась в основном тем, что разговаривала и, судя по выражению их лиц, сплетничала с докторшей, с которой она работала вместе, а кроме того, она делала уколы людям, приходившим на прием.
Витя принес бинокль с просветленной оптикой. Если посмотреть на стекла под углом, то кажется, что они фиолетового цвета. Окна «неотложной помощи» выходили в такой закоулок между забором и домом, и если просто так посмотреть на эти окна, то ничего не было видно — они казались черными> Но в бинокль было совершенно ясно видно все, что происходило внутри. Я. никогда не знала, что бинокли обладают таким свойством.
191
Прежде я видела эту женщину в шапке, и только теперь я заметила, что у Старостенко был такой маленький лоб, что сначала это даже озадачивало — волосы росли от самых бровей, но все равно, несмотря на это, она была очень хороша собой.
Если эта Старостенко действительно была шпионкой, то она избрала такую работу, что ее очень трудно разоблачить. Сначала мы пробовали следить за людьми, с которыми она встречалась. Но выяснилось, что это совершенно невозможно, потому что в «неотложную помощь» заходила масса людей, и любой из них мог прийти, как выражался Витя, «на явку». А кроме того, время от времени она то одна, то с врачом уезжала в этом «Москвиче» с красным крестом на вызовы. Попробуй проследить за каждым, с кем она встречалась. Для этого нужно было бы привлечь всю нашу школу.
Кстати, в школе дела у нас обстояли совсем плохо. В первый раз за всю свою жизнь Лена получила двойку. По физике. Елизавета Карловна сказала, чтобы ее мама пришла в школу. Я думала, что Лена будет расстраиваться и плакать, но Витя сказал на переменке, что мы обязаны жертвовать своими личными интересами ради общественных интересов, и Лена с ним полностью согласилась.
На следующем уроке, на алгебре, двойку получил Сережа. Возможно, Климент Ефремович поставил бы ему тройку, если бы не Сережины шуточки*
Сережа решил уравнение, но когда Климент Ефремович спросил у него правило, Сережа стал путаться. Климент Ефремович удивился и сказал, что раз человек умеет пользоваться правилом, то он должен уметь его сформулировать, и что это был очень легкий вопрос.
— Вопрос, может быть, и легкий,-— нахально ответил Сережа,— но вот ответ...
В классе раздался нездоровый смех, и Сережа с преувеличенным отчаянием на лице пошел на место.
Правда, на переменке Сережа говорил, что он тоже пожертвовал своими личными интересами ради общественных. Он, конечно, шутил, но и в самом деле то, что Витя назвал нашими «общественными интересами», отнимало очень много времени, и тут уж было не до отметок.
192
Жизнь шла своим чередом, и мы по-прежнему занимались у Вити нашими химическими опытами и поисками реактивов. Правда, теперь во время опытов мы разговаривали не столько о птицелете, сколько о книжках про шпионов.
Хотя мы следили за медсестрой Верой Старостенко уже вторую неделю, ничего подозрительного мы пока что не заметили.
В мастерские «Титан» она больше не ходила. Теперь я понимаю, какая разница между кино и жизнью: в кино шпион занимается шпионажем, и поэтому за ним легко проследить, а в жизни он делает уколы сотням людей, и проследить за ним совершенно невозможно.
Впрочем, один раз я наблюдала странную и нехорошую встречу. Я дежурила в паре с Витей, он мне отдал свой бинокль с просветленной оптикой, а сам пошел проверить, нет ли радио- установки в этом «Москвиче» с красным крестом. Я посмотрела в бинокль и увидела, что/Вера Старостенко одна, что докторши, с которой она работает, нет, что в комнату вошел какой-то подозрительный человек в берете? и сером пальто с поднятым воротником, что от хотел, закрыть* дверь изнутри на ключ, а она не пускала его это сделать, но он. все-таки, закрыл дверь и стал ее целовать, то есть не дверь*, а; эту Старостенко, и она его тоже стала целовать, и я понимала, что на, это нельзя смотреть, но все-таки смотрела и все видела.
Когда вернулся Витя,, он*, сказал, что> в «Москвиче» есть радиоприемник, который*, возможш^используется и как рация, что он сумел все хорошо; исследовать, потому что водитель ушел в «неотложную помощь»у и спросил у меня, что он там делал.
Значит, это был водитель «Москвича». Я его просто не узнала.
— Так, ничего,— ответила я.— Разговаривал с этой Старостенко.
После этого я начала болтать всякую чепуху и задавать глупые вопросы, чтобы отвлечь Витю и не давать ему бинокль, и Витя, по-моему, очень удивлялся, что со мной случилось и почему я вдруг так поглупела.
Я решила, что не скажу ребятам о том, что я видела, потому что об этом нехорошо рассказывать.
Каждый вечер мы наспех готовили уроки и подводили итог.
193
Особенно трудно было с уроками Женьки Иванова: в пятом классе очень сложные арифметические задачки, мы их решали все вместе и все равно ответ не всегда сходился с задачником. А итогов мы тоже пока никаких не имели, и Сережа сказал, что, может быть, это вообще случайное совпадение: могла же эта Старостенко пойти в мастерские «Титан», потому что там кто-то сильно порезался, и он знает, как это проверить. Он хотел подойти прямо к Старостенко, громко сказать ей: «Привет из «Титана»!» — и посмотреть, как она на это будет реагировать. Мы его еле отговорили.
Сегодня на большой переменке я подумала, что обо мне снова что-то написали в газете. Может быть, подумала я, напечатали еще какое-нибудь стихотворение из тех, которые были в тетрадке. Мне хотелось, чтобы это было стихотворение про самолет, потому что я до сих пор в душе считала, что наша стенгазета неправильно сделала, когда не поместила его. Интересно, что бы они запели, если бы увидели, что это стихотворение напечатали не в стенной, а в настоящей газете. Но я стеснялась спросить, что там такое, потому что краем уха слышала, как о газете разговаривали две мало знакомые мне учительницы из младших классов, и одна из этих учительниц сказала обо мне: «Тише, вот она».
Однако, как я об этом узнала позже, в газете были помещены совсем не мои стихи, а папин фельетон. Елизавета Карловна подозвала меня и сказала, чтобы я передала папе, что учителям очень понравился его новый фельетон и что они его поздравляют, а мне было стыдно, что я ничего об этом не знаю, и я сказала: «Спасибо, обязательно передам» — и кивала головой так, как будто я не только читала этот фельетон, но даже знала о нем заранее.
В этот день наша учительница зоологии выполнила свое давнее обещание. У нас в школе нет микроскопа, но она где-то достала микроскоп, потому что уже давно собиралась нам показать, как выглядит увеличенная капля воды.
Мы по очереди смотрели на эту каплю, и каждого приходилось оттаскивать от окуляра, и ребята просили учительницу, чтобы она не забирала микроскоп, что они будут не спеша рассматривать эту каплю после уроков.
194
Я тоже посмотрела в микроскоп, и то, что я увидела, мне совсем не понравилось. Во-первых, мне было неприятно, что в прозрачной капле воды столько всяких микробов. То есть теоретически я знала об этом и раньше, но одно дело знать теоретически, а другое дело увидеть на практике, как в воде, которую мы пьем, плавают существа, похожие на креветок и мокриц. А во-вторых, я подумала, что эти существа так малы в сравнении с нами, что мы их рассматриваем в микроскоп, но, может быть, где-то во Вселенной существуют такие громадные существа, что они со своих галактик рассматривают нас в свои микроскопы.
В общем, я много раз замечала и на себе и на других, что когда у человека плохое настроение, то все ему кажется не так, и когда ему предлагают мороженое, то он говорит, что не хочет мороженого, потому что он простужен, а когда ему предлагают конфеты, он говорит, что не хочет конфет, потому что у него болят зубы, а когда его зовут в кино, он говорит, что не хочет в кино, потому что смотрел этот фильм уже два раза.
После уроков мы с Колей обошли несколько киосков, пока купили газету с папиным фельетоном. Ее уже везде раскупили. Мы взяли газету, отошли в сторонку за киоск и стали читать этот фельетон про себя, но вместе. Коля ^читает медленнее меня, и когда он засмеялся, я не могла понять, что его рассмешило.
Фельетон этот назывался «Опровержение министра». В нем писалось:
Я больше не пишу фельетонов. И искренне восхищаюсь гражданским мужеством и готовностью к самопожертвованию литераторов, отдавших свои перья этому, увы, нелегкому жанру!
Мои ученые друзья недавно подсчитали, что в среднем продолжительность жизни фельетонистов на восемь лет меньше, чем у очеркистов, выступающих под рубрикой «О людях хороших», и на одиннадцать с половиной лет меньше, чем у поэтов, публикующих свои стихи исключительно в дни праздников. Фельетонисты рано седеют, их чаще оставляют жены, и язва желудка, а также гипертония и диабет являются их профессиональными заболеваниями. В некоторых редакциях фельетонистам уже начали выдавать молоко «за вредность производства», и я считаю это мероприятие свое-
195
временным и заслуживающим самого широкого распространения.
В чем же дело? А дело, оказывается, в опровержениях. В тех самых опровержениях, классическая формула которых была изложена более трех тысяч лет тому назад в одном восточном сказании: во-первых, я не брал этого горшка, во- Еторых, когда ты мне его давал, он был с трещиной, а в-третьих, когда я тебе его возвращал, он был целым.
В каждой редакции по каждому фельетону заводится «дело». Некоторые из этих дел по количеству заключенных в них листов и содержанию соперничают с Полным собранием сочинений Александра Дюма-отца, а по стилю и настроению — с перепиской между князем Курбским и Иваном Грозным.
Фельетонист в своем сочинении говорит о чем-то: «черное». А опровергатель говорит: «белое». Этим обычно и начинается «дело». Далее фельетонист на основании неопровержимых документов за номерами такими-то от чисел таких-то доказывает: «несомненно, черное». А опровергатель создает комиссию, призывает в свидетели соседей и присылает в редакцию акт с решительным утверждением: «белое, но с отдельными, редко расположенными черными точками». На этот раз приходится попотеть фельетонисту. Он посещает членов комиссии, которые, оказывается, не только не подписываются на газету и не читали фельетона, но и вообще в это время были в далеком арктическом плавании. И снова пишет: «черное».
Но не дремлет и опровергатель. Заручившись справками из домоуправления, а также с места службы своего очень авторитетного родственника, он утверждает: «серое, и лишь местами черный фон».
Фельетонист посещает и домоуправление и место работы авторитетного родственника и снова пишет письма, а копии вкладывает в «дело». И тут ему уже не до новых фельетонов, и настроение у него скверное, и он отказывается пойти с женой на новую кинокомедию, теряет ключи от квартиры и непочтительно отзывается о своем редакторе именно в ту минуту, когда редактору почему-то вздумалось покинуть кабинет и оказаться за спиной раздражительного фельетониста.
Если кто-либо из читателей слышал о фельетоне, в ответ на который не были присланы опровержения, пусть сообщит об этом: этот факт заслуживает того, чтобы о нем упомянули в Большой советской энциклопедии.
— Конечно,— жаловался недавно один мой знакомый фельетонист,—на эти опровержения можно бы и не обращать такого внимания, как мы это делаем, не отдавать всех своих сил опровержению опровергателей. Но тогда теряется
196
весь смысл нашей работы: вместо того чтобы устранить недостатки, о которых мы пишем, наказать виновников, от пас отделываются «опровержениями».
— Еще как отделываются,— вздохнул, в свою очередь, и я.
Некоторое время тому назад был опубликован мой фельетон «Маленькое счастье». В нем говорилось о начальнике главка В. JI. Костенко, в наклонностях которого было что-то недоброе, что-то постыдное, что-то чуждое нашему времени, говорилось о том, как этот человек стремился спрятать эти свои качества от общественности, зажимая и преследуя малейшее слово критики. Любого человека, который придерживался другого мнения, о чем бы ни шла речь — даже о прочитанной книге, даже о просмотренном фильме, В. Л. Костенко стремился уничтожить всеми доступными ему средствами.
В ответ на фельетон из министерства в редакцию поступило письмо, подписанное самим министром М. Н. Усовым. «В результате проведенной министерством проверки,— говорилось в этом письме, — установлено, что приписок к плану, на наличие которых указывалось в фельетоне Николая Алексеева, фактически не было».
Я не закален в фельетонном ремесле и, получив это письмо, сознаюсь, просто растерялся. Черт побери! Ведь я собственными глазами — собственными! — видел документы, которые показывали, что к плану были сделаны приписки. И начальник главка В. Л. Костенко не отрицал этого.
Обидели и удивили меня и те строки письма, где говорилось: «Почему т. Алексеев, поднимая такой важный, принципиальный вопрос, как критика руководства учреждения, так беспринципно выбрал объект для примера?» По-видимому, по мнению министра М. Н. Усова, пожилая женщина, которую незаконно судили, которую преследовали только за то, что она покритиковала на собрании начальника главка, недостаточно «принципиальный» объект для примера.
Мне пришлось затратить немало труда, чтобы доказать, что я не лжец, что у министра не было оснований для опровержения фельетона.
Но вот минуло немного времени, и начальника главка В. Л. Костенко пришлось уволить с работы. В приказе министерства приводились те же самые факты, которые так легко отрицались в опровержении: В. Л. Костенко сняли за приписки, за обман государства, за зажим критики и грубость с подчиненными. Больше того, открылись такие обстоятельства, которых я даже не подозревал: акт финансовой ревизии показал^ что В. Л. Костенко был просто нечист на РУКУ.
197
После этого шли выписки из документов, и мой папа критиковал министра за то, что министр защищал «честь мундира». А заканчивался этот фельетон теми же словами, какими он начинался:
Я больше не пишу фельетонов! И искренне восхищаюсь гражданским мужеством и готовностью к самопожертвованию литераторов, отдавших свои перья этому, увы, нелегкому жанру.
— Вот дает! — совсем как егерь дядя Тима, сказал Коля, когда дочитал фельетон.— Здорово!
Я помолчала и предложила:
— Пойдем к нам... Пообедаем вместе.
— Я вообще-то не голодный,— ответил Коля.— А твои родители уже дома?
— Нет,— сказала я.— Мы пообедаем вдвоем.
Коля повеселел и ускорил шаги.
Я еще прежде замечала, что он стесняется моей мамы. Да и папы тоже.
Дома я сказала Коле, чтобы он помыл руки, и неожиданно для самой себя вдруг решила:
— Сейчас приготовим бульон с яйцом. Будешь есть?
— Давай,— ответил Коля.— Мне все равно.
— А на второе — макароны с мясом. Это называется «по- флотски». Нужно их только разогреть на сковородке.
Бульон с яйцом мне не удался — почему-то свернулся белок, и в бульоне плавали хлопья. Но Коле это блюдо очень понравилось, и когда я предложила ему добавки, он сказал: «Давай».
За обедом он снова вспомнил о фельетоне и заметил:
— Нужно было купить две газеты. Чтоб матя почитала.
— Можешь взять,— ответила я.— Папа принесет еще газет. Он всегда приносит, если там напечатана его статья.
— Спасибо,— сказал Коля, когда мы доели все макароны.— Я пойду. Я еще домой должен зайти, отнести авоськи... А потом мы с Витей задумали одну штуку...
Он встал из-за стола и тихо, чуть-чуть подергал меня за косичку. Мне очень хотелось растрепать ему волосы, но сейчас я почему-то не решилась это сделать.
198
Коля ушел, а я помыла посуду и села за уроки.
Теперь мы готовили уроки по очереди — один сделает, а остальные у него потом списывают. Даже Лена Костина списывала алгебру у Сережи и удивлялась потом, почему у задачи не сходится ответ.
Я еще не успела закончить уроки, как вернулись с работы мои родители. Очевидно, папа зашел за мамой в ее проектное бюро.
— Скорее,— сказала мама,— одеваться! Лялька! Надень красный пуловер, который я тебе привезла из Ленинграда. Он тебе идет. Поедем в ресторан и устроим пир на весь мир. Умираю от голода.
Они были очень веселы, папа смеялся и ткнул меня пальцем в живот.
— Я не поеду,— ответила я.— Я уже обедала. И я еще не сделала уроков.
— Ну и ну! — закричала мама из кухни.— Лялька объелась макаронами. Но от мороженого и шампанского ты, конечно, не откажешься. А уроки сделаешь потом.
— Нет,— сказала я.— Я не поеду.
Папа посмотрел на меня с веселым удивлением. Очевидно, он не мог понять, как человек может отказаться от мороженого. И от шампанского.
— Ты видела газету? — спросил он.— Там фельетон. И на этот раз, говорят, смешной.
— Смешной,— согласилась я.— Только ты сам говорил прежде, что не понимаешь, как над этим можно смеяться.
— Вот оно что! — прищурился папа.— Можно, Оля. И нужно. Над подлостью, над жадностью, над тупостью, может быть, действительно не стоит смеяться, пока они действуют. Но когда их преодолели, когда их победили, над всем этим необходимо смеяться. Победители всегда смеются...
Я подумала, что иногда смеются и побежденные, только не сказала этого вслух.
— А ты в самом деле больше не будешь писать фельетонов? — спросила я.
— Буду,— ответил папа.— Это просто литературный прием. Ведь то, что сегодня напечатано,— это и есть фельетон. А кроме
199
того, я готовлю еще одну бомбу... И врежу — с нездешней силой... Собирайся же, Оля.
— Нет* нет,— повторила я.— Я не поеду.
— Никто так не умеет испортить радости, как наша дочка,— процедила мама сквозь зубы, в которых держала шпильки. Она причесывалась.— Поедем, Коля, а она пусть сидит дома. Да и вообще, где это видано — таскать детей по ресторанам?..
Я ничего не ответила и снова уткнулась носом в учебник физики.
Как скоро люди все забывают! И мама, и папа уже не помнили, что у Коли погиб отец.
Мама недавно говорила папе, что теперь у нас снова все благополучно, что пора уже забыть обо всех этих неприятностях, пора жить нормально и смотреть на окружающее нормально, что нельзя из-за отдельных случайностей, которые неизбежно бывают со всяким, озлобляться и смотреть на мир сквозь черные очки.
Но у нас не было все благополучно, и в этом мире не было все благополучно, если Колиного папу убили, если Колина мама больше не плакала, а постоянно улыбалась этой своей приклеенной улыбкой, если Коля все время ежился, как от холода.
Когда мои родители ушли, я снова подумала, что смеются не обязательно победители. Я стала перед зеркалом и попробовала посмеяться. Я смеялась, но мне даже самой было немножко страшно — такое у меня было ненормальное выражение лица и такой дурацкий смех.
И все-таки я проявила силу воли: отказалась от мороженого, которого мне очень хотелось, и не заплакала, а посмеялась над своими огорчениями.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В этой семье — все юмористы. Наташка ходит, как Чарли Чаплин,— носки у нее смотрят в стороны. Мы вместе с ней шли в школу, я сегодня вышла пораньше.
200
— Кем ты будешь, когда вырастешь? — спросила я у Наташки.
— Кондуктором,— ответила она не задумываясь,
— Почему?
— Говоришь людям, где выйти... И много денег»
— Не очень много,— возразила я.
— Очень,— сказала Наташка.— Я видела.
Оказывается, она считает, что кондуктор все деньги, которые получает от пассажиров и кладет в сумку, берет себе.
— А я знаю, какой будет фокус,— искоса поглядела на меня Наташка.— Только не скажу*
— Ну и не надо.
Если бы я попросила: «Расскажи», может быть, Наташка и промолчала бы.
— С яйцом,— таинственно прошептала Наташка.— Он наливает в бутылку воду — и вдруг там яйцо. Но я не знаю, как он его туда засовывает...
Сегодня у нас на последнем уроке — химия. Это лучший день недели. После урока весь класс остается в химическом кабинете. Евгения Лаврентьевна рассказывает интересные вещи о химии и о химиках. А теперь к этому уроку ребята готовят химические фокусы и показывают их. А потом рассказывают, в чем секрет. Что собирался показать Сережа, я уже узнала от Наташки.
У Евгении Лаврентьевны на столе лея*ала книга с закладками. Я посмотрела издали и, хотя буквы были перевернуты, прочла: «Конан Дойл. Избранные произведения». Вот, значит, чем увлекалась Евгения Лаврентьевна! Я вспомнила страшный рассказ этого писателя о пляшущих человечках и подумала, как было бы здорово, если б Шерлок Холмс примкнул к нашей компании. Он бы, наверное, быстро разобрался в нашем деле.
Евгения Лаврентьевна сказала:
— Когда мы изучали закон сохранения массы, мы с вами сожгли в колбе немного фосфора, и при этом образовалось новое вещество — фосфорный ангидрид в виде белого дыма. Вы также видели, как светится фосфор при окислении на воздухе. Но это свечение фосфора создает иногда у людей неправильное
201
представление. Вот что пишет ваш любимый писатель Конан Дойл в «Собаке Баскервилей».
Евгения Лаврентьевна раскрыла книгу там, где она была заложена полоской бумаги.
— «Да! Это была собака, огромная, черная как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение, более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана». А дальше вот что говорится уже об убитой собаке: «Ее огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. «Фосфор»,— сказал я».
Этого не могло быть. Фосфор на воздухе не только светится, но и загорается — собака просто изжарилась бы, если б ее шерсть смазать раствором фосфора в летучей жидкости или опылить фосфором. Кроме того, фосфор еще и ядовит. И достаточно было в пасть этой собаке Баскервилей попасть одной десятой доле грамма, чтобы она отравилась и немедленно погибла.
Все это я говорю к тому,— улыбнулась Евгения Лаврентьевна (и я снова подумала, какая она красивая),— что в седьмом «Б» появился юный химик, который вздумал свою таксу превратить в собаку Баскервилей. Так вот запомните, что фосфор для людей еще более ядовит, чем для собак.
После урока Евгения Лаврентьевна села на стуле сбоку у своего стола, ближе к окну, и объявила:
— А сейчас поглядим, чем нас удивит сегодня Сережа.
Сережа вышел к столу и попросил две колбы с узкими горлышками. С важным и серьезным видом он налил в одну колбу воду, потом перелил эту воду в другую колбу, снова перелил в первую, а затем опять вылил воду во вторую. Пустую колбу он несколько раз встряхнул в руках.
И вдруг на наших глазах в колбе появилось куриное яйцо. Это было так здорово, что все просто ахнули, а я толкала Колю
202
и Витю в бока — они сидели по сторонам от меня,— потому что мне казалось, что они недостаточно восхищаются.
— Интересно,— сказала Евгения Лаврентьевна.— Очень интересно. Ну, кто же скажет, в чем тут секрет?
Все молчали.
— Он выпустил яйцо из рукава,— сказала Нечаева.
— Разве ты не видишь, что яйцо в два раза шире горлышка колбы? — возразила Евгения Лаврентьевна.
— Пусть даст колбу в руки,— потребовал кто-то из ребят.
— Нет,— сказал Сережа,— ты так отгадай. В этом как раз и фокус.
— Значит, никто не знает,— встала Евгения Лаврентьевна.— Я тоже не могу догадаться. Это в самом деле похоже на чудо. Придется, Сережа, тебе самому рассказать, как ты это сделал и какие химические законы ты для этого использовал.
Мне, конечно, было очень любопытно узнать, в чем состоял секрет этого фокуса. И все-таки мне было немножко жалко, что это сейчас станет известно — мне хотелось хоть некоторое время считать, что на свете бывают чудеса.
Сережа рассказал, что он сделал иглой две тоненькие дырочки в обыкновенном яйце — одну на заостренном конце, а другую на тупом. Затем он стал втягивать в себя ртом это яйцо, и, хоть он не любит сырых яиц и ему было противно, он все равно его выпил. Пустую скорлупу он положил в стакан и залил ее обыкновенным уксусом...
Химическим этот фокус являлся потому, что яичная скорлупа полностью растворяется в уксусе, правда, ее для этого нужно продержать в стакане два дня. Когда яйцо растворилось, осталась только оболочка — тонкая пленка, находящаяся под скорлупой. Эту оболочку Сережа незаметно зажал между пальцами и бросил ее в колбу. Когда он вылил воду, оболочка осталась в колбе. Затем он встряхнул колбу, и оболочка через сделанные иголкой дырочки наполнилась воздухом и приняла форму яйца. Надо сказать, что эта оболочка была настолько похожа на настоящее яйцо, что мне и после Сережиного объяснения не верилось, что это только оболочка.
Евгения Лаврентьевна рассказала нам, почему уксус растворяет известь, и привела еще пример с легендой о египетской
203
царице Клеопатре, которая будто бы растворила в уксусе драгоценную жемчужину и выпила этот раствор.
После этого мы еще посмотрели фокус, который подготовил Витя. Он подвесил к железной подставке для пробирок четыре листика белой бумаги и поджег их. Один из этих листиков горел желтым огнем, второй — голубым, третий — красным, а четвертый — зеленым. Ну, в этом фокусе ничего таинственного не было, все сразу поняли, что бумага чем-то пропитана.
Витя рассказал, чем именно он пропитывал бумагу, но я всего не запомнила... Синее пламя дала азотнокислая медь, а красное — азотнокислый стронций. Мы испытывали эти реактивы как катализаторы, но я тогда не знала, что они окрашивают пламя.
Когда мы уже расходились, Евгения Лаврентьевна сказала:
— А ты, Оля, останься еще на несколько минут. Я хочу с тобой поговорить.
— Я тебя подожду внизу,— шепнул мне Коля, почти не разжимая губ.
— Как у тебя дела, Оля? — спросила Евгения Лаврентьевна.— Что дома?
— Нормально,— ответила я.
Евгения Лаврентьевна поморщилась.
— Ас товарищами?
— Нормально.
— Ты, Оля,— сказала Евгения Лаврентьевна,—пишешь стихи. Значит, ищешь самые лучшие слова для того, чтобы выразить мысль. И уж ты могла бы не употреблять этого пустого, бессмысленного слова «нормально». Что значит «нормально»?
Меня теперь часто попрекали стихами. На днях Елизавета Карловна говорила, что девочка, которая пишет стихи, могла бы не писать в своих домашних сочинениях в каждой фразе по два раза слово «который».
Но что другое, кроме «нормально», могла я сказать даже Евгении Лаврентьевне? Я молчала.
— Вот что, Оля,— продолжала Евгения Лаврентьевна,— мне кажется, что ты себя ведешь неправильно. Я понимаю, как
204
тяжело ты переживаешь смерть Колиного отца. Я знаю, что у тебя доброе сердце. Но ты, по-моему, начала сердито смотреть на всех людей, которые не переживают вместе с тобой и Колей, которые заняты своим делом и, делая его, смеются, шутят, радуются. А это уже нехорошо. Кроме того, люди, несмотря на переживания, должны добросовестно делать свою работу. А ты запустила учебу... Я у тебя больше ничего не хочу спрашивать, раз ты мне отвечаешь словом «нормально». Но подумай об этом. А теперь пойдем...— Евгения Лаврентьевна посмотрела на меня и чуть улыбнулась: — Нет, ты пойди сама, а я еще задержусь на несколько минут.
У выхода из школы меня ждал Коля.
— Что она говорила? — спросил он подозрительно.
— Ничего. Все нормально,— ответила я.
Некоторое время мы шли молча, а потом Коля спросил:
— Твой батя все еще собирает консервные ножи?
— Собирает.
— А зачем это ему?
Я обиделась за папу и сказала, что человек может собирать какую угодно коллекцию, собирают же марки, и есть специальные филателистические магазины, и бывают марки (я читала) , которые стоят тысячу рублей. А что такое эта марка, даже за тысячу рублей? Кусочек бумаги. А любым консервным ножом из коллекции можно при случае хоть консервы открыть. И вообще, по-моему, люди искусственно создают себе ценности вроде этих марок, или жемчуга, или даже золота. Чем настоящий жемчуг лучше искусственного? Тем, что его можно растворить в уксусе? Или золото? Просто желтый металл. А за него воевали.
— И уж коллекция консервных ножей лучше коллекции марок, каждый нож имеет свою настоящую ценность, а не выдуманную.
— Да нет, я ничего,— удивился Коля моей горячности.— Я просто нашел такой старый консервный нож. С двумя колесиками.— Коля вынул нож из кармана.— Если у вас в коллекции нет такого...
— Спасибо,— сказала я и взяла нож.
Коля проводил меня до самого моего дома.
205
— Так ты сегодня не придешь? — спросил он нерешительно.
— Нет,— ответила я.— Не смогу. Сегодня мама придумала генеральную уборку. Она говорит, что я не слежу за порядком и я должна ей помочь. Завтра увидимся.
Утром Коли и Вити не было на первом уроке, и я очень волновалась. Что с ними могло случиться? Они пришли к самому началу второго урока, и тут открылась одна странная и страшная штука.
Мы все считали их шпионами. Я не помню, кто это первым сказал. Кажется, Женька Иванов. Но про себя я не думала, что они шпионы. Про себя мне все это казалось такой игрой, в которой все договорились между собой относиться к ней всерьез, а если кто-нибудь отнесется не всерьез, то этим он обидит остальных.
Но теперь, когда я посмотрела на Колю и Витю, я подумала обо всем этом по-другому. Они были какие-то очень измученные, и очень встревоженные, и очень растерянные.
Витя на переменке собрал нашу компанию и сказал, что они с Колей выяснили, для чего эта женщина ходила в мастерские «Титан». Она ходила туда к дяденьке, которого я сразу вспомнила. Такой лысый, похожий на доктора. Он еще на поминках говорил, что был с Богданом Осиповичем в разведке и Богдан Осипович стрелял, а они отходили.
— Его фамилия Соколов,— сказал Коля.
— Но ведь он фронтовой друг твоего отца... И неужели ты думаешь?..— спросила я.
— Еще неизвестно, какой он друг,— вмешался Витя.— Коля говорит, что он к ним раньше заходил только один раз. Может быть, он и является резидентом.
— А как он оказался в «Титане»? — спросила Лена.
— Кажется, он там работает,— ответил Витя.— Это мы должны выяснить.
— Но ведь ты с ним советовался,— сказала я Коле.— Спрашивал у него про фронтовых друзей твоего папы.
Коля поежился, как от холода, а Витя сказал, что это-то и плохо, потому что Коля, возможно, насторожил этого резидента.
— Теперь,— сказал Витя,— мы должны установить за ма¬
206
стерскими «Титан» такое наблюдение, чтобы ни одна птица не могла пролететь незаметно.
После школы Витя нарисовал схему, где какие посты у нас будут расположены и как пост с постом должен связываться.
Я в этот день дежурила с Женькой Ивановым. По дороге я купила три горячих пирожка с мясом, полтора пирожка дала Женьке, а полтора съела сама. Вообще, когда мы дежурили, мне всегда хотелось есть, должно быть, от волнения, я часто покупала пирожки и всегда вспоминала какую-то детскую сказку про медведя:
Сяду на пенек —
Съем пирожок...
Мы с Женькой стали на углу возле артели, там, где отметил это на своей схеме Витя. Но стоять там было как-то неловко, нам казалось, что все прохожие обращают на нас внимание, и мы начали прохаживаться взад и вперед и разговаривать
о том, что летать на индивидуальных птицелетах в условиях города будет все же очень трудно, потому что здесь, в воздухе, много проводов: и троллейбусных, и трамвайных, и просто всяких электрических, и что птицелет может натолкнуться на эти провода, произвести короткое замыкание тока и загореться.
— Нужно будет,— предложил Женька,— устроить на крышах самых высоких зданий посадочные площадки для птицеле- тов, вроде таких стоянок, как это теперь делают для автомашин. Человек сможет туда прилететь, оставить там свой птицелет, пойти в магазины за покупками или, скажем, на рынок, а потом снова подняться на крышу и полететь, куда ему нужно.
Так интересно беседуя, мы шли в сторону трамвайной остановки и увидели там на своем посту Колю. Женька ему помахал рукой, но Коля сделал вид, что он нас не замечает.
В это время к краю тротуара подъехала серая «Волга», из «Волги» вылез какой-то высокий человек в шляпе и очках. Он подошел к Коле, что-то сказал ему и потащил за руку в автомашину. Коля сопротивлялся, но он его тащил.
Мы очень испугались и бросились к Коле, но Коля уже был
207
в машине, и, пока мы.добежали, она тронулась, и тогда мы подбежали к другой «Волге», которая стояла немного впереди. В ней за рулем сидел какой-то совсем молодой водитель и читал книжку.
— Пожалуйста,— закричала я,— скорее! Вон за той машиной, серой! Скорее! Они увезли Колю, нашего товарища!..
Мы оба забрались в машину на переднее сиденье рядом с шофером.
— За какой машиной?.. Вы что, сбесились? Что вам тут...— сказал водитель, но его прервал Женька.
— Дяденька! — закричал он.— Скорее! Они его убыот. Они убили его папу и его тоже убьют!
Женька плакал и кричал это так, что водитель включил мотор, и мы помчались. И только тогда водитель спросил, какая машина.
— Серая! — закричала я.— Вон она!.. В ней какие-то бандиты...— Я не решилась сказать — шпионы.— Они убили Колиного отца. Он был милиционером. А теперь они Колю схватили...
Мы проскочили через перекресток, и я увидела, что мы летим прямо на такую огромную, покрытую алюминиевыми ли¬
208
стами машину-холодильник, и я закрыла глаза, а водитель выругался, и уже этот холодильник оказался сзади, и мы мчались по горе вверх, и мы уже догоняли серую «Волгу», которая увезла Колю, но шофер опять выругался, потому что эта серая «Волга», как бы почувствовав погоню, прибавила скорость и стала уходить, а шофер сказал, что карбюратор барахлит.
И тут я услышала, что мотор в самом деле работает как-то не так, но мы все-таки уже взобрались на гору, и на Крещатике мы обогнали эту серую «Волгу», и я увидела в ней Колю и закричала: «Вот он!», а наш водитель резко затормозил перед самым носом той серой «Волги» и схватил в руки такой большой ключ, которым завинчивают гайки, и выскочил из машины. А мы — за ним. А тут еще засвистел в свисток и подбежал к нам милиционер, и еще какие-то люди, и милиционер закричал на нашего водителя: «Хулиган! Брось ключ!», а водитель сказал: «Там бандиты».
И из серой «Волги» тогда вышли два каких-то человека, а за ними вышел Коля, и один из этих людей что-то сказал милиционеру и показал ему красную книжечку, и милиционер сказал людям, которые уже собрались вокруг нас: «Расходитесь, расходитесь, граждане», а наш водитель, не выпуская из рук этой своей железной штуки, спросил, в чем дело, и тогда один из этих людей, высокий дяденька в очках и в шляпе, который тащил Колю в машину, отозвал водителя в сторону и стал что- то говорить, и я услышала слово «прокуратура». А Коля подошел к нам и сказал, что этот дяденька в очках и есть тот самый следователь.
Следователь подошел к нам и, покачивая головой, сказал, что ему придется и нас забрать с собой, а водитель, покачивая головой, сказал: «Ну и ребята!», а милиционер, тоже покачивая головой, сказал, что хорошо, что хоть обошлось без аварии.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Я прижалась ухом к стене и послушала музыку. Я всегда перед сном слушаю хорошую музыку. В соседней квартире — вход в нее из другого подъезда — вечером всегда негромко
g Библиотека пионера, т. 12
209
играет радио. Сейчас радио играло очень хороший твист, похожий на детскую считалочку и с такими же непонятными словами, вроде «эне, бене, раба — винтер, квинтер, жаба».
А над моей постелью висел в деревянной рамке портрет Шевченко, вырезанный на черной лаковой доске. Мне его не было видно в темноте, но я знала, какой он, и как он смотрит запавшими глазами из-под низко выдвинутых бровей, и как обвисли у него усы.
Я снова написала стих про Шевченко. Я написала белые стихи — мне к ним'не нужны рифмы.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда его держали в Кос-Арале,
И муштровали под казахским солнцем,
И запрещали даже рисовать.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда он видел, как сквозь строй проводят,
И слышал, как с глухим и страшным звуком Отскакивают палки от спины.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
Когда вельмож он видел украинских,
Своих же братьев давящих и рвущих,
Почище всяких турков и татар.
Я знаю, что твердил Тарас Шевченко,
И как его завет я повторяю Одно-единственное это слово:
Ненавиджу 1.
Я ненавижу! Ненавижу всех, кто может для своей пользы убить человека... Из-за денег... Или из-за вещей. Или из-за того, что этот человек иначе думает. Покритиковал их.
Я их ненавижу!
Мы следили за ними, как будто они шпионы. Но они хуже шпионов. Потому что шпионы все-таки стараются принести пользу своему государству. Я понимаю, что за шпионами нужно следить и нужно их ловить, но их можно понять. В конце концов, Зорге, замечательный герой, которым мы гордимся, был нашим агентом, а фашисты его, наверное, называли советским шпионом.
1 Неиавижу (укр ).
210
Нет, -такие люди, как этот лысый Соколов, в тысячу раз хуже всякого шпиона. И они живут рядом с нами, и их видят и не догадываются, кто они на самом деле, или догадываются, но молчат. А когда такие смелые люди, как Колин папа, говорят об этом, то они им мстят, и хотят их убить, и даже убивают.
Я когда-то написала школьное сочинение про золото. Но я тогда даже не догадывалась, как я в нем все правильно написала. У Соколова дома в батарее отопления нашли целый склад золота — там лежали кольца, и золотые цецочки, и монеты, и даже золотые зубы, и все это он прятал в батарею не случайно, а потому, что, оказывается, он был очень хитер и знал, что есть такой прибор с наушниками, и если этим прибором водить возле пола или возле стен, то там, где спрятан металл, в наушниках начнется писк, а батарея металлическая, и возле нее прибор все равно будет пищать, и никто не догадается, что там что-то спрятано.
Но для чего этому человеку нужно было золото? К тому же он все равно держал его в батарее. Но чтобы сохранить золото и чтобы добавить в эту батарею еще несколько колец или зубов, он убил Колиного отца, Богдана Осиповича.
Нам рассказал обо всем этом следователь. А потом еще мой папа. А потом об этом писали в «Вечернем Киеве».
Следователь на нас очень сердился. Мы, оказывается, ему здорово помешали, и Колю он увез тогда потому, что с Колей, еще школьником, еще, в конце концов, мальчиком,— хотя он высокий и с большими бицепсами,— могли расправиться, как с его отцом.
Следователь с самого начала знал, что Колиного отца нарочно убили, но он специально сказал, что Богдан Осипович в нетрезвом состоянии попал под трамвай, чтобы усыпить бдительность преступников. Для этого он сказал также, чтобы Колиной маме пока не давали пенсию, а Коля и вся наша компания одень ему помешали, потому что мы насторожили этих преступников. Они, оказывается, даже знали, что мы за ними следим, хотя, как они об этом догадались, я понять не могу. Тем более, что мы в основном следили за медсестрой Верой Старостенко, а эта Старостенко в мастерские «Титан» ходила
211
случайно, к своей знакомой, и никакого отношения к преступникам не имела, а, наоборот, была хорошей женщиной, и на похороны Богдана Осиповича она пришла потому, что он ей когда-то очень помог, а в чем Колин отец ей помог, я так и не узнала...
— И все-таки, ребята,— сказал нам следователь,— если вы после школы пойдете учиться дальше по нашей части, то количество неразгаданных преступлений в этом мире очень уменьшится.
Витя потом говорил, что мы были на правильном пути, и если бы мы продолжали слежку, то мы бы и без милиции разоблачили эту преступную банду, и что ему все в этом деле совершенно понятно. А мне до сих пор это не совсем понятно. Особенно как это началось. Есть какие-то инкассаторы, что ли, которые увозят в банк деньги из разных магазинов, а Колин папа во время своего милицейского дежурства несколько раз замечал, что в один маленький магазин на Владимирском базаре — это даже не магазин, а такая зеленая будка, там много таких на базаре,— то ли не приезжал такой инкассатор, то ли приезжал другой инкассатор, я так и не поняла, но, в общем, что-то там показалось Богдану Осиповичу подозрительным, и он выяснил, чей это магазин, и оказалось, что этот магазин получает товары из мастерских «Титан».
И тогда он пошел в этот «Титан», чтобы выяснить, что это такое.
Витя говорил, что вообще-то он должен был сразу сказать в милиции про свои подозрения, но так как эти мастерские были в другом районе, то он, наверное, хотел сначала понять, в чем там дело, а потом уже сказать.
И вот Богдан Осипович, оказывается, встретил в этих мастерских своего знакомого Соколова, который там работал начальником. Этот лысый Соколов никогда не был с Колиным папой в разведке, а он только лежал с ним в госпитале и там слышал от Богдана Осиповича про разведку. Я думаю, что он даже в госпитале лежал совсем не потому, что был ранен, а, может быть, потому* что был чем-нибудь просто болен, например ангиной, но это точно не известно. И этот Соколов сказал Колиному папе, чтоб Колин папа не сообщал о магазине, что
212
он сначала сам в этом разберется, а потом Соколов пришел к ним домой, а потом позвал Колиного папу в мастерские. И там он и другие, как сказал следователь, сообщники — их было четыре человека — стали уговаривать Богдана Осиповича, чтобы он принял участие в их преступлении.
Они, оказывается, делали в этих мастерских всякие кожаные пояса, и ремешочки для часов, и сумочки, и небольшие чемоданчики. Но все это они отдавали не нашему государству, а продавали через продавцов, которые им помогали, а деньги они делили между собой. И денег они получали очень много, огромное количество. Я никогда даже себе не представляла, что эти ремешки и сумочки так дорого стоят, но Витя подсчитал па бумажке,, и вышло, что они получили миллион рублей.
И когда Колин папа, Богдан Осипович, отказался продать свою честь и совесть за деньги, они его схватили и ударили по голове, и влили в него почти бутылку водки, чтобы замести следы своего преступления, и засунули в карман сигареты, а так как он был еще живой, то этот Соколов железным молотком снова несколько раз ударил Богдана Осиповича по голове.
А потом они отнесли его и бросили на рельсы, чтобы его разрезало трамваем и уже никто не мог ничего узнать.
И все-таки я ничего не понимаю. Ведь я сама слышала, что говорил этот лысый Соколов на поминках Колиного папы. Он лучше всех сказал про Колиного папу, которого сам убил. И он приходил на похороны. Значит, его не мучила совесть. Значит, эти золотые кольца и эти золотые зубы, которые он держал в своей батарее, были для него в тысячу раз дороже, чем человеческая жизнь. А разве может кусок желтого, менее полезного в хозяйстве металла, чем железо, из которого сделана батарея, быть дороже человеческой жизни?
И как горько мне теперь думать, что я так мало знала Богдана Осиповича, мало его видела, не сделала ему ничего приятного, а Елену Евдокимовну я люблю еще больше, чем прежде, я очень люблю ее и знаю, какой трудной была ее жизнь, что ее отца фашисты расстреляли у нее на глазах, а я думала о том, что было бы со мной, если бы фашисты на моих глазах расстреляли моего папу, и она была на войне,
213
и тащила под огнем раненых, и сама была рапепа, а я думала
о том, смогла бы я не бояться и тащить под огнем раненых.
Но все равно, все несчастья, которые были в жизни Елены Евдокимовны, все трудности она переживала для того, чтобы людям было лучше и чтобы все в нашей стране было как следует, было по правде.
Я очень люблю моего папу, и очень люблю мою маму, п очень люблю Елену Евдокимовну, и очень люблю Юрия Митрофановича — дяденьку с палкой, которого Елена Евдокимовна вынесла на себе из огня,— и еще очень многих людей. И я еще напишу стихи о том, как я их люблю, и что, когда я вырасту, любой из тех, кого я так люблю, сможет прийти ко мне когда захочет, и я буду готова поделиться с ним всем, что у меня есть. И каждое слово в этих стихах будет правдой.
И я ненавижу этого Соколова и тех, кто расстреливает коммунистов в Испании, и тех, кто убивает женщин и детей в колониальных странах.
Ненавиджу!
Мы с ребятами снова добываем реактивы, делаем химические опыты и мечтаем о своем птицелете. И я верю — мы еще полетим на птицелете над нашим хорошим Киевом.
Но я и все наши ребята многое теперь поняли. Мы поняли, какими нужно быть. И мы будем такими.
Рассказы
Юрий Яковлев
ЗИМОРОДОК
1
Ветер раздувал купол парашюта, и натянутые стропы волокли бойца по мокрой траве. Он был похож на парусный корабль, который буря выкинула на берег. Попробовал встать. Сделал шаг — левая нога подломилась и стала проваливаться в землю. Он снова упал.
Ночь шла на убыль. Край неба позеленел, и звезды померкли, растворились в зеленом свечении востока. Но на западе небо было еще темным, и звезды стояли на своих местах.
Он стал подтягивать купол парашюта. Стропы натянулись сильней. Парашют упирался. Вздрагивал. Вырвался из рук. Они довольно долго боролись — человек и парашют,— пока бойцу наконец удалось подмять под себя шелковый купол. Он перевел дух и стал закидывать парашют валежником и камнями. Он ползал на коленях и собирал все, что попадалось под руки, чтобы замаскировать парашют.
На бойце был пиджак, застегнутый на три пуговицы. Брюки
217
и ботипки — тоже гражданские. Еще при нем был мешок, перевязанный веревкой. Когда с парашютом все было покончено, боец снова попробовал встать. На этот раз осторожно, с опаской. Острая боль подкашивала ногу. Вероятно, где-то в ступне был вывих. Он попрыгал на одной ноге, нашел палку. С палкой дело пошло лучше. Поднял с земли мешок и медленно двинулся вперед.
Вдалеке между стволами деревьев стальной полоской поблескивала река. И виднелись фермы железнодорожного моста. В сплетениях металла была какая-то нереальная легкость. Но с каждым шагом мост приближался и становился все громаднее и тяжелее. И боль в ноге усиливалась, словно зависела от приближения моста.
Минут через пятнадцать он обессилел от боли и от тяжелой ноши и упал в траву. От крупной росы пиджак его вымок. Одна пуговица оторвалась.
Так он долго шел и падал, шел и падал... И мост надвигался на пего с неотвратимой силой.
Спустя много лет после войны мальчишки со станции Река нашли в лесу странный, полуистлевший предмет. Они долго перебирали его в руках, очищали от земли, тянули в разные стороны, пока наконец не дошли своим умом, что это парашют. Лямки и стропы сохранились хорошо, сам же купол местами истлел.
Ребята не знали, что делать с парашютом. Им никогда не доводилось играть с такой огромной вещью. Они принялись бегать по лужайке и тащили парашют за собой. Было безветренно, и купол не отрывался от земли, а волочился, приминая траву.
Ребята со станции Река долго ломали голову, к чему бы приспособить старый парашют.
2
На уроке зоологии в классе завелась кукушка. Она перелетала с парты на парту и подавала голос:
- Ку-ку! Ку-ку!
Мало того, что кукушка меняла место, она меняла и голос.
218
Ее голос звучал то густо, раскатисто, то пискляво, еле слышно. Может быть, в классе завелось несколько кукушек?
На самом деле кукушка была одна. Она никуда не летала и не куковала на разные лады, а неподвижно сидела на учительском столе — рябенькая, желтоглазая, с вытянутым хвостом. Она была чучелом.
Куковали птицы бескрылые, бесперые, с пальцами в чернильных пятнах, в куртках с потертыми локтями. Они играли с учителем в «кукушку». Они навязали ему эту игру, в которой победить могли только его выдержка и терпение.
— Ку-ку I
Учитель видел, как жиденькая челка девочки мелькнула н скрылась за спиной сидящего впереди. Он узнал ее голос — низкий, с едва заметной хрипотцой. Через мгновение девчонка вынырнула и смотрела на учителя как ни в чем не бывало. Ее глаза весело горели. Учитель поморщился и сказал:
— Зоя Загородько, встань!
Девочка нехотя поднялась и поправила челку:
— Я не куковала.
И весь класс загудел:
— Она не куковала!
Учитель сделал вид, что он не слышит ни дерзкой кукушки, ни гула, он продолжал рассказ:
— Напоминаю, что внутренние опахала первостепенных маховых перьев у кукушки одинаковые, без белого или зубчатого рисунка.— Учитель рассказывал и ходил по рядам, заложив руки за спину, при этом голова его была слегка наклонена вперед.— Крайние перья — с крупными белыми пятнами на вершинах...
В это время совсем рядом за спиной учителя прозвучало:
— ДУ-ДУ!
Учитель прервал свой рассказ и, не поворачивая головы, сказал:
— Василь, ты неправильно кукуешь. Впрочем, существует кукушка, которая, как удод, издает звук «ду-ду». Она называется «глухая кукушка».
В классе раздался смех. Кто-то крикнул:
— Глухая кукушка!
219
Василь был сражен. Он заерзал на парте. Уши покраснели, а верхняя губа поднялась домиком. Мальчик почувствовал, что к нему прилипнет прозвище «глухая кукушка». А Сергей Иванович — так звали учителя — даже не обернулся, шел себе по проходу.
Он был невысокого роста. С массивной головой. Всклокоченные волосы, темные, с частыми белыми нитями, с головы переходили на щеки и сливались с усами и бородой. В этой буйной растительности, закрывшей почти все лицо, поблескивали большие очки--с задымленными стеклами. Голос у него был глухой, как бы доносившийся из глубины.
— Кстати, кроме глухой кукушки, в мире существует около ста видов: кукушка-отшельник, кукушка-подорожник, испанская кукушка, желтоклювая, изумрудная, траурная...
В это время на третьей парте поднялась рука.
— Что ты, Марат? — спросил учитель.
Скрипнула парта. Мальчик встал. Насмешливые коричневые глаза в упор смотрели на учителя, а широкие скулы — на каждой по щепотке веснушек — стали от улыбки еще шире. На мальчике был военный ремень, широкий, с медной пряжкой, и брюки техасы с изображением ковбоя на заднем кармане. Говорят, эти брюки вечные. Смотря для кого! Две заплатки свидетельствовали, что и вечным приходит срок.
Борясь с улыбкой, Марат спросил:
— Сергей Иванович, какая птица начинается с «ка» и кончается на «ква»?
По классу прокатился смешок. Кто-то на задней парте прокуковал.
Учитель пристально посмотрел на мальчика и сухо сказал:
— Во-первых, на уроке надо слушать, а не решать кроссворды. Для кроссвордов можно найти более подходящее место. А во-вторых, надо не куковать, а крякать. Эта птица — кряква, утка кряква.
Марат замолчал. Урок продолжался, а Василь все ерзал на месте — «глухая кукушка» не давала ему покоя, и он думал, кому бы спихнуть это прозвище. Рядом с ним сидела тихая девочка в больших очках. Василь покосился на свою соседку, поднял руку и спросил:
220
— Сергей Иванович, а бывает... слепая кукушка?
Учитель цристально посмотрел на Василя и спокойно сказал:
— Слепой кукушки не бывает. Бывает еще фазанья, воробьиная, ящерная...
И тут учитель заметил, что Василь смотрит на свою соседку и его рот расплывается в недоброй улыбке, а на глазах у девочки блестят слезы, увеличенные стеклами очков.
Учитель молча прошелся по классу, держа за спиной руки. Потом остановился около Василя и, то ли в шутку, то,ли серьезно, сказал:
— Советую тебе, Василь, выучить все виды. Потренируешь память и реже будешь задавать глупые вопросы. Очень полезно! А теперь, люди-человеки, займемся повторением домашних птиц. Напомню вам, что впервые дикие куры были приручены в Индии. Надеюсь, что по этому случаю никто по будет куковать?
3
Если у вас неожиданно заведутся деньги и вам захочется пострелять, спросите любого мальчишку, и он приведет вас к большому серому дому, где в подворотне разместился стрелковый тир. Подворотня узкая и длинная, как тоннель. И выстрелы под ее сводами звучат не щелчками, а раскатисто и хлестко. Здесь за железным прилавком, отполированным локтями, сидит огромная бабка и вяжет чулок. Гремят выстрелы, а она постукивает спицей о спицу, делает свое дело. Время от времени бабка откладывает вязанье, берет в огромные красные руки духовое ружье и разламывает его легко, как прутик. Заложит свинцовую пульку — стреляй!
Стреляй, если у тебя есть деньги. А если в кармане пусто, стой в сторонке и наблюдай, как стреляют другие. Только не приближайся к железному прилавку, который бабка, называет «огневым рубежом». Бабка молчаливая, разговаривать не любит, а дает волю своим ручищам.,
Марат, Василь, Зоя Загородько шли мимо тира. Марат предложил:
— Зайдем?
— Зайдем,— согласился Василь.
221
Зоя Загородько хотела^ сказать, что она боится выстрелов, но промолчала и пошла ребятами.
В тире болталось - несколько мальчишек, а стрелял один взрослый. Седой. Хотя лето только приближалось, этот взрослый был обожжен солнцем. Лоб, скулы, впалые щеки были покрыты грубым, замешанным на ветру загаром, делавшим его похожим на краснокожего индейца, а белые волосы его больше оттеняли загар. Стрелял он здорово. Без промаха. Мальчишки следили за ним с открытыми ртами и после каждого удачного выстрела приговаривали: «Во дает! Во дает!»
Седой стрелял в мельницу, и сразу начинали вращаться крылья — значит, попал. Брал на мушку самолет — самолет, описав дугу, падал вниз. Закрывался шлагбаум. Гудел паровоз. Седой опустил ружье и стал высматривать, не осталось ли еще мишени. В углу рта у него была зажата папироса.
Ребята тоже искали мишень. И тут кто-то из мальчишек крикнул:
— Птица!
— Давай твою птицу,— сказал Седой и вскинул ружье.
Раздался выстрел — птица осталась сидеть на месте.
— Промазал! — радостно крикнули ребята.
— Мушку заваливаете,— с видом знатока сказал Марат.
— Мушку? — Седой оглянулся на Марата и протянул ему ружье: — Держи! Пробуй, не заваливая мушку.
Отступать было невозможно. Марат взял ружье, уперся локтями в прилавок и стал старательно целиться. Он чувствовал, что за ним наблюдают все посетители тира и Седой, похожий на индейца, тоже не сводит с него глаз.
Хлопнул выстрел. Не улетела птица. Осталась сидеть на ветке. Марат молча опустил ружье.
— Мазила! — сказал кто-то.
Седой ничего не сказал. Он зарядил ружье и снова стал целиться. И — промахнулся.
— Промазал! — радостно крикнули зрители.
— Что это еще за птица? — недоумевал Седой, разглядывая небольшую острокрылую птицу.
-г- Зимородок,— сказал Марат, и его насмешливые коричневые глаза заблестели.
222
— Есть такая птица — зимородок,—пояснил «глухая кукушка».
— Есть такая,— согласился Седой, не выпуская изо рта папиросу.
— Он долбит норку в крутом берегу и бесстрашно ныряет за рыбой,— вмешалась в разговор Зоя Загородько.— Не верите?
— Верю,— ответил Седой.
И ребята заметили, что он задумался. Все рассматривал птичку и о чем-то думал. Бабка тоже обратила внимание на это
и, не отрывая глаз от вязанья, пробасила:
— Птица не работает.
И застучала спицами.
— Зи-мо-родок,— растягивая слоги, тихо сказал Седой. Он не обратил внимания на слова старухи.— Я знал одного Зимородка.
— С короткой шеей и прямым острым клювом? — спросил Марат.
— Не помню, какой у него был клюв,— задумчиво произнес Седой.— И шеи не помню. Но котелок у него варил довольно странно.
— У какого зимородка варил странно? — спросила Зоя Загородько.
— У того, что нырял за рыбой,— ответил Седой и стал раскуривать погасшую папироску. Потом он усмехнулся и сказал: — До сих пор не понимаю, как я согласился. По молодости лет. Будь я тогда седым стреляным воробьем, не стал бы связываться с этим Зимородком...
Папироска разгорелась, и память Седого оживала и тоже как бы разгоралась. И постепенно не стало тира. И сам Седой стал не седым, а темным, подстриженным под полубокс, с коротенькой челкой наискосок. На нем появился синий замасленный комбинезон, стянутый ремнем. А за спиной на ремне — кобура с пистолетом. Летный кожаный шлем болтался на руке, как подстреленная птица. А папироска была зажата в уголке рта...
Вместо тира появилась небольшая полянка. По краям кустики. В кустах самолетик с задранным носом, пятнистый, поч¬
223
ти незаметный на фоне травы и листьев. Крылья как этажерка — в два ряда, по два крыла с каждой стороны. «Кукурузник».
Летчик — тогда еще не седой — стоял, окруженный партизанами, и говорил:
— Я мог бы забросить вашего человека в район Нового моста, но, как вы понимаете, садиться там негде — кругом немцы. А парашюта у меня нет.
И тогда кто-то из бойцов сказал:
— У нас где-то был парашют. С прошлого года...
— Его, наверное, на бинты разрезали.
— Нет, валяется под нарами. Я подметал — видел.
— Не годится этот парашют. С ним человек разбился насмерть. Прыгнул, а парашют не раскрылся.
— Может быть, неправильно сложили,— сказал летчик.— Девчонки ведь складывают, а что у них на уме, у девчонок? Потом парашюты не раскрываются.
— Может быть, девчонки, а может быть, и не девчонки,— заметил командир.— А человек разбился. Кто g таким парашютом прыгать будет?
И тут вперед вышел парень, худой, хрупкий, совсем молоденький. В штатском пиджачке на трех пуговках. Он вышел и говорит:
— Я... прыгну!
— Зимородок! Выдумал тоже! — зашумели партизаны.— Ты хоть парашют видел когда-нибудь? Ха-ха!
— Я прыгал... пять раз! — твердо сказал парень.
Командир вспыхнул:
— Нам смертники не нужны. Нам нужны живые бойцы. У нас нет такого инкубатора, который поставлял бы бойцов в нужном количестве.
— Я прыгну! — повторил Зимородок.
— Не разрешу.
— Так ведь выхода нет!
Командир задумался.
— Я дам тебе лошадь,— сказал он.— На лошади сидеть можешь?
Зимородок ничего не ответил.
224
Только через некоторое время он все же разыскал парашют и притащил его летчику. Отряхнул с шелкового купола хвою, землю и разложил на траве.
— Проверь, пожалуйста.
Летчик отбросил папироску и сказал:
— Посмотреть я могу. И складывать я умею. Нас учили. Но если есть в парашюте неисправность, я не замечу. Не знаю тонкостей.
Он опустился на колени и стал укладывать парашют, и Зимородок помогал ему, расправлял стропы, придерживал купол, который от легкого ветра поднимался и опадал, как живой.
— Ты только ничего не говори командиру,— попросил Зимородок.— На лошади я никуда не успею. А ты меня в два счета добросишь.
— Черт с тобой,— сказал летчик.
Перед самым вылетом, когда уже стемнело, Зимородок с помощью летчика стал надевать парашют. Летчик помогал ему прилаживать лямки, а Зимородок старался все делать сам, но получалось у него все как-то неловко. На гражданском пиджачке ранец и лямки выглядели смешно, они как бы связывали парня по рукам и ногам.
Летчик помог Зимородку забраться в кабину. Подал ему мешок со взрывчаткой. И пристегнул его ремнем к сиденью.
Загрохотал двигатель. Самолетик затрясло, залихорадило. Он сорвался с места и побежал по лужку. Потом сделал прыжок. И растворился в темноте леса и неба.
И тогда, уже в полете, Зимородок наклонился к летчику и потряс его за плечо:
— Послушай, что надо делать, чтобы парашют раскрылся?
— Ты же прыгал! — Летчик резко повернулся к своему пассажиру.
— Не прыгал я,— признался Зимородок.
— Что же ты голову морочишь? — закричал летчик.— Возвращаюсь.
— Не ори! Тише! Спокойствие! — Молодой партизан крепко сжал плечо летчика.— Договоримся тихо. Инструкцию помнишь?
225
— Помню,— опешил летчик.
— Говори по инструкции.
— Надо дернуть за кольцо. Это я без инструкции помню.
Зимородок очень спокойно сказал:
— Вот и все... Вот'и ладно...— Потом он затих, долго копался и снова спросил: — Что-то я не найду кольца.
— На передней лямке!..— из своей кабины закричал летчик.— Слушай, ну тебя к черту, я возвращаюсь.
— Не шуми! Я нашел кольцо. Я дерну.
Летчик был в полной растерянности. Он не знал, что ему делать, и громко, чтобы перекричать грохот двигателя, честил своего пассажира:
— Сдался ты на мою голову! Встречаются же такие зимородки!
— Встречаются же такие зимородки! — сказал Седой и вышел из тира.
Марат, Василь и Зоя Загородько немного еще потоптались у «огневого рубежа» и тоже вышли из тира. Седой шел сам по себе, а ребята сами по себе. Ничто их не связывало. Но какая- то прочная ниточка продолжала тянуться от летчика к ребятам.
— Дурной какой-то Зимородок,— пробурчал Василь.
— Встречаются такие чудаки,— сказала Зоя Загородько.
Марат молчал, занятый своими мыслями. Однако Зимородок будил в нем любопытство.
— Чудаков на свете много,— сказал он.— Но кто из-за своего чудачества станет рисковать жизнью? Ты рисковал жизнью? — спросил он Василя.
Тот помотал головой.
— А ты, Зоя Загородько?
— Я болела дифтеритом, и врачи говорили маме...'
— Не то! — отрезал Марат.— Интересно, как этому Зимородку удалось прыгнуть?
— А он не прыгал,— с уверенностью сказал Василь.— Летчик привез его обратно. С таким хлопот не оберешься.
Но Марат пропустил слова друга мимо ушей.
226
— Как же он прыгнул?.. Подождите!
Марат неожиданно прибавил шагу. Среди прохожих он искал глазами Седого. Ребята потянулись за ним. Наконец на другой стороне показалась белая голова. Седой стоял на остановке, ждал автобуса. Марат перебежал на другую сторону и подошел к бывшему летчику:
— Скажите, как он прыгнул... Зимородок?
Седой удивленно посмотрел на мальчика.
— Зимородок-то? — Он усмехнулся.— Я сам толком не знаю. Мы попали под заградительный огонь. Вероятно, в этом месте наши бомбардировщики шли через фронт. Я лег на левое крыло, чтобы сделать вираж и вернуться. Зимородок вцепился мне в плечо: «Ты куда?» Я ему крикнул: «Отвяжись!» Тут снаряд разорвался совсем близко. Машину швырнуло в сторону. Наконец мне удалось прижаться к лесу. Когда все стихло, я оглянулся. Сзади никого не было. Улетел Зимородок;
— Как — улетел? — спросил Марат.
— Не знаю... Может быть, когда я ему крикнул: «отвяжись», он отвязался от сиденья и выпрыгнул. А может быть, вывалился на крутом вираже. Мне было не до него.
— Ну да... не до него...— задумчиво повторил Марат.
В это время подошел автобус и увез Седого.
И когда автобус отъехал от остановки, Маратом овладело какое-то странное щемящее чувство, словно на этом пыльном городском автобусе уехал не случайный знакомый, Седой, а отчаянный парнишка по прозвищу «Зимородок».
— Улетел Зимородок,— одними губами произнес Марат.
— Да ладно тебе! — Подоспевший Василь ткнул его в бок.
А Зоя Загородько потянула Марата за рукав.
— Но как он приземлился? — Марат сорвался с места и побежал за автобусом. Главное было — узнать, как он приземлился! Но автобус был уже далеко. Марат остановился. Ребята догнали его.
— Надо будет разыскать Седого. Как это я упустил его? Может быть, твой отец знает его? — спросил он у Зои Загородько.— Летчики все знают друг о друге.
— Я спрошу,— пообещала Зоя.
И все трое пошли своей дорогой.
4
Уехал Седой. Улетел Зимородок. Течение времени подхватило трех одноклассников и понесло их дальше. И ничего в их жизни не изменилось. Но маленькое незаметное зернышко, оброненное бывшим летчиком, неожиданно проросло в сердце Марата. Зимородок как бы встал за его плечами —в пиджачке, изрядно помятом лямками парашюта, и глуховатым голосом спросил:
«Послушай, что надо сделать, чтобы парашют сработал?.. Я ни разу не прыгал... Куда запропастилось это кольцо?..»
Было в Зимородке что-то неокрепшее и даже беспомощное, и вместе с тем его поступками двигала отчаянная отвага. Ему было труднее, чем закаленным, опытным бойцам, но он н.аде.у парашют, снятый с мертвого солдата. Он просто делал свое воеЕное дело, не задумываясь о том, что это может стоить ему
228
жизни. А может быть, ен, неумеха, просто не научился дорожить жизнью?
Сам того не замечая, Марат привязался к Зимородку, и между ними завязалась таинственная, никому не ведомая дружба. Теперь Марат все чаще искал ответа на вопрос: раскрылся парашют или был действительно неисправным? Был ли взорван мост? Жив Зимородок или погиб? На эти вопросы мог ответить только Седой.
Марат отправился в тир в надежде встретить летчика.
В тире шла своя, раз и навсегда заведенная жизнь. Утром здесь редко звучали выстрелы. Днем поднималась беспорядочная стрельба — днем тир принадлежал ребятам. Сколько не- съеденных завтраков обращалось здесь в маленькие свинцовые пульки, которые чаще летели «за молоком» и значительно реже со звоном ударялись в металлические кружочки, опуская шлагбаум и заставляя вертеться мельницу.
Вечером в тир приходили взрослые. Среди них было немало людей, которые в свое время держали в руках куда более грозное оружие и стреляли не по фанерным мишеням, а но врагу. Бывшие фронтовики заходили в тир проверить глаз и руку.
Марат перешагнул порог и подошел к «огневому рубежу». Бабка сидела неподвижно, как неживая, и только кончики проворных спиц вспыхивали в ее толстых красных пальцах электрическими искорками.
— Здравствуйте!
Бабка не ответила на приветствие.
— К вам не заходил такой... седой?
— Разные ходят. И седые и лысые. Стрелять не будешь? Тогда проходи, проходи...
— Мне он очень нужен.
Ничего не трогало бабку. Она окаменела. Ушла в свою работу.
— Мне надо узнать про Зимородка.
— Птица не работает. Птица на ремонте,— буркнула бабка.
Ничего она не поняла. Ничего не чувствовала. Стеклянная, деревянная, оловянная, каменная!
Зимородок уходил от мальчика. Он растворялся во тьме да¬
229
лекой безвестности. Но чем больше он отдалялся, тем сильнее тянуло к нему Марата.
Неужели парашют не раскрылся?
Для того чтобы узнать о парашюте, надо узнать о Новом мосте. Потому что, если мост был взорван, значит, парашют раскрылся.
В тире гремели выстрелы.
Друзья давно забыли о седом летчике и его рассказе. Они как бы оставили Марата и Зимородка одних в тревожной безвестности. Марат решил пойти в музей. Это был слишком простой путь, но другого пока не было. По крайней мере, про мост там должны были знать.
В музее маленький чернявый человек в золотых очках спросил Марата:
— Тебя интересует Новый мост? Новый мост на станции Река?
— Его должны были взорвать.
— Тебе это известно? — Чернявый человек наклонил голову набок.
— Был приказ: взорвать Новый мост. И был человек.
— Это надо еще доказать.— Маленький человек сверкнул очками.— Подожди.
Он ушел куда-то, оставив мальчика в зале, уставленном старым оружием и другими предметами, которые в свое время были обыкновенными вещами, а теперь стали музейной редкостью. Марат рассматривал их, и ему казалось, что он чувствует тепло рук, которые касались оружия. Тепло не исчезло, хотя сами владельцы пистолетов и автоматов давно спали в холодной земле. Может быть, под музейным стеклом хранится и смятый пиджачок гражданского покроя...
Мальчик не заметил* как в зале снова появился чернявый:
— Новый мост был действительно взорван. Произошло это двадцать третьего августа тысяча девятьсот сорок третьего года. Взрыв моста заморозил несколько фашистских эшелонов с горючим и боеприпасами. И обеспэчил успешные действия нашей армии... А кто взорвал мост, не установлено.
230
— Мост .взорвал Зимородок,^-твердо сказал мальчик.
— Мы не располагаем такими данными. Возможно, действовала наша авиация...
— Авиация действовала,— сказал Марат.— «Кукурузник». Но взорвал мост Зимородок...
— Зимородок! Странная фамилия... Но это надо еще доказать.
Это надо еще доказать! А пока это не доказано, не существует ни Зимородка, ни его подвига, ни то, что он полетел с парашютом, который мог не раскрыться,— ровным счетом ничего не значит. И то, что мост был взорван, тоже не в счет?!
Глаза Марата, насмешливые, коричневые глаза, сердито заблестели, и он спросил:
— Если имя не доказано, значит, подвиг совершен никем?
— Почему никем? — Человек в золотых очках сохранял спокойствие.— Неизвестным солдатом.
— Когда солдаты уходили на войну, у них были имя и фамилия. Почему же, когда они погибали за Родину, то становились неизвестными? Это несправедливо! Мост был взорван! Его взорвал Зимородок!
Чернявый человек пожал плечами и, стуча каблуками, зашагал по залу, а мальчик стоял среди старых орудий и автоматов, и на него со стен смотрели портреты героев.
Но мост взорван, значит, парашют раскрылся и жизнь Зимородка продлена на час, а может быть, на день. И теперь все в твоих руках: продлить его жизнь дальше или оборвать, потому что «это еще надо доказать».
— Главное, что раскрылся,— сам себе сказал мальчик и медленно пошел к двери.
5
Друзья стояли на мосту втроем и, облокотясь на теплые от солнца деревянные перила, смотрели в воду. Вода двигалась. Ее струи, омывая опоры, завихрились, образовывали водоворот.
Василь следил за игрой рыбы. Зоя Загородько щурила гла¬
231
за, стараясь задержать ресницами солнечный зайчик, который отрывался от воды и ударял в глаза.
Марат видел тяжелые железные фермы, скрученные взрывом и выступающие из воды, как остов погибшего чудовища. Зимородок не знал, как раскрыть парашют, но он умел обращаться с толом. С тех пор много утекло воды — этой пахнущей глубинным холодом и травой воды — и времени.
А что такое время? Станции! Мимо одних поезд уже промчался, до других еще не доехал. Но как быть, если тебе до зарезу нужно вернуться на станцию, давно оставшуюся позади?
— Ты бы могла прыгнуть с моста в реку? — неожиданно спросил Василь Зою Загородько.
Девочка ответила не сразу:
— Я бы прыгнула, если бы нужно было спасти маму.
— Привираешь, привираешь,— сказал Василь.— Зачем прыгать с моста, когда можно нырнуть с берега?
— Зимородок не стал бы рассуждать,— сказал Марат.
Василь тихо засмеялся:
— Потеха этот Зимородок. Седой выдумал его.
— Седой не врет,— твердо сказал Марат.— Кто стреляет без промаха, тот не врет. Кто врет, тот мажет. Мажет и врет.
— Я никогда не вру, а стрелять не умею,— призналась Зоя Загородько, поправляя жиденькую челку на смуглом лбу.
Но Марат не слушал ее, он смотрел на движущуюся воду. Рядом с ним стоял Зимородок. Он стоял, облокотясь на перила, и смотрел в воду. И от его присутствия в мальчике пробудилась какая-то незнакомая сила. Ему начинало казаться, что он стоит па том самом Новом мосту, который будет взорван. Но это надо еще доказать, а для этого надо прыгнуть. Надо прыгнуть, как это ни страшно. Зимородку тоже было страшно, и он не знал, как действовать с парашютом.
Как прыгать: «ласточкой» или «солдатиком»?
Василь следил за игрой рыбы, Зоя Загородько играла с солнечным зайчиком. Они не заметили, как Марат скинул брюки с ковбоем на заднем кармане и свернул улиткой широкий кожаный ремень. Только когда он оторвался от края моста и полетел навстречу бегущей воде, они увидели.
232
„.Марат стоял по колено в воде и тяжело дышал. Вода текла по его широким скулам, по шее и по плечам. Одной рукой он придерживал другую. Он был бледен. Веснушки исчезли с широких скул. Коричневые глаза смотрели куда-то вдаль: они улыбались его мыслям..
— Ты жив? — спросила Зоя Загородько, хотя своими глаза* ми видела, что жии: от волнения она не верила своим глазам.
— Надо было «солдатиком»...— запоздало посоветовал Василь.
— Молчи! — оборвала его Зоя Загородько.— Молчи. Все это глупости. Что у тебя с рукой?
— Не знаю,— ответил Марат, вытирая плечом воду, которая с волос текла в рот.
Он смотрел на друзей, но был озабочен своими мыслями. Голова его гудела. И он еще испытывал на себе холодящее ошеломление, которое началось с того мгновения, когда он оторвался от моста. Его слегка познабливало. Одна рука была тяжелей другой.
— Я теперь поняла,— тихо сказала Зоя Загородько.— Я бы не смогла. И ты бы не смог, «глухая кукушка».
Она с вызовом посмотрела на Василя.
Марат вышел из воды и стал одеваться. Он вдруг заторопился. Никак не мог попасть в штанину и смешно танцевал на одной ноге. От мокрой спины на рубашке выступали пятна. Отбитая рука не слушалась. И военный ремень он затянул одной рукой.
— Я поеду на станцию Река,— вдруг сказал он.
Ребята пожали плечами. Что за станция Река, для чего станция Река?
6
— Да, я работала на переезде, когда он взорвал мост. Он появился к утру. Сперва я услышала слабый свист. Как будто под окном пела иволга. Я выглянула. Оп стоял под окном. За спиной мешок...
Марат сидел на краешке табуретки и не сводил глаз с худой старухи. Лицо у нее было желтоватое, цвета подсолнечного
233
масла, редкие волосы причесаны на пробор. Платок с выцветшими цветочками сполз с головы на спину и держался на шее, как пионерский галстук.
В маленькой комнате стояли кровать, стол, бадейка с водой. В углу — покрытый вышитой скатертью телевизор. Полы чистые, некрашеные, с домоткаными полосатыми половиками. За окном — железнодорожные пути.
— Он смотрел в окно.
Я не знала, кто он и что ему надо. Не хотела отпирать. Но я баба, а он мужик. А мужики все ходили с оружием. Никакие запоры не помогали. Я сказала: «Чего тебе?» Он ответил: «Отопри». Я от¬
перла.
Зимородок стоял в дверях в смятом пиджаке, перекошенном от мешка, который оттягивал плечо — был очень тяжел.
— Здравствуй, хозяйка,— сказал он тихо и опустил мешок на пол.
Его лица почти не было видно. Сторожка освещалась только слабой по-
лоской занимающейся зари. Лица хозяйки тоже не было видно. Она забилась в темный угол.
— Здравствуй, хозяйка,— повторил он.
— Что тебе надо? — послышалось из темного угла.— Нет у меня ничего. Все, что было, забрали. Хочешь бульбы?
— У меня бульбы целый мешок,— сказал он.— Я в дороге подвернул ногу. Нет ли у тебя тряпицы поплотнее?
Хозяйка сторожки несколько осмелела. Вышла из своего темного угла. Зеленая заря осветила краешек ее лица и светлую дорожку пробора. То, что незнакомец ничего не требовал, а просил перевязать ногу, успокоило ее. Она нашла тряпицу и почти скомандовала:
— Разувайся!
Он снял полуботинок. Штатский. Со сбитым каблуком. Нога у него была чистой и не пахла прелой портянкой.
Хозяйка положила под его ступню руку: ступня оказалась холодной, но на подъеме нога вспухла и горела.
— Больно?
— Ты бинтуй. Не церемонься.
Она стала осторожно накладывать виток за витком, а он морщился от боли и говорил:
— Крепче! Крепче! Мне ходить надо!
— Где это ты так ногу подвернул? — спросила она.
— Споткнулся на ровном месте,— ответил он и просвистел иволгой.
— Что ты за птица? — вздохнула хозяйка сторожки и посмотрела ему в лицо.
— Зимородок... Меня мама родила зимой в санях. С тех пор меня зовут Зимородком. Я мешок поставлю в угол?
Этот вопрос означал совсем другое: «Я у вас останусь?»
— Ставь,— сдержанно сказала хозяйка, и ее ответ означал: «Оставайся».
Во время войны все незнакомые люди говорили недомолвками.
Вдалеке послышался гудок паровоза. Хозяйка быстро подхватила большой фонарь с красным и зеленым стеклами и вышла на улицу. Мимо сторожки с грохотом мчался эшелон. Колеса пели и отбивали на стыках чечетку. А на платформах под
235
темными чехлами угадывались очертания танков, похожие на застывших слонов с вытянутыми хоботами. Ей казалось, что зеленый огонек притягивает эту гремящую очередь вагонов.
Когда она вернулась в сторожку, незнакомец спал, подняв воротник пиджака.
Она поставила фонарь на пол и села на стул. И так сидела долго, прислушиваясь к его ровному дыханию. Потом какое-то смутное чувство заставило ее подняться. Стараясь не наступать на скрипучие половицы, хозяйка подошла к мешку. Вся разгадка незнакомца была в этом мешке. Она опустилась на колени, развязала узел, запустила руку поглубже и нащупала что-то холодное и твердое, похожее на уголь. Она вынула из мешка незнакомый предмет. Это был брикет тола.
Женщина не дыша оглянулась на спящего. Он сидел на кровати и следил за ней.
Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом он сказал:
— Что теперь будем делать?
И засвистел иволгой.
— Он засвистел иволгой, и мне стало не так страшно. Но я поняла, что ввязалась в историю, за которую могут повесить. Он сказал, что ему надо забросить этот мешок на мост. Спросил, медленно ли идут поезда по мосту. Я сказала — медленно.
В это время зазвонил звонок. И хозяйка сторожки подхватила футляр с флажками, похожий на двустволку, и вышла за дверь, прервав рассказ. Марат пошел за ней.
С той стороны реки, вытянувшись в алую полоску, шел тяжелый состав. Он приближался к мосту. Мост был легкий, словно нарисованный черным карандашом на голубой бумаге. Но когда состав побежал по мосту, мост запел. Теперь он был похож на поющую стальную арфу.
— Красивый мост! — сказал Марат.
— Мост как мост,— отозвалась хозяйка сторожки.
На посту она как-то изменилась: вытянулась, приосани¬
236
лась. Ее рука с желтым флажком застыла на весу. Но Марат заметил, что рука слегка дрожит.
Поезд пронесся мимо переезда, обдав пылью и грохотом мальчика и хозяйку сторожки.
Когда поезд прошел и мост затих, мальчик спросил:
— Что было дальше?
— Весь день он просидел в картофельной яме. Идем, я тебе покажу эту яму.
Они вошли в дом. Крышка картофельной ямы была под кроватью. .Пришлось отодвинуть кровать, чтобы открыть ее. Марат заглянул внутрь. Из ямы пахнуло холодом и прелыо. Она напоминала начало подземного хода, идущего в неизвестном направлении.
— Можно залезть?
— Лезь.
Мальчик ловко соскользнул в яму. Она оказалась довольно просторной. Картошки в ней почти не было. Марат закрыл за собой крышку и очутился в сплошной тьме. Только в щелку проникал свет, настолько слабый, что не мог ничего осветить, а оттенял тьму.
Марат сделал шаг вперед и нащупал рукой стенку. Он опустился на корточки и спиной почувствовал влажный холод глины. Так сидел Зимородок и ждал своего часа. Ему тоже было холодно, и у него затекли ноги. Одна нога болела...
— Другая ночь выдалась дождливая. Мглистая. Прожектора на мосту уперлись в туман, и дальше им ходу не было. Мы ждали порожнего товарняка. Зимородок подхватил свой мешок с «бульбой» и сказал: «Пойдем, хозяйка, проводишь меня до околицы».
— Пойдем, хозяйка, проводишь меня до околицы,— сказал Зимородок и поднялся со скамьи.
Хозяйка зажгла тяжелый фонарь и осветила незваного гостя. Ей неожиданно стало жалко этого щуплого парня, который весь согнулся под тяжестью мешка да еще прихрамывал. И не было на нем ни ватника, ни дождевика, а смятый пиджачок. Она заметила, что одна пуговица оторвана, и предложила:
237
— Давай пришью пуговицу.
Он улыбнулся и сказал:
— В другой раз! Пошли.
— Пошли! — вздохнула хозяйка.— Я выйду первая.
Так они попрощались.
Они очутились под дождем у переезда. Поезд приближался. Земля вздрагивала от ударов колес.
— Я тебя хочу попросить...— сказал Зимородок.— Ты можешь минуты две подержать красный фонарь?
— Это еще зачем? — Женщина испуганно посмотрела на Зимородка.
— Чтобы поезд притормозил, а то я с кривой ногой не вскочу на подножку.
Она ничего не ответила. Стояла с опущенным фонарем. А он ждал, какой сигнал подаст она машинисту. Состав приближался. Она все медлила. Страх боролся в ней с сочувствием. Наконец она медленно подняла фонарь — выжала его, как гирю.
Фонарь тянул руку вниз, но она усилием держала его на уровне головы — красным огнем в сторону надвигавшегося эшелона.
Состав стал сбавлять скорость. Заскрипели буксы. Зимородок сказал:
— Давай зеленый.
А она все держала красный. И казалось, что сейчас на глухом переезде, перед носом немецкого эшелона, она держит красное знамя.
— Давай зеленый! Все дело испортишь!
Она повернула фонарь. И сразу руке стало легче. А мимо уже медленно плыли вагоны.
Он стоял с пей рядом. Но через мгновение она оглянулась — его уже не было. Только был — и исчез. Улетел Зимородок.
— Примерно через час грохнуло. Я присела на пол, закрыла руками глаза. Дом тряхнуло. Дверь распахнулась со скрипом. Косой дождь вместе с ветром залетел, в дом. Я думала — оп вернулся. Не свистела иволга. Я собрала узелок и ушла.
233
— Он погиб? — спросил Марат,
— Кто его знает! Может быть, погиб, может быть, миповала его смерть. У него была легкая рука. За такую руку смерти трудно ухватиться.
След Зимородка оборвался.
Когда Марат уходил, хозяйка сторожки сказала:
— Есть тут у нас один старожил. Павлов. Он в милиции работает.
Она оставляла мальчику луч надежды.
7
Новый мост взлетел в воздух, рухнули в реку тяжелые, почерневшие от огня фермы. Остановилось движение к фронту. Снаряды на время стали безвредными, а бензин — бесполезным, как вода. Сколько солдатских жизней спас Новый мост, задержавший смерть! Многие и теперь живы... Но ведь мост не сам взлетел в небо. Был человек, назвавшийся Зимородком. И было у него имя. Мама называла его этим именем, ребята в школе. И на фронт он уходил с этим именем, а не с птичьим.
Зимородок. Бесстрашная птица с прямым острым клювом. Он ныряет на большую глубину и возвращается с победой. И если он улетает накануне жестокой зимы, то с первыми теплыми днями возвращается к своему гнездовью.
Марат шагал по шпалам. Он спешил, потому что впереди возник просвет. Ему не терпелось отвоевать у забвенья еще частичку жизни Зимородка.
В отделении милиции его спросили:
— По вызову?
— Нет, сам.
— Сами в милицию не приходят. Что натворил?
— Ничего я не натворил. Мне нужен товарищ Павлов.
— Так бы и говорил: «Вызван к товарищу Павлову».
— Да не вызван я...
— Сиди жди, вызовут. Как зовут?
— Марат. Я ищу человека.
239
— Так бы и говорил.
— Я так и говорю.
— Не груби старшим... Как фамилия человека?
— Нет у него фамилии. Есть прозвище...
— Прозвище? Это по уголовной части. К Павлову. Ну-ка, шагай в ту дверь.
Марат постучал «в ту дверь». Из-за «той двери» крикнули: «Заходи!» Марат вошел. В комнате за большим столом сидел грузный человек в белой рубахе.
— Здравствуйте. Мне нужен товарищ Павлов.
— Я Павлов.
На голове у Павлова не было ни единого волоска. Он был лыс, как глобус. Загорелый, обветренный глобус.
— Я по поводу Нового моста. Его взорвал...
— Следопыт? — прервал мальчика Павлов.
— Ищу человека... Хочу знать о нем правду...
— Ищешь правду? — Следователь встал и подошел к окну.— И я ищу. Только мы с тобой, брат, разную правду ищем. Я ищу преступников, а ты героев. Издалека приехал?
— Из города.
— Хорошо,— сказал следователь и провел ладонью по лысой голове; вероятно, эта привычка осталась у него с тех времен, когда на голове росли волосы, может быть кудрявые.— Я уважаю людей, которые ищут правду. Конечно, от моей правды мало радости. Тебя интересует мост?
— Мост,— подтвердил Марат.
— Вот он, из окна виден. Новый мост. Три. раза его взрывали. И три раза строили заново. В Париже тоже самый старый мост называется Новый. Парадокс!
— Вы знали Зимородка? — в упор спросил мальчик.
— Какого Зимородка?
— Который взорвал мост.
Следователь ответил не сразу.
— Разговор долгий, а мне сейчас выезжать на аварию.— Он задумался и вдруг сказал: — Поедем со мной?
— Поедем.
Следователь открыл ящик стола и извлек оттуда булку и колбасу. То и другое он разделил на две части.
240
— Давай подкрепимся, дорога дальняя.
Марат хотел было отказаться, но Павлов скомандовал:
— Ешь без разговоров!
И они оба решительно вышли из комнаты, жуя на ходу булку с колбасой.
Потом они мчались на мотоцикле. Марат сидел сзади в седле, двумя руками ухватившись за ручку. Дорога бежала навстречу из дали, из полей, из леса. Она сбегала с пригорков и бросалась под колеса мотоцикла. И колесо, как жернов, перемалывало дорогу, и сзади поднималось светлое мучное облако пыли.
— Когда я был молодым,— говорил следователь своему пассажиру,— из-за этого моста чуть на тот свет не попал.
— Вы тоже взрывали?
Мотоцикл тарахтел, встречный ветер свистел в ушах, и, чтобы слышать друг друга, спутникам приходилось кричать.
— Ничего я не взрывал. Дело было иначе.
После внезапного взрыва Нового моста фашисты согнали все население станции Река на вокзальную площадь.
Был жаркий летний день. Люди стояли в этой бесконечной шеренге. Дети плакали. Женщины лихорадочно смотрели по сторонам, словно ждали откуда-то помощи. Старики казались равнодушными, но на самом деле они так же хотели жить, как и молодые.
— Если вы не выдадите человека, взорвавшего мост, мы расстреляем каждого второго,— сказал немецкий офицер.
Люди молчали. Нет, не все они были твердыми и неотступными, они не знали, кто этот смельчак, который дождливой ночью взорвал мост через реку.
Так они стояли долго. Под палящим солнцем. Какое-то тупое безразличие овладевало ими. Они ждали избавления. Любого избавления от неподвижного, изнурительного стояния под солнцем.
Офицер уходил и возвращался. Наконец он разделил людей на две шеренги.
Люди молчали. У кого-то в руках плакал ребнок. Кто-то на-
g Библиотека пионера, т. 12 241
долго закашлялся. Офицер наклонился и сорвал с газона ромашку. Он повернулся к шеренге, стоящей лицом к солнцу, и стал гадать: он отрывал лепестки и приговаривал: «Любит не любит».
Глаза людей были прикованы к этой ромашке, которая должна была решить их судьбу. Любит — не любит. Лепестков оставалось все меньше. Он отрывал их, как крылышки у небольшого белого мотылька. Наконец он оторвал последний лепесток.
— Не любит; Слышите—не любит вас, а любит их.—Он кивнул на правую шеренгу.— Они пойдут домой, а вы отправитесь на тот свет. В последний раз спрашиваю: кто взорвал мост?.. Можете не плакать! Мне не нужны ваши слезы. Мне нужен человек, который взорвал мост... Приготовить два пулемета. Последняя минута на размышление...
Все сжались, втянули головы в плечи. Стиснули руки в кулаки. И на площади установилась напряженная глухая тишина. Казалось, люди затаили дыхание, чтобы ничем не потревожить эту тишину, которой суждено было оборваться вместе с их жизнью.
Но страшную тишину разорвал не выстрел, а голос. Такой негромкий, глуховатый голос:
— Я взорвал мост.
Люди вздрогнули и испуганно оглянулись на голос, как в темноте оборачиваются на внезапно вспыхнувший свет. Они увидели невысокого, щуплого парня в помятом пиджаке. Он шел по площади, опираясь на палку. Левая нога как бы проваливалась в землю, но правая, здоровая, ступала твердо.
Офицер, удивленный не меньше остальных таким поворотом событий, все еще держал в протянутой руке белое крылышко «не любит». А парень шел к нему между шеренгами, и десятки глаз — усталых, заплаканных, печальных, темных, непонимающих, прищуренных, широко открытых — провожали его, дарили ему благодарность и прощальный привет.
— Как тебя зовут? — спросил кто-то из стоящих в шеренге.
Парень на мгновение задержал шаг и тихо сказал:
— Зимородок.
И его имя— непонятное, птичье имя—полетело от одного
к другому по шеренге, становясь таким же дорогим, как слово «жизнь».
— Всем по домам! — приказал офицер.— Его допросить и расстрелять! Быстро! Быстро!
Офицер опустил руку, и белое крылышко, кружась по ветру, упало на землю и больше уже не взлетало.
Белые полоски облака плыли над полем, а тени от них темными пятнами двигались по траве и по набирающим силу хлебам. Мотоцикл мчался вперед, и пыль оседала на сморщенные ладошки подорожников.
— И его расстреляли? — спросил Марат.
Следователь ответил не сразу:
— Этого я не видел. Нас разогнали по домам... Какие-то выстрелы я слышал. Фашисты могли расстрелять за кусок хлеба, а тут мост... Разве может быть сомнение?
И все-таки представить себе Зимородка мертвым, лежащим на земле, Марат не мог. Удивительный боец в помятом пиджаке на двух пуговицах жил в мыслях мальчика. И эту его жизнь никто не властен был оборвать.
Поезд тихо постукивал на стыках. Марат стоял у окна и смотрел, как рельсы скрещивались и расходились. Одни неслись вперед, теряясь в хитросплетениях станционных путей; другие обрывались в тупиках. Когда же стемнело, у стрелок зажглись низкие фонари, похожие на маленькие сухопутные маячки. Как выбрать себе нужный маячок, который откроет широкий простор, а не заведет в тупик?
Когда поезд с глухим медленным гулом начал втягиваться в фермы Нового моста, за плечами Марата встал Зимородок. Усталый, с бессонными глазами, смотрящими как бы из глубины.
«Человек очень живучее существо,— сказал Зимородок.— В него -стреляют, а он поднимается снова,, .а если не может подняться сам, то вместо него встает такой,, как он, только помоложе и посильнее».
«Как это — помоложе и посильнее?» — спросил Марат.
243
«А очень просто: я упаду, ты встанешь на мое место. И опять живет человек, работает, борется. Важно, чтобы ты был похожим на меня. Ты вообще-то веришь в чудеса?»
«Не знаю».
«Я в чудеса не верю. Я верю в надежду. Надежда — большая сила. Ты думаешь, человек идет когда-нибудь на верную смерть? Нет! Даже герой. Человек идет в бой с надеждой, что пуля пролетит мимо. Даже когда стреляют в упор, человек надеется. И чем больше у человека надежды, тем больше бесстрашия. Мне всегда помогала надежда. Мне с ней легко жилось и воевалось. Понял?»
«Понял»,— прошептал Марат.
Он так и не повернул головы. Он чувствовал, что Зимородок стоит за его плечами, слышал его дыхание, но не повернул головы, а неотрывно смотрел за маячками, которые всплывали из темноты и исчезали за спиной. И звезды в небе тоже казались маячками — негаснущими маячками надежды.
На другой день друзья уже поджидали его на мосту. Они стояли, прислонясь спиной к перилам, а портфели лежали у ног. Марат подошел к ребятам. Бросил портфель и тоже прислонился к перилам. Так они все трое стояли молча. Наконец Марат заговорил:
— Мост он взорвал. Значит, парашют раскрылся. Только при прыжке подвернулась нога. Но потом его расстреляли.
— Поймали? — спросил Василь.
— Нет, он сам признался.
— Не может быть!—вырвалось у Зои Загородько.— Как же сам?
— Фашисты хотели расстрелять много людей.
— Заложников? — спросил Василь.
— Людей! — повторил Марат.— Тогда он сказал: «Это я взорвал мост». Людей отпустили, а его повели на расстрел. Вот и все.
— Вот и все! — Василь как бы поставил точку.
— Неужели все? — спросила Зоя Загородько.
— Нет, не все,— решительно сказал Марат.— Я должен узнать его имя. Человек, который совершил такое, не может оставаться без имени.
244
— Конечно, не может,-- подтвердила Зоя Загородько. И с зтой минуты стала союзницей Марата в его поисках.
Марат нагнулся и поднял портфель. И его друзья, как по команде, тоже нагнулись и подняли портфели. И зашагали по мосту в сторону школы.
И каждый раз, когда казалось, все кончено, оборвались следы, поставлена точка и нет никакой надежды, оттуда, из далеких военных времен, доносился неумолкающий позывной:
«Я — Зимородок! Я — Зимородок!»
Он ждал ответа. Он звал. Он вселял в сердце тревогу. Нельзя останавливаться. Поиск продолжается, пока можно отвоевать у смерти и забвения еще один вздох, еще один островок жизни Зимородка.
8
— Здравствуйте, люди-человеки! Начнем, пожалуй... Сегодня мы займемся слонами.
По классу прокатился смешок. «Займемся слонами!» А Сергей Иванович уже расхаживал по классу, слегка наклонив свою большую голову.
— Но до слонов я хотел бы заняться Маратом.
Снова вспыхнул смешок.
— И узнать, где он пропадал, что поделывал, почему пропустил урок.
Марат нехотя поднялся. Он был озабочен своими мыслями, и что происходило вокруг, его не интересовало.
— У него болела рука! — сказала Зоя Загородько, и ее челочка мелькнула на предпоследней парте.
— Я спрашиваю Марата.
Марат переступил с ноги на ногу и сказал:
— Я искал одного человека. А руку я действительно отбил.
— Какого человека? — спросил учитель.
— Его расстреляли фашисты.
Учитель сделал несколько шагов, потом обернулся и-сухо сказал:
— Не вижу логики. Чего же искать человека, если его расстреляли?
И снова поднялась Зоя Загородько. Ее смуглое лицо горело, а редкая челка разметалась по лбу.
— Это был очень хороший человек, Сергей Иванович... А вы этого не хотите понять... Вас интересуют только клювы и хоботы.
У нее не хватило дыхания. Она села. За густой растительностью не было видно, как учитель побледнел. Он сказал глухим голосом:
— Да, я этого не хочу понять! Меня интересуют крылья и хоботы, потому что мой предмет — зоология. Если бы я преподавал русский язык, меня бы интересовало правописание частиц. Что здесь удивительного? И на уроке никакие посторонние вещи меня не касаются. Тебе это понятно, Зоя Загородько?
— Понятно,— недовольно ответила смуглолицая девочка.
— Садитесь все! Будем продолжать урок. Займемся отрядом хоботных.
— Слонами? — спросил Василь.
— Сперва мышами.
По классу прокатился смешок. Но учитель не обратил на него внимапия.
— Начнем с мышей. Потому что, хотя слон самое крупное и самое сильное животное в мире, простая ничтожная мышь может погубить его.
Василь хихикнул. Но Марат ударил его локтем в бок. И тот притих.
По коридору шли директор школы й инспектор роно. Они остановились у дверей класса. Оттуда доносился несмолкаемый гул. И сквозь этот гул слышался глуховатый голос учителя:
— Александр Македонский в своих завоевательных походах пользовался боевым слоном. Слоны были танками древних войн...
В это время послышался голос Василя:
— Танки с хоботом и клыками! А вместо противотанковых мин — мыши!
В классе вспыхнул смех.
И так всегда на уроках Серегина,— сказал директор.— Какой-то балаган, а не урок!
— Неопытный? — поинтересовался инспектор.
— Нет, стаж работы у него большой. Но не умеет он серьезно. Все шуточки! Ему бы следовало перейти на другую работу.
— Подумаем,— сказал инспектор.
— Никакого авторитета у ребят,— продолжал директор и вместе с инспектором зашагал дальше по пустому школьному коридору, в котором шаги отдавались гулко и четко.
А на исходе дня, когда школа опустела, директор застал учителя зоологии за странным занятием: Сергей Иванович съезжал с четвертого этажа по перилам.
— Как это понять, товарищ Серегин? — вспыхнул директор.
Сергей Иванович молчал, как провинившийся ученик.
— Какой пример вы подаете детям?
Учитель молчал. Потом провел рукой по волосам и тихо сказал:
— Устал я очень.
И пошел прочь, оставив директора с его сложными педагогическими раздумьями.
Зоя Загородько и Василь шли по улице без всякого дела.
Припекало солнце. Первый летний месяц набирал силу. И зеленая листва, растревоженная ветром, издавала морской шум. Зеленое море, взметнувшееся к синему небу.
Неожиданно Зоя Загородько остановилась и спросила своего спутника:
— Василь, у меня красивые глаза^
— Не знаю,— признался мальчик.
— Посмотри внимательно.
Василь уставился в глаза девочки.
— Смотрю.
— Что ты видишь?
— Глаза.
247
Зоя Загородько поправила рукой челку и сморщила нос.
— Эх ты, «глухая кукушка»!
— За «глухую кукушку» можешь схлопотать! — тихо буркнул Василь.
Зоя Загородько повернулась на каблучках и пошла, размахивая портфелем. Василь поплелся за ней.
Около тира их окликнула огромная бабка, которая вышла из своего тоннеля, грелась на солнышке и занималась привычным делом — вязала.
— Где ваш приятель? — спросила бабка, посмотрев на ребят маленькими бесцветными глазками.— Мне он нужен.
— Появился Седой? — поинтересовался Василь.
— Никто не появлялся,— сухо сказала бабка.— А приятеля пришлите.
— Он обязательно придет,— сказала Зоя Загородько.
Но огромная бабка уже не слушала ее: она ушла в работу, и ребята перестали для нее существовать, словно их не было вовсе.
В тире, за ее широкой спиной, треснуло несколько выстрелов.
— Может быть, нашелся Зимородок? — предположила Зоя Загородько, когда ребята свернули за угол.
— Как же он нашелся, если его расстреляли? — резонно заметил Василь.— Она имя его знает, а нам не хочет говорить. Каменная баба!
Через несколько шагов Зоя Загородько спросила Василя:
— Василь, у меня красивые губы?
— Не знаю.
— Посмотри внимательно.
— Смотрю.
— Что ты видишь?
— Губы.
Й еще через несколько шагов она сказала:
— Знаешь, на кого похож этот Зимородок?
— Не знаю,— признался Василь.
— Он похож на Марата,— доверительно сказала Зоя Загородько.— Только об этом никто не должен знать. Слышишь?
— Слышу.
248
...К вечеру, когда тир принадлежал взрослым и выстрелы звучали медленно, с расстановкой, Марат стоял перед бабкой. Она говорила ему:
— Вспомнила... У нас в Жуковке был отряд. Там один парень умел свистеть иволгой... Имя его не помню... Есть в Жуковке братская могила. Похоронены партизаны. Имена написаны на камне... В Жуковке у меня тетка живет, Жукова Алевтина. У нас почти все Жуковы... Стрелять будешь? Не будешь, тогда отойди от огневого рубежа. Не мешайся.
— Может быть, его звали Зимородок? — спросил мальчик.
Бабка уставилась на него ж мрачно сказала:
— Я у фашистов на допросах молчала. А ты меня допрашивать вздумал... Стрелять не будешь? Иди, иди.
Марат понял, что больше он не добьется от каменной бабы ни единого звука. И еще он понял, что надо немедленно ехать в Жуковку.
9
Они шли по узкой лесной тропинке, раздвигая руками ветки. Впереди, переваливаясь с боку на бок, шла тетка Алевтина, такая же огромная и грузная, как ее племянница из стрелкового тира. Темные босые ноги не чувствовали колючек и сучков, которые попадались на тропинке.
За теткой Алевтиной шел Марат. Он был поглощен своими мыслями, и ему казалось, что тетка Алевтина идет слишком медленно. За ним шла Зоя Загородько. Она не спускала глаз с Марата. Она смотрела ему в затылок с тихим восторгом, потому что все, что было связано с Зимородком, переносилось в ее сознании на Марата.
Василь шел последним. По его лицу струился пот, а губа, поднятая домиком, пересохла.
Они шли довольно долго, пока внезапно не вышли в поле. Над полем возвышался холмик с белым обелиском.
У подножия холмика тетка Алевтина остановилась и, опу- . стив руки, сказала:
— Вот могилка-то. Все тут. И мой Ванятка здесь похоронен...
249
Ребята приблизились к обелиску и стали быстро читать имена погребенных. И вдруг Зоя Загородько воскликнула:
— Здесь!
Ей стало неловко своего выкрика, и она тихо сказала:
— Зимородок.
Действительно, на каменной доске в столбике фамилий было написано, вернее, высечено на камне — «Зимородок».
— Все-таки он погиб,— сказал тихо Марат.
— Марат,— Зоя Загородько положила руку на плечо друга,— ты веришь, что он погиб?
Марат молчал. А Василь сказал:
250
— Тут дело ясное.
Тетка Алевтина стояла за ребятами. Она как бы окаменела. Может быть, она думала о своем Ванятке?
Й вдруг что-то нахлынуло изнутри и пробило каменную бабу, и старая женщина заговорила:
— Девять телег стояло здесь на поляне. Девять гробов. И много народу сошлось в этот день в Жуковку. Стоял август. Я помню число — двадцать пятое августа. В этот день каждый год собираются партизаны. С каждым годом их все меньше остается... Словно отряд где-то ведет бой. И не все возвращаются. Так вот, в тот день у разрытой могилы речь говорил Петр Ильич...
Ее память воскресила тот тяжелый военный день. И зазвучал голос партизанского командира:
— Товарищи! Братья! Не судите нас строго, что мы провожаем вас в последний путь без оркестра, в неструганых гробах. Человек ко всему привыкает. Но привыкнуть к утрате друзей он никогда не сможет. Нам без вас будет труднее в бою, а если пуля пощадит нас и мы доживем до победы, нам будет не хватать вас всю жизнь. Мы никогда не забудем вас. Мы накажем своим детям помнить вас. Потому что во всем, что будет потом: в новых городах, в новых кораблях, в новых дорогах,— будет частица ваших усилий, частица ваших страданий... Прощайте, товарищи! Ваша жизнь оборвалась на полпути, вы останетесь в нашей памяти навечно молодыми. Но молодых будущее поколение поймет легче, чем стариков. Вы будете учить наших детей, как надо любить Родину. Пусть будет вам земля пухом... Огонь!
И все, кто стоял над свежевырытой могилой, подняли свое оружие и выстрелили. И гул этого салюта грозной волной прокатился по лесам и полям.
— Почему девять? — спросил Василь.— Здесь десять фамилий. Ошибка?
— Кто его знает! Только хоронили девятерых. Я-то помню,
251
девять телег прогрохотало по дороге. А дед Аким сколачивал девять гробов. Ему теса не хватило, он ходил по дворам...
— Кого же там нет? — спросил Марат, показывая рукой на могилу.
— Этого я не знаю,— призналась старая женщина.— Это знает только Петр Ильич Лучин, партизанский командир.
— Где же он?
— Петр Ильич? Живет в Одессе, на пенсии. Болеет. Жена его, партизанская учительница, тоже с ним. А я никого не знаю. Я только Ванятку знала...
Она замолчала, Стала каменной.
— Вот видишь,— сказала Зоя Загородько,— надо верить.
— Для чего же написали? — все не мог разрешить свои сомнения Василь.
Но ему никто не ответил. Ребята стали медленно спускаться с холма. Они попрощались с теткой Алевтиной. Но та не заметила их, все стояла неподвижная и углубленная в свое давнее горе.
Каждый раз на пути к Зимородку жизнь создавала новые и новые препятствия, словно хотела испытать выдержку красных следопытов. Отчаяние приходило к Марату и его друзьям. Они вешали головы. И вместе с тем в их поиске было что-то живучее, идущее наперекор всему. Сквозь мутные туманы безвестности светил далекий огонек надежды.
Они спешили навстречу Зимородку, словно хотели вернуть ему все, что отняла у него война: имя, жизнь.
На лесной полянке, где когда-то взлетел маленький трескучий «кукурузник» с пареньком, не знавшим даже, как обращаться с парашютом, на холме с белым обелиском они узнали
о его смерти. И захотели вернуть ему жизнь. Как скалолазы, которым каждый неприметный выступ помогает сделать еще один шаг к вершине, они ухватились за слова, оброненные теткой Алевтиной: «Хоронили девятерых».
Хоронили девятерых! Кто же был десятый? Зимородок? И тут перед Маратом возникал человек, маленький, чернявый, в золотых очках.
252
«Это надо еще доказать!» — говорил он -и уходил, стуча каблуками.
Они шли по лесной тропинке, и следом за ними летели тихие, овеянные непреходящей печалью слова:
«И мой Ванятка здесь похоронен».
Но никто же не сказал:
«Здесь вечным сном спит Зимородок».
10
Отец Зои Загородько сказал:
— Ждите! Представится удобный случай — слетаем в Одессу.
Случай долго не представлялся. Отец летал по другой линии. Ребята хотели было написать письмо партизанскому командиру Петру Ильичу Лучину, но какое-то чувство подсказывало им, что есть вещи, которые нельзя доверять бумаге, надо высказать их самим. Для них Зимородок еще был жив. Он просто был настоящим зимородком: глубоко нырнул в одном месте, вынырнет в другом.
Каждый раз, встречаясь на мосту, ребята вопросительно смотрели на Зою Загородько; И она отвечала:
— Еще не представился случай. Но представится...
Они шли мимо тира, который в ранний час еще был закрыт. И на тяжелых воротах висел замок. Может быть, за этим замком хранится еще один след Зимородка?
Василь последнее время стал прихрамывать и прицепил к куртке синий значок с изображением парашюта. Сам с собой он играл в Зимородка.
Он поднял замок и опустил. Замок с грохотом ударился о ворота. Ребята зашагали дальше.
— Говорят, в Заречье живет такой доктор Стройло. Слыхали? — неожиданно сказал Василь.— В войну он был начальником подпольного госпиталя. Этот доктор много знает... Может быть, и про Зимородка?
— Так за чем же дело? — спросила Зоя Загородько.
— Говорят, он не любит рассказывать.
— Почему не любит?
253
Натерпелся.
— От кого натерпелся? — Марат распрямился и посмотрел на Василя.— От фашистов?
— Нет, фашисты до него не добрались. Он натерпелся от средних.
— От каких средних? — Зоя Загородько заглянула в лицо Василю.
— Есть такие средние люди. Они не фашисты и не антифашисты. Вываренные люди.
— Кто их... вываривал?
У Василя губа поднялась домиком и покраснели уши.
— Почем я знаю! Сами выварились.
— Знаешь его адрес? — спросил Марат.
— Нет.
— Можешь узнать?
— Я все могу,— прихвастнул Василь и захромал сильнее.
— Тогда завтра махнем к этому доктору.
...Но назавтра три друга оказались не в Заречье у загадочного доктора Стройло, а на аэродроме. Случай представился. Папа Зои Загородько летел в Одессу.
Три воздушных зайца стояли на летном поле и ждали, когда полноправные пассажиры закончат посадку.
— А вдруг не хватит места? А вдруг не хватит места? — поминутно спрашивал Василь и дергал Зою Загородько за рукав.
— Отвяжись, «глухая кукушка»!
— За «глухую кукушку» можешь схлопотать! — огрызнулся Василь.
Но тут в дверях самолета появился высокий смуглый человек в синем форменном костюме. Он махнул рукой, и ребята побежали по трапу.
...Потом они летели, усевшись втроем на два места. И совсем близко над ними расстилалась белая изнанка облаков.
Зоя Загородько смотрела на Марата, и ей казалось, что он вот-вот отвяжется и совершит отчаянный прыжок с парашютом в райопе станции Река. Глаза девочки светились скрытым восторгом. А Марат сидел с закрытыми глазами, и ему казалось, что он летит на стареньком «кукурузнике»-и толкает в плечо седого пилота с лицом индейца, покрытым густым,- за¬
254
мешанным на ветру загаром: «Пора прыгать?» А Седой кричит через плечо: «Отвяжись!» И вокруг трещат разрывы и бросают самолет из стороны в сторону.
Зоя Загородько берет его пуговицу и тянет. Он открывает глаза, смотрит на девочку.
— Ты что?
— Хочешь, я пришью тебе пуговицу?
— Так она не оторвалась,— говорит он, не понимая, чего она от него хочет.
— Но, может быть, она оторвется,— говорит Зоя Загородько и опускает глаза, и они блестят под редкой челкой, которая спускается со смуглого лба.
А Василь трогает свой значок с изображением парашюта.
Самолет ложится на левое крыло и идет на посадку.
— Через три часа летим обратно. Как хотите, так и действуйте. Три часа на размышление, товарищи следопыты!.. Зоя, купишь матери дыню. Все!
Три часа дал на размышление ребятам папа Зои Загородько. За три часа они должны были разыскать партизанского командира Петра Ильича Лучина и узнать то, что не давало им покоя. Оборвется след или потянется дальше?
Вперед, красные следопыты, неутомимый народ, возвращающий имена безымянным героям, борющийся с забвением, как борются со злом. Не верьте ушам — уши могут недослышать. Не верьте глазам — глаза могут недосмотреть. Верьте только сердцу,
И
Есть на нашей земле гордые города, которые умеют весело жить и смело воевать, но не сдаваться. Эти города — узловые станции: сюда стекаются пути со всех концов света и завязываются узлом дружбы. Здесь говорят: «Умирать — так с музыкой!» С музыкой орудий и автоматов и с хриплым «ура», от которого врагов црошибает холодный пот. Эти гордые города — как старые солдаты в старых шрамах. И на их груди мерцают звезды героев. И они бессмертны, потому что на смену отцам приходят дети, и дети похожи на отцов, только помоложе, задиристей, и у них легче походка.
255
Одесса — такой город. Говорят, в Одессе камни солоноватые от ветра, который доносит капли морской воды. А в камнях, из которых сложены дома, впаяны перламутровые ракушки. И под улицами, домами, площадями есть еще одна Одесса — подземная. Называется она — катакомбы. Фашисты шли на одну Одессу, а их встретили две: наземная и подземная. И было еще две Одессы, обрушивших на врага огонь: морская и воздушная.
Но это было давно, а теперь раны затянулись. Светит раскаленное солнце. Прибой перекатывает камешки с одного места на другое. Корабли здороваются и прощаются с городом.
Но, может быть, камни города соленые не только от морской воды, но и от крови?
— Здравствуйте! Нам нужен Петр Ильич.
Марат и его друзья замерли на полутемной лестничной площадке, а в открытых дверях перед ними стояла черноволосая женщина с темными ввалившимися глазами. Она молча смотрела на ребят, потом сказала:
— Вы опоздали.
— Мы подождем,— сказал Марат.— У нас еще есть время.
— Понимаете, мы прилетели издалека,— пояснила Зоя Загородько.
— Он умер,— сказала женщина.— Вчера его похоронили.
— Как же быть! — вырвалось у Марата.
— Пошли, ребята,— тихо сказал Василь.— Простите за беспокойство.
Надо было уходить, но какая-то сила удерживала ребят у порога дома бывшего партизанского командира, который умер накануне их приезда. Словно стены дома хранили тайну судьбы Зимородка. Хозяйка тоже не торопилась закрыть дверь. Наконец она нарушила неловкое молчание:
— Что вы хотели от Петра Ильича?
— Мы разыскиваем одного бойца. Мы были на его могиле...
— Как его фамилия?
— В отряде его звали Зимородок.
— Зимородок?! — Хозяйка дома произнесла это имя на свой
256
лад, делая ударение на первом слоге, и на лине ее отразился слабый отблеск улыбки.— Зимородок! Забавный был парень. Он ходил в мою школу.
— Какой номер школы? — не удержался Василь.
— У школы не было номера... Это была партизанская школа. Днем я учила ребятишек. Вместо считальных палочек были стреляные гильзы... А вечером учились бойцы...
В большой землянке были низкие, давящие потолки, а две коптилки, сделанные из медных артиллерийских гильз, стояли на столе и высвечивали небольшое пространство и классную доску, настоящую классную доску. Парты тоже были настоящие: видимо, их вывезли из уцелевшей школы. Но они казались очень маленькими и тесными, потому что за ними сидели здоровые дяди. Некоторые бородатые. При свете коптилок эти бороды выглядели как-то зловеще. Еще коптилки освещали лицо учительницы, молодое, удивительно красивое. Гладкие черные волосы были заплетены в косу. Учительница выглядела очень молодой, а ученики очень старыми, хотя были они одногодками.
— У нас кончился мел,— сказала учительница,— не знаю, как быть.
— Я раздобуду вам мел.
Йз-за парты поднялся невысокий парень в пиджаке, застегнутом на три пуговицы. Его глаза весело горели: в каждом зрачке играл уменьшенный огонек коптилки.
— Где ты раздобудешь?
— Военная тайна. Завтра будет у вас мел.
— Как твоя фамилия?—спросила учительница.— Ты в отряде новичок?
— Новичок! — ответил парень.— Зовут меня Зимородок^,
Бородатые ученики захихикали.
— Разве человека не могут звать Зимородок? — спросил он, поворачиваясь к товарищам.— Я могу свистеть иволгой.
Все снова рассмеялись.
— Вот чудаки! — чуть обиженно сказал парень.— Я дело говорю, а они смеются...
257
— Послушай, Зимородок, ты сколько классов кончил? — спросила учительница.
— Восемь.
— А мы за пятый класс проходим. Зачем ты пришел?
— Учиться хочется. Я и в школе любил учиться. Честное слово! Каждый день узнаешь новое. Решаешь задачу, которую вчера не мог решить. В первый раз читаешь стихи, и кажется, Лермонтов написал их специально для тебя, еще чернила не высохли...
Бородачи притихли. А молоденькая учительница слушала с широко открытыми глазами.
— По-моему, когда человек перестает учиться, он перестает жить. А на войне так хочется жить!
И тут он замолчал, смутился и, чтобы скрыть свое смущение, спросил:
— Так показать, как свистит иволга?
Учительница кивнула, и он засвистел. Свист был похож на голос флейты. И стены землянки как бы раздвинулись. И огромный густой лес с высокими деревьями и низким подлеском возник из этой птичьей песенки. Этот лес жил, двигался, одни деревья сменялись другими, маленькие делянки переходили в орешник, за орешником вставали медноствольные сосны. А свист иволги то приближался, то удалялся, такой родной и такой недоступный.
Комната партизанского командира Петра Ильича Лучина была небольшой и еще хранила устойчивый запах лекарств. У стены в углу стояла солдатская койка, застеленная серым одеялом. Над койкой висела тяжелая сабля с червленым эфесом и трофейный кинжальный штык, тоже в ножнах. На окне стояли растения с мясистой зеленью. Еще в комнате был рабочий стол с тисочками: видимо, бывший командир что-то мастерил.
Ребята сидели на стульях, а хозяйка дома, «партизанская учителка», стояла у окна.
— Когда он взорвал Новый мост,— рассказывала она,— я долго не вычеркивала его из классного журйайа. Я всеобще ни¬
258
когда не вычеркивала погибших. Ставила «нет». На всякий случай.
«Партизанская учителка» подошла к койке и опустилась на самый краешек, по привычке боясь потревожить больного. А больного-то не было.
— Петр Ильич умер от старых ран,— вдруг сказала она..— Последнее время старые солдаты часто умирают. Догоняют их военные пули.
Ребята молча слушали хозяйку дома, все еще не решаясь задать ей главный вопрос.
— Человек ко всему привыкает. Но привыкнуть к утрате друзей никогда не сможет,— тихо произнесла партизанская вдова и замолчала.
Ребята переглянулись. Эти слова показались им знакомыми, прозвучали сейчас как эхо. И тогда Марат сказал:
— Мы были в Жуковке, на братской могиле, где похоронен Зимородок.
— Зимородка нет в этой могиле.
— Как нет? Там написано...— вмешался в разговор Василь.
Партизанская учительница покачала головой.
— Мы знали, что немцы расстреляли его, и, чтобы имя его не затерялось, написали его на доске рядом с именами других погибших в бою. Но в могиле его нет.
Ребята посмотрели на Марата и заметили, что глаза его тревожно светятся, словно видят то, что в эту минуту никому не дано было увидеть.
За его плечом стоял Зимородок. А впереди зажегся огонек надежды. Он горел вопреки всему. Да здравствует надежда! Как бы жили на свете люди, если бы не было надежды? Как бы они сражались, достигали цели?
12
— Люди-человеки, а не пойти ли нам в лес? — сказал Сергей Иванович, переступая порог.
Неожиданное предложение учителя класс встретил дружным «ура».
— Тише! Парад-не начался. Хочу, чтобы вы знакомились
ч 259
с природой не только по учебнику... Вы когда-нибудь держали в руке птенца? Теплый, вздрагивающий комочек, полный упругой жизни. Тот, кто не держал в руке птенца, не сможет взять в руку сердце человека... Сейчас в лесу много невезучих птенцов. Положить выпавшего птенца в гнездо — полезное занятие... Собирайтесь. По школе идем с закрытыми ртами. Решено?
— Решено! — за всех отозвался Марат и хлопнул крышкой парты.
Класс мгновенно опустел. Ребята двинулись цепочкой по коридору. Василь нес под мышкой бумажного змея.
Школа была на окраине города, и добраться до поля не составляло труда.
Учитель шел впереди по высокой траве, а ребята, вытянувшись в длинную цепочку, шли за ним. Цепочка эта была неровной. Она местами выгибалась, местами рвалась и нехотя тянулась в сторону леса. А над ними в вышине вился бумажный змей с нарисованной кривой рожей. Змей послушно плыл на веревочке за ребятами.
Сергей Иванович остановился, и ребята, наталкиваясь друг на друга, тоже остановились.
— Слышите легкий звон? Это вьется над полем жаворонок. Весенняя полевая птица. В лесу мы обязательно встретим дятла.
Вскоре цепочка исчезла в чаще. И сразу весь мир наполнился множеством тонких звуков. Птицы пели на все лады — каждая пробовала свое горлышко.
Учитель остановился. Прислушался.
— Слышите?
Ребята поворачивались в сторону звука.
— Слышите? Это поет малиновка. Конечно, ее пение не сравнишь с пением соловья, но некоторые колена очень схожи.
Он старался увлечь ребят, открывал им тайны ожившего леса. Он вел их на звук птичьей песни, а ребятам хотелось бегать, перепрыгивать через ручьи и взбираться по склонам оврагов. И тех, кто шел рядом с учителем, становилось все меньше. Это не смущало Сергея Ивановича. Он как бы рассказывал самому себе:
— Да, наши птицы, может быть, и скромней по расцветке,
260
чем пернатые тропических стран, но разве какая-нибудь птица в мире сравнится по пению с соловьем или малиновкой?!
Дымчатые очки мешали ему любоваться лесом. Он снял их, но тогда все вдруг расплылось, пришлось снова надеть очки. Он оглянулся и заметил, что рядом с ним идет только одна девочка, курносенькая, в больших очках, которые захватывали часть ее щек.
— А где же остальные? — спросил Сергей Иванович.
— Ищут птенцов, выпавших из гнезда.
— Да, да, — рассеянно произнес учитель. — Иди и ты ищи.
Девочка побежала. Учитель остался один. Теперь он прислушивался не к птицам, а к голосам ребят и силился разглядеть их среди деревьев. Ребята как бы затеяли с учителем веселую игру в прятки. Но не было в лесу палочки-выручалочки, которая помогла бы ему.
Однако это не огорчало учителя. Он выпустил на волю веселого, шумного джинна и понимал, что загнать его обратно в сосуд, именуемый классом, было делом почти невозможным.
Сергей Иванович вышел из леса. Он медленно шел по мокрой траве через поле. Потом он услышал тихий шорох, и к его ногам опустился бумажный змей. Из травы смотрела смешная рожа, нарисованная лиловыми чернилами.
Сергей Иванович опустился на парту и стал ждать возвращения ребят. Он немного устал и уперся подбородком в сложенные замком руки. О чем он думал, пожилой человек, с лицом, заросшим густой бородой? Может быть, вспоминал то далекое время, когда сам сидел за партой?
Неожиданно дверь открылась, и в класс вошел директор школы. Учитель встал, как встают ученики, когда входит старший.
— Где класс? — спросил директор, испытующе глядя на Сергея Ивановича.
Учитель стоял м:олча, опустив голову, как провинившийся.
— Сбежали?
— Я их отпустил. У нас было практическое занятие на природе.
261
— Не выгораживайте вы их! Сбежали!—сказал директор, усаживаясь за учительский стол.— Нё получается у вас, товарищ Серегин. Са1 дитесь.
— Разве не получается? — спросил учитель, продолжая стоять.
— Вы же ведете себя с ними как равный. Где ваш учительский авторитет? Бороду отрастили, как Миклухо-Маклай.
— Нельзя бороду?—спросил учитель.
— Это вам решать. У нас ни один учитель нё носит бороду... И не съезжает по перилам с четвертого этажа... У вас в распоряжении целое лето. Подумайте. Может быть, вам стоит заняться другим делом?
— Может быть, — пробормотал учитель.
— Вот таким образом,— закончил директор и, шумно отодвинув стул, пошел прочь.
А Сергёй Иванович все стоял за партой.
В класс начали возвращаться ребята. Они входили шумные, возбужденные неожиданной прогулкой в лесу. Они не заметили, что учитель расстроен чем-то.
В класс вбежал Марат. Ладони его были сложены корабликом, как складывают на ветру, чтобы не погасла спичка.
— Я нашел птенца I
Сергей Иванович подошел к нему. Марат приоткрыл ладони. В них, как в гнезде, сидел птенец.
— Я нашел его в ручье. Он чуть не утонул.
Учитель снял очки и приблизил лицо к маленькому пернатому существу.
— Это птенец зимородка.
При слове «зимородок» Марат оглянулся на своих друзей. У Зои Загородько заблестели глаза, а Василь раскрыл от удивления рот. В это время птенец приподнял одно крыло,-привстал на слабые лапки и вдруг изо всех сил рванулся, замахал крыльями. Его нельзя уже было удержать. Он полетел. Сделал круг и вылетел в открытое окно.
— Улетел зимородок,— сказал Марат.
Все ребята стояли у окон и провожали летящего птенца. Учитель тоже наблюдал за полетом птенца, и в глазах его застыла цечаль.
На другой день начались каникулы.
13
Доктор Стройло был длинный и худой и слегка сутулился, словно все время боялся удариться головой о притолоку. У него были наполовину седые, сизые волосы и глаза навыкате. А руки свисали, как опущенные крылья. Он стоял на крыльце и недружелюбно рассматривал незваных гостей. Дом у него был небольшой, рубленый, с палисадником — пригородный дом в конце городской улицы.
— Что вам надо? — спросил он ребят.
— Мы ищем человека,— неуверенно сказал Марат.
— У меня не адресный стол! — сердито отрезал негостеприимный хозяин. Было непонятно, сердится он или скрывает усмешку.
У Василя покраснели уши. И он почти крикнул:
— Его же расстреляли фашисты! Но мы верим, что он жив!
263
Доктор Стройло продолжал смотреть на ребят выпученными глазами.
— Меня не интересует, во что вы верите. С . вашей фантазией во что угодно можно поверить... Боль можете терпеть?
Ребята удивленно переглянулись.
— Уколов боитесь?
— Не боимся мы уколов,— сказала Зоя Загородько.— Пошли, ребята!
Доктор Стройло выкатил глаза на нее и закричал:
— Вытирайте ноги! Почище! Я полы сам мою!
Это было приглашение войти в дом. Ребята зашаркали ногами на маленьком половичке. И доктор Стройло повел их в дом. Они очутились в небольшой комнате с низким потолком. На окнах, на столе, на тумбочках — всюду стояли большие и маленькие аквариумы, в которых плавали удивительные рыбы и рыбешки. Комната была скорее похожа на зоомагазин, чем на комнату, в которой живут люди. Ребята разбрелись и начали было рассматривать рыб, но хозяин сухо скомандовал:
— Садитесь! На диван!
Они послушно сели на диван.
— Что за новое поветрие — искать человека? — спросил доктор Стройло.— Сколько лет не искали, и вдруг... понадобился человек. Или неловко жить стало без человека?
— Он наш друг,— сказал Марат.
— Ба! — Доктор заходил по своей маленькой комнате, и от его шагов пол задрожал, а вода в аквариумах слегка заколыхалась.— Да вас тогда и на свете не было, когда фашисты... расстреляли вашего человека.
— Он наш друг,— упрямо повторил Марат.— Он нам нужен.
Доктор Стройло подсел к ребятам и, согнувшись почти вдвое,
оперся локтями о колени.
— Что вам о нем известно, о человеке-то?
— Двадцать третьего августа он взорвал Новый мост на станции Река. За это его в тот же день расстреляли.
Доктор Стройло поднялся и ушел в, другую комнату. И вскоре вернулся с большой конторской книгой.
Он стал листать пожелтевшие страницы, и ребята видели ка¬
264
кие-то записи, сделанные размашистым почерком. Потом узловатым пальцем, похожим на ветку с обрубленными сучьями, доктор стал водить по странице.
— Двадцать четвертого августа в госпиталь поступил партизан с тремя пулевыми ранениями. Видимо, он... Состояние раненого крайне тяжелое. Как его звали?
— Зимородок,— ответили все трое.
Это имя прозвучало как пароль, потому что в докторе Стройло что-то ожило, посветлело, и в его выпуклых глазах появились какие-то точки, разгорающиеся, как искры. Пароль «Зимородок» открыл забытую дверь в прошлое, и из нее хлынули воспоминания.
Зимородок лежал за станционными путями в овражке. В помятом пиджачке, застегнутом на оставшиеся две пуговицы. И был он какой-то маленький и легкий. Голова упала к плечу. Глаза были закрыты, а нос торчал бугорком. Маленький, острый, похожий на клюв. На щеке запеклась штыковая рана. Одна рука сжала полу пиджака, другая — откинулась ладошкой вверх, и между пальцами протиснулись стебельки травы. И казалось, трава скоро поднимется еще выше и скроет его от глаз друзей и врагов.
На дне оврага стояли двое парней, а третий на краю оврага наблюдал, не придут ли фашисты.
Парень в кепке, надвинутой на глаза, копал могилу, а его напарник неотрывно смотрел на расстрелянного. И вдруг он сказал:
— Подожди... Он, кажется, дышит.
Стриженый опустился на колени и прильнул ухом к груди Зимородка. Потом поднялся и сказал:
— Бьется! Где-то далеко, далеко бьется!
Парень в кепке отбросил лопату, подошел к нему и опустился на колени.
— Бьется! — согласился он.— Здесь земля сырая... от крови.
— Что же будем делать?
Парни молча стояли на коленях и смотрели на незнакомца. Сверху, с кр&я оврага, спросили:
265
— Закопали?
Ему не ответили.
— Надо отнести его подальше. Он ведь мою мать сдас,— сказал парень в кепке.
— И двух моих сестренок расстреляли бы, но он...
Он был жив. Изо рта текла тонкая, высыхающая на ветру струйка крови. Это была живая кровь.
— Его надо переправить к доктору Стройло,— сказал стриженый.— Надо раздобыть подводу.
Два парня осторожно подняли на руки полуживого Зимородка.
— Закопали? — спросил сверху стоящий на посту.
— Да он жив! — наконец ответили ему снизу.
Потом по дороге ехала подвода, груженная прошлогодней соломой. Воз был большой, похожий на желтое облако. На возу сидел парень в кепке. Лошадь шла резво, и телега, подпрыгивая на камнях, громыхала коваными ободьями. На переезде через ручей, когда лошадь пила воду, парень в кепке спросил:
— Как ты там? Пить хочешь? Ну, подавай же голос, дружище!
Со стороны казалось, что он говорит сам с собой, потому что вокруг никого не было.
— Может быть, он... кончился? — сам себя спросил парень и погнал лошадь.
Потом им повстречался немецкий патруль. Немец крикнул;
— Хальт! Аусвайс!
Парень полез в карман и протянул немцу «аусвайс» — пропуск. Немец надел очки. Посмотрел. Вернул пропуск. И вдруг прошил воз дробной автоматной очередью. Возница вскрикнул. Лошадь рванула вправо, воз скатился на обочину и чуть не перевернулся.
Немец стоял на дороге и вытирал очки носовым платком. Очень аккуратный немец: и службу знает, и чистоту любит.
Воз выбрался па дорогу. И снова колеса запрыгали по камням.
266
...Уже в лесу, в чащобе, парень в кепке соскользнул с воза и долго прислушивался, что происходит под соломой: попали немецкие пули в раненого или прошли мимо?
— Эй, парень! Ты жив? А? Ну отзовись!
Возница забыл о всякой предосторожности. Он кричал на весь лес. Он требовал, чтобы тот, кого он вез под ворохом соломы, был жив. Он кричал и прислушивался. Он обходил воз со всех сторон и прислушивался. Пока до его слуха не донесся слабый стон.
— Жив! — обрадовался парень в кепке.— Жив! Держись... Но, но, пошла! — прикрикнул он на лошадь и побежал рядом с возом.
Дорога в лесу была мягкой, без камней, и телега не громыхала, а как бы плыла по ней бесшумно. И все вокруг было заполнено разноголосым щебетом птиц.
Наконец воз остановился на небольшом пятачке, среди лапас- тых елей. Из-за деревьев вышли люди и молча принялись сбрасывать на землю солому. Воз таял. Становился все ниже. А возница и распряженная лошадь стояли рядом и ждали. Наконец последние охапки соломы были сброшены — на дне телеги лежал Зимородок. В его лице не было ни кровинки. И только полоска засохшей крови тянулась от уголка рта до подбородка.
Парень в кепке склонился над Зимородком. И лошадь тоже потянулась к нему и коснулась его щеки мягкой губой.
И тут появился доктор Стройло. Он был такой же, как и в наши дни: те же глаза навыкате, те же сизые волосы. Только спина его не так заметно сутулилась. Доктор внимательно осмотрел раненого и спросил:
— Когда?
— Вчера на исходе дня.
— В бою?
—■ Его немцы расстреляли,— ответил парень в кепке, и вдруг в его голосе появилась твердость: — Доктор, он должеп жить!
— Это что же, приказ начальства? — насмешливо спросил доктор Стройло.
— Это по справедливости.
267
-— Ба! Если бы смерть действовала по справедливости, сколько бы хороших людей ходило по земле!
— Может быть, нужна кровь? — спросил возница.
— Кровь понадобится,— сказал доктор и пошел прочь.
Люди осторожно подхватили Зимородка и бережно понесли
его по тропинке, ведущей в чащу, а парень и лошадь пошли за ними.
— Значит, он жив! — сказал Марат.
— Кто тебе сказал, что он жив? — отозвался доктор Стройло.— Разве я тебе говорил, что он жив? Три тяжелых ранения. И еще нога вывихнута. Я его оперировал, а потом отправил на Большую землю в очень тяжелом состоянии... Я не говорил; что он жив, я говорю только то, что знаю.
Доктор поднялся и подошел к большому аквариуму, стоящему на окне, и стал медленно подсыпать корм. Зимородок приблизился к ним и снова исчез. Он был неуловим. Он уходил из- под пуль. Он поднимался из земли. Он не давался смерти. Но он не был бессмертным.
А доктор Стройло кормил рыбок. И вдруг он сказал:
— Все, что люди сделали на войне, может быльем порасти. Все зависит от вас. Забвение — это ржавчина памяти. Она разъедает самое дорогое. Нужны новые силы, чтобы бороться с забвением. И еще я хотел вам сказать, товарищи следопыты: ищите в себе человека. Если найдете в себе хорошего, справедливого человека, жить будете интересно, с пользой.
— Доктор Стройло,— вдруг спросила Зоя Загородько, опустив глаза.— Доктор Стройло, кто вас обидел?
— Меня? Обидел? Ба! — Доктор выкатил глаза на смуглую девочку.— Меня никто не обидел. Жизнью я не обижен. Друзья от меня не отвернулись. Людям я еще нужен. А если встречаются на дороге камни или колдобины, так на то она и дорога... Знаете что, давайте-ка я вас угощу яичницей. Я здорово умею ее жарить.
— Спасибо,— отозвались трое.— Мы не хотим.
— Не рассуждать! — весело прикрикнул доктор, и сразу у него в руках появилась огромная сковородка и в глазах зажглись теплые точки.
Не каждого молодого можно представить себе стариком, но
268
еще труднее увидеть в старике молодого. Но когда доктор Стройло взялся за дело, нежданные гости увидели его далеким, каким он был двадцать лет назад и тридцать лет назад. Каким остался навсегда.
14
Каникулы подходили к концу* В зеленом разливе листвы уже появились первые вестники осени — желтые листья. Дни стали короче. Звезды — крупнее. Вода в реке потемнела.
А трое следопытов все искали Зимородка. Они появлялись в домах у людей, давно сменивших оружие на молотки, кисти, бухгалтерские счеты или на постукивающую палочку пенсионера. Они заставляли бывших воинов вернуться в прошлое и в этом прошлом, на заросших бурьяном тропах, искать следы Зимородка.
Но эти следы не привели красных следопытов ни к живому, ни к мертвому: живой неожиданно оказывался мертвым, мертвый становился живым. И нельзя было поставить точку. Марат и его друзья спешили к Зимородку, как спешат в бою на помощь другу. Он был нужен им, а они были нужны ему. Они отвоевали его у забвения, собирали по крупицам развеянную по свету жизнь, и гордый образ в штатском пиджаке с оторванной пуговицей все отчетливее и ярче возникал перед ними. Но он был недоступен.
В резерве у ребят оставался единственный день, когда на братской могиле в деревне Жуковке соберутся бывшие партизаны.
Ребята ждали этого дня и боялись его.
Услышат ли они свист иволги?
Тетка Алевтина встретила их, как старых знакомых:
— Здравствуйте, странники! Может быть, молочка попьете с дороги?
Не хотелось им молока.
— Спасибо, мы сыты,— за всех ответил Марат.—г Не приезжали партизаны?
269
— Приехали. С вечера человек пять. И с первым поездом трое.
— А Зимородок?
— Какой он из себя, ваш Зимородок?
Марат посмотрел на товарищей, но откуда им было знать, как выглядел молоденький партизан спустя двадцать пять лет...
Они знали, как он выглядел тогда.
— В помятом пиджачке, застегнутом на две пуговицы. Нос торчит бугорком. Маленький, острый, похожий на клюв... На лице шрам. Умеет свистеть иволгой.
— Где им свистеть! — вздохнула тетка Алевтина.— Они все старые, седые.
— Может быть, и он стал старым? — сказала Зоя Загородько.
— Все стареют. Никто не остается молодым. Сколько лет-то прошло! — Тетка Алевтина снова вздохнула и покачала головой.— Вы идите к могиле. Может быть, повезет вам с вашим Зимородком... Мне с моим Ваняткой никогда уже не повезет...
...Они шли по раннему лесу, и ноги их до колен были в росе. Пронзительный радостный холодок утра покалывал плечи и разливался по телу зарядом бодрости. Трое следопытов пересекали вырубки, перескакивали через ручей, ступали по мягкому мху. Они шли по земле, в глубине которой лежали осколки снарядов, пули, каски, стволы пулеметов — ржавые, увядшие плоды войны. Родная земля все видела, все знала, она хранила тяжелую правду о каждом, кто был на войне. И как у матери нет безымянных сыновей, так и земля знала имя каждого бойца, упавшего к ней на грудь.
Ребята незаметно прибавляли шагу — им не терпелось встретить человека, заполнившего до краев их жизнь. Ради него они опускались в глубины прошлого, как водолазы спускаются в пучину моря.
В лесу было тихо и безлюдно. От земли шел пар, и лес был не зеленым, а синим. Листья, трава, мох — все было синим. И фигуры бегущих ребят тоже казались синими в дымке рождающегося утра.
У партизанской могилы стояли бывшие бойцы отряда. Ребя¬
270
там, выходящим из леса, они были хорошо видны со спины. Непокрытые головы — седые, стриженые и с чудом сохранившимися вихрами. Брезентовые куртки с капюшонами, откинутыми за плечи, городские пиджаки. Брюки,-промокшие от росы до самых икр. Их было немного — восемь человек. Словно большой, сильный отряд понес в бою новые потери, и уцелело только восемь.
Ребята медленно приближались к могиле. И когда наконец поравнялись с застывшими в молчании людьми, то стали жадно разглядывать их лица — есть ли у кого-нибудь на щеке шрам.
— Вам что тут надо, молодцы? — спросил плечистый в брезентовой куртке.
Глаза у него были красные от недавно просохших слез.
— Мы ищем Зимородка,— за всех ответил Марат.
Он произнес это далекое военное имя, как произносят пароль, требуя условного ответа.
— Улетел Зимородок,— вздохнул старый боец.
— Не пришел? — спросил Марат.
— С того света не приходят,— сказал стоявший рядом худой старик с палкой.
Остальные бойцы отряда молча прислушивались к разговору.
— Он жив! — твердо сказал Марат.
— Грамотный? Читать умеешь? Тогда читай! — Плечистый в брезентовой куртке кивнул на обелиск.
— Его нет в этой могиле,— убежденно сказала Зоя Загородько.
— Ишь как вы легко возвращаете из мертвых! — отозвался кто-то из стоявших поодаль.
— Мы трудно воскрешаем,— вставил слово Василь.
— Может быть, вы помните его имя и фамилию? — Марат пристально посмотрел в глаза старого бойца в брезентовой куртке.
Тот потер лоб и сказал:
— То ли его звали Серегой, то ли фамилия его была Серегин.
И тут стоявншй в стороне, с усами, которые топорщились
сердитой щетиной, сказал:
271
— Его звали Сергей Иванович Серегин.
Старые бойцы закивали головами, а ребята удивленно переглянулись.
—- Так это наш учитель зоологии! — вырвалось у Зои Загородько.— Сергей Иванович Серегин.
— Может быть, однофамилец? — сказал плечистый в брезентовой куртке.
Даже боевые друзья не верили в живого Зимородка, хотя никто не видел его мертвым. Но Марат не сдавался. Его глаза наполнялись тревожной радостью. И образ бесстрашного Зимородка стал в его сознании упрямо сливаться с чудаковатым, заросшим бородой учителем зоологии. Его искали по свету, а он был рядом. Он шел на верную смерть ради жизни людей, а ребята играли с ним в «кукушку». Может быть, Зимородок прикинулся учителем, чтобы быть неуловимым, а борода нужна ему, чтобы скрыть шрам?
— Это правда, что его звали Сергей Иванович Серегин? — переспросил Марат.
— Наш начальник штаба никогда не ошибается,— сказал старик с палкой.
Сам же начальник штаба молчал, словно уточнял в памяти события далеких лет. И все вокруг притихли, чтобы не мешать работать его памяти; И он вспомнил:
— За взрыв моста Зимородок был представлен к ордену.— Начальник штаба говорил сухо и отрывисто, словно по бумаге читал реляцию.— И был награжден... посмертно.
— А он, выходит, жив,— сказал кто-то из старых бойцов.
И все маленькое, оставшееся в живых войско повеселело.
15
Где же учитель зоологии? Бродит по лесам? Спит в шалаше? Плывет в плоскодонке извилистыми протоками? Варит на костре ушицу? И зарос бородой, как медведь? Разве его найдешь в эту пору?
Но дайте срок. Он сам придет через несколько дней. Надо только дотянуть до первого сентября. Дверь в класс распахнется:
«Здравствуйте, люди-человеки! Начнем, пожалуй!»
272
И тогда Марат встанет и скажет:
«Здравствуйте, Зимородок. Можете просвистеть иволгой?»
Он очень удивится. Уставится на Марата сквозь задымленные стекла очков. И просвистит. Не побоится ни директора, ни инспектора. Ответит на старый военный пароль. Бесстрашный Зимородок, награжденный посмертно, но оставшийся в живых.
Но ждать до первого сентября ребятам было не под силу. Слишком долго и упорно искали они Зимородка, чтобы ждать, зная, что он рядом. Сергей Иванович жил при школе. Ребята отправились к нему.
Постучались. Дверь открыл завхоз*
г— Здравствуйте. Мы к Сергею Ивановичу.
— К бородатому? Его нет.
Ребята тревожно переглянулись.
— Он уехал с месяц назад.
— Как уехал? — вырвалось у Зои Загородько.
— Собрал вещи и уехал.— Завхоз пожал плечами.— Меня тогда не было. Приезжаю -— комната пустая.
Он толкнул крайнюю дверь. В комнате стояли кровать, стол, две табуретки, шкаф. Никаких вещей в ней не было. Только на полке стояли книги.
— Он вернется? — спросил Марат.
— Не знаю... Он с директором что-то не ладил. Поговаривали, что на Крайнем Севере не хватает учителей; В случае чего, книги мы ему вышлем. Да вы не расстраивайтесь. Не вернется — пришлют другого. Без учителя не останетесь.
— Нам не надо другого! — крикнул Василь, и его верхняя губа недовольно поднялась домиком.
— Не кричи! — строго сказал завхоз.— Я отвечаю только за порядок.
— Так нет порядка,— сказал Марат.— Какой же порядок — человек уезжает, и никто не знает, вернется он или пет!
— Грамотный, а не знаешь, что такое порядок! — Завхоз нахмурился, и на его лбу образовались три волнистые складки.— Порядок — всегда чисто, не течет крыша, работает канализация, весь инвентарь в наличии.
— А если человека нет в наличии? — не выдержала Зоя Загородько.
>[0 Библиотека лиоиера, т. 12 273
— Идите к директору,— сказал завхоз, выпроваживая непрошеных гостей.
— Улетел Зимородок,— сказала Зоя.
Марат молчал. Он смотрел куда-то вдаль. Он был занят своими мыслями.
Утром первого сентября Марат и Зоя Загородько стояли на мосту и, опираясь локтями на перила, смотрели, как от ветра морщится гладь реки. По небу плыли барашки облаков, похожие на белые купола парашютов. Их несло куда-то вдаль, и было незаметно, в каком месте они окончат полет и бесшумно лягут в траву.
Друзья ждали Василя.
— Ты мог бы прыгнуть с парашютом? — спросила девочка Марата.
— Не знаю,— ответил он.
— Смог бы, я знаю. И с тобой вместе я тоже бы смогла..
— Выдумываешь,— усмехнулся Марат.
— Нет. Ищу человека, В себе. И в тебе тоже.
— Зачем же во мне?
Зоя Загородько помедлила с ответом, потом сказала:
— И в Василе.
— Если вернется Зимородок,— сказал Марат,— мы будем здорово жить. Но он может не вернуться.
Марат смотрел в воду, а Зоя Загородько со стороны посматривала на него и видела в друге какого-то нового человека, похожего на учителя зоологии.
В это время на мосту появился Василь.
Прозвенел звонок, а ребята галдели, спорили, стучали крышками парт.
Только трое друзей сидели на своих местах и не отрывали глаз от двери. Никто из ребят не был посвящен в их тайну. Никто не мог догадаться, что сейчас происходит у них на душе.
Прозвенел второй звонок. Класс стал стихать. Ребята расселись по местам. А дверь все не открывалась. Не появлялся человек с массивной головой, в задымленных очках, с буйной рас¬
274
тительностью на лице, которая прикрывала след вражеского щтыка.
Не прилетел Зимородок.
— Он не придет,— тихо сказал Марат своим друзьям. Встал. Хлопнул крышкой парты и подошел к доске.
Ребята с веселым любопытством уставились на Марата.
— Расскажи про глухую кукушку! — крикнул кто-то с задней парты.
Марат поморщился, но ничего не ответил. Потом он сказал:
— Ребята, Сергей Иванович уехал. Теперь я хочу вам рассказать о нем.
Класс весело загудел. Кто-то тоненьким голоском крикнул:
— Ку-ку!
— Я хочу рассказать вам о бесстрашном герое, которого в партизанском отряде называли Зимородком. Зимородок и Сергей Иванович — одно лицо.
Умолкли голоса. Перестали скрипеть парты. В классе установилась тишина. Все смотрели на Марата.
— Когда нужно было взорвать мост, он полетел в тыл врага. А сам до этого никогда не прыгал с парашютом. Даже не знал, как надо дергать...
Марат рассказывал и не заметил, как дверь бесшумно отворилась и на пороге появился Сергей Иванович, обожженный солнцем, всклокоченный, в брезентовом плаще с капюшоном, с рюкзаком за спиной. Он стоял в ,дверях и сжимал в руке серенькую кепку. И никто не заметил, что он пришел. Все слушали Марата.
— Сергей Иванович добровольно пошел на расстрел, чтобы спасти людей. И его расстреляли.
В классе послышался приглушенный гул.
— Но он остался жив.
Класс облегченно вздохнул.
— И он умел свистеть иволгой.
И в это мгновение послышался тонкий* переливчатый свист. Ребята повернулись и увидели Зимородка. И класс тихо встал.
— Здравствуйте, люди-человеки,— сказал учитель глуховатым голосом и закрыл за собой дверь.— Я немного опоздал и не успел умыться с дороги... Что же вы молчите?
275
Учитель огляделся и почувствовал ту знакомую неловкость, которая охватила его много лет назад, в партизанской школе. И он снова засвистел иволгой.
Директор школы, проходя по коридору, услышал свист. Он остановился и недовольно потер лоб.
— Этого еще не хватало! Он свистит на уроке!
Но свист тут же оборвался. И директор, вздохнув, зашагал дальше.
Неподалеку от Нового моста по реке плыло странное суденышко, сбитое из неровных бревен. На нем была мачта и парус. Парус был не клиновидным, а круглым. Видно, его потрепала буря, потому что на полотнище выделялись цветные заплаты. Ветер наполнял его упругой силой, и он, выгнувшись куполом, увлекал за собой суденышко и его команду. Они нлыли по синей тяжелой волне.
Так маленькие мальчишки со станции Река нашли применение старому военному парашюту, и он зажил новой жизнью. Мальчики не знали, чей это парашют и как он очутился в лесу. Они были еще малы и не задумывались над случайными находками.
Но придет час, и они услышат о Зимородке.
МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
1
В солнечный мартовский день в городе начинают таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли больной, простуженной зиме.
По городу идет мальчик с коньками.
Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все мало. Лыжные брюки — до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра; рукава коротки. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину. Шарф зеленый, в полоску, с фиолетовым чернильным пятном на самом видном месте.
276
Кажется, что вчера еще все было мальчику впору и что это -за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одежду не успели купить.
Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него под мышкой.
Какой-то он. нескладный и неустойчивый. То споткнется на ровном месте, то налетит на прохожего. То бежит вприпрыжку, то, заглядевшись на машину, останавливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, задиристые.
Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в мальчике непоседу ж драчуна, который среди ребят чувствует себя уверенно, а оставшись один, не знает, куда себя девать.
На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом. Основательно потертая шапка сидит на одном ухе, оставив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится по тротуару: некогда с ним возиться.
И только коньки, удобно устроившиеся под мышкой, в полном порядке. Они крепятся медными заклепками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены «бутербродиком» и стянуты желтым кожаным ремешком. Это не какие-нибудь девчачьи «снегурочки», а вполне серьезные мужские коньки «английский спорт». У них острые крепкие носы. Когда бежишь на этих носах, ледяные крошки отлетают в стороны, как искры из-под железных подков. Можно быстро бежать, а потом встать на полозья и долго скользить по ледяной глади катка.
Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и к потертой шапке, сидящей на одном ухе.
Холодная капля упала мальчику на щеку. Он вытер ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный взгляд, свернул в переулок.
2
У школьников весенние каникулы, а взрослые работают. Поэтому на улицах малолюдно. А в переулке вообще редко встретишь прохожего.
Переулок старый, двухэтажный, Мостовая покрыта ледяной
277
коркой. Снегоочистительные машины не заглядывали, сюда всю зиму. Сразу видно, что маленький переулок приходится очень дальним родственником большим, главным улицам города.
Мальчик с коньками шагает по. переулку, Он сдвигает шапку на другое, замерзшее ухо — погрейся, твоя очередь! — и прислушивается. Он слышит музыку. Она доносится сюда со стадиона. На больших улицах ее заглушают машины, а здесь тихо, и музыка слышна. Она действует на мальчика, как сигнал боевой трубы. Ноги сами начинают ускорять шаг, и развязавшийся шнурок только успевает постукивать по ботинку.
А хорошо бы на каток опять пришла девочка в красном пушистом свитере и в синей короткой юбочке! Та, у которой на голове белая меховая шапка. Высокая, как папаха. Из-под шапки у. нее торчат две косички. Хорошо бы попробовать дернуть ее за косичку! Но девчонка такая гордая и неприступная, что в прошлый раз не хватило решимости сделать это. На ее глазах он сбил шапки с трех мальчишек. Один из них был совсем большой. На полголовы выше. От такого вполне можно было получить сдачи. Сегодня он опять собьет с него шапку, если не хватит мужества дернуть девчонку за косичку... А если она уже на катке, уже катается на своих серебряных «снегурочках»? И вдруг большой мальчишка дергает ее за косичку?!
Мальчик с коньками под мышкой уже не идет, а бежит. Только бы не опоздать! Только бы не опоздать!
И тут в конце переулка он увидел человека. Мальчик не обратил бы на него никакого внимания, но человек оказался единственным прохожим и шел прямо ему навстречу. Человек был высокий и крупный. На нем белые бурки с кожаными носами и широкая длинная куртка, сшитая из шкуры какого-то черного зверя. Шаги у мужчины тяжелые и неторопливые. А мальчик почти бежал, и поэтому они скоро должны были встретиться.
И вдруг прохожий остановился. Потом он качнулся вперед и сделал несколько неуверенных шагов, словно собирался упасть. Но не упал, а удержался на ногах. Он беспомощно начал двигать руками, словно искал в воздухе невидимую опору. На этот раз он наверняка бы упал, но рука вовремя ухватилась за стену дома.
«Наверное, пьяный»,— подумал мальчик, и в глазах его вспыхнул недобрый зеленый огонек: он терпеть не мог пьяных.
278
Мальчик брезгливо сморщил нос й ускорил шаг, чтобы поскорее разминуться со встречным.
Когда мальчик поравнялся с прохожим, тот стоял, прислонясь к стёне, крепко зажмурив глаза. Лицо его было неестественно бледным. У рта запали две глубокие складки. Он тяжело дышал. Вероятно, тугой воротник куртки мешал дышать. Одной рукой человек держался за каменную стену, другой силился расстегнуть железный крючок воротника. Крючок был цепкий, и у руки не хватало сил освободить его из петли. На лбу у прохожего выступили мелкие бисеринки пота.
Мальчик с шшьками невольно остановился. И тогда прохожий открыл глаза и посмотрел на мальчика. Его глаза смотрели из-под нависших бровей откуда-то издалека. Нет, это не были мутные, шальные глаза пьяного! Они были полны боли и тревоги. И во всем облике этого большого, грузного человека чувствовалась неловкость за свою беспомощность.
Наконец ему все же удалось расстегнуть крючок. Усталая рука соскользнула вниз, плечи опали под собственной тяжестью. Человек закрыл глаза, но тут же открыл: их вновь. Он заметил мальчика и боялся потерять его из виду.
Мальчик еще стоял рядом. Но ему было некогда. Он боялся опоздать. Зеленые глаза недружелюбно глядели на тяжело дышащего человека.
Человек молчал. Его грудь тяжело поднималась и медленно опускалась, словно боялась наколоться на что-то острое. А пальцы, только что отцепившие железный крючок, теперь расстегивали и пуговицы.
Человек молчал.
Мальчик вспомнил, как однажды на улице упал старик и сломал ногу. Он лежал на тротуаре и тихо стонал. Ему было очень тяжко, и вокруг стояли зеваки. Они глазели на несчастного до тех пор, пока за ним не приехала «скорая помощь»...
Может быть, и этому человеку неприятно, что рядом с ним стоит незнакомый мальчишка?
И вдруг человек сказал:
— Сынок...
Он произнес одно только слово и начал тяжело дышать. Видимо, у него не хватило сил на остальные слова.
279
Услышав слово «сынок», мальчик с недоумением посмотрел на незнакомца. Так называла его мама. Это было мамино слово. А от мужчины он услышал его впервые.
Незнакомец опять собрался с силами и заговорил:
— Помоги мне добраться до дома... Здесь недалеко.
Мальчик молча подставил плечо. Человек неуверенно отнял
руку от стены и оперся на плечо мальчика. Он был большой и тяжелый, а мальчик был худой и неустойчивый. Незнакомец старался полегче опираться на мальчика. И они пошли по улице.
Сам не замечая этого, мальчик всё время ускорял шаги. Музыка с катка Гладко вливалась в ухо. Она манила, звала, требовала. Мальчику показалось, что он и впрямь может опоздать, что если он придет пятью минутами позже, все кончится. И уже не будет ни льда, ни музыки, ни вереницы бегущих ребят...
А больному человеку было трудно передвигать ноги. Каждый шаг отдавался в сердце. Он старался не отставать от своего неспокойного доводыря,. нр: у него не хватало сил. И несколько раз он останавливался, чтобы перевести дух. Тогда он чувствовал, как мальчик ерзает под его рукой и нетерпеливо оглядывается. Всю дорогу ни большой, ни маленький не проронили ни слова. Их связывал недриятный случай. Один из них был в тягость другому.. Они понимали это, и обоим хотелось поскорее расстаться. Наконец у низкого подъезда человек остановился. Видно было, что- это конечная остановка. Человек вытер со лба холодный пот и, ни к кому не обращаясь, будто сам себе, сказал:
— Зашевелился осколочек. Сколько лет не беспокоил — и вот на тебе!
Вероятно, он чувствовал себя виноватым перед мальчиком и решил часть вины переложить на «зашевелившийся осколочек».
Мальчик насторожился и с недоверием поднял глаза на мужчину.
— Какой осколочек?
— Обыкновенный, брат, от снаряда... Вот ведь война когда кончилась, а осколочек остался,—сказал мужчина и показал пальцем на грудь.
Он еще стоял, прислонясь к стене, а мальчик внимательно рассматривал его. У человека все было крупным: и нос, и губы, и подбородок с глубокой ямочкой. На щеках шершавая щетина.
280
— Пойдем, что ли,-г- сказал мужчина, открывая дверь подъезда.— Тяжелый тебе солдат достался.
И они двинулись дальше.
3
Когда они поднимались по лестнице, человек сильней опирался на плечо мальчика. Другой рукой он цепко хватался за перила, будто страшился, что ступенька уйдет у него из- под ног. Ему было больно. А мальчику тяжело. Но; оба. терпели. Мальчик думал об осколке, который зашевелился в груди у незнакомца, и ему на минуту показалось, что он ведет бойца, только что раненного разорвавшимся снарядом.
А человек думал, как бы поскорей добраться до постели. Очутившись дома, человек стал стягивать с себя меховую куртку. Он делал
это с такими усилиями, будто она весила по меньшей мере два пуда.
Наконец ему удалось освободиться от этой тяжести. Под курткой были гимнастерка военного образца и синие брюки. На гимнастерке с правой стороны над кармашком была пришита потемневшая полоска галуна. Эта полоска —■ знак тяжелого ранения—как бы подтверждала, что человек занемог старой военной болезнью.
Пока человек раздевался, мальчик стоял в сторонке и следил за ним. Сам он не снял пальто, даже не вынул из кармана рукй, которая локтем придерживала коньки « английский спорт ».
Человек тяжело опустился, почти упал на диван. Старые пружины жалобно скрипнули. Человек откинулся назад и закрыл глаза.
А мальчик продолжал стоять перед ним. Он был растерян и не знал, что полагается делать в подобных обстоятельствах. Перед ним лежал человек. Не просто заболевший гриппом или ангиной, а старый боец с осколком в груди. Зеленые глаза мальчика, привыкшие бесцеремонно разглядывать все, что ни попадётся, сейчас утратили свою дерзкую самоуверенность. Они вопрошающе смотрели на человека, с которым судьба свела его в переулке по дороге на каток.
282
Трудно сказать, сколько времени человек лежал с закрытыми глазами. Когда он поднял веки, мальчик все еще стоял перед ним: в коротком пальтишке без пуговицы, с шапкой, надвинутой на одно ухо, с коньками под мышкой.
— Ты еще здесь? — спросил раненый, почти не шевеля губами.
— Ага.
Ты иди. Теперь я сам управлюсь... А за помощь спасибо.— Человек глотнул воздух и спросил: — Спешишь?
Только сейчас он заметил под мышкой у мальчика коньки.
«Да, да!» — эти два коротких слова должны были сорваться с губ мальчика, но вместо них прозвучали совсем другие:
— Я не спешу... я уже был на катке.
Он сам удивился, что произнес именно эти слова и с такой уверенностью, будто на самом деле все обстояло именно так. Собственные слова огорчили мальчика, но отступать было нельзя.
283
— Я дождусь кого-нибудь из ваших и пойду.
Ему казалось, что все это говорит не он, а кто-то другой, помимо его воли. И он уже раскаивался: ведь неизвестно, когда придут домашние. Может быть, не скоро. Вечером.
— Никто не придет,— помолчав, сказал человек.— Понимаешь, жена с сынишкой уехали к бабушке. На каникулы. В Сапожок.
— В какой сапожок? — вырвалось у мальчика.
Человек через силу улыбнулся и пояснил:
— Это город такой есть. Вернее, городок рязанский.
Мальчик положил коньки на стул. Этим движением он как
бы хотел подчеркнуть, что никуда не спешит.
Он серьезно посмотрел на своего нового знакомого и спросил:
— Что же теперь делать?
— Да ничего. Отлежусь, и все пройдет,— сказал хозяин дома и, словно желая оправдаться перед мальчиком, добавил: — Понимаешь, я еще ночью в цехе почувствовал себя совсем скверно. Но подумал, что до дома как-нибудь доберусь. И вот видишь...
Он закрыл глаза и провел ладонью по волосам. Ему, видимо, немного полегчало, и он разговорился:
— Это мне под Орлом так приложило. Пять осколков вынули, а один при себе ношу.
— Кто же это вам... приложил? — осведомился мальчик, стараясь попасть в тон хозяину дома.
— «Фердинанд», танк немецкий... Знаешь, что такое ПТО?
Мальчик покачал головой.
— Противотанковое орудие,— объяснил бывший боец,— пушечка такая. Сорокапятимиллиметровка. Мы, как кроты, врылись в землю, а на нас шли танки. Два мы подожгли, а третий нас приложил... Ни расчета, ни пушки... Ну ничего, все пройдет. Вот отлежусь...
И вдруг он снова побледнел, и две складки у рта стали еще глубже.
— Сходить за доктором? — предложил мальчик.
Раненый мотнул головой. Говорить ему было трудно. Потом
он все-таки сказал:
284
— За доктором не надо. Разве что за лекарством... Если не очень спешишь.
— Не спешу,— отозвался мальчик.— Где рецепт?
— В столе. Рядом в комнате. Открой средний ящик. Там где-то завалялся. Болеутоляющее...
4
Человек не спросил мальчика, как его зовут, и не назвал ему своего имени. А спросить первым мальчик не решался.
В других обстоятельствах мальчик чувствовал бы себя очень скверно, очутившись в чужом, незнакомом доме, но тревога, которая все больше и больше овладевала им, заглушала неловкость, как большая боль заглушает малую. И поэтому он без особых колебаний отворил дверь в соседнюю комнату.
Комната была залита желтым солнечным светом. Будто и впрямь есть такая желтая, светящаяся краска, которая не высыхает ни на полу, ни на стенках, ни на книжной полке, ни даже на глобусе. Мальчик зажмурился — солнечная краска брызнула ему в глаза — и услышал металлический стук пишущей машинки. Это за окном звонкие капли тающих сосулек стучали по железному подоконнику.
Весенняя солнечная комната была совсем не похожа на ту, где сейчас лежал раненый боец. Комната, наверное, еще не знала, что произошло с ее хозяином, и у нее было отличное настроение. И календарь тоже не знал. На сегодняшнем листке было написано: «Партком в 4 часа».
Мальчик подошел к столу. Но, прежде чем выдвинуть средний ящик, он заметил учебник и две тетрадки. Это был учебник физики для шестого класса. А на тетрадках были написаны имя и фамилия владельца — «Сергей Бахтюков. 6 «А». Это он, Сергей Бахтюков, сейчас отдыхает с мамой у бабушки в рязанском городе Сапожке.
Глаза мальчика недовольно сверкнули. Он отшвырнул тетрадки и осторожно открыл средний ящик стола.
Ящик был доверху набит бумагами; чертежами, фотографиями, а также множеством разных вещиц, не представляющих на первый взгляд никакой ценности. Чем, например, может при¬
285
влечь курительная трубка, изогнутая, как знак вопроса, или старая цепочка от часов, или лезвие в пакетике,. напоминающем фантик?
Разыскивая рецепт, мальчик старался не разглядывать эти чужие вещи, но они притягивали его, как магнит* Он взял в руки трубку. От нее пахло пожаром. Наверное, солдат курил эту трубку в последний раз на фронте у своей пушечки ПТО. Мальчик вдохнул в себя запах трубки и бережно положил ее обратно. Потом ему попалась фотография хозяина дома. Он был снят в военной форме и, был молодой и худощавый. Может быть, это не хозяин, а его младший брат? С ямочкой на подбородке. Нет, это он сам. Вероятно, когда он снимался, в его груди еще не было никаких осколков от снаряда.
А потом в руки мальчика попалась алая коробочка. Стыдясь самого себя, он не удержался и открыл ее. В коробочке лежал орден. Самый настоящий орден Красного Знамени. Мальчик взял орден и положил его на ладонь. Орден был прохладный и тяжелый.
Мальчик подержал его в руках, и запонки, и перочинный ножик, и лезвия безопасной бритвы с надписью: «Нева». Ему никогда не приходилось встречать в таком количестве мужские вещи. Да откуда было им взяться, ведь в своем доме он был единственным мужчиной. Его тянуло к этим вещам. Он испытывал почти физическое удовольствие от прикосновения к ним.
Наконец рецепт нашелся. Он был очень старый. Вероятно, хозяин не пользовался им уже много лет. На маленьком пожелтевшем листке стоял лиловый штамп: «Санчасть полевая почта 31497». Рецепт был написан рыжими чернилами. Казалось, что буквы когда-то сверкали и лишь от времени поржавели. Мальчик разобрал только первую строчку: «Старшине Л. Бахтюко- ву». Дальше шла непонятная латынь.
Мальчик бережно взял рецепт в руки и тихо задвинул ящик. Потом его взгляд скользнул по тетрадкам Сергея Бахтюкова из 6 «А». Он почему-то сжал кулак и погрозил тетрадкам.
И вдруг мальчик почувствовал, что его тянет к человеку, который с осколком в груди лежит в соседней комнате. К большому бесстрашному мужчине, которому принадлежат боевой ор¬
286
ден в красной коробочке, прокуренная солдатская трубка, пахнущая пожаром, и лезвие «Нева».
Почему этот большой, сильный человек беспомощно лежит на диване, а он, мальчишка, задиристый, но на деле не такой уж сильный, может бегать по улицам, смеяться и сбивать шапки у встречных шкетов?
5
Мокрый, тающий снег пахнет сыроежками. Он шуршит под ногами. Ему уже не белеть на крышах, на мостовой и на воротниках прохожих. Много месяцев будет он журчать в ручьях, петь в водопроводных трубах, дружить с кораблями. И только в декабре он вернется обратно, белый, нетронутый, без единого пятнышка.
Как он будет не похож на этот серый, истоптанный, тающий снег, который путается под ногами накануне своих волшебных превращений!
Мальчик не замечает запаха сыроежек. Он бежит. Спотыкается, перепрыгивает через лужи, соскакивает с тротуара на мостовую. Лыжные брючки, едва достающие до щиколоток, забрызганы. Шарф совсем размотался, пола коротенького пальто развевается: пуговицы-то не хватает.
Но кажется, что ему малы не только брюки, и пальто, и шапка. Нет, ему не впору тротуары и мостовые, улицы и площади. Весь город тесен ему. С тревогой, неожиданно обрушившейся на его плечи, он не вмещается в родной город.
Мальчик задевает на ходу прохожих, натыкается на фонарные столбы. Тесно! Навстречу несутся машины. Разве в городе нет для них других улиц!..
Окоченело левое ухо: шапка надета на правое. На болтающемся шнурке наросла целая сосулька. Но в замерзшей руке, как волшебная лампа Аладдина, зажат пузырек с лекарством.
И вот он, с трудом переводя дыхание, входит в дом и тихо затворяет за собой дверь. Человек лежит с закрытыми глазами.
«Уснул,— думает мальчик,— значит, отлежался. Вот и хорошо».
Он ставит пузырек с лекарством на стол и обветренной рукой
287
неловко заматывает шарф вокруг шеи. Теперь он принадлежит самому себе. Можно уходить.
Он смотрит на спящего раненого бойца почти с любовью. И ему становится неловко перед самим собой за это непонятное чувство. Он не узнает самого себя... Встречаются мужчины, рядом с которыми любой мальчишка чувствует себя сыном. Их отцовская власть незаметно распространяется даже на тех, кто считает себя очень взрослым и самостоятельным.
Мальчик встретил такого человека, а теперь ему надо с ним расставаться.
А человек не открывает глаз. Он, видно, справился со своим осколочком и теперь крепко спит. И мальчику ничего не остается, как молча попрощаться с ним и уйти. Он идет на цыпочках, чтобы не заскрипели половицы. Он доходит до двери и свободной рукой тянется к замку. Замок не слушается его: он признает только своих.
И вдруг мальчик вздрагивает. Он слышит тихое, далекое слово «сынок». Это человек зовет его? Мальчик прислушивается. В квартире тихо. Только звонкие капли тающих сосулек стучат в подоконник. Никто его не зовет. Это только показалось.
Мальчик стоит перед дверью и думает о том, что сейчас он уйдет и никогда уже не увидит этого человека. Не ощутит на своей ладони холодную, торжественную тяжесть ордена Красного Знамени. Не вдохнет в себя таинственный запах старой трубки. Он медленна поворачивается и возвращается в комнату. Здесь все неподвижно, как в сонном царстве. Спят двери, спят лампочки, спят половицы. Уснули вместе с хозяином. Балансируя рукой, мальчик идет на цыпочках: боится, что половицы проснутся и заскрипят.
Он подходит к дивану. Человек по-прежнему лежит без движения, спит.
А вдруг он умер?!
Эта мысль ошеломляет мальчика. Забыв о предосторожности, он наклоняется к спящему. Он кладет ему руку на плечо и начинает легонько трясти. Раненый боец не открывает глаз. Может быть, позвать его? По фамилии, которая написана на старом военном рецепте. Он зовет:
288
— Бахтюков... Дяденька Бахтюков!
Раненый боец вздрагивает и открывает глаза. Значит, он жив. Но почему он молчит? Почему не спрашивает про лекарство? Почему глаза как-то неестественно закатываются и голова безжизненно падает на плечо?
Он жив, но он может умереть.
Что делать? Мальчик стоит рядом. Его глаза расширены. Надо действовать! И если ты сам не знаешь как, позови на помощь!
Мальчик бросается к двери. Он будит все спящие половицы, и они скрипят, каждая на свой лад. Но он ничего не слышит. Оп бежит. Сам еще не знает куда.
Мальчик перескакивает через две ступеньки. Звенят железные подковки, прибитые к каблукам, чтобы не стаптывались. Скорей! Скорей! Подковки высекают искры. Мальчик уже знает, что ему делать: надо звонить в «скорую помощь».
6
Когда он вбежал в подъезд с синей табличкой «телефон- автомат», там у аппарата стояли две девочки. Одна из них — коротышка с круглым, как луна, лицом — держала трубку и, сложив ладошку рупором, быстро говорила в микрофон. Другая — длинная, с глазами навыкате — что-то нашептывала на ухо подруге и не переставая хихикала.
— Что он говорит? Что он говорит?—шептала она так громко, что подружке приходилось закрывать микрофон ладошкой, чтобы не пустить туда шепот.
— Он в кино приглашает,— сказала девочка-луна своей любопытной подружке.
Подружка опять захихикала и зашептала еще громче — чуть не закричала шепотом:
— А ты скажи: не пойдем! Скажи: не цойдем!
Она повторяла каждое слово дважды, словно боялась, что подружка-луна не поймет ее с первого раза.
Несколько секунд мальчик молча наблюдал за девочками. Он никак не мог отдышаться.
Наконец он пришел в себя.
289
— Кончайте! — сказал он сердито.— Мне в «скорую помощь» звонить надо.
Подружки враждебно посмотрели на мальчишку в коротеньком пальто, и та, что хихикала и подсказывала шепотом, насмешливо сказала:
— Знаем мы, какую тебе «скорую помощь»! Небось на каток спешишь.
И тут мальчик заметил, что держит под мышкой коньки: они сегодня мешали ему на каждом шагу. Он подошел к девчонкам вплотную и громко приказал:
— А ну, кончайте!
— И не подумаем! — огрызнулась девочка-луна, прикрывая ладошкой микрофон. Потом на минуту оторвала ладошку и сказала в трубку: — К нам тут нахал пристает.
Зеленые глаза стали злыми и колючими. Там человек умирает, а эти девчонки смеются и кривляются. Мальчик резко оттолкнул пучеглазую и выхватил трубку из рук ее подруги. Девчонки от неожиданности взвизгнули и отбежали в сторону.
— Дурак! — крикнула одна.
— Нахал! — поддержала другая.
Мальчик прижал трубку к уху. Он услышал незнакомый мальчишеский голос:
— Так вы придете в кино? Чего же вы молчите?
Мальчику показалось, что этот голос доносился совсем из
другого мира — беспечного и благополучного.
Он нажал рычаг, и тот, кто приглашал девчонок в кино, сразу замолчал.
Он набрал номер «03».
В трубке зазвучал молодой женский голос:
— «Скорая» слушает. Что у вас?
— Тетенька,— заговорил мальчик,— человеку плохо.
— Фамилия? — бесстрастно спросил голос.
— Чья фамилия?
— Больного.
— Он не больной, он раненый.
— Где ранен?
— На фронте, под Орлом.
Наверное, там, в «скорой помощи», так привыкли ко всяким
290
необычностям, что даже не поинтересовались, при чем здесь Орел.
Нетерпеливый голос продолжал:
— Где находится пострадавший?
— Дома.
— Адрес?
Мальчик запнулся. Он не знал адреса. Он так и сказал:
— Я не знаю адреса.
— Так что же ты вызываешь «скорую помощь»? На деревню дедушке, что ли, ехать? Узнай адрес и перезвони.
В трубке раздались короткие гудки. «Скорая» повесила трубку.
Мальчик тоже повесил трубку и оглянулся. Девчонок не было. Вероятно убедившись, что долговязый нахальный мальчишка сказал правду, они тихонько выскользнули из подъезда. Может быть, побежали к другому автомату?..
Мальчик вышел из подъезда. Он ненавидел себя за беспомощность, за то, что, убегая, не посмотрел на номер дома раненого бойца. Да и названия переулка он тоже не знал толком, не то Гончарный, не то Дегтярный... Оставалось одно: бежать узнать адрес. Мальчик уже собрался рвануться с места, когда до него донесся далекий звук санитарной сирены.
7
По улицам мчалась «скорая помощь». Куда она спешила? К человеку, попавшему в беду? Или возвращалась на стоянку? Или она приняла сигнал бедствия и спешит на помощь раненому бойцу, даже не зная адреса?
Голос сирены нарастал. Он то взлетал под облака, то стремительно падал. Он звучал, как сигнал боевой тревоги.
А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо?
Надо остановить ее!
И мальчик решился. Он выбежал па середину мостовой и преградил путь «скорой помощи». Расстояние от летящей машины до мальчика было очень небольшим. Оно сокращалось с каждым мгновением. Сирена выла истошно. Она взлетела и
291
больше не падала. Она нагоняла страх. Мальчик закрыл глаза, но не тронулся с места.
И вдруг сирена умолкла. Машина резко затормозила. На мостовой было скользко, и ее занесло в сторону.
Когда мальчик с коньками открыл глаза, машина «скорой помощи» стояла совсем близко, развернувшись поперек дороги. А из распахнутой дверки уже выскакивал бледный шофер в фуражке с блестящим козырьком. Тяжело дыша от волнения, он подбежал к мальчику и замахнулся, чтобы ударить его. Но сдержался и не ударил. Только заговорил часто и сбивчиво:
— Какого черта! Шантрапа!.. Жить надоело? Под машину лезешь! Герой!
Но мальчик был защищен от ругательств невидимой броней своего смятения... И обидные слова отскакивали от этой брони, как дробинки. Когда шоферу не хватило воздуха и он замолчал, чтобы сделать вдох, мальчик, не поднимая глаз, сказал:
— Человек умирает.
— Где? — спросил шофер. Он сразу остыл, почувствовал себя на своем посту.
— Я вам покажу,— ответил мальчик.
Шофер нахмурился. Когда работаешь в «скорой помощи», готов ко всему. Но такого оборота дела он не ожидал.
Он полез в карман и достал оттуда пачку сигарет. Сунул одну в рот, чиркнул зажигалкой, зажатой в кулаке. Зажигалки не было видно, и казалось, что он извлек огонь из самого кулака.
— Идем к врачу,— сказал шофер,— он решит.
Когда мальчик и шофер подошли к машине, там уже начал собираться народ. Машина «скорой помощи», стоящая поперек мостовой, успела привлечь зевак. Они толпились у машины, спрашивали друг друга:
— В чем дело?
— Что случилось?
— Кого-нибудь задавили?
Но никто не лежал на мостовой, а к машине быстро шли шофер в фуражке с лакированным козырьком и долговязый мальчишка с коньками под мышкой.
— Арсений Иванович,— сказал шофер, заглядывая в откры¬
292
тую дверку,.— тут у малого с отцом плохо. А у нас вызова нет. Поедем?
— Что с ним? — спросил из кабины басистый голос, обращаясь к мальчику.
Мальчику хотелось сказать, что шофер ошибся, что раненый боец вовсе ему не отец, а чужой человек. Но сейчас не было времени для объяснений. И он, стараясь говорить понятней и убедительней, сказал:
— Лежит без сознания. Раненый он. Осколок зашевелился в груди.
— . Поехали! — решительно сказал врач.
Мальчик и шофер забрались в машину. Завыла сирена, разгоняя зевак. И, присев на задние колеса, как конь перед скачками, «скорая помощь» устремилась вперед.
8
Мальчик не знал, застанет он раненого бойца в живых или нет. Поэтому, открывая дверь, он чувствовал, что у него слабеют руки и ноги легонько дрожат в коленях. Всю дорогу он торопился, а сейчас вдруг замедлил шаги. Что, если Бахтюков не дождался его?..
Но медлить нельзя. За спиной стоят врач с чемоданчиком и два санитара с пустыми носилками. А внизу у подъезда дежурит машина «скорой помощи». Мальчик заходит в прихожую. За ним трое мужчин. Они здоровые, в белых халатах поверх пальто. От них сразу становится тесно в квартире.
Человек на диване по-прежнему бледен, глаза его закрыты. Жив он или нет?
От волнения мальчик сжимает в карманах кулаки. Врач берет Бахтюкова за руку. Он считает удары пульса, поглядывая на часы. Раз считает — значит, пульс есть. Значит, Бахтюков жив. Хотя он не очень похож на живого. Врач засучивает рукав больного до самого плеча и берет в руки ампулу. Ампула похожа на маленькую сосульку. Врач щелкает сосульку по носу и ловким ударом отбивает стеклянный кончик. Потом опускает туда стальное жало шприца. Берет руку человека, лежащего без сознания, и прикидывает, куда бы вонзить иглу.
293
Мальчик упирается большими:пальцами ног в носки ботинок.
Он вспоминает, как в школе ему делали прививку. Его тоже кололи шприцем. Было больно, но терпимо. В общем, пустяк. Но мальчику кажется, что Бахтюкову будет в сто раз больнее. Ведь ему и без уколов плохо! Мальчик прижимает локти к бокам и зажмуривается. Игла впивается в руку.
Санитары поставили носилки в угол, а сами сидят на стульях у стола. Они большие и тяжелые. Взгляд у них безразличный. Они не наблюдают за действиями врача. Они заняты своими мыслями. Им все знакомо. От постоянной встречи со страданиями и несчастьем их сердца покрылись черствой корочкой. У них свои заботы.
— Лестница узкая,— говорит один санитар другому,— боюсь, иосилки не пройдут.
— Пройдут,— отвечает другой,— пройдут. Приподнять немного придется.
— Больной-то тяжелый.
Мальчик слышит за спиной их спокойный разговор, и ему хочется сказать им что-нибудь обидное. Но он не поворачивается к ним. Он смотрит на Бахтюкова. И Бахтюков открывает глаза.
Он видит мальчика. Мальчик стоит перед ним, как стоял в ту минуту, когда он потерял сознание. Может быть, мальчик никуда не уходил? Так и простоял у его изголовья целую вечность, как бессменный часовой? Бахтюкову хочется улыбнуться этому долговязому, нескладному парнишке. Но вместо улыбки получается болезненная гримаса: очень больно. Он замечает врача и санитаров. Он все понимает.
— Что будем делать? — спрашивает он врача.
И врач, убирая шприц, отвечает:
— Поедем в больницу.
Бахтюков молчит, потом покорно кивает головой. Взгляд его становится озабоченным. С застенчивой улыбкой он просит мальчика:
— Сынок, будь другом, отправь телеграмму моим в Сапожок.
— Хорошо. Отправлю,— сразу соглашается мальчик.
И ему почему-то становится обидно, что человек сейчас ду¬
294
мает о своем Сережке Битюкове. А этот самый Сережка небось гоняет с ребятами на лыжах..,
— Принеси мне бумагу и карандаш.
Мальчик идет в соседнюю комнату. Календарный листок все еще зовет Бахтюкова к четырем часам на партком... На столе лежат две тетрадки Сережи Бахтюкова из 6 «А». Мальчик берет первую попавшуюся и небрежно открывает ее. Это тетрадь по литературе. В ней написано сочинение. Большими аккуратными буквами выведено заглавие: «Как я провел лето». Ни кляксы, ни помарочки. «Чистюля!» — презрительно думает мальчик и читает первые строки: «Лето я провел в городе Сапожке у бабушки.. Это маленький город. В нем много зелени...»
Мальчик вырывает листок из тетрадки. Вырывает неровно, наискосок,— пусть хозяин обязательно заметит, что лист вырван.
Бахтюкову трудно писать. Буквы получаются кривые, будто им тоже плохо и они не держатся на ногах. Он пишет телеграмму в Сапожок, а врач делает запись в свою кпижечку. Врач ставит точку, и санитары, как по команде, встают из-за стола. Они ставят носилки на пол. В боевое положение.
Мальчик смотрит на Бахтюкова. И вдруг он думает о том, каким бы он был счастливым человеком, если бы Бахтюков написал эту телеграмму ему, а не Сереже. Он смотрит на пего с грустью. Он понимает, что сейчас-то они. расстанутся навсегда. Бахтюков пишет долго. А мальчику хочется, чтобы он писал еще дольше. Чтобы он никогда не кончил писать эту телеграмму.
— Вот,— говорит Бахтюков и протягивает мальчику листок и деньги.— Сделай это, сынок. И вообще спасибо тебе.
Санитары кладут больного на носилки. Мальчик отходит в сторону. Если бы он мог, он сделал бы это один. И сделал бы хорошо. А санитары так трясут Бахтюкова...
Он стоит и не дышит. Ему начинает казаться, что все это не на самом деле. Показывают в кино, а он зритель. Он по другую сторону экрана. У него под мышкой коньки «английский спорт», а здесь, в комнате, носилки, белые халаты, запах лекарства и человек — большой, хороший, близкий человек — в опасности.
Санитары берутся за ручки носилок.
.295
— Взяли? — спрашивает передний.
— Взяли! — командует задний.
И носилки отрываются от пола.
Они плывут по комнате, по темному коридору. Мимо комнаты, залитой желтой солнечной краской. В замочную скважину протиснулся один луч солнца. Он прямой и светлый. В нем, как маленькие живые существа, кружатся пылинки. Когда носилки проплывают мимо, солнечный луч касается щеки раненого бойца. Он прощается с хозяином дома.
На улице мальчик говорит Бахтюкову!
— До свидания.
— Ты еще здесь? — отзывается раненый боец, и его глубокие большие глаза встречаются с зелеными глазами мальчика, полными печали.
Взвыла сирена. Машина забуксовала, вздрогнула, потом оторвалась и покатила.
А мальчик стоял и смотрел ей вслед, держа в руке неотправленную телеграмму.
9
Что толку в коньках, когда они бессмысленно торчат под мышкой! Будь они на ногах, можно было бы мчаться, сокращая время и расстояние... Но в городе на коньках не очень-то разъедешься. Лед сколот или посыпан песком. А в Голландии все пешеходы надевают зимой коньки. Там даже старушки катаются на коньках. Но там вместо улиц — каналы, * покрытые гладким синеватым льдом.
Коньки помогают, когда они на ногах, а когда их приходится нести под мышкой, то они только мешают.
Опять мальчик спешит. Телеграмму нужно отправить поскорее. Ведь в телеграмме Бахтюков, наверно, зовет жену и сына, этого противного Сережку, который пишет сочинения каллиграфическим почерком, без единой помарки. Черт с ним! Раз Бахтюков хочет, пусть приезжает Сережка.
Одному уху все время тепло, оно под шапкой, а другое совсем замерзло. Но в спешке все некогда цередвинуть шапку.
Зато на почте тепло. Здесь пахнет красным сургучом, тягу¬
296
чим клеем и еще каким-то неповторимым почтовым духом. За барьером в глубине стучит телеграфный аппарат. Его звук напоминает капель. Может быть, это танцующие сосульки проникли за дверь, на которой висит строгая, как приказ, табличка: «Посторонним вход воспрещен!»
На почте мальчику сразу стало жарко. Он расстегнул пальто и размотал зеленый шарф. В распахнутом пальто он стал походить на галчонка с подбитым крылом. Он подошел к окошечку, где принимают телеграммы, и протянул листок.
— Это что за каракули? — рассердилась девушка в окошке.— Что ты, получше написать не мог? Не маленький! На бланк — перепиши!
Мальчик покраснел от неловкости, но не стал объяснять, что телеграмму писал не он, а раненый, у которого едва хватило сил удержать в пальцах карандаш.
Посреди почтового зала стояла конторка, похожая на деревянный гриб. Мальчик прислонил коньки к ножке гриба, а телеграфный бланк положил на шляпку. Не торопясь, стараясь уместить буквы в строке, он вывел адрес. Мальчик старался писать как можно аккуратнее, но почерк у него был нескладный, а буквы получались очень вытянутыми, им были малы строчки телеграфного бланка.
Когда адрес был написан, мальчик тяжело вздохнул — нелегкая это работа — и стал писать текст.
«Заболел,— писал он,— ложусь в больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».
Только теперь, когда телеграмма была написана, до сознания мальчика дошел ее смысл. Нет, Бахтюков никого не звал. Он просто сообщал о случившемся. Сердитые зеленые огоньки зажглись в глазах мальчика. Выходит, он для того бежал на почту, чтобы сообщить Сережке Бахтюкову, что он может спокойно отдыхать, в то время как отец его лежит в больнице и жизнь его в опасности?! Мальчику захотелось порвать телеграмму. Написать новую, свою. В этой телеграмме он на все деньги отругал бы этого Сережку. Он бы высказал все, что о нем думает... Но он не сделал этого.
Когда телеграмма была написана, у окошечка уже образовалась очередь. Мальчик молча стал в очередь.
297
Плечи у мальчика опущены. А взгляд зеленых глаз усталый, растерянный. Одна рука держит коньки, а другая свббод- ыа. Она болтается просто так, а когда хозяин спотыкается, помогает ему держаться на ногах. Наконец она замёрзла, и мальчик сунул ее в карман.
Пальцы нащупали какую-то бумажку. Ах да, это листок из тетради, который не приняли на почте. Мальчик вынимает листок и перечитывает слова, составленные из букв, которые еле стоят на ногах: «Заболел. Ложусь в больницу. Квартиру запер. Отдыхайте^ Отец».
«Отец»... Это слово мальчик произносит вслух. Он никогда в жизни не произносил этого слова, и ему хочется знать, как оно звучит. Он не узнает собственного голоса. Ему кажется, что кто-то другой произносит это слово.
Мальчик представляет себе, как произносит слово «отец» Сережка Бахтюков. Ему даже чудится, что он слышит его голос. Мальчик морщится, как музыкант от фальшивой ноты.
И вдруг ему начинает казаться, что ни Сережка, ни его мать не поедут к отцу. Они не покинут раньше срока город Сапожок и не примчатся к человеку, который сейчас страдает в больнице. К человеку, которого зовут «отец».
Он представил себе Бахтюкова одного на больничной койке. И почувствовал, как уголки глаз начинает щипать горькая накапливающаяся слеза.
А что, если сходить в больницу? Просто так, узнать, как здоровье больного Л. Бахтюкова. Передать привет и уйти. Все человек не будет себя чувствовать таким одиноким.
Да и на каток ему совсем неохота идти. Нет настроения. На каток можно сходить и завтра. Спешить некуда.
Когда людей в трудную минуту не зовут на помощь, а советуют им спокойно отдыхать, спешить не обязательно. Разве это не так?
10
Мальчик сходит со ступенек почты. Он никуда теперь не спешит. Он держит коньки не под мышкой, а в руке. Блестящий полоз холодит руку, но сейчас это не страшно: в городе
298
потеплело, хотя солнце клонится на закат, земля подставляет под его лучи свой продрогший зимний бочок. Греется.
Соеульки сбились со счета, и теперь их прозрачные капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулеметную очередь. Это весна бьет из своего веседого пулемета по льдинам и снегам, по вьюгам и морозам.
Мальчик оглядывается вокруг и замечает, что снежный наст в городском сквере осел и напоминает поверхность луны. На его шероховатой, кремнистой корочке виднеются маленькие лунные цирки. И пусть не скоро распустятся почки и прорастет трава — на еловых лапах, на самых кончиках, уже появилась свежая зелень. Темные прошлогодние иголки жесткие, а новые весенние иголочки еще не окрепли, не научились колоться. Дотронься до них щекой — почувствуешь, какие они нежные.
Мальчик с коньками идет по городу...
Вот уж действительно человек, не следящий за своей внешностью! Даже мысль о встрече с девочкой в белой шапке не может заставить его привести себя в порядок. Интересно, заметила она, что его не было на катке? Или он ей совсем безразличен, как и все остальные шкеты?
Мальчик перешел на другую сторону и, незаметно для себя ускоряя шаги, направился в городскую больницу;
11
У каждого дома есть свой запах, даже если дом нежилой. У почты — почтовый зацах, у булочной — хлебный, у больницы — лекарственный.
Почтовый запах рассказывает о посылках и бандеролях, о свежих газетах и заморских марках, отмеченных черными радугами печатей. Запах булочной рассказывает о поджаристых корочках, о бубликах, усыпанных черными дробинками мака, о булочках, залитых сладкой глазурью.
Больничный запах не рассказывает ни о чем хорошем. Он встречает человека на пороге и сразу отравляет ему настроение рассказом о боли и страданиях.
.299
Этот запах встретил мальчика за дверью с надписью: «Приемный покой».
В приемном покое стояла торжественная тишина. Собственно, не сам приемный покой, а лишь коридор перед ним. На скользком асфальтовом полу стоял белый деревянный диван. И больше ничего здесь не было.
Мальчик сделал несколько неуверенных шагов и очутился перед стеклянной дверью. Дверь была приоткрыта. Мальчик заглянул туда и сразу встретился взглядом с дежурным врачом. Врач был в белой -шапочке и с большой черной бородой. Рукава халата закатаны до локтей. Вид у врача был строгий и, как показалось мальчику, немного свирепый. Заметив посетителя, врач смерил его строгим взглядом и вышел в коридор. Он подошел к мальчику и задал ему самый неожиданный вопрос:
— Что это у тебя, «английский спорт»? Дай-ка сюда.
Удивленный мальчик протянул доктору коньки. Тот взял их
в руки и попробовал лезвие ногтем: острые они или нет. Врач рассматривал коньки, а мальчик не отрывал глаз от врача. Доктор был молодой. У него не было ни единой морщинки, а щеки были такие румяные, будто их обладатель только что пришел с катка. Мальчик сделал это открытие, и ему сразу стало легче. Он сказал:
— К вам привезли больного. Его зовут Л. Бахтюков. Как его состояние?
Врач протянул мальчику коньки и почесал бородку.
— Бахтюков? — повторил он.-^ С осколком?
— Да, да,— подхватил мальчик,— его привезли на «скорой помощи».
— К нам всех на «скорой помощи» привозят,— сказал врач.
Мальчик промолчал.
— Случай тяжелый.— Голос врача сразу стал теплее, а от строгости не осталось и следа.— Я сейчас узнаю, как дела. А ты посиди здесь на диване.— И доверительно добавил: — Вообще-то здесь не положено быть посторонним. Но случай тяжелый.
Доктор скрылся в своем приемном покое, а мальчик сел на диван. Он сел и сразу почувствовал во всем теле такую сла¬
.300
бость, что зажмурил глаза. Ему даже показалось, что он уже ни за что не сможет подняться на ноги.
Он слышал, как за стеклянной дверью молодой бородатый доктор звонил по телефону, как он расспрашивал о Бахтюкове, как называл себя доктором Коном из приемного покоя.
Через некоторое время он снова появился в дверях. Он испытующе посмотрел на мальчика и сказал:
— Вот что. Сейчас отца будут оперировать. Будешь ждать?
— Буду.
Доктор одобрительно, кивнул ему головой и скрылся за дверью.
12
Есть люди, созданные для сидения на месте. Их девиз: в ногах правды нет. И есть непоседы. Они ерзают на стуле, с трудом досиживают до конца урока и, стоя в очереди, испытывают ни с чем не сравнимые муки. Из таких людей вырастают путешественники и строители, разведчики и почтальоны. У них правда в ногах, в движении* в смене впечатлений.
Мальчик с коньками принадлежал к такой породе людей.
Почему же сейчас, в приемном покое городской больницы, он сидит смирно, не ерзает? Не болтает ногой и не барабанит пальцами по белому больничному дивану? Но это вовсе не значит, что он спокоен.
Его мысли мечутся. Как проходит операция? Больно Бахтюкову или на него действует наркоз?.. Наверное, все-таки больно.
Мысли переносят мальчика в операционную. Он представляет на операционном столе себя. Он старается причинить себе боль... Для этого он вспоминает, как однажды летом наступил босой ногой на гвоздь. Гвоздь вошел глубоко. Сначала было не очень больно. Потом ранку обожгли йодом. От боли он прыгал на одной ноге. Потом боль стала тупой и долгой...
Мальчик почти физически ощутил эту боль. Он даже пошевелил ногой в ботинке;
Но Бахтюкову, конечно, еще больней.
И вдруг мальчик мысленно очутился возле города с гордым названием Орел. Он видит степь с птичьего полета. Сверху
301
огневые позиции противотанковых орудий похожи на кротовые норки: вокруг насыпь из свежей земли. А фашистские танки, которые ползут по степи, похожи на желтых черепах. Черепахи медленно приближаются к кротовым норкам.
Он видит, как над кротовыми норками замелькали вспышки. Это ПТО открыли огонь по танкам. Вот один танк остановился. Из него повалил густой черный дым. Этот дым разрастается. Он ползет по траве, застилает черепах и кротовые норки. Уже не видно, что делается на земле. Только в дыму сверкают вспышки ПТО, как в туче отблески молний.
Мальчику кажется, что он идет по земле, разгребая дым руками. Дым густой, как вода, он мешает идти. Земля черная. Она пахнет пожаром, как старая солдатская трубка в письменном столе Бахтюкова.
Вот пушка Бахтюкова... А вот сам Бахтюков. Худой, похожий на младшего брата нынешнего Бахтюкова. На нём гимнастерка с расстегнутым воротом... Пушка ПТО стреляет. После каждого выстрела она приседает, а ствол откатывается назад, будто хочет спрятаться, но потом раздумывает и возвращается обратно. А Бахтюков кричит: «Огонь! Огонь!»
И чем громче кричит Бахтюков, тем сильнее стреляет пушка.
«Огонь!» — кричит Бахтюков, и плам:я срывается с губ Бахтюкова. И переносится на танк. И танк горит.
Но следующий танк успевает выстрелить. Бахтюков падает. Пушка опрокидывается. Колеса беспомощно вращаются.
...Бахтюков лежит в траве. Он бледный, с непокрытой головой. На белых бурках кровь... Да нет, не на бурках — на сапогах...
Бахтюков большой и тяжелый, но мальчик несет его на руках... Он прикрывает его собой от осколков фашистских «фёр- динандов».
Сердце стучит громко. На весь приемный покой. Нет покоя в приемном покое.
Сюда привозят больных, измученных людей. Здесь тревожатся о своих близких. В насмешку, что ли, назвали это место «покоем»?
Мальчик ждет. Он сидит на месте. Но мысли его неспокой¬
302
ны. Нет для него сейчас ни катка, ни города, ни дома. Есть только раненый боец. Он командует мыслями мальчика, и мысли подчиняются одному ему.
13
Оказывается, мысли тоже устают. Они замедляют ход. Перестают метаться. Но они не дремлют. Они ждут.
Мальчик устало прислонил голову к стене. Его глаза смотрят в одну точку. Они уже не видят ни окопа ПТО, ни фашистских танков.
— Кто от Бахтюкова?
Мальчик вздрагивает и вскакивает с дивана.
— Я!
Перед ним пожилая медицинская сестра. Она такая полная, будто надела халат поверх шубы, как санитары «скорой помощи».
— Ты? — произносит сестра густым, почти мужским голосом.
Она говорит степенно, с расстановкой, будто читает по бумажке.
— Операция была тяжелая. Больной потерял хмного крови. Но все обошлось благополучно.— И вдруг по-бабьи жалостливо смотрит на мальчика и говорит совсем другим, женским голосом: — Ты не волнуйся. Будет жить отец. Организм у него могучий.
— А скоро он поправится? — спрашивает мальчик.
— До зеленых листиков полежит,— говорит сестра.— Теперь беги домой. Скажи матери, чтобы не волновалась... А это тебе на память.— Сестра протянула мальчику маленький кусок ржавого железа.
— Что это? — Мальчик вопросительно поднял глаза на сестру.
— Осколок.
Это был тот самый осколок, который через много лет после конца войны вдруг ожил и пытался сделать то, что ему не удалось там, в степи под Орлом: поразить сердце бойца.
— У самого сердца отыскался,— пояснила сестра и, спо¬
303
хватившись, заторопилась: — Ну, мне пора. Передать что-нибудь отцу?
Мальчик задумался. Что передают сыновья больным отцам?
— Передайте, что дома все в порядке. Целуют его... все. И пусть скорее поправляется.
Слова показались ему сухими, но других слов мальчик не знал.
Он сжал в кулаке осколок и почувствовал боль: у осколка были острые края.
Сестра ушла. Она ушла туда, где в тихой цалате весь в бинтах лежал бывший старшина Бахтюков. Он лежал с открытыми глазами и скрипел зубами от боли.
Сестра подошла к нему, поправила подушку и, как бы невзначай сказала:
— Какой у вас хороший сынок!
— Сынок? — Бахтюков, забыв про боль, слабо улыбнулся.
— Он всю операцию в приемном покое просидел. Волновался.
— Сынок...— прошептал Бахтюков и почувствовал, что боль стала слабее.
Значит, телеграмма пришла вовремя. Значит, сын, узнав о его болезни, не пожелал отдыхать, а примчался ,в родной город!..
Человеку было невдомек, что никакая телеграмма-молния не могла так быстро дойти до дальнего города Сапожка и тем более привезти ему сына.
14
В городе стемнело. Уже не видно лунных цирков на корочке осевшего снега. Уже на елочках нельзя различить молодые нежные иголки от старых, колючих и жестких. Уже скрылись из глаз скользкие серебристые сосульки. Но, хотя земля повернулась к солнцу другим бочком, в городе тепло, и невидимые сосульки продолжают таять.
По городу идет мальчик с коньками под мышкой.
В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернильное фиолетовое пятно. И не видно, что он вы¬
304
рос из пальтишка и из лыжных брюк. Все ему коротко, все не по росту. Но кто виноват, что мальчики так быстро растут?
На каком ухе сидит старенькая шапка? Не все ли равно! Когда весна своим теплом, влажным дыханием касается лица, это не имеет значения: уши не мерзнут. И только ботинки, набегавшиеся за день по лужам, промокли, и ногам холодно.
Мальчик думает о высоком, крупном человеке в меховой куртке, сделанной из шкуры черного зверя, и о боевом ордене, и о прокуренной трубке, и о рецепте, выданном санчастью с номером полевой почты. Он думает о человеке, которого ему недоставало всю жизнь. Й теперь этот человек нашелся, но он принадлежит не ему...
На месте Сережи мальчик бросил бы все на свете и примчался к отцу... Нет, он бы вовсе не уезжал от отца ни к какой бабушке, ни в какой Сапожок. Он бы всегда был рядом с ним, чтобы в любую минуту прийти на помощь.
Мальчик не замечает, как справа от него вырастает забор стадиона. На катке уже не звучит музыка, не горят веселые лампочки и не слышно зазывного шороха, который издают коньки, разрезающие лед.
Под единственной лампочкой на воротах висело объявление: «Ввиду теплой погоды каток закрыт».
Мальчик сжал кулак и почувствовал боль. В руке был зажат осколок, который мог вонзиться в сердце Бахтюкова. Мальчик сжал кулак крепче, и ему стало еще больней.
И вдруг мальчик обрадовался. Он может терпеть боль, и ему наплевать, что каток закрыт. И он смеется над счастливчиком Сережкой, хотя у того есть отец. И человек, назвавший его «сынком», будет жить и поправится до зеленых листиков. И хотя ноги мерзнут, это хорошо,— значит, в городе много луж, значит, весна спешит и скоро появятся эти самые зеленые листики.
Мальчик расстегнул свое коротенькое пальто, переложил коньки в другую руку и зашагал домой.
И
СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА
Если твоя фамилия Малявкин и товарищи зовут тебя Малявкой, это еще можно пережить. Тем более, что зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудачная. С такой фамилией самого лучшего человека на свете будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве величали этим потешным и немного обидным именем. Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена звали Малявкой. Ну и что из этого!
Вот если тебя к тому же считают конченым человеком и если рядом с твоей ^неудачной фамилией поставили большой жирный минус, тогда плохи твои дела.
Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил:
— Это тебе повезло.
А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался:
— Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!
— Так я не виноват...— пробовал было возразить Малявкин- сын.
— Ты всегда не виноват! — обрубал Малявкин-отец.
Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына — что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил.
От обиды лицо мальчика покрывалось красными пятнами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он провалился в прорубь, хочет вскарабкаться на льдинку, но руки скользят. И никто не желает помочь ему...
Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был большой, а у Зои Назаровны не хватило времени толком разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась, поразмыслила и в уме поставила перед каждым плюс или минус. Малявкину достался минус.
Она поставила этот минус в уме, для служебного пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, словно минус был выведен в журнале против его фамилии. И его нельзя было ни стереть, ни исправить.
306
Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не поворачиваясь от доски, говорила через плечо:
— Малявкин и компания, тише!
Она называла его фамилию при каждом удобном случае, даже если он в этот момент сидел набрав в рот воды. Она считала, что Малявкин все делал ей назло. А Малявкин просто не мог спокойно сидеть на месте. Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая беспрестанно поворачивала ему голову, заставляла ерзать, приводила в движение руки. У этой пружинки никогда не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и старался изо всех сил удержать ее. Но стоило только забыться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова приводила в движение голову, руки, язык.
Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с Малявки- ным.
— Ничем ты не интересуешься,— говорила она, и кончики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул их за ниточки.— Ребята марки собирают, делают гербарий... Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал!
Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое Назаровне, что белые облака нельзя засушить, как кленовые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые марки. А Малявкин интересовался облаками.
Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой подбородок и долго-долго следил за облаками, которые обязательно на что-то похожи. На слона, на верблюда или на снежные горы. Конечно, облако не может долго быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытягивает шею, что она наконец обрывается. И вот уже нет верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти. Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Назаровне?
Если люди махнули на тебя рукой и не хотят разобраться в тебе, потому что кто-то поставил перед твоей фамилией минус, то у тебя есть два выхода: или самому махнуть на себя
.307
рукой, или любыми усилиями зачеркнуть несправедливый минус.
В глубине души он не очень-то рассчитывал, что с помощью учебников и тетрадей ему удастся избавиться от минуса. Он надеялся на другое средство. И когда однажды старшая вожатая объявила, что после уроков все пионеры отправляются собирать бумажную макулатуру, Малявкин почувствовал — судьба посылает ему случай доказать, что он не такой уж пропащий человек.
— Стране нужна бумага! — сказала старшая вожатая.
«Очень хорошо, что стране нужна бумага. Прекрасно, что стране нужна бумага! Тем более, что ты можешь найти сколько угодно сырья для нужной стране бумаги».
Так думал Малявкин, не переставая крутить кончики галстука. Он свернул их сначала в трубочку, потом превратил в спирали, а когда, наконец, оставил в покое, они повисли, как две красные сосульки. Он не слышал голосов учителей. В его груди звучали и пели на все лады зазывные слова вожатой:
«Стране нужна бумага!»
После уроков все ребята вышли на школьный двор. Здесь каждому выдали сетку, похожую на рыболовную снасть. Эти сетки нужно было забросить в сотни квартир и учреждений и вытянуть их обратно на школьный двор с богатым уловом бумажной макулатуры.
Малявкин перекинул свою сеть через плечо и быстро зашагал к воротам. Было тепло, и на деревьях раскрывались почки. Из клейких золотистых чешуек выглядывали зеленые язычг ки листьев. И с земли казалось, что деревья покрыты зелеными многоточиями. Мягкий, подобревший ветер весны сквозил по улицам. А высоко в небе он упирался в белые паруса облаков, и они плыли, меняя на ходу очертания.
На пути мальчику попался газетный киоск. Все четыре стены кйоска были из стекла, и со стороны газетный домик был похож на большой старинный фонарь. В центре фонаря на месте фитиля находился киоскер — беловолосый и красноносый старичок. На носу у него сидели большие очки. Когда он разговаривал, то смотрел поверх очков. Очки только мешали ему.
308
Малявкин подошел к стеклянному домику и неуверенно спросил у киоскера:
— У вас есть старые, ненужные газеты?
— Есть,—ответил киоскер.
— Можно их забрать?
— А ты думаешь, что старые газеты ничего не стоят?
— Разве старые газеты тоже стоят? — удивился Малявкин.
— Стоят. По две копейки,— ответил старичок, и глаза его так выкатились, словно собирались перемахнуть через очки.— А тебе зачем газеты? Для оклейки или для упаковки?
— Мне для макулатуры,— отозвался Малявкин.
— Для макулатуры,— повторил киоскер.— Вот оно что!
Лицо старичка засияло — зажегся фитилек. Он посмотрел
на мальчика и вдруг подмигнул ему:
— Подойди-ка к двери.
Мальчик не заставил себя ждать. В два прыжка он очутился у двери киоска. Старичок приоткрыл стеклянную дверь и спросил:
— Тара у тебя есть?
Мальчик замялся. Тары у него не было. Может быть, старичок ничего не даст ему, раз нет тары? Но хозяин киоска осмотрел его с головы до ног и, обнаружив на его плече сеть, кивнул на нее:
— Подставляй сетку.
Сетка и была тарой.
Малявкин быстро стянул с плеча сетку и протянул ее старичку. И тут хозяин стеклянного газетного домика стал выгребать откуда-то куски картона, и бумажные обрезки, и мятые газеты, которые ничего не стоили, и оберточную бумагу, отслужившую свой век. Он энергично засовывал все это богатство в сетку. Не прошло и пяти минут, как сетка наполнилась до краев. Мальчик приподнял ее, и оказалось, что улов кое-чего весит. Тяжесть радовала его. Он с благодарностью посмотрел на ста- ричка-фитилька и сказал:
— Спасибо вам. Стране нужна бумага.
На школьный двор Малявкин пришел первым. От быстрой ходьбы он тяжело дышал. Фуражка с острым козырьком, похожим на грачиный клюв, съехала набок. Глаза весело блестели.
309
А за спиной белела макулатура, разлинованная сеткой в крупную клеточку.
Старшая вожатая и два старщеклассника-комсомольца сидели на скамейке перед школой и поджидали сборщиков макулатуры.
— Вот,— сказал Малявкин, сваливая к их ногам тяжелую ношу.— Вот, принес.
— Молодец,— сказала старшая вожатая.— Как твоя фамилия?
В эту минуту Малявкин дорого бы отдал за красивую фамилию. Ему сейчас очень нужна была звучная, гордая фамилия. Но тде он мог раздобыть ее, если его отец и даже дед были Ма- лявкиными?
Вожатая ждала ответа.
— Малявкин,— тихо сказал мальчик.
Он сказал тихо, но два старшеклассника переглянулись, и мальчик заметил на их лицах усмешку.
— Запиши, Саша, его фамилию,— сказала старшая вожатая.— А ты, Малявкин, свободен.
— Свободен? — спросил мальчик.— А разве больше не нужно макулатуры?
— Ты свою норму выполнил.
— А можно, я еще принесу? — Он неуверенно посмотрел на вожатую.
Вожатая пожала плечами.
— Если тебе нравится.
— Нравится,— признался мальчик и, подхватив пустую сетку, побежал: к воротам, словно боялся, что вожатая раздумает и не разрешит ему идти за второй нормой.
Теперь Малявкин знал, где находится месторождение макулатуры. Он напал на золотую жилу! От киоска к киоску шагал он с сеткой за плечом. Он уже не интересовался старыми газетами, которые, как новые, стоят две копейки. Он показывал хозяевам стеклянного домика свою сетку — тара есть! — и спрашивал:
— Нет ли у вас бумажных обрезков, старого картона- бракованных газет?
Макулатура находилась. Безотказная пружинка, которая
310
так мешала ему на уроках, теперь работала с пользой. Скорей, скорей, скорей! Стране нужна бумага! Очень хорошо, что стране нужна бумага! Значит, ты тоже нужен стране, если ты добываешь сырье для бумаги.
Во дворе около школы выросла большая белая гора. Ее наносили ребята. Бумажная гора напоминала Малявкину прохладное облако, которое сделало вынужденную .посадку под окнами школы. Ветер трепал полоски легкой бумаги, и казалось, что облако живое, что оно меняет свои очертания, как й подобает настоящему облаку.
Когда он в четвертый раз собрался было в поход, старшая вожатая остановила его:
— Хватит, Малявкин. Ты и так больше всех принес. Мы о тебе в стенгазете напишем.
Малявкин опустил глаза. Зачем писать о нем в стенгазете? Пусть лучше Зоя Назаровна сотрет свой минус и пусть пере¬
311
станет считать его пропащим человеком, раз он на что-то способен. Но как все это объяснить старшей вожатой?
Домой он пришел поздно. Он чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что его минус погребен под большой бумажной горой. И теперь начнется новая жизнь.
Мигом взбежал он по лестнице.
— Ты что так поздно? — поинтересовалась мама.
— Мама,— ответил мальчик, и голос его звучал возбужденно и торжественно,— мама, я собирал макулатуру. Я три полные сетки...
Матяй даже не дослушала его. Она сказала:
—; Всякой ерундой занимаешься. Лучше бы уроки учил.
От неожиданности мальчик запнулся.
— Мама, стране нужна бумага,—сказал он упавшим голосом.
Но мама его уже не слушала. Она пошла разогревать обед.
Каждый день по дороге в школу Малявкин останавливался перед бумажной горой. Когда было ветрено, обрывки бумаги носились по двору. Они шуршали на асфальте и плыли по лужам, как белые кораблики.
Хотя стране нужна была бумага, никто не торопился забрать драгоценную макулатуру. И надо признаться; что белая гора постепенно таяла, словно была из снега, а дни стояли теплые.
Не раз сильный ветер поднимал самый настоящий бумажный смерч. Листки бумаги стучали в окна классов, словно хотели напомнить ребятам о своем существовании. А одна бумажная полоска прилипла к стеклу и билась от ветра, как маленький тревожный флажок, подающий сигнал бедствия.
Пошел дождь. Он мочил бумажную гору. И Малявкин переживал за нее. Это была его маленькая слава. Она помогала ему сохранить веру в самого себя. На большой перемене он выбежал во двор, отыскал где-то кусок толя и накрыл им макулатуру. Теперь она уже не была похожа на белое приземлившееся облако. Листки бумаги слиплись и потемнели.
На уроке Малявкин поднял руку.
— Что у тебя, Малявкин?—спросила Зоя Назаровна.
312
Мальчик поднялся. Он спросил:
А когда из макулатуры будут делать бумагу?
Зоя Назаровна пожала плечами, и невидимые ниточки потянули вниз уголки ее губ.
— Когда придет время, тогда и будут делать... бумагу,— сказала онаг растягивая слова; все, что относилось к Малявки- ну, она считала несерьезным и вздорным.
Однажды после шестого урока он сбежал со ступенек школьного крыльца и увидел, что истопник и завхоз берут охапки макулатуры и уносят в котельную.
«Наверное, решили спрятать ее»,— подумал мальчик и проскользнул в дверь. То, что он увидел, поразило его. Он почувствовал, что на лице проступили красные пятна.
Охапки белой бумаги бросали в топку. Как белые облака, уплывали они навстречу огню. Пламя сразу обжигало их. Облака чернели и коробились, ветер подхватывал их, и они, легкие и хрустящие, уносились в трубу.
3,13
Мальчик подумал, что черные облака вылетают наружу и плывут над городом. И что сейчас все небо в черных, обугленных облаках.
Из оцепенения его вывел голос завхоза:
— Чего стоишь, Малявкин! Помогай!
— Это нельзя жечь,— почти крикнул мальчик.— Это макулатура!
— Тебя забыли спросить,— поморщился завхоз.— Ну-ка, посторонись!
Мальчик продолжал стоять на месте. Глядя в раскрасневшееся от жары лицо завхоза, он крикнул:
— Стране нужна бумага! Не жгите!
— А ну иди отсюда! — грубо сказал завхоз.— Малявка!
Его все называли Малявкой. Но никто не хотел обидеть его
этим словом. Зато сейчас привычная кличка прозвучала оскорбительно и зло. Слезы блеснули в его глазах. Но ему стало стыдно своих слез, и он быстро размазал их по скулам.
Он кинулся в школу. Он бегал по этажам и все искал, кто бы мог вступиться за макулатуру. В пионерской комнате никого не было. В учебной части тоже.
В одном из коридоров он столкнулся с Зоей Назаровной.
— Ты что носишься как оглашенный? — спросила учительница.
— Зоя Назаровна,— сказал мальчик, прерывисто дыша.— Зоя Назаровна, они жгут макулатуру.
Ему казалось, что Зоя Назаровна немедленно побежит в котельную и будет спасать горящие белые облака. Но Зоя Назаровна спокойным голосом сказала:
— Так ведь пожара нет. Жгут не школу, а макулатуру.
Нет, это, конечно, не пожар. А может быть, и пожар. Когда
горит добро, горит твой труд, твоя надежда — это пожар!
— Иди домой,— сказала Зоя Назаровна и подтолкнула его к двери.
Он шел по улице, глядя себе под ноги. Ему казалось, что если он поднимет глаза, то увидит, как там, в голубом апрельском небе, плывут черные, обуглившиеся облака. Он даже почувствовал горьковатый запах гари.
Когда он проходил мимо газетных киосков, то отворачивал¬
314
ся. Ему было стыдно смотреть в глаза старичков и старушек, похожих на фитильки больших фонарей.
«Никакой новой жизни не будет»,— думал мальчик. Все его надежды уплыли вместе с черными облаками.
И вдруг кто-то окликнул его:
— Коля!
Мальчик вздрогнул от неожиданности и остановился. Его обычно звали Малявкиным или Малявкой. Может быть, это зовут не его, а другого Колю? Он поднял глаза и увидел Зою Назаровну. Для учительницы эта встреча тоже была неожиданной. Она смотрела на мальчика и молчала. Она почему-то не знала, что сказать ему, и вид у нее был растерянный. И Зоя Назаровна показалась Малявкину большой девочкой, которую вызвали к доске, а она не знает урока. Он никогда не видел ее такой. И ему нравилась такая Зоя Назаровна.
А потом он поднял глаза и посмотрел в небо. Над головой плыли облака. Они были ослепительно белыми, без единого пятнышка. А одно из них было похоже на крупного слона с двумя горбами, как у верблюда. Малявкин улыбнулся двугорбому слону. И провожал его глазами до тех пор, пока слон не потерял хобот.
ДРУГ КАПИТАНА ГАСТЕЛЛО
Очень нехорошо подслушивать разговоры взрослых, а когда младшие еще норовят вставить свое словечко, это уже совсем никуда не годится. Но как быть, если ты живешь со взрослыми в одной комнате? Нельзя же все время зажимать уши руками.
Сережа терпеть не мог чужих разговоров: они мешали делать уроки и отвлекали от собственных мыслей. А когда он ложился спать, то долго не мог уснуть, если в комнате говорили. Это только чудаки превращают свои уши в звукоуловители и, делая вид, что спят, подслушивают.
Но один раз Сережа вмешался в чужой разговор, и из этого получилась целая история.
Это случилось в тот день, когда к папе пришел его давнйш-
315
ний приятель дядя Владя. За обедом больше говорил папа, а гость серьезно и сосредоточенно занимался едой. Он так старательно обсасывал косточки, словно играл на них, как на свистульке: косточки действительно издавали свист. При этом лоснящиеся румяные щеки налезали на глаза, закрывали их, и казалось, дядя Владя сейчас замурлыкает от удовольствия.
После обеда гость и хозяин поменялись ролями. Теперь уже Сережин папа молчал, а дядя Владя рассказывал одну историю за другой. Истории эти были разные, и только герой в них оставался один и тот же — сам дядя Владя. Оказывается, на войне он бесстрашно форсировал Днепр, первым ступил на вражескую землю и лично штурмовал рейхстаг. В конце концов у Сережи сложилось впечатление, что если бы не дядя Владя, неизвестно, сколько бы времени продлилась война.
Сережа слушал папиного товарища с открытым ртом. Он видел дядю Владю в огромном танке (в маленький дядя Владя бы нё влез), в самолете (в бомбардировщике), и у гремящего орудия в клубах дыма тоже возникало кисельно-красное лицо гостя.
Наконец дяде Владе надоело рассказывать истории. Он сел поудобнее на диван и решил немного порассуждать.
— Вот у нас говорят: «герои».— Дядя Владя зевнул и быстро прикрыл рот ладонью, словно боялся, что изо рта вылетит птица.—А кто они, эти герои? Взять, например, Колю Гастелло...
Услышав имя легендарного летчика, Сережа насторожился. Он даже привстал со стула. Капитан Гастелло был его любимым героем, примером для подражания, путеводной звездой. Сережа восхищался им и переживал его гибель, словно незнакомый капитан, отдавший свою жизнь задолго до того, как Сережа появился на свет, был его близким человеком.
— Взять, например, Гастелло,— продолжал дядя Владя.— Какой он герой! Ну, подбили его машину, ну, упала она случайно на шоссе, по которому шли немецкие танки. А при чем здесь героизм?
Сережа почувствовал, что у него слабеют ноги, и он опустился на стул, словно произошло что-то ужасное, вроде пожара или аварии. Вся Сережина жизнь перевернулась и стала бессмысленной от слов дяди Влади.
316
— Теперь все трубят: «герой», «герой»! —- продолжал
гость.— У нас вообще любят из мертвецов делать героев. А кто этому верит? Вот такие, как Сережка.
Дядя Владя кивнул на мальчика. И тут Сережа потерял власть над собой. Он забыл, что не полагается вмешиваться в разговор старших. Он решил, что дядя Владя просто ошибся и надо скорей все. объяснить ему.
— Гастелло был настоящим героем. Он сам...— начал было Сережа.
Но дядя Владя перебил его:
— Ну вот, полюбуйтесь. «Настоящий герой»! Это мы, старые фронтовики, знаем, кто настоящие герои. Мы... Да что там говорить! — Гость махнул рукой, сунул в рот папиросу и стал ее обсасывать, как косточку.
Сережа сидел как побитый. Он представил себе строгое, гордое лицо капитана Гастелло. Лицо было бледным, а глаза закрытыми. Герой не видел кисельной рожи дяди Влади и не слышал его слов. Он не мог постоят^ за себя. И Сережа почувствовал, что не имеет права сидеть сложа руки, что он обязан вступиться за погибшего героя.
— Капитан Гастелло — герой! Все равно герой!..
Сережа прокричал эти слова, потому что, когда кричишь, голос не такой тоненький.
— Сережа,— строго оборвала его мама,— дяде Владе видней. И вообще...
— Нет,— вдруг оживился гость,— ему видней! Это он прошел от Волги до Шпрее с автоматом на плече. Он! — И дядя Владя ткнул в сторону Сережи указательным пальцем, словно хотел пронзить его насквозь.
Сережа опустил голову. Он понял, что ему не справиться с огромным мясистым дядей Владей, что нужно где-то разыскать больших и сильных друзей капитана Гастелло, которые сумели бы постоять за погибшего друга. Надо предупредить их, что у мертвого капитана появился такой опасный враг, как дядя Владя,
Никто не заметил, как Сережа тихо поднялся со стула и направился к двери. Когда старшие увлекаются своими разговорами, они быстро забывают о младших. Папа с мамой слушали,
317
а дядя Владя, размахивая пухлыми руками, уже рассуждал о ценах н.а мясо.
А Сережа тем часом ехал на автобусе. Жаль, что автобус плетется, сам он добежал бы быстрее..Но путь был далеким. Уже кончился город. За окном замелькали деревья. Они бежали за автобусом и никак не могли его догнать. Наконец совсем отстали: началось поле. Сережа нетерпеливо ерзал на сиденье и привставал до тех пор, пока кондуктор не объявил:
— Следующая — военный городок.
— Ты кого ищешь? — спросил Сережу высокий летчик с круглым, безбровым лицом.
Он вместе со своим товарищем, черноволосым и щуплым, уже минут пять наблюдал, как Сережа, ко всем приглядываясь, шел по военному городку.
—г Кого ты ищешь? — повторил свой вопрос летчик.
Сережа остановился. Он вдруг замешкался, но взял себя в руки и объяснил цель своего приезда.
— Я ищу друга капитана Гастелло! — ответил он.
— А как его фамилия?
— Не знаю... А вы не дружили с ним?
Летчики переглянулись. Они оба были молодыми, и, когда капитан Гастелло совершал свой подвиг, каждому из них было лет меньше, чем Сереже. Круглолицый покачал головой, а щуплый спросил:
— Зачем тебе друг капитана Гастелло?
— Дядя Владя говорит, что Гастелло не герой, что у нас любят мертвецов героями делать... Он не смеет так говорить...
Больше всего Сережа боялся, что его объяснение выглядит смешно и незнакомые летчики не примут его слова всерьез. Но летчики не собирались шутить. Своим рассказом Сережа поставил их в затруднительное положение. Они посовещались и велели Сереже ждать, а сами пошли за каким-то Петром Ивановичем. Сережа понял, что Петр Иванович и был тот, кого он искал.
Другом капитана Гастелло оказался невысокий, плотный мужчина в кожаной куртке. Из-под военной фуражки, надвинутой на глаза, были видны совсем белые виски.. Седина никак
318
не вязалась с глазами, в которых — откуда оно только взялось! — поблескивало что-то озорное. Если судить по волосам, Петр Иванович был старым, а если верить его глазам — молодым. Но Сережу мало занимало это несоответствие. Он чувствовал в этом человеке силу и решимость. И ему даже показалось, что Петр Иванович немного похож на своего легендарного друга.
— Здорово! — сказал летчик и протянул Сереже руку.
Он не стал ни о чем расспрашивать мальчика. Видимо, два молодых летчика успели ему рассказать суть дела. Он только поинтересовался, где живет Сережа.
— В городе,— ответил мальчик.
Друг капитана Гастелло ниже надвинул фуражку на глаза и сказал:
— Далековато.— Но затем решительно махнул рукой: — Ладно. Едем!
Когда Сережа в сопровождении Петра Ивановича переступил порог своей комнаты, дядя Владя лежал на диване, положив на светлый валик ноги в грязных ботинках. Он спал, чуть посвистывая мясистым носом и причмокивая губами, словно ему снилась мозговая косточка. Кроме спящего гостя, в комнате никого не было. Вероятно, папа пошел в магазин, а мама хозяйничала на кухне.
Петр Иванович небрежно кивнул на дядю Владю и спроЬил:
— Он?
— Он,— отозвался Сережа.
Тяжелая рука летчика опустилась на плечо спящего. Дядя Владя недовольно поморщился и открыл глаза. Со сна он ничего не понял и растерянно заморгал.
— Говорят, вы здорово воевали? — спросил Петр Иванович, когда дядя Владя окончательно проснулся и сел.
— Воевал,— пробурчал он.
— А на каком фронте, если не секрет?
— Н-н-на разных,— ответил дядя Владя.— А что?
— Да нет, ничего. Просто наслышан о ваших 'подвигах и заинтересовался. Как ваша фамилия?
— Иволгин.
— Извините, не слышал. А вы на каких машинах летали?
319
— Я, я?
— Ну да, вы,
— Я в артиллерии был.
— В артиллерии,— повторил Петр, Иванович, словно хотел заучить ответ дяди Влади наизусть.— А с капитаном Гастелло вы тоже в артиллерии встречались?
Дядя Владя нахмурился. Вопросы сыпались на него, как удары. Он едва успевал отбиваться — отвечать.
— При чем здесь артиллерия? Слышал о нем от товарищей.
— Вот как! — Друг капитана Гастелло задержал свой взгляд на дяде Владе, словно испытывал достоверность его слов.—А я решил, что вы с ним вместе .воевали. Значит, вкралась ошибка.
Сережа стоял в стороне и внимательно следил, как Петр Иванович своими вопросами брал дядю Владю в окружение и отрезал ему все пути к отступлению. Наконец дядя Владя спохватился и от обороны перешел в наступление.
— А вы, собственно, кто такой? — спросил он недовольным голосом.
Но летчик, твердо стоящий перед ним, преграждал ему путь.
— Я полковник Ростов,— сказал Петр Иванович;
— Полковник Ростов,— пробормотал дядя Владя.— Герой Советского Союза, прославленный ас?
Дядя Владя покраснел. И его лицо стало похожим на красный воздушный шарик, который на ветру качается из стороны в сторону.
— Знаете? — усмехнулся летчик.
— А как же,— оживился дядя Владя.— Чай, не в тылу отсиживались!..
В эту минуту Сережа вдруг подумал, что сейчас полковник Ростов и дядя Владя поладят. И может быть, летчик возьмет сторону дяди Влади.
И мальчик крикнул:
— Дядя Владя, Петр Иванович—друг капитана Гастелло! Понимаете?
Воцарилось молчание. Дядя Владя полез за папиросой. А полковник Ростов стоял, заложив руки за спину, и раскачивался на расставленных ногах. И вдруг он вплотную приблизился к дяде Владе и холодным голосом сказал:
320
— Так вот что, товарищ Иволгин, не знаю, в какой артиллерии вы воевали и какие беспримерные подвиги совершали на войне. Да меня это и не очень-то интересует. Но чернить память славного сокола Николая Францевича Гастелло я вам не позволю. Если бы мы с вами были моложе, я бы вам за ваши слова... Но седым людям неудобно размахивать кулаками.
Сережа заметил, что дядя Владя слушает друга капитана Гастелло с вниманием и опаской. А когда полковник строго спросил: «Ясно?» —■ у дяди Влади, который чуть ли не один выиграл всю войну, руки сами вытянулись по швам, и он ответил:
— Ясно, товарищ полковник!
— Вот и хорошо,— сказал Петр Иванович.— А то у капитана Гастелло много хороших защитников и друзей.
При этих словах он кивнул на Сережу. И сердце мальчика подпрыгнуло от радости.
Сережа проводил Петра Ивановича до самых ворот. Когда они прощались, полковник крепко пожал ему руку и сказал:
— Ты серьезный парень.
Сережа почувствовал, что сейчас они расстанутся и неизвестно, когда еще встретятся, и ему захотелось разузнать у Петра Ивановича о его легендарном друге.
— Товарищ полковник... Петр Иванович, а вы не помните, капитан Гастелло был очень высокого роста?
Полковник посмотрел на Сережу и покачал головой.
— Видишь ли, я никогда не встречался с капитаном Гастелло. Я воевал на Севере, далеко от него. Мне так и не довелось с ним познакомиться.
— Значит, вы не его друг? — разочарованно спросил мальчик.
— Нет, я его друг,— ответил полковник.— Такой же, как ты. Ведь у людей значительно больше друзей, чем они думают. И друзья никогда не дадут в обиду имя тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
..*Когда Сережа вернулся домой, дяди Влади уже не было. Только на светлом валике дивана остался след от его грязных ботинок.
321
БАГУЛЬНИК
Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть — другого слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и уставлялся в доску. А через несколько минут снова зевал.
— Почему ты зеваешь?! —раздраженно спрашивала Женечка.
Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. Зевал же потому, что всегда хотел спать.
Он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутиками, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день менял воду.
И Женечка посмеивалась.
Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали. И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.
— Багульник! — буркнул он и пошел прочь.
Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них, молчальников, на уме: плохое или хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя тоже не любят молчальников* потому что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами.
Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста молчальник. Подумали, что он волшебник. И Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.
Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы — конским хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки с подковками. 'На улице' ее никто
322
не принял бы за учительницу. Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвостик развевается по ветру. Остановись, лошадка!.. Не слышит, бежит... И долго еще не затихает стук подковок...
Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?
Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой — под короткой шерстью тигрового окраса перекатывались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась — над глазами и на груди теплились коричневые подпалины.
Чего только не говорили про Косту ребята!
— У него ирландский сеттер,— утверждали одни.— Он охотится на уток.
— Ерунда! У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков; Мертвая хватка! — говорили другие.
Третьи смеялись:
— Не можете отличить таксы от боксера!
Были еще такие, которые спорили со всеми:
— Он держит трех собак!
На самом деле у него не было ни одной собаки.
А сеттер? А боксер? А такса?
Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей головешкой.
Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось. Когда родители возвращались с работы, они заставали сына за столом: он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?
Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти.
Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая. Огром¬
323
ная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалявшейся шерсти проступали худые, острые лопатки, большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы — ударом такой лапы можно сбить любую собаку — ступали медленно, устало.
С этой собакой Косту никто не видел.
Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления. И как зорко ни следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.
Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развевался на ветру.
Она превратилась в следопыта,
Коста добежал до своего дома — он жил в зеленом облупившемся доме,— исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда.
Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.
Коста нырнул в косой переулок и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай,, а царапанье— в барабанную дробь.
— Тише, Артюша, подожди! — крикнул Коста.
Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес-бросился на Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным. розовым языком нос, глаза, подбородок.
— Артюша, перестань!
Куда т^м! На лестнице послышался лай и грохот, и оба —
324
мальчик и собака-—с неимоверной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился но двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой.
Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась об его единственную ногу. Длинные мягкие уши сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек.
— Вот, погуляли. До завтра,— сказал Коста.
— Спасибо. До завтра.
Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер.
Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в тлубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних лапах, а передние положил на перила.
Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.
— Атилла! — крикнул Коста, вбегая во двор.
Боксер тихо взвизгнул. От счастья.
Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.
Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден. Он ел жадно, но при этом посматривал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.
Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по'спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку. Отвисшие углы большого черногубого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу.
325
Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
— Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть помирай с голоду! Люди ведь!..
Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста.
Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой. Но Коста спешил дальше.
В соседнем доме на первом этаже болел парнишка — был прикован к постели. Это у него была такса — черная головешка на четырех ножкам. Женечка стояла под окном и слышала разговор Косты и больного мальчика.
— Она тебя ждет,— говорил больной.
— Ты болей, не волнуйся,— слышался голос Косты.
— Я болею... не волнуюсь,— отвечал больной.— Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.
— Мне не надо велосипеда.
— Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.
— Приду утром,— после некоторого раздумья отвечал Коста.— Только очень рано, до школы.
— Тебе не попадет дома?
— Ничего... тяну... на тройки... Только спать хочется, поздно уроки делаю...
— Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.
— Выкарабкивайся.
— Ты куришь? — спросил больной.
— Некурящий,— отвечал Коста.
— И я некурящий.
— Ну, мы пошли... Ты болей... не волнуйся. Пошли, Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный Лапоть.
Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пламеннорыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей захотелось заговорить с Костой. Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который
326
отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.
Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница — Женечка — снова пря1 талась за спины прохожих. Дома уменьшались ростом. А спип стало совсем мало. Город кончался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук.
И тут показалось море.
Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались па низкий берег, а тихо и неторопливо наползали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.
Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией горизонта.
Коста шел по берегу, наклоняясь вперед,— против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешенные на кольях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем.
Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря.
Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов. Он провел рукой по свалявшейся шерсти. Собака едва заметно шевельнула хвостом. Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой хлеб и остатки своего обеда, завернутого в газету. Собака не оживилась, не выказала никакого интереса к пище. Коста стал ее поглаживать и уговаривать:
— Ну поешь... Ну поешь немного!..
Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд на море.
Женечка притаилась за развешенными сетями, словно попалась, запуталась в них и не могла вырваться, чтобы тоже глат дить собаку и говорить:
327
«Ну поешь... Ну поешь хоть немного!..»
Коста взял кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и громко, как человек, и принялась медленно жевать хлеб. Она ела без всякого интереса, как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа... Она ела для того* чтобы не умереть. Ей нужно было жить. Она ждала кого-то с моря.
Когда все было съедено, Коста сказал:
— Идем. Погуляем.
Собака снова посмотрела на мальчика и послушно зашагала рядом. У нее были тяжелые лапы и неторопливая, полная достоинства львиная походка. Следы заполнялись водой.
В море переливались нефтяные разводы. Будто где-то за горизонтом произошла катастрофа, рухнула радуга и ее обломки прибило к берегу.
Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка — еледопыт Женечка — слышала, как Коста говорил собаке:
— Ты хороший... Ты верный... Пойдем со мной. Он никогда не вернется. Он погиб. Честное пионерское.
Собака молчала. Она и не должна была говорить. Она не отрывала глаз от моря. И в который раз не верила Косте. Ждала.
— Что же мне с тобой делать? — спросил мальчик.— Нельзя же жить одной на берегу. Когда-нибудь надо уйти.
Рыбацкая сеть кончилась. И Женечка как бы выпуталась из сетей. Коста оглянулся и увидел учительницу. Она стояла на песке босая, а туфли держала под мышкой. И сквозняк, тянувший с моря, развевал ее волосы, собранные в конский хвост.
328
— Что же с ней делать? -— растерянно спросила она Косту.
— Она не пойдет. Я знаю,— сказал мальчик. Он почему-то не удивился появлению учительницы.— Она никогда, не поверит, что хозяин погиб...
Женечка подошла к собаке. Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на нее.
— Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю. Она очень тощая... Сперва укусила меня.
— Укусила?
— Руку. Теперь все зажило. Я йодом смазывал.
Пройдя еще несколько шагов, он сказал:
— Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать.
Море потускнело и стало как бы меньше размером. Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от вЪды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было забраться. Собака подошла к воде. Села на песок. И снова застыла в своем вечном ожидании...
Обратно учительница и ученик шли быстро, но когда берег кончился, за дюнами Женечка остановилась и сказала:
— Я не могу так быстро; У меня каблук сломался.
— Мне надо бы поспеть до их прихода,— отозвался Коста.
— Тогда иди.
Коста внимательно посмотрел на Женечку и спросил:
— А как же вы?
— Я дойду не спеша.
— Может быть, вбить гвоздь? У вас естк гвоздь?
— Не знаю.— Женечка протянула ему туфлю.
329
Он покрутил каблук, как зуб, который шатается. И постучал камнем.
— Вот.
— Теперь лучше,— сказала Женечка, надевая туфлю.
Но шла она прихрамывая, наступая на носок, чтобы каблук держался.
На другой день в конце последнего урока Коста уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову на согнутый локоть и уснул.
Сперва никто не замечал, что он спит. Потом кто-то захихикал.
И Женечка увидела, что он спит.
— Тихо! — сказала она.— Совсем тихо!
Когда она хотела, все было как полагается. Тихо так тихо.
— Вы знаете, почему он уснул? — шепотом произнесла Евгения Ивановна.— Я вам расскажу... Он гуляет с чужими собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать...
Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел громко и протяжно. Но Коста не слышал звонка. Он спал.
Евгения Ивановна — Женечка — склонилась над спящим мальчиком, положила руку ему на плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.
— Звонок с последнего урока,— сказала Женечка,— тебе пора.
Коста вскочил. Схватил портфель. И в следующее мгновение скрылся за дверью.
СТРИЖЕНЫЙ ЧЕРТ
Ранним утром прибрежные камни холодны, как нетопленные печи. И все вокруг сырое и холодное — песок, галька, бурые валки выкинутых морем водорослей, снасти, развешенные на кольях, и само солнце, только всплывшее, необсохшее, парное. Через два часа оно поднимется, раскалится, натопит печи. Но в эту пору камни еще холодные.
330
Неподалеку от берега на волнах играют дельфины. Их появление над водой напоминает плавный поворот колеса. А шумное дыхание — тяжелый вздох человека.
Я— подросток. Большеголовый, стриженный под машинку, с уже успевшим подрасти черным колючим ежиком волос. Мои коленки, пятки, локти покрыты темной бизоньей кожей. Белки глаз в красных прожилках от соленой воды — я учусь нырять с открытыми глазами. Карманы набиты кислыми зелеными яблоками, которые я грызу с утра до вечера. Я слоняюсь по берегу и слушаю человеческие вздохи дельфинов и все стараюсь угадать, в каком месте дельфины вынырнут снова, но мне это никогда не удается.
Тем временем на берегу появляется пограничник с собакой. И я тут же увязываюсь за ними. Я достаю из кармана новое яблоко и принимаюсь яростно грызть его — делаю вид, что просто прогуливаюсь и просто грызу яблоко. На самом деле я не свожу глаз с собаки.
Собака грузная, с густым подшерстком, с основательным угольным чепраком вдоль спины. От боков к животу цвет шерсти меняется, становится табачным. Самый же низ живота, лапы й опушка хвоста совсем светлые. Собака ступает тяжело, хотя и бесшумно. Одно ухо порвано. На задней ноге, на бедре, темные шрамы, заросшие редкой шелковистой шерстью.
Я сразу замечаю рваное ухо, темный шрам. Бросай) в море недоеденное яблоко и прибавляю шаг...
Очень хорошо помню Этот день, хбтя прошла целая вечность и стриженый подросток все реже всплывает в памяти. Он даже на фотографиях поблек, выцвел, стерся. Но подробности этого дня хорошо помню, словно он был вчера или позавчера.
Я прибавил шагу, а пограничник не обращал на меня внимания. Собака же оглянулась и холодно посмотрела в мою сторону темными, как загустевшая смола, глазами. В ее взгляде я прочел не злобу, а превосходство старшего над младшим. Это не охладило моего интереса, напротив — подлило масла в огонь. Я не отставал от пограничника.
Неожиданно он остановился и сказал собаке:
— Давай искупайся... напоследок.
Собака радостно взвизгнула й со щенячьей неловкостью за¬
331
виляла хвостом. Она, видимо, поняла все слова, кроме слова «напоследок». А пограничник отстегнул поводок, поднял с песка закрученный штопором корень винограда и швырнул его в зеленоватую воду. Собака присела на задние лапы, а передние поджала в стремительном прыжке. И вот она уже плыла, взбираясь на невысокие волны, фыркая, отворачивая голову от осыпающихся пенистых гребней. Она ловко подхватила зубами корень, что качался на волне, и повернула обратно. Одно ее ухо как бы надломилось и торчало в сторону: в ухо попала вода.
Собака выбежала на берег. Прилипшая к бокам мокрая шерсть блестела, а с живота свисала сосульками, с них текла вода. Собака оперлась на передние лапы, вытянула шею и отряхнулась, рассыпая в стороны водяную пыль. Ее глаза сверкали, смола в них посветлела.
Пограничник снова бросил корень. И собака бросилась в море.
— Уезжаешь на гражданку? — спросил я, стараясь держаться независимо.
Он покачал головой.
•— Значит, переводят на другую заставу?
— Нет,— сказал пограничник.
— Почему же «напоследок»?
Пограничник отвернулся и стал наблюдать за собакой. Она плыла медленно, преодолевая накатывающие валы, и ее уши — два маленьких паруса — качались на волнах, то появлялись, то пропадали. Пограничник стоял у самой кромки моря, и его сапоги вымокли, но он не обращал на это внимания, бн был высокий, со светлыми вьющимися волосами, с глубокой впадиной между нижней губой и подбородком. Глаза его были скрыты козырьком фуражки. Гимнастерка пузырилась на спине от ветра.
— Я с ней два года отслужил,— как бы самому себе, сказал он.— Имеем десять задержаний. Один раз взяли крупную птицу. Его высадили в море с аквалангом. Он и по скалам лазал, как кошка. Собака его нагнала, крепко прихватила. Он её по бедру ножом... Но мы его все-таки взяли.
—- А рваное ухо? — спросил я в надежде выведать еще одну историю.
33-2
— Это еще в питомнике, до службы,— сказал пограничник и принял от подошедшей собаки мокрый виноградный корень.— Теперь она отслужила свое.
— Значит, она уезжает,— высказал я новую догадку.
Собака сидела у его ног на песке и тяжело дышала. Ветер
сушил ее шерсть. Глаза прищурены; Уши поджаты.
— Когда я пришел на заставу, собака была уже в возрасте, но ко мне быстро привыкла. Она ласковая, хотя в деле на нее можно положиться. Теперь плохо слышит и клыки стерлись...
Он говорил тихо и вдруг резко повернулся ко мне и закричал:
— Уезжает?! На тот свет она уезжает. Старая. Никому не нужна. И какое тебе дело! Отстань ты от меня, стриженый черт!
Стриженый черт не тронулся с места. Он сразу смекнул, что пограничник кричит не на него, а на самого себя и на тех, кто послал его усыпить собаку, которая столько лет охраняла границу, не спала, мерзла, мокла, была ранена в бою, а теперь состарилась и никому не нужна. Стриженому черту стало страшно от этой ледяной несправедливости, и он подумал, что, когда состарится и станет никому не нужным, его тоже поведут к ветеринару и усыпят.
— Понимаешь, я ничего не могу сделать... порядок такой.— Пограничник уже не кричал, не ругался, а говорил тихо. Он оправдывался передо мной, потому что перед самим собой ему было куда трудней оправдаться.
Мы зашагали по берегу. Собака шла рядом. Ее тяжелая голова была опущена. Собака как бы догадывалась, что должно произойти что-то страшное. Но она шла, потому что доверяла человеку, другу, которого узнавала в темноте по шагам, по голосу, по запаху. Она не допускала мысли о предательстве.
У меня же подкашивались ноги. Все во мне перевернулось. Все разрушилось. Мне стали противны море, песчаный берег, спина пограничника, на которой пузырем раздувалась гимнастерка. И его бессилие. Бессилие сильного человека вдвойне отвратительно.
— Рогов приказал, понимаешь,— тихо сказал пограничник.
— Сволочь твой Рогов,— вырвалось у меня.
333
Он словно не расслышал моих слов. Он .говорил:
— Он не любит собак... У него своя собака сидит на цени... некормленая... Но понимаешь, приказ.
А собака шла по укатанному морем песку тяжелыми, бесшумными шагами.
Иду за пограничником и его собакой и плачу. Слезы разъедают мне глаза, как морская вода, от которой на белках появляются красные прожилки. Слезы текут по щекам и щиплют уголки рта. Я — стриженый черт, с бизоньей кожей на локтях, коленях и пятках. Я собираю зеленые яблоки и набиваю ими карманы. А потом ем, морщась и сплевывая. Я ничего нё знаю в жизни путного. Все зависит от того, куда подует ветер. Я еще не завел настоящих друзей и не нажил врагов. Теперь все изменилось: у меня есть враг — Рогов. Это по его приказу убьют собаку, потому что она старая, даром ест хлеб. В Африке было дикое племя, которое бросало стариков на съедение хищникам, потому что от стариков никакого прока. Наверное, Рогов из этого племени. Ненавижу все это племя.
Я иду и плачу от собственного бессилия и от бессилия пограничника, который ведет на смерть своего верного друга. Это не приказ, а приговор, жестокий и несправедливый. Во мне накапливается горячая, непроходящая горечь. Она подступает к горлу и замутняет сознание. Я не выдерживаю и бросаюсь на солдата, и колочу его кулаками по широкой спине, по плечам. В следующее мгновение от сильного толчка я лежу на песке, и на моей груди передними лапами стоит собака. Клыки оскалены, нос сморщен.
— Ко мне! — командует пограничник. Собака оставляет меня.— Ты что, сдурел? — Это он говорит уже мне.
В его голосе почему-то нет злости. Я поднимаюсь медленно. Как побитый. Стряхиваю сырой песок, налипший к штанам. Я уже не плачу. Ветер высушил слезы и стянул на лице кожу.
— Отдай мне собаку, ты все равно убьешь ее,— говорю я и не узнаю своего голоса.— Я буду ее кормить.
— Не имею права. Приказ.
Опять к горлу подступает горечь. Она душит меня. Я не могу говорить. Где-то совсем близко от берега вздохнул дельфин. Я тоже пытаюсь вздохнуть. Не могу. Нет дыхания.
334
— Если собаку убыот, я брошусь со скалы,— говорю я.
— Зачем?
— Брошусь!
— Я бы дал тебе собаку. Но я должен привести ее к ветеринару.— Тут он смотрит на меня долго, внимательно и, словно искру, бросает мысль: — Может быть, ветеринар...
Я подхватываю эту искру на лету:
— Если он отдаст мне собаку, я буду каждую неделю мыть полы в лечебнице.
Сам не знаю, почему подумал о полах. Отроду не мыл полов. Но, видимо, в такие минуты люди не думают об умении, неудобствах, трудностях. Главное — не дать погаснуть искре.
— Если он подпишет акт, что собаку принял...— говорит солдат.
— У нас дома есть сарай. Можно жить в сарае, там и зимой не холодно,— говорю я.
— Ей еды не много надо. Она старая. Похлебка, хлеб...— подхватывает солдат.
— Она не будет голодной,— продолжаю я.
— Думаю,, уговорим ветеринара...— Солдат немного повеселел.— Если ее убьют, я и сам изведусь.
Сейчас я слышу голос пограничника не таким, как тогда Теперь все другое. И тот стриженый черт годится мне в сыновья. И я его принимаю, как сына: во мне бьется его кровь.
Я хорошо помню, как мы шли по берегу и как на мокром укатанном песке оставались трефовые следы собаки. Они превращались в маленькие озерца, волна посильнее стирала их, они возникали снова. Неужели их не будет совсем?
Мы пришли к ветеринару. Заняли очередь. Перед нами была лошадь, еж, синичка и кошка. Лошадь хромала, кошка не ела. Что было с ежом и синичкой, ей-богу, не помню.
Сели на длинную скамейку. Собаку пограничник посадил перед собой и придерживал ее коленями. Собака устала, ей было жарко, и набок свешивался большой розовый язык с темными родимыми пятнами. В коридоре стоял крепкий лекарственный дух. На стене стучали медленно шагающие часы.
Ветеринар долго не приходил. Он занимался лошадью. Он был универсалом. Однажды вылечил дельфина, которого волной
335
ударило о скалы. Говорят, ветеринар почти не разговаривал: привык иметь дело с бессловесными пациентами, которые не могут ответить даже на самый простой вопрос: «Где болит?» Его бессловесные терпеливы, ни на что не жалуются, не то что словесные...
Я набрался смелости и провел рукой по голове овчарки. Она не огрызнулась: видимо, начинала понимать меня. Высохшая шерсть свалялась на боках даклей. А на спине сединой про^ ступала соль.
Потом пришел ветеринар. Грязный халат висел на нем мешком. Руки скрючены. Лицо желтое, морщинистое. Под губой жидкий хохолок-бородка. Шея тонкая, иод кожей кадык величиной с абрикосовую косточку. Ветеринар мне не понравился. Меня охватила мелкая дрожь. Я подумал, что, как только мы переступим порог кабинета, старик сделает свое дело, и собаки
336
не станет. Если бы можно было схватить собаку за поводок и убежать! Но разве она побежит за мной? Собака сидела смирно. Только порой поворачивала голову и смотрела на своего друга; Она смотрела как-то грустно и вопросительно. Пограничник отводил глаза.
Подошла наша очередь. Мы вошли. Старик сидел за столом и что-то записывал в толстую книгу. В уголке рта у него торчала давно погасшая папироска.
— Что у вас? — сухо спросил он, не поднимая головы и продолжая писать.
Мы молча переглянулись. Он бросил писать.
— У вас язык отнялся?
Старик уставился на пограничника, потом на меня и остановил взгляд на собаке. Он сосал погасшую папироску и долго рассматривал собаку, словно рассчитывал узнать от нее боль-
42 Библиотека пионера, т. 12 337
ше, чем от нас. Пограничник понял, что больше молчать нельзя, он сказал:
— Я с заставы... Прислали усыпить собаку. Но вот тут нашелся парень.— Он легонько подтолкнул меня вперед.— Он хочет взять ее. Но мне нужен документ.
Ветеринар резко повернулся ко мне и спросил:
— Ему собаку?
— Ему,— подтвердил пограничник.
— Не справится,— буркнул ветеринар.
Я понял, что сейчас все пропадет, и в отчаянии крикнул:
— Справится!
Старик впился в меня маленькими слюдянистыми глазами и резко спросил:
— Что будешь делать с собакой?
Я растерялся и ответил невпопад:
— Буду ее кормить...
— Этого собаке мало... для жизни!
Я почувствовал, что покрываюсь испариной. Старик держал меня под прицелом. Он испытывал меня, и от того, выдержу я его экзамен или нет, зависела жизнь старой верной собаки. Я ничего не усцел подумать, я думал только о том, как
спасти ее.
— Огород сторожить надо? — спросил меня ветеринар.
— Нет у нас никакого огорода. У нас есть сарай. Я не дам
ее в обиду. Я... Я...
— Не кипятись,— остановил меня старик.— Спокойно. Собака будет жить. У меня уже есть три собаки... брошенные. Будет четыре. Мы — люди.
— Мы — люди,— повторил я за стариком,— у меня мама добрая. Она разрешит.
— Ладно,— сказал старик.
Собака посмотрела на своего хозяина, как будто он, а не сухой желтолицый старик с кадыком решал ее судьбу. Она тихо взвизгнула то ли от радости, то ли от нетерпения, то ли случайно.
Я посмотрел на старого ветеринара и тихо сказал:
— Спасибо.
— За такие вещи не благодарят! — прикрикнул он.— И во¬
338
обще, если человек не чурбан, His значит, что за это его следует благодарить.
Если человек не чурбан! А кто же? Стриженый черт! Я покосился на стеклянную дверку белого медицинского шкафа. И увидел себя — обыкновенного, такого, как всегда, только мои глаза с красными прожилками воинственно поблескивали, а отросший черный ежик сердито топорщился на голове.
Светило окрепшее солнце. За окном шумело море. Рядом пахло собачьей шерстью. Я вдыхал этот запах, как запах жизни. А старик не выпускал изо рта погасшую папироску.
Этот день всегда рядом со мной, хотя множество дней моей жизни затерялись вдали, остались где-то за горизонтом.
СЫН ЛЕТЧИКА
Я могу поручиться, что никогда не слышал о летчике Преснякове. Но его лицо на фотографии показалось мне удивительно знакомым. Он снят после полета, в гермошлеме, в котором можно дышать там, где нет воздуха. В этом одеянии он скорее похож на водолаза, чем на летчика.
Капитан Пресняков небольшого роста. Но это сразу не заметишь на фотографии, потому что он снят до пояса. Зато отчетливо видны широкие скулы, и глаза щелочками, и неровные брови, и канавки над верхней губой, и шрам на лбу. А может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете.
Эта фотография принадлежит Володьке Преснякову. Висит у него над постелью. Когда в дом приходит новый человек, Володька подводит его к фотографии и говорит:
— Мой отец.
Он говорит это так, будто и в самом деле знакомит гостя со своим отцом.
Живет Володька в Москве, в проезде Соломенной Сторожки. Конечно, на Володькиной улице нет никакой сторожки, да еще соломенной. Кругом стоят большие новые дома. Это при Петре Первом здесь была сторожка. Интересно, в каком месте она
339
стояла? Около гастронома или на углу, у сберкассы? И как ввали стражника, который в ненастную, вьюжную ночь забегал в теплую сторожку, чтобы перевести дух и погреть у огонька деревянные от мороза руки? Только на минутку! Стражнику не положено торчать в: теплой сторожке при исполнении служебных обязанностей...
Под окнами Володькиного дома днем и ночью грохочут самосвалы: рядом идет стройка. Но Володька привык к их грохоту и не обращает на него внимания. Зато ни один самолет не пролетит над его головой незамеченным. Услышав звук мотора, он вздрагивает, настораживается. Его тревожные глаза спешат отыскать в небе маленькие серебристые крылышки машины. Впрочем, он, даже не глядя в небо, может по звуку определить, какой летит самолет: простой или реактивный, и сколько у него «движков». Это потому, что с детства привык к самолетам.
Когда Володька был маленьким, он жил далеко-далеко от Москвы. В военном городке. Ведь города, как и люди, бывают военные.
Володька родился в этом городке и прожил в нем добрую половину своей жизни. Человек не может запомнить, как он учился ходить и как произнес первое слово. Вот если он упал и разбил коленку, это он помнит. Но Володька не падал и не разбивал коленку, и над^ бровью у него нет шрама, потому что и бровь он тоже никогда не разбивал; Ж вообще он ничего не помнит.
Не помнит, как, заслышав шум; мотора, он что-то искал в небе выпуклыми голубыми глазами. И как протягивал руку: хотел поймать самолет. Рука была пухлая, со складкой у запястья, будто в этом месте кто-то обвел ее чернильным карандашом.
Когда Володька был совсем маленьким, он умел только просить. А когда стал постарше — годика в три-четыре,— стал спрашивать. Он задавал маме самые неожиданные вопросы. И были такие, на которые мама не могла ответить.
«Почему самолет не падает с неба?.. Почему у нас звездочки, а у фашистов крестики с хвостикамй?»
Володька жил с мамой. Папы у него не было. И вначале он считал, что так и должно быть, И его вовсе не беспокоило, что
340
нет пазы. Он и не спрашивал о нем, потому что не знал, что ему полагается папа. Но однажды он спросил у мамы:
— Где мой папа?
Он думал, что маме очень легко и просто ответить на этот вопрос. Но мама молчала. «Пусть подумает»,— решил Володька и стал ждать. Но мама так и не ответила на вопрос сына.
Володьку это очень огорчило, потому что мама многие его вопросы оставляла без ответа.
Больше Володька не задавал маме этого вопроса. Какой смысл спрашивать, если мама не может ответить? Но сам он не забыл о своем вопросе с той легкостью, с какой забывал о других. Ему понадобился папа, и он стал ждать, когда папа появится.
Как ни странно, Володька умел ждать. Он не искал папу на каждом шагу и не требовал от мамы, чтобы она нашла ему недостающего папу. Он стал ждать. Если мальчику полагается папа, то рано или поздно он найдется.
«Интересно, как появится папа? — думал Володька.— Придет пешком или приедет на автобусе? Нет, папа прилетит на самолете — ведь он летчик». В военном городке у всех ребят папы были летчиками.
Отправляясь с мамой гулять, он посматривал на встречных мужчин. Он старался угадать, на кого из них похож его папа.
«Этот очень длинный,— думал он, оглядываясь на высокого лейтенанта,— такому папе и на спину не заберешься. И почему у него нет усов? У папы должны быть усы. Только не такие, как у продавца в булочной. У него усы рыжие. А у папы усы будут черные...»
С каждым днем Володька все нетерпеливей ждал приезда папы. Но папа ниоткуда не приезжал.
— Мама, сделай мне кораблик,— сказал однажды Володька и протянул маме дощечку.
Мама посмотрела на сына беспомощно, будто он задал ей один из тех вопросов, на которые она не могла ответить. Но потом вдруг в ее глазах появилась решимость. Она взяла из рук сына дощечку, достала большой кухонный нож и начала стругать. Нож не слушался маму: он резал не как хотела мама, а как ему вздумается — вкривь и вкось. Потом нож со¬
341
скользнул и порезал маме палец. Пошла кровь. Мама отбросила недоструганную деревяшку в сторону и сказала:
— 8 лучше куплю тебе кораблик.
Но Володька покачал головой.
— Не хочу купленный,— сказал он и поднял с пола дощечку.
У его друзей-приятелей были красивые кораблики с трубами и парусами. А у Володьки была шершавая недоструганная деревяшка. Но именно эта невзрачная дощечка, именуемая пароходом, сыграла в Володькиной судьбе очень важную роль.
Однажды Володька прогуливался по коридору квартиры с дощечкой-кораблем в руках и лицом к лицу столкнулся с соседом Сергеем Ивановичем. Сосед был летчиком. Целями днями он пропадал на аэродроме. А Володька «пропадал» в детском садике. Так что они почти не встречались и совсем не знали друг друга.
— Здравствуй, брат! — сказал Сергей Иванович, встретив Володьку в коридоре.
Володька задрал голову и стал рассматривать соседа. До пояса он был одет в белую обыкновенную рубаху, а брюки и сапоги были военными. На плече висело полотенце.
— Здравствуй! — отозвался Володька.
Он всех называл на «ты».
— Почему ты один шагаешь по коридору? — спросил сосед.
— Гуляю.
— А на улицу что не идешь?
— Не пускают. Кашляю.
— Небось по лужам без галош бегал?
— Нет. Я снег ел.
— Понятно.
В конце разговора, который происходил в полутемном коридоре, сосед заметил в руках Володьки дощечку:
— Что это у тебя?
— Кораблик.
— Какой же это кораблик? Это доска, а не кораблик,— сказал сосед и предложил: — Давай я тебе кораблик сделаю.
— Только не сломай,— предупредил его Володька и протянул дощечку.
342
— А как тебя зовут? — между прочим спросил сосед, разглядывая деревяшку.
— Володя.
— Володька, значит.
Володька. Это хорошо. Мама называла его Володенька, а тут — Володька. Очень красиво!
Пока Володька раздумывал над новым именем, сосед достал из кармана складной перочинный ножик и ловко начал обстругивать дощечку.
Что это получился за кораблик! Ровный, гладкий, с трубой посредине, с пушкой на носу. На полу кораблик не стоял, заваливался набок, зато в лужах он чувствовал себя отлично. Никакие волны не могли его опрокинуть. Присев на корточки, Володькины приятели с любопытством рассматривали кораблик. Каждому хотелось потрогать его, потянуть за веревочку. Володька торжествовал.
— Не забрызгай! — кричал он одному из приятелей, будто кораблю была страшна вода.— Не тяни, опрокинешь! — грозно предупреждал он другого, хотя его корабль был самым устойчивым кораблем дворового флота.
— Кто это тебе такой корабль сделал?—спросил Володьку кто-то из ребят.
Володька запнулся. Потом набрал побольше воздуха и смело выпалил:
— Папа!
— Врешь,— сказал приятель.— У тебя нет папы.
— Нет, есть! Нет, есть! — решительно ответил Володька.— Он мне еще не то сделает!
Вечером мама заметила Володькин кораблик. Она подняла его с пола, внимательно осмотрела и спросила:
— Откуда это у тебя?
— Папа сделал,— отозвался Володька.
— Папа? — Мама удивленно подняла брови.— Какой папа? У тебя нет папы...
Последние слова мама с трудом выдавила из себя. Но Володьку нисколько не смутило мамино возражение. Он сказал:
343
— Как же нет папы? Есть! Ведь даже у девочек есть папы, а я мальчик.
Мама вдруг перестала спорить. На нее смотрели два больших упрямых глаза. В них было столько решимости и отчаяния, что мама промолчала. Она поняла, что в маленьком сыне прорезается характер, что он так просто не отступится от того, что ему полагается, что определено самой природой.
Мама опустила глаза и отошла. А он все не двигался с места — маленький человек, который решил постоять за себя. Он прижимал к груди свой кораблик, как будто кто-то хотел отнять у него этот драгоценный предмет.
...Сергей Иванович не догадывался о том, что сделал кораблик с маленьким соседом. И уж конечно, ему и в голову не могло прийти, что Володька в поисках папы остановил свой выбор на нем.
Возвращаясь из детского сада, Володька спрашивал:
— Папа дома?
Мама ничего не отвечала. Тогда он, улучив минутку, выскальзывал в коридор и направлялся к соседней двери. Он толкал дверь плечом. Она не поддавалась: папы не было дома.
Володька не падал духом. Эка беда, что папы нет дома! Важно, что папа есть.
Постепенно у Володьки сложилось свое представление о папе. Его папа жил в другой комнате, обедал в столовой и сам ставил себе чайник. И если у него отрывалась пуговица, то он сам пришивал ее. И никому не докладывал, куда уходит и когда вернется. Володька решил, что именно таким и должен быть папа.
Случилось, что Володька заболел не на шутку. На этот раз он съел слишком много снегу, и у него начался жар. Он лежал в постели и горел. Ему казалось, что постель стоит на огне и огонь раскаляет подушку, одеяло, рубашку. И градусник ему ставят часто, потому что боятся, как бы он совсем не сгорел.
Володька не стонал, не вздыхал, не звал маму. Он мужественно переносил болезнь. Он сопел. А временами кашлял, и тогда в его груди перекатывался шершавый, булькающий шарик.
Целый день с Володькой сидела бабушка из соседней квар¬
344
тиры. Бабушке хотелось, чтобы Володька уснул, она рассказывала ему сказки. В конце концов от сказок уснул не Володька, а сама бабушка.
Когда вечером вернулась с работы мама, бабушка беззвучно поднялась и ушла к себе в соседнюю квартиру.
С мамой было веселее. Она ходила взад-вперед, что-то приносила, уносила, роняла на пол. Она тормошила Володьку, давала ему то лекарство, то кислый морс. Она прикладывала прохладную руку ко лбу — это было приятно. Переворачивала подушку на «холодную сторону» — это тоже было хорошо. Только жаль, что подушка быстро нагревалась.
Мама все время спрашивала:
— Не болит головка? Что тебе дать? Что ты хочешь?
Но Володька ничего не хотел. Он не знал, что от холодного снега будет так жарко. И так тошно. Он молчал.
И вдруг мальчик сказал:
— Мама, позови папу.
Мама повернулась к окну. Она сделала вид, что не расслышала просьбу сына. Она надеялась, что он тут же забудет о ней.
Но, выждав немного, Володька повторил:
— Позови папу.
Мама не двигалась. Она стояла спиной к сыну, и он не видел, как лицо ее стало беспомощным, а глаза наполнились слезами. Она могла многое сделать для сына. Подарить ему дорогую игрушку, купить вкусненького. Могла работать для него с утра до вечера. Могла отдать ему свою кровь, свою жизнь. Но где она могла взять ему папу?
А Володька ждал, когда она пойдет за папой. И она пошла. Она вышла в коридор и медленно направилась к соседней двери. Она шла к чужому человеку, чтобы попросить его на несколько минут побыть папой.
Преодолевая чувство стыда и унижения, мама постучала в соседнюю дверь.
— Да! — послышалось изнутри.
Голос показался маме резким и неприветливым. И от этого стало еще труднее. Но она все же отворила дверь.
Сосед сидел за столом и пил чай. Вероятно, он только что
345
вернулся домой, потому что на нем были сапоги и рубашка защитного цвета с черным галстуком. Он пил чай и читал газету.
Когда мама открыла дверь, он поднял на нее удивленные пьаза и встал, не выпуская из рук стакана и газеты. Он не подал ей стул и даже не предложил войти в комнату. Она так и стояла на пороге.
— Сергей Иванович,— сказала мама, и голос ее дрогнул, будто что-то в нем обломилось.— Сергей Иванович, од зовет вас отцом. Я не знаю, почему это взбрело ему в голову. Он маленький и глупый.
Мама говорила, а сосед растерянно смотрел на нее и кивал головой. Казалось, речь идет не о нем, а о другом человеке. Он все не понимал, что же от него нужно.
— А сейчас,— продолжала мама,— он болен. И он зовет вас.
Мама замолчала. Опустив голову, она ждала, что ей скажет сосед. А сосед ничего не сказал. Он вдруг засуетился: поставил на стол стакан с чаем, бросил газету на кушетку и почему-то стал натягивать на плечи форменную куртку.
— Сейчас иду,— пробормотал он.
Зачем ему понадобилась куртка с погонами и знаками отличия? Ведь не начальство вызывало его.
Он пошел за мамой.
Осторожно, словно боясь разбудить, подошел он к Володькиной постельке и, наклонясь к нему, спросил:
— Болеешь, брат?
Володька кивнул головой. Его больные глаза радостно засветились. Он приподнялся на локте и спросил:
— Ты высоко летаешь?
— Высоко, брат,— ответил летчик.
— Выше Сапрунова?
Сосед усмехнулся:
— Э-э, да ты, оказывается, знаешь Сапрунова? Знаком с ним?
Володька затряс головой. Он не был знаком с прославленным летчиком военного городка. Он слышал о нем.
— Выше Сапрунова пока не летаю,— произнес сосед,— но царапаю небо потихоньку.
346
Володька почему-то представил себе папу, царапающего небо ногтем. И мальчик покосился на его руку. Ногти на руко летчика были коротко пострижены. «Трудно такими царапать небо»,— подумал Володька.
С приходом Сергея Ивановича он оживился. Вероятно, когда рядом с тобой папа, то никакая болезнь не страшна. Мама вышла на кухню. И они остались одни: сын и папа.
Сергей Иванович был одиноким человеком. У него никого не было, ни семьи, ни детей. И к детям он относился не то чтобы с неприязнью завзятого холостяка, а как относятся к чужой, очень хрупкой вещи: стараются не брать в руки, чтобы случайно не уронить. Но с Володькой он обращался смело. Он клал ему руку на лоб, и переворачивал его на другой бочок, и даже попытался рассказать ему сказку. Сказка получилась похожей на быль: про самолет, механика и генерала...
347
Новое, незнакомое чувство робко прорезалось в сердце человека, привыкшего иметь дело с солдатами и ревущими машинами.
Глядя на маленького горящего Володьку, он вдруг поймал себя на мысли, что с удовольствием сам переболел бы за него гриппом: ему — что, а малышу — тяжко.
Было уже поздно, когда сосед собрался уходить. Но Володька ухватил его за руку:
— Папа, не уходи!
Он держал руку Сергея Ивановича, как будто эта сильная мужская рука была его жизнью и без нее все вокруг теряло всякий смысл.
— Да я не ухожу,— виновато говорил Сергей Иванович.— А ты спи.
Но Володька боялся уснуть, хотя его сильно клонило ко сну. «Вот усну, а он уйдет»,— думал мальчик и изо всех сил старался удержать глаза открытыми. А губы его тихо шептали:
— Ты не уходи... А я больше не буду есть снег. И лазить по заборам не буду... И суп буду доедать... Не уйдешь? А?
И сквозь сон слышал спокойный голос Сергея Ивановича:
— Не уйду. Не уйду.
В конце концов Володька уснул. Так и уснул, не выпуская из своих рук папину руку*
В те редкие дни, когда Володька заставал папу дома, он старался как можно дольше побыть с ним! И Сергей Иванович с завидным терпением выполнял все желания своего новоявленного сына.
— Слушай,— говорил Володька (он всегда обращался к Сергею Ивановичу «слушай»).— Слушай, покатай меня на кли- кушках.
— Что-что? — переспрашивал Сергей Иванович.
— На кликушках,— невозмутимо повторял Володька и начинал карабкаться на плечи Сергея Ивановича.
И тот послушно подставлял мальчику плечи. А потом, почувствовав на себе всадника, начинал ходить по комнате.
348
— Быстрей! — командовал наездник и крепко обвивал руками шею своего коня.
Потом Володька просил:
— Зайди за мной в детский садик. За всеми в субботу заходят папы.
Сергей Иванович почесал затылок, однако пообещал зайти за Володъкой> И слово свое сдержал.
Как-то под вечер в комнату, где Володька играл с товарищами, вошла нянечка и громко сказала:
— Пресняков, за тобой пришел отец.
Володька покраснел от удовольствия и пулей вылетел в прихожую. Там на диване сидел папа. Он был в шинели, а фуражка с золотой «капустой» лежала у него на коленях. Вид у него был строгий и торжественный. Казалось, папа боится пошевелиться, чтобы не сделать что-нибудь не так. Володька подбежал к нему и стал тянуть его за руку, а папа упирался. Он чувствовал себя неловко среди маленьких столиков, стульчиков и вешалок с коротенькими пальто.
А потом они шли вдвоем по военному городку, и Володька крепко держался за
папину руку. Он старался делать большие - шаги, чтобы не отставать, И все время посматривал по сторонам. Ему хотелось, чтобы его друзья и знакомые видели: он идет с напой. Пусть хоть один человек осмелится после этого сказать: «Врешь, у тебя нет отца».
Сергея Ивановича многие знали и при встрече с ним кивали ему и отдавали честь. Володьке это тоже нравилось. Один знакомый летчик, поздоровавшись с Сергеем Ивановичем, спросил:
— Сынишка?
Сергей Иванович помолчал, а потом, посмотрев сверху вниз на Володьку, сказал:
— Сын.
Он произнес это слово с вызовом. Будто знакомый хотел задеть его этим вопросом, а он давал ему отпор.
Но Володька не обратил внимания на то, как ответил папа. Они зашагали дальше. И Володька был счастлив.
Детский садик стоит на самом краю военного городка. За низким разноцветным заборчиком начинается степь. Зимой заборчик заносит снегом, и его вообще не видно. Летом степные травы поднимаются вровень с островерхими колышками.
А в степи — аэродром. Бессонный, тревожный, живущий своей заманчивой, но опасной жизнью.
Оттуда в небо поднимаются серебристые машины с крыльями, отведенными назад, как руки перед прыжком. Кажется, на земле им нечем дышать и они с радостным ревом рвутся в синюю глубину неба, где можно вздохнуть полной грудью. А когда смелые руки летчика поднимают машину очень высоко, в небе остается след: белый, морозный, видный всей земле.
Случается, что высоко над головой вдруг раздается резкий грохот. Новичок вздрагивает, ищет в небе след взрыва... Но жители военного городка остаются спокойными. Они знают, что никакого взрыва нет. Просто в недоступной глазу вышине одна из серебряных машин прорвалась сквозь звуковой барьер и полетела быстрее звука. И это не взрыв, а удар сильных крыльев.
Самолеты улетают и возвращаются. Аэродром провожает и встречает. И так каждый день.
350
...Когда это произошло, в детском садике был тихий час. И дети спали. И Володька тоже преспокойно спал, потому что гул моторов не мешает спать сыну летчика.
Володька спал, а отец был в небе.
Он поднялся на такую высоту, где небо уже не голубое, а темное и, говорят, звезды видны даже днем. Это небо не принадлежит земле, и в нем нечем дышать жителю земли. Он дышит кислородом, захваченным с собой в полет. Да и машине здесь нелегко, ей тоже не хватает воздуха: крылья теряют опору.
Когда он начинал выполнять фигуры пилотажа, его тело становилось тяжелым. Трудно поднять руку. Веки наливались свинцом. Казалось, самолет подчинил себе пилота и решил вообще не возвращаться.
Но голос земли командовал:
«Снижайтесь!»
И небо ответило:
«Вас понял».
Черта с два, самолет командует пилотом! Неторопливым движением летчик отдал от себя ручку управления, убавил обороты двигателей, и машина, как обузданная, повернула от звезд к земле.
Капля пота потекла по его лбу, и он никак не может стереть ее ладонью, потому что лицо под прозрачной маской гермошлема. И он подумал, что как только приземлится, обязательно сотрет эту зудящую каплю. Стрелки прибора слегка дрожали, желая подчеркнуть, что они не спят. Земля приближалась.
И вот тут-то вспыхнула тревожная красная лампочка — сигнал пожара.
Он сразу забыл о капле пота. Он стал проверять, не врет ли «паникер» (так летчики в шутку называют сигнал пожара, зачастую поднимающий ложную тревогу. Но на этот раз «паникер» не ошибся). Летчик выключил горящий двигатель и доложил:
«Горит правый двигатель».
«Попробуйте сбить пламя!» — приказала земля.
Теперь самолет стремительно снижался. Казалось, он пада-
351
ет. Он тушил свой пожар. Он хотел оторвать от себя пламя, которое, как липкий красный лоскут, трепалось у правого сопла. Но ни встречный поток воздуха, ни автоматический огнетушитель не могли справиться с пламенем — так крепко вцепилось оно в машину.
Огню было мало мотора, и он перебрался на фюзеляж.
Горящий самолет терял высоту.
И вдруг летчик почувствовал, что ручка управления утратила свою упругость. Она беспомощно болтается, и самолет не выполняет ее приказа.
Он понял, что произошло самое страшное: перегорели рулевые тяги. Рули вышли из повиновения. А самолет падал на военный городок.
Когда он доложил обстановку земле, с командного пункта пришел приказ:
«Сапрунов! Покидай машину. Катапультируйся».
Но он ответил:
«Не могу!»
«Какого черта! Сапрунов!..»
Голос командира гремел в наушниках. Но летчик молчал. Ему некогда было разговаривать. Самолет падал на маленькие ровные квадратики жилых домов. Эти квадратики с неумолимой силой приближались к нему, становились все крупнее, все отчетливее. Они, как магнит, притягивали к себе машину с уснувшими рулями.
«Сапрунов! — ревела земля.—Сапрунов!»
Он молчал. Он не откликался. И земля решила, что он погиб. Но Сапрунов боролся.
А Володька в это время спал.
Никто не знает, о чем думает человек, ко-
352
гда глядит в глаза смерти, на какие мысли он тратит последние скупые мгновения, которые отпустила ему жизнь. И никто не может поручиться, что Володькин папа в горящем самолете думал о своем сыне. Но есть движение человеческого сердца, которое сильнее мыслей и горячее чувств. В этих движениях любовь и разум, привязанность и ласка вдруг превращаются в силу, перед которой беспомощны страх, сомнения, себялюбие.
Ему все же удалось отвернуть горящую машину от жилых домов. Это произошло уже у самой земли. Кажется, он отвернул машину не отказавшими рулями, а своей грудью, руками, последними толчками сердца.
Катапультироваться он не успел: не хватило времени.
Человеческая память не похожа на старую бабку, которая кидает в свое лукошко все, что ей попадается под руку. Она разборчивый мудрец, который, прежде чем захватить с собой что-нибудь из твоей жизни, долго разглядывает, взвешивает на ладони, думает: брать или не брать?
Поэтому Володька Пресняков, живущий в проезде Соломенной Сторожки, мало знает о Володьке далекого военного городка. Будто они не одно и то же лицо, а разные люди.
Только один раз смастерил папа маленькому Володьке кораблик, а большой Володька уверен, что он ему сделал целую флотилию кораблей. Только один раз заснул Володька, не выпуская из рук большой отцовской руки, а память утверждает,, что он чуть ли не каждый день засыпал с рукой отца. Только один раз зашел летчик за своим сынишкой в детский сад, а память нашептывает, что это случалось часто.
Может быть, человеческая память немного привирает? А может быть, она отбирает самое главное и увеличивает его так, чтобы было видно всю жизнь.
Когда он погиб, Володька был еще маленьким. Даже не сразу узнал о его гибели. Какой-то самолет разбился. Какой-то летчик погиб. Военный городок был в трауре. Здесь в каждом доме жили летчики, и с каждым из них могло такое случиться... Но в детском садике жизнь шла своим обычным чередом, как будто ничего и не произошло.
353
Возвращаясь домой, Володька стучался в падину дверь. Но никто не откликался. Володька этому не удивлялся. Папы часто не бывало дома: служба такая.
Наконец долгое отсутствие папы начало тревожить мальчика. И однажды он спросил маму:
— А где папа?
Обычно мама не отвечала на этот вопрос. Она или отворачивалась, или уходила на кухню.
Но на этот раз мама не отвернулась и не ушла. Она взяла Володьку за плечи, притянула его к себе и внимательно посмотрела ему в глаза. Потом она крепко прижала к себе сына и сказала:
— Твой папа погиб при исполнении служебных обязанностей.
Володька не понял, что значит «погиб» и при чем здесь «обязанности». Он спросил:
— А когда папа придет?
— Никогда,— сказала мама и еще крепче прижала сына к себе.
Володька высвободился из маминых рук и недоверчиво взглянул маме в глаза. Что это значит — никогда?
— Он уехал или улетел? — спросил Володька.
— Он погиб,— повторила мама.— Умер. Понимаешь? Его никогда больше не будет.
— А как же я? — пролепетал Володька и уже собирался было заплакать.
Но тут мама сказала:
— Твой папа — герой.
Слово «герой» успокоило мальчика. Это слово не вязалось со слезами. И Володька не заплакал.
Вероятно, тогда он так и не понял маму.
Папа больше не появлялся. В его комнату въехали другие жильцы.
А потом мама и Володька уехали из военного городка в Москву, к бабушке.
Теперь Володька большой, самостоятельный парень. Он все понимает: и что такое «погиб», и что такое «при исполнении служебных обязанностей». И он любит своего отца, хотя знал
354
его очень недолго. И он скучает но нему, и часто смотрит на фотографию, что висит над постелью. Он рассматривает неровные брови, и канавку над верхней губой, и шрам на лбу. Может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете?
Правда, Володька совсем не похож на отца. И скулы у него не широкие, и глаза не щелочками. Глаза у Володьки большие. Но ведь их можно прищурить. А скулы мотут появиться с годами. Вырастут. Ведь человек растет до двадцати лет.
Впрочем, совсем не обязательно, чтобы сын был похож на отца лицом. Он, может быть, вышел в маму. Главное, чтобы характер был отцовский.
Нет, недаром фотография над Володькиной постелью показалась мне знакомой. Это был летчик Сапрунов. В этом не могло быть сомнений. Тот самый прославленный летчик Сапрунов, который долетел до черного неба и погиб при исполнении служебных обязанностей. Это он спас жизнь сотне людей ценой своей жизни.
Я перевожу взгляд с фотографии на Володьку и спрашиваю:
— А как фамилия твоего отца?
Володька смотрит на меня непонимающими глазами.
— Пресняков,— говорит он, и в голосе его звучит уверенность.— Капитан Пресняков. Ведь у отца с сыном всегда одна фамилия.
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НЕБО
Я встретил его после дождя на асфальте. Он шел прихрамывая, и на коленке у него была ссадина, запекшаяся, как сургучная печать. Плоские, стоптанные сандалии были похожи на черепах. В руке он держал веревку, к которой была привязана серая тряпка. Тряпка волочилась по мокрому асфальту, и невозможно было догадаться, для чего она предназначена.
355
— Что это у тебя за тряпка? — спросил я, шагая рядом с мальчиком.
— Это не тряпка,— отозвался низкий голос.— Это парашют.
— Парашют?
Теперь я разглядел, что серая тряпка была маленьким куполом, а веревка оказалась стропами, скрученными жгутом. Я спросил мальчика:
— Почему ты тащишь его по мокроте?
— Так...— пробурчал оп и поднял глаза.
Большие темные зрачки уставились на меня. Они излучали незамутненный блеск, какой после дождя появляется у листьев, у крыш, у дороги. Белков почти не было видно — одни зрачки. Они изучали меня.
— Ты его с крыши сбрасывал? — Ия кивнул на забрызганный грязью мокрый парашют.
— Нет, из окна.
— А груз какой был?
— Груз? — Он посмотрел на меня с недоумением.— Я сам... прыгал.
— Парашют-то мал для тебя.
— А где я возьму большой?— Теперь он смотрел на меня насмешливо, как на несмышленыша.— За простыню всыплют по первое число. Мне и за наволочку всыпали...
Я обратил внимание, что по краям купола болтаются завязки, мокрые
и тонкие. Парашют и в самом деле был сделан из наволочки и когда-то был белым. Мальчик поймал мой критический взгляд.
—- Можно и с маленьким прыгать... если небо,— сказал он в защиту своего парашюта.
— Если небо? — переспросил я.
— Я ведь прыгал с первого этажа, там неба нет,— пояснил мальчик.
— А на пятом этаже есть небо?..
— Я не прыгал с пятого этажа... пока.
Я покосился на коленку с алой сургучной печатью и ощутил жутковатый холодок, который бывает, когда стоишь у края пропасти или у перил высокого моста. Я потер затылок рукой и тут же поймал на себе взгляд больших темных зрачков.
— А ты никогда не прыгал с парашютом?—спросил он меня, как равного.
— Нет,— как равный, ответил я и почувствовал что-то вроде стыда перед маленьким спутником. И, чтобы окончательно не пасть в его глазах, сказал: — В твои годы прыгал... с зонтиком.
— Пробовал,— понимающе кивнул мальчик.— Зонтик наизнанку вывернулся.
Я вспомнил, что мой прыжок с зонтиком закончился так же, и про себя обрадовался:
— Вот-вот! Мне еще влетело за зонтик.
— Так ведь за все влетает,—сказал мальчик и зашаркал сандалиями по асфальту.
Некоторое время мы шли молча. Я ощущал превосходство маленького парашютиста и старался понять, откуда оно берется. Может быть, сила этого малыша в том, что он свободен от множества страхов, которые с годами приходят к взрослым людям? Вероятно, я шел слишком быстро, потому что услышал за спиной знакомый низкий голос:
— Не беги!
— Ноге больно?
— Нет, сандалины спадают.
Я оглянулся. Он стоял на асфальте и прижимал к себе мок¬
357
рую плоскую сандалию. В руках у мальчика она еще больше напоминала панцирь черепахи.
— Надень,— сказал я.
— Лучше так,— отозвался мальчик и снял другую.
Из-за редких, выдохшихся туч выглянуло солнце. Оно крепко припекало, а над асфальтом появился теплый голубоватый пар. Наверное, очень приятно ходить босиком по теплому асфальту, от которого идет пар. Но я-то шел в ботинках. Наволочный парашют по-прежнему тащился за моим маленьким спутником.
— Что думаешь делать? — Я кивнул на парашют.
— Еще прыгну... Только он не действует без неба.
— А где начинается небо?
Он ничего не ответил. Задрал голову и посмотрел ввысь. Небо было глубоким и синим. Оно струилось, и обрывки туч плыли быстро, как по течению. Мальчик проводил глазами тучи, и его взгляд скользнул по макушкам высоких сосен, по конькам крыш. Взгляд опускался все ниже, ниже и остановился на маленьком парашюте.
Мальчик наклонился и поднял с земли забрызганный грязью купол. Он скрутил его, и на асфальт потекли мутные струйки воды. Он выжимал парашют, как выжимают рубаху или трусы. Потом перебросил его через плечо. Этот жест означал, что не все потеряно, что парашют, сделанный из наволочки, может еще пригодиться.
— Пока,— сказал он и быстро зашагал обратно.
У него был такой решительный вид, что я забеспокоился: не заберется ли он на высокую крышу и не сиганет ли вниз, чтобы еще раз испытать парашют, который действует только в небе?
— Постой! — крикнул я.
Он нехотя остановился.
— Ты куда?
Он уловил в моем голосе тревогу, но продолжал держать себя независимо:
— Некогда мне. Меня Игорек ждет.
— А прыгать не будешь... с крыши?
— Парашют мокрый.
358
Он почувствовал, что я боюсь. Ему не пришло в голову, что я боюсь за него. Он решил, что я просто боюсь. Сам: по себе. Зрачки насмешливо сузились и заблестели сильней.
Я неожиданно почувствовал, где начинается небо. Не на гребне крыши и не в -синих струях, по которым плывут облака. Оно берет начало совсем близко от земли — на первом этаже или на уровне плеча. Начинается в бесстрашном сердце и простирается до тучи или до звезд, смотря куда его поднимет сердце.
— Игорек ждет. Я пойду. Ладно?
Он нетерпеливо почесывал коленку и прижимал локтем сандалии.
Я кивнул головой. Он быстро зашагал по пятнистому, просыхающему асфальту, над которым дрожал голубоватый пар. Я молча пошел следом за ним, чтобы лучше запомнить, где начинается небо.
РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ
Когда в лагере говорили «Селюженок», ребята усмехались в предчувствии новых происшествий, а для взрослых это слово звучало как сигнал тревоги и предвестник неприятностей. Этот сигнал-предвестник начинал звучать с самого утра и не утихал до отбоя. Во всех уголках лагеря только и слышалось:
— Селюженок, заправь койку!
— Селюженок, вымой уши!
— Селюженок, перестань барабанить ложкой по тарелке!
— Селюженок, куда ты спрятал журнал?
— Селюженок, если ты не выйдешь из воды, больше не будешь купаться до конца смены.
Какие только грозные предупреждения и сердитые возгласы не следовали за словом «Селюженок»! За неделю лагерной жизни на него был истрачен годовой запас восклицательных знаков.
У Селюженка круглая голова, подстриженная под машинку, а уши торчат в стороны, как ручки сахарницы. Худое лицо всегда измазано сажей, или какой-нибудь краской, или просто
359
грязью неизвестного происхождения. Селюженок маленький и хрупкий: ткнешь пальцем — он и упадет. Походка у него легкая и бесшумная, словно он не идет, а крадется. Как это такое хлипкое существо может доставлять людям столько неприятностей!
Худой, большеголовый, прыткий, он похож на огромного головастика. И взрослые считают, что с годами из него выйдет порядочная жаба.
Лицо у Селюженка непроницаемое. Слова не то что отскакивали от него, как горох, они как бы проходили насквозь, не оставляя никаких следов. Когда мальчика ругали, он не морщился, не дергал плечом и не опускал глаза — он улыбался своим мыслям. Взрослым казалось, что мальчишка насмехается над их словами. Они теряли самообладание, надрывали голоса. Но Селюженок был надежно защищен от их гнева своей невозмутимостью.
Чаще всего Селюженок молчал. Это был надежный способ самообороны. Но если он и выдавливал из себя слово, то его ответы были односложными, лишенными настоящего смысла.
— Ты зачем взял у Брусничкиной зубную щетку?
— Просто так.
— У тебя что, нет своей щетки?
— Есть.
— Так зачем тебе вторая щетка?
— Просто так.
После разговора с Селюженком даже самые уравновешенные люди стучали кулаком по столу и хлопали дверями. У этого дурного мальчишки была удивительная способность нагнетать в людях злость, портить настроение и доказывать взрослым, что у них не в порядке нервы.
Селюженок тащил все, что плохо лежало. Он хватал ленточки для кос, карандаши, носовые платки, перочинные ножи. Он был похож на сороку, которая несет в свое гнездо ненужные для нее вещи. Сорочьим гнездом была тумбочка Селюженка. Нет, он никогда не ел чужие сладости и не присваивал деньги. Все, что попадалось ему в руки, оставалось без всякого применения и не приносило ему никаких благ.
Никто не знал, что творится в душе у этого маленького ко¬
360
лючего человечка. Нельзя было определить, весел опили печален, доволен жизнью или обижен. Он был всегда одним и тем же. С его лица не сходила глуповатая, лишенная всякого смысла улыбка. Он был неразрешимой загадкой, задачкой, которая никогда не сходится с ответом. Взрослые махнули на него рукой и мечтали поскорее дожить до конца смены, чтобы навсегда избавиться от этого уродца. Ребята подсмеивались над Се- люженком, когда он им досаждал, поколачивали, но в общем относились к нему терпимо. А малыши, завидев его, весело кричали:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Селюженок не сердился и не щелкал малышей по выпуклым
лбам. Он улыбался. И они принимали его улыбку за чистую монету. Да так оно, возможно, и было.
Чашу терпения взрослого населения пионерского лагеря переполнил случай с пластилином. В один прекрасный день руководительница изокружка обнаружила, что в студии пропал большой кусок зеленого пластилина: весь запас кружка лепки. Сомнений не было: это мог сделать только Селюженок.
Расстроенная Татьяна Павловна в отчаянии прибежала к начальнику лагеря.
— Так больше нельзя! — быстро заговорила она, и лицо ее покрылось красными пятнами.— На прошлой неделе он вылил весь скипидар. Теперь — пластилин! Надо что-то делать!
Татьяна Павловна не называла имя похитителя пластилина, но начальник лагеря безошибочно определил, о ком шла речь.
— Позвать Селюженка! — крикнул он дежурному, и настроение его сразу начало портиться.
Через несколько минут на пороге кабинета уже стоял виновник очередного происшествия. Он стоял молча и смотрел на начальника невидящими глазами, словно начальник был прозрачным и мальчик видел сквозь него спинку стула.
— Селюженок! — В голосе начальника лагеря звучали недобрые нотки.— Что ты молчишь? Отвечай, зачем ты взял пластилин!
— Я не брал,— спокойно ответил Селюженок.
— Покажи руки.
Мальчик охотно протянул руки.
361
— Разожми кулаки.
Селюженок разжал кулаки.
— Поверни ладошками вверх.
Селюженок выполнил и эту команду.,
— Смотри! У тебя все руки в пластилине.
— Это не пластилин.
— А что это?
— Это грязь.
— Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю тебя в город. Ясно? — И, не дожидаясь ответа, начальник лагеря, в котором все внутри уже клокотало, почти крикнул: — Иди!
Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не бывало зашагал к двери.
— Селюженок!
Мальчик остановился и повернулся к начальнику.
— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты брал пластилин?
В этом вопросе не было никакого смысла. Все было ясно. Просто начальнику хотелось добиться признания. Селюженок молчал. Он стоял перед разгневанным начальником и следил глазами за жирной блестящей мухой, которая, проворно шевеля проволочными лапками, ползла по стене. В эту минуту у похитителя пластилина не было более важного дела.
— Иди! — закричал начальник.
Он был в общем не плохим человеком, но этот Селюженок пробуждал в нем зверя.
Селюженок попрощался глазами с мухой и направился к двери.
Он спал крепко, как обычно спят люди с чистой совестью. Он ложился на правый бок, поджимал ноги, подворачивал под плечо одеяло, и не проходило пяти минут, как начинал легонько посапывать. Во сне он ничем не отличался от других ребят. Селюженок засыпал, и в лагере выключался источник беспокойства и неприятностей. Взрослые облегченно вздыхали. Откровенно говоря, они были бы счастливы, если бы Селюженок так и проспал до конца смены. Как спящая царевна.
362
Он спал на одном боку до тех пор, пока медный горн хриплым, словно со сна, голосом не пел цодъем. Тогда Селюженок вскакивал на ноги и, как стрела, выпущенная из лука, устремлялся вперед, навстречу новым злоключениям.
В эту ночь, в нарушение всех правил, Селюженок вдруг проснулся. Не тревожные думы подняли среди ночи похитителя пластилина. Он проснулся от свиста. Мальчик повернулся на другой бок и натянул одеяло на голову. Свист не прекращался. Он, как пуля, пробивал тоненькое одеяло и не давал спать.
Селюженок сел на постели и огляделся. Никого рядом не было. Все ребята крепко спали. А свист не утихал.. Это был не простой свист. Если вложить в рот четыре пальца или сложить губы трубочкой, так не засвистишь.
Свист то замирал, то звучал с новой силой. В нем билась и клокотала картавая горошина. А порой слышалось частое пощелкивание, будто кто-то рубил свист на мелкие кусочки.
Это пели соловьи.
Селюженок рассердился на птиц, которые не давали ему спать. Он на ощупь отыскал брюки, натянул их и бесшумно подошел к окну. В кармане лежал тяжелый камень. Селюженок зажал его в кулак и легко перемахнул через подоконник.
Соловьиный оркестр умолк. Теперь пел только один соловей. К нему с камнем в руке шел Селюженок.
Звезд не было видно, и казалось, что в темноте небо опустилось и прилегло на землю. Селюженок чувствовал на щеке влажное прикосновение неба и его ознобный холодок. Он вдохнул поглубже и весь наполнился свежестью. Это потому, что он дышал небом.
Осторожно переставляя босые ноги, мальчик с камнем в руке шел на соловьиный свист. Теперь соловей пел так громко, что было удивительно, как он не разбудил всех ребят. Селюже-
нок подошел к дереву и запрокинул голову. Напрягая зрение, он стал всматриваться в густые темные ветки. Соловей пел рядом, но его не было видно, словно он надел шапку-невидимку. Звуки падали из его горлышка чистыми, хрустальными каплями. И хотелось подставить руку, чтобы поймать хоть одну та¬
363
кую каплю. Поющие капли сливались в одну серебристую нить, которая тянулась к разбуженному мальчику.
Селюженок стоял под деревом затаив дыхание. Он забыл про камень и не шевелился, потому что боялся неосторожным движением порвать серебряную нить. Вокруг него было темное небо. Наверное, небо держится на звездах, как на гвоздях. А когда звезд нет, оно опускается на землю.
Он стоял до тех пор, пока краешек неба не стал светлеть. Соловей разбудил мальчика, а сам уснул. Но его свист все еще звенел в ушах, похожих на ручки сахарницы. Может быть, Селюженок выучил соловьиную песню наизусть и теперь напевает сам себе?
Селюженок обрадовался рассвету: теперь ему удастся хоть взглянуть на соловья. Но сколько он ни вглядывался в сплетение ветвей, увидеть соловья так и не смог.
Он вспомнил о камне и почувствовал, что камень в его кулаке потеплел и стал мягким. Он разжал кулак и удивился: это был вовсе не камень, а кусок зеленого похищенного пластилина. Остаток. Селюженок взвесил его на ладони и стал мять. Пластилин стал совсем податливым. И мальчику неожиданно пришло в голову слепить соловья. Он принялся за дело. Сначала его пальцы были неловкими, деревянными, но постепенно потеплели, разошлись и стали передавать пластилину то, что им приказывал мальчик.
Он лепил соловья таким, каким, ему казалось, должен быть исполнитель беспокойных ночных песен. Соловей оживал в руках мальчика. Оп был зеленым. У него была узкая голова и большие распростертые крылья.
Селюженок посмотрел на соловья и улыбнулся.
Ему показалось, что он сделал открытие — своими руками создал птицу-певца, и она молчит лишь потому, что время песен прошло и небо поднялось с земли высоко, до самых облаков.
Утром Селюженок появился в дверях художественной студии. Он робко переступил порог этого маленького пионерского храма искусства и лицом к лицу столкнулся с Татьяной Пав¬
364
ловной. Увидев незваного гостя, Татьяна Павловна строго сдвинула брови и недовольно спросила:
— Селюженок? Что тебе надо?
Мальчик молчал. Он держал руку за спиной и смотрел в землю. Ему ничего не нужно было; Он стоял и молчал.
— Ты пришел извиниться? — пыталась догадаться преподавательница рисования.
Селюженок покачал головой. Он пришел совеем за другим.
Татьяна Павловна пожала плечами* Она уже готова была взять маленького похитителя пластилина за плечи и вытолкать из мастерской, но тут Селюженок поднял глаза и протянул ей руку. В руке лежало какое-то странное существо с узкой головой и большими крыльями.
Что это? — спросила Татьяна Павловна.
— Соловей,— ответил мальчик.
Татьяне Павловне захотелось засмеяться над этим зеленым уродцем. Но она сдержалась. Она взяла из рук мальчика его работу и стала ее внимательно разглядывать, словно искала в ней то, что было не заметно с первого взгляда. А Селюженок следил за каждым ее движением.
— Это твоя скульптура? — тихо спросила преподавательница.
— Это не скульптура, это соловей,— отозвался мальчик и, заглядывая в глаза Татьяне Павловне, робко спросил: — Что, не похож?
Татьяна Павловна испытующе посмотрела на мальчика и ответила:
— Похож. Очень похож! А ты видел соловья?
Селюженок запнулся. Сперва он по привычке решил соврать: видел! Но потом ему захотелось сказать правду.
— Нет, не видел... Я слышал соловья.
— Слышал?
— Ну да, слышал. Сегодня ночью.
Татьяна Павловна: все еще не могла разобраться, что же все-
таки произошло с этим мальчиком, чье имя внушало всем лагер- ным работникам неприязнь. Но она догадывалась, что ночные соловьи разбудили в душе мальчика нечто такое, о чем никто даже и не подозревал. Она сказала:
365
— Ты приходи, будешь учиться лепить.
Селюженок кивнул головой. И вдруг на его лице отразилась чуть заметная тень расстройства.
— Так пластилина-то нет,— сказал он.
— А мы будем лепить из глины.
Селюженок оживился.
— Глины я вам натаскаю,— сказал он,— целую гору!
— Вот и хорошо,— подхватила Татьяна Павловна.
Уже уходя из мастерской, Селюженок вдруг обернулся и сказал:
— Только меня, наверное, выгонят.
Эти слова поставили Татьяну Павловну в тупик, но она быстро нашлась:
— Посмотрим. Может быть, еще не выгонят.
— Тогда приду,— сказал Селюженок.— И глины притащу.
Когда Селюженок ушел, Татьяна Павловна взяла со стола зеленого уродца-соловья и направилась к начальнику лагеря.
— Что это? — спросил начальник лагеря, рассматривая скульптуру.— Что это за художество?
— Это соловей.
Начальник рассмеялся.
— Хорош соловей! Это зеленая ворона.
— Это соловей,— упрямо сказала Татьяна Павловна.— Его вылепил Селюженок.
При одном имени Селюженка начальник лагеря поморщился.
— Пусть он забирает своего зеленого соловья-ворону и отправляется. Завтра наш завхоз поедет в город и захватит его.
Татьяна Павловна села на стул.
— Отправить его мы еще успеем.
— Постойте.— Начальник лагеря встал со стула.— Кто, как не вы, настаивал на том, чтобы его отправить домой? Я не ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь. И все-таки я прошу оставить Селюженка.
— Что, у него открылся талант? — спросил начальник и недоверчиво покосился на зеленого соловья.
— Таланта у него никакого. Но сегодня ночью его разбуди-^
366
ли соловьи, и я думаю... Я обещаю вам, что он больше не утащит ни булавки.
— Педагогический опыт?
— Допустим.
Никто не заметил, что произошло с Селюженком с той ночи, когда его разбудили соловьи. Вот если бы у него изменились глаза, или нос, или уши, это бы сразу заметили. А когда меняется что-то внутри, разглядеть трудно.
По-прежнему юркий головастик носился по всему лагерю. И по-прежнему в него, как копья, летели восклицательные знаки:
— Селюженок, убери ботинок с постели!
— Селюженок, не наступай на пятки!
— Селюженок, кто тебе разрешил трубить в горн?..
А малыши по-прежнему кричали ему вслед:
— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!
Да, собственно, ничего в нем не изменилось, просто у человека появился в жизни интерес. Ему расхотелось тащить все,_что попадается под руки. Он сбросил с себя старую, негодную шкурку и стал самим собой.
Ежедневно он приходил в художественную студию, садился за стол и лепил какие-то странные, несуразные существа, которые оказывались собаками, оленями, серенькими козликами.
Вскоре в лагере открылась выставка работ юных художников. Любопытные зрители толпились в художественной студии и нетерпеливо разглядывали работы своих товарищей. Никогда еще в студии не было так шумно. Здесь вспыхивали горячие споры об искусстве, и каждый отряд стоял насмерть за своих художников.
И вдруг кто-то крикнул:
— Смотрите, Селюженок вылепил соловья!
Это известие произвело на ребят ошеломляющее впечатление. Все сразу изменили своим любимым художникам и бросились к столу, где на фанерной подставке стояло зеленое существо с огромными крыльями. Под этим странным существом было написано: «Соловей». Вылепил Селюженок из 4-го отряда».
367
Ребята сбились в кучу. Воем не терпелось посмотреть, что такое мог вылепить похититель пластилина.
Зрители рассматривали селюженковского соловья, как величайшее чудо, как смелое открытие, как находку далекой древности.
— Похож! — кричали одни.—* Правда, похож?
— Как живой! —откликались другие.
Никто из ребят никогда не видел живого соловья, и все были убеждены, что соловей в самом деле зеленый и большекрылый. Кто-то попробовал было возразить:
— Не похож. Я видел соловья.
Но на него обрушилось сразу несколько добровольных защитников Селюженка:
— Врешь ты всё! Никто не видел соловья... кроме Селюженка.
Когда первая волна восторгов и споров улеглась, кто-то произнес:
— Говорили, что он стащил пластилин, а он соловья лепил* Наврали на человека.
Селюженок стоял в сторонке и с удивлением слушал, что говорят ребята, и ему казалось, что речь идет не о нем, а совсем о другом Селюженке. И тот, другой, нравился ему все больше.
В эту ночь его снова разбудил соловьиный свист. Мальчик открыл глаза и долго слушал, как выводит свои серебряные трели невидимый певец. И вдруг он подумал, что нечестно слушать соловья одному. Он соскользнул с постели и одного за другим стал будить ребят:
— Слушай, вставай. Соловей поет!.. Слушай, слушай...
Не прошло и пяти минут, как вся палата уже была на ногах. Ребята теснились у окон и, сдерживая дыхание, слушали соловья. Никто, естественно, не мог разглядеть в темноте поющей птицы, но все почему-то представляли себе соловья зеленым и большекрылым. А самому Селюженку казалось, что это ожил и запел его соловей, слепленный бессонной ночью из похищенного пластилина.
РЫЦАРЬ ВАСЯ
Приятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени — он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул. И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе с Суворовым совершал в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк.
Куртка в обтяжку, штаны облегали ноги. На толстом лице выделялись три бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий между носом и верхней губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь.
Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой толстый? Но на самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.
То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой.
А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, в пернатом шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря.
В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами.
Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось па
Библиотека пионера, т. 12 369
место. И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка.
В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность.
Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:
— О с т о р о жно! Слон в фарфоровой лавке!
Разве так обращаются с благородным рыцарем?
Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки.
Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:
— На такого толстого никакие доспехи не налезут.
Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце.
В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах висели большие картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были цримелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы.
Тайком от дежурной старушки он трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого — к серебряному. К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто не смеется и не называет его тюфяком.
Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон- Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо Пансы?
Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «Поторапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил нос. «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над тарелкой!» — он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту.
Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей.
На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не мешало учителям постоянно делать ему замечания:
— Рыбаков, о чем ты мечтаешь?
— Рыбаков, повтори, что я сказала.
— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи.
371
Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение и она отправляла его на место.
Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи.
На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и, наконец, с грохотом спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй.
Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и с выражением произносил:
Чтоб на улице и дома Было вечером светло!
Когда он вышел на сцену, все «выражение» сразу пропало. Он заторопился, чтобы поскорее добраться до конца. Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он вдруг заволновался, задергал плечом и прочитал:
Чтоб на улице и дома Было вечером темно.
Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со сцены.
Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он сердился на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Старался быстрее дви¬
372
гаться, говорить почти криком и ни в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе проливались чернила, а от резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой.
...Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали листья, а на землю ложится первый слабый снег. А иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. Этот лед, зеркальный и тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно.
Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. Лед прогибается и предупреждающе трещит, но они верят, что родились под счастливой звездой. А счастливая звезда иногда подводит.
Внимание тюфяка привлекли крики, которые долетели с реки. Он ускорил шаг и, запыхавшись, вышел на берег.
Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал:
— Тонет! Тонет!
— Кто тонет? — не спеша спросил тюфяк.
— Не видишь, что ли? — огрызнулся Димка.— Пацан тонет. Под лед провалился. Что стоишь?!
Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: «Что же ты не поможешь ему?» Но он был тюфяк и не догадался этого сделать. Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который был по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда.
Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но не треснул. Вероятно, у берега он был крепче.
Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать:
— Заходи справа!., Осторожно!.. Не топай ножищами, а то сам...
Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх.
А тюфяк шагал по льду. Он не сльипал криков. Он видел только насмерть перепуганного малыша, который не мог выговорить и слова.
Около полыньи на льду образовалась лужа. Он дошел до
•373
края и, не раздумывая, выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он понимал, что сейчас лед может треснуть и он окажется в воде вместе с посиневшим пацаном. Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в воде.
Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, что будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал обламываться лед.
Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими руками в своего спасителя. Зубы его стучали. А по лицу текли слезы.
Когда они вышли на берег, Ковалев оживился.
— Ты ноги промочил,— сказал он товарищу,— беги домой, а пацана я сам доведу.
Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые ботинки и сказал:
— Валяй!
Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил его.
Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро притупила усталость. И теперь оставались только промокшие ноги и легкий озноб.
Дома он с трудом, стянул с себя ботинки. Из них полилась вода.
— Что это? — спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет.
— Промочил ноги,— растягивая слова, ответил мальчик.
— Где это тебя угораздило? — Мама пожала плечами и пошла за тряпкой.
Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и одолевала зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб.
Он не стал ничего объяснять, лег на диван и зажмурил глаза.
Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, то лед сразу бы проломился и он не сумел бы спасти пацана.
Он быстро уснул.
374
...На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не было. Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил портфель на парту и поплелся на четвертый этаж.
Когда он вошел в зал, все уже построились большой буквой «П». Он протиснулся между ребятами и стал в заднем ряду.
В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается смелым поступком ученика.
Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести красного галстука и наконец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором Димка назывался спасителем ее сына.
Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у стенки и слушал, как все хвалили Димку Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет — никого он не спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно, и все три бугорка покраснели.
В конце концов он и сам поверил, что Димка — герой вчерашнего происшествия: ведь он первым заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже.
Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по классам. И тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж.
Он с трудом протиснулся за парту — сдвинул ее с места,— а когда начался урок, взял в короткие пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила.
ДЕВОЧКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Умерли все. Осталась одна Таня.
Из дневника Тани Савичевой.
Ленинград. 1942 год.
Я Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками... Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила ему хорошего леща. Мы, ва- силеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо... У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.
У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка... Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали.
Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой... Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали.
Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах: спотыкнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что, когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна.
Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением...» И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате — никого.
Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там... моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на
376
Большую землю, а Дорога жизни не помогла ей. Ее убили фашисты. Не пулей, не снарядом — голодом. Не все ли равно, чем убивают. Может быть, пулей не так больно, как голодом?..
Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра — там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.
Какие-то взрослые спросили меня:
— Ты кто такая?
— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить.
Мне сказали:
— Нельзя! Приходи со своим районом.
Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватилась за него.
— Он тоже пришел со своим районом?
— Он пришел с братом.
С братом можно. С районом можно. А как же быть одной? Я сказала им:
— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге... Тане Савичевой.
Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:
— Таня Савичева твоя подруга?
— А чего здесь особенного? Мы одногодки. Обе с Васильевского острова.
— Но ее же нет...
До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли:
— У нас все общее: и улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет щеки...
Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, я выпалила:
— У нас даже почерк одинаковый!
— Почерк? — Они удивились еще больше.
А что? Почерк!
Неожиданно они повеселели, от почерка:
— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с нами.
— Никуда я не поеду. Я хочу строить...
.377
— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника писать Таниным почерком.
— Могу,— согласилась я.— Только у меня нет карандаша. Дадите?
— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом.
Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и дали Танин дневник — записную книжку с алфавитом — а, б, в... У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.
Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано:
«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».
Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти.
Но я василеостровская. И если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.
— Давайте ваш бетон. Буду писать.
Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. И мне говорили:
— Не торопись.
Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова. У меня плохо получалось.
— Не торопись. Пиши спокойно.
«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».
Пока я писала про Женю, умерла бабушка.
Если просто хочешь есть, это не голод — поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце — все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает.
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.».
У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он там чертил. Зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у себя своим рейсфедером. Мне рассказывали. Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб. Маленькйй кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства...
378
— Пиши,— тихо сказали мне.
В новой раме бетон был жидкий, он наползал на буквы.
И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но
мне сказали:
— Пиши, Валя Зайцева, пиши.
И я снова написала— «умер».
«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночи 1942 г.».
«Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.».
Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тане Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не сдавалась — жила. Мне рассказывали... Наступила весна. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и она держалась.
— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне.— Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.
Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама 13 мая в 7 ч. 30 м. утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово.
Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы.
— Можешь еще писать?
— Я допишу,— ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз.— Ведь Таня Савичева моя... подружка.
Мы с Таней одногодки, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она василеостровской, ленинградкой, не продержалась бы так долго. Но она жила — значит, не сдавалась!
Открыла страничку «С». Там было два слова «Савичевы умерли». Открыла страничку «У» — «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О» — «Осталась одна Таня».
379
И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. В пустой квартире на Второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.
И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «Почему одна? А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?»
Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:
— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо.
Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я сказала:
— Приду завтра... без своего района. Можно?
— Приходи без-района,— сказали мне.— Приходи;
Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жило еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми.
...И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.
САПЕР
Дождливым вечером в отделение милиции вошли двое: мужчина в блестящем плаще с пестрым шарфом вокруг шеи и мальчик лет девяти, мокрый, измазанный глиной, с царапиной на подбородке. Мужчина был встревожен и все время облизывал пересохшие губы тонким, проворным языком муравьеда. Глаза его поблескивали, под ними отвисли мешочки. Лицо мальчика
380
не выражало ни испуга, ни смятения. Оно было безжизненным, словно хозяин ушел куда-то, а лицо осталось. С мокрых волос на скулы сползали капли дождя.
Мужчина держал мальчика за руку чуть повыше кисти. В другой руке он сжимал какой-то тяжелый инструмент, вроде тех, какими водопроводчики привинчивают трубы.
В комнате дежурного было несколько человек. На деревянном диване сидела бабка в обнимку с большим узлом.
Рядом, откинувшись на высокую спинку дивана, обосновался пожилой, подвыпивший человек. Он дремал и во сне никак не мог удержать голову, она падала то влево, то вправо.
Перед барьером, отделявшим стол дежурного от остальной комнаты, стояла женщина — скуластая, с сальными волосами. Она без умолку говорила дежурному:
— Он меня первый заобидел... Я к нему добром, а он меня заобидел...
— Садитесь и напишите,—видимо, не в первый раз повторял дежурный; голос у него был юношеский, с хрипотой.
— И про огурец писать?
— И про огурец пишите,— устало вздохнул дежурный. И тут он заметил мужчину и мальчика.— Вы обождите,— сказал он им.— Баранова, подойдите ко мне.
Бабка ловко подхватила узел и поплыла к барьеру.
— Посидите пока,— сказал дежурный мужчине.— Я вас вызову.
— Спасибо,— сдержанно отозвался мужчина.
Он сел и потянул за собой мальчика.
Подвыпивший приоткрыл глаза, поднял брови и, щурясь, как от яркого света, уставился на своих новых соседей.
— Поймал? — в упор спросил он мужчину.
— Поймал,— ответил тот, что в плаще, и облизал губы.
— Отпусти ты его руку — никуда не денется.
— А сбежит?
Подвыпивший присвистнул и закрыл глаза. Мужчина стал ждать, когда его вызовут. Мальчик по-прежнему сидел с застывшим лицом. Он не чувствовал, что капли с волос текли по щекам.
Старушка навалилась на барьер и что-то энергично нашепты-
381
вяла дежурному. Плечи ее ходили ходуном, а голоса не было слышно. Стучали часы. В комнате стоял тот особый вокзальный дух, который устанавливается в помещениях, где на смену одним людям приходят другие и нет постоянных жителей.
Дверь отворилась, в нее просунулась сальная голова скуластой женщины.
— И про кадушку тоже писать? — спросила голова.
— И про кадушку пишите! — прикрикнул дежурный.
Голова тотчас скрылась.
Через некоторое время бабка Баранова, прижимая к животу узел, приплыла обратно на скамейку, и дежурный позвал мужчину и мальчика.
— Что у вас? — спросил он и поднял голову.
Глаз милиционера не было видно, их скрывал большой черный козырек. Щеки и подбородок были розовыми, нежными и никак не подходили к форме блюстителя порядка.
Мужчина молча положил на барьер тяжелый инструмент, нарочно стукнув им о некрашеную доску.
— Вот.
— Что это?
— Разве вы не видите — бандитский инструмент.
И тут за спиной послышалось покашливание и мягкий раскатистый смешок:
— Какой же это бандитский инструмент? Это саперные ножницы. Ими колючую проволоку...
За спиной мужчины стоял пбдвыпивший и слегка покачивался.
— Сядьте! — строго сказал ему дежурный.
— Слушаюсь! — с наигранной покорностью выпалил тот й, неловко повернувшись, зашагал к скамейке, на ходу повторяя: — Саперные ножницы — бандитский инструмент!
Дежурный взял инструмент и начал внимательно осматривать. Он никогда не держал в руках ничего подобного и старался своим умом дойти, как обращаться с этим тяжелым военным инструментом.
— Твой? — спросил он мальчика.
— Нашего дедушки.
— Как им действуют? Знаешь?
382
Мальчик кивнул головой. И тут его оттеснил, мужчина с пестрым шарфом на шее:
— Чего тут знать? Чего тут знать?! Он ко мне на участок за клубникой лез, а это,— мужчина опасливо покосился на инструмент,— это для того, чтобы по голове. Раз!..
— Подождите,— остановил его дежурный.— Вас по голове не ударяли... Так как им действовать? — снова спросил он мальчика.
Мальчик посмотрел на дежурного и поднял глаза к потолку, а вместе с глазами поднялись и нос, и подбородок с царапиной. Он сказал:
— Надо по-пластунски подползти к переднему краю... Осмотреться, прислушаться... Потом надо приподняться и упереть левый локоть в землю...
Мужчина быстро провел языком по губам, словно слизнул муравья, и перебил мальчика:
383
— Товарищ дежурный, что он чушь мелет! Пусть про клубнику рассказывает.
Мальчик мрачно сказал:
— Я не ем клубнику. У меня от клубники сыпь... Если проволока зазвенит, надо сразу прижаться к земле, переждать. Потому что враг может дать очередь по проволоке.
— Ай да малой! — подал голос подвыпивший пожилой человек.— Можно подумать, что на войне был!
— Я не был,— признался мальчик.— У нас дедушка на войне был. Он сапер Двадцать третьей гвардейской дивизии. У нас дедушка всегда разведчиков провожал. Он им проход делал этими ножницами. Разведчики говорили, что дедушка им приносит удачу...
— Это дед научил тебя за клубникой по чужим участкам лазать? — враждебно спросил мужчина.
Мальчик с недоумением взглянул на него:
— На переднем крае не было клубники. Участки там были — участки фронта, клубники не было... У нас дедушка на мине подорвался... Ему орден дали.
— А тебя в милицию привели.
— Да подождите вы! — не выдержал дежурный.— Когда надо, я вас спрошу!
— Распустили население! — буркнул мужчина и размотал на шее пестрый шарф.
— Я тоже буду сапером,— сказал мальчик.— Я тренируюсь па колючей проволоке...
— Ишь ты, сапер огородный! — Муравьед облизал губы.
И тут что-то грохнуло — это подвыпивший поднялся с деревянного дивана.
— Ты над сапером не смейся! — Он сразу протрезвел, и голос его обрел твердость.— Ты, может быть, в тылу отсиживался, а для нас сапер — отец родной. Сколько жизней он спас нашему брату!
Мужчина в плаще наклонился к дежурному, ища поддержки у представителя власти. Мешочки под глазами вздрагивали. И подбородок тоже свисал мешочком.
В комнате установилась тишина, которую уже никто не решался нарушить. Бабка Баранова крепче прижала к себе узел.
384
Дежурный отодвинул стул и встал.
— Бери свой инструмент. Иди! — сказал он мальчику.
— То есть как «иди»!—возмутился мужчина.—А протокол?
— Не будет никакого протокола.
Мальчик подхватил дедовский саперный инструмент, прижал его к себе и скрылся за дверью. А хозяин нетронутой клубники еще долго ворчал, грозился, жаловался на распущенность населения. Подвыпивший уселся удобнее на деревянном диване, закрыл глаза и тихо затянул жалобную песню, привезенную ко- гда-то с войны.
ПОДВИГ ВЕЛОСИПЕДИСТА
В детстве я мучительно мечтал о настоящем двухколесном велосипеде. Я закрывал глаза, и передо мной возникал руль, изогнутый, как рога барана, ослепительная чашечка звонка, звук которого был для меня самой прекрасной музыкой, резиновые шины, которые так приятно подкачивать цокающим насосом. Я чувствовал запах шин, не имеющий ничего общего с запахом резиновых галош, и запах кожаного седла, которое упруго поскрипывало на двух сильных конусообразных пружинах. Мысленно ставил ногу на педаль, разбегался... и вот уже сухо потрескивает стальная змейка передачи, а спицы от движения сливаются в два серебристых диска, как пропеллеры летящего самолета.
В моем представлении велосипед никогда не был связан с обычным катанием по двору, с поездками в булочную за хлебом. Мчаться за соперником по хрустящей дорожке трека, преследовать, спешить на помощь — вот назначение велосипедиста! Для меня велосипед был существом одушевленным, вроде коня или верной собаки. Как бы я ухаживал за ним, смазывал, подтягивал, чистил, если бы у меня был велосипед. Но велосипеда у меня не было. В дни моего детства в стране больше заботились о тракторах и танках. Велосипедов выпускали мало, и стоили они дорого. Правда, велосипед можно было выиграть по лотерейному билету.
385
Я регулярно покупал лотерейные билеты Осоавиахима; и с тайной надеждой ждал выигрышей. И вот появилась таблица, и я водил пальцем по колонке цифр, затаив дыхание искал свой номер. Палец приближался к моему номеру — к велосипеду. Сердце стучало. Глаза сужались, словно прицеливались. Но в самое последнее мгновение оказывалось, что не хватает единички. Одной единички не хватало до велосипеда... Однажды в газете поместили фотографию мальчика, который выиграл велосипед. До сих пор помню этого счастливца. Несмотря на маленький рост, он был похож на настоящего гонщика: полосатая футболка, кепка с большим козырьком, челка, широкие скулы, подбородок гордо поднят: еще бы — выиграл велосипед! Правая рука царственно лежала на седле, левая — сжимала руль. Как я завидовал ему! Как сердился на лотерею Осоавиахима. Сердился — и шел покупать новый билет...
Помню, как в нашем классе появился счастливый обладатель велосипеда. Он был добрым малым и согласился научить меня кататься. Он оказался терпеливым учителем, а я — малоспособным учеником: подчинять машину своей воле так и не научился. Велосипед не слушался меня, ехал куда ему вздумается. А однажды понес меня прямо на стену дома. Ребята тревожно закричали:
— Сворачивай влево! Сворачивай влево!
Я впился руками в руль, но не смог сдвинуть его с места. Стена приближалась. Мой добровольный тренер закричал:
— Тормози!
Я знал, что для торможения надо нажать на педаль в обратную сторону, но от волнения нажал не назад, а вперед. Велосипед покатил еще быстрее... к стене дома. Единственно, что я успел сделать — поймал пальцем рычажок звонка. Раздался тревожный звонок. Дом не пожелал посторониться. Удар! Мы оба очутились на земле: я разбил локоть, велосипед искривил переднее колесо.
Теперь, вспоминая детские годы, я испытываю чувство неловкости за свое позорное крушение. Передо мной возникает полутемная, пахнущая керосином мастерская, куда я на своих плечах, прихрамывая, принес пострадавший велосипед, хмурый мастер, который пробурчал слово «восьмерка!» р взял сверкаю,-
386
щую трепетную машину в черные от копоти руки... И все же восторженное, таинственное чувство к велосипеду не покидает меня и теперь. И когда среди уличного шума вдруг весело задребезжит знакомый серебряный сигнал и на солнце сверкнут два трепещущих диска, я испытываю радостный толчок и сразу переношусь в далекое время, когда велосипед занимал в моих мечтах место рядом с рыцарскими турнирами, гонками ковбоев и атаками красной конницы.
Неудивительно, что теперь, встретив в школьном музее велосипедный руль, я потянулся к нему, как к старому знакомому. Меня поразило, что руль лежал среди старых штыков, солдатских котелков, «рубашек» от гранат, противогазных коробок, автоматных дисков и прочих реликвий войны, собранных пионерами. Кроме того, руль не сверкал веселым никелем, а был темным, шершавым, и только уцелевшие искорки никеля поблескивали на нем. У звонка была потеряна верхняя чашечка, и весь нехитрый механизм — пружина и молоточек — был ничем не защищен.
Я спросил ребят:
— Откуда взялся этот руль?
— Нашли на дне реки,— ответили они.
— Зачем же вы принесли его в военный музей?
— Он и есть военный... Наверное, на дне лежат рама, колеса, седло... Вы слышали о велосипедисте?
О велосипедисте?! Я слышал о многих велосипедистах. О шоссейных и трековых гонщиках. Кем из них был тот, чей руль, поржавевший и безжизненный, лежит в школьном музее?
— На какой дистанции он прославился?
Ребята непонимающе переглянулись.
— Мы не знаем, какая у него была... дистанция.
— Чем же он знаменит, ваш велосипедист?
— До войны его в нашем городе знали все. Он был единственным мальчиком, у которого был свой двухколесный велосипед. Выиграл его по лотерейному билету Осоавиахима.
— По лотерейному билету?.. Везучий!
Это восклицание как бы донеслось из моего детства. Перед моими глазами сразу возникла фотография, на которой был изображен мальчишка в полосатой футболке и в кепке с боль¬
387
шим козырьком. Одна рука сжимала руль, другая царственно лежала на седле. Везучий!
— Нет,— возразили мне,— он не был везучим. В день, когда наш город освободили от фашистов, он подорвался на мине вместе со своим велосипедом.
Странная связь возникла между мной и «везучим» велосипедистом. Словно мы с ним были когда-то знакомы, еще до войны, в детстве, когда он на самом деле был везучим, а я так и не стал обладателем велосипеда. Даже не научился ездить в седле. Я почему-то вспомнил полутемную, пахнущую керосином мастерскую и закоптелые руки, словно» вынутые из огня руки мастера... «А потом он подорвался вместе со своим велосипедом».
Я узнал, что велосипедист действительно мечтал стать гонщиком и его каждый день видели на дорогах, он даже ездил по первому снегу. Но когда началась война и город заняли фашисты, он завернул свою машину в промасленную тряпку и зарыл ее в землю. Но жители города все равно продолжали его звать Велосипедистом.
Он появился на своем велосипеде в день, когда фашисты, боясь окружения, сами оставили город. Он мчался по пустым улицам города, как вестник освобождения, и был так счастлив, словно только что выиграл велосипед по лотерейному билету. За годы оккупации он вытянулся, и чтобы коленки не упирались в руль, ему приходилось отставлять их в сторону. А это очень смешно, когда рослый едет на маленьком велосипеде. Есть даже такой номер в цирке. Он не разучился кататься и не расстался с мечтой стать гонщиком. Может быть, в этот первый день свободы он выехал на свою первую тренировку. И его появление на улицах жители города восприняли как возвращение доброго времени.
Люди выглядывали из окон и кричали ему:
— Эй, Велосипедист, давай жми на всю железку!
И он жал, словно хотел накататься разом за все долгие дни, когда велосипед лежал в земле. Он ловко объезжал воронки от снарядов, горящие дома дышали ему в лицо упругим жаром. Женщины, глядя ему вслед, плакали. Нет, они не знали, что он подорвется на мине,— они плакали от радости, что вернулась свобода.
388
К вечеру в городе цоявились наши танки. Они шли плотной колонной, окутанные тяжелым облаком пыли, и от их поступи дома вздрагивали, как от подземных толчков. Танки спешили за отступающим врагом, им некогда было делать остановку в освобожденном городе.
И вот тогда за танками увязался Велосипедист. Рядом с тяжелыми боевыми машинами велосипед казался забавным насекомым, вроде долгоногого водяного комара. Он не катился, а прыгал по разбитой дороге, скрывался в клубах пыли и появлялся снова. Танки прижимали его к обочине и каждую минуту могли случайно зацепить гусеницей и раздавить. Но Велосипедист недаром собирался стать гонщиком, машина слушалась его, уносила от опасности. И он снова мчался вдоль колонны, словно участвовал в необычных гонках велосипедистов и танкового полка...
Я смотрел на почерневший руль, и мне казалось, что это пе ржавчина, а окалина от огня. Велосипед стал таким не на дне реки, а в трудном бою, где он сражался наравне с настоящими, боевыми машинами. Мое детское мечтательное представление о велосипеде неожиданно вернулось ко мне. Приблизило меня к маленькому Велосипедисту, и я вдруг понял: нет, не мог он погибнуть случайно!
Мне удалось найти его довоенную ученическую тетрадь: толстую, клеенчатую, в клеточку. Она была исписана задачами. Две трубы наполняют один бассейн. Из города А в город Б одновременно вышли два поезда... О чем может рассказать тетрадь по математике? Но это была тетрадь Велосипедиста. Я терпеливо листал ее, словно в обычных школьных задачках искал разгадку тайны. И вдруг в середине задачки о трех пешеходах я прочел совсем не к месту написанное слово «банк». Через две страницы обнаружил еще одно чужеродное слово «училище». Третье слово — оно было написано торопливо, крупнее остальных — «мост». Мост?! Так ведь все произошло на мосту! Мост был минирован. Значит, Велосипедист знал об этом и внес в число объектов, которые фашисты, отступая, заминировали, мост. Он не сидел без дела, этот счастливец, выигравший по лотерейному би¬
389
лету велосипед, он боролся с врагом как мог! Стал добровольцем- разведчиком.
Потом я бродил по городу, все пытался найти улицу, по которой шел танковый полк и наперегонки с ним мчался Велосипедист. Мне вдруг показалось, что я слышу, как где-то близко сухо потрескивает стальная змейка передачи и мелькают спицы, как пропеллеры летящего самолета, превращаясь в серебристые диски. Я увидел Велосипедиста в полосатой футболке, выросшего из своего велосипеда и смешно отводящего коленки, чтобы они не упирались в руль. Вот он мчится вдоль стальной колонны танкового полка, увертываясь от сверкающих траков. Он обгоняет танк за танком, чтобы первым домчаться до моста. Он стал боевым охранением танкового полка и должен спасти танкистов от тайного удара удиравших фашистов. Он мчится в бой, а танкисты думают, что мальчишка обалдел от радости, они смеются, машут ему рукой. Не слышат его крика: «Мост заминирован!»
Ему удается обогнать все танки. И он, наглотавшись пыли, первым вырывается к реке и снова кричит и машет рукой... Танки не останавливаются, не понимают его сигнала, не слышат.
— Мост заминирован!
Головной танк приближается. Командир высунулся из люка, стреляет в воздух:
— С дороги!
И Велосипедист понимает, что ему не остановить танк. Он в последний раз оглядывается. Велосипед от малого хода уже теряет равновесие. Тогда Велосипедист прижимается грудью к рулю, изо всех сил нажимает ногой на педаль и раньше танка въезжает на заминированный мост...
РЕЛИКВИЯ
На исходе прозрачного апрельского дня к бабе Настасье пожаловали незваные гости. Подталкивая друг друга, и спотыкаясь о высокий порожек, в дом вошли ребята.
— Здрасте!
Гости смотрели на хозяйку, а хозяйка смотрела на влажные штемпеля, которые гости наставили на чистых половицах, и недовольно прикидывала, что после ухода честной компании придется браться за тряпку. Баба Настасья поджала губы и спросила:
— Чего надо-то?
Стоявший впереди других скуластый парнишка в высоких сапогах — он больше всех наследил, паршивец! — тут же отозвался:
— Реликвии есть?
Баба Настасья непонимающе уставилась на него и спросила:
— Старые газеты, что ли?
— Старые газеты — это макулатура,— тут же пояснил соседский мальчик Леня.— А нам нужны реликвии войны.
— Может быть, у вас есть штык или немецкая каска? — спросила стоявшая в дверях конопатенькая девочка в платке, соскользнувшем на плечи.
— Нет у меня немецкой каски. И штыка нет,— призналась баба Настасья.
— Она не воевала,— пояснил соседский мальчик Леня, который на правах соседа выступал как бы в роли посредника.— У нее муж воевал.
— Может быть, красноармейская книжка, пробитая пулей, хранится? — спросил скуластый мальчик; судя по всему, он был в этой компании старшим.
— Или пилотка со звездочкой? — сказала конопатенькая.
Баба Настасья покачала головой.
— Плохо,— сказал старший.
— Плохо,— подтвердил соседский Леня.
Ребята переглянулись, засопели, затоптались на месте, не зная, уходить или еще что-нибудь спросить. И тут девочка сказала:
— Фото тоже годится.
— Годится! — обрадованно подхватил Леня; ему, видимо, очень хотелось, чтобы у его соседки бабы Настасьи нашлась хоть какая-нибудь реликвия, пусть фото. И он, не дожидаясь ответа, посоветовал: — Баба Настасья, поищите за образами.
— Нет у меня образов.
391
Что за неудачная бабка! И образов у нее нет.
— Когда нет образов — прячут за зеркалом! — не отступал Леня.— Зеркало у вас есть?
— Зеркало есть.— Баба Настасья исподлобья посмотрела на ребятишек.— Ходите тут без дела, полы пачкаете!..
— Мы не без дела,— обиженно пробурчал старший, косясь на свои высокие грязные сапоги,— мы собираем музей войны.
— Великой Отечественной войны,— уточнил соседский Леня.
Такой поворот дела озадачил бабу Настасью. Она поднялась со скамейки и оказалась очень крупной, широкой в кости, только спина ее не до конца разгибалась, застыла в каком-то вечном поклоне.
— Есть у меня письмо с фронта. От мужа моего, Петра Васильевича,— сказала она неуверенно, наугад. Само как-то сказалось.— Годится?
— Что же он не прислал фото? — с тихим упреком отозвалась конопатенькая.
Баба Настасья не расслышала ее слов. Шаркая логами, подошла к комоду, стала искать письмо за зеркалом. И вскоре ребята увидели в ее руках какой-то бумажный треугольник. Старший протянул руку, баба Настасья исподлобья посмотрела на него и нехотя отдала письмо.
Он покрутил странное письмо в руках и спросил:
— А где конверт с марочкой? Потерян?
— Ничего я не теряла! Разве тогда были конверты и марочки? Треугольник, полевая почта, печать. Вот и все дела.
— Не было тогда конвертов и марочек,— принял сторону бабы Настасьи соседский Леня.
Но остальные отнеслись к словам старухи с недоверием: потеряла, старая, а теперь выдумывает. Они были убеждены, что раз есть письмо, то был конверт и была марка. Опять наступило неловкое молчание.
И опять конопатенькая спросила:
— Муж был героем войны?
Бабе Настасье надоело любопытство гостей. Она заволновалась, вспыхнула. Сердитой скороговоркой произнесла:
— Никаким он не был героем. Давайте сюда письмо!
392
— Подождите, баба Настасья,— примирительно сказал Леня,— Надо ведь почитать письмо!
— Надо почитать,— поддержали его остальные, и вся честная компания направилась к окну, где было светлее.
Письмо было коротким и простым. Вот что писал муж бабы Настасьи с фронта:
«Здравствуй, жена моя Настасья! С приветом к тебе твой муж Петр. Я покуда жив и здоров, чего и тебе желаю. Живу я неплохо. Курево выдают своевременно. Но вместо махорки—табак филичевыщ безвкусный. Куришь, куришь —никак не накуришься. Разве что дым идет. Я второпях потерял запасную пару портянок. Повесил сушить, а по тревоге снялись — забыл сунуть в вещмешок. Теперь маюсь. На ночь постираю единственную пару, к утру они не успеют высохнуть. Приходится надевать сырые. Ноги преют.
Мы сейчас больше копаем, чем стреляем. Копаешь, а от окопа пашней пахнет. И от этого родного запаха щемит сердце. А сколько еще провоюем — не знаю.
Кланяйся дедусе Ивану, всем родным и соседям.
С фронтовым приветом, твой муж Петр».
Когда кончили чтение письма, конопатенькая покачала головой:
— Нет, это не реликвия.
— Понимаете, баба Настасья, не реликвия,— с сожалением сказал старший.— Все про табак, про портянки. А клятвы нет.
— Какой клятвы? — глухо спросила баба Настасья.
— «Умрем, но не отступим!» — как по-писаному сказал старший.
Баба Настасья изумленно посмотрела на ребят.
— Не хотел он умирать,— сказала она.
— Поэтому и не реликвия,— тихо сказала конопатенькая.
— Может быть, реликвия,— сказал соседский Леня, стараясь удержать товарищей, но ребята потянулись к двери.
Старший хотел сложить письмо уголком, но не сумел. Так и сунул его хозяйке несложенным.
393
Ребята ушли, в доме стало подчеркнуто тихо. А баба Настасья стояла перед закрытой дверью с письмом в руке, словно только что приходил почтальоп. Потом она подошла к столу и вдруг почувствовала тупую неодолимую усталость. Она тяжело опустилась на скамью и закрыла глаза. Может быть, задремала. Может быть, время прошло в забытьи. Но когда она открыла глаза, на дворе было уже темно. Баба Настасья встрепенулась, поднялась, зажгла свет. Она вернулась к столу, села на лавку. Перед ней лежало письмо. Она долго смотрела на листок, потому что знала письмо наизусть.
Когда много лет назад письмо пришло с фронта, все бабы завидовали ей. Потому что никто давно не получал писем. А бабы были усталые и свирепые. Один раз чуть не прибили хромого почтальона. «Ты, хромой черт, без писем не приходи
в деревню!» И долгое время на всю деревню было только одно письмо с фронта — Настасьино.
На фронте была своя врйна, а в деревне — своя: надрывались бабы, когда вместо лошади впрягались в плуг. Стирали в кровь плечи, сбивали ноги, надрывали животы. Такая это была пахота, что в конце полосы в глазах становилось темно, и тяжелая кровь начинала звенеть в ушах, и падали бабы на землю, как солдаты под огнем. И вот тогда они требовали от Настасьи:
— Читай письмо!
Настасья, большая и сильная, поднималась на локте и хриплым голосом — в который раз! — начинала читать:
— «Здравствуй, жена моя Настасья!..»
И бабам чудилось, что в письме написано: «Здравствуй, жена моя Нюша!» или «Здравствуй, жена моя Ольга!» Это их мужья здороваются с ними. Это их мужья были живы и здоровы. И не нравится им филичевый табак: «Куришь, куришь — никак не накуришься!» И не повезло с портянками: снимались по тревоге, забыли сунуть в вещмешок. Настасьино письмо грело серолицых, осунувшихся подруг, прибавляло им сил. И снова, впрягаясь в плуг, они говорили:
— У них окоп пахнет пашней, а у нас пашня пахнет окопом.
Поздно вечером обязательно кто-то стучал в окно Настасье:
— Отвори!
— Что тебе, соседка?
— Дай почитать письмо.
Письмо как бы стало общим, принадлежало всей деревне.
Сидя над письмом в кружочке, высвеченном керосиновой лампой, соседка успевала и поплакать, и посмеяться, и утешиться, и утешить хозяйку.
— Ты не расстраивайся из-за портянок. К зиме обязательно новые выдадут. Я знаю...
И так продолжалось долго. Из других деревень приходили почитать Настасьино письмо. А мужа Петра Васильевича уже не бь1ло в живых...
Сейчас это письмо лежало на столе перед бабой Настасьей, Словно только что пришло от мужа. А раз пришло письмо — значит, он жив. Только очень далеко от дома. И пишет он, живой,
395
про обычные житейские вещи: про плохой табак и про забытые впопыхах портянки... Но потом бабке Настасье показалось, что она держит в руках не свое письмо, а чужое, полученное от живого мужа соседкой и данное ей на время, для утешения.
Она отвела глаза от письма и увидела ребячьи штемпеля на половицах, но не рассердилась. Эти ребятишки вечно что-то собирают — то лекарственные травы, то колоски. Теперь они ищут реликвии. А письмо им не подошло, потому что им, ребятишкам, невдомек, что стояли твердо и погибали в бою и те, кто не писал: «Умрем, но не отступим!» Ну и слава богу, что не нужно детям это письмо, что живут они хорошо и не требуется им утешения. И теперь не бьют почтальонов, и нет такого положения, чтобы на всю деревню была одна только весточка.
Баба Настасья вздохнула. И аккуратно сложила старое фронтовое письмо по складкам, чтобы получился треугольник.
Потом ей стало душно, и она заковыляла к двери. Вышла на крыльцо. Было уж совсем темно. В разных уголках густой мягкой тьмы поблескивали огни деревни.
Тут хлопнула калитка, послышались голоса, и баба Настасья увидела три приближающиеся фигурки: это ребята возвращались за письмом солдата. Она вздохнула и почувствовала бесконечно родной и знакомый запах. Он проникал внутрь, разливался по телу, и с каждым вздохом бессилие старой женщины как бы растворялось, теряло свою гнетущую тяжесть. Это был запах сырой весенней земли — запах пашни, похожий на запах окопа.
Анатолий
Мошковский
Повесть
Глава 1
АМПУЛЫ
Вечером Рая не вернулась с дежурства. Ребята и дедушка Аристарх легли, а мать все не гасила в горнице свет и смотрела в окно.
— Да ложись ты, подменяет кого-нибудь,— сказал Валерий, старший сын, уже засыпая.
Мать легла. Но Юрка слышал, как она ворочалась, вздыхала, покашливала, и у него что-то скребло внутри. До гидрометеостанции, где сестра работала наблюдателем, шесть километров от поселка, и дорога туда не из легких. Мало ли что может случиться...
Потом Юрка уснул.
Днем, прибежав с уроков, он наскоро поел и стал одеваться. Валерий в это время перерисовывал с географического атласа на тетрадный лист в клеточку карту северного побережья Кольского полуострова.
— Далеко? — спросил Валерий.
399
Да нет... На станцию проведаюсь... Давненько не был...
Юрка не хотел объяснять брату, отчего это ему вдруг взбрело в голову тащиться в такую даль. Валерий был уже почти мужчина и не терпел сентиментальности.
— Напомни Райке, чтобы принесла бинокль. Сколько просить надо?
— Ладно.
— И чем у нее голова забита?
Этого Юрка не знал.
— Условились? Он мне очень нужен.
— Есть взять бинокль!
Валерий улыбнулся, легким движением головы откинул назад льняные волосы, встал, расправил свои спортивные плечи и совсем неожиданно сказал:
— А знаешь, и я с тобой потопаю. Боюсь, не окажешь на нее должный нажим. Дипломатии не хватит.
— И зачем тебе сдался бинокль?
Валерий поднес к губам палец:
— Военная тайна...
Жизнь Валерия в последние дни и вправду была окутана тайной. По вечерам он с двумя дружками, Игорем и Сергеем, сыном редактора районной газеты, рассматривал карту побережья, изрезанную глубокими губами, до хрипа спорил о чем-то. Спорили ребята хитро — ничего нельзя было понять.
— Минутку!
Валерий унес лист с контуром побережья в соседнюю комнату, спрятал куда-то, появился снова и через две минуты был готов: в легких валенках и синей канадке на «молнии», с высоким воротником и косо врезанными карманами. Канадку в день рождения ему подарил отец.
— Пошагали?
Возле дома получилась маленькая заминка. В Юркины планы не входило брать Васька. Васьком называлось кругленькое, большеглазое, мохнатое существо в бурой шубейке. Ему шел седьмой год, он отличался повышенным любопытством и, конечно же, не дорос до шестикилометровых прогулок среди обледеневших скал и россыпи гальки.
Это был их младший брат. А так как все семейство Варзу-
400
гиных славилось крайним упрямством, то и Васек уже показыт вал коготки.
Узнав, куда идут братья, он бросил санки, соседскую лайку Стрелку, бывшую Милку, срочно переименованную после полета лаек в космос, и увязался за ними.
— Отстань! — крикнул Юрка, стараясь при Валерии быть немногословным, чему тот всегда учил его.
Васек бежал следом.
Угрозы становились все хлеще и грубее.
Стоило б Валерию хоть слово добавить к Юркиным угрозам, Васек бы отстал и покорился печальной участи малыша: Валерий — его нельзя не слушаться. Но Валерий, сунув руки в карманы, не говоря ни слова, шел к переправе, и это придавала Ваську уверенности. Его даже не образумили два Юрки- ных щелчка в лоб и снежок, залепивший глаза.
Васек тащился сзади и канючил. И когда у Юрки прямо-таки заболела глотка и он охрип, он сплюнул в снег и махнул рукой. А ну его!
Вместе с ними малыш переправился на большой моторной лодке-дорке через реку и тащился по дороге вдоль океана.
Океан падал на берег, и каменный берег содрогался от его ударов. От грохота болели уши. Валерий и Юрка даже не пытались раскрыть рта. Зато Ваську хотелось перекричать океан. А зимой это дело трудное.
И хотя по отрывному календарю, висевшему в их столовой, шел март и уже давно стало подниматься из-за сопок полярное солнце, вокруг была зима. А океан в это время, как известно, теряет спокойствие, точно его больно укусил кит или какое-то другое морское чудовище.
Так, по крайней мере, думал Васек. Этим он и хотел поделиться с братьями. Но они уже были почти взрослые, хорошо знали, что киты здесь ни при чем, что их почти не осталось в северных морях. Да и стоило ли серьезно относиться к воплям этого несмышленыша и выдумщика?
Если бы братья почаще оборачивались, они б видели, как Васек, заметив что-то в море, тычет пальцем и вопит; как он, подпрыгивая, всплескивает руками и хохочет; как запускает в слепяще белую пену обледенелую гальку и опять кричит, при-
/[4 Библиотека пионера, т. 12 401
зывая братьев поделиться с ним своей, одному ему понятной радостью.
— Валенки промочишь, прибью! — набросился на него Юр- ка, когда Васек так близко спустился к прибою, что его цигейковую ушанку и облезшую шубейку обдали брызги.
Васек отскочил: Юркины кулаки были страшней прибоя.
Наверно, ребята благополучно добрались бы в этот день до станции и не случилось бы ничего особенного, если б Васек не бросился к ржавому остову катера.
В незапамятные времена, в войну, когда братьев еще и на свете не было, выбросил его сюда, на галечную дугу берега, зим¬
402
ний шторм. Искореженный, одинокий, лежал он тут, и только самые высокие волны докатывались до его изъеденного ржавчиной борта.
В сторонке виднелся полузарытый в гальку двигатель с цилиндрами, обвитый гнилыми водорослями, клепаный нос и рваный обломок винта.
Васек бросился к катеру, точно впервые увидел его.
На катер стеной шла волна.
— Назад! —■ заорал Юрка, метнулся вниз, схватил Васька за шиворот и едва успел отпрыгнуть с ним от потока.
Клочья пены лопались и опадали под ногами.
Юрка дал малышу по шее, еще раз замахнулся. Но не ударил. Он кинулся по гальке к срезу воды, схватил убегавшую вниз блестящую коробку и, почти накрытый огромной стеной новой волны, бросился назад.
Не вынимая рук из карманов, к нему подошел Валерий:
— Любопытно.
Юрка попытался открыть коробку. Она была плоская, совсем новенькая, пускала солнечные зайчики и не хотела открываться.
Ребята привыкли к тому, что море выбрасывает на берег пустые ящики с пестрыми иностранными ярлыками, доски и кухтыли — металлические шары, прикрепляемые к рыбачьим сетям, поплавки из пенопласта, бочки и разбухшую, осклизлую обувь...
Такая коробка попалась им впервые.
Потеряв терпение, Юрка бросил на гальку мокрые варежки и, сопя, стал ногтями сдвигать никелированную крышку.
— А если бомба? — прошептал Васек.
— Бомбы такие не бывают.— Валерий не спускал с находки глаз.
— А может, она нарочно такая, чтоб не догадались,— не унимался Васек, и его неправильно растущий резец смешно высунулся из-под верхней губы.— Послушай, там ничего не тикает?
— Отойди подальше,— сказал Юрка, ломая ноготь указательного пальца и морщась.— Ну? Сейчас я тебе так тикну — рад не будешь!
403
Рядом был Валерий, и Васек остался на месте. Плохо бы жилось ему без старшего брата.
Шестеро серых глаз прилипли к коробке. Юркины пальцы все время срывались с крышки. Валерий, рослый, серьезный, с легким пушком на верхней губе, был сдержан, и только по тому, как слегка вздрагивали его белесые брови, можно было догадаться, что и он не равнодушен к коробке.
— Дай-ка я попробую,— сказал он наконец ломким баском,— ты слишком кипятишься.
— Погоди...
— У меня ногти подлинней... Слышишь?
В этот момент крышка чуть сдвинулась. Юрка, весь вспотев от напряжения, нажал посильнее, и коробка открылась. Заглядывая в нее, Валерий грудью надвинулся на Юрку, а коротышка Васек подпрыгнул и едва не вышиб головой коробку из Юр- киных рук.
Лицо Юрки исказилось от бешенства, он ногой поддал под зад малышу — Васек отлетел на добрый метр.
В коробке, разделенной на металлические ячейки, виднелись круглые стеклянные ампулы с узкими, как иголка, горлышками. В ампулах покачивалась какая-то жидкость.
Сердце у Юрки часто забилось.
— Так,— сказал он,— полюбуйтесь... Откуда они тут?
Васек тем временем взобрался на валун и, опираясь одной
рукой на широкое плечо Валерия, неудобно вытянулся, заглядывая в коробку.
— И написано не по-нашему,— сказал он.
«Ну и глазастый!» — Юрка только сейчас заметил на ампулах белые надписи на иностранном языке.
— Дай прочту.— Валерий взял у Юрки коробку, осторожно достал одну ампулу, поболтал зачем-то и стал разглядывать на свет.
— Тише,— попросил Юрка,— разобьешь.
— Что там, а? Что там, а? — как автомат, завелся Васек.
— Заткнись, юла! — сказал Юрка.
— Может, яд? Шпионы подбросили... Или чума в них?.. Или...
— Сам ты хуже чумы,— сказал Юрка.
404
— Пограничники! Покажем им! — закричал Васек.
К мысу, глубоко вдающемуся в море, из лощинки вышли два пограничника. Здесь кончался материк и проходила государственная граница. Солдаты были на лыжах, в белых маскировочных- халатах, с пистолетами-автоматами на груди.
Валерий аккуратно вложил ампулу в гнездо, закрыл крышку и стал заталкивать коробку в карман канадки.
У Юрки задрожали губы, он часто задышал, засопел, глядя на брата.
— Тише,— сказал Валерий.— Не собираюсь присваивать твою находку, ясно? Покажу на заставе и верну тебе.
— Ищи-свищи ее тогда! Надо по-честному. Я нашел — я и делаю с ней что хочу.
Валерий затолкнул коробку, и она заметно оттягивала карман.
— Нашел ее ты, верно,— сказал Валерий,— но ты не можешь распоряжаться ею как хочешь. А что, если она представляет величайшую государственную важность? Поможет раскрыть какую-то тайну? Ты об этом подумал? Потеряешь ее, сломаешь... Что тогда?
— Не потеряю,— сказал Юрка,— надо по-честному.
— Ты опять за свое...
Юрка подошел к брату. Валерий был выше его на голову, со спины мог сойти за настоящего мужчину и говорил не задиристым детским дискантом: в его голос то и дело врывался бас. А с какой стороны ни гляди на Юрку — все видно, что мальчишка.
— Значит, не отдашь? — Юрка горячо задышал брату в подбородок, взялся за куртку.
— Не советую,— все так же спокойно сказал Валерий, медленно отрывая его цепкие пальцы от канадки.— Потом жалеть будешь, Юра.
Он не хотел связываться с Юркой, звероватым и вздорным мальчишкой. В припадке ярости тот мог броситься и на взрослого и не замечал ни ударов, ни синяков.
— Ну перестаньте же! — взмолился Васек.— Хватит вам!
— Отдашь? — холодно спросил Юрка; его серые прищурен¬
405
ные глаза по-рысьи, искоса, глядели на брата, а руки все туже стягивали канадку и придвигали Валерия.
— Юра, два шага назад. Говорю как брату.
Короткий удар — и Юркин кулак, как резиновый, отскочил от подбородка Валерия, и тут же, не успев опомниться, Юрка спиной полетел на ледяные камни, раскидывая ноги. Вскочил и, приняв стойку боксера на ринге, пошел на брата.
— Коробку поломаете! — завопил Васек.— Я бате скажу...
— Юра,— снова сказал Валерий и заметно побледнел,— уйди.
— Отдай коробку!
Братья принялись бешено колотить друг друга кулаками, пуская в ход колени и ноги. Кончилось все тем, что Юрка, без шапки, ткнулся головой в снег и остался так лежать, а Валерий отряхнулся и с сожалением посмотрел на него: «Говорил ведь — не лезь!» — махнул рукой и пошел к поселку.
Юрка встал, вытер с губы кровь, натянул на голову белую от снега ушанку и сел на гладкий валун.
Васек подобрал с земли пуговицу, спрятал в карман и оглянулся на Валерия. Потом посмотрел на Юрку. Хмурый, молчаливый, в своей черной стеганке, он, как ворон, сидел на камне и глядел в море.
Васек опять посмотрел на Валерия, карабкавшегося в ста шагах на взгорок, перевел взгляд на Юрку, тяжело, как взрослый, вздохнул. Потом махнул рукой и бросился за старшим братом.
Минут через двадцать Юрку кто-то тронул за шапку. Он словно очнулся. Перед ним стояла Рая в бордовом зимнем пальто и пыжиковой шапочке.
— Морем любуешься?
Юрка встал и пошел к поселку:
— Чего домой не пришла, финтифлюшка? Мамка всю ночь не спала...
— Ольгу подменяла... Грипп...
Глава 2
ПАПУАС ИЗ ЯКОРНОЙ ГУБЫ
Назад Юрка шел молча. Как Рая ни допытывалась, что случилось, Юрка молчал. Лишь проходя мимо погранзаставы — а она находилась за поселком,— он сжал кулаки и всхлипнул:
— Ух и дам я ему! Ух...
Они миновали закопченные корпуса СРМ — судоремонтных мастерских — с десятком рыбацких сейнеров у причальной стенки, оставили позади сетевязку — огромный, похожий на амбар сетевязальный цех, и вышли к порту — так громко именовался длинный деревянный причал в глубине Якорной губы с домиком морской службы.
Был час отлива. Зеленые, обросшие слизью сваи причала обнажились, и в дорку пришлось спускаться по трапу. Берега Мурмана омывает теплое течение, и ни море, ни Якорная губа, ни река Трещанка до порога-падуна не замерзали круглый год, и поселок Якорный, состоящий из трех маленьких поселков — Большой и Малой стороны и Шнякова, где разместились порт и фактория,— связывала дорка.
Дорка ходила каждый час. Когда Рая с Юркой подошли к причалу, кассирша Надя снимала с деревянной тумбы пеньковый конец.
Затарахтел мотор. Надя, бряцая мелочью в сумке, стала обходить пассажиров, отрывая от рулончика серенькие билетики.
Волна в губе была небольшая, и дорку почти не подкидывало. Изредка попадались тонкие ноздреватые льдинки. Они слабо ударялись и терлись о борт; над водой струился прозрачный парок, обычный в эту пору на Мурмане.
Дорка вошла в реку Трещанку, возле устья которой и раскинулся центр поселка Якорного с райкомом, Домом культуры и типографией, баней и почтой, магазинами и средней школой.
Дорка мягко ткнулась в деревянную площадку, и люди по деревянному трапику, врезанному в квадратный люк причала, стали подниматься вверх, ощущая затхло-гнилостный запах обнаженных отливом свай.
407
— Ты куда? — спросила Рая, видя, что Юрка, сойдя с причала, зашагал в сторону, противоположную дому.
— Прогуляюсь,— бросил Юрка, не оборачиваясь.
Хотелось остыть, успокоиться.
У крайнего дома с крутого берега катились на лыжах мальчишки-саами. На нкх были рыжие оленьи малицы с пыжиковыми капюшонами вместо шапок, на ногах — меховые тобоки. хМальчишки страшно шумели, кричали о чем-то по-саамски, и Юрка ничего не мог разобрать. Но догадаться было не трудно — о чем. Внизу стояли две лыжные палки, и нужно было на полной скорости пронестись в эти узкие ворота, не сбив палок.
Спуск был тем опасней, что метрах в трех от ворот начиналась река, и, хотя во время отлива вода отступила далеко от берега, обнажив грязное дно с бородами ржавых водорослей на камнях, ни у кого не было охоты плюхнуться с разгона в эту вонючую грязь.
Лыжники круто заворачивали у берега или просто падали боком в снег.
Никто пока что не проскочил благополучно в ворота. А Юрка был уверен — проскочит.
Он вразвалку подошел к однокласснику Грише Антонову.
Юрка не раз бывал у Гришки дома и впервые попробовал у него струганину — мороженое оленье мясо. Гришка, как и большинство саами, был мал ростом, смугл, ходил чуть враскачку даже по ровной дороге, точно под ногами были тундровые кочки.
— Дай-ка мне,— сказал Юрка.
На него глянули черные, узко прорезанные глаза.
— Погоди. Съеду разок и дам.
— Дай сейчас.
Юрка был самый сильный в классе и привык, чтоб ему повиновались.
— Ну?
Гришка уже, кажется, готов был скинуть лыжи, но... Ребята и ахнуть не успели, как граненый Юркин кулак стремительно стукнул Гришку в подбородок. Гришка рухнул в снег, а Юрка повернулся к нему спиной и с ленивым развальцем пошел к улице.
403
Ребята стали поднимать Гришку.
— Папуас, Папуас несчастный! — закричал он.— Дурак набитый!
Юрка и не обернулся. Ему вдруг ст&ло легче. Странная, горькая сила, больно сжимавшая душу, отпустила. А то, что Гришка назвал его Папуасом,— пусть. Эта кличка за ним утвердилась с тех пор, как он, прочитав книжку об Океании, полдня распространялся в школе о нравах и обычаях южных островов, без конца твердил о папуасах и бесстрашно, так что стекла в классе звенели, издавал воинственные крики далеких племен.
Вначале Юрке даже нравилось, что его зовут таким нездешним именем. Нравилось до тех пор, пока Валерий не сказал как- то за чаем:
— А ты и вправду как папуас... Только кольца в ноздрях не хватает и на бедрах не повязка, а штаны.
Юрка засмеялся и чуть не подавился:
— Скажешь чего...
— А кто ж ты, если не папуас? В каком месяце стригся в последний раз? Косицы можно заплетать. И кулаки у тебя вечно чешутся. Что ни шаг — то подзатыльник. Форменный дикарь. Дикарь с Баренцева моря. Папуасы и те, наверно, теперь приобщаются к культуре. А ты...
— Хватит! — Юрка вдруг рассердился, громко стукнул табуреткой и вышел в сени.
С этого вечера не каждый отваживался называть его этой кличкой.
Домой Юрка шел без всякой охоты. К счастью, братья еще не пришли. Рая, по локти засучив рукава, стирала в тазу, а дедушка Аристарх чинил сеть. Его бригада, бригада семужников, состоявшая из стариков и женщин, в эту пору года отлеживалась, как шутил дедушка, на печи. Только через месяц пойдет семга на нерест в реки, поближе к водопадам и перекатам. Огромная капроновая сеть — тайник — была расстелена па полу, и дедушка ползал по половицам, штопая деревянной рыбацкой игличкой места разрывов.
Ему было за семьдесят. Был он невысок, костляв, рыж, бородат; по ночам, ворочаясь на печи, громко хрустел ревматическими костями — вот-вот, казалось, рассыплется.
409
Но так только казалось. Из-под козырьков медвежьих рыжих бровей глядели полные лукавства и ехидства острые глазки. Ходил дедушка чуть сгорбясь; вставая с лавки, не мог сразу разогнуться и несколько раз хлопал себя по пояснице, постепенно выпрямляя позвоночник. Руки и лицо его покрылись глубокими морщинами, веки отяжелели и одрябли, ноги чуть искривились, но неуемность и озорство старого русского помора все еще клокотали в нем, как уха в котле.
Был он криклив, насмешлив, буен. Что-то веселое, безудержно-мальчишеское навсегда засело в нем.
— Куда сеть потащил? — крикнул он,, когда Юрка, проходя по горнице, ненароком зацепил ногой тайник.— Брысь!
410
Юрка отпрыгнул в боковушку — крошечную комнатку, где спал с Васьком и Валерием.
В. этой комнате, кроме кроватей, стоял самодельный столик Валерия и высокая, до потолка, книжная полка у стены. Почти все книги тоже принадлежали Валерию. На них он не жалел денег, которые удавалось заработать на выгрузке и сортировке рыбы в фактории. Большинство книг было о путешествиях Седова и Магеллана, капитана Кука и Нансена, Пинегина и Семена Дежнева...
На столике лежали аккуратные стопки тетрадей с выписками из книг, которые Валерий брал в районной библиотеке.
Юрка кинул взгляд на карту Мурманской области, висевшую слева от оконца. Ее Валерий привез из Мурманска, куда ездил прошлым летом с отцом, вызванным на совещание по рыбной промышленности. Два раза в неделю ходят туда рейсовые пароходы Архангельск — Мурманск, и этот счастливчик видел там настоящие паровозы и электровозы, гигантский порт, смотрел телевизионные передачи... Все в этой комнате было связано с братом, и у Юрки совсем испортилось настроение.
Хлоцнула наружная дверь.
Юрка насторожился.
— Бр-р! Ноги переломаю!— шикнул дедушка, и в боковушку, где сидел Юрка, скользнул Васек.
Глаза его сияли восторгом. Захлебываясь и размахивая руками, принялся он рассказывать, как встретил их начальник погранзаставы капитан Медведев, как собственноручно открыл блестящую коробку и рассматривал на свет ампулы с таинственной жидкостью.
Юрка небрежно сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и скучающими глазами смотрел на малыша. Васек был слишком мал и неразумен, чтоб заметить в глубине его безучастно-ленивых глаз напряженные огоньки внимания.
Потом Васек тараторил о похвалах капитана Медведева, о том, что коробку с нарочным — одним из пограничников — срочно послали на экспертизу и что его с Валерием до отвала накормили в столовой пограничными щами, пограничной рисовой кашей с компотом и, так как на заставе не оказалось кон¬
411
фет, тут же вскрыли большими армейскими ножами две банки со сгущенным молоком, и они, как медвежата, принялись лакать густое и приторное лакомство. Васек до сих пор облизывал кончиком языка губы.
А когда малыш рассказывал, как их провели по заставе и показали пирамидку с оружием, глаза у Юрки совсем сузились, точно слиплись, и Васек возмущенно толкнул его в колено:
— Да ты спишь, что ли?
— Хватит трещать! — Юрка вскочил со стула, и только по какому-то недоразумению не дал братишке затрещину.— Пошел вон, ну!
Юрка хотел остаться один.
Ах, какую бы страшную месть придумать для Валерия! Не говорить с ним день, два, месяц — ерунда. Вот если б не говорить с ним всю жизнь — это да! Живут же в поселке два брата Баулины, глубокие старики уже, известные на побережье поморы; так они как поссорились еще до революции (а в те времена, наверно, мамонты ходили по Мурману), как поссорились они, значит, тогда из-за Марфы Барышевой, красивой поморской девки, как схлестнулись, подрались на песчаном берегу губы в светлую полярную ночь, искровенили друг друга, так до сих пор друг на друга не смотрят. Еще в войну умерла Марфа, жена младшего Баулина, бороды у них побелели, у сыновей седина блеснула на висках, а братья до сих пор не замечают друг друга. Как чужие. Хуже чужих.
Вот это да! Крепкая была кость у старых поморов. Уж если ссориться — так на всю жизнь. И не меньше. Точно.
Юрке стало легче. Он ведь тоже поморский сын. Не подкачает!
— Где он? — спросил Юрка, не называя брата по имени.
— Встретил ребят на улице,— сказал Васек,— меня прогнали.
— Совещались о чем-то?
— Ну да, и не хотели, чтоб я слышал...
— А теперь проваливай,— тихо сказал Юрка, поглядывая в окно.
Когда Валерий вернулся, Юрка делал- вид, что не замечает его. Валерий, судя по всему, не очень страдал от этого. Скинув
412
канадку, он зевнул, потянулся, поправил зачесанные назад волосы, густые и очень светлые, и осторожно прошелся по сети. Дедушка Аристарх даже не поворчал на него. Валерий знал, как надо ходить по полотну сети — не волочил ноги, а поднимал и опускал их. Да и, кроме того, он был старший из внуков — рослый, широкий, ладный; его сильную выпуклую грудь внушительно обтягивал моряцкий свитер крупной домашней вязки. Так что, наверно, и ворчать на него было совестно...
Валерия любили в семье.
И самое плохое было то, что, может быть, больше всех любил его Юрка. Кто, если не Валерий, научил его плавать в прошлом году в озере? Лето стояло прямо-таки африканское — жаркое, душное, и ребята не вылезали из озера. А кто, если говорить по правде, первый показал Юрке, как надо прыгать на лыжах с трамплина и завязывать морской узел? Кто научил его правильно грести и бросать конец?
Потому-то, наверно, Юрка и обижался на него так, что Валерий был не какая-то там замухрышка и серая личность: он был насмешливо-спокойный, удачливый и, может быть, чуточку высокомерный парень.
Он все знал и в конце концов всегда оказывался правым. Всегда. Или, если быть точным, почти всегда. Верно, и на этот раз Валерий сделал как нужно: сам отнес на заставу коробку с ампулами. Ведь он, Юрка, мог невзначай разбить их по дороге — конечно, мог! — а этого нельзя было допускать никоим образом... Отнес, ну и что такого? Зачем же на него так обижаться и сердиться?
Вечером все уселись за стол. Валерий пил чай, широко расставив на пестрой клеенке локти, в своем черном свитере, похожий на моряка; его тонкая крепкая шея была смугла. Он улыбался. Он мог хорошо улыбаться. В его улыбке, то неуловимой, то широко открывавшей краешки ровных белых зубов, было что-то совсем детское, по-девичьи доверчивое, доброе, и, глядя на брата, Юрка казался себе никудышным, злобным зверьком.
— Ты что это словно воды в рот набрал? — спросила у него Рая.
Юрка промолчал.
413
— Осторожней,— сказал Валерий,— он сегодня кусается.
Брат шутил, пересмеивался с дедушкой и Раей, спокойный,
непринужденный, с точеным загоревшим лицом, большим ясным лбом, и Юрка искоса поглядывал на него влюбленными глазами и шептал про себя: «Слова не скажу ему до самой старости!»
Глава 3
ПОБЕГ
Но что самое обидное — Валерий совсем йе переживал разрыва.
На следующее утро он шел в школу в очень хорошем настроении, подбрасывал и ловил клеенчатую сумку на «молнии», посвистывал, на ходу лепил и бросал снежки в знакомых дев- чонок-восьмиклассниц. И те не обижались, а, наоборот, разрумяненные от мороза и ветра, хохотали и отвечали Валерию тем же. Он ловко нагибался, уклонялся от попаданий, и один пущенный в него снежок угодил Юрке в ухо, и Юрка живо отомстил бы девчонке в меховых полусапожках-румынках, если б поблизости не было брата.
В школьных дверях Юрка столкнулся с Гришкой.
— Смотри у меня...— процедил Юрка.— Только пикни! Ноги выдерну...
На большой перемене случилось неожиданное: ребят построили в коридоре и после короткого слова директора школы начальник погранзаставы капитан Медведев, смуглолицый и решительный, сказал, что за помощь пограничникам ученик восьмого класса комсомолец Валерий Варзугин награждается грамотой, и еще капитан призвал всех школьников быть бдительными.
— Прошу товарища Варзугина выйти из строя,— сказал начальник.
Легко, медлительно, какой-то особой, одному ему присущей иронической, чуть вразвалочку, походкой, подошел Валерий к капитану Медведеву. Тот пожал ему руку и под аплодисменты всей школы вручил грамоту.
414
Валерий встряхнул льняными волосами и, слегка покраснев от смущения, весело сказал, что ничего особого он не сделал, но, разумеется, всегда рад принести пользу заставе.
Потом добавил:
— Товарищи, мне неловко получать эту грамоту, потому что нашел ампулы не я, а мой брат Юра. Я только отнес их. Я так и сказал на заставе, но в грамоту почему-то вписали только меня... Это ошибка, товарищи...
С ног до головы обдало Юрку жаром.
— Ничего,— сказал капитан Медведев,— одно дело найти, а другое — принести, сообщить.
Юрка стоял ни жив ни мертв от стыда: вся обида на брата мгновенно прошла.
— Пусть и Юрка выйдет! — крикнул кто-то в строю.
— Юра, выйди из строя! — приказал капитан Медведев.
Подошвы Юркиных валенок прилипли к полу.
— Выходи, чего ж ты!
Юрку подтолкнули сзади, и он сам не помнил, как очутился перед строем, с огненными щеками, мокрый, жалкий.
— A-а, это Папуас! — крикнул кто-то из задних рядов.
415
— Молодец! — сказал капитан Медведев.— Объявляю тебе благодарность.
И Юркина рука очутилась в его жесткой храброй руке. Он не знал, что делать, как вести себя.
— Спасибо,— буркнул он на всякий случай и, сутулясь, быстро пошёл, почти побежал, в строй.
Когда ребят отпустили, к Юрке подошел Валерий и сунул свернутую трубкой грамоту:
— Держи... Можешь имя переправить... Разрешаю...
Юрка протянул было руку, но потом отдернул, словно обжегся. И ушел.
О лучшей награде нельзя было и мечтать мальчишке в поселке Якорном. Шпиона тут не задержишь, как на других, особенно южных, границах страны. Юрка не помнил случая (впрочем, может, от него и скрывали), чтоб даже пограничники ловили шпионов.
—’ Что вы сторожите тут — камни и воду? — спрашивали у пограничников приезжие.
Пограничники хитро улыбались:
— Хотя бы...
Улыбались и с прежней дотошностью проверяли у всех приходивших с моря и уходивших в море документы, ходили в дозоры с пистолетами-автоматами на груди, следили из секретов за местами, удобными для высадки с моря...
Их можно было встретить и в глухих сопках, плотных, загорелых парней в зеленых фуражках, и на причалах, и на прибрежной гальке. Кто-кто, а Юрка-то знал, что шпионов можно ждать не только со стороны моря. Они могут попытаться уйти с важными сведениями с побережья в море...
И хотя на последнем уроке Витька Медведев, сын начальника заставы, под величайшим секретом сообщил Юрке, что в ампулах оказалось всего-навсего средство от потливости и надписи были по-латыни, получить грамоту было очень приятно. Посмотреть на грамоту сбежалась вся улица.
Валерий вел себя так, точно ничего и не случилось. Зато Васька нельзя было узнать, до того он стал важным, надменным и повсюду, где можно, таскался за Валерием, отчаянно хвастая и совсем плохо слушая Юрку.
416
Юрка и сейчас почти не разговаривал со старшим братом, но теперь уже по другой причине: злился на себя. Да и неудобно было сразу перемениться. Подхалимство — не по его части.
Валерий по-прежнему вполголоса совещался о чем-то с приятелями, в доказательство каких-то своих доводов читал им выдержки из книг, постукивая карандашом по столу. Потом — об этом можно было догадаться и находясь в другой комнате — ребята стояли у карты Мурманской области, и Юрка в сотый раз слушал названия знакомых становищ, губ, рек. Затем брат что- то говорил, и от хохота приятелей трясся весь дом.
Юрке делалось скучно, и он, покончив с уроками, уходил па улицу.
Иногда Валерий с Игорем и Серегой становились на лыжи и убегали в сопки. Возвращались вечером, когда на небе слабо колыхалось реденькое, точно выцветшее, полярное сияние. В морозы оно было сильней, ярче, точно сотни разноцветных прожекторов с эсминцев бегали по небу. Не то было к весне, в мягкие апрельские дни, только одно название что северное сияние. Говорят, в Арктике, где-нибудь на Канином Носу, или на Новой Земле, или на Таймыре, от него нельзя оторваться. А здесь оно не очень сильное...
В котором часу Валерий исчез из дому, никто не знал. Но Юрка хорошо запомнил, как все было. Он вскочил с постели от громкого голоса матери и сразу понял: случилась беда. Едва натянув штаны, босиком вбежал в горницу.
Мать стояла у буфета растрепанная, в расстегнутой кофте, держала в руках листок в клетку и неподвижно смотрела в окно. Щеки ее нервно вздрагивали.
Юрка вырвал у нее листок.
Знакомым твердым почерком — наклон букв, интервалы между буквами строго соблюдены — на нем было написано:
«Родители, братья и сестры!
Первое — не беспокойтесь. Через неделю вернусь. А сейчас, когда вы “читаете эти каракули, я далеко от дома: мы идем на лыжах к Энской губе. Провизия и экипировка — в порядке, настроение — отличное, цель — ясная. Всякие поиски напрасны.
Пока!
В. Варзугин.
417
P. S. Юрка, работай над характером. Он у тебя портится. Рановато».
Слова были уверенные, смешливые, мудреные. Но они не успокоили мать.
Грузная, располневшая к сорока годам, она белела у буфета с распущенными короткими косами и, скрестив на груди могучие руки, на чем свет стоит отчитывала Валерия:
— Да он с ума сошел? На целую неделю! Долго ли в сопках заблудиться? А если туман и пурга? Мужики и те плутают и пропадают. А что он там есть будет?
Юрка сбегал в боковушку, где только что исправно видел сны и где по-прежнему крепко спал Васек, и, заметив пустой гвоздь на стене, сказал:
— Ружье взял.
Но и это мало утешило мать.
— А кого он сейчас подстрелит? Зайца? Оленя?
Дедушка, весь в белом, привстав на колено, сказал с печки:
— Так ему олень и подставит себя.
— Он хорошо стреляет,— сказал Юрка, чтоб хоть как-то успокоить мать.
— А патронов у него много? Пули есть или все с дробью?
— Есть,— сказал Юрка, хотя не знал, захватил ли Валерий патроны с тяжелыми убойными пулями.
— Не горюй, Алена,— проговорил дедушка, накрываясь полушубком,— понче в тундре урожай на куропатку, лыжными палками станет сшибать — мясо отменное. Нам еще привезет.
— Будет, старый,— рассердилась мать,— тебе бы все шутки да веселки. Зубы все проел на смехе — не надоело?
— А я и не начинал.— С печи бесовски блеснули дедовы глаза.— Вернется сынок. Иди с богом на ферму: коровы, поди, мычат, не дождутся. Вернется твой Лерка через день, куда ему тут идти-то — камни да болота.
Юрка странно оцепенел. Он вдруг сразу понял и о чем шептались в доме ребята, и о чем спорили, глядя на карту, и зачем: убегали на лыжах в сопки, и почему неделю назад Валерий занял у него три рубля. А три рубля новыми деньгами — огромная сумма!
418
Юрка вдруг стал вспоминать все подробности и странно.сти поведения Валерия в последние дни: починка рюкзака, набивка патронов, просьба занять у Егорки Таланова, сына капитана второго колхозного сейнера, саперный топорик, а у Раи — цей- совский бинокль...
Конечно, Валерий готовился к побегу, а он, Юрка, не мог догадаться... Растяпа!
Мать, видно, размышляла о том же:
— А я-то думала, куда сахар из сахарницы убывает. Положу две горсти — к утру несколько кусочков остается. Вот негодный! Удумал чего!
И чем хлеще отчитывала мать Валерия, тем лучше думал о нем Юрка.
«Сбежал, черт этакий! Встал тихонько,, оделся, вышел с лыжами из дому и, пока я дрыхнул под теплым лоскутным одеялом, ушел, не сказав ни слова.
Ну хотя бы мне сказал. Мне! Хотя бы намекнул. Так ведь нет. Своих взял, восьмиклассников... Ох и ловкий, бестия! И зачем я учинил эту дурацкую драку из-за ампул? Поэтому-то и не взял. Ни дисциплины, ни выдержки у меня. И правильно сделал, что не взял».
Он смел и тверд, Валерий. И очень способный — об этом даже учитель говорил.
Как-то Юрка сам слыхал, как брат по дороге в школу на слух заучивал доказательство какой-то теоремы. Анька Гар- кушева читала по учебнику, а он запоминал, в уме представляя чертеж. Получилось так, что в тот день Валерия вызвали, и, конечно, он получил пятерку!
Юрка вообразил, как идут они сейчас гуськом между сопок на лыжах, идут размеренным шагом, скатываются в низинки, минуют озера и впереди, неутомимо и легко, с ружьем за спиной, скользит Валерий...
Дедушка уже похрапывал на печи ровно, как и в боковушке Васек, еще ни о чем не знавший. Ни о чем не знала и Рая, ушедшая час назад на станцию.
— Сила нечистая,— сказала мать, повязывая платок.— Хорош! И чего все, как сговорились, хвалят его? «Какой у тебя сынок: вежливый, культурный, далеко пойдет...»
419
— И правильно говорят,— сказал Юрка,— иди на ферму. К вечеру вернется.
— Не знаешь ты его! — Мать тяжело дышала.— А отец в море... Ну и всыплю же я ему, когда вернется. Удрал и не предупредил, одну записку нацарапал.
— Раскудахталась! — крикнул Юрка.
— Ишь раскричался на мать! Васька разбудишь... Как огрею сейчас!..
Ох эти родители! И правильно сделал Валерий. Это он, Юрка, послушно живет при них, и в магазин бегает за хлебом и сахаром, и Райке носит записки от ее ухажеров, и однажды на ферме даже взялся корову доить. Сам напросился, дурак. Помыл руки, облачился в длиннющий белый халат и взялся за мягкие коровьи соски...
— Ну и смена растет у тебя, Алена! Ну и дояр! — засмеялась дежурная доярка.
Как пощечина, обожгло Юрку слово «дояр». Он вскочил, сбросил халат и ушел, унося душный запах коровника, а на подошвах — ошметки подстилки и навоза...
Капитаном он будет — вот кем. Капитаном океанского судна, как дядя Ваня, и никем другим...
Родители только и думают, как бы тебя нагрузить, и чуть что не так — недовольны. Конечно, мать была бы рада, если б сейчас Валерий, подобно ему, торчал в этом закутке, послушный и робкий, как цыпленок.
Много ж надо съесть Юрке каши, чтоб стать таким, как брат...
Застегнув на крючки полушубок, поправив у подбородка узел платка, мать шагнула в сени, все еще ругая Валерия, и напоследок так хлопнула наружной дверью, что дом затрясся и на печи зашевелился дедушка Аристарх.
В школе к Юрке подошел Николай Алексеевич, классный руководитель восьмого «А», где учился Валерий, и спросил, почему тот не явился на уроки.
— Не знаю,— сказал Юрка,— ушел куда-то на лыжах...— И вдруг вспомнил содержание записки: — А что такое экипировка?
— Иу как бы тебе сказать... В общем, снаряжение...
420
— А...— протянул Юрка.
И больше ничего не сказал.
И даже когда в школу пришли родители Игоря и Сере- ги, Юрка не объяснил, почему они исчезли ночью из дому. Он не привык болтать лишнее. Валерий бы его за это не похвалил.
Новая ночь в доме Варзугиных прошла невесело.
Мать не ложилась, все ожидала: стук в дверь — и входит Валерий. Самый старый и самый малый похрапывали, а Юрка то засыпал, и ему снились снежные сопки и храбрая цепочка лыжников в белых халатах, то снова просыпался и думал о Валерии.
Больше всего Юрку мучил вопрос: куда и зачем они ушли? Он старался припомнить все последние разговоры с братом, чтобы найти ключ к этому побегу.
Брат был не из болтливых. Но однажды, сидя за столом и задумчиво глядя в темное оконце, он встряхнул волосами и с неожиданной силой и болью сказал:
— Бросить бы все... Вырваться из этой мути... Сделать бы что-нибудь такое...
— Что? — осторожно спросил Юрка.
— Мало ли что. Такое, что другим не под силу.
Юрка от волнения почесал колени. Он и сам нередко тосковал и томился неведомо чем; его тянуло и звало куда-то. Но эти мечты были невнятные, зыбкие, как туман над губой в морозы.
— А чего? — опять спросил Юрка.
Валерий долгим, изучающим взглядом посмотрел на него.
— Я вижу, тебе неплохо живется.
Юрка не понимал брата. Конечно, ему живется очень даже неплохо. К чему он клонит? Судя по его тону, это скверно, что ему так живется, и Юрка уклончиво сказал:
— Ничего... Не хуже, чем другим...
— То-то и оно,— вздохнул Валерий,— радоваться нечему... Слушай,— он вдруг резко повернул к нему голову,— ты бы хотел найти самолет Леваневского?
Юрка читал о жизни знаменитого полярного летчика, некогда спасавшего с льдины челюскинцев, и о его последнем трагиче¬
421
ском полете. Как полетел он перед войной в Америку через Северный полюс, так и пропал без вести. И ледоколы выходили на поиски, и самолеты вылетали — не нашли. Ни колеса, ни кусочка крыла...
— Здорово бы,— сказал Юрка, не очень уверенный, что самое важное сейчас — разгадать эту загадку.— Но ведь Леваневский погиб, кажется, где-то над Ледовитым океаном, у полюса, откуда он дал радиограмму, что один мотор выходит из строя...
— Верно,— сказал Валерий.— У тебя, браток, память отличная — все запомнил.
Потом Валерий рассказал, что в одной старой книжке прочел, что где-то в их местах потерпела крушение норвежская научно- исследовательская шхуна «Вега»; часть экипажа спаслась на шлюпке, вошла в одну из губ побережья, и потом все следы исчезли...
Многое вспомнил Юрка, но ни один разговор с братом не давал ему ключа к этому побегу.
Юрка был отходчив и особенно не сердился на мать. Как никогда, жалел он ее сейчас. И так у нее сердце плохое, вон как разнесло, одышка мучает; как проделает два километра по берегу к ферме, долго слова сказать не может и вся мокрая стоит, утирается платочком. А тут еще на тебе, других забот не было...
Вторая ночь прошла еще тревожней. Все в поселке знали уже о случившемся.
Старая саамка Лукерья из крайнего дома сказала, что видела, как три лыжника прошли рано утром возле ее дома и скрылись в сопках. Старуха пожевала бледными губами и показала, куда они ушли.
В школе заспорили: начать поиски или еще подождать. Учитель физкультуры Гришук убеждал, что Валерий — отличный спортсмен, хорошо ориентируется, погода стоит тихая и нечего тратить время на поиски: сами вернутся.
Пока в школе шли споры, Юрка с тремя дружками бежал на лыжах от сопки к сопке. Вокруг было много лыжных следов. Но кто знает, чьи они?
Часа через три стемнело; слабые сполохи сияния вспых¬
422
нули над головой, заструились, побежали по небу. Было тихо и безлюдно.
.Задул ветерок. В лицо ударила крупка.
Пришлось повернуть к поселку.
Глава 4
ОЛЕНИ У ДОМА
Когда подходили к Якорному, снегопад усилился. Ветер, дувший теперь в спину, нес их, как парусные лодки. Ребята разбежались по домам.
Двинулся к себе и Юрка.
Во всех окнах дома горел свет — не спали. Сквозь пелену мокрых хлопьев за ситцевой занавеской Юрка увидел в горнице темный силуэт матери.
Сердце его сжалось.
Он вдруг понял, что, может, никогда, никогда больше не увидит Валерия.
Юрка подъехал к двери, снял лыжи.
Дверная ручка сквозь варежки обожгла руку. Что скажет он матери? Отца нет — в океане, на печке дряхлый дед, у стола глупенький Васек и мама, и некому помочь брату.
А брат, может, вот сейчас, заблудившись, погибает от холода. Или со сломанной ногой стонет в тундре, и его слышат одни полярные волки да песцы...
А тут еще начинается пурга. Что может быть хуже пурги в тундре!
Юрка встал на лыжи и побежал к переправе. Авось последняя дорка еще не ушла в Шняково.
Ему повезло. Полузанесенная снегом, она покачивалась на небольшой волне, терлась о сваи. В низенькой рубке машинного отделения громко зевал моторист.
С лыжами в руках прыгнул Юрка в дорку.
— Дядь Вась? — окликнул он моториста.
— Ага... Ты куда в такую погоду?
— Надо,
423
— Ну как, не объявились еще герои?
— Нет.
— Эко, право, дело.— Моторист опять зевнул.
— Езжайте, дядя Вась,— попросил Юрка.
— Время не вышло. Десять минут еще ждать. Я на расциса^ нии. Что, ея^ели люди рассчитывают на последний рейс?
Моторист говорил, не вылезая из рубки.
Юрка сел на сиденье и больше не произнес ни слова. Десять минут валил на него снег, залеплял лицо, лез за шиворот, а он даже рукой не шевельнул, чтоб отряхнуть его.
Моторист оказался прав: ко времени отхода в дорку спустились с брюги — причала со старыми складскими помещениями на толстых сваях — еще пять человек: зубной врач из поликли-: ники, редакционная машинистка и трое рабочих из мастерских.
Снег продолжал валить. Сквозь белую завесу смутно простую пала плахта, гигантская глыба сопки с плоской вершиной по ту сторону Трещанки.
— Видимости никакой,— сказал моторист, вылезая из рубки и оглядывая реку.— Дальше Малой стороны не пойдем.
Никто в дорке не протестовал: тут с погодой не шутят, перевернется дорка — из ледяной воды не выплывешь.
Моторист сам собрал деньги — по гривеннику с человека, сунул каждому по неровно оторванному билетику и полез в рубку.
Взревел мотор. Густая черная вода, хлюпая и всплескиваясь, шуршала о борта. Люди, кутаясь от снега в воротники, позевыг вали, лениво переговаривались, а Юрка, держа между колен лыжи, смотрел вперед.
Дорка на ощупь пробиралась к берегу в сплошной неразберихе падающего снега.
Вот она стукнулась в причал Малой стороны, и Юрка выскочил на доски, приладил лыжи и побежал. Дорога пролегала между камней, сорванных с сопки глыб, ложбинок и взгорков, и Юрка раза два грохался — чуть не сломал лыжи.
Вот уже позади здание радиостанции, и сигнальная мачта, и служебное помещение порта. Мелькнули огни судоремонтных мастерских.
424
Юрка летел дальше, к окраине Шнякова, к низкому длин- пому зданию.
Ни огонька. Лишь у входа светится электрическая лампочка, и в ее тусклых лучах вьется снег.
В дверях — часовой.
— Мне начальника,— попросил Юрка задыхаясь.— Товарища Медведева.
— Нету его,— сказал парень в армейской ушанке и плотной ватной куртке.— А тебе чего?
— Люди пропали... Ребята...
— Войди в помещение.— Пограничник стал крутить ручку служебного телефона.
Начальник явился минут через пятнадцать. Выслушав Юрку, он сказал:
— Это вы нашли ампулы?
— Да.
— Нашел ты, а принес брат?.. И ваш отец капитан сейнера?..— Начальник назвал номер судна.
Юрка кивнул. Начальник знал и помнил все. Он знал решительно все о людях поселка. Знал куда больше, чем о том догадывался Юрка.
— Добре,— сказал Медведев под конец.— А домой доберешься как? На Большую сторону больше не будет дорки.
— Как-нибудь.
— Переночуешь в казарме.
Юрка не возражал: в казарме так в казарме.
— Есть хочешь?
— Нет,— сказал Юрка и почувствовал пустоту в животе, но постеснялся в такое позднее время беспокоить пограничников,— час назад ужинал.
— Сержант Пискарев, проводите мальчика в казарму. Пусть ляжет на свободную койку...
— Есть проводить мальчика в казарму! — сказал плотный парень Ъ гимнастерке.
Много раз бывал Юрка возле заставы, знал, что двух пегих заставских лошадей зовут Свинец и Жорка; вороного котенка, который прижился на заставе,— Волчок,- а сторожевую собаку — Бара. Ездовой, возивший на двуколке с бочкой воду, брал
426
иногда с собой ребят. Пограничники не возражали, когда Юрка с мальчишками захватывали часа на два спортгородок, расположенный возле заставы: по-обезьяньи карабкались по шесту и канату, подтягивались на турнике и седлали «козла».
И лишь когда мальчишки слишком визжали под окнами и мешали спать вернувшимся из дозоров, во двор выбегал дневальный и прикладывал к губам руку: угомонитесь!
Частым гостем на заставе был и Валерий. И, наверно, не будь там турника, каната и «козла», никогда бы не выпирали на его руках упругие бицепсы, на животе и плечах — тугие снопики мускулов. Ударь кулаком — точно по камню, даже руке больно. Валерий здорово крутил на турнике «солнышко», даже пограничники завидовали и просили поучить. Но коронным номером его было другое: он без помощи ног взбирался на канат, быстро перехватывал его руками, и только налившееся кровыо лицо говорило о напряжении.
Многое знал Юрка о жизни заставы. Знал даже, что солдатам три раза в день выдают витамины в шариках-драже: фрукты здесь не родятся, а витамины человеку нужны. Но ни разу Юрка не был внутри заставы: вход штатским туда запрещен.
— Раздевайся,— сказал сержант.
Юрка сбросил телогрейку и ушанку.
— Вешай! — приказал сержант.
Раздевалка находилась тут же, в коридоре: в доску вделаны крючки, и возле каждого — бумажка с фамилией. «Это чтоб на случай тревоги не спутать одежду»,— догадался Юрка.
Встав на цыпочки, он повесил свою телогрейку на пустой крайний крючок со странным словом па бумажке «Тополь» — что это, фамилия? и пошел за сержантом. Открыв одну из дверей, тот ввел Юрку в огромную комнату, сплошь заставленную койками. Койки стояли одна над одной, в два этажа.
— Занимай вон ту.— Сержант кивнул на пустую верхнюю койку у среднего окна.— Сейчас принесу простыни...
Юрка лежал под одеялом, вслушивался в храп солдат, вглядывался в смутно светлевшие в полутьме казармы лица и потихоньку засыпал.
Спал он неспокойно: ночью в помещение кто-то входил, наверно из ночного наряда, раздевался и скрипел кроватью, кто-
427
то одевался и, мягко ступая по полу валенками, уходил. В коридоре, как казалось Юрке, лязгало оружие, раздавались приглушенные слова команд...
Проснулся Юрка очень рано. Спустился с койки на пол, оделся й хотел выскользнуть на улицу, но дневальный отконвоировал его в столовую, накормил кашей с мясными консервами и тремя стаканами кофе со сгущенкой.
Полчаса дожидался он дорку и, когда она наконец вынырнула из клочьев снега, первым прыгнул в нее.
Был прилив, вода стояла высоко, закрыв сваи, и не нужно было спускаться вниз по трапу.
Получив из озябших рук Нади билетик, пристроился у носа дорки и, пока лодка шла на Большую сторону, смотрел вперед. Все время валил снег, но ветер дул не сильный. Это был слабый «заряд» — так здесь называют пургу,— не то что в феврале. Ветер тогда сбивает с ног, с трудом можно открыть дверь на улицу.
Но самое плохое, что беспрерывно шел снег. Густой, мокрый. Даже опытный охотник может сбиться с пути, а что уж говорить про мальчишек.
Три дня назад ушли они из поселка, словно канули в снег, в пургу. Никому и дела до них нет. Даже пограничники и те не особенно-то взволновались и не бросились среди ночи на поиски.
Мотор дорки, казалось, нарочно, чтобы позлить Юрку, едва тарахтел, медленно толкая вперед лодку.
— Не пришли? — безучастно спросил у Юрки радист, заспанный и вялый, в черном матросском бушлате, наверно, с дежурства.
— Нет.
— А твой батя возвращается с промысла,— так же безучастно и сонно проговорил радист.
— Связался с сейнером?
— Да. Дня через четыре придет.
«Лучше б не приходил,— подумал Юрка,— лучше б задержался... Или издали чувствует, что здесь случилось?..»
На улице Юрка встретил группу лыжников-старшеклассни- ков и тут же узнал, что с сегодняшнего дня все ученики с восьмого по десятый класс отправляются на розыски. Школа связа¬
428
лась с заставой, радиограммы об исчезновеиии ребят полетели во все прибрежные рыбацкие становища и военные точки полуострова. Даже в Мурманске знают уже об исчезновении трех ребят из Якорного...
Юрка заскочил домой, и первое, что увидел,— красные глаза матери. Дедушка Аристарх, в исподниках и оленьих тапках, стоял сгорбясь у окна, почесывал заросшую седым волосом грудь, грозился своими же руками отдубасить Валерия и вспоминал, каким послушным зуйком был он на отцовской шняке...
Мать даже не спросила у Юрки, где он ночевал, и Юрка стал утешать ее: десятки людей ищут и, конечно, найдут.
Он вышел из дому и побежал на лыжах вдогонку за школьниками. У одного из саамских домов с оленьими рогами на крыше он увидел две упряжки.
Запряженные в нарты рыжие быки стояли возле стены, смотрели в землю и о чем-то думали. Снег облепил их гривы, палип на рога, на спины и бока, и быки стояли косматые, насуплепные, молчаливые и чего-то ждали.
«Вот на чем надо искать пропавших... Всю тундру можпо обшарить!» — вдруг понял Юрка.
И направил лыжи к дому.
И вдруг остановился. Лыжи точно прилипли к снегу: в этом доме жил Гришка Антонов, тот самый Гришка, которого три дня назад он побил.
Юрка упер палки в грудь и задвигал лыжами: вначале одну, потом другую. Дверь в этот дом была закрыта для него.
Передовой бык мотнул головой, и колокольцы па упряжи зазвякали.
Косо падал снег; издали, из-за высоких кряжей сопок, доносился усталый шум — шумело Баренцево море.
Последние лыжники уже скрылись в сопках, а Юрка стоял у бревенчатого домишки и жевал варежку.
Он подставил бы сейчас обе щеки, и подбородок, и даже нос — на, бей, лупи изо всех сил кулаком, чтобы пошла юшка, чтоб вспухли и отвердели синяки, чтоб ссадины стягивали кожу!.. Так тебе и надо, Папуас!
429
Олени смотрели в землю, изредка дергая ушами, мохнатые, белые, неопрятные, и временами издавали какие-то странные звуки, точно зубами скрипели.
Юрка толкнул дверь.
В передней пахло дублеными шкурами, развешанными у потолка, полосками выделанной кожи.
Юрка постоял немного. Потом толкнул вторую дверь.
Худая горбатая бабка в железных очках сучила в сухих пальцах оленью жилку. Гришка, босой и разлохмаченный, валялся на кровати, на синих и красных подушках, и читал книжку. Кривоногий карапуз копошился на полу и хватал бабку за оленьи тапки.
— Здравствуйте,— сказал Юрка.
— Двери закрывай, выстудишь! — крикнула бабка, взяла в рот кончик жилки и стала торкать его в ушко иголки.
Кончик все время проходил мимо. Бабка кривила морщинистые губы и что-то ворчала по-саамски.
— Давайте я,— сказал Юрка. Но пальцы у него дрожали, как у пьяницы, и он уже пожалел, что напросился.
Он заставил себя успокоиться, и упругий кончик оленьей жилки нырнул в ушко иголки.
— Из тундры кто приехал? — спросил Юрка.
— Папка.— Двигая пальцами ног, Гришка продолжал читать книжку, и Юрка увидел, что это была «Бэла» Лермонтова.
— Где он?
— В правлении... А тебе зачем?
— Оленей бы... Брат потерялся и еще двое с ним.
— A-а, слыхал,— протянул Гришка,— сбегай, может, даст.
Карапуз в высоко задравшейся рубашонке смотрел на Юрку
огромными — вот-вот выскочат! — глазищами. Юрка щелкнул его по теплому упругому пузу, и малыш заулыбался. Бабка выказывала куда меньше дружелюбия.
— Олени, олени,— заворчала она тягучим голосом и почесала ногтем седоватую голову,— всем нужны олени, хо- дют тут, просют. А когда хворост привезти? Всем нужны олешки...
Юрка побежал в контору правления.
Егор Егорыч, председатель, из военных, два года назад де¬
430
мобилизовавшийся на одной из баз, все еще носил офицерскую форму.
— Семен! — крикнул он саами средних лет в малице и то- боках, выслушав Юрку.— Хватит стены прокуривать, и так пе продохнешь... Бери-ка упряжку — и в тундру, ребята пропадают... Не найдешь — не возвращайся...
— Ясно, товарищ начальник,— шутливо стукнув тобок о то- бок, сказал Семен,— я ж на каждом собрании говорю: без оленей колхоз не колхоз...
— Собирайся.
— Есть собираться,— прокартавил пастух, и они с Юркой вышли на крыльцо.
Глава 5 ИВАН ТОПОЛЬ
В лицо дул ветер, мел снег, и Юрка ничего не мог разобрать, кроме смутных силуэтов не то снежных облаков, не то сопок.
Справа, метрах в сорока от Гришкиных нарт, ехал его отец; слева — Семен. Иногда они перекликались. Сбоку неслись лай- ки, то пб брюхо проваливаясь в рыхлый снег, то гулко стуча лапами по плотному насту.
Перевалив гряду сопок, отец остановил нарты и что-то по-саамски крикнул Гришке. Разгоряченный быстрой ездой, с красными, как клюква, щеками, Гришка покрутил в руках хорей, скосил на Юрку черный глаз и крикнул отцу тоже по-саамски.
Отец взмахнул хореем и пропал в облаке снежной пыли.
— О чем это вы? — спросил Юрка, знавший не больше двух десятков саамских слов.
— Отец сказал, что ехать вместе — худое дело, надо порознь; спрашивал, согласен ли я ехать один... Он двинул туда, к морю,— там дорога трудней, а я — в тундру...
Гришка подобрал полы малицы, поудобней пристроил на полозе ноги и гортанно крикнул.
431
Три быка, раскидывая задние ноги, скакали вперед, обстреливая Юрку комьями снега из-под копыт. Юрка жмурился, резким движением туловища сбрасывал с себя комья и крепче сжимал спинку нарт.
Снег слепил глаза, ветер мешал дышать. Бешеная тряска на кочках и взгорках, боязнь вылететь из нарт отвлекали внимание.
А Гришка видел все: и быков, и дорогу, и то, что творилось по сторожам. Иногда он соскакивал с нарт, огромными прыжками подбегал к нагромождениям камней и тыкал в снег хореем.
— Ты чего шаманишь там?
— Пещера тут, может, в ней они...
— Дальше поедем... Пусто здесь.
Гришка прыгал в нарты, вскрикивал, и они неслись дальше.
Скоро ветер начал утихать. Снег сыпал реже.
Отчетливей стали видны сопки. На крутых склонах, где не мог удержаться снег, темнел камень в трещинах и выбоинах. Кое-где из-под снега жестко топорщились веточки полярной ивы и березки. На скалах ржавели пятна лишайников.
К вечеру нарты вынеслись на гладкую круглую равнину, со всех сторон окаймленную грядами сопок.
Вокруг пи души. Необитаемая снежная земля. Ребята вставали на нарты и во все горло кричали.
«Ери-и-и-и!» — возвращало им эхо.
Без устали, до хрипа, звал Юрка брата, кричал во все стороны, но только эхо отвечало ему.
День мерк. Юрка намотался в тряске езды, руки и ноги ны¬
432
ли, нестерпимо хотелось есть. Не успел он заикнуться об этом, как Гришка вытащил из задка мешочек — он-то, оказывается, и мешал Юрке удобно сидеть! — извлек оттуда стеклянную банку и вытряхнул кусок мяса.
Вынул из ножен охотничий нож, отхватил Юрке большую половину и подал нож;
— Кушай.
Треск мотора заставил их вскинуть голову. За дальней сопкой мелькнуло что-то красное^ бросило на снега тень, и рокот стал удаляться к морю.
— Военные;— сказал Юрка.
Сразу стало не так одиноко.
— Чаю хочешь? Согреемся.
— Так ты и чайник захватил?
— В тундру без чайника не ездят. Как и без топора.
Олени не отставали от ребят; по грудь войдя в снег, они копытами докопались до ягеля и с превеликим аппетитом жевали. Начало смеркаться. Снег погас, посерел.
Тундра была нема. Сумерки отбрасывали длинные тени сопок на снег. В ушах звенело от тишины.
— А Валерки нет,— сказал Юрка и вдруг всхлипнул и тут же вытер варежкой лицо.
— Может, папка нашел,— сказал Гришка,— или лыжники.
— Никто его не нашел,— с ожесточением сказал Юрка.— Заблудились они, замерзли, и сейчас...— и опять всхлипнул, совсем по-детски. И вдруг дико заорал на Гришку: — А ты жалеешь своих чертовых оленей. Гони их!
В поселок они вернулись за полночь. Где-то заливались собаки. Окна темные. Только в одном доме горят все три окна — в доме Варзугиных.
— Ну пока.— Юрка слез с нарт, хромая на затекших ногах, взял лыжи и пошел к своему дому.
Он очень устал. На душе было тошно и пусто. Так пусто, что он даже не чувствовал, как вчера, волнения и горести.
Поставил в сени мокрые лыжи, открыл дверь в горницу, зажмурился от света и...
И увидел Валерия.
Брат сидел за столом в своем черном свитере, сильно похудевший, непривычно тихий, с аккуратно зачесанными назад волосами, сидел, и умные, виноватые глаза его смеялись.
С шапкой в руках застыл Юрка на пороге, глупо улыбнулся, сказал:
— Нашелся!
Хотел подбежать, обнять брата, но застеснялся и, вдруг повернувшись ко всем спиной, неуклюже запрыгал, сбрасывая с плеч сырую телогрейку.
И только потом уже, повесив телогрейку на крючок, увидел Юрка, что в горнице, кроме Валерия, матери, дедушки, Васька и Раи, находится незнакомый человек в форме пограничника. Он сидел за столом, длинноносый и рыжий, ладонью гладил жесткий ежик па темени и, видно, только-только прервал свой рассказ.
434
Заметив его, Юрка поздоровался, и это запоздалое приветствие прозвучало нелепо.
Солдат быстро встал из-за стола, подошел к Юрке, подчеркнуто браво вытянулся, протянул руку и брякнул:
— Рад познакомиться. Сержант Иван Тополь.
— Юрий.— Юрка жгуче залился румянцем, пожимая сухую, твердую руку пограничника.
Мать вытирала краем передника красные глаза; Рая исподтишка поглядывала на солдата; дедушка Аристарх мешал ложечкой густейший чай, а Васек в упор рассматривал блестящие значки на гимнастерке пограничника, его ремень, целлулоидный подворотничок, армейские валенки и молчал.
Солдат уже сидел за столом, а Юрка все еще стоял и не знал, куда деть руки. «Иван Тополь...— думал он.— Не тот ли это пограничник, на крючок которого вешал я на заставе свою стеганку? Наверно, он. Ну и фамилия! Может, я и спал на его койке на верхотуре...»
— Так и будешь стоять? Садись за стол,— сказала мать.— Ты где это весь день пропадал?
— На лыжах...— ответил Юрка и хотел прибавить — «катался», чтоб не получилось, будто он хвастается участием в поисках брата.
Но Юрка ничего не добавил.
Он присел, задев ногой стул Васька, натянуто улыбался и чувствовал себя как в гостях.
У стола неслышно ходила Рая в мягких оленьих туфлях, которые шили на продажу саами, наливала чай, щедро накладывала в пластмассовые блюдечки болгарский клубничный конфитюр, купленный в магазине рыбкоопа.
Юрка вертел в пальцах горячий граненый стакан, дул на чай, пил маленькими глотками и поглядывал то на Ивана Тополя, то на Валерия.
Брат, против обыкновения, молчал, не рассказывал о своем доходе, и вообще никто за столом и словом не обмолвился о главном.
Юрка, конечно, догадывался, что пограничник имеет какое-то отнопГение- к Валерию, с чего бы иначе он стал сидеть за полночь в их доме... И все-таки, как ни хотелось Юрке
,435
разузнать подробности спасения брата, он не проронил ни слова.
Дедушка Аристарх, весь какой-то праздничный, с расчесанной рыжей бородой и прилизанными бровями, в белой льняной косоворотке, не столько распивал чаи, сколько рассказывал о рыбацком житье-бытье.
Шестьдесят лет назад — подумать только! — впервые увидел он Якорную губу и поселок, который тогда назывался становищем. Он, десятилетний мальчонка, зуек из беломорской деревушки Малошуйки, Архангельской губернии, вылез с отцом и братьями из большой старой лодки — ёлы — на низкий песчаный берег губы. На берегу он увидел россыпь черных поморских хибар. В них живали навсегда осевшие здесь рыбаки — колонисты, как их звали на побережье,— и рыбаки, приезжавшие на весенне-летний сезон: в эту нору на крючки ярусов и в сети густо идут треска и морской окунь, палтус и мелкая мойва с песчанкой. Белое море плохо кормило, вот и отправлялись поморы с Летнего и Терского берегов Беломорья на холодный каменный Мурман...
Кажется, тысячу раз уже рассказывал дедушка: становище в те годы не утопало, как нынче, в песке, а поросло трестой, и это уже после траву сгубили привезенные сюда овцы с козами.
Тысячи раз слышал Юрка рассказы о гибельных снежных зарядах и штормах, о жадности купцов, за гроши скупавших у промышленников, как звали тогда рыбаков, пуды трески и морского окуня, о хитрости владельцев фактории и парусных судов — шняк—и зверобойных шхун, заходивших в губу...
Вполуха слушал Юрка дедушку, а сам поглядывал на Валерия. Брат был таким же, как и до побега, только сильно посерьезнел и похудел — выступали скулы, и подбородок вроде стал острей и упрямей, шея сделалась тоньше, и поэтому ворот черного свитера казался шире, чем прежде. Настрадался, видно, бедняга...
Внезапно Иван Тополь встал из-за стола, блеснул значками, пожал всем руки и двинулся одеваться.
Рая, накинув платок, пошла его проводить.
Она долго не возвращалась.
436
— Простынет,— сказала мать,— фуфайку бы накинула.
— Ничего с ней не сделается,— дедушка стал стаскивать косоворотку,— в такие-то годы... Да и на улице ноне не холодно.
Валерий понимающе улыбнулся. Он все еще помалкивал.
А на вертолета страшно лететь? — спросил у него Васек, и Юрка сразу догадался, кто и как спас ребят.
Стукнула дверь, и в столовую вошла Рая. Лицо ее пылало, и густая россыпь ярких веснушек на курносом лице, ушах и шее померкла — такая она была красная.
— Ты чего? — спросил Юрка.
— Ничего.— Рая сразу ушла в боковушку, а Валерий локтем поддел Юрку и подмигнул: не приставай!
Глава 6 ПРО КИТОВ И АКУЛ
Во сне Юрке казалось: он все еще мчится по тундре. Нарты бросает по горбам и рытвинам, и, чтоб не свалиться, он обеими руками держится за спинку. А пальцы ослабли: вот-вот разожмутся...
Юрка проснулся. В комнате темно. У стенки ровно посапывает Васек, за стенкой на печи откашливается дедушка, и громко тикают ходики.
Вдруг в Юркину голову пришла шальная мысль: а где сейчас Валерий? Как будто, возвращенный из тундры,. он мог пуститься в новое опасное предприятие! Юрка знал, Юрка был уверен: утомленный бессонницей и недоеданием, Валерий спит без задних ног, даже снов не видит. И все же теперь от брата можно было ждать всего.
Юрка привстал с постели.
Неловко закинув руку к спинке койки, смешно искривив о подушку нос, брат глубоко спал. Густо поросшая пушком верхняя губа была полуоткрыта, обнажая подковку ровных белых зубов.
Юрка зевнул, почесал лопатку, улегся и, успокоенный, заснул...
437
По дороге в школу Юрка узнал от соседской девчонки Вали Дворкиной, что она да и другие жители Якорного-видали вчера, как огромный красный вертолет, треща винтами-крыльями, пролетел над поселком и опустился по ту сторону губы у заставы. А потом часа через два в сопровождении пограничника в дом явился Валерий.
В поселке новости распространялись мгновенно, и перед уроками Юрка узнал, что легче всех отделался Валерий: отощал да сломал лыжу. С Игорем и Серегой дело хуже — они в больнице: у первого сильное растяжение связок на левой ноге и он не может ходить, второй как-то ухитрился отморозить ухо и два пальца на руке...
Два дня Валерий сидел дома и просил никого к нему не пускать. Не так-то приятно слушать охи да ахи и отвечать на сотни вопросов. Даже Юрка не знал подробностей неудав- шейся экспедиции. Ни маршрута, ни целей ее.
Валерий молчал, и Юрка не приставал к нему с расспросами.
Когда Юрка в первый день возвращался из школы, за ним увязалась гурьба ребят — все хотели повидать героя дня. И стоило немало усилий, чтоб отвадить их, наврать, что Валерий отдыхает и ему не до них.
Войдя в дом, Юрка увидел у окон кучки ребят. Не расходились, ждали, и Юрка задернул занавески.
Валерий, по старой привычке, в носках валялся на койке и запоем читал «Путешествие на «Фраме». Он не заметил, как вошел Юрка. А когда заметил, сел на койке, откинул съехавшие на глаза легкие волосы и сказал:
— А мы уже у цели были, но тут...— и, словно спохватившись, что говорит лишнее, замолк.— Слабаками они оказались...
— Кто? — спросил Юрка.
— Они,— сказал Валерий.— Я-то думал о них... Слушай, а ты Полярную звезду на небе найдешь?
— А то как же.
— А консервную банку ножом откроешь? Не специальным — обыкновенным.
— Чего же тут мудреного?
438
— Значит, не того, кого нужно, взял в поход,— сказал Валерий.— Когда тренировались возле поселка, все шло хорошо, а как двинулись в поход...— Валерий махнул рукой.
Юрка слушал его с замирающим сердцем.
— А тут еще ко всему Игорь оказался близоруким: минус шесть. А скрывал ото всех. Ему очки носить, оглобли за уши закладывать (здесь Юрка прыснул), а не в поход. Если б не его взнос, никогда бы не взял...
— Какой взнос? — спросил Юрка.
— Ты чего, думаешь, экспедиция не требовала, так сказать, материальных затрат? Ну Игорь, бог с ним, от'него я ничего героического не ждал. Но Серега..-. Нащ вроде, поморский, а на третий день нюни распустил. Игорь — тот хоть ничего делать не умел, да не ныл. А этот... Вспомнить тошно!
Валерий, заложив под затылок руки, вытянулся во весь рост.
— Люди!
Юрка слушал, как его сердце гулкими толчками гонит кровь. Он всегда мечтал быть таким, каким уже, оказывается, стал Валерий: выносливым, стойким и очень смелым.
А брат, точно догадываясь, что творилось в его душе, сказал:
— Смотри, Юрка, хоть ты будь человеком. А то и не посмотрю, и руки не протяну.
— Не беспокойся,— сказал Юрка.
В целом мире не было у него сейчас человека дороже Валерия.
— Ну, а если так, проваливай отсюда и не мешай читать.
Юрка ничуть не обиделся на него и оказался в обществе
Аристарха. Дедушка сидел на полу и вырезал ножницами куски сопревшей сети — чинил второй тайник.
Вечером с дежурства вернулась Рая и всполошила весь дом: завтра приходит с моря отец. Об этом ей позвонил знакомый оператор с радиостанции. Подоткнув старенькую юбку, она принялась за полы, гоняя ребят и дедушку из комнаты в комнату. Мать побежала в магазин за вином и консервами. Потом заняла у соседки пшеничной муки и замесила тесто.
439
Утром Юрка проснулся от аромата сдобных пирожков. Хотел утащить один, но получил по рукам и побежал в школу, счастливый и легкий. Валерий в этот день решил тоже выйти. «Больничный лист кончился»,— объявил он, укладывая учебники и тетради и набирая в авторучку чернила.
Юрка скакал через наметенные ночью сугробы, что-то вопил и смеялся на всю улицу, а Валерий шел каким-то новым, сосредоточенным, виновато^прилежным шагом, смотрел под ноги и старался держаться :в тени домов.
В школе после уроков они не задержались. Валерий пришел повеселевший, оживший: видно, не очень ругали. Схватил в сенцах лопату и принялся отгребать у входа снег.
— Оденься, застынешь! — высунул наружу голову Аристарх.
— Ничего! — В одной рубахе, без шапки, Валерий работал споро и весело.— Ковер бы постлать для капитана!
Потом, хотя мать сказала, что Юрка наготовил дров на
440
неделю вперед, Валерий целый час размахивал в сарайчике тяжеленным колуном, и крученые сосновые кругляки кололись звонко, как лед. Затем он буквально вырвал у Юрки ведра, сбегал к колодцу, принес полнехонькие и готов был еще раз сбегать, но пустых ведер не оказалось.
Валерий никогда не отличался леностью, но и особого усердия в работе за ним не замечалось. Но Юрка-то прекрасно понимал, откуда у брата этот приступ трудолюбия: смягчить домашних, а то наговорят отцу всякого...
После обеда в дом Варзутиных зашел старший отцов брат, дядя Федя, высоченный, сутулый, в драном флотском бушлате с вылезающей .ватой.
— Гриша приходит? — спросил он у дедушки и оглядел буфет, где за стеклом виднелись бутылки с белыми и красными горлышками.
Лицо у него было бледное, глаза мутные, как у вареной рыбы. Юрка знал: намекает, чтоб пригласили. Плевать ему па
441
все: и на брата, Юркиного отца, и на рыбные промыслы, и на интереснейшие мужские разговоры,— только б стопку опрокинуть.
— Да, да, приходит,— по-стариковски зычно и занозисто бросил дедушка Аристарх.— Он промышленник, он капитан, а не топчется у магазинов, не клянчит оставить глоток... Иди- иди отсюда, нечего следить, не для тебя полы вымыли. Как Валька пропал, тебя не было, а тут пронюхал спиртное, заявился...
И дядя Федя ушел, тихий и покорный. Даже слова не сказал. Втянул голову, поправил шапку с выцветшим крабом и ушел. А ведь тоже был штурманом когда-то и в карман за словом не лез...
На причале в Шнякове дрогли на ветру дедушка Аристарх с Валерием и Юрка. И еще десятка два встречающих. Ветер был не сильный, и вода в губе не слишком бросала стоявшие у причала рыбачьи карбасы и пограничную моторку с флажком. Изредка сыпал снежок, хрустел на досках причала, забивался в щели. Возле пирса фактории болтались на волнах лихтер с тесом и малотоннажный танкер, доставивший в поселок горючее. Вода в губе была серая, скучная, в радужных пятнах мазута.
Скоро дедушка ушел погреться в комнатку портнадзора, а Юрка с Валерием стали толкать друг друга плечом, дуть в варежки. Уж очень не хотелось покидать причал...
Сейнеры должны были появиться в узком просвете — горловине губы.
С хриплыми криками жались к воде чайки, под ногами хлюпало — прибывала вода.
— Валь,— спросил Юрка,— а почему вы пошли втроем? Целый взвод можно было сколотить из ребят... И нашли бы скорей, что искали...
— Терпеть не могу мероприятий... И к тому же нас туда бы не пустили. Кто мы для них? Дети среднего школьного возраста.
— Не говори,— вздохнул Юрка и стал думать, куда бы и ему сбежать.
Валерий подкрался к Людке Сорокиной, поджидавшей от¬
442
ца, боцмана второго сейнера, и сунул ей за шиворот горсть снега.
Людка взвизгнула, испугав чаек, и погналась за Валерием. Поймать его было нелегко. Он убегал, прячась то за одного, то за другого. Несколько раз забегал за Юрку, толкал его на Людку и тотчас отскакивал.
— На пирсе — прекратите безобразие! — раскатился над губой громовой, потрескивающий голос из репродуктора диспетчерской вышки.
Валерий застыл на месте, потешно, как пингвин крылышки, поднял вверх руки — сдаюсь! — и Людка, мстительно поблескивая глазами, ткнула его кулаком в бок.
Сейнеров еще не было.
— Погреемся, что ли? — спросил Валерий, надурачившись.
Они зашли в служебное помещение, в комнату портнадзора,
забитую народом.
— Да не в море, тут это было, в Якорной,—- сердился дедушка Аристарх, споря с кем-то.
Присев на подоконник, Юрка разглядывал лица моряков и в который уже раз слушал рассказ дедушки о случае сорокалетней давности.
— Сельдь в ту весну густо шла, хоть весло стаиови — не упадет. Выметали мы с бота кошельковый невод, переждали, чуем что-то неладное. Клокочет внутри, кипит, натянули веревку; ну, думаем, косяк обметали, сотню пудов возьмем... А ну тяни, ребятки! Выбираем невод. Туго идет дель. А внутри как вулкан. И видим — царица небесная! — всплывает гора и бьет хвостом! И лоб перекрестить не успели — хватила гора хвостом, сеть на клочки — и долой из невода! Только потом сообразили — китенок в губу зашел, сельдяник, за косяком плыл... И все тут было, в этой губе... При наших дедах китов тут было — будьте здоровы. В Норвеге даже китовый завод был. А нонче перебили всех, перевелись киты, а на тех, что остались,— запрет. Захотел теперь китовьего уса — в Антарктику шпарь...— Дед бесовски блеснул глазами и расправил бороду.
Валерий подмигнул Юрке: любит старик язык чесать!
Никто этой истории не удивился, потому что про случай
443
с китом-сельдяииком сорок лет уже рассказывают старики, и даже малыши из детского сада могли повторить ее слово в слово.
Женщина, вывешивавшая на сигнальную мачту штормовые и другие знаки, принесла чайник. Он пускал из носика тугую струю пара. На столе появились кружки, копченый окунь и палтус, хлеб с сахаром. Началось неторопливое чаепитие. Синий дым тучей нависал под потолком. Пахло чадом от печки и мокрыми валенками.
Люди в зимних шапках, в бушлатах, телогрейках, полушубках ножами резали рыбу, медленно обсасывали косточки и складывали на обрывки газет. На миг в комнату заглянул молодой пограничник, оглядел людей и тотчас исчез.
— А кто из вас акул промышлял? — спросил вдруг Аристарх.— Ну ты, Семен, ты, Бочкин. А еще кто? Уходит промысел. А он-то живости требовал, характера...
И дедушка начал рассказ об акулах.
— Сейнера! — вдруг закричал Валерий, все время глядевший в окно, и люди повалили на причал.
Глава 7
ПРИХОД
Юрке стало досадно — не он первый увидел их!
Покачиваясь на волнах, в горле Якорной губы появились два белых сейнера, четко выделяясь на фоне коричневого мыса. Вот они миновали свечку маяка, оторвались от темного фона скал, развернулись и вышли на простор огромной губы.
С диспетчерской вышки громовым голосом передали, какому судну пришвартоваться первым. Не успел Юрка опомниться, как Валерий прыгнул на вставшее у причала судно и по трапу побежал вверх.
Щель между стенкой причала и бортом судна то расширялась, то сужалась. Юрка замешкался. А когда прыгнул на сейнер и взобрался на капитанский мостик, отец уже мял в ручищах Валерия.
444
Юрка остановился в дверях, дожидаясь своей очереди. Смотреть на отца с братом в такой момент было неудобно, и Юрка не знал, куда деть глаза.
Отец никогда не обнимал его. А Валерия — всегда. Да и понятно: первенец, старший, на полголовы отца перерос. Почти мужчина. Как такого не обнимешь!
Юрка не огорчался: Валерий стоил большего...
— А-а-а, и ты явился! — Отец только сейчас увидел Юрку и оторвался от старшего сына.— Ну иди-иди...
Юрке досталось крепкое рукопожатие, торопливый поцелуй и похлопывание по спине. Отец быстро отпустил его, что-то крикнул по переговорной трубе в машинное отделение, заткнул ее заглушкой, снял зимнюю шапку и рукавом вытер лоб.
Он был невысокий, кряжистый, реденькие рыжеватые волосы свалялись, и сквозь них на макушке светлела небольшая плешь, а спереди по обеим сторонам лба виднелись острые залысины. Кирпичные, с едва заметными следами оспы, щеки его были гладко выбриты, стальные зубы влажно поблескивали.
Его руки, лицо, сероватые сощуренные глаза были холодные, жесткие, не очень уютные.
—. Дома порядок?
— Полный,— только и успел сказать Валерий: больше отцу и словом некогда было перекинуться с ними.
Часа два он принадлежал портовым властям, председателю колхоза Егору Егорычу, тоже явившемуся на сейнер, директору рыбзавода Дедюхину, который решил вдруг сунуть нос в трюмы судна, где на специальных чердаках был уложен улов.
— Не бойся, не бойся,— поддел его отец,— на этот раз рассортировали и головы срезали.
— Давно бы так,— сказал директор,— твоя крепче будет па плечах держаться... А досолки не потребуется?..
Завтра увидишь... Что ты меня сразу за горло? Вон батя
мой топчется на причале, а ты повис на мне...
И, отстранив плечом настырного толстяка Дедюхина, отец шагнул на причал — вода была полная, и палуба сейнера держалась на уровне причала — и разлохматил, растеребил торжественно расчесанную Аристархову бороду.
445
Но и своему отцу отец принадлежал не больше трех минут, потому что со всех сторон на него навалились члены экипажа. Увлекаемые женами и детьми, они рвались домой и пытались выяснить, когда кончится отгул после рейса и можно ли немного задержаться.
Происходило это потому, что положенные дни отгула сокращались (колхоз недовыполнил план первого квартала по рыбе, о чем успел шепнуть отцу Егор Егорыч) и в новый рейс нужно было уйти раньше срока.
Давно улеглась суматоха на судах, рыбаки и встречающие разошлись по домам, разъехались на дорках и лодках по своим сторонам, а дедушка Аристарх с внуками все еще не мог дождаться отца.
Наконец они погрузились в дорку и помчались на свою Большую сторону. Кассирша Надя оторвала им посиневшими пальцами, торчавшими из прорванных перчаток, ленточку из четырех билетов.
— Что так скоро в новый рейс? — спросил Аристарх.
Отец махнул рукой. Потом шумно высморкался через борт
в воду.
— План... Талановский сейнер вечно в пролове, а мы отдувайся за него. На косяке держаться не может. То буи не выбрасывает, косяк теряет, то берет одну губку да капусту...
— Губошлепы,— сказал дедушка,— его б на елу, ему бы ярус дать — понял бы, почем треска, а то отдельный кабинет на судне занимает, его и сверху не поливает и споднизу не хлещет; какаву себе на камбузе распивают, а брать треску не научились... Поморы называется...
Надя сунула руки в рукава, зябко подергала плечиками. Потом спросила у Валерия:
— Ну как, очухался уже?
Валерий прижал палец к губам — молчи, дескать! — и снизу, осторожно, показал кассирше кулак.
Угрозы не подействовали. Надя подошла к отцу.
Юрка состроил страшную рожицу, задвигал губами, вытаращил глаза: остановись!
Напрасно.
446
— А ваш сынок тут на весь цоселок прославился,— сказала Надя с усмешкой,— пока вы там за треской гонялись, он здесь такое отчубучил...
Валерий побледнел, а Юрка готов был стукнуть ее.
— Чего там еще?— Отец в кулаке зажег папиросу.— Было что, ребята?
Юрка немедленно бросился на помощь брату:
— Да ерунда, Валерка с приятелями ушли на лыжах покататься, а тут заряд. Ну, поплутали малость по тундре.
— Вот так малость! — не отставала Надя.— Вертолет с базы вызывали... А Сережка до сих пор в больнице... Вы только слушайте Папуаса...
— Это верно? — Отец свирепо повернул к сынам лицо.
— Конечно, верно,— сказал Валерий.— Никто не просил их присылать вертолет. Сами бы добрались. Пурга уже утихала.
«Ух и врет»,— весело подумал Юрка и поспешил вставить:
— А зато Валю грамотой наградили.
Больше он ничем не мог выручить брата.
— Чего-чего? — переспросил отец.
— За помощь в охране границы. Мы возле катера ампулы нашли, отнесли на заставу. Ну вот и дали грамоту. Медведев вручил.
Валерий смотрел за борт.
— Верно? — спросил отец.
— Мг...— произнес Валерий.
Отец бросил окурок в воду, и до самого причала не было сказано ни слова.
С края причала, размахивая руками, их шумно приветствовал Васек.
В прилив не нужно подниматься на причал по трапу, надо сделать лишь один шаг с дорки.
Отец потрепал Васька по шапке и, не снимая с его плеча руку, зашагал к дому.
В проулке их встретил Федор. Он широко — подчеркнуто широко — улыбался и даже взял под козырек.
— С приходом, Гриша.
— Спасибо,— сказал отец,— как ты тут?
447
— Все по-прежнему. На мертвом якоре. Может, прийти рассказать?
— Но-но,— запротестовал дедушка и весь ощетинился,— знаем мы, зачем тебе нужно прийти. Только тебя: и не. хватало.
— Пусть приходит,— сказал отец, почти не задерживаясь возле брата,— мы его на голодный паек посадим, жесточайший лимит.
— Вот именно,— опять заулыбался всем своим морщинистым, желтоватымг лицом дядя Федя,— где-нибудь в уголке пристроюсь..
Согнувшись у порога, он последним, за Юркой, вошел в дом, снял драный бушлат и, смущенно потирая большие: красные руки, терпеливо пережидал суматоху встречи и гадая, куда его посадят. Он был выше всех в доме и едва не касался головой потолка.
Стол уже был накрыт, вино ж закуска расставлены,- и в комнате остро пахло маринованными грибами, копченьем и спиртом.
— Садись,— сказала мать и ногой пододвинула дяде табурет.— Да смотри помни себя, на закуску налегай...
— Слушаюсь, Алена, слушаюсь...
Юрке всегда неловко было видеть, как этот громадный человечище, может самый крупный из всего рода Варзугиных (только дядя Ваня, капитанивший на океанском дизель-электроходе «Амур», говорят, не уступал ему в росте), становился жалким и покорным при виде бутылки вина.
Вот и сейчас он поднимал в честь прихода отца граненую стопку с прозрачной жидкостью, и рука его дрожала, как у паралитика, а губы счастливо и мягко расплывались.
А ведь когда-то он ходил боцманом на рейсовом пароходе, на зверобойных шхунах в Белом море, потом кончил Мурманскую мореходку и на торговых судах исходил чуть ли не весь свет, на всех материках побывал, кроме Австралии. У него в доме была уйма занятных вещичек: китайские веера и шелковые картинки, бельгийское ружье и английская трость с ручкой в виде змеиной головы, огромная раковина с острова Самоа, в которой — приблизь к уху — вечно вздыхал южный океан; хра¬
448
нилось у него даже высохшее бычье ухо, которое подарил ему в испанском порту Валенсия бывший тореадор, шпагой заколовший на арене цирка не одного свирепого быка...
А потом... Что было потом, даже вспоминать неприятно. Дядю Федю все чаще списывали на берег: то, напившись, он отставал от корабля, то опаздывал к отходу. У него скоро отобрали заграничный паспорт, и он перестал ходить в «загранку». Но и в отечественных водах недолго пришлось ему походить. Его все время понижали в звании, и настало время, когда его, старшего помощника огромного океанского корабля, не рисковали даже взять боцманом на старенький, закопченный рыболовный тральщик, ходивший: за рыбой к норвежским берегам.
Юрка не помнил дней дядиной славы — его на свете еще не было, но зато все последующее знал хорошо.
Дядя Федя тайком от жены и детей распродал все, что у него могли купить. Одно высохшее бычье ухо, покрытое мягкими черными волосками, не нашло сбыта. Теперь, как выражался дедушка Аристарх, дядя Федя: нес бессменную вахту у продовольственных. магазинов. К его драному бушлату, темневшему у ликеро-водочных отделов, давно привыкли жители поселка. В долг ему никто уже не давал, но в стопке не отказывали.
Однажды он крепко напился и ему страшно захотелось пива. На побережье пиво продавали редко, рейсового парохода, на котором можно распить бутылку-другую, не было. Дядя Федя сел в чью-то оставленную без присмотра лодку и поплыл в Мурманск хлебнуть пивка, как он часом позже заплетающимся языком объяснил на заставе пограничникам, перехватившим его на быстроходном вельботе в открытом море...
За нарушение режима погранзоны дядю оштрафовали, и это, кажется, было его последнее плавание с выходом из Якорной губы. Историю о том, как «Варзугин-старший хотел пивка в Мурманске хлебнуть», на побережье рассказывали так же, как историю с китом и сотню других морских историй и легенд. Случай, когда его, в стельку пьяного, едва не завалили в трюме сейнера рыбой, казался будничным и скучным, и о нем говорили, когда у любителей иссякал запас более ярких и сочных историй...
449
— Остановись,— сказал отец, накалывая на вилку нежнорозовую дольку семги.—Хватит, слышишь, Федор? Опять с сердцем лежать будешь...
— Эх, была-разбыла! — Дядя потянул пустую стопку к другому краю стола, где сидел дедушка Аристарх, повеселевший, но и под хмелем не терявший контроля над собой, и строгости к старшему сыну. Он не отчитывал его напрямую, как час назад, а высмеивал более изобретательно.
— Недобрал маленько, еще хочешь? — спрашивал он.
— Еще, батя. Капельку...
— Ну, держи же стопку.
— Держу.— Дядя Федя вытягивал дрожащую, прыгающую РУку.
— Да ты держи по-человечески. Не лить же на скатерть.
— Держу. Ну, полстопки. Батя...
— Полную налью. Жаль, что ли? Ну?
Громадная красная ручища ерзала в воздухе.
Дедушка Аристарх ставил бутыль на стол:
— Все. Раз вибрировать начал — значит, все. Тебе домой еще добираться. Спать у нас негде.
Дядя Федя больше не просил. Он смиренно опустил на скатерть стопку, заморгал и, слегка покачиваясь из стороны в сторону, стал осматривать стол.
Юрка с сожалением поглядел на него: опять к дому придется конвоировать. Жаль, если свалится где-нибудь и замерзнет. Все уже рукой на него махнули, а Юрке жаль. Хороший он, беззлобный человек, хотя и большой. И беспомощный. Нельзя его в такую погоду одного выпускать из дому.
Юрка выпил немножко домашней бражки. Валерию же, как большому, иногда разрешалось опрокинуть рюмку вина, и Юрка потом дивился его многословию.
Брат разгорячился, разрумянился и, басовито перебивая взрослых, рассказывал, как его лыжная экспедиция через озера и сопки добралась до труднодоступной Кривой губы и, если б не пурга и если б ребята оказались покрепче, отыскала бы следы экипажа шхуны «Вега» и доставила бы в Мурманск вещественные доказательства, что «Вега» потерпела крушение возле Мурмана.
450
Оказывается, знакомый дед из соседнего становища, дед Филимон, Христом-господом клялся, что сам был в полузава- ленной камнями избушке из плавника и видел там на дощатом столе плошку, ржавый нож, несколько порожних консервных банок и полуистлевший, мелко исписанный вахтенный журнал...
— Чуть-чуть — и нашли бы!
— Точно,— поддакнул отец, глядя на него слегка захмелевшими, мутноватыми глазами.— Чтоб такой молодец да не нашел! Какой вымахал, а? Батьку перерос. Взял бы тебя юнгой на сейнер, если б не школа.
Валерий зарделся от удовольствия.
Впервые за эти дни сердце Юрки кольнула зависть: а он? Почему никто не вспомнит о нем?
— Добрый был бы юнга,—продолжал отец.—Варзугины умеют штурвал в руках держать. Не бьет их море, никакая волна не опрокинет...
Дедушка Аристарх крякнул, расчувствовался и по случаю таких слов не удержался — долил в свою стопку оставшееся в бутылке вино, поднял, кивнул всем и опрокинул куда-то внутрь рыжих усищ и бороды.
451
— Один ты, Федя,— продолжал отец,— один ты оплошал. Прости меня, моложе я, но рано стал ты береговой крысой, подачки клянчишь, руки лижешь...
— Крысой,— охотно согласился дядя Федя, пьяно мотая лохматой головой.— Клянчу... Лижу...
— Вино над тобой верх'взяло, а не ты над ним.
— Взяло,— тряхнул седоватыми волосами дядя.
— Никудышная твоя голова... И это ты — Варзугин... Один стыд через тебя.
— Через меня...
Скоро в дом стали заглядывать члены -экипажа сейнера, соседи, просто знакомые. На столе появились новые запотевшие с холода бутылки, тарелки с грибами, маринованными и солеными, с шаньгами и пирожками.
Заиграл аккордеон. В доме стало шумно, дымно, тесно.
Расходились гости поздно. Последним остался дядя Федя. Плечом прислонившись к стене, рассыпав по лицу волосы, приоткрыв беззубый рот, он спал, сидя на табурете.
Никто на него не обращал внимания.
Юрка растолкал дядю, помог натянуть бушлат, взял под руку и вывел во двор.
С губы дул слабый ветер. Было темно, сопки едва выступали на фоне неба.
На Якорном мысу звездочкой гарел маяк. Лаяли собаки. В некоторых домах еще гуляли.
Дядя шел смирно и время от времени бормотал что-то о Гибралтаре. У колодца он поскользнулся и вытянулся на дороге. И никак не мог подняться с четверенек. С превеликим трудом поставил его Юрка на ноги.
Потом дядя стал непрерывно твердить: «Экватор, экватор...» — и расстегивал желтые пуговицы с якорьком. И Юрке приходилось все время застегивать .те, до которых он мог дотянуться.
Сдав дядю на руки тете Даше, его жене, Юрка побрел назад.
За домом, у ограды, то гас, то вспыхивал сильный ручной фонарь. Юрка пошел на свет.
Иван Тополь, в ватной куртке, с пистолетом-автоматом на
452
груди, стоял на лыжах у ограды и разговаривал с кем-то. В одной руке он держал карманный фонарь, вторая что-то чертила в воздухе.
Юрка притаился за утлом, увидел знакомый, сбившийся на плечи платок и побежал домой.
Глава 8 НЕЗНАКОМЕЦ
Утром следующего дня из трюмов отцовского сейнера стали разгружать рыбу, а Юрка с Валерием сидели в рулевой рубке у штурманского столика и разглядывали толстенную книгу — лоцию Баренцева моря. В ней были указаны все течения, глубины, береговые маяки...
— Вон где отец промышлял.— Палец Валерия пополз по карте к Медвежьему острову.
— Вижу.— Юрка дышал в щеку брату.
— Вот здесь, на этой широте, у Кильдина, на них налетел заряд... Ветер достиг шести баллов... Ох, дьявол, скорей бы экзаменам конец, скорей бы лето! Юнгой — это тоже на первый раз ничего. Какой адмирал не был юнгой?
— А меня бы хоть помощником повара...— заикнулся Юрка.
— Ох ты, помповара, кок ты, кокище! — Валерий так хлопнул брата по спине, что Юрка больно стукнулся о тумбу штурвального колеса.
— Ну, ты! — вспылил он и, морщась от боли, замахнулся на брата.
— Ого! — сказал Валерий.— Волк из тебя может и не выйти, а морской заяц обязательно получится!
Юрка с трудом удержался от улыбки.
Потом, не обращая внимания на работниц, нагружавших в бадыо рыбу, вахтенного штурмана и двух матросов, они оглядели все, что находилось в рубке,— эхолот с самописцем, фишлупу, барометр и с десяток других приборов,— и Валерий подробно объяснил брату, как и для чего они устроены. Юрка и
453
не догадывался, что брат так здорово разбирается во всем. Можно было подумать, что у него был уже диплом Мурманской мореходки и он обошел немало морей и океанов...
Затем Варзугины спустились в жилой кубрик. Юрка нашел на полочке над койкой зюйдвестку — широкополую жесткую шляпу,— все рыбаки мира выходят в море в таких шляпах. Юрка сбросил ушанку и примерил зюйдвестку. Голова утонула в ней.
— Велика или ты маловат?!—засмеялся Валерий.— А ну-ка дай мне. Ну как?
Зюйдвестка ему была в самый раз, и Валерий выглядел в ней настоящим моряком, особенно когда придал лицу хмурое, если не сказать свирепое, выражение: наморщил лоб, по- пиратски выдвинул нижнюю челюсть.
— Ничего,— сказал Юрка.
Протяжный гудок заставил его вздрогнуть.
— Рейсовый! — крикнул он.— Из Архангельска.
И, не глядя, следует ли за ним Валерий, сломя голову бросился наверх; под стрелой лебедки с бадьей, полной рыбы, пронесся по причалу возле гор пустых бочек и ящиков и помчался к порту. Рейсовый пароход — это событие: не так уж часто приходят сюда корабли.
Валерий пришел на причал минуты через три: приход судна не такое уж событие, чтоб пороть из-за него горячку.
От парохода отвалил катер. Зорко оглядывали братья прибывших, знакомых и незнакомых,— морского офицера с двумя большими звездами на погонах, капитана второго ранга, как сразу определил Юрка, какого-то полного мужчину в очках, с гигантским чемоданом, очевидно командировочного: в поселке очки носили только восемь человек.
Вдруг с Юркой что-то сделалось, что-то легонько укололо сердце.
Он увидел высокого человека в меховой куртке на «молниях» и каракулевой шапке. Выйдя на причал с двумя чемоданами, человек оглянулся по сторонам — на заснеженные скалы, нависшие над портом, на далекие сопки и выдающийся в море Якорный мыс с маяком...
Юрка не знал этого человека. Но в его лице, в развороте
плеч, в том, как он держал голову и с прищуром оглядывался, было что-то странно знакомое, волнующее.
Юрка толкнул брата:
— Гляди...
Валерий уставился, на человека и обмер.
— Дядя Ваня,— шепнул он,— дядя Ваня приехал...
Юрка почувствовал легкий озноб.
Варзугиных знали на побережье как исконных поморов, лучших промысловиков. Но, пожалуй, славу их закрепил и упрочил Иван Варзугин, средний брат отца, капитан знаменитого дизель-электрохода «Амур». О брате писали даже в «Известиях». Как-то в Доме культуры показывали киножурнал, и Юрка собственными глазами видел: гигантский дизель-электроход, взламывая лед, идет среди сверкающих айсбергов шестого континента; с узких полок ледяных скал, приветствуя моряков, машут коротенькими черными крылышками пингвины...
Капитан корабля Варзугин стоит на крыле мостика и в бинокль разглядывает Антарктиду. На нем меховая куртка, меховые штаны, теплая шапка и унты. А лицо у него властное и умное — лицо человека, привыкшего повелевать и своей волей, как вот. эти льды, крошить все трудности в жизни.
В переговорную трубку передает он с мостика команды, и, послушный каждому его слову, могучий многопалубный корабль, в рострах грузовых мачт и трубах, движется к припаю белой Антарктиды...
В темном зале кто-то громко шепнул:
— Смотрите, Варзугин, наш, якорский...
Второго такого человека, шагнувшего так высоко, может, не было на всем побережье.
Несколько дней после этого ходил Юрка ошеломленный и подавленный. Конечно, он много раз слыхал про отцова брата и видел в семейном альбоме его фотокарточки: вот он, крутолобый, востроглазый мальчишка-школьник в одних годах с Юркой; вот —юнга на боте «Заря», рослый и улыбчивый, снятый на полубаке,— даже надпись на судне видна; вот он. курсант Мурманской мореходки, в щегольской морской форме, с бляхой на ремне и бескозыркой... Потом шли вырезки из «Огонька» и газет.
455
Дома говорили, что последний раз дядя Ваня приезжал десять лет тому назад, и Юрка не помнил его. Зато Валерий уверял, что даже ходил с ним порыбачить на Утиное озеро и ставил продольники на Трещанке. Его приезда не ждали. Неужто он решил нагрянуть внезапно? Как хорошо, что отец не ушел еще в море!
Нет, верно, Валерий ошибся. Не он. Дал бы телеграмму, предупредил бы.
Но до чего же похож этот человек на дядю Федю и даже на самого Валерия! В семье Варзугиных мужчины резко делились на две категории: те, кто пошли в бабушку, были рослые, неторопливые, степенные, видные, на первый взгляд очень спокойные; те, кто удались в дедушку, дедушку Аристарха, были малорослые, кряжистые, крутые по нраву, курносые и вспыльчивые. Юрка с Васьком да, пожалуй, Рая, как и отец, вышли в дедушку. А вот в Валерии отозвалась бабушкина кровь.
Старики рассказывали, что Аристарх здорово начудил в молодости, присватавшись к рослой, красивой поморке родом с Терского берега. Охочие до шуток и озорства, мужики бились об заклад на бочонок знаменитой соловецкой селедки, что отошьет Агафья шумливого Аристарха, бедняка и недомерка, у которого за душой ничего, кроме драных сапог, серебряного крестика на груди да неуемной веселости. Выиграл дедушка — а тогда он был молодым парнем—бочонок с соловецкой сельдью и привез в глухое становище Якорное молодуху, занял брошенную кем-то, покосившуюся хибару...
Так вот и ходили они по песчаному берету к карбасам: высокая, прямая Агафья с точеным белым лицом и черными косами и по плечо ей Аристарх, рыжий и смешливый...
Здесь, в этой хибаре, и начался новый род Аристарха Вар- зугина...
— Он ли? спросил Юрка.
— Он,— шепнул Валерий, и Юрка вдруг увидел, как ноздри его раздуваются от волнения.
— Ну, тогда подойди же, скажи...
— Нет.— Валерий упрямо качнул головой.
Он и с места не сдвинулся. То был такой храбрый и веселый, то непонятно побледнел и замкнулся, точно боялся дяди.
456
Когда незнакомец сел в дорку, братья скользнули следом. Наблюдательный пункт устроили на корме, подальше от приезжего. Валерий поглядывал на него и ногтем нервно отколупывал со своей канадки клейкие рыбьи чешуйки.
Незнакомец вынул портсигар, закурил, глубоко затянулся. Он по-прежнему зорко глядел на контуры серых, с белыми пятнами снега сопок, на здание радиостанции у берега, па домики Малой стороны. А.потом, когда впереди показалось устье Тре- щанки и дома Большой стороны, он просто не мог оторвать от нее глаз.
— Он,— шепнул Юрка.— Гляди, как смотрит!
— А я что товорил?
— Ну так подойди же, заговори.
Валерий не стронулся с места.
Надя долго отсчитывала незнакомцу сдачу с зелененькой трехрублевки. Он небрежно сунул деньги в карман и стал оглядывать пассажиров. Взгляд его скользнул по ребятам. Юрка покраснел и уставился в днище дорки. Стучал мотор, шуршала у бортов вода, и в корпус мягко стукались льдинки.
Юрка поднял голову. Незнакомец продолжал смотреть па него. Внезапно он улыбнулся и подмигнул Юрке. Юрка еще больше смутился, и минуты на три его глаза словно прилипли к ботикам какой-то женщины.
Поднял голову и опять столкнулся с его глазами.
— 'Вы чьи, ребята? — негромко спросил человек.
— Варзугины,— баском сказал Валерий и глотнул слюну.
— Вот как,— обрадовался незнакомец,— так и знал! Валерий и Юрий. Так?
— Да*— сказал Валерий каким-то робким, сдавленным голосом.
Тут дорка ткнулась в причал, пассажиры, как по команде, схватились за борта и дернулись вперед, и незнакомец — а это, конечно, был дядя Ваня — не успел больше ничего произнести.
Он подождал, пока пассажиры сойдут на причал, подал старенькой Ефремовне, ехавшей от сына, научного работника, из Дальних Зеленцов, деревянный чемодан, жестом велел лезть вперед ребятам и потом уже сам, подхватив два кожаных че¬
457
модана, привычной походкой моряка ступил на трап и поднялся вверх. Опустил чемоданы,
— Что ж, здравствуйте, Варзугины, едва узнал вас. В детстве человек растет быстрей бамбука — не уследишь. Кажется, я ваш дядя.
Он крепко пожал их руки. Поцеловал каждого. Братья молчали, точно были виноваты, что у них есть такой знаменитый, известный на всю страну дядя.
Он взялся за чемоданы.
— Дайте мне один,—попросил Валерий и взялся за ручку.
— А донесешь?
Валерий ничего не ответил. Он как пушинку поднял чемодан. Но Юрка-то видел, как на его шее напряглись жилы.
Юрка хотел попросить второй чемодан, но никак не решался. Уж слишком все получилось неожиданно.
Двинулись по улице. Дядя был так высок, что даже Валерий по сравнению с ним казался не больше подростка. А про Юрку и говорить нечего. Малыш малышом.
Дома отца не было, и Юрка помчался в контору колхоза.
Глава 9
ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ
— Папка! — крикнул Юрка, протиснувшись в комнату правления, где шло собрание.— Иди сюда!
Отец, сидевший у плаката «Как спасать утопающих», даже не повернул в его сторону головы.
В комнате было душно, накурено и очень шумно. У стола стоял Егор Егорыч, в хромовых сапогах, в старом офицерском кителе, и ребром ладони рубил воздух:
— Что ты ни говори там, Таланов, а я не пойму: суда у вас одни — у твоего даже машина лучше! — тралы одни, места промысла тоже одни, время лова одно. В чем же дело? Почему Варзугин приходит с полным грузом, даже сверх плана берет, а ты вечно в пролове? Всегда наш колхоз был не последним в области.— Рука председателя машинально показала на висев¬
458
шие на стене дипломы второй степени, которыми их заполярный колхоз был награжден на Выставке достижений народного хозяйства.— А теперь что случилось?
— Все дело в штурмане,— сказал матрос Ворвулев с отцовского сейнера,— не умеет ихний Колганов курс прокладывать, водит трал по задевистым местам, а потом, пока чинят, другие себе промышляют...
— Вот и я говорю,— возвысил голос Егор Егорыч,— из одной муки разный повар разный пирог испечет: один — и в рот не возьмешь, другой — пальчики оближешь...
— Точно,— сказал отец, подымаясь со стула.— Я уж тут говорил больше, чем нужно, но еще раз могу сказать: ихний сейнер не хуже нашего, а может, и лучше, а толку нет; учишь их, советы даешь, как и что, а они трехмачтовым матом тебя...
— Верно! —- поддакнул Ворвулев.— Сами с усами, а привозят одну рыбью чешую... И дисциплина у них хромает...
— Папка,— громко шепнул Юрка»,— тебя зовут, к нам приехали...
Отец только махнул на него рукой: отвяжись, дескать, видишь, как тут страсти разгорелись.
— Слушай, Григорий Аристархович,— сказал вдруг председатель,— а не пособил бы ты им? Весь колхоз тянут назад.
— Да уж пробовал, проку не вижу,— сказал отец, закуривая.
— Да я не об этом... Перешел бы к ним, научил уму-разуму.
— Перешел? — переспросил отец, точно не расслышал, и пустил клуб дыма.— Зачем переходить? Мне и мой еще не надоел. Сработались.
Команда шумно поддержала капитана.
— Иначе бы и говорить не стал. И с новой комапдой сработаешься. А Таланова поставим на твое судно. Авось твои штурмана и команда научат его...
— Не пойдет,— сказал отец.— На готовенькое хочет, чтоб без сучка без задоринки? Ушлый какой...
— Папка, дядя Ваня приехал! — во весь голос закричал Юрка, потерявший всякое терпение.
— Брат? — Отец вскинул голову, точно ему ударили снизу в подбородок, снял шапку с гвоздя, вбитого у плаката, объяс-
459
иявшего, как нужно бороться с зажигательными бомбами, и стал пробираться через ряды к двери.
— Ну так как, Григорий? — уже у двери догнали его слова председателя.
—* Не выйдет.— На ходу застегивая пальто, отец быстрым шагом пошел к дому.
...И в этот день поздно не ложились спать в доме Варзуги- ных. Половина поселка побывала, кажется, у них в гостях. Особенно хорохорился дедушка Аристарх.
— Вон какие у меня сыны,— разливался он перед гостями, пьяновато сверкая глазами и воинственно хлопая себя в костлявую грудь старческим кулачком.— Эка беда, Агафья... Встала б, покойница, поглядела бы на своих ребятишек... Вон какие были, вон! Сопли утереть не могли, а теперь дизель-электроходы водят! Батька на парусной шняке мерз, ярус ему резал руки до костей, глядите, до сих пор следы видать... А дети!..
Дядя Федя тоже не терял даром времени. Отозвав в сторонку дядю Ваню, обдавая его запахом спирта, шепнул:
— Не одолжил бы, браток, пятерку? Помнишь, как я тебя на карбасе возил к птичьим базарам?
— Помню,— сказал дядя Ваня, улыбаясь,— и как лупцевал за потерянный компас — тоже помню...
Дядя Федя смешался и. вытер глаза:
— Детишки были... Не без этого...
Дядя Ваня достал бумажник, вынул из него новенькую, ни разу не сломанную десятку. Старший брат быстрым движением руки, чтоб никто не заметил, опустил ее вниз, скомкал в кулаке и спрятал в карман.
Потом вдруг схватил руку брата и припал к ней губами.
Дядя Ваня отдернул руку и так покраснел, что Юрка прямо испугался.
— Никогда не делай этого, Федор,— сказал он тихо, так, чтобы никто другой не слышал.— Что б ни было, человеком оставайся...
— Конечно, конечно,— закивал дядя Федя и, покачиваясь, бессвязно заговорил: — А я об чем? Я об том... Помор, у него кость крепка. Я тоже кое-что повидал на свете, и в марсельских кабачках сидел, и кубинский ром пивал. Крепкий, в ноги
460
шибает, голова потом дурная делается, как корабельный котел гудит... Эй, Ваня, Ванька, Ванюшка, а ты итальянское мартини пил, а? А сакэ, рисовую? Помню, пришли мы в Токио... Юрка, ты куда запропастился?
Юрка подошел.
— Сбегай, Юрочка, к Аннушке, две поллитры зацепи... Только сдачу не потеряй... Ну?—И он стал вкладывать в Юрки- ну руку скомканную десятку.
— Никуда он не пойдет,— сказал дядя Ваня.— Тебя уж, Федор, качает, как на восьмибалльной волне...
Тут дядю Ваню отозвал дедушка Аристарх. Он еще не кончил излияний о своем капитанском роде и беззастенчиво доказывал, каким отменным капитаном купеческой елы был он, что привычка к морю сама передалась его ребятам, в крови она у них и им ничего не стоило получить дипломы судоводителей...
Дядя Ваня не спорил.
— Верно,— сказал он,— пара пустяков... Прямо из мореходки шагнул на капитанский мостик, и дело с концом.
Все в доме засмеялись. И больше всех его словам смеялся дедушка.
Потом Юрку послали с чайником и бидоном за пивом, несколько бочек которого впервые в этом году выгрузил рейсовый пароход.
В сенях он столкнулся с Валерием.
— Ну как? — спросил Юрка.
— Отлично! — Брат выставил большой палец.— Он — это я понимаю! Приехал — и все как-то по-другому стало. Ни на что вокруг смотреть не хочется. Ни на сарай наш, ни на эти рваные галоши у причалов, ни на людей — сероватый, в общем, народ... Новая эра начинается в нашей жизни, братишка! — Он кулаком ткнул Юрку в бок, и тот едва не пролил из чайника пиво.
Почему с приездом дяди начинается «новая эра», Юрка не понял, но расспрашивать не стал: не хотелось казаться серым...
Валерий между тем не отходил от дяди, расспрашивал о Сан-Франциско, о летающих рыбах, о «ревущих широтах», об условиях поступления в мореходку, о бразильском городе
461
Рио-де-Жанейро и о Кейптауне. А на другой день Юрка увидел, что Валерий давал ребятам затянуться кубинской сигаретой — берешь в рот и кончиком языка чувствуешь сладость. Это потому, что в табак подмешан сахарный тростник, которым так богат этот остров.
Юрка не поверил сразу, но, прибежав из школы, убедился, что брат не прибавил ни слова.
Дядя рассказал, как после рейса за каменным углем на Шпицберген ходили на Кубу за тростником.
Юрка слушал дядю, довольный, что Валерия нет дома и дядя целиком принадлежит ему. Расспрашивал о штормах и штилях и — в который уже раз — рассматривал на новеньком шерстяном кителе, над двумя орденскими планками, большой штурманский значок: якорь, секстан и кусочек синего моря...
После обеда всей семьей вышли погулять.
Сильно припекало солнце, снег на сопках посерел, потерял свежий блеск. Было тепло, и дядя шел, распахнув куртку. Впереди мелко семенил в старой флотской шинели дедушка Аристарх, тыкал вокруг пальцами и все вспоминал: вот в этом доме был лабаз купца Клементьева, здесь — казенка (лавка, где продавали водку), здесь — чайная. Он указал на большое деревянное здание, где нынче был Дом культуры.
Иногда вперед дедушки забегал Васек, тонконогий и звонкий, в новеньких, привезенных дядей Ваней ботинках. Потом неторопливо шагал отец с задумчивым лицом, за ним — Валерий и Юрка. И уже позади, точно немного смущаясь, что попала в мужскую компанию, в своем бордовом пальто и светлом платочке шла Рая.
Матери не было — дежурила на ферме. Да еще не было среди братьев Федора: «болел» по случаю выпивки, лежал, должно быть, на койке и охал.
За Варзугиными тащилась целая орда поселковых мальчишек. Приезд в поселок любого нового человека — событие, а что уж говорить про дядю Ваню!..
У Дома приезжих им повстречалась Ольга Примакова, телефонистка с узла, женщина лет сорока, еще красивая, рослая. Она шла куда-то с двумя маленькими ребятишками. Она сразу узнала дядю.
462
— Вань?..— ахнула она и остановилась.
— Здравствуй.— Дядя крепко-крепко, долго не выпуская из своих ладоней, пожал ее руку.
Они молча смотрели друг на друга.
— Как живешь? — спросил он.
— Ничего. По-всякому. А ты?
— Тоже.
— Уже, поди, дети у тебя большие? — спросила она.
— Порядочные. Старшему двенадцать. А это твои?
— Мои...
Двое совсем маленьких замурзанных ребятишек спрятались за мать и зверовало поглядывали на высоченного чужого дядьку.
Вдруг дядя Ваня стал хвататься за все карманы в поисках конфет, но нашел только одну — расплющенную «Столичную», помял ее в пальцах, возвращая конфете первоначальную форму, разломал пополам и протянул малышам. Те стремительно схватили, снова спрятались в укрытие и тут же принялись энергично сосать.
463
— Как Виктор? — спросил дядя.
— Никак...
— Пошли,— сказал дедушка внукам, оставляя, дядю Ваню с Ольгой позади;
И все-таки^ Юрка, завязывавший шнурок ботинка, все слыхал.
— Почему так?.. Ты ведь сама его выбрала. Любила как...— сказал дядя;
— Чего там вспоминать...^— О л ьта махнула рукой и поправила у подбородка узел- платка^—Мало лшчто было... Дурой была. В траловом он... Мало ли там есть красившее чем я...
— Одна, значит?
— Одна;..
— Помогает?
— Жди... А у тебя, у тебя,. В&нюшка* все ладно?
— Ничего.— Дядя вздохнул,— Более или менее.
— Доволен? Счастлив?
— Во второй раз, Оля, все бывает не так, как в первый... Но мы с тобой еще поговорим... Ладно?
Ольга как-то странно поглядела на него настала плотней-запахивать на груди пальтишко из чертовой кожи.
— Нет,—сказала она,—к чему... Лучше не надо... Ни к чему оно все...
И вдруг, схватив за руки ребят, она быетро> пошла в проулок и скрылась за оградой. Дядя постоял на месте, посмотрел вслед и медленно пошел к реке, где его поджидали.
Был отлив, и вода отошла далеко от берега* обнажив грязное дно Трещанки. Варзугины остановились у старого, давно списанного бота. Все, что можно было снять с него, сняли, доски, которые можно было оторвать, оторвали. Все, что осталось от судна — скопища ржавых гвоздей и скоб, полусгнившего корпуса и рулевой рубки,— все это лежало здесь, среди корабельного хлама, лежало, как на кладбище, и коробило глаз. Из десятков щелей в корпусе вытекала вода, заполнявшая во время прилива бот. Вытекала она медленно, журчала и ручейками бежала в грязную лужу.
— А ведь я ходил на нем юнгой,— сказал дядя,— вот что с ним стало. Он и тогда был старичком, воду принимал, в штор¬
464
мы трещал, как арбуз. Того и гляди, погрузится и не вынырнет — развалится. Да ничего, выдерживал. Даже в тот страшный-шторм уцелел. Ну и живуч...
Ни Юрки, ни Валерия не было тогда, когда налетел на Баренцево море этот шторм, который сто лет, наверно, будут помнить на побережье.
В порт не пришла вовремя метеосводка, но, когда колхозные боты вышли в апрельское море, ударил заряд — шквал. Десятиметровая волна пошла по морю, снег залепил глаза. Стемнело. Суда стали искать укрытия — горловину Якорной губы. Но попробуй разгляди что-нибудь в сплошном снежном месиве заряда!
— Право руля! — орал капитан бота «Заря», побелев от ужаса.
— Лево! — прокричал Ванюшка Варзугин.— Не берег спасенье — море!
— Право, говорю! — Капитан, оглохший от грохота и свиста, бросил руку на штурвал, заворачивая бот.
Ногой оттолкнул его Ванюшка. Рванул в другую сторону штурвал, и стотонная гора похоронила под собой ботишко. Но, как пустой орех, вынырнул он и, переваливаясь с волны на волну, тарахтя малосильным моторишком, уходил в открытое море...
А потом... Лучше и не вспоминать, что было потом с другими судами.
Не раз видел Юрка на кладбище братскую могилу рыбаков, погибших в тот день. Ослепленные снегом, не видя в сплошной круговерти входа в губу, вели рулевые свои боты, и волна в щепу разбивала их о скалы. Тех, кого потом выбросило на берег, нельзя было опознать, так побило их море. И только по английской-булавке вместо тесемки на кальсонах узнала Агафья сына, Андрея Варзугина...
Три часа спустя потрепанный ботишко «Заря», тарахтя моторишком, вошел в Якорную губу. Обломками судов па берегу, сорванными крышами, стоном и плачем встретил Ванюшку поселок. Не успевали делать гробы — двух рыбаков укладывали в один. Страшно было войти в клуб, где друг возле друга стояли десятки гробов...
/[0 Библиотека иионера, т. 12
465
Юркин отец хворал в те дни — так и жив остался: его бот и вся команда не вернулись; одного механика возвратило море с размозженной головой — по паспорту узнали...
Никто и словом не обмолвился о том шторме, стоя возле бота «Заря», на котором начиналась морская жизнь командира дизель-электрохода. Все знали об этом шторме, и те, кто еще не родился, узнают и будут крепко помнить.
Потом сходили на могилу бабушки; постояли у братской могилы, стянув с головы шапки. И пошли домой.
Жгло солнце. Вода в губе была тихая, ясная.
На том берегу Трещанки, застигнутые отливом, лежали на песке два бота. Лежали они, как большие киты, штормом выброшенные на берег, и в их зеленоватых от водорослей иг ракушек днищах и склоненных над землей мачтах было что-то беспомощно-жалкое, навсегда потерянное.
— Опоздали,— сказал дядя,— ушло море и не взяло их с собой. Так ведь и с человеком бывает. Опоздает к своей большой воде — и кончен человек... Ну, поехали. Домой. А то я уже философствовать стал.
Возле дома их встретил дядя Федя.
— Опохмелиться бы,— сказал он,— ух голову ломит!..
Вечером, перед тем как лечь спать, Юрка слыхал, как дядя
Ваня говорил отцу:
— Дело, конечно, твое, в этих делах не прикажешь, но я бы взял тот сейнер. Доказал бы, на что годятся их судоводители... Хотя б из самолюбия взял.
— Хлопотливое это дело,— вздохнул отец,— все уже наладил, сработался, и снова все начинать...
— Как знаешь. Может, и провалишься. Но если вытянешь, всем нос утрешь.
— Ну, будем спать.— Отец выключил свет и в темноте вздохнул.
А утром, собираясь в школу, Юрка услышал, как дядя Ваня не очень вежливо сказал Валерию:
— Нет уж, от этого избавь. Да, знаю начальника Мурманской мореходки, семьями дружим, а здесь и пальцем о палец не ударю. Будешь стоить — примут без всяких писем и звонков...
466
— Да я понимаю,— сказал Валерий, и Юрка вдруг увидел, какое у него красное, жгуче красное, можно сказать, огненное от волнения лицо.— У них конкурс большой — все рвутся в мореходку. Кому какое дело до меня? Всех лишних резать будут под корень.- А так бы хоть внимательней спрашивали...
— Нет,— повторил дядя,—уж это не по моей части, и тебе не советую идти по этой дорожке. Ты же здоровенный, умный парень, зачем тебе...
— Да я так просто...— смешался Валерий.— Думал, вам ничего не стоит. Подумаешь, парочку слов накатать... Ну, а если это так трудно — не надо.
— Ты, я вижу, еще обижаешься? — Дядя отставил чашку с чаем и внимательно посмотрел на него.— Да, это мне трудно. Невозможно.
Юрка пошел в школу, понимая, что разговор у них был крупный и он слышал только конец его.
Вернувшись, узнал от Васька, что дядя Ваня с отцом отправились на сейнер: уж очень дяде не терпелось посмотреть на отцовское судно.
Час спустя Юрка видел, как дядя Ваня оглядывал приборы в штурманской рубке, на камбузе трогал руками плиту, бачки, никелированный электрокипятильник на десять литров — как закипит, так зальется звоночек.
Спустился и в жилые кубрики.
— Ничего,— сказал он,— правда, тесновато, но ничего. На- конец-то и о морских колхозниках заботиться начали.
Зато на верхней палубе он дал отцу такого нагоняя, что даже Юрке стало неловко, и он, чтоб отец не видел его, спрятался на корму. Ругался дядя из-за того, что траловые сети лежали на палубе сырые и грязные, с запутавшимися в ячеях рыбинами, с бородами водорослей...
— Капрон? — Дядя пощупал кончиками пальцев сетевую дель.
Отец промолчал.
— Под суд тебя за это отдать надо. Сколько тысяч стоит такая сеть? А долго служит она вам?
Юрка даже разозлился на дядю за такой тон: Валерию от¬
467
казал, отца отчитывает... А вначале казался таким спокойным и добрым, сколько подарков привез!
Через два дня отец ушел в море, ушел на другом сейнере — всего на один пробный рейс, как объяснил он своей команде. А вскоре, со следующим рейсовым пароходом, уехал дядя.
На прощанье он звал всех погостить в Архангельск, где жил, и долго махал с рейдового катера провожавшим его дедушке Аристарху с матерью, Валерию, Юрке и маленькому Ваську.
Когда ехали на дорке назад, Валерий спросил у Юрки:
— Ну как тебе он?
— Силен,— ответил Юрка.— Будь здоров.
— Верно. А все-таки я ждал от него большего,— сказал Валерий.— Тоже обюрократиться немного успел. Как только человеку дают большой пост, так он и начинает портиться. Такой уж, наверно, закон. Родственного у него маловато.
— Ерунду городишь. Хотел, чтоб он тебя на блюдечке с синей каемкой внес в мореходку?
— Дурак,— спокойно сказал Валерий.— Папуасом был, Папуасом и остался. Без его помощи как-нибудь обойдусь. У меня голова на плечах, а не на другом месте... Меня ничего не остановит. Пробьюсь. Я, брат, я, брат... Эх, да что тебе говорить! — Глаза Валерия холодно и жестоко блеснули.— Мал ты еще такие вещи понимать. Подрастешь — узнаешь.
— Постараюсь.— В Юркином голосе дрогнула обида.— Не всем же быть таким умным...
Хотел прибавить про «новую эру», но сдержался.
— Мужик он твердый, верно,— сказал Валерий,— а вот быстро забыл таких, каким сам недавно был. Пробился на высокое место, а других... Ничего. Без него обойдусь.
— Не нужно,— сказал Юрка,— не говори больше ни слова.
Валерий замолчал, и все провожавшие дядю думали каждый о своем, пока дорка пересекала Якорную губу.
Глава 10
ПРИЛИВ
Через два дня выяснилось, что нужно провожать еще одного человека — Раю. Ей вдруг срочно понадобилось съездить в Мурманск — коротко постричься и заказать в ателье костюм.
Все Раины подруги по гидрометеостанции стриглись коротко, как стригутся в Мурманске, не говоря уже о столице, а она все еще таскает старомодные косы. Якорный — ведь не медвежий угол, где можно ходить как попало и в чем попало...
И в один из тихих майских дней все семейство опять махало рейдовому катеру.
Он увозил на рейсовый пароход Раю с ее невообразимыми волосами, в ее устаревшей, длинной юбке й по-провинциально- му пестрой кофточке.
В последнюю секунду, когда дочь подняла ногу, чтоб ступить на катер, мать — в который уже раз! — шепнула, чтоб одумалась — на пароходе много будет времени,— стоит ли стричься, как овечка...
— Наган купи,— крикнул вслед Васек,— и пять коробочек пистонов!
— И про книги не забудь, про книги! — перекрикивая стук мотора, басом рявкнул Валерий, давший сестре уйму поручений.
Один Иван Тополь, дежуривший сегодня на причале, вооруженный — при армейском ноже и пистолете-автомате,— не сказал Рае ни слова, а только помахал рукой. И сделал он это малозаметно и быстро, потому что находился при исполнении служебных обязанностей. Но улыбка, все время не сходившая с его лица, как ни старался он согнать ее, была не очень служебная и мало вязалась с холодной сталью оружия.
Рая вернулась через неделю — короткий отпуск в счет внеочередных дежурств кончился, и, глянув на нее, мать засмеялась, а потом заплакала. Коротенькая юбочка, коротенькие волосы, открытые туфельки...
— Овечка, одно слово — овечка.— Мать покачала головой,
469
оглядывая со всех сторон дочь.— Как ходить-то стали... В наше время все шили подлинней да позакрытей...
— Стильной девочкой стала твоя дочка, столичной — будь здоров! — сказал Валерий.
Он углубился в привезенные ею книги, а Васек, до зубов вооруженный купленным Раей оружием — тупоносым браунингом и наганом, носился по дому, заряжал пистонами, палил, и в комнатах пахло жженой серой. Потом боевые действия развернулись на улице. Играя в пограничников, он охотился за нарушителями — овечками и козами, занимал оборону за каким- нибудь бревном и героически отстреливался от врагов...
Валерий все время упорно думал о чем-то.
Близились летние каникулы, экзамены он сдавал хорошо, готовился мало, а домой приносил почти одни пятерки. Даже находил время читать. Валяясь на койке, сплетая и расплетая ноги, проглатывал книгу за книгой, потом ложился, закладывал за голову кулаки и о чем-то размышлял.
Однажды он подозвал Юрку и усадил в ногах.
— О чем ты думаешь сейчас? — Валерий пристально глядел на Юрку.
— Ни о чем.
— Совсем-совсем?
— Ну да.
— И плохо. Я давно приглядываюсь к людям и заранее могу сказать, что из кого получится. Взятт> хотя бы отца и его братьев. Дальше всех шагнул дядя Ваня. Почему? Что он, особенно умней отца или дяди Феди? Не Сказал бы. В нем просто тверже костяк, воля крепче. Он знал, чего хотел, и достиг всего. Наш отец хороший моряк. Железный. Я видел, как слушаются его на сейнере. Прекрасно знает район лова, навигационные приборы. С закрытыми глазами приведет сейнер в Якорную. Но и все. Дальше этого суденышка он не шагнет. Больше ему ничего и не нужно. Так и проживет всю жизнь у этих дедовских берегов, а потом уйдет на пенсию и, подобно своему бате, будет похрустывать на печи косточками, рассказывать байки своим внукам...— Тут Валерий улыбнулся.— Твоим, Юрка, ребятам...
— А может, твоим! До моих еще далеко.
470
— Нет, только не моим.— Валерий резким движением головы откинул назад волосы.— Моих тут не будет. Хватит того, что прожил здесь шестнадцать лет...
— А я, думаешь, навсегда отдал здесь якоря?
Валерий зевнул, дотянулся и закрыл глаза.
— А вот меня вы не знаете. Вот ни на столечко. Я из тех, которые выбиваются. Я еще удивлю вас. И не только вас. Я...
— Отстань,— сказал Юрка,-— ты мне надоел.
У него и вправду голова разболелась от всех этих разговоров.
— Ну иди, иди.-— Валерий засмеялся.— Там тебя дети ждут, дружки твои...
Юрка рассердился, вышел и в дверях столкнулся с отцом. Отец только что был в райкоме партии. Он был не в себе.
Отстающий сейнер, куда поставили его капитаном, опять оказался в пролове — недобрал десять центнеров рыбы. И вот, разъяренный, он пошел в райком партии жаловаться и требовать вернуть ему его корабль.
Никто не знает, о чем говорил с отцом первый секретарь — сам он об этом молчал,— но, столкнувшись с Юркой в дверях, он едва не обрушил на его голову весь свой гнев:
— Чего без пальта ходишь? Некому в больницу бегать...
— Ничего, батя, уже тепло,— вступился за брата Валерий, успевший для видимости взять в руки учебник.
Самое обидное для отца было то, что сейнер, на котором он ходил до этого, опять перекрыл норму и кое-кто в поселке поговаривал, что это не его, Варзугина, заслуга: дело не в капитане — просто команда хорошая попалась.
Скоро отцовский сейнер опять ушел в море, и вот тогда-то Валерий замкнулся, ушел в себя — ни слова не вырвешь. Юрка узнал от Раи, что брат необдуманно, под горячую руку, заикнулся отцу насчет того, чтоб его взяли на сейнер юнгой. Отец обругал Валерия: ему некогда обучать нового матроса. Нужно план выполнять, тралмейстеру — оболтусу — мозги вправлять, чтоб быстрей чинил продравшийся на камнях трал, читать лекции первому помощнику, на каких курсах ходить при ветре, чтоб не прекращать траления...
471
А Валерия, когда кончились экзамены, отец определил матросом, только не на корабль, а на... водопад.
Он находился километрах в четырех от Якорного, на реке Трещанке, звали его падуном, и весной, когда река вспухала от талых вод, южный ветер доносил в поселок его отдаленный, глухой грохот. Туда-то, к падуну, во время икрометания входит из моря семга — самая вкусная и дорогая из всех северных рыб.
В это время ловить частным лицам семгу сетями и на поддев запрещено. Все-таки кое-кто ухитрялся тайком вылавливать ее, и вот инспекция рыбонадзора построила у падуна домик и решила установить круглосуточное дежурство.
Там, возле падуна, в другой избушке уже разместилось семужное звено дедушки Аристарха, и отец решил, что Валерий будет под его присмотром.
Уезжал брат неохотно.
— Ничего,— утешал его Юрка,— зато матрос.— А на море или на берегу — какая разница!
— Нет, это не по мне,— сказал Валерий, помахивая новеньким удостоверением с фотокарточкой.—С тоски подохну. Книг разве захватить с собой? Ты хоть меня не забывай,
— Ладно,— пообещал Юрка довольно равнодушно.
На падун Валерий взял гору книг, ружье с патронами, еду, кастрюли, и моторная дорка отвезла его на место первой вахты.
Прошло три недели, и Юрка впервые по-настоящему понял, что значил для него Валерий. Васек был еще малышом и товарищем быть не мог.
Юрка так стосковался по старшему брату, что все валилось из рук. Он не мог дождаться, когда у Валерия наконец кончатся харчи и мать разрешит навестить его.
Такой день настал.
Это было в начале июня. С утра дул сильный ветер, и по поселку носились песчаные смерчи. Песок забивался в уши, скрипел на зубах, и люди, ходившие по деревянным мосткам, специально проложенным по всему поселку, отворачивались и закрывали руками глаза, нос, рот. Одни овцы, привыкшие к песку, бродили у реки, обдирая с бревен кору, пожирали бумагу
472
и даже обрывки пропахших рыбой сетей; наверно, поэтому их мясо сильно отдавало рыбой...
В этот ветреный день, во время самой полной воды, и отчалила от брюги — причала — дорка.
Вода все прибывала, и вместе с ней, как всегда, с моря дул свежий ветер. Ушли' в воду, словно стали ниже, зеленые от слизи и водорослей сваи причалов, въездов и складов, скрылись лужи, грязь и мусор на обнажившихся речных берегах; суда, с большим креном лежавшие на камнях и песке, вдруг, получив под киль воду, выпрямились, закачались, и мачты их теперь глядели, как и полагается корабельным мачтам, в зенит. Шхуны и боты, по нерасторопности команд оказавшиеся на мели, дождались наконец большой-воды, дождались прилива и могли выйти в море. Даже в глубь этой песчаной земли — и туда проникал прилив: вода в колодцах в это время становится чуть солоноватой...
Два раза в сутки — прилив, два раза в сутки — отлив. Его неумолимому закону подчинена вся жизнь Якорного, всего побережья: прилив — отлив, прилив — отлив... Его учитывают судоводители и мотористы маленьких дорок, тралмейстеры, опустившие в море огромный трал, и семужиики...
Прилив — отлив, прилив — отлив...
Дорка с карбасом на буксире, подгоняемая приливным ветром, шла по Трещанке. Прилив сломил течение реки, смешал его еще недавно пресную воду с соленой и нес лодки вперед.
Юрка лег на борт, зачерпнул в ладонь воду, поднес ко рту и скривился: солоновато-горькая! Река становилась узким заливом моря. Желтые отмели и камни исчезли и не грозили винту дорки. Только макушки громадных камней, Двух Братьев, торчали наружу, и вокруг них воронками заворачивалась вода.
— И эхолота не нужно,— сказал Пудов, сотрудник районной газеты, молодой, но очень тучный человек, ехавший по своим газетным делам к семужникам.— Знай только посередке держи... Правильно я говорю, товарищ уполномоченный по доставке продуктов?
Юрка, лежавший среди мешков с картошкой и мукой — он вез харчи Валерию и всему звену,— не возражал. Он следил,
473
чтоб брызги не попали на куль с сахаром, конфетами, чаем и печеньем. Кроме продуктов, он вез семужникам кое-какую теплую одежду — родные попросили передать.
Поселок давно кончился, пошли сопки. Кое-где тлыбы нависали над водой, старые, серые, все в трещинах, изломах, морщинах, скудно поросшие ржавыми лишайниками и мхом.
Выставив тугой живот, Пудов бесстрашно стоял на носу дорки и, наверно, воображал себя бывалым мореходом. Выглядел он живописно: кирзовые сапоги, хлопчатобумажный пиджак и большая соломенная шляпа. В руках он держал одностволку. Черные дикие утки плавали у берега; они были слишком далеко, чтоб в них попасть.
Ветер вместе с приливом шел со стороны моря, но он не мог уже отнести рев водопада. Он долетал все отчетливей и скоро превратился в настоящий грохот.
— Гляди! — кричал Пудов.— Они самые!
Впереди, на блещущей от солнца воде, показалась лодка с тремя темными фигурками.
Глава И
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ночью
— Как делишки, бабоньки? — крикнул Пудов, все еще стоя на носу.
— Тридцать кило! — ответила женщина в синем платочке, сидевшая на веслах.
Дедушка Аристарх, в телогрейке и армейской зимней шапке, быстро обернулся на стук мотора.
— Вон какую рыбину подцепили! — Он полуобнял за плечи вторую женщину, которая стоя вела карбас по туго натянутой тетиве тайника.
Женщина взвизгнула, качнулась, села на сиденье и брызнула на дедушку водой.
— Ох ты, дед! Бороду сейчас обрежу!
— Они тут не скучают,—заметил Пудов, когда дорка проходила неподалеку от карбаса.
474
— Цирк один, а не жизнь,— сказала та, что сидела на веслах, худощавая женщина лет сорока, Васильевна, как звали ее в поселке.
Дорка ткнулась в берег.
Перетащив снедь и вещи в избушку, Юрка с корреспондентом пошли к падуну. По краям тропинки кое-где рос щавельт и Юрка жевал кислые листки его, топтал белые цветки морошки, бросал в рот вялые прошлогодние ягоды.
Гул падуна висел в воздухе. Он еще не был виден за краем сопки, но водяная дымка его стояла в небе, и солнце, преломляясь в ней, вспыхивало и выдувало семицветную радугу.
Вот сопка осталась сбоку, и они увидели падун. Трещанка, разрезая пустынную тундру, приближалась к порогу, набирала бешеную скорость, сужалась, летела, падала с тяжелым грохотом вниз, в котловину, на черные плиты, стреляла у того берега тугими фонтанчиками, взрывалась, точно внутри были заложены фугасные бомбы, и над всем этим ревом и клекотом стояла тончайшая водяная мгла.
Юрка ощутил ее на своем лице.
Ниже падуна, под белой стеной падающей воды, река прыгала, клокотала, заворачивалась в воронки, желтая от мути; плясала, вся в рваных клочьях пены. А еще пониже вода вдруг усмирялась, стихала. Здесь, словно в тихой заводи, плавала пена, обрывалась и уходила вниз.
— Ниагара! — выдохнул Пудов, похлопывая себя по животу.— Кольская Ниагара!
Неподалеку от воды, на ровной площадке, стоял новенький тесовый домик. Он-то, видно, и был пристанищем Валерия. «И как он спит при таком грохоте?» — подумал Юрка, по камням спрыгивая вниз.
Возле домика еще желтели щепки, печь была выложена не до конца — видно, кирпича не хватило. У берега на привязи стоял небольшой карбасок.
Юрка, не стучась, вошел внутрь.
— Здорово,— сказал он, стараясь говорить как можно спокойней, почти равнодушно: ну что здесь такого — брат приехал к брату.
475
— Привет, Папуас,—через плечо бросил Валерий, ножом открывавший банку сгущенки.
Только после того как открыл банку, мизинцем вытер с края крышки полоску молока и облизал, он подал Юрке РУку.
— Как домашние?
— В норме.
— Чай пил?
— Ага. Пил.
— Тогда сиди и облизывайся.
Вообще-то Юрка и не подозревал, что Валерий приживется здесь. А брату, судя по всему, здесь было очень неплохо. Лицо и руки Валерия покрылись прочным загаром раннего лета, и от этого серые глаза чуточку поголубели, а мягкие льняные волосы стали еще светлей.
В домике был полный порядок: койка аккуратно застелена, стол чист, на полке, прибитой к стене, стояли книги. Весь дом вкусно пах смолой, и Юрке казалось, что он в густом сосновом лесу, хотя о лесах он только читал и никогда не видел дерева выше Васька.
Даже водопад, грохотавший в какпх-нибудь пятидесяти метрах, ничуть не мешал Юрке, а только подчеркивал необычность обстановки.
— Я еду привез дедушке,— сказал он,— там и тебе мама кой-чего прислала. Возьми.
— Хорошо,— сказал Валерий,— спасибо.
— Думаю здесь переночевать, а утром с большой водой уеду.
— Как знаешь,— сказал Валерий.
— Может, мне у тебя лучше остановиться?
— Почему? — поднял на него глаза брат.
— У семужников тесновато.
— Нет уж, спи там. Ночами тут такая холодина. Прямо ноги к матрасу примерзают.
— А я одеяло там захвачу.
— Не поможет.
— Ну, если так... Могу и там.
Юрку немного покоробила отчужденность в голосе брата.
476
То усиленно просил не забывать, приезжать, а то вдруг... Впрочем, все ясно: они мужчины и нечего им бросаться друг другу в объятия. Но хоть чем-то Валерий должен был показать, что рад его приезду.
Увидев в оконце, что карбас с Аристархом и двумя женщинами подошел к берегу, Юрка вышел из дому. Женщины несли за веревочные петли ящик с тремя пойманными семгами. Скоро вернулся и дедушка, покрякал, похлопал рука об руку, погладил свою пышную, растущую от самых глаз рыжеватую бороду, выбрал из нее несколько блестящих, как гривенники, чешуек.
— Плохо,— сказал он.— Блеск потеряла, вторым сортом пойдет.
Потом, пока на плите варилась семужья уха, распаковывали доставленный Юркой груз, раскладывали по полочкам и ящикам крупу, муку, соль.
Юрка не помнил, когда ел такую уху. Приправленная лавровым листом, перцем и какими-то другими специями, она благоухала на всю избушку, и Юрка с Пудовым лишь изредка поднимали от мисок голову, чтоб переброситься словом-другим. Юрка вылавливал из котла куски розовой разваренной семги, клал в миску, и обе женщины, Васильевна и Прокофьевна, подтрунивали над ним:
— Ох и уплетает, ну чисто нерпа...
И тут же рассказали, что позавчера в отлив видели большую нерпу, приплывшую из моря к падуну, чтоб полакомиться семужкой. На камнях зверя здорово ободрало, побило — следы крови тянулись по воде, а нерпа, загребая ластами воду, все ныряла и бултыхалась под порогом, все норовила ухватить рыбину покрупнее...
— А ее, нерпу-то, акула обожает...— вставил дедушка Аристарх и полчаса, наверно, говорил про акул.
Лет десять назад был на Мурмане специальный акулий промысел. С бота спускали крючковую снасть — толстый трос с отводами,— не перекусишь: из металла. На конце — крючки, большие, острые, хорошо закаленные, не разогнешь. Нет у акулы большего лакомства, чем нерпичья печенка. Наживляли на крючья куски этой печенки и пускали снасть в океан. Акула
477
брала с ходу. Удар — и на крючке. Ух, как рвалась она, бросалась из стороны в сторону! Одна попалась такая — чуть бот не перевернула. Подтягивали лебедкой к борту, дубинкой по голове — и на палубу. Лежит такая громадина, серобрюхая, черноспинная, от полубака до штурвальной рубки — полбота занимает. Морда хищная, а внизу — косо срезанная пасть, а зубы— лучше не гляди, во сне приснятся. А шкура у нее такая: в одну сторону гладишь — вроде мягкая, а в другую — наждак и то нежнее.
Шкерили ее рыбаки ножами, как обычную рыбу; печенку в бочку бросали — на медицинские материалы шла, мясо и кости — в факторию сдавали, на муку перерабатывали, жир забирали себе: добавь к нему смоляной воды, такой настой получится, смажь сапоги — никакая вода не пробьет, хоть месяц по колено в море стой. Ну, и шкуру сдирали, тоже в дело шла. Ценная, одним словом, эта штука — акула...
Время от времени, прерывая рассказ, Аристарх с деревянной ложкой в руках подходил к оконцу и глядел на реку, на тайники:
— Не пойму, рыба вошла в тайник или пена?
Потом возвращался, неторопливо окунал ложку в миску, набирал половину и, убрав бороду, которая лезла в миску, усиленно дул на ложку и рассказывал.
Ели спокойно, не спеша. Один моторист кипятился, обжигался ухой и напоминал: начался отлив и дорка не пройдет по реке. Моториста не задерживали. К дорке снесли в плоском ящике недавно пойманную семгу — ее нужно было срочно сдать на рыбоприемный пункт,— оттолкнули от берега, и дорка ушла к поселку.
Над рекой пролетела большая чайка, чиркнула выпущенными, как шасси самолета, лапками по воде и взмыла вверх.
— Чайка, чайка,— пропела вдруг Васильевна,— расскажи, есть в тайнике рыба ай нет?
Чайка обиженно крикнула и улетела к падуну, в водяную пыль, в раздутую солнцем радугу.
— Нету,—сказала Прокофьевна,—пусто.
— Счас проверим. А ну грузись! — приказал дедушка.
Юрка'С Васильевной влезли в карбас. Дедушка поставил в
478
него одну ногу, второй оттолкнулся; днище проскрежетало по камням, и карбас закачался на глубине,
— А меня? — крикнул Пудов, выбегая из домика.
— Куда тебя,— сказала Прокофьевна, мывшая на берегу резиновые сапоги,— карбас перевернешь... Вон какое брюхо наел...
Пудов не обиделся; наоборот, замечание о полноте словно обрадовало его.
— Дуреха,—• сказал он,—жир не.тонет, буду вам вместо спасательного круга...
Васильевна сидела на веслах. Лодка шла по стенке тайника; дедушка, перебирая в руках тетиву, пристально смотрел в глубину.
— Есть! — сказал он.— Одна и еще одна. Тише греби. Юрка, будешь помогать мне.
Добравшись до ловушки, той части тайника, куда легко зайти рыбе, но почти невозможно выйти, дедушка подобрал сеть и, перегнувшись через борт, потянул руки к темно-синей спине семги. Лодка сильно накренилась.
— Откренивай карбас!
Юрка налег на противоположный борт и немного выпрямил лодку.
Одной рукой дедушка ухватил рыбину под жабры, другой взял деревянную колотушку и несколько раз ударил по голове. Вытащил на воздух и, напрягая все мышцы и сморщив лицо, осторожно опустил рыбину в плоский ящик на разостланную мешковину. Семга вяло открывала и закрывала хищный рот. Ее холодное, плотное, литое тело в синевато-серебристых переливах чешуи тускло блестело на солнце.
С другой рыбиной им повезло меньше. Она «объячеилась», запуталась в сети, потеряла с десяток чешуек, и дедушка снова ахал и охал.
В нескольких местах сеть порвалась, и дедушка достал деревянную игличку и починил места разрывов. Его крючковатые, бугристые, похожие на крабьи клешни руки, изъеденные горькой морской солью, изрезанные тросами и лесами, двигались быстро и сноровисто.
Во втором тайнике не было ничего. Сильное приливное тече¬
479
ние подняло сеть со дна, перекрутило, запутало, и дедушка с Юркой, по локти вымочив в воде рукава курток, кое-как выправили сеть.
— Травы попало много,— вздохнул дедушка,— скоро чистить пора.
Покуда они осматривали тайники, Пудов не терял даром времени: с блокнотом в руках расспрашивал о житье-бытье
Прокофьевну. То давясь от смеха, то напуская на себя серьезность, отвечала рыбачка на его вопросы.
Заодно Пудов решил взять интервью и у «матроса на водопаде», но — об этом газетчик пожаловался во время ужина — матрос был не очень словоохотлив.
— Так тебе и нужно,— проворчал дедушка, укладываясь спать на нары,— людской болтовней питаешься, пристаешь ко всем как банный лист... Можешь записать одно: матрос он справный, не то что Семенихин... В шею потурили...
— А у вас факты есть?
Легкий дедушкин храп донесся с нар.
480
Юрка лег спать последним. Перед тем как запереть избушку на крюк, он постоял у дверей. Ночное солнце склонилось над дальними тундровыми сопками, и редкие белесые лучи его скользили низко над землей. Было в них что-то таинственное и призрачное. Неведомо где попрятались чайки, застыли в небе тучки. И только падун по-прежнему гремел и сотрясал каменную землю, обдавая берега облаками мельчайших брызг.
Юрка отпустил крюк и полез на нары.
Ночью он вдруг проснулся. Ходики на стене показывали три часа. Юрка захотел выйти. Мягко спрыгнув на пол, выглянул наружу. Низко светило полярное солнце, рассеивая жидкий свет по сопкам и берегам Трещанки.
Юрка глянул на реку и обомлел.
У тайников бесшумно ходил маленький карбасок и двое мужчин выбирали из сети рыбу. Крупные тусклые рыбины валились через борт в карбас. В руках одного сверкал нож — он резал сеть. Они действовали быстро и тихо — весло не скрипнет, вода не плеснет.
Первое, что захотел сделать Юрка,— закричать, поднять переполох, разбудить Аристарха. Но Юрка сдержался и крадущимся. шагом, прячась за камни, добрался до сторожки, до новенького домика Валерия — он стоял метрах в ста. Спит, а здесь такое творится! Ведь если бы Юрка всполошил избушку, Валерия по головке не погладили бы. И, наверно, Пудов первый бы написал в районную газету о Валерии, а с Варзугиными еще не случалось такого. Ну и соня!
Юрка дернул дверь. Она была на запоре. Тихонько постучал.
— Кто там? — шепотом спросили изнутри.
Юрка даже усомнился: брат ли это?
— Это я, Юрка, открой скорей... Там... Там... Там рыбу воруют...
Слабо лязгнул крючок, и Юрка вошел в домик. Валерий был в трусах и майке, волосы нечесаные.
— Какую рыбу? Что ты мелешь?
— Семгу... Вон... Гляди в окно! — почти крикнул Юрка.— Бери скорей ружье, а то они уйдут.
— Сядь.— Валерий показал рядом с собой на койку и еще раз зевнул.— Сядь и успокойся.
481
Юрку била нервная дрожь. Он готов был сорвать с гвоздя ружье и броситься к берегу. Валерий же вел себя непонятно. И, видя это его спокойствие, Юрка вдруг почувствовал, что у него зуб на зуб не попадает, ногти сжатых в кулак пальцев впиваются в ладони.
Видя, как он побледнел, Валерий тихо спросил:
— Может, валерьянки дать? Девчонка ты, вот кто, Уж я-то думал... Подумаешь, на две рыбины меньше поймает звено.*» Беда какая...
— Валька! — закричал Юрка.— Там не две, там много семги... Ты... Ты что?..
— Тише,— сказал Валерий,— ничего страшного не случилось. Какой из тебя получится моряк, есл£ по каждому пустяку панику поднимаешь?.. Вот тебе три рубля купи насос для велосипеда... Это помимо долга. Долг позже.
Он протянул зеленую бумажку*
Юрка отдернул руку.
— Ты подлец, Валька,— сказал он, все вдруг поняв,— ты негодяй, продажная шкура!
482
Валерий почесал широкую, мускулистую грудь, зевнул и вдруг засмеялся.
Юрка метнулся к двери. Рука Валерия догнала его, схватила за шиворот и швырнула на койку. Юрка вскочил и, вложив в удар вес всего тела, всадил кулак в грудь брата. Тот рухнул на пол. Через секунду он был уже на ногах, и дальше Юрка ничего не помнил: дико болела челюсть, голова звенела, как пустой чугун.
Юрка с трудом разлепил веки. Брат в напряжепной позе, полусогнувшись, стоял у окна и смотрел в сторону расставленных тайников. Потом высунулся из двери, коротко свистнул два раза и вернулся к столу. «А я его спасал,— почему-то вдруг подумал Юрка,— а я искал его в пургу...»
Валерий нервно ходил по комнате, набрал в черпак холодной воды из кадки, смочил Юрке лоб и челюсть.
— Отойди,— сказал Юрка, встал и, шатаясь из стороны в сторону, подошел к окну.
Карбасок — а это был карбасок Валерия — уже стоял у берега, и двое мужчин в телогрейках, кепках и сапогах с тяже¬
483
лыми мешками на плечах, полусогнувшись, быстро уходили в сторону сопок.
— Болит? — спросил Валерий.
— Тварь... Продажная тварь...
— Юра,— тихо и мягко произнес Валерий,— давай по-взрослому, без истерики. Побереги свои нервы. Они тебе еще пригодятся. Ты думаешь, я не понимаю, что нехорошо делаю? Но согласись, у меня нет другого выхода. Мне нужно побывать в Мурманске, сходить в мореходку и там кое с кем поговорить. Дядя Ваня не захотел помочь мне, отвернулся от меня. Вот и приходится самому обо всем заботиться. Отцу тоже нет до нас дела. У него — рыба, план на первом месте. Ты еще маленький и ничего не понимаешь. За жизнь, за свое место в ней надо драться. Приходится заниматься тем, что самому противно. С пустым карманом никуда не сунешься и никому ты не нужен...
— Гад! —* сказал Юрка, плача.
— Ты еще ребенок,— спокойно, ничуть не обижаясь, проговорил Валерий,— ты совсем не разбираешься в жизни. Тебя обманывают, а ты веришь. Не смотри так на меня. Все было бы по-иному, если б дядя Ваня поступил со мною как человек. Всем на меня наплевать. Я сам должен заботиться о себе и пробивать дорогу. Я поступлю в мореходку, а потом и тебе помогу. Мы будем штурманами и капитанами. Не всем же Варзугиным гоняться за треской на этих керосинках... У нас с тобой будут суда, могучие океанские суда, мы еще принесем много пользы стране...
— Я тебя ненавижу,— сказал Юрка.
— Ну вот, ты опять за свое. Чудак, право. Папуас ты — вот кто. К тебе со всей душой, а ты...
— У тебя нет души.
— Хватит,— твердо произнес вдруг Валерий,— мне надоело с тобой препираться.— Лицо у него стало непроницаемо-холодное, жесткое.— Я прошу, чтоб ты молчал. Иначе я погиб. Если ты намерен хоть кому-нибудь в поселке рассказать об этом — лучше убей меня.
Он подошел к стенке, снял ружье, взвел курки и протянул Юрке:
484
- На.
Юрка, пошатываясь, вышел йз домика, добрел кое-как до промысловой избушки, лег на свое место, пока никто не проснулся, и закрыл глаза.
Глава 12
ВНИЗ ПО ТРЕЩАНКЕ
Так Юрка пролежал часа три, не шевелясь, не открывая глаз.
По полу передвигалось солнечное пятно оконца, плыл гулкий и откровенный храп Пудова, спавшего на нарах под Юркой, и легонькое, жалобное посапывание дедушки Аристарха. За окном пронзительно крикнула чайка. Крикнула и смолкла. И над всеми этими шумами призрачной летней ночи властвовал один — широкий, несмолкаемо грозный рев водопада...
Первым проснулся дедушка. Он зевнул, быстренько и как-то стыдливо перекрестился, похрустел костями и принялся расправлять пальцами свалявшуюся за ночь бороду.
Юрка следил за ним сквозь узенькие щелочки едва приоткрытых глаз и не знал, что делать. Дедушка хоть и свой, хоть и Варзугин и желает своим внукам только добра, советоваться с ним нельзя никак. Стар больно, на язык не сдержан. Отцу надо рассказать. Только ему можно доверить такое. Только он знает, какими словами поговорить со старшим сыном. И что сделать с ним.
Потом стали подниматься женщины — женки, как зовут их старые поморы,— Васильевна и Прокофьевна. Они нарубили у избушки дров; Юрка отчетливо слышал их пересмешки. Его слух за эту ночь странно обострился, и даже самые легкие, далекие звуки явственно доносились до него, а говор за дверями прямо-таки оглушал.
Потом до Юркиных ушей долетела перебранка. Дедушка звал рыбачек вначале проверить тайники, а потом уж приниматься за растопку печки.
В другой раз Юрка легко бы спрыгнул с нар и подскочил
485
к дедушке: они вдвоем запросто управились бы с тайниками. Но какая-то тяжелая сила придавила его, пригвоздила к матрасу, и Юрка не в силах был сдвинуться с места.
Ему жаль было дедушку, такого старенького и слабого, языкастого, по-мальчишески проказливого и неунывающего, которому уже недолго осталось ходить по земле. Юрке хотелось всхлипнуть, уткнуться носом в жесткую подушку и так лежать до скончания века и ничего не делать. Что-то самое лучшее и ясное было раздавлено в его душе. Не для него уже светило в окошко избушки утреннее солнце, гремел водопад и кричали чайки...
За стенкой громко пересмеивались рыбачки. Их тоже почему-то жалко было Юрке. Гнут спину, набивают веслами мозоли, мокнут от брызг и под дождями, чинят изрезанные ножами сети, радуются каждой пойманной рыбине и ничего не знают...
Уже, судя по разговорам, дедушка с Васильевной вернулись с реки и принесли три крупные семги. Аристарх непривычно зло и солено ругался: и отчего это так часто рвутся сети, точно нерпа в них похозяйничала...
А Юрка все лежал, поджав ноги, ошеломленный и притихший. Наконец, внося свежесть утра и запахи росы и рыбы, в избушку вошла Васильевна с дедушкой:
— Что это разоспался твой?
— Умаялся, видно, вчерась,— сказал дедушка,— не взрослый, поди, еще... Такие и в мое время только-только зуйковать кончали, промышлять выходили, котлы мыть да крючки наживлять молодшим передавали.
— А Пудов-то, Пудов! Спит без задних ног...
— Оттого и жира пуд носит,— вздохнула Прокофьевна, заваривая чай.— И не скинет до второго пришествия... Сейчас я его пощекочу...
Юрка слышал все это, слова входили и выходили из него, не радуя, не тревожа, не печаля. Просто входили и выходили. И даже когда Пудов как угорелый вскочил с полатей и все в избушке давились со смеху, Юрка лежал неподвижно и ему все было безразлично. Поднялся он последним, вялый, с тяжелой головой. Помылся из рукомойника, утерся, сел за стол. Первое, что он сказал, было:
486
— Едем в поселок.
■— Куда торопиться? — сказал Пудов.— Я еще не весь материал собрал... Надо же этих зловредных баб проинтервьюировать да твоего брата раскачать, а то он вчера был не очень-то вежлив со мной...
— Скоро отлив,— сказал Юрка, глядя в грубо тесанный стол.
— Уже начался,— подтвердил дедушка.
— Ну вот... Знаете, какая потом будет дорога?
— Хорошо, я мигом,— пообещал журналист.
Это его «мигом» длилось долго.
Добрых полчаса он ел, пил чай — пять кружек, распространялся насчет своей будущей книжки о рыбаках Мурмана. Потом ослабил на три дырочки ремень и, весь лоснящийся от пота, колыхающийся и довольный, покатился к домику у водопада.
Юрка нервничал. Карбас уже был готов, а Пудова все не было.
— Опоздаете,— сказал Аристарх,— истинное слово, опоздаете... Сбегал бы за ним к Валерке...
Юрка отвернулся. Он не хотел, чтоб дедушка видел сейчас его лицо.
— Нет,— сказал Юрка,— уеду без него. Вот подожду еще десять минут и уеду.
— Ас Семкой как? — Дедушка прямо-таки растерялся.
— Оставлю вам... Чтоб не скучно было.
— А как на работу опоздает?
— Его дело — не маленький...
Юрке сейчас было на все наплевать.
— Нет уж, погоди, Юрок, он сейчас, он скоро...
— Давай пока грузить рыбу.
— Это можно,— сказал дедушка, и они за веревочные петли вынесли из маленького ледника в погребке ящик.
— Жду еще три минуты,— сказал Юрка.
— Да ты сбегай за ним, сбегай,—попросил дедушка,—заговорился человек, в блокнотик, наверно, пишет все. Старший Пудов трещочку промышляет, а сынок пишет. Вишь, поморы и к писательству пригодные.
487
— Вижу,— сказал Юрка,— жду еще минуту.
Его широкое, курносое лицо подростка,, веснушчатое и худощавое, губастое, большеротое, с упрямо торчащим подбородком, его серые, твердые, очень холодные глаза — все выражало свирепую решимость.
— Беда какая, погостит у вас,— отрезал Юрка.— Завтра с другим карбасом вернется.
— Еще один день?—испугался дедушка.—Нельзя-нельзя, у нас дела, нам план выполнять надобно...
— Ну, я поехал.— Юрка ступил в карбас, оттолкнулся от берега и кормовым веслом стал толкать по мелководью лодку.
У дедушки прямо-таки округлились глаза.
— Постой, я сейчас, я сейчас...— зачастил он и побежал по берегу.
Он бежал, припадая на правую ногу, смешно и как-то нелепо подергивая плечами, и голова его с большой бородой в лад шагам тряслась, точно слабо держалась на плечах. Он и ходил- то плохо, дедушка, а бегать... В последний раз, кажется, бегал лет двадцать тому назад.
Юрка посмотрел на него и заплакал.
Потом вытер ладонью лицо и сполоснул водой. Вода была солоноватая. Она быстро убывала, обнажая береговую черту, отступая от гальки и кустиков полярной ивы.
Юрка только делал вид, что отталкивается от дна, а на самом деле лишь опускал весло и ждал.
Скоро появился Пудов. Он что-то кричал, потом скрылся в избушке, вернулся с плащом, портфелем, ружьем и подбежал к берегу.
— Лезь,— сказал Юрка.
— А ты к берегу не можешь? — задыхаясь от бега и блестя мокрым лбом и щеками, спросил тот.
— Не могу. Ты в сапогах. Лезь.
Пудов влез, едва не перевернув карбас, сел и стал утираться большим платком.
— А дедушка где? — спросил Юрка.
— Там он, в домике, с Валей отдыхает... За сердце держится...
У Юрки опять защипало глаза.
488
— Ну чего расселся! — грубо сказал он.— Видишь, вода убывает, опоздали мы, бери весло и работай!
Пудов покраснел, хотел что-то сказать, но промолчал, взял второе весло. Весла уперлись в дно, и карбас, заскрежетав по гальке, добрался до глубокого места и облегченно закачался. Юрка сел за весла.
Уперев каблуки сапог в ребра карбаса, он стал грести, вкладывая в весла всю свою силу. Вода уходила в море и несла их карбас к устью реки.
Река стала заметно уже. Не видные до того камни выступали из воды и, подсыхая на солнце, на глазах увеличивались.
— Ну и занятный у тебя брат,— проговорил Пудов, улыбаясь,— и не подозревал. Помню, как твоя мать привезла его из больницы, как бегал голопузый по улицам Якорного, а потом я даже писал о нем в газете — директор школы посоветовал:
489
способный, инициативный. И очень волевой. Это он первый предложил собирать металл...
— Проскочим ли у Двух Братьев?—спросил Юрка.— Уж больно припоздали мы...
— Как-нибудь. С таким капитаном, как ты, нз пропадешь...
Юрка даже не улыбнулся. Он греб, стиснув зубы.
В одном месте карбаз чиркнул днищем по камню, и Юрка резко вильнул в сторону.
— Э-э-эх, дьявол! На час бы раньше... Само несло бы!
— Ничего, и так пройдем... И меня, знаешь, удивляет, как он хорошо со мной сегодня разговаривал, не то что вчера. Сказал, что хочет стать командиром второго атомного корабля...
Юрка посмотрел на Пудова, выдохнул, набрал воздуха и вдруг во все горло заорал:
— Заткнись!
Пудов побледнел. Даже уши, маленькие розовые ушки его, посерели и сжались.
— Ты что, ты что это? — спросил он прыгающими губами.— Забываешься, с кем говоришь?
Юрке было на все наплевать. Он вдруг возненавидел этого Пудова, толстяка и растяпу, который прожил лет тридцать, а ничего-то и не увидел и не понял в жизни. И в каком-то непонятном исступлении, не в силах сдержать себя, Юрка вдруг стал грести и резкими движениями тела раскачивать лодку из стороны в сторону. Пудов схватился за борта.
Вода перехлестывала через край, обдавала брызгами.
— Ты ошалел! — крикнул Пудов.
А Юрке хотелось совсем опрокинуть лодку, чтоб этот толстяк обалдел от страха, чтоб он выл, визжал, а только б не говорил, только б заткнулся...
— Ты дурак! — закричал вдруг Юрка.
Пудов уже не возражал ему. Он держался за борта карбаса и думал лишь об одном: как бы не очутиться в воде.
Трещанка мелела с каждой минутой. То и дело днище карбаса терлось о камни, о жесткий гравий перекатов.
Юрка немного отошел, остыл. К тому ж он вспомнил о семге в плоском ящике, стоявшем под его сиденьем,— от резких
490
толчков рыба могла помяться, потерять чешую — и перестал раскачивать карбас.
Он, все время поворачивая назад голову, обходил камни и отмели.
Пудов, глядевший вперед, то и дело кричал ему:
— Слева глыбина, куда прешь? Слева!
Юрка отваливал в сторону и гнал карбас возле самого берега, где было глубже.
Потом, преодолев мелкий перекат, на веслах протащив лодку через камни, вышел на середину реки. Скоро появились Два Брата. Теперь это были две громадные каменные глыбы, гладкие по бокам, отшлифованные за тысячелетия течением. Осклизло-зеленые внизу, сухие и серые, выжаренные солнцем и ветром сверху, они поблескивали косыми жилами кварца.
Возле них клокотала и хлюпала вода, а над сотнями других камней, еще скрытых водой, река кружила и пенилась, прыгала и стонала.
Здесь можно было пропороть днище карбаса, и Юрка стал тормозить. Он все время оглядывался. Лодку нужно было пропустить в двухметровый просвет между глыбами — было еще глубоко.
— К берегу греби! — заорал вдруг Пудов.— Подождем большой воды!
— Выкуси!
Пудов бросился к Юрке, схватил весла, навалился на него. Карбас несся на скалу, на правую глыбину Двух Братьев.
— Назад! — Юрка толкнул Пудова, уперся ногой в его живот, оторвал от весел. Гребанул левым, подправил правым. Убрал оба.
Как нить сквозь игольное ушко, пронесся карбас меж двух глыб, пролетел метров сто по быстрине и крепко засел на отмели.
Юрка вскочил и веслом стал отталкиваться от дна. Пудов держался за борт.
— А вы чего? Берите весло...
С хрустом тащилась лодка по камням. Серые, голубоватые, розовые, они просвечивали сквозь летящую воду, дрожали и неохотно пускали лодку дальше. Зато там, где на камнях росли
491
водоросли, темно-зеленые и длинные, днище скользило легче.
В одном месте карбас заклинился меж двух камней, и. Юрке пришлось лезть в воду и толкать его. Пудов по его команде перешел с носа на корму, помогал ему веслом, и после долгих усилий они кое-как провели карбас.
Юрка вылил из сапог ледяную воду, остался босиком, и они двинулись дальше.
Вот и первые домики саами. Вот и дряхлый бот «Заря», из которого опять струйками выливалась вода. Глянув на бот, Юрка вдруг вспомнил дядю Ваню и его слова: нельзя опоздать к своей большой воде, к приливу — иначе будешь беспомощно валяться вот так на песке, на мели...
Два часа спускались они по реке, и у Юрки кровоточили и горели пальцы, плечи и лопатки ломало. Голова болела от напряжения.
Наконец Юрка подгреб к колхозному причалу и увидел Васька.
Малыш с компанией ровесников сидел у края причала, опустив вниз босые ноги — остальные не рискнули так сидеть,— и глядел на небо.
Увидев Юркин карбас, Васек вскочил, поймал брошенный братом конец, закрепил на кнехте.
— Чего в небо уставились? Ворон считаете?
— Не,— сказал Васек,— не ворон. Самолета ждем, с цыплятами... С утра обещали, а все нет. Туман, говорят, мешает...
Юрка вспомнил, что в самом деле из Мурманска должны были доставить четыре тысячи цыплят, по тридцать копеек за штуку. По всем учреждениям заранее списки составили.
— Юр, покатай нас, а?
Юрка бросил на причал мокрые сапоги:
— Отнеси домой. Ну!.. Живо.
— А потом покатаешь?
— Завтра,— сказал Юрка.— Сегодня некогда.
Васек схватил сапоги, по одному в руку, побежал по причалу к поселку, и ветер петушиным гребнем поднял на его голове белобрысые волосы.
Пудов выбрался на причал, иоправил брюки, все время сползавшие с живота.
492
— Ну, я пошел,—сказал он, оглядев с головы до ног растрепанную фигурку Юрки, хотел сказать что-то еще, но промолчал ж уже с другого конца причала крикнул: — Спасибо за компанию! — и ушел.
— И вам!—крикнул Юрка, но Пудов, кажется, не слышал, и Юрка подумал, что, в общем, он неплохой и довольно понятливый мужик. Не обидчивый...
Юрка выволок из карбаса ящик с семгой, и трое малышей помогли донести его до склада, куда из рыбоприемного пункта по телефону была вызвана приемщица.
В этот день гидросамолет так и не прилетел, а наутро следующего дня у молочного ларька Юрку встретил председатель райисполкома Кузьма Петрович и велел установить «наблюдение за воздухом» и в случае появления самолета брать рыб- кооповский карбас и ехать навстречу ему: гидросамолет должен сесть в губе...
Юрке был вручен ключ от замка карбаса, и он на какое-то время даже забыл о случившемся на падуне. Держался поближе к причалу.
Даже обедать не ходил. Васек принес ему на причал кусок хлеба с маслом и колбасой и миску гречневой каши в узелке.
Васек сидел рядом, моргал белесыми ресницами и смотрел, как брат уплетает. Юрке каша нравилась, и малышу было приятно, что не зря он в последний момент подцепил ножом из масленки еще один кусок масла, сунул в теплую кашу и размешал.
Он любил Юрку, непонятно за что любил, и, пожалуй, даже сильнее, чем Валерия, хотя тот был заботливей, мягче и веселей Юрки.
— Отнеси.— Юрка утер рукою губы.
— А возьмешь меня с собой? — тихонько спросил Васек и потер ногой щиколотку другой ноги.
— Куда? — спросил Юрка, доедая корку хлеба.
— В губу. Куда он прилетит.
— Нет,— сказал Юрка и, увидев, как у братишки опустились кончики губ, добавил: — Я буду очень торопиться, Вася... Да и места не будет: весь карбас придется заставить коробками...
493
Васек вздохнул, взял миску и, опустив голову, маленькими шажками пошел по проулку к дому. Юрка поглядел ему вслед, и внутри него что-то вздрогнуло и мелко-мелко задрожало.
Ну как ты не поймешь, малыш, что ни к чему тебе выходить в губу! Маленький ты еще, очень маленький, плавать не можешь. А вода здесь такая — и здоровенный мужик, очутившись в ней, камнем идет на дно. А карбас будет перегружен. Мало ли что...
И он сдержал слово. Когда из-за сопок вдруг вынырнул гидросамолет с двумя лодками под фюзеляжем, развернулся и стал кружить над губой, Юрка щелкнул ключом, оттолкнулся от деревянного бруса, а Васек остался стоять на причале.
Не один Юрка держал к нему путь. Только гидросамолет сел на воду, как от причала фактории отвалила моторка с пограничниками, от берега губы — почтовый карбас да еще колхозная дорка. И, когда Юрка, обливаясь потом, подгреб к самолету, в дверцу фюзеляжа уже поднимался по трапу Иван Тополь.
494
Бортмеханик в кожаной куртке стоял на зеленой, в строчках клепок металлической лодке-поплавке и кричал на девушек с почтового карбаса:
— Ну куда вы гребете, руль сломаете!
И вслед за тем Юрка услышал писк. Многоголосый, жалобный. Казалось, внутри самолета все кипело от этих цыплят.
— И повеселее! — крикнул пилот, совсем молодой парень.— Ветер волну разгоняет, не подняться...
В дорку и Юркин карбас быстро погрузили пищащие коробки, в почтовый карбас бросили связки газет, писем, несколько посылок; Иван Тополь проверил документы у Пашки Коврова — кузнеца из мастерских, улетавшего в отпуск; пилот махнул рукой, и вся флотилия пошла к берегу.
Волосы у Юрки стали дыбом, когда завращался винт. В фюзеляж убрали трал, закрыли дверцу, гидросамолет поплыл на своих лодках по заливу, побежал, все набирая скорость.
Носы лодок, точно лыжи, приподнимались все выше и выше, оставляя сзади волну; брызги, поднятые винтом, заискрились на солнце; вот уже только пятки лодок опираются на воду; миг — и гидросамолет с тяжелым ревом оторвался от поверхности воды и ушел за сопки...
А еще через час Юрка с Васьком шагали домой, и малыш, прижимая к груди, нес две картонные коробки с круглыми дырочками, из которых раздавался неистовый писк.
— Не сердись, Васек,— сказал Юрка дома,— видишь, едва взяли всех — не было в карбасе места...
— Я не сержусь,— с достоинством ответил Васек,— раз ты обещал — значит, покатаешь...
Глава 13
ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР УВОЗИТ ВАСЬКА
Отцовский сейнер вернулся с промысла и стал под разгрузку у причала фактории. Юрка не находил места. Ему надо было рассказать обо всем, что случилось на падуне. А это оказалось так нелегко. Когда отец был вдали, Юрка прямо-таки ис¬
495
ходил желанием скорее увидеть его, чтоб свалить с плеч эту тяжесть. Но вот Юрка увидел отца: он сбежал с мостика, улыбнулся, поблескивая стальными зубами, помял его в руках, хлопнул по спине...
Ну попробуй тут открой рот!
До вечера отец был страшно занят, только на пять минут забежал домой перекусить. А вечером, когда пили чай, когда самое время побеседовать, рассказать о Валерии было просто невозможно: во-первых, говорить такое при свидетелях нельзя, во-вторых, уж очень весело светились у отца глаза, когда он рассказывал, как они зацепили плотный косяк трески. Даже старший помощник, второй штурман и повар стояли у рыбоде- ла — специального стола для обработки рыбы — и шкерили ее: отрубали голову, потрошили...
— Значит, план есть? — спросил дедушка Аристарх, раскалывая щипцами сахар: он привез сдавать семгу.
— Пожалуй, лишнего взяли центнеров пять,— проговорил отец, отхлебывая горячий чай.
— Ну вот видишь, а ты боялся.
— Ничего я не боялся,— рассердился отец,— только где это видано, чтоб всучивали тебе никудышный сейнер, а твой — другим... Чужими руками жар загребать — это легче, чем свои в огонь совать... До сих пор не согласен...
— Первый час уже,— сказала мать,— сколько можно спорить?
Ну когда же мог Юрка поговорить с отцом!
Уже засыпая, Юрка решил утром пойти с отцом на сейнер и по дороге обо всем рассказать. Но, как назло, проспал, и, когда проснулся, в доме не было даже Васька. На полу в лучах солнца лежала пушистая кошка и сладко позевывала.
Чайник успел простыть, пока Юрка спал. Он съел половину пирога-рыбника, кусок хлеба с колбасой, сунул в рот-два куска рафинада и вышел из дому, раздумывая, где сейчас может быть отец: в конторе правления, в-мастерских или на фактории...
На берегу губы сидела стайка ребят.
Малыши строили из песка крепость — с угловыми башнями, бойницами и внутренним двором.
496
В сторонке Васек с Костиком Сениным бросали в море железный шар-кухтыль, и небольшая волна исправно вкатывала его на берег. Песок был волнистый и очень мягкий.
«Пляж, как в Сочи,— вспомнил Юрка слова дяди Вани,— даже лучше в сто раз — там галька, а вот холодина, как на полюсе... Повысить бы температуру градусов на десять, весь бы Союз приезжал отдыхать в Якорную губу...»
К берету на велосипеде подъехал Серега Ермилин, тот самый, что участвовал в секретной экспедиции. Соскочив с седла, Серега выхватил из рук Васька кухтыль, положил на ладонь и, как спортсмены бросают ядро, разбежался и толкнул в море.
Шар плюхнулся далеко от берега, и малышам, наверно, пришлось бы долго ждать, когда волны выкатят его на берег. Они так и не дождались этого, потому что заскучавший вдруг Васек упросил Серегу покатать его на велосипеде.
Серега посадил малыша на раму боком — ноти свисали в одну сторону, повел велосипед вверх, добрался до мостика, вскочил в седло и покатил вдоль домов.
Более взрослые ребята играли в ножички, к ним подсел и Юрка. Минут через десять он услышал хруст велосипедных шин на песке и тяжелое дыхание Сереги. Тот подкатил к нему и спрыгнул на землю. Лицо у него было мокрое, тонкие губы странно дергались, прыгали и кривились.
— Там... Васек...— невнятно забормотал он.— Упали мы с мостков... Он кричит — встать не может...
Юрка вскочил с неска.
— У бани... Я поднимаю, а он не встает...
Юрка побежал. За ним, ведя рядом велосипед, припустил Серега. Под ногами прогибались и скрипели доски мостков; овцы и куры, бродившие поблизости, отбегали в сторону.
Васек лежал на песке и негромко плакал. Юрка склонился над ним, взялся за плечи и хотел посадить, но Васек резко вскрикнул.
— Ну что ты, маленький? — Юрка встал на корточки.— Что с тобой? Ушибся?
Васек мотнул головой. Лицо у него было очень бледное, осунувшееся. К мокрым от слез щекам прилип песок, песком были
17 Библиотека пионера, т. 12 497
забиты и светлые волосы, и вельветовая курточка, й брюки из «чертовой кожи» тоже были облеплены песком.
— Больно? — спросил Юрка.— Где?
— Нога...— простонал Васек.— Нога-
Рядом стоял Серега, держал велосипед, и лицо его было такое же бледное, как и у Васька. Серега чуть оправился от испуга и говорил более членораздельно:
— Вот тут... Ехали мы... Коза разлеглась на досках. Звоню. Оглохла, что ли,— ни с места. Хотел спрыгнуть, запутался штаниной в педали — и полетели. О край мостка ударились... Ну и вот...
Юрка просунул под Васька руки и оторвал от песка. Васек закричал:
— Нога!.. Нога болит...
— Ты за плечо держись,— сказал Юрка.— Сейчас я тебя домой отнесу, полежишь — и все пройдет.
Юрка осторожно понес его. Ваську, видно, было очень больно. Он закрывал глаза и вскрикивал.
Юрка прижимал его к себе, старался держать так, чтобы ноги не болтались. Нес и говорил:
— Ну потерпи немного, уже недалеко. Ты ведь будешь капитаном, а капитаны не плачут. Ну еще немного. Сейчас будет дом.
Васек терпел. Морщил лоб, кусал губы и закрывал глаза. Его тонкие, горячие как огонь пальцы впились в Юркину шею, и, когда Юрка принес брата к дому, тот был в полузабытьи и никак не хотел разжимать на шее пальцы.
Серега все время шел следом, достал из потайного места — из-под бочки — ключ, открыл дверь и придерживал ее, когда Юрка вносил брата.
— Побудь здесь.— Юрка бросился в контору правления колхоза, где был телефон.
Дул сильный ветер. Он крутил над поселком песчаные смерчи, подбрасывал выше крыш клочья бумаг, мусор. На зубах хрустел песок.
Через полчаса из Шнякова примчалась пограничная моторка; из нее вышли два человека в белых халатах. Один — полный, лысый, в очках — терапевт Андрей Игнатьевич, второй — санитар с носилками.
498
— Пустяки,— сказал врач* осмотрев Васька,—сильный ушиб... Скоро заживет...
Юрке он сказал другое, когда они вышли из дому: перелом голени левой ноги: хирурга сегодня в больнице нет и завтра не будет — ушел до понедельника на дальнее озеро порыбачить. Придется наложить на ногу шину и вызвать по радио врача из какого-нибудь другого места.
Санитар на той же моторке съездил в больницу за шиной, а Андрей Игнатьевич с Юркой остались у койки с Васьком.
— Погода испортилась,— сказал врач,— видишь, как песок сечет окно... Боюсь, Мурманск не выпустит самолет.
Андрей Игнатьевич не ошибся. Скоро стало известно, что райком партии связался по радио со штабом Северного флота и штаб обещал в самое короткое время прислать хирурга.
Весь поселок уже знал о случившемся. С фермы прибежала мать, отец тоже приехал на дорке с фактории.
Время тянулось медленно. Васек лежал, закрыв глаза, на койке. Левая нога его была в белой шине, толстая, огромная, и мать ходила по дому, вытирая платком глаза* прикладывая кончик его к подбородку.
— Катер! — закричал кто-то во дворе, где собралась кучка ребят.
Юрка выскочил из дому.
Высоко вскинув нос, отводя в стороны — слева и справа — волны, к берегу мчался торпедный катер. Юрка увидел белый номер на его борту, трубы торпедных аппаратов и командира на мостике. Катер сбавил скорость. Нос его опустился, рев моторов приутих, волны опали.
Несколько взмахов весел, и шлюпка доставила на берег военного с чемоданом. Двое матросов вынесли носилки, и минут через десять на них очутился Васек. Слабо покачиваясь, плыл он через поселок к губе.
Сбоку шли отец с матерью и Юрка, сзади валила гурьба ребят.
Матросы на шлюпке осторожно приняли носилки, поудобней установили их, чтобы не мешать гребцам, и весла взлетели вверх.
Ветер швырял в лицо брызги, толкал в грудь* мешал ды¬
'499
шать. Юрка с отцом и матерью стояли на самом берегу и, не замечая, как волны хлещут по ногам, смотрели на губу.
Шлюпка быстро долетела до катера. Вот носилки с Васьком подняты вверх; взревели моторы, и торпедный катер, бросив на берег высокую волну* полетел к выходу из Якорной губы, к тонкой свечке маяка на краю мыса. Катер уже исчез за грядой сопки, утонул в дымке Баренцева моря, а три человека все еще стояли на песчаном берегу губы...
Через два дня ушел на промысел отец, и Юрка так и не сказал ему о случае на падуне. И без того хватало у отца забот и неприятностей. В самый последний момент, когда Юрка остался с ним наедине в каюте на сейнере, он даже открыл уже рот, чтобы рассказать.
Раскрыл, но губы произнесли совсем другое.
Юрка вдруг понял, что это не по-мужски и не по-товарищески — выдавать родного брата. Сказать, так уж сказать при нем. Юрке вдруг вспомнилось серое, нервное лицо Валерия и жест, которым он снял с гвоздя ружье: «На, стреляй...»
Нет, нельзя выдавать его... Никого нельзя предавать. А тем более брата.
Хватило ему и того, что произошло. Теперь небось раскаивается. И близко не подпускает к тайникам браконьеров.
И Юрка ничего не сказал.
Неделю спустя он увидел Валерия. Тот вылез из. колхозной дорки с ружьем за плечами и большим узлом в руке.
— Совсем? =-=■ спросил Юрка, сидевший на причале.
500
— Ага.— Валерий улыбнулся.— Месяц производственного стажа набрал... Для начала ничего. А?
Юрка промолчал.
Он все вспомнил, и спина его неприятно похолодела.
— Теперь на сейнер... Глотку перегрызу бате, если не возьмет.— Валерий весело осклабился.
Юрка подозрительно посмотрел на брата:
— Сам ушел или как?
— Сам... Опротивело мне все. Уши от грохота заложило. Думал — оглох. Ну я потопал...
— Иди.— Юрка продолжал сидеть на причале.
Он глядел вниз, в воду. (Небольшие боты беломорской экспедиции покачивались на малой волне, и Юрка видел сквозь просвеченную солнцем воду их винты на корме.
На лючинах первого бота «Олонка» рыбаки дулись в карты, ветер трепал развешанное на веревке белье. Из рубки гремела норвежская музыка: кто-то поймал волну и мотивы соседней северной страны неслись над устьем реки, путаясь в мачтах и снастях ботов.
Вода убывала, суда опускались, и, чтоб взобраться с них на причал, нужно было карабкаться по веревочному трапу на фок-мачте...
Глава 14 КОНЕЦ
До вечера не видел Юрка брата. Встретил он его возле продовольственного магазина. Валерий, придерживая дядю Федю за локоть, шел по пыльной улице и говорил:
— Ничего... Я уже не маленький... Сам за себя отвечаю. Не бойсь, дядя... Да к тому же и батя в море...
«О чем это они?» — подумал Юрка, шагавший сзади.
— Отчаянная ты душа,— заплетающимся языком проговорил дядя,— далеко шагнешь... Только с меня не учись... Не касайся горлышка... А то все вот так пойдет.— Дядя рукой прочертил в воздухе спираль.
— Все можно умеючи*-- сказал Валерий.— В нашем посел¬
501
ке мягко, песочек, свалишься с ног “ не разобьешься, даже приятно полежать... Не то что в Нерпино... Камень.
— Но-но! — Дядя протестующе замахал руками.
Но Юрка-то отлично знал: Валерий нарочно напускает на себя ухарство.
Юрка замедлил шаг. Неловко было обгонять брата с дядей — еще скажут, что шпионит. Идти медленно тоже не мог — поневоле подслушиваешь их разговор. Юрка хотел уже нырнуть в проулок, но здесь Валерий заметил его:
— А... братишка! Ну иди-иди сюда! Бери дядьку с другого борта...
— Напоил? — шепнул Юрка, подойдя.— Денежками разжился?
— Ну-ну, Папуас... Поосторожней,— сказал Валерий и, словно спохватившись, шутливым, изменившимся голосом добавил: — Одна чекушка... Соблюдение морских традиций... С приходом, так сказать. Да и я уже ребенок старшего школьного возраста...
Валерий был чуточку навеселе.
Дядя неплохо соблюдал равновесие, и Юрке не пришлось особенно поддерживать его.
— Васька скоро выпишут? — спросил Валерий.
— А я откуда знаю?
— Ай-яй-яй, как нехорошо получилось,— сказал Валерий,— такой маленький — и уже перелом ноги. Не уследил?
— Я что, бегать за ним обязан? — Юрка угрюмо глядел в загорелое, повзрослевшее лицо брата.
— Вот и оставь вас одних, вот и покинь вас на месяц!.. До чего беспомощный народ!
Юрка промолчал.
Из-за угла стремительно вышли два пограничника с пистолетами-автоматами на плечах.
— Привет труженикам Заполярья,-^ сказал Иван Тополь, придержав шаг.
— Здорово,— ответил Валерий.— Здорово, отважные защитники рубежей! Сколько шпиёнов выудили?
— Энное количество. Дядюшку буксируешь к пирсу?
— Так точно* товарищ сержант! — выпалил Валерий.
502
Юрка тихонько вздохнул: ай да брат, никогда не растеряется, не полезет в карман за словом, и все с него как с гуся вода... Даже с пограничниками на «ты».
— Ну пока.— Иван Тополь поудобней приладил на плече оружие.
— Пока,— бросил Валерий.
Ночью Юрка вдруг проснулся. И сразу увидел на подушке койки, стоявшей рядом, лицо спящего Валерия. Все то же, кажется, лицо — спокойное, уверенное, все то же лицо, и все- таки что-то хорошее, прежнее ушло с него. Стерлось, исчезло. Что-то чужое и непонятное появилось в этом лице.
Юрка отвернулся к стене.
До чего же все не просто, как все запутанно и сложно в жизни! И, пока докопаешься до всего и поймешь, что к чему, седина на висках появится.
Юрка уснул, и до утра не сходило с его губ выражение обиды и горечи.
Отца дома не было, и за Васьком поехала мать. Она привезла его с военно-морской базы на попутном рыбацком боте, и у Юрки что-то стиснулось внутри, когда он увидел, как рядом с матерью на костылях ковыляет Васек. Юрка выскочил из дому, бросился к брату, хотел обнять, затормошить. Но на улице были посторонние, и Юрка застыдился.
Васек побледнел, осунулся и показался еще меньше ростом. Руки его упирались в два маленьких костыля, опирался он на правую ногу и левую, все еще забинтованную ногу нес, выставив вперед.
— Здравствуй, Васек.— Юрка почувствовал, что рот его готов разорваться от улыбки.
— Здравствуй,— пискнул брат, получше ухватившись за ручку левого костыля.
— А я думал, тебя совсем починили.
— Уже давно гипс сняли,уверил его Васек,— нога правильно срослась, и я даже ступать на нее пробовал... Чуточку больно. Приказали, чтоб походил еще с костылями...
— Ну и походи,— сказал Юрка.—Попрыгай себе,.как кузнечик;
— Я вот как могу!—Васек так прыгнул вперед, оттолкнув¬
503
шись от земли костылями, что у Юрки кровь отхлынула от лица.
Мать, стоявшая рядом, бросилась за ним,* но Васек сделал второй прыжок, и третий, и четвертый, и мать так и не догнала его.
— Как кенгуру! — крикнул Юрка.—Ай да Васек! Отстань от него, мама... Готовь обед, а мы с ним поговорим на крылечке...
Мать погрозила пальцем Ваську; грузно колыхаясь, вошла в дом. Малыш, держа в правой руке костыли, на одной ноге подскакал к крылечку, уселся поудобней, вытянул больную ногу и принялся рассказывать о своем житье-бытье в госпитале, о врачах и соседях по палате, моряках с подводных лодок и торпедных катеров...
— Смотри, что мне подарил дядя Леша.Васек хитро
504
сверкнул большими глазами, извлек из кармана какой-то синий предмет из пластмассы, приложил к губам и, зажимая пальцами то один, то другой клапан, заиграл.
— Покажи-ка мне свою дудочку.—Юрка потянулся к брату.
— Это не дудочка, это кларнет.
— А кто это дядя Леша?
— Офицер он... С лодки... Торпедист... Рассказывал, как они стреляют на маневрах торпедами... По следу из пузырей определяют, попала в цель или нет...
Васек сидел на крылечке, покачивал вытянутой ногой и рассказывал ему такие вещи, о которых Юрка и не догадывался. А за время отсутствия Васек успел узнать невероятно много. Когда мать позвала их обедать, малыш развязал свой узелок, и здесь выяснилось, что не только кларнет подарили ему в больнице. Он привез настоящий военно-морской ремень с медной бляхой, на которой выбит якорь; правда, он был слишком велик и годился для трех Васьков, составленных вместе.
— Ничего, подрастешь,— утешал брата Юрка,— больше ешь, живот отращивай...
Васек улыбнулся, и неправильно растущий резец его смешно высунулся из-под верхней губы.
— Разумеется,— сказал он рассудительно и достал из узла книгу «Перископ в Акульей губе»; на переднем чистом листе было написано: «Василию Варзугину, будущему подводному волку, от экипажа энской подводной лодки — с моряцким приветом. Егор Куцыба».
Скрипнула дверь, и на пороге появился Валерий. Лицо его сразу оживилось, вспыхнуло.
— Васек!— закричал он.— Братишка!—подбежал к малышу, подхватил, поднял, стал тискать и целовать.
А Юрка смотрел на все это и вдруг понял, какой он все-таки, Юрка, чурбан и бесчувственный человек. Разве так он встретил Васька? Разве сказал ему хоть одно настоящее слово?
Весь этот день да и следующий Васек не отходил от Валерия, рассказывал ему о людях и базе, не спускал с него глаз.
Два дня спустя с падуна приехал дедушка Аристарх — помыться в иапе и получить новый тайник. А тут пришел с моря
505
отцовский сейнер. Всяюемья была в сборе* и снова у матери был полон рот хлопот. У отца было хорошее настроение и потому, что с Васьком все окончилось благополучно, и потому, что сейнер пришел с тридцатью центнерами сверхплановой рыбы в трюме.
Утром следующего дня в губе раздалась музыка. Большой белопалубный рейсовый пароход отдал якорь, и к нему уже мчался пограничный катер, шла дорка за посылками и тюками газет и писем, небольшой буксирчик тащил железную баржу.
Ребята, зарыв в песок ноги, сидели на берегу и слушали музыку с парохода.
— Гляди! — вскрикнул Васек.— Гляди!
Две темные усатые мордочки вынырнули из воды.
— Нерпы,— сказал Валерий, сидевший чуть в сторонке на выброшенном волной бревне.— Ужасно музыкальные существа... Смотрите, как танцуют.
Нерпы и в самом деле повертывались в воде с боку на бок, подныривали друг под друга, высовывали наружу свои собачьи мордочки. День был ясный, солнечный. Вода слабо набегала на желтый волнистый песок. Стало жарко. Валерий стащил с широких плеч рубаху, майку и стал загорать.
Васек, приложив к губам свой кларнет, заиграл какую-то нехитрую песенку.
— Это они от меня пляшут, а не от парохода,1— сказал он.
К берегу спустился начальник почты Александров, высокий, краснолицый человек в начищенных сапогах и полувоенной форме.
— Эх, пивка бы,— проговорил он, глядя на пароход,— да коньяку бы бутылочку, «Арарат», четыре звездочки...
— Неплохо бы.— Валерий зевнул и потянулся.
— Где мои годы,— вздохнул Александров,— взял бы карбасок, два взмаха веслами — и там.
— Делать мне больше нечего,— сказал Валерий, подставляя солнцу спину.
Хрустя песком, к воде сбежали двое мужчин — командировочные из Дома приезжих: один ревизовал рыбкооп, другой приехал по делам Дома культуры* В руках у них было по большому чемодану.
50G
— Будь он проклят! — выругался один, кулаком показывая на пароход.^— Все опаздывал, а тут вовремя пришел.
— И билеты купили? — спросил Александров.
— В первый класс! — Мужчина в серой кепке хлопнул себя по груди.— Жди теперь следующего.
Пароход стоял метрах в трехстах от берега, большой, белопалубный, и гремевшая на нем музыка гулко отдавалась в сопках.
— А рейдовый катер больше не придет за пассажирами? — спросил один командировочный.
— Нет,— сказал Александров,— всех увез. Где вы были? Чаи распивали?
— Сколько времени простоит пароход?
— Думаю, час-полтора. Пока грузы примет... На катер нельзя опаздывать.
— Здесь с самого утра ждали парохода люди,— сказал Васек,— один дяденька, веселый такой, рассказывал, как отбирают в мореходку...
— Какой дяденька? — прервал его Валерий, сел и обхватил руками колени.
— В мичманке, со шрамом на лбу, он все рассказывал...
— Кто он такой? — спросил Валерий.
— А-а-а...— протянул Александров.— Это Потапов, преподаватель штурманского дела из Мурманской мореходки...
Валерий вскочил. Лицо его напряглось. Он отбросил со лба длинные волосы.
— Ты помнишь его? — спросил он у Васька.
— Кого, дяденьку этого? Только что говорил — и не помнить...— усмехнулся Васек.— А тебе-то что?
— Ничего.— Валерий смотрел на пароход.
Большой лоб его нахмурился. Светлая линия бровей проломилась внутрь.
— Свез бы кто, а? — попросил один из опоздавших,— Пять рублей плачу.
— Идем,— твердо сказал Валерий.— Юра, поможешь мне грести?
— Помору. Надо выручать... А как же с пограничниками?
— У трапа проверят. Бежим...
507
— А мне пива захватите,— сказал Александров, давая деньги,— пять бутылок.
Впереди бежал Валерий, на ходу натягивая майку с рубахой, за ним Юрка с Васьком, сзади мужчины с кладью и остальные ребята.
С причала полезли в карбас.
— А я? — спросил Васек, опираясь на костыли.— А меня забыли? — Глаза его наполнились слезами.
— Тебя потом. Видишь, места нет,— сказал Юрка.
— Опять нет места! — Васек надулся и отвернулся от карбаса.
— Полезай,— сказал Валерий, прилаживая весла,— пусть прокатится, море сегодня тихое.
— Нет,— сказал Юрка.
— А я говорю — да,— отрезал Валерий,— он должен показать мне того человека. Ох, какой ты осторожненький стал!.. Я тут капитан, а не ты... Лезь, Васек.
Он подал ему руку, Васек проворно соскользнул в карбас, положив вдоль борта костыли. Валерий оттолкнулся от причала, и карбас из устья Трещанки двинулся к губе. Лодка была перегружена, борта ушли глубоко в воду. На одном весле сидел Валерий, на другом — Юрка.
Васек играл на кларнете, вызывая из морских глубин нерп. Когда ему это надоело, он взял костыль и, помогая братьям, стал грести им.
Один командировочный пристроился на носу, другой — на корме. Они, волнуясь, то и дело поглядывали на пароход, который приближался с каждой минутой.
— Дай-ка папироску, Семен,— попросил тот, что сидел на корме.
Щелкнул портсигар.
— Лови!
— Не бросай. В море упадет. Сейчас я возьму.
Мужчина в кепке встал и бочком протиснулся вдоль борта, наступил на Юркину ногу, споткнулся, взмахнул руками, и не успели ребята вскрикнуть, как карбас опрокинулся. Все пятеро очутились в воде.
Вода обожгла холодом. Брызги, пена, ругань. Пальцы скре¬
503
бут о скользкие доски днища. Валерий дервый вскарабкался на киль, бледный, мокрый, с дрожащими губами. Двое командировочных уцепились за корму. Юрка висел у носа.
— А где Васек? — закричал он.— Васек где?
У Валерия тряслись губы. Рот полураскрыт.
Васька нигде не' было. Юрка нырнул под карбас, стал шарить руками. Кровь леденела от холода. Останавливалось дыхание. Тащило вниз.
Юрка вынырнул из-под карбаса, опять уцепился за корму.
— Васек! — крикнул он.— Где ты, Васек!
От парохода к ним летела пограничная моторка с красным флажком.
В воде плавали чемоданы и два маленьких костыля...
Утром дедушка Аристарх ковылял вдоль моря, ссутулившийся, с перепутанной рыжей бородой, без шапки. Ветер рвал взлохмаченные волосы и полы пиджака. Волны выбросили на отмель плети водорослей, пустую пивную бутыль и ржавый кух- тыль. Вода в губе была темная, недобрая.
В одном месте водоросли лежали кучей, и дедушка сунул в них палку.
Зарывшись лицом в песок, опутанный морской травой, свернувшись калачиком, лежал перед ним Васек; в правой руке его была зажата синяя пластмассовая дудочка...
Жизнь в Якорном шла по-старому: приходили и уходили в море сейнеры, ветер рвал капроновые сети, развешаннью складов, легким шагом проходили по поселку пограничники и скрывались в ложбинках и скалах побережья...
Все было по-старому в рыбацком поселке, все, если не считать того, что Юрка ушел юнгой на отцовском сейнере на промысел, а Валерий поступил рабочим на факторию. Первые дни после всего того, что случилось в губе, он исчез из дому, и его никто не искал. Потом он вернулся, худой, замкнутый, притихший, и все время сидел дома. Он не читал книг, не писал. Сидел и смотрел в окно.
В доме его словно не замечали. Он молча и быстро ел за общим столом и снова уходил в опустевшую комнату, где неког¬
509
да жили все братья, садился на стул и смотрел в одну точку — в угол или в окно.
Однажды отец сказал ему:
— Пойдешь на факторию, там рабочие нужны. А что дальше, видно будет...
— Пойду,— сказал Валерий.
И пошел.
Он помогал скатывать с прибывавших судов бочки с рыбой, выгружал из трюмов треску и морского окуня, и во всех его движениях было что-то суетливо-старательное и терпеливое, а в глазах и на осунувшемся бледном лице застыли тоска и боль.
Он по-прежнему встречал и провожал глазами отцовский сейнер, но, когда судно подходило к причалу, не прыгал, как бывало, на борт, а стоял в сторонке и смотрел, как отец сходит на причал. Он молча глядел на него и на Юрку в широкополой зюйдвестке и непромокаемых морских сапогах. Он ни о чем не мог просить отца. Ему оставалось одно — ждать.
И он ждал.
1962
Анатолий
Мошковский
Повесть
Глава 1 ВЫСТРЕЛ
А веря издали увидел Фиму. По-старушечьи повязавшись платочком, она сидела под тополем у «Буфета» и торговала семечками. Торговала она странно: сидела чуть в сторонке от корзины, озиралась по сторонам, руки на худых коленках ерзали, и ей было не очень уютно под этим добрым тенистым тополем.
«А еще капитанка!» — подумал Аверя.
Незаметно подойти к Фиме не удалось. Глаза ее, раскосые и быстрые, заметили его и сразу как-то застыли. Руки перестали приплясывать на коленях. Фима еще чуть отодвинулась от корзины, в которой стояли два стакана с калеными пузанками — большой и маленький.
«Никодимовна определила на свою точку,-- понял Аверя,— самое расторговое место!»
В «Буфет» входили мужчины, большей частью рыбаки, потому что их городок Шараново исстари был рыбацким город¬
513
ком,— входили, чтоб выпить пива или стаканчик-другой прозрачного виноградного вина.
Кое-кто из рыбаков совал Фиме монетку и подставлял растянутый пальцами карман.
Аверя подошел, играя новеньким блескучим пятаком, и метко пустил его в Фимин подол.
— Отпусти-ка маленький!
Фима подобралась, покраснела, как рачья клешня в кипятке.
— На... И забирай свои деньги. Ну?
И быстро протянула ему насыпанный верхом стакан с прижатым к граненой стенке пятаком.
— Я не жадный. Гони маленький, а пятак прячь.
— Бери, дурной. Бери и проваливай.
— Со своих, значит, не берешь?
— Уходи.— Фима стала оглядываться.
— А если весь класс навалится? Тоже брать не будешь?
Аверя вдруг понял, что сказал лишнее. В серых с синими
крапинками Фиминых глазах засветился гнев.
— Ладно уж, давай,— быстро сказал он,— только потом пеняй на себя, что недостача будет. Бабка, поди, на стаканы отпустила товару?
— А тебе что? Я уж и полузгать не имею права?
— Смотри влетит! Не на чем завтра сидеть будет.
— О себе думай!—Фима фыркнула, втолкнула в его карман вместе с пятаком стакан, постучала по донцу, чтоб все высыпалось.
Аверя щелкнул и сплюнул.
— Нормально поджарено. Сама?
— Бабка. Когда не молится — жарит.
— А-а-а,— протянул Аверя,— между семечками и богом время проводит?
Фима хохотнула; в ее глазах засверкало веселье и расположенность к Авере, и ему это понравилось: он любил цроизво- дить впечатление,
— Наторговала-то хоть много?
— Кое-что.— Фима достала из карманчика, носовой платок, развязала и позвякала на ладони мелочью.— Рубля с полтора.
544
Вдруг Аверя вскинул голову: он услышал отрывисто-радостный лай. Так мог лаять только один нес в Шаранове — пёс Выстрел. Фима перестала для него существовать. Лай доносился со стороны базара. Сломя голову кинулся Аверя туда, и от него шарахались бабки с корзинами, полными черешни й первой желтовато-красной клубники.
У магазинчика «Ткани» стоял пограничный «ГАЗ-бЗ»; в кузове его, сидя у левой ноги инструктора Саши, весело полаивал Выстрел, а внизу, на земле, творилось невесть что. Тут были и Аверины дружки — Аким с Власом, и Селька с Ванюшкой, и малыши, и все тянули вверх руки и лезли в кузов машины.
— Одного — вы понимаете по-русски? — одного мне надо! — надрывался Саша, отрывая от борта ребячьи пальцы.
Однако двое — Аким с Власом — уже сидели на борту.
У Авери что-то потянуло внутри, защемило. Выбросив вперед руки, точно ныряя, он врезался в гурьбу. Раздвинул, оттеснил, добрался до борта, дернул за ногу Акима. Тот вскрикнул и полетел в Аверины руки. Аверя мягко принял его и поставил на ноги, затем так же стремительно дернул Власа. Однако Влас успел убрать в кузов ногу.
Выстрел запрыгал на поводке, застучал хвостом в дно кузова, но теперь в его лае не было добродушия.
Саша что-то крикнул собаке, и она умолкла.
Аверя тянул изо всех сил, повис на Власовой ноге, и тот полетел вниз. Аверя поймал его и поставил рядом с Акимом.
— Пока! — Аверя кинул на борт ладони, напрягся и как-то странно, боком, сразу обеими ногами забросил себя в кузов, вывернул занемевшие руки и растроганно, как какой-нибудь президент африканской державы с улетающего из Москвы самолета, помахал дружкам: — До скорбго!.. Саша, стучи в кабину!
Внизу вопили и колотили в кузов.
— Ну чего вы, дурачье! —до ушей разинув рот, заорал Аверя, видя, что пограничник не слушается его приказа!— Влас даже не ЮДП! А я заместитель начальника штаба и зна^ой имею — и должен ехать в первую очередь!
Авёря распалился, кричал все пуще и не заметил, как возле машины всё стихло.
— Аверьян, спустись,— негромко произнес женский голос.
Сбоку, у акации, совсем не на виду, будто даже прячась,
стояла Маряна. На ней был узкий сарафанчик с выгоревшими цветами и черными тесемками купальника, бантиком завязанными на шее. Она сурово смотрела на него. Маряна работала на рыбозаводе, была в их отряде вожатой.
Аверя готов был спрыгнуть с машины, но внизу сгрудилось так много ребятни... Ну как мог уронить он себя перед ней?
— Ты слышал?
Саша при виде Маряны преобразился — растерял всю строгость и локтями оперся о борт, точно о плетень:
— Приходи на танцы, Маряша, ждать буду.
Маряна смотрела не на него. Она смотрела на Аверю.
Аверя набычился, потом, ни на кого не глядя, перемахнул через борт, точно этой лихостью хотел оправдать послушание.
— Мальчики, кто первый забрался в кузов? — спросила Маряна.
— Аким,— пискнул кто-то.
— Влас,— сказал другой голос.
— Аким, ты? — спросила Маряна.
Аким побарабанил пальцами о переплет книги, засунутой за ремень, и поднял на Аверю глаза:
— Нокаутом бы его, да рук на такого жалко. Да и страшно, еще дух испустит — большая физическая сила пропадет.
Аверя ревниво скосил глаза на Маряну и ребят:
— Умник!
Иногда Аверя прямо-таки ненавидел этого всезнайку, к которому — странное дело! — очень неплохо относилась Маряна. Не хуже, чем к нему, Авере. А за что, спрашивается?
— Ну так кто из вас поедет?— Маряна теряла терпение.— Ты, Аким, или Влас?
Ребята, нахмурив лбы, молчали.
— Мне что, пусть едут.—Аверя сплюнул, достал горсть семечек и стал по одной кидать в рот.— Какое счастье — от собаки бегать. Пусть...
Он уже понял, что хватил через край, особенно с Акимом. С ним ухо надо держать востро. Но и отступать было поздно.
516
— Да чего вы там, ехайте кто-нибудь, ну? — застонал Саша.— В другой раз никого не докличешься, а тут машину готовы сломать.
Аверя отвернулся от дружков.
— Я не поеду,— твердо сказал Аким,— у меня книга не дочитана — Чехов.
— Маряна, повлияй! — взмолился Саша.
— Да вы не бойтесь,— сказал Аверя,— память у меня не злая, никого в ерик не спихну.
— Едем мы или не едем? — раздраженно крикнул из кабины шофер, тоже пограничник.
— Ну, если нет охотников, могу и я: как не послужить родным погранвойскам.— Аверя потянулся и, кряхтя, медлительно, как дед на печку, полез в кузов. Сощурил в щелку глаза, сквозь узкую прорезь, точно бритвой, полоснул по ребятам и кинул назад: — Ехай!
— Маряна, так придешь? — крикнул Саша.— Я немножко поработаю и вернусь...
Взревел мотор. Саша увидел полуоткрытый Марянин рот, но ничего не расслышал и замахал ей рукой. Аверя подошел к Саше, присел на корточки:
— Что будем отрабатывать?
Он хорошо знал всех пограничников Шарановской заставы и, уж конечно, всех служебных собак. Даже по лаю различал.
— Горячий след.— Саша потрепал жесткую гриву Выстрела.— А ты, брат, не промах. Чего учудил!
— А чего? — Аверя наивно заморгал ресницами.
— А того1. Знал бы — не взял бы. Не собаку надо посылать по твоему следу, а тебя — по собачьему. Разорвешь. Что зверь. А небось еще в пионерах ходишь, В седьмом ведь.
— В восьмой перешагнул.
— Смотри не причини вреда Выстрелу. Поддавайся. Обеспечь хорошую работу.
— Да уж постараюсь. На клыки, конечно, не полезу. Он ведь у тебя умный.
— Его бы мозги тебе — ничего был бы парнишка. Уважение бы имел. А ему бы твои — все наряды с границы можно бы снять: ни один нарушитель не перешел бы.
517
— Точно,— согласился Аверя и вдруг во все горло дурашливо завопил: — «Эх, девчонка дорогая! Дорогая ты моя!»
— Ну-ну, ты... Свихнулся?.. Да, чтоб не забыть: скоро ваш отряд идет в патрулирование.
Машина пронеслась по Центральной улице у домов и магазинчиков, обнесенного забором гаража, вылетела на открытое ветру и солнцу шоссе и остановилась против лесничества — домика, белевшего за молодыми посадками.
Саша сделал дугообразный жест, и пес выпрыгнул из кузова.
— Ох, леший, сапоги-то и забыли! — ударил себя по лбу Саша, глянув на Аверины туфли.— Василь, придется тебе пожертвовать.
Шофер вылез из кабины и сплюнул.
— А чем его плохи? Каши еще не просят.
— А если Выстрел цапнет чуть повыше? Давай* разувайся. Конечно, если не хочешь сорвать учебную задачу...
— Ох и хитры вы, инструктора! От собак, что ли, научились?
Шофер стащил кирзовый сапог и стал разматывать портянку. Авере сапог был великоват, но не слишком, потому что шофер был не из великанов, а Аверя не из недомерков. Старательно обувшись, чтоб ни складочки, ни морщинки не легло под ступню, облекся в толстый и длинный старый армейский плащ, который не позабыл взять Саша.
— Значит, так. Пройдешь километра два куда хочешь, в любую сторону,— ни я, ни Выстрел смотреть не будем; на половине дороги выбросишь из кармана платок... Есть он у тебя?
Аверя стал шарить в кармане.
— Дома позабыл...
— А что-нибудь другое есть? Я свое передать не могу: запах должен 6f>itb твой.
Аверя нащупал в кармане перочинный ножичек —жалко; яблочко-зеленуху постыдился вынуть; леску, намотанную на фанерку, тоже жалко; пачку «Севера» с тремя мятыми папиросками — побоялся: Сашка хоть и свой парень и лет ему пе больше двадцати, да эти пограничники себе на уме, всегда что-то скрывают. Еще расскажет Дмитрию Алексеевичу, директору;..
Пришлось вынуть дощечку с леской.
— Сгодится?
— А крючок есть?
— Какая же леска без крючка? — обиделся Аверя, считавший себя потомственным рыбаком.— Это у вас, у степняков, леска может быть без крючка, а мы...
— Отставить тред. Откусывай крючок и прячь. Ну, давай, давай. Так-то безвредней будет Выстрелу. Бросишь, значит, леску...
— Не найдет — купищь новую.
— Жадина! Моя собачка работает как часы. Убедишься. А платок носи при себе, если культурный человек, личная гигиена требует... Ну, пошел.
В плаще было жарко, прошибал пот, длинные полы мешали идти. Аверя добрел до кустарника, присел, оглянулся: ни Саша, ни Выстрел не подглядывали за ним — они стояли за кабиной. Однако, задетый тоном инструктора, Аверя решил проучить его.
Местность была пересеченная, с мелкими озерцами, с частым березняком. Местами рос кустарник такой густоты, что в нем можно было спрятаться и от целой своры Выстрелов. В Аверину школу, где был организован отряд ЮДП — юных друзей пограничников,—не раз приходили инструкторы с собаками и рассказывали об их нравах, еде, работе, и ребята помогали тренировать собак: прокладывали следы для поиска или выстраивались в шеренгу и каждый клал что-нибудь из кармана в одну кучу; приходила собака и по запаху любого предмета безошибочно находила владельца...
Сапоги вязли в песке, плащ душил зноем, и скоро Аверя взмок. Но он был очень сильный и шел быстро. Шел зигзагами, петлял, долго кружился возле кривой сосны, перелезал с деревца на деревцо, чтобы не оставлять на песке следа; в двух местах отважно перешел озерца — сапоги-то. не свои, не жалко! — потом вынул леску. Сердце его прямо-таки стиснулось, когда он, прощаясь с леской — не одну сотню сомят выловил ею в порту! — положил ее на песчаном бугорке под сквозистой березкой: уж здесь-то ее Выстрел обязан был найти!
«Черт с ней, пусть пропадает! — вдруг решился Аверя, за¬
519
совывая леску под обнажившиеся корни небольшой елки.— Зато нос им утру!»
Совсем выбившись из сил, он уполз в кусты и, весь скрючившись и завернувшись с головой в плащ, стал ждать. Минут пять напряженно прислушивался — не раздастся ли лай? — и повторял наизусть слова инструктора, как надо вести себя, когда приблизится собака. От напряжения Аверя устал. Задумался. Вспомнил Фиму. Все еще торчит возле «Буфета» с семечками или уже домой умотала?
Грозный лай вбил его душу в пятки.
Страх бился в нем секунду-другую. И вошел он в Аверю не потому, что он был трусом, а потому, что забылся на мгновенье. А еще оттого, что слишком уж быстро раздался этот остервенелый лай.
Мужской голос — он совсем не был похож на Сашин — что- то крикнул. И хотя Аверя знал: все, что от него требуется,— это лежать, он вскочил, закричал, замахал руками, и на него навалилось что-то огромное, тяжелое и сшибло с ног. Он забил ногами и руками и услышал сухой треск — словно небо треснуло от грома.
И тут же услышал голос:
— Фу, фу!
И команду для себя:
— Руки вверх!
Аверя вскинул руки: людей с поднятыми руками служебные собаки не трогают.
Выстрел замолк, и Саша убавил поводок. Из страшной собачьей пасти ниточками тянулась слюна. Черная, жесткая, как у дикого кабана, шерсть торчком стояла на загривке. Выстрел был крепколап, мускулист и тверд в груди.
Саша что-то сунул ему в пасть, и Выстрел, как самая заурядная дворняга, заработал хвостом и захрустел.
— Отлично.— Саша вытер рукавом гимнастерки щеки.
У Авери, мокрого и ослабевшего, сразу что-то- отлегло внутри.
— А чего там, конечно, отлично,— сказал он, сбрасывая плащ.
Выпрямился. Отдышался. И вдруг почувствовал холодок
520
на правой ноге. Глянул на ногу, и сердце екнуло: вся правая штанина, вместе с трусами, сверху донизу была порвана. В чудовищной прорехе виднелось незагоревшее тело.
— Не по инструкции вел себя — потому,— заметил Саша, поглаживая Выстрела.
— У-у, зараза! — шикнул Аверя.— Чтоб тебе...
— Бежать не надо было: сапог бы съехал, ну и цапнул бы... Инструкции — они недаром пишутся. А он тебя ничего — чистая работа.
Они пошли сквозь кустарник к машине.
— Как же я теперь домой явлюсь? Через весь город идти-то.
— Не огорчайся, доставим;..-А вот тебе леска — целехонька, только в одном месте фанерку прокусил.
Аверя, не ощутив радости, сунул в карман леску.
У машины Саша снова сделал резкий полукруглый жест, показывая Выстрелу на кузов; пес упруго подскочил, сжался, разжался в воздухе и очутился в кузове.
Английских булавок у пограничников не оказалось, и Аверя удрученно смотрел на пробегавшие дома Центральной улицы, придерживая разлетавшиеся сзади края штанины.
С ненавистью поглядывал на Выстрела, на его умные карие глаза, на мокрый, вздрагивающий нос и повторял про себя:
«Ух, я бы тебе... Еще улыбаешься... Я бы...»
Саша предложил Авере доехать до заставы и там отремонтироваться, но Аверя наотрез отказался: не вынес бы он смеха пограничников.
— Так как же ты?
— Как-нибудь.
Чтоб ближе было до дому, машина доставила Аверю до начала ериков — длинных нешироких каналов, которые прорезали почти все Шараново и являлись как бы его улицами. По такой улице можно было проехать на лодке или пройти у края по кладям — доскам, постланным на столбики.
— Благодарю, Аверьян!—Саша хлопнул по его руке.— Славно мы сегодня поработали! Ты отлично прокладывал след. Благодарю от всего личного состава...
— Да чего там...— поморщился Аверя, оглядываясь по сторонам, и, видя, что никого вокруг нет, стал сползать с машины.
521
Машина затарахтела и умчалась, а он прижался спиной к заборчдку. Самое скверное, что порвано сзади: выйдет кто-нибудь и увидит, а потом пойдет по всему Шаранову звон...
Пограничники — эти умеют держать язык за зубами, служба у них такая, а взять какую-нибудь Алку или...
Слабый плеск воды заставил Аверю вздрогнуть и еще крепче прижаться к заборчику. По ерику (а точнее, по улице Нахимова, где он жил), отпихиваясь веслом, ехал Акимов дед — дед Акиндин. Лодка была сильно нагружена рифленым шифером и глубоко сидела в воде. Седая борода деда развевалась на ветру, как флаг.
— Пособь-ка!—крикнул он, подъезжая к мостику, доски которого специально для пропуска лодок не крепились к столбикам.
Аверя оглянулся: справа по кладям с сумкой, набитой газетами и журналами, шла почтальонша Вера, и Аверя не посмел оторваться от заборчика.
Дед Акиндин уставился на него:
— Оглох или к смоле пристал?
Аверя молчал.
Дед выбрался на клади, поднял широкие доски мостка и стал ногой проталкивать лодку.
— Приди теперь к нам за яблоками!..—опустил доски и веслом оттолкнулся от дна.
Шагов двадцать Аверя пробежал благополучно, без единого свидетеля. До дому оставалось метров сто, но здесь было оживленное место: перекресток двух ериков.
Все похолодело у Авери, когда он увидел Алку. Тоненькая, в аккуратненьком голубом платьице, с таким же бантом в волосах, бежала она навстречу ему.
Аверя прилип к камышовому плетню. Проскрежетал зубами: трусов бы не тронул, подлый! А то ведь видно все...
— Здравствуй, Аверьянчик,— запела Алка и красиво посмотрела на него лучистыми глазами.—Ты, говорят, отличился сегодня...
Аверю облил холодный пот: дошло уже?
— Как отличился?—Он стал осторожно прощупывать обстановку.
522
— На машине уехал. Один. С пограничниками. И с собакой... Ты такой отчаянный!..
Аверя заулыбался. Услышать это после стольких страданий было приятно. Все-таки она ничего девчонка, Алка, понимает его, и такая тоненькая и хорошенькая. Но лучше бы встретилась не-сейчас...
— Ну ты чего все стоишь?— Алка подошла к нему.
А тебе чего? Хочу — и стою.
— Смешно как-то.
— А ты чего остановилась?—Аверя стал сердиться.—Ведь шла куда-то?
— А теперь хочу с тобой поговорить.
523
— А мне некогда. Иди, куда шла.
— Некогда, а сам стоишь... Сейчас плетень упадет.
— Плевать!— Аверя едва сдерживал себя.
Раздался стук туфелек, и Аверя увидел Фиму с корзиной па руке. Не хватало еще одной!
— Отторговалась?—спросила Алка.— Сколько выручила?
— Тебе не сосчитать.
— А все-таки?
— Сама поторгуй —узнаешь.—Голос Фимы был глух и недобр.
— Мы этим делом не занимаемся. Мама никогда не пошлет меня торговать. Даже виноградом. В прошлом году у нас его было завались сколько, а продавала соседка, тетя Шура. Самим ведь неудобно, мы к тому же школьницы, пионерки. Что скажут...
У Фимы сузились глаза.
— А мне удобно. Я врожденная торговка!..
— Ну, раз так...
Фима глянула на Аверю *и, кажется, все заметила, потому что глаза её перестали быть холодными, а в краешках сжатых губ неуловимо затрепетала улыбка.
Аверя сделал ей таинственный знак: повел бровью на Алку и тихонько мотнул головой в сторону — уведи, дескать.
Аверчик,— попросила Алка,— пойдем завтра купаться на Дунаец, туда, где кино крутили... Хорошо?
— Ладно,— тут же согласился Аверя. Он готов был на любое, лишь бы отделаться от нее.
— Только не с утра, а попозже, после двенадцати.
— Ладно.
— Ну, пошли к нам,— заторопила ее Фима и подтолкнула плечом,— я такую книгу сменяла в библиотеке...
Больше Аверя ничего не слышал. Он попятился назад, юркнул в пустынный проулочек, перелез через плетень, сверкнув незагоревшей белизной зада сквозь порванные трусы, и под айвами и черешнями стал красться к своему дому.
Глава 2
ФИМА ИЗ «ВТОРОЙ ВЕНЕЦИИ»
Кладь была неширокая, в две доски, и: Алка шла не рядом, а сзади. Обдавая шею Фимы теплом дыхания, она без умолку лопотала о том, что на пляже прибавилось еще две палатки туристов. Одна — удивительно красивая, не похожая на остальные, разбитые ранее, наверно, из нейлона, вторая — обычная, какие продают и в их магазине.
В одной из этих палаток, по ее словам, все время раздается музыка, слышится смех, и ее обитатели, видно, не скучают. Неподалеку от новых палаток стоит серый «Москвич», на нем, наверно, и прикатили сюда;
Фима слушала ее вполуха: мешали собственные мысли — уж очень не хотелось являться домой с Алкой. Бабка с матерью начнут про семечки спрашивать, деньги подсчитывать. Уж Алка не упустит случая и пойдет по городу языком молотить, что и как.
Жаль, что дом был недалеко, и как ни шла Фима медленно, никак не могла придумать причины, чтоб отвадить Алку.
Помог делу братишка Локтя; в зрелые годы его будут величать Галактионом. Он сидел на приступочке против калитки в их дворик и удил рыбу. Рядом* как воробьи на проводе, сидели еще четыре существа: Федька, по прозванию Лысый,— волосы его были до того белы и редки, что, казалось, их вообще нет; братец Акима, кривоногий и упитанный Саха; молчаливый, но чрезвычайно озорной и отчаянный Толян; четвертый был полосатый котенок Тигрик.
Локтя удил серьезно и обстоятельно, как и подобает дунайскому рыбаку, а остальные рассеянно поглядывали на пробочку поплавка и чирикали кто о чем. Самым заинтересованным лицом во всей этой компании был Тигрик, отпробовавший уже два снятых с крючка малька. Видя, как вокруг поплавка разбегаются круги, он замирал в предвкушении веселого хруста косточек, и худенький хвостик его нервно шевелился на досках.
— Подсекай! — скомандовал Саха.
Не торопись, дай заглотить,—предупредил Лысый.
525
— Ну и откусили червя,— холодно констатировал То лян.
Локтя дернул и вытащил пустой крючок. Малыши стали
издеваться над ним.
— Дай-ка сюда.— Фима вырвала из рук брата удочку, скатала в пальцах шарик из хлеба, предварительно поплевав на него, чтоб плотнее был, и быстро насадила на крючок.
Воцарилось злорадное ожидание.
Котенок терся об ее ногу и мурлыкал что-то задушевнокошачье. Наверно, это-то и мешало ей сосредоточиться: под радостное улюлюканье ребятни мальки, сверкнув в воде искрой, то уходили во время подсечки вглубь, то на лету срывались с крючка и шлепались в воду.
Алка, стоявшая рядом, все время канючила:
— Ну чего ты, маленькая? Связалась с кем...
Фима точно не слышала ее.
— И вправду капитанка ты, верно тебя дразнят... Вот возьму сёйчас и уйду.
Фима катала в пальцах новый хлебный шарик.
Алка сдержала слово. Когда ее голубенькое платьице исчезло за углом поперечного ерика, Фима подала Локте удочку:
— Держи... Видно, мальки берутся только у мальков, а взрослых не признают.
Подхватила корзинку и толкнула калитку.
К домику вела ровная, усыпанная крупным песком с ракушками дорожка, аккуратно выложенная по краям зубцами кирпичей. Возле домика цвели ирисы. Вокруг росла черешня с айвой, а на грядках поспевала клубника. Домик их, как и все дома Шаранова, был из камыша, обмазанного илом, и был очень стар — лет сто, наверно, простоял; на побеленной стене кое-где чернели молнии трещин. Прэтому-то метрах в пяти от этого дома виднелся новый каркас из сох — жердей, плотно обшитый камышовыми стенами.
Мать, половшая клубнику, выпрямцла спину:
— Принесла что обратно?-^- и запачканными землей руками потянула к себе корзинку.— Боже праведный, и половины не продала!.. Чем же ты это занималась?
— Не нравится — могли не посылать.
— И не посылали б, кабы не бабка. Не видишь — второй
526
день разогнуться не может...— И уже милостивей добавила: — Ну иди покушай.
Первое, что почувствовала Фима, войдя в дом,— запах жареных семечек, и вздохнула: и все это на ее голову! Скорей бы уж бабка поправилась.
Бабка по дешевке покупала на базаре у старух украинок мешок-другой привозных семечек, поджаривала на сковородке и, когда была не в церкви, торговала ими, зарабатывая немало — два-трй рубля в день.
Подсолнухов здесь не сажали, потому что уж очень мало было в городе земли. Огородики у домов из ила. Ил выбирался из канав, выбрасывался под стены и вокруг, чтоб не подмыло дом по весне в большую воду, когда тают снега. Поэтому-то и образовались в городе сотни затопленных водой канав-ериков. Сажали на этих огородиках самое полезное и доходное: виноград, клубнику да черешню с айвой. А на подсолнухи не было места.
— Давай сюда.— Бабка протянула сухую и костистую рябоватую руку.
Фима подала платок с завязанными в узел деньгами и пошла на кухню. Плита была уставлена сковородами. От гари запершило в горле.
■— А пожевать дадите чего?
— Видишь, занято все... Поешь холодную картошку — вон, в чугунке, или погоди маленько.
Фима достала огромную картошину, насыпала из деревянной солонки соли в другую ладонь и, на ходу жуя, вышла из кухни.
В доме было темно от икон. Они давно перебороли белизну известки и черными гроздьями глядели из углов. Тут было крещение Христа, и распятие его на кресте — кровь капала из-под гвоздей на ладонях,— и положение во гроб его, мертвого, снятого с этого самого креста. Была тут, конечно, икона воскресения его: Христос с раскинутыми руками улетал на небо, где белели райские тучки, из которых выглядывали умильные ангельские мордашки; Ох, сколько здесь было всего! Святые угодники, плосколицые, бородатые и пучеглазые, чередовались с горестными — до чего у них скорбные глаза! богородицами.
Доски икон тускло отсвечивали старой позолотой. Краска, мрачная, глухая, прокопченная, кое-где облупилась.
527
То в своем большинстве были иконы старого письма, доставшиеся от прадеда, а может, й от прапрадедов, которые жили лет двести — триста назад в центральных губерниях России, не то на Волге, не то на Кубани — теперь точно не установишь — и бежали сюда, в дикие дунайские плавни, после великого раскола, после того, как патриарх Никон ввел свою реформу и велел по-новому и молиться — тремя пальцами,— и по-новому поклоны отвешивать, и книги другие читать. Бежали сюда те, кто хоть на костер готов был идти за истинную старую веру, и потому прозвали их староверами. Бежали сюда еще и потому, что здесь было далековато от царева глаза да и помещичий кнут сюда не доставал. Тут не было ни щепотки пахотной земли, зато Дунай, его гирла и приморские куты прямо-таки кишели рыбой, белой и красной; зато камыш в плавнях день и ночь шевелился от,дичи и сам воздух здесь был привольный и легкий...
Жили староверы и под турком, и под румыном, были почти эмигрантами, и звали их, как везде, липованами. По утрам они истово молились, крестясь двумя перстами, как боярыня Морозова на суриковской картине, не пропускали ни одной службы в церкви. Они мостили в плавнях ил, бросали его лопатами, стоя по пояс в воде, ставили на площадках домики, сажали кое-что да на лодках уходили рыбачить на Дунай. В те годы в море ходили редко: под самым Шарановом густо шли на крючки и в сети белуга, и севрюга, и сом...
Рядом, в этом же посаде, скоро начали селиться украинцы, бежавшие сюда из Запорожской Сечи и других мест; они приняли новую веру, и липоване враждовали с ними, сторонились, плевались, глядя на купола их «хохлацкой» церкви. Неслыханным было делом, чтоб линован женился на «хохлушке».
Все у них было порознь: и лабазы, и говор, и кладбища, и жили они в разных краях посада — Дунаец лег меж ними прочной границей: в сторону моря — липоване, в сторону степи — украинцы.
Долго жили старообрядцы уединенно, блюдя строгость веры, молитвами укрепляя свой дух, готовя себя к жизни в ином, ангельском мире. И только в сороковом году, ненадолго, когда Советский Союз вернул себе Бессарабию, увидели старообрядцы людей со звездами и красным флагом — людей, говоривших, что
528
бога нет, что надо строить хорошую жизнь здесь, на земле, а не готовить себя к жизни, придуманной попами...
Потом война, разруха, карточки... В те времена, когда родилась Фима, над городком возносили свои купола три церкви — две Никольские и одна Рождественская, и видны они были далеко-далеко. Подъезжаешь ли к Шаранову на лодке с моря, на «Ракете» ли со стороны Измаила, в рейсовом ли автобусе с материка, из степи, еще не видно шарановских крыш, а уж над зелеными береговыми лозами и тополями, над холмами да лугами высокомерно и отрешенно посверкивают серебром церковные купола.
Давно притихла вражда меж липованами и украинцами, все чаще игрались между ними свадьбы. Дунаец уже разделял город скорей географически, но гуще, чем в других городах и деревнях страны, валил здесь народ в церкви, и у многих под рубахами на тонких тесемках висели нательные крестики. Старообрядцы ходили в свои церкви, верующие украинцы — в свою, Никольскую, что против базара, с пузатыми, как самовар, приплющенными и сытыми куполами...
Отец вернулся из церкви под вечер, снял старую фетровую шляпу, потеребил темную бородку; как и все старообрядцы, он стал отпускать ее, когда годы подвалили под пятый десяток. (Почему-то люди старой веры считали своим долгом носить в пожилом возрасте бороды.)
— Слава тебе господи,— сказал он,— отменно поговорили с батюшкой, послезавтра еду в Широкое, а сейчас вентеря по ерикам проверю...
Он снял парадный шевиотовый костюм, облекся в замызганную рыбацкую робу, в которой рыбалил в звене вентерщиков возле дунайского устья, и на маленькой смоленой плоскодон- ке-однопырке пошел с Локтей проверять вентеря — сетки на деревянных обручах, распространенные у дунайских рыбаков.
Крупная рыба в ерики заходила редко, и все же килограмма два-три на юшку иногда попадалось; отец вытряхивал рыбу в лодку и ехал от одного вентеря к другому. Когда-то он брал с собой и Фиму. Но это в те времена, когда с ними жил старший брат Артамон, ныне капитан колхозного сейнера, ежегодно уходившего в экспедиции на Черное море. Потом брат подрос, же-
18 Библиотека пионера, т. 12 529
пился и, вопреки желанию отца, отделился, не стал жить с ними. Ушел, не обвенчавшись в церкви, с «хохлушкой» Ксаной. Поэто- му-то отец не очень задерживался у городской Доски почета в центральном сквере города, где у памятника Ленину среди дру- гпх фотографий красуется и фотография его сына.
С тех-то пор и дружба с Фимой пошла у отца на убыль, и он не звал больше дочку с собой на однопырку.
Фима любила воду, плеск волн в борта, запах тины и сырости, но не напрашивалась к отцу в экипаж. Зато мать с бабкой не забывали ее.
— С утра будем обляпывать,— предупредила после ужина мать,— чтоб дома была.
Фима нырнула под одеяло, легла на бочок, скорчилась и долго не могла согреться.
За окном, из сырой темноты заросших травой ериков и боло- тец с надсадом, с надрывом, металлическими голосами стонали лягушки. От этого стона нельзя заснуть. Он проникает сквозь камышовые стены, сквозь стекла и надвинутое на голову одеяло. В этом стоне есть что-то резкое и злое, что-то фанатическое и застарело-нетерпимое, как у молящихся староверок.
А может, не лягушки виноваты в том, что не идет к ней сон, может, всему виной ее неладная, ее расщепленная жизнь? А может, все дело в Аверьке, храбром и равнодушном, с твердыми мускулами на втянутом животе,— в Аверьке, который завтра после двенадцати обещал Алке пойти купаться на Дунаец?
Вот было бы, если б не пришел. Чего не пообещаешь в том положении, в каком он был...
До полудня Фима с Локтей таскали в носилках ил. Он был тяжелый, липкий, черно-зеленоватый. Перемешанный с соломой, плотно вмазанный в камышовые стены домов, он надежно, не хуже камня, держал тепло в зимние морозы. Вчерашний ил, прикрытый на ночь от высыхания травой и рогожками из болотного чакана, часам к десяти кончился; пришлось замешивать новый. Ил привозил все в той же однопырке отец, скидывал лопатой на узкую греблю возле плетня. Свалив ил у строящегося дома, ребята тащились назад.
— Н-но! — покрикивала Фима и, топая босыми ногами, толкала носилки.
530
Локтя взвивался на дыбы, тоненько, как жеребенок, ржал, осаждал назад и так стремительно припускал вперед, что едва не вырывал из Фиминых рук носилки. На всем скаку подлетали к матери и Груне — так звали старшую сестру.
— Тише вы, окаянные, в ерик угодите!
Женщины босыми ногами месили ил. С сытым чавканьем, хлюпаньем и сопеньем шевелился он под их ногами; стрелял и чмокал, когда ноги выдирались из месива; шипел, раздаваясь, как тесто, неохотно отступал, пропуская внутрь черные, измазанные ноги.
На один дом нужно с полсотни таких лодок ила, и отдыхать было некогда. Когда ил был замешан, принялись обляпывать стены. Здесь уж некому было угнаться за Груней! Она и в колхозе была мазальщицей — работала в бригаде подсобного хозяйства и мазала дома на усадьбе их колхоза, одного из самых больших колхозов Причерноморья.
Груня сидела на лесах в расстегнутой от жары кофточке, в грязных мужских штанах, туго обтягивающих худые ноги, и быстро вмазывала, втирала ил в камышовую стену, в щели и пустоты там, где камыш соединяется с жердями каркаса.
Груня была одинока. Ее плоское, рано увядшее лицо — ей было за тридцать — безжалостно изрыла когда-то оспа: метины были и на носу, и на лбу, и на подбородке. На людях она держалась замкнуто, была исполнительна, тиха — и муху не обидит. Но когда Груня молилась, Фима боялась ее. Потому, казалось, всегда молчала сестра и держалась в сторонке, чтоб здесь вот, под скопищем древних икон, вдруг излиться перед богом, не таясь открыться перед ним в потоке слов, славя того, кого она считала всемогущим и мудрым, от которого все доброе и святое на этой грешной, переполненной пороками и страданиями земле.
Прямо холод пробегал меж лопаток у Фимы, когда слышала она эти горячие, эти частые, с придыханиями и всхлипываниями заклинания и просьбы. Мать с отцом молились спокойней, уверенней, а в Груниных словах была униженность и страх, что бог ей не поверив и накажет за безверие подруг, брата и сестры и не даст спасения, не примет в царство небесное.
Как она не понимает, что все это бесполезно? А мать с отцом?
531
До чего же все это дико и странно. Все, кажется, ясно как день: есть только одна жизнь, и она здесь — солнечная, терпкая и соленая, как пот,— только здесь, и больше нигде, разве только на других планетах. А им этого не понять.
Молятся доскам с черствыми, изможденными постом и страданиями ликами, читают пропахшие ладаном, замусоленные церковные книги, напечатанные древнёславянскими буквами с
532
замысловатыми виньетками; как эпилептики, падают в церкви на колени и целуют липкий от сотен губ медный крест и оклад чудотворной иконы...
В тот день, когда Фима явилась домой в красном галстуке, Груня испуганно посмотрела на нее и не сказала ни слова. Но отдалилась от нее, и если разговаривала, так только по делу. Фима была не из робких, но ей было не по себе, когда ее будил по утрам этот страшный, исступленный шепот Груни перед иконами: два ее черных пальца взлетали в мольбе на фоне солнечного окна...
К часу все выбились из сил. Ребята уже не дурачились, не взвивались на дыбы. Фима работала босиком, в трусах и майке. На Локте были одни трусы, по его телу бежал пот, сбегал по тесемке креста и капал вниз. Крестик был дешевенький, свинцовый, с ушком для нитки и вторым крестиком, оттиснутым на нем, и был однажды надет на Локтю попом и стоил по новым деньгам в церкви всего десять копеек.
Фима надеялась, что после обеда мать освободит ее, да не тут-то было.
— Ну, с богом,— сказала мать,— надо торопиться: когда еще отца отпустят...
И Фима с Локтей снова впряглись в носилки.
А д<ел у нее сегодня была уйма. Во-первых, надо хоть на часок вырваться к Матрене, семйдесятилетней бабке, которой она помогала как тимуровка. Во-вторых, она здорово устала, ей наскучила одуряюще однообразная работа, молчание матери и шлепки густой кашицы по камышу. Ах, как тянула быстрая, прохладная вода Дунайца — канала-протоки, который брал начало в Дунае и впадал в море! Там, наверно, уже давно кувыркается Аверька с мальчишками и девчонками...
Впрочем, может, он не пришел?
Вряд ли. Как миленький явился, прибежал и теперь веселит и ужасает своими рискованными номерами ребят, и в их восторженном визге отчетливо слышится голосок Алки.
Как удрать с работы? Ведь до осени еще будут возиться с домом. Мать работает как вол и от других требует того же.
533
Канючить? Не выйдет. Сказать, что очень устала? Не поверит. Может, сбежать?
Ах, как хочется в воду! В легкую, прохладную, ломящую косточки и обжигающую тело свежестью и радостью.
Фима вдруг вскрикнула и, выронив носилки, повалилась в тень, под стену строящегося дома.
— Ма! — закричал Локтя.— Ма, Фимка упала!
Мать вышла через дверной проем, строго сощурилась на солнце, жилистой рукой убрала с глаз седоватые волосы.
— Чего с тобой? Ушиблась?
Фима держалась грязной рукой за лоб.
— Голова что-то закружилась трошки... С солнца, что ли...
— Галактион, принеси воды,— приказала мать,— а ты посиди немножко, пройдет!
Фима прильнула губами к краю холодной кружки, напилась и осталась сидеть в тени. Скоро мать вышла из проема с носилками.
— Полегчало?
Фима мотнула головой:
— Не. Ни капельки.
— Иди в хату. Полежи.
— А потом я немного погуляю. Ладно?
Мать пошла с носилками к ерику, не сказав ни слова, и это означало — согласна.
Фима юркнула в дом, умылась, подмигнула осколку зеркала у рукомойника, надела чистое платьице, сунула ноги в тапки, выскользнула из калитки, прошла по кладям до угла своего участка, перешла изогнутый, как кошачья спина, мостик, оглянулась и... полетела к Дунайцу.
Она была быстрая, тонконогая, и доски почти не прогибались под ней. На ней хорошо сидело короткое платьице — сама сшила —с пуговками на спине. Она была смуглая, как глазированный кувшип, почти черная; кожа па носу трижды облезла и грозилась облезть в четвертый раз; коленки и локти были в болячках и косых царапинах, глаза смотрели живо и враскос. В мочках ушей, как маленькие акробаты на кольцах, в такт бегу раскачивались «золоченые» сережки из раймага — сорок копеек пара...
534
Вода отражала ее быстрые ноги, и рвущееся на ветру платье, и заборчики двориков, и тополя с акациями в этих двориках, и тучки в небе. Было знойно, и в ериках, распластав ноги, дремотно, как неживые, лежали лягушки. А может, они устали от своих ночных воплей и теперь отдыхают?
Лягушки, сидевшие на гребле, при ее приближении, как комочки грязи, прыгали в ерики. По воде, как конькобежцы, бегали длинноногие жучки-водомеры.
Как-то здесь снимали кинокартину, и курчавый человек с кинокамерой в руках охнул и сказал:
— Красотища-то какая! Ну, вторая Венеция, и только. Даже, может, красивей... Все здесь естественней, уютней и человечней, чем там,— сам видел. Там точный расчет архитекторов, а здесь сама жизнь...
Ловко обегая встречных бородачей, баб с бельем в тазах, перелетая крутые спины мостиков, перепрыгивая пропасти там, где доски были сорваны и виднелись столбики, летела Фима к Дунайцу, летела по этой самой «второй Венеции», красоту которой не замечала, потому что в других городах не была и не знала, что не все они такие необычные и красивые.
А вон и крыша лодочного цеха, и любимое место их купания, и мальчишки на кладях, и брызги над каналом...
Фима на ходу стала стаскивать через голову платье и, когда добежала до ребят, была в одном темно-синем купальнике. Стряхнула тапки, подпрыгнула, изогнулась и...
Глава 3
МАРЯНА
Аверя вынырнул и увидел в воздухе изогнутую фигурку в купальнике. Звонко, почти без брызг вошла она в воду.
Аверя знал, кто может так нырять.
Набрав побольше воздуха, он мгновенно погрузился и, быстро работая ногами, с силой загребая руками, поплыл туда, где должна была вынырнуть Фима.
Вода в канале была мутноватая, и Аверя редко открывал
535
глаза: все равно ничего не увидишь. И все-таки, чтоб схватить Фиму за ногу, для этого стоило не жалеть глаз: вот потеха-то будет!
Стремительно, с акульим проворством мчался Аверя у самого дна, глядел вверх и видел смутное сияние солнечного дня, пляшущие тени у поверхности и смотрел вниз — в холодный, тесный, выталкивающий сумрак глубин.
Фимы нигде не было.
Неужто подалась вбок? Аверя стал крутиться из стороны в сторону, шаря вокруг руками.
Воздух кончался. Все сильней давило на барабанные перепонки. В ушах заныл тоненький комариный звон. В голове чуть помутилось.
Он старался как можно дольше продержаться в глубине, но к горлу уже подкатывала дурнота удушья. И Аверя не сразу, а медленно, словно нехотя, высунулся наружу, рывком головы отбросил с лица налипшие волосы, жадно хватил струю воздуха. И оглянулся.
С бревна смотрела на него в открытом сарафанчике Алка; на воде, крестом раскинув руки и ноги, лежал Аким.
Аверя искал глазами Фиму.
Ее нигде не было. Ого!
Аверя саженками поплыл на середину Дунайца. И тут, метрах в четырех от него, выскочила из воды Фима и брассом поплыла к берегу. Аверя ринулся следом. Фима взвизгнула, засмеялась и снова нырнула. Аверя — за ней, стремительно поплыл под водой, вынырнул и увидел Фимину голову у другого берега.
Аким глядел на Дунаец. На Аверю не смотрел, хотя среди мальчишек было признано, что лучше его нет в Шарапове пловца, и все иц любовались.
Аверя не огорчался: завидует! Конечно, Аким — парень крепкий, весь из мускулов,— каждое утро зарядка, а вот хорошо плавать научиться у него нет времени: вечно торчит и библиотеке. Пусть делает вид, что не замечает его...
Зато Алка не спускала с него глаз. Аверя подплыл к берегу, схватился за борт лодки, рывком бросил свое тело в корму и знал, не глядя на Алку, что она любуется вспухшими на его плечах и руках мускулами.
536
Потом-попрыгал на одной ноге, вытряхивая из уха воду, схватил сзади мокрыми руками Алку,— она взвизгнула.
— Сейчас пузыри у меня запускаешь!
Алка подняла на него круглые глаза:
— Не надо, Аверчик, не надо... Насморк у меня с утра, застудилась, видно.
На берег вылезла Фима. С носа, с локтей и мокрых косичек ее сильно капало. Губы от долгого пребывания в воде чуть посинели и мелко вздрагивали. Авере не очень правилось, что она так здорово плавала сегодня, и он старался не смотреть на нее. Он только вежливо осведомился:
— Замерзла? А знаешь почему? Потому что дохлая. Смотри — одни мослы торчат: на спине каждый позвонок сосчитать можно...— и провел пальцем по ее спине.
Фима отпрянула.
Алка смерила ее взглядом и засмеялась.
— Смотри, стукну! В воду полетишь! — Фима погрозила Авере кулаком.
— Дохлая, дохлая! — завопил Аверя.— Что у тебя за ку¬
лак?.. Ну иди пощекочи меня — не боюсь...
— А сам убегаешь? Пусть, кто хочет, заплывает жиром, а я
не хочу. Ну куда ж ты убегаешь от моих мослов?
— А слабо вытащить кол,— сказал вдруг Аверя,— он вон там, в трех метрах от лодки. Вишь, сколько натаскали, а этот не дается.
На берегу, рядом с лодками, валялось с десяток толстых кольев. В прошлом году, когда здесь снимали кинокартину, над Ду- найцем специально соорудили живописный мостик и с него по ходу съемок, за деньги, предлагали мальчишкам прыгать. Аверя тогда сильно разбогател: заработал пятнадцать тридцать; раз сто, наверно, нырнул в одежде, то с перил, то, словно спьяну, грохался,— подменял одного актера, героя картины, который не пожелал это делать. Вначале репетировал падения и выслушивал указания курчавого человека с кинокамерой, как нужно естественней падать, потом падал, учитывая все пожелапия, и его снимали на пленку.
Затем мостик разобрали. Но большинство кольев так и осталось в воде. Они мешали лодкам и фелюгам, да и нырять с бере¬
537
га было небезопасно. Ребята привязывали к кольям веревки и выдирали.
— Дурочку нашел! — сказала Фима.— Алку попроси, у нее силы больше — не одни мослы.
— Только мне это и нужно! — закривила губами Алка.— Я такими вещами не занимаюсь.
Фима посмотрела на нее и вдруг быстро подошла к веревке, конец которой валялся на берегу. Намотала на руку и стала дергать.
— Иу-ну,— приободрил Аверя.
— Если не замолчишь — брошу.
— Да я ведь жалеючи, чтоб не надорвалась. Уж очень азартно взялась.
Алка прыснула в ладони.
Фима подергала-подергала — кол, чересчур добросовестно вбитый в дно, сидел прочно. Тогда Фима принялась дергать кол то в одну, то в другую сторону. Кол не поддавался.
Фима давно уже высохла на солнце, и теперь на лбу ее блестели капелыш пота. Она отошла к лодке, в которой лениво раскинулся Влас, выпрямилась и... и не с края причала, а в метре от него прыгнула, пролетела над причалом и лодкой — это у мальчишек считалось высшим шиком! — и вонзилась головой в воду.
— Видала? — повернулся к Алке Аверя.— Дает Фимка!
— Ну и что? — сказала Алка.— Зато она плохо одевается, платья на ней, как на пугале, и худущая такая.
— Верно,— вздохнул Аверя,— тощая! Заставили б тебя дома так молиться, не такой стала б.
Алка поправила на коленях сарафан и хихикнула.
— Зато из нее может получиться прекрасный капитан. Евфимия Зябина — капитан крейсера, гордость Шаранова!/
— Не крейсера, а какого-нибудь пассажирского,— заметил Аверя.— Крейсеры теперича ни к чему. Сейчас в моде подводные лодки и авианосцы. Пустят торпеду или ракету с ядерной боеголовкой, и точка... Нет, вряд ли будет она капитаном.
— Почему? По-моему, это по ней. И плавает как селедка, и пыряет как угорь, и характерец...
— Мужик и тот не каждый на капитанский мостик заби¬
538
рается. Надо, во-первых, чтоб в мореходку приняли на судоводительский. Кто ж ее примет, девчонку-то? Будто ребят мало. Ходят, наверно, толпами вокруг непринятые-то...
Фима доплыла до места, где торчал под водой кол, нырнула, и вода в том месте закипела, заходила.
— Чего вытворяет! — похвалил Аверя.— Вот девка! Ты, поди, и Дунаец не переплывешь? А тут метров десять, не больше.
— Зато я могу шить и пою красиво, и отец с матерью относятся ко мне хорошо...
— Смотри, смотри!..— Аверя мотнул головой на канал.
Фима вынырнула, снова погрузилась по веревке, и опять
вверху заклокотала вода.
Вот Фима выплыла с огромным колом, выставив его острием вперед, и поплыла к берегу.
Аким с Власом бешено зааплодировали. Алка скривила губы и отвернулась:
— Как мальчишка.
— А это плохо? — Аверя посмотрел на ее округлую румяную щеку с черной щеточкой тугих ресниц.
— А чего ж хорошего?
— Зато она бесшабашная и ничего не боится.
— Не бояться должен мальчишка. А женщине это ни к че¬
му. Ей не ходить с рогатиной на медведя.
— А теперича и мужчины не ходят на медведя с рогатиной...
— Аверчик, не говори, пожалуйста, «теперича» и «трошки».
— Почему? Мой батя так говорит и братан.
— А ты не говори. Не нужно. Это не очень культурно — так
говорить.
Кинув руки на край берега, укрепленного от оползней и размыва кольями и досками, Фима подтянулась, закинула коленку на доски, вышла на берег и похлопала себя по животу:
— Ох, какая водичка!
Враскос прорезанные глаза ее на черном от загара лице казались почти прозрачными. Они смеялись и разбрызгивали вокруг веселье и радость.
Аверю немного заело, что она подошла не к нему, а села возле Акима, обхватив руками колени, и о чем-то заговорила с ним. Аверя плохо слышал, о чем они говорили, кажется, о каком-то
539
фантастическом романе, потому что то и дело с их стороны доносился смех и такие словечки, как «астронавт», «кольцо Сатурна», «космическая пыль»...
Чем больше слушал он эти серьезные разговоры и этот смех, тем сильней портилось у него настроение.
А день был погож. По каналу туда-сюда сновали лодки, на моторах и без, грузные каюки и большие весельные магуны. Бородатый дед Абрам, Селькин дядя, транспортировал на канате за моторкой два сосновых бревна — лес тут на вес золота; две женщины везли в лодке кирпич и мотки еще не окрашенных белых капроновых сетей — наверно, из сетестроительного цеха, который помещался возле конторы рыбоколхоза; потом проследовала бабка Назаровна в утлой однопырке, с верхом нагруженной зеленым камышом для скота...
— Отнесешь колья домой! —■ приказал Аверя Власу, толстому, с добродушными губами.
Неподалеку затрещал мотор, и Аверя увидел брата. Он шел на большой лодке.
— Куда? — завопил Аверя.— На остров?
Брат, сидевший с папироской в зубах у руля, закивал. На островах находились основные огороды шарановцев, и целый день туда и оттуда бегали лодки.
— Ребята, на косочку! — бросил клич Аверя.— За мной!
— А я? — растерянно спросил Влас, видя, как все ребята изготовились броситься в воду.
— Отнесешь домой колья и притащишь нашу одежду на косочку... За мной!
И прыгнул в Дунаец.
За ним сиганула Фима, неохотно плюхнулись Селя с Акимом.
— Нас возьми! До косочки! — орал Аверя, переходя на быстроходный кроль. Он и не обернулся в сторону Власа, потому что был уверен, что тот все исполнит в точности.
Ругаясь, Федот приглушил мотор и в сердцах бросил недоку- ренную папироску. Он был горяч и прославился по городу тем, что с месяц назад порубал все иконы жениных стариков. Он был механиком на передовом колхозном сейнере «Щука», слыл за весельчака и острослова. Как-то встретил его на базаре дирек¬
540
тор средней школы и при нескольких членах команды пожурил: ай-яй-яй как получается — в клубе читают антирелигиозные лекции, деликатно разъясняя рыбакам, что бога нет, что мир сотворен не им и все это вранье и поповский дурман, а он, Федот, вроде сознательный, видный в городе человек, живет в доме, где полным-полно зловредных икон,— учительница, заходившая к ним, видела...
Федот был разъярен. Вернувшись домой, он содрал со стен иконы, вынес во двор, схватил колун и стал во гневе рубить их почем зря. Деда дома не было — ушел в церковь, зато старуха вопила дурным голосом, а Алка, случайно очутившаяся рядом, рассказывала всем, что старуха была страшна в своей злобе и горе. «Чтоб бог потопил твой сейнер в море, чтоб ни одна рыбка не попала в твои сети, чтоб сдох ты, как чумной поросенок, антихрист!» — вопила она на всю улицу, собирая у забора народ.
Несколько дней Федот не ночевал дома. Трясло всего от гнева. Сейнер его, как назло, проходил профилактический ремонт на судоремонтных мастерских, и Федот немедленно отпросился на первый попавшийся сейнер, уходивший к крымским берегам.
Вопреки мольбам тещи, бог не потопил его сейнер, не отогнал от сетей рыбу.
Невредимый и по-прежнему шалый, мчался сейчас Федот к огороду.
Его лодка сильно осела под тяжестью ребят. Федот дал газу, и они понеслись против течения к Дунаю.
Моторка шла возле причалов с десятками лодок — район пограничный, и лодки, личные и колхозные, должны стоять не возле домов, а здесь. Нырнули под массивный деревянный мост, перекинутый через Дунаец, промчались у причалов и цехов рыбозавода, главного предприятия города, с подъемными кранами, тележками и навесами; у судоремонтных мастерских с двумя вытащенными из воды сейнерами, стоящими на особых устройствах — слипах...
А вон и острокрышая вышка погранзаставы с наблюдателем справа, и приземистый землесос слева, постоянно углубляющий от наносов исток Дунайца, а вон и сама река, просторная и мутная...
Метрах в ста от косы ребята посыпались через борт в воду
541
и, подбрасываемые волной моторку поплыли к берегу. Только Аверя с Фимой сидели в лодке. Сто метров — пустяк, стоило ради этого залезать в моторку?!
— Ну,— крикнул Федот сквозь треск мотора,— вались!
— Погоди трошки! — приподнял руку Аверя.
Вход в Дунаец, коса с палатками туристов поодаль, мальчишечьи головы в воде — все это быстро удалялось. Зато низкий румынский берег, в кустах и толстых вербах, со стогами на лугах и редкими домишками, рос.
— Давай! — крикнул Федот.
Если б здесь не было Фимы, Аверя давно бы сковырнулся с лодки. А так не мог. И Фима не хотела прыгать раньше его. Федот схватил лежавшее в лодке весло и хватил им по спине брата, но тот и сейчас не прыгнул.
У Федота от ярости запрыгали губы. Он ринулся на брата с веслом наперевес, как с пикой, точно проткнуть хотел. И тут Аверя не выдержал: перевалился через борт.
Вслед прыгнула Фима, прижав к груди коленки и два раза перевернувшись в воздухе, и, относимые стремительным Дунаем, перекрикиваясь и хохоча, они поплыли к берегу.
Дунай был шумен. Просигналила длинная нефтеналивная баржа и подкинула им добавочную волну. Как реактивный, пронесся пограничный катерок с военно-морским флагом. С десяток моторок и весельных лодок сновали от острова к Шаранову и обратно.
Вот пальцы коснулись илистого дна, еще два гребка, и Фима вслед за Аверей — обогнал все-таки, дьявол! — пошла по мелководью к берегу.
Вода едва покрывала щиколотки ног и была горячей.
На косе уже были Влас с одеждой и Алка.
Песок там был твердый, смешанный с илом, и мальчишки разбросались на нем в разных позах, подставляя под солнце кто спину, кто живот.
— Ой, Маряна, никак! — вдруг вскрикнула Алка.
Все подняли головы. Недалеко от берега шла под парусом лодка. На ней не было мотора — не каждый мог купить мотор, и две женщины изо всех сил гребли против течения: одна — Маряна, все в том же сарафане с красными цветами, вторая —■ ее
542
старуха мать; на корме сидела их соседка с Придунайской улицы и управляла веслом.
Ребята повскакали с песка и бросились навстречу, в волны и пену. Ветер слабо помогал женщинам. Он то надувал бязевый парус, то проскальзывал мимо и хлопал им, и тогда толку от него было мало.
Лодка пошла к берегу, и Аверя первый вцепился в ее смоляной борт. Подоспел Влас с Селькой, и они резво потащили лодку по мелководью.
— Добрый вечер, тетя Глаша! — крикнул Аверя Маряниной матери.— Идем, Марянка, с нами загорать.
— А разгружать кто будет?
— Брига-а-да, становись! — загорланил Аверя, выворачивая из лодки верхнюю корзину с клубникой.
Вторую подтянул Влас, и ребята зашлепали с корзинами к берегу. Соседка несла ведро с закопченным котелком. Мать Маряны столкнула с мели порожнюю лодку и на одном парусе повела в Дунаец, к причалу, на положенное место.
Скоро ребята вернулись, прошли мимо туристских палаток — их было семь штук,— обошли два «Москвича», «Волгу» и бегом вернулись на пляж.
Народу на пляже прибавилось. Аверя с завистью поглядывал, как высокий парень в очках прилаживал к ступням зеленые ласты, затягивал у лодыжек лямочки. На парне были отличные, с карманчиком на «молнии» плавки, плотно облегавшие тело.
Аверю удивило: несмотря на очки, парень был мускулист, широк и, наверно, запросто положил бы его, Аверю, на лопатки.
Второй парень, сидевший рядом в красных с белой полосой плавках, был кудряв, полноват и явно не спортсмен. Он держал маску и трубку для дыхания под водой.
«Ага, те новенькие, о которых говорила Алка»,— сразу смекнул Аверя. Возле туристов на расстеленном брезенте, подложив под головы ядовито-желтые подушки, лежали в ярких купальниках две девушки, повернув к солнцу свои не очень-то загорелые и не очень-то худые спины и бока.
— Ты местный? — спросил вдруг у Авери длинный.
— Ага, а что?
— Вон то Румыния, да? — Он показал подбородком.
543
— Ну, Румыния,— ответил Аверя.— А что?
— А ничего. Как близко она все-таки! Мы, понимаешь, неплохие пловцы... Как бы тут нечаянно водную границу не нарушить... Докуда Дунай наш?
Аверя слегка насторожился.
— Как раз посередке проходит граница.
— Сам из липован?
— Липован,— угрюмо бросил Аверя и, чтоб показать, что и он не какая-то там деревенщина, спросил: — А вы откуда будете?
— Из столицы нашей Родины... Ну, Аркадий, если погибну, прошу меня считать...
— Только ненадолго, Левка. Не так, как на Богазе...
— Идет.— Шлепая, как большая лягушка, по песку ластами, в овальной маске со стеклом, с дыхательной трубкой в зубах, длинный зашагал к реке.
— С богом!—крикнул Аркадий и стал смотреть, как его приятель лег на воду и поплыл, опустив вниз маску и выставив вверх трубку, как подводная лодка перископ.
Аверя решил кое-что выведать у них:
— Надолго приехали?
— Пока понравится. У вас тут чудно.
— Да ничего. А сами кто будете?
— А ты, однако, любопытный малый,— сказал кудрявый,— думаешь что-нибудь про нас такое?
Аверя мучительно покраснел:
— Ничего я не думаю.
— Ну если так, большое тебе спасибо от себя, от Льва и от обеих представительниц слабого пола. — В прищуренных глазах Аркадия блеснула усмешка. Но дальше парень повел себя необъяснимо. Он, оказывается, совсем не обиделся на Аверю за допрос, потому что неожиданно сказал:—Ты, наверно, здорово плаваешь? Я уж заметил, как великолепно плавают местные ребята.
— Да ничего. Как же не плавать — живем при реке.
— После Льва я поплаваю с маской, а потом дам тебе... Хочешь?
Вопрос был так неожидан, что Аверя смешался,
— Почему бы не попробовать. Можно.
544
— Тебя как зовут?
— Аверьян.
— Ну, очень приятно». А я — Аркадий. Давай руку. У вас тут столько удивительных старорусских, полузабытых у нас имен, что просто сердце замирает. Я, например, сегодня услышал имя Мавра.*. Удивительно! У нас только в книгах это встретишь.
— Всякие есть,— поддержал беседу Аверя, ведь могут же они оказаться полезными, и решил блеснуть: — У нас и Мартьяи есть, и Викула, и Фока, и Куприян, и Филат, и Леон...— Он вспоминал имена позамысловатей.— А у меня есть брат родной, так его зовут Федот...
— Интересно! — вздохнул Аркадий.— Приехали мы сюда — и как в другой мир окунулись. Здорово! Не похоже на все, что видел. И эти ерики...
— Как вторая Венеция?
— Вот именно.— Аркадий заулыбался.— И эти ерики, и бочки с вином в «Буфетах» и ларьках, и дома из камыша с илом, и раки на базаре, и огромные, как блюда, камбалы... Твой отец кто — рыбак?
— М-г-гу,— произнес Аверя.— А вы кто будете — студенты?
— Были, сейчас на работе: вот он — артист, читает с эстрады юмор, басни и прочее, а я — экономист.
— А-а-а...— протянул Аверя, с неподдельным удивлением глядя на него, потому что за все свои тринадцать лет не видел ни одного живого экономиста. Артистов видел — приезжали из Одессы, а вот экономистов — нет, наверно, он очень важная персона.
Аверя и не заметил за разговором, как из воды вышел Лев с маской, поднятой на лоб.
— Контакт с местным населением! — бросил он, хлопая ластами по песку.
Так и не удалось в этот день Авере поплавать с ластами и маской.
Знакомый пронзительный визг заставил его подскочить с песка и броситься в глубину пляжа, к старым корявым вербам у плетней. Там лежал конец толстого ребристого шланга, по которому землесос, работавший на Дунайце, гнал со дна протоки воду с илом.
545
Вода была темно-коричневая, почти черная, била упругой и толстой, с бревно, струей и широким ручьем, проложив в песке руслице, сбегала в реку. Там-то вот, у конца шланга, и раздался визг.
Аверя ринулся туда. Аким с Власом и Фимой держали за руки и ноги Маряну перед самым жерлом шланга, а она вырывалась, билась, вся черная от жидкости, судорожно дергая ногами...
Ее визг не был мольбой о помощи. Просто Маряне было приятно, страшновато и весело — вот она и визжала. Аверя не стал ее освобождать. Помогая Фиме, он отобрал у нее одну Ма- рянину ногу — самому бы две не удержать — и схватил ее железной хваткой. Ах, как ему стало жаль, что так много времени проговорил напрасно с Аркадием и столько упустил! И как это Маряна далась ребятам в руки...
Брызги темной жидкости попадйли Фиме в лицо; она щурилась, гримасничала и, едва удерживая вырывавшуюся ногу, хохотала и визжала не хуже Маряны.
— Ну давай мне, давай! — Аверя оттолкнул Фиму, прижал локтем к боку и вторую Марянину ногу и завопил на весь пляж: — В воду ее, в воду!
Они торжественно понесли ее к Дунаю, а Фима бежала рядом, держась за живот от смеха. Маряна дергалась своим негритянским телом: даже щеки и нос и те измазаны.
Зайдя по колено в воду, стали раскачивать ее за ноги и руки.
— Раз, два...— громко считал Аверя.
— Ну пустите, мальчики, пустите свою вожатую... Как не совестно... Вот откажусь от вас...
— Два с половиной...— неумолимо считал Аверя.
Увидев, что Лев бежит от палатки, на ходу открывая футляр
фотоаппарата, Аверя замедлил счет и, когда убедился, что Лев успел поймать их в объектив, произнес трагическим голосом!
— Три!
Метра на два, с разбросанными руками и ногами, взлетела Маряна в воздух, шлепнулась в воду, тут же вынырнула и, совершенно чистая, сверкая смуглотой плеч, вскочила на ноги и бросилась мстить Авере:
— Предатель!
546
Аверя увертывался от нее, падал в ноги, хлопался в болотца илистой воды и, наверно, в конце концов попался бы в Маринины руки, если б не Саша, не тот самый пограничник, след для которого вчера прокладывал Аверя...
Он шел через пляж, чуть наискосок от домиков с вербами, шел в полной военной форме, с пистолетом на боку, и среди полуголых купающихся людей выглядел очень странно. Но еще странней было то, что он шагал без своего неизменного Выстрела.
Саша по прямой двигался к ним, к Маряне с Аверей. Они не видели его, перебегали с места на место, и ему несколько раз приходилось менять направление.
— Саша! — крикнула Алка, первая заметившая его.
И Маряна перестала преследовать Аверю.
— Здравия желаю! — сказал старший сержант и даже взял под козырек.— Можно вас на минутку? — Он никогда не обращался к,Маряне на «вы».
— Ну чего тебе? — Маряна показала отбежавшему Авере кулак.
«Сейчас начнет благодарность выносить от имени и по поручению...» — весело подумал Аверя и почти ничего не расслышал из их разговора, потому что Саша отвел ее в сторонку. Расслышал Аверя только вот что.
— А мне не совестно,— на какой-то его вопрос ответила Маряна.— Ну и что, что я вожатая? Пусть другие, а я — нет... Ерунду ты городишь — мне нравится дурачиться с ними...
Саша заговорил еще тише, и Аверя услышал только несколько разрозненных слов:
— Дистанцию... Нельзя... Уважение...
На эти слова, непонятно зачем сказанные, Маряна только рассмеялась:
— Ну и пусть... Ты вот, доблестный представитель Вооруженных Сил Советского Союза, снисходишь до нас, а я что, хуже? Ну и скажешь же... Что-что? А разве ты приглашал? Не слышала, честно говорю.
Саша еще что-то сказал.
— Постараюсь,— и опять засмеялась.— Когда? В девятнадцать ноль-ноль?
547
Саша снова взял под козырек, деревянно повернулся через левое плечо и едва ли не строевым шагом зашагал по пляжу назад.
Маряна сразу перестала интересоваться Аверей, села в кружке ребят, и он подсел к ним.
— А ты, Фима, сколько раз была у Матрены?
Фима, отжимавшая из косичек воду — искупалась, смывая ил,— сморщила лоб, подсчитывая:
— Разика три.
— Не очень-то много. А обещалась...
— Маряша,— запричитала, улыбаясь, Фима,— да все вырваться не могу... Дом проклятый...
— А сюда вырвалась? И не скажешь, что у тебя усталый вид.
Фима сузила глаза и затаила в уголках губ улыбку.
— Так то не полы мыть и не на базар для стариков бегать. И ночью встану, чтоб вымазать тебя илом и бросить в Дунай...
— Ох и хитрющая ты! Я тебе...— погрозила пальцем Маряна.— Чтоб в ближайшие дни сбегала...
— Есть! — Фима вскинула к виску ладошку.
— А ты, Селивестр?
— Был у своего деда раз пять.
— Как дела у Аверьяна?
— Нормально. Жалоб от старушки не поступит.— Аверя нахально посмотрел в глаза Маряне, и его лицо, худощавое с грубым, неровным, обветренным, каким-то пятнистым загаром, было чуть надменным и лихим.
— Проверю.
— Хоть сейчас.
За спиной заиграла румынская музыка: скрипки и цимбалы, обгоняя друг друга, разлились над пляжем и полетели над Дунаем.
Аверя перекатился на другой бок и увидел в руках Льва маленький, чуть побольше «Зоркого», приемничек в кожаном футляре. Лев с Аркадием и две девушки сидели неподалеку от них и прислушивались к голосу Маряны.
Лев поманил Аверю пальцем.
Аверя подполз на коленях.
548
— Кто она такая?
— Маряна-то? Вожатая. А что?
— Аркадь, ты слышишь... Как тебе нравится это имя? Как звучит, а?! А ты не хотел ехать сюда, дурья голова.— Потом вдруг быстро спросил у Авери: — Ты-то в бога веришь?
Готовый к любому вопросу, но не к этому, Аверя смутился.
— А чего в него верить?.. Мне... Мне все равно...
— А бог есть, нет?
— Нет,— проговорил Аверя,— откуда ему быть... Атмосферные явления все это... В школе так говорили, и опять же — Маряна.
— А дед-бабка у тебя есть?
— У кого же их нет?
— Молятся на иконы? Справно молятся на иконы?
— Так они старые.
— А много их у вас?
— Откуда много, только трое: одна бабка, материна, померла, а теперича трое...
Лев пригладил волосы и поморщился:
— Да не стариков, икон.
— Да есть. А вам что?
— Да я так просто.
— А я думал — верующий. У нас в городе церкви богатые. Одну старообрядческую, правда с согласия епархии, закрыли...
— Ну? — Лев заинтересованно придвинулся к нему и серьезно изучал его лицо сквозь большие, в квадратной оправе очки с широкими дужками на ушах.
— А почему закрыли?
— Между батюшками ссора произошла — не поделили они что-то, писали друг на друга архиепископу нашему...
— Как это — нашему?
— Да старообрядческому. Наша церковь особая, мы — за старую веру...
— Ты, я вижу, в этом деле академик...
— Чего там...— Аверя прямо-таки весь зарделся.— Жить здесь и не знать... Вот мой деда такое рассказывал о протопопе Аввакуме...
549
— Ребята, вы слышите, что он говорит?! — закричал своим товарищам Лев, и они на животах сползлись к Авере.— Об Аввакуме слыхал, и вообще, должен вам сказать, образованнейший малый...
— Аверька, мы уходим! — крикнул Селька.
И Аверя увидел, что все уже одеты. Ах, как не хотелось ему уходить! И он остался бы с этими добрыми, веселыми туристами, если б не Алка, подошедшая к ним.
— Садись, девочка,— предложил Лев,— ты тоже местная?
— Наша,— бросил Аверя,— я вот ее все плавать учу — слабовата.
— Не похоже, что местная.
— Мой папа мастер по лодкам, и я скоро уеду отсюда,— сказала Алка.— Он не сам делает лодки, а руководит, и все в цеху ему подчиняются...
— Вон оно как...— пропела толстенькая девушка в синей купальной шапочке, с ямками на тугих щеках, Вера, как звали ее туристы.
— Аверька,— вдруг сказала Алка,— как тебе не стыдно купаться в таких трусах? Прямо до колен. Все культурные люди купаются в плавках, а ты как деревенщина.
— Отстань,— вяло огрызнулся Аверя,— не продаются они у нас.
— А твои родители молятся на иконы? — спросил у Алки Лев.
Алка, трогавшая на коленях хорошо накрахмаленное платьице, возмущенно посмотрела на него:
— За кого вы меня считаете? Мой отец — член партии, мама активистка, и председатель райисполкома часто бывает у нас в гостях, а вы про бога! Я убежденная атеистка...
— Ого! — воскликнула вторая беленькая девушка — Люда.— И ты никогда не верила?
— Что я, дура какая? Старичкам еще простить можно: жили при русском царизме и под турецкими боярами, темные и невежественные, потому и верили в сверхъестественные силы... А чтоб я?..
— Идейная какая! — Вера похлопала себя по собравшимся в складки бокам.
550
Алка зарозовела от удовольствия.
— А как же иначе, я как пионерка...*— И вдруг перебила себя и показала на уходившую с ребятами Фиму.— Вон ту видите? Так сама помню, как она в церковь бегала. А братишка ее, Локтя, и сейчас ходит с крестиком. И главное — пионер: под красным галстуком носит крестик. Это ведь возмутительно! — При этом Алка выразительно посмотрела в лицо Авере.
— Позор! — отрезал Лев.
— Зато она плавает, как шаран,— вставил Аверя,— как сазан, по-вашему.
— И вся она как мальчишка! Только что не курит. И хочет стать капитаном. Правда, смешно? Настоящей девочке не самое главное — хорошо плавать. Я вот даже и учиться не хочу хорошо плавать. Это для мальчишек, а не для нас, девочек... Что у нее за жизнь: торгует семечками, месит ногами ил, спит под иконами, а их у Зябиных что ворон на лозе...
— Что ты говоришь?! — Лев вскочил с песка.
— Ну, пошли,— сказал Аверя, хмурясь и прерывая Алку,— надо Маряну догнать.
— А я не пойду и расскажу им все.
— Ну и оставайся. Пока.
Аверя быстро оделся и побежал за скрывшимися ребятами.
Ребят он не догнал.
Зато вечером столкнулся с Маряной у Дома культуры. Она была все в том же платье, только без тесемок купальника, узлом завязанных на шелушащейся от загара шее. Маряна жила небогато, со стариками, и, по предположениям Авери, у нее было одно-два летних платья, не больше.
— Тебе Саша сказал что-нибудь? — спросила она.
— А чего? Нет, ни слова. Как с собакой — так я нужен, я и мои штаны, а как без собаки — так другие... Или, постой, что- то, кажется, говорил...
Маряна дала ему легкий подзатыльник.
— Завтра патрулирование. Сообщи связным, чтоб к семи утра все были на месте.
— Есть,— вяло сказал Аверя.
У щита с объявлением, что в Доме культуры открыта школа бальных танцев, а также липси и других, топталась Алка с бе¬
551
лыми капроновыми бантиками в волосах и в белоснежных туфельках. Но Аверя лишь краем глаз посмотрел на нее — болтушка!
Откуда-то явился Саша с пограничниками и за руку, как маленькую, повел Маряну на танцплощадку, примыкавшую к Дому культуры. Площадка была ограждена высоким забором, и у входа стояла билетерша. Пограничники и знакомые проходили даром, и Саша запросто провел Маряну внутрь.
Аверя прильнул к щелке в заборе. На длинных скамьях сидели разряженные девушки, тщательно причесанные, отглаженные.
Особенно бросались в глаза две: в ярко-красном и ярко-голубом платьях, таких широких и круглых внизу, точно вентерь на обручах. У них были высоченные, как стожки сена, прически. Девушки стояли у стены, такие необычные, броские (одна работала секретаршей в райисполкоме, вторая — официанткой в чайной), что ребята и подойти к ним стеснялись.
** Зеленой группкой толклись у стенки пограничники, робели видно, и поглядывали, как танцуют наиболее смелые пары. С солдатами была и Маряна.
Танцевали больше девушка с девушкой.
Вдруг Саша махнул рукой и потянул Маряну, положил одну руку на ее талию, вторую — ладонь в ладонь, поймал старым кирзовым сапогом такт и поплыл по танцплощадке.
В это время у входа раздался шум. Молодые рыбаки вталкивали на площадку случайно оказавшегося здесь Акимова деда. Дед ругался, мотал седой бородищей, упирался в косяк двери. И все-таки его втолкнули внутрь и загородили выход. Деду надоело ругаться, он засмеялся и протянул руки к билетерше, приглашая на «русскую».
— Пошел, старый. Бородой исколешь, да и на службе я...
На голоса бесшумно нагрянули три дружинника с красными
повязками на рукавах. Молодые ребята тут же подались в тень, и Акиндин беспрепятственно, хотя и без явной охоты, вышел с танцплощадки.
Чей-то локоть коснулся Авериной руки. Оглянулся — Фима. Она тоже прильнула к щели.
— Завтра в семь к заставе,— сказал Аверя,— на патрулиро¬
552
вание. И еще вот что: сходила бы к моему деду, к тимуровскому, полы надо вымыть.
— Хорошо.
Аверя оторвался от забора и пошел по вечерней, полной народа Центральной улице.
Глава 4
У ПОГРАНИЧНОГО СТОЛБА
— Смотри, смотри, может, тот? — шепнула Фима и показала на человека, одиноко стоявшего у вербы.
— Своих не узнаешь,— прошипел сквозь зубы Аверя.-— Гаврила, рыбак с «Норда».
Они пошли дальше. Миновали пограничный столб. Железобетонный, зеленый, с красными полосами и номером, он стоял в деревянной оградке и сверкал оттиснутым металлическим гербом Советского Союза. Фима знала: такие столбы расставлены вдоль всего Дуная, потому что эта пограничная река только наполовину наша.
«Как смешно,— думала часто Фима,— одна и та же рыба, скажем сом, зигзагами плывущий по Дунаю, то и дело нарушает границу и по десятку раз в день является то советским, то румынским, пока не попадется на чей-либо крючок и гражданство его определится окончательно и навсегда...»
Они шли группкой в три человека. Здесь были последние метры нашей земли, илистой, топкой, заросшей густейшими плавнями, прорезанной заливами и канавами, но родной, которую нужно очень беречь.
Хотя на той стороне реки была и дружеская страна, мало ли кто мог перейти оттуда сюда или от нас туда с важными сведениями, а потом дальше, в другие страны.
— Смотрите за деревьями и на воду,— предупредил Аверя.
В глазах Фимы заплясала дунайская рябь, зашевелились бородавчатые дуплистые стволы старых ревматических верб, залитых по щиколотку водой,— две трети своей жизни проводят в сырости!
553
За каждым из них, казалось, кто-то прятался, выглядывал и снова прятался.
Считалось, что граница у них тихая, но случалось кое-что и здесь.
Несколько лет назад, как рассказывали, в чайную на Центральной улице зашел незнакомый человек в чересчур потрепанном пиджачишке и чересчур видавших виды рыбацких сапогах, заказал стакан водки, бутерброд с черной икрой, выпил полстакана и стал приглашать к своему столику сидевших рядом рыбаков. На деньги не скупился, хохотал и рассказывал занятные истории и анекдоты.
Буфетчице он показался странным. Она послала судомойку на заставу. Пришли, проверили документы, увели, и скоро выяснилось: крупный агент, хотел уйти на тот берег и, чтоб никто его не заподозрил, решил соответственно одеться, продемонстрировать щедрость души и... И перестарался.
А еще и такой был случай. Ловили наши рыбаки в Григорьевском гирле селедку. В одной из лодок сидели два брата Мокро- вы; видят, судно под турецким флагом проходит вблизи. А воды-то здесь наши. Не имеет права. Судно уже совсем близко, того и гляди, сеть на винт намотает. Старший Мокров и закричал: дескать, не положено здесь быть турецкому судну. Поняли. Были, видно, на борту знающие русский язык. Отвечают: сбились с курса в тумане. А туман-то нельзя сказать, чтоб очень...
— Оставайтесь здесь! — кричит старший Мокров.— Не имеем права отпустить без проверки.— А сам схитрил: нагнулся к дну лодки, взял черную деревянную ложку тыльной стороной и кричит в нее, точно в телефонную трубку: — Товарищ начальник заставы, задержан турецкий теплоход! Прошу срочно прислать катер...— А сам подмигнул проходившей мимо рыбацкой лодке: чеши, дескать, к рыбоприемному пункту, где есть телефон, свяжись с заставой и вызывай.
Примчался пограничный катер, и офицеры стали разбираться, в чем дело, а Мокровы получили по ручным часам, деньги и благодарность; о братьях и в газетах писали.
А было и такое. Приплыли однажды ночью к нашему берегу на камышовом снопе двое маленьких румын: привели их на заставу как нарушителей; и тут выяснилось: побила их мамка
за то, что ведро клубники умяли в погребе, вот и решили опи искать справедливости на наших берегах.
— Должны отправить вас обратно,— сказал начальник заставы,— не имеем права задерживать.
Те — в слезы, чуть не на колени становятся, не хотят на тот берег, к мамкиным кулакам. Ничего не поделаешь — отправили и только дали совет: уж коли есть клубнику, так не ведрами, ну а, скажем, поллитровыми банками или, что еще лучше, прямо с грядки рвать...
— Тише ты, в воду свалишься! — зашипел Аверя, хватая Фиму за руку: задумавшись, она споткнулась о неровно прибитую доску.— Смотреть надо глазами!
Фима поежилась, прислушалась. Было тихо, очень тихо, так тихо, что даже слышалось, как на мглистой румынской стороне внятно и одиноко кукует кукушка.
Впереди шел Аверя в кургузом пиджачке, из которого давно вырос. Глубоко на лоб надвинута тесная кепочка. Крупные руки далеко высовывались из рукавов: они то прятались в карман, то пересчитывали пуговицы, то висели без дела, и, конечно, им так не хватало какого-нибудь оружия, скажем пистолета!
Фима давно знала Аверю, так же давно, как знала небо над головой, упругие сучья пирамидального тополя, росшего возле их калитки, как знала отца и мать.
Он жил через два дома от них, маленький и сопливый крепыш. Они в один год научились плавать в ерике, пугали одпих и тех же лягушек, а потом, чуть попозже, с одним и тем же бре- дешком, держась каждый за свою палку, бродили по горло в воде, и на их шеях раскачивались, когда они нагибались к корягам, свинцовые крестики...
Потом эти крестики исчезли: Фима на глазах у матери в порыве ярости выбросила в ерик, а Аверя втихую спрятал за иконой богородицы. Они вместе играли в нырки: бегали друг за другом по воде, падали, норовя ухватить за ногу, подныривали друг под друга, удирали и брызгались. Аверя был силен, смел, напорист. Недаром же, когда в школе организовался отряд ЮДП, его избрали заместителем начальника штаба. Впрочем, из него бы вышел и отличный командир отряда. Разве можно его сравнить с Валеркой Кошкиным?! Того избрали, конечно, только по¬
555
тому, что его отец — начальник пожарной команды Шаранова. А если у него, как говорили, и лучше дисциплина, чем у Авери, и он выдержанней, так это еще не значит, что надо выбирать именно его.
Куда ему до Авери! Он, Аверя, один такой на все Шарано- во, а может, и на весь Дунай. Жаль только вот, не всегда он разбирается, кто его друг, а кто — нет, что хорошее, а что не очень, хоть и красивое внешне...
Они подошли к порту с огромной пристанью и двумя кранами и баржей, стоявшей со вчерашнего дня под разгрузкой: все товары в магазины привозились сюда по воде.
Впереди шел Аверя, и глаза его настороженно смотрели по сторонам. Вдруг он застыл на месте. Фима с Акимом тоже остановились и принялись смотреть туда, куда глядел Аверя.
— Тише,— прошептал Аверя,— не дышите.
— Что там, кто там? — придвинулась к нему Фима.
— Чего там узрел? — вполголоса спросил Аким.
556
— Тс-с! — Аверя торнул его локтем в живот.— Неизвестный. Снимает местность... Фимка, приготовьсь.
Холодок пробежал по Фиминой спине.
— Как — приготовьсь? — шепотом спросила она.
— На заставу побежишь.
— А где он, где? — заморгал ресницами Аким.— В воде или на берегу? Переплывает Дунай?
— Да вы что, ослепли? Смотрите! — И Аверя показал, куда надо смотреть.
И Фима увидела. Увидела рослого человека в плаще с фотоаппаратом в руках. Он был далеко и сливался с деревьями и кустами. Но Фима четко видела, как он поднес к лицу фотоаппарат — объектив блеснул на солнце — и что-то снял.
— Румынию щелкает,— шепнул Аким.
Фима знала: фотографировать границу, все пограничные объекты и румынскую сторону запрещено.
— Аверь,— вдруг шепнула она, хорошенько приглядев¬
557
шись.— Какой же это неизвестный?! По-моему, это тот... с пляжа, с которым ты говорил вчера... Смотри, и очки у него... рост тот же...
— Ну-ну! — шепотом запротестовал было Аверя, застыл на месте, впиваясь в незнакомца глазами, потом нехотя согласился: — Вроде ты права... Он.
— А я-то думала...— чуть разочарованно сказала Фима.
Аверя, несколько секунд молчавший, повернул к ней посуровевшее лицо:
— Беги на заставу. Слышишь?
Фима фыркнула:
— Сам беги... Осрамиться хочешь?
— Ты слышала, что я тебе сказал? И в обход, не спугни. И чтоб быстро. А мы с Акимом будем вести наблюдение и следить за ним.
— Не смеши,— сказала Фима.
— И самого Маслова вызывай, начальника, скажи: группа Аверьяна Галкина обнаружила... Ну и все такое...
— Сам...
Аверя вдруг схватил ее за руки и крепко сжал:
— Я тебе приказываю! Приказываю, как заместитель начальника шта...
— Ну сходи, чего тебе стоит? — перебил Аверю Аким.— Он и в самом деле снимает то, что нельзя.
И Фима пошла — пошла не торопясь.
— Бегом! — крикнул Аверя.
Фима пошла побыстрей.
Всю жизнь прожила она на границе, можно сказать у самых пограничных столбов, а никого не задерживала и даже не помогала задерживать. Правда, она много раз бывала на погранзаставе: с отцом, когда его задержали с лодкой за небольшое нарушение режима погранзоны — позже положенного времени возвращался; и когда они всем отрядом ходили сюда на встречу с пограничниками и осматривали их хозяйство: спортгородок, место для заряжания и разряжания оружия, глухую толстую стенку и два пограничных столба, совсем такие же, как на границе, только деревянные, и помещения, где живут служебные собаки...
558
До заставы было недалеко, с километр, и скоро Фима толкнула калитку у ворот и вошла в огромный, огражденный двор заставы. На вышке под острой крышей расхаживал солдат. Время от времени он смотрел в бинокль в сторону Дуная.
Фима пошла к деревянному дому, на первом этаже которого за стеклянным окошечком всегда — днем и ночью — сидит дежурный.
Он и сейчас сидел там, парень в зеленой фуражке с очень знакомым лицом, хотя имени его Фима не знала.
Опа нерешительно постучала в окошко. Ей было неловко — очень уж по сомнительному делу обращалась.
— Чего тебе? — Солдат открыл окошечко.
— К начальнику бы.
— А зачем?
— Надо. Наш отряд ЮДП патрулировал...
— А где же пограничники, которые были с вами?
— Они в другом месте... С теми, кто подальше... А мы у порта...
— Минутку.— Дежурный взял телефонную трубку и отчеканил: — Товарищ майор, докладывает дежурный рядовой Усен- ко. Здесь школьница требует, чтоб пропустили к вам.
Лицо рядового Усенко было подтянуто и сосредоточенно.
— Есть, товарищ майор,— сказал он молодцевато, положил на рычаг трубку и бросил Фиме: — Беги, третья дверь направо...
Фима пошла по коридору — в нем пахло вымытыми полами, гимнастерками и еще чем-то строго служебным.
Негромко постучала в дверь.
— Войдите!
Раздались быстрые — навстречу ей — шаги.
Вошла. Два стола — один начальника, другой — для совещаний. У стены — железная койка под байковым одеялом. На одной стене — портрет Ленина, на второй — Дзержинского, с пристальным, целящимся взглядом из-под козырька надвинутой на лоб фуражки. На столе начальника — толстая книга с торчащей закладкой («О. Генри»,— прочитала на корешке Фима) и телефоны.
А лицо у начальника совсем не строгое, не военное, чуть полноватое, глаза мягкие, синие, добрые и губы не жесткие и вроде
559
бы даже не очень волевые. И вообще — сними с него гимнастерку с погонами, пояс и сапоги, переодень в здешнее — ну рыбак рыбаком...
А говорят, он беспощаден и строг. Многие рыбаки даже недовольны: чуть нарушат погранрежим — штраф или запрещение на какой-то срок выходить на лодке.
— Что стряслось, девочка? — Майор улыбнулся.
И Фима рассказала...
Она так и не успела увидеть, как пограничники забирали нарушителя. Когда Фима вернулась на берег, все было уже сделано и даже ребят там не было.
Часом позже Аверя рассказал ей, как все было. Возбужденный, обрадованный, посверкивая глазами и почесывая кудлатую голову, Аверя стоял у бревна — сидеть он не мог — и говорил:
— Только ты, Фимка, скрылась, мне не по себе: как бы не ушел! Конечно, и мы с Акимом могли бы попробовать задержать, да вдруг у него оружие?! А он ходит себе, ничего не подозревая, и щелкает оборонные объекты. Гад! Мы его выведем на чистую воду! И его дружка надо проверить, и этих, в купальниках, которые на желтых подушечках лежали, их тоже надо...
— Как это его звали? — спросил Селька.— Помнишь, ты с ним...
— Да ничего я с ним... Ругался, и только. Все насмехался, гад, над нашим Шарановом: грязные канавы, вонища и как только вы тут живете, среди комаров и змей? Уходили бы...
— Куда уходили? — резко спросил Аким.— Неужели он так и говорил с тобой? А мне помнится...
— Еще хуже говорил. Все маскировался. То спросит, Румыния ли на той стороне, то начнет уверять, чтоб я ничего плохого не думал, что он не шпион, а очень даже преданный человек... Буду я помнить имя такого? Ничего не помню!
— Дурак он, вот кто! — отрезал Аким.— Настоящие шпионы — они поумней и не будут так открыто фотографировать местность, и никаких объектов здесь нет...
— Тебе завидно, что не ты первый заметил его? Да? Ничего, не бойся, я не жадный. Все мы заметили его по-равному: я, ты и даже Фима...
560
— Почему — даже? — спросил Аким.— Она что, полчеловека?
— Полтора! — крикнул Аверя и рассмеялся.
Фиме не понравился его смех.
— Пойдем проверим: забрали других или нет? — предложил Аверя.
Ребята толпой ринулись к пляжу, где стояли автомашины и палатки туристов.
Палатки и «Москвича» пограничники не тронули.
— Палатки-то на месте, а вот как их содержимое? — улыбнулся Аверя.
— А ты бы хотел, чтоб их всех арестовали? — спросил вдруг Аким.
— Да что ты! Жалел бы их, слезки проливал бы! — передразнил его Аверя.
— Может, они хорошие ребята, а ты...
— Дай бог! — вскричал Аверя.
Его стал злить глупый спор, где все было так ясно. Аверя вообще, насколько помнила Фима, не очень-то любил споры, особенно с таким человеком, как Аким.
— А я б хотел, чтоб они оказались нашими людьми,— сказал Аким,— и это было бы лучше всяких там наград за поимку и...
— Дам в рыло! — вспылил Аверя.— Поговори еще у меня... Я, что ли, за наградами стремлюсь?
— А кто тебя знает. Вон сколько знаком с тобой, а так и не раскусил, что ты за человек... к чему стремишься...
Фима с неприязнью посмотрела на аккуратно зачесанные назад волосы Акима и остроносые туфли фабрики «Буревестник»,— он покупал их при ней в обувном магазине за семь рублей. Неплохой вроде парень, а воображает. Ходит в рубахах навыпуск, как приезжие, точит, как червь, книги и уж думает, что можно оскорблять таких ребят, как Аверя.
У Фямы с Акимом всегда были приятельские отношения: с ним и о новых книгах можно поговорить, и о кинофильмах, а сейчас она не сдержалась.
— Не дерй, пожалуйста, нос! — крикнула она и отошла за Аверину спину, хотя знала, что Аким с девчонками не дерется.—
49 Библиотека пионера, т. 12 501
Он за границу болеет, а не за награду. Сам, наверно, мечтаешь...
«Куда меня понесло! — ужаснулась она.— Ведь все не то говорю!» Даже Авере не понравилось, как она себя вела.
— Прекрати! — Он дернул ее за кофту.
— Тоже мне подпевала! — резанул Аким.— Прячешься за его спину?
Фиме стало жарко и стыдно. Даже пот выступил меж лопаток. Она не нашлась, что ответить. Только крикнула ожесточенно:
— Дурной ты!
Как назло, у пляжа появилась Алка — из девчонок только Фима и Настя Грачева были в отряде.
— Опять Фимка ругается?..— сказала она.— Грубая, не может без этого... Ну, как ваш улов?
— Одного диверсанта точно, и троих под сомнением,— желчно проговорил Аким.
Алка сделала испуганные глаза:
— Мальчики, это правда?
— Это ты вчера им глазки строила,— сказал Аким,— этим туристам?
— Они диверсанты? Это ужасно!
— Заданий от них не получала? — Аким с ухмылкой косился на Аверю.
Алка побледнела, голубенькие глаза ее в черных ресницах замерли, рот приоткрылся.
— Кайся,— проскрипел Аким.
— Дам в морду,— повторил Аверя.— Не трожь ее, она не виновата.
Фима молчала в сторонке и не могла собраться с мыслями и чувствами, нахлынувшими на нее,— так все было сложно и запутанно: ей был неприятен Аким своим отношением к Авере, но с Алкой он вел себя как нужно; с другой стороны, в словах о диверсантах был удар и по Авере. Аверя хороший, но почему он вступается за Алку?
Ничего нельзя понять! Что за штука — жизнь: в хорошем есть и плохое, а в плохом — хорошее; и вее это так перемешано, что не так-то просто отрезать ножом, отделить одно от другого.
562
Это -в--шшшане — рыбьих кишках — нетрудно отделить пузырь с желчью, чтоб все мясо не испортить, а в жизни...
От реки с котлом, наполненным водой, прошли мимо них две девушки в ситцевых платьицах. Лица их показались Фиме знакомыми.
— Куда это Левка запропастился? — спросила одна.— Два часа, как пропал, сказал: «Не спится, пойду погуляю»,— и нет.
— Вернется. Верно, набрел на что-то.
Девушки скрылись в огненно-красной палатке.
— Съел? — бросил Авере Аким.
— Это еще ничего не значит. Может, они и невиноватые, а один он и скрывает от них...
Фима вдруг хватилась, что пора домой: явилась вчера поздно и убежала тайком ни свет ни заря, когда все спали, чтоб мать не могла запретить ей уйти сегодня из дому.
Потом Фима вдруг вспомнила про бабку Матрену и про Авериного подшефного деда* которому тоже надо помочь; И побежала не домой, а к нему. Часа два таскала воду, мыла полы, сдувала пыль, бегала в магазин за хлебом и едва даже не столкнулась с матерью.
Перед тем как идти домой, решила искупаться. Добежав до реки, сбросила платье и готовилась уже нырнуть с мостков, как вдруг услышала голос Авери.
— Слабо, говорите? А вот смотрите...
Послышался плеск. Фима выглянула из-за кустов, росших у подножия корявой, полуразвалившейся от старости вербы, и увидела...
Нет, в это нельзя было поверить!
На кладях на корточках сидел тот самый, в очках, тот самый, длинный, обнаруженный Аверей за неположенной съемкой, и, опустив вниз руки, смотрел на то место, где только что был Аверя.
Вот Аверя шумно вынырнул и поплыл к берегу, держа в руке, поднятой над водой, рака. Рак был крупный, яростно работал клешнями и всеми ножками, а Аверя хохотал.
— Ловйте, Лева! Здесь обрыв, а в нем полно их нор... Хотите, еще поймаю?
563
— А не искусают тебя?
— Надо уметь брать их: за спинку — и тогда ничего, не дотянутся клешнями.
— Ну поймай еще трех: преподнесем Аркашке и двум нашим дамам как подарок от тебя... Не возражаешь?
— А чего? Не.
Аверя стал нырять, выбрасывая из воды ноги. Вода вокруг бурлила, пенилась, и Фима представила, как его пальцы скользят по срезу обрыва, влезают в норки, ощупывают их и, почуяв рачыо спинку, берут за шершавый панцирь.
564
На этот раз Аверя вынырнул с двумя раками. Лев заворачивал их в носовой платок, а Аверька, дроя^ащий от озноба, посиневший и готовный, снова нырнул.
— Ну как, не нанужались? — спросил он Льва, когда одевался.— А на заставе не выговаривали?
— Было... Неприятно, да что поделаешь... Не знал, что у вас здесь так строго.
— Очень.— Морщась, Аверя стал причесываться.
— Обошлось. Теперь умнее будем... А в общем, они неплохие ребята, даже пленку проявили и вернули, вырезав несколько кадров.
— Интересно,— вздохнул Аверька и посмотрел на шевелящихся в платке раков.— Раки — что! Теперича у нас никто пх не промышляет, мяса у них кот наплакал.
— Ну, это ты брось — первейшая закуска под пиво.
— И под наше вино идет,— с видом знатока сказал Аверя,— да все равно это не промысел. Так только, для забавы. Хотите, я свожу вас на Крымское гирло? Бредешок захватим, будьте здоровы сколько рыбы наловим!
— А застава разрешит?
— А чего ей? Все по-законному оформим, лодку отмечу у причалыцика в журнале, и порядок.
— А когда?
— Хоть завтра. Правда, лодка безмоторная, да это недалеко.
— Прекрасно,— сказал Лев.— Ты изумительный парень, Аверьян! А наша компания вместится в лодку?
— Запросто. Я еще Власа захвачу, чтобы с другой стороны заводил бредень, и Ваньку — этот пугать и воду баламутить будет.
— Давай и ту девочку возьмем,— сказал вдруг Лев,— ну, у которой дома жизнь нелегкая, родители религиозные.
Фима вся напряглась.
— А, это Фимку? А зачем она нам сдалась?
— Мне хочется с ней поговорить... Ты у нее дома бывал?
— Мильон раз! Старый дом у них, плохой, стены едва держат иконы.
565
— Позови ее, пожалуйста.
— Хорошо. Будет кашеварить... Мы такую юшку соорудим — закачаешься.
— Вот и хорошо. Можешь сейчас же прийти за ластами и маской. Через день вернешь.
Они ушли, а Фима так и осталась стоять возле развалистой вербы. Что ж это получается — то крыл его последними словами, то раков для него ловит, роется в иле... И зачем это еще она, Фима, тому потребовалась?
Даже купаться расхотелось Фиме.
Она оделась и быстро пошла к дому.
Глава 5 БЕЗРЫБЬЕ
Лев забрался в палатку.
— Влезай, не стесняйся,— донеслось изнутри.
Аверя просунул голову, влез и присел на корточки. У стенки на надувном матрасе в одних трусах посапывал Аркадий; другой матрас, очевидно Льва, пустовал; на ящичке стоял приемничек в кожаном футляре с ремешком,— однажды на пляже Аверя уже слушал музыку. Тут же лежал рюкзак и валялись ласты с маской и трубкой.
— В этой — мы, в той — женское общежитие.— Лев хлопнул по пустому матрасу, приглашая Аверю присесть.
Аверя присел и зевнул от волнения: никогда еще такие люди не оказывали ему столько внимания.
— Слушай, друг,— Лев улыбнулся,— ты вчера что-то хотел рассказать про ваши церкви и попов, а потом не успел. Прошу.— Он протянул Авере пачку с сигаретами.— Надеюсь, куришь?
Нельзя сказать, что Аверя очень уж курил. Мог даже через нос дым пускать. Но до конца не пристрастился к курению: большого удовольствия оно ему не доставляло.
— А как же! — Аверя потянулся к пачке, хотел лихо вытащить одну, но, как назло, цеплялись сразу три. Он повлажнел
566
от неловкости::-у Льва, верно, рука заболела, пока Аверя отделял от трех одну.
Лев был очень вежлив, держался с ним как с равным: поднес горящую спичку вначале ему, потом прикурил сам.
— Слушаю.
— А чего там говорить... Работали две церкви старообрядческие, одну недавно закрыли. Почему? Небольшой городок, а две церкви метрах в трехстах друг от друга и одинаковые, только что названия разные: одна — Никольская, вторая — Рождественская. Ни к чему вроде держать обе. Нецелесообразно.
Лев улыбнулся краешками тонких губ. Он развалился на матрасе, пускал в потолок струи дыма и внимательно слушал. Его длинные ноги, туго обтянутые синими тренировочными брюками, с резинками у щиколоток и на поясе, свешивались, потому что на кончике матраса примостился Аверя. Горбоносое смуглое лицо Льва, досиня выбритое, четкое и напористое, с твердыми -губами?'вее время было повернуто к Авере.
— Ну-ну, это очень интересно.;.
— Одну, значит, и прикрыли, сам епископ наш согласился, и батюшка обещался сдать ключи, сдать всю церковную утварь в епархию. А у нас церкви — будь здоров!..
— Она внутри была такая же, как и Никольская? — перебил Лев.
— Пожалуй, почище. Бывали в Никольской?
— Захаживали. Ну-ну, дальше.
— Обещался, значит, сдать всю утварь, а колокола, как по закону полагается, должны перейти государству на цветной металл...
— Скажи, а иконы там были?
— Видимо-невидимо, и очень старые, писанные, сказывают, настоящими художниками и еще в древности. На некоторых и Христа-то с богородицей не увидишь — сквозь гарь и копоть едва пробиваются. Едва выглядывают из потемок, как живые.
Лев задрыгал ногами и скосил глаза на Аркадия. Тот все еще спал, слегка посвистывая и отдуваясь. Кожа на полноватой шее под круглым подбородком собралась складками —в таком положении Аркадий казался просто толстяком.
— Ну, и что дальше?
567
— Уйма недовольных было.
— Еще бы!
— Особенно старики. Даже делегацию специальную командировали в Москву на Рогожскую, в епархию, к главе нашей церкви, чтоб помог. Кучу денег собранных проездили, а ничего не добились: архиепископ не поддержал. Горсовет решил пустить закрытую церковь под какое-нибудь помещение, под склад или что другое, а они ключей не дают. Знаете, какие у нас старики из церковного совета?
— Какие?
— Неподступные. Да и другие дедки не хуже их. Липован за стол не сядет не перекрестившись, стакан воды в киоске не выпьет, мимо церкви не пройдет... Да что там «мимо» — купола издаля увидит, и сама рука тянется ко лбу...
— А ты-то рад, что закрыли?
— Мне все равнз: что была, что нет... Бог мне не мешает. Правда, бабушка стала как больная, все охает и ахает по Рождественской, отца Василия жалеет. Любали его все, а епархия отправила его в соседний городишко Плавск. А этот, который остался, хочет его со свету сжить...
— Что ты говоришь! — воскликнул Лев и ударил себя по коленям.— Не думал, что такие страсти могут кипеть в вашем городке! И главное, среди кого — среди самих служителей культа...— И, сказав это, он вдруг так громко засмеялся, что Аркадий зашевелился и перестал посвистывать.
Он полудремал: одна рука его сгоняла надоедливую муху, что садилась то на плечо, то на грудь, безмускульную и рыхловатую, поросшую золотистыми волосками.
— А вы думали! — сказал Аверя, польщенный, что его слушают с таким интересом.— Батюшка из Никольской, отец Игнатий, вообще хотел отделаться от нашего, от отца Василия, писал на него, что он венчает дальних родственников, а это по церковному закону не положено, что... Ну и много там всякого.
— И сняли его?
— Нет. Народ отстоял. Стал отец Василий служить в Плав- скз, а к нам приезжать на службу только по воскресеньям.
— А служат оба в одной и той же церкви?
— Нуда.
568
— Ой и смех! Аркадий, да проснись же ты, соня! — Лев зажал ему пальцами нос; Аркадий замотал головой и открыл глаза.— Здесь такое рассказывают, а ты дрыхнешь!
Аркадий сел и стал тереть заплывшие со сна глаза.
— Скажи,— спросил Лев,— а почему закрыли именно Рождественскую?
Аверя напрягся, по лбу побежали морщины. Ах, как хотелось ответить и на этот вопрос!
— В точности сказать не могу, но думаю, потому, что Нико- лай-угодник является покровителем всех моряков. Ну, а всякий рыбак — моряк, вот он и помогает нашим рыбачкам. Потому и оставили Никольскую.
У двери раздался женский голос:
— Можно? — И тотчас всунулось полненькое личико с челочкой на лбу — Вера.— Ого, у вас гости... Пошли, ребята, поедим в чайной, спиртовка что-то забарахлила.
— Я не против,— сказал Лев.— А вы знаете, куда мы завтра отправляемся? Не отгадаете. Не буду мучить. На рыбалку. Аве- рьян зовет. Вот дунайскую юшку отпробуем!
— Прекрасно! — Вера принялась рассматривать ногти.— Как быстро лак слезает...
— Ну забирай ласты и прочее,— сказал Лев,— только смотри потуже на ногах затягивай, а то потеряешь в реке.
— Будьте спокойны.
Туристы стали готовиться, а Аверя, сам не зная почему, все не уходил. Он стоял между двух палаток — ярко-красной и зеленоватой — со снаряжением для подводного плавания, завернутым в оберточную бумагу, стоял и чего-то ждал. А когда все пошли в город, пошел за ними и он.
Они были хорошо и модно одеты: у девушек — открытые цветастые платья, у парней — легкие светлые рубахи навыпуск, узкие брюки и сандалии на босу ногу.
На боку у Льва болтался «Зоркий», у Веры — маленький приемничек; из Москвы передавали последние известия. Аверя шел за приемничком и отчетливо слышал каждое слово.
Чувствовал себя Аверя очень хорошо. Приятно было идти в компании этих ярких, по-столичному одетых туристов, разговорчивых, веселых, которые могут ценить дружбу даже таких
569
мальчишек, как он. Ему очень хотелось оказаться нужным, показать им что-то, предостеречь от чего-то, направить куда-то.
— Поймай-ка Бухарест*— попросил Аркадий,— до него отсюда рукой подать, в Москве не берет.
Вера стала медленно двигать красный диск на передней стенке. Передача наплывала на передачу: четкий мужской голос вдруг разбавлялся грустной музыкой, музыка сменялась свистом и грохотом джаза, а из джаза рождался быстрый, огненно-легкий веселый марш.
— Стоп,— сказал Аркадий,— законсервируй.
Они шли вдоль опустевших полдневных ериков, с распластанными на поверхности лягушками, шли под лязг медных тарелок, под ошалелые стуки барабана и переливы кларнета. Из одной калитки высунулся стриженый малыш и тут же в испуге убрал голову. Бородач, сидевший у кладей на лавочке спиной к дощатому заборчику, поднял на них мутноватые глаза, полные хитрости и лукавства, и провожал их глазами, пока компания не скрылась.
По дороге уточняли подробности завтрашней вылазки.
— Хотите, я возьму еще Алку,— предложил Аверя, но, вспомнив, как она критиковала на пляже его длинные трусы, пожалел.
Спас его Лев:
— Пожалуй, не стоит. Девочка она симпатичная, но, как мне кажется, не ахти как...— Он повертел указательный палец у лба.— Верно?
Аверя не совсем понял, что хотел сказать Лев, но, чтоб не показаться малосообразительным, кинул:
— Точно... Не ахти.
Шедшие впереди девушки рассмеялись, и Аверя был вне себя от гордости.
— Только Фиму не забудь прихватить.
— Что вы, она такую юшку варит! Я на что уж рыбак, а и то три раза после оближусь.
— Скажи, а отец Василий живет в Шаранове или переехал в Плавск? — спросил вдруг Лев.
Этот вопрос немного удивил Аверю.
Странно, что Лев так интересуется религией. Точно третьим
570
хочет вступить в борьбу двух батюшек за приход в Никольской церкви...
— Здесь... Хотите, покажу его дом?
— А это недалеко?
— Рядом!
— Ребята, я сейчас.— Лев быстро зашагал за Аверей по поперечному проулку.
А сзади раздавались иронические возгласы Аркадия:
— Честное слово, братцы, он с ума сойдет от них: с севера привез — мало, Смоленщину обшарил — мало...
«Чего это ему все мало?» — подумал Аверя, подводя Льва к поповскому дому. Он был такой же, как и все рыбацкие дома, может, более щеголеватый, со свежей белизной стен, с более затейливыми наличниками и новеньким — ни трещинки, ни зазубринки — шифером на крыше...
Возле чайной Аверя спросил у Аркадия:
— Из чего, вы думаете, этот дом?
— Как — из чего? Из камня.— Аркадий окинул взглядом прочный двухэтажный дом с большим и вполне современным обувным магазином внизу: обувь стояла на полках по размерам, и отдельно — мужская, женская и детская. Авере уже покупали полуботинки в мужском отделе.
— А спорим, что нет?
Немало шоколадин и поллитров было проспорено новичками из-за этого дома. Аверя тоже решил огорошить новых знакомых и блеснуть мастерством местных строителей.
— Нет,— сказал он.
— Из чего же тогда? Из дерева?
— Нет.
— Я больше и материала-то не знаю, из чего можно строить... Ага, из железобетонных конструкций.
Аверя покачал головой:
— Из камыша да ила.
Все шло как по-писаному. Лев разбил пари. Спорили па баночку черной икры. Потом в вестибюле перед лестницей вверх, где помещалась чайная, Аверя отломал от беленой стены кусок ила,— и все увидели камышовую стену: желтые стебли были прйгнаны плотно, один к одному,— и победоносно улыбнулся.
571
— Ай-яй-яй! — вскрикнул Лев.— Вот так ил, великий ил... Да здравствует ил — первооснова жизни на земле!
Все четверо громко захохотали; не удержался и Аверя.
— С меня,— сказал Лев и подмигнул Авере,— хорошая будет закуска!
Аверя еще громче засмеялся.
Первым движением его было пойти за ними, он даже сделал несколько шагов по лестнице, но потом решил — неловко: денег у него нет, а смотреть, как они едят, нехорошо. Подумают, набивается на еду.
Аверя вышел наружу в тень, под акацию. Ждать пришлось долго; он присел на тротуар — Центральная улица была асфальтирована. Аверя прислонился спиной к стволу и поглядывал на двери чайной — скоро ли? Кто-то тронул Аверю за кончик уха. Не оборачиваясь, он схватил кого-то, стоящего за спиной, и поймал тонкую руку.
— А, Фимка,— сказал он чуть разочарованно.— Завтра едем рыбалить. Собирайся.
— Не хочу,— ответила Фима.
Аверю словно ударили по голове.
— Что-о? Повтори-ка!
— Не поеду.
И он увидел, что лицо у нее не такое, как всегда, когда она продавала семечки, когда встречала его у ериков. Оно было решительное. Как на Дунайце, когда она прыгала с лодок или плавала. Но не было сейчас той веселости и азарта в ее раскосых, отчаянно прорезанных глазах. Они были холодны и неласковы.
Редко видел ее такой Аверя.
— Фимочка, ты нам очень нужна... Не сердись на меня — ни пальцем, ни словом больше не задену... Ну?
...Фима поехала. Явилась она нарочно с опозданием. Все на причале и в лодке уже ждали ее — четверо москвичей, Влас и Ванюшка из пятого класса, веснушчатый, как ствол орешника, рыжеватый малый, предназначенный пугать рыбу, загоняя в бредень. И лодка уже была оформлена как нужно у причалыци- ка: в лодочном паспорте — школьной тетрадке в корочках от «Геометрии» Киселева — стоял штампик со временем убытия и
прибытия; и бредень с казаном принесены; и кой-какая еда к юшке припасена, а Фимы все не было.
Наконец ее тапки застучали по кладям, Поздоровалась со всеми, оглядела и вдруг спросила:
— А где Аким?
Пришлось соврать:
— Упал вчера на кладях, ногу вывернул.
Сказал это Аверя, не глядя в глаза, чужим, утробным баском. Фима, видно, не очень-то поверила ему.
— Хоть жив остался! — В ее глазах блеснуло что-то едкое, чего всегда побаивался Аверя.
Он даже пожалел, что позвал ее: сам бы сготовил юшку не хуже.
— Ну залазьте, трогаем,— сказал он.
Лодка стояла в широком, как пруд, ерике, и в нем отражались и дрожали от легчайшего волнения высокие камышовые плетни, низкие сараи, крытые камышом, и высоченные, в два человеческих роста, составленные шалашом снопы сухого камыша с метелками.
— Какая прелесть! — вздохнула Люда.— Как где-нибудь на Таити: хижины, вода, солнце, только что пальм нет...
— Не говори.—Аркадий уселся на свернутый бредень.— И юная раскосая таитянка.— Он кивнул на Фиму.— Кто бы мог подумать, что здесь так! Ух!
«И чего они в этом находят? — подумал Аверя и ногой оттолкнул от кладей лодку.— Камыша, что ли, не видали? Чу- дачье! Живут в таком городе, а удивляются разной ерунде».
— Влас, подай-ка бабайки,— попросил Аверя.
Лев насторожился и широко открытыми глазами посмотрел на Аверю:
— Как ты сказал?
— Да это весла у нас так называются.
— А-а-а...
Надев петли весел на штыри в борту, Аверя вывел лодку на середину ерика. Лодка была большая, тяжелая и двигалась медленно, но он греб во всю силу, и лодка пошла быстрей.
Фима сидела на корме, управляла веслом и довольно враждебно поглядывала на Аверю да и на туристов.
573
Аверя стал прикидывать в уме, чем мог провиниться перед ней, но так ничего и не нашел. То все было в норме: дружила, уважала, семечками задаром угощала, вечно торчала рядом, подчас даже всовывала свой остренький носик в сугубо мужские дела, и приходилось всякими способами избавляться от нее, а то... Ну какой овод ее укусил?
Вот лодка прошла под мостиком с березовыми поручнями, скроенным го еловых столбиков и досок, и вошла в узкий ерик, покрытый у берегов зеленой ряской. Местами ветви склоненных ив холодной листвой касались их лиц.
За поворотом увидели рыбаков: двое малышей, свесив с кладей ноги, удили мальков.
— Эй, Саха! — крикнула Фима кривоногому мальчонке с выбитым передним зубом.— Где Аким?
— С книгой! — Саха обреченно махнул рукой.— Какого-то Хмин... Хвии... Хмингвея читает — про африканские холмы и львов. Не вытащишь его!
Лев залился мелким истерическим смешком. Даже лицо руками закрыл, и только плечи его все сотрясались, как от падучей.
Аркадий тоже почему-то заулыбался, улыбались и Вера с Людой. Зато Аверя дико покраснел, куснул губу и насупился. Фима же передернула плечами, отвернулась от Авери. Правя веслом, она смотрела в воду, словно хотела проникнуть взглядом до самого дна й увидеть там что-то очень важное для себя.
Аверя греб из одного ерика в другой и нервно посвистывал. Люда не выпускала из рук «Зоркий», то и дело щелкала им, и не успела лодка выбраться из сложной системы ериков в Дуна- ец и через него в Дунай, как она доконала пленку и полезла в сумку за другой кассетой.
Потом их принял на свои волны Дунай и понес по одной из проток. Авере больше не нужно было напрягаться; он отдыхал и, скорее для вида, чем для дела, погружал и поднимал тяжелые весла.
Впереди были безлюдные низкие берега с редкими телефонными столбами. По правую руку шел длинный, заросший кустами и камышом, принадлежащий нам остров.
574
Изредка навстречу шли самоходные баржи и моторки; повстречался и колхозный сейнер «Рыбец». Аверя помахал двоюродному брату Мишке и во все горло крикнул:
— Много взяли?
Мишка что-то крикнул, но ничего нельзя было разобрать.
— Потише ты, лодку своим криком потопишь,— бросила Фима и как-то странно улыбнулась.
Аркадий почесал ухо и подмигнул Авере.
Авере все это очень не понравилось, и он решил: больше потакать ей нельзя.
— Ты куда правишь? Когда скажу — к берегу, тогда и будешь. Прямо держи.
— Не волнуйся, знаю. А утомился — дай Ванюшке бабай- ки, он не хуже тебя справится. Охотник ты вниз грести...
Аверю прямо-таки обожгла обида.
— Делай, что говорят, и точка! — Он так рассердился, что не мог придумать ничего более остроумного и хлесткого.
Его утешало то, что другие члены экипажа вели себя по-ипо- му. Стоило Авере сказать Ваньке: «Дай-ка напиться», как тот перегибался через борт, черпал кружкой воду и подавал. Влас тоже с готовностью смотрел на Аверю и несколько раз заикался, чтоб он и ему дал немного погрести, хотя бы одним веслом.
— Погоди.
Аверя щегольски подымал и опускал весла, и течение стремительно несло лодку.
575
Мальчишки иовиповались, и ои старался покрикивать на них, говорить баском.
Одна Фима взбунтовалась и плохо поддерживала авторитет Авери. Она словно похудела за этот час, и тонкие брови ее так переломились углом вниз на переносице, отчего глаза еще более смотрели враскос. Ох и вредина она, оказывается!
Туристы жадно глядели по сторонам, щелкали аппаратом, кратко переговаривались меж собой.
— Далеко осталось? — спросила Вера.
— Сейчас пристанем, ополоснем бредешок—увидите, что у нас водится... Не обижаемся на Дунаюшко, кормит покамест рыбака.
Наконец лодка ткнулась в дно. Аверя сбросил брюки, в трусах проворно спрыгнул в воду и потащил лодку к берегу. Бултыхая ногами, слез и Влас и стал помогать.
— Фимка, собирать хворост, и побольше!—приказал Аверя.— Чтоб юшка была — во!
А когда она вместе с другими: очутилась на берегу, подошел к ней и тихонько спросил:
— Ты чего это?
— Ничего. Сам все знаешь, не прикидывайся.
Аверя ничего не понимал.
— Что я знаю? Хоть бы людей постеснялась. Что подумают о нас?
— Очень плохо. Что ж им еще подумать?
Аверя насторожился:
— Это почему же?
— Объяснять надо?..
— Угу.— Аверя выдавил улыбку.— В компании с тобой и твоим Акимом вовсе оглупел...
— Да,— с жаром сказала вдруг Фима.— Аким прав был, а я тебя защищала... С утра ты называешь человека шпионом и гадом, а в полдень унижаешься перед ним, ползаешь в иле и ныряешь за раками...
— Ты откуда знаешь? — Аверя нахмурил лоб.
— Видела... Ходила купаться и видела.
Вдруг Аверя рассмеялся и хлопнул себя кулаком по лбу:
— Ах, подумаешь какое дело! Ну и что в этом такого? Да,
и сейчас повторяю: думал, шпион, а потом выяснилось, что нет. Отличный парень. Так что же я должен делать — сторониться его? Так?
— Ты даже не понимаешь...
— Что я должен .еще понимать? Твои глупости? А я тебя считал, Фимка, умней, и вообще...
— Холуем не будь, вот! — прервала его Фима.— Не выслуживайся перед ними. Себя держи как надо, ты ведь...
— Замолчи! — Аверя покраснел, и кулаки его сами по себе сжались.— Не тебе меня...
В это время к ним подошел Лев, уже раздетый, как и другие туристы, в одних плавках; спросил, что надо делать, и, видно, это спасло Фиму от Авериных кулаков.
— Можете корзинку для рыбы носить,— сказал Аверя.
577
— -О, это прекрасная должность! Где можно получить корзинку?
— Ванька, подай корзинку и тащи сюда бредень! — крикнул Аверя.
— Иду! — Ванюшка бегом принес намотанный на две палки бредень.
Аверя с Власом раскатали его над водой, зашли поглубже, и от течения полотно сети выгнулось дугой.
Далее, уже полусогнувшись над водой, потому что одна рука обхватила палку с сетью у самого дна, Аверя пустил на берег целую серию приказаний:
— Фимка, найди камни под очажок и собирай хворост! Ванька, бери какую-нибудь палку и скорей сюда! Остальные могут загорать и заготовлять топливо.
Желающих собирать хворост оказалось не так уж много. Люда, видно, задалась целью поскорей доконать вторую пленку. Вера — она, как и Люда, была уже в купальнике,— выше колен утопая в вязком холодном иле, с криком и хохотом тащилась сзади. Лев тоже вошел по пояс в воду и захромал с плетенной из чакана корзинкой — с такими корзинками шаранов- цы ходят на базар.
Аркадий, скрестив на жидковатой груди руки, ничего не делал. Он смотрел по сторонам и улыбался:
— Ну и смех! Ну и диво!
— Загоняй! — завопил Аверя.
И Ванюшка, взбаламучивая ногами воду, вовсю работая палкой, ринулся к движущемуся на него бредню. Четыре руки быстро подняли края сети.
—- Ой, что это? Покажите мне, покажите! — К бредню ринулась Вера.
— Ничего особенного,— заметил Лев,— раки.— Он стал хватать их за спинки и бросать в корзинку.
Ему усердно помогал Ванюшка.
— Да куда вы их! — сказал Аверя.— Мы поехали не за раками, надо время беречь.
— Ничего-ничего.— Лев отрывал от сети рака, зацепившегося клешней за нитки.— Какая ушица, без рака?
Во второй раз бредешок подвели к самому берегу. Ванюшка
578
вопил во всю глотку и так .-старательно топал ногам^.и. колотил по воде палкой, чтоб выгнать из всех тайников рыбу, что сильно обрызгал Аверю, и пришлось на ходу поддать Ванюшке коленом по мягкому месту.
На этот раз в сети оказались маленький шаранчик и с десяток разнокалиберных черно-зеленоватых раков; они норовили удрать, копошились и ползали, путаясь в ячеях.
— У-у-у» зараза! — Аверя в порыве злости стал вытряхивать раков из сети, однако девушки закричали на него и двумя пальчиками с визгом и криками принялись выбирать их.
Аверя грустно стоял в сторонке, опершись на палку бредня. В третий раз попались две плотички и десятка полтора раков.
— Не можешь ты гонять! — вздохнул Аверя.— Давай, Власик, мы сами.
Они долго шли с сетью. Аверя шел с глубокого копца, и временами ему приходилось плыть, загребая одной рукой. Довели сеть до места, где росла гигантская бородища зеленых, извивающихся по течению водорослей, обвели их бредешком,. воткнули двумя заостренными концами в дно и с шумом, баламутя ногами воду, бросились топтать водоросли; им помогал и Лев с Ванюшкой; потом быстро вырвали из ила палки, и подняли сеть.
Пять небольших рыбешек и охапка раков прибавились в корзине.
К берегу подошла Фима, вошла в воду и, приподымая подол платья, заглянула в корзину:
— Ну и поймали!
— Не здесь, так на том берегу поймем! — крикнул Аверя.
— И там не поймешь! — уверила Фима.
Лев поудобней пристроил на носу сползшие очки и, состроив хитрейшую рожицу, подмигнул Вере:
— Ведь поймем, правда? Так поймем, что никто нас не поймет.
Вера заулыбалась ямочками на тугих щеках.
Фима исподлобья поглядела на Льва и, постепенно опуская подол, ушла на берег.
— Что эт,о с ней сегодня? — спросил у Авери Лев.
Тот пожал плечами, почесал темя и нахмурился:
579
— Характерная. А. нам придется к тому берегу цодаться... У пас как когда — то там, то здесь...
Смотав бредень с запутавшейся в нем травой и мелкими не выбранными раками, погрузились в лодку, и Аверя снова сел за весла. Фима с Верой остались разжигать костер. У берега, куда минут через десять подъехала лодка, густо рос зеленый камыш, и в нем можно было ходить, как в джунглях: плавни наступали на реку.
Здесь нельзя было повернуться с сетью, и Аверя с Власом ставили бредень неподалеку, а сами выгоняли из зарослей рыбу. И тут ее было не густо. Редкая рыбешка забегала в сеть, зато раков было хоть отбавляй. Они беспрерывно шуршали в корзинке, наиболее резвые по спинам других вылезали наружу, и Лев предупреждал их бегство, стряхивая внутрь.
— Дела...— вздохнул Аверя, когда они отправились на лодке назад.— Не помню, когда такое было.
Теперь управлял лодкой Влас. Ванюшка сидел в его ногах. Люда со Львом на заднем сиденье, а Аркадий с корзиной устроился на днище перед Аверей. Раскрыв корзину, он трогал пальцами раков; взял одного за панцирь, перевернул кверху ногами и, рассматривая его, улыбнулся.
— Панцирь — что у рыцаря средневекового! Да и хвост в отличных латах. А глазищи — ну как фары «Москвича». Смех! А это что еще такое? — Рот у Аркадия открылся от изумления.— Смотрите, рачата! Крошечные, еще прозрачные рачки, по точно как большие! — Он протянул Авере рака, на панцире и животе которого шевелились мельчайшие, не больше муравьев, рачки...
— Видал.— Аверя вздохнул и налег на весла: сейчас плыть было труднее — сильно сносило течением.— Из икры только- только повылазили...
— А ты, Левка, видел? — Аркадий протянул рака.
Лев двумя пальцами взял его за спинку и долго рассматривал с Людой.
— Забавно,— сказал он, возвращая рака.— Давай-ка, Аркаша, поменяемся местами.
И, держась за плотные плечи Люды, двинулся на его место.
580
«Помочь хочет, что ли?» — подумал Аверя. На него спизу смотрело горбоносое, худощавое лицо.
— Знаешь что,..— тихо сказал Лев и опустил за борт руку, так что сквозь пальцы журчала вода.— Мне нужно несколько икон. Поможешь достать? На новые я уже пе претендую, бог с ними, с новыми... Согласен и на старье, на закопченные и треснувшие.
— Эх, да поздно ты мне!..— Аверя чуть покраснел, назвав Льва на «ты».— Сказали б раньше. Мой Федот штук семь порубил во дворе топором...
— Что ты говоришь! — Лев внезапно повысил голос.— Топором! Да я бы купил их... Деньги бы отдал... Может, их еще спасти можно... Покажешь мне их?
— Вряд ли. На дощечки наколол. Самовар впору растапливать. Если хочешь, посмотри, может, что и уцелело.
— Я их реставрирую*, склею... Сегодня, хорошо?
— Можно и сегодня.— Аверя стряхнул со лба капли пота.
Когда они вылезли на берег, Фима уже развела огонь в наскоро сложенном из камней очаге. Она потрошила пойманную рыбу, снимала деревянной ложкой с ухи пену, солила, перчила, подкладывала лавровый лист.
Аверя тем временем нарезал ножом две большие, слабо просоленные дунайские сельди — одну из вкуснейших рыб на свете! — и вздохнул:
— Нет улова, так хоть это пожуем...— И тут же совсем другим голосом приказал: — Влас, а ну распутывай сеть, живо! И выбери все водоросли: останется хоть одна травинка — к казану не подпущу. Ясно?
— Ага.— Влас, прихрамывая, поплелся к лодке.
— А ты, Иван, чего баклуши бьешь? Марш за хворостом,
ну?
— Да пусть сидит, устал, наверно,— вступилась за него Люда.— Давай я схожу.
— Ничего он не устал, притворяется! Кому сказано!
Ванюшка поднялся с земли.
— Не смей идти! — крикнула вдруг Фима, сверкая глазами.— Сиди здесь, понял? Ты что, в работниках у него? За юшку нанялся?
581
Вашошка затравленно смотрел то на Аверю, то па нее, не зная, кого слушаться.
— Давно нё ревела? — Аверя холодно блеснул в ее сторону глазами:
— А ты... ты...— Голос ее как-то сломался, осекся.— В батраки нанялся вот к этим? А?
Аверя налился кровью, левое веко его задергалось, как у контуженного. Он часто задышал.
— Иди, чтоб тебя!..— завопил он вдруг на Ванюшку, и ему стало легче.
Ванюшка проворно побежал, стал ползать по земле, собирая хворост, то и дело поглядывая на Аверю и всех, кто был у костра. Фима уселась в сторонке.
Вначале, по рыбацкому обычаю, почерпали из мисок рыбный отвар — его было немного, потом, отдельно, съели рыбу: едва досталось по рыбешке на рот. А уж потом принялись за раков.
Аверя с остервенением вывалил в казан с кипящей водой треть раков. Они заполнили весь котел, заметались, зашевелились, потом понемногу притихли и стали краснеть.
Сваренных раков Аверя ивовой рогулькой вывалил из казана па траву и снова засыпал полный казан.
Все начали хрустеть клешнями, панцирями, шейками, доставая из них белое, покрытое розоватой пленкой вкусное, чуть сладковатое рачье мясо.
Фима, подвернув под себя босые ноги, отворачивала панцирь, выедала и высасывала содержимое. Ловко извлекала из раковой шейки полосатый хвост, жевала и выплевывала тонкие ножки.
Аверя не узнавал ее. Он не знал, что люди могут меняться за такой короткий срок. Ну что она взъелась на него? Почему при всех оскорбляет? Будь это не она, а кто-то другой, уж он показал бы. Совсем распустилась...
— Ну как вам раки? — спросил он у Люды.— Не повезло нам, извините уж... На безрыбье, знаете, приходится... хоть раки...
— Замечательно! И нечего тут извинять... Никогда не ела таких свежих и в таком количестве.
582
— У нас ведь все не такг-— поддержала разговор Вара.— Да и бывают они редко.
— А вам? — обратился Аверя к Льву и Аркадию.
— Слыхал, что наши бабайки сказали? Присоединяемся. Целиком,— жуя, сказал Лев.
Аверя засиял. Вдруг он вскочил, подбежал к куче раков, схватил обеими руками ворох и отнес Люде, второй ворох — Вере, затем — мужчинам. У казана осталась небольшая кучка.
— Кушайте, пожалуйста,— сказал он,— кушайте на здоровье...
— А ребятам что?—поднял голос Аркадий.— Мы ведь, можно сказать, и не ловили.
— Кушайте, внимания на них не обращайте... Живут около этих раков. Не впервой... Наедятся еще. Раки от них не уползут.
— Точно,— подтвердил Влас, выбиравший из оставшейся кучки, рака покрупнее.
Фима встала, начала искать тапки. Нашла, сунула в них ноги, взяла свой порожний мешочек — все было высыпано в общий котел.
— Ты что? — Аверя поднял голову.
— Ничего.— Глаза ее вдруг гневно блеснули.— Ненавижу тебя! У... Ты... Подхалим! — Она резко повернулась от них, жующих и хрустящих, от их ртов и недоуменных глаз, повернулась и быстро пошла прочь.
— Какая! — сказала Вера.— А личико-то добродушное.
— Я ей дам еще! — Аверя сплюнул сквозь зубы.— Она у меня за такие слова ответит! Никто так не обзывал меня... Жадина! Раков пожалела... Да я их...— Он вдруг вскочил и в сердцах стал с яростью топтать лежавшую перед Власом и Ванюшкой жиденькую кучку.
Аркадий внимательно смотрел на него.
— Ух ты какой, оказывается! Да вы стоите друг друга.— Он провел рукой по волосам.— Нельзя так с ней: девчонка ведь все-таки. Слабый, так сказать, пол.
— Ну и что? — остервенело спросил взъерошенный Аверя.
— Нельзя так с ней... Понимать надо. Не рыцарь, ты, братец.
583
— Не знаете вы ее, .она хуже другого мальчишки! Только кажется тихонькой. Уж я знаю! Будешь здесь рыцарем...
В разговор вступил Лев. Он покачал головой:
— Ты должен помириться с ней. Нельзя же так.
— А зачем мне с ней мириться? — прямо-таки напустился на Льва Аверя.— Мне что, скучно без нее? Солнце без нее не светит?
— Вот какой ты несносный...— Лев вздохнул.—Мне неприятно, что ссора случилась во время нашей поездки. Словно мы виноваты в чем. Помирись с ней. Прошу тебя...
Аверя подпер кулаками подбородок, уткнув локти в колени.
— Обещаешь?
— Если сама прибежит. А чтоб я первый...
— Первым — нет?
— Ни в какую!
— Какой характерный!—весело пропела Вера.— Не хуже Фимы.
Через час лодка плыла назад по Дунаю.
Против ветра и сильного течения трудно было идти, и Аверя напрягал все мышцы. Лодка медленно продвигалась вверх, или, как говорили в здешних местах, в гору. Весла скрипели, пеньковые петли стонали, и Аверя несколько раз брызгал на петли воду, чтоб не перетерлись.
Его лицо напряглось, на лбу и руках вздулись жилы, и он, сколько было сил, упирался ногами в ребра лодки. На руле сидел Влас и правил веслом, тоже через пеньковую петлю продетым на металлический штырек у кормы.
Авере было очень неприятно: Фимка опозорила его в глазах туристов. Рыбалка и без того не удалась, и все же они были довольны раками. Да Фимка все отравила. Но мысли о ней всв реже и реже мучили Аверю, потому что грести становилось все труднее. Лодка была перегружена, и он скоро начал выдыхаться.
— Дай мне одно весло,— попросил Ванюшка.
— Сам справлюсь,— буркнул Аверя, да и не он буркнул, не он, а что-то сидящее в нем, упрямое и независимое от него, и через секунду он пожалел, что не согласился.
«Давно пора мотор завести,— подумал он вдруг,— поста¬
584
вить «шестисилку» — «Л-6». Налил бензина, дернул ногой рычажок — и готово! Застучал, затарахтел, понес тебя с любым грузом, только рулем управлять не забывай. А ведь лет пять назад в Шаранове был один-два мотора, а теперь их столько, что и рыба, наверное,, хуже ловится в Дунае, потому что распугана всей этой техникой... Придется отца уламывать, чтоб меньше пил, на мотор собирал,— не так это дорого, если разобраться. Вот продадут всю клубнику и купят мотор...
Ветер крепчал, бросал в лицо пену.
— А она не заблудится? — спросила вдруг Люда.
— Дойдет.
— А места там не топкие?
— Выберется.
У Авери просто не было времени думать сейчас о постороннем. Он стал держать курс на тот берег, под укрытие острова: там и ветер не так дует и, говорят старики, там и течение не такое сумасшедшее.
— Подвинься, помогу,— сказал вдруг Лев.
— А вы можете? Смотрите, мозоли натрете.— Уж очень не хотелось ему впрягать в это дело приезжих.
— Не хочешь — не надо.— Лев пожал плечами.
Авере было трудно. Даже паруса захватить не догадался, дурень! Он вдруг вспомнил Маряну, ее лодку, под парусом шедшую с острова. Как бы она себя вела, если б очутилась с ними в лодке и ловила этих злополучных раков? Может, он и в самом деле слишком покрикивал на ребят и выслуживался перед приезжими?
Но ведь они гости, это понимать надо... Потом, дали ему на день ласты и маску, и он до вечера плавал, плавал тайно, чтоб никто не увидел и не стал просить: потеряют еще. Правда, в эту пору вода в Дунае мутная, но кое-что он все-таки увидел: змееподобные водоросли, искорки рыбешек и клешнястых раков на дне... Эх, жаль, сегодня надо возвратить маску с ластами.
Руки его стали затекать, пальцы едва держали толстые весла.
Аркадий шагнул к нему, отодвинул Аверю плечом — Аверя
585
и не сопротивлялся^— взял обеими руками весло, и они, стараясь грести в лад, ударили ими по воде.
— Скоро опять загребем к тому берегу,— выдавил Аверя,— а то перед Шарановом Дунай будет широк—с километр.
— Идет,— сказал Аркадий,— дашь тогда команду.
Глава 6
КОРЫТНЫЙ БОЙ
Фима быстро шла по едва заметной тропке. Временами тропка терялась в болотце, и под ногами чавкала вода. Тапки промокли насквозь. Осока, шершавая и острая, хлестала по ногам.
Фиму душила обида. Нет, обидно было не из-за тех слов, которые бросил ей Аверька. Ее сердило не его самоуправство и покрикивание на Ванюшку и Власа. Нет. Все это было пустяком. Он стал совсем другим, когда в их город приехали эти туристы...
Нет, он таким не стал. Он таким был давно. Может, не всегда, но давно. И она не заметила, когда...
До сих пор не подозревает Лев, что это именно Аверька задержал его и говорил о нем такие вещи, а потом...
В одном месте Фима согнала с берега трех белых цапель, в другом — рябого журавля, охотившегося за лягушками. До Шаранова шла она долго, часа два, а может, и больше, прежде чем увидела крайние полузаросшие ерики, кое-как постланные клади...
Черная гадюка быстро переползла перед ней тропинку.
Фима вскрикнула, отпрянула, прыжками добежала до кладей, вспрыгнула на доску и быстро пошла. Потом чуть умерила шаг: куда торопиться?
Мать сразу же отправит на стройку дома. Может погнать на Центральную с семечками. До чего это препротивное дело — лучше уж ил месить и мазать стены, чем сидеть возле корзинки и смотреть на проходящих, и ведь почти все знакомые! Когда мимо проходят ее учителя, она отворачивается или смот¬
586
рит вниз, а когда однажды мимо прошагал директор школы Дмитрий Алексеевич, так она прямо со стыда лицо в платок уткнула.
Сидит, как какая-то жадноватая бабка, которая и стакан-то верхом насыпать жалеет. А что сделаешь? Мать прямо сказала еще два года назад: «Не нравится — на все четыре стороны, крест можешь и не носить, бесстыжая, но чтоб по дому все делала, что велю. Кто не работает, тот и не ест,— это еще в Библии сказано, хоть и красуется теперь на улице на красных полотнищах».
До чего же неладная у нее жизнь! А тут еще этот Аверя... Ну был бы он другим — обидно не было бы. А то ведь Аверя — смельчак и силач, такой веселый и азартный, с ним и минуты не заскучаешь, и вдруг такое... Даже в голове не укладывается.
Брату Артамону хорошо — ушел. Стал капитаном сейнера. Как женился на Ксане, так привел по ерику к дому лодку, погрузил в нее свой скарб: два чемодана, связку книг, радиоприемник «Аккорд», несколько складных бамбуковых удочек и спиннинг, узел с простынями и подушками,— погрузил, помахал ей и родителям рукой и отчалил. Ксана, ладненькая, с веселыми' глазами, босая, шла рядом с мужем и поднимала на пути лодки невысокие мостки: под высокими Артамон проезжал согнувшись...
Вот и все. Почти без ссор, без ругани. Не пожелал — и уехал. Отец хотел было поругаться с ним, пошуметь накануне, да Артамон, хоть и капитан, да не любитель шума и всякого такого.
— Спокойней, батя,— сказал он,— и на хохлацкой стороне мне будет неплохо: они нам отдают полхаты. А со временем и сами отстроимся. Помогать тебе буду по-прежнему. Не думай и в уме не носи, что зло на тебя таю. Приходите с матерью — добрыми гостями будете.
— Некогда нам на вашу сторону шататься. Плохо ты с нами поступил. Что старики говорить будут?
— Как бы я жил, отец, в одной комнатушке? Не холостой ведь уже.
— Хотел бы — жил бы. В новом доме побольше выделил бы.
587
Две .не могу —у меня и Грунька с Фимкой, и бабка, и Галактион. Все так получается, когда бога забывают. Грех большой на себя принимаешь. Не будет тебе спасенья.
— Чего опять про это, отец! Уже немало говорено, думаю прожить без бога как-нибудь, и уж здесь мы с тобой не сойдемся ни в какую.
— Езжай.— Отец махнул рукой и пошел в дом не оборачиваясь.
Мать — та мало говорила, та больше плакала, и отец сказал ей в первый вечер:
— Ревешь теперь? Реви... Не уследила. Я-то все на рыбе, по гирлам да кутам маюсь, а ты из хаты не вылазишь, при детях все... Откуда же они у тебя такие? В церкву* видать, плохо водила, слов к ним не знала, ласки в душе не деря^ала. Суровая ты с ними больно...
— А Груня...— отвечала мать.— Моя она дочка, Груня, послушливая, сердешная... А Локтя?
В этом мать была, пожалуй, права. Впрочем, в отношении Локти не совсем. По утрам Фиму будил материнский окрик:
— Локтя, к иконам!
Мальчонка долго ворочался в постели, протирая глаза, зевал. Тогда с него летело сорванное одеяло. Он умывался, становился под иконы, тоненьким голоском бормотал «Отче наш». Все это когда-то велели проделывать и Фиме, но только до четвертого класса. В четвертом она сказала — нет. Один галстук ее мать сожгла, другой спрятала невесть куда. Поколачивала, не давала есть, рвала библиотечные книги. Фима скрывала это в школе. Стыдно было такое говорить о матери.
Третий галстук — на покупку его дал деньги Артамон — мать не тронула.
Многое изменилось в ее жизни. Даже смешно было, что когда-то, маленькой, ей нравилось ходить с матерью в церковь, торжественную и высокую, всю в позолоте таинственных икон, в разноцветных стекляшках окон, нравилось слушать церковный хор, прерываемый иногда голосом священника. Даже сам запах церковных свечек, мигание языков огня, подпевание женщин в белых платочках— почему-то все в их церкви ходят
588
в белых платочках, и у нее такой был, только маленький,— во всем этом было что-то загадочное и странное.
«Все от бога,— говорила мать.—Хочешь быть счастливой — молись; хочешь хорошо учиться — молись; хочешь, чтоб отец поймал много рыбы и хорошо заработал,—молись...»
И Фима молилась. В церковь она ходила, как в кино.
Комнатка Артамона освободилась, но не стало в отцовском доме просторней и светлей. Несколько икон, которые брат вынес из своей комнаты, вернулись на свои привычные места. Вначале Фима думала, что только мать такая упорная, что с отцом легче договориться. Ничуть не бывало. Разве что отец был сдержанней и принимал спор. Узнав в школе, что Гагарин на своем «Востоке» впервые взлетел в космос, Фима ворвалась домой:
— Отец, слыхал? Где ж он, твой бог? Если б Гагарин увидел его — сказал бы.
Отец, расчесывавший у зеркала бороду, холодно посмотрел на нее:
— А он ж не хотел ему показываться. Велика честь.
— За тучку спрятался? Или куда еще?
— Спаситель нам не докладывает. Его дело.
— А чего же он пустил туда космонавта? Он ведь всемогущ. Мог бы и не пускать.
— Знать, такая его воля. Захотел — и пустил.
— Как же мог он это захотеть, если Гагарин своим полетом доказал, что в природе все не так, как пишет Библия?
— Не нам знать. Иди-ка лучше помоги матери грядки вскопать. Больше пользы будет, чем насмехаться над родителями.
— Ох и жалко мне тебя, отец!
— Ну иди-иди, некогда мне с тобой... Много тут вас развелось. На разные лекции тащут... Деды что, глупые были?
— Не глупые, а темные! — запальчиво вставила Фима.
— Я тоже, может, у тебя темный?
— Конечно же, самый что ни на есть темный!..
Отец резко повернул к ней лицо:
— Проваливай отсюдова... Ну? Чтоб дети в старое время такое отмочили родителю своему... Вон!
589
Хоть не дрался. Вот так и жили они. Даже. Локтя и тот плохо слушался Фиму. Бубнил молитвы и, нарядненький, причесанный, прилизанный, ходил с матерью в церковь.
— Дурачок,— говорила ему Фима,— где он, твой бог? Помог ли он тебе хоть раз?
Локтя хлопал глазами и пожимал плечиками.
— Мама говорит, что да. Если б не господь, у меня бы скарлатина не прошла: мама все молилась за меня.
— Врачи тебя спасли, а не ее молитвы.
— Не знаю, может быть... Лысый сказывал, что видел на кладях черта, сидел и жрал Пахомову корову, а хвост с кисточкой в ерик свисал...
— А ты и уши распустил?
— Да,— серьезно отвечал Локтя,— наверное, бога нет... Не буду больше верить.
А через день бабка кричала:
— Локтя, чисть ботинки. В церкву!
И Локтя бросал недовырезанный кинжал, чистил ботинки и чинно шагал с высокой, негнущейся, как весло, старухой в церковь...
Визг, вопли, плеск воды отвлекли Фиму от мыслей. На широком водном пространстве, там, где сходилось несколько ериков, образовав что-то похожее на пруд, развернулся морской бой, а точнее — корытный. Десятка два малышей на металлических корытах носились по пруду и с воплями брызгались водой.
Острая зависть кольнула Фиму. Давно .ли сама участвовала в таких вот боях! Утащит потихоньку у матери корыто, спустит с кладей, сядет в него и, работая, как веслами, двумя фанерками, понесется по знакомым ерикам...
Что делать! Лодку у взрослых не выклянчишь, с собой на рыбалку берут редко — не до игр взрослым: надо рыбу ловить, чтоб домой вернуться не с пустыми руками. А желание поплавать в какой-нибудь посудине у рыбацких детей велико...
Был среди ребят и Локтя. Он важно сидел в огромном — и Фима здорово плавала в нем! — оцинкованном корыте и, отчаянно работая руками, брызгался, лил воду, как водомет, в корыто рыжеватого Толяна. Конечно, Локтя сидел не в каком-то там
корыте, а в новейшем, оснащенном ракетами с ядерными боеголовками судне!
Судно Толяна быстро наполнялось водой, но его брат — Костик, сидевший в том же корыте за братниной спиной,— усиленно выливал воду ладонями, сложенными в черпачок. Рядом с Локтей, борт о борт, отважно сражались кривоногий Саха и Лысый. Один Толян почему-то воевал не на их стороне.
В неразберихе и горячке боя невозможно было понять, кто против кого воюет.
Локтя сражался отчаянно; крестик на его шее взлетал на тесемке, болтался из стороны в сторону. Чтоб крестик не мешал, не кололся, Локтя откинул его назад, и теперь он прыгал на лопатках. Чтоб он не потерялся и его нельзя было снять, мать хитро завязала тесьму вокруг шеи.
Увидев, что корабль брата потихоньку наполняется водой, Фима крикнула:
— А воду кто будет черпать за тебя? Дуралей!
И ушла. Ей было не до боя. Хорошо бы сходить сейчас к Маряне и рассказать обо всем. Она поймет. Недаром старшая пионервожатая как-то сказала ей: «Ты, Марянка, сама еще не выросла из галстука, и тебе он очень идет». Лучше не скажешь. Второй год она у них в отряде, а все и забыли прежнюю— Нюську, десятиклассницу, плосколицую и скучную: даже бегать по-настоящему не умела или считала это ниже своего достоинства. Даже кричать и смеяться не научилась за свои семнадцать лет! Голос у нее какой-то однотонный: бу-бу. Как заладит на одной ноте, так даже про Курчатова слушать не хочется! И все были как-то сами по себе.
А с Маряной все по-другому: бегать — даже Аверька ее не перегонит; хохотать — в этом она тоже мастер; станет рассказывать об Америке — словно сама выходила на демонстрации с неграми. Впрочем, не очень-то любила Маряна сидеть в классе и рассказывать о чем-либо: таскала ребят на сейнеры, в холодильник рыбозавода, где даже в тридцатиградусную жару, как на Новой Земле, ниже сорока; даже на рыбопункт в Широкое возила — добилась специальной фелюги для ребят.
Она и летом успевала кое-что сделать. А ведь времени-то у неё в обрез: на патрулирование и то не смогла выбраться...
591
Пойти бы к ней. Да она на рыбозаводе. Там у нее работы будь здоров: то и дело приезжают суденышко «Байкал» да фелюги с рыбой.
Не до Фимы ей сейчас. Да и неловко жаловаться на Аверю — еще подумает чего... Нет, с ней можно поговорить просто так, и не о нем, а просто обо всем, вспомнить про Одессу, куда они должны поехать всем отрядом в начале сентября... Ох, как хочется Фиме побывать на Потемкинской лестнице и особенно в порту! Говорят, там порт громадный и пришвартовываются у стенки суда из всех стран мира. Скоро туда придет «Слава» — матка китобойной флотилии, промышляющей у ледяной Антарктиды китов. Побывать бы на ней!
Фима и не заметила, как добрела до дома.
— Корыто не брала? — закричала на Фиму мать, выскакивая из калитки.
— Зачем мне твое корыто!
— Может, Локтя стащил?
— У него и спрашивай.
— Не видала его?
— Больше у меня нет дела, как за ним следить! — фыркнула Фима.
Мать в сердцах хлопнула калиткой и пошла к дому,— как только работать не позвала? Фиме не захотелось идти к себе, и она решила погулять по соседним улицам-ерикам.
Долго гулять не пришлось. По доскам застучали чьи-то твердые босые пятки, и ее дернул за платье Саха. Лицо у него было мокрое, замурзанное и очень бледное.
— Фи... Фи... Там... там... Лок... Лок...
Что-то толкнуло ее изнутри.
— Что случилось? — Она схватила за плечи и затормошила Саху.— С Локтей?
— Д-да-а...—- выдавил Саха.
— Что же, что? — Ее уже всю трясло.
— У-у-у-у...
— Что «у-у-у-у»? — передразнила она его.— Ты паровоз или человек?
— У-у-топ! — наконец выговорил Саха, и стала видна брешь выбитого в драке зуба.
592
— Где? — закричала Фима.
Саха помчался по кладям, она — за ним.
Бежали целую вечность. Саха остановился у глубокого ерика, в котором уже не стрелялись водой «боевые корабли», а уныло покачивались обыкновенные корыта. Большинство команд покинули свои «суда» и, дрожа от холода и испуга, жались на мостках.
Двое ребят постарше ныряли в ерике.
Фима скинула платье, бросилась с мостков и стала носиться у самого дна, прочесывая ерик. Он был широк, этот ерик, но для нее, привыкшей к Дунайцу и даже Дунаю, он казался не больше лужи.
Ее руки лихорадочно обшаривали вязкое, холодное дно.
Вот она нащупала Локтю, схватила за куртку и тотчас вынырнула.
— Подержите! — крикнула она, держась за край клади и подтягивая к ребятам брата.
Ребята, стоявшие вверху, с плачем и криками бросились наутек. Мальчишки постарше, искавшие Локтю, подплыли, поддержали его. Фима вылезла на доски, подняла Локтю — он слабо зашевелился—и стала делать искусственное дыхание: подымать и опускать его руки.
Изо рта Локти полилась вода, его стало рвать чем-то зеленым, и скоро, бледный, вялый, он уже сидел па досках, прислонившись к плетню. Когда он совсем отошел и кровь потихоньку стала приливать к лицу, он вспомнил все, что было, дико испугался и заплакал.
— А корыто где? — сердито спросила Фима.
— Оно вон там затонуло.— Черноволосый паренек показал рукой.
Фима нырнула, быстро нашарила корыто и за веревку с помощью ребят вытащила на клади.
— Ох и попадет тебе от мамки! — крикнула Фима.— Корыто ей надо.
Локтя нервно теребил на шее петлю от крестика. Потом посерьезнел, сморщился, по груди побежали слезы, и его прорвало, да так, что, наверное, за плавнями, в степи было слышно.
— Замолкни ты у меня, а то как дам сейчас! — закричала
20 Библиотека пионера, т. 12
593
Фима.— Как тонуть, так ничего — не ревешь, а как домой идти, так...
Она взяла за край корыто и потащила по кладям. Локтя, утирая слезы и все еще всхлипывая и размазывая грязь на щеках, плелся сзади.
Вдруг Фима остановилась, столкнула корыто на воду, опустилась в него, силой втянула Локтю, посадила у себя меж коленями, загребла ладонями и двинулась к улице Нахимова.
Перед ее лицом было худенькое, в гусиной коже, тельце брата с крестиком меж лопаток, и ей вдруг стало остро жаль его: растет один, с малышами, все его братья и сестры слишком оторвались от него по возрасту, и, в сущности, им нет до него дела. Ох, Локтя, Локтя!
Фима мчалась, кое-где вспугивая удивленных гусей, которые считали себя полноправными хозяевами ериков, сутками плавали и ныряли тут, показывая небу свои хвостики й пожирая насекомых и водяную траву. В одном месте ребят облаял пегий ушастый щенок, лаявший для солидности басом. В третьем месте они едва не завалили мостик, стукнувшись об него с разгона. Ничего, корыто не помялось.
Фима не причалила к свой калитке. Остановилась за углом, помогла Локте вылезти на клади.
— Сразу домой не иди, дай мамке остыть... Что брал корыто — не признавайся. Я его незаметно внесу.
Локтя смотрел на нее восхищенно, был еще более жалким, и Фима подумала: «Какой же он еще неразумный криволапый щенок!»
— А ты как же?
— Как-нибудь...
Чьи-то шаги заскрипели неподалеку, и Фима втиснула себя с корытом под доски. Над головой прошагал дед Акиндин,— на ее волосы посыпалась пыль.
Когда шаги замолкли, Локтя высунулся из-за толстой лозы и дал ей сигнал:
— Можно... Никого.
Фима вылезла наверх, перевалила через заборчик в огород корыто и незаметно потащила его в сарай.
Глава 7
«КАПИТАН СХОДИТ ПОСЛЕДНИМ»
Два дня помогала Фима обмазывать дом. Работников на этот раз было негусто. Груня на рыбоприемном пункте Широкое строила с колхозной бригадой клуб. Отец тоже был на лову. Бабка Никодимовна чуть оправилась и подносила ил.
Локтя выполнял подсобную работу: подавал инструмент и воду, чистил к обеду картошку, бегал за хлебом, сыпал уткам кукурузное зерно; однажды был даже послан торговать семечками и принес рубль сорок пять копеек.
Два дня Фима не выходила в город. Иногда вспоминала об Авере. Верно, все-таки он не так виноват, как ей казалось. Плохо, конечно, что он так быстро сдружился с тем, кого два часа назад обзывал гадом. Ну что ж, взрослые говорят, без недостатков людей не бывает. А то, что он угождал этим туристам и покрикивал на своих — хотел похвастаться властью,— он ведь из таких... К тому же они гости, москвичи, может, скоро уедут... Почему бы не показать им свою щедрость?
На третий день после обеда мать сказала ей:
— Чего не пожалуешься? Притомилась ведь?..
— Ничего,— сказала Фима.
— Вижу я твое «ничего», иди прогуляйся... Лицо у тебя от работы стало плохое, загар начал слазить.
— Могу пойти, мне все равно.—Фима пожала плечами.— А Локтю отпустишь?
Мать сморщила лоб, поглядела на нее, потом перебросила усталый взгляд на сына:
— У тебя что, дружков, окромя него, нету?
— Не хочешь — не отпускай, пойду одна.
— Ну пусть идет, только смотри у меня... Чтоб... Сама понимаешь...
Наверно, мать боялась слишком сильного влияния ее на своего меньшого.
Они умылись, переоделись и вышли.
Три дня не хотела Фима видеть Аверю. Может, поэтому и возилась с такой старательностью с илом. А теперь ничего, те¬
595
перь она не возражала бы, если бы он встретился. Ну, поздоровались бы, может, перекинулись бы словом-другим...
Пройдя последний ерик, вышли к закрытой Рождественской церкви. Локтя чуть отстал и быстренько перекрестился двумя пальцами, по-старообрядчески.
Фима сделала вид, что не заметила. Церковь белела прочным камнем, огромная, массивная. Купола ее улетали вверх, свежевыкрашенные серебристой краской, и по ним соскальзывали лучи послеобеденного солнца. Церковь была ограждена новенькой металлической оградой, над калиткой высился ажурный крест.
И закрытая, церковь излучала тяжелую прохладу и мощь и совсем не собиралась сдаваться.
Увидев новый купол ее, Фима вспомнила прошлогоднюю историю и сказала брату:
— Отремонтировали... Помнишь, как горел купол? Молния угодила в крест.
— Помню.
— Совсем обнаглела молния — Илья-пророк послал в святой крест. Бога не побоялся.
Локтя молчал.
— Дрянь, видно, дела на небе, если по своему же кресту бьют, на котором был распят ихний Христос. Но ты, Локоток, не огорчайся: поставили к кресту громоотвод и весь электрический заряд теперь будет уходить в землю.
— А чего мне бояться?
— А вдруг сожжет? Куда тогда будешь ходить молиться с мамой?
Локтя ничего не отвечал.
— Тогда в другую церковь пойдешь, у нас ведь их две... Тебе повезло.
Локтя обиженно надул губы:
— Я хожу с мамой просто так — водит, ну и хожу. Я маленький и должен слушаться.
— А как же. Особенно если страшно ремня;
В это время они увидели Маряну. Она летела- по тротуару; платье било по коленям и вилось сзади, как волна за пограничным катером.
596
— A-а, Фим, привет! — Она с ходу остановилась.— Эх и Аверька! Маху дал, а?
Фима посерьезнела: может, хочет разыграть?
•— А зачем тот снимал, что не положено? Правильно задержал.
— Ты куда сейчас? — спросила Маряна.
— С братишкой хочу погулять. Три дня месила тесто для новой хибары.
— А...— Маряна о чем-то задумалась. Потом вдруг спросила ее: — Была в кино?
— Некогда. И деньгами батя не сорит.
— Слушай, вчера привезли новую картину. Сходи. Обязательно.
— Что за кино?
— Понравится. Очень даже. В твоем духе. Ну, я побегу. Ведь с работы отпустили: надо Машку посетить, прихворнула что-то. Да еще в магазин забежать — купить что-нибудь ей. А тебе вот,— Маряна протянула Фиме блестящую монету,— полтинник.
— Да что ты, Маряша! Не нужно мне. Что я сама не...
— Бери, и точка... Всего!
И не успела Фима придумать, как лучше возвратить деньги, Марянино красноватое платье уже летело далеко впереди.
— И на меня хватит? — спросил Локтя.
— Если сядешь на первый ряд — хватит. Будем сидеть порознь, хорошо?
— Спрашиваешь еще...
Они подошли к порту: к причальной стенке, укрепленной бревнами, к кучам досок, к громадной пристани и плавучему крану с длиннющей шеей.
Фима любила приходить сюда, по сходням взбегать на пристань, куда ежедневно пристают несколько речных трамваев из города Измаила, до отказа набитых рыбаками и бабками с корзинами, испачканными клубникой (торговали в районном городе, где цены дороже), служащими и просто любопытным людом... Три раза в день подлетала к пристани «Ракета» па подводных крыльях и тоже высаживала людей.
Когда-нибудь, наверно, не будет тихоходных судов, все бу¬
597
дут летать, как «Ракета»: в эпоху космических полётов нельзя по-черепашьи ползать по морям-океанам. Фима обязательно станет к пульту управления одного из таких вот судов, и они в три часа долетят до Каира, а в полдня —до Нью-Йорка.
На рейде покачивались на якорях три самоходные баржи: их перегоняли из Чехословакии в наши порты. С барж доносилась музыка. Они были новенькие, блестящие, белоснежные, и старое слово «баржа» — что-то закопченное, черное, неуклюжее — никак не подходило к ним. Это были корабли с двигателем, рубкой и каютами для команды, но три четверти выдвинутого вперед корпуса предназначалось для грузов.
Сирена прорезала тишину дня.
— «Ракета»! — Локтя бросился к пристани.
Прочертив дугу, острогрудое, как космический снаряд, летящее над волнами судно снизило скорость, чуть опустилось и легко подкатило к пристани.
Фима побежала за Локтей: всегда жгуче интересно посмотреть, кто новый приехал сегодня. Фима взбежала на пристань и замерла.
У трапа, уже перекинутого на борт «Ракеты», стояли Аверя и Лев. Они пристально смотрели вперед, кого-то дожидаясь. Цепочкой, по одному, поднимались пассажиры из люка и ступали на трап.
Вот вышли два пограничника,— лица у Авери и Льва7 серьезны; вот появился толстобрюхий парикмахер Леон,— они слабо кивнули ему; вот вышел директор школы Дмитрий Алексеевич с сыном Петькой,— вежливо поздоровались с ним; йот вынырнул поп, отец Василий, рослый, в шапочке, с волосами, заплетенными косичкой, и в длинной дорогой рясе...
— Здравствуйте, отец Василий,— смущенно пролепетал Аверя,— с вами желает познакомиться мой товарищ, он из Москвы и очень хотел бы...
Тут вперед вышел Лев, учтиво улыбнулся и как-то быстро и весело заговорил с попом.
Фима не слышала, о чем: она сразу отпрянула. Хотела найти Локтю, но так и не нашла — затерялась в толпе; сбежала по
598
трапу и остановилась у горы порожних ящиков из-под консервов.
Лев с попом, оба высокие и заметные, прошли вперед. За ними, точно лишний и ненужный, проследовал Аверя. По случаю прогулки он принарядился: на серую рубаху надел отглаженный, только в двух местах штопанный чешский пиджачок, свои неизменные полуботинки до блеска начистил. И вся эта парадность так не вязалась с опущенной головой, с неуверенной, вялой, совсем не аверинской, искусственно замедленной походкой,— он не решался обогнать их, но и не был уверен, что их можно оставить вдвоем, потихоньку отстать и уйти куда- нибудь.
Когда приезжие прошли вперед, Фима вышла из-за укрытия. Ее мучил вопрос, о чем говорит Лев с попом. Она тут же вспомнила, что Лев не раз в ее присутствии заговаривал о религии, о церквах. Зачем ему понадобился поп?
Приехать из такого города, как Москва, в котором она мечтала побывать хоть часок, и в их захолустье интересоваться самым неинтересным, что только может быть на свете, от чего пе первый уже год спасается она бегством и никак не может спастись? Это было выше ее понимания.
Попутно она вспомнила другого попа — отца Игнатия. Тот был полной противоположностью этому. Этот был франтоват и величествен; тот, решивший столкнуть этого, в быту мало чем отличался от простого рыбака («Работал под рыбака»,— как сказал однажды Дмитрий Алексеевич), ходил по улицам во внеслужебное время в тапках на босу ногу; старенькая ряса скорей напоминала халат рабочего на рыбоприемном пункте, да и лицо у него было не надменно-холеное, значительное, а простецкое: нос картошкой, щеки подушечками — они немного перекосились и нарушили симметрию — и глаза глядели доверительно, даже грустно... И вот он, такой простоватый и неблестящий, такой будничный поп, переборол, пересилил, перехитрил этого, который так величественно шел сейчас и благосклонно слушал Льва, и сам говорил что-то мягко и вкрадчиво, как и пристало служителю культа, и лицо у него было упитанное, почти без морщинок, хотя в заплетенных в косицу волосах было немало седины.
599
— Ах, вот ты где, а я тебя ищу! — Локтя схватил ее за руку.— В кино пойдем, да?
Он сильно потянул ее за руку, лопоча о каких-то тральщиках и ракетоносцах, и, конечно, наткнулся на Аверю.
Тот заметил Фиму и протянул ей руку:
— Все злишься?
Фима давно простила et,iy многое, но, как только задал он этот вопрос, нахмурилась, надулась, точно и вправду еще сердилась.
— Не надо,— сказал он,— мало ли что могу я брякнуть... Фима помолчала и пошла вперед, стараясь не смотреть на
него. Ей всегда хотелось дружить с ним, бегать купаться па Дунай и играть в нырки, хотя это было и страшновато. И никогда не ссориться. И сейчас вот Локтя помог встретиться им. Точно и не было ссоры. Странно, но именно сейчас их дружба казалась ей, как никогда, крепкой и доброй^.
600
На старом тополе Фима увидела вдруг рекламный плакат. На фоне бушующего моря написано зигзагами молний: «Капитан сходит последним». А рядом — силуэт военного корабля и темный профиль моряка.
Про эту картину, верно, говорила Маряна.
— Сходим,— сказала Фима, не глядя на Аверю.
— Рад бы, но*..— Тут Аверя похлопал себя по карманам и пропел: — «Штаны без звона у меня».
— А у меня вот.— Фима показала полтинник.— Тоже не мои, Маряна дала.
— Так нам хватит, возьмем самые дешевые! — обрадовался Аверя.
— А этот человек? — Она кивнула на неровно, волнами стриженную голову Локти.— Обещала...
— Подумаешь! Поручи это дело мне.
Аверя тут же взял монету, отвел малыша в сторону и заговорил о чем-то. Потом подошел к киоску, где продавали мороженое, пристроился к очереди. Мороженое в ПГаранове продавали редко, и, по отзывам тех, кто ел его в Одессе, в Киеве и особенно в Москве* было оно отвратительное, с кристалликами льда, пахнущее кислым молоком.
Ни Фима, ни Локтя проверить этого не могли, и оно им казалось великолепным.
Аверя примазался к знакомому рыбаку у окошечка и получил вафельный стаканчик. Торжественно вручил его Локте, снова что-то тихо сказал ему, и тот, улыбаясь во все лицо, отошел и принялся деятельно слизывать мороженое, криво наложенное в стаканчик. Так же без очереди Аверя купил билегы в кино, и они пошли в зал. Здание кинотеатра было новое, большое — одно из красивейших зданий в Шарапове — и было построено все из того же ила.
Кинотеатр работал без контролера. Они опустили в стеклянный ящичек билеты, разыскали: в полутьме свои места, и скоро началась картина. На вспыхнувшем экране появился эсминец. Матросы отрабатывали учебные задачи, стреляли по щитам в море, отбивали учебные воздушные налеты. Один усатый весельчак ловко накладывал пластырь в трюме судна на «пробоину» от «торпедировавшей» его «вражеской» подводной
601
лодки. На усатого со всех сторон лилось, а он, по пояс в воде, не растерялся, отдавал команды и подтрунивал над перепуганным безусым новичком.
А потом была настоящая война, и бомбы, пачками летящие на наши города из бомболюков немецких «юнкерсов», и осада Одессы, и боевые выходы в море, и потопление этим эсминцем двух вражьих подводных лодок и нескольких транспортов с войсками...
С экрана в зал плыл дым, летели крики умирающих и стоны раненых; в лица Фимы и Авери долетали соленые брызги от взрывов снарядов...
Но счастье изменило эсминцу: нашла его в открытом море торпеда. Эсминец стал заваливаться набок, тонуть, окутанный дымом и пламенем. Самые нервные сразу же попрыгали 3V борт; более выдержанные стали выполнять приказы командира и спускать шлюпки и спасательные плотики...
Капитан ходил по судну, отдавал приказы.
Усатого весельчака он чуть не пристрелил из пистолета, потому что тот стал вырывать спасжилет из рук контуженного матроса. Старший помощник, легко раненный осколком дерева в руку, потерял речь и, словно парализованный, смотрел на все вокруг.
Капитан распорядился, чтобы с партией раненых помощника опустили на одну из последних шлюпок. В артпогребе взорвались снаряды, и на тонущем судне началась паника. Капитан приказал последним оставшимся на борту проверить все помещения: не остались ли где раненые. И выяснилось — остались. В одной из кают от взрыва заклинило дверь.
Эсминец все глубже оседал и погружался, объятый пламенем, а матросы взломали дверь и вынесли раненых на шлюпку. Потом капитан велел последней горстке самых храбрых и верных покинуть судно.
«А вы, товарищ командир? — крикнул в грохоте и пламени один из матросов.— Пять минут — и судно взорвется. Воронкой засосет — не выплывете...»
«Выполняйте приказ!» — крикнул капитан.
Шлюпка отплыла. Он остался на судне. Он еще раз обошел все, что можно было обойти, проверил каждую каюту, камбуз,
602
мостик и уже с почти затонувшего судна сошел на последний спасательный плотик...
Сверху смотрели звезды, когда Фима с Аверей возвращались из кино. Фонарей на ериках не было, им светили редкие огоньки окон. Чтобы не свалиться с кладей, шли, касаясь рукой заборчиков.
После этой картины ни о чем не хотелось говорить. Все казалось мелким и несерьезным. С надсадом скрежетали лягушки, ухала какая-то птица, и где-то на Дунае оглушительно трещал лодочный мотор...
— Слушай,— сказал Аверя, когда они подошли к ее дому,— дай, пожалуйста, для ребят одну икону. У вас ведь их так много. Никак не могут найти хорошую. Все печенки проел мне Лев. Просто помешался на них. Привел я его домой в тот день, как вернулись с рыбалки, принес порубанные Федотом... И что ты думаешь? Чуть не плакал над ними: «Такие вещи погубил!..» Складывал на траве по дощечкам и палочкам, как малый — кубики. Сложил две иконы, взял с собой: склеивать будет...
— Хорошо, я принесу.
— Да какую постарей, не очень заметную, чтоб родители не хватились.
— Хорошо. Ту, что в моей комнате. Георгий-победоносец на скаку пронзает копьем змия. Небольшая она.
— Давай. Только потише.
— Ничего, я одна. Груня — на Широком.
Фима исчезла в потемках и явилась не скоро — минут через десять: все приходилось делать в потемках. За стенкой похрапывала мать с бабкой. Когда она снимала со стены тяжелую доску, внутри тревожно заныло, засвербило. Но отступать было поздно. Прижав к груди икону, выскользнула из дому и передала через забор Авере. Тот приблизил к ней лицо, разглядывая изображение.
— Чушь какая-то,— сказал он.— Не знаю, понравится ли ему. Ребенок может так нарисовать. Но что старая—так это точно. Словом, ничего.
Фима стояла у заборчика и молчала.
603
— Ну, до завтраго... Ты как-нибудь сдвинь остальные иконы, чтоб не так было заметно, чтоб голого места не оставалось на стене... Ну, пока.
— Спокойной ночи.
Фима пошла к дому, а в глазах ее все еще клокотали волны, заваливался на нос эсминец и спрыгивал на последний плотик капитан — человек, который по морскому закону должен сходить со своего корабля последним.
604
Глава 8
ГЕОРГИЙ-ПОБЕДОНОСЕЦ
-На всякий случай Аверя спрятал икону под пиджак и прижал локтем к боку. Хорошо бы отнести ее сейчас Льву. Да поздно. Наверно, уже спят. И тащиться к Дунаю в темноте не очень-то приятно: не раз за свою жизнь падал Аверя в ерики, а сейчас он в лучшей одежде да еще с иконой.
Он пошел домой.
Засыпалось плохо. Все думал: понравится ль икона Льву. На взгляд Авери, она никудышная, но у этого странного парня свои вкусы. По его просьбе Аверя исходил с ним немало рыбацких домиков — домики тех, у кого были или должны быть, по Авериным предположениям, иконы. Происходило это чаще всего так. Они заходили в один из «Буфетов». Лев заказывал два стакана местного сухого вина. Они стояли, облокотившись об огромную бочку, и потихоньку попивали. Народу тут обычно битком. На днищах порожних бочек резали для закуски селедку, потягивали из стаканов и вели бесконечный пьяноватый разговор обо всем на свете. Но разговор все время соскальзывал на путину, на сейнеры и погоду.
Почти всех знал здесь Аверя. Завязывалась беседа. Лев тут же предлагал стакан вина и через час как самый лучший друг помогал какому-нибудь старику добраться до жилья и, приглашенный на чай или пообещав сфотографировать семью, входил в дом как гость.
Две иконы ему подарили, три — продали, но, отзываясь о них, Лев брезгливо морщился:
— Ерунда, конец восемнадцатого.
Аверя про себя вычислял: ого, конец восемнадцатого века — это, значит, тысяча семьсот какой-то год... Какая старь! Тогда, пожалуй, и Шаранова-то не было. А для него это плохо...
Или вот еще что странно: когда Льву попадались отлично и четко выписанные иконы, сверкавшие краской,— ну совсем из магазина! — он еще больше кривился, точно ел клюкву.
— Безвкусица какая! Кисть в руках не умел держать, богомаз проклятый! Беру только для обмена, а то бы и не повез: груз лишний...
605
Не успел Аверя утром и глаза открыть, как вспомнил об иконе, спрятанной под матрасом. Когда в комнате никого не было, вытащил ее, стал рассматривать и совсем разочаровался. То, что она была старая в смысле века написания, может устроить Льва. Но ведь краска-то на ней местами сильно пожухла, кое-где были темные пятна и копоть. Вряд ли ее очистишь когда-нибудь.
Едва дождавшись завтрака, Аверя поел, спрятал под пиджак икону и помчался к Дунаю.
Все были в сборе, пили чай, шутили о том-сем.
— Принес? — спросил Лев.
— Да вот припер кое-что,— на всякий случай небрежно сказал Аверя, вытащил из-под пиджака тяжелую доску и протянул Льву.
Лев глянул на нее, и руки у него задрожали. В первый миг он задохнулся и не мог ничего сказать. Потом взял икону прыгающими пальцами, подробно осмотрел всю, ощупал своими цепкими глазами тыльную сторону ее, сухую, массивную, потемневшую от времени,— слабо выгнутую доску с широкими клиньями, чтоб не рассохлась, не треснула,-— и выдохнул:
— Ух! — Потом более членораздельно добавил: — Вот это да! И в Третьяковке такой нет!
— А что, там иконы есть? — удивился Аверя.
— Разумеется. Экспозиция начинается с отдела икон, несколько залов. И вообще я должен тебе сказать: всякое искусство начинается с икон, а я считаю так: и кончается. Ничего лучше не создали еще люди.
Аверя прямо-таки присел.
— А Шишкин? — сказал он.— А «Запорожцы» Репина?.. У него еще есть «Бурлаки». Мы в школе...
— Дорогой мой! — вскрикнул Лев.— Иконы — это все!
— Ну, ты уж чересчур так,— проговорил Аркадий, брившийся у круглого зеркальца на складном столике.— Ты просто немного больной человек...
— А Матисс — он тоже больной? Ты не знаешь, наверно, такого факта, а я знаю: до революции он приезжал в Москву и посетил галерею Третьякова. Он спокойно обходил зал за
606
залом, у некоторых картин немного задерживался, но очень ненамного — все это он уже знал и видел, хотя ни разу не был в России. Но как только подвели его к иконам, остановился, замер, застыл! Вот... А ты?
— А кто такой Масисс? — робко подал голос Аверя.
— Матисс — надо говорить. Кто он? Величайший французский художник-декоративист, ярчайший и оригинальнейший. Он первый понял всю радость открытого цвета — красного, синего, зеленого... Надо знать таких, хамингваи вы, хамингваи!..
— А-а-а...— протянул Аверя, ровным счетом ничего не понимая.
— А иконы тут при чем? — Аркадий провел помазком по верхней, подпертой языком губе.
— Если б не они, может, не было бы и Матисса... Монументальность, обобщенность — ни одной мелкой, дробящей впечатление детали, лаконизм и простота...
— Модные словечки!
— И все это он взял у икон, и в особенности — у русских икон!.. Ах, какой ты мне сделал подарок, Аверя, век не забуду! Будешь в Москве, обязательно заезжай ко мне. Даже можешь остановиться у меня. Приму... Ах, какая штука! Пожалуй, лучшая из моего собрания, а у меня за двадцать пять перевалило, и всё только старые...
Авере прямо неловко было, что он доставил столько радости этому бурному человеку с горящими глазами.
— Может, у нее еще такие есть? Да, конечно, наверно есть... Ведь она сняла первую попавшуюся.
— Да, — подтвердил Аверя, чувствуя, к чему клонит Лев.
— Слушай, а если я подарю тебе ласты и трубку, ты не сможешь попробовать еще?
— Трудно,—вздохнул Аверя.—Не знаю еще, как с этой кончится. У нее старики лютые и верят в бога люто. Мой-то батя тоже немного верит, да как-то весело и не молится, а они лютые!..
— А может, обойдется? Я б, пожалуй, и с маской расстался. Тебе она нужней... Хочешь маску?
— Зачем вы это говорите? —У Авери заколотилось сердце: ах, как хотелось ему получить все это насовсем!
607
— На, забирай. Для хорошего человека ничего не жалко. — Лев протянул ему маску — продолговатое стекло, обтянутое резиной,— маску, какой не было ни у кого в Шаранове.
Она очутилась в Авериных руках. Он совсем не хотел брать ее, потому что знал, как трудно будет просить Фиму снять со стены еще одну икону, но маска каким-то образом очутилась в его руке. Он не брал ее — просто свел вместе пальцы — и вдруг почувствовал ее прохладную тяжесть.
— И ласты получишь. Притащи две, и постарее... У них ведь много... Обойдется.
Аверя весь пылал. Он становился единовластным владельцем такого богатства!
— Не удастся — что ж, придется вернуть,— сказал Лев.
Аверя все понимал.
Лев опять взял в руки икону, зачем-то подул на нее, нежно прикоснулся тыльной стороной ладони.
— Георгий... Как выразительно, сколько экспрессии в повороте тела, в руке! А какое благородство в тонах! Вроде приглушен главный цвет, но он орет, орет!
Аверя смотрел на него и растерянно улыбался.
— Попробую,— проговорил он.
— Слушай,— сказал вдруг Аркадий,— прошу тебя: оставь Аверю в покое. Неужели мало всего того, что он тебе сделал? Ты просто жаден, а жадность до добра не доводит.— Голос Аркадия звучал жестко и холодно.— Думал, сам поймешь, и не хотел тебе это говорить, а приходится. Ты собираешь эти иконы только потому, что это модно, только потому, что у тенора вашего концертно-гастрольного объединения Гришаева их двадцать семь штук, а у куплетиста Катькина — тридцать одна. Тебе приятно поразить ими гостей, подчеркнуть, что ты не отстаешь от времени и понимаешь толк в настоящем искусстве, а на самом деле ты...— Аркадий начал сердиться.
Лев покраснел, надулся, и Аверя поспешил из палатки.
Маску и трубку на всякий случай он спрятал под полу пиджака. Аверя шел по улице Железнякова и думал, как бы лучше подъехать к Фиме, и ничего не мог придумать.
Оп даже не слышал, как с мчавшегося сзади грузовика
608
кто-то кричал ему. И уже когда грузовик почти поравнялся с ним, Аверя очнулся.
— Ну, поехали? — крикнул ему Саша, и пес Выстрел подтвердил лаем, что не прочь снова схватить его клыками, если будет глупить.
— Не,— закачал головой Аверя,— сегодня мне недосуг.
— А то садись, вне конкуренции будешь... Поработать с собачкой надо.
«Видно, на границе ей маловато работы,— подумал Аверя,— тренируют, чтобы по следу идти не разучилась».
— Ну смотри.— Саша кивнул ему с машины, а Выстрел отрывисто тявкнул на прощание.
Аверина голова была занята другим. Даже Алка, которую он повстречал на Центральной улице у детской библиотеки, мало заинтересовала его. А вообще-то он любил говорить с этой звонкой красивой девочкой. Купаться с ней не пойдешь — с тоски подохнешь, в нырки играть она не умеет: увидит плывущего по Дунаю ужа и орет как резаная.
Зато беседовать с ней бывает приятно. Особенно слушать ее. Чего только не знает она! И когда в обувной магазин привезут синтетические сандалеты по четыре рубля, и у кого сейчас на руках библиотечная книга про диверсантов «Это было на Дунае», и почему отец Коськи Заречного ушел из семьи и поселился в доме номер семнадцать, где надпись «Злая собака» и в подтверждение нарисована страшная пасть с торчащими кривыми клыками, и...
Все знала она, буквально все, что творилось в Шарапове.
— Ты куда так торопишься, Аверчик? — остановила она его.— Давай походим.
— Зачем? — спросил Аверя.
— Поговорить хочется. Давно не видала тебя.
— Как-нибудь в другой раз.
— Слушай, а ты знаешь, что...
Целый час пробродил он с Алкой, и у нее ни на минуту не закрывался рот. Потом, когда все главные новости были выговорены и ничего интересного нельзя было ждать, Аверя отделался от Алки, сославшись на то, что отец велел прийти сегодня пораньше. А сам полетел'к Фиме.
609
Как вот только лучше подъехать к ней, как объяснить, чтоб правильно поняла: совсем не из корысти хочет он раздобыть эти иконы — все ребята будут нырять и плавать с этими ластами и маской. Можно даже через Маряну организовать секцию подводных охотников...
Спрятав под лопухом своего огородика то, что дал ему Лев, Аверя зашагал к домику Фимы.
Он шел по кладям, подыскивая слова помягче и поубедительнее, и вдруг услышал крик.
Кричала Фимина мать. Крик был хриплый, надрывный и какой-то слепой. Какой-то яростный и дикий был этот крик. И вслед за ним — плач. Ее, Фимин, плач.
— Убить тебя после этого мало! Убить!
Следовали громкие удары кулака, а может, и палки обо что-то мягкое, живое, и слышался плач. Он то прерывался, то возникал. Это был плач взахлеб, горький и тяжелый. Фима что-то кричала сквозь слезы, что-то твердила. Но удары заглушали и прерывали эти слова и плач.
Аверя ринулся обратно. Он бежал по кладям к Дунаю, бежал и только сейчас начинал понимать, что наделал. Он бежал к мосту через Дунаец, бежал к воротам рыбозавода.
Старичок вахтер, сидевший на ящике из-под рыбы, знал Аверю и пропустил. Аверя пробежал вдоль коптильни, мимо грязноватой горы крупной соли. Пересек путь автокара, перевозившего из цеха в цех рыбу, и подбежал к причалу, что у посолочного цеха.
Здесь под навесом орудовали три работницы — принимали с фелюг и взвешивали рыбу. Маряна в жестком фартуке на черном халатике и резиновых сапогах поливала из шланга огромных, только что выпотрошенных белуг, лёЖавших на тележке.
Тугая струя шланга хлестала по спинам и мордам, раздвигала створки вспоротых животов и вымывала кровь.
Аверя схватил Маряну за рукав и громко зашептал:
— Маряша, идем... Фимку убивают...
Маряна направила струю шланга в пол, и струя остервенело забила по резиновым сапогам подруг.
— Мамка ее... Совсем озверела... Кабы успеть...
610
Маряна сняла фартук, развязала сзади тесемки халата.
— Девки,— сказала она,— мне тут отлучиться надо на часок. Если будут спрашивать, наплетите чего-нибудь.
— Опять твои пионеры? — Толсторукая рыжая Кланя покосилась на Аверю и затараторила: — Ох, Маряща, дивлюсь, я тебе. Или делов других нету? Таких парней отшиваешь! Ну чем плох Сашка? А этот инженер из лаборатории... Остаться тебе вековухой...
— Слыхали, что просила?
Из дежурки посолцеха выпгел толстый мастер Дубов:
— Маряна, ты нам нужна... На подходе «Байкал». На нем две белуги икряные, килограмм по полтораста, надо обработать.
— Иван Сидорович,— сказала Маряна,— через час приду... Вон Маруська не хуже меня примет. Она...
-г- Я не хочу, чтоб Маруська. Опять не как зернистая пойдет, а как паюсная...
— Иван Сидорович, не заставляйте меня...
— Если уйдешь...
Маряна швырнула халат на тачку, закинула руки, поправляя волосы, и туго обтягивающее ее штопаное платьишко угрожающе затрещало.
— Уже ухожу.
И пошла через двор завода, пошла быстро и решительно, а за ней, едва поспевая, припустился Аверя. Он бежал рядом и, задыхаясь, рассказывал все, что слышал в Фимином дворе.
— Ну что они хотят от нее? — словно сама у себя спрашивала Маряна.— Думала, оставили в покое, так нет...
Платочек на ее волосах рвался и хлопал концом, платье отскакивало от коленей — так быстро она шла.
Потом шаги ее замедлились. Вот и ограда Фиминого дома. Вот сам дом.
Маряна остановилась. Из-за ограды доносился плач. Он уже не был прерывистым. Теперь он был ровным .и горьким.
— И за что она ее так? — шепотом спросила у Авери Маряна.
Аверя уткнул в доскц кладей глаза.
611
— Не знаю,— едва выдавил он.
Солнце уже клонилось к закату, было тихо, где-то в соседнем ерике под днищем плывущей лодки хлюпала вода, а они, Маряна и Аверя, стояли у ограды, точно не знали, что делать. Кроме плача, со стороны домика доносились два женских голоса: крепкий, зычный, непримиримый и надтреснутый, скрипуче-старческий.
— Пойдем отсюда,— неожиданно сказала Маряна и повернула назад.
Он схватил ее за руку и не пустил:
— Зачем же я бегал за тобой? Ты должна зайти к ним и поговорить... Она ведь из твоего отряда-то, Фимка...
— Я не знаю, о чем и как с ними говорить,— тихо сказала Маряна.— Да и не- послушают они меня... Напорчу только,— и медленно пошла прочь от домика.
Аверя не стронулся с места. Он остался стоять, где был.
— Маряна,— громко зашептал он,— вернись... Ведь если не ты, так кто ж другой?
Она уходила все дальше.
— Струсила! Забоялась и струсила! — закричал он вслед.— А мы-то, мы-то, дураки, мы считали: тебя...
Маряна, наверно, ничего уже не слыхала, потому что была далеко.
Он стоял, и ему было стыдно. Стыд жег его. Раскаленным докрасна гвоздем входил в его сердце- Ведь он не сказал Маряне, в чем дело, не признался... Какое имел он право кричать ей такое!
Аверя постоял еще немного у ограды, свесив голову, и поплелся домой. Но не успел он сделать и десяти шагов, как все понял и сообразил.
Он знал, что должен делать, чтоб выручить Фиму. Знал. Он во всем виноват, он и расхлебает это дело. Не ожидал же он, что так все обернется...
Сбегав домой, Аверя вынес ласты, подобрал в огороде под лопухом маску с трубкой и быстрым шагом пошел, почти побежал к Дунаю.
Вот и зеленая палатка и красная, девичья, рядом с ней.
— Можно? — Он остановился у завешенной двери.
612
— Заходи,— разрешил заспанный голос Аркадия.— Ты что это все приволок назад?
— Где Лев? — спросил Аверя и сбивчиво продолжал: — Больше не смогу... Фимку избили за эту... Отдайте мне ее.
Лицо у Аркадия стало озабоченным, по лбу побежали морщинки:
— Сколько раз говорил ему: так где там! Ушел он куда-то, кажется, кто-то обещал ему еще несколько икон. Попозже зайди, а это можешь оставить.
— Арк... Дядя Аркадий,— горячо попросил вдруг Аверя,— выдайте мне, пожалуйста, ту, что я принес... Ведь Фимку прибили из-за нее...
— Ах ты, какое дело! — забормотал Аркадий и в досаде замахал руками.— Ну на кой черт совался ты в эту историю, клянчил у Фимки?! Плюнул бы на все это...
— А я не знал. Откуда я знал, что так...
— Ну идем, он их держит в машине.
Аркадий, как был, в трусах, босой, без майки, подрагивая своим полноватым, не сжатым мускулами телом, достал из-под надувного матраса ключик от машины, вышел из палатки. Потом открыл заднюю дверцу «Москвича» и начал греметь досками икон в грубом мешке из-под муки.
— Что на твоей, забыл?
— Всадник там с копьем. В дракона вонзает...— торопливо ответил Аверя и от радостного прилива сил взъерошил на голове волосы. Он уже решил, что икону вернет Фиме не сразу, не сегодня, а дня через два и обязательно выдумает для Фиминой матери какую-нибудь правдоподобную историю насчет ее пропажи...
Аркадий минут пять стукал досками, роясь в мешке, потом вылез из машины, весь потный и красный. Вылез без иконы. Аверя прямо опешил.
— Что? — спросил он.— Не нашли? Дайте я... Я в одну секунду...
Аркадий с силой захлопнул дверцу — как только не погнулась? — щелкнул на ключик и сказал:
— Пусть сам тебе отдает. Позже приходи.—И, не глядя на Аверю, пошел к палатке и, не оборачиваясь, кинул через пле¬
613
чо: — Ну, кто тебя тащил?.. Головы нет на плечах* что ли? Ах ты!..— и скрылся в палатке.
Поздно вечером, когда сумерки окутали Шараново и на Центральной улице зажглись огни, Аверя снова двинулся к лагерю. Проходя возле закрытой церкви, вдруг заметил во дворе на фоне выбеленной стены две темные фигуры и услышал легкий скрип закрывающейся церковной двери.
Аверя, прижавшись к дому, замер.
Фигуры вышли из металлических воротец. Один человек что-то говорил другому, вроде благодарил. Потом обе фигуры пожали руки и разошлись в разные стороны. Одна прошла близко от Авери, и он вдруг понял: отец Василий! А второй... Аверя сразу догадался, кто был второй.
Переждав немного, Аверя пошел за Львом, прячась в глубокой тени домов. Народу на улице почти не было, и идти за ним было опасно: стоило Льву обернуться — заметил бы. Лев нес, прижав к боку, что-то тяжелое, завернутое в материю.
Вспоминая после этот вечер, Аверя сам не 'мог понять, почему не подошел ко Льву, а стал красться за ним; Наверно, потому, что выход двух людей из закрытой церкви, разговор вполголоса в сумерках—все это было как в книгах про шпионов из библиотечки военных приключений, которые он обожал, все это было так таинственно, что он и не мог поступить иначе. Когда Лев скрылся в палатке, Аверя быстро подбежал к ней с той стороны, где не было окошечка, и услышал его голос:
— Ну, старик, и везет же мне! Такой сегодня денек... Gmot- ри, сразу четыре штуки, и совсем, если разобраться, по дешевке... В Москве одна стоит столько, как здесь — все четыре.
— Пошел ты со своими иконами, дай спать! — пробубнил спросонья Аркадий.
И Аверя понял: сейчас самая пора прийти за своим Георгием.
Он отполз в сторонку и громко, преувеличенно громко стуча полуботинками, подошел к палатке и твердо спросил:
— Можно?
614
— Аверя? Тебе чего? — Лев, видно, уже знал о цели его прихода, потому что голос его нельзя было назвать ласковым. Тут же он добавил:— Значит, это ты донес на меня, ты? И молчал?
— Не я! — в пылу, сам не зная, зачем врет, крикнул Аверя.— Кто вам сказал, что я? Не я!
— Сказали... Зачем пожаловал?
Аверя, вспотевший, с горящими ушами, сбивчиво объяснил.
— Завтра утром приходи, не хочу сейчас рыться в машине. Пока...
Аверя, опять громко стуча полуботинками, отошел и притаился в сторонке, не очень далеко от палатки: ах, как помогали ему жить маленькие книжки из военной библиотечки приключений!
Минут десять палатка молчала, потом послышался негромкий голос Льва — он тоже, видно, читал эти книги и говорил так, что ничего нельзя было разобрать. Зато Аркадий проявил полное незнание шпионской литературы, потому что совершенно пренебрегал осторожностью и говорил чуть ли не в полный голос:
. А я думал еще с недельку здесь пожить... И, знаешь, все это мне вконец осточертело! Я приехал сюда отдыхать, а не... (Тут Аверя не разобрал.) Чтоб снова ввязался с тобой в поездку...
Лев опять что-то прошептал, но так, что Аверя и слова не расслышал.
Аверя уходил домой поздней ночью, и от горечи и беспокойства, от каких-то новых и неопределенных, очень трудных и непривычных для него мыслей у него прямо разрывалось сердце. Утром он явился на то же место. Огненно-красной палатки и «Москвича» как не бывало. Однако зеленая палатка, в которой жили парни, осталась. Аверя не знал, что делать, и в нерешительности присел неподалеку.
Вдруг из палатки донеслись женские всхлипывапия и голос Аркадия:
— Да перестань ты, слышишь? Встречу его в Москве — не поздороваюсь.
.615
— Но зачем было так сразу,сказала женщина,— и так грубо, хоть бы слова выбирал, он бы не обиделся так...
— Слова? — с усмешкой произнес Аркадий.— Проймешь такого словами! Он... он и не понимает, что наделал...
— Куда ж мы теперь с палаткой и всем имуществом? На себе потащим?
Аверя слушал, не стронувшись с места.
— Довольно,— сказал Аркадий, и это слово, и все, что он говорил до этого, так не вязалось с ним, с его вялым лицом и рыхловатой фигурой.— Я не знаю, как посмотрю в глаза этому мальчишке, ведь он явится скоро... И почему не отдал ему вчера эту икону...
Дверца палатки шевельнулась. Аверя вскочил и со всех ног бросился с пляжа.
Глава 9 ЧЕТВЕРО В МОРЕ
Фима легла спать не поужинав. Да мать и не поставила ничего на кухонный столик. Легла, не раздеваясь, и лежала, уткнувшись в подушку. Такого еще не было. Фима думала, что родители смирились. А значит, нет. Молчали, терпели до поры до времени, ждали... Чего ждали? А может, просто нервы не выдержали...
Копечпо, дело не только в этой иконе. Фима перебирала в памяти каждый день и час своей жизни в отцовском доме, вспоминала Артамона; перейти бы к нему...
Она лежала неподвижно* вдавив в подушку лицо, и не плакала, даже не всхлипывала. Ее плечи, руки, щеки, бока не горели, не ныли от ударов, хотя кое-где, наверно, остались синяки. Все это было так мелко и ничтожно по сравнению с тем, что надвигалось на нее, захлестывало, как прибой, поднимало вверх на волну, с которой далеко видно.
Фима вдруг впервые поняла совершенно ясно и отчетливо: в этом доме ей больше делать нечего.
Она не знала, спала ли хоть час. Все-таки к утру она, ка¬
616
жется, уснула и немного поспала. Ее разбудил Локтя. Он стоял возле койки, непривычно серьезный, с насупленными бровками, решительными глазами, и шептал:
— Фим, больше так не будет... Не будет...
— Уйди,— сказала Фима. Ей было неприятно, что кто-то хочет посочувствовать ей; но ведь Локтя и не сочувствовал.— Останься,—вернула она его.
Встала, причесалась.
— Я больше не буду здесь жить,— сказала она.— Не хочу.
— А что ж ты будешь делать?
— Поступлю куда-нибудь в техникум. Ведь кончила семилетку.
— Не уходи, Фим,— попросил Локтя,— мне без тебя будет плохо.
Фима посмотрела на него и вздохнула.
Услышала за окнами знакомый говор и выглянула в оконце. За оградой по ерику плыла Маряна со своим отцом.
Отец стоял в колхозной моторке и отталкивался веслом.
Не обращая внимания на мать, копавшуюся в огородике, Фима выскочила на клади и очутилась рядом с лодкой:
— Маряна, куда ты?
Маряна испуганно посмотрела на Фиму, лицо ее напряглось от каких-то мыслей, и тут же все это соскользнуло, и оно стало, как всегда, оживленное:
— За ракушей с батей собрались. Надо под пол подсыпать и возле дома. Не хочешь с нами?
— Очень даже! — Фима готова была броситься и расцеловать Маряну: хоть к черту на кулички убежать бы сейчас от всего этого!
— Бать, остановись.
Отец ее, коренастый курносый бородач в сатиновой косоворотке с расстегнутым воротом, собрал над глазами торчащие во все стороны брови.
— А ракушу куда класть будем?
Возле Фимы появился и Локтя. Он тоже жадно смотрел на лодку.
— И тебя? — спросила Маряна.
— Ошалела .ты, девка! — возмутился Марянин отец.—
617
Тогда сама езжай с энтой компанией, а меня уволь. Выговора из-за них получаешь, дом забываешь — и все мало.
Он сердился, из-под его усов вылетали злые, как оводы, слова. Он хмурил лоб, кривил в гневе щеки, но лицо его сердитей от этого не становилось: уж слишком несолидным, несерьезным делал его короткий, картошкой, курносый нос.
— Хватит,— засмеялась Маряна,— лодка у тебя огромадная, а это что — дети, пустяшный груз, и на ракушу хватит, и еще останется...— И, видно, отлично зная характер отца, крикнула: — Залазьте!
Фима села на ватник Маряниного отца. Локтя устроился на носу, и отец стал молча отпихиваться веслом. Мимо них по кладям проходили жители: кто черпал с приступочек у калиток воду ведром, кто нес из магазина кругляк белого хлеба, прижав его к боку, кто, присев на корточки, мыл в воде старую черепицу.
Со всеми Марянип отец здоровался.
Фима сидела отвернувшись. Не хотелось никого замечать. И все-таки худшее, чего она боялась, случилось. Впереди, на лавочке, сидела Алка в коротеньком нежно-лиловом платьице и с таким же бантом в волосах.
Увидев их лодку, она вскочила и бросилась навстречу.
— Здравствуйте, здравствуйте! — затараторила она.— Как я рада, что вас увидела! Ну, как ты себя чувствуешь, Фима? Я так переживала за тебя, точно это меня исколотили...
Фима угрюмо смотрела в черные ребра лодки и чувствовала, как тяжело отвисают вниз щеки и плечи, как тянет на груди и спине платье, хотя была худа, легка и платье было свободно.
Алка шла за лодкой и возмущалась:
— Этому надо положить конец! Маряна, ты, как вожатая, обязана собрать отряд или даже настоять, чтоб собрали дружину, пригласить на сбор Дмитрия Алексеевича и Фиминых родителей и пристыдить их, получить с них слово, что больше такого не...
— Алла, иди займись чем-нибудь,—мягко прервала ее Маряна,— вон сколько воробьев на вашей черешне...
Алка застыла с открытым ртом.
Да, да, о тебе же беспокоюсь: ведь с кладей чуть не сва¬
Ш8
лилась в ерик в таком хорошем платье... Когда говоришь, надо смотреть под ноги. Сходи, девочка, сходи — попугай воробьев...
Алка прямо-таки растерялась.
— Хорошо, Маряна,— сказала она,— пойду...
Лодка пробиралась к каналу, выбирая наиболее глубокие ерики, чтоб не задеть-винтом дно.
Иногда под мостами приходилось нагибаться, почти ложиться, чтоб проехать. На Дунайце отец положил весло и сильным толчком ноги завел мотор. Резко пахнуло бензином, стук двигателя ударил по ушам, и лодка понеслась по Дунайцу в сторону моря.
Канал был естественный — он представлял собой одно из гирлец Дуная и по сравнению с рекой раза в два сокращал путь к морю. Он был глубок, но у места впадения в море (да и само море там) был мелок, и по нему ходили только лодки да не сильно загруженные фелюги.
Быстро проскочили Шараново с домишками и кладями, с тополями и акациями на греблях и вылетели в плавни, в зеленую равнину с колышущимися до горизонта камышом и чака- ном. Говорить из-за треска мотора было неудобно, и все молчали. Молчать было не скучно: день был яркий, добрый, и от скорости^ их обдувал свежий ветерок, ерошил на Локте слегка отросшие волосы.
Маряна сидела рядом с Фимой, и ее крепкое горячее плечо то и дело плотно прижималось к ее плечу. Фима видела ее профиль — задиристо вздернутый нос, смешливые губы и упрямый, выставленный навстречу ветру подбородок.
Иногда Маряна подмигивала ей, Фима улыбалась, и временами ей даже хотелось смеяться.
Скоро они вылетели в море, в его синеву, беспредельность, в блеск гребешков и ветер. Берега были в песчаных косах. Кое- где они заросли камышом и кустарником. По горизонту, усиленно дымя* карабкался крошечный, как букашка, пароход...
— Была в кино? — спросила Маряна.
— Ага. Только мне неловко. Я верну...
Маряна заткнула ей рот, засмеялась, и Фима чуть не упала с сиденья навзничь. Оправила волосы. Оглянулась.
Море слабо поворачивалось, то сверкая, как гигантское
619
зеркало, то оказываясь в тени. В разных направлениях его пересекали шершавые ветреные полосы, и Фиме стало свежо и привольно.
Не в первый раз видела она море, и оно всегда тянуло ее. Оно пустынно, но полно жизни, сурово, но все в красках и переливах. В море никогда не скучно. Брат Артамон водит по нему сейнер, но никто не знает, что будет водить она, Фима. Может, сто раз латанную баржу, как злословил Аверька. Может, неведомый еще корабль, который живет только в чертежах конструкторов, что-то вроде реактивного судна, остроносого, узкого, как космическая ракета...
Мотор вдруг замолк. Лодка колыхалась на собственных волнах. Маряна сдернула сарафан, посмотрела вниз и спрыгнула в воду. Здесь было по пояс.
Отец подал ей лопату, взял что-то наподобие большого сака — железный обруч на черепке, нетуго обтянутый сеткой,— и сказал:
— Давай.
Маряпа вонзила в дно лопату и вывалила в подставленный отцом сак мелкую гальку с ракушками и песком. Песок потек в воду, замутив ее, а ракушки остались в ячейках.
— Пойдет? — спросила Маряна, прежде чем снова вонзать в дно лопату.
Отец ответил не сразу. Взял из кучи ракуши горсть, поднес к глазам, стал рассматривать, перебирать белые и серые раковинки, то продолговатые, то круглые с загогулинками, то совершенно целые, то поломанные. Потом выбросил горсть в море.
— Не пойдет? — Маряна встряхнула головой.
— Рой.
Локтя, довольный больше всех, сбросил рубашку и, свесившись с борта, стал смотреть на дно.
— Ой, мальки, целая стая! — Он сунул руку в воду.
Крестик постукивал о борт лодки.
Сбросила свое платье и Фима. Стараясь хоть как-нибудь помочь, она, чтоб не обрызгать Маряниного отца, осторожно спустилась в море — вода ей была почти по грудь — и стала ногой разрывать ракушу. Она была не везде в море, эта ракуша, ко¬
620
торой рыбаки любят украшать землю перед своими домиками. Везде были песок да ил. Ракуша была только в некоторых местах, и шарановцы хорошо знали эти места.
Работали часа два без перерыва. Фима поддерживала снизу лопату, когда Маряна начала уставать, и помогала поднимать ее, а то и сама сыпала в сак горсти ракуши. Потом стала загребать ее лодочным черпаком.
Найдена была работа и для Локти. Он перебирал ракушу, выбрасывая ломаную. Наиболее красивые и редкие ракуши — голубоватые и розовые с волнистыми узорами, похожие на перламутр,— откладывал в сторонку, оттуда — в нос лодки, для себя.
— Перекур,— сказал отец и прилег в корму, накрыв лицо картузом. Треснутый козырек закрывал глаза и лоб, сам картуз — лицо, но всего лица спрятать не мог, и наружу торчала подстриженная рыжеватая борода.
Маряна с Фимой передохнули и пошли купаться.
Локтя заныл, просясь к ним.
— Ну, прыгай в воду, здесь мелко.— Фима поманила его рукой.
Он прыгнул и пустил пузыри, забарахтался, забился: вода ему была по брови, а плавать он не мог. «А еще дунаец! — подумала с грустью Фима.— Сейчас же буду учить. Я-то научилась, когда была года на два моложе его...»
Она подхватила братишку, подвела под живот ладонь, подождала, пока тот отфыркается, и отпустила:
Плыви.
Потом Фима посадила уставшего Локтю в лодку, а сама с Маряной пошла поглубже, и они поплыли. Вода здесь была не очень соленая, но теплей, чем в Дунае, и плылось легко и приятно. Временами над морем пролетали большие черные бакланы, пристально вглядываясь в воду: искали рыбу.
Маряна плыла впереди; подмокшие на затылке волосы ее смешно слиплись. За ней неслась Фима. Она не жалела волос, мочила их в воде, ныряла и открытыми глазами смотрела на зеленоватое, переливающееся, все в бликах и белых пятнах дно. Потом Маряна легла’ на спину и раскинула по сторонам руки. Фима подплыла к ней.
621
— Ты вчера видала Аверю? — спросила вдруг Маряна.
— Нет, а что? — Фима насторожилась.
— А я думала, он сам к тебе заявится. Потом, когда я. решила, что лучше не входить... Значит, побоялся. Чувствовал какую-то вину...
«Хочет, чтоб я рассказала ей все,— подумала вдруг Фима.— Интересно, говорил ли он ей, как.просил у меня эту икону? Мне все равно. Возьму и расскажу...»
Маряна лежала на спине, смотрела в синее-синее небо, и ее слегка колыхала волна. Изредка струйки перебегали по ее ногам, сильным и загорелым, по животу, по шее, омывая выступавшую грудь.
И Фима все рассказала.
— А он тебе говорил что-нибудь про Алку?
— Ни словечка.
— Ну и правильно. Мужчина не должен уподобляться бабам базарным. И особенно про женщин плохое говорить не должен... Так вот, Алка, оказывается, все время торчала в палатках у этих туристов, особенно в красной, где жили Вера с Людой, выспрашивала их о последних столичных модах, о том-сем и, конечно, языком трепала про Шараново... И про Аверю наболтала, как он заметил Льва с фотоаппаратом и велел тебе бежать на заставу...
— Что ты говоришь? Почему ж я этого не знала?
— Я сама это узнала сегодня утром, когда Аверя забежал и рассказал обо всем... Говорит, спать не мог, держать в себе не мог это... Кто бы подумал, что все так обернется? Когда мне в райкоме комсомола поручали ваш отряд, я взялась не раздумывая: люблю быть, на людях, веселье люблю, шум, смех, споры... А что оказалось? Как обернулось? Ох, не игра все это, оказывается, совсем не игра... Не травой надо быть, а солнцем...
Фима смотрела ей в глаза и все понимала. Даже холодок продрал по коже, пробежал по лопаткам, когда дошла до нее вся суть Маряниных слов. В мире есть трава и солнце: трава -т- в общем хорошая и нужная — под ногами, солнце — вверху. Трава растет везде, где только можно, бездумно и беспечно. Есть люди, которые живут, как живется, без больших домыс¬
632
лов, мечтаний и целей, и есть другие люди, которые хотят добра и счастья для всех и сражаются за правду и честь. Жизнь этих людей излучает свет и радость, как само солнце, и надо быть только таким, только солнцем!
— Маряшка! — донеслось с лодки.
Маряна перевернулась со спины, и они поплыли к лодке.
Отец развязал сумку из-под противогаза, постлал на коленях вафельное, не первой свежести полотенце, разложил пучки зеленого лука с белыми головками, редиску. Потом нарезал на куски хлеб и принялся резать на дольки большого копченого шарана.
Спазма перехватила Фимино горло, когда она увидела все это: со вчерашнего вечера ничего во рту не держала! И есть ведь не хотелось.
Локтя сидел на носу, держа на ладошке раковину, и рассматривал дымчатый, лиловато-синий рисунок на створке.
Марянин отец смачно захрустел редиской; борода его так и ходила вся.
А вас что, приглашать надо? — Маряна посыпала солью
хлеб.
Первым подполз к полотенцу Локтя, ухватил дольку шарана и стал зубами срывать золотистую, в чешуе кожицу. Фима еще немного крепилась, потом и она придвинулась, застенчиво протянула руку и взяла копченый хвостик.
— Лук бери и редиску! — приказала Маряна.
После еды поменяли еще два места, выбирая самую крупную и красивую ракушку. Локтя до того втянулся в дело, что даже покрикивал на Маряну, когда на ее лопате оказывался один песок, выбрасывал за борт ракушечный бой.
— А про отца Василия ничего не знаешь? — вполголоса спросила Маряна.
— Откуда?
— Так вот... Это все от Авери...— полушепотом сказала Маряна, чтоб отец не слыхал.— Утварью закрытой церкви торгует... Четыре иконы вчера Льву продал...
— Что ты говоришь?! — воскликнула Фима и вдруг вспомнила пристань, подошедшую «Ракету» и Аверю, знакомящего попа со Львом, и вежливый разговор их.
623
— А туристы-то переругались насмерть, разъехались.
Локтя поднял на них чуть раскосые, как и у Фимы, глаза.
Маряна вдруг спохватилась:
— Работай... Нечего подслушивать старших... Мало ли о чем мы хотим поговорить.
Локтя надулся:
— Я работаю... Ты не забыла, завтра нам опять дом обмазывать? Или сбежишь?
— Ох, этот дом! — Фима насупилась.— Когда же наконец станут у нас строить не из этого чертова ила?
— Сбежишь? — опять спросил Локтя.
— Это уж мое дело: захочу — сбегу, захочу — нет.
— Не сбегай, Фима, не надо, мама жаловалась с утра на поясницу и...
— Там видно будет. Работай.
Глава 10
А УТРОМ...
Фимины ноги вязнут в иле, она топчет крутую жижу, перемешанную с соломой, тяжело перебирает ногами. Груня, получившая в бригаде отгул, мажет во второй раз просохшие стены. Мать бросает ил из лодки на греблю.
Солнце взошло не так давно, и его косые лучи пробиваются сквозь заросли акации: эти деревья любят здесь сажать, и не только потому, что тут они хорошо растут, но й потому, что ствол у них твердый, тверже дуба, и всегда идет на жерди для каркаса дома — не поломаются, не подгниют.
Ил шуршит, чавкает, чмокает под Фимиными пятками, а сзади — шлеп-шлеп-шлеп — с материной лопаты слетают, сползают огромные темные лепешки...
Локтя снует по дому — готовит завтрак. Когда нужно будет, Фима позовет его, и они потащат груженые носилки к дому, и она тоже начнет мазать.
По телу бежит пот, щиплет глаза. Тупо ноют коленки.
Могла б отказаться: «Не хочу, и все».—х<Уходи из дому
624
вон!»—«Пожалуйста!» И она уйдет, обязательно уйдет! Это никогда не поздно. Но бежать она не хочет. Это самое простое. Странно, но именно сейчас, после всего, что случилось, какая- то сила удерживает ее здесь, дома.
Вдруг где-то совсем рядом Фима услышала ребячьи голоса. Все знакомые. Вот чуть сиплый голос Власа. Вот резкий — Акима. А вот тоненький — Ванюшки... Даже Аверя тут! И куда это они собрались всей гурьбой? Верно, куда-нибудь на экскурсию. А ее-то и не позвали. Думают, если у нее мать такая строгая, то она уж и уйти никуда не может...
Стукнула калитка, показался Влас:
— Приветик!
На нем донельзя изношенные штаны и видавшие виды брезентовые туфли; большой палец выглядывает из дыры. За ним — Ванюшка, Аким, Селька, Сергей, Лука, Нинка, Василь... А вот и Аверькина голова маячит, и все в каком-то грязном тряпье. Кое у кого на плече лопата.
Мать так и застыла в лодке с лопатой на весу,— ил капает на ноги. Фима замерла в месиве, точно ноги вырвать не может. Груня с лесов обернулась — никак не поймет, что такое. Локтя испуганно вытаращился из дверей дома...
— Батальон, смирно! — проревел Аверя.
Ребята с хохотом опустили лопаты.
Тогда Аверя, чеканя шаг, подошел к ерику, где в лодке стояла Фимина мать, поднес ладонь к виску и громогласно заревел:
— Товарищ начальник, строительный батальон номер один по приказу дружины средней школы города Шаранова в ваше распоряжение прибыл! — и так закатил, так чудовищно выпучил глаза, что оба дома, новый и старый, задрожали от хохота.
Мать опустила лопату, вздохнула, посмотрела на двор через ограду и крикнула:
— На клубнику там не посматривайте! Не для вас сажена.
Фима отвернулась и вытянула ноги из месива.
Ладонь опять взлетела к Авериному виску.
— Пришли не клубнику кушать — строить пришли!,
2\ Библиотека пионера, т, 12 625
— Ладно вам, дурошлепы.— Мать нагнулась и всадила ло-. пату в ил.
Аверя подмигнул- ребятам, выскочил из туфель, засучил повыше драные брюки из «чертовой кожи» и принялся с таким остервенением месить ил, что Фиме там делать было нечего. Она отошла в сторонку.
По ерику подъехал на лодке Федька Лозин. Аверя повернулся к нему и дал команду:
— Федора хватай Сельку — и за илом!
Мальчишки уехали к Дунайцу. Девчонки стали подносить к дому ил и подавать Груне. Одна девчонка взобралась на леса и тоже стала вмазывать ил в камышовую стену.
— А умеешь? — недобро, спросила бабка.
— Не так что — прогоните, батя оставался доволен.
Это говорила дочка заведующего подсобным хозяйством колхоза, куда входила и Грунина бригада мазальщиц.
Все нашли себе работу. Кое-кто подправлял шатающийся плетень и укреплял столбики, на которые опирались доски кладей. Девочки возились на цветочной клумбе, выпалывали сорную траву.
Фима была ошеломлена. Она вспомнила, что не с такой уж охотой ходила мыть полы к бабке Матрене, а тут столько народу привалило — чуть не весь отряд! Не верилось просто. И, улучив момент, она тихонько спросила у Авери:
— Маряна все подстроила?
— Какая Маряна? Да где ты видишь Маряну?
— Не придуривайся. Она. Кто же-еще?
Фима не сомневалась. Кто, кроме нее, догадался бы! Одна она у них такая, Маряна, и это ее работа!
— Думай как хочешь.— Аверя вздохнул, шмыгнул носом и как-то сразу превратился из горластого и неунывающего парня в обычного и понятного.— Фим,— сказал он негромко*— ты на меня не особенно... Плохо я это... Глупо все как-то, по- дурацки получилось...
— Да что ты, чудак! — заспешила Фима, боясь того, что он мог сказать дальше.— Пустяки какие! Иди лучше носилки тащить помоги...
И Аверя, приободренный, что она не заставила его говорить
626
то>, что так трудно было сказать, поспешно отошел от нее. И тут Фима услыхала, как мать позвала Локтю.
Босой, в одних трусиках подбежал Локтя к матери; она уже выбросила из лодки весь ил и стояла на гребле, опершись о лопату.
— Где твой крестик?— в упор спросила она.
И тут Фима увидела, что Локтя и вправду без креста.
— Нету!—Локтя отскочил от матери, точно ждал удара.— Выбросил, в море выбросил! — и еще дальше отскочил.
Мать побледнела. Пальцы, сжимавшие ручку лопаты, побелели.
— Как ты смел?
Локтя ничего не ответил. Склонил лобастую голову, и одно ухо его слабо пошевелилось.
Потом тяжело и медленно сказал:
— Не хочу.
Мать влезла в лодку, оттолкнулась ногой и опять поехала за илом.
Ребята продолжали работать. Скоро мать приехала. Ребята не дали ей разгружать ил, потому что многим нечего было делать,— с лопатами наперевес бросились трое к лодке. Мать побрела к лесам, на которых сидела Груня. Бабки рядом не было. Где ж она?
Фима нашла ее в доме: бабка торопливо пересыпала из мешочка в корзину жареные семечки, и Фиму вдруг бросило в краску.
— Хоть этот вечер потерпела бы!
— Не указывай!--буркнула бабка.—И кто тебя просил нагонять столько? Попробуй накорми теперь всех... Сами бы справились...
— А я и не звала их! — Красная от стыда, Фима выскочила наружу.
Мать больше ни на кого не кричала. Она вместе с Груней молча вмазывала в стенку плотный и клейкий, как бетон, ил. Фима подавала и, подавая, краем уха услышала:
— Одна ты у меня осталась, Грунюшка.— Мать всхлипнула.— И зачем растила детей, ночи не спала, дня не видела?.. Локтю и того увели... Нет нынче у детей послушания и веры.
627
И не надо их таких, не огорчайся, что своих не имеешь... Есть у меня старик да ты... И больше никого.
Фима не могла слышать ее голоса. Она отошла от дома и стала помогать разгружать лодку. Скоро приехали на другой лодке Федька с Ванюшкой, и работы прибавилось. Фима бросала тяжелое, убегающее с лопаты месиво, и вдруг ей стало пронзительно жаль мать: она все-таки много сделала для нее, для своих дочерей и сыновей и только не смогла понять одного: время их другое и они не могут жить по законам времени, которое кончилось...
Ну как это ей объяснить?
1963
ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ РОМАНТИКИ..
Дочитывая последние страницы сборника, вобравшего в себя произведения трех авторов, мы не без грусти расстаемся с литературными героями, неугомонными мальчишками и девчонками, каждый из которых открыл для нас что-то очень важное и необходимое, без чего не обойтись в жизни.
Что же роднит и сближает этих юных героев? Почему Владимир Киселев, Анатолий Мошковский и Юрий Яковлев, писатели редкостного своеобразия, не похожие друг на друга, оказались «соседями» в сборнике? Каким образом при явном жанровом, тематическом и стилистическом различии их произведения воспринимаются как нечто единое, целостное, как звенья одной нерасторжимой цепи, как продолжение серьезного и увлекательного рассказа на одну тему, значительную и поучительную? Ведь есть же, наверное, в этих произведениях какие-то общие черты, дающие им право стоять, как однополчанам, плечом к плечу, в одном литературном строю?
629
Да, есть. Для всех произведений, включенных в сборник, свойственна романтическая устремленность в завтрашний день. Как сами авторы, так и их герои влюблены в жизнь й свою мечту, тянутся к людям необычной, исключительной судьбы, натурам сильным и волевым, умеющим преодолеть, казалось бы, непреодолимое, постичь непостижимое, достичь недосягаемое.
Фундамент будущего характера, как известно, закладывается в детстве, и по поступкам четырнадцатилетнего подростка нетрудно угадать, каким он человеком будет в дальнейшем и можно ли на него положиться в трудную минуту. И не потому ли Владимир Киселев эпиграфом для своего романа «Девочка и птйцелет» избрал такие слова: «Все, что происходит с человеком после четырнадцати лет, не имеет большого значения»?!
Роман всем своим содержанием, своей образной тканью обращается к современному юношеству, внушая ему справедливую мысль о том, как важно смолоду беречь свою честь, готовить себя к самостоятельной жизни и большим делам.
Семиклассница Оля Алексеева покоряет нас многими своими душевными качествами, и прежде всего искренней отзывчивостью, чуткостью к людям. Близко к сердцу принимает она все то, что происходит вокруг нее и в целом мире.
Девочка до глубины души ненавидит й тех, кто у нас в стране из-за денег, ради наживы готбв пойти на преступление, и тех, кто в чуждом ей капиталистическом мире расстреливает коммунистов, бросает в тюрьмы женщин и детей, эксплуатирует трудящихся, кто с бесчеловечной жестокостью унижает достоинство честных людей. Оля никак не может согласиться с утверждением матери, которая считает, что следует не замечать отдельных неприятных случайностей, быстро забывать все плохое и «жить нормально», не страдая и не волнуясь, ибо «у нас снова все благополучно».
Идеалом для Оли стали люди отважные и благородные, готовые пожертвовать собой для пользы общенародного дела. Таких людей ищет и находит она среди ученых мужей, прославленных химиков, о которых Оля узнала из прочитанных книг, и среди знакомых—это и ее отчим, это й Колийа taatoa
630
Еледа Евдокимовна, это и учительница химии Евгения Лаврентьевна. Для Оли все они — прекрасный образец того, как надо жить, работать, служить Советской Родине. По ее глубокому убеждению, в будущем, когда настанет коммунизм, только такие люди и будут населять землю. И чтобы быстрее настало такое время, Оля уже сейчас, в свои школьные годы поднимается на борьбу со всем дурным и бесчеловечным, стремится воспитать в самой себе черты человека коммунистического Завтра.
Находясь в центре важнейших событий, подчас необычайно сложных, драматических и даже трагических, героиня романа руководствуется неизменными гуманистическими принципами, ставит общественные интересы выше личных, делится с товарищами всем, что у нее есть, чем она богата.
Не по-детски целеустремленная, самозабвенно увлеченная научными химическими опытами, Оля видит свое подлинное счастье не в тихой, безмятежной жизни, а в беспрестанных поисках, тревогах, заботах об общем деле, без которого она не мыслит сво^ей жизни. Ради него она готова пойти на любой риск, на любые лишения.
Автор убедительно, психологически глубоко и точно раскрывает процесс идейно-нравственного становления, духовного созревания девочки как незаурядной личности. На целом ряде примеров, конкретных и впечатляющих, мы видим, как эта личность обретает способность к самостоятельным раздумьям и решениям, как усиливается в ней чувство гражданского долга, ответственности перед коллективом.
В романе достоверно нарисован сложный мир семейной и школьной жизни, поставлены острейшие проблемы отношений между мальчиками и девочками, родителями и детьми, учителями и учениками. Писатель не дает готовых рецептов на все случаи жизни, не читает нравоучений, он лишь изображает незначительный по отрезку времени, но значительный по важности событий этап биографии Оли Алексеевой и ее друзей, предоставляя читателю возможность самому сделать вывод, определить, кто прав, а кто виноват.
Обладая редкостным дарованием проникновенно, с тонким юмором и лиризмом живописать школьный мир, автор окрадаи-
631
вает дела и помыслы ребят светлыми красками юношеской романтики и поэзии, показывает истинную красоту человеческой мечты, человеческой фантазии, способной вдохновить подростка на замечательные свершения, наполнить его жизнь, его поступки высоким смыслом.
Немеркнущим светом романтики озарена и повесть Анатолия Мошковского «Не опоздай к приливу». Главный герой произведения отчаянный и смекалистый пионер Юрка мечтает встать за штурвал отцовского сейнера, чтобы самому ловить рыбу в суровом Баренцевом море. Он хочет стать таким, как его родной дядя Иван Варзугин, капитан знаменитого дизель- электрохода «Амур». Жизненный путь, пройденный капитаном, доступен каждому. Старший брат Юрки, Валерий, тоже решил пойти по стопам прославленного дяди. Но в отличие от Юрки он не желает добиваться поставленной цели честным путем, пытается пробраться в мореходку по блату, по знакомству. Конфликт, возникший между братьями, составляет основное сюжетное ядро повести, помогает лучше, яснее разглядеть моральный облик того и другого.
Писатель не сразу и не вдруг обнажает перед читателем человеческую сущность Валерия. На его поступки и действия он смотрит как бы через призму Юркиных представлений. В силу своей детской наивности Юрка долгое время не может правильно оценить брата, разглядеть в его характере червоточины, мешающие Валерию найти верную дорогу в жизнь, к людям, к избранной профессии. Правда, по отдельным высказываниям и суждениям Валерия уже в первых главах повести можно почувствовать, что в нем что-то «не так», что парня нередко «заносит», что излишняя самонадеянность явно подводит его. Но в то же время ему нельзя отказать в смелости, знании рыбацкого дела, в искренности стремления стать юнгой, выйти вместе с отцом на сейнере в море.
Как-то, под горячую руку, он попросил отца взять его с собой на промысел, но получил решительный отказ. Неосторожные, необдуманные слова отца огорчили и озлобили парня, он замкнулся, ушел в себя, и те отрицательные свойства характера, которые прежде проявлялись не столь заметно, теперь стали очевидными для младшего брата.
632
С большой художесхведной- силой воссоздана в повести картина столкновения двух; братьев, носителей двух противоборствующих взглядов — новых, социалистических, и старых, частнособственнических, отживающих свой век. К концу повести события нагнетаются, помогая во всей полноте увидеть нравственное падение человека, избравшего для себя путь сделок со своей совестью, путь обмана и прямого предательства. И для читателя открывается подлинное лицо Валерия, который раньше тщательно маскировался фальшивыми словами, неискренними, показными поступками.
В неравной борьбе со старшим братом маленький Юрка одерживает победу. Иначе и не могло быть. Ведь на его стороне справедливость и честность, и он, обличая Валерия, поступает как истинный рыцарь духа, как борец за правду. Авторские симпатии целиком на стороне Юрки, и читатель разделяет эти симпатии, проникаясь глубокой любовью к отважному пионеру, сыну потомственного помора из заполярного поселка Якорного. Мальчик избрал самый верный путь к большой мечте — путь правды, честности и трудолюбия, и мы не сомневаемся, что путь этот приведет его к заветной цели, и Юрка со временем станет таким же умелым и знатным помором, как и его родной дядя — капитан.
Повесть насыщена интересным познавательным материалом о жизни рыбаков, о суровой природе далекого северного края, о нелегких буднях пограничной службы. Романтика этой службы органично переплетается с романтикой трудовой, матросской, с повседневными делами жителей рыбацкого поселка.
С героическими делами пограничников знакомит нас и другая повесть Анатолия Мошковского —«Трава и солнце», действие которой развертывается в пограничном городке Шаранове, что стоит на берегу Нижнего Дуная.
Пионеры вместе со своей вожатой Маряной заняты в повести ответственными делами — воспитывают служебных собак для погранзаставы и организуют пионерский патруль на границе. Хотя они и стараются вести себя по-взрослому,. но им не всегда это удается. Дети остаются детьми, и автор етлич- но передает особенности подросткового возраста, с непрддёль-
633
ным юмором рисует забавные приключения ребят, которые охотятся за воображаемыми шпионами, показывает, как наивно и опрометчиво поступают порой пионеры, выслеживая заезжих туристов, искателей икон.
Чувствуется, что писатель близко знает своих героев и сам не раз бывал в тех местах, где живут они,— маленький пограничный городок, в котором чуть ли не каждый день происходят интересные и удивительные случаи, становится как бы героем повести, зачаровывает своей необычностью, манит к себе читателя, особенно юного, для которого пограничная служба всегда была и остается завлекательной и романтичной.
Воспитание современных ребят в духе верности солдатскому подвигу, воинскому долгу стало основным содержанием творчества и другого писателя “ Юрия Яковлева. Тема войны и тема пионерского мужества переплелись в его рассказах. Память о фронтовых товарищах настолько волнует писателя, что какой бы стороны жизни он ни касался в своих произведениях, непременно глядит на все происходящее глазами человека, умудренного опытом войны.
Адресуя свои рассказы детям, Юрий Яковлев заботится об одном — о том, чтобы ребята, родившиеся после салюта Победы, не забывали солдат, павших за Родину, знали, какими гигантскими усилиями и муками была завоевана эта победа, почувствовали бы себя продолжателями отцовских подвигов. «Письмо с вулканического острова», «Недослушный мальчик Икар», «Где стояла батарея», «Реликвия», «Сын летчика», «Сапер», «Пленный»—уже в самих названиях рассказов можно расслышать гул былых сражений, раскатистое эхо войны, долетевшее до наших дней.
Четкая идейная направленность творчества Юрия Яковлева, его романтическая тональность, окрашивающая каждую реалистическую деталь,— все цодчинено одному: учить детей быть достойными подвига героев; Рисуя людей смелой мысли и решительных действий — таких, как летчик-коммунист Сап- рунов, в котором маленький Володька находит воплощение своего идеала и называет его своим отцом; таких, как «старый боец с осколком в груди» Бахтюков, пробуждающий в «мальчике с коньками» добрые чувства, которые прежде были ему
634
неведомы; таких, как невезучий фантазер, неутомимый затейник ребячьей компании дядя Евгений, отблеск праздничного фейерверка которого «продолжает гореть в памяти людей и не погаснет до тех пор, пока в человеке жив человек»; таких, как маленький «рыцарь Вася», скромный, мечтательный парнишка, совершивший подвиг и утаивший это от друзей,— писатель напоминает о том, что нельзя изменять дружбе, искать легких дорог, что нужно с детских лет готовить себя к «звездному мигу» жизни человеческой.
Большинство рассказов посвящено детям, для которых встреча с настоящим человеком, наделенным даром чуткого и требовательного воспитания, знаменует крутой поворот в детских судьбах, вызывает духовный рост маленького героя. Писатель отстаивает красоту человеческих отношений, человеческое в человеке. Он хочет, чтобы человек с детских лет не коптил небо, а жил, как звезда, озаряя мир своими удивительными делами, мыслями и поступками.
С большим тактом, по-умному преподносит автор науку рыцарства, принципиальности. Даже в рассказах, насыщенных серьезными конфликтами, где юному герою приходится очень туго, где подчас несправедливость одерживает верх, писатель не гасит в сердце читателя огонек надежды, веру в добрый порядок на земле, «веру в хороших людей, веру в то, что черная копоть не вечно застилает солнце». Такую веру несут в себе многие яковлевские герои. Светлая, оптимистическая концовка характерна для его рассказов. Автор находит неожиданные художественные детали, штрихи, верно передающие настроение героя, нежность и мечтательность, ожидание чего-то радостного. Часто при этом писатель прибегает к пейзажным зарисовкам, с помощью которых читатель глубже проникается этим же настроением.
Писатель смело перешагивает возрастные барьеры детской литературы. У его рассказов, посвященных детям, невероятно широкий адрес — они для всех. Произведения эти — лиричные, остропроблемныо, с динамичным сюжетом — ведут с читателем разговор в самых серьезных тонах и по самому серьезному поводу, ничего не утаивая и не приукрашивая. Автор бесстрашно идет навстречу сложным проблемам и умело решает их. Он по-
635
могает подростку «взрослеть» нравственно, готовит его для больших дел, которые потребуют от подростка не только глубоких знаний, но и глубоких чувств. Своими рассказами писатель внушает читателю высокие понятия любви, дружбы, товарищества, помогает школьнику познать законы честности и справедливости.
Любимые герои Юрия Яковлева при любых ситуациях сохраняют пионерское достоинство, ведут себя в высшей степени благородно и честно, проявляют подлинно взрослую серьезность, но остаются при этом по-детски непосредственными, прекрасными.
Настоящее творчество всегда связано с каким-нибудь крупным, значительным явлением жизни. Иногда писателю удается разглядеть, открыть это явление в самом его зародыше, как это произошло с Юрием Яковлевым, который был в числе тех, кто первым поддержал замечательное патриотическое движение пионерских красных следопытов. Рассказывая о них, он неразрывно связывает героику военной поры с сегодняшним днем. Так, в рассказе «Реликвия» за деталями, внешне обыденными и неказистыми, для читателя неожиданно открывается что-то очень значительное, важное, героическое. И здесь автор проявляет себя как писатель-романтик. Истоки его романтики —в реальной жизни.
Ни один подвиг не уходит в прошлое, он продолжает свою жизнь в сегодняшнем дне. И Юрий Яковлев отыскивает в будничной повседневности продолжение подвига. Особенно дорога ему тема преемственности поколений: дети продолжают дело отцов.
Живут на земле романтики — по-рыцарски бескорыстные и отважные люди, мужественные борцы за справедливость и правду. Писатели Владимир Киселев, Анатолий Мошковский и Юрий Яковлев, чьи книги давно и прочно завоевали признание и любовь пионерского читателя, знакомят нас с юными героями нашего замечательного времени. И хотя пишут писатели о разном и по-разному, в их произведениях — интересных и увлекательных, проникнутых духом гражданственности — отстаиваются одни и те же принципы, показывается процесс зарождения нравственных основ в человеке.
636
Авторы, каждый по-своему, ратуют за то, чтобы уже в юные годы человек знал, с кого «надо делать жизнь», а с кого — не надо. Знал для того, чтобы уметь находить светлое в нашей повседневности и уметь защищать, умножать это светлое, как бы трудно ни было, укрепляя в сердце веру в победу добра и справедливости, в победу всего коммунистического, что прорастает в жизни и людях.
Владимир Разумнееич
СОДЕРЖАНИЕ
Владимир Киселев
ДЕВОЧКА И ПТИЦЕЛЕТ. Роман. Рисунки. Д.. Штерен¬
берга ............ 5
Юрий Яковлев
СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА. Рассказы. Рисунки Г. Мазурина . ......... 215
Анатолий Мошковский
НЕ ОПОЗДАЙ К ПРИЛИВУ. Повесть. Рисунки
П. Павлинова 397
ТРАВА И СОЛНЦЕ. Повесть. Рисунки Ф. Лемкуля 511 В. Разумневич. Живут на земле романтики... «... 629
Оформление Е. Савина
Для среднего возраста
БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА Том 12
Владимир Леонтьевич Киселев ДЕВОЧКА И ПТИЦЕЛЕТ Юрий Яковлевич Яковлев СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА Анатолий Иванович Мошковский НЕ ОПОЗДАЙ К ПРИЛИВУ ТРАВА И СОЛНЦЕ Избранные повести и рассказы
Ответственные редакторы Е. М. Подкопаева и 3. С. Карманова Художественный редактор В. А. Горячева Технический редактор,
Н. Г. Мохова Корректоры Л. А. Рогова и Е. И. Щербакова
Сдано в набор 15/V 1975 г. Подписано к печати 18/XI 1975 г. Формат 60x90l/16. Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 40. Уч- изд. л. 36,01. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. А14211. Заказ № 910. Це¬
на 1 руб. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М, Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49,
К 44 Киселев В. «Девочка и птицелет». Роман.— Яковлев Ю. «Собирающий облака». Рассказы.— Мошковский А. «Не опоздай к приливу». «Трава и солнце». Повести. Оформл. Е. Савина. М., «Дет. лит.», 1976.
638 с. с ил. (Библиотека пионера, т. 12)
В 12-й том подписного издания «Библиотеки пионера» входят произведения писателей: В. Киселева — роман «Девочка и птицелет», Ю. Яковлева — рассказы «Собирающий облака» и А. Мошковского— повести «Не опоздай к приливу», «Трава и солнце». Послесловие В. Разумневича.
70803—008
К №101(03)76 подписное Сб2