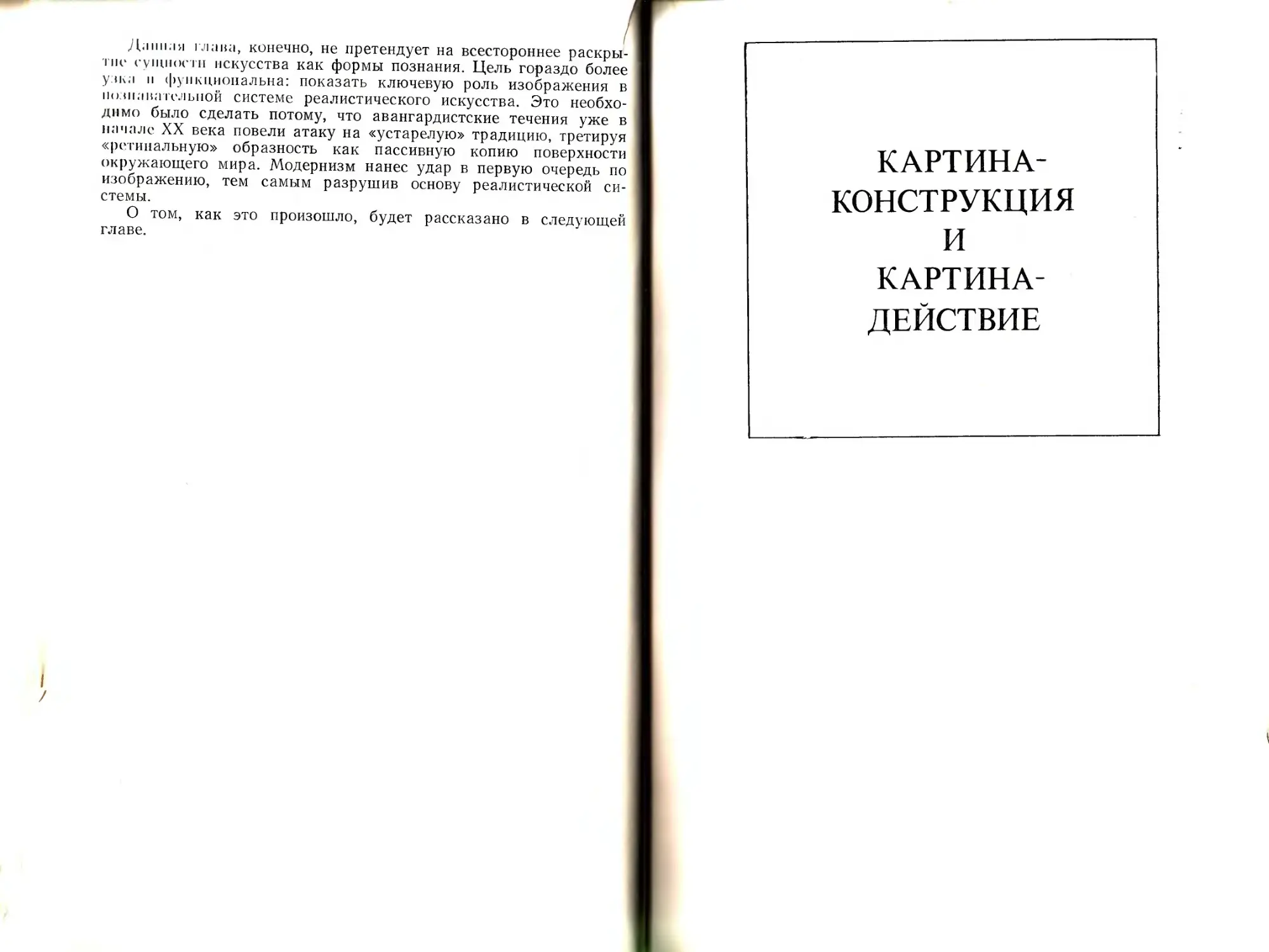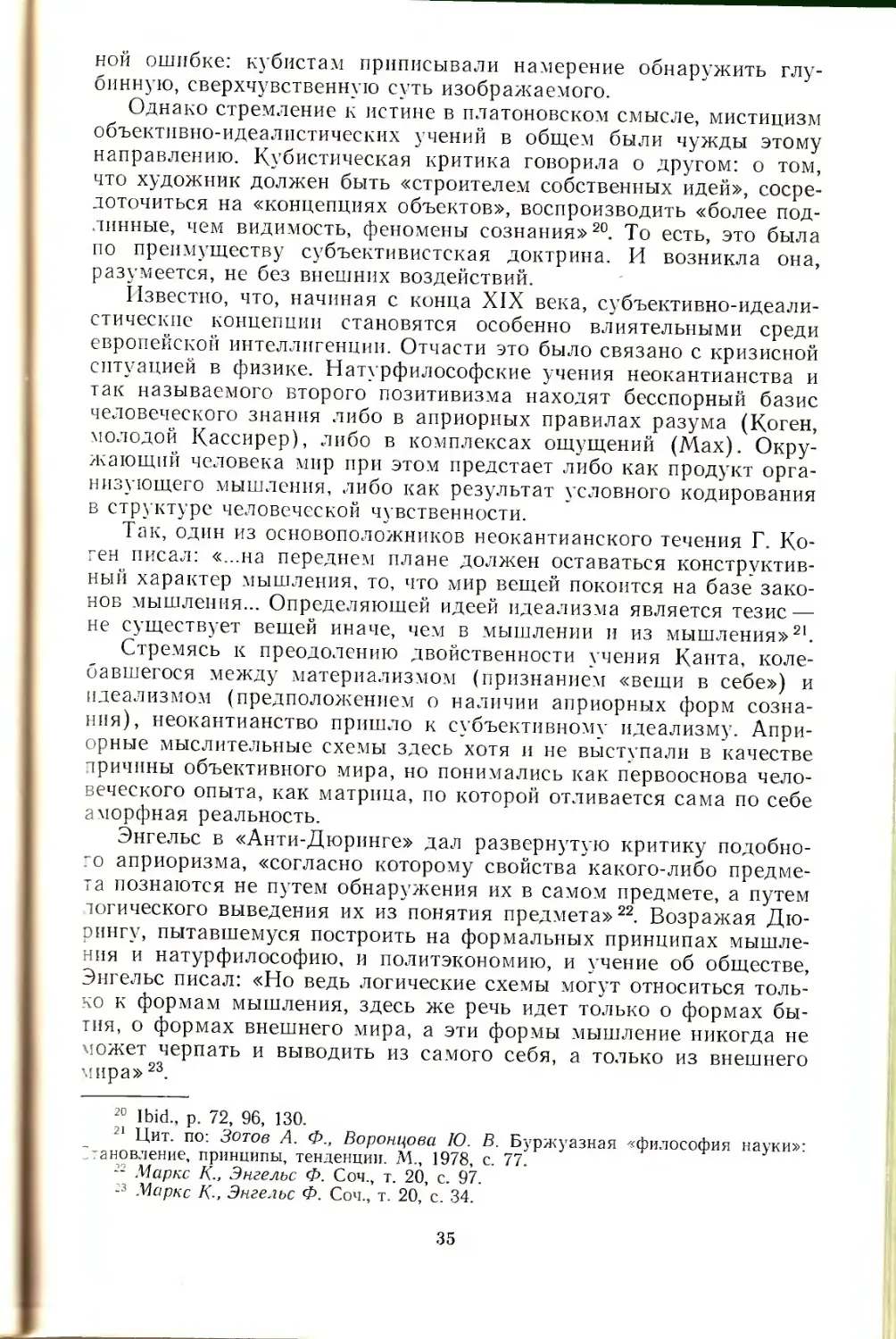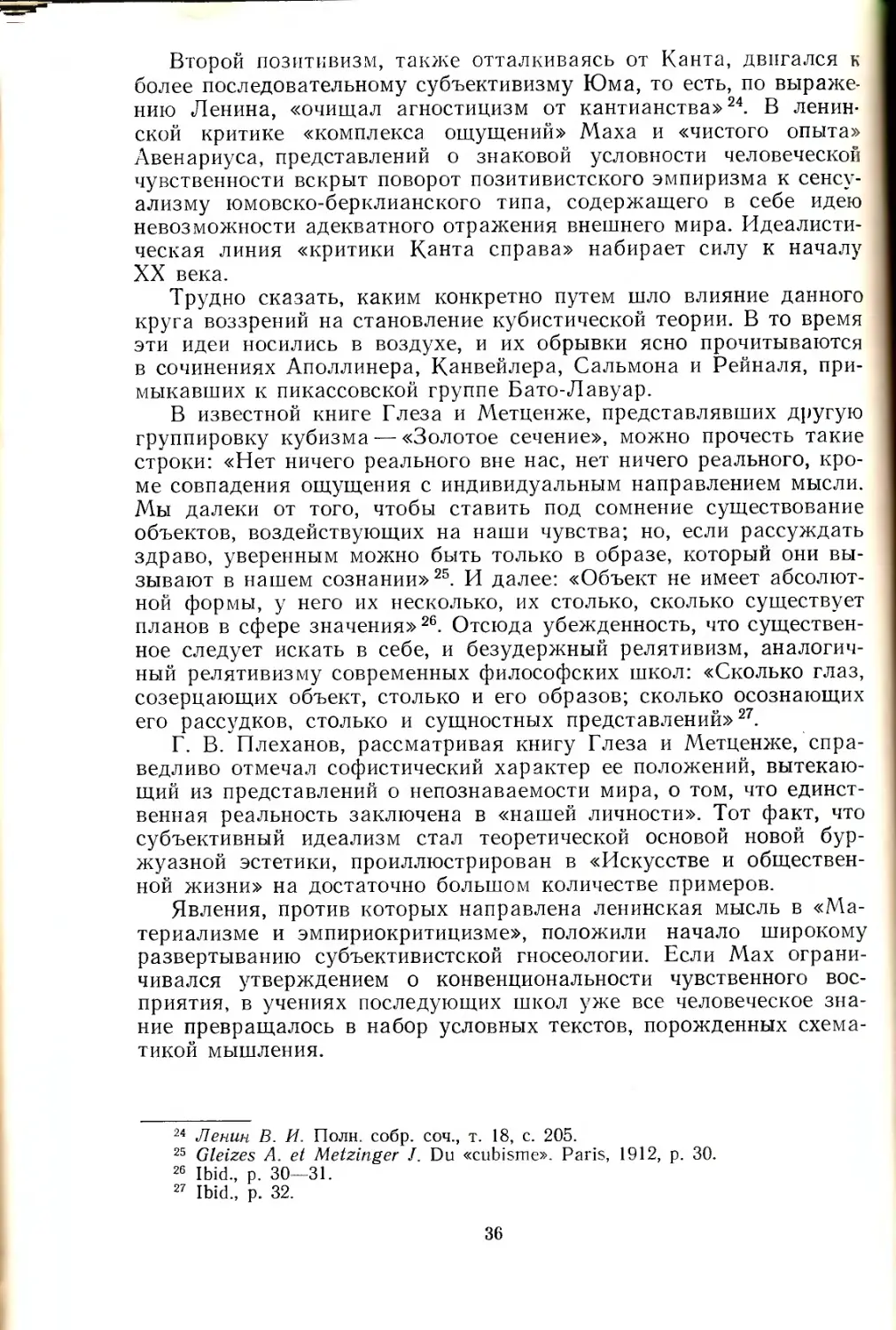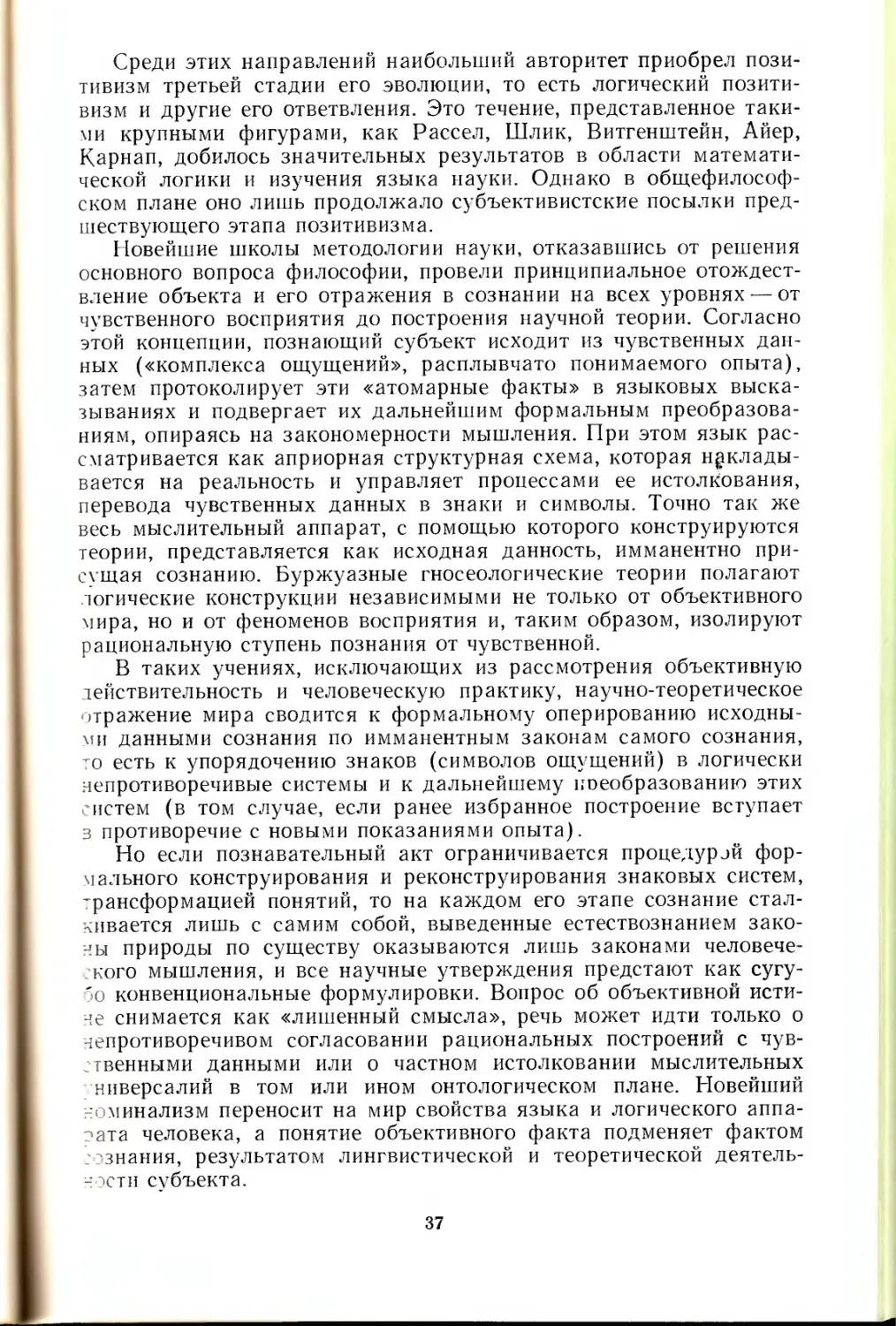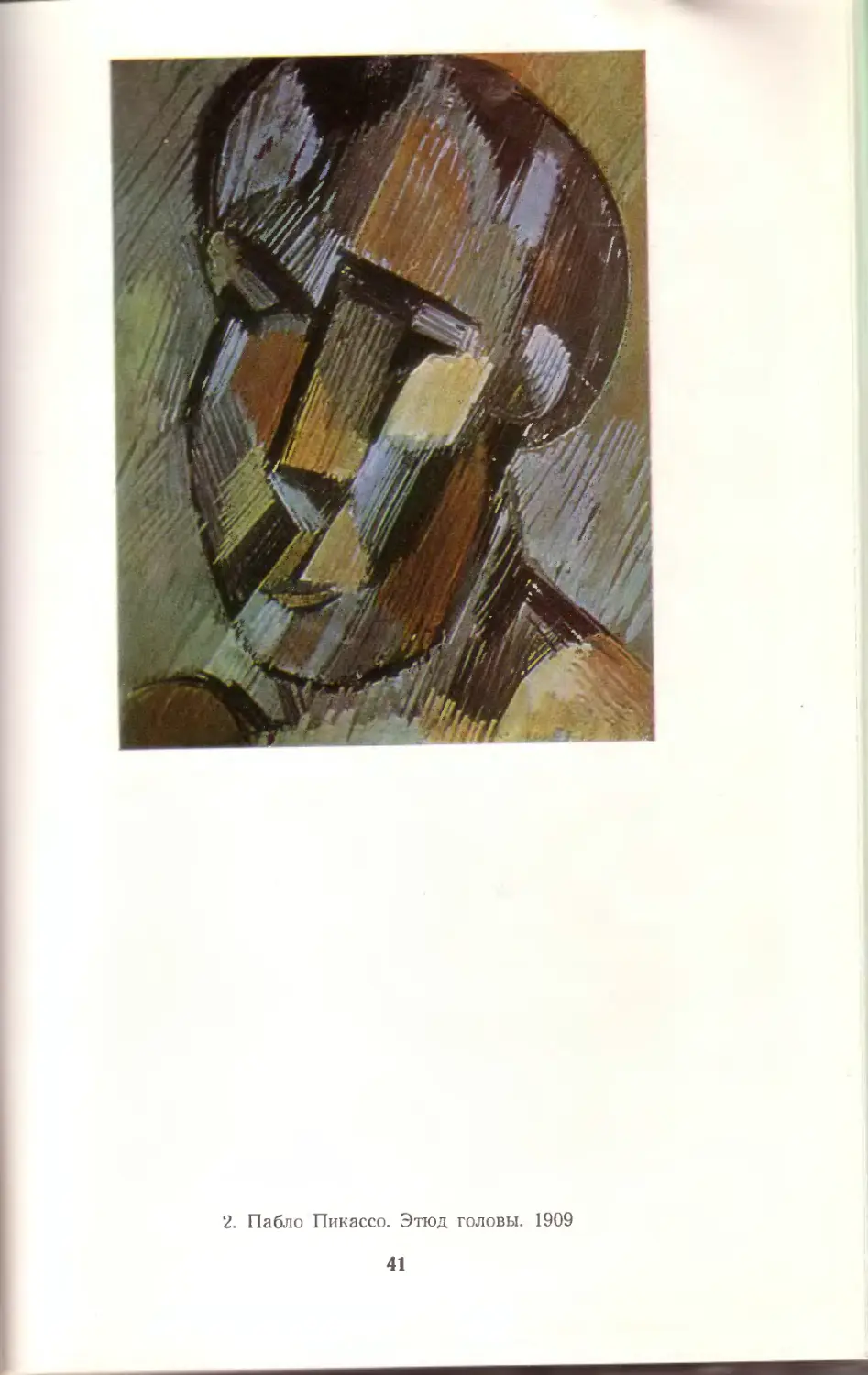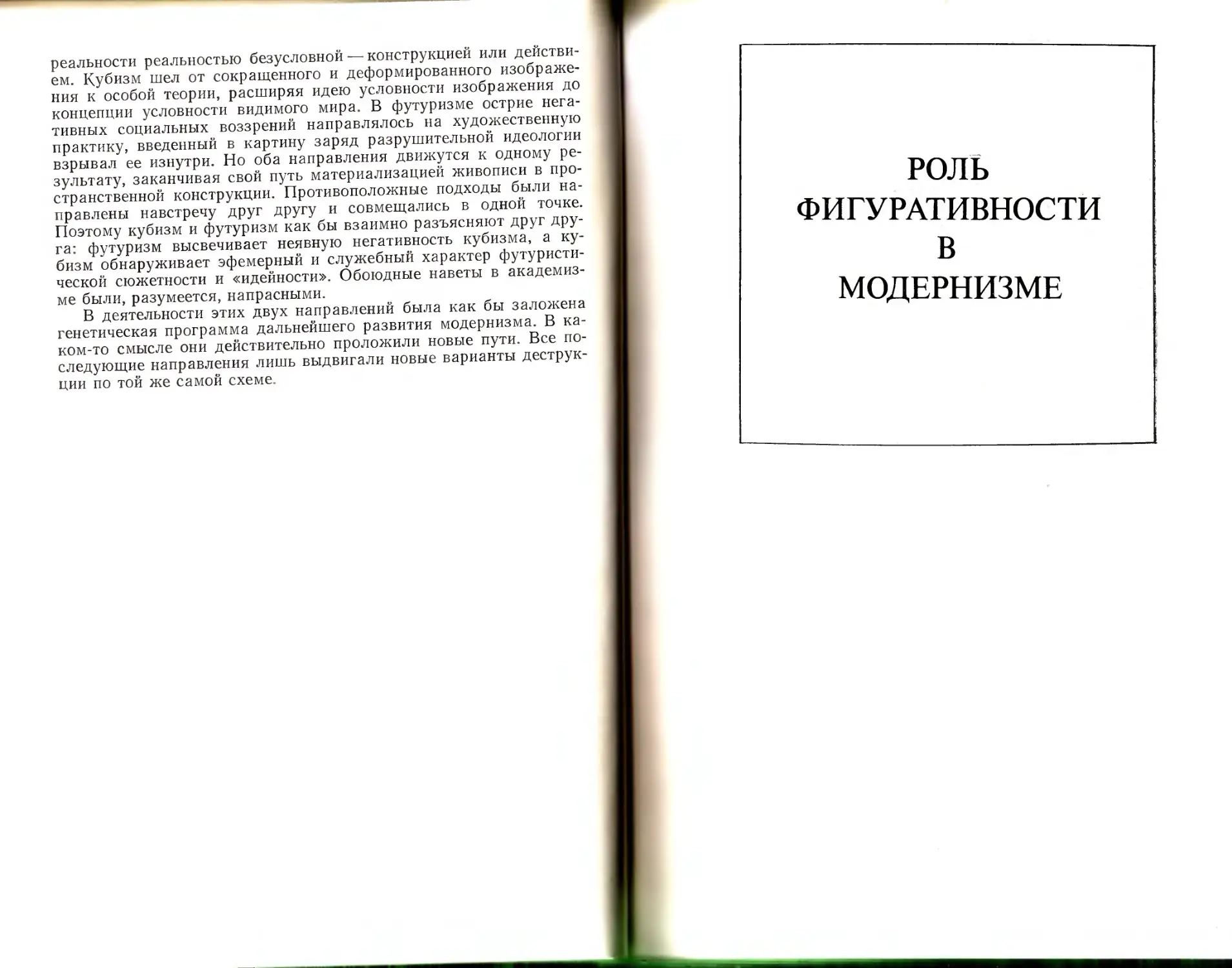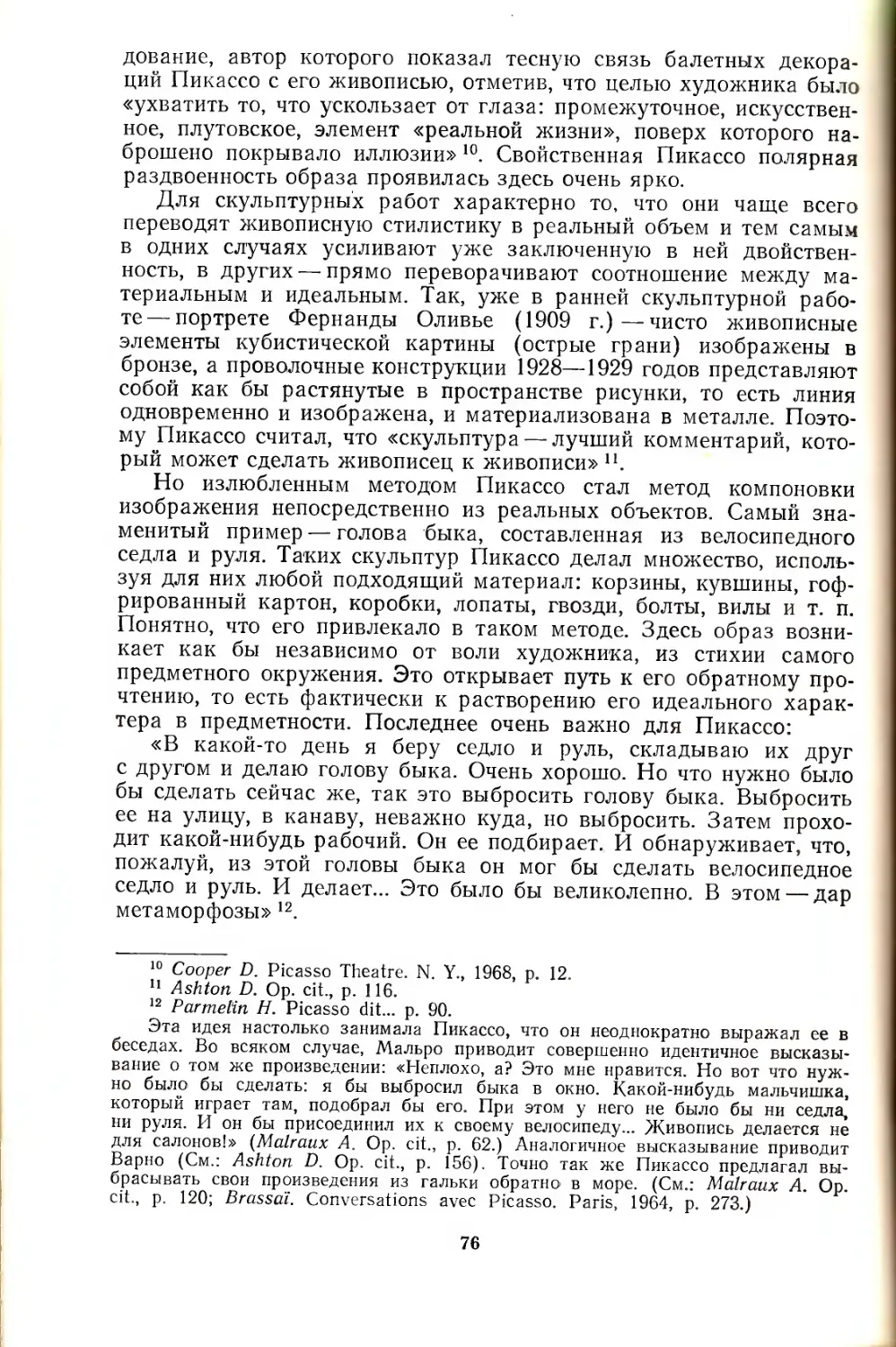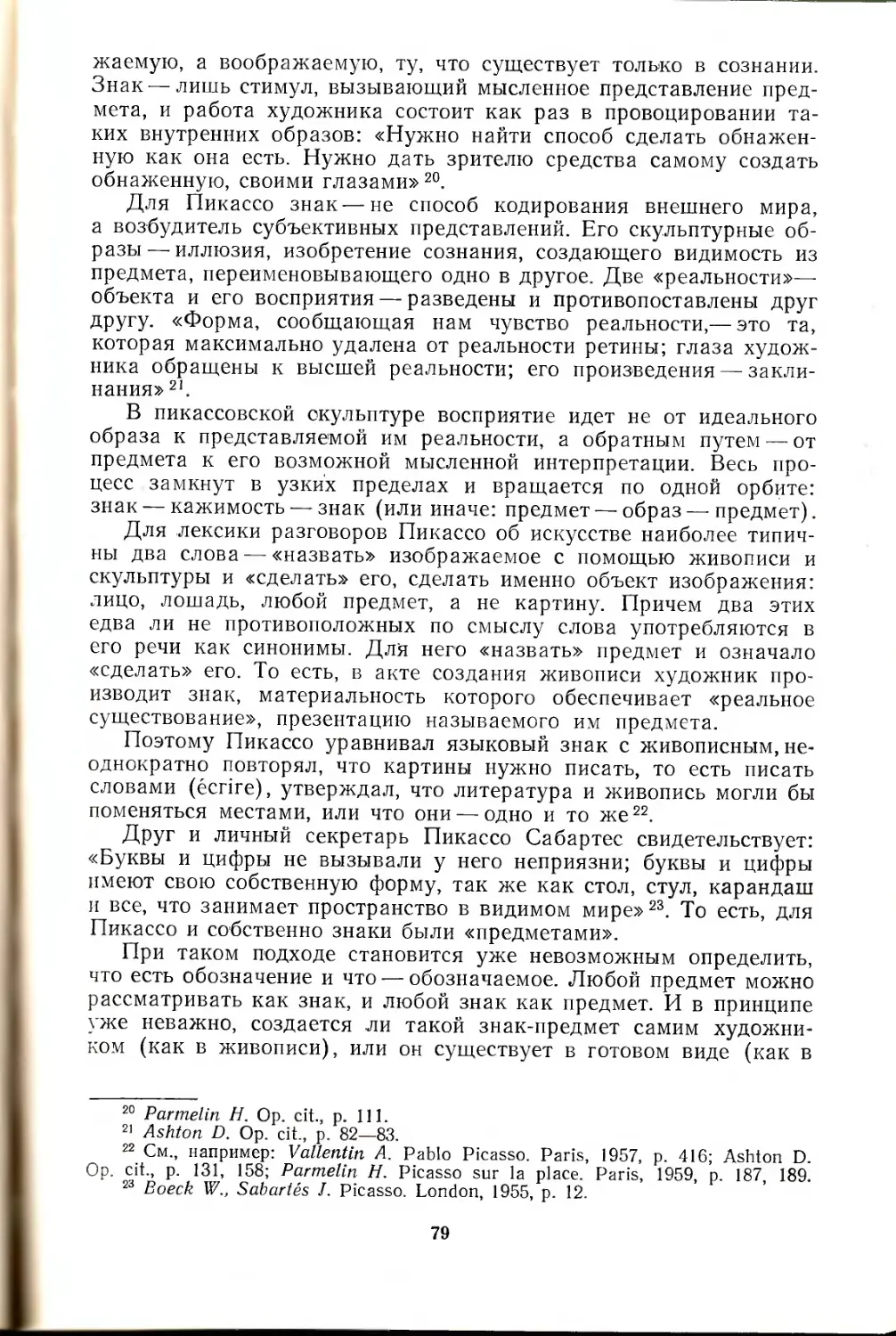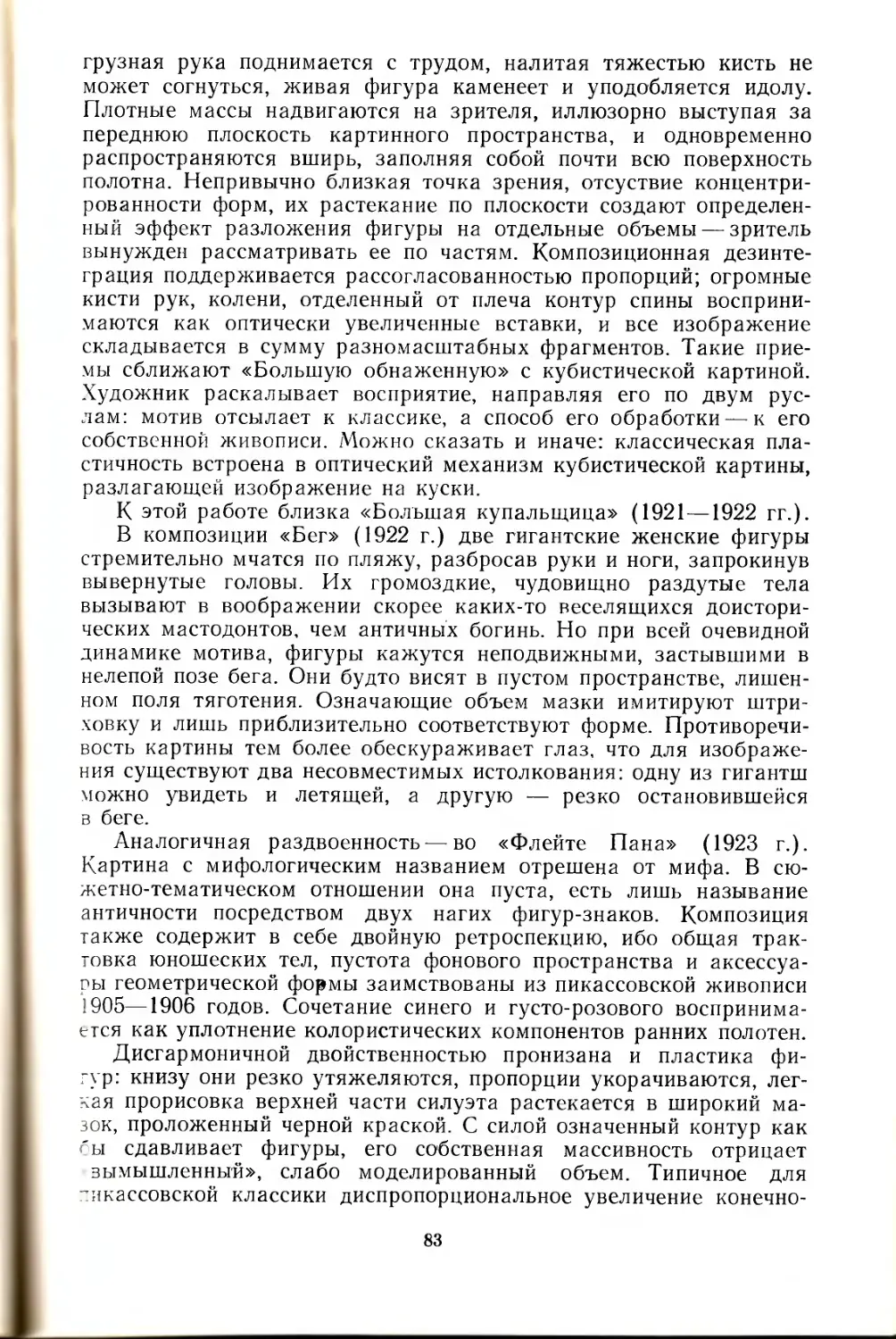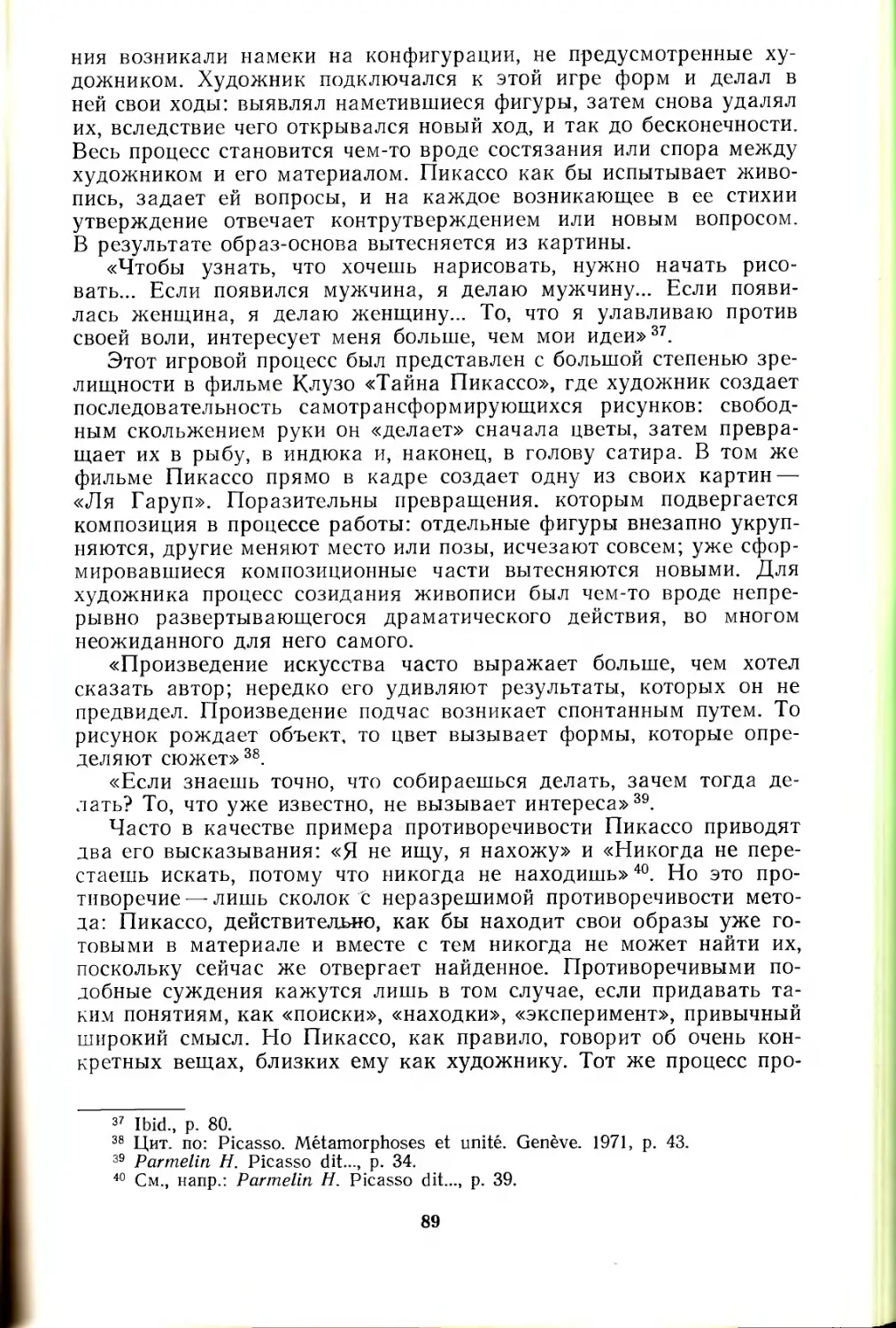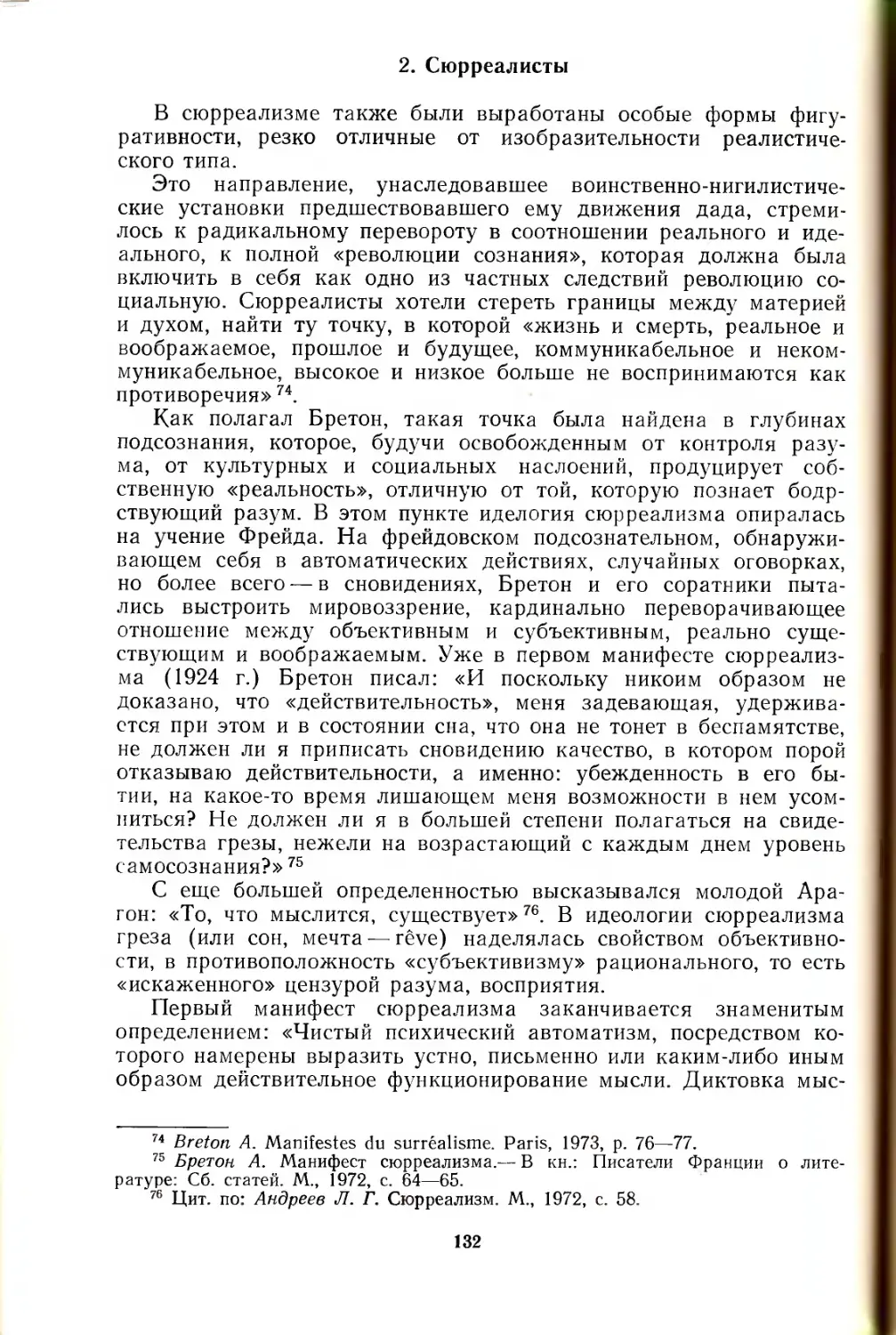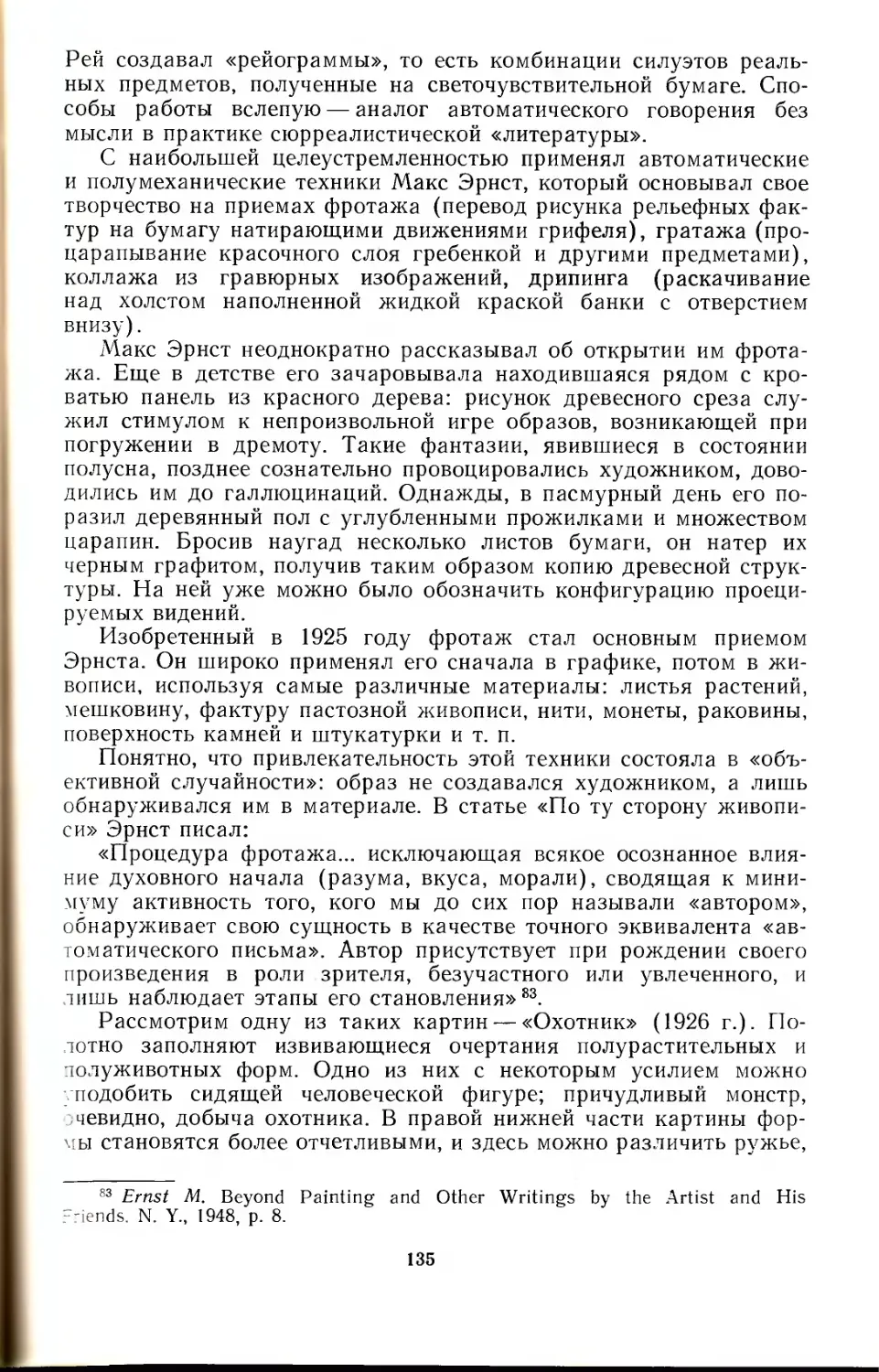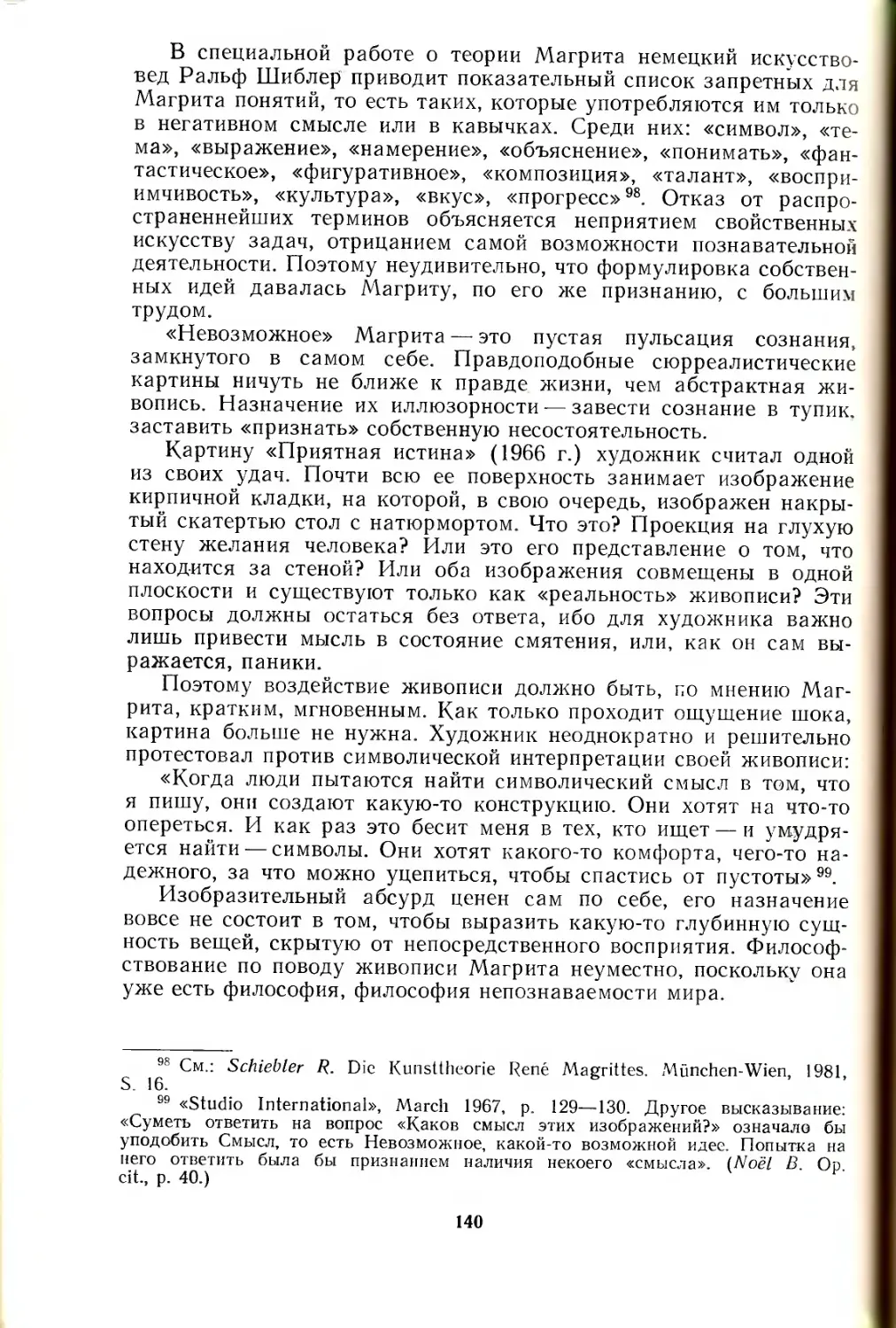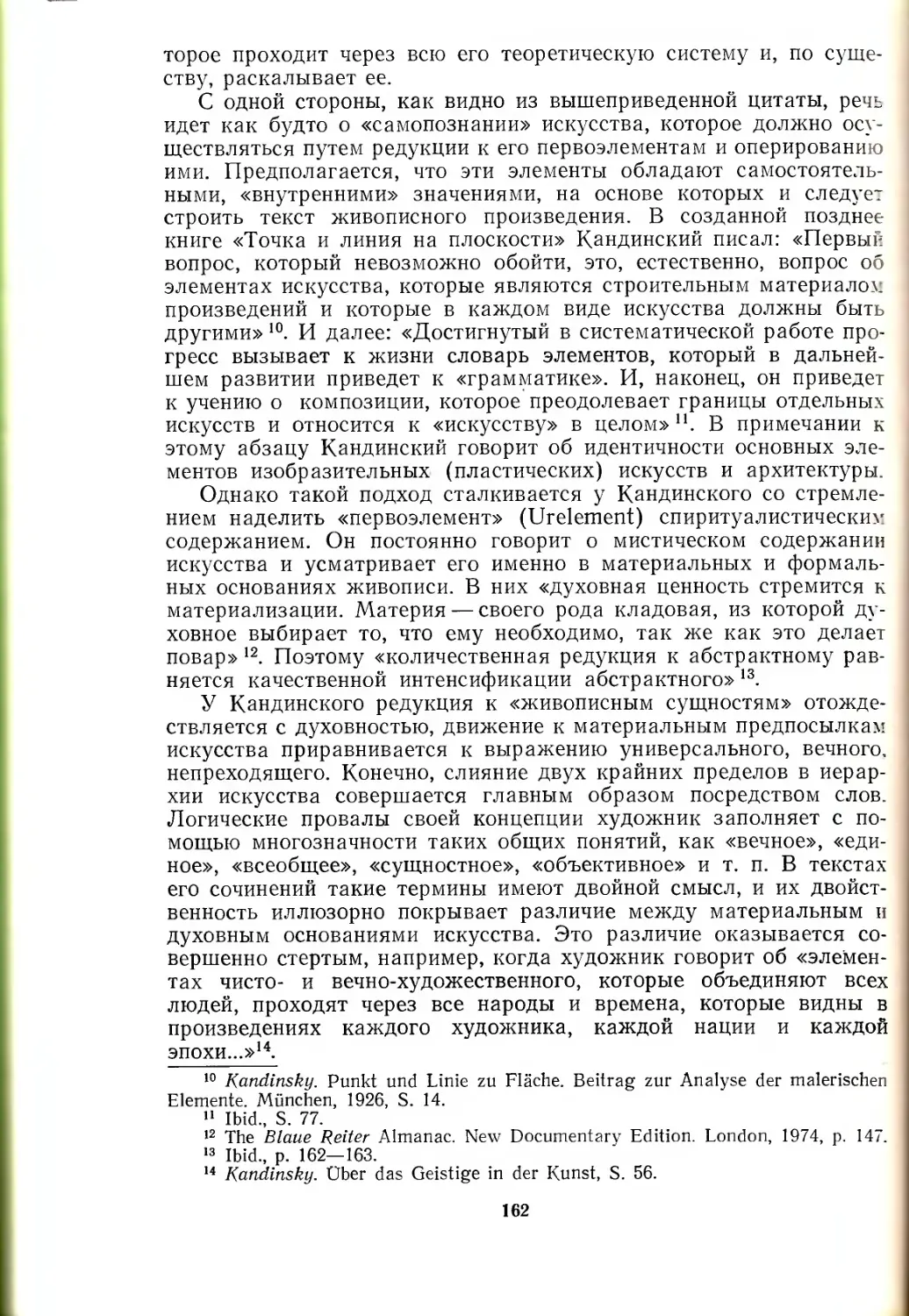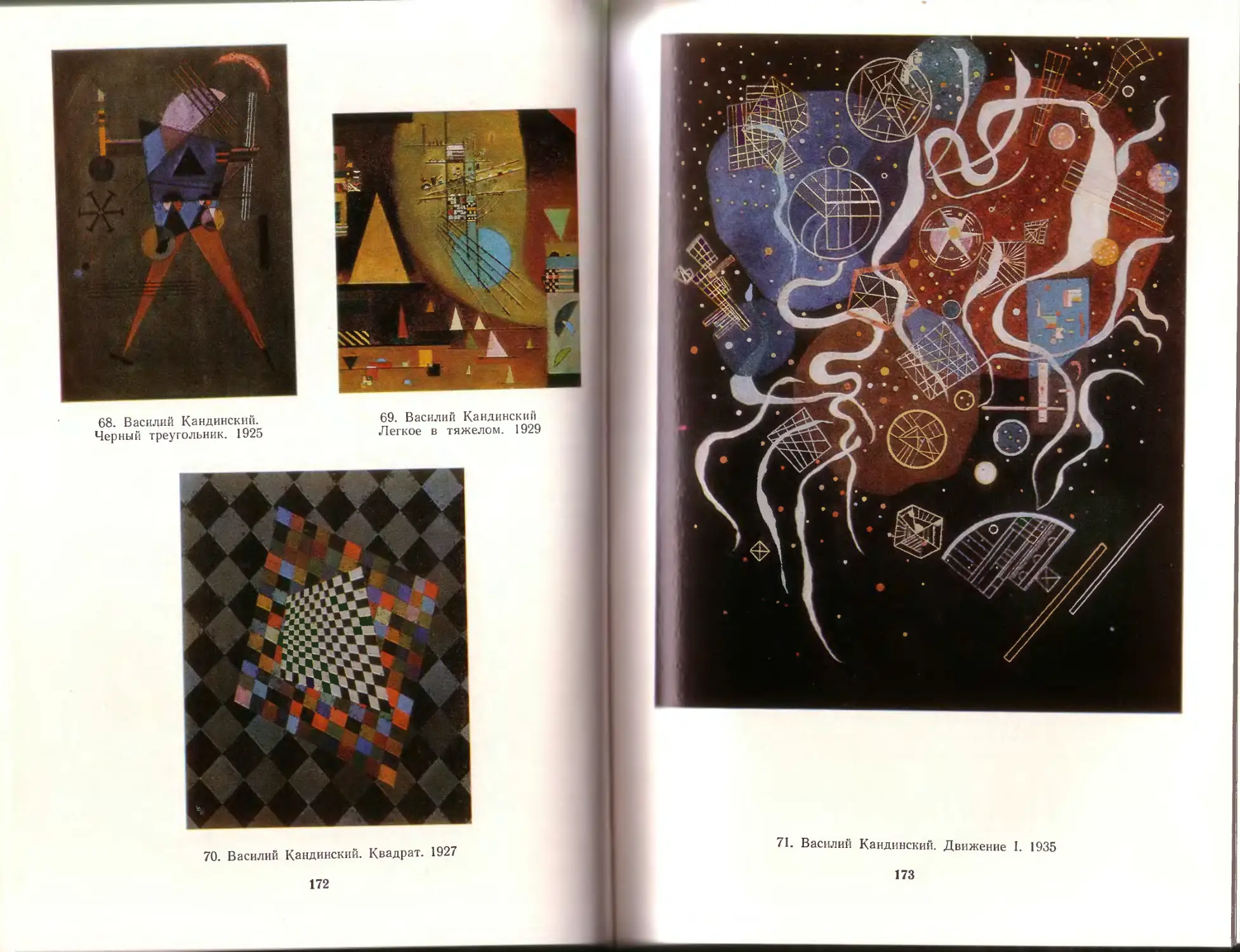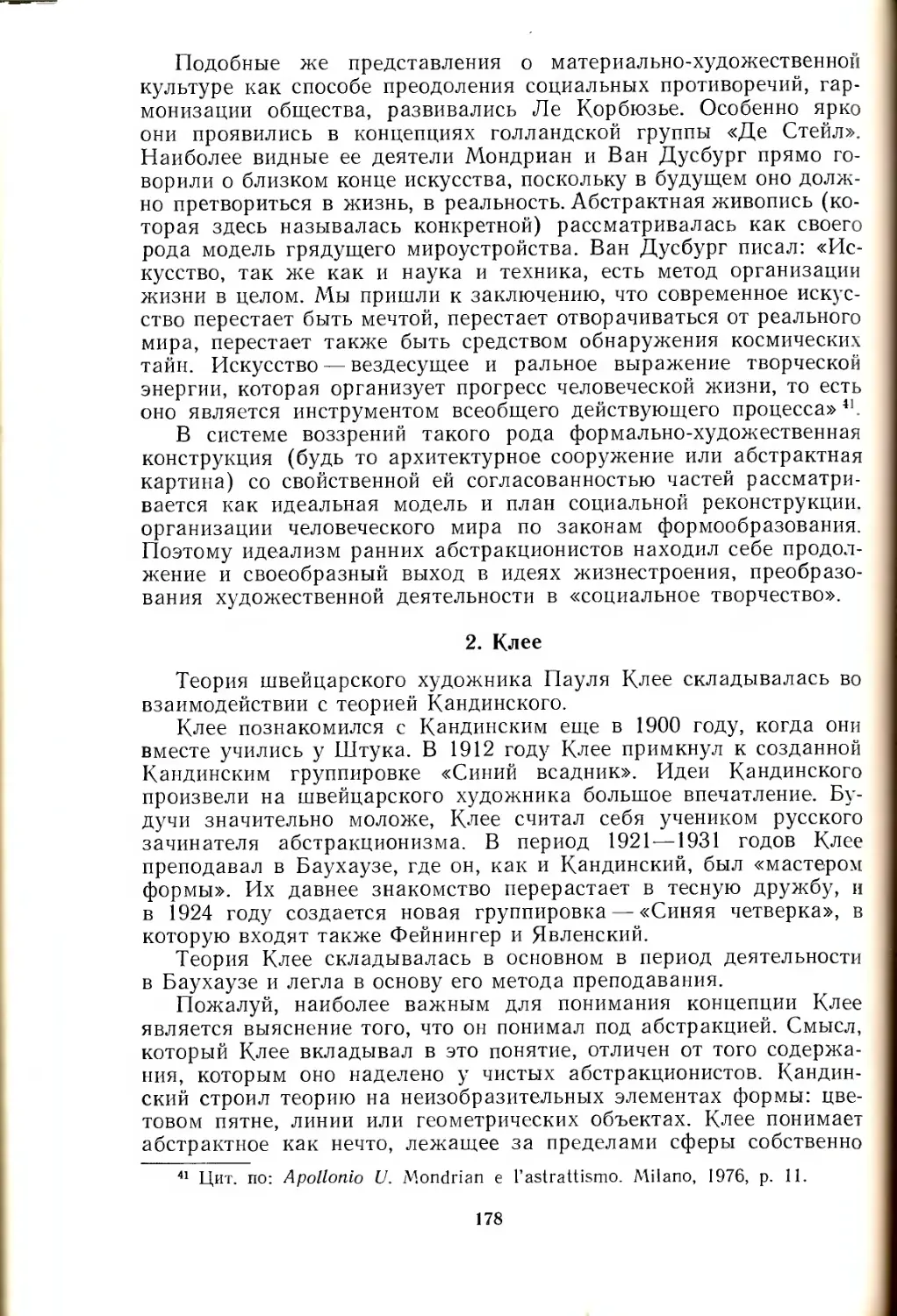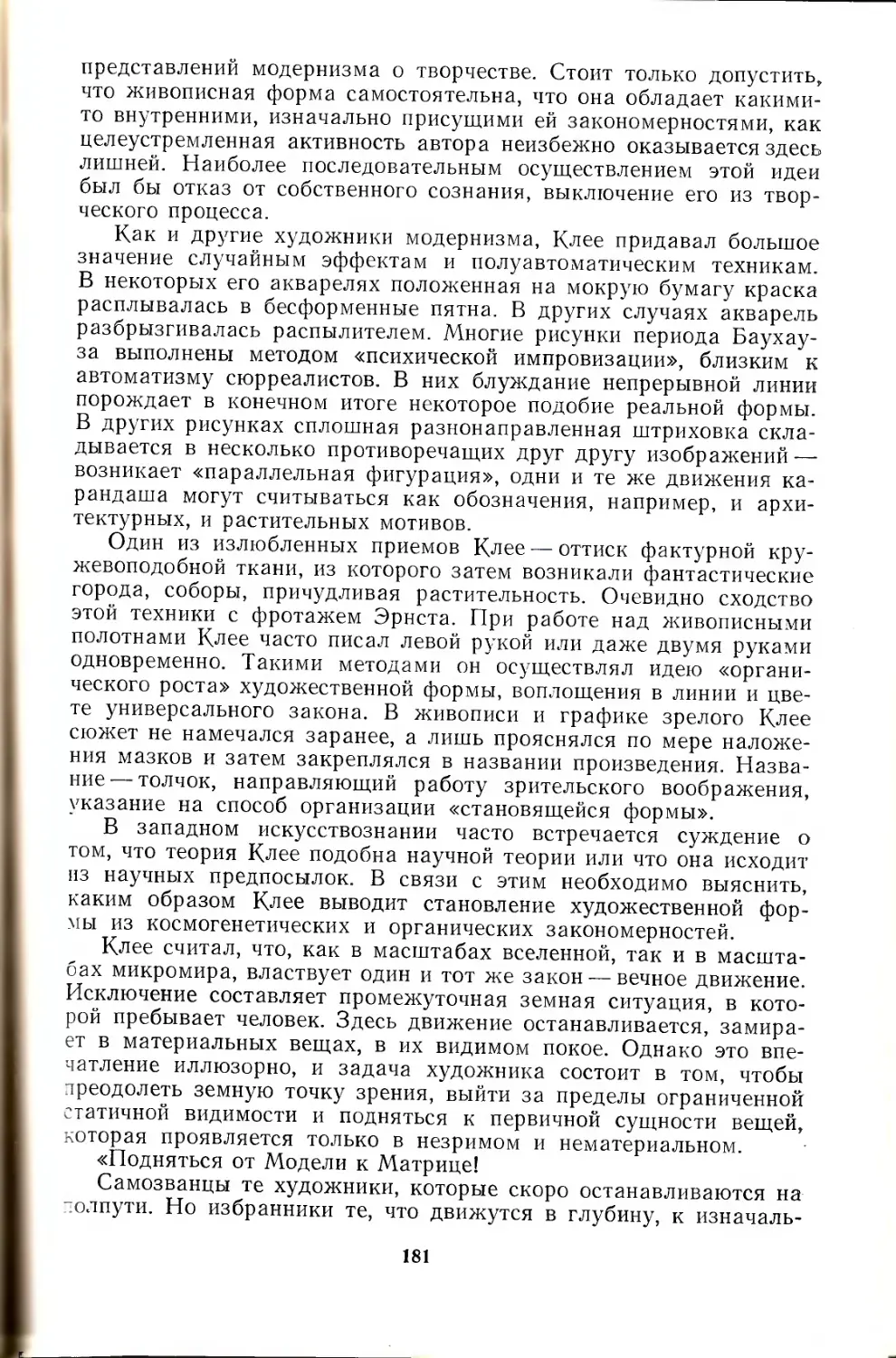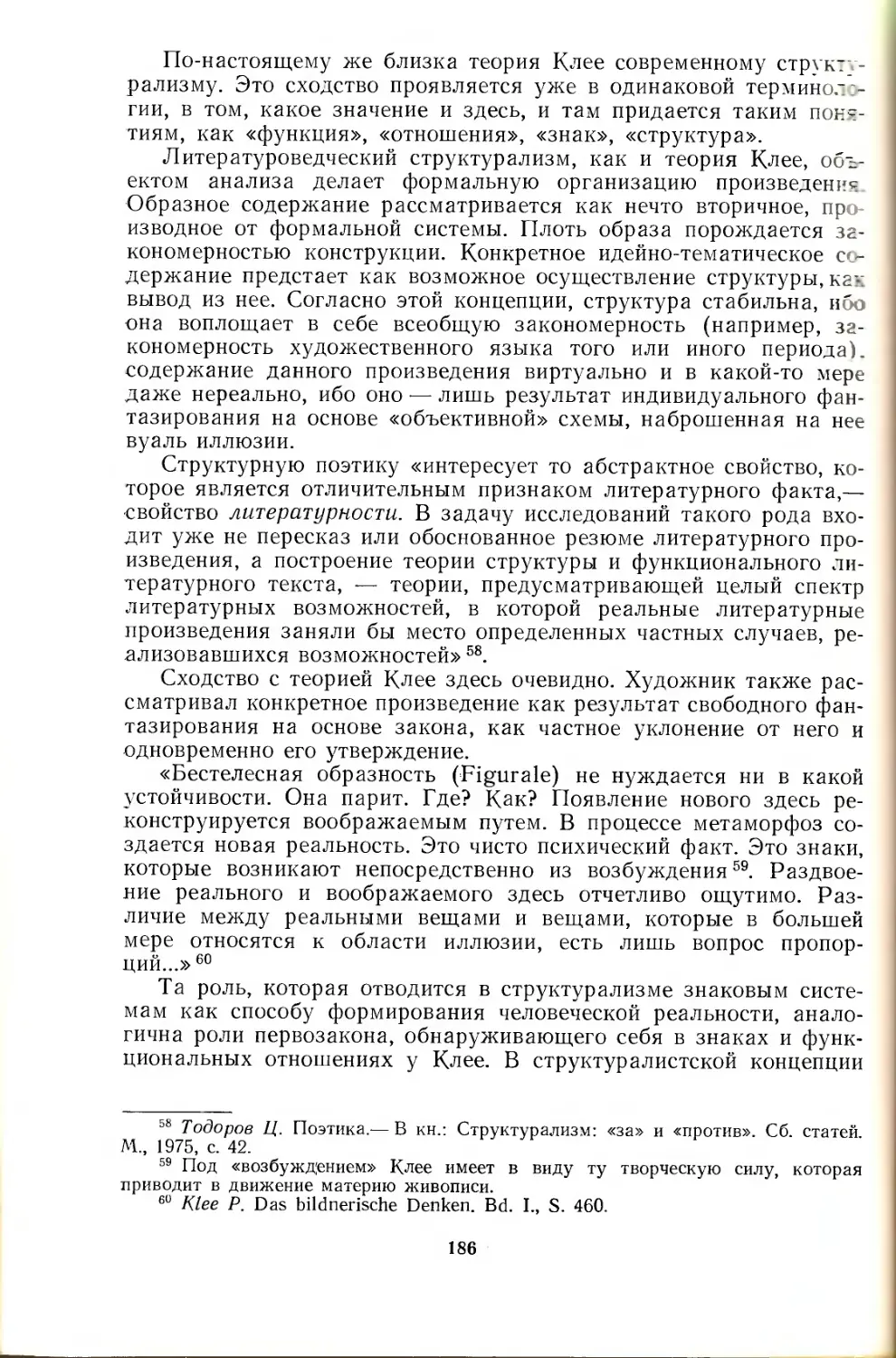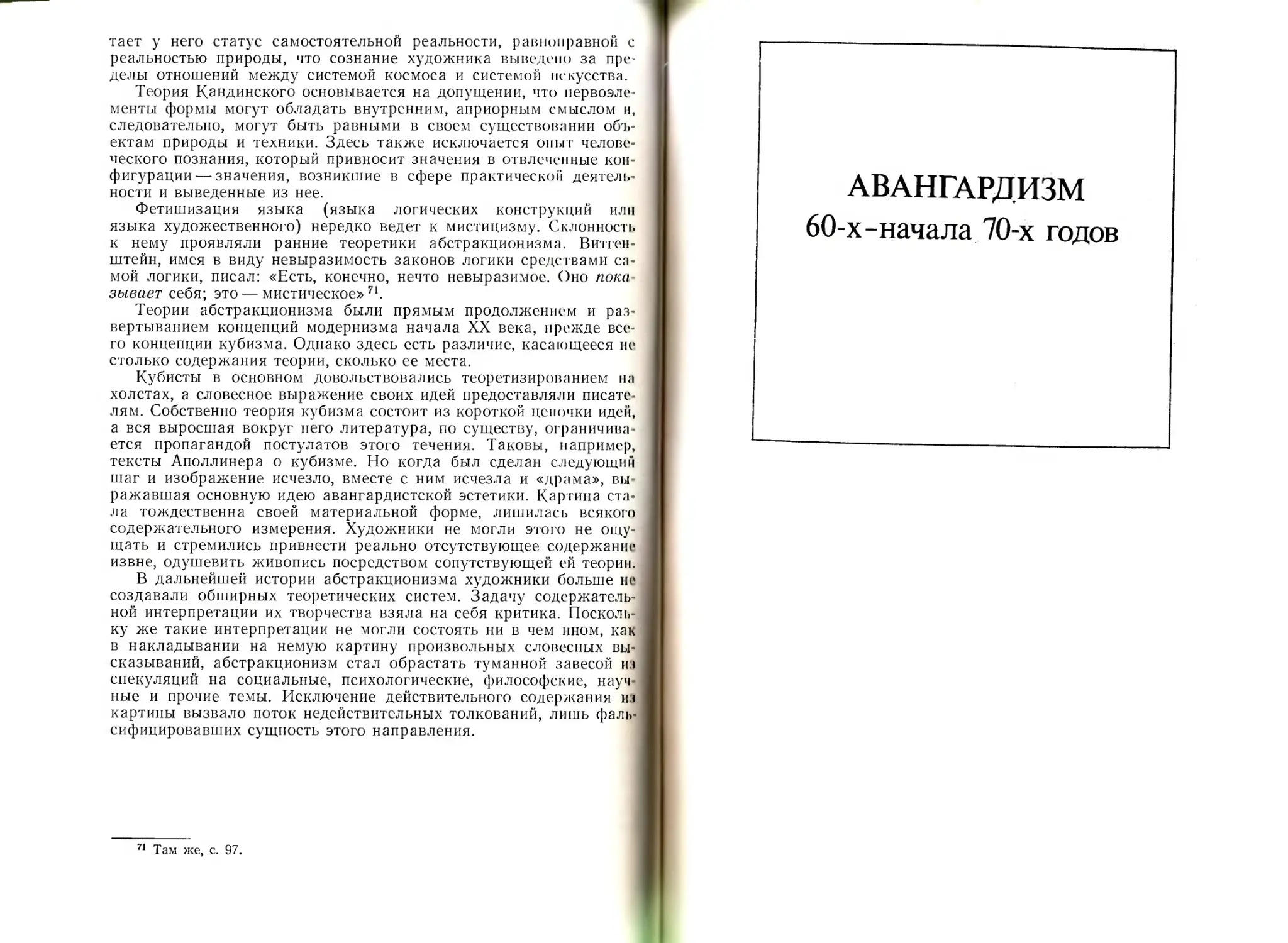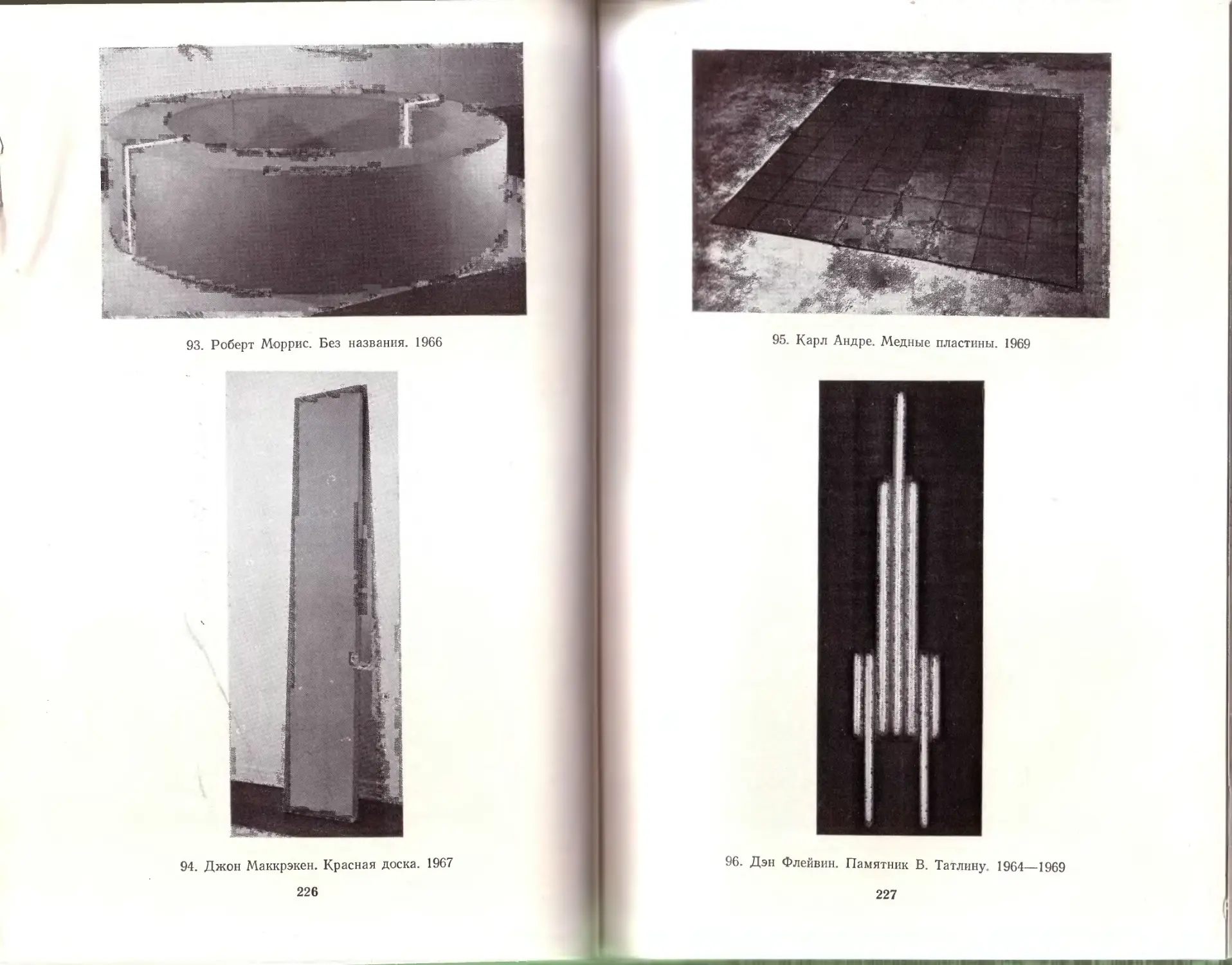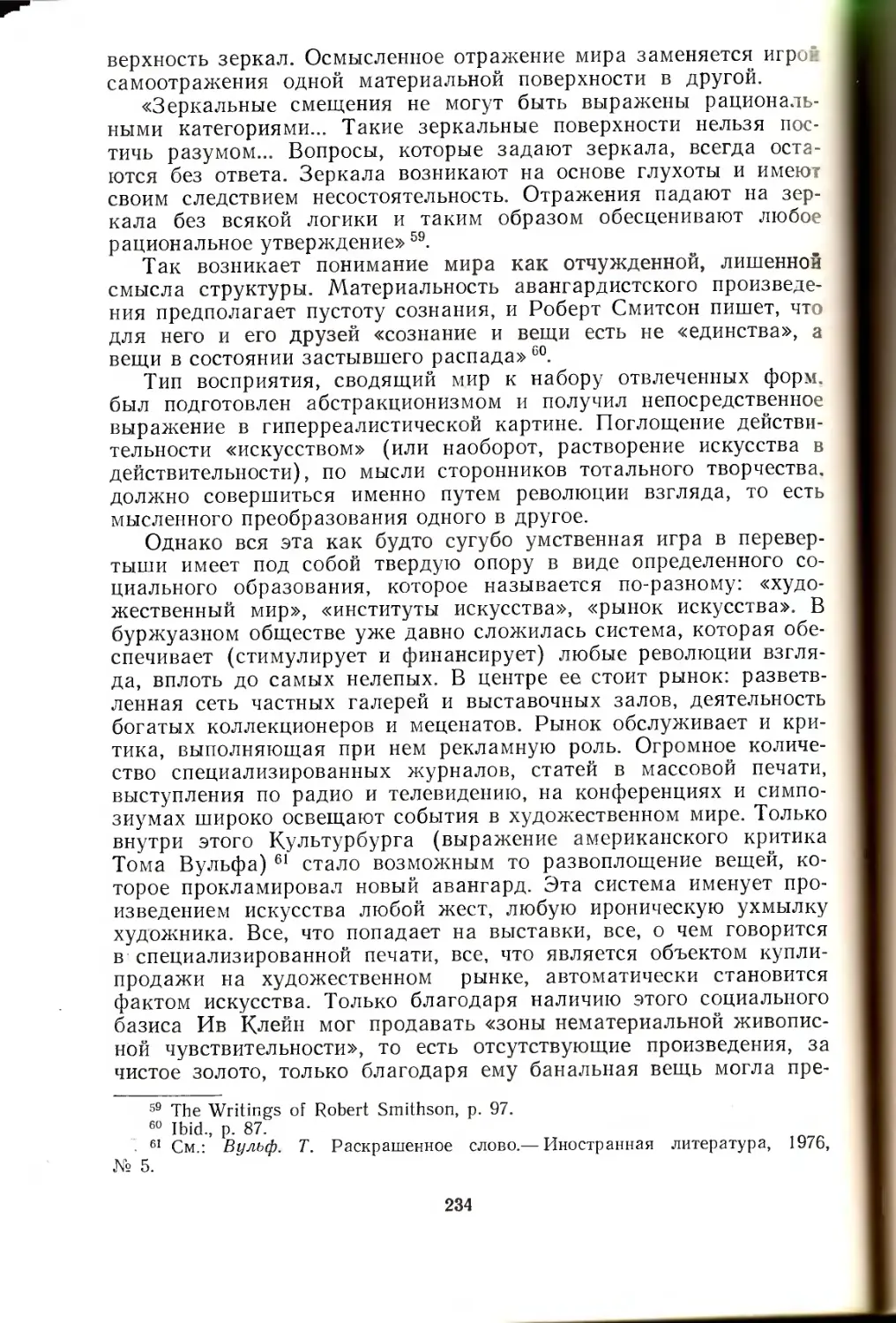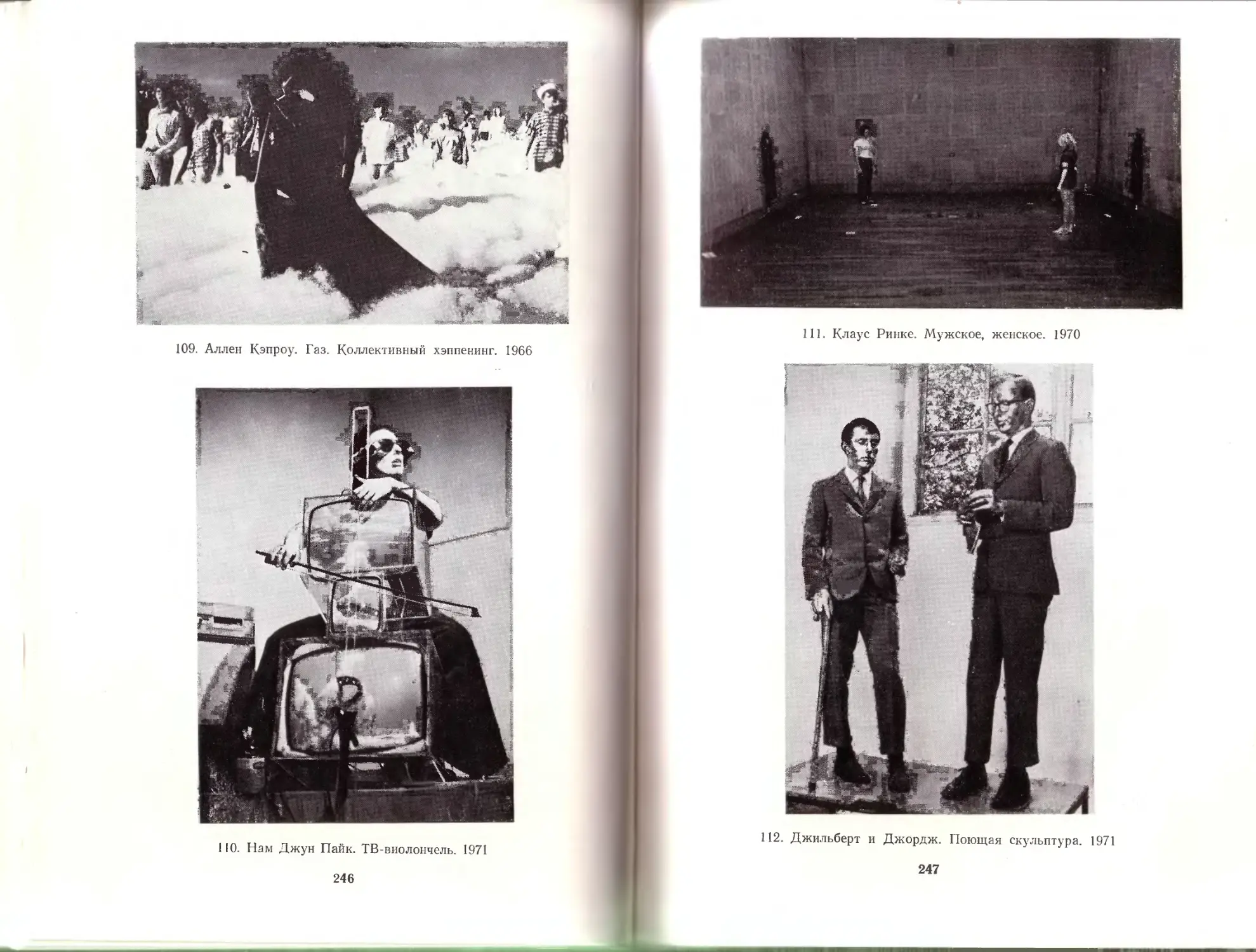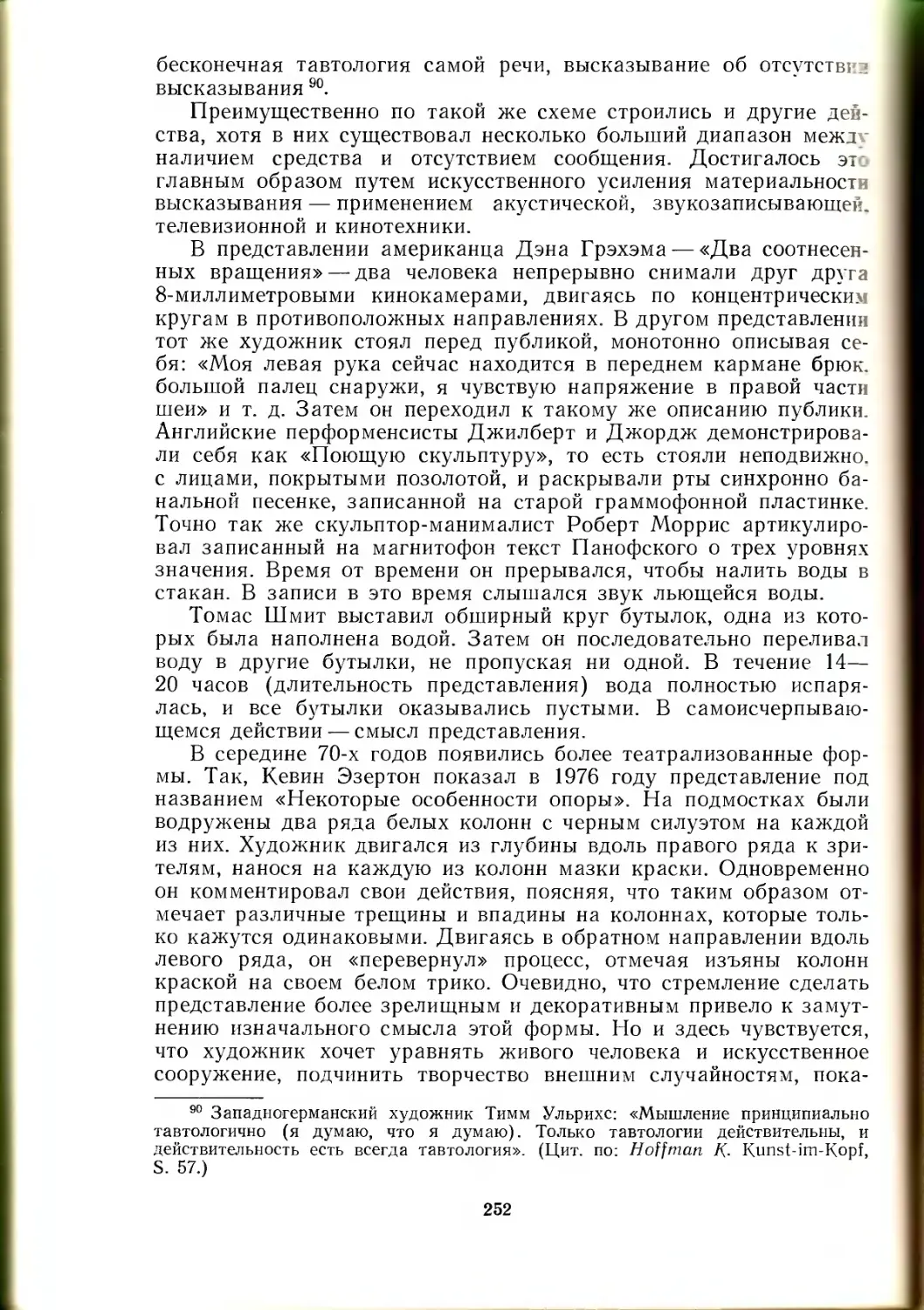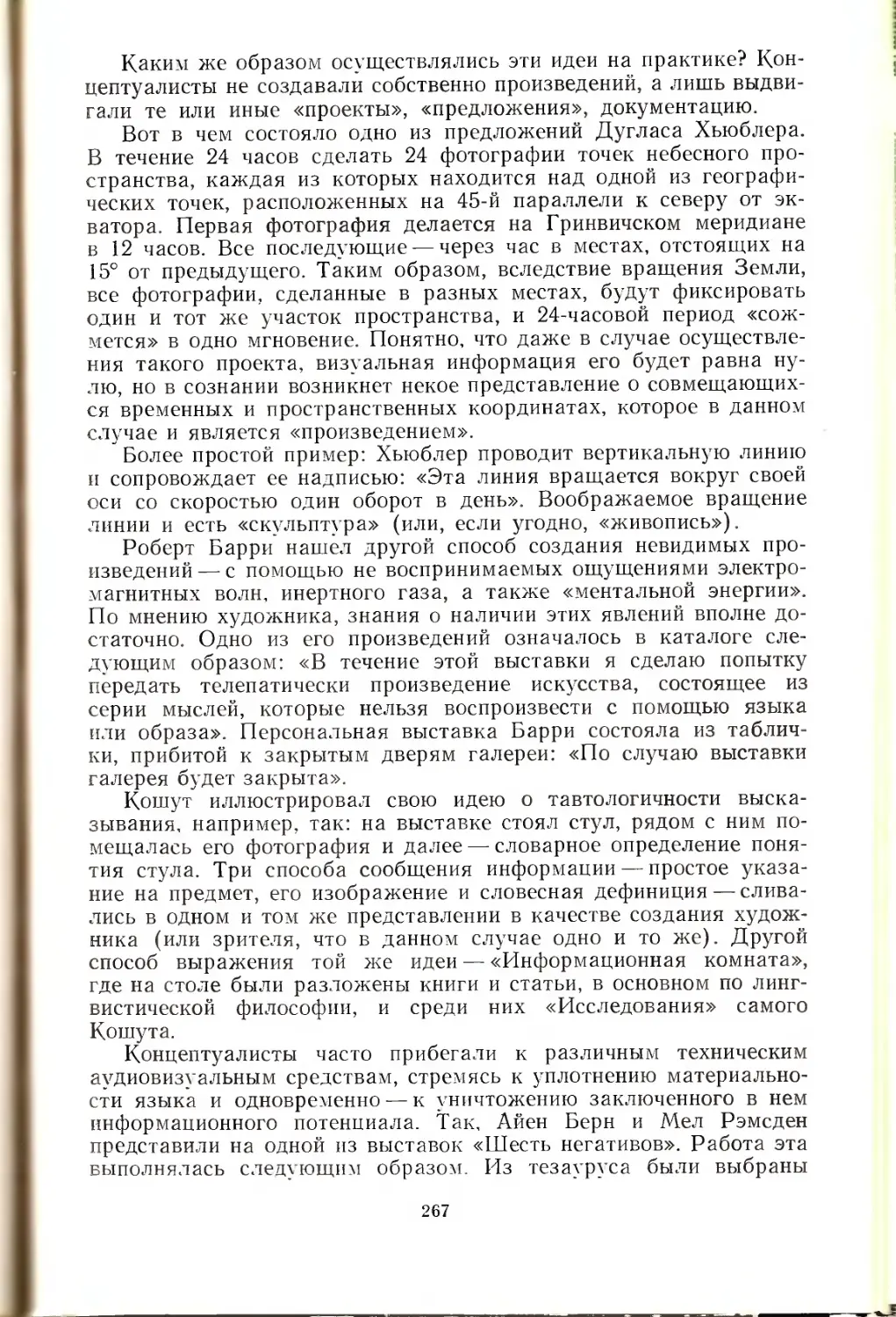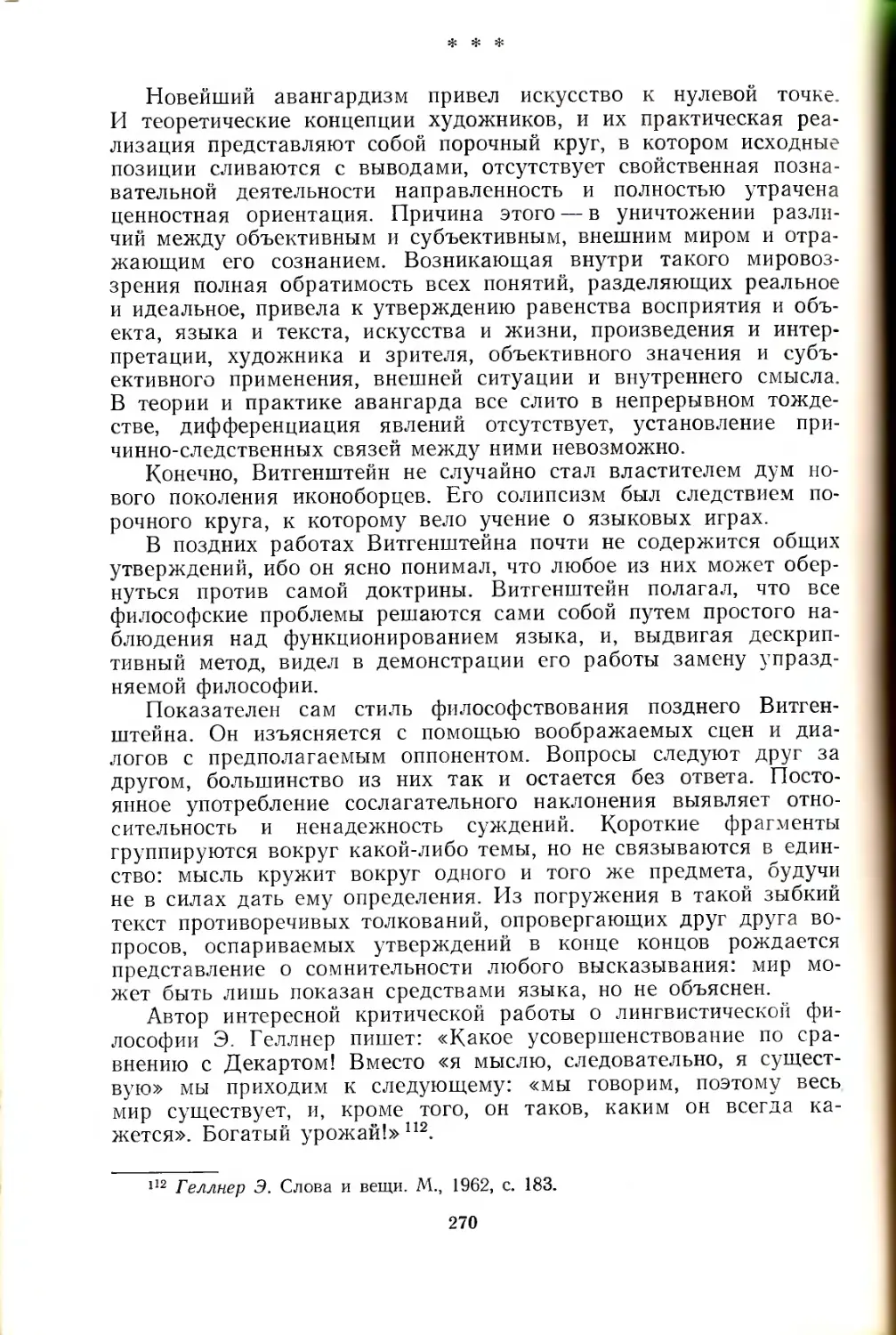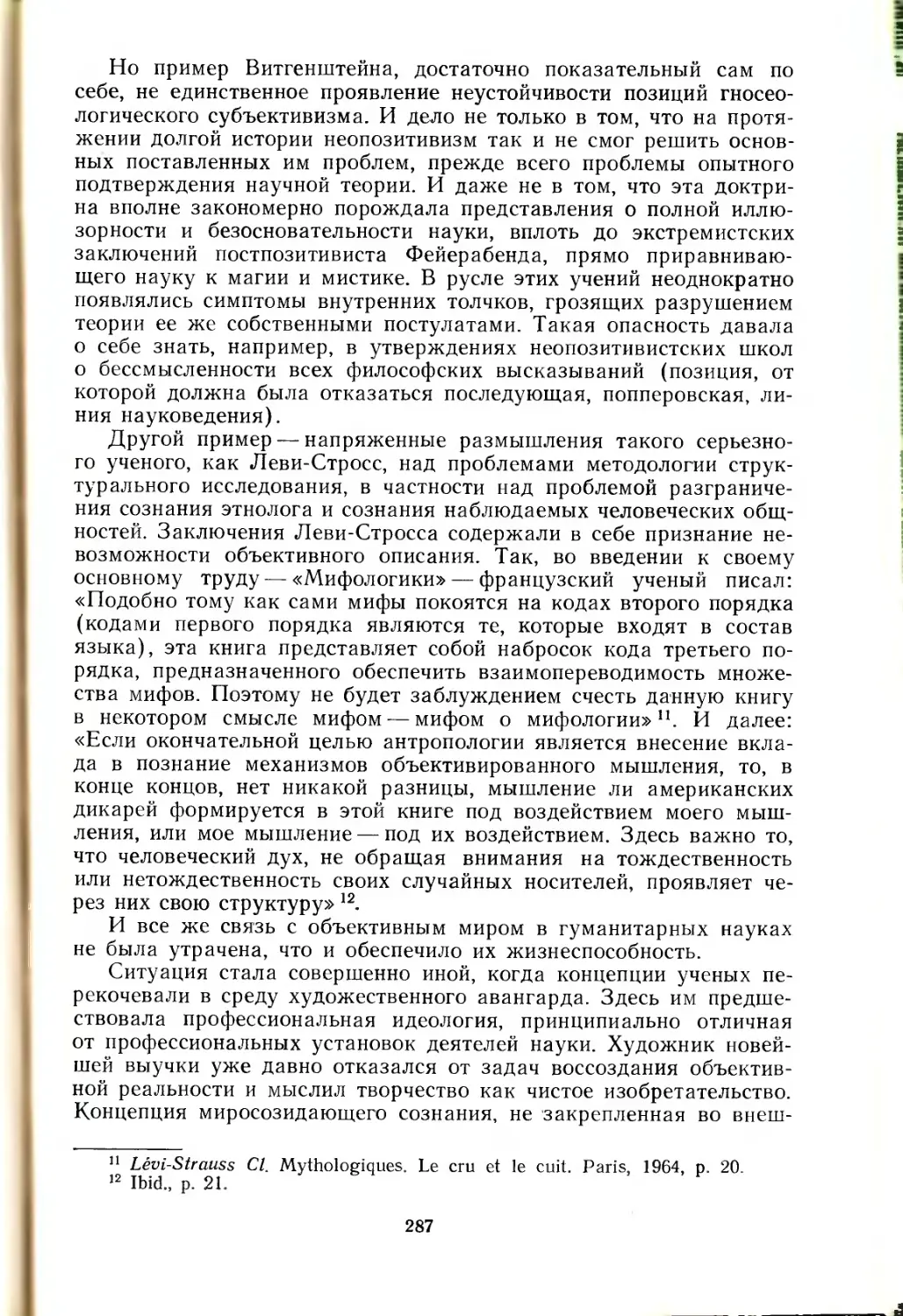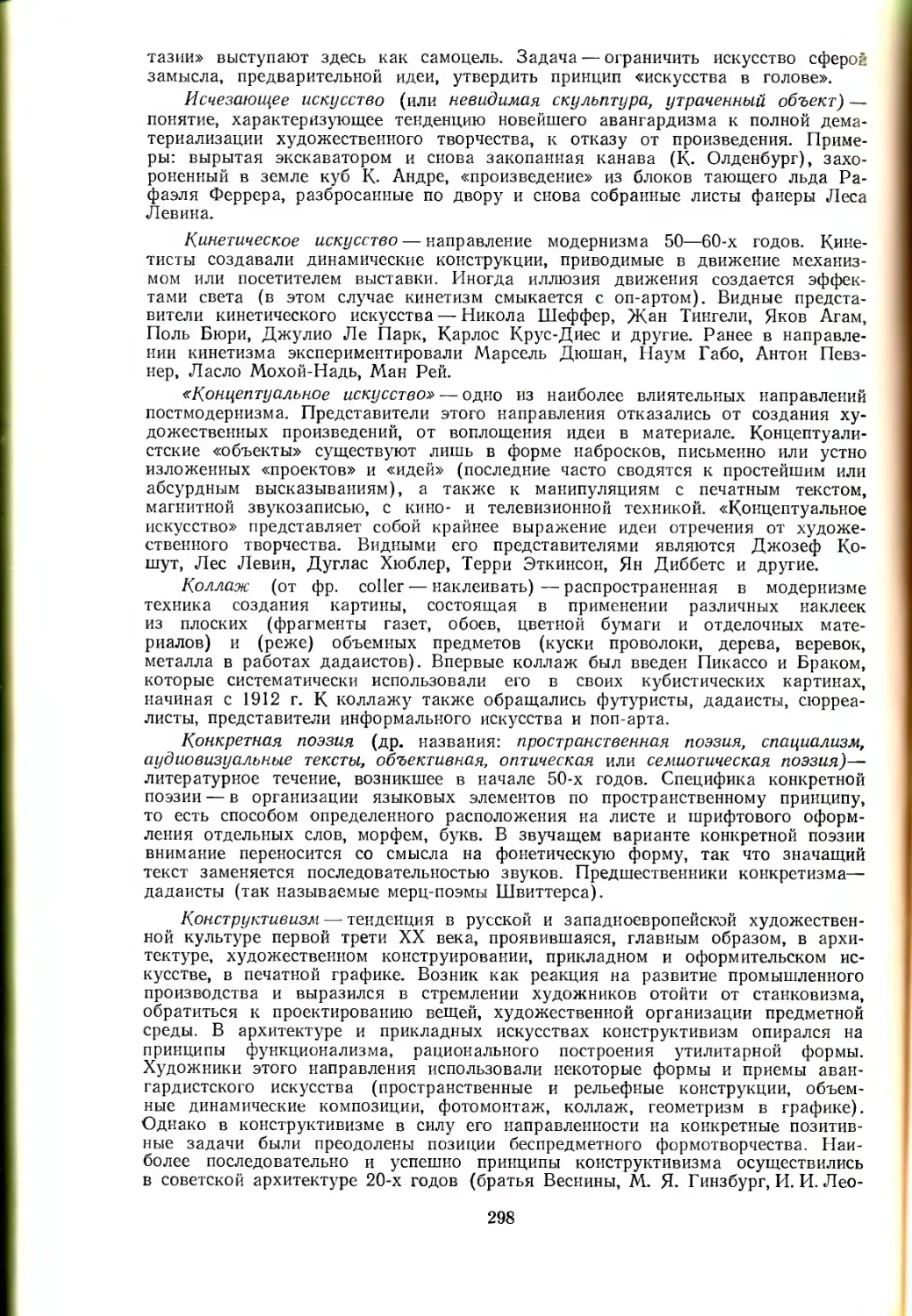Текст
' ^ui;Iil«::S::is
Mii'^zSttt1 •
■•:•;
°Tm«im:::!!!!:*iB2;:!
,.•••••<
ИСКУССТВО И БОРЬБА ИДЕОЛОГИЙ
■■I.*...•..<,
:;;u.
ПШЭДёГ:
■ l|IUi«»«e»ta««
«*::•=
-:;:;#M...-;.
..r..;;a::::
V»?
:;;■
111 ■•*••«••*••
T;if?n:::fii
:i:::»:lis?ee
i*::?Jr 1
CK CCTBO
ТЕОР Я
I
ПРКТИК
ВАНГАР1 ИСТСКИХ
ВИЖЕНИЙ
.,\ i i i IHitl
~—:s:::ie:s:«s:
!SnS!SIS.M..
:i 1
(Ui I* 1 ■
|Г" 1TJ.+4. Ш-
l "
■trrec
- -t-ftr
. 1 ■ U
s
-1
ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ СССР
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
i
i
. witHHtfiftft,>"tr!HTfnw"HJHttMmiiiHHWMHiii m
В.А.КРЮЧКОВА
АНТИИСКУССТВО
ТЕОРИЯ
И
ПРАКТИКА
АВАНГАРДИСТСКИХ
ДВИЖЕНИЙ
МОСКВА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1985
ББК 87.8
К 85
Рецензенты: доктор философских наук, профессор А. Я. ЗИСЬ
кандидат филологических наук П. В. ПАЛИЕВСКИИ
х, 4901000000-128 - Q. ~ лл т* ,
024(01)-85— Издательство «Изобразительное искусство». 1985
Па протяжении нынешнего столетия в западной культуре на-
р;|гтпли тенденции, означавшие радикальное отречение от идеалов,
которые формировались в эпоху подъема буржуазии и
утверждении капиталистического строя. Это направление в эволюции бур-
жу.тиюго мировоззрения возникло еще в середине XIX века и в
последующие десятилетия набирало силу, что было вызвано
Критом капиталистической системы, особенно обострившимся в
нюху империализма, подъема массовых движений и пролетарских
революций.
Новейшие ориентации на антиценности, одержавшие в XX веке
крупные победы, неизменно выступали под лозунгами
«революционною переворота в сознании», «критической переоценки ценно-
< i u'W, «разоблачения лживости буржуазных идеалов»,
«культурною бунта» и т. п. На деле же они означали лишь выворачивание
и.ш.шанку абстрактно-метафизических истин и былых символов
игры буржуазной демократии. Вместо стремления к объективной
in-nine— крайний релятивизм и субъективизм конвенционалист-
■ кп\ концепций; вместо идеалов добра и справедливости — упоение
имморализмом индивидуалистической личности; вместо веры во
in ('могущество человеческого разума-—культ иррационального.
Подобные явления в буржуазной идеологии, сомкнувшись в на-
'i.i.w нашего века с политической реакцией, дали основание Лени-
н\ ч.1я следующего резкого, но справедливого суждения: «В циви-
III нш.'шной и передовой Европе, с ее блестящей, развитой техни-
i.tni, с се богатой, всесторонней культурой и конституцией,
наступи, i гпкой исторический момент, когда командующая буржуазия,
in i-ipnxa перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддер-
ыиигт все отсталое, отмирающее, средневековое»1.
I'Y.'iii классическое миропонимание (при всех неизбежных мо-
ип|»|||\.'|Ц11ях, обусловленных историческим развитием) в целом
• >|мкч11 провалось на человека и на высшие возможности его нрав-
t i питого, интеллектуального и эстетического развития, в
новейших концепциях человека и общества ведущими оказываются силы
\.|(ц\|, жестокой борьбы эгоистических интересов, темные сферы
оггсо.шптельного, энтропия незакономерного или, напротив, жест-
\\\\\\ организованность знаковых систем и машиноподобных обще-
< i питых конструкций. В биологизации человека, с одной стороны,
п п юхппцпстских представлениях об обществе, с другой, вырази-
иш., хотя и не всегда в явной форме, антигуманистические тен-
-iciiiiiiii новейших учений. В них человек, зажатый между
собствен имм иррациональным «естеством» и отчужденным от него
1 .'Icnim И. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 166.
5
На протяжении нынешнего столетия в западной культуре
нарастали тенденции, означавшие радикальное отречение от идеалов,
которые формировались в эпоху подъема буржуазии и
утверждения капиталистического строя. Это направление в эволюции
буржуазного мировоззрения возникло еще в середине XIX века и в
последующие десятилетия набирало силу, что было вызвано
кризисом капиталистической системы, особенно обострившимся в
эпоху империализма, подъема массовых движений и пролетарских
революций.
Новейшие ориентации на антиценности, одержавшие в XX веке
крупные победы, неизменно выступали под лозунгами
«революционного переворота в сознании», «критической переоценки
ценностей», «разоблачения лживости буржуазных идеалов»,
«культурного бунта» и т. п. На деле же они означали лишь выворачивание
наизнанку абстрактно-метафизических истин и былых символов
зеры буржуазной демократии. Вместо стремления к объективной
истине— крайний релятивизм и субъективизм конвенционалист-
ских концепций; вместо идеалов добра и справедливости — упоение
имморализмом индивидуалистической личности; вместо веры во
всемогущество человеческого разума — культ иррационального.
Подобные явления в буржуазной идеологии, сомкнувшись в
начале нашего века с политической реакцией, дали основание
Ленину для следующего резкого, но справедливого суждения: «В
цивилизованной и передовой Европе, с ее блестящей, развитой
техникой, с ее богатой, всесторонней культурой и конституцией,
наступил такой исторический момент, когда командующая буржуазия,
из страха перед растущим и крепнущим пролетариатом,
поддерживает все отсталое, отмирающее, средневековое» К
Если классическое миропонимание (при всех неизбежных
модификациях, обусловленных историческим развитием) в целом
ориентировалось на человека и на высшие возможности его
нравственного, интеллектуального и эстетического развития, в
новейших концепциях человека и общества ведущими оказываются силы
хаоса, жестокой борьбы эгоистических интересов, темные сферы
бессознательного, энтропия незакономерного или, напротив,
жесткая организованность знаковых систем и машиноподобных
общественных конструкций. В биологизации человека, с одной стороны,
и в техницистских представлениях об обществе, с другой,
выразились, хотя и не всегда в явной форме, антигуманистические
тенденции новейших учений. В них человек, зажатый между
собственным иррациональным «естеством» и отчужденным от него
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 166.
5
« m p\p.iniим1.1.1uiu \i пори чком, предстает игрушкой слепых сил,
шпп-миым гп(к(М)пог I и к обьектпвиому знанию, к проявлению соб-
rnicMinMi поли, к целеустремленному действию. Отсюда —
неизбежное гм>.и,жеппе к мистике п агностицизму.
i)iречение or гуманистических идеалов прошлого развернулось
широким фронтом и различных сферах культуры современного
.!.1п;|д;|. Философии п социология, история и эстетика, психология
и ;ш фонологии, искусствознание и литературоведение развивали
p;i i.'iH4iii»ie варианты этих идей.
\*> художественном творчестве обратная направленность
сознании породила множество направлений, известных под общим на-
шннпем модернизма. Отказ от классической традиции — наиболее
очевидная объединяющая их черта. Однако дело не только в том,
что новоизобретенные художественные системы противопоставили
себя «исторически ограниченной» системе классики. «Революция в
художественном сознании» вовсе не привела к искусству, которое
можно было бы поставить в один ряд с неклассическими,
например, первобытными или средневековыми формами (как нас
пытаются и том уверить релятивистские концепции буржуазного
искусствознания). Модернистская перестройка не имела прецедентов в
истории, ибо в результате ее был создан не новый стиль, а
искусство самоотрицания, в котором последовательно уничтожались все
признаки и аспекты художественного творчества.
Это явление заслуживает внимания как раз фактом своей
негативности. Разрушительная работа модернизма небезразлична для
принципов, утверждаемых марксистской теорией искусства.
В данной работе, разумеется, не ставилась задача
всестороннего и исчерпывающего освещения теории и практики модернизма.
Однако выбор отдельных фигур и направлений сделан с учетом
той роли, которую они сыграли. Внимание сосредоточено на
явлениях, составлявших передний край, или так называемый авангард,
модернизма. Книга представляет собой серию очерков, в которых
эстетические концепции и практика движений рассматриваются
в единстве. Особое внимание уделено авангардизму 60 — начала
70-х годов.
Первые удары модернизма были нанесены по принципу
изображения, сердцевине реалистического искусства. В поднятом в
начале XX века бунте против «устарелой» системы изображение
третировалось как фикция, ложная иллюзия. Позднее к этим
воззрениям присоединились теории, в которых реалистический образ
представлялся как пассивный слепок с реальности,
препятствующий выражению активной позиции по отношению к бытию. Не
меньшее распространение получили концепции, трактующие
классическую систему как условную конструкцию сознания, как
выражение определенного, исторически ограниченного мировйдения,
отмененного социальным опытом XX века.
Ввиду того, что вопрос об изображении был таким образом
крайне запутан, необходимо вкратце остановиться на нем.
ЗРЕНИЕ
И
ИЗОБРАЖЕНИЕ.
О ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ
ХАРАКТЕРЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗА
Реалистическое изобразительное искусство воссоздает действи-
uvibiiocTb, основываясь прежде всего на данных зрения. В
современной психологии принято рассматривать акт зрительного
восприятия как простейший познавательный акт. Ученые видят в нем
своего рода прототип и модель любого когнитивного процесса, ибо
по пшкновение зрительного образа подчиняется тем же
закономерностям, которые управляют более сложной познавательной дея-
ЮЛЫЮСТЬЮ.
Зрительный аппарат человека — едва ли не основное средст-
|к> отражения действительности, а значит -— и познания ее
(напомним, что в марксистской философии эти термины используются
h.'iu синонимы). Через зрение человек получает наибольшее
количество информации об окружающем его мире. Эта информация,
K.ik п сообщения, поступающие от других органов чувств, харак-
ц-ртустся своей непосредственностью: материальный мир «отпе-
■1.11минет» в психике свой образ, или, как писал Ленин, «материя
копируется, фотографируется, отображается нашими
ощущениями» 1.
прение и слух отличаются от прочих чувств своей дистанци-
«ншостыо. Здесь информация от внешнего мира поступает не путем
прямого контакта объекта с воспринимающим органом, а посред-
• том волн. Дистанционный характер зрения обеспечивает
человеку по только широкий охват познаваемого материала, но и боль-
|ц\ю свободу по отношению к нему, а значит, и большую объек-
i пппость в его отображении. Рассматривая объекты, человек не
пси hiтывает на себе эффектов их прямого воздействия. В зри-
i с'и.пом восприятии объект отделен от перцепции, благодаря
чему оно и поднимается на уровень созерцания, наблюдения, яв-
ivivici. источником и своего рода протоформой всякого познания.
("оиременная психология выявила большую роль мозга в
возникновении зрительного образа. Правда, различные психологиче-
■ кис школы объясняют эту роль по-разному.
Г.чк, очень влиятельное на Западе направление гештальт-пси-
\<>.юти выдвинуло концепцию встроенных в сознание оперативных
ми-юлой, с помощью которых человек осваивает мир как в пер-
1И-Н1 пнтлч, так и в более сложных познавательных процессах. Од-
п,1 ко т.чкоо представление об априорных формах сознания, орга-
МН1М01Щ1Х человеческий опыт на всех уровнях, от восприятия до
• о i/i;iiiii4 научных концепций, не раз подвергалось критике не
и» п.ко в советской, но и в зарубежной психологической науке.
Hani шлее уязвимое место этой теории — толкование нейрофизиологи-
1 Лгпип П. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 131.
9
ческого аспекта зрительного восприятия: мозг представляется как
некая бесструктурная масса, в которой возникают электрические
ноля, принимающие форму рассматриваемых объектов. Гешталь-
тпсты объясняли рациональность зрения тем, что мозговые «поля»
выстраиваются по принципу наибольшей экономии энергии и,
таким образом, организуют и структурируют ретинальное
изображение. Психические гештальты (целостные формы) преобразуются
по споим собственным законам, безотносительно к реальной
предметной деятельности человека. Априорные схемы накладываются
сознанием на воспринимаемый мир и управляют работой всех
этапов отображения. Понятно, что такое представление об активности
сознания ведет к игнорированию роли прошлого опыта, обучения,
иамягп. В этом упрекает гештальт-теорию, например, известный
английский психолог Грегори, назвавший эпоху ее господства
«темным иском психологии»2.
Гораздо более убедительное объяснение роли сознания в
зрительном восприятии дают те ученые, которые показывают ведущую
роль в перцептивных процессах широко понимаемого
человеческого опыта, различных форм практического освоения
действительности. Из такого представления исходит и Грегори, который
считает, что «наши предварительные знания об объектах
воздействуют даже на элементарные ощущения и восприятия», «информация,
полученная в прошлом опыте, «оживает» в актуальной перцепции»
и «настоящее считывается в терминах прошлого»3.
Действительно, акт зрительного восприятия нельзя
рассматривать как акт изолированный, независимый от предшествующего
обучения, которое проходит человек в процессе многосторонних
контактов с окружающим его миром. И обобщающая опыт
теоретизирующая работа мозга играет здесь существенную, если не
сказать ведущую, роль.
В чем она состоит? Известно, что изображение на ретине
глаза, являющееся своеобразным отпечатком расположенных в поле
зрения форм, подвергается затем перекодированию и в виде
электрических сигналов передается по нервным путям в зрительные
центры мозга. На основании информации, полученной от глаза,
мозг создает образ, причем создает его именно как образ внешний,
развертывающийся вне сознания воспринимающего субъекта.
Изображение на сетчатке (паттерн), по существу, представляет
собой лишь набор цветовых пятен определенной конфигурации.
Однако мы видим объекты. Сознание выводит из сенсорных дан-
пых объективную реальность. При этом в действие включается
категориальное мышление, способность мозга строить гипотезы и
апробировать их.
В обычных условиях, поскольку мы имеем дело с хорошо
известными нам классами предметов и явлений, эти процессы про-
2 См.: Illusion in Nature and Art. Ed. by R. L. Gregory and E. H. Gombrich.
Loudon, 1973, p. 53.
:i Ibid., p. 60, 53.
10
i
текают мгновенно и потому не осознаются. Однако в условиях
затрудненного восприятия (например, в полумраке, в тумане, на
значительном удалении от объекта или в случае, если его
наиболее существенные части скрыты от глаза), когда опознание
протекает медленно, по стадиям, со всей отчетливостью обнаруживается
разумность видения.
Допустим, что во мраке человек с трудом различает некоторую
смутную конфигурацию. В первую очередь он стремится понять,
что это такое. Сознание выдвигает одну из наиболее вероятных в
данных обстоятельствах гипотезу. Например, человек решает, что
это куст. Если в дальнейшем, при приближении к объекту и более
пристальном рассматривании его, какие-то детали противоречат
этому предположению, возникает другая интерпретация
воспринимаемой формы, и так до тех пор, пока концепция объекта не
совпадет полностью с данными зрения. В этом случае гипотеза
оправдана и подтверждена — возникает осознанное видение, видение
в точном смысле этого слова.
Важно обратить внимание на то, что при смене таких гипотез
одни и те же видимые детали всякий раз воспринимаются
по-разному, тем же очертаниям придается различная интерпретация,
отвечающая данному определению объекта. Происходит
переструктурирование зримых форм, которые получают предметное
истолкование в рамках принятой гипотезы4. Таким образом, только при
активном участии исследующего мир сознания из запечатленного
на сетчатке паттерна извлекается объект.
Это положение неоднократно подтверждалось
экспериментально. Так, в одном из опытов Грегори испытуемым предъявлялась
проекция вращающейся изогнутой проволоки. Только в тех
случаях, когда люди знали об этом, зрение верно понимало
изображение на экране. В остальных — возникала иллюзия
извивающейся линии.
Роль понятийных определений в зрительном восприятии можно
показать и с помощью игровых картинок-загадок. В схематическом
рисунке, легко воспроизводимом и нетренированной рукой,
опущены мелкие детали, а наиболее существенные части изображаемого
перекрыты другими элементами. Перед играющими ставится
задача угадать, что это. "Достаточно верно назвать объект
изображения, как все его детали, на первый взгляд бессмысленные,
организуются в образ — мы видим слона, медведя, мексиканца на
велосипеде (см. с. 12).
В этом нетрудно заметить сходство с другими
познавательными процессами. Так, при решении математических задач важно
прежде всего внимательно ознакомиться с исходными данными,
затем мысленно организовать их в некоторую структуру, найти
4 Зависимость восприятия конфигурации от ее истолкования наглядно ил-
.тюстрнруется известными опытами, в которых различные испытуемые
проецировали на случайное пятно различные образы и соответственно им по-разному
видели детали очертаний.
11
>
г
Купающийся слон
>£
Медведь,
карабкаю
щийся по
стволу
Мексиканец на велосипеде
такие связи между объектами, которые приведут к верному
решению. Это особенно ясно на примере решения геометрических задач.
Аналогичным путем создается и научная теория.
Экспериментально найденные факты побуждают к работе теоретическую мысль
ученых, которые выдвигают определенную систему понятий,
устанавливают отношения между ними, то есть создают концепцию,
в рамках которой все опытные данные получают объяснение. Если
вновь открытые данные противоречат существующей теории,
выдвигается новая концепция, которая может быть основана на иной
понятийной системе. Эта более широкая теория должна охватить и
новый экспериментальный материал. То есть происходит
переструктурирование исходных данных. Таким же образом
протекают и другие эвристические процессы (например, техническое
изобретательство, поиски выхода в проблемной ситуации): от анализа
исходных данных к их синтезированию в объясняющей схеме,
ведущей к верному решению.
Очевидно, такая изоморфность зрительного восприятия и
познавательных процессов более высокого уровня не случайна. Она
указывает на эвристическую природу человеческого видения, в
котором реализуется активное отношение субъекта к
окружающему его миру. Тщательно проведенные эксперименты приводят
различных ученых к этому выводу.
«Мы теперь понимаем восприятие как процесс активного
построения и апробирования гипотез»5, — пишет Грегори.
Дж. Брунер подчеркивает, что акт категоризации, одна из
главных характеристик восприятия, является свойством познания
вообще6.
Американский психолог и искусствовед Рудольф Арнхейм
утверждает, что «познавательные операции, называемые мышлением,
не являются привилегией только умственных процессов,
протекающих над и по ту сторону перцепции, они — существенные
составляющие самой перцепции... Они являются методом, с помощью
5 Грегори Р. Л. Разумный глаз. М., 1972, с. 173.
(i См.: Ипунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной ин-
фгфмнщш. ЛС 1977, с. 13.
12
которого сознание человека и животного на любом уровне
обрабатывает познавательный материал»7.
Рациональность нашего зрения, его тесная связь с мышлением,
по-своему отражена в языке. В русском, например, существует
множество слов и устойчивых словосочетаний, обозначающих
зрительные феномены, но относящихся к мышлению: мировоззрение,
кругозор, предвидение, прозорливость, предусматривать, видеть
сущность, точка зрения, научные взгляды, рассмотрение проблем,
зоркая мысль, видны противоречия, смотреть в корень и другие.
Точно так же во французском и английском языках глаголы «voir»
и «to see» имеют помимо исходного значения «видеть», также и
переносное — «понимать».
Доказанная психологией активность сознания в зрительном
восприятии не означает субъективного произвола. Напротив,
деятельность мозга как раз способствует объективации ощущений —
предмет высвобождается из дорефлективной, «слепой»
чувственности. Происходит это потому, что, создавая объект-гипотезы
(термин Грегори), мозг опирается на хранящуюся в памяти
информацию о прошлом опыте. Человек прежде неоднократно
рассматривал предметы, осязал их, оперировал ими, использовал в своей
практической деятельности. Познав на опыте истинные размеры
предметов и расстояния между ними, он верно оценивает
перспективные сокращения; по этой же причине чисто визуальная
информация дает возможность делать верные заключения о весе,
плотности объектов, их пространственном положении.
Зрение опирается на знание и, в свою очередь, ведет к новому
знанию. Зрение не только помнит, но и предвидит, определяет
будущие действия человека. Как пишет Брунер, «категоризация
объекта при восприятии служит основой для соответствующей
организации действий, направленных на этот объект»8.
Зрительное восприятие, протекая внутри широко понимаемого
человеческого опыта, само постоянно подвергается апробированию и
корректированию со стороны практики. «Акт исследования может
исправить ошибку восприятия, хотя чисто интеллектуальное
знание не позволяет этого. Чтобы перцептивное и интеллектуальное
знание совпали, необходимо действие»9. Так, в ходе
практического освоения мира человек одновременно учится видеть его.
Определенная ограниченность западной психологии состоит в
том, что ход зрительной перцепции рассматривается ею как
процесс, замкнутый в индивидуальном сознании и изолированный от
исторического становления человеческой чувственности. Между
тем обобщенные образы, которые возникают в сознании индивида
при созерцании внешнего мира (как бы мы их ни называли —
«концепциями», «гипотезами» или «категориями»), являются лишь
частным случаем проявления идеального, которое формируется в
7 Arnheim R. Visual Thinking. Berkley and Los Angeles, 1969, p. 13.
8 Брунер Дж. Психология познания, с. 18.
9 Грегори Р. Л. Разумный глаз, с. 29.
13
результате действенного освоения мира природы человеческим
обществом. Маркс и Энгельс показали, что «существеннейшей и
ближайшей основой человеческого мышления является как раз
изменение природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум
человека развивался соответственно тому, как человек научался
изменять природу» 10.
Разъясняя обусловленность индивидуального познания
универсальной общественно-исторической практикой, советский философ
Э. 1*. 11льенков писал: «Между тем все без исключения общие
образы рождаются не из всеобщих схем работы мышления и
возникают вовсе не в акте пассивного созерцания нетронутой
человеком природы, а формируются в процессе практически-предметного
ее преобразования человеком, обществом. Они возникают и
функционируют как формы общественно-человеческой детерминации
целенаправленной воли отдельного лица, т. е. как формы активной
деятельности. Причем общие образы откристаллизовываются в
составе духовной культуры совершенно непреднамеренно и
независимо от воли и сознания отдельных людей, хотя и посредством их
деятельности. В созерцании же они выступают именно как формы
вещей, созданных человеческой деятельностью, или как «печати»,
наложенные на естественно-природный материал активной
деятельностью человека, как отчужденные во внешнем веществе
формы целенаправленной воли»11.
Поэтому в работе человеческой перцепции находят себе
отражение более универсальные закономерности деятельности
сознания, вскрытые марксистской философией.
«Идеальное и есть не что иное, как совокупность осознанных
индивидом всеобщих форм человеческой деятельности,
определяющих как цель и закон волю и способность индивидов к деянию.
Само собой понятно, что индивидуальная реализация идеального
образа всегда связана с тем или иным отклонением, или, точнее,
с конкретизацией этого образа, с его корректировкой в
соответствии с конкретными условиями, новыми общественными
потребностями, особенностями материала и т. п. А значит, предполагает
способность сознательно сопоставлять идеальный образ с
реальной действительностью, еще не идеализованной» 12.
Сфера идеального формируется, с одной стороны, в общении
с другими людьми, ведущем к усвоению социального опыта, а с
другой-—в целесообразном действии, в трудовом акте, то есть в
результате подключения индивида к социальной практике.
Марксистская психология убедительно показала это наблюдениями за
развитием детской психики, исследованиями процессов обучения.
Маленький ребенок, например, не способен к мысленным
операциям с объектами — даже при счете ему необходимо прикасаться
рукой к предметам. Только в результате практического решения
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 545.
11 Ильенков Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М.,
1974, с. 186.
12 Там же, с. 186.
14
разнообразных задач, возникающих в процессе освоения мира,
происходит становление идеального, его эмансипация от
физических манипуляций с предметами. Праксеологическая трактовка
восприятия подтверждается экспериментами советских психологов,
выявивших роль перцептивных действий в формировании
зрительного образа 13.
Идеальный образ возникает прежде всего как цель, как
мысленный план действия. Опережающее отражение действительности
человеком проявляется в построении идеальных гипотетических
моделей, предвидении результатов, в преобразовании прошлого
(фонд памяти) в будущее (цель). Общие закономерности
формирования идеального управляют и человеческим зрением, которое
также включает в себя прогноз, осуществляется как своего рода
умозрение.
В свете вышеизложенного становится особенно очевидной
глубокая правота Маркса, отмечавшего, что «чувства
непосредственно в своей практике стали теоретиками. Они имеют отношение к
вещи ради вещи, но сама эта вещь есть предметное человеческое
отношение к самой себе и к человеку...» 14. Видный советский
психолог С. Л. Рубинштейн в связи с этим писал: «Это замечание
Маркса в краткой формуле выражает основной и самый
значительный факт, вскрываемый наиболее глубокими современными
исследованиями об историческом развитии восприятия: высвобождение
восприятия из поглощенности действием, превращение
ситуационных объектов действий в константные предметы и высших форм
человеческого восприятия — особенно зрительного, осязательного —
в формы предметного, «категориального», теоретического сознания,
являющиеся и результатом, и предпосылкой более совершенных
форм человеческой деятельности» 15.
Таким образом, практика, содержание материалистически
понимаемого опыта (индивидуального и социального), является
исходным и завершающим звеном в процессе человеческого
постижения действительности, идет ли речь о чувственности или о
мышлении. Процесс зрительного восприятия проходит, хотя и в
сокращенном виде, те этапы, которые были определены Лениным как
ступени диалектического познания истины: «От живого созерцания
к абстрактному мышлению и от него к практике»^. Это дает
основание рассматривать человеческое видение и как исходную ступень
познания, и как собственно познавательный акт в точном смысле
этого понятия.
Познание действительности посредством зрения лежит в
основе реалистического изображения. Представление о том, что
художник-реалист пассивно копирует действительность, не имеет под
собой серьезных оснований.
13 См.: Зинченко В. П. и Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного
образа. Исследование деятельности зрительной системы. М., 1969.
14 Маркс К-, Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 592.
15 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976, с. 35.
16 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 152—153.
15
Г><) мерных, процесс рисования с натуры не может сводиться
к мроги>м\ копированию хотя бы потому, что художник воспро-
п iiifi-in i" ее своими средствами, которые, строго говоря, имеют мало
нищего е самом натурой. Даже в тех случаях, когда художник
пани г перед собой единственную задачу — создать максимальное
шмпоиг видимого, он должен проанализировать свои зрительные
<мц\чцеини, обособить от физического объекта его чисто
визуальные характеристики, а затем найти в средствах графики или жи-
поинеи точный эквивалент реальных соотношений форм и цветов.
IIIIыVIи словами, иллюзорное изображение — воссоздание
видимого, его реконструкция в ином материале, и возможно это только
и результате абстрагирующей деятельности сознания, в результате
отвлечения от предмета его кажимости, исследования
закономерностей формирования зрительного образа.
Во-вторых, в процедуре создания реалистического изображения
повторяется в развернутом виде тот процесс, который мгновенно
осуществляется в зрительном восприятии. Этот очень интересный
аспект проблемы подробно освещен в основательной работе
английского искусствоведа Эрнста Гомбриха «Искусство и
иллюзия» 17.
Гомбрих в целом исходит из вышеизложенной психологической
теории и развивает мысль о том, что результат наблюдения
натуры первоначально фиксируется в виде некоторой концептуальной
схемы, «диаграммы» (являющейся аналогом объект-гипотезы в
зрительном акте), а затем путем ряда последовательных сличений
этой пробной модели с действительным образом внешнего мира
схема корректируется, шаг за шагом приближаясь ко все более
точному воспроизведению визуальных характеристик реальности.
Динамику становления реалистического (по терминологии
автора книги, «иллюзионистического») изображения Гомбрих
прослеживает в двух направлениях — индивидуальном
(возникновение отдельного произведения) и историческом (формирование
новоевропейской изобразительной системы в период от
проторенессанса до импрессионизма) —и выявляет структурные соответствия
этих процессов. Выглядит это следующим образом.
Создавая изображение, художник начинает с построения его
приблизительной схемы: намечает распределение основных масс,
устанавливает пропорциональные соотношения, оперируя при этом
геометризированными формами, отвлеченными от
воспринимаемого объекта. Затем путем последовательного сопоставления этой
конструктивной гипотезы с натурой он движется ко все большему
ее уточнению. Так интеллектуальная схема предварительного
замысла постепенно наполняется плотью живого образа. Такой
метод был выработан в ходе развития новоевропейской
художественной культуры; позднее он был закреплен в академиях, принят
как норма в преподавании изобразительной грамоты. В нем исход-
17 См.: Gombrich E. H. Art and Illusion. A Study in the Psychology of
Pictorial Representation. Washington, 1960.
16
ная модель подвергается дальнейшему испытанию реальностью,
аналогично тому, как научная гипотеза проверяется рядом
экспериментов. Преодоление схемы в окончательном индивидуальном
образе, передающем наиболее тонкие эффекты и градации натуры,
лишь подтверждает ее оперативную действенность. Если формула
развертывается в живой образ, значит она истинна.
Аналогичную последовательность видит Гомбрих и в процессе
исторического развития иллюзионистической изобразительной
системы. Здесь роль предварительной концептуальной конструкции
берет на себя стиль. В нем воплощен предшествующий опыт
изобразительной деятельности и ее итог — схема, подлежащая
дальнейшему корректированию. Художник всегда работает в
соответствии со сложившейся до него традицией, однако художник
новоевропейской формации лишь исходит из ее норм, но не подчиняется
им полностью. Ему присуще стремление превзойти выработанный
канон, оттолкнувшись от него, приблизиться к более верному
отображению мира, скорректировать зафиксированную в стиле схему.
Таким путем он находит более тонкие способы передачи натуры,
и его находки включаются в общий свод художественного опыта,
который, в свою очередь, служит отправной точкой для других
поколений художников. Так движется история
иллюзионистического изображения, постепенно овладевающего все более сложными
методами воспроизведения видимого. Это процесс безусловно
прогрессирующий, как и любой процесс накопления и развития
знания. Гомбрих видит прогресс в искусстве не в повышении
художественного качества, а в нарастающем преодолении схематической
условности, в познании объективных закономерностей визуальных
феноменов, в непрерывном совершенствовании средств на пути к
достоверной имитации натуры.
Стилевая традиция выполняет в этом процессе функцию
направляющей конструктивной гипотезы, которая, как и в
зрительной перцепции, складывается на основе предшествующего опыта и
затем апробируется художником в его собственной деятельности.
Способ такого апробирования также аналогичен протеканию
индивидуального видения: от конструирования модели — к ее
сравнению с реальной формой, от гипотезы — к испытанию ее верности
в практике. Стиль, в котором обобщен исторический опыт,
является, следовательно, коррелятом, с одной стороны, индивидуальной
памяти, а с другой — профессионального обучения художника.
Таким образом, один и тот же процесс воспроизводится в трех
сферах: зрительного восприятия, индивидуального творчества и
исторической эволюции изобразительного искусства. Структурное
подобие здесь не случайно, ибо все три процесса являются
эвристическими по своей сути: в них проявляются закономерности,
свойственные движению познания вообще. Во всех трех сферах —
онтогенеза изображения (его индивидуального становления),
филогенеза (его исторического развития) и их протоформы
(зрительного восприятия)—происходит постоянное открытие нового,
причем каждое такое открытие ассимилируется в предшествующем
17
/
опыте, обогащая и уточняя его. То, что происходит в
индивидуальном сознании человека, исследующего мир при помощи зрения,
моделируется затем в искусстве. Свернутый во времени,
мгновенный психический процесс анализируется и воссоздается и в
отдельном акте художественного творчества, и в истории
изобразительной деятельности многих поколений.
В результате выдвигаются концепции, все более полно
отражающие объективную реальность, то есть осуществляется процесс
познания ее. Поколения художников-реалистов действительно
изучили механизм возникновения зрительного образа и сумели
воспроизвести его на холсте и бумаге. То, что цветовые пятна и
очертания форм в классической живописи организуются для зрителя
в непротиворечивое подобие реальности, — доказательство
истинности совершенных ими открытий.
Указанные процессы не просто симметричны и изоморфны. Они
взаимосвязаны. Если отдельное изображение — результат
исторического развития, то индивидуальное развертывание
изобразительной деятельности протекает как накапливание изменений,
эффективно функционирующих открытий. С другой стороны, направление
этого движения не просто подобно работе человеческой перцепции,
а обусловлено ею. Прогностический характер нашего видения
определяет необходимость концептуальных моделей в искусстве.
Здесь не просто структурное подобие, а единая логика развития
взаимосвязанных явлений.
Теперь сделаем одно замечание, касающееся степени
конвенциональное™ изобразительных средств. Обычно результаты познания
фиксируются с помощью знаковых систем — естественного языка
или так называемых искусственных языков науки. Такие
семиотические системы содержат в себе конечный набор знаков и правила
их аранжировки. Словарь и грамматика обусловливают
возможность речевых высказываний и литературного творчества. На
основе языка могут быть созданы разнообразные тексты, но сам язык
в целом остается независимым от них.
В изобразительном искусстве ситуация иная. Художник
оперирует такими материальными элементами (поверхность, красочное
пятно, линия), которые сами по себе не являются значащими
единицами. Они не могут быть ими хотя бы потому, что не обладают
свойством дискретности, необходимым для знаковых образований:
поверхность холста или бумаги непрерывна, цвет имеет
бесконечные градации оттенков, линия может двигаться в неограниченном
числе направлений. Если знак всегда имеет твердо установленное
значение или, по крайней мере, фиксированную область таких
значений, то исходный материал художника не наделен
предпосланным смыслом. Означивание средств изображения возникает
только в контексте самого изображения.
Хорошей иллюстрацией к этому могут послужить
последовательно создаваемые игровые рисунки, где добавление каждого
нового элемента полностью меняет смысл предыдущего. Например:
18
Булка Замок Кошелек
Кошка
Как видим, сам изобразительный текст наделяет значениями его
составляющие, и его трансформация влечет за собой и изменение
этих значений.
Французский языковед Бенвенист пишет, что «художник творит
:вою собственную семиотику: в расположении мазков на холсте
:н создает свои оппозиции, которые он сам делает значимыми в
пределах их собственного яруса, он не получает готового и
признанного набора знаков и не устанавливает его сам». И далее:
Отношения означивания в «языке» искусства следует искать
знутри данной композиции. Искусство здесь всегда предстает как
отдельное произведение искусства, в пределах которого его
создатель свободно устанавливает оппозиции и значимости,
самовластно распоряжается их игрой, не ожидая заранее ни «ответа», ни
противоречий, которые ему придется устранять, а руководствуясь
только внутренним видением» 18.
С этим суждением французского лингвиста можно согласиться
тишь частично. Он прав в том, что семантизация материала
происходит внутри отдельного произведения, но не прав в том, что
его автор может «свободно устанавливать оппозиции и
значимости». Однозначно считываемый смысл рождается только в рамках
изобразительной системы и, строго говоря, системы реалистиче- \
ской. Только в реалистической картине каждая ее точка имеет
определенный референт, может быть соотнесена с
соответствующей точкой действительной или воображаемой реальности. Здесь
исходные художественные средства подвергаются определенной
идеализации, материальность красочного мазка или штриха
преодолевается в изображении, «вещество» живописи, графики
становится полностью прозрачным для смысла. Каждый материальный
элемент картины выступает одновременно и в качестве элемента
воображаемого, недвусмысленно отсылая к миру природных
феноменов.
О том, как трактуется материал в абстрактной картине, речь
пойдет ниже. Здесь важно только подчеркнуть, что
изобразительное искусство, не обладая предпосланным словарем, формирует
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 83.
19
смысл посредством создания образа. В противоположность
языковому высказыванию, здесь сам «текст» творит «слово», «лексика»
создается изображением и не существует вне его.
Конечно, искусство как форму познания действительности
нельзя свести к изображению. В выдающихся произведениях
искусства заключено глубокое психологическое и социальное
содержание, они отражают свойственное данной эпохе и творческой
личности миропонимание. Реалистическое произведение, как правило,
не ограничивается теми значениями, которые непосредственно
даны в изображении: на их основе оно создает последовательность
содержаний более высокого уровня. Однако в этой системе взаи-
мосоотносимых смыслов изображению все же принадлежит
направляющая роль.
В структуре произведения оно занимает самый низкий,
базисный, семантический уровень. Ниже его лежит слой еще не
подвергшегося семантизации материала. Именно поэтому только на
основе изображения возможны высказывания более высокого
уровня. Изображение, будучи идеальным образом реальности,
отвлечением от нее, открывает путь для дальнейших идеализации и
обобщений.
Очевидно, в искусстве переход к более высоким ступеням
абстрагирования может осуществляться в двух направлениях.
Первое из них — это движение в сторону понятийного
мышления, иногда с опорой на заключенную в изображении символику;
в других случаях — путем его интерпретации в более широком
контексте действительности и идей времени.
Приведем несколько примеров.
В средневековой живописи изображение-символ восходит к
слову, а через него — к тем представлениям о мире, которые
сложились в общественном сознании. Зритель дешифрует
изображение, раскрывает заключенные в нем понятия христианского
вероучения и, опираясь на них, восстанавливает средневековую
картину мироздания.
В искусстве Возрождения возникают образно-понятийные
структуры более свободного типа. В них миросозерцание
выражается не посредством символов, с присущей им строгой
однозначностью отношения образ — смысл, а путем отсылок к
литературным произведениям, неканоническим трактовкам священных
текстов, к метафорам и сравнениям, содержащимся в философских
учениях, путем широкого использования мифов и изобразительных
традиций, в том числе и тех, что складывались вне сферы
христианской культуры. Собственно символизм, в котором были
закреплены универсальные, единые для всего общества идеи и категории,
сменяется аллегорическим мышлением, со свойственной ему
индивидуальной трактовкой образного содержания и широким
спектром ассоциаций. Именно широтой, раскованностью и
многомерностью аллегорического искусства обусловлены трудности в
понимании идейного замысла художника, которые возникают перед
современным зрителем. Перевод образной системы аллегорической
20
композиции в систему понятий требует немалых знаний и
интеллектуальных усилий. Но возникающие из-за временной дистанции
грепятствия вполне преодолимы, что подтверждается успехами
:*:конологической школы, сумевшей в лучших своих исследованиях
гаскрыть глубокое философское содержание, заключенное в
творениях европейских мастеров XV—XVII веков.
В ходе дальнейшей эволюции стремление сделать искусство
более демократичным, а его содержание общедоступным приводит
:-; отказу от аллегоризма, к исключению из тематической картины
литературных тропов и метафизических символов. Общепонятный
:южет оказывается глубоко погруженным в реальность,
современную или историческую. Так, тематика передвижников уже не
является некой идеографией, обеспечивающей переход от
непосредственно созерцаемого к мыслимому. Здесь живопись предлагает
прямое высказывание о мире, опираясь исключительно на свой
:южет, социальную и психологическую характеристику
персонажей, на описание окружающей среды. Однако при этом не
происходит замыкания живописного текста в себе, отключения его от
7 ф
слова, понятийного обобщения. Ибо как раз отсутствие в сюжете
j-собой смысловой надстройки обеспечивает его прямой выход в
действительность, а значит — и в обширное пространство
существующих в ней идей, общественных проблем, столкновения
взглядов и мировоззренческих позиций. Отталкиваясь от изображенного
ьлизода, зритель мысленно расширяет его содержание, подключая
>: его истолкованию свои собственные знания о реальности,
размышления о ней, разнообразные ассоциации, почерпнутые из
личного опыта и знакомства с актуальными идеями эпохи.
Так на разных этапах исторического развития по-разному
осуществляется процесс восхождения от образа к понятию: художе-
:гвенная концепция развертывается в миропонимание, зримый об-
газ побуждает к работе воображение и категориальное мышление.
Зосприятие картины проходит обычный для человеческого
познания путь от наблюдения к умозаключению.
В произведении искусства заключена и другая возможность
перехода от частного к общему: отправляясь от изображения, мы
восходим к закономерностям построения картины, в котором
визуальные формы синтезируются в определенную систему. Логика
гормы также является способом обобщения многообразных
зрительных феноменов, представленных в живописном полотне. Такие
тзлечения от изображения, как композиция, колорит, ритм, также
несут в себе общий смысл, хотя он и с большим трудом поддает-
: = переводу на язык понятий.
Р. Арнхейм в книге «Визуальное мышление» показал роль не-
-.нметических зрительных образов при решении задач, создании
нзучных концепций, поисках выхода в проблемных ситуациях —
5 j всех тех случаях, когда мышление оперирует не
непосредственными образами объектов, а визуальными абстракциями. Здесь
человек прибегает к помощи пространственных форм, мысленно
выкраивая из них структуру, отвечающую структуре исследуемого
21
объекта. Это — своего рода перцептивное понятие, зрительный
аналог явления, не поддающегося прямому. наблюдению. Такие
воображаемые конструкции могут быть реализованы в виде
наглядной схемы какого-либо процесса, в виде диаграммы, чертежа.
Тогда они являются итогом, результатом мысленной работы и
способом передачи добытого знания другим людям. В творческом
мышлении роль таких генерализованных образов очень велика, о
чем свидетельствуют высказывания многих выдающихся ученых,
конструкторов, изобретателей.
Видимо, на этой особенности познавательной деятельности
основывается и то, что в искусствознании определяется как
формальный строй произведения: его композиция, линейный ритм,
распределение цветовых масс, характер живописной фактуры.
Форма несет в себе обобщающий смысл, выражает то, что нельзя
показать прямо.
В ней зафиксирован переход от наблюдения к эстетическому
осмыслению, от факта к художественной концепции.
Закономерности формы — зримый аналог сущностных закономерностей
действительности, модель миропонимания художника.
Известно, например, что такие особенности иконописи, как
бестелесность уплощенных фигур, самостоятельная красота
гибкого подвижного контура, преимущественно вертикальное
развертывание композиции, ее строгая симметричность, отражают в общих
чертах тип средневекового миросозерцания. Точно так же
формальные особенности ренессансной картины — схождение
перспективных линий в зрительном центре, ясное членение объемов,
устойчивость и гармоническая уравновешенность композиции,
расположение человеческих фигур в центре полотна — воссоздают
свойственные этой эпохе представления о мировом порядке.
Меняющиеся условия действительности выдвигают новые способы
концептуальной организации зрительных феноменов, и драматическое
мироощущение XVII века находит себе выражение в резких
смещениях композиционных масс, в столкновениях пересекающихся
диагоналей, в напряженности светотеневых контрастов, в энергии
колористических решений, в динамике красочных мазков. Форма
и в самом деле подобна упорядочивающей схеме, концепции,
организующей и объясняющей внешние явления.
Отсюда видно, что в художественном познании по-своему
отражается диалектика единичного и общего. По словам Арнхейма,
«произведение искусства — взаимодействие видения и мысли.
Индивидуальность отдельного существования и обобщение
типического объединены в образе. Перцепт и концепт, оживляя и
проясняя друг друга, раскрываются как два аспекта одного и того же
опыта» 19.
Поэтому произведение искусства представляет собой систему
сложных взаимодействий материального и идеального,
объективного и субъективного, чувственного и понятийного. Специфичность
Arnheim R. Visual Thinking, p. 273.
22
художественного отражения проявляется как динамика
непрерывных переходов от зрительного к умозрительному, от
непосредственно данного к подразумеваемому, от внешнего представления к
5Н\'треннему смыслу: материальные средства формируют образ,
который в дальнейшем подлежит интерпретации на более высоком
-. эовне идеального. Можно сказать, что художественный образ
метафоричен в своей основе, если принять исходное значение сло-
Е2 «метафора» — перенос.
В структуре этих переплетающихся взаимосвязей изображение
занимает центральное место. Только на его основе мы можем по-
тичь идейное содержание и по-настоящему оценить достоинства
гормы. Обратимся, например, к таким последовательностям: кра-
::чное пятно — локальный цвет — колорит картины, линия — рису-
:-: :-к фигур — ритмическая организация композиции, мазок —
поверхность воссоздаваемых предметов — фактурный строй живопи-
::•:. Среднее звено в этих цепочках относится к изобразительному
гяду. Движение от первичного материала к изображению и от
него — к целостной зрительной организации обусловливает
одухотворенность, эстетическую наполненность формы. Выключение это-
г> звена разрушит сложную диалектику (метафоричность)
художественной системы, основанной на непрерывных превращениях
-лоскости в пространство, поверхности — в иллюзорный объем,
геальной фигуры —в идеальный образ.
Оба типа обобщений в искусстве (понятийный и визуальный)
:сходят из изображения и возвращаются к нему. Изображение,
:змо являясь итогом познания одного из аспектов реальности (ее
зримых свойств), выступает опорой для более высоких уровней
тражения. Изображение при этом — не только исходный пункт
1Г.ч различных генерализаций и умозаключений, но и критерий их
::тинности. Будучи непосредственным образом реальности, оно
:*:зк бы замещает ее внутри познавательной системы
произведения, выступает от ее имени. Поэтому зритель, стремясь постичь
~~чее глубокий смысл картины, должен постоянно сверять свои
ьь^воды с тем, что прямо показано в ней. Так, чтобы символическая
• или аллегорическая) интерпретация не завела слишком далеко
- не исказила замысла художника, необходимо постоянно
обратиться к изобразительному слою, о чем, в частности, предупреж-
iir. такой мастер иконологических штудий, как Гомбрих20. Точно
-1к же, истолковывая, например, форму барочной картины как
™:дель свойственного эпохе миропонимания, нельзя забывать, что
запечатленная в композиционных диагоналях и линейных ритмах
1 нзмика свой первоначальный импульс получает от динамичности
:+:лета н стремительного движения фигур. Изображение, являясь
-тедставителем реальности в картине, призвано корректировать
з ыдзпгаемые мыслительные схемы — и искусствоведческие пост-
т-~ення. и зрительские толкования.
См.: Gornbrich E. H. Symbolic Images. Studies in the Art of the Renais-
London, 1972.
23
/
Д; ;i*i ivuiHii, конечно, не претендует на всестороннее
раскрытие сущности искусства как формы познания. Цель гораздо более
у.чк.ч и функциональна: показать ключевую роль изображения в
i к mi u нательной системе реалистического искусства. Это
необходимо было сделать потому, что авангардистские течения уже в
начале XX века повели атаку на «устарелую» традицию, третируя
«ретинальную» образность как пассивную копию поверхности
окружающего мира. Модернизм нанес удар в первую очередь по
изображению, тем самым разрушив основу реалистической
системы.
О том, как это произошло, будет рассказано в следующей
главе.
КАРТИНА-
КОНСТРУКЦИЯ
И
КАРТИНА-
ДЕЙСТВИЕ
1. Кубизм
Историю «революционного переворота», приведшего к
низвержению «ретинальной» традиции, принято начинать с кубизма.
Действительно, хотя деятельности художников-кубистов
предшествовал процесс постепенного отхода от иллюзионистической
образности в символизме, постимпрессионизме и фовизме, наиболее
радикальная ломка была осуществлена этим направлением.
Усилия кубизма были направлены не на создание новой
художественной концепции действительности (перевороты такого рода
случались ранее неоднократно), а на разложение изобразительной
системы как таковой, на конфликтное противопоставление
живописного материала и образной формы.
В 1909 году Пикассо написал «Сидящую обнаженную»,
которую можно рассматривать как типичный образчик первого, так
называемого аналитического, периода кубизма. Все построение
картины вызывающе противоречиво. Колорит зажат в узких
пределах сближенных, почти ахроматических оттенков, подцвеченных
тускло-зеленым и синим или внезапно перебитых вставками охры.
Свернутости цветовой гаммы отвечает едва ли не большая сокра-
щенность форм: по всей поверхности картины проложены прямые
полосы краски, которые в центре складываются в некоторое
подобие женской фигуры. Такая редукция цвета и формы находится
в резком конфликте с объектом изображения, очевидно
предполагающим мягкие переходы теплых тонов и плавные очертания.
Но противоречия на этом не кончаются. Всматриваясь в
картину, мы не обнаружим в ней собственно кубов, давших название
направлению. Прямые линии внезапно обрываются или
пересекаются другими, заставляя зрителя гадать, как направлена и где
кончается очерчиваемая ими фигура. Светлые и темные тона,
означающие в реалистической живописи свет и тень, поверхность
и глубину, отделяющие передний план от заднего, здесь
оспаривают друг друга, не складываются в однозначно считываемую
форму. Все нацелено на то, чтобы сбить глаз с избранной им
ориентации, превратить параллельную плоскость в наклонную,
удаленную форму вывести вперед, боковую грань представить как
переднюю. Достаточно посмотреть, как построена фигура, и особенно
голова женщины, чтобы убедиться: в картине нет не только
обещанного теорией выявления конструкции объекта, но и сколь-ни-
~\\зь связной стереометрической последовательности — объем
неожиданно разрешается в плоскость, линии обрываются, повисая в
-устоте, массы дематериализуются, плотное трактуется как
прозрачное, мягкое как твердое. Любая избранная глазом
интерпретация формы сейчас же разбивается под натиском этих противоре-
27
чий, любой элемент оказывается колеблющимся, смещающимся
относительно другого.
В этой зыбкой изменчивости лишь одно обладает устойчивым
и постоянным бытием — материя самой живописи. Она
подчеркнуто однотипна на всей поверхности картины. Линии массивны,
отчетливо видно направление движения кисти, степень ее
давления на холст. Вещественность живописи утверждается и ее
стилистической регламентированностью: прямолинейные очертания
созданы простейшим, неописательным жестом, они погружены в
красочное вещество, не одушевлены изобразительным смыслом.
Прямая линия беззначна, и основанная на ней кубистическая картина
утверждает в первую очередь свою собственную материальность.
Эта позиция кубизма отражена и в его теории, где постоянно
присутствуют такие понятия, как «картина-объект», «чистая
живопись», «картина-конструкция». Так, Хуан Грис говорил о том,
что стремится создавать новые объекты, которые не нуждаются
в сравнении с реальностью1. Другой представитель кубизма, Аль-
бер Глез, писал в одной из статей:
«Они [художники-кубисты. — В. /(.] были единодушны в
констатации реального существования картины. Холст, натянутый на
подрамник, независимо от того, что на нем писалось, обладал
несомненной подлинностью. Это была поверхность, завершенная
форма, пластический объект... Кубизму присуще стремление
утверждать его реальность, жертвуя для нее описательностью»2.
Жак Вийон (скульптор кубистического направления) утверждал,
что «картина-открытое окно уступает место картине-созданию,
картине-вещи в себе»3. Близкий к этим художникам поэт Реверди
писал: «Произведение искусства не может довольствоваться тем,
чтобы быть изображением (representation); оно должно быть
присутствием (presentation). Родившйся ребенок присутсвует, он
ничего не изображает»4.
В противоположность этой плотной, устойчивой реальности
картины, изображение в ней возникает как вибрирующий призрак,
в котором ни один элемент не поддается стабилизации,
однозначному и несомненному прочтению. Оно складывается из
опровергающих друг друга граней почти как случайность, как ошибка глаза,
привыкшего отыскивать в живописи эквиваленты реальных форм.
Два плана-—изображения и материальных средств его
воссоздания — сдвинуты по отношению друг к другу, совпадают лишь
частично. Одни и те же (или сходные) формы истолковываются
по-разному, в зависимости от избранной глазом установки.
В классической картине изображение всегда было способом и
результатом познания реальности, в кубизме оно —лишь возмож-
1 См.: Golding /. Cubism. A History and Analysis 1907—1914. N. Y., 1959,
p. 115.
2 Gleizes A. Puissances du cubisme. Paris, 1969, p. 86.
3 Цит. по: Fosca F. Bilan du cubisme. Paris, 1956, p. 122.
4 Цит. по антологии кубистической критики Эдварда Фрая: Fry Ed. F\
Cubism. London, 1966, p. 149.
28
пая интерпретация живописных средств. Если в
«репрезентирующем» искусстве материя живописи была растворена в образе и
абсолютно прозрачна для формируемого ею смысла, в кубистической
презентации» она играет ведущую роль; она предшествует изоб-
эажению, последнее — вторично, производно и, более того,
необязательно.
В кубизме предпосланная изображению стилевая догма
накладывается на любой сюжет, дробит и ломает его. Изобразительная
трактовка этой первоматерии возможна далеко не в каждой точке
картины; как правило, она нарастает к центру и убывает на
периферии, где цвета и линии приобретают вполне независимое
существование (как это хорошо видно на примере портретов Канвей-
лера, Воллара и Уде работы Пикассо). Эволюция аналитического
к\бизма движется ко все большему отходу от изобразительности:
б работах Пикассо и Брака 1911—1912 годов в хаосе
прямоугольных очертаний лишь время от времени вспыхивают фрагменты
реальных форм.
Этому соответствует и типичный для кубистов метод работы.
Критик Вальдемар Жорж, беседовавший с Браком о кубизме и
наблюдавший его работу в мастерской, писал в 1921 году, что
творческий процесс Брака «заметно отличается от метода
прежних художников. Художник пишет без модели. Вместо того, чтобы
ставить натюрморт и работать, исходя из этого предпосланного
сюжета, он строит композицию прямо на холсте и связывает ее
элементы, следуя только законам самой живописи... Если Матисс
сводит окружающие объекты к цветовым пятнам, Брак трансфор-
мирует цветовые пятна в объекты, которые возникают под их
влиянием в его фантазии»5.
С еще большей определенностью говорил о своей технике
работы над картиной Хуан Грис:
«Было бы верным утверждение, что в прошлом, за редким
исключением, элементы конкретной реальности переводились в
изображение, данный сюжет перерабатывался в картину.
Мой метод работы прямо противоположен... Не картина X
соотносится с моим сюжетом, а сюжет X соотносится с картиной.
Я называю этот метод дедуктивным, поскольку живописные
отношения между цветовыми формами подсказывают определенные
-астные отношения воображаемой реальности. Математика
создания картины ведет меня к физике изображения. Качество или
тазмеры формы, цвета апеллируют к какому-то объекту или
прикладываются к нему. То есть, я никогда заранее не знаю, как вы-
г:ядит изображаемый объект»6.
Физико-математические метафоры Гриса (к ним прибегали так-
~:е Аполлинер, Сальмон и Рейналь) не раз зачаровывали искус-
:~зоведов, придумавших недостоверную гипотезу о соответствии
5 Цит. по: Golding Л Cubism: A History and Analysis 1907—1914. Boston,
>"S. p. 119.
- Цит. по: Golding J. Op. cit, p. 137.
29
кубистической методики методам современной науки. Согласно
таким представлениям, кубизм отводит, якобы, ту же роль
абстрактным отношениям, какую в науке играет математический
аппарат, то есть художник «конструирует» объект из предварительных
формализованных схем и тем самым выявляет его собственную
структуру, логику его внутренней упорядоченности7.
Предложенная параллель крайне поверхностна и лишь
запутывает реальное положение дел. Движение от абстрактной схемы
объекта к его законченному образу (от «математики» к «физике»)
скорее типично для традиционного метода: художник начинает с
отвлеченной модели изображаемого и заканчивает «дедукцией»
конкретной формы. Кубистический способ работы ориентирован
прямо противоположным образом. И дело не только в том, что
художники этой группы предпочитали обходиться без натуры.
(Заметим, что в науке рождению новой гипотезы предшествуют
новые данные в эксперименте, точно так же, как нормальное
художественное развитие продвигается вперед через обнаружение
новых качеств в действительности.) В их планы не входило ни
углубление в закономерности строения объектов, ни выявление их
сверхчувственных свойств. Речь шла только о конструкции самой
картины. Поверхность полотна сначала расчерчивалась
геометрическими линиями, а затем художник «находил» в создавшихся
очертаниях какие-то намеки на реальные формы и уточнял их до
фрагментарного изображения. В своих рассуждениях Хуан Грис
хочет сказать, что изобразительный «вывод» в его живописи
возникает случайно, как побочное следствие «математической
организации» картины. То же самое относится и к Браку8.
Этот метод и запечатлен в кубистической картине, с типичным
для нее разбросом фигуративных клочков, всплывающих то тут,
то там из линейно-красочной схемы. Замечательна именно
внезапность таких всплесков, отсутствие в них внутренней логики.
Эволюция кубизма шла в направлении наращивания
живописной материальности при одновременно усиливающемся расслоении
ее изобразительной интерпретации. В картины синтетического
кубизма 1912—1914 годов вводятся различные графические
обозначения (надписи, цифры, нотные знаки), которые, с одной стороны,
усиливают плоскостность, препятствуют движению форм в
глубину, а с другой — как бы перечеркивают, запрещают их предметное
истолкование. Ведь, будучи условными знаками, они сразу, минуя
изображение, отсылают зрителя к тому или иному объекту.
Такова функция надписей в «музыкальных» натюрмортах Пикассо и
Брака — «бас», «бал», «игра», «Бах», в портретах Марсель Эмбер
работы Пикассо — «моя красавица», «люблю Еву». Так нарастает
разрыв между вещественной данностью красочной поверхности и
7 Действительно, в истории науки, а особенно науки XX века,
обстоятельства не раз складывались таким образом, что вначале создавалась
математическая модель исследуемого объекта, а затем шли поиски ее физического смысла.
8 Несколько иначе работал Пикассо, о методе которого будет рассказано
в следующей главе.
30
объектом изображения, становящимся все более эфемерным,
невидимым, замещающимся знаком.
Разведение материального и образно-идеального планов
живописи осуществляется и при помощи радикального отделения
контура объекта от цветовой поверхности, противопоставления
схематического рисунка красочному пятну. Прежде слитые в
единстве образа линия, цвет, светотеневые нюансы и фактура в
кубизме приобретают автономное существование. Детали сюжета могут
быть набросаны в беглой графической технике, они играют роль
своего рода опознавательных знаков для красочных или
фактурных поверхностей произвольных очертаний. Последние чаще всего
выполнены в технике коллажа.
С введением коллажа, знаменитого изобретения кубизма,
противоречия нарастают. Наклейки из обрывков газет, обоев,
цветной бумаги, клеенки ведут двойственное существование.
Во-первых, они выступают как таковые, резко отделяясь от красочной
поверхности и уплотняя материальный слой картины. Во-вторых,
в рамках данного сюжета им часто приписывается
изобразительный смысл, но он именно приписывается (через название картины,
словесные надписи в ней, данную в графическом рисунке
номенклатуру объектов), а не возникает, как в реалистической картине,
вследствие слитности всех ее элементов в единый образ.
Противоречивость возрастает в тех случаях, когда плоские наклейки сами
несут на себе изображение, например, обои, покрытые орнаментом
пли имитирующие фактуру дерева, камня, плетения.
Контекст картины придает таким изображениям иной, не
совпадающий с исходным смысл. Так, в натюрморте Пикассо
«Бутылка „Старой водки"» один фрагмент обоев обозначает скатерть,
другой — резной орнамент крышки стола, третий, являющийся
вырезкой из первого, — рюмку с содержащейся в ней жидкостью;
наконец, газета представляет самое себя: изображение и
изобразительное средство здесь одно и то же. В другом натюрморте
Пикассо того же периода орнамент клеенки превращен в плетение
стула, а веревочное обрамление картины — в рамку крышки стола,
благодаря чему одновременно и подчеркивается независимое бытие
картины-объекта, и осуществляется переход в иллюзорный план;
сам этот овальный холст с рамой-канатом может быть увиден как
изображение поверхности стола.
Такие противоречия типичны для кубистической картины, где
часто фрагмент газеты может обозначать и фон, и абрис блюда,
и деку музыкального инструмента; где пустоты даются как
плотные поверхности или даже объемы, а формы предметов как
пустота; где печатное изображение на бумаге может считываться и
буквально (как груши на картинках в натюрморте Пикассо
Скрипка», 1913 г.), а может полностью отторгаться от себя, раз-
гешаясь в «видимость».
В чем же смысл этих игр, состоящих в постоянном
переименовании объектов, в перестановке структурных единиц, в
перевертывании отношений между означаемым и означающим, которые как
31
блдто постоянно меняются местами? Кубизм разложил систему
реалистического искусства, противопоставив данные художнику
средства познания его результату — изображению. Вследствие
поляризации материального и идеального начал встала проблема их
связывания: либо путем перекодирования живописных форм,
постоянно опровергающих заключения «разумного глаза», либо с
помощью мыслительного хода — от наименования объекта к поискам
его эквивалентов в расщепленном изображении. Принципиальное
отличие кубистической картины от реалистической состоит в
следующем: реалистическое изображение-—итог познания реальности,
в кубизме оно — результат внутреннего (осуществляющегося в
пределах самой картины) интерпретирования автономных живописных
построений. «Цель — не воссоздать анекдотический факт, — писал
Брак, — а создать факт живописный». «Не следует имитировать
то, что хочешь создать... Видимость не имитируют, она —
результат» 9.
Более пространно формулировал это положение Глез:
«Освобождение круга или овала от задач описания может означать
только одно — порядок, то есть подчинение тому, что неизменно.
Создать с помощью линий и красок настоящее произведение... значит
наделить сферу пластического достоверностью и осознать, что над
выражением в ней господствует природа употребленных
материалов» 10. О том же писал Аполлинер: «Пластические качества —
чистота, единство, подлинность попирают ногами поверженную
природу» и.
Последнее утверждение может навести на мысль, что
художники намеревались подчинить натуру отвлеченным нормам
эстетического совершенства. Однако стремление к формальной гармонии
мало занимало инициаторов движения. В картинах кубистическо-
го канона (созданных в период 1909—1915 гг.) композиции
дробны, колорит однообразен. Лишь в более поздних произведениях
Пикассо, Брака и Гриса появляется эстетизация и декоративная
упорядоченность формальных элементов. В целом же предметность
живописи понималась скорее как еще не организованное
чувственным созерцанием поле, порождающее из себя «видимость». Из
случайного столкновения мазков (или геометрических начертаний)
на миг возникало какое-то подобие реального предмета. И тут же
растворялось в движении красочной массы.
8 довольно неожиданном контрасте с утверждением
материальности картины находится идея о ведущей роли в творчестве
мыслительных категорий, концепций. Аполлинер определял кубизм
как «искусство писать новые целостности с помощью элементов,
заимствованных не у реальности видения, а у реальности
концепции» 12. «Кубизм отличается от старой живописи тем, что он явля-
9 Цит. по: Fry Ed. F. Cubism, p. 147.
10 Gleizes A. Op. cit, p. 87.
11 Apollinaire G. Meditations esthetiques. Les peintres cubistes. Paris, 1965,
p. 45.
12 Ibid., p. 21.
32
ется не искусством имитации, а искусством концепции, которая
устремлена к созиданию» 13. «Чувства деформируют, разум
формирует, — писал Брак. — Работать, чтобы совершенствовать
разум» 14. Пикассо называл иллюзионистические элементы в
коллаже «trompe-resprit» («обман ума»), в противоположность
классическому «trompe-1'oeil» («обман зрения»). Он же говорил:
«Я пишу объекты такими, как я их мыслю, а не такими, как я
их вижу» 15.
Хуану Грису принадлежат слова: «Я работаю с данными
интеллекта, воображения. Я пытаюсь сделать конкретным
абстрактное. Я иду от общего к частному, то есть я начинаю с абстракции,
для того чтобы прийти к подлинному факту. Мое искусство — это
искусство синтеза, дедукции, как сказал Рейналь» 16.
Знакомство с методом кубистов должно предостеречь от
буквального понимания особой словесной символики в их теории. Речь
вовсе не идет об обобщении мировосприятия в художественной
концепции (таков подлинный смысл этого понятия). Энергичное
противопоставление «концепции», «логики», «разума»,
«абстракции», «интеллекта», «дедукции» видению и чувствам наводит на
мысль, что авторы вкладывали в эти слова смысл, чуть ли не
противоположный исходному.
Ведь человек мыслит объекты в основном так, как он их видит.
Во всяком случае, вызываемое словом представление является
лишь сокращенным образом реального зрительного восприятия.
Именно на основе такого первичного обобщения чувственного
образа, а не в отрыве от него мышление переходит к более высоким
степеням абстрагирования, к оперированию понятиями, что
хорошо показала современная психология. Так, Арнхейм пишет:
«Человек может полностью положиться на данные чувств, которые
вооружают его перцептивными эквивалентами всех теоретических
понятий, поскольку такие понятия выводятся из сенсорного
опыта. Точнее, человеческое мышление не может протекать
по ту сторону моделей, поставляемых человеческим
восприятием» 17.
Это безусловно подтверждается богатым опытом классической
традиции, где движение к глубинным сущностям бытия идет тем
же путем, что и всякое познание: от непосредственного образа
объективного мира к размышлению о нем, от единичного к общему.
При этом художественный образ столь естественно восходит к
универсальному потому, что он уже заключает в себе мыслительную
концепцию, и любые содержащиеся в произведении генерализации
испытываются им на верность. То, что дело обстоит именно так и
з теоретическом мышлении, также хорошо подметил Арнхейм:
13 Ibid., p. 56.
14 Цит. по: Fry Ed. F. Cubism, p. 147.
15 Цит. по: Golding J. Op. cit., p. 60.
15 Цит. по: Fry Ed. F. Op. cit., p. 162.
17 Arnheim R. Op. cit., p. 233.
33
«Как композиционное построение в живописи или архитектуре
обретает смысл только в его отношении к данному произведению,
а не в изоляции от него, так и почти всякое творческое мышление,
оперирующее теоретическими положениями, протекает при
постоянном обращении к тем феноменам, которые оно описывает» 18.
В кубистической доктрине мы сталкиваемся с чем-то иным.
Художники говорили о неких программах, порождающих
чувственно воспринимаемые формы. Что под ними подразумевалось —
феномены идеального или живописные схемы?
Противоречие между двумя позициями — материальности и
концептуальности — тем более бросается в глаза, что для самих
художников и писателей его как будто не было. В некоторых
текстах кубистической критики скачок от одного к другому
осуществляется без всяких переходов, в пределах одной фразы. Вот как
писал, например, Морис Рейналь:
«Подлинная живопись представляет собой самостоятельный
объект, который обладает собственным бытием, независимым от
вдохновившего его сюжета... В комбинации составляющих ее
элементов она реализуется как произведение искусства, как объект,
как часть мебели, если угодно; вернее было бы сказать, что это —
своего рода формула, или, еще точнее, слово. Она так же
относится к изображаемому объекту, как слово к объекту
обозначаемому; и нам хорошо известно, что искусство заключено в словах,
с их разнообразием, богатством, со свойственным им колоритом
или строгостью значений.
На этом пути мы овладеваем самой идеей объектов в ее
чистейшем воплощении» 19.
Неожиданный переход от «мебели» к «формуле» раскрывает
суть того превращения понятий, на котором строилась кубистиче-
ская теория. Материальность картины в ней прямо
приравнивалась к материальности знаковой системы, которая, в свою очередь,
была «воплощением идеи», то есть отчуждением, или, как
выражается Рейналь, «экстернализацией» внутренней, мыслительной
формы.
Все затруднения в понимании кубистической теории связаны
со спецификой словоупотребления в ней. Такие понятия, как
«реальность», «истина», «подлинность», «объективность», относятся
либо к материальной данности живописи, либо к
«объективируемым» ею схемам мышления, но почти никогда — к внешнему миру
и его отображению на полотне. Видимо, недостаточное осознание
факта такого переиначивания терминов привело к распространен-
18 Ibid., p. 193.
Разумеется, речь идет о познании непосредственно наблюдаемых объектов.
Что же касается явлений микромира, то из истории известно, каким
мучительным был вынужденный отказ от представлений для самих создателей
квантовой теории. Поэтому те реальные трудности, которые встают перед
человеческим сознанием при изучении микро- и мегаобъектов, никак не могут быть
основанием для сомнительной легкости, с которой в теориях искусства видение
противопоставляется мышлению.
19 Цит. по: Fry Ed. F. Op. cit., p. 152—153.
34
ной ошибке: кубистам приписывали намерение обнаружить
глубинную, сверхчувственную суть изображаемого.
Однако стремление к истине в платоновском смысле, мистицизм
объективно-идеалистических учений в общем были чужды этому
направлению. Кубистическая критика говорила о другом: о том,
что художник должен быть «строителем собственных идей»,
сосредоточиться на «концепциях объектов», воспроизводить «более
подлинные, чем видимость, феномены сознания»20. То есть, это была
по преимуществу субъективистская доктрина. И возникла она,
разумеется, не без внешних воздействий.
Известно, что, начиная с конца XIX века,
субъективно-идеалистические концепции становятся особенно влиятельными среди
европейской интеллигенции. Отчасти это было связано с кризисной
ситуацией в физике. Натурфилософские учения неокантианства и
так называемого второго позитивизма находят бесспорный базис
человеческого знания либо в априорных правилах разума (Коген,
молодой Кассирер), либо в комплексах ощущений (Мах).
Окружающий человека мир при этом предстает либо как продукт
организующего мышления, либо как результат условного кодирования
в структуре человеческой чувственности.
Так, один из основоположников неокантианского течения Г.
Коген писал: «...на переднем плане должен оставаться
конструктивный характер мышления, то, что мир вещей покоится на базе
законов мышления... Определяющей идеей идеализма является тезис —
не существует вещей иначе, чем в мышлении и из мышления»21.
Стремясь к преодолению двойственности учения Канта,
колебавшегося между материализмом (признанием «вещи в себе») и
идеализмом (предположением о наличии априорных форм
сознания), неокантианство пришло к субъективному идеализму.
Априорные мыслительные схемы здесь хотя и не выступали в качестве
лричины объективного мира, но понимались как первооснова
человеческого опыта, как матрица, по которой отливается сама по себе
аморфная реальность.
Энгельс в «Анти-Дюринге» дал развернутую критику
подобного априоризма, «согласно которому свойства какого-либо
предмета познаются не путем обнаружения их в самом предмете, а путем
логического выведения их из понятия предмета»22. Возражая
Дюрингу, пытавшемуся построить на формальных принципах
мышления и натурфилософию, и политэкономию, и учение об обществе,
Энгельс писал: «Но ведь логические схемы могут относиться
только к формам мышления, здесь же речь идет только о формах
бытия, о формах внешнего мира, а эти формы мышление никогда не
может черпать и выводить из самого себя, а только из внешнего
мира»23.
20 Ibid., p. 72, 96, 130.
21 Цит. по: Зотов А. Ф., Воронцова Ю. В. Буржуазная «философия науки»:
Становление, принципы, тенденции. М., 1978, с. 77.
22 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 97.
23 Маркс /С, Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 34.
35
Второй позитивизм, также отталкиваясь от Канта, двигался к
более последовательному субъективизму Юма, то есть, по
выражению Ленина, «очищал агностицизм от кантианства»24. В
ленинской критике «комплекса ощущений» Маха и «чистого опыта»
Авенариуса, представлений о знаковой условности человеческой
чувственности вскрыт поворот позитивистского эмпиризма к
сенсуализму юмовско-берклианского типа, содержащего в себе идею
невозможности адекватного отражения внешнего мира.
Идеалистическая линия «критики Канта справа» набирает силу к началу
XX века.
Трудно сказать, каким конкретно путем шло влияние данного
круга воззрений на становление кубистической теории. В то время
эти идеи носились в воздухе, и их обрывки ясно прочитываются
в сочинениях Аполлинера, Канвейлера, Сальмона и Рейналя,
примыкавших к пикассовской группе Бато-Лавуар.
В известной книге Глеза и Метценже, представлявших другую
группировку кубизма-—«Золотое сечение», можно прочесть такие
строки: «Нет ничего реального вне нас, нет ничего реального,
кроме совпадения ощущения с индивидуальным направлением мысли.
Мы далеки от того, чтобы ставить под сомнение существование
объектов, воздействующих на наши чувства; но, если рассуждать
здраво, уверенным можно быть только в образе, который они
вызывают в нашем сознании»25. И далее: «Объект не имеет
абсолютной формы, у него их несколько, их столько, сколько существует
планов в сфере значения»26. Отсюда убежденность, что
существенное следует искать в себе, и безудержный релятивизм,
аналогичный релятивизму современных философских школ: «Сколько глаз,
созерцающих объект, столько и его образов; сколько осознающих
его рассудков, столько и сущностных представлений»27.
Г. В. Плеханов, рассматривая книгу Глеза и Метценже,
справедливо отмечал софистический характер ее положений,
вытекающий из представлений о непознаваемости мира, о том, что
единственная реальность заключена в «нашей личности». Тот факт, что
субъективный идеализм стал теоретической основой новой
буржуазной эстетики, проиллюстрирован в «Искусстве и
общественной жизни» на достаточно большом количестве примеров.
Явления, против которых направлена ленинская мысль в
«Материализме и эмпириокритицизме», положили начало широкому
развертыванию субъективистской гносеологии. Если Мах
ограничивался утверждением о конвенциональности чувственного
восприятия, в учениях последующих школ уже все человеческое
знание превращалось в набор условных текстов, порожденных
схематикой мышления.
24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 205.
25 Gleizes A. et Metzinger J. Du «cubisme». Paris, 1912, p. 30.
26 Ibid., p. 30—31.
27 Ibid., p. 32.
36
Среди этих направлений наибольший авторитет приобрел
позитивизм третьей стадии его эволюции, то есть логический
позитивизм и другие его ответвления. Это течение, представленное
такими крупными фигурами, как Рассел, Шлик, Витгенштейн, Айер,
Карнап, добилось значительных результатов в области
математической логики и изучения языка науки. Однако в
общефилософском плане оно лишь продолжало субъективистские посылки
предшествующего этапа позитивизма.
Новейшие школы методологии науки, отказавшись от решения
основного вопроса философии, провели принципиальное
отождествление объекта и его отражения в сознании на всех уровнях — от
чувственного восприятия до построения научной теории. Согласно
этой концепции, познающий субъект исходит из чувственных
данных («комплекса ощущений», расплывчато понимаемого опыта),
затем протоколирует эти «атомарные факты» в языковых
высказываниях и подвергает их дальнейшим формальным
преобразованиям, опираясь на закономерности мышления. При этом язык
рассматривается как априорная структурная схема, которая
накладывается на реальность и управляет процессами ее истолкования,
перевода чувственных данных в знаки и символы. Точно так же
весь мыслительный аппарат, с помощью которого конструируются
теории, представляется как исходная данность, имманентно
присущая сознанию. Буржуазные гносеологические теории полагают
логические конструкции независимыми не только от объективного
мира, но и от феноменов восприятия и, таким образом, изолируют
рациональную ступень познания от чувственной.
В таких учениях, исключающих из рассмотрения объективную
действительность и человеческую практику, научно-теоретическое
отражение мира сводится к формальному оперированию
исходными данными сознания по имманентным законам самого сознания,
то есть к упорядочению знаков (символов ощущений) в логически
непротиворечивые системы и к дальнейшему коеобразованию этих
систем (в том случае, если ранее избранное построение вступает
з противоречие с новыми показаниями опыта).
Но если познавательный акт ограничивается процедуре
формального конструирования и реконструирования знаковых систем,
трансформацией понятий, то на каждом его этапе сознание
сталкивается лишь с самим собой, выведенные естествознанием
законы природы по существу оказываются лишь законами человече-
;кого мышления, и все научные утверждения предстают как сугу-
:ю конвенциональные формулировки. Вопрос об объективной
истине снимается как «лишенный смысла», речь может идти только о
непротиворечивом согласовании рациональных построений с
чувственными данными или о частном истолковании мыслительных
ниверсалий в том или ином онтологическом плане. Новейший
номинализм переносит на мир свойства языка и логического
аппарата человека, а понятие объективного факта подменяет фактом
;сзнания, результатом лингвистической и теоретической
деятельности субъекта.
37
Выдвижение аксиоматико-дедуктивного метода в качестве
начала и основы знания было присуще и неокантианству конца
XIX — начала XX века. Здесь также объект познания понимался
как объективирование аморфной, до-человеческой реальности в
продукте мышления, как организованное по законам рефлексии
содержание опыта.
На таком перевернутом отношении между миром и субъектом
основывалась и теория кубизма. Родившееся в нем представление
о том, что художник не постигает объективный мир, а творит
собственную реальность, имеет очевидную параллель в
гносеологических концепциях, утверждающих миросозидающую функцию
сознания. «Кубисты, — писал Рейналь, — не принимая мистицизма в
качестве мотива живописи, восприняли от своей эпохи своего рода
мистицизм логики, науки и разума»28.
Поэтому Грис и видел в живописной композиции
(«архитектуре») «математику, абстрактное начало» и считал, что из
«абстракции цветов» он выводит изображение конкретного предмета как
частный случай воплощения общего закона29. Точно так же Андре
Сальмон называл «Авиньонских девиц» Пикассо «обнаженными
проблемами, белыми числами на черной доске»30.
Очевидно, что подобные аналогии с научным методом
возможны только на основе допущения о существовании априорных
формальных схем, управляющих как научной, так и художественной
деятельностью. Между тем, как писал Ленин, «законы логики суть
отражение объективного в субъективном сознании человека»31. Ни
аксиомы математики, ни геометрические композиционные
программы живописи не являются независимым порождением самого
сознания.
Живопись кубизма показывает, к чему привела практическая
реализация этих доктрин. Некая живописная праформа, еще не
прошедшая миметической обработки, выступает здесь
эквивалентом априорных форм сознания (его «логики» или «математики»),
воплощающихся в конкретных суждениях. Из аксиомы
конструкции, «порядка» выводится частная «видимость». Вопрос об
отношении к внешнему миру снимается, и не только путем намеренной
деформации изображения, запрещающей сравнивать его с
реальным восприятием, но и с помощью вытеснения изображения
«формулами» (аналог мыслительных конструктов) вплоть до его
полного исчезновения, с помощью замены образа его условными
обозначениями (надписями).
Во многих кубистических картинах фигуративные элементы
буквально вычеркнуты — перекрыты линиями и небрежными
мазками, полосками наклеек. Иногда художники прибегают к прямой
демонстрации отсутствия изображаемого: так в одном из колла-
28 Цит. по: Fry Ed. F. Op. cit., p. 130.
29 Ibid., p. 162.
30 Ibid., p. 82.
31 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 165.
38
жей Брака «отсутствует» трубка, замененная пустым контуром
вырезки в бумаге. В более поздних натюрмортах Брака (начала
20-х годов) изображение также отсылается в небытие: световой
блик замещается темным пятном, а тень приобретает предметную
плотность. Все эти приемы имеют одну цель — представить
изображение как нечто необязательное и произвольное, точно так же, как
в идеалистической гносеологии «доказывается» произвольный и
конвенциональный характер онтологических интерпретаций
знаковых построений.
Кубистическая картина целиком замкнута в себе: она не
претендует на познание внешнего мира, на соотнесение образа с
реальностью по ту сторону холста. Все ее содержание
развертывается на поверхности и сводится к движению от материи «языка» к
«фикции» образа и в обратном направлении. Это действительно
объект, непрозрачный для внешних значений. Такая картина
становится своей собственной теорией, поскольку она лишь
соотносит между собой два ряда знаков и интерпретирует один
посредством другого. Живопись превращается во что-то вроде
«философского сочинения, изложенного на полотне посредством красок и
линий»32. Как неопозитивизм поставил знак равенства между
объектом и теорией объекта, так и кубистическая картина дает не
изображение, а особую теорию его возникновения. Это не
познание мира, а способ прокламирования его ирреальности.
С учетом вышесказанного рассмотрим несколько более
подробно версию буржуазного искусствознания о соответствии кубизма
дедуктивным методам современной науки. Хорошим образцом
здесь может послужить книга Роберта Розенблюма «Кубизм и
искусство двадцатого века». Ссылаясь, в частности, на теорию
относительности, Розенблюм пишет:
«В эпоху, которая поставила под вопрос само понятие
абсолютной истины или ценности, кубизм создал художественный язык
намеренной двусмысленности. Встретившись с кубистическим
произведением искусства, зритель смог понять, что ни одна
интерпретация колеблющихся очертаний, текстур, пространственных зон
или объектов не может быть завершенной в себе. И, выражая это
постижение парадоксальной природы реальности и необходимость
описывать ее разнообразными и даже противоречивыми способами,
кубизм предложил визуальный эквивалент фундаментального
аспекта опыта двадцатого века»33.
В приведенной цитате, как и в других суждениях автора,
обращает на себя внимание характерное противоречие, основанное на
замещении понятий. Проанализировав формальный язык кубисти-
ческой картины, искусствовед сейчас же подставляет на его место
парадоксальную природу реальности», а затем, двигаясь по кру-
г\\ выводит из нее «противоречивый способ описания», которое
32 Лифшиц Mux., Рейнгардт Л. Кризис безобразия: От кубизма к поп-
-от. М., 1968, с. 79.
33 Rosenblum R. Cubism and Twentieth-century Art. N. Y., 1960, p. 9.
39
-ч ,
■#%J
•*
"Чг
/
ч -
•:
&
4.
■У%1.
-'
*?*V
'?:
"
*
-
■>*
***-
(^
'V
X
.айРрД
Л*
1. Пабло Пикассо. Сидящая обнаженная. 1909
40
"К
J
!Ч
' 7
/
т
7
*
v^
Л'- л
2. Пабло Пикассо. Этюд головы. 1909
41
F
... -• ■ '..-^PF^
V";'|/% «
*. - ъ ъ
*-' \' ,-^ ■&*'
V'^esl^W--
tH^'
4$ "\"
'"nN.
--' -v
5 И
*Д*\А **f i'
>П^: ^
з* у
<V'
■ЧЬИ- ■!" »*"'
l#s
*
*^3 e- >ir■'
v* ;
::: ,%v
1 ^ ■ i ч
чИЦ
?"'
/^
."4-
'■ « ■
>'-*■ ■■
0"
*$*->
■i:
..../
j- >.■ ■
1 ;
" „>
:Э
->£
"•J „"Г"
t
Г!Н
/;.^ ?■ &■"'.'J -fiS^^^fe^ -v.-i;- "£ ^
i.1'
*;
-: Г.
■*" ,-■ я'
* -^
^
/■
3. Жорж Брак. Скрипка и палитра. 1910
42
чй-йЗТ-1
ЪЧЧйЕ'ВДЙй^.чая дем^ДВЭДюЗД ■ ^-ша
\
V
N
*з
V.;
*ti:l3f
1-1
*"%«£
я
У
Щ\?.:*Щ
Шт
* ~ ■■ ,.v r> ■- .1
■ \ "Щ'^
« ,., f ■ 4 >. •■:iJ-?
-'*>;:'■'■■'■■.$&
' U4
ш
t
*$т^.
т&
*ЧГ
^
^11
#
m-f*»
4
4. Хуан Грис. Натюрморт с вазой и бутылкой. 1914
43
5. Хуан Грис. Три карты. 1913
6. Жорж Брак. Стол музыканта. 1913
44
ДЯТТ£_
"ЗЙ^Чч
**:
$.' '*
к-
fc
.*
Sf**
?™
-4
ч: -v
2&Es££3£:
7. Пабло Пикассо. Скрипка (Jolie Eva). 1912
45
8. Пабло Пикассо. Бутылка «Старой водки», рюмка и газета. 1913
J*-
7
"".Г
\
*ж; ^г
ibf'
** ■ i
Г. _ <^\ vigfe?
s
9. Пабло Пикассо. Натюрморт с плетеным стулом. 1912
46
10. Жорж Брак. Стол. 1928
Els Т± .**'-■
Г
ajUfcrV
«5
'$*
4, „$
t
л,.
'ч '#4;
{*%?
v
rj-t-s 34 "" Г
,«г'1 .sau^s\-*i
15
~&Г
-3l~~^ ЩЯ%ч ^*S
3
It1
■* 6f- -I
11. Жорж Брак. Натюрморт «Le jour». 1929
47
на сей раз является эквивалентом уже не самой реальности, а
«опыта двадцатого века». Заметим попутно, что противоречивые
явления действительности вовсе не предполагают
противоречивости в их описании; скорее наоборот — сознание стремится к их
разъяснению, к снятию и разрешению противоречий. Путем
обнаружения противоречий и их последующего преодоления
осуществляется прогресс знания.
Но главное даже не в этом. Для автора книги три совершенно
различных понятия — «реальность» (объективный мир), «опыт»
(его отражение в сознании) и «язык» (средства его
воссоздания) — оказываются, по существу, одним и тем же и фигурируют
в тексте почти как синонимы. Такое взаимозамещение понятий
симптоматично и, надо думать, не просто логическая ошибка.
Истоки его — в вышеописанных эпистемологических доктринах, прежде
всего доктрине неопозитивизма, которая в течение нескольких
десятилетий почти монопольно представляла область теории
познания в капиталистических странах. Речевые «оговорки»
искусствоведа (как и превращенные категории кубистической доктрины)
имеют в своей основе отождествление реальности с опытом и с
фиксацией его результатов в знаковых системах.
Нужно сказать, что концепция Розенблюма, если ее
рассматривать в рамках данного учения, вполне выдержана и
непротиворечива. Это и понятно: ведь кубистическое движение в целом
опиралось на те же самые позиции, и не только в теории, но и на
практике.
По мнению автора, кубизм показал, что «живопись не является
ни репликой, ни символом реальности, что она имеет свою
собственную жизнь в неустойчивом, колеблющемся равновесии между
двумя полюсами иллюзии и символа. В определенном смысле
Пикассо и Брак открыли независимую реальность живописных
средств, с помощью которых природа трансформируется в
искусство на плоской поверхности холста»34.
Это утверждение более или менее верно, но не как
констатация открытия или доказательства, а как констатация
произвольного перемещения значащих единиц и структурных слоев в
кубистической картине. Доказать независимое существование
живописных средств невозможно, ибо потому они и средства, что только
в контексте изображения, «трансформации природы в искусство»,
приобретают отчетливый смысл. Можно лишь разрушить эту
систему, переиначить соотношение между «репликой» и «символом».
Далее, переходя к анализу синтетического кубизма, автор
пишет: «Ясно, что синтетический кубизм больше не имеет дела с
исследованием анатомии натуры, а скорее обращается к созданию
новой анатомии, которая гораздо менее зависима от данных
перцепции. Вместо того, чтобы сводить реальные объекты к их
абстрактным компонентам, произведения, созданные после 1912 года,
кажется, сочиняют объекты из таких реальных компонентов, как
34 Ibid., p. 66.
48
наклеенная бумага, плоские пятна цвета и ясно очерченные
фрагменты планов»35. Снова с этим можно согласиться, но лишь в том
случае, если не поднимать вопроса о правомерности такой сочини-
тельско-изобретательской деятельности, приняв на веру, что она
является выражением опыта XX века.
Позиция Розенблюма типична для буржуазного
искусствознания. Как правило, такие авторы не объявляют о своей
приверженности той системе философских воззрений, которые диалектический
материализм квалифицирует как субъективно-идеалистические, и
выдают их за общую тенденцию времени. Кажущаяся
убедительность анализов проистекает, во-первых, из того, что само
модернистское искусство вырастает из тех же гносеологических корней,
что и концепции искусствоведов, и, во-вторых, из того, что ученые-
естествоиспытатели, обращаясь к философским аспектам знания,
часто опираются на те же идеалистические теории. Таким образом,
оказывается достаточным провести анализ модернистских
произведений и сопоставить его с некоторыми высказываниями ученых,
чтобы сделать внешне убедительный вывод о том, что наука XX
века и авангардистское искусство едины в своем отношении к миру.
Поэтому марксистское искусствознание должно сосредоточить
свою критику на самих исходных позициях, а не на их следствиях.
Гносеология неопозитивизма и последовавших за ним
философских школ, действительно, очень влиятельна в современном
капиталистическом мире; в течение нескольких десятилетий эти учения
были приняты почти как официальные. Немудрено, что такие
воззрения оказывают большое воздействие на сознание ученых, часто
колеблющихся между «стихийным материализмом» (выражение
Ленина), который вытекает из самого существа их
профессиональной деятельности, и новейшими формами идеализма36.
Однако аналогия между искусством и наукой никогда не может
'ыть полной. В науке возможна лишь неадекватная интерпрета-
:ия процессов и результатов научной деятельности, часто
выражающаяся просто в некорректном словесном оформлении
мировоззренческих выводов. Авангардистское же искусство во многих слу-
аях целиком основывается на таком мировоззрении и идет по
-^ому пути до конца.
Если, например, выдающийся физик заявляет, что
«объективен реальность элементарных частиц странным образом исчезла...
прозрачной ясности математики, которая уже описывает не по-
?едение элементарных частиц, а только наше знание об этом пове-
^5 Ibid., p. 71.
35 Факт такого колебания несомненен, ибо обнаруживается во многих
выбываниях Эйнштейна, создателей квантовой теории и других ученых. О про-
•= :>речиях в сознании естествоиспытателей писал, в частности, Э. В. Ильен-
. - = в книге «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма» (М., 1980).
г ней говорится об одном из путей, по которому идет влияние философских
эл на взгляды ученых: использование терминов естественных наук и прида-
- им иного, отличного от первоначального, смысла. (См.: Указ. соч., с. 124—
49
дении»37, то здесь лишь смешение двух понятий — «объективный
факт» и «научный факт», — принципиальное отождествление
которых проводится в идеалистической философии. Но это не мешает
автору высказывания оставаться выдающимся физиком, то есть с
высокой результативностью заниматься делом науки — изучением
закономерностей материального мира. Ведь философия физики, к
счастью, отделена от содержания этой науки, и в научных
построениях всегда присутствует образ факта, хотя он и регистрируется с
помощью условных обозначений. Другое дело, когда в картине,
ставшей своей собственной теорией, априорные формы «языка»
уже на практике вытесняют образ. Здесь прямой отказ от того,
что является содержанием художественной деятельности. Когда
ученый, путая физическое понятие массы (или корпускулы) с
философской категорией материи, говорит о ее исчезновении, это
всего лишь неправильное оформление мысли. Но когда под
влиянием ложных воззрений изображение действительно вымарывается
из картины, здесь под угрозу ставится сам смысл работы
художника.
Ленин раскрыл суть новейшего философского идеализма в
самых его истоках. На страницах «Материализма и
эмпириокритицизма» он дал критику таких систем, подменивших реальный
объект «комплексом ощущений», «элементами мира», символами и их
последующей организацией с помощью принципов «координации»,
«экономии мышления», «логической необходимости», то есть
формальных операций. В этой работе Ленин показал также, что
подобные философские системы опираются на реальные трудности
и противоречия в развитии науки, и объяснил, почему взгляды
естествоиспытателей поддаются их влиянию:
«Новая физика свихнулась в идеализм, главным образом,
именно потому, что физики не знали диалектики. Они боролись с
метафизическим (в энгельсовском, а не в позитивистском, то есть
юмистском, смысле этого слова) материализмом, с его
односторонней «механичностью» — и при этом выплескивали из ванны
вместе с водой и ребенка. Отрицая неизменность известных до тех
пор элементов и свойств материи, они скатывались к отрицанию
материи, то есть объективной реальности физического мира.
Отрицая абсолютный характер важнейших и основных законов, они
скатывались к отрицанию всякой объективной закономерности в
природе, к объявлению закона природы простой условностью,
«ограничением ожидания», «логической необходимостью» и т. п.
Настаивая на приблизительном, относительном характере наших
знаний, они скатывались к отрицанию независимого от познания
объекта, приблизительно верно, относительно правильно
отражаемого этим познанием»38.
137 Высказывание принадлежит Гейзенбергу. Цит. по: Waddington С. Н.
Behind Appearance. A Study of the Relations between Painting and the Natural
Science in This Century. Cambridge, 1970, p. 108.
38 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 276—277.
50
Формулируя положения диалектико-материалистической теории
познания, Ленин подчеркнул первостепенную важность четкого,
без всяких словесных оговорок решения основного вопроса
философии, ибо только на основе признания первичности материи,
«вещи в себе», можно строить подлинно научную гносеологию.
Разумеется, было бы упрощением полагать, что кубистическая
живопись явилась на свет как прямое следствие и воплощение
философских доктрин. Теория этого направления формировалась
со значительным отставанием от практики, и основные ее
положения были высказаны, во всяком случае, уже после того, как была
пройдена «аналитическая» фаза. Инициатива здесь также
принадлежала не художникам, а их друзьям-литераторам, стремившимся
обосновать «революцию» в искусстве и снабдить ее теоретической
программой. Первоначальный же стимул исходил из негативного
отталкивания от традиции, утверждения творческой воли
художника, не желающей считаться ни с какими нормами39.
Однако философский субъективизм не только не был
посторонним спонтанному субъективизму индивидуалистического
бунтарства, он идейно обосновывал его, укреплял его позиции. Таящийся
в такой философии агностицизм как нельзя лучше отвечал
эстетическому нигилизму художников. Изгнание реальности из
картины закономерно завершалось мировоззренческим утверждением
об условном характере реальности вообще. Эти идеи не были
безразличными для практики живописи, ибо, внедрившись, они дали
толчок ее дальнейшей эволюции. Слияние отрицательных
умонастроений с философской инверсией в соотношении материального
и идеального привело к такому перевороту, который относился уже
не к содержанию и форме его выражения, а к самой структуре
искусства. Рейналь позднее рассказывал, какой восторг вызвали у
кубистов однажды приведенные им цитаты из сочинений
философов-идеалистов, которые подтверждали, по мнению автора,
собственные «дедукции» живописцев40.
Конечно, это направление было достаточно спокойным, во
всяком случае, сосредоточенность на «чистой живописи» не
понуждала художников к таким бравурным демонстрациям новой эстетики,
которые несколько позднее устраивали футуристы, дада и первые
сюрреалисты. Но его разрушительная сущность тем самым
нисколько не затемняется.
В особом пути становления кубистического учения (от
бунтарской практики к теоретической рефлексии) —причина
содержащихся в нем противоречий. Его ядро по чисто ассоциативному
принципу обрастало различными спекуляциями, никак не согла-
39 Поэтому вполне можно положиться на заверения Пикассо: «Когда мы
изобретали» кубизм, мы совсем не собирались изобретать его. Мы лишь
хотели выразить то, что было в нас самих. Ни один из нас не составлял особого
плана сражения, и наши друзья-поэты, внимательно наблюдая за нами, не
давали нам никаких предписаний». (Пикассо. Сборник статей о творчестве. М.,
:957, с. 21.)
40 См.: Fry Ed. F. Op. cit, p., 152.
51
сующимися с самой живописью. Пытаясь объяснить странное
явление в искусстве, литераторы привлекали материал из самых
различных областей. Поэтому все рассуждения о выявлении
внутренней конструкции предмета, развертывании объема на плоскости,
четвертом измерении, динамизме и музыкальности, видимо,
придется отбросить как не имеющие отношения к делу. При всем
желании мы не найдем в кубистической картине ни анатомии
объекта, ни его стереометрии. Тем более следует отвести утверждения о
реализме кубизма, выдвигаемые лишь на том основании, что
художники писали предметы своего непосредственного окружения
и якобы пытались показать их всесторонне, с разных точек
зрения41.
Связь кубизма с теориями условности знания неоднократно
отмечалась в марксистской литературе. С полемической остротой
она была раскрыта в одной из статей Мих. Лифшица:
«Нет ничего более распространенного в современной
буржуазной философии, чем миф о разрушении граней между
субъективным и объективным благодаря открытиям новой физики и
развитию новейшего, неизобразительного искусства. В тысячу первый
раз повторяется вздорная выдумка, будто разница между
предметом и его отражением в субъективном восприятии перестала
существовать. Кубизм и последующие течения буржуазного
искусства основаны на фактическом тождестве картины и ее предмета
в самостоятельной «чистой» живописи.
...Здесь полная аналогия между сложными хитросплетениями
модернистской рефлексии в искусстве и развитием модернизма в
буржуазной философии»42.
И далее: «Живопись кубистов есть попытка доказать на
полотне, что художник, объятый духом орфизма, лиризма, чистой
поэзии, способен создать мир из ничего посредством
иррационального, неизобразительного акта. Занятый внутренним делом
искусства, не имея перед собой никакого реального содержания, которое
он мог бы петь, художник нового типа поет только свою теорию.
Она образует единственное содержание его песни»43.
Кубистические принципы проявились и в литературе, особенно
в творчестве тех писателей, которые непосредственно были
связаны с кружком Пикассо, — Гийома Аполлинера, Макса Жакоба,
Пьера Реверди, Гертруды Стайн. В предисловии к сборнику своих
стихотворений в прозе Макс Жакоб писал: «Стихотворение — это
сконструированный объект, а не витрина ювелирного магазина.
41 Эта точка зрения отражена, в частности, в эклектичной книге Голдинга,
пытающегося свести воедино несовместимое (Golding J. Op. cit., p. 88—91).
Еще более странно выглядит «марксистская» интерпретация, согласно которой
кубизм был «единственным образцом диалектического материализма» в
живописи начала XX века и якобы показал, что «сознание есть свойство
высокоорганизованной материи». (Berger J. The Success and Failure of Picasso. Har-
mondtsworth, 1965. p. 56, 59.)
42 Лифшиц Mux., Рейнгардт Л. Кризис безобразия, с. 87.
43 Там же, с. 95—96.
52
Рембо — витрина драгоценностей, стихотворение в прозе — сама
драгоценность. Значение произведения искусства — в нем самом,
а не в предполагаемых сравнениях с реальностью»44.
«Поэмы-разговоры» Аполлинера, составленные из обрывков
диалогов и фраз, случайно подхваченных в уличной толпе,
аналогичны кубистическим коллажам. Его приемы «механического
письма», предвещавшие литературную технику сюрреалистов,
были такой же попыткой отчуждения языка от смысла, какие
предпринимались художниками. Вписывая поэтический текст в контуры
фигуры (сборник «Каллиграммы»), Аполлинер шел навстречу
• словесным» картинам Пикассо и Брака.
Особенно явно следование кубистической эстетике в прозе и
драматургии Гертруды Стайн, где бесконечное варьирование
одних и тех же фраз, их движение по кругу также ведет к
опредмечиванию языка, к превращению высказывания в «объект»,
отрицающий смысл. Так, в «Пьесе, которой нет и которая только
названа» (в самом заглавии декларируется идея бытия имени,
обозначения и отсутствия обозначаемого) текст представляет собой
монотонную, непрерывно тянущуюся поверхность,
препятствующую зарождению содержания. Смысловые единицы существуют
лишь на уровне слова, самое большее — предложения, подобно
тому как в кубистической картине лишь проглядывают обрывки
изображения. Так в материале литературы воплощаются те же
теоретические постулаты.
Вместе с кубизмом родилась программа модернизма, во
многом определившая его дальнейшую эволюцию. Ближайшим
последователем и соперником этого направления стал итальянский
футуризм.
2. Футуризм
Футуристическая идеология складывалась под воздействием
чений Ницше и Бергсона, а также анархистских писателей Мак-
га Штирнера и Жоржа Сореля.
Футуристы несомненно руководствовались ницшеанским
идеалом сверхчеловека, попирающего чернь и утверждающего волю к
власти насилием и имморализмом. Правда, демонический образ
белокурой бестии немецкого философа в футуристической
практике снижался до образа мелкого беса и заурядного хулигана.
Известен скандальный характер выступлений этой группировки, за-
гыпавшей Италию манифестами и неустанно поставлявшей
материалы для газетных хроник провокационными выходками. Стре-
:ясь к шумной пропаганде и насильственному внедрению своих
■лей, футуристы устраивали в разных городах так называемые
^■туристические вечера, в которых цирковая эксцентрика и пло-
44 Jacob M. Le cornet a des. Paris, 1945. p. 23.
53
щадной юмор не раз переходили в вульгарную брань и
рукопашные схватки со зрителями45.
«Обстоятельства приписывают нам грубиянские ухватки, —
писал организатор и идейный вдохновитель движения Маринет-
ти. — Наше рискованное выступление не может стесняться
сантиментами. ...Выбор оружия не от нас зависит, и мы вынуждены
пользоваться каменьями и тяжелыми молотками, щетками и
зонтиками, чтобы расталкивать и опрокидывать бесчисленную ораву
наших врагов-пассеистов»46. В таких формах «повседневного
героизма» (выражение Маринетти) воплощали футуристы идеалы
индивидуалистического бунтарства.
Что касается представлений об анархической мятежности, то
итальянские фанатики действия шли здесь гораздо дальше своих
учителей. Маринетти с презрением писал об идеале анархистов —
«всеобщем мире и рае с лобзаниями среди полей и волнующихся
пальм». «Мы считаем превзойденной и превосходимой гипотезу
дружеского слияния народов и принимаем только одну гигиену
для мира: войну»47. Воспевание кровавой бойни — характерное
выражение боевитости этого направления. Маринетти даже
называл первую мировую войну «самой прекрасной футуристической
поэмой», а возглавляемое им движение —- «милитаризацией
прогрессивных художников».
Воинственный дух Маринетти и его адептов станет более
понятным, если учесть, что их социальная программа была крайне
реакционной и в основном имела разрушительный смысл. Война
представлялась как расширение их собственной бойцовской
практики и осуществление всекрушащей идеологии. Футуристическая
идеология определяла себя в первую очередь через отрицание,
отталкивание от всего, что клеймилось словом «пассеизм».
Понятие это охватывало очень многое. Сюда входила, конечно,
буржуазия с типичными для нее воззрениями консерватизма,
клерикализма и либерального охранительства. Но в это же понятие
«устарелости» и «отсталости» включались и идеалы равенства,
социальной справедливости и разумного общественного устройства на
демократических началах. И монархизм, и социализм были
одинаково ненавистны футуристам. В массовых демократических и
социалистических движениях Маринетти видел только
«отвратительную экзальтацию требований желудка». «Знайте, что мы
ненавидим, с одной стороны, консервативный, трусливый и клерикальный
дух, а с другой — интернационалистский и пацифистский
социализм» 48.
Собственная политическая программа футуристов
предусматривала замену парламента ассамблеей промышленников, земле-
45 Богатая острыми сюжетами история направления достаточно подробно
освещена в кн.: Baumgarth Ch. Geschichte des Futurismus. Reinbek bei Hamburg,
1966.
46 Маринетти. Футуризм. [СПб.], 1914, с. 11.
47 Там же, с. 65.
48 Там же, с. 23.
54
владельцев, инженеров и торговцев. Систему выборов
предполагалось отменить и установить постоянное правительство, состоящее
из 20 специалистов. Очевидна крайняя реакционность таких
технократических и элитаристских устремлений. Американский автор
Клоу справедливо замечает, что «в этих программах уже
содержалось зерно корпоративного государства... Фашисты развернули
идеи, существовавшие в умах футуристов в период первой
мировой войны»49. Последовавший затем альянс Маринетти с
фашизмом вполне закономерен.
Близкими к фашистской идеологии были и виталистские
представления о человеке как преимущественно биологическом
существе, прославление мускульной активности, бодрости, атлетизма,
«здоровых инстинктов», агрессивности. Но особое воодушевление
у глашатаев неоварварства вызывали националистические идеи.
«Слово „Италия" должно сиять гораздо выше слова
„Свобода"»50,— писал Маринетти. В футуристических манифестах
шовинистическая пропаганда постоянно сопутствовала лозунгам
техницизма, спортивности, расправы с «червивым» прошлым, отречения
от разума и пр. По представлениям Маринетти, физическая
энергия и динамизм должны были вывести Италию из застоя.
Погромный футуристический энтузиазм к ведомству
«подагрического» пассеизма относил традиции, мораль, всю культуру
прошлого, пожалуй, даже культуру вообще, такие расслабляющие
сентименты, как любовь, сострадание, чувство привязанности, а
заодно и всякое проявление человечности. Футуристы вполне
всерьез говорили о грядущем биологическом перерождении
человека, о возникновении получеловеческого-полумеханического типа
с взаимозаменяемыми частями — особи, наделенной свойствами
беспощадности, стремительной быстроты движений и
специальными органами самозащиты и нападения51. В особенно энергичных
выражениях клеймили итальянские будетляне разум, вполне
справедливо усматривая его причастность к «пассеистской» культуре.
Технический манифест футуристической литературы
заканчивается таким призывом:
«Поэты-футуристы! Я научил вас ненавидеть библиотеки и
музеи. Это для того, чтобы приготовить вас ненавидеть Разум,
пробудить в вас божественную интуицию, характерную способность
латинских рас»52.
Здесь мы сталкиваемся с отголоском учения Бергсона. Нужно
сказать, что представления Бергсона о длительности,
непрерывности сознания, о слиянии объекта и субъекта в интуиции сыграли
49 Clough R. Т. Futurism; The Story of a Modern Art Movement. N. Y.,
1961, p. 29.
50 Маринетти. Футуризм, с. 149.
51 Здесь футуристы основывались на ламаркистских представлениях об
эволюции, идеях врача Алексиса Карреля об искусственных органах, но более
всего — на книгах горячего почитателя Ницше и технического прогресса Марио
Морассо.
52 Манифесты итальянского футуризма. М., 1914, с. 42.
55
определенную роль в оформлении футуристической эстетики53.
Однако бергсоновская философия использовалась лишь в отдельных
фрагментах и интерпретировалась предвзято, с точки зрения ее
пригодности к футуристической практике. В программе
направления интуиция фигурировала как суммарное обозначение
иррационального начала, противостоящего разуму, точно так же, как
ницшеанский сверхчеловек в модернизированном варианте человека-
мотора противопоставлялся устаревшей человечности. В конечном
итоге «интуиция», очищенная от того специфического содержания,
которое вкладывал в это понятие Бергсон, принималась просто
как символ поругания «бессильного» интеллекта. Маринетти
говорил о своем «презрении и ненависти к ползающему разуму,
дряхлому и одинокому», о том, что отныне все права должны
принадлежать «пророческой интуиции».
Понимаемая таким образом интуиция сливалась в их
представлениях, с одной стороны, с безумием, бредом, а с другой — с
откровениями спиритизма и оккультизма. Футуристы (как и
несколько позднее сюрреалисты) проявляли большое пристрастие к
этим альтернативам интеллекта, которые в то же время были
точками притяжения их анархических устремлений. Сумасшествие
превозносилось в поэмах и прозе Маринетти как злая, сатанинская
сила, в той же мере гибельная и нещадная, что и война.
Важно иметь в виду преимущественно негативный характер
идеологии футуристов. Они хорошо знали, с чем вели свою
всеохватывающую борьбу, ибо это ненавистное «все» было уже дано,
осуществилось в наличествующей общественной системе, в
живущих традициях, в сложившихся моральных и эстетических
представлениях, в своде культурных ценностей. Будущее, от лица
которого они выступали, рисовалось гораздо более туманно и
виделось преимущественно как ничто, во имя которого и шел
нынешний бой против всего. Те символы, на которые опирались
футуристы в своем противодействии существующему — дьявольская
бесчеловечность техники, устрашающее буйство безумия и
насилия — не могли лечь в основу какого-либо позитивного проекта
мироустройства и поэтому использовались скорее в качестве
инструментария в нынешней разрушительной работе.
Футуризм как направление в искусстве сформировался иным
путем, чем кубизм.
Если кубистические идеи складывались непосредственно на
холстах и лишь позднее обрели вербальное оформление, в
футуризме сначала возникла идеологическая программа, для которой
впоследствии была отыскана соответствующая живописная форма.
Первый (литературный) манифест футуризма был написан
Маринетти в начале 1909 года. К выборам в марте 1909 года поэт
публикует первый политический манифест футуризма. Тогда же он
53 См. об этом: Calvesi М. II Futurismo. Milano, 1967, parti prima-terza
(L'arte moderna, 13—15).
56
привлекает группу художников (Боччони, Карра, Руссоло, Романи,
Балла, Северини), которые в феврале 1910 года совместно создают
первый «Манифест художников-футуристов». В начале апреля
выходит «Технический манифест футуристической живописи». Но еще
долгие месяцы после опубликования этих программ художники
продолжают работать в ранее свойственной им манере
пуантилизма и символизма. Летом 1911 года они едут в Париж, где
знакомятся с кубистами. Только после этого путешествия происходит
стилевой перелом в их живописи. Очевидно, восприняв кубисти-
ческую фрагментарность и ломку форм как выражение динамизма
и «симультанности», итальянцы приспосабливают новую
стилистику к своим целям. Так появляются кричащие «энергетические»
композиции с раздробленными фигурами и пересекающими их
острыми углами и спиралями, призванные выразить воодушевление
индустриализмом, движением, городским грохотом и прочими
атрибутами нового века.
Также по-своему восприняли итальянцы и идею
концептуальной живописи. Если в кубистической теории понятие «концепция»
означало лишь соотношение предметного образа с живописной
конструкцией (и не более того), футуристы под концепцией имели
в виду свою идейную программу. Так, основной теоретик
футуристической живописи Боччони заявлял: «Если наши картины,
являются футуристическими, то это потому, что они результат
безусловно футуристических концепций — этических, эстетических,
политических и социальных»54. В другом манифесте Боччони
(«Пластический динамизм», 1913 г.) читаем: «Когда нам говорят, что в
мире есть образцы как статических так и динамических объектов,
мы отвечаем, что в нашей живописи концепция доминирует над
видимым, которое воспринимается только фрагментарно и,
следовательно, дробится»55.
Футуристы настаивали на том, что в живописи должен
выражаться дух нового времени. И именно их идеологическая
направленность вызывала критику Аполлинера, увидевшего в ней
возвращение к презренной сюжетности и аллегоризму академического
искусства.
Идеолог французского авангарда говорил о футуристах: «Они
хотят писать формы в движении, что вполне законно, но при этом
они разделяют маниакальную приверженность всех академических
живописцев56 к изображению душевных состояний. В то время
как наши передовые художники уже не вводят в свои картины
никаких сюжетов, первейший интерес академических полотен
заключен в сюжете. Пусть футуристы остерегаются синтеза, не
переводимого в пластические формы: он ведет художника только к
холодному аллегоризму академиков»57.
54 Futurist Manifestos. Ed. by U. Apollonio. London, 1973. p. 110.
55 Ibid., p. 94.
56 Здесь и далее Аполлинер употребляет презрительное слово pompier,
которым награждались авторы высокопарных и банальных произведений.
57 Цит. по: Schwartz P. W. The Cubists. London, 1971, p. 83.
57
Художники парижского авангарда вообще с насмешкой
относились и к проповедям итальянцев, и к тому декламационному
пафосу, с которым они произносились. Но и футуристы не
оставались в долгу, также обвиняя своих соперников в академизме,
признаки которого они усматривали в холодности, застылости и
формализме их картин58.
Эта перестрелка безусловно выявляет одно различие между
двумя направлениями. Футуристам была чужда кубистическая
метафизика. Они хотели сделать живопись содержательной,
подчинить ее своим социальным идеям. Футуристическая теория
предшествовала живописи и потому диктовала ей свои условия,
определяла правила ее формирования, а для зрителя — и правила
прочтения. В футуристической картине ничего нельзя понять, не
ознакомившись предварительно с манифестами.
Однако, может быть, сама эта теория и диктуемое ею
восприятие являются объектом отражения в футуристической живописи?
Может быть, футуризм — лишь новейший вариант такого давно
известного истории типа искусства, которое первейшей своей
задачей считает символическое изложение внешних, ранее
сложившихся идей, новизна которых в данном случае и определяет новизну
его стилистики? Тогда Аполлинер прав и футуризм следует
зачислить по рангу академической традиции.
Но дело в том, что футуристическая доктрина почти во всем
своем объеме вполне могла бы быть выражена традиционными
средствами, как она фактически и выражалась обычным языком
в манифестах, или как позднее выражалась сходная идеология
фашизма в живописи третьего рейха. Догматы веры футуризма
(этические, социальные и политические), при всей их
эксцентричности, сами по себе вовсе не требуют того гвалта фигуративных
и геометрических обломков, который обрушивается с их полотен.
Однако в программе направления есть пункт, который коренным
образом меняет дело.
Это — негативное отношение к самому искусству, которое в
целом воспринималось футуристами как один из атрибутов
ненавистного пассеизма. Маринетти призывал своих адептов
«ежедневно плевать на алтарь искусства». Конечно, в первую очередь
отрицание было направлено на классику. Футуристические манифесты
прокламируют «разрушение четырехсотлетней итальянской
традиции»59; объявляют, что «все прошлое искусство должно быть
решительно выброшено за борт»60, призывают «проституировать
классику» и даже уничтожать памятники прошлого61.
58 В «Манифесте первой выставки футуристической живописи» говорится:
«Объявлять, что ценность сюжетов живописи абсолютно ничтожна, не значит
ли, в самом деле, возвращаться к академии». (В кн.: Маринетти. Футуризм,
с. 141.)
59 Futurist Manifestos, p. 88.
60 Ibid., p. 149.
61 См.: Футуристическая прокламация к испанцам. — В кн.: Маринетти,
футуризм, с. 49.
58
Но этим дело не ограничивается. Объятые духом отрицания,
художники стремятся изгнать из искусства красоту, духовное
содержание, планомерную организованность формы. «Красота не
имеет никакого отношения к искусству»,62 — говорится в одном из
футуристических проектов реорганизации художественного
творчества. И далее: «Помимо слов «критика» и «критик» необходимо
упразднить следующие термины: душа, дух, художник и любые
другие слова, которые, наподобие этих, заражены
традиционалистским снобизмом»63.
Энтузиасты неоварварства пророчат грядущую смерть
искусства, а свою деятельность рассматривают как подготовку к такому
краху. Они клянутся в сорок лет уничтожить все свои
произведения, и персонаж одной из пьес Маринетти — художник Джакомо
Балла — осуществляет эту акцию, делая тем самым последний
практический вывод из доктрины. «Завершающим шедевром
искусства станет его собственное разрушение»,64 — писал критик
Соффичи, издатель тесно связанного с футуризмом журнала «Ла-
черба».
Этот прогноз — составная часть проекта вселенской
катастрофы. Искусство должно исчезнуть, раствориться в окружающей
среде. Задача нынешнего художника — сознательно идти к этой
иели. Первый и важнейший шаг — уничтожение изображения. «Мы
продвигаемся вперед, ежедневно разрушая в нас и наших
картинах реальные формы и наглядные детали, служившие нам для
того, чтобы перекинуть мостик понимания между нами и
публикой» 65.
Картина без образа — это объект, конструкция из форм и
цветов. Основной теоретик футуристической живописи Боччони
писал в 1911 году: «Цвета и формы должны выражать самих себя,
они не нуждаются ни в каком объективном изображении, их
роль — творить формальные состояния и состояния цветовые»66.
В манифесте Джакомо Балла и Фортунато Деперо
«Футуристическая реконструкция мира» говорится: «Искусство становится
Присутствием, новым Объектом, новой реальностью, созданной из
абстрактных элементов вселенной»67. Авторы «Технического
манифеста футуристической скульптуры» провозглашают: «Скульптура
предлагает абстрактную перестройку, а не фигуративную ценность
плоскостей и объемов, которые определяют форму»68. В другой
прокламации Карло Карра, перечислив все, что подлежит
уничтожению в живописи: перспектива, гармония красок,
«созерцательный идеализм» (под которым он имеет в виду изображение ви-
62 Futurist Manifestos, p. 145.
63 Ibid., p. 149.
64 Цит, по: Clough Я Т. Op. cit., p. 58.
65 Манифест первой выставки футуристической живописи. — В кн.: Мари-
■--.7TU. Футуризм, с. 147.
66 Futurist Manifestos, p. 180.
r Ibid., p. 198.
.Манифесты итальянского футуризма, с. 34.
59
*« *
£.=._
4N
^
&J " "■
Г
^\,
•f i'
3
&
,► >? .. V
.3e&~^*
./ fc
fe
"£?*Ч '■' ■'' Г
M
12. Умберто Боччони. Состояния души I. Прощание. 1911
Гъ
. /'*'
4 ^
*ч>*
13. Умберто Боччони. Пластические формы лошади. 1914
60
£
% %
&\
**
Ktff s( V* „ ^
>&%
*$№
' <Ч
«W
.*#
Г *
^ ^8^-'^*"^ -.
%ж
■■^ ~&
14. Луиджи Руссоло. Динамизм автомобиля. 1912—1913
L> Джакомо Балла. Патриотическая песня на площади Сиены. 1915
61
*,*■
&
ь
i 4.
а:
*&*
:* -
X
Ш-
■ '■■*■ :- *-,V
Hi*-. * "
v'-ft^"
16. Джино Северини. Балерина+море=букет цветов. 1913
62
/
/
17. Джакомо Балла. Трансформация духовных форм
8. Энрико Прамполини. Полнматериальный автоматизм. Ок. 1940
63
димого), сюжет, — объявляет, что новая живопись утверждает
«значение динамической конструкции картины (архитектурное,
полифоническое целое) как универсального сюжета и
единственного смысла самой картины»69.
Как видим, все это почти буквально повторяет основные
положения кубистической теории. Есть и различия. К чему они
сводятся? Прежде всего, конечно, к требованию динамики,
«энергетики», «симультанности» и прочих признаков суеты и шумливости
нового века. Футуристы противопоставляли кубам своих
соперников вертящиеся, мелькающие и взрывоподобные формы спирали,
зигзага, эллипса, круга, скошенного конуса, стремясь создать
«конструкцию движущейся реальности»70. «В скульптуре, — писал
Карло Карра, — мы по необходимости ищем не чистой формы, а
чистого пластического ритма, не конструкции объекта, а
конструкции его движения»71.
Но футуристы не довольствуются внешними символами и
способами описания движения. Они само искусство понимают как
действие и видят в этом основное проявление своего новаторства.
«Новая форма искусства — действие» 72, — говорил Маринетти.
Балла и Деперо, ссылаясь на своего лидера, писали: «С
футуризмом искусство стало искусством-действием, то есть энергией воли,
агрессией, обладанием, проникновением, радостью, грубой
реальностью в искусстве, геометрическим сверканием сил,
устремленностью вперед»73. По мнению Маринетти, «искусство не может
быть ничем иным, кроме как насилием, жестокостью и
несправедливостью» 74.
Речь идет уже не просто о выражении идеологии, а о ее
непосредственном осуществлении в действии. Футуристический
разрушительный динамизм не ограничивается проникновением
вовнутрь картины в качестве ее содержательного компонента; он
хочет подчинить своей репрессивной тактике законы
художественного творчества. Живописная динамика — лишь частное
проявление энтузиазма, обрушивающего свою энергию и на
художественную систему. Поэтому динамика обычно понималась в
футуристической теории как способ расщепления изображения.
«Движение и свет уничтожают материальность тел»75, —
писали авторы «Манифеста художников-футуристов». В другом
документе Боччони призывал: «Сломаем же их [законы
искусства.— В. /(.] смело и провозгласим полнейшее уничтожение
законченной линии и законченной статуи. Откроем фигуру, как окно, и
заключим в нее среду, в которой она живет»76.
69 Там же, с. 69.
70 Futurist Manifestos, p. 42.
71 Ibid., p. 93.
72 Цит. по: Baumgarth Ch. Geschichte des Futurismus, S. 7.
73 Futurist Manifestos, p. 198.
74 Цит. по: Calvesi M. Op. cit. Parte prima, p. 23.
75 Манифесты итальянского футуризма, с. 13.
76 Там же, с. 32.
64
Этой цели служили внезапные срезы фигур, провалы в
изображении, вытеснение его геометрическими обломками.
Футуристические картины демонстрируют операцию раскраивания и
перемешивания изобразительных форм. Агрессия художников направляется
и на формальный строй живописи, так что, по признанию
Боччони, «все законы композиции, светотени, рисунка и цвета были
перевернуты вверх дном»77.
Стремясь освободить картину от реальности, художники
призывали отказаться от изображения видимого, заменить его
бестелесным и чувственно невоспринимаемым. В этом Боччони видел
преодоление «антитезы между живописным идеализмом и
реализмом»78. О задаче воспроизведения незримого и неосязаемого
говорил Карра, придумавший и особое название для такого «развоп-
лощенного» искусства — «живопись звуков, шумов и запахов».
Пустоты между объектами футуристы считали равноправными самим
объектам и в той же мере материально наполненными
(посредством «силовых линий»). Спирали, конусы, диагонали,
пересекающие пространства футуристических картин, по существу,
представляют собой отторгнутые от изображения и наделенные
самостоятельностью обрывки композиционных схем, которые в
классической картине присутствуют как бы бестелесно, в качестве
организующего начала образа.
Изображение неизобразимого, развоплощение предметного и
овеществление невидимого превращают живописное полотно в
катастрофическое зрелище, в подобие взрыва или урагана, в котором
пропадают осколки образности и закономерной целостности.
Футуристическая картина определяется прежде всего через
соотношение с картиной классического типа («пассеистской»), а не с
реальностью. Динамический сюжет в ней — лишь точка
отталкивания, внешнее оправдание разрушительного действия, «мостик
понимания между художником и публикой». Художественная
система фигурирует здесь как объект, на который направлена
отрицающая акция нового живописца. Художник переходит к прямым
манипуляциям с этим «объектом»: рассекает и «переворачивает
вверх дном» его структуру, переиначивает смысл ее составляющих,
превращая живописное полотно в место манифестации такой
разрушительной работы. Это можно сравнить с тем способом
исполнения классических произведений, который футуристы предлагали
в манифесте «Мьюзик-холл», например: давать «в один вечер все
греческие, французские, итальянские трагедии в сокращении...
Исполнить симфонию Бетховена в обратном порядке. Сжать всего
Шекспира в один единственный акт... Заставить актеров,
наполовину зашитых в мешки, играть «Эрнани»79.
Футуристы и в самом деле представляли себе картину чем-то
вроде вихревой воронки. Они постоянно твердили о том, что хотят
Futurist Manifestos, p. 177.
См.: Jullian R. Le futurisme et la peinture italienne. Paris, 1966, p. 65.
Манифесты итальянского футуризма, с. 77.
65
создавать живопись, втягивающую в себя зрителя, подчиняющую
его своим гипнотическим ритмам.
«Мы поместим зрителя внутрь картины, — писал Боччони. —
Можно сказать, что с точки зрения переживаемого ощущения
художник находится в центре сферических потоков, которые
окружают его со всех сторон.
Для нас картина не является больше сценой, подмостками для
представления факта... Она — волнующее архитектурное
окружение, которое вызывает отклик и полностью вовлекает в себя
зрителя» 80.
Поскольку целостная, законченная художественная форма
основывается на строго определенном способе художественного
выражения, футуристы отвергали видовые границы искусства, считая
идеалом беспорядочный поток цветов, объемов, шумов, запахов.
Искусство будущего, по их мнению, должно стать
«полиэкспрессивной симфонией», то есть «живописью, архитектурой,
скульптурой, движением «освобожденных слов», музыкой цветов, линий и
форм, беспорядочной смесью объектов и фрагментов реальности,
брошенных наугад. Мы откроем новые источники вдохновения для
поисков художников, которые вырвутся за пределы картинной
рамы. Мы приведем в движение освобожденные слова, которые
вдребезги разобьют границы литературы, и устремятся к
живописи, музыке, искусству шумов, перекинут мост между словом и
реальным объектом»81.
Конечно, стремительное схождение в глубину концентрических
колец, спиралей и сломанных под углом лучевидных полос создает
определенное ощущение пространственного прорыва,
втягивающего в себя глаз. Тот же завораживающий эффект возникает от
пляски темных и светлых пятен, резкого высвечивания центра
картины, каскадных ритмов или ураганных завихрений красочных
мазков. Но все эти приемы были известны искусству прошлого и
широко использовались, например, в барочной живописи.
Футуристы, с их презрением к традиции, не могли этого не понимать.
Приемы иллюзорного прорыва плоскости были лишь шагом на
пути к более радикальному разрыву с картинной формой: в
призывах к «сферической экспансии», картине-среде содержалось
намерение покончить со всякой иллюзорностью, выйти в реальное
пространство.
«Я предвижу конец живописи и скульптуры, — писал Севери-
ни. — Эти формы искусства противоречат нашему духу
новаторства, порабощают нашу творческую свободу и содержат в себе свою
собственную обреченность: музеи, частные собрания — все это
увязло в трясине прошлого.
Вместо этого наши пластические создания должны жить в
открытой воздушной среде, встраиваться в архитектурные схемы;
80 Futurist Manifestos, p. 177.
81 Ibid., p. 208.
66
вместе с ними они будут активно вторгаться во внешний мир,
существенной частью которого они и являются»82.
Таким образом, в футуризме был создан и отчасти реализован
проект кинетического искусства и энваиронмента современного
авангарда. «Пластико-динамические комплексы» Балла
(движущиеся, шумящие, светящиеся конструкции), растекающиеся формы
окрашенной скульптуры Боччони — образцы такого растворения
живописи в среде. Другой вариант —предметные композиции и
хаотичные коллажи Прамполини, весьма близкие аналогичным
опытам дадаистов.
Было ли здесь стремление к некоему новому синтезу искусств,
художественной организации окружающей среды? Скорее,
наоборот— отчетливо выразилась воля к хаосу, растворению
эстетического феномена в неподвластных художнику случайных процессах.
В одном из футуристических воззваний авторы, осмеяв разделение
искусств по видам, предложили такой способ создания
«неограниченного» искусства: сбросить с 37-метровой башни куски дерева,
перья, обрывки бумаги и холста; при падении они и создадут
конфигурацию «достаточно сложную, труднодостижимую и редкую».
С их точки зрения это весьма эффективный способ осуществления
программы, согласно которой «каждый художник сможет
изобретать новую форму искусства... то есть хаотическую,
неэстетическую, ненамеренную смесь всех искусств, уже существующих и тех,
что будут созданы неутомимой волей к обновлению, которую
футуристы сумеют внедрить в человечество»83.
В основе футуристического деконструктивного конструктивизма
лежала идея, вытекающая из общих негативных установок
направления: целостность произведения нужно уничтожить, монолитный
«художественный объект» должен распасться на куски так же, как
распалось изображение, и раствориться в среде.
С другой стороны, футуризм был предтечей и таких
направлений, как американская живопись действия и различные
процессуальные формы новейшего авангарда.
Возникший в 60-е годы острый интерес к этому направлению
вполне объясним. Художников нового поколения привлекала
отнюдь не живопись футуристов, а их теоретические установки:
антиэстетизм, стремление к отмене художественной формы,
убежденность в ее устарелости и «буржуазности», идеи о необходимости
разрушения границ искусства, уничтожения его видовой
специфики. Живопись воспринималась лишь как вынужденная уступка
требованиям времени. Подлинную ценность футуризма новый
авангард видел в скандальных представлениях и эпатирующих жестах
этой группировки.
Кубизм и футуризм основывались на разных посылках, но
сходились в главном: общей для них была позиция вытеснения образа
82 Ibid., p. 125.
83 Ibid., р. 146.
67
реальности реальностью безусловной — конструкцией или
действием. Кубизм шел от сокращенного и деформированного
изображения к особой теории, расширяя идею условности изображения до
концепции условности видимого мира, В футуризме острие
негативных социальных воззрений направлялось на художественную
практику, введенный в картину заряд разрушительной идеологии
взрывал ее изнутри. Но оба направления движутся к одному
результату, заканчивая свой путь материализацией живописи в
пространственной конструкции. Противоположные подходы были
направлены навстречу друг другу и совмещались в одной точке.
Поэтому кубизм и футуризм как бы взаимно разъясняют друг
друга: футуризм высвечивает неявную негативность кубизма, а
кубизм обнаруживает эфемерный и служебный характер
футуристической сюжетности и «идейности». Обоюдные наветы в
академизме были, разумеется, напрасными.
В деятельности этих двух направлений была как бы заложена
генетическая программа дальнейшего развития модернизма. В
каком-то смысле они действительно проложили новые пути. Все
последующие направления лишь выдвигали новые варианты
деструкции по той же самой схеме.
РОЛЬ
ФИГУРАТИВНОСТИ
в
МОДЕРНИЗМЕ
Представление о том, что фигуративность в модернизме
существует лишь как не до конца преодоленное наследие прошлого,
едва ли было бы верным. И дело не только в том, что в нем
постоянно возникают направления так называемого нового реализма
(последним из которых был гиперреализм). Модернизм
совершенно иначе, по сравнению с реалистическим искусством, трактует
изображение, придавая ему смысл, обратный исходному. В
большинстве случаев в модернистской живописи изображение
представляет не столько внешнюю реальность, сколько собственную
иллюзорность.
Пожалуй, с наибольшей последовательностью такое понимание
образа было осуществлено в творчестве Пикассо.
1. Пикассо
Сразу же после «героического периода» кубизма Пикассо
вдруг начинает работать в совершенно иной манере, очень
похожей на манеру академического искусства. В 1917—1919 годах он
создает серию «правдоподобных» графических портретов,
множество рисунков, изображающих танцовщиков труппы Дягилева,
такие «энгровские» картины, как, например, портрет Ольги Хох-
ловой, и несколько позднее — «Арлекин». Этот поворот был
расценен друзьями Пикассо чуть ли не как предательство, измена
«революционным» принципам авангарда.
На самом деле Пикассо этих упреков не заслужил. Его
классицизм имел совершенно особый смысл, который почему-то не был
понят ни ближайшим окружением художника, ни тогдашней
официозной критикой, праздновавшей возвращение блудного сына в
отчий дом традиции. Достаточно посмотреть, как выполнены такие
знаменитые ретроспективы, как «Арлекин» (1923 г.) и портрет
Ольги Хохловой (1917 г.), чтобы понять это.
Художник оставляет большие пробелы в изображении,
открывая взору пустующие поверхности. Портрет Ольги Хохловой
написан на слабо прогрунтованном холсте, фактура которого
просвечивает сквозь красочный слой; изображение как бы втянуто в холст,
слито с ним. «Арлекин» написан в несвойственной живописи
манере, имитирующей технику графики: четко обозначены контурные
линии, объем выявлен штриховкой, цветовые пятна подчеркнуто
плоскостны. Все направлено на обнаружение искусственности
изображения, сомнительного характера его иллюзорности. Образ
находится в конфликте с формирующими его средствами, восприятие
зрителя двоится. По существу, здесь то же противопоставление
двух «реальностей» (живописного материала и образа), которое
71
было в кубизме. Это своего рода иллюзионистическая деталь
коллажа, распространившаяся на всю поверхность холста. Ее можно
сравнить с «нарисованным коллажем», которым увлекались
Пикассо и Брак в кубистических работах конца 10 — начала 20-х
годов, где карты и вырезки из бумаги имитируются в живописной
технике (лучший пример этой позднекубистической манеры — «Три
музыканта» Пикассо).
«Только контурный рисунок не является подражательным»1,—
говорил Пикассо, и если это замечание неверно в общем виде, оно
справедливо по отношению к таким его работам, как портреты
Стравинского, рисунки на темы балета или иллюстрации к
«Метаморфозам» Овидия. Плотный контур, самовластному движению
которого не препятствуют никакие другие изобразительные
средства (светотень отсутствует), противоборствует с реальной
формой: он то совпадает с ней, то резко и немотивированно отступает.
Если эти вариации и не слишком далеко уходят от темы, то все
же произвольная рассогласованность того и другого очевидна.
Линия как бы просекает фигуру в бумаге, так что она выглядит
плоской прорезью, напоминающей бумажные конструкции,
которые Пикассо создавал в те же годы.
После периода действенного разрушения иллюзии такие вещи
уже нельзя было воспринимать как простой возврат к традиции.
Кубизм (который как раз в это время приобрел в художественном
мире силу непререкаемого авторитета) стал для них фоном и
контекстом, определившим новые правила восприятия. Показывая
свои «классические» рисунки Канвейлеру, Пикассо сказал: «Не
правда ли, сейчас это выглядит лучше, чем прежде»2.
Заданное кубизмом противостояние материала и образа
отчетливо прослеживается в дальнейшем творчестве Пикассо. Здесь нет
возможности анализировать его подробно, поэтому ограничимся
несколькими примерами.
В картине «Художник и модель» 1926 года самостоятельное
движение непрерывных начертаний настолько полно овладевает
поверхностью полотна, что глаз лишь с трудом выделяет
фигуративные элементы. Изображение запутано в линиях, как в
известных картинках-загадках. Перед зрителем ставится нелегкая
задача распутать этот клубок, высвободить увязшие в нем осколки
реальной формы. К разгадыванию зрительного ребуса и сводится
процесс восприятия, вынужденно идущий неестественным для него,
и потому трудным, путем: не от мгновенно опознаваемого образа
к его осмыслению, а от формы к выделению растворенного в ней
образа. Сразу же увязнув в путанице конфигураций, зритель
сможет найти им предметный эквивалент, лишь перескочив на
понятийный уровень — название картины. Это единственный путь к
опознанию изображаемого.
1 Пикассо. Сборник статей о творчестве. М., 1957, с. 27.
2 См.: Cabanne P. Le siecle de Picasso. Paris, 1975, v. 1, p. 326.
72
При всем стилистическом отличии таких картин от кубистиче-
ских, принцип один: художник «поет свою собственную теорию».
А теория состоит в том, что живопись есть живопись, а не
имитация натуры и что образ в ней возникает как побочный результат
случайного совпадения самоценных красочных форм. «Живопись
сильнее меня, — говорил Пикассо. — Она заставляет меня делать
то, что хочет» 3.
Конечно, Пикассо редко подходил столь близко к
абстракционизму. В основном его искусство оставалось гораздо более
фигуративным. Однако что означает, например, его знаменитый прием —
совмещение в одном изображении фаса и профиля, — которым он
пользовался во многих портретных работах? Предполагать, как это
делают некоторые западные искусствоведы, что за этим стоит
намерение преодолеть ограниченность живописи ради более
разностороннего воссоздания натуры, было бы, по меньшей мере, наивно.
Такая точка зрения идет вразрез с очевидными насильственными
деформациями облика портретируемых. Отослать особые приемы
Пикассо в арсенал выразительных средств тоже невозможно: как
таковые они явно избыточны. Здесь все то же утверждение
«творческой силы» линии, которая одним росчерком создает две
несовместимые между собой конфигурации. Не изображение существует
посредством живописи, а живопись показывает свое всевластие
посредством изображения.
«Сам живописный мазок и есть творческое искусство, —
говорил Пикассо. — Если мы не достигнем удивления перед своей
работой, мы никогда не создадим новых форм»4.
Андре Мальро вспоминает такие суждения художника:
«Существование натуры необходимо, чтобы иметь возможность
насиловать ее! Да. И живопись тоже»5.
«Что такое картина, скульптура? Это... объекты? Нет. Тогда
что? Скажем так, это нечто. Нечто такое, в чем вещи должны
найти свое собственное разрушение. Живописец берет вещи. Он их
разрушает. В то же время он им дает другую жизнь. Для себя.
Позднее для людей. Но нужно пронзить то, что люди видят —
реальность. Разорвать. Уничтожить арматуру»6.
Разрушение зримого образа и способов его воссоздания
вступает в резкий конфликт с нормами восприятия и потому создает
подчас неодолимые препятствия при поиске интерпретации пикас-
совских сюжетов.
Возьмем, например, знаменитых «монстров» — серию картин
конца 20-х годов, изображающих женщин на пляже. Их фигуры
выстроены из каких-то обломков и выглядят действительно
устрашающе. Однако в чем их смысл? Обращаясь к литературе, мы
3 Цит. по: Parmelin H. Picasso dit... Paris, 1966, p. 30.
4 Ashton D. Picasso on Art. A Selection of Views. Harmondsworth, 1977,
p. 91.
5 Malraux Л. La tete d'obsidienne. Paris, 1974, p. 56.
6 Ibid., p. 128.
73
сталкиваемся с причудливой разноголосицей мнений. Одни видят
в этих картинах что-то вроде мести женскому полу, другие,
основываясь на светлом колорите и округлых линиях, напротив,
истолковывают все в лирическом ключе, третьи пытаются
спроецировать их на социальный фон и объяснить как пародию или как
метафору чудовищности мира.
По поводу этой последней интерпретации можно сказать
следующее. Если художник действительно хотел выразить ужас
перед надвигающимся фашизмом (или дать обобщенный образ
катастрофического мира), на то должны быть хоть какие-то
указания в самой картине. Поскольку их нет, интерпретация неизбежно
соскальзывает с объяснения живописи на сочинение более или
менее вероятных догадок о ее содержании. Такое «соавторство»
всегда опирается на удивительное предположение, что художник
не раскрыл свой замысел, а зачем-то скрыл его, предоставив
искусствоведу доискиваться истины косвенным путем, с помощью
хитроумных мыслительных ходов и привлечения ассоциативного
материала извне.
Другие толкования не более надежны, и понятно почему. В них
критик движется естественным, обычным для всякого познания
путем: от видимого образа к осознанию его смысла, в то время
как художник хочет от нас как раз обратного — опрокинуть
направленность восприятия, свойственную людям, «низвергнуть их
способ идентификации вещей», «создать неприемлемые образы»7.
Это означает, что мы должны сделать крутой разворот и идти не
вперед, а назад: от изображения к составляющим его элементам.
На этом пути действительно что-то открывается. Во-первых,
мы заметим, что фигура «Женщины на берегу моря» (1929 г.)
составлена из гладких, как бы выточенных из дерева форм;
механические элементы, изображая органический сюжет, вступают с
ним в открытое столкновение. Во-вторых, опустившись еще на одну
ступеньку, мы замечаем, что связать эти формы, подчинить их
единой зрительной интерпретации не удается. Это настоящий
клубок противоречий, где объем неожиданно переходит в плоскость,
выпуклая поверхность — в вогнутую, боковая грань — в переднюю,
тень внезапно отрывается от обозначаемого ею объема и
превращается в просто темное пятно.
В таком оспаривании норм зрительной перцепции — суть
парадоксальности Пикассо, и любая попытка придать его образам
более широкий смысл, по существу, уничтожает ее, ибо при этом мы
неизбежно выходим из сферы алогизмов в область логики и
примирения противоречий. «Чудовища» Пикассо, при всем их
очевидном безобразии, даже не чудовища. Эти оптические химеры
абсолютно нейтральны по отношению ко всякой этической или
эмоциональной оценке, вернее, находятся по ту сторону ее. Они
существуют лишь в качестве визуальных феноменов и только так по-
своему действенны.
7 Слова Пикассо, приводимые Мальро. См.: Malraux A. Op. cit., p. 101.
74
В них и в самом деле «уничтожена арматура», то есть та
объясняющая гипотеза, на основании которой данные перцепции
организуются в непротиворечивый образ. Линии и цвета зависают
в смысловом вакууме, не складываются в фигуру. Чем больше
усилий прилагает созерцание, тем дальше оно заходит в тупик.
Невероятность формы-фантома разбивает все предположения
«разумного глаза», видимость объема — лишь обескураживающая
ловушка для зрения. Пикассо объяснял это так: «Чувство зрения
получает наслаждение от удивления... Здесь тот же закон,
который управляет юмором. Только неожиданная острота заставляет
вас смеяться»8.
По-видимому, Пикассо был прав, полагая, что его картины
нужно только рассматривать, а всякие рассуждения о них
неуместны и бесполезны. Он часто говорил об этом. Всю
искусствоведческую литературу о себе он считал чепухой и, по
свидетельству Женевьевы Л апорт, лишь одну книгу находил правдивой —
книгу подруги своей молодости Фернанды Оливье, которая
представляет собой просто мемуары и не затрагивает проблем
творчества 9.
Разумеется, противоречия между формой и содержанием,
образом и материальными средствами его созидания присутствуют и в
классической картине. Однако в реалистическом искусстве такие
антитезы имеют проблемный характер и потому всякий раз
находят себе то или иное индивидуальное разрешение, то есть
приводятся к единству, выражающему определенную идею. Так,
противоречия между очертаниями живых фигур и
формально-композиционной организацией, локальным цветом предметов и
колористической гармонией картины, их собственной поверхностью и
живописной фактурой, конкретным сюжетом и его идейно-духовным
претворением отражают более общее противоречие между
реальностью и сознанием художника. Однако здесь противостояние
мира и его субъективного восприятия снимается в целостности
мировосприятия. Иначе у Пикассо. Его антиномии центробежны,
устремлены к противоположным полюсам и потому не разрешимы
и не сводимы ни к какому единству. В таком виде они становятся
единственным содержанием живописи.
Пикассовские фантасмагории несомненно имеют нечто общее
с трюком иллюзиониста, фокусом, игрой. Свидетельства различных
людей, хорошо знавших художника, сходятся в одном: он был
склонен к насмешливой иронии, юмору и парадоксам;
эксцентрика, фарс, клоунада были настоящей стихией его личности. Эти
черты нашли себе выражение и в творчестве.
Наиболее ярко они проявились в сфере самой игры, то есть
в театре, а также в скульптуре, для которой Пикассо сумел найти
игровые формы. О театральных работах написано хорошее иссле-
8 Ashton D. Op. cit., p. 90.
9 См.: Laporte G. «Si tard le soir, le soleil brille». Pablo Picasso. Paris,
1973, p. 78.
75
дование, автор которого показал тесную связь балетных
декораций Пикассо с его живописью, отметив, что целью художника было
«ухватить то, что ускользает от глаза: промежуточное,
искусственное, плутовское, элемент «реальной жизни», поверх которого
наброшено покрывало иллюзии» 10. Свойственная Пикассо полярная
раздвоенность образа проявилась здесь очень ярко.
Для скульптурных работ характерно то, что они чаще всего
переводят живописную стилистику в реальный объем и тем самым
в одних случаях усиливают уже заключенную в ней
двойственность, в других — прямо переворачивают соотношение между
материальным и идеальным. Так, уже в ранней скульптурной
работе— портрете Фернанды Оливье (1909 г.) —чисто живописные
элементы кубистической картины (острые грани) изображены в
бронзе, а проволочные конструкции 1928—1929 годов представляют
собой как бы растянутые в пространстве рисунки, то есть линия
одновременно и изображена, и материализована в металле.
Поэтому Пикассо считал, что «скульптура — лучший комментарий,
который может сделать живописец к живописи» и.
Но излюбленным методом Пикассо стал метод компоновки
изображения непосредственно из реальных объектов. Самый
знаменитый пример — голова быка, составленная из велосипедного
седла и руля. Таких скульптур Пикассо делал множество,
используя для них любой подходящий материал: корзины, кувшины,
гофрированный картон, коробки, лопаты, гвозди, болты, вилы и т. п.
Понятно, что его привлекало в таком методе. Здесь образ
возникает как бы независимо от воли художника, из стихии самого
предметного окружения. Это открывает путь к его обратному
прочтению, то есть фактически к растворению его идеального
характера в предметности. Последнее очень важно для Пикассо:
«В какой-то день я беру седло и руль, складываю их друг
с другом и делаю голову быка. Очень хорошо. Но что нужно было
бы сделать сейчас же, так это выбросить голову быка. Выбросить
ее на улицу, в канаву, неважно куда, но выбросить. Затем
проходит какой-нибудь рабочий. Он ее подбирает. И обнаруживает, что,
пожалуй, из этой головы быка он мог бы сделать велосипедное
седло и руль. И делает... Это было бы великолепно. В этом — дар
метаморфозы» 12.
10 Cooper D. Picasso Theatre. N. Y., 1968, p. 12.
11 Ashton D. Op. cit., p. 116.
12 Parmelin H. Picasso dit... p. 90.
Эта идея настолько занимала Пикассо, что он неоднократно выражал ее в
беседах. Во всяком случае, Мальро приводит совершенно идентичное
высказывание о том же произведении: «Неплохо, а? Это мне нравится. Но вот что
нужно было бы сделать: я бы выбросил быка в окно. Какой-нибудь мальчишка,
который играет там, подобрал бы его. При этом у него не было бы ни седла,
ни руля. И он бы присоединил их к своему велосипеду... Живопись делается не
для салонов!» {Malraux A. Op. cit., p. 62.) Аналогичное высказывание приводит
Варно (См.: Ashton D. Op. cit., p. 156). Точно так же Пикассо предлагал
выбрасывать свои произведения из гальки обратно в море. (См.: Malraux Л. Ор.
cit., p. 120; Brassai. Conversations avec Picasso. Paris, 1964, p. 273.)
76
Пикассовские фигуры как бы балансируют на острой грани
между бытием и небытием, и рождение образа означает
одновременно его гибель. Как в вышеприведенном высказывании
Пикассо, так и в его деятельности скульптора, отчетливо проявилась
идея, которая впоследствии, в 60—70-е годы, станет одной из
направляющих в авангардизме,— идея растворения искусства в
жизни, вплоть до его полного уничтожения.
Обычно искусствоведы говорят о метафоричности скульптур
Пикассо, трактуя их как сравнение двух образов: фигура
женщины— ваза, хвост журавля — лопата, лучи — гвозди и т. д. При этом
не обращают внимания на одну особенность. Любая метафора
целиком пребывает в сфере идеального, образы как бы
обмениваются между собой свойствами и качествами. И возможно это
только потому, что это образы, то есть идеализация действительности,
а не сама действительность. В реалистическом искусстве все виды
тропов служат целям познания, и такими метафорами
(перекличками форм) полна классическая картина.
У Пикассо нечто иное. Обмен информацией идет в
вертикальном плане, «сравниваются» между собой не два образа, а образ
и составляющий его предметный компонент.
Считая скульптуру комментарием к живописи, Пикассо
действительно ка'к бы разъясняет в ней принципы построения своих
картин. Недостаточно плотная материальность живописных
элементов здесь сгущается в реальную вещь. С другой стороны,
будучи помещенной в контекст идеального, вещь прямо и
непосредственно переходит в знак. Показывая Андре Варно статуэтку
женщины, сделанную из детали газометра, Пикассо сказал: «Этот
объект может очень хорошо послужить знаком женщины, линии
и объемы гармоничны. Чтобы открыть их, этого достаточно» 13.
Таким образом и достигается нужный эффект: одновременно
утверждается предметность знака и ирреальность, зыбкость
изображения, которое существует лишь как весьма непрочное
построение, готовое в любой момент рассыпаться на свои
составляющие, раствориться в среде. Часто это наглядно выражается в
шаткости самой скульптурной конструкции, но более всего —■
в трудности зрительного стягивания ее элементов в образ. В
некоторых работах (например, в кубистических конструкциях) лишь
с большим напряжением удается спроецировать обозначенный в
названии сюжет на скопление жестяных коробок, деревянных и
картонных обрезков, так что фактически он остается только
мысленным, не реализуясь в материале.
Мысль о том, что искусство имеет знаковый характер,
неоднократно высказывалась Пикассо, и на этих его воззрениях нужно
остановиться, сделав предварительно одно замечание.
К зафиксированным в литературе суждениям Пикассо следует
относиться с большой осторожностью. Во-первых, они почти всегда
ситуационны, то есть высказаны по тому или иному конкретному
13 Ashton D. Op. cit., p. 66.
I
77
поводу, как реакция на слова собеседника. Во-вторых, нужно
учитывать личность художника, отличавшегося стремлением
отклонять любую точку зрения, оспаривать любые утверждения, в том
числе и свои собственные. Просматривая запись одной из своих
бесед, он воскликнул: «Смотри-ка, неужели я это говорил?» А в
беседе с Пенроузом прямо предупредил; «Ты не должен верить
всегда тому, что я говорю. Вопросы провоцируют на ложь,
особенно когда на них нет ответа» 14. Поэтому при выяснении
истинных воззрений Пикассо на искусство статистический подход к его
высказываниям был бы небесполезен,
О том, что Пикассо считал живопись и скульптуру
совокупностью знаков, свидетельствуют многие источники: книги Парме-
лен, Брассаи, Пенроуза, Мальро, интервью Варно, Руа и Жаков-
ски. (Из списка исключена книга Франсуазы Жило, поскольку
приведенные в ней рассуждения признаны неподлинными многими
людьми, хорошо знавшими художника.) Приведем два из таких
высказываний:
- «Искусство — язык знаков. Когда я произношу «человек», я
вызываю в представлении человека; это слово стало знаком
человека. Оно не изображает его, как это могла бы сделать
фотография. Две дырки — это знак лица, достаточный, чтобы вызвать его
в представлении, не изображая15... Но не странно ли, что его
можно сделать столь простыми средствами? Две дырки — это
очень абстрактно, если подумать о сложности человека... Может
быть, то, что наиболее абстрактно, и есть вершина реальности»16.
«В живописи вещи — это знаки; до войны четырнадцатого года
мы бы сказали — эмблемы... Чем была бы картина, если бы она
не была знаком? Живой картиной? Да, конечно, если речь идет
о художнике-живописце 17. Но если это всего-навсего Сезанн, или
бедняга Ван-Гог, или Гойя, то они пишут знаки» 18.
При этом Пикассо постоянно подчеркивал, что его образы-
знаки реальны, именно реальны, даже сверхреальны, а не
реалистичны. Особенно ярко это проявилось в речах, записанных Элен
Пармелен, в которых Пикассо убеждает своих слушателей, что
его изображения «есть», «присутствуют», что они не реплики, а
«настоящие». В другом случае он говорил: «Я настаиваю на
сходстве, более глубоком сходстве, более реальном, чем реальное,
достигающем сюрреального» 19.
Здесь может завести в тупик специфика словоупотребления.
Дело в том, что Пикассо имеет в виду «реальность» не изобра-
14 Penrose R. Picasso. His Life and Work. Harmondsworth, 1971, p. 424.
15 Речь идет о граффити, то есть уличных настенных рисунках, фотографии
которых показал Пикассо Брассаи.
16 Erassai. Conversations avec Picasso, p. 334.
17 Выражение «художник-живописец» (artiste-peintre) в речи Пикассо всегда
было презрительным наименованием современного художника, верно
передающего натуру.
18 Malraux A. Op. cit., p. ПО.
19 Ashton D. Op. cit., p. 18.
78
жаемую, а воображаемую, ту, что существует только в сознании.
Знак — лишь стимул, вызывающий мысленное представление
предмета, и работа художника состоит как раз в провоцировании
таких внутренних образов: «Нужно найти способ сделать
обнаженную как она есть. Нужно дать зрителю средства самому создать
обнаженную, своими глазами»20.
Для Пикассо знак — не способ кодирования внешнего мира,
а возбудитель субъективных представлений. Его скульптурные
образы— иллюзия, изобретение сознания, создающего видимость из
предмета, переименовывающего одно в другое. Две «реальности»—■
объекта и его восприятия — разведены и противопоставлены друг
другу. «Форма, сообщающая нам чувство реальности,— это та,
которая максимально удалена от реальности ретины; глаза
художника обращены к высшей реальности; его произведения —
заклинания»21.
В пикассовской скульптуре восприятие идет не от идеального
образа к представляемой им реальности, а обратным путем — от
предмета к его возможной мысленной интерпретации. Весь
процесс замкнут в узких пределах и вращается по одной орбите:
знак — кажимость — знак (или иначе: предмет — образ—-предмет).
Для лексики разговоров Пикассо об искусстве наиболее
типичны два слова — «назвать» изображаемое с помощью живописи и
скульптуры и «сделать» его, сделать именно объект изображения:
лицо, лошадь, любой предмет, а не картину. Причем два этих
едва ли не противоположных по смыслу слова употребляются в
его речи как синонимы. Для него «назвать» предмет и означало
«сделать» его. То есть, в акте создания живописи художник
производит знак, материальность которого обеспечивает «реальное
существование», презентацию называемого им предмета.
Поэтому Пикассо уравнивал языковый знак с живописным,
неоднократно повторял, что картины нужно писать, то есть писать
словами (ecrire), утверждал, что литература и живопись могли бы
поменяться местами, или что они — одно и то же22.
Друг и личный секретарь Пикассо Сабартес свидетельствует:
«Буквы и цифры не вызывали у него неприязни; буквы и цифры
имеют свою собственную форму, так же как стол, стул, карандаш
и все, что занимает пространство в видимом мире»23. То есть, для
Пикассо и собственно знаки были «предметами».
При таком подходе становится уже невозможным определить,
что есть обозначение и что — обозначаемое. Любой предмет можно
рассматривать как знак, и любой знак как предмет. И в принципе
уже неважно, создается ли такой знак-предмет самим
художником (как в живописи), или он существует в готовом виде (как в
20 Parmelin H. Op. cit, p. 111.
21 Ashton D. Op. cit., p. 82—83.
22 См., например: Vallentin A. Pablo Picasso. Paris, 1957, p. 416; Ashton D.
Op. cit., p. 131, 158; Parmelin H. Picasso sur la place. Paris, 1959, p. 187, 189.
23 Boeck W.f Sabartes /. Picasso. London, 1955, p. 12.
79
комментирующей ее скульптуре). Грань между реальностью
воображения и реальностью, ставшей условным обозначением,
стирается, они постоянно меняются местами.
Сборные скульптуры Пикассо в чем-то близки самодельным
куклам, они побуждают к игре. Сам художник любил переставлять
их в неожиданные, забавные позиции, наделять различными
атрибутами, иногда шутя приветствовал и даже целовал их, сажал
детей на статуи животных и т. п. На одной из фотографий он
держит на коленях вырезанные по контуру рисунки, что также
напоминает детские игры с бумажными фигурками. Пожалуй,
фотографии пикассовской мастерской лучше всего объясняют, что он
подразумевал под реальностью своих созданий: как раз
поглощенность образно-идеального начала материальным позволяет
манипулировать ими как всамделишными человечками.
Разумеется, в реалистическом искусстве обе сферы—-«знака»
(здесь этот термин можно употребить лишь условно) и его
референта— четко отделены друг от друга, но при этом и связаны
через определенное отношение в сознании человека. То или иное
сочетание линий и цветовых пятен означает конкретный объект
потому, что оно создано художником с этим намерением. Между
«знаком» (живописным образом) и предметом стоит человеческое
сознание, которое и разделяет, и связывает их, определяя
направление, в котором они соотносятся между собой.
В скульптуре Пикассо уже нет этой разделенности и
однонаправленности отношений: знак и объект взаимообратимы и потому
могут быть слиты в тождестве. Такие тавтологии, когда предмет
сам себя обозначает, часто встречаются в пикассовской
скульптуре. Самый известный пример — реальная ложка, вложенная в
деревянное изображение бокала в одном из кубистических
натюрмортов24. Понятно, что такое искусство возможно только на
основе постулирования предметности изображения, в силу чего вещи-
знаки приобретают как бы стихийное бытие, и становится делом
«творческой воли» художника (или зрителя), что рассматривать
как знак, а что — как предмет.
Можно понять, что такие игры увлекали Пикассо. Можно и
самому включиться в них. Но при этом необходимо отдавать себе
отчет в том, что это игра, а не метафорическое отражение
действительности.
Здесь можно провести аналогию с философскими учениями о
познании как знаковой деятельности.
Поскольку в таких школах познание сводится к оперированию
данными в ощущениях символами и их последующему
преобразованию в знаковые системы более высокого уровня, а последние,
безусловно, имеют материальную форму, открывается путь к
фетишизации знаков. В неопозитивистской логике, например, этот во-
24 Здесь открывается прямой путь к поп-арту. Можно даже сказать, что
первые попартистские работы были выполнены Пикассо. Пример —
скульптурные копии с комков бумаги.
80
прос рассматривался в отрыве от человеческого сознания, которое
только и может создавать символы (или наделять вещи
значениями) . Возражая против психологизма, философы этой школы
стремились выстроить некую идеализированную модель познания,
отвлеченную от познающего субъекта. Каждому символу
(языковому элементу) ставился в соответствие объект (атомарный факт),
и дальше рассматривалось лишь соотношение между ними.
Устанавливая правила верификации, неопозитивисты отождествляли
значение предложений со способом их проверки или со
структурой знаковых сочетаний внутри системы. Советский философ
И. С. Нарский, отмечая, что концепция значения в таком виде
ведет к знаковому фетишизму, пишет: «Если трактовать значение
как отношение знака и предмета, которое отрешено от отношений
между людьми, то какое-либо существенное различие между
знаком и предметом пропадает. Знак и предмет начинают играть роль
лишь взаимосоотносимых вещественных образований, и в этом
случае нет принципиальных помех тому, чтобы это отношение
«перевернуть» и считать предметы «знаками» самих знаков, как это
и получалось не раз в рассуждениях «общего семантика» А. Ко-
жибского»25.
Вряд ли Пикассо был знаком с философией общей семантики.
Но и вопрос состоит не в том, могла или не могла она оказать на
него влияние. Сознание, настроенное на понимание реальности
как продукта знаковой деятельности, приходит к сходным
результатам в различных сферах — и в философии, и в искусстве.
Если объемность скульптуры стала для Пикассо способом
уравнивания реального объекта и изображения, то отвлеченная
плоскостность графики легла в основу отождествления изображения
реальности и изображения изображения. Наиболее ярко это
проявилось в серии офортов «Мастерская скульптора», выполненной в
1933 году и позднее вошедшей в так называемую сюиту Воллара.
Эта серия является, пожалуй, лучшим образчиком пикассовско-
го классицизма. Тем более интересно проследить, как в работах,
по-видимому, почти не нарушающих норм академического
рисования, Пикассо утверждает те же представления, что и в
неканонической знаковой скульптуре.
В каждом листе представлены, как правило, три персонажа —
скульптор, его подруга-модель и произведение скульптуры. Это не
оговорка — скульптура здесь действительно персонаж,
равноправный с двумя остальными. Художник не только не пытается
отделить реальность от изображения, но, напротив, всеми средствами
подчеркивает их равенство. Люди и изваяния обращаются друг к
другу с выражением немого вопроса или удивления, их жесты
встречаются. Характер обрисовывающей их линии один и тот же.
Иногда только едва намеченный край постамента отделяет
искусственный мир от реального.
25 Современная идеалистическая гносеология: Критические очерки. М., 1968,
76.
81
Художник поистине ^^ейетоищм в изобретении различных
способов, утверждающих равноправие яви и иллюзии, их
взаимопроникновение и обратимость: то голова девушки, обрамленная
оконным переплетом, уподобляется живописному портрету, то ее лицо
принимает облик скульптуры, то появляется изображение
мальчика на картине, который вместе с моделью любуется статуей.
В одном из листов натурщица смотрится в зеркало, опорой
которому служит каменное изваяние,, в другом она предстает в маске,
а античная голова заменяет лицо скульптора. Здесь все как в
зеркальной комнате, где невозможно отличить, что является
отражением, а что — отражением отражения. Это и есть та «реальность»
сделанно-названного, о которой говорил Пикассо. Порой
скульптура приобретает наступательную активность, почти угрожающе
вторгается в тесное пространство, обитаемое человеком. И когда
в некоторых сюжетах в мастерскую врывается Минотавр и
насилует девушку, то это можно понять и как символ фантазии,
полновластно завладевшей реальностью, и как символ дикой,
первозданной природы, вторгшейся в искусственный, окультуренный мир
человека (обычный прием модернистской литературы —
раскалывание образа на два противоположных смысла). Волею художника
граница между фантастическим и реальным уничтожена.
Серия эта является программной для Пикассо26, Однако здесь
нельзя говорить об идейном содержании. Противоречие лишь
переведено в иной план: сталкиваются между собой первичное и
вторичное изображения, а единство материала графики становится
способом приведения их к эквивалентности — обе степени
изображения существуют лишь как линия и плоскость бумаги. Поэтому
классический рисунок обнаруживает свою условность,
фигуративный аспект не развит в высказывание, а, напротив, утоплен в
веществе языка. Графические инверсии «Мастерской скульптора»
являются показом концепции знаковости искусства: искусство —
«обман ума», оптическая магия.
«Мастерская скульптора» дает возможность подойти к
вопросу об отношении Пикассо к классике.
К классическим темам он обращался многократно,
перерабатывая их в самых различных направлениях. Так, в 20-е годы
появляются живописные композиции с изображением обнаженных или
полузадрапированных фигур.
Рассмотрим одну из них — «Большую обнаженную» 1921 года.
В ней обнаруживается двойное сходство: с одной стороны, с
классическим мотивом, с другой — с живописью Пикассо предкубисти-
ческого периода. Трактовка лица очень близка к портрету
Гертруды Стайн, а массивные объемы, огромные неповоротливые руки
сразу вызывают в памяти жесткую рубку женских фигур 1906 года.
Громоздкость форм препятствует движению, останавливает жест:
26 На это указывает, в частности, присутствие в некоторых листах
произведений самого Пикассо.
82
грузная рука поднимается с трудом, налитая тяжестью кисть не
может согнуться, живая фигура каменеет и уподобляется идолу.
Плотные массы надвигаются на зрителя, иллюзорно выступая за
переднюю плоскость картинного пространства, и одновременно
распространяются вширь, заполняя собой почти всю поверхность
полотна. Непривычно близкая точка зрения, отсуствие
концентрированное™ форм, их растекание по плоскости создают
определенный эффект разложения фигуры на отдельные объемы — зритель
вынужден рассматривать ее по частям. Композиционная
дезинтеграция поддерживается рассогласованностью пропорций; огромные
кисти рук, колени, отделенный от плеча контур спины
воспринимаются как оптически увеличенные вставки, и все изображение
складывается в сумму разномасштабных фрагментов. Такие
приемы сближают «Большую обнаженную» с кубистической картиной.
Художник раскалывает восприятие, направляя его по двум
руслам: мотив отсылает к классике, а способ его обработки — к его
собственной живописи. Можно сказать и иначе: классическая
пластичность встроена в оптический механизм кубистической картины,
разлагающей изображение на куски.
К этой работе близка «Большая купальщица» (1921—1922 гг.).
В композиции «Бег» (1922 г.) две гигантские женские фигуры
стремительно мчатся по пляжу, разбросав руки и ноги, запрокинув
вывернутые головы. Их громоздкие, чудовищно раздутые тела
вызывают в воображении скорее каких-то веселящихся
доисторических мастодонтов, чем античных богинь. Но при всей очевидной
динамике мотива, фигуры кажутся неподвижными, застывшими в
нелепой позе бега. Они будто висят в пустом пространстве,
лишенном поля тяготения. Означающие объем мазки имитируют
штриховку и лишь приблизительно соответствуют форме.
Противоречивость картины тем более обескураживает глаз, что для
изображения существуют два несовместимых истолкования: одну из гигантш
можно увидеть и летящей, а другую — резко остановившейся
в беге.
Аналогичная раздвоенность — во «Флейте Пана» (1923 г.).
Картина с мифологическим названием отрешена от мифа. В сю-
жетно-тематическом отношении она пуста, есть лишь называние
античности посредством двух нагих фигур-знаков. Композиция
также содержит в себе двойную ретроспекцию, ибо общая
трактовка юношеских тел, пустота фонового пространства и
аксессуары геометрической формы заимствованы из пикассовской живописи
1905—1906 годов. Сочетание синего и густо-розового
воспринимается как уплотнение колористических компонентов ранних полотен.
Дисгармоничной двойственностью пронизана и пластика
фигур: книзу они резко утяжеляются, пропорции укорачиваются,
легкая прорисовка верхней части силуэта растекается в широкий
мазок, проложенный черной краской. С силой означенный контур как
пы сдавливает фигуры, его собственная массивность отрицает
зымышленный», слабо моделированный объем. Типичное для
пикассовской классики диспропорциональное увеличение конечно-
83
стей определяет неповоротливость и заторможенность движений
Левая фигура не стоит, а лишь обозначает соответствующую позу.
а правая странно парит, имитируя сидящего человека. Это —
призраки классических образов, вставленные в жесткое обрамление
нынешней, неподражательной, живописи.
Очевидна антиномичность, визуальная неприемлемость пикае-
совских изображений. Словесным эквивалентом им были бы такие
невозможные сочетания, как «неподвижная динамика»,
«бездейственная активность», «тяжеловесная невесомость» или
«существование отсутствия».
В период конца 10—20-х годов Пикассо включал классические
темы в натюрморты, также разлагая их в контексте собственной
стилистики. В «Натюрморте с античной головой» (1925 г.) рисунок
скульптурной головы, объединяющий в себе фас и профиль,
процарапан тонкой колеблющейся линией в коричневой красочной
массе. Это своего рода тень прошлого, выступающая на фоне
безусловности живописной «презентации».
Но чаще всего Пикассо обращался к классике в рисунках и
гравюрах. В графике античная тематика берется несколько иначе,
чем в живописи. Если в живописных полотнах все сводится к чисто
визуальной противоречивости, в рисунках и офортах есть сюжет
и образы мифологии. Чтобы понять, какую роль играет то и
другое, обратимся к теме Минотавра.
Минотавр появляется в сюите Воллара, как уже говорилось,
в серии «Мастерская скульптора» и затем, завладевая темой,
вытесняет и антураж мастерской, и фигуру ее хозяина. В некоторых
листах он уже действует на арене корриды. Озадачивает
сюжетная немотивированность такого перехода, но в еще большей
мере— полная неясность взаимоотношений Минотавра с остальными
персонажами гравюр. В одних листах он дружески пирует со
скульптором, в других —на его глазах ласкает девушку, затем
насилует ее; есть лист с изображением Минотавра, безмятежно
спящего за занавеской, в то время как модель задумчиво смотрит
на него. Наконец, на арене он предстает умирающим, а жест
зрительницы, похожей на подругу скульптора, выражает сострадание.
Пикассо не раз обращался к этой теме в рисунках и гравюрах,
не принадлежащих к данной серии. В одном из офортов
Минотавр падает, пронзенный стрелой, в то время как поднимающаяся
из воды женская фигура протягивает ему зеркало. Есть рисунки,
в которых мифологическое чудовище появляется у рыбацкой
лодки, в другом случае — на фоне входа в пещеру. Несколько
графических работ изображают его как слепца, ведомого маленькой
девочкой. На одной картине он тянет за собой тележку с домашним
скарбом, лошадью и новорожденным жеребенком.
Уже этот обзор сюжетов дает представление о странной
неоднотипности ситуаций и разноречивости ролей, в которых
выступает Минотавр.
Обратимся к центральному произведению этой темы —
большому офорту «Минотавромахия» (1935 г.). Огромная фигура по-
i
I
84
лучеловека-полубыка движется на зрителя параллельно с раненой
лошадью, на которой лежит, запрокинувшись, женщина в костюме
матадора и со шпагой в руке. Путь им преграждает девочка со
свечой. Позади нее изображен мужчина на лестнице. Две женские
фигуры в нише созерцают сцену.
Таким протокольным описанием приходится ограничиться.
Отношения между фигурами совершенно неясны, и при попытке
связать их в сюжет мы начинаем запинаться. Почему женщина не
сидит на лошади, а лежит навзничь в беспомощной позе? Кто
ранил лошадь — всадница или Минотавр? (В гравюре эти группы
выглядят совершенно независимыми друг от друга.) Тянется ли
рука чудовища к свету, заслоняется от него, или она направлена
в другую сторону, к стене здания? Как следует понимать позу
мужчины на лестнице — взбирается ли он в страхе наверх или,
наоборот, спускается, с любопытством оглядываясь на
происходящее? Короче говоря, пытаясь понять, что происходит, мы сейчас
же вступаем на зыбкую почву догадок и предположений. На этом
офорте было сломано немало критических перьев, и приходится
признать, что никакое сюжетное истолкование (не говоря уже о
символическом) здесь невозможно. И дело не в недостаточной
проницательности писавших. Гравюра так построена, что любая ее
интерпретация будет домыслом. Недосказанность и смысловые
провалы в ней намеренны. Она похожа на сюрреалистические
драмы, которые сочинял Пикассо: есть действующие лица, но нет
действия.
Если решить вопрос таким образом, пожалуй, можно найти
ключ и ко всей совокупности работ о Минотавре. Мы уже видели,
в сколь различных ситуациях фигурирует персонаж античного
мифа и в сколь противоречивых отношениях он находится с другими
действующими лицами. В одних случаях это — страшный изверг,
насильник, в других — мирное идиллическое существо или даже
защитник страдающих. Минотавр — природная стихия, Минотавр—
беспомощная жертва, Минотавр — победитель, Минотавр —
сладострастие, Минотавр — работяга и семьянин, Минотавр — друг
человека, Минотавр — его коварный враг — это веер
альтернативных позиций, в принципе несовместимых. Коренной ошибкой было
бы искать единый смысл этого образа, а тем более — пытаться
выстроить событийную последовательность эпизодов («биографию
Минотавра»). Этот путь ведет к такому тупику противоречий, из
которого выбраться невозможно.
Дело в том, что Пикассо действует здесь примерно таким же
образом, как при переработке классического мотива в живописи,
то есть берет мифологический персонаж и помещает его в контекст
той или иной из своих традиционных тем. Эпизоды, в которых
участвует Минотавр,— это постоянные темы творчества Пикассо:
коррида, театральные зрелища, художник и модель, насилие, слепота,
сидящая фигура рядом со спящей, приморский пляж.
Столкновение двух заданных и ранее разработанных сюжетов (мифологиче-
:хого и пикассовского) рождает кратковременную вспышку смыс-
85
ла, смысла крайне неустойчивого, ускользающего и существующее
только в данном произведении. Монтаж сюжетов немотивирова т
ибо здесь, как и всегда, художника интересовало спонтанное,
случайное смыслопорождение, возникающее из простого соединенр
несоединимого — та неожиданная новизна, которая не дается
целенаправленным действием автора. «Я выигрываю, когда сделанное
мною начинает говорить помимо меня... И когда высказываюсь
уже не я, а созданные мною рисунки, когда они ускользают и на-
смехаются надо мной, я знаю, что я достиг своей цели»-*'.
При немалой затрате усилий искусствоведы не смогли найти
даже приблизительного смыслового эквивалента для пикассовского
Минотавра, даже самой общей оценки его. Вопрос «Что значил
образ Минотавра для Пикассо?» неверно поставлен, и потому на
него нет ответа. Пикассо лишь использовал в готовом виде
«эмблему», существовавшую до него и независимо от него. В остальном
процесс шел примерно так же, как при изготовлении сборной
скульптуры: заимствованный (на сей раз из сферы культуры)
объект неожиданно трансформировался в новом контексте. Художник
передвигал эту марионетку из одной сцены в другую, достигая
необходимого ему эффекта неожиданности. Смысл лишь на время
перенимается у данного сюжета и исчезает вместе с ним. Это
своего рода тематический коллаж, разница лишь в том, что
составляющие его элементы даны не сразу, а в последовательности.
Видимо, Пикассо избрал для себя этот образ греческой
мифологии только потому, что в нем уже было дано так привлекавшее
его соединение несоединимого. Его Минотавр — просто абсурдное,
немыслимое существо, воплощение невозможного. Именно в своем
качестве противоестественности, эксцентричности он включается в
дальнейшую игру превращений. Во всяком случае, никаких
аллюзий на античный миф нет ни в одном из произведений этого круга.
Обращает на себя внимание наличие в некоторых листах
мотива зрелища или наблюдения со стороны. Это связывает тему
Минотавра с темой костюмированного спектакля, участие в котором
обеспечивает чудовищу преображающую «новизну»28.
27 Ashton D. Op. cit., p. 104.
28 В литературе зафиксировано два высказывания, в которых Пикассо
говорит, что Минотавр — это он сам. К этому заявлению не следует относиться
вполне серьезно, ибо оно касается скорее игровой природы пикассовского
искусства, а не подлинно глубоких намерений. Выполняя сюжетные работы, он
то мысленно отождествлял себя с одним из персонажей, то, напротив, как
бы наблюдал развитие рисунка-действия со стороны. Так, американский
фотограф Дункан рассказывает любопытный эпизод. Пикассо, увлеченный
«деланием» корриды на медной доске, вдруг сказал о матадоре: «Он ошибся»,
поменял доску и сейчас же нарисовал на ней результат «ошибки»: матадора,
подброшенного вверх быком. (См.: Duncan D. D. Le petit monde de Pablo
Picasso. Paris, 1959, p. 83.) Для него сам процесс работы над сюжетом был чем-то
вроде спектакля, по отношению к которому он мыслил себя то актером, то
безучастным зрителем. Во всяком случае, выстроить интерпретацию цикла о
Минотавре исходя из идеи его идентичности с личностью художника еще никому не
удалось.
86
Отсюда видно, насколько специфичным было отношение
Пикассо к классике. Классический мотив воспринимался им как внешний
объект,., своего рода реди-мейд. Он оперировал неким суммарным
(от Фидия до Энгра) образом классики, присутствующим в сознании
современного европейца. В таком качестве готового знака он и
включал его в свое искусство. Классика для него — всего лишь
инструмент, еще один способ преобразования внешнего материала в
противоречивую форму. Здесь нельзя говорить ни о продолжении
традиции, ни о возвращении к ней на новом этапе. Чтобы вновь
обрести утраченное, нужны немалые усилия. Пикассо никогда не
прилагал их, не пытался что-то «постичь», «освоить» или
«по-новому осознать» в культуре прошлого29. Его искусству это было
просто не нужно.
Пикассовский «классицизм» противоположен всем ранее
возникавшим классицизирующим движениям. В нем нет ни преклонения
перед культурой прошлого, ни соревнования с ней, ни подражания,
ни спора, ни ностальгической сентиментальности, ни нормирующего
формализма, ни попытки освоить или обнаружить новые, ранее
не выявленные содержания. Короче, нет того, что характеризовало
отношение европейцев к античности на протяжении нескольких
веков,— диалога. Живой диалог с другой эпохой возможен только
тогда, когда она признается соизмеримой с нынешней культурой,
имеющей несомненную ценность для нее. Это так и в том случае,
когда идеи и формы прошлого оспариваются: ведь это значит, что
они актуальны, значимы и сейчас. В конце 10-х годов, когда
Пикассо выступил со своими работами в новой манере, диалог был
уже давно прерван, культура прошлого стала прошлой в полном
смысле слова. И художник не нарушил этой ситуации, а лишь
включился в нее, подтвердив своей живописью: классическая
традиция умерла в современном буржуазном обществе, единственный
способ обращения к ней художника — овладение чуждой формой,
использование ее в собственном монологе.
Превращенный «классицизм» Пикассо помогает уяснить
существо его представлений о знаковости искусства. Они безусловно
противоположны классическому художественному мышлению,
понимавшему искусство как выражение мировосприятия, а не как
игровую организацию знаков-объектов. Установить эти новые
нормы можно было только путем разрушительной работы внутри
традиционной живописной системы, путем разведения и резкого
противопоставления составляющих ее структурных элементов.
Отсюда— открытый негативизм Пикассо, не раз смущавший
поклонников его таланта.
29 Известно, что Пикассо не был ни книгочеем, ни, тем более, человеком
гуманитарной учености. Едва ли не более показательно свидетельство Канвей-
лера: во время своей единственной поездки в Италию, состоявшейся как раз в
самом начале «классического» периода, Пикассо не проявил никакого интереса
к памятникам античности и Возрождения, то есть просто не смотрел их. (См.:
Vallentin A. Pablo Picasso. Paris, 1957, p. 231.)
87
«Нужно все делать против. И никогда за. Как только
начинаешь делать за, все пропало»30.
«Нужно убить современное искусство. Это означает также, ч—
нужно убить самого себя, если хочешь сохранить способность Zr-
лать что-то»31.
«В конце концов, работать можно только против. Даже протри
себя. Это очень важно... Художник никогда не должен делать того*
что от него ждут. Худший враг художника — стиль»32.
Как это видно из цитат, Пикассо имел в виду не только «пр -
вычки» зрения, но и творческий процесс, и даже более того —
творческую биографию. Когда Пикассо говорил, что его живопись есть
«сумма разрушений», в противоположность «сумме дополнений
классической картины, он вовсе не пытался мистифицировать
публику, и его слова имеют смысл констатации факта33.
В чем состоял метод Пикассо? Почти всегда он начинал с
изображения близкого к натуре, а затем, в серии последовательных
трансформаций, шаг за шагом стирал первоначальный образ,
вытеснял его из картины. По поводу одного из своих кубистических
полотен — «Девушка с мандолиной» — он даже сказал, что онс
осталось незаконченным потому, что модель отказалась
позировать: иначе все следы натуры были бы вычеркнуты34.
Вот что писал Кокто о методе Пикассо: «Скудно написанные
фигуры Пикассо—результат бессчетного числа хорошо
выполненных фигур, которые он стирает, исправляет, переписывает и
которые затем ему служат лишь как точки отталкивания. Кажется,
что в противоположность всем живописным школам он
заканчивает свою работу наброском»35.
В одном из разговоров с Брассаи Пикассо сказал по поводу
натюрмортов, над которыми он тогда (в 1945 году) работал:
«...я накладываю все меньше и меньше красок и предоставляю
девственному холсту играть свою роль... Если бы это
продолжалось, то вскоре я пришел бы к тому, чтобы ставить свою подпись
и дату на абсолютно девственных холстах... Не правда ли, ведь
это так красиво, девственный холст?»36. Это сейчас же вызывает
в памяти многочисленные девственные холсты современного
авангарда. Осуществилось то, что в пикассовской живописи было
только тенденцией.
В таком методе работы наоборот реализовывалось намерение
художника «делать все против» и «делать то, чего хочет живопись».
В результате спонтанного накладывания мазков поверх изображе-
30 Parmelin H. Picasso dit..., p. 87.
31 Ibid., p. 9.
32 Malraux A. Op. cit., p. 131.
33 «Раньше картина создавалась по этапам и каждый день прибавлял к ней
что-то новое. Она была обычно итогом ряда дополнений. Моя картина — итог
ряда разрушений. Я создаю картину и потом разрушаю ее». (Пикассо.
Сборник статей о творчестве, с. 18.)
34 См.: Cabanne P. Op. cit., v. 1, p. 227.
35 Цит по: Boeck W., Sabartes /. Op. cit., p. 343—344.
36 Brassed. Op. cit., p. 242—243.
88
ния возникали намеки на конфигурации, не предусмотренные
художником. Художник подключался к этой игре форм и делал в
ней свои ходы: выявлял наметившиеся фигуры, затем снова удалял
их, вследствие чего открывался новый ход, и так до бесконечности.
Весь процесс становится чем-то вроде состязания или спора между
художником и его материалом. Пикассо как бы испытывает
живопись, задает ей вопросы, и на каждое возникающее в ее стихии
утверждение отвечает контрутверждением или новым вопросом.
В результате образ-основа вытесняется из картины.
«Чтобы узнать, что хочешь нарисовать, нужно начать
рисовать... Если появился мужчина, я делаю мужчину... Если
появилась женщина, я делаю женщину... То, что я улавливаю против
своей воли, интересует меня больше, чем мои идеи»37.
Этот игровой процесс был представлен с большой степенью зре-
лищности в фильме Клузо «Тайна Пикассо», где художник создает
последовательность самотрансформирующихся рисунков:
свободным скольжением руки он «делает» сначала цветы, затем
превращает их в рыбу, в индюка и, наконец, в голову сатира. В том же
фильме Пикассо прямо в кадре создает одну из своих картин —
«Ля Гаруп». Поразительны превращения, которым подвергается
композиция в процессе работы: отдельные фигуры внезапно
укрупняются, другие меняют место или позы, исчезают совсем; уже
сформировавшиеся композиционные части вытесняются новыми. Для
художника процесс созидания живописи был чем-то вроде
непрерывно развертывающегося драматического действия, во многом
неожиданного для него самого.
«Произведение искусства часто выражает больше, чем хотел
сказать автор; нередко его удивляют результаты, которых он не
предвидел. Произведение подчас возникает спонтанным путем. То
рисунок рождает объект, то цвет вызывает формы, которые
определяют сюжет»38.
«Если знаешь точно, что собираешься делать, зачем тогда
делать? То, что уже известно, не вызывает интереса»39.
Часто в качестве примера противоречивости Пикассо приводят
два его высказывания: «Я не ищу, я нахожу» и «Никогда не
перестаешь искать, потому что никогда не находишь»40. Но это
противоречие—лишь сколок с неразрешимой противоречивости
метода: Пикассо, действительно, как бы находит свои образы уже
готовыми в материале и вместе с тем никогда не может найти их,
поскольку сейчас же отвергает найденное. Противоречивыми
подобные суждения кажутся лишь в том случае, если придавать
таким понятиям, как «поиски», «находки», «эксперимент», привычный
широкий смысл. Но Пикассо, как правило, говорит об очень
конкретных вещах, близких ему как художнику. Тот же процесс про-
37 Ibid., p. 80.
38 Цит. по: Picasso. Metamorphoses et unite. Geneve. 1971, p. 43.
39 Parmelin H. Picasso dit..., p. 34.
40 См., напр.: Parmelin H. Picasso dit..., p. 39.
89
должается от картины к картине, охватывая собой все
творчество.
Конечно, такой метод полностью не осуществим, ибо, как бы
ни стремился художник к автоматизму, своеволие живописи все
же оказывается ограниченным его волей. Идеальным здесь был бы
способ работы вслепую, и поэтому Пикассо так привлекала идея
слепого художника. Он даже пробовал писать в темноте.
Разумеется, с такими опытами скоро пришлось покончить, ибо в них уже
почти полностью исключался второй участник диалога — сам
автор.
Алогичный метод Пикассо, в перспективе которого возникала
слепота и соответствующий ей пустой холст, был прямым
следствием его представлений об условности и относительности
реальности, существующей только в восприятии: «В конце концов,
увидеть можно только себя. Никогда не кончающиеся поиски
реальности приводят к полному мраку. Реальностей так много, что
пытаясь охватить их все, оказываешься в темноте. Вот почему, когда
пишешь портрет, нужно где-то остановиться, на карикатуре своего
рода. Иначе, в конце концов, ничего не останется»41.
Творческий процесс Пикассо нецеленаправлен42, а потому не
только не предполагает определенного результата, а прямо
отрицает его: «Закончить произведение? Завершить картину? Какой
абсурд! Закончить объект значит прикончить его, разрушить,
украсть у него душу, предать его пунтилье, как быка на арене»43.
«Если бы это было возможно, я бы оставил все как есть, а
затем возобновил бы работу на другом холсте, начав с той же точки.
Таким же образом я бы поступил и с ним... Тогда не было бы
полотна «законченного», но только различные «состояния» одной
и той же картины, которые обычно исчезают в ходе работы»44.
Эту идею Пикассо реализовал в сериях. В последние
десятилетия своей жизни он часто работал сериями, некоторые из них
включают несколько десятков полотен. В этом не было
стремления найти различные подходы к изображаемому сюжету. Задача
была иной — «овеществить» текучесть процесса, перевести его из
временного плана в пространственный. В некоторых графических
циклах Пикассо прямо движется от изображения к его
отрицанию. Например, начав с достаточно детального изображения быка,
путем ряда вычитаний и упрощений превращает его в
схематическое обозначение в нескольких линиях. Или, используя технику
литографии, постепенно переходит от ясного отпечатка к почти
стертому.
Идея преобладания процесса над результатом негативна в
своей сути. Она, безусловно, ведет к отрицанию произведения как
41 Ashton D. Op. cit., p. 82.
42 «Когда работаешь, не знаешь, что из этого получится. Это не
неуверенность: дело в том, что пока работаешь, все меняется». (Penrose R. Op. cit.,
p. 278.)
43 Penrose R. Op. cit., p. 486.
44 Brassai. Op. cit., p. 257.
90
такового. Эта идея была подхвачена современным авангардом и
доведена им до абсурдных, но и неизбежных следствий в
различных формах «процессуального», «исчезающего»,
«саморазрушающегося» искусства и т. п.
Был ли этот метод открыт в кубизме или сам кубизм был
результатом метода? Скорее, последнее предположение более
верно. Картина, открывающая этот период, «Авиньонские девицы» —
не более чем пощечина общественному вкусу. Изломы форм в ней
лишены какой-либо системы и в свое время поразили
уродливостью прежде всего ближайших друзей Пикассо, включая Брака.
В дальнейшем способ работы прямолинейными очертаниями
возводится в норму, создается кубистическая «конструкция».
Случайно возникающие внутри нее фигуративные контуры в
синтетическом кубизме уже сознательно обыгрываются художником. Это
открытие представлялось самому Пикассо настолько
значительным, что он совершенно не ценил весь докубистический период
своего творчества, а «голубые» и «розовые» полотна считал пустой
сентиментальностью.
«Вы думаете, для меня важно, что на моей картине
изображены два определенных человека? Когда-то оба они существовали
для меня, теперь—нет. «Видение», возникшее при лицезрении их,
пробудило во мне сначала какое-то чувство; затем постепенно я
стал ощущать их реальное существование уже более смутно; они
превратились в фикцию и в конце концов совсем исчезли или,
вернее, воплотились во всевозможные проблемы. Это уже не два
человека, а формы и цвета: формы и цвета, которые постепенно
восприняли идею этих двух человек и хранят в себе трепет их
жизни»45.
При цитировании таких высказываний всегда велик соблазн
сделать акцент на последних словах и тем самым примирить
задачи Пикассо с задачами искусства. Но мы не имеем права на столь
легкое разрешение далеко зашедшего конфликта. Нельзя оставить
без внимания ни слов об исчезновении образа, ни
опустошительной ломки реальных форм в самих картинах. А стало быть нельзя
и обойти вопроса о том, зачем все это понадобилось художнику.
Пикассо действительно умел сохранить портретное сходство,
что очевидно, например, в его кубистических работах. Вполне
можно поверить рассказу одного современника о том, что при
первой встрече с Вильгельмом Уде он узнал его только по
портрету Пикассо. Даже в живописи 30—50-х годов, далеко уходящей
от натуры, модель нередко остается каким-то чудом узнаваемой.
И все же зачем нужно было художнику уродовать дорогие ему
лица любимых женщин, близких друзей и собственных детей,
хоронить их под грудой скрежещущих обрезков? Многочисленные
зигзагообразные развороты в сторону и прочь от облика модели
вели прямым путем к его собственной цели: знак не может быть
чем-то большим, чем слабым намеком на конкретного человека,
Пикассо. Сборник статей о творчестве, с. 20—21.
91
его «идеей». Модель — лишь внешний стимул, возбудитель
творческого акта, который в дальнейшем черпает энергию из самого
себя. Исходный мотив вытесняется в сферу зрительских
представлений, задача художника — «превратить его в фикцию» или
«воплотить во всевозможные проблемы». Именно так понимал
Пикассо идеи и чувства в картине: как след, оставленный
исчезнувшим предметом, отголосок первоначальной эмоции автора.
«Абстрактного искусства вообще не существует. Всегда нужно
с чего-то начинать. Позднее можно удалить все следы реального,
и в этом нет ничего страшного, потому что идея изображаемого
предмета уже успеет оставить в картине неизгладимый след. Идея
предмета — вот что первоначально дает толчок художнику,
заставляет работать его ум, воспламеняет его чувства. Идеи и чувства
найдут свое выражение в картине. Во всяком случае, они не
исчезнут» 46.
Многократно ослабленное эхо бывшей эмоции и исчезающей,
но не исчезнувшей «идеи» и удерживает картину Пикассо в
состоянии неустойчивого равновесия на грани между фигуративно-
стью и абстракционизмом. Заглушённый «трепет жизни» мерцает
в формах его живописи, уберегая их от падения в полную
глухоту беспредметности.
Эстетические воззрения и метод Пикассо проливают
определенный свет на загадку «Герники» и некоторых других
тематических работ. История интерпретации «Герники» — это многолетний
и безрезультатный спор о смысле ее образов. Искусствоведы так
и не смогли прийти к согласию о том, что означает, например,
фигура быка: фашизм или испанский народ. В зависимости от
избранного решения по-разному истолковывались и другие фигуры
картины. Так, для Герберта Рида бык олицетворял силы
разрушения, профиль с лампой — истину. Зервос видел в быке символ
жизненной мощи народа, а в лошади и всаднике — знак
умирающих сил прошлого. В других толкованиях эти две фигуры
прочитывались, напротив, как выражение республиканских симпатий
Пикассо. По мере появления новых книг и статей клубок
запутывался все больше и больше, ибо каждый автор считал нужным
дать свое истолкование знаменитой картины. Лошадь, например,
означала Франко, изрыгающего проклятия Святому Духу
(птица), профиль — республику, а женщина с ребенком — народ. Бык
выступал то как знамение «творческой сущности божественного
слова», то как воплощение природной производительной силы, то
идентифицировался с образом самого художника. Некоторые из
писавших даже предлагали интерпретировать «Гернику» не в
общественно-политическом плане, а как субъективную интроспекцию,
выражение состояния сознания художника. И на то у них были
определенные основания.
С чем же связана столь необычная разноречивость, прямо
скажем, недопустимая^ когда речь идет о большом произведении
Пикассо. Сборник статей о творчестве, с. 19—20.
92
на социальную трагическую тему? Ведь изображенные в картине
фигуры и объекты опознаются достаточно легко. Однако, как
только мы пытаемся продвинуться дальше н связать
изображенное в единый сюжет или в единую аллегорическую систему,
препятствия возникают одно за другим. Где происходит действие —
снаружи или в интерьере? Что означает профиль и рука, держащая
лампу? Республиканский или франкистский солдат изображен на
переднем плане? Представлен ли здесь исход его единоборства
с лошадью или оба — жертвы? И вообще —человек это или
статуя? В каком отношении находится фигура быка к женщине с
ребенком— торжествует над ней или защищает ее? Включены ли
изображения животных в действие или их следует понимать как
чистые символы? И так далее до бесконечности.
Но насколько правомерны сами эти вопросы? По отношению
к реалистическому произведению они, безусловно, были бы
законны. Здесь — нет. В самой картине мы не найдем никаких указаний
на то, как нужно осмысливать и связывать между собой ее
фигуративные элементы. При попытке же опереться на
дополнительную информацию извне дело запутывается еще больше. Так,
известно, что раненая лошадь и бык встречаются в других картинах
и графике Пикассо. Можно согласиться с замечаниями некоторых
искусствоведов, что большой профиль с лампой происходит от
портретов Мари-Терез Вальтер, а фигура женщины с ребенком близка
к портретам Доры Маар. Но и то, и другое лишь ставит новые
вопросы, ни на шаг не продвигая нас в объяснении символики
картины. Композиция распадается на отдельные смысловые
куски, никак не соотнесенные между собой. Если се лексика более
или менее ясна, грамматические связи явно разрушены, и,
поскольку фраза не выстраивается, мы не можем определить точного
значения использованных слов.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на работу
видного искусствоведа Макса Рафаэля. В обширной статье под
названием «Разногласие между формой и содержанием» ученый дал
детальный анализ «Герники», выявив противоречия, заключенные
з ее цветовом, линейном, композиционном построениях, в способе
переработки традиции и, наконец, в содержании. Рафаэль
предложил (иронически!) еще одну версию аллегоризма «Герники», надо
сказать, самую связную из всех. И тут же перевернул ее, показав
возможность прямо противоположного прочтения.
«Зритель принужден воздержаться от суждения, поскольку он
не только может выдвинуть противоречивые интерпретации для
.аждой детали, но даже обязан сделать это. Однако при всем
:-том аллегория не исчезает, то есть она не перестает быть простым
.эмещением формы. То, с чем мы остаемся в конце концов,— не
■•:гдожественная форма, синтезирующая значение и видение (как
'ы ни были многочисленны значения), а разрыв между конкретным
- общим, предоставляющий интерпретацию на волю любой
случайна догадки. Если бы Пикассо удалось придать форму эмоциональ-
н~му комплексу ужаса, хаоса, варварства, разрушения, беспомощ-
93
ности перед лицом слепых социальных сил, не было бы
необходимости прибегать к личной мифологии художника и зритель не
был бы вынужден изыскивать интерпретации и воздерживаться от
суждения. Но поскольку это не так, зритель становится жертвой
аллегории, которая не самоочевидна и оставляет его
неудовлетворенным: его эмоции и его суждения разведены и
противопоставлены друг Другу, так что он скорее повергнут в состояние
растерянности, а не побужден к творческому акту»47.
Аллегоризм «Герники» подобен уравнению со многими
неизвестными. Предложенная головоломка не имеет решений, и
оказавшееся в тупике созерцание резко обрывается как раз в тот
момент, когда должно начаться синтезирование и осмысление
образов. Глаз насильственно возвращается к поверхности формы.
Обращая внимание на коллизии формы, требующие постоянной
переориентации зрителя, Рафаэль показывает, что они выполняют
ту же задачу: предельно ускорить, сократить процесс восприятия,
привести сознание в состояние шока. Акт сопереживания,
углубления в картину оказывается невозможным. Ее формальный и
образно-содержательный строй «есть удар по нервной системе
зрителя, шок, создающий физический ступор и интеллектуальное
замешательство — вопрос «Что все это значит?». Поскольку шок
в обоих аспектах исчерпывается, как только найден ответ на
вопрос, можно заключить, что художник намеревался сделать
содержание либо двусмысленным, либо недешифруемым. Разнообразные
шоки ставят перед зрителем вопросы; вопросы снова обращают
его к картине, но лишь для того, чтобы подвергнуть новым шо-
кам»48. Искусствовед приходит к заключению, что «Герника» —
не только идейная, но и художественная неудача.
Статья Макса Рафаэля носит характер тщательной
академической штудии и отличается строгой обоснованностью выводов.
Особенно ценным представляется то, что, опираясь исключительно
на текст картины, Рафаэль сделал выводы, которые согласуются
с суждениями самого художника. (В период написания статьи,
сразу после второй мировой войны, большинство ныне известных
высказываний Пикассо еще не было опубликовано.)
Самое большее, что можно с уверенностью сказать по поводу
социально-политического содержания «Герники», это то, что само
ее построение совпадает с темой. Сюжет бомбардировки мирного
города фашистской авиацией открыл особый выход для пикассов-
ской стилистики: композиционная и смысловая разорванность
произведения стала символом разрушения, царящего в мире
насилия и абсурда. Этим отчасти и объясняется секрет колоссальной
популярности «Герники» во всем мире.
Снова обратим внимание на то, какую большую роль играет
здесь называние сюжета. Именно оно заполняет тот разрыв,
который существует между непосредственно представленным
47 Raphael M. The Demands of Art. London, 1968, p. 156—157.
48 Ibid., p. 176—177.
94
и его возможным истолкованием. Достаточно на мгновение
вообразить, что мы не знаем о тех событиях, к которым отсылает
нас «Герника», чтобы понять, что и этот, последний путь к ее
интерпретации будет закрыт. Проекция во внешний мир
станет невозможной, и придется иметь дело лишь с «чистой
живописью».
Любая связная сюжетная или символическая трактовка этой
картины вступает в неизбежное противоречие с самим принципом
ее построения, сущность которого состоит как раз в разрушении
связей, в рассогласовании смыслов и структурных слоев.
Споры об аллегории «Герники» проходили при жизни
художника, и, конечно, он мог бы внести определенную ясность в этот
вопрос, тем более что многие из писавших были лично знакомы
с ним.
И Пикассо, действительно, время от времени высказывал свое
мнение. В чем оно состояло? В беседе с Канвейлером по поводу
очередного варианта, в соответствии с которым лошадь означала
испанский фашизм, а бык — народ, он сказал:
«Этот бык есть бык, а лошадь есть лошадь... Конечно, они
символы. Но это не дело художника-—создавать символы; иначе,
вместо того чтобы писать, он бы с большим успехом выразил их
в потоке слов. Публика, которая смотрит на картину, должна
видеть в лошади и в быке символы, которые она интерпретирует
в соответствии с тем, как она их понимает. Есть несколько
животных. Что касается меня, это все. А дело публики видеть то, что
она хочет» 49.
Таким образом, Пикассо устранился от обсуждения вопроса,
отделив свои задачи как художника (писать фигуры) от задач
зрителя (создавать символы из них). Тем самым он предоставил
публике толковать их на свой страх и риск. Но тем самым он и
снял вопрос об истинном содержании картины. Искусствоведы,
увлеченные разгадкой «тайны Пикассо», почему-то не обратили
внимания на этот момент, для них принципиально важный. Ведь
искусствознание — это все-таки знание об искусстве, то есть наука,
хотя и нестрогая. Интерпретируя то или иное произведение,
искусствовед должен по крайней' мере ставить перед собой задачу
раскрыть его подлинное содержание, хотя он может быть и не уверен
з окончательности своего суждения. Судя по тону различных
публикаций о «Гернике», их авторы не сомневаются в том, что нашли
истину. (Да и в самом деле, иначе зачем писать?) Однако если
:ам художник полагает, что каждый может вкладывать в его
творение любой смысл, значит объективного смысла нет вообще,
и тогда при чем здесь искусствоведение? Очевидно, ему нужно
направить свои поиски истины по другому руслу или прямо
признать, что оно занимается не выяснением правды, а
беллетристикой «по поводу». Почему-то эти простые соображения мало кого
останавливают, и, видимо, еще долго будут выходить статьи и
49 Ashton D. Op. cit., p. 155.
95
книги, «раскрывающие» социальный, политический или
психологический смысл образов Пикассо.
Для Пикассо позиция самоустранения от толкования своих
произведений была принципиальной. Она непосредственно
вытекала из его представлений об условной знаковости образа, на
основе которого зритель создает «свою собственную реальность- .
Так, например, показывая Пенроузу одну из акватинт, он
сказал: «Именно ты должен сказать мне, что она означает и что тау
делает нагой старик, повернувшийся к нам спиной. Я не знаю,
что здесь происходит, и никогда не узнаю. Если бы я знал, мне
бы пришел конец» 50.
Подобную же беседу, но уже по поводу графической серии
«Художник и модель», приводит Канвейлер: «Я спрашиваю
Пикассо, изображен ли в бородатом человеке карлик. Пикассо: «Я был
бы счастлив, если бы мне сказали, кто он! И о других фигурах
тоже... Сам художник ничего не видит: он только смотрит на
свою картину» 5I.
В беседе с Джеромом Секлером Пикассо высказался более
обобщенно: «Забавно, что люди видят в живописи вещи, которые
ты в нее не вкладывал — они вышивают по канве сюжета. Но это
и не важно, поскольку то, что они увидели, дает стимул, и
сущность этого действительно присутствует в живописи» 52.
И, наконец, еще в 1935 году Зервосом были записаны такие
слова: «...картина получает жизнь только от человека, который
смотрит на нее» 53.
В таких суждениях Пикассо примыкает к одному из основных
положений авангардистской эстетики — доктрине активизации
восприятия, вовлеченности зрителя в процесс сотворчества с
художником. Роль зрителя — организовать материал в сюжет, достроить
его в своем воображении. Живопись дает лишь стимул, фантазии
публики предоставляется полная свобода.
Но при этом нельзя обойти вопроса о том, на каком уровне
работает фантазия и к каким результатам она приходит. Если
образ едва просвечивает сквозь стихию самодвижущегося
материала, его чисто визуальным выделением завершается процесс
сотворчества. Ибо такие стимулы, как линия или красочное
пятно, работают лишь в очень узком диапазоне, и для перехода на
более высокий уровень «вышивания по канве» нужны и более
высокие стимулы. Иначе воображение зрителя быстро выдыхается.
Сильно расходящиеся с реальным образом формы, хотя и
делают процесс индивидуального восприятия более наглядным
(поскольку затрудняют его, и оно протекает медленно, по этапам),
по существу, резко сокращают сферу работы воображения. Тезис
о свободе фантазии, творящей образ по своему усмотрению, не вы-
50 Penrose R. Op. cit., p. 407.
51 Ashton D. Op. cit., p. 38.
52 Ibid., p. 138.
53 Picasso. Metamorphoses et unite, p. 77.
96
держивает критики. Здесь лишь опущена нижняя граница этой
свободы, но при параллельном снижении и ее верхнего предела.
Восприятие ограничивается формированием объекта.
Тематичность «Герники» вызывает определенное смещение
позиции зрителя-интерпретатора: сравнительно быстро пройдя
стадию стягивания пятен и контуров в фигуру, он безнадежно
застревает на этапе связывания фигур с известным ему сюжетом. Работа
воображения снова не может развернуться.
Любая интерпретация — выход из картины в мир, но
осуществим он лишь в том случае, если сама картина есть
высказывание о мире. Только на этой почве возможен содержательный
диалог художника и зрителя. Формальные высказывания пикассов-
ской живописи о живописи препятствуют такому прорыву в
глубину, в идеальное пространство по ту сторону картины. Сознание
зрителя оказывается вовлеченным в бесконечное вращение по
кругу— от формы к едва возникшему образу и обратно к форме.
Восприятие как бы воспроизводит метод художника: процесс без
результата, действие без цели, краткая вспышка видения без
паузы осмысления.
Поэтому если Пикассо всерьез полагал, что любое понимание
его картин уже заложено в них, то он был, конечно, не прав.
«Стимулы» «Герники» вызывают лишь смятение сознания, что и
отразилось в сумятице искусствоведческих толкований.
Очевидно, Пикассо работал над «Герникой» вышеописанным
методом, допустив лишь некоторые отступления от него.
Рудольф Арнхейм посвятил генезису «Герники» специальную
работу54. К сожалению, предвзятая ориентированность на
аллегорическую интерпретацию (Арнхейм выдвигает свой вариант,
исходя из толкования фигуры быка как символа самого
художника) направила серьезного ученого по ложному пути. В книге
приводятся известные слова Пикассо: «Картина не обдумывается и
не предопределяется заранее. В период исполнения она меняется
вместе с течением самих мыслей». Однако весь анализ ведется
с точки зрения преследуемой цели, поисков образа, с наибольшей
ясностью выражающего замысел художника (то есть
предположение искусствоведа об этом замысле) 55.
Между тем в рисунках, сделанных в период работы над
«Герникой», как раз видно отсутствие целенаправленного поиска.
Стремясь зафиксировать процесс, Пикассо всегда точно датировал свои
г»аботы; в данном же случае даже порядок рисунков,
выполненных в один день, отмечен римскими цифрами. Эти серии
показывают увлеченность художника самой возможностью варьирования
Ьорм, мгновенно возникающих и тут же исчезающих импровиза-
54 См.: Arnheim R. The Genesis of a Painting. Picasso's Guernica. Berkley,
.?73,
55 Другая попытка выяснить логику становления образной системы «Гер-
:ки» исходит уже из иных предположений о ее аллегорическом смысле, анализ
_-роится как привязка к темам и пластическим мотивам искусства европейской
- тзссики и средневековья. (См.: Blunt A. Picasso's "Guernica". London, 1969.)
97
ций на избранную тему. Голова быка, например, то выполняете-
в манере детского рисунка, то покрывается орнаментом вьющихся
линий; в других случаях Пикассо подчиняет ее стилистике своих
портретов 30-х годов или вписывает в ее контур человеческое лиц
классических пропорций. Иногда возникают реалистические
детали, элементы коллажа, формы глаз в виде цветов, рыб, бантиков
лодочек и т. п. При этом в серии рисунков нет логического
движения, ведущего к окончательному решению. Это не
последовательность, а пучок расходящихся линий; исходный образ не
проясняется в эскизах, а лишь окружается его видоизменениями.
Вряд ли можно рассматривать эти наброски как
подготовительные штудии к картине, как поиск в собственном смысле слова
Тем более что «поиск» не прекращается и после завершения
работы много месяцев спустя по окончании «Герники» Пикассо
продолжает создавать все новые и новые варианты ее мотивов.
Конечно, «Герника» — явление исключительное в творчестве
Пикассо. Он писал ее около месяца (для него — срок необычайно
длительный). Существует семь фотографий, фиксирующих
различные этапы работы над картиной. По ним видно определенное
движение к большей ясности и лаконизму. Процессу
самодвижения форм были положены определенные границы необходимостью
сохранения темы. И все же значительные композиционные
перестройки, возникавшие в ходе работы, указывают на то, что
Пикассо и здесь не отказался полностью от своего метода. Художник
намеренно сохранил в картине некоторые следы прежних
вариантов (например, изображение головы быка, располагавшееся в
предыдущем слое несколько иначе), а также оставил случайные
подтеки краски. Поэтому рассматривать ныне существующий вариант
композиции как совершенный результат тщательно обдуманного
замысла было бы опрометчивым.
Тем же методом спонтанного изобретения форм на месте, без
предварительного плана и эскизов, создавалась «Война и мир»,
о чем рассказал сам художник. Именно по поводу этой работы им
были сказаны известные слова: «Я хотел писать, как пишут
слова, писать так же быстро и стремительно, как меняется мысль,
в ритме движения воображения» 56.
В последние годы в литературе о «Гернике» наметились
определенные перемены. Видимо, осознав тщетность усилий по
расшифровке аллегории, искусствоведы делают скачок от сюжета и ;
формы прямо к верхним смысловым ярусам, трактуя картину как -
образ потрясенного сознания художника или приписывая ей осо- (
бую философию истории.
Однако такой обходной путь никак не устраняет объективных -
трудностей, а лишь открывает двери неограниченному произволу. '
Здесь даже талантливость интерпретатора оборачивается против i
него, ибо так называемый анализ демонстрирует только широту
его личного мышления и воображения. Под видом прочтения про-
56 Ashton D. Op. cit., p. 158.
98
i
i
изведения предлагается самовысказывание, в которое вплетены в
качестве метафор отдельные наблюдения над деталями и строем
картины. Случаев, когда под заголовком «Герника» помещался сам
по себе достаточно содержательный текст, было немного. Большей
частью искусствоведы ограничивались экзальтированной риторикой
и туманной многозначительностью.
Один из самых последних примеров «всеобъемлющего»
подхода— большая монография о «Гернике» Фрэнка Рассела. Автор
фактически отказывается от соотнесения картины с темой,
которой она посвящена: «Художник ничего не говорит нам конкретно
о Гернике и, по существу, ничего о современном человеке. В своем
наиболее полном объеме содержание охватывает не только
трагедию Г ерники и агонию современного человека, но и нечто более
универсальное — вневременные испытания человека вообще,
вековечный цикл жертвоприношения и возрождения» 57. В такой
интерпретации смысл всех образов оказывается крайне размытым.
Бык — это «просто сила», вне всякого отношения к добру и злу;
в распростертой на земле фигуре автор готов увидеть и пикадора,
и римского центуриона, и Христа (основываясь на положении
раскинутых рук).
Не менее широк и круг привлекаемых
художественно-исторических ассоциаций: тема Голгофы, «Авиньонская Пьета»,
фронтоны греческих храмов, фасад готического собора, египетские
пирамиды, античная вазопись, картины кватрочентистов и
романтиков — чуть ли не вся история искусств оказывается включенной
в пикассовскую композицию.
Такое истолкование настолько общо, настолько далеко уходит
от специфических особенностей произведения, что фактически
ничего не объясняет в нем и может быть отнесено почти к любой
картине58.
Кажется, сам Пикассо невысоко оценивал свое знаменитое
создание. Во всяком случае, когда Пенроуз сказал, что его «Танец»
11925 г.) интересен как первое предчувствие «Герники», Пикассо
-посмотрел с удивлением» и ответил: «Мне гораздо больше
нравится «Танец». Это более реальная живопись — живопись в себе,
без всяких привнесенных извне рассуждений» 59.
В самом деле, если последовать предложенному Пушкиным
правилу и исходить из законов, самим художником над собой
57 Russel F. D. Picasso's Guernica The Labyrinth of Narrative and Vision.
_r.d.: 1980, p. 42.
5S Неубедительна и недавняя попытка испанского автора «разъяснить» «Гер-
-:-:ку» посредством искусственных триад: три крика, три смерти, три символа.
Зык на сей раз выступает как символ власти, женщина со свечой — религии,
:егущая женщина — мудрости и знания. (См.: Oriol Anguera A. Guernica al
irsnudo. Barcelona, 1979.) Особенно бестактны и натянуты психоаналитические
-терпретации картин Пикассо. (См.: Runnqvist /. Minotauros. En studie i for-
-i.landet mellan ikonografi och form i Picassos konst, 1900—1937. Stockholm,
r39.)
:? Penrose R. Op. cit., p. 485.
99
%p
3
'■ -J fc*
£ t^ ч
19. Пабло Пикассо. Портрет Ольги Хохловой. 1917
100
20. Пабло Пикассо. Арлекин. 1923
101
к
21. Пабло Пикассо. Бег. 1922
102
22. Пабло Пикассо. Большая купальщица. 1921—1922.
103
*ч
?л.\
:i
*
23. Пабло Пикассо. Флейта Пана 1923
104
И
24. Пабло Пикассо. Художник и модель. 1926
25. Пабло Пикассо. Конструкция. 1930
105
> "g^g."
26. Пабло Пикассо. Скрипка и бутылка на столе. 1914
106
.>
♦■
*fcfr.
27. Пабло Пикассо. Скрипка. 1915
107
швдш
28. Пабло Пикассо. Красная скатерть. 1924
108
<
V
ч
:Л
■\
>
29. Пабло Пикассо. Танец. 1925
(09
У^ч_
***>;
**
,>*л'
30. Пабло Пикассо. Натюрморт с античной головой,
ПО
С
31. Пабло Пикассо, Женщина на берегу моря 1929
111
32. Пабло Пикассо. Семь танцовщиц. 1919
112
с
w?^
"У
«М
1кАГ
I
-^^>ж^
.i,V
33. Пабло Пикассо. Мастерская скульптора.
Офорт из «Сюиты Воллара». 1933
113
34. Пабло Пикассо. Мастерская скульптора.
Офорт из «Сюиты Воллара». 1933
114
Г"^^^
35. Пабло Пикассо. Мастерская скульптора
Офорт из «Сюиты Воллара». 1933
115
36—38. Пабло Пикассо. Минотавр. Офорты из «Сюиты Воллара». 19.Ч.Ч
116
t'U
'mw& J****-* t-r Алщ
38
39. Пабло Пикассо. Минотавромахия. 1935
117
40. Пабло Пикассо. Минотавр, везущий тележку. 1936
ь.
гч^
41. Пабло Пикассо. Минотавр с мертвой кобылой. 1936
118
*™*te№i ь^^^. ^у»-*1"
'**Ш$
■■&
Ч#*э Ш**
к
^фШ j
>J#&****^ 5
ярЬ**^
i
-..-'/
Л
42. Пабло Пикассо. Портрет Доры Маар. 1937
119
43. Пабло Пикассо. Герника. 1937
120
?*а*4?
'""JSF
*. ^?
I fe
#^
* ДцяйЙУшм.'
121
t ■'*
С*. :'l#>
** ЗГ *■- *
«J
\
"Ча*
■8в
44 Пабло Пикассо. Бык. 1945—1946
122
1'^
V^&sswKbiA^i*!-
45. Пабло Пикассо. Художник и модель. 1963
V ^
■ * ■ ■ ■-*&* , 1С-*
■$
& *'^--^ i>
'М
ТД <.
V
■ "К
А^
*.
'4:1 -
1. " l"-'/V'\-
£ '"
*'fc-V
fer'
.'■*■■■
*> Ч"
* V .г
* ■ *
£.:*:
! Т
,,"* ^,
■*'< -'l*< ** '^""'
■^ с-.
'#?
К
^й
46. Пабло Пикассо. Завтрак на траве. 1961
123
^
a^E&iifi
vg ^R^f ',
'"Й»*&*й
47. Пабло Пикассо. Череп козы и свеча. 1951—1952
Г*
><Н
48. Пабло Пикассо. Девочка с прыгалкой. 1950
124
признанных, «Танцу» нужно отдать безусловное предпочтение. Эта
«живопись в себе» не имеет несвойственной Пикассо смысловой
растянутости, широкой амплитуды колебаний от знака к
обозначаемому. Ее «содержание» гораздо более компактно и
укладывается в узкие пределы переходов от чистых форм к их
фигуративной организации. Спонтанно возникающие проекции (профиль
головы) действительно выражают идею самостийного зарождения
образа из движения живописной материи. Здесь та
противоречивость, которая была столь ценна для Пикассо, представлена ясно,
наглядно и не нуждается в отсылках к внешним представлениям
и понятиям. Кроме того, картина по-настоящему красива в
цветовом и ритмическом отношениях.
Широко известно заявление Пикассо, где он называет
художника «политическим существом, которого тревожат ужасы, страсти
и радости мира». «Живопись создается не для украшения квартир.
Это — оружие наступления и защиты от врага»60.
Эти слова были написаны в 1945 году. Можно понять желание
художника придать своей живописи гражданское значение,
отмежеваться от позиций элитарной и реакционной критики,
разочарованной вступлением его в Коммунистическую партию. Однако не
дал ли сам Пикассо оснований для суждений о том, что его
искусство не имеет отношения к его политическим взглядам? Незадолго
до этого заявления были опубликованы такие его слова: «Если я
пишу молот и серп, люди могут подумать, что это изображение
коммунизма, но для меня это только молот и серп. Я хочу
воспроизводить объекты не ради того, что они значат, а ради того, что
они есть. Если вы наделяете каким-то значением предметы в моей
живописи, оно может оказаться очень верным, но это не было
моей идеей придавать им такое значение. Я делаю живопись ради
живописи. Я пишу объекты ради них самих»61.
И далее: «Я коммунист, и моя живопись — коммунистическая
живопись... Но, если бы я был сапожником — роялистом,
коммунистом или еще кем-то, я бы не стал подбивать гвозди к
ботинкам каким-то особым образом со специальной целью
продемонстрировать свои политические взгляды»62.
Очевидно, он полагал, что его гражданские позиции должны
выразиться в искусстве сами собой, без специальных усилий.
Возможно ли это? Допускает ли принятый им метод такую
спонтанную, непредумышленную ангажированность? Всякий раз,
принимаясь за работы социального плана, Пикассо вынужден был
отступать от своих принципов, предлагать компромиссные решения.
Вполне понятно, что внимание искусствоведческой литературы
сосредоточено в первую очередь на таких произведениях, как
Герника», «Мечты и ложь генерала Франко», «Война и мир»,
Резня в Корее». Но это и заслоняет тот очевидный факт, что их
60 Ashton D. Op. cit., p. 149.
61 Ibid., p. 140.
62 Ibidem.
125
количественная доля в общем объеме наследия испанского
мастера ничтожно мала. Наследие это огромно. В течение своей дол- "
жизни Пикассо работал необыкновенно много, создавая в л:-,
по 2—3 картины; рисунки выходили из-под его руки десяткам:
только за один год (с октября 1947 по октябрь 1948 г.) он
выполнил около 2000 керамических работ63.
В этом необъятном море несколько работ на социальнопог <-
тические темы предстают как редкие исключения. Как правн.т .
же, сюжеты Пикассо исходят из его непосредственного окру^^
ния. Он пишет портреты любимых женщин, интерьеры своего дом
и мастерских, находящиеся в них предметы, животных, которы
всегда был полон его дом. Даже пейзажи весьма редки в его * *
вописи. И это понятно. Если сюжет существует лишь как точ*-
отталкивания, лучше выбирать простые, легко опознаваемые
объекты. Конечно, чисто количественный подход не может быть
Решающим аргументом, но все же такая суженность кругозор
симптоматична.
Обращаясь к социально-политической тематике, Пикассо -.
стремился найти новые образы и формы, отвечающие новым зал -
чам, а просто заимствовал из арсенала уже сделанного. Так.
«Мечты и ложь генерала Франко» и «Герника» почти целиком
состоят из образов «личной мифологии». В «Войну и мир»
перенесены античные сюжеты, над которыми работал Пикассо в
замке в Антибе и которые не имели под собой никакой социально*
программы. «Резня в Корее» не замышлялась как отклик на всГ-
ну: художник выполнил картину по мотивам композиции Гойи
лишь посылая ее на выставку, дал ей ныне существующее
название. Примерно так же возник и первый «Голубь мира»: к
Всемирному конгрессу сторонников мира Арагон выбрал одну из ранет
сделанных литографий, которая и была использована в плакатах.
Точно так же работал он в книге. Хотя при его участии вышло
немало изданий, лишь в редких случаях можно говорить об иллк*
страциях в собственном смысле слова. Как правило, Пикассо
снабжал книгу ранее сделанными рисунками, не заботясь о
соответствии их сюжета содержанию литературного произведения6.
Видимо, работа по заранее предложенной теме отталкивала его.
В литературе творчество Пикассо часто оценивается как
противоречивое. Что под этим имеется в виду? Если то, что Пикассо
менял свои позиции и в одних случаях стоял на почве реализма,
лишь «используя модернистские приемы», а в других «делал устуг-
63 Эти цифры моГут показаться неправдоподобными, и их нельзя объяснив
только огромной трудоспособностью художника. Объяснение — в позиции, в
Методе, которые не допускают длительной работы над одним произведением.
64 См.: Horodish A. Picasso as a Book Artist. London, 1962. Можно предпе
ложить, что и здесь Пикассо полагался на «удивление» и «новизну»,
возникающие из случайного столкновения текста и зрительного образа.
126
ки» модернизму, то это неверно. Он не отступал от того пути, на
который встал в молодости, написав «Авиньонских девиц».
Известно отрицательное отношение Пикассо к
абстракционизму, который в 50-х годах завладел художественным миром. Но это
не значит, что он хотел сохранить реалистические основы
художественного творчества. Абстракционизм казался ему плоским,
поскольку не давал возможности продемонстрировать в картине
противоборство между живописью и образом. Именно это имел
он в виду, когда говорил: «Абстрактное искусство — это только
живопись. А где же драма?»65. И, пройдя мимо абстракционизма,
он явно заинтересовался новыми тенденциями в авангардизме
60-х годов: различными способами манипулирования реальными
объектами, которые, действительно, открывали путь к драме в том
смысле, как он ее понимал:
«Когда-то были художники-живописцы, которые писали, чтобы
доставить наслаждение глазу, в приятной манере; теперь есть
художники-живописцы, которые пишут только для того, чтобы
раздражать глаз, а это одно и то же, не так ли? А вот другая
вещь: у нас [Пикассо имеет в виду художников своего
поколения.— В. К.] была склонность к отбросам. У меня она есть и
сейчас. Нынешние художники проявляют вкус к обломкам. Что это,
липа? Слишком скоро сказано. Здесь стоит подумать. Они кончат
тем, что захотят сжечь свои картины. Художники уже давно этого
хотят. Свобода — более тяжкий груз, чем кажется» 66.
Пикассо не остановился перед абстракционизмом, а перескочил
через него, прямо сомкнувшись с «поисками» современного
авангарда 67.
Поэтому говорить о противоречивости Пикассо можно только
в том смысле, что он сознательно положил противоречие (а
точнее, алогизм неприемлемых противостояний) в основы своего
искусства, и в этом был, как никто другой, систематичен. Он исходил
из таких принципов, на которых невозможно построить
реалистическое искусство, ибо они противоположны ему. Поэтому и более
наивные представления о Пикассо как о «недоразвитом» реалисте,
и более изощренные, как о реалисте «сверхразвитом»
(поднявшемся на уровень «обобщенного», «символического»,
«метафорического» отражения действительности) одинаково
неосновательны. Среди его живописных работ, созданных после 1907 года, нет
таких, которые можно было бы по праву отнести к реализму.
65 В русском переводе допущена досадная неточность: «Абстрактное
искусство — не что иное, как сочетание цветовых пятен,. Но где же тут драматизм?»
(Пикассо: Сборник статей о творчестве, с. 19). Слово «драма», как более
частное понятие, точнее выражает мысль Пикассо. К тому же всей фразе придан
оттенок патетической серьезности, которая совершенно не была свойственна его
речи.
66 Malraux A. Op. cit., p. 141 — 142.
67 Пикассо как-то между прочим сказал, что можно послать на выставку
просто накрытый стол, ничего в нем не меняя. Тем самым он предугадал так
называемые картины-ловушки Споэрри. (См.: Parmelin H. Picasso dit..., p. 138.)
i
127
Несколько иначе обстоит дело в графике, и на то есть две
причины. Во-первых, материал линейного рисунка, которым
мастерски владел Пикассо, не обладает достаточной плотностью, и его
труднее привести к резкому конфликту с изображением (хотя во
многих работах Пикассо это делал). Во-вторых, в беглых
набросках с натуры или по памяти (а рисовал он мгновенно)
процесс разрушения просто не успевает вступить в свои права.
Поэтому для художника такие рисунки действительно часто были
способом прямого высказывания об окружающем.
В буржуазной литературе не раз высказывалось мнение, что
Пикассо целиком выражал себя в живописи и был неспособен к
словесному изложению идей. Однако его суждения об искусстве
ясны, недвусмысленны и вполне внятно объясняют, какие задачи
он перед собой ставил. Как в жизни, так и в творчестве, он был
чужд многозначительности и не пытался окутывать флером
таинственности свою работу. Можно с уверенностью сказать:
художник не причастен к созданию популярной легенды о тайне
Пикассо. Его просто не хотели понимать: пугала дерзкая прямота и
открытое пренебрежение к тем позициям, с которых пытались
судить о его творчестве. Из такого оборонительного непонимания,
рефлекса самозащиты буржуазной интеллигенции родились
представления об особой сложности, зашифрованности искусства
испанского мастера, а вместе с ними — и упорные попытки понять
то, чего не было. Путаные, ничего не объясняющие
интерпретации, старания разгадать несуществующие головоломки не раз
возмущали самого художника. Убедить они могут только в
одном: вымышленные проблемы не имеют решения. Художнику нет
надобности, занимаясь живописью, утаивать в ней свои
намерения.
Пикассо не был теоретиком, поскольку просто не нуждался
в обосновании своих воззрений, во многом вытекавших из качеств
его личности. Мемуарная и биографическая литература ярко
обрисовывает эгоцентризм Пикассо, наступательный характер его
темперамента, нетерпимость к позитивным утверждениям,
склонность оспаривать любое мнение, превращать в фарс серьезные
проблемы и жизненные ситуации. Это наложило печать на его
стиль отношений с людьми, образ жизни, но в первую очередь —
на творчество. Одно из основных положений эстетики
модернизма— о предметном характере искусства — было для него не
просто теоретическим тезисом, а органичным способом
самореализации. «В конце концов, произведение искусства осуществляется
не мыслью, а руками»68. Он действительно понимал
художественное творчество прежде всего как рукотворчество, как
предметное созидание. Его руки были постоянно в работе, жадно
хватались за любой подвернувшийся материал, а глаз сразу же
выявлял в нем потенциальную заряженность «видимостью». Ему
чужда была рефлексия, он работал на ходу, ничего не обдумывая
68 Ashton D. Op. cit., p. 39.
128
заранее, но мгновенно отзываясь на сигналы и импульсы из
внешней среды. Неуемная жажда овладеть окружением, подчинить
своей воле внешние формы (в том числе и формы культуры)
выливалась в коллаж, предметно-скульптурные конструкции, в
живописные парадоксы и перестройки классических тем. Точно так
же — в ситуации, диалоге, в действии спора — обретало черты то,
что можно условно назвать эстетикой Пикассо, Все это сделало
его крупнейшей фигурой и признанным лидером модернистских
движений.
Не подлежит сомнению исключительная одаренность
Пикассо, сказавшаяся не только в великолепном владении средствами
живописи и графики, но и в том остроумии и блеске, с которым
он решал свои задачи. Здесь можно было бы сказать, что
вопрос о личной одаренности художника не имеет отношения к
вопросу об избранной им позиции, и на этом поставить точку. Но в
данном случае это было бы только полуправдой. Что делать, если
позиции таковы, что рано или поздно они обращаются против
самого таланта? Ведь если «всегда нужно делать против», если
продвигаться вперед можно только путем отбрасывания
собственных достижений, то это значит, что нужно и «убить себя»,
восстать против собственного таланта, врожденного и воспитанного
вкуса, против собственной культуры и мастерства. И Пикассо шел
по этому пути с достойной уважения, но и пугающей
последовательностью.
Он любил повторять, что выигрыш художника — в его
поражении, что великолепный провал и есть крупная удача.
«Я в ужасе от людей, которые говорят о красоте. Что такое
красота? Нужно говорить о проблемах в живописи!»69. Часто,
приводя подобные цитаты, делают оговорку: Пикассо-де имел
з виду академическую красоту. Нет, Пикассо имел в виду то, что
говорил: красоту. В его речи это слово имело только иронический
оттенок. Он искренне разделял мнение многих художников
авангарда, что с красотой нужно покончить, и был непримирим в
своем убеждении.
Врожденная интуиция художника, мастерское владение кистью
и карандашом сделали свое дело. Среди его картин немало кра-
лтых и очень красивых работ — ив формальном отношении,
и в отношении виртуозного решения поставленных задач. Но
много, слишком много и таких, которые, если не заниматься
самообманом, следует признать уродливыми во всех отношениях.
Л нельзя не заметить, что доля красивых произведений падает от
года к году и от десятилетия к десятилетию. Фактически вся
живописная классика Пикассо создана до середины 30-х годов.
Можно предугадать упреки в несправедливости такой оценки.
Искусствоведы приложили немало стараний к тому, чтобы
сделать приемлемым неприемлемое. И нужно отдать должное таким
поискам позитивного смысла в пикассовском искусстве: они
69 Ibid., p. 72.
129
убеждают своей безрезультатностью. Убеждают, например, в том.
что не нужно искать особую философию или «обновленные»
представления о красоте в таких «великолепных провалах», как серия
человекоподобных контуров, небрежно брошенных черной краской
на тусклый фон (1929 г.). Такое же поражение живописи
демонстрируют и большинство его работ 40-х годов, которым часто
приписывался антифашистский смысл на единственном
основании-— даты их создания.
В негативной позиции Пикассо есть свое достоинство. И это
тем более обязывает искусствоведа не ронять достоинства
собственной профессии, не слагать с себя ответственности перед
изучаемым материалом. Как раз признание за художником права
делать свой выбор заставляет удержаться от той благодушно-
патетической восторженности, которая царит в литературе о
Пикассо. Упорные попытки критиков навязать его искусству
собственное глубокомыслие, обезвредить ранящую глаз живопись
изящной словесностью недостойны принципиальности художника,
который вовсе не хотел нравиться, презирал серьезность и
риторику и намеренно оскорблял вкус (и не только «толпы» —
интеллектуалов и эстетов тоже) 70. Благие намерения «возвысить»
искусство Пикассо ведут лишь к ненужному затушевыванию
подлинного драматизма его творческой судьбы.
Шагал как-то сказал: «Какой гений этот Пикассо! Как жаль,
что он не занимается живописью». Слова эти были произнесены
где-то после второй мировой войны, и их можно понять.
Творчество Шагала оставалось, в общем, таким, каким оно
сформировалось в 10—20-х годах. Пикассо за это время ушел далеко
вперед (или назад, если учитывать направленность движения вспять).
Поэтому Шагал был одновременно и прав (поскольку он увидел
огромные утраты в искусстве Пикассо), и не прав (поскольку он не
понял, что эти утраты — лишь результат непреклонности
художника, стремительно шедшего по тому пути, на который сам Шагал
лишь вступил в молодости).
В поздней пикассовской живописи кажется вычеркнутым все,
что только можно было вычеркнуты гармония цвета,
композиционная организованность, ясность ритма и рисунка. Многие
работы поражают грубой агрессивностью и примитивностью формы.
С трудом веришь, что эти скудные остатки живописи и есть
«зрелость» мастера, который некогда создал поэтичные «голубые» и
«розовые» полотна, темпераментные изображения коррид,
дисгармоничные, но острые аранжировки классических тем, полные
внутренних смещений, но мастерски стянутые воедино
натюрморты и композиции пост-кубистического периода.
70 Женевьев Лапорт приводит, например, такие слова Пикассо: «Я не хотел
известности. Я слишком люблю нищету. И как раз поэтому я писал лица с
перекошенными носами: чтобы вызвать отвращение у людей. Но делать нечего.
Они нашли, что это «красиво»! А самые «красивые» вещи иногда и есть самые
отталкивающие, если только люди умеют смотреть». (Laporte G. «Si tard le
soir, le soleil brille» Pablo Picasso. Paris, 1973, p. 103.)
130
И дело не в возрастном угасании таланта, исчерпанными для
него оказались возможности самой живописи. В послевоенные
годы творческая энергия старого мастера не иссякает, но
направляется на поиски новых, еще не освоенных материалов. Он много
работает в скульптуре, в основном, методом сборки изображения
из реальных предметов. Настоящей находкой для него была
керамика: заданная форма утилитарной вещи скрывала в себе
возможность неожиданных прорывов в изображение
(«метаморфозы»), а деформации, возникающие при обжиге, создавали
дополнительное напряжение в споре материала с формой. Он
увлекается ювелирным искусством, печатной графикой, изобретает
новые техники в ней, создает особую разновидность
скульптуры — пространственно-графические конструкции из согнутой
листовой жести.
Живопись здесь оказалась просто пройденным этапом, и
немногие удачные работы этих лет (например, интерьеры и
пейзажи виллы Ля Калифорни) были лишь ностальгией по
живописи, ретроспективным взглядом в прошлое. Прощанием с
живописью были и его пародийные переработки картин Веласкеса,
Делакруа, Мане. Этот новый взрыв «классицизма» был куда
более агрессивным низвержением классики, чем опустошение и
отчуждение ее форм в период 20-х годов. Погружая образы
известных картин в разгул живописного действа, Пикассо сокрушал их
в какофонии мазков, разлагал единство в огромных сериях,
искажал сюжет вплоть до грубой непристойности71.
Он любил классическую живопись, восхищался такими
художниками, как Эль Греко, Гойя, Веласкес, Пуссен, Рембрандт. Но
по принятой им обратной логике именно потому, что любил, он
и подвергал дерзкому осмеянию их образы в таких сериях, как
«Менины», «Алжирские девушки», «Завтрак на траве». «Я пишу
против картин, которые что-то значат для меня»72.
В одной из своих статей о модернизме Мих. Лифшиц
предложил отделить вопрос о прогрессивных воззрениях таких
художников, как Пикассо, от обсуждения их творчества73. Его
оппоненты отвечали ему, что нельзя проводить такую операцию рассечения
над живым художником, гражданские позиции и творчество
которого всегда неразрывно связаны. Но дело в том, что по отношению
к Пикассо такую операцию даже не надо проводить, ибо он
осуществил ее сам. Его взгляды коммуниста, антифашиста, борца за
мир в целом оказались в стороне от искусства и лишь в малой
степени нашли выражение в нем.
71 Драма Пикассо «Похороны графа Оргаса» (1956 г.) по известной
картине Эль Греко — своего рода комментарий к его поздней «классике». Как и в
живописи, «язык делает, что хочет», персонажи буквально тонут в хаосе
наугад брошенных слов (как они тонут в беспорядочных мазках на картинах).
Эффект абсурда даже сильнее, чем у сюрреалистов. Само обращение к слову
имело здесь сугубо деструктивный смысл оспаривания визуальной образности.
72 Malraux A. Op. cit., p. 125.
73 См.: Лифшиц Mux. Искусство и современный мир, Мм 1973.
131
2. Сюрреалисты
В сюрреализме также были выработаны особые формы
фигуративное™, резко отличные от изобразительности
реалистического типа.
Это направление, унаследовавшее
воинственно-нигилистические установки предшествовавшего ему движения дада,
стремилось к радикальному перевороту в соотношении реального и
идеального, к полной «революции сознания», которая должна была
включить в себя как одно из частных следствий революцию
социальную. Сюрреалисты хотели стереть границы между материей
и духом, найти ту точку, в которой «жизнь и смерть, реальное и
воображаемое, прошлое и будущее, коммуникабельное и
некоммуникабельное, высокое и низкое больше не воспринимаются как
противоречия» 74.
Как полагал Бретон, такая точка была найдена в глубинах
подсознания, которое, будучи освобожденным от контроля
разума, от культурных и социальных наслоений, продуцирует
собственную «реальность», отличную от той, которую познает
бодрствующий разум. В этом пункте иделогия сюрреализма опиралась
на учение Фрейда. На фрейдовском подсознательном,
обнаруживающем себя в автоматических действиях, случайных оговорках,
но более всего — в сновидениях, Бретон и его соратники
пытались выстроить мировоззрение, кардинально переворачивающее
отношение между объективным и субъективным, реально
существующим и воображаемым. Уже в первом манифесте
сюрреализма (1924 г.) Бретон писал: «И поскольку никоим образом не
доказано, что «действительность», меня задевающая,
удерживается при этом и в состоянии сна, что она не тонет в беспамятстве,
не должен ли я приписать сновидению качество, в котором порой
отказываю действительности, а именно: убежденность в его
бытии, на какое-то время лишающем меня возможности в нем
усомниться? Не должен ли я в большей степени полагаться на
свидетельства грезы, нежели на возрастающий с каждым днем уровень
самосознания?» 75
С еще большей определенностью высказывался молодой
Арагон: «То, что мыслится, существует»76. В идеологии сюрреализма
греза (или сон, мечта-—reve) наделялась свойством
объективности, в противоположность «субъективизму» рационального, то есть
«искаженного» цензурой разума, восприятия.
Первый манифест сюрреализма заканчивается знаменитым
определением: «Чистый психический автоматизм, посредством
которого намерены выразить устно, письменно или каким-либо иным
образом действительное функционирование мысли. Диктовка мыс-
74 Breton Л. Manifestes du surrealisme. Parts, 1973, p. 76—77.
75 Бретон А. Манифест сюрреализма.— В кн.: Писатели Франции о
литературе: Сб. статей. М., 1972, с. 64—65.
76 Цит. по: Андреев Л. Г. Сюрреализм. М., 1972, с. 58.
132
ли за пределами всякого контроля, осуществляемого рассудком,
вне всякой эстетической или нравственной заинтересованности»77.
В сюрреалистической практике апробировались самые
различные способы отключения или подавления сознания — алкогольное
и наркотическое опьянение, спровоцированный транс, сон наяву,
автоматические действия, игры в случайность. Участникам этого
движения идеальным казалось состояние безумия,
галлюцинаторного бреда. Абсурдные акции, которыми так увлекались первые
сюрреалисты, были для них не только формой «антибуржуазного
протеста», но и отчасти имитацией превозносимого в теории
безумия.
Последовательное осуществление такой программы делало
невозможным художественное творчество. Первые участники
движения с энтузиазмом отрекались от литературы и искусства, а
свои занятия автоматическим письмом, имитацию
сомнамбулических состояний и отчеты о сновидениях рассматривали лишь
как лабораторные опыты по высвобождению стихии
бессознательного. Длительная история борьбы сюрреалистической
группировки с вероотступниками, желавшими заниматься
творчеством, ярко представлена в книге Мориса Надо78. Лишь
постепенно, по мере ослабления нигилистических позиций, а также
отказа от социально-политической программы, сюрреализм
«скатывается» к художественной деятельности — из автоматических
методов «исследования подсознания» кристаллизуется то, что
можно назвать литературой и искусством сюрреализма.
Во взаимодействии с этим процессом формировалась и
эстетическая теория сюрреалистов. Особое место в ней отводилось
стихии языка, спонтанной речи, освобожденной от оков
логического мышления. Так, во «Втором манифесте сюрреализма» Бре-
тон писал:
«Кто говорит «выражение», говорит, прежде всего, «язык».
Стало быть, не следует удивляться, что сюрреализм располагает
себя в первую очередь, и почти исключительно, в плане языка...
В самом деле, ничто больше не может воспрепятствовать
завоеванию этой территории, большей ее части. Орды
разбушевавшихся слов, которым дада и сюрреализм открыли ворота, как бы
гам ни было, не из тех, кто легко отступает»79. Это варварское
нашествие, по мысли Бретона, должно было «ниспровергнуть
способ чувствования» человека, создать совершенно новую
реальность. Отсюда — интерес к оккультизму и прямая аналогия
«алхимии слова» с алхимией средневековой. «Слово первенствует, и
для кабалистов, например, душа человеческая создана по его
образцу; известно, что оно возведено в ранг первоначального
образца, причины причин; оно остается таковым в том, что мы
пишем, в том, что мы любим»80.
77 Писатели Франции о литературе, с. 69.
78 См.: Nadeau M. Histoire du surrealisme. Paris, 1958.
79 Breton Л. Op. cit, p. 108—109.
80 Ibid., p. 137.
133
Эстетика сюрреализма, поднимаясь из первоначального хаос
«тотального бунта» и абсолютного отрицания, нашла себе
первейшую опору в «объективности» языка. В чувственном
характере символа, любого средства выражения виделся способ
обращения фантастики в явь, слияния наличной предметности и
вымысла в особую «сверхреальность». Здесь, в магии символа.
осуществлялось, по мнению представителей этой школы, то
разрешение всеобщих, до-социальных противоречий, о которых
писал Бретон. Сюрреалисты полагали, что таким образом они
преодолевают «односторонность» материализма и идеализма, хот~
очевидно, что здесь субъективно-идеалистическое мировоззрение
было просто доведено до абсурдной крайности. Автоматизм
быстрого, не допускающего участия сознания, говорения (или письма)
представлялся способом стихийного (и потому «объективного*,
то есть свободного от субъективных намерений) смыслообразо-
вания, способом выражения «глубинных» истин человеческого
духа. «Мысль рождается во рту»,— говорил Тристан Тцара.
Поэтому в своей художественной практике сюрреалисты
сознательно стремились к сгущению материальности
выразительных средств, полагаясь на случайное зарождение смысла.
Возникающий в результате абсурд не только не пугал их, но и
прокламировался как желанная цель. Так возникли «объект-поэмы>
Бретона, в которых вместо слов использовались реальные
предметы, «найденные объекты» (objets trouves), фигурировавшие на
выставках в качестве произведений. Аналогичную роль играл так
называемый объективный случай, который Бретон определял как
«жизненные ситуации, характеризующиеся фактом
одновременной принадлежности к реальной и идеальной сериям событий»81.
Такого рода изобретения должны были «фиксировать внимание
не на реальном и не на воображаемом, а, если можно так
сказать, на „изнанке реального"»82.
Неутомимыми изобретателями автоматических и
полуавтоматических методов были художники-сюрреалисты. По образцу
знаменитой литературной игры в «изысканный труп» был создан метод
коллективного продолжения рисунка вслепую. Из
автоматического движения карандаша или кисти по бумаге вырос
абстракционизм Андре Масона. Оскар Домингес ввел в обиход
«декалькомании» (складывание двух листов бумаги, на один из которых
наносилось густое пятно гуаши) и «литохронии» (вмятины,
получающиеся от завертывания в бумагу различных предметов).
Вольфганг Паален придумал «фюмаж» (конфигурации,
возникающие в результате задымления плоскости горящей свечой). Миро
иногда прибегал к отпечаткам ладони на холсте. Ганс Арп еще в
свой дадаистский период был инициатором коллажей,
фиксирующих случайное расположение брошенных клочков бумаги. Ман
81 Breton A. Limits and Frontiers of Surrealism.— In: Surrealism. Ed. bv
H. Read. London, 1971, p. 103.
82 Breton A. Manifestes du surrealisme, p. 121.
134
Рей создавал «рейограммы», то есть комбинации силуэтов
реальных предметов, полученные на светочувствительной бумаге.
Способы работы вслепую — аналог автоматического говорения без
мысли в практике сюрреалистической «литературы».
С наибольшей целеустремленностью применял автоматические
и полумеханические техники Макс Эрнст, который основывал свое
творчество на приемах фротажа (перевод рисунка рельефных
фактур на бумагу натирающими движениями грифеля), гратажа
(процарапывание красочного слоя гребенкой и другими предметами),
коллажа из гравюрных изображений, дрипинга (раскачивание
над холстом наполненной жидкой краской банки с отверстием
внизу).
Макс Эрнст неоднократно рассказывал об открытии им
фротажа. Еще в детстве его зачаровывала находившаяся рядом с
кроватью панель из красного дерева: рисунок древесного среза
служил стимулом к непроизвольной игре образов, возникающей при
погружении в дремоту. Такие фантазии, явившиеся в состоянии
полусна, позднее сознательно провоцировались художником,
доводились им до галлюцинаций. Однажды, в пасмурный день его
поразил деревянный пол с углубленными прожилками и множеством
царапин. Бросив наугад несколько листов бумаги, он натер их
черным графитом, получив таким образом копию древесной
структуры. На ней уже можно было обозначить конфигурацию
проецируемых видений.
Изобретенный в 1925 году фротаж стал основным приемом
Эрнста. Он широко применял его сначала в графике, потом в
живописи, используя самые различные материалы: листья растений,
мешковину, фактуру пастозной живописи, нити, монеты, раковины,
поверхность камней и штукатурки и т. п.
Понятно, что привлекательность этой техники состояла в
«объективной случайности»: образ не создавался художником, а лишь
обнаруживался им в материале. В статье «По ту сторону
живописи» Эрнст писал:
«Процедура фротажа... исключающая всякое осознанное
влияние духовного начала (разума, вкуса, морали), сводящая к
минимуму активность того, кого мы до сих пор называли «автором»,
обнаруживает свою сущность в качестве точного эквивалента
«автоматического письма». Автор присутствует при рождении своего
произведения в роли зрителя, безучастного или увлеченного, и
лишь наблюдает этапы его становления»83.
Рассмотрим одну из таких картин — «Охотник» (1926 г.).
Полотно заполняют извивающиеся очертания полурастительных и
полуживотных форм. Одно из них с некоторым усилием можно
/подобить сидящей человеческой фигуре; причудливый монстр,
очевидно, добыча охотника. В правой нижней части картины
формы становятся более отчетливыми, и здесь можно различить ружье,
83 Ernst M. Beyond Painting and Other Writings by the Artist and His
Friends. N. Y.f 1948, p. 8.
135
лежащую собаку и за ней — картинную раму. Видимо, последняя
деталь символична и должна означать живой образ, выхваченныГ
художником из стихии пятен и линий, пойманный им и
заключенный в раму живописного полотна. Движущаяся галлюцинация
остановлена, воплощена в красочной материи. Художник —
визионер-охотник, объективирующий свои фантазии посредством языка.
Столь отчетливый символизм редок в творчестве Макса Эрнста.
Как правило, его картины представляют собой поток почти нерас-
члененных форм, в котором едва брезжут очертания странных
чудовищных фигур. Художник часто изображал лес. Но и сами
его картины подобны дремучим зарослям, сквозь которые с
трудом прокладывает себе путь зрение. В сюрреалистическом
журнале «Минотавр» Эрнст выражал такой взгляд в запутанной,
смутной метафоре: «Что такое лес? Сверхъестественное насекомое.
Доска для рисования. Что делают леса? Они никогда не отступают
рано. Они ждут лесоруба. Что такое лето для лесов? Будущее: в
это время года массы теней смогут превратиться в слова; и
существа, наделенные даром красноречия, будут бесстрашно
обыскивать полночь в нулевой час»84.
Макс Эрнст часто прибегал и к другому полуавтоматическому
способу: обмакивал длинную нить в краску и затем протягивал ее
в различных направлениях по холсту. Так выполнена, например,
картина «Поцелуй» (1927 г.), где переплетающиеся нитяные
петли создают подобие контура слитых в объятии фигур. Нитяной
след то совпадает с фигурами, то резко отходит от них, благодаря
чему возникает ощущение непреднамеренности, случайности и
неустойчивости образа. Эрнста интересует не содержательный или
эмоциональный, и даже не формальный аспект живописи, а
именно зыбкая граница между неорганизованной, внечеловеческой
материей и произволом налагаемого на нее видения, то есть «изнанка
реальности».
В одной из статей Эрнст рассказал о впечатлении,
произведенном на него иллюстрированным каталогом наглядных средств
обучения: «Я вижу материалы из самых разных областей —
математики, геометрии, антропологии, зоологии, ботаники, анатомии,
минералогии, палеонтологии и пр., элементы столь различные по
своей природе, что абсурдность их объединения приводит в
замешательство и зрение, и разум, вызывает галлюцинации, придает
изображенным объектам новые, быстро меняющиеся значения.
Я ощутил внезапное повышение своей зрительной способности,
увидел, как на ином фоне возникают новые объекты. Чтобы их
закрепить, достаточно было добавить красочное пятно или пару
штрихов, линию горизонта, намек на пустыню, небо, русло реки
и т. п.»85.
84 Цит. по: An Informal Life of M. E. — In: Gatt G. Max Ernst. New York-
London-Sydney-Toronto, 1970, p. 93.
85 Цит. по: Fischer L. Max Ernst in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
Reinbek bei Hamburg, 1979, S. 53.
136
Так возникли абсурдистские коллажи из «готовых»
изображений печатной графики. Художник приравнивал их к «словесным
коллажам», то есть объединению в одной фразе обрывков разных
предложений.
В живописи Эрнст прибегал и к приему декалькомании:
нанесенная на холст жидкая краска раздавливалась стеклом, возникшая
конфигурация затем завершалась и прорабатывалась в деталях от
руки. Так была написана, например, его известная картина «Глаз
тишины» (1943 г.).
Отметим, сколь значительная роль отводится в этих методах
дремлющему, парализованному сном сознанию. Соответственно
этому резко сокращается и творческий процесс. Налицо не только
стремление к высвобождению образа, но и обратная тенденция
к погружению его в сумрак подсознательного, в не проясненную
светом человеческого зрения материю. Не случайно Макс Эрнст в
период своего пребывания в Америке стал вдохновителем одного
из крайних направлений абстракционизма — «живопись действия»
основывалась на его технике дрипинга. Не случайно и то, что
именно этот художник еще в 1910—1911 годах увидел «черты
гениальности» в искусстве сумасшедших и «решил до конца исследовать
сумеречные и полные опасности зоны, заключенные в безумии»86.
Джузеппе Гатт сравнивает искусство Эрнста с кораблем, у
штурвала которого стоит слепой навигатор: «И когда в конце
такого путешествия приходишь к совершенно неведомым берегам,
все оказывается неподвижным, проникнутым леденящим кровь
молчанием, и единственное, что несомненно,— ясное сознание
того, что находишься в незнакомом месте»87.
Все это в принципе не отличается от искусства Пикассо.
Особенно близки картины-фротажи пикассовской скульптуре. Но
Эрнст еще больше расширил сферу случая и слепой
материальности, подчиняющей себе сознание и творчество художника.
В живописи Макса Эрнста реализовались программные
установки сюрреализма на вытеснение активного миропонимания
техникой грезопроизводства.
В иной манере работал бельгийский сюрреалист Рене Магрит.
Его сухая, трезво-педантичная живопись составляет неожиданный
контраст с абсурдностью изображения. На картинах Магрита мы
видим взлетающие в небеса скалы и замки, фигуры аккуратно
одетых клерков, дождем сыплющиеся на город, окаменевшие
плоды и интерьеры, цветок или яблоко, заполняющие собой всю
комнату. Художник как бы стремится дать протокольно точное
описание невозможного.
В сюрреалистической группировке (Магрит примкнул к ней в
1927 году) он был, пожалуй, наиболее теоретизирующим
художником. «Сюрреалистическую мысль, как я ее понимаю, — писал
он, — необходимо вообразить, но она не является воображаемой,
86 An Informal Life of M. E. —In; Gatt G. Op. cit, p. 91.
87 Gatt G. Max Ernst, p. 21.
137
она обладает реальностью того же «рода», что и реальность
вселенной. Эта реальность иррациональна, ее иррациональность не
есть воображаемая, но она должна быть воображена»88.
«Реальность», которую имеет в виду Магрит, трудно
определить, поскольку она не существует. Это, разумеется, не
действительный мир, но это также и не мир воображаемый, как он сам
о том предупреждает. Она также не имеет отношения ни к
мистической потусторонности, ни к глубинной сущности вещей,
недоступной человеческому сознанию из-за его ограниченности.
Скорее, «реальностью» для него является некий промежуточный мир.
представляющий собой определенный разрыв, зияние между
миром объектов и независимым от него сознанием.
По мнению Магрита, сознание не имеет своих оснований
(raison d'etre), равно как и мир принципиально не поддается
объяснению. Отвергая и детерминистическую, и вероятностную
концепции мира, Магрит говорил: «Я не детерминист, но я также
не верю и в случайность. Это понятие лишь служит другому
«объяснению» мира. А проблема состоит как раз в том, чтобы
не принимать никакого объяснения — ни через случай, ни через
причинность. Я не ответствен за свою веру. Я даже не решаю
сам, что я не несу ответственности (и так далее до
бесконечности), я просто обязан не верить. Не существует никакой
исходной точки»89.
Понятно, что при таком агностицизме задача художника не
может быть понята как задача отражения действительности. Не
в большей мере оказываются доступными искусству идеи или
чувства:
«Эмоция не может быть представлена в живописи».
«Идею нельзя увидеть глазами, идеи не обладают никакой ви-
зуальностью, следовательно, никакой образ не может представить
идею» 90.
«Если случается, что человек взволнован или заинтересован,
рассматривая похожее изображение, из этого нельзя выводить, что
оно «выражает» эмоцию или излагает какую-либо идею. Это было
бы столь же наивно, как и полагать, например, что пирог
«выражает» то, о чем думал пирожник при его изготовлении»91.
Пикассо сравнивал художника с сапожником, Магрит — с
пирожником. Однако и сапоги, и торты имеют свое назначение. В чем
назначение живописи? Чем она должна заниматься в том случае,
если мир признан непознаваемым, а разум — безосновательным?
(Заметим, что форму Магрит также считал несущественной.)
Бельгийский сюрреалист стремится поместить искусство именно на
ничейной полосе, на территории «невозможного», в той пропасти,
которая разделяет объективное бытие и деятельность сознания.
88 Цит. по: Roberts-Jones Ph. Magritte poete visible. Bruxelles, 1972, p. 12.
89 Gablik S. A Conversation with Rene Magritte. — "Studio International",
№ 887, March 1967, p. 129.
90 Цит. по: Noel B. Magritte. Paris, 1977, p. 34.
91 Ibid., p. 29.
138
Это и есть «не воображаемая, но вообразимая реальность». Маг-
рит пытается определить ее полюсы двумя понятиями: «мысль»
(pensee) и «тайна» (mystere).
«Мысль... объединяет вещи таким образом, что видимые
объекты вызывают представление о тайне, без которой ничего бы не
было. Например, ночной пейзаж под солнечным небом и, с другой
стороны, гора в форме птицы92 свидетельствуют, что живопись —
как я ее понимаю — вовсе не направлена на формальные
изыскания, а имеет дело с мыслью исключительно из-за отсутствия
непрерывности в отношении к миру и его тайне»93.
Под «мыслью» Магрит имеет в виду не какую-то конкретную
мысль (это было бы уже идеей), а некую абстрактную,
несуществующую в природе мыслительную деятельность, которая
«оставляет порождающие ее объекты нетронутыми и ни к чему не сводит
их» 94.
Рассмотрим одну из картин, упомянутых в вышеприведенной
цитате, — «Царство света» (1960 г.). На ней изображен вечерний
пейзаж: дом со светящимися окнами, темные силуэты деревьев и
их отражения в пруду. Однако все это существует под светлым
солнечным небом. Мы не можем связать воедино верхнюю и
нижнюю части картины; мысль, пойманная в ловушку противоречия,
не находит выхода из него. Тщетность этого усилия и хочет
показать нам художник.
Абсурд такого рода, разумеется, невозможен в реальном мире,
как и невозможна подобная работа вхолостую реального
мышления, всегда целеустремленного, направленного на конкретный
объект или проблему95. Искусство, по мнению Магрита, как раз
и должно заниматься созданием таких искусственных ситуаций,
принуждающих зрителя «думать о Смысле, что означает-—о
Невозможном» 96. Приводя сознание к неразрешимому конфликту,
живопись абсурда надеется продемонстрировать «чистую» мысль,
мышление, отрешенное от его обычной деятельности по освоению
мира, то есть показать зияющую пустоту, якобы существующую
между тем и другим:
«В этом мире, ни утилитарном, ни человеческом, вещи не
отсылают больше ни к своей функции, ни к художнику; они
сорвались со своих мест и не выражают ничего, что могло бы быть
отнесено к их референту»97. Позднее такое представление о
мышлении— мышлении без предмета, без идей, без цели — легло в
основу так называемого концептуального искусства.
92 Здесь речь идет о таких картинах Магрита, как «Царство света» и
«Владения Арнхейма».
93 Цит. по: Roberts-Jones Ph. Op. cit., p. 40.
94 Ibid., p. 30.
95 Магрит: «Идея решения проблемы так же безвкусна, как и решение
чэоссвордов. Нет нужды думать о решении проблем». («Studio International»,
March 1967, p. 128.)
96 Цит. по: Noel В. Op. cit., p. 40.
97 Ibid., p. 29.
139
В специальной работе о теории Магрита немецкий
искусствовед Ральф Шиблер приводит показательный список запретных для
Магрита понятий, то есть таких, которые употребляются им только
в негативном смысле или в кавычках. Среди них: «символ»,
«тема», «выражение», «намерение», «объяснение», «понимать»,
«фантастическое», «фигуративное», «композиция», «талант»,
«восприимчивость», «культура», «вкус», «прогресс»98. Отказ от распро
страненнейших терминов объясняется неприятием свойственных
искусству задач, отрицанием самой возможности познавательной
деятельности. Поэтому неудивительно, что формулировка
собственных идей давалась Магриту, по его же признанию, с большим
трудом.
«Невозможное» Магрита —■ это пустая пульсация сознания,
замкнутого в самом себе. Правдоподобные сюрреалистические
картины ничуть не ближе к правде жизни, чем абстрактная
живопись. Назначение их иллюзорности-—завести сознание в тупик,
заставить «признать» собственную несостоятельность.
Картину «Приятная истина» (1966 г.) художник считал одной
из своих удач. Почти всю ее поверхность занимает изображение
кирпичной кладки, на которой, в свою очередь, изображен
накрытый скатертью стол с натюрмортом. Что это? Проекция на глухую
стену желания человека? Или это его представление о том, что
находится за стеной? Или оба изображения совмещены в одной
плоскости и существуют только как «реальность» живописи? Эти
вопросы должны остаться без ответа, ибо для художника важно
лишь привести мысль в состояние смятения, или, как он сам
выражается, паники.
Поэтому воздействие живописи должно быть, по мнению
Магрита, кратким, мгновенным. Как только проходит ощущение шока,
картина больше не нужна. Художник неоднократно и решительно
протестовал против символической интерпретации своей живописи:
«Когда люди пытаются найти символический смысл в том, что
я пишу, они создают какую-то конструкцию. Они хотят на что-то
опереться. И как раз это бесит меня в тех, кто ищет — и
умудряется найти — символы. Они хотят какого-то комфорта, чего-то
надежного, за что можно уцепиться, чтобы спастись от пустоты»99.
Изобразительный абсурд ценен сам по себе, его назначение
вовсе не состоит в том, чтобы выразить какую-то глубинную
сущность вещей, скрытую от непосредственного восприятия.
Философствование по поводу живописи Магрита неуместно, поскольку она
уже есть философия, философия непознаваемости мира.
98 См.: Schiebler R. Die Kunsllheorie Rene Magrittes. Munchen-Wien, 1981,
S. 16.
99 «Studio International», March 1967, p. 129—130. Другое высказывание:
«Суметь ответить на вопрос «Каков смысл этих изображений?» означало бы
уподобить Смысл, то есть Невозможное, какой-то возможной идее. Попытка на
него ответить была бы признанием наличия некоего «смысла». (Noel В. Ор.
cit., p. 40.)
140
При том отсутствии связи сознания с миром, которое
характерно для воззрений бельгийского сюрреалиста, внешний объект
становится неотличимым от его субъективного образа, что
наглядно показано в ряде полотен, изображающих картину в картине.
«Падает вечер» (1964 г.) —это разбитое оконное стекло, на
упавших осколках которого изображен тот же вечерний пейзаж,
который простирается за окном. В «Купальщице от света к тени»
(1935 г.) висящий на стене морской пейзаж бросает свет на
женскую фигуру, наподобие реального проема в стене. В картине
«Человеческий удел» (1933 г.) изображение на полотне полностью
совпадает с реальным пейзажем за окном. В «Прогулках Эвкли-
да» (1955 г.) тот же сюжет включает в себя еще и тему
неразличимости живописных мотивов: из двух идентичных треугольников
один оказывается конусовидным завершением башни, а другой —
перспективой улицы.
Комментируя «Человеческий удел», Магрит говорил о том, что
такое совпадение внутреннего образа (картина в интерьере) и
внешнего (пейзаж за окном) характерно не только для нашего
видения, но и для мышления (мысленное перенесение настоящего
момента в прошлое). По поводу другой аналогичной картины,
«Каскад», он писал: «Природа двух данностей (внутренней
картины и окружающей ее листвы) имеет в обоих случаях
«пространственный» характер; но при их объединении «пространственный»
порядок перестает быть безразличным; на самом деле здесь
поставлен вопрос о самой мысли, которая может видеть себя
одновременно в лесу и вдали от него» 10°.
Конечно, в таких рассуждениях верно схвачена особенность
идеального — его способность преодолевать пространство и время,
постигать материальный объект посредством внутренней работы
с символами. Однако, если рассматривать их в контексте общих
зоззрений художника, обнаруживается стремление наделить
субъективный образ и его референт одинаковой степенью реальности
и тем же статусом бытия. Отсюда — подчеркнуто объективистская
гшисательность его живописной манеры, совершенно не делающей
различий между явью и вымыслом. Эта манера, заключающая в
:ебе полное пренебрежение к форме, означает также и
самоустранение художника от задачи выражения обобщающих идей и своего
эмоционального отношения к изображаемому.
По поводу фрейдистской интерпретации сновидений Магрит
-сворил, что «если греза — перевод бодрствующей жизни, то и
.-кизнь в состоянии бодрствования также есть перевод
сновидения»101. Такое представление ведет к инверсиям в духе Пикассо,
При всем явном стилистическом различии в искусстве этих
художников, очевидно их сущностное сходство, проистекающее из
сходна воззрений. Если Пикассо считал образ условным знаком, Маг-
Цит. по: Roberts-Jones Ph. Op. cit., p. 38.
Ibid., p. 34.
141
рит неоднократно просто заменял изображение словесной
надписью, стремясь заместить «видимое описание мысли
невидимым» 102.
Тот же смысл имеет и реализация словесных метафор в
живописи бельгийского сюрреалиста, например: «одеревеневшая
женщина» в «Открытии» (1927 г.), «вломиться в дверь» в
«Непредвиденном ответе» (1933 г.), «слепая любовь» в «Любовниках»,
«окаменевшая память» в «Воспоминаниях о путешествии» (1951 г.).
Позднее эти приемы стали широко эксплуатироваться в рекламе
с целью создания зрительного шока и последующего его
разрешения в рекламный призыв. Однако для Магрита это — нарушение
правил игры. Реклама создается с целью высказывания
какой-либо идеи, пусть узкой, элементарной, но идеи. Для сюрреалиста же
важен разрыв между внешним миром (в данном случае —
визуальным образом) и «безосновательным» сознанием (словом) сам
по себе. Это очень близко к тому, что Пикассо называл «драмой»
или «проблемой».
Поэтому так же, как и Пикассо, Магрит утверждал идею
равенства картинного образа его восприятию: «Тот, кто смотрит на
картину, изображает то, что он видит» 103.
Иррационализм Магрита довольно обдуман и систематичен.
В живописи Сальвадора Дали мы сталкиваемся с другим его
вариантом — безудержным нагромождением фантазмов, алогизмов
и просто нелепиц. Бред в виде какой-то цветистой и
липко-навязчивой массы расползается по холсту; иногда это месиво застывает
или пронзается механическими формами; очертания оптически
уплотняются, из них выплывают галлюцинаторно-четкие образы,
похожие на крупные планы эротических или «черных» фильмов.
Это уже не концептуальный иррационализм, а не знающая меры
иррациональность.
«Все, на что я претендую в живописи, — писал Дали, — состоит
в том, чтобы материализовать со всей яростью империалистской
точности образы конкретной иррациональности» 104.
Задачу сюрреализма он определял так: «Наш идеал — достичь
искусства столь же отчетливого, как и искусство сумасшедших, но
при этом не стать ими» 105.
Цель изобретенного Дали «параноико-критического метода»
состояла в том, чтобы придать кошмару сновидений
непосредственную убедительность присутствия. Художник писал о своем
отличии от прочих сюрреалистов: «Разница между моими идеями и
идеями других состоит в том, что у них сновидение рассеивается;
в моей параноико-критическои деятельности, напротив, оно может
102 В связи с этим особенно показательны словесно-графические
рассуждения Магрита «Слова и образы», где он стремится показать конвенциональность
и противоречивость и языкового знака, и визуальной формы. (См.: «La
revolution surrealiste», vol. 5, p. 12, 1929.)
103 Цит. по: Roberts-Jones Ph. Op. cit., p. 34.
104 Цит. по: Gomez de la Serna R. Dali. Madrid, 1977, p. 108.
105 Ibid., p. 132.
142
превратиться в здание из камня или из цемента, как вам больше
нравится» 106. Принятая им на вооружение манера академической
живописи с ее скрупулезной точностью и оптическим жизнеподо-
бием была «воинственным утверждением синтетического опыта
завоевания иррационального» 107.
Живопись Дали, назойливая, велеречивая, кажется еще более
пошлой от содержащихся в ней претензий на «возвышенный»,
«классический» стиль. Вульгарные, бьющие по нервам образы
несут в себе намеки на некий мистицизм или постижение глубин
сознания. Художник, известный своим нарциссизмом, заявлял, что
его картины якобы столь глубоки по смыслу, что не поддаются
анализу, и потому он сам не может их понять 108.
Странно, что дешевая риторика такого рода кому-то кажется
убедительной. Видимо, только тем, что западная критика потеряла
всякую ориентацию в мешанине современных «измов», можно
объяснить ту нелепость, что в объемистых монографиях Дали
наделяется титулом гения. Не исключено также гипнотическое
воздействие заявлений самого художника, который с маниакальным
упорством твердил о своей гениальности.
Дали написал несколько книг. В них царит то же
пустопорожнее многословие, что и в картинах. Суждения его столь несуразны,
а стиль столь напыщен, что трудно понять, занимается ли автор
этим краснобайством всерьез или мистифицирует читателя
двусмысленным пародированием. Одно не вызывает сомнений:
художник уверен в своем праве, праве «гения», делать все, что
заблагорассудится, в том числе и нести любой вздор.
Все же из пухлого тома «50 магических секретов» можно
вынести определенное представление о том, что Дали верен
сюрреалистической присяге. Так, среди прочих его советов художникам
можно найти такой: «Вы должны исполнять свою работу как бы
в полусне, убаюкиваемые легкими ветерками воспоминаний,
которые смешиваются с монотонным, едва слышным чтением» 109.
В другом месте он рекомендует своим коллегам постоянно
пребывать в окружении растений, например оливковых деревьев, ибо
«ваша фантазия, следуя параноической избирательности, сможет
спровоцировать появление и исчезновение в них образов
ясновидения, особенно при закрытых глазах»110. Этот метод
возбуждения зрительных галлюцинаций аналогичен методу Макса Эрнста.
Видимо, ту же функцию должна выполнять и паутина, которую
Дали настоятельно рекомендует культивировать в мастерской.
Так же, как и другие художники модернизма, Дали
отбрасывает идею замысла: «Если вы понимаете свою картину заранее,
вам лучше не писать ее»111. Видимо, понимание не приходит и
106 Ibid., p. 201.
107 Ibid., p. 54.
108 См.: там же, с. 108.
109 DalL 50 secrets magiques. Lausanne, 1974, p. 64.
110 Ibid., p. 57—58.
111 Ibid., p. 16.
143
постфактум. Во всяком случае, комментарий Дали к собственной
живописи не помогает уяснению ее смысла 112.
Очевидная безвкусица «параноико-критической» живописи
самого автора не смущала: «Не говорите мне о вкусе. О хорошем
вкусе. Нет! Дурной вкус — лучший творец из существующих.
Иначе говоря: он превосходит все»113.
Среди массы картин, созданных этим художником,
определенный интерес вызывают те, что построены на игре оптических
иллюзий. Так, в «Рынке рабов с появлением невидимого бюста
Вольтера» (1940 г.) человеческие фигуры в центре картины
складываются в портретное изображение писателя. В картине
«Явление лица и вазы с фруктами на пляже» изображение оказывается
трехслойным: пейзаж превращается в фигуру собаки, затем из
того и другого кристаллизуется натюрморт с вазой на столе, и,
наконец, ваза и три человеческие фигуры объединяются в подобие
лица. Портрет кинозвезды Мэ Уэст (1934—1936 гг.) скомпонован
из деталей интерьера (впоследствии такой интерьер был
реализован в «Музее-театре Дали»). Аналогичными приемами построены
и некоторые другие картины: «Очарованный пляж с тремя
жидкими грациями» (1938 г.), «Старость, юность, детство!» (1940 г.),
«Параноико-критическое одиночество» (1935 г.).
Для Дали такие иллюзии подобны галлюцинациям, в них
утверждается сюрреалистическая идея объективности фантазмов,
порожденных спящим или больным сознанием. Видимая
реальность постоянно колеблется и перестраивается, рассыпается в
кажимость. В «Метаморфозе Нарцисса» (1936—1937 гг.) одни и те
же формы представлены дважды в различной интерпретации: в
одном случае они означают человеческую фигуру, склонившуюся
над водой, в другом — каменную руку, держащую яйцо с
цветком. Художник внушает, что зрение постоянно обманывает нас, а
язык живописи подвержен еще большим аберрациям: как бы он ни
был точен, невозможно ясное, недвусмысленное высказывание.
Так же, как и у Пикассо, здесь утверждается
искусственно созданное противоречие между данностью живописной
формы и сомнительностью идеального образа. Однако у Дали эта идея
подана как фокус иллюзиониста, как ловкий трюк.
При всех очевидных стилистических различиях, фигуративная
живопись модернизма основывается на общих (или, во всяком
случае, сходных) теоретических посылках. Стилевые
характеристики просто несущественны для модернизма. Определенность
стиля необходима и неизбежна там, где художник ставит перед
собой задачи отражения действительности и собственного
миропонимания. В модернизме цель художественного творчества под
влиянием субъективистских воззрений формулировалась иначе:
112 См. тексты Дали в кн.: Morse R. A. Dali: A Study of his Life and Work.
N. Y., 1958.
из Интервью Дали в кн.: Gomez de la Serna R. Dali, p. 203.
144
49. Макс Эрнст. Пампасы. Из серии «Естественная история». 1926
&&
■■■- ^Л :r\sPU':-'■= ^
50. Макс Эрнст. Охотник. 1927
145
* \&* t' i V-'аЬ'/Ф*'?' i*'^if Ч'^.'*^
* Ffcj гЧ ^#11- M ' ЛЬ fey" r
^f^ *
51. Макс Эрнст. Большой лес. 1926
J-:
£
<*^
S -■
,*'**^-^«ft*f
52. Макс Эрнст. Поцелуй. 1927
146
'«**"■- * л'/.■'.
J** «5^
'!.R ^ '
j4№
i :'iinAii *- ■<
■ -7 ,i, V..- . ^.vS?
\i *4-
,sv -■» ■
53. Макс Эрнст. Песня сумерек. 1938
"Ч
Ф:1
Ж-Ч
4f f': -'."Ч^"
"tflftfc
^Т1* *i
^
-%^L
Ч
Л-Г?
^'jHi^frJ^P?-^'
*■
Г"
•<
■ >ч . Т
V'<*"
54. Макс Эрнст. Глаз тишины. 1943
147
PS; -£A».« н»х -*у«>>
■*& ^
#%
*V. *5fc ^-
А ^ ^
Г" -яг
Ч#5*"-Ь- \
ГЛ"«- л&£
f f
V %
55. Рене Магрит. Любовники
*?
!ХЩ№8%Ш!!<Ф1!&<1&&ЯЖъ
\ ' - -
# ' ь Щ,
'■%*.
■я?
¥3&й нмЭТФдеу
56. Рене Магрит. Купальщица от света к тени. 1935
148
m№km0mm ц«(м«м|»«я1*—«маним» ■' "ицтчт*
'гл .'- - -^
'^tf'->'*■•>-^^ -.
4 "■ ■*?*■ V;""'
Х'е /.;^;*->з^
«W
м
4'Г
57. Рене Магрит. Человеческий удел I. 1933
149
.$ л
58. Рене Магрит. Воспоминания о путешествии III. 1951
150
/?
* -ar - l
***m*
■-*.
**.
I lit
iii#ig'|
•""^"и,|-^и»гччда1!вд,им| i «
^^
F«*
59. Рене Магрит. Царство света III. 1950
151
HUHIIWM» и1Цд»11*ч>1'ЧД Li
60. Рене Магрит. Прогулки Эвклида. 1955
152
;.7 ■*££ *
61. Сальвадор Дали. Мрачная игра. 1932
153
ir
*•»
11
%
A
t.t*
"<4
Jm
>■¥■:%,
^^
Шг^ '-"
#&4 £''
***V" ' - .. r"r ->' ъ.
.'■■' .■ fc, J'->
' ^ .^*, '.
' S.'
■* ,
« ■ i
:,
."Г
4 '
Г :
■ч>
- v;-
i
4
»' /, »
*4 '
к
62. Сальвадор Дали. Метаморфоза Нарцисса. 1936-1937
:ё«4>
>/■■■*■
V
**■ .* *" v.
д
ц -ft
%ПШ$*№ ■*
1&м
*Ч
.Л
'/. ■■ - *
i'-'jtf;'-'^
X.
SA
kS**
63. Сальвадор Дали. Возникновение лица и вазы на пляже
154
%-\- ,
01. Сальвадор Дали. Сцена на пляже с телефоном. 1938
it
^*р^
р.'..
*^4
\
» .|.'||»иадор Дали. Рынок рабов с невидимым бюстом Вольтера. 1940
155
показать условный характер реальности, порождаемой языком
Поэтому Пикассо неоднократно упрекали в эклектике, а шшр.ш
ление сюрреализма известно своей бесстильностью. Для рспкчши
тех задач, которые ставили перед собой художники, любые сргл
ства оказываются пригодными — от полуабстракционизма Масон i
и Миро до выхолощенного академизма Дали. Важно лишь в с i
мой живописи найти способы отрицания реальности, что в конем
ном счете равносильно самоотрицанию живописи. Поэтому фигура
тивная линия, начавшись с кубизма, устояла перед критикой бол
молодых течений. В 60-е годы она была подхвачена поп-артом, л
затем — гиперреализмом.
МИФОЛОГИЯ
ПЕРВОЭЛЕМЕНТОВ
ФОРМЫ
В начале 10-х годов несколько художников (Делоне,
Кандинский, Малевич, Купка, Мондриан) вступают на путь
абстракционизма, положив тем самым начало сильному движению,
которое после второй мировой войны почти полностью завладело
подмостками художественного мира капиталистических стран.
Ряд общих черт объединяют этих художников. Во-первых,
зачинатели абстракционизма обладали идеалистическим
мировоззрением, причем идеализм их, хотя и был производным от достаточно
тонких философских систем, приобретал огрубленную форму,
чаще всего смыкаясь с фидеизмом и теософией К
Во-вторых, все эти художники тяготели к «объективированным»
формам творчества: архитектуре, художественному
конструированию, прикладному искусству. Так, Кандинский преподавал в
Баухаузе. Малевич проявлял интерес к архитектуре и
художественному конструированию. Мондриан был крупной фигурой в группе
голландских конструктивистов «Де Стейл». Делоне занимался
прикладным искусством. Такое, казалось бы, неожиданное смыкание
устремленного «вверх», в запредельный мир идеализма с самыми
«низовыми», предметными формами художественной деятельности
должно найти себе объяснение, с одной стороны, в исходной
противоречивости абстракционизма, а с другой — в идеалистических
социальных программах, на которые опирался русский, немецкий и
голландский конструктивизм.
Наконец, третьей общей чертой первого поколения
абстракционистов было стремление к построению собственных теоретических
систем. Если группировки кубизма, футуризма, дада, сюрреализма
были объединениями художников и поэтов и задачи обоснования
новых методов в искусстве брали на себя в основном писатели, то
инициаторы абстрактной живописи сами берутся за перо.
Кажется, никогда ни до этого, ни после художники не писали так много
книг, статей, речей и лекционных курсов. Ведь они считали, что
создают еще невиданный в мире тип искусства, и создают его,
начиная с нуля.
В этом смысле их субъективные намерения были позитивными:
строить, а не разрушать, особенно упорно прокламировал эту идею
Робер Делоне, полагавший, что с кубизмом и футуризмом
кончилась эпоха разрушений, «живописи бедной, истерической,
конвульсивной»,— «эпоха интеллектуалов, занимавшихся живописью по-
дилетантски»2, и настала пора творить чистое, здоровое искусство:
1 Анализ мировоззрения Делоне, Мондриана, Кандинского и Малевича дан
з статье Л. Я. Рейнгардт «Абстракционизм». (В кн. Модернизм: Анализ и
критика основных направлений. М., 1980.)
2 Delaunay R. Du cubisme a Tart abstrait. Paris, 1957, p. 131.
159
«Это великий таинственный процесс современности: от разруше- • •
к созиданию»3.
Малевич возвещал о пришествии в свет нового искусств! i
свойственном ему пророческом тоне: «Но я преобразился в hv
форм и вышел за нуль к творчеству, то есть к Супрематизму, к
новому живописному реализму — беспредметному творчеству» _
«Исчезло все, осталась масса материала, из которого будет ст: .*-
иться новая форма»5. Отсюда у обоих художников разносная к пи-
тика предшественников, призывы «плевать на алтарь футуризуа
Малевича6, оценка кубизма как «надувательства» у Делоне.
Зачинателям абстракционизма представлялось, что стро* -з
новое искусство можно только начав с его основы, а в том, чт
такой основой является материал художника (плоскость, лин
цвет) в послекубистический период уже никто из активистов «-^
реднего края» не сомневался. Ниже будут рассмотрены две из
теоретических систем, опирающихся на исходные элементы фо
мы, — Кандинского и Клее. Правда, Клее не перешел полность
на позиции абстракционизма. Хотя он и писал абстрактные ка:-
тины, в целом его искусство оставалось фигуративным. Однак
его теория организуется вокруг того же ядра, что и теория чистыж
абстракционистов.
1. Кандинский
В 1910 году Кандинским была написана книга «О духовно
в искусстве», в которой он изложил свое понимание задач нового
художественного творчества.
Художник считал, что современный ему период истории
характеризуется крушением материалистического подхода к миру. По
его мнению, наступает «эпоха великой духовности», отказа от
господствовавших в XIX веке рационалистических и эмпирических
воззрений.
Кандинский был значительно старше других художников
первого поколения авангарда. Его мировоззрение сформировалось еще
в 90-е годы, когда и в России, и в Европе (с 1896 года Кандинский
жил в Мюнхене) в среде художественной интеллигенции был
распространен интерес к оккультизму, спиритическим сеансам,
средневековой мистике и религиозным верованиям Востока. Духовная
атмосфера конца века, отразившаяся в направлении символизма,
определяла, по мнению Кандинского, не только настоящее, но и
будущее человеческой культуры. В своей книге он называет
имена, знаменующие этот перелом: Метерлинк, Россетти, Бёклин, Се-
гантини, Блаватская. Сюда же он относит философию Ницше и
Бергсона, музыку Дебюсси и Шёнберга, живопись Матисса и
Пикассо и, наконец, открытия атомной физики.
3 Ibid., p. 55.
4 Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый
живописный реализм. М., 1916, с. 27.
5 Там же, с. 28.
6 Там же, с. 13.
160
«Идет работа, которая смело потрясает созданные человеком
устои. Здесь мы находим также профессиональных ученых,
которые вновь и вновь испытывают материю, не отступая ни перед
какими вопросами и, наконец, подвергая сомнению саму материю,
на которой еще вчера покоилось все, на которую опиралась
вселенная. Теория электрона, то есть подвижного электричества,
которое должно полностью заменить материю, обретает ныне смелых
конструкторов, то и дело преступающих границы осмотрительности
и идущих на завоевание новой крепости науки...»7
Кандинский не был поклонником научных методов. Его
отталкивали «мозговые» способы постижения реальности, ориентация
на объективное знание, ведущее к практичскому преобразованию
природы. Несколько позднее в автобиографии «Взгляд назад»
(«Riickblicke», 1913 г.) он писал, что расщепление атома было
воспринято им как расщепление мира, «массивные стены материи
рухнули», сама наука в его глазах была ниспровергнута, а ученый
предстал как человек, с трудом нащупывающий свой путь в
потемках и в слепоте принимающий один предмет за другой.
Апокалипсическое видение крушения града науки конечно не
имело ничего общего с реальным положением дел. Тот факт, что
элементарные частицы изучались экспериментальными методами
и описывались математически, свидетельствовал как раз об
обратном: о могуществе науки, торжестве эмпирического и
рационального подхода к природе. Интерпретация Кандинским открытий
Томсона и Резерфорда — всего лишь одна из фантастических
спекуляций, типичных для того времени, способ «борьбы» с наукой
путем мистического истолкования ее достижений.
Анализу мировоззренческих предпосылок теории Кандинского
посвящено исследование Сикстена Рингбома8. Основываясь на
документальном материале, шведский ученый показал, что
взгляды Кандинского как на науку, так и на искусство
сформировались под влиянием теософской доктрины. Особенно внимательно
изучал Кандинский работы немецкого теософа Рудольфа Штей-
яера.
Рассматривая явления современной культуры сквозь призму
новейшего мистицизма, Кандинский видит в них «зародыш
стремления к ненатуральному, абстрактному, к внутренней природе».
Он пишет: «Сознательно или бессознательно художники все
больше обращаются к своему материалу, испытывают его, взвешивают
на духовных весах внутреннюю ценность элементов, из которых
надлежит создавать искусство»9.
В чем же состоит эта ценность? Здесь мы сразу упираемся в
эсновное противоречие эстетики Кандинского, противоречие, ко-
7 Kandinsky Ober das Geistige in der Kunst insbesondere in der Malerei.
".unchen, 1912, S. 20.
s См.: Ringbom S. The Sounding Cosmos. A Study in the Spiritualism of
"•"indinsky and the Genesis of Abstract Painting. Abo, 1970. (Abo akademi.
""э1. 38, № 2.)
9 Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst, S. 32.
161
i
торое проходит через всю его теоретическую систему и, по
существу, раскалывает ее.
С одной стороны, как видно из вышеприведенной цитаты, речь
идет как будто о «самопознании» искусства, которое должно
осуществляться путем редукции к его первоэлементам и оперированию
ими. Предполагается, что эти элементы обладают
самостоятельными, «внутренними» значениями, на основе которых и следует
строить текст живописного произведения. В созданной позднее
книге «Точка и линия на плоскости» Кандинский писал: «Первый
вопрос, который невозможно обойти, это, естественно, вопрос об
элементах искусства, которые являются строительным материалов
произведений и которые в каждом виде искусства должны быть
другими» 10. И далее: «Достигнутый в систематической работе
прогресс вызывает к жизни словарь элементов, который в
дальнейшем развитии приведет к «грамматике». И, наконец, он приведет
к учению о композиции, которое преодолевает границы отдельных
искусств и относится к «искусству» в целом»11. В примечании к
этому абзацу Кандинский говорит об идентичности основных
элементов изобразительных (пластических) искусств и архитектуры.
Однако такой подход сталкивается у Кандинского со
стремлением наделить «первоэлемент» (Urelement) спиритуалистически*'
содержанием. Он постоянно говорит о мистическом содержании
искусства и усматривает его именно в материальных и
формальных основаниях живописи. В них «духовная ценность стремится к
материализации. Материя — своего рода кладовая, из которой
духовное выбирает то, что ему необходимо, так же как это делает
повар»12. Поэтому «количественная редукция к абстрактному
равняется качественной интенсификации абстрактного»13.
У Кандинского редукция к «живописным сущностям»
отождествляется с духовностью, движение к материальным предпосылкам
искусства приравнивается к выражению универсального, вечного,
непреходящего. Конечно, слияние двух крайних пределов в
иерархии искусства совершается главным образом посредством слов.
Логические провалы своей концепции художник заполняет с
помощью многозначности таких общих понятий, как «вечное»,
«единое», «всеобщее», «сущностное», «объективное» и т. п. В текстах
его сочинений такие термины имеют двойной смысл, и их
двойственность иллюзорно покрывает различие между материальным и
духовным основаниями искусства. Это различие оказывается
совершенно стертым, например, когда художник говорит об
«элементах чисто- и вечно-художественного, которые объединяют всех
людей, проходят через все народы и времена, которые видны в
произведениях каждого художника, каждой нации и каждой
эпохи...»14.
10 Kandinsky. Punkt und Linie zu Flache. Beitrag zur Analyse der malerischen
Elemente. Munchen, 1926, S. 14.
11 Ibid., S. 77.
12 The Blaue Reiter Almanac. New Documentary Edition. London, 1974, p. 147.
13 Ibid., p. 162—163.
14 Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst, S. 56.
162
Подобное же раздвоение смысла лежит в основе всех
рассуждений Кандинского об объективности абстрактного искусства.
«Сегодня объективное в искусстве стремится обнаружить себя
особенно ярко и напряженно. Преходящие формы размываются с
тем, чтобы объективное смогло проступить с большей ясностью.
Естественные формы ставят границы, которые во многих случаях
препятствуют этому выражению. Поэтому они были отодвинуты
в сторону, и освободившееся место заняла объективность
формы— конструкция, служащая композиционным целям. Таким
образом, уже сегодня проявляется ясное стремление обнаружить
конструктивные формы эпохи» 15.
Как будто ясно, что речь идет об объективной данности
материально-формального построения произведения, и в другой книге
Кандинский недвусмысленно писал, что «произведение искусства
отражается на поверхности сознания» 16.
Но вот другая цитата: «Непреодолимая воля к самовыражению
объективного есть сила, которая здесь обозначается как
внутренняя необходимость и которая посредством субъективного сегодня
нуждается в одной общей форме, а завтра — в другой. Это —
вечный неутомимый рычаг, пружина, которая непрерывно толкает
«вперед». Дух шагает дальше, и потому сегодняшние внутренние
законы гармонии завтра станут внешними и в дальнейшем
применении оживут только через эту ставшую внешней необходимость.
Ясно, что внутренний дух, сила искусства, использует
сегодняшнюю форму только как ступеньку, чтобы подняться выше» 17.
Как видим, здесь уже под объективным подразумевается нечто
иное — некое вневременное и внечеловеческое духовное
содержание, которое реализует себя в поступательном развитии
искусства 18.
Кандинский видит конечную цель в том, чтобы «создать
живопись, которая становится реальной, живой, которая существует
посредством своих собственных схематически сконструированных
частей»19. Сущность нового искусства (в противоположность
материалистическому искусству XIX века)—в конструировании
духовной и интеллектуальной жизни. Эта двусмысленность проходит
через все рассуждения о закономерности, внутренней
необходимости, абстрактном и реальном, вечном и врменном и т. п. Она же
заключена в понятии «звучание» (Klang), которым Кандинский
пользуется для обозначения исходного смысла первоэлемента.
Задача теории Кандинского — выявить эту имманентную,
объективно данную «духовную» сущность первоэлемента. В первой
15 Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst. 5. Auflage. Bern-Bumpliz,
1956, S. 128—129.
16 Kandinsky. Punkt und Linie zu Flache, S. 11.
17 Kandinsky. Ober das Geistige in der Kunst. 5. Auflage, S. 82.
18 Очевидно, это противоречие осознавал сам художник. Во всяком случае,
он всерьез задавался вопросом о возможности прямого излучения
художественной формы, телепатической передачи ее от сознания творца к сознанию
воспринимающего. (См.: Ringbom S. Op. cit., p. 49—50.)
19 The Blaue Reiter Almanac, p. 80.
163
книге («О духовном в искусстве») он рассматривает цвет, во
второй («Точка и линия на плоскости»)—линию и форму.
Здесь необходимо остановиться на одном немаловажном ме*
дологическом вопросе. Насколько допустима оценка теории
Кандинского с точки зрения ее объективных теоретических достоинств-
Представления Кандинского о «духовной» форме вытекают
теософских прозрений. Согласно вероучению «универсальной pt-
лигии», мысли и чувства генерируют визуальные формы, которые
проникают в окружающую человека ауру. Каждому
эмоциональному состоянию (равно как и звучанию музыкальной мелодии)
соответствует свободно парящая цветоконфигурация. Таким
образом, мысли и чувства обладают прямой формосозидающей силой
Но вибрация человеческой души, порождающая подобные
феномены, есть лишь отзвук космического духа, являющего себя в
формах материального мира. Поэтому бесплотная цветоформа в
конечном итоге представляет не индивидуальные психические
состояния, а мистическое сияние мировой истины.
Факт происхождения теории первоэлементов Кандинского i -
теософских верований доказан Рингбомом. Терминологические и
даже текстуальные совпадения в заметках и статьях художника с
работами Штейнера, Лидбитера и Безант очевидны. Однако са\
Кандинский не высказывал прямо своей приверженности данному
кругу воззрений, не ссылался на вдохновлявших его авторов и,
видимо, не мыслил себя мифотворцем определенной секты. Он
хотел создать объективно верную теорию, науку об искусстве
(Kunstwissenschaft), выявить несомненные закономерности
построения общезначимого содержания из первичного словаря
художника.
Кандинский преподавал в Баухаузе с 1922 года вплоть до его
закрытия в 1932 году. Здесь была написана его вторая книга,
вышедшая в серии учебных пособий Баухауза. Задачи теоретической
деятельности созданного Вальтером Гропиусом института,
разумеется, не имели никакого отношения к видениям теософской
школы. Перед его сотрудниками ставилась цель создания «точной
теории элементов формы и законов, управляющих их
конструированием»20.
Поэтому, при всей несомненной ценности исследования Ринг-
бома, вряд ли было бы верным снять вопрос об объективном
значении теоретической системы Кандинского на том основании, что
она имеет смысл лишь в рамках определенных воззрений, ныне
почти забытых.
В характеристике цветов Кандинский исходит из деления на
хроматические и ахроматические цвета и расположения первых в
цветовом спектре; отмечает факт существования теплых и
холодных тонов; располагая их по кругу, показывает контрастные пары;
говорит об иллюзорном движении желтого к зрителю и синего —
от зрителя. Все эти сведения хорошо известны из физики и пси-
20 Цит. по: Geelhaar Ch. Paul Klee and the Bauhaus. Bath, 1973, p. 11.
164
хофизиологии. Но теория Кандинского на таких простейших
свойствах не останавливается: ведь духовного искусства из такого
словаря не построишь. И, отталкиваясь от элементарных схем,
художник сразу переходит к символике цветов, возвышая каждый из них
до уровня философского понятия.
Так, белый для него — «символ мироздания, в котором
исчезают все цвета как материальные качества и субстанции. Этот мир
находится столь высоко над нами, что уже никакой звук не
достигает нас. Исходит лишь великое молчание, которое материально
можно представить в виде непреодолимой и нерушимой холодной
стены, уходящей в бесконечность. Поэтому белый воздействует на
нашу душу как великое молчание, для нас абсолютное»21.
Соответственно черный «внутренне звучит как Ничто, лишенное
возможностей, как мертвое ничто после угасания солнца, как вечное
молчание без будущего и'надежды»22.
Более земными характеристиками наделены хроматические
цвета: «Характернейшее свойство абсолютно зеленого —
пассивность, вследствие чего от него исходит дух тучности и
самодовольства. Поэтому в царстве цветов чисто зеленый — то же самое, что
в царстве людей так называемая буржуазия: это неподвижный,
довольный собой, со всех сторон ограниченный элемент. Зеленый
подобен толстой, очень здоровой, неподвижно лежащей корове,
которая только со жвачкой способна смотреть на мир близоруким,
тупым взглядом»23.
Такой текст вознаграждает чувство юмора читателя. Но
попробуем отвлечься от его неловких метафор и подойти к содержанию
книги всерьез.
Сквозь псевдофилософскую беллетристику Кандинского
просвечивают хорошо известные данные психологии восприятия
цветов. Действительно, зеленый воспринимается преимущественно как
цвет спокойный, белый несет в себе потенцию пространственное™,
черный вызывает ощущение глухоты, отсутствия цвета. Но все это
верно только в том случае, если рассматривать каждый цвет
отдельно и отвлеченно, в отрыве от реального цветового окружения
в картине или предметной среде. При этом для хроматических
цветов должно быть введено еще одно ограничение: в
непрерывном спектре необходимо выделить узкий диапазон, по отношению
к которому могут быть действительны утверждения о
«возбуждающем», «успокаивающем», «согревающем» характере цветового
оттенка. Известно, например, что «спокойный» зеленый может стать
резким, кричащим, если взят тон большой яркости или если он
соседствует с контрастным к нему красным. Поэтому
«собственное звучание» цвета на практике проявляется лишь в тех немногих
случаях, когда цвет берется изолированно, что возможно,
например, в знаковой промграфике или при окраске ограниченных пло-
21 Kandinsky. Ober das Geistige in der Kunst. Munchen, 1912, S. 67—68.
22 Ibid., S. 68.
23 Ibid., S. 66.
165
скостей. В картине, тем более такой многоцветной, как у
Кандинского, «внутренние» свойства цветов сейчас же растворяются во
взаимодействиях и неопределенности тональных градаций.
Далее, для того, чтобы сохранить собственное «звучание» цвета,
нужно было бы полностью ликвидировать форму, которая, по
мнению художника, также обладает имманентным смыслом.
Достаточно представить себе, например, тот же зеленый наложенным на
форму резких зигзагообразных очертаний, чтобы понять, что от
его «самодовольной буржуазности» ничего не останется. Но в
картине, каким бы расплывчатым ни было пятно, оно непременно
имеет какие-то очертания и, стало быть, подчинено им.
Кандинский считал, что подлинно духовное искусство можно
создать, только освободив живопись от изображения, ибо
«внутреннее звучание» предмета противодействует «звучанию»
первоэлемента. Эту мысль, которая и является обоснованием
абстракционизма, он многократно повторял в своих работах.
Но откуда берется сама эмоциональная реакция на тот или
иной цвет? Кандинский полагал, что она изначально заложена в
нем: отвлеченное значение цвета предпослано его воплощению в
предметах и независимо от них. Однако даже из его рассуждений
о символике цвета видно, что дело обстоит прямо
противоположным образом. Любая из его характеристик начинается, например,
с таких утверждений: «Желтый — типично земной цвет», «синий —
типично небесный цвет». И в самом деле, сколь-нибудь
определенная эмоциональная оценка цвета возможна только потому, что в
ней выражается обобщение явлений природы и окружающего
предметного мира.
Так, градации красного конца спектра оцениваются как
«теплые», «горячие» или «возбуждающие» вследствие того, что
сознание закрепило за ними образы огня, солнца, крови и в
дальнейшем, в социальной практике, эти зрительные абстракции были
поддержаны символическим использованием цвета. Точно так же
холодные цвета воспринимаются как таковые потому, что это —
цвета неба, морской воды, льда, снега. Зеленый потому приносит
глазу успокоение, что он господствует в природном ландшафте, а
черный мрачен, поскольку он неразрывно связан с ночью,
темнотой. «Внутреннее звучание» цвета не есть имманентно присущее
ему качество, противостоящее миру конкретных явлений,
напротив— оно выводится из этого мира. Поэтому говорить о том, что
изображение противоречит собственному значению цвета,
бессмысленно. Это хорошо понимал и такой художник, как Брак, когда в
свои первоначально отвлеченные композиционно-цветовые схемы
вводил те или иные предметы как раз с целью усилить реакцию
на цветовое пятно, сделать ее более определенной.24
24 Вальдемар Жорж о Браке: «Он превращает белое пятно в лист нотной
бумаги, поскольку полагает, основательно или нет, что здесь вмешивается
зрительная память и впечатление белизны от просто пятна не столь сильно, как от
вида книжного или газетного листа, о которых мы из опыта знаем, что они
белые». (Цит. по: Golding J. Cubism, p. 119.)
166
i
Но человеческое сознание, обладая способностью к обобщению
явлений, сохраняет и способность гибко, подвижно реагировать на
них, постоянно проверяя и корректируя ранее сделанные выводы.
По отношению к цвету это сказывается в том, что его
эмоциональная оценка изменяется в зависимости от конкретной ситуации. Так,
черный, усиливая сияние ярких, радостных тонов, может
ассимилироваться ими, и его собственный эмоциональный тон будет
поглощен общей оценкой данной цветовой организации. Точно так же
и «уравновешенный» зеленый может вызвать прямо
противоположную реакцию, например, в том случае, если плотным
чисто-зеленым цветом покрыты стены помещения. Объект, конкретный
носитель цвета, в целом определяет наше отношение к этой его
частной характеристике; разумный человеческий глаз настроен на
целостное восприятие мира, ибо только таким образом возможно его
познание, верная ориентация в нем.
Из сказанного можно сделать вывод, что нет никакого
«внутреннего звучания»; никакого стабильного, независимого от
человеческого опыта содержания цвет в себе не несет. Существует
только реальное бытие цвета в реальной среде и динамика
человеческого сознания, способного познавать его закономерности.
Любые же попытки закрепить за цветом раз и навсегда данное
значение ведут лишь к фетишизации этого феномена и произвольным
домыслам.
После Кандинского таких попыток делалось немало. Работали
целые психологические лаборатории, выпускались рекомендации,
адресованные рекламным агентствам и службам дизайна. Конечно,
от наивной символики Кандинского пришлось отказаться. Но и
более трезвые и осторожные выводы не содержали в себе ничего,
что не было бы уже интуитивно известно художнику. Попытки же
выразить это в виде закона терпели неудачу, ибо всегда
обнаруживалась обширная область, для которой такие правила
недействительны. Подобные заключения специалистов по цвету — либо
не закон (если они относятся к частным случаям), либо «закон»
неверен, ибо, будучи сформулированным в общем виде, он никак
не может охватить всех многообразных случаев применения цвета.
Притязания на научность и объективную истинность здесь
несостоятельны. Для художника-проектировщика есть только одна
объективность — объективные условия, сформулированные в
данной проектной задаче. Из них он и исходит, полагаясь в
остальном на собственный вкус, культуру и колористическое чутье. Так
создавались лучшие, наиболее творческие решения в архитектуре
и художественном конструировании. Идеалистическое
представление об имманентных свойствах цветов неизбежно ведет к догме,
регламентации творчества ремесленными правилами о якобы
априорных значениях и предпосланных художественной деятельности
«объективных» закономерностях.
Здесь можно вспомнить глубокое замечание Ленина,
касающееся более общих проблем познания, но, несомненно, справедливое
и по отношению к данному частному вопросу: «...критерий практи-
167
ки никогда не может по самой сути дела подтвердить или
опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого
представления. Этот критерий тоже настолько «неопределен», чтобы не
позволять знаниям человека превратиться в «абсолют», и в то же
время настолько определенен, чтобы вести беспощадную борьбу
со всеми разновидностями идеализма и агностицизма»25.
Теория «духовного искусства» Кандинского не считается с этог
относительностью человеческого знания, в которой как раз
заложена возможность его развития и обогащения; превращая в
абсолют некоторые обобщения опыта, она ведет к доктринерству.
Идейно-теоретические установки Баухауза мало повлияли иг
общие воззрения Кандинского, но укрепили его стремление к
«объективному» описанию художественной формы. В своей
второй теоретической работе он настаивает на необходимости строго
научного изучения свойств линии, цвета, композиции и считает
нужным привлекать для этого математику и данные
психофизиологии. «Расчленить сложное и рассматривать только элементарное
не просто. Но такие эксперименты и наблюдения заключают в
себе единственную возможность подойти к основанию живописных
сущностей, стоящих на службе композиционных задач. Этот метод
использует «позитивную науку»26.
Однако основа его теоретических представлений осталась
прежней. Методы «позитивной науки» подчинены той же цели —
выявить спиритуалистически понимаемое «внутреннее звучание»
первоэлемента.
Точку Кандинский понимает как потенцию формы, и по этому
поводу им также создано немало аллегорических фантазий с
привлечением материалов биологии, микрофотосъемок, нотной
графики, архитектуры и хореографии. Приведем только одно
рассуждение, в котором Кандинский вновь отстаивает идею самоценности
первоэлемента.
В изобразительном искусстве (Кандинский называет его
«предметным») «звучание элемента «в себе» замаскировано,
оттеснено. В абстрактном искусстве оно достигает полной силы
открытого звука. Как раз маленькая точка может стать здесь
неоспоримым свидетельством.
В области «предметной» графики существуют гравюры,
состоящие из одних точек <...> вследствие чего точка должна
симулировать линию. Ясно, что в основе этого лежит неправомочное
использование точки, так как точка, подавленная предметностью и
ослабленная в своем звучании, осуждена на жалкое
полусуществование.
В абстрактном искусстве, само собой разумеется, средство
может стать целесообразным и композиционно необходимым. Здесь
доказательства излишни»27.
25 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 145—146.
26 Kandinsky. Punkt und Linie zu Flache, S. 61.
27 Ibid., S. 47.
168
Доказательства излишни, видимо, только потому, что без
всяких доказательств принимается в качестве высшей цели искусства
обнаружение звучания точки, а не выявление иных созвучий. Но
допустим, что Кандинский прав, и первоэлемент обладает каким-
то первосмыслом. Можно ли организовать их последовательность
в осмысленный текст?
В теории формы художник идет тем же путем, что и в теории
цвета. Вначале дается чертеж — элементарная организация из
вертикальных, горизонтальных, наклонных или кривых линий,
созданных движением точки на плоскости. Его сопровождают
определения, известные из учебников геометрии, и затем без всяких
промежуточных стадий теоретическая мысль возносится в высшие сферы:
идет нанизывание символики и ассоциаций. Горизонталь —
плоскостность, холодность; вертикаль — теплота; диагональ — сочетание
того и другого, их пересечение дает звезду с различным
распределением «температур». Им ставится в соответствие температурная
шкала цветов. Покончив с линией, Кандинский переходит к
анализу углов, в результате которого выясняется, что «звучание»
прямого угла — холодность и повелительность, острого — высокая
активность, тупого — вялость, слабость и пассивность. Этим
«звучаниям» Кандинский далее придает смысл «красивого графического
перевода художественного творчества»: острый угол соответствует
внутреннему предварительному размышлению (видению),
прямой — мастерскому исполнению (воплощению), тупой — чувству
неудовлетворенности после завершения работы. Хотя фантазия
художника на этом исчерпывается, читателю ясно, что такого рода
новелл об угле можно было выдумать очень много. Далее идут
сочинения того же типа о квадрате, треугольнике, круге, кривых
линиях и ограниченных ими плоскостях. Хуже всего то, что,
стремясь довести догму до полной законченности, автор закрепляет за
каждым первоэлементом свой цвет и даже пытается
математически вычислить «вес» и «силу» фигур и составляющих их частей.
Здесь уже произвол становится просто вопиющим, и нацеленная на
научность и выявление «объективных закономерностей» доктрина
оборачивается диктатом беззакония, гораздо худшим, чем диктат
нормативной академической эстетики.
Причина этого, так же как и в случае с цветом, в самой
постановке задачи — нормировать форму, закрепить за ней исходный,
доопытный смысл. В ассоциативной цепочке рассуждений
Кандинского, безусловно, всегда есть пункт, в котором он еще не
отрывается от реальности. Например, говоря о плоскости, он замечает,
что движение по ней вправо будет восприниматься как движение
«к себе», «домой», а влево — как движение «от себя», «вдаль». Но,
зо-первых, такое значение явно не принадлежит ни плоскости, ни
линии как таковым, оно привносится из естественной
направленности жеста и привычки европейца читать текст слева направо. Во-
зторых, для того, чтобы выявить даже это простейшее значение,
недостаточно просто провести линию: необходимо каким-то обра-
i dm указать ее направление, например ограничить с одной сторо-
169
ны. Если на ту же линию положить какую-либо форму, зрительная
реакция изменится — она будет восприниматься уже не как
движущаяся точка, а как опора, принимающая на себя давление другого
элемента. Известно, что расположенная в верхнем углу плоскости
изолированная фигура воспринимается как взлетающая или
висящая в пустоте, как фигура невесомая. Но достаточно связать ее
каким-то образом с ниже расположенной конфигурацией или
«прикрепить» линией к одному из краев плоскости, как первоначальное
ощущение станет иным.
Понятно, почему это происходит: расположение геометрических
форм на плоскости воспринимается как обобщенная модель
взаимодействия реальных объектов. Плоскость, став живописной или
графической поверхностью, трактуется зрением как проекция
пространства, и все помещенные на ней абстрактные конфигурации
оцениваются как планы реальных фигур. Если тот или иной
элемент несет в себе какой-то намек на смысл (например,
треугольник, обращенный основанием вниз, видится как устойчивая фигура,
а пятно, очерченное сложной кривой линией, как фигура мягкая
или жидкая), то, во-первых, этот смысл исходит из опыта
зрительного постижения действительности, а во-вторых, он неустойчив и
легко меняется в зависимости от положения элемента и его
отношения к другим формам. Поэтому, чем дальше разрастается
система, построенная из абстрактных фигур, тем более
неопределенным становится «внутреннее звучание» ее составляющих. Из таких
слов нельзя создать осмысленного текста, ибо как раз текст
отрицает первичное значение слова.
Поэтому абстрактная картина Кандинского неизбежно
скатывается к тому состоянию, когда она «отражается только на
поверхности сознания». Неискушенный зритель, относящийся к живописи
этого художника просто как к декоративным композициям, прав:
его нельзя упрекать в профанации высокого искусства, ибо
знакомство с теорией Кандинского ни на шаг не приближает к
постижению якобы заключенной в его живописи духовности.
И это неизбежная судьба абстракционизма любого оттенка —
«геометрического», «лирического» или «иероглифического». Самое
большее, что можно ожидать от таких картин, это хорошей
ритмической построенности и красивого колорита. Но в многолетней
истории абстракционизма и эти ожидания оправдывались нечасто.
Одна из причин в том, что художники вовсе не хотели писать
приятные для глаза картины, а претендовали на выражение жизни
«духа» — внутренних психических состояний или трансцендентных
сущностей, духа современного общества или научной революции.
По существу, в теории Кандинского речь идет не о воплощении
духовного абсолюта в изменчивых формах живописи, а об абсолюте
живописной формы, на которую лишь набрасывается мистический
покров духовности. Его понимание идеального содержания крайне
ограниченно; в теории ему фактически отводится служебная роль:
задержать первоэлемент на исходной стадии, закрыть путь к
становлению подлинно глубоких идеализации. Искусственно встроен-
170
66. Василий Кандинский. Импровизация XXXV. 1914
67. Василий Кандинский. Черное пятно. 1921
171
;«
I
■у *
N&
eE^S ..;■ •*%
68. Василий Кандинский.
Черный треугольник. 1925
69. Василий Кандинский
Легкое в тяжелом. 1929
70. Василий Кандинский. Квадрат. 1927
172
% .• • #
/ о
%
г
*:
*%"<
« -%
'•?:■■■
О.
о
ч
71. Василий Кандинский. Движение I. 1935
173
ная в материальное основание живописи «духовность» неизбежно
оказывается зажатой узкими рамками, допускающими лишь
вульгарное ее истолкование.
Конечно, сейчас к теории Кандинского мало кто относится
всерьез, как к научной теории. Скорее, в ней видят своего рода
историческую реликвию или ценное начинание, предпринятое
слишком рано, без достаточной научной базы и потому
неосуществившееся. Но представление о том, что в идеях Кандинского было
рациональное зерно, которое он по каким-то внешним причинам не
смог развить, едва ли правомерно. Как раз это зерно не
рационально. Идея редукции к живописным сущностям не могла привести
ни к чему иному, как к уничтожению духовного начала живописи,
к ее плоской материализации, превращению картины в объект.
И дело не только в мистицизме художника, который влечет его к
наивному символизму и превращает научную теорию в
мистификацию. Здесь несостоятельна сама посылка — допущение, что
исходный материал живописи может нести в себе какой-то внутренний,
объективно присущий ему смысл. Отталкиваясь от этой идеи
можно идти только в двух направлениях: или предаться фантазиям
о знаковом содержании элементов формы, а стало быть и
догматическому волюнтаризму, или просто изъять первоэлемент из
контекста, неизбежно разрушающего его первосмысл, и предоставить
ему возможность до конца реализовать себя. На этом втором пути
и возникает «Черный квадрат» Малевича как наиболее
законченное воплощение самостоятельного значения живописной формы.
Очевидно сходство воззрений Малевича с воззрениями
Кандинского. Правда, у Малевича иррационализм уже столь полно
завладевает самим способом мышления, что говорить о сколько-нибудь
связной теоретической концепции невозможно. Законам логики
такое мышление не подвластно, противоречия и невнятность
суждений для него норма. Сквозь сумрак полуосмысленных фраз,
метафор и пророчеств проступает определенное состояние сознания,
жаждущего скорейшей расправы с мимезисом, человеческим
содержанием и установления единовластия краски в царстве живописи.
«Художник может быть творцом тогда, когда формы его картин
не имеют ничего общего с натурой»28.
«Духовную силу содержания отвергнуть как принадлежность
зеленого мира мяса и кости»29.
«Как только выстроится таковая конструкция, она будет
выражать собою новый физический вывод и станет предметностью
наряду со всеми мировыми живописными растениями»30.
«Я хочу быть делателем новых знаков моего внутреннего
движения»31.
28 Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму, с. 9.
29 Малевич /С- О новых системах в искусстве, с. 31.
30 Малевич К От Сезанна до супрематизма: Критический очерк, с. 8.
31 Малевич К. О новых системах в искусстве, с. 7.
174
Говоря о «поверхности», на которой природа творит свои
формы, Малевич пишет: «Такая же возникла перед
творцом-художником творческая поверхность — холст его, место, где строит мир его
интуиция, и также текущие силы живописно-цветовых энергий
регулируются им в разнообразных формах, линиях, плоскостях;
также он творит формы, отдельные элементы знаков и достигает един-
ства противоречии на своей живописной поверхности»бг.
Исходя из «экономического измерения» (понятие это у
Малевича является вольной переработкой принципа экономии
мышления эмпириокритицизма), художник призывает к максимальной
экономичности живописных средств, доходя до требования
ликвидации цвета и какого-либо формального разнообразия. Так
возникли простейшие знаки супрематизма — квадрат, крест,
прямоугольник,— являющиеся символами то ли «внутреннего движения», то
ли «вечного ничто». Во всяком случае, они символизируют полную
отрешенность от здешнего мира, который художник в брошюре
«Бог не скинут» решительно объявил несуществующим, а всякие
попытки познать его безумными 33.
Трудно сказать, какой смысл придавал Малевич
«первоначалам» живописной формы. В некоторых его статьях и брошюрах
цветовая масса рассматривается как первоисточник всего
видимого, а объекты реального мира оказываются производными от нее,
своего рода воплощениями цвета. Художник мыслится как демиург,
творящий объекты, равноценные объектам природы и техники34.
В других случаях Малевич считает супрематические формы
«знаками сил утилитарного совершенства», а белый и черный цвета —
«формами действия». В некоторых его рассуждениях и сама
цветовая масса предстает как вторичная по отношению к тому Ничто,
из которого бог создал вселенную. Поэтому в соответствии с
принципом экономии следует отвергнуть и ее и прийти к белому,
который является репрезентацией бесконечного, или уничтожить
цвет вообще. Малевич решительно отвергал правомочность
эстетического подхода к цвету и считал свою цветовую систему
философской:
«Раскрытие цвета или тона в произведениях зависит не от
эстетического феномена, а от общего источника самого материального
и от композиции элементов, которые создают порцию или форму
энергии»35.
Вся эта путаница, доходящая до бессмыслицы, происходит
именно от стремления наделить живописную праформу
первозданным смыслом. Поэтому в некотором отношении более
привлекательна позиция Делоне, который с самого начала отказался от
таких попыток.
32 Там же, с. 3.
33 См.: Малевич К. Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика. Витебск,
34 См.: Malevich К. S. Essays on Art 1915—1918. Copenhagen, 1968, vol. I,
-\ 120—122.
35 Ibid., p. 125.
175
Сочинения Делоне по вопросам искусства были изданы в
1957 году искусствоведом Пьером Франкастелем и возведены им
в ранг теории. Здесь явное недоразумение. Никакой теории
Делоне не создал и не собирался создавать, о чем он говорил сам. Все
написанное им имеет одну цель: пропаганду собственной
живописи и идеи, что живопись должна быть сведена к ее материально]!
основе. Употребляемые им определения абстрактной живописи как
«объективной», «реалистической», «живой», «присутствующей»
имеют однозначный смысл: картина тождественна своей материальной
форме. Идеал Делоне — «форма, которая не является больше ни
анализом, ни описанием, ни психологией, — форма чисто
пластическая, в которой цвета соотносятся друг с другом как части
конструкции» 36.
Правда, пропагандистская направленность сочинений Делоне
определяет приподнятость и риторичность стиля, вследствие чего
они насыщены такими понятиями, как «лиризм», «драматизм»,
«универсальность», «субстанция», «вечное», «тайна» и т. п. Но
возвышенная лексика, по существу, имеет здесь очень заземленный
смысл.
Так называемая теория цвета Делоне ограничивается тем, что
сводит роль цвета в живописи к психофизиологическим эффектам.
Когда Делоне говорит о «симультанности цветов», он имеет в виду
лишь одновременное воздействие на глаз волн разной длины и
возникающие при этом контрасты. Динамизм картины
понимается просто как оптическое смещение тонов, например
выдвижение оранжевого вперед, на зрителя, и углубление синего в
плоскость.
«Такая живопись приобретает народный характер в том
смысле, что она прямо воздействует на восприимчивость зрителя. Она
не останавливается в своем вечном движении, непрерывном
стремлении к совершенству. Мы приходим к чисто драматическому про-
изведнию, так как все составляющие его элементы есть элементы
визуальные: цвета, свет. Отношения цветовых контрастов между
ними, симультанный контраст создают глубину, движение, которые
действуют сильнее, чем все перспективы европейские, индусские,
китайские и пр., посколку они зависят исключительно от зрения
творца»37.
Отсюда понятно, что в теории здесь нет необходимости, более
того, для такой системы взглядов теоретичность просто
неприемлема. Поэтому Делоне с язвительностью относился ко всякому
философствованию по поводу абстрактной живописи и в письме к
соратнику Кандинского Францу Марку писал: «У меня нет
философии... Я никогда не говорю о математике, и меня совершенно не
занимает Дух»38. Далее Делоне с раздражением говорит о
геометрии как «профессорском изобретении», высказывает свое отвраще-
36 Delaunay R. Du cubisme a Tart abstrait, p. 98.
37 Ibid., p. 168.
38 Ibid., p. 182—183.
176
ние к «кабалистическим символам», разговорам о музыке, звуке
и пр. Вернее всего, здесь имеется в виду книга Кандинского «О
духовном в искусстве», которая незадолго до того была прислана
Делоне автором и первоначально очень заинтересовала его,
поскольку он надеялся найти в Кандинском единомышленника.
Понятно его разочарование: «Все, что вы говорите, — схоластика... Вы
лишь запутываетесь в словах и абстракциях. У вас нет никакой
ясности»39. Конечно, позиция самого Делоне абсолютно ясна, но и
достигнута эта ясность ценой отказа от задачи выражения
какого-либо содержания в живописи.
Теперь должна стать более понятной причина тяготения ранних
абстракционистов к архитектуре, прикладному искусству,
художественному конструированию. Избранное ими направление
творчества неизбежно вело к немоте, само существо абстрактной
живописи отталкивало их притязания на выражение духовности.
Поэтому они и стремились найти для себя опору в материальных
сферах художественной культуры. В предметном конструировании
абстракционизм окончательно овеществлялся; то, что было
заложено в картине как потенция, получало реализацию в объемно-
материальных формах. Фактическая бессодержательность
восполнялась функционально-утилитарным назначением вещи.
Здесь нет возможности подробно анализировать формы и
результаты альянса абстракционизма с движением «производственного
искусства», деятельностью Баухауза, конструктивизмом. Однако
отметим одну черту, которая, видимо, стала второй предпосылкой
такого союза. Это — идеалистичность социальных программ,
вызревавших внутри ряда направлений материально-художественной
культуры первой четверти XX века. Деятели Баухауза видели в
архитектуре и художественном конструировании способ
преодоления классовых противоречий, создания гармоничного
мироустройства. В выдвинутой Вальтером Гропиусом идее «большого здания»,
в унаследованной от романтизма концепции «единого произведения
искусства» (Einheitskunstwerk или Gesamtkunstwerk) отчетливо
прослеживалось не только стремление к синтезу искусств, но и
воля к созданию новой соборности, духовного единства общества.
Считая, что «не политическая, а только полная духовная
революция может сделать нас свободными», основатель Баухауза
призывал к «большому художественному творчеству», на основе
которого народ «вновь восстановит себя». «Он [художник. — В. К.]
должен духовно соединить равных, близких по убеждениям
трудовых людей тесными личными связями, так же как это делали
мастера готических соборов... и таким образом в новом жизненном и
трудовом сообществе всех художников заложить основы
грядущего собора свободы, который будет не препятствовать, а
способствовать единству народа»40.
39 Ibid., p. 182.
40 Dokumente [des Bauhauses]. — In: Huier K.-H. Das Bauhaus in Weimar.
Berlin, 1976, S. 209.
177
Подобные же представления о материально-художественной
культуре как способе преодоления социальных противоречий,
гармонизации общества, развивались Ле Корбюзье. Особенно ярко
они проявились в концепциях голландской группы «Де Стейл».
Наиболее видные ее деятели Мондриан и Ван Дусбург прямо
говорили о близком конце искусства, поскольку в будущем оно
должно претвориться в жизнь, в реальность. Абстрактная живопись
(которая здесь называлась конкретной) рассматривалась как своего
рода модель грядущего мироустройства. Ван Дусбург писал:
«Искусство, так же как и наука и техника, есть метод организации
жизни в целом. Мы пришли к заключению, что современное
искусство перестает быть мечтой, перестает отворачиваться от реального
мира, перестает также быть средством обнаружения космических
тайн. Искусство — вездесущее и ральное выражение творческой
энергии, которая организует прогресс человеческой жизни, то есть
оно является инструментом всеобщего действующего процесса»41.
В системе воззрений такого рода формально-художественная
конструкция (будь то архитектурное сооружение или абстрактная
картина) со свойственной ей согласованностью частей
рассматривается как идеальная модель и план социальной реконструкции,
организации человеческого мира по законам формообразования.
Поэтому идеализм ранних абстракционистов находил себе
продолжение и своеобразный выход в идеях жизнестроения,
преобразования художественной деятельности в «социальное творчество».
2. Клее
Теория швейцарского художника Пауля Клее складывалась во
взаимодействии с теорией Кандинского.
Клее познакомился с Кандинским еще в 1900 году, когда они
вместе учились у Штука. В 1912 году Клее примкнул к созданной
Кандинским группировке «Синий всадник». Идеи Кандинского
произвели на швейцарского художника большое впечатление.
Будучи значительно моложе, Клее считал себя учеником русского
зачинателя абстракционизма. В период 1921 — 1931 годов Клее
преподавал в Баухаузе, где он, как и Кандинский, был «мастером
формы». Их давнее знакомство перерастает в тесную дружбу, и
в 1924 году создается новая группировка — «Синяя четверка», в
которую входят также Фейнингер и Явленский.
Теория Клее складывалась в основном в период деятельности
в Баухаузе и легла в основу его метода преподавания.
Пожалуй, наиболее важным для понимания концепции Клее
является выяснение того, что он понимал под абстракцией. Смысл,
который Клее вкладывал в это понятие, отличен от того
содержания, которым оно наделено у чистых абстракционистов.
Кандинский строил теорию на неизобразительных элементах формы:
цветовом пятне, линии или геометрических объектах. Клее понимает
абстрактное как нечто, лежащее за пределами сферы собственно
41 Цит. по: Apollonio U. iMondrian e Tastrattismo. Milano, 1976, p. 11.
178
визуального и недоступное для непосредственного зрительного
восприятия. Вся его теория организуется вокруг таких понятий, как
«закон», «движение», «сила», «функция», «отношения», «связи»,
«структура». Именно в них, а не в данных зрению феноменах он
видит истоки формообразования.
«Внутри воли к абстракции появляется нечто такое, что не
имеет отношения к реальному. На пути ассоциаций возникает
очарование фантастического и тесная связь с пластической формой.
Однако этот мир видимости является лишь вероятным»42.
У Клее образ как бы порождается внешними по отношению к
художнику собственными закономерностями живописи. Живопись
по его теории является свободным фантазированием в пустом
мире структур и невидимых сил взаимодействия, материальным
осуществлением независимого закона.
«Произведение так относится к пребывающему внутри него
закону, как творение к творцу. Произведение вырастает присущим
ему способом и в соответствии с общими, повсюду действующими
правилами, но оно не есть правило, оно не предопределено
всеобщим. Произведение не является законом, оно накладывается на
закон (es ist tiber dem Gesetz)»43.
В теории Клее форма предстает как результат движения.
Начало его он видит в точке. Движущаяся точка создает линию,
линия творит форму. Направление и энергия движения
определяются не намерением художника и не видимыми формами внешнего
мира, а некими универсальными закономерностями, которым
подчиняется и мир земной природы, и космос. В своих лекционных
заметках художник пишет:
«Точка, рассматриваемая динамически, как активное начало;
нарастание энергии, направленной вовне, в различные стороны,
неукротимо определяет ориентированность движения.
Восхождение точки к центральной ценности есть обозначение
момента космогенеза. Этот процесс соответствует идее всякого
начала: рождения, излучения, вращения, взрыва, вспышки
фейерверка, снопа»44.
Размышления Клее об искусстве пронизывает идея о том, что
искусство должно подчиняться тем же законам, что и все
мироздание, что нет принципиальной разницы между движением
природы и движением сил, создающих живописную форму. Художник
должен стремиться к подобию творчества в природе, воссоздавать
не ее формы, а сам процесс становления функциональной
организации. Он постоянно сравнивает работу художника с работой
ученого, который за внешней оболочкой явлений ищет внутреннее,
обнаруживает закономерность. Но при этом в его рассуждениях
фигура художника-исследователя вытесняется движением самих
органических процессов, стихией независимого от сознания само-
42 Klee P. Das bildnerische Denken. Bd.. I Form- und Gestaltungslehre. Basel-
Stuttgart, 1971, S. 262.
43 Ibid., S. 59.
44 Ibid., S. 22.
179
развития. Будучи убежденным, что искусство должно не
имитировать натуру, а идти свойственным ей путем, Клее рассматривает
конечную цель и результат творчества как нечто побочное и
возникающее спонтанно. Сам процесс формообразования определяет
форму и стоит над ней:
«Форму нигде и никогда нельзя рассматривать как
завершенность, как результат, как окончательность; это всегда — генезис,
становление, проявление сущности. Форма как видимость —
дурной и опасный призрак.
Хороша форма как движение, как средство, хороша
действенная форма. Плоха форма как покой, как остановка. Плоха
совершенная, исполненная форма. Формирование — хорошо, форма —
плохо, форма — конец, смерть. Формирование — движение,
действие. Формирование — жизнь»45.
Это суждение совпадает с высказываниями Пикассо о
незавершенности произведения, о преобладании процесса над
результатом. Как и Клее, Пикассо часто говорил, что произведение
искусства должно не подражать природе, не соревноваться с ней, а
создаваться по ее законам. Мысль о том, что создания искусства
в качестве материальных объектов должны быть равны созданиям
природы (или техники), стоять на одном уровне с ними, — одна
из основных в эстетике модернизма. Ее неоднократно
высказывали, например, Малевич, Кандинский. У Пикассо это привело к
неразрешимой противоречивости метода, в перспективе которого
маячили слепота и пустой холст. У Клее то же противоречие
проявляется в теории.
В самом деле, если произведение искусства подчиняется неким
универсальным закономерностям становления органического мира,
то какова роль сознания художника, его творческой воли? Клее
подчеркивал значимость духовной энергии, творческого импульса,
исходящего от художника и оплодотворяющего материю
живописи. Однако представление о художнике как инициаторе формы по
существу противоречит его учению о верховном космическом
законе, которому одинаково подвластны явления и природы и
искусства. Поэтому в ряде статей Клее не менее энергично
отстаивает противоположную мысль о том, что художник — пассивный
посредник, медиум, через который космический дух осуществляет
себя в искусстве. Клее выражает это в развернутой метафоре:
«внешний мир — корни дерева, произведение искусства — крона,
художник — ствол».
«Художник находится в лоне природы и творит, подобно ей.
Здесь нельзя ничего торопить. Нужно, чтобы это великое
произведение развивалось естественно, произрастало; и, если однажды
оно достигнет зрелости, тем лучше»46.
Противоречие это не является каким-то частным изъяном в
мышлении данного художника. Оно прямо вытекает из основных
45 Ibid., S. 169.
46 Klee P. Theorie de Tart moderne. Paris, 1964, p. 32.
180
представлений модернизма о творчестве. Стоит только допустить,
что живописная форма самостоятельна, что она обладает какими-
то внутренними, изначально присущими ей закономерностями, как
целеустремленная активность автора неизбежно оказывается здесь
лишней. Наиболее последовательным осуществлением этой идеи
был бы отказ от собственного сознания, выключение его из
творческого процесса.
Как и другие художники модернизма, Клее придавал большое
значение случайным эффектам и полуавтоматическим техникам.
В некоторых его акварелях положенная на мокрую бумагу краска
расплывалась в бесформенные пятна. В других случаях акварель
разбрызгивалась распылителем. Многие рисунки периода
Баухауза выполнены методом «психической импровизации», близким к
автоматизму сюрреалистов. В них блуждание непрерывной линии
порождает в конечном итоге некоторое подобие реальной формы.
В других рисунках сплошная разнонаправленная штриховка
складывается в несколько противоречащих друг другу изображений —
возникает «параллельная фигурация», одни и те же движения
карандаша могут считываться как обозначения, например, и
архитектурных, и растительных мотивов.
Один из излюбленных приемов Клее — оттиск фактурной кру-
жевоподобной ткани, из которого затем возникали фантастические
города, соборы, причудливая растительность. Очевидно сходство
этой техники с фротажем Эрнста. При работе над живописными
полотнами Клее часто писал левой рукой или даже двумя руками
одновременно. Такими методами он осуществлял идею
«органического роста» художественной формы, воплощения в линии и
цвете универсального закона. В живописи и графике зрелого Клее
сюжет не намечался заранее, а лишь прояснялся по мере
наложения мазков и затем закреплялся в названии произведения.
Название — толчок, направляющий работу зрительского воображения,
указание на способ организации «становящейся формы».
В западном искусствознании часто встречается суждение о
том, что теория Клее подобна научной теории или что она исходит
из научных предпосылок. В связи с этим необходимо выяснить,
каким образом Клее выводит становление художественной
формы из космогенетических и органических закономерностей.
Клее считал, что, как в масштабах вселенной, так и в
масштабах микромира, властвует один и тот же закон — вечное движение.
Исключение составляет промежуточная земная ситуация, в
которой пребывает человек. Здесь движение останавливается,
замирает в материальных вещах, в их видимом покое. Однако это
впечатление иллюзорно, и задача художника состоит в том, чтобы
преодолеть земную точку зрения, выйти за пределы ограниченной
статичной видимости и подняться к первичной сущности вещей,
которая проявляется только в незримом и нематериальном.
«Подняться от Модели к Матрице!
Самозванцы те художники, которые скоро останавливаются на
лолпути. Но избранники те, что движутся в глубину, к изначаль-
181
ному закону, приближаясь к тайному источнику, который питае-
всякое развитие»47.
Утверждение этой внеземной позиции проходит через все
рассуждения Клее о форме, перспективе, цвете, линии. Данный
художнику материал он сопоставляет с материей в широком смысге
слова, а восхождение к духовным сущностям выражает с помощью
таких понятий, как «движение», «сила». В них реализуется
творческое начало — как в природе, так и в искусстве.
«Творческую силу нельзя определить. В конечном итоге она
остается тайной. А то, что не потрясает нас до самых глубин,
тайной не является.
Мы сами наделены этой силой, проникающей в мельчайшие
частицы. Мы не можем выразить этой сущности, но можем подняться
к ее источнику, как бы ни был он удален от нас. Во всяком случае,
мы можем выявить эту силу в ее функции, то есть таким же
образом, как она проявляется в нас.
Очевидно, она сама есть форма материи, но в качестве таковой
ее нельзя воспринять с помощью тех же органов чувств, что и
известные нам виды материи. Однако, в известных видах материи
она дает себя опознать. В соединении с ними она начинает
функционировать. Через взаимопроникновение с материей она
воплощается в живую действующую форму. Через нее получает
материя свою жизнь и организуется вплоть до мельчайших своих
частиц, восходя от неупорядоченного ритма к ясному членению»48.
Как упорядоченный космос природы, так и организованный мир
картины, возникают, по мнению Клее, из некоторой предсуществу-
ющей духовной силы, сосредоточенной в точке. Заключенная в
точке энергия, распространяясь наподобие взрыва или излучения,
производит материальные (а в картине — визуальные) формы.
Скрытый от взора закон-перводвигатель, пронизывая собой
первоначальный хаос, творит существующее. Художник подключается
к этому универсальному процессу формосозидания, превращая
предбытие духовного, существенного в бытие явленного.
«Творение живет в генезисе под видимой поверхностью
произведения. Оглядываясь назад, мы видим все духовное, обращаясь
вперед (в будущее), только творческое»49.
В этих высказываниях, как и во многих других, ясно виден
идеалистический характер представлений Клее о творческой силе
в природе и в искусстве. Его рассуждения близки к той картине
эволюции органического мира, которую рисует Бергсон. В бергсо-
новской концепции развитие природы подчиняется некоему
изначальному «жизненному порыву», который, разветвляясь в
своем движении, творит формы растительного и животного мира,
создавая одновременно и способы его постижения — инстинкт,
интуицию, разум. Чтобы увидеть, насколько близки идеи Клее к идеям
47 Ibid., р. 30.
48 Klee P. Das bildnferische Denken. Bd. II. Unendltche Naturgeschtchte. Basel-
Stuttgart, 1970, S. 63.
49 Klee P. Das btldnerische Denken. Bd. I, S. 436.
182
Бергсона, достаточно сопоставить вышеприведенные цитаты с
таким, например, отрывком из «Творческой эволюции». Определяя
природные системы как «организацию» (в противоположность
«производству», под которым имеются в виду системы, созданные
человеком), философ пишет: «...работа организации идет от
центра к периферии. Она начинается в пункте, представляющем почти
математическую точку, и распространяется вокруг него
концентрическими, все расширяющимися волнами... Организация походит
на взрыв; ей нужно сначала возможно меньшее помещение,
минимум материи, как будто организующие силы неохотно идут в
пространство»50.
«Но в действительности это движение совершается в силу
первоначального порыва жизни, который она примешивает к этому
движению, и потому-то мы находим его на независимых линиях
развития. Если же нас спросят, почему и каким образом этот
толчок принимает здесь участие, мы ответим, что жизнь, прежде
всего, стремится действовать на мертвую материю»51.
Однако философский идеализм Бергсона кажется умеренным
по сравнению с тем спиритуалистическим символизмом, который
развивает Клее. Движимый стремлением видеть изначальную
духовную, божественную силу во всем, что недоступно
непосредственному зрительному восприятию, художник создает целые мифы
о движущейся точке, цветовом спектре, отношении формы к
плоскости и т. п. Не случайно в его теории столь значительная роль
отводится таким понятиям, как «преддвижение», «предсуществова-
ние», «прамир», «первоматерия» и т. п., образованным главным
образом с помощью приставок Ur- и Vor- (Urwegen, Urelement,
Vorzeitlichen, Vorschopfung, Vorgeschichte, Urbewegung, Urgebiet
и пр.).
Клее проявлял большой интерес к органическим формам,
собрал коллекцию растений и минералов, внимательно изучал их
строение. В лекциях студентам Баухауза он часто иллюстрировал
теоретические положения этим материалом, например показывал, как
исходная жизненная энергия растения, поднимаясь из «точки»
семени вверх, набирает силу в стебле, затем ветвится все больше и,
наконец, исчезает в мельчайших прожилках листа. Таким же
образом он интерпретировал и геометрические формы, которые
должны быть, по его мысли, конструктивной основой формирования.
«Упражнения в алгебре и геометрии, упражнения в механике
(равновесие и движение) воспитывают влечение к существенному,
к функции, а не к внешнему впечатлению. Так обучаются умению
видеть то, что находится за фасадом, постигать вещь в ее истоках.
Так обучаются познавать подспудные силы, предысторию
видимого» 52.
50 Бергсон А. Творческая эволюция.— Собр. соч., СПб., [1913], т. 1, с. 84—
85.
51 Там же, с. 88.
52 Klee P. Theorie de l'art moderne, p. 56.
183
Поэтому различные примеры из области естествознания,
геометрии и физики, которыми насыщены конспекты лекций
художника, не должны вводить в заблуждение насчет научности теоргн
Клее. Даже определенное сходство его натурфилософских
представлений с современными научными концепциями (например
с гипотезой о возникновении вселенной в результате взрыва
бесконечно малой массы с бесконечной плотностью, или с генетическое
теорией о развитии организма по закодированной в ДНК програу-
ме) не дает оснований говорить о научности его метода и
воззрений. Те понятия, которые в науке отражают объективные связ
между явлениями материального мира, у Клее истолковываются
в спиритуалистическом ключе; закон, движение, функция,
структура предстают как формы проявления духовного
первоначала-демиурга.
Символизм Клее иногда напоминает символику средневековых
и ренессансных неоплатоников. Особенно хорошо это видно в
таком отрывке, где художник говорит о трех парах дополнительных
цветов, заключенных в треугольник, и о полном семицветном
спектре, расположенном по кругу, сравнивая его с земной
«абстракцией цвета» — радугой:
«Мы покидаем область человеческого — патетического,
страстного, духовно-телесного, область междуцарствия, полупокоя и
полудвижения, когда обращаемся к символу треугольника, где
чистые цвета присутствуют лишь наполовину. И мы полностью
освобождаем наш маятник от силы притяжения, даем ему
раскрутиться, чтобы достичь божественной сферы динамики и взлета, сферы
духовности, бесконечного вращения и движения, когда обращаемся
к символу круга, где чистые цвета постигнуты в своей истинности.
Здесь 1 и 7 совпадают, и это место называется просто
фиолетовым.
Космичность чистых цветов обрела в круге соразмерный ей
образ. По-земному воспринимаемое явление чистых цветов в
радуге, которая была лишь отражением ранее неведомой целокуп-
ности, теперь оформляется синтетически и стягивается в
потустороннюю целостность. Перед нашим взором встает ныне цветовой
круг»53.
Но одна черта самым решительным образом отделяет Клее не
только от средневековых мистиков, но и от Кандинского. Это —
определенная условность предлагаемого им мировоззрения. Дело
в том, что, создавая свою теорию, Клее ставил перед собой задачу
слить воедино проблемы формы и мировоззрение, или, по его
собственным словам, «строить одновременно закон и творение,
фундамент и здание»54. Уже в такой формулировке задачи видно, что
так называемое мировоззрение берется как нечто отчужденное от
сознания самого художника, предстоит перед ним как внешний
объект, как интеллектуальное построение.
53 Klee P. Das bildnerische Denken. Bd. I, S. 471.
54 Ibid., S. 10.
184
Теория Кандинского непосредственно вытекала из его
теософских пристрастий. Но нельзя утверждать, что мистицизм был
органично присущ сознанию Клее. В связи с этим интересен его
отзыв о книге Штейнера, видимо, рекомендованной Кандинским:
«Теософия? Особое подозрение вызывают описания цветовых
видений. Если это не надувательство, значит, они обманывают
самих себя. Идеи о цвете несостоятельны, а значения,
приписываемые формальным членениям, просто смешны. Числа — немыслимы.
В любом простейшем уравнении больше смысла. Не менее
сомнителен психологический аспект «учения»... Конечно, я прочел
книгу лишь частично, поскольку своими банальностями она
показалась мне невыносимой»55.
В контексте теоретических сочинений Клее «Weltanschauung»—
это не столько присущее ему миропонимание, сколько
воображаемая позиция созерцания мира из далеких, надзвездных высот.
Привлекавший его идеал «холодного, чистого романтизма,
лишенного пафоса», побуждал отвлечься от земной, человеческой точки
зрения на вещи. Еще за несколько лет до начала работы в
Баухаузе он писал в дневнике: «Выводя априорные формулы для
человека, животных, растений, камней, земли, огня, воды, воздуха
и вихревых сил, я помещаю себя в отдаленную исходную точку
творения... Здесь нет места ни ортодоксии, ни ереси.
Возможности бесконечны, и вера в них — это то, что живет во мне
творческой жизнью» 56.
Исходной для Клее является идея формообразования, которой
ставится в соответствие в качестве разъясняющей аналогии
представление о воплощении творящего духа в природе. Космическая
морфология швейцарского художника — аллегория его
«формального космоса». Поэтому мифопоэтические фантазии об
одушевленной линии и потустороннем сиянии спектра, скорее, имитация
мистицизма, его перевод в условно-метафорический план.
Клее наслаждается игрой метафор и ассоциаций,
амбивалентностью терминов и превращениями понятий, связывающих звенья
его концепции. Возникающие при этом логические противоречия
он также преодолевает с помощью многозначности слова.
Изобретая, фантазируя свою теорию на основе языка, он действует
именно как художник-модернист. В живописи Клее стихия красочной
массы как бы самостоятельно порождает искусственные,
кукольные персонажи, стоящие на грани между органическим и
механическим миром 57. В теории стихия языка также продуцирует
условную «мировоззренческую» конструкцию. Отдаленное последствие
такого «художественного» теоретизирования — так называемое
концептуальное искусство современного авангарда. Более
близкое — различные варианты интерпретаций модернизма, которые
проигрывались в художественной критике.
55 Klee P. Tagebiicher 1898—1918. Leipzig und Weimar, 1981, S. 327.
56 Ibid., S. 298.
57 Игровой характер искусства Клее раскрыт в монографии: Plant M. Paul
Kl-ee. Figures and Faces. London, 1978.
185
По-настоящему же близка теория Клее современному
структурализму. Это сходство проявляется уже в одинаковой
терминологии, в том, какое значение и здесь, и там придается таким
понятиям, как «функция», «отношения», «знак», «структура».
Литературоведческий структурализм, как и теория Клее,
объектом анализа делает формальную организацию произведение
Образное содержание рассматривается как нечто вторичное,
производное от формальной системы. Плоть образа порождается
закономерностью конструкции. Конкретное идейно-тематическое
содержание предстает как возможное осуществление структуры, кг~
вывод из нее. Согласно этой концепции, структура стабильна, ибо
■она воплощает в себе всеобщую закономерность (например,
закономерность художественного языка того или иного периода),
содержание данного произведения виртуально и в какой-то мере
даже нереально, ибо оно ■— лишь результат индивидуального
фантазирования на основе «объективной» схемы, наброшенная на нее
вуаль иллюзии.
Структурную поэтику «интересует то абстрактное свойство,
которое является отличительным признаком литературного факта,—
свойство литературности. В задачу исследований такого рода
входит уже не пересказ или обоснованное резюме литературного
произведения, а построение теории структуры и функционального
литературного текста, — теории, предусматривающей целый спектр
литературных возможностей, в которой реальные литературные
произведения заняли бы место определенных частных случаев,
реализовавшихся возможностей»58.
Сходство с теорией Клее здесь очевидно. Художник также
рассматривал конкретное произведение как результат свободного
фантазирования на основе закона, как частное уклонение от него и
одновременно его утверждение.
«Бестелесная образность (Figurale) не нуждается ни в какой
устойчивости. Она парит. Где? Как? Появление нового здесь
реконструируется воображаемым путем. В процессе метаморфоз
создается новая реальность. Это чисто психический факт. Это знаки,
которые возникают непосредственно из возбуждения59.
Раздвоение реального и воображаемого здесь отчетливо ощутимо.
Различие между реальными вещами и вещами, которые в большей
мере относятся к области иллюзии, есть лишь вопрос
пропорций...»60
Та роль, которая отводится в структурализме знаковым
системам как способу формирования человеческой реальности,
аналогична роли первозакона, обнаруживающего себя в знаках и
функциональных отношениях у Клее. В структуралистской концепции
58 Тодоров Ц. Поэтика.— В кн.: Структурализм: «за» и «против». Сб. статей.
М., 1975, с. 42.
59 Под «возбуждением» Клее имеет в виду ту творческую силу, которая
приводит в движение материю живописи.
60 Klee P. Das bildnerische Denken. Bd. L, S. 460.
186
бинарные оппозиции, которыми оперирует мышление, определяют
парадигматику языка; эта система надстраивает над собой ярусы
производных образований, совокупность текстов культуры. Таким
образом, весь процесс реализации культуры предстает как
последовательность взаимопорождающих структур, истоки которой —
в схематике сознания. Трансцендентная космогония Клее здесь
заменилась «космогонией речи» (выражение Ролана Барта), ибо
миросозидающее духовное первоначало было локализовано в
неосознаваемых закономерностях деятельности сознания.
Ролан Барт противопоставлял свойственное прежним
культурам символическое сознание (в котором знак брался в его
отношении к внешнему миру и потому был наполнен, даже переполнен,
объективным содержанием) современному парадигматическому и
синтагматическому пониманию означающих систем, в которых
смысл образуется из самих отношений знаковых элементов.
Художественное творчество помещается в сферу деятельности Homo
significans, «человека означивающего», и речь уже может идти
не об отражении мира, а только об акте производства смыслов и
их последующей рекомбинации, построения объекта из
семантических единиц.
Клее писал о художественном образе: «Это — не копия и не
отражение, а скорее — видоизменение и формирование нового»61.
То же понимание художественного творчества
прокламировалось и в структурализме: «...динамика образа —это динамика
расположения подвижных взаимозаменяемых частей, комбинация
которых производит смысл, или, в более общем понимании, —новый
объект; речь идет, стало быть, о воображении собственно фабри-
кативном, или функциональном»62.
В структуралистской концепции процесс смыслообразования
противопоставлялся смыслу, структура — ее содержательному
наполнению, движение к означиванию, выявление функции —
законченному созданию. «Литература далека от того, чтобы быть
аналогичной копией реальности; напротив, она есть само сознание
ирреальности языка»63.
Конечно, есть различие между императивными утверждениями
Клее и методологическими установками структурализма, между
действующим методом создания произведения и методом его
теоретического исследования. Однако ни один метод не может быть
абсолютно замкнутым в себе и свободным от
общемировоззренческих посылок. И, как бы ни стремился структурализм
противопоставить себя философии, утвердить научную чистоту и
объективность своего подхода к явлениям литературы и искусства,
очевидно родство его положений с теми идеями о первичности языка по
отношению к образному содержанию, которые вызревали в среде
литературного и художественного авангарда.
61 Ibid., S. 460.
62 Barthes R. Essais critiques. Paris, 1964, p. 211.
63 Ibid., p. 164.
187
**»
*r
л<
■^ЯЮЫ».
■-- - . W
■v
72. Пауль Клее. Великий император готов к битве. 1921
i
73. Пауль Клее. Упражнение в синем и оранжевом. 1924
188
!^*а*ч
/ I I Ic-iyjib Клее. Главная дорога и ее ответвления. 1929
_ *
Mi, п. 1\.'ич\ Пораженное место. 1922 76. Пауль Клее. Победитель. 1930
189
Если допустить, что только структура (или язык) o6aazir~
подлинной реальностью и статусом закономерности, то
идейно-образное содержание неизбежно окажется призрачным отвлечением
от материально-формальной организации. Вопрос об его
истинности отпадает сам собой: литература «представляет собой текс~.
к которому как раз неприменимо понятие истинности; она не
бывает ни истинной, ни ложной, и сама постановка такого вопрос-
бессмысленна; именно этим и определяется ее статус текста,
основанного на вымысле (fiction)»64.
Отсюда же утверждения структурализма о поливалентностг,
открытости, символичности произведения; оно лишь «пустая
форма», на основе которой каждая эпоха, каждый читатель и каждый
критик организует свой смысл, изобретает собственное
содержание. Но, поскольку реально такого рода модели создавались лишь
в русле авангардистской литературы, научная объективность
уступает место нормативности, утверждающей в качестве эталона
романы Гоб-Грийе и эстетические позиции группы «Tel quel».
В одной из своих статей Барт объединил в понятии
«структуралистская деятельность» соответствующее направление в
гуманитарных науках и новейшие формы искусства, полагая, что цель и
в том, и в другом случае — реконструировать объект, то есть
создать соотносительную модель реальности, подобие не
субстанциональное, а функциональное. Это значит, что цель писателя —
«утратить свою собственную структуру и структуру мира в структуре
речи»65.
Барт понимал, что искусство, обращенное на выявление
собственной техники, искусство, преследующее само себя, есть
искусство саморазоблачения, самоуничтожения, в конечном итоге. Его
анализы авангардистской литературы пестрят такими
определениями, как «чистая негативность», «опасная игра со своей
смертью», «производство без продукта», «квадратура круга в
литературе», «нулевая степень письма», «пустая форма», «изнанка
смысла» и т. п. Быстрое продвижение «нового романа» по пути
полного растворения смысла в тексте о тексте — лучшее
подтверждение оправданности таких определений66.
Мифопоэтическое одушевление знаков и функциональных
отношений спасало Клее от таких выводов. Структуралистская «новая
критика», утверждая, что язык мыслит вместо нас и не существует
истин до текста, конечно, не могла укрыться от них за идеей
космического духа. В статье о романе лидера группы «Тель кель»
Филиппа Соллерса Барт писал: «Для Соллерса... слова
предшествуют вещами, что является способом стереть грань между ними:
слова видят, ощущают и вызывают вещи к существованию»67.
64 Структурализм: «за» и «против», с. 53.
65 Barthes R. Op. cit., p. 149.
66 См.: Зонина Л. «Новый роман»: вчера, сегодня.— Вопросы литературы,
1974, № 11; Андреев Л. Г. Современная литература Франции. 60-е годы. [M.j,
1977, с. 83—125.
67 Ecrits sur Tart et manifestes des ecrivains frangais. M., 1981, p. 486.
190
Различие здесь сводится в основном к тому, что с первотворящего
духа снята вуаль мифопоэтических фантазий, вследствие чего
предсмысл и предформа обнаружили себя как «пустой смысл» и
«пустая форма» (выражения Барта).
Структурализм в искусствознании, по существу, лишь
перепевавший литературоведческие концепции, также утверждал
абстракционизм как образец творчества. «Линия и цвет есть
человеческие абстракции, они первичные средства языка художника и
предполагают плоскую поверхность («плоскую поверхность» Мориса
Дени) в качестве категории своего существования. Подчеркнуть
их важность... означает признать приоритет структурных начал
живописи по отношению к изображению, которому двухсотлетняя
традиция отводила почетное место»68.
Близость теории Клее к структурализму является лишь
частным примером родства эстетических воззрений модернизма с
идеалистическими истолкованиями природы познания.
В 1922 году, то есть в тот же период, когда создавались
системы Кандинского и Клее, формируется «Венский кружок», в
котором были разработаны основы логического позитивизма. К нему
примкнули, в частности, такие видные представители
неопозитивизма, как А. Дж. Айер и Р. Карнап. В 1921 году выходит
«Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна, который также стал
предтечей логического позитивизма.
В нем австрийский философ развивает концепцию
совершенного языка, который мог бы стать универсальной моделью знания.
Витгенштейн приписывает миру логическую структуру языка,
принимая две эти данности как равноправные реальности, лишь
соотнесенные друг с другом в плане изоморфизма. «Логика наполняет
мир, — пишет он, — границы мира являются также ее
границами»69. «Логические предложения описывают строительные леса
(das Geru'st) мира, или, скорее, изобретают их»70.
Поскольку в логическом позитивизме языковые конструкции и
объективный мир сопоставлены друг с другом в отвлечении от
познающего субъекта (который только и может установить
верное соотношение между внешним фактом и его отображением),
утрачивается принципиальное различие между оригиналом
(объектом) и его образом, «наполняющая мир» логика становится
равноценной или даже тождественной самому миру.
Нетрудно заметить, что в ранних теориях абстракционизма
была предпринята аналогичная попытка онтологизации языка, на
сей раз языка искусства. Клее также стремился установить
прямое соотношение между структурой космоса и структурой
живописных средств. Движение линии, цвета именно потому приобре-
68 Jaffe H. L. С. Structure syntactique dans les arts plastiques. — In: La
structure dans les arts et dans les sciences. Bruxelles, 1967, p. 140.
69 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958, с. 80.
70 Там же, с. 87.
191
тает у него статус самостоятельной реальности, равноправной с
реальностью природы, что сознание художника выведено за
пределы отношений между системой космоса и системой искусства.
Теория Кандинского основывается на допущении, что
первоэлементы формы могут обладать внутренним, априорным смыслом и,
следовательно, могут быть равными в своем существовании
объектам природы и техники. Здесь также исключается опыт
человеческого познания, который привносит значения в отвлеченные
конфигурации— значения, возникшие в сфере практической
деятельности и выведенные из нее.
Фетишизация языка (языка логических конструкций или
языка художественного) нередко ведет к мистицизму. Склонность
к нему проявляли ранние теоретики абстракционизма.
Витгенштейн, имея в виду невыразимость законов логики средствами
самой логики, писал: «Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно пока
зывает себя; это — мистическое»71.
Теории абстракционизма были прямым продолжением и
развертыванием концепций модернизма начала XX века, прежде
всего концепции кубизма. Однако здесь есть различие, касающееся не
столько содержания теории, сколько ее места.
Кубисты в основном довольствовались теоретизированием ii;i
холстах, а словесное выражение своих идей предоставляли
писателям. Собственно теория кубизма состоит из короткой цепочки идеи,
а вся выросшая вокруг него литература, по существу,
ограничивается пропагандой постулатов этого течения. Таковы, например,
тексты Аполлинера о кубизме. Но когда был сделан следующий
шаг и изображение исчезло, вместе с ним исчезла и «драма», вы
ражавшая основную идею авангардистской эстетики. Картина
стала тождественна своей материальной форме, лишилась всякого
содержательного измерения. Художники не могли этого не
ощущать и стремились привнести реально отсутствующее содержание
извне, одушевить живопись посредством сопутствующей ей теории.
В дальнейшей истории абстракционизма художники больше и *
создавали обширных теоретических систем. Задачу
содержательной интерпретации их творчества взяла на себя критика.
Поскольку же такие интерпретации не могли состоять ни в чем ином, как
в накладывании на немую картину произвольных словесных
высказываний, абстракционизм стал обрастать туманной завесой n.t
спекуляций на социальные, психологические, философские, науч
ные и прочие темы. Исключение действительного содержания ил
картины вызвало поток недействительных толкований, лишь
фальсифицировавших сущность этого направления.
71 Там же, с. 97.
АВАНГАРДИЗМ
60-х-начала 70-х годов
В 60-е годы на арену художественной жизни Запада
выдвинулись направления с ярко выраженными негативистскими
программами: минимальное искусство, искусство объекта, бедное
искусство, хэппенинг, перформенс, искусство земли, концептуальное
искусство и многие другие1.
Внешне диапазон их очень велик: от крайней предметности в
различных ассамблажах и реди-мейд до полного отсутствия
чувственной оболочки в концептуализме; от динамичности
хэппенинга до статики минимального искусства; от зрелищности некоторых
форм энвайронмента и перформенса до недоступных восприятию
«искусства проекта» или «исчезающего» искусства. В 60-е годы
такие течения и группировки возникали одно за другим, со
множеством названий, определяющих оттенки между ними. Однако их
количество и видимая контрастность не были признаками
разнообразия и богатства художественной жизни. Все эти школы лишь
по-разному оформляли один и тот же круг идей — идей для
модернизма не новых и содержание которых можно свести к
нескольким тезисам. Почему так произошло, должно стать ясным
из последующего изложения. Пока же отметим, что все эти
направления, афишировавшие себя как антиискусство, отличались
устремленностью к последовательному уничтожению всех
признаков художественного творчества, к уничтожению искусства как
такового.
В искусствоведческой литературе часто встречается суждение
о том, что разрушительная деятельность нового авангарда была
осуществлением идей «новых левых» и социологической эстетики
франкфуртской школы. Представление это было бы по крайней
мере однобоким. Хотя взгляды Теодора Адорно, Герберта Марку-
зе и «новых левых» были внутренне близки художественному
авангарду и потому беспрепятственно усвоены им, все же явления
в искусстве, находившиеся в центре внимания в конце 60—начале
70-х годов, складывались задолго до начала молодежных
протестов, а «эстетика бунта» вплоть до конца 60-х годов не
привлекала внимания художников.
1 О новом авангарде см.: Рейнгардт Л. #. Отречение от искусства.— В кн.:
Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1980; Бажанов Л., Тур-
чин В. За гранью искусства.— Декоративное искусство СССР, 1980, № 9;
Бажанов Л. А, Турчин В. С. К суждению об авангардизме и неоавангардизме.—
Советское искусствознание'77, № 1, 1978; Батракова С. П. Утопия «открытого
искусства». — Иностранная литература, 1981, № 5; Куликова И. С.
Антиискусство и буржуазная действительность. М., 1978; Соколов М. «Археологические
утопии» модернизма. — Декоративное искусство СССР, 1979, № 3; Тугано-
за О. Э. Постмодернизм в американской художественной культуре и его
философские истоки.— Вопросы философии, 1982, № 4; Лукшин И. П.
Несбывшиеся притязания. М., 1982.
195
Тенденции, которые привели к перевоплощению авангарда, е--
никли еще в 50-х годах, то есть в период расцвета абстракдэа-
низма. Выражались они в следующем.
Внутри так называемого лирического (или экспрессионистг-*-
ского) направления абстракционизма ориентированность на сь -
бодное самовыражение в живописном жесте привела к такжм
формам, как живопись действия в США и ее европейская napi~-
лель — ташизм. Беспорядочное набрасывание мазков на холст (гля
просто поливание его краской из продырявленной банки) вело ж
заключению, что физическая активность «творящего» художнт *-
превалирует над результатами его работы. Стало быть, этот г—
зультат можно вовсе исключить как несущественный и заменит»
акт живописания хэппенингом. Создатели хэппенинга неоднокра -
но указывали на его происхождение из живописи Поллока.
Другое направление — геометрическая абстракция — двигалось
к упрощению форм и сокращению цветовой гаммы, так что картж-
на все больше превращалась в однородную поверхность. Такг_
художники, как Эд Рейнхардт, Фрэнк Стелла, Барнет Ньюмен
стали предтечами минимализма. К тому же вели и некоторые
опыты в скульптуре, воспроизводившие технические и
геометрические формы в пространстве.
Наконец, внутри абстракционизма 50-х годов возникла и
тенденция к включению в картину предметных форм, по типу дала-
истского коллажа. Так художники пытались придать плоской
абстрактной живописи определенный драматизм, разрушить ее
одномерную условность реальностью. Такие опыты были характерны,
например, для испанского абстракциониста Антонио Тапиеса.
С аналогичных коллажей начинали и основоположники поп-арт
Джеспер Джонс и Роберт Раушенберг.
С другой стороны, такие художники, как Лучио Фонтана и
Альберто Бурри, пришли к прямому овеществлению картины п
одновременно ее разрушению: один — путем прокалываний и про-
резаний живописной основы, другой —путем прожиганий холста
или замены его рваной мешковиной. Фонтана говорил: «Вводя
новый прием многократного продырявливания холста, я не
пытался декорировать поверхность: напротив, я хотел сломать
пространственные ограничения. По ту сторону разрывов нас ожидает
заново завоеванная свобода интерпретации, но также (и это
неизбежно) — конец искусства»2.
В 1951 году вышла антология «Дадаистские художники и
поэты», составленная известным американским абстракционистом
Робертом Мазеруэллом. Благодаря ей вспыхнул интерес к
полузабытому направлению, отличавшемуся крайним нигилизмом и
последовательно проводимой установкой на отказ от художественной
деятельности. С этих пор в среде авангарда заметно растет
влияние крупнейшего представителя дадаизма Марселя Дюшана, так
2 Цит. по: Lucie-Smith Ed. Art Today. From Abstract Expressionism to
Superrealism. Oxford, 1977, p. 189.
196
что в конце концов его фигура приобретает огромный авторитет
и вытесняет фигуру Пикассо.
Первый хэппенинг был организован американским
композитором Джоном Кейджем в 1952 году. Во второй половине 50-х годов
хэппенинги создают в основном театральные режиссеры, но очень
скоро в эту деятельность включаются и художники. Тогда же, в
50-х годах, в Англии возникает направление поп-арта3, которое
позднее, уже в американском варианте, приобретает мировую
славу. Французский модернизм идет к поп-арту и вытекающим из
него формам искусства объекта иным путем. Здесь действовали
художники (Арман, Сезар, Марсиал Рейс, Споэрри и др.),
возведшие в ранг искусства демонстрацию предметных аккумуляций,
разорванных афиш, спрессованного металлолома и т. п.
Подлинными предтечами и пророками нового авангарда были
признаны Ив Клейн и Пьеро Мандзони, деятельность которых
также протекала в 50 — начале 60-х годов. Первый подвергал свои
картины разрушению ветром и дождем, делал на полотнах
отпечатки с покрытых краской тел натурщиц, выполнял серии «моно-
хромий», то есть холстов, ровно закрашенных одной краской, и,
наконец, продавал несуществующие произведения. Однажды он
устроил выставку пустых залов. По собственному выражению
Клейна, это была деятельность «на пепелище искусства».
Пьеро Мандзони предлагал в качестве художественных
произведений прямые линии, проведенные на полосах бумаги разной
длины, отпечатки собственных пальцев, выдохнутый в стеклянный
баллон воздух и даже — знаменитое «Merda d'artista» —
собственные экскременты, законсервированные в жестяных коробочках.
Такая «редукция к я» должна была выразить давнюю идею
модернизма: все, что источает из себя художник, есть искусство.
В 1957—1960 годах Мандзони создал серию белых полотен. По
этому поводу он говорил: «Речь идет не о том, чтобы написать
синее на синем или белое на белом, имея в виду при этом
композицию или высказывание. Как раз напротив. Речь идет о том,
чтобы создать абсолютно белую плоскость (да, совершенно
бесцветную, нейтральную), которая никоим образом не относится к
явлениям живописи и не обладает элементами, выводящими за
пределы собственно плоскости. Это не белизна полярного
ландшафта, не белизна красивого или на что-то намекающего
материала. Здесь нет ни ощущения, ни символа и ничего другого.
Это — просто белая поверхность (бесцветная поверхность, не
являющаяся ничем иным, как бесцветной поверхностью), или, еще
точнее, она здесь, и этим все сказано»4.
Влияние этих фигур было настолько велико, что отчасти даже
затмевало авторитет Дюшана. Вокруг нулевой степени искусства
и развертывалась последующая деятельность авангарда.
3 См.: AmayaM. Pop Аг... and after. N. Y., 1966, p. 31—42.
4 Цит. по: Hoffman К. Kunst-im-Kopf. Aspekte der Realkunst. Koln, 1972,
S. 36—37.
197
Уже к середине 60-х годов, то есть до начала подъема
массовых движений, неоавангард предстает как вполне сложившего
явление. Он возник в результате собственной, внутренней логике
движения модернизма, а не вследствие привнесения в него coiif-
ально-политических идей «новых левых». В художественных
программах этого времени почти не встречаются идеи протеста против
существующей общественной системы. Редкое исключение —
манифест «флуксуса», написанный западногерманским художников
Георге Мациунасом, в котором социальные цели аитиискусства
истолковывались в духе Лефа5.
Дело в том, что он питался иным кругом идей, в общем,
далеких от злободневных социально-политических проблем. Это были
идеи позднего Витгенштейна, лингвистической философии
оксфордской школы, гештальт-психологии, французского структурализма,
отчасти-—структурной лингвистики. Именно на эти учения
главным образом ссылались художники в своих печатных
выступлениях.
Интерес к учению Витгенштейна вспыхнул на Западе после
посмертной публикации его рукописей «Философские исследования»
(1953 г.) и «Голубая и коричневая книги» (1958 г.). В этих
работах Витгенштейн развивает концепцию языка и знания, отличную
от логоморфизма его раннего «Трактата».
Отказавшись от идеи совершенного логического языка, он
выдвигает новую лингвистическую модель — языков-игр, лежащих в
основе многообразной речевой деятельности людей. По мнению
Витгенштейна, язык подобен игре, поскольку он представляет
собой комплекс правил и любое употребление слова или выражения
является ходом в такой игре. Значение имени определяется его
использованием в том или ином конкретном контексте.
Употребление слова или выражения и есть его значение. Эта
функционально-релятивистская концепция значения находит себе продолжение
в идее существования внутри одного и того же национального
языка множества несводимых друг к другу языков, обслуживающих
многообразные виды деятельности.
В западной литературе часто подчеркивается
противоположность концепции позднего Витгенштейна идеям его
«Логико-философского трактата». Однако в этой противоположности есть и
преемственность. Язык и мир по-прежнему эквивалентны друг другу.
Речь идет лишь о растворении идеального языка в бесконечном
полиморфизме функциональных обыденных языков. «Мысль, язык
ныне представляются нам как единый коррелят, картина мира.
Такие понятия, как предложение, язык, мысль, мир, выстраиваются
друг за другом в линию, будучи эквивалентными друг другу.
(Однако для чего теперь должны использоваться эти слова?
Недостает языка-игры, в котором они должны применяться.)»6
5 См. манифест и письмо Мациунаса и ответ на него Джексона Маклоу
в кн.: Happenings Fluxus Pop Art Nouveau Realisme. Eine Dokumentation. Rein-
bek bei Hamburg., 1965, S. 199—200, 203, 218—222.
6 Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1953, p. 44,
198
Философия, по мысли Витгенштейна, пристраивает к
существующим игровым структурам еще одну, где используемым ею
суперпонятиям отвечает свой суперпорядок. Витгенштейн понимал,
что требование «кристаллической ясности логики» — всего лишь
требование, желанная норма, которая находится в конфликте с
реальным языком. Этим он и объяснял резкий поворот в
направленности своей философии: «Мы вступили на скользкий лед, где
нет трения, так что в определенном смысле условия стали
идеальными, но, и как раз по этой причине, мы неспособны ходить. Но
мы хотим идти: нам нужно трение. Назад к грубой земле»7.
Однако, пытаясь преодолеть это противоречие, философ, по его
собственным словам, лишь «повернул ось исследования,
закрепленную в одной точке», но не отказался от исходных идеалистических
посылок.
В своих поздних работах Витгенштейн растворяет язык в
речевых операциях; отказываясь от представления о слове как
носителе объективного смысла, он выходит на позиции крайнего
субъективизма и бихевиоризма. Поскольку же при этом сохраняются
и фетишизация языка, и идея равенства языковых структур
структурам мыслительным, полиморфизм прямо ведет философа к
тупику солипсизма. Ведь если значение целиком зависит от контекста
поведения и ситуации, а таких контекстов бесконечное множество,
то из языковой формы нельзя вывести никакой структуры мира.
Значит, мир есть просто то, чем он нам кажется:
неорганизованный поток явлений и непрестанных смысловых превращений.
Человеческое сознание оказывается замкнутым в темнице языка, и
любая попытка выйти из нее, пробиться к какой-то ясности,
системе мировоззрения будет означать лишь вхождение в иной отсек
темного лабиринта. Познание мира становится невозможным.
Поэтому Витгенштейн считал, что философия должна ограничиться
чисто дескриптивными задачами. «Философия никоим образом не
может вмешиваться в наличествующее (actual) использование
языка; в конечном счете, она может только описывать его.
Поскольку она не может дать ему и никакого обоснования. Она
оставляет все как есть»8.
На основе воззрений позднего Витгенштейна возникла целая
школа лингвистической философии с крупнейшими центрами в
Оксфорде и Кембридже. Фактически она стала школой
ликвидации философии, ибо университетские теоретики занялись лишь
описанием бытовых языков и лечением «лингвистических болезней»
своих подопечных. Такое разрушение философии вызвало протест
даже Бертрана Рассела, расценившего это направление как
дурную моду9.
Идеи определяющего значения языковых структур в познании
проникают и в лингвистику, которая, занимаясь вопросами
отношений языка и мышления, языка и субстанциональных свойств
7 Ibid., p. 46.
8 Ibid., p. 49.
9 См. предисловие Рассела к кн.: Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962.
199
объектов, нередко подменяла объективный мир присущими языжу
структурными отношениями.
Данная тенденция отчетливо проявилась, например, в копе:-:-1~
генской школе структурной лингвистики, так называемой глее
тематике. Основатель этого направления Луи Ельмслев,
рассматривая глоссематику как имманентную алгебру языка, неоднокрагэ*-
подчеркивал тесную связь своей теории с логическим
позитивизмом. Абстрактная структура языковых форм полагалась здесь
независимой от опыта, а реальные объекты определялись как то^
пересечения функций.
Сами языковые структуры рассматривались в некоторых
случаях как производные от более общих структур, изначально вег?:-
енных в сознание человека, присущих ему как биологическому
виду. Эту позицию, в частности, защищал Ноэм Хомский в cbcz"
гипотезе универсальной грамматики. Считая лингвистику псих>
логической дисциплиной и основываясь на воззрениях Гумбольдт.
Хомский приписывает мышлению в качестве врожденного
свойства общую теорию языка, универсальную грамматику, из которг"
выводится любая конкретная грамматика. Язык, по его
концепции, не усваивается в процессе обучения, а скорее
самопроизвольно вызревает, порождается общими схемами мышления.
«Представляется ясным, что мы должны рассматривать языковую
компетенцию— знание языка — как абстрактную систему, состоящую
из правил, которые взаимодействуют с целью задания формы и
внутреннего значения потенциально бесконечного числа
предложений» 10.
В процессе усвоения и использования языка происходит
активизация врожденных мыслительных схем, перевод скрытой
глубинной структуры в поверхностную структуру высказывания (то есть
семантическая и фонетическая интерпретации правил
грамматики). По Хомскому, «лингвистическая теория, если говорить
формально, является менталистикой, так как она занимается
обнаружением психической реальности, лежащей в основе реального
поведения» п.
Лингвистическая теория Хомского не претендует на решение
философских и эстетических проблем. Однако с ней был связан
новый этап в развитии структурализма. Структурализм К. Леви-
Стросса, Р. Барта, Цв. Тодорова и Ж- Лакана основывался на сос-
сюровской модели языка. Новое поколение, оперировавшее
такими понятиями, как «генотекст», «означающие практики»,
«социальное бессознательное», упрекало своих предшественников в
статичности. Хотя в программах постструктуралистской ветви
предпосылкой творчества объявлялась социальная реальность, речь
шла фактически лишь о налагаемых ею «глубинных структурах»
коллективного предсознания, порождающих «поверхностные
структуры» культурных текстов. Процесс реализации культуры пони-
Хомский Н. Язык и мышление, [М.], 1972, с. 89.
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. [М.], 1972, с. 10.
200
мался как цепочка выводов из базисного компонента первичных
формализации («общественной идеологии»), как трансформация
некоего «социального синтаксиса» в высказывание, речь. Именно
под этим углом зрения «переосмыслялась» терминология Маркса
в сочинениях Ю. Кристевой: все понятия диалектико-материалисти-
ческого учения — базис, надстройка, производительные силы,
обмен, общественная практика — истолковывались как сугубо
идеалистические понятия «языковой практики» и «производства
текстов». Столь невероятное искажение сути марксизма было
результатом перевернутого представления о соотношении бытия и
сознания.
Наряду с этим новейшим вариантом структурализма не
утратили своего влияния среди художников и более ранние,
собственно эпистемологические концепции Г. Башляра и М. Фуко.
Концепция априорности знания развивалась и в
гештальт-психологии (работы Макса Вертхеймера, Вольфганга Кёлера, Курта
Коффки и их последователей). Теория зрительного восприятия,
управляемого внутренними, встроенными в мозг механизмами,
увлекала многих участников неоавангардистских движений. Законы
зрительного восприятия, выведенные учеными этой школы в
результате множества экспериментов, очевидно верны, однако их
интерпретация как законов априорных, независимых от опыта,
выводит гештальт-психологию из сферы объективного знания в
сферу идеалистического философствования. Еще более
радикальным априоризмом и субъективизмом отличалась теория
восприятия М. Мерло-Понти, на которую также часто ссылался
авангард.
В 60-е годы вышли книги М. Маклюэна «Галактика Гуттен-
берга» и «Истолкование медиа», имевшие шумный успех. К ним
также не раз обращались деятели авангарда в собственном
теоретизировании. Но следует заметить, что книги Маклюэна не несли
в себе ничего принципиально нового и представляли собой лишь
вульгаризацию идей неопозитивизма и структурализма в
приложении к социальной сфере. Таковым был тезис Маклюэна
«средство и есть сообщение», где под средством понимался язык печати
и современных масс-медиа — радио и телевидения.
Вышеизложенные идеи, возникшие в сферах философии,
лингвистики, психологии и культурологии, можно объединить в одну
систему, в центре которой стоит мысль о том, что любой вид
знания продуцируется внутренними законами самого сознания,
накладывающего свои схемы на видимые объекты и
субстанциальные свойства мира. Рассматриваемые в единстве, такие воззрения
фактически целиком растворяют объективное в субъективном;
опирающаяся только на себя гносеология поглощает онтологию.
Конечно, было бы неверным полагать, что новейшее
антиискусство непосредственно вытекало из идеализма лингво-философ-
ских школ. Скорее, речь должна идти об их мировоззренческом
родстве. Новизна состояла в том, что в 60-х годах это родство
было отчетливо осознано и художественный авангард стал активно
201
втягивать близкие ему идеи из доктрин, разрабатываемых
гуманитарными науками.
Однако, когда в авангардистских теориях мы сталкиваемся с
набором заимствований из психологии, лингвистики,
литературоведения, философии, по существу, здесь нет эклектики. Выбо~
делался вполне целенаправленно, понятия и фрагменты научных
концепций способствовали оформлению собственной идеологии.
На первый взгляд может показаться странным, что сложные
и тонко разработанные учения стали идейным плацдармом для
диких вывертов в искусстве. Гораздо более подходящую модель
как будто предлагает «эстетика бунта» франкфуртской школы.
Однако на самом деле это было именно так, и из последующего
изложения должно стать ясным, каким образом
субъективно-идеалистические концепции содействовали самоопределению авангарда.
В результате сведения этих учений воедино возникло некое
обобщенное представление о языке, в которое включались,
помимо собственно языка, «языки» искусства, зрительного восприятия,
логики, науки, массовых коммуникаций, даже «язык» предметного
окружения и природы. Безграничное расширение сферы языка,
поглощающей фактически все бытие, прямо вытекало из
представления о том, что знание об объективном мире генерируется
исходными схемами сознания. Если все — начиная от данных
зрительного восприятия и кончая научной теорией — есть лишь
реализация языковых правил, универсальной грамматики, значит в
мире нет ничего, кроме иерархии языков. Конечно, это вывод
довольно грубый и в изолированных сферах частных наук он
возникал довольно редко и в осторожных формулировках. Но творцы
антиискусства не чувствовали себя связанными требованиями
научной объективности и не отступали перед экстремальными
заключениями.
Такое представление о языке стало для них оперативным
понятием и руководством к действию. Оно лежало в основе
авангардистских движений во всех сферах — в театре, музыке,
визуальных искусствах, в литературе.
Ионеско, например, прямо говорил, что единственным героем
его пьес является язык. И действительно, в них язык,
освобожденный от задачи отражать действительность, следуя лишь своим
внутренним грамматическим правилам, автоматически творит
бессмыслицу, создает из себя ирреальные персонажи. Нечто
подобное происходит в романах Роб-Грийе, где предельно
«объективное», протокольно подробное описание замыкается на себе,
вследствие чего текст приобретает значимость реальности, а объект
описания становится порождаемой им фикцией (например, в
«Лабиринте» один и тот же перечень признаков относится и к
реальной сцене, и к гравюре). Текст романа Натали Саррот «Золотые
плоды» состоит из критических суждений об этом же романе. Вся
головокружительная фантастика «Химеры» Джона Барта, с ее
уходящими в бесконечность превращениями вымысла в реальность
и обратно, построена на подчинении содержания архетипической
202
структуре мифа или вставленной в обрамление народной сказки.
Растянутые на десятки страниц фразы Клода Симона растворяют
в себе содержание высказывания, так что остаются отдельные
фрагменты смысла, связанные между собой лишь формальной
грамматикой предложения.
В предисловии к сборнику авангардистской поэзии «Новейшие»,
вышедшему первым изданием в 1961 году, один из его авторов
и составитель, Альфредо Джулиани, писал: «Поэзия должна
предаться языку во всей своей наготе, не облекать себя идеологией;
и поэт, каковы бы ни были его политические и социальные
интересы, обязан прежде всего изучать те воздействия, отметины,
раны, которые оставляет на нем язык. Исходя из этого, каждый
из нас развивал и продолжает развивать собственную идею о
«структурных» (не содержательных) функциях идеологии. Что
касается меня, то я просто полагаю, что идеология входит в
состав материала конструкции»12.
Исходя из этих представлений, литературный авангард все
дальше шел по пути разрушения смысла («идеологии») языком,
дойдя наконец в «конкретной» (или «визуальной») поэзии до
разрушения и самого языка: не только логических и грамматических
связей, но и связей между орфографическими или фонетическими
единицами. И здесь нет противоречия. Ведь и собственно язык
понимается как содержательное порождение неких более общих
(мыслительных или материальных) схем, то есть по отношению
к ним он выступает уже как «идеология». Позднее, в период
политизации авангарда, язык и третировался именно как
«рационалистическая буржуазная идеология».
Видный представитель и теоретик конкретной и
«пространственной» поэзии Пьер Гарнье писал:
«Мы переходим от аллегорического языка (репрезентирующего
самого себя или предметы) к языку-материи, в котором
репрезентативные функции не являются больше доминирующими.
Мы переходим от языка дескриптивного к языку конкретному,
зибрирующему, в котором значения возможны, но необязательны.
От языка-коммуникации к языку-реализации. Но мы идем еще
дальше... Поэты должны работать как математики: если мы хотим
достичь ту внутреннюю реальность, которая все еще ускользает
т нас, нам необходимо значительно облегчить, редуцировать
социальный язык, использовать буквы, создавать знаки; такое
творчество и такое открытие — цель спациализма» 13. II далее:
«Слово — элемент.
Слово — материя.
Слово — объект» 14.
Как видим, это почти буквальное повторение идей,
родившихся вместе с кубизмом.
12 I novissimi. Poesie per gli anni 60. Torino, 1960, p. 13.
13 Gamier. Spacialisme et poesie concrete. Paris, 1968, p. 15—16.
14 Ibid., p. 130.
203
Итальянский литературовед Анджело Гульельми, подчеркивая
вещественный характер неоавангардистской продукции,
переставшей быть зеркалом реальности, пишет: «Отсюда — непрозрачность,
в традиционном смысле, современного художественного продукта,
который предлагает не «речь о мире» и не возможность
бесконечных речей (в качестве интерпретаций), а скорее «образцы»
реальности, выработанные на нейтральном уровне»15.
Таким образом, новый авангард был далек от каких бы то
ни было социально-политических идей. Вплоть до конца 60-х годов
он не принимал позы протеста. Скорее, это была позиция
асоциальное™, самоотключения от общественной и политической жизни.
Задача отражения социальной действительности просто не
вписывалась в то понимание творчества, которое было свойственно
художникам и писателям «передового отряда» буржуазной
культуры. С большой ясностью эта позиция выражена в следующее*
рассуждении лидера «нового романа» Роб-Грийе:
«Нет оснований для требования служить нашими романами
делу политики, даже тому делу, которое мы считаем правым, даже
если в своей политической жизни мы боремся за его торжество...
До произведения нет ничего-—ни достоверности, ни
утверждений, ни сообщений. Полагать, что романист имеет «что-то
сказать», а затем ищет, как это сказать, — одно из серьезнейших
заблуждений. Ибо как раз это «как», манера высказывания, и
составляет писательский замысел, замысел наиболее смутный и
который впоследствии станет проблематичным содержанием его
книги». Следовательно, «единственно возможная вовлеченность
(engagement) для писателя — это литература»16. Гульельми даже
подчеркивает конформизм нового авангарда, опору на культурную
индустрию и институты современного буржуазного общества.
И только в период подъема массовых движений и под давлением
идеологии новых левых «передний край» начинает осознавать себя
чем-то вроде культурной герильи внутри общества. Но и тогда
очень многие художники отказываются видеть в своем искусстве
политическую направленность.
Теперь можно перейти к рассмотрению деятельности
неоавангардистских направлений. Заранее оговоримся, что предложенная
ниже классификация условна, ибо провести отчетливую грань
между, например, поп-артом и ассамблажем, хэппенингом и
искусством окружения, искусством земли и концептуальным искусством
невозможно. И дело не только в том, что одни и те же художники
проявляли себя одновременно в различных видах.
Многочисленные направления 60 — начала 70-х годов переходят друг в друга
почти без пауз, сливаясь в некую непрерывно тянущуюся
поверхность. Здесь можно говорить лишь о колебаниях этой поверхности,
волнообразных переходах одного направления в другое.
15 Guglvelmi A. Avanguardia e sperimentalismo. Milano, 1964, p. 48.
16 Ecrits sur Tart et manifestes des ecrivains fran^ais. M., 1981, p, 469. Под
«ангажементом» Роб-Грийе имеет в виду сартровское требование вовлеченности
литературы в общественную жизнь.
204
Более того, в неоавангардизме растворялось различие и между
видами искусства. Так, «визуальная» («конкретная») поэзия
сливалась с некоторыми проявлениями концептуализма и
шрифтовыми картинами поп-арта; музыкальные и театральные хэппенинги
были совершенно идентичны тем, которые организовывали
художники; использование телевизионной и кинотехники, звука также
означало вторжение пластического искусства в смежные области.
Не случайно признанным лидером американского авангарда стал
композитор Джон Кейдж, который, работая в двух
экспериментальных школах — Блэк Маунтин Колледж и нью-йоркской Новой
школе, — объединил вокруг себя таких художников, как Роберт
Раушенберг, Аллен Кэпроу, Дик Хиггинз, Эл Хэнсен, Джордж
Брехт и другие.
Однако необходимость последовательного изложения
заставляет произвести хотя бы приблизительное расчленение этого
сплошного материала, выделить в нем фигуративные формы,
процессуальные, искусство объекта и, наконец, концептуальное искусство.
1. Фигуративные формы. Поп-арт, «новый реализм»
Начало американскому поп-арту положили два художника —
Роберт Раушенберг и Джеспер Джонс.
Раушенберг в своих «картинах-комбинациях» (combine-painting)
стремился предельно материализовать живопись путем введения
в нее реальных объектов, уничтожить даже ту иллюзорность,
которая существовала в абстрактном полотне, «Я не хочу, чтобы
картина выглядела как что-то, чего нет. Я придерживаюсь того
мнения, что картина более реальна, если она составлена из частей
реального мира» 17.
Джеспер Джонс задался целью овеществить само изображение,
сделать его неотличимым от объекта. В таких его созданиях, как
бронзовые имитации пивных банок или электроламп, живописные
повторения американского флага, изображение почти
тождественно изображаемому.
«Я думаю, что объект как таковой — сомнительное понятие...
Холст — объект, краска — объект, и объект есть объект. Если холст
может быть наделен каким-то пространственным значением, то и
объект можно наделить таким значением в пределах холста» 18.
Оба художника, двигаясь с противоположных концов, пришли
к одному и тому же — утверждению тождественности реальности
и искусства. И действительно, равенство не изменится,
приравнивать ли объект к изображению или изображение к объекту. Суть
одна, и ее хорошо растолкует Раушенберг, когда скажет, что
искусство может пребывать где угодно: «в мушином помете или
кисточке для бритья, в жире, войлоке или на пашне, в шоколаде
или в плесени, в опилках, в перспективе, открывающейся с само-
17 Цит. по: Hoffman /С Kunst-im-Kopf, S. 25.
18 Цит. по: Idea and Image in Recent Art. [Catalogue]. Chicago, 1974, p. 15.
205
лета, или на морском дне, в магнитной записи, почтовой
открытке или телефонном разговоре, на телеэкране или просто в
голове» 19- Понимаемое таким образом искусство и станет полем
деятельности авангарда.
К началу 60-х годов в США сформировалась группа из пят?
художников, которые составили ядро поп-арта. Это были —
Энди Уорхол, Клаэс Олденбург, Том Вессельман, Джеймс
Розеиквист и Рой Лихтенштейн. Двое из них (Уорхол и Вессельман)
ранее работали в области рекламы и массовой графики, и все
пятеро отталкивались от проявлений так называем^; массовой
культуры. Уорхол воссоздавал на холстах живописными илч
печатными методами популярные фотографии и товарные упаковки;
Олденбург изображал муляжи и выложенные в магазинах
товары; Лихтенстейн имитировал в живописных полотнах картинки
комиксов, Розеиквист — рекламные щиты, а Вессельман помещал
силуэты нагих гёлз среди стандартных предметов современных
квартир.
Внезапный взрыв фигуративное™ после долгого господства
абстракционизма сбил с толку критику, которая расценила поп-арт
чуть ли не как возвращение к реализму. Многие западные
искусствоведы писали, что поп-арт отразил реалии современного
окружения, видели в таких картинах род урбанистического пейзажа
и даже критику индустриализма и «общества потребления».
Между тем художники вовсе не собирались что-то отображать, а тем
более критиковать. Готовые имиджи, заимствованные из сферы
массовой культуры, были для них не объектом воспроизведения,
а исходным материалом, не целью, а средством. Вот что по этому
поводу они говорили.
Том Вессельман: «Люди ошибаются, придавая значение вещам,
которые использует художник. Я применяю рекламную картинку,
поскольку она есть реальное, определенное изображение чего-то,
а не потому, что она снята со щита для афиш. В рекламных
изображениях меня увлекает главным образом то, что я могу сделать
из них»20.
Джеймс Розеиквист: «Сюжет здесь — не популярные образы,
вовсе нет»21.
Рой Лихтенстейн: «Как только я установил, каким будет
сюжет, он меня больше не интересует... Во время исполнения я
думаю о нем как об абстрактной картине»22.
Типичный пример поп-арта — муляжи пищепродуктов Олден-
бурга. Натуральность его шницелей, бутербродов и мороженых
оспаривается гигантскими размерами и искусственными
материалами. Иногда изображение почти полностью исчезает в материале,
так что лишь с помощью названия можно зрительно извлечь
какой-нибудь «сэндвич» из наслоений цветного полиэтилена, пено-
19 Цит. по: Hoffman К. Op. cit, S. 174.
20 Цит. по: Lippard L. R. Pop Art. New York-Washigton, 1966, p. 80.
21 Ibid., p. 80.
22 Ibid., p. 125.
206
пласта и искусственного меха. Точно так же в его серии «мягких»
(выполненных из синтетической пленки) унитазов, пишущих
машинок, выключателей и т. п. изображаемый объект пропадает в
противоречащей ему текстуре и смятой форме.
В живописи Розенквиста изобразительная система
расстраивается намеренной банализацией, имитирующей манеру
провинциальных вывесок и афиш, выхваченными из контекста и потому
неузнаваемыми и необъяснимыми деталями, неожиданным
совмещением в одной композиции разнородных сюжетов.
Методы работы с изображением очень показательны для поп-
арта, в них наглядно отразилось специфическое понимание
художниками задач их деятельности. Основные усилия были
направлены на механизацию творческого процесса, на последовательное
исключение из него личностного начала: и собственного
восприятия, и индивидуального движения руки. Типичными стали оттиск
изображения способом шелкографии, печать с литографического
камня, перевод фотографии на покрытый эмульсией холст. Их
широко применяли Раушенберг, Уорхол и другие. Выполняя
изображение от руки, художники также стремились предельно
технизировать процесс, уподобить его работе механизма. Лихтенштейн
использовал готовые шаблоны для воспроизведения растра печати,
диапроектор для перевода картинки комикса на холст,
переворачивал полотно во время работы, чтобы не допустить
непроизвольной интерпретации копируемого сюжета.
В результате создавалась картина, темой которой был не
изображаемый сюжет, а механические приемы его передачи.
Выявление механических способов построения изображения, их
несомненной материальности, противостоящей призрачности идеального
образа, стало основной задачей поп-арта. Когда Уорхол применял
при печати фотографии различные плотности красочного слоя и
степень давления, то в одних случаях на холсте возникал почти
стертый, слепой оттиск, в других — под сильным нажимом
исчезали полутона и светотеневые переходы, иногда случайные подтеки
краски смазывали и повреждали очертания формы — пресс печати
раздавливал хрупкую, уязвимую иллюзорность. Той же цели
разрушения иллюзии служило и многократное повторение
оригинала— изображение приобретало характер плоской картинки,
изделия, выброшенного конвейером массового производства.
Одно из творений Джеспера Джонса представляет собой
картинку комикса, перекрытую беспорядочно наложенными мазками
абстрактной живописи. Лихтенстейн, по существу, также
перечеркнул печатное изображение, найдя для этого средства в самой
технике его построения. В его картинах фрагменты комиксов и
банальных реклам увеличены до размеров живописного полотна.
Художник как бы рассматривает комикс под лупой (роль ее
выполняет диапроектор): изображение распадается, с навязчивой
очевидностью выступает его код, техническая структура
построения. Полиграфический растр, стандартность печатной линии,
одинаковой для текста и изображения, плоскостность цвета, трафа-
207
ретность безличной формы — все эти черты тщательно имитирую -
ся от руки. Здесь цель и средства поменялись местами: если i
полиграфии растр — способ создания зрительной иллюзии,
точечная манера Лихтенштейна — средство ее разъятия, способ
обнаружения сделанности, искусственности изображения. На одной из его
картин мы видим зеркала, в которых ничего не отражается, г^е
сетка точек лишь фиксирует шестикратно повторенную пустоту.
Эта картина, весьма близкая к абстракционизму, может служить
выразительным символом всего поп-арта: в нем царит слепая сила
механистичности, под натиском которой отступает образ.
В этом нетрудно увидеть то, что Пикассо называл «драмой>„
или «проблемой». Различие состоит лишь в том, что у него стихия
живописи противопоставлялась изображению, а здесь готовое,
заранее данное изображение опровергается стихией механических
средств.
Критик Лоуренс Оллоуэй писал, что поп-арт — это «искусство
о знаках и знаковых системах. Реализм, если принять его
минимальную дефиницию, имеет дело с восприятием художником
пространственных объектов и их переводом в иконические, правдивые
знаки. Поп-арт же работает с материалом, который уже
существует в качестве знаков: фотографиями, фабричными изделиями.
комиксами, то есть с материалом перекодированным» 23.
Это определение безусловно верно. Самое поразительное в поп-
арте то, что здесь уже ни сюжет, ни средства не принадлежат
художнику: они вынесены за скобки творчества, существуют до
художника, как два ряда знаков, возникших в техническом
«промежуточном мире» (Zwischenwelt). Если в более ранних
фигуративных формах модернизма и стихия материала, и спонтанность
образа все же как-то контролировались художником и потому
несли на себе печать его индивидуальности, здесь сознание
действительно стало слепым, выключенным из процесса
взаимодействия знаков визуальной коммуникации24. Картина поп-арта, при
всей ее мертвой стабильности, по существу, очень неустойчива:
перед ней трудно решить, что является текстом, а что языком, где
материя знака, а где его значение. Внутренняя поверхность, как
в кольце Мёбиуса, непрерывно переходит во внешнюю, изнанка
живописи — в ее лицо, и обратно. Гарольд Розенберг определил
поп-арт как gag art, то есть искусство трюка. Такая обратимость
имиджа автоматична и возможна только потому, что человеческая
позиция, определяющая однонаправленное считывание знаков,
устранена из картины. «Поп-арт подобен сосуду, назначение
которого— оставаться пустым»25.
23 Alloway У. Pop Art. New York-Washington, 1974, p. 7.
24 В так называемых новеллах Розенквиста (коротких рассказах
художника о поразивших его жизненных ситуациях) проявляется совершенно особая
позиция восприятия: так увидеть явления можно только при некоторой отклю-
ченности сознания, в состоянии своего рода полушока. (См.: Rublowsky /. Pop
Art. N. Y., 1965, p. 87—94.)
25 Rosenberg H. The Anxious Object. Art Today and Its Audience. New York-
Toronto, 1969, p. 178.
208
Энди Уорхол говорил: «Причина, по которой я пишу таким
образом, состоит в том, что я хочу быть машиной, и я чувствую,
что все, что я делаю наподобие машины, есть как раз то, что я
хочу делать»26.
«Всякая живопись есть факт, и этого достаточно»27.
«Если вы хотите знать все об Энди Уорхоле, просто
посмотрите на поверхность моих картин, на меня и мои фильмы. За этим
ничего нет»28.
Кажется, о поп-арте нельзя сказать ничего более
разоблачительного, чем то, что уже было сказано самими художниками.
Так, Лихтенстейн объявлял, что его позиция — это позиция
«антисозерцания, анти-нюанса, анти-ухода от тирании прямоугольника,
анти-движения и света, анти-тайны, анти-живописных качеств,
анти-дзен и анти-всех тех блистательных идей предшествующих
движений, которые все так хорошо усвоили»29.
Но негативизм — прямой результат тех философских идей,
которые утверждают равенство сознания и реальности, мышления
и языка. Определение Витгенштейна «значение есть употребление»
подхватывается Джеспером Джонсом: «Значение определяется
использованием вещи, способом употребления живописи, когда она
предстает перед публикой»30. Джонс хочет сказать, что сама по
себе картина — «пустой сосуд», который каждый может наполнять
любым содержанием, организуя свой текст из данной знаковой
системы. Родство с «блистательными идеями предшествующих
движений» здесь несомненно.
Поп-арт непосредственно выходит к искусству объекта,
искусству окружения, хэппенингу, концептуализму и т. п. Раушенберг,
Уорхол, Олденбург были участниками, а часто и
непосредственными инициаторами этих движений.
Олденбург: «Я за искусство, которое не сидит на своей
заднице в музее, а делает что-то другое. Я за искусство, которое
вырастает и не подозревая о том, что оно — искусство... Я за
искусство, которое смешано с повседневной чепухой и все же поднимается
наверх... Я за искусство, которое выходит из трубы как черные
волосы и рассеивается в небе... Я за искусство, которое лижет
ребенок, сорвав с него обертку... Я за искусство,
развертывающееся как карта, которое вы можете сжать, как руку своей
подружки, или поцеловать, как собачонку»31.
Эта патетическая декламация означает одно: необходимо
сбросить искусство с его пьедестала в обыденный мир, растворить его
в предметности повседневного окружения. Что и было сделано
Олденбургом в его хэппенингах, энвайронментах и глумливых
26 Avant-Garde Art. Ed. by Th. В. Hess and J. Asbery. London, 1968, p. 204.
27 Цит. по: Idea and Image in Recent Art, p. 12.
28 Ibid., p. 22.
29 Цит. по: Lucie-Smith Ed. Art Today, p. 199.
30 Ibid., p. 160.
31 Цит. по: Johnson E. H. Modern Art and the Object. A Century of Changing
\ttitudes. London, 1976, p. 37.
209
77. Роберт Раушенберг. Без названия. 1955
78 Клаэс Олденбург. Гигантский мягкий выключатель 1966
210
^:
\
\ ^
/Г , ^,2** '
1 /■'.>"<*
79. Клаэс Олденбург. Лосось под майонезом. 1964
^ \
Ч
Р/&
У
*• :
>^
V*-; =& ^
■5 > ^i4
I *
^
>t.
А „
Ж:,
%\ -
З^Ъ --flj,
\V
*<
■ >v —
fflfi
80. Энди Уорхол. Мерилин Монро (фрагмент). 1967
211
w
*$№ j?
81. Энди Уорхол. Элвис I и II. 1964
1
\- 1.
; *■-
82. Том Вессельман. Ванна. Коллаж № 3 (фрагмент). 1963
212
ШАУВЕНЕВЕОМЕЩ
WC0UL9NT
EAVE
83. Рой Лихтенстейн. М-может быть. 1965
84. Рой Лихтенстейн. Настенный взрыв № 1. 1964
213
!%г
/
85. Чак Клоуз. Кейт. 1970
86. Клаудио Браво. Синий пакет. 1976
214
Ч-Щ
^***Щ
87. Роберт Коттингем. F. W. 1975
Лё*^ - w г
K.M. 5;i*
.**%
<ж
'•V
88. Дьюэн Хэнсон. Женщина с тележкой. 1969
215
* "Л ,■" fcv
W.
IS
(ь \
V
(* Ж,
ч#
---"-■^■■i-l.iv-*':.
89. Одри Флэк. Королева. 1976
■**■
V --***'-*■*».*5;**i.г *<. *%**,»
"С
assail
.v*l ,*■■", *i- ~: --Vv-^v- -fc%4" -,-ч**Аъ.. ■■*. .. ;.**' .s.'.--s-/; !*..'**%-;«. ^ -jtiwC ■'''■-'''■•■■■ - *
'"■A ■ ■ * ■' ^„г'.г-'.г^»* -•-■* W« ■■ . ;■:-..*■ •. ■ >b'ji4 ,.x-- ■■■■■■' ~*4**i^----"^*. ■.■■■■* ■■ - л
* -S"' J - *"■ - - *J « .'■■*■' ^ "*** ■'..■.. «' -ar -""*- ' i ■■''■*' \ *a . -. -' ■.'.'■■.'.■ ■ ■j.'j." . - '■*
*.*• ..*■ -.*v^ . **- -■■■■■ . -. ■■.-. ■■■ ■. »K^ ■-. ■■. ,A.* ^^n^C -.._:-;.- ■..-■. ^ «*V1*, .
■^V v-:?- -■■Ж*; ■■■; ? * . ■»■ ^i>
90. Ален Жаке. Завтрак на траве 1964
216
проектах монументов. Направление поп-арта очень недолго
существовало в той классической для него фазе, в которой оно здесь
описано, и скоро сменилось другими формами антиискусства.
Одним из ответвлений поп-арта стало течение так называемого
нового реализма с его центром — гиперреализмом (или
фотореализмом).
Фотореализм возник в США в конце 60-х годов. В 1968 году
состоялась первая выставка, представлявшая это направление,—
«Реализм сегодня». Его появление сопровождалось совершенно
ошибочными интерпретациями критики, писавшей о ретроспек-
тивизме, о возвращении к нормам прежнего реализма и
гуманистическим ценностям классики. Фотореализм шел по тому же
пути, что и поп-арт, и даже углубил противоречие между
предметностью языка и иллюзорностью текста.
Отличие от поп-арта можно свести к трем пунктам. Во-первых,
элементарный фотосюжет — рекламная картинка, портрет «идола»
массовой культуры, упаковка фабричного продукта — был заменен
сюжетом многосоставным: вид улицы, мест городских развлечений,
магазинных витрин. Во-вторых, было отброшено свойственное поп-
арту объединение различных фрагментов на холсте или
многократное повторение одного и того же имиджа. В-третьих, метод
механического оттиска был заменен методом живописной имитации
фотографической формы. Впрочем, все эти отличия не абсолютны,
и в некоторых проявлениях поп-арта специфические признаки
фотореализма были уже налицо.
Виднейшими представителями американского фотореализма
стали Чак Клоуз, Дон Эдди, Ральф Гоингз, Ричард Эстез, Роберт
Коттингем, Бен Шонцайт, Малькольм Морли. Эти художники
копировали фотографии вручную, увеличивая их размеры до
размеров большого полотна. Метод работы «сверхреалистов» ярко
выявляет их цели.
Художники стремились исключить из процесса создания
картины всякую возможность участия собственного сознания,
видения, индивидуального движения руки. Наиболее популярным стал
заимствованный у Лихтенстейна метод работы с помощью
диапроектора, а также способ перевода изображения на холст
посредством масштабной сетки. В ходе работы художники, как правило,
переворачивали холст и заполняли нанесенные на него квадраты
не последовательно, а вразбивку, переходя, например, от
центральных частей картины к нижним или боковым. Краска часто
накладывалась не кистью, а аэрографом. Случайно возникшие
неровности фактуры сглаживались лезвием безопасной бритвы,
поверхность шлифовалась и полировалась. Пользуясь таким
методом, художники фактически изображали не сюжет, а
инфраструктуру фотографии.
Чак Клоуз, специализировавшийся на портретах своих
знакомых, говорил: «Люди, позирующие для фотографии, поставляют
217
мне информацию, по которой я работаю, изготовляя картину.—
о портрете нет и речи. Меня интересует то, что видит камера, и
то, что она фиксирует. Сходство в моих работах — побочный
продукт, получающийся автоматически. Меня интересует
искусственность... Я стремлюсь свести к минимуму традиционные методы
композиции, мазка и прочего живописного исторического
балласта... Я стремлюсь к тому, чтобы увидеть лицо не иначе, как
только в соотношении носа и уха»32. «Моя главная цель — перевести
фотографическую информацию в информацию живописную»33.
Картины гиперреалистов лишены зрительного центра, в них нет
ни композиционной, ни смысловой организации материала.
Созданный фотокамерой образ — это плоская поверхность,
иллюзорная видимость, закрывающая путь к постижению существенного
содержания действительности. Если поп-арт ограничивался
выбором частных сюжетов из сферы массовой культуры, в
гиперреализме угол зрения камеры расширился, охватив мир
современного урбанистического окружения — магазинов, ресторанов,
бензозаправочных станций, стандартных жилых зданий,
обслуживающих автоматов. И все это было представлено не как
действительность, увиденная живым человеческим глазом, а как предметность
механической картинки.
Западногерманский искусствовед Петер Загер пишет о
гиперреализме: «Никогда прежде картины не были столь наполнены
вещественными деталями и столь пусты по смыслу. Никогда
картины не были столь предметны и одновременно столь
абстрактны. Никогда реалистические изображения не были столь мало
реалистичны»34.
Полотна гиперреалистов утверждают равенство
действительности и ее симуляции, фетишизированных призраков
потребительского мира и подлинной сущности вещей, иллюзорной
картинки и реальности, что дало основание Загеру назвать это
направление «оптическим позитивизмом»35.
Виднейшие представители гиперреализма в скульптуре —
Джон де Андреа и Дьюэн Хэнсон.
Таких перепевов поп-арта, в которых до бесконечности
варьировались переходы изображения в материю средства, было
множество. К ним можно отнести, например, французские направление
«повествовательной фигуративности», «объективного реализма».
«механического искусства» (мек-ар). Оттенки между ними едва
различимы. То художники многократно увеличивали растр печати,
в котором почти распадалась репродукция с известной картины
32 Цит. по: Sager P. Neue Formen des Realismus. Kunst zwischen Illusion
und Wirklichkeit. Koln, 1973, S. 226.
33 Цит. по: Lucie-Smith Ed. Movements in Art since 1945. London, 1975.
p. 256.
34 Sager P. Op. cit., S. 53.
35 Ср. с суждением Витгенштейна: «Философия просто ставит все перед
нами, ничего не объясняет и ничего не выводит. Поскольку все открыто взору,
объяснять нечего. А то, что скрыто, например, не представляет никакого
интереса для нас». (Wittgenstein L. Philosophical Investigations, p. 50.)
218
(Жаке), то коллажная картина переводилась фотоспособом на
покрытый эмульсией холст (Бертини), в иных случаях в изображение
вводились реальные объекты (Монори, Телемак, Клазен). Эрро
исполнил в манере банального комикса серию «Американских
интерьеров», переписывал в той же манере сюжеты классических
картин.
Французский искусствовед Жан Клер так характеризует мек-
ар: «Можно сказать, что здесь мы имеем дело с речью
непереходной, которая повествует только о себе: образ... рассказывает
о самом себе, о правилах, которыми он руководствуется, о
знаковых системах, которые лежат в его основе, о флексиях и
сочленениях — короче говоря, о своей собственной риторике»36.
Понятно, что такого рода речь не может быть носителем
какого бы то ни было смысла. Автор обстоятельной монографии
о новейшем французском авангарде Анн Тронш, считая, что
объективный реализм означает отказ от коммуникации, пишет:
«Фактически современная реалистическая живопись не имеет
отношения к области критической или аналитической мысли и не
отражает какой-либо определенной позиции по отношению к
окружению или к историко-социологическому континууму. Обращаясь
к объективности констатации, она интегрируется и включается в
декорацию жизни, не выясняя ее оснований. Необходимо
признать, что здесь мы имеем дело с живописным свидетельством,
которое не обладает ни эстетическим, ни политическим
измерением. И характеризовать эту новую фигуративную волну можно
в конечном счете как волну отсутствия идеологии»37.
Все проявления «нового реализма», несомненно, близки
концептуальному искусству, в котором также различные способы
передачи информации были обращены на демонстрацию «своей
собственной риторики». Различие состоит лишь в том, что
концептуализм отказался от визуального языка, свойственного
изобразительному искусству, прибегая к языку слов, жестов и
условных знаков. Но если учесть, что авангард изначально
постулировал обратимость всего и вся в язык, то такое различие
предстанет как чисто формальное.
2. Искусство объекта и тотальное искусство
Среди разновидностей объект-искусства можно выделить две
линии. С одной стороны, это направления, которые, продолжая
абстракционизм, свели произведение к чистой материальности,
превратив его в объект, равный другим объектам внешнего мира.
Эта линия нашла себе наиболее полное выражение в
минимальном искусстве. С другой стороны, в ряде направлений 60-х годов
возобновилась традиция, идущая от Дюшана, который в1916го-
36 Clair /. Art en France. L'ne nouvelle generation. Paris. 1972, p. 64.
37 Tronche A., Gloaguen H. L'art actuel en France. Du cinetisme a I'hyper-
realisme. Paris, 1973, p. 290.
219
ду сделал серию реди-мейд, то есть попросту выставил в
качестве произведений готовые изделия: писсуар, сушилку для
бутылок, велосипедное колесо. Художники этого круга ограничивались
демонстрацией на выставках различных предметов, прямо взятых
из окружения или незначительно видоизмененных. Эта линия
была представлена такими формами, часто перекрывавшими друг
друга, как ассамблаж, бедное искусство, ряд проявлений энвай-
ронмента (искусства окружения) и лэнд-арта (искусства земли).
Две волны объект-искусства были встречными и переходили друг
в друга через ряд промежуточных форм, ибо, как говорил Джес-
пер Джонс, «если живопись — объект, значит объект может быт
живописью»38.
Представители минимального искусства, продолжая
тенденцию геометрического абстракционизма, и особенно
американского направления «острых граней» (Барнет Ньюмен, Эллсуорт Кел-
ли, Кеннет Ноланд), попросту стремились свести форму к
минимуму. Произведения таких художников, как Карл Андре,
Дональд Джад, Роберт Моррис, Тони Смит, Дэн Флейвин и
других представляли собой повторяющиеся пространственные
конфигурации или объемы простейших очертаний и, как правило,
огромных размеров. Чаще всего эти гладко окрашенные кубы,
бруски, планшеты выполнялись на заводе по заказу художника.
Создавая произведения предельно «объективные», то есть
безличные и лишенные всякого намека на внутреннее содержание.
минималисты ссылались на неопозитивистскую концепцию
реальности. Так, художник Мел Бохнер, один из теоретиков нового
авангарда, в своей статье о серийном искусстве (другое название
минимализма) приводит такую цитату из Айера: «В вещах нет
ничего сверх того, что может быть обнаружено путем полного
перечисления всех описаний, которым они удовлетворяют».
Отсюда делается вывод, что все объекты внешнего мира равны,
автономны и не соотносимы друг с другом. Вещь может быть только
описана в своем явлении, но сущностное ее познание исключено.
В соответствии с этим объект в минимальном искусстве
исчерпывается его видимостью. Говорить о личном опыте постижения
действительности здесь невозможно, так как опыт — набор
опытных данных, а понятие «я» представляет собой лишь «некоторую
конфигурацию опыта». Отчетливо понимая, что данная позиция
есть позиция солипсизма, Мел Бохнер утверждает ее в качестве
основы минимализма.
Солипсист «отрицает существование чего-либо вне замкнутых
пределов его собственного сознания... Поскольку реальность
рассматривается как находящаяся внутри границ мышления, ее
измерения выбираются наугад и она теряет свои качества
протяженности. Она становится плоской и статичной. Серийное
искусство, с его в высшей степени абстрактными и упорядоченными
Цит. по: Gottlieb С. Beyond Modern Art. N. Y., 1976, p. 111.
220
манипуляциями мышления, точно таким же образом является
самодостаточным и нереференциальным» 39.
Художники авангарда подчинили свое искусство идее
непознаваемости мира. Критик Барбара Роуз говорит о том, что
произведения минималистов, «означающие только самих себя»,
являются иллюстрациями положений Витгенштейна. «Нельзя
отрицать, что эти молодые художники стремятся подавить или
попросту изъять содержание из своих произведений... В таком случае,
если мы рассматриваем произведение со стороны его внешнего
вида, содержание должно быть не чем иным, как суммой
утверждений о том, что оно имеет такую-то форму, занимает такой-то
объем в пространстве, окрашено в такой-то цвет и выполнено из
такого-то материала»40. Действительно, в элементарных объемах
минималистов постигать нечего, их можно лишь описать.
Эдвард Люси-Смит также видит в минимализме параллель
лингвистической философии41. Розалинд Краус связывает это
направление с концепцией зрительного восприятия Мерло-Понти42.
Один из основоположников минимализма, Ричард Смит,
говорил: «Я создаю живопись о коммуникации. Средства
коммуникации занимают обширную часть в моем пейзаже. Мой интерес
сосредоточен не столько на сообщении, сколько на методе»43.
Выстроить искусство на солипсистских основаниях
невозможно. По существу, художники и не претендовали на это. То, что
они делали, — негативность в чистом виде, отказ от своей
профессии. Было бы ошибочным изыскивать (как это иногда
случается в критической литературе) в конусах, пирамидах и
трапециях минималистов какой-то намек на внешний мир, например
трактовать их как обобщение урбанистического пейзажа или как
визуальную модель техницизма. Думать так — значит обойти
существо дела. Один из представителей этого направления
говорил: «Базис искусства — бездеятельное и незаинтересованное
сознание. Акцент делается там, где он и должен быть: на сознании
наблюдателя. Я применяю стандартизированные, повторяющиеся,
скучные формы, поскольку они первичны и безвременны»44.
Экспонаты минималистских выставок — громады ящиков,
деревянные и металлические каркасы, расставленные как частокол
доски — это преграда между миром и «бездеятельным» сознанием.
Тяжеловесная материальность не допускает никакого, даже
самого слабого, мерцания эмоций или отклика разума на движение
жизни.
39 Bochner M. Serial Art, Systems, Solipcism.—In: Minimal Art. A Critical
Anthology. N. Y., 1968, p. 100.
40 Minimal Art, p. 281.
41 См.: Lucie-Smith Ed. Minimal Art.— In: Concepts of Modem Art. Ed. by
Richardson and N. Stangsos. N. Y.-Evanston-S.Francisco-London, 1974.
42 См.: Krauss R. Passages in Modern Sculpture. London, 1977, p. 239—240,
151—270.
43 Цит. по.: Minimal Art, p. 207.
44 Цит. по: Art Without Boundaries 1950—1970. London, 1972, p. 180.
221
Если подходить к минималистской теории только с точки
зрения хода рассуждений, то она не нарушает правил логики. Н-
есть очевидная нескладица в самой сути дела. Если художники
всерьез считали себя солипсистами, им незачем было заниматьс
искусством, даже в форме «коммуникации о коммуникации .
Если же все предприятие с промышленным изготовлением
«неописательных объектов» относилось к разряду шоу-бизнеса, при
чем здесь профессорская терминология, хитроумные доводы и
мудреный стиль ученых трактатов? Рвение, с каким минималист^
предавались медитациям по поводу овеществленного ничто,
наводит на мысль, что здесь была какая-то компенсация
профессиональной недостаточности, восполнение образовавшегося
вакуума.
Вот, например, каким образом оперирует учением гештальт-
психологии скульптор Роберт Моррис. Он считает, что задача
художника — воплотить в материале несуществующие (то ест-
наличествующие только в сознании) геометрические фигуры. Акт
материализации идеального делает произведение абсурдным, ибо
создается разрыв между «константой познания» и
«вариабельностью опыта». То есть, зритель, глядя, например, на огромный
куб минималиста, держит в представлении образ этой фигуры,
но физически увидеть куб как таковой не может, ибо тому
препятствуют перспективные искажения, а также неизбежность
последовательного осмотра всех граней при круговом обходе. В
установлении этого противоречия между стабильными формами
сознания и бесформенностью текучего опыта видит Моррис
задачу минимализма. Ссылаясь на такие открытые гештальтистамп
законы, как закон постоянства формы, тенденции к простоте.
Моррис называет их факторами формирования веры, имея в
виду под этим предшествующие опыту способы организации
перцепции.
«При восприятии наиболее простых правильных.
многогранников, таких как куб и пирамида, нет нужды двигаться вокруг
объектов для того, чтобы достичь ощущения целого, гештальта.
Человек видит и немедленно «верит», что форма внутри
сознания отвечает наличному факту объекта. Представление (belief)
в этом смысле есть одновременно род веры в пространственную
протяженность и визуализация этой протяженности. Иными
словами, речь идет о тех аспектах восприятия, которые не являются
сосуществующими со зрительным полем»45.
Очевидно, пространное теоретизирование такого рода
замещало отсутствие собственно художественного творчества. Но
нужно сказать, что концепция первичных форм зрительного
восприятия действительно заключала в себе идею разрыва между
внутренним и внешним, «константными формами» и актуальной
перцепцией. Ее-то и надеялись продемонстрировать
производители абсурдных «ментальных объектов».
Minimal Art, p. 226.
222
В одном из интервью Дональд Джад так объяснял свое
стремление избегать композиционных эффектов: «Такие
эффекты влекут за собой все структуры, ценности и чувства
европейской традиции. Мне кажется, что все это надлежит спустить по
канализационным трубам»46. Отсутствие композиции,
соотнесенности частей Джад считает способом борьбы с «ложным»
европейским рационализмом.
В том же интервью один из зачинателей минимализма,
живописец Фрэнк Стелла, говорил: «Я всегда спорю с людьми,
которые хотят удержать старые ценности в живописи —
гуманистические ценности, которые они неизменно обнаруживают на
полотнах. Как их ни прижимай, они все равно кончают утверждением,
что существует что-то, кроме краски на холсте. Моя живопись
основывается на том факте, что в ней есть только то, что можно
увидеть. Это действительно объект»47. Стелла считает, что
нужно просто запретить зрителю рассматривать детали, находить
живописные тонкости к картине.
Любопытно, что при этом оба художника полагают, что их
подход позитивен и конструктивен. Позитивность, оказывается,
состоит в том, что они оставляют взятую из банки краску
нетронутой (минималисты использовали малярные краски и кисти,
окрашивая поверхности так же гладко, как окрашиваются
промышленные изделия): «Не нужно смешивать и дробить материал.
Мне это кажется разрушительным, это нервирует меня. Я хочу
найти позицию принципиально конструктивную, а не
деструктивную»48. Все это говорится без тени юмора и с убежденностью
пророка новой веры.
По существу, причин для удивления убожеством такой
эстетики нет. Идея самостоятельной ценности материала, редукции
искусства к живописным сущностям — старая идея модернизма,
которая проходит через всю его историю. Последовательное ее
осуществление привело к минимализму: ровная поверхность
чистой краски и граней элементарного объема — все, что осталось
утверждать художнику в качестве «конструктивного»,
«формообразующего» принципа.
В 1960 году во Франции под идейным и организационным
лидерством критика Пьера Рестани возникла группа «Нового
реализма». Помимо уже упоминавшегося Ива Клейна в нее вошли
Тингели (занимавшийся в основном кинетическим искусством),
Сезар, Арман, Марсиал Рейс, Кристо, Споэрри, Ники де Сен-
Фалль, Виллегле и поэт-летрист Дюфрен.
Сезар в основном специализировался на скульптуре из
металлолома, сплющивая с помощью гидравлического пресса
остатки разбитых машин в нерасчлененную форму. Сферой Армана
46 Ibid., p. 151.
47 Ibid., p. 157—158.
48 Ibid., p. 159.
223
была «аккумуляция»; он собирал и выкладывал в прозрачч*
ящиках однородные предметы: револьверы, руки целлулоид-ыж
кукол, крышки от бутылок, шестерни механизмов, обувные *
колодки, расчески, распятия. Одно из его произведений, под
названием «Гневы», представляло собой обломки смычкового инст т-
мента, укрепленные на деревянных панелях. Марсиал Рейс
работал преимущественно с фабричными изделиями из пластмасс
однажды он выставил телевизор с монитором под названием
«Идентичность. Теперь вы — Марсиал Рейс». В 1968 году худ ->-
ник примкнул к «бедному искусству». Специализацией Эна
Виллегле были разорванные афиши. Споэрри создавал так на:^-
ваемые картины-ловушки: случайно возникшее расположение о»
вседневных вещей на этажерке, на столе он фиксировал с г_г-
мощью клея и других закрепителей и представлял такие
комбинации уже в виде вертикально подвешенных панелей. Таковые ■
«Натюрморты наугад», в которых тщательно сохранен
беспорядок, оставшийся на столе после еды. Однажды Споэрри пои. е-
новал произведениями искусства все товары бакалейной лавкм,
то есть приклеил к ним соответствующие этикетки. Ему
принадлежит также серия «detrompe-roeil» — сочетание
натуралистической хромолитографии, чаще всего пейзажной, с каким-либо быто^
вым предметом, например вид водопада в комбинации с душевым
шлангом. Практика «нового реализма» по существу повторяет
опыты дадаистов («реди-мейд») и сюрреалистов («найденные
объекты») .
В чем художники видели смысл такого рода деятельности?
Предмет, будучи выставленным в художественной галерее,
вырывается из обычного для него бытового контекста, становится
объектом созерцания. Таким образом, художник посредством
простого акта смены контекста устанавливает иную, отчужденную
точку зрения на примелькавшуюся вещь. По убеждению объект-
художников, уже переворачивание крышки стола в вертикальное
положение превращает все, что на ней находится, в картину, т
есть реальные объекты становятся визуальной абстракцией,
имиджем самих себя.
Не нужно думать, что художники хотели предложить зрителю
полюбоваться формой вещей или каким-то образом осмыслит*
предметную среду. Первая задача — дело дизайна и
прикладного искусства, вторая с успехом решается средствами станковой
живописи. Творцы «нового видения» не хотели иметь ничего
общего ни с тем, ни с другим. Искусство, с их точки зрения,
состоит в самом жесте перемещения объекта.
Автор первых реди-мейд Дюшан говорил по поводу одного
из них — писсуара, выставленного под названием «Фонтан» и
подписанного псевдонимом Матт (что означает «болван»):
«Совершенно неважно, сделал ли мистер Матт фонтан своими руками
или нет. Он выбрал его. Он взял обычный бытовой предмет и
поместил его таким образом, что его полезное назначение исчезло
под новым названием и в новой точке зрения, то есть он создал
224
91. Дональд Джад. Без названия. 1966
-.•мгя&щц&ЖХ А?и»«вЙ«К5гЯ
i
■■■ -I
j;KH»SS«№!i#'j. да* : у ■/№/:■■ е."-?/,- /■
&'£' №#!&£& - ?Ы'*Г
ЪЪ$»
'4**' А „,# S/rf'',, 'vbSfor ЛЬ' :
92. Сол Левит. А 7. 1967
225
*1&!к ч.*^*§8§Й$
*>
Xft I "i -■~У&'^^Х~*?Ь. ,z ^ДЛ-ЙГЙ?" Л *""■ JW^ '
^3 #
i^StTaa fe«
8££?-
S^
93. Роберт Моррис. Без названия. 1966
94. Джон Маккрэкен. Красная доска. 1967
226
<$
95. Карл Андре. Медные пластины. 1969
tk *
им
JH
96. Дэн Флейвин. Памятник В. Татлину 1964—1969
227
'■-*it..
■ssr * л- 4^s&«if^ ■"
5a •
97. Фернандес Арман. Мусорный ящик. I960
228
ЩЬШ
т^--
98. Сезар (Сезар Бальдаччини). Желтый «Бьюик». 1961
зж«*, т* ^ *&
» Л**%Ль** ЭД
&tT4* «й*;*^*^* *:
*' "I** '. ' I^VkP^F
*w*w
Nh.**sf
99. Майкл Хейзер. Смещенная, перемещенная масса. Невада. 1969*
229
100. Даниэль Бюран. Фотография произведения, созданного в галерее
Аполлинер в Милане. 1968. Наклеив на двери галереи белые и зеленые
полосы, художник таким образом запечатал их и «закрыл выставку»
101. Марджори Страйдер. Уличное произведение. 1969
Тридцать пустых картинных рам были вывешены на улицах в знак замены
живописи реальным окружением
230
новую мысль для этого объекта»49. Современный последователь
Дюшана Эн вторит ему: «Изобретать для меня — значит идти
навстречу моим произведениям. Мои произведения существовали
до меня, но их не видели, потому что они были у всех на
глазах»50.
Здесь представлена уже не реальность предметной среды, а
отчужденная от ее действительного (утилитарного) содержания
кажимость, оптическая фикция поверхности вещей. В условном
овладении объектом, превращении его в знак художественной
активности и видели представители этого направления свою
задачу.
Разумеется, от искусства здесь уже ничего не осталось, но, по
мнению антихудожников, искусство и не имеет отношения к
созданию форм. Смысл искусства — в изобретении новых точек
зрения на реальность, в изменении привычной позиции видения. По
определению французского критика Алена Жуфруа, художник —
«революционер взгляда»01.
Условное опустошение объекта, превращение его в
«визуальный язык» можно расширить до беспредельности: объект может
быть заменен целым комплексом объектов и стать энвайронмен-
том, можно перенести акцент с самого объекта на действие его
переименования, и тогда все это будет называться искусством
жеста; можно, наконец, вообще обойтись без объекта и
ограничиться высказыванием, которое превратится таким образом в
«оральную скульптуру», разновидность концептуализма. В
авангарде прочно утвердилось представление: все, на что указывает
художник, есть искусство. Вот как рассуждает, например,
известный концептуалист Терри Эткинсон:
«Если сушилка для бутылок может быть принята как член
класса «художественные объекты», то почему не универмаг, в
котором эта сушилка была выставлена, а если так, то почему
не город, в котором расположен этот универмаг, а если включить
город, то почему не страну — и т. д. вплоть до масштабов
вселенной (а если угодно, то и дальше!)»52.
И действительно, художники «подписывали» своим именем
все, что угодно: мусорные свалки, чужие картины, болезни, Нью-
Порк, пустыню Сахару, Млечный Путь и даже бога. Так
возникла идея тотального искусства — искусства, вторгающегося в
окружение и сливающегося с самой действительностью.
Искусство, равное жизни, пронизывающее собой ее строй,— одна из
незыблемых установок авангарда, разделяемая представителями
самых различных направлений. Ограничимся здесь лишь одним
высказыванием, принадлежащим западногерманскому художнику
Бруно Дематтио:
49 Цит. по: Idea and Image in Recent Art, p. 10.
50 Цит. по: Restany P. Les nouveaux realistes. Paris, 1968, p. 73.
51 См.: Jouffroy A. Une revolution du regard. A propos de quelquts peintres
e: sculpteurs contemporains. Paris, 1964.
52 Цит. по: Gottlieb C. Op. cit., p. 350.
231
«Искусство могло бы... привести к новому художественному
сознанию, которое вносит свой вклад в новую активность, вовп
кается в жизненные процессы, в саму жизнь. То, что дел--■=":
крестьянин на поле, является искусством, может быть объявл*= . i
искусством, так же как и половой акт или акт еды... Посредстн ■
удовлетворения требований нашей чувствительности мы
постоянно создаем новые стили, все больше расширяем сферу
искусства, и так будет до тех пор, пока мы не обнаружим однажл--
что весь мир, сама действительность фактически стали произы
дением искусства»53.
Конечно, такое расширение сферы искусства равнозначно е .
отмене. Художник-демиург уже не претендует на творение нов г
реальностей, а хочет заклясть реальность существующую, заги~-
нотизировать ее, обратить в призрачное зрелище, объявить неде"-
ствительной перед миросозидающим взором. В акте «революцнж
взгляда» одновременно отрицается и искусство, и
действительность.
Любопытно проследить, каким путем шли отдельные худо* -
ники к столь фантастическим идеям. Среди авангардистов быт
популярен рассказ Тони Смита, одного из основоположнике с
минимализма, о его ночном путешествии на машине по
недостроенной автостраде. Художника поразила пустынность, засты-
лость и искусственность этого пейзажа. «Про себя я подумал
теперь должно быть ясно, что это — конец искусства. После этого
большая часть живописи выглядит слишком картинно. У вас не
способа заключить это в раму, это нужно просто пережитьэ.
Позднее такое же воздействие оказали на него заброшенные
взлетные полосы. Художник воспринял их как
«сюрреалистические пейзажи, нечто, не имеющее отношения к функции, мир,
созданный вне традиции»54.
Тони Смит хочет сказать, что омертвевший фрагмент,
вырванный из органических процессов жизни, и есть искусство.
Лицезрения такой погибшей клетки достаточно, а стремление
выразить свое отношение к действительности суетно и никчемно.
О сходном опыте опустошенного восприятия рассказал
известный деятель американского авангарда Роберт Смитсон,
работавший в русле минимализма и лэнд-арта. Строительство
плотины, а также сама плотина до момента ее ввода в строй
рассматриваются им как серия художественных произведений. В
результате расчленения процесса на отдельные стадии, мысленного
отвлечения от реального смысла строительства возникает
последовательность чистых форм, исчезающих по мере становления
сооружения55. В другом месте Смитсон говорит о посетителе
кинотеатра, просматривающего без перерыва один фильм за другим.
53 Цит. по: Erhard E. О. Pop Kitsch Concept-Art. Aufsatze zur gegenwarti-
gen Situationen der Kunst. Ravensburg, 1974, S. 24.
54 Minimal Art, p. 386.
55 См.: The Writings of Robert Smithson. N. Y., 1979, p. 45—46.
232
Восприятие постепенно притупляется, сознание погружается в
состояние полусна. «Фильм следует за фильмом, и в конце концов
действие каждого из них тонет в обширном резервуаре чистой
перцепции»56.
Из этих рассказов художников хорошо видно, что они хотят
утвердить видение без понимания, видение, по существу,
невозможное или возможное в состоянии оглушенности, полушока.
Объект, еще не совершившийся, не обретший своего назначения,
или объект, выключенный из системы функциональных связей,
обессмысленный, является опорой для восприятия такого типа.
Отсюда понятно, почему авангард проявлял особое пристрастие
к маргинальным, «окраинным», ландшафтам, не охваченным
социальным опытом, а иногда и просто недоступным восприятию.
Представители лэнд-арта переносили свою деятельность в
пустыни, на острова, в заброшенные каменоломни, объектом
тотального искусства чаще всего были свалки, пустыри, кладбища
автомобилей и т. п.
Такие разреженные пространства, паузы в потоке жизни были
как бы преградой для естественного созерцания. Столкнувшись
с небытием жизни на каком-нибудь пустыре, оказавшись в
режиме своего рода сенсорного голода, восприятие быстро истощается,
тупеет и начинает работать вхолостую. Вот этот-то ступор
перцепции, ее остановка на начальной фазе и интересовали
организаторов таких зрелищ.
Роберт Смитсон сделал свои первые зеркальные установки на
пустынной земле, некогда принадлежавшей индейскому племени.
Помещенные прямо на выжженной почве зеркала он назвал
«неместами» (non-sites), в противоположность «местам» реальной
площадки. Вот что он говорил по поводу этих работ в одном из
интервью:
«Здесь был своего рода отчужденный мир, который не может
быть понят по-настоящему на каком-либо рациональном уровне;
джунгли разрослись и перекрыли исчезнувшую цивилизацию.
Меня интересовали края вокруг этих пространств.
— Что вы имеете в виду под краями?
— Это что-то вроде заводи, может быть, небольшой карьер
или выжженное поле, песчаная коса или отдаленный остров.
Думаю, что меня интересует не центр вещей, а их периферия»57.
Для описания своего искусства и окружающего мира Смитсон
неоднократно прибегает к образу «тихой катастрофы», медленно,
но верно идущего разрушения, совершающегося по закону
энтропии. «Мое искусство подобно художественному бедствию. Это —
тихая катастрофа сознания и материи»58. Вещи словно замирают
и гибнут в летаргии сознания, человеческое овладение ими
невозможно, возможны лишь случайно упавшие рефлексы на по-
56 The Writings of Robert Smithson, p. 107.
57 Ibid., p. 155.
58 Six Years. The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972.
Ed. by L. R. Lippard. London, 1973, p. 89.
233
верхность зеркал. Осмысленное отражение мира заменяется игро"
самоотражения одной материальной поверхности в другой.
«Зеркальные смещения не могут быть выражены
рациональными категориями... Такие зеркальные поверхности нельзя
постичь разумом... Вопросы, которые задают зеркала, всегда
остаются без ответа. Зеркала возникают на основе глухоты и имеют
своим следствием несостоятельность. Отражения падают на
зеркала без всякой логики и таким образом обесценивают любое
рациональное утверждение»59.
Так возникает понимание мира как отчужденной, лишенной
смысла структуры. Материальность авангардистского
произведения предполагает пустоту сознания, и Роберт Смитсон пишет, что
для него и его друзей «сознание и вещи есть не «единства», а
вещи в состоянии застывшего распада»60.
Тип восприятия, сводящий мир к набору отвлеченных форм,
был подготовлен абстракционизмом и получил непосредственное
выражение в гиперреалистической картине. Поглощение
действительности «искусством» (или наоборот, растворение искусства в
действительности), по мысли сторонников тотального творчества,
должно совершиться именно путем революции взгляда, то есть
мысленного преобразования одного в другое.
Однако вся эта как будто сугубо умственная игра в
перевертыши имеет под собой твердую опору в виде определенного
социального образования, которое называется по-разному:
«художественный мир», «институты искусства», «рынок искусства». В
буржуазном обществе уже давно сложилась система, которая
обеспечивает (стимулирует и финансирует) любые революции
взгляда, вплоть до самых нелепых. В центре ее стоит рынок:
разветвленная сеть частных галерей и выставочных залов, деятельность
богатых коллекционеров и меценатов. Рынок обслуживает и
критика, выполняющая при нем рекламную роль. Огромное
количество специализированных журналов, статей в массовой печати,
выступления по радио и телевидению, на конференциях и
симпозиумах широко освещают события в художественном мире. Только
внутри этого Культурбурга (выражение американского критика
Тома Вульфа) 61 стало возможным то развоплощение вещей,
которое прокламировал новый авангард. Эта система именует
произведением искусства любой жест, любую ироническую ухмылку
художника. Все, что попадает на выставки, все, о чем говорится
в специализированной печати, все, что является объектом купли-
продажи на художественном рынке, автоматически становится
фактом искусства. Только благодаря наличию этого социального
базиса Ив Клейн мог продавать «зоны нематериальной
живописной чувствительности», то есть отсутствующие произведения, за
чистое золото, только благодаря ему банальная вещь могла пре-
59 The Writings of Robert Smithson, p. 97.
60 Ibid., p. 87.
. 61 См.: Вульф. Т. Раскрашенное слово.— Иностранная литература, 1976,
№ 5.
234
вращаться в «эстетическую ценность». И только на этой почве
смогла парадоксальным образом произрасти идея тотального
искусства♦
Позднее, в период политизации авангарда, художники
говорили, что они создают непродажное искусство, уходят из-под
контроля буржуазных институтов, порывают связи с социальной
системой. Можно ли, например, купить действие художника,
вырытую в пустыне канаву или высказывание? Практика показала, что,
как это ни абсурдно, можно. Такие «произведения» тоже
покупались, а в некоторых случаях финансировалось и их создание.
Притязания художников на неподкупность были лишь попыткой
стыдливо прикрыть тот факт, что весь авангардизм вырос на
основе той системы, где командует маршан и где художественное
творчество уже, по существу, не нужно и может быть заменено
условным знаком.
Многие из заклинателей реальности не только открыто
признавали этот факт, но и прокламировали его как принцип.
Аллен Кэпроу: «Когда Стив Рейч подвешивает микрофоны над
рупорами, раскачивает их, как маятники, и усиливает выходящий
из них звук, так что создается шум обратной связи,— это
искусство.
Когда Энди Уорхол публикует стенограмму 24-часового
разговора, записанного на магнитную пленку,— это искусство.
Когда Вальтер де Мариа наполняет комнату грязью, — это
искусство.
Мы знаем это потому, что так утверждают концертная афиша,
название на обложке книги и художественная галерея»62.
Джон Перро: «Если художник помещает что-либо, пусть даже
свое грязное белье, в контекст искусства, то это будет
искусством — хорошим, плохим или посредственным, но все же
искусством» 63.
Дональд Джад: «Если кто-то называет это искусством, значит
это искусство»64.
Это не предвзято подобранные цитаты. Подобные
высказывания можно было бы продолжить. И как будет видно ниже, с
особенной убежденностью защищали эту позицию концептуалисты.
Один из них, Лес Левин, говорил:
«Все процессуально ориентированные произведения в своей
окончательной дефиниции как произведения искусства опираются
на зрителя и художественную критику. Если они не
сфотографированы и если о них не пишут, они возвращаются обратно в
окружение и перестают существовать. Многие серьезные художники
нашего времени в основном вовлечены в создание систем,
продуцирующих искусство. Произведения сами по себе не могут рас-
62 Цит. по: Schorr J. Toward the Transformation of Art. Rutherford-London,
1973, p. 7.
63 Perrault /. It's only Words.—In: Idea Art. A Critical Anthology. N. Y.,
1973, p. 136.
64 Цит. по: Gottlieb C. Op. cit., p. 345.
I
235
сматриваться как искусство, скорее, им являются системы,
производящие искусство»65.
Разумеется, к обоснованию этой позиции была подключена
особая теория. Искусствовед структуралистского направления
Бернхэм выводит из общей теории систем Берталанфи
«системную эстетику». Любая ситуация, создающая контекст искусства,
и есть система. В качестве таковой она включает в себя людей
(художников, критиков, зрителей и покупателей, организаторов
выставок), возникающие в ней идеи, сообщения (в частности,
произведения искусства), материальную среду. Представление о
том, что искусство заключено в специфических объектах, есть
иллюзия. «Такие артефакты являются лишь материальным базисом
для понятия «произведение искусства». В сущности, все институты,
которые формируют данность искусства, ин-формируют, являются
компонентами художественного произведения. Без опорной
системы объект утрачивает свою дефиницию; однако без объекта
такая опорная система может сама по себе поддерживать идею
искусства»66. Стало быть, «искусство пребывает не в материальных
сущностях, а в отношениях между людьми и компонентами их
окружения»67.
Ныне существующая сеть частных галерей первоначально
создавалась с целью обеспечить независимость искусства, теперь
она фактически поглотила его. Подлинным агентом в ней является
уже не художник, а фигура торговца, владельца галереи,
коллекционера, критика. Причудливые построения Бернхэма также
включаются в эту систему, так как их назначение — узаконить
сложившееся положение дел, создать ауру элитарной идеологии
вокруг ситуации, по существу, оскорбительной для каждого
серьезного художника.
Видный деятель авангарда Даниэль Бюран писал: «Паника
охватывает истеблишмент искусства, поскольку его члены
начинают понимать, что фундамент, на котором зиждется их власть,—
само искусство — стоит на грани исчезновения...
В конце концов, случилось то, что понятия искусства и
антиискусства аннулируют друг друга и все взлелеянные нами
верования: искусство как утверждение, искусство как протест,
искусство как выражение индивидуальности, искусство как
интерпретация, искусство как эстетизм (искусство для искусства),
искусство как гуманизм — лишаются всякого смысла. Задача
художника больше не состоит в том, чтобы находить новую форму
искусства или облекать контрискусство в новую форму; ни один
путь отныне не сулит выигрыша»68.
Но злорадное торжество художника — лишь пылкий
самообман. Язвительную иронию он мог бы обратить и на себя.
65 Цит. по: Eurnkam J. Great Western Salt Works. Essays on the Meaning of
Post-Formalist Art. N. Y., 1974, p. 37.
66 Ibid., p. 27.
67 Ibid., p. 16.
68 Buren D. It Rains, It Snows, It Paints.—In: Idea Art, p. 176.
236
Ведь как раз идеал Бюрана — «произведение, о котором ничего
нельзя сказать, кроме того, что оно есть», — является опорой для
презираемого им истеблишмента. Доказательство этому — факты
публикаций (и многократных) его произведений и высказываний,
шумного успеха выставок его и его товарищей, существования
критической литературы о них. Отчасти циничные бравады
авангарда провоцировались осознанием собственного конформизма.
Механизм, который из себя порождает «художественные
феномены», вполне может обойтись и без продукции художника —
достаточно его присутствия. Понимали ли художники, что их
деятельность по аннигиляции искусства, поощряемая и щедро
вознаграждаемая рынком, лишь усугубляет ту скверну, от которой
они пытались очиститься? Кажется, те, кому дано было
по-настоящему осознать и пережить это, расплатились своей судьбой. Но
таких было немного. Большинство упорно взбирались на вершины
иерархической лестницы Культурбурга.
Сейчас тот факт, что революции в искусстве финансируются,
ни для кого не секрет. О нем писали и пишут многие социологи
и искусствоведы. В связи с этим стоит обратить внимание на
итальянский сборник «Авангард и неоавангард», авторы которого
рассматривают авангард как продукт капиталистического
общества и показывают зависимость его идеологии от социальных
институтов. Сборник посвящен в основном литературе, вследствие чего
свидетельства итальянских критиков приобретают дополнительный
интерес. Оказывается, авангардистская литература формируется
на основе тех же отношений между всеотрицающим художником
и всеутверждающим рынком. Особенно ярко эта связь выявлена
в большой статье Джанни Скалла, который пишет: «...сам поиск
«новизны» авангардом утверждается (в различных формах в
различные периоды его развития) через осознание противоречия
(постоянно воспроизводимого) между разрушением и нормой
разрушения, между переживанием шока и его возведением в правило,
между разложением музея и преобразованием в товар, между
восстанием против требований рынка и отрицанием искусства как
такового (или его обратным переутверждением), между
осознанием коммерциализации эстетического и выдвижением
меркантильного эстетизма»69.
Во всех попытках разрушить «аффирмативную» социальную
структуру путем самоотрицания лишь всплыл на поверхность
негативизм, проистекающий из неразрешимой противоречивости
исходной концепции. Модернизм, отказавшись от «ложной
иллюзорности» реалистического изображения, превратил произведение
искусства в объект. После этого уже не было никаких
принципиальных препятствий для того, чтобы заменить его реальным
предметом. Но любой объект, если следовать тем учениям, на которые
опирался авангард, есть не что иное, как комплекс чувственных
данных, то есть опять-таки оптическая иллюзия. Как видим, круг
Avanguardia e neo-avanguardia. Milano, 1966, p. 29.
237
замкнулся. Можно рассуждать и иначе, отталкиваясь от
приложения витгенштейновской концепции языка к сфере искусства. Есл
художественное произведение есть языковая структура, котора
поддается дефиниции лишь средствами более широкого
мета-языка, то, продвигаясь по этой иерархии языков, можно прийти к
тому, что и мета-язык (например, выставочная система или вся
окружающая среда) есть произведение искусства. Скольжение внутр
таких представлений о самостоятельности знаковых систем
неизбежно заканчивается тавтологией или неразрешимым
противоречием. Художник пытается вырваться из порочного круга путе
ряда отрицаний, уходящих в бесконечность.
Приведем несколько афоризмов Эда Рейнхардта, бывших
чрезвычайно популярными в среде авангарда:
«Искусство в искусстве есть искусство».
«Конец искусства есть искусство как искусство».
«Конец искусства не есть конец»70.
«Единственное, что можно сказать об искусстве, это то, что оно
бездыханно, безжизненно, бессмертно, бессодержательно,
бесформенно, беспространственно и безвременно. Это всегда — конец
искусства»71.
«Искусство-как-искусство есть творение, которое
революционизирует творение и судит о себе посредством собственного
разрушения. Художник-как-художник оценивает себя в соответствии
с тем, от чего он отделался и от чего отказался»72.
Уже упоминавшийся Бюран писал, что единственной формой
современного искусства может быть «объект, ставящий под
вопрос свое собственное исчезновение как объекта. Это — не
результат и не ответ на вопрос. Это только вопрос, задаваемый
бесконечно» 73.
Группа художников «Б. М. П. Т.» (Бюран, Мосе, Пармантье,
Торони) сделала такое заявление: «Поскольку искусство есть
игра... Поскольку писать — значит изображать внешнее (или
интерпретировать его, или присваивать, или оспаривать, или
представлять его)... Поскольку писать есть функция эстетизма, цветов,
женщины, эротизма, ежедневного окружения, искусства, дада,
психоанализа, войны во Вьетнаме — мы не художники»74.
Все это не было коллективным помешательством, хотя иногда
и выглядит таковым. В среде авангарда были люди разной степени
одаренности и интеллектуального уровня. Возьмем, например,
такую видную фигуру, как Роберт Смитсон. Погибший в 1973 году
художник был наделен литературным даром, острой
наблюдательностью, способностью ясно излагать свои идеи. Он отличался
широкой начитанностью, был сведущ не только в философии и исто-
70 Цит. по: Burnham J, Op. cit, p. 5.
71 Цит. по: Idea Art, p. 93.
72 Цит. по: Gottlieb С Op. cit., p. 369.
73 Idea Art, p. 178.
74 Six Years, p. 24.
238
рии культуры, но и в таких областях, как эволюция природы,
палеонтология, минералогия. Дело здесь не в пороках или
достоинствах индивидуального мышления, а в абсурдности теории,
сводящей весь мир к фикции.
Поэтому идея тотального искусства заключала в себе
требование ликвидации искусства. Кажется, лучше всего это было
выражено во фразе, написанной на значках, популярных у
американской молодежи и интеллигенции 60-х годов: «Art is all over»
(фраза имеет двойной смысл: «Искусство — повсюду» и «Искусство
кончилось совсем»).
Некоторые критики пытались дать искусству объекта
позитивную интерпретацию. Так, идеолог «новых реалистов» Пьер Реста-
ни полагал, что, присваивая объект, художник «вводит
социологию в феноменологию творческого акта», сублимирует
повседневную реальность и тем самым утверждает ее как «вечное
настоящее». Благодаря этому, якобы, в искусстве находят себе
выражение жизнь современного города, особенности индустриального
окружения. «Художнику остается только выбрать «свое»
произведение в этом мире, который уже есть картина, в этой природе,
созданной человеком для человека, для его собственного и полного
использования»75. Рестани энергично настаивает на том, что
такое искусство не является разрушительным. «Искусство авангарда
перестало быть искусством мятежа, сейчас оно -— искусство
народного соучастия. Как обеспечить условия для такого соучастия?
Путем обращения к прямой реальности, реальности нашего
настоящего»76.
Но можно ли всерьез говорить о выражении мира объектов,
если средством такого выражения является сам объект? И почему
манипулирование повседневными предметами должно означать
народность искусства?
Пытаясь связать антиискусство с действительностью, Рестани
как раз теряет из виду специфичность продукта авангардистской
фабрики миражей, заключающуюся в его тавтологичности (объект
как изображение самого себя) и противоречивости (объект как
отрицание самого себя в контексте искусства).
«Самое прекрасное в современном искусстве состоит в том, что
в его потенциал встроена способность к саморазрушению»77.
3. Процессуальные формы. Хэппенинг, перформенс
«Враг искусства-—объект. Реальность — это события, а не
объекты. Статические структуры —анахронизм. Создавать такие
объекты сейчас — идиотизм и безнравственность»78.
75 Restany P. Les nouveaux realistes, p. 89.
76 Ibid., p. 171—172.
77 Высказывание принадлежит известному концептуалисту Роберту Барри.
Приводится в антологии концептуализма: Meyer U. Conceptual Art. N. Y., 1972,
p. 35.
78 Цит. по: Concerning Contemporary Art. The Power Lectures 1968—1973.
Oxford, 1975, p. 28.
239
Это энергичное суждение принадлежит американскому
композитору, одному из зачинателей хэппенинга, Джону Кейджу.
Разновидности динамических форм были широко распространены =
60—70-х годах: кинетическое искусство, хэппенинг, эвент
(событие), флукус, перформенс, акция (искусство действия), искусстЕ
жеста и компортеман (поведение), саморазрушающееся
искусство. Сюда же можно отнести некоторые варианты боди-арта
(искусства тела) и энвайронмента (окружения). В данном раздел,
мы остановимся на двух, наиболее влиятельных, направлениях
этого потока — хэппенинге и перформенсе. Как осуществлялись
эти игровые представления?
В одном из хэппенингов Аллена Кэпроу посреди поля был
сооружен огромный холм из сена. На его вершине возвышалось
дерево, увешанное бутылками из-под пива. На сене сидел
исполнитель, играющий на саксофоне. К холму медленно приближалс
ряд автомобилей, сбивая по пути скирды сена. Водители
выходили из машин, восстанавливали разрушенные стога и сбивали их
снова. Затем из-за сенного холма появлялась толпа людей,
несущих в руках большие ветви деревьев. Их лидер — сам Кэпроу —
вступал в борьбу с музыкантом, одолевал его и срубал дерево noz
приветственные выкрики толпы.
Знаменитый хэппенинг Вольфа Фостеля «Вы» разыгрывался нг
территории загородного участка с домом. Публика направлялась
к месту действия по проходам, огороженным проволокой и
цветными нитями, наподобие прогонов для скота. Земля была
покрыта газетами. Когда зрители подходили к бассейну, им вручались
водяные пистолеты, заряженные окрашенной водой. На вышке
прыгала женщина в комбинезоне и с внутренностями животных
на груди и между ног. Вокруг были разбросаны куски мяса, кости
и части убитых животных. Внутри бассейна (без воды)
располагались пишущие машинки и кое-какая мебель. Исполнители,
опрыскиваемые струями из водяных пистолетов, спускались в
бассейн и начинали швырять друг в друга большие полиэтиленовые
баллоны, также наполненные цветной водой. Постепенно бассейн
заполнялся. Затем приглашенные направлялись по грязной
дороге, идущей вокруг поля. Здесь участникам вручались противогазы,
и они надевали их. В конце поля, прямо в грязи была сооружена
пирамида из телевизоров, некоторые из которых работали. Ее ,
подожгли с помощью дымовых гранат. В едком красном дыме I
публика почти слепла, а исполнители катались в грязи. Когда дым I
рассеялся, зрители смогли прочесть врученные им в суматохе
послания, например такие: «Посмотрите в глаза слона»,
«Подумайте о Китае», «Давно ли это было?», «Нацист ли вы?»
Присущая хэппенингам атмосфера насилия и абсурда иногда
вызывает ассоциации с жестокостью в реальном мире. В борьбе
автомобилей со стогами можно увидеть некоторый намек на
разрушение природы технической цивилизацией и напоминающие
сизифов труд попытки ее восстановления. Нагнетание страха,
ярости и бессмысленного разрушительства в хэппенинге Фостеля не-
240
которым зрителям напоминало разгул фашистской жестокости и
обстановку концентрационных лагерей.
В одном из хэппенингов Джима Дайна — «Автокатастрофа» —
«автомобили» (люди с фарами в руках), двигаясь по площадке,
сталкивались друг с другом под записанный на пленку шум
автоаварий. Сам Дайн пытался что-то говорить, но задыхался. Затем
он принимался писать на доске белым, красным, зеленым мелом,
но безуспешно — мел крошился, рассыпался в его руках. В
хэппенинге Дайна символически выражена популярная в 50-х годах
тема некоммуникабельности, отсутствия взаимопонимания между
людьми, в одиночестве переживающих катастрофу.
Однако наложение социального текста на абсурдные действия
двух вышеописанных хэппенингов уже произвольно и
необязательно. Более того, материал в целом сопротивляется связному его
объяснению. И уже совсем невозможно какое-либо рациональное
истолкование, например, представления, организованного Элом
Хэнсеном под названием «Холл-стрит хэппенинг». Посреди двора
была сооружена огромная человекоподобная фигура из ящиков
и коробок. Внутри нее сидел исполнитель, читавший наугад из
антологии дадаистской поэзии. На задней платформе две девицы
занимались любовью. Сверху на канате спускалась танцовщица.
По площадке ходила девочка с зажженной свечой. В ходе
представления гигант из коробок разбирался, внутри него
обнаруживался сидящий чтец. Другие танцовщики спускались с
деревьев и крыш; несколько исполнителей, спрятанных в кустах,
одновременно читали стихи, звучала записанная на магнитофон
музыка.
Таких хэппенингов без всякого проблеска смысла было
большинство. Что можно сказать, например, о действиях Ральфа Ор-
тица с матрацем? Художник рубил его топором, пилил, резал, бил
молотком, топил в море, ездил по нему на автомобиле, поливал
кислотой, жег, а затем упаковал в ящик. В одном из хэппенингов
Уильяма Мейера собравшаяся на чердаке аудитория закуривала
сигареты и откладывала окурки до тех пор, пока все помещение
не наполнилось удушающим дымом.
Создатели хэппенингов, как и художники более ранних
направлений модернизма, признавали за публикой право вкладывать в
представление любую интерпретацию, но свою задачу видели в
организации (а часто — просто в провокации) спонтанного,
иррационального действия. Эл Хэнсен пишет в своей книге о
хэппенинге: «Сообщение, которое несут мои нынешние хэппенинги,
чрезвычайно просто, вплоть до банальности: смысл — бессмысленность,
бессмысленность есть смысл»79. Хэппенинг — это «театр
противоречий и парадоксов, слегка абсурдный. II я думаю, что мой театр
не судит»80.
79 Hansen A. A Primer of Happenings and Time-Space Art. New York-Paris-
Cologne, 1965, p. 87.
80 Ibid., p. 122.
241
I
102—103. Джим Дайн. Автокатастрофа. Хэппенинг. 1960
242
#*
104. Аллен Кэпроу. Двор. Хэппенинг. 1962
243
>W j
105—106. Вольф Фостель. Вы. Хэппенинг. 1964
244
107. Дэн Грэхем. Вращение. 1970
Прокатываясь по полу, художник вел съемку ручной кинокамерой. Другая,
неподвижно установленная, камера фиксировала его действия. Затем оба '
ролика демонстрировались одновременно на противоположных стенах
- ъ' **ж%. „ ," '%$%$Ш
108. Вито Аккончи. Следование. Акция. 1969
Художник выбирал наугад прохожего и неотступно следовал за ним по улицам
245
109. Аллен Кэпроу. Газ. Коллективный хэппенинг. 1966
ПО. Нам Джун Пайк. ТВ-виолончель. 1971
246
Т Г
^"•ав- 4
111. Клаус Ринке. Мужское, женское. 1970
K^AWK-^WtrtusGWCOSWv
i Ztt* . "'"m*
Ш. *' - • %
:&
112. Джильберт и Джордж. Поющая скульптура. 1971
247
Среди организаторов хэппенингов были деятели театра и
музыки. Но больше всего им занимались представители
пространственных искусств — живописи и скульптуры.
Художники видели в хэппенинге продолжение абстрактной жг-
вописи, прежде всего живописи действия. Другой источник
хэппенинга— искусство объекта, разросшееся до окружения. В одном
из своих выступлений Аллен Кэпроу рассказал, как он пришел е
идее хэппенинга. Занимаясь абстрактной живописью, он отчетли
ощущал ее предметный характер, что привело его к технике
коллажа-действия, то есть включения в картину обрывков фольп.
газет, холста, соломы, фотографий и т. д. Постепенно коллаж
разрастался, отделялся от стен, заполнял собой помещение выстави,
в него вводился звук. Так возник энвайронмент. Однако и этим
художник не удовлетворился. Он хочет вырваться за пределы
галереи, завоевать внешнее пространство. Зрители воспринимаются
им как часть энвайронмента, и он включает их в зрелище. «С тех
пор моей главной технической задачей стала задача интеграции
всех элементов: окружения, конструкций, времени, пространства
и людей»81. Так родился хэппенинг.
Отсюда видно, насколько близок хэппенинг к объектным
формам. Художники воспринимали его как абстрактную живопись,
материалами которой могут стать любые предметы внешнего
мира. Кэпроу выражал это следующим образом: «Поллок подвел нас
к той точке, на которой мы должны были заинтересоваться
пространством и предметами нашей повседневной жизни, ослепить
себя ими... То воздействие, которое оказывает живописный
материал, не удовлетворяет потребностей других органов чувств. Мы
должны использовать особые возможности зрелища, звука,
движения людей, запахов, тактильных ощущений. Материалы для
нового искусства — предметы любого рода: краски, стулья, пища,
электрический и неоновый свет, дым, вода, старые носки, собаки,
кинофильмы и тысячи других вещей, открытых современным
поколением художников» 82.
Совершенно в том же духе высказывались и другие
представители этого направления.
Эл Хэнсен: «В качестве краткого определения хэппенингов я
бы принял такое: они — театральные произведения в манере
коллажа, и каждое действие, ситуация или событие, которые
происходят в них, соотносятся как части живописи абстрактного
экспрессионизма, то есть они не описывают, например, дерево,
природу, книгу или известное событие истории; просто данная
живопись делает то-то, в такое-то время и в таком-то месте.
Хэппенинг— это коллаж ситуаций и событий, происходящих в
пространстве в определенный период времени»83.
81 Kaprow A. A Statement.— In: Happenings. An Illustrated Anthology. Ed.
by M. Kirby. N. Y., 1965, p. 46—47.
82 Цит. по: Claus /. Kunst heute. Personen Analysen Dokumente. Reinbek bei
Hamburg, 1969, S. 197.
83 Hansen A. Op. cit., p. 24.
248
Клаэс Олденбург: «То, что я делаю в качестве «хэппенинга»,
является частью того, что меня больше всего интересует в
настоящее время — использовать более или менее измененный реальный
материал. Это — действия с объектами, такими как пишущие
машинки, столы для пинг-понга, предметы одежды, рожки
мороженого, бутерброды, пирожные и т. д. и т. п. — все, с чем мне
случается сталкиваться. «Хэппенинг» — это тот или иной способ
использования объектов в движении, и сюда я включаю также
людей, как самих по себе, так и в качестве движущей силы для
объектов» 84.
Отсюда видно, что художники вовсе не видели свою задачу в
каком-то смыслообразующем оформлении материала: это была
именно абстрактная живопись, вырвавшаяся из своих границ. Те
ассоциации с негативными явлениями действительности, которые
иногда возникали у зрителя, как правило, не замышлялись
самими авторами и носили случайный характер.
Приведенное выше суждение Кейджа о противоположности
искусства объекта искусству действия, безусловно, неверно. Оба
явления не только близки, но и частично совпадают друг с другом.
Факт такого взаимоналожения отчетливо проявляется в том, что
одни и те же художники занимались и статичными, и динамичными
формами, а главное — исповедовали одни и те же идеи. К ним
принадлежит идея тотального искусства, включения всей реальной
среды в пространство «художественного произведения». Ее
горячими поборниками были все акционисты. Так, Хэнсен писал:
«Ядро теории хэппенинга, центр философии хэппенингистов — идея
слияния искусства и жизни. Хэппенинг, как и сама жизнь, есть
художественная форма вероятности и случая»85.
Художники и жизнь рассматривали как непрерывно текущий
хэппенинг, то есть как движение отвлеченных визуальных форм.
Отсюда понятно, что хэппенинг не обязательно разыгрывать, его
можно легко заменить хэппенингом мысленным. Тогда он станет
разновидностью концептуального или тотального искусства.
В 1962 году Вольф Фостель, автор разрушительных хэппенингов-
деколлажей, разослал по разным адресам приглашения
проехаться на любом автобусе по Малому кольцу Парижа,
сосредоточившись при этом на различных оптических и акустических
феноменах— шумах, криках, стенах с разорванными афишами, мусорных
свалках, развалинах и пр. Это и означало, по мысли художника,
пережить хэппенинг. Позднее Вольф Фостель и Эл Хэнсен дали
такое объявление в газете: «Хэппенинги в вашем доме».
Другой тезис, который чаще всего высказывался
авангардистами именно в связи с динамическими формами, был тезис об
активизации зрителя, вовлечении его в процесс создания
произведения. Дело в том, что организаторы хэппенингов, как правило,
стремились спровоцировать публику на ответные действия, вклю-
Oldenburg E. A Statement.— In: Happenings, p. 200.
Hansen A. Op. cit., p. 85.
249
чить ее в спонтанное развертывание событий. Авангардистская
концепция утверждала, что зритель должен стать соучастником
творческого процесса, то есть в какой-то мере тоже художником.
Так, Джон Ксйдж говорил:
«Искусство, вместо того чтобы быть объектом, созданным oz-
ной личностью, становится процессом, приводимым в движение
группой людей. Искусство социализуется. Это уже не некто,
высказывающий нечто, а люди, делающие вещи, дающие каждому
(включая и вовлекаемых) возможность пережить такой опыт,
который иначе был бы им недоступен»86.
Такая позиция, будучи изложенной в общем виде, может
обмануть кажущимся демократизмом. Но в практике авангарда дело
обстояло скорее наоборот: художник просто манипулировал
публикой, обращался с ней как с неодушевленным предметом.
Принцип «коллажа из людей и действий» исключает возможность
уважительного отношения к аудитории как к равному и сознательно
действующему партнеру.
«Аудитория рассматривается как объект, а ее поведение — как
событие, наряду со всем остальным»87.
Многие хэппенинги носили характер прямого насилия и
издевательства над «соавторами»: зрителей обливали водой и
окуривали дымом, пачкали им лица, рвали одежду и срезали галстуки,
запирали в темных помещениях, отвозили поздним вечером в
пустынные места и т. п. Говорить о сотворчестве в подобных
ситуациях просто бессмысленно.
Правда, в некоторых формах кинетического искусства, оп-арта
и энвайронмента зрителю действительно предоставлялась
определенная свобода, и его поведение каким-то образом изменяло
характер произведения, включало в него элемент динамики, игры.
Многие из таких созданий были близки к обычным парковым
аттракционам, и речь здесь может идти только о физической
активности, а не о подлинно творческом, духовном соучастии. Один из
представителей кинетического искусства, Матко Местрович,
сформулировал концепцию соучастия следующим образом:
«Произведение воздействует на психофизическую перцепцию, а не на
психологический и культурный базис зрителя. Зритель не
призывается к созерцанию и пассивному пониманию; он должен принять
активное участие в становлении непрестанно варьирующегося
произведения... Возникает комплексное визуально-кинетическое
развертывание, и оно зависит от действия зрителя»88.
Такое представление о роли зрителя вытекает из общей
концепции модернизма. Если изображение со всеми заключенными в
нем идеями есть лишь «пассивная имитация» и отражение
«ложного сознания», созерцательное, духовное отношение к искусству
следует отвергнуть как «пассивное» и «ложное». Утверждение ма-
Цит. по: Kultermann U. Art and Life. New York-Washington, 1971, p. 8.
Happenings, p. 202.
Цит. по: Popper F. L'art cinetique. Paris, 1967, p. 96.
250
териальности произведения (статической или динамической)
предполагает либо прямое воздействие на психофизиологию публики,
либо ее физическую вовлеченность, что на практике часто
сливалось в одно.
Тот же смысл был заключен и в другом лозунге — прямой
коммуникации. Прямая коммуникация, то есть непосредственное
воздействие на сенсорный аппарат зрителя, стала возможной потому,
что из произведения было изъято всякое содержание, и, в
соответствии с тезисом Маклюэна, средство стало сообщением. Так
возникли технические установки, которые ослепляли публику
мелькающим светом, оглушали какофонией шумов, били током
слабого напряжения, пугали темнотой или внезапно включающимися
механизмами (при случайном прикосновении к ним). Уже
упоминавшийся Споэрри изобрел ит-арт (искусство еды), в котором
публике в целях установления прямой коммуникации
предлагалась трапеза в качестве художественного «сообщения».
Другая разновидность акционизма — перформенс
(представление) — отличается от хэппенинга большей организованностью,
спланированностью действия, а также большей пространственной
и временной концентрированностью. Хэппенинги чаще всего
разыгрывались на улицах, во дворах, на чердаках и в различных
общественных помещениях: в зданиях универмагов, на вокзалах, на
площадках перед театрами и музеями, иногда они выносились в
загородное пространство. Место исполнения перформенса —
почти всегда выставочный зал, исполнители-—сам художник или
несколько его друзей-профессионалов. Публике отводится ее
обычная роль зрителей, вовлеченность не предполагается. Случайность
и импровизационность также исключены или, во всяком случае,
значительно ограничены.
Один из ранних образцов такого представления дал Джон
Кейдж, предложив своим слушателям в качестве музыки «Лекцию
о ничто». О своеобразии его композиторского творчества можно
судить, например, по сочинению, состоящему из одной бесконечно
тянущейся ноты, или по «молчащей музыке», название которой
«4/33//» означает длительность тишины. Композитор полагал, что
непреднамеренные звуки, возникающие в зале во время
«исполнения» должны восприниматься как музыка. «Лекция о ничто»
представляет собой довольно длинный монолог композитора, о
содержании которого дает полное представление небольшой
отрывок:
«Я здесь, и сказать нечего. Если среди вас есть те, кто хочет
куда-то уйти, пусть уходит в любой момент. Мы требуем тишины,
но тишина требует, чтобы я продолжал говорить... Мне нечего
сказать, и я говорю это, и это и есть поэзия, которая мне
нужна» 89. И так далее. Единственным содержанием речи является
Cage /. Silence. Lectures and Writings. Cambridge-London, 1969, p. 109.
251
бесконечная тавтология самой речи, высказывание об отсутствии
высказывания90.
Преимущественно по такой же схеме строились и другие
действа, хотя в них существовал несколько больший диапазон межд\-
наличием средства и отсутствием сообщения. Достигалось эт
главным образом путем искусственного усиления материальносте
высказывания — применением акустической, звукозаписывающей,
телевизионной и кинотехники.
В представлении американца Дэна Грэхэма — «Два
соотнесенных вращения» — два человека непрерывно снимали друг друга
8-миллиметровыми кинокамерами, двигаясь по концентрическим
кругам в противоположных направлениях. В другом представлении
тот же художник стоял перед публикой, монотонно описывая
себя: «Моя левая рука сейчас находится в переднем кармане брюк,
большой палец снаружи, я чувствую напряжение в правой части
шеи» и т. д. Затем он переходил к такому же описанию публики.
Английские перформенсисты Джилберт и Джордж
демонстрировали себя как «Поющую скульптуру», то есть стояли неподвижно.
с лицами, покрытыми позолотой, и раскрывали рты синхронно
банальной песенке, записанной на старой граммофонной пластинке.
Точно так же скульптор-манималист Роберт Моррис
артикулировал записанный на магнитофон текст Панофского о трех уровнях
значения. Время от времени он прерывался, чтобы налить воды в
стакан. В записи в это время слышался звук льющейся воды.
Томас Шмит выставил обширный круг бутылок, одна из
которых была наполнена водой. Затем он последовательно переливал
воду в другие бутылки, не пропуская ни одной. В течение 14—
20 часов (длительность представления) вода полностью
испарялась, и все бутылки оказывались пустыми. В
самоисчерпывающемся действии — смысл представления.
В середине 70-х годов появились более театрализованные
формы. Так, Кевин Эзертон показал в 1976 году представление под
названием «Некоторые особенности опоры». На подмостках были
водружены два ряда белых колонн с черным силуэтом на каждой
из них. Художник двигался из глубины вдоль правого ряда к
зрителям, нанося на каждую из колонн мазки краски. Одновременно
он комментировал свои действия, поясняя, что таким образом
отмечает различные трещины и впадины на колоннах, которые
только кажутся одинаковыми. Двигаясь в обратном направлении вдоль
левого ряда, он «перевернул» процесс, отмечая изъяны колонн
краской на своем белом трико. Очевидно, что стремление сделать
представление более зрелищным и декоративным привело к замут-
нению изначального смысла этой формы. Но и здесь чувствуется,
что художник хочет уравнять живого человека и искусственное
сооружение, подчинить творчество внешним случайностям, пока-
90 Западногерманский художник Тимм Ульрихс: «Мышление принципиально
тавтологично (я думаю, что я думаю). Только тавтологии действительны, и
действительность есть всегда тавтология». (Цит. по: Hoffman К- Kunst-im-Kopf,
S. 57.)
252
зать тавтологичность художественной речи, которая лишь
удостоверяет существующую предметность.
Во многих представлениях перформенсистов речь заменялась
простейшими жестами и телодвижениями, демонстрирующими
немоту художника. Чрезвычайно популярны были различные опыты
с кассетным телевидением и мониторами, дававшими возможность
создать изображение в изображении, провести информацию через
сеть отрицаний, уравнять реальность выставочного зала с
иллюзией телеэкрана, окончательно запутать отношения между
сообщением и средством. Здесь перформенс фактически сливается с
концептуальным искусством.
Приводим программу одного из таких действий со звуко- и ви-
деозаписывающей аппаратурой в изложении автора — художника
Питера Кеннеди:
«Видеомагнитофон плотно перекрыт кусками прозрачной
клейкой ленты различной длины.
Наклейка накладывается вокруг наиболее звукочувствительной
зоны микрофона. Исполнитель, стоя перед камерой, начинает
удалять куски клейкой ленты один за другим.
Каждый снятый кусок накладывается исполнителем на
объектив камеры.
Задача состоит в том, чтобы по мере развития произведения
отчетливость звука возрастала прямо пропорционально
убыванию отчетливости изображения»91.
К перформенсу близко «искусство жеста» и «искусство тела».
Первое из них заключалось в очень простых действиях. Например,
французская художница Джина Пане переложила камни с
северного склона горы на южный, выбросила четыре своих рисунка в
горный поток, совершила 10587 шагов на одной из выставок.
Боди-арт состоял в демонстрации художником самого себя и в
опытах самоистязания. Художники показывали себя в качестве
скульптуры (Бен, Ульрихс, Гофман), резали свое тело бритвой,
гасили спиртовой огонь босыми ногами, бились о стену,
подвергали себя солнечным ожогам, жгли волосы, бросали бетонные
блоки себе на ноги и пр. Цель — представить собственное тело как
материал и объект искусства. В своем «Втором эгоцентрическом
манифесте» Ульрихс называл самоэкспонирование «аутомобиль-
ной пластикой» и объяснял ее преимущества перед «мертвым»
произведением иск\'тсства наличием «мультимедиальных потенций:
цвета тела художника — живопись, само тело — скульптура, его
движения — танец, шумы органов — музыка, язык — литература,
глаза — кино, сам факт представления — театр»92.
Дикие выходки этого направления нельзя считать какой-то
патологией внутри авангарда. Напротив, это вполне логичная
реализация общих идей. Если любой объект — искусство, почему не
включить сюда и самого художника? С другой стороны, если все,
91 Six Years, p. 226.
92 Шт. по: Hoffman К. Op. cit., S. 152.
253
что делает художник, — искусство, пожалуй, наиоолее полным
воплощением искусства будет художник, заключающий в себе вес
возможности творчества. Приводить их в действие излишне.
Гарольд Розенберг верно писал о таком видном деятеле авангарда.
как Уорхол: «Новация Энди Уорхола состоит не в его живописи,
а в его версии той комедии, которую разыгрывает художник в кг-
честве публичной фигуры. «Энди»... привел процесс
переопределения искусства к той точке, на которой от искусства не осталось
ничего, кроме фикции художника»93.
Эти слова можно отнести ко всему авангарду 60—70-х годов.
4. Концептуальное искусство
Как видно из предшествующего изложения, к
концептуальному искусству так или иначе примыкали самые различные течения
современного модернизма. Концептуализм стал их теоретическим
центром. В нем идеология и практика авангарда осуществились
наиболее полно. Ядро этого направления представлено
английскими художниками — Терри Эткинсоном, Майклом Болдуином,
Дэвидом Бейнбриджем, Гарольдом Харрелом — и американцем
Джозефом Кошутом. Они объединились в группу «Искусство — язык»
и издавали журнал под тем же названием. Кроме них следует
назвать таких видных концептуалистов, как Айен Берн, Мел Рэмс-
ден, Дуглас Хьюблер, Он Кавара, Кристин Козлов, Роберт Барри,
Лоуренс Уэйнер, Лес Левин, Вито Аккончи, Сол Левит, Ян Ди-
бетс.
Программной для концептуализма считается статья Джозефа
Кошута «Искусство после философии», опубликованная в 1969
году в журнале «Studio International» и затем неоднократно
переиздававшаяся. Автор исходит из положений Витгенштейна,
лингвистической философии и логического позитивизма Айера. Он
утверждает, что XX век-—век конца философии, поскольку «ей
больше нечего сказать». Вспомним, что неопозитивизм,
отказавшись от решения основных философских проблем, действительно,
вышел из сферы собственно философского знания и рассматривал
себя как логику и методологию науки, а оксфордская школа
вообще свела свои задачи к анализу обыденного языка. Место
философии, по мнению Кошута, заступило искусство. Как он его
понимает?
Кошут считает, что задача современного искусства состоит в
обсуждении самой природы искусства. Стало быть, необходимо
отказаться от того, что определяет специфику живописи,
скульптуры, графики, то есть отказаться от материально-чувственных
средств искусства. Оформляя свои произведения как живопись
или скульптуру, художник тем самым уже принимает их
традиционный язык и морфологию, в то время как задача состоит как раз
93 Rosenberg H. Art on the Edge. Creators and Situations. London, 1976,
p. 98.
254
в обратном — перейти от морфологии к функции, от видимости к
концепции. Любая зрительная, чувственно воспринимаемая форма
предполагает и влечет за собой эстетическое суждение, которое,
по мнению Кошута, здесь абсолютно неуместно. Оценка искусства
с точки зрения красоты, вкуса, наслаждения возможна только по
отношению к декоративным и прикладным формам, которые, в
сущности, не есть искусство. Ценность произведения заключена
не в его физической или визуальной оболочке, а в той идее,
которая функционирует при его посредстве внутри художественного
мира, контекста искусства. «Собственно произведения искусства —
едва ли что-то большее, чем исторические курьезы. В отношении
искусства живопись Ван Гога имеет не большую ценность, чем его
палитра. И то, и другое — лишь «предмет коллекционирования»94.
Разделавшись таким образом с многовековым заблуждением
человечества, видевшего в художественном творчестве способ
зримого представления идей в прекрасной форме, Кошут
растолковывает читателю, в чем состоит задача художника. Оказывается,
она сводится к созданию новых высказываний о природе
искусства, что, в свою очередь, предполагает использование всякий раз
новых средств для их конструирования: ведь высказывание об
искусстве, с точки зрения Кошута, и есть искусство, а его язык
равен его содержанию. «Если продолжить нашу аналогию с
формами, которые принимает искусство, будучи языком искусства,
можно понять, что произведение искусства есть вид высказывания
(proposition), представленного внутри контекста искусства как
комментарий об искусстве»95.
Как видим, все эти рассуждения замыкаются в кольцо,
которое начинает вращаться вокруг некоторой пустоты. Основываясь
на развиваемой логическим позитивизмом теории аналитических и
синтетических предложений, автор статьи относит «предложения»
современного искусства к аналитическим, значение которых, по
определению Айера, «зависит исключительно от дефиниции
содержащихся в них символов». То есть Кошут хочет приравнять
художественное выражение к формальным построениям логики и
математики. Синтетические предложения (суждения о мире),
истинность которых проверяется посредством эмпирических данных, —
сфера устаревшего реализма. «Синтетические утверждения
реализма не возвращают нас к круговому вращению в диалоге о
природе искусства — диалоге, ведущемся в более широком
обрамлении искусства; скорее, наоборот: нас выбрасывают из «орбиты»
искусства в «бесконечное пространство» условий человеческого
существования»96.
Конечно, к тяжкой провинности человекознания причастен не
только реализм — искусство ему было привержено искони. Кошут
хочет избавить художественное творчество от первородного греха,
94 Idea Art. A Critical Anthology, N. Y., 1973, p. 82.
95 Ibid., p. 82—83.
96 Ibid., p. 85—86.
255
указать путь к спасению в трансцендентном мире нерефере=г*-
альных идей.
В понятие «человеческие условия» он включает и внутре=-^-
«я» художника, которое также выводит искусство из его собст-е-
ного контекста. Как видим, Кошут не только не пытается npe:z>
леть порочный круг в понимании искусства как дефиниции ис*"*£-
ства, а утверждает его в качестве нормы концептуализма.
«Предложения искусства являются не фактическими, а лр=~-
вистическими по своему характеру, то есть они не описывают -.--
ведение физических или даже ментальных объектов, а ппедлага -
определения искусства или формальные следствия таких
определений»97. Поэтому искусство «есть тавтология, то есть «идея ■:-
кусства» (или «произведение») и само искусство — одно и - -
же»98.
Столь поразительное заявление способно ошеломить даже i-
тателя, наделенного иммунитетом к шоковой тактике авангард
Тавтология (или, по другому выражению автора, «идея как ид-
как идея») и есть искусство, явленное в своей чистоте, избавле -
ное от посторонних примесей материальности, визуальности,
эстетизма, смысла, человечности, духовности и прочих профанации
излишеств. Кошут разъясняет:
«Произведение искусства есть тавтология, поскольку оно
представляет интенцию художника, который говорит, что данное
произведение искусства есть искусство, что одновременно
означает, что оно есть дефиниция искусства. То есть, то, что оно есть
искусство, верно a priori» ".
Все это, конечно, слепок с неопозитивистских представлений о
бессодержательности и пустоте формальных (аналитических)
высказываний, о тавтологическом характере предложений логики и
математики. Однако слепок выполнен в другом материале,
вследствие чего приобретает вид вульгарной пародии на оригинал:
математическая априорность трансформируется в уже известную нам
идею — «художественный объект» определяется его
местонахождением.
Свои рассуждения об «обрамлении», «контексте» и «орбите»
Кошут поясняет таким примером: если одну из ящикообразных
форм Джада наполнить мусором, а затем поместить в
индустриальное окружение или просто бросить на углу улицы, она уже не
будет искусством. Чтобы принять ее в качестве искусства, нужна
априорная точка зрения на нее как на художественный объект,
то есть выставка или статья в журнале.
Концептуалисты писали много, пространно и всегда в стиле
логико-философских диссертаций. В первом номере журнала
«Art — Language» была опубликована статья Терри Эткинсона, в
которой говорится, что «созидание искусства и созидание теории
97 Ibid., p. 84.
98 Ibid., p. 85.
99 Ibid., p. 82.
256
to
so so
so!
solo о
oslo
OS 0$0
fos
solos
£0
osb
so
sdbi
fos
050 0$
sdb
о o&k>
sol
so $o
lo
solo
grin
9"
gre€n
ici
grin
'n
h'm
113. Боб Коблинг. Четыре конкретных поэмы. 1967
*t^*l. *'^ff
«i^***®^;
С'РГ^С!
114. Джозеф Кошут. Неоновые электрические световые английские
стеклянные буквы. 1966
257
8UT ART Ш IDEAS НАУГ ШТ1ЙШ THIS WORK.
115. Джон Бальдесари. «Из этой живописи исключено все, кроме искусства.
Никаких идей в этом произведении нет» 1966—1967
Р
■лгошчц» 14"
116. Мел Бохнер. Серия измерений. Группа В. 1967. 1969
На стенах помещения клейкой лентой обозначены их размеры так, как они
проставляются на чертеже.
258
\л.тч
X /
\1
ъ I-
■** \
*
117. Мел Бохнер. Язык не прозрачен. 1970
О
ямштшшшэдшдошш^^
3
•я
S
в
118. Ян Диббетс. Белая стена. 12 фотографий, сделанных при
различной выдержке. 1971
259
%^ч vJ>« 3^-
9': j
119. Джозеф Кошут. Восьмое исследование (AAIAT). Предложение третье. 1971
120. Ханна Дарбовен. Столетие в один год. 1971
260
121. Марк Бойл. Карта из «Путешествия к поверхности Земли». 1969.
Карта является составной частью проекта, па осуществление которого
i и (билось бы около 25 лет. Сначала люди с завязанными глазами метали
|н-.1ы в огромную карту мира. Так были выбраны наугад 1000 точек на
1>\пости Земли. Затем для каждого из отмеченных пунктов делалась карта
iшитого масштаба и выполнялась вторая серия бросков. Предполагалось,
\'ложнпк и его ассистенты совершат путешествие к каждому из этих мест
изобразят» их, представив образцы почвы, растений и семян, живых
организмов, копии с рельефа, фото- и кинокадры
261
■?*й
122. Джон Бальдесари. Лучший способ делать искусство
"£jy4«0UWv^-44£cj
57:6
iooMeg Norlti from lt£A But
Шу, toward Central Park an3 ui
Color phcfojpy Gerard Oppe^fcetm
NOV-5 1969
■■.л.
J
1
;i
GOT UP AT
12.17 P.M
i Г
%«,
ON KAWARA
|4& ЕШ 13ТЙ STREET
NEW YORK N. Y. 10003
s
LUCYR.LIPPARD
138 PRINCE ST.
NEW YORK N.Y.
10012
123. Он Кавара. Открытка из серии «Я встал». 1969.
Такие открытки, сообщающие о времени пробуждения автора, художник
рассылал своим знакомым ежедневно в течение четырех месяцев
262
3
Mm
А
ЯйЛЛ^ч'^^йЖ
124. Кейт Арнет. Я — настоящий художник
263
искусства какого-либо типа — часто та же самая процедура»:1й.
То есть, если какую-то критическую статью поместить на
выставке, она станет художественным произведением. Письменны"
текст — это теоретический объект, равноценный объекту
физическому. Сущность вещи определяется ее использованием,
конкретным окружением, «мета-структурой», поэтому любое явление м<~-
жет быть наделено любым смыслом. Так, рассуждает Эткинсон.
если данная статья помещена в журнале, то художественная
галерея, о которой в ней идет речь, есть теоретический компонент ее
контекста, если же ее поместить в галерею, то она сама стане
теоретическим компонентом контекста галереи.
Критик Люси Липард, способствовавшая выдвижению
концептуализма, неоднократно говорила о равенстве искусства и
высказывания об искусстве, основываясь на тех же мотивах: «Ни
средства, ни сообщения не играют роли, важно лишь то, каким образом,
в каком контексте они представлены» 101. Организуя выставки
концептуалистов, она и себя считала концептуальным художником,
оперирующим другими художниками как материалом. Кое-что из
написанного ею, действительно, вполне может состязаться со
словесной чехардой концептуалистских «текстов в тексте».
В чем Терри Эткинсон безусловно прав, так это в том, что
корни генеалогии концептуализма в кубизме. Кубизм принял
живописный материал в качестве единственной постоянной величины.
определяющей живопись. В ходе дальнейшей эволюции
модернизма оспариванию подверглась уже живописная форма, и роль
дефиниции искусства была возложена на иные, еще более
материальные «морфологические» признаки — раму и холст. Так,
«Черный квадрат» Малевича может быть отнесен к живописи лишь по
той причине, что он заключен в форму картины. Авангард 60—
70-х годов сделал объектом негативных высказываний и это
физическое обрамление. Можно привести множество примеров пустых,
перевернутых, разрезанных, прожженных, скрепленных друг с
другом холстов или полотен, снабженных отрицающими надписями.
Во Франции существовала группа «Support — Surface» («Опора —
поверхность»), которая занималась такого рода экспериментами
с материальными символами живописи. По отношению к более
радикальным направлениям роль обрамления «высказывания»
принял на себя выставочный зал. Когда же создания
художников вырвались за пределы галереи, таким определяющим
контекстом стал весь художественный мир и, в первую очередь,
критика.
Мел Бохнер, другой теоретик концептуализма, выводит его из
положений идеалистической психологии. Утверждая, что всякая
перцепция основывается на предварительной вербализации, а
«область идей осуществляет оперативную связь, предшествующую
100 Atkinson Г. Introduction.—In: Meyer U. Conceptual Art. N. Y., 1972, p. 11.
101 Six Years, p. 188. См. также высказывание Л. Липард на с. 233 того же
издания.
264
любой форме объективности»102, художник приходит к идее
искусства, которое, «приняв на себя все предварительные и
необходимые условия базисных норм ощущения, делает себя
невидимым» 103. И в самом деле, если вся объективность уже загодя
существует в голове в виде закодированных программ, их
конкретизация в зримой форме излишня.
Точно так же Виктор Берджин основывает свою
«ситуационную эстетику» на том положении, что объект формируется
ощущением и потому является «в высшей степени субъективным».
Объект есть производное от того типа поведения, которое
подсказывают конкретные обстоятельства и данное окружение. Стало
быть, задача художника — создать нематериальный объект,
который «является лишь функцией перцептивного поведения, но
который при этом включает в себя физические атрибуты,
заимствованные из материальности окружающей обстановки»104. Наполнение
этого окружения концептуальными элементами аналогично
действиям с предметами. Поэтому «идентификация искусства опирается
на познание причин, сигнализирующих о том, что в данном случае
необходимо принять тип поведения, определяемый как
эстетический подход» 105.
Все это, как видим, означает то же самое: «художественный
объект» создается восприятием зрителя, контекстом выставки или
сигнализацией художника. Концептуалисты были неистощимы в
изобретении способов оформления одной и той же идеи, одевая
ее в наряд то логики, то психологии, то лингвистики.
Так, Айен Берн и Мел Рэмсден определяют концептуализм
через абстрактную «грамматику» искусства, противопоставляя ее
тем «физическим сущностям», которые проецируются посредством
языка. Таким образом, они проводят демаркацию между двумя
типами искусства. Один из них занимается лишь
«прикладыванием концептов к материальному каркасу», а второй имеет дело с
«терминологией концептов, или, точнее говоря, формулированием
способов, с помощью которых концепты сообщаются»106. К
первому типу принадлежат прикладное искусство, архитектура,
художественное конструирование, ко второму — мета-искусство
концептуализма, то есть искусство абсолютно абстрактное,
грамматическое, а не лексическое. В таком переносе фокусного центра из
«материального модуса» в «модус пропозициональный» состоит
новация концептуализма, заменившего искусство текстологией.
Как видим, суть дела не меняется от того, в каком обличье
предстает пустота — математической тавтологии, априорных форм
перцепции или грамматики.
102 Цит. по: Meyer U. Conceptual Art, p. 52.
Ср. с высказыванием Витгенштейна: «Каким образом мне известно, что этот
цвет — красный? Ответом было бы: я изучил английский». (Wittgenstein L.
Philosophical Investigations, p. 117.)
103 Ibid., p. 56.
104 Ibid., p. 81.
105 Ibid., p. 82.
106 Ibid., p. 100.
265
Западные критики неоднократно сетовали на то, что
теоретические тексты концептуалистов труднодоступны для понимание
Действительно, существуют определенные препятствия для
усвоения их идей. Отчасти они проистекают из того, что художника
оперировали понятиями специальных наук.
Но дело не только в этом. Существо учений позитивистов
Леви-Стросса или Хомского, при всей их реальной сложности,
открыто для понимания. Введенные ими особые термины служил
для обозначения и концептуального оформления тех явлений, о
которых шла речь (пусть даже это были гипотетические
конструкции) . У теоретиков группы «Искусство — язык» специфическая
лексика служила скорее обратной цели — сокрытию смысла, а не
его прояснению. Это было чем-то вроде тайнописи эзотерической
секты, избравшей объектом своего поклонения священное ничто,
В педантичном соблюдении торжественного речевого ритуала быг
и момент самопародирования, что предполагалось уже
характером вероучения. Во всяком случае, противоречие между стилем
темных письмен и пустотой потаенного смысла бросается в глаза.
Другая причина невнятицы имеет объективный характер:
иррациональная круговая концепция с трудом поддается линейному
словесному выражению. Пробившись сквозь дебри специальной
терминологии и скрученных фраз, читатель внезапно оказывается
в каком-то вакууме, где стерты всякие различия между субъектом
и объектом восприятия, искусством и теорией искусства,
произведением и зрителем, выставкой и ее экспонатом.
Отсюда родилась программа, основной принцип которой
кратко определяется как принцип «искусства в голове». Это означало,
что от произведения отторгалась визуальная форма и состав его
сводился исключительно к идеальным феноменам —
представлениям или идеям.
Ганс Хааке говорил: «Я полагаю, что в искусстве видимое не
имеет большого значения. Гораздо важнее понятия. То, что вы
видите — просто средство передачи понятия»107.
В «Тезисах о концептуальном искусстве» Сол Левит
провозглашал: «Только идеи могут быть произведениями искусства; они
включаются в цепочку того развертывания, которое случайно
может обрести какую-то форму. Идеи не нуждаются в физическом
воплощении. Все идеи есть искусство, если они относятся к
искусству и фигурируют внутри условий искусства» 108.
107 Six Years, p. 78.
108 Ibid., p. 75.
О том же говорили и другие представители концептуализма. Дуглас Хьюб-
лер: «Меня занимает сам акт восприятия, а не то, что воспринимается,
поскольку гораздо интереснее выяснить, что именно мы делаем в момент
ощущения». (Там же, с. 130.)
Фредерик Бартельм: «Большинство моих произведений вместо того, чтобы
предоставлять информацию для восприятия, локализуют сам процесс
предложения и восприятия информации в индивидуальном поле... «Искусство», или
«значение», не возникает непосредственно из данной информации, а выводится
индивидуально каждым членом аудитории». (Там же, с. 149.)
266
Каким же образом осуществлялись эти идеи на практике?
Концептуалисты не создавали собственно произведений, а лишь
выдвигали те или иные «проекты», «предложения», документацию.
Вот в чем состояло одно из предложений Дугласа Хьюблера.
В течение 24 часов сделать 24 фотографии точек небесного
пространства, каждая из которых находится над одной из
географических точек, расположенных на 45-й параллели к северу от
экватора. Первая фотография делается на Гринвичском меридиане
в 12 часов. Все последующие — через час в местах, отстоящих на
15° от предыдущего. Таким образом, вследствие вращения Земли,
все фотографии, сделанные в разных местах, будут фиксировать
один и тот же участок пространства, и 24-часовой период
«сожмется» в одно мгновение. Понятно, что даже в случае
осуществления такого проекта, визуальная информация его будет равна
нулю, но в сознании возникнет некое представление о
совмещающихся временных и пространственных координатах, которое в данном
случае и является «произведением».
Более простой пример: Хьюблер проводит вертикальную линию
и сопровождает ее надписью: «Эта линия вращается вокруг своей
оси со скоростью один оборот в день». Воображаемое вращение
линии и есть «скульптура» (или, если угодно, «живопись»).
Роберт Барри нашел другой способ создания невидимых
произведений— с помощью не воспринимаемых ощущениями
электромагнитных волн, инертного газа, а также «ментальной энергии».
По мнению художника, знания о наличии этих явлений вполне
достаточно. Одно из его произведений означалось в каталоге
следующим образом: «В течение этой выставки я сделаю попытку
передать телепатически произведение искусства, состоящее из
серии мыслей, которые нельзя воспроизвести с помощью языка
или образа». Персональная выставка Барри состояла из
таблички, прибитой к закрытым дверям галереи: «По случаю выставки
галерея будет закрыта».
Кошут иллюстрировал свою идею о тавтологичности
высказывания, например, так: на выставке стоял стул, рядом с ним
помещалась его фотография и далее — словарное определение
понятия стула. Три способа сообщения информации — простое
указание на предмет, его изображение и словесная дефиниция —
сливались в одном и том же представлении в качестве создания
художника (или зрителя, что в данном случае одно и то же). Другой
способ выражения той же идеи — «Информационная комната»,
где на столе были разложены книги и статьи, в основном по
лингвистической философии, и среди них «Исследования» самого
Кошута.
Концептуалисты часто прибегали к различным техническим
аудиовизуальным средствам, стремясь к уплотнению
материальности языка и одновременно — к уничтожению заключенного в нем
информационного потенциала. Так, Айен Берн и Мел Рэмсден
представили на одной из выставок «Шесть негативов». Работа эта
выполнялась следующим образом. Из тезауруса были выбраны
267
шесть категории, слова из которых далее располагались в две
колонки. В одной из них записывались позитивные понятия, в
другой— соответствующие им негативные. Затем все позитивные
термины были вычеркнуты. Полученные списки фотографировались.
Негативы пленок были представлены на выставке.
Другой пример — программа Кристин Козлов под названием
«Информация: Нет-теория». Приводим ее в изложении автора.
«1. Магнитофон заряжен склеенной в кольцо непрерывной
лентой.
2. В течение выставки (с 9 апреля по 23 августа) магнитофон
будет поставлен на «запись». Все звуки, слышимые в помещении
в течение этого времени, будут записываться.
3. Сам характер кольцевой ленты ведет к тому, что новая
информация с необходимостью стирает старую. «Жизнь»
информации, то есть время, за которое она из «новой» превращается в
«старую», длится примерно две (2) минуты.
4. Доказательство наличия информации не существует в
действительности, а основывается на вероятности» 109.
Одно из произведений того же автора представляло собой
24-часовую магнитную запись сообщений телефонных часов. Джон
Перро создал «Уличную музыку», то есть звонил из одного
телефонного автомата в другой.
Айен Берн сделал сто ксерокопий с чистого листа бумаги,
причем каждая последующая копия выполнялась с предыдущей,
так что первоначальная белизна все больше и больше
затемнялась. Затем все листы он сшил в одну книгу, как бы показав тем
самым движение средства информации от ничто к ничто.
Некоторые работы концептуалистов представляли собой
простейшие высказывания, но и здесь художники стремились
построить фразу так, чтобы она отрицала себя или, во всяком
случае, не заключала в себе никакого реального сообщения.
Например: «Прислушайтесь к звуку вращения Земли». «Возьмите
звук стареющего камня» (Йоко Оно). «Жирная прямая линия,
проходящая отсюда сквозь вас до конца комнаты». «Это —
зеркало. Вы — написанное предложение» (Луис Камнитцер).
«Разрушение моих художественных произведений как
художественное произведение» (Бен). Часто такие высказывания писались
на холстах. Так, на одном из холстов Джин Бири было написано:
«Надпись: сделайте живопись надписи как живопись». Мел Рэм-
еден дал такой текст на полотне с черным квадратом:
«Содержание этой живописи невидимо; его характер и объем должны
оставаться постоянной тайной, известной только художнику».
Существовало множество произведений, состоящих из цифр,
отдельных слов и словесных перестановок. Иногда
словотворчество приобретало более развернутый характер, примером чему
может послужить опус Кейта Арнета, фигурировавший на выставке
под названием «Возможно ли для меня сделать ничто в качестве
Six Years, p. 80.
268
вклада в эту выставку?» Вот небольшой отрывок из его весьма
длинного текста: «Под этим можно подразумевать, что я не
сделал никакого особого произведения, о котором существовало бы
свидетельство (того или иного рода) на выставке. Но такая
интерпретация исключила бы означающие средства самой идеи.
Сообщение «Я ничего не сделал» передано. Сам по себе этот
письменный материал является свидетельством того, что что-то
было сделано»110 и т. д.
В противоположность вышеприведенным мини-фразам, в
концептуализме были и весьма громоздкие создания, например
«Столетие в один год» Ханны Дарбовен—библиотека из 365
томов, в каждом по 100 страниц, заполненных цифрами.
Лидер западногерманского авангарда Йозеф Бойюс говорил:
«Для меня формирование мысли — уже скульптура. И
конечно, язык есть скульптура. Я привожу в движение свою гортань,
губы, и извлекаемый звук — элементарная форма скульптуры.
Мы спрашиваем: «Что есть скульптура?» И отвечаем:
«Скульптура» 1П.
Среди концептуалистов шел спор о том, возможно ли чисто
неонтологическое, полностью дематериализованное искусство.
Играют ли средства какую-либо роль, кроме роли физического
обрамления или материального возбудителя идей и
представлений? Имеет ли значение реальное пространство или это только
символ «пространства ментального»? Что, собственно, составляет
произведение: язык, сообщение или провоцируемый образ?
Однако в рамках концептуалистской теории, по существу, эта
дискуссия не имеет смысла, и разногласия между художниками
отражают не различия их позиций, а неразличимость понятий внутри
прокламируемой доктрины.
Поэтому максимальное наращивание материальности или
бесконечное ее убывание не играют здесь роли. Идет ли речь об
«оральной коммуникации» Уилсона как скульптуре или о целом
энваиронменте как продукте мышления, существенного различия
.между ними нет. Единственное, что важно для
концептуализма,— это замкнутость сообщения на себе, идущее по
непрерывному кольцу самоотрицание, отсутствие всякой соотнесенности
с миром, внешним или внутренним миром автора. Лучшая
модель концептуализма — одно из произведений Джеспера
Джонса: два полотна, скрепленных друг с другом лицевой частью и
наглухо замазанных снаружи серым воском.
110 Ibid., p. 173.
111 Ibid., p. 122. Ср. с суждением Витгенштейна: «Разговоры о мышлении как
о «ментальной активности» вводят в заблуждение. Мы можем сказать, что
мышление, по существу, есть деятельность оперирования знаками. Эта
деятельность осуществляется рукой, когда мы думаем письмом; ртом и гортанью, когда
мы думаем речью; а когда мы думаем, воображая знаки или картины, я не
могу назвать вам никакого агента, который мыслит». (Wittgenstein L. The Blue
and Brown Books. Oxford, 1958, p. 6.)
269
* * *
Новейший авангардизм привел искусство к нулевой точке.
И теоретические концепции художников, и их практическая
реализация представляют собой порочный круг, в котором исходные
позиции сливаются с выводами, отсутствует свойственная
познавательной деятельности направленность и полностью утрачена
ценностная ориентация. Причина этого — в уничтожении
различий между объективным и субъективным, внешним миром и
отражающим его сознанием. Возникающая внутри такого
мировоззрения полная обратимость всех понятий, разделяющих реальное
и идеальное, привела к утверждению равенства восприятия и
объекта, языка и текста, искусства и жизни, произведения и
интерпретации, художника и зрителя, объективного значения и
субъективного применения, внешней ситуации и внутреннего смысла.
В теории и практике авангарда все слито в непрерывном
тождестве, дифференциация явлений отсутствует, установление
причинно-следственных связей между ними невозможно.
Конечно, Витгенштейн не случайно стал властителем дум
нового поколения иконоборцев. Его солипсизм был следствием
порочного круга, к которому вело учение о языковых играх.
В поздних работах Витгенштейна почти не содержится общих
утверждений, ибо он ясно понимал, что любое из них может
обернуться против самой доктрины. Витгенштейн полагал, что все
философские проблемы решаются сами собой путем простого
наблюдения над функционированием языка, и, выдвигая
дескриптивный метод, видел в демонстрации его работы замену
упраздняемой философии.
Показателен сам стиль философствования позднего
Витгенштейна. Он изъясняется с помощью воображаемых сцен и
диалогов с предполагаемым оппонентом. Вопросы следуют друг за
другом, большинство из них так и остается без ответа.
Постоянное употребление сослагательного наклонения выявляет
относительность и ненадежность суждений. Короткие фрагменты
группируются вокруг какой-либо темы, но не связываются в
единство: мысль кружит вокруг одного и того же предмета, будучи
не в силах дать ему определения. Из погружения в такой зыбкий
текст противоречивых толкований, опровергающих друг друга
вопросов, оспариваемых утверждений в конце концов рождается
представление о сомнительности любого высказывания: мир
может быть лишь показан средствами языка, но не объяснен.
Автор интересной критической работы о лингвистической
философии Э. Геллнер пишет: «Какое усовершенствование по
сравнению с Декартом! Вместо «я мыслю, следовательно, я
существую» мы приходим к следующему: «мы говорим, поэтому весь
мир существует, и, кроме того, он таков, каким он всегда
кажется». Богатый урожай!»112.
112 Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962, с. 183.
270
Здесь во всем полная аналогия авангардистским теориям.
Поэтому Витгенштейн, хотя и не был эстетиком, оказал сильное
влияние на умы инициаторов антихудожественного бунта.
В западном искусствоведении авангард часто подвергался
критике. Здесь можно указать на интересную книгу
западногерманского литературоведа В. Дуве «Искусство и его анти», сборник
статей его соотечественника Э. О. Эрхарда, язвительные эссе
Гарольда Розенберга из.
Но вот что любопытно. Концепция авангардизма настолько
негативна, что по существу «неуязвима» для критики. Критика
всегда ведется с тех или иных ценностных позиций, а на том
нулевом уровне, который был завоеван новейшими течениями,
никаких ценностей уже не существует и сам метод рациональной
аргументации недействителен. Те нормы и критерии, на которые
опирались в своих рассуждениях искусствоведы, были загодя
отвергнуты художниками, а все возможные обвинительные
заключения приняты как знамя. Возникшее в результате
бесконечное зияние втягивает в себя, наподобие «черной дыры», вещество
любой критики. Все здравые рассуждения проваливаются в
бездну безрассудной концепции. Что такое искусство? Что делает
художника художником? Чем отличается художественное
произведение от промышленного изделия? В чем разница между
восприятием и творчеством? Сама постановка этих вопросов,
необходимая для всякого размышления об искусстве, означает
стремление найти какую-то точку опоры, выстроить последовательность
отделенных друг от друга понятий, определить связи между ними.
Такой подход неприемлем для искусства обдуманного безмыслия.
Поэтому искусствовед просто не находит со своими оппонентами
той общей платформы, на которой возможен спор.
Однако если «неэффективность» критической позиции
оправдывается самим объектом, то попытки придать позитивный смысл
саморазрушающемуся искусству ведут к прямому искажению его
сути. Вознося хвалы тенденциям «проникновения в жизнь»,
«эстетизации окружения», «синтеза искусств», «активизации
зрителя», «непосредственной коммуникации и пр., искусствоведы
останавливаются на полпути, отказываясь сделать те окончательные
выводы, которые были сделаны самими художниками. О какой
эстетизации может идти речь, если само понятие эстетического
было отвергнуто как ретроградное? Есть ли смысл в выражении
«проникновение искусства в жизнь» там, где искусство просто
неотличимо от окружения? Зачем нужен «прямой контакт», если
содержание коммуникации аннулировано?
Одна из позиций оптимистической критики заключалась в
отстаивании идеи синтеза искусств. Чаще всего она высказывалась
113 См.: Duwe W. Die Kunst und ihr Anti. Von Dada bis heute. Berlin, 1967;
Erhard E. 0. Pop Kitsch Concept-Art. Aufsatze zur gegenwartigen Situationen der
Kunst. Ravensburg, 1974; Rosenberg H. The De-definition of Art. Action Art to
Pop to Earthworks. N. Y„ 1972; Rosenberg H. Art on the Edge. Creators and
Situations. London, 1976.
i
271
в связи с хэппенингом. Искусствоведы утверждали, что в хэг~е-
нинге осуществилось объединение драмы, пантомимы, живот: гж
и хореографии. Но совершенно очевидно, что, во-первых, так ~л-
зываемый синтез означал здесь полную утрату специфики вид--
Нельзя же всерьез называть драмой бессловесное и едва
организованное зрелище, хореографией и пантомимой лишенные
смысла и стиля телодвижения, говорить о живописи там, где *
нее не осталось и следа. Во-вторых, истины ради набор
«синтезируемых» элементов следовало бы расширить и включить в
йене только виды искусств, но и автора, зрителя, реальное
окружение, случайные предметы. Если любой синтез предполагает
предварительный анализ и состоит в ясной организации дифференцр-
рованных явлений, основой хэппенинга является обратное деГ-
ствие — стирание всяческих различий, погружение в доразумный
хаос.
Попытка позитивной интерпретации авангарда неизбежно
ведет к описанию его в направленных, однозначных терминах, к
размыканию кольца в линейную последовательность, к
возведению определенной ценностной иерархии. Но как раз такой подход
запрещен самим материалом. Принятая искусствоведом система
понятий в этом случае просто неадекватна специфике явления п
не улавливает его сути.
По сравнению с очевидной беспомощностью благонамеренных
описаний, определенный интерес представляют те работы, авторы
которых разделяли воззрения авангарда. Во всяком случае, это
избавляло их от необходимости затушевывать антигуманизм и
последовательный негативизм рассматриваемых явлений. Сред?
таких работ можно назвать книгу Жана Клера «Искусство во
Франции. Новое поколение» 114.
Теория авангарда проясняет причины необыкновенной
пестроты направлений 60—70-х годов. Поскольку все явления
материального и идеального мира были уравнены, открылась
возможность воздвигать искусство (точнее, его фантом) в любой точке,
начать с физического объекта или с мысленного представления.
с фиктивной картины гиперреализма или с фикции «окружения»,
с динамики хэппенинга или со статики минимализма. Формы
антиискусства можно дробить до бесконечности. Чуть ли не
каждый художник представлял собой отдельное направление. Но, с
другой стороны, чуть ли не каждый художник врывался не
только в смежные, но и в как будто удаленные от него сферы, и
«противоположные» направления перекрывали друг друга.
Провозглашенная тождественность всего и вся стала базисом для мнимого
богатства и свободы выражения. Отсюда этот разительный
контраст между внешним разнообразием и сущностной
монотонностью ирреальных реальностей авангарда. Скудный набор из
нескольких идей переходит от одного направления к другому почти
без всяких вариаций.
См.: Clair /. Art en France. Une nouvelle generation. Paris, 1972.
272
Позиция авангарда по отношению к обществу была весьма
двусмысленной. Как уже отмечалось, художники в подавляющем
большинстве вплоть до конца 60-х годов считали свое искусство
асоциальным и аполитичным. Однако с подъемом
демократических движений как раз этой самоизоляции была придана
социально-политическая окраска.
Джон Кейдж говорил: «Радикальность искусства определяется
не в характеристиках его формы, а в понятиях разрыва с данной
социд.[ц>ной, политической, экономической или психологической
структурой»115, Что это, собственно, означает? Простой уход от
общественных проблем или протест против существующего
порядка, позицию эскаписта или позицию борца?
В период политизации авангарда наиболее популярными в его
среде стали социально-политические и эстетические концепции
франкфуртской школы, прежде всего идеи, высказанные Маркузе
в книгах «Опыт об освобождении» (1969 г.) и «Контрреволюция
и бунт» (1972 г.). Позиция «великого отказа» вела Адорно и
Маркузе к идее самоотрицающего искусства, в котором они
видели единственную возможность борьбы с аффирмативной
сущностью культуры. Маркузе считал, что только десублимирован-
ное искусство, направленное на уничтожение эстетической формы
как таковой, может стать средством катализации
революционного сознания. Искусство, разрушающее себя, представлялось в его
теории как орудие дестабилизации общества, как метод борьбы
с самими основами капитализма, которые, по его мнению,
коренятся в общественном и индивидуальном сознании. Так асоциаль-
ность была преобразована эстетикой бунта в позицию
революционного протеста.
В этот период оживился интерес к социально-политическим
теориям авангарда 20-х годов — раннего сюрреализма, чешского
литератора Карела Тейге, Мондриана — в которых также
пророчилась смерть искусства, художественный бунт приравнивался к
социальной революции, а трансформация сознания
представлялась основой общественных преобразований. В мистике таких
воззрений фигура художника-аутсайдера превращалась в фигуру
социального терапевта и инженера будущего общества.
Весь этот набор мятежных идей прямо накладывался на
сложившуюся практику, которая отныне стала представляться чем-
то вроде партизанской борьбы с обществом «репрессивной
терпимости», аналогией так называемого подполья (underground)
контркультуры.
Один из примеров суммирования этих воззрений — книга
шведского леворадикального художника Тоштена Бергмарка.
Автор пишет: «Необходимо превратить искусство из декорации в
демонстрацию. Это означает, что искусство уже своей формой
должно стать антагонистичным по отношению к обществу, которое оно
стремится изменить... Точно так же, как демонстрация наиболее
Цит. по: Idea Art, p. 132.
273
эффективна, когда она противозаконна, искусство должно сломать
закон и порядок. Поэтому и эстетические законы являются часть
того уклада, который охраняет государство и его богатства»г .
Поскольку искусство в буржуазном обществе есть форма отчу -
дения, рассуждает Бергмарк, единственно возможный
революционный путь для художника — отрицание себя как художника,
а это значит, что политизированное искусство должно уравнятьс
с эстетизированнои политикой. Искусство и политику необходимо
подвергнуть «обоюдной деструкции». «Тот фактор, в котором
«царство свободы» (искусство) и «царство необходимости»
(политика, экономика) перестают быть противоположностями и
разделенными сферами, является предпосылкой тотальной
деятельности, а также общества тотального соучастия» 117.
Одному из сторонников слияния искусства и политики
принадлежит известное высказывание: «Самая прекрасная в мире
скульптура — это уличный булыжник, тяжелый булыжник,
который швыряют в рожу полицейского»118.
Но дело не только в том, что при таком понимании
политическая акция превращалась в хэппенинг, а искусство — в род
анархической манифестации. В ряде случаев это вело к локализации
«революционного процесса» (целиком!) в сфере сознания и
индивидуального опыта. Например, шведский автор Фольке Эдварде
прямо противопоставляет марксистской точке зрения позицию
хиппи и художественного авангарда. Для него также «революция
означает революционное сознание»119, а достичь его можно путем
обращения к ориенталистическому миру снов и мечты, философии
дзен-буддизма или шока в национальном масштабе. Средствами
такой внутренней метаморфозы являются наркотики, массовое
экстатическое действо, а также светозвуковые шоу, светокинети-
ческий энвайронмент, воздействие которых автор справедливо
уподобляет эффекту наркотического «путешествия».
Подобная шокотерапия, как и революционистская практика
гошистского ядра, напоминает магический обряд, в котором
посредством ритуальных заклинаний и дионисийского экстаза
происходит чудо «освобождения» и заклятое сознание осуществляет
прорыв из материального мира принуждения в иллюзорный
простор творческой стихии.
Идеи тотального отрицания и взаимной аннигиляции
искусства и политики совпадали с собственными позициями
художественного авангарда. В основе их лежало все то же представление о
первичности сознания по отношению к объективному миру. К
ряду тождеств было добавлено еще одно: искусство = политика.
Поэтому вторжение маркузеанских воззрений в художественный мир
вовсе не понуждало его представителей менять свои взгляды и
116 Bergmark T. Konstnarer som politiker. Stockholm, 1972, s. 140, 141.
117 Bergmark T. Op. cit., s. 146.
118 Art et contestation. Bruxelles, 1968, p. 62.
119 Edwards F. Fran spontanism till underground. Stockholm, 197 К s. 175.
274
методы. «Политизация» прошла почти незаметно, в полном
соответствии с принципами революции взгляда: достаточно было
мысленно поместить саморазрушающийся художественный объект в
социальный контекст, чтобы преобразовать его в модель
революционного разрушения. В основном этой маркузеанской
трактовкой авангардистской продукции и ограничивалась так называемая
социальная вовлеченность.
Однако здесь следует сделать существенную оговорку.
Реальность общественной жизни отличается от контекста герметичного
«художественного мира». Широкие демократические движения
60 — начала 70-х годов не сводились к гошистскому тотальному
отрицанию. В них выразилось стремление к подлинной свободе,
а не условному раскрепощению сознания, к реальному
преобразованию общества, а не только к бегству от него в мир психеде-
лических состояний и хиппиевской маргинальности. В этих
движениях, всколыхнувших различные слои населения, «великий
отказ» преодолевался направленной, содержательной критикой
пороков буржуазного общества. Активный социальный контекст в
ряде случаев привел к смещению точки зрения, к
непредусмотренному самим художником прочтению произведения в социально-
критическом плане.
Возьмем такой пример — портреты Мерилин Монро Энди Уор-
хола. Многократное повторение фотографии, стертость
индивидуальных черт и деталей, яркая раскраска лица, повторяющая
косметический грим,— в этих приемах виделся некий символ
массового общества, стирающего личность, превращающего ее в
плоский имидж, продукт потребления.
Однако такое прочтение картины Уорхола не отвечает
намерениям самого художника и выводится лишь из знания
капиталистического мира и судьбы Мерилин Монро. Опорой для него
является как раз то, что в поп-арте вынесено за скобки — образ
конкретного человека и образ техники, стянутые в метафору
общественного механизма, раздавливающего человеческое
достоинство. Уорхол вовсе не собирался разоблачать общество, в
котором гибнут гуманистические ценности и жизни людей, ставших
добычей культурной индустрии. Он неоднократно говорил, что
социально-критическое содержание в его живописи отсутствует,
более того — восхищался бездушным машинизмом и брутально-
стью массовой культуры. Поэтому в данном случае речь может
идти лишь о не зависящем от воли художника вторжении
общественных идей в сферу асоциального по своей сути искусства.
Другой пример — деятельность Кристо. Этот художник,
уподобив себя потерявшему управление упаковочному автомату,
завертывал в брезент и полиэтилен самые различные объекты —
картину, дерево, фонтан, здание музея, живую женщину и
скалистое побережье залива. Здесь также можно увидеть символ
капиталистического отчуждения, мира, в котором все становится
товаром, а стихийное хозяйствование губит природу.
Общественное сознание, заряженное потенциалом действенных
275
идей, втягивало в созданное им ассоциативное поле и продукцию
антиискусства. Можно сказать, что сама жизнь «политизировала»
авангард, изменив способ его функционирования в общественном
сознании 120.
Конечно, были и попытки прямого выражения критических
настроений средствами антиискусства. К чему это приводило?
В 1970 году художник Адриан Пайпер поместил следующее
объявление на выставке: «Произведение, первоначально
предназначенное для этого места, было изъято. Решение об изъятии было
принято в качестве защитной меры против сгущающейся
атмосферы страха. Вместо того, чтобы подвергать произведение
смертельному и отравляющему воздействию этих условий, я
предлагаю его отсутствие как свидетельство невозможности
существования осмысленного художественного выражения в условиях
иных, чем условия мира, равенства, правды, доверия и свободы» 121.
Заявления об отсутствующих произведениях — один из
наиболее распространенных приемов концептуального искусства. Но и
данном случае хорошо видно, что стратагема концептуализма не
приспособлена для высказывания каких-либо внешних идей.
Тавтологическое кольцо разорвано критикой общественных условий,
но сама критика остается на уровне голой декларации.
Большой известностью пользовались работы концептуалиста
Ганса Хааке, оформленные в виде социологических анкет,
результатов исследования общественного мнения и различных
статистических данных. На одной из выставок художник предложил
посетителям опускать в прозрачные ящики бюллетени с надписями «да»
или «нет» в качестве ответа на вопрос: «Был ли ваш отказ
голосовать за губернатора Рокфеллера в ноябре вызван тем, что он
не осудил политику президента Никсона в Индокитае?» От
концептуализма здесь сохранен принцип информации об информации
(голосование о голосовании), но сам вопрос настолько
политически значим, что выводит произведение Хааке к реальным
проблемам жизни. Однако назвать это искусством, разумеется, нельзя.
Выход произошел в сферу социологии, а не художественного
творчества.
Можно привести н другие примеры того, как художники,
пытаясь высказать политические идеи средствами антиискусства,
вынуждены были отступить от принципов авангардизма, но и не
смогли подняться на уровень художественного выражения.
Сущность «искусства как идеи как идеи» — в полной безыдейности.
120 Нечто подобное случилось раньше, в период после второй мировой
войны, когда в освобожденной Европе в обстановке общественного подъема и
широкой популярности идеи «ангажированного» искусства абстракционизм стал
восприниматься как манифестация антифашистских настроений, хотя,
разумеется никакого антифашистского содержания в самих картинах не было.
>21 Six Years, p. 168.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
J
ом
Модернизм имеет уже немалую историю и в настоящее время
хватывает обширные географические ареалы. Читатель вправе
задать вопрос: неужели во всем этом потоке не было ничего,
кроме идеологии отказа и вариаций оформления пустого смысла?
Заметим, что вопрос этот относится уже не к самой доктрине
:! способам ее реализации, а лишь к тому, насколько верны ей
были те или иные художники. Любые программы порождаются
условиями действительности, из чего следует, что действительность
богаче любых программ, а человеческая личность никак не
исчерпывается избранным ею направлением мысли. Это тем более
верно по отношению к такой художественной идеологии, которая
противопоставляет себя и жизни, и содержанию личности. Позиция
авангарда напоминает позицию канатоходца: на ней трудно
удержаться. Ибо трудно заглушить в себе, выбросить из своего
творчества то, что составляет сферу естественных интересов человека:
-кизнь природы и общества, драматизм идей и человеческих судеб.
В одной из своих статей Ролан Барт, отвергнув ходячее
представление об антибуржуазности авангарда, заметил, что
подлинная опасность для него — не буржуазия, а революционное
политическое сознание *. Французский критик, сам способствовавший
формированию авангардистской идеологии, в данном случае был
прав. Хотя в периоды подъема общественных движений
модернистские группировки политически активизировались, примыкая,
как правило, к левым (чаще всего — анархическим) воззрениям,
попытки внести политические акценты в творчество неизменно
расценивались в таких коллективах как ересь. Случаи затянувшегося
вероотступничества вели к решительному разрыву с
программными установками и смене творческого метода. Так от берлинского,
наиболее политически ориентированного, сообщества дадаистов
откололась группа издательства Малик с художниками Георгом
Гроссом и Джоном Хартфильдом, обратившимися к идеалам
социализма и реалистическим формам. Так отмежевывается от
экспрессионизма Эрнст Барлах. Выходят из организаций
сюрреализма его ведущие поэты Арагон, Элюар, Незвал, сделав выбор
между сюрреалистическим революционизмом и пролетарской
революционностью.
Передовые общественные идеи были сильным ферментом,
ускорявшим реакцию распада авангардистских направлений. Но дело
не только в давлении извне. Существовали и внутренние мотивы
сопротивления режиму антитворчества. Тревожная
обеспокоенность вопросом: «Что дальше? От чего еще нужно отказаться?»,
1 См.: Barthes R. Op. cit., p. 81.
279
перспектива полной безвыходности, необходимости прекра г„гъ
творческую деятельность — эта опасность также понуждала
художников к отступлениям, казалось бы, неоправданным
задержкам на начальных этапах, в целом уже преодоленных общим холом
движения 2. Этим и объясняются постоянные ссоры между старыми
и новыми направлениями, а также типичная для художников м -
дернизма искривленность линии творческой биографии: внезапные
повороты, скачки «назад»3, обращения к ретроспективизму и с~й-
лизациям.
Двустороннее давление этих сил — самой жизни и требована"
искусства —■ несомненно, подтачивало основы авангардизма. П>
этому проблески отклика на действительность и ее реальные
проблемы запечатлелись в творчестве даже наиболее истовых привег-
женцев доктрины.
Некоторые примеры таких реакций приведены в этой книге.
Но основная задача состояла в другом: выделить ядро
авангардизма, тот идейный заряд, который снабжал энергией и определяв
ориентацию модернистских движений. Все же бесконечные
модуляции и переходы оттенков, которые существовали и существую
в обширном пространстве между «передним краем» модернизма
и реализмом, сознательно вынесены за рамки работы.
С вопросом о степени представленности модернизма в его
«передовом отряде» связан другой: насколько адекватно
описывается теоретическая платформа авангарда посредством отсылок к
кантианско-позитивистской линии в буржуазной философии?
Насколько оправдано выдвижение ее в качестве основной параллели
авангардистскому мировоззрению? Ведь и художники, и особенно
поддерживавшие их критики не раз в поисках опоры обращали
взоры к иным, не менее влиятельным идейным течениям, например
к фрейдизму, «философии жизни» (Ницше, Шпенглеру, Бергсону),
экзистенциализму.
Действительно, эти потоки сыграли свою роль в
кристаллизации идейных установок направлений, но значение их было скорее
оформляющим, чем формирующим, скорее обосновывающим, чем
основополагающим. Каким образом происходило подключение
таких философских теорий к практике живописи?
Футуристы с их пристрастием к движущейся машинерии
пытались растолковать «симультанность» своих картин посредством
бергсоновской психической длительности. Точно таким же образом
поступали некоторые приверженцы кубизма, усматривавшие в
совмещении различных точек зрения («обходе вокруг предмета») не-
2 Длительные (иногда на всю жизнь) остановки на начальной фазе
характерны как раз для наиболее крупных художников модернизма — Матисса,
Брака, Шагала. Не за счет ли таких «отставаний» они смогли сохранить себя как
художники?
3 Один из последних примеров: ныне уже престарелый Сезар больше не
спрессовывает металлолом, а делает мраморные бюсты и фигуры обнаженных
в манере, близкой к экспрессионизму. Марсиал Рейс также «вернулся к
истокам», то есть к традиционным формам живописи и графики.
280
кое соответствие временной протяженности интуиции Бергсона.
Объяснение это крайне слабо, ибо расходится с учением Бергсона,
который видел в интуиции способ гелостного, керасчлененного
постижения жизни, противопоставляя ее «пространственному»
характеру научного мышления, превращающего непрерывное
развертывание мира в последовательность изолированных «объектов».
Дробление предмета на куски в картинах кубистов и футуристов,
равно как и упоение техникой последних, плохо связывается с
существом интуитивизма.
Правда, иррационализм Бергсона, его преклонение перед
близкой к инстинкту интуицией как единственным средством
подлинного миропостижения, вполне ощутимо сближается с
иррационализмом авангарда, последовательно отсекавшего от искусства все
его верхние познавательные ярусы. Однако видеть в кубистической
картине некую визуализацию интуитивизма было бы натяжкой.
Можно даже сказать, что в каком-то смысле целостная органика
классического образа — более подходящая модель психической
непрерывности, слитой с течением самой жизни. Очевидно, так это
было для самого Бергсона, который не проявлял интереса к
новейшим направлениям в искусстве и однажды выступил с
печатным опровержением слухов о своей поддержке кубизма, в котором
заявил также, что в книге Глеза и Метценже он «не понял ни
слова».
Известно, какая большая роль отводилась в сюрреалистической
теории идеям Фрейда. Но и здесь слгж^ла^ ггтуапия,
аналогичная предыдущей. В целом, то гипертрофирование роли
«глубинных» бессознательных процессов, которое содержалось в учении
Фрейда, отвечало собственным устремлениям художников,
противопоставлявших разуму слепую силу низших, дорефлективных
ступеней сознания. Но из психоаналитической теории вовсе не
следовало, что образное творчество должно быть заменено методами
психического автоматизма. Напротив, сам Фрейд рассматривал
искусство как форму сублимации вытесненных в подсознание
запретных влечений, как способ овладения природными импульсами
и побуждениями в символических формах культуры. Поэтому в
состоявшейся однажды длительной беседе с Бретоном Фрейд
решительно не понял лидера сюрреализма, не согласился с его
выводами из своего учения4.
Отсутствие взаимопонимания между основоположниками
интуитивизма и психоанализа и их приверженцами в искусстве вполне
объяснимо. Ведь для того, чтобы помыслить себе картину как
некую модель интуиции в действии (а не как результат ее действия),
для того, чтобы вывести из учения о бессознательном метод
психического автоматизма (то есть опять-таки заменить выражение
бессознательных процессов непосредственной демонстрацией их
работы), нужно было некое предварительное условие в виде рез-
4 Правда, позднее Фрейд одобрительно отнесся к Дали, поскольку
изображение сновидений было ближе к его собственному пониманию искусства.
281
кого смещения представлений о сути художественного творчества
о соотношении в нем целей и средств. Видимо, Фрейд и
Бергсоне были посвящены в правила игры или просто не захотели их
принять.
В 50-е годы триумфальное шествие таких направлений, как т£-
шизм, информальная живопись, лирическая абстракция и
живопись действия, сопровождалось их интерпретацией в плане
экзистенциализма. Мазки краски, беспорядочно набросанные
художником на холст, рассматривались как условный жест личного
освобождения, как знак бунта без цели. Такая трактовка вполне
возможна, но и в ней очевидна вторичная роль экзистенциалистской
этики, которая лишь накладывается на некоторую
предшествующую ей структуру. Живопись уже понималась как чисто
физическое столкновение краски с холстом, а деятельность художника —
как восстание против художественной традиции. Поэтому критики
и смогли увидеть в вольном живописном жесте жест отчаяния,
экзистенциалистскую акцию абсурдного противостояния миру
абсурда.
В экзистенциалистской философии и эстетике есть положения,
близкие авангардизму: понимание сознания как негативности,
свободы как необоснованного выбора перед лицом ничто, учение
Сартра об ирреальности эстетического объекта, о непроницаемости
поэтического языка. Но прямой обусловленности ташистского
метода такими идеями не было. Сами писатели-экзистенциалисты,
хотя и описывали мир с субъективной точки зрения героя, не
порывали с традиционными формами литературного творчества5. Их
«консерватизм» понятен: сколь бы ни заслуживали критики
идеалистическая философия и этика безнадежности, все же это было
содержательное учение о человеке и его месте в мире, и для его
выражения нужны были формы литературы, а не постлитературной
игры со знаковыми системами. Поэтому в спорах о новой
критике, развернувшихся во Франции в 60-х годах, Сартр выступил
оппонентом структурализма и «нового романа».
Приведенные примеры показывают: при том, что связи между
авангардистскими течениями и иррационалистическими школами в
философии возникают вполне закономерно, из последних нельзя
вывести не только идейных основ модернизма, но и характера
примыкавших к ним направлений. Сами создатели таких учений не
могли ни предугадать результатов их воздействия на сознание
художников, ни даже узнать свои идеи в том облачении, которое они
приобретали на подмостках художественного мира. Здесь явно
существовало посредствующее звено, некий трансформатор, в
котором философские воззрения получали вид, приемлемый для
усвоения в антиискусстве. Поэтому данная линия взаимодействия
с философскими школами прерывиста и неустойчива: она отмечает
лишь кратковременные контакты и характеризует оттенки, отли-
5 Нельзя забывать, что к моменту вступления экзистенциалистов в
литературу был уже собран немалый урожай с посевов авангардистской эстетики
282
чающие одно направление от другого, но не их общие, базисные
черты.
Нельзя упускать из виду и тот факт, что идеалистические
учения упомянутого здесь типа отнюдь не были единственным
источником материала для чеканки опознавательных знаков
направлений. Тенденция состояла как раз в безграничном расширении этой
сферы. К истории идей модернизм относился примерно так же,
как к художественному наследию, то есть видел в ней огромный
резервуар, из которого можно черпать любые концепции, суждения,
взгляды, афоризмы. Платон и Эйнштейн, средневековые схоласты
и Декарт, дзен-буддизм и романтизм, Библия и квантовая
механика, мистики XVII века и Конфуций — все перемалывалось и
служило наполнителем пустой структуры. Это была даже не
эклектика (поскольку любая эклектика стремится все же к синтезу
неоднородного материала), а, скорее, род коллажа из обрывков
разнотипных учений. В такой ситуации принять рекламную
раскраску манифестов за их идейную основу — значит встать на
ложный путь, заканчивающийся тупиком: «философские основы»
модернизма окажутся несовместимыми друг с другом.
Именно на этом пути возникли такие бродячие сюжеты
искусствознания, как то, что модернизм был порожден научной
революцией, что в нем «возродились» древние учения и восточная
мистика, «нашли себе выражение» идеи пифагорейской космологии или
современного техницизма и экологии. В некоторых ученых книгах
и статьях перечисление подобных «предпосылок» и «влияний»
следует через запятую и относится к одним и тем же явлениям6.
Понятно, что художников забавляло манипулирование
«теоретическими объектами», нежданно-негаданные переброски от
геометрического абстракционизма к абстрактному математическому
формализму науки, от самопротиворечивости концептуализма к
гегелевской диалектике, от молчания минимализма к восточному
квиетизму, от бесформенной живописи к социологическим
концепциям хаотичности современного общества. Ведь в системе
антиискусства идеи не имеют никакой цены, правила их связывания
заменены случайными ассоциациями, и чем они более отдаленны,
тем сильнее требуемый эффект неожиданности7.
6 Ссылки на плюрализм современности вряд ли исправят положение дел,
ибо сам плюрализм требует себе объяснения как проявление мировоззрения.
7 На этом пестром маскараде не раз возникала и маска марксизма. Один
из примеров — минималист Карл Андре, решивший сделать из марксизма
вывеску для собственных упражнений. Повсюду он твердил о своей
приверженности коммунистическому мировоззрению. Так, по поводу дорожки, выложенной
из приставленных друг к другу кирпичей, Андре заявил: «Мое произведение
атеистично, материалистично и коммунистично. Оно атеистично, поскольку
лишено трансцендентной формы, качеств духовности и интеллектуальности.
Материалистично, поскольку оно выполнено из своего собственного материала и не
подражает другим материалам. И оно коммунистично, поскольку его форма в
равной мере доступна всем». (Minimal Art, p. 107.) Излишне говорить, каким
абсурдным было бы заключение, что марксизм — идейная предпосылка
минимализма или что он каким-то образом повлиял на возникновение этого
направления.
283
Гораздо менее оправдано, что искусствоведы, забывая о целях
собственной профессии, прибегают к тем же коллажным методам.
В результате абстракционизм, например, оказывается в равней:
мере «обоснованным» как со стороны современной физики, так
и со стороны мистики, как со стороны экзистенциализма, так и со
стороны средневекового платонизма8. Такая «всесторонняя
защита», если и годится в качестве кругового оборонительного
укрепления или рекламной установки, как идейная платформа не
выдержит и самых малых нагрузок.
Иначе складывались отношения авангарда с кантианско-пози-
тивистской линией в философии и гуманитарных науках.
Обращает на себя внимание факт отсутствия между ними прямых
контактов вплоть до 50-х годов. Авангардисты первых призывов не
делали ссылок ни на Кассирера, ни на Маха. С другой стороны,
неопозитивизм разрабатывал логико-гносеологические проблемы
на материале науки и не уделял внимания современному
искусству. Тем больший интерес вызывает очевидный параллелизм
воззрений, сложившихся в этих двух сферах позднебуржуазной
культуры.
«Концептуальные конструкции» кубистов, представления
Пикассо о знаковом характере живописи, сюрреалистическая техника
грезопроизводства, мистика цвета и линии у Кандинского,
«одухотворение» функциональных отношений в теории Клее — все это
ипостаси одной и той же идеологии. Взгляду внимательного
читателя авангардистской словесности первой четверти XX века
обязательно откроется наличие стабильного ядра, инвариантного
корпуса в обширном пространстве вариаций и идейных
противостояний. Мистицизм Малевича и «материалистичность» Делоне,
сосредоточенность Кандинского на «внутренних» свойствах
формы и социальность футуристов располагаются на диаметрально
противоположных точках круга, в котором, однако, есть свой
центр. Таким центром было представление об искусстве как
организации материально-знаковых образований в противоположность
прежнему его пониманию как выражению духовного содержания в
зримой форме. К этому центру неизменно обращалась мысль
самых непримиримых оппонентов. Наиболее поразительное в
«героическом периоде» авангардизма — не разноголосица мнений и
яростные схватки группировок между собой, а как раз неизменная
повторяемость одних и тех же идейных установок. В дискуссиях
речь шла лишь о способах их теоретического обоснования и
воплощения в практике.
8 Такое положение дел особенно типично для нынешнего времени, но
складывалось оно раньше. Убедиться в этом можно, ознакомившись с уже
указанной антологией кубизма Эдварда Фрая, а также с объемистой монографией
Пьера Кабана (Cabanne P. L'epopee du cubisme; Paris, 1963), в которой также
приводится много цитат из тогдашней околокубистической идеографии. По ним
хорошо видно, как повергнутая в состояние растерянности критика спешно
собирала с миру по нитке, чтобы хоть как-то объяснить пришествие столь
невиданной живописи. Теперь такой способ изобретения идейных платформ
постфактум стал обычным.
284
Стабильное ядро новой художественной идеологии состояло из
серии отрицательных определений искусства и вытекающих из них
замещений: не образ, а объект, не итог, а процесс, не целостность,
а противоречивость, не изображение, а его язык, не видимость, а
конструкция, не планомерность, а случайность.
Бывший участник сюрреалистического движения Жан Полан
с восторгом писал о современных художниках: «Этот отказ у них—
своего рода обязанность: они овладели всеми его способами, и,
можно сказать, последовательно направляли свое внимание на
различные аспекты старой живописи с целью отбросить их или
осмеять» 9.
Можно ли (и если можно, то в каком смысле) говорить здесь
о философских влияниях? В общем, кодекс отрицающих правил
вырабатывался в самих мастерских и их непосредственном
окружении. Как раз то обстоятельство, что ему были верны и бергсо-
нианцы, и фрейдисты, и буйные анархисты, и отрешенные
мечтатели, свидетельствует о том, что в нем были зафиксированы
собственные убеждения художников. Однако не существует
мастерских со стенами столь глухими, что через них не могут проникнуть
отзвуки идей, возникающих в других областях. В некоторых
текстах, например, Малевича и кубистической критики, очевидно
суммарное знакомство с веяниями неокантианства и неопозитивизма.
Философское обобщение — все данные восприятия, все знание есть
продукт конструирующей деятельности человеческой чувственности
и разума — становится и способом обобщения специфически
художественной идеологии. Художник, стирающий на своей картине
следы реальности, охотно принимает представление о ее
иллюзорности, условности, подытоживая тем самым собственные
программные тезисы.
Важно понять: речь идет не о философских предпосылках
модернизма, а, скорее, о его философской надстройке. Здесь не было
переработки философской концепции в специфически понимаемом
творчестве (как в случае с интуитивизмом и психоанализом), а
лишь растягивание тезиса о формосозидании до идеи миросозида-
ния. Философские утверждения служили не столько основанием,
сколько цементирующим раствором. Но они же оказали и
обратное действие, способствуя кристаллизации идеологии отказа.
Вооружив рабочие постулаты художников мировоззренческим
обоснованием, идея ирреальной реальности стала и стимулятором
дальнейших отрицаний. Очень скоро сплав профессиональных и
философских воззрений оформился в канон, был принят как
инструкция в истребительной охоте за все ускользающими
признаками искусства.
Так продолжалось вплоть до 50-х годов, когда художники
открыли для себя ту обширную сферу, в которой подробно
разрабатывались идеи, знакомые их предшественникам лишь понаслышке
9 Paulhan /. La peinture cubiste. Les sources de l'arl moderne. Paris, 1970,
p. 15.
285
и в самом общем виде. Произошла встреча двух линий, до сих пор
развивавшихся параллельно. Они узнали друг друга: художники
нашли себе опору в концепциях философов, психологов,
лингвистов, а структурализм увидел свои схемы реализованными в
литературе и искусстве.
Известно скептическое отношение к модернизму Леви-Стросса
и Фуко. Но их неприятие основывалось как раз на точном
понимании существа дела. Так, в отклике на большую ретроспективную
выставку Пикассо Леви-Стросс называет его картины
«произведениями во второй степени», «размельчением кода живописи».
«Пикассо внес свой вклад в ограничение того замкнутого мирка, в
котором человек, оставаясь наедине со своими творениями,
предается иллюзии своей самодостаточности. Что-то вроде идеальной
тюрьмы, только еще более мрачной» 10. Здесь уже нельзя говорить
об отсутствии взаимопонимания. Просто Леви-Стросс считал, что
не дело искусства «искать истинный образ мира за его преде-
♦ лами».
Можно предугадать сомнения читателя: неужели столь
рационалистическая ветвь оказалась причастной к шокирующей
несуразице авангардистских выступлений? Как из строгих построений
ученых могла возникнуть теория антитворчества?
По этому поводу можно сказать следующее. Вопрос о самом
наличии такой связи не подлежит обсуждению. В подавляющем
большинстве случаев художники опирались на данный круг идей.
чаще всего упоминались имена крупнейших представителей
неопозитивизма, структурализма и идеалистических направлений в
психологии. Другой вопрос — почему аналогичные негативные
выводы не возникли в самих науках и таким же образом не разрушили
их. Ответ очевиден: как раз потому, что это были науки, то есть
они имели свой объект исследования. Направленность мысли
ученого на объективные явления и спасает теорию самопорождения
знания от саморазрушения.
Неопозитивизм мало уделял внимания общефилософским
вопросам, сосредоточившись на таких проблемах, как соотношение
теоретического и эмпирического знания, логика научных
высказываний. Задачей гештальт-психологии было изучение
закономерностей познавательных процессов. Предмет «археологии знания»
Фуко — история науки, антропологии Леви-Стросса — социальные
формы и коллективные представления первобытных народов.
В литературоведческом структурализме таким объектом была
история литературы и поэтика. Ученый заранее полагал собственное
сознание свободным от предварительных схем, открытым для
объективного рассмотрения явлений. Конечно, это было
непоследовательно, но того требовали задачи науки. И только в сочинениях
позднего Витгенштейна философия языковой обусловленности
знания привела к разрушению самой философии.
10 «Arts» № 60, novembre 1966, p. 18.
286
Но пример Витгенштейна, достаточно показательный сам по
себе, не единственное проявление неустойчивости позиций
гносеологического субъективизма. И дело не только в том, что на
протяжении долгой истории неопозитивизм так и не смог решить
основных поставленных им проблем, прежде всего проблемы опытного
подтверждения научной теории. И даже не в том, что эта
доктрина вполне закономерно порождала представления о полной
иллюзорности и безосновательности науки, вплоть до экстремистских
заключений постпозитивиста Фейерабенда, прямо
приравнивающего науку к магии и мистике. В русле этих учений неоднократно
появлялись симптомы внутренних толчков, грозящих разрушением
теории ее же собственными постулатами. Такая опасность давала
о себе знать, например, в утверждениях неопозитивистских школ
о бессмысленности всех философских высказываний (позиция, от
которой должна была отказаться последующая, попперовская,
линия науковедения).
Другой пример — напряженные размышления такого
серьезного ученого, как Леви-Стросс, над проблемами методологии
структурального исследования, в частности над проблемой
разграничения сознания этнолога и сознания наблюдаемых человеческих
общностей. Заключения Леви-Стросса содержали в себе признание
невозможности объективного описания. Так, во введении к своему
основному труду — «Мифологики» — французский ученый писал:
«Подобно тому как сами мифы покоятся на кодах второго порядка
(кодами первого порядка являются те, которые входят в состав
языка), эта книга представляет собой набросок кода третьего
порядка, предназначенного обеспечить взаимопереводимость
множества мифов. Поэтому не будет заблуждением счесть данную книгу
в некотором смысле мифом — мифом о мифологии»11. И далее:
«Если окончательной целью антропологии является внесение
вклада в познание механизмов объективированного мышления, то, в
конце концов, нет никакой разницы, мышление ли американских
дикарей формируется в этой книге под воздействием моего
мышления, или мое мышление — под их воздействием. Здесь важно то,
что человеческий дух, не обращая внимания на тождественность
или нетождественность своих случайных носителей, проявляет
через них свою структуру» 12.
И все же связь с объективным миром в гуманитарных науках
не была утрачена, что и обеспечило их жизнеспособность.
Ситуация стала совершенно иной, когда концепции ученых
перекочевали в среду художественного авангарда. Здесь им
предшествовала профессиональная идеология, принципиально отличная
от профессиональных установок деятелей науки. Художник
новейшей выучки уже давно отказался от задач воссоздания
объективной реальности и мыслил творчество как чистое изобретательство.
Концепция миросозидающего сознания, не закрепленная во внеш-
11 Levi-Strauss CL Mythologiques. Le cru et le cuit. Paris, 1964, p. 20.
12 Ibid., p. 21.
287
ней реальности, свертывалась в кольцо, мгновенно обнаружиза-
свою абсурдную тавтологичность: формы окружающего мира и
есть формы сознания. В таком оголенном виде она уже не могла
стать не чем иным, как заголовком к манифесту антитворчеств".
Схемы, которые создавались в науке как описательные модел* -
спроецированные на внешний мир, здесь были восприняты ка~~
общие оперативные установки, как теоретическое введение к
руководству по созданию живописи без живописи и идеи без
воплощения. В этом причина того неожиданного сплетения
интеллектуализма и абсурдизма, которое воодушевляло мистериальные танцы
по ту сторону искусства.
Конечно, в истории искусства продвижение к новому всегдг
осуществлялось путем более или менее явного отталкивания от
старого. Ей известны периоды и радикальных перемен, и
революционных преобразований. При этом речь шла о выдвижении новых
художественных концепций действительности, об освоении тех ее
аспектов, которые еще не были охвачены предшествующим
опытом, и о поиске форм, соответствующих этим новым содержаниям.
Но сама основа, или предпосылка, художественной деятельности не
подвергалась сомнению: художник неизменно опирался на ту
точку зрения, которую ныне принято квалифицировать как точку
зрения наивного реализма и которая полагает независимость мира от
коллективного или индивидуального сознания. Именно на этой
основе строилось и исторически осуществляло себя искусство,
направленное на отражение объективного мира и его человеческое
постижение. Именно поэтому в мировом искусстве нашел себе
выражение богатый опыт развития человечества. Введенная в
обиход Гербертом Ридом легенда о трехтысячелетнем царстве
«современного искусства» по крайней мере наивна. С ее помощью не
удается примирить модернизм с историей, вписать его в рамки
предшествующего развития. Ибо все формы неклассического
выражения, все ранее возникавшие виды условности имели совершенно
иной смысл, чем в современном антиподе искусства.
Уничтожение грани между внешним миром и его внутренним
образом, выворачивание наизнанку художественной системы,
перевертывание свойственного ей порядка открывают обратную
перспективу эволюции искусства, и единственно возможным
движением для него становится движение вспять.
Разумеется, это не означает, что модернизм повторил в
обратном порядке историю искусства. Хотя тот факт, что авангард с
самого начала выдвигал в качестве эталона художественного
творчества ранние формы искусства, по-своему знаменателен, речь
идет все-таки о другом. Усвоенная художниками логика алогизма
вела к последовательному вычитанию всех свойств, составляющих
искусства, так что духовное пространство их профессиональной
деятельности сжималось подобно шагреневой коже при
одновременном расширении пространства физического, пока, наконец,
точка «идеи как идеи» не слилась с бесконечностью «объекта как
объекта». Возведенная в абсолют концептуальность совпала с аб-
288
. мютом материальности в тотальном искусстве. Дальнейшее
движение по этому пути, видимо, уже невозможно.
Всего несколько десятилетий понадобилось для того, чтобы
процесс обратного развития завершился на нулевой точке. Срок
поразительно короткий, однако он находит себе объяснение в том
i-акте, что в новейшем авангардизме не существовало буквально
ни одной идеи, которая была бы неведома ранним модернистским
движениям. Положения о равенстве художественного объекта
другим объектам реальности, о фиктивности изображения, сведении
содержания к языку, а языка к предметности, утверждения о
преобладании процесса над результатом, средства над целью, а
интерпретирующего восприятия над текстом многократно
высказывались художниками 1900—1920-х годов.
Поэтому в принципе антиискусство может осуществить себя
почти без всяких задержек и целиком. Фактически так это и
произошло. Едва улеглось возбуждение, поднятое кубизмом и
футуризмом, как на арену выступило направление дада. Его
радикальный негативизм общеизвестен. Долгое время было принято
рассматривать выступления дадаистов как случайный эпизод или
кратковременную болезнь и даже противопоставлять его якобы
позитивной ориентации других школ. Однако уже обширная
география дадаизма (Цюрих, Париж, Нью-Йорк, Берлин, Кельн,
Ганновер), а также факт его непосредственного перехода в сюрреализм
свидетельствуют о том, что это направление не было аномалией
внутри модернистской нормы.
В дадаизме родились почти все формы современного
антиискусства: коллаж из газетных вырезок и фотографий (Рауль Хаусман),
энвайронмент и конкретная поэзия (Курт Швиттерс), метод
работы с опорой на случайность (Ганс Арп), искусство объекта,
хэппенинг и перформенс (Дюшан, Супо, Пикабиа), концептуальное
искусство и искусство проекта (Дюшан, Пикабиа); даже идея
тотального искусства была известна дадаистам. Только
иллюзионистический антиреализм и минимализм отсутствовали в этом
направлении. Кратковременная деятельность дада высветила ярким
светом существо других современных ему направлений и
приоткрыла перспективу дальнейшей эволюции. Его предсказания
оказались верными.
Однако в тот момент еще не были исчерпаны все возможности
в пределах традиционных видов. Живописцы хотели оставаться
живописцами, а поэты —■ поэтами. Так что произошло
отступление к ранее завоеванным рубежам абстракционизма и
опровергающей себя фигуративности.
В чисто художественном плане все отличие современного
авангардизма от предшествующих ему школ сводится к различию
способов реализации одних и тех же идейных установок. То
обстоятельство, что мы имеем основания говорить о форме и колорите
картин Брака, Клее, Шагала и Миро, обязано своим
существованием наличию низовой основы живописи, еще не уничтоженной в
раннем антиискусстве.
289
Разумеется, существует различие между первым поколением
авангарда и современным в социальном и психологическом
отношениях. Американский исследователь Теда Шапиро, изучив 83
биографии и множество документов, создала обобщенный
коллективный портрет зачинателей художественного бунта 13. Это были
выходцы из семей мелкой и средней буржуазии, в основном
провинциальной. Протестуя против косности воззрений и рутинного
жизненного уклада среды, они покидали свои семьи и отправлялись
в крупные художественные метрополии (Париж, Мюнхен, Берлин)
в поисках более свободного и активного существования.
Наибольшим влиянием в их среде пользовались идеи анархизма. Для них
само вхождение в вольницу живописцев было чем-то вроде
анархического мятежа. Многие решили стать художниками довольно
поздно, не получив специальной подготовки в детстве и юности.
Бунт продолжался уже в русле выбранной профессии. Прибыв в
столицы, молодые художники селились в них колониями и
принимали стиль жизни, отчасти близкий к романтической богеме,
отчасти— к образу жизни люмпен-пролетариата. Внутри таких
колоний зарождались различные группировки раннего авангарда.
Намеренное аутсайдерство художников находило себе выражение
в асоциальности их искусства. Хотя ранний авангард колебался
между симпатиями к пролетарским движениям и крайним
индивидуализмом, последняя тенденция была выражена более отчетливо
и победила уже в начале 20-х годов.
Иной облик приобрел авангард в наше время, когда
перманентная революция стала нормой и была интегрирована официальной
культурой. Сейчас новации художников не только не встречают
сопротивления со стороны официальных институтов и рынка, но даже
стимулируются ими. Идеология авангарда легла в основу
художественного образования, критики, выставочной и музейной
деятельности, конкурсов, международных смотров.
Английский писатель Джон Фаулз в повести «Башня из
черного дерева» рисует портрет типичного функционера современного
Культурбурга 14. Тридцатилетний художник и искусствовед Дэвид
Уильяме, сын столичных архитекторов, воспитанный в элитарных
художественных школах и наделенный обширными познаниями, по
своим воззрениям и образу жизни ничем не отличается от
среднего образованного буржуа. Он прочно усвоил типичные для этого
слоя нормы релятивистского вольномыслия и терпимости,
формально-эстетические критерии «хорошего вкуса». Он уверен в том, что
идет в ногу с прогрессом, и как живописец ставит перед собой
чисто технические задачи в формах геометрической абстракции.
Существование его вполне безмятежно и не омрачено никакими
конфликтами с окружающей средой. Однако внутренний конфликт
вызревает при столкновении героя с другим персонажем повести —
13 См,: Shapiro Th. Painters and Politics. The European Avant-Garde and
Society 1920—1925. New York-Oxford-Amsterdam, 1976.
14 См.: Иностранная литература, 1979, № 3.
290
старым художником, ныне признанным метром, а в прошлом —
участником «героических битв» начала века (в характере Бресли
отчетливо видны черты личности Пикассо). Этот художник,
верный идеалам своей молодости, продолжает осуществлять в своей
жизни бунт личного освобождения, хотя давно пришедшая слава
создала комфортные условия для аутсайдерства в старинном
окраинном поместье. При столкновении с вызывающим аморализмом,
нетерпимостью и дерзким фрондерством старика, Дэвид приходит
к ясному осознанию собственного банкротства и банкротства
своих сверстников, которые «подобно зверям, рожденным в неволе»
заперты в клетке официальной художественной идеологии —
идеологии лживой, затхлой и лицемерной. Заключительные
размышления героя о современном художнике, занятом лишь
пародированием основ своей профессии, об искусстве, которое
«вращается по орбите в мертвом космосе и не имеет смысла»,—
свидетельство разочарования части буржуазной интеллигенции в
авангардизме.
На вопросе о включении авангардизма в русло официальной
и так называемой массовой культуры стоит остановиться несколько
подробнее. В западной литературе вплоть до 70-х годов
существовала традиция противопоставления элитарного модернизма и
«популярных» искусств как двух полярностей. При этом в
интерпретации некоторых социологов массовая культура представала как
своего рода жернов, перемалывающий авангардистские новации
в дешевку стандартного ширпотреба. С такой точкой зрения
можно отчасти согласиться.
Действительно, уже формальные приемы кубистов были
освоены в орнаментике ар-деко, стилистика Пикассо вошла в обиход
массовой графики в качестве условного признака пикассизма,
сюрреалистический алогичный иллюзионизм широко применялся в
иллюстрациях к фантастической литературе. Влияние кинетического
искусства, оп-арта и энвайронмента на оформление витрин,
выставочных экспозиций, массовых зрелищ и дискотек общеизвестно.
Однако при этом почему-то редко обращают внимание на факт
встречной обращенности модернизма к массовой культуре.
Уже в ранних движениях проявился интерес художников к
популярным продуктам эрзац-культуры, причем наиболее
вульгарным и банальным их вариантам. Известно, например, что
футуристы восхищались брутальностью афиш и американской эстрадной
эксцентрики, кричащей пошлостью кафе-шантанов, а в театре
варьете видели прообраз футуристического театра. Сходные
вкусы проявляли сюрреалисты в пристрастии к гэгам ранних
комических кинолент, вульгарным городским зрелищам, «черным»
фильмам и бульварным театрам. Пикассо высоко ставил американские
комиксы, детективы и романы тайн, предпочитал скверные
репродукции с картин точной цветопередаче. В окружении Пикассо с
высокомерным пренебрежением третировались все виды театра, за
исключением цирка шапито и ярмарочного балагана, так что, когда
художник взялся за оформление балетов труппы Дягилева, это
291
было воспринято как предательство. Известна увлеченность
раннего авангарда и другими низовыми формами городской
культуры— провинциальными вывесками и олеографией, китчем
слащавых открыток. В русле идеологии антиценностей такие
эстетические ориентиры вполне закономерны.
Теоретические позиции модернизма и их осуществление в
творчестве также влекли его к сближению с массовой культурой.
Провозглашенный художниками принцип открытого произведения
допускает любую его интерпретацию, в том числе и самую
примитивную. Так, поп-арт воспринимался просто как укрупнение и
акцентировка «грез» массовых картинок. Игровой характер
сближает продукцию модернизма с такими формами, как ребус, шарада,
цирковой трюк или фокус, и приемы такого типа часто
используются в рекламе и пропагандистской графике. Выставки оп-арта,
кинетического искусства, многие виды динамического энвайрон-
мента очень похожи на парковые аттракционы и световые шоу.
Разве не была вульгарным аттракционом знаменитая «Она» Ники
де Сен-Фалль и Тингели — огромная, пестро раскрашенная
женская фигура, внутри которой был устроен молочный бар? Или
организованная той же художницей стрельба красками по холсту?
Грубая эротика некоторых произведений сюрреалистов,
гиперреалистов, нудизм и непристойности хэппенингов прямо сливаются с
заурядной порнографией. Хэнсен в своей «Азбуке хэппенинга»
писал, что лучше всего этот вид воспринимается уголовными
преступниками и людьми городского дна.
Официальная идеология и реклама также спешат навстречу
новым веяниям, стремятся воспользоваться ими в своих интересах.
Одна американская фирма, производящая малогабаритные
самолеты, устроила конференцию для потенциальных покупателей. При
входе в зал под охраной вооруженного полицейского стоял
раскрытый чемодан, наполненный деньгами. В нем находилась сумма,
которая составляла разницу между ценой обычного самолета и
рекламируемого. Искусство объекта стало средством наглядной
агитации.
Другой пример вербовки авангардистского искусства —
скандально известный конгресс-хэппенинг, устроенный католической
церковью в Брюсселе летом 1971 года15.
При рассмотрении вопроса о взаимодействии авангардизма и
массовой культуры следует говорить не столько об ассимиляции
эзотерических форм в общедоступной продукции, сколько об их
взаимной конвергенции. Здесь сниженные нормы непосредственно
сливаются с антинормами, принципиальная бессодержательность —
с примитивизмом, «высокая» игра обращается в «низкую»,
отрешенное от мира искусство об искусстве обслуживает пропаганду.
Нетрудно увидеть и определенную параллель между
эскапистскими грезами массовой культуры и представлениями о
субъективистской фиктивности образа в авангардизме.
5 См.: Society in Conflict. Congress or Anti-Congress. Documents. 1971.
292
Преобразование социальной психологии авангарда сыграло
свою роль в прогрессирующей диффузии движения. Художники
первого поколения модернизма, заняв принципиальную позицию
аутсайдеров, не стремились к успеху. И хотя слава и обогащение
ко многим из них пришли довольно быстро, такие люди, как
Пикассо или Марсель Дюшан, не изменяли себе. Но уже в начале
30-х годов появляется фигура Сальвадора Дали, который с
циничной откровенностью рвется к скандальной славе, деньгам и
верхним этажам социальной иерархии, что вызывает понятное
презрение со стороны его старших товарищей по сюрреализму.
Оглушительный успех этого художника объясняется виртуозностью, с
которой он превратил искусство отказа в искусство массового
потребления.
В наше время, как правило, начинания «переднего края» очень
быстро мигрируют в окружающую среду. В работах Смитсона
60-х годов ясно читалось намерение создать «островное» искусство,
вырванное из среды человеческого обитания и не подлежащее
социальному освоению. Вслед за ними возникла целая волна игр
с ландшафтными построениями и отражающими плоскостями.
Это уже были весьма замысловатые конструкции. Первоначальная
идея отказа от воплощения причудливым образом воплотилась в
зрелищных, почти балаганных формах. Многие из них
создавались в местах развлечений и отдыха, в парках. Инициатор
направления справедливо видел в этом извращение исходного принципа:
«Парки — законченный пейзаж для конченного искусства»16. Но
соображения принципиальности и бескомпромиссности уже не
останавливают современных художников, и авангард все больше
превращается в род экспериментальной лаборатории,
обслуживающей запросы дизайна, индустрии развлечений и рекламы.
Процесс этот идет при стимулирующем влиянии официозной
критики. Призывам буржуазных критиков к гуманизму,
социальной ответственности, служению обществу, налаживанию
коммуникации далеко не всегда можно доверять. Как правило, за ними
стоят лишь ходячие идеалы официальной пропаганды с ее
казенным оптимизмом, фальшивой заботой о человеческом благе и
упованиями на стабилизацию общества. Действительной
безвыходности искусства предлагается ложный и жалкий выход. Немота
авангарда по-своему патетична, но под влиянием
благонамеренных идей изначальный негативизм переориентируется на
позитивные прикладные задачи, впрягается в упряжку добропорядочного
«служения общественным интересам».
Сходные процессы протекают и в литературе. Очевидно,
например, структурное сходство определенной разновидности
модернистской прозы (типа французского «нового романа») с детективом.
Текст таких произведений, описывающих неустойчивую, алогичную
«реальность», выдвигает одну загадку за другой, запутывает в
интриге противоречивых интерпретаций и формальных построений.
16 The Writings of Robert Smithson, p. 133.
293
Поэтому понятен интерес модернистской прозы к жанру
полицейской литературы. В романе Роб-Грийе «Ластики» движущийся
в потемках детектив не способен раскрыть преступление,
поскольку действительный ход событий ускользает от него, и в конце
концов герой подменяет собой убийцу, абсурдным образом завершая
расследуемое преступление. Ту же смыслоразрушающую роль
выполняют детективные фабулы и в других произведениях Роб-
Грийе: загадка криминального сюжета не имеет решения, улики
и следы преступления опровергают друг друга, ни одна из
альтернативных версий не подтверждается.
Известный во Франции писатель постэкзистенциалистского
направления Ле Клезио писал в предисловии к своему роману
«Протокол»: «Я мало заботился о реализме (я все больше и больше
склоняюсь к мысли, что реальности не существует); я бы хотел,
чтобы мое повествование было принято как тотальная фикция,
единственный интерес которой состоит в некотором резонансе
(пусть даже эфемерном) в сознании читателя. Такой феномен
известен любителям полицейской литературы и т. п. Это то, что
можно было бы вполне точно определить как роман-игра или роман-
головоломка» 17. Далее следует антироман с типичными для него
атрибутами: совпадением разновременных эпизодов, философской
риторикой, приемами коллажа, вычеркиванием отдельных кусков
текста и пустыми страницами, нарушениями норм грамматики и
орфографии.
Так два уровня игры с фикцией совмещаются воедино. Поток
авангардизма завершается его рассасыванием в массовой
культуре.
История модернизма по-своему ценна и поучительна. Способом
от противного она подтверждает истинность одного из основных
положений марксистской эстетики: искусство есть отражение
действительности. Познающее мир искусство движется тем же путем,
что и всякое познание: опираясь на непосредственные впечатления
от натуры, оно раскрывает внутренние связи и закономерности
явлений, поднимается на уровень обобщений, выражает глубокие
идеи и мировоззрение эпохи. Основанное на субъективистских
теориях антиискусство попыталось направить этот процесс в
обратную сторону. Если принять уверения художников в
экспериментальное™ их искусства, то придется и признать, что
«исследовательская программа» этого затянувшегося опыта была ложной, а
его результаты отрицательными. Косвенным образом модернизм
показал и несостоятельность тех учений, которые исходят из
предположения о миросозидающей функции сознания. По точному
выражению Маркса, «идеальное есть не что иное, как материальное,
пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» 18.
17 Le Clezio J. M. G. Le proces-verbal. Paris, 1963, p. 12.
18 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 21.
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Абстрактный экспрессионизм — одно из наиболее влиятельных направлений
абстрактной живописи 40—50-х годов. Принцип абстрактного экспрессионизма
состоял в отказе от предварительного замысла и планомерно построенной
формы. Художники культивировали спонтанную манеру письма, покрывая холст
беспорядочными мазками. Направление возникло в США. Виднейшие его
представители — художники так называемой нью-йоркской школы: Аршил Горки,
Джексон Поллок, Биллем де Кунинг, Роберт Мазеруэл, Ханс Хоффман, Марк
Ротко, Клиффорд Стил, Франц Клайн. Течение абстрактного экспрессионизма
активно поддерживал и пропагандировал известный критик Клемент Гринберг.
Гарольд Розенберг дал ему другое название — «живопись действия».
Аккумуляция — одна из разновидностей «искусства объекта»: одинаковые
или различные предметы (чаще всего бывшие в употреблении бытовые вещи)
собираются в рельефоподобную композицию или вкладываются в коробку из
плексигласа. Аккумуляции создавали художники группы «Нового реализма» —
Арман, Тингели, Споэрри, Сезар, Шамберлен и другие.
Акционизм (action art — искусство действия) — обобщающее название для
ряда проявлений современного модернизма, заменивших художественное
произведение простым жестом, разыгранным «представлением» или
спровоцированным «событием» (хэппенинг, перформенс, флуксус, искусство процесса,
искусство демонстрации). Признанными основоположниками этих форм в
современности являются художники Клаэс Олденбург, организатор и теоретик
хэппенингов Аллен Кэпроу и композитор Джон Кейдж. Однако истоки акционизма
следует искать в деятельности футуристов, дадаистов, сюрреалистов.
«Искусство действия» представляет собой выражение одной из ведущих идей
модернизма — представления о процессуальном характере искусства, о
превалировании творческого акта над его результатом — произведением. С другой
стороны, в этих формах воплотилось стремление новейшего модернизма растворить
искусство в спонтанно протекающих процессах жизни, уничтожить грань
между искусством и действительностью.
Ар-деко (от фр. art decoratif — декоративное искусство) — термин,
обозначающий стилевое течение в прикладных искусствах и архитектуре 20—30-х
годов. Направление *ар-деко, которое критики иногда определяют как
«второразрядный авангардизм», принципиально эклектично, поскольку объединяет в
себе мотивы и стилистику модерна, конструктивизма, кубизма, искусства
индейцев, формы европейской классики. Термин «ар-деко», хотя и возник в
30-х годах, широко вошел в употребление лишь в 60—70-е годы в связи с
возникшим тогда интересом к прикладным искусствам «периода между двух
войн» и начавшейся модой на ретроспективизм.
Арте повера (ит. arte povera — бедное искусство) — разновидность
искусства объекта. Представители этого направления оперировали простейшими
материалами и тривиальными вещами, полагая, что подобные демонстрации
«невзрачной» реальности провоцируют в зрителе критическую рефлексию по
поводу типичной материальной среды современной действительности. Арте повера
противопоставляло себя рационализму и техницизму минимального искусства.
Среди художников, работавших в русле этого направления, были: Райнер Ру-
тенбек (ФРГ), Марио Мерц, Джузеппе Пеноне, Джулио Паолини (Италия),
Дуглас Хьюблер и Ричард Серра (США).
Ассамблаж (фр. assemlage — соединение, набор) — разновидность
искусства объекта. Ассамблаж представляет собой, по существу, «разросшийся»
коллаж— комбинацию предметов на плоскости или в пространстве. Понятие
«ассамблаж» является собирательным, поскольку охватывает различные варианты
вещественных комбинаций. Иногда художники вводят реальные объекты в жи-
295
вописные произведения (Раушенберг), в других случаях создают композиции
исключительно из готовых форм (например, промышленных изделий); сюда же
относятся и так называемые «падающие картины» (монтаж предметов на
вертикальной плоскости). В области ассамблажа работали французские
художники группы «Нового реализма», Аллен Кэпроу, Джим Дайн и многие другие.
Баухауз — Высшая школа строительства и художественного
конструирования— учебное заведение в Германии, основанное в 1919 г. архитектором
Вальтером Гропиусом в Веймаре. В 1925 г. переведено в Дессау, в 1933 г.
упразднено фашистами. Широкая теоретическая и художественно-практическая
деятельность Баухауза придала ему значение архитектурно-художественного
объединения и методологического центра, разрабатывавшего принципы
функционализма и рационализма в зодчестве и художественном проектировании.
Деятели Баухауза стремились определить универсальные принципы
формообразования, подойти к задаче организации предметно-пространственной среды как
целостного комплекса. В нем преподавали: архитекторы В. Гропиус, X. Мейер,
Л. Мис ван дер Роэ, художники и дизайнеры П. Клее, В. Кандинский, Л. Фей-
нингер, О. Шлеммер, И. Альберс, И. Иттен, Л. Мохой-Надь. Баухауз сыграл
важную роль в становлении принципов современной архитектуры и дизайна.
Боди-арт (англ. body art — искусство тела) — направление модернизма,
возникшее в 60-х годах. Представители боди-арта использовали свое тело как
материал и объект «художественного творчества», прибегая к разнообразным,
часто болезненным манипуляциям: покрывали свои тела гипсом, раскрашивали
их, надрезали, выполняли изнурительные дыхательные упражнения, жгли на
себе волосы и т. п. В других случаях художники ограничивались
демонстрацией различных поз. Некоторые манифестации этого направления носили грубо
эротический характер. Боди-арт, будучи проявлением акционизма, сближается
с рядом явлений, возникших в русле контркультуры (татуировка и
раскрашивание тел, нудизм, «сексуальная революция»). Представители боди-арта: Вито
Аккончи, Ферри Фокс, Брюс Маклин, Брюс Науман, Деннис Оппенгейм, Ларри
Смит/ Кейт Соньер, Уильям Уэгмэн.
Геометрическая абстракция (холодная абстракция) — абстракционистские
направления в живописи и скульптуре, основывающиеся на простейших
геометрических формах, очерченных резким контуром и окрашенных в первичные
цвета. Основоположниками этого направления являются Малевич, голландская
группа «Де Стейл» (Мондриан, Ван Дусбург), Иозеф Альберс. После второй
мировой войны этот вид абстракционизма был вытеснен направлениями типа
ташизма и абстрактного экспрессионизма. Однако в 60-е годы он возродился
в оп-арте, «искусстве острых граней».
Гиперреализм (фотореализм, холодный реализм, пост-попартисткий
реализм, радикальный реализм, суперреализм, резкофокусный реализм) —
направление в живописи и скульптуре, возникшее в середине 60-х годов в США и
ставшее международным в 70-е годы. Гиперреализм продолжает и развивает
конкретистские и «иллюзионистические» тенденции поп-арта. Типичный метод
работы гиперреалистов — тщательное, механическое копирование фотографий
живописными средствами. Наиболее видные представители этого направления
в живописи — Ральф Гоингс, Дон Эдди, Роберт Коттингем, Лоуэлл Несбитт,
Ричард Эстес, Ричард Маклин, Чак Клоуз, Филип Перлстайн, Пол Саркисян;
в скульптуре — Джон де Андреа и Дьюэн Хэнсон.
Дадаизм — литературно-художественное течение модернизма, возникшее в
1916 г. в Цюрихе в среде эмигрантов разных национальностей. Название
произошло от звукосочетания «дада», имеющего различный смысл в разных
языках. Позднее дадаистские группировки появились также в Берлине (1917 г.),
Кёльне (1918 г.), Ганновере (1919 г.). Крайне нигилистические и анархические
позиции дадаистов выражались в скандальных демонстрациях на литературно-
художественных вечерах и выставках. Дадаисты последовательно заменяли
способы создания художественной формы методами антитворчества (коллажи из
случайных клочков бумаги и печатной продукции, предметные комбинации,
набор бессмысленных звуков в «поэзии», неорганизованный шум вместо музыки).
Крупнейшие фигуры дадаизма: художники М. Дюшан, Ф. Пикабиа, Ж. Арп,
296
Л1. Эрнст, К. Швиттерс, поэты Т. Тцара, Р. Гюльзенбек, М. Янко. В 1919 г.
возникла дадаистская группировка в Париже, которая в начале 20-х годов
модифицирует свои позиции и основывает направление сюрреализма.
Деколлаж (от франц. decoller — отклеивать) — один из приемов
современного модернизма. Заключается в действии, противоположном коллажу, то есть
в отрывании наклеенной бумаги. Деколлаж был впервые применен
сюрреалистом Луи Мале и стал популярен у художников авангарда 50—60-х годов,
которые создавали свои произведения путем отрывания клочков от наклеенной
печатной продукции (Реймон Эн, Жак Виллегле, Франсуа Дюфрен, Миммо Ро-
телла, Остин Купер и другие). Иногда это понятие употребляется в более
широком смысле деструкции, разрушения, постепенного уничтожения (хэппенинги-
деколлажи Вольфа Фостеля).
«Де Стейл» (голл. "De Stijl" — стиль, формирование) — голландская, а
позднее международная художественная группировка, возникшая в 1917 г. в
Лейдене и издававшая журнал под тем же названием. Организатор и
теоретик—Тео ван Дусбург, виднейший участник — Пит Мондриан. Программа
группы определялась общими установками конструктивизма, то есть
стремлением навести мосты между пластическими искусствами и реальным окружением,
подчинить предметную среду законам художественного формосозидания.
Объединение прекратило свое существование в 1931 г. со смертью ван Дусбурга.
Ряд его участников вошли в абстракционистские группировки «Круг и
квадрат» (1929 г.) и «Абстракция — творчество» (1931 г.).
Дрипинг (англ. dripping — капание, просачивание) — техника,
используемая представителями живописи действия и ташизма. Так, американский
художник Джексон Поллок растягивал холст на полу и затем полив'ал его жидкой
малярной краской из банки с отверстием в дне. Другой прием дрнпинга —
разбрызгивание краски палкой.
Живопись действия (англ. action painting)—понятие, введенное в 1952 году
критиком Гарольдом Розенбергом для обозначения доминирующего
направления в абстрактной живописи периода 1945-—1955 годов. Термин «живопись
действия» относится прежде всего к американскому абстрактному
экспрессионизму, а также к его европейской параллели — ташизму. Применяя это
понятие, Г. Розенберг полагал, что сущность данного круга явлений определяется
не стилистикой произведений, а самой манерой работы живописцев — жестом
художника, его действиями перед холстом. Сама картина представляет собой
при этом лишь некую фиксацию процесса ее создания. Принципы «экшн пейн-
тинг» выразились в живописи Джексона Поллока, Роберта Мазеруэла,
Франца Клайна, Жоржа Матьё, Эмилио Бедовы и других.
Иероглифический (каллиграфический) абстракционизм — разновидность
абстрактной живописи, состоит в имитации техники китайской и японской
каллиграфии. Видные представители —Марк Тоби, Моррис Грейвз, Джулиус Бисье,
Анри Мишо. При расширительной трактовке этого понятия сюда относят и
таких представителей абстрактного экспрессионизма, как Франц Клайн, Роберт
Мазеруэл, Брэдли Уолкер Томлин, Ганс Гартунг, которые также работали
способом быстрого нанесения красочных мазков на холст.
Искусство земли (англ. land art) — направление в модернизме конца 60—
70-х годов. Возникло в 1967 г. в США. Представители этого направления
(Вальтер де Мариа, Майкл Хейзер, Дэнис Оппенгейм, Карл Андре, Роберт
Смитсон) выкапывали в отдаленных областях (чаше всего — в пустынях,
высохших озерах, на необитаемых землях) рвы, ямы, проводили различные
борозды, линии с помощью извести и камней, снимали дерн, делали насыпи,
демонстрировали кучи земли и камней на выставках. Художники рассматривали
свою деятельность как форму протеста против искусственности жизни в
современных городах, пытались обосновать свои акции актуальностью экологических
проблем.
Искусство проекта — вариант «концептуального искусства». Художники
предлагали различные эскизы, планы и проекты (как правило, абсурдные)
изменения образа окружающего мира (например, разрезать Кельнский собор и
проложить через него автотрассу). Подобные проявления «творческой фан-
297
тазии» выступают здесь как самоцель. Задача — ограничить искусство сферой
замысла, предварительной идеи, утвердить принцип «искусства в голове».
Исчезающее искусство (или невидимая скульптура, утраченный объект) —
понятие, характеризующее тенденцию новейшего авангардизма к полной
дематериализации художественного творчества, к отказу от произведения.
Примеры: вырытая экскаватором и снова закопанная канава (К. Олденбург),
захороненный в земле куб К- Андре, «произведение» из блоков тающего льда
Рафаэля Феррера, разбросанные по двору и снова собранные листы фанеры Леса
Левина.
Кинетическое искусство — направление модернизма 50—60-х годов. Кине-
тисты создавали динамические конструкции, приводимые в движение
механизмом или посетителем выставки. Иногда иллюзия движения создается
эффектами света (в этом случае кинетизм смыкается с оп-артом). Видные
представители кинетического искусства — Никола Шеффер, Жан Тингели, Яков Агам,
Поль Бюри, Джулио Ле Парк, Карлос Крус-Диес и другие. Ранее в
направлении кинетизма экспериментировали Марсель Дюшан, Наум Габо, Антон Певз-
нер, Ласло Мохой-Надь, Ман Рей.
«Концептуальное искусство» — одно из наиболее влиятельных направлений
постмодернизма. Представители этого направления отказались от создания
художественных произведений, от воплощения идеи в материале.
Концептуалистские «объекты» существуют лишь в форме набросков, письменно или устно
изложенных «проектов» и «идей» (последние часто сводятся к простейшим или
абсурдным высказываниям), а также к манипуляциям с печатным текстом,
магнитной звукозаписью, с кино- и телевизионной техникой. «Концептуальное
искусство» представляет собой крайнее выражение идеи отречения от
художественного творчества. Видными его представителями являются Джозеф Ко-
шут, Лес Левин, Дуглас Хюблер, Терри Эткинсон, Ян Диббетс и другие.
Коллаж (от фр. coller — наклеивать) — распространенная в модернизме
техника создания картины, состоящая в применении различных наклеек
из плоских (фрагменты газет, обоев, цветной бумаги и отделочных
материалов) и (реже) объемных предметов (куски проволоки, дерева, веревок,
металла в работах дадаистов). Впервые коллаж был введен Пикассо и Браком,
которые систематически использовали его в своих кубистических картинах,
начиная с 1912 г. К коллажу также обращались футуристы, дадаисты,
сюрреалисты, представители информального искусства и поп-арта.
Конкретная поэзия (др. названия: пространственная поэзия, спациализм,
аудиовизуальные тексты, объективная, оптическая или семиотическая поэзия)—
литературное течение, возникшее в начале 50-х годов. Специфика конкретной
поэзии — в организации языковых элементов по пространственному принципу,
то есть способом определенного расположения на листе и шрифтового
оформления отдельных слов, морфем, букв. В звучащем варианте конкретной поэзии
внимание переносится со смысла на фонетическую форму, так что значащий
текст заменяется последовательностью звуков. Предшественники конкретизма—
дадаисты (так называемые мерц-поэмы Швиттерса).
Конструктивизм — тенденция в русской и западноевропейской
художественной культуре первой трети XX века, проявившаяся, главным образом, в
архитектуре, художественном конструировании, прикладном и оформительском
искусстве, в печатной графике. Возник как реакция на развитие промышленного
производства и выразился в стремлении художников отойти от станковизма,
обратиться к проектированию вещей, художественной организации предметной
среды. В архитектуре и прикладных искусствах конструктивизм опирался на
принципы функционализма, рационального построения утилитарной формы.
Художники этого направления использовали некоторые формы и приемы
авангардистского искусства (пространственные и рельефные конструкции,
объемные динамические композиции, фотомонтаж, коллаж, геометризм в графике).
Однако в конструктивизме в силу его направленности на конкретные
позитивные задачи были преодолены позиции беспредметного формотворчества.
Наиболее последовательно и успешно принципы конструктивизма осуществились
в советской архитектуре 20-х годов (братья Веснины, М. Я. Гинзбург, И. И. Лео-
298
нидов, А. С. Никольский и другие) и в движении производственного искусства.
Конструктивизм проявился также в культуре Германии, Голландии, Польши,
Чехословакии.
Кэмп (англ. camp; от ит. campeggiare — выделяться, вырисовываться) —
особый, элитарный способ потребления броско эффектных продуктов «популярной
культуры» и китча. Принцип кэмпа — «это так скверно, что становится
прекрасным». Умение восхищаться очевидно пошлыми и претенциозными
изделиями — своего рода знак принадлежности к культурной касте избранных,
современная разновидность дендизма. Освоение слащавой красивости в кэмпе
предполагает иронически-отстраненное отношение к ней, посредством которого сноб-
интеллектуал утверждает свое превосходство над «толпой» и одновременно
демонстрирует «широту» собственных эстетических вкусов!
Летризм (от фр. lettre — буква, шрифт) — международное авангардистское
движение, основанное в 1950 г. в Париже писателями Исидором Ису и
Морисом Леметром. По мнению летристов, слово исчерпало себя и его следует
заменить буквой. Летристы считали свои принципы универсальными и
предлагали их в качестве программы «революционного преобразования» не только
литературы, но и живописи, скульптуры, архитектуры, театра и кино. Иногда
термин «летризм» применяется по отношению к живописи, в которую введены
буквы и надписи (картины Джеспера Джонса, Роберта Уотса, Роберта
Индианы).
Лирическая абстракция (др. названия: инфоршальная живопись п ташизм)-—
одно из ведущих направлений абстрактной живописи конца 40—50-х годов,
европейская параллель американского абстрактного экспрессионизма.
Мек-ар (от фр. art mecanique — механическое искусство) — обозначение
направления, в котором произведения создавались фотомеханическими и
репродукционными методами. Такие произведения тиражируются наподобие
печатной графики (до 200 экз. и более). Мек-ар, будучи проявлением новой
фигуративной волны 60—70-х годов, генетически связан с тиражируемыми
разновидностями оп-арта. Основные представители — Ален Жаке, Эрик Бейнон, Бер-
тани, Нейман.
Минимальное искусство (др. названия: серийное искусство, искусство
первичных структур) — одно из наиболее влиятельных направлений модернизма
■60 — начала 70-х годов. Название означает, что форма редуцирована до
минимума, то есть сведена к простейшим геометрическим объемам и очертаниям.
Минималисты показывали на выставках пластмассовые и металлические
коробки, квадратные листы жести, ровно окрашенные прямоугольные планшеты
и т. п. Часто такие произведения выполнялись на заводе по эскизам художника.
Для этого направления характерны крайняя механистичность и имперсональ-
ность исполнения. Видные его представители — Карл Андре, Дональд Джад,
Сол Левит, Дэн Флейвин, Роберт Моррис, Джон Маккрекен. Предтечи
минимализма— Эд Рейнхардт, Фрэнк Стелла, Барнет Ньюмен, Тони Смит.
Новый роман — течение во французской литературе 50—60-х годов,
направленное на преобразование прозы. В понятие «новый роман» включается
творчество таких писателей, как Натали Саррот, Ален Роб-Грийе, Мишель Бю-
тор, Клод Симон, Клод Мориак. Представителей нового романа объединяет
отказ от выражения гражданских позиций в литературе, отрицание
литературного героя и персонажа, дробность, произвольность повествования, открытая
демонстрация литературного приема, сосредоточенность на писательской
технике.
Оп-арт (от англ. optical art — оптическое искусство) — направление
модернизма, получившее широкое распространение и популярность в 60-е годы.
Художники оп-арта широко использовали различные зрительные иллюзии
(главным образом — иллюзии движения, перемещения, слияния форм), опираясь на
некоторые психологические особенности восприятия плоских и
пространственных фигур. Такие эффекты достигались, например, путем введения резких
цветовых контрастов, пересечения спиралевидных, извивающихся линий. В оп-арте
также часто применялись различные установки движущегося и меняющегося
света, динамические конструкции. Направление продолжает возникшую ранее
299
техницистскую линию модернизма, с типичными для нее культом
индустриализма, механистичностью и анонимностью произведения. Представители:
Виктор Вазарели, Бриджет Рили, Хесус-Рафаэль Сото, Ричард Анушкевич, Ларри
Пунз, Карлос Крус-Диес и другие.
«Опора — поверхность» (фр. "Support — Surface") — возникшее в 1968 г.
объединение французских художников, в большинстве провинциальных
(уроженцы Ниццы, Нима, Монпелье). Художники этой группы, отказавшись от
содержания и живописной формы, ограничивались оперированием
материальными основами живописи (холсты смятые, продырявленные, разрезанные,
уложенные складками, слоями, насквозь пропитанные краской и т. п.). Некоторые
из них обратились к старым ремесленным техникам батика, плетения,
ткачества. Видные участники группировки: Венсан Бьюлес, Франсуа Руан, Клод
Вьяйа, Ноэль Долла, Даниэль Девёз.
Перформенс (англ. performance — представление) — одна из форм акцио-
низма, получившая широкое распространение в модернистских движениях 60—
70-х годов. Состоит в исполнении определенных, заранее спланированных
действий перед собравшейся публикой. Своего рода перформенс (исполнение
живописного полотна на сцене) устраивал еще в 50-е годы французский
абстракционист Жорж Матьё. Другой предшественник этой формы — Ив Клайн,
который в своих «Антропометриях» в присутствии публики и под аккомпанемент
оркестра мазал тела натурщиц синей краской и делал отпечатки с них на
холсте. В 60-е годы нью-йоркские художники Джон Перро, Марджори Страйдер,
Скотт Бёртон создали «Ассоциацию перформснсистов».
Повествовательная фигуративность — одно из проявлении «нового
реализма» 60—70-х годов, генетически связанное с поп-артом. Изобразительная
форма в картинах этого направления, как правило, вторична (имитация
фотографии, комикса, цветной печати) и фрагментарна: иногда включаются элементы
абстрактной живописи, отрывки из классических произведений. Представители:
Бернар Рансийак, Эрро, Антонио Рекалькати, Эрве Телемак, Жак Монори,
Петер Клазен, Эйвинд Фольстрем, Джанфранко Барукелло, Дэвид Пауэлл.
Поп-арт — направление модернизма, начало которому было положено в
Англии в 50-е годы, но получившее международную известность в
американском варианте начала 60-х годов. Название происходит от термина
«популярное искусство», синонимичного понятию «массовое искусство». Художники поп-
арта (Роберт Раушенберг, Джеспер Джонс, Клаэс Олденбург, Том Вессельман,
Джеймс Розенквист, Энди Уорхол, Рой Лихтенстейн) воспроизводили типичные
продукты американской «массовой культуры» (рекламные муляжи и плакаты»
комиксы, фотографии, упаковку, изделия массового производства), иногда
заменяя изображение прямой демонстрацией предметсв. Конкретистское
направление поп-арта пришло на смену отжившему абстракционизму. Его
международный успех и широкое распространение в капиталистическом мире
начинается с 1964 года, когда на венецианской Биеннале Роберт Раушенберг получил
первую премию.
Постмодернизм — понятие, означающее совокупность авангардистских
направлений, возникших после абстракционизма (начиная с поп-арта). Для
направлений постмодернизма характерен крайний эстетический негативизм, отказ
от создания художественных произведений, стремление «дематериализовать»
искусство, растворить его в предметном окружении. Отчасти идеология
постмодернизма смыкается с воззрениями «новых левых», также призывающих к
ликвидации искусства.
Производственное искусство — движение в советской художественной
культуре 20-х годов, поставившее задачу слияния искусства с промышленным
производством. Участники движения рассматривали художественное
конструирование как средство организации нового жизнеустройства, видели в
преобразовании предметной среды важнейший способ переустройства общества на
социалистических началах. Утопическая теория «производственного искусства»
(Б. И. Арватов, О. М. Брик, А. М. Гаи, Б. А. Кушнер, В. Ф. Плетнев, Н. М. Та-
рабукин, Н. Ф. Чужак) смыкалась с идеями Пролеткульта. В концепции
растворения искусства в жизни, в отрицании значимости культурного наследия,
300
станковых форм и художественной образности выразилась связь этого
движения с авангардизмом. Однако достижения «производственников» в сфере
промышленного и оформительского искусства (работы В. Е. Татлина, А. М. Род-
ченко, Л. М. Лисицкого, Л. С. Поповой, В. Ф. Степановой) сыграли важную
роль в становлении принципов дизайна, положили начало советскому
художественному конструированию.
Психеделическая революция — один из лозунгов и проявление
контркультуры 60 — начала 70-х годов. Психеделическая революция выразилась в
широком распространении наркотиков среди молодежи. Увлечение наркотиками
было следствием и частным выражением более общих идей контркультуры —
стремления отказаться от социальных «наслоений» в сознании, от
рационального начала и логического мышления, предаться первичным импульсам
бессознательного, уйти от действительности буржуазного общества в царство
фантазии и грез. Под влиянием этих идей возникло также психеделическое
искусство (произведения, создаваемые в состоянии наркотического опьянения).
Пуантилизм (от фр. point — точка) — название живописной системы
неоимпрессионизма, состоящей в наложении краски раздельными точечными
мазками. Система основывается на принципе разложения цветового тона на
чистые цвета и их последующем оптическом смешении в процессе восприятия.
Разработана художниками Ж- Сера и П. Синьяком.
Реди-мейд (англ. ready-made — готовый, ранее сделанный)—один из
распространенных приемов модернизма, состоящий в замене произведения
реальным предметом промышленного изготовления. Название впервые применил
Марсель Дюшан к своим «готовым объектам» 1913—1917 годов (писуар, расческа,
велосипедное колесо, сушилка для бутылок). В 60-е годы реди-мейд получил
широкое распространение в различных направлениях постмодернизма.
Само разрушающееся искусство — разновидность кинетического п
процессуального искусства, в котором различные приемы динамики направлены на
автоматическое разрушение создания художника или его исходного материала.
Наиболее знаменитые образцы — саморазрушающиеся машины Жана Тингели,
а также действия Гюстава Мецже: художник «писал» по нейлоновой основе
едкой кислотой, постепенно уничтожая таким образом все полотнище.
«Синий всадник» — объединение близких к экспрессионизму художников,
существовавшее в Мюнхене в период 1911—1914 годов. Основано В.
Кандинским и Ф. Марком. Другие участники — А. Макке, Г. Мюнтер, Л. Фейнингер,
А. Явленский, М. Веревкина, П. Клее, А. Кубин и другие. В 1914 г. вышел
единственный номер альманаха под тем же названием. Творчество ряда
художников «Синего всадника» стало одним из источников экспрессионистической
линии абстракционизма.
Супрематизм (от лат. suprernus — наивысший) — направление в
авангардистском искусстве России, основанное в первой половине 1910-х годов К.
Малевичем. Разновидность абстрактного искусства. Живописные композиции
супрематизма организуются из разноцветных плоскостей простейших
геометрических очертаний. К супрематизму примкнули последователи Малевича К-
Богуславская, И. Пуни, И. Клюн. Он оказал также влияние на творчество О.
Розановой и Н. Суетина.
Ташизм (от фр. tache — пятно) — одно из названий влиятельного
направления в абстракционизме 50-х годов. Другие названия — лирическая
абстракция, информальная живопись. Представители этого направления создавали
картины методом «психической импровизации», стремясь исключить сознание
из творческого процесса, вытеснить обдуманно построенную форму самостийно
возникающей «неформой». Бесформенное пятно — основной элемент ташистской
картины. Представители: Жорж Матье, Мишель Тапье, Анри Мишо, Жан Фот-
рие, Вольс, Ганс Гартунг, Жан-Поль Риопель, Эмилио Ведова, Асгер Иорн.
«Телъ келъ» (фр. "Tel quel") —французский литературный журнал,
основанный в 1960 г. группой писателей-авангардистов во главе с Филипом Сол-
лерсом. В теории опирался на структурализм Р. Барта, Ж- Лакана и М. Фуко,
утверждал метод создания художественного произведения по лингвистическо-
301
му образцу. В 1967 г. произошел раскол группы, некоторые ее бывшие
участники во главе с Ж--П. Фаем основали новое объединение «Шанж» и альманах
под тем же названием.
Тотальное искусство — обозначение тенденции постмодернистских
направлений к отказу от художественного творчества как самостоятельного вида дея~
тельности. Принципы тотального искусства выразились в формулах
«растворения искусства в среде», «слияния искусства с процессами самой жизни». В
широком смысле это понятие охватывает разные проявления и аспекты
авангардизма 60—70-х годов. В более узком значении относится к замене
художественного объекта указанием на явления реальности.
Флуксус (лат. fluxus — течение, поток) — международное авангардистское
движение, основанное в ФРГ в 1962 г. по инициативе художника Йозефа
Бойюса. Сфера флуксуса — хэппенинги, деколлаж, различные акции и уличные
представления, антитеатр, конкретная и электронная музыка, визуальная
поэзия. Основной принцип — абсолютная спонтанность, дадаистская
произвольность, отказ от любых ограничений. Фестивали флуксуса проводились в
Париже, Амстердаме, Копенгагене, Лондоне, Нью-Йорке. В движении флуксуса
участвовали Вольф Фостель, Роберт Филью, Джордж Брехт, Бен Вотрие. Иоко
Оно, Генри Флинт, Роберт Уотс.
Хэппенинг (англ. happening — случай, событие) — наиболее
распространенная разновидность искусства действия. Возник как форма авангардистского
театра (тотальный театр) в Нью-Йорке в 1957— 1959 годах. В основе
хэппенинга — неспланированное (как правило, абсурдное) действие. В 60-е годы
хэппенинг приобретает иную форму: он чаще всего разыгрывается на улице или
в общественных местах, где собирается большое количество людей.
Организаторами хэппенингов выступают художники. В хэппенинге ярко выразилась
тенденция модернизма к уничтожению границ, определяющих специфическую
область искусства. В качестве организаторов и исполнителей хэппенингов
выступали: Аллен Кэпроу, Джон Кейдж, Клаэс Олденбург, Джим Дайн, Ред Грумз>
Роберт Уитмен, Эл Хэнсен.
Эвент (англ. event — событие, происшествие) — разновидность акционизма>
близкая хэппенингу. В основе эвента — взгляды английского художника
Джона Лэтема, считавшего, что художник должен заниматься не формированием
объектов, а структурированием событий. Его программа осуществлялась
созданной в 1967 г. в Амстердаме «Группой исследования событийных структур»
(Тео Ботшивер, Джефри Шоу, Син Уэлсли-Миллер). Участники группы
организовывали «события» и хэппенинги на фестивалях, в публичных местах,
провоцируя спонтанные реакции людей.
Энвайронмент (англ. environment — окружение, среда) ■— одно из
направлений постмодернизма, получившее особенно большое распространение в США
в 60-е годы. Наиболее заметная линия энвайронмента представлена
скульпторами Гербертом Фербером, Джорджем Сигелом, Эдом Кинхольцем, Клаэсом
Олденбургом, Дьюэном Хэнсоном, которые создавали обширные
пространственные композиции (интерьеры с фигурами людей, в них). Во многих случаях
в такие скульптурные повторения реальности вносились элементы бредовой
фантастики, что особенно типично для произведений Эда Кинхольца. 'Другие
представители этого направления создавали своего рода игровые пространства,
в которых предполагались определенные действия зрителей. Среди
приверженцев этого направления — Виктор Пасмоэ, Хезус-Рафаэль Сото, Ларри Белл,
Роберт Ирвин, Дуг Уилер.
I
I
ОГЛАВЛЕНИЕ
Зрение и изображение. О познавательном характере художественного образа 7
Картина-конструкция и картина-действие 25
1. Кубизм 27
2. Футуризм 53
Роль фигуративности в модернизме 69
1. Пикассо 71
2. Сюрреалисты 132
.Мифология первоэлементов формы 157
1. Кандинский 160
2. Клее 178
Авангардизм 60-х — начала 70-х годов 193
1. Фигуративные формы. Поп-арт, «новый реализм» 205
2. Искусство объекта и тотальное искусство 219
3. Процессуальные формы. Хэппенинг, перформенс . . 239
4. Концептуальное искусство 254
Заключение 277
Словарь терминов
295
Крючкова В. А.
К 85 Антиискусство: Теория и практика авангардистских
движений.— М.: Изобраз. искусство, 1984.— 304 с, ил.—
(Искусство и борьба идеологий).
В пер.: 2 р. 90 к. 20 000 экз.
В книге дается марксистский анализ и критика эстетических
концепций модернизма, выработанных буржуазным искусствознанием,
рассматриваются связи между течениями буржуазной философии и авангардом как
выражение общей тенденции буржуазной культуры. Автор раскрывает концепции
кубизма, футуризма, сюрреализма, абстракционизма, сопоставляя их
установки с манифестами литераторов-авангардистов. Большая часть работы
посвящена авангардизму 60—70-х годов. Приведено много фактов и сведений
малоизвестных широкому читателю. В издании 124 цветных и тоновых
иллюстрации.
Для специалистов и читателей, интересующихся теоретическими
вопросами искусства.
к 4901000000-128 ?_g4 ББК 87.8
024(01)-85 " 7
Валентина Александровна Крючкова
АНТИИСКУССТВО. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
АВАНГАРДИСТСКИХ ДВИЖЕНИИ
Редактор И. И. Березина
Оформление серии художника И. С. Клейнарда
Художественный редактор В. М. Мельников
Цветную корректуру выполнила М. С. Ильина
Технический редактор В. Ю. Осипов
Корректоры JI. Я. Егорова, С. В. Козлова
ИБ № 817
Сдано в набор 26.01.84. Подписано в печать 05.12.84. А 08494. Изд. № 20-225.
Формат 60X90/ie- Бумага мелованная, 115 -г. Гарнитура литературная. Печать
высокая. Усл. печ. л. 19. Усл. кр.-отт. 43,248. Уч.-изд. л. 20,57. Тираж 20 000.
Заказ № 1742. Цена 2 р. 90 к.
© Издательство «Изобразительное искусство». 1984
129272, Москва, Сущевский вал, 64
Московская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Мало-Московская, 21